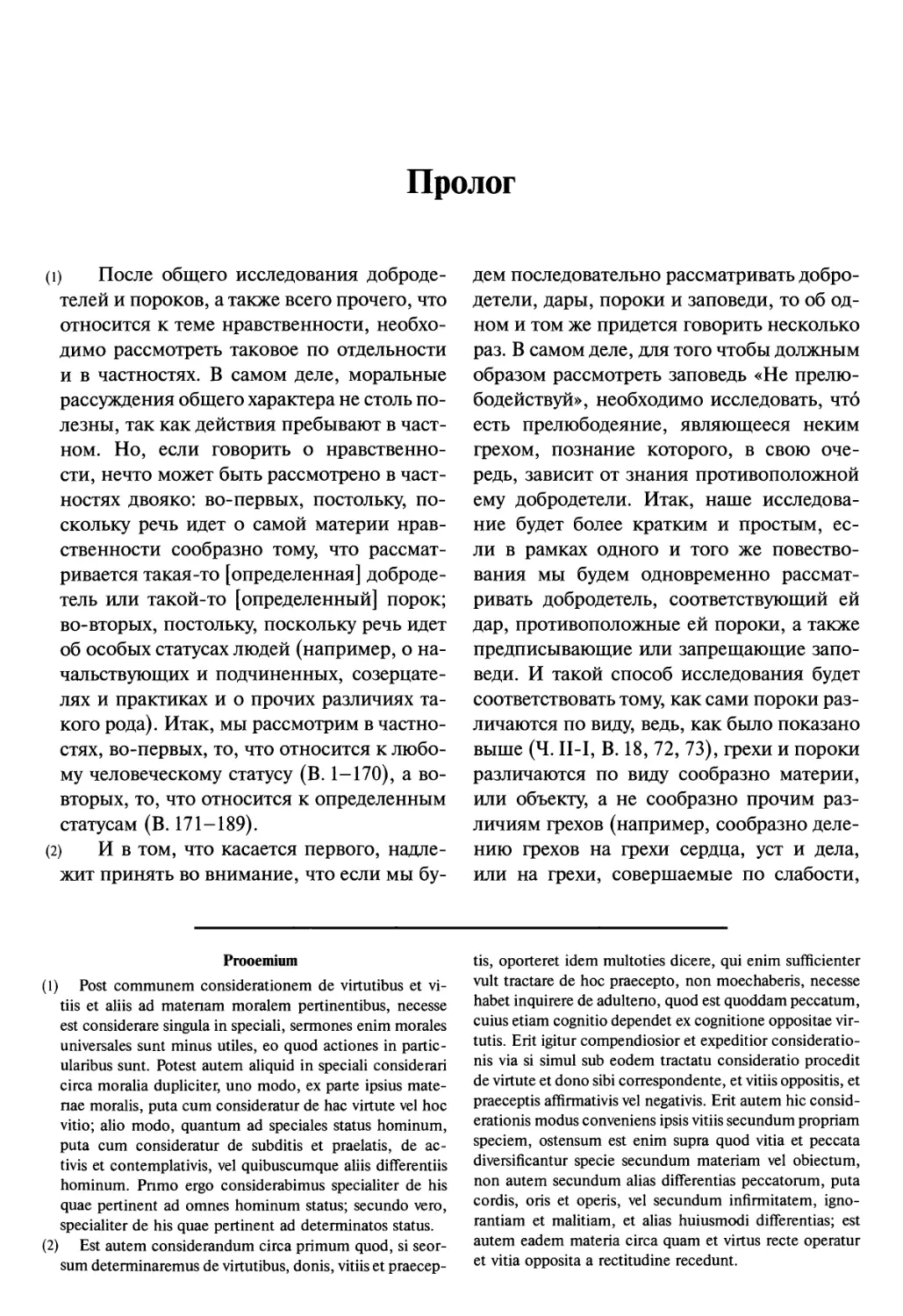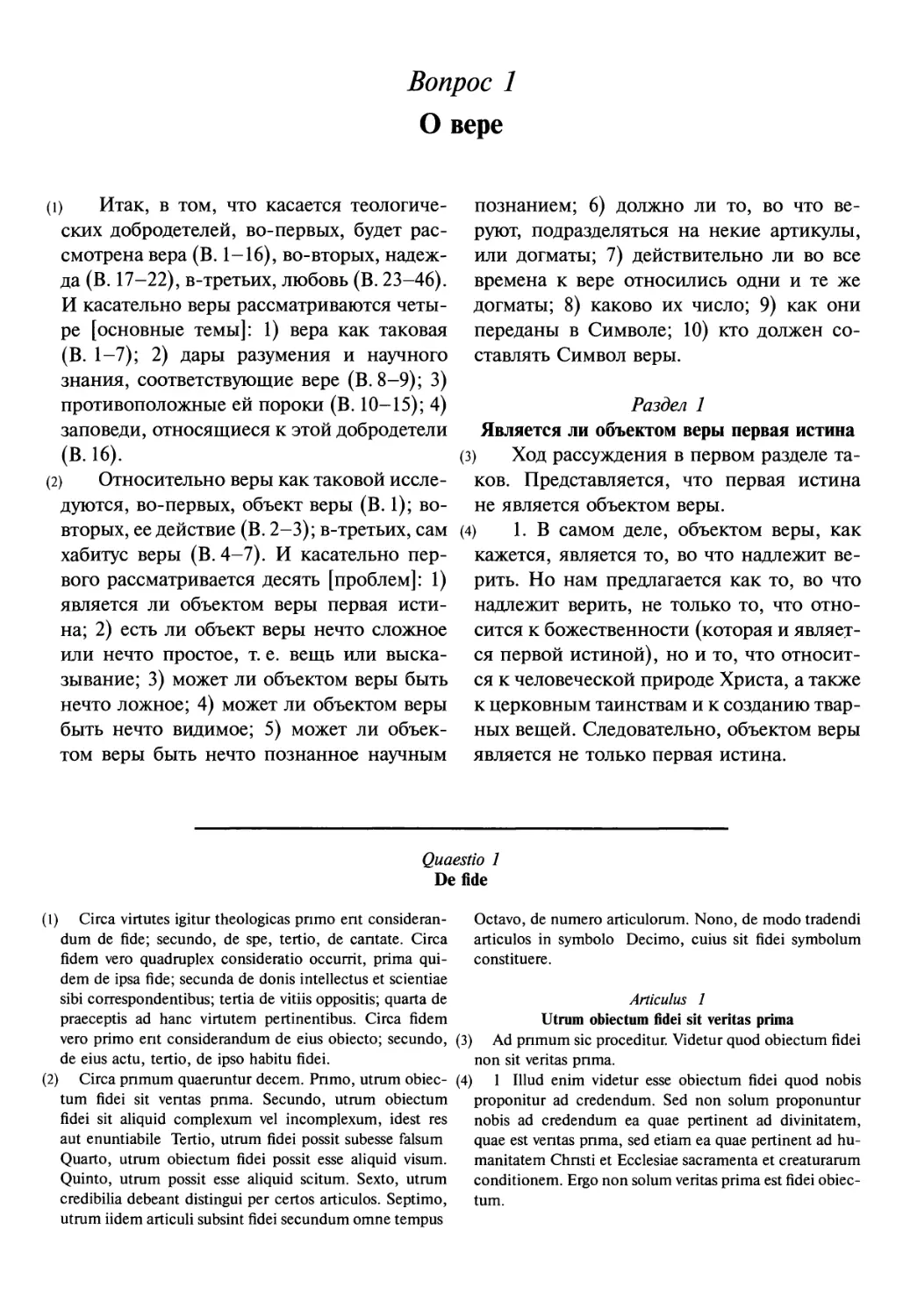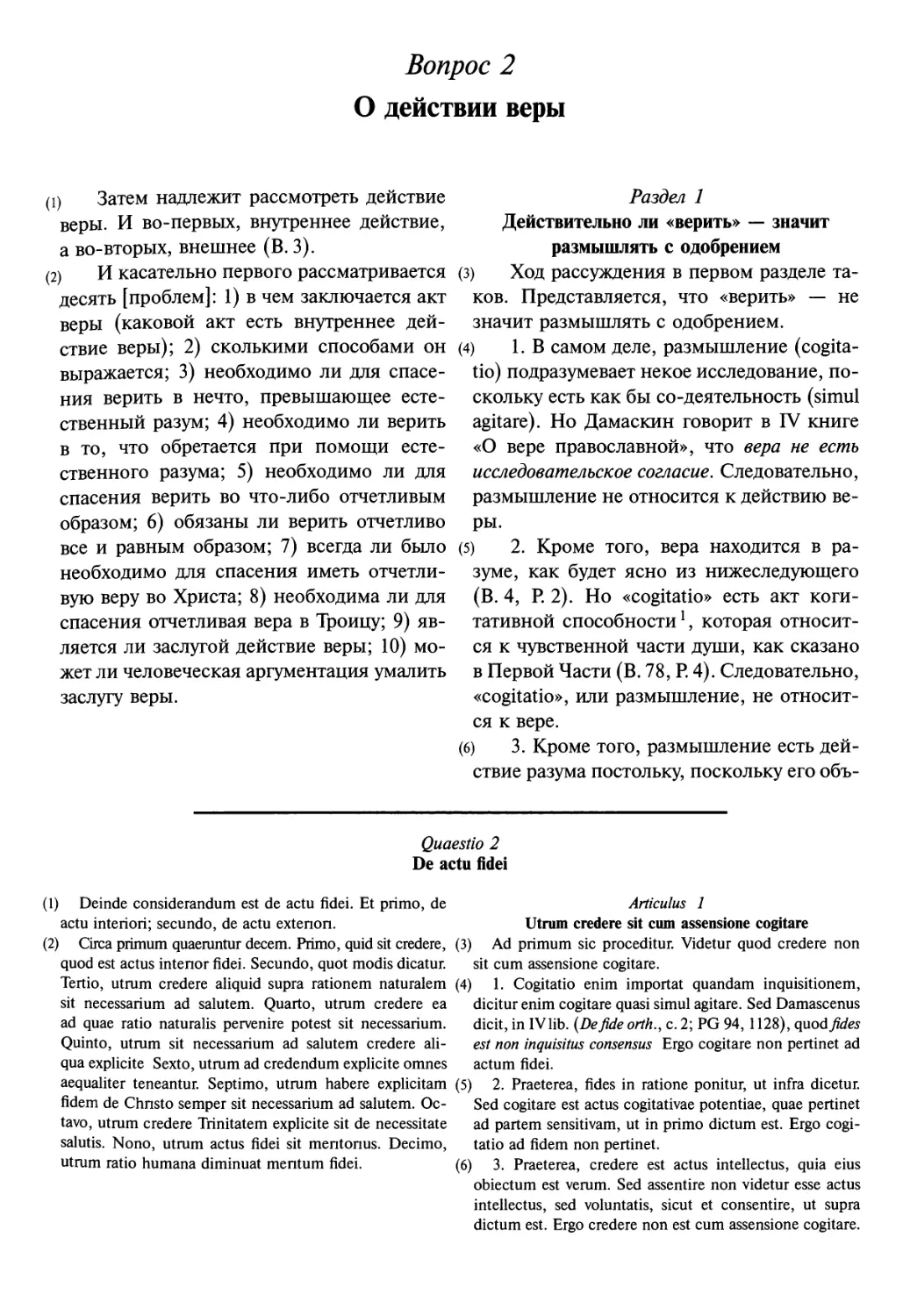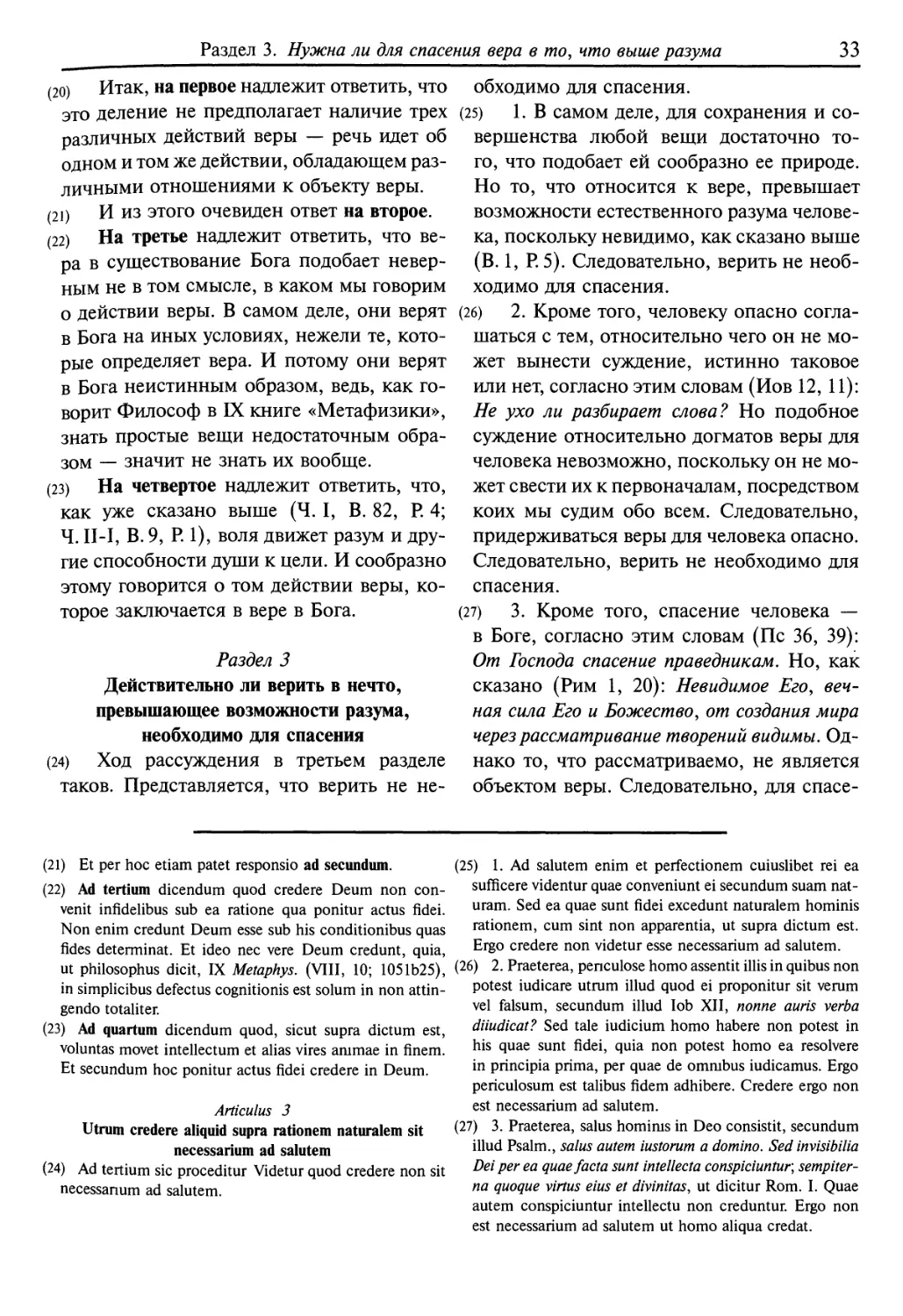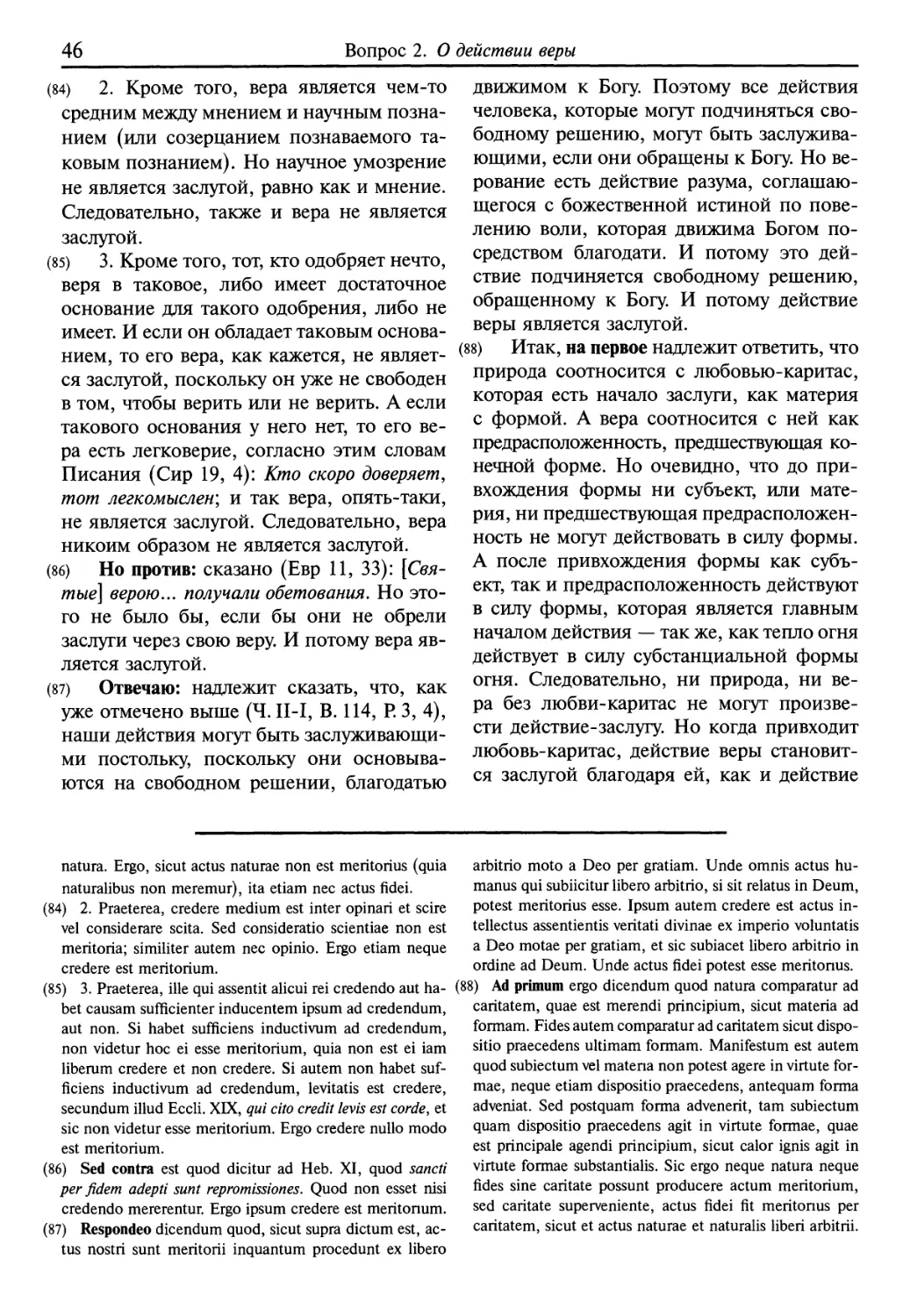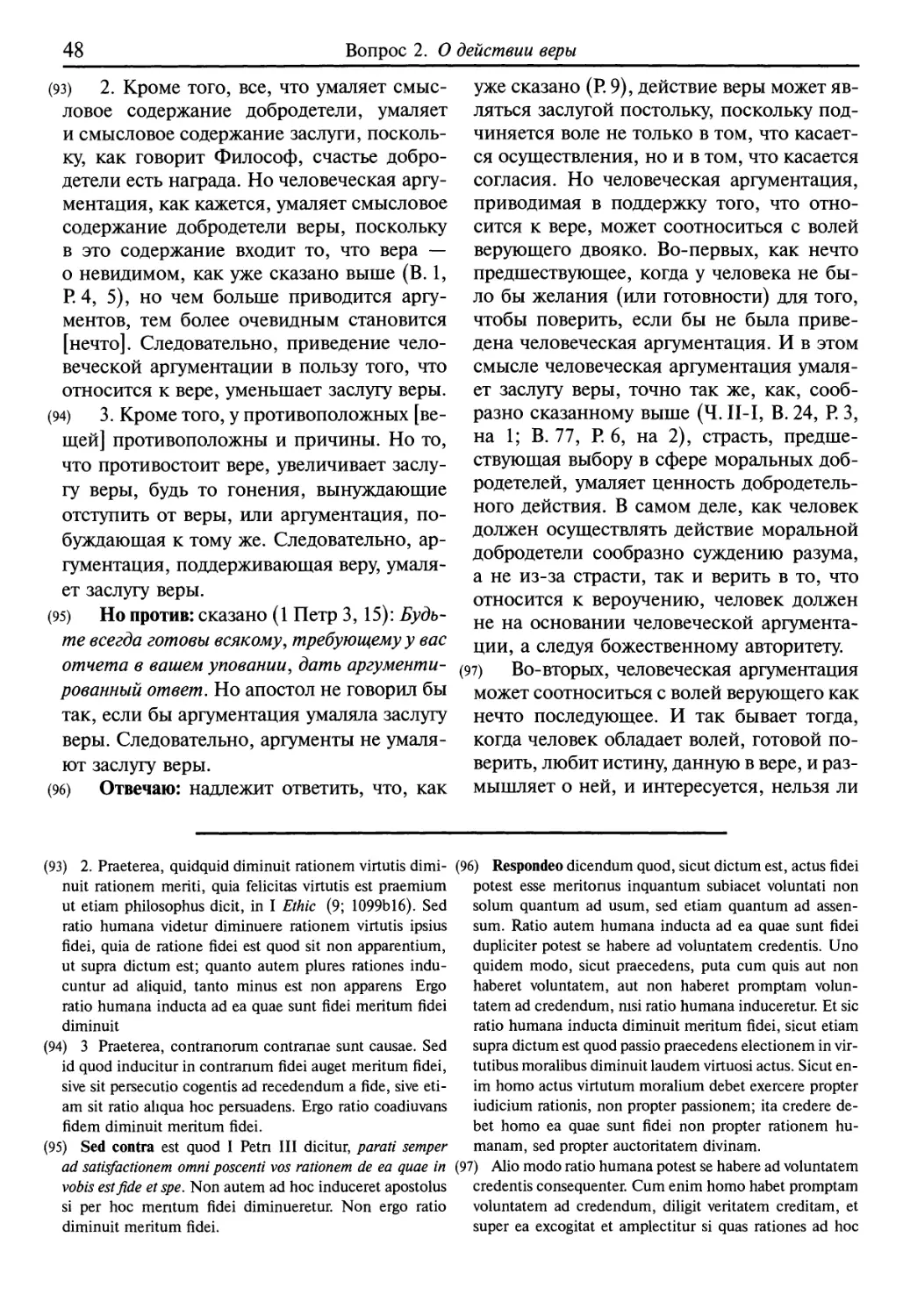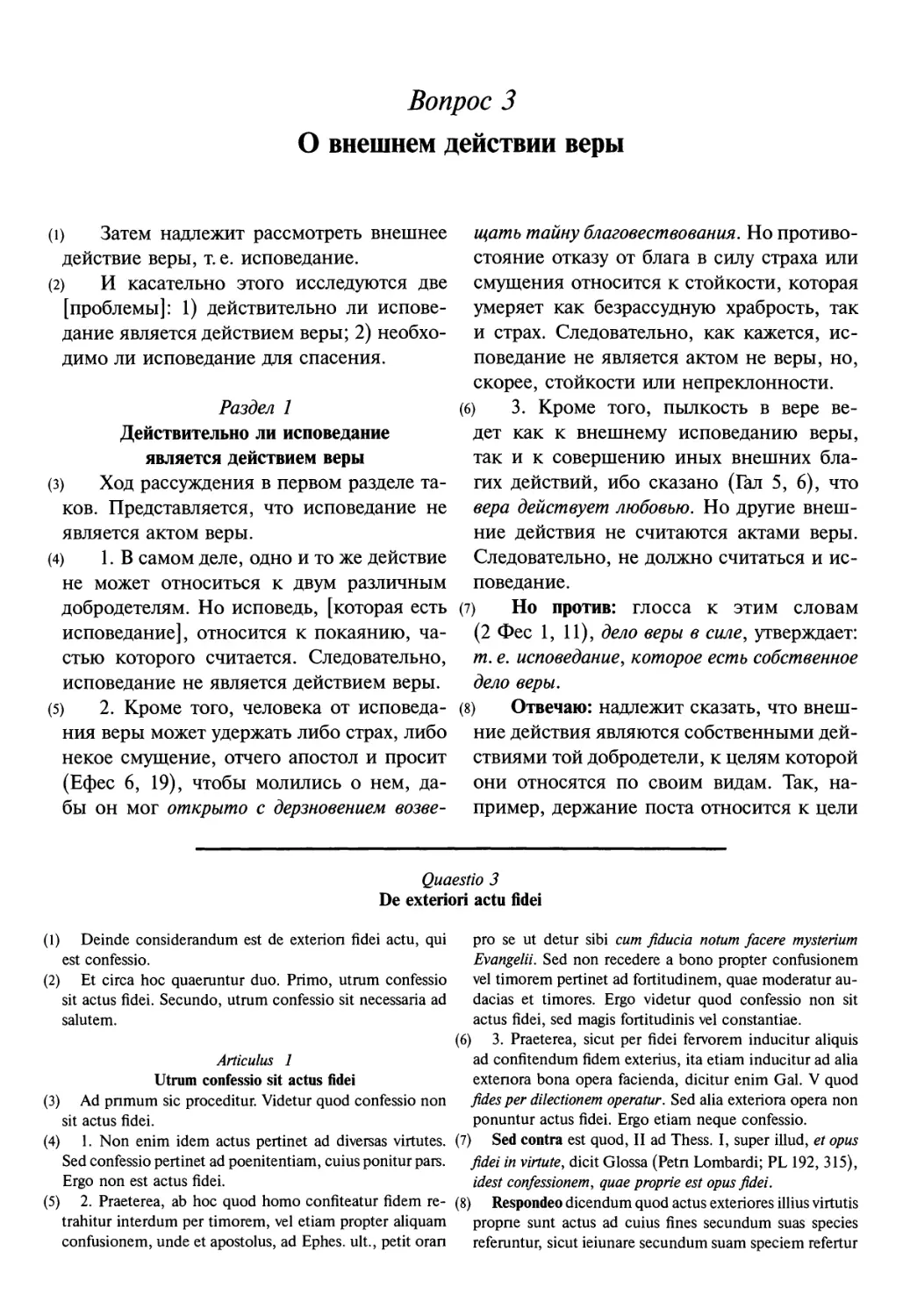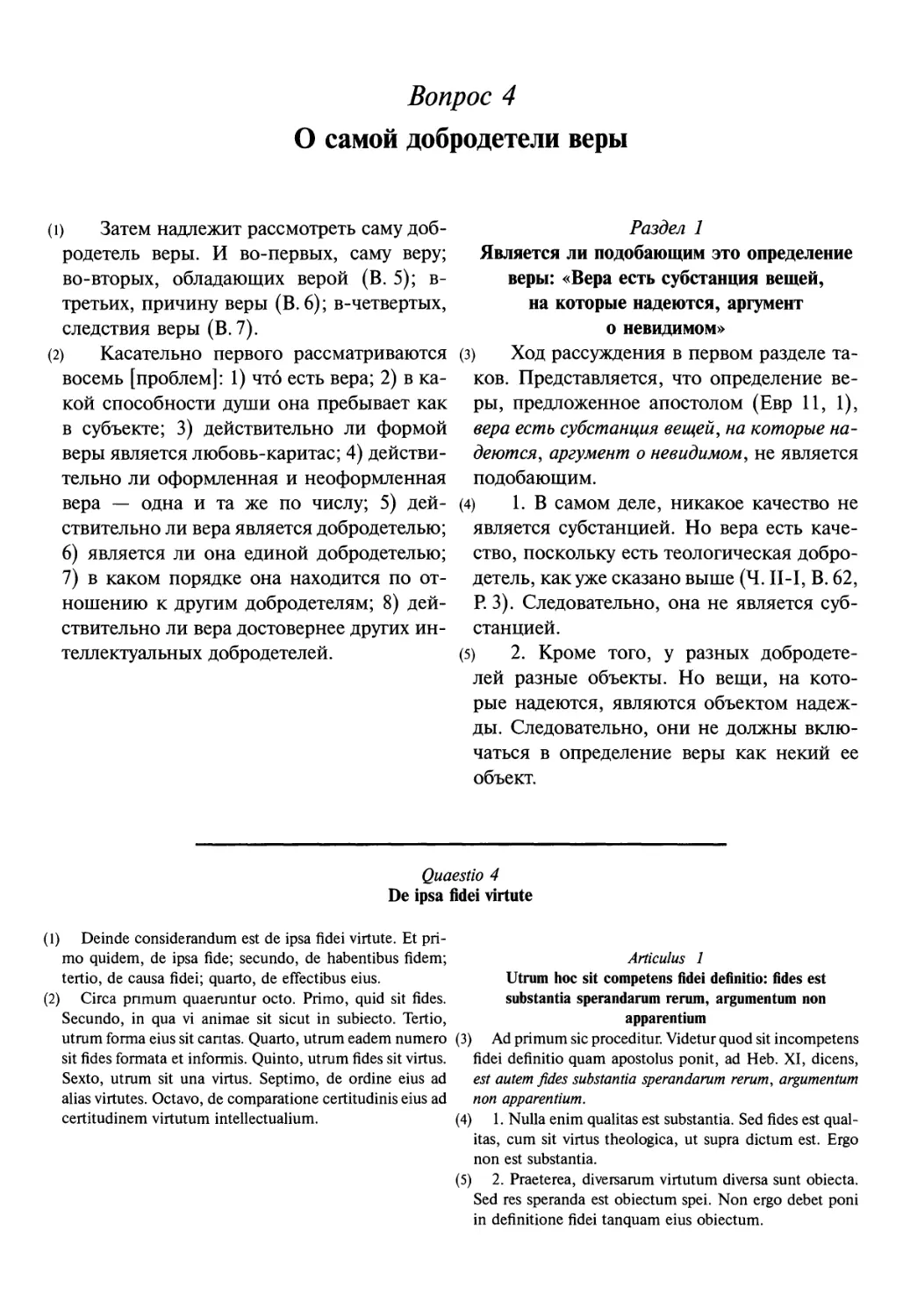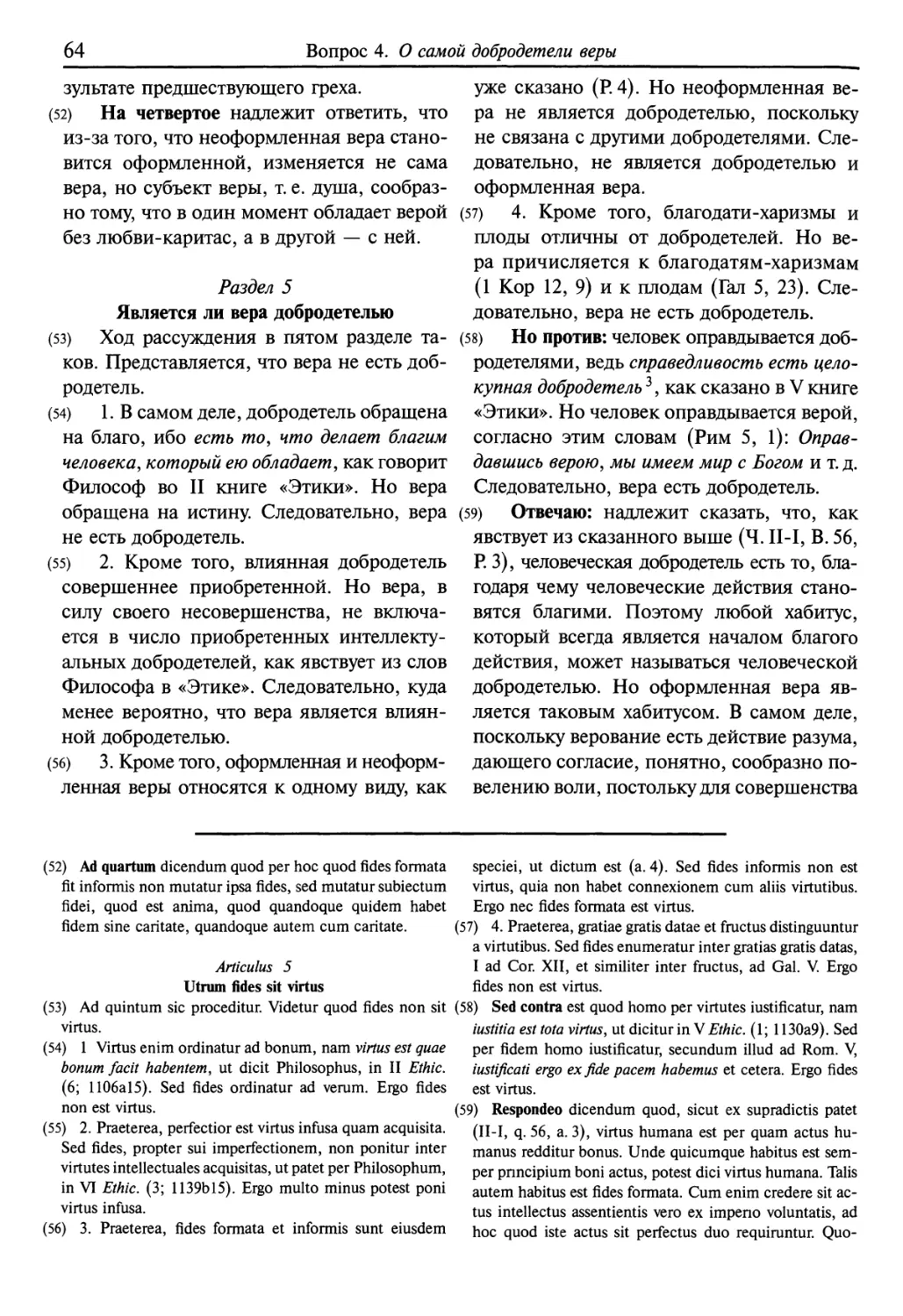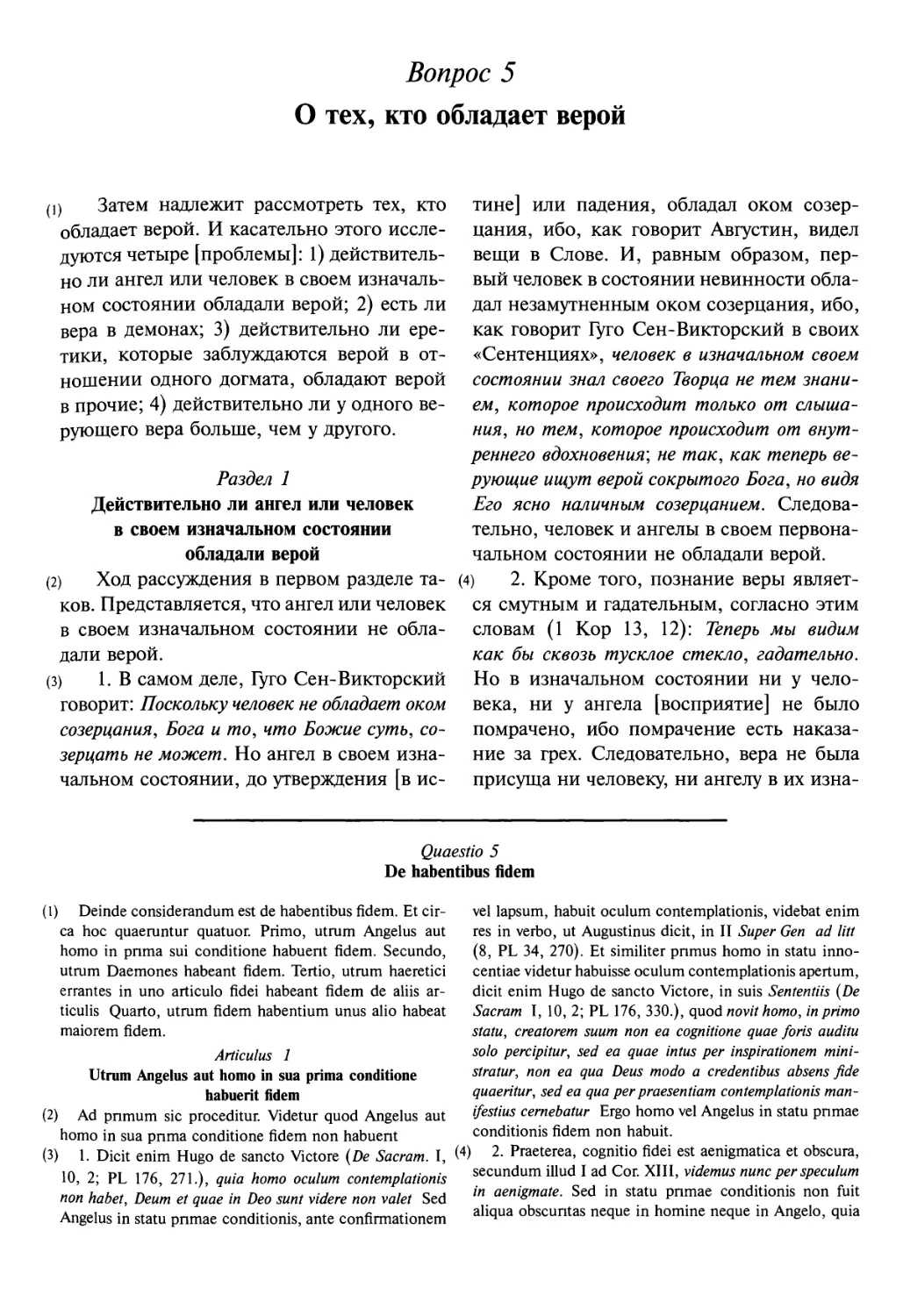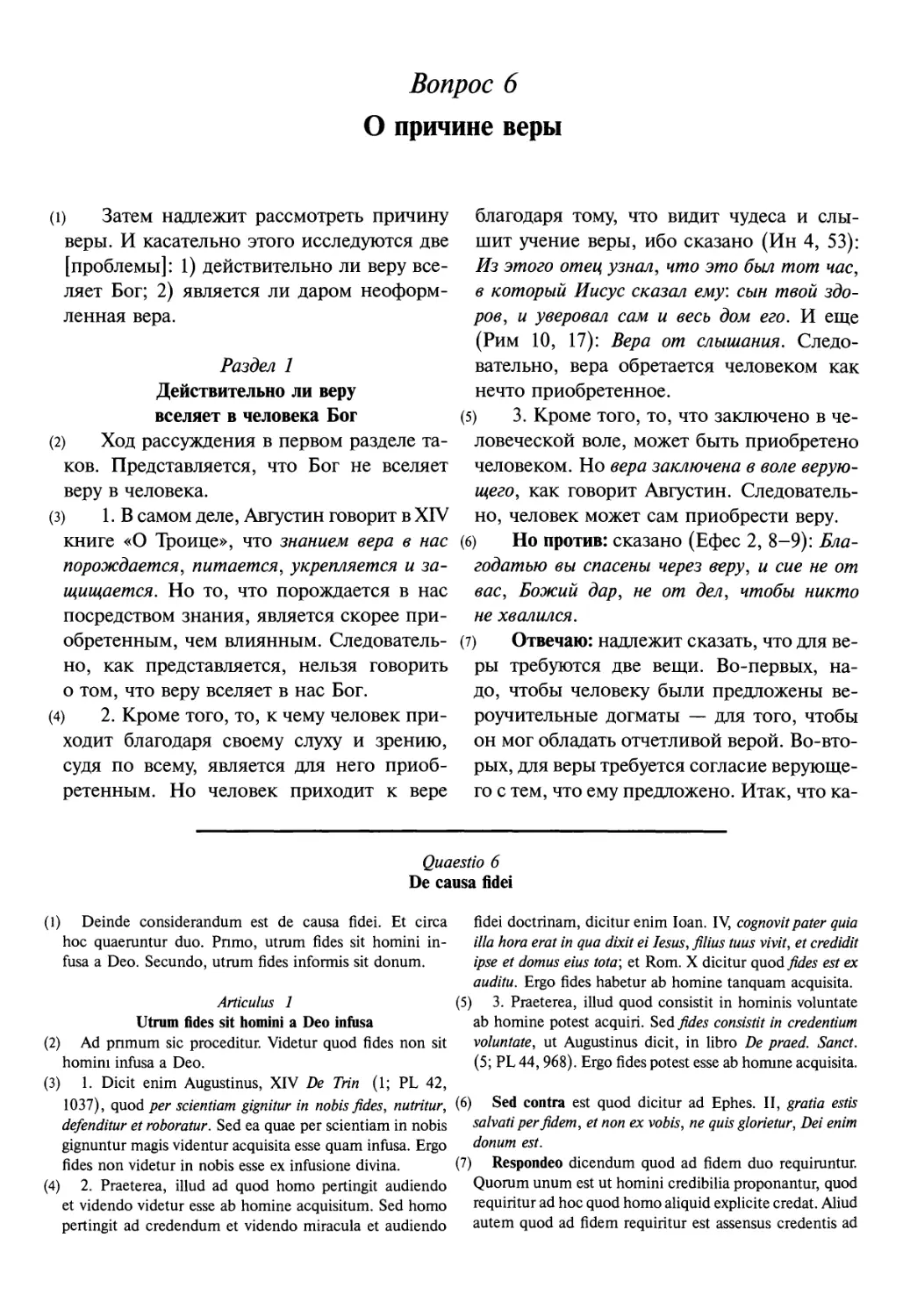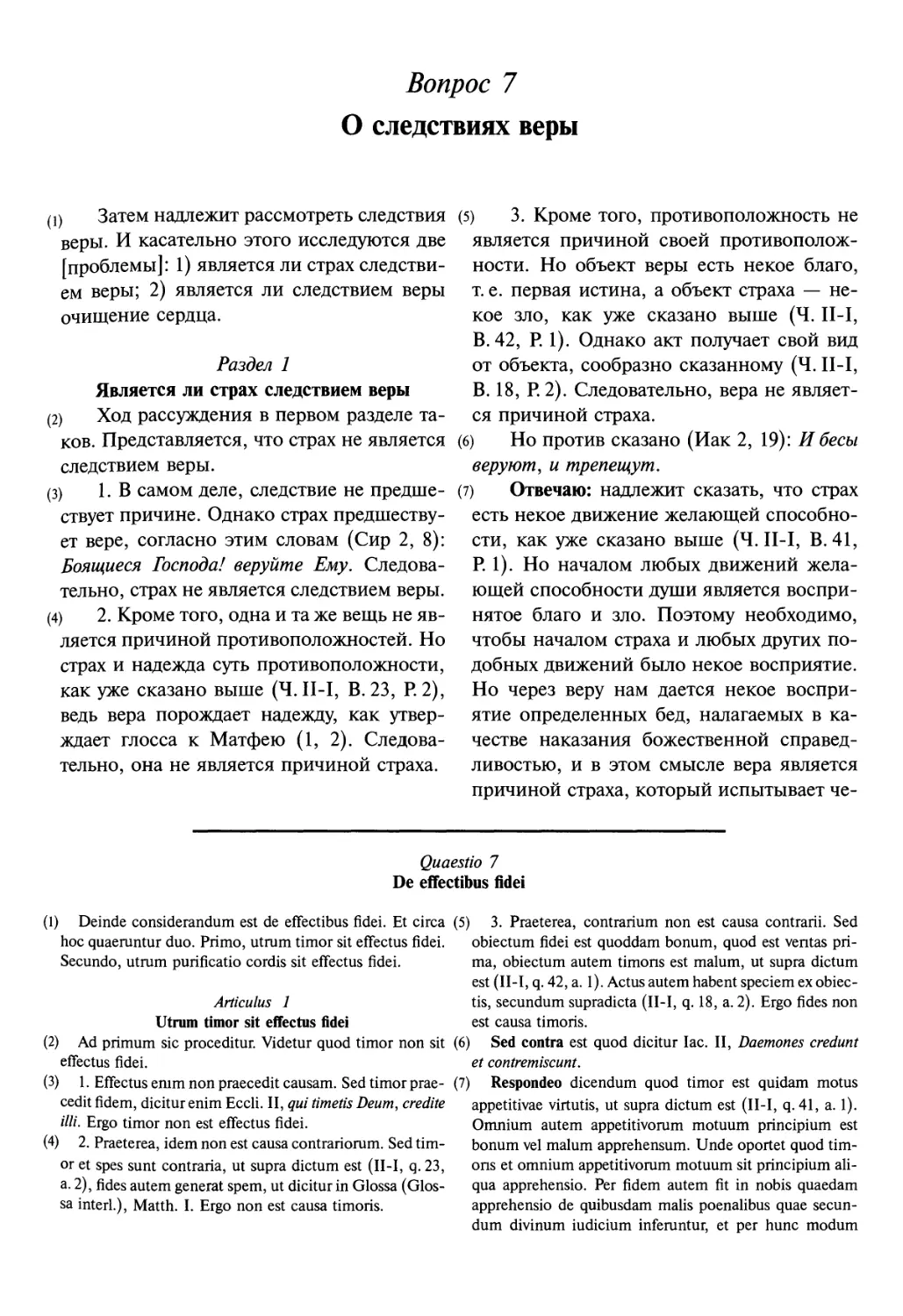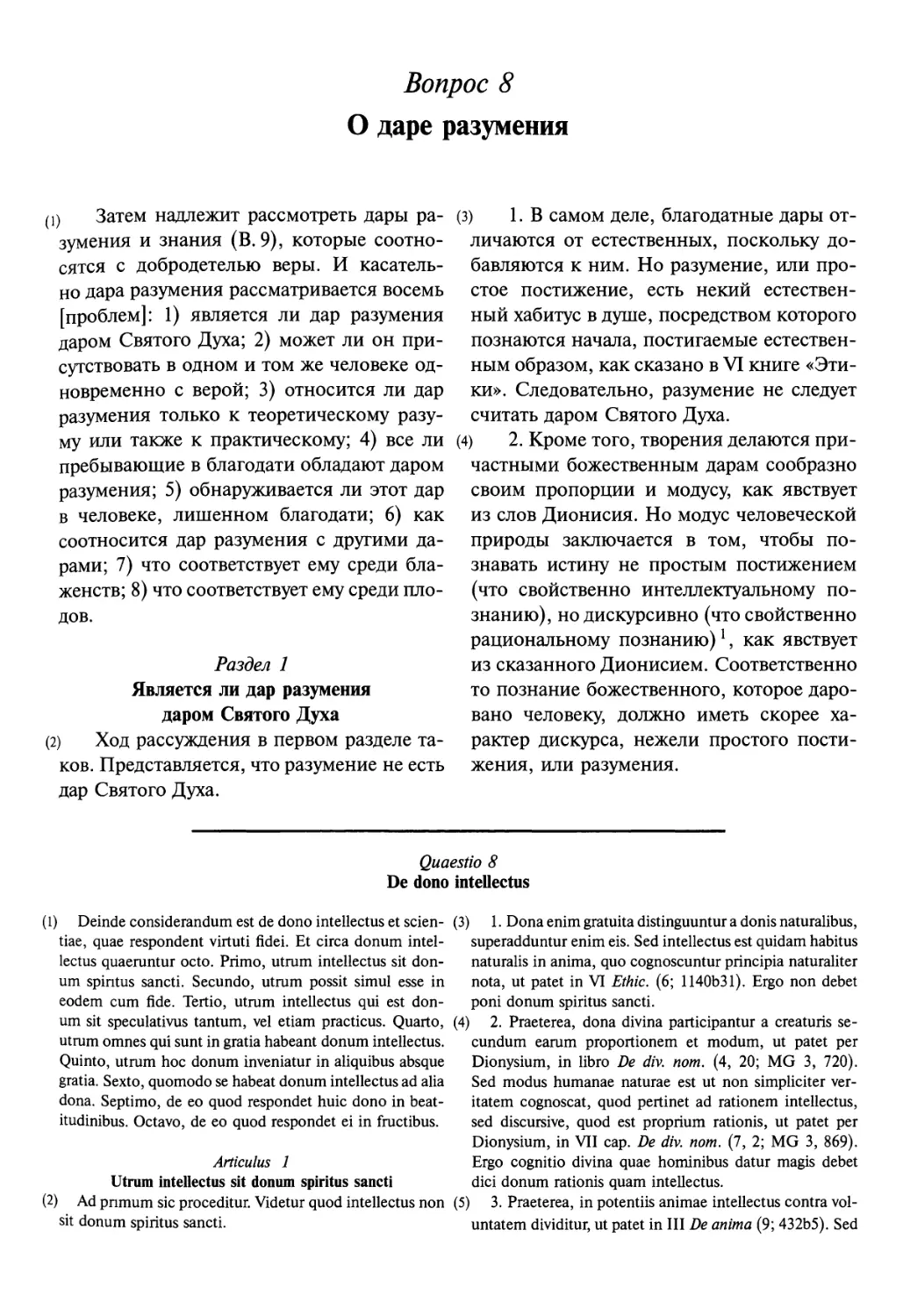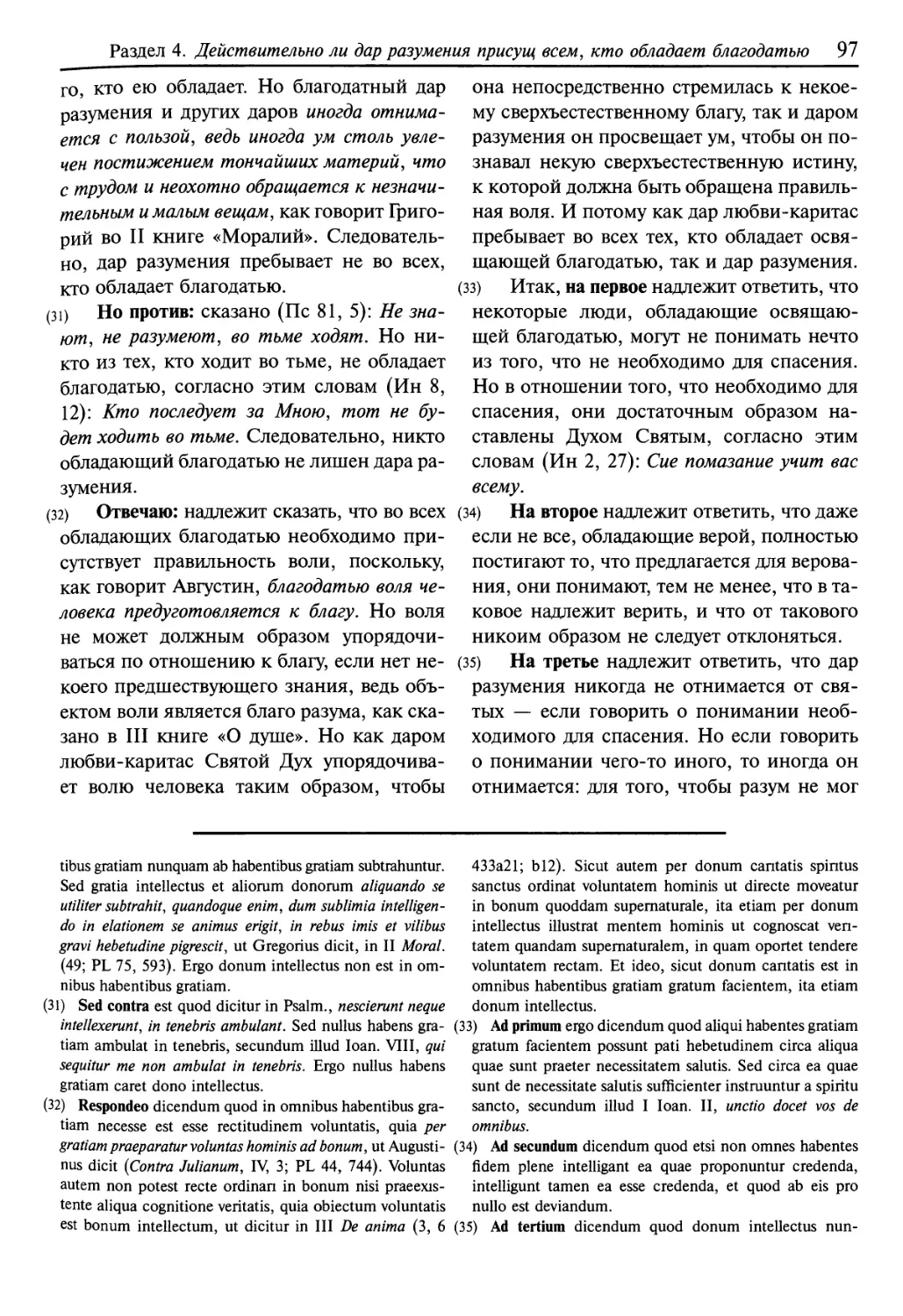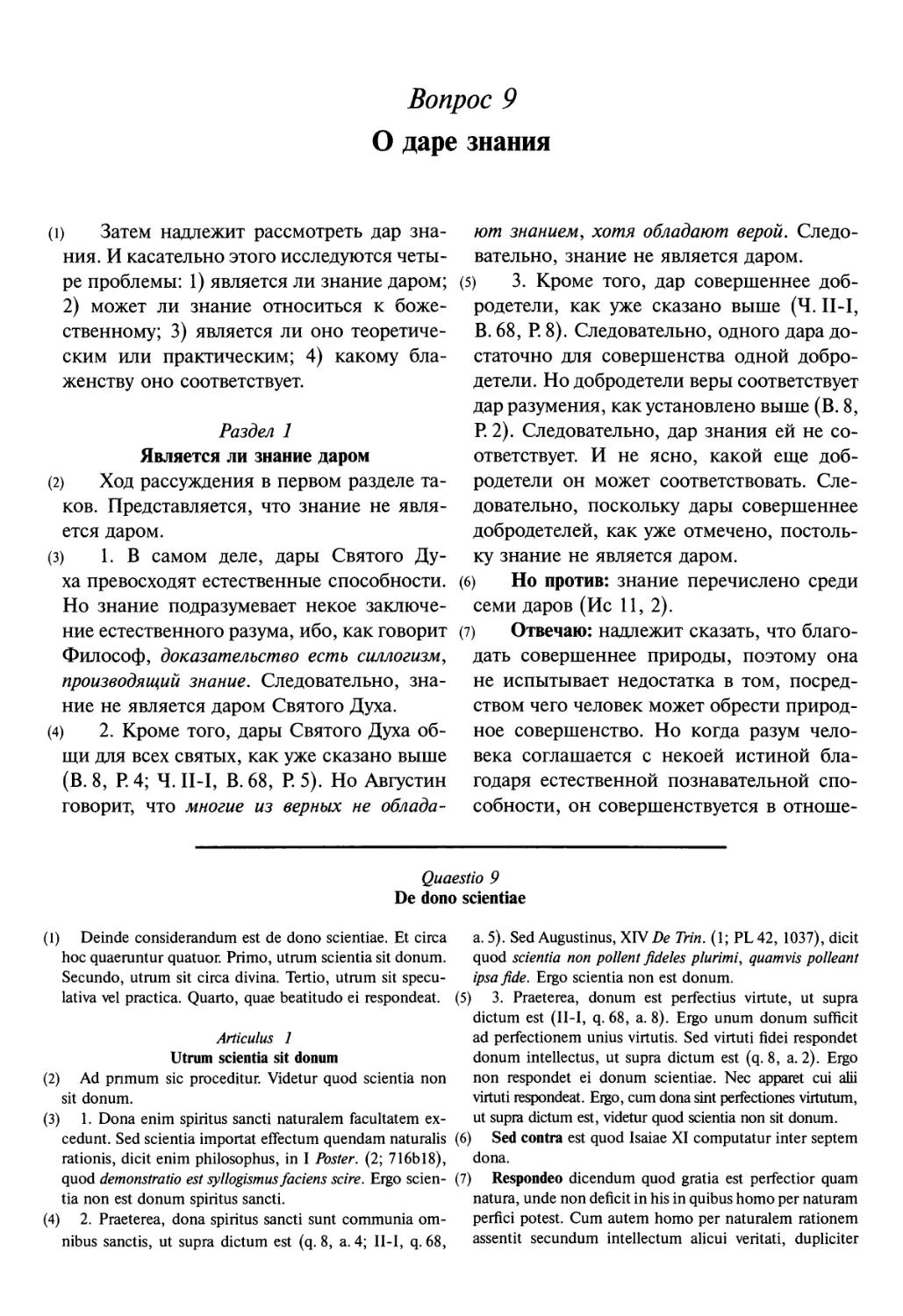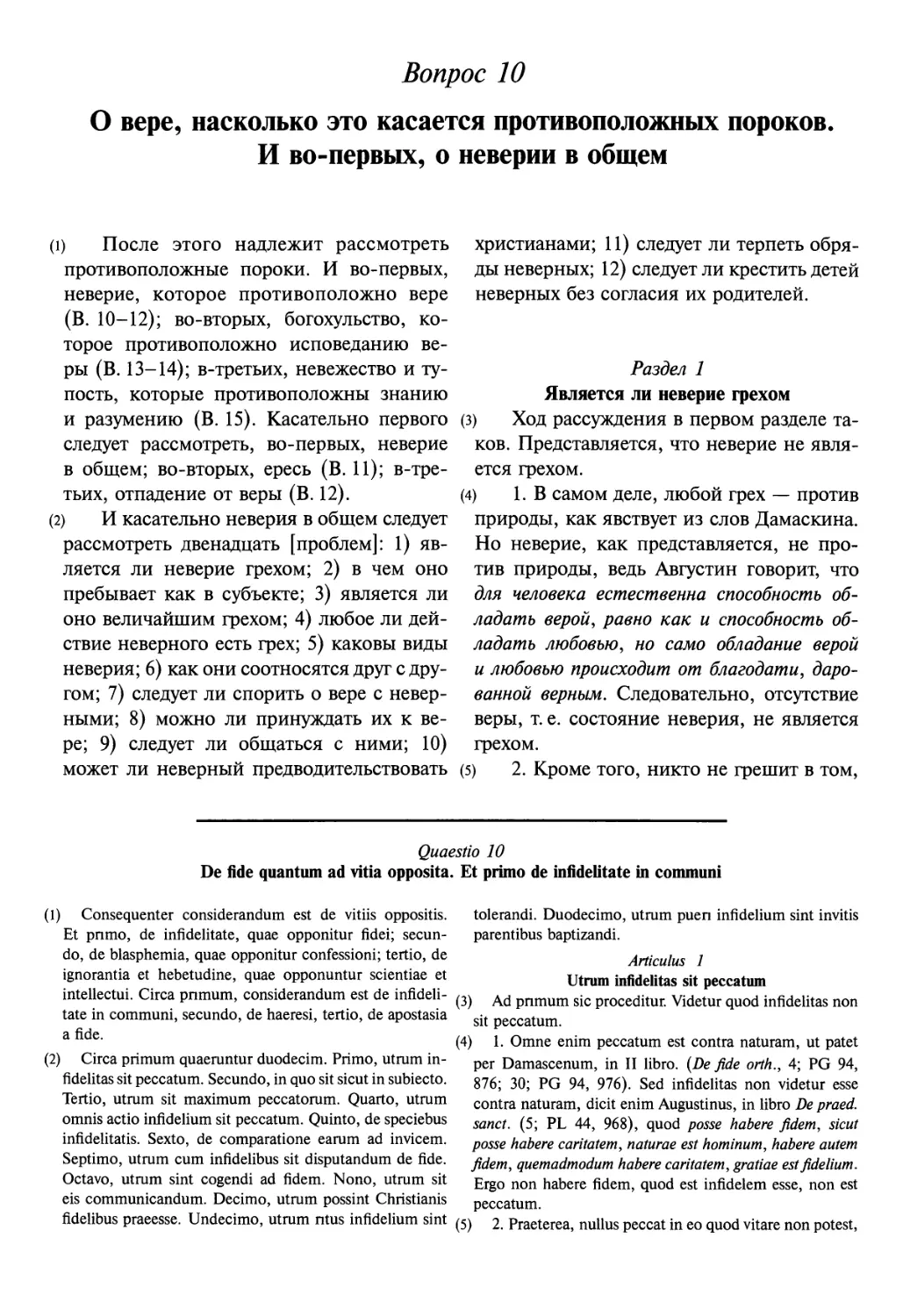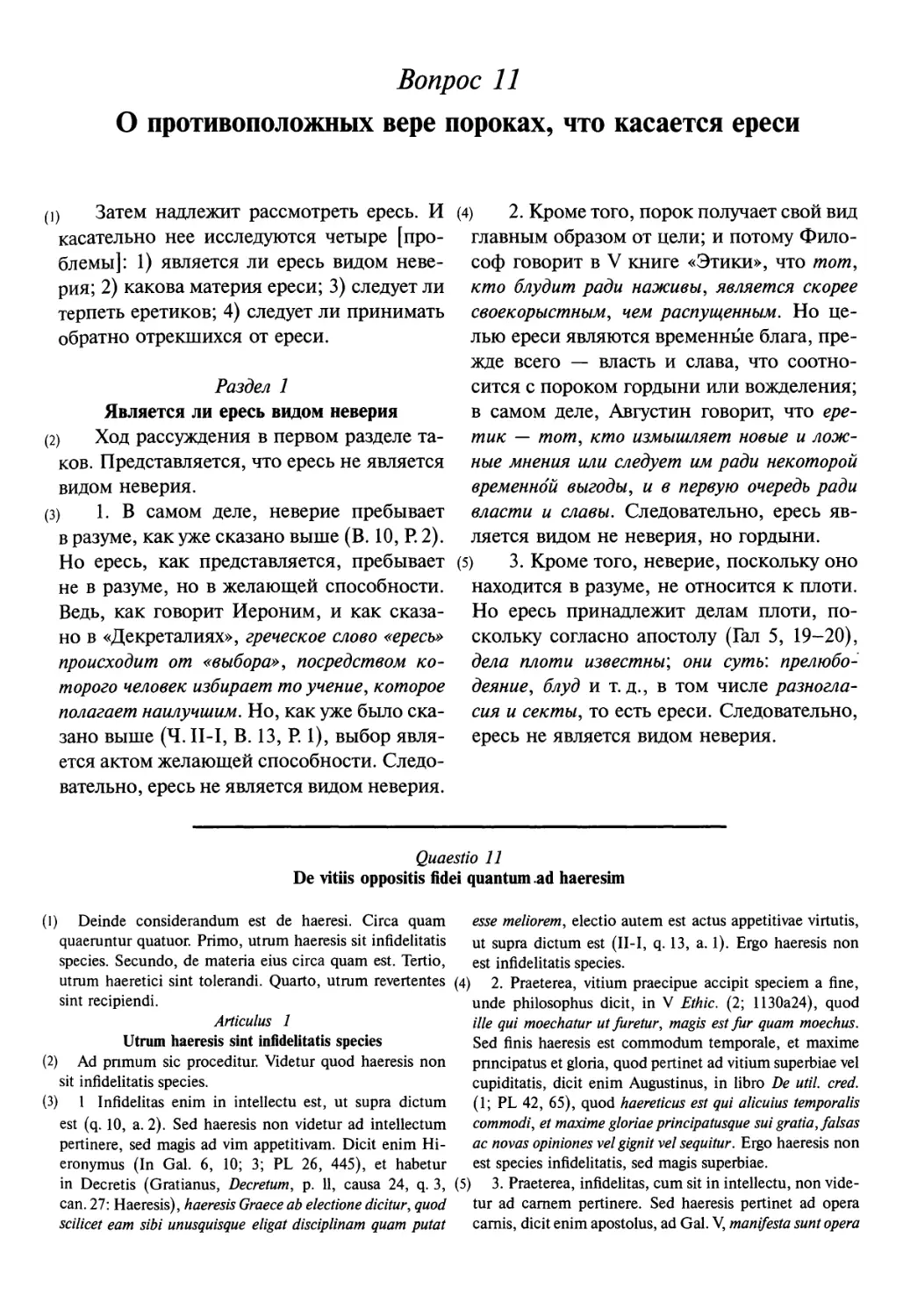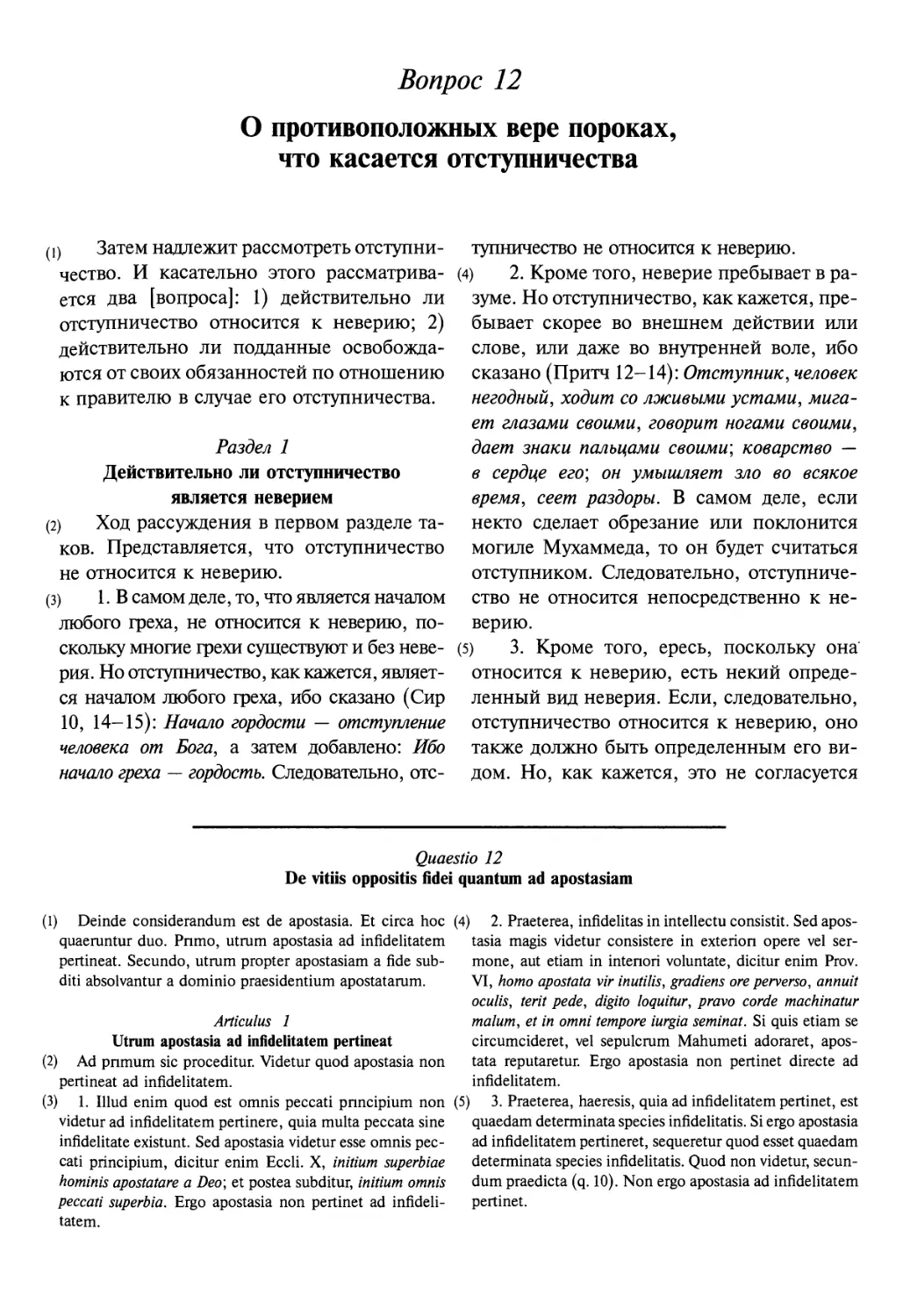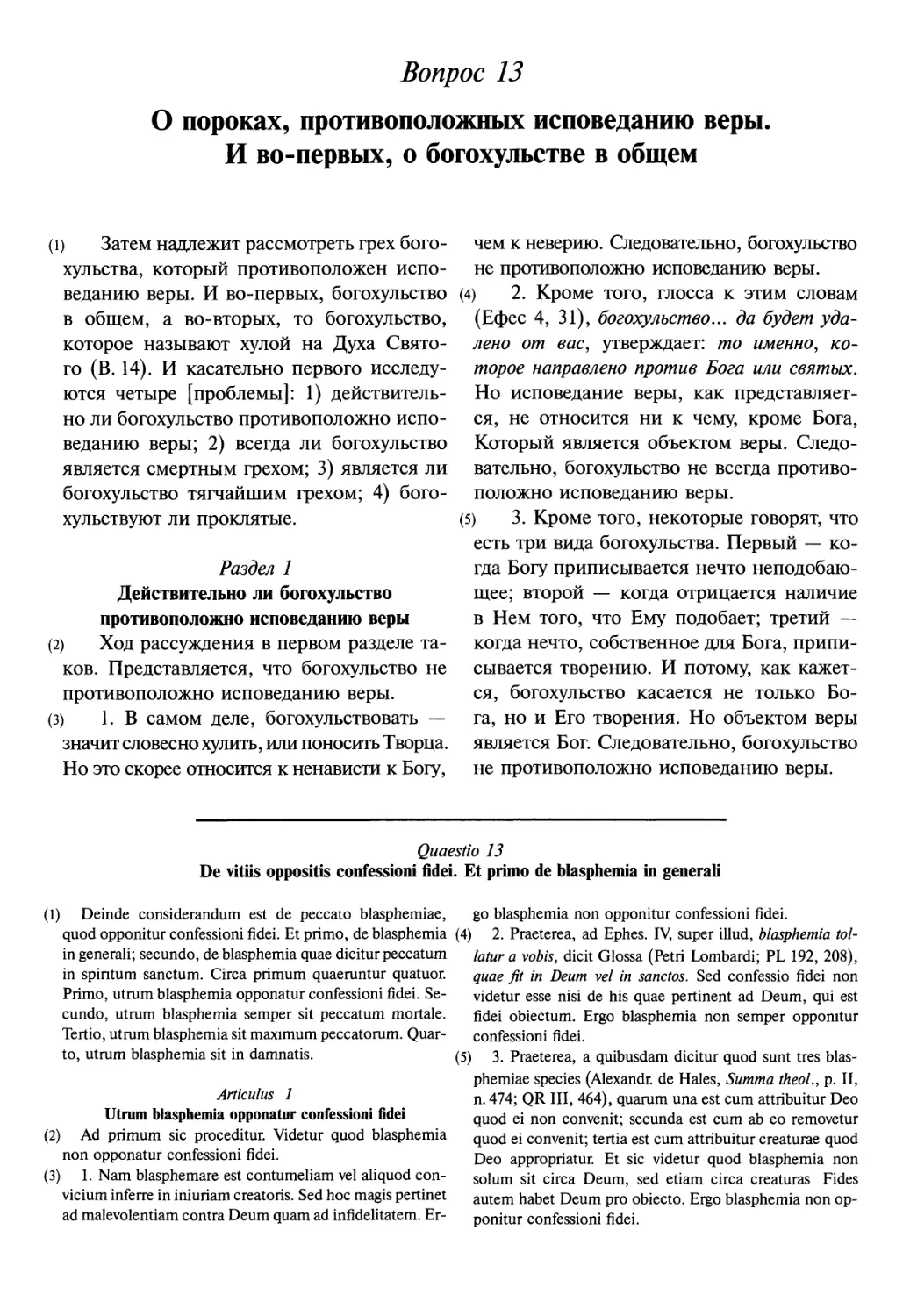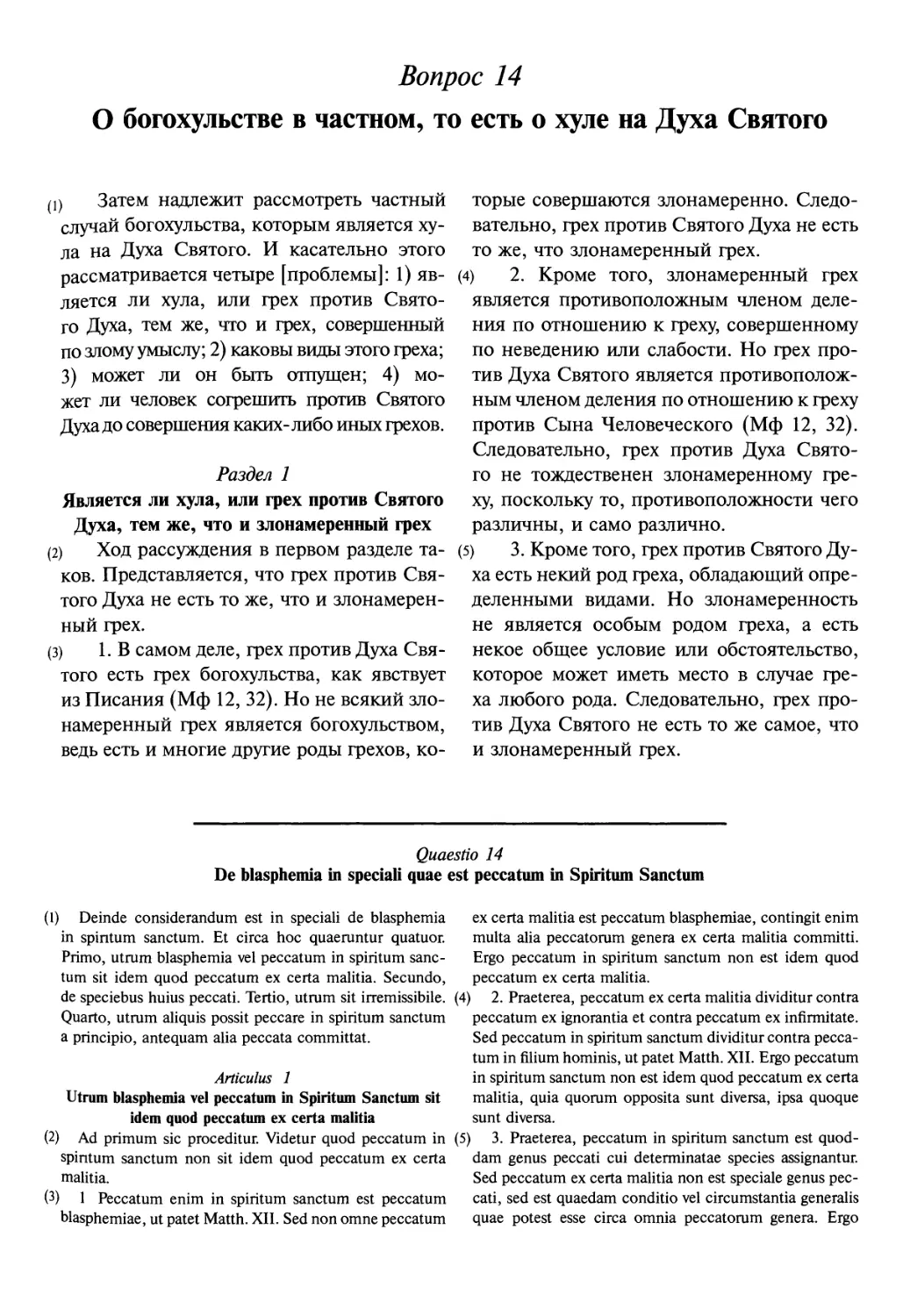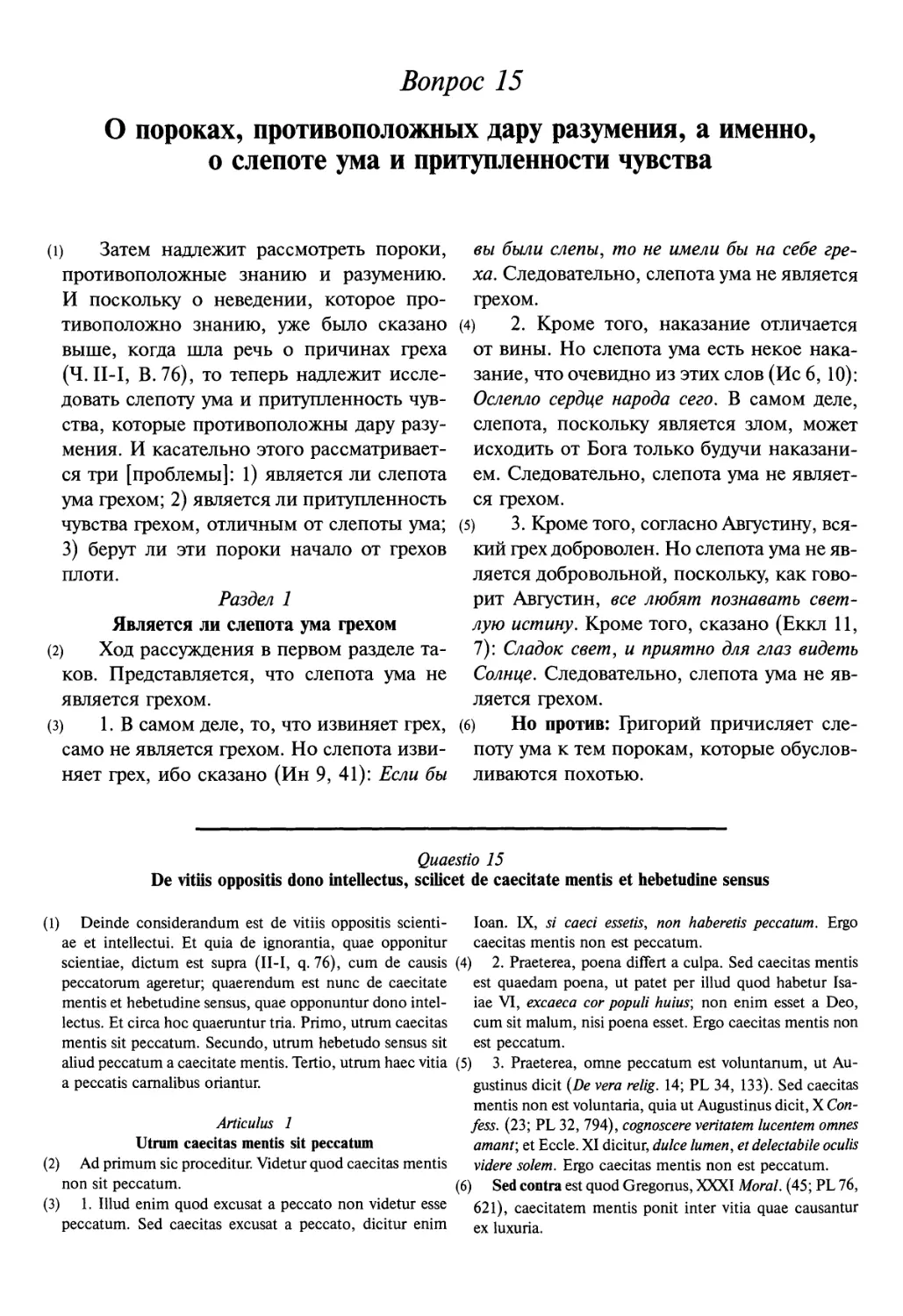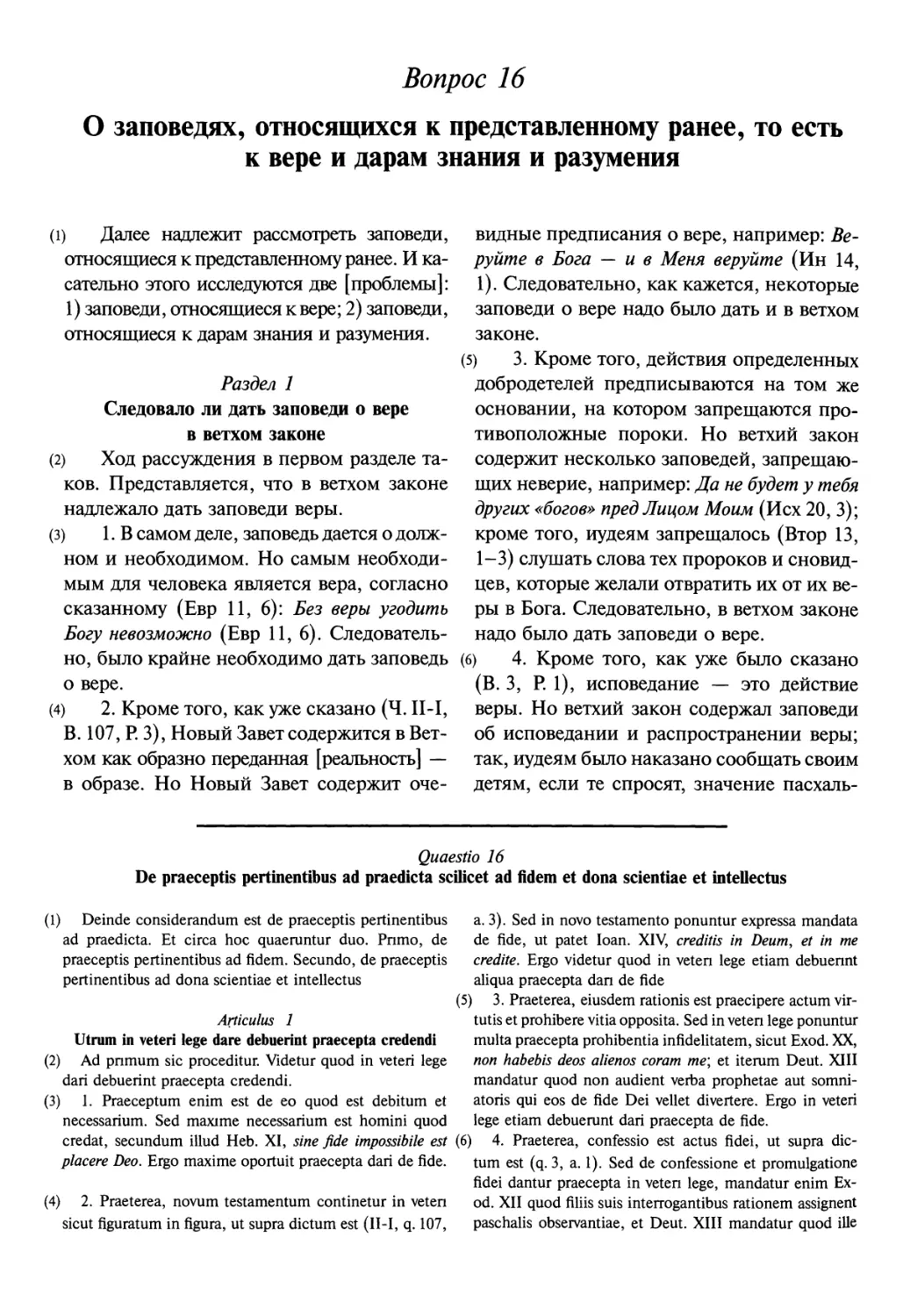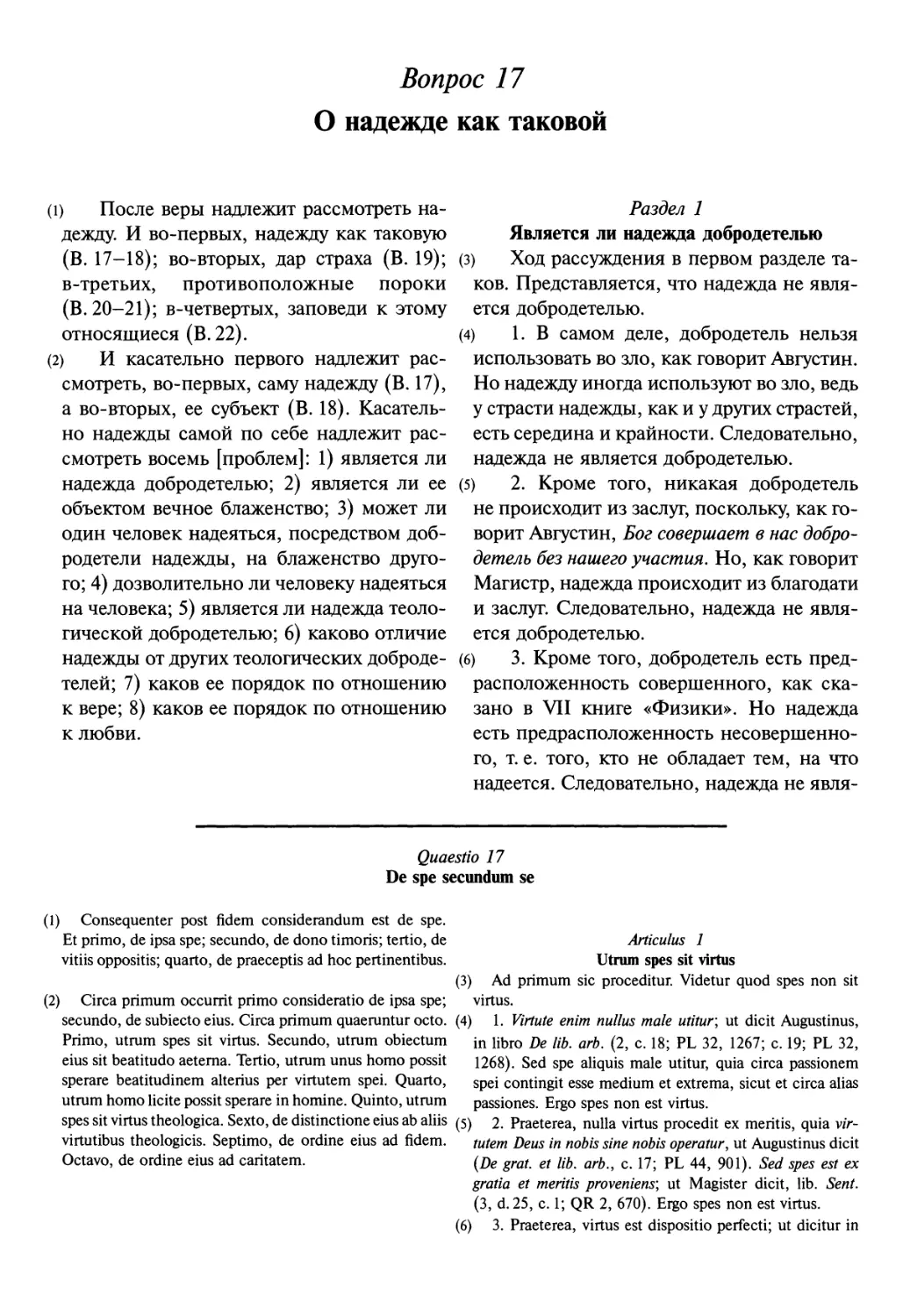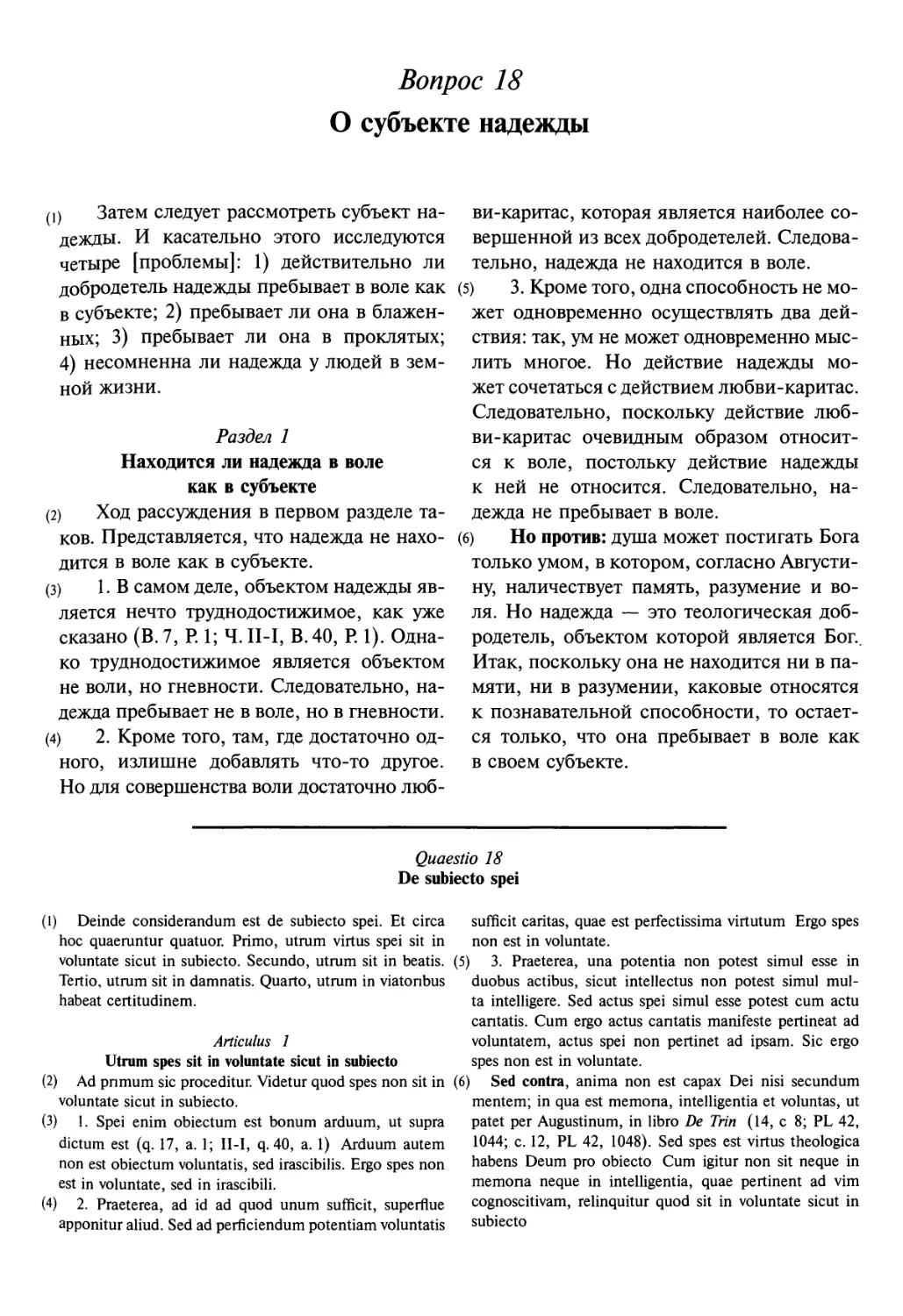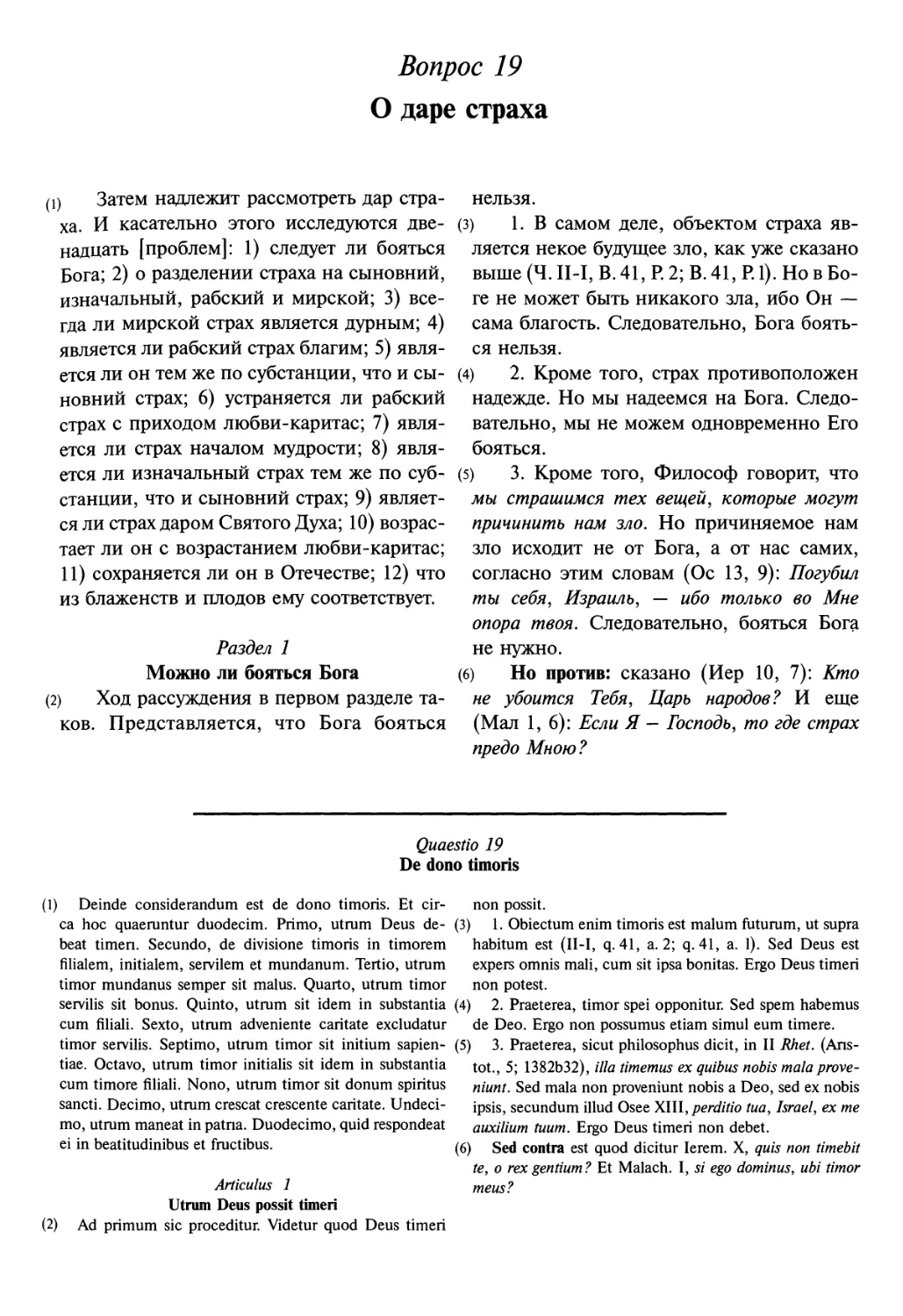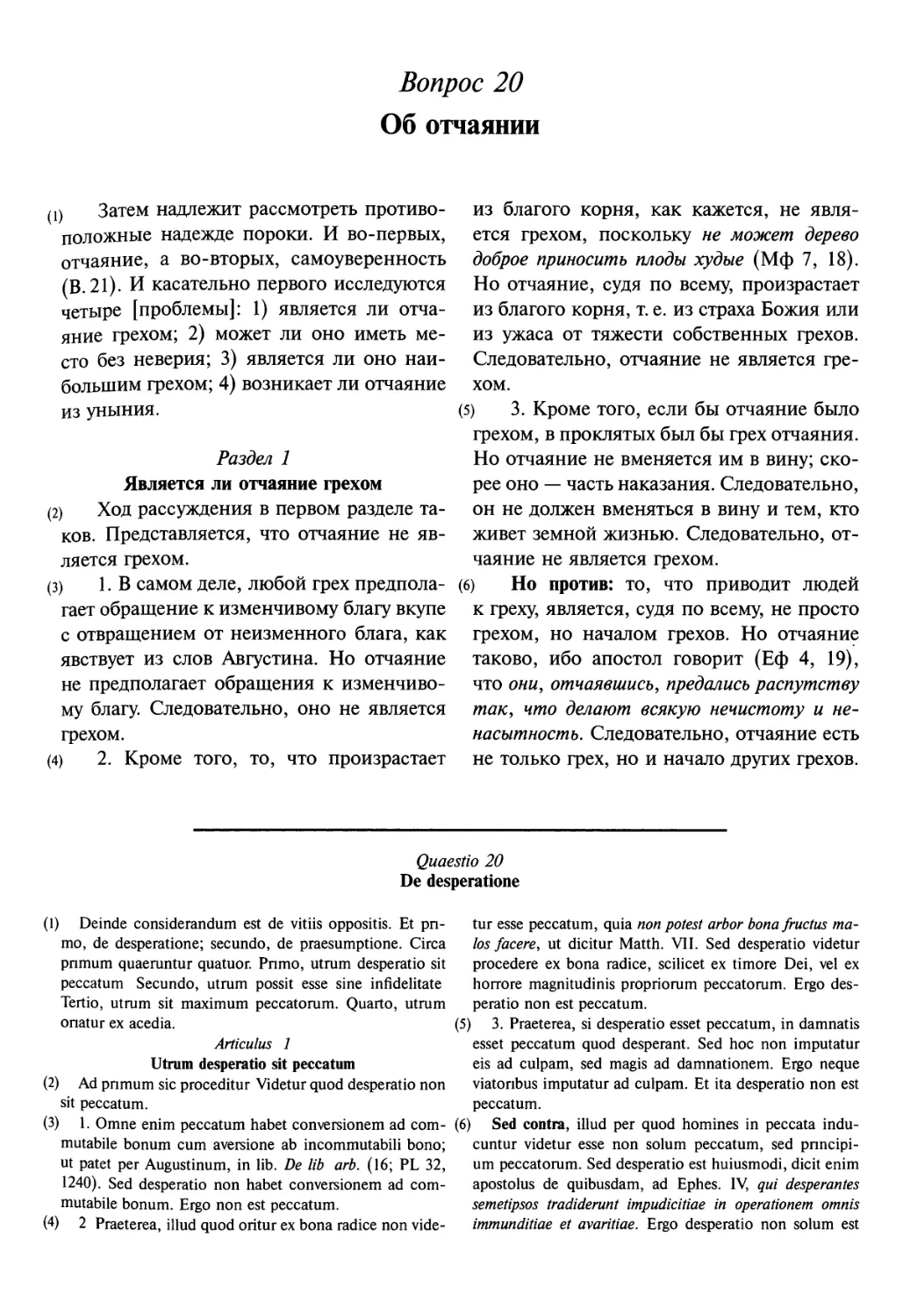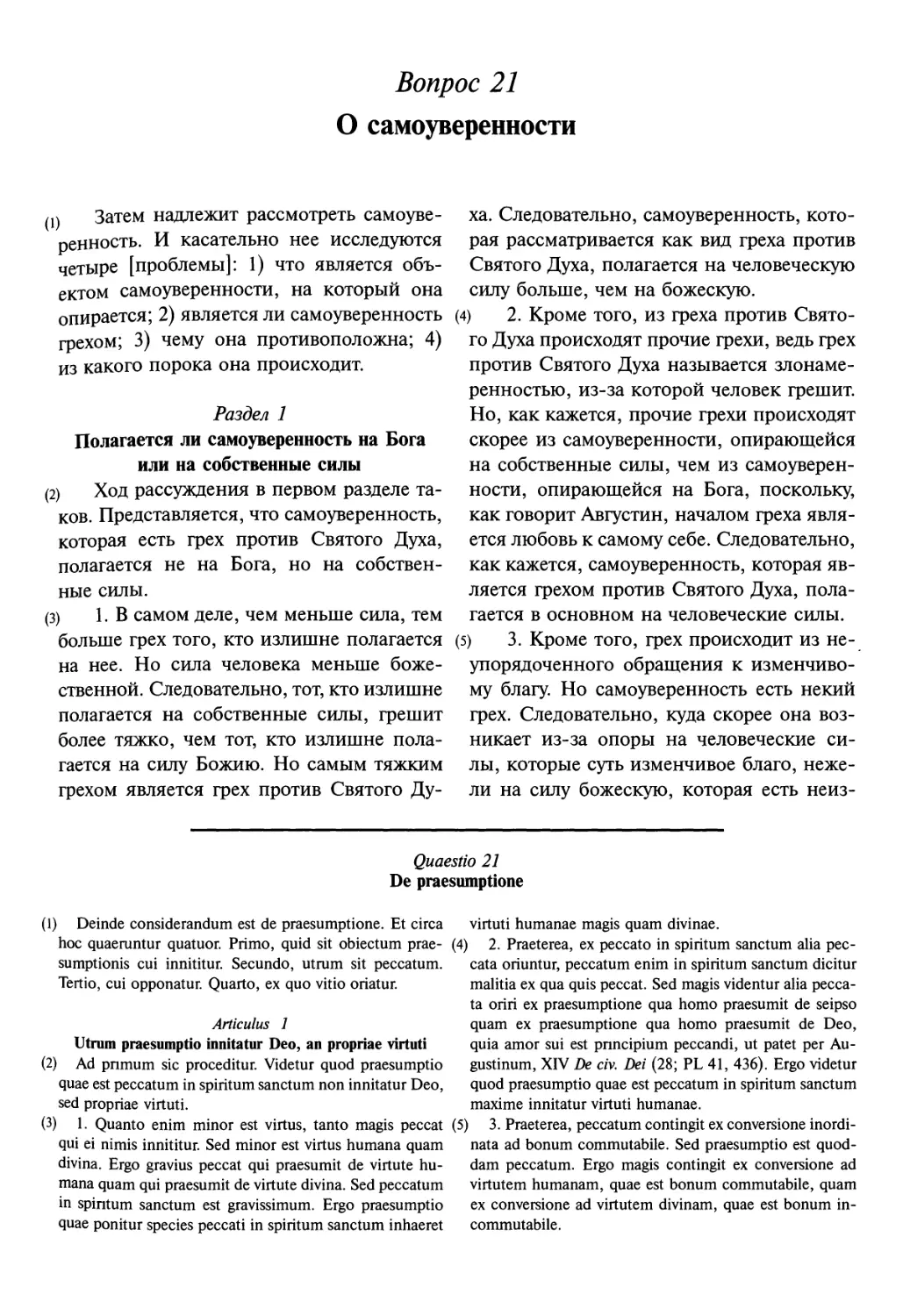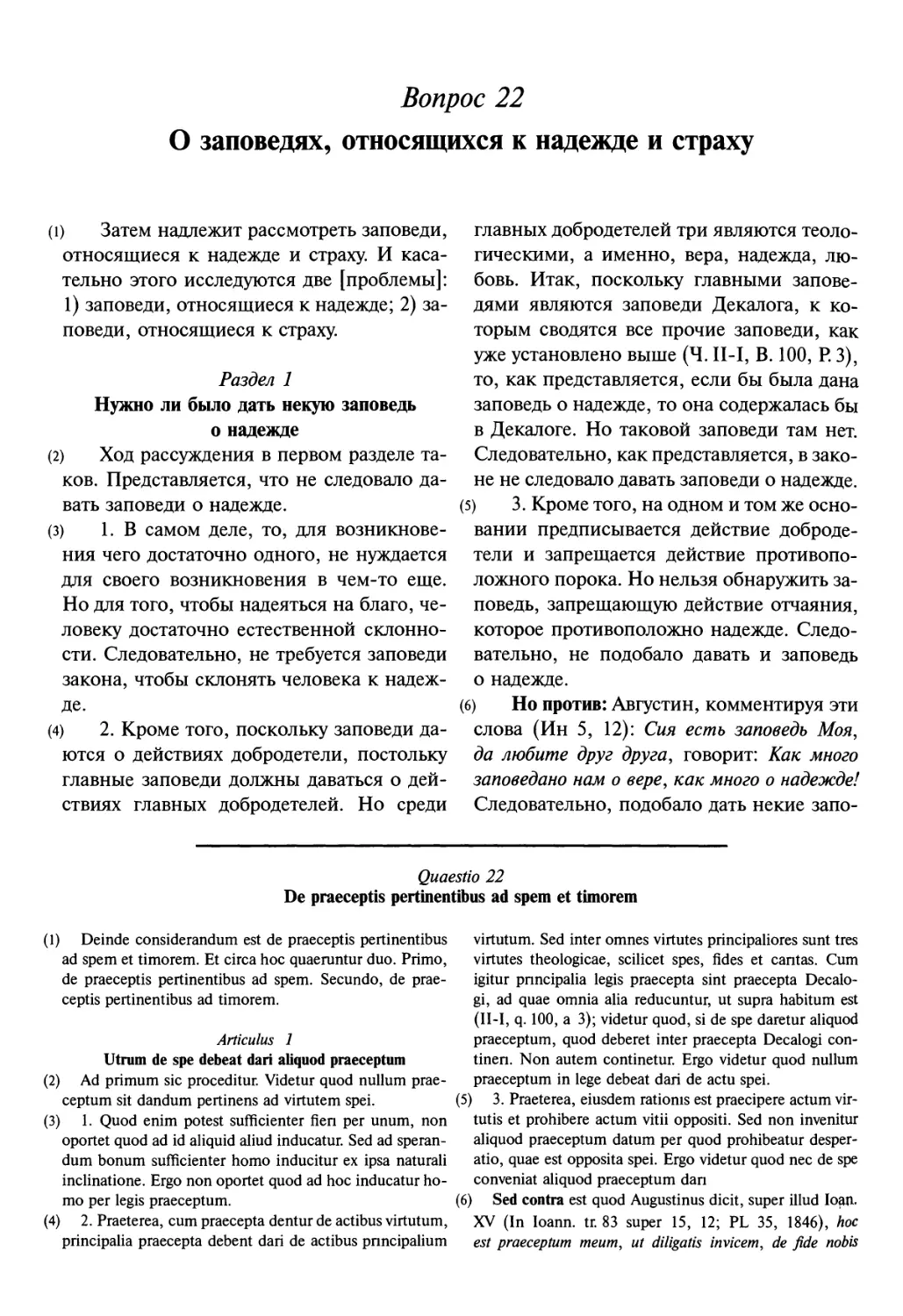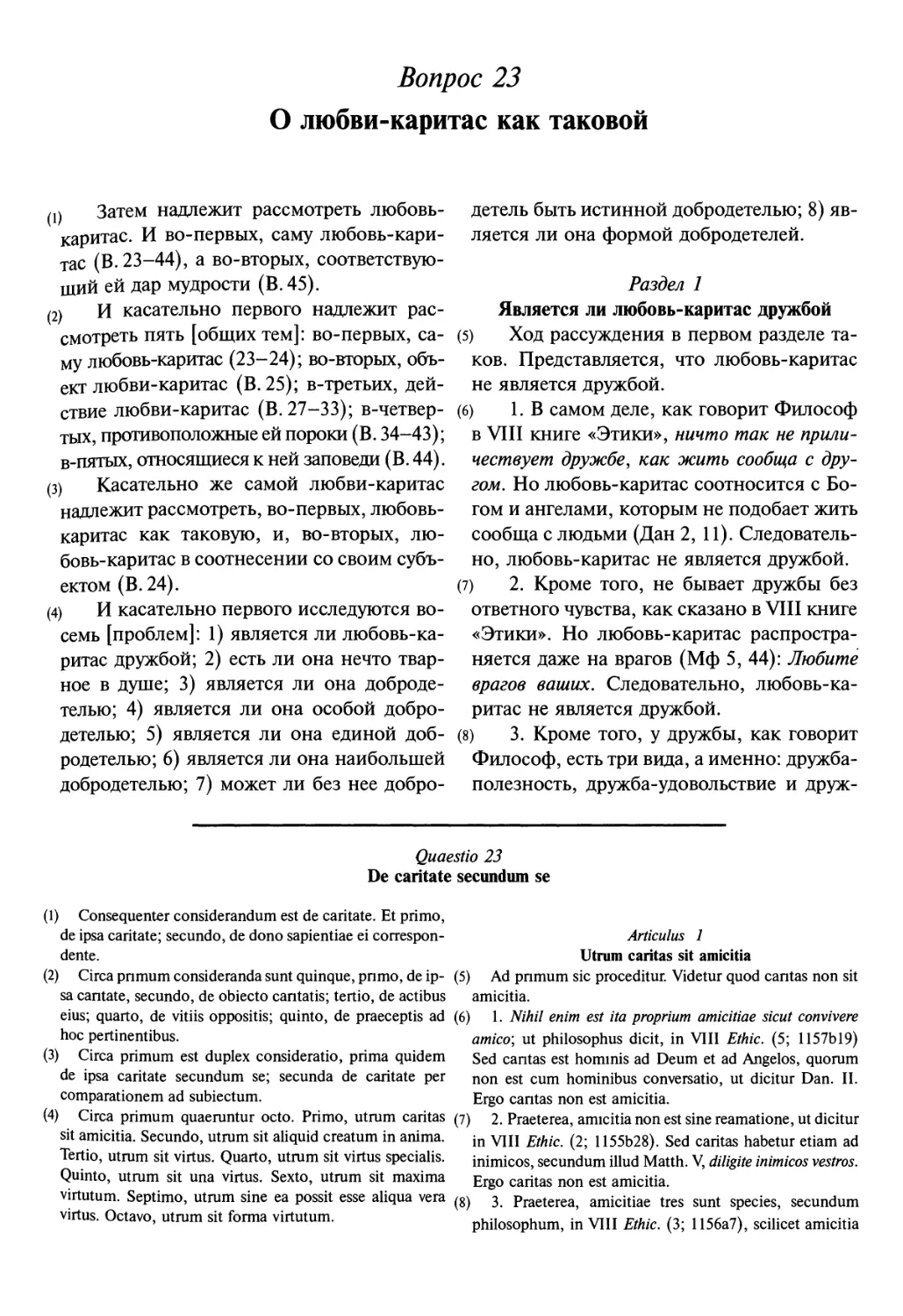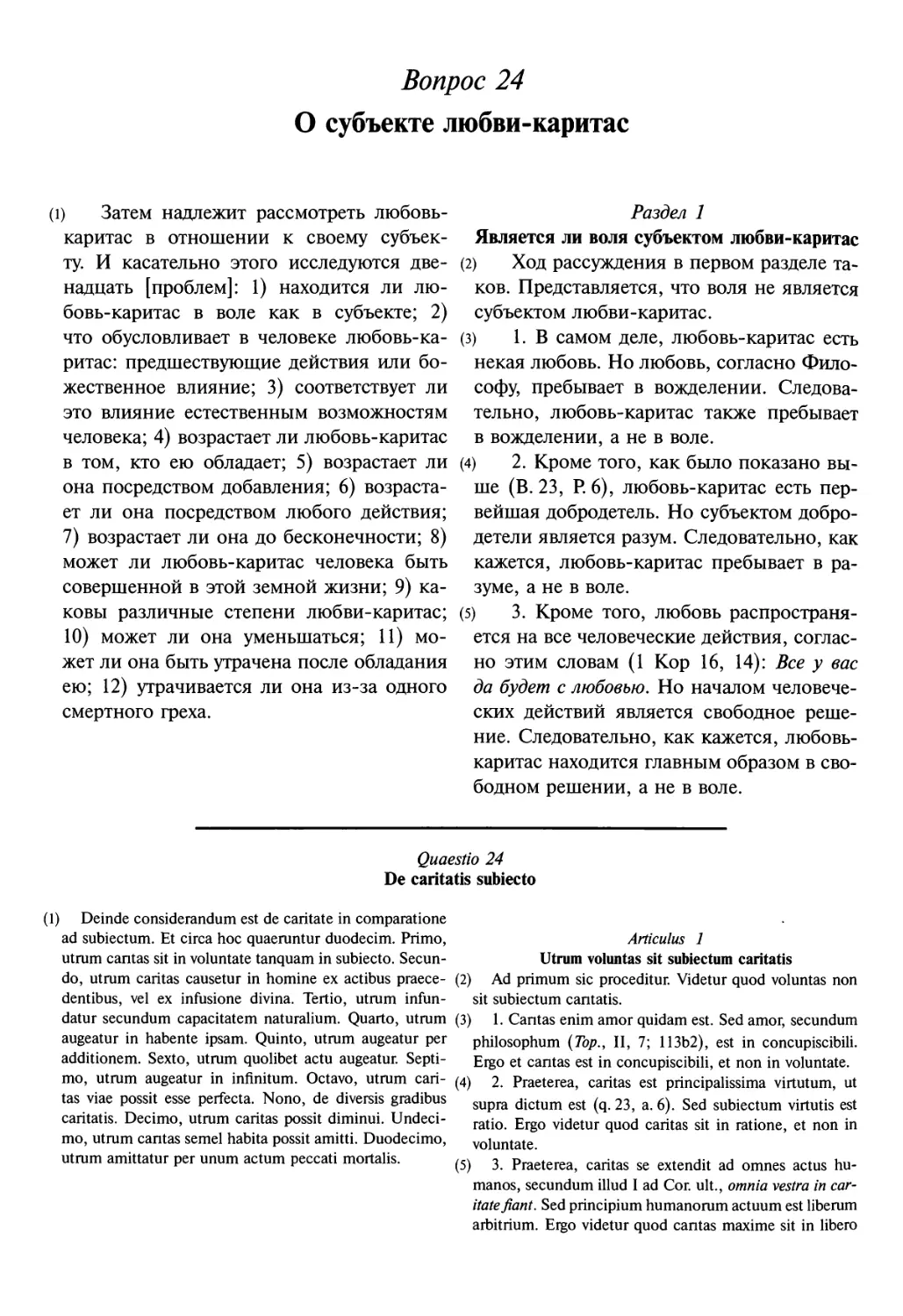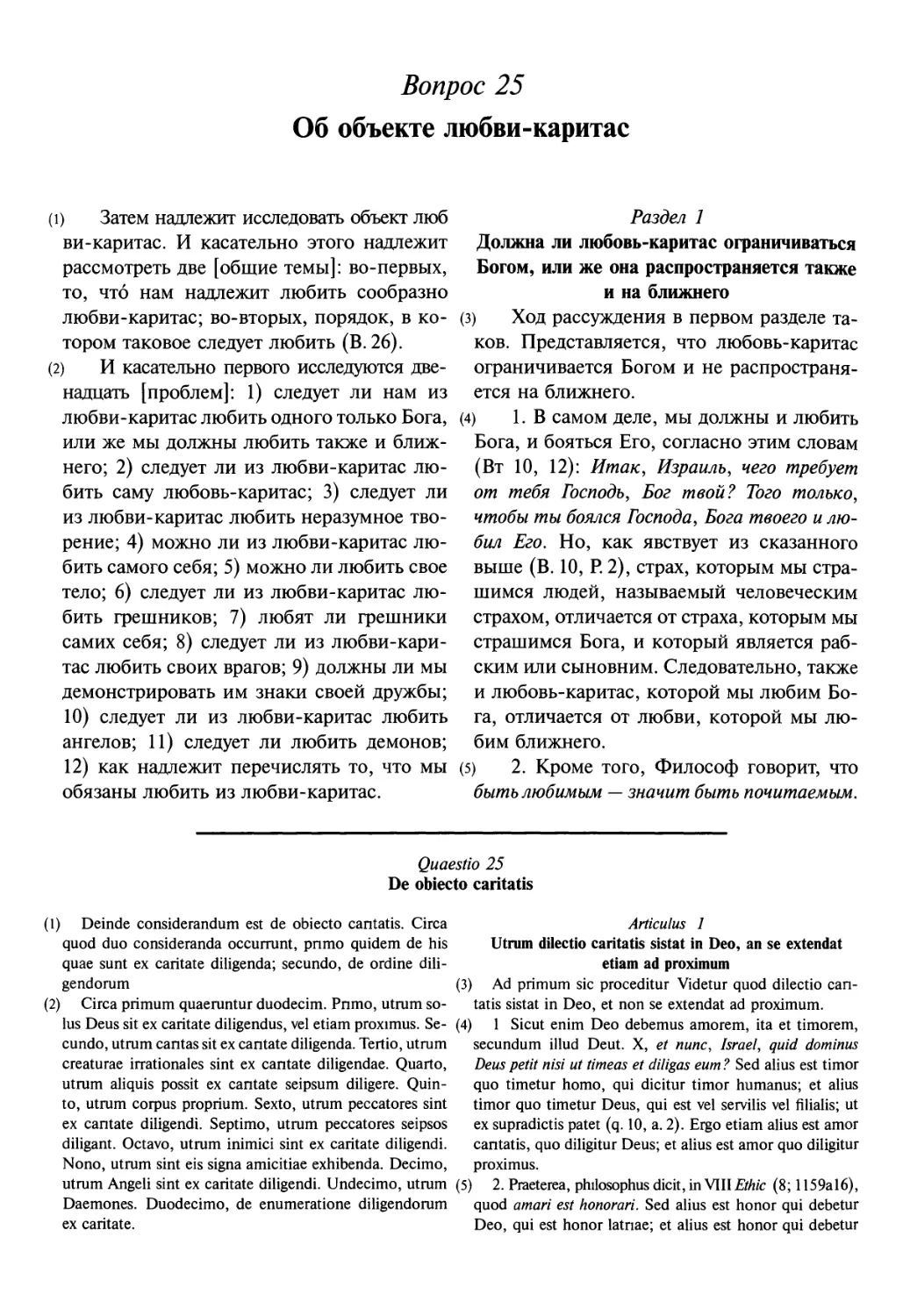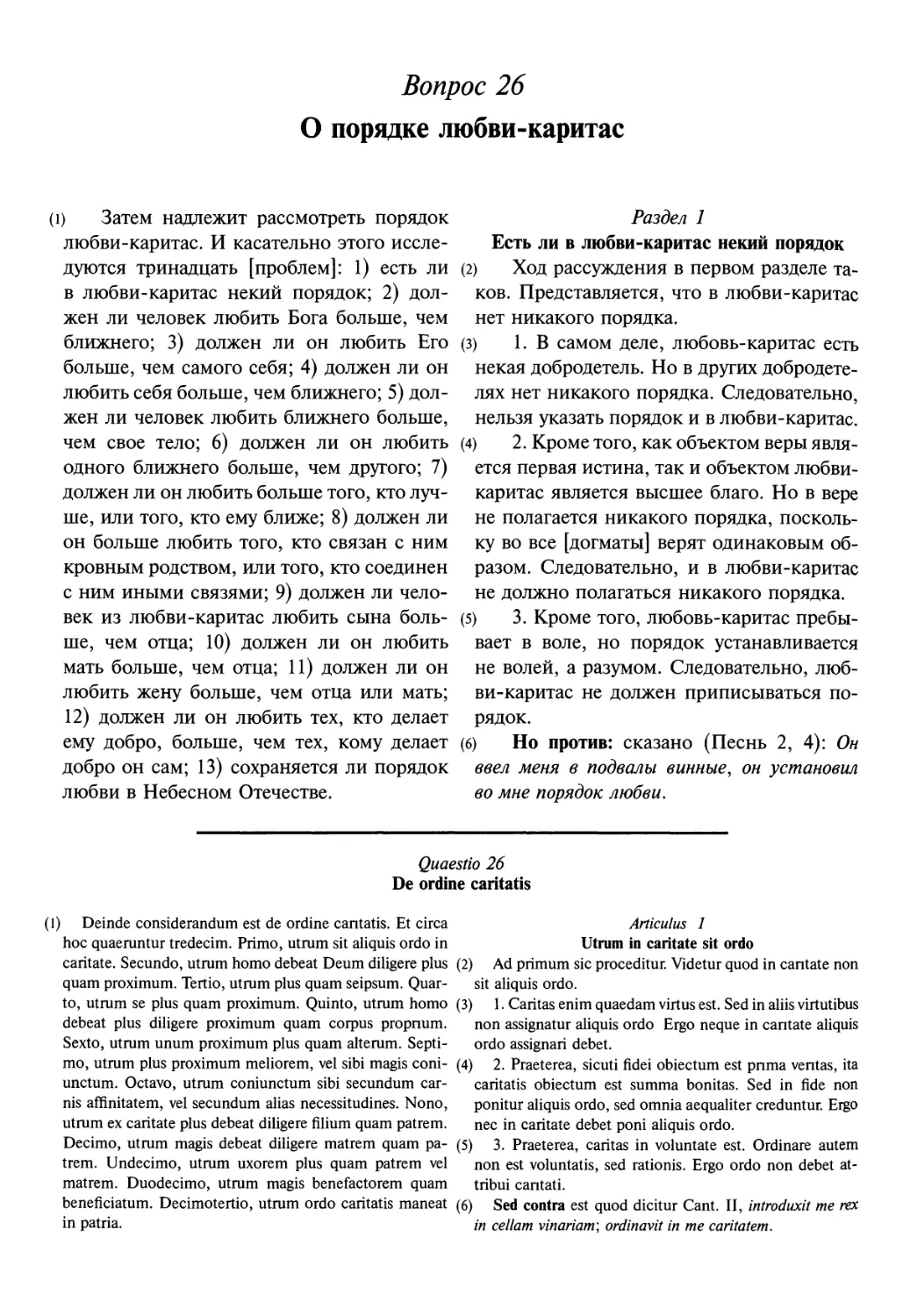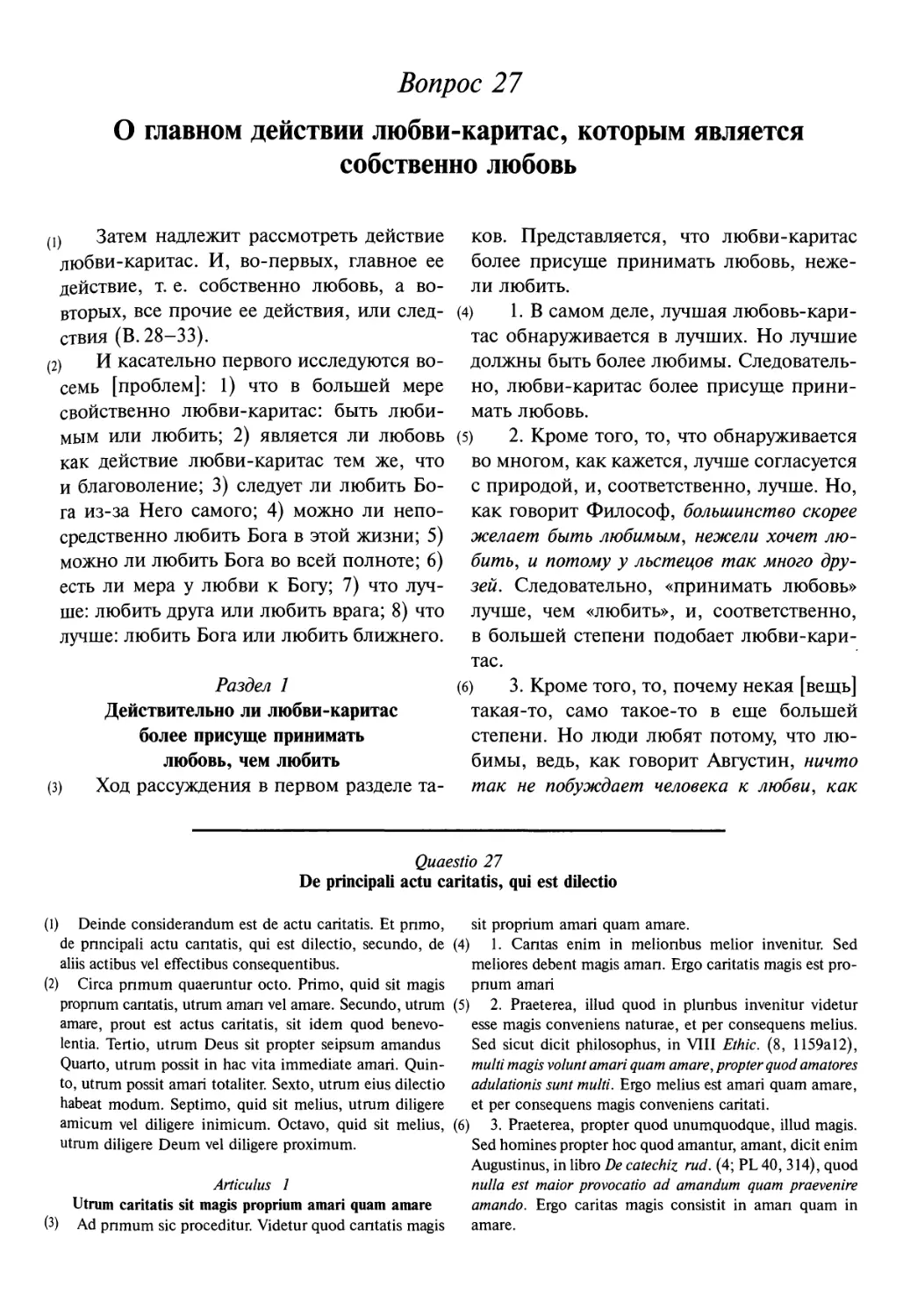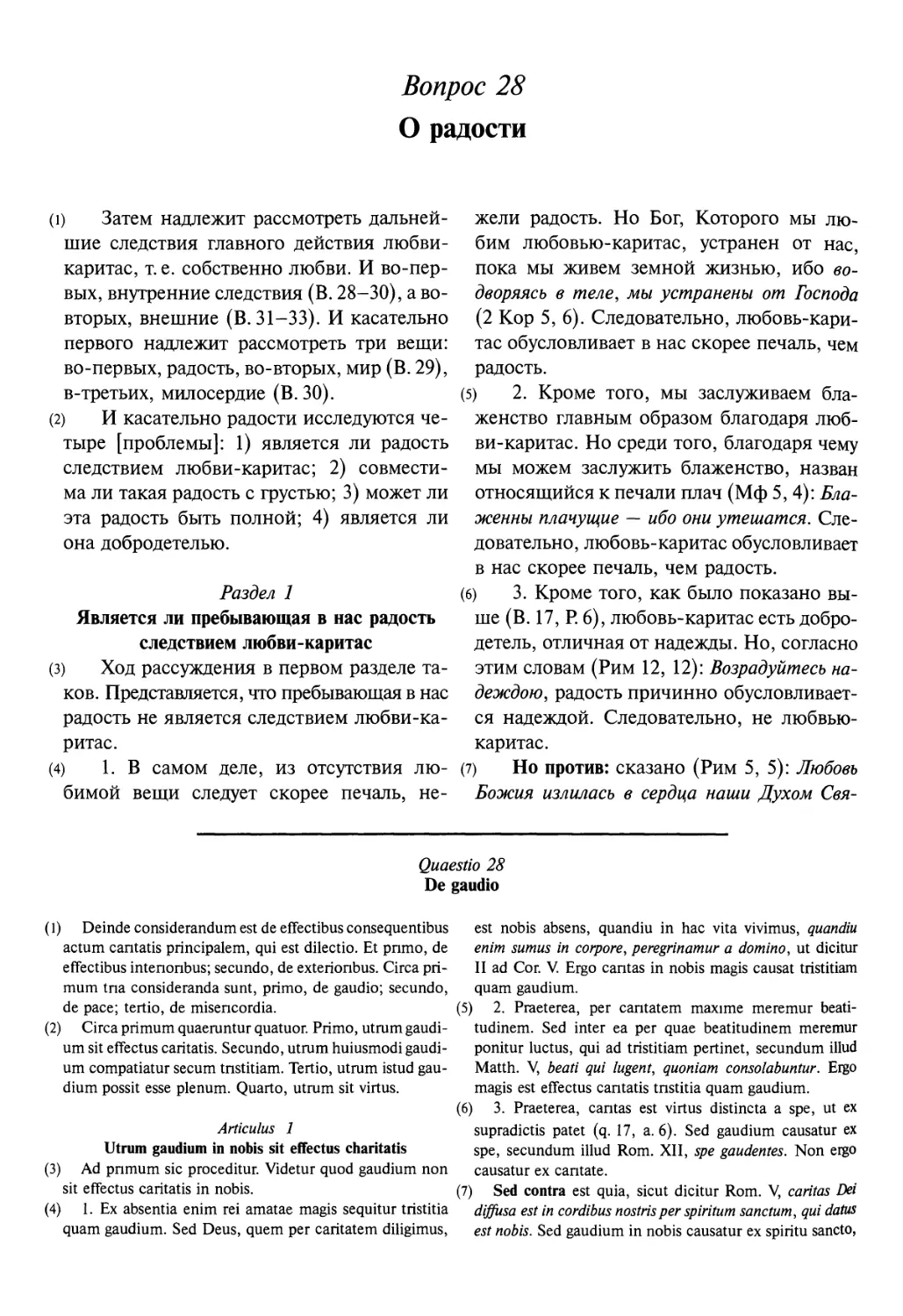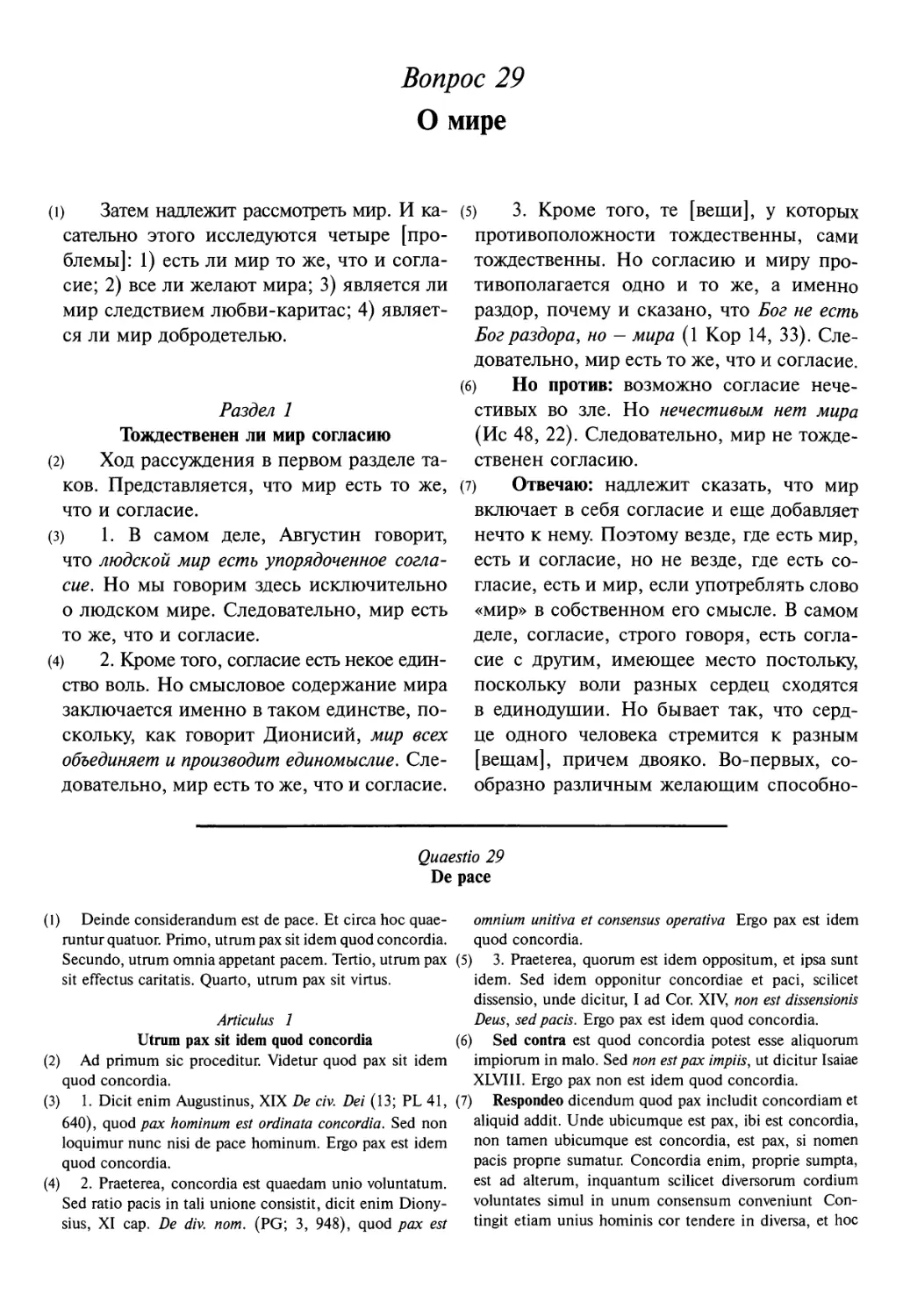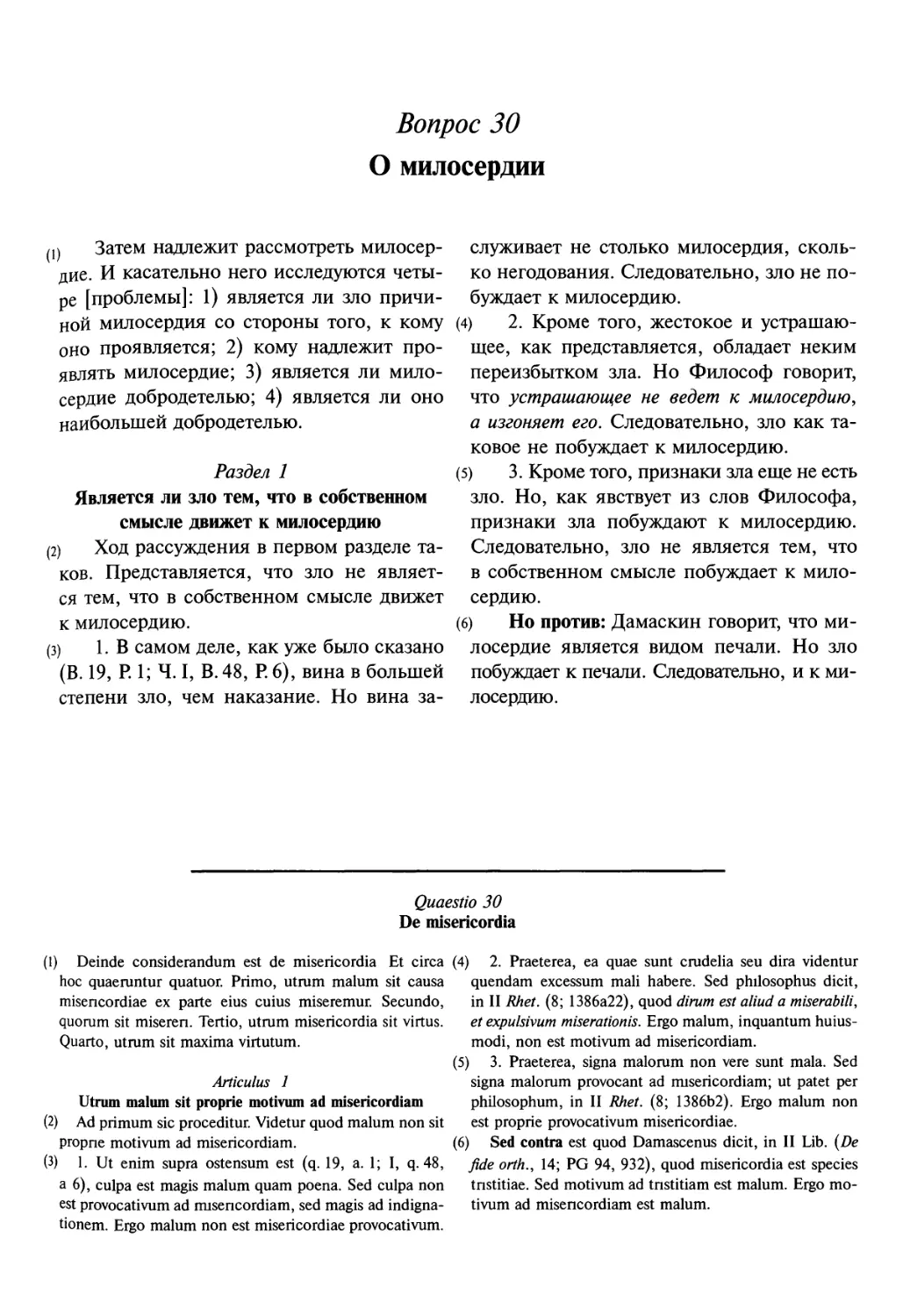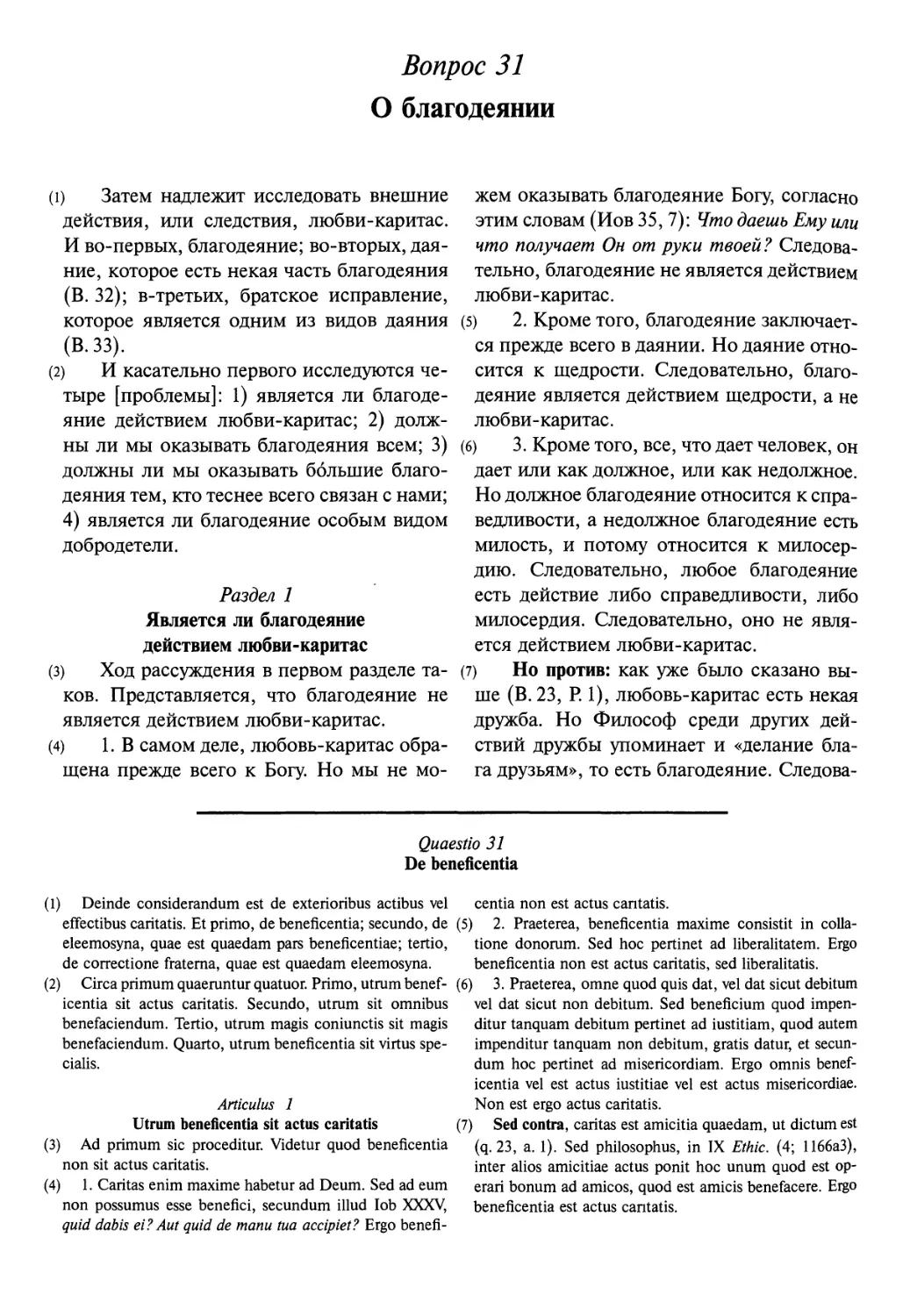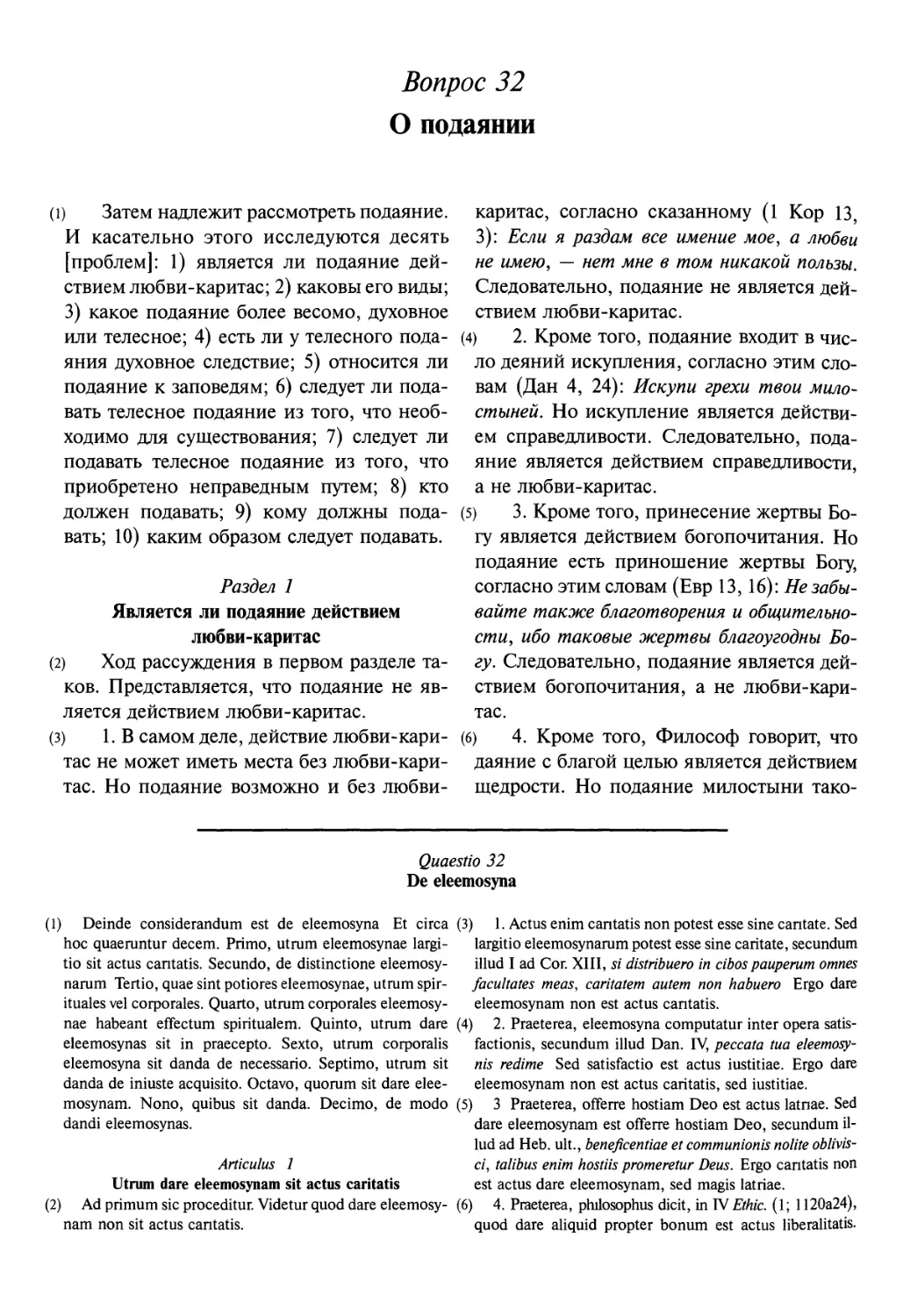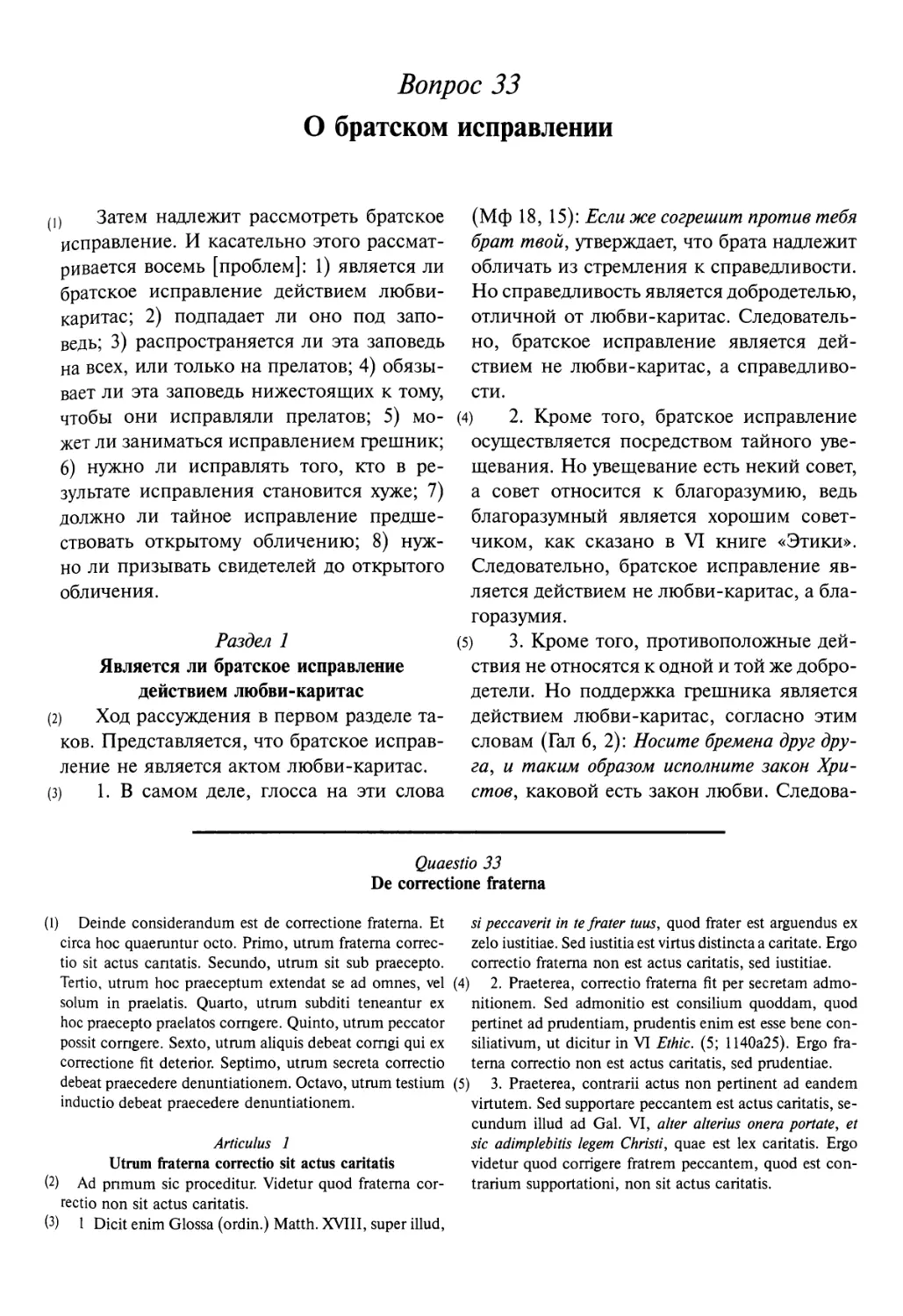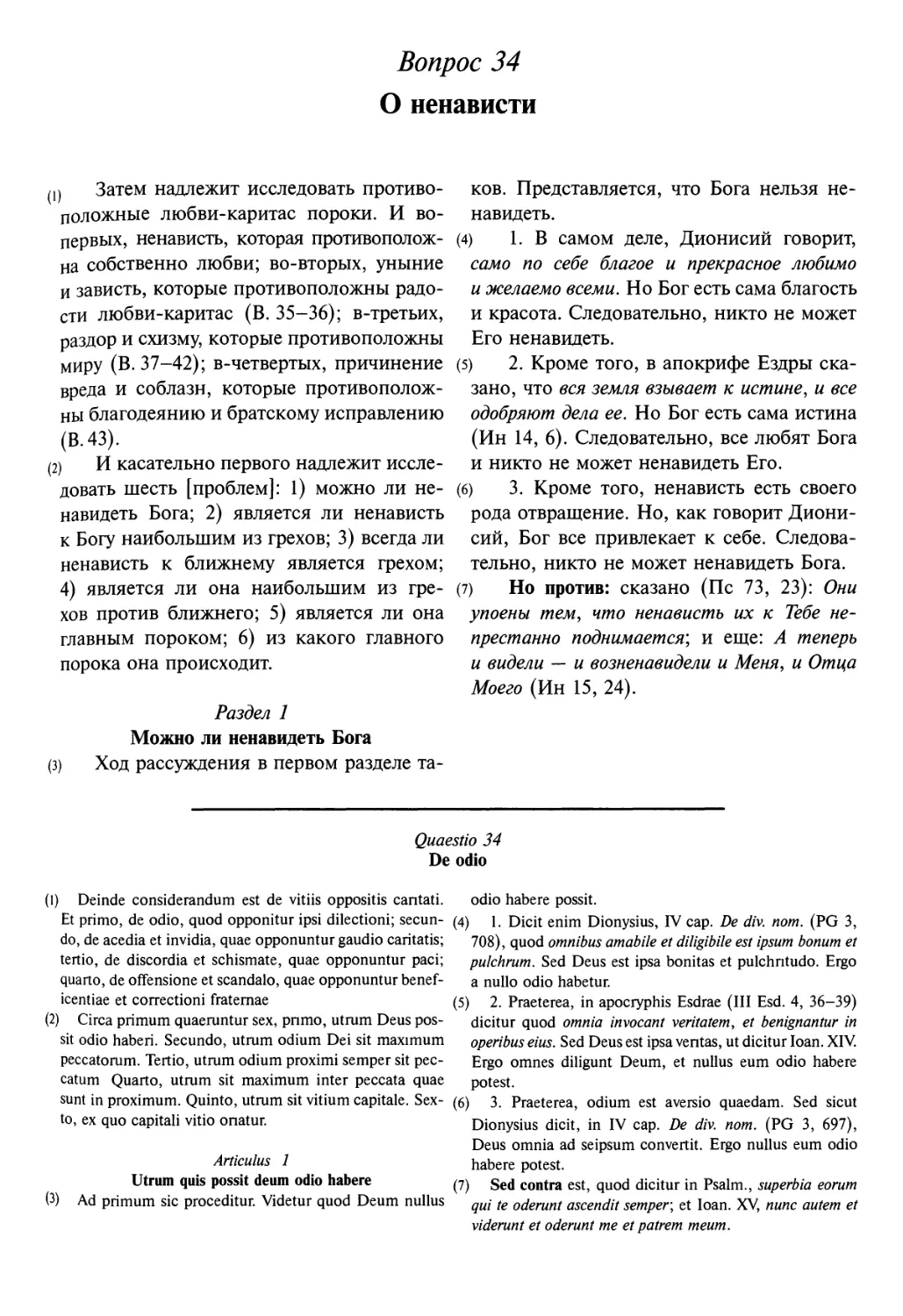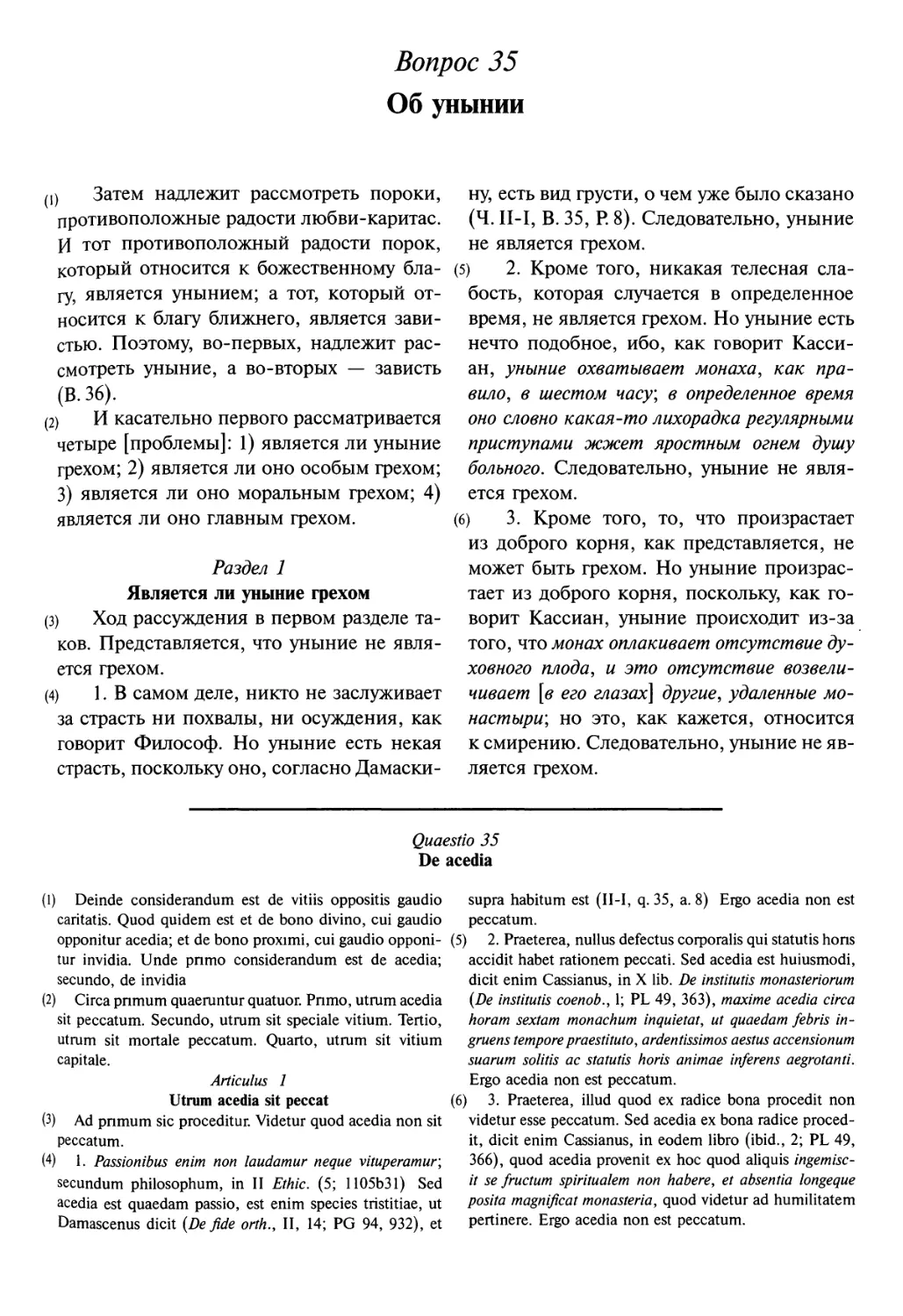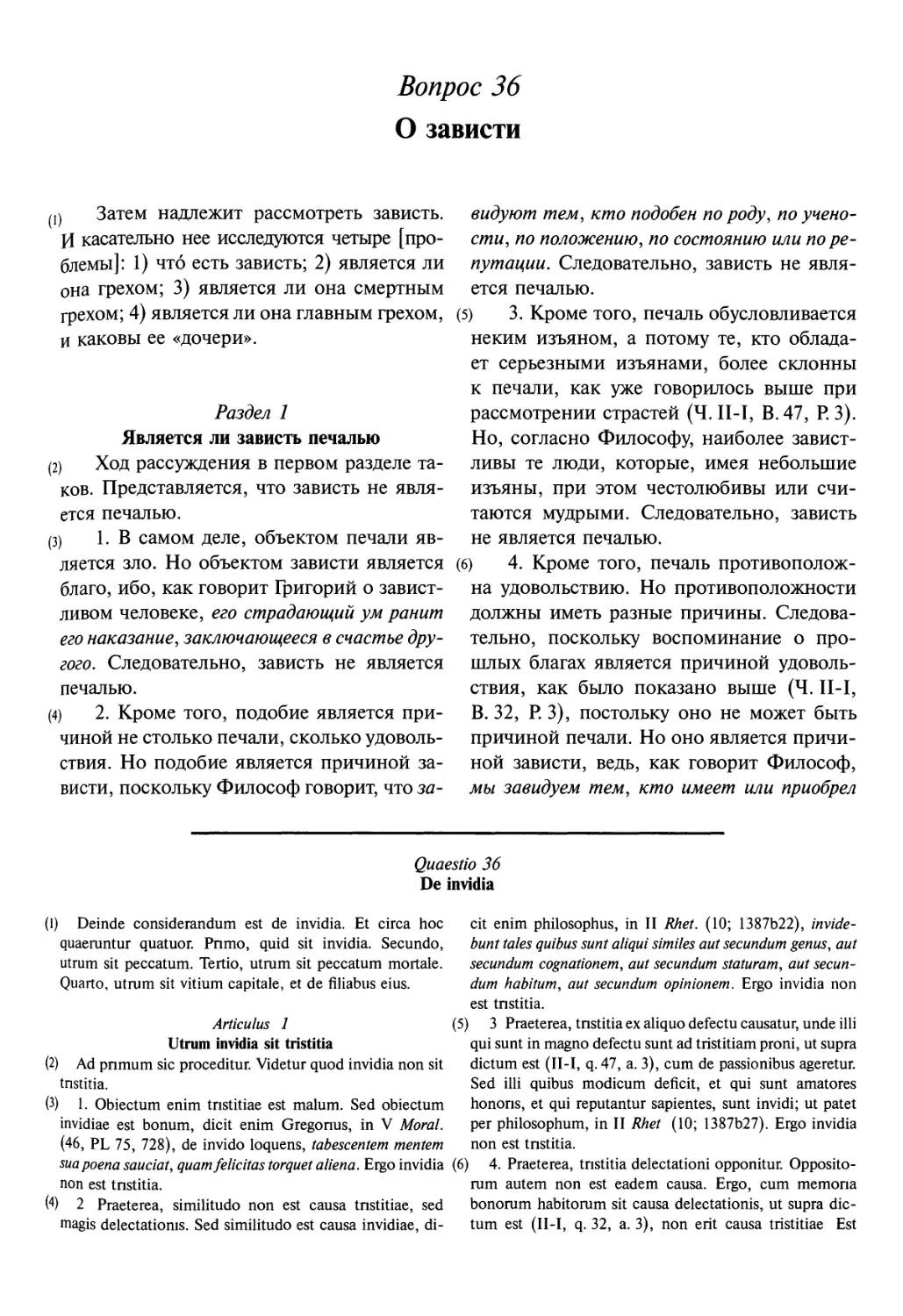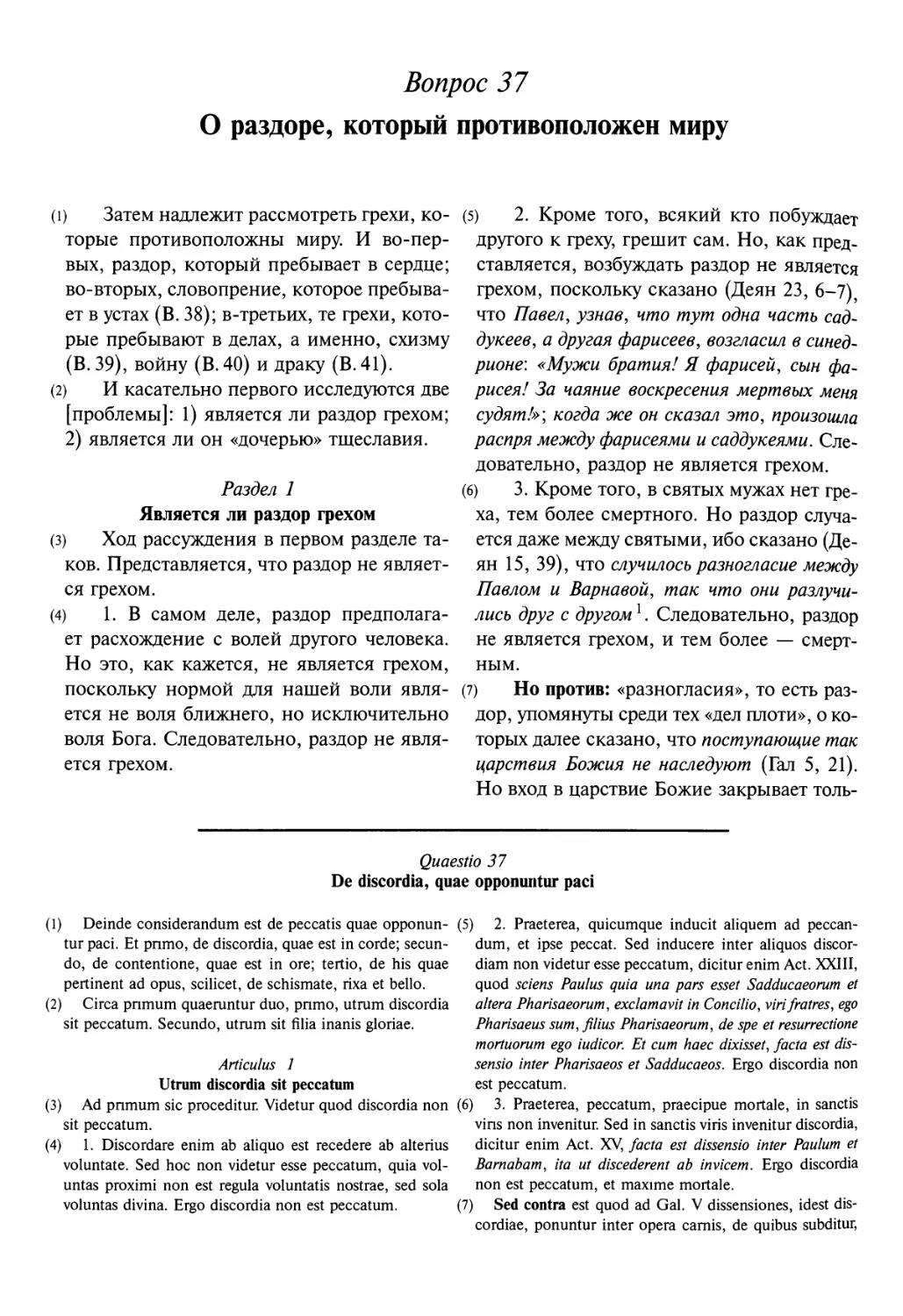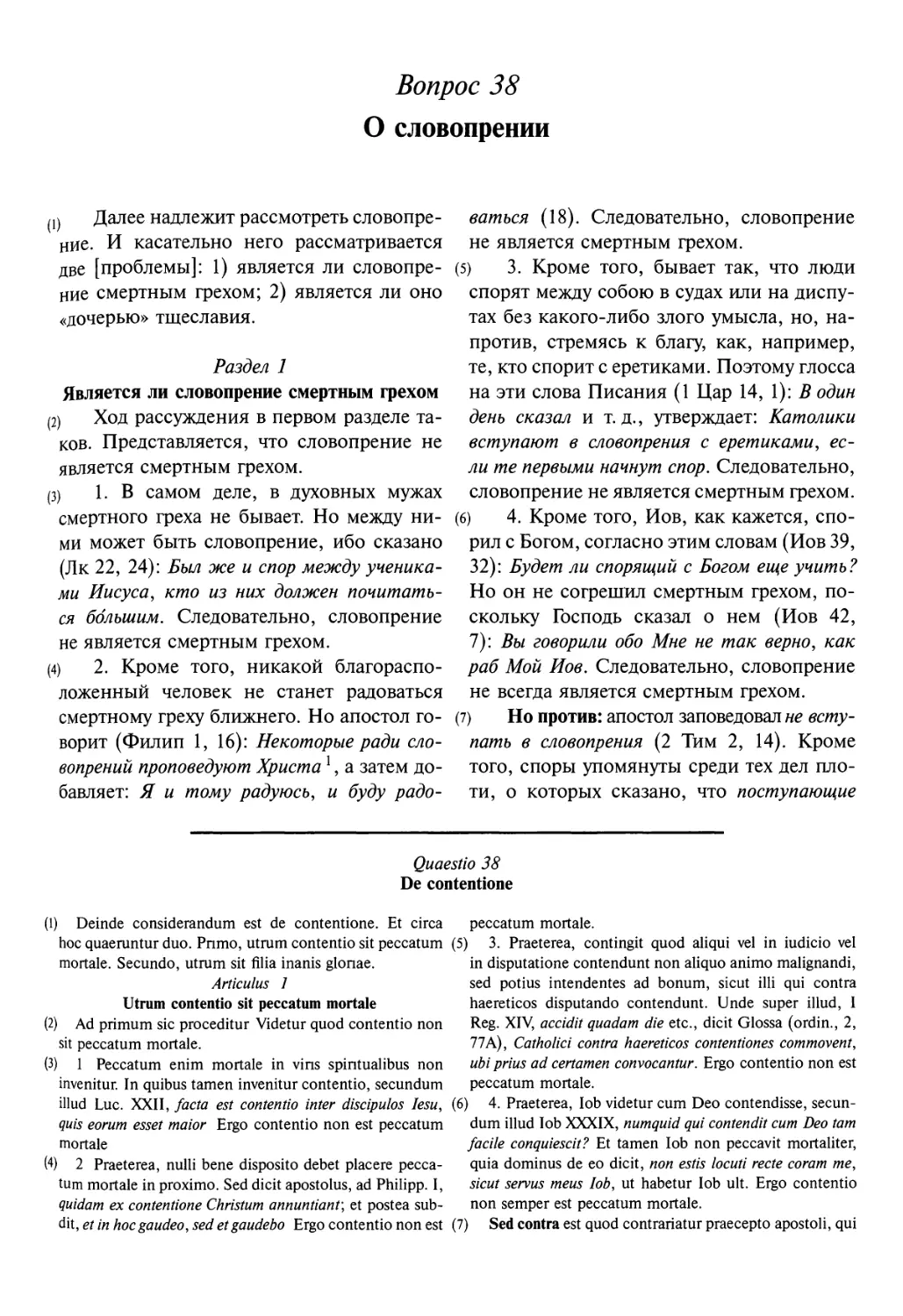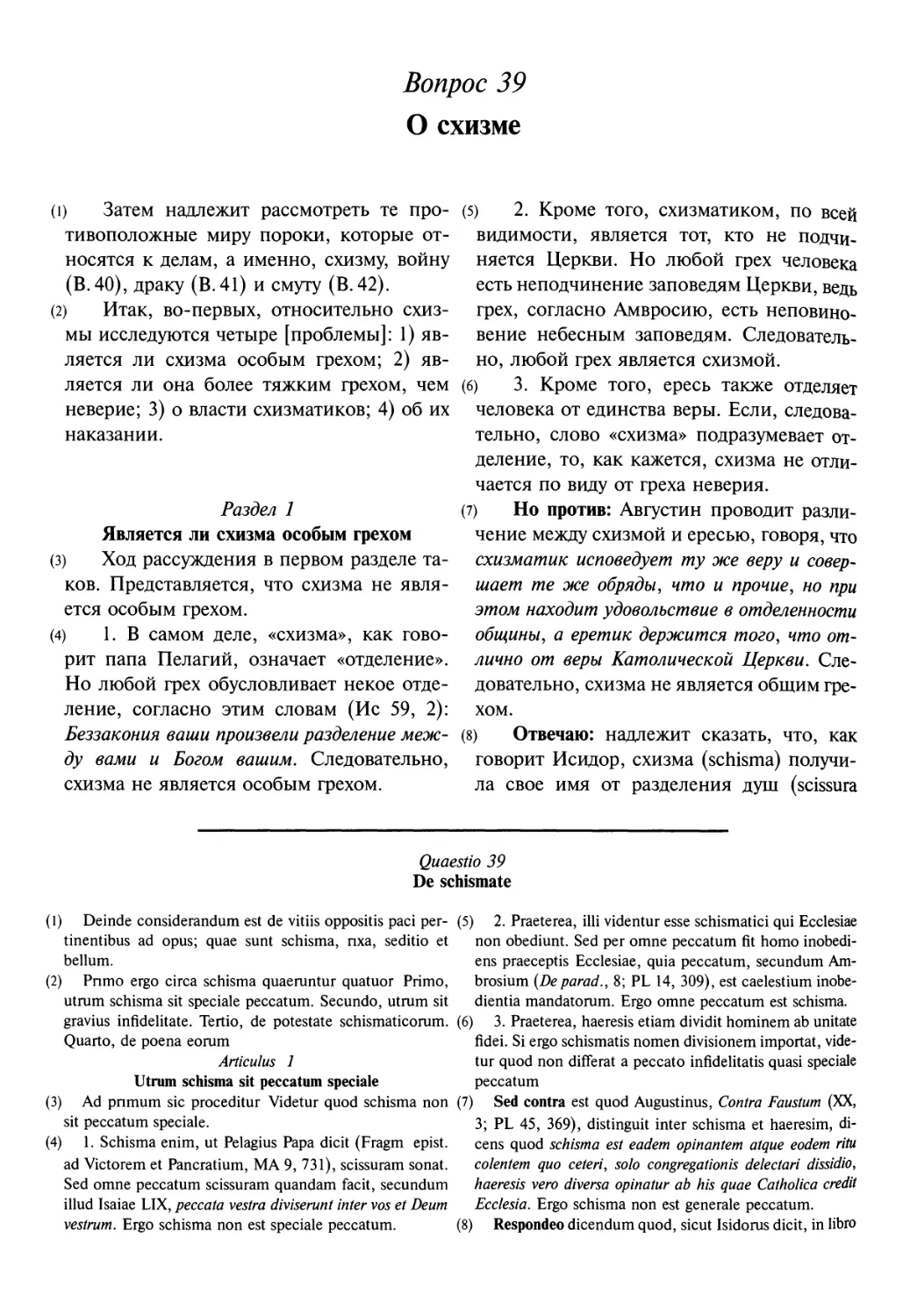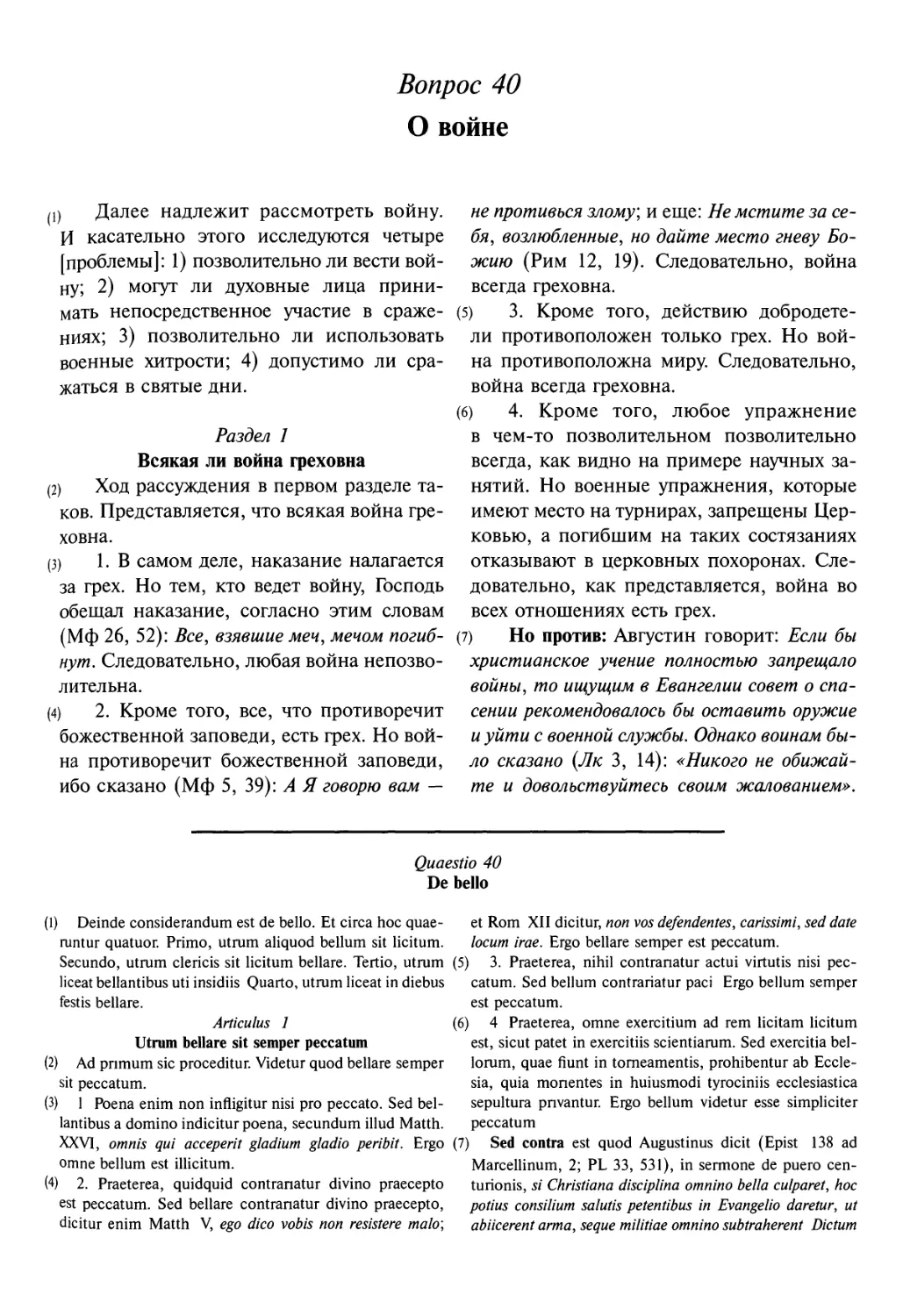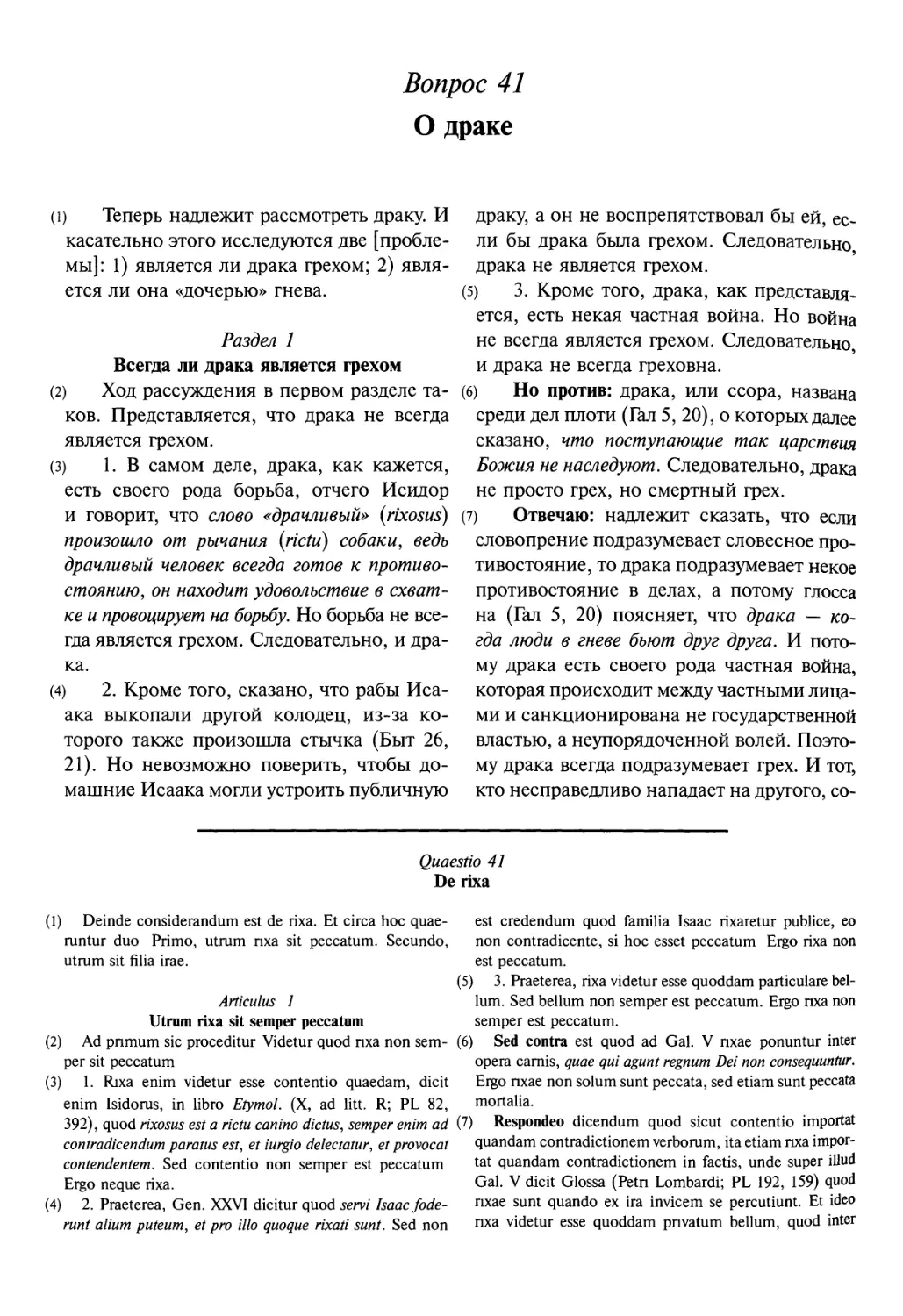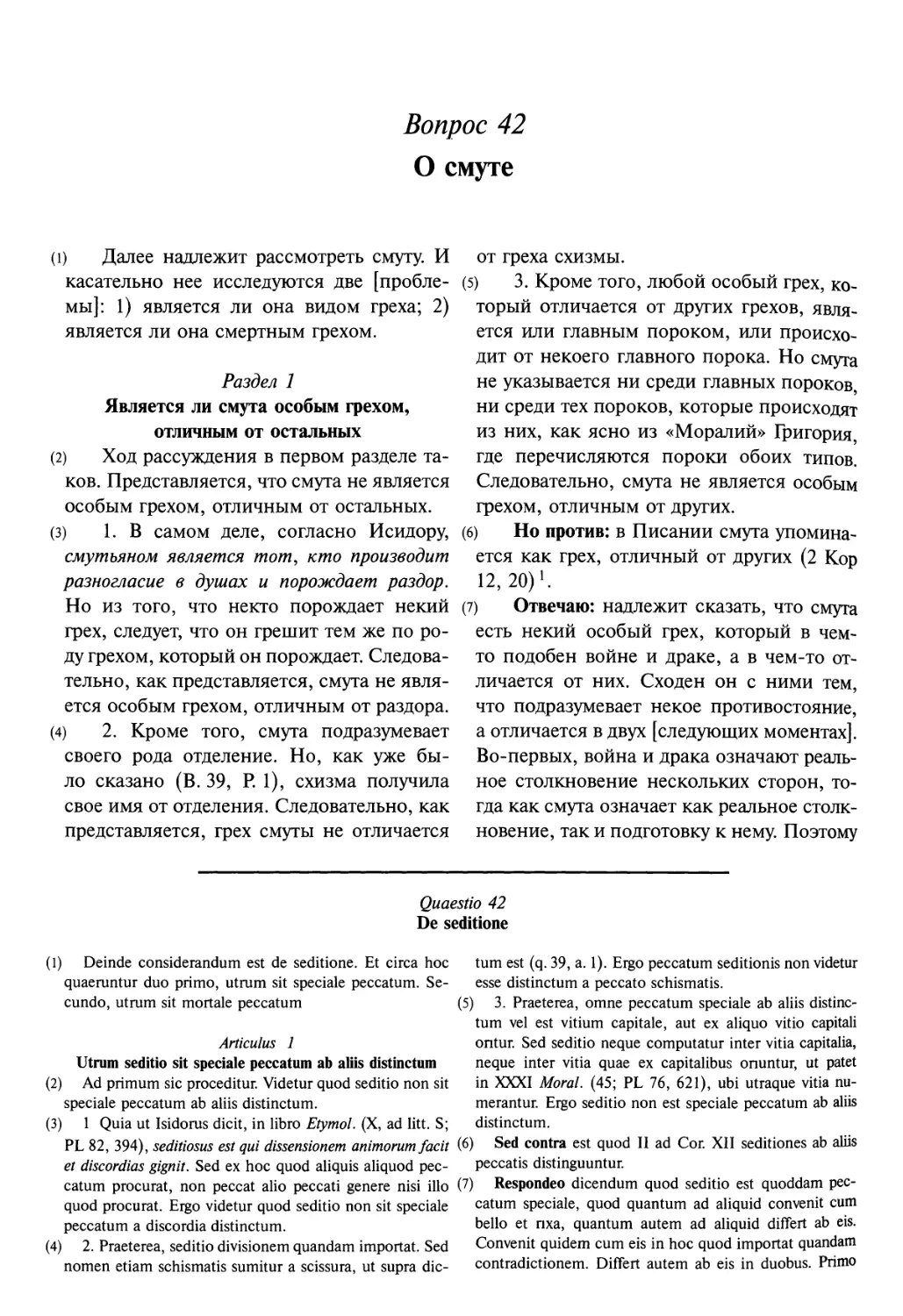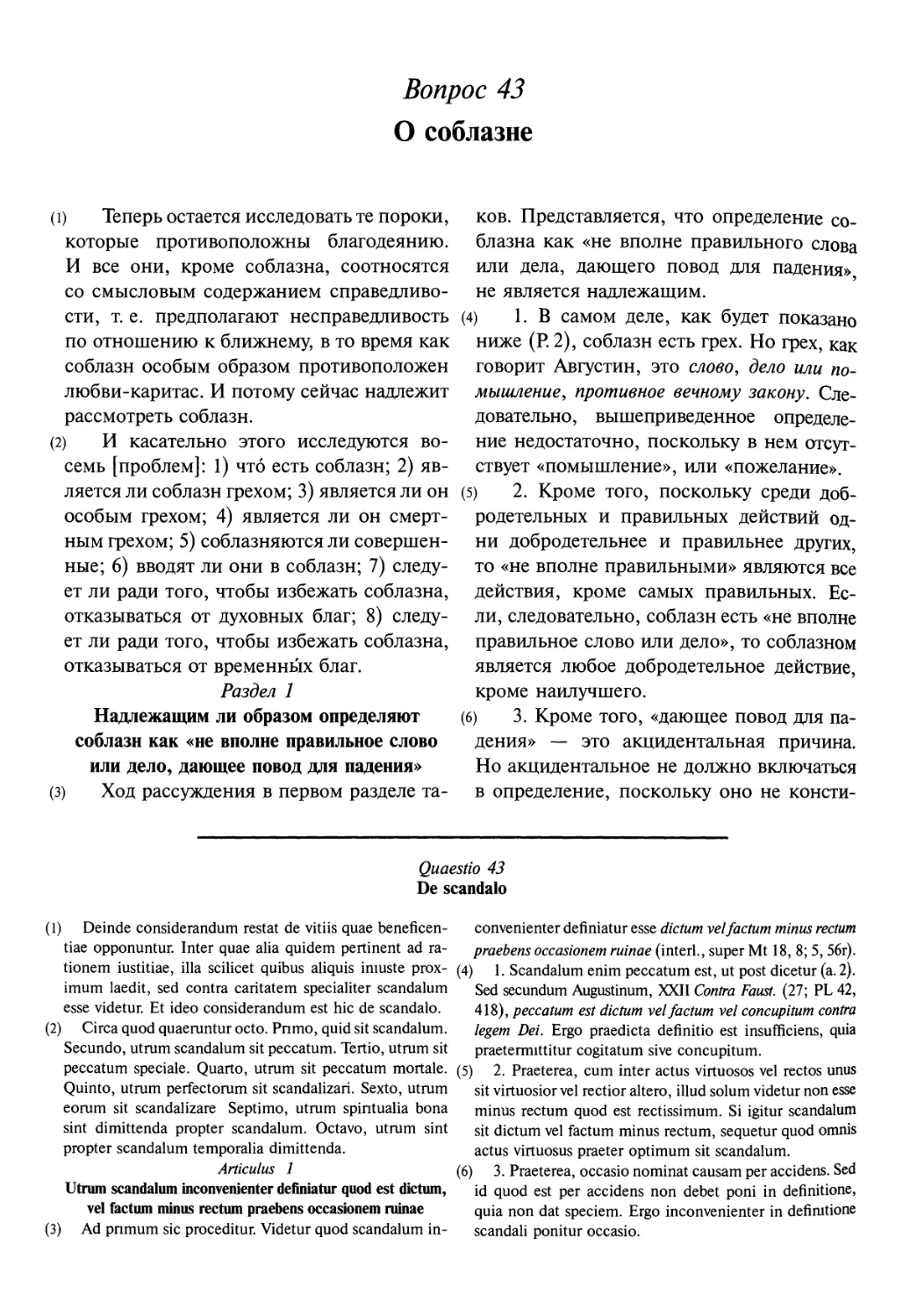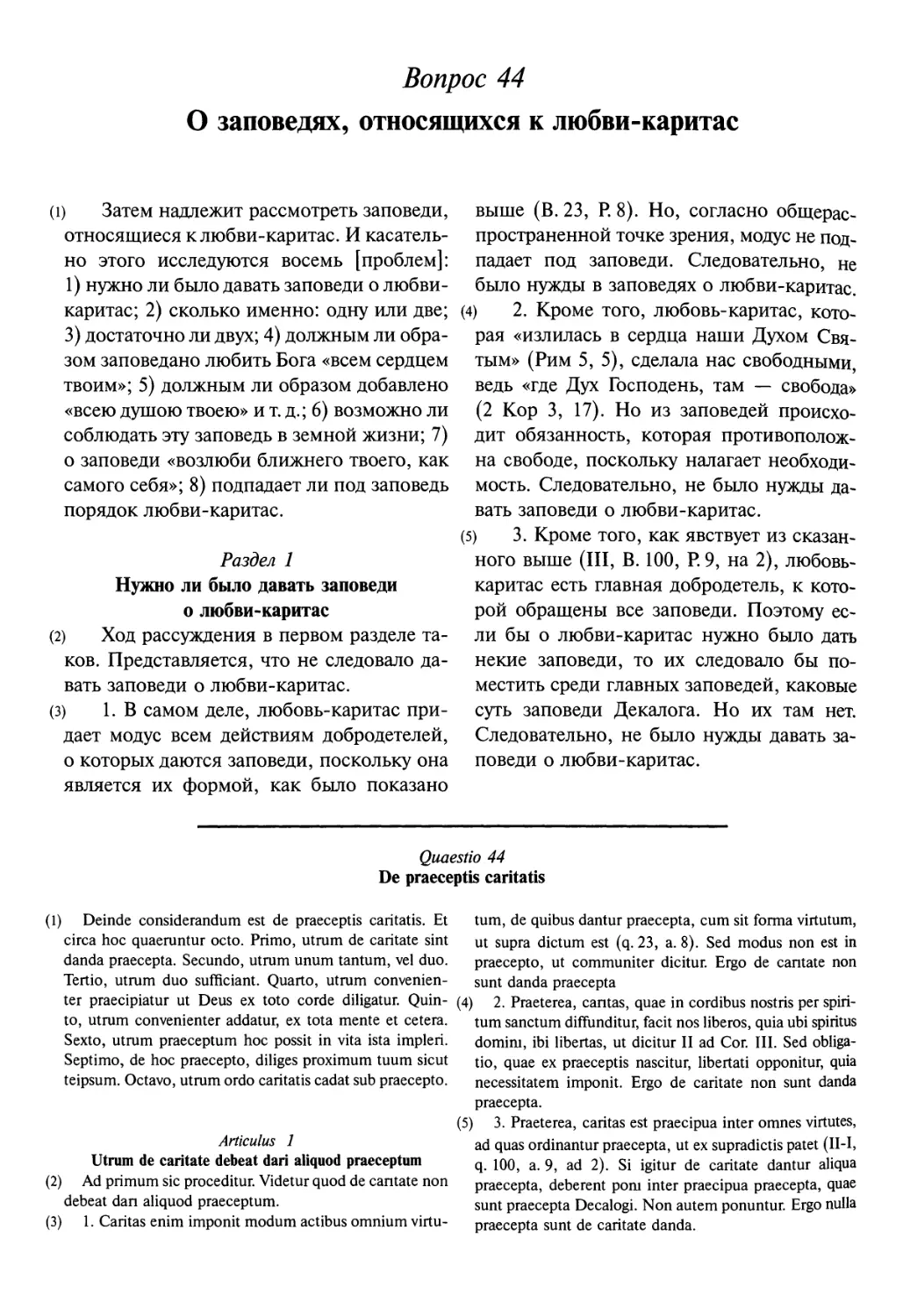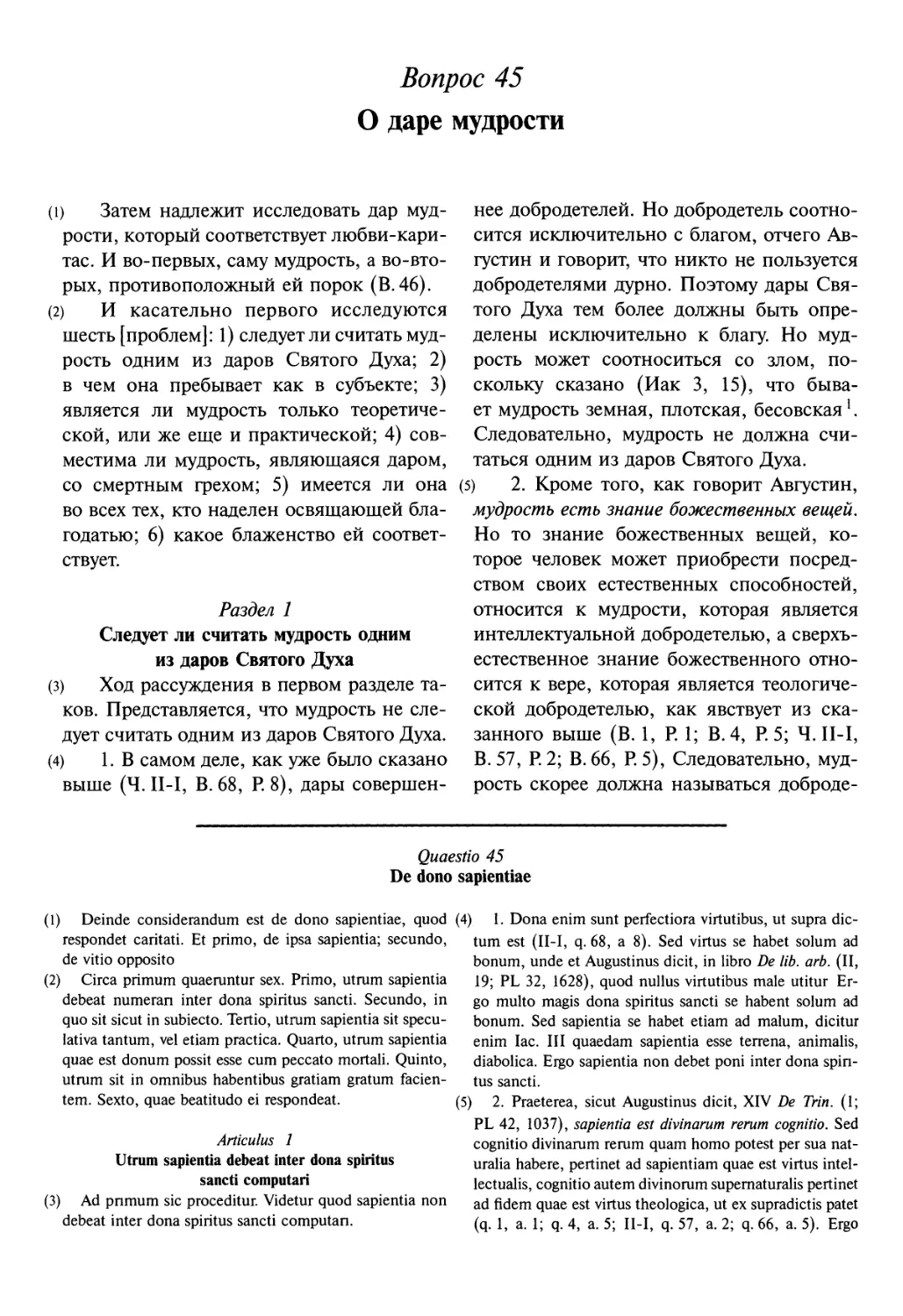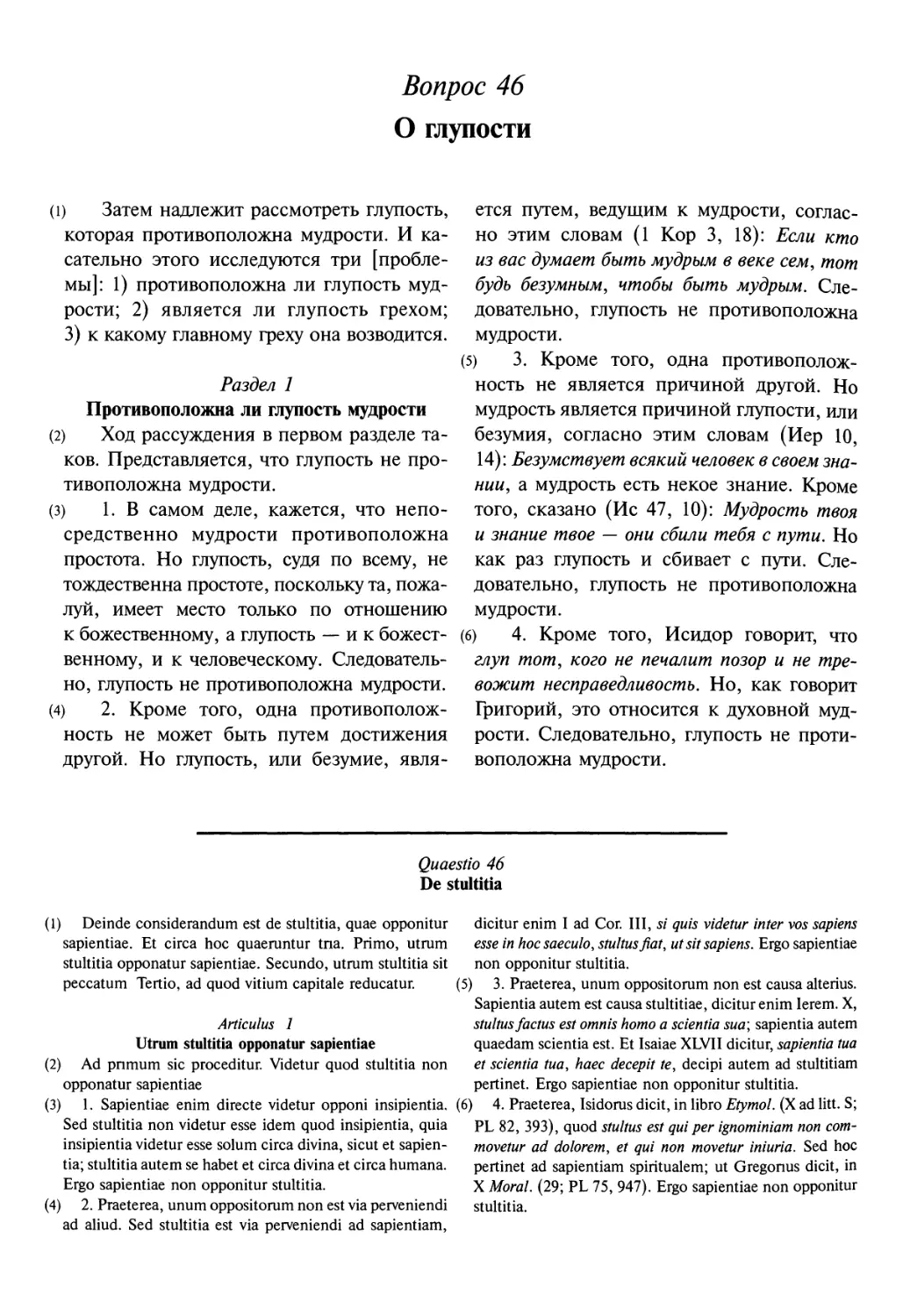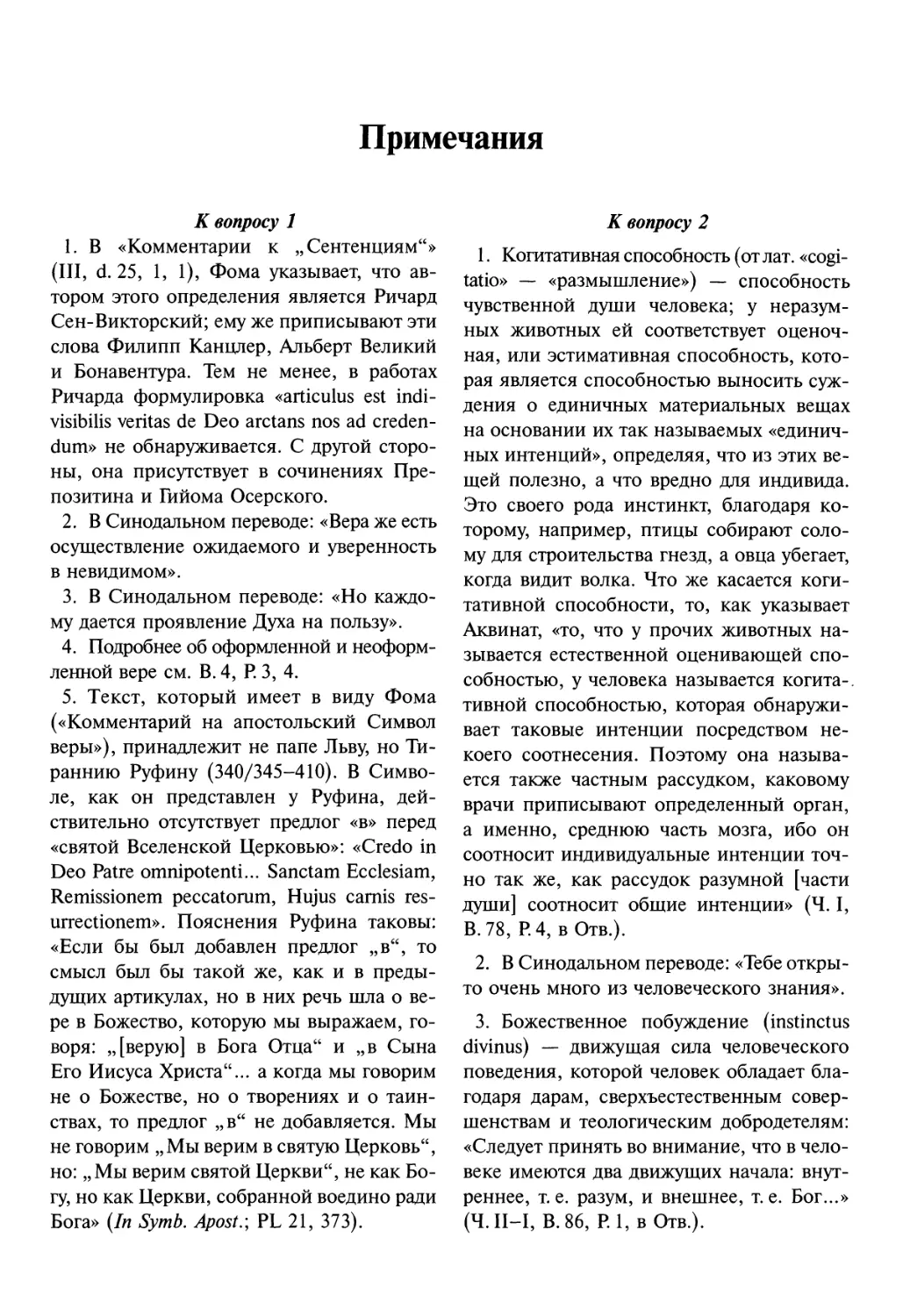Автор: Аквинский Ф.
Теги: всеобщая история религий религия философия
ISBN: 978-5-396-00657-7
Год: 2015
Текст
Sancti Thomae Aquinatis Summa Theologiae
Pars Secunda Secundae Quaestiones \-A6
Святой Фома Аквинский СУММА ТЕОЛОГИИ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ВТОРОЙ ЧАСТИ Вопросы 1-46
Перевод с латинского А. В. Апполонова
Под редакцией профессора Н. Лобковица и кандидата философских наук А. В. Апполонова
URSS
МОСКВА
ББК 86.23 87.3
Перевод осуществлен при поддержке:
Католического университета Айхштетт-Инголыитадт {Германия),
Центрального института средне- и восточноевропейских исследований {Германия), Кафедры философии религии и религиоведения философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
при финансовой поддержке Fondazione Cassamarca {Италия)
Фома Аквинский
Сумма теологии. T. V: Вторая часть Второй части. Вопросы 1-46. Билингва латинско- русский. Пер. с лат. / Под ред. Н. Лобковица, А. В. Апполонова. — М.: КРАСАНД, 2015. — 560 с.
«Сумма теологии» великого средневекового мыслителя Фомы Аквинского (ок. 1225-1274) является одним из наиболее влиятельных произведений в западноевропейской христианской традиции, не утратившим своего значения и по сей день.
В настоящем томе представлены первые 46 Вопросов из Второй части Второй части «Суммы», в которых рассматривается этическая и теологическая проблематика, а именно, отношение трех известных христианских теологических добродетелей (веры, надежды, любви) и нравственной жизни человека.
Издательство «КРАСАНД» 117335, Москва, Нахимовский пр-т, 56.
Формат 70x100/16. Печ. л. 35 Зак № 1049
Отпечатано в ООО «Чебоксарская типография №1». 428019, г Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 15 Тел.: 8(8352)28-77-98, 57-01-87, Сайт: www.volga-print.ru
ISBN 978-5-396-00657-7
> КРАСАНД, 2014
16803 ID 191128
9 785396
6577
НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
URSS
E-mail URSS@URSS ru Каталог изданий в Интернете-
http://URSS.ru
Тел /факс (многоканальный) + 7 (499) 724 25 45
Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельца.
Пролог
(1) После общего исследования добродетелей и пороков, а также всего прочего, что относится к теме нравственности, необходимо рассмотреть таковое по отдельности и в частностях. В самом деле, моральные рассуждения общего характера не столь полезны, так как действия пребывают в частном. Но, если говорить о нравственности, нечто может быть рассмотрено в частностях двояко: во-первых, постольку, поскольку речь идет о самой материи нравственности сообразно тому, что рассматривается такая-то [определенная] добродетель или такой-то [определенный] порок; во-вторых, постольку, поскольку речь идет об особых статусах людей (например, о начальствующих и подчиненных, созерцателях и практиках и о прочих различиях такого рода). Итак, мы рассмотрим в частностях, во-первых, то, что относится к любому человеческому статусу (В. 1-170), а во- вторых, то, что относится к определенным статусам (В. 171-189).
(2) И в том, что касается первого, надлежит принять во внимание, что если мы бу¬
дем последовательно рассматривать добродетели, дары, пороки и заповеди, то об одном и том же придется говорить несколько раз. В самом деле, для того чтобы должным образом рассмотреть заповедь «Не прелюбодействуй», необходимо исследовать, что есть прелюбодеяние, являющееся неким грехом, познание которого, в свою очередь, зависит от знания противоположной ему добродетели. Итак, наше исследование будет более кратким и простым, если в рамках одного и того же повествования мы будем одновременно рассматривать добродетель, соответствующий ей дар, противоположные ей пороки, а также предписывающие или запрещающие заповеди. И такой способ исследования будет соответствовать тому, как сами пороки различаются по виду, ведь, как было показано выше (Ч. II-I, В. 18, 72, 73), грехи и пороки различаются по виду сообразно материи, или объекту, а не сообразно прочим различиям грехов (например, сообразно делению грехов на грехи сердца, уст и дела, или на грехи, совершаемые по слабости,
Prooemium
(1) Post communem considerationem de virtutibus et vitiis et aliis ad materiam moralem pertinentibus, necesse est considerare singula in speciali, sermones enim morales universales sunt minus utiles, eo quod actiones in particularibus sunt. Potest autem aliquid in speciali considerari circa moralia dupliciter, uno modo, ex parte ipsius materiae moralis, puta cum consideratur de hac virtute vel hoc vitio; alio modo, quantum ad speciales status hominum, puta cum consideratur de subditis et praelatis, de activis et contemplativis, vel quibuscumque aliis differentiis hominum. Primo ergo considerabimus specialiter de his quae pertinent ad omnes hominum status; secundo vero, specialiter de his quae pertinent ad determinatos status.
(2) Est autem considerandum circa primum quod, si seorsum determinaremus de virtutibus, donis, vitiis et praecep¬
tis, oporteret idem multoties dicere, qui enim sufficienter vult tractare de hoc praecepto, non moechaberis, necesse habet inquirere de adulterio, quod est quoddam peccatum, cuius etiam cognitio dependet ex cognitione oppositae virtutis. Erit igitur compendiosior et expeditior considerationis via si simul sub eodem tractatu consideratio procedit de virtute et dono sibi correspondente, et vitiis oppositis, et praeceptis affirmativis vel negativis. Erit autem hic considerationis modus conveniens ipsis vitiis secundum propriam speciem, ostensum est enim supra quod vitia et peccata diversificantur specie secundum materiam vel obiectum, non autem secundum alias differentias peccatorum, puta cordis, oris et operis, vel secundum infirmitatem, ignorantiam et malitiam, et alias huiusmodi differentias; est autem eadem materia circa quam et virtus recte operatur et vitia opposita a rectitudine recedunt.
4
Пролог
неведению или злонамеренности и т. п.); и это — та самая материя, по отношению к которой добродетели действуют правильным образом, а противоположные им пороки — отклоняясь от правильности.
(з) И, следовательно, как вся материя [области] нравственности сводится к рассмотрению добродетелей, так и все добродетели, в свою очередь, сводятся к семи, три из которых являются теологическими (и о них следует сказать в первую очередь), а четыре — кардинальными (и о них следует сказать во вторую очередь). Что же касается интеллектуальных добродетелей, то одна из них, благоразумие, входит в число кардинальных добродетелей, а искусство, которое имеет дело с производимым, не относится к науке о нравственности, поскольку есть правильный расчет-разуме¬
ние производимого, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 57, Р. 3, 4); другие же три интеллектуальные добродетели, т. е. мудрость, разумение и научное знание, даже в отношении имен общи с некими дарами Духа Святого, и потому мы будем рассматривать их одновременно с дарами, соответствующими [этим] добродетелям. Все же прочие моральные добродетели так или иначе сводятся к кардинальным добродетелям, как явствует из сказанного выше (Ч. II-1, В. 61, Р. 3). И потому одновременно с рассмотрением той или иной кардинальной добродетели будут рассматриваться также и все те добродетели, которые так или иначе с ней соотносятся, равно как и противоположные ей пороки. И так не будет упущено ничего из относящегося к нравственности.
(3) Sic igitur tota materia morali ad considerationem virtutum reducta, omnes virtutes sunt ulterius reducendae ad septem, quarum tres sunt theologicae, de quibus pnmo est agendum; aliae vero quatuor sunt cardinales, de quibus posterius agetur. Virtutum autem intellectualium una quidem est prudentia, quae inter cardinales virtutes continetur et numeratur; ars vero non pertinet ad moralem, quae circa agibilia versatur, cum ars sit recta ratio factibilium, ut supra dictum est; aliae vero tres intellectuales virtutes, scilicet
sapientia, intellectus et scientia, communicant etiam in nomine cum donis quibusdam spiritus sancti, unde simul etiam de eis considerabitur in consideratione donorum virtutibus correspondentium. Aliae vero virtutes morales omnes aliqualiter reducuntur ad virtutes cardinales, ut ex supradictis patet, unde in consideratione alicuius virtutis cardinalis considerabuntur etiam omnes virtutes ad eam qualitercumque pertinentes et vitia opposita. Et sic nihil moralium erit praetermissum.
Вопрос 1 О вере
(1) Итак, в том, что касается теологических добродетелей, во-первых, будет рассмотрена вера (В. 1-16), во-вторых, надежда (В. 17-22), в-третьих, любовь (В. 23-46). И касательно веры рассматриваются четыре [основные темы]: 1) вера как таковая (В. 1-7); 2) дары разумения и научного знания, соответствующие вере (В. 8-9); 3) противоположные ей пороки (В. 10-15); 4) заповеди, относящиеся к этой добродетели (В. 16).
(2) Относительно веры как таковой исследуются, во-первых, объект веры (В. 1); во- вторых, ее действие (В. 2-3); в-третьих, сам хабитус веры (В. 4-7). И касательно первого рассматривается десять [проблем]: 1) является ли объектом веры первая истина; 2) есть ли объект веры нечто сложное или нечто простое, т. е. вещь или высказывание; 3) может ли объектом веры быть нечто ложное; 4) может ли объектом веры быть нечто видимое; 5) может ли объектом веры быть нечто познанное научным
познанием; 6) должно ли то, во что веруют, подразделяться на некие артикулы, или догматы; 7) действительно ли во все времена к вере относились одни и те же догматы; 8) каково их число; 9) как они переданы в Символе; 10) кто должен составлять Символ веры.
Раздел 1
Является ли объектом веры первая истина
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что первая истина не является объектом веры.
(4) 1. В самом деле, объектом веры, как кажется, является то, во что надлежит верить. Но нам предлагается как то, во что надлежит верить, не только то, что относится к божественности (которая и является первой истиной), но и то, что относится к человеческой природе Христа, а также к церковным таинствам и к созданию твар- ных вещей. Следовательно, объектом веры является не только первая истина.
Quaestio 1 De fide
(1) Circa virtutes igitur theologicas primo erit consideran- Octavo, de numero articulorum. Nono, de modo tradendi
dum de fide; secundo, de spe, tertio, de cantate. Circa articulos in symbolo Decimo, cuius sit fidei symbolum
fidem vero quadruplex consideratio occurrit, prima qui- constituere.
dem de ipsa fide; secunda de donis intellectus et scientiae
sibi correspondentibus; tertia de vitiis oppositis; quarta de Articulus 1
praeceptis ad hanc virtutem pertinentibus. Circa fidem Utrum obiectum fidei sit veritas prima
vero primo erit considerandum de eius obiecto; secundo, (3) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod obiectum fidei
de eius actu, tertio, de ipso habitu fidei. non sit veritas pnma.
(2) Circa pnmum quaeruntur decem. Pnmo, utrum obiec- (4) 1 Illud enim videtur esse obiectum fidei quod nobis
tum fidei sit ventas pnma. Secundo, utrum obiectum proponitur ad credendum. Sed non solum proponuntur
fidei sit aliquid complexum vel incomplexum, idest res nobis ad credendum ea quae pertinent ad divinitatem,
aut enuntiabile Tertio, utrum fidei possit subesse falsum quae est ventas pnma, sed etiam ea quae pertinent ad hu-
Quarto, utrum obiectum fidei possit esse aliquid visum. manitatem Chnsti et Ecclesiae sacramenta et creaturarum
Quinto, utrum possit esse aliquid scitum. Sexto, utrum conditionem. Ergo non solum veritas prima est fidei obiec-
credibilia debeant distingui per certos articulos. Septimo, tum.
utrum iidem articuli subsint fidei secundum omne tempus
6
Вопрос 1. О вере
(5) 2. Кроме того, вера и неверие относятся к одному и тому же, поскольку они суть противоположности. Но неверие может относиться ко всему тому, что содержится в св. Писании, ведь если человек отрицает что-либо из такового, он считается неверующим. Следовательно, также и вера относится ко всему тому, что содержится в св. Писании. Но там говорится о многих людях и о других тварных вещах. Следовательно, объектом веры является не только первая, но и тварная истина.
(6) 3. Кроме того, вера является противоположным членом деления по отношению к любви, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 62, Р. 3). Но любовью мы любим не только Бога, Который является высшим благом, но и ближнего. Следовательно, объектом веры является не только первая истина.
(7) Но против: Дионисий говорит в книге «О божественных именах», что вера относится к простой и всегда существующей истине. Но такова первая истина. Следовательно, объектом веры является первая истина.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что объект любого познавательного хабитуса обладает двумя [сторонами]: тем, что познается
материально (т. е. является как бы материальным объектом); и тем, посредством чего он познается (т. е. является формальным аспектом объекта). Так, в науке геометрии заключение — это то, что познается материально, а формальным аспектом познания являются средние термины доказательства, посредством которых познаются заключения. И так, следовательно, если говорить о формальном аспекте объекта веры, то таковым является только первая истина. В самом деле, вера, о которой мы говорим, не признает ничего, кроме того, что открыто Богом. Поэтому вера опирается на саму божественную истину как на своего рода средство [познания]. А если мы рассмотрим то, что утверждает вера, материально, то тогда ее объектом является не только Бог, но и многое другое, что, тем не менее, подпадает под утверждение веры только сообразно тому, что обладает неким порядком по отношению к Богу (т. е. постольку, поскольку через некие следствия [действий] божественности человек получает помощь в своем стремлении к тому, чтобы обрести наслаждение в Боге). И потому также и с этой стороны объект веры в некотором смысле является первой истиной: ведь к вере относится только то,
(5) 2. Praeterea, fides et infidelitas sunt circa idem, cum
sint opposita. Sed circa omnia quae in sacra Scriptura continentur potest esse infidelitas, quidquid enim horum homo negaverit, infidelis reputatur. Ergo etiam fides est circa omnia quae in sacra Scriptura continentur. Sed ibi multa continentur de hominibus et de aliis rebus creatis. Ergo obiectum fidei non solum est veritas prima, sed etiam veritas creata.
(6) 3. Praeterea, fides caritati condividitur, ut supra dic¬
tum est. Sed caritate non solum diligimus Deum, qui est summa bonitas, sed etiam diligimus proximum. Ergo fidei obiectum non est solum veritas pnma.
(7) Sed contra est quod Dionysius dicit De div. nom. (7, 4; PG 3, 872), quod fides est circa simplicem et semper existentem veritatem. Haec autem est veritas prima. Ergo obiectum fidei est veritas pnma.
(8) Respondeo dicendum quod cuiuslibet cognoscitivi habitus obiectum duo habet, scilicet id quod matenaliter cog¬
noscitur, quod est sicut matenale obiectum; et id per quod cognoscitur, quod est formalis ratio obiecti. Sicut in scientia geometnae matenaliter scita sunt conclusiones; formalis vero ratio sciendi sunt media demonstrationis, per quae conclusiones cognoscuntur. Sic igitur in fide, si consideremus formalem rationem obiecti, nihil est aliud quam ventas prima, non enim fides de qua loquimur assentit alicui nisi quia est a Deo revelatum; unde ipsi ventati divinae innititur tanquam medio. Si vero consideremus materialiter ea quibus fides assentit, non solum est ipse Deus, sed etiam multa alia. Quae tamen sub assensu fidei non cadunt nisi secundum quod habent aliquem ordinem ad Deum, prout scilicet per aliquos divinitatis effectus homo adiuvatur ad tendendum in divinam fruitionem. Et ideo etiam ex hac parte obiectum fidei est quodammodo ventas prima, inquantum nihil cadit sub fide nisi in ordine ad Deum, sicut etiam obiectum medicinae est sanitas, quia nihil medicina considerat nisi in ordine ad sanitatem.
Раздел 2. Является ли объектом веры нечто составное по типу высказывания
7
что находится в некоем порядке по отношению к Богу (точно так же здоровье является объектом медицины: ведь все, что рассматривает медицина, находится в некоем порядке по отношению к здоровью).
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что если вера рассматривает то, что относится к человеческой природе Христа, к таинствам Церкви, а также к тем или иным творениям, то лишь постольку, поскольку таковое обладает неким порядком по отношению к Богу; и оно принимается нами на основании божественной истины.
(ю) То же надлежит ответить и на второе, касательно всего того, о чем говорится в св. Писании.
(и) На третье надлежит ответить, что также и любовь любит Бога ради ближнего, и потому ее собственным объектом является Бог, о чем будет сказано далее (В. 25, Р. 1).
Раздел 2 Является ли объектом веры нечто составное по типу высказывания
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что объектом веры не является нечто составное по типу высказывания.
(13) 1. В самом деле, объектом веры явля¬
ется первая истина, как уже сказано (Р. 1). Но первая истина есть нечто несоставное. Следовательно, ничто составное не является объектом веры.
(и) 2. Кроме того, вера изложена в Сим¬
воле. Но в Символе даны не высказывания, но вещи: ведь там не сказано «Бог всемогущ», но «Верую в Бога всемогущего». Следовательно, объектом веры являются не высказывания, но вещи.
(15) 3. Кроме того, за верой последует видение, согласно этим словам (1 Кор 13, 12): Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Но вйдение Небесного Отечества относится к несоставному, поскольку есть вйдение самой божественной сущности. Следовательно, к таковому относится и вера этой жизни.
(16) Но против: вера есть среднее между научным знанием и мнением. Но середина и крайности относятся к одному роду. Итак, поскольку наука и мнение имеют место по отношению к высказываниям, то, как представляется, вера также имеет место по отношению к ним. И потому — поскольку вера соотносится с высказываниями — объект веры есть нечто составное.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что по-
(9) Ad primum ergo dicendum quod ea quae pertinent ad humanitatem Christi et ad sacramenta Ecclesiae vel ad quascumque creaturas cadunt sub fide inquantum per haec ordinamur ad Deum. Et eis etiam assentimus propter divinam ventatem.
(10) Et similiter dicendum est ad secundum, de omnibus illis quae in sacra Scriptura traduntur.
(11) Ad tertium dicendum quod etiam cantas diligit proximum propter Deum; et sic obiectum eius propne est ipse Deus, ut infra dicetur.
Articulus 2 Utrum obiectum fidei sit aliquid complexum per modum enuntiabilis
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod obiectum fidei non sit aliquid complexum per modum enuntiabilis.
(13) 1. Obiectum enim fidei est ventas prima, sicut dic¬
tum est. Sed prima veritas est aliquid incomplexum. Ergo obiectum fidei non est aliquid complexum.
(14) 2. Praeterea, expositio fidei in symbolo continetur. Sed in symbolo non ponuntur enuntiabilia, sed res, non enim dicitur ibi quod Deus sit omnipotens, sed, credo in Deum omnipotentem. Ergo obiectum fidei non est enuntiabile, sed res.
(15) 3. Praeterea, fidei succedit visio, secundum illud I ad Cor. XIII, videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem. Sed visio patnae est de incomplexo, cum sit ipsius divinae essentiae. Ergo etiam fides viae.
(16) Sed contra, fides est media inter scientiam et opinionem. Medium autem et extrema sunt eiusdem generis. Cum igitur scientia et opimo sint circa enuntiabilia, videtur quod similiter fides sit circa enuntiabilia. Et ita obiectum fidei, cum fides sit circa enuntiabilia, est aliquid complexum.
(17) Respondeo dicendum quod cognita sunt in cognoscente secundum modum cognoscentis. Est autem modus pro-
8
Вопрос 1. О вере
знанное пребывает в познающем сообразно модусу познающего. Но собственный модус человеческого разума заключается в том, что он познает истину при помощи соединения и разъединения, как сказано в Первой Части (В. 85, Р. 3). И потому то, что само по себе просто, человеческий разум познает сообразно некоему составлению, а разум божественный, напротив, простым постижением познает даже то, что само по себе является составным. И так, следовательно, объект веры можно рассматривать двояко. Во-первых, со стороны самой вещи, в которую верят; и в этом смысле объект веры есть нечто несоставное, т. е. сама вещь, относительно которой имеется вера. Во-вторых, со стороны верующего; и в этом смысле объект веры есть нечто составное по типу высказывания. И потому древние считали правильным и то, и другое суждение, ведь оба они в определенном смысле истинны.
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу по отношению к самой вещи, в которую верят.
(19) На второе надлежит ответить, что в Символе, как явствует из самих его слов, затрагивается то, что относится к вере сообразно тому, что на таковом завершается [познавательный] акт верующего. Но [по¬
знавательный] акт верующего завершается не на высказывании, но на вещи, ведь мы формулируем высказывания лишь постольку, поскольку в них обладаем знанием о вещах — как в случае научного знания, так и в случае веры.
(20) На третье надлежит ответить, что видение Небесного Отечества будет соотноситься с первой истиной так, как она есть сама по себе, согласно этим словам (1 Ин 3): Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И потому это видение будет подобно не высказыванию, но простому постижению. Однако посредством веры мы не постигаем первую истину так, как она есть сама по себе. Поэтому здесь нет подобия.
Раздел 3 Может ли объектом веры быть нечто ложное
(21) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что нечто ложное может быть объектом веры.
(22) 1. В самом деле, вера является членом противоположного деления по отношению к надежде и любви. Но можно надеяться на нечто ложное, ибо многие надеются на то, что обретут вечную жизнь, при том, что это им не удастся. То же самое и с лю-
prius humani intellectus ut componendo et dividendo veritatem cognoscat, sicut in primo dictum est. Et ideo ea quae sunt secundum se simplicia intellectus humanus cognoscit secundum quandam complexionem, sicut e converso intellectus divinus incomplexe cognoscit ea quae sunt secundum se complexa. Sic igitur obiectum fidei dupliciter considerari potest Uno modo, ex parte ipsius rei creditae, et sic obiectum fidei est aliquid incomplexum, scilicet res ipsa de qua fides habetur. Alio modo, ex parte credentis, et secundum hoc obiectum fidei est aliquid complexum per modum enuntiabilis. Et ideo utrumque vere opinatum fuit apud antiquos, et secundum aliquid utrumque est verum.
(18) Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit de obiecto fidei ex parte ipsius rei creditae.
(19) Ad secundum dicendum quod in symbolo tanguntur ea de quibus est fides inquantum ad ea terminatur actus credentis, ut ex ipso modo loquendi apparet. Actus autem credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem, non enim formamus enuntiabilia nisi ut per ea de rebus cog¬
nitionem habeamus, sicut in scientia, ita et in fide.
(20) Ad tertium dicendum quod visio patnae erit ventatis primae secundum quod in se est, secundum illud I Ioan III, cum apparuerit, similes ei erimus et videbimus eum sicuti est. Et ideo visio illa erit non per modum enuntiabilis, sed per modum simplicis intelligentiae. Sed per fidem non apprehendimus veritatem primam sicut in se est. Unde non est similis ratio.
Articulus 3 Utrum fidei possit subesse falsum
(21) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod fidei possit subesse falsum.
(22) 1. Fides enim condividitur spei et cantati. Sed spei potest aliquid subesse falsum, multi enim sperant se habituros vitam aeternam qui non habebunt Similiter etiam et cantati, multi enim diliguntur tanquam boni qui tamen boni non sunt Ergo etiam fidei potest aliquid subesse falsum.
Раздел 3. Может ли объектом веры быть нечто ложное
9
бовью — многих людей любят как благих, в то время как они не являются благими. Следовательно, нечто ложное может быть объектом веры.
(23) 2. Кроме того, Авраам верил в грядущее рождение Христа, согласно этим словам (Ин 8, 56): Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой. Но со времен Авраама воплощения могло и не произойти, ведь Бог воспринял плоть лишь по своей воле; и так вера Авраама в рождение Христа могла оказаться ложной. Следовательно, нечто ложное может быть объектом веры.
(24) 3. Кроме того, вера древних в грядущее рождение Христа сохранялась у многих вплоть до начала евангельской проповеди. Но в период между рождением Христа и началом проповеди утверждение о грядущем рождении Христа уже было ложным. Следовательно, нечто ложное может быть объектом веры.
(25) 4. Кроме того, к вере относится, в том числе, [учение] о том, что в евхаристическом хлебе присутствует истинное тело Христово. Но может случиться такое, что хлеб не будет должным образом освящен, и потому истинное тело Христово не будет в нем присутствовать. Следовательно, нечто ложное может быть объектом веры.
(23) 2. Praeterea, Abraham credidit Christum nasciturum, secundum illud Ioan. VIII, Abraham, pater vester, exultavit ut videret diem meum. Sed post tempus Abrahae Deus poterat non incarnari, sola enim sua voluntate carnem accepit, et ita esset falsum quod Abraham de Christo credidit. Ergo fidei potest subesse falsum.
(24) 3. Praeterea, fides antiquorum fuit quod Christus esset nasciturus, et haec fides duravit in multis usque ad praedicationem Evangelii Sed Christo iam nato, antequam praedicare inciperet, falsum erat Chnstum nasciturum. Ergo fidei potest subesse falsum.
(25) 4. Praeterea, unum de pertinentibus ad fidem est ut aliquis credat sub sacramento altans verum corpus Chnsti continen. Potest autem contingere, quando non recte consecratur, quod non est ibi verum corpus Chnsti, sed solum panis Ergo fidei potest subesse falsum.
(26) Sed contra, nulla virtus perficiens intellectum se habet ad falsum secundum quod est malum intellectus, ut patet per philosophum, in VI Ethic. (2, 1139bl3). Sed fides
(26) Но против: никакая добродетель, совершенствующая разум, не соотносится с ложью, которая является злом для разума, как сказано Философом в VI книге «Этики». Но вера есть некая добродетель, совершенствующая разум, как будет ясно из нижеследующего (В. 4, Р. 2, 5). Следовательно, она не может соотноситься с ложью.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что нечто соотносится со способностью, хабитусом, а также действием только при посредстве формального аспекта объекта. Так, цвет можно видеть только при помощи света, а заключение познается только при помощи доказательства. Однако следует сказать, что формальный аспект объекта веры есть сама первая истина. Поэтому вера может соотноситься только с тем, с чем соотносится первая истина. Но к первой истине не может относиться никакая ложь — так же, как не-сущее не может относиться к сущему, а зло — к благу. И потому остается только, что вера не может соотноситься ни с чем ложным.
(28) Итак, на первое надлежит ответить, что поскольку истина является благом разума, но не благом желающей способности, все добродетели, совершенствующие ра-
est quaedam virtus perficiens intellectum, ut infra patebit. Ergo ei non potest subesse falsum.
(27) Respondeo dicendum quod nihil subest alicui potentiae vel habitui aut etiam actui, nisi mediante ratione formali obiecti, sicut color videri non potest nisi per lucem, et conclusio sciri non potest nisi per medium demonstrationis. Dictum est autem quod ratio formalis obiecti fidei est ventas pnma. Unde nihil potest cadere sub fide nisi inquantum stat sub ventate pnma. Sub qua nullum falsum stare potest, sicut nec non ens sub ente, пес malum sub bonitate Unde relinquitur quod fidei non potest subesse aliquod falsum.
(28) Ad primum ergo dicendum quod, quia verum est bonum intellectus, non autem est bonum appetitivae virtutis, ideo omnes virtutes quae perficiunt intellectum excludunt totaliter falsum, quia de ratione virtutis est quod se habeat solum ad bonum. Virtutes autem perficientes partem ap- petitivam non excludunt totaliter falsum, potest enim aliquis secundum iustitiam aut temperantiam agere ali-
10
Вопрос 1. О вере
зум, полностью исключают любую ложь, ведь в смысловое содержание добродетели входит то, что она соотносится только с благом. А те добродетели, которые совершенствуют желающую часть [души], не полностью исключают ложь, ведь некто может действовать сообразно благоразумию или умеренности, обладая при этом неким ложным мнением о том, что он делает. Итак, поскольку вера совершенствует разум, а надежда и любовь — желающую часть, то между ними нет подобия.
(29) Впрочем, надежда тоже не может соотноситься с чем-то ложным. В самом деле, некто надеется обрести вечную жизнь не благодаря собственным способностям (ведь это было бы самонадеянностью), но благодаря помощи благодати; и если он сможет в ней устоять, то безусловно обретет вечную жизнь. И то же самое относится к любви: она должна любить Бога, где бы Он ни был; поэтому для любви не важно, находится ли Бог в том, кого любят ради Бога.
(30) На второе надлежит ответить, что воплощение Бога, рассмотренное как таковое, могло и не произойти со времен Авраама. Но если рассматривать воплощение как объект божественного пред-знания, то оно необходимо должно было произойти,
как сказано в Первой Части (В. 14, Р. 13). Но именно в этом смысле воплощение Бога относится к вере. Поэтому насколько оно относится к вере, оно не может быть ложным.
(31) На третье надлежит ответить, что после рождения Христа вера в то, что он родится в то или иное время, относилась к вере верующего. Но та определенность времени, в отношении которой верующие заблуждались, была не от веры, но от человеческой догадки. В самом деле, верующий человек может, из-за своего [неверного] предположения, вообразить нечто ложное. Но невозможно, чтобы он вообразил нечто ложное на основании веры.
(32) На четвертое надлежит ответить, что вера верующего соотносится не с теми или иными формами хлеба, но с тем, что если хлеб должным образом освящен, то под его чувственно воспринимаемыми формами пребывает истинное тело Христово. Поэтому из-за того, что хлеб не освящен должным образом, вера не будет соотноситься с чем-то ложным.
Раздел 4 Может ли нечто видимое быть объектом веры
(33) Ход рассуждения в четвертом разделе
quam falsam opinionem habens de eo circa quod agit. Et ita, cum fides perficiat intellectum, spes autem et cantas appetitivam partem, non est similis ratio de eis.
(29) Et tamen neque etiam spei subest falsum. Non enim aliquis sperat se habiturum vitam aeternam secundum propriam potestatem (hoc enim esset praesumptionis), sed secundum auxilium gratiae, in qua si perseveraverit, omnino infallibiliter vitam aeternam consequetur. Similiter etiam ad caritatem pertinet diligere Deum in quocumque fuerit. Unde non refert ad caritatem utrum in isto sit Deus qui propter Deum diligitur.
(30) Ad secundum dicendum quod Deum non incarnari, secundum se consideratum, fuit possibile etiam post tempus Abrahae. Sed secundum quod cadit sub praescientia divina, habet quandam necessitatem infallibilitatis, ut in pnmo dictum est. Et hoc modo cadit sub fide. Unde prout cadit sub fide, non potest esse falsum.
(31) Ad tertium dicendum quod hoc ad fidem credentis per¬
tinebat post Christi nativitatem quod crederet eum quandoque nasci. Sed illa determinatio temporis, in qua decipiebatur, non erat ex fide, sed ex coniectura humana. Possibile est enim hominem fidelem ex coniectura humana falsum aliquid aestimare. Sed quod ex fide falsum aestimet, hoc est impossibile.
(32) Ad quartum dicendum quod fides credentis non refertur ad has species panis vel illas, sed ad hoc quod verum corpus Chnsti sit sub speciebus panis sensibilis quando recte fuerit consecratum. Unde si non sit recte consecratum, fidei non suberit propter hoc falsum.
Articulus 4 Utrum obiectum fidei possit esse aliquid visum
(33) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod obiectum fidei sit aliquid visum.
Раздел 4. Может ли нечто видимое быть объектом веры
11
таков. Представляется, что объектом веры может быть нечто видимое.
(34) 1. В самом деле, Господь говорит Фоме (Ин 20, 29): Ты поверил, потому что увидел Меня. Следовательно, вера и вйдение могут относиться к одному и тому же.
(35) 2. Кроме того, апостол говорит- (1 Кор 13, 12): Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадателъно. И это сказано о познании веры. Следовательно, то, во что верят, видимо.
(36) 3. Кроме того, вера есть некий духовный свет. Но при помощи любого света нечто становится видимым. Следовательно, вера относится к видимым вещам.
(37) 4. Кроме того, «зрением» может называться любое чувство, как говорит Августин. Но вера — о слышимом, согласно этим словам (Рим 10,17): Вера от слышания. Следовательно, вера — о видимых вещах.
(38) Но против: апостол говорит (Евр 11, 1): Вера есть уверенность в невидимом.
(39) Отвечаю: надлежит сказать, что вера подразумевает согласие разума на то, во что верят. Но разум соглашается с чем-либо двояко. Во-первых, постольку, поскольку
он движим к этому своим объектом, который познается либо сам по себе (что очевидно в случае первоначал, с которыми соотносится простое постижение), либо через иное познанное (что очевидно в случае заключений, с которыми соотносится научное знание). Во-вторых, разум соглашается с чем-либо постольку, поскольку он, хотя и движим своим объектом недостаточным образом, посредством некоего выбора воли склоняется к одной стороне [альтернативы] больше, чем к другой. И если при этом существуют сомнения и опасения, что [истинна] другая сторона, то имеет место мнение, а если существует уверенность без всяких опасений, то имеет место вера. Но видимым мы называем то, что само по себе движет наш разум или чувства к познанию себя. Поэтому очевидно, что ни вера, ни мнение не могут быть о видимом (будь то видимое сообразно чувству или сообразно разуму).
(40) Итак, на первое надлежит ответить, что Фома видит одно, а верит в другое: он видит человека, а когда говорит : «Господь мой и Бог мой», исповедует, что видит Бога.
(34) 1. Dicit enim dominus Thomae, Ioan. XX, quia vidisti me, credidisti. Ergo et de eodem est visio et fides.
(35) 2. Praeterea, apostolus, I ad Cor. XIII, dicit, videmus nunc per speculum in aenigmate. Et loquitur de cognitione fidei. Ergo id quod creditur videtur.
(36) 3. Praeterea, fides est quoddam spirituale lumen. Sed quolibet lumine aliquid videtur. Ergo fides est de rebus visis.
(37) 4. Praeterea, quilibet sensus visus nominatur, ut Augustinus dicit, in libro De verb. Dom. (Serin, ad popul. serm. 112, с. 6; PL 38, 646). Sed fides est de auditis, secundum illud ad Rom. X, fides ex auditu. Ergo fides est de rebus visis.
(38) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Heb. XI, quod fides est argumentum non apparentium.
(39) Respondeo dicendum quod fides importat assensum in¬
tellectus ad id quod creditur. Assentit autem alicui intellectus dupliciter. Uno modo, quia ad hoc movetur ab ipso obiecto, quod est vel per seipsum cognitum, sicut patet in principiis primis, quorum est intellectus; vel est per aliud cognitum, sicut patet de conclusionibus, quarum est scientia. Alio modo intellectus assentit alicui non quia sufficienter moveatur ab obiecto proprio, sed per quandam electionem voluntarie declinans in unam partem magis quam in aliam. Et si quidem hoc fit cum dubitatione et formidine alterius partis, erit opinio, si autem fit cum certitudine absque tali formidine, erit fides. Illa autem videri dicuntur quae per seipsa movent intellectum nostrum vel sensum ad sui cognitionem. Unde manifestum est quod nec fides nec opinio potest esse de visis aut secundum sensum aut secundum intellectum.
(40) Ad primum ergo dicendum quod Thomas aliud vidit et aliud credidit. Hominem vidit et Deum credens confessus est, cum dixit, dominus meus et Deus meus (Gregor. In Evang. II, hom.26; PL 76, 1202.)
12
Вопрос 1. О вере
(41) На второе надлежит ответить, что относящееся к вере можно рассматривать двояко. Во-первых, в частном; и тогда, как уже сказано, то, во что верят, не может быть одновременно видимым. Во-вторых, в общем, т. е. в аспекте общего смыслового содержания объекта веры. И в этом смысле оно является видимым для того, кто верит, ведь он не поверил бы, если бы не видел, что в таковое следует верить — либо на основании очевидности знаков, либо на основании чего-то подобного.
(42) На третье надлежит ответить, что свет веры делает видимым то, во что верят. В самом деле, как при помощи других хаби- тусов добродетелей человек видит то, что подобает сообразно этим хабитусам, так и при помощи хабитуса веры человеческий ум склоняется к согласию с тем, что подобает правильной вере, но не чему-либо еще.
(43) На четвертое надлежит ответить, что слышание относится к звукам, обозначающим то, о чем имеет место вера, но не к самим вещам, которые являются объектами веры. И потому не следует, что таковые вещи являются видимыми.
Раздел 5
Действительно ли то, что относится к вере, может познаваться научным познанием
(44) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что то, что относится к вере, может познаваться научным познанием.
(45) 1. В самом деле, то, что не познается научным познанием, является, как кажется, неизвестным, ведь знанию противоположно незнание. Но то, что относится к вере, не является неизвестным, ведь неведение подразумевает неверие, согласно этим словам (1 Тим 1, 13): Так поступал по неведению, в неверии. Следовательно, то, что относится к вере, может познаваться научным познанием.
(46) 2. Кроме того, научное знание обретается при помощи аргументов. Но святые отцы приводили аргументы в защиту того, что относится к вере. Следовательно, то, что относится к вере, может познаваться научным познанием.
(47) 3. Кроме того, то, что доказано при помощи строгого доказательства, является познанным научным познанием, поскольку строгое доказательство есть силлогизм, дающий научное знание. Но кое-что, относящееся к вере, доказано философами
(41) Ad secundum dicendum quod ea quae subsunt fidei dupliciter considerari possunt. Uno modo, in speciali, et sic non possunt esse simul visa et credita, sicut dictum est. Alio modo, in generali, scilicet sub commum ratione credibilis. Et sic sunt visa ab eo qui credit, non enim crederet nisi videret ea esse credenda, vel propter evidentiam signorum vel propter aliquid huiusmodi.
(42) Ad tertium dicendum quod lumen fidei facit videre ea quae creduntur. Sicut enim per alios habitus virtutum homo videt illud quod est sibi conveniens secundum habitum illum, ita etiam per habitum fidei inclinatur mens hominis ad assentiendum his quae conveniunt rectae fidei et non aliis.
(43) Ad quartum dicendum quod auditus est verborum significantium ea quae sunt fidei, non autem est ipsarum rerum de quibus est fides. Et sic non oportet ut huiusmodi res sint visae.
Articulus 5 Utrum ea quae sunt fidei possint esse scita
(44) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod ea quae sunt fidei possint esse scita.
(45) 1. Ea enim quae non sciuntur videntur esse ignorata, quia ignorantia scientiae opponitur. Sed ea quae sunt fidei non sunt ignorata, horum enim ignorantia ad infidelitatem pertinet, secundum illud I ad Tim. I, ignorans feci in incredulitate mea. Ergo ea quae sunt fidei possunt esse scita.
(46) 2. Praeterea, scientia per rationes acquintur. Sed ad ea quae sunt fidei a sacris auctonbus rationes inducuntur. Ergo ea quae sunt fidei possunt esse scita.
(47) 3. Praeterea, ea quae demonstrative probantur sunt scita, quia demonstratio est syllogismus faciens scire. Sed quaedam quae in fide continentur sunt demonstrative probata a philosophis, sicut Deum esse, et Deum esse unum, et alia huiusmodi. Ergo ea quae sunt fidei possunt esse scita.
Раздел 5. Может ли быть научное знание о содержании веры
13
при помощи строгого доказательства, например, что Бог существует, что Бог един и т. д. Следовательно, то, что относится к вере, может познаваться научным познанием.
(48) 4. Кроме того, мнение дальше от научного знания, чем вера, поскольку о вере говорится, что она находится посредине между мнением и научным знанием. Но об одном и том же некоторым образом может иметься и мнение, и научное знание, как сказано во «Второй аналитике». Следовательно, то же относится и к вере.
(49) Но против: Григорий говорит, что о явленном имеется не вера, но знание. Следовательно, то, о чем имеется вера, нельзя познать. Но то, что доступно для научного знания, познаваемо. Следовательно, о том, что познано научным познанием, не может быть веры.
(50) Отвечаю: надлежит сказать, что любое научное знание обретается через некие самоочевидные начала, и, соответственно, через нечто видимое. И потому надлежит, чтобы все, что познается научным знанием, было некоторым образом видимым. Но, как уже сказано (Р. 4), невозможно, чтобы кто-нибудь видел нечто и при этом верил в таковое. И потому невозможно
также, чтобы одно и то же было объектом веры и научного познания.
(51) Но может быть так, что один видит и познает научным познанием то, что для другого является объектом веры. В самом деле, если говорить о Троице, то мы надеемся увидеть то, во что верим сейчас, согласно этим словам (1 Кор 13, 12): Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Но этим видением уже обладают ангелы, и, таким образом, мы верим в то, что они видят. И равным образом, может быть так, что один человек видит и познает научным познанием — даже в этой жизни — то, что для другого, не знающего доказательства, является объектом веры. Однако то, что предлагается всем людям в качестве общего объекта веры, не может быть познано научным знанием никем из людей. И таковое суть то, что относится к вере безусловно. И потому вера и научное знание не могут иметь место по отношению к одному и тому же.
(52) Итак, на первое надлежит ответить, что неверные не ведают того, что относится к вере потому, что не видят и не знают таковое само по себе, а также не знают о том, что в таковое надо верить. А верные
(48) 4. Praeterea, opinio plus distat a scientia quam fides, cum fides dicatur esse media inter opinionem et scientiam. Sed opinio et scientia possunt esse aliquo modo de eodem, ut dicitur in I Poster. (3, 89a25). Ergo etiam fides et scientia.
(49) Sed contra est quod Gregorius dicit In Evang. II, hom. 26; PL 76, 1202), quod apparentia non habent fidem, sed agnitionem. Ea ergo de quibus est fides agnitionem non habent. Sed ea quae sunt scita habent agnitionem. Ergo de his quae sunt scita non potest esse fides.
(50) Respondeo dicendum quod omnis scientia habetur per aliqua principia per se nota, et per consequens visa. Et ideo oportet quaecumque sunt scita aliquo modo esse visa. Non autem est possibile quod idem ab eodem sit creditum et visum, sicut supra dictum est. Unde etiam impossibile est quod ab eodem idem sit scitum et creditum.
(51) Potest tamen contingere ut id quod est visum vel scitum ab uno, sit creditum ab alio. Ea enim quae de Tnnitate credimus nos visuros speramus, secundum illud I ad Cor. XIII, videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie adfaciem, quam quidem visionem iam Angeli habent, unde quod nos credimus illi vident. Et similiter potest contingere ut id quod est visum vel scitum ab uno homine, etiam in statu viae, sit ab alio creditum, qui hoc demonstrative non novit. Id tamen quod communiter omnibus hominibus proponitur ut credendum est communiter non scitum. Et ista sunt quae simpliciter fidei subsunt. Et ideo fides et scientia non sunt de eodem.
(52) Ad primum ergo dicendum quod infideles eorum quae sunt fidei ignorantiam habent, quia nec vident aut sciunt ea in seipsis, nec cognoscunt ea esse credibilia. Sed per hunc modum fideles habent eorum notitiam, non quasi demonstrative, sed inquantum per lumen fidei videntur esse credenda, ut dictum est.
14
Вопрос 1. О вере
обладают определенным познанием такового, но не через строгое доказательство, а постольку, поскольку в свете веры видят, что в это надлежит верить, как уже сказано (Р. 4, на 2, 3).
(53) На второе надлежит ответить, что аргументы, которые святые приводили в защиту того, что относится к вере, были не строгими доказательствами, но своего рода убеждающими доводами, показывающими, что то, что предлагает вера, не является невозможным. Или же эти аргументы основывались на началах веры, т. е. на авторитете св. Писания, как говорит Дионисий в книге «О божественных именах». Но для верующих доказательство, основанное на этих началах, имеет ту же силу, что доказательство, основанное на началах, познаваемых естественным образом — для всех остальных людей. Поэтому теология является наукой, как было сказано в начале книги (Ч. I, В. 1, Р. 2).
(54) На третье надлежит ответить, что [положения], доказуемые строгим доказательством, оказываются в числе догматов веры не потому, что в них все верят безусловно, но потому, что они предшествуют тому, что относится к вере; и кроме того, те, кто не имеет доказательства, должны,
(53) Ad secundum dicendum quod rationes quae inducuntur a sanctis ad probandum ea quae sunt fidei non sunt demonstrativae, sed persuasiones quaedam manifestantes non esse impossibile quod in fide proponitur. Vel procedunt ex principiis fidei, scilicet ex auctoritatibus sacrae Scripturae, sicut Dionysius dicit De div. nom. (2; PG 3, 640). Ex his autem principiis ita probatur aliquid apud fideles sicut etiam ex principiis naturaliter notis probatur aliquid apud omnes. Unde etiam theologia scientia est, ut in principio operis dictum est.
(54) Ad tertium dicendum quod ea quae demonstrative probari possunt inter credenda numerantur, non quia de ipsis sit simpliciter fides apud omnes, sed quia praeexiguntur ad ea quae sunt fidei, et oportet ea saltem per fidem prae- supponi ab his qui horum demonstrationem non habent.
(55) Ad quartum dicendum quod, sicut philosophus ibidem dicit, a diversis hominibus de eodem omnino potest haberi scientia et opinio, sicut et nunc dictum est de scientia et
во всяком случае, принимать эти положения на веру.
(55) На четвертое надлежит ответить, что, как говорит Философ там же, разные люди могут иметь об одном и том же и научное знание, и мнение; и точно так же мы говорим теперь о научном знании и вере. Но и более того, один и тот же человек может обладать научным знанием и верой об одном и том же — сообразно отношению к субъекту, но не в одном и том же аспекте. В самом деле, человек может знать что-либо о некоей вещи, и в то же самое время в некоем другом аспекте обладать мнением о ней; и точно так же некто может обладать строгим доказательством, что Бог един, и одновременно верить, что Он тро- ичен. Но один и тот же человек не может одновременно обладать верой или мнением и научным знанием об одном и том же и в одном и том же аспекте — однако по разным причинам. В самом деле, обладать научным знанием и мнением об одном и том же в безусловно одном и том же аспекте невозможно потому, что научное знание подразумевает невозможность того, чтобы познанное научным познанием могло быть иным, не таким, как оно познано; в то же время мнение допускает,
fide. Sed ab uno et eodem potest quidem haben fides et scientia de eodem secundum quid, scilicet subiecto, sed non secundum idem, potest enim esse quod de una et eadem re aliquis aliquid sciat et aliquid aliud opinetur, et similiter de Deo potest aliquis demonstrative scire quod sit unus, et credere quod sit trinus. Sed de eodem secundum idem non potest esse simul in uno homine scientia nec cum opinione nec cum fide, alia tamen et alia ratione. Scientia enim cum opinione simul esse non potest simpliciter de eodem, quia de ratione scientiae est quod id quod scitur existimetur esse impossibile aliter se habere; de ratione autem opinionis est quod id quod quis existimat, existimet possibile aliter se habere. Sed id quod fide tenetur, propter fidei certitudinem, existimatur etiam impossibile aliter se habere, sed ea ratione non potest simul idem et secundum idem esse scitum et creditum, quia scitum est visum et creditum est non visum, ut dictum est.
Раздел 6. Следует ли разделять вероучение на отдельные артикулы, или догматы 15
чтобы то, о чем имеется мнение, было иным, нежели представляется. И так же нельзя вообразить, чтобы было иным то, чего держатся верой — из-за уверенности веры. А верить и постигать научным познанием одно и то же в одном и том же аспекте невозможно потому, что познанное есть видимое, а вера — о невидимом, как уже сказано.
Раздел 6 Следует ли разделять вероучение на отдельные артикулы, или догматы
(56) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что вероучение не следует разделять на отдельные артикулы, или догматы.
(57) 1. В самом деле, к вере относится все то, что содержится в св. Писании. Но таковое не может быть сведено к определенному количеству [догматов] в силу своей многочисленности. Следовательно, разделение вероучения на артикулы, или догматы, является излишним.
(58) 2. Кроме того, искусство не должно рассматривать материальное деление, поскольку его можно проводить до бесконечности. А формальный аспект объекта веры един и неделим, как сказано вы¬
ше (Р. 1), поскольку это — первая истина; и так сообразно формальному аспекту объекта вероучение не может быть разделено. Следовательно, материальным различением вероучения сообразно артикулам, или догматам, можно пренебречь.
(59) 3. Кроме того, некоторые говорят, что артикул (articulus) является неделимой истиной о Боге, требующей (arctans) от нас веры1. Но вера — это добровольный акт, поскольку, как говорит Августин, никто не верит, если не хочет. Следовательно, как кажется, вероучение не подобает разделять на артикулы, или догматы.
(60) Но против: Исидор говорит, что догмат есть восприятие божественной истины, на нее направленное. Но восприятие божественной истины подобает нам сообразно некоему различению, ведь то, что едино в Боге, множественно в нашем разуме. Следовательно, вероучение должно разделяться на отдельные артикулы, или догматы.
(61) Отвечаю: надлежит сказать, что имя «артикул» заимствовано из греческого языка, а греческое «arthron», от которого и происходит латинское «articulus», обозначает некую согласованность различных частей. И потому согласованность частей тела друг
Articulus 6
Utrum credibilia sint per certos articulos distinguenda
(56) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod credibilia non sint per certos articulos distinguenda.
(57) 1. Eorum enim omnium quae in sacra Scriptura continentur est fides habenda. Sed illa non possunt reduci ad aliquem certum numerum, propter sui multitudinem. Ergo superfluum videtur articulos fidei distinguere.
(58) 2. Praeterea, materialis distinctio, cum in infinitum fieri possit, est ab arte praetermittenda. Sed formalis ratio obiecti credibilis est una et indivisibilis, ut supra dictum est, scilicet veritas prima, et sic secundum rationem formalem credibilia distingui non possunt. Ergo praetermittenda est credibilium materialis distinctio per articulos.
(59) 3. Praeterea, sicut a quibusdam dicitur, articulus est indivisibilis veritas de Deo arctans nos ad credendum. Sed credere est voluntarium, quia, sicut Augustinus dicit (In Io. tr. 26 super 6, 44; PL 35, 1607), nullus credit nisi volens.
Ergo videtur quod inconvenienter distinguantur credibilia per articulos.
(60) Sed contra est quod Isidorus dicit, articulus est perceptio divinae veritatis tendens in ipsam (cf. Albertus Magnus. In Sent. III, d. 24 a. 4; Bonaventura. In Sent. III, d. 24, a. 3, q. 2). Sed perceptio divinae veritatis competit nobis secundum distinctionem quandam, quae enim in Deo unum sunt in nostro intellectu multiplicantur. Ergo credibilia debent per articulos distingui.
(61) Respondeo dicendum quod nomen articuli ex Graeco videtur esse derivatum. Arthron enim in Graeco, quod in Latino articulus dicitur, significat quandam coaptationem aliquarum partium distinctarum. Et ideo particulae corporis sibi invicem coaptatae dicuntur membrorum articuli Et similiter in grammatica apud Graecos dicuntur articuli quaedam partes orationis coaptatae aliis dictionibus ad exprimendum earum genus, numerum vel casum. Et similiter in rhetorica articuli dicuntur quaedam partium coaptationes, dicit enim Tullius, in IV Rhet (c. 19), quod
16
Вопрос 1. О вере
с другом называется их артикулированно- стью (articulus membrorum). И точно так же в греческой грамматике мы называем «артиклем» часть речи, которая согласуется с другими частями и выражает их род, число или падеж. И равным образом в риторике «артикуляция» — это некая согласованность частей, поскольку, согласно Туллию [Цицерону], мы говорим об артикуляции тогда, когда слова разделяются интервалами и произносятся четко и раздельно, например, так: «твой тон, голос и взгляд вселили страх в твоих врагов». Поэтому и говорят, что учение христианской веры подразделяется на артикулы, или догматы, сообразно тому, что оно делится на некие части, согласующиеся друг с другом. Но, как уже сказано выше (Р. 4), объектом веры является нечто невидимое, относящееся к божественному. И потому там, где нечто является невидимым по какой-то особой причине, имеются и особые артикулы, или догматы, а там, где многое неизвестно сообразно одному и тому же, различать догматы не следует. Так, например, понять со всей наглядностью, что Бог страдал на кресте, сложно по одной причине, а то, что Он воскрес из мертвых — по другой; и потому догматы о воскресении и страстях должны раз¬
личаться. Однако то, что Бог страдал, умер и был погребен, связано с одной и той же сложностью, а потому когда принято одно, принять остальное несложно; и в связи с этим все это относится к одному догмату.
(62) Итак, на первое надлежит ответить, что есть такие вероучительные положения, которые относятся к вере как к таковой, а есть и такие, которые относятся к ней сообразно некоему порядку по отношению к другому. Так ведь бывает и в других науках: одни научные положения предлагаются как необходимые сами по себе, а другие — постольку, поскольку они выявляют нечто иное. И поскольку вера относится главным образом к тому, что мы надеемся увидеть в Небесном Отечестве (согласно этим словам (Евр 11, 1): Вера есть субстанция вещей, на которые надеются2), постольку к вере в собственном смысле слова относится то, что направляет нас к вечной жизни (например, что существуют три Лица, что Бог всемогущ, что Христос воплотился и т. п.). И сообразно таковому различаются артикулы, или догматы веры. А есть и другие положения, представленные в св. Писании как то, во что надлежит верить, которые необходимы не сами по себе, но сообразно тому, что они разъяс-
articulus dicitur сит singula verba intervallis distinguuntur caesa oratione, hoc modo, acrimonia, voce, vultu adversarios perterruisti. Unde et credibilia fidei Christianae dicuntur per articulos distingui inquantum in quasdam partes dividuntur habentes aliquam coaptationem ad invicem. Est autem obiectum fidei aliquid non visum circa divina, ut supra dictum est. Et ideo ubi occurrit aliquid speciali ratione non visum, ibi est specialis articulus, ubi autem multa secundum eandem rationem sunt incognita, ibi non sunt articuli distinguendi Sicut aliam difficultatem habet ad videndum quod Deus sit passus, et aliam quod mortuus resurrexerit, et ideo distinguitur articulus resurrectionis ab articulo passionis. Sed quod sit passus, mortuus et sepul- tus, unam et eandem difficultatem habent, ita quod, uno suscepto, non est difficile alia suscipere, et propter hoc omnia haec pertinent ad unum articulum.
(62) Ad primum ergo dicendum quod aliqua sunt credibilia de quibus est fides secundum se; aliqua vero sunt credibilia
de quibus non est fides secundum se, sed solum in ordine ad alia, sicut etiam in aliis scientiis quaedam proponuntur ut per se intenta, et quaedam ad manifestationem aliorum. Quia vero fides principaliter est de his quae videnda speramus in patria, secundum illud Heb. XI, fides est substantia sperandarum rerum; ideo per se ad fidem pertinent illa quae directe nos ordinant ad vitam aeternam, sicut sunt tres personae, omnipotentia Dei, mysterium incarnationis Christi, et alia huiusmodi. Et secundum ista distinguuntur articuli fidei. Quaedam vero proponuntur in sacra Scriptura ut credenda non quasi principaliter intenta, sed ad praedictorum manifestationem, sicut quod Abraham habuit duos filios, quod ad tactum ossium Elisaei suscitatus est mortuus, et alia huiusmodi, quae narrantur in sacra Scriptura in ordine ad manifestationem divinae maiestatis vel incarnationis Christi. Et secundum talia non oportet articulos distinguere.
Раздел 7. Действительно ли число догматов возрастало со временем
17
няют те положения, о которых говорилось выше. И к таковым положениям относится, например, то, что у Авраама было двое сыновей, что мертвый восстал от соприкосновения с костями Елисея и прочее, о чем св. Писание повествует для того, чтобы явить божественное могущество или таинство воплощения Христа. И сообразно таковым положениям различать догматы не следует.
(63) На второе надлежит ответить, что о формальном аспекте объекта веры можно говорить в двух смыслах. Во-первых, сообразно самой вещи, в которую верят. И в этом смысле формальный аспект у всех положений веры один, т. е. первая истина. И с этой стороны догматы не различаются. Во-вторых, формальный аспект положений веры можно рассматривать сообразно нам самим. И в этом смысле формальным аспектом положений веры является то, что они невидимы. И с этой стороны догматы веры различаются, как уже сказано (в Отв.).
(64) На третье надлежит ответить, что это определение артикула дано скорее сообразно некоей латинской этимологии имени, нежели сообразно тому истинному значению, которое выводится из греческого слова. И потому оно не обладает большим
весом. Можно сказать, впрочем, что хотя никого нельзя принудить к вере необходимым образом, поскольку вера добровольна, тем не менее, вера требуется необходимым образом с точки зрения цели, ибо без веры угодить Богу невозможное ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, как говорит апостол (Евр 11, 6).
Раздел 7 Действительно ли число догматов возрастало со временем
(65) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что число догматов не увеличивалось со временем.
(66) 1. Поскольку, как говорит апостол (Евр 11, 1), вера есть субстанция вещей, на которые надеются. Но во все времена люди надеялись на одно и то же. Следовательно, во все времена надлежало верить в одно и то же.
(67) 2. Кроме того, прирост в человеческих науках происходит с течением времени потому, что у тех, кто изобрел науки, знания были невелики, как явствует из слов Философа во II книге «Метафизики». Но вероучение не является человеческим изобретением, а передано Богом, поскольку есть дар Божий (Ефес 2, 8). Итак, поскольку
(63) Ad secundum dicendum quod ratio formalis obiecti fidei potest accipi dupliciter. Uno modo, ex parte ipsius rei creditae. Et sic ratio formalis omnium credibilium est una, scilicet veritas prima. Et ex hac parte articuli non distinguuntur. Alio modo potest accipi formalis ratio credibilium ex parte nostra. Et sic ratio formalis credibilis est ut sit non visum. Et ex hac parte articuli fidei distinguuntur, ut visum est.
(64) Ad tertium dicendum quod illa definitio datur de articulo magis secundum quandam etymologiam nominis prout habet derivationem Latinam, quam secundum eius veram significationem prout a Graeco derivatur. Unde non est magni ponderis. Potest tamen dici quod, licet ad credendum necessitate coactionis nullus arctetur, cum credere sit voluntarium; arctatur tamen necessitate finis, quia accedentem ad Deum oportet credere, et sine fide impossibile est placere Deo, ut apostolus dicit, Heb. XI.
Articulus 7 Utrum articuli fidei secundum successionem temporum creverint
(65) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod articuli fidei non crevennt secundum temporum successionem.
(66) 1. Quia, ut apostolus dicit, ad Heb. XI, fides est substantia sperandarum rerum Sed omni tempore sunt eadem speranda. Ergo omni tempore sunt eadem credenda.
(67) 2. Praeterea, in scientiis humanitus ordinatis per successionem temporum augmentum factum est propter defectum cognitionis in primis qui scientias invenerunt, ut patet per philosophum, in II Metaphys. (I, 3; 993a30). Sed doctnna fidei non est inventa humanitus, sed tradita a Deo. Dei enim donum est, ut dicitur Ephes. II. Cum igitur in Deum nullus defectus scientiae cadat, videtur quod a principio cognitio credibilium fuent perfecta, et quod non creverit secundum successionem temporum.
18
Вопрос 1. О вере
в знании Бога нет никакого ущерба, то, как кажется, от самого начала знание положений веры было совершенным, и оно не возрастало с течением времени.
(68) 3. Кроме того, действие благодати, как и действие природы, осуществляется в определенном порядке. Но природа всегда берет начало от более совершенного, как говорит Боэций в книге «Утешение Философией». Следовательно, также и действие благодати должно начинаться с более совершенного, а потому те люди, которые первыми восприняли веру, знали ее наисовершеннейшим образом.
(69) 4. Кроме того, апостолы передали нам веру точно так же, как в ветхозаветную эпоху древнейшие отцы передавали знание веры своим потомкам в соответствии с этими словами (Втор 32, 7): Спроси отца твоего, и он возвестит тебе. Но апостолы были наставлены в таинствах наисовершеннейшим образом, ибо они получили их как раньше по времени, так и наиболее полным образом, как говорит глосса к этим словам: Имея начаток Духа и т.д. (Рим 8, 23). Следовательно, как представляется, знание положений веры не возрастало с течением времени.
(68) 3. Praeterea, operatio gratiae non minus ordinate procedit quam operatio naturae. Sed natura semper initium sumit a perfectis ut Boetius dicit, in libro De consol. (prosa 10; PL 63, 764). Ergo etiam videtur quod operatio gratiae a perfectis initium sumpserit, ita quod illi qui pnmo tradiderunt fidem perfectissime eam cognoverunt.
(69) 4. Praeterea, sicut per apostolos ad nos fides Christi pervenit, ita etiam in veteri testamento per priores patres ad posteriores devenit cognitio fidei, secundum illud Deut. XXXII, interroga patrem tuum et annuntiabit tibi Sed apostoli plenissime fuerunt instructi de mystenis, acceperunt enim, sicut tempore prius, ita et ceteris abundantius, ut dicit Glossa (Petri Lombardi; PL 191, 1444), super illud Rom. VIII, nos ipsi primitias spiritus habentes. Ergo videtur quod cognitio credibilium non creverit per temporum successionem
(70) Sed contra est quod Gregonus dicit (In Ezech. II, hom. 16; ML 76, 980), quod secundum incrementa temporum crevit scientia sanctorum patrum, et quanto viciniores
(70) Но против: как говорит Григорий, с течением времени возрастало и знание святых отцов, и чем ближе было время пришествия Спасителя, тем полнее они постигали таинства спасения.
(71) Отвечаю: надлежит сказать, что для вероучения догматы веры являются тем же, чем самоочевидные начала для учений, которые обретаются при помощи естественного разума. Но в этих самоочевидных началах обнаруживается определенный порядок, такой, что одни имплицитно содержатся в других, и, как говорит Аристотель, все начала в конце концов сводятся к этому, как к первому: «Невозможно одновременно утверждение и отрицание [относительно одного и того же]». И точно так же все догматы имплицитно содержатся в неких первых положениях веры, а именно, в том, что Бог существует и обладает провидением относительно спасения человека, согласно этим словам (Евр 11, 6): Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В самом деле, в божественное бытие включено все то, что, как мы верим, существует в Боге от века, и в чем заключается наше блаженство; а вера в провидение объемлет все то, что Бог установил во времени ради
adventui salvatoris fuerunt, tanto sacramenta salutis plenius perceperunt.
(71) Respondeo dicendum quod ita se habent in doctnna fidei articuli fidei sicut principia per se nota in doctrina quae per rationem naturalem habetur. In quibus principiis ordo quidam invenitur, ut quaedam in aliis implicite contineantur, sicut omnia pnncipia reducuntur ad hoc sicut ad primum, impossibile est simul affirmare et negare, ut patet per philosophum, in IV Metaphys. (III, 6; 101 lb20). Et similiter omnes articuli implicite continentur in aliquibus primis credibilibus, scilicet ut credatur Deus esse et providentiam habere circa hominum salutem, secundum illud ad Heb. XI, accedentem ad Deum oportet credere quia est, et quod inquirentibus se remunerator sit. In esse enim divino includuntur omnia quae credimus in Deo aeternaliter existere, in quibus nostra beatitudo consistit, in fide autem providentiae includuntur omnia quae temporaliter a Deo dispensantur ad hominum salutem, quae sunt via in beatitudinem.
Раздел 7. Действительно ли число догматов возрастало со временем
19
спасения человека, и что является путем к блаженству.
(72) И точно таким же образом некоторые из последующих положений веры содержатся в других. Например, в догмате об искуплении имплицитно содержится и воплощение Христа, и его страсти, и все подобное. Итак, следовательно, надлежит сказать, что насколько речь идет о субстанции догматов веры, то она с течением времени не увеличивалась, поскольку во что бы ни верили потомки, все это уже содержалось в вере их отцов, пусть и имплицитно. Но если говорить об эксплицитном знании, число догматов увеличилось, поскольку потомки эксплицитно познали нечто из того, что их отцы эксплицитно не знали. И потому Господь сказал Моисею (Исход 6, 2-3): Я Господь Авраама, Исаака и Иакова, и Свое имя «Всемогущий» Я не открыл им. И Давид сказал (Пс 118, 100): Я сведущ более старцев. И апостол говорит (Ефес 3, 4-5): [Можете усмотреть мое разумение] тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам [Духом Святым].
(73) Итак, на первое надлежит ответить, что и в самом деле все всегда надеялись на од¬
но и то же. Но поскольку к таковому люди могли придти только через Христа, то чем дальше они отстояли от Него во времени, тем дальше они отстояли и от объекта этой надежды. Поэтому апостол и говорит (Евр 11, 13): Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные. Но чем больше расстояние, тем хуже видно. И потому те блага, которые являются объектом надежды, более отчетливо познавались теми, кто жил близко к моменту пришествия Христа.
(74) На второе надлежит ответить, что об увеличении знания можно говорить в двух смыслах. Во-первых, об увеличении знания со стороны учителя (одного или нескольких), которые продвигаются в познании с течением времени. И в этом смысле говорится об увеличении знания в науках, изобретенных человеческим разумом. Во- вторых, со стороны обучающихся: таким образом, что наставник, который обладает знанием всего искусства, передает его ученику не сразу же (ибо так тот не сможет его воспринять), но постепенно, снисходя до уровня ученика. И в этом смысле говорится о том, что люди с течением времени обретают большее знание веры. Поэтому апостол (Гал 3, 24) сравнивает ветхозавет-
(72) Et per hunc etiam modum aliorum subsequendum articulorum quidam in aliis continentur, sicut in fide redemptionis humanae implicite continetur et incarnatio Christi et eius passio et omnia huiusmodi. Sic igitur dicendum est quod, quantum ad substantiam articulorum fidei, non est factum eorum augmentum per temporum successionem, quia quaecumque posteriores crediderunt continebantur in fide praecedentium patrum, licet implicite. Sed quantum ad explicationem, crevit numerus articulorum, quia quaedam explicite cognita sunt a posterioribus quae a pnoribus non cognoscebantur explicite. Unde dominus Moysi dicit, Exod. VI, ego sum Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Iacob, et nomen meum Adonai non indicavi eis. Et David dicit, super senes intellexi. Et apostolus dicit, ad Ephes. III, aliis generationibus non est agnitum mysterium Christi sicut nunc revelatum est sanctis apostolis eius et prophetis
(73) Ad primum ergo dicendum quod semper fuerunt eadem speranda apud omnes. Quia tamen ad haec speran¬
da homines non pervenerunt nisi per Christum, quanto a Chnsto fuerunt remotiores secundum tempus, tanto a consecutione sperandorum longinquiores, unde apostolus dicit, ad Heb. XI, iuxta fidem defuncti sunt omnes isti, non acceptis repromissionibus, sed a longe eas respicientes Quanto autem aliquid a longinquioribus videtur, tanto minus distincte videtur. Et ideo bona speranda distinctius cognoverunt qui fuerunt adventui Chnsti vicini.
(74) Ad secundum dicendum quod profectus cognitionis dupliciter contingit. Uno modo, ex parte docentis, qui in cognitione proficit, sive unus sive plures, per temporum successionem. Et ista est ratio augmenti in scientiis per rationem humanam inventis. Alio modo, ex parte addiscentis, sicut magister qui novit totam artem non statim a principio tradit eam discipulo, quia capere non posset, sed paulatim, condescendens eius capacitati. Et hac ratione profecerunt homines in cognitione fidei per temporum successionem. Unde apostolus, ad Gal III, comparat statum vetens testamenti puentiae.
20
Вопрос 1. О вере
ную эпоху с детством.
(75) На третье надлежит ответить, что для естественного возникновения требуются две вещи: действующее и материя. Итак, сообразно порядку действующей причины предшествующим по природе является более совершенное; и в этом смысле природа берет начало от более совершенного, поскольку несовершенное приводится к совершенству только благодаря предшествующему совершенному. Но сообразно порядку материальной причины предшествующим по природе является несовершенное; и в этом смысле природа движется от несовершенного к совершенному. Но при явлении веры Бог есть действующее, которое от века обладает совершенным знанием, а человек есть как бы материя, воспринимающая излияние действующего Бога. И потому надлежит, чтобы среди людей знание веры развивалось от несовершенного к совершенному. И хотя среди людей были такие, которые являлись как бы действующими причинами, поскольку были учителями веры, тем не менее, сказано (1 Кор 12, 7): Проявление Духа дается им на общую пользу3. И потому отцам, которые были наставниками в вере, было дано такое знание, которое подобало
(75) Ad tertium dicendum quod ad generationem naturalem duae causae praeexiguntur, scilicet agens et matena. Secundum igitur ordinem causae agentis, naturaliter prius est quod est perfectius, et sic natura a perfectis sumit exordium, quia imperfecta non ducuntur ad perfectionem nisi per aliqua perfecta praeexistentia. Secundum vero ordinem causae materialis, pnus est quod est imperfectius, et secundum hoc natura procedit ab imperfecto ad perfectum. In manifestatione autem fidei Deus est sicut agens, qui habet perfectam scientiam ab aeterno, homo autem est sicut materia recipiens influxum Dei agentis Et ideo oportuit quod ab imperfectis ad perfectum procederet cognitio fidei in homimbus. Et licet in hominibus quidam se habuerint per modum causae agentis, quia fuerunt fidei doctores; tamen manifestatio spiritus datur talibus ad utilitatem communem, ut dicitur I ad Cor. XII. Et ideo tantum dabatur patribus qui erant instructores fidei de cognitione fidei, quantum oportebat pro tempore illo populo tradi vel nude vel in figura.
передать в то время и тому народу — как открыто, так и в образах.
(76) На четвертое надлежит ответить, что завершенность благодати была во Христе, поэтому и время Его называется полнотой времен (Гал 4, 4). И потому те, кто был ближе к этому времени — или раньше, как Иоанн Креститель, или позже, как апостолы — познали тайны веры во всей полноте. Так ведь и рассматривая возрасты человека, мы видим, что совершенного состояния человек достигает в период юности, и чем ближе возраст человека к юности (как до, так и после нее), тем человек совершеннее.
Раздел 8
Должным ли образом перечислены догматы веры
(77) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что догматы веры перечислены недолжным образом.
(78) 1. В самом деле, как уже сказано выше
(Р. 5), то, что познается при помощи строгого доказательства, не относится к вере как то, во что должны верить все. Но то, что Бог един, может быть доказано при помощи строгого доказательства; и потому Философ доказывает это в XII книге «Метафизики», и это же доказывали дру-
(76) Ad quartum dicendum quod ultima consummatio gratiae facta est per Christum, unde et tempus eius dicitur tempus plenitudinis, ad Gal. IV. Et ideo illi qui fuerunt propinquiores Christo vel ante, sicut Ioannes Baptista, vel post, sicut apostoli, plenius mysteria fidei cognoverunt. Quia et circa statum hominis hoc videmus, quod perfectio est in iuventute, et tanto habet homo perfectiorem statum vel ante vel post, quanto est iuventuti propinquior.
Articulus 8 Utrum articuli fidei convenienter enumerentur
(77) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod inconvementer articuli fidei enumerentur.
(78) 1. Ea enim quae possunt ratione demonstrativa sciri non pertinent ad fidem ut apud omnes sint credibilia, sicut supra dictum est. Sed Deum esse unum potest esse scitum per demonstrationem, unde et philosophus hoc in XII Metaphys. (XI, 10; 1076a4) probat, et multi alii philosophi ad hoc demonstrationes induxerunt. Ergo
Раздел 8. Должным ли образом перечислены догматы веры
21
гие философы. Следовательно, то, что Бог един, не должно считаться догматом веры.
(79) 2. Кроме того, мы в силу необходимости веры верим как в то, что Бог всемогущ, так и в то, что Он все знает и обо всем провидит. Но в отношении двух последних положений некоторые заблуждаются. Следовательно, среди догматов веры должно быть упоминание о мудрости и провидении Божием — так же, как о всемогуществе.
(80) 3. Кроме того, знание Отца и Сына — одно, согласно этим словам (Ин 14, 9): Видевший Меня видел Отца. Следовательно, об Отце и Сыне должен быть один догмат; и - на этом же основании — тот же догмат должен быть и о Духе Святом.
(81) 4. Кроме того, Лицо Отца не меньше, чем Лицо Сына и Лицо Духа святого. Но Лицу Сына и Лицу Духа Святого посвящено несколько догматов. Следовательно, и Лицу Отца должно быть посвящено несколько догматов.
(82) 5. Кроме того, как нечто присваивается Лицу Отца и Лицу Духа Святого, так и Лицу Сына, сообразно Его божественности. Но в числе догматов упоминается действие, которое присваивается Лицу Отца, а именно, деяние сотворения; и равным
образом, действие, которое присваивается Лицу Духа Святого, а именно, вещание через пророков. Следовательно, в числе догматов веры должно упоминаться действие, которое присваивается Сыну сообразно Его божественности.
(83) 6. Кроме того, таинство Евхаристии обладает особой сложностью, большей, чем иные догматы. Следовательно, о нем должен быть особый догмат. Итак, представляется, что число догматов недостаточно.
(84) Но против: авторитет Церкви, установившей такое число догматов.
(85) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено (Р. 4, 6), сами по себе к вере относятся те [вещи], созерцанием которых мы будем наслаждаться в вечной жизни, и которые ведут нас к ней. Но нам обещано созерцание двух таких [вещей], а именно невидимого Божьего (лицезрение которого делает нас блаженными) и таинства человечества Христа (через Которого, как сказано (Рим 5, 2), получили мы доступ к той благодати, [в которой стоим и хвалимся]). И потому Писание говорит (Ин 17, 3), что Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. И потому первое различение догматов веры заключается в том,
Deum esse unum non debet poni unus articulus fidei.
(79) 2. Praeterea, sicut de necessitate fidei est quod credamus Deum omnipotentem, ita etiam quod credamus eum omnia scientem et omnibus providentem; et circa utrumque eorum aliqui erraverunt. Debuit ergo inter articulos fidei fien mentio de sapientia et providentia divina, sicut et de omnipotentia.
(80) 3. Praeterea, eadem est notitia patris et filii, secundum illud Ioan. XIV, qui videt me videt et patrem. Ergo unus tantum articulus debet esse de patre et filio; et, eadem ratione, de spiritu sancto.
(81) 4. Praeterea, persona patns non est minor quam filii et spintus sancti. Sed plures articuli ponuntur circa personam spiritus sancti, et similiter circa personam filii. Ergo plures articuli debent poni circa personam patris.
(82) 5. Praeterea, sicuti personae patris et personae spiritus sancti aliquid appropriatur, ita et personae filii secundum divinitatem. Sed in articulis ponitur aliquod opus appro- priatum patn, scilicet opus creationis; et similiter aliquod
opus appropriatum spiritui sancto, scilicet quod locutus est per prophetas. Ergo etiam inter articulos fidei debet aliquod opus appropriari filio secundum divinitatem.
(83) 6. Praeterea, sacramentum Eucharistiae specialem habet difficultatem prae multis articulis. Ergo de ea debuit poni specialis articulus. Non videtur ergo quod articuli sufficienter enumerentur
(84) Sed in contrarium est auctoritas Ecclesiae sic enumerantis (Symb. Nicaeno-Cpolit; DENZ. 86).
(85) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, illa per se pertinent ad fidem quorum visione in vita aeterna perimemur, et per quae ducemur in vitam aeternam. Duo autem nobis ibi videnda proponuntur, scilicet occultum divinitatis, cuius visio nos beatos facit; et mysterium humanitatis Christi, per quem in gloriam filiorum Dei accessum habemus, ut dicitur ad Rom. V. Unde dicitur Ioan. XVII, haec est vita aeterna, ut cognoscant te, Deum verum, et quem misisti Iesum Christum. Et ideo prima distinctio credibilium est quod quaedam pertinent ad maiestatem divinitatis;
22
Вопрос 1. О вере
что одни относятся к величию божественности, а другие к таинству человечества Христа, которая есть великая благочестия тайна (1 Тим 3, 16).
(86) И касательно величия божественности нам предлагается три [типа] догматов. Во- первых, о единстве божества, и первый артикул [Символа веры] — об этом. Во-вторых, о троичности Лиц, и об этом — три артикула, по одному на каждое Лицо. В-третьих, нам предлагается догмат о собственных действиях божества. И первое из них относится к бытию природы, сообразно чему нам предлагается догмат о творении. Второе — к бытию благодати, сообразно чему нам в одном артикуле предлагается все относящееся к освящению человека. Третье — к бытию славы, сообразно чему полагается еще один догмат — о воскресении плоти и вечной жизни. Итак, есть семь артикулов [Символа веры], относящихся к божеству.
(87) Равным образом, семь артикулов повествуют о человечестве Христа. Первый из них — о воплощении, или зачатии Христа. Второй — о Его рождении от Девы. Третий — о страдании, смерти и погребении. Четвертый — о схождении в ад. Пятый — о воскресении. Шестой — о вос¬
шествии на небеса. Седьмой — о грядущем пришествии для суда [над живыми и мертвыми]. Итак, всего получается четырнадцать артикулов.
(88) Но некоторые различают двенадцать артикулов веры — шесть, относящихся к божеству, и шесть — к человечеству. Дело в том, что они объединяют три артикула, посвященные Лицам (поскольку познание трех Лиц — одно и то же познание), а артикул о прославлении разделяют на два (на относящийся к воскресению плоти и на относящийся к славе души). И равным образом, они объединяют артикулы о зачатии и рождении.
(89) Итак, на первое надлежит ответить, что мы держимся верой многого такого, что философы не могли постичь о Боге при помощи естественного разума. Это относится, например, к провидению и всемогуществу Бога, а также к тому, что лишь Он достоин поклонения. И все это содержится в артикуле о единственности Бога.
(90) На второе надлежит ответить, что само имя «божество» подразумевает некое «попечение», как сказано в Первой Части (В. 13, Р. 8). Но существа, наделенные разумом, используют свое могущество сообразно воле и познанию. И потому всемогу-
quaedam vero pertinent ad mysterium humanitatis Christi, quod est pietatis sacramentum, ut dicitur I ad Tim. III.
(86) Circa maiestatem autem divinitatis tria nobis credenda proponuntur. Primo quidem, unitas divinitatis, et ad hoc pertinet pnmus articulus. Secundo, Trinitas personarum, et de hoc sunt tres articuli secundum tres personas. Tertio vero proponuntur nobis opera divinitatis propria. Quorum primum pertinet ad esse naturae, et sic proponitur nobis articulus creationis. Secundum vero pertinet ad esse gratiae, et sic proponuntur nobis sub uno articulo omnia pertinentia ad sanctificationem humanam. Tertium vero pertinet ad esse gloriae, et sic ponitur alius articulus de resurrectione camis et de vita aetema. Et ita sunt septem articuli ad divinitatem pertinentes.
(87) Similiter etiam circa humanitatem Chnsti ponuntur septem articuli. Quorum primus est de incarnatione sive de conceptione Chnsti; secundus de nativitate eius ex virgine; tertius de passione eius et morte et sepultura; quartus est de descensu ad Inferos; quintus est de resurrectione;
sextus de ascensione; septimus de adventu ad iudicium. Et sic in universo sunt quatuordecim.
(88) Quidam tamen distinguunt duodecim articulos fidei, sex pertinentes ad divinitatem et sex pertinentes ad humanitatem. Tres enim articulos trium personarum comprehendunt sub uno, quia eadem est cognitio trium personarum. Articulum vero de opere glorificationis distinguunt in duos, scilicet in resurrectionem camis et gloriam animae. Similiter articulum conceptionis et nativitatis coniungunt in unum.
(89) Ad primum ergo dicendum quod multa per fidem tenemus de Deo quae naturali ratione investigare philosophi non potuerunt, puta circa providentiam eius et omnipotentiam, et quod ipse solus sit colendus. Quae omnia continentur sub articulo unitatis Dei.
(90) Ad secundum dicendum quod ipsum nomen divinitatis importat provisionem quandam, ut in pnmo libro dictum est. Potentia autem in habentibus intellectum non operatur nisi secundum voluntatem et cognitionem. Et ideo
Раздел 8. Должным ли образом перечислены догматы веры
23
щество Бога некоторым образом включает знание и провидение обо всем, ведь Он не мог бы делать в более низких вещах все, что пожелает, если бы не познавал их и не обладал провидением о них.
(91) На третье надлежит ответить, что об Отце, Сыне и Духе Святом знание одно, если говорить о единстве сущности, которое относится к первому артикулу. А если говорить о различии Лиц, которое имеет место сообразно отношениям происхождения, то в познание Отца некоторым образом включается познание Сына, ведь Отец не был бы Отцом, не будь у Него Сына, а связью между Ними является Дух Святой. И в этом смысле правы те, кто говорит, что о трех Лицах имеется один артикул. Но поскольку об отдельных Лицах надлежит знать и нечто такое, относительно чего можно впасть в заблуждение, постольку можно говорить о трех артикулах, касающихся трех Лиц. В самом деле, Арий считал, что Отец всемогущ и вечен, а Сын при этом не равен Отцу и не одной сущности с Ним, и потому было необходимо ввести разъясняющий догмат о Лице Сына. И точно так же необходимо было ввести третий артикул о Духе Святом — против Македония.
(92) И то же самое относится к догматам о зачатии и рождении Христа, а также и воскресении и вечной жизни. Ведь в одном отношении они могут быть сведены к одному догмату, поскольку обращены на нечто одно, а в другом отношении могут различаться, поскольку соотносятся с разными сложностями.
(93) На четвертое надлежит ответить, что и Сыну, и Духу Святому подобает ниспосылаться для освящения творения, в связи с чем возникает несколько догматов. Соответственно, о Сыне и Духе Святом предлагается больше догматов, чем об Отце, который не ниспосылается, как сказано в Первой Части (В. 43, Р. 4).
(94) На пятое надлежит ответить, что освящение творения благодатью и обретение им полноты во славе происходит как через дар любви, который присваивается Духу Святому, так и через дар мудрости, который присваивается Сыну. Поэтому оба деяния относятся — через присвоение — как к Сыну, так и к Святому Духу, хотя и в разных отношениях.
(95) На шестое надлежит ответить, что в таинстве Евхаристии обнаруживаются два аспекта. Во-первых, то, что это — таинство; и в этом Евхаристия не отличается
omnipotentia Dei includit quodammodo omnium scientiam et providentiam, non enim posset omnia quae vellet in istis inferioribus agere msi ea cognosceret et eorum providentiam haberet.
(91) Ad tertium dicendum quod patns et filii et spiritus sancti est una cognitio quantum ad unitatem essentiae, quae pertinet ad pnmum articulum. Quantum vero ad distinctionem personarum, quae est per relationes onginis, quodammodo in cognitione patris includitur cognitio filii, non enim esset pater si filium non haberet, quorum nexus est spiritus sanctus Et quantum ad hoc bene moti sunt qui posuerunt unum articulum trium personarum. Sed quia circa singulas personas sunt aliqua attendenda circa quae contingit esse errorem, quantum ad hoc de tribus personis possunt poni tres articuli. Arius enim credidit patrem omnipotentem et aeternum, sed non credidit filium coaequalem et consubstantialem patn, et ideo necessarium fuit apponere articulum de persona filii ad hoc determinandum. Et eadem ratione contra Macedonium necesse fuit
ponere articulum tertium de persona spiritus sancti.
(92) Et similiter etiam conceptio Christi et nativitas, et etiam resurrectio et vita aeterna, secundum unam rationem possunt comprehendi sub uno articulo, inquantum ad unum ordinantur, et secundum aliam rationem possunt distingui, inquantum seorsum habent speciales difficultates.
(93) Ad quartum dicendum quod filio et spiritui sancto convenit mitti ad sanctificandam creaturam, circa quod plura credenda occurrunt. Et ideo circa personam filii et spiritus sancti plures articuli multiplicantur quam circa personam patris, qui nunquam mittitur, ut in pnmo dictum est.
(94) Ad quintum dicendum quod sanctificatio creaturae per gratiam et consummatio per glonam fit etiam per donum caritatis, quod appropriatur spiritui sancto, et per donum sapientiae, quod appropnatur filio. Et ideo utrumque opus pertinet et ad filium et ad spintum sanctum per appropriationem secundum rationes diversas.
(95) Ad sextum dicendum quod in sacramento Eucharistiae duo possunt considerari. Unum scilicet quod sacramen-
24
Вопрос 1. О вере
от других эффектов освящающей благодати. Во-вторых, что в ней таинственным образом содержится тело Христово; и в этом отношении Евхаристия относится к всемогуществу, как и прочие чудеса, которые приписываются всемогуществу.
Раздел 9
Подобающим ли образом догматы представлены в Символе
(96) Ход рассуждения в девятом разделе таков. Представляется, что догматы представлены в Символе недолжным образом.
(97) 1. В самом деле, св. Писание есть нор¬
ма веры, к которой нельзя ничего прибавить и от которой нельзя ничего отнять, ибо сказано (Втор 4, 2): Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Следовательно, непозволительно было конструировать некий Символ, как какую-то иную норму веры, помимо св. Писания.
(98) 2. Кроме того, апостол говорит
(Ефес 4, 5): Одна вера. Но Символ есть исповедание веры. Следовательно, не подобает, чтобы символов было много.
(99) 3. Кроме того, исповедание веры, со¬
держащееся в Символе, касается всех ве¬
рующих. Однако говорить о вере в Бога подобает в отношении не всех верующих, но только тех, кто обладает оформленной верой4. Следовательно, Символ веры неоправданно начинается со слов Верую во единого Бога.
(юо) 4. Кроме того, схождение в ад относится к догматам веры, как было сказано выше (Р. 8). Но в Символе Отцов нет упоминания о схождении в ад. Следовательно, как кажется, он недостаточен.
(mi) 5. Кроме того, Августин, разъясняя эти слова (Ин 14, 1), веруйте в Бога, и в Меня веруйте, говорит: Мы верим Петру и Павлу, но [религиозной верой] мы верим только в Бога. Итак, поскольку Вселенская Церковь является чем-то тварным, то, как представляется, не подобает говорить: [Верую] во единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь.
(102) 6. Кроме того, Символ провозглаша¬
ется как правило веры. Но правило веры должно провозглашаться публично, для всех. Соответственно, в мессе должны использоваться все символы, а не только Символ Отцов. Следовательно, как представляется, подразделение догматов в Символе не является подобающим.
tum est, et hoc habet eandem rationem cum aliis effectibus gratiae sanctificantis. Aliud est quod miraculose ibi corpus Christi continetur, et sic concluditur sub omnipotentia, sicut et omnia alia miracula, quae omnipotentiae attribuuntur.
Articulus 9
Utrum convenienter articuli fibei in symbolo ponantur
(96) Ad nonum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter articuli fidei in symbolo ponantur.
(97) 1. Sacra enim Scriptura est regula fidei, cui nec addere nec subtrahere licet, dicitur enim Deut. IV, non addetis ad verbum quod vobis loquor, neque auferetis ab eo. Eigo illicitum fuit aliquod symbolum constituere quasi regulam fidei, post sacram Scripturam editam.
(98) 2. Praeterea, sicut apostolus dicit, ad Ephes. IV, una est fides. Sed symbolum est professio fidei. Ergo inconvenienter traditur multiplex symbolum.
(99) 3. Praeterea, confessio fidei quae in symbolo continetur pertinet ad omnes fideles. Sed non omnibus fidelibus con¬
venit credere in Deum, sed solum illis qui habent fidem formatam. Ergo inconvenienter symbolum fidei traditur sub hac forma verborum, credo in unum Deum.
(100) 4. Praeterea, descensus ad Inferos est unus de articulis fidei, sicut supra dictum est. Sed in symbolo patrum non fit mentio de descensu ad Inferos. Ergo videtur insufficienter collectum.
(101) 5. Praeterea, sicut Augustinus dicit (In Io. tr. 29 super 7, 17; ML 35, 1631), exponens illud Ioan. XIV, creditis in Deum, et in me credite, Petro aut Paulo credimus, sed non dicimur credere nisi in Deum. Cum igitur Ecclesia Catholica sit pure aliquid creatum, videtur quod inconvenienter dicatur, in unam sanctam, Catholicam et apostolicam Ecclesiam.
(102) 6. Praeterea, symbolum ad hoc traditur ut sit regula fidei. Sed regula fidei debet omnibus proponi et publice. Quodlibet igitur symbolum deberet in Missa cantari, sicut symbolum patrum. Non videtur eigo esse conveniens editio articulorum fidei in symbolo.
Раздел 9. Подобающим ли образом догматы представлены в Символе
25
(юз) Но против: Вселенская Церковь не может заблуждаться, поскольку управляется Духом Святым, который есть Дух истины, ведь Господь обещал ученикам (Ин 16, 13), что когда приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Но символ составляется авторитетом Вселенской Церкви. Следовательно, он не содержит ничего неподобающего.
(104) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит апостол (Евр И, 6), надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Но человек может верить только в том случае, если ему предложат некую истину — для веры в нее. И потому было нужно, чтобы все истины веры были собраны воедино: чтобы их было проще предложить всем, и чтобы кто-нибудь не отклонился от истины веры из-за неведения. И именно от этого собрания положений веры происходит имя «символ».
(105) Итак, на первое надлежит ответить, что истина веры разлита по всему Писанию, причем [сообщается она] разными способами, и иногда обнаружить ее нелегко. Поэтому для извлечения истины веры из Писания требуются серьезные усилия и длительные исследования, которые могут осуществляться далеко не всеми, кому
необходимо знание истины веры — ведь люди, занятые своими делами, не могут найти время для исследований. И потому было необходимо собрать из положений Писания некую очевидную [истину], которую можно было бы предложить всем — для веры в нее. И эта [истина], конечно, не является добавлением к Писанию, скорее она — извлечение из Писания.
(106) На второе надлежит ответить, что все символы учат одной и той же истине. Но если распространяются заблуждения, возникает необходимость в том, чтобы более четко сформулировать истину веры, дабы еретики не поколебали веру простецов. И именно потому были сформулированы разные символы, которые, впрочем, отличаются только тем, что то, что в одном передано со всей очевидностью, в другом представлено имплицитно, сообразно тому, чего требовала ситуация с еретиками.
(107) На третье надлежит ответить, что исповедание веры сообщается в Символе как бы от лица всей Церкви, которую объединяет вера. Но вера Церкви есть оформленная вера, ибо такая вера присутствует во всех тех, кто принадлежит к Церкви и формально, и по заслугам. И потому исповедание веры в Символе дано сообразно
(103) Sed contra est quod Ecclesia universalis non potest errare, quia spiritu sancto gubernatur, qui est spiritus veritatis, hoc enim promisit dominus discipulis, Ioan. XVI, dicens, cum venerit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Sed symbolum est auctoritate universalis Ecclesiae editum. Nihil ergo inconveniens in eo continetur.
(104) Respondeo dicendum quod, sicut apostolus dicit, ad Heb. XI, accedentem ad Deum oportet credere. Credere autem non potest aliquis nisi ei veritas quam credat proponatur. Et ideo necessarium fuit veritatem fidei in unum colligi, ut facilius posset ommbus proponi, ne aliquis per ignorantiam a fidei ventate deficeret. Et ab huiusmodi collectione sententiarum fidei nomen symboli est acceptum.
(105) Ad primum ergo dicendum quod veritas fidei in sacra Scriptura diffuse continetur et vanis modis, et in quibusdam obscure; ita quod ad eliciendum fidei veritatem ex sacra Scriptura requiritur longum studium et exercitium, ad quod non possunt pervenire omnes illi quibus necessarium est cognoscere fidei ventatem, quorum plenque, aliis negotiis occupati, studio vacare non possunt. Et ideo
fuit necessarium ut ex sententiis sacrae Scripturae aliquid manifestum summarie colligeretur quod proponeretur omnibus ad credendum. Quod quidem non est additum sacrae Scripturae, sed potius ex sacra Scriptura assumptum.
(106) Ad secundum dicendum quod in omnibus symbolis eadem fidei veritas docetur. Sed ibi oportet populum diligentius instrui de fidei ventate ubi errores insurgunt, ne fides simplicium per haereticos corrumpatur. Et haec fuit causa quare necesse fuit edere plura symbola. Quae in nullo alio differunt nisi quod in uno plenius explicantur quae in alio continentur implicite, secundum quod exigebat haereticorum instantia.
(107) Ad tertium dicendum quod confessio fidei traditur in symbolo quasi ex persona totius Ecclesiae, quae per fidem unitur. Fides autem Ecclesiae est fides formata, talis enim fides invenitur in omnibus illis qui sunt numero et merito de Ecclesia. Et ideo confessio fidei in symbolo traditur secundum quod convenit fidei formatae, ut etiam si qui fideles fidem formatam non habent, ad hanc formam pertingere studeant.
26
Вопрос 1. О вере
тому, что подобает оформленной вере, так что даже если кто-то из верующих не обладает оформленной верой, он будет стараться обрести ее.
(108) На четвертое надлежит ответить, что относительно схождения в ад еретических заблуждений не обнаруживается, и потому в разъяснении этого догмата не было необходимости. И потому в Символе Отцов этого догмата нет, хотя он и предполагается, поскольку предопределен Апостольским Символом: в самом деле, последующий Символ не отменяет предшествующий, но скорее разъясняет его, как уже сказано (на 2).
(109) На пятое надлежит ответить, что слова о святой Вселенской Церкви надлежит понимать так, что наша вера относится к Духу Святому, который освящает Церковь, чтобы общий смысл был таков: «Верую в Духа Святого, освящающего Церковь». Впрочем, лучше, и в согласии с обычным словоупотреблением, опускать предлог «в», и говорить, как папа Лев: «святой Вселенской Церкви»5.
(по) На шестое надлежит ответить, что поскольку Символ Отцов разъясняет Апостольский Символ и был составлен уже после того, как вера была явлена, а Цер¬
ковь обрела мир, то потому во время мессы именно он произносится публично. Апостольский же Символ, который был составлен во времена гонений, когда веру еще нельзя было исповедовать публично, читается скрытно во время заутреней и вечерней, что служит как бы напоминанием о тьме заблуждений — прошлых и будущих.
Раздел 10 Действительно ли Символ веры составляется верховным понтификом
(ni) Ход рассуждения в десятом разделе таков. Представляется, что верховный понтифик не составляет Символ веры.
(112) 1. В самом деле, новая версия Сим¬
вола необходима для разъяснения догматов веры, как уже сказано (Р. 9). В Ветхом Завете догматы с течением времени разъяснялись все более и более подробно, сообразно тому, что чем ближе к эпохе Христа, тем яснее становилась истина веры, как уже сказано (Р. 7). Но после того, как в Новом Завете действие этой причины прекратилось, дальнейшего разъяснения догматов уже не требуется. Следовательно, как кажется, верховный понтифик не должен формулировать новый Символ веры.
(108) Ad quartum dicendum quod de descensu ad Inferos nullus error erat exortus apud haereticos, et ideo non fuit necessarium aliquam explicationem circa hoc fieri. Et propter hoc non reiteratur in symbolo patrum, sed supponitur tanquam praedeterminatum in symbolo apostolorum. Non emm symbolum sequens abolet praecedens, sed potius illud exponit, ut dictum est.
(109) Ad quintum dicendum quod, si dicatur in sanctam Ecclesiam Catholicam, est hoc intelligendum secundum quod fides nostra refertur ad spiritum sanctum, qui sanctificat Ecclesiam, ut sit sensus, credo in spiritum sanctum sanctificantem Ecclesiam. Sed melius est et secundum communiorem usum, ut non ponatur ibi in, sed simpliciter dicatur sanctam Ecclesiam Catholicam, sicut etiam Leo Papa dicit (In Symb. Apost.\ ML 21, 373).
(110) Ad sextum dicendum quod, quia symbolum patrum est declarativum symboli apostolorum, et etiam fuit conditum fide iam manifestata et Ecclesia pacem habente, propter hoc publice in Missa cantatur. Symbolum autem apostolo¬
rum, quod tempore persecutionis editum fuit, fide nondum publicata, occulte dicitur in prima et in completorio, quasi contra tenebras errorum praetentorum et futurorum.
Articulus 10 Utrum ad summum pontificem pertineat fidei symbolum ordinare
(111) Ad decimum sic proceditur. Videtur quod non pertineat ad summum pontificem fidei symbolum ordinare.
(112) 1. Nova emm editio symboli necessaria est propter explicationem articulorum fidei, sicut dictum est. Sed in vet- en testamento articuli fidei magis ac magis explicabantur secundum temporum successionem propter hoc quod veritas fidei magis manifestabatur secundum maiorem propinquitatem ad Christum, ut supra dictum est. Cessante ergo tali causa in nova lege, non debet fieri maior ac maior explicatio articulorum fidei. Ergo non videtur ad auctoritatem summi pontificis pertinere nova symboli editio.
Раздел 10. Действительно ли Символ веры составляется верховным понтификом 27
(из) 2. Кроме того, ни один человек не смеет делать то, что запрещено Вселенской Церковью под страхом анафемы. Но создание новых символов запрещено Вселенской Церковью под страхом анафемы. В самом деле, в правилах (7) первого Эфесского Собора сказано: Да не будет позволено никому произносить, писать, или слагать иную веру, кроме определенной святыми отцами в городе Никее со Святым Духом собравшихся; и после добавлено, что [отступивших от этого правила] ждет анафема. И то же было повторено в правилах (5) Халкидонского Собора. Следовательно, верховный понтифик не должен составлять новый Символ веры.
(114) 3. Кроме того, Афанасий был не вер¬
ховным понтификом, но патриархом Александрии. Тем не менее, он составил Символ, который используется при богослужении. Следовательно, как кажется, составление Символа является делом не только верховного понтифика, но и других.
(lis) Но против: Символ составляется на вселенском соборе. Но созывать таковые соборы могут только верховные понтифики, как явствует из «Декреталий».
(116) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше (Р. 9, на 2), новые фор¬
мулировки Символа были необходимы для того, чтобы избегать заблуждений. И создание нового Символа находится во власти того, кто может определять то, что относится к вере, таким образом, чтобы никто не усомнился в его полномочиях. Но таков только верховный понтифик, ибо, как сказано в «Декреталиях», только он уполномочен решать наиболее важные и трудные вопросы, относящиеся к Церкви. Поэтому Господь и говорит Петру, которого поставил верховным понтификом (Лк 22, 32): Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. И это так потому, что у всей Церкви должна быть единая вера, согласно этим словам (1 Кор 1, 10): Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений.
(in) А сохранить это можно только в том случае, если вопросы, которые возникают относительно веры, будет решать тот, кто возглавляет всю Церковь, поскольку тогда вся Церковь будет твердо следовать его словам. И потому только верховный понтифик может составлять новые символы, равно как и решать все другие вопросы, касающиеся всей Церкви (например, созывать вселенский собор и т. п.).
(113) 2. Praeterea, illud quod est sub anathemate interdictum ab universali Ecclesia non subest potestati alicuius hominis. Sed nova symboli editio interdicta est sub anathemate auctoritate universalis Ecclesiae. Dicitur enim in gestis primae Ephesinae synodi quod, perlecto symbolo Nicaenae synodi, decrevit sancta synodus aliam fidem nulli licere proferre vel conscribere vel componere praeter definitam a sanctis patribus qui in Nicaea congregati sunt cum spiritu sancto (Actio 6), et subditur anathematis poena; et idem etiam reiteratur in gestis Chalcedonensis synodi (Actio 5). Ergo videtur quod non pertineat ad auctoritatem summi pontificis nova editio symboli.
(114) 3. Praeterea, Athanasius non fuit summus pontifex, sed Alexandrinus patriarcha. Et tamen symbolum constituit quod in Ecclesia cantatur. Ergo non magis videtur pertinere editio symboli ad summum pontificem quam ad alios.
(115) Sed contra est quod editio symboli facta est in synodo generali. Sed huiusmodi synodus auctoritate solius summi
pontificis potest congregan, ut habetur in decretis, dist. XVII (Gratianus. Decretum, p. 1, d. 17, can. 4). Ergo editio symboli ad auctoritatem summi pontificis pertinet.
(116) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, nova editio symboli necessaria est ad vitandum insurgentes errores. Ad illius ergo auctoritatem pertinet editio symboli ad cuius auctoritatem pertinet sententialiter determinare ea quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Hoc autem pertinet ad auctoritatem summi pontificis, ad quem maiores et difficiliores Ecclesiae quaestiones referuntur ut dicitur in decretis, dist. XVII. (Gratianus. Decretum, p. 1, d. 17, can. 5). Unde et dominus, Luc. XXII, Petro dixit, quem summum pontificem constituit, ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Et huius ratio est quia una fides debet esse totius Ecclesiae, secundum illud I ad Cor. I, idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata.
(117) Quod servari non posset nisi quaestio fidei de fide exorta determinaretur per eum qui toti Ecclesiae praeest, ut sic
28
Вопрос 1. О вере
(118) Итак, на первое надлежит ответить, что в учении Христа и апостолов истина веры разъяснена достаточным образом. Но поскольку люди извращенные к собственной своей погибели превращают (2 Петр 3, 16) апостольское учение, то необходимо, чтобы с течением времени появлялись новые объяснения, направленные против возникающих заблуждений.
(119) На второе надлежит ответить, что постановление и решение Собора распространяется на частных лиц, которым непозволительно решать вопросы вероучения. В самом деле, это общее постановление Собора не исключает того, что следующий Собор может дать новую формулировку Символа, которая, понятно, представит не новую веру, но новое разъяснение все
той же веры. В самом деле, каждый Собор учитывал, что следующий Собор может раскрыть более полно то, что было разъяснено им самим — если возникнет необходимость противостоять новой ереси. И потому [таковое разъяснение] есть дело верховного понтифика, который может созывать собор и утверждать его постановления.
(120) На третье надлежит ответить, что Афанасий изложил [истину] веры не в виде Символа, но скорее как некую доктрину, что явствует из самого его стиля. Но поскольку его доктрина содержала краткое изложение здравой истины веры, то она — авторитетом верховного понтифика — была принята как некое правило веры.
eius sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur. Et ideo ad solam auctoritatem summi pontificis pertinet nova editio symboli, sicut et omnia alia quae pertinent ad totam Ecclesiam, ut congregare synodum generalem et alia huiusmodi.
(118) Ad primum ergo dicendum quod in doctrina Christi et apostolorum veritas fidei est sufficienter explicata. Sed quia perversi homines apostolicam doctnnam et ceteras Scripturas pervertunt ad sui ipsorum perditionem, sicut dicitur II Pet. ult.; ideo necessaria est, temporibus procedentibus, explanatio fidei contra insurgentes errores.
(119) Ad secundum dicendum quod prohibitio et sententia synodi se extendit ad privatas personas, quarum non est determinare de fide. Non enim per huiusmodi sententiam synodi generalis ablata est potestas sequenti synodo novam
editionem symboli facere, non quidem aliam fidem continentem, sed eandem magis expositam. Sic enim quaelibet synodus observavit, ut sequens synodus aliquid exponeret supra id quod praecedens synodus exposuerat, propter necessitatem alicuius haeresis insurgentis. Unde pertinet ad summum pontificem, cuius auctoritate synodus congregatur et eius sententia confirmatur.
(120) Ad tertium dicendum quod Athanasius non composuit manifestationem fidei per modum symboli, sed magis per modum cuiusdam doctrinae, ut ex ipso modo loquendi apparet. Sed quia integram fidei veritatem eius doctrina breviter continebat, auctoritate summi pontificis est recepta, ut quasi regula fidei habeatur.
Вопрос 2
О действии веры
) Затем надлежит рассмотреть действие веры. И во-первых, внутреннее действие, а во-вторых, внешнее (В. 3).
) И касательно первого рассматривается десять [проблем]: 1) в чем заключается акт веры (каковой акт есть внутреннее действие веры); 2) сколькими способами он выражается; 3) необходимо ли для спасения верить в нечто, превышающее естественный разум; 4) необходимо ли верить в то, что обретается при помощи естественного разума; 5) необходимо ли для спасения верить во что-либо отчетливым образом; 6) обязаны ли верить отчетливо все и равным образом; 7) всегда ли было необходимо для спасения иметь отчетливую веру во Христа; 8) необходима ли для спасения отчетливая вера в Троицу; 9) является ли заслугой действие веры; 10) может ли человеческая аргументация умалить заслугу веры.
Раздел 1
Действительно ли «верить» — значит размышлять с одобрением
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что «верить» — не значит размышлять с одобрением.
(4) 1. В самом деле, размышление (cogitatio) подразумевает некое исследование, поскольку есть как бы со-деятельность (simul agitare). Но Дамаскин говорит в IV книге «О вере православной», что вера не есть исследовательское согласие. Следовательно, размышление не относится к действию веры.
(5) 2. Кроме того, вера находится в разуме, как будет ясно из нижеследующего (В. 4, Р. 2). Но «cogitatio» есть акт коги- тативной способности1, которая относится к чувственной части души, как сказано в Первой Части (В. 78, Р. 4). Следовательно, «cogitatio», или размышление, не относится к вере.
(6) 3. Кроме того, размышление есть действие разума постольку, поскольку его объ-
Quaestio 2 De actu fidei
(1) Deinde considerandum est de actu fidei. Et primo, de actu interiori; secundo, de actu extenon.
(2) Circa primum quaeruntur decem. Primo, quid sit credere, quod est actus interior fidei. Secundo, quot modis dicatur. Tertio, utrum credere aliquid supra rationem naturalem sit necessarium ad salutem. Quarto, utrum credere ea ad quae ratio naturalis pervenire potest sit necessarium. Quinto, utrum sit necessarium ad salutem credere aliqua explicite Sexto, utrum ad credendum explicite omnes aequaliter teneantur. Septimo, utrum habere explicitam fidem de Chnsto semper sit necessarium ad salutem. Octavo, utrum credere Trinitatem explicite sit de necessitate salutis. Nono, utrum actus fidei sit mentonus. Decimo, utrum ratio humana diminuat mentum fidei.
Articulus 1 Utrum credere sit cum assensione cogitare
(3) Ad primum sic proceditur. Videtur quod credere non sit cum assensione cogitare.
(4) 1. Cogitatio enim importat quandam inquisitionem, dicitur enim cogitare quasi simul agitare. Sed Damascenus dicit, in IVlib. (De fide orth., c. 2; PG 94,1128), quod fides est non inquisitus consensus Ergo cogitare non pertinet ad actum fidei.
(5) 2. Praeterea, fides in ratione ponitur, ut infra dicetur. Sed cogitare est actus cogitativae potentiae, quae pertinet ad partem sensitivam, ut in primo dictum est. Ergo cogitatio ad fidem non pertinet.
(6) 3. Praeterea, credere est actus intellectus, quia eius obiectum est verum. Sed assentire non videtur esse actus intellectus, sed voluntatis, sicut et consentire, ut supra dictum est. Ergo credere non est cum assensione cogitare.
30
Вопрос 2. О действии веры
ектом является истина. Но одобрение, судя по всему, является действием не разума, но воли, точно так же как действием воли является согласие, как сказано ранее (Ч.И-1, В. 15, Р.1, на 3).
(7) Но против: Августин определяет «верование» именно так.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что термин «cogitare» имеет три значения. Во-первых, общеупотребительное — актуальное умозрение разума, сообразно тому, что говорит Августин в XIV книге «О Троице»: И это я называю разумением, поскольку мы разумеем, размышляя. Во-вторых, в более собственном смысле слова, «cogitare» подразумевает умозрение разума, сочетающееся с неким исследованием, предшествующее тому моменту, когда разум обретает совершенство в достоверности созерцания. И сообразно этому Августин говорит, что Сын Божий называется не Размышлением, но Словом Божиим. Ведь наше размышление, достигающее того, что мы знаем, и им оформленное, является истинным нашим словом. И потому Слово Божие должно пониматься безо всякого движения мысли, не как нечто, обладающее чем-то оформляемым, которое может не иметь пока формы. И в соответствии с этим под «cogi¬
tatio» в собственном смысле слова подразумевается движение рассуждающего духа, еще не обретшего совершенства через полное созерцание истины. Но поскольку таковое движение может быть направлено либо на общие интенции (что относится к разумной части души), либо на частные (что относится к чувственной части души), то «cogitatio» во втором смысле подразумевает действие рассуждающего разума, а в третьем смысле — действие когитатив- ной способности.
(9) Если, следовательно, понимать термин «cogitare» в общеупотребительном смысле, как в первом случае, то выражение «размышление с одобрением» не передает полного содержания «верования», ведь в этом смысле «размышляет с одобрением» также и тот, кто рассматривает то, что знает научным знанием или простым постижением. А если понимать термин «cogitare» во втором смысле, то тогда выражение «размышление с одобрением» уже передает полное содержания того действия, которым является «верование». В самом деле, некоторые действия, относящиеся к разуму, обладают твердым одобрением даже без такового размышления: когда некто рассматривает то, что знает научным знанием или про-
(7) In contrarium est quod Augustinus sic definit credere in libro De praed. sanet, c. 2; PL 44, 963).
(8) Respondeo dicendum quod cogitare tripliciter sumi potest. Uno modo, communiter pro qualibet actuali consideratione intellectus, sicut Augustinus dicit, in XIV De Trin. (7; PL 42, 1044), hanc nunc dico intelligentiam qua intelligimus cogitantes. Alio modo dicitur cogitare magis proprie consideratio intellectus quae est cum quadam inquisitione, antequam perveniatur ad perfectionem intellectus per certitudinem visionis. Et secundum hoc Augustinus, XV De Trin. (16; PL 42, 1079), dicit quod Dei filius non cogitatio dicitur, sed verbum Dei dicitur. Cogitatio quippe nostra proveniens ad id quod scimus atque inde formata verbum nostrum verum est. Et ideo verbum Dei sine cogitatione debet intelligi, non aliquid habens formabile, quod possit esse informe. Et secundum hoc cogitatio proprie dicitur motus animi deliberantis nondum perfecti per plenam visionem veritatis. Sed quia talis motus potest esse vel animi deliberantis circa intentiones universales,
quod pertinet ad intellectivam partem; vel circa intentiones particulares, quod pertinet ad partem sensitivam, ideo cogitare secundo modo sumitur pro actu intellectus deliberantis; tertio modo, pro actu virtutis cogitativae.
(9) Si igitur cogitare sumatur communiter, secundum primum modum, sic hoc quod dicitur cum assensione cogitare non dicit totam rationem eius quod est credere, nam per hunc modum etiam qui considerat ea quae scit vel intelligit cum assensione cogitat Si vero sumatur cogitare secundo modo, sic in hoc intelligitur tota ratio huius actus qui est credere. Actuum enim ad intellectum pertinentium quidam habent firmam assensionem absque tali cogitatione, sicut cum aliquis considerat ea quae scit vel intelligit, talis enim consideratio iam est formata. Quidam vero actus intellectus habent quidem cogitationem informem absque firma assensione, sive in neutram partem declinent, sicut accidit dubitanti; sive in unam partem magis declinent sed tenentur aliquo levi signo, sicut accidit suspicanti, sive uni parti adhaereant, tamen cum formidine alterius, quod ac-
Раздел 2. О делении действия веры
31
стым постижением, ибо таковое рассмотрение уже оформлено. А другие действия разума сочетаются с неоформленным размышлением, без твердого одобрения; и тогда разум либо не склоняется ни к одной из сторон [альтернативы] (и, соответственно, имеет место сомнение), либо склоняется к одной из сторон, но на весьма смутных основаниях (и тогда имеет место предположение), либо избирает одну из сторон, но опасается при этом, что истинной может оказаться другая (и тогда имеет место мнение). А то действие, которое называется «верованием», обладает твердым одобрением одной из сторон (и в этом оно совпадает с научным познанием и простым постижением), но его познание не является совершенным, сопровождающимся четким вйдением (и в этом оно совпадает с сомнением, предположением и мнением). И так характерной чертой верующего является то, что он размышляет с согласием, и именно это отличает акт веры от всех действий разума, которые соотносятся с истиной и ложью.
(ю) Итак, на первое надлежит ответить, что вера не подразумевает исследования при помощи естественного рассудка, доказывающего то, во что верят. Но имеет место
некое исследование того, что приводит человека к вере, например, того, что это было сказано Богом и подтверждено чудесами.
(и) На второе надлежит ответить, что под «cogitatio» здесь понимается не действие когитативной способности, но действие мышления, как уже сказано (в Отв.).
(12) На третье надлежит ответить, что разум верующего избирает нечто одно не благодаря рассудку, но благодаря воле. И потому одобрение здесь подразумевает действие разума, который определяется к чему-то одному благодаря воле.
Раздел 2
Подобающим ли образом действие веры разделяют на «доверие Богу», «веру в существование Бога» и «веру в Бога»
(13) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что действие веры не следует разделять на «доверие Богу», «веру в существование Бога» и «веру в Бога».
(и) 1. В самом деле, у единого хабиту-
са — единое действие. Но хабитус веры един, поскольку вера — единая добродетель. Следовательно, не подобает полагать несколько действий веры.
cidit opinanti. Sed actus iste qui est credere habet firmam adhaesionem ad unam partem, in quo convenit credens cum sciente et intelligente, et tamen eius cognitio non est perfecta per manifestam visionem, in quo convenit cum dubitante, suspicante et opinante. Et sic propnum est credentis ut cum assensu cogitet, et per hoc distinguitur iste actus qui est credere ab omnibus actibus intellectus qui sunt circa verum vel falsum.
(10) Ad primum ergo dicendum quod fides non habet inquisitionem rationis naturalis demonstrantis id quod creditur. Habet tamen inquisitionem quandam eorum per quae inducitur homo ad credendum, puta quia sunt dicta a Deo et miraculis confirmata.
(11) Ad secundum dicendum quod cogitare non sumitur hic prout est actus cogitativae virtutis, sed prout pertinet ad intellectum, ut dictum est.
(12) Ad tertium dicendum quod intellectus credentis determinatur ad unum non per rationem, sed per voluntatem.
Et ideo assensus hic accipitur pro actu intellectus secundum quod a voluntate determinatur ad unum.
Articulus 2
Utrum convenienter distinguantur actus fidei per hoc quod est credere Deo, credere Deum et credere in Deum
(13) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter distinguatur actus fidei per hoc quod est credere Deo, credere Deum et credere in Deum.
(14) 1. Unius enim habitus unus est actus. Sed fides est unus habitus, cum sit una virtus. Ergo inconvenienter ponuntur plures actus eius.
(15) 2. Praeterea, illud quod est commune omni actui fidei non debet poni ut particularis actus fidei. Sed credere Deo invenitur communiter in quolibet actu fidei, quia fides innititur primae veritati. Ergo videtur quod inconvenienter distinguatur a quibusdam aliis actibus fidei.
32
Вопрос 2. О действии веры
(15) 2. Кроме того, то, что является общим для всех действий веры, не должно рассматриваться как частное действие веры. Но доверие Богу обнаруживается в любом действии веры, поскольку вера опирается на первую истину. Следовательно, как кажется, некоторые подразделяют действия веры недолжным образом.
(16) 3. Кроме того, то, что подобает также и неверным, не может считаться действием веры, но вера в существование Бога подобает также и неверным. Следовательно, не следует проводить различие между действиями веры.
(17) 4. Кроме того, движение к цели относится к воле, объектом которой является благо и цель. Но верование есть действие не воли, но разума. Следовательно, вера в Бога, которая подразумевает движение к цели, не может быть включена в представленное деление.
(18) Но против: это деление предложено Августином.
(19) Отвечаю: надлежит сказать, что действие любой способности или хабитуса рассматривается сообразно порядку способности или хабитуса к собственному объекту. Но объект веры может пониматься в трех смыслах. В самом деле, верование отно¬
сится к разуму, постольку, поскольку воля движет его к одобрению, как уже сказано (Р. 1), и потому объект может рассматриваться либо со стороны разума, либо со стороны воли, движущей разум. И если рассматривать объект веры со стороны разума, то тогда в нем можно, как уже сказано (В. 1, Р. 1), обнаружить две [вещи]. Во- первых, материальный объект веры. И тогда действием веры является вера в существование Бога, поскольку, как сказано выше (В. 1, Р. 1), нам для веры предлагается только то, что тем или иным образом соотносится с Богом. А второе, что обнаруживается в объекте веры — это формальный аспект объекта, который выступает в роли средства, благодаря которому одобряют то, что предложено для веры. И в этом отношении действием веры является доверие Богу, поскольку, как уже сказано выше (В. 1, Р. 1), формальным объектом веры является первая истина, к которой человек прибегает, чтобы ради нее одобрять то, что предложено для веры. А если рассматривать объект веры в третьем смысле, т. е. сообразно тому, что разум движим волей, то тогда действие веры будет заключаться в вере в Бога, ведь первая истина соотносится с волей как цель.
(16) 3 Praeterea, illud quod convenit etiam non fidelibus non potest poni fidei actus. Sed credere Deum esse convenit etiam infidelibus. Ergo non debet pom inter actus fidei.
(17) 4. Praeterea, moveri in finem pertinet ad voluntatem, cuius obiectum est bonum et finis. Sed credere non est actus voluntatis, sed intellectus. Ergo non debet poni differentia una eius quod est credere in Deum, quod importat motum in finem.
(18) Sed contra est quod Augustinus hanc distinctionem ponit, in libns De verb. Dom. (Serm. ad popul. serm. 144, c. 2; PL 38, 788), et super Ioan (Tract. 29, In Ioan. 7, 17; PL 35, 1631).
(19) Respondeo dicendum quod actus cuiuslibet potentiae vel habitus accipitur secundum ordinem potentiae vel habitus ad suum obiectum. Obiectum autem fidei potest tripliciter considerari. Cum enim credere ad intellectum pertineat prout est a voluntate motus ad assentiendum, ut dictum
est, potest obiectum fidei accipi vel ex parte ipsius intellectus, vel ex parte voluntatis intellectum moventis. Si quidem ex parte intellectus, sic in obiecto fidei duo possunt considerari, sicut supra dictum est. Quorum unum est materiale obiectum fidei. Et sic ponitur actus fidei credere Deum, quia, sicut supra dictum est, nihil proponitur nobis ad credendum nisi secundum quod ad Deum pertinet. Aliud autem est formalis ratio obiecti, quod est sicut medium propter quod tali credibili assentitur. Et sic ponitur actus fidei credere Deo, quia, sicut supra dictum est, formale obiectum fidei est ventas prima, cui inhaeret homo ut propter eam creditis assentiat. Si vero consideretur tertio modo obiectum fidei, secundum quod intellectus est motus a voluntate, sic ponitur actus fidei credere in Deum, ventas enim prima ad voluntatem refertur secundum quod habet rationem finis.
(20) Ad primum ergo dicendum quod per ista tna non designantur diversi actus fidei, sed unus et idem actus habens diversam relationem ad fidei obiectum.
Раздел 3. Нужна ли для спасения вера в то, что выше разума
33
(20) Итак, на первое надлежит ответить, что это деление не предполагает наличие трех различных действий веры — речь идет об одном и том же действии, обладающем различными отношениями к объекту веры.
(21) И из этого очевиден ответ на второе.
(22) На третье надлежит ответить, что вера в существование Бога подобает неверным не в том смысле, в каком мы говорим о действии веры. В самом деле, они верят в Бога на иных условиях, нежели те, которые определяет вера. И потому они верят в Бога неистинным образом, ведь, как говорит Философ в IX книге «Метафизики», знать простые вещи недостаточным образом — значит не знать их вообще.
(23) На четвертое надлежит ответить, что, как уже сказано выше (Ч. I, В. 82, Р. 4; Ч. II-I, В. 9, Р. 1), воля движет разум и другие способности души к цели. И сообразно этому говорится о том действии веры, которое заключается в вере в Бога.
Раздел 3
Действительно ли верить в нечто, превышающее возможности разума, необходимо для спасения
(24) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что верить не не¬
обходимо для спасения.
(25) 1. В самом деле, для сохранения и совершенства любой вещи достаточно того, что подобает ей сообразно ее природе. Но то, что относится к вере, превышает возможности естественного разума человека, поскольку невидимо, как сказано выше (В. 1, Р. 5). Следовательно, верить не необходимо для спасения.
(26) 2. Кроме того, человеку опасно соглашаться с тем, относительно чего он не может вынести суждение, истинно таковое или нет, согласно этим словам (Иов 12, 11): Не ухо ли разбирает слова? Но подобное суждение относительно догматов веры для человека невозможно, поскольку он не может свести их к первоначалам, посредством коих мы судим обо всем. Следовательно, придерживаться веры для человека опасно. Следовательно, верить не необходимо для спасения.
(27) 3. Кроме того, спасение человека —
в Боге, согласно этим словам (Пс 36, 39): От Господа спасение праведникам. Но, как сказано (Рим 1, 20): Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы. Однако то, что рассматриваемо, не является объектом веры. Следовательно, для спасе-
(21) Et per hoc etiam patet responsio ad secundum.
(22) Ad tertium dicendum quod credere Deum non convenit infidelibus sub ea ratione qua ponitur actus fidei. Non enim credunt Deum esse sub his conditionibus quas fides determinat. Et ideo nec vere Deum credunt, quia, ut philosophus dicit, IX Metaphys. (VIII, 10; 105lb25), in simplicibus defectus cognitionis est solum in non attingendo totaliter.
(23) Ad quartum dicendum quod, sicut supra dictum est, voluntas movet intellectum et alias vires ammae in finem. Et secundum hoc ponitur actus fidei credere in Deum.
Articulus 3
Utrum credere aliquid supra rationem naturalem sit necessarium ad salutem
(24) Ad tertium sic proceditur Videtur quod credere non sit necessanum ad salutem.
(25) 1. Ad salutem enim et perfectionem cuiuslibet rei ea sufficere videntur quae conveniunt ei secundum suam naturam. Sed ea quae sunt fidei excedunt naturalem hominis rationem, cum sint non apparentia, ut supra dictum est. Ergo credere non videtur esse necessarium ad salutem.
(26) 2. Praeterea, penculose homo assentit illis in quibus non potest iudicare utrum illud quod ei proponitur sit verum vel falsum, secundum illud lob XII, nonne auris verba diiudicat? Sed tale iudicium homo habere non potest in his quae sunt fidei, quia non potest homo ea resolvere in principia prima, per quae de ommbus iudicamus. Ergo periculosum est talibus fidem adhibere. Credere ergo non est necessarium ad salutem.
(27) 3. Praeterea, salus homims in Deo consistit, secundum illud Psalm., salus autem iustorum a domino. Sed invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur.; sempiterna quoque virtus eius et divinitas, ut dicitur Rom. I. Quae autem conspiciuntur intellectu non creduntur. Ergo non est necessarium ad salutem ut homo aliqua credat.
34
Вопрос 2. О действии веры
ния не необходимо верить во что-либо.
(28) Но против: сказано (Евр 11,6): Без веры угодить Богу невозможно.
(29) Отвечаю: Надлежит сказать, что во всех упорядоченных природах обнаруживается то обстоятельство, что для совершенства низших природ необходимо сочетание двух [вещей], одна из которых относится к собственному движению этой природы, а другая — к движению более высокой природы. Так, вода своим собственным движением движется к центру, а сообразно движению Луны движется, отливами и приливами, вокруг центра. И, равным образом, сферы планет своим собственным движениям движутся с запада на восток, а сообразно движению первой сферы — с востока на запад. Но только разумная тварная природа обладает непосредственным порядком по отношению к Богу. Действительно, прочие творения не достигают ничего общего, но соотносятся только с частным, и причастны божественной благости либо только в существовании (как неодушевленные творения), либо также в жизни и познании единичного (как растения и животные). Разумное же творение — постольку, поскольку оно постигает общие смысловые содержания блага и су¬
щего — обладает непосредственным порядком по отношению к всеобщему началу бытия. Следовательно, совершенство разумной природы заключается не только в том, что подобает ей сообразно ее природе, но и в том, что приписывается ей сообразно некоей сверхъестественной причастности божественному благу. Поэтому выше и сказано (Ч. II-I, В. 3, Р. 8), что предельное блаженство человека заключается в некоем сверхъестественном созерцании Бога. И достичь этого созерцания человек может только в том случае, если научится у Бога, согласно этим словам (Ин 6, 45): Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Но получение этого знания происходит не сразу, а постепенно, сообразно модусу человеческой природы. И всякий, кто обучается таким вот образом, для достижения совершенного знания должен сначала поверить, отчего Философ и говорит, что ученик должен верить. Поэтому для достижения совершенного блаженного вйдения человек должен сначала поверить Богу как ученик верит учителю,
(зо) Итак, на первое надлежит ответить, что поскольку природа человека зависит от высшей природы, то для ее совершенства недостаточно только естественного познания,
(28) Sed contra est quod dicitur Heb. XI, sine fide impossibile est placere Deo.
(29) Respondeo dicendum quod in omnibus natuns ordinatis invenitur quod ad perfectionem naturae inférions duo concurrunt, unum quidem quod est secundum proprium motum; aliud autem quod est secundum motum superioris naturae. Sicut aqua secundum motum proprium movetur ad centrum, secundum autem motum lunae movetur circa centrum secundum fluxum et refluxum, similiter etiam orbes planetarum moventur propnis motibus ab occidente in orientem, motu autem pnmi orbis ab onente in occidentem. Sola autem natura rationalis creata habet immediatum ordinem ad Deum. Quia ceterae creaturae non attingunt ad aliquid universale, sed solum ad aliquid particulare, participantes divinam bonitatem vel in essendo tantum, sicut inanimata, vel etiam in vivendo et cognoscendo singularia, sicut plantae et animalia, natura autem rationalis, inquantum cognoscit universalem boni et entis rationem, habet immediatum ordinem ad universale essendi
principium. Perfectio ergo rationalis creaturae non solum consistit in eo quod ei competit secundum suam naturam, sed etiam in eo quod ei attribuitur ex quadam supematu- rali participatione divinae bonitatis. Unde et supra dictum est quod ultima beatitudo hominis consistit in quadam su- pematurali Dei visione. Ad quam quidem visionem homo pertingere non potest nisi per modum addiscentis a Deo doctore, secundum illud Ioan. VI, omnis qui audit a patre et didicit venit ad me. Huius autem disciplinae fit homo particeps non statim, sed successive, secundum modum suae naturae. Omnis autem talis addiscens oportet quod credat, ad hoc quod ad perfectam scientiam perveniat, sicut etiam philosophus dicit {De Soph. 2; I65b3) quod oportet addiscentem credere. Unde ad hoc quod homo perveniat ad perfectam visionem beatitudinis praeexigitur quod credat Deo tanquam discipulus magistro docenti.
(30) Ad primum ergo dicendum quod, quia natura hominis dependet a superiori natura, ad eius perfectionem non sufficit cognitio naturalis, sed requiritur quaedam super-
Раздел 4. Нужна ли для спасения вера в то, что доказывается разумом
35
но требуется и сверхъестественное, как уже сказано выше (в Отв.).
(31) На второе надлежит ответить, что как человек соглашается с началами при помощи естественного света разума, так же тот, кто наделен добродетелями, выносит при помощи хабитуса добродетели правильное суждение о том, что подобает этой добродетели. И в этом же смысле человек при помощи света веры, излитого в него свыше, одобряет то, что относится к вере, а не то, что таковому противоположно. И потому нет никакой опасности или осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут (Рим 8,1), которых Он сам просветил верой.
(32) На третье надлежит ответить, что в большинстве случаев вера воспринимает невидимое Божие более высоким способом, чем естественный разум, восходящий от творений к Богу. Поэтому и сказано (Сир 3, 23): Тебе открыто очень много из того, что превосходит человеческое знание 2.
Раздел 4
Необходимо ли верить в то, что можно доказать при помощи естественного разума
(33) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что верить в то, что
можно доказать при помощи естественного разума, не необходимо.
(34) 1. В самом деле, в деяниях природы нет ничего лишнего, и тем более это относится к деяниям Бога. Но если нечто может возникнуть при помощи чего-то одного, то добавление другого избыточно. Следовательно, избыточно верить в то, что познается при помощи естественного разума.
(35) 2. Кроме того, верить необходимо в то, о чем вера. Но, как уже установлено выше (В. 1, Р. 5), не может быть такого, чтобы об одном и том же была и вера, и научное знание. Итак, поскольку обо всем, что познается естественным разумом, может быть наука, то, как представляется, верить в то, что может быть доказано естественным разумом, не необходимо.
(36) 3. Кроме того, все познаваемое научным познанием, как кажется, обладает одним и тем же смысловым содержанием. Если, следовательно, нечто из такового предлагается как то, во что надлежит верить, то — на тех же основаниях — верить надлежит и во все остальное. Но это ложно. Следовательно, нет необходимости верить в то, что познается при помощи естественного разума.
naturalis, ut supra dictum est.
(31) Ad secundum dicendum quod, sicut homo per naturale lumen intellectus assentit principiis, ita homo virtuosus per habitum virtutis habet rectum iudicium de his quae conveniunt virtuti illi. Et hoc modo etiam per lumen fidei divinitus infusum homini homo assentit his quae sunt fidei, non autem contrariis. Et ideo nihil periculi vel damnationis inest his qui sunt in Christo Iesu, ab ipso illuminati per fidem.
(32) Ad tertium dicendum quod invisibilia Dei altiori modo, quantum ad plura, percipit fides quam ratio naturalis ex creaturis in Deum procedens. Unde dicitur Eccli. III, plurima super sensum hominis ostensa sunt tibi.
Articulus 4
Utrum credere ea quae ratione naturali probari possunt sit necessarium
(33) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod ea quae ratione naturali proban possunt non sit necessarium credere.
(34) 1. In operibus enim Dei nihil superfluum invenitur, multo minus quam in operibus naturae. Sed ad id quod per unum potest fieri superflue apponitur aliud. Ergo ea quae per naturalem rationem cognosci possunt superfluum esset per fidem accipere.
(35) 2. Praeterea, ea necesse est credere de quibus est fides. Sed non est de eodem scientia et fides, ut supra habitum est. Cum igitur scientia sit de omnibus illis quae naturali ratione cognosci possunt, videtur quod non oporteat credere ea quae per naturalem rationem probantur.
(36) 3. Praeterea, omnia scibilia videntur esse unius rationis. Si igitur quaedam eorum proponuntur homini ut credenda, pari ratione omnia huiusmodi necesse esset credere. Hoc autem est falsum. Non ergo ea quae per naturalem rationem cognosci possunt necesse est credere.
36
Вопрос 2. О действии веры
(37) Но против: необходимо верить в то, что Бог един и бестелесен, а это доказывается философами при помощи естественного разума.
(38) Отвечаю: надлежит сказать, что человеку необходимо воспринимать верой не только то, что превыше разума, но также и то, что может познаваться разумом. И это так по следующим трем причинам. Во-первых, чтобы у человека была возможность быстрее достичь познания божественной истины. В самом деле, та наука, к которой относится доказательство существования Бога и все прочее тому подобное, изучается человеком в последнюю очередь, после многих других наук. И в этом случае человек достигает знания о Боге только спустя много лет [после начала обучения]. Вторая причина [заключается в том, что необходимо], чтобы знание о Боге было как можно более доступным. В самом деле, многие люди не могут добиться успеха в науках — либо в силу недостатка способностей, либо в силу занятости делами земной жизни, либо в силу лени. И все они были бы лишены знания о Боге, если бы оно не было предложено им в вере. А третья причина [заключается в том], что вера надежна. В самом деле, человече¬
ский разум слаб в том, что касается [познания] божественных вещей; и знаком этого является то, что философы, [даже] исследуя при помощи естественного разума человеческие вещи, во многом ошибались и [часто] противоречили друг другу. Следовательно, для того, чтобы люди могли обладать достоверным и надежным знанием о Боге, потребовалось, чтобы [истина] о божественных вещах была сообщена им в вере, как бы непосредственно от Бога, Который не может обманывать.
(39) Итак, на первое надлежит ответить, что исследования естественного разума недостаточно человеческому роду для познания божественных вещей, даже тех, которые могут быть познаны разумом. И потому верить в таковое отнюдь не лишне.
(40) На второе надлежит ответить, что научное знание и вера невозможны об одном и том же в одном и том же аспекте. Но, как уже сказано выше (В. 1, Р. 5), то, что один познает научным знанием, для другого является объектом веры.
(41) На третье надлежит ответить, что все познаваемое научным знанием сходно в смысловом содержании научного знания, но вовсе не в том, что направляет к бла-
(37) Sed contra est quia necesse est Deum credere esse unum et incorporeum, quae naturali ratione a philosophis probantur.
(38) Respondeo dicendum quod necessarium est homini accipere per modum fidei non solum ea quae sunt supra rationem, sed etiam ea quae per rationem cognosci possunt. Et hoc propter tna. Pnmo quidem, ut citius homo ad veritatis divinae cognitionem perveniat Scientia enim ad quam pertinet probare Deum esse et alia huiusmodi de Deo, ultimo hominibus addiscenda proponitur, praesup- positis multis aliis scientiis. Et sic non nisi post multum tempus vitae suae homo ad Dei cognitionem perveniret. Secundo, ut cognitio Dei sit communior. Multi emm in studio scientiae proficere non possunt, vel propter hebetudinem ingenii; vel propter alias occupationes et necessitates temporalis vitae; vel etiam propter torporem addiscendi. Qui omnino a Dei cognitione fraudarentur nisi proponerentur eis divina per modum fidei. Tertio modo,
propter certitudinem. Ratio enim humana in rebus divinis est multum deficiens, cuius signum est quia philosophi, de rebus humanis naturali investigatione perscrutantes, in multis erraverunt et sibi ipsis contraria senserunt. Ut ergo esset indubitata et certa cognitio apud homines de Deo, oportuit quod divina eis per modum fidei traderentur, quasi a Deo dicta, qui mentiri non potest.
(39) Ad primum ergo dicendum quod investigatio naturalis rationis non sufficit humano genen ad cognitionem divinorum etiam quae ratione ostendi possunt. Et ideo non est superfluum ut talia credantur.
(40) Ad secundum dicendum quod de eodem non potest esse scientia et fides apud eundem. Sed id quod est ab uno scitum potest esse ab alio creditum, ut supra dictum est.
(41) Ad tertium dicendum quod, si omnia scibilia conveniant in ratione scientiae, non tamen conveniunt in hoc quod aequaliter ordinent ad beatitudinem Et ideo non aequaliter omnia proponuntur ut credenda.
Раздел 5. Должен ли человек верить во что-либо отчетливо
37
женству. И потому не все таковое предлагается для веры.
Раздел 5 Должен ли человек верить во что-либо отчетливо
(42) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что человек не обязан иметь отчетливой веры во что-либо.
(43) 1. В самом деле, никто не обязан делать то, что не находится в его возможностях. Но обладание отчетливой верой во что-либо не в возможностях человека, ибо сказано (Рим 10, 14): Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Следовательно, человек не обязан иметь отчетливой веры во что-либо.
(44) 2. Кроме того, нас направляет к Богу как вера, так и любовь. Но человек не обязан досконально держаться определенных заповедей любви, достаточно просто готовности духа, как явствует из этих слов (Мф 5, 39): Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, а также и из других подобных слов Писания, как поясняет Августин в книге «О нагорной проповеди». Следовательно, точно так же человек не обязан верить во что-либо от¬
четливо, но ему достаточно просто того, чтобы его душа была готова поверить в то, что говорится о Боге.
(45) 3. Кроме того, благо веры заключается в некоей покорности, согласно этим словам (Рим 1, 5): Покорять вере все народы. Но для добродетели покорности не требуется, чтобы человек соблюдал какие-то определенные заповеди: достаточно того, чтобы дух его был готов к покорности, согласно этим словам (118, 60): Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Следовательно, как кажется, и для веры достаточно того, чтобы дух человека был готов поверить в то, что ему может быть предложено свыше, без того, чтобы верить во что- то отчетливо.
(46) Но против: сказано (Евр 11, 6): Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.
(47) Отвечаю: надлежит сказать, что те заповеди закона, которые человек обязан исполнять, касаются действий добродетелей, которые являются путем достижения спасения. Но, как уже сказано (Ч. II-I, В. 60, Р. 5), действие добродетели рассматривается сообразно отношению хабитуса к объекту. А в объекте любой добродетели обнаруживаются две [вещи]: во-первых, то, что яв-
Articulus 5
Utrum homo teneatur ad credendum aliquid explicite
(42) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod non teneatur homo ad credendum aliquid explicite.
(43) 1. Nullus enim tenetur ad id quod non est in eius potestate Sed credere aliquid explicite non est in hominis potestate, dicitur enim Rom. X, quomodo credent ei quem non audierunt? Quomodo audient sine praedicante? Quomodo autem praedicabunt nisi mittantur? Ergo credere aliquid explicite homo non tenetur.
(44) 2. Praeterea, sicut per fidem ordinamur in Deum, ita et per caritatem. Sed ad servandum praecepta caritatis homo non tenetur, sed sufficit sola praeparatio animi, sicut patet in illo praecepto domini quod ponitur Matth. V, si quis percusserit te in una maxilla, praebe ei et aliam, et in aliis consimilibus, ut Augustinus exponit, in libro De serm. Dom. in monte (I, 19; PL 34, 1260). Ergo etiam non tenetur homo explicite aliquid credere, sed sufficit quod
habeat animum paratum ad credendum ea quae a Deo proponuntur.
(45) 3 Praeterea, bonum fidei in quadam obedientia consistit, secundum illud Rom. I, ad obediendum fidei in omnibus gentibus. Sed ad virtutem obedientiae non requintur quod homo aliqua determinata praecepta observet, sed sufficit quod habeat promptum animum ad obediendum, secundum illud Psalm., paratus sum, et non sum turbatus, ut custodiam mandata tua. Ergo videtur quod etiam ad fidem sufficiat quod homo habeat promptum animum ad credendum ea quae ei divinitus proponi possent, absque hoc quod explicite aliquid credat
(46) Sed contra est quod dicitur ad Heb. XI, accedentem ad Deum oportet credere quia est, et quod inquirentibus se remunerator est.
(47) Respondeo dicendum quod praecepta legis quae homo tenetur implere dantur de actibus virtutum qui sunt via perveniendi ad salutem. Actus autem virtutis, sicut supra dictum est, sumitur secundum habitudinem habitus ad
38
Вопрос 2. О действии веры
ляется собственным объектом добродетели как таковым, и что необходимо для любого действия добродетели, и во-вторых, то, что соотносится с собственным смысловым содержанием объекта акциденталь- но и во вторую очередь. Так, например, к собственному объекту стойкости как таковому относится [способность] встретить смертельную опасность и, рискуя собой, противостоять врагу ради общего блага; а то, что во время справедливой войны человек вооружается и сражается с мечом в руках — все таковое относится к объекту стойкости опосредованным образом. Итак, для исполнения заповеди помимо самого действия добродетели необходимо также, чтобы это действие было обращено на собственный объект добродетели как таковой. А направленность действия добродетели на то, что соотносится с таковым объектом лишь акцидентально и во вторую очередь, для соблюдения заповеди не необходимо — разве что в свое время и в своем месте.
(48) Итак, надлежит сказать, что собственным объектом веры как таковым является то, что делает человека блаженным, как уже сказано выше (В. 1, Р. 8). А акцидентально или вторичным образом с объек¬
том соотносится все то, что содержится в богодухновенном Писании, например, что у Авраама было два сына, что Давид был сыном Иессея и т. п. Следовательно, если говорить о [вещах] первого типа, которые суть артикулы веры, то человек обязан отчетливо верить в них, как он обязан и иметь веру. А если говорить о [вещах] второго типа, то человек не обязан верить в них отчетливо, достаточно неотчетливой веры или готовности духа: постольку, поскольку он готов верить во все, что содержит в себе божественное Писание. Впрочем, если он осознает, что таковое включено в учение веры, то тогда он будет обязан верить в него отчетливо.
(49) Итак, на первое надлежит ответить, что если под «находящимся в возможностях человека» понимается только то, что человек [может делать сам], без помощи благодати, то мы обязаны делать много такого, что не в наших возможностях, если исправляющая благодать не оказывает нам поддержку (например, любить Бога и ближнего, или верить в догматы веры). Но все таковое человек может делать при помощи благодати. А эта помощь дается тому, кому она дается свыше, по мило-
obiectum. Sed in obiecto cuiuslibet virtutis duo possunt considerari, scilicet id quod est propne et per se virtutis obiectum, quod necessanum est in omni actu virtutis; et iterum id quod per accidens sive consequenter se habet ad propriam rationem obiecti. Sicut ad obiectum fortitudinis proprie et per se pertinet sustinere pencula mortis et aggredi hostes cum periculo propter bonum commune, sed quod homo armetur vel ense percutiat in bello iusto, aut aliquid huiusmodi faciat, reducitur quidem ad obiectum fortitudinis, sed per accidens. Determinatio igitur virtuosi actus ad proprium et per se obiectum virtutis est sub necessitate praecepti, sicut et ipse virtutis actus. Sed determinatio actus virtuosi ad ea quae accidentaliter vel secundario se habent ad proprium et per se virtutis obiectum non cadit sub necessitate praecepti nisi pro loco et tempore.
(48) Dicendum est ergo quod fidei obiectum per se est id per quod homo beatus efficitur, ut supra dictum est. Per accidens autem vel secundario se habent ad obiectum fidei
omnia quae in Scriptura divinitus tradita continentur, sicut quod Abraham habuit duos filios, quod David fuit filius Isai, et alia huiusmodi. Quantum ergo ad prima credibilia, quae sunt articuli fidei, tenetur homo explicite credere, sicut et tenetur habere fidem. Quantum autem ad alia credibilia, non tenetur homo explicite credere, sed solum implicite vel in praeparatione animi, inquantum paratus est credere quidquid in divina Scriptura continetur. Sed tunc solum huiusmodi tenetur explicite credere quando hoc ei constiterit in doctnna fidei contineri.
(49) Ad primum ergo dicendum quod, si in potestate hominis esse dicatur aliquid excluso auxilio gratiae, sic ad multa tenetur homo ad quae non potest sine gratia réparante, sicut ad diligendum Deum et proximum; et similiter ad credendum articulos fidei. Sed tamen hoc potest homo cum auxilio gratiae. Quod quidem auxilium quibuscumque divinitus datur, misericorditer datur; quibus autem non datur, ex iustitia non datur, in poenam praecedentis peccati, saltem onginalis peccati; ut Augustinus dicit, in libro
Раздел 6. Все ли люди равным образом обязаны иметь отчетливую веру 39
сти, а кому в ней отказано, то отказано по справедливости — в качестве наказания за предшествующие грехи (по крайней мере, за первородный грех, как говорит Августин).
(50) На второе надлежит ответить, что человек обязан вполне определенным образом любить то, что является собственными объектами любви как таковыми, т. е. Бога и ближнего. Возражение, впрочем, имеет силу в отношении тех заповедей любви, которые соотносятся с этими объектами как бы во вторую очередь.
(51) На третье надлежит ответить, что добродетель покорности заключена в воле. И потому для акта покорности достаточно готовности воли подчиниться авторитету заповедей, каковая готовность и есть объект покорности. А идет ли речь о той заповеди, или этой — это вторично по отношению к данному объекту.
Раздел 6
Все ли люди равным образом обязаны иметь отчетливую веру
(52) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что все равным образом должны иметь отчетливую веру.
(53) 1. В самом деле, все обязаны держать¬
ся того, что необходимо для спасения, что очевидно в случае заповедей любви. Но, как уже сказано, отчетливое понимание догматов необходимо для спасения. Следовательно, все равным образом должны иметь отчетливую веру.
(54) 2. Кроме того, никого не следует испы¬
тывать по поводу того, во что он не обязан верить отчетливой верой. Но иногда даже простецов испытывают на предмет понимания основных догматов веры. Следовательно, все равным образом должны иметь отчетливую веру.
(55) 3. Кроме того, если простецы не должны иметь отчетливую веру, но должны иметь только смутную, то их вера должна быть включена в веру книжников. Но это, как кажется, опасно, поскольку книжники могут впасть в ошибку. Следовательно, как кажется, простецы тоже должны обладать отчетливой верой. И так, следовательно, все равным образом должны иметь отчетливую веру.
(56) Но против: сказано (Иов 1, 15): Волы орали, и ослицы паслись подле них. Что, согласно Григорию, надо понимать в том смысле, что простецы, которых символи-
De cor. et gratia (cf. Epist. 190 ad Optatum, с. 3; PL 33, 860).
(50) Ad secundum dicendum quod homo tenetur ad determinate diligendum illa diligibilia quae sunt proprie et per se cantatis obiecta, scilicet Deus et proximus. Sed obiec- tio procedit de illis praeceptis caritatis quae quasi consequenter pertinent ad obiectum cantatis.
(51) Ad tertium dicendum quod virtus obedientiae proprie in voluntate consistit. Et ideo ad actum obedientiae sufficit promptitudo voluntatis subiecta praecipienti, quae est proprium et per se obiectum obedientiae. Sed hoc praeceptum vel illud per accidens vel consequenter se habet ad propnum et per se obiectum obedientiae.
Articulus 6 Utrum omnes aequaliter teneantur ad habendum fidem explicitam
(52) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod aequaliter omnes teneantur ad habendum fidem explicitam.
(53) 1. Ad ea enim quae sunt de necessitate salutis omnes tenentur, sicut patet de praeceptis caritatis. Sed explicatio credendorum est de necessitate salutis, ut dictum est. Ergo omnes aequaliter tenentur ad explicite credendum.
(54) 2. Praeterea, nullus debet examinari de eo quod explicite credere non tenetur. Sed quandoque etiam simplices examinantur de minimis articulis fidei. Ergo omnes tenentur explicite omnia credere.
(55) 3. Praeterea, si minores non tenentur habere fidem explicitam, sed solum implicitam, oportet quod habeant fidem implicitam in fide maiorum. Sed hoc videtur esse periculosum, quia posset contingere quod illi maiores errarent. Ergo videtur quod minores etiam debeant habere fidem explicitam. Sic ergo omnes aequaliter tenentur ad explicite credendum.
(56) Sed contra est quod dicitur lob I, quod boves arabant et asinae pascebantur iuxta eos, quia videlicet minores, qui significantur per asinos, debent in credendis adhaerere maioribus, qui per boves significantur; ut Gregorius ex-
40
Вопрос 2. О действии веры
зируют ослицы, должны в вопросах веры следовать книжникам, которых символизируют волы.
(57) Отвечаю: надлежит сказать, что разъяснение вероучения происходит при посредстве божественного откровения, ведь вероучительные догматы превосходят естественный разум. Но божественное откровение нисходит к низшим через высших, например, к людям — через ангелов, а к низшим ангелам — через высших, как говорит Дионисий в книге «О небесной иерархии». И точно так же разъяснение веры должно приходить к простецам от книжников. И потому как высшие ангелы, которые просвещают низших, должны обладать более полным знанием о божественных вещах (о чем говорит Дионисий), так и книжники, которые обязаны наставлять других, должны обладать более полным знанием о догматах веры и верить наиболее отчетливой верой.
(58) Итак, на первое надлежит ответить, что отчетливое понимание вероучительных догматов необходимо для спасения не в равной мере всем людям, поскольку книжники, в чью обязанность входит наставление других, должны отчетливо понимать больше, чем остальные.
(59) На второе надлежит ответить, что простецов испытывают относительно тонкостей веры только в том случае, когда имеется подозрение, что они попали под влияние еретиков, которые имеют обыкновение извращать веру простых людей в том, что касается тонкостей вероучения. Если, однако, выяснится, что они не являются стойкими сторонниками извращенных учений, и склонились к ним по простоте своей, то это нельзя вменять им в вину.
(60) На третье надлежит ответить, что простецы обладают верой, которая включена в веру книжников, только тогда, когда книжники следуют божественному учению, отчего апостол и говорит (1 Кор 4, 16): Умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. Поэтому нормой веры является не человеческое познание, но божественная истина. И если некие книжники отклоняются от этой нормы, то они не наносят тем самым ущерб вере простецов, которые считают их веру правильной, если только простецы не начинают упорствовать в их заблуждениях вопреки вере Вселенской Церкви, которая не может заблуждаться, согласно тому, что сказал Господь (Лк 22, 32): Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя.
ponit, in II Moral. (30; PL 75, 578).
(57) Respondeo dicendum quod explicatio credendorum fit per revelationem divinam, credibilia enim naturalem rationem excedunt. Revelatio autem divina ordine quodam ad inferiores pervenit per supenores, sicut ad homines per Angelos, et ad inferiores Angelos per supenores, ut patet per Dionysium, in Cael. hier (4; PG 3, 180). Et ideo, pan ratione, explicatio fidei oportet quod perveniat ad infen- ores homines per maiores. Et ideo sicut superiores Angeli, qui infenores illuminant, habent pleniorem notitiam de rebus divinis quam infenores, ut dicit Dionysius, XII cap. Cael. Hier.; ita etiam superiores homines, ad quos pertinet alios erudire, tenentur habere pleniorem notitiam de credendis et magis explicite credere.
(58) Ad primum ergo dicendum quod explicatio credendorum non aequaliter quantum ad omnes est de necessitate salutis, quia plura tenentur explicite credere maiores, qui habent officium alios instruendi, quam alii.
(59) Ad secundum dicendum quod simplices non sunt examinandi de subtilitatibus fidei nisi quando habetur suspicio quod sint ab haereticis depravati, qui in his quae ad subtilitatem fidei pertinent solent fidem simplicium depravare. Si tamen inveniuntur non pertinaciter perversae doctnnae adhaerere, si in talibus ex simplicitate deficiant, non eis imputatur.
(60) Ad tertium dicendum quod minores non habent fidem implicitam in fide maiorum nisi quatenus maiores adhaerent doctrinae divinae, unde et apostolus dicit, I ad Cor. IV, imitatores mei estote, sicut et ego Christi. Unde humana cognitio non fit regula fidei, sed veritas divina. A qua si aliqui maiorum deficiant, non praeiudicat fidei simplicium, qui eos rectam fidem habere credunt, nisi pertinaciter eorum erronbus in particulan adhaereant contra universalis Ecclesiae fidem, quae non potest deficere, domino dicente, Luc. XXII, ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua
Раздел 7. Нужна ли для спасения отчетливая вера в воплощение Христа
41
Раздел 7 Все ли люди для своего спасения обязаны иметь отчетливую веру в таинство воплощения Христа
(61) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что не все люди для своего спасения обязаны иметь отчетливую веру в таинство воплощения Христа.
(62) 1. В самом деле, человек не должен отчетливо верить в то, чего не знают ангелы, ведь разъяснение веры происходит при помощи божественного откровения, которое передается людям при посредстве ангелов, как уже сказано (Р. 6). Но даже ангелы не знают тайны воплощения, отчего, согласно Дионисию, и спрашивали (Пс 23, 8): Кто сей Царь славы?; и еще (Ис 63, 1): Кто это идет от Едома? Следовательно, людям для спасения не требуется иметь отчетливую веру в таинство воплощения Христа.
(63) 2. Кроме того, нет никаких сомнений, что Иоанн Креститель был одним из наиболее выдающихся учителей, и жил во времена пришествия Христа, который сказал о нем (Мф 11, 11): Из рожденных женами не восставал больший, чем он.
И, тем не менее, Иоанн Креститель, похоже, не понимал тайну воплощения Христа вполне отчетливо, поскольку спросил Его (Мф 11, 34; Лк 7, 19): Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого? Следовательно, даже выдающиеся учители не обязаны отчетливо верить в [воплощение] Христа.
(64) 3. Кроме того, как говорит Дионисий, многие язычники спаслись благодаря ангелам. Но язычники не верили во Христа — ни отчетливой, ни смутной верой, поскольку не получили никакого откровения. Следовательно, как представляется, отчетливая вера в таинство Христа не была необходима всем для спасения.
(65) Но против: Августин говорит: Здрава только та вера, которой мы верим, что ни один человек, ни юный, ни старый, не может быть избавлен от заразы смерти и оков греха иначе, как единственным Посредником между Богом и людьми Иисусом Христом.
(66) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше (Р. 5; В. 1, Р. 6, на 1), к собственному объекту веры как таковому относится то, посредством чего человек достигает блаженства. Но путь, приводящий
Articulus 7
Utrum explicite credere mysterium incarnationis Christi sit de necessitate salutis apud omnes
(61) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod credere explicite mystenum Chnsti non sit de necessitate salutis apud omnes
(62) 1. Non enim tenetur homo explicite credere ea quae Angeli ignorant, quia explicatio fidei fit per revelationem divinam, quae pervenit ad homines mediantibus Angelis, ut dictum est. Sed etiam Angeli mysterium incarnationis ignoraverunt, unde quaerebant in Psalm., quis est iste rex gloriae? Et Isaiae LXIII, quis est iste qui venit de Edom 9 Ut Dionysius exponit Cael. hier. (7; PG 3, 209). Ergo ad credendum explicite mysterium incarnationis homines non tenebantur.
(63) 2 Praeterea, constat beatum Ioannem Baptistam de maionbus fuisse, et propinquissimum Christo, de quo dominus dicit, Matth. XI, quod internatos mulierum nullus
maior eo surrexit Sed Ioannes Baptista non videtur Chnsti mystenum explicite cognovisse, cum a Chnsto quaesierit, tu es qui venturus es, an alium expectamus? ut habetur Matth. XI Ergo non tenebantur etiam maiores ad habendum explicitam fidem de Christo
(64) 3. Praeterea, multi gentilium salutem adepti sunt per ministerium Angelorum, ut Dionysius dicit, IX cap. Cael, hier (9; PG 3, 261). Sed gentiles non habuerunt fidem de Chnsto nec explicitam nec implicitam, ut videtur, quia nulla eis revelatio facta est. Ergo videtur quod credere explicite Chnsti mystenum non fuerit omnibus necessanum ad salutem.
(65) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De cor et gratia (cf. Epist. 190 ad Optatum, c. 3, PL 33, 860), illa fides sana est qua credimus nullum hominem, sive maioris sive parvae aetatis, liberari a contagio mortis et obligatione peccati nisi per unum mediatorem Dei et hominum Iesum Christum
(66) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, illud
42
Вопрос 2. О действии веры
людей к блаженству — это таинство воплощения и страстей Христовых, ибо сказано (Деян 4, 12): Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. И потому все и во все времена должны верить в таинство воплощения Христа; однако разные люди и в разные времена — по-разному.
(67) Действительно, до первородного греха человек обладал отчетливой верой в воплощение Христа, но в соответствии с тем, что оно было упорядочено к полноте славы, а не в соответствии с тем, что оно было упорядочено к освобождению от греха через страсти и воскресение (поскольку человек не знал о своем будущем грехе). И о том, что первый человек знал о воплощении Христа, свидетельствуют следующие слова (Быт 2, 24): Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей (Быт. 2, 24), которые апостол толкует так (Еф 5, 32): Тайна сия велика... по отношению ко Христу и к Церкви. И потому представляется невероятным, чтобы первый человек не знал об этой тайне.
(68) А после грехопадения отчетливая вера была не только о воплощении Христа, но и о страстях и воскресении, посред¬
ством которых человеческий род был освобожден от греха и смерти. Ведь в противном случае страсти Христовы не были бы представлены в образе неких жертвоприношений — как до закона, так и в законе. И значение этих жертвоприношений было отчетливо понятно книжникам, а простецы, которые под покровом этих жертвоприношений верили в то, что было свыше определено о грядущем пришествии Христа, обладали, так сказать, завуалированным знанием. И, как сказано выше (В. 1, Р. 7), то, что относится к таинствам Христа, познавалось тем отчетливей, чем ближе было Его пришествие.
(69) А после того, как была явлена благодать, уже и книжники, и простецы должны обладать отчетливой верой в таинства Христа, и прежде всего в те, которые повсеместно провозглашаются и отмечаются Церковью, например, в догматы, касающиеся воплощения, о которых уже шла речь выше (В. 1, Р. 8). Что же касается отдельных тонкостей, относящихся к этим догматам, то люди обязаны обладать более или менее отчетливой верой в них в зависимости от своего положения и своих обязанностей.
ргорпе et per se pertinet ad obiectum fidei per quod homo beatitudinem consequitur. Via autem hominibus veniendi ad beatitudinem est mysterium incarnationis et passionis Christi, dicitur enim Act. IV, non est aliud nomen datum hominibus in quo oporteat nos salvos fieri. Et ideo mysterium incarnationis Christi aliqualiter oportuit omni tempore esse creditum apud omnes, diversimode tamen secundum diversitatem temporum et personarum.
(67) Nam ante statum peccati homo habuit explicitam fidem de Christi incarnatione secundum quod ordinabatur ad consummationem gloriae, non autem secundum quod ordinabatur ad liberationem a peccato per passionem et resurrectionem, quia homo non fuit praescius peccati futuri. Videtur autem incarnationis Christi praescius fuisse per hoc quod dixit, propter hoc relinquet homo patrem et matrem et adhaerebit uxori suae, ut habetur Gen. II; et hoc apostolus, ad Ephes. V, dicit sacramentum magnum esse in Christo et Ecclesia; quod quidem sacramentum non est credibile pnmum hominem ignorasse.
(68) Post peccatum autem fuit explicite creditum mysterium Christi non solum quantum ad incarnationem, sed etiam quantum ad passionem et resurrectionem, quibus humanum genus a peccato et morte liberatur. Aliter enim non praefigurassent Christi passionem quibusdam sacrificiis et ante legem et sub lege. Quorum quidem sacrificiorum significatum explicite maiores cognoscebant, minores autem sub velamine illorum sacrificiorum, credentes ea divinitus esse disposita de Christo venturo, quodammodo habebant velatam cognitionem. Et sicut supra dictum est, ea quae ad mystena Chnsti pertinent tanto distinctius cognoverunt quanto Christo propinquiores fuerunt.
(69) Post tempus autem gratiae revelatae tam maiores quam minores tenentur habere fidem explicitam de mysteriis Christi; praecipue quantum ad ea quae communiter in Ecclesia sollemnizantur et publice proponuntur, sicut sunt articuli incarnationis, de quibus supra dictum est. Alias autem subtiles considerationes circa incarnationis articulos tenentur aliqui magis vel minus explicite credere secundum quod convenit statui et officio uniuscuiusque.
Раздел 7. Нужна ли для спасения отчетливая вера в воплощение Христа
43
(70) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Августин, тайна Царства Бо- жия никогда не была полностью сокрыта от ангелов, хотя некоторые аспекты этой тайны стали им хорошо известны только после того, как их явил им Христос.
(71) На второе надлежит ответить, что Иоанн Креститель спрашивал о пришествии Христа во плоти не так, как если бы он не знал о нем, поскольку он ясно его исповедовал, говоря (Ин 1): Ия видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. Поэтому он не сказал: «Ты ли Тот, Который пришел?», но: Ты ли Тот, Который должен прийти ? Он говорил о будущем, а не о прошлом. Равным образом, не следует думать, что Креститель не знал о грядущих страстях, поскольку он сам сказал (Ин 1, 29): Вот, Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира, ясно предрекая будущую жертву. И то же еще раньше предрекали другие пророки, что особенно очевидно в случае Исайи (Ис 53). Поэтому можно сказать, как говорит Григорий, что Креститель не знал лишь о том, сойдет ли Христос в ад самолично. Но он знал, что сила страстей Христовых распространится даже на тех, кто пребывает в лимбе, согласно этим словам (Зах 9, 11): А что до тебя, ради крови
завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. И он не был обязан отчетливо верить — до того, как это произошло — в то, что Христос сойдет туда самолично. Или же, как говорит Амвросий, можно сказать, что Креститель задал этот вопрос не по причине сомнения или неведенья, но, скорее, по своей набожности. Или же, как говорит Златоуст, он спросил не потому, что не знал, а потому, что хотел, чтобы его ученики услышали ответ от самого Христа; и потому Христос ответил ученикам так, чтобы наставить их, явив знаки своих деяний.
(72) На третье надлежит ответить, что многим из язычников было дано откровение о Христе, как явствует из их же собственных предсказаний. Ибо сказано (Иов 19, 25): Я знаю, Искупитель мой жив. И как говорит Августин, Сивилла также предсказала пришествие Христа. Кроме того, в истории римлян можно найти сведения, что в эпоху императора Константина и его матери Ирины была вскрыта могила, в которой лежал человек, на груди которого была обнаружена золотая табличка с надписью: «Верую в Христа, Который родится от Девы. О, Солнце! Во времена Ирины и Константина ты узришь меня вновь». Но если
(70) Ad primum ergo dicendum quod Angelos non omnino latuit mysterium regni Dei, sicut Augustinus dicit, V Super Gen. ad litt. (19: PL 34, 334). Quasdam tamen rationes huius mysteni perfectius cognoverunt Christo revelante.
(71) Ad secundum dicendum quod Ioannes Baptista non quaesivit de adventu Chnsti in carnem quasi hoc ignoraret, cum ipse hoc expresse confessus fuerit, dicens, ego vidi, et testimonium perhibui quia hic est filius Dei, ut habetur Ioan. I. Unde non dixit, tu es qui venisti? Sed, tu es qui venturus es? Quaerens de futuro, non de praeterito. Similiter non est credendum quod ignoraverit eum ad passionem venturum, ipse enim dixerat, ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi, praenuntians eius immolationem futuram; et cum hoc prophetae alii ante praedixerint, sicut praecipue patet in Isaiae LIII. Potest igitur dici, sicut Gregonus dicit (In Evang. I, hom. 6; PL 76, 1095), quod inquisivit ignorans an ad Infernum esset in propria persona descensurus. Sciebat autem quod virtus passionis eius
extendenda erat usque ad eos qui in Limbo detinebantur, secundum illud Zach. IX, tu quoque in sanguine testamenti tui emisisti vinctos de lacu in quo non est aqua. Nec hoc tenebatur explicite credere, antequam esset impletum, quod per seipsum deberet descendere. Vel potest dici, sicut Ambrosius dicit, super Luc. (7, 19; PL 15, 1748), quod non quaesivit ex dubitatione seu ignorantia, sed magis ex pietate. Vel potest dici, sicut Chrysostomus dicit (In Matth. hom. 36; PG 57, 418), quod non quaesivit quasi ipse ignoraret, sed ut per Christum satisfieret eius discipulis. Unde et Chnstus ad discipulorum instructionem respondit, signa operum ostendens.
(72) Ad tertium dicendum quod multis gentilium facta fuit revelatio de Christo, ut patet per ea quae praedixerunt. Nam lob XIX dicitur, scio quod redemptor meus vivit. Sibylla etiam praenuntiavit quaedam de Christo, ut Augustinus dicit (Contra Faust., XIII, 15; PL 42, 290). Invenitur etiam in historiis Romanorum (Theofanes. Chronographia. A. C. 773; PG 108, 918) quod tempore Constantini Augusti et
44
Вопрос 2. О действии веры
даже и были спасены те, кто не получил откровения, они не могли спастись без веры в Посредника. И пусть их вера была неотчетлива, тем не менее, они обладали смутной верой в божественное провидение, поскольку верили, что Бог освободит человечество тем способом, который будет Ему угоден, и в соответствии с тем откровением, которое Он дал неким знающим истину людям, согласно этим словам (Иов 35, 11): Который научает нас более, нежели скотов земных.
Раздел 8 Необходимо ли для спасения отчетливо верить в Троицу
(73) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что отчетливая вера в Троицу не необходима для спасения.
(74) 1. В самом деле, апостол говорит (Евр 11, 6): Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Но в это можно верить и без веры в Троицу. Следовательно, нет необходимости обладать отчетливой верой в Троицу.
(75) 2. Кроме того, Господь говорит (Ин 17, 5-6): Отче... Я открыл имя Твое челове¬
кам. Августин толкует эти слова так: Не то Твое имя, которым Ты называешься Богом, а то имя, которым Ты называешься Моим Отцом. И затем Августин добавляет: То, что Бог создал мир, знают все народы, то, что Ему нельзя поклоняться наряду с ложными богами, знали иудеи', но то, что Он есть Отец того Христа, чрез Которого устраняется грех мира, ранее было сокрыто, и лишь теперь Он явил это им. Следовательно, до пришествия Христа не было известно, что в божестве имеется отцовство и сыновство. Следовательно, не было и отчетливой веры в Троицу.
(76) 3. Кроме того, мы должны отчетливо
верить, что Бог является объектом блаженства. Но объект блаженства — это высшее благо, которое можно помыслить в Боге и без различия Лиц. Следовательно, отчетливая вера в Троицу не была необходимой.
(77) Но против: надлежит сказать, что в Ветхом Завете неоднократно отчетливо говорится о Троице Лиц. Так, например, в начале Книги Бытия о Троице сказано так (Быт 1, 26): Сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему. Следовательно, от самого начала для спасения бы-
Irenae matns eius inventum fuit quoddam sepulcrum in quo iacebat homo auream laminam habens in pectore in qua scriptum erat, Christus nascetur ex virgine et credo in eum. О sol, sub Irenae et Constantini temporibus iterum me videbis. Si qui tamen salvati fuerunt quibus revelatio non fuit facta, non fuerunt salvati absque fide mediatoris. Quia etsi non habuerunt fidem explicitam, habuerunt tamen fidem implicitam in divina providentia, credentes Deum esse liberatorem hominum secundum modos sibi placitos et secundum quod aliquibus veritatem cognoscentibus ipse revelasset, secundum illud lob XXXV, qui docet nos super iumenta terrae.
Articulus 8 Utrum explicite credere Trinitatem sit de necessitate salutis
(73) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod credere Trinitatem explicite non fuerit de necessitate salutis.
(74) 1. Dicit enim apostolus, ad Heb. XI, credere oportet accedentem ad Deum quia est, et quia inquirentibus se re¬
munerator est. Sed hoc potest credi absque fide Trinitatis. Ergo non oportebat explicite fidem de Trinitate habere.
(75) 2. Praeterea, dominus dicit, Ioan. XVII, pater, mani festavi nomen tuum hominibus, quod exponens Augustinus dicit, non illud nomen tuum quo vocaris Deus, sed illud quo vocaris pater meus. Et postea subdit etiam, in hoc quod Deus fecit hunc mundum, notus in omnibus gentibus; in hoc quod non est cum diis falsis colendus, notus in Iudaea Deus; in hoc vero quod pater est huius Christi per quem tollit peccatum mundi, hoc nomen eius, prius occultum, nunc manifestavit eis (In Ioann. 17, 6, tr. 106; PL 35, 1909). Ergo ante Christi adventum non erat cognitum quod in deitate esset paternitas et filiatio. Non ergo Trinitas explicite credebatur.
(76) 3. Praeterea, illud tenemur explicite credere in Deo quod est beatitudinis obiectum. Sed obiectum beatitudinis est bonitas summa, quae potest intelligi in Deo etiam sine personarum distinctione. Ergo non fuit necessarium credere explicite Trinitatem.
(77) Sed contra est quod in veten testamento multipliciter
Раздел 9. Является ли вера заслугой
45
ло необходимо верить в Троицу.
(78) Отвечаю: надлежит сказать, что нельзя иметь отчетливую веру в таинство Христа без веры в Троицу, поскольку таинство Христа подразумевает воплощение Сына Божия, а также то, что Он обновил мир посредством благодати Духа Святого, и то, что Он был зачат Духом Святым. И потому как таинство Христа до Его пришествия было отчетливо исповедуемо книжниками, а простецами — неотчетливо и как бы смутно, так же и таинство Троицы. И потому после наступления времен распространения благодати таинство Троицы тем более должно отчетливо исповедоваться всеми. И все, кто вновь родился во Христе, были научены этой тайне обращением к Троице, согласно этим словам (Мф 28, 19): Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
(79) Итак, на первое надлежит ответить, что отчетливая вера в две названные вещи необходима во все времена и для всех. Однако одной ее недостаточно для всех и во все времена.
(80) На второе надлежит ответить, что до
пришествия Христа вера в Троицу была сокрыта в вере книжников. Но она была явлена миру через Христа и апостолов.
(81) На третье надлежит ответить, что высшая благость Бога, сообразно тому, как она теперь постигается через ее следствия, может мыслиться и без Троицы Лиц. Но постольку, поскольку она мыслится в самой себе, и так, как созерцают ее блаженные, ее невозможно помыслить без Троицы Лиц. Кроме того, именно ниспослание божественных Лиц приводит нас к блаженству.
Раздел 9 Является ли вера заслугой
(82) Ход рассуждения в девятом разделе таков. Представляется, что вера не является заслугой.
(83) 1. В самом деле, началом заслуги является любовь-каритас, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 114, Р. 4). Но вера, как и природа, есть преамбула к любви. Следовательно, как природное действие не может быть заслугой (ведь мы не обретаем заслуги через то, что свойственно нам по природе), так и действие веры.
expressa est Trinitas personarum, sicut statim in principio Gen. dicitur, ad expressionem Trinitatis, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Ergo a principio de necessitate salutis fuit credere Trinitatem.
(78) Respondeo dicendum quod mysterium Christi explicite credi non potest sine fide Trinitatis, quia in mysteno Christi hoc continetur quod filius Dei carnem assumpserit, quod per gratiam spiritus sancti mundum renovaverit, et iterum quod de spiritu sancto conceptus fuerit. Et ideo eo modo quo mystenum Christi ante Christum fuit quidem explicite creditum a maioribus, implicite autem et quasi obumbrate a minoribus, ita etiam et mysterium Trinitatis Et ideo etiam post tempus gratiae divulgatae tenentur omnes ad explicite credendum mysterium Trinitatis. Et omnes qui renascuntur in Christo hoc adipiscuntur per invocationem Tnnitatis, secundum illud Matth. ult., euntes, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti.
(79) Ad primum ergo dicendum quod illa duo explicite cre¬
dere de Deo omni tempore et quoad omnes necessarium fuit. Non tamen est sufficiens omni tempore et quoad omnes.
(80) Ad secundum dicendum quod ante Christi adventum fides Trinitatis erat occulta in fide maiorum. Sed per Christum manifestata est mundo per apostolos.
(81) Ad tertium dicendum quod summa bonitas Dei secundum modum quo nunc intelligitur per effectus, potest in- telligi absque Trinitate personarum. Sed secundum quod intelligitur in seipso, prout videtur a beatis, non potest intelligi sine Trinitate personarum. Et iterum ipsa missio personarum divinarum perducit nos in beatitudinem.
Articulus 9 Utrum credere sit meritorium
(82) Ad nonum sic proceditur. Videtur quod credere non sit meritonum.
(83) 1. Principium enim merendi est caritas, ut supra dictum est. Sed fides est praeambula ad caritatem, sicut et
46
Вопрос 2. О действии веры
(84) 2. Кроме того, вера является чем-то средним между мнением и научным познанием (или созерцанием познаваемого таковым познанием). Но научное умозрение не является заслугой, равно как и мнение. Следовательно, также и вера не является заслугой.
(85) 3. Кроме того, тот, кто одобряет нечто, веря в таковое, либо имеет достаточное основание для такого одобрения, либо не имеет. И если он обладает таковым основанием, то его вера, как кажется, не является заслугой, поскольку он уже не свободен в том, чтобы верить или не верить. А если такового основания у него нет, то его вера есть легковерие, согласно этим словам Писания (Сир 19, 4): Кто скоро доверяет, тот легкомыслен; и так вера, опять-таки, не является заслугой. Следовательно, вера никоим образом не является заслугой.
(86) Но против: сказано (Евр 11, 33): [Святые] верою... получали обетования. Но этого не было бы, если бы они не обрели заслуги через свою веру. И потому вера является заслугой.
(87) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше (Ч. II-I, В. 114, Р. 3, 4), наши действия могут быть заслуживающими постольку, поскольку они основываются на свободном решении, благодатью
движимом к Богу. Поэтому все действия человека, которые могут подчиняться свободному решению, могут быть заслуживающими, если они обращены к Богу. Но верование есть действие разума, соглашающегося с божественной истиной по повелению воли, которая движима Богом посредством благодати. И потому это действие подчиняется свободному решению, обращенному к Богу. И потому действие веры является заслугой.
(88) Итак, на первое надлежит ответить, что
природа соотносится с любовью-каритас, которая есть начало заслуги, как материя с формой. А вера соотносится с ней как предрасположенность, предшествующая конечной форме. Но очевидно, что до при- вхождения формы ни субъект, или материя, ни предшествующая предрасположенность не могут действовать в силу формы. А после привхождения формы как субъект, так и предрасположенность действуют в силу формы, которая является главным началом действия — так же, как тепло огня действует в силу субстанциальной формы огня. Следовательно, ни природа, ни вера без любви-каритас не могут произвести действие-заслугу. Но когда привходит любовь-каритас, действие веры становится заслугой благодаря ей, как и действие
natura. Ergo, sicut actus naturae non est meritorius (quia naturalibus non meremur), ita etiam nec actus fidei.
(84) 2. Praeterea, credere medium est inter opinari et scire vel considerare scita. Sed consideratio scientiae non est meritoria; similiter autem nec opinio. Ergo etiam neque credere est meritorium.
(85) 3. Praeterea, ille qui assentit alicui rei credendo aut habet causam sufficienter inducentem ipsum ad credendum, aut non. Si habet sufficiens inductivum ad credendum, non videtur hoc ei esse meritorium, quia non est ei iam liberum credere et non credere. Si autem non habet sufficiens inductivum ad credendum, levitatis est credere, secundum illud Eccli. XIX, qui cito credit levis est corde, et sic non videtur esse meritorium. Ergo credere nullo modo est meritorium.
(86) Sed contra est quod dicitur ad Heb. XI, quod sancti per fidem adepti sunt repromissiones. Quod non esset nisi credendo mererentur. Ergo ipsum credere est meritorium.
(87) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, actus nostri sunt meritorii inquantum procedunt ex libero
arbitrio moto a Deo per gratiam. Unde omnis actus humanus qui subiicitur libero arbitrio, si sit relatus in Deum, potest meritorius esse. Ipsum autem credere est actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam, et sic subiacet libero arbitrio in ordine ad Deum. Unde actus fidei potest esse meritorius.
(88) Ad primum ergo dicendum quod natura comparatur ad caritatem, quae est merendi principium, sicut materia ad formam. Fides autem comparatur ad caritatem sicut dispositio praecedens ultimam formam. Manifestum est autem quod subiectum vel matena non potest agere in virtute formae, neque etiam dispositio praecedens, antequam forma adveniat. Sed postquam forma advenerit, tam subiectum quam dispositio praecedens agit in virtute formae, quae est principale agendi principium, sicut calor ignis agit in virtute formae substantialis. Sic ergo neque natura neque fides sine caritate possunt producere actum meritorium, sed caritate superveniente, actus fidei fit meritorius per caritatem, sicut et actus naturae et naturalis liberi arbitrii.
Раздел 10. Умаляет ли заслугу аргумент, поддерживающий то, что относится к вере 47
природы и естественного свободного решения.
(89) На второе надлежит ответить, что в научном познании имеются два [аспекта], а именно, согласие познающего с познаваемым и рассмотрение познаваемого. И что касается согласия, то оно не подчиняется свободному решению, поскольку познающий вынуждается к согласию действенностью доказательства. И потому научное согласие не может быть заслугой. Что же касается актуального рассмотрения познаваемой вещи, то оно подчиняется свободному решению, поскольку в человеческой власти рассматривать или не рассматривать [такую-то вещь]. И потому научное исследование может быть заслугой, если оно соотносится с целью любви-каритас, т. е. с прославлением Бога или с пользой для ближнего. Однако в случае веры свободному решению подлежат оба названных аспекта, и потому заслугой может быть действие веры, относящееся как к первому, так и ко второму. Мнение же не обладает твердым согласием, ведь оно есть нечто шаткое и непрочное, как говорит Философ. Поэтому, как кажется, оно не происходит от совершенной воли. Итак, если говорить о согласии, то мнение едва ли обладает смысловым содержанием заслуги.
А вот со стороны актуального рассмотрения оно может быть заслугой.
(90) На третье надлежит ответить, что верующий обладает достаточными основаниями для своей веры, ведь он движим авторитетом божественного учения, подтвержденного чудесами, и еще — что гораздо важнее — внутренним побуждением, полученным от Бога3. Поэтому вера верующего не является легковерием. Тем не менее, у него нет достаточного основания для научного знания, и потому смысловое содержание заслуги не устраняется.
Раздел 10 Умаляет ли заслугу аргумент, поддерживающий то, что относится к вере
(91) Ход рассуждения в десятом разделе таков. Представляется, что аргумент, поддерживающий то, что относится к вере, умаляет заслугу.
(92) 1. В самом деле, Григорий говорит, что вера не имеет заслуги там, где опытен человеческий разум. Но если достаточная опытность человеческого разума полностью исключает заслугу веры, то, как представляется, любая человеческая аргументация, приведенная в поддержку того, что относится к вере, умаляет заслугу веры.
(89) Ad secundum dicendum quod in scientia duo possunt considerari, scilicet ipse assensus scientis ad rem scitam, et consideratio rei scitae. Assensus autem scientiae non subi- icitur libero arbitrio, quia sciens cogitur ad assentiendum per efficaciam demonstrationis. Et ideo assensus scientiae non est meritorius. Sed consideratio actualis rei scitae subiacet libero arbitrio, est enim in potestate hominis considerare vel non considerare. Et ideo consideratio scientiae potest esse meritoria, si referatur ad finem caritatis, idest ad honorem Dei vel utilitatem proximi. Sed in fide utrumque subiacet libero arbitrio. Et ideo quantum ad utrumque actus fidei potest esse meritorius. Sed opinio non habet firmum assensum, est enim quoddam debile et infirmum, secundum philosophum, in I Poster. (33; 89a5). Unde non videtur procedere ex perfecta voluntate. Et sic ex parte assensus non multum videtur habere rationem meriti. Sed ex parte considerationis actualis potest mentoria esse.
(90) Ad tertium dicendum quod ille qui credit habet sufficiens inductivum ad credendum, inducitur enim auctoritate divinae doctnnae miraculis confirmatae, et, quod plus est, interiori instinctu Dei invitantis. Unde non leviter credit. Tamen non habet sufficiens inductivum ad sciendum. Et ideo non tollitur ratio meriti.
Articulus 10 Utrum ratio inducta ad ea quae sunt fidei minuat meritum fidei
(91) Ad decimum sic proceditur. Videtur quod ratio inducta ad ea quae sunt fidei diminuat meritum fidei.
(92) 1. Dicit enim Gregorius, m quadam homilia (In Evang. II, hom. 26; PL 76, 1197), quod fides non habet meritum cui humana ratio praebet experimentum. Si ergo ratio humana sufficienter experimentum praebens totaliter excludit meritum fidei, videtur quod qualiscumque ratio humana inducta ad ea quae sunt fidei diminuat mentum fidei.
48
Вопрос 2. О действии веры
(93) 2. Кроме того, все, что умаляет смысловое содержание добродетели, умаляет и смысловое содержание заслуги, поскольку, как говорит Философ, счастье добродетели есть награда. Но человеческая аргументация, как кажется, умаляет смысловое содержание добродетели веры, поскольку в это содержание входит то, что вера — о невидимом, как уже сказано выше (В. 1, Р. 4, 5), но чем больше приводится аргументов, тем более очевидным становится [нечто]. Следовательно, приведение человеческой аргументации в пользу того, что относится к вере, уменьшает заслугу веры.
(94) 3. Кроме того, у противоположных [вещей] противоположны и причины. Но то, что противостоит вере, увеличивает заслугу веры, будь то гонения, вынуждающие отступить от веры, или аргументация, побуждающая к тому же. Следовательно, аргументация, поддерживающая веру, умаляет заслугу веры.
(95) Но против: сказано (1 Петр 3, 15): Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать аргументированный ответ. Но апостол не говорил бы так, если бы аргументация умаляла заслугу веры. Следовательно, аргументы не умаляют заслугу веры.
(96) Отвечаю: надлежит ответить, что, как
уже сказано (Р. 9), действие веры может являться заслугой постольку, поскольку подчиняется воле не только в том, что касается осуществления, но и в том, что касается согласия. Но человеческая аргументация, приводимая в поддержку того, что относится к вере, может соотноситься с волей верующего двояко. Во-первых, как нечто предшествующее, когда у человека не было бы желания (или готовности) для того, чтобы поверить, если бы не была приведена человеческая аргументация. И в этом смысле человеческая аргументация умаляет заслугу веры, точно так же, как, сообразно сказанному выше (Ч. II-I, В. 24, Р. 3, на 1; В. 77, Р. 6, на 2), страсть, предшествующая выбору в сфере моральных добродетелей, умаляет ценность добродетельного действия. В самом деле, как человек должен осуществлять действие моральной добродетели сообразно суждению разума, а не из-за страсти, так и верить в то, что относится к вероучению, человек должен не на основании человеческой аргументации, а следуя божественному авторитету.
(97) Во-вторых, человеческая аргументация может соотноситься с волей верующего как нечто последующее. И так бывает тогда, когда человек обладает волей, готовой поверить, любит истину, данную в вере, и размышляет о ней, и интересуется, нельзя ли
(93) 2. Praeterea, quidquid diminuit rationem virtutis diminuit rationem meriti, quia felicitas virtutis est praemium ut etiam philosophus dicit, in I Ethic (9; 1099Ы6). Sed ratio humana videtur diminuere rationem virtutis ipsius fidei, quia de ratione fidei est quod sit non apparentium, ut supra dictum est; quanto autem plures rationes inducuntur ad aliquid, tanto minus est non apparens Ergo ratio humana inducta ad ea quae sunt fidei meritum fidei diminuit
(94) 3 Praeterea, contrariorum contrariae sunt causae. Sed id quod inducitur in contranum fidei auget meritum fidei, sive sit persecutio cogentis ad recedendum a fide, sive etiam sit ratio aliqua hoc persuadens. Ergo ratio coadiuvans fidem diminuit meritum fidei.
(95) Sed contra est quod I Petn III dicitur, parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quae in vobis est fide et spe. Non autem ad hoc induceret apostolus si per hoc mentum fidei diminueretur. Non ergo ratio diminuit meritum fidei.
(96) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, actus fidei potest esse meritonus inquantum subiacet voluntati non solum quantum ad usum, sed etiam quantum ad assensum. Ratio autem humana inducta ad ea quae sunt fidei dupliciter potest se habere ad voluntatem credentis. Uno quidem modo, sicut praecedens, puta cum quis aut non haberet voluntatem, aut non haberet promptam voluntatem ad credendum, msi ratio humana induceretur. Et sic ratio humana inducta diminuit meritum fidei, sicut etiam supra dictum est quod passio praecedens electionem in virtutibus moralibus diminuit laudem virtuosi actus. Sicut enim homo actus virtutum moralium debet exercere propter iudicium rationis, non propter passionem; ita credere debet homo ea quae sunt fidei non propter rationem humanam, sed propter auctoritatem divinam.
(97) Alio modo ratio humana potest se habere ad voluntatem credentis consequenter. Cum enim homo habet promptam voluntatem ad credendum, diligit veritatem creditam, et super ea excogitat et amplectitur si quas rationes ad hoc
Раздел 10. Умаляет ли заслугу аргумент, поддерживающий то, что относится к вере 49
обнаружить некие аргументы в ее пользу. И в этом случае человеческая аргументация не исключает заслугу веры, но является знаком еще большей заслуги, точно так же, как в сфере нравственных добродетелей страсть, следующая за действием, есть знак готовности воли [к совершению нравственных действий], как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 24, Р. 3). И об этом сказано в Писании, когда самаряне говорят женщине, которая символизирует человеческий разум (Ин 4, 42): Уже не по твоим речам веруем.
(98) Итак, на первое надлежит ответить, что Григорий говорит о том случае, когда человек обретает волю к вере только благодаря приведенному аргументу. А когда человек обретает волю к вере в то, что относится к вероучению, исключительно следуя божественному авторитету, то даже если у него есть строгие доказательства для чего- либо из такового (например, существования Бога), то заслуга веры не устраняется и не умаляется.
(99) На второе надлежит ответить, что аргументы, которые склоняют нас к [принятию] авторитета веры, не являются строгими доказательствами, которые могут привести человеческий разум к интеллектуальному вйдению, а потому вера не перестает быть [верой] в невидимое. Но при
этом устраняются препятствия для веры: постольку, поскольку показывается, что то, что предлагает вероучение, не является невозможным. И потому подобные аргументы не умаляют заслугу веры, равно как и не устраняют смысловое содержание веры. Но строгие доказательства, приводимые в поддержку веры и являющиеся преамбулами к догматам, даже если и умаляют смысловое содержание веры, поскольку делают явным то, что дается в догматах, тем не менее, не умаляют смысловое содержание любви, благодаря которой воля обретает готовность к тому, чтобы поверить даже в невидимое. И потому смысловое содержание заслуги не устраняется.
(юо) На третье надлежит ответить, что то, что противоречит вере (будь то лишь помышления или внешние преследования), увеличивает заслугу веры настолько, насколько благодаря таковому делается явным, что воля тверда и ревностна в вере. И потому наибольшую заслугу обретают мученики, которые не отказываются от веры из-за гонений, а также мудрецы, которые не отступают от веры из-за противоречащих ей аргументов философов или еретиков. А то, что поддерживает веру, не всегда уменьшает готовность воли к вере. И потому таковое не всегда умаляет заслугу веры.
invenire potest. Et quantum ad hoc ratio humana non excludit mentum fidei, sed est signum maioris meriti, sicut etiam passio consequens in virtutibus moralibus est signum promptions voluntatis, ut supra dictum est. Et hoc significatur Ioan. IV, ubi Samaritani ad mulierem, per quam ratio humana figuratur, dixerunt, iam non propter tuam loquelam credimus.
(98) Ad primum ergo dicendum quod Gregorius loquitur in casu illo quando homo non habet voluntatem credendi nisi propter rationem inductam. Quando autem homo habet voluntatem credendi ea quae sunt fidei ex sola auctoritate divina, etiam si habeat rationem demonstrativam ad aliquid eorum, puta ad hoc quod est Deum esse, non propter hoc tollitur vel minuitur meritum fidei.
(99) Ad secundum dicendum quod rationes quae inducuntur ad auctoritatem fidei non sunt demonstrationes quae in visionem intelligibilem intellectum humanum reducere possunt. Et ideo non desinunt esse non apparentia. Sed removent impedimenta fidei, ostendendo non esse
impossibile quod in fide proponitur. Unde per tales rationes non diminuitur meritum fidei nec ratio fidei. Sed rationes demonstrativae inductae ad ea quae sunt fidei, praeambula tamen ad articulos, etsi diminuant rationem fidei, quia faciunt esse apparens id quod proponitur; non tamen diminuunt rationem cantatis, per quam voluntas est prompta ad ea credendum etiam si non apparerent. Et ideo non diminuitur ratio menti.
(100) Ad tertium dicendum quod ea quae repugnant fidei, sive in consideratione hominis sive in extenori persecutione, intantum augent meritum fidei inquantum ostenditur voluntas magis prompta et firma in fide. Et ideo martyres maius fidei meritum habuerunt non recedentes a fide propter persecutiones; et etiam sapientes maius meritum fidei habent non recedentes a fide propter rationes philosophorum vel haereticorum contra fidem inductas. Sed ea quae conveniunt fidei non semper diminuunt promptitudinem voluntatis ad credendum. Et ideo non semper diminuunt meritum fidei.
Вопрос 3 О внешнем действии веры
(1) Затем надлежит рассмотреть внешнее действие веры, т. е. исповедание.
(2) И касательно этого исследуются две [проблемы]: 1) действительно ли исповедание является действием веры; 2) необходимо ли исповедание для спасения.
Раздел 1 Действительно ли исповедание является действием веры
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что исповедание не является актом веры.
(4) 1. В самом деле, одно и то же действие не может относиться к двум различным добродетелям. Но исповедь, [которая есть исповедание], относится к покаянию, частью которого считается. Следовательно, исповедание не является действием веры.
(5) 2. Кроме того, человека от исповедания веры может удержать либо страх, либо некое смущение, отчего апостол и просит (Ефес 6, 19), чтобы молились о нем, дабы он мог открыто с дерзновением возве¬
щать тайну благовествования. Но противостояние отказу от блага в силу страха или смущения относится к стойкости, которая умеряет как безрассудную храбрость, так и страх. Следовательно, как кажется, исповедание не является актом не веры, но, скорее, стойкости или непреклонности.
(6) 3. Кроме того, пылкость в вере ведет как к внешнему исповеданию веры, так и к совершению иных внешних благих действий, ибо сказано (Гал 5, 6), что вера действует любовью. Но другие внешние действия не считаются актами веры. Следовательно, не должно считаться и исповедание.
(7) Но против: глосса к этим словам (2 Фес 1, 11), дело веры в силе, утверждает: т. е. исповедание, которое есть собственное дело веры.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что внешние действия являются собственными действиями той добродетели, к целям которой они относятся по своим видам. Так, например, держание поста относится к цели
Quaestio 3 De exteriori actu fidei
(1) Deinde considerandum est de exteriori fidei actu, qui est confessio.
(2) Et circa hoc quaeruntur duo. Primo, utrum confessio sit actus fidei. Secundo, utrum confessio sit necessaria ad salutem.
Articulus 1 Utrum confessio sit actus fidei
(3) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod confessio non sit actus fidei.
(4) 1. Non enim idem actus pertinet ad diversas virtutes. Sed confessio pertinet ad poenitentiam, cuius ponitur pars. Ergo non est actus fidei.
(5) 2. Praeterea, ab hoc quod homo confiteatur fidem retrahitur interdum per timorem, vel etiam propter aliquam confusionem, unde et apostolus, ad Ephes. ult., petit oran
pro se ut detur sibi cum fiducia notum facere mysterium Evangelii. Sed non recedere a bono propter confusionem vel timorem pertinet ad fortitudinem, quae moderatur audacias et timores. Ergo videtur quod confessio non sit actus fidei, sed magis fortitudinis vel constantiae.
(6) 3. Praeterea, sicut per fidei fervorem inducitur aliquis ad confitendum fidem exterius, ita etiam inducitur ad alia extenora bona opera facienda, dicitur enim Gal. V quod fides per dilectionem operatur. Sed alia exteriora opera non ponuntur actus fidei. Ergo etiam neque confessio.
(7) Sed contra est quod, II ad Thess. I, super illud, et opus fidei in virtute, dicit Glossa (Petn Lombardi; PL 192, 315), idest confessionem, quae proprie est opus fidei.
(8) Respondeo dicendum quod actus exteriores illius virtutis propne sunt actus ad cuius fines secundum suas species referuntur, sicut ieiunare secundum suam speciem refertur
Раздел 2. Действительно ли исповедание веры необходимо для спасения
51
воздержания, заключающейся в обуздании плоти, а потому является действием воздержания. Но исповедание того, что относится к вероучению, по своему виду обращено как к цели, на то, что относится к вероучению, сообразно этим словам (2 Кор 4, 13): Имея тот же дух веры... мы веруем, потому и говорим, ведь произнесение [слов] вслух предназначено для обозначения того, что в сердце. Поэтому внешнее исповедание является собственным действием веры так же, как и внутреннее постижение того, что относится к вероучению.
) Итак, на первое надлежит ответить, что упоминаемое в Писании исповедание может быть трех типов. Во-первых, исповедание вероучения. И это — собственное действие веры, которое, как уже сказано (в Отв.), соотносится с целью веры. Во- вторых, исповедание действия благодарения и восхваления. И это — собственное действие богопочитания, ведь оно направлено на внешнее почитание Бога, что и является целью богопочитания. В-третьих, исповедь грехов. И это действие направлено на устранение грехов, которое является целью покаяния. И потому оно относится к покаянию.
(ю) На второе надлежит ответить, что устраняющей препятствие является не сущностная, а акцидентальная причина, как говорит Философ в VIII книге «Физики». Поэтому стойкость, которая устраняет препятствие к исповеданию веры (а именно, страх и смущение), является не сущностной и собственной, но акциденталь- ной причиной исповедания.
(и) На третье надлежит ответить, что внутренняя вера при помощи любви причинно обусловливает все внешние акты добродетелей при посредстве других добродетелей, повелевая, но не избирая, а исповедание она производит без помощи какой-либо иной добродетели, как свое собственное действие.
Раздел 2
Действительно ли исповедание веры необходимо для спасения
( 12) Ход рассуждения во втором разделе та¬
ков. Представляется, что исповедание веры не необходимо для спасения.
(13) 1. В самом деле, для спасения, как ка¬
жется, достаточно того, посредством чего человек достигает цели добродетели. Но собственной целью веры является соединение человеческого разума с божествен-
ad finem abstinentiae, quae est compescere carnem, et ideo est actus abstinentiae. Confessio autem eorum quae sunt fidei secundum suam speciem ordinatur sicut ad finem ad id quod est fidei, secundum illud II ad Cor. IV, habentes eundem spiritum fidei credimus, propter quod et loquimur, extenor enim locutio ordinatur ad significandum id quod in corde concipitur. Unde sicut conceptus intenor eorum quae sunt fidei est proprie fidei actus, ita etiam et extenor confessio.
(9) Ad primum ergo dicendum quod triplex est confessio quae in Scnptuns laudatur. Una est confessio eorum quae sunt fidei. Et ista est propnus actus fidei, utpote relata ad fidei finem, sicut dictum est. Alia est confessio gratiarum actionis sive laudis Et ista est actus latnae, ordinatur enim ad honorem Deo extenus exhibendum, quod est finis latnae Tertia est confessio peccatorum. Et haec ordinatur ad deletionem peccati, quae est finis poenitentiae. Unde pertinet ad poenitentiam
(10) Ad secundum dicendum quod removens prohibens non est causa per se, sed per accidens, ut patet per philoso¬
phum, in VIII Phys. (4; 255b24). Unde fortitudo, quae removet impedimentum confessionis fidei, scilicet timorem vel erubescentiam, non est propne et per se causa confessionis, sed quasi per accidens.
(11) Ad tertium dicendum quod fides intenor, mediante dilectione, causat omnes extenores actus virtutum mediantibus aliis virtutibus, imperando, non eliciendo. Sed confessionem producit tanquam proprium actum, nulla alia virtute mediante.
Articulus 2
Utrum confessio fidei sit necessaria ad salutem
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod confessio fidei non sit necessaria ad salutem
(13) 1. Illud enim videtur ad salutem sufficere per quod homo attingit finem virtutis. Sed finis propnus fidei est coniunctio humanae mentis ad ventatem divinam, quod potest etiam esse sine exteriori confessione. Ergo confessio fidei non est necessana ad salutem.
52
Вопрос 3. О внешнем действии веры
ной истиной, а это может произойти и без внешнего исповедания. Следовательно, исповедание веры не необходимо для спасения.
(и) 2. Кроме того, при помощи внешнего
исповедания веры человек демонстрирует свою веру другим людям. Но это необходимо только в том случае, если он должен наставлять в вере других. Следовательно, как кажется, простецы не обязаны исповедовать веру.
(15) 3. Кроме того, то, что может ввергнуть других в смущение и соблазн, не необходимо для спасения, ибо, как говорит апостол (1 Кор 10, 32), не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божи- ей. Но исповедание веры иногда производит беспокойство среди неверных. Следовательно, исповедание веры не необходимо для спасения.
(16) Но против: апостол говорит (Рим 10, 10): Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению (Рим 10, 10).
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что [вещи], необходимые для спасения, подпадают под заповеди божественного закона. А исповедание веры, поскольку оно есть нечто утвердительное, может относиться только к предписывающей заповеди. И потому оно необходимо для спасе¬
ния тем же самым образом, каким подпадает под предписывающую заповедь божественного закона. Но предписывающие заповеди, как сказано выше (Ч.И-1, В. 71, Р. 5, на 3; В. 100, Р. 10), обязывают всегда, но не к постоянному действию, а к действию в определенном месте, в определенное время и сообразно должным обстоятельствам, согласно которым человеческое действие должно ограничиваться, чтобы стать действием добродетели. Итак, следовательно, исповедание веры необходимо для спасения не всегда и не в любом месте, но только тогда, когда его отсутствие либо препятствует воздаянию должных почестей Богу, либо не дает принести пользу ближнему (например, когда спрошенный о вере не дает разъяснений, и потому создается впечатление, что либо он не верит, либо его вера неистинна, или же другие люди из-за этого его молчания отвращаются от веры). В самом деле, в этих случаях исповедание веры необходимо для спасения.
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что цель веры, как и других добродетелей, должна соотноситься с целью любви-каритас, которая есть любовь к Богу и ближнему. И потому когда почитание Бога или польза
(14) 2. Praeterea, per exteriorem confessionem fidei homo fidem suam alii homini patefacit. Sed hoc non est necessarium nisi illis qui habent alios in fide instruere. Ergo videtur quod minores non teneantur ad fidei confessionem.
(15) 3. Praeterea, illud quod potest vergere in scandalum et turbationem aliorum non est necessarium ad salutem, dicit enim apostolus, I ad Cor. X, sine offensione estote ludaeis et gentibus et Ecclesiae Dei. Sed per confessionem fidei quandoque ad perturbationem infideles provocantur. Ergo confessio fidei non est necessaria ad salutem.
(16) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Rom. X, corde creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem.
(17) Respondeo dicendum quod ea quae sunt necessaria ad salutem cadunt sub praeceptis divinae legis. Confessio autem fidei, cum sit quoddam affirmativum, non potest cadere nisi sub praecepto affirmativo. Unde eo modo est de necessariis ad salutem quo modo potest cadere sub praecepto affirmativo divinae legis. Praecepta autem af¬
firmativa, ut supra dictum est, non obligant ad semper, etsi semper obligent, obligant autem pro loco et tempore et secundum alias circumstantias debitas secundum quas oportet actum humanum limitari ad hoc quod sit actus virtutis. Sic igitur confiteri fidem non semper neque in quolibet loco est de necessitate salutis, sed aliquo loco et tempore, quando scilicet per omissionem huius confessionis subtraheretur honor debitus Deo, vel etiam utilitas proximis impendenda; puta si aliquis interrogatus de fide taceret, et ex hoc crederetur vel quod non haberet fidem vel quod fides non esset vera, vel alii per eius taciturnitatem averterentur a fide. In huiusmodi enim casibus confessio fidei est de necessitate salutis.
(18) Ad primum ergo dicendum quod finis fidei, sicut et aliarum virtutum, referri debet ad finem caritatis, qui est amor Dei et proximi. Et ideo quando honor Dei vel utilitas proximi hoc exposcit, non debet esse contentus homo ut per fidem suam ipse veritati divinae coniungatur; sed debet fidem exterius confiteri.
Раздел 2. Действительно ли исповедание веры необходимо для спасения
53
ближнего того требуют, человек не должен удовлетворяться тем, что через свою веру он соединяется с божественной истиной: он должен исповедовать веру вовне.
(19) На второе надлежит ответить, что в случае необходимости — если идет речь об угрозе вере — любой должен открыто исповедовать свою веру перед другими: либо для научения или поддержки других верующих, либо для обуздания нападок неверных. Но в иной ситуации наставлять людей в вере обязан не каждый верующий.
(20) На третье надлежит ответить, что если неверные приходят в беспокойство от открытого исповедания веры при том, что
сама вера или верующие никакой пользы не получают, то в этом случае публичное исповедание веры не является похвальным. Поэтому Господь и говорит (Мф 7,
6): Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы... обратившись, не растерзали вас. Но если такое исповедание необходимо или от него происходит польза, то, забыв о беспокойстве неверных, следует исповедовать свою веру публично. Поэтому и сказано в Писании (Мф 15, 12-14), что когда ученики сказали Господу: Фарисеи, услышав слово сие, соблазнились, Он ответил: Оставьте их: они — слепые вожди слепых.
(19) Ad secundum dicendum quod in casu necessitatis, ubi fides periclitatur, quilibet tenetur fidem suam aliis propalare, vel ad instructionem aliorum fidelium sive confirmationem, vel ad reprimendum infidelium insultationem. Sed aliis temponbus instruere homines de fide non pertinet ad omnes fideles.
(20) Ad tertium dicendum quod, si turbatio infidelium onatur de confessione fidei manifesta absque aliqua utilitate fidei vel fidelium, non est laudabile in tali casu fidem publice
confiten, unde dominus dicit, Matth. VII, nolite sanctum dare canibus, neque margaritas vestras spargere ante porcos, ne conversi dirumpant vos. Sed si utilitas aliqua fidei speretur aut necessitas adsit, contempta turbatione infidelium, debet homo fidem publice confiteri. Unde Matth. XV dicitur quod, cum discipuli dixissent domino quod Pharisaei, audito eius verbo, scandalizati sunt, dominus respondit, sinite illos, scilicet turban, caeci sunt et duces caecorum.
Вопрос 4 О самой добродетели веры
(1) Затем надлежит рассмотреть саму добродетель веры. И во-первых, саму веру; во-вторых, обладающих верой (В. 5); fi- третьих, причину веры (В. 6); в-четвертых, следствия веры (В. 7).
(2) Касательно первого рассматриваются восемь [проблем]: 1) что есть вера; 2) в какой способности души она пребывает как в субъекте; 3) действительно ли формой веры является любовь-каритас; 4) действительно ли оформленная и неоформленная вера — одна и та же по числу; 5) действительно ли вера является добродетелью;
6) является ли она единой добродетелью;
7) в каком порядке она находится по отношению к другим добродетелям; 8) действительно ли вера достовернее других интеллектуальных добродетелей.
Раздел 1
Является ли подобающим это определение веры: «Вера есть субстанция вещей, на которые надеются, аргумент о невидимом»
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что определение веры, предложенное апостолом (Евр И, 1), вера есть субстанция вещей, на которые надеются, аргумент о невидимом, не является подобающим.
(4) 1. В самом деле, никакое качество не является субстанцией. Но вера есть качество, поскольку есть теологическая добродетель, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 62, Р. 3). Следовательно, она не является субстанцией.
(5) 2. Кроме того, у разных добродетелей разные объекты. Но вещи, на которые надеются, являются объектом надежды. Следовательно, они не должны включаться в определение веры как некий ее объект.
Quaestio 4 De ipsa fidei virtute
(1) Deinde considerandum est de ipsa fidei virtute. Et primo quidem, de ipsa fide; secundo, de habentibus fidem; tertio, de causa fidei; quarto, de effectibus eius.
(2) Circa pnmum quaeruntur octo. Primo, quid sit fides. Secundo, in qua vi animae sit sicut in subiecto. Tertio, utrum forma eius sit cantas. Quarto, utrum eadem numero sit fides formata et informis. Quinto, utrum fides sit virtus. Sexto, utrum sit una virtus. Septimo, de ordine eius ad alias virtutes. Octavo, de comparatione certitudinis eius ad certitudinem virtutum intellectualium.
Articulus 1
Utrum hoc sit competens fidei definitio: fides est substantia sperandarum rerum, argumentum non apparentium
(3) Ad primum sic proceditur. Videtur quod sit incompetens fidei definitio quam apostolus ponit, ad Heb. XI, dicens, est autem fides substantia sperandarum rerum, argumentum non apparentium.
(4) 1. Nulla enim qualitas est substantia. Sed fides est qualitas, cum sit virtus theologica, ut supra dictum est. Ergo non est substantia.
(5) 2. Praeterea, diversarum virtutum diversa sunt obiecta. Sed res speranda est obiectum spei. Non ergo debet poni in definitione fidei tanquam eius obiectum.
Раздел 1. Об определении веры
55
(6) 3. Кроме того, вера получает совершенство скорее от любви, нежели от надежды, поскольку любовь-каритас есть форма веры, как будет сказано ниже (Р. 3). Следовательно, куда скорее в определение веры должна быть включена та вещь, которую следует любить, чем та, на которую следует надеяться.
(7) 4. Кроме того, в разных родах не следует полагать одно и то же. Но субстанция и аргумент суть различные роды, и при этом ни один из них не является подчиненным другому. Следовательно, веру не подобает называть субстанцией и аргументом.
(8) 5. Кроме того, при помощи аргумента выявляется истина того, к чему ведет аргументация. Но то, истина чего явлена, называется очевидным. Следовательно, как представляется, в словах «аргумент о невидимом» заключено противоречие. Следовательно, описание веры неправильно.
(9) Но против: достаточно авторитета апостола.
(ю) Отвечаю: надлежит сказать, что хотя некоторые утверждают, что эти слова апостола не являются определением веры, тем не менее, если рассмотреть вопрос должным образом, станет понятно, что в приведенном описании затронуто все то, на осно¬
вании чего вере может быть дано определение, хотя сами эти слова не имеют формы определения (но так ведь и у философов начала силлогизмов затрагиваются даже при отсутствии самой формы силлогизма).
(и) Для достижения ясности в данном вопросе надлежит принять во внимание то, что поскольку хабитус познается через акт, а акт — через его объект, вера, поскольку она является неким хабитусом, должна определяться через собственный акт в соотнесении с собственным объектом. Но акт веры есть верование, которое, как уже сказано (В. 1, Р. 2, 3), является действием разума, детерминированного к чему-то одному сообразно повелению воли. И так, следовательно, акт веры обладает порядком и по отношению к объекту воли, которым является благое и цель, и к объекту разума, которым является истинное. И поскольку у веры (ибо она, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 62, Р. 2), является теологической добродетелью) целью и объектом является одна и та же [вещь], постольку необходимо, чтобы объект и цель веры пропорционально соотносились друг с другом.
(12) Но выше (В. 1, Р. 1) уже было сказано, что первая истина является объектом
(6) 3. Praeterea, fides magis perficitur per caritatem quam per spem, quia cantas est forma fidei, ut infra dicetur. Magis ergo pom debuit in definitione fidei res diligenda quam res speranda.
(7) 4. Praeterea, idem non debet poni in diversis generibus. Sed substantia et argumentum sunt diversa genera non subaltematim posita. Ergo inconvenienter fides dicitur esse substantia et argumentum.
(8) 5. Praeterea, per argumentum veritas mamfestatur eius ad quod inducitur argumentum. Sed illud dicitur esse apparens cuius veritas est manifestata. Ergo videtur implicari oppositio in hoc quod dicitur argumentum non apparentium Inconvenienter ergo describitur fides.
(9) In contrarium sufficit auctoritas apostoli.
(10) Respondeo dicendum quod, licet quidam dicant praedicta apostoli verba non esse fidei definitionem, tamen, si quis recte consideret, omnia ex quibus fides potest definiri in praedicta descriptione tanguntur, licet verba non ordinentur sub forma definitionis, sicut etiam apud
philosophos praetermissa syllogistica forma syllogismorum principia tanguntur.
(11) Ad cuius evidentiam considerandum est quod, cum habitus cognoscantur per actus et actus per obiecta, fides, cum sit habitus quidam, debet definiri per proprium actum in comparatione ad proprium obiectum. Actus autem fidei est credere, qui, sicut supra dictum est, actus est intellectus determinati ad unum ex imperio voluntatis. Sic ergo actus fidei habet ordinem et ad obiectum voluntatis, quod est bonum et finis; et ad obiectum intellectus, quod est verum. Et quia fides, cum sit virtus theologica, sicut supra dictum est, habet idem pro obiecto et fine, necesse est quod obiectum fidei et finis proportionaliter sibi correspondeant.
(12) Dictum est autem supra quod veritas prima est obiectum fidei secundum quod ipsa est non visa et ea quibus propter ipsam inhaeretur. Et secundum hoc oportet quod ipsa veritas prima se habeat ad actum fidei per modum finis secundum rationem rei non visae. Quod pertinet ad
56
Вопрос 4. О самой добродетели веры
веры сообразно тому, что она невидима (равно как невидимо и то, чего мы придерживаемся ради нее). И сообразно этому надлежит, чтобы сама первая истина соотносилась с актом веры по способу цели сообразно смысловому содержанию невидимой вещи. И это относится к смысловому содержанию вещи, на которую надеются, согласно этим словам апостола (Рим 8, 25): Надеемся на то, чего не видим. Ведь видеть истину — значит обладать ею; но никто не надеется на то, чем уже обладает, а вера — о том, чем не обладают, как сказано выше (Ч. II-I, В. 67, Р. 4).
(13) И так, следовательно, отношение акта веры к цели, которая является объектом воли, обозначается словами «вера есть субстанция вещей, на которые надеются». В самом деле, субстанцией обычно называют первое начало какой-либо вещи, и, прежде всего, в том случае, когда вся последующая вещь виртуально содержится в первоначале (например, мы говорим, что первые недоказуемые начала являются субстанцией науки: потому именно, что первое, что имеется в нас от науки, это такого рода начала, и в них виртуально содержится вся наука). Итак, в этом смысле говорится, что вера есть субстанция ве¬
щей, на которые надеются: в связи с тем, что в нас первое начало вещей, на которые следует надеяться, имеет место через согласие веры, которая виртуально содержит в себе все вещи, на которые следует надеяться. В самом деле, мы надеемся обрести блаженство в том, что увидим ясным взором то, чего держимся верой, как очевидно из сказанного ранее о блаженстве (Ч. II-I, В.З, Р. 8).
(и) А отношение акта веры к объекту разума сообразно тому, что он является объектом веры, описывается словами «аргумент о невидимом». И под аргументом здесь понимается следствие аргумента, ибо разум приходит к тому, чтобы держаться какой- либо истины, благодаря аргументу; и потому сама твердая приверженность разума невидимой истине веры называется здесь аргументом. И потому в другом переводе говорится об «убежденности», так как божественный авторитет убеждает верующего принять то, чего он не видит.
(15) Если, следовательно, некто захочет при¬
дать приведенным выше словам форму определения, то он может сказать, что «вера есть хабитус ума, благодаря которому в нас присутствует начало жизни вечной, и который приводит разум к принятию невидимого».
rationem rei speratae, secundum illud apostoli, ad Rom. VIII, quod non videmus speramus, veritatem enim videre est ipsam habere; non autem sperat aliquis id quod iam habet, sed spes est de hoc quod non habetur, ut supra dictum est.
(13) Sic igitur habitudo actus fidei ad finem, qui est obiec- tum voluntatis, significatur in hoc quod dicitur, fides est substantia rerum sperandarum. Substantia enim solet dici prima inchoatio cuiuscumque rei, et maxime quando tota res sequens continetur virtute in primo principio, puta si dicamus quod prima principia indemonstrabilia sunt substantia scientiae, quia scilicet primum quod in nobis est de scientia sunt huiusmodi principia, et in eis virtute continetur tota scientia. Per hunc ergo modum dicitur fides esse substantia rerum sperandarum, quia scilicet prima inchoatio rerum sperandarum in nobis est per assensum fidei, quae virtute continet omnes res sperandas. In hoc enim speramus beatificari quod videbimus aperta visione veritatem cui per fidem adhaeremus, ut patet per ea quae
supra de felicitate dicta sunt.
(14) Habitudo autem actus fidei ad obiectum intellectus, secundum quod est obiectum fidei, designatur in hoc quod dicitur, argumentum non apparentium. Et sumitur argumentum pro argumenti effectu, per argumentum enim intellectus inducitur ad adhaerendum alicui vero; unde ipsa firma adhaesio intellectus ad veritatem fidei non apparentem vocatur hic argumentum. Unde alia littera habet convictio, quia scilicet per auctoritatem divinam intellectus credentis convincitur ad assentiendum his quae non videt.
(15) Si quis ergo in formam definitionis huiusmodi verba reducere velit, potest dicere quod fides est habitus mentis, qua inchoatur vita aeterna in nobis, faciens intellectum assentire non apparentibus. Per hoc autem fides ab omnibus aliis distinguitur quae ad intellectum pertinent. Per hoc enim quod dicitur argumentum, distinguitur fides ab opinione, suspicione et dubitatione, per quae non est prima adhaesio intellectus firma ad aliquid. Per hoc autem
Раздел 1. Об определении веры
57
Но благодаря этому вера отличается от всего прочего, что относится к разуму. В самом деле, благодаря тому, что она называется «аргументом», она отличается от мнения, предположения и сомнения: ведь таковое не может стать началом твердой приверженности разума чему-либо. В силу того, что вера называется «аргументом о невидимом», она отличается от науки и простого постижения начал, благодаря которым нечто становится явным. А благодаря тому, что вера называется «субстанцией вещей, на которые следует надеяться», добродетель веры отличается от веры в широком смысле слова, поскольку последняя не упорядочена по отношению к блаженству, на которое мы надеемся.
(16) И все другие определения, которые когда-либо были даны вере, являются разъяснениями сказанного апостолом. В самом деле, определения Августина («вера есть добродетель, посредством которой верят в невидимое»), Дамаскина («вера есть согласие с неизведанным») и других («вера есть некая уверенность духа в отсутствующем, выше мнения, но ниже научного знания»1) тождественны словам апостола об «аргументе о невидимом». А определение Дионисия, согласно которому вера
есть «твердая опора верующих, располагающая их в истине, а истину — в них», тождественно словам [апостола] о «субстанции вещей, на которые следует надеяться».
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что под «субстанцией» здесь понимается не высший род, отличный от всех остальных; но [это слово употребляется] сообразно тому, что в любом роде обнаруживается некое подобие субстанции: постольку, поскольку первое в любом роде, виртуально содержащее в себе все прочее, называется субстанцией такового.
(18) На второе надлежит ответить, что поскольку вера относится к разуму сообразно тому, что им повелевает воля, надлежит, чтобы она была упорядочена, как к цели, к объектам тех добродетелей, которыми совершенствуется воля. Но среди них находится надежда, как будет ясно из нижеследующего (В. 18, Р. 1). И потому в определение веры включен объект надежды.
(19) На третье надлежит ответить, что любовь может относиться как к видимому, так и к невидимому, как к присутствующему, так и к отсутствующему. И потому «вещь, которую надо любить» не столь характерна для веры, как «вещь, на которую надлежит надеяться», ведь надежда всегда относится
quod dicitur non apparentium, distinguitur fides a scientia et intellectu, per quae aliquid fit apparens. Per hoc autem quod dicitur substantia sperandarum rerum, distinguitur virtus fidei a fide communiter sumpta, quae non ordinatur ad beatitudinem speratam.
(16) Omnes autem aliae definitiones quaecumque de fide dantur, explicationes sunt huius quam apostolus ponit. Quod enim dicit Augustinus (In Ioann. 7, 32, tr. 40; PL 35, 1690), fides est virtus qua creduntur quae non videntur; et quod dicit Damascenus (De fide orth., IV, 2; PG 94, 1125), quod fides est non inquisitus consensus; et quod alii dicunt (Hugo de Saint Victore. De Sacram. I, 10, 1; PL 176, 330), quod fides est certitudo quaedam animi de absentibus supra opinionem et infra scientiam; idem est ei quod apostolus dicit, argumentum non apparentium. Quod vero Dionysius dicit, VII cap. De div. nom. (7; PG 3, 872), quod fides est manens credentium fundamentum, collocans eos in veritate et in ipsis veritatem, idem est ei quod dicitur, substantia sperandarum rerum.
(17) Ad primum ergo dicendum quod substantia non sumitur hic secundum quod est genus generalissimum contra alia genera divisum, sed secundum quod in quolibet genere invenitur quaedam similitudo substantiae, prout scilicet primum in quolibet genere, continens in se alia virtute, dicitur esse substantia illorum.
(18) Ad secundum dicendum quod, cum fides pertineat ad intellectum secundum quod imperatur a voluntate, oportet quod ordinetur, sicut ad finem, ad obiecta illarum virtutum quibus perficitur voluntas. Inter quas est spes, ut infra patebit. Et ideo in definitione fidei ponitur obiectum spei
(19) Ad tertium dicendum quod dilectio potest esse et visorum et non visorum, et praesentium et absentium. Et ideo res diligenda non ita proprie adaptatur fidei sicut res speranda, cum spes sit semper absentium et non visorum.
58
Вопрос 4. О самой добродетели веры
к отсутствующему и невидимому.
(20) На четвертое надлежит ответить, что субстанция и аргумент, сообразно тому, что они включены в определение веры, не подразумевают ни различия родов веры, ни различия ее актов; они подразумевают только различные отношения одного акта к различным объектам, как явствует из сказанного.
(21) На пятое надлежит ответить, что вещь делает явной тот аргумент, который берется от собственных начал этой вещи. Но аргумент, который берется от божественного авторитета, не делает вещь явной. И именно таковой аргумент включен в определение веры.
Раздел 2 Действительно ли вера пребывает в разуме как в субъекте
(22) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что вера не пребывает в разуме как в субъекте.
(23) 1. В самом деле, Августин говорит в книге «О предопределении святых», что вера заключается в воле верующих. Но воля как способность отличается от разума. Следовательно, вера не находится в разуме как в субъекте.
(24) 2. Кроме того, согласие веры на верование во что-либо происходит от воли, подчиняющейся Богу. Следовательно, вся заслуга веры — от подчинения. Но подчинение находится в воле. Следовательно, и вера. Следовательно, она не находится в разуме.
(25) 3. Кроме того, разум может быть либо теоретическим, либо практическим. Но вера не пребывает в теоретическом разуме, который не является началом действия (поскольку, как сказано в III книге «О душе», он не требует стремиться к чему-либо или чего-либо избегать), а вера действует любовью (Гал 5, 6). Равным образом, вера не пребывает в практическом разуме, объектом которого является контингентная истина поступков или рукотворных вещей, ведь объектом веры является вечная истина, как явствует из сказанного выше (В. 1, Р. 1). Следовательно, вера не пребывает в разуме как в субъекте.
(26) Но против: вере наследует вйдение Отечества, согласно этим словам (1 Кор 13, 12): Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Но вйдение пребывает в разуме, следовательно, и вера.
(20) Ad quartum dicendum quod substantia et argumentum, secundum quod in definitione fidei ponuntur, non important diversa genera fidei neque diversos actus, sed diversas habitudines unius actus ad diversa obiecta, ut ex dictis patet.
(21) Ad quintum dicendum quod argumentum quod sumitur ex propnis principiis rei facit rem esse apparentem. Sed argumentum quod sumitur ex auctontate divina non facit rem in se esse apparentem. Et tale argumentum ponitur in definitione fidei.
Articulus 2 Utrum fides sit in intellectu sicut in subjecto
(22) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod fides non sit in intellectu sicut in subiecto.
(23) 1. Dicit enim Augustinus, in libro De praed. sanet., quod fides in credentium voluntate consistit (5; PL 44, 968). Sed voluntas est alia potentia ab intellectu. Ergo fides non est in intellectu sicut in subiecto.
(24) 2. Praeterea, assensus fidei ad aliquid credendum provenit ex voluntate Deo obediente. Tota ergo laus fidei ex obedientia esse videtur. Sed obedientia est in voluntate. Ergo et fides. Non ergo est in intellectu.
(25) 3. Praeterea, intellectus est vel speculativus vel practi- cus. Sed fides non est in intellectu speculativo, qui, cum nihil dicat de imitabili et fugiendo, ut dicitur in III De anima (9; 432b28), non est pnneipium operationis, fides autem est quae per dilectionem operatur, ut dicitur ad Gal. V. Similiter etiam nec in intellectu practico, cuius obiectum est verum contingens factibile vel agibile, obiectum enim fidei est verum aeternum, ut ex supradictis patet. Non eigo fides est in intellectu sicut in subiecto.
(26) Sed contra est quod fidei succedit visio patnae, secundum illud I ad Cor. XIII, videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem. Sed visio est in intellectu. Ergo et fides.
Раздел 2. Действительно ли вера пребывает в разуме как в субъекте
59
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что поскольку вера есть некая добродетель, необходимо, чтобы ее действие было совершенным. Но для совершенства действия, которое происходит от двух активных начал, требуется, чтобы оба эти активные начала были совершенными — так, например, хорошо пилить может только тот, кто владеет ремеслом пильщика, и у кого при этом имеется хорошая пила. Но в тех способностях души, которые соотносятся с противоположностями , предрасположенность к действованию должным образом есть ха- битус, как сказано выше (Ч. II-I, В. 49, Р. 4, на 1, 2, 3). И потому надлежит, чтобы действие, происходящее от двух таких способностей, было совершенным благодаря некоему хабитусу, предсуществующему в обеих способностях. Но выше (В. 2, Р. 1, 2) уже было сказано, что верование есть действие разума, сообразно тому, что он движим волей к согласию. В самом деле, это действие происходит от воли и от разума, и обе эти способности, сообразно тому, что установлено выше (Ч. II-I, В. 50, Р. 4, 5), по природе обретают свое совершенство от хабиту- са. И потому для совершенного акта веры необходимо, чтобы как в воле, так и в разуме присутствовал некий хабитус (точно
так же, как для совершенства акта способности вожделения необходимо, чтобы в самой этой способности присутствовал хабитус умеренности, а в разуме — хабитус благоразумия). Однако верование есть непосредственное действие разума, поскольку объектом этого действия является истина, а она непосредственно соотносится с разумом. И потому необходимо, чтобы вера, которая является собственным началом этого действия, пребывала в разуме как в своем субъекте.
(28) Итак, на первое надлежит ответить, что Августин понимает там под «верой» действие веры, о котором говорится, что оно заключается в воле верующего постольку, поскольку разум соглашается с положениями вероучения по повелению воли.
(29) На второе надлежит ответить, что не только воля должна быть готова к подчинению, но и разум должен быть должным образом предрасположен к тому, чтобы следовать повелению воли, равно как и способность вожделения должна быть должным образом предрасположена — для того, чтобы следовать повелению разума. И потому хабитус добродетели должен находиться не только в повелевающей воле, но и в соглашающемся разуме.
(27) Respondeo dicendum quod, cum fides sit quaedam virtus, oportet quod actus eius sit perfectus. Ad perfectionem autem actus qui ex duobus activis principiis procedit requiritur quod utrumque activorum principiorum sit perfectum, non enim potest bene secan nisi et secans habeat artem et serra sit bene disposita ad secandum. Dispositio autem ad bene agendum in illis potentiis animae quae se habent ad opposita est habitus, ut supra dictum est. Et ideo oportet quod actus procedens ex duabus talibus potentiis sit perfectus habitu aliquo praeexistente in utraque potentiarum. Dictum est autem supra quod credere est actus intellectus secundum quod movetur a voluntate ad assen- tiendum, procedit enim huiusmodi actus et a voluntate et ab intellectu. Quorum uterque natus est per habitum perfici, secundum praedicta. Et ideo oportet quod tam in voluntate sit aliquis habitus quam in intellectu, si debeat actus fidei esse perfectus, sicut etiam ad hoc quod actus concupiscibilis sit perfectus, oportet quod sit habitus prudentiae in ratione et habitus temperantiae in concu¬
piscibili. Credere autem est immediate actus intellectus, quia obiectum huius actus est verum, quod proprie pertinet ad intellectum. Et ideo necesse est quod fides, quae est proprium principium huius actus, sit in intellectu sicut in subiecto.
(28) Ad primum ergo dicendum quod Augustinus fidem accipit pro actu fidei, qui dicitur consistere in credentium voluntate inquantum ex impeno voluntatis intellectus credibilibus assentit.
(29) Ad secundum dicendum quod non solum oportet voluntatem esse promptam ad obediendum, sed etiam intellectum esse bene dispositum ad sequendum imperium voluntatis, sicut oportet concupiscibilem esse bene dispositam ad sequendum imperium rationis. Et ideo non solum oportet esse habitum virtutis in voluntate imper- ante, sed etiam in intellectu assentiente.
60
Вопрос 4. О самой добродетели веры
(30) На третье надлежит ответить, что вера пребывает как в субъекте в теоретическом разуме, что очевидно из [рассмотрения] объекта веры. Но поскольку первая истина, которая является объектом веры, есть цель всех наших действий и желаний, как явствует из слова Августина, постольку вера и действует с любовью. Ведь теоретический разум благодаря некоему распространению становится практическим2, как сказано в III книге «О душе».
Раздел 3
Действительно ли любовь-каритас является формой веры
(31) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что любовь-каритас не является формой веры.
(32) 1. В самом деле, все определяется в собственный вид на основании своей формы. Следовательно, у тех [вещей], которые подразделяются через противоположности, как различные виды одного рода, одно не может быть формой другого. Но вера и любовь подразделяются через противоположность, как различные виды добродетели (1 Кор 13, 13). Следовательно,
любовь-каритас не может быть формой веры.
(33) 2. Кроме того, форма и то, формой чего она является, пребывают в одном и том же, поскольку составляют безусловно единое. Но вера находится в разуме, а любовь — в воле. Следовательно, любовь-каритас не является формой веры.
(34) 3. Кроме того, форма есть начало вещи. Но началом верования со стороны воли, как кажется, является не столько любовь, сколько повиновение, согласно этим словам (Рим 1,5): Чтобы вере повиновались все народы. Следовательно, как представляется, не любовь-каритас, а повиновение является формой веры.
(35) Но против: все действует через свою форму. Но вера действует через любовь. Следовательно, формой веры является любовь-каритас.
(36) Отвечаю: надлежит сказать, что, как явствует из сказанного выше (Ч. II-I, В. 1, Р. 3; В. 18, Р. 6), добровольные действия получают вид от цели, которая является объектом воли. Но то, от чего нечто получает вид, в вещах естественных соотносится с таковым как форма. И потому для любого добровольного действия формой
(30) Ad tertium dicendum quod fides est in intellectu speculativo sicut in subiecto, ut manifeste patet ex fidei obiecto. Sed quia ventas prima, quae est fidei obiectum, est finis omnium desideriorum et actionum nostrarum, ut patet per Augustinum, in I De Trin. (8; PL 42, 831; 10; MPL 42, 834); inde est quod per dilectionem operatur. Sicut etiam intellectus speculativus extensione fit practicus, ut dicitur in III De anima (10; 433al5).
Articulus 3 Utrum caritas sit forma fidei
(31) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod caritas non sit forma fidei.
(32) 1. Unumquodque enim sortitur speciem per suam formam. Eorum ergo quae ex opposito dividuntur sicut diversae species unius generis, unum non potest esse forma alterius. Sed fides et caritas dividuntur ex opposito, I ad Cor. XIII, sicut diversae species virtutis. Ergo caritas non potest esse forma fidei.
(33) 2. Praeterea, forma et id cuius est forma sunt in eodem, quia ex eis fit unum simpliciter. Sed fides est in intellectu, caritas autem in voluntate. Ergo cantas non est forma fidei.
(34) 3. Praeterea, forma est pnncipium rei. Sed principium credendi ex parte voluntatis magis videtur esse obedientia quam caritas, secundum illud ad Rom. I, ad obediendum fidei in omnibus gentibus. Ergo obedientia magis est forma fidei quam caritas.
(35) Sed contra est quod unumquodque operatur per suam formam. Fides autem per dilectionem operatur. Ergo dilectio caritatis est forma fidei.
(36) Respondeo dicendum quod, sicut ex supenoribus patet (II-I, q. 1, a. 3; q. 18, a. 6), actus voluntarii speciem recipiunt a fine, qui est voluntatis obiectum. Id autem a quo aliquid speciem sortitur se habet ad modum formae in rebus naturalibus. Et ideo cuiuslibet actus voluntani forma quodammodo est finis ad quem ordinatur, tum quia ex ipso recipit speciem; tum etiam quia modus actionis
Раздел 4. Может ли неоформленная вера стать оформленной
61
в некотором смысле является цель, на которую это действие обращено: как потому, что от нее действие получает вид, так и потому, что модус действия должен быть соразмерен цели. Но из сказанного выше (Р. 1) очевидно, что действие веры обращено на объект воли, который есть благо, как на цель. И то благо, которое является целью веры, т. е. божественное благо, является собственным объектом любви-каритас. И потому любовь-каритас называется формой веры: постольку, поскольку действие веры совершенствуется и оформляется лю- бовью-каритас.
(37) Итак, на первое надлежит ответить, что о любви-каритас говорится, что она является формой веры постольку, поскольку оформляет ее действие. Но ничто не препятствует тому, чтобы действие получало форму от различных хабитусов, и сообразно этому сводилось к различным видам сообразно некоему порядку, как уже было сказано выше (Ч. II-I, В. 18, Р. 7, на 1), когда речь шла о человеческих действиях в общем.
(38) На второе надлежит ответить, что данное возражение имеет силу в отношении внутренней формы. Но любовь-каритас является формой веры не в этом смысле:
она, как уже сказано выше, оформляет действие веры.
(39) На третье надлежит ответить, что также и само подчинение (равно как надежда и все остальные добродетели, которые могут предшествовать акту веры), оформляются любовью-каритас, как станет ясно из нижеследующего (В. 23, Р. 8). И потому любовь-каритас считается формой веры.
Раздел 4
Действительно ли неоформленная вера может стать оформленной, и наоборот
(40) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что неоформленная вера не может стать оформленной, и наоборот.
(41) 1. В самом деле, сказано (1 Кор 13, 10): Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Но неоформленная вера несовершенна сравнительно с оформленной. Следовательно, после прихода оформленной веры неоформленная вера исключается, и не может быть тем же по числу хабитусом.
(42) 2. Кроме того, то, что умерло, не является живым. Но неоформленная вера мертва, согласно этим словам (Иак 2, 20): Вера без дел мертва. Следовательно, неоформ-
oportet quod respondeat proportionaler fini. Manifestum est autem ex praedictis (a. 1) quod actus fidei ordinatur ad obiectum voluntatis, quod est bonum, sicut ad finem. Hoc autem bonum quod est finis fidei, scilicet bonum divinum, est propnum obiectum cantatis. Et ideo caritas dicitur forma fidei, inquantum per caritatem actus fidei perficitur et formatur.
(37) Ad primum ergo dicendum quod caritas dicitur esse forma fidei inquantum informat actum ipsius. Nihil autem prohibet unum actum a diversis habitibus informari, et secundum hoc ad diversas species reduci ordine quodam, ut supra dictum est (II-I, q. 18, a. 7, ad 1), cum de actibus humanis in communi ageretur.
(38) Ad secundum dicendum quod obiectio illa procedit de forma intnnseca. Sic autem caritas non est forma fidei, sed prout informat actum eius, ut supra dictum est.
(39) Ad tertium dicendum quod etiam ipsa obedientia, et similiter spes et quaecumque alia virtus posset praecedere actum fidei, formatur a caritate, sicut infra patebit (q. 23,
a. 8). Et ideo ipsa caritas ponitur forma fidei.
Articulus 4
Utrm fides informis possit fieri formata, vel e converso
(40) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod fides informis non fiat formata, nec e converso.
(41) 1. Quia ut dicitur I ad Cor. XIII, cum venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est. Sed fides informis est imperfecta respectu formatae. Ergo, adveniente fide formata, fides informis excluditur, ut non sit unus habitus numero.
(42) 2. Praeterea, illud quod est mortuum non fit vivum. Sed fides informis est mortua, secundum illud lac. II, fides sine operibus mortua est. Ergo fides informis non potest fieri formata.
62
Вопрос 4. О самой добродетели веры
ленная вера не может стать оформленной.
(43) 3. Кроме того, благодать Божия, нисходя, оказывает не меньшее воздействие на верующего, чем на неверующего. Но нисходя на неверующего, благодать причинно обусловливает в нем хабитус веры. Следовательно, нисходя на верующего, который прежде обладал хабитусом неоформленной веры, она причинно обусловливает в нем еще один хабитус веры.
(44) 4. Кроме того, Боэций говорит, что акциденции не могут изменяться. Но вера есть некая акциденция. Следовательно, одна и та же вера не может быть в одно время оформленной, а в другое время — нет.
(45) Но против: глосса к этим словам, вера без дел мертва (Иак 2, 20), утверждает: без дел, которыми она оживляется. Следовательно, вера, которая прежде была неоформленной, становится оформленной и живой.
(46) Отвечаю: надлежит сказать, что касательно этого имелись различные мнения. Некоторые утверждали, что хабитусы оформленной и неоформленной веры различны, но после привхождения оформленной веры неоформленная вера устраняется. И, равным образом, у человека, обладавшего оформленной верой и согрешив¬
шего смертным грехом, возникает новый хабитус неоформленной веры, влиянный Богом. Но кажется нелепым, что благодать, нисходя на человека, исключает некий дар Божий, равно как и то, что человек наделяется Божьим даром из-за смертного греха.
(47) И потому другие утверждали, что хотя хабитусы оформленной и неоформленной веры различны, тем не менее, при привхождении оформленной веры хабитус неоформленной веры не разрушается, но пребывает в одном и том же субъекте вместе с хабитусом оформленной веры. Но и здесь кажется нелепым то, что хабитус неоформленной веры пребывает бездеятельным в том, кто облает оформленной верой.
(48) И потому надо сказать иначе, а именно, что хабитус у оформленной и неоформленной веры — один и тот же. И основание для этого таково. Хабитусы различаются сообразно тому, что относится к хаби- тусу сущностным образом. Но поскольку вера есть совершенство разума, то сущностным образом к вере относится то, что относится к разуму, а то, что относится к воле, относится к вере не сущностным образом — так, чтобы через тако-
(43) 3. Praeterea, gratia Dei adveniens non habet minorem effectum in homine fideli quam in infideli. Sed adveniens homini infideli causat in eo habitum fidei. Ergo etiam advemens fideli qui habebat prius habitum fidei informis causat in eo alium habitum fidei.
(44) 4. Praeterea, sicut Boetius dicit (In Cat. Arist., I, c. De Subst.; PL 64, 198), accidentia alterari non possunt. Sed fides est quoddam accidens. Ergo non potest eadem fides quandoque esse formata et quandoque informis.
(45) Sed contra est quod lac. II, super illud, fides sine operibus mortua est, dicit Glossa, quibus reviviscit (Glossa interi. 6, 212 v). Ergo fides quae erat prius mortua et informis fit formata et vivens.
(46) Respondeo dicendum quod circa hoc fuerunt diversae opiniones. Quidam (cf. Guillelmus Autissiodorensis, Summa aurea, p. 3, tr. 15, c. 2 (208vb), c. 3 (209ra)) enim dixerunt quod alius est habitus fidei formatae et informis, sed, adveniente fide formata, tollitur fides informis. Et similiter, homine post fidem formatam peccante mor¬
taliter, succedit alius habitus fidei informis a Deo infusus. Sed hoc non videtur esse conveniens quod gratia adveniens homini aliquod Dei donum excludat, neque etiam quod aliquod Dei donum homim infundatur propter peccatum mortale.
(47) Et ideo alii (cf. Bonaventura, In Sent, III, d. 23, a. 2, c. 4; QR 3, 496) dixerunt quod sunt quidem diversi habitus fidei formatae et informis, sed tamen, adveniente fide formata, non tollitur habitus fidei informis, sed simul manet in eodem cum habitu fidei formatae. Sed hoc etiam videtur inconveniens quod habitus fidei informis in habente fidem formatam remaneat otiosus.
(48) Et ideo aliter dicendum quod idem est habitus fidei formatae et informis. Cuius ratio est quia habitus diversi- ficatur secundum illud quod per se ad habitum pertinet. Cum autem fides sit perfectio intellectus, illud per se ad fidem pertinet quod pertinet ad intellectum, quod autem pertinet ad voluntatem non per se pertinet ad fidem, ita quod per hoc diversifican possit habitus fidei. Distinctio
Раздел 4. Может ли неоформленная вера стать оформленной
63
вое можно было различать хабитусы веры. Однако деление веры на оформленную и неоформленную имеет место сообразно тому, что относится к воле, т. е. сообразно любви-каритас, а не сообразно тому, что относится к разуму. Поэтому оформленная и неоформленная вера не являются разными хабитусами.
(49) Итак, на первое надлежит ответить, что слова апостола надо понимать как сказанные о тех вещах, у которых несовершенство относится к самой сущности. В самом деле, именно в этом случае несовершенное исключается, когда приходит совершенное: так, когда придет ясное видение, будет устранена вера, к сущности которой относится то, что она — о невидимом. Но если несовершенство не относится к сущности несовершенного, то та же самая по числу вещь, которая ранее была несовершенной, становится совершенной: так, детство не относится к сущности человека, и потому один и тот же по числу человек, который был мальчиком, становится мужем. Однако неоформленность веры не относится к сущности веры, но, как уже сказано, соотносится с ней акциден- тальным образом. Поэтому оформленной становится сама неоформленная вера.
autem fidei formatae et informis est secundum id quod pertinet ad voluntatem, idest secundum caritatem, non autem secundum illud quod pertinet ad intellectum. Unde fides formata et informis non sunt diversi habitus.
(49) Ad primum ergo dicendum quod verbum apostoli est in- telligendum quando imperfectio est de ratione imperfecti. Tunc enim oportet quod, adveniente perfecto, imperfectum excludatur, sicut, adveniente aperta visione, excluditur fides, de cuius ratione est ut sit non apparentium. Sed quando imperfectio non est de ratione rei imperfectae, tunc illud numero idem quod erat imperfectum fit perfectum, sicut pueritia non est de ratione hominis, et ideo idem numero qui erat puer fit vir. Informitas autem fidei non est de ratione fidei, sed per accidens se habet ad ipsam, ut dictum est Unde ipsamet fides informis fit formata.
150) Ad secundum dicendum quod illud quod facit vitam animalis est de ratione ipsius, quia est forma essentialis
(50) На второе надлежит ответить, что то, что дает жизнь животному, относится к его сущности, поскольку есть его сущностная форма, т. е. душа. И потому мертвое не может стать живым, поскольку относится к иному виду, нежели живое. Но то, что делает веру оформленной, или живой, не относится к сущности веры. Следовательно, здесь нет подобия.
(51) На третье надлежит ответить, что благодать производит веру не только тогда, когда вера по-новому начинает существовать в человеке, но и когда она постоянно пребывает в нем, ибо, как сказано выше (Ч. I, В. 104, Р. 1; Ч. II-I, В. 109, Р. 9), Бог постоянно производит оправдание человека — как Солнце постоянно просвещает воздух. Поэтому благодать, когда она нисходит на неверующего, делает не меньше, чем когда она нисходит на верующего: ведь в обоих она производит веру — в одном подтверждая и совершенствуя ее, а в другом создавая ее внове. Или же можно сказать, что то, что благодать не обусловливает веру в том, кто ею обладает, происходит акцидентальным образом, т. е. в силу предрасположенности субъекта. И наоборот, второй смертный грех не устраняет благодать от того, кто уже утратил ее в ре-
eius, scilicet anima. Et ideo mortuum vivum fien non potest, sed aliud specie est quod est mortuum et quod est vivum. Sed id quod facit fidem esse formatam vel vivam non est de essentia fidei. Et ideo non est simile.
(51) Ad tertium dicendum quod gratia facit fidem non solum quando fides de novo incipit esse in homine, sed etiam quandiu fides durat, dictum est enim supra (I, q 104, a 1, II-I, q 109, a. 9) quod Deus semper operatur iustifica- tionem hominis, sicut sol semper operatur illuminationem aeris. Unde gratia non minus facit adveniens fideli quam adveniens infideli, quia in utroque operatur fidem, in uno quidem confirmando eam et perficiendo, in alio de novo creando. Vel potest dici quod hoc est per accidens, scilicet propter dispositionem subiecti, quod gratia non causat fidem in eo qui habet. Sicut e contrano secundum peccatum mortale non tollit gratiam ab eo qui eam amisit per peccatum mortale praecedens.
64
Вопрос 4. О самой добродетели веры
зультате предшествующего греха.
(52) На четвертое надлежит ответить, что из-за того, что неоформленная вера становится оформленной, изменяется не сама вера, но субъект веры, т. е. душа, сообразно тому, что в один момент обладает верой без любви-каритас, а в другой — с ней.
Раздел 5 Является ли вера добродетелью
(53) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что вера не есть добродетель.
(54) 1. В самом деле, добродетель обращена на благо, ибо есть то, что делает благим человека, который ею обладает, как говорит Философ во II книге «Этики». Но вера обращена на истину. Следовательно, вера не есть добродетель.
(55) 2. Кроме того, влиянная добродетель совершеннее приобретенной. Но вера, в силу своего несовершенства, не включается в число приобретенных интеллектуальных добродетелей, как явствует из слов Философа в «Этике». Следовательно, куда менее вероятно, что вера является влиян- ной добродетелью.
(56) 3. Кроме того, оформленная и неоформленная веры относятся к одному виду, как
уже сказано (Р. 4). Но неоформленная вера не является добродетелью, поскольку не связана с другими добродетелями. Следовательно, не является добродетелью и оформленная вера.
(57) 4. Кроме того, благодати-харизмы и плоды отличны от добродетелей. Но вера причисляется к благодатям-харизмам (1 Кор 12, 9) и к плодам (Гал 5, 23). Следовательно, вера не есть добродетель.
(58) Но против: человек оправдывается добродетелями, ведь справедливость есть цело- купная добродетель3, как сказано в V книге «Этики». Но человек оправдывается верой, согласно этим словам (Рим 5, 1): Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом и т. д. Следовательно, вера есть добродетель.
(59) Отвечаю: надлежит сказать, что, как явствует из сказанного выше (Ч. II-I, В. 56, Р. 3), человеческая добродетель есть то, благодаря чему человеческие действия становятся благими. Поэтому любой хабитус, который всегда является началом благого действия, может называться человеческой добродетелью. Но оформленная вера является таковым хабитусом. В самом деле, поскольку верование есть действие разума, дающего согласие, понятно, сообразно повелению воли, постольку для совершенства
(52) Ad quartum dicendum quod per hoc quod fides formata fit informis non mutatur ipsa fides, sed mutatur subiectum fidei, quod est anima, quod quandoque quidem habet fidem sine caritate, quandoque autem cum caritate.
Articulus 5 Utrum fides sit virtus
(53) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod fides non sit virtus.
(54) 1 Virtus enim ordinatur ad bonum, nam virtus est quae bonum facit habentem, ut dicit Philosophus, in II Ethic. (6; 1106al5). Sed fides ordinatur ad verum. Ergo fides non est virtus.
(55) 2. Praeterea, perfectior est virtus infusa quam acquisita. Sed fides, propter sui imperfectionem, non ponitur inter virtutes intellectuales acquisitas, ut patet per Philosophum, in VI Ethic. (3; 1139bl5). Ergo multo minus potest poni virtus infusa.
(56) 3. Praeterea, fides formata et informis sunt eiusdem
speciei, ut dictum est (a. 4). Sed fides informis non est virtus, quia non habet connexionem cum aliis virtutibus. Ergo nec fides formata est virtus.
(57) 4. Praeterea, gratiae gratis datae et fructus distinguuntur a virtutibus. Sed fides enumeratur inter gratias gratis datas, I ad Cor. XII, et similiter inter fructus, ad Gal. V. Ergo fides non est virtus.
(58) Sed contra est quod homo per virtutes iustificatur, nam iustitia est tota virtus, ut dicitur in V Ethic. (1; 1130a9). Sed per fidem homo iustificatur, secundum illud ad Rom. V, iustificati ergo ex fide pacem habemus et cetera. Ergo fides est virtus.
(59) Respondeo dicendum quod, sicut ex supradictis patet (II-I, q. 56, a. 3), virtus humana est per quam actus humanus redditur bonus. Unde quicumque habitus est sem- per principium boni actus, potest dici virtus humana. Talis autem habitus est fides formata. Cum enim credere sit actus intellectus assentientis vero ex impeno voluntatis, ad hoc quod iste actus sit perfectus duo requiruntur. Quo-
Раздел 5. Является ли вера добродетелью
65
этого действия необходимо две [вещи]. Во- первых, необходимо, чтобы разум безошибочно стремился к своему благу, т. е. к истине; во-вторых, необходимо, чтобы воля безошибочно устремлялась к предельной цели, ради которой она соглашается с истиной. Но и то, и другое обнаруживается в действии оформленной веры. Ведь в смысловое содержание веры входит то, что разум всегда обращен на истину, поскольку, как установлено ранее (В. 1, Р. 3), вере не может быть присуще ничего ложного; кроме того, благодаря любви-кари- тас, которая оформляет веру, душа получает способность безошибочно направлять волю на благую цель. И потому оформленная вера является добродетелью.
(60) С другой стороны, неоформленная вера не является добродетелью, поскольку даже если она обладает должным совершенством действия оформленной веры со стороны разума, она не обладает должным совершенством со стороны веры. Точно так же, если умеренность пребывает в вожделеющей части души, а в рациональной ее части отсутствует благоразумие, то умеренность не будет добродетелью, поскольку, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 65, Р. 1), для действия умеренности требуются
две вещи: и действие разума, и действие вожделеющей части души. Равным образом, и для действия веры требуется действие воли и разума.
(61) Итак, на первое надлежит ответить, что сама истина является благом разума постольку, поскольку есть его совершенство. И потому, поскольку разум определен к истине посредством веры, вера обладает порядком по отношению к некоему благу. Далее, поскольку вера оформляется любо- вью-каритас, она обладает также порядком по отношению к благу сообразно тому, что то является объектом воли.
(62) На второе надлежит ответить, что вера, о которой говорит Философ, основывается на человеческом рассуждении, не имеющем необходимого характера, и которому поэтому может быть присуща ложь. И потому такая вера не является добродетелью. С другой стороны, та вера, о которой говорим мы, основывается на божественной истине, которая непогрешима, и потому ей не может быть присуща ложь. И потому эта вера может быть добродетелью.
(63) На третье надлежит ответить, что оформленная вера отличается от неоформленной не по виду (как если бы они относились к разным видам), но как совершенное и He¬
rum unum est ut infallibiliter intellectus tendat in suum bonum, quod est verum, aliud autem est ut infallibiliter ordinetur ad ultimum finem, propter quem voluntas assentit vero Et utrumque invenitur in actu fidei formatae. Nam ex ratione ipsius fidei est quod intellectus semper feratur in verum, quia fidei non potest subesse falsum, ut supra habitum est (q. 1, a. 3), ex caritate autem, quae format fidem, habet anima quod infallibiliter voluntas ordinetur in bonum finem. Et ideo fides formata est virtus.
(60) Fides autem informis non est virtus, quia etsi habeat perfectionem debitam actus fidei informis ex parte intellectus, non tamen habet perfectionem debitam ex parte voluntatis. Sicut etiam si temperantia esset in concupiscibili et prudentia non esset in rationali, temperantia non esset virtus, ut supra dictum est (II-I, q. 65, a. 1), quia ad actum temperantiae requintur et actus rationis et actus concupiscibilis, sicut ad actum fidei requiritur actus voluntatis et actus intellectus.
(61) Ad primum ergo dicendum quod ipsum verum est bonum intellectus, cum sit eius perfectio. Et ideo inquantum per fidem intellectus determinatur ad verum, fides habet ordinem in bonum quoddam. Sed ulterius, inquantum fides formatur per cantatem, habet etiam ordinem ad bonum secundum quod est voluntatis obiectum.
(62) Ad secundum dicendum quod fides de qua Philosophus loquitur innititur rationi humanae non ex necessitate concludenti, cui potest subesse falsum. Et ideo talis fides non est virtus. Sed fides de qua loquimur innititur ventati divinae quae est infallibilis, et ita non potest ei subesse falsum. Et ideo talis fides potest esse virtus.
(63) Ad tertium dicendum quod fides formata et informis non differunt specie sicut in diversis speciebus existentes, differunt autem sicut perfectum et imperfectum in eadem specie. Unde fides informis, cum sit imperfecta, non pertingit ad perfectam rationem virtutis, nam virtus est perfectio quaedam, ut dicitur in VII Physic. (3; 246b27).
66
Вопрос 4. О самой добродетели веры
совершенное, относящееся к одному виду. И потому неоформленная, т. е. несовершенная вера, не удовлетворяет смысловому содержанию добродетели, ведь добродетель есть некое совершенство, как сказано в VII книге «Физики».
(64) На четвертое надлежит ответить, что некоторые полагают, что вера, перечисленная среди благодатей-харизм, есть неоформленная вера. Но это сказано неподобающим образом. Ведь благодати-харизмы, которые там перечислены, не являются общими для всех членов Церкви, и потому апостол говорит, что благодати различны, и далее: одним дается то, а другим — это. А неоформленная вера обща для всех членов Церкви, поскольку неоформленность не относится к ее сущности сообразно тому, что она есть благодатный дар. Поэтому надлежит сказать, как говорит глосса, что под «верой» там понимается некое превосходство веры, например, ее постоянство, или слово веры. А «плодом» вера называется сообразно тому, что обладает некоей сладостью в своем действии — на основании достоверности. Поэтому в Послании к Галатам, где перечисляются плоды, вера определяется как «уверенность в невидимом».
Раздел 6
Является ли вера единой добродетелью
(65) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что вера не является единой добродетелью.
(66) 1. В самом деле, сказано (Ефес 2, 8), что вера есть дар Божий. И равным образом, к дарам относятся мудрость и знание (Ис 11, 2). Но мудрость и знание различаются тем, что мудрость — о вечном, а знание — о временном, как явствует из слов Августина в XII книге «О Троице». Но поскольку вера — как о вечном, так и об определенном временном, то она, как представляется, не едина, но подразделяется на части.
(67) 2. Кроме того, исповедание есть акт
веры, как сказано выше (В. 3, Р. 1). Но исповедание веры не одно и то же у всех, ведь то, что мы исповедуем как свершившееся, для древних Отцов было будущим, согласно этим словам (Ис 7, 14): Се, Дева во чреве приимет и родит Сына. Следовательно, вера не является единой.
(68) 3. Кроме того, вера является общей
у всех верных Христу. Но одна акциденция не может пребывать в разных субъектах. Следовательно, у всех не может быть одна и та же вера.
(64) Ad quartum dicendum quod quidam (Bonaventura, In Sent., III, d. 23, a. 2, q. 4, arg. 5 et arg. 2, 4 et 5 in contra; QR 3, 494); Albertus Magnus, In Sent., III, d. 23, a. 5, ad 5; ВО 28, 421) ponunt quod fides quae connumeratur inter gratias gratis datas est fides informis. Sed hoc non convenienter dicitur. Quia gratiae gratis datae, quae ibi enumerantur, non sunt communes omnibus membris Ecclesiae, unde apostolus ibi dicit, divisiones gratiarum sunt; et iterum, alii datur hoc, alii datur illud. Fides autem informis est communis omnibus membris Ecclesiae, quia informitas non est de substantia eius, secundum quod est donum gratuitum. Unde dicendum est quod fides ibi sumitur pro aliqua fidei excellentia, sicut pro constantia fidei, ut dicit Glossa (Petri Lombardi; PL 191, 1653), vel pro sermone fidei. Fides autem ponitur fructus secundum quod habet aliquam delectationem in suo actu, ratione certitudinis. Unde ad Gal. V, ubi enumerantur fructus, exponitur fides de invisibilibus certitudo.
Articulus 6 Utrum fides sit una virtus
(65) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod non sit una fides.
(66) 1. Sicut enim fides est donum Dei, ut dicitur ad Ephes. II, ita etiam sapientia et scientia inter dona Dei computantur, ut patet Isaiae XI. Sed sapientia et scientia differunt per hoc quod sapientia est de aeternis, scientia vero de temporalibus, ut patet per Augustinum, XII De Trinitate (14; PL, 42, 1009). Cum igitur fides sit et de aeternis et de quibusdam temporalibus, videtur quod non sit una fides, sed distinguatur in partes.
(67) 2. Praeterea, confessio est actus fidei, ut supra dictum est (q. 3 a. 1). Sed non est una et eadem confessio fidei apud omnes, nam quod nos confitemur factum antiqui patres confitebantur futurum, ut patet Isaiae VII, ecce virgo concipiet. Ergo non est una fides.
(68) 3. Praeterea, fides est communis omnibus fidelibus Christi. Sed unum accidens non potest esse in diversis subiectis. Ergo non potest esse una fides omnium.
Раздел 7. Является ли вера первой среди добродетелей
67
(69) Но против: апостол говорит (Ефес 4,
5); Один Господь, одна вера.
(70) Отвечаю: надлежит сказать, что веру как хабитус можно рассматривать двояко. Во-первых, со стороны объекта. И в этом смысле вера едина, ведь ее формальным объектом является первая истина, прильнув к которой, мы верим во все то, что содержит в себе вера. Во-вторых, веру как хабитус можно рассматривать со стороны субъекта. И в этом смысле вера различается сообразно тому, что ею обладают разные люди. Но очевидно, что вера, как и любой другой хабитус, получает вид от формального содержания своего объекта, а индивидуализируется со стороны субъекта. И потому вера, если она рассматривается как хабитус, посредством которого мы верим, едина по виду, но различается по числу в разных [индивидах].
(71) А если веру рассматривать как то, во что верят, то и тогда вера едина. Ведь то, во что все верят, едино, а если и имеются различные догматы, в которые также верят все, то они сводятся к одному.
(72) Итак, на первое надлежит ответить, что временные [вещи], которые предлагаются верой, относятся к ее объекту только в определенном порядке к чему-то вечно¬
му, т. е. к первой истине, как уже сказано выше (В. 1, Р. 1). И потому о вечном и временном — одна и та же вера. Но дело с мудростью и знанием обстоит иначе, поскольку они рассматривают вечное и временное сообразно их собственным смысловым содержаниям.
(73) На второе надлежит ответить, что это различие прошлого и будущего происходит не от различия самой вещи, в которую верят, но от различного отношения к ней верующих, о чем также говорилось выше (4.II-I, В. 103, Р. 4).
(74) На третье надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу в отношении различия веры сообразно числу.
Раздел 7 Является ли вера первой среди добродетелей
(75) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что вера не является первой среди добродетелей.
(76) 1. В самом деле, в глоссе к этим словам, говорю же вам, друзьям Моим (Лк 12, 4), сказано, что основанием веры является стойкость. Но основание предшествует тому, основанием чего оно является. Следовательно, вера не является первой доб-
(69) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Ephes. IV, unus dominus, una fides.
(70) Respondeo dicendum quod fides, si sumatur pro habitu, dupliciter potest considerari. Uno modo, ex parte obiec- ti Et sic est una fides, obiectum enim formale fidei est ventas prima, cui inhaerendo credimus quaecumque sub fide continentur. Alio modo, ex parte subiecti. Et sic fides diversificatur secundum quod est diversorum. Manifestum est autem quod fides, sicut et quilibet alius habitus, ex formali ratione obiecti habet speciem, sed ex subiec- to individuatur. Et ideo, si fides sumatur pro habitu quo credimus, sic fides est una specie, et differens numero in diversis.
(71) Si vero sumatur pro eo quod creditur, sic etiam est una fides. Quia idem est quod ab omnibus creditur, et si sint diversa credibilia quae communiter omnes credunt, tamen omnia reducuntur ad unum.
(72) Ad primum ergo dicendum quod temporalia quae in fide proponuntur non pertinent ad obiectum fidei nisi in ordine ad aliquod aeternum, quod est veritas prima, sicut
supra dictum est (q. 1, a 1). Et ideo fides una est de temporalibus et aeternis. Secus autem est de sapientia et scientia, quae considerant temporalia et aeterna secundum proprias rationes utrorumque.
(73) Ad secundum dicendum quod illa differentia praetenti et futuri non contingit ex aliqua diversitate rei creditae, sed ex diversa habitudine credentium ad unam rem creditam, ut etiam supra habitum est (II-I, q. 103, a. 4)
(74) Ad tertium dicendum quod illa ratio procedit ex diversitate fidei secundum numerum.
Articulus 7 Utrum fides sit prima inter virtutes
(75) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod fides non sit prima inter virtutes.
(76) 1. Dicitur enim Luc. XII, in Glossa (Ambrosii In Lc. 12, 4; PL 15, 1817) super illud, dico vobis amicis meis, quod fortitudo est fidei fundamentum. Sed fundamentum est pnus eo cuius est fundamentum. Ergo fides non est pnma virtus.
68
Вопрос 4. О самой добродетели веры
родетелью.
(77) 2. Кроме того, одна глосса к этим словам (Пс 36, 1), не ревнуй злодеям и т.д., утверждает, что надежда ведет к вере. Но надежда есть некая добродетель, как будет показано ниже (В. 17, Р. 1). Следовательно, вера не является первой добродетелью.
(78) 3. Кроме того, выше было сказано (Р. 2), что разум верующего склоняется к принятию того, что относится к вере, потому, что повинуется Богу. Но повиновение также является некоей добродетелью. Следовательно, вера не является первой добродетелью.
(79) 4. Кроме того, основанием является не неоформленная, но оформленная вера, как сказано в глоссе [к этим словам: Никто не может положить другого основания и т.д. (1 Кор 3, 11)]. Но вера оформляется любовью-каритас, как сказано выше (Р. 3). Следовательно, любовь-каритас куда скорее является основанием, нежели вера, ибо основание — первая часть любой постройки. И потому, как представляется, она предшествует вере.
(80) 5. Кроме того, порядок хабитусов постигается на основании порядка действий. Но в действии веры действие воли, которое совершенствует любовь-каритас, пред¬
шествует действию разума, которое совершенствует вера, как причина, которая предшествует следствию. Следовательно, любовь-каритас предшествует вере. Следовательно, вера не является первой среди добродетелей.
(81) Но против: апостол говорит (Евр 11,
1), что вера есть субстанция вещей, на которые надеются. Но субстанция обладает смысловым содержанием первого. Следовательно, вера является первой среди добродетелей.
(82) Отвечаю: надлежит сказать, что нечто может называться первым в двух смыслах: во-первых, в сущностном смысле; во- вторых, акцидентально. И если говорить о первом в сущностном смысле, то среди добродетелей первой является вера. В самом деле, поскольку в практических материях началом является цель, как сказано выше (Ч. II-I, В. 13, Р. 3; В. 34, Р. 4, на 1; В. 57, Р. 4), постольку необходимо, чтобы теологические добродетели, объектом которых является предельная цель, предшествовали всем прочим добродетелям. Но надлежит, чтобы сама предельная цель присутствовала прежде в разуме, чем в воле, так как воля обращается на что-либо постольку, поскольку таковое присутству¬
ет) 2. Praeterea, quaedam Glossa dicit (Petn Lombardi; fides, sicut causa, quae praecedit effectum. Ergo caritas
PL 191, 368), super illum Psalmum, noli aemulari, quod praecedit fidem. Non ergo fides est prima virtutum.
spes introducit ad fidem Spes autem est virtus quaedam, (81) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Heb. XI, quod
ut infra dicetur (q. 17, a. 1). Ergo fides non est prima fides est substantia sperandarum rerum. Sed substantia habet
virtutum. rationem pnmi. Ergo fides est prima inter virtutes
(78) 3. Praeterea, supra dictum est (a. 2) quod intellectus (82) Respondeo dicendum quod aliquid potest esse prius al-
credentis inclinatur ad assentiendum his quae sunt fidei ex obedientia ad Deum. Sed obedientia etiam est quaedam virtus. Non ergo fides est pnma virtus.
(79) 4. Praeterea, fides informis non est fundamentum, sed fides formata, sicut in Glossa dicitur (Petri Lombardi, PL 191, 1566), I ad Cor. III. Formatur autem fides per caritatem, ut supra dictum est (a. 3). Ergo fides a caritate habet quod sit fundamentum. Caritas ergo est magis fundamentum quam fides, nam fundamentum est pnma pars aedificii. Et ita videtur quod sit pnor fide.
(80) 5. Praeterea, secundum ordinem actuum intelligitur ordo habituum. Sed in actu fidei actus voluntatis, quem perficit caritas, praecedit actum intellectus, quem perficit
tero dupliciter, uno modo, per se; alio modo, per accidens. Per se quidem inter omnes virtutes pnma est fides. Cum enim in agibilibus finis sit principium, ut supra dictum est (II-I, q. 13, a. 3; q 34, a. 4, ad 1; q. 57, a. 4), necesse est virtutes theologicas, quarum obiectum est ultimus finis, esse priores cetens virtutibus. Ipse autem ultimus finis oportet quod pnus sit in intellectu quam in voluntate, quia voluntas non fertur in aliquid nisi prout est in intellectu apprehensum. Unde cum ultimus finis sit quidem in voluntate per spem et cantatem, in intellectu autem per fidem, necesse est quod fides sit pnma inter omnes virtutes, quia naturalis cognitio non potest attingere ad Deum secundum quod est obiectum beatitudinis, prout tendit in ipsum spes et caritas.
Раздел 7. Является ли вера первой среди добродетелей
69
ет в воспринимающем разуме. И поскольку предельная цель пребывает в воле посредством надежды и любви, а в разуме — посредством веры, постольку необходимо, чтобы вера была первой среди добродетелей, ведь естественное познание не может достичь Бога сообразно тому, что Он является объектом блаженства (т. е. постольку, поскольку к Нему устремляются надежда и любовь).
(83) Но акцидентальным образом некая добродетель может предшествовать вере. В самом деле, акцидентальная причина является предшествующей акцидентально. Но устранение препятствия является делом ак- цидентальной причины, как явствует из слов Философа в VIII книге «Физики»; и в этом смысле некоторые добродетели могут акцидентально предшествовать вере, поскольку устраняют препятствия для верования: так, стойкость устраняет неупорядоченный страх, препятствующий вере, а смирение устраняет гордыню, из-за которой разум отказывается подчиняться истине веры. И то же самое можно сказать о некоторых других добродетелях, хотя не может быть истинных добродетелей, если заранее не предполагается вера, как говорит Августин в книге «Против Юлиана».
(84) И из этого очевиден ответ на первое.
(85) На второе надлежит ответить, что надежда не может приводить к вере во всех без исключения случаях. В самом деле, нельзя обладать надеждой на вечное блаженство, если не верить, что таковое возможно, ибо невозможное не может быть объектом надежды, как явствует из сказанного выше (4.II-I, В. 40, Р. 1). Но благодаря надежде некто может придти к постоянству в вере или к более сильной вере. И в этом смысле говорится, что надежда приводит к вере.
(86) На третье надлежит ответить, что о повиновении говорится в двух смыслах. В самом деле, иногда под ним подразумевается склонность воли к исполнению божественных заповедей. И в этом смысле повиновение является не особой добродетелью, но, скорее, составной частью любой добродетели, поскольку все действия добродетелей согласуются с заповедями божественного закона, как сказано выше (Ч. II-I, В. 100, Р. 2). И сообразно этому, повиновение необходимо для веры. В ином же смысле повиновение подразумевает некую склонность к исполнению заповедей сообразно тому, что они обладают смысловым содержанием должного. И в этом смысле
(83) Sed per accidens potest aliqua virtus esse pnor fide Causa enim per accidens est per accidens pnor. Removere autem prohibens pertinet ad causam per accidens, ut patet per Philosophum, in VIII Physic. (4; 255b24). Et secundum hoc aliquae virtutes possunt dici per accidens pnores fide, inquantum removent impedimenta credendi, sicut fortitudo removet inordinatum timorem impedientem fidem, humilitas autem superbiam, per quam intellectus recusat se submittere ventati fidei. Et idem potest dici de aliquibus aliis virtutibus, quamvis non sint verae virtutes nisi praesupposita fide, ut patet per Augustinum, in libro Contra Iulianum (3; PL 44, 750).
(84) Unde patet responsio ad primum.
(85) Ad secundum dicendum quod spes non potest universaliter introducere ad fidem. Non enim potest spes haben de aeterna beatitudine nisi credatur possibile, quia impossibile non cadit sub spe, ut ex supradictis patet (II-I, q. 40, a. 1). Sed ex spe aliquis introduci potest ad hoc quod perseveret in fide, vel quod fidei firmiter adhaereat Et secundum hoc dicitur spes introducere ad fidem.
(86) Ad tertium dicendum quod obedientia dupliciter dicitur Quandoque enim importat inclinationem voluntatis ad implendum divina mandata Et sic non est specialis virtus, sed generaliter includitur in omni virtute, quia omnes actus virtutum cadunt sub praeceptis legis divinae, ut supra dictum est (II-I, q. 100, a. 2). Et hoc modo ad fidem requiritur obedientia. Alio modo potest accipi obedientia secundum quod importat inclinationem quandam ad implendam mandata secundum quod habent rationem debiti. Et sic obedientia est specialis virtus, et est pars iustiti- ae, reddit enim supenon debitum obediendo sibi. Et hoc
70
Вопрос 4. О самой добродетели веры
подчинение является особой добродетелью и есть часть справедливости, ибо человек воздает должное тому, кто выше его, подчиняясь ему; и такое подчинение следует за верой, поскольку именно благодаря вере человеку становится ясно, что Бог выше его, и Ему надлежит подчиняться.
(87) На четвертое надлежит ответить, что для смыслового содержания основания требуется не только то, чтобы нечто было первым, но и то, чтобы оно соединялось с другими частями строения, ведь основание только тогда является основанием, когда на него опираются все прочие части. Но соединение духовной постройки осуществляется любвью-каритас, согласно этим словам (Кол 3, 14): Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И потому вера без любви не может быть основанием; но при этом любовь не обязательно должна предшествовать вере.
(88) На пятое надлежит ответить, что вере действительно должно предшествовать предварительное действие воли, однако не действие воли, оформленной любовью-ка-
ритас, поскольку для такого действия требуется вера — ведь воля не может стремиться к Богу совершенной любовью, если разум не обладает о Нем правильной верой.
Раздел 8
Действительно ли вера достоверней научного знания и других интеллектуальных добродетелей
(89) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что вера не достовернее научного знания и других интеллектуальных добродетелей.
(90) 1. В самом деле, сомнительность про¬
тивоположна достоверности, а потому, как кажется, достовернее то, что менее сомнительно (так же, как белее то, что меньше смешано с черным). Но простое постижение и научное знание, а также мудрость, несомненны в отношении тех вещей, к которым они относятся; верующий же может иногда колебаться и испытывать сомнения в том, что относится к вере. Следовательно, вера не достовернее интеллектуальных добродетелей.
modo obedientia sequitur fidem, per quam manifestatur homini quod Deus sit superior, cui debeat obedire.
(87) Ad quartum dicendum quod ad rationem fundamenti non solum requiritur quod sit primum, sed etiam quod sit aliis partibus aedificii connexum, non enim esset fundamentum nisi ei aliae partes aedificii cohaererent. Connexio autem spiritualis aedificii est per caritatem, secundum illud Coloss. III, super omnia caritatem habete, quae est vinculum perfectionis. Et ideo fides sine caritate fundamentum esse non potest, nec tamen oportet quod caritas sit pnor fide.
(88) Ad quintum dicendum quod actus voluntatis praeexigitur ad fidem, non tamen actus voluntatis caritate informatus, sed talis actus praesupponit fidem, quia non potest voluntas perfecto amore in Deum tendere nisi intellectus rectam
fidem habeat circa ipsum.
Articulus 8
Utrum fides sit certior scientia et aliis virtutibus intellectualibus
(89) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod fides non sit certior scientia et aliis virtutibus intellectualibus.
(90) 1. Dubitatio enim opponitur certitudini, unde videtur illud esse certius quod minus potest habere de dubitatione; sicut est albius quod est nigro impermixtius. Sed intellectus et scientia, et etiam sapientia, non habent dubitationem circa ea quorum sunt, credens autem interdum potest pati motum dubitationis et dubitare de his quae sunt fidei. Ergo fides non est certior virtutibus intellectualibus.
Раздел 8. Достоверней ли вера, чем интеллектуальные добродетели
71
(91) 2. Кроме того, зрение достовернее слуха. Но, как сказано (Рим 10, 17), вера от слышания, а научное знание и мудрость подразумевают некое интеллектуальное видение в разуме. Следовательно, научное знание и простое постижение достовернее веры.
(92) 3. Кроме того, среди вещей, относящихся к познанию, чем нечто совершеннее, тем оно достовернее. Но простое постижение совершеннее веры, поскольку через веру мы приходим к постижению, согласно этим словам из перевода Септу- агинты (Ис 7, 9): Если не уверуете, то и не поймете. И Августин говорит о научном знании, что знанием укрепляется вера. Следовательно, как представляется, научное знание и простое постижение достовернее веры.
(93) Но против: апостол говорит (1 Фес 2, 13): Приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть по истине. Но нет ничего достовернее слова Божия. Следовательно, научное знание (и все прочие интеллектуальные добродетели) не достовернее веры.
(94) Отвечаю: надлежит сказать, что, как отмечено выше (Ч. II-I, В. 57, Р. 4, на 2),
из интеллектуальных добродетелей две, а именно, благоразумие и искусство, соотносятся с контингентными вещами. И вера превосходит их в достоверности благодаря своей материи, поскольку вера — о вечном, которое не изменяется. Но три другие интеллектуальные добродетели, а именно, мудрость, научное знание и простое постижение, соотносятся с необходимыми вещами, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 57, Р. 5, на 3). Однако надлежит знать, что о мудрости, научном знании и простом постижении говорится в двух смыслах: во- первых, сообразно тому, что Философ рассматривает их как интеллектуальные добродетели; во-вторых, сообразно тому, что они считаются дарами Святого Духа. Что касается первого, надлежит сказать, что достоверность можно рассматривать двояко. Во-первых, сообразно причине достоверности; и так более достоверно то, что обладает более достоверной причиной. И в этом смысле вера достовернее трех названных добродетелей, поскольку вера опирается на божественную истину, а эти три — на человеческий разум. Во-вторых, достоверность можно рассматривать применительно к субъекту; и тогда более достоверным является то, что более полно по-
(91) 2. Praeterea, visio est certior auditu. Sed fides est ex (94) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I,
auditu, ut dicitur ad Rom. X, in intellectu autem et scientia et sapientia includitur quaedam intellectualis visio. Ergo certior est scientia vel intellectus quam fides.
(92) 3. Praeterea, quanto aliquid est perfectius in his quae ad intellectum pertinent, tanto est certius. Sed intellectus est perfectior fide, quia per fidem ad intellectum pervenitur, secundum illud Isaiae VII, nisi credideritis, non intelligetis, secundum aliam litteram. Et Augustinus dicit etiam de scientia, XIV De Trin., quod per scientiam roboratur fides (1; PL 42, 1037). Ergo videtur quod certior sit scientia vel intellectus quam fides.
(93) Sed contra est quod apostolus dicit, I ad Thess. II, cum accepissetis a nobis verbum auditus, scilicet per fidem, accepistis illud non ut verbum hominum, sed, sicut vere est, verbum Dei. Sed nihil certius verbo Dei. Ergo scientia non est certior fide, nec aliquid aliud.
q. 57, a. 4, ad 2), virtutum intellectualium duae sunt circa contingentia, scilicet prudentia et ars. Quibus praefertur fides in certitudine, ratione suae matenae, quia est de aeternis, quae non contingit aliter se habere. Tres autem reliquae intellectuales virtutes, scilicet sapientia, scientia et intellectus, sunt de necessariis, ut supra dictum est (II-I, q. 57, a. 5, ad 3). Sed sciendum est quod sapientia, scientia et intellectus dupliciter dicuntur, uno modo, secundum quod ponuntur virtutes intellectuales a philosopho, in VI Ethic. (3; 1139bl5); alio modo, secundum quod ponuntur dona spiritus sancti. Primo igitur modo, dicendum est quod certitudo potest considerari dupliciter. Uno modo, ex causa certitudinis, et sic dicitur esse certius illud quod habet certiorem causam. Et hoc modo fides est certior tribus praedictis, quia fides innititur veritati divinae, tria autem praedicta innituntur rationi humanae. Alio modo potest considerari certitudo ex parte subiecti, et sic dicitur esse certius quod plenius consequitur intellectus
72
Вопрос 4. О самой добродетели веры
стигается человеческим разумом. И в этом смысле (поскольку то, что относится к вере, превышает человеческий разум, а то, что относится к названным трем интеллектуальным добродетелям — нет) вера менее достоверна. Но поскольку в безусловном отношении любая вещь оценивается сообразно своей причине, а сообразно предрасположенности со стороны субъекта оценка происходит только в некотором отношении, то вера является более достоверной безусловно, а те другие добродетели — в некотором отношении, то есть, настолько, насколько речь идет о нашем разуме. Точно так же, если рассматривать три названные вещи как дары, получаемые в этой жизни, они соотносятся с верой как с началом, которое заранее предполагается. И сообразно этому вера также является более достоверной.
(95) Итак, на первое надлежит ответить, что названное сомнение имеет место не со стороны причины веры, но с нашей стороны — постольку, поскольку наш разум не полностью постегает то, что относится к вере.
(96) На второе надлежит ответить, что, при прочих равных, зрение достовернее слуха. Но если тот, кто является источником слышимого, значительно превосходит зри¬
тельные возможности наблюдателя, то слух оказывается достовернее зрения: так, человек, обладающий небольшими познаниями, больше уверен в том, что он слышит от ученейшего мужа, чем в том, что созерцает в своем собственном разуме. И куда больше человек уверен в том, что он слышит от Бога, Который не может обманывать, чем в том, что созерцает своим собственным разумом, который может заблуждаться.
(97) На третье надлежит ответить, что совершенство простого постижения и знания превосходит познание веры в том, что касается большей очевидности, но не в том, что касается большей достоверности, определяющей приверженность. Ведь вся достоверность простого постижения и научного знания, сообразно тому, что они являются дарами, происходит от достоверности веры — точно так же, как достоверность заключений происходит от достоверности начал. А если говорить о том, что научное знание, мудрость и простое постижение суть интеллектуальные добродетели, то они опираются на свет человеческого разума, который ущербен сравнительно с достоверностью слова Божия, на которое опирается вера.
hominis. Et per hunc modum, quia ea quae sunt fidei sunt supra intellectum hominis, non autem ea quae subsunt tnbus praedictis, ideo ex hac parte fides est minus certa. Sed quia unumquodque iudicatur simpliciter quidem secundum causam suam; secundum autem dispositionem quae est ex parte subiecti iudicatur secundum quid, inde est quod fides est simpliciter certior, sed alia sunt certiora secundum quid, scilicet quoad nos. Similiter etiam, si accipiantur tna praedicta secundum quod sunt dona praesentis vitae, comparantur ad fidem sicut ad principium quod praesupponunt. Unde etiam secundum hoc fides est eis certior
(95) Ad primum ergo dicendum quod illa dubitatio non est ex parte causae fidei, sed quoad nos, inquantum non plene assequimur per intellectum ea quae sunt fidei.
(96) Ad secundum dicendum quod, cetens panbus, visio est certior auditu. Sed si ille a quo auditur multum excedit
visum videntis, sic certior est auditus quam visus. Sicut aliquis parvae scientiae magis certificatur de eo quod audit ab aliquo scientissimo quam de eo quod sibi secundum suam rationem videtur. Et multo magis homo certior est de eo quod audit a Deo, qui falli non potest, quam de eo quod videt propria ratione, quae falli potest.
(97) Ad tertium dicendum quod perfectio intellectus et scientiae excedit cognitionem fidei quantum ad maiorem manifestationem, non tamen quantum ad certiorem in- haesionem. Quia tota certitudo intellectus vel scientiae secundum quod sunt dona, procedit a certitudine fidei, sicut certitudo cognitionis conclusionum procedit ex certitudine principiorum. Secundum autem quod scientia et sapientia et intellectus sunt virtutes intellectuales, innituntur naturali lumini rationis, quod deficit a certitudine verbi Dei, cui innititur fides.
Вопрос 5 О тех, кто обладает верой
(1) Затем надлежит рассмотреть тех, кто обладает верой. И касательно этого исследуются четыре [проблемы]: 1) действительно ли ангел или человек в своем изначальном состоянии обладали верой; 2) есть ли вера в демонах; 3) действительно ли еретики, которые заблуждаются верой в отношении одного догмата, обладают верой в прочие; 4) действительно ли у одного верующего вера больше, чем у другого.
Раздел 1
Действительно ли ангел или человек в своем изначальном состоянии обладали верой
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что ангел или человек в своем изначальном состоянии не обладали верой.
(3) 1. В самом деле, Гуго Сен-Викторский говорит: Поскольку человек не обладает оком созерцания, Бога и то, что Божие суть, созерцать не может. Но ангел в своем изначальном состоянии, до утверждения [в ис¬
тине] или падения, обладал оком созерцания, ибо, как говорит Августин, видел вещи в Слове. И, равным образом, первый человек в состоянии невинности обладал незамутненным оком созерцания, ибо, как говорит Гуго Сен-Викторский в своих «Сентенциях», человек в изначальном своем состоянии знал своего Творца не тем знанием, которое происходит только от слышания, но тем, которое происходит от внутреннего вдохновения; не так, как теперь верующие ищут верой сокрытого Бога, но видя Его ясно наличным созерцанием. Следовательно, человек и ангелы в своем первоначальном состоянии не обладали верой.
(4) 2. Кроме того, познание веры являет¬
ся смутным и гадательным, согласно этим словам (1 Кор 13, 12): Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Но в изначальном состоянии ни у человека, ни у ангела [восприятие] не было помрачено, ибо помрачение есть наказание за грех. Следовательно, вера не была присуща ни человеку, ни ангелу в их изна-
Quaestio 5 De habentibus fidem
(1) Deinde considerandum est de habentibus fidem. Et circa hoc quaeruntur quatuor. Primo, utrum Angelus aut homo in pnma sui conditione habuent fidem. Secundo, utrum Daemones habeant fidem. Tertio, utrum haeretici errantes in uno articulo fidei habeant fidem de aliis articulis Quarto, utrum fidem habentium unus alio habeat maiorem fidem.
Articulus 1
Utrum Angelus aut homo in sua prima conditione habuerit fidem
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod Angelus aut homo in sua pnma conditione fidem non habuent
(3) 1. Dicit enim Hugo de sancto Victore (De Sacram. Ï, 10, 2; PL 176, 271.), quia homo oculum contemplationis non habet, Deum et quae in Deo sunt videre non valet Sed Angelus in statu pnmae conditionis, ante confirmationem
vel lapsum, habuit oculum contemplationis, videbat enim res in verbo, ut Augustinus dicit, in II Super Gen ad litt (8, PL 34, 270). Et similiter pnmus homo in statu innocentiae videtur habuisse oculum contemplationis apertum, dicit enim Hugo de sancto Victore, in suis Sententiis (De Sacram I, 10, 2; PL 176, 330.), quod novit homo, in primo statu, creatorem suum non ea cognitione quae foris auditu solo percipitur, sed ea quae intus per inspirationem ministratur, non ea qua Deus modo a credentibus absens fide quaeritur, sed ea qua per praesentiam contemplationis manifestius cernebatur Ergo homo vel Angelus in statu pnmae conditionis fidem non habuit.
(4) 2. Praeterea, cognitio fidei est aenigmatica et obscura,
secundum illud I ad Cor. XIII, videmus nunc per speculum in aenigmate. Sed in statu pnmae conditionis non fuit aliqua obscuntas neque in homine neque in Angelo, quia
74
Вопрос 5. О тех, кто обладает верой
чальном состоянии.
(5) 3. Кроме того, апостол говорит (Рим 10, 17), что вера от слышания. Но в изначальном состоянии человека или ангела так не было, ведь тогда они не могли услышать что-либо от другого. Следовательно, в этом состоянии вера не была присуща ни человеку, ни ангелу.
(6) Но против: апостол говорит (Евр 11,6): Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Но ангел и человек в их изначальном состоянии приходили к Богу. Следовательно, они нуждались в вере.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что некоторые утверждают, что в ангелах до утверждения [в истине] или падения и в человеке до первородного греха веры не было, поскольку они тогда ясно созерцали божественные вещи. И поскольку вера, согласно апостолу, есть аргумент о невидимом, и посредством веры познается то, что невидимо, как говорит Августин, то лишь та очевидность исключает смысловое содержание веры, которая делает явленным, или видимым основной объект веры. А основным объектом веры является первая истина, созерцание которой, замещающее веру, делает человека блаженным. Итак, поскольку ангел до утверждения [в истине]
и человек до грехопадения, не обладали тем блаженством, которое дает созерцание Бога через Его сущность, то очевидно, что у них не было столь отчетливого познания, которое исключало бы смысловое содержание веры. Поэтому если у них не было веры, то только потому, что они совершенно не знали того, о чем сообщает вера. И если человек и ангел были сотворены только с их естественными способностями, как говорят некоторые1, то тогда, вероятно, можно полагать, что ни в ангеле до утверждения, ни в человеке до грехопадения не было веры, поскольку познание веры превышает естественное знание о Боге не только человека, но и ангела.
(8) Но поскольку в Первой Части (В. 62, Р. 3; В. 95, Р. 1) мы уже установили, что человек и ангел были сотворены с даром благодати, постольку необходимо сказать, что через воспринятую, но еще не завершенную благодать в них уже присутствовало начало некоего чаемого блаженства, которое возникает в воле, понятно, благодаря надежде и любви-каритас, а в разуме — благодаря вере, как уже было сказано выше (В. 4, Р. 7). И потому надо сказать, что ангел до утверждения (равно как и человек до грехопадения) обладал верой. Од-
tenebrositas est poena peccati. Ergo fides in statu pnmae conditionis esse non potuit neque in homine neque in Angelo.
(5) 3. Praeterea, apostolus dicit, ad Rom. X, quod fides est ex auditu. Sed hoc locum non habuit in primo statu angelicae conditionis aut humanae, non enim erat ibi auditus ab alio. Ergo fides in statu illo non erat neque in homine neque in Angelo.
(6) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Heb. XI, accedentem ad Deum oportet credere. Sed Angelus et homo in sui prima conditione erant in statu accedendi ad Deum. Ergo fide indigebant.
(7) Respondeo dicendum quod quidam dicunt quod in Angelis ante confirmationem et lapsum, et in homine ante peccatum, non fuit fides, propter manifestam contemplationem quae tunc erat de rebus divinis. Sed cum fides sit argumentum non apparentium, secundum apostolum; et per fidem credantur ea quae non videntur, ut Augustinus dicit (In Ioann. tr. 40 super 8, 32; PL 35, 1690), illa so¬
la manifestatio excludit fidei rationem per quam redditur apparens vel visum id de quo pnncipaliter est fides. Principale autem obiectum fidei est veritas prima, cuius visio beatos facit et fidei succedit. Cum igitur Angelus ante confirmationem, et homo ante peccatum, non habuit illam beatitudinem qua Deus per essentiam videtur; manifestum est quod non habuit sic manifestam cognitionem quod excluderetur ratio fidei. Unde quod non habuit fidem, hoc esse non potuit nisi quod penitus ei erat ignotum illud de quo est fides. Et si homo et Angelus fuerunt creati in puns naturalibus, ut quidam dicunt, forte posset teneri quod fides non fuit in Angelo ante confirmationem nec in homine ante peccatum, cognitio enim fidei est supra naturalem cognitionem de Deo non solum hominis, sed etiam Angeli.
(8) Sed quia in primo (q. 62 a. 3; q. 95 a. 1) iam diximus quod homo et Angelus creati sunt cum dono gratiae, ideo necesse est dicere quod per gratiam acceptam et nondum consummatam fuerit in eis inchoatio quaedam speratae
Раздел 1. Действительно ли ангел или человек обладали верой изначально
75
нако надлежит принять во внимание, что в объекте веры есть некий как бы формальный элемент (т. е. первая истина, пребывающая за пределами познания любого творения) и некий как бы материальный элемент (то, с чем мы соглашаемся, когда примыкаем к первой истине). И что касается первого, то вера имеется во всех тех, кто — еще до обретения будущего блаженства — получил знание о Боге, обратившись к первой истине. Что же касается того, что предлагается в качестве материи веры, то нечто из такового для одного являются предметом веры, а другому известны со всей очевидностью даже в этой жизни, как было показано выше (В. 1, Р. 5). И сообразно этому также можно сказать, что ангел до утверждения (равно как и человек до грехопадения) познавал отчетливым знанием некие божественные тайны, которые мы можем теперь познавать только через веру.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что хотя эти высказывания Гуго Сен-Виктор- ского являются частным мнением и не обладают неоспоримым авторитетом, можно,
тем не менее, сказать, что созерцание, которое устраняет необходимость веры — это созерцание Небесного Отечества, которым сверхъестественная истина узревается через свою сущность. Но таким созерцанием не обладал ни ангел до утверждения, ни человек до грехопадения. Тем не менее, их созерцание находилось на более высоком уровне, нежели наше, и они, более близкие к Богу, могли отчетливо познать больше божественных тайн и следствий, чем можем мы. Поэтому их вера отличалась от нашей, при помощи которой мы теперь ищем сокрытого Бога: ведь в свете мудрости им было явлено больше, чем нам, хотя и не столь отчетливо, как явлено блаженным в свете славы.
(ю) На второе надлежит ответить, что в своем изначальном состоянии человек и ангел не были помрачены виной или карой. Тем не менее, разуму человека и ангела была присуща некая естественная затемнен- ность, сообразно тому, что любое творение темно в сравнении с безмерностью боже^ ственного света. И таковой затемненности вполне достаточно для смыслового содержания веры.
beatitudinis, quae quidem inchoatur in voluntate per spem et caritatem, sed in intellectu per fidem, ut supra dictum est (q. 4, a. 7) Et ideo necesse est dicere quod Angelus ante confirmationem habuerat fidem, et similiter homo ante peccatum. Sed tamen considerandum est quod in obiecto fidei est aliquid quasi formale, scilicet ventas prima super omnem naturalem cognitionem creaturae existens; et aliquid matenale, sicut id cui assentimus inhaerendo primae ventati. Quantum ergo ad pnmum horum, communiter fides est in omnibus habentibus cognitionem de Deo, futura beatitudine nondum adepta, inhaerendo pnmae veritati. Sed quantum ad ea quae materialiter credenda proponuntur, quaedam sunt credita ab uno quae sunt manifeste scita ab alio, etiam in statu praesenti, ut supra dictum est (q. 1, a. 5). Et secundum hoc etiam potest dici quod Angelus ante confirmationem et homo ante peccatum quaedam de divinis mystenis manifesta cognitione cognoverunt quae nunc non possumus cognoscere nisi credendo.
(9) Ad primum ergo dicendum quod, quamvis dicta Hugonis
de sancto Victore magistralia sint et robur auctoritatis non habeant, tamen potest dici quod contemplatio quae tollit necessitatem fidei est contemplatio patriae, qua supemat- uralis veritas per essentiam videtur. Hanc autem contemplationem non habuit Angelus ante confirmationem nec homo ante peccatum. Sed eorum contemplatio erat altior quam nostra, per quam, magis de propinquo accedentes ad Deum, plura manifeste cognoscere poterant de divinis effectibus et mysteriis quam nos possumus. Unde non inerat eis fides qua ita quaereretur Deus absens sicut a nobis quaeritur. Erat enim eis magis praesens per lumen sapientiae quam sit nobis, licet nec eis esset ita praesens sicut est beatis per lumen gloriae.
(10) Ad secundum dicendum quod in statu primae conditionis hominis vel Angeli non erat obscuritas culpae vel poenae. Inerat tamen intellectui hominis et Angeli quaedam obscuritas naturalis, secundum quod omnis creatura tenebra est comparata immensitati divini luminis. Et talis obscuritas sufficit ad fidei rationem.
76
Вопрос 5. О тех, кто обладает верой
(и) На третье надлежит ответить, что хотя в изначальном состоянии не было человеческого слова, исходящего извне, тем не менее, было внутреннее слово, исходящее от Бога — как его слышали и пророки, согласно этому (Пс 84, 9): Послушаю, что скажет во мне Господь Бог.
Раздел 2 Есть ли вера в демонах
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что в демонах нет веры.
(13) 1. В самом деле, Августин говорит в
книге «О предопределении святых», что вера заключается в воле верующих. Но та воля, которой некто волит верить в Бога, является благой. Следовательно, поскольку в демонах нет никакой добровольно благой воли, как сказано в Первой Части (В. 64, Р. 2, на 5), в демонах нет веры.
(14) 2. Кроме того, вера есть некий дар бо¬
жественной благодати, согласно этим словам (Ефес 2, 8): Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Но демоны утратили благодатные дары из-за греха, как утверждает глосса к этим словам (Ос 3, 1): Они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. Следова¬
тельно, после греха веры в демонах не осталось.
(15) 3. Кроме того, неверие, судя по всему,
является тяжелейшим среди грехов, как явствует из комментария Августина к этим словам (Ин 15, 22): Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. Но некоторые люди грешат грехом неверия. Если бы, следовательно, в демонах была вера, то некоторые люди грешили более тяжко, чем они. Но это кажется нелепым. Следовательно, в демонах нет веры.
(16) Но против: сказано (Иак 2, 19): И бесы веруют, и трепещут.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что, как установлено выше (В. 1, Р. 4; В. 2, Р. 1, на 3; Р. 9; В. 4, Р. 1, 2), разум верующего соглашается с предметом веры не потому, что он видит его (либо в самом себе, либо восходя к самоочевидным первоначалам), но сообразно повелению воли. А то, что воля движет разум к согласию, может иметь место вследствие двух обстоятельств. Во-первых, в силу упорядоченности воли по отношению к благу; и тогда верование есть досто- хвальное действие. Во-вторых, потому, что разум убеждается в том, что надо веровать в сказанное, однако убеждается не благода-
(11) Ad tertium dicendum quod in statu primae conditionis non erat auditus ab homine extenus loquente, sed a Deo intenus inspirante, sicut et prophetae audiebant, secundum illud Psalm., audiam quid loquatur in me dominus Deus.
Articulus 2 Utrum in Daemonibus sit fides
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod in Daemonibus non sit fides.
(13) 1. Dicit enim Augustinus, in libro De praed. Sanet. (5; PL 44, 968), quod fides consistit in credentium voluntate. Haec autem voluntas bona est qua quis vult credere Deo. Cum igitur in Daemonibus non sit aliqua voluntas deliberata bona, ut in primo dictum est (q. 64, a. 2, ad 5), videtur quod in Daemonibus non sit fides.
(14) 2. Praeterea, fides est quoddam donum divinae gratiae, secundum illud Ephes. II, gratia estis salvati perfidem, donum enim Dei est. Sed Daemones dona gratuita amiserunt per peccatum, ut dicitur in Glossa (Glossa ordin.), super
illud Osee III, ipsi respiciunt ad deos alienos, et diligunt vinacia uvarum. Ergo fides in Daemonibus post peccatum non remansit.
(15) 3. Praeterea, infidelitas videtur esse gravius inter peccata, ut patet per Augustinum, super illud Ioan. XV (In Ioann. tr. 89 super 15, 22; PL 35, 1856), si non venissem, et locutus eis non fuissem, peccatum non haberent, nunc autem excusationem non habent de peccato suo. Sed in quibusdam hominibus est peccatum infidelitatis. Si igitur fides esset in Daemonibus, aliquorum hominum peccatum esset gravius peccato Daemonum. Quod videtur esse inconveniens. Non ergo fides est in Daemonibus.
(16) Sed contra est quod dicitur lac. II, Daemones credunt et contremiscunt.
(17) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (q. 1, a. 4; q. 2, a. 1, ad 3; a. 9, q. 4 a. 1 et 2), intellectus credentis assentit rei creditae non quia ipsam videat vel secundum se vel per resolutionem ad prima principia per se visa, sed propter imperium voluntatis. Quod autem voluntas
Раздел 3. Может ли еретик обладать неоформленной верой
77
ря очевидности вещи. Так, если некий пророк, проповедуя слово Божие, предсказал нечто будущее, и был дан знак — воскресение мертвого, то этот знак может убедить разум свидетеля таким образом, чтобы он отчетливо постиг, что это говорилось от лица Бога, Который не лжет — при том, что само это предсказанное будущее не было очевидно, а потому смысловое содержание веры не было устранено.
(18) Итак, надлежит сказать, что вера верных Христу восхваляется сообразно тому, что говорилось о первом случае. И в этом смысле веры в демонах нет, хотя во втором смысле — есть. В самом деле, они видят множество ясных знаков, на основании которых осознают, что учение Церкви — от Бога, хотя и не видят самих вещей, которым учит Церковь (например, что Бог един и троичен и т. п.).
(19) Итак, на первое надлежит ответить, что вера демонов некоторым образом сужена до очевидности знаков. И потому их воля не достойна восхваления за веру.
(20) На второе надлежит ответить, что та вера, которая является даром благодати, склоняет человека к верованию сообразно некоему стремлению к благу, пусть даже
и неоформленному. Поэтому вера, которая пребывает в демонах, не является даром благодати; они склоняются к вере скорее в силу природной остроты своего разума.
(21) На третье надлежит ответить, что то самое обстоятельство, что знаки веры столь очевидны, что побуждают к верованию, вызывает у демонов недовольство. И потому их зловредность никоим образом не уменьшается от того, что они веруют.
Раздел 3
Действительно ли отрицающие один догмат веры могут обладать неоформленной верой относительно других догматов
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что еретик, отрицающий один догмат веры, может обладать неоформленной верой относительно других догматов.
(23) 1. В самом деле, естественный человеческий разум еретика не более могущественен, чем разум католика. Но разум католика нуждается в поддержке дара веры, чтобы верить в любой из догматов. Следовательно, как кажется, и еретики не могут верить ни в один догмат без дара неоформленной веры.
moveat intellectum ad assentiendum potest contingere ex duobus Uno modo, ex ordine voluntatis ad bonum, et sic credere est actus laudabilis. Alio modo, quia intellectus convincitur ad hoc quod iudicet esse credendum his quae dicuntur, licet non convincatur per evidentiam rei. Sicut si aliquis propheta praenuntiaret in sermone domini aliquid futurum, et adhiberet signum mortuum suscitando, ex hoc signo convinceretur intellectus videntis ut cognosceret manifeste hoc dici a Deo, qui non mentitur; licet illud futurum quod praedicitur in se evidens non esset, unde ratio fidei non tolleretur.
(18) Dicendum est ergo quod in fidelibus Christi laudatur fides secundum primum modum. Et secundum hoc non est in Daemonibus, sed solum secundo modo. Vident enim multa manifesta indicia ex quibus percipiunt doctrinam Ecclesiae esse a Deo; quamvis ipsi res ipsas quas Ecclesia docet non videant, puta Deum esse tnnum et unum, vel aliquid huiusmodi.
(19) Ad primum ergo dicendum quod Daemonum fides est
quodammodo coacta ex signorum evidentia. Et ideo non pertinet ad laudem voluntatis ipsorum quod credunt.
(20) Ad secundum dicendum quod fides quae est donum gratiae inclinat hominem ad credendum secundum aliquem affectum boni, etiam si sit informis. Unde fides quae est in Daemonibus non est donum gratiae; sed magis coguntur ad credendum ex perspicacitate naturalis intellectus.
(21) Ad tertium dicendum quod hoc ipsum Daemonibus displicet quod signa fidei sunt tam evidentia ut per ea credere compellantur. Et ideo in nullo malitia eorum minuitur per hoc quod credunt.
Articulus 3
Utrum qui discredit unum articulum lidei, possit habere fidem informem de aliis articulis
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod haereticus qui discredit unum articulum fidei possit habere fidem informem de aliis articulis.
(23) 1. Non enim intellectus naturalis haeretici est poten-
78
Вопрос 5. О тех, кто обладает верой
(24) 2. Кроме того, как вера объемлет собой многие догматы, так и одна наука, например, геометрия, содержит много заключений. Но некий человек может знать одни заключения геометрии, не зная других. Следовательно, человек может обладать верой в одни догматы, не веря в другие.
(25) 3. Кроме того, как человек повинуется Богу для того, чтобы веровать в догматы веры, так же он повинуется Ему для того, чтобы исполнять заповеди закона. Но человек может повиноваться ради исполнения одних заповедей, но не ради других. Следовательно, он может обладать верой в одни догматы и не верить в другие.
(26) Но против: как смертный грех противопоставляется любви-каритас, так и неверие в один догмат противопоставляется вере. Но любовь-каритас не сохраняется в человеке после одного смертного греха. Следовательно, и вера не сохраняется после того, как отрицается один догмат веры.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что еретик, который отрицает один догмат веры, не обладает хабитусом веры — ни оформленной, ни неоформленной. И основание этому следующее. Вид любого хабитуса зависит от формального смыслового содержания объекта, поскольку при его устра¬
нении вид хабитуса не может сохраниться. Но формальным объектом веры является первая истина сообразно тому, как она явлена в Писании и учении Церкви. Поэтому любой, кто не принимает как непогрешимые и божественные правила учение Церкви, которое основано на первой истине, явленной в Писании, не обладает хабитусом веры, а того, что относится к вере, придерживается не верой, но по-другому. Так, совершенно очевидно, что если некто придерживается разумом неких заключений, не зная средних терминов, через которые они доказываются, то он обладает не научным знанием, но мнением. Однако ясно, что тот, кто видит в учении Церкви непогрешимые правила, признает все, чему учит Церковь. В противном случае, если он придерживается в церковном учении только того, что хочет, а чего не хочет — не придерживается, то он уже не рассматривает учение Церкви в качестве непогрешимых правил, но полагается на свою волю. И потому очевидно, что еретик, который твердо отрицает один из догматов, не готов следовать во всем учению Церкви (а если бы он не был тверд в этом, то был бы не еретиком, но всего лишь заблуждающимся). И, соответственно, очевидно,
tior quam intellectus Catholici. Sed intellectus Catholici fidei.
indiget adiuvari, ad credendum quemcumque articulum (27) Respondeo dicendum quod haereticus qui discredit unum
fidei, dono fidei. Ergo videtur quod nec haeretici aliquos articulos credere possint sine dono fidei informis.
(24) 2. Praeterea, sicut sub fide continentur multi articuli fidei, ita sub una scientia, puta geometria, continentur multae conclusiones. Sed homo aliquis potest habere scientiam geometriae circa quasdam geometricas conclusiones, aliis ignoratis. Ergo homo aliquis potest habere fidem de aliquibus articulis fidei, alios non credendo.
(25) 3. Praeterea, sicut homo obedit Deo ad credendum articulos fidei, ita etiam ad servanda mandata legis. Sed homo potest esse obediens circa quaedam mandata et non circa alia. Ergo potest habere fidem circa quosdam articulos et non circa alios.
(26) Sed contra, sicut peccatum mortale contrariatur cantati, ita discredere unum articulum contrariatur fidei. Sed caritas non remanet in homine post unum peccatum mortale. Ergo neque fides postquam discredit unum articulum
articulum fidei non habet habitum fidei neque formatae neque informis. Cuius ratio est quia species cuiuslibet habitus dependet ex formali ratione obiecti, qua sublata, species habitus remanere non potest. Formale autem obiectum fidei est veritas pnma secundum quod manifestatur in Scripturis sacns et doctnna Ecclesiae. Unde quicumque non inhaeret, sicut infallibili et divinae regulae, doctrinae Ecclesiae, quae procedit ex veritate prima in Scripturis sacris mamfestata, ille non habet habitum fidei, sed ea quae sunt fidei alio modo tenet quam per fidem. Sicut si aliquis teneat mente aliquam conclusionem non cognoscens medium illius demonstrationis, manifestum est quod non habet eius scientiam, sed opinionem solum. Manifestum est autem quod ille qui inhaeret doctrinae Ecclesiae tanquam infallibili regulae, omnibus assentit quae Ecclesia docet. Alioquin, si de his quae Ecclesia docet quae vult tenet et quae vult non tenet, non iam inhaeret
Раздел 4. Может ли вера одного человека быть больше, чем вера другого
79
что такой еретик, отрицающий один догмат, в отношении других догматов обладает не верой, но мнением, основанным на его собственной воле.
(28) Итак, на первое надлежит ответить, что еретик придерживается других догматов, в отношении которых он не заблуждается, не так, как верующий, т. е. безусловно примыкая к первой истине (для чего человеку необходима помощь со стороны хабитуса веры), но на основании собственной воли и суждения.
(29) На второе надлежит ответить, что в разных заключениях одной науки имеются разные средние термины, через которые доказываются эти заключения, и один из них может познаваться без другого. И потому человек может знать некие заключения одной науки, не зная другие. Но вера связана со всеми догматами благодаря одному среднему термину, а именно, благодаря первой истине, данной нам в Писании сообразно правильно понятому церковному учению. И потому тот, кто отступает от такого среднего термина, полностью лишается веры.
(30) На третье надлежит ответить, что различные заповеди закона могут соотносить¬
ся либо с различными ближайшими движителями (и так можно соблюдать одну заповедь и не соблюдать другую), либо с одним первым движущим, т. е. с совершенным подчинением Богу, от Которого человек отступает, если нарушит хотя бы одну заповедь, согласно этим словам (Иак 2,10): Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.
Раздел 4
Может ли вера одного человека быть больше, чем вера другого
(31) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что вера одного человека не может быть больше, чем вера другого.
(32) 1. В самом деле, количество хабитуса обусловливается его объектом. Но любой, кто обладает верой, верит во все, что относится к вере, поскольку тот, кто отступит хотя бы от одного догмата, полностью утратит веру, как уже сказано выше (Р. 3). Следовательно, как представляется, вера одного человека не может быть больше веры другого.
Ecclesiae doctrinae sicut infallibili regulae, sed propriae voluntati. Et sic manifestum est quod haereticus qui pertinaciter discredit unum articulum non est paratus sequi in omnibus doctrinam Ecclesiae (si enim non pertinaciter, iam non est haereticus, sed solum errans). Unde manifestum est quod talis haereticus circa unum articulum fidem non habet de aliis articulis, sed opinionem quandam secundum propriam voluntatem.
(28) Ad primum ergo dicendum quod alios articulos fidei, de quibus haereticus non errat, non tenet eo modo sicut tenet eos fidelis, scilicet simpliciter inhaerendo primae veritati, ad quod indiget homo adiuvari per habitum fidei, sed tenet ea quae sunt fidei propria voluntate et iudicio.
(29) Ad secundum dicendum quod in diversis conclusionibus unius scientiae sunt diversa media per quae probantur, quorum unum potest cognosci sine alio. Et ideo homo potest scire quasdam conclusiones unius scientiae, ignoratis aliis. Sed omnibus articulis fidei inhaeret fides propter unum medium, scilicet propter veritatem pnmam proposi¬
tam nobis in Scnptuns secundum doctrinam Ecclesiae intellectis sane. Et ideo qui ab hoc medio decidit totaliter fide caret.
(30) Ad tertium dicendum quod diversa praecepta legis possunt referri vel ad diversa motiva proxima, et sic unum sine alio servari potest. Vel ad unum motivum pnmum, quod est perfecte obedire Deo, a quo decidit quicumque unum praeceptum transgreditur, secundum illud lac. II, qui offendit in uno factus est omnium reus.
Articulus 4
Utrum lides possit esse maior in uno quam in alio
(31) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod fides non possit esse maior in uno quam in alio.
(32) 1. Quantitas enim habitus attenditur secundum obiecta. Sed quicumque habet fidem credit omnia quae sunt fidei, quia qui deficit ab uno totaliter amittit fidem, ut supra dictum est (a. 3). Ergo videtur quod fides non possit esse maior in uno quam in alio.
80
Вопрос 5. О тех, кто обладает верой
(33) 2. Кроме того, то, что пребывает в высшей степени, не может быть «больше» или «меньше». Но смысловое содержание веры предполагает высшую степень, поскольку для веры требуется, чтобы человек держался первой истины превыше всех вещей. Следовательно, вера не получает большую или меньшую степень.
(34) 3. Кроме того, вера при благодатном познании подобна простому постижению начал при естественном познании, поскольку догматы веры суть первоначала благодатного познания, как явствует из сказанного (В. 1, Р. 7). Но простое постижение начал равным образом обнаруживается во всех людях. Следовательно, и вера обнаруживается во всех людях равным образом.
(35) Но против: там, где обнаруживается большое и малое, обнаруживается также большая и меньшая степень. Но в вере обнаруживается большое и малое, ибо Господь говорит Петру (Мф 14, 31): Маловерный! зачем ты усомнился? И женщине Он сказал (Мф 15, 28): О, женщина!велика вера твоя. Следовательно, вера одного человека может быть больше, чем вера другого.
(36) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше (Ч. II-I, В. 52, Р. 1,
2; Ч. II-I, В. 112, Р. 4), количество хабиту- са обусловливается двумя вещами: во-первых, объектом; во-вторых, причастностью субъекта. При этом объект веры может рассматриваться двояко: во-первых, сообразно формальному смысловому содержанию; во-вторых, сообразно тому, что материально предлагается для верования. И формальным объектом веры, как уже сказано выше (В. 1, Р. 1), является нечто единое и простое, т. е. первая истина. Поэтому со стороны объекта вера в верующих не различается, но едина по виду во всех, как уже сказано выше (В. 4, Р. 6). Но то, что материально предлагается для верования, множественно, и может принимать большую или меньшую степень. И в этом отношении один человек может отчетливо верить в большее, чем другой. И так в одном человеке может быть больше веры — сообразно большей ее отчетливости. Если же вера рассматривается сообразно причастности субъекта, то и здесь имеется двойственность, ведь действие веры происходит и от разума, и от воли, как уже сказано выше (В. 2, Р. 1, 2; В. 4, Р. 2). Следовательно, о большей вере человека сообразно разуму говорится тогда, когда имеет место большая достоверность и прочность;
(33) 2. Praeterea, ea quae sunt in summo non recipiunt magis neque minus. Sed ratio fidei est in summo, requiritur enim ad fidem quod homo inhaereat primae veritati super omnia Ergo fides non recipit magis et minus.
(34) 3. Praeterea, ita se habet fides in cognitione gratuita sicut intellectus principiorum in cognitione naturali, eo quod articuli fidei sunt pnma pnncipia gratuitae cognitionis, ut ex dictis patet (q. 1, a. 7). Sed intellectus pnncipi- orum aequaliter invenitur in ommbus hominibus. Ergo et fides aequaliter invenitur in omnibus fidelibus
(35) Sed contra, ubicumque invenitur parvum et magnum, ibi invenitur maius et minus. Sed in fide invenitur magnum et parvum, dicit enim dominus Petro, Matth. XIV, modicae fidei, quare dubitasti? Et mulien dixit, Matth. XV, mulier, magna est fides tua. Ergo fides potest esse maior in uno quam in alio.
(36) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q. 52, a. 1, 2; II-I, q. 112, a. 4), quantitas habitus ex duobus attendi potest, uno modo, ex obiecto; alio modo, secun¬
dum participationem subiecti. Obiectum autem fidei potest dupliciter considerari, uno modo, secundum formalem rationem, alio modo, secundum ea quae materialiter credenda proponuntur. Formale autem obiectum fidei est unum et simplex scilicet ventas pnma, ut supra dictum est (q. 1, a. 1). Unde ex hac parte fides non diversificatur in credentibus, sed est una specie in omnibus, ut supra dictum est (q. 4, a. 6). Sed ea quae matenaliter credenda proponuntur sunt plura, et possunt accipi vel magis vel minus explicite. Et secundum hoc potest unus homo plura explicite credere quam alius. Et sic in uno potest esse maior fides secundum maiorem fidei explicationem. Si vero consideretur fides secundum participationem subiecti, hoc contingit dupliciter. Nam actus fidei procedit et ex intellectu et ex voluntate, ut supra dictum est (q. 2, a. 1, 2; q. 4, a. 2). Potest ergo fides in aliquo dici maior uno modo ex parte intellectus, propter maiorem certitudinem et firmitatem, alio modo ex parte voluntatis, propter maiorem promptitudinem seu devotionem vel confidentiam.
Раздел 4. Может ли вера одного человека быть больше, чем вера другого
81
а о большей вере сообразно воле говорится тогда, когда имеет место большая готовность, или большая преданность, или большее доверие.
(37) Итак, на первое надлежит ответить, что тот, кто упорно отрицает один из догматов веры, не обладает хабитусом веры, который, однако, имеется у того, кто, не имея отчетливой веры во все догматы, готов верить во все. И в этом смысле один обладает большей верой со стороны объекта, чем другой — постольку, поскольку отчетливо верит в большее число догматов, как уже сказано.
(38) На второе надлежит ответить, что в смысловое содержание веры входит то, что первой истине отдается предпочтение пе¬
ред всем остальным. Однако среди тех, кто ее всему предпочитает, есть такие, кто повинуется ей с большей твердостью и преданностью, чем другие. И сообразно этому говорится, что вера одного человека больше, чем вера другого.
(39) На третье надлежит ответить, что простое постижение начал неотделимо от самой природы человека, которая обнаруживается одинаково во всех людях. А вера обусловливается даром благодати, который не одинаково присутствует во всех, как уже сказано (Ч. II-I, В. 112, Р. 4). И потому здесь нет подобия. Впрочем, надо сказать, что и первые начала один человек постигает лучше, чем другой — сообразно большим возможностям своего разума.
(37) Ad primum ergo dicendum quod ille qui pertinaciter discredit aliquid eorum quae sub fide continentur non habet habitum fidei, quem tamen habet ille qui non explicite omnia credit, sed paratus est omnia credere. Et secundum hoc ex parte obiecti unus habet maiorem fidem quam alius, inquantum plura explicite credit, ut dictum est.
(38) Ad secundum dicendum quod de ratione fidei est ut ventas pnma omnibus praeferatur. Sed tamen eorum qui eam omnibus praeferunt quidam certius et devotius se ei
subiiciunt quam alii. Et secundum hoc fides est maior in uno quam in alio.
(39) Ad tertium dicendum quod intellectus pnncipiorum consequitur ipsam naturam humanam, quae aequaliter in omnibus invenitur. Sed fides consequitur donum gratiae, quod non est aequaliter in omnibus, ut supra dictum est (II-I, q 112, a 4) Unde non est eadem ratio. Et tamen secundum maiorem capacitatem intellectus, unus magis cognoscit virtutem principiorum quam alius.
Вопрос 6 О причине веры
(1) Затем надлежит рассмотреть причину веры. И касательно этого исследуются две [проблемы]: 1) действительно ли веру вселяет Бог; 2) является ли даром неоформленная вера.
Раздел 1 Действительно ли веру вселяет в человека Бог
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что Бог не вселяет веру в человека.
(3) 1. В самом деле, Августин говорит в XIV книге «О Троице», что знанием вера в нас порождается, питается, укрепляется и защищается. Но то, что порождается в нас посредством знания, является скорее приобретенным, чем влиянным. Следовательно, как представляется, нельзя говорить о том, что веру вселяет в нас Бог.
(4) 2. Кроме того, то, к чему человек при¬
ходит благодаря своему слуху и зрению, судя по всему, является для него приобретенным. Но человек приходит к вере
благодаря тому, что видит чудеса и слышит учение веры, ибо сказано (Ин 4, 53): Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. И еще (Рим 10, 17): Вера от слышания. Следовательно, вера обретается человеком как нечто приобретенное.
(5) 3. Кроме того, то, что заключено в человеческой воле, может быть приобретено человеком. Но вера заключена в воле верующего, как говорит Августин. Следовательно, человек может сам приобрести веру.
(6) Но против: сказано (Ефес 2, 8-9): Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что для веры требуются две вещи. Во-первых, надо, чтобы человеку были предложены вероучительные догматы — для того, чтобы он мог обладать отчетливой верой. Во-вторых, для веры требуется согласие верующего с тем, что ему предложено. Итак, что ка-
Quaestio 6 De causa fidei
(1) Deinde considerandum est de causa fidei. Et circa hoc quaeruntur duo. Pnmo, utrum fides sit homini infusa a Deo. Secundo, utrum fides informis sit donum.
Articulus 1 Utrum fides sit homini a Deo infiisa
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod fides non sit homini infusa a Deo.
(3) 1. Dicit enim Augustinus, XIV De Trin (1; PL 42, 1037), quod per scientiam gignitur in nobis fides, nutritur, defenditur et roboratur. Sed ea quae per scientiam in nobis gignuntur magis videntur acquisita esse quam infusa. Ergo fides non videtur in nobis esse ex infusione divina.
(4) 2. Praeterea, illud ad quod homo pertingit audiendo et videndo videtur esse ab homine acquisitum. Sed homo pertingit ad credendum et videndo miracula et audiendo
fidei doctrinam, dicitur enim Ioan. IV, cognovit pater quia illa hora erat in qua dixit ei Iesus, filius tuus vivit, et credidit ipse et domus eius tota; et Rom. X dicitur quod fides est ex auditu. Ergo fides habetur ab homine tanquam acquisita.
(5) 3. Praeterea, illud quod consistit in hominis voluntate ab homine potest acquiri. Sed fides consistit in credentium voluntate, ut Augustinus dicit, in libro De praed. Sanet. (5; PL 44, 968). Ergo fides potest esse ab homine acquisita.
(6) Sed contra est quod dicitur ad Ephes. II, gratia estis salvati per fidem, et non ex vobis, ne quis glorietur, Dei enim donum est.
(7) Respondeo dicendum quod ad fidem duo requiruntur. Quorum unum est ut homini credibilia proponantur, quod requiritur ad hoc quod homo aliquid explicite credat. Aliud autem quod ad fidem requiritur est assensus credentis ad
Раздел 1. Действительно ли веру вселяет в человека Бог
83
сается первого, то необходимо, чтобы вера была от Бога. В самом деле, то, что относится к вере, превосходит человеческий разум, а потому человек не может созерцать таковое, если только Бог не откроет ему это. Но одно открывает непосредственно Бог (как те [истины], которые Он открыл апостолам и пророкам), а другое предлагается от лица Бога проповедниками веры, согласно этим словам (Рим 10, 15): И как проповедыватъ, если не будут посланы?
(8) Что же касается второго, а именно, согласия человека с тем, что относится к вере, то можно указать две его причины. Одна — действующая извне, а именно, наблюдение чудес или убеждение со стороны человека, приводящего к вере. Но ни первое, ни второе не является достаточной причиной, ведь среди тех, кто наблюдает одно и то же чудо, или слышит одну и ту же проповедь, одни приходят к вере, а другие — нет. И потому должна быть еще одна, внутренняя, причина, которая изнутри движет человека к согласию с тем, что относится к вере. И пелагиане считали, что этой причиной является одно лишь свободное решение человека, и потому говорили, что начало веры — в нас, постольку, поскольку мы сами себя готовим к согла-
еа quae proponuntur. Quantum igitur ad primum horum, necesse est quod fides sit a Deo. Ea enim quae sunt fidei excedunt rationem humanam, unde non cadunt in contemplatione hominis nisi Deo revelante. Sed quibusdam quidem revelantur immediate a Deo, sicut sunt revelata apostolis et prophetis, quibusdam autem proponuntur a Deo mittente fidei praedicatores, secundum illud Rom X, quomodo praedicabunt nisi mittantur?
(8) Quantum vero ad secundum, scilicet ad assensum hominis in ea quae sunt fidei, potest considerari duplex causa. Una quidem exterius inducens, sicut miraculum visum, vel persuasio hominis inducentis ad fidem Quorum neutrum est sufficiens causa, videntium enim unum et idem miraculum, et audientium eandem praedicationem, quidam credunt et quidam non credunt. Et ideo oportet ponere aliam causam interiorem, quae movet hominem intenus ad assentiendum his quae sunt fidei. Hanc autem causam Pelagiani ponebant solum liberum arbitnum ho-
СИЮ с тем, что относится к вере; а завершение веры — от Бога, через Которого нам предложено то, во что следует верить. Но это ложно. В самом деле, поскольку человек, соглашаясь с тем, что относится к вере, поднимается над своей природой, надлежит, чтобы это согласие было внедрено в него сверхъестественным началом, движущим изнутри, т. е. Богом. И потому вера, насколько это касается согласия (которое является главнейшим действием веры), происходит от Бога, движущего посредством благодати.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что вера порождается и питается знанием в смысле воздействия внешнего убеждения, возникающего благодаря некоему знанию. Но главная и сущностная причина веры — то, что движет к согласию изнутри.
(ю) На второе надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу по отношению к причине, которая извне предлагает то, что относится к вере, или побуждает к вере словом или делом.
(и) На третье надлежит ответить, что вера, конечно, заключена в воле верующего; тем не менее, необходимо, чтобы воля человека была заранее подготовлена Богом при помощи благодати — для того, чтобы
minis, et propter hoc dicebant quod initium fidei est ex nobis, inquantum scilicet ex nobis est quod parati sumus ad assentiendum his quae sunt fidei, sed consummatio fidei est a Deo, per quem nobis proponuntur ea quae credere debemus Sed hoc est falsum. Quia cum homo, assentiendo his quae sunt fidei, elevetur supra naturam suam, oportet quod hoc insit ei ex supematurali pnncipio interius movente, quod est Deus. Et ideo fides quantum ad assensum, qui est principalis actus fidei, est a Deo intenus movente per gratiam.
(9) Ad primum ergo dicendum quod per scientiam gignitur fides et nutntur per modum extenoris persuasionis, quae fit ab aliqua scientia. Sed pnncipalis et propna causa fidei est id quod intenus movet ad assentiendum.
(10) Ad secundum dicendum quod etiam ratio illa procedit de causa proponente extenus ea quae sunt fidei, vel per- suadente ad credendum vel verbo vel facto.
(11) Ad tertium dicendum quod credere quidem in voluntate
84
Вопрос 6. О причине веры
она могла вознестись к тому, что превыше природы, как уже сказано.
Раздел 2
Является ли даром неоформленная вера
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что неоформленная вера не является даром Бога.
(13) 1. В самом деле, сказано (Втор 32, 4): Совершенны дела Его. Но неоформленная вера подразумевает некое несовершенство. Следовательно, неоформленная вера не является даром Бога.
(и) 2. Кроме того, как действие называется
деформированным из-за того, что лишено должной формы, так и вера называется неоформленной в силу нехватки надлежащей формы. Но деформированное действие греха не может происходить от Бога, как уже сказано выше (Ч. 1I-I, В. 79, Р. 2, на 2). Следовательно, и неоформленная вера не может происходить от Бога.
(15) 3. Кроме того, кого бы ни исцелял
Бог, Он исцеляет полностью, ибо сказано (Ин 7, 23): Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, — на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? Но верой человек исцеляется от неверия. Сле¬
довательно, любой дар, принятый от Бога, полностью исцеляет от всех грехов. Но это возможно только благодаря оформленной вере. Следовательно, только оформленная вера является даром Божьим. Следовательно, неоформленная вера не может им быть.
(16) Но против: глосса (к 1 Кор 13, 2) утверждает, что вера и без любви-каритас есть дар Божий. Но вера без любви-каритас есть неоформленная вера. Следовательно, неоформленная вера есть дар божий.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что неоформленность есть некая лишенность. Но надлежит принять во внимание, что лишенность иногда включается в смысловое содержание вида, а иногда — нет, но привходит к вещи, уже обладающей собственным видом. Так, лишенность должной соразмерности жидкостей входит в смысловое содержание болезни, а затемненность не всходит в смысловое содержание прозрачного, но привходит к нему. Итак, поскольку при указании причины некоей вещи, ее причина должна указываться сообразно собственному ее виду, постольку то, что не является лишенностью, не может считаться причиной той вещи, которая обладает лишенностью, включенной в смысловое содержание своего вида (так, при-
credentium consistit, sed oportet quod voluntas hominis praeparetur a Deo per gratiam ad hoc quod elevetur in ea quae sunt supra naturam, ut supra dictum est.
Articulus 2 Utrum fides informis sit donum Dei
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod fides informis non sit donum Dei.
(13) 1. Dicitur enim Deut. XXXII, quod Dei perfecta sunt opera. Fides autem informis est quiddam imperfectum. Ergo fides informis non est opus Dei.
(14) 2. Praeterea, sicut actus dicitur deformis propter hoc quod caret debita forma, ita etiam fides dicitur informis propter hoc quod caret debita forma (II-I, q. 79, a. 2, ad 2). Sed actus deformis peccati non est a Deo, ut supra dictum est. Ergo neque etiam fides informis est a Deo.
(15) 3. Praeterea, quaecumque Deus sanat totaliter sanat, dicitur enim Ioan. VII, si circumcisionem accipit homo in sabbato ut non solvatur lex Moysi, mihi indignamini
quia totum hominem salvum feci in sabbato. Sed per fidem homo sanatur ab infidelitate. Quicumque ergo donum fidei a Deo accipit simul sanatur ab omnibus peccatis. Sed hoc non fit nisi per fidem formatam. Ergo sola fides formata est donum Dei. Non ergo fides informis.
(16) Sed contra est quod quaedam Glossa (Petri Lombardi; PL 191, 1659) dicit, I ad Cor. XIII, quod fides quae est sine caritate est donum Dei. Sed fides quae est sine cantate est fides informis. Ergo fides informis est donum Dei.
(17) Respondeo dicendum quod informitas pnvatio quaedam est. Est autem considerandum quod privatio quandoque quidem pertinet ad rationem speciei, quandoque autem non, sed supervenit rei iam habenti propnam speciem. Sicut pnvatio debitae commensurationis humorum est de ratione speciei ipsius aegntudinis, tenebrositas autem non est de ratione speciei ipsius diaphani, sed supervenit. Quia igitur cum assignatur causa alicuius rei, intelligitur assignari causa eius secundum quod in propna specie existit, ideo quod non est causa pnvationis non potest dici esse
Раздел 2. Является ли даром неоформленная вера
85
чиной болезни может считаться только то, что является причиной нарушения соразмерности жидкостей). Однако можно сказать, что нечто является причиной прозрачного, не являясь при этом причиной темноты, которая не входит в смысловое содержание прозрачного. Но неоформленность не входит в смысловое содержание самого вида веры, поскольку вера называется неоформленной из-за нехватки некоей внешней формы, как уже сказано выше (В. 4, Р. 4). И потому причина неоформленной веры та же, что и причина веры вообще. Но, как уже было сказано (Р. 1), это Бог. И потому остается только, что неоформленная вера является даром Божьим.
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что неоформленная вера, даже если она не совершенна безусловно совершенством добродетели, совершенна, тем не менее, неким таким совершенством, которого достаточно для смыслового содержания веры.
(19) На второе надлежит ответить, что де- формированность действия входит в смыс¬
ловое содержание самого действия сообразно тому, что оно относится к области нравственности, как уже было сказано выше (Ч. I, В. 48, Р. 1, на 2; Ч. II-I, В. 18, Р. 5). В самом деле, действие называется деформированным из-за лишенности внутренней формы, которая есть должная соразмерность обстоятельств действия. И потому Бога нельзя считать причиной деформированного действия, ведь Он не является причиной деформированности, хотя и есть причина действия как такового. Или надлежит сказать, что неоформленность подразумевает не только лишенность должной формы, но также и противоположную предрасположенность. Поэтому деформированность относится к действию так же, как ложь — к вере. И потому как деформированное действие — не от Бога, так и ложная вера. И как неоформленная вера происходит от Бога, так и некоторые действия, являющиеся благими по роду, хотя и не оформленые любовью-каритас, которые часто совершаются грешниками.
causa illius rei ad quam pertinet privatio sicut existens de ratione speciei ipsius, non enim potest dici causa aegritudinis quod non est causa distemperantiae humorum. Potest tamen aliquid dici esse causa diaphani quamvis non sit causa obscuritatis, quae non est de ratione speciei diaphani Informitas autem fidei non pertinet ad rationem speciei ipsius fidei, cum fides dicatur informis propter defectum cuiusdam exterioris formae, sicut dictum est (q. 1, a. 1). Et ideo illud est causa fidei informis quod est causa fidei simpliciter dictae. Hoc autem est Deus, ut dictum est (a. 1). Unde relinquitur quod fides informis sit donum Dei.
(18) Ad primum ergo dicendum quod fides informis, etsi non sit perfecta simpliciter perfectione virtutis, est tamen perfecta quadam perfectione quae sufficit ad fidei rationem.
(19) Ad secundum dicendum quod deformitas actus est de ratione speciei ipsius actus secundum quod est actus moralis, ut supra dictum est (I, q. 48, a. 1, ad 2; II-I, q. 18, a. 5), dicitur enim actus deformis per privationem formae intrin- secae, quae est debita commensuratio circumstantiarum actus. Et ideo non potest dici causa actus deformis Deus, qui non est causa deformitatis, licet sit causa actus inquantum est actus. Vel dicendum quod deformitas non solum importat privationem debitae formae, sed etiam contrariam dispositionem. Unde deformitas se habet ad actum sicut falsitas ad fidem. Et ideo sicut actus deformis non est a Deo, ita nec aliqua fides falsa. Et sicut fides informis est a Deo, ita etiam actus qui sunt boni ex genere, quamvis non sint cantate formati, sicut plerumque in peccatonbus contingit.
86
Вопрос 6. О причине веры
(20) На третье надлежит ответить, что тот, кто принимает от Бога веру без любви-ка- ритас, исцеляется от неверия не полностью (поскольку вина предшествующего неверия не устраняется), но лишь в некотором отношении, а именно, в том, что прекращает грешить этим грехом. И это бывает довольно часто: человек прекращает со¬
вершать определенные греховные действия (даже благодаря воздействию Бога), а другие продолжает совершать, подстрекаемый своим нечестием. И таким вот образом иногда Бог дает человеку веру, но не дает ему дар любви-каритас — точно так же, как некоторым дается дар пророчества (или некий подобный дар) без дара любви.
(20) Ad tertium dicendum quod ille qui accipit a Deo fidem absque caritate non simpliciter sanatur ab infidelitate, quia non removetur culpa praecedentis infidelitatis, sed sanatur secundum quid, ut scilicet cesset a tali peccato. Hoc autem frequenter contingit, quod aliquis desistit ab uno actu peccati, etiam Deo hoc faciente, qui tamen ab actu alterius
peccati non desistit, propna iniquitate suggerente. Et per hunc modum datur aliquando a Deo homini quod credat, non tamen datur ei caritatis donum, sicut etiam aliquibus absque cantate datur donum prophetiae vel aliquid simile.
Вопрос 7
О следствиях веры
(!) Затем надлежит рассмотреть следствия веры. И касательно этого исследуются две [проблемы]: 1) является ли страх следствием веры; 2) является ли следствием веры очищение сердца.
Раздел 1
Является ли страх следствием веры
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что страх не является следствием веры.
(3) 1. В самом деле, следствие не предшествует причине. Однако страх предшествует вере, согласно этим словам (Сир 2, 8): Боящиеся Господа! веруйте Ему. Следовательно, страх не является следствием веры.
(4) 2. Кроме того, одна и та же вещь не является причиной противоположностей. Но страх и надежда суть противоположности, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 23, Р. 2), ведь вера порождает надежду, как утверждает глосса к Матфею (1, 2). Следовательно, она не является причиной страха.
(5) 3. Кроме того, противоположность не является причиной своей противоположности. Но объект веры есть некое благо, т. е. первая истина, а объект страха — некое зло, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 42, Р. 1). Однако акт получает свой вид от объекта, сообразно сказанному (Ч. II-I, В. 18, Р. 2). Следовательно, вера не является причиной страха.
(6) Но против сказано (Иак 2, 19): И бесы веруют, и трепещут.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что страх есть некое движение желающей способности, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 41, Р. 1). Но началом любых движений желающей способности души является воспринятое благо и зло. Поэтому необходимо, чтобы началом страха и любых других подобных движений было некое восприятие. Но через веру нам дается некое восприятие определенных бед, налагаемых в качестве наказания божественной справедливостью, и в этом смысле вера является причиной страха, который испытывает че-
Quaestio 7 De effectibus fidei
(1) Deinde considerandum est de effectibus fidei. Et circa hoc quaeruntur duo. Primo, utrum timor sit effectus fidei. Secundo, utrum purificatio cordis sit effectus fidei.
Articulus 1 Utrum timor sit effectus fidei
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod timor non sit effectus fidei.
(3) 1. Effectus emm non praecedit causam. Sed timor praecedit fidem, dicitur enim Eccli. II, qui timetis Deum, credite illi. Ergo timor non est effectus fidei.
(4) 2. Praeterea, idem non est causa contrariorum. Sed timor et spes sunt contraria, ut supra dictum est (II-I, q. 23, a. 2), fides autem generat spem, ut dicitur in Glossa (Glossa interi.), Matth. I. Ergo non est causa timoris.
(5) 3. Praeterea, contrarium non est causa contrarii. Sed obiectum fidei est quoddam bonum, quod est ventas prima, obiectum autem timons est malum, ut supra dictum est (II-I, q. 42, a. 1). Actus autem habent speciem ex obiec- tis, secundum supradicta (II-I, q. 18, a. 2). Ergo fides non est causa timoris.
(6) Sed contra est quod dicitur lac. II, Daemones credunt et contremiscunt.
(7) Respondeo dicendum quod timor est quidam motus appetitivae virtutis, ut supra dictum est (II-I, q. 41, a. 1). Omnium autem appetitivorum motuum principium est bonum vel malum apprehensum. Unde oportet quod timons et omnium appetitivorum motuum sit principium aliqua apprehensio. Per fidem autem fit in nobis quaedam apprehensio de quibusdam malis poenalibus quae secundum divinum iudicium inferuntur, et per hunc modum
88
Вопрос 7. О следствиях веры
ловек, боящийся наказания; и это рабский страх.
(8) Но вера является также причиной сыновьего страха, который заключается в том, что человек боится отпасть от Бога, или в том, что, почитая Его, избегает уподоблять себя Ему: ведь благодаря вере мы имеем представление о том, что Бог есть некое неизмеримое и высочайшее благо, отпадение от которого есть величайшее несчастье, и желание уподобиться которому есть зло. И причиной первого страха (т. е. рабского) является неоформленная вера. А причиной второго страха (т. е. сыновьего) является оформленная вера, которая при помощи любви-каритас делает так, что человек льнет к Богу и подчиняется ему.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что страх Божий не может предшествовать вере во всех отношениях, поскольку если мы не имеем никакого представления ни о наградах, ни о наказаниях, о которых говорит вера, то у нас не будет причин для страха. Но если предположить наличие веры в некие вещи (например, в божественное превосходство), то за ней должен следовать почтительный страх, а за ним — подчинение человеком своего разума Богу ради веры во все, что обетовано Им. И пото¬
му дальше говорится: И не погибнет награда ваша.
(ю) На второе надлежит ответить, что одно и то же может быть причиной противоположностей — не сообразно чему-то одному, но сообразно противоположностям. И вера порождает надежду сообразно тому, что создает в нас представление о наградах, которыми Бог наделяет праведников. А причиной страха вера является сообразно тому, что создает в нас представление о наказаниях, которыми Бог подвергает грешников.
(и) На третье надлежит ответить, что первый и формальный объект веры есть благо, являющееся первой истиной. Но материальным объектом веры является то, во что предлагается верить; и среди такового есть также и некое зло, например, надлежит верить, что злом является неподчинение или отпадение от Бога, или что грешники претерпят от Бога зло наказания. И сообразно этому вера может быть причиной страха.
Раздел 2 Является ли следствием веры очищение сердца
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что очищение сердца
fides est causa timons quo quis timet a Deo puniri, qui est timor servilis.
(8) Est etiam causa timoris filialis, quo quis timet separari a Deo, vel quo quis refugit se Deo comparare reverendo ipsum; inquantum per fidem hanc existimationem habemus de Deo, quod sit quoddam immensum et altissimum bonum, a quo separari est pessimum et cui velle aequan est malum. Sed primi timoris, scilicet servilis, est causa fides informis. Sed secundi timons, scilicet filialis, est causa fides formata, quae per cantatem facit hominem Deo inhaerere et ei subiici.
(9) Ad primum ergo dicendum quod timor Dei non potest universaliter praecedere fidem, quia si omnino eius ignorantiam haberemus quantum ad praemia vel poenas de quibus per fidem instruimur, nullo modo eum timeremus. Sed supposita fide de aliquibus articulis fidei, puta de excellentia divina, sequitur timor reverentiae, ex quo sequitur ulterius ut homo intellectum suum Deo subiiciat ad credendum omnia quae sunt promissa a Deo. Unde ibi
sequitur, et non evacuabitur merces vestra.
(10) Ad secundum dicendum quod idem secundum contraria potest esse contrariorum causa, non autem idem secundum idem. Fides autem generat spem secundum quod facit nobis existimationem de praemiis quae Deus retribuit iustis. Est autem causa timoris secundum quod facit nobis aestimationem de poenis quas peccatoribus infliget.
(11) Ad tertium dicendum quod obiectum fidei pnmum et formale est bonum quod est veritas pnma. Sed materialiter fidei proponuntur credenda etiam quaedam mala, puta quod malum sit Deo non subiici vel ab eo separari, et quod peccatores poenalia mala sustinebunt a Deo. Et secundum hoc fides potest esse causa timons.
Articulus 2 Utrum purificatio cordis sit effectus fidei
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod purificatio cordis non sit effectus fidei.
Раздел 2. Является ли следствием веры очищение сердца
89
не является следствием веры.
(!3) 1. В самом деле, чистота сердца заклю¬
чается главным образом в некоем аффекте. Но вера пребывает в разуме. Следовательно, вера не является причиной очищения сердца.
(14) 2. Кроме того, то, что причинно обусловливает очищение сердца, не может сочетаться с нечистотой. Но вера может сочетаться с нечистотой греха, что очевидно на примере тех, кто обладает неоформленной верой. Следовательно, вера не очищает сердце.
(15) 3. Кроме того, если бы вера неким образом очищала человеческое сердце, она лучше всего очищала бы разум. Но она не очищает разум от тьмы, поскольку является смутным познанием. Следовательно, вера никоим образом не очищает сердце.
(16) Но против: Петр говорит (Деян 15, 9): Верою очистив сердца их.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что нечистота любой вещи заключается в том, что она смешивается с чем-то низким, ведь серебро называют нечистым не из-за примеси золота, благодаря которому оно становится лучше, но из-за примеси свинца или олова. Однако очевидно, что разумное творение благороднее всех остальных вре¬
менных и телесных творений. И потому нечистота в нем происходит от того, что оно через любовь подчиняется временным [вещам]. И от этой нечистоты разумное творение очищается движением в противоположную сторону: постольку, поскольку стремится к тому, что выше его, т. е. к Богу. И началом такого движения является вера, ибо, как сказано (Евр 11,6), надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. И потому первоначалом очищения сердца является вера, которая, если она совершенствуется оформленной любовью-каритас, причинно обусловливает совершенное очищение.
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что то, что пребывает в разуме, является началами того, что пребывает в аффекте — постольку, поскольку благо, постигнутое разумом, движет аффект.
(19) На второе надлежит ответить, что даже неоформленная вера исключает определенную противоположную ей нечистоту, а именно, нечистоту заблуждения, которая происходит от того, что человеческий разум неупорядоченно привязывается к низшим вещам, пытаясь измерять божественное сообразно принципам чувственно воспринимаемых вещей. Но когда вера оформляется любовью-каритас, тогда ей
(13) 1. Puritas enim cordis praecipue in affectu consistit. Sed fides in intellectu est. Ergo fides non causat cordis purificationem.
(14) 2. Praeterea, illud quod causat cordis purificationem non potest simul esse cum impuritate. Sed fides simul potest esse cum impuritate peccati, sicut patet in illis qui habent fidem informem. Ergo fides non punficat cor.
(15) 3. Praeterea, si fides aliquo modo purificaret cor humanum, maxime purificaret hominis intellectum. Sed intellectum non purificat ab obscuritate, cum sit cognitio aenigmatica. Ergo fides nullo modo purificat cor
(16) Sed contra est quod dicit Petrus, Act. XV, fide purificans corda eorum.
(17) Respondeo dicendum quod impuntas uniuscuiusque rei consistit in hoc quod rebus vilioribus immiscetur, non enim dicitur argentum esse impurum ex permixtione auri, per quam melius redditur, sed ex permixtione plumbi vel stanni. Manifestum est autem quod rationalis creatura dignior est omnibus temporalibus et corporalibus crea¬
turis. Et ideo impura redditur ex hoc quod temporalibus se subiicit per amorem. A qua quidem impuritate purificatur per contrarium motum, dum scilicet tendit in id quod est supra se, scilicet in Deum. In quo quidem motu pnmum principium est fides, accedentem enim ad Deum oportet credere, ut dicitur Heb. XI. Et ideo primum principium purificationis cordis est fides, quae si perficiatur per can- tatem formatam, perfectam punficationem causat.
(18) Ad primum ergo dicendum quod ea quae sunt in intellectu sunt principia eorum quae sunt in affectu, inquantum scilicet bonum intellectum movet affectum.
(19) Ad secundum dicendum quod fides etiam informis excludit quandam impuntatem sibi oppositam, scilicet impuritatem errons, quae contingit ex hoc quod intellectus humanus inordinate inhaeret rebus se inferionbus, dum scilicet vult secundum rationes rerum sensibilium metin divina. Sed quando per caritatem formatur, tunc nullam impuritatem secum compatitur, quia universa delicta operit caritas, ut dicitur Prov. X.
90 Вопрос 7. О следствиях веры
не может быть присуща вообще никакая нечистота, поскольку любовь покрывает все грехи (Притч 10, 12).
(20) На третье надлежит ответить, что смут¬
ность веры относится не к нечистоте вины, но к естественной ущербности человеческого разума, сообразно его состоянию в этой земной жизни.
(20) Ad tertium dicendum quod obscuritas fidei non pertinet intellectus humani, secundum statum praesentis vitae,
ad impuritatem culpae, sed magis ad naturalem defectum
Вопрос 8 О даре разумения
(!) Затем надлежит рассмотреть дары разумения и знания (В. 9), которые соотносятся с добродетелью веры. И касательно дара разумения рассматривается восемь [проблем]: 1) является ли дар разумения даром Святого Духа; 2) может ли он присутствовать в одном и том же человеке одновременно с верой; 3) относится ли дар разумения только к теоретическому разуму или также к практическому; 4) все ли пребывающие в благодати обладают даром разумения; 5) обнаруживается ли этот дар в человеке, лишенном благодати; 6) как соотносится дар разумения с другими дарами; 7) что соответствует ему среди блаженств; 8) что соответствует ему среди плодов.
Раздел 1 Является ли дар разумения даром Святого Духа
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что разумение не есть дар Святого Духа.
(3) 1. В самом деле, благодатные дары отличаются от естественных, поскольку добавляются к ним. Но разумение, или простое постижение, есть некий естественный хабитус в душе, посредством которого познаются начала, постигаемые естественным образом, как сказано в VI книге «Этики». Следовательно, разумение не следует считать даром Святого Духа.
(4) 2. Кроме того, творения делаются причастными божественным дарам сообразно своим пропорции и модусу, как явствует из слов Дионисия. Но модус человеческой природы заключается в том, чтобы познавать истину не простым постижением (что свойственно интеллектуальному познанию), но дискурсивно (что свойственно рациональному познанию)1, как явствует из сказанного Дионисием. Соответственно то познание божественного, которое даровано человеку, должно иметь скорее характер дискурса, нежели простого постижения, или разумения.
Quaestio 8 De dono intellectus
(1) Deinde considerandum est de dono intellectus et scientiae, quae respondent virtuti fidei. Et circa donum intellectus quaeruntur octo. Primo, utrum intellectus sit donum spiritus sancti. Secundo, utrum possit simul esse in eodem cum fide. Tertio, utrum intellectus qui est donum sit speculativus tantum, vel etiam practicus. Quarto, utrum omnes qui sunt in gratia habeant donum intellectus. Quinto, utrum hoc donum inveniatur in aliquibus absque gratia. Sexto, quomodo se habeat donum intellectus ad alia dona. Septimo, de eo quod respondet huic dono in beat- itudinibus. Octavo, de eo quod respondet ei in fructibus.
Articulus 1 Utrum intellectus sit donum spiritus sancti
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod intellectus non sit donum spiritus sancti.
(3) 1. Dona enim gratuita distinguuntur a donis naturalibus, superadduntur enim eis. Sed intellectus est quidam habitus naturalis in anima, quo cognoscuntur principia naturaliter nota, ut patet in VI Ethic. (6; 1140b31). Ergo non debet poni donum spiritus sancti.
(4) 2. Praeterea, dona divina participantur a creaturis secundum earum proportionem et modum, ut patet per Dionysium, in libro De div. nom. (4, 20; MG 3, 720). Sed modus humanae naturae est ut non simpliciter veritatem cognoscat, quod pertinet ad rationem intellectus, sed discursive, quod est proprium rationis, ut patet per Dionysium, in VII cap. De div. nom. (7, 2; MG 3, 869). Ergo cognitio divina quae hominibus datur magis debet dici donum rationis quam intellectus.
(5) 3. Praeterea, in potentiis animae intellectus contra voluntatem dividitur, ut patet in III De anima (9; 432b5). Sed
92
Вопрос 8. О даре разумения
(5) 3. Кроме того, в способностях души разумение является членом деления, противоположным по отношению к воле, как сказано в III книге «О душе». Но ни один из даров Святого Духа не называется волей. Следовательно, никакой дар Святого Духа нельзя называть разумением.
(6) Но против: сказано (Ис 11, 2): И почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разумения.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что само имя «разумение» обозначает некое внутреннее познание, ведь «разуметь» (intel- ligere) значит как бы «читать внутри» (intus legere). И это станет ясно, если тщательно рассмотреть различие между разумом и чувством, ибо чувственное познание направлено на внешние чувственно воспринимаемые качества, а познание при помощи разума проникает вплоть до сущности вещи, ведь объектом разума является «то, что есть», как сказано в III книге «О душе». Но есть много родов того, что скрыто, и к чему человеческое познание должно проникнуть как бы вовнутрь. Так, субстанциальная природа вещей сокрыта акциденциями, словами — их значение, подобиями и метафорами — вещи, представленные метафорически; точно так же умопостига¬
емые вещи некоторым образом являются внутренними сравнительно с чувственно воспринимаемыми вещами, которые воспринимаются как бы внешне, а следствия скрыты в причинах, и наоборот. И в отношении всего такового можно говорить о разумении. Но поскольку человеческое познание начинается с чувства, как с чего- то внешнего, то очевидно, что чем сильнее свет человеческого разума, тем глубже он проникает. Однако свет нашего разума является конечным, и может проникать вглубь только до определенных пределов. Следовательно, человек нуждается в сверхъестественном свете, чтобы проникнуть еще глубже — для познания того, что он не может познать при помощи естественного света. И этот сверхъестественный свет, дарованный человеку, называется даром разумения.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что при помощи внедренного в нас естественного света мы достаточным образом постигаем некие общие начала, известные нам по природе. Но поскольку, как уже сказано (В. 2, Р. 3), человек предназначен к сверхъестественному блаженству, постольку необходимо, чтобы он достигал чего-то более высокого. И для этого требуется дар
nullum donum spiritus sancti dicitur voluntas. Ergo etiam nullum donum spiritus sancti debet dici intellectus.
(6) Sed contra est quod dicitur Isaiae XI, requiescet super eum spiritus domini, spiritus sapientiae et intellectus.
(7) Respondeo dicendum quod nomen intellectus quandam intimam cognitionem importat, dicitur enim intelligere quasi intus legere. Et hoc manifeste patet considerantibus differentiam intellectus et sensus, nam cognitio sensitiva occupatur circa qualitates sensibiles exteriores; cognitio autem intellectiva penetrat usque ad essentiam rei, obiectum enim intellectus est quod quid est, ut dicitur in III De anima (6; 430b27). Sunt autem multa genera eorum quae interius latent, ad quae oportet cognitionem hominis quasi intrinsecus penetrare. Nam sub accidentibus latet natura rerum substantialis, sub verbis latent significata verborum, sub similitudinibus et figuris latet veritas figurata: res etiam intelligibiles sunt quodammodo interiores respectu rerum
sensibilium quae exterius sentiuntur, et in causis latent effectus et e converso. Unde respectu horum omnium potest dici intellectus. Sed cum cognitio hominis a sensu incipiat, quasi ab exteriori, manifestum est quod quanto lumen intellectus est fortius, tanto potest magis ad intima penetrare. Lumen autem naturale nostri intellectus est finitae virtutis, unde usque ad determinatum aliquid pertingere potest. Indiget igitur homo supematurali lumine ut ulterius penetret ad cognoscendum quaedam quae per lumen naturale cognoscere non valet. Et illud lumen supematurale homini datum vocatur donum intellectus.
(8) Ad primum ergo dicendum quod per lumen naturale nobis inditum statim cognoscuntur quaedam principia communia quae sunt naturaliter nota. Sed quia homo ordinatur ad beatitudinem supematuralem, ut supra dictum est (q. 2, a. 3), necesse est quod homo ulterius pertingat ad quaedam altiora. Et ad hoc requiritur donum intellectus.
Раздел 2. Может ли дар разумения совмещаться с верой
93
разумения.
(9) На второе надлежит ответить, что рациональный дискурс всегда начинается с одного простого постижения и заканчивается другим простым постижением: ведь рассуждение начинается с чего-то известного, а завершается тогда, когда мы приходим к познанию ранее неизвестного. Таким образом, мы рассуждаем на основании некоего предшествующего знания. Но дар благодати не происходит от света природы, а добавляется к нему, как бы совершенствуя его. И потому это добавление считается не столько рассуждением, сколько простым постижением, ведь добавленный свет так соотносится с тем, что познается нами сверхъестественным образом, как естественный свет с тем, что мы знаем изначально.
(ю) На третье надлежит ответить, что волей называется некое безусловное движение желающей способности, без связи с каким-либо превосходством. А разумением называется некое превосходство познания, заключающееся в проникновении в глубины. И потому сверхъестественный дар называется даром разумения, но не воли.
Раздел 2 Может ли дар разумения совмещаться с верой
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что дар разумения не может совмещаться с верой.
(12) 1. В самом деле, Августин говорит, что то, что разумеется, ограничивается постижением разумеющего. Но то, во что верят, не ограничивается, согласно этим словам (Филип 3, 12): Не потому, чтобы я уже постиг, или у совершился. Следовательно, как представляется, вера и разумение не могут одновременно находиться в одном и том же человеке.
(13) 2. Кроме того, все, что разумеется, созерцается разумом. Но вера — о невидимом, как сказано выше (В. 1, Р. 4; В. 4, Р. 1). Следовательно, как представляется, вера не может пребывать в одном и том же человеке одновременно с разумением.
(14) 3. Кроме того, разумение, или простое постижение, достовернее научного знания, но, как уже установлено (В. 1, Р. 4, 5), вера и научное знание по отношению к одному и тому же не могут иметь места. Следовательно, куда меньше это возможно для разумения.
(9) Ad secundum dicendum quod discursus rationis semper incipit ab intellectu et terminatur ad intellectum, ratiocinamur enim procedendo ex quibusdam intellectis, et tunc rationis discursus perficitur quando ad hoc pervenimus ut intelligamus illud quod prius erat ignotum. Quod ergo ratiocinamur ex aliquo praecedenti intellectu procedit. Donum autem gratiae non procedit ex lumine naturae, sed superadditur ei, quasi perficiens ipsum. Et ideo ista superadditio non dicitur ratio, sed magis intellectus, quia ita se habet lumen superadditum ad ea quae nobis super- naturaliter innotescunt sicut se habet lumen naturale ad ea quae primordialiter cognoscimus.
(10) Ad tertium dicendum quod voluntas nominat simpliciter appetitivum motum, absque determinatione alicuius excellentiae. Sed intellectus nominat quandam excellentiam cognitionis penetrandi ad intima. Et ideo supematurale donum magis nominatur nomine intellectus quam nomine voluntatis.
Articulus 2
Utrum donum intellectus possit simul esse cum fide
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod donum intellectus non simul habeatur cum fide.
(12) 1. Dicit enim Augustinus, in libro Octogintatrium quaest. (q. 15; PL 40, 14), id quod intelligitur intelligentis comprehensione finitur. Sed id quod creditur non comprehenditur, secundum illud apostoli, ad Philipp. III, non quod iam comprehenderim aut perfectus sim. Ergo videtur quod fides et intellectus non possint esse in eodem.
(13) 2. Praeterea, omne quod intelligitur intellectu videtur. Sed fides est de non apparentibus, ut supra dictum est (q. 1, a. 4; q. 4, a. 1). Ergo fides non potest simul esse in eodem cum intellectu.
(14) 3. Praeterea, intellectus est certior quam scientia. Sed scientia et fides non possunt esse de eodem, ut supra habitum est (q. 1, a. 4, 5). Multo ergo minus intellectus et fides.
94
Вопрос 8. О даре разумения
(15) Но против: Григорий говорит в «Мора- лиях», что разумение просвещает ум в отношении слышимого. Но некто, обладающий верой, может обладать просвещенным умом в отношении слышимого, в соответствии с чем сказано (Лк 24, 27-32), что Господь открыл своим ученикам смысл Писания, дабы они уразумели его. Следовательно, разумение может иметь место одновременно с верой.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что здесь надо провести два различения: одно — со стороны веры, другое — со стороны разума. И со стороны веры следует различить то, что относится к вере само по себе и непосредственным образом и превосходит естественный разум (например, то, что Бог един и троичен, и то, что Сын Божий воплотился), и то, что относится к вере как бы в порядке к таковому, сообразно определенному модусу (таково все, что содержится в Писании). А со стороны разума следует различить сам акт разумения некоей вещи. Во-первых, разумение, или постижение, может быть совершенным, когда мы достигаем знания сущности познаваемой вещи или истины высказывания как таковой. И в этом смысле то, что непосредственно относится к вере, не мо¬
жет быть объектом разумения при сохранении статуса веры, хотя нечто иное, упорядоченное по отношению к вере, может даже и в этом случае сочетаться с разумением. Во-вторых, разумение, или постижение, может быть несовершенным — когда сущность вещи или истина высказывания не познаются в отношении того, что есть или каким образом есть, а познается лишь то, что некие внешние явления не противоречат истине (например, когда человек постигает, что из-за неких внешних явлений не следует отказываться от того, что относится к вере). И в этом случае ничто не запрещает, чтобы при сохранении статуса веры присутствовало также и постижение, или разумение того, что относится к вере.
(17) И отсюда очевидны ответы на возражения. Ведь первые три аргумента основаны на том, что нечто постигается совершенным образом. А аргумент «против» касается постижения, или разумения того, что упорядочено по отношению к вере.
Раздел 3
Относится ли дар разумения только к теоретическому разуму, или также к практическому
(18) Ход рассуждения в третьем разделе та-
(15) Sed contra est quod Gregorius dicit, in libro Moral. (I, 32; PL 75, 547), quod intellectus de auditis mentem illustrat. Sed aliquis habens fidem potest esse illustratus mente circa audita, unde dicitur Luc. ult. quod dominus aperuit discipulis suis sensum ut intelligerent Scripturas. Ergo intellectus potest simul esse cum fide.
(16) Respondeo dicendum quod hic duplici distinctione est opus, una quidem ex parte fidei; alia autem ex parte intellectus. Ex parte quidem fidei, distinguendum est quod quaedam per se et directe cadunt sub fide, quae naturalem rationem excedunt, sicut Deum esse trinum et unum, filium Dei esse incamatum. Quaedam vero cadunt sub fide quasi ordinata ad ista secundum aliquem modum, sicut omnia quae in Scriptura divina continentur. Ex parte vero intellectus, distinguendum est quod dupliciter dici possumus aliqua intelligere. Uno modo, perfecte, quando scilicet pertingimus ad cognoscendum essentiam rei intellectae, et ipsam veritatem enuntiabilis intellecti, secundum quod in se est. Et hoc modo ea quae directe
cadunt sub fide intelligere non possumus, durante statu fidei. Sed quaedam alia ad fidem ordinata etiam hoc modo intelligi possunt. Alio modo contingit aliquid intelligi imperfecte, quando scilicet ipsa essentia rei, vel veritas propositionis, non cognoscitur quid sit aut quomodo sit, sed tamen cognoscitur quod ea quae exterius apparent veritati non contranantur; inquantum scilicet homo intelligit quod propter ea quae exterius apparent non est recedendum ab his quae sunt fidei. Et secundum hoc nihil prohibet, durante statu fidei, intelligere etiam ea quae per se sub fide cadunt.
(17) Et per hoc patet responsio ad obiecta. Nam pnmae tres rationes procedunt secundum quod aliquid perfecte intel- ligitur. Ultima autem ratio procedit de intellectu eorum quae ordinantur ad fidem.
Articulus 3
Utrum donum intellectus sit speculativus tantum, an etiam practicus
(18) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod intellectus qui
Раздел 3. Отношение дара разумения к разуму
95
ков. Представляется, что разумение, которое считают даром Святого Духа, относится только к теоретическому разуму, а к практическому не относится.
(19) 1. В самом деле, как говорит Григорий в «Моралиях», разумение проникает в нечто высшее. Но то, что относится к практическому разуму, таковым не является, ибо есть нечто низкое, т. е. единичные вещи, применительно к которым осуществляются действия. Следовательно, разумение, которое считают даром Святого Духа, не относится к практическому разуму.
(20) 2. Кроме того, разумение (intellectus), которое есть дар, есть нечто более благородное, чем разум (intellectus), который является интеллектуальной способностью. Но этот последний соотносится только с необходимым, как явствует из слов Философа в VI книге «Этики». Следовательно, куда скорее только с необходимым должно соотноситься разумение, которое есть дар. Но практический разум соотносится не с необходимым, а с изменчивым контингентным, которое возникает благодаря человеческим действиям. Следовательно, разумение, которое является даром, не имеет отношения к практическому разуму.
(21) 3. Кроме того, дар разумения просвещает ум в отношении того, что превосходит естественный разум. Но человеческие деяния, с которыми соотносится практический разум, не превосходят естественный разум, который направляет таковые деяния, как явствует из сказанного выше (Ч. II-I, В. 58, Р. 2; Ч. II-I, В. 71, Р. 6). Следовательно, то разумение, которое является даром, не относится к практическому разуму.
(22) Но против: сказано (Пс 110, 10): Разумение верное у всех, исполняющих заповеди Его.
(23) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорилось выше (Р 2), дар разумения относится не только к тому, что в первую очередь и преимущественно подлежит вере, но и ко всему тому, что упорядочено по отношению к ней. Но благие действия обладают неким порядком по отношению к вере, ведь как говорит апостол (Гал 5,
6), вера действует любовью. И потому дар разумения распространяется также на некие деяния — не потому, что относится главным образом к ним, но постольку, поскольку при их совершении, как говорит Августин, нас направляют вечные нормы, к которым, созерцая их и соотносясь с ни-
ponitur donum spiritus sancti non sit practicus, sed speculativus tantum.
(19) 1 Intellectus enim, ut Gregonus dicit, in I Moral. (32; PL 75, 547), altiora quaedam penetrat. Sed ea quae pertinent ad intellectum practicum non sunt alta, sed quaedam infima, scilicet singularia, circa quae sunt actus Ergo intellectus qui ponitur donum non est intellectus practicus.
(20) 2 Praeterea, intellectus qui est donum est dignius aliquid quam intellectus qui est virtus intellectualis Sed intellectus qui est virtus intellectualis est solum circa necessaria, ut patet per philosophum, in VI Ethic. (6; 1140b31). Ergo multo magis intellectus qui est donum est solum circa necessaria. Sed intellectus practicus non est circa necessaria, sed circa contingentia aliter se habere, quae opere humano fien possunt. Ergo intellectus qui est donum non est intellectus practicus.
(21) 3. Praeterea, donum intellectus illustrat mentem ad ea quae naturalem rationem excedunt. Sed operabilia hu¬
mana, quorum est practicus intellectus, non excedunt naturalem rationem, quae dingit in rebus agendis, ut ex supradictis patet (II-I, q. 58, a. 2, II-I, q. 71, a. 6). Ergo intellectus qui est donum non est intellectus practicus
(22) Sed contra est quod dicitur in Psalm., intellectus bonus omnibus facientibus eum.
(23) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 2), donum intellectus non solum se habet ad ea quae primo et principaliter cadunt sub fide, sed etiam ad omnia quae ad fidem ordinantur. Operationes autem bonae quendam ordinem ad fidem habent, nam fides per dilectionem operatur, ut apostolus dicit, ad Gal. V. Et ideo donum intellectus etiam ad quaedam operabilia se extendit, non quidem ut circa ea principaliter versetur; sed inquantum in agendis regulamur rationibus aeternis, quibus conspiciendis et consulendis, secundum Augustinum, XII De Trin (7; PL 42, 1005), inhaeret superior ratio, quae dono intellectus perficitur.
96
Вопрос 8. О даре разумения
ми, примыкает высший рассудок, совершенствующийся даром разумения.
(24) Итак, на первое надлежит ответить, что человеческие действия, рассмотренные как таковые, не обладают некоей высотой превосходства. Но сообразно тому, что они соотносятся с нормами вечного закона и с целью в виде божественного блаженства, они обладают высотой, так что разумение может иметь место по отношению к ним.
(25) На второе надлежит ответить, что это относится как раз к достоинству дара, которым является разумение — то, что разумение рассматривает вечные или необходимые умопостигаемые [вещи] не только сообразно тому, как они суть в себе, но также и сообразно тому, что они являются мерой для человеческих действий, ведь чем на большее распространяется познавательная способность, тем она благороднее.
(26) На третье надлежит ответить, что мерой человеческих действий является человеческий разум и вечный закон, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 71, Р. 6). Но вечный закон превосходит естественный разум. И потому познание человеческих действий сообразно тому, что они регулируются вечным законом, превосходит естественный разум и требует сверхъестествен¬
ного света дара Святого Духа.
Раздел 4
Действительно ли дар разумения присущ всем, кто обладает благодатью
(27) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что дар разумения присущ не всем, кто обладает благодатью.
(28) 1. В самом деле, Григорий говорит во II книге «Моралий», что дар разумения дается нам как средство против умственной тупо- сти. Но многие из тех, кто имеет благодать, не обладают остротой ума. Следовательно, дар разумения присущ не всем, кто обладает благодатью.
(29) 2. Кроме того, среди того, что относится к познанию, только вера, как представляется, необходима для спасения, поскольку Христос через веру обитает в наших сердцах, как сказано в Писании (Ефес 3, 17). Но не все, обладающие верой, обладают также даром разумения, напротив, как говорит Августин, верующий должен молиться об уразумении. Следовательно, дар разумения не необходим для спасения. Следовательно, он присутствует не во всех, кто обладает благодатью.
(30) 3. Кроме того, то, что обще всем, кто обладает благодатью, нельзя отнять от то-
(24) Ad primum ergo dicendum quod operabilia humana, secundum quod in se considerantur, non habent aliquam excellentiae altitudinem. Sed secundum quod referuntur ad regulam legis aeternae et ad finem beatitudinis divinae, sic altitudinem habent, ut circa ea possit esse intellectus.
(25) Ad secundum dicendum quod hoc ipsum pertinet ad dignitatem doni quod est intellectus, quod intelligibilia aeterna vel necessaria considerat non solum secundum quod in se sunt, sed etiam secundum quod sunt regulae quaedam humanorum actuum, quia quanto virtus cognoscitiva ad plura se extendit, tanto nobilior est.
(26) Ad tertium dicendum quod regula humanorum actuum est et ratio humana et lex aeterna, ut supra dictum est (II-I, q. 71, a. 6). Lex autem aeterna excedit naturalem rationem. Et ideo cognitio humanorum actuum secundum quod regulantur a lege aetema, excedit rationem naturalem, et indiget supematurali lumine doni spiritus sancti.
Articulus 4
Utrum donum intellectus insit omnibus habentibus gratiam
(27) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod donum intellectus non insit omnibus hominibus habentibus gratiam.
(28) 1. Dicit enim Gregonus, II Moral. (49; PL 75, 592), quod donum intellectus datur contra hebetudinem mentis. Sed multi habentes gratiam adhuc patiuntur mentis hebetudinem. Ergo donum intellectus non est in omnibus habentibus gratiam.
(29) 2. Praeterea, inter ea quae ad cognitionem pertinent sola fides videtur esse necessaria ad salutem, quia per fidem Christus habitat in cordibus nostris, ut dicitur ad Ephes. III. Sed non omnes habentes fidem habent donum intellectus, immo qui credunt, debent orare ut intelligant, sicut Augustinus dicit, in libro De Trin. (26; ML 42, 1096). Ergo donum intellectus non est necessarium ad salutem. Non ergo est in omnibus habentibus gratiam.
(30) 3. Praeterea, ea quae sunt communia omnibus haben-
Раздел 4. Действительно ли дар разумения присущ всем, кто обладает благодатью 97
го, кто ею обладает. Но благодатный дар разумения и других даров иногда отнимается с пользой, ведь иногда ум столь увлечен постижением тончайших материй, что с трудом и неохотно обращается к незначительным и малым вещам, как говорит Григорий во II книге «Моралий». Следовательно, дар разумения пребывает не во всех, кто обладает благодатью.
(31) Но против: сказано (Пс 81, 5): Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Но никто из тех, кто ходит во тьме, не обладает благодатью, согласно этим словам (Ин 8, 12): Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме. Следовательно, никто обладающий благодатью не лишен дара разумения.
(32) Отвечаю: надлежит сказать, что во всех обладающих благодатью необходимо присутствует правильность воли, поскольку, как говорит Августин, благодатью воля человека предуготовляется к благу. Но воля не может должным образом упорядочиваться по отношению к благу, если нет некоего предшествующего знания, ведь объектом воли является благо разума, как сказано в III книге «О душе». Но как даром любви-каритас Святой Дух упорядочивает волю человека таким образом, чтобы
она непосредственно стремилась к некоему сверхъестественному благу, так и даром разумения он просвещает ум, чтобы он познавал некую сверхъестественную истину, к которой должна быть обращена правильная воля. И потому как дар любви-каритас пребывает во всех тех, кто обладает освящающей благодатью, так и дар разумения.
(33) Итак, на первое надлежит ответить, что некоторые люди, обладающие освящающей благодатью, могут не понимать нечто из того, что не необходимо для спасения. Но в отношении того, что необходимо для спасения, они достаточным образом наставлены Духом Святым, согласно этим словам (Ин 2, 27): Сие помазание учит вас всему.
(34) На второе надлежит ответить, что даже если не все, обладающие верой, полностью постигают то, что предлагается для верования, они понимают, тем не менее, что в таковое надлежит верить, и что от такового никоим образом не следует отклоняться.
(35) На третье надлежит ответить, что дар разумения никогда не отнимается от святых — если говорить о понимании необходимого для спасения. Но если говорить о понимании чего-то иного, то иногда он отнимается: для того, чтобы разум не мог
tibus gratiam nunquam ab habentibus gratiam subtrahuntur. Sed gratia intellectus et aliorum donorum aliquando se utiliter subtrahit, quandoque enim, dum sublimia intelligen- do in elationem se animus erigit, in rebus imis et vilibus gravi hebetudine pigrescit, ut Gregorius dicit, in II Moral. (49; PL 75, 593). Ergo donum intellectus non est in omnibus habentibus gratiam.
(31) Sed contra est quod dicitur in Psalm., nescierunt neque intellexerunt, in tenebris ambulant. Sed nullus habens gratiam ambulat in tenebris, secundum illud Ioan. VIII, qui sequitur me non ambulat in tenebris. Ergo nullus habens gratiam caret dono intellectus.
(32) Respondeo dicendum quod in omnibus habentibus gratiam necesse est esse rectitudinem voluntatis, quia per gratiam praeparatur voluntas hominis ad bonum, ut Augustinus dicit (Contra Julianum, IV, 3; PL 44, 744). Voluntas autem non potest recte ordinari in bonum nisi praeexis- tente aliqua cognitione veritatis, quia obiectum voluntatis est bonum intellectum, ut dicitur in III De anima (3, 6
433a21; bl2). Sicut autem per donum cantatis spintus sanctus ordinat voluntatem hominis ut directe moveatur in bonum quoddam supematurale, ita etiam per donum intellectus illustrat mentem hominis ut cognoscat ven- tatem quandam supematuralem, in quam oportet tendere voluntatem rectam. Et ideo, sicut donum cantatis est in omnibus habentibus gratiam gratum facientem, ita etiam donum intellectus.
(33) Ad primum ergo dicendum quod aliqui habentes gratiam gratum facientem possunt pati hebetudinem circa aliqua quae sunt praeter necessitatem salutis. Sed circa ea quae sunt de necessitate salutis sufficienter instruuntur a spiritu sancto, secundum illud I Ioan. II, unctio docet vos de omnibus.
(34) Ad secundum dicendum quod etsi non omnes habentes fidem plene intelligant ea quae proponuntur credenda, intelligunt tamen ea esse credenda, et quod ab eis pro nullo est deviandum.
(35) Ad tertium dicendum quod donum intellectus nun-
98
Вопрос 8. О даре разумения
проникнуть во все вещи, и чтобы, соответственно, был устранен повод для гордыни.
Раздел 5
Обнаруживается ли дар разумения также и в людях, лишенных освящающей благодати
(36) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что дар разумения обнаруживается даже в тех, кто не обладает освящающей благодатью.
(37) 1. В самом деле, Августин, толкуя эти слова Писания (118, 20): Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время, говорит: Разумение летит впереди, а аффект медленно следует за ним (или не следует вовсе). Но у всех людей, обладающих освящающей благодатью, аффект всегда наготове, благодаря любви-каритас. Следовательно, дар разумения может пребывать в тех, кто не обладает освящающей благодатью.
(38) 2. Кроме того, сказано (Дан 10, 1): Он понял это откровение и уразумел это видение; и потому, как представляется, пророческого вйдения не бывает без дара разумения. Но пророчество может быть и без освещающей благодати, как ясно из этих слов Писания (Мф 7, 22-23), где Господь
вопрошающим, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? отвечает: Я никогда не знал вас. Следовательно, дар разумения может иметь место без освящающей благодати.
(39) 3. Кроме того, дар разумения сочетается с добродетелью веры, согласно этим словам (Ис 7, 9, в переводе Септуагинты): Если не уверуете, то и не уразумеете. Но вера может быть без освещающей благодати. Следовательно, и дар разумения.
(40) Но против: Господь говорит (Ин 6, 45): Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Но мы научаемся или проникаем в суть слышимого благодаря разумению, как явствует из слов Григория во II книге «Моралий». Следовательно, любой, кто обладает даром разумения, приходит ко Христу. Но это невозможно без освящающей благодати. Следовательно, дар разумения не имеет места без освящающей благодати.
(41) Отвечаю: надлежит сказать, что, как отмечено выше (Ч. II-I, В. 68, Р. 1, 2), дары Святого Духа совершенствуют душу в том отношении, что она становится более восприимчивой к его воздействию. И так, следовательно, интеллектуальный свет благодати называется даром разумения постоль-
quam se subtrahit sanctis circa ea quae sunt necessana ad salutem. Sed circa alia interdum se subtrahit, ut non omnia ad liquidum per intellectum penetrare possint, ad hoc quod superbiae materia subtrahatur.
Articulus 5
Utram intellectus donum inveniatur etiam in non habentibus gratiam gratum facientem
(36) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod intellectus donum inveniatur etiam in non habentibus gratiam gratum facientem.
(37) 1. Augustinus enim, exponens illud Psalm., concupivit anima mea desiderare iustificationes tuas, dicit (Enarr: in Psalm., psal. 118, 20 serm. 8; PL 37, 1522.) quod praevolat intellectus, sequitur tardus aut nullus affectus. Sed in omnibus habentibus gratiam gratum facientem est promptus affectus, propter caritatem. Ergo donum intellectus potest esse in his qui non habent gratiam gratum facientem.
(38) 2. Praeterea, Danielis X dicitur quod intelligentia opus
est in visione prophetica, et ita videtur quod prophetia non sit sine dono intellectus. Sed prophetia potest esse sine gratia gratum faciente, ut patet Matth. VII, ubi dicentibus, in nomine tuo prophetavimus, respondetur, nunquam novi vos. Ergo donum intellectus potest esse sine gratia gratum faciente.
(39) 3. Praeterea, donum intellectus respondet virtuti fidei, secundum illud Isaiae VII, secundum aliam litteram, nisi credideritis, non intelligetis. Sed fides potest esse sine gratia gratum faciente. Ergo etiam donum intellectus.
(40) Sed contra est quod dominus dicit, Ioan. VI, omnis qui audivit a patre et didicit, venit ad me. Sed per intellectum audita addiscimus vel penetramus, ut patet per Gregorium, in I Moral. (32; PL 75, 547). Ergo quicumque habet intellectus donum venit ad Christum. Quod non est sine gratia gratum faciente. Ergo donum intellectus non est sine gratia gratum faciente.
(41) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q. 68, a. 1, 2), dona spiritus sancti perficiunt animam se-
Раздел 6. Отличен ли дар разумения от других даров
99
ку, поскольку человеческий разум становится более восприимчивым к воздействию Святого Духа. Но восприятие такого рода заключается в том, что человек постигает истину, относящуюся к цели. Поэтому пока Святой Дух не подвинет человеческий разум к тому, чтобы тот получил правильное представление о цели, дар разумения нельзя обрести, независимо от того, какие еще преамбулы он может постигнуть благодаря просвещению со стороны Святого Духа. А правильное представление о предельной цели может получить только тот, кто не впадает в заблуждение относительно цели, но твердо держится ее как наилучшего. И это относится только к тем, кто обладает освящающей благодатью — ведь так же и в области нравов человек имеет правильное представление о цели благодаря хабитусу добродетели. Поэтому никто не обладает даром разумения без освящающей благодати.
(42) Итак, на первое надлежит ответить, что Августин называет разумением любое интеллектуальное просвещение. Но одного только интеллектуального просвещения недостаточно для совершенного смыслового содержания дара, если ум человека не приведен к тому, чтобы иметь правильное пред¬
ставление о цели.
(43) На второе надлежит ответить, что разумение, необходимое для пророчества, есть некое просвещение ума, относящееся к тому, относительно чего имеет место пророчество. Но это не то просвещение ума, которое дает правильное представление о предельной цели и которое относится к дару разумения.
(44) На третье надлежит ответить, что вера подразумевает некое согласие с тем, во что предлагается поверить. А разумение подразумевает некое восприятие истины, которое может относиться к цели лишь постольку, поскольку человек обладает освящающей благодатью, как уже сказано. И потому подобия между верой и разумением нет.
Раздел 6
Отличен ли дар разумения от других даров
(45) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что дар разумения не отличается от других даров.
(46) 1. В самом деле, то, у чего тождественны противоположности, само тождественно. Однако мудрости противоположна глупость, разумению — тупость, совету — опрометчивость, а знанию — неве-
cundum quod est bene mobilis a spiritu sancto. Sic ergo intellectuale lumen gratiae ponitur donum intellectus, inquantum intellectus hominis est bene mobilis a spiritu sancto. Huius autem motus consideratio in hoc est quod homo apprehendat ventatem circa finem Unde nisi usque ad hoc moveatur a spintu sancto intellectus humanus ut rectam aestimationem de fine habeat, nondum assecutus est donum intellectus; quantumcumque ex illustratione spiritus alia quaedam praeambula cognoscat. Rectam aut aestimationem de ultimo fine non habet nisi ille qui circa finem non errat, sed ei firmiter inhaeret tanquam optimo. Quod est solum habentis gratiam gratum facientem, sicut etiam in moralibus rectam aestimationem habet homo de fine per habitum virtutis. Unde donum intellectus nullus habet sine gratia gratum faciente.
(42) Ad primum ergo dicendum quod Augustinus intellectum nominat quamcumque illustrationem intellectualem. Quae tamen non pertingit ad perfectam doni rationem nisi usque ad hoc mens hominis deducatur ut rectam aestimationem
habeat homo circa finem.
(43) Ad secundum dicendum quod intelligentia quae necessaria est ad prophetiam est quaedam illustratio mentis circa ea quae prophetis revelantur. Non est autem illustratio mentis circa aestimationem rectam de ultimo fine, quae pertinet ad donum intellectus.
(44) Ad tertium dicendum quod fides importat solum assensum ad ea quae proponuntur. Sed intellectus importat quandam perceptionem veritatis, quae non potest esse circa finem nisi in eo qui habet gratiam gratum facientem, ut dictum est. Et ideo non est similis ratio de intellectu et fide.
Articulus 6
Utrum donum intellectus distinguatur ab aliis donis
(45) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod donum intellectus non distinguatur ab aliis donis.
(46) 1. Quorum enim opposita sunt eadem, ipsa quoque sunt eadem. Sed sapientiae opponitur stultitia, hebetudini intellectus, praecipitationi consilium, ignorantiae scientia, ut
100
Вопрос 8. О даре разумения
жество. Но, как представляется, глупость, тупость, опрометчивость и невежество суть одно и то же. Следовательно, разумение не отличается от других даров.
(47) 2. Кроме того, простое постижение (intellectus), являющееся интеллектуальной способностью, отличается от других интеллектуальных способностей благодаря той своей особенности, что оно соотносится с самоочевидными началами. Но дар разумения (intellectus) не соотносится с некими самоочевидными началами, поскольку для того, что по природе познается само по себе, достаточно естественного хаби- туса первоначал, а для того, что является сверхъестественным, достаточно веры, поскольку, как уже сказано (В. 1, Р. 7), догматы веры являются как бы первоначалами сверхъестественного познания. Следовательно, дар разумения не отличается от других интеллектуальных даров.
(48) 3. Кроме того, любое интеллектуальное познание является либо теоретическим, либо практическим. Но дар разумения соотносится и с тем, и с другим, как уже сказано (Р. 3). Следовательно, он не отличается от других интеллектуальных даров, но объемлет их все.
(49) Но против: любое перечисление пред¬
полагает, что перечисляемое отличается друг от друга, поскольку отличие есть начало числа. Но дар разумения перечислен среди даров, как явствует из Писания (Ис 11, 2). Следовательно, дар разумения отличен от других даров.
(50) Отвечаю: надлежит сказать, что отличие дара разумения от тех трех даров, которыми являются дары благочестия, стойкости и страха, очевидно, поскольку дар разумения относится к познающей способности, а те три — к желающей. Однако отличие этого дара от трех других, а именно, от мудрости, знания и совета, которые также относятся к познающей способности, не является в силу этого очевидным. И некоторые полагали, что дар разумения отличается от дара знания и совета тем, что эти два относятся к практическому знанию, а дар разумения — к теоретическому, а от дара мудрости — тем, что хотя оба эти дара относятся к теоретическому познанию, мудрости присуще вынесение суждений, а разумению — способность постигать то, что предстает перед ним, или проникновение в глубины такового. И в соответствии с этим имеется указанное выше число даров.
patet per Gregorium, II Moral. (49; PL 75, 592). Non videntur autem differre stultitia, hebetudo, ignorantia et praecipitatio. Ergo nec intellectus distinguitur ab aliis donis.
(47) 2. Praeterea, intellectus qui ponitur virtus intellectualis differt ab aliis intellectualibus virtutibus per hoc sibi proprium, quod est circa pnncipia per se nota. Sed donum intellectus non est circa aliqua principia per se nota, quia ad ea quae naturaliter per se cognoscuntur sufficit naturalis habitus primorum principiorum; ad ea vero quae sunt supematuralia sufficit fides, quia articuli fidei sunt sicut pnma pnncipia in supematurali cognitione, sicut dictum est (q. 1, a 7). Ergo donum intellectus non distinguitur ab aliis donis intellectualibus.
(48) 3. Praeterea, omnis cognitio intellectiva vel est speculativa vel practica. Sed donum intellectus se habet ad utrumque, ut dictum est (a. 3). Ergo non distinguitur ab aliis donis intellectualibus, sed omnia in se complectitur.
(49) Sed contra est quod quaecumque connumerantur ad
invicem oportet esse aliquo modo ab invicem distincta, quia distinctio est principium numeri. Sed donum intellectus connumeratur aliis donis, ut patet Isaiae XI Ergo donum intellectus est distinctum ab aliis donis.
(50) Respondeo dicendum quod distinctio doni intellectus ab aliis tribus donis, scilicet pietate, fortitudine et timore, manifesta est, quia donum intellectus pertinet ad vim cognoscitivam, illa vero tria pertinent ad vim appetitivam. Sed differentia huius doni intellectus ad alia tria, scilicet sapientiam, scientiam et consilium, quae etiam ad vim cognoscitivam pertinent, non est adeo manifesta. Videtur autem quibusdam quod donum intellectus distinguatur a dono scientiae et consilii per hoc quod illa duo pertineant ad practicam cognitionem, donum vero intellectus ad speculativam. A dono vero sapientiae, quod etiam ad speculativam cognitionem pertinet, distinguitur in hoc quod ad sapientiam pertinet iudicium, ad intellectum vero capacitas intellectus eorum quae proponuntur, sive penetratio ad intima eorum. Et secundum hoc supra numerum
Раздел 6. Отличен ли дар разумения от других даров
101
(51) Но те, кто рассматривает вопрос более тщательно, понимают, что дар разумения относится не только к теоретическим, но и к практическим материям, как было сказано выше (Р. 3), равно как и дар знания (о чем будет сказано ниже). И потому различия даров следует толковать по-другому. В самом деле, все эти четыре дара упорядочены по отношению к сверхъестественному познанию, которое обретается нами через веру. Но, как сказано в Писании (Рим 10, 17), вера в нас от слышания. Поэтому надлежит, чтобы нечто, с чем соглашаются благодаря вере, предлагалось человеку в качестве объекта веры не как видимое, но как слышимое. Однако вера главным образом и в первую очередь соотносится с первой истиной, во вторую очередь — с определенными творениями, и, наконец, распространяется даже на руководство человеческими действиями, сообразно тому, что действует с любовью, как явствует из сказанного выше (В. 4, Р. 2, на 3). Итак, с нашей стороны в отношении того, что предлагается для веры, требуются две [вещи]. Во-первых, необходимо, чтобы таковое было постигнуто, или схвачено разумом, и это относится к дару разумения; во-вторых, необходимо, чтобы чело¬
век имел правильное суждение о таковом, чтобы он осознавал, что такового следует держаться, а противоположного — избегать. И это суждение, насколько идет речь о божественных вещах, относится к дару мудрости; насколько речь идет о тварных вещах — к дару знания; а насколько речь идет о приложении к единичным действиям — к дару совета.
(52) Итак, на первое надлежит ответить, что названное отличие четырех даров очевидным образом согласуется с отличием тех [вещей], которые Григорий представляет как их противоположности. В самом деле, тупость противоположна остроте. Но разум по подобию называется острым, когда он может проникать в самые глубины того, что предлагается ему [для познания]. Поэтому тупость ума — это такое его [свойство], которое не позволяет ему проникать в глубины. А о глупости говорится в связи с тем, что ум неверно судит о всеобщей цели жизни. И потому глупость по существу противоположна мудрости, которая выносит верное суждение о всеобщей причине. Что касается невежества, то оно подразумевает некую недостаточность понимания в отношении частных [вещей]. И потому оно противоположно знанию,
donorum assignavimus.
(51) Sed diligenter intuenti, donum intellectus non solum se habet circa speculanda, sed etiam circa operanda, ut dictum est (a. 3), et similiter etiam donum scientiae circa utrumque se habet, ut infra dicetur. Et ideo oportet aliter eorum distinctionem accipere. Omnia enim haec quatuor dicta ordinantur ad supernaturalem cognitionem, quae in nobis per fidem fundatur Fides autem est ex auditu, ut dicitur Rom. X. Unde oportet aliqua proponi homini ad credendum non sicut visa, sed sicut audita, quibus per fidem assentiat. Fides autem pnmo quidem et principaliter se habet ad ventatem primam; secundario, ad quaedam circa creaturas consideranda; et ulterius se extendit etiam ad directionem humanorum operum, secundum quod per dilectionem operatur, ut ex dictis patet (q. 4, a. 2, ad 3). Sic igitur circa ea quae fidei proponuntur credenda duo requiruntur ex parte nostra. Pnmo quidem, ut intellectu penetrentur vel capiantur, et hoc pertinet ad donum intellectus. Secundo autem oportet ut de eis homo habeat
iudicium rectum, ut aestimet his esse inhaerendum et ab eorum oppositis recedendum. Hoc igitur iudicium, quantum ad res divinas, pertinet ad donum sapientiae; quantum vero ad res creatas, pertinet ad donum scientiae; quantum vero ad applicationem ad singulana opera, pertinet ad donum consilii.
(52) Ad primum ergo dicendum quod praedicta differentia quatuor donorum manifeste competit distinctioni eorum quae Gregorius ponit eis esse opposita Hebetudo enim acuitati opponitur. Dicitur autem per similitudinem intellectus acutus quando potest penetrare ad intima eorum quae proponuntur. Unde hebetudo mentis est per quam mens ad intima penetrare non sufficit. Stultus autem dicitur ex hoc quod perverse iudicat circa communem finem vitae. Et ideo propne opponitur sapientiae, quae facit rectum iudicium circa universalem causam. Ignorantia vero importat defectum mentis etiam circa quaecumque particularia. Et ideo opponitur scientiae, per quam homo habet rectum iudicium circa particulares causas, scilicet circa
102
Вопрос 8. О даре разумения
благодаря которому человек выносит правильное суждение о частных причинах, т. е. о творениях. А опрометчивость явным образом противополагается совету, благодаря которому человек не начинает действовать до того, как прибегнет к помощи разума.
(53) На второе надлежит ответить, что дар разумения соотносится с началами благодатного познания иначе, чем вера. Ведь если дело веры состоит в том, чтобы соглашаться с ними, то дело дара разумения — в том, чтобы при помощи ума проникать в сказанное.
(54) На третье надлежит ответить, что дар разумения относится к обоим типам познания, т. е. и к теоретическому, и к практическому, но не в том, что касается суждения, а в том, что касается восприятия — чтобы постигалось то, что говорится.
Раздел 7
Соответствует ли дару разумения шестое блаженство, а именно, то, о котором сказано: Блаженны чистые сердцем и т. д.
(55) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что дару разумения не соответствует шестое блаженство, а именно, то, о котором сказано: Блаженны чистые сердцем и т. д.
(56) 1. В самом деле, чистота сердца относится, как кажется, к аффекту. Но дар разумения относится не к аффекту, а к интеллектуальной способности. Следовательно, названное блаженство не соответствует дару разумения.
(57) 2. Кроме того, сказано (Деян 15,9): Верою очистив сердца их. Но чистота сердца достигается через очищение. Следовательно, названная чистота относится скорее к добродетели веры, чем к дару разумения.
(58) 3. Кроме того, дары Святого Духа совершенствуют человека в этой жизни. Но созерцание Бога не относится к этой жизни, ведь оно делает блаженным, как сказано выше (Ч. II-I, В. 69, Р. 2, 4). Следовательно, шестое блаженство, подразумевающее созерцание Бога, не относится к дару разумения.
(59) Но против: Августин говорит, что шестое деяние Святого Духа, т. е. разумение, подобает тем, кто чист сердцем, тем, кто ясным взором может созерцать то, что недоступно глазу.
(60) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше (Ч. II-I, В. 69, Р. 2, 4), в шестом даре, как и в других, сочетаются две [вещи], одна — в роде заслуги (т. е. чи-
creaturas. Praecipitatio vero manifeste opponitur consilio, per quod homo ad actionem non procedit ante deliberationem rationis.
(53) Ad secundum dicendum quod donum intellectus est circa prima principia cognitionis gratuitae, aliter tamen quam fides. Nam ad fidem pertinet eis assentire, ad donum vero intellectus pertinet penetrare mente ea quae dicuntur.
(54) Ad tertium dicendum quod donum intellectus pertinet ad utramque cognitionem, scilicet speculativam et practi- cam, non quantum ad iudicium, sed quantum ad apprehensionem, ut capiantur ea quae dicuntur.
Articulus 7
Utrum dono intellectus respondeat sexta beatitudo, scilicet, «beati mundo corde» etc.
(55) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod dono intellectus non respondeat beatitudo sexta, scilicet, beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.
(56) 1. Munditia enim cordis maxime videtur pertinere ad affectum. Sed donum intellectus non pertinet ad affectum, sed magis ad vim intellectivam. Ergo praedicta beatitudo non respondet dono intellectus.
(57) 2. Praeterea, Act. XV dicitur, fide purificans corda eorum. Sed per purificationem cordis acquiritur munditia cordis. Ergo praedicta beatitudo magis pertinet ad virtutem fidei quam ad donum intellectus.
(58) 3. Praeterea, dona spintus sancti perficiunt hominem in praesenti vita. Sed visio Dei non pertinet ad vitam praesentem, ipsa enim beatos facit, ut supra habitum est (II-I, q. 69, a. 2, 4). Ergo sexta beatitudo, continens Dei visionem, non pertinet ad donum intellectus.
(59) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De serm. Dom. in monte (I, 4; PL 34, 1235), sexta operatio spiritus sancti, quae est intellectus, convenit mundis corde, qui purgato oculo possunt videre quod oculus non vidit.
(60) Respondeo dicendum quod in sexta beatitudine, sicut et in aliis, duo continentur, unum per modum meriti,
Раздел 7. Соответствует ли дару разумения шестое блаженство
103
стота сердца), а другая — в роде награды (т. е. созерцание Бога). И обе эти [вещи] некоторым образом относятся к дару разумения. В самом деле, есть два типа чистоты. Одна чистота является преддверием и предрасположением к созерцанию Бога; и она состоит в очищении аффективной [части души] от неупорядоченных страстей, и это очищение сердца осуществляется благодаря добродетелям и дарам, относящимся к желающей способности [души]. Но есть и другая чистота сердца, которая является как бы завершающей по отношению к созерцанию Бога, и которая заключается в очищении ума от фантасмов и заблуждений, таком, именно, чтобы то, что предлагается [как учение] о Боге, не принималось ни в соответствии с телесными образами, ни в соответствии с извращениями еретиков. И такую чистоту производит дар разумения. Равным образом, созерцание Бога тоже двойственно. Одно созерца¬
ние совершенно (то, посредством которого созерцается сущность Бога), а другое несовершенно (то, при помощи которого мы, даже не созерцая, что есть Бог, созерцаем то, что Он не есть; и мы тем больше познаем Бога в этой жизни, чем больше понимаем, что Он превосходит все, что постигается разумом). И оба типа созерцания Бога относятся к дару разумения, но первый — к завершенному дару разумения, такому, какой будет в Небесном Отечестве, а второй — к первичному дару разумения, которым мы обладаем в этой жизни.
(61) И из этого очевидны ответы на возражения. В самом деле, первые два аргумента имеют силу по отношению к первой чистоте, а третий — к совершенному созерцанию Бога (при том, что дары совершенствуют нас и в этой жизни, сообразно некоему начинанию, а в будущей жизни они обретут завершенность, как уже сказано).
scilicet munditia cordis; aliud per modum praemii, scilicet visio Dei, ut supra dictum est (II-I, q. 69, a. 2, 4). Et utrumque pertinet aliquo modo ad donum intellectus. Est enim duplex munditia. Una quidem praeambula et dis- positiva ad Dei visionem, quae est depuratio affectus ab inordinatis affectionibus, et haec quidem munditia cordis fit per virtutes et dona quae pertinent ad vim appetitivam. Alia vero munditia cordis est quae est quasi completiva respectu visionis divinae, et haec quidem est munditia mentis depuratae a phantasmatibus et erroribus, ut scilicet ea quae de Deo proponuntur non accipiantur per modum corporalium phantasmatum, nec secundum haereticas perversitates. Et hanc munditiam facit donum intellectus. Similiter etiam duplex est Dei visio. Una quidem perfec¬
ta, per quam videtur Dei essentia. Alia vero imperfecta, per quam, etsi non videamus de Deo quid est, videmus tamen quid non est, et tanto in hac vita Deum perfectius cognoscimus quanto magis intelligimus eum excedere quidquid intellectu comprehenditur. Et utraque Dei visio pertinet ad donum intellectus, pnma quidem ad donum intellectus consummatum, secundum quod ent in patria; secunda vero ad donum intellectus inchoatum, secundum quod habetur in via.
(61) Et per hoc patet responsio ad obiecta. Nam primae duae rationes procedunt de prima munditia. Tertia vero de perfecta Dei visione, dona autem et hic nos perficiunt secundum quandam inchoationem, et in futuro implebuntur, ut supra dictum est.
104
Вопрос 8. О даре разумения
Раздел 8
Действительно ли среди плодов дару разумения соответствует вера
(62) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что среди плодов дару разумения соответствует не вера.
(63) 1. В самом деле, разумение есть плод веры, ибо сказано, согласно переводу Сеп- туагинты (Ис 7, 9): Если не поверите, то не уразумеете (в нашем переводе — Если не верите, то не устоите2). Следовательно, вера не является плодом разумения.
(64) 2. Кроме того, предшествующее не является плодом последующего. Но вера, как кажется, предшествует разумению, поскольку вера есть основание всего духовного здания, как сказано выше (В. 4, Р. 1, 7). Следовательно, вера не является плодом разумения.
(65) 3. Кроме того, к разуму относится больше даров, чем к желанию. Но среди плодов только один считается относящимся к разуму, а именно — вера, все же прочие относятся к желанию. Следовательно, как кажется, вера соответствует разумению не в большей степени, чем мудрости, знанию или совету.
(66) Но против: целью любой вещи является ее плод. Но дар разумения, как кажется,
обращен главным образом на уверенность веры, которая считается плодом, ибо, как утверждает глосса (к Гал 5, 22), вера, которая является плодом, относится к уверенности в невидимом. Следовательно, из плодов дару разумения соответствует вера.
(67) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено выше, когда речь шла о плодах (Ч. II-I, В. 70, Р. 1), плодами Духа называется нечто предельное и приносящее наслаждение, производимое в нас силой Святого Духа. Но то предельное, которое приносит наслаждение, обладает смысловым содержанием цели, которая является собственным объектом воли. И потому надлежит, чтобы относящееся к воле предельное и приносящее наслаждение было некоторым образом плодом всего остального, относящегося к прочим способностям. Следовательно, сообразно этому у дара или добродетели, совершенствующих некую способность, может быть два плода: один относится к своей способности, а другой, как бы предельный — к воле. И сообразно этому надлежит сказать, что дару разумения в качестве его собственного плода соответствует вера, т. е. уверенность веры, а в качестве предельного плода — радость, которая относится к воле.
Articulus 8
Utrum in fructibus fides respondeat dono intellectus
(62) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod in fructibus fides non respondeat dono intellectus.
(63) 1. Intellectus enim est fructus fidei, dicitur enim Isaiae VII, nisi credideritis, non intelligetis, secundum aliam litteram, ubi nos habemus, si non credideritis, non permanebitis. Non ergo fides est fructus intellectus.
(64) 2. Praeterea, pnus non est fructus posterions. Sed fides videtur esse prior intellectu, quia fides est fundamentum totius spintualis aedificii, ut supra dictum est (q. 4, a. 1, 7). Ergo fides non est fructus intellectus.
(65) 3. Praeterea, plura sunt dona pertinentia ad intellectum quam pertinentia ad appetitum. Sed inter fructus ponitur tantum unum pertinens ad intellectum, scilicet fides, omnia vero alia pertinent ad appetitum. Ergo fides non magis videtur respondere intellectui quam sapientiae vel scientiae seu consilio.
(66) Sed contra est quod finis uniuscuiusque rei est fructus eius. Sed donum intellectus videtur principaliter ordinari ad certitudinem fidei, quae ponitur fructus, dicit enim Glossa (Petri Lombardi, PL 192, 160), ad Gal. V, quod fides quae est fructus est de invisibilibus certitudo. Ergo in fructibus fides respondet dono intellectus.
(67) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q. 70, a. 1), cum de fructibus ageretur, fructus spintus dicuntur quaedam ultima et delectabilia quae in nobis proveniunt ex virtute spiritus sancti. Ultimum autem delectabile habet rationem finis, qui est proprium obiectum voluntatis. Et ideo oportet quod id quod est ultimum et delectabile in voluntate sit quodammodo fructus omnium aliorum quae pertinent ad alias potentias. Secundum hoc ergo doni vel virtutis perficientis aliquam potentiam potest accipi duplex fructus, unus quidem pertinens ad suam potentiam; alius autem quasi ultimus, pertinens ad voluntatem. Et secundum hoc dicendum est quod dono intellectus respondet pro proprio fructu fides, idest fidei certitudo, sed pro ulti-
Раздел 8. Действительно ли среди плодов дару разумения соответствует вера 105
(68) Итак, на первое надлежит ответить, что разумение есть плод той веры, которая является добродетелью. Но мы, говоря здесь о плоде, имеем в виду другую веру, ту, которая есть уверенность веры, к которой человек приходит благодаря дару разумения.
(69) На второе надлежит ответить, что вера не может предшествовать разумению во всех смыслах, ведь человек не может согласиться посредством веры с некими положениями, если раньше их так или иначе не уразумеет. Но совершенство разумения следует за той верой, которая является добродетелью, а за этим совершенством следует некая уверенность веры.
(70) На третье надлежит ответить, что плод практического знания не может быть в нем
самом, поскольку таковое знание ищется не ради него самого, но ради иного. А теоретическое знание обладает плодом в себе самом, и таковым плодом является уверенность в том, к чему относится это знание. И потому дару совета, который относится только к практическому знанию, не соответствует никакой особый плод. Что же касается дара мудрости, разумения и знания, то они могут относиться к теоретическому знанию, и им соответствует только один плод, который состоит в уверенности, обозначенной именем веры. А к желанию относится большее число плодов потому, что, как уже сказано, смысловое содержание цели, которое предполагает имя «плод», больше относится к желанию, чем к разуму.
то fructu respondet ei gaudium, quod pertinet ad voluntatem.
(68) Ad primum ergo dicendum quod intellectus est fructus fidei quae est virtus. Sic autem non accipitur fides cum dicitur fructus, sed pro quadam certitudine fidei, ad quam homo pervenit per donum intellectus.
(69) Ad secundum dicendum quod fides non potest universaliter praecedere intellectum, non enim posset homo assentire credendo aliquibus propositis nisi ea aliqualiter intelligeret. Sed perfectio intellectus consequitur fidem quae est virtus, ad quam quidem intellectus perfectionem sequitur quaedam fidei certitudo.
(70) Ad tertium dicendum quod cognitionis practicae fructus non potest esse in ipsa, quia talis cognitio non scitur propter se, sed propter aliud. Sed cognitio speculativa habet fructum in seipsa, scilicet certitudinem eorum quorum est. Et ideo dono consilii, quod pertinet solum ad practi- cam cognitionem, non respondet aliquis fructus proprius. Donis autem sapientiae, intellectus et scientiae, quae possunt etiam ad speculativam cognitionem pertinere, respondet solum unus fructus, qui est certitudo significata nomine fidei. Plures autem fructus ponuntur pertinentes ad partem appetitivam, quia, sicut iam dictum est, ratio finis, quae importatur in nomine fructus, magis pertinet ad vim appetitivam quam intellectivam.
Вопрос 9
О даре знания
(1) Затем надлежит рассмотреть дар знания. И касательно этого исследуются четыре проблемы: 1) является ли знание даром; 2) может ли знание относиться к божественному; 3) является ли оно теоретическим или практическим; 4) какому блаженству оно соответствует.
Раздел 1 Является ли знание даром
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что знание не является даром.
(3) 1. В самом деле, дары Святого Духа превосходят естественные способности. Но знание подразумевает некое заключение естественного разума, ибо, как говорит Философ, доказательство есть силлогизм, производящий знание. Следовательно, знание не является даром Святого Духа.
(4) 2. Кроме того, дары Святого Духа общи для всех святых, как уже сказано выше (В. 8, Р. 4; Ч. II-I, В. 68, Р. 5). Но Августин говорит, что многие из верных не облада¬
ют знанием, хотя обладают верой. Следовательно, знание не является даром.
(5) 3. Кроме того, дар совершеннее добродетели, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 68, Р. 8). Следовательно, одного дара достаточно для совершенства одной добродетели. Но добродетели веры соответствует дар разумения, как установлено выше (В. 8, Р. 2). Следовательно, дар знания ей не соответствует. И не ясно, какой еще добродетели он может соответствовать. Следовательно, поскольку дары совершеннее добродетелей, как уже отмечено, постольку знание не является даром.
(6) Но против: знание перечислено среди семи даров (Ис 11, 2).
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что благодать совершеннее природы, поэтому она не испытывает недостатка в том, посредством чего человек может обрести природное совершенство. Но когда разум человека соглашается с некоей истиной благодаря естественной познавательной способности, он совершенствуется в отноше-
Quaestio 9 De dono scientiae
(1) Deinde considerandum est de dono scientiae. Et circa hoc quaeruntur quatuor. Primo, utrum scientia sit donum. Secundo, utrum sit circa divina. Tertio, utrum sit speculativa vel practica. Quarto, quae beatitudo ei respondeat.
Articulus 1 Utrum scientia sit donum
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod scientia non sit donum.
(3) 1. Dona enim spiritus sancti naturalem facultatem excedunt. Sed scientia importat effectum quendam naturalis rationis, dicit enim philosophus, in I Poster. (2; 716Ы8), quod demonstratio est syllogismus faciens scire. Ergo scientia non est donum spiritus sancti.
(4) 2. Praeterea, dona spiritus sancti sunt communia omnibus sanctis, ut supra dictum est (q. 8, a. 4; II-I, q. 68,
a. 5). Sed Augustinus, XIV De Trin. (1; PL 42, 1037), dicit quod scientia non pollent fideles plurimi, quamvis polleant ipsa fide. Ergo scientia non est donum.
(5) 3. Praeterea, donum est perfectius virtute, ut supra dictum est (II-I, q. 68, a. 8). Ergo unum donum sufficit ad perfectionem unius virtutis. Sed virtuti fidei respondet donum intellectus, ut supra dictum est (q. 8, a. 2). Ergo non respondet ei donum scientiae. Nec apparet cui alii virtuti respondeat. Eigo, cum dona sint perfectiones virtutum, ut supra dictum est, videtur quod scientia non sit donum.
(6) Sed contra est quod Isaiae XI computatur inter septem dona.
(7) Respondeo dicendum quod gratia est perfectior quam natura, unde non deficit in his in quibus homo per naturam perfici potest. Cum autem homo per naturalem rationem assentit secundum intellectum alicui veritati, dupliciter
Раздел 1. Является ли знание даром
107
нии этой истины двояким образом: во-первых, постольку, поскольку постигает ее; во- вторых, постольку, поскольку формулирует твердое суждение о ней. И потому для того, чтобы человеческий разум совершенным образом согласился с истиной веры, требуются две [вещи]. Во-первых, чтобы разум вполне постиг то, что ему предлагается; и это относится к дару разумения, как уже сказано (В. 8, Р. 6). Во-вторых, требуется, чтобы разум обладал твердым и правильным суждением о таковом, отделяя то, во что следует верить, от того, во что верить не следует. И для этого необходим дар знания.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что достоверность познания в различных природах обнаруживается по-разному, сообразно различному устройству каждой из природ. Действительно, человек формулирует достоверное суждение об истине дискурсивным образом, а потому человеческое знание приобретается при помощи силлогистического доказательства. Но у Бога достоверное суждение об истине имеется без всякого дискурса, через простое начинание, как сказано в Первой Части (В. 14, Р. 7), и потому божественное знание является не дискурсивным или рассудоч¬
ным, но абсолютным и простым. И с ним сходно знание, обретаемое благодаря дару Святого Духа, поскольку оно является неким причастным ему подобием.
(9) На второе надлежит ответить, что о том, во что надлежит верить, можно обладать двумя типами знания. Первый тип — это знание, посредством которого человек знает, во что надлежит верить, отличая таковое от того, во что верить не следует; и именно в этом смысле знание есть дар и подобает всем святым. А есть и другое знание, относящееся к объекту веры, благодаря которому человек не просто знает, во что надлежит верить, но и понимает, как явить содержание веры и привести к ней других, а ее противников — опровергнуть. И это знание относится к благодатям-харизмам, которые даются не всем, но лишь некоторым. И потому Августин добавляет к этим своим словам следующие: Знать, во что должен верить человек, — это одно, и совсем другое — знать, каким образом можно передать это знание благочестивым и защитить его от неблагочестивых.
(ю) На третье надлежит ответить, что дары совершеннее моральных и интеллектуальных добродетелей. Но они не совершеннее теологических добродетелей; скорее,
perficitur circa veritatem illam, primo quidem, quia capit eam; secundo, quia de ea certum iudicium habet. Et ideo ad hoc quod intellectus humanus perfecte assentiat veritati fidei duo requiruntur. Quorum unum est quod sane capiat ea quae proponuntur, quod pertinet ad donum intellectus, ut supra dictum est (q. 8, a. 6). Aliud autem est ut habeat certum et rectum iudicium de eis, discernendo scilicet credenda non credendis. Et ad hoc necessarium est donum scientiae.
(8) Ad primum ergo dicendum quod certitudo cognitionis in diversis naturis invenitur diversimode, secundum diversam conditionem uniuscuiusque naturae. Nam homo consequitur certum iudicium de veritate per discursum rationis, et ideo scientia humana ex ratione demonstrativa acquiritur Sed in Deo est certum iudicium ventatis absque omni discursu per simplicem intuitum, ut in primo dictum est (q. 14, a. 7), et ideo divina scientia non est discursiva vel ratiocinativa, sed absoluta et simplex. Cui similis est scientia quae ponitur donum spiritus sancti, cum sit quaedam participativa similitudo ipsius.
(9) Ad secundum dicendum quod circa credenda duplex scientia potest haberi. Una quidem per quam homo scit quid credere debeat, discernens credenda a non credendis, et secundum hoc scientia est donum, et convenit omnibus sanctis. Alia vero est scientia circa credenda per quam homo non solum scit quid credi debeat, sed etiam scit fidem manifestare et alios ad credendum inducere et contradictores revincere. Et ista scientia ponitur inter gratias gratis datas, quae non datur omnibus, sed quibusdam. Unde Augustinus, post verba inducta, subiungit {De Trin. XIV, 1; PL 42, 1037), aliud est scire tantummodo quid homo credere debeat, aliud scire quemadmodum hoc ipsum et piis opituletur et contra impios defendatur.
(10) Ad tertium dicendum quod dona sunt perfectiora virtutibus moralibus et intellectualibus. Non sunt autem perfectiora virtutibus theologicis, sed magis omnia dona ad perfectionem theologicarum virtutum ordinantur sicut ad finem. Et ideo non est inconveniens si diversa dona ad unam virtutem theologicam ordinantur.
108
Вопрос 9. О даре знания
все дары обращены на совершенство тео- вательно, имеется знание о тварных вещах,
логических добродетелей как на свою цель, то должно быть и знание о вещах боже-
И потому нет ничего абсурдного в том, что ственных.
различные дары обращены на одну теоло- (15) Но против: Августин говорит: Знание гическую добродетель. божественных вещей может в собственном
смысле слова называться мудростью, а зна- Раздел 2 ние вещей человеческих может в собствен-
Относится ли дар знания ном смысле именоваться знанием.
к божественным вещам (16) Отвечаю: надлежит сказать, что твер-
(11) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что дар знания относится к божественным вещам.
(12) 1. В самом деле, Августин говорит в XTV книге «О Троице», что знанием вера в нас порождается, питается и укрепляется. Но вера относится к вещам божественным, поскольку ее объектом является первая истина, как уже сказано выше (В. 1, Р. 1). Следовательно, дар знания относится к божественным вещам.
(13) 2. Кроме того, дар знания благороднее приобретенного знания. Но некое приобретенное знание, например, метафизическое, относится к божественным вещам. Следовательно, куда скорее к божественным вещам относится дар знания.
(и) 3. Кроме того, сказано (Рим 1, 20): Не¬
видимое Его... от создания мира через рассматривание творений видимо. Если, следо-
дое суждение о некоей вещи основывается, прежде всего, на ее причине. И потому порядок суждений должен соответствовать порядку причин, ведь как первая причина является причиной второй, так же на основании первой причины судят о второй. Но о первой причине нельзя судить на основании какой-либо иной причины. И потому суждение, которое выносится на основании первой причины, является первичным и наиболее совершенным. Но, как явствует из логики, в тех [вещах], среди которых имеется нечто наисовершеннейшее, общее имя рода прилагается к тому, что меньше сравнительно с таковым, а ему самому дается некое особое имя. Так, в роде обратимых [терминов] то, что обозначает сущность вещи, обозначается особым именем «определение», а те обратимые [термины], которые не обладают его полнотой, назы-
Articulus 2 Utram scientiae donum sit circa res divinas
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod scientiae donum sit circa res divinas.
(12) 1. Dicit enim Augustinus, XIV De Trin. (1; PL 42, 1037), quod per scientiam, gignitur fides, nutritur et roboratur. Sed fides est de rebus divinis, quia obiectum fidei est veritas prima, ut supra habitum est (q. 1, a. 1). Ergo et donum scientiae est de rebus divinis.
(13) 2. Praeterea, donum scientiae est dignius quam scientia acquisita. Sed aliqua scientia acquisita est circa res divinas, sicut scientia metaphysicae. Ergo multo magis donum scientiae est circa res divinas.
(14) 3. Praeterea, sicut dicitur Rom. I, invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur. Si igitur est scientia circa res creatas, videtur quod etiam sit circa res divinas.
(15) Sed contra est quod Augustinus, XIV De Trin. (1; PL 42, 1037), dicit, rerum divinarum scientia proprie sapientia nuncupetur, humanarum autem proprie scientiae nomen obtineat.
(16) Respondeo dicendum quod certum iudicium de re aliqua maxime datur ex sua causa. Et ideo secundum ordinem causarum oportet esse ordinem iudiciorum, sicut enim causa prima est causa secundae, ita per causam primam iudicatur de causa secunda. De causa autem prima non potest iudican per aliam causam. Et ideo iudicium quod fit per causam primam est pnmum et perfectissimum. In his autem in quibus aliquid est perfectissimum, nomen commune generis appropnatur his quae deficiunt a perfectissimo, ipsi autem perfectissimo adaptatur aliud speciale nomen, ut patet in logicis. Nam in genere convertibilium illud quod significat quod quid est, speciali nomine definitio vocatur, quae autem ab hoc deficiunt convertibilia exis- tentia nomen commune sibi retinent, scilicet quod propria dicuntur. Quia igitur nomen scientiae importat quandam
Раздел 2. Относится ли дар знания к божественным вещам
109
ваются общим именем, т. е. «собственными признаками». Итак, поскольку имя «знание» подразумевает твердость суждения, как уже сказано (Р. 1), то если твердость суждения основывается на высшей причине, знанию дается особое имя, т. е. «мудрость», ведь мудрым в любом роде называется тот, кто знает высшую причину этого рода, на основании которой он может выносить суждения обо всем. А безусловно мудрым называется тот, кто знает безусловно высшую причину, т. е. Бога. И потому познание божественных вещей называется мудростью. А познание вещей человеческих называется знанием — как бы общим именем, подразумевающим твердость суждения, которой достаточно для вынесения суждения о том, что осуществляется в силу вторичных причин. И потому, принимая имя «знание» в этом смысле, дар знания отличают от дара мудрости. Соответственно, дар знания относится только к вещам человеческим или к тварным вещам.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что хотя то, к чему относится вера, суть вещи божественные и вечные, тем не менее, сама вера есть нечто временное в душе верующего. И потому знание о том, во что надлежит верить, относится к дару знания.
Но знание самих вещей, в которые надлежит верить, как таковых, через некое единение с ними, относится к дару мудрости. И потому дар мудрости соотносится главным образом с любовью-каритас, которая соединяет ум человека с Богом.
(18) На второе надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу, если имя «знание» употребляется в широком смысле. Но в этом смысле знание не считается особым даром, поскольку оно рассматривается в качестве такового тогда, когда ограничивается до суждения, формируемого на основании тварных вещей.
(19) На третье надлежит ответить, что, как уже сказано выше (В. 1, Р. 1), любой познавательный хабитус формально соотносится со средством познания, при помощи которого познается нечто, а материально — с тем, что познается при помощи средства познания. И поскольку формальное могущественнее материального, постольку те науки, которые выводят заключения о естественной материи, исходя из математических начал, больше относятся к математике, как подобные ей, хотя в том, что касается материи, они больше подобны естествознанию (и потому во II книге «Физики» сказано, что они в большей
certitudinem iudicii, ut dictum est (q. 1); si quidem certitudo iudicii fit per altissimam causam, habet speciale nomen, quod est sapientia, dicitur enim sapiens in unoquoque genere qui novit altissimam causam illius generis, per quam potest de omnibus iudicare. Simpliciter autem sapiens dicitur qui novit altissimam causam simpliciter, scilicet Deum. Et ideo cognitio divinarum rerum vocatur sapientia Cognitio vero rerum humanarum vocatur scientia, quasi communi nomine importante certitudinem iudicii appropriato ad iudicium quod fit per causas secundas. Et ideo, sic accipiendo scientiae nomen, ponitur donum distinctum a dono sapientiae. Unde donum scientiae est solum circa res humanas, vel circa res creatas.
(17) Ad primum ergo dicendum quod, licet ea de quibus est fides sint res divinae et aeternae, tamen ipsa fides est quoddam temporale in animo credentis. Et ideo scire quid credendum sit pertinet ad donum scientiae. Scire autem ipsas res creditas secundum seipsas per quandam unionem ad ipsas pertinet ad donum sapientiae. Unde donum sapientiae magis respondet caritati, quae unit mentem hominis Deo.
(18) Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit secundum quod nomen scientiae communiter sumitur. Sic autem scientia non ponitur speciale donum, sed secundum quod restringitur ad iudicium quod fit per res creatas.
(19) Ad tertium dicendum quod, sicut supra dictum est (q. 1, a. 1), quilibet cognoscitivus habitus formaliter quidem respicit medium per quod aliquid cognoscitur, matenaliter autem id quod per medium cognoscitur. Et quia id quod est formale potius est, ideo illae scientiae quae ex principiis mathematicis concludunt circa materiam naturalem, magis cum mathematicis connumerantur, utpote eis similiores, licet quantum ad materiam magis conveniant cum naturali, et propter hoc dicitur in II Physic. (2; 194a7) quod sunt magis naturales. Et ideo, cum homo per res creatas Deum cognoscit, magis videtur hoc pertinere ad scientiam, ad quam pertinet formaliter, quam ad sapientiam, ad quam pertinet materialiter. Et e converso, cum secundum res divinas iudicamus de rebus creatis, magis hoc ad sapientiam quam ad scientiam pertinet.
110
Вопрос 9. О даре знания
степени являются физическими науками). И потому, поскольку человек познает Бога через тварные вещи, таковое познание, как кажется, относится скорее к знанию, к которому оно принадлежит формально, чем к мудрости, к которой оно принадлежит материально. И наоборот: когда мы судим о тварных вещах на основании божественных, тогда речь идет скорее о мудрости, а не о знании.
Раздел 3
Действительно ли дар знания является практическим знанием
(20) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что знание, которое считается даром, является практическим.
(21) 1. В самом деле, Августин говорит в XII книге «О Троице», что действие, посредством которого мы пользуемся внешними вещами, относится к знанию. Но знание, к которому относится действие, является практическим. Следовательно, то знание, которое считается даром, является практическим.
(22) 2. Кроме того, Григорий говорит в I
книге «Моралий», что нельзя говорить о знании, если нет пользы для благочестия, и бесполезно то благочестие, которое не обла¬
дает проницательностью знания. И из этого следует, что знание направляет благочестие. Но это не может подобать теоретическому знанию. Следовательно, знание, считающееся даром, является не теоретическим, но практическим.
(23) 3. Кроме того, дарами Святого Духа обладают только праведники, как уже сказано выше (В. 9, Р. 5). Но теоретическим знанием могут обладать и нечестивые, согласно этим словам (Иак 4, 17): Кто знает, как делать добро, и не делает, тому грех. Следовательно, знание, считающееся даром, является не теоретическим, но практическим.
(24) Но против: Григорий говорит, что знание, когда настает его день, приготовляет пир, поскольку оно прекращает пост невежества у разума. Но невежество устраняется полностью только благодаря обоим типам знания, т. е. теоретическому и практическому. Следовательно, знание, которое считается даром, является как теоретическим, так и практическим.
(25) Отвечаю: надлежит сказать, что, как отмечено выше (В. 9, Р. 8), дар знания, как и дар разумения, обращен на твердость веры. Но вера главным образом и преимущественно заключается в созерцании —
Articulus 3 Utrum scientiae donum sit scientia practica
(20) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod scientia quae ponitur donum sit scientia practica.
(21) 1. Dicit enim Augustinus, XII De Trin. (14; PL 42, 1009), quod actio qua exterioribus rebus utimur scientiae deputatur. Sed scientia cui deputatur actio est practica. Ergo scientia quae est donum est scientia practica.
(22) 2. Praeterea, Gregorius dicit, in I Moral. (32; PL 75, 547), nulla est scientia si utilitatem pietatis non habet, et valde inutilis est pietas si scientiae discretione caret. Ex quo habetur quod scientia dirigit pietatem. Sed hoc non potest competere scientiae speculativae. Ergo scientia quae est donum non est speculativa, sed practica.
(23) 3. Praeterea, dona spiritus sancti non habentur nisi a iustis, ut supra habitum est (q. 9, a. 5). Sed scientia speculativa potest haberi etiam ab iniustis, secundum illud
lac. ult., scienti bonum et non facienti, peccatum est illi. Ergo scientia quae est donum non est speculativa, sed practica.
(24) Sed contra est quod Gregonus dicit, in I Moral. (32; ML 75, 547), scientia in die suo convivium parat, quia in ventre mentis ignorantiae ieiunium superat. Sed ignorantia non tollitur totaliter nisi per utramque scientiam, scilicet et speculativam et practicam. Ergo scientia quae est donum est et speculativa et practica.
(25) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (q. 9, a. 8), donum scientiae ordinatur, sicut et donum intellectus, ad certitudinem fidei. Fides autem primo et principaliter in speculatione consistit, inquantum scilicet inhaeret primae veritati. Sed quia prima veritas est etiam ultimus finis, propter quem operamur, inde etiam est quod fides ad operationem se extendit, secundum illud Gal. V, fides per dilectionem operatur. Unde etiam oportet quod donum scientiae primo quidem et principaliter respici- at speculationem, inquantum scilicet homo scit quid fide
Раздел 4. Соответствует ли дару знания третье блаженство
111
постольку, поскольку опирается на первую истину. Однако первая истина является также и предельной целью, ради достижения которой мы действуем; и потому вера распространяется также и на действия, согласно этим словам (Гал 5, 6): Вера, действующая любовью. Поэтому надлежит также, чтобы дар знания в первую очередь и главными образом соответствовал созерцанию — постольку, поскольку человек знает, чего он должен держаться верой. Но во вторую очередь этот дар распространяется также и на действия — постольку, поскольку наши действия направляются знанием вероучения и того, что из него следует.
(26) Итак, на первое надлежит ответить, что Августин говорит о даре знания сообразно тому, что оно распространяется на действия: ведь действие атрибутируется ему, но не только оно, и не в первую очередь. И точно так же знание направляет благочестие.
(27) И из этого очевиден ответ на второе.
(28) На третье надлежит ответить, что, как уже сказано о даре разумения (что не всякий, кто разумеет, обладает даром разумения, поскольку им обладает только тот, кто разумеет как бы сообразно хабитусу благо-
tenere debeat. Secundario autem se extendit etiam ad operationem, secundum quod per scientiam credibilium, et eorum quae ad credibilia consequuntur, dirigimur in agendis.
(26) Ad primum ergo dicendum quod Augustinus loquitur de dono scientiae secundum quod se extendit ad operationem, attribuitur enim ei actio, sed non sola nec primo. Et hoc etiam modo dirigit pietatem.
(27) Unde patet solutio ad secundum.
(28) Ad tertium dicendum quod, sicut dictum est de dono intellectus quod non quicumque intelligit habet donum intellectus, sed qui intelligit quasi ex habitu gratiae; ita etiam de dono scientiae est intelligendum quod illi soli donum scientiae habeant qui ex infusione gratiae certum iudicium habent circa credenda et agenda, quod in nullo deviat a rectitudine iustitiae. Et haec est scientia sanctorum, de qua dicitur Sap. X, iustum deduxit dominus per vias rectas et dedit illi scientiam sanctorum.
дати), так же следует сказать и о даре знания: даром знания обладает лишь тот, кто сообразно излиянию благодати имеет твердое суждение о том, во что следует верить и что делать, никоим образом не отклоняясь от прямоты праведности. И таково знание святых, о котором сказано (Прем 10, 10): Праведного... она наставляла на правые пути... и даровала ему познание святых.
Раздел 4 Действительно ли дару знания соответствует третье блаженство, а именно, то, о котором сказано: Блаженны плачущие и т. д.
(29) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что дару знания не соответствует третье блаженство, а именно, то, о котором сказано: Блаженны плачущие и т. д.
(30) 1. В самом деле, как причиной печали
и плача является зло, так и причиной радости является благо. Но благодаря знанию делается очевидным прежде всего благо, а не зло, ведь зло познается через благо, поскольку прямое есть мера и для себя, и для кривого, как сказано в I книге «О душе». Следовательно, названное блаженство не соответствует знанию.
Articulus 4
Utrum dono scientiae respondeat tertia beatitudo, scilicet, beati qui lugent, etc.
(29) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod scientiae non respondeat tertia beatitudo, scilicet, beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.
(30) 1. Sicut enim malum est causa tristitiae et luctus, ita etiam bonum est causa laetitiae. Sed per scientiam principalius manifestantur bona quam mala, quae per bona cognoscuntur, rectum enim est iudex sui ipsius et obliqui, ut dicitur in I De anima (5; 411a5). Ergo praedicta beatitudo non convenienter respondet scientiae.
(31) 2. Praeterea, consideratio ventatis est actus scientiae. Sed in consideratione veritatis non est tnstitia, sed magis gaudium, dicitur enim Sap. VIII, non habet amaritudinem conversatio illius, nec taedium convictus illius, sed laetitiam et gaudium. Ergo praedicta beatitudo non convenienter respondet dono scientiae.
112
Вопрос 9. О даре знания
(31) 2. Кроме того, созерцание истины есть действие знания. Но в созерцании истины нет печали, скорее в нем — радость, ибо сказано (Прем 8, 16): В обращении ее нет суровости, ни в сожитии с нею скорби, но веселие и радость. Следовательно, названное блаженство не соответствует дару знания.
(32) 3. Кроме того, дар знания заключается главным образом в созерцании, а не в действии. Но сообразно тому, что этот дар заключается в созерцании, плач ему не соответствует, ведь теоретический разум ничего не говорит о том, к чему надо стремиться, а чего избегать, как сказано в III книге «О душе», равно как не говорит и о том, о чем следует печалиться, а чему — радоваться. Следовательно, названное блаженство не должно считаться соответствующим дару знания.
(33) Но против: Августин говорит, что знание подобает плачущим, которые познали, что ими руководят дурные вещи, которые они раньше почитали за блага.
(34) Отвечаю: надлежит сказать, что к знанию как таковому относится правильное суждение о творениях. Но творения иногда становятся причиной того, что человек отвращается от Бога, согласно этим словам (Прем 14, 11): Создания Божия сдела¬
лись мерзостью... сетью ногам неразумных, т. е. тех, кто не имеет о творениях верного суждения и воображает, что они суть совершенное благо, и потому, представив их как цель, грешит и лишается истинного блага. И эту гибельность творений для человека он познает, обретя правильное суждение о них при помощи дара знания. И потому блаженство плача соответствует дару знания.
(35) Итак, на первое надлежит ответить, что тварные блага не ведут к духовной радости, если только они некоторым образом не отсылают к божественному благу, которое и является подлинным источником духовной радости. И потому духовный мир и следующая за ним радость непосредственно соответствуют дару мудрости. А дару знания соответствует сначала плач о предшествующих заблуждениях, а затем утешение, поскольку человек при помощи правильного суждения знания обращает творения к божественному благу. И потому в этом блаженстве плач считается заслугой, а последующее утешение — наградой. И начало его в этой жизни, а завершение — в следующей.
(36) На второе надлежит ответить, что самому созерцанию истины человек радует-
(32) 3. Praeterea, donum scientiae prius consistit in speculatione quam in operatione. Sed secundum quod consistit in speculatione, non respondet sibi luctus, quia intellectus speculativus nihil dicit de imitabili et fiigiendo, ut dicitur in III De anima (9; 432b27); neque dicit aliquid laetum et triste. Ergo praedicta beatitudo non convenienter ponitur respondere dono scientiae.
(33) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De serm. Dom. in monte (I, 4; PL 34, 1234), scientia convenit lugentibus, qui didicerunt quibus malis vincti sunt, quae quasi bona petierunt.
(34) Respondeo dicendum quod ad scientiam proprie pertinet rectum iudicium creaturarum. Creaturae autem sunt ex quibus homo occasionaliter a Deo avertitur, secundum illud Sap. XIV, creaturae factae sunt in odium, et in muscipulam pedibus insipientium, qui scilicet rectum iudicium de his non habent, dum aestimant in eis esse perfectum bonum; unde in eis finem constituendo, peccant et verum bonum perdunt. Et hoc damnum homini innotescit
per rectum iudicium de creaturis, quod habetur per donum scientiae. Et ideo beatitudo luctus ponitur respondere dono scientiae.
(35) Ad primum ergo dicendum quod bona creata non excitant spirituale gaudium nisi quatenus referuntur ad bonum divinum, ex quo proprie consurgit gaudium spintuale. Et ideo directe quidem spintualis pax, et gaudium consequens, respondet dono sapientiae. Dono autem scientiae respondet quidem pruno luctus de praeteritis erratis; et consequenter consolatio, dum homo per rectum iudicium scientiae creaturas ordinat in bonum divinum. Et ideo in hac beatitudine ponitur luctus pro merito, et consolatio consequens pro praemio. Quae quidem inchoatur in hac vita, perficitur autem in lutura.
(36) Ad secundum dicendum quod de ipsa consideratione ventatis homo gaudet, sed de re circa quam considerat veritatem potest tristari quandoque. Et secundum hoc luctus scientiae attribuitur.
Раздел 4. Соответствует ли дару знания третье блаженство
113
ся, но вот истина созерцаемой вещи может иногда вызывать печаль. И сообразно этому плач атрибутируется знанию.
(37) На третье надлежит ответить, что знанию, сообразно тому, что оно заключается в созерцании, не соответствует никакое блаженство, поскольку блаженство человека заключается в созерцании не творения, но Бога. Однако иногда блаженство чело¬
века заключается в должном использовании творений и упорядочивании своих аффектов по отношению к ним — насколько речь идет о блаженстве в этой жизни. И потому знанию не атрибутируется никакого блаженства, относящегося к созерцанию: таковое блаженство атрибутируется только разумению и мудрости, которые относятся к божественному.
(37) Ad tertium dicendum quod scientiae secundum quod in speculatione consistit, non respondet beatitudo aliqua, quia beatitudo hominis non consistit in consideratione creaturarum, sed in contemplatione Dei. Sed aliqualiter beatitudo hominis consistit in debito usu creaturarum et
ordinata affectione circa ipsas, et hoc dico quantum ad beatitudinem viae. Et ideo scientiae non attribuitur aliqua beatitudo pertinens ad contemplationem, sed intellectui et sapientiae, quae sunt circa divina.
Вопрос 10
О вере, насколько это касается противоположных пороков. И во-первых, о неверии в общем
(1) После этого надлежит рассмотреть противоположные пороки. И во-первых, неверие, которое противоположно вере (В. 10-12); во-вторых, богохульство, которое противоположно исповеданию веры (В. 13-14); в-третьих, невежество и тупость, которые противоположны знанию и разумению (В. 15). Касательно первого следует рассмотреть, во-первых, неверие в общем; во-вторых, ересь (В. 11); в-тре- тьих, отпадение от веры (В. 12).
(2) И касательно неверия в общем следует рассмотреть двенадцать [проблем]: 1) является ли неверие грехом; 2) в чем оно пребывает как в субъекте; 3) является ли оно величайшим грехом; 4) любое ли действие неверного есть грех; 5) каковы виды неверия; 6) как они соотносятся друг с другом; 7) следует ли спорить о вере с неверными; 8) можно ли принуждать их к вере; 9) следует ли общаться с ними; 10) может ли неверный предводительствовать
христианами; 11) следует ли терпеть обряды неверных; 12) следует ли крестить детей неверных без согласия их родителей.
Раздел 1 Является ли неверие грехом
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что неверие не является грехом.
(4) 1. В самом деле, любой грех — против природы, как явствует из слов Дамаскина. Но неверие, как представляется, не против природы, ведь Августин говорит, что для человека естественна способность обладать верой, равно как и способность обладать любовью, но само обладание верой и любовью происходит от благодати, дарованной верным. Следовательно, отсутствие веры, т. е. состояние неверия, не является грехом.
(5) 2. Кроме того, никто не грешит в том,
Quaestio 10
De fide quantum ad vitia opposita. Et primo de infidelitate in communi
(1) Consequenter considerandum est de vitiis oppositis.
Et pnmo, de infidelitate, quae opponitur fidei; secundo, de blasphemia, quae opponitur confessioni; tertio, de ignorantia et hebetudine, quae opponuntur scientiae et intellectui. Circa pnmum, considerandum est de infidelitate in communi, secundo, de haeresi, tertio, de apostasia a fide.
(2) Circa primum quaeruntur duodecim. Primo, utrum infidelitas sit peccatum. Secundo, in quo sit sicut in subiecto. Tertio, utrum sit maximum peccatorum. Quarto, utrum omnis actio infidelium sit peccatum. Quinto, de speciebus infidelitatis. Sexto, de comparatione earum ad invicem. Septimo, utrum cum infidelibus sit disputandum de fide. Octavo, utrum sint cogendi ad fidem. Nono, utrum sit eis communicandum. Decimo, utrum possint Christianis fidelibus praeesse. Undecimo, utrum ntus infidelium sint (5)
tolerandi. Duodecimo, utrum puen infidelium sint invitis parentibus baptizandi.
Articulus 1 Utrum infidelitas sit peccatum
(3) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod infidelitas non sit peccatum.
(4) 1. Omne enim peccatum est contra naturam, ut patet per Damascenum, in II libro. {De fide orth., 4; PG 94, 876; 30; PG 94, 976). Sed infidelitas non videtur esse contra naturam, dicit enim Augustinus, in libro De praed. sanet. (5; PL 44, 968), quod posse habere fidem, sicut posse habere caritatem, naturae est hominum, habere autem fidem, quemadmodum habere caritatem, gratiae est fidelium. Ergo non habere fidem, quod est infidelem esse, non est peccatum.
2. Praeterea, nullus peccat in eo quod vitare non potest,
Раздел 1. Является ли неверие грехом
115
чего не может избежать, поскольку любой грех доброволен. Но не в возможностях человека избежать неверия, поскольку избежать его может только тот, кто обладает верой, согласно сказанному (Рим 10, 14): Как веровать в Того, о Ком не слыхали ? Как слышать без проповедующего? Следовательно, как кажется, неверие не является грехом.
(6) 3. Кроме того, как сказано выше (Ч. II-I,
В. 84, Р. 4), есть семь главных грехов, к которым сводимы все остальные. Но ни один из них, как кажется, не включает неверие. Следовательно, неверие не является грехом.
(7) Но против: добродетели противоположен порок. Но вера является добродетелью, которой противоположно неверие. Следовательно, неверие есть грех.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что о неверии можно говорить в двух смыслах. Во-первых, сообразно чистому отрицанию, так что неверным называется тот, кто просто не имеет веры. Во-вторых, неверие может пониматься сообразно противодействию вере: постольку, поскольку некто отказывается слышать [истину] веры, или даже презирает ее, согласно этим словам (Ис 53, 1): Кто поверил слышанному от нас?
И именно в этом заключается собственное смысловое содержание неверия. И в этом смысле неверие есть грех.
(9) А если неверие рассматривается сообразно чистому отрицанию (так, как оно присутствует в людях, никогда не слыхавших о вере), то оно не обладает смысловым содержанием греха — речь идет скорее о наказании, поскольку такое неведение происходит из греха прародителей. И тот, кто является неверным в этом смысле, осуждается за другие грехи, которые не могут быть отпущены, если нет веры, но не за грех неверия. Поэтому и сказано (Ин 15, 22): Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; что Августин толкует так: Это сказано о том грехе, который происходит от неверия во Христа.
(ю) Итак, на первое надлежит ответить, что обладание верой не входит в природу человека; в природе человека — чтобы человеческий разум не противился внутреннему побуждению и внешнему возвещению ис^ тины. И именно в этом смысле неверие противоприродно.
(и) На второе надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу по отношению к тому неверию, которое подразумевает чистое отрицание.
quia omne peccatum est voluntanum Sed non est in infidelitatis. Et secundum hoc infidelitas est peccatum,
potestate hominis quod infidelitatem vitet, quam vitare (9) Si autem accipiatur infidelitas secundum negationem non potest nisi fidem habendo, dicit enim apostolus, ad puram, sicut in illis qui nihil audierunt de fide, non habet
Rom. X, quomodo credent ei quem non audierunt9Quomodo rationem peccati, sed magis poenae, quia talis ignorantia
autem audient sine praedicante? Ergo infidelitas non videtur divinorum ex peccato primi parentis est consecuta. Qui
esse peccatum. autem sic sunt infideles damnantur quidem propter alia
(6) 3. Praeterea, sicut supra dictum est, sunt septem vitia peccata, quae sine fide remitti non possunt, non autem
capitalia, ad quae omnia peccata reducuntur. Sub nullo damnantur propter infidelitatis peccatum. Unde dominus
autem horum videtur continen infidelitas. Ergo infidelitas dicit, Ioan. XV, si non venissem, et locutus eis non fuissem,
non est peccatum. peccatum non haberent, quod exponens Augustinus dicit
(7) Sed contra, virtuti contranatur vitium. Sed fides est virtus, (In Ioann. tr. 89, super 15, 22; PL 35, 1857) quod loquitur
cui contranatur infidelitas. Eigo infidelitas est peccatum. de illo peccato quo non crediderunt in Christum.
(8) Respondeo dicendum quod infidelitas dupliciter accipi (10) Ad primum ergo dicendum quod habere fidem non est potest. Uno modo, secundum puram negationem, ut di- in natura humana, sed in natura humana est ut mens ho-
catur infidelis ex hoc solo quod non habet fidem. Alio minis non repugnet intenon instinctui et extenon ventatis
modo potest intelligi infidelitas secundum contranetatem praedicationi. Unde infidelitas secundum hoc est contra
ad fidem, quia scilicet aliquis repugnat auditui fidei, vel naturam.
etiam contemnit ipsam, secundum illud Isaiae LIII, quis (11) Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit de infi- credidit auditui nostro? Et in hoc propne perficitur ratio delitate secundum quod importat simplicem negationem.
116
Вопрос 10. О неверии в общем
(12) На третье надлежит ответить, что неверие, сообразно тому, что оно является грехом, происходит из гордыни, в силу которой человек не желает подчинить свой разум правилам веры и здравым суждениям отцов. Поэтому Григорий и говорит, что предосудительные новации происходят из жажды пустой славы. Впрочем, можно сказать, что как теологические добродетели не сводятся к кардинальным, но предшествуют им, так и пороки, им противоположные, не сводятся к главным грехам.
Раздел 2
Действительно ли неверие пребывает в разуме как в субъекте
(13) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что неверие не пребывает в разуме как в субъекте.
(и) 1. В самом деле, всякий грех пребывает
в воле, как говорит Августин. Но неверие есть некий грех, как уже сказано (Р. 1). Следовательно, неверие пребывает в воле, а не в разуме.
(15) 2. Кроме того, неверие обладает смыс¬
ловым содержанием греха постольку, поскольку человек пренебрегает проповедью веры. Но пренебрежение относится к воле. Следовательно, неверие пребывает в воле.
(16) 3. Кроме того, глосса к этим словам
(2 Кор 11, 14), сам сатана принимает вид Ангела света, утверждает, что если злой ангел представляет себя благим, и его принимают за такового, то в этой ошибке нет опасности или вреда, если он делает или говорит то, что подобает благим ангелам. И причина этому — в правильности воли человека, который следует за ним, поскольку он намеревается следовать за благим ангелом. Следовательно, как представляется, весь грех неверия пребывает в воле. Следовательно, он не пребывает в разуме как в субъекте.
(17) Но против: противоположности пребывают в одном и том же субъекте. Но вера, которой противоположно неверие, пребывает в разуме как в субъекте. Следовательно, и неверие пребывает в разуме.
(18) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже установлено выше (Ч. II-I, В. 74, Р. 1,
2), грех находится в той способности, которая является началом действия греха. Но у действия греха может быть два начала. Первое — общее, которое управляет всеми действиями грехов; и этим началом является воля, поскольку любой грех доброволен. Но есть и другое начало действия греха, собственное и ближайшее, которое
(12) Ad tertium dicendum quod infidelitas secundum quod est peccatum, ontur ex superbia, ex qua contingit quod homo intellectum suum non vult subiicere regulis fidei et sano intellectui patrum. Unde Gregonus dicit, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), quod ex inani gloria oriuntur novitatum praesumptiones. Quamvis posset dici quod, sicut virtutes theologicae non reducuntur ad virtutes cardinales, sed sunt pnores eis; ita etiam vitia opposita virtutibus theologicis non reducuntur ad vitia capitalia.
Articulus 2
Utrum infidelitas sit in intellectu sicut in subiecto
(13) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod infidelitas non sit in intellectu sicut in subiecto.
(14) 1. Omne enim peccatum in voluntate est, ut Augustinus dicit (10; PL 42, 103; 2: PL 42, 105), in libro De duabus anim. Sed infidelitas est quoddam peccatum, ut dictum est. Ergo infidelitas est in voluntate, non in intellectu.
(15) 2. Praeterea, infidelitas habet rationem peccati ex eo
quod praedicatio fidei contemnitur. Sed contemptus ad voluntatem pertinet Ergo infidelitas est in voluntate.
(16) 3. Praeterea, II ad Cor. XI, super illud, ipse Satanas transfigurat se in Angelum lucis, dicit Glossa quod, si Angelus malus se bonum fingat, etiam si credatur bonus, non est error periculosus aut morbidus, si facit vel dicit quae bonis Angelis congruunt (Glossa Petri Lombardi; PL 192, 74). Cuius ratio esse videtur propter rectitudinem voluntatis eius qui ei inhaeret intendens bono Angelo adhaerere. Ergo totum peccatum infidelitatis esse videtur in perversa voluntate. Non ergo est in intellectu sicut in subiecto.
(17) Sed contra, contraria sunt in eodem subiecto. Sed fides, cui contrariatur infidelitas, est in intellectu sicut in subiecto. Ergo et infidelitas in intellectu est.
( 18) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, peccatum dicitur esse in illa potentia quae est pnncipium actus peccati. Actus autem peccati potest habere duplex principium. Unum quidem primum et universale, quod imperat omnes actus peccatorum, et hoc pnncipium est volun-
Раздел 3. Является ли неверие величайшим грехом
117
избирает греховное действие; так, вожделение является началом обжорства и похоти, и сообразно этому говорится, что обжорство и похоть пребывают в вожделеющей [части души]. Но несогласие, которое есть собственное действие неверия, есть действие разума, движимое, однако, волей (как и согласие). И потому неверие, как и вера, пребывает в разуме как в ближайшем субъекте, а в воле — как в первом движущем (и в этом смысле говорится, что всякий грех пребывает в воле).
(19) И из этого очевиден ответ на первое.
(20) На второе надлежит ответить, что пренебрежение воли причинно обусловливает несогласие разума, в котором и обретает совершенство смысловое содержание неверия. Поэтому причина неверия пребывает в воле, но само неверие — в разуме.
(21) На третье надлежит ответить, что тот, кто принимает злого ангела за благого, не отступает от веры, поскольку телесное чувство заблуждается, а ум не отклоняется от истинного и верного суждения, как там же утверждает глосса. Но если некто следует за Сатаной, когда тот начинает
склонять к своему, т. е. к дурному и ложному, то тогда он не избегает греха, как сказано там же.
Раздел 3
Является ли неверие величайшим грехом
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что неверие не является величайшим грехом.
(23) 1. В самом деле, Августин говорит (и его слова подтверждаются «Декреталиями») : Не решаюсь сказать, что худшего католика следует предпочесть еретику, в чьей жизни нет ничего предосудительного, кроме того, что он — еретик. Но еретик — неверный. Следовательно, нельзя однозначно утверждать, что неверие является величайшим грехом.
(24) 2. Кроме того, то, что уменьшает или извиняет грех, не может, судя по всему, быть величайшим грехом. Но неверие уменьшает или извиняет грех, согласно этим словам апостола (1 Тим 1, 13): Я, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Следовательно, неверие не является величайшим грехом.
tas, quia omne peccatum est voluntarium. Aliud autem principium actus peccati est proprium et proximum, quod elicit peccati actum, sicut concupiscibilis est pnncipium gulae et luxuriae, et secundum hoc gula et luxuria dicuntur esse in concupiscibili. Dissentire autem, qui est proprius actus infidelitatis, est actus intellectus, sed moti a voluntate, sicut et assentire. Et ideo infidelitas, sicut et fides, est quidem in intellectu sicut in proximo subiecto, in voluntate autem sicut in primo motivo. Et hoc modo dicitur omne peccatum esse in voluntate.
(19) Unde patet responsio ad primum.
(20) Ad secundum dicendum quod contemptus voluntatis causat dissensum intellectus, in quo perficitur ratio infidelitatis. Unde causa infidelitatis est in voluntate, sed ipsa infidelitas est in intellectu.
(21) Ad tertium dicendum quod ille qui credit malum Angelum esse bonum non dissentit ab eo quod est fidei, quia sensus corporis fallitur, mens vero non removetur a vera rec- taque sententia, ut ibidem dicit Glossa (Petri Lombardi
super 2 Cor 11, 14; PL 192, 74). Sed si aliquis Satanae adhaereret cum incipit ad sua ducere, idest ad mala et falsa, tunc non careret peccato, ut ibidem dicitur.
Articulus 3 Utrum sit maximum peccatorum
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod infidelitas non sit maximum peccatorum.
(23) 1. Dicit enim Augustinus (De bapt. contra donat. IV, 20; PL 43, 171), et habetur V, qu. I (Gratianus, Decretum, p.II, causaVI, q. 1, can. 21), utrum Catholicum pessimis moribus alicui haeretico in cuius vita, praeter id quod haereticus est, non inveniunt homines quod reprehendant, praeponere debeamus, non audeo praecipitare sententiam. Sed haereticus est infidelis. Ergo non est simpliciter dicendum quod infidelitas sit maximum peccatorum.
(24) 2. Praeterea, illud quod diminuit vel excusat peccatum non videtur esse maximum peccatum. Sed infidelitas excusat vel diminuit peccatum, dicit enim apostolus, I ad
118
Вопрос 10. О неверии в общем
(25) 3. Кроме того, за больший грех полагается большее наказание, согласно этим словам (Втор 25, 2): Бить при себе, смотря по вине его, по счету. Но согрешившим верным полагается большее наказание, чем неверным, согласно сказанному (Евр 10, 29): Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен? Следовательно, неверие не является величайшим грехом.
(26) Но против: Августин, комментируя эти слова (Ин 15, 22), если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, поясняет: Под общим именем греха Он подразумевает некий главный грех; и это тот грех, из которого происходят все прочие грехи, т. е. неверие. Следовательно, неверие является величайшим среди всех грехов.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что любой грех формально заключается в отвращении от Бога, как сказано выше (Ч. II-I, В. 71, Р. 6; Ч. II-I, В. 73, Р. 3). Поэтому грех тем тяжелее, чем больше человек отдаляется от Бога. Но из-за неверия человек максимально отдаляется от Бога, поскольку
не имеет истинного знания о Боге, а из-за ложного знания не столько приближается к Богу, сколько отдаляется от Него. И не может быть такого, чтобы тот, кто обладает ложным мнением о Боге, сущ- ностно познавал Его, поскольку то, о чем он имеет мнение, не является Богом. И потому ясно, что грех неверия больше любого другого греха, которые связаны с извращением нравов, хотя это не относится к грехам, которые противоположны другим теологическим добродетелям, как станет ясно из дальнейшего (В. 20, Р. 3; В. 34, Р. 2, на 2; В. 39, Р 2, на 3).
(28) Итак, на первое надлежит ответить, что ничто не препятствует тому, чтобы грех, более тяжелый по своему роду, был менее тяжелым при определенных обстоятельствах. И потому Августин не торопится выносить суждение о плохом католике и еретике, в котором кроме неверия нет греха — поскольку грех еретика, даже будучи более тяжелым по роду, может при определенных обстоятельствах стать более легким, а грех католика, наоборот, более тяжелым.
Tim. I, prius fui blasphemus et persecutor et contumeliosus, sed misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate. Ergo infidelitas non est maximum peccatum.
(25) 3 Praeterea, maiori peccato debetur maior poena, secundum illud Deut. XXV, pro mensura peccati erit et plagarum modus. Sed maior poena debetur fidelibus peccantibus quam infidelibus, secundum illud ad Heb. X, quanto magis putatis deteriora mereri supplicia qui filium Dei conculcaverit, et sanguinem testamenti pollutum duxerit, in quo sanctificatus est? Ergo infidelitas non est maximum peccatum.
(26) Sed contra est quod Augustinus dicit (In Ioan. tr. 89, super 15, 22; PL 35,1856), exponens illud Ioan. XV, si non venissem, et locutus eis non fuissem, peccatum non haberent, magnum, inquit, quoddam peccatum sub generali nomine vult intelligi. Hoc enim est peccatum, scilicet infidelitatis, quo tenentur cuncta peccata. Infidelitas ergo est maximum omnium peccatorum.
(27) Respondeo dicendum quod omne peccatum formaliter
consistit in aversione a Deo, ut supra dictum est. Unde tanto aliquod peccatum est gravius quanto per ipsum homo magis a Deo separatur. Per infidelitatem autem maxime homo a Deo elongatur, quia nec veram Dei cognitionem habet; per falsam autem cognitionem ipsius non appropinquat ei, sed magis ab eo elongatur. Nec potest esse quod quantum ad quid Deum cognoscat qui falsam opinionem de ipso habet, quia id quod ipse opinatur non est Deus. Unde manifestum est quod peccatum infidelitatis est maius omnibus peccatis quae contingunt in perversitate morum. Secus autem est de peccatis quae opponuntur aliis virtutibus theologicis, ut infra dicetur.
(28) Ad primum ergo dicendum quod mhil prohibet peccatum quod est gravius secundum suum genus esse minus grave secundum aliquas circumstantias. Et propter hoc Augustinus noluit praecipitare sententiam de malo Catholico et haeretico alias non peccante, quia peccatum haeretici, etsi sit gravius ex genere, potest tamen ex aliqua circumstantia alleviari; et e converso peccatum Catholici ex aliqua
Раздел 4. Действительно ли любое действие неверного является грехом
119
(29) На второе надлежит ответить, что к неверию присоединяется и неведение, и противодействие вере, и в этом отношении неверие обладает смысловым содержанием тягчайшего греха. А в том, что касается неведения, неверие может быть в некотором смысле извиняемо, особенно тогда, когда некто грешит не по злому умыслу, как апостол.
(30) На третье надлежит ответить, что неверный за грех неверия наказывается сильнее, чем другой грешник за любой другой грех (принимая во внимание род греха). Но при любом другом грехе (например, прелюбодеянии), если он совершается верным и неверным, при прочих равных более тяжко прегрешение верного. Во-первых, из-за того, что благодаря вере он знает истину, и, во-вторых, из-за того, что он посвящен в таинства веры, которые, греша, оскверняет.
Раздел 4
Действительно ли любое действие неверного является грехом
(31) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что любое действие неверных является грехом.
(32) 1. В самом деле, глосса к этим словам (Рим 14, 23), все, что не по вере, грех, утверждает, что вся жизнь неверного — грех. Но к жизни неверного относятся все его действия. Следовательно, любое действие неверного является грехом.
(33) 2. Кроме того, вера направляет намерение. Но благо может произойти только от правильного намерения. Следовательно, никакое действие неверного не является благим.
(34) 3. Кроме того, при разрушении предшествующего разрушается и последующее. Но действие веры предшествует действию всех добродетелей. Следовательно, поскольку в неверных отсутствует действие веры, они не могут совершать ничего благого, но грешат при любом своем действии.
(35) Но против: Корнелию, когда он еще был неверным, было сказано, что его милостыня принята Богом (Деян 10, 4). Следовательно, не всякое действие неверных является греховным, но некоторые из них благи.
(36) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже установлено выше (Ч. II-I, В. 85, Р. 2, 4), смертный грех устраняет освящающую благодать, но не полностью уничтожает природное благо. Поэтому, хотя неверие
circumstantia aggravari.
(29) Ad secundum dicendum quod infidelitas habet et ignorantiam adiunctam, et habet renisum ad ea quae sunt fidei, et ex hac parte habet rationem peccati gravissimi. Ex parte autem ignorantiae habet aliquam rationem excusationis, et maxime quando aliquis ex malitia non peccat, sicut fuit in apostolo.
(30) Ad tertium dicendum quod infidelis pro peccato infidelitatis gravius punitur quam alius peccator pro quocumque alio peccato, considerato peccati genere. Sed pro alio peccato, puta pro adulterio, si committatur a fideli et ab infideli, cetens panbus, gravius peccat fidelis quam infidelis, tum propter notitiam ventatis ex fide; tum etiam propter sacramenta fidei quibus est imbutus, quibus peccando contumeliam facit.
Articulus 4 Utrum omnis actio infidelium sit peccatum
(31) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod quaelibet actio infidelis sit peccatum.
(32) 1. Quia super illud Rom. XIV, omne quod non est ex fide peccatum est, dicit Glossa (Glossa Petri Lombardi super Rom. 14, 23; PL 191, 1520), omnis infidelium vita est peccatum. Sed ad vitam infidelium pertinet omne quod agunt. Ergo omnis actio infidelis est peccatum.
(33) 2. Praeterea, fides intentionem dirigit. Sed nullum bonum potest esse quod non est ex intentione recta. Ergo in infidelibus nulla actio potest esse bona.
(34) 3. Praeterea, corrupto priori, corrumpuntur posteriora. Sed actus fidei praecedit actus omnium virtutum. Ergo, cum in infidelibus non sit actus fidei, nullum bonum opus facere possunt, sed in omm actu suo peccant.
(35) Sed contra est quod Cornelio adhuc infideli existenti dictum est quod acceptae erant Deo eleemosynae eius. Ergo non omnis actio infidelis est peccatum, sed aliqua actio eius est bona.
(36) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, peccatum mortale tollit gratiam gratum facientem, non autem totaliter corrumpit bonum naturae. Unde, cum infideli-
120
Вопрос 10. О неверии в общем
является смертным грехом, а благодати неверные лишены, в них остается, тем не менее, некое природное благо. И потому очевидно, что неверные не могут совершать благие дела, происходящие от благодати, т. е. деяния-заслуги; тем не менее, благие дела, для которых достаточно блага природы, они могут так или иначе совершать. Поэтому не обязательно, чтобы они грешили в каждом своем действии, однако всякий раз, когда они действуют из неверия, они грешат. В самом деле, как обладающий верой может совершить некий — простительный или даже смертный — грех, который не соотносится с целью веры, так же и неверный может совершить некое благое действие, которое не соотносится с целью неверия.
(37) Итак, на первое надлежит ответить, что эти слова надлежит понимать либо в том смысле, что жизнь неверного не может быть без греха (поскольку грех нельзя устранить без веры), либо в том смысле, что все, что делается из неверия — грех. Поэтому там добавлено: Поскольку всякий живущий или действующий без веры, тяжко грешит.
(38) На второе надлежит ответить, что вера направляет намерение по отношению к предельной сверхъестественной цели.
А свет естественного разума может направлять намерение по отношению к некоему естественному благу.
(39) На третье надлежит ответить, что неверие не полностью уничтожает в неверных естественный разум так, чтобы они совсем не могли познавать никакую истину, благодаря которой можно совершать некие деяния, благие по роду. А о Корнелии надлежит знать, что он не был неверным, ведь в противном случае его действия не были бы приняты Богом, Которому без веры угодить невозможно; у него была скрытая вера, еще не выявленная евангельской истиной. И потому к нему был послан Петр — для полноценного наставления в вере.
Раздел 5 О видах неверия
(40) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что не существует многих видов неверия.
(41) 1. В самом деле, поскольку вера и неверие суть противоположности, надлежит, чтобы они относились к одному и тому же. Но формальным объектом веры является первая истина, от которой вера получает единство, при том, что в материальном
tas sit quoddam mortale peccatum, infideles quidem gratia carent, remanet tamen in eis aliquod bonum naturae. Unde manifestum est quod infideles non possunt operan opera bona quae sunt ex gratia, scilicet opera meritoria, tamen opera bona ad quae sufficit bonum naturae aliqualiter operan possunt. Unde non oportet quod in omni suo opere peccent, sed quandocumque aliquod opus operantur ex infidelitate, tunc peccant. Sicut enim habens fidem potest aliquod peccatum committere in actu quem non refert ad fidei finem, vel venialiter vel etiam mortaliter peccando; ita etiam infidelis potest aliquem actum bonum facere in eo quod non refert ad finem infidelitatis.
(37) Ad primum ergo dicendum quod verbum illud est in- telligendum vel quia vita infidelium non potest esse sine peccato, cum peccata sine fide non tollantur. Vel quia quidquid agunt ex infidelitate peccatum est. Unde ibi subditur, quia omnis infideliter vivens vel agens vehementer peccat (Glossa Petri Lombardi; PL 191, 1520).
(38) Ad secundum dicendum quod fides dirigit intentionem
respectu finis ultimi supematuralis. Sed lumen etiam naturalis rationis potest dirigere intentionem respectu alicuius boni connaturalis.
(39) Ad tertium dicendum quod per infidelitatem non corrumpitur totaliter in infidelibus ratio naturalis, quin remaneat in eis aliqua veri cognitio, per quam possunt facere aliquod opus de genere bonorum. De Cornelio tamen sciendum est quod infidelis non erat, alioquin eius operatio accepta non fuisset Deo, cui sine fide nullus potest placere. Habebat autem fidem implicitam, nondum manifestata Evangelii veritate. Unde ut eum in fide plene instrueret, mittitur ad eum Petrus.
Articulus 5 De speciebus infidelitatis
(40) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod non sint plures infidelitatis species.
(41) 1. Cum enim fides et infidelitas sint contraria, oportet quod sint circa idem. Sed formale obiectum fidei est ventas
Раздел 5. О видах неверия
121
отношении существует многое, во что верят. Следовательно, объектом неверия также является первая истина, а то, во что не верит неверный, является для неверия как бы материальным аспектом. Но отличие по виду обретается не через материальные, а через формальные начала. Следовательно, неверие не различается по виду сообразно различию того, в чем заблуждаются неверные.
(42) 2. Кроме того, отклониться от истины веры можно бесконечным числом способов. Если, следовательно, указывать различные виды неверия сообразно различию заблуждений, то, как кажется, число видов неверия должно быть бесконечным. И потому эти виды не стоит рассматривать.
(43) 3. Кроме того, одно и то же не обнаруживается в различных видах. Но бывает так, что некто является неверным из-за того, что ошибается в отношении различного. Следовательно, различие заблуждений не производит различие видов неверия. Следовательно, не существует многих видов неверия.
(44) Но против: каждой добродетели противоположно несколько видов пороков, поскольку, как явствует из слов Дионисия, благо случается одними способом, а зло —
многообразно; и то же явствует из слов Философа во II книге «Этики». Однако вера — это единая добродетель. Следовательно, ей противоположны несколько видов неверия.
(45) Отвечаю: надлежит сказать, что любая добродетель заключается в том, чтобы, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 55, Р. 4), соответствовать некоему правилу человеческого познания или действия. Но соответствие правилу имеется одним способом сообразно одной материи, а отклонение от него может быть многообразным. А различие пороков, противоположных одной добродетели, можно рассматривать двояко. Во- первых, сообразно различному отношению к добродетели. И сообразно этому виды пороков, противоположные добродетели, вполне определенны: один противоположен моральной добродетели как избыточность, а другой — как недостаточность. Во-вторых, различие пороков, противоположных одной добродетели, имеет место сообразно поврежденности чего-то такого, что требуется для добродетели. И в этом смысле одной добродетели, например умеренности или стойкости, противоположно бесконечное число пороков — сообразно тому, что различные обстоятельства добро-
prima, a qua habet unitatem, licet multa matenaliter credat. Ergo etiam obiectum infidelitatis est ventas prima, ea vero quae discredit infidelis matenaliter se habent in infidelitate. Sed differentia secundum speciem non attenditur secundum principia materialia, sed secundum principia formalia. Ergo infidelitatis non sunt diversae species secundum diversitatem eorum in quibus infideles enant.
(42) 2. Praeterea, infinitis modis potest aliquis a veritate fidei deviare. Si igitur secundum diversitates enorum diversae species infidelitatis assignentur, videtur sequi quod sint infinitae infidelitatis species. Et ita huiusmodi species non sunt considerandae.
(43) 3. Praeterea, idem non invenitur in diversis speciebus. Sed contingit aliquem esse infidelem ex eo quod enat circa diversa. Ergo diversitas enorum non facit diversas species infidelitatis. Sic igitur infidelitatis non sunt plures species.
(44) Sed contra est quod unicuique virtuti opponuntur plures species vitiorum, bonum enim contingit uno modo, malum
vero multipliciter, ut patet per Dionysium, IV cap. De div. nom. (4, 31; PG 3, 732), et per philosophum, in II Ethic. (6 n. 14; BK 110b35) Sed fides est una virtus. Ergo ei opponuntur plures infidelitatis species.
(45) Respondeo dicendum quod quaelibet virtus consistit in hoc quod attingat regulam aliquam cognitionis vel operationis humanae, ut supra dictum est (II-I, q 55, a. 4). Attingere autem regulam est uno modo circa unam materiam, sed a regula deviare contingit multipliciter. Et ideo uni virtuti multa vitia opponuntur. Diversitas autem vitiorum quae unicuique virtuti opponitur potest consideran dupliciter. Uno modo, secundum diversam habitudinem ad virtutem. Et secundum hoc determinatae sunt quaedam species vitiorum quae opponuntur virtuti, sicut virtuti morali opponitur unum vitium secundum excessum ad virtutem, et aliud vitium secundum defectum a virtute. Alio modo potest considerari diversitas vitiorum oppositorum uni virtuti secundum corruptionem diversorum quae ad virtutem requiruntur. Et secundum hoc uni virtuti, pu-
122
Вопрос 10. О неверии в общем
детели повреждаются1 бесконечным числом способов, таким образом, что происходит отклонение от правильности добродетели. Потому-то пифагорейцы и говорили, что зло бесконечно.
(46) Итак, надлежит сказать, что если неверие рассматривается в сравнении с верой, то существуют разные виды неверия, определенные по числу. В самом деле, поскольку грех неверия заключается в сопротивлении вере, это может происходить двумя способами. Ведь сопротивляются либо еще не принятой вере (и таково неверие язычников, или идолопоклонников), либо уже принятой — или в отношении формы (таково неверие иудеев), или в отношении явления истины (и таково неверие еретиков). Таким образом, в общем можно указать три названные вида неверия. А если виды неверия различать сообразно заблуждениям в вероучении, то тогда число видов невозможно определить, поскольку эти заблуждения могут умножаться до бесконечности, как явствует из слов Августина.
(47) Итак, на первое надлежит ответить, что о формальном смысловом содержании некоего греха можно говорить в двух смыслах. Во-первых, сообразно намерению грешника — и тогда формальным объектам
греха является то, на что оно обращено; и виды греха различаются сообразно таковому. Во-вторых, сообразно смысловому содержанию зла — и тогда формальным объектом греха является благо, от которого отклоняется грешник; но сообразно таковому виды греха не различаются, поскольку здесь речь идет о нехватке вида. Итак, следовательно, надлежит сказать, что объектом неверия является первая истина — как то, от чего отклоняется неверующий; но формальным объектом неверия является — как то, к чему он обращается — некая ложная идея, которой он следует; и вид неверия определяется сообразно таковому. Поэтому как любовь-каритас, которая стремится к высшему благу, является единой, но при этом существуют различные противоположные ей пороки, которые отклоняются от высшего блага постольку, поскольку стремятся к благам временным, а также постольку, поскольку обращаются к Богу неупорядоченным образом, так и вера является единой добродетелью, постольку, поскольку устремляется к первой истине, а видов неверия существует множество потому, что неверные следуют различным ложным идеям.
ta temperantiae vel fortitudini, opponuntur infinita vitia, secundum quod infinitis modis contingit diversas circumstantias virtutis corrumpi, ut a rectitudine virtutis recedatur. Unde et Pythagorici malum posuerunt infinitum.
(46) Sic ergo dicendum est quod, si infidelitas attendatur secundum comparationem ad fidem, diversae sunt infidelitatis species et numero determinatae. Cum emm peccatum infidelitatis consistat in renitendo fidei, hoc potest contingere dupliciter. Quia aut renititur fidei nondum susceptae, et talis est infidelitas Paganorum sive gentilium. Aut renititur fidei Christianae susceptae, vel in figura, et sic est infidelitas Iudaeorum; vel in ipsa manifestatione veritatis, et sic est infidelitas haereticorum. Unde in generali possunt assignari tres praedictae species infidelitatis. Si vero distinguantur infidelitatis species secundum errorem in diversis quae ad fidem pertinent, sic non sunt determinatae infidelitatis species, possunt enim errores in infinitum multiplicari, ut patet per Augustinum, in libro De haeresibus (88; PL 42, 50)
(47) Ad primum ergo dicendum quod formalis ratio alicuius peccati potest accipi dupliciter. Uno modo, secundum intentionem peccantis, et sic id ad quod convertitur peccans est formale obiectum peccati; et ex hoc diversificantur eius species. Alio modo, secundum rationem mali, et sic illud bonum a quo receditur est formale obiectum peccati; sed ex hac parte peccatum non habet speciem, immo privatio est speciei. Sic igitur dicendum est quod infidelitatis obiectum est ventas prima sicut a qua recedit, sed formale eius obiectum sicut ad quod convertitur est sententia falsa quam sequitur; et ex hac parte eius species diversificantur. Unde sicut caritas est una, quae inhaeret summo bono, sunt autem diversa vitia caritati opposita, quae per conversionem ad diversa bona temporalia recedunt ab uno summo bono, et iterum secundum diversas habitudines inordinatas ad Deum; ita etiam fides est una virtus, ex hoc quod adhaeret uni primae veritati; sed infidelitatis species sunt multae, ex hoc quod infideles diversas falsas sententias sequuntur.
Раздел 6. О сравнении видов неверия между собой
123
(48) На второе надлежит ответить, что это возражение имеет силу по отношению к различию видов неверия сообразно различным аспектам вероучения, применительно к которым имеет место заблуждение.
(49) На третье надлежит ответить, что как вера является единой постольку, поскольку верят во многое, обладающее порядком по отношению к одному, точно так же может быть единым и неверие, даже если заблуждаются во многом — когда это многое обладает порядком по отношению к одному. Впрочем, ничто не препятствует тому, чтобы один и тот же человек заблуждался различными видами заблуждения — точно так же, как один человек может быть подвержен различным порокам и различным телесным болезням.
Раздел 6
О сравнении видов неверия между собой
(50) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что неверие язычников, или идолопоклонников, является тягчайшим.
(51) 1. В самом деле, как из телесных болезней тяжелее та, которая поражает более важный для общего здоровья орган, так
(48) Ad secundum dicendum quod obiectio illa procedit de distinctione specierum infidelitatis secundum diversa in quibus erratur.
(49) Ad tertium dicendum quod sicut fides est una quia multa credit in ordine ad unum, ita infidelitas potest esse una, etiam si in multis erret, inquantum omnia habent ordinem ad unum. Nihil tamen prohibet hominem diversis infidelitatis speciebus errare, sicut etiam potest unus homo diversis vitiis subiacere et diversis corporalibus morbis.
Articulus 6 De comparatione earum ad invicem
(50) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod infidelitas gentilium sive Paganorum sit gravior cetens.
и более тяжким грехом, как кажется, является тот, который поражает то, что наиболее значимо для добродетели. Но для веры главным является вера в единство Бога, которая чужда язычникам, верящим во множественность богов. Следовательно, неверие язычников является наихудшим.
(52) 2. Кроме того, среди ересей отвратительнее та, которая противоречит наибольшему числу важнейших истин веры (так, например, ересь Ария, который разделил Божество, хуже ереси Нестория, который отделил человечность Христа от лица Сына Божия). Но язычники отклоняются от веры в большем числе важных [вещей], чем иудеи и еретики, поскольку не принимают ничего из веры. Следовательно, их неверие является тягчайшим.
(53) 3. Кроме того, любое благо уменьшает зло. Но в иудеях имеется некое благо, поскольку они признают, что Ветхий Завет — от Бога. Также благо есть и в еретиках, ибо они почитают Новый Завет. Следовательно, они грешат меньше, чем язычники, которые отвергают оба Завета.
(51) 1. Sicut enim corporalis morbus tanto est gravior quanto saluti principalioris membri contrariatur, ita peccatum tanto videtur esse gravius quanto contrariatur ei quod est principalius in virtute. Sed principalius in fide est fides unitatis divinae, a qua deficiunt gentiles, multitudinem deorum credentes. Ergo eorum infidelitas est gravissima.
(52) 2. Praeterea, inter haereticos tanto haeresis aliquorum detestabilior est quanto in pluribus et principalioribus veritati fidei contradicunt, sicut haeresis Arii, qui separavit divinitatem, detestabilior fuit quam haeresis Nestorii, qui separavit humanitatem Chnsti a persona filii Dei. Sed gentiles in pluribus et principalioribus recedunt a fide quam Iudaei et haeretici, quia omnino nihil de fide recipiunt. Ergo eorum infidelitas est gravissima.
(53) 3. Praeterea, omne bonum est diminutivum mali. Sed aliquod bonum est in Iudaeis, quia confitentur vetus testamentum esse a Deo. Bonum etiam est in haereticis, quia venerantur novum testamentum. Ergo minus peccant quam gentiles, qui utrumque testamentum detestantur.
124
Вопрос 10. О неверии в общем
(54) Но против: сказано (2 Петр 2, 21): Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Однако язычники не знают путей правды, а еретики и иудеи, познав, отступили от них в том или ином отношении. Следовательно, их грех более тяжкий.
(55) Отвечаю: надлежит сказать, что в неверии, как сказано выше (Р. 5), можно различить две [вещи]. Одна из них — его отношение к вере. И в этом аспекте, более тяжко грешит против веры тот, кто сопротивляется уже принятой вере, чем тот, кто сопротивляется вере еще не принятой — точно так же более тяжко грешит тот, кто не исполнил обещанного, чем тот, кто не исполнил того, что не обещал. И согласно этому неверие еретиков, которые приняли веру Евангелия, а затем стали сопротивляться ей, повреждая ее, более тяжко, чем неверие иудеев, которые никогда не принимали Евангелия. Но поскольку они приняли его образ в Ветхом Завете, и повредили этот образ неверным истолкованием, то их неверие тяжелее, чем неверие язычников, которые ни в каком смысле не принимали евангельской веры.
(56) А второе, что можно различить в неверии — это повреждение того, что относится к вере. И сообразно этому, поскольку язычники заблуждаются в большем числе [вещей], чем иудеи, а иудеи — в большем, чем еретики, неверие язычников более тяжко, чем неверие иудеев, а неверие иудеев — чем неверие еретиков (за исключением тех, кто, как, например, манихеи, заблуждаются в отношении веры даже больше, чем язычники). Но из этих двух [вещей, которые различают в неверии], первая тяжелее второй, насколько речь идет о смысловом содержании вины. Ведь, как уже сказано выше (Р. 1), неверие получает смысловое содержание вины скорее от того, что сопротивляется вере, нежели от того, что не обладает тем, чем обладает вера (ведь, как сказано там же, это относится больше к смысловому содержанию наказания). Поэтому, строго говоря, неверие еретиков является наихудшим.
(57) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 7
Надлежит ли спорить с неверными о вере
(58) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что не следует пуб-
(54) Sed contra est quod dicitur II Pet. II, melius erat illis non cognoscere viam iustitiae quam post cognitam retrorsum converti. Sed gentiles non cognoverunt viam iustitiae, haeretici autem et Iudaei aliqualiter cognoscentes deseruerunt. Ergo eorum peccatum est gravius.
(55) Respondeo dicendum quod in infidelitate, sicut dictum est (a. 5), duo possunt considerari. Quorum unum est comparatio eius ad fidem. Et ex hac parte aliquis gravius contra fidem peccat qui fidei renititur quam suscepit quam qui renititur fidei nondum susceptae, sicut gravius peccat qui non implet quod promisit quam si non impleat quod nunquam promisit. Et secundum hoc infidelitas haereticorum, qui profitentur fidem Evangelii et ei renituntur corrumpentes ipsam, gravius peccant quam Iudaei, qui fidem Evangelii nunquam susceperunt. Sed quia susceperunt eius figuram in veteri lege, quam male interpretantes corrumpunt, ideo etiam ipsorum infidelitas est gravius peccatum quam infidelitas gentilium, qui nullo modo fidem Evangelii susceperunt.
(56) Aliud quod in infidelitate consideratur est corruptio eorum quae ad fidem pertinent. Et secundum hoc, cum in pluribus errent gentiles quam Iudaei, et Iudaei quam haeretici, gravior est infidelitas gentilium quam Iudaeo- rum, et Iudaeorum quam haereticorum, nisi forte quorun- dam, puta Manichaeorum, qui etiam circa credibilia plus errant quam gentiles. Harum tamen duarum gravitatum prima praeponderat secundae quantum ad rationem culpae. Quia infidelitas habet rationem culpae, ut supra dictum est (a. 1), magis ex hoc quod renititur fidei quam ex hoc quod non habet ea quae fidei sunt, hoc enim videtur, ut dictum est, magis ad rationem poenae pertinere. Unde, simpliciter loquendo, infidelitas haereticorum est pessima.
(57) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 7 Utrum cum infidelibus sit disputandum de fide
(58) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod non sit cum
Раздел 7. Надлежит ли спорить с неверными о вере
125
лично спорить с неверными о вере. (62) Но против: сказано (Деян 9, 22-29):
(59) 1. В самом деле, апостол говорит Савл более и более укреплялся и приводил
(2 Тим 2, 14): [Сие напоминай, заклиная пред в замешательство Иудеев... говорил также
Господом] не вступать в словопрения, что и состязался с Еллинистами.
нимало не служит к пользе, а к расстрой- (63) Отвечаю: надлежит сказать, что в дис-
ству слушающих. Но публичная полемика с неверными не может происходить без словопрения. Следовательно, нельзя публично спорить о вере с неверными.
(60) 2. Кроме того, закон императора Мар- киана, подтвержденный канонами, гласит, что оскорбление нанесет постановлениям благочестивейшего Собора тот, кто посмеет публично обсуждать и оспаривать то, что было единожды определено и должным образом установлено. Но все, что относится к вере, определено священными Соборами. Следовательно, тяжко согрешит тот, кто посмеет публично обсуждать то, что относится к вере.
(61) 3. Кроме того, спор ведется при помощи неких аргументов. Но аргумент есть расуждение, придающее достоверность сомнительной вещи. Но то, что относится к вере, будучи самым достоверным, не может подвергаться сомнению. Следовательно, нельзя публично спорить о том, что относится к вере.
путах о вере надлежит различать две [вещи]: одну — со стороны спорящего, другую — со стороны слушающих. И если говорить о спорящем, то следует принять во внимание его намерение. В самом деле, если он, споря, сомневается в вере, и не предполагает заранее, что истина веры несомненна, но стремится оперировать аргументами, то он очевидным образом грешит, как сомневающийся в вере и неверный. Но если некто спорит о вере ради опровержения заблуждений или ради упражнения [в вере], то это похвально. А со стороны слушающих надлежит принять во внимание, являются ли те, кто присутствует при споре, наставленными и твердыми в вере, или же они — колеблющиеся в вере простецы. И нет никакой опасности в споре о вере перед лицом мудрых и твердых в ней. А если речь идет о простецах, то необходимо провести различие. В самом деле, может быть так, что на простецов оказывают влияние и давление неверные (например, иудеи, еретики или язычники)
infidelibus publice disputandum.
(59) 1. Dicit enim apostolus, II ad Tim. II, noli verbis contendere, ad nihilum enim utile est nisi ad subversionem audientium. Sed disputatio publica cum infidelibus fieri non potest sine contentione verborum. Ergo non est publice disputandum cum infidelibus.
(60) 2 Praeterea, lex Marciani Augusti (Edictum Valentini et Marciani; MA, VI, 475), per canones confirmata (Codex 1 tit. 1, leg. 4; KR, II 6a), sic dicit, iniuriam facit iudicio religiosissimae synodi, si quis semel iudicata ac recte disposita revolvere et publice disputare contendit. Sed omnia quae ad fidem pertinent sunt per sacra Concilia determinata. Ergo graviter peccat, iniunam synodo faciens, si quis de his quae sunt fidei publice disputare praesumat.
(61) 3. Praeterea, disputatio argumentis aliquibus agitur. Sed argumentum est ratio rei dubiae faciens fidem. Ea autem quae sunt fidei, cum sint certissima, non sunt in dubitationem adducenda. Ergo de his quae sunt fidei non est publice disputandum.
(62) Sed contra est quod Act. IX dicitur quod Saulus invalescebat et confundebat Iudaeos; et quod loquebatur gentibus et disputabat cum Graecis.
(63) Respondeo dicendum quod in disputatione fidei duo sunt consideranda, unum quidem ex parte disputantis; aliud autem ex parte audientium. Ex parte quidem disputantis est consideranda intentio. Si enim disputet tanquam de fide dubitans, et veritatem fidei pro certo non supponens, sed argumentis experiri intendens, procul dubio peccat, tanquam dubius in fide et infidelis. Si autem disputet aliquis de fide ad confutandum errores, vel etiam ad exercitium, laudabile est. Ex parte vero audientium considerandum est utrum illi qui disputationem audiunt sint instructi et firmi in fide, aut simplices et in fide titubantes. Et coram quidem sapientibus in fide firmis nullum periculum est disputare de fide. Sed circa simplices est distinguendum. Quia aut sunt sollicitati sive pulsati ab infidelibus, puta Iudaeis vel haereticis sive Paganis, nitentibus corrumpere in eis fidem, aut omnino non sunt sollicitati super hoc, sicut in
126
Вопрос 10. О неверии в общем
с целью разрушить их веру, а может быть так, что на них никто не влияет (например, в странах, где нет неверных). И в первом случае необходимо публично спорить о вере, если найдутся те, кто должным образом подготовлен для опровержения заблуждений. В самом деле, именно так укрепляются в вере простецы, и устраняется возможность обмана со стороны неверных; и, равным образом, само молчание тех, кто должен сопротивляться извратителям веры, способствует укоренению заблуждений. Поэтому Григорий и говорит, что как неосторожное слово ведет к заблуждению, так и безразличное молчание оставляет в заблуждении тех, кто мог бы быть наставлен [в вере]. Во втором же случае публично спорить о вере в присутствии простецов опасно, поскольку их вера тверда в связи с тем, что они не слышали ничего отличного от того, во что веруют. И потому им вредно слышать слова, с которыми неверные выступают против веры.
(64) Итак, на первое надлежит ответить, что апостол запрещал не любые диспуты, но лишь беспорядочные — те, в которых главным является словопрение, а не надежность суждений.
(65) На второе надлежит ответить, что этот закон запрещает те публичные споры о вере, которые возникают из-за сомнения в вере, а не те, которые служат для ее сохранения.
(66) На третье надлежит ответить, что не следует спорить о том, что относится к вере, как бы сомневаясь в таковом, но можно спорить ради выявления истины и опровержения заблуждений. В самом деле, ради утверждения веры иногда необходимо спорить с неверными, либо защищая веру (согласно этим словам (1 Петр 3, 15): Будьте всегда готовы ответить всякому, требующему у вас отчета о том, что есть в вас благодаря надежде и вере2), либо опровергая заблуждающихся (согласно этим словам (Тим 1, 9): Чтобы [епископ] был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать).
Раздел 8
Следует ли принуждать неверных к вере
(67) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что неверных никоим образом не следует принуждать к вере.
terris in quibus non sunt infideles. In pnmo casu necessarium est publice disputare de fide, dummodo inveniantur aliqui ad hoc sufficientes et idonei, qui errores confutare possint. Per hoc enim simplices in fide firmabuntur; et tolletur infidelibus decipiendi facultas; et ipsa taciturnitas eorum qui resistere deberent pervertentibus fidei ventatem esset erroris confirmatio. Unde Gregonus, in II Pastoral. (4; PL 77, 30), sicut incauta locutio in errorem pertrahit, ita indiscretum silentium eos qui erudiri poterant in errore derelinquit. In secundo vero casu periculosum est publice disputare de fide coram simplicibus; quorum fides ex hoc est firmior quod nihil diversum audierunt ab eo quod credunt. Et ideo non expedit eis ut verba infidelium audiant disceptantium contra fidem.
(64) Ad primum ergo dicendum quod apostolus non prohibet totaliter disputationem, sed inordinatam, quae magis fit contentione verborum quam firmitate sententiarum.
(65) Ad secundum dicendum quod lex illa prohibet publicam disputationem de fide quae procedit ex dubitatione fidei, non autem illam quae est ad fidei conservationem.
(66) Ad tertium dicendum quod non debet disputan de his quae sunt fidei quasi de eis dubitando, sed propter veritatem manifestandam et errores confutandos. Oportet enim ad fidei confirmationem aliquando cum infidelibus disputare, quandoque quidem defendendo fidem, secundum illud I Pet. III, parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quae est in vobis spe et fide; quandoque autem ad convincendos errantes, secundum illud ad Tït. I, ut sit potens exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere.
Articulus 8 Utrum sint cogendi ad fidem
(67) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod infideles nullo modo compellendi sint ad fidem.
Раздел 8. Следует ли принуждать неверных к вере
127
(68) 1. В самом деле, Писание рассказывает (Мф 13, 28-29) о том, как рабы домовла- дыки, на поле которого были посеяны плевелы, спросили его: Хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. И потому Златоуст говорит: Этими словами Господь запретил убийство. Неправильно убивать еретиков, ведь, убивая их, можно лишить жизни и многих святых. Следовательно, как представляется, на том же основании неверных нельзя принуждать к вере.
(69) 2. Кроме того, в «Декреталиях» сказано: Священный Собор предписывает, чтобы в будущем никто из иудеев не принуждался к вере при помощи силы. Следовательно, на том же основании, к вере нельзя принуждать и других неверных.
(70) 3. Кроме того, Августин утверждает, что все остальное человек может делать против своей воли, но верить он может только по собственному волеизъявлению. Однако волю принудить нельзя. Следовательно, как представляется, неверных не стоит принуждать к вере.
(71) 4. Кроме того, сказано от лица Бо¬
га (Иез 33, 11), не хочу смерти грешника. Но мы должны сообразовывать свою во¬
лю с божественной, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 19, Р. 9, 10). Следовательно, мы не должны желать смерти неверным.
(72) Но против: сказано (Лук 14, 23): Пойди по дорогам и изгородям и заставь придти, чтобы наполнился дом мой. Но люди входят в дом Божий, то есть в Церковь, через веру. Следовательно, некоторых стоит принуждать к вере.
(73) Отвечаю: надлежит сказать, что среди неверных есть те, кто никогда не принимал веру, то есть язычники и иудеи. И таковых никоим образом нельзя принудить к вере, к тому, чтобы они поверили, поскольку верование относится к воле. Но неверные могут быть принуждаемы верными, если есть на то возможности, к тому, чтобы они не препятствовали вере либо богохульством, либо дурными убеждениями, либо открытыми преследованиями. И потому верные Христу часто ведут войны с неверными — не для того, чтобы принудить их к вере (ведь даже если победить их и захватить в плен, они все равно останутся свободными в том, что касается желания верить), но для того, чтобы принудить их к отказу от препятствования вере Христовой.
(68) 1. Dicitur enim Matth. XIII quod servi patnsfamilias in cuius agro erant zizania seminata quaesierunt ab eo, vis imus et colligimus ea? Et ipse respondit, non, ne forte, colligentes zizania, eradicetis simul cum eis triticum. Ubi dicit Chrysostomus (In Matth. 46; PG 58, 447), haec dixit dominus prohibens occisiones fieri. Nec enim oportet interficere haereticos, quia si eos occideritis, necesse est multos sanctorum simul subverti. Ergo videtur quod pari ratione nec aliqui infideles sint ad fidem cogendi.
(69) 2. Praeterea, in Decretis, dist. XLV (Gratianus, Decretum, p. 1, d. 45, c. 5 De judaeis), sic dicitur, de Iudaeis praecepit sancta synodus nemini deinceps ad credendum vim inferre Ergo pari ratione nec alii infideles sunt ad fidem cogendi.
(70) 3. Praeterea, Augustinus dicit (In Ioann. tr. 26, super 6, 44, PL 35, 1607) quod cetera potest homo nolens, credere nonnisi volens. Sed voluntas cogi non potest. Ergo videtur quod infideles non sint ad fidem cogendi.
(71) 4. Praeterea, Ezech. XVIII dicitur ex persona Dei, nolo
mortem peccatoris. Sed nos debemus voluntatem nostram conformare divinae, ut supra dictum est (II-I, q. 19, a. 9, 10). Ergo etiam nos non debemus velle quod infideles occidantur
(72) Sed contra est quod dicitur Luc. XIV, exi in vias et saepes et compelle intrare, ut impleatur domus mea. Sed homines in domum Dei, idest in Ecclesiam, intrant per fidem. Ergo aliqui sunt compellendi ad fidem.
(73) Respondeo dicendum quod infidelium quidam sunt qui nunquam susceperunt fidem, sicut gentiles et Iudaei Et tales nullo modo sunt ad fidem compellendi, ut ipsi credant, quia credere voluntatis est. Sunt tamen compellendi a fidelibus, si facultas adsit, ut fidem non impediant vel blas- phemiis, vel malis persuasionibus, vel etiam apertis persecutionibus Et propter hoc fideles Chnsti frequenter contra infideles bellum movent, non quidem ut eos ad credendum cogant (quia si etiam eos vicissent et captivos haberent, in eorum libertate relinquerent an credere vellent), sed propter hoc ut eos compellant ne fidem Chnsti impediant.
128
Вопрос 10. О неверии в общем
(74) И есть другие неверные, которые некогда приняли веру и исповедовали ее, т. е. еретики и разного рода отступники. И таковых следует принуждать, даже телесно, к исполнению того, что они обещали, и к тому, чтобы они держались того, что некогда приняли.
(75) Итак, на первое надлежит ответить, что это авторитетное высказывание некоторые толковали в том смысле, что запрещается убийство, но не отлучение еретиков (как явствует и из приведенных слов Златоуста). И Августин в послании к Винцентию говорит о себе: Таково изначально было и мое мнение, что никого не следует принуждать к союзу с Христом, что мы должны действовать словом и бороться при помощи диспутов. Однако теперь это мое мнение опровергнуто, причем не аргументами оппонентов, но убедительными примерами. В самом деле, страх перед законом оказался столь полезным, что многие говорят: «Благодарение Господу, Который разорвал наши путы». Поэтому смысл слов господина: Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, надлежит понимать в свете сказанного ранее: Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. И потому, как говорит Августин, здесь имеется в виду, что
когда этого не стоит опасаться, то есть, когда преступление настолько очевидно и настолько нетерпимо, что у него нет защитников, по крайней мере, таких, кто может учинить схизму, не следует смягчать строгости наказания.
(76) На второе надлежит ответить, что иудеи, если они никоим образом не восприняли веру, не должны быть принуждаемы к ней. Но если они приняли ее, то их необходимо принуждать к ее исповеданию, как сказано в той же главе.
(77) На третье надлежит ответить, что хотя клятву дают добровольно, следовать ей затем необходимо; и точно так же принятие веры является добровольным, а сохранение принятой веры — обязательным. И потому еретиков следует принуждать к сохранению веры. В самом деле, Августин говорит в послании к комиту Бонифацию: Что хотят сказать те, кто беспрестанно восклицает: «Мы свободны верить или не верить; кого понуждал Христос?». Пусть вспомнят, что Павла Христос сперва принудил, а уже после научил.
(78) На четвертое надлежит ответить словами Августина из того же послания: Никто из наших не желает смерти еретика. Но дом Давида не знал мира, пока его сын Авессалом
(74) Alii vero sunt infideles qui quandoque fidem susceperunt et eam profitentur, sicut haeretici vel quicumque apostatae Et tales sunt etiam corporaliter compellendi ut impleant quod promiserunt et teneant quod semel susceperunt.
(75) Ad primum ergo dicendum quod per illam auctoritatem quidam intellexerunt esse prohibitam non quidem excommunicationem haereticorum, sed eorum occisionem, ut patet per auctoritatem Chrysostomi inductam. Et Augustinus, ad Vincentium (Epistola 93, 5; PL 33, 239), de se dicit, haec primitus mea sententia erat, neminem ad unitatem Christi esse cogendum, verbo esse agendum, disputatione pugnandum. Sed haec opinio mea non contradicentium verbis, sed demonstrantium superatur exemplis. Legum enim terror ita profuit ut multi dicant, gratias domino, qui vincula nostra dirupit. Quod ergo dominus dicit, sinite utraque crescere usque ad messem, qualiter intelligendum sit apparet ex hoc quod subditur, ne forte, colligentes zizania, eradicetis simul cum eis et triticum. Ubi satis ostendit, sicut Augustinus
dicit (Contra Epist. Farmen., III, 2; PL 43, 92), cum metus iste non subest, idest quando ita cuiusque crimen notum est et omnibus execrabile apparet ut vel nullos prorsus, vel non tales habeat defensores per quos possit schisma contingere, non dormiat severitas disciplinae.
(76) Ad secundum dicendum quod Iudaei, si nullo modo susceperunt fidem, non sunt cogendi ad fidem. Si autem susceperunt fidem, oportet ut fidem necessitate cogantur retinere, sicut in eodem capitulo dicitur.
(77) Ad tertium dicendum quod, sicut vovere est voluntatis, reddere autem est necessitatis, ita accipere fidem est voluntatis, sed tenere iam acceptam est necessitatis. Et ideo haeretici sunt compellendi ut fidem teneant. Dicit enim Augustinus, ad Bonifacium comitem (Epist. 185, 6; PL 33, 803), ubi est quod isti clamare consueverunt, liberum est credere vel non credere, cui vim Christus intulit? Agnoscant in Paulo prius cogentem Christum et postea docentem.
(78) Ad quartum dicendum quod, sicut in eadem epistola Augustinus dicit (ibid; PL 33, 807), nullus nostrum vult
Раздел 9. Можно ли пребывать в общении с неверными
129
не был убит на войне, которую начал против собственного отца. Так и католическая Церковь: ес/ш зя счет гибели некоторых она собирает всех прочих, то ее материнская скорбь исцеляется благодаря освобождению столь многих народов.
Раздел 9 Можно ли пребывать в общении с неверными
(79) Ход рассуждения в девятом разделе таков. Представляется, что можно пребывать в общении с неверными.
(go) 1. В самом деле, сказано (1 Кор 10, 27): Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования. И Златоуст говорит: Если вы хотите идти на трапезу к язычникам, то это дозволяется без каких-либо оговорок. Но посещение чьей- либо трапезы и есть общение с ним. Следовательно, можно пребывать в общении с неверными.
(81) 2. Кроме того, апостол говорит (1 Кор 5,
12): Ибо что мне судить и внешних? Но «внешние» — это неверные. Итак, когда Церковь своим решением запрещает верным находиться в общении с определенными людьми, она, как представляется,
не запрещает верным общаться с неверными.
(82) 3. Кроме того, господин не может пользоваться услугами слуги, если не общается с ним, по меньшей мере, при помощи слов, ибо слугой движет повеление господина. Но христианам разрешается иметь слуг из числа неверных — иудеев, язычников или сарацин. Следовательно, они могут находиться в общении с ними.
(83) Но против: сказано (Втор 7, 2-3): Не вступай с ними в союз и не щади их; и не вступай с ними в родство. И глосса к этим словам (Лев 15, 19), Если женщина имеет истечение крови и т.д., утверждает: Так надлежит избегать идолопоклонства: чтобы не соприкасаться с идолопоклонниками и их учениками, и не иметь с ними ничего общего.
(84) Отвечаю: надлежит сказать, что общение с неким лицом может быть запрещено, во-первых, для наказания того, с кем запрещается общаться; во-вторых, ради безопасности тех, кому запрещается общаться. Причины и первого, и второго очевидны из слов апостола. Ведь объявив об отлучении, он объясняет его причину: Разве не знаете, что малая закваска квасит все
aliquem haereticum perire. Sed aliter non meruit habere pacem domus David, nisi Absalom filius eius in bello quod contra patrem gerebat fuisset extinctus. Sic Ecclesia Catholica, si aliquorum perditione ceteros colligit, dolorem materni sanat cordis tantorum liberatione populorum.
Articulus 9 Utram sit eis communicandum
(79) Ad nonum sic proceditur. Videtur quod cum infidelibus possit communicari.
(80) 1. Dicit enim apostolus, I ad Cor. X, si quis vocat vos infidelium ad coenam, et vultis ire, omne quod vobis apponitur manducate. Et Chrysostomus dicit, ad mensam Paganorum si volueris ire, sine ulla prohibitione permittimus (cf. Gratianus, Decretum, p. II, causa 11, q. 3, can. 24: Ad mensam). Sed ad coenam alicuius ire est ei communicare. Ergo licet infidelibus communicare.
(81) 2. Praeterea, apostolus dicit, I ad Cor. V, quid mihi est de his qui foris sunt iudicare? Foris autem sunt infideles.
Cum igitur per iudicium Ecclesiae aliquorum communio fidelibus inhibeatur, videtur quod non sit inhibendum fidelibus cum infidelibus communicare.
(82) 3. Praeterea, dominus non potest uti servo nisi ei communicando saltem verbo, quia dominus movet servum per imperium. Sed Christiani possunt habere servos infideles, vel Iudaeos vel etiam Paganos sive Saracenos. Ergo possunt licite cum eis communicare.
(83) Sed contra est quod dicitur Deut. VII, non inibis cum eis foedus, nec misereberis eorum, neque sociabis cum eis connubia. Et super illud Lev. XV, mulier quae redeunte mense etc., dicit Glossa, sic oportet ab idololatria abstinere ut nec idololatras nec eorum discipulos contingamus, nec cum eis communionem habeamus (Glossa ordin. 1, 241 B).
(84) Respondeo dicendum quod communio alicuius personae interdicitur fidelibus dupliciter, uno modo, in poenam illius cui communio fidelium subtrahitur; alio modo, ad cautelam eorum quibus interdicitur ne alii communicent. Et utraque causa ex verbis apostoli accipi potest, I ad
130
Вопрос 10. О неверии в общем
тесто? (1 Кор 5, 6). А позже он указывает и причину, почему Церковь налагает наказание, говоря: Не внутренних ли вы судите? (1 Кор 5, 12).
(85) Итак, в первом случае Церковь не запрещает верным общаться с теми неверными, которые не принимали христианскую веру никоим образом, а именно с язычниками и иудеями, поскольку она выносит о них не духовное, а только мирское суждение — в ситуации, когда они, проживая среди христиан, совершили то или иное преступление и были приговорены верными к некоему мирскому наказанию. Но таким способом, т. е. ради наказания, Церковь запрещает верным общаться с теми неверными, которые отвергли ранее принятую веру, либо извратив ее, как еретики, либо полностью отрекшись от нее, как вероотступники; действительно, и те и другие подвергаются отлучению от Церкви.
(86) Что же касается второго случая, то здесь, как кажется, надлежит проводить различия, связанные с характеристиками индивида, обстоятельствами и временем. В самом деле, если человек столь крепок в вере, что есть основание полагать, что его общение с неверными приведет скорее к их обращению, нежели к его собствен¬
ному отпадению от веры, то ему не следует запрещать общение с теми неверными, которые не приняли веру, например с язычниками или иудеями, особенно в тех случаях, когда на то есть необходимость. Но если говорить о простолюдинах и тех, кто нестоек в вере, отпадения кого можно обоснованно опасаться, то им надо запрещать поддерживать отношения с неверными, особенно близкие или не необходимые.
(87) И отсюда очевиден ответ на первое.
(88) На второе надлежит ответить, что Церковь не имеет такой власти, чтобы накладывать на неверных духовное наказание. Но она может налагать на некоторых неверных мирское наказание, к которому относится то, что в случае определенных преступлений Церковь запрещает верным общаться с совершившими эти преступления неверными.
(89) На третье надлежит ответить, что куда вероятнее, что слуга, управляемый повелением господина, обратится в его веру, нежели наоборот. И потому верным не запрещено иметь слуг из числа неверных. Но если господину угрожает опасность от общения с таким слугой, то он должен удалить его от себя, согласно этой заповеди Гос-
Сог. V. Nam postquam sententiam excommunicationis protulit, subdit pro ratione, nescitis quia modicum fermentum totam massam corrumpit? Et postea rationem subdit ex parte poenae per iudicium Ecclesiae illatae, cum dicit, nonne de his qui intus sunt vos iudicatis?
(85) Primo igitur modo non interdicit Ecclesia fidelibus communionem infidelium qui nullo modo fidem Christianam receperunt, scilicet Paganorum vel Iudaeorum, quia non habet de eis iudicare spirituali iudicio, sed temporali, in casu cum, inter Christianos commorantes, aliquam culpam committunt et per fideles temporaliter puniuntur. Sed isto modo, scilicet in poenam, interdicit Ecclesia fidelibus communionem illorum infidelium qui a fide suscepta deviant, vel corrumpendo fidem, sicut haeretici, vel etiam totaliter a fide recedendo, sicut apostatae. In utrosque enim horum excommunicationis sententiam profert Ecclesia.
(86) Sed quantum ad secundum modum, videtur esse distinguendum secundum diversas conditiones personarum
et negotiorum et temporum. Si enim aliqui fuerint firmi in fide, ita quod ex communione eorum cum infidelibus conversio infidelium magis sperari possit quam fidelium a fide aversio; non sunt prohibendi infidelibus communicare qui fidem non susceperunt, scilicet Paganis vel Iu- daeis, et maxime si necessitas urgeat. Si autem sint simplices et infirmi in fide, de quorum subversione probabiliter timeri possit, prohibendi sunt ab infidelium communione, et praecipue ne magnam familiaritatem cum eis habeant, vel absque necessitate eis communicent.
(87) Unde patet responsio ad primum.
(88) Ad secundum dicendum quod Ecclesia in infideles non habet iudicium quoad poenam spiritualem eis infligendam. Habet tamen iudicium super aliquos infideles quoad temporalem poenam infligendam, ad quod pertinet quod Ecclesia aliquando, propter aliquas speciales culpas, subtrahit aliquibus infidelibus communionem fidelium.
(89) Ad tertium dicendum quod magis est probabile quod servus, qui regitur imperio domini, convertatur ad fidem
Раздел 10. Могут ли неверные главенствовать над христианами
131
пода: Если... нога твоя соблазняет тебя, — отсеки ее и брось от себя (Мф 18, 8).
(90) На аргумент «против» надлежит ответить, что Господь заповедовал это о тех язычниках, на землях которых расселились иудеи, склонные к идолопоклонству, и потому можно было опасаться, что из-за постоянного общения с язычниками они отпадут от веры. И потому там добавлено: Ибо они отвратят сынов твоих от Меня (Вт 7, 4).
Раздел 10 Могут ли неверные главенствовать над христианами
(91) Ход рассуждения в десятом разделе таков. Представляется, что неверные могут властвовать или главенствовать над христианами.
(92) 1. В самом деле, апостол говорит
(1 Тим 6, 1): Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести\ а то, что он говорит о неверных, явствует из дальнейших слов: Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно. И еще сказа¬
но (1 Петр 2, 18): Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Но апостольское учение не предписывало бы ничего подобного, если бы неверные не могли главенствовать над верными. Следовательно, как представляется, неверные могут главенствовать над верными.
(93) 2. Кроме того, любой, кто принадлежит к дому некоего властителя, подчиняется ему. Но некоторые верные принадлежали к дому неверного властителя, поскольку сказано (Филип 4, 22): Приветствуют вас все святые (а наипаче из кесарева дома), т. е. из дома Нерона, который был неверным. Следовательно, неверные могут главенствовать над верными.
(94) 3. Кроме того, Философ утверждает, что раб есть инструмент господина в делах обыденной жизни, как и подмастерье — инструмент мастера в делах искусства. Но в таковых делах верный может подчиняться неверному, ибо может быть его работником. Следовательно, неверный может главенствовать над верным и даже быть его господином.
domini fidelis, quam е converso. Et ideo non est prohibitum quin fideles habeant servos infideles. Si tamen domino penculum immineret ex communione talis servi, deberet eum a se abiicere, secundum illud mandatum domini, Matth. V et XVIII, si pes tuus scandalizaverit te, abscinde eum et proiice abs te.
(90) [Ad argumentum in contrarium] dicendum quod dominus illud praecipit de illis gentibus quarum terram ingressuri erant Iudaei, qui erant proni ad idololatriam, et ideo timendum erat ne per continuam conversationem cum eis alienarentur a fide. Et ideo ibidem subditur, quia seducet filium tuum ne sequatur me.
Articulus 10 Utrum possint Christianis fidelibus praeesse
(91) Ad decimum sic proceditur. Videtur quod infideles possint habere praelationem vel dominium supra fideles.
(92) 1. Dicit enim apostolus, I ad Tim. VI, quicumque sunt sub iugo servi dominos suos omni honore dignos arbitrentur,
et quod loquatur de infidelibus patet per hoc quod subdit, qui autem fideles habent dominos non contemnant. Et I Pet. II dicitur, servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis. Non autem hoc praeciperetur per apostolicam doctrinam nisi infideles possent fidelibus praeesse Ergo videtur quod infideles possint praeesse fidelibus.
(93) 2 Praeterea, quicumque sunt de familia alicuius principis subsunt ei. Sed fideles aliqui erant de familiis infidelium pnncipum, unde dicitur ad Philipp. IV, salutant vos omnes sancti, maxime autem qui de Caesaris domo sunt, scilicet Neronis, qui infidelis erat. Ergo infideles possunt fidelibus praeesse.
(94) 3. Praeterea, sicut Philosophus dicit, in I Polit. (2; 1253b32), servus est instrumentum domini in his quae ad humanam vitam pertinent, sicut et minister artificis est instrumentum artificis in his quae pertinent ad operationem artis. Sed in talibus potest fidelis infideli subiici, possunt enim fideles infidelium coloni esse. Ergo infideles possunt fidelibus praefici etiam quantum ad dominium.
132
Вопрос 10. О неверии в общем
(95) Но против: тот, кто главенствует, может судить того, кто находится в подчинении. Однако неверные не могут судить верных, ибо апостол говорит (1 Кор 6, 1): Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, то есть неверных, а не у святых? Следовательно, неверные не могут главенствовать над верными.
(96) Отвечаю: надлежит сказать, что об этом можно говорить в двух смыслах. Во-первых, как о вновь возникшем господстве или главенстве неверных над верными. И таковое ни в коем случае нельзя допускать. В самом деле, это ведет к возмущению и подвергает опасности веру, ибо те, над кем могут вершить суд другие, могут измениться и начать следовать решениям этих людей, если только не обладают большими добродетелями. Кроме того, неверные, видя отпадение верных, начнут презирать веру. И потому апостол запрещает верным идти на суд неверных. И поэтому же Церковь не допускает, чтобы неверные получали господство над верными или каким- либо образом руководили ими.
(97) Во-вторых, мы можем говорить о господстве или главенстве, которое уже существует. И здесь надлежит принять во внимание, что господство или главенство вво-
(95) Sed contra est quod ad eum qui praeest pertinet habere iudicium super eos quibus praeest. Sed infideles non possunt iudicare de fidelibus, dicit enim apostolus, I ad Cor. VI, audet aliquis vestrum, habens negotium adversus alterum, iudicari apud iniquos, idest infideles, et non apud sanctos? Ergo videtur quod infideles fidelibus praeesse non possint
(96) Respondeo dicendum quod circa hoc dupliciter loqui possumus. Uno modo, de dominio vel praelatione infidelium super fideles de novo instituenda. Et hoc nullo modo permitti debet. Cedit enim hoc in scandalum et in periculum fidei, de facili emm illi qui subiiciuntur aliorum iurisdictioni immutari possunt ab eis quibus subsunt ut sequantur eorum imperium, nisi illi qui subsunt fuerint magnae virtutis. Et similiter infideles contemnunt fidem si fidelium defectus cognoscant. Et ideo apostolus prohibuit quod fideles non contendant iudicio coram iudice infideli. Et ideo nullo modo permittit Ecclesia quod infideles acquirant dominium super fideles, vel qualitercumque eis
дится по человеческому закону, а различие между верными и неверными — по закону божественному. Однако божественный благодатный закон не устраняет закон человеческий, основанный на естественном разуме. И потому различие верных и неверных, само по себе, не устраняет господства и главенства неверных над верными. Однако на основании суждения или предписания Церкви, обладающей божественным авторитетом, можно справедливо устранить таковое право главенства или господства, поскольку неверные своим неверием заслужили лишение власти над верными, которые стали детьми Божьими. Но иногда Церковь делает это, а иногда — нет. В самом деле, для тех неверных, которые подчиняются, даже в мирских вопросах, Церкви и ее членам, Церковь постановила, что если раб иудеев становится христианином, он должен немедленно получить свободу без каких-либо выплат, если он был рожден в рабстве или же, еще неверным, был куплен для работы (а если он был куплен для перепродажи, то тогда он должен быть выставлен на продажу в течение трех месяцев). И в данном случае Церковь не совершает несправедливости, поскольку эти иудеи сами подчине-
praeficiantur in aliquo officio.
(97) Alio modo possumus loqui de dominio vel praelatione iam praeexistenti. Ubi considerandum est quod dominium et praelatio introducta sunt ex iure humano, distinctio autem fidelium et infidelium est ex iure divino. Ius autem divinum, quod est ex gratia, non tollit ius humanum, quod est ex naturali ratione. Et ideo distinctio fidelium et infidelium, secundum se considerata, non tollit dominium et praelationem infidelium supra fideles. Potest tamen iuste per sententiam vel ordinationem Ecclesiae, auctoritatem Dei habentis, tale ius dominii vel praelationis tolli, quia infideles merito suae infidelitatis merentur potestatem amittere super fideles, qui transferuntur in filios Dei. Sed hoc quidem Ecclesia quandoque facit, quandoque autem non facit. In illis enim infidelibus qui etiam temporali subiectione subiiciuntur Ecclesiae et membris eius, hoc ius Ecclesiae statuit, ut servus Iudaeorum, statim factus Christianus, a servitute liberetur, nullo pretio dato, si fuerit vernaculus, idest in servitute natus; et similiter si, infidelis
Раздел 10. Могут ли неверные главенствовать над христианами
133
ны Церкви, и она может распоряжаться их имуществом; так ведь и мирские властители приняли много законов касательно своих подданных в пользу свободы. А в отношении тех неверных, которые не подчиняются Церкви или ее членам в мирских вопросах, Церковь такого закона не принимала, хотя и имела право сделать это. А не приняла она его, чтобы избежать соблазна. Ведь и Господь, показав, что может быть освобожден от уплаты пошлины, поскольку «сыны свободны», все же наказал ее уплатить, чтобы «не соблазнить их» (Мф 17, 25, 26). Поэтому и Павел, сказав, что слуги должны почитать своих господ, добавляет: Дабы не было хулы на имя Божие и учение.
(98) И из этого очевиден ответ на первое.
(99) На второе надлежит ответить, что это верховенство дома кесарей предшествовало разделению на верных и неверных, а потому не было упразднено после обращения некоторых [его членов] к вере. Кроме того, было полезно, чтобы в императорском
окружении были верные — ради защиты других верных; так, блаженный Себастьян, скрываясь под видом стражника во дворце Домициана, укреплял дух тех христиан, которые, как он видел, дрогнули под пытками, (юо) На третье надлежит ответить, что рабы полностью принадлежат хозяевам и подчиняются своим господам во всем, тогда как подмастерье подчинен мастеру только при выполнении определенных работ. Таким образом, гораздо опасней, когда неверующие господствуют или властвуют над верными, чем когда нанимают их для выполнения определенных работ. Поэтому Церковь дозволяет христианам возделывать земли иудеев — ведь это не предполагает с необходимостью их тесного общения. Так ведь и Соломон, как сказано в Писании, просил царя Тира послать его рабов рубить деревья (3 Цар 5, 6). Однако если есть основания опасаться, что вследствие подобного общения или деловых отношений верный может отпасть от веры, то их надлежит полностью запретить.
existens, fuerit emptus ad servitium. Si autem fuent emptus ad mercationem, tenetur eum infra tres menses exponere ad vendendum. Nec in hoc iniunam facit Ecclesia, quia, cum ipsi Iudaei sint servi Ecclesiae, potest disponere de rebus eorum; sicut etiam pnncipes saeculares multas leges ediderunt erga suos subditos in favorem libertatis. In illis vero infidelibus qui temporaliter Ecclesiae vel eius membris non subiacent, praedictum ius Ecclesia non statuit, licet posset instituere de iure. Et hoc facit ad scandalum vitandum. Sicut etiam dominus, Matth. XVII, ostendit quod poterat se a tnbuto excusare quia liben sunt filii, sed tamen mandavit tnbutum solvi ad scandalum vitandum. Ita etiam et Paulus, cum dixisset quod servi dominos suos honorarent, subiungit, ne nomen domini et doctrina blasphemetur.
(98) Unde patet responsio ad primum.
(99) Ad secundum dicendum quod illa praelatio Caesans praeexistebat distinctioni fidelium ab infidelibus, unde non solvebatur per conversionem aliquorum ad fidem. Et utile
erat quod aliqui fideles locum in familia imperatoris haberent, ad defendendum alios fideles, sicut beatus Sebastianus Christianorum animos, quos in tormentis videbat deficere, confortabat, et adhuc latebat sub militari chlamyde in domo Diocletiani.
(100) Ad tertium dicendum quod servi subiiciuntur dominis suis ad totam vitam, et subditi praefectis ad omnia negotia, sed ministri artificum subduntur eis ad aliqua specialia opera. Unde penculosius est quod infideles accipiant dominium vel praelationem super fideles quam quod accipiant ab eis ministenum in aliquo artificio. Et ideo permittit Ecclesia quod Chnstiam possint colere terras Iudaeorum, quia per hoc non habent necesse conversari cum eis. Salomon etiam expetiit a rege Tyri magistros operum ad ligna caedenda, ut habetur III Reg. V. Et tamen si ex tali communicatione vel convictu subversio fidelium timeretur, esset penitus interdicendum.
134
Вопрос 10. О неверии в общем
Раздел 11 Следует ли терпеть обряды неверных
(101) Ход рассуждения в одиннадцатом разделе таков. Представляется, что не следует терпеть обряды неверных.
(102) 1. В самом деле, очевидно, что неверные грешат, соблюдая свои обряды. Но тот, кто не запрещает грех, при том, что может его запретить, сочувствует греху, как утверждает глосса к этим словам (Рим 1, 32): Не только их делают, но и делающих одобряют. Следовательно, грешат те, кто терпит обряды неверных.
(юз) 2. Кроме того, обряды иудеев можно уподобить идолопоклонству, ибо глосса к этим словам (Гал 5, 1), Не подвергайтесь опять игу рабства, утверждает: Рабство этого закона не легче рабства идолопоклонства. Но соблюдение обрядов идолопоклонников недопустимо; более того, христианские правители сначала закрывали, а потом разрушали капища идолов, о чем рассказывает Августин. Следовательно, нельзя допускать и иудейские обряды.
(104) 3. Кроме того, наиболее тяжким гре¬
хом является неверие, как уже сказано выше (Р. 3). Однако другие грехи, например, прелюбодеяние, воровство и т. п., не дозво-
Articulus 11 Utrum ritus infidelium sint tolerandi
(101) Ad undecimum sic proceditur. Videtur quod ntus infidelium non sint tolerandi.
(102) 1. Manifestum est enim quod infideles in suis ritibus peccant eos servando. Sed peccato consentire videtur qui non prohibet cum prohibere possit, ut habetur in Glossa (Petri Lombardi; PL 191, 1336) Rom. I, super illud, non solum qui faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus. Ergo peccant qui eorum ritus tolerant.
(103) 2. Praeterea, ritus Iudaeorum idololatriae comparantur, quia super illud Gal. V, nolite iterum iugo servitutis contineri, dicit Glossa (Petri Lombardi; PL 192, 152), non est levior haec legis servitus quam idololatriae. Sed non sustineretur quod idololatriae ritum aliqui exercerent, quinimmo Christiani principes templa idolorum pn- mo claudi, et postea dirui fecerunt, ut Augustinus narrat, XVIII De civ. Dei (54; PL 41, 620). Ergo etiam
ляются, а наказываются по закону. Следовательно, нельзя терпеть обряды неверных.
(105) Но против: в «Декреталиях» сказано об иудеях: Пусть будет позволено им свободно соблюдать все свои празднества в том самом виде, в каком их соблюдали они сами и их отцы веками вплоть до сего дня.
(106) Отвечаю: надлежит сказать, что власть человеческая берет начало от власти божественной и должна ей подражать. Но Бог, хотя Он всемогущ и благ в высшей степени, допустил, чтобы во вселенной существовало некое зло, которое Он мог бы запретить — чтобы из-за его отсутствия не устранилось бы большее благо или не возникло бы большее зло. Поэтому и человеческие власти обоснованно допускают некоторое зло — чтобы не возникло препятствия для определенного блага или не произошло еще большее зло, сообразно чему Августин говорит: Запретите проституцию — и мир задохнется от похоти. Поэтому хотя неверные, соблюдая свои обряды, и совершают грех, эти обряды можно терпеть — либо ради некоего блага, которое от них происходит, либо ради того, чтобы избежать некое зло.
ntus Iudaeorum tolerari non debent.
(104) 3. Praeterea, peccatum infidelitatis est gravissimum, ut supra dictum est (a. 3). Sed alia peccata non tolerantur, sed lege puniuntur, sicut adulterium, furtum et alia huiusmodi. Ergo etiam ritus infidelium tolerandi non sunt.
(105) Sed contra est quod in Decretis (Gratianus, Decretum, I, dist. 45, can 3' Qui sincera), dicit Gregorius de Iudaeis, omnes festivitates suas, sicut hactenus ipsi et patres eorum per longa colentes tempora tenuerunt, liberam habeant observandi celebrandique licentiam (cf. Registrum 13, indict 6, epist. 12 ad Paschasium; PL 67, 1267).
(106) Respondeo dicendum quod humanum regimen derivatur a divino regimine, et ipsum debet imitan. Deus autem, quamvis sit omnipotens et summe bonus, permittit tamen aliqua mala fieri in universo, quae prohibere posset, ne, eis sublatis, maiora bona tollerentur, vel etiam peiora mala sequerentur. Sic igitur et in regimine humano illi qui praesunt recte aliqua mala tolerant, ne aliqua bona impediantur, vel etiam ne aliqua mala peiora incurrantur, sicut
Раздел 12. Можно ли крестить детей неверных против воли родителей
135
(107) И из соблюдения иудеями своих обрядов, в которых образно представлена наша вера, происходит то благо, что мы получаем свидетельство нашей веры от недругов, и как бы в образах перед нами предстает то, во что мы верим. И потому иудеев, насколько речь идет об их обрядах, следует терпеть. А обряды других неверных, в которых нет никакой истины или пользы, терпеть следует только в том случае, если так можно избежать некоего зла, то есть, избежать возмущения и волнений, которые могут в ином случае произойти, или же если благодаря этому можно поспособствовать спасению неверных, которые, если не проявлять нетерпимости по отношению к ним, могут постепенно прийти к вере. И потому Церковь иногда терпит даже обряды еретиков и язычников, если их число очень велико.
(108) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 12 Можно ли крестить детей неверных против воли родителей
(109) Ход рассуждения в двенадцатом разделе таков. Представляется, что детей неверных можно крестить против воли родителей.
(по) 1. В самом деле, брачные узы сильнее родительской власти над детьми, поскольку родительская власть завершается человеческим решением, когда дети достигают совершеннолетия, а брачные узы человек разорвать не может, согласно сказанному (Мф 19, 6): Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И, однако же, брак может быть расторгнут из-за неверия, поскольку, как говорит апостол (1 Кор 7, 15), Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны. И в «Декреталиях» сказано, что если неверный не желает жить со своим супругом так, чтобы не оскорблять при этом Творца, то последнего нельзя принуждать к сохранению брака. Следовательно, куда скорее неверие лишает неверных родительских прав. Следовательно, их детей можно крестить против воли родителей.
Augustinus dicit (4, PL 32, 1000), in II De ordine, aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus. Sic igitur, quamvis infideles in suis ritibus peccent, tolerari possunt vel propter aliquod bonum quod ex eis provenit, vel propter aliquod malum quod vitatur.
(107) Ex hoc autem quod Iudaei ntus suos observant, in quibus olim praefigurabatur ventas fidei quam tenemus, hoc bonum provenit quod testimonium fidei nostrae habemus ab hostibus, et quasi in figura nobis repraesentatur quod credimus. Et ideo in suis ritibus tolerantur. Aliorum vero infidelium ritus, qui nihil veritatis aut utilitatis afferunt, non sunt aliqualiter tolerandi, nisi forte ad aliquod malum vitandum, scilicet ad vitandum scandalum vel dissidium quod ex hoc posset provenire, vel impedimentum salutis eorum, qui paulatim, sic tolerati, convertuntur ad fidem. Propter hoc enim etiam haereticorum et Paganorum ntus aliquando Ecclesia toleravit, quando erat magna infidelium multitudo.
(108) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 12
Utrum pueri infidelium sint invitis parentibus baptizandi
(109) Ad duodecimum sic proceditur. Videtur quod pueri Iu- daeorum et aliorum infidelium sint baptizandi parentibus invitis.
(110) 1 Maius enim est vinculum matnmoniale quam ius patriae potestatis, quia ius patriae potestatis potest per hominem solvi, cum filiusfamilias emancipatur; vinculum autem matnmoniale non potest solvi per hominem, secundum illud Matth. XIX, quod Deus coniunxit homo non separet. Sed propter infidelitatem solvitur vinculum matrimoniale, dicit enim apostolus, I ad Cor. VII, quod si infidelis discedit, discedat, non enim servituti subiectus est frater aut soror in huiusmodi; et canon dicit (Gratianus, Decretum, p. 2, causa 28, q. 1, can. 4: Uxor legitima, q. 2, can. 2: Si infidelis) quod si coniux infidelis non vult sine contumelia sui creatoris cum altero stare, quod alter coni- ugum non debet ei cohabitare. Ergo multo magis propter
136
Вопрос 10. О неверии в общем
(111) 2. Кроме того, прежде чем заботиться о сохранении земной жизни некоего человека, следует сначала помочь ему избежать вечной погибели. Но это грех — оставить человека без помощи, если его земной жизни угрожает опасность. Поэтому, коль скоро детям иудеев и других неверных грозит вечная погибель, если предоставить их родительской воле, то, как кажется, их следует изымать у родителей, крестить и воспитывать в вере.
(112) 3. Кроме того, дети зависимых суть зависимые и находятся во власти господина. Но иудеи зависимы и подвластны своим королям и князьям. Следовательно, зависимы и их дети. Следовательно, короли и князья могут делать с детьми иудеев то, что пожелают. Следовательно, нет никакой несправедливости в том, чтобы крестить их против воли их родителей.
(из) 4. Кроме того, любой человек принадлежит Богу, от Которого он получает душу, в большей степени, чем родителям, от которых он получает тело. Следовательно, нет никакой несправедливости в том, чтобы отнимать детей иудеев от плотских родителей и посвящать Богу посредством крещения.
(114) 5. Кроме того, крещение больше содействует спасению, чем проповедь, поскольку устраняет пятно греха и обязанность понести наказание, а также открывает небесные врата. Но если опасность возникает из-за отсутствия проповеди, в этом винят того, кто должен был проповедовать, но не проповедовал, согласно словам Иезекииля о страже, который видел идущий меч и не затрубил в трубу (Иез 33, 6). Следовательно, если дети иудеев погибнут из-за того, что не были крещены, то в этом тем более будет виноват тот, кто мог их окрестить, но не окрестил.
(115) Но против: нельзя совершать несправедливые действия. Но это будет несправедливым по отношению к иудеям — крестить их детей против их желания, поскольку они утратят родительскую власть над своими детьми, как только те станут христианами. Следовательно, нельзя крестить детей без желания родителей.
(116) Отвечаю: надлежит сказать, что церковная традиция обладает величайшим авторитетом и должна ревностно соблюдаться во всем, поскольку и само учение католических учителей получает свой авторитет от Церкви; и потому следует больше держаться авторитета Церкви, чем авторитета
infidelitatem tollitur ius patriae potestatis in suos filios. Possunt ergo eorum filii baptizan eis invitis.
(111) 2. Praeterea, magis debet homini subvenin circa periculum mortis aeternae quam circa penculum mortis temporalis. Sed si aliquis videret hominem in periculo mortis temporalis et ei non ferret auxilium, peccaret Cum ergo filii Judaeorum et aliorum infidelium sint in penculo mortis aeternae si parentibus relinquuntur, qui eos in sua infidelitate informant, videtur quod sint eis auferendi et baptizandi et in fidelitate instruendi.
(112) 3. Praeterea, filii servorum sunt servi et in potestate dominorum. Sed Iudaei sunt servi regum et principum. Ergo et filii eorum. Reges igitur et principes habent potestatem de filiis Iudaeorum facere quod voluerint. Nulla ergo ent iniuna si eos baptizent invitis parentibus.
(113) 4. Praeterea, quilibet homo magis est Dei, a quo habet animam, quam patns carnalis, a quo habet corpus. Non ergo est iniustum si pueri Iudaeorum carnalibus parentibus auferantur et Deo per Baptismum consecrentur.
(114) 5. Praeterea, Baptismus efficacior est ad salutem quam praedicatio, quia per Baptismum statim tollitur peccati macula, reatus poenae, et apentur ianua caeli. Sed si periculum sequitur ex defectu praedicationis, imputatur ei qui non praedicavit, ut habetur Ezech. III, et XXXIII de eo qui videt gladium venientem et non insonuerit tuba. Ergo multo magis, si puen Iudaeorum damnentur propter defectum Baptismi, imputatur ad peccatum eis qui potuerunt baptizare et non baptizaverunt.
(115) Sed contra, nemim facienda est iniuna. Fieret autem Iudaeis iniuna si eorum filii baptizarentur eis invitis, quia amitterent ius patriae potestatis in filios iam fideles Ergo eis invitis non sunt baptizandi.
(116) Respondeo dicendum quod maximam habet auctoritatem Ecclesiae consuetudo, quae semper est in omnibus aemulanda. Quia et ipsa doctnna Catholicorum doctorum ab Ecclesia auctontatem habet, unde magis standum est auctoritati Ecclesiae quam auctontati vel Augustini vel Hieronymi vel cuiuscumque doctoris. Hoc autem Ecclesiae
Раздел 12. Можно ли крестить детей неверных против воли родителей
137
Августина, Иеронима или любого другого учителя. Но у Церкви никогда не было обычая крестить детей иудеев против воли их родителей, хотя в прошлом властвовали такие могущественные католические властители, как Константин и Феодосий, и с ними были близки святейшие епископы Сильвестр и Амвросий, которые, конечно, могли бы добиться от них введения такого обычая, будь на то разумные основания. Поэтому представляется весьма опасным вводить теперь правило, сообразно которому детей иудеев, вопреки церковной традиции, надлежит крестить против воли их родителей. И тому есть две причины. Одна — это опасность для веры. В самом деле, если крестить еще не вполне разумных детей, то впоследствии, когда они достигнут зрелого возраста, их родители легко смогут убедить их оказаться от принятой в несознательном возрасте веры. И это вредно для веры. Вторая причина: это противоречит естественному праву. В самом деле, сын есть нечто, принадлежащее отцу. Сначала он, когда находится в материнской утробе, не является самостоятельным телом. Затем, уже появившись на свет, но еще не научившись пользоваться свободным решением, он нахо¬
дится на попечении родителей — как бы в некоей духовной утробе. Ведь до тех пор, пока ребенок не научится употреблять разум, он не отличается от неразумного животного. Поэтому как бык или лошадь согласно гражданскому праву есть нечто, чем их владелец пользуется, когда захочет, как своим инструментом, так же — по естественному праву — сын, пока он не может самостоятельно пользоваться разумом, находится на попечении отца. И потому это против естественного права — если ребенка, до того, как он сможет пользоваться разумом, изымают у родителей или определяют к чему-либо без их согласия. Но после того, как ребенок научится пользоваться свободным решением, он начинает принадлежать самому себе, и может, сообразно божественному и естественному праву, отвечать сам за себя. И тогда его следует приводить к вере, и не принуждением, но убеждением, и он может принять веру и креститься даже вопреки воле родителей — но не раньше, чем начнет пользоваться разумом.
(in) И потому о детях древних Отцов говорится, что они спасены верой родителей, что надо понимать в том смысле, что именно родители должны заботиться о спасе-
usus nunquam habuit quod ludaeorum filii invitis parentibus baptizarentur, quamvis fuerint retroactis temporibus multi Catholici principes potentissimi, ut Constantinus, Theodosius, quibus familiares fuerunt sanctissimi episcopi, ut Sylvester Constantino et Ambrosius Theodosio, qui nullo modo hoc praetermisissent ab eis impetrare, si hoc esset consonum rationi. Et ideo periculosum videtur hanc assertionem de novo inducere, ut praeter consuetudinem in Ecclesia hactenus observatam, ludaeorum filii invitis parentibus baptizarentur. Et huius ratio est duplex. Una quidem propter periculum fidei. Si enim pueri nondum usum rationis habentes Baptismum susciperent, postmodum, cum ad perfectam aetatem pervenirent, de facili possent a parentibus induci ut relinquerent quod ignorantes susceperunt. Quod vergeret in fidei detrimentum. Alia vero ratio est quia repugnat iustitiae naturali. Filius enim naturaliter est aliquid patns. Et pnmo quidem a parentibus non distinguitur secundum corpus, quandiu in matns utero continetur. Postmodum vero, postquam ab utero egreditur, antequam usum liberi arbitrii habeat,
continetur sub parentum cura sicut sub quodam spirituali utero. Quandiu enim usum rationis non habet puer, non differt ab animali irrationali Unde sicut bos vel equus est alicuius ut utatur eo cum voluerit, secundum ius civile, sicut propno instrumento; ita de iure naturali est quod filius, antequam habeat usum rationis, sit sub cura patns. Unde contra iustitiam naturalem esset si puer, antequam habeat usum rationis, a cura parentum subtrahatur, vel de eo aliquid ordinetur invitis parentibus. Postquam autem incipit habere usum liben arbitni, iam incipit esse suus, et potest, quantum ad ea quae sunt iuris divini vel naturalis, sibi ipsi providere. Et tunc est inducendus ad fidem non coactione, sed persuasione; et potest etiam invitis parentibus consentire fidei et baptizan, non autem antequam habeat usum rationis.
(117) Unde de puens antiquorum patrum dicitur quod salvati sunt in fide parentum (Magister, Sent., IV, d. 1, c. 8; QR, II 749), per quod datur intelligi quod ad parentes pertinet providere filiis de sua salute, praecipue antequam habeant usum rationis.
138
Вопрос 10. О неверии в общем
нии своих детей — особенно пока те еще не способны пользоваться разумом.
(118) Итак, на первое надлежит ответить, что в случае брачных уз оба супруга уже способны пользоваться свободным решением, и потому любой из них может принять веру вопреки желанию другого. Но это не относится к ребенку до того, как он сможет пользоваться своим разумом. И подобие имеет место лишь тогда, когда ребенок уже научится пользоваться разумом и сам пожелает обратиться.
(119) На второе надлежит ответить, что никого не следует ограждать от естественной смерти, если при этом нарушается порядок гражданского права (например, если человек был осужден своим судьей на временную смерть, то никто не вправе освобождать его при помощи насилия). Поэтому никто не должен нарушать порядок естественного права, согласно которому ребенок находится на попечении родителя, чтобы спасти его от вечной погибели.
(120) На третье надлежит ответить, что иудеи зависимы от князей сообразно принципам
гражданского права, которое не исключает порядка естественного или божественного права.
(121) На четвертое надлежит ответить, что человек направляет себя к Богу при помощи своего разума, которым он может Его познать. Следовательно, до того, как ребенок научится пользоваться разумом, его сообразно естественному порядку направляют к Богу родители, под опекой которых он находится согласно природе; поэтому даже в отношении вещей божественных надлежит действовать сообразно их мнению.
(122) На пятое надлежит ответить, что опасность, связанная с отказом от проповеди, угрожает только тем, кто обязан проповедовать. Поэтому ранее сказано (Иез 3, 17): Я поставил тебя стражем детям Израилевым. А предоставлять детям неверных спасительные таинства должны их родители. Следовательно, именно родители будут виноваты, если их дети, лишенные таинств, не получат спасения.
(118) Ad primum ergo dicendum quod in vinculo matrimoniali uterque coniugum habet usum liberi arbitrii, et uterque potest invito altero fidei assentire. Sed hoc non habet locum in puero antequam habeat usum rationis. Sed postquam habet usum rationis, tunc tenet similitudo, si converti voluerit.
(119) Ad secundum dicendum quod a morte naturali non est aliquis eripiendus contra ordinem iuns civilis, puta, si aliquis a suo iudice condemnetur ad mortem temporalem, nullus debet eum violenter eripere. Unde nec aliquis debet irrumpere ordinem iuris naturalis, quo filius est sub cura patris, ut eum liberet a penculo mortis aeternae.
(120) Ad tertium dicendum quod Iudaei sunt servi principum servitute civili, quae non excludit ordinem iuns naturalis vel divini.
(121) Ad quartum dicendum quod homo ordinatur ad Deum per rationem, per quam eum cognoscere potest. Unde puer, antequam usum rationis habeat, naturali ordine ordinatur in Deum per rationem parentum, quorum curae naturaliter subiacet; et secundum eorum dispositionem sunt circa ipsum divina agenda.
(122) Ad quintum dicendum quod periculum quod sequitur de praedicatione omissa non imminet msi eis quibus commissum est officium praedicandi, unde in Ezechiel praemittitur, speculatorem dedi te filiis Israel. Providere autem puens infidelium de sacramentis salutis pertinet ad parentes eorum. Unde eis imminet periculum si, propter subtractionem sacramentorum, eorum parvuli detrimentum salutis patiantur.
Вопрос 11
О противоположных вере пороках, что касается ереси
(1) Затем надлежит рассмотреть ересь. И касательно нее исследуются четыре [проблемы]: 1) является ли ересь видом неверия; 2) какова материя ереси; 3) следует ли терпеть еретиков; 4) следует ли принимать обратно отрекшихся от ереси.
Раздел 1
Является ли ересь видом неверия
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что ересь не является видом неверия.
(3) 1. В самом деле, неверие пребывает
в разуме, как уже сказано выше (В. 10, Р. 2). Но ересь, как представляется, пребывает не в разуме, но в желающей способности. Ведь, как говорит Иероним, и как сказано в «Декреталиях», греческое слово «ересь» происходит от «выбора», посредством которого человек избирает то учение, которое полагает наилучшим. Но, как уже было сказано выше (Ч. II-I, В. 13, Р. 1), выбор является актом желающей способности. Следовательно, ересь не является видом неверия.
(4) 2. Кроме того, порок получает свой вид главным образом от цели; и потому Философ говорит в V книге «Этики», что тот, кто блудит ради наживы, является скорее своекорыстным, чем распущенным. Но целью ереси являются временные блага, прежде всего — власть и слава, что соотносится с пороком гордыни или вожделения; в самом деле, Августин говорит, что еретик — тот, кто измышляет новые и ложные мнения или следует им ради некоторой временной выгоды, и в первую очередь ради власти и славы. Следовательно, ересь является видом не неверия, но гордыни.
(5) 3. Кроме того, неверие, поскольку оно находится в разуме, не относится к плоти. Но ересь принадлежит делам плоти, поскольку согласно апостолу (Гал 5, 19-20), дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд и т.д., в том числе разногласия и секты, то есть ереси. Следовательно, ересь не является видом неверия.
Quaestio 11 De vitiis oppositis fidei quantum .ad haeresim
(1) Deinde considerandum est de haeresi. Circa quam esse meliorem, electio autem est actus appetitivae virtutis,
quaeruntur quatuor. Primo, utrum haeresis sit infidelitatis ut supra dictum est (II-I, q. 13, a. 1). Ergo haeresis non
species. Secundo, de materia eius circa quam est. Tertio, est infidelitatis species.
utrum haeretici sint tolerandi. Quarto, utrum revertentes (4) 2. Praeterea, vitium praecipue accipit speciem a fine,
sint recipiendi. unde philosophus dicit, in V Ethic. (2; 1130a24), quod
Articulus 1 ille qui moechatur ut furetur, magis est fur quam moechus.
Utrum haeresis sint infidelitatis species Sed finis haeresis est commodum temporale, et maxime
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod haeresis non pnncipatus et gloria, quod pertinet ad vitium superbiae vel
sit infidelitatis species. cupiditatis, dicit enim Augustinus, in libro De util. cred.
(3) 1 Infidelitas enim in intellectu est, ut supra dictum (1; PL 42, 65), quod haereticus est qui alicuius temporalis
est (q. 10, a. 2). Sed haeresis non videtur ad intellectum commodi, et maxime gloriae principatusque sui gratia, falsas
pertinere, sed magis ad vim appetitivam. Dicit enim Hi- ac noms opiniones vel gignit vel sequitur. Ergo haeresis non
eronymus (In Gal. 6, 10; 3; PL 26, 445), et habetur est species infidelitatis, sed magis superbiae.
in Decretis (Gratianus, Decretum, p. 11, causa 24, q. 3, (5) 3. Praeterea, infidelitas, cum sit in intellectu, non vide-
can. 27: Haeresis), haeresis Graece ab electione dicitur, quod tur ad carnem pertinere. Sed haeresis pertinet ad opera
scilicet eam sibi unusquisque eligat disciplinam quam putat camis, dicit enim apostolus, ad Gal. V, manifesta sunt opera
140
Вопрос 11. О противоположных вере пороках, что касается ереси
(6) Но против: ложь противоположна истине. Но еретик — тот, кто измышляет новые и ложные мнения или следует им. Таким образом, ересь противоположна истине, на которую опирается вера. Следовательно, ересь является видом неверия.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что слово «ересь», как уже отмечено, подразумевает выбор. Но выбор, как уже было показано выше (Ч. II-I, В. 13, Р. 3), относится к средствам достижения уже определенной цели. Но в вопросах веры воля соглашается с некоей истиной как с собственным благом, как уже было сказано (В. 4, Р. 3, Р. 5, на 1). Поэтому то, что является главной истиной, обладает смысловым содержанием предельной цели, а вторичные истины обладают смысловым содержанием средств достижения цели. Но тот, кто верит, соглашается с неким высказыванием некоего человека. Следовательно, как представляется, при любых верованиях тот, с чьим высказыванием соглашаются, является главным и как бы целью, а все то, чего некто придерживается, ради этого согласия, является вторичным. Поэтому тот, кто правильно исповедует христианскую веру, по своей воле соглашается с Христом во всем том, что действительно
относится к Его учению. Соответственно, некто может отклониться от правильности христианской веры двумя путями. Первый из них — нежелание согласиться с Христом; и в этом случае человек обладает, так сказать, дурной волей по отношению к самой цели. И это относится к неверию язычников и иудеев. Второй путь — это желание согласиться с Христом, сочетающееся с заблуждениями при выборе того, чего следует держаться ради этого согласия, поскольку в этом случае человек выбирает не то, чему на самом деле учил Христос, а то, что он измышляет своим собственным умом. Таким образом, ересь является видом неверия, который относится к тем, кто признает христианскую веру, но извращает ее догматы.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что, как уже сказано, выбор относится к неверию так же, как воля — к вере.
(9) На второе надлежит ответить, что пороки получают свой вид от ближайшей цели, а род и причину — от удаленной цели. Так, в случае блуда ради наживы имеет место вид прелюбодеяния, если говорить о непосредственной цели и объекте. Но если рассмотреть предельную цель, то станет ясно, что блуд происходит из своекоры-
carnis, quae sunt fornicatio, immunditia; et inter cetera postmodum subdit, dissensiones, sectae, quae sunt idem quod haereses. Ergo haeresis non est infidelitatis species.
(6) Sed contra est quod falsitas veritati opponitur. Sed haereticus est qui falsas vel novas opiniones vel gignit vel sequitur. Ergo opponitur veritati, cui fides innititur. Ergo sub infidelitate continetur.
(7) Respondeo dicendum quod nomen haeresis, sicut dictum est, electionem importat. Electio autem, ut supra dictum est (II-I, q. 13, a. 3), est eorum quae sunt ad finem, praesupposito fine. In credendis autem voluntas assentit alicui vero tanquam proprio bono, ut ex supradictis patet (q. 4, a. 3; a. 5, ad 1). Unde quod est principale verum habet rationem finis ultimi, quae autem secundaria sunt habent rationem eorum quae sunt ad finem. Quia vero quicumque credit alicuius dicto assentit, principale videtur esse, et quasi finis, in unaquaque credulitate ille cuius dicto assentitur, quasi autem secundana sunt ea quae quis tenendo vult alicui assentire. Sic igitur qui recte fidem
Christianam habet sua voluntate assentit Christo in his quae vere ad eius doctrinam pertinent. A rectitudine igitur fidei Christianae dupliciter aliquis potest deviare Uno modo, quia ipsi Chnsto non vult assentire, et hic habet quasi malam voluntatem circa ipsum finem. Et hoc pertinet ad speciem infidelitatis Paganorum et Iudaeorum. Alio modo, per hoc quod intendit quidem Christo assentire, sed deficit in eligendo ea quibus Chnsto assentiat, quia non eligit ea quae sunt vere a Christo tradita, sed ea quae sibi propna mens suggerit. Et ideo haeresis est infidelitatis species pertinens ad eos qui fidem Chnsti profitentur, sed eius dogmata corrumpunt.
(8) Ad primum ergo dicendum quod hoc modo electio pertinet ad infidelitatem sicut et voluntas ad fidem, ut supra dictum est.
(9) Ad secundum dicendum quod vitia habent speciem ex fine proximo, sed ex fine remoto habent genus et causam. Sicut cum aliquis moechatur ut furetur, est ibi quidem species moechiae ex propno fine et obiecto, sed ex fine
Раздел 2. Действительно ли ересь как таковая относится к вопросам веры
141
стия и объемлется им как следствие — причиной, или как вид — родом, сообразно тому, что было ранее сказано о действиях в общем (Ч. II-I, В. 18, Р. 7). Точно так же в данном случае ближайшая цель ереси заключается в том, чтобы держаться собственного ложного суждения — и это сообщает ереси вид. А удаленная цель показывает ее род, а именно, то, что она является следствием гордыни или вожделения.
(ю) На третье надлежит ответить, что, согласно Исидору, как «ересь» происходит от «выбора», так и «секта» — от «следования» [выбору], и потому ересь и секта суть одно и то же. А делам плоти они принадлежат, конечно, не из-за самого акта неверия применительно к ближайшему объекту, а из-за своей причины, а именно, из-за желания недолжной цели, сообразно тому, что они возникают из гордыни или вожделения, как уже сказано, или из некоей фантасматичес- кой иллюзии, которая есть начало заблуждения, как говорит Философ в IV книге «Метафизики», ведь фантасия некоторым образом относится к плоти — постольку, поскольку ее действие зависит от телесного органа.
Раздел 2
Действительно ли ересь как таковая относится к вопросам веры
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что ересь как таковая не относится к вопросам веры.
(12) 1. В самом деле, ереси и секты быва¬
ют не только у христиан, но, как говорит Исидор, они были и у иудеев, и у фарисеев. Но их споры не касались вопросов веры. Следовательно, ересь не относится к вопросам веры как к собственной материи.
(13) 2. Кроме того, материя веры — это те вещи, в которые верят. Но ересь относится не только к вещам, но также и к словам, и к трактовкам св. Писания. В самом деле, Иероним говорит, что любой, кто при толковании Писания отклоняется от того смысла, который вложил в него писавший его Святой Дух, может быть назван еретиком, даже если он не оставлял Церкви. И в другом месте он говорит, что ересь возникает из неосторожно сказанных слов. Следовательно, ересь как таковая не относится к вопросам веры.
ultimo ostenditur quod moechia ex furto oritur, et sub eo continetur sicut effectus sub causa vel sicut species sub genere, ut patet ex his quae supra de actibus dicta sunt in communi (II-I, q. 18, a. 7). Unde et similiter in proposito finis proximus haeresis est adhaerere falsae sententiae propriae, et ex hoc speciem habet. Sed ex fine remoto ostenditur causa eius, scilicet quod ontur ex superbia vel cupiditate.
(10) Ad tertium dicendum quod, sicut haeresis dicitur ab eligendo, ita secta a sectando, sicut Isidorus dicit, in libro Etymol. (VIII, 3; PL 82, 296), et ideo haeresis et secta idem sunt. Et utrumque pertinet ad opera camis, non quidem quantum ad ipsum actum infidelitatis respectu proximi obiecti, sed ratione causae, quae est vel appetitus finis indebiti, secundum quod oritur ex superbia vel cupiditate, ut dictum est; vel etiam aliqua phantastica illusio, quae est errandi principium, ut etiam Philosophus dicit, in IV Metaphys. (5; 101 Ob 1 ) ; phantasia autem quodammodo ad camem pertinet, inquantum actus eius est cum organo corporali.
Articulus 2
Utrum haeresis sit proprie circa ea quae sunt fidei
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod haeresis non sit proprie circa ea quae sunt fidei.
(12) 1. Sicut enim sunt haereses et sectae in Christianis, ita etiam fuerunt in Iudaeis et Pharisaeis, sicut Isidorus dicit, in libro Etymol. (VIII, 4; PL 82, 297). Sed eorum dissensiones non erant circa ea quae sunt fidei. Ergo haeresis non est circa ea quae sunt fidei sicut circa propriam materiam.
(13) 2. Praeterea, materia fidei sunt res quae creduntur. Sed haeresis non solum est circa res, sed etiam circa verba, et circa expositiones sacrae Scripturae. Dicit enim Hieronymus (In Gal. 6, 19; 3; PL 26, 443) quod quicumque aliter Scripturam intelligit quam sensus spiritus sancti efflagitat, a quo scripta est, licet ab Ecclesia non recesserit, tamen haereticus appellari potest, et alibi dicit quod ex verbis inordinate prolatis fit haeresis (Glossa ordin. super Os 2, 16; 4, 336 A). Ergo haeresis non est proprie circa matenam fidei.
142
Вопрос 11. О противоположных вере пороках, что касается ереси
(и) 3. Кроме того, мнения святых учите¬
лей относительно вопросов веры иногда разнятся (как разнятся, например, мнения Августина и Иеронима относительно освобождения от соблюдения требований ветхого закона), но в этом нет никакой ереси. Следовательно, ересь как таковая не относится к вопросам веры.
(15) Но против: Августин говорит: Те, которые в Церкви Христовой мыслят что-нибудь вредное и превратное, когда принятым к направлению их на здравый и правильный образ мыслей мерам упорно сопротивляются и не хотят исправить своих зловредных и пагубных учений, делаются еретиками. Но зловредные и пагубные учения суть то, что противоречит догматам веры, благодаря которым праведный верой жив будет (Рим 1, 17). Следовательно, ересь относится к вопросам веры как к собственной материи.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что здесь мы говорим о ереси как о том, что подразумевает разрушение христианской веры. Но веру разрушает не ложное мнение относительно того, что не относится к вере, например, относительно вопросов геометрии и тому подобного, что никоим образом не касается веры, но только ложное
мнение относительно того, что принадлежит вере. Однако, как было показано выше (Ч. I, В. 32, Р. 4), нечто относится к вере в двух смыслах: во-первых, непосредственно и первично, как, например, догматы веры; во-вторых, косвенно и вторично, как то, что может привести к разрушению некоторых положений веры. Следовательно, ересь, как и вера, может иметь место по отношению и к первому, и ко второму.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что как ереси иудеев и фарисеев были связаны с некими мнениями, относящимися к иудаизму и фарисейству, точно так же и христианские ереси относятся к вопросам, затрагивающим христианскую веру.
(18) На второе надлежит ответить, что о человеке говорится, что он в толковании Писания отклоняется от того смысла, который вложил в него Святой Дух, когда он дает настолько извращенную трактовку, что она явно противоречит тому, что открыто Духом Святым. Поэтому о лжепророках сказано (Иез 13,6): Они обнадеживают, что слово сбудется, т. е. обнадеживают ложным толкованием св. Писания. Кроме того, как уже было сказано (В. 3, Р. 1), человек исповедует свою веру при помощи слов, ведь исповедание есть акт веры. По-
(14) 3. Praeterea, etiam circa ea quae ad fidem pertinent inveniuntur quandoque sacri doctores dissentire, sicut Hieronymus (Epist. 112 ad Augustin.; PL 22, 291) et Augustinus (Epist. 82 ad Hieran., 2; PL 33, 281) circa cessationem legalium. Et tamen hoc est absque vitio haeresis. Ergo haeresis non est proprie circa materiam fidei.
(15) Sed contra est quod Augustinus dicit, Contra Manichaeos (De civit. Dei XVIII, 5; PL 41, 613), qui in Ecclesia Christi morbidum aliquid pravumque quid sapiunt, si correcti ut sanum rectumque sapiant, resistant contumaciter, suaque pestifera et mortifera dogmata emendare nolunt, sed defendere persistunt, haeretici sunt. Sed pestifera et mortifera dogmata non sunt nisi illa quae opponuntur dogmatibus fidei, per quam iustus vivit, ut dicitur Rom. I. Ergo haeresis est circa ea quae sunt fidei sicut circa propriam materiam.
(16) Respondeo dicendum quod de haeresi nunc loquimur secundum quod importat corruptionem fidei Christianae. Non autem ad corruptionem fidei Christianae pertinet si
aliquis habeat falsam opinionem in his quae non sunt fidei, puta in geometricalibus vel in aliis huiusmodi, quae omnino ad fidem pertinere non possunt, sed solum quando aliquis habet falsam opinionem circa ea quae ad fidem pertinent. Ad quam aliquid pertinet dupliciter, sicut supra dictum est (I, q. 32, a. 4), uno modo, directe et principaliter, sicut articuli fidei; alio modo, indirecte et secundario, sicut ea ex quibus sequitur corruptio alicuius articuli. Et circa utraque potest esse haeresis, eo modo quo et fides.
(17) Ad primum ergo dicendum quod sicut haereses Iudae- orum et Pharisaeorum erant circa opiniones aliquas ad Iudaismum vel Pharisaeam pertinentes, ita etiam Christianorum haereses sunt circa ea quae pertinent ad fidem Christi.
(18) Ad secundum dicendum quod ille dicitur aliter exponere sacram Scripturam quam spiritus sanctus efflagitat qui ad hoc expositionem sacrae Scripturae intorquet quod con- trariatur ei quod est per spiritum sanctum revelatum. Unde
Раздел 2. Действительно ли ересь как таковая относится к вопросам веры
143
этому неосторожные слова в вопросах веры могут привести к разрушению веры, отчего папа Лев в своем послании епископу александрийскому Протерию писал, что враги креста Христова стремятся оболгать каждое наше слово и дело, так что если мы предоставим им хоть наималейший повод, они сразу же ложно обвинят нас в согласии с Несторием.
(19) На третье надлежит ответить, что, как говорит Августин, и как сказано в «Декреталиях», если кто свое мнение, пусть даже ложное и извращенное, не защищает с упорством и пылом, но вдумчиво ищет истину, и готов по ее нахождении свое мнение исправить, такого человека никоим образом нельзя считать еретиком, потому, именно, что он не избирает учения, противоречащего учению Церкви. Поэтому некоторые учители могли иметь различные мнения по тем вопросам, которые не имеют отношения к вере, или даже по вопросам веры, которые, однако, на тот момент еще не были окончательно решены Церковью. Но если после такого решения, вынесен¬
ного на основании авторитета Вселенской Церкви, некто начнет ему упорно противиться, то его надлежит считать еретиком. А таким авторитетом обладает в первую очередь верховный понтифик. В самом деле, в «Декреталиях» сказано: Полагаю, что всякий раз, когда обсуждаются принципиальные вопросы веры, все наши братья и епископы должны адресовать их не иному кому, как Петру, источнику авторитета их имени. И против авторитета Петра ни Иероним, ни Августин, ни какой другой из святых учителей не защитит свое мнение. Поэтому Иероним и говорит: Такова, блаженнейший папа, та вера, которой мы научились в католической Церкви. Если же что- либо было выражено нами неправильно или небрежно, то просим тебя, хранителя веры и престола Петра, установить это должным образом. И если наше исповедание укрепится твоим апостольским суждением, то всякий, кто захочет меня обвинить, будет уличен или в невежестве, или в злонамеренности, или даже в том, что он не католик, а еретик.
dicitur Ezech. XIII de falsis prophetis quod perseveraverunt confirmare sermonem, scilicet per falsas expositiones Scripturae. Similiter etiam per verba quae quis loquitur suam fidem profitetur, est enim confessio actus fidei, ut supra dictum est (q. 3, a. 1). Et ideo si sit inordinata locutio circa ea quae sunt fidei, sequi potest ex hoc corruptio fidei. Unde Leo Papa in quadam epistola ad Proterium episcopum Alexandrinum, dicit (Epist. 129, 2; ML 54, 1076), quia inimici Christi crucis omnibus et verbis nostris insidiantur et syllabis, nullam illis vel tenuem occasionem demus qua nos Nestoriano sensui congruere mentiantur.
(19) Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus dicit (Epist. 43 ad Glorium, Eleusium, etc., 1; ML 33, 160), et habetur in Decretis (Gratianus, Decretum, p. II, causa 24, q. 3, can. 29: Dixit apostolus), si qui sententiam suam, quamvis falsam atque perversam, nulla pertinaci animositate defendunt, quaerunt autem cauta sollicitudine veritatem, corrigi parati cum invenerint, nequaquam sunt inter haereticos deputandi, quia scilicet non habent electionem contradicentem Ecclesiae doctnnae. Sic ergo aliqui doctores dis¬
sensisse videntur vel circa ea quorum nihil interest ad fidem utrum sic vel aliter teneatur; vel etiam in quibusdam ad fidem pertinentibus quae nondum erant per Ecclesiam determinata. Postquam autem essent auctoritate universalis Ecclesiae determinata, si quis tali ordinationi pertinaciter repugnaret, haereticus censeretur. Quae quidem auctoritas pnncipaliter residet in summo pontifice Dicitur enim (ibid., p. II, causa 24, q. 1, can. 12: Quoties), quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres nostros et coepiscopos non nisi ad Petrum, idest sui nominis auctoritatem, referre debere. Contra cuius auctontatem nec Hieronymus nec Augustinus nec aliquis sacrorum doctorum suam sententiam defendit. Unde dicit Hieronymus (cf. Pelfgius, Libellus Fidei ad Innocentium; PL 45, 1718), haec est fides, Papa beatissime, quam in Catholica didicimus Ecclesia. In qua si minus perite aut parum caute forte aliquid positum est, emendari cupimus a te, qui Petri fidem et sedem tenes. Si autem haec nostra confessio apostolatus tui iudicio comprobatur, quicumque me culpare voluerit, se imperitum vel malevolum, vel etiam non Catholicum sed haereticum, comprobabit.
144 Вопрос 11. О противоположных вере пороках, что касается ереси
Раздел 3 Следует ли терпеть еретиков
(20) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что еретиков следует терпеть.
(21) 1. В самом деле, сказано (2 Тим 2, 24-26) рабу же Господа должно не ссориться... а с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола. Но если относиться к еретикам нетерпимо и предавать их смерти, то у них не будет возможности покаяться. Следовательно, это против апостольской заповеди.
(22) 2. Кроме того, терпеть надлежит все то, что необходимо для Церкви. Но ереси необходимы для Церкви, поскольку, как говорит апостол (1 Кор И, 19), надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. Следовательно, как представляется, еретиков надлежит терпеть.
(23) 3. Кроме того, господин приказал своим слугам терпеть плевелы, оставив расти их до жатвы (Мф 13, 30), т. е. как поясняется далее, до кончины века. Но, как указывают святые, плевелы означают еретиков. Следовательно, еретиков надлежит терпеть.
(24) Но против: апостол говорит (Тит 3, 10-11): Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосуж- ден.
(25) Отвечаю: надлежит сказать, что касательно еретиков следует рассмотреть две [вещи]: одну со стороны их самих, а другую — со стороны Церкви. Со стороны еретиков следует рассмотреть грех, из-за которого они заслуживают не только отлучение от Церкви, но и устранение из мира через смертную казнь. В самом деле, извращение веры, которой живет душа, является более тяжким преступлением, чем чеканка фальшивых денег, которыми поддерживается временная жизнь. Поэтому если фальшивомонетчики и некоторые другие преступники сразу же справедливо осуждаются светской властью на смерть, то тем более еретики, после уличения в ереси, должны сразу же не только отлучаться от Церкви, но и с полным на то основанием предаваться смерти.
(26) Что же касается Церкви, то с ее стороны надлежит рассмотреть ее милосердие, связанное [с надеждой] на обращение заблудших. И потому она осуждает не сразу, но, как учит апостол, «после первого
Articulus 3 Utrum haeretici sint tolerandi
(20) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod haeretici sint tolerandi
(21) 1. Dicit enim apostolus, II ad Tim. II, servum Dei oportet mansuetum esse, cum modestia corripientem eos qui resistunt veritati, ne quando det illis poenitentiam Deus ad cognoscendam veritatem, et resipiscant a laqueis Diaboli. Sed si haeretici non tolerantur, sed morti traduntur, aufertur eis facultas poenitendi. Ergo hoc videtur esse contra praeceptum apostoli.
(22) 2. Praeterea, illud quod est necessanum in Ecclesia est tolerandum. Sed haereses sunt necessanae in Ecclesia, dicit enim apostolus, I ad Cor. XI, oportet haereses esse, ut et qui probati sunt manifesti fiant in vobis. Ergo videtur quod haeretici sunt tolerandi.
(23) 3. Praeterea, dominus mandavit, Matth. XIII, servis suis ut zizania permitterent crescere usque ad messem, quae est finis saeculi, ut ibidem exponitur. Sed per ziza¬
nia significantur haeretici, secundum expositionem sanctorum (cf. Chrysostomus, In Matth. 46; PG 58,473). Ergo haeretici sunt tolerandi.
(24) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Tit. III, haereticum hominem, post primam et secundam correptionem, devita, sciens quia subversus est qui eiusmodi est.
(25) Respondeo dicendum quod circa haereticos duo sunt consideranda, unum quidem ex parte ipsorum; aliud ex parte Ecclesiae. Ex parte quidem ipsorum est peccatum per quod meruerunt non solum ab Ecclesia per excommunicationem separari, sed etiam per mortem a mundo excludi. Multo enim gravius est corrumpere fidem, per quam est animae vita, quam falsare pecuniam, per quam temporali vitae subvenitur. Unde si falsani pecuniae, vel alii malefactores, statim per saeculares principes iuste morti traduntur; multo magis haeretici, statim cum de haeresi convincuntur, possent non solum excommunicari, sed et iuste occidi.
(26) Ex parte autem Ecclesiae est misericordia, ad errantium
Раздел 3. Следует ли терпеть еретиков
145
и второго вразумления». Но если и после этого еретик продолжает упорствовать, то Церковь, не надеясь более на его обращение, начинает заботиться о спасении других, отделяя его от Церкви через отлучение, а затем предает его светскому суду для устранения из мира через смертную казнь. Поэтому, как говорит Иероним, и как сказано в «Декреталиях», отсеките гниющую плоть, изгоните паршивую овцу из овчарни, дабы весь дом, все тесто, все тело, все стадо не сгорело, не пропало, не сгнило, не погибло. Арий был в Александрии одной искрой, но из-за того, что эту искру сразу не потушили, весь мир охватил пожар.
(27) Итак, на первое надлежит ответить, что эта кротость заключается во вразумлении еретика первый и второй раз. Но если он не пожелает отречься [от своей ереси], его следует считать «самоосужденным», как явствует из приведенных слов апостола.
(28) На второе надлежит ответить, что та польза, которую Церковь получает от ереси, происходит независимо от намерений еретиков, поскольку она состоит в испы¬
тании стойкости верных, как говорит апостол, и в том, чтобы, как говорит Августин, мы избавились от лени и с большим тщанием изучали Писание. А намерение еретиков состоит в разрушении веры, что крайне вредоносно. Следовательно, нам надлежит скорее принимать во внимание их собственное намерение и, соответственно, устранять их, нежели принимать во внимание то, что не входит в их намерение, и терпеть их.
(29) На третье надлежит ответить, что, как сказано в «Декреталиях», отлучение — это одно, а устранение — другое. Ведь, согласно апостолу (1 Кор 5, 5), отлучают для того, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса, Христа. Тем не менее, даже если бы все еретики были устранены посредством смертной казни, то это не противоречило бы заповеди Господа, которая относится к тому случаю, когда нельзя выбрать плевелы без того, чтобы не выдергать вместе с ними пшеницы, как уже говорилось выше, когда речь шла о неверии в общем (В. 10, Р. 8, на 1).
conversionem. Et ideo non statim condemnat, sed post pnmam et secundam correctionem, ut apostolus docet. Postmodum vero, si adhuc pertinax inveniatur, Ecclesia, de eius conversione non sperans, aliorum saluti providet, eum ab Ecclesia separando per excommunicationis sententiam; et ulterius relinquit eum iudicio saeculari a mundo exterminandum per mortem. Dicit enim Hieronymus (In Gal. 3, 5-9; 3; PL 26, 430), et habetur (Gratianus, Decretum, p. II, causa 24, q. 3, can. 16: Resecandae), resecandae sunt putridae carnes, et scabiosa ovis a caulis repellenda, ne tota domus, massa, corpus et pecora, ardeat, corrumpatur, putrescat, intereat. Arius in Alexandria una scintilla fuit, sed quoniam non statim oppressus est, totum orbem eius flamma populata est.
(27) Ad primum ergo dicendum quod ad modestiam illam pertinet ut primo et secundo corripiatur. Quod si redire noluerit, iam pro subverso habetur, ut patet in auctoritate apostoli inducta.
(28) Ad secundum dicendum quod utilitas quae ex haeresi-
bus provenit est praeter haereticorum intentionem, dum scilicet constantia fidelium comprobatur, ut apostolus dicit; et ut excutiamus pigritiam, divinas Scripturas sollicitius intuentes, sicut Augustinus dicit {De Genesi contra Manich. 1,2; PL 34, 173). Sed ex intentione eorum est corrumpere fidem, quod est maximi nocumenti. Et ideo magis respiciendum est ad id quod est per se de eorum intentione, ut excludantur; quam ad hoc quod est praeter eorum intentionem, ut sustineantur.
(29) Ad tertium dicendum quod, sicut habetur in Decretis (Gratianus, Decretum, p. II, causa 24, q. 3, can. 37: Notandum), aliud est excommunicatio, et aliud eradicatio. Excommunicatur enim ad hoc aliquis, ut ait apostolus, ut spiritus eius salvus fiat in die domini. Si tamen totaliter eradicentur per mortem haeretici, non est etiam contra mandatum domini, quod est in eo casu intelligendum quando non possunt extirpari zizania sine extirpatione tntici, ut supra dictum est, cum de infidelibus in communi ageretur (q. 10, a. 8, ad 1).
146
Вопрос 11. О противоположных вере пороках, что касается ереси
Раздел 4
Следует ли принимать вернувшихся к вере
(30) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что отвратившихся от ереси Церковь должна принимать в любом случае.
(31) 1. В самом деле, сказано от лица Господа (Иер 3, I): «Ты со многими любовниками блудодействовала — и однако же возвратись ко Мне», говорит Господь (Иер. 3, 1). Но суд Церкви — это суд Божий, согласно сказанному (Втор 1, 17): Как малого, так и великого выслушивайте', не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божие. Следовательно, даже виновные в блуде неверия, то есть в духовном блуде, должны быть приняты несмотря ни на что.
(32) 2. Кроме того, Господь заповедал Петру прощать согрешающему брату не «до семи», а «до седмижды семидесяти раз» (Мф 18, 22), что, согласно Иерониму, означает, что человека надлежит прощать столько раз, сколько раз он согрешил. Следовательно, он должен быть принят Церковью столько раз, сколько раз он согрешил, впадая в ересь.
(33) 3. Кроме того, ересь — это некое неверие. Но других неверных, которые желают обратиться, Церковь принимает. Следова¬
тельно, надо принимать и еретиков.
(34) Но против: в «Декреталиях» сказано: Тот, кто ранее отрекся от еретического заблуждения, если будет уличен в том, что вновь впал в него, должен быть передан светскому суду. Следовательно, таких Церковь принимать не должна.
(35) Отвечаю: надлежит сказать, что Церковь, сообразно господнему установлению, распространяет свою любовь на всех — не только на друзей, но и на недругов, преследующих ее, согласно сказанному (Мф 5, 44): Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Однако это относится к любви-каритас — благоволить и благотворить ближнему. Но благо двойственно. Одно — это духовное благо, а именно здоровье души, с каковым благом прежде всего соотносится любовь-каритас, ведь именно его мы должны желать другим в силу любви-каритас. И насколько речь идет об этом, возвращающиеся еретики, сколько бы раз они не согрешили, должны приниматься Церковью к покаянию, посредством которого им открывается путь к спасению.
(36) А другое благо — то, которое соотносится с любовью-каритас во вторую очередь, а именно, временное благо (напри-
Articulus 4 Utram revertentes ad fidem sint recipiendi
(30) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod revertentes ab haeresi sint omnino ab Ecclesia recipiendi.
(31) 1. Dicitur enim Ierem. III, ex persona domini, fornicata es cum amatoribus multis, tamen revertere ad me, dicit dominus. Sed Ecclesiae iudicium est iudicium Dei, secundum illud Deut. I, ita parvum audietis ut magnum, neque accipietis cuiusquam personam, quia Dei iudicium est. Ergo si aliqui fornicati fuerint per infidelitatem, quae est spiritualis fornicatio, nihilominus sunt recipiendi.
(32) 2. Praeterea, dominus, Matth. XVIII, Petro mandat ut fratri peccanti dimittat non solum septies, sed usque septuagies septies, per quod intelligitur, secundum expositionem Hieronymi (In Matth. 18, 22; 3; PL 26, 137), quod quotiescumque aliquis peccaverit, est ei dimittendum. Ergo quotiescumque aliquis peccaverit in haeresim relapsus, erit ab Ecclesia suscipiendus.
(33) 3 Praeterea, haeresis est quaedam infidelitas Sed alii
infideles volentes converti ab Ecclesia recipiuntur. Ergo etiam haeretici sunt recipiendi.
(34) Sed contra est quod decretalis dicit (Décrétai. Gregor., IX, 5, tit. 7. 9): Ad abolendam, quod si aliqui, post abiurationem erroris, deprehensi fuerint in abiuratam haeresim recidisse, saeculari iudicio sunt relinquendi. Non ergo ab Ecclesia sunt recipiendi.
(35) Respondeo dicendum quod Ecclesia, secundum domini institutionem, caritatem suam extendit ad omnes, non solum amicos, verum etiam immicos et persequentes, secundum illud Matth. V, diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos. Pertinet autem ad caritatem ut aliquis bonum proximi et velit et operetur. Est autem duplex bonum. Unum quidem spirituale, scilicet salus animae, quod principaliter respicit caritas, hoc enim quilibet ex caritate debet alii velle. Unde quantum ad hoc, haeretici revertentes, quotiescumque relapsi fuerint, ab Ecclesia recipiuntur ad poenitentiam, per quam impenditur eis via salutis.
(36) Aliud autem est bonum quod secundario respicit caritas,
Раздел 4. Следует ли принимать вернувшихся к вере
147
мер, телесная жизнь, мирское имущество, доброе имя, церковное или светское достоинство). В самом деле, любовь-каритас обязывает нас желать всего этого ближним лишь ради вечного спасения их самих и других людей. Следовательно, если наличие одного из этих благ у какого-то одного человека может воспрепятствовать вечному спасению многих людей, то мы не должны из любви-каритас желать ему такого блага; скорее, наоборот, мы должны желать, чтобы этого блага у него не было — как потому, что вечное спасение предпочтительней временного блага, так и потому, что благо многих предпочтительней блага одного. Но если бы возвращающихся еретиков принимали всегда, так, чтобы их жизнь и другие временные блага сохранялись, то это могло бы угрожать спасению других: как потому, что они, снова и снова отпадая, могли бы заразить ересью других, так и потому, что если бы они избегали наказания, то и другие с большей беспечностью впадали бы в ересь; поэтому и говорится (Еккл 8, 11): Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Поэтому Церковь не только принимает к покаянию тех, кто впер¬
вые отвратился от ереси, но и сохраняет им жизнь, а иногда даже восстанавливает в прежнем церковном сане, если обращение кающегося представляется искренним (как мы знаем, это часто делалось ради блага мира). Но если они после этого отпадают снова, то это, судя по всему, является знаком их непостоянства в вере, и потому после нового возвращения они допускаются к покаянию, но не освобождаются от наказания смертью.
(37) Итак, на первое надлежит ответить, что на суде Божием принимаются все, кто отказался от ереси, поскольку Бог читает в сердцах и знает, кто обращается искренне. Но в этом отношении Церковь не может быть подобной Богу. Она предполагает, поэтому, что тот, кто был принят в первый раз, но затем снова отпал, не был искренен в своем обращении; и потому она, не закрывая перед ним путь к спасению, не защищает его от смертной казни.
(38) На второе надлежит ответить, что Господь говорил Петру о грехе, совершенном против самого человека; и такие прегрешения нужно прощать всегда, чтобы щадить раскаявшегося брата. Но эти слова не следует относить к тем грехам, которые совершены против ближнего или против Бога,
scilicet bonum temporale, sicuti est vita corporalis, possessio mundana, bona fama, et dignitas ecclesiastica sive saeculans. Hoc enim non tenemur ex cantate aliis velle nisi in ordine ad salutem aeternam et eorum et aliorum. Unde si aliquid de huiusmodi bonis existens in uno impedire possit aeternam salutem in multis, non oportet quod ex cantate huiusmodi bonum ei velimus, sed potius quod velimus eum illo carere, tum quia salus aetema praeferenda est bono temporali; tum quia bonum multorum praefertur bono unius. Si autem haeretici revertentes semper reciperentur ut conservarentur in vita et aliis temporalibus bonis, posset in praeiudicium salutis aliorum hoc esse, tum quia, si relaberentur alios inficerent; tum etiam quia, si sine poena evaderent, alii secunus in haeresim relaberentur; dicitur enim Eccle. VIII, ex eo quod non cito profertur contra malos sententia, absque timore ullo filii hominum perpetrant mala. Et ideo Ecclesia quidem pnmo revertentes ab haeresi non solum recipit ad poenitentiam, sed etiam conservat eos in vita, et interdum restituit eos dispensative ad ecclesiasticas dignitates quas prius habebant, si videantur vere conversi.
Et hoc pro bono pacis frequenter legitur esse factum. Sed quando recepti iterum relabuntur, videtur esse signum inconstantiae eorum circa fidem. Et ideo ultenus redeuntes recipiuntur quidem ad poenitentiam, non tamen ut liberentur a sententia mortis.
(37) Ad primum ergo dicendum quod in iudicio Dei semper recipiuntur redeuntes, quia Deus scrutator est cordium, et vere redeuntes cognoscit. Sed hoc Ecclesia imitari non potest. Praesumit autem eos non vere reverti qui, cum recepti fuissent, iterum sunt relapsi. Et ideo eis viam salutis non denegat, sed a periculo mortis eos non tuetur.
(38) Ad secundum dicendum quod dominus loquitur Petro de peccato in eum commisso, quod est semper dimittendum, ut fratri redeunti parcatur. Non autem intelligitur de peccato in proximum vel in Deum commisso, quod non est nostri arbitrii dimittere, ut Hieronymus dicit (Glossa ordin. super Mat 18, 15; 5, 56 F), sed in hoc est lege modus statutus, secundum quod congruit honori Dei et utilitati proximorum.
148
Вопрос 11. О противоположных вере пороках, что касается ереси
поскольку не мы решаем, прощать таковое или нет, как говорит Иероним; однако и для этого есть установленные законом рамки, подобающие славе Божией и пользе ближнего.
(39) На третье надлежит ответить, что ко¬
гда к вере обращаются другие неверные, которые ранее не принимали веру, еще ничто не свидетельствует об их непостоянстве в вере, как это имеет место в случае вновь отпадающих еретиков. И потому здесь нет подобия.
(39) Ad tertium dicendum quod alii infideles, qui nunquam aliquod signum inconstantiae circa fidem, sicut haeretici
fidem acceperant, conversi ad fidem nondum ostendunt relapsi. Et ideo non est similis ratio de utrisque.
Вопрос 12
О противоположных вере пороках, что касается отступничества
(!) Затем надлежит рассмотреть отступничество. И касательно этого рассматривается два [вопроса]: 1) действительно ли отступничество относится к неверию; 2) действительно ли подданные освобождаются от своих обязанностей по отношению к правителю в случае его отступничества.
Раздел 1
Действительно ли отступничество является неверием
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что отступничество не относится к неверию.
(3) 1. В самом деле, то, что является началом любого греха, не относится к неверию, поскольку многие грехи существуют и без неверия. Но отступничество, как кажется, является началом любого греха, ибо сказано (Сир 10, 14-15): Начало гордости — отступление человека от Бога, а затем добавлено: Ибо начало греха — гордость. Следовательно, отс¬
тупничество не относится к неверию.
(4) 2. Кроме того, неверие пребывает в разуме. Но отступничество, как кажется, пребывает скорее во внешнем действии или слове, или даже во внутренней воле, ибо сказано (Притч 12-14): Отступник, человек негодный, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими; коварство — в сердце его\ он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. В самом деле, если некто сделает обрезание или поклонится могиле Мухаммеда, то он будет считаться отступником. Следовательно, отступничество не относится непосредственно к неверию.
(5) 3. Кроме того, ересь, поскольку она относится к неверию, есть некий определенный вид неверия. Если, следовательно, отступничество относится к неверию, оно также должно быть определенным его видом. Но, как кажется, это не согласуется
Quaestio 12
De vitiis oppositis fidei quantum ad apostasiam
(1) Deinde considerandum est de apostasia. Et circa hoc quaeruntur duo. Pnmo, utrum apostasia ad infidelitatem pertineat. Secundo, utrum propter apostasiam a fide subditi absolvantur a dominio praesidentium apostatarum.
Articulus 1 Utrum apostasia ad infidelitatem pertineat
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod apostasia non pertineat ad infidelitatem.
(3) 1. Illud enim quod est omnis peccati pnncipium non videtur ad infidelitatem pertinere, quia multa peccata sine infidelitate existunt. Sed apostasia videtur esse omnis peccati principium, dicitur enim Eccli. X, initium superbiae hominis apostatare a Deo\ et postea subditur, initium omnis peccati superbia. Ergo apostasia non pertinet ad infidelitatem.
(4) 2. Praeterea, infidelitas in intellectu consistit. Sed apostasia magis videtur consistere in exterion opere vel sermone, aut etiam in intenori voluntate, dicitur enim Prov. VI, homo apostata vir inutilis, gradiens ore perverso, annuit oculis, terit pede, digito loquitur, pravo corde machinatur malum, et in omni tempore iurgia seminat. Si quis etiam se circumcideret, vel sepulcrum Mahumeti adoraret, apostata reputaretur. Ergo apostasia non pertinet directe ad infidelitatem.
(5) 3. Praeterea, haeresis, quia ad infidelitatem pertinet, est quaedam determinata species infidelitatis. Si ergo apostasia ad infidelitatem pertineret, sequeretur quod esset quaedam determinata species infidelitatis. Quod non videtur, secundum praedicta (q. 10). Non ergo apostasia ad infidelitatem pertinet.
150 Вопрос 12. О противоположных вере пороках,[\тт] что касается отступничества
со сказанным выше (В. 10). Следовательно, отступничество не относится к неверию.
(6) Но против: сказано (Ин 6, 66): Многие из учеников Его отошли, то есть отступились, а именно, те, о которых раньше Господь сказал (Ин 6, 64): Есть из вас некоторые неверные. Следовательно, отступничество относится к неверию.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что отступничество подразумевает некое отступление от Бога. И оно может происходить по-разному, в соответствии с различными способами единения человека и Бога. Ведь человек соединяется с Богом, во-первых, посредством веры; во-вторых, посредством правильной воли, которая повинуется Его заповедям; в-третьих, посредством некоторых особых [вещей], относящихся к совершению сверхдолжного, например монашества, священства или орденского служения. Однако при устранении последующего предшествующее сохраняется, но не наоборот. Поэтому человек может отступить от Бога, отказавшись от принятых монашеских обетов или от членства в духовном ордене, и это называется «отступничеством от монашества» или «от орденской жизни». Кроме того, человек отступает от Бога, если его ум противиться божественным за¬
поведям. Но, даже отступив от Бога этими двумя способами, он все еще может соединяться с Ним посредством веры. И если он оставит саму веру, то тогда, как представляется, он полностью отвратится от Бога. Поэтому безусловным и абсолютным является то отступничество, посредством которого человек отрекается от веры, и оно называется «вероотступничеством». И в этом безусловном смысле отступничество относится к неверию.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что это возражение относится ко второму типу отступничества, которое подразумевает, что воля отвергает божественные заповеди, что обнаруживается в любом смертном грехе.
(9) На второе надлежит ответить, что к вере относится не только вера, пребывающая в сердце, но и ее внешнее выражение в словах и делах, ведь исповедание есть действие веры. И в этом смысле к неверию относятся также и некоторые внешние слова или дела — постольку, поскольку они служат признаками неверия (так же, как признаки здоровья называют здоровыми). Что же касается приведенного авторитетного суждения, то оно относится прежде всего к вероотступничеству, хотя его можно отнести
(6) Sed contra est quod dicitur Ioan VI, multi ex discipulis eius abierunt retro, quod est apostatare, de quibus supra dixerat dominus, sunt quidam ex vobis qui non credunt. Ergo apostasia pertinet ad infidelitatem.
(7) Respondeo dicendum quod apostasia importat retrocessionem quandam a Deo. Quae quidem diversimode fit, secundum diversos modos quibus homo Deo coniungitur. Primo namque coniungitur homo Deo per fidem; secundo, per debitam et subiectam voluntatem ad obediendum praeceptis eius; tertio, per aliqua specialia ad supereroga- tionem pertinentia, sicut per religionem et clericaturam vel sacrum ordinem. Remoto autem posteriori remanet prius, sed non convertitur. Contingit ergo aliquem apostatare a Deo retrocedendo a religione quam professus est, vel ab ordine quem suscepit, et haec dicitur apostasia religionis seu ordinis. Contingit etiam aliquem apostatare a Deo per mentem repugnantem divinis mandatis. Quibus duabus apostasiis existentibus, adhuc potest remanere homo Deo coniunctus per fidem. Sed si a fide discedat, tunc
omnino a Deo retrocedere videtur. Et ideo simpliciter et absolute est apostasia per quam aliquis discedit a fide, quae vocatur apostasia perfidiae. Et per hunc modum apostasia simpliciter dicta ad infidelitatem pertinet.
(8) Ad primum ergo dicendum quod obiectio illa procedit de secunda apostasia, quae importat voluntatem a mandatis Dei resilientem, quae invenitur in omni peccato mortali.
(9) Ad secundum dicendum quod ad fidem pertinet non solum credulitas cordis, sed etiam protestatio interioris fidei per extenora verba et facta, nam confessio est actus fidei. Et per hunc etiam modum quaedam exteriora verba vel opera ad infidelitatem pertinent, inquantum sunt infidelitatis signa, per modum quo signum sanitatis sanum dicitur. Auctoritas autem inducta, etsi possit intelli- gi de omni apostasia, venssime tamen convenit in apostasia a fide. Quia enim fides est pnmum fundamentum sperandarum rerum, et sine fide impossibile est placere Deo; sublata fide, mhil remanet in homine quod possit esse utile ad salutem aeternam; et propter hoc primo dicitur, homo
Раздел 2. Об отношении подданных к правителям-отступникам
151
и ко всем видам отступничества. В самом деле, коль скоро вера является первоосновой всех тех вещей, на которые надлежит надеяться, и коль скоро без веры угодить Богу невозможно, то после устранения веры в человеке не остается ничего, что было бы годным для обретения вечного спасения. И потому сказано вначале: Вероотступник, человек негодный. В самом деле, вера есть жизнь души, согласно этим словам (Рим 1, 17): Праведный верою жив будет. Поэтому как с уходом телесной жизни все члены и части человека теряют присущие им предрасположенности, так и с уходом праведной жизни, каковая имеет место благодаря вере, во всех членах человека возникает неупорядоченность. Во-первых, в его устах, при помощи которых главным образом выражает себя его сердце; во-вторых, в его глазах; в- третьих, в органах, обеспечивающих движение; в-четвертых, в его воле, которая склоняется к злу. И затем он начинает «сеять раздоры», стремясь и других отвратить от веры, как отвращен он сам.
(ю) На третье надлежит ответить, что виды некоего качества или формы не различаются на основании пределов движения «от которого» или «к которому»; ско¬
рее, наоборот, это движение получает свой вид от своих пределов. Но при движении от веры отступничество относится к неверию как предел «к которому» [происходит движение], и потому оно образует не отдельный вид неверия, а некое отягчающее обстоятельство, согласно сказанному (2 Петр 2, 21): Лучше бы им не познать правды, нежели, познав, возвратиться назад.
Раздел 2 Действительно ли подданные освобождаются от своих обязанностей по отношению к правителям в случае их отступничества (и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что правитель, если он отпадет от веры, не лишается власти над подданными, которые обязаны ему подчиняться.
(12) 1. В самом деле, Амвросий говорит, что
император Юлиан, хотя и был отступником, командовал солдатами-христианами, и они, когда тот обратился к ним с призывом встать в строй и защищать государство, подчинились. Следовательно, подданные не освобождаются от своих обязанностей, если их господин отступает от веры.
apostata vir inutilis. Fides etiam est vita animae, secundum illud Rom. I, iustus ex fide vivit. Sicut ergo, sublata vita corporali, omnia membra et partes hominis a debita dispositione recedunt; ita, sublata vita iustitiae, quae est per fidem, apparet inordinatio in omnibus membris. Et primo quidem in ore, per quod maxime manifestatur cor; secundo, in oculis; tertio, in instrumentis motus; quarto, in voluntate, quae ad malum tendit. Et ex his sequitur quod iurgia seminet, alios intendens separare a fide, sicut et ipse recessit.
( 10) Ad tertium dicendum quod species alicuius qualitatis vel formae non diversificatur per hoc quod est terminus motus a quo vel ad quem, sed potius e converso secundum terminos motuum species attenduntur. Apostasia autem respicit infidelitatem ut terminum ad quem est motus recedentis a fide. Unde apostasia non importat determinatam speciem infidelitatis, sed quandam circumstantiam aggravantem, secundum illud II Pet. II, melius erat eis veritatem non cognoscere quam post agnitam retroire.
Articulus 2
Utrum propter apostasiam a fide, subditi absolvantur a dominio praesidentium apostatarum
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod princeps propter apostasiam a fide non amittat dominium in subditos, quin ei teneantur obedire.
(12) 1. Dicit enim Ambrosius (cf. Augustinus, Enarr. in Psalm. 124, 3; PL 37, 1654) quod Iulianus imperator, quamvis esset apostata, habuit tamen sub se Christianos milites, quibus cum dicebat, producite aciem pro defensione reipublicae, obediebant ei (cf. Gratianus, Decretum, p. II, causa 11, q. 3, can. 94: Iulianus). Ergo propter apostasiam principis subditi non absolvuntur ab eius dominio.
152 Вопрос 12. О противоположных вере пороках,[\тт\ что касается отступничества
(13) 2. Кроме того, отступник является неверным. Но мы знаем, что некоторые святые честно служили неверным правителям, например, Иосиф — фараону, Даниил — Навуходоносору, Мардохей — Ас- суиру. Следовательно, вероотступничество правителя не освобождает подданных от подчинения ему.
(14) 3. Кроме того, от Бога отдаляются как отступлением от веры, так и совершением любого другого греха. Если, следовательно, из-за вероотступничества правитель лишается власти над верующими подданными, то на том же основании он должен лишаться ее из-за любого другого греха. Но это очевидным образом ложно. Следовательно, вероотступничество правителя не освобождает от подчинения ему.
(15) Но против: папа Григорий VII говорит: В соответствии с установлениями наших святых предшественников, мы своей апостольской властью освобождаем от обязательств тех, кто в силу своей верности или своей клятвы продолжает пребывать в подчинении у отлученных персон. Мы запрещаем любые проявления верности по отношению к ним вплоть до их исправления. Но, согласно «Декреталиям», вероотступники, как и еретики, отлучены. Следовательно,
нельзя повиноваться правителям, которые отступили от веры.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше (В. 10, Р. 10), неверие само по себе не исключает господства, ведь политическая власть учреждается сообразно праву народов, т. е. сообразно человеческому праву, а различие между верными или неверными имеет место сообразно божественному праву, которое не устраняет человеческое право. Но тот, кто грешит неверием, как и некоторыми другими грехами, может быть приговорен к лишению права на власть. Однако Церковь не может наказывать неверие тех, кто никогда не принимал веру, согласно этим словам (1 Кор 5, 12): Что мне судить и внешних? Но она может приговорить к наказанию за неверие тех, кто ранее принял веру. И таким справедливым наказанием является лишение вероотступников власти над сохраняющими веру подданными, так как сохранение их власти могло бы привести к еще большему ущербу для веры, поскольку, как уже было сказано, отступник... умышляет зло во всякое время, сеет раздоры, чтобы оттолкнуть других от веры. Поэтому, как только человека из-за вероотступничества отлучают от Церкви, его подданные
(13) 2. Praeterea, apostata a fide infidelis est. Sed infidelibus Gregor. IX, 5, tit. 7, 9: Ad abolendam). Ergo principibus
dominis inveniuntur aliqui sancti vin fideliter servisse, si- apostatantibus a fide non est obediendum.
eut Ioseph Pharaoni, et Daniel Nabuchodonosor, et Mar- (16) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (q. 10,
dochaeus Assuero. Ergo propter apostasiam a fide non est dimittendum quin pnneipi obediatur a subditis.
(14) 3. Praeterea, sicut per apostasiam a fide receditur a Deo, ita per quodlibet peccatum. Si ergo propter apostasiam a fide perderent principes ius imperandi subditis fidelibus, pari ratione propter alia peccata hoc amitterent. Sed hoc patet esse falsum. Non ergo propter apostasiam a fide est recedendum ab obedientia principum.
(15) Sed contra est quod Gregorius VII dicit, nos, sanctorum praedecessorum statuta tenentes, eos qui excommunicatis fidelitate aut sacramento sunt constricti, apostolica auctoritate a sacramento absolvimus, et ne sibi fidelitatem observent omnibus modis prohibemus, quousque ad satisfactionem veniant (cf. Gratianus, Decretum, p. II, causa 15, q. 6, can. 4: Nos sanctorum). Sed apostatae a fide sunt excommunicati, sicut et haeretici, ut dicit decretalis ad abolendam (Decretales
a. 10), infidelitas secundum seipsam non repugnat dominio, eo quod dominium introductum est de iure gentium, quod est ius humanum; distinctio autem fidelium et infidelium est secundum ius divinum, per quod non tollitur ius humanum. Sed aliquis per infidelitatem peccans potest sententialiter ius dominii amittere, sicut et quandoque propter alias culpas. Ad Ecclesiam autem non pertinet pumre infidelitatem in illis qui nunquam fidem susceperunt, secundum illud apostoli, I ad Cor. V, quid mihi de his qui foris sunt iudicare? Sed infidelitatem illorum qui fidem susceperunt potest sententialiter punire. Et convenienter in hoc puniuntur quod subditis fidelibus dominari non possint, hoc enim vergere posset in magnam fidei corruptionem; quia, ut dictum est, homo apostata suo corde machinatur malum et iurgia seminat, intendens homines separare a fide. Et ideo quam cito aliquis per sen-
Раздел 2. Об отношении подданных к правителям-отступникам
153
уже просто в силу самого этого факта освобождаются от его власти и от обязательств, которые налагают на них данные ему клятвы в верности.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что в те времена молодая Церковь не обладала могуществом, позволяющим ограничивать мирских правителей. Поэтому она допускала, чтобы верные подчинялись Юлиану Отступнику в том, что не противоречи¬
ло вере, дабы избежать еще больших опасностей для веры.
(18) На второе надлежит ответить, что, как уже было сказано (в Отв.), это не распространяется на тех неверующих, которые не принимали веры.
(19) На третье надлежит ответить, что как уже было сказано (Р. 1), вероотступничество полностью отделяет человека от Бога, чего не происходит ни при каком ином грехе.
tentiam denuntiatur excommunicatus propter apostasiam a fide, ipso facto eius subditi sunt absoluti a dominio eius et iuramento fidelitatis quo ei tenebantur.
(17) Ad primum ergo dicendum quod illo tempore Ecclesia, in sui novitate, nondum habebat potestatem terrenos pnncipes compescendi. Et ideo toleravit fideles Iuliano apostatae obedire in his quae non erant contra fidem, ut
maius fidei periculum vitaretur.
(18) Ad secundum dicendum quod alia ratio est de aliis infidelibus, qui nunquam fidem susceperunt, ut dictum est (in corp.).
(19) Ad tertium dicendum quod apostasia a fide totaliter separat hominem a Deo, ut dictum est (a. 1), quod non contingit in quibuscumque aliis peccatis.
Вопрос 13
О пороках, противоположных исповеданию веры. И во-первых, о богохульстве в общем
(1) Затем надлежит рассмотреть грех богохульства, который противоположен исповеданию веры. И во-первых, богохульство в общем, а во-вторых, то богохульство, которое называют хулой на Духа Святого (В. 14). И касательно первого исследуются четыре [проблемы]: 1) действительно ли богохульство противоположно исповеданию веры; 2) всегда ли богохульство является смертным грехом; 3) является ли богохульство тягчайшим грехом; 4) богохульствуют ли проклятые.
Раздел 1 Действительно ли богохульство противоположно исповеданию веры
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что богохульство не противоположно исповеданию веры.
(3) 1. В самом деле, богохульствовать — значит словесно хулить, или поносить Творца. Но это скорее относится к ненависти к Богу,
чем к неверию. Следовательно, богохульство не противоположно исповеданию веры.
(4) 2. Кроме того, глосса к этим словам (Ефес 4, 31), богохульство... да будет удалено от вас, утверждает: то именно, которое направлено против Бога или святых. Но исповедание веры, как представляется, не относится ни к чему, кроме Бога, Который является объектом веры. Следовательно, богохульство не всегда противоположно исповеданию веры.
(5) 3. Кроме того, некоторые говорят, что есть три вида богохульства. Первый — когда Богу приписывается нечто неподобающее; второй — когда отрицается наличие в Нем того, что Ему подобает; третий — когда нечто, собственное для Бога, приписывается творению. И потому, как кажется, богохульство касается не только Бога, но и Его творения. Но объектом веры является Бог. Следовательно, богохульство не противоположно исповеданию веры.
Quaestio 13
De vitiis oppositis confessioni fidei. Et primo de blasphemia in generali
(1) Deinde considerandum est de peccato blasphemiae, quod opponitur confessioni fidei. Et primo, de blasphemia in generali; secundo, de blasphemia quae dicitur peccatum in spintum sanctum. Circa primum quaeruntur quatuor. Primo, utrum blasphemia opponatur confessioni fidei. Secundo, utrum blasphemia semper sit peccatum mortale. Tertio, utrum blasphemia sit maximum peccatorum. Quarto, utrum blasphemia sit in damnatis.
Articulus 1 Utrum blasphemia opponatur confessioni fidei
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod blasphemia non opponatur confessioni fidei.
(3) 1. Nam blasphemare est contumeliam vel aliquod convicium inferre in iniuriam creatoris. Sed hoc magis pertinet ad malevolentiam contra Deum quam ad infidelitatem. Er¬
go blasphemia non opponitur confessioni fidei.
(4) 2. Praeterea, ad Ephes. IV, super illud, blasphemia tollatur a vobis, dicit Glossa (Petri Lombardi; PL 192, 208), quae fit in Deum vel in sanctos. Sed confessio fidei non videtur esse nisi de his quae pertinent ad Deum, qui est fidei obiectum. Ergo blasphemia non semper opponitur confessioni fidei.
(5) 3. Praeterea, a quibusdam dicitur quod sunt tres blasphemiae species (Alexandr. de Hales, Summa theol., p. II, n. 474; QR III, 464), quarum una est cum attribuitur Deo quod ei non convenit; secunda est cum ab eo removetur quod ei convenit; tertia est cum attribuitur creaturae quod Deo appropriatur. Et sic videtur quod blasphemia non solum sit circa Deum, sed etiam circa creaturas Fides autem habet Deum pro obiecto. Ergo blasphemia non opponitur confessioni fidei.
Раздел 1. Действительно ли богохульство противоположно исповеданию веры
155
) Но против: апостол говорит (1 Тим 1,
13): Меня, который прежде был хулитель, и гонитель; и далее: Так поступал по неведению, в неверии. Следовательно, как представляется, богохульство относится к неверию.
) Отвечаю: надлежит сказать, что имя богохульства, как представляется, подразумевает некое умаление чьей-либо благости, прежде всего, благости Божией. Но Бог, как говорит Дионисий, есть сама сущность благости. Следовательно, все, что подобает Богу, относится к Его благости, а все, что не подобает Ему, далеко отстоит от смыслового содержания совершенной благости, которая является Его сущностью. Следовательно, любой, кто отрицает то, что подобает Богу, или приписывает Ему то, что не подобает, умаляет божественную благость. Но это может происходить двумя способами. Во-первых, только сообразно мнению в разуме; во-вторых, в соединении с неким аффектом ненависти, наподобие того, как вера в Бога, наоборот, совершенствуется любовью к Нему. Таким образом, это умаление божественной благости может иметь место либо только сообразно разуму, или также сообразно аффекту. И если оно имеется только в сердце, то это — бо¬
гохульство сердца, а если оно выражается вовне при помощи слова, то это — богохульство уст. И в этом смысле богохульство противоположно исповеданию веры.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что тот, кто хулит Бога из желания оскорбить Его, принижает божественную благость не только сообразно ложности [суждения] своего разума, но также и сообразно извращенности своей воли, которая ненавидит Бога и желает воспрепятствовать, насколько это возможно, Его прославлению. И это богохульство является совершенным.
(9) На второе надлежит ответить, что как Бог прославляется в своих святых (постольку, поскольку прославляются те деяния, которые Он совершает через них), так и богохульство, обращенное против святых, соответственно, направлено против Бога.
(ю) На третье надлежит ответить, что, строго говоря, сообразно этим трем [вещам] различить виды греха богохульства нельзя. В самом деле, утверждение неподобающего и отрицание подобающего относительно Бога отличаются только сообразно утверждению и отрицанию. Но такое различие хабитусов, понятно, не производит различие по виду, так как ложность
(6) Sed contra est quod apostolus dicit, I ad Tim. I, prius fui blasphemus et persecutor,; et postea subdit, ignorans feci in incredulitate. Ex quo videtur quod blasphemia ad infidelitatem pertineat.
(7) Respondeo dicendum quod nomen blasphemiae importare videtur quandam derogationem alicuius excellentis bonitatis, et praecipue divinae. Deus autem, ut Dionysius dicit, I cap. De div. nom. (1,5; PG 3, 593), est ipsa essentia bonitatis. Unde quidquid Deo convenit pertinet ad bonitatem ipsius; et quidquid ad ipsum non pertinet longe est a ratione perfectae bonitatis, quae est eius essentia. Quicumque igitur vel negat aliquid de Deo quod ei convenit, vel assent de eo quod ei non convenit, derogat divinae bonitati. Quod quidem potest contingere dupliciter, uno quidem modo, secundum solam opinionem intellectus; alio modo, coniuncta quadam affectus detestatione, sicut e contrano fides Dei per dilectionem perficitur ipsius Huiusmodi igitur derogatio divinae bonitatis est vel secundum intellectum tantum; vel etiam secundum affec¬
tum. Si consistat tantum in corde, est cordis blasphemia. Si autem exterius prodeat per locutionem, est oris blasphemia. Et secundum hoc blasphemia confessioni opponitur.
(8) Ad primum ergo dicendum quod ille qui contra Deum loquitur convicium inferre intendens, derogat divinae bonitati non solum secundum veritatem intellectus, sed etiam secundum pravitatem voluntatis detestantis et impedientis pro posse divinum honorem. Quod est blasphemia perfecta.
(9) Ad secundum dicendum quod sicut Deus in sanctis suis laudatur, inquantum laudantur opera quae Deus in sanctis efficit; ita et blasphemia quae fit in sanctos ex consequenti in Deum redundat.
(10) Ad tertium dicendum quod secundum illa tria non possunt, proprie loquendo, distingui diversae species peccati blasphemiae. Attnbuere enim Deo quod ei non convenit, vel removere ab eo quod ei convenit, non differt nisi secundum affirmationem et negationem. Quae quidem diversitas
156
Вопрос 13. О богохульстве в общем
утверждений и отрицаний познается одним и тем же знанием, а ошибка в обоих случаях проистекает из одного и того же незнания, ибо, как сказано во «Второй аналитике», отрицание доказывается через утверждение. И, как представляется, приписывание творению того, что является собственным для Бога, есть то же, что приписывание Богу того, что Ему не подобает: в самом деле, все, что собственно Богу, есть сам Бог, и приписывать творению то, что собственно Богу, значит утверждать, что Бог есть то же, что и творение.
Раздел 2 Всегда ли богохульство является смертным грехом
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что богохульство не всегда является смертным грехом.
(12) 1. В самом деле, глосса к этим сло¬
вам (Кол 3, 8), теперь вы отложите все и т. д., утверждает: Запретив большие [грехи], запрещает малые; и среди них упомянуто богохульство. Следовательно, богохульство относится к малым, т. е. простительным грехам.
(в) 2. Кроме того, каждый смертный грех
противоположен одной из заповедей Декалога. Но богохульство, как кажется, не противоположно ни одной из них. Следовательно, богохульство не является смертным грехом.
(14) 3. Кроме того, грехи, которые совершаются необдуманно, не являются смертными, сообразно чему уже было сказано (Ч. II-I, В. 74, Р. 3, на 3; Р. 10), что первые побуждения не являются смертными грехами, поскольку им не предшествует размышление. Но богохульство иногда имеет место без размышления. Следовательно, оно не всегда является смертным грехом.
(15) Но против: сказано (Лев 24, 16): Хулитель имени Господня должен умереть. Но наказание смертью налагается только за смертный грех. Следовательно, богохульство является смертным грехом.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Ч. II-I, В. 72, Р. 5), смертным является тот грех, из-за которого человек отдаляется от первого начала духовной жизни, каковым является любовь Бо- жия. Поэтому все, что противно любви, является по своему роду смертным грехом. Но богохульство противоположно божественной любви по своему роду, посколь-
habitus speciem non distinguit, quia per eandem scientiam innotescit falsitas affirmationum et negationum, et per eandem ignorantiam utroque modo erratur, cum negatio probetur per affirmationem, ut habetur I Poster. (25; 86b28). Quod autem ea quae sunt Dei propria creatuns attribuantur, ad hoc pertinere videtur quod aliquid ei attribuatur quod ei non conveniat. Quidquid enim est Deo proprium est ipse Deus, attribuere ergo id quod Dei proprium est alicui creaturae est ipsum Deum dicere idem creaturae.
Articulus 2
Utram blasphemia semper sit peccatum mortale
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod blasphemia non semper sit peccatum mortale.
(12) 1. Quia super illud ad Col. III, nunc autem deponite vos etc., dicit Glossa (Petri Lombardi; PL 192, 281), post maiora prohibet minora. Et tamen subdit de blasphemia. Ergo blasphemia inter peccata minora computatur, quae sunt peccata venialia.
(13) 2. Praeterea, omne peccatum mortale opponitur alicui praecepto Decalogi. Sed blasphemia non videtur alicui eorum opponi. Ergo blasphemia non est peccatum mortale.
(14) 3. Praeterea, peccata quae absque deliberatione committuntur non sunt mortalia, propter quod primi motus non sunt peccata mortalia, quia deliberationem rationis praecedunt, ut ex supradictis patet (II-I, q. 74, a. 3, ad 3; a. 10). Sed blasphemia quandoque absque deliberatione procedit. Ergo non semper est peccatum mortale.
(15) Sed contra est quod dicitur Levit. XXIV, qui blasphe- maverit nomen domini, morte moriatur. Sed poena mortis non infertur nisi pro peccato mortali. Ergo blasphemia est peccatum mortale.
(16) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q. 72, a. 5), peccatum mortale est per quod homo separatur a primo principio spintualis vitae, quod est caritas Dei. Unde quaecumque caritati repugnant, ex suo genere sunt peccata mortalia. Blasphemia autem secundum genus suum repugnat cantati divinae, quia derogat divinae bonitati, ut dictum est (a. 1), quae est obiectum caritatis. Et ideo
Раздел 3. Является ли богохульство величайшим грехом
157
ку, как было установлено выше (Р. 1), оно умаляет божественную благость, которая является объектом любви. И потому богохульство по своему роду является смертным грехом.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что эту глоссу следует понимать не в том смысле, что все упомянутые в ней во вторую очередь грехи являются малыми, но в том смысле, что все названные в первую очередь являются наиболее тяжкими, а упомянутые после них — менее тяжкими, при том, что и среди них встречается несколько тягчайших грехов.
(18) На второе надлежит ответить, что поскольку, как сказано выше (Р. 1), богохульство противоположно исповеданию веры, то запрет на него сводится к запрету неверия, выраженному этими словами (Исх 20,
2): Я - Господь, Бог твой и т.д. Или же оно запрещено этими словами (Исх 20, 7): Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. В самом деле, куда скорее это относится к тому, кто утверждает о Боге что-либо ложное, чем к тому, кто использует имя Божие для утверждения неправды.
(19) На третье надлежит ответить, что внезапно и без размышления богохульство может иметь место в двух случаях. Во-пер¬
вых, когда человек сам не замечает, что сказанное им есть богохульство. И так может произойти, когда он, из-за внезапного движения страсти, употребляет подобранные воображением слова, не воспринимая их значения; и такой грех является простительным, и он не обладает собственным смысловым содержанием богохульства. Во-вторых, когда человек осознает, что это — богохульство, принимая во внимание значения слов. И тогда ничто не извиняет его смертного греха, как и в случае, когда некто во внезапном порыве гнева убивает находящегося рядом человека.
Раздел 3 Является ли богохульство величайшим грехом
(20) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что богохульство не является величайшим грехом.
(21) 1. В самом деле, зло — это то, что наносит вред, как говорит Августин. Но человекоубийство, которое прекращает жизнь человека, наносит вред куда больший, чем грех богохульства, который не может нанести Богу никакого ущерба. Следовательно, грех человекоубийства тяжелее греха богохульства.
blasphemia est peccatum mortale ex suo genere.
(17) Ad primum ergo dicendum quod Glossa illa non est sic intelligenda quasi omnia quae subduntur sint peccata minora. Sed quia, cum supra non expressisset nisi maiora, postmodum etiam quaedam minora subdit, inter quae etiam quaedam de maioribus ponit.
(18) Ad secundum dicendum quod, cum blasphemia opponatur confessioni fidei, ut dictum est (a. 1), eius prohibitio reducitur ad prohibitionem infidelitatis, quae in- telligitur in eo quod dicitur, ego sum dominus Deus tuus et cetera. Vel prohibetur per id quod dicitur, non assumes nomen Dei tui in vanum. Magis enim in vanum assumit nomen Dei qui aliquod falsum de Deo asserit quam qui per nomen Dei aliquod falsum confirmat.
(19) Ad tertium dicendum quod blasphemia potest absque deliberatione ex subreptione procedere dupliciter. Uno modo, quod aliquis non advertat hoc quod dicit esse blas- phemiam. Quod potest contingere cum aliquis subito ex aliqua passione in verba imaginata prorumpit, quorum sig¬
nificationem non considerat. Et tunc est peccatum veniale, et non habet propne rationem blasphemiae. Alio modo, quando advertit hoc esse blasphemiam, considerans significata verborum. Et tunc non excusatur a peccato mortali, sicut nec ille qui ex subito motu irae aliquem occidit iuxta se sedentem.
Articulus 3 Utrum blasphemia sit maximum peccatorum
(20) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod peccatum blasphemiae non sit maximum peccatum.
(21) 1. Malum enim dicitur quod nocet, secundum Augustinum, in Enchirid. (12; PL 40, 237). Sed magis nocet peccatum homicidii, quod perimit vitam hominis, quam peccatum blasphemiae, quod Deo nullum nocumentum potest inferre. Ergo peccatum homicidii est gravius peccato blasphemiae.
(22) 2. Praeterea, quicumque peierat inducit Deum testem falsitati, et ita videtur eum asserere esse falsum. Sed non quilibet blasphemus usque ad hoc procedit ut Deum asserat
158
Вопрос 13. О богохульстве в общем
(22) 2. Кроме того, любой лжесвидетель призывает Бога в свидетели неправде, и этим, как кажется, утверждает, что Бог есть ложь. Но не всякий богохульник доходит до того, чтобы утверждать, что Бог есть ложь. Следовательно, лжесвидетельство является более тяжким грехом, чем богохульство.
(23) 3. Кроме того, глосса на эти слова: Не поднимайте высоко рога вашего (Пс 74,
6), утверждает: Наибольший порок заключается в извинении своих грехов. Следовательно, богохульство не является величайшим грехом.
(24) Но против: глосса к этим словам (Ис 18, 2), [Идите] к народу страшному и т. д., утверждает: В сравнении с богохульством всякий грех легок.
(25) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (Р. 1), богохульство противоположно исповеданию веры, и потому оно отягощено неверием. Кроме того, грех становится тяжелее, если к нему добавляется отвращение воли, и еще более тяжким, если находит словесное выражение, подобно тому, как любовь и исповедание увеличивают похвальность веры. Поэтому, коль скоро неверие, как было показано выше (В. 10, Р. 3), является по своему роду
наибольшим из грехов, следует, что богохульство тоже является наибольшим грехом, так как оно относится к тому же роду, что и неверие, и отягощает его.
(26) Итак, на первое надлежит ответить, что если сравнить человекоубийство и богохульство сообразно объектам греха, то богохульство, которое является непосредственным прегрешением против Бога, тяжелее убийства, которое является грехом против ближнего. Если же мы сравним их с точки зрения причиняемого ими вреда, то убийство является более тяжким грехом, поскольку убийство причиняет ближнему больше вреда, чем богохульство — Богу. Однако поскольку тяжесть вины, как было показано выше (Ч. II-I, В. 73, Р. 8), зависит больше от намерения извращенной воли, чем от результатов действия, постольку богохульник, в связи с тем, что он намеревается нанести ущерб божественному достоинству, строго говоря, грешит более тяжким грехом, чем убийца. Впрочем, человекоубийство является наиболее тяжким грехом из тех, которые совершаются против ближнего.
(27) На второе надлежит ответить, что глосса к этим словам (Ефес 4, 31), богохульство... да будет удалено от вас, утверждает:
esse falsum. Ergo periurium est gravius peccatum quam blasphemia.
(23) 3. Praeterea, super illud Psalm., nolite extollere in altum cornu vestrum, dicit Glossa (Petri Lombardi; PL 191, 700), maximum est vitium excusationis peccati. Non ergo blasphemia est maximum peccatum.
(24) Sed contra est quod Isaiae XVIII, super illud, ad populum terribilem etc., dicit Glossa (Glossa ordin. 4, 48 E), omne peccatum, blasphemiae comparatum, levius est.
(25) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (a.l), blasphemia opponitur confessioni fidei. Et ideo habet in se gravitatem infidelitatis. Et aggravatur peccatum si superveniat detestatio voluntatis; et adhuc magis si prorumpat in verba; sicut et laus fidei augetur per dilectionem et confessionem. Unde, cum infidelitas sit maximum peccatum secundum suum genus, sicut supra dictum est (q. 10, a. 3), consequens est quod etiam blasphemia sit peccatum maximum, ad idem genus pertinens et ipsum aggravans.
(26) Ad primum ergo dicendum quod homicidium et blasphemia si comparentur secundum obiecta in quae peccatur, manifestum est quod blasphemia, quae est directe peccatum in Deum, praeponderat homicidio, quod est peccatum in proximum. Si autem comparentur secundum effectum nocendi, sic homicidium praeponderat, plus enim homicidium nocet proximo quam blasphemia Deo. Sed quia in gravitate culpae magis attenditur intentio voluntatis perversae quam effectus operis, ut ex supradictis patet (II-I, q. 73, a. 8); ideo, cum blasphemus intendat nocumentum inferre honon divino, simpliciter loquendo gravius peccat quam homicida. Homicidium tamen primum locum tenet in peccatis inter peccata in proximum commissa.
(27) Ad secundum dicendum quod super illud ad Ephes. IV, blasphemia tollatur a vobis, dicit Glossa (Glossa ordin. 6, 95 B) peius est blasphemare quam peierare. Qui enim peier- at non dicit aut sentit aliquid falsum de Deo, sicut blasphemus, sed Deum adhibet testem falsitati non tanquam
Раздел 4. Богохульствуют ли проклятые
159
Богохульство хуже лжесвидетельства. В самом деле, лжесвидетельствующий, в отличие от богохульника, не высказывает и не полагает что-либо ложное о Боге, и призывает Бога в свидетели неправды не потому, что считает Бога лжецом, а потому, что надеется, что Бог не засвидетельствует правду при помощи некоего ясного знамения.
(28) На третье надлежит ответить, что извинение греха — это обстоятельство, которое отягчает любой грех, в том числе богохульство. И его называют наибольшим пороком потому, что оно отягчает любой грех.
Раздел 4 Богохульствуют ли проклятые
(29) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что проклятые не богохульствуют.
(30) 1. В самом деле, некоторые дурные люди и ныне воздерживаются от богохульства из-за страха перед грядущим наказанием. Но проклятые испытывают эти наказания, и потому страшатся их куда больше. Следовательно, они тем более должны воздерживаться от богохульства.
(31) 2. Кроме того, богохульство, поскольку оно является величайшим из грехов,
заслуживает самого сурового осуждения. Но состояние грядущей жизни не предполагает возможности обрести заслугу или осуждение. Следовательно, для богохульства не будет места.
(32) 3. Кроме того, сказано (Еккл 11,3): Если упадет дерево... то оно там и останется. И из этого явствует, что после земной жизни человек не приобретет ни заслуги, ни греха, которых он не имел в этой жизни. Но среди проклятых будут те, кто не богохульствовал в этой жизни. Следовательно, они не станут богохульниками и в жизни грядущей.
(33) Но против: глосса к этим словам (Откр 16, 9), жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, утверждает, что хотя пребывающие в аду и будут знать, что наказаны по заслугам, они, тем не менее, будут хулить Бога за то, что Он обладает властью, позволяющей причинять им страдания. Но в земной жизни это считалось бы богохульством. Следовательно, то же и в жизни будущей.
(34) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1, 3), в смысловое содержание богохульства входит умаление божественной благости. Но те, кто находятся В аду, сохраняют извращенную ВОЛЮ, ОТ-
aestimans Deum esse falsum testem, sed tanquam sperans quod Deus super hoc non testificetur per aliquod evidens signum.
(28) Ad tertium dicendum quod excusatio peccati est quaedam circumstantia aggravans omne peccatum, etiam ipsam blasphemiam. Et pro tanto dicitur esse maximum peccatum, quia quodlibet facit maius.
Articulus 4 Utrum blasphemia sit in damnatis
(29) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod damnati non blasphement.
(30) 1 Detinentur enim nunc aliqui mali a blasphemando propter timorem futurarum poenarum Sed damnati has poenas experiuntur, unde magis eas abhorrent. Ergo multo magis a blasphemando compescuntur.
(31) 2. Praeterea, blasphemia, cum sit gravissimum peccatum, est maxime demeritorium. Sed in futura vita non est status merendi neque demerendi. Ergo nullus erit locus
blasphemiae.
(32) 3. Praeterea, Eccle. XI dicitur quod in quocumque loco lignum ceciderit, ibi erit, ex quo patet quod post hanc vitam homini non accrescit nec mentum nec peccatum quod non habuit in hac vita. Sed multi damnabuntur qui in hac vita non fuerunt blasphemi. Ergo nec in futura vita blasphemabunt.
(33) Sed contra est quod dicitur Apoc. XVI, aestuaverunt homines aestu magno, et blasphemaverunt nomen domini habentis potestatem super has plagas, ubi dicit Glossa (Glossa ordin. 6, 266 A) quod in Inferno positi, quamvis sciant se pro merito puniri, dolebunt tamen quod Deus tantam potentiam habeat quod plagas eis inferat. Hoc autem esset blasphemia in praesenti. Ergo et in futuro.
(34) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 1,3), ad rationem blasphemiae pertinet detestatio divinae bonitatis. Illi autem qui sunt in Inferno retinebunt perversam voluntatem, aversam a Dei iustitia, in hoc quod diligunt ea pro quibus puniuntur, et vellent eis uti si possent, et
160
Вопрос 13. О богохульстве в общем
вращенную от божественной справедливости, поскольку они любят то, за что были наказаны, и желали бы такового, если бы могли получить, и ненавидят наказания, которые претерпевают за эти свои грехи. Они, впрочем, сожалеют о совершенных грехах, но не потому, что ненавидят их, а потому, что за них наказаны. Итак, следовательно, это отвращение к божественной справедливости является для них внутренним богохульством сердца. И весьма вероятно, что после воскресения они будут хулить Бога также и голосом, равно как и святые будут своими голосами возносить Ему хвалу.
(35) Итак, на первое надлежит ответить, что в земной жизни людей удерживает от богохульства страх перед наказанием, которого они надеются избежать, а проклятые в аду не надеются избежать наказания, и пото¬
му, пребывая в отчаянии, они выражают все то, что подсказывает им их извращенная воля.
(36) На второе надлежит ответить, что заслуги и наказания человек зарабатывает в этой жизни, и доброе в нем обеспечивает заслуги, а злое — наказание. Но в случае блаженных доброе не обеспечивает заслуги, ведь оно само является частью их награды в виде блаженства. И точно так же в случае проклятых злое не ведет к наказанию, поскольку оно само есть часть наказания в виде проклятия.
(37) На третье надлежит ответить, что любой, кто умер в смертном грехе, сохраняет свою волю, которая в определенном отношении отвращена от божественного правосудия, и в этом смысле в нем может пребывать богохульство.
odiunt poenas quae pro huiusmodi peccatis infliguntur; dolent tamen de peccatis quae commiserunt, non quia ipsa odiant, sed quia pro eis puniuntur. Sic ergo talis detestatio divinae iustitiae est in eis interior cordis blasphemia. Et credibile est quod post resurrectionem erit in eis etiam vocalis blasphemia, sicut in sanctis vocalis laus Dei
(35) Ad primum ergo dicendum quod homines deterrentur in praesenti a blasphemia propter timorem poenarum quas se putant evadere. Sed damnati in Inferno non sperant se posse poenas evadere. Et ideo, tanquam desperati, feruntur
ad omne ad quod eis perversa voluntas suggerit.
(36) Ad secundum dicendum quod mereri et demereri pertinent ad statum viae. Unde bona in viatoribus sunt meritoria, mala vero demeritona. In beatis autem bona non sunt meritoria, sed pertinentia ad eorum beatitudinis praemium. Et similiter mala in damnatis non sunt demeritona, sed pertinent ad damnationis poenam.
(37) Ad tertium dicendum quod quilibet in peccato mortali decedens fert secum voluntatem detestantem divinam iustitiam quantum ad aliquid. Et secundum hoc poterit ei inesse blasphemia.
Вопрос 14
О богохульстве в частном, то есть о хуле на Духа Святого
Затем надлежит рассмотреть частный случай богохульства, которым является хула на Духа Святого. И касательно этого рассматривается четыре [проблемы]: 1) является ли хула, или грех против Святого Духа, тем же, что и грех, совершенный по злому умыслу; 2) каковы виды этого греха; 3) может ли он быть отпущен; 4) может ли человек согрешить против Святого Духа до совершения каких-либо иных грехов.
Раздел 1
Является ли хула, или грех против Святого Духа, тем же, что и злонамеренный грех
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что грех против Святого Духа не есть то же, что и злонамеренный грех.
(3) 1. В самом деле, грех против Духа Святого есть грех богохульства, как явствует из Писания (Мф 12, 32). Но не всякий злонамеренный грех является богохульством, ведь есть и многие другие роды грехов, ко¬
торые совершаются злонамеренно. Следовательно, грех против Святого Духа не есть то же, что злонамеренный грех.
(4) 2. Кроме того, злонамеренный грех является противоположным членом деления по отношению к греху, совершенному по неведению или слабости. Но грех против Духа Святого является противоположным членом деления по отношению к греху против Сына Человеческого (Мф 12, 32). Следовательно, грех против Духа Святого не тождественен злонамеренному греху, поскольку то, противоположности чего различны, и само различно.
(5) 3. Кроме того, грех против Святого Духа есть некий род греха, обладающий определенными видами. Но злонамеренность не является особым родом греха, а есть некое общее условие или обстоятельство, которое может иметь место в случае греха любого рода. Следовательно, грех против Духа Святого не есть то же самое, что и злонамеренный грех.
Quaestio 14
De blasphemia in speciali quae est peccatum in Spiritum Sanctum
(1) Deinde considerandum est in speciali de blasphemia in spintum sanctum. Et circa hoc quaeruntur quatuor. Primo, utrum blasphemia vel peccatum in spiritum sanctum sit idem quod peccatum ex certa malitia. Secundo, de speciebus huius peccati. Tertio, utrum sit irremissibile. Quarto, utrum aliquis possit peccare in spiritum sanctum a principio, antequam alia peccata committat.
Articulus 1
Utrum blasphemia vel peccatum in Spiritum Sanctum sit idem quod peccatum ex certa malitia
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod peccatum in spintum sanctum non sit idem quod peccatum ex certa malitia.
(3) 1 Peccatum enim in spiritum sanctum est peccatum
blasphemiae, ut patet Matth. XII. Sed non omne peccatum
ex certa malitia est peccatum blasphemiae, contingit enim multa alia peccatorum genera ex certa malitia committi. Ergo peccatum in spiritum sanctum non est idem quod peccatum ex certa malitia.
(4) 2. Praeterea, peccatum ex certa malitia dividitur contra peccatum ex ignorantia et contra peccatum ex infirmitate. Sed peccatum in spiritum sanctum dividitur contra peccatum in filium hominis, ut patet Matth. XII. Ergo peccatum in spiritum sanctum non est idem quod peccatum ex certa malitia, quia quorum opposita sunt diversa, ipsa quoque sunt diversa.
(5) 3. Praeterea, peccatum in spiritum sanctum est quoddam genus peccati cui determinatae species assignantur. Sed peccatum ex certa malitia non est speciale genus peccati, sed est quaedam conditio vel circumstantia generalis quae potest esse circa omnia peccatorum genera. Ergo
162
Вопрос 14. О богохульстве в частном, то есть о хуле на Духа Святого
(6) Но против: Магистр говорит, что тот, кто грешит против Духа Святого, получает удовольствие от злобы как таковой. Но это и значит — грешить злонамеренно. Следовательно, как представляется, злонамеренный грех тождественен греху против Духа Святого.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что о грехе или хуле на Духа Святого было три мнения. В самом деле, древние учители, а именно, Афанасий, Иларий, Амвросий, Иероним и Златоуст говорили, что грех против Святого Духа предполагает буквальное произнесение хулы на Святого Духа, независимо от того, понимается ли имя «Святой Дух» как сущностное имя, приложимое ко всей Троице, каждое из Лиц которой свято и является духом, или же собственное имя одного из Лиц Троицы. И именно в этом смысле богохульство против Святого Духа отличается от богохульства против Сына Человеческого. В самом деле, Христос совершал нечто как сообразно человеческой природе (ел, пил и т.п.), так и божественным образом (изгонял бесов, воскрешал мертвых и т. п.); и последнее, разумеется, Он совершал как силой своей собственной божественности, так и силой Святого Духа, Которым бы-
peccatum in spiritum sanctum non est idem quod peccatum ex certa malitia.
(6) Sed contra est quod Magister dicit (Sent., II, d. 43, c. 1; QR 1, 533), quod ille peccat in spiritum sanctum cui malitia propter se placet. Hoc autem est peccare ex certa malitia. Ergo idem videtur esse peccatum ex certa malitia quod peccatum in spintum sanctum.
(7) Respondeo dicendum quod de peccato seu blasphemia in spiritum sanctum tripliciter aliqui loquuntur. Antiqui enim doctores, scilicet Athanasius (Fragm. in Matth., 12, 32; PG 27, 1386), Hilarius (In Matth. 12, 32; PL 9, 989), Ambrosius (In Luc. 12, 19; 7; PL 15, 1817), Hieronymus (In Matth. 12, 32; 2; PL 26, 83) et Chrysostomus (In Matth. hom. 41; PG 57, 449) dicunt esse peccatum in spiritum sanctum quando, ad litteram, aliquid blas- phemum dicitur contra spiritum sanctum, sive spiritus sanctus accipiatur secundum quod est nomen essentiale conveniens toti Trinitati, cuius quaelibet persona et spiritus est et sanctus; sive prout est nomen personale unius in
ла исполнена Его человеческая природа. Иудеи же сперва хулили Сына Человеческого, говоря, что Он любит есть и пить вино, друг мытарям (Мф 11, 19), а затем — Святого Духа, приписывая деяния Христа, совершенные Им силою своей божественности и действием Святого Духа, князю бесовскому (Мф 12, 24).
(8) Августин же, со своей стороны, считал, что богохульство, или грех, против Святого Духа, является совершенной нераскаянностью, когда человек пребывает в смертном грехе вплоть до самой смерти. И здесь, конечно, подразумевается не только слово, исходящее из уст, но и слово помышления и дела, причем не одно, а многие. И о так понимаемом слове говорится, что оно направлено против Святого Духа, потому что оно противопоставлено отпущению грехов, каковое осуществляется через Святого Духа, Который есть любовь Отца и Сына. В самом деле, Господь говорил это иудеям не в том смысле, что они уже согрешили против Святого Духа, поскольку на них тогда еще не было вины совершенной нераскаянности. Но Он предупреждал их, что такими речами они могут согрешить против Святого Духа. И именно в этом смысле надлежит понимать сказан-
Trinitate personae. Et secundum hoc distinguitur, Matth. XII blasphemia in spiritum sanctum contra blasphemiam in filium hominis. Christus enim operabatur quaedam humanitus, comedendo, bibendo et aha huiusmodi faciendo; et quaedam divinitus, scilicet Daemones eiiciendo, mortuos suscitando, et cetera huiusmodi; quae quidem agebat et per virtutem propriae divinitatis, et per operationem spintus sancti, quo secundum humanitatem erat repletus. Iudaei autem primo quidem dixerant blasphemiam in filium hominis, cum dicebant eum voracem, potatorem vini et publicanorum amatorem, ut habetur Matth. XI. Post- modum autem blasphemaverunt in spintum sanctum, dum opera quae ipse operabatur virtute propriae divinitatis et per operationem spiritus sancti, attribuebant principi Daemoniorum. Et propter hoc dicuntur in spiritum sanctum blasphemasse.
i Augustinus autem, in libro De verb. Dom. (Serm. ad popul., serm. 71, c. 12; PL 38, 455), blasphemiam vel peccatum in spintum sanctum dicit esse finalem impoeniten-
Раздел 1. Тождественна ли хула на Духа Святого злонамеренному греху
163
ное в Писании (Мк 3, 29-30), когда после этих слов: Но кто будет хулить Духа Святого и т.д., евангелист добавляет: Потому что говорили: «В Нем — нечистый дух!».
) А другие понимают это иначе и говорят, что грех или хула на Святого Духа имеет место тогда, когда грешат против того блага, которое присваивается Святому Духу (а Ему присваивается благость, равно как Отцу — могущество, а Сыну — мудрость). Поэтому они говорят, что грех против Отца — это грех по слабости, грех против Сына — грех по неведению, а грех против Святого Духа — это грех по злому умыслу, т. е. от сознательного избира- ния зла, о котором уже было сказано выше (Ч. II-I, В. 78, Р. 1). И такой грех совершается двумя путями. Во-первых, из-за склонности порочного хабитуса, которая называется злобой; и в таком случае грех по злому умыслу не является тем же, что и грех против Святого Духа. Во-вторых, из-за того, что по причине презрения устраняет¬
ся и отбрасывается то, что могло бы стать препятствием для избирания греха: так, надежда устраняется отчаянием, страх — самоуверенностью и т. д., о чем будет сказано ниже (Р. 2). Но все то, что препятствует из- биранию греха, является результатом действия в нас Святого Духа. И в этом смысле злонамеренный грех есть грех против Духа Святого.
(ю) Итак, на первое надлежит ответить, что как исповедание веры выражается не только в словах, но и в делах, так и хула на Святого Духа может выражаться в словах, помыслах и деяниях.
(и) На второе надлежит ответить, что согласно третьему мнению хула на Святого Духа противопоставляется хуле на Сына Человеческого постольку, поскольку Он является также и Сыном Божиим, то есть Божией Силой и Божией Премудростью (1 Кор 1, 24). И согласно этому мнению, грехом против Сына Человеческого будет тот, который совершен по неведенью или по слабости.
tiam, quando scilicet aliquis perseverat in peccato mortali usque ad mortem. Quod quidem non solum verbo oris fit, sed etiam verbo cordis et operis, non uno sed multis. Hoc autem verbum, sic acceptum, dicitur esse contra spiritum sanctum, quia est contra remissionem peccatorum, quae fit per spiritum sanctum, qui est caritas patns et filii. Nec hoc dominus dixit Iudaeis quasi ipsi peccarent in spintum sanctum, nondum enim erant finaliter impoenitentes. Sed admonuit eos ne, taliter loquentes, ad hoc pervenirent quod in spiritum sanctum peccarent. Et sic intelligendum est quod dicitur Marc. III, ubi, postquam dixerat, qui blas- phemaverit in spiritum sanctum etc., subiungit Evangelista quoniam dicebant, spiritum immundum habet.
(9) Alii vero aliter accipiunt (Ricardus de St. Victore, De spir. Blasphemiae; PL 196, 1187), dicentes peccatum vel blasphermam in spiritum sanctum esse quando aliquis peccat contra appropriatum bonum spiritus sancti, cui appro- pnatur bonitas, sicut patri appropriatur potentia et filio sapientia Unde peccatum in patrem dicunt esse quando
peccatur ex infirmitate; peccatum autem in filium, quando peccatur ex ignorantia; peccatum autem in spiritum sanctum, quando peccatur ex certa malitia, idest ex ipsa electione mali, ut supra expositum est (II-I, q. 78, a. 1, 3). Quod quidem contingit dupliciter. Uno modo, ex inclinatione habitus vitiosi, qui malitia dicitur, et sic non est idem peccare ex malitia quod peccare in spiritum sanctum. Alio modo contingit ex eo quod per contemptum abiicitur et removetur id quod electionem peccati poterat impedire, sicut spes per desperationem, et timor per praesumptionem, et quaedam alia huiusmodi, ut infra dicetur (a. 2). Haec autem omnia quae peccati electionem impediunt, sunt effectus spiritus sancti in nobis. Et ideo sic ex malitia peccare est peccare in spiritum sanctum.
(10) Ad primum ergo dicendum quod, sicut confessio fidei non solum consistit in protestatione oris, sed etiam in protestatione opens; ita etiam blasphemia spiritus sancti potest considerari et in ore et in corde et in opere.
(11) Ad secundum dicendum quod secundum tertiam accep-
164
Вопрос 14. О богохульстве в частном, то есть о хуле на Духа Святого
(12) На третье надлежит ответить, что злонамеренный грех, сообразно тому, что он следует из склонности хабитуса, является не видом, но неким общим условием греха. Однако сообразно тому, что он следует из особого презрения к результату действия в нас Святого Духа, он обладает смысловым содержанием особого греха. И сообразно этому грех против Святого Духа является особым видом греха. И то же следует из первого мнения. А согласно второму мнению, он не является особым видом греха, поскольку совершенная нераскаянность может быть обстоятельством для любого рода греха.
Раздел 2 О видах этого греха
(в) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что не подобает, как это делает Магистр, указывать шесть видов греха против Святого Духа, а именно: отчаяние, самоуверенность, нераскаянность, упрямство, противление узнанной истине и зависть к благодатным духовным благам
братьев.
(и) 1. В самом деле, отрицание справед¬
ливости или милосердия Божия относится к неверию. Но отчаянием человек отрицает милосердие Бога, а самоуверенностью — Его справедливость. Следовательно, оба они являются скорее видами неверия, нежели грехом против Святого Духа.
(15) 2. Кроме того, нераскаянность, как представляется, относится к прошлым грехам, а упрямство — к будущим. Но «прошедшее» и «будущее» не различают вид добродетели или порока, ведь мы верим в то, что Христос был рожден той же верой, какой древние верили в том, что Он будет рожден. Следовательно, упрямство и нераскаянность нельзя считать двумя видами греха против Святого Духа.
(16) 3. Кроме того, благодать и истина произошли чрез Иисуса, Христа (Ин 1, 17). Следовательно, как кажется, противодействие узнанной истине и зависть к духовным благам братьев относятся скорее к хуле на Сына Человеческого, чем к хуле на Святого Духа.
tionem blasphemia in spintum sanctum distinguitur contra blasphemiam in filium hominis secundum quod filius hominis est etiam filius Dei, idest Dei virtus et Dei sapientia. Unde secundum hoc, peccatum in filium hominis erit peccatum ex ignorantia vel ex infirmitate.
(12) Ad tertium dicendum quod peccatum ex certa malitia secundum quod provenit ex inclinatione habitus, non est speciale peccatum, sed quaedam generalis peccati conditio. Prout vero est ex speciali contemptu effectus spintus sancti in nobis, habet rationem specialis peccati. Et secundum hoc etiam peccatum in spiritum sanctum est speciale genus peccati. Et similiter secundum primam expositionem. Secundum autem secundam expositionem, non est speciale genus peccati, nam finalis impoenitentia potest esse circumstantia cuiuslibet genens peccati.
Articulus 2 De speciebus huius peccati
(13) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod inconvenien¬
ter assignentur sex species peccati in spintum sanctum, scilicet desperatio, praesumptio, impoenitentia, obstinatio, impugnatio veritatis agnitae et invidentia fraternae gratiae; quas species ponit Magister (Sent. II, d. 43, c. 1; QR 1, 536).
(14) 1. Negare enim divinam iustitiam vel misericordiam ad infidelitatem pertinet. Sed per desperationem aliquis reficit divinam misencordiam, per praesumptionem autem divinam iustitiam. Ergo unumquodque eorum potius est species infidelitatis quam peccati in spintum sanctum.
(15) 2. Praeterea, impoenitentia videtur respicere peccatum praeteritum, obstinatio autem peccatum futurum. Sed praeteritum vel futurum non diversificant speciem virtutis vel vitii, secundum enim eandem fidem qua credimus Chnstum natum, antiqui crediderunt eum nasciturum. Ergo obstinatio et impoemtentia non debent poni duae species peccati in spiritum sanctum.
(16) 3. Praeterea, veritas et gratia per Iesum Christum facta est, ut habetur Ioan. I. Ergo videtur quod impugnatio veritatis
Раздел 2. О видах этого греха
165
(17) 4. Кроме того, Бернард говорит, что ослушание есть противление Духу Святому. И глосса (на Лев 10, 16) также утверждает, что притворное раскаяние есть хула на Святого Духа. Кроме того, раскол, похоже, прямо противоположен Святому Духу, Который объединяет Церковь. Следовательно, как представляется, перечисление видов греха против Святого Духа недостаточно.
(18) Но против: Августин говорит, что отчаявшиеся получить прощение за свои грехи, как и те, кто, не имея заслуг, рассчитывает на милосердие Божие, грешат против Святого Духа. И еще он говорит, что тот, кто оканчивает свои дни в духовном упорстве, повинен в грехе против Святого Духа. И в его книге «О слове Господа» написано, что нераскаянность является грехом против Святого Духа. И в книге «О нагорной проповеди» сказано, что вызванная завистью неприязнь к братьям, обладающим духовным благами, есть грех против Святого Духа. И в книге «О крещении против донатистов» Августин пишет: Человек, отрицающий истину, либо завидует тем братьям, которым она открыта, либо проявляет неблагодарность по отношению к Богу, по вдохновению Которого обустраивается
Церковь, и, тем самым он, как представляется, грешит против Святого Духа.
(19) Отвечаю: надлежит сказать, что если грех против Духа святого понимается сообразно третьему из приведенных выше мнений, то названные его виды указаны подобающим образом. В самом деле, они различаются сообразно презрению или отказу от тех [вещей], благодаря которым человек мог бы удержаться от избирания греха. И эти [вещи] обнаруживаются либо со стороны суда Божия, либо со стороны Его даров, либо со стороны самого греха. И со стороны божественного суда, в котором справедливость сопряжена с милосердием, человек удерживается от избирания греха как надеждой, возникающей из признания милосердия, прощающего грехи и вознаграждающего добрые дела (каковая надежда устраняется отчаянием), так и страхом, возникающим из признания божественной справедливости, карающей за грехи (каковой страх устраняется самоуверенностью, когда человек надеется обрести славу без заслуг или прощение без покаяния). А даров Божьих, благодаря которым мы удерживаемся от греха, два. Первый — это познание истины, которому противоположно противление узнан-
agnitae et invidentia fraternae gratiae magis pertineant ad blasphemiam in filium hominis quam ad blasphemiam in spiritum sanctum.
(17) 4 Praeterea, Bemardus dicit, in libro De dispensat, et praecept. (2; PL 182, 876), quod nolle obedire est resistere spiritui sancto. Glossa etiam dicit (Glossa ordin. 1, 232 C), Levit X, quod simulata poenitentia est blasphemia spiritus sancti. Schisma etiam videtur directe opponi spintui sancto, per quem Ecclesia unitur. Et ita videtur quod non sufficienter tradantur species peccati in spiritum sanctum.
(18) Sed contra, Augustinus dicit, in libro De fide ad Petrum (Fulgent., 3; PL 65, 690), quod illi qui desperant de indulgentia peccatorum, vel qui sine meritis de misericordia Dei praesumunt, peccant in spiritum sanctum. Et in Enchiridio dicit (83; PL 40, 272) quod qui in obstinatione mentis diem claudit extremum, reus est peccato in spiritum sanctum. Et in libro De verb. Dom. dicit (Serm. ad popul., serm. 71, 12; PL 38, 455) quod impoenitentia est peccatum in spiritum
sanctum. Et in libro De serm. Dom. in monte (I, 22; PL 34, 1266) dicit quod invidiae facibus fraternitatem impugnare est peccare in spiritum sanctum. Et in libro De unico bapt. (De bapt. contra Donat., 6, 35, MPL 43, 219) dicit quod qui veritatem contemnit, aut circa fratres malignus est, quibus veritas revelatur:; aut circa Deum ingratus, cuius inspiratione Ecclesia instruitur; et sic videtur quod peccet in spiritum sanctum.
(19) Respondeo dicendum quod, secundum quod peccatum in spiritum sanctum tertio modo accipitur, convenienter praedictae species ei assignantur. Quae distinguuntur secundum remotionem vel contemptum eorum per quae potest homo ab electione peccati impediri. Quae quidem sunt vel ex parte divini iudicii, vel ex parte donorum ipsius; vel etiam ex parte ipsius peccati. Avertitur enim homo ab electione peccati ex consideratione divini iudicii, quod habet iustitiam cum misericordia, et per spem, quae consurgit ex consideratione misericordiae remittentis peccata et praemiantis bona, et haec tollitur per desperationem, et
166
Вопрос 14. О богохульстве в частном, то есть о хуле на Духа Святого
ной истине, тогда, именно, когда человек противится явленной ему истине веры для того, чтобы сохранить возможность грешить. Второй дар — это содействие внутренней благодати, которому противоположна зависть к благодатным духовным благам братьев, тогда, именно, когда человек завидует не только лично некоему брату, но и увеличению в мире божественной благодати.
(20) Со стороны же греха имеются две [вещи], которые могут удержать от него человека. Первая из них — неупорядоченность и безнравственность действия, и понимание этого часто приводит человека к раскаянию в совершенном им грехе. И этому раскаянию противоположна нераскаянность — не та, о которой говорилось выше (Р. 1), и которая подразумевает постоянство человека в смертном грехе вплоть до самой смерти, поскольку в этом случае она является не особым грехом, а обстоятельством греха, но та, которая подразумевает нежелание каяться. Вторая [вещь] связана с ничтожностью и кратковремен¬
ностью того блага, которое ищут в грехе, согласно сказанному (Рим 6, 21): Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Понимание этого часто ведет человека к тому, что его воля не ожесточается в грехе. И оно устраняется упрямством, посредством которого человек утверждается в своей приверженности греху. И об этих двух [вещах] сказано в Писании (Иер 8, 6). О первой: Никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит: «Что я сделал?», и далее, о второй: Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение.
(21) Итак, на первое надлежит ответить, что грехи отчаяния и самоуверенности заключаются не в неверии в справедливость и милосердие Бога, а в презрении к ним.
(22) На второе надлежит ответить, что упрямство и нераскаянность отличаются не только в аспекте прошедшего и будущего, но также и в некоторых формальных аспектах, сообразно различному рассмотрению того, что относится к греху, как уже было сказано (в Отв.).
iterum per timorem, qui insurgit ex consideratione divinae iustitiae punientis peccata; et hic tollitur per praesumptionem, dum scilicet aliquis se praesumit glonam adipisci sine meritis, vel veniam sine poenitentia. Dona autem Dei quibus retrahimur a peccato sunt duo. Quorum unum est agnitio veritatis, contra quod ponitur impugnatio veritatis agnitae, dum scilicet aliquis veritatem fidei agnitam impugnat ut licentius peccet. Aliud est auxilium interioris gratiae, contra quod ponitur invidentia fraternae gratiae, dum scilicet aliquis non solum invidet personae fratns, sed etiam invidet gratiae Dei crescenti in mundo.
(20) Ex parte vero peccati duo sunt quae hominem a peccato retrahere possunt. Quorum unum est inordinatio et turpitudo actus, cuius consideratio inducere solet in homine poenitentiam de peccato commisso. Et contra hoc ponitur impoenitentia, non quidem eo modo quo dicit permanen- tiam in peccato usque ad mortem, sicut supra (a. 1) impoenitentia accipiebatur (sic enim non esset speciale peccatum, sed quaedam peccati circumstantia); sed accipitur
hic impoenitentia secundum quod importat propositum non poenitendi. Aliud autem est parvitas et brevitas boni quod quis in peccato quaent, secundum illud Rom. VI, quem fructum habuistis in quibus nunc erubescitis? Cuius consideratio inducere solet hominem ad hoc quod eius voluntas in peccato non firmetur. Et hoc tollitur per obstinationem, quando scilicet homo firmat suum propositum in hoc quod peccato inhaereat. Et de his duobus dicitur Ierem. VIII, nullus est qui agat poenitentiam super peccato suo, dicens, quid feci? Quantum ad primum; omnes conversi sunt ad cursum quasi equus impetu vadens ad praelium, quantum ad secundum.
(21) Ad primum ergo dicendum quod peccatum desperationis vel praesumptionis non consistit in hoc quod Dei iustitia vel misericordia non credatur, sed in hoc quod contemnatur.
(22) Ad secundum dicendum quod obstinatio et impoenitentia non solum differunt secundum praetentum et futurum, sed secundum quasdam formales rationes ex diversa consideratione eorum quae in peccato consideran possunt, ut
Раздел 3. Может ли быть отпущен грех против Святого Духа
167
(23) На третье надлежит ответить, что Христос произвел благодать и истину при помощи даров Святого Духа, которыми Он наделил людей.
(24) На четвертое надлежит ответить, что ослушание относится к упрямству, притворное раскаяние — к нераскаянности, а расколы — к зависти к благодатным духовным благам братьев, которыми объединены члены Церкви.
Раздел 3 Может ли быть отпущен грех против Святого Духа
(25) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что грех против Святого Духа может быть отпущен.
(26) 1. В самом деле, Августин говорит, что не следует ни в ком отчаиваться, пока терпение Господа понуждает его к раскаянию. Но если бы некий грех не мог быть прощен, то в некоторых грешниках можно было бы и отчаяться. Следовательно, грех против Святого Духа может быть прощен.
(27) 2. Кроме того, любой грех отпускается
только благодаря тому, что душа исцеляется Богом. Но нет недуга, который бы не исцелил всесильный врач, как говорит глосса на эти слова (Пс 102, 3): Он исцеляет все недуги твои. Следовательно, грех против Святого Духа может быть прощен.
(28) 3. Кроме того, свободная воля может
обратиться и к добру, и к злу. Но пока человек живет земной жизнью, он может утратить любую добродетель, ведь даже ангел пал с небес, почему и сказано (Иов 4, 18-19): Он и в ангелах Своих усматривает недостатки; тем более — в обитающих в храминах из брения. Следовательно, на том же основании, человек может быть возвращен из любого греха в состояние праведности. Следовательно, грех против Святого Духа может быть прощен.
(29) Но против: сказано (Мф 12, 32): Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. И Августин говорит, что столь велика пагуба этого греха, что не поможет даже униженная мольба о прощении.
dictum est (in согр.).
(23) Ad tertium dicendum quod gratiam et veritatem Chnstus fecit per dona spiritus sancti, quae hominibus dedit.
(24) Ad quartum dicendum quod nolle obedire pertinet ad obstinationem; simulatio poenitentiae ad impoenitentiam; schisma ad invidentiam fraternae gratiae, per quam membra Ecclesiae uniuntur.
Articulus 3 Utrum sit irremissibile
(25) Ad tertium sic proceditur Videtur quod peccatum in spiritum sanctum non sit irremissibile.
(26) 1. Dicit enim Augustinus, in libro De verb. Dom. (Serm. adpopul. serm. 71, 13; PL 38, 457), de nullo desperandum est quandiu patientia domini ad poenitentiam adducit. Sed si aliquod peccatum esset irremissibile, esset de aliquo peccatore desperandum. Ergo peccatum in spiritum sanctum non est irremissibile.
(27) 2. Praeterea, nullum peccatum remittitur nisi per hoc
quod anima sanatur a Deo. Sed omnipotenti medico nullus insanabilis languor occurrit, sicut dicit Glossa (Pedn Lom- bardi; PL 191, 920) super illud Psalm., qui sanat omnes infirmitates tuas. Ergo peccatum in spiritum sanctum non est irremissibile.
(28) 3. Praeterea, liberum arbitrium se habet ad bonum et ad malum. Sed quandiu durat status viae, potest aliquis a quacumque virtute excidere, cum etiam Angelus de caelo ceciderit, unde dicitur lob IV, in Angelis suis reperit pravitatem, quanto magis qui habitant domos luteas? Ergo pari ratione potest aliquis a quocumque peccato ad statum iustitiae redire. Ergo peccatum in spiritum sanctum non est irremissibile.
(29) Sed contra est quod dicitur Matth. XII, qui dixerit verbum contra spiritum sanctum, non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in futuro. Et Augustinus dicit, in libro De serm. Dom. in monte, quod tanta est labes huius peccati quod humilitatem deprecandi subire non potest. (I, 22; PL 34, 1266).
168
Вопрос 14. О богохульстве в частном, то есть о хуле на Духа Святого
(зо) Отвечаю: надлежит сказать, что сообразно различному пониманию греха против Духа Святого можно по-разному говорить и о невозможности его прощения. Так, если под грехом против Святого Духа понимать совершенную нераскаянность, то грех непростителен потому, что его невозможно отпустить. В самом деле, если человек пребывает в состоянии смертного греха вплоть до своей смерти, поскольку не совершает покаяния в этой жизни, то он не будет прощен и в жизни будущей. А сообразно двум другим толкованиям о непростительности можно говорить не в связи с невозможностью отпущения, а сообразно тому, что этот грех сам по себе не заслуживает прощения. И это так по двум причинам. Во-первых, рассмотрим наказание. Тот, кто грешит по неведенью или по слабости, заслуживает меньшее наказание, а тот, кто согрешает по злому умыслу, не имеет оправдания, которое могло бы облегчить его наказание. Равным образом, те, кто хулил Сына Человеческого до того, как была явлена Его божественность, могли иметь некоторое оправдание в том, что наблюдали слабость Его плоти, и, следовательно, они заслужили меньшее наказание; но те, кто хулил Его бо¬
жественность, приписывая деяния Святого Духа «князю бесовскому», не имели никакого оправдания, которое бы уменьшило их наказание. Поэтому, согласно толкованию Златоуста, этот грех иудеям не будет отпущен ни в этой жизни, ни в будущей (в том смысле, что на земле они понесли наказание от римлян, а в жизни грядущей наказываются адскими муками). Афанасий также приводит в пример их праотцев, которые выступили против Моисея из-за нехватки воды и хлеба; и это Господь простил им, извинив слабость их плоти. Однако затем иудеи согрешили куда более тяжко, возведя своего рода хулу на Духа Святого, поскольку те благодеяния, которые они получили от выведшего их из Египта Бога, они приписали идолу, говоря: Вот «бог» твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской (Исх 32, 4). И потому Господь наказал их в этой жизни, ибо пало в тот день из народа около трех тысяч человек (Исх 32, 28), и обещал им наказание в жизни грядущей, сказав: Я посещу их за грех их (Исх 32, 34). Во-вторых, рассмотрим вину. О человеке говорят, что он неизлечимо болен в связи с природой болезни, которая устраняет все, что могло бы способствовать исцелению, например, когда болезнь
(30) Respondeo dicendum quod secundum diversas acceptiones peccati in spintum sanctum, diversimode irremissibile dicitur. Si enim dicatur peccatum in spintum sanctum finalis impoemtentia, sic dicitur irremissibile quia nullo modo remittitur. Peccatum enim mortale in quo homo perseverat usque ad mortem, quia in hac vita non remittitur per poenitentiam, nec etiam in futuro dimittetur. Secundum autem alias duas acceptiones dicitur irremissibile, non quia nullo modo remittatur, sed quia, quantum est de se, habet meritum ut non remittatur. Et hoc dupliciter. Uno modo, quantum ad poenam. Qui enim ex ignorantia vel infirmitate peccat, minorem poenam meretur, qui autem ex certa malitia peccat, non habet aliquam excusationem unde eius poena minuatur. Similiter etiam qui blasphemabat in filium homims, eius divinitate nondum revelata, poterat habere aliquam excusationem propter infirmitatem camis quam in eo aspiciebat, et sic minorem poenam merebatur, sed qui ipsam divinitatem blasphemabat, opera spiritus sancti Diabolo attribuens, nullam excu¬
sationem habebat unde eius poena diminueretur. Et ideo dicitur, secundum expositionem Chrysostomi (In Matth. hom. 41; PG 37, 449), hoc peccatum Iudaeis non remitti neque in hoc saeculo neque in futuro, quia pro eo passi sunt poenam et in praesenti vita per Romanos, et in futura vita in poena Inferni. Sicut etiam Athanasius inducit (Epist. ad Serapionem; PG 26, 662) exemplum de eorum parentibus, qui primo quidem contra Moysen contenderunt propter defectum aquae et panis, et hoc dominus sustinuit patienter, habebant enim excusationem ex infirmitate camis. Sed postmodum gravius peccaverunt quasi blasphemantes in spintum sanctum, beneficia Dei qui eos de Aegypto eduxerat, idolo attribuentes, cum dixerunt, hi sunt dii tui, Israel, qui te eduxerunt de terra Aegypti. Et ideo dominus et temporaliter fecit eos punin, quia ceciderunt in die illo quasi tria millia hominum’, et in futurum eis poenam comminatur, dicens, ego autem in die ultionis visitabo hoc peccatum eorum. Alio modo potest intelligi quantum ad culpam, sicut aliquis dicitur morbus incurabilis secun-
Раздел 4. Может ли человек согрешить против Духа Святого первым же грехом 169
разрушает природную силу или отвращает от пищи и лекарств; хотя Бог, конечно, может вылечить и такую болезнь. И точно также грех против Святого Духа называется непростительным сообразно своей природе — потому, что он устраняет все то, что может способствовать прощению грехов. Но это, конечно, не препятствует тому, чтобы грешник был прощен и исцелен по всемогуществу и милосердию Божию, благодаря которым иногда происходит такое — как бы чудесное — исцеление.
(31) Итак, на первое надлежит ответить, что, принимая во внимание всемогущество и милосердие Бога, не следует отчаиваться ни в ком из живущих людей. Но если принять во внимание обстоятельства греха, некоторых можно назвать сынами отчаяния (Ефес 2, 2).
(32) На второе надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу, если принять во внимание божественное всемогущество, но не обстоятельства греха.
(33) На третье надлежит ответить, что в земной жизни свободная воля всегда может измениться, но иногда она сама отказывается от того, посредством чего могла бы обратиться к благу. Поэтому по своей при-
dum naturam morbi, per quem tollitur id ex quo morbus potest curari, puta cum morbus tollit virtutem naturae, vel inducit fastidium cibi et medicinae; licet etiam talem morbum Deus possit curare. Ita etiam peccatum in spintum sanctum dicitur inemissibile secundum suam naturam, inquantum excludit ea per quae fit remissio peccatorum. Per hoc tamen non praecluditur via remittendi et sanandi omnipotentiae et misericordiae Dei, per quam aliquando tales quasi miraculose spintualiter sanantur
(31) Ad primum ergo dicendum quod de nemine desperandum est in hac vita, considerata omnipotentia et misericordia Dei. Sed considerata conditione peccati, dicuntur aliqui filii diffidentiae, ut habetur ad Ephes. II.
(32) Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit ex parte omnipotentiae Dei, non secundum conditionem peccati.
(33) Ad tertium dicendum quod liberum arbitrium remanet quidem semper in hac vita vertibile, tamen quandoque abiicit a se id per quod verti potest ad bonum, quantum in ipso est. Unde ex parte sua peccatum est irremissibile, licet Deus remittere possit.
роде этот грех непростителен, хотя Бог может его отпустить.
Раздел 4 Может ли человек согрешить против Духа Святого первым же грехом, еще до любого другого греха
(34) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что человек не может согрешить против Духа Святого первым же грехом, до совершения любого другого греха.
(35) 1. В самом деле, естественный порядок заключается в движении от несовершенного к совершенному. И это очевидно в отношении благ, согласно этим словам (Прит 4, 18): Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. А среди дурных вещей, согласно Философу, совершенным является то, что наиболее дурно. И поскольку грех против Святого Духа является тягчайшим, то, как кажется, человек приходит к совершению этого греха через другие меньшие грехи.
(36) 2. Кроме того, тот, кто грешит против Святого Духа, грешит злонамеренно, или по своему выбору. Но человек не может поступать так с самого начала, до тех
Articulus 4
Utrum aliquis possit peccare in Spiritum Sanctum a principio, antequam alia peccata committat
(34) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod homo non possit pnmo peccare in spiritum sanctum, non praesup- positis aliis peccatis.
(35) 1. Naturalis enim ordo est ut ab imperfecto ad perfectum quis moveatur. Et hoc quidem in bonis apparet, secundum illud Proverb. IV, iustorum semita quasi lux splendens crescit et proficit usque ad perfectum diem. Sed perfectum dicitur in malis quod est maximum malum, ut patet per Philosophum, in V Metaphys. (IV, 16; 1021b25). Cum igitur peccatum in spintum sanctum sit gravissimum, videtur quod homo ad hoc peccatum perveniat per alia peccata minora.
(36) 2. Praeterea, peccare in spintum sanctum est peccare ex certa malitia, sive ex electione Sed hoc non statim potest homo, antequam multoties peccaverit, dicit enim philosophus, in V Ethic. (6; 1134al7), quod, si homo
170
Вопрос 14. О богохульстве в частном, то есть о хуле на Духа Святого
пор, пока не согрешит много раз, поскольку, как говорит Философ в V книге «Этики», хотя человек и может поступать несправедливо, он с самого начала не может действовать так, как несправедливый, т. е. по выбору. Следовательно, как представляется, грех против Святого Духа может быть совершен только после других грехов.
(37) 3. Кроме того, раскаяние и нераскаянность относятся к одному и тому же. Но раскаиваться можно только в прошлых грехах. Следовательно, то же самое относится и к нераскаянности, которая является видом греха против Святого Духа. Следовательно, грех против Святого Духа предполагает другие грехи.
(38) Но против: сказано (Сир 11, 21): Легко в очах Господа скоро и внезапно обогатить бедного. Следовательно, возможно и обратное, а именно, что некто, подстрекаемый злобой демона, может сразу совершить наиболее тяжкий грех, т. е. грех против Святого Духа.
(39) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (Р. 1), в одном смысле грех против Святого Духа является злонамеренным грехом. Но, как было показано там же, грешить по злому умыслу можно двояко. Во-первых, из-за склонности
хабитуса, что не подразумевает грех против Святого Духа в собственном смысле слова. И в этом случае человек не может сразу злонамеренно совершить это грех, поскольку для его совершения необходимы предшествующие действия греха, причинно обусловливающие хабитус, склоняющий к греху. Во-вторых, человек может злонамеренно согрешить, отказавшись из презрения от того, что могло бы предотвратить его впадение в грех, и именно это, как сказано выше (Р. 1), есть грех против Святого Духа в собственном смысле слова. И таковое обычно также предполагает наличие других грехов, отчего сказано (Притч 18, 3): С приходом нечестивого приходит и презрение. Но может случиться и так, что человек первым же своим грехом из презрения согрешит против Духа Святого — как по свободной воле, так и из-за многих предшествующих предрасположенностей, или также из-за чего-то такого, что сильно склоняет к злу и ослабляет стремление человека к благу. И потому среди совершенных людей такого не бывает (или бывает очень редко), чтобы человек сразу же, первым своим грехом согрешил против Духа Святого. Поэтому Ори- ген и говорил: Я не думаю, что кто-нибудь
possit iniusta facere, non tamen potest statim operan sicut (39) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 1),
iniustus, scilicet ex electione. Ergo videtur quod peccatum in spintum sanctum non possit committi nisi post alia peccata.
(37) 3. Praeterea, poenitentia et impoenitentia sunt circa idem. Sed poenitentia non est nisi de peccatis praeteritis. Ergo etiam neque impoenitentia, quae est species peccati in spiritum sanctum. Peccatum ergo in spintum sanctum praesupponit alia peccata.
(38) Sed contra est quod facile est in conspectu Dei subito honestare pauperem, ut dicitur Eccli. XI. Ergo e contrario possibile est, secundum malitiam Daemonis suggerentis, ut statim aliquis inducatur in gravissimum peccatum, quod est in spintum sanctum.
peccare in spiritum sanctum uno modo est peccare ex certa malitia. Ex certa autem malitia dupliciter peccare contingit, sicut dictum est. Uno modo, ex inclinatione habitus, quod non est proprie peccare in spintum sanctum. Et hoc modo peccare ex certa malitia non contingit a principio, oportet enim actus peccatorum praecedere ex quibus causetur habitus ad peccandum inclinans. Alio modo potest aliquis peccare ex certa malitia abiiciendo per contemptum ea per quae homo retrahitur a peccando, quod propne est peccare in spiritum sanctum, sicut dictum est (a. 1). Et hoc etiam plerumque praesupponit alia peccata, quia sicut dicitur Proverb. XVIII, impius, cum in profundum peccatorum venerit, contemnit. Potest tamen contingere quod aliquis in pnmo actu peccati in spiritum sanctum peccet per contemptum, tum propter libertatem arbitrii; tum etiam propter multas dispositiones praecedentes; vel etiam propter aliquod vehemens motivum ad malum et debilem affectum hominis ad bonum. Et ideo in
Раздел 4. Может ли человек согрешить против Духа Святого первым же грехом 171
из тех, кто пребывает в высшем и совершеннейшем состоянии, может внезапно отступиться и отпасть: его падение должно быть медленным и постепенным. И то же самое относится к буквальному пониманию греха против Святого Духа, то есть к его пониманию как прямой хулы на Святого Духа, ведь эта хула, о которой говорит Господь, всегда происходит из злобного презрения. А если, следуя толкованию Августина, мы назовем грехом против Святого Духа совершенную нераскаянность, то она не относится к рассматриваемой проблеме, ведь для такого греха против Святого Духа требуется постоянство греха вплоть до конца жизни.
(40) Итак, на первое надлежит ответить, что хотя продвижение человека в добре или зле происходит, в большинстве случаев, от несовершенного к совершенному (т. е. человек постепенно совершенствуется в добре или зле), тем не менее, в обоих случаях один человек может начинать с большего, чем другой. Следовательно, то, с чего он
начинает, может быть совершенным в добре или зле по своему роду, но несовершенным в том, что касается последовательности благих или дурных действий человека, совершенствующегося в добре или зле.
(41) На второе надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу по отношению к злонамеренному греху, когда он обусловливается склонностью хабитуса.
(42) На третье надлежит ответить, что если мы, сообразно толкованию Августина, понимаем под нераскаянностью постоянство в грехе вплоть до самой смерти, то очевидно, что нераскаянность, как и раскаяние, предполагает наличие предшествующего греха. Но если мы говорим о хаби- туальной нераскаянности, сообразно тому, что она считается видом греха против Святого Духа, то тогда очевидно, что она может предшествовать другим грехам: в самом деле, человек, который никогда не грешил, может иметь намерение покаяться или не покаяться, если ему случится согрешить.
vins perfectis hoc vix aut nunquam accidere potest quod statim a principio peccent in spiritum sanctum. Unde dicit Ongenes, in I Periarch. (3; PG 11, 155), non arbitror quod aliquis ex his qui in summo petfectoque gradu constiterint, ad subitum evacuetur aut decidat, sed paulatim ac per partes eum decidere necesse est. Et eadem ratio est si peccatum in spintum sanctum accipiatur ad litteram pro blasphemia spiritus sancti. Talis enim blasphemia de qua dominus loquitur, semper ex malitiae contemptu procedit. Si vero per peccatum in spiritum sanctum intelligatur finalis impoenitentia, secundum intellectum Augustini, quaestionem non habet, quia ad peccatum in spiritum sanctum requiritur continuatio peccatorum usque in finem vitae.
(40) Ad primum ergo dicendum quod tam in bono quam in malo, ut in plunbus, proceditur ab imperfecto ad perfectum, prout homo proficit vel in bono vel in malo. Et tamen in utroque unus potest incipere a maion quam alius. Et ita
illud a quo aliquis incipit, potest esse perfectum in bono vel in malo secundum genus suum; licet sit imperfectum secundum seriem processus hominis in melius vel in peius proficientis.
(41) Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit de peccato ex malitia quando est ex inclinatione habitus.
(42) Ad tertium dicendum quod, si accipiatur impoenitentia secundum intentionem Augustini, secundum quod importat permanentiam in peccato usque in finem, sic planum est quod impoenitentia praesupponit peccata, sicut et poenitentia. Sed si loquamur de impoenitentia habituali, secundum quod ponitur species peccati in spintum sanctum, sic manifestum est quod impoenitentia potest esse etiam ante peccata, potest enim ille qui nunquam peccavit habere propositum vel poenitendi vel non poenitendi, si contingeret eum peccare.
Вопрос 15
О пороках, противоположных дару разумения, а именно, о слепоте ума и притупленности чувства
(1) Затем надлежит рассмотреть пороки, противоположные знанию и разумению. И поскольку о неведении, которое противоположно знанию, уже было сказано выше, когда шла речь о причинах греха (Ч. II-I, В. 76), то теперь надлежит исследовать слепоту ума и притупленность чувства, которые противоположны дару разумения. И касательно этого рассматривается три [проблемы]: 1) является ли слепота ума грехом; 2) является ли притупленность чувства грехом, отличным от слепоты ума;
3) берут ли эти пороки начало от грехов плоти.
Раздел 1 Является ли слепота ума грехом
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что слепота ума не является грехом.
(3) 1. В самом деле, то, что извиняет грех, само не является грехом. Но слепота извиняет грех, ибо сказано (Ин 9, 41): Если бы
вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Следовательно, слепота ума не является грехом.
(4) 2. Кроме того, наказание отличается от вины. Но слепота ума есть некое наказание, что очевидно из этих слов (Ис 6, 10): Ослепло сердце народа сего. В самом деле, слепота, поскольку является злом, может исходить от Бога только будучи наказанием. Следовательно, слепота ума не является грехом.
(5) 3. Кроме того, согласно Августину, всякий грех доброволен. Но слепота ума не является добровольной, поскольку, как говорит Августин, все любят познавать светлую истину. Кроме того, сказано (Еккл 11,
7): Сладок свет, и приятно для глаз видеть Солнце. Следовательно, слепота ума не является грехом.
(6) Но против: Григорий причисляет слепоту ума к тем порокам, которые обусловливаются похотью.
Quaestio 15
De vitiis oppositis dono intellectus, scilicet de caecitate mentis et hebetudine sensus
(1) Deinde considerandum est de vitiis oppositis scienti- Ioan. IX, si caeci essetis, non haberetis peccatum. Ergo
ae et intellectui. Et quia de ignorantia, quae opponitur caecitas mentis non est peccatum.
scientiae, dictum est supra (II-I, q. 76), cum de causis (4) 2. Praeterea, poena differt a culpa. Sed caecitas mentis
peccatorum ageretur; quaerendum est nunc de caecitate est quaedam poena, ut patet per illud quod habetur Isa- mentis et hebetudine sensus, quae opponuntur dono intel- iae VI, excaeca cor populi huius; non enim esset a Deo,
lectus. Et circa hoc quaeruntur tria. Primo, utrum caecitas cum sit malum, nisi poena esset. Ergo caecitas mentis non
mentis sit peccatum. Secundo, utrum hebetudo sensus sit est peccatum.
aliud peccatum a caecitate mentis. Tertio, utrum haec vitia (5) 3. Praeterea, omne peccatum est voluntarium, ut Au-
a peccatis carnalibus oriantur. gustinus dicit (De vera relig. 14; PL 34, 133). Sed caecitas
mentis non est voluntaria, quia ut Augustinus dicit, X Con- Articulus 1 fess. (23; PL 32, 794), cognoscere veritatem lucentem omnes
Utrum caecitas mentis sit peccatum amant; et Eccle. XI dicitur, dulce lumen, et delectabile oculis
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod caecitas mentis videre solem. Ergo caecitas mentis non est peccatum,
non sit peccatum. (6) Sed contra est quod Gregonus, XXXI Moral. (45; PL 76,
(3) 1. Illud enim quod excusat a peccato non videtur esse 621), caecitatem mentis ponit inter vitia quae causantur
peccatum. Sed caecitas excusat a peccato, dicitur enim ex luxuria.
Раздел 1. Является ли слепота ума грехом
173
) Отвечаю: как телесная слепота является лишенностью начала телесного зрения, так и слепота ума является лишенностью начала умственного, или интеллектуального зрения. Но это начало тройственно. Во-первых, это свет естественного разума. И этот свет, который относится к виду разумной души, никогда не утрачивается ею. Однако более низкие способности, в которых нуждается разум для мышления, иногда мешают ему осуществлять его собственное действие, как это бывает, например, в случае сумасшествия или безумия, как было сказано в Первой Части (Ч. I, В. 84, Р. 7). Во-вторых, началом умственного зрения является некий хабитуальный свет, добавленный к естественному свету разума, и он может иногда утрачиваться душою. Такая утрата — это слепота, которая является наказанием, сообразно тому, что лишение света благодати является неким наказанием. И потому о некоторых людях сказано так (Прем 2, 21): Злоба их ослепила их. В-третьих, началом умственного зрения является некое умопостигаемое начало, при помощи которого человек умопостигает другие вещи. И к этому умопостигаемому началу человек ино¬
гда стремится, а иногда — нет. И последнее происходит в силу двух причин. Во- первых, из-за того, что человеческая воля намеренно отвращается от созерцания этого начала, согласно сказанному (Пс 35,
4): Не хочет он вразумитъся, чтобы делать добро. Во-вторых, из-за того, что ум поглощен рассмотрением иных, более любимых им вещей, которые мешают ему созерцать это начало, согласно этим словам (Пс 57, 9): Опалит их огонь, т. е. огонь вожделения, и не видят Солнца. И в обоих этих случаях слепота ума является грехом.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что та слепота, которая извиняет грех, является следствием естественного изъяна того, кто не может видеть.
(9) На второе надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу по отношению ко второму типу слепоты, который является наказанием.
(ю) На третье надлежит ответить, что само по себе разумение истины любимо всеми, но, тем не менее, акцидентально некоторые могут его ненавидеть, так как оно является для них препятствием к овладению тем, что любимо ими еще больше.
(7) Respondeo dicendum quod sicut caecitas corporalis est pnvatio eius quod est principium corporalis visionis, ita etiam caecitas mentis est privatio eius quod est principium mentalis sive intellectualis visionis. Cuius quidem principium est triplex. Unum quidem est lumen naturalis rationis. Et hoc lumen, cum pertineat ad speciem animae rationalis, nunquam pnvatur ab anima. Impeditur tamen quandoque a proprio actu per impedimenta vinum inferiorum, quibus indiget intellectus humanus ad intelligendum, sicut patet in amentibus et furiosis, ut in primo dictum est (I, q 84, a. 7, 8). Aliud autem principium intellectualis visionis est aliquod lumen habituale naturali lumini rationis superadditum. Et hoc quidem lumen interdum privatur ab anima. Et talis privatio est caecitas quae est poena, secundum quod pnvatio luminis gratiae quaedam poena ponitur. Unde dicitur de quibusdam, Sap. II, excaecavit illos malitia eorum. Tertium principium visioms intellectualis est aliquod intelligibile pnncipium per quod homo intelligit alia. Cui quidem pnncipio intelligibili mens ho¬
minis potest intendere vel non intendere. Et quod ei non intendat contingit dupliciter. Quandoque quidem ex hoc quod habet voluntatem spontanee se avertentem a consideratione talis principii, secundum illud Psalm., noluit intelligere ut bene ageret. Alio modo, per occupationem mentis circa alia quae magis diligit, quibus ab inspectione huius principii mens avertitur, secundum illud Psalm., supercecidit ignis, scilicet concupiscentiae, et non viderunt solem. Et utroque modo caecitas mentis est peccatum.
(8) Ad primum ergo dicendum quod caecitas quae excusat a peccato est quae contingit ex naturali defectu non potentis videre.
(9) Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit de secunda caecitate, quae est poena.
(10) Ad tertium dicendum quod intelligere veritatem cuilibet est secundum se amabile. Potest tamen per accidens esse alicui odibile, inquantum scilicet per hoc homo impeditur ab aliis quae magis amat.
174
Вопрос 15. О пороках, противоположных дару разумения
Раздел 2
Является ли притупленность чувства грехом, отличным от слепоты ума
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что притупленность чувства не является отличным от слепоты ума грехом.
(12) 1. В самом деле, одному противоположно одно. Однако, согласно Григорию, притупленность противоположна дару разумения; но ему противополагается также слепота ума, поскольку под разумением понимается некое созерцающее начало. Следовательно, притупленность чувства является тем же, что и слепота ума.
(13) 2. Кроме того, Григорий, говоря о притупленности, называет ее притупленностью чувства в отношении разумения. Но притупленность чувства в отношении разумения, как кажется, является тем же самым изъяном в разумении, что и слепота ума. Следовательно, притупленность чувства является тем же, что и слепота ума.
(14) 3. Кроме того, если они чем-либо отличаются, то, как кажется, прежде всего тем, что слепота ума, как было показано выше (Р. 1), добровольна, тогда как притупленность чувства — естественный изъян. Но естественный изъян не является
грехом. Следовательно, и притупленность чувства не является грехом. Но это противоречит тому, что Григорий причисляет ее к грехам, которые возникают от обжорства.
(15) Но против: у разных причин разные следствия. Однако Григорий говорит, что притупленность чувства является следствием обжорства, а слепота ума — похоти. Следовательно, они суть разные пороки.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что тупость противоположна остроте. Но нечто называется острым потому, что обладает проникающими свойствами, а тупым называется то, что не способно к проникновению во что-либо. И сообразно некоему подобию о телесном чувстве говорится как о проникающем сквозь некую среду тогда, когда оно воспринимает свой объект на определенном расстоянии, или когда оно может проникать в малейшие детали. Поэтому в вещах телесных чувство называют острым тогда, когда оно может схватывать чувственно воспринимаемое издалека при помощи зрения, слуха и обоняния; и наоборот, чувство называют притупленным тогда, когда оно воспринимает только то чувственно воспринимаемое, которое находится в непосредственной близо-
Articulus 2 Utram hebetudo sensus sit aliud peccatum a caecitate mentis
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod hebetudo sensus non sit aliud a caecitate mentis.
(12) 1. Unum enim uni est contrarium. Sed dono intellectus opponitur hebetudo, ut patet per Gregorium, in II Moral. (49; PL 75, 592); cui etiam opponitur caecitas mentis, eo quod intellectus principium quoddam visivum designat. Ergo hebetudo sensus est idem quod caecitas mentis.
(13) 2. Praeterea, Gregonus, in XXXI Moral. (45; PL 76, 621), de hebetudine loquens, nominat eam hebetudinem sensus circa intelligentiam. Sed hebetari sensu circa intelli- gentiam nihil aliud esse videtur quam intelligendo deficere, quod pertinet ad mentis caecitatem. Ergo hebetudo sensus idem est quod caecitas mentis.
(14) 3. Praeterea, si in aliquo differunt, maxime videntur in hoc differre quod caecitas mentis est voluntaria, ut supra
dictum est (a. 1), hebetudo autem sensus est naturalis. Sed defectus naturalis non est peccatum. Ergo secundum hoc hebetudo sensus non esset peccatum. Quod est contra Gregorium, qui connumerat (Moral., XXXI, 45; PL 76, 621) eam inter vitia quae ex gula oriuntur.
(15) Sed contra est quod diversarum causarum sunt diversi effectus. Sed Gregorius (Moral., XXXI, 45; PL 76, 621), dicit quod hebetudo mentis oritur ex gula, caecitas autem mentis ex luxuria. Ergo sunt diversa vitia.
(16) Respondeo dicendum quod hebes acuto opponitur. Acutum autem dicitur aliquid ex hoc quod est penetrativum. Unde et hebes dicitur aliquid ex hoc quod est obtusum, penetrare non valens. Sensus autem corporalis per quan- dam similitudinem penetrare dicitur medium inquantum ex aliqua distantia suum obiectum percipit; vel inquantum potest quasi penetrando intima rei percipere. Unde in corporalibus dicitur aliquis esse acuti sensus qui potest percipere sensibile aliquod ex remotis, vel videndo vel audiendo vel olfaciendo; et e contrario dicitur sensu hebetari
Раздел 3. Берут ли эти грехи начало от плотских грехов
175
сти или достаточно велико.
(17) И по подобию с телесным чувством говорится о том, что разумение тоже есть некое чувство, обращенное, как сказано в VI книге «Этики», на некие первоосновы (так же, как чувство воспринимает чувственно воспринимаемые [объекты] как некие начала познания). Но то чувство, которое имеет место при разумении, постигает свой объект, не проникая сквозь среду телесного расстояния, а через некие другие посредствующие звенья: например, постигает сущность вещи через ее свойство или причину через ее следствие. Поэтому о человеке говорят, что он обладает острым умственным чувством, если он, едва постигнув свойство или следствие вещи, сразу постигает ее природу и проникает умом вплоть до мельчайших ее деталей. А о притупленном чувстве такого рода говорят тогда, когда человеку для познания истины вещи требуется множество разъяснений, да и после этого он не может в совершенстве понять все то, что относится к смысловому содержанию вещи.
(18) Таким образом, притупленность чувства применительно к разумению подразумевает некую слабость ума в постижении духовных благ, а слепота ума подразумевает
qui non percipit nisi ex propinquo et magna sensibilia.
(17) Ad similitudinem autem corporalis sensus dicitur etiam circa intelligentiam esse aliquis sensus, qui est aliquorum primorum extremorum, ut dicitur in VI Ethic. (8; 1142a26), sicut etiam sensus est cognoscitivus sensibilium quasi quo- rundam principiorum cognitionis. Hic autem sensus qui est circa intelligentiam non percipit suum obiectum per medium distantiae corporalis, sed per quaedam alia media, sicut cum per proprietatem rei percipit eius essentiam, et per effectus percipit causam. Ille ergo dicitur esse acuti sensus circa intelligentiam qui statim ad apprehensionem proprietatis rei, vel etiam effectus, naturam rei comprehendit, et inquantum usque ad minimas conditiones rei considerandas pertingit. Ille autem dicitur esse hebes circa intelligentiam qui ad cognoscendam veritatem rei pertingere non potest nisi per multa ei exposita, et tunc etiam non potest pertingere ad perfecte considerandum omnia quae pertinent ad rei rationem.
(18) Sic igitur hebetudo sensus circa intelligentiam importat
полное отсутствие возможности познания таких вещей. И то и другое противоположно дару разумения, посредством которого человек, схватывая духовные блага, постигает их и глубоко проникает в их малейшие детали. И притупленность чувства, подобно слепоте ума, обладает смысловым содержанием греха в той мере, в какой она является добровольной, что очевидно в случае человека, который из-за своей привязанности к телесному испытывает отвращение или пренебрегает изучением вещей духовных.
(19) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 3 Берут ли эти грехи начало от плотских грехов
(20) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что эти грехи не берут начало от плотских грехов.
(21) 1. В самом деле, Августин, пересматривая свои слова из I книги «Монологов», Боже, Который не восхотел, чтобы истину знал кто-либо, кроме чистых, говорит, что на это можно возразить, что и многие из нечистых знают много истинного. Но люди становятся нечистыми в первую очередь
quandam debilitatem mentis circa considerationem spiritualium bonorum, caecitas autem mentis importat omnimodam privationem cognitionis ipsorum. Et utrumque opponitur dono intellectus, per quem homo spintualia bona apprehendendo cognoscit et ad eorum intima subtiliter penetrat. Habet autem hebetudo rationem peccati sicut et caecitas mentis, inquantum scilicet est voluntana, ut patet in eo qui, affectus circa carnalia, de spiritualibus subtiliter discutere fastidit vel negligit.
(19) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 3
Utrum haec vitia a peccatis carnalibus oriantur
(20) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod caecitas mentis et hebetudo sensus non oriantur ex vitiis carnalibus.
(21) 1. Augustinus enim, in libro Retract. (I, 4; PL 32, 589), retractans illud quod dixerat in Soliloq. (I, 1; PL 32, 870), Deus, qui non nisi mundos verum scire voluisti, dicit quod responderi potest multos etiam non mundos multa vera
176
Вопрос 15. О пороках, противоположных дару разумения
от грехов плоти. Следовательно, слепота ума и притупленность чувства не обусловливаются грехами плоти.
(22) 2. Кроме того, слепота ума и притупленность чувства суть изъяны некоей части разумной души, тогда как чувственные грехи связаны с повреждением плоти. Но плоть не воздействует на душу, скорее дело обстоит наоборот. Следовательно, плотские грехи не обусловливают слепоту ума и притупленность чувства.
(23) 3. Кроме того, все вещи испытывают большее воздействие от ближнего, нежели от удаленного. Но духовные пороки ближе к уму, чем плотские. Следовательно, слепота ума и притупленность чувства возникают скорее от духовных, нежели от телесных пороков.
(24) Но против: Григорий говорит о том, что притупленность чувства является следствием обжорства, а слепота ума — похоти.
(25) Отвечаю: надлежит сказать, что совершенство умственного действия человека заключается в некоем абстрагировании от фантасмов чувственно воспринимаемого. И потому чем больше человеческий ум освобождается от этих фантасмов, тем более способным он делается к исследованию умопостигаемых вещей и к упоря¬
дочиванию вещей чувственных. Так ведь и Анаксагор утверждал, что для того, чтобы управлять, ум не должен быть смешан с тем, чем он управляет, и действующее должно господствовать над материей, для того чтобы приводить ее в движение. Но очевидно, что удовольствие привлекает внимание человека к тому, от чего он получает удовольствие, по каковой причине Философ говорит, что мы хорошо делаем то, что делаем с удовольствием, а противное нам мы либо вообще не делаем, либо делаем плохо. Но телесные пороки, а именно обжорство и похоть, связаны с удовольствиями осязания, т. е. с удовольствиями от пищи и соития, которые среди плотских удовольствий являются самыми сильными. И потому названные пороки более других привлекают внимание человека к телесным вещам, в результате чего ослабляется человеческое действие, обращенное на умопостигаемое, причем из-за похоти сильней, чем из-за обжорства, поскольку удовольствие от совокупления сильнее, чем удовольствие от еды. Поэтому похоть причинно обусловливает слепоту ума, которая почти полностью исключает познание духовных благ, в то время как притупленность чувства возника-
scire. Sed homines maxime efficiuntur immundi per vitia carnalia. Ergo caecitas mentis et hebetudo sensus non causantur a vitiis carnalibus.
(22) 2. Praeterea, caecitas mentis et hebetudo sensus sunt defectus quidam circa partem animae intellectivam, vitia autem carnalia pertinent ad corruptionem camis. Sed caro non agit in animam, sed potius e converso. Ergo vitia carnalia non causant caecitatem mentis et hebetudinem sensus
(23) 3. Praeterea, unumquodque magis patitur a propinquiori quam a remotion. Sed propinquiora sunt menti vitia spintualia quam carnalia. Ergo caecitas mentis et hebetudo sensus magis causantur ex vitiis spiritualibus quam ex vitiis carnalibus.
(24) Sed contra est quod Gregonus, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), dicit quod hebetudo sensus circa intelligentiam oritur ex gula, caecitas mentis ex luxuria.
(25) Respondeo dicendum quod perfectio intellectualis operationis in homine consistit in quadam abstractione a sensi¬
bilium phantasmatibus. Et ideo quanto intellectus hominis magis fuerit liber ab huiusmodi phantasmatibus, tanto potius considerare intelligibilia poterit et ordinare omnia sensibilia, sicut et Anaxagoras dixit quod oportet intellectum esse immixtum ad hoc quod imperet, et agens oportet quod dominetur super materiam ad hoc quod possit eam movere. Manifestum est autem quod delectatio applicat intentionem ad ea in quibus aliquis delectatur, unde philosophus dicit, in X Ethic. (5; 1175a30), quod unusquisque ea in quibus delectatur optime operatur, contraria vero nequaquam vel debiliter. Vitia autem carnalia, scilicet gula et luxuria, consistunt circa delectationes tactus, ciborum scilicet et venereorum, quae sunt vehementissimae inter omnes corporales delectationes. Et ideo per haec vitia intentio hominis maxime applicatur ad corporalia, et per consequens debilitatur operatio hominis circa intelligibilia, magis autem per luxuriam quam per gulam, quanto delectationes venereorum sunt vehementiores quam ciborum. Et ideo ex luxuna oritur caecitas mentis, quae quasi
Раздел 3. Берут ли эти грехи начало от плотских грехов
177
ет из обжорства, которое лишь ослабляет [познавательные возможности] человека по отношению к такого рода умопостигаемым вещам. С другой стороны, противоположные им добродетели, а именно воздержание и целомудрие, более других располагают человека к совершенству умственной деятельности. Поэтому и сказано (Дан 1, 17), что сим отрокам, которые были умерены и воздержаны, даровал Бог знание и разумение всякой книги и мудрости.
(26) Итак, на первое надлежит ответить, что хотя некоторые из тех, кто подвержен плотским порокам, благодаря совершенству своего природного гения или некоего добавленного к нему хабитуса иногда и способны к глубоким исследованиям умопости¬
гаемых [вещей], однако из-за стремления к телесным удовольствиям их внимание часто отвлекается от этого исследования. Таким образом, хотя нечистые и могут познавать некоторые истины, тем не менее, их нечистота препятствует им в этом.
(27) На второе надлежит ответить, что плоть воздействует на разумные способности не изменяя их, а препятствуя их деятельности, способом уже указанным.
(28) На третье надлежит ответить, что именно потому, что телесные пороки далеко отстоят от ума, они привлекают его внимание к наиболее удаленным от него самого вещам. И потому они более всего препятствуют интеллектуальному созерцанию.
totaliter spiritualium bonorum cognitionem excludit, ex gula autem hebetudo sensus, quae reddit hominem debilem circa huiusmodi intelligibilia. Et e converso oppositae virtutes, scilicet abstinentia et castitas, maxime disponunt hominem ad perfectionem intellectualis operationis. Unde dicitur Dan. I, quod pueris his, scilicet abstinentibus et continentibus, dedit Deus scientiam et disciplinam in omni libro et sapientia
(26) Ad primum ergo dicendum quod, quamvis aliqui vitiis carnalibus subditi possint quandoque subtiliter aliqua speculari circa intelligibilia, propter bonitatem ingenii naturalis vel habitus superadditi; tamen necesse est ut ab hac
subtilitate contemplationis eorum intentio plerumque retrahatur propter delectationes corporales. Et ita immundi possunt aliqua vera scire sed ex sua immunditia circa hoc impediuntur.
(27) Ad secundum dicendum quod caro non agit in partem intellectivam alterando ipsam, sed impediendo operationem ipsius per modum praedictum.
(28) Ad tertium dicendum quod vitia carnalia, quo magis sunt remota a mente, eo magis eius intentionem ad remotiora distrahunt. Unde magis impediunt mentis contemplationem.
Вопрос 16
О заповедях, относящихся к представленному ранее, то есть к вере и дарам знания и разумения
(о Далее надлежит рассмотреть заповеди, относящиеся к представленному ранее. И касательно этого исследуются две [проблемы]: 1) заповеди, относящиеся к вере; 2) заповеди, относящиеся к дарам знания и разумения.
Раздел 1
Следовало ли дать заповеди о вере в ветхом законе
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что в ветхом законе надлежало дать заповеди веры.
(3) 1. В самом деле, заповедь дается о должном и необходимом. Но самым необходимым для человека является вера, согласно сказанному (Евр 11, 6): Без веры угодить Богу невозможно (Евр 11, 6). Следовательно, было крайне необходимо дать заповедь о вере.
(4) 2. Кроме того, как уже сказано (Ч. II-I,
В. 107, Р. 3), Новый Завет содержится в Ветхом как образно переданная [реальность] — в образе. Но Новый Завет содержит оче¬
видные предписания о вере, например: Веруйте в Бога — ив Меня веруйте (Ин 14, 1). Следовательно, как кажется, некоторые заповеди о вере надо было дать и в ветхом законе.
(5) 3. Кроме того, действия определенных добродетелей предписываются на том же основании, на котором запрещаются противоположные пороки. Но ветхий закон содержит несколько заповедей, запрещающих неверие, например: Да не будет у тебя других «богов» пред Лицом Моим (Исх 20, 3); кроме того, иудеям запрещалось (Втор 13, 1-3) слушать слова тех пророков и сновидцев, которые желали отвратить их от их веры в Бога. Следовательно, в ветхом законе надо было дать заповеди о вере.
(6) 4. Кроме того, как уже было сказано (В. 3, Р. 1), исповедание — это действие веры. Но ветхий закон содержал заповеди об исповедании и распространении веры; так, иудеям было наказано сообщать своим детям, если те спросят, значение пасхаль-
Quaestio 16
De praeceptis pertinentibus ad praedicta scilicet ad fidem et dona scientiae et intellectus
(1) Deinde considerandum est de praeceptis pertinentibus ad praedicta. Et circa hoc quaeruntur duo. Pnmo, de praeceptis pertinentibus ad fidem. Secundo, de praeceptis pertinentibus ad dona scientiae et intellectus
Articulus 1
Utrum in veteri lege dare debuerint praecepta credendi
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod in veteri lege dari debuerint praecepta credendi.
(3) 1. Praeceptum enim est de eo quod est debitum et necessarium. Sed maxime necessarium est homini quod credat, secundum illud Heb. XI, sine fide impossibile est placere Deo. Ergo maxime oportuit praecepta dari de fide.
(4) 2. Praeterea, novum testamentum continetur in veten sicut figuratum in figura, ut supra dictum est (II-I, q. 107,
a. 3). Sed in novo testamento ponuntur expressa mandata de fide, ut patet Ioan. XIV, creditis in Deum, et in me credite. Ergo videtur quod in veten lege etiam debuennt aliqua praecepta dan de fide
(5) 3. Praeterea, eiusdem rationis est praecipere actum vir¬
tutis et prohibere vitia opposita. Sed in veten lege ponuntur multa praecepta prohibentia infidelitatem, sicut Exod. XX, non habebis deos alienos coram me; et iterum Deut. XIII mandatur quod non audient verba prophetae aut somniatoris qui eos de fide Dei vellet divertere. Ergo in veteri lege etiam debuerunt dari praecepta de fide.
(6) 4. Praeterea, confessio est actus fidei, ut supra dictum est (q. 3, a. 1). Sed de confessione et promulgatione fidei dantur praecepta in veten lege, mandatur enim Exod. XII quod filiis suis intenogantibus rationem assignent paschalis observantiae, et Deut. XIII mandatur quod ille
Раздел 1. Следовало ли дать заповеди о вере в ветхом законе
179
ных соблюдений (Исх 12, 27), а еще им было наказано убивать всякого, кто распространял противное вере учение (Вт 13). Следовательно, в ветхом законе надлежало дать заповеди о вере.
(7) 5. Кроме того, все книги Ветхого Завета охватываются старым законом, почему Господь и говорит, что в законе сказано: Возненавидели Меня напрасно (Ин 15, 25), при том, что это сказано в псалмах (Пс 34; 68). Однако в Ветхом Завете сказано (Сир 2, 8): Боящиеся Господа! Веруйте Ему. Следовательно, в ветхом законе надлежало дать заповеди о вере.
(8) Но против: апостол называет ветхий закон «законом дел», которому он противопоставляет «закон веры» (Рим 3, 27). Следовательно, старый закон не должен был содержать заповеди о вере.
(9) Отвечаю: надлежит сказать, что господин устанавливает законы только для своих подданных, и потому положения любого закона предполагают, что тот, кто получает закон, подчинен законодателю. Однако человек прежде всего подчинен Богу посредством веры, согласно этим словам (Евр 11,
6): Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Следовательно, заповеди закона предполагают веру, и потому то,
что относится к вере, предшествует заповедям закона, например, когда говорится: Я — Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской (Исх 20, 2). И точно так же сначала говорится (Втор 6, 4): Слушай, Израиль! Господь, Бог наш, Господь един есть, и лишь потом приводятся заповеди. Но поскольку вера содержит много такого, что подчинено вере в существование Бога (что, как было показано выше (В. 1, Р. 7), является самым первым и самым главным из всех вероучительных догматов), то при наличии веры в существование Бога, которая подчиняет Ему ум человека, становится возможным дать заповеди и о других догматах веры. И так, Августин, разъясняя эти слова (Ин 15, 12), Сия есть заповедь Моя, говорит, что нам было дано много заповедей о вере. Однако в ветхом законе тайны веры не еще не должны были открываться народу. И потому, при наличии веры в единого Бога, в ветхом законе не было дано никаких других заповедей о вере.
(ю) Итак, на первое надлежит ответить, что вера необходима как начало духовной жизни, и потому ее наличие было условием получения Закона.
(и) На второе надлежит ответить, что Господь исходил из наличия некоторой ве-
qui disseminat doctrinam contra fidem occidatur. Ergo lex vetus praecepta fidei debuit habere.
(7) 5. Praeterea, omnes libri veteris testamenti sub lege vet- en continentur, unde dominus, Ioan. XV, dicit in lege esse scriptum, odio habuerunt me gratis, quod tamen scribitur in Psalmo. Sed Eccli. II dicitur, qui timetis dominum, credite illi. Ergo in veten lege fuerunt praecepta danda de fide.
(8) Sed contra est quod apostolus, ad Rom. III, legem veterem nominat legem factorum, et dividit eam contra legem fidei. Ergo in lege veteri non fuerunt praecepta danda de fide.
(9) Respondeo dicendum quod lex non imponitur ab aliquo domino nisi suis subditis, et ideo praecepta legis cuiuslibet praesupponunt subiectionem recipientis legem ad eum qui dat legem. Pnma autem subiectio hominis ad Deum est per fidem, secundum illud Heb. XI, accedentem ad Deum oportet credere quia est. Et ideo fides praesupponitur ad legis praecepta. Et propter hoc Exod. XX id quod est fidei praemittitur ante legis praecepta, cum dicitur, ego sum
dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Aegypti. Et similiter Deut. VI praemittitur, audi, Israel, dominus Deus tuus unus est, et postea statim incipit agere de praeceptis. Sed quia in fide multa continentur ordinata ad fidem qua credimus Deum esse, quod est primum et pnncipale inter omma credibilia, ut dictum est (q. 1, a 7); ideo, praesupposita fide de Deo, per quam mens humana Deo subiiciatur, possunt dari praecepta de aliis credendis, sicut Augustinus dicit (In Ioann. tr. 83; PL 35, 1846) quod plurima sunt nobis de fide mandata, exponens illud, hoc est praeceptum meum. Sed in veteri lege non erant secreta fidei populo exponenda. Et ideo, supposita fide unius Dei, nulla alia praecepta sunt in veteri lege data de credendis.
(10) Ad primum ergo dicendum quod fides est necessana tan- quam principium spiritualis vitae. Et ideo praesupponitur ad legis susceptionem.
(11) Ad secundum dicendum quod ibi etiam dominus prae- supponit aliquid de fide, scilicet fidem unius Dei, cum dicit, creditis in Deum, et aliquid praecipit, scilicet fidem
180
Вопрос 16. О заповедях, относящихся к вере и дарам знания и разумения
ры, а именно веры в единого Бога, когда Он сказал: Веруйте в Бога, и заповедал нечто, а именно — веру в Воплощение, посредством которого один становится Богом и человеком. И такое разъяснение веры относится к вере Нового Завета. И потому Он добавил: И в Меня веруйте.
(12) На третье надлежит ответить, что запрещающие заповеди относятся к грехам, которые повреждают добродетель. Но добродетель повреждается любым частным изъяном, как было сказано выше (Ч. II-I, В. 18, Р. 4; В. 19, Р. 6). И потому при наличии веры в единого Бога в ветхом законе были даны запрещающие заповеди, чтобы люди удерживались от тех частных изъянов, которые могли бы повредить веру.
(13) На четвертое надлежит ответить, что исповедание веры и обучение ей предполагает также и подчинение человека Богу через веру. И потому ветхий закон мог содержать скорее заповеди, относящиеся к исповеданию и обучению вере, нежели к самой вере.
(и) На пятое надлежит ответить, что в приведенном авторитетном высказывании предполагается та вера, которой мы верим, что Бог есть, почему и сказано сперва: Боящиеся Господа! (ведь этот страх невозможен
без веры). Последующие же слова, Веруйте Ему, следует относить к неким особым вероучительным положениям, прежде всего — к тем вещам, которые Бог обещал повинующимся Ему. И потому добавлено: И не погибнет награда ваша.
Раздел 2
Подобающим ли образом в ветхом законе переданы заповеди, относящиеся к знанию и разумению
(15) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что заповеди, относящиеся к знанию и разумению, переданы в ветхом законе недолжным образом.
(16) 1. В самом деле, знание и разумение относятся к познанию. Но познание предшествует действию и направляет его. Поэтому заповеди, относящиеся к знанию и разумению, должны предшествовать тем заповедям, которые относятся к действию. Следовательно, если первыми заповедями закона являются заповеди Декалога, то, как кажется, среди них должны были бы содержаться и некие заповеди, относящиеся к знанию и разумению.
(17) 2. Кроме того, ученичество предшествует учительству, поскольку человек вна-
incamationis, per quam unus est Deus et homo; quae quidem fidei explicatio pertinet ad fidem novi testamenti. Et ideo subdit, et in me credite.
(12) Ad tertium dicendum quod praecepta prohibitiva respiciunt peccata, quae corrumpunt virtutem. Virtus autem corrumpitur ex particularibus defectibus, ut supra dictum est (II-I, q. 18, a. 4; q. 19, a. 6). Et ideo, praesupposita fide unius Dei, in lege veten fuerunt danda prohibitiva praecepta, quibus hommes prohiberentur ab his particularibus defectibus per quos fides corrumpi posset.
(13) Ad quartum dicendum quod etiam confessio vel doctrina fidei praesupponit subiectionem hominis ad Deum per fidem. Et ideo magis potuerunt dari praecepta in veteri lege pertinentia ad confessionem et doctrinam fidei quam pertinentia ad ipsam fidem.
(14) Ad quintum dicendum quod in illa etiam auctoritate praesupponitur fides per quam credimus Deum esse, unde praemittit, qui timetis Deum, quod non posset esse sine fide. Quod autem addit, credite illi, ad quaedam credibilia
specialia referendum est, et praecipue ad illa quae promittit Deus sibi obedientibus. Unde subdit, et non evacuabitur merces vestra.
Articulus 2
Utrum convenienter in veteri lege tradantur praecepta pertinentia ad scientiam et intellectum
(15) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod in veteri lege inconvenienter tradantur praecepta pertinentia ad scientiam et intellectum.
(16) 1. Scientia enim et intellectus ad cognitionem pertinent. Cognitio autem praecedit et dirigit actionem. Ergo praecepta ad scientiam et intellectum pertinentia debent praecedere praecepta pertinentia ad actionem. Cum ergo prima praecepta legis sint praecepta Decalogi, videtur quod inter praecepta Decalogi debuerunt tradi aliqua praecepta pertinentia ad scientiam et intellectum.
(17) 2. Praeterea, disciplina praecedit doctrinam, pnus enim homo ab alio discit quam alium doceat. Sed dantur in veteri lege aliqua praecepta de doctrina, et affirmativa, ut
Раздел 2. Заповеди, относящиеся к знанию и разумению, в ветхом законе
181
чале должен научиться у кого-то, а уже потом учить других. Но ветхий закон содержит заповеди об учительстве — как предписывающие, например: Поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих (Вт 4, 9), так и запрещающие, например: Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того (Вт 4, 2). Следовательно, как кажется, надо было дать также и некоторые такие заповеди, которые определяли бы человека к учению.
(18) 3. Кроме того, как представляется, для священника знание и разумение важнее, чем для царя, в связи с чем сказано (Мал 2,
7): Уста священника должны хранить ведение, и Закона ищут от уст его\ и еще (Ос 4, 6): Так как ты отверг ведение — то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною. Но царю заповедано приобретать знание о законе (Вт 17, 18-19). Следовательно, тем более в законе должна была содержаться заповедь о научению священников закону.
(19) 4. Кроме того, во сне невозможно размышлять о том, что относится к знанию и разумению. Также этому препятствуют и внешние занятия. Следовательно, неподобающей является эта заповедь (Вт 6, 7): Размышляй о них, сидя в доме твоем, или идя
praecipitur Deut. IV, docebis ea filios ac nepotes tuos; et etiam prohibitiva, sicut habetur Deut. IV, non addetis ad verbum quod vobis loquor, neque auferetis ab eo. Ergo videtur quod etiam aliqua praecepta dan debuerint inducentia hominem ad addiscendum.
(18) 3 Praeterea, scientia et intellectus magis videntur necessaria sacerdoti quam regi, unde dicitur Malach. II, labia sacerdotis custodiunt scientiam, et legem requirunt ex ore eius; et Osee IV dicitur, quia scientiam repulisti, repellam te et ego, ne sacerdotio fungaris mihi. Sed regi mandatur quod addiscat scientiam legis, ut patet Deut. XVII. Ergo multo magis debuit praecipi in lege quod sacerdotes legem addiscerent.
(19) 4. Praeterea, meditatio eorum quae ad scientiam et intellectum pertinent non potest esse in dormiendo. Impeditur etiam per occupationes extraneas. Ergo inconvenienter praecipitur, Deut. VI, meditaberis ea sedens in domo tua, et ambulans in itinere, dormiens atque consurgens. Inconvenienter ergo traduntur in veteri lege praecepta ad scientiam
дорогою, и спя, и вставая. Следовательно, те заповеди, которые относятся к знанию и разумению, не были представлены в законе должным образом.
(20) Но против: сказано (Вт 4, 6): Услышав о всех этих постановлениях, скажут: «Только этот [великий народ есть] народ мудрый и разумный».
(21) Отвечаю: надлежит сказать, что в отношении знания и разумения можно рассмотреть три [вещи]: во-первых, их восприятие; во-вторых, их использование; в- третьих, их сохранение. И восприятие знания и разумения происходит, конечно, посредством учения и учительства, причем и то и другое заповедано законом. В самом деле, сказано (Вт 6, 6): Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и это относится к учению, поскольку воспринимать сердцем сказанное является обязанностью ученика. А следующие слова, и внушай их детям твоим, относятся к учительству. Использовать же знание и разумение значит размышлять о том, что человек знает и разумеет. И об этом сказано: Размышляй о них, сидя в доме твоем и т. д. А сохранение происходит при помощи памяти, и об этом сказано далее (Вт 6, 8-9): И навяжи их в знак на руку твою,
et intellectum pertinentia.
(20) Sed contra est quod dicitur Deut. IV, audientes universi praecepta haec, dicant, en populus sapiens et intelligens.
(21) Respondeo dicendum quod circa scientiam et intellectum tria possunt considerari, primo quidem, acceptio ipsius; secundo, usus eius; tertio vero, conservatio ipsius. Acceptio quidem scientiae vel intellectus fit per doctnnam et disciplinam. Et utrumque in lege praecipitur. Dicitur enim Deut. VI, erunt verba haec quae ego praecipio tibi, in corde tuo, quod pertinet ad disciplinam, pertinet enim ad discipulum ut cor suum applicet his quae dicuntur. Quod vero subditur, et narrabis ea filiis tuis, pertinet ad doctrinam. Usus vero scientiae vel intellectus est meditatio eorum quae quis scit vel intelligit. Et quantum ad hoc subditur, et meditaberis sedens in domo tua, et cetera. Conservatio autem fit per memoriam. Et quantum ad hoc subdit, et ligabis ea quasi signum in manu tua, eruntque et movebuntur inter oculos tuos, scribesque ea in limine et ostiis domus tuae. Per quae omnia iugem memoriam mandatorum
182
Вопрос 16. О заповедях, относящихся к вере и дарам знания и разумения
и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Эти слова обозначают постоянное воспоминание о заповедях Божиих, ведь мы не в силах забыть то, что постоянно воздействует на наше чувство: на осязание, если таковое у нас в руке, или на зрение, если таковое все время перед глазами или же если мы часто к нему возвращаемся (например, к воротам своего дома). И потому более ясно сказано (Вт 4, 9): Чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И в Новом Завете, как в евангельском, так и в апостольском учении, нам часто заповедуется то же самое.
(22) Итак, на первое надлежит ответить, что, как сказано в Писании (Вт 4, 6), в этом — мудрость ваша и разумение ваше пред глазами народов. И это надо понимать в том смысле, что мудрость и разумение верных заключаются в заповедях закона. Поэтому сперва надо было дать заповеди закона, а уже потом подводить людей к их познанию и разумению. И потому названные заповеди не следовало полагать среди первых, которыми являются заповеди Декалога.
(23) На второе надлежит ответить, что, как уже сказано, среди заповедей закона есть и такие, которые относятся к учению. И заповеди об учительстве выражены более ясно, чем заповеди об обучении, потому что учительство относится к старшим, которые независимы от других, но непосредственно под законом, и которым надлежит давать заповеди, а учение — к младшим, к которым заповеди закона должны приходить от старших.
(24) На третье надлежит ответить, что знание закона настолько тесно связано со священством, что священство невозможно без знания закона. И потому не было необходимости в специальной заповеди об обучении священников. С другой стороны, изучение закона Божия не настолько тесно связано с царской властью, ведь царь поставлен над людьми для управления временными делами. И потому специально заповедано, что царь должен научаться у священников, насколько речь идет о законе Божием.
(25) На четвертое надлежит ответить, что эту заповедь закона надо понимать не в том смысле, что человек должен размышлять о законе Божием во сне, но в том, что он должен размышлять о нем, отходя ко сну.
Dei significat, ea enim quae continue sensibus nostris occurrunt, vel tactu, sicut ea quae in manu habemus; vel visu, sicut ea quae ante oculos mentis sunt continue; vel ad quae oportet nos saepe recurrere, sicut ad ostium domus; a memoria nostra excidere non possunt. Et Deut. IV manifestius dicitur, ne obliviscaris verborum quae viderunt oculi tui, et ne excidant de corde tuo cunctis diebus vitae tuae. Et haec etiam abundantius in novo testamento, tam in doctrina evangelica quam apostolica, mandata leguntur.
(22) Ad primum ergo dicendum quod, sicut dicitur Deut. IV, haec est vestra sapientia et intellectus coram populis, ex quo datur intelligi quod scientia et intellectus fidelium Dei consistit in praeceptis legis. Et ideo primo sunt proponenda legis praecepta; et postmodum homines sunt inducendi ad eorum scientiam vel intellectum. Et ideo praemissa praecepta non debuerunt poni inter praecepta Decalogi, quae sunt prima.
(23) Ad secundum dicendum quod etiam in lege ponuntur praecepta pertinentia ad disciplinam, ut dictum est. Expressius tamen praecipitur doctrina quam disciplina, quia doctrina pertinet ad maiores, qui sunt sui iuris, immediate sub lege existentes, quibus debent dari legis praecepta, disciplina autem pertinet ad minores, ad quos praecepta legis per maiores debent pervenire.
(24) Ad tertium dicendum quod scientia legis est adeo annexa officio sacerdotis ut simul cum iniunctione officii intelligatur etiam et scientiae legis iniunctio. Et ideo non oportuit specialia praecepta dari de instructione sacerdotum. Sed doctrina legis Dei non adeo est annexa regali officio, quia rex constituitur super populum in temporalibus. Et ideo specialiter praecipitur ut rex instruatur de his quae pertinent ad legem Dei per sacerdotes.
(25) Ad quartum dicendum quod illud praeceptum legis non est sic intelligendum quod homo dormiendo meditetur de lege Dei, sed quod dormiens, idest vadens dormitum, de lege Dei meditetur; quia ex hoc etiam homines dormiendo
Раздел 2. Заповеди, относящиеся к знанию и разумению, в ветхом законе
183
Ведь из-за этого во сне сновидения будут лучше, поскольку движения с бодрствующего переходят на спящего, как явствует из слов Философа. И подобным же образом нам заповедано размышлять о законе
при каждом нашем действии — не в том смысле, что мы обязаны всегда актуально размышлять о законе, а в том, что все наши действия мы должны сообразовывать с ним.
nanciscuntur meliora phantasmata, secundum quod per- mandatur ut in omni actu suo aliquis meditetur de lege,
transeunt motus a vigilantibus ad dormientes, ut patet per non quod semper actu de lege cogitet, sed quod omnia
philosophum, in I Ethic. (13; 1102b9). Similiter etiam quae facit secundum legem moderetur.
Вопрос 17 О надежде как таковой
(1) После веры надлежит рассмотреть надежду. И во-первых, надежду как таковую (В. 17-18); во-вторых, дар страха (В. 19); в-третьих, противоположные пороки (В. 20-21); в-четвертых, заповеди к этому относящиеся (В. 22).
(2) И касательно первого надлежит рассмотреть, во-первых, саму надежду (В. 17), а во-вторых, ее субъект (В. 18). Касательно надежды самой по себе надлежит рассмотреть восемь [проблем]: 1) является ли надежда добродетелью; 2) является ли ее объектом вечное блаженство; 3) может ли один человек надеяться, посредством добродетели надежды, на блаженство другого; 4) дозволительно ли человеку надеяться на человека; 5) является ли надежда теологической добродетелью; 6) каково отличие надежды от других теологических добродетелей; 7) каков ее порядок по отношению к вере; 8) каков ее порядок по отношению к любви.
Раздел 1
Является ли надежда добродетелью
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что надежда не является добродетелью.
(4) 1. В самом деле, добродетель нельзя использовать во зло, как говорит Августин. Но надежду иногда используют во зло, ведь у страсти надежды, как и у других страстей, есть середина и крайности. Следовательно, надежда не является добродетелью.
(5) 2. Кроме того, никакая добродетель не происходит из заслуг, поскольку, как говорит Августин, Бог совершает в нас добродетель без нашего участия. Но, как говорит Магистр, надежда происходит из благодати и заслуг. Следовательно, надежда не является добродетелью.
(6) 3. Кроме того, добродетель есть предрасположенность совершенного, как сказано в VII книге «Физики». Но надежда есть предрасположенность несовершенного, т. е. того, кто не обладает тем, на что надеется. Следовательно, надежда не явля-
Quaestio 17 De spe secundum se
(1) Consequenter post fidem considerandum est de spe.
Et primo, de ipsa spe; secundo, de dono timoris; tertio, de vitiis oppositis; quarto, de praeceptis ad hoc pertinentibus.
(2) Circa primum occurrit primo consideratio de ipsa spe; secundo, de subiecto eius. Circa primum quaeruntur octo. Primo, utrum spes sit virtus. Secundo, utrum obiectum eius sit beatitudo aeterna. Tertio, utrum unus homo possit sperare beatitudinem alterius per virtutem spei. Quarto, utrum homo licite possit sperare in homine. Quinto, utrum spes sit virtus theologica. Sexto, de distinctione eius ab aliis (5) virtutibus theologicis. Septimo, de ordine eius ad fidem. Octavo, de ordine eius ad caritatem.
Articulus 1 Utrum spes sit virtus
(3) Ad primum sic proceditur. Videtur quod spes non sit virtus.
(4) 1. Virtute enim nullus male utitur,; ut dicit Augustinus,
in libro De lib. arb. (2, c. 18; PL 32, 1267; с. 19; PL 32, 1268). Sed spe aliquis male utitur, quia circa passionem spei contingit esse medium et extrema, sicut et circa alias passiones. Ergo spes non est virtus.
2. Praeterea, nulla virtus procedit ex meritis, quia virtutem Deus in nobis sine nobis operatur, ut Augustinus dicit (De grat. et lib. arb., c. 17; PL 44, 901). Sed spes est ex gratia et meritis proveniens; ut Magister dicit, lib. Sent. (3, d. 25, c. 1; QR 2, 670). Ergo spes non est virtus.
(6) 3. Praeterea, virtus est dispositio perfecti; ut dicitur in
Раздел 1. Является ли надежда добродетелью
185
ется добродетелью.
(7) Но против: Григорий говорит, что три сына Иова обозначают три добродетели, веру, надежду и любовь. Следовательно, надежда является добродетелью.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что, согласно Философу, всякая добродетель делает благим то, добродетелью чего является, и придает благость выполняемому им делу. Итак, надлежит, что везде, где обнаруживается благое человеческое действие, там же обнаруживается и соответствующая добродетель. Но во всем, что регулируется и измеряется, благим считают то, что достигает собственной меры; так, мы назовем одеяние добрым, если оно не больше и не меньше требуемого размера. Но, как было сказано выше (Ч. II-I, В. 71, Р. 6), есть две меры человеческих действий. Первая мера — ближайшая и однородная, и это разум человека, а вторая — отдаленная и превосходящая, и это Бог. И потому любое человеческое действие является благим тогда, когда оно соотносится с разумом или с Богом. Но действие надежды, о которой мы здесь говорим, соотносится с Богом. В самом деле, как было сказано выше, когда исследовалась надежда как страсть (Ч. II-I, В. 40, Р. 1), объектом на¬
дежды является возможное будущее благо, которое сложно обрести. Но, как сказано в III книге «Этики», это возможно для нас двояко: во-первых, благодаря нам самим, во-вторых, благодаря другим. Поэтому постольку, поскольку мы надеемся на что- либо как на возможное для нас благодаря божественной помощи, наша надежда соотносится с самим Богом, на помощь Которого она полагается. И потому ясно, что надежда является добродетелью, ведь она обусловливает благость человеческого действия и его соответствие надлежащей мере.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что в случае страстей [золотая] середина добродетели берется сообразно достижению правильного расчета-разумения, в котором заключается также и смысловое содержание добродетели. Поэтому равным образом и в случае надежды благо добродетели берется сообразно тому, что человек, надеясь, достигает должной меры, а именно, Бога. И потому никто не может использовать во зло надежду, которая достигает Бога, равно как и нравственную добродетель, которая достигает разума, поскольку само таковое достижение есть благое использование добродетели. Впрочем, надежда, о которой мы здесь говорим, явля-
VII Physic. (246b23). Spes autem est dispositio imperfecti, scilicet eius qui non habet id quod sperat. Ergo spes non est virtus.
(7) Sed contra est quod Gregorius, in I Moral. (27; PL 75, 544), dicit quod per tres filias lob significantur hae tres virtutes, fides, spes, caritas. Ergo spes est virtus.
(8) Respondeo dicendum quod, secundum philosophum, in II Ethic. (6; 1106al5), virtus uniuscuiusque rei est quae bonum facit habentem et opus eius bonum reddit. Oportet igitur, ubicumque invenitur aliquis actus hominis bonus, quod respondeat alicui virtuti humanae. In omnibus autem regulatis et mensuratis bonum consideratur per hoc quod aliquid propriam regulam attingit, sicut dicimus vestem esse bonam quae nec excedit nec deficit a debita mensura. Humanorum autem actuum, sicut supra dictum est (II-I, q. 71, a. 6), duplex est mensura, una quidem proxima et homogenea, scilicet ratio; alia autem est suprema et excedens, scilicet Deus. Et ideo omnis actus humanus attingens ad rationem aut ad ipsum Deum est bonus. Actus
autem spei de qua nunc loquimur attingit ad Deum, ut enim supra dictum est (II-I, q. 40, a. 1), cum de passione spei ageretur, obiectum spei est bonum futurum arduum possibile haberi. Possibile autem est aliquid nobis dupliciter, uno modo, per nos ipsos; alio modo, per alios; ut patet in III Ethic. (3; 1112b27). Inquantum igitur speramus aliquid ut possibile nobis per divinum auxilium, spes nostra attingit ad ipsum Deum, cuius auxilio innititur. Et ideo patet quod spes est virtus, cum faciat actum hominis bonum et debitam regulam attingentem.
(9) Ad primum ergo dicendum quod in passionibus accipitur medium virtutis per hoc quod attingitur ratio recta, et in hoc etiam consistit ratio virtutis. Unde etiam et in spe bonum virtutis accipitur secundum quod homo attingit sperando regulam debitam, scilicet Deum. Et ideo spe attingente Deum nullus potest male uti, sicut nec virtute morali attingente rationem, quia hoc ipsum quod est attingere est bonus usus virtutis. Quamvis spes de qua nunc loquimur non sit passio, sed habitus mentis, ut infra
186
Вопрос 17. О надежде как таковой
ется не страстью, но хабитусом ума, как станет ясно из дальнейшего (В. 18, Р. 1).
(ю) На второе надлежит ответить, что о надежде говорится как о происходящей из заслуг сообразно самой вещи, на которую надеются постольку, поскольку мы надеемся обрести счастье при помощи благодати и заслуг. Или же постольку, поскольку речь идет о сформированной надежде. Сам же хабитус надежды, посредством которого мы ожидаем блаженства, причинно обусловливается не заслугами, но исключительно благодатью.
(и) На третье надлежит ответить, что тот, кто надеется, конечно, несовершенен по отношению к тому, что он надеется обрести, ибо еще не имеет такового, но он совершенен в том, что уже достиг соответствующей меры, т. е. Бога, на помощь Которого он полагается.
Раздел 2 Является ли объектом надежды вечное блаженство
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что вечное блаженство не является объектом надежды.
(13) 1. В самом деле, человек не надеется на то, что превосходит любое движение его
души, ведь действие надежды есть некое ее движение. Но вечное блаженство превосходит любое движение человеческой души, ибо сказано (1 Кор 2, 9), что оно не приходило на сердце человеку. Следовательно, блаженство не является собственным объектом надежды.
(и) 2. Кроме того, молитва является вы¬
ражением надежды, ибо сказано (Пс 36,
5): Предай Господу путь твой и надейся на Него, и Он совершит. Но человек обоснованно может молить Бога не только о вечном блаженстве, но и о благах, духовных и материальных, земной жизни, и, как видно, из молитвы Господней, об избавлении от зла, которого не будет в вечном блаженстве. Следовательно, вечное блаженство не является собственным объектом веры.
(15) 3. Кроме того, объектом надежды яв¬
ляется нечто труднодостижимое. Однако не только вечное блаженство, но и многие иные вещи являются труднодостижимыми для человека. Следовательно, вечное блаженство не является собственным объектом надежды.
patebit (q. 18, а. 1).
(10) Ad secundum dicendum quod spes dicitur ex meritis provenire quantum ad ipsam rem expectatam, prout aliquis sperat se beatitudinem adepturum ex gratia et mentis. Vel quantum ad actum spei formatae. Ipse autem habitus spei, per quam aliquis expectat beatitudinem, non causatur ex meritis, sed pure ex gratia.
(11) Ad tertium dicendum quod ille qui sperat est quidem imperfectus secundum considerationem ad id quod sperat obtinere, quod nondum habet, sed est perfectus quantum ad hoc quod iam attingit propriam regulam, scilicet Deum, cuius auxilio innititur.
Articulus 2
Utrum beatitudo aeterna sit obiectum proprium spei
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod beatitudo aeterna non sit obiectum proprium spei.
(13) 1. Illud enim homo non sperat quod omnem animi sui motum excedit, cum spei actus sit quidam animi motus. Sed beatitudo aeterna excedit omnem humani animi motum, dicit enim apostolus, I ad Cor. II, quod in cor hominis non ascendit. Ergo beatitudo non est proprium obiectum spei.
(14) 2. Praeterea, petitio est spei interpretativa, dicitur enim in Psalm., revela domino viam tuam et spera in eo, et ipse faciet. Sed homo petit a Deo licite non solum beatitudinem aeternam, sed etiam bona praesentis vitae tam spiritualia quam temporalia, et etiam liberationem a malis, quae in beatitudine aeterna non erunt, ut patet in oratione dominica, Matth. VI. Ergo beatitudo aeterna non est proprium obiectum spei.
(15) 3. Praeterea, spei obiectum est arduum. Sed in comparatione ad hominem multa alia sunt ardua quam beatitudo aeterna. Ergo beatitudo aeterna non est proprium obiectum spei.
Раздел 2. Является ли объектом надежды вечное блаженство
187
(16) Но против: апостол говорит (Евр 6, 19), что у нас есть надежда, которая входит, т. е. приуготовляет к вхождению, во внутрен- нейьиее за завесу, т. е. как поясняет глосса, в вечное блаженство. Следовательно, объектом надежды является вечное блаженство.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше (Р. 1), надежда, о которой мы здесь говорим, достигает Бога за счет того, что полагается на Его помощь в обретении того блага, на получение которого надеются. Но следствие должно быть соразмерно причине. И потому благо, которое мы в первую очередь и главным образом должны надеяться получить от Бога, является бесконечным благом, соразмерным силе оказывающего нам помощь Бога, ведь бесконечной силе свойственно производить бесконечное следствие. И это благо — вечная жизнь, которая заключается в наслаждении самим Богом, ведь мы надеемся получить от Него не меньше, чем Его самого, ибо Его благость, посредством которой Он сообщает блага творению, не меньше, чем Его сущность. Следовательно, собственным и первичным объектом надежды является вечное блаженство.
(16) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Heb. VI, habemus spem incedentem, idest incedere facientem, ad interiora velaminis, idest ad beatitudinem caelestem; ut Glossa ibidem exponit. Ergo obiectum spei est beatitudo aeterna.
(17) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 1), spes de qua loquimur attingit Deum innitens eius auxilio ad consequendum bonum speratum. Oportet autem effectum esse causae proportionatum. Et ideo bonum quod proprie et principaliter a Deo sperare debemus est bonum infinitum, quod proportionatur virtuti Dei adiuvantis, nam infinitae virtutis est propnum ad infinitum bonum perducere. Hoc autem bonum est vita aeterna, quae in fruitione ipsius Dei consistit, non enim minus aliquid ab eo sperandum est quam sit ipse, cum non sit minor eius bonitas, per quam bona creaturae communicat, quam eius essentia. Et ideo proprium et principale obiectum spei est beatitudo aeterna.
(18) Ad primum ergo dicendum quod beatitudo aeterna perfecte quidem in cor hominis non ascendit, ut scilicet
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что вечное блаженство не проникает в сердце человека полностью, так именно, чтобы человек в этой жизни мог познать, что оно есть и каково оно есть. Однако оно отчасти познается в некоем общем смысловом содержании, а именно, как совершенное благо. И так надежда начинает движение к нему. Поэтому апостол специально подчеркивает (Евр 6, 19), что надежда входит во внутреннейшее за завесу: ведь то, на что мы надеемся, еще скрыто завесой.
(19) На второе надлежит ответить, что любые другие блага мы должны просить у Бога только как упорядоченные по отношению к вечному блаженству. Поэтому надежда соотносится с вечным блаженством в первую очередь, а со всеми прочими благами, которые мы просим у Бога, во вторую очередь, в некоем порядке к вечному блаженству. Так ведь и вера соотносится в первую очередь с Богом, и лишь во вторую очередь — со всем тем, что упорядочено по отношению к Нему, как сказано выше (В. 1, Р. 1; Р. 6, на 1).
(20) На третье надлежит ответить, что человеку, который устремлен к чему-то великому, все меньшее кажется незначительным. Поэтому тому, кто надеется на веч-
cognosci possit ab homine viatore quae et qualis sit, sed secundum communem rationem, scilicet boni perfecti, cadere potest in apprehensione hominis. Et hoc modo motus spei in ipsam consurgit. Unde et signanter apostolus dicit quod spes incedit usque ad interiora velaminis, quia id quod speramus est nobis adhuc velatum.
(19) Ad secundum dicendum quod quaecumque alia bona non debemus a Deo petere nisi in ordine ad beatitudinem aeternam. Unde et spes principaliter quidem respicit beatitudinem aeternam; alia vero quae petuntur a Deo respicit secundario, in ordine ad beatitudinem aeternam. Sicut etiam fides respicit principaliter Deum, et secundario respicit ea quae ad Deum ordinantur, ut supra dictum est (q. 1, a. 1; a. 6, ad 1).
(20) Ad tertium dicendum quod homini qui anhelat ad aliquid magnum, parvum videtur omne aliud quod est eo minus. Et ideo homini speranti beatitudinem aeternam, habito respectu ad istam spem, nihil aliud est arduum. Sed habito respectu ad facultatem sperantis, possunt eti-
188
Вопрос 17. О надежде как таковой
ную жизнь, ничто не кажется труднодостижимым, если говорить об этой надежде. Но если говорить о возможностях надеющегося человека, то тогда и некоторые другие [вещи] могут оказаться труднодостижимыми. И потому он может надеяться и на иные [вещи], находящиеся в порядке к этому главному объекту.
Раздел 3 Можно ли надеяться на вечное блаженство другого
(21) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что можно надеяться на вечное блаженство другого человека.
(22) 1. В самом деле, апостол говорит (Филип 1,6): Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса, Христа. Но совершенством этого дня будет вечное блаженство. Следовательно, можно надеяться на вечное блаженство другого человека.
(23) 2. Кроме того, мы надеемся получить от Бога то, что просим у Него. Но мы молим Бога привести к вечному блаженству других людей, согласно этим словам (Иак 5, 16): Молитесь друг за друга, чтобы спастись. Следовательно, мы можем надеяться на вечное блаженство других людей.
(24) 3. Кроме того, надежда и отчаяние относятся к одному и тому же. Но некто может отчаяться в блаженстве другого человека, иначе пустыми были бы эти слова Августина: Ни в ком не следует отчаиваться, пока он жив. Следовательно, можно надеяться на вечную жизнь другого человека.
(25) Но против: Августин говорит в «Энхи- ридионе», что надежде подлежат только те вещи, которые относятся к тому, кто, как предполагается, надеется на них.
(26) Отвечаю: надлежит сказать, что некто может обладать надеждой в двух смыслах. Во-первых, безусловно, и это — надежда на некое собственное труднодостижимое благо. Во-вторых, при условии наличия другого, и это — надежда, в том числе, на то, что относится к другому человеку. И для того, чтобы это стало очевидным, надлежит знать, что любовь и надежда различаются в том, что любовь подразумевает некое единение любящего и любимого, а надежда подразумевает некое движение, или распространение желания на некое труднодостижимое благо. Но единение есть единение чего-то различного, и потому любовь может непосредственно воспринимать другого, с которым некто объединяется при помощи любви, обладая им
am quaedam alia ei esse ardua. Et secundum hoc eorum potest esse spes in ordine ad principale obiectum.
Articulus 3
Utrum aliquis possit sperare alteri beatitudinem aeternam
(21) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod aliquis possit sperare alteri beatitudinem aeternam.
(22) 1. Dicit enim apostolus, Philipp. I, confidens hoc ipsum, quia qui coepit in vobis opus bonum perficiet usque in diem Christi Iesu. Perfectio aut illius diei erit beatitudo aetema. Ergo aliquis potest alteri sperare beatitudinem aeternam.
(23) 2. Praeterea, ea quae a Deo petimus speramus obtinere ab eo. Sed a Deo petimus quod alios ad beatitudinem aeternam perducat, secundum illud lac. ult., orate pro invicem ut salvemini. Ergo possumus aliis sperare beatitudinem aeternam.
(24) 3. Praeterea, spes et desperatio sunt de eodem. Sed aliquis potest desperare de beatitudine aetema alicuius, alioquin frustra diceret Augustinus, in libro De verb. Dom. (Serm. adpopul. serm. 71 c. 13; PL 38,456), de nemine esse desperandum dum vivit. Ergo etiam potest aliquis sperare alteri vitam aeternam.
(25) Sed contra est quod Augustinus dicit, in Enchirid. (c. 8; PL 40, 235), quod spes non est nisi rerum ad eum pertinentium qui earum spem gerere perhibetur.
(26) Respondeo dicendum quod spes potest esse alicuius dupliciter. Uno quidem modo, absolute, et sic est solum boni ardui ad se pertinentis. Alio modo, ex praesuppo- sitione alterius, et sic potest esse etiam eorum quae ad alium pertinent. Ad cuius evidentiam sciendum est quod amor et spes in hoc differunt quod amor importat quan- dam unionem amantis ad amatum; spes autem importat quendam motum sive protensionem appetitus in aliquod bonum arduum. Unio autem est aliquorum distinctorum, et ideo amor directe potest respicere alium, quem sibi
Раздел 4. Дозволительно ли надеяться на другого человека
189
как самим собой. А движение всегда есть движение к собственному пределу, соразмерному движимому, и потому надежда непосредственно соотносится с собственным благом, но не с благом, которое относится к другому. Однако при допущении единства любви с другим человеком, некто уже может надеяться на что-то и желать чего-то другому так же, как и себе. И в этом смысле человек может надеяться на вечную жизнь другого — постольку, поскольку соединен с ним любовью. И как добродетель любви - каритас, которой некто любит Бога, себя и ближнего, является одной и той же добродетелью, так же и добродетель надежды, посредством которой некто надеется на что-либо в отношении себя и другого, является одной и той же добродетелью.
(27) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 4 Дозволительно ли надеяться на другого человека
(28) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что надеяться на другого человека дозволительно.
(29) 1. В самом деле, объектом надежды является вечное блаженство. Но достичь
вечного блаженства нам помогает покровительство святых, ибо, как говорит Григорий, молитвы святых содействуют предопределению. Следовательно, надеяться на другого человека дозволительно.
(30) 2. Кроме того, если надеяться на человека нельзя, то нельзя и считать другого человека порочным, таким, что на него нельзя надеяться. Но так иногда говорят о порочных людях (Иер 9, 4): Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев. Следовательно, надеяться на другого человека дозволительно.
(31) 3. Кроме того, как уже сказано (Р. 2, Возр. 2), молитва является выражением надежды. Но допустимо молить другого человека. Следовательно, допустимо и надеяться на него.
(32) Но против: сказано (Иер 17, 5): Проклят человек, который надеется на человека.
(33) Отвечаю: надлежит сказать, что надежда, как уже указано (Ч. II-I, В. 40, Р. 7; В. 42, Р. 1; Р. 4, на 3), соотносится с двумя [вещами], т. е. с благом, которого стремится достичь, и с помощью, посредством которой обретается это благо. При этом благо, которое некто надеется обрести, обладает смысловым содержанием целевой причи-
aliquis unit per amorem, habens eum sicut seipsum. Motus autem semper est ad proprium terminum proportionatum mobili, et ideo spes directe respicit proprium bonum, non autem id quod ad alium pertinet. Sed praesupposita unione amons ad alterum, iam aliquis potest desiderare et sperare aliquid alteri sicut sibi. Et secundum hoc aliquis potest sperare alteri vitam aeternam, inquantum est ei unitus per amorem. Et sicut est eadem virtus cantatis qua quis diligit Deum, seipsum et proximum, ita etiam est eadei^ virtus spei qua quis sperat sibi ipsi et alii.
(27) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 4 Utrum aliquis possit licite sperare in homine
(28) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod aliquis possit licite sperare in homine.
(29) 1. Spei enim obiectum est beatitudo aeterna. Sed ad beatitudinem aeternam consequendam adiuvamur patrociniis sanctorum, dicit enim Gregorius, in I Dial. (c. 8;
ML 77, 188), quod praedestinatio iuvatur precibus sanctorum. Ergo aliquis potest in homine sperare.
(30) 2. Praeterea, si non potest aliquis sperare in homine, non esset reputandum alicui in vitium quod in eo aliquis sperare non possit. Sed hoc de quibusdam in vitium dicitur, ut patet Ierem. IX, unusquisque a proximo suo se custodiat, et in omni fratre suo non habeat fiduciam. Ergo licite potest aliquis sperare in homine.
(31) 3. Praeterea, petitio est interpretativa spei, sicut dictum est (a. 2, arg. 2). Sed licite potest homo aliquid petere ab homine. Ergo licite potest sperare de eo.
(32) Sed contra est quod dicitur Ierem. XVII, maledictus homo qui confidit in homine.
(33) Respondeo dicendum quod spes, sicut dictum est (II-I, q. 40, a. 7; q. 42, a. 1; a. 4, ad 3), duo respicit, scilicet bonum quod obtinere intendit; et auxilium per quod illud bonum obtinetur. Bonum autem quod quis sperat obtinendum habet rationem causae finalis; auxilium autem per quod quis sperat illud bonum obtinere habet rationem
190
Вопрос 17. О надежде как таковой
ны, а помощь, посредством которой он надеется получить это благо, обладает смысловым содержанием действующей причины. Но в роде обеих этих причин обнаруживается как первичное, так и вторичное. В самом деле, первичной целью является предельная цель, а вторичная цель — благо, которое есть средство достижения цели. Равным образом, первичная действующая причина есть первое действующее, а вторичная действующая причина — инструментальное действующее. Но надежда соотносится с вечным блаженством как с предельной целью, а с божественной помощью — как с первой причиной, приводящей к блаженству. Следовательно, как нельзя надеяться на какое-либо благо, помимо вечного блаженства, как на конечную цель (на это благо можно надеяться только как на средство достижения этой цели), также нельзя надеяться на человека, или на какое-либо творение, как на первую причину, движущую к блаженству. Однако можно надеяться на человека или на какое-либо творение как на второе и инструментальное действующее, при помощи которого можно обрести некие блага, которые нужны для достижения блаженства. И именно в этом смысле мы обращаемся
к святым и просим нечто у тех или иных людей. И в этом же смысле некоторых обвиняют в том, что им нельзя доверять и на них нельзя положиться.
(34) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 5 Является ли надежда теологической добродетелью
(35) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что надежда не является теологической добродетелью.
(36) 1. В самом деле, теологическая добродетель — та, объектом которой является Бог. Но объектом надежды является не только Бог, но также и все те блага, которые мы надеемся получить от Бога. Следовательно, надежда не является теологической добродетелью.
(37) 2. Кроме того, теологическая добродетель не заключается в середине между двумя пороками, как сказано выше (Ч. II-I, В. 64, Р. 4). Но надежда является серединой между самоуверенностью и отчаянием. Следовательно, надежда не является теологической добродетелью.
(38) 3. Кроме того, ожидание относится к долготерпению, которое является частью стойкости. Итак, поскольку надежда есть
causae efficientis. In genere autem utriusque causae invenitur principale et secundarium. Principalis enim finis est finis ultimus; secundarius autem finis est bonum quod est ad finem. Similiter principalis causa agens est primum agens; secundaria vero causa efficiens est agens secundarium instrumentale. Spes autem respicit beatitudinem aeternam sicut finem ultimum; divinum autem auxilium sicut primam causam inducentem ad beatitudinem. Sicut igitur non licet sperare aliquod bonum praeter beatitudinem sicut ultimum finem, sed solum sicut id quod est ad finem beatitudinis ordinatum; ita etiam non licet sperare de aliquo homine, vel de aliqua creatura, sicut de prima causa movente in beatitudinem; licet autem sperare de aliquo homine, vel de aliqua creatura, sicut de agente secundario et instrumentais per quod aliquis adiuvatur ad quaecumque bona consequenda in beatitudinem ordinata. Et hoc modo ad sanctos convertimur; et ab hominibus aliqua petimus; et vituperantur illi de quibus aliquis confidere non potest ad auxilium ferendum.
(34) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 5 Utrum spes sit virtus theologica
(35) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod spes non sit virtus theologica.
(36) 1. Virtus enim theologica est quae habet Deum pro obiecto. Sed spes non habet solum Deum pro obiecto, sed etiam alia bona quae a Deo obtinere speramus. Ergo spes non est virtus theologica.
(37) 2 Praeterea, virtus theologica non consistit in medio duorum vitiorum, ut supra habitum est (II-I, q. 64, a. 4). Sed spes consistit in medio praesumptionis et desperationis. Ergo spes non est virtus theologica.
(38) 3. Praeterea, expectatio pertinet ad longanimitatem, quae est pars fortitudinis. Cum ergo spes sit quaedam expectatio, videtur quod spes non sit virtus theologica, sed moralis.
Раздел 5. Является ли надежда теологической добродетелью
191
некое ожидание, то, как кажется, надежда является не теологической, а моральной добродетелью.
р9) 4. Кроме того, объектом надежды яв¬
ляется нечто труднодостижимое. Но стремление к труднодостижимому относится к великодушию, которое является моральной добродетелью. Следовательно, надежда является моральной, а не теологической добродетелью.
(40) Но против: в Писании (1 Кор 13) надежда поставлена в один ряд с верой и любовью, которые суть теологические добродетели.
(41) Отвечаю: надлежит сказать, что поскольку видовые отличия сами по себе подразделяют род, постольку для того, чтобы узнать, каким отличительным признаком добродетели обладает надежда, надо выяснить, от чего она получает смысловое содержание добродетели. Но выше уже было сказано (Р. 1), что надежда обладает смысловым содержанием добродетели сообразно тому, что она достигает высшей меры человеческих действий. И ее она достигает и как первой действующей причины (постольку, поскольку полагается на ее помощь), и как предельной целевой причины (постольку, поскольку ожидает бла¬
женства в наслаждении ею). И так ясно, что основным объектом надежды, постольку, поскольку она есть добродетель, является Бог. Итак, поскольку смысловое содержание теологической добродетели заключается в том, что ее объектом является Бог, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 62, Р. 1), ясно, что надежда является теологической добродетелью.
(42) Итак, на первое надлежит ответить, что вне зависимости от того, что ожидает достичь надежда, она ожидает такового в определенном порядке к Богу как к предельной цели и как к первой действующей причине, как уже сказано (Р. 4).
(43) На второе надлежит ответить, что в измеряемых и регулируемых [вещах] золотая середина заключается в соответствии правилу, или мере; соответственно, то, что превышает меру, избыточно, а то, что не достигает меры, недостаточно. Но в самом правиле, или мере, нет ни золотой середины, ни крайностей. И моральная добродетель соотносится как с собственным объектом с тем, что регулируется разумом, а потому ей со стороны своего объекта подобает как таковой пребывать в золотой середине. А теологическая добродетель соотносится как с собственным объ-
(39) 4. Praeterea, obiectum spei est arduum. Sed tendere in arduum pertinet ad magnanimitatem, quae est virtus moralis. Ergo spes est virtus moralis, et non theologica.
(40) Sed contra est quod, I ad Cor. XIII, connumeratur fidei et cantati quae sunt virtutes theologicae.
(41) Respondeo dicendum quod, cum differentiae specificae per se dividant genus, oportet attendere unde habeat spes rationem virtutis, ad hoc quod sciamus sub qua differentia virtutis collocetur. Dictum est autem supra (a. 1) quod spes habet rationem virtutis ex hoc quod attingit supremam regulam humanorum actuum; quam attingit et sicut primam causam efficientem, inquantum eius auxilio innititur; et sicut ultimam causam finalem, inquantum in eius fruitione beatitudinem expectat. Et sic patet quod spei, inquantum est virtus, pnncipale obiectum est Deus. Cum igitur in hoc consistat ratio virtutis theologicae quod Deum habeat pro obiecto, sicut supra dictum est (II-I, q. 62, a 1), manifestum est quod spes est virtus theologica.
(42) Ad primum ergo dicendum quod quaecumque alia spes adipisci expectat, sperat in ordine ad Deum sicut ad ultimum finem et sicut ad pnmam causam efficientem, ut dictum est (a. 4).
(43) Ad secundum dicendum quod medium accipitur in regulatis et mensuratis secundum quod regula vel mensura attingitur; secundum autem quod exceditur regula, est superfluum; secundum autem defectum a regula, est diminutum. In ipsa autem regula vel mensura non est accipere medium et extrema Virtus autem moralis est circa ea quae regulantur ratione sicut circa propnum obiectum, et ideo per se convenit ei esse in medio ex parte proprii obiec- ti. Sed virtus theologica est circa ipsam regulam primam, non regulatam alia regula, sicut circa proprium obiectum. Et ideo per se, et secundum proprium obiectum, non convenit virtuti theologicae esse in medio. Sed potest sibi competere per accidens, ratione eius quod ordinatur ad principale obiectum. Sicut fides non potest habere medium et extrema in hoc quod innitatur primae ventati, cui
192
Вопрос 17. О надежде как таковой
ектом с первой мерой, которая не регулируется никаким другим правилом. Поэтому теологической добродетели как таковой и сообразно своему собственному объекту не подобает пребывать в середине, разве что это может произойти акцидентально, из-за того, что упорядочено по отношению к основному объекту. Так, у веры нет золотой середины или крайностей, насколько она зависит от первой истины, обращение к которой не бывает чрезмерным, но если говорить о тех вещах, в которые верят, середина и крайности возможны, например, одна истина, находящаяся между двумя ложными [суждениями]. И точно так же нет середины или крайностей у надежды, если говорить о ее основном объекте, поскольку невозможно чрезмерно уповать на божественную помощь; но у надежды могут быть середина и крайности в том, что касается тех вещей, которые человек надеется обрести, ведь он может как самонадеянно рассчитывать на то, на что ему недоступно, так и отчаиваться в том, что он способен получить.
(44) На третье надлежит ответить, что то ожидание, которое входит в определение надежды, подразумевает не отсрочку, как ожидание, которое относится к долготер¬
пению, а отношение к божественной помощи, независимо от того, будет ли отсрочено то, на что мы надеемся, или нет.
(45) На четвертое надлежит ответить, что величие души стремится к чему-то труднодостижимому в надежде обрести то, что в силах человека. Поэтому собственным для великодушия является совершение великих дел. С другой стороны, надежда как теологическая добродетель, согласно сказанному выше (Р. 1), относится к такому труднодостижимому, которое достигается с помощью кого-то другого.
Раздел 6 Отличается ли надежда от других теологических добродетелей
(46) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что надежда не отличается от других теологических добродетелей.
(47) 1. В самом деле, хабитусы различаются сообразно объектам, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 64, Р. 4). Но объект надежды и других теологических добродетелей — один и тот же. Следовательно, надежда не отличается от других теологических добродетелей.
nullus potest nimis inniti, sed ex parte eorum quae credit, potest habere medium et extrema, sicut unum verum est medium inter duo falsa. Et similiter spes non habet medium et extrema ex parte principalis obiecti, quia divino auxilio nullus potest nimis inniti, sed quantum ad ea quae confidit aliquis se adepturum, potest ibi esse medium et extrema, inquantum vel praesumit ea quae sunt supra suam proportionem, vel desperat de his quae sunt sibi pro- portionata.
(44) Ad tertium dicendum quod expectatio quae ponitur in definitione spei non importat dilationem, sicut expectatio quae pertinet ad longanimitatem, sed importat respectum ad auxilium divinum, sive illud quod speratur differatur, sive non differatur.
(45) Ad quartum dicendum quod magnanimitas tendit in arduum sperans aliquid quod est suae potestatis. Unde proprie respicit operationem aliquorum magnorum. Sed spes, secundum quod est virtus theologica, respicit arduum alterius auxilio assequendum, ut dictum est.
Articulus 6
Utrum spes sit virtus distincta ab aliis theologicis
(46) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod spes non sit virtus distincta ab aliis theologicis.
(47) 1. Habitus enim distinguuntur secundum obiecta, ut supra dictum est (II-I, q. 54, a. 2). Sed idem est obiectum spei et aliarum virtutum theologicarum. Ergo spes non distinguitur ab aliis virtutibus theologicis.
(48) 2. Praeterea, in symbolo fidei, in quo fidem profitemur (MA 3, 562; Dz 86), dicitur, expecto resurrectionem mortuorum et vitam futuri saeculi. Sed expectatio futurae beatitudinis pertinet ad spem, ut supra dictum est (a. 2). Ergo spes a fide non distinguitur.
Раздел 6. Отличается ли надежда от других теологических добродетелей
193
(48) 2. Кроме того, в Символе, которым мы исповедуем нашу веру, сказано: Ожидая воскресения мертвых и жизнь будущего века. Но ожидание будущего блаженства, как уже сказано (Р. 2), относится к надежде. Следовательно, надежда не отличается от веры.
(49) 3. Кроме того, благодаря надежде человек устремляется к Богу. Но это является собственной характеристикой любви. Следовательно, надежда не отличается от любви.
(50) Но против: там, где нет различия, нет числа. Но надежда перечислена среди прочих теологических добродетелей, ибо Григорий говорит, что есть три добродетели, вера, надежда и любовь.
(51) Отвечаю: надлежит сказать, что некая добродетель является теологической сообразно тому, что ее объектом, к которому она льнет, является Бог. Но некто может льнуть к какой-либо вещи двояко: во-первых, ради нее самой, во-вторых, ради чего-то другого, чего он достигает благодаря ей. Итак, благодаря любви-каритас человек льнет к Богу ради Него самого, ибо ум человека соединяется с Богом через аффект любви. А благодаря вере и надежде человек льнет к Богу как к некоему нача¬
лу, от которого мы получаем все остальное. Но от Бога мы получаем и познание истины, и обретение совершенной благости. Следовательно, благодаря вере человек льнет к Богу как к началу познания истины, ибо мы верим, что сказанное Богом истинно. А благодаря надежде человек льнет к Богу как к началу совершенной благости, постольку, поскольку посредством надежды мы полагаемся на божественную помощь для достижения блаженства.
(52) Итак, на первое надлежит ответить, что, как уже говорилось, Бог является объектом этих добродетелей сообразно разным смысловым содержаниям. Но для различия хабитусов достаточно различных смысловых содержаний объекта, как было установлено выше (Ч. II-I, В. 54, Р. 2).
(53) На второе надлежит ответить, что об ожидании сказано в Символе веры не потому, что оно является собственным действием веры, но потому, что действие надежды предполагает веру, как будет разъяснено далее (Р. 7), и в этом смысле акт веры проявляется через акт надежды.
(54) На третье надлежит ответить, что посредством надежды человек устремляется к Богу как к некоему предельному благу,
(49) 3. Praeterea, per spem homo tendit in Deum. Sed hoc proprie pertinet ad caritatem. Ergo spes a caritate non distinguitur.
(50) Sed contra, ubi non est distinctio ibi non est numerus. Sed spes connumeratur aliis virtutibus theologicis, dicit enim Gregorius, in I Moral, (c. 27; PL 75, 544), esse tres virtutes, fidem, spem et caritatem. Ergo spes est virtus distincta ab aliis theologicis.
(51) Respondeo dicendum quod virtus aliqua dicitur theologica ex hoc quod habet Deum pro obiecto cui inhaeret. Potest autem aliquis alicui rei inhaerere dupliciter, uno modo, propter seipsum; alio modo, inquantum ex eo ad aliud devenitur. Caritas igitur facit hominem Deo inhaerere propter seipsum, mentem hominis uniens Deo per affectum amoris. Spes autem et fides faciunt hominem inhaerere Deo sicut cuidam principio ex quo aliqua nobis proveniunt. De Deo autem provenit nobis et cognitio ventatis et adeptio perfectae bonitatis. Fides ergo facit hommem Deo inhaerere inquantum est nobis principium
cognoscendi veritatem, credimus enim ea vera esse quae nobis a Deo dicuntur. Spes autem facit Deo adhaerere prout est nobis principium perfectae bonitatis, inquantum scilicet per spem divino auxilio innitimur ad beatitudinem obtinendam.
(52) Ad primum ergo dicendum quod Deus secundum aliam et aliam rationem est obiectum harum virtutum, ut dictum est. Ad distinctionem autem habituum sufficit diversa ratio obiecti, ut supra habitum est (II-I, q. 54, a. 2).
(53) Ad secundum dicendum quod expectatio ponitur in symbolo fidei non quia sit actus proprius fidei, sed inquantum actus spei praesupponit fidem, ut dicetur (a. 7), et sic actus fidei manifestantur per actus spei.
(54) Ad tertium dicendum quod spes facit tendere in Deum sicut in quoddam bonum finale adipiscendum, et sicut in quoddam adiutorium efficax ad subveniendum. Sed caritas proprie facit tendere in Deum uniendo affectum hominis Deo, ut scilicet homo non sibi vivat sed Deo.
194
Вопрос 17. О надежде как таковой
которого необходимо достичь, и как к действенной помощи, которую надо для этого получить. А любовь-каритас делает так, что человек стремится к единению с Богом в аффекте любви, чтобы жить не для себя, но для Него.
Раздел 7 Предшествует ли надежда вере
(55) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что надежда предшествует вере.
(56) 1. Ибо глосса к этим словам (Пс 36,
3), Уповай на Господа и делай добро, утверждает: Надежда есть начало веры, начало спасения. Но спасение осуществляется через веру, в которой наше оправдание. Следовательно, надежда предшествует вере.
(57) 2. Кроме того, то, что включается в определение некоей вещи, должно быть известно прежде и лучше. Но надежда включена в определение веры, ибо сказано (Евр 11,
1): Вера есть субстанция вещей, на которые надеются. Следовательно, надежда предшествует вере.
(58) 3. Кроме того, надежда предшествует действию, составляющему заслугу, ибо сказано (1 Кор 9, 10): Кто пашет, должен пахать с надеждою получить ожидаемое.
Но действие веры составляет заслугу. Следовательно, надежда предшествует вере.
(59) Но против: сказано (Мф 1, 2): Авраам родил Исаака, т. е. вера — надежду, как разъясняет глосса.
(60) Отвечаю: надлежит сказать, что вера безусловно предшествует надежде. В самом деле, объектом надежды является труднодостижимое будущее благо, которое можно обрести. Следовательно, для того, чтобы некто возымел надежду, объект надежды должен быть представлен ему как нечто возможное. Однако объект надежды есть в одном аспекте вечное блаженство, а в другом — божественная помощь, как явствует из сказанного (Р. 2, 4; Р. 6, на 3). И в обоих смыслах он предлагается нам посредством веры, посредством которой мы узнаем, что можем достичь вечной жизни и что Бог готов помочь нам в этом, согласно сказанному (Евр 11, 6): Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. И из этого очевидно, что вера предшествует надежде.
(61) Итак, на первое надлежит ответить, что, как добавляет глосса там же, надежда называется началом веры, т. е. вещи, в которую верят, в том смысле, что благодаря надежде мы начинаем созерцать то, во что верим.
Articulus 7 Utrum spes praecedat fidem
(55) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod spes praecedat fidem.
(56) 1. Quia super illud Psalm., spera in domino, et fac bonitatem!, dicit Glossa (Petri Lombardi; PL 191, 368), spes est introitus fidei, initium salutis. Sed salus est per fidem, per quam iustificamur. Ergo spes praecedit fidem.
(57) 2. Praeterea, illud quod ponitur in definitione alicuius debet esse prius et magis notum. Sed spes ponitur in definitione fidei, ut patet Heb. XI, fides est substantia rerum sperandarum. Ergo spes est prior fide.
(58) 3. Praeterea, spes praecedit actum meritorium, dicit enim apostolus, I ad Cor. IX, quod qui arat debet arare in spe fructus percipiendi. Sed actus fidei est meritorius. Ergo spes praecedit fidem.
(59) Sed contra est quod Matth. I dicitur, Abraham genuit Isaac, idest fides spem, sicut dicit Glossa (interi.).
(60) Respondeo dicendum quod fides absolute praecedit spem. Obiectum enim spei est bonum futurum arduum possibile haberi. Ad hoc ergo quod aliquis speret, requiritur quod obiectum spei proponatur ei ut possibile. Sed obiectum spei est uno modo beatitudo aetema, et alio modo divinum auxilium, ut ex dictis patet (a. 2, 4; a. 6, ad 3). Et utrumque eorum proponitur nobis per fidem, per quam nobis innotescit quod ad vitam aeternam possumus pervenire, et quod ad hoc paratum est nobis divinum auxilium, secundum illud Heb. XI, accedentem ad Deum oportet credere quia est, et quia inquirentibus se remunerator est. Unde manifestum est quod fides praecedit spem.
(61) Ad primum ergo dicendum quod, sicut Glossa ibidem subdit (Petri Lombardi; PL 191, 362), spes dicitur introitus fidei, idest rei creditae, quia per spem intratur ad videndum illud quod creditur. Vel potest dici quod est introitus fidei quia per eam homo intrat ad hoc quod stabiliatur et perficiatur in fide.
Раздел 8. Предшествует ли надежде любовь-каритас
195
Или же можно сказать, что она есть начало веры потому, что благодаря ей человек утверждается и совершенствуется в вере.
(62) На второе надлежит ответить, что «вещи, на которые надеются» включены в определение веры потому, что собственным объектом веры является то, что само по себе не очевидно. Поэтому было необходимо при помощи некоего иносказания обозначить то, что следует за верой.
(63) На третье надлежит ответить, что не всякое действие, являющееся заслугой, предполагает предшествующую надежду; достаточно того, что надежда сопутствует действию или следует за ним.
Раздел 8
Предшествует ли надежде любовь-каритас
(64) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас предшествует надежде.
(65) 1. В самом деле, Амвросий, комментируя эти слова (Лк 17, 6), Если бы вы имели веру с зерно горчичное и т. д., говорит: Любовь происходит из веры, а надежда — из любви. Но вера предшествует любви. Следовательно, любовь-каритас предшествует надежде.
(66) 2. Кроме того, Августин говорит в XIV
книге «О граде Божием», что благие душевные движения и аффекты проистекают из любви и любви-каритас. Но действие надежды является благим движением души. Следовательно, она берет начало в любви- каритас.
(67) 3. Кроме того, Магистр говорит, что надежда обусловливается заслугами, которые предшествуют не только вещам, на которые надеются, но также и самой надежде, которой по природе предшествует любовь. Следовательно, любовь-каритас предшествует надежде.
(68) Но против: апостол говорит (1 Тим 1, 5): Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, т. е. надежды, как поясняет глосса. Следовательно, надежда предшествует любви-каритас.
(69) Отвечаю: надлежит сказать, что порядок двойственен. Один порядок имеет место сообразно возникновению и материи, и так несовершенное предшествует совершенному. Другой порядок имеет место сообразно совершенству и форме, и так совершенное по природе предшествует несовершенному. И сообразно первому порядку надежда предшествует любви-каритас, что очевидно из следующего. Надежда, как и прочие движения желания, происте-
(62) Ad secundum dicendum quod in definitione fidei ponitur res speranda quia proprium obiectum fidei est non apparens secundum seipsum. Unde fuit necessarium ut quadam circumlocutione designaretur per id quod consequitur ad fidem.
(63) Ad tertium dicendum quod non omnis actus meritonus habet spem praecedentem, sed sufficit si habeat concomi- tantem vel consequentem.
Articulus 8 Utrum caritas sit prior spe
(64) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod caritas sit prior spe.
(65) 1 Dicit enim Ambrosius, super illud Luc. XVII (8; PL 15, 1865), si habueritis fidem sicut granum sinapis, etc., ex fide est caritas, ex caritate spes. Sed fides est prior caritate. Ergo caritas est prior spe.
(66) 2. Praeterea, Augustinus dicit, XIV De civ. Dei (c. 9;
ML 41, 414), quod boni motus atque affectus ex amore et sancta caritate veniunt. Sed sperare, secundum quod est actus spei, est quidam bonus animi motus. Ergo denvatur a caritate.
(67) 3. Praeterea, Magister dicit, XXVI dist. III lib. Sent. (3, d. 26, c. 1: QR 2, 670), quod spes ex meritis provenit, quae praecedunt non solum rem speratam, sed etiam spem, quam natura praeit caritas. Caritas ergo est prior spe.
(68) Sed contra est quod apostolus dicit, I ad Tim. I, finis praecepti caritas est de corde puro et conscientia bona, Glossa (Petn Lombardi; PL 192, 329), idest spe. Ergo spes est prior caritate.
(69) Respondeo dicendum quod duplex est ordo. Unus quidem secundum viam generationis et materiae, secundum quem imperfectum prius est perfecto. Alius autem ordo est perfectionis et formae, secundum quem perfectum naturaliter prius est imperfecto. Secundum igitur pnmum ordinem spes est prior cantate. Quod sic patet. Quia spes,
196
Вопрос 17. О надежде как таковой
кает из любви, как уже было установлено выше, когда шла речь о страстях (Ч. I1-I, В. 27, Р. 4; В. 28, Р. 6, на 2; В. 40, Р 7). Но любовь может быть как совершенной, так и несовершенной. Совершенная любовь — та, которой некто любим как таковой, когда, например, один человек желает блага другому (и так любят своих друзей). А несовершенная любовь — та, посредством которой нечто любят не само по себе, но за получаемое от него благо (и так человек любит вещь, которой хочет обладать). И первая любовь, если ею любят Бога, относится к любви-каритас, которая льнет к Богу ради Него самого, а надежда соотносится со второй любовью, поскольку тот, кто надеется, стремиться обладать определенной вещью. И потому в порядке возникновения надежда предшествует любви-каритас. В самом деле, по словам Августина, бывает так, что человек начинает любить Бога потому, что, устрашившись Его наказания, прекращает грешить; и точно так же к любви приводит надежда —
постольку, поскольку человек, надеясь получить помощь от Бога, начинает любить Его и исполнять Его заповеди. Но сообразно порядку совершенства любовь-ка- ритас предшествует по природе. И потому при привхождении любви-каритас надежда становится совершеннее, ибо мы надеемся прежде всего на друзей. И именно в этом смысле Амвросий говорит о том, что надежда происходит от любви.
(70) И из этого очевиден ответ на первое.
(71) На второе надлежит ответить, что надежда, как и прочие движения желания, проистекает из некоей любви, такой, именно, которой некто любит ожидаемое благо. Но не любая надежда проистекает из любви-каритас, а только та, которая является оформленным движением, т. е. та, которой надеются получить благо от Бога как от своего друга.
(72) На третье надлежит ответить, что Магистр говорит об оформленной надежде, которой по природе предшествует любовь- каритас и обусловленные ею заслуги.
et omnis appetitivus motus, ex amore derivatur, ut supra habitum est (II-I, q. 27, a. 4; q. 28, a. 6, ad 2; q. 40, a. 7), cum de passionibus ageretur. Amor autem quidam est perfectus, quidam imperfectus. Perfectus quidem amor est quo aliquis secundum se amatur, ut puta cui aliquis vult bonum, sicut homo amat amicum. Imperfectus amor est quo quis amat aliquid non secundum ipsum, sed ut illud bonum sibi ipsi proveniat, sicut homo amat rem quam concupiscit. Primus autem amor Dei pertinet ad cantatem, quae inhaeret Deo secundum seipsum, sed spes pertinet ad secundum amorem, quia ille qui sperat aliquid sibi obtinere intendit. Et ideo in via generationis spes est prior caritate. Sicut enim aliquis introducitur ad amandum Deum per hoc quod, timens ab ipso puniri, cessat a peccato, ut Augustinus dicit super primam canonicam Ioan. (Tr. 9 super 1 In 4, 18; PL 35, 2047); ita etiam
et spes introducit ad caritatem, inquantum aliquis, sperans remunerari a Deo, accenditur ad amandum Deum et servandum praecepta eius. Sed secundum ordinem perfectionis caritas naturaliter prior est. Et ideo, adveniente caritate, spes perfectior redditur, quia de amicis maxime speramus. Et hoc modo dicit Ambrosius quod spes est ex caritate.
(70) Unde patet responsio ad primum.
(71) Ad secundum dicendum quod spes, et omnis motus appetitivus, ex amore provenit aliquo, quo scilicet aliquis amat bonum expectatum. Sed non omnis spes provenit a caritate, sed solum motus spei formatae, qua scilicet aliquis sperat bonum a Deo ut ab amico.
(72) Ad tertium dicendum quod Magister loquitur de spe formata, quam naturaliter praecedit cantas, et merita ex caritate causata.
Вопрос 18 О субъекте надежды
(1) Затем следует рассмотреть субъект надежды. И касательно этого исследуются четыре [проблемы]: 1) действительно ли добродетель надежды пребывает в воле как в субъекте; 2) пребывает ли она в блаженных; 3) пребывает ли она в проклятых;
4) несомненна ли надежда у людей в земной жизни.
Раздел 1 Находится ли надежда в воле как в субъекте
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что надежда не находится в воле как в субъекте.
(3) 1. В самом деле, объектом надежды является нечто труднодостижимое, как уже сказано (В. 7, Р. 1; Ч. II-I, В. 40, Р. 1). Однако труднодостижимое является объектом не воли, но гневности. Следовательно, надежда пребывает не в воле, но в гневности.
(4) 2. Кроме того, там, где достаточно одного, излишне добавлять что-то другое. Но для совершенства воли достаточно люб¬
ви-каритас, которая является наиболее совершенной из всех добродетелей. Следовательно, надежда не находится в воле.
(5) 3. Кроме того, одна способность не может одновременно осуществлять два действия: так, ум не может одновременно мыслить многое. Но действие надежды может сочетаться с действием любви-каритас. Следовательно, поскольку действие любви-каритас очевидным образом относится к воле, постольку действие надежды к ней не относится. Следовательно, надежда не пребывает в воле.
(6) Но против: душа может постигать Бога только умом, в котором, согласно Августину, наличествует память, разумение и воля. Но надежда — это теологическая добродетель, объектом которой является Бог.. Итак, поскольку она не находится ни в памяти, ни в разумении, каковые относятся к познавательной способности, то остается только, что она пребывает в воле как в своем субъекте.
Quaestio 18 De subiecto spei
(1) Deinde considerandum est de subiecto spei. Et circa sufficit caritas, quae est perfectissima virtutum Ergo spes
hoc quaeruntur quatuor. Primo, utrum virtus spei sit in non est in voluntate.
voluntate sicut in subiecto. Secundo, utrum sit in beatis. (5) 3. Praeterea, una potentia non potest simul esse in
Tertio, utrum sit in damnatis. Quarto, utrum in viatoribus duobus actibus, sicut intellectus non potest simul mul- habeat certitudinem. ta intelligere. Sed actus spei simul esse potest cum actu
cantatis. Cum ergo actus cantatis manifeste pertineat ad Articulus 1 voluntatem, actus spei non pertinet ad ipsam. Sic ergo
Utrum spes sit in voluntate sicut in subiecto spes non est in voluntate.
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod spes non sit in (6) Sed contra, anima non est capax Dei nisi secundum voluntate sicut in subiecto. mentem; in qua est memona, intelligentia et voluntas, ut
(3) 1. Spei enim obiectum est bonum arduum, ut supra patet per Augustinum, in libro De Trin (14, с 8; PL 42,
dictum est (q. 17, a. 1; II-I, q.40, a. 1) Arduum autem Ю44; c. 12, PL 42, 1048). Sed spes est virtus theologica
non est obiectum voluntatis, sed irascibilis. Ergo spes non habens Deum pro obiecto Cum igitur non sit neque in
est in voluntate, sed in irascibili. memona neque in intelligentia, quae pertinent ad vim
(4) 2. Praeterea, ad id ad quod unum sufficit, superflue cognoscitivam, relinquitur quod sit in voluntate sicut in
apponitur aliud. Sed ad perficiendum potentiam voluntatis subiecto
198
Вопрос 18. О субъекте надежды
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что, как явствует из представленного ранее (Ч. I, В. 8, Р. 2), хабитусы познаются на основании действий. Но действие надежды есть некое движение желающей части [души], поскольку ее объектом является благое. Однако поскольку желание у человека двойственно, т. е. чувственное желание, которое подразделяется на гневность и вожделение, и разумное желание, которое называется волей, как установлено в Первой Части (В. 80, Р. 2; В. 82, Р. 5), постольку одинаковые движения происходят в низшем желании в сочетании со страстью, а в высшем — без нее, как явствует из сказанного ранее (4.1, В. 82, Р. 5, на 1; Ч. II-I, В. 22, Р. 3, на 3). Но действие добродетели надежды не может относиться к чувственному желанию, поскольку благо, которое является основным объектом этой добродетели, есть не нечто чувственно воспринимаемое, но божественное благо. И потому надежда пребывает как в своем субъекте в высшем желании, которое называется волей, а не в низшем желании, к которому относится гневность.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что объектом гневности является труднодостижимое, которое воспринимается чувства¬
ми. А объектом добродетели надежды является труднодостижимое, которое воспринимается умом, или, вернее, сверхразум- ное [труднодостижимое благо].
(9) На второе надлежит ответить, что любовь-каритас достаточным образом совершенствует волю только в отношении одного действия, т. е. собственно любви, а для того, чтобы привести ее к совершенству в отношении другого действия, т. е. собственно надежды, требуется другая добродетель.
(ю) На третье надлежит ответить, что, как явствует из сказанного выше (В. 17, Р. 8), движение надежды и движение любви обладают порядком друг по отношению к другу. Поэтому ничто не препятствует тому, чтобы оба эти движения одновременно производились одной и той же способностью: так ведь и разум может одновременно мыслить многое, если оно упорядочено по отношению друг к другу, как было сказано в Первой Части (В. 85, Р. 4).
Раздел 2
Пребывает ли надежда в блаженных
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что надежда пребывает в блаженных.
(7) Respondeo dicendum quod, sicut ex praedictis patet (I, intelligibile; vel potius supra intellectum existens.
q. 8, a. 2), habitus per actus cognoscuntur. Actus autem (9) Ad secundum dicendum quod cantas sufficienter per-
spei est quidam motus appetitivae partis, cum sit eius ficit voluntatem quantum ad unum actum, qui est diligere,
obiectum bonum. Cum autem sit duplex appetitus in Requiritur autem alia virtus ad perficiendum ipsam secun-
homine, scilicet appetitus sensitivus, qui dividitur per iras- dum alium actum eius, qui est sperare,
cibilem et concupiscibilem, et appetitus intellectivus, qui (10) Ad tertium dicendum quod motus spei et motus caritatis dicitur voluntas, ut in pnmo habitum est (q. 80, a. 2; q. 82, habent ordinem ad invicem, ut ex supradictis patet (q. 17,
a. 5); similes motus qui sunt in appetitu infenori cum pas- a. 8). Unde nihil prohibet utrumque motum simul esse
sione, in supenon sunt sine passione, ut ex supradictis unius potentiae. Sicut et intellectus potest simul multa
patet (I, q. 82, a. 5, ad 1; II-I, q. 22, a. 3, ad 3). Actus mtelligere ad invicem ordinata, ut in primo habitum est
autem virtutis spei non potest pertinere ad appetitum sen- (q. 17, a. 3).
sitivum, quia bonum quod est obiectum principale huius
virtutis non est aliquod bonum sensibile, sed bonum di- Articulus 2
vinum. Et ideo spes est in appetitu superion, qui dicitur Utrum spes sit in beatis
voluntas, sicut in subiecto, non autem in appetitu inferi- (n) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod spes sit in
ori, ad quem pertinet irascibilis. beatis.
(8) Ad primum ergo dicendum quod irascibilis obiectum est arduum sensibile. Obiectum autem virtutis spei est arduum
Раздел 2. Пребывает ли надежда в блаженных
199
(12) 1. В самом деле, Христос с момента говорит Августин. Следовательно, надежда
своего зачатия обладал совершенным по- может присутствовать в блаженных,
стижением [Бога]. Но у Него была надеж- (16) Но против: сказано (Рим 8, 24): Ес-
да, поскольку, как разъясняет глосса, эти ли кто видит, то чего ему и надеяться.
слова, на тебя, Господи, уповаю (Пс 30, 2), Но блаженные наслаждаются созерцанием
были сказаны от Его лица. Следовательно, Бога. Следовательно, они не обладают на-
надежда может присутствовать в блажен- деждой.
ных. (17) Отвечаю: надлежит сказать, что при
(13) 2. Кроме того, как обретение блажен¬
ства является труднодостижимым благом, так и его непрерывность. Однако прежде чем люди обретают блаженство, они надеются обрести его. Следовательно, обретя блаженство, они могут надеяться на его непрерывность.
(и) 3. Кроме того, как уже было сказано
выше (В. 17, Р. 3), посредством добродетели надежды человек может надеяться не только на свое блаженство, но и на блаженство других. Однако пребывающие в Отечестве блаженные надеются на блаженство других, ведь иначе они не молились бы за них. Следовательно, надежда может присутствовать в блаженных.
(15) 4. Кроме того, к блаженству святых
относится не только слава души, но также и слава тела. Однако души святых на небесах все еще ожидают славы своих тел, как сказано в Писании (Откр 6, 10) и как
устранении того, что дает вещи вид, уничтожается сам вид, и вещь не может оставаться той же — так же, как при устранении формы природного тела, оно не может остаться тем же по виду. Но надежда, как и другие добродетели, получает свой вид от своего основного объекта, как явствует из сказанного выше (В. 17, Р. 5, 6). А ее основным объектом является вечное блаженство, сообразно тому, что его можно достичь благодаря божественной помощи, как уже сказано выше (В. 17, Р. 2). Итак, поскольку возможное труднодостижимое благо входит в смысловое содержание надежды лишь сообразно тому, что является будущим, то когда блаженство является уже наличествующим, а не будущим, добродетели надежды уже не может существовать. И потому надежда, как и вера, в Отечестве прекращается, и ни той, ни другой в блаженных быть не может.
(12) 1. Christus enim a principio suae conceptionis fuit perfectus comprehensor. Sed ipse habuit spem, cum ex eius persona dicatur in Psalm., in te, domine, speravi, ut Glossa exponit (Petri Lombard; PL 191, 300). Ergo in beatis potest esse spes.
(13) 2. Praeterea, sicut adeptio beatitudinis est quoddam bonum arduum, ita etiam eius continuatio. Sed homines antequam beatitudinem adipiscantur habent spem de beatitudinis adeptione. Eigo postquam sunt beatitudinem adepti, possunt sperare beatitudinis continuationem.
(14) 3. Praeterea, per virtutem spei potest aliquis beatitudinem sperare non solum sibi sed etiam aliis, ut supra dictum est (q. 17, a. 3). Sed beati qui sunt in patna sperant beatitudinem aliis, ahoquin non rogarent pro eis. Ergo in beatis potest esse spes.
(15) 4. Praeterea, ad beatitudinem sanctorum pertinet non solum gloria animae sed etiam gloria corporis. Sed animae sanctorum qui sunt in patna expectant adhuc gloriam corporis, ut patet Apoc. VI, et XII Super Gen. ad litt.
(August., с. 35; PL 34,483). Ergo spes potest esse in beatis.
(16) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Rom. VIII, quod videt quis, quid sperat? Sed beati fruuntur Dei visione. Ergo in eis spes locum non habet.
(17) Respondeo dicendum quod, subtracto eo quod dat speciem rei, solvitur species, et res non potest eadem remanere, sicut remota forma corporis naturalis, non remanet idem secundum speciem. Spes autem recipit speciem a suo obiecto principali, sicut et ceterae virtutes, ut ex supradictis patet (q. 17, a. 5, 6). Obiectum autem pnnci- pale eius est beatitudo aeterna secundum quod est possibilis haberi ex auxilio divino, ut supra dictum est (q. 17, a. 2). Quia ergo bonum arduum possibile non cadit sub ratione spei msi secundum quod est futurum, ideo, cum beatitudo iam non fuerit futura sed praesens, non potest ibi esse virtus spei. Et ideo spes, sicut et fides, evacuatur in patna, et neutrum eorum in beatis esse potest.
200
Вопрос 18. О субъекте надежды
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что Христос, даже обладая полнотой постижения в том, что касается наслаждения, получаемого от Бога, и, соответственно, будучи блаженным, был одновременно земным человеком в том, что касается подверженной страстям природы, которой Он тогда еще обладал. И потому Он мог надеяться на славу бесстрастности и бессмертия, однако не в том смысле, что Он обладал добродетелью надежды, которой соответствует, как основной объект, не слава тела, но наслаждение, получаемое от Бога.
(19) На второе надлежит ответить, что блаженство святых называется вечной жизнью потому, что благодаря наслаждению, получаемому от Бога, они некоторым образом становятся причастниками вечности Божией, которая превыше всякого времени, в связи с чем блаженство не разделяется на нынешнее, прошедшее и будущее. И потому блаженные не надеются на непрерывность своего блаженства, а обладают самой вещью, ведь там нет смыслового содержания будущего.
(20) На третье надлежит ответить, что пока имеется добродетель надежды, одной и той же надеждой можно надеяться и на собственное блаженство, и на блаженство
других. Когда же в блаженных устраняется та надежда, посредством которой они надеялись на свое собственное блаженство, они продолжают надеяться на блаженство других, но не посредством надежды, а, пожалуй, посредством любви-каритас. Подобно этому тот, кто обладает любовью- каритас к Богу, той же самой любовью- каритас любит и своего ближнего, но некто, не имея любви-каритас, может любить ближнего и некоей иной любовью.
(21) На четвертое надлежит ответить, что хотя надежда является теологической добродетелью, объектом которой является Бог, ее главный объект — это слава души, которая состоит в наслаждении, получаемом от Бога, а не слава тела. В самом деле, пусть с точки зрения человеческой природы слава тела является чем-то труднодостижимым, тем не менее, она не является таковым с точки зрения того, кто обладает славой души: во-первых, потому, что слава тела есть нечто незначительное по сравнению со славой души; во-вторых, потому, что обладающие славой души уже обладают достаточной причиной для славы тела.
(18) Ad primum ergo dicendum quod Chnstus, etsi esset comprehensor, et per consequens beatus, quantum ad divinam fruitionem; erat tamen simul viator quantum ad passibilitatem naturae, quam adhuc gerebat. Et ideo gloriam impassibilitatis et immortalitatis sperare poterat. Non tamen ita quod haberet virtutem spei, quae non respicit glonam corporis sicut principale obiectum, sed potius fruitionem divinam.
(19) Ad secundum dicendum quod beatitudo sanctorum dicitur vita aeterna, quia per hoc quod Deo fruuntur, efficiuntur quodammodo participes aeternitatis divinae, quae excedit omne tempus. Et ita continuatio beatitudims non diversificatur per praesens, praetentum et futurum. Et ideo beati non habent spem de continuatione beatitudinis, sed habent ipsam rem, quia non est ibi ratio futuri.
(20) Ad tertium dicendum quod, durante virtute spei, eadem spe aliquis sperat beatitudinem sibi et aliis. Sed evacua¬
ta spe in beatis qua sperabant sibi beatitudinem, sperant quidem aliis beatitudinem, sed non virtute spei, sed magis ex amore caritatis. Sicut etiam qui habet caritatem Dei eadem caritate diligit proximum, et tamen aliquis potest diligere proximum non habens virtutem caritatis, alio quodam amore.
(21) Ad quartum dicendum quod, cum spes sit virtus theologica habens Deum pro obiecto, pnncipale obiectum spei est glona animae, quae in fruitione divina consistit, non autem gloria corporis. Glona etiam corpons, etsi habeat rationem ardui per comparationem ad naturam humanam, non habet tamen rationem ardui habenti gloriam animae. Tum quia gloria corpons est minimum quiddam in comparatione ad gloriam animae. Tum etiam quia habens gloriam animae habet iam sufficienter causam glonae corporis.
Раздел 3. Пребывает ли надежда в проклятых
201
Раздел 3
Пребывает ли надежда в проклятых
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что в проклятых есть надежда.
(23) 1. В самом деле, дьявол проклят и яв¬
ляется князем демонов, согласно этим словам (Мф 25, 41): Идите от Меня, проклятые, в огонь венный, уготованный диаволу и ангелам его. Но дьявол обладает надеждой, согласно сказанному о том, что его надежда тщетна (Иов 41, 1). Следовательно, как представляется, у проклятых есть надежда.
(24) 2. Кроме того, надежда, как и вера,
бывает оформленной и неоформленной. Но неоформленная вера может присутствовать в демонах и в проклятых, согласно сказанному (Иак 2, 19): И бесы веруют — и трепещут. Следовательно, как представляется, неоформленная надежда также может быть в проклятых.
(25) 3. Кроме того, после смерти человека
к его предшествующим заслугам и провинностям не добавляется ничего, согласно сказанному (Еккл 11,3): Если упадет дерево на юг или на север — то оно там и останется, куда упадет. Но многие из проклятых до самой смерти надеялись и не отчаива¬
лись. Следовательно, они будут надеяться и в будущей жизни.
(26) Но против: надежда обусловливает радость, согласно сказанному (Рим 12, 12): Утешайтесь надеждою. Но проклятые пребывают не в радости, а в плаче и скорби, согласно сказанному (Ис 65, 14): Рабы Мои будут петь от сердечной радости — а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. Следовательно, у проклятых нет надежды.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что как в смысловое содержание блаженства входит то, что в нем успокаивается воля, так и в смысловое содержание наказания входит то, что причиняемое наказанием противно воле. Однако неизвестное не может ни успокаивать волю, ни быть противным ей, отчего Августин и говорит, что ангелы в своем изначальном состоянии не могли быть ни полностью блаженны — до своего утверждения, ни полностью несчастны — до своего падения, поскольку не предвидели свое будущее (а для истинного и совершенного блаженства человеку необходима уверенность в [вечной] непрерывности своего блаженства, иначе его воля не будет успокоена).
Articulus 3 Utrum spes sit in damnatis
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod in damnatis sit spes
(23) 1. Diabolus enim est et damnatus et princeps damnatorum, secundum illud Matth. XXV, ite, maledicti, in ignem aeternum, qui paratus est Diabolo et Angelis eius. Sed Diabolus habet spem, secundum illud lob XL, ecce spes eius frustrabitur eum. Ergo videtur quod damnati habeant spem.
(24) 2. Praeterea, sicut fides potest esse formata et informis, ita et spes. Sed fides informis potest esse in Daemonibus et damnatis, secundum illud lac. II, Daemones credunt et contremiscunt. Ergo videtur quod etiam spes informis potest esse in damnatis.
(25) 3. Praeterea, nulli hominum post mortem accrescit mentum vel dementum quod in vita non habuit, secundum illud Eccle. XI, si ceciderit lignum ad Austrum aut ad
Aquilonem, in quocumque loco ceciderit ibi erit. Sed multi qui damnabuntur habuerunt in hac vita spem, nunquam desperantes. Ergo etiam in futura vita spem habebunt.
(26) Sed contra est quod spes causat gaudium, secundum illud Rom. XII, spe gaudentes. Sed damnati non sunt in gaudio, sed in dolore et luctu, secundum illud Isaiae LXV, servi mei laudabunt prae exultatione cordis, et vos clamabitis prae dolore cordis et prae contritione spiritus ululabitis. Ergo spes non est in damnatis.
(27) Respondeo dicendum quod sicut de ratione beatitudinis est ut in ea quietetur voluntas, ita de ratione poenae est ut id quod pro poena infligitur voluntati repugnet Non potest autem voluntatem quietare, vel ei repugnare, quod ignoratur. Et ideo Augustinus dicit, Super Gen. ad litt. (11, с 17; PL 34, 438), quod Angeli perfecte beati esse non potuerunt in pnmo statu ante confirmationem, vel misen ante lapsum, cum non essent praescii sui eventus, requiritur enim ad veram et perfectam beatitudinem ut aliquis certus sit de suae beatitudinis perpetuitate, alioquin
202
Вопрос 18. О субъекте надежды
(28) И точно так же, коль скоро к наказанию проклятых относится непрерывность проклятия, наказание будет истинным только тогда, когда оно будет противно воле, а для этого требуется, чтобы проклятые знали о [вечной] непрерывности своего проклятия. Следовательно, к прискорбному состоянию проклятых относится их знание о том, что они никоим образом не могут спастись от проклятия и обрести блаженство, почему и сказано (Иов 15, 22): Он не надеется спастись от тьмы. Поэтому ясно, что они не могут воспринимать блаженство как возможное благо, подобно тому, как блаженные не могут воспринимать его как будущее благо. Следовательно, надежды нет ни у блаженных, ни у проклятых. Но надежда есть у тех, кто еще находится в пути, независимо от того, живут ли они земной жизнью или пребывают в чистилище, поскольку в обоих случаях они могут воспринимать блаженство как возможное будущее.
(29) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Григорий, эти слова сказаны о подручных дьявола, чья надежда тщетна. Или же это можно понять как сказанное о самом дьяволе в отношении его надежды
одержать верх над святыми, сообразно чему несколько ранее сказано (Иов 40, 18): Спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Однако это не та надежда, о которой мы говорим здесь.
(30) На второе надлежит ответить, что, как говорит Августин, существует вера в дурное и доброе, в прошедшее, настоящее и будущее, в свое и чужое, тогда как надеяться можно только на доброе, только на будущее и только на свое. Следовательно, неоформленная вера может присутствовать в проклятых, а надежда — нет, поскольку божественные блага отняты от них и невозможны для них в будущем.
(31) На третье надлежит ответить, что отсутствие надежды в проклятых ничего не добавляет к их вине, равно как и отсутствие надежды в блаженных не увеличивает их заслуг, ведь то и другое является следствием изменения состояния.
Раздел 4
Является ли несомненной надежда людей в земной жизни
(32) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что надежда людей в этой жизни не может быть несомненной.
voluntas non quietaretur.
(28) Similiter etiam, cum perpetuitas damnationis pertineat ad poenam damnatorum, non vere haberet rationem poenae nisi voluntati repugnaret, quod esse non posset si perpetuitatem suae damnationis ignorarent. Et ideo ad conditionem misenae damnatorum pertinet ut ipsi sciant quod nullo modo possunt damnationem evadere et ad beatitudinem pervenire, unde dicitur lob XV, non credit quod reverti possit de tenebris ad lucem. Unde patet quod non possunt apprehendere beatitudinem ut bonum possibile, sicut nec beati ut bonum luturum. Et ideo neque in beatis neque in damnatis est spes. Sed in viatoribus sive sint in vita ista sive in Purgatorio, potest esse spes, quia utrobique apprehendunt beatitudinem ut futurum possibile.
(29) Ad primum ergo dicendum quod, sicut Gregorius dicit, XXXIII Moral, (с. 20; PL 76, 697), hoc dicitur de Diabolo secundum membra eius, quorum spes annullabitur. Vel si intelligatur de ipso Diabolo, potest referri ad spem qua
sperat se de sanctis victoriam obtinere, secundum illud quod supra praemiserat, habet fiduciam quod Iordanis influat in os eius. Haec autem non est spes de qua loquimur.
(30) Ad secundum dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in Enchirid. (8; PL 40, 234), fides est et malarum rerum et bonarum, et praeteritarum et praesentium et futurarum, et suarum et alienarum, sed spes non est nisi rerum bonarum futurarum ad se pertinentium Et ideo magis potest esse fides informis in damnatis quam spes, quia bona divina non sunt eis futura possibilia, sed sunt eis absentia.
(31) Ad tertium dicendum quod defectus spei in damnatis non vanat demeritum, sicut nec evacuatio spei in beatis auget meritum, sed utrumque contingit propter mutationem status.
Articulus 4 Utrum spes viatorum non habeat certitudinem
(32) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod spes viatorum non habeat certitudinem.
Раздел 4. Является ли несомненной надежда людей в земной жизни
203
(33) 1. В самом деле, надежда пребывает
в воле как в субъекте. Но несомненность, или достоверность относится не к воле, но к разуму. Следовательно, надежда не может быть несомненной.
(34) 2. Кроме того, надежда происходит из благодати и заслуг, как сказано выше (В. 17, Р. 1, на 2). Но в этой жизни мы не можем быть уверены в том, что обладаем благодатью, как говорилось ранее (Ч. II-I, В. 112, р 5). Следовательно, надежда людей в этой жизни не может быть несомненной.
(35) 3. Кроме того, то, что может и не произойти, сомнительно. Но многие люди, обладающие надеждой в этой жизни, не обретут блаженства. Следовательно, надежда людей в этой жизни не может быть несомненной.
(36) Но против: надежда есть уверенное ожидание будущего блаженства, как говорит Магистр. И это можно вывести из следующих слов (2 Тим 1, 12): Я знаю, в Кого уверовал, и не сомневаюсь, что Он силен сохранить залог мой.
(37) Отвечаю: надлежит сказать, что несомненность бывает двух типов — сущност¬
ная и по причастности. Сущностная несомненность, или достоверность, обнаруживается в познающей способности, а несомненность по причастности — во всем, что безошибочно движимо познающей способностью к своей цели. И сообразно этому говорится, что природа действует без сомнений, как бы движимая божественным разумом, который уверенно движет все вещи к их целям. И в этом же смысле говорят, что моральные добродетели действуют увереннее искусства, постольку, поскольку они, как и природа, движимы к своим действиям разумом. И точно так же надежда без сомнений стремится к своей цели, как бы получая свою достоверность от веры, пребывающей в познавательной способности.
(38) И из этого очевиден ответ на первое.
(39) На второе надлежит ответить, что надежда полагается не столько на уже обретенную благодать, сколько на всемогущество и милосердие Божие, благодаря которым и тот, кто еще не получил благодать, может обрести ее и достичь вечной жизни. Но любой, кто имеет веру, не сомневается
(33) 1. Spes enim est in voluntate sicut in subiecto. Sed certitudo non pertinet ad voluntatem, sed ad intellectum. Ergo spes non habet certitudinem.
(34) 2. Praeterea, spes ex gratia et meritis provenit, ut supra dictum est (q. 17, a. 1, arg. 2). Sed in hac vita scire per certitudinem non possumus quod gratiam habeamus, ut supra dictum est (II-I, q. 112, a. 5). Ergo spes viatorum non habet certitudinem.
(35) 3. Praeterea, certitudo esse non potest de eo quod potest deficere. Sed multi viatores habentes spem deficiunt a consecutione beatitudinis. Ergo spes viatorum non habet certitudinem.
(36) Sed contra est quod spes est certa expectatio futurae beatitudinis, sicut Magister dicit, XXVI dist. III Sent. (3, d. 26, c. 1; QR 2, 670). Quod potest accipi ex hoc quod dicitur II ad Tim. I, scio cui credidi, et certus sum quia potens est depositum meum servare.
(37) Respondeo dicendum quod certitudo invenitur in aliquo dupliciter, scilicet essentialiter, et participative. Essen¬
tialiter quidem invenitur in vi cognoscitiva, participative autem in omni eo quod a vi cognoscitiva movetur infal- libiliter ad finem suum; secundum quem modum dicitur quod natura certitudinaliter operatur, tanquam mota ab intellectu divino certitudinaliter movente unumquodque ad suum finem. Et per hunc etiam modum virtutes morales certius arte dicuntur operan, inquantum per modum naturae moventur a ratione ad suos actus. Et sic etiam spes certitudinaliter tendit in suum finem, quasi participans certitudinem a fide, quae est in vi cognoscitiva.
(38) Unde patet responsio ad primum.
(39) Ad secundum dicendum quod spes non innititur principaliter gratiae iam habitae, sed divinae omnipotentiae et misericordiae, per quam etiam qui gratiam non habet eam consequi potest, ut sic ad vitam aeternam perveniat. De omnipotentia autem Dei et eius misericordia certus est quicumque fidem habet.
204 Вопрос 18. О субъекте надежды
во всемогуществе и милосердии Бога.
(40) На третье надлежит ответить, что то, что некоторые из надеющихся не достигают блаженства, происходит из-за слабости их свободного решения, которое не про¬
тивится греху, а не из-за ущербности могущества или милосердия Божия, на которые полагается надежда. Следовательно, это нисколько не препятствует несомненности надежды.
(40) Ad tertium dicendum quod hoc quod aliqui habentes autem ex defectu divinae omnipotentiae vel misencordiae,
spem deficiant a consecutione beatitudinis, contingit ex cui spes innititur. Unde hoc non praeiudicat certitudini
defectu liberi arbitrii ponentis obstaculum peccati, non spei.
Вопрос 19 О даре страха
(1) Затем надлежит рассмотреть дар страха. И касательно этого исследуются двенадцать [проблем]: 1) следует ли бояться Бога; 2) о разделении страха на сыновний, изначальный, рабский и мирской; 3) всегда ли мирской страх является дурным; 4) является ли рабский страх благим; 5) является ли он тем же по субстанции, что и сыновний страх; 6) устраняется ли рабский страх с приходом любви-каритас; 7) является ли страх началом мудрости; 8) является ли изначальный страх тем же по субстанции, что и сыновний страх; 9) является ли страх даром Святого Духа; 10) возрастает ли он с возрастанием любви-каритас;
11) сохраняется ли он в Отечестве; 12) что из блаженств и плодов ему соответствует.
Раздел 1 Можно ли бояться Бога
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что Бога бояться
нельзя.
(3) 1. В самом деле, объектом страха является некое будущее зло, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 41, Р. 2; В. 41, Р. 1). Но в Боге не может быть никакого зла, ибо Он — сама благость. Следовательно, Бога бояться нельзя.
(4) 2. Кроме того, страх противоположен надежде. Но мы надеемся на Бога. Следовательно, мы не можем одновременно Его бояться.
(5) 3. Кроме того, Философ говорит, что мы страшимся тех вещей, которые могут причинить нам зло. Но причиняемое нам зло исходит не от Бога, а от нас самих, согласно этим словам (Ос 13, 9): Погубил ты себя, Израиль, — ибо только во Мне опора твоя. Следовательно, бояться Бога не нужно.
(6) Но против: сказано (Иер 10, 7): Кто не убоится Тебя, Царь народов? И еще (Мал 1,6): Если Я - Господь, то где страх предо Мною?
Quaestio 19 De dono timoris
(1) Deinde considerandum est de dono timoris. Et cir- non possit.
ca hoc quaeruntur duodecim. Primo, utrum Deus de- (3) 1. Obiectum enim timoris est malum futurum, ut supra
beat timen. Secundo, de divisione timoris in timorem habitum est (II-I, q. 41, a. 2; q. 41, a. 1). Sed Deus est filialem, initialem, servilem et mundanum. Tertio, utrum expers omnis mali, cum sit ipsa bonitas. Ergo Deus timeri timor mundanus semper sit malus. Quarto, utrum timor non potest.
servilis sit bonus. Quinto, utrum sit idem in substantia (4) 2. Praeterea, timor spei opponitur. Sed spem habemus
cum filiali. Sexto, utrum adveniente caritate excludatur de Deo. Ergo non possumus etiam simul eum timere,
timor servilis. Septimo, utrum timor sit initium sapien- (5) 3. Praeterea, sicut philosophus dicit, in II Rhet. (Ans-
tiae. Octavo, utrum timor initialis sit idem in substantia tot., 5; 1382b32), illa timemus ex quibus nobis mala prove- cum timore filiali. Nono, utrum timor sit donum spiritus niunt. Sed mala non proveniunt nobis a Deo, sed ex nobis sancti. Decimo, utrum crescat crescente caritate. Undeci- ipsis, secundum illud Osee XIII, perditio tua, Israel, ex me
mo, utrum maneat in patna. Duodecimo, quid respondeat auxilium tuum. Ergo Deus timeri non debet,
ei in beatitudinibus et fructibus. (6) Sed contra est quod dicitur Ierem. X, quis non timebit
te, о rex gentium? Et Malach. I, si ego dominus, ubi timor Articulus 1 meus?
Utrum Deus possit timeri
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod Deus timeri
206
Вопрос 19. О даре страха
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что как у надежды объект двойственен (один аспект — это само будущее благо, обретения которого ожидают, а второй — это чья-либо помощь, благодаря которой предполагают обрести то, на что надеются), так же двойственен и объект страха. И один из аспектов объекта страха — это само зло, которого избегает человек, а второй — то, откуда данное зло исходит. Итак, в том, что касается первого, Бог, поскольку Он есть сама благость, не может быть объектом страха. Но в том, что касается второго, Он может быть объектом страха, постольку, поскольку некое зло может угрожать нам исходя или от Него самого, или от нашего отношения к Нему. И от Бога нам может угрожать зло наказания, которое является не безусловным злом, но злом лишь в некотором отношении, а благом — безусловным. В самом деле, поскольку о благе говорится в порядке по отношению к цели, а зло подразумевает отсутствие такого порядка, то безусловным злом является то, что исключает порядок по отношению к предельной цели, а таково зло вины. А зло наказания, понятно, является злом постольку, поскольку устраняет некое частное благо; но оно же есть безусловное
(7) Respondeo dicendum quod sicut spes habet duplex obiectum, quorum unum est ipsum bonum futurum cuius adeptionem quis expectat, aliud autem est auxilium alicuius per quem expectat se adipisci quod sperat; ita etiam et timor duplex obiectum habere potest, quorum unum est ipsum malum quod homo refugit, aliud autem est illud a quo malum provenire potest. Primo igitur modo Deus, qui est ipsa bonitas, obiectum timoris esse non potest. Sed secundo modo potest esse obiectum timoris, inquantum scilicet ab ipso, vel per comparationem ad ipsum, nobis potest aliquod malum imminere. Ab ipso quidem potest nobis imminere malum poenae, quod non est simpliciter malum, sed secundum quid, bonum autem simpliciter. Cum enim bonum dicatur in ordine ad finem, malum autem importat huius ordinis privationem; illud est malum simpliciter quod excludit ordinem a fine ultimo, quod est malum culpae. Malum autem poenae est quidem malum, inquantum privat aliquod particulare bonum, est tamen bonum simpliciter, inquantum dependet ab ordine finis
благо, поскольку зависит от порядка предельной цели. А если говорить об угрозе зла вины, исходящего от нашего отношения к Богу, то здесь речь идет о том, что нам угрожает зло из-за удаления от Него. И именно в этом смысле можно и нужно бояться Бога.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент обладает силой в отношении того объекта страха, которым является само зло.
(9) На второе надлежит ответить, что в Боге надлежит усматривать и справедливость, сообразно которой Он карает грешников, и милосердие, сообразно которому Он освобождает нас. Итак, при рассмотрении Его справедливости в нас возникает страх, а при рассмотрении Его милосердия — надежда. И так сообразно различным аспектам Бог является объектом и надежды, и страха.
(ю) На третье надлежит ответить, что зло вины исходит как от виновника не от Бога, но от нас самих, постольку, поскольку мы удаляемся от Него. А зло наказания, конечно, исходит от Бога постольку, поскольку обладает смысловым содержанием блага, т. е. потому, что Бог справедлив; а то, что нас справедливо наказывают — так это изначально происходит из-за нашего гре-
ultimi. Per comparationem autem ad Deum potest nobis malum culpae provenire, si ab eo separemur. Et per hunc modum Deus potest et debet timeri.
(8) Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit secundum quod malum est timoris obiectum.
(9) Ad secundum dicendum quod in Deo est considerare et iustitiam, secundum quam peccantes punit; et misericordiam, secundum quam nos liberat. Secundum igitur considerationem iustitiae ipsius, insurgit in nobis timor, secundum autem considerationem misericordiae, consurgit in nobis spes. Et ita secundum diversas rationes Deus est obiectum spei et timoris.
(10) Ad tertium dicendum quod malum culpae non est a Deo sicut ab auctore, sed est a nobis ipsis, inquantum a Deo recedimus. Malum autem poenae est quidem a Deo auctore inquantum habet rationem boni, prout scilicet est iustum, sed quod iuste nobis poena infligatur, hoc primordialiter ex merito nostri peccati contingit. Secundum quem modum dicitur Sap. I, quod Deus mortem non fecit, sed impii
Раздел 2. О делении страха
207
ха. Поэтому сказано (Прем 1, 13-16): Бог не сотворил смерти... нечестивые привлекли ее и руками, и словами.
Раздел 2 Подобающим ли образом страх подразделяется на сыновний, изначальный, рабский и мирской
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что страх не подобает делить на сыновний, изначальный, рабский и мирской.
(12) 1. В самом деле, Дамаскин во II кни¬
ге «О вере православной» указывает шесть типов страха, а именно, нерешительность, стыдливость и т.д., о которых говорилось выше (Ч. II-I, В. 41, Р. 4), и которые отсутствуют в представленном делении. Следовательно, как кажется, данное деление страха является неподобающим.
(в) 2. Кроме того, каждый из этих типов
страха является или благим, или дурным. Но есть такой страх, а именно, естественный, который с нравственной точки зрения не является ни благим (поскольку он присутствует в демонах, согласно этим словам (Иак 2, 19): И бесы веруют — и трепещут), ни дурным (поскольку он присутствует в Христе, согласно словам Писа¬
ния (Мк 14, 33) о том, что Иисус начал ужасаться и тосковать). Следовательно, приведенное выше деление страха является неполным.
(и) 3. Кроме того, отношение сына к отцу
отличается и от отношения жены к мужу, и от отношения раба к господину. Но сыновний страх, который является страхом сына перед своим отцом, отличается от рабского страха, который является страхом раба перед своим господином. Следовательно, непорочный страх, который, как кажется, является страхом жены перед своим мужем, также надлежит отличать от всех данных страхов.
(15) 4. Кроме того, рабский страх есть страх перед наказанием. И то же касается мирского и изначального страха. Следовательно, эти типы страха не требуется различать.
(16) 5. Кроме того, как вожделение соотносится с неким благом, так и страх соотносится с неким злом. Однако похоть очей, которой вожделеют блага этого мира, отличается от похоти плоти, которой человек вожделеет свое собственное удовольствие. Следовательно, и мирской страх, посредством которого страшатся утратить внешние блага, отличается от человеческого страха, посредством которого страшатся
manibus et verbis accersierunt illam.
Articulus 2
Utrum timor convenienter dividatur in filialem, initialem, servilem et mundanum
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter dividatur timor in filialem, initialem, servilem et mundanum.
(12) 1. Damascenus enim, in II lib. {De fide orth., II, 15; PG 94, 932), ponit sex species timoris, scilicet segnitiem, erubescentiam, et alia de quibus supra dictum est (II-I, q. 41, a. 4), quae in hac divisione non tanguntur. Ergo videtur quod haec divisio timoris sit inconveniens.
(13) 2. Praeterea, quilibet horum timorum vel est bonus vel malus. Sed est aliquis timor, scilicet naturalis, qui neque bonus est moraliter, cum sit in Daemonibus, secundum illud lac. II, Daemones credunt et contremiscunt, neque etiam est malus, cum sit in Christo, secundum illud Marc. XIV coepit Iesus pavere et taedere. Ergo timor insufficienter di¬
viditur secundum praedicta.
(14) 3. Praeterea, alia est habitudo filii ad patrem, et uxoris ad virum, et servi ad dominum. Sed timor filialis, qui est filii in comparatione ad patrem, distinguitur a timore servili, qui est servi per comparationem ad dominum. Ergo etiam timor castus, qui videtur esse uxons per comparationem ad virum, debet distingui ab omnibus istis timoribus.
(15) 4. Praeterea, sicut timor servilis timet poenam, ita timor initialis et mundanus. Non ergo debuerunt ad invicem distingui isti timores.
(16) 5. Praeterea, sicut concupiscentia est boni, ita etiam timor est mali. Sed alia est concupiscentia oculorum, qua quis concupiscit bona mundi; alia est concupiscentia carnis, qua quis concupiscit delectationem propriam. Ergo etiam alius est timor mundanus, quo quis timet amittere bona exteriora; et alius est timor humanus, quo quis timet propriae personae detnmentum.
208
Вопрос 19.0 даре страха
вреда для своей персоны.
(17) Но против: авторитет Магистра.
(18) Отвечаю: надлежит сказать, что о страхе мы говорим здесь в связи с тем, что благодаря ему мы некоторым образом обращаемся к Богу или отвращаемся от Него. В самом деле, поскольку объектом страха является зло, то иногда человек, страшась некоего зла, отпадает от Бога, и такой страх называется мирским, или человеческим. А иногда из страха перед неким злом человек, наоборот, обращается к Богу и льнет к Нему. И зло бывает, понятно, двух типов: зло наказания и зло вины. Если, следовательно, некто обращается к Богу и льнет к Нему, страшась наказания, то это — рабский страх. А если человек страшится провинности, то это сыновний страх: так ведь и сын боится оскорбить отца. Если же страх связан и с тем, и с другим, то это изначальный страх, который является серединой между названными двумя. Что же касается вопроса о том, можно ли бояться зла вины, то он был рассмотрен выше (Ч. II-I, В. 42, Р. 3), когда исследовался страх как страсть.
(19) Итак, на первое надлежит ответить, что Дамаскин различает страх сообразно тому, что он является страстью души. А при¬
веденное здесь деление, как уже было сказано, осуществляется с точки зрения отношения к Богу.
(20) На второе надлежит ответить, что нравственное благо заключается, прежде всего, в обращении к Богу, а нравственное зло — в отвращении от Него. Поэтому все перечисленные типы страха подразумевают либо нравственное благо, либо нравственное зло. А естественный страх предшествует нравственному благу и злу, и потому в данный перечень не включен.
(21) На третье надлежит ответить, что отношение раба к господину основывается на власти, которую господин имеет над своим рабом, а отношение сына к отцу или жены к мужу, наоборот, основывается на чувствах сына, который сам подчиняет себя отцу, или на чувствах жены, которая сама связывает себя с мужем союзом любви. Поэтому сыновний и непорочный страх относятся к одному и тому же, ибо через любовь-каритас Бог становится нашим Отцом (Рим 8, 15): Вы приняли духа усыновления, которым взываем: «Лева!» (iОтче!)\ и сообразно той же любви-каритас Бог называется нашим супругом (2 Кор 11,
2): Я обручил вас единому Мужу, чтобы представить Христу чистою девою. А рабский
(17) Sed contra est auctoritas Magistri, XXXIV dist. III Sent. (3, d. 34, c. 4; QR 2, 701).
(18) Respondeo dicendum quod de timore nunc agimus secundum quod per ipsum aliquo modo ad Deum convertimur vel ab eo avertimur. Cum enim obiectum timoris sit malum, quandoque homo propter mala quae timet a Deo recedit, et iste dicitur timor humanus vel mundanus. Quandoque autem homo per mala quae timet ad Deum convertitur et ei inhaeret. Quod quidem malum est duplex, scilicet malum poenae, et malum culpae. Si igitur aliquis convertatur ad Deum et ei inhaereat propter timorem poenae, erit timor servilis. Si autem propter timorem culpae, ent timor filialis, nam filiorum est timere offensam patris. Si autem propter utrumque, est timor initialis, qui est medius inter utrumque timorem. Utrum autem malum culpae possit timeri, supra habitum est (II-I, q. 42, a. 3), cum de passione timoris ageretur.
(19) Ad primum ergo dicendum quod Damascenus dividit timorem secundum quod est passio animae. Haec autem
divisio timoris attenditur in ordine ad Deum, ut dictum est.
(20) Ad secundum dicendum quod bonum morale praecipue consistit in conversione ad Deum, malum autem morale in aversione a Deo. Et ideo omnes praedicti timores vel important bonum morale vel malum. Sed timor naturalis praesupponitur bono et malo morali. Et ideo non connumeratur inter istos timores.
(21) Ad tertium dicendum quod habitudo servi ad dominum est per potestatem domini servum sibi subiicientis, sed habitudo filii ad patrem, vel uxoris ad virum, est e converso per affectum filii se subdentis patri vel uxoris se coniungentis viro unione amons. Unde timor filialis et castus ad idem pertinent, quia per caritatis amorem Deus pater noster efficitur, secundum illud Rom. VIII, accepistis spintum adoptionis filiomm, in quo clamamus, abba, pater, et secundum eandem caritatem dicitur etiam sponsus noster, secundum illud II ad Cor. XI, despondi vos uni viro, virginem castam exhibere Christo. Timor autem servilis ad
Раздел 3. Всегда ли мирской страх является дурным
209
страх относится к другому, поскольку любовь-каритас не входит в его смысловое содержание.
(22) На четвертое надлежит ответить, что эти три страха связаны с наказанием, но по-разному. В самом деле, мирской, или человеческий, страх относится к тому наказанию, которое отвращает человека от Бога, и которое иногда осуществляют (или угрожают им) враги Господа. А рабский и изначальный страхи относятся к тому наказанию, при помощи которого люди обращаются к Богу, и это наказание осуществляет (или угрожает им) Бог. И в первую очередь к этому наказанию относится рабский страх, а во вторую очередь — изначальный.
(23) На пятое надлежит ответить, что поскольку внешние блага относятся к телу, постольку тогда, когда речь идет о страхе перед утратой своих мирских благ, и тогда, когда речь идет о страхе перед ущербом своему телу, человек отступает от Бога по одной причине. Поэтому оба эти страха здесь считаются одним, хотя типы зла, являющегося их объектами, различны, равно как и желаемые блага. И это различие обусловливает видовое различие грехов, для
которых, впрочем, общим является то, что все они отвращают человека от Бога.
Раздел 3
Всегда ли мирской страх является дурным
(24) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что мирской страх не всегда является дурным.
(25) 1. В самом деле, к человеческому страху, как кажется, относится почтительное отношение к людям. Но некоторых упрекают в том, что они не уважают людей — например, того неправедного судью, о котором сказано (Лк 18, 2), что он Бога не боялся и людей не стыдился. Следовательно, как представляется, мирской страх не всегда является дурным.
(26) 2. Кроме того, к мирскому страху, как кажется, относится страх перед наказанием, налагаемым светской властью. Но подобными наказаниями нас побуждают к совершению благих дел, согласно сказанному (Рим 13, 3): Хочешь ли не бояться власти? Делай добро — и получишь похвалу от нее. Следовательно, мирской страх не всегда является дурным.
(27) 3. Кроме того, то, что свойственно нам по природе, не является дурным, по-
aliud pertinet, quia caritatem in sua ratione non includit
(22) Ad quartum dicendum quod praedicti tres timores respiciunt poenam sed diversimode. Nam timor mundanus sive humanus respicit poenam a Deo avertentem, quam quandoque inimici Dei infligunt vel comminantur. Sed timor servilis et imtialis respiciunt poenam per quam homines attrahuntur ad Deum, divinitus inflictam vel comminatam. Quam quidem poenam principaliter timor servilis respicit, timor autem initialis secundario.
(23) Ad quintum dicendum quod eadem ratione homo a Deo avertitur propter timorem amittendi bona mundana, et propter timorem amittendi incolumitatem proprii corporis, quia bona exteriora ad corpus pertinent. Et ideo uterque timor hic pro eodem computatur, quamvis mala quae timentur sint diversa, sicut et bona quae concupiscuntur. Ex qua quidem diversitate provenit diversitas peccatorum secundum speciem, quibus tamen omnibus commune est a Deo abducere.
Articulus 3 Utram timor mundanus semper sit malus
(24) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod timor mundanus non semper sit malus.
(25) 1. Ad timorem enim humanum pertinere videtur quod homines reveremur. Sed quidam vituperantur de hoc quod homines non reverentur, ut patet Luc. XVIII de illo iudice iniquo, qui nec Deum timebat nec homines reverebatur. Ergo videtur quod timor mundanus non semper sit malus.
(26) 2. Praeterea, ad timorem mundanum videntur pertinere poenae quae per potestates saeculares infliguntur. Sed per huiusmodi poenas provocamur ad bene agendum, secundum illud Rom. XIII, vis non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem ex illa. Ergo timor mundanus non semper est malus.
(27) 3. Praeterea, illud quod inest nobis naturaliter non videtur esse malum, eo quod naturalia sunt nobis a Deo. Sed naturale est homini ut timeat proprii corporis detrimentum
210
Вопрос 19. О даре страха
скольку все естественное в нас — от Бога. Но человеку естественно страшиться и телесного ущерба, и утраты мирских благ, посредством которых поддерживается земная жизнь. Следовательно, как представляется, мирской страх не всегда является дурным.
(28) Но против: Господь говорит (Мф 10, 28): Не бойтесь убивающих тело. И эти слова запрещают мирской страх. Но Бог запрещает только дурное. Следовательно, мирской страх является дурным.
(29) Отвечаю: надлежит сказать, что, как было показано выше (Ч. II-I, В. 18, Р. 2; В. 54, Р. 2), нравственные действия и хаби- тусы получают имя и вид от своих объектов. Но собственным объектом движения желания является конечное благо. И потому любое движение желания получает вид и имя от собственной цели. В самом деле, если некто назовет алчность любовью к работе на том основании, что люди много работают из алчности, то такое именование будет неправильным, поскольку для алчного работа является не целью, а средством, а целью для его является богатство, и потому алчность правильно называть желанием или любовью к богатству, что является злом. И точно так же любовью к миру
в собственном смысле слова называется та любовь, посредством которой человек обращается к миру как к своей цели. И потому любовь к миру всегда дурна. Но страх происходит из любви, поскольку, как говорит Августин, человек боится утратить то, что любит. И потому мирской страх — тот, который произрастает из любви к миру как из дурного корня. И, следовательно, он всегда является дурным.
(30) Итак, на первое надлежит ответить, что выказывать почтение людям можно двояко. Во-первых, можно с уважением относиться к таким людям, в которых есть нечто божественное, например, благо добродетели, благодати или, по меньшей мере, естественного образа Божьего; и если некто не уважает людей в этом смысле, то его следует порицать. Во-вторых, можно почитать людей постольку, поскольку они поступают противно Богу. И в этом случае похвально, наоборот, отсутствие почтения, согласно тому, что Елисей, как и Илия, во дни свои не трепетал пред князем (Сир 48, 13).
(31) На второе надлежит ответить, что когда светская власть наказывает для того, чтобы уберечь людей от греха, она действует как слуга Божий, согласно этим словам
et amissionem bonorum temporalium, quibus praesens vita sustentatur. Ergo videtur quod timor mundanus non semper sit malus.
(28) Sed contra est quod dominus dicit, Matth. X, nolite timere eos qui corpus occidunt, ubi timor mundanus prohibetur. Nihil autem divinitus prohibetur nisi malum. Ergo timor mundanus est malus.
(29) Respondeo dicendum quod, sicut ex supradictis patet ом. q. 18, a. 2; q. 54, a. 2), actus morales et habitus ex obiectis et nomen et speciem habent. Proprium autem obiectum appetitivi motus est bonum finale. Et ideo a proprio fine omnis motus appetitivus et specificatur et nominatur. Si quis enim cupiditatem nominaret amorem laboris, quia propter cupiditatem homines laborant, non recte nominaret, non enim cupidi laborem quaerunt sicut finem, sed sicut id quod est ad finem, sicut finem autem quaerunt divitias, unde cupiditas recte nominatur desiderium vel amor divitiarum, quod est malum. Et per hunc modum amor mundanus proprie dicitur quo aliquis
mundo innititur tanquam fini. Et sic amor mundanus semper est malus. Timor autem ex amore nascitur, illud enim homo timet amittere quod amat; ut patet per Augustinum, in libro Octogintatrium quaest. (c. 33; PL 40, 22). Et ideo timor mundanus est qui procedit ab amore mundano tanquam a mala radice. Et propter hoc et ipse timor mundanus semper est malus.
(30) Ad primum ergo dicendum quod aliquis potest revereri homines dupliciter. Uno modo, inquantum est in eis aliquod divinum, puta bonum gratiae aut virtutis, vel saltem naturalis Dei imaginis, et hoc modo vituperantur qui homines non reverentur. Alio modo potest aliquis homines reveren inquantum Deo contranantur. Et sic laudantur qui homines non reverentur, secundum illud Eccli. XLVIII, de Elia vel Elisaeo, in diebus suis non pertimuit principem.
(31) Ad secundum dicendum quod potestates saeculares, quando inferunt poenas ad retrahendum a peccato, in hoc sunt Dei ministri, secundum illud Rom. XIII, minister enim
Раздел 4. Является ли рабский страх благим
211
(Рим 13, 4): Он — Божий слуга, отмсти- тель в наказание делающему зло. Однако такой страх перед светской властью относится не к мирскому, а к рабскому или изначальному страху.
(32) На третье надлежит ответить, что для человека естественно избегать телесного ущерба и утраты мирских благ, но совершение несправедливостей ради этого противно естественному разуму. Поэтому Философ и говорит в III книге «Этики», что есть такие, т. е. греховные, поступки, к совершению которых нас не должен принуждать никакой страх, поскольку лучше претерпеть любое наказание, чем согрешить таким грехом.
Раздел 4
Является ли рабский страх благим
(33) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что рабский страх не является благим.
(34) 1. Поскольку то, что используется во зло, само является дурным. Но рабский страх используется во зло, поскольку глосса к (Рим 8, 15) утверждает, что если человек делает что-либо из страха, пусть даже и некое благо, он делает это не благим обра¬
зом. Следовательно, рабский страх не является благим.
(35) 2. Кроме того, то, что произрастает из греховного корня, не является благом. Но рабский страх произрастает из греховного корня, поскольку Григорий, комментируя эти слова (Иов 3, 11), Для чего не умер я, выходя из утробы? утверждает: Когда человек страшится наказания за свои грехи и не любит утраченный им образ Божий, то этот его страх порождается самомнением, а не смирением. Следовательно, рабский страх является дурным.
(36) 3. Кроме того, как продажная любовь противоположна любви-каритас, так и рабский страх, как представляется, противоположен непорочному страху. Но продажная любовь всегда дурна. Следовательно, и рабский страх.
(37) Но против: от Святого Духа нет никакого зла. Но рабский страх — от Святого Духа, поскольку глосса к этим словам (Рим 8, 15), Вы не приняли духа рабства и т. д., утверждает: Одним и тем же Духом даруется два страха, рабский и непорочный. Следовательно, рабский страх не является дурным.
Dei est, vindex in iram ei qui male agit. Et secundum hoc timere potestatem saecularem non pertinet ad timorem mundanum, sed ad timorem servilem vel initialem.
(32) Ad tertium dicendum quod naturale est quod homo refugiat propni corporis detrimentum, vel etiam damna temporalium rerum, sed quod homo propter ista recedat a iustitia, est contra rationem naturalem. Unde etiam philosophus dicit, in III Ethic. (1, 1110a26), quod quaedam sunt, scilicet peccatorum opera, ad quae nullo timore aliquis debet cogi, quia peius est huiusmodi peccata committere quam poenas quascumque pati.
Articulus 4 Utrum timor servilis sit bonus
(33) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod timor servilis non sit bonus.
(34) 1 Quia cuius usus est malus, ipsum quoque malum est Sed usus timons servilis est malus, quia sicut Glossa (Petn Lombardi; PL 191, 1439) dicit Rom. VIII, qui timore
aliquid facit, etsi bonum sit quod facit, non tamen bene facit. Ergo timor servilis non est bonus.
(35) 2. Praeterea, illud quod ex radice peccati oritur non est bonum. Sed timor servilis ontur ex radice peccati, quia super illud lob III, quare non in vulva mortuus sum? dicit Gregorius (Moral. 4, с. 27; PL 75, 662), cum ex peccato praesens poena metuitur, et amissa Dei facies non amatur, timor ex tumore est, non ex humilitate. Ergo timor servilis est malus
(36) 3. Praeterea, sicuti amon caritatis opponitur amor mer- cenanus, ita timori casto videtur opponi timor servilis. Sed amor mercenanus semper est malus. Ergo et timor servilis.
(37) Sed contra, nullum malum est a spintu sancto. Sed timor servilis est ex spintu sancto, quia super illud Rom. VIII, non accepistis spiritum servitutis etc., dicit Glossa (Petn Lombardi; PL 191, 1439), unus spiritus est qui facit duos timores, scilicet servilem et castum. Ergo timor servilis non est malus.
212
Вопрос 19. О даре страха
(38) Отвечаю: надлежит сказать, что рабский страх является дурным из-за рабства. В самом деле, рабство противоположно свободе. И потому, если, как сказано в начале «Метафизики», свободный является причиной своих действий, то раб, наоборот, действует не сам по себе, но как бы движимый извне. А тот, кто действует из любви, действует как бы сам по себе, поскольку к действию его движет собственная склонность. И потому действие из любви несовместимо с понятием рабства. Следовательно, рабский страх, постольку, поскольку он — рабский, противоположен любви-каритас. Итак, если бы рабство включалось в смысловое содержание страха, из этого следовало бы, что рабский страх есть безусловное зло, точно так же, как безусловным злом является прелюбодеяние, ибо то, из-за чего оно противоположно любви-каритас, относится к виду прелюбодеяния. Но рабство не определяет вид рабского страха — так же, как неоформленность не определяет вид неоформленной веры. В самом деле, вид морального хабитуса или действия берется от объекта. Но объектом рабского страха является наказание, а для него является акци- дентальным то, что благо, которому оно
противоположно, любимо как предельная цель, и, соответственно, этого наказания страшатся как главного зла (что происходит с тем, кто не обладает любовью-каритас), или что оно упорядочено по отношению к Богу как к цели, и соответственно, наказания уже не страшатся как главного зла (что происходит с тем, кто обладает любовью-каритас). В самом деле, вид хабитуса не устраняется из-за того, что его объект или цель упорядочиваются по отношению к дальнейшей цели. И потому рабский страх по своей субстанции является благим, а его «рабская» составляющая — злом.
(39) Итак, на первое надлежит ответить, что эти слова Августина следует понимать как сказанные по отношению к тем, кто совершает нечто из рабского страха постольку, поскольку он является рабским, т. е. когда человек не любит справедливость и только страшится наказания.
(40) На второе надлежит ответить, что рабский страх по самой своей субстанции не возникает из самомнения. Из самомнения возникает его «рабская» составляющая — постольку, поскольку человек не желает подчинить требованиям справедливости свои аффекты при помощи любви.
(38) Respondeo dicendum quod timor servilis ex parte ser- vilitatis habet quod sit malus. Servitus enim libertati opponitur. Unde, cum liber sit qui causa sui est, ut dicitur in principio Metaphys. (3; 982b26) servus est qui non causa sui operatur, sed quasi ab extrinseco motus. Quicumque autem ex amore aliquid facit, quasi ex seipso operatur, quia ex propna inclinatione movetur ad operandum. Et ideo contra rationem servilitatis est quod aliquis ex amore operetur. Sic ergo timor servilis, inquantum servilis est, cantati contrariatur. Si ergo servilitas esset de ratione timoris, oporteret quod timor servilis simpliciter esset malus, sicut adulterium simpliciter est malum, quia id ex quo contrariatur caritati pertinet ad adulterii speciem. Sed praedicta servilitas non pertinet ad speciem timoris servilis, sicut nec informitas ad speciem fidei informis. Species enim moralis habitus vel actus ex obiecto accipitur. Obiectum autem timoris servilis est poena; cui accidit quod bonum cui contrariatur poena ametur tanquam finis ultimus, et per consequens poena timeatur tanquam prin¬
cipale malum, quod contingit in non habente caritatem; vel quod ordinetur in Deum sicut in finem, et per consequens poena non timeatur tanquam principale malum, quod contingit in habente caritatem. Non enim tollitur species habitus per hoc quod eius obiectum vel finis ordinatur ad ulteriorem finem. Et ideo timor servilis secundum suam substantiam bonus est, sed servilitas eius mala est.
(39) Ad primum ergo dicendum quod verbum illud Augustini intelligendum est de eo qui facit aliquid timore servili inquantum est servilis, ut scilicet non amet iustitiam, sed solum timeat poenam.
(40) Ad secundum dicendum quod timor servilis secundum suam substantiam non oritur ex tumore. Sed eius servilitas ex tumore nascitur, inquantum scilicet homo affectum suum non vult subiicere iugo iustitiae per amorem.
(41) Ad tertium dicendum quod amor mercenarius dicitur qui Deum diligit propter bona temporalia. Quod secundum se caritati contrariatur. Et ideo amor mercenarius semper est malus. Sed timor servilis secundum suam
Раздел 5. Тождественен ли рабский страх по своей субстанции со страхом сыновним 213
(41) На третье надлежит ответить, что о продажной любви говорится в том случае, когда некто любит Бога ради временных благ. И это само по себе противоположно люб- ви-каритас. И потому продажная любовь всегда является злом. Но рабский страх по своей субстанции подразумевает только страх наказания, причем неважно, страшатся ли наказания как главного зла или нет.
Раздел 5
Тождественен ли рабский страх по своей субстанции со страхом сыновним
(42) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что рабский страх тождественен по своей субстанции со страхом сыновним.
(43) 1. В самом деле, рабский страх относится к сыновнему так же, как неоформленная вера — к оформленной, из которых первая может сочетаться со смертным грехом, а вторая — нет. Но оформленная и неоформленная вера тождественны по субстанции. Следовательно, тождественны по субстанции также рабский и сыновний страх.
(44) 2. Кроме того, хабитусы различаются сообразно объектам. Но объект у рабского и сыновнего страха — один и тот же, ведь
в обоих случаях боятся Бога. Следовательно, оба эти страха тождественны по субстанции.
(45) 3. Кроме того, человек, с одной стороны, надеется насладиться Богом и получить от Него различные благодеяния, и, с другой стороны, страшится того, что отпадет от Бога и будет наказан Им. Но та надежда, которой мы надеемся насладиться Богом, и та надежда, которой мы надеемся получить от Него различные благодеяния, суть одна и та же надежда, как уже было сказано выше (В. 17, Р. 2, на 2; Р. 3). Следовательно, точно так же сыновний страх (которым страшатся отпадения от Бога) и страх рабский (которым страшатся наказания от Него) суть один и тот же страх.
(46) Но против: Августин говорит, что есть два страха, один — рабский, а другой сыновний, т. е. чистый.
(47) Отвечаю: надлежит сказать, что собственным объектом страха является зло. Но поскольку, как уже говорилось выше (Ч. II-I, В. 18, Р. 5; В. 54, Р. 2), действия и хабитусы различаются сообразно объектам, то необходимо, чтобы виды страха различались сообразно различию типов зла. Однако зло наказания, которого избегает рабский страх, и зло вины, которого
substantiam non importat nisi timorem poenae, sive timeatur ut pnncipale malum, sive non timeatur ut malum principale.
Articulus 5 Utrum timor servilis sit idem in substantia cum timore filiali
(42) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod timor servilis sit idem in substantia cum timore filiali.
(43) 1. Ita enim videtur se habere timor filialis ad servilem sicut fides formata ad informem, quorum unum est cum peccato mortali, aliud vero non. Sed eadem secundum substantiam est fides formata et informis. Ergo etiam idem est secundum substantiam timor servilis et filialis.
(44) 2. Praeterea, habitus diversificantur secundum obiec- ta. Sed idem est obiectum timoris servilis et filialis, quia utroque timore timetur Deus. Ergo idem est secundum substantiam timor servilis et timor filialis.
(45) 3. Praeterea, sicut homo sperat frui Deo et etiam ab eo beneficia obtinere, ita etiam timet separari a Deo et poenas ab eo pati. Sed eadem est spes qua speramus frui Deo et qua speramus alia beneficia obtinere ab eo, ut dictum est (q. 17, a. 2, ad 2; a. 3). Ergo etiam idem est timor filialis, quo timemus separationem a Deo, et timor servilis, quo timemus ab eo puniri.
(46) Sed contra est quod Augustinus, super Prim. Canonic. Ioan. (tr. 9 super 6, 18; PL 35, 2049), dicit esse duos timores, unum servilem, et alium filialem vel castum.
(47) Respondeo dicendum quod proprie obiectum timoris est malum. Et quia actus et habitus distinguuntur secundum obiecta, ut ex dictis patet (II-I, q. 18, a. 5; q. 54, a. 2), necesse est quod secundum diversitatem malorum etiam timores specie differant. Differunt autem specie malum poenae, quod refugit timor servilis, et malum culpae, quod refugit timor filialis, ut ex supradictis patet (I, q. 48, a. 5). Unde manifestum est quod timor servilis et filialis non sunt idem secundum substantiam, sed differunt specie.
214
Вопрос 19. О даре страха
избегает сыновний страх, различны по виду, как явствует из сказанного выше (Ч. I, В. 48, Р. 5). И потому очевидно, что рабский и сыновний страх не тождественны по субстанции, но различаются по виду.
(48) Итак, на первое надлежит ответить, что оформленная и неоформленная вера различаются не сообразно объекту (ведь обе веры верят в Бога и верят Богу), но сообразно чему-то внешнему, т. е. сообразно наличию и отсутствию любви-каритас. И потому они не различаются сообразно субстанции. Однако страх рабский и страх сыновний различаются сообразно объекту. И потому здесь нет подобия.
(49) На второе надлежит ответить, что рабский страх и сыновний страх не обладают одним и тем же отношением к Богу, ведь рабский страх соотносится с Ним как с началом, налагающим наказание, а сыновний страх — не как с действующим началом вины, но, скорее, как с пределом, от которого человек страшится отдалиться из-за своей провинности. И потому из того объекта, которым является Бог, тождественность вида не следует. Так ведь и естественные движения различаются по виду сообразно отношению к некоему пределу, ибо движение к белизне не является тем же
по виду, что и движение от белизны.
(50) На третье надлежит ответить, что надежда соотносится с Богом как с началом и в том, что касается божественного наслаждения, и в том, что касается любого другого благодеяния. Но в случае страха дело обстоит иначе. И потому здесь нет подобия.
Раздел 6
Может ли рабский страх совмещаться с любовью-каритас
(51) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что рабский страх не может совмещаться с любовью-каритас.
(52) 1. В самом деле, Августин утверждает, что когда поселяется любовь, тогда изгоняется страх, который подготовил ей место.
(53) 2. Кроме того, сказано: Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим 5, 5). Но где Дух Господень, там — свобода (2 Кор 3, 17). Поскольку же свобода исключает рабство, постольку, как представляется, с приходом любви-каритас рабский страх устраняется.
(54) 3. Кроме того, рабский страх причинно обусловливается любовью к себе, постольку, поскольку наказание наносит ущерб собственному благу человека. Но любовь
(48) Ad primum ergo dicendum quod fides formata et informis non differunt secundum obiectum, utraque enim fides et credit Deo et credit Deum, sed differunt solum per aliquod extrinsecum, scilicet secundum praesentiam et absentiam cantatis. Et ideo non differunt secundum substantiam. Sed timor servilis et filialis differunt secundum obiecta. Et ideo non est similis ratio.
(49) Ad secundum dicendum quod timor servilis et timor filialis non habent eandem habitudinem ad Deum, nam timor servilis respicit Deum sicut principium inflictivum poenarum; timor autem filialis respicit Deum non sicut principium activum culpae, sed potius sicut terminum a quo refugit separan per culpam. Et ideo ex hoc obiecto quod est Deus non consequuntur identitatem speciei. Quia etiam motus naturales secundum habitudinem ad aliquem terminum specie diversificantur, non enim est idem motus specie qui est ab albedine et qui est ad albedinem.
(50) Ad tertium dicendum quod spes respicit Deum sicut pnncipium tam respectu fruitionis divinae quam respectu
cuiuscumque alterius beneficii. Non sic autem est de timore. Et ideo non est similis ratio.
Articulus 6 Utrum timor servilis remaneat cum caritate
(51) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod timor servilis non remaneat cum cantate.
(52) 1. Dicit enim Augustinus, super Prim. Canonic. Ioan. (tr. 9 super 6, 18, PL 35, 2047), quod cum coeperit caritas habitare, pellitur timor, qui ei praeparavit locum.
(53) 2.Praeterea, caritas Dei diffunditur in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis, ut dicitur Rom. V. Sed ubi spiritus domini, ibi libertas, ut habetur II ad Cor. III. Cum ergo libertas excludat servitutem, videtur quod timor servilis expellatur cantate adveniente.
(54) 3. Praeterea, timor servilis ex amore sui causatur, inquantum poena diminuit proprium bonum. Sed amor Dei expellit amorem sui, facit enim contemnere seipsum, ut patet ex auctoritate Augustini, XIV De civ. Dei (28; PL 41, 436), quod amor Dei usque ad contemptum sui facit civitatem
Раздел 6. Может ли рабский страх совмещаться с любовью-каритас
215
к Богу устраняет любовь к самому себе, ведь она побуждает человека презирать себя, как ясно из этих слов Августина: Град Божий создан любовью к Богу, дошедшей до презрения к себе. Следовательно, как кажется, с приходом любви рабский страх устраняется.
(55) Но против: выше было сказано (Р. 4), что рабский страх является даром Святого Духа. Но дары Святого Духа не устраняются любовью-каритас, посредством которой Святой Дух обитает в нас. Следовательно, с приходом любви рабский страх не устраняется.
(56) Отвечаю: надлежит сказать, что рабский страх причинно обусловливается любовью к себе, поскольку является страхом наказания, которое есть нанесение ущерба собственному благу человека. И потому в этом смысле страх перед наказанием может сочетаться с любовью-каритас, как и с любовью к самому себе, поскольку ведь человек желает себе блага и боится утратить свое благо по одной и той же причине. Однако любовь к самому себе может соотноситься с любовью-каритас трояко. Во- первых, она может противоречить любви- каритас, сообразно тому, что человек полагает целью любовь к собственному благу.
Во-вторых, она может включаться в любовь-каритас, сообразно тому, что человек любит себя ради Бога и в Боге. В-третьих, она может отличаться от любви-каритас, но при этом ей не противоречить, сообразно тому, что человек любит себя в аспекте собственного блага, но так, что не полагает цель в этом своем собственном благе: так ведь можно и ближнего любить некоей особой любовью, помимо любви-каритас, которая укоренена в Боге (например, когда мы любим ближнего в силу кровного родства, или по какой-либо иной причине, связанной с определенными человеческими отношениями, которая, однако, совестима с любовью-каритас).
(57) Итак, следовательно, в определенном смысле страх перед наказанием включен в любовь-каритас, ведь удаление от Бога есть некое наказание, которого изо всех сил стремится избежать любовь-каритас. И это относится к непорочному страху. А в ином смысле страх перед наказанием противоречит любви-каритас — сообразно тому, что человек избегает наказания, опасного для его естественного блага, как главного зла, противоположного тому благу, которое любимо как цель. И в этом смысле страх перед наказанием несовме-
Dei. Ergo videtur quod veniente cantate timor servilis tollatur.
(55) Sed contra est quod timor servilis est donum spiritus sancti, ut supra dictum est (a. 4). Sed dona spiritus sancti non tolluntur adveniente caritate, per quam spiritus sanctus in nobis habitat. Ergo veniente caritate non tollitur timor servilis.
(56) Respondeo dicendum quod timor servilis ex amore sui causatur, quia est timor poenae, quae est detrimentum proprii boni. Unde hoc modo timor poenae potest stare cum caritate sicut et amor sui, eiusdem enim rationis est quod homo cupiat bonum suum et quod timeat eo privari. Amor autem sui tripliciter se potest habere ad caritatem. Uno enim modo contranatur caritati, secundum scilicet quod aliquis in amore proprii boni finem constituit. Alio vero modo in cantate includitur, secundum quod homo se propter Deum et in Deo diligit. Tertio modo a caritate quidem distinguitur, sed caritati non contrariatur, puta cum aliquis diligit quidem seipsum secundum rationem
proprii boni, ita tamen quod in hoc proprio bono non constituat finem, sicut etiam et ad proximum potest esse aliqua alia specialis dilectio praeter dilectionem caritatis, quae fundatur in Deo, dum proximus diligitur vel ratione consanguinitatis vel alicuius alterius conditioms humanae, quae tamen referibilis sit ad caritatem.
(57) Sic igitur et timor poenae includitur uno modo in cantate, nam separan a Deo est quaedam poena, quam caritas maxime refugit. Unde hoc pertinet ad timorem castum. Alio autem modo contrariatur caritati, secundum quod aliquis refugit poenam contrariam bono suo naturali sicut pnncipale malum contranum bono quod diligitur ut finis. Et sic timor poenae non est cum caritate. Alio modo timor poenae distinguitur quidem secundum substantiam a timore casto, quia scilicet homo timet malum poenale non ratione separationis a Deo, sed inquantum est nocivum proprii boni, nec tamen in illo bono constituitur eius finis, unde nec illud malum formidatur tanquam principale malum. Et talis timor poenae potest esse cum caritate. Sed
216
Вопрос 19. О даре страха
стим с любовью-каритас. Наконец, в третьем смысле страх перед наказанием по субстанции отличается от непорочного страха, поскольку человек страшится зла наказания, отличного от удаления от Бога, которое вредоносно для его собственного блага, но при этом не полагает свою цель в данном благе, а потому не страшится этого зла как главного. И такой страх перед наказанием может сочетаться с любовью-каритас. Однако страх перед наказанием может называться рабским лишь тогда, когда наказания страшатся как главного зла, как явствует из сказанного выше (Р. 2, на 4; Р. 4). И потому страх именно как рабский не может сочетаться с любовью-каритас, хотя субстанция рабского страха — может, как и любовь к самому себе может совмещаться с любовью-каритас.
(58) Итак, на первое надлежит ответить, что Августин говорит там именно о «рабской» составляющей страха.
(59) И то же самое относится к двум другим возражениям.
Раздел 7
Является ли страх началом мудрости
(60) Ход рассуждения в седьмом разделе та¬
ков. Представляется, что страх не является началом мудрости.
(61) 1. В самом деле, начало есть нечто от вещи. Но страх не есть нечто от мудрости, поскольку страх пребывает в желающей способности, а мудрость — в познавательной. Следовательно, как представляется, страх не является началом мудрости.
(62) 2. Кроме того, ничто не является началом самого себя. Но страх Господень сам есть мудрость, как сказано в Писании (Иов 28, 28). Следовательно, как представляется, страх не есть начало мудрости.
(63) 3. Кроме того, ничто не может быть раньше начала. Но нечто предшествует страху, например, вера. Следовательно, как кажется, страх не является началом мудрости.
(64) Но против: сказано (Пс 110,10): Начало мудрости — страх Господень.
(65) Отвечаю: надлежит сказать, что нечто может быть названо началом мудрости в двух смыслах: во-первых, началом мудрости в отношении сущности; во-вторых, началом мудрости в отношении ее следствия. Подобным образом началом искусства в отношении его сущности являются те принципы, на которых основывается искусство, тогда как началом искусства в отношении
iste timor poenae non dicitur esse servilis nisi quando poena formidatur sicut principale malum, ut ex dictis patet (a. 2, ad 4; a. 4). Et ideo timor inquantum servilis non manet cum caritate, sed substantia timoris servilis cum caritate manere potest, sicut amor sui manere potest cum caritate.
(58) Ad primum eigo dicendum quod Augustinus loquitur de timore inquantum servilis est.
(59) Et sic etiam procedunt aliae duae rationes.
Articulus 7 Utrum timor sit initium sapientiae
(60) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod timor non sit initium sapientiae.
(61) 1. Initium enim est aliquid rei. Sed timor non est aliquid sapientiae, quia timor est in vi appetitiva, sapientia autem est in vi intellectiva. Ergo videtur quod timor non sit imtium sapientiae.
(62) 2. Praeterea, nihil est principium sui ipsius. Sed timor Dei ipse est sapientia, ut dicitur lob XXVIII. Ergo videtur quod timor Dei non sit imtium sapientiae.
(63) 3. Praeterea, principio non est aliquid prius. Sed timore est aliquid prius, quia fides praecedit timorem. Ergo videtur quod timor non sit initium sapientiae.
(64) Sed contra est quod dicitur in Psalm., initium sapientiae timor domini.
(65) Respondeo dicendum quod initium sapientiae potest aliquid dici dupliciter, uno modo, quia est initium ipsius sapientiae quantum ad eius essentiam; alio modo, quantum ad eius effectum. Sicut initium artis secundum eius essentiam sunt principia ex quibus procedit ars, initium autem artis secundum eius effectum est unde incipit ars operari; sicut si dicamus quod principium artis aedifica-
Раздел 7. Является ли страх началом мудрости
217
его следствия является то, с чего оно начинает действовать (так, например, можно сказать, что началом зодческого искусства является фундамент, поскольку зодчий начинает свою работу с фундамента). Но поскольку мудрость является познанием божественного, как будет разъяснено далее (В. 45, Р. 1), то мы рассматриваем ее иначе, чем философы. В самом деле, поскольку наша жизнь направлена на наслаждение Богом и ее ведет к этому некая причастность божественной природе, которая даруется нам посредством благодати, постольку мудрость, как мы ее понимаем, заключается не только в познании Бога (как считали философы), но также и в руководстве человеческой жизнью, которое осуществляется, как указывает Августин, сообразно не только человеческим, но и божественным нормам.
(66) Таким образом, начало мудрости в отношении ее сущности — первые принципы мудрости, т. е. догматы веры. И сообразно этому началом мудрости называют веру. А в том, что касается следствия, началом мудрости является то, с чего начинает действовать мудрость. И в этом смысле началом мудрости является страх. Однако рабский и сыновний страхи являются на¬
чалами мудрости по-разному. В самом деле, рабский страх предрасполагает человека к мудрости как бы извне, поскольку тот воздерживается от греха из страха перед наказанием, и таким вот образом становится восприимчивым к воздействию мудрости, согласно сказанному (Сир 1, 21): Страх Господень отгоняет грехи. С другой стороны, непорочный, или сыновний страх есть начало мудрости в качестве первого следствия мудрости. В самом деле, поскольку мудрости надлежит приводить человеческую жизнь в соответствие с божественными нормами, то для начала необходимо, чтобы человек почитал Бога и подчинялся Ему, так, чтобы затем во всем руководствоваться [нормами, установленными] Богом.
(67) Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент доказывает, что страх не является началом мудрости в отношении ее сущности.
(68) На второе надлежит ответить, что страх Господень соотносится со всей человеческой жизнью, руководимой премудростью Божией, как корень с деревом, отчего и сказано (Сир 1, 20): Корень премудрости — бояться Господа, а ветви ее — долгоденствие. Следовательно, как корень называют потенциальным деревом, так и страх Госпо-
tivae est fundamentum, quia ibi incipit aedificator operari. Cum autem sapientia sit cognitio divinorum, ut infra dicetur (q. 45, a. 1), aliter consideratur a nobis et aliter a philosophis. Quia enim vita nostra ad divinam fruitionem ordinatur et dirigitur secundum quandam participationem divinae naturae, quae est per gratiam; sapientia secundum nos non solum consideratur ut est cognoscitiva Dei, sicut apud philosophos; sed etiam ut est directiva humanae vitae, quae non solum dirigitur secundum rationes humanas, sed etiam secundum rationes divinas, ut patet per Augustinum, XII De Trin. (13; PL 42, 1009).
(66) Sic igitur initium sapientiae secundum eius essentiam sunt prima pnncipia sapientiae, quae sunt articuli fidei. Et secundum hoc fides dicitur sapientiae initium. Sed quantum ad effectum, initium sapientiae est unde sapientia incipit operari. Et hoc modo timor est initium sapientiae. Aliter tamen timor servilis, et aliter timor filialis. Timor enim servilis est sicut pnncipium extra disponens
ad sapientiam, inquantum aliquis timore poenae discedit a peccato, et per hoc habilitatur ad sapientiae effectum; secundum illud Eccli. I, timor domini expellit peccatum. Timor autem castus vel filialis est initium sapientiae sicut primus sapientiae effectus. Cum enim ad sapientiam pertineat quod humana vita reguletur secundum rationes divinas, hinc oportet sumere pnncipium, ut homo Deum revereatur et se ei subiiciat, sic enim consequenter in omnibus secundum Deum regulabitur.
(67) Ad primum ergo dicendum quod ratio illa ostendit quod timor non est principium sapientiae quantum ad essentiam sapientiae.
(68) Ad secundum dicendum quod timor Dei comparatur ad totam vitam humanam per sapientiam Dei regulatam sicut radix ad arborem, unde dicitur Eccli. I, radix sapientiae est timere dominum, rami enim illius longaevi. Et ideo sicut radix virtute dicitur esse tota arbor, ita timor Dei dicitur esse sapientia.
218
Вопрос 19. О даре страха
день — мудростью.
(69) На третье надлежит ответить, что, как уже отмечено, вера является началом мудрости в одном отношении, а страх — в другом. Поэтому сказано (Сир 25, 16): Страх Господень — начало любви к Нему, а начало веры — обращение к Нему1.
Раздел 8
Отличается ли изначальный страх от сыновнего по субстанции
(70) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что изначальный страх отличается от сыновнего по субстанции.
(71) 1. В самом деле, сыновний страх причинно обусловливается любовью. А изначальный страх является началом любви, согласно этим словам (Сир 25, 16): Страх Господень — начало любви. Следовательно, изначальный страх отличается от сыновнего.
(72) 2. Кроме того, изначальный страх страшится наказания, которое есть объект рабского страха, а потому, как кажется, они тождественны. Но рабский страх отличен от сыновнего по своей субстанции.
(73) 3. Кроме того, середина отлична от обеих из крайностей на одном и том же
(69) Ad tertium dicendum quod, sicut dictum est, alio modo fides est principium sapientiae et alio modo timor. Unde dicitur Eccli. XXV, timor Dei initium dilectionis eius, initium autem fidei agglutinandum est ei.
Articulus 8 Utrum timor initialis differat secundum substantiam a timore filiali
(70) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod timor initialis differat secundum substantiam a timore filiali.
(71) 1. Timor enim filialis ex dilectione causatur. Sed timor initialis est pnncipium dilectionis, secundum illud Eccli. XXV, timor domini initium est dilectionis. Ergo timor initialis est alius a filiali.
(72) 2. Praeterea, timor initialis timet poenam, quae est obiectum servilis timoris, et sic videtur quod timor initialis sit idem cum servili. Sed timor servilis est alius a filiali. Ergo etiam timor initialis est alius secundum substantiam a filiali.
основании. Но изначальный страх является чем-то средним между сыновьим и рабским страхом. Следовательно, он отличается и от первого, и от второго.
(74) Но против: «совершенное» и «несовершенное» не различают субстанцию вещи. Но изначальный и сыновний страх различаются сообразно совершенству и несовершенству любви-каритас, как явствует из слов Августина. Следовательно, изначальный страх не отличается по субстанции от сыновнего.
(75) Отвечаю: надлежит сказать, что изначальный страх называется так потому, что является началом. Но поскольку и рабский, и сыновний страхи некоторым образом являются началом мудрости, то их можно в некотором смысле называть изначальными. Но если говорить об изначальном страхе, как об отличном от рабского и сыновнего, то его следует понимать иначе, сообразно тому, что подобает состоянию начинающих, в которых благодаря возникновению любви-каритас зарождается некий сыновний страх, который, однако, еще несовершенен, поскольку они еще не достигли совершенства любви-каритас. И потому изначальный страх так относится к страху сыновнему, как несовершенная
(73) 3. Praeterea, medium differt eadem ratione ab utroque extremorum. Sed timor initialis est medium inter timorem servilem et timorem filialem. Ergo differt et a filiali et a servili.
(74) Sed contra est quod perfectum et imperfectum non diversificant substantiam rei. Sed timor initialis et filialis differunt secundum perfectionem et imperfectionem caritatis, ut patet per Augustinum, in Prim. Canomc. Ioan. (tr. 9 super 6, 18; PL 35, 2049). Ergo timor initialis non differt secundum substantiam a filiali.
(75) Respondeo dicendum quod timor initialis dicitur ex eo quod est initium. Sed cum et timor servilis et timor filialis sint aliquo modo initium sapientiae, uterque potest aliquo modo initialis dici. Sed sic non accipitur initialis secundum quod distinguitur a timore servili et filiali. Sed accipitur secundum quod competit statui incipientium, in quibus inchoatur quidam timor filialis per inchoationem caritatis; non tamen est in eis timor filialis perfecte, quia nondum pervenerunt ad perfectionem cantatis. Et ideo timor
Раздел 9. Является ли страх даром Святого Духа
219
любовь-каритас — к совершенной. Но совершенная и несовершенная любовь отличаются не сообразно сущности, а исключительно сообразно состоянию. И потому надлежит сказать, что изначальный страх, как мы понимаем его здесь, не отличается по сущности от страха сыновнего.
(76) Итак, на первое надлежит ответить, что страх, являющийся началом любви, есть рабский страх, который, как говорит Августин, влечет за собой любовь-каритас, как игла тянет за собой нить. Или же, если относить это к изначальному страху, то он является началом любви не безусловно, а сообразно состоянию совершенной люб- ви-каритас.
(77) На второе надлежит ответить, что изначальный страх боится наказания не потому, что оно является его собственным объектом, но потому, что в нем имеется нечто, связанное с рабским страхом, который после привхождения любви-каритас субстанциально сохраняется при устранении «рабской» составляющей. И его действие пребывает вместе с несовершенной любовью в том, кого движет к совершению благих деяний не только любовь к справедливости, но также и страх перед наказанием; но это действие прекращается в том, кто об¬
рел совершенную любовь-каритас, которая, согласно сказанному, изгоняет страх, в котором есть мучение (1 Ин 4, 18).
(78) На третье надлежит ответить, что изначальный страх является средним между рабским и сыновним страхом не как между [вещами], которые относятся к одному роду, но как нечто несовершенное — между совершенным сущим и не-сущим, как сказано во II книге «Метафизики». И таковое несовершенное сущее по субстанции тождественно совершенному сущему, при том, что полностью отлично от не-сущего.
Раздел 9
Является ли страх даром Святого Духа
(79) Ход рассуждения в девятом разделе таков. Представляется, что страх не является даром Святого Духа.
(80) 1. В самом деле, ни один дар Святого Духа не противополагается добродетели, которая — от Духа Святого, ведь в противном случае Святой Дух противоречил бы сам себе. Но страх противоположен надежде, которая является добродетелью. Следовательно, страх не может быть даром Святого Духа.
(81) 2. Кроме того, собственным признаком теологической добродетели является
initialis hoc modo se habet ad filialem, sicut caritas imperfecta ad perfectam. Caritas autem perfecta et imperfecta non differunt secundum essentiam, sed solum secundum statum. Et ideo dicendum est quod etiam timor initialis, prout hic sumitur, non differt secundum essentiam a timore filiali.
(76) Ad primum ergo dicendum quod timor qui est initium dilectionis est timor servilis, qui introducit caritatem sicut seta introducit linum, ut Augustinus dicit. In Joann (tr. 9 super 6, 18; PL 35, 2047). Vel, si hoc referatur ad timorem initialem, dicitur esse dilectionis initium non absolute, sed quantum ad statum caritatis perfectae.
(77) Ad secundum dicendum quod timor initialis non timet poenam sicut propnum obiectum, sed inquantum habet aliquid de timore servili adiunctum. Qui secundum substantiam manet quidem cum caritate, servilitate remota, sed actus eius manet quidem cum caritate imperfecta in eo qui non solum movetur ad bene agendum ex amore iustitiae, sed etiam ex timore poenae; sed iste actus ces¬
sat in eo qui habet caritatem perfectam, quae foras mittit timorem habentem poenam, ut dicitur I Ioan. IV.
(78) Ad tertium dicendum quod timor initialis est medium inter timorem filialem et servilem non sicut inter ea quae sunt unius genens; sed sicut imperfectum est medium inter ens perfectum et non ens, ut dicitur in II Metaphys. (Aris- tot, 2; 994a28); quod tamen est idem secundum substantiam cum ente perfecto, differt autem totaliter a non ente.
Articulus 9 Utrum timor sit donum spiritus sancti
(79) Ad nonum sic proceditur. Videtur quod timor non sit donum spiritus sancti.
(80) 1. Nullum enim donum spiritus sancti opponitur virtuti, quae etiam est a spiritu sancto, alioquin spiritus sanctus esset sibi contrarius. Sed timor opponitur spei, quae est virtus. Ergo timor non est donum spiritus sancti.
(81) 2. Praeterea, virtutis theologicae proprium est quod
220
Вопрос 19. О даре страха
то, что ее объект — Бог. Но Бог является объектом страха — в той мере, в какой Его боятся. Следовательно, страх — не дар, а теологическая добродетель.
(82) 3. Кроме того, страх возникает из любви. Но любовь относится к теологическим добродетелям. Следовательно, страх, поскольку он некоторым образом относится к тому же, также является теологической добродетелью.
(83) 4. Кроме того, Григорий говорит, что страх даруется как средство от гордыни. Но гордыне противополагается добродетель смирения. Следовательно, страх также относится к добродетелям.
(84) 5. Кроме того, дары совершеннее добродетелей, поскольку, по словам Григория, они даруются для помощи добродетелям. Но надежда совершеннее страха, поскольку она соотносится с благом, а страх — со злом. Следовательно, поскольку надежда является добродетелью, страх не должен считаться даром.
(85) Но против: страх Господень включен в число семи даров Святого Духа (Ис 11,3).
(86) Отвечаю: надлежит сказать, что, как было показано выше (Р. 2), существует несколько типов страха. И человеческий страх, как говорит Августин, не является даром
Божьим, ведь именно человеческим страхом был объят Петр, когда отрекся от Христа, и это не тот страх, о котором в Писании сказано: Бойтесь [более] Того, Кто может и душу, и тело погубить в Геенне (Мф 10, 28). Равным образом и рабский страх не следует полагать одним из семи даров Святого Духа, поскольку он, хотя и исходит от Него, совместим с греховной волей, как указывает Августин. Но дары Святого Духа несовместимы с греховной волей, поскольку они, как уже сказано (Ч. II-I, В. 68, Р. 5), неотделимы от любви- каритас. Поэтому остается только, что тем страхом Господним, который перечислен среди семи даров Святого Духа, является сыновний, или чистый страх. В самом деле, как уже было сказано (Ч. II-I, В. 68, Р. 1,
3), дары Святого Духа суть некие хабиту- альные совершенства способностей души, благодаря которым человек делается более восприимчивым к движению со стороны Святого Духа (так же, как благодаря моральным добродетелям желающие способности делаются более восприимчивыми к движению со стороны разума). Но для того, чтобы нечто стало более восприимчивым к движению со стороны некоего движущего, прежде всего требуется, что-
Deum habeat pro obiecto. Sed timor habet Deum pro obiecto, inquantum Deus timetur. Ergo timor non est donum, sed virtus theologica.
(82) 3. Praeterea, timor ex amore consequitur. Sed amor ponitur quaedam virtus theologica. Ergo etiam timor est virtus theologica, quasi ad idem pertinens.
(83) 4. Praeterea, Gregorius dicit, II Moral. (49; PL 75, 593), quod timor datur contra superbiam. Sed superbiae opponitur virtus humilitatis. Ergo etiam timor sub virtute comprehenditur.
(84) 5. Praeterea, dona sunt perfectiora virtutibus, dantur enim in adiutorium virtutum, ut Gregorius dicit, II Moral. (49; PL 75, 592). Sed spes est perfectior timore, quia spes respicit bonum, timor malum. Cum ergo spes sit virtus, non debet dici quod timor sit donum.
(85) Sed contra est quod Isaiae XI timor domini enumeratur inter septem dona spiritus sancti.
(86) Respondeo dicendum quod multiplex est timor, ut supra dictum est (a. 2). Timor autem humanus, ut dicit Augusti¬
nus, in libro De gratia et lib. arb. (18; PL 44, 904), non est donum Dei, hoc enim timore Petrus negavit Christum, sed ille timor de quo dictum est, illum timete qui potest animam et corpus mittere in Gehennam. Similiter etiam timor servilis non est numerandus inter septem dona spiritus sancti, licet sit a spiritu sancto. Quia, ut Augustinus dicit, in libro De nat. et gratia (57; PL 44, 280), potest habere annexam voluntatem peccandi, dona autem spiritus sancti non possunt esse cum voluntate peccandi, quia non sunt sine caritate, ut dictum est (II-I, q. 68, a. 5). Unde relinquitur quod timor Dei qui numeratur inter septem dona spiritus sancti est timor filialis sive castus. Dictum est enim supra (II-I, q. 68, a. 1, 3) quod dona spiritus sancti sunt quaedam habituales perfectiones potentiarum animae quibus redduntur bene mobiles a spiritu sancto, sicut virtutibus moralibus potentiae appetitivae redduntur bene mobiles a ratione. Ad hoc autem quod aliquid sit bene mobile ab aliquo movente, pnmo requiritur ut sit ei subiectum, non repugnans, quia ex repugnantia mobilis
Раздел 9. Является ли страх даром Святого Духа
221
бы оно ему подчинилось и не противилось движению, поскольку сопротивление движимого движущему препятствует движению. И именно это обусловливает сыновний, или чистый страх, постольку, поскольку благодаря ему мы почитаем Бога и страшимся отдаления от Него. Поэтому сыновний страх занимает, так сказать, первое место среди даров Святого Духа в порядке возрастания и последнее место в порядке убывания, как говорит Августин.
(87) Итак, на первое надлежит ответить, что сыновний страх не противополагается добродетели надежды. В самом деле, сыновним страхом мы боимся не того, что нам не удастся обрести то, что мы надеемся обрести с помощью Бога, а того, что мы сами лишим себя этой помощи. Поэтому сыновний страх и надежда сочетаются и совершенствуют друг друга.
(88) На второе надлежит ответить, что собственным и главным объектом страха является зло, которого избегают, и в этом смысле Бог не может быть объектом страха, о чем уже было сказано (Р. 1). Однако Бог является главным и основным объектом надежды и других теологических добродетелей, поскольку посредством добродетели надежды мы надеемся получить бо¬
жественную помощь не только в обретении неких иных благ, но, прежде всего, в обретении самого Бога как главного блага. И то же самое очевидно в случае остальных теологических добродетелей.
(89) На третье надлежит ответить, что из того, что любовь является началом страха, не следует, что страх Божий не является хабитусом, отличным от любви-каритас, которая есть любовь к Богу, поскольку любовь — начало всех аффектов, но в отношении различных аффектов мы совершенствуемся различными хабитусами. Впрочем, любовь в большей степени причастна к смысловому содержанию добродетели, чем страх, потому что она соотносится с благом, к которому добродетель определена по самой своей сути, как явствует из сказанного выше (Ч. II-I, В. 55, Р. 3). И потому надежда также является добродетелью. Страх же прежде всего соотносится со злом и подразумевает уклонение от него; и в этом смысле он есть нечто меньшее сравнительно с теологической добродетелью.
(90) На четвертое надлежит ответить, что, как сказано (Сир 10, 14), начало гордости — удаление человека от Господа, т. е. нежелание подчиниться Ему, которое про-
ad movens impeditur motus. Hoc autem facit timor filialis vel castus, inquantum per ipsum Deum reveremur, et refugimus nos ipsi subducere. Et ideo timor filialis quasi pnmum locum tenet ascendendo inter dona spiritus sancti, ultimum autem descendendo; sicut Augustinus dicit, in libro De serm Dom in monte (1, c.4; PL 34, 1234).
(87) Ad primum ergo dicendum quod timor filialis non contrariatur virtuti spei. Non enim per timorem filialem timemus ne nobis deficiat quod speramus obtinere per auxilium divinum, sed timemus ab hoc auxilio nos subtrahere. Et ideo timor filialis et spes sibi invicem cohaerent et se invicem perficiunt.
(88) Ad secundum dicendum quod proprium et principale obiectum timoris est malum quod quis refugit. Et per hunc modum Deus non potest esse obiectum timoris, sicut supra dictum est (a. 1). Est autem per hunc modum obiectum spei et aliarum virtutum theologicarum. Quia per virtutem spei non solum innitimur divino auxilio ad adipiscendum quaecumque alia bona; sed principaliter ad adipiscendum
ipsum Deum, tanquam principale bonum. Et idem patet in aliis virtutibus theologicis.
(89) Ad tertium dicendum quod ex hoc quod amor est principium timoris non sequitur quod timor Dei non sit habitus distinctus a caritate, quae est amor Dei, quia amor est principium omnium affectionum, et tamen in diversis habitibus perficimur circa diversas affectiones. Ideo tamen amor magis habet rationem virtutis quam timor, quia amor respicit bonum, ad quod principaliter virtus ordinatur secundum propriam rationem, ut ex supradic- tis patet (II-I, q. 55, a. 3, 4). Et propter hoc etiam spes ponitur virtus. Timor autem principaliter respicit malum, cuius fugam importat. Unde est aliquid minus virtute theologica.
(90) Ad quartum dicendum quod, sicut dicitur Eccli. X, initium superbiae hominis apostatare a Deo, hoc est nolle subdi Deo, quod opponitur timon filiali, qui Deum reveretur. Et sic timor excludit principium superbiae, propter quod datur contra superbiam. Nec tamen sequitur quod sit idem
222
Вопрос 19. О даре страха
тивоположно сыновнему страху, благодаря которому почитают Бога. Таким образом, страх устраняет начало гордыни, почему он и даруется как средство от гордыни. Однако из этого следует не то, что он тождественен добродетели смирения, но лишь то, что он является ее началом. В самом деле, как было показано выше (Ч. II-I, В. 68, Р. 4), дары Святого Духа являются началами интеллектуальных и моральных добродетелей. Однако теологические добродетели являются началами даров, как установлено выше (Ч. II-I, В. 68, Р. 4, на 3).
(91) И из этого очевиден ответ на пятое.
Раздел 10 Уменьшается ли страх с возрастанием любви-каритас
(92) Ход рассуждения в десятом разделе таков. Представляется, что с возрастанием любви-каритас страх уменьшается.
(93) 1. В самом деле, Августин говорит: Чем больше любовь-каритас, тем меньше страх.
(94) 2. Кроме того, с возрастанием надежды уменьшается страх. Но любовь-каритас возрастает с возрастанием надежды, как уже установлено выше (В. 17, Р. 8). Следовательно, с возрастанием любви-каритас страх уменьшается.
(95) 3. Кроме того, любовь подразумевает единение, а страх — разделение. Но чем больше единение, тем меньше разделение. Следовательно, при возрастании любви- каритас страх уменьшается.
(96) Но против: Августин говорит, что страх Божий является не только началом, но также и совершенством мудрости, той, посредством которой мы любим Бога и ближнего как себя самих.
(97) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечалось (Р. 2), страх бывает двух типов: сыновний, посредством которого страшатся нанесения оскорбления или отдаления от Бога, и рабский, посредством которого страшатся наказания. Но сыновний страх необходимо возрастает при возрастании любви-каритас, так же, как следствие усиливается при усилении причины, ведь чем больше человек любит кого-то, тем больше он боится его обидеть или отдалиться от него. А рабский страх, насколько это касается его «рабской» составляющей, при привхождении любви-каритас устраняется полностью, хотя страх перед наказанием сохраняется по свой субстанции, как уже сказано (Р. 6). И этот страх уменьшается с возрастанием любви-каритас, особенно в том, что касается действия,
cum virtute humilitatis, sed quod sit principium eius, dona enim spintus sancti sunt principia virtutum intellectualium et moralium, ut supra dictum est (q. 68, a. 4). Sed virtutes theologicae sunt principia donorum, ut supra habitum est (II-I, q. 68, a. 4, ad 3).
(91) Unde patet responsio ad quintum.
Articulus 10 Utrum crescente caritate diminuatur timor
(92) Ad decimum sic proceditur. Videtur quod crescente caritate diminuatur timor.
(93) 1. Dicit enim Augustinus, super Prim. Canonic. Ioan. (tr. 9 super 6, 18; PL 35, 2047), quantum caritas crescit, tantum timor decrescit.
(94) 2. Praeterea, crescente spe diminuitur timor. Sed crescente caritate crescit spes, ut supra habitum est (q. 17, a. 8). Ergo crescente caritate diminuitur timor.
(95) 3. Praeterea, amor importat unionem, timor autem separationem. Sed crescente unione diminuitur separatio. Ergo crescente amore caritatis diminuitur timor.
(96) Sed contra est quod dicit Augustinus, in libro Octoginta trium quaest. (36; PL 40, 26), quod Dei timor non solum inchoat, sed etiam perficit sapientiam, idest quae summe diligit Deum et proximum tanquam seipsum.
(97) Respondeo dicendum quod duplex est timor Dei, sicut dictum est (a. 2), unus quidem filialis, quo quis timet offensam ipsius vel separationem ab ipso; alius autem servilis, quo quis timet poenam. Timor autem filialis necesse est quod crescat crescente caritate, sicut effectus crescit crescente causa, quanto enim aliquis magis diligit aliquem, tanto magis timet eum offendere et ab eo separari. Sed timor servilis, quantum ad servilitatem, totaliter tollitur caritate adveniente, remanet tamen secundum substantiam timor poenae, ut dictum est (a. 6). Et iste timor diminuitur caritate crescente, maxime quantum ad actum, quia quanto aliquis magis diligit Deum, tanto minus timet poenam.
Раздел 11. Сохраняется ли страх в Небесном Отечестве
223
поскольку чем больше человек любит Бога тем меньше он страшится наказания. Во-первых, потому, что он меньше печется о собственном благе, которому противополагается наказание; во-вторых, потому, что тот, кто крепче держится Бога, больше уверен в награде и, следовательно, меньше страшится наказания.
(98) Итак, на первое надлежит ответить, что Августин говорит здесь о страхе наказания.
(99) На второе надлежит ответить, что страх наказания, действительно, уменьшается при возрастании надежды. Но по мере ее возрастания, возрастает и сыновний страх, поскольку чем больше человек уверен в возможности обретения некоего блага при помощи другого, тем больше он опасается обидеть его или отдалиться от него.
(юо) На третье надлежит ответить, что сыновний страх не подразумевает разделения: речь скорее идет о смирении перед Богом, и об избегании разделения в силу этого смирения. Впрочем, в некотором смысле этот страх все-таки подразумевает разделение, поскольку благодаря ему человек не дерзает равнять себя с Богом и, тем самым, подчиняется Ему. Однако такое разделение может иметь место даже в любви-каритас, постольку, поскольку че¬
ловек любит Бога больше, чем самого себя и все прочее. Поэтому возрастание любви- каритас подразумевает не убывание, а возрастание почтительного страха.
Раздел 11 Сохраняется ли страх в Небесном Отечестве
(юр Ход рассуждения в одиннадцатом разделе таков. Представляется, что в Небесном Отечестве страх не сохранится.
(102) 1. В самом деле, сказано (Притч 1, 33):
Будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. И это говорится о том, кто уже наслаждается мудростью в вечном блаженстве. Но любой страх — это страх перед неким злом, поскольку именно зло является объектом страха, как уже сказано (Р. 2, 5; Ч. II-I, В. 42, Р. 1). Следовательно, в Небесном Отечестве не будет никакого страха.
(юз) 2. Кроме того, в Отечестве люди уподобятся Богу, согласно сказанному (1 Ин 3, 2): Когда откроется, будем подобны Ему. Но Бог ничего не страшится. Следовательно, в Отечестве у людей не будет никакого страха.
(104) 3. Кроме того, надежда совершеннее
страха, поскольку она соотносится с благом, а страх — со злом. Но в Отечестве
Primo quidem, quia minus attendit ad proprium bonum, cui contranatur poena. Secundo, quia firmius inhaerens magis confidit de praemio, et per consequens minus timet de poena.
(98) Ad primum ergo dicendum quod Augustinus loquitur de timore poenae.
(99) Ad secundum dicendum quod timor poenae est qui diminuitur crescente spe. Sed ea crescente crescit timor filialis, quia quanto aliquis certius expectat alicuius boni consecutionem per auxilium alterius, tanto magis veretur eum offendere vel ab eo separari.
(100) Ad tertium dicendum quod timor filialis non importat separationem sed magis subiectionem ad ipsum, separationem autem refugit a subiectione ipsius. Sed quodammodo separationem importat per hoc quod non praesumit se ei adaequare, sed ei se subiicit. Quae etiam separatio invenitur in caritate, inquantum diligit Deum supra se et supra omnia. Unde amor caritatis augmentatus reverentiam timons non minuit, sed auget.
Articulus 11 Utrum timor remaneat in patria
(101) Ad undecimum sic proceditur. Videtur quod timor non remaneat in patria.
(102) 1. Dicitur enim Prov. I, abundantia petfruetur, timore malorum sublato, quod intelligitur de homine iam sapientia perfruente in beatitudine aeterna. Sed omnis timor est alicuius mali, quia malum est obiectum timons, ut supra dictum est (a. 2, 5; II-I, q. 42, a. 1). Ergo nullus timor ent in patria.
(103) 2. Praeterea, homines in patna erunt Deo conformes, secundum illud I Ioan. III, cum apparuerit, similes ei erimus. Sed Deus nihil timet. Ergo homines in patria non habebunt aliquem timorem.
(104) 3. Praeterea, spes est perfectior quam timor, quia spes est respectu boni, timor respectu mali. Sed spes non ent in patna. Ergo nec timor erit in patna.
224
Вопрос 19. О даре страха
надежды не будет. Следовательно, не будет и страха.
(105) Но против: сказано (Пс 18, 10): Страх Господень — чист, пребывает вовек.
(106) Отвечаю: надлежит сказать, что в Небесном Отечестве никоим образом не будет рабского страха, или страха перед наказанием, поскольку такой страх исключается безмятежностью вечного блаженства, которая, как уже было сказано (В. 18, Р. 3; Ч. II-I, В. 5, Р. 4), входит в его смысловое содержание. Что же касается сыновнего страха, то он как возрастает с возрастанием любви-каритас, так и совершенствуется благодаря ее совершенству. И потому его действие в Отечестве будет отличаться от того, каково оно теперь.
(107) Для того, чтобы это стало ясным, надлежит знать, что собственным объектом страха является возможное зло, так же как собственным объектом надежды является возможное благо. И поскольку движение страха есть своего рода избегание, постольку страх подразумевает избегание некоего большого возможного зла, так как малое зло не вызывает страха. Но как благо любой вещи заключается в ее пребывании в должном порядке, так и злом для нее является оставление этого порядка. При
этом порядок разумного творения заключается в том, что оно пребывает ниже Бога и выше всех остальных творений. Поэтому злом для разумного творения является как подчинение себя посредством любви какому-нибудь более низкому творению, так и неподчинение Богу, самонадеянное восстание против Него или презрение к Нему. Но подобное зло возможно для разумного творения, рассматриваемого сообразно его природе, вследствие природной изменчивости его свободного решения, а для блаженных подобное становится невозможным вследствие совершенства славы. Итак, избегание этого зла, которое заключается в неподчинении Богу, возможное по природе, будет невозможным для состояния блаженства в Небесном Отечестве. А в земной жизни избегание такого зла есть нечто вполне возможное.
(108) Поэтому Григорий, комментируя эти слова, столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его (Иов 26, 11), говорит: Силы небесные, которые непрерывно это видят, созерцая, трепещут. Однако этот их трепет не связан с виной, и вызван не страхом, а благоговением, поскольку они благоговеют перед величием и непостижимостью Бога. Также и Августин допускает на-
(105) Sed contra est quod dicitur in Psalm., timor domini sanctus permanet in saeculum.
(106) Respondeo dicendum quod timor servilis, sive timor poenae, nullo modo erit in patna, excluditur enim talis timor per securitatem aeternae beatitudims, quae est de ipsius beatitudinis ratione, sicut supra dictum est (q. 18, a. 3; II-I, q 5, a. 4) Timor autem filialis, sicut augetur augmentata cantate, ita caritate perfecta perficietur. Unde non habebit in patna omnino eundem actum quem habet modo.
(107) Ad cuius evidentiam sciendum est quod propnum obiectum timons est malum possibile, sicut proprium obiectum spei est bonum possibile. Et cum motus timons sit quasi fugae, importat timor fugam mali ardui possibilis, parva enim mala timorem non inducunt. Sicut autem bonum uniuscuiusque est ut in suo ordine consistat, ita malum uniuscuiusque est ut suum ordinem deserat. Ordo autem creaturae rationalis est ut sit sub Deo et supra ceteras creaturas. Unde sicut malum creaturae rationalis est ut subdat
se creaturae inferiori per amorem, ita etiam malum eius est si non Deo se subiiciat, sed in ipsum praesumptuose insiliat vel contemnat. Hoc autem malum creaturae rationali secundum suam naturam consideratae possibile est, propter naturalem liberi arbitrii flexibilitatem, sed in beatis fit non possibile per gloriae perfectionem. Fuga igitur huius mali quod est Deo non subiici, ut possibilis naturae, impossibilis autem beatitudini, erit in patria. In via autem est fuga huius mali ut omnino possibilis.
(108) Et ideo Gregonus dicit, XVII Moral. (29; PL 76, 31), exponens illud lob XXVI, columnae caeli contremiscunt et pavent ad nutum eius, ipsae, inquit, virtutes caelestium, quae hunc sine cessatione conspiciunt, in ipsa contemplatione contremiscunt. Sed idem tremor, ne eis poenalis sit, non timoris est sed admirationis, quia scilicet admirantur Deum ut supra se existentem et eis incomprehensibilem. Augustinus etiam, in XIV De civ. Dei (9; PL 41, 416), hoc modo ponit timorem in patria, quamvis hoc sub dubio derelinquat. Timor, inquit, ille castus permanens in saecu-
Раздел 11. Сохраняется ли страх в Небесном Отечестве
225
личие страха в Отечестве, хотя и испытывает определенные сомнения: Если это страх, чистый и «пребывающий вовек», будет и в грядущем веке, то он не будет страхом, пугающим злом, которое может случиться, а страхом, удерживающим в добре, которое не может быть оставлено. Там, где неизменная любовь к благу достигнутому, там существует страх, если можно так выразиться, свободный от опасения зла. И именем чистого страха названа, конечно, /720 яо которой мы, узяяя грех, дудел* не¬
обходимо остерегаться греха, «е вследствие опасения за свою слабость, которая могла бы расположить к греху, я яо чистоте любви. Или, есуш [е тол* вполне безмятежном наслаждении непрерывным счастьем и радостями] не будет иметь места решительно никакого рода страх, то, возможно, чистый страх назван «пребывающим вовек» потому, i/mo пребудет вовек то, к чему этот страх приводит.
(109) Итак, на первое надлежит ответить, что в приведенном авторитетном суждении отрицается наличие у блаженных того страха, который подразумевает тревогу и беспокойство по поводу [грозящего] зла, но не
того страха, который сочетается с безмятежностью, как говорит Августин.
(по) На второе надлежит ответить, что, как говорит Дионисий, одно и то же и подобно Богу, и неподобно: подобно в той мере, е /сякой возможно подражать неподражаемому, т. е. оно подобно настолько, насколько может подражать Богу, подражать Которому совершенным образом невозможно, неподобно же потому, что следствия уступают причине беспредельно и неизмеримо, никакими мерами не достигая ее. Следовательно, из того, что в Боге нет страха (поскольку нет ничего, что могло бы превзойти Его и подчинить себе), вовсе не следует, что нет страха и в блаженном, блаженство которого состоит в совершенном подчинении Богу.
(ni) На третье надлежит ответить, что надежда подразумевает некоторую нехватку, а именно, будущность блаженства, которая устраняется при его обретении. А страх подразумевает некий естественный недостаток творения, сообразно которому оно бесконечно отстоит от Бога; и этот недостаток сохранится и в Отечестве. Следовательно, страх не будет полностью устранен.
Ium saeculi, si erit in futuro saeculo, non erit timor exterrens a malo quod accidere potest; sed tenens in bono quod amitti non potest. Ubi enim boni adepti amor immutabilis est, profecto, si dici potest, mali cavendi timor securus est. Timoris quippe casti nomine ea voluntas significata est qua nos necesse erit nolle peccare, et non sollicitudine infirmitatis ne forte peccemus, sed tranquillitate caritatis cavere peccatum. Aut, si nullius omnino generis timor ibi esse poterit, ita fortasse timor in saeculum saeculi dictus est permanens, quia id permanebit quo timor ipse perducit.
(109) Ad primum ergo dicendum quod in auctoritate praedicta excluditur a beatis timor sollicitudinem habens, de malo praecavens, non autem timor securus, ut Augustinus dicit.
(110) Ad secundum dicendum quod, sicut dicit Dionysius, IX cap. De div. nom. (9; PG 3, 916), eadem et similia sunt Deo
et dissimilia, hoc quidem secundum contingentem non imitabilis imitationem, idest inquantum secundum suum posse imitantur Deum, qui non est perfecte imitabilis; hoc autem secundum hoc quod causata minus habent a causa, infinitis mensuris et incomparabilibus deficientia. Unde non oportet quod, si Deo non convenit timor, quia non habet superiorem cui subiiciatur, quod propter hoc non conveniat beatis, quorum beatitudo consistit in perfecta subiectione ad Deum.
(111) Ad tertium dicendum quod spes importat quendam defectum, scilicet futuritionem beatitudinis, quae tollitur per eius praesentiam. Sed timor importat defectum naturalem creaturae, secundum quod in infinitum distat a Deo, quod etiam in patria remanebit. Et ideo timor non evacuabitur totaliter.
226
Вопрос 19. О даре страха
Раздел 12 Действительно ли нищета духа является блаженством, соответствующим дару страха
(112) Ход рассуждения в двенадцатом разделе таков. Представляется, что нищета духа не является блаженством, соответствующим дару страха.
(из) 1. В самом деле, страх есть начало духовной жизни, как явствует из сказанного (Р. 7). А нищета относится к совершенству духовной жизни, согласно этим словам (Мф 19, 21): Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, и раздай нищим. Следовательно, как кажется, нищета духа не соответствует дару страха. (114) 2. Кроме того, сказано (Пс 118, 120):
Трепещет от страха Твоего плоть моя. И из этого, как кажется, следует, что страху свойственно обуздывать плоть. Но обуздание плоти, как кажется, относится главным образом к блаженству плача. Следовательно, дару страха соответствует скорее блаженство плача, а не блаженство нищеты.
(lis) 3. Кроме того, дар страха соответствует добродетели надежды, как уже было сказано (Р. 9, на 1). Но, как кажется, надежде соответствует прежде всего последнее блаженство, а именно: Блаженны миротвор¬
цы — ибо они будут наречены «сынами Бо- жиими», поскольку мы прославляемся надеждою славы сынов Божиих (Рим 5, 2). Следовательно, дару страха скорее соответствует это блаженство, а не блаженство нищеты духа.
(116) 4. Кроме того, выше было сказано (Ч. II-I, В. 70, Р. 2), что блаженствам соответствуют плоды. Но среди плодов не обнаруживается ничего, что соответствовало бы дару страха. Следовательно, ему также не соответствует ни одно из блаженств.
(117) Но против: Августин говорит: Страх Господень подобает смиренным, о которых сказано: «Блаженны нищие духом».
(lis) Отвечаю: надлежит сказать, что страху должным образом соответствует нищета духа. В самом деле, поскольку к сыновнему страху относится благоговение перед Богом и подчинение Ему, постольку все, что проистекает из этого смирения, также относится к дару страха. Но из того, что человек подчиняется Богу, следует, что он не ищет величия ни в себе, ни в ком- либо другом, но только в Боге, ведь иначе подчинение не было бы совершенным. И потому сказано (Пс 19, 8): Иные — колесницами, иные — конями, а мы именем
Articulus 12 Utram paupertas spiritus sit beatitudo respondens dono timoris
(112) Ad duodecimum sic proceditur. Videtur quod paupertas spiritus non sit beatitudo respondens dono timons.
(113) 1. Timor enim est initium spiritualis vitae, ut ex dictis patet (a. 7). Sed paupertas pertinet ad perfectionem vitae spiritualis, secundum illud Matth. XIX, si vis perfectus esse, vade et vende omnia quae habes, et da pauperibus. Ergo paupertas spiritus non respondet dono timoris.
(114) 2. Praeterea, in Psalm, dicitur, confige timore tuo carnes meas, ex quo videtur quod ad timorem pertineat carnem reprimere. Sed ad repressionem camis maxime videtur pertinere beatitudo luctus. Ergo beatitudo luctus magis respondet dono timoris quam beatitudo paupertatis.
(115) 3. Praeterea, donum timoris respondet virtuti spei, sicut dictum est (a. 9, ad 1). Sed spei maxime videtur respondere beatitudo ultima, quae est, beati pacifici, quoniam filii Dei
vocabuntur, quia, ut dicitur Rom. V, gloriamurin spe gloriae filiorum Dei. Ergo illa beatitudo magis respondet dono timoris quam paupertas spiritus.
(116) 4. Praeterea, supra dictum est (II-I, q. 70, a. 2) quod beatitudinibus respondent fructus. Sed nihil in fructibus invenitur respondere dono timoris. Ergo etiam neque in beatitudinibus aliquid ei respondet.
(117) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De serm. Dom. in mont. (1, c. 4; PL 34, 1234), timor Dei congruit humilibus, de quibus dicitur, beati pauperes spiritu.
(118) Respondeo dicendum quod timori proprie respondet paupertas spiritus. Cum enim ad timorem filialem pertineat Deo reverentiam exhibere et ei subditum esse, id quod ex huiusmodi subiectione consequitur pertinet ad donum timoris. Ex hoc autem quod aliquis Deo se subiic- it, desimt quaerere in seipso vel in aliquo alio magnificari nisi in Deo, hoc enim repugnaret perfectae subiectioni ad Deum. Unde dicitur in Psalm., hi in curribus et hi in equis, nos autem in nomine Dei nostri invocabimus. Et ideo ex hoc
Раздел 12. Соответствует ли нищета духа дару страха
227
Господа, Бога нашего, хвалимся. Поэтому человек, чей страх перед Богом совершенен, не стремиться возвеличиться ни через свою собственную гордыню, ни через посредство внешних благ, а именно почестей и богатства. Но и первое, и второе относится к нищете духа сообразно тому, что та подразумевает либо истощение духа гордости и самомнения, как толкует ее Августин, либо отречение от временных вещей духом своим, т. е. по собственной воле сообразно побуждению Святого Духа, как поясняют Амвросий и Иероним.
(i 19) Итак, на первое надлежит ответить, что поскольку блаженство является действием совершенной добродетели, постольку все блаженства относятся к совершенству духовной жизни. Но начало этого совершенства, как кажется, заключается в том, чтобы стремящийся к совершенной причастности духовным благам презрел земные блага, так как страх занимает первое место среди даров. Однако презрение к земному есть не само совершенство, но лишь путь к нему; сыновний же страх, которому соответствует блаженство нищеты, совместим с совершенством мудрости, как уже сказано выше (Р. 7).
(120) На второе надлежит ответить, что недолжное возвеличивание человека в самом себе или в иных вещах в большей степени противоречит подчинению Богу, которое производит сыновний страх, нежели внешнее удовольствие. Однако внешнее удовольствие опосредованно противополагается страху: потому что тот, кто боится Бога и подчиняется Ему, не ищет наслаждения ни в чем, помимо Бога. Но внешнее удовольствие, в отличие от возвеличивания, не имеет смыслового содержания трудности, с которой соотносится страх. И потому блаженство нищеты соответствует страху непосредственно, а блаженство плача — опосредованно.
(121) На третье надлежит ответить, что надежда подразумевает движение «в сторону к» пределу, к которому стремятся, а страх подразумевает движение «в сторону от» предела. И потому предельное блаженство, которое является пределом духовного совершенства, должным образом соответствует надежде как ее предельный объект; но первое блаженство, которое достигается через удаление от внешних вещей, препятствующих подчинению Богу, должным образом соответствует страху.
quod aliquis perfecte timet Deum, consequens est quod non quaerat magnificari in seipso per superbiam; neque etiam quaerat magnifican in exterioribus bonis, scilicet hononbus et divitiis; quorum utrumque pertinet ad paupertatem spiritus, secundum quod paupertas spiritus intelligi potest vel exinanitio inflati et superbi spiritus, ut Augustinus exponit (De serm. Dom. in mont., 1, 4; PL 34, 1231); vel etiam abiectio temporalium rerum quae fit spiritu, idest propria voluntate per instinctum spiritus sancti, ut Ambrosius (In Luc. 4 super 6, 29; PL 15, 1735) et Hieronymus (In Matth. 2 super 5, 3; PL 26, 34) exponent.
(119) Ad primum ergo dicendum quod, cum beatitudo sit actus virtutis perfectae, omnes beatitudines ad perfectionem spiritualis vitae pertinent. In qua quidem perfectione principium esse videtur ut tendens ad perfectam spiritualium bonorum participationem terrena bona contemnat, sicut etiam timor primum locum habet in donis. Non autem consistit perfectio in ipsa temporalium desertione, sed haec est via ad perfectionem. Timor autem filialis, cui respondet
beatitudo paupertatis, etiam est cum perfectione sapientiae, ut supra dictum est (a. 7).
(120) Ad secundum dicendum quod directius opponitur subiec- tiom ad Deum, quam facit timor filialis, indebita magnificatio hominis vel in seipso vel in aliis rebus quam delectatio extranea. Quae tamen opponitur timon ex consequenti, quia qui Deum reveretur et ei subiicitur, non delectatur in aliis a Deo. Sed tamen delectatio non pertinet ad rationem ardui, quam respicit timor, sicut magnificatio. Et ideo directe beatitudo paupertatis respondet timori, beatitudo autem luctus ex consequenti.
(121) Ad tertium dicendum quod spes importat motum secundum habitudinem ad terminum ad quem tenditur, sed timor importat magis motum secundum habitudinem recessus a termino. Et ideo ultima beatitudo, quae est spiritualis perfectionis terminus, congrue respondet spei per modum obiecti ultimi, sed prima beatitudo, quae est per recessum a rebus exterioribus impedientibus divinam subiectionem, congrue respondet timori.
228 Вопрос 19. О даре страха
(122) На четвертое надлежит ответить, что среди плодов дару страха, как представляется, соответствуют те, которые связаны или с умеренностью в пользовании
временными вещами, или с воздержанием от них; и таковы умеренность, воздержание и целомудрие.
(122) Ad quartum dicendum quod in fructibus illa quae perti- ralibus, videntur dono timoris convenire, sicut modestia,
nent ad moderatum usum vel abstinentiam a rebus tempo- continentia et castitas.
Вопрос 20
Об отчаянии
Затем надлежит рассмотреть противоположные надежде пороки. И во-первых, отчаяние, а во-вторых, самоуверенность (В. 21). И касательно первого исследуются четыре [проблемы]: 1) является ли отчаяние грехом; 2) может ли оно иметь место без неверия; 3) является ли оно наибольшим грехом; 4) возникает ли отчаяние из уныния.
Раздел 1 Является ли отчаяние грехом
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что отчаяние не является грехом.
(3) 1. В самом деле, любой грех предполагает обращение к изменчивому благу вкупе с отвращением от неизменного блага, как явствует из слов Августина. Но отчаяние не предполагает обращения к изменчивому благу. Следовательно, оно не является грехом.
(4) 2. Кроме того, то, что произрастает
из благого корня, как кажется, не является грехом, поскольку не может дерево доброе приносить плоды худые (Мф 7, 18). Но отчаяние, судя по всему, произрастает из благого корня, т. е. из страха Божия или из ужаса от тяжести собственных грехов. Следовательно, отчаяние не является грехом.
(5) 3. Кроме того, если бы отчаяние было грехом, в проклятых был бы грех отчаяния. Но отчаяние не вменяется им в вину; скорее оно — часть наказания. Следовательно, он не должен вменяться в вину и тем, кто живет земной жизнью. Следовательно, отчаяние не является грехом.
(6) Но против: то, что приводит людей к греху, является, судя по всему, не просто грехом, но началом грехов. Но отчаяние таково, ибо апостол говорит (Еф 4, 19), что они, отчаявшись, предались распутству так, что делают всякую нечистоту и ненасытность. Следовательно, отчаяние есть не только грех, но и начало других грехов.
Quaestio 20 De desperatione
(1) Deinde considerandum est de vitiis oppositis. Et pn- mo, de desperatione; secundo, de praesumptione. Circa primum quaeruntur quatuor. Pnmo, utrum desperatio sit peccatum Secundo, utrum possit esse sine infidelitate Tertio, utrum sit maximum peccatorum. Quarto, utrum oriatur ex acedia.
Articulus 1 Utrum desperatio sit peccatum
(2) Ad primum sic proceditur Videtur quod desperatio non sit peccatum.
(3) 1. Omne enim peccatum habet conversionem ad commutabile bonum cum aversione ab incommutabili bono; ut patet per Augustinum, in lib. De lib arb. (16; PL 32, 1240). Sed desperatio non habet conversionem ad commutabile bonum. Ergo non est peccatum.
(4) 2 Praeterea, illud quod oritur ex bona radice non vide¬
tur esse peccatum, quia non potest arbor bona fructus malos facere, ut dicitur Matth. VII. Sed desperatio videtur procedere ex bona radice, scilicet ex timore Dei, vel ex horrore magnitudinis propriorum peccatorum. Ergo desperatio non est peccatum.
(5) 3. Praeterea, si desperatio esset peccatum, in damnatis esset peccatum quod desperant. Sed hoc non imputatur eis ad culpam, sed magis ad damnationem. Ergo neque viatoribus imputatur ad culpam. Et ita desperatio non est peccatum.
(6) Sed contra, illud per quod homines in peccata inducuntur videtur esse non solum peccatum, sed pnncipium peccatorum. Sed desperatio est huiusmodi, dicit enim apostolus de quibusdam, ad Ephes. IV, qui desperantes semetipsos tradiderunt impudicitiae in operationem omnis immunditiae et avaritiae. Ergo desperatio non solum est
230
Вопрос 20. Об отчаянии
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что, согласно Философу, то, что в разуме является утверждением и отрицанием, в желании является преследованием и избеганием, а то, что в разуме является истиной и ложью, в желании является добром и злом. Поэтому всякое движение желания, сообразующееся с правильно разумеющим умом, само по себе есть благо, а всякое движение желания, сообразующееся с ложно разумеющим умом, само по себе есть зло и грех. Но правильное представление разума о Боге заключается в том, что от Него происходит всякое спасение людей и прощение грешников, согласно этим словам (Иез 33, 11): Хочу не смерти грешника, но чтобы грешник обратился [от пути своего] и жив был. А ложное представление заключается в том, что Он не прощает раскаивающегося грешника, или что Он не обращает грешников к себе, освящая их благодатью. Поэтому как движение надежды, сообразующееся с истинным представлением, является добродетельным и похвальным, так и противоположное ему движение отчаяния, сообразующееся с ложным представлением о Боге, порочно и греховно.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что в любом смертном грехе имеются определенное отвращение от неизменного блага и определенное обращение к благу изменчивому, но по-разному. Ведь в отвращении от неизменного блага заключаются прежде всего те грехи, которые противополагаются теологическим добродетелям, поскольку их объектом является Бог. И таковые грехи суть, например, ненависть к Богу, отчаяние и неверие. И они предполагают обращение к изменчивому благу опосредованно, постольку, поскольку душа, отвращаясь от Бога, необходимо обращается на что-то еще. Прочие же грехи заключаются главным образом в обращении к изменчивому благу, а от неизменного блага они отвращают опосредованно. Так, прелюбодей желает не отвратиться от Бога, а насладиться чувственным удовольствием, но оно отвращает его от Бога.
(9) На второе надлежит ответить, что о произрастании из благого корня можно говорить в двух смыслах. Во-первых, непосредственно со стороны добродетели, как действие проистекает из хабитуса; и в этом смысле из благого корня добродетели не может произрасти никакой грех, отчего Ав-
peccatum, sed aliorum peccatorum pnncipium.
(7) Respondeo dicendum quod secundum philosophum, in VI Ethic. (2; 1139a21—27):, id quod est in intellectu affirmatio vel negatio est in appetitu prosecutio et fuga, et quod est in intellectu verum vel falsum est in appetitu bonum et malum. Et ideo omnis motus appetitivus con- formiter se habens intellectui vero, est secundum se bonus, omnis autem motus appetitivus conformiter se habens intellectui falso, est secundum se malus et peccatum. Circa Deum autem vera existimatio intellectus est quod ex ipso provenit hominum salus, et venia peccatoribus datur; secundum illud Ezech. XVIII, nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat. Falsa autem opinio est quod peccatori poenitenti veniam deneget, vel quod peccatores ad se non convertat per gratiam iustificantem. Et ideo sicut motus spei, qui conformiter se habet ad existimationem veram, est laudabilis et virtuosus; ita oppositus motus desperationis, qui se habet conformiter existimationi falsae de Deo, est vitiosus et peccatum.
(8) Ad primum ergo dicendum quod in quolibet peccato mortali est quodammodo aversio a bono incommutabili et conversio ad bonum commutabile, sed aliter et aliter. Nam principaliter consistunt in aversione a bono incommutabili peccata quae opponuntur virtutibus theologicis, ut odium Dei, desperatio et infidelitas, quia virtutes theologicae habent Deum pro obiecto, ex consequenti autem important conversionem ad bonum commutabile, inquantum anima deserens Deum consequenter necesse est quod ad alia convertatur. Peccata vero alia principaliter consistunt in conversione ad commutabile bonum, ex consequenti vero in aversione ab incommutabili bono, non enim qui fornicatur intendit a Deo recedere, sed carnali delectatione frui, ex quo sequitur quod a Deo recedat.
(9) Ad secundum dicendum quod ex radice virtutis potest aliquid procedere dupliciter. Uno modo, directe ex parte ipsius virtutis, sicut actus procedit ex habitu, et hoc modo ex virtuosa radice non potest aliquod peccatum procedere; hoc enim sensu Augustinus dicit, in libro De lib. arb.
Раздел 2. Может ли отчаяние иметь место без неверия
231
густин и говорит, что никто не пользуется добродетелью дурно. Во-вторых, нечто может проистекать из добродетели опосредованно или случайно; и в этом смысле ничто не препятствует тому, чтобы грех происходил из добродетели. Так, подчас добродетели побуждают людей гордиться собой, согласно этим словам Августина: Гордость благими делами выжидает момента, когда сможет их погубить. И в этом смысле страх Божий или ужас от тяжести своих грехов может привести к отчаянию: настолько, насколько человек использует во зло эти благие вещи, извлекая из них повод для отчаяния.
(ю) На третье надлежит ответить, что проклятые не могут иметь надежды по причине невозможности для них возврата к блаженству. И потому отсутствие надежды не вменяется им в вину, а является частью проклятия. И точно так же людям в земной жизни не может вменяться в вину, если они отчаиваются обрести то, чего они не могут достичь по природе, или то, что им не полагается обрести (например, когда врач отчаивается излечить больного или когда некто отчаивается разбогатеть).
Раздел 2 Может ли отчаяние иметь место без неверия
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что отчаяние не может иметь места без неверия.
(12) 1. В самом деле, уверенность надежды берет начало в вере. Но при сохранении причины сохраняется и следствие. Итак, если вера сохраняется, человек не может утратить уверенность надежды.
(13) 2. Кроме того, предпочесть свою вину милости или благости Божией значит отрицать бесконечность милости или благости Божией, что и есть неверие. Но всякий отчаявшийся ставит свою собственную вину выше милости или благости Божией, согласно сказанному (Быт 4, 13): Преступление мое — больше, нежели можно простить. Следовательно, всякий отчаявшийся является неверующим.
(и) 3. Кроме того, тот, кто впал в осуж¬
денную ересь, является неверным. Но отчаявшиеся, как кажется, впадают в осужденную ересь, а именно, в ересь новатиан, которые говорят, что совершенные после крещения грехи не подлежат прощению. Следовательно, как кажется, отчаявшийся является неверующим.
(2, с. 18; PL 32, 1267; с. 19; PL 32, 1268), quod virtute пето male utitur. Alio modo procedit aliquid ex virtute indirecte sive occasionaliter. Et sic nihil prohibet aliquod peccatum ex aliqua virtute procedere, sicut interdum de virtutibus aliqui superbiunt, secundum illud Augustini (Epist. 211 De reg.; PL 33, 960), superbia bonis operibus insidiatur ut pereant. Et hoc modo ex timore Dei vel ex horrore propriorum peccatorum contingit desperatio, inquantum his bonis aliquis male utitur, occasionem ab eis accipiens desperandi.
(10) Ad tertium dicendum quod damnati non sunt in statu sperandi, propter impossibilitatem reditus ad beatitudinem. Et ideo quod non sperant non imputatur eis ad culpam, sed est pars damnationis ipsorum. Sicut etiam in statu viae si quis desperaret de eo quod non est natus adipisci, vel quod non est debitum adipisci, non esset peccatum, puta si medicus desperat de curatione alicuius infirmi, vel si aliquis desperat se fore divitias adepturum.
Articulus 2 Utrum desperatio sine infidelitate esse possit
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod desperatio sine infidelitate esse non possit.
(12) 1. Certitudo enim spei a fide derivatur. Sed manente causa non tollitur effectus. Ergo non potest aliquis certitudinem spei amittere desperando nisi fide sublata.
(13) 2. Praeterea, praeferre culpam propnam bonitati vel misericordiae divinae est negare infinitatem divinae misericordiae vel bonitatis, quod est infidelitatis. Sed qui desperat culpam suam praefert misericordiae vel bonitati divinae, secundum illud Gen. IV, maior est iniquitas mea quam ut veniam merear. Ergo quicumque desperat est infidelis.
(14) 3. Praeterea, quicumque incidit in haeresim damnatam est infidelis. Sed desperans videtur incidere in haeresim damnatam, scilicet Novatianorum, qui dicunt peccata non remitti post Baptismum. Ergo videtur quod quicumque desperat sit infidelis.
232
Вопрос 20. Об отчаянии
(15) Но против: при устранении последующего предшествующее сохраняется. Но вера, как было сказано выше (В. 17, Р. 7), предшествует надежде. Следовательно, после устранения надежды вера может сохраниться. Следовательно, не всякий отчаявшийся является неверующим.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что неверие относится к разуму, а отчаяние — к желающей способности. Но разум соотносится с общим, а желание обращено на единичное, ведь движение желания направлено от души к вещам, которые сами по себе единичны. Но бывает так, что человек, имея правильное представление об общем, неверно расположен относительно движения желания из-за того, что его представления о частном искажены, ведь, как сказано в III книге «О душе», от общего представления мы должны переходить к желанию единичной вещи посредством частного представления (подобно тому, как вывести частное заключение из общего суждения можно только приняв некую частную посылку). По этой причине человек, обладающий правильной верой в общем, может иногда ошибаться в движении своего желания в отношении единичного, если его частное представление искажено хаби-
тусом или страстью. Так, например, прелюбодей, выбирая прелюбодеяние как то, что является для него благом в данный момент, обладает искаженным представлением о частном, хотя в общем он может обладать и истинным, согласным с верой, представлением, что прелюбодеяние — смертный грех. И точно так же некий человек, сохраняя общее истинное представление, соответствующее вере, а именно, что в Церкви возможно отпущение грехов, может претерпевать движение отчаяния, если он обладает искаженным представлением о том, что у него в таком вот его частном состоянии нет надежды на прощение. И в этом смысле отчаяние может иметь место и без неверия, как и другие смертные грехи.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что следствие устраняется не только с устранением первичной причины, но и с устранением причины вторичной. Поэтому движение надежды может быть устранено не только с устранением общего представления веры, которое является как бы первичной причиной уверенности надежды, но также и с устранением частного представления, которое является как бы вторичной причиной.
(15) Sed contra est quod remoto posteriori non removetur prius. Sed spes est posterior fide, ut supra dictum est (q. 17, a. 7). Ergo remota spe potest remanere fides. Non ergo quicumque desperat est infidelis.
(16) Respondeo dicendum quod infidelitas pertinet ad intellectum, desperatio vero ad vim appetitivam. Intellectus autem universalium est, sed vis appetitiva movetur ad particularia, est enim motus appetitivus ab anima ad res, quae in seipsis particulares sunt. Contingit autem aliquem habentem rectam existimationem in universali circa motum appetitivum non recte se habere, corrupta eius aestimatione in particulari, quia necesse est quod ab aestimatione in universali ad appetitum rei particularis perveniatur mediante aestimatione particulari, ut dicitur in III De anima (Aristot., 9; 434al9); sicut a propositione universali non infertur conclusio particularis nisi assumendo particularem. Et inde est quod aliquis habens rectam fidem in universali deficit in motu appetitivo circa particulare, corrupta particulari eius aestimatione per habitum vel per
passionem. Sicut ille qui fornicatur, eligendo fornicationem ut bonum sibi ut nunc, habet corruptam aestimationem in particulari, cum tamen retineat universalem aestimationem veram secundum fidem, scilicet quod fornicatio sit mortale peccatum. Et similiter aliquis, retinendo in universali veram aestimationem fidei, scilicet quod est remissio peccatorum in Ecclesia, potest pati motum desperationis, quasi sibi in tali statu existenti non sit sperandum de vema, corrupta aestimatione eius circa particulare. Et per hunc modum potest esse desperatio sine infidelitate, sicut et alia peccata mortalia
(17) Ad primum ergo dicendum quod effectus tollitur non solum sublata causa pnma, sed etiam sublata causa secunda. Unde motus spei auferri potest non solum sublata universali aestimatione fidei, quae est sicut causa prima certitudinis spei; sed etiam sublata aestimatione particulari, quae est sicut secunda causa.
Раздел 3. Действительно ли отчаяние является наибольшим грехом
233
(18) На второе надлежит ответить, что если некто отрицает в общем, что милосердие Божие бесконечно, то он является неверующим. Но отчаявшийся полагает иначе, а именно, что для него в этом вот его состоянии в силу некоей частной предрасположенности нет никакой надежды на милосердие Божие.
(19) И то же самое надлежит ответить на третье, а именно, что новатиане отрицали возможность того, что Церковь отпускает грехи, в общем.
Раздел 3
Действительно ли отчаяние является наибольшим грехом
(20) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что отчаяние не является наибольшим грехом.
(21) 1. В самом деле, отчаяние может иметь место без неверия, как уже сказано выше (Р. 2). Но наибольшим грехом является неверие, поскольку оно уничтожает фундамент духовного здания. Следовательно, отчаяние не является наибольшим грехом.
(22) 2. Кроме того, как говорит Философ
в VIII книге «Этики», большему благу противоположно большее зло. Но, как сказано в Писании, любовь больше надежды
(1 Кор 13, 13). Следовательно, ненависть к Богу является большим грехом, чем отчаяние.
(23) 3. Кроме того, в грехе отчаяния присутствует только неупорядоченное отвращение от Бога, тогда как в других грехах присутствует не только неупорядоченное отвращение от Бога, но и неупорядоченное обращение. Следовательно, грех отчаяния не тяжелее, но легче других грехов.
(24) Но против: наиболее тяжким, судя по всему, является неисцелимый грех, согласно этим словам (Иер 30, 12): Рана твоя — неисцелъна, язва твоя — жестока. Но грех отчаяния неисцелим, согласно сказанному (Иер 15, 18): Рана моя так неисцелъна, что отвергает врачевание. Следовательно, отчаяние является тяжелейшим грехом.
(25) Отвечаю: надлежит сказать, что те грехи, которые противоположны теологическим добродетелям, по своему роду тяжелее других. В самом деле, коль скоро объектом теологических добродетелей является Бог, то противоположные им грехи предполагают — непосредственно и главным образом — отвращение от Бога. Но любой смертный грех тяжек и обладает смысловым содержанием зла из-за отвращения от Бога, ведь если бы речь шла
(18) Ad secundum dicendum quod si quis in universali aestimaret misericordiam Dei non esse infinitam, esset infidelis Hoc autem non existimat desperans, sed quod sibi in statu illo, propter aliquam particularem dispositionem, non sit de divina misericordia sperandum.
(19) Et similiter dicendum ad tertium quod Novatiani in universali negant remissionem peccatorum fieri in Ecclesia.
Articulus 3 Utrum desperatio sit maximum peccatorum
(20) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod desperatio non sit maximum peccatorum.
(21) 1 Potest enim esse desperatio absque infidelitate, sicut dictum est (a. 2). Sed infidelitas est maximum peccatorum, quia subruit fundamentum spiritualis aedificii. Ergo desperatio non est maximum peccatorum.
(22) 2. Praeterea, maion bono maius malum opponitur; ut patet per philosophum, in VIII Ethic. (10; Il60b9). Sed
cantas est maior spe, ut dicitur I Cor. XIII. Ergo odium est maius peccatum quam desperatio.
(23) 3 Praeterea, in peccato desperationis est solum inordinata aversio a Deo. Sed in aliis peccatis est non solum aversio inordinata, sed etiam inordinata conversio. Ergo peccatum desperationis non est gravius, sed minus aliis.
(24) Sed contra, peccatum insanabile videtur esse gravissimum, secundum illud Ierem. XXX, insanabilis fractura tua, pessima plaga tua. Sed peccatum desperationis est insanabile, secundum illud Ierem. XV, plaga mea desperabilis renuit curari Ergo desperatio est gravissimum peccatum.
(25) Respondeo dicendum quod peccata quae opponuntur virtutibus theologicis sunt secundum suum genus aliis peccatis graviora. Cum enim virtutes theologicae habeant Deum pro obiecto, peccata eis opposita important directe et pnncipaliter aversionem a Deo. In quolibet autem peccato mortali principalis ratio mali et gravitas est ex hoc quod avertit a Deo, si enim posset esse conversio ad bonum commutabile sine aversione a Deo, quamvis esset
234
Вопрос 20. Об отчаянии
о простом обращении к изменчивому благу, пусть даже и неупорядоченному, без отвращения от Бога, этот грех не был бы смертным грехом. Следовательно, тот грех, который первично и по самой своей природе подразумевает отвращение от Бога, является наиболее тяжким из всех смертных грехов. Итак, теологическим добродетелям противополагаются неверие, отчаяние и ненависть к Богу. И из них неверие и ненависть в сравнении с отчаянием сами по себе, т. е. сообразно смысловому содержанию своего вида, являются более тяжелыми. В самом деле, неверие происходит из того, что человек не верит самой истине Божией, ненависть к Богу возникает потому, что человеческая воля противопоставляет себя самой божественной благости, а причина отчаяния в том, что человек перестает надеяться на причастность божественной благости. Из этого ясно, что неверие и ненависть к Богу противополагаются Богу как Он есть сам по себе, в то время как отчаяние противополагается Ему лишь в отношении нашей причастности Его благу. Поэтому в строгом смысле слова неверие в истину Божию и ненависть к Богу являются более тяжкими грехами, нежели отсутствие надежды
на обретение от Него славы.
(26) Однако если сравнивать отчаяние с двумя другими грехами со стороны нас самих, то тогда наиболее опасным грехом будет именно отчаяние, поскольку надежда отдаляет нас от зла и склоняет к благу, и потому люди, лишившись надежды, прекращают совершать благие поступки и отдаются пороку. Поэтому глосса на эти слова (Притч 24, 10), если ты впал в отчаяние в день бедствия, то бедна сила твоя1, утверждает: Нет ничего губительнее отчаяния, поскольку отчаявшийся теряет упорство как в обыденных трудах этой жизни, так и — что куда хуже — в битве за веру. И Исидор говорит: Совершить преступление значит убить душу, а отчаяться значит спуститься в ад.
(27) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 4 Действительно ли отчаяние происходит из уныния
(28) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что отчаяние не происходит из уныния.
inordinata, non esset peccatum mortale. Et ideo illud quod primo et per se habet aversionem a Deo est gravissimum inter peccata mortalia. Virtutibus autem theologicis opponuntur infidelitas, desperatio et odium Dei. Inter quae odium et infidelitas, si desperationi comparentur, invenientur secundum se quidem, idest secundum rationem propriae speciei, graviora. Infidelitas enim provenit ex hoc quod homo ipsam Dei veritatem non credit; odium vero Dei provenit ex hoc quod voluntas hominis ipsi divinae bonitati contrariatur; desperatio autem ex hoc quod homo non sperat se bonitatem Dei participare. Ex quo patet quod infidelitas et odium Dei sunt contra Deum secundum quod in se est; desperatio autem secundum quod eius bonum participatur a nobis. Unde maius peccatum est, secundum se loquendo, non credere Dei veritatem, vel odire Deum, quam non sperare consequi gloriam ab ipso.
(26) Sed si comparetur desperatio ad alia duo peccata ex parte nostra, sic desperatio est periculosior, quia per spem
revocamur a malis et introducimur in bona prosequenda; et ideo, sublata spe, irrefrenate homines labuntur in vitia, et a bonis laboribus retrahuntur. Unde super illud Proverb. XXIV, si desperaveris lapsus in die angustiae, minuetur fortitudo tua, dicit Glossa (ordin.), nihil est execra- bilius desperatione, quam qui habet et in generalibus huius vitae laboribus, et, quod peius est, in fidei certamine constantiam perdit. Et Isidorus dicit, in libro De summo bono (Sent., 2, с. 14; PL 83, 617), perpetrare flagitium aliquod mors animae est, sed desperare est descendere in Infernum.
(27) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 4 Utram desperatio ex acedia oriatur
(28) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod desperatio ex acedia non oriatur.
Раздел 4. Действительно ли отчаяние происходит из уныния
235
(29) 1. В самом деле, одно и то же не про- (32) Но против: Григорий перечисляет отчая-
исходит из различных причин. Но человек ние среди того, что происходит из уныния, отчаивается в будущей жизни из-за похо- (зз) Отвечаю: надлежит сказать, что, как
ти, как говорит Григорий. Следовательно, отчаяние не происходит из уныния.
(30) 2. Кроме того, как надежда противоположна отчаянию, так же духовная радость противоположна унынию. Но духовную радость порождает надежда, согласно этим словам (Рим 12, 12): Возрадуйтесь надеждою. Следовательно, уныние происходит из отчаяния, а не наоборот.
(31) 3. Кроме того, противоположные причины относятся к противоположному. Но надежда, которой противоположно отчаяние, происходит, как кажется, из рассмотрения божественных благодеяний, и прежде всего воплощения. В самом деле, как говорит Августин, что было более необходимо для зарождения в нас надежды, чем показать нам, как Бог любит нас? Но можно ли найти более очевидное свидетельство этой любви, чем то, что Сын Божий счел возможным стать соучастником нашей природы? Следовательно, отчаяние возникает скорее из нежелания думать об этом, нежели из уныния.
уже говорилось выше (В. 17, Р. 1; Ч. II-I, В. 40, Р. 1), объектом надежды является некое труднодостижимое благо, которого можно достичь либо самостоятельно, либо при помощи другого. Соответственно, в человеке может отсутствовать надежда на обретение блаженства в силу двух обстоятельств: во-первых, потому, что он не рассматривает его как труднодостижимое благо, во-вторых, потому, что он считает, что его нельзя достичь, самостоятельно или при помощи другого. И то, что духовные блага не рассматриваются как блага (или как большие блага), случается в основном потому, что аффект человека заражается любовью к телесным удовольствиям, среди которых главными являются удовольствия, связанные с половым сношением, и именно из-за желания этих удовольствий бывает так, что человек забывает о духовных благах, и не надеется на них как на некие труднодостижимые блага. И сообразно этому причиной отчаяния является похоть.
(29) 1. Idem enim non procedit ex diversis causis. Desperatio (32) autem futuri saeculi procedit ex luxuria; ut dicit Gregorius, XXXI Moral. (45; PL 76, 621). Non ergo procedit ex acedia.
(30) 2. Praeterea, sicut spei opponitur desperatio, ita gaudio spintuali opponitur acedia. Sed gaudium spirituale procedit ex spe, secundum illud Rom XII, spe gaudentes.
Ergo acedia procedit ex desperatione, et non e converso.
(31) 3. Praeterea, contrariorum contrariae sunt causae. Sed spes, cui opponitur desperatio, videtur procedere ex consideratione divinorum beneficiorum, et maxime ex consideratione incarnationis, dicit enim Augustinus, XII De Trin.
(10; PL 42, 1024), nihil tam necessarium fuit ad erigendum spem nostram quam ut demonstraretur nobis quantum nos Deus diligeret. Quid vero huius rei isto indicio manifestius, quam quod Dei filius naturae nostrae dignatus est inire consortium? Ergo desperatio magis procedit ex negligentia huius considerationis quam ex acedia.
Sed contra est quod Gregorius, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), desperationem enumerat inter ea quae procedunt ex acedia.
(33) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (q. 17, a. 1; II-I, q. 40, a. 1), obiectum spei est bonum arduum possibile vel per se vel per alium. Dupliciter ergo potest in aliquo spes deficere de beatitudine obtinenda, uno modo, quia non reputat eam ut bonum arduum; alio modo, quia non reputat eam ut possibilem adipisci vel per se vel per alium. Ad hoc autem quod bona spiritualia non sapiunt nobis quasi bona, vel non videantur nobis magna bona, praecipue perducimur per hoc quod affectus noster est infectus amore delectationum corporalium, inter quas praecipuae sunt delectationes venereae, nam ex affectu harum delectationum contingit quod homo fastidit bona spiritualia, et non sperat ea quasi quaedam bona ardua. Et secundum hoc desperatio causatur ex luxuria.
236
Вопрос 20. Об отчаянии
(34) А причиной того, что некое труднодостижимое благо не воспринимается как то, что возможно обрести (самостоятельно или при помощи другого), является малодушие, ведь если оно начинает господствовать в аффектах, человеку кажется, что он никогда не сможет достичь того или иного блага. И поскольку уныние есть некая подавляющая дух печаль, то в этом смысле отчаяние порождается унынием. В самом деле, это, т. е. «быть возможным», является собственным объектом надежды, ведь «благое» и «труднодостижимое» соотносятся и с другими страстями. И потому отчаяние особым образом возникает из уныния, хотя может возникнуть и из похоти, на основаниях уже указанных.
(35) И из этого очевиден ответ на первое.
(36) На второе надлежит ответить, что, как говорит философ во II книге «Риторики», как надежда дарит радость, так и человек, пребывая в радости, надеется на лучшее.
Но точно так же, человек, пребывающий в печали, легче впадает в отчаяние, согласно этим словам (2 Кор 2, 7): Дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. Однако поскольку объектом надежды является благо, к которому желание устремлено по природе, и избегает его не по природе, а только
в силу привхождения некоего препятствия, то непосредственно из надежды возникает радость, а отчаяние, наоборот, из печали.
(37) На третье надлежит ответить, что из уныния происходит также и пренебрежение размышлением о божественных благодеяниях. В самом деле, человек, испытывая воздействие некоей страсти, думает главным образом о том, что связано с этой страстью. Поэтому, пребывая в печали, он склонен размышлять не о великом и радостном, но о грустном, если только значительным усилием не заставит себя отвлечься от печали.
(34) Ad hoc autem quod aliquod bonum arduum non aestimet ut possibile sibi adipisci per se vel per alium, perducitur ex nimia deiectione; quae quando in affectu hominis dominatur, videtur ei quod nunquam possit ad aliquod bonum relevari. Et quia acedia est tnstitia quaedam deiec- tiva spiritus, ideo per hunc modum desperatio ex acedia generatur. Hoc autem est proprium obiectum spei, scilicet quod sit possibile, nam bonum et arduum etiam ad alias passiones pertinent. Unde specialius oritur ex acedia. Potest tamen oriri ex luxuria, ratione iam dicta.
(35) Unde patet responsio ad primum.
(36) Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit, in II Rhetor. (Aristot., 1378b2), sicut spes facit delectationem, ita etiam homines in delectationibus existentes ef¬
ficiuntur maioris spei. Et per hunc etiam modum homines in tristitiis existentes facilius in desperationem incidunt, secundum illud II ad Cor. II, ne maiori tristitia absorbeatur qui eiusmodi est. Sed tamen quia spei obiectum est bonum, in quod naturaliter tendit appetitus, non autem refugit ab eo naturaliter, sed solum propter aliquod impedimentum superveniens; ideo directius quidem ex spe ontur gaudium, desperatio autem e converso ex tnstitia.
(37) Ad tertium dicendum quod ipsa etiam negligentia considerandi divina beneficia ex acedia provenit. Homo enim affectus aliqua passione praecipue illa cogitat quae ad illam pertinent passionem. Unde homo in tnstitiis constitutus non de facili aliqua magna et iucunda cogitat, sed solum tnstia, nisi per magnum conatum se avertat a tristibus.
Вопрос 21 О самоуверенности
Затем надлежит рассмотреть самоуверенность. И касательно нее исследуются четыре [проблемы]: 1) что является объектом самоуверенности, на который она опирается; 2) является ли самоуверенность грехом; 3) чему она противоположна; 4) из какого порока она происходит.
Раздел 1
Полагается ли самоуверенность на Бога или на собственные силы
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что самоуверенность, которая есть грех против Святого Духа, полагается не на Бога, но на собственные силы.
(3) 1. В самом деле, чем меньше сила, тем больше грех того, кто излишне полагается на нее. Но сила человека меньше божественной. Следовательно, тот, кто излишне полагается на собственные силы, грешит более тяжко, чем тот, кто излишне полагается на силу Божию. Но самым тяжким грехом является грех против Святого Ду¬
ха. Следовательно, самоуверенность, которая рассматривается как вид греха против Святого Духа, полагается на человеческую силу больше, чем на божескую.
(4) 2. Кроме того, из греха против Святого Духа происходят прочие грехи, ведь грех против Святого Духа называется злонамеренностью, из-за которой человек грешит. Но, как кажется, прочие грехи происходят скорее из самоуверенности, опирающейся на собственные силы, чем из самоуверенности, опирающейся на Бога, поскольку, как говорит Августин, началом греха является любовь к самому себе. Следовательно, как кажется, самоуверенность, которая является грехом против Святого Духа, полагается в основном на человеческие силы.
(5) 3. Кроме того, грех происходит из неупорядоченного обращения к изменчивому благу. Но самоуверенность есть некий грех. Следовательно, куда скорее она возникает из-за опоры на человеческие силы, которые суть изменчивое благо, нежели на силу божескую, которая есть неиз-
Quaestio 21 De praesumptione
(1) Deinde considerandum est de praesumptione. Et circa hoc quaeruntur quatuor. Primo, quid sit obiectum praesumptionis cui innititur. Secundo, utrum sit peccatum. Tertio, cui opponatur. Quarto, ex quo vitio oriatur.
Articulus 1
Utrum praesumptio innitatur Deo, an propriae virtuti
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod praesumptio quae est peccatum in spiritum sanctum non innitatur Deo, sed propriae virtuti.
(3) 1. Quanto enim minor est virtus, tanto magis peccat qui ei nimis innititur. Sed minor est virtus humana quam divina. Ergo gravius peccat qui praesumit de virtute humana quam qui praesumit de virtute divina. Sed peccatum in spiritum sanctum est gravissimum. Ergo praesumptio quae ponitur species peccati in spiritum sanctum inhaeret
virtuti humanae magis quam divinae.
(4) 2. Praeterea, ex peccato in spiritum sanctum alia peccata oriuntur, peccatum enim in spiritum sanctum dicitur malitia ex qua quis peccat. Sed magis videntur alia peccata oriri ex praesumptione qua homo praesumit de seipso quam ex praesumptione qua homo praesumit de Deo, quia amor sui est pnncipium peccandi, ut patet per Augustinum, XIV De civ. Dei (28; PL 41, 436). Ergo videtur quod praesumptio quae est peccatum in spiritum sanctum maxime innitatur virtuti humanae.
(5) 3. Praeterea, peccatum contingit ex conversione inordinata ad bonum commutabile. Sed praesumptio est quoddam peccatum. Ergo magis contingit ex conversione ad virtutem humanam, quae est bonum commutabile, quam ex conversione ad virtutem divinam, quae est bonum incommutabile.
238
Вопрос 21. О самоуверенности
менное благо.
(6) Но против: как вследствие отчаяния человек презирает божественное милосердие, на которое опирается надежда, так же из самоуверенности презирают божественную справедливость, которая карает грешников. Но в Боге пребывает как милосердие, так и справедливость. Следовательно, как отчаяние происходит из отвращения от Бога, так и самоуверенность является результатом неупорядоченного обращения к Нему.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что самоуверенность, как кажется, подразумевает некую неумеренность надежды. Но объектом надежды является труднодостижимое возможное благо. Однако возможным для человека нечто является в двух смыслах: во-первых, сообразно собственным силам, во-вторых, сообразно божественной помощи. И в обоих случаях надежда может стать самоуверенностью из-за неумеренности. Так, в случае надежды, которой некто полагается на собственные силы, самоуверенность возникает из-за того, что человек стремится к чему-то как к достижимому его собственными силами — при том, что таковое превосходит его возможности, сообразно сказанному (Иудифь 6, 17): Смири
(6) Sed contra est quod sicut ex desperatione aliquis contemnit divinam misericordiam, cui spes innititur, ita ex praesumptione contemnit divinam iustitiam, quae peccatores punit. Sed sicut misericordia est in Deo, ita etiam et iustitia est in ipso. Ergo sicut desperatio est per aversionem a Deo, ita praesumptio est per inordinatam conversionem ad ipsum.
(7) Respondeo dicendum quod praesumptio videtur importare quandam immoderantiam spei. Spei autem obiectum est bonum arduum possibile. Possibile autem est aliquid homini dupliciter, uno modo, per propriam virtutem; alio modo, non nisi per virtutem divinam. Circa utramque autem spem per immoderantiam potest esse praesumptio. Nam circa spem per quam aliquis de propria virtute confidit, attenditur praesumptio ex hoc quod aliquis tendit in aliquid ut sibi possibile quod suam facultatem excedit, secundum quod dicitur Iudith VI, praesumentes de se humilias. Et talis praesumptio opponitur virtuti magnanimitatis, quae medium tenet in huiusmodi spe. Circa spem autem
тех, кто самоуверен1. И такая самоуверенность противополагается добродетели великодушия, которая занимает золотую середину в этом виде надежды. А в случае той надежды, которой некто надеется на божественную силу, самоуверенность вследствие неупорядоченности возникает тогда, когда человек стремится к некоему благу как к возможному благодаря силе и милосердию Божиему, хотя оно и невозможно — например, когда человек надеется на прощение без покаяния или на славу без заслуг. Но таковая самоуверенность является в собственном смысле грехом против Святого Духа, поскольку она устраняет (или презирает) помощь Святого Духа, которая удерживает человека от греха.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что, как уже сказано выше (В. 20, Р. 3; Ч. II-I, В. 73, Р. 3), грех против Бога по своему роду является тяжелейшим из грехов. Поэтому та самоуверенность, которой человек неупорядоченно полагается на Бога, является более тяжким грехом, чем та самоуверенность, которой человек полагается на свои собственные силы. В самом деле, если человек обращается к Богу ради получения от Него того, что Богу не подобает, то он умаляет силу божию. Однако ясно, что бо-
qua aliquis inhaeret divinae potentiae, potest per immoderantiam esse praesumptio in hoc quod aliquis tendit in aliquod bonum ut possibile per virtutem et misencordiam divinam quod possibile non est, sicut cum aliquis sperat se veniam obtinere sine poenitentia, vel gloriam sine meritis. Haec autem praesumptio est proprie species peccati in spiritum sanctum, quia scilicet per huiusmodi praesumptionem tollitur vel contemnitur adiutorium spintus sancti per quod homo revocatur a peccato.
(8) Ad primum ergo dicendum quod, sicut supra dictum est (q. 20, a. 3; II-I, q. 73, a. 3), peccatum quod est contra Deum secundum suum genus est gravius cetens peccatis. Unde praesumptio qua quis inordinate innititur Deo gravius peccatum est quam praesumptio qua quis innititur propriae virtuti. Quod enim aliquis innitatur divinae virtuti ad consequendum id quod Deo non convenit, hoc est diminuere divinam virtutem. Patet autem quod gravius peccat qui diminuit divinam virtutem quam qui propriam virtutem superextollit.
Раздел 2. Является ли самоуверенность грехом
239
лее тяжко грешит тот, кто умаляет божественную силу, чем тот, кто превозносит свои собственные возможности.
(9) На второе надлежит ответить, что та самоуверенность, которой некто неупорядоченно полагается на Бога, тоже подразумевает любовь к самому себе, каковой любовью человек неупорядоченно желает себе собственного блага. В самом деле, когда мы сильно хотим некую [вещь], нам легко вообразить, что сможем получить ее при помощи других, хотя бы это было и невозможно.
(Ю) На третье надлежит ответить, что само¬
уверенность в отношении божественного милосердия предполагает как обращение к изменчивому благу, постольку, поскольку происходит из желания собственного блага, так и отвращение от неизменного блага, постольку, поскольку приписывает силе Божией то, что ей не подобает — ведь именно так человек отвращается от божественной истины.
Раздел 2
Является ли самоуверенность грехом
(и) Ход рассуждения во втором разделе та¬
ков. Представляется, что самоуверенность не является грехом.
(12) 1. В самом деле, никакой грех не является поводом для того, чтобы человек был услышан Богом. Но некоторых Бог услышал благодаря их самоуверенности, ибо сказано (Иудифь 9, 17): Услышь мою униженную мольбу, самонадеянно обращенную к твоему милосердию. Следовательно, самоуверенность применительно к божественному милосердию не является грехом.
(13) 2. Кроме того, самоуверенность подразумевает переизбыток надежды. Но в надежде, которая относится к Богу, не может быть никакого избытка, ведь Его могущество и милосердие бесконечны. Следовательно, как кажется, самоуверенность не является грехом.
(и) 3. Кроме того, то, что является гре¬
хом, не извиняет грех. Но самоуверенность извиняет грех, ибо Магистр говорит, что грех Адама был меньшим, поскольку он согрешил, имея надежду на прощение, что, как кажется, относится к самоуверенности: Следовательно, самоуверенность не является грехом.
(15) Но против: самоуверенность полага-
(9) Ad secundum dicendum quod ipsa etiam praesumptio qua quis de Deo inordinate praesumit amorem sui includit, quo quis proprium bonum inordinate desiderat. Quod enim multum desideramus, aestimamus nobis de facili per alios posse provenire, etiam si non possit.
(10) Ad tertium dicendum quod praesumptio de divina misericordia habet et conversionem ad bonum commutabile, inquantum procedit ex desiderio inordinato proprii boni; et aversionem a bono incommutabili, inquantum attribuit divinae virtuti quod ei non convenit; per hoc enim avertitur homo a ventate divina.
Articulus 2 Utrum praesumptio sit peccatum
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod praesumptio non sit peccatum.
(12) 1. Nullum enim peccatum est ratio quod homo exaudiatur a Deo. Sed per praesumptionem aliqui exaudiuntur a Deo, dicitur enim Iudith IX, exaudi me miseram dep- recantem et de tua misericordia praesumentem. Ergo praesumptio de divina misericordia non est peccatum.
(13) 2. Praeterea, praesumptio importat superexcessum spei. Sed in spe quae habetur de Deo non potest esse super- excessus, cum eius potentia et misencordia sint infinita. Ergo videtur quod praesumptio non sit peccatum.
(14) 3. Praeterea, id quod est peccatum non excusat a peccato. Sed praesumptio excusat a peccato, dicit enim Magister, XXII dist. II lib. Sent. (2, d. 22, c. 4; QR 1, 412), quod Adam minus peccavit quia sub spe veniae peccavit, quod videtur ad praesumptionem pertinere. Ergo praesumptio non est peccatum.
(15) Sed contra est quod ponitur species peccati in spintum sanctum.
240
Вопрос 21. О самоуверенности
ется видом греха против Святого Духа.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось выше об отчаянии (В. 20, Р. 1), любое движение желания, которое соотносится с ложным умозрением, само по себе является злом и грехом. Но самоуверенность есть некое движение желания, поскольку подразумевает некую неупорядоченную надежду. И при этом оно, как и отчаяние, соотносится с ложным умозрением, поскольку ложным является как то, что Бог не прощает раскаявшегося или не ведет грешника к раскаянию, так и то, что Он прощает того, кто не раскаивается в грехе, или распространяет славу на тех, кто отказался от благих дел. Но именно с последними представлениями сообразуется движение самоуверенности. И потому самоуверенность есть грех. Однако это грех меньший, чем грех отчаяния, поскольку Богу больше свойственно прощать и миловать, чем наказывать — ведь Он бесконечно благ. В самом деле, второе подобает Богу как таковому, а первое — лишь из-за наших грехов.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что под самоуверенностью иногда подразуме¬
вают надежду, поскольку иногда правильная надежда на Бога кажется самоуверенностью, если мерить ее человеческой меркой, хотя она и не является таковой, если принимать во внимание божественную благость.
(18) На второе надлежит ответить, что самоуверенность подразумевает избыточность не в связи с тем, что некто слишком надеется на Бога, но в связи с тем, что он надеется получить от Бога то, что Богу не подобает. Кроме того, самоуверенность подразумевает некое умаление надежды на Бога, поскольку она некоторым образом подразумевает умаление Его могущества, как уже сказано (Р. 1, на 1).
(19) На третье надлежит ответить, что совершение греха с намерением упорствовать в грехе, сочетающееся с надеждой на прощение, является самоуверенностью. И оно не облегчает, но отягчает грех. Но если человек грешит и надеется на прощение, имея намерение отказаться от греха и покаяться в нем, то это не относится к самоуверенности и облегчает грех, поскольку благодаря этому воля становится менее упорной в грехе.
(16) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est circa desperationem (q. 20, a. 1), omnis motus appetitivus qui conformiter se habet ad intellectum falsum est secundum se malus et peccatum. Praesumptio autem est motus quidam appetitivus, quia importat quandam spem inordinatam. Habet autem se conformiter intellectui falso, sicut et desperatio, sicut enim falsum est quod Deus poeniten- tibus non indulgeat, vel quod peccantes ad poenitentiam non convertat, ita falsum est quod in peccato perseverantibus veniam concedat, et a bono opere cessantibus gloriam largiatur; cui existimationi conformiter se habet praesumptionis motus. Et ideo praesumptio est peccatum. Minus tamen quam desperatio, quanto magis proprium est Deo miseren et parcere quam punire, propter eius infinitam bonitatem. Illud enim secundum se Deo convenit, hoc autem propter nostra peccata.
(17) Ad primum ergo dicendum quod praesumere aliquando ponitur pro sperare, quia ipsa spes recta quae habetur de Deo praesumptio videtur si mensuretur secundum condi¬
tionem humanam. Non autem est praesumptio si attendatur immensitas bonitatis divinae.
(18) Ad secundum dicendum quod praesumptio non importat superexcessum spei ex hoc quod aliquis nimis speret de Deo, sed ex hoc quod sperat de Deo aliquid quod Deo non convenit. Quod etiam est minus sperare de eo, quia hoc est eius virtutem quodammodo diminuere, ut dictum est (a. 1, ad 1).
(19) Ad tertium dicendum quod peccare cum proposito perseverandi in peccato sub spe veniae ad praesumptionem pertinet. Et hoc non diminuit, sed auget peccatum. Peccare autem sub spe veniae quandoque percipiendae cum proposito abstinendi a peccato et poenitendi de ipso, hoc non est praesumptionis, sed hoc peccatum diminuit, quia per hoc videtur habere voluntatem minus firmatam ad peccandum.
Раздел 3. Противоположна ли самоуверенность скорее страху, чем надежде
241
Раздел 3
Действительно ли самоуверенность противоположна скорее страху, чем надежде
(20) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что самоуверенность противоположна скорее страху, чем надежде.
(21) 1. В самом деле, неупорядоченность
страха противоположна правильному страху. Но самоуверенность, как кажется, относится к неупорядоченности страха, ибо сказано (Прем 17, 10): Обеспокоенная совесть всегда уверяет себя в ужасах. И далее (11): Страх — помощник самоуверенности2. Следовательно, самоуверенность противополагается скорее страху, чем надежде.
(22) 2. Кроме того, противоположности суть
то, что максимально удалено друг от друга. Но самоуверенность дальше от страха, чем от надежды, поскольку самоуверенность, как и надежда, подразумевает движение к вещи, а страх — удаление от вещи. Следовательно, самоуверенность противоположна скорее страху, чем надежде.
(23) 3. Кроме того, самоуверенность пол¬
ностью исключает страх, а из того, что относится к надежде, исключает только ее правильность. Итак, поскольку противо¬
положности исключают друг друга, то, как представляется, самоуверенность противоположна не столько надежде, сколько страху.
(24) Но против: два противоположных порока противоположны одной добродетели, как, например, трусость и безрассудная храбрость противоположны стойкости. Но грех самоуверенности противоположен греху отчаяния, который непосредственным образом противоположен надежде. Следовательно, как кажется, ей столь же непосредственно противоположна самоуверенность.
(25) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит Августин, каждой добродетели противоположен не только очевидно отличающийся от нее порок {как, например, благоразумию — безрассудство), но также и порок, как бы родственный ей, но не по истине, а в силу некоего поверхностного сходства {и так благоразумию противоположна хитрость). И потому Философ тоже говорит, что добродетель, как кажется, имеет большее сходство с одним из противоположных ей пороков, чем с другим, например, умеренность — с бесчувственностью, а стойкость — с безрассудной храбростью. Итак, самоуверенность очевидным образом про-
Articulus 3
Utrum praesumptio magis opponatur timori quam spei
(20) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod praesumptio magis opponatur timori quam spei.
(21) 1. Inordinatio enim timoris opponitur recto timori. Sed praesumptio videtur ad inordinationem timoris pertinere, dicitur enim Sap. XVII, semper praesumit saeva perturbata conscientia', et ibidem dicitur quod timor est praesumptionis adiutonum. Ergo praesumptio opponitur timori magis quam spei.
(22) 2. Praeterea, contraria sunt quae maxime distant. Sed praesumptio magis distat a timore quam a spe, quia praesumptio importat motum ad rem, sicut et spes; timor autem motum a re. Ergo praesumptio magis contrariatur timori quam spei.
(23) 3. Praeterea, praesumptio totaliter excludit timorem, non autem totaliter excludit spem, sed solum rectitudinem spei. Cum ergo opposita sint quae se interimunt, videtur
quod praesumptio magis opponatur timon quam spei.
(24) Sed contra est quod duo invicem opposita vitia contrari- antur uni virtuti, sicut timiditas et audacia fortitudini. Sed peccatum praesumptionis contrariatur peccato desperationis, quod directe opponitur spei. Ergo videtur quod etiam praesumptio directius spei opponatur.
(25) Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in IV Contra Iulian. (3; PL 44, 748), omnibus virtutibus non solum sunt vitia manifesta discretione contraria, sicut prudentiae temeritas, verum etiam vicina quodammodo, nec veritate, sed quadam specie fallente similia, sicut prudentiae astutia. Et hoc etiam philosophus dicit, in II Ethic. (8; 1108b35), quod virtus maiorem convenientiam videtur habere cum uno oppositorum vitiorum quam cum alio, sicut temperantia cum insensibilitate et fortitudo cum audacia. Praesumptio igitur manifestam oppositionem videtur habere ad timorem, praecipue servilem, qui respicit poenam ex Dei iustitia provenientem, cuius remissionem praesumptio sperat. Sed secundum quandam falsam similitudinem
242
Вопрос 21. О самоуверенности
тивоположна страху, прежде всего рабскому, посредством которого опасаются наказания, происходящего от божественной справедливости, и при устранении которого надежда становится самоуверенной. Но сообразно некоему ложному подобию самоуверенность более подобна надежде, поскольку подразумевает некую неупорядоченную надежду на Бога. И поскольку более непосредственным образом противополагается то, что относится к одному роду, нежели то, что относится к разным родам (ведь противоположности суть одного рода), постольку более непосредственным образом самоуверенность противополагается надежде, нежели страху, ибо им соответствует один объект, на который они полагаются, но надежда — упорядоченно, а самоуверенность — неупорядоченно.
(26) Итак, на первое надлежит ответить, что как о надежде на дурное говорится в превратном смысле, а о надежде на благо — в собственном смысле слова, так и о самоуверенности. И в этом смысле неупорядоченность страха называется самоуверенностью.
(27) На второе надлежит ответить, что противоположности суть то, что максимально удалено друг от друга и при этом относится
к одному роду. Но самоуверенность и надежда подразумевают движение одного же и того рода, которое может быть упорядоченным или неупорядоченным. И потому самоуверенность противоположна надежде более непосредственным образом, нежели страху, ведь надежде она противополагается на основании собственного отличия, как упорядоченное — неупорядоченному, а страху она противополагается на основании отличия своего рода, а именно — движения надежды.
(28) На третье надлежит ответить, что поскольку самоуверенность противополагается страху противоположностью рода, а добродетели надежды — противоположностью видового отличия, постольку самоуверенность полностью исключает страх также и сообразно роду, а надежда исключается только сообразно смысловому содержанию видового отличия, так как исключается ее упорядоченность.
Раздел 4
Действительно ли самоуверенность причинно обусловливается тщеславием
(29) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что самоуверенность не обусловливается тщеславием.
magis contranatur spei, quia importat quandam inordinatam spem de Deo. Et quia directius aliqua opponuntur quae sunt unius genens quam quae sunt generum diversorum (nam contrana sunt in eodem genere), ideo directius praesumptio opponitur spei quam timon, utrumque enim respicit idem obiectum cui innititur, sed spes ordinate, praesumptio inordinate.
(26) Ad primum ergo dicendum quod sicut spes abusive dicitur de malo, proprie autem de bono, ita etiam praesumptio. Et secundum hunc modum inordinatio timoris praesumptio dicitur.
(27) Ad secundum dicendum quod contraria sunt quae maxime distant in eodem genere. Praesumptio autem et spes important motum eiusdem genens, qui potest esse vel ordinatus vel inordinatus. Et ideo praesumptio directius contranatur spei quam timon, nam spei contrariatur ratione propriae differentiae, sicut inordinatum ordinato;
timon autem contranatur ratione differentiae sui generis, scilicet motus spei.
(28) Ad tertium dicendum quod quia praesumptio contrariatur timori contrarietate generis, virtuti autem spei con- tranetate differentiae, ideo praesumptio excludit totaliter timorem etiam secundum genus, spem autem non excludit nisi ratione differentiae, excludendo eius ordinationem.
Articulus 4 Utrum praesumptio causetur ex inani gloria
(29) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod praesumptio non causetur ex inani glona
(30) 1. Praesumptio enim maxime videtur inniti divinae misericordiae. Misericordia autem respicit misenam, quae opponitur glonae. Ergo praesumptio non ontur ex inani gloria.
Раздел 4. Действительно ли самоуверенность причинно обусловливается тщеславием 243
(30) 1- В самом деле, самоуверенность, как кажется, полагается главным образом на божественное милосердие. Но милосердие соотносится с бедственным положением, которое противоположно славе. Следовательно, самоуверенность не происходит из тщеславия.
(31) 2. Кроме того, самоуверенность противоположна отчаянию, а отчаяние происходит из уныния, как уже сказано (В. 20, р. 4, на 2). Итак, поскольку у противоположностей противоположны и причины, постольку, как кажется, самоуверенность должна происходить из радости удовольствия. И потому представляется, что ее причиной являются кардинальные пороки, удовольствия от которых наиболее сильны.
(32) 3. Кроме того, порок самоуверенности заключается в том, что человек стремится к некоему благу, которое ему недоступно, как к возможному. Но то, что некто полагает возможным невозможное, происходит из неведения. Следовательно, самоуверенность происходит скорее из неведения, чем из тщеславия.
(33) Но против: Григорий утверждает, что самоуверенность в новизне есть дщерь тщеславия.
(34) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже сказано выше (Р. 1), о самоуверенности можно говорить в двух смыслах. Во- первых, самоуверенность может опираться на собственные силы, стремясь как к возможному к чему-то такому, что превышает собственные возможности человека. И таковая самоуверенность явно происходит из тщеславия, ведь из-за того, что некто сильно желает славы, следует, что он стремится к некоей славе, находящейся за пределами его возможностей. И речь здесь прежде всего идет о новом, которое вызывает наибольшее удивление, и потому Григорий говорит о том, что самоуверенность в новизне есть дщерь тщеславия. А другая самоуверенность неупорядоченным образом полагается на божественное милосердие и могущество, вследствие чего человек надеется обрести славу без заслуг и прощение без покаяния. И таковая самоуверенность происходит, судя по всему, из гордыни — в том смысле, что человек почитает себя столь достойным, что его, несмотря на все его грехи, Бог не станет наказывать или лишать славы.
(35) И из этого очевидны ответы на возражения.
(31) 2 Praeterea, praesumptio opponitur desperationi. Sed desperatio ontur ex tristitia, ut dictum est (q. 20, a. 4, ad 2). Cum igitur oppositorum oppositae sint causae, videtur quod oriatur ex delectatione. Et ita videtur quod oriatur ex vitiis carnalibus, quorum delectationes sunt vehemen- tiores
(32) 3. Praeterea, vitium praesumptionis consistit in hoc quod aliquis tendit in aliquod bonum quod non est possibile, quasi possibile. Sed quod aliquis aestimet possibile quod est impossibile, provemt ex ignorantia. Ergo praesumptio magis provenit ex ignorantia quam ex inani glona.
(33) Sed contra est quod Gregonus dicit, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), quod praesumptio novitatum est filia inanis glonae.
1) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (a. 1), duplex est praesumptio. Una quidem quae innititur propriae virtuti, attentans scilicet aliquid ut sibi possibile quod propnam virtutem excedit. Et talis praesumptio manifeste ex inani glona procedit, ex hoc enim quod aliquis multam desiderat glonam, sequitur quod attentet ad gloriam quaedam super vires suas. Et huiusmodi praecipue sunt nova, quae maiorem admirationem habent. Et ideo signanter Gregonus praesumptionem novitatum posuit filiam inanis gloriae. Alia vero est praesumptio quae innititur inordinate divinae misericordiae vel potentiae, per quam sperat se obtinere gloriam sine mentis et veniam sine poenitentia. Et talis praesumptio videtur onri directe ex superbia, ac si ipse tanti se aestimet quod etiam eum peccantem Deus non puniat vel a glona excludat.
5) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Вопрос 22
О заповедях, относящихся к надежде и страху
(1) Затем надлежит рассмотреть заповеди, относящиеся к надежде и страху. И касательно этого исследуются две [проблемы]: 1) заповеди, относящиеся к надежде; 2) заповеди, относящиеся к страху.
Раздел 1
Нужно ли было дать некую заповедь о надежде
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что не следовало давать заповеди о надежде.
(3) 1. В самом деле, то, для возникновения чего достаточно одного, не нуждается для своего возникновения в чем-то еще. Но для того, чтобы надеяться на благо, человеку достаточно естественной склонности. Следовательно, не требуется заповеди закона, чтобы склонять человека к надежде.
(4) 2. Кроме того, поскольку заповеди даются о действиях добродетели, постольку главные заповеди должны даваться о действиях главных добродетелей. Но среди
главных добродетелей три являются теологическими, а именно, вера, надежда, любовь. Итак, поскольку главными заповедями являются заповеди Декалога, к которым сводятся все прочие заповеди, как уже установлено выше (Ч. II-I, В. 100, Р. 3), то, как представляется, если бы была дана заповедь о надежде, то она содержалась бы в Декалоге. Но таковой заповеди там нет. Следовательно, как представляется, в законе не следовало давать заповеди о надежде.
(5) 3. Кроме того, на одном и том же осно¬
вании предписывается действие добродетели и запрещается действие противоположного порока. Но нельзя обнаружить заповедь, запрещающую действие отчаяния, которое противоположно надежде. Следовательно, не подобало давать и заповедь о надежде.
(6) Но против: Августин, комментируя эти слова (Ин 5, 12): Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, говорит: Как много заповедано нам о вере, как много о надежде! Следовательно, подобало дать некие запо-
Quaestio 22
De praeceptis pertinentibus ad spem et timorem
(1) Deinde considerandum est de praeceptis pertinentibus ad spem et timorem. Et circa hoc quaeruntur duo. Primo, de praeceptis pertinentibus ad spem. Secundo, de praeceptis pertinentibus ad timorem.
Articulus 1
Utrum de spe debeat dari aliquod praeceptum
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod nullum praeceptum sit dandum pertinens ad virtutem spei.
(3) 1. Quod enim potest sufficienter fien per unum, non oportet quod ad id aliquid aliud inducatur. Sed ad sperandum bonum sufficienter homo inducitur ex ipsa naturali inclinatione. Ergo non oportet quod ad hoc inducatur homo per legis praeceptum.
(4) 2. Praeterea, cum praecepta dentur de actibus virtutum, principalia praecepta debent dari de actibus principalium
virtutum. Sed inter omnes virtutes principaliores sunt tres virtutes theologicae, scilicet spes, fides et cantas. Cum igitur pnncipalia legis praecepta sint praecepta Decalogi, ad quae omnia alia reducuntur, ut supra habitum est (II-I, q. 100, a 3); videtur quod, si de spe daretur aliquod praeceptum, quod deberet inter praecepta Decalogi con- tinen. Non autem continetur. Ergo videtur quod nullum praeceptum in lege debeat dari de actu spei.
(5) 3. Praeterea, eiusdem rationis est praecipere actum virtutis et prohibere actum vitii oppositi. Sed non invenitur aliquod praeceptum datum per quod prohibeatur desperatio, quae est opposita spei. Ergo videtur quod nec de spe conveniat aliquod praeceptum dan
(6) Sed contra est quod Augustinus dicit, super illud Ioan. XV (In Ioann. tr. 83 super 15, 12; PL 35, 1846), hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, de fide nobis
Раздел 1. Нужно ли было дать некую заповедь о надежде
245
веди о надежде.
) Отвечаю: надлежит сказать, что из заповедей, содержащихся в Писании, есть те, которые относятся к субстанции закона, и есть те, которые являются преамбулами к закону. И преамбулами являются те заповеди, при устранении которых закон не будет иметь места. Но именно таковы заповеди о действии веры и о действии надежды, поскольку через действие веры ум человека склоняется к тому, чтобы признать, что следует подчиняться создателю закона, а благодаря надежде на вознаграждение человек склоняется к соблюдению заповедей. А заповедями, относящимися к субстанции закона, являются те заповеди, которые даются человеку уже подчиненному и готовому повиноваться — для того, чтобы его жизнь была правильной. И потому такого рода заповеди даются непосредственно в самом законе в форме собственно заповедей. А заповеди о вере и надежде не были даны в виде заповедей, поскольку бесполезно заповедовать закон, если человек еще верит и не надеется. Но как заповедь о вере была дана в виде предупреждения или напоминания, о чем было сказано выше (В. 16, Р. 1), так и заповедь надежды была дана
при первом установлении закона в виде обетования, ведь то, что подчиняющимся была обещана награда, пробуждало в них надежду. Поэтому все обещания, содержащиеся в законе, должны были побуждать надежду. Однако после того как Закон был дан, мудрецы должны были склонять людей не только к соблюдению заповедей, но и - что гораздо важнее — к сохранению основ закона. Поэтому после первого установления закона мы обнаруживаем в св. Писании многообразные побуждения к надежде, причем не только такие, как в законе (т. е. в виде обетований), но также и в виде увещеваний и предписаний, как, например, в этом псалме (Пс 61, 9): Народ! Надейтесь на Него во всякое время, и во многих других местах Писания.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что природа достаточным образом склоняет к надежде на благо, которое соразмерно человеческой природе. Но для надежды на сверхъестественное благо человек должен быть вдохновляем авторитетом божественного закона, частично через обетования, частично через увещевания и предписания. Но заповеди божественного закона были необходимы даже в отношении того, к чему склоняет естественный разум (например, к
quam multa mandata sunt; quam multa de spe. Ergo de spe convenit aliqua praecepta dari.
(7) Respondeo dicendum quod praeceptorum quae in sacra Scriptura inveniuntur quaedam sunt de substantia legis; quaedam vero sunt praeambula ad legem. Praeambula quidem sunt ad legem illa quibus non existentibus lex locum habere non potest. Huiusmodi autem sunt praecepta de actu fidei et de actu spei, quia per actum fidei mens hominis inclinatur ut recognoscat auctorem legis talem cui se subdere debeat; per spem vero praemii homo inducitur ad observantiam praeceptorum. Praecepta vero de substantia legis sunt quae homini iam subiecto et ad obediendum parato imponuntur, pertinentia ad rectitudinem vitae. Et ideo huiusmodi praecepta statim in ipsa legis latione proponuntur per modum praeceptorum. Spei vero et fidei praecepta non erant proponenda per modum praeceptorum, quia nisi homo iam crederet et speraret, frustra ei lex proponeretur. Sed sicut praeceptum fidei proponendum fuit per modum denuntiationis vel commemorationis, ut supra dictum est (q. 16, a. 1); ita etiam praeceptum spei
in prima legis latione proponendum fuit per modum promissionis, qui enim obedientibus praemia promittit, ex hoc ipso incitat ad spem. Unde omnia promissa quae in lege continentur sunt spei excitativa. Sed quia, lege iam posita, pertinet ad sapientes viros ut non solum inducant homines ad observantiam praeceptorum, sed etiam multo magis ad conservandum legis fundamentum; ideo post primam legis lationem in sacra Scriptura multipliciter inducuntur homines ad sperandum, etiam per modum admonitionis vel praecepti, et non solum per modum promissionis, sicut in lege, sicut patet in Psalm., sperate in eo omnes congregationes populi, et in multis aliis Scripturae locis.
(8) Ad primum ergo dicendum quod natura sufficienter inclinat ad sperandum bonum naturae humanae proportion- atum. Sed ad sperandum supematurale bonum oportuit hominem induci auctoritate legis divinae, partim quidem promissis, partim autem admonitiombus vel praeceptis. Et tamen ad ea etiam ad quae naturalis ratio inclinat, sicut sunt actus virtutum moralium, necessarium fuit praecepta legis divinae dari, propter maiorem firmitatem; et prae-
246
Вопрос 22. О заповедях, относящихся к надежде и страху
действиям нравственных добродетелей) — ради большей надежности (и прежде всего потому, что естественный человеческий разум затенен греховными вожделениями).
(9) На второе надлежит ответить, что заповеди Декалога относятся к первому установлению закона. И потому среди заповедей Декалога не было заповедей о надежде, поскольку к надежде достаточным образом побуждали некие обетования, включенные в закон, например, относящиеся к первой и четвертой заповеди.
(ю) На третье надлежит ответить, что в отношении того, к соблюдению чего человека призывают как к соблюдению должного, достаточно дать утвердительную заповедь касательно того, что он обязан делать, в каковой заповеди также подразумевается и запрет того, совершения чего он обязан избегать. Например, была дана заповедь о почитании родителей, а не запрет на то, чтобы подвергать их бесчестию (если, конечно, не считать того, что по закону тот, кто бесчестил родителей, подлежал наказанию). И поскольку для спасения человека необходимо, чтобы он надеялся на Бога, то он был побуждаем к надежде одним из вышеупомянутых способов, так сказать, утвердительно, что подразумевало
также и запрет противоположного [т. е. отчаяния] .
Раздел 2
Нужно ли было дать некую заповедь о страхе
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что в законе не следовало давать какую-либо заповедь о страхе.
(12) 1. В самом деле, страх Божий относится к тому, что является преамбулой к закону, поскольку он есть начало мудрости. Но преамбула к закону не подпадает под предписания закона. Следовательно, не было необходимости давать в законе какие-либо заповеди о страхе.
(13) 2. Кроме того, при наличии причины наличествует и следствие. Но причиной страха является любовь, поскольку, как говорит Августин, любой страх происходит из некоей любви. Следовательно, после возвещения заповеди любви заповедь о страхе стала лишней.
(14) 3. Кроме того, самоуверенность некоторым образом противоположна страху. Но в законе нет заповеди о самоуверенности. Следовательно, как кажется, не требовалась и какая-либо заповедь о страхе.
(15) Но против: сказано (Вт 10, 12): Итак,
cipue quia naturalis ratio hominis obtenebrata erat per concupiscentias peccati
(9) Ad secundum dicendum quod praecepta Decalogi pertinent ad primam legis lationem. Et ideo inter praecepta Decalogi non fuit dandum praeceptum aliquod de spe, sed suffecit per aliquas promissiones positas inducere ad spem, ut patet in pnmo et quarto praecepto
(10) Ad tertium dicendum quod in illis ad quorum observationem homo tenetur ex ratione debiti, sufficit praeceptum affirmativum dan de eo quod faciendum est, in quibus prohibitiones eorum quae sunt vitanda intelliguntur. Sicut datur praeceptum de honoratione parentum, non autem prohibetur quod parentes dehonorentur, nisi per hoc quod dehonorantibus poena adhibetur in lege. Et quia debitum est ad humanam salutem ut speret homo de Deo, fuit ad hoc homo inducendus aliquo praedictorum modorum quasi affirmative, in quo intelligeretur prohibitio oppositi.
Articulus 2
Utrum de timore fuerit dandum aliquod praeceptum
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod de timore non fuerit dandum aliquod praeceptum in lege.
(12) 1. Timor enim Dei est de his quae sunt praeambula ad legem, cum sit initium sapientiae. Sed ea quae sunt praeambula ad legem non cadunt sub praeceptis legis. Ergo de timore non est dandum aliquod praeceptum legis.
(13) 2. Praeterea, posita causa ponitur effectus. Sed amor est causa timoris, omnis enim timor ex aliquo amore procedit, ut Augustinus dicit, in libro Octoginta trium quaest. (33; PL 40, 22). Ergo, posito praecepto de amore, superfluum fuisset praecipere timorem.
(14) 3. Praeterea, timon aliquo modo opponitur praesumptio. Sed nulla prohibitio invenitur in lege de praesumptione data. Ergo videtur quod nec de timore aliquod praeceptum dan debuerit.
(15) Sed contra est quod dicitur Deut. X, et nunc, Israel,
Раздел 2. Нужно ли было дать некую заповедь о страхе 247
Израиль, него требует от тебя Господь, 2>ог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Лгя твоего. Но Он требует от нас того, соблюдение чего нам заповедовал. Следовательно, страх Божий подпадает под заповедь закона.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что есть два типа страха: рабский и сыновний. Но как один человек склоняется к соблюдению заповедей закона в надежде на награду, так же другой человек может соблюдать закон из страха перед наказанием (каковой страх является рабским страхом). И потому, как, сообразно сказанному выше (Р. 1), при установлении закона не было дано заповеди о действии надежды, но люди приводились к ней через обетования, так и в случае страха, соотносящегося с наказанием: заповеди о нем как собственно заповеди дано не было, и люди приводились к нему через угрозы наказания. И так было сделано сперва в самих заповедях Декалога, а затем во вторичных заповедях закона. Но как мудрецы и пророки, стремившиеся впоследствии укрепить людей в соблюдении закона, вели их к надежде посредством увещеваний и заповедей, точно так же они поступали и в отношении страха. Что же касается сыновнего страха, который вы¬
ражает почтение к Богу, то он является как бы неким родом любви к Нему и определенным началом всего того, что соблюдается в связи с Его почитанием. Поэтому в законе были даны заповеди о сыновнем страхе, равно как и о любви — ведь они предваряют предписанные законом внешние действия, к которым относятся заповеди Декалога. И потому в приведенном выше авторитетном высказывании от человека требуется, чтобы он боялся Господа, ходил всеми путями Его, и любил Его.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что сыновний страх предваряет Закон не как нечто внешнее по отношению к нему, но как некое начало закона, так же как и любовь. И потому в отношении обоих даны заповеди, которые суть как бы общие начала всего закона.
(18) На второе надлежит ответить, что сыновний страх следует из любви так же, как и все прочие благие дела, которые делаются из любви-каритас. Поэтому как после заповеди о любви-каритас даются заповеди о других действиях добродетелей, точно так же заповеди о страхе и любви-каритас даются одновременно. Ведь так и в науках, пользующихся строгим доказательством, недостаточно просто представить
quid dominus Deus tuus petit a te, nisi ut timeas dominum Deum tuum ? Sed illud a nobis requirit quod nobis praecipit observandum. Ergo sub praecepto cadit quod aliquis timeat Deum
(16) Respondeo dicendum quod duplex est timor, scilicet servilis et filialis. Sicut autem aliquis inducitur ad observantiam praeceptorum legis per spem praemiorum, ita etiam inducitur ad legis observantiam per timorem poenarum, qui est timor servilis. Et ideo sicut, secundum praedicta (a. 1), in ipsa legis latione non fuit praeceptum dandum de actu spei, sed ad hoc fuerunt homines inducendi per promissa; ita nec de timore qui respicit poenam fuit praeceptum dandum per modum praecepti, sed ad hoc fuerunt hommes inducendi per comminationem poenarum. Quod fuit factum et in ipsis praeceptis Decalogi, et postmod- um consequenter in secundanis legis praeceptis. Sed sicut sapientes et prophetae consequenter, intendentes homines stabilire in obedientia legis, documenta tradiderunt de spe
per modum admonitionis vel praecepti, ita etiam et de timore. Sed timor filialis, qui reverentiam exhibet Deo, est quasi quoddam genus ad dilectionem Dei, et pnncip- ium quoddam omnium eorum quae in Dei reverentiam observantur. Et ideo de timore filiali dantur praecepta in lege sicut et de dilectione, quia utrumque est praeambu- lum ad exteriores actus qui praecipiuntur in lege, ad quos pertinent praecepta Decalogi. Et ideo in auctoritate legis inducta requiritur ab homine timor, et ut ambulet in viis Dei colendo ipsum, et ut diligat ipsum.
(17) Ad primum ergo dicendum quod timor filialis est quoddam praeambulum ad legem non sicut extrinsecum aliquid, sed sicut principium legis, sicut etiam dilectio. Et ideo de utroque dantur praecepta, quae sunt quasi quaedam principia communia totius legis.
(18) Ad secundum dicendum quod ex amore sequitur timor filialis, sicut etiam et alia bona opera quae ex caritate fiunt. Et ideo sicut post praeceptum caritatis dantur praecepta de aliis actibus virtutum, ita etiam simul dantur praecep-
248 Вопрос 22. О заповедях, относящихся к надежде и страху
начала, если не приведены также и выведенные из них заключения, близкие и отдаленные.
(19) На третье надлежит ответить, что по¬
буждения к страху достаточно для исключения самоуверенности, как и побуждения к надежде достаточно для исключения отчаяния, о чем уже было сказано (Р. 1).
ta de timore et amore caritatis. Sicut etiam in scientiis (19) Ad tertium dicendum quod inductio ad timorem sufficit demonstrativis non sufficit ponere principia prima, nisi ad excludendum praesumptionem, sicut etiam inductio ad
etiam ponantur conclusiones quae ex his sequuntur vel spem sufficit ad excludendum desperationem, ut dictum
proxime vel remote. est (a. 1).
Вопрос 23 О любви-каритас как таковой
Затем надлежит рассмотреть любовь- каритас. И во-первых, саму любовь-кари- тас (В. 23-44), а во-вторых, соответствующий ей дар мудрости (В. 45).
(2) И касательно первого надлежит рассмотреть пять [общих тем]: во-первых, саму любовь-каритас (23-24); во-вторых, объект любви-каритас (В. 25); в-третьих, действие любви-каритас (В. 27-33); в-четвертых, противоположные ей пороки (В. 34-43); в-пятых, относящиеся к ней заповеди (В. 44).
(3) Касательно же самой любви-каритас надлежит рассмотреть, во-первых, любовь- каритас как таковую, и, во-вторых, любовь-каритас в соотнесении со своим субъектом (В. 24).
(4) И касательно первого исследуются восемь [проблем]: 1) является ли любовь-каритас дружбой; 2) есть ли она нечто твар- ное в душе; 3) является ли она добродетелью; 4) является ли она особой добродетелью; 5) является ли она единой добродетелью; 6) является ли она наибольшей добродетелью; 7) может ли без нее добро¬
детель быть истинной добродетелью; 8) является ли она формой добродетелей.
Раздел 1
Является ли любовь-каритас дружбой
(5) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас не является дружбой.
(6) 1. В самом деле, как говорит Философ
в VIII книге «Этики», ничто так не приличествует дружбе, как жить сообща с другом. Но любовь-каритас соотносится с Богом и ангелами, которым не подобает жить сообща с людьми (Дан 2, 11). Следовательно, любовь-каритас не является дружбой.
(7) 2. Кроме того, не бывает дружбы без ответного чувства, как сказано в VIII книге «Этики». Но любовь-каритас распространяется даже на врагов (Мф 5, 44): Любите врагов ваших. Следовательно, любовь-каритас не является дружбой.
(8) 3. Кроме того, у дружбы, как говорит Философ, есть три вида, а именно: дружба- полезность, дружба-удовольствие и друж-
Quaestio 23 De cantate secundum se
(1) Consequenter considerandum est de caritate. Et primo,
de ipsa caritate; secundo, de dono sapientiae ei correspon- Articulus 1
dente. Utrum caritas sit amicitia
(2) Circa primum consideranda sunt quinque, pnmo, de ip- (5) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod cantas non sit sa cantate, secundo, de obiecto cantatis; tertio, de actibus amicitia.
eius; quarto, de vitiis oppositis; quinto, de praeceptis ad (6) 1. Nihil enim est ita proprium amicitiae sicut convivere
hoc pertinentibus. amico; ut philosophus dicit, in VIII Ethic. (5; 1157bl9)
(3) Circa primum est duplex consideratio, prima quidem Sed cantas est hominis ad Deum et ad Angelos, quorum
de ipsa caritate secundum se; secunda de caritate per non est cum hominibus conversatio, ut dicitur Dan. II.
comparationem ad subiectum. Ergo cantas non est amicitia.
(4) Circa primum quaeruntur octo. Primo, utrum caritas (7) 2. Praeterea, amicitia non est sine reamatione, ut dicitur
sit amicitia. Secundo, utrum sit aliquid creatum in anima. jn ущ £//n'c. (2- H55b28). Sed caritas habetur etiam ad Tertio, utrum sit virtus. Quarto, utrum sit virtus specialis. inimicos, secundum illud Matth. V, diligite inimicos vestros.
Quinto, utrum sit una virtus. Sexto, utrum sit maxima Ergo caritas non est amicitia.
virtutum. Septimo, utrum sine ea possit esse aliqua vera (8) 3 praeterea, amicitiae tres sunt species, secundum
virtus. Octavo, utrum sit forma virtutum. philosophum, in VIII Ethic. (3; 1156a7), scilicet amicitia
250
Вопрос 23. О любви-каритас как таковой
ба-уважение. Но любовь-каритас не есть дружба-удовольствие или дружба-полезность, поскольку, как пишет Иероним в послании к Паулину, которое помещают перед текстом Библии1, та дружба является истинной и скрепленной Христом, которую формируют не общие домашние интересы, не простое телесное присутствие, не лукавая и сладкая лесть, а страх Божий и изучение божественных Писаний. Но любовь- каритас не является также и дружбой-уважением, поскольку любовью-каритас мы любим даже грешников, а дружба-уважение, как сказано в VIII книге «Этики», может иметь место только по отношению к добродетельным людям. Следовательно, любовь-каритас не является дружбой.
(9) Но против: сказано (Ин 15, 15): Я уже не называю вас «рабами», но «друзьями». Но это было сказано только вследствие любви-каритас. Следовательно, любовь-каритас является дружбой.
(ю) Отвечаю: как говорит Философ, не всякая любовь обладает смысловым содержанием дружбы, но только та, которая соединена с благоволением, когда мы любим кого-либо так, что желаем ему блага. Если же мы не желаем блага любимым вещам, а желаем их блага себе (так, на¬
пример, мы любим вино, коня и т.п.), то такая любовь является не дружбой, а своего рода вожделением (ибо нелепо говорить о дружбе с вином или с конем). Однако одного благоволения для смыслового содержания дружбы недостаточно: необходима также и некая взаимность любви, поскольку друг — это друг друга. Но подобное благоволение основывается на своего рода общении. Итак, поскольку между человеком и Богом существует некое общение, сообразно тому, что Он со-общает нам Свое блаженство, постольку на этом общении может основываться некая дружба. И о ней сказано (1 Кор 1, 9): Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его. И любовь, основывающаяся на этом общении, есть любовь-каритас. Поэтому очевидно, что любовь-каритас является некоей дружбой человека и Бога.
(и) Итак, на первое надлежит ответить, что о жизни человека говорят в двух смыслах. Во-первых, как о внешней жизни, имеющей место сообразно телесной и чувственно воспринимаемой природе; и в этом смысле никакого общения или связи между нами и Богом или ангелами быть не может. Во-вторых, можно говорить о духовной жизни человека сообразно его уму;
delectabilis, utilis et honesti. Sed caritas non est amicitia utilis aut delectabilis, dicit enim Hieronymus, in Epist. ad Paulinum (Epist. 53, PL 22, 540), quae ponitur in pnncipio Bibliae, illa est vera necessitudo, et Christi glutino copulata, quam non utilitas rei familiaris, non praesentia tantum corporum, non subdola et palpans adulatio, sed Dei timor et divinarum Scripturarum studia conciliant. Similiter etiam non est amicitia honesti, quia caritate diligimus etiam peccatores; amicitia vero honesti non est nisi ad virtuosos, ut dicitur in VIII Ethic. (4; 1157al8). Ergo caritas non est amicitia.
(9) Sed contra est quod Ioan. XV dicitur, iam non dicam vos servos, sed amicos meos. Sed hoc non dicebatur eis nisi ratione cantatis. Ergo caritas est amicitia.
(10) Respondeo dicendum quod, secundum philosophum, in VIII Ethic. (2; 1155b31), non quilibet amor habet rationem amicitiae, sed amor qui est cum benevolentia, quando scilicet sic amamus aliquem ut ei bonum velimus. Si autem rebus amatis non bonum velimus, sed ipsum
eorum bonum velimus nobis, sicut dicimur amare vinum aut equum aut aliquid huiusmodi, non est amor amicitiae, sed cuiusdam concupiscentiae, ridiculum enim est dicere quod aliquis habeat amicitiam ad vinum vel ad equum. Sed nec benevolentia sufficit ad rationem amicitiae, sed requiritur quaedam mutua amatio, quia amicus est amico amicus. Talis autem mutua benevolentia fundatur super aliqua communicatione. Cum igitur sit aliqua communicatio hominis ad Deum secundum quod nobis suam beatitudinem communicat, super hac communicatione oportet aliquam amicitiam fundari. De qua quidem communicatione dicitur I ad Cor. I, fidelis Deus, per quem vocati estis in societatem filii eius. Amor autem super hac communicatione fundatus est caritas. Unde manifestum est quod caritas amicitia quaedam est hominis ad Deum.
(11) Ad primum ergo dicendum quod duplex est hominis vita. Una quidem exterior secundum naturam sensibilem et corporalem, et secundum hanc vitam non est nobis communicatio vel conversatio cum Deo et Angelis. Alia autem
Раздел 2. Является ли любовь-каритас чем-то тварным в душе
251
и в этом смысле общение человека с Богом и ангелами возможно, хотя в этой земной жизни оно несовершенно, почему и сказано (Филип 3, 20): Наше же жительство — на небесах. И на небесах это жительство станет совершенным, когда рабы Его будут служить Ему; и узрят Лицо Его (Откр 22, 3,
4). И потому здесь любовь-каритас несовершенна, а совершенной она будет в Небесном Отечестве.
(12) На второе надлежит ответить, что дружба распространяется на некоего человека двояко: во-первых, в отношении его самого (и в этом случае дружба распространяется только на друзей); во-вторых, она распространяется на кого-либо сообразно его отношению к третьему лицу, например, когда человек ради своего друга любит то, что ему дорого: детей, слуг и т. д. И если наша любовь к другу очень сильна, то ради него мы готовы любить всех, кто ему близок, даже если те ненавидят нас и вредят нам. И в этом смысле дружба любви- каритас распространяется даже на наших врагов, которых мы любим в силу того, что упорядоченно любим любовью-каритас Бога, с Которым она преимущественно и соотносится.
(13) На третье надлежит ответить, что дружба-уважение обращена на добродетельного человека как основное лицо, но ради него любят также и тех, кто близок ему, даже если сами они и не являются добродетельными. И именно в этом смысле любовь- каритас, которая является дружбой-уважением в высшей степени, распространяется и на грешников, которых мы любим из любви к Богу.
Раздел 2 Является ли любовь-каритас чем-то тварным в душе
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что любовь-каритас не является чем-то тварным в душе.
(15) 1. В самом деле, Августин говорит, что
тот, кто любит ближнего, с необходимостью любит и саму любовь. Но Бог есть Любовь. Следовательно, он прежде всего любит Бога. Далее, Августин говорит, что «Бог есть Любовь» сказано в том же смысле, в каком говорится, что «Бог есть Дух». Следовательно, любовь не является чем-либо сотворенным в душе, но она есть сам Бог.
(16) 2. Кроме того, Бог — духовная жизнь
души, подобно тому, как сама душа — жизнь тела, согласно сказанному (Вт 30,
est vita hominis spintualis secundum mentem. Et secundum hanc vitam est nobis conversatio et cum Deo et cum Angelis. In praesenti quidem statu imperfecte, unde dicitur Philipp. III, nostra conversatio in caelis est. Sed ista conversatio perficietur in patria, quando servi eius servient Deo et videbunt faciem eius, ut dicitur Apoc. ult. Et ideo hic est caritas imperfecta, sed perficietur in patria.
(12) Ad secundum dicendum quod amicitia se extendit ad aliquem dupliciter. Uno modo, respectu sui ipsius, et sic amicitia nunquam est nisi ad amicum. Alio modo se extendit ad aliquem respectu alterius personae, sicut, si aliquis habet amicitiam ad aliquem hominem, ratione eius diligit omnes ad illum hominem pertinentes, sive filios sive servos sive qualitercumque ei attinentes. Et tanta potest esse dilectio amici quod propter amicum amantur hi qui ad ipsum pertinent etiam si nos offendant vel odiant. Et hoc modo amicitia caritatis se extendit etiam ad inimicos, quos diligimus ex caritate in ordine ad Deum, ad quem principaliter habetur amicitia caritatis.
(13) Ad tertium dicendum quod amicitia honesti non habetur nisi ad virtuosum sicut ad pnncipalem personam, sed eius intuitu diliguntur ad eum attinentes etiam si non sint virtuosi. Et hoc modo caritas, quae maxime est amicitia honesti, se extendit ad peccatores, quos ex caritate diligimus propter Deum.
Articulus 2 Utrum caritas sit aliquid creatum in anima
(14) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod caritas non sit aliquid creatum in anima.
(15) 1. Dicit enim Augustinus, in VIII De Trin. (7; PL 42, 957), qui proximum diligit, consequens est ut ipsam dilectionem diligat. Deus autem dilectio est. Consequens est ergo ut praecipue Deum diligat. Et in XV De Trin. ( 17; PL 42, 1080) dicit, ita dictum est, Deus caritas est, sicut dictum est, Deus spiritus est. Ergo caritas non est aliquid creatum in anima, sed est ipse Deus.
(16) 2. Praeterea, Deus est spiritualiter vita animae, sicut
252
Вопрос 23. О любви-каритас как таковой
20): В этом жизнь твоя. Но душа сама по себе оживляет тело. Следовательно, и Бог сам по себе оживляет душу. Но Он оживляет ее любовью-каритас, согласно этим словам (1 Ин 3, 14): Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Следовательно, Бог есть сама лю- бовь-каритас.
(17) 3. Кроме того, никакое творение не может обладать бесконечной силой, и любое творение суетно. Но любовь-каритас не является суетностью, скорее она противоположна суетности, и при этом сила ее бесконечна, поскольку она приводит душу человека к бесконечному благу. Следовательно, любовь-каритас не является чем- либо тварным в душе.
(18) Но против: Августин говорит: Любовью-каритас я называю движение души к наслаждению Богом ради Него самого. Но движение души есть нечто тварное в душе. Следовательно, любовь-каритас есть нечто тварное в душе.
(19) Отвечаю: надлежит сказать, что Магистр, тщательно исследовав этот вопрос, пришел к выводу, что любовь-каритас является не чем-то тварным в душе, а самим Святым Духом, обитающим в человеческом уме. Однако он имел в виду не то,
что движение любви, посредством которого мы любим Бога, есть сам Святой Дух, а то, что это движение исходит от Святого Духа без участия посредствующего хабиту- са, в то время как другие добродетельные действия исходят от Него при посредстве хабитусов других добродетелей, например, хабитуса веры, надежды и т. д. И по словам Магистра, так происходит по причине превосходства любви-каритас.
(20) Но если мы подойдем к вопросу должным образом, то поймем, что это, напротив, принижает любовь. В самом деле, движение любви-каритас не возникает в результате того, что Святой Дух движет человеческий ум таким образом, что сам человеческий ум является только движимым и не выступает в качестве начала этого движения (так, как тело движимо неким внешним двигателем). Ведь иначе нельзя было бы говорить о добровольности действия, ибо начало добровольного действия, как было показано выше (Ч. II-I, В. 6, Р. 1), должно находиться в нем самом. И тогда действие любви-каритас не было бы добровольным действием, что привело бы к противоречию, поскольку любовь по самой своей сути предполагает действие воли. Но точно так же нельзя говорить,
anima vita corporis, secundum illud Deut. XXX, ipse est vita tua. Sed anima vivificat corpus per seipsam. Ergo Deus vivificat animam per seipsum. Vivificat autem eam per caritatem, secundum illud I Ioan. III, nos scimus quoniam translati sumus de morte ad vitam, quoniam diligimus fratres. Ergo Deus est ipsa caritas.
(17) 3. Praeterea, nihil creatum est infinitae virtutis, sed magis omnis creatura est vanitas. Cantas autem non est vanitas, sed magis vanitati repugnat, et est infinitae virtutis, quia animam hominis ad bonum infinitum perducit. Ergo caritas non est aliquid creatum in anima.
(18) Sed contra est quod Augustinus dicit, in III De doct. Christ. (10; PL 34, 72), caritatem voco motum animi ad fruendum Deo propter ipsum. Sed motus animi est aliquid creatum in anima. Ergo et caritas est aliquid creatum in anima.
(19) Respondeo dicendum quod Magister perscrutatur hanc quaestionem in XVII dist. I lib. Sent. (I, d. 17, c. 1; QR 1, 106), et ponit quod caritas non est aliquid creatum in
anima, sed est ipse spintus sanctus mentem inhabitans. Nec est sua intentio quod iste motus dilectionis quo Deum diligimus sit ipse spiritus sanctus, sed quod iste motus dilectionis est a spiritu sancto non mediante aliquo habitu, sicut a spiritu sancto sunt alii actus virtuosi mediantibus habitibus aliarum virtutum, puta habitu spei aut fidei aut alicuius alterius virtutis. Et hoc dicebat propter excellentiam caritatis.
(20) Sed si quis recte consideret, hoc magis redundat in caritatis detrimentum. Non enim motus caritatis ita procedit a spiritu sancto movente humanam mentem quod humana mens sit mota tantum et nullo modo sit principium huius motus, sicut cum aliquod corpus movetur ab aliquo exteriori movente. Hoc enim est contra rationem voluntarii, cuius oportet pnncipium in ipso esse, sicut supra dictum est (II-I, q. 6, a. 1). Unde sequeretur quod diligere non esset voluntarium. Quod implicat contradictionem, cum amor de sui ratione importet quod sit actus voluntatis. Similiter etiam non potest dici quod sic moveat spiritus
Раздел 2. Является ли любовь-каритас чем-то тварным в душе
253
ЧТо Святой Дух подвигает волю к действию любви так, как если бы воля была орудием, поскольку, хотя орудие и может являться началом действия, оно не способно выбирать, действовать ему или нет. И в этом случае устранялось бы смысловое содержание добровольности и награды, при том, что выше было показано (Ч.11-1, В. 114, Р. 4), что любовь-каритас является основанием заслуги. И потому надлежит, чтобы Дух Святой подвигал волю к действию любви таким образом, чтобы воля тоже была действующей причиной по отношению к нему. Но ни одна активная способность не может осуществить совершенное действие, если то не соприрод- но ей благодаря некоей форме, которая является началом действия. Поэтому Бог, Который движет все вещи к их должным целям, наделяет каждую той формой, посредством которой она склоняется к предназначенной ей цели, и тем самым Он все устрояет на пользу (Прем 8, 1). Однако очевидно, что действие любви-каритас превосходит природные возможности воли. Поэтому если бы к этой естественной способности не добавлялась некая форма, склоняющая к действию любви, то ее действие было бы менее совершенным,
чем природные действия и действия других добродетелей, а его осуществление не было бы легким и приятным. Но это явным образом ложно, поскольку никакая другая добродетель не обладает такой сильной склонностью к действию, как любовь-каритас, и никакая добродетель не действует с большим удовольствием. Поэтому для действия любви-каритас в высшей степени необходимо, чтобы в нас существовала некая хабитуальная форма, добавленная к естественной способности, которая склоняла бы эту естественную способность к действию любви-каритас и делала бы это действие легким и приятным.
(21) Итак, на первое надлежит ответить, что божественная сущность есть сама любовь, равно как и сама мудрость, и сама благость. Поэтому мы называемся благими той благостью, которая есть Бог, и мудрыми той мудростью, которая есть Бог, поскольку благость, посредством которой мы формально благи, есть некая причастность божественной благости, и мудрость, посредством которой мы формально мудры, есть некая причастность божественной мудрости. И точно так же та любовь-каритас, посредством которой мы формально любим ближнего, есть некая причастность
sanctus voluntatem ad actum diligendi sicut movetur instrumentum quod, etsi sit principium actus, non tamen est in ipso agere vel non agere. Sic enim etiam tolleretur ratio voluntarii, et excluderetur ratio menti, cum tamen supra habitum sit (II-I, q. 114, a. 4) quod dilectio caritatis est radix merendi. Sed oportet quod sic voluntas moveatur a spintu sancto ad diligendum quod etiam ipsa sit efficiens hunc actum. Nullus autem actus perfecte producitur ab aliqua potentia activa nisi sit ei connaturalis per aliquam formam quae sit principium actionis. Unde Deus, qui omnia movet ad debitos fines, singulis rebus indidit formas per quas inclinantur ad fines sibi praestitutos a Deo, et secundum hoc disponit omnia suaviter, ut dicitur Sap. VIII. Manifestum est autem quod actus caritatis excedit naturam potentiae voluntatis. Nisi ergo aliqua forma superadderetur naturali potentiae per quam inclinaretur ad dilectionis actum, secundum hoc esset actus iste imperfectior actibus naturalibus et actibus aliarum virtutum, nec esset facilis et delectabilis. Quod patet esse falsum, quia
nulla virtus habet tantam inclinationem ad suum actum sicut caritas, nec aliqua ita delectabiliter operatur. Unde maxime necesse est quod ad actum caritatis existât in nobis aliqua habitualis forma superaddita potentiae naturali, inclinans ipsam ad caritatis actum, et faciens eam prompte et delectabiliter operari.
(21) Ad primum ergo dicendum quod ipsa essentia divina cantas est, sicut et sapientia est, et sicut bonitas est. Unde sicut dicimur boni bonitate quae Deus est, et sapientes sapientia quae Deus est, quia bonitas qua formaliter boni sumus est participatio quaedam divinae bonitatis, et sapientia qua formaliter sapientes sumus est participatio quaedam divinae sapientiae; ita etiam caritas qua formaliter diligimus proximum est quaedam participatio divinae cantatis. Hic enim modus loquendi consuetus est apud Platonicos, quorum doctrinis Augustinus fuit imbutus (cf. Petrus Lombardus, Sent., I, d. 17, c. 1; QR 1, 106). Quod quidam non advertentes ex verbis eius sumpserunt occasionem errandi.
254
Вопрос 23. О любви-каритас как таковой
божественной любви-каритас. В самом деле, такой образ мысли был характерен для платоников, учением которых вдохновлялся Августин, и некоторые, не вполне понимая его, нашли в его словах основание для заблуждения.
(22) На второе надлежит ответить, что в смысле действующей причины Бог является и жизнью души — через любовь-каритас, и жизнью тела — через душу. Но в смысле формальной причины жизнью души является любовь-каритас, а жизнью тела — душа. И из этого можно заключить, что как душа непосредственно соединяется с телом, так и любовь-каритас — с душой.
(23) На третье надлежит ответить, что любовь-каритас действует формально. Но действенность формы соответствует силе того действующего, который внедрил данную форму. И потому то, что любовь-каритас не является суетностью, но производит бесконечное следствие, пока соединяет душу с Богом, оправдывая ее, демонстрирует бесконечность божественной силы, которая и создает любовь-каритас.
Раздел 3
Является ли любовь-каритас добродетелью
(24) Ход рассуждения в третьем разделе та¬
ков. Представляется, что любовь-каритас не является добродетелью.
(25) 1. В самом деле, любовь-каритас есть некая дружба. Но Философ не считает дружбу добродетелью, ведь он не причисляет ее ни к моральным, ни к интеллектуальным добродетелям. Следовательно, добродетелью не является и любовь-каритас.
(26) 2. Кроме того, добродетель есть предел способности, как сказано в I книге «О небе и мире». Но любовь-каритас не является пределом, ведь пределом является скорее радость и мир. Следовательно, как кажется, любовь-каритас не является добродетелью; скорее добродетелью являются радость и мир.
(27) 3. Кроме того, любая добродетель есть некий акцидентальный хабитус. Но любовь-каритас не является акцидентальным хабитусом, поскольку она благороднее самой души, а никакая акциденция не может быть благороднее своего субъекта. Следовательно, любовь-каритас не является добродетелью.
(28) Но против: Августин говорит, что любовь-каритас есть добродетель, которая, когда наши аффекты направлены должным образом, соединяет нас с Богом, Который любим нами этой любовью.
(22) Ad secundum dicendum quod Deus est vita effective et (25) 1. Cantas enim est amicitia quaedam. Sed amicitia animae per cantatem et corporis per animam, sed for- a philosophis non ponitur virtus, ut in libro Ethic. (1; 1155a3)
maliter caritas est vita animae, sicut et anima corporis. patet, neque enim connumeratur inter virtutes morales
Unde per hoc potest concludi quod, sicut anima immedi- neque inter intellectuales. Ergo etiam neque cantas est
ate unitur corpori, ita caritas animae. virtus.
(23) Ad tertium dicendum quod caritas operatur formaliter. (26) 2. Praeterea, virtus est ultimum potentiae, ut dicitur in Efficacia autem formae est secundum virtutem agentis qui j De cado (u; 281all; ‘al8). Sed caritas non est ultimum;
inducit formam. Et ideo quod caritas non est vanitas, sed sed magis gaudium et pax. Ergo videtur quod cantas non
facit effectum infinitum dum coniungit animam Deo iusti- sit virtus; sed magis gaudium et pax.
ficando ipsam, hoc demonstrat infinitatem virtutis divinae, ^7) 3. Praeterea, omnis virtus est quidam habitus acciden- quae est caritatis auctor. talis sed caritas non est habitus accidentalis, cum sit
nobilior ipsa anima; nullum autem accidens est nobilius Articulus 3 subiecto. Ergo caritas non est virtus.
Utrum caritas sit virtus (28) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De moribus
(24) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod cantas non sit Ecdes (, 2; pL 32> Ш9)> carim es, virtus quae^ cum
vlrtus' nostra rectissima affectio est, coniungit nos Deo, qua eum
diligimus.
Раздел 3. Является ли любовь-каритас добродетелью
255
(29) Отвечаю: надлежит сказать, что человеческие действия обладают благостью настолько, насколько они регулируются надлежащими правилами и мерой. Поэтому человеческая добродетель, которая есть начало всех благих действий человека, заключается в следовании мере человеческих действий, которая, как было сказано выше (В. 17, Р. 1), двойственна, а именно, человеческий разум и Бог. Следовательно, подобно тому, как моральная добродетель, согласно сказанному во II книге «Этики», определяется в соответствии с правильным суждением, так и достижение Бога дает смысловое содержание добродетели, как уже говорилось ранее о вере и надежде (В. 4, Р. 5; В. 17, Р. 1). Таким образом, поскольку любовь-каритас достигает Бога, так как она соединяет нас с Ним (как явствует из приведенного авторитетного суждения Августина), постольку она является добродетелью.
(30) Итак, на первое надлежит ответить, что Философ не отрицает того, что дружба является добродетелью, но говорит, что это или добродетель, или нечто причастное добродетели. В самом деле, можно сказать, что она является моральной добродетелью, относящейся к действиям, совершаемым
в отношении другого человека, но в аспекте, отличном от справедливости. Ведь справедливость касается того, что делается по отношению к другому человеку в аспекте законного должного, а дружба, как явствует из слов Философа в VIII книге «Этики», касается того, что делается по отношению к другому человеку в аспекте должного по дружбе и сообразно нравственности или, скорее, безвозмездного благодеяния. Следует сказать, однако, что она не является отдельной от других добродетелью. Ведь она получает смысловое содержание похвального и достойного только от объекта, а именно, сообразно тому, что она опирается на достоинство добродетелей. Это очевидно из того факта, что не всякая дружба похвальна и достойна (например, когда она основана на удовольствии или выгоде). Поэтому добродетельная дружба есть скорее нечто, проистекающее из добродетелей, нежели сама добродетель. Следовательно, здесь нет подобия любви-каритас, которая основывается главным образом на благости Божией, а не на добродетели человека.
(31) На второе надлежит ответить, что любовь к человеку и радость за него относятся
(29) Respondeo dicendum quod humani actus bonitatem habent secundum quod regulantur debita regula et mensura, et ideo humana virtus, quae est principium omnium bonorum actuum hominis, consistit in attingendo regulam humanorum actuum. Quae quidem est duplex, ut supra dictum est (q. 17, a 1), scilicet humana ratio, et ipse Deus. Unde sicut virtus moralis definitur per hoc quod est secundum rationem rectam, ut patet in II Ethic (6, 1107al), ita etiam attingere Deum constituit rationem virtutis, sicut etiam supra dictum est de fide et spe (q. 4, a. 5; q. 17, a. 1). Unde, cum cantas attingit Deum, quia coniungit nos Deo, ut patet per auctontatem Augustini inductam; consequens est cantatem esse virtutem.
(30) Ad primum ergo dicendum quod philosophus in VIII Ethic (1; 1155a3) non negat amicitiam esse virtutem, sed dicit quod est virtus vel cum virtute Posset enim dici quod est virtus moralis circa operationes quae sunt ad alium, sub alia tamen ratione quam iustitia. Nam iustitia est circa operationes quae sunt ad alium sub ratione debiti legalis,
amicitia autem sub ratione cuiusdam debiti amicabilis et moralis, vel magis sub ratione beneficii gratuiti, ut patet per philosophum, in VIII Ethic. (13; 1162b21). Potest tamen dici quod non est virtus per se ab aliis distincta. Non enim habet rationem laudabilis et honesti nisi ex obiecto, secundum scilicet quod fundatur super honestate virtutum, quod patet ex hoc quod non quaelibet amicitia habet rationem laudabilis et honesti, sicut patet in amicitia delectabilis et utilis. Unde amicitia virtuosa magis est aliquid consequens ad virtutes quam sit virtus. Nec est simile de cantate, quae non fundatur pnncipaliter super virtute humana, sed super bonitate divina.
(31) Ad secundum dicendum quod eiusdem virtutis est diligere aliquem et gaudere de illo, nam gaudium amorem consequitur, ut supra habitum est, cum de passionibus ageretur (II-I, q. 25, a. 4) Et ideo magis ponitur virtus amor quam gaudium, quod est amons effectus. Ultimum autem quod ponitur in ratione virtutis non importat ordinem effectus, sed magis ordinem superexcessus cuiusdam, sicut centum
256
Вопрос 23. О любви-каритас как таковой
к одной и той же добродетели, поскольку радость следует за любовью, как было установлено ранее, когда речь шла о страстях (Ч. II-I, В. 25, Р. 4). И потому добродетелью считают любовь, а не радость, которая есть ее следствие. А когда в смысловое содержание добродетели включают предельность, то это подразумевает не порядок следствий, а порядок превосходства, в том смысле, в каком сто фунтов превосходят шестьдесят.
(32) На третье надлежит ответить, что любая акциденция по своему бытию ниже субстанции, поскольку субстанция есть сущее само по себе, а акциденция существует в чем-то другом. Однако сообразно смысловому содержанию своего вида та акциденция, которая причинно обусловливается началами своего субъекта, конечно, меньше своего субъекта, как следствие меньше причины, но та акциденция, которая причинно обусловливается причастностью более возвышенной природе, превосходнее своего субъекта, поскольку является подобием более превосходной природы, как свет превосходнее прозрачного тела. И в этом смысле любовь-каритас превосходнее души, поскольку она есть некая причастность Святому Духу.
librae excedunt sexaginta.
(32) Ad tertium dicendum quod omne accidens secundum suum esse est inferius substantia, quia substantia est ens per se, accidens autem in alio. Sed secundum rationem suae speciei, accidens quidem quod causatur ex principiis subiecti est indignius subiecto, sicut effectus causa. Accidens autem quod causatur ex participatione alicuius superioris naturae est dignius subiecto, inquantum est similitudo supenons naturae, sicut lux diaphano. Et hoc modo caritas est dignior anima, inquantum est participatio quaedam spiritus sancti.
Articulus 4 Utrum caritas sit virtus specialis
(33) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod caritas non sit virtus specialis.
(34) 1. Dicit enim Hieronymus (cf. August., Epist. 168 ad Iieron., c.4; PL 33, 729), ut breviter omnem virtutis defin-
Раздел 4 Является ли любовь-каритас особой добродетелью
(33) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас не является особой добродетелью.
(34) 1. В самом деле, Иероним говорит: Чтобы дать краткое определение любой добродетели, скажу: добродетель есть любовь- каритас, которой любят Бога и ближнего; и Августин говорит, что добродетель есть порядок в любви. Но никакая особая добродетель не может входить в общее определение добродетели. Следовательно, любовь- каритас не является особой добродетелью.
(35) 2. Кроме того, то, что распространяется на деяния всех добродетелей, не может быть особой добродетелью. Но любовь-каритас распространяется на деяния всех добродетелей, согласно этим словам (1 Кор 13, 4): Любовь долготерпит, милосердствует и т. д. Также она распространяется и на все человеческие дела, согласно сказанному (1 Кор 16, 14): Все у вас да будет с любовью. Следовательно, любовь- каритас не является особой добродетелью.
(36) 3. Кроме того, заповеди закона относятся к действиям добродетелей. Но Августин говорит, что «возлюби» есть общая
itionem complectar, virtus est caritas, qua diligitur Deus et proximus. Et Augustinus dicit, in libro De moribus Eccles. (cf. De civit. Dei, XV, 22; PL 41, 467), quod virtus est ordo amoris. Sed nulla virtus specialis ponitur in definitione virtutis communis. Ergo caritas non est specialis virtus.
(35) 2. Praeterea, illud quod se extendit ad opera omnium virtutum non potest esse specialis virtus. Sed caritas se extendit ad opera omnium virtutum, secundum illud I ad Cor. XIII, caritas patiens est, benigna est, et cetera. Extendit etiam se ad omnia opera humana, secundum illud I ad Cor. ult., omnia opera vestra in caritate fiant. Ergo caritas non est specialis virtus.
(36) 3. Praeterea, praecepta legis respondent actibus virtutum. Sed Augustinus, in libro De perfect, hum. iust. (5; PL 44, 297), dicit quod generalis iussio est, diliges’, et generalis prohibitio, non concupisces. Ergo caritas est generalis virtus.
Раздел 4. Является ли любовь-каритас особой добродетелью
257
заповедь, а «не возжелай» есть общий запрет. Следовательно, любовь-каритас есть обшая добродетель.
(37) Но против: общее не перечисляется вместе с особым. Но любовь-каритас перечислена вместе с особыми добродетелями, а именно надеждой и верой, согласно этому (1 Кор 13, 13): А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Следовательно, любовь-каритас является отдельной добродетелью.
(38) Отвечаю: надлежит сказать, что действия и хабитусы получают свой вид от объектов, как явствует из сказанного выше (Ч. II I, В. 18, Р. 2; Ч. II I, В. 54, Р. 2). Но собственным объектом любви является благо, как уже было установлено (Ч. II-I, В. 27, Р. 1), и потому там, где имеется особое смысловое содержание блага, там имеется и особое смысловое содержание любви. Но божественное благо, насколько оно является объектом блаженства, обладает особым смысловым содержанием блага, и потому любовь-каритас, которая есть любовь к этому благу, является особой любовью. Следовательно, любовь-каритас является также и особой добродетелью.
(39) Итак, на первое надлежит ответить, что любовь входит в определение всех добро¬
детелей не потому, что она сущностно является каждой добродетелью, но потому, что все добродетели так или иначе зависят от нее, как будет сказано далее (Р. 7). Так ведь и благоразумие входит в определение моральных добродетелей, поскольку все они зависят от него, как явствует из II и VI книг «Этики».
(40) На второе надлежит ответить, что добродетель или искусство, которые соотносятся с предельной целью, повелевают теми добродетелями или искусствами, которые соотносятся с другими, вторичными целями; так, военное искусство повелевает искусством верховой езды, как сказано в I книге «Этики». И потому, поскольку объектом любви-каритас является предельная цель человеческой жизни, а именно вечное блаженство, она распространяется на все дела человеческой жизни: в том смысле, что господствует над ними, но не в том, что как бы непосредственно избирает все действия добродетелей.
(41) На третье надлежит ответить, что о заповеди любви говорят как об общей заповеди потому, что к ней как к своей цели сводятся все прочие заповеди, согласно этим словам (1 Тим 1,5): Цель же увещания есть любовь.
(37) Sed contra, nullum generale connumeratur speciali. Sed caritas connumeratur specialibus virtutibus, scilicet fidei et spei, secundum illud I ad Cor. XIII, nunc autem manent fides, spes, caritas, tria haec. Ergo cantas est virtus specialis.
(38) Respondeo dicendum quod actus et habitus specifican- tur per obiecta, ut ex supradictis patet (II-I, q. 18, a. 2; q. 54, a 2). Propnum autem obiectum amoris est bonum, ut supra habitum est (II-I, q. 27, a. 1). Et ideo ubi est specialis ratio boni, ibi est specialis ratio amoris. Bonum autem divinum, inquantum est beatitudinis obiectum, habet specialem rationem boni. Et ideo amor cantatis, qui est amor huius boni, est specialis amor. Unde et cantas est specialis virtus.
(39) Ad primum ergo dicendum quod cantas ponitur in definitione omnis virtutis, non quia sit essentialiter omnis vir¬
tus, sed quia ab ea dependent aliqualiter omnes virtutes, ut infra dicetur (a. 7). Sicut etiam prudentia ponitur in definitione virtutum moralium, ut patet in II (13; 1144b26) et VI (6; 1107al) Ethic., eo quod virtutes morales dependent a prudentia.
(40) Ad secundum dicendum quod virtus vel ars ad quam pertinet finis ultimus, imperat virtutibus vel artibus ad quas pertinent alii fines secundani, sicut militans imperat equestn, ut dicitur in I Ethic. (1; 1094al2). Et ideo, quia caritas habet pro obiecto ultimum finem humanae vitae, scilicet beatitudinem aeternam, ideo extendit se ad actus totius humanae vitae per modum impeni, non quasi immediate eliciens omnes actus virtutum.
(41) Ad tertium dicendum quod praeceptum de diligendo dicitur esse iussio generalis, quia ad hoc reducuntur omnia alia praecepta sicut ad finem, secundum illud I ad Tim. I, finis praecepti caritas est.
258
Вопрос 23. О любви-каритас как таковой
Раздел 5
Действительно ли любовь-каритас является единой добродетелью
(42) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас не является единой добродетелью.
(43) 1. В самом деле, хабитусы различаются согласно объектам. Но у любви-каритас два объекта, Бог и ближний, которые бесконечно удалены друг от друга. Следовательно, любовь-каритас не является единой добродетелью.
(44) 2. Кроме того, разные аспекты объекта различают хабитусы, даже если реально объект один, как явствует из сказанного выше (В. 17, Р. 6, на 1; Ч. II-I, В. 54, Р. 2, на 1). Но есть много аспектов любви к Богу, поскольку мы являемся должниками Его любви за каждое воспринятое Его благодеяние. Следовательно, любовь- каритас не является единой добродетелью.
(45) 3. Кроме того, любовь-каритас включает дружеские отношения с ближним. Но Философ в VIII книге «Этики» указывает несколько видов дружбы. Следовательно, любовь-каритас не является единой добродетелью, но подразделяется на несколько видов.
Articulus 5 Utram caritas sit una virtus
(42) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod caritas non sit una virtus.
(43) 1. Habitus enim distinguuntur secundum obiecta. Sed duo sunt obiecta caritatis, Deus et proximus, quae in infinitum ab invicem distant. Ergo cantas non est una virtus.
(44) 2. Praeterea, diversae rationes obiecti diversificant habitum, etiam si obiectum sit realiter idem, ut ex supradictis patet (q. 17, a. 6, ad 1; II-I, q. 54, a. 2, ad 1). Sed multae sunt rationes diligendi Deum, quia ex singulis beneficiis eius perceptis debitores sumus dilectionis ipsius. Ergo caritas non est una virtus.
(45) 3. Praeterea, sub caritate includitur amicitia ad proximum. Sed philosophus, in VIII Ethic. (3; 1156a7), ponit diversas amicitiae species. Ergo caritas non est una virtus, sed multiplicatur in diversas species.
(46) Но против: Бог является объектом как любви-каритас, так и объектом веры. Но вера — единая добродетель, поскольку божественная истина едина, согласно этим словам (Ефес 4, 5): Одна вера. Следовательно, также и любовь-каритас является единой добродетелью вследствие единства божественной благости.
(47) Отвечаю: надлежит сказать, что как было показано выше (Р. 1), любовь-каритас есть некая дружба человека и Бога. Но различие видов дружбы имеет место, во-первых, со стороны различия целей; и в этом смысле есть три вида дружбы, а именно, дружба-полезность, дружба-удовольствие и дружба-уважение. Во-вторых, различие видов дружбы имеет место со стороны различия связей, на которых основывается дружба; и в этом смысле, одним видом дружбы является дружба между кровными родственниками, а другим — дружба между согражданами или спутниками, причем первый вид основан на природной связи, а второй — на общественных связях или на товариществе попутчиков, как говорит Философ в VIII книге «Этики». Однако любовь-каритас не может быть разделена ни одним из вышеуказанных способов, ведь ее цель, а именно благость Бо-
(46) Sed contra, sicut obiectum fidei est Deus, ita et caritatis. Sed fides est una virtus, propter unitatem divinae veritatis, secundum illud ad Ephes. IV, una fides. Ergo etiam caritas est una virtus, propter unitatem divinae bonitatis.
(47) Respondeo dicendum quod caritas, sicut dictum est (a. 1), est quaedam amicitia hominis ad Deum. Diversae autem amicitiarum species accipiuntur quidem uno modo secundum diversitatem finis, et secundum hoc dicuntur tres species amicitiae, scilicet amicitia utilis, delectabilis et honesti. Alio modo, secundum diversitatem communicationum in quibus amicitiae fundantur, sicut alia species amicitiae est consanguineorum, et alia concivium aut peregrinantium, quarum una fundatur super communicatione naturali, aliae super communicatione civili vel peregrinationis; ut patet per philosophum, in VIII Ethic. (12; 1161Ы1). Neutro autem istorum modorum caritas potest dividi in plura. Nam caritatis finis est unus, scilicet divina bonitas. Est etiam et una communicatio beatitudinis aeternae, super quam haec amicitia fundatur.
Раздел 6. Является ли любовь-каритас наиболее превосходной добродетелью
259
жия, едина, равно как едина и общность вечного блаженства, на котором основана эта дружба. И потому остается только, что любовь-каритас является единой добродетелью безусловно, и не разделяется на несколько видов.
(48) Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент имел бы силу, если бы Бог и ближний были равноценными объектами любви-каритас. Но это не так, поскольку главным объектом любви-каритас является Бог, в то время как ближний любим из любви к Богу и ради Бога.
(49) На второе надлежит ответить, что любовью-каритас Бога любят ради Него самого. Поэтому любовь-каритас соотносится только с одним аспектом, а именно с благостью Божией, каковая есть Его субстанция, согласно этим словам (Пс 105, 1): Славьте Господа, ибо Он — благ. Все прочие аспекты, побуждающие или обязывающие нас любить Бога, являются вторичными и следуют из первого.
(50) На третье надлежит ответить, что у человеческой дружбы, о которой говорит Философ, имеются различные цели и различные виды связи. Но, как уже говорилось, в случае любви-каритас этого нет. И потому здесь нет подобия.
Раздел 6
Является ли любовь-каритас наиболее превосходной добродетелью
(51) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас не является наиболее превосходной добродетелью.
(52) 1. В самом деле, чем возвышеннее способность, тем возвышенней и ее добродетель, равно как и действие. Но разум возвышеннее воли и направляет ее. Следовательно, вера, которая находится в разуме, превосходнее любви-каритас, которая находится в воле.
(53) 2. Кроме того, то, посредством чего нечто действует, представляется меньшим сравнительно с ним: так, слуга, посредством которого действует господин, ниже его. Однако сказано (Гал 5, 6): Вера действует любовью. Следовательно, вера превосходнее любви-каритас.
(54) 3. Кроме того, то, что дополняет нечто другое, представляется более совершенным. Но надежда, как кажется, есть нечто, дополняющее любовь-каритас, поскольку объектом любви-каритас является благо, а объектом надежды — труднодостижимое благо. Следовательно, надежда превосходнее любви-каритас.
Unde relinquitur quod cantas est simpliciter una virtus, non distincta in plures species.
(48) Ad primum ergo dicendum quod ratio illa directe procederet si Deus et proximus ex aequo essent caritatis obiec- ta. Hoc autem non est verum, sed Deus est pnncipale obiectum cantatis, proximus autem ex cantate diligitur propter Deum.
(49) Ad secundum dicendum quod caritate diligitur Deus propter seipsum. Unde una sola ratio diligendi pnnci- paliter attenditur a caritate, scilicet divina bonitas, quae est eius substantia, secundum illud Psalm., confitemini domino, quoniam bonus. Aliae autem rationes ad diligendum inducentes, vel debitum dilectionis facientes, sunt secundariae et consequentes ex pnma.
(50) Ad tertium dicendum quod amicitiae humanae, de qua philosophus loquitur, est diversus finis et diversa communicatio. Quod in caritate locum non habet, ut dictum est. Et ideo non est similis ratio.
Articulus 6 Utrum caritas sit excellentissima virtutum
(51) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod caritas non sit excellentissima virtutum.
(52) 1. Altioris enim potentiae altior est virtus, sicut et al- tior operatio. Sed intellectus est altior voluntate, et dirigit ipsam. Ergo fides, quae est in intellectu, est excellentior caritate, quae est in voluntate.
(53) 2. Praeterea, illud per quod aliud operatur, videtur eo esse infenus, sicut minister, per quem dominus aliquid operatur, est inferior domino. Sed fides per dilectionem operatur, ut habetur ad Gal. V. Ergo fides est excellentior caritate.
(54) 3. Praeterea, illud quod se habet ex additione ad aliud, videtur esse perfectius. Sed spes videtur se habere ex additione ad caritatem, nam cantatis obiectum est bonum, spei autem obiectum est bonum arduum. Ergo spes est excellentior caritate.
260
Вопрос 23. О любви-каритас как таковой
(55) Но против: сказано (1 Кор 13, 13): Любовь из них — больше.
(56) Отвечаю: надлежит сказать, что поскольку человеческое действие является благим сообразно тому, что регулируется надлежащей мерой, постольку необходимо, чтобы человеческая добродетель, которая является началом благих действий, заключалась в достижении меры человеческих действий. Но мера человеческих действий, как было показано выше (Р. 3; В. 17, на 1), двояка, а именно, человеческий разум и Бог. Однако первой мерой является Бог, поскольку в соответствии с Ним должен регулироваться и человеческий разум. Поэтому теологические добродетели, которые заключаются в достижении этой первой меры, так как их объектом является Бог, превосходнее моральных и интеллектуальных добродетелей, которые заключаются в достижении человеческого разума. И потому надлежит, чтобы и среди теологических добродетелей первичной была та, которая достигает Бога наилучшим образом. Но всегда то, что является таким- то само по себе, больше того, что является таким-то через другое. Однако вера и надежда достигают Бога сообразно тому, что благодаря Ему мы познаем или обре¬
таем благо, в то время как любовь-каритас достигает самого Бога, чтобы остаться в Нем, а не ради того, чтобы от Него что-то получить. Поэтому любовь превосходнее веры и надежды и, следовательно, всех остальных добродетелей. В самом деле, точно так же благоразумие, которое само по себе достигает разума, превосходнее остальных моральных добродетелей, которые достигают разума сообразно тому, что составляют золотую середину в человеческих действиях или страстях.
(57) Итак, на первое надлежит ответить, что действие разума завершается сообразно тому, что мыслимое пребывает в мыслящем, и потому достоинство интеллектуального действия определяется сообразно мере разума. Действие же воли и любой желающей способности завершается в стремлении желания к вещи как к пределу. И потому достоинство действия желания определяется вещью, которая является объектом действия. И те [вещи], которые ниже души, пребывают в душе более благородным образом, чем они суть сами по себе, поскольку любая [вещь] пребывает в другой [вещи] сообразно модусу этой второй [вещи], как сказано в книге «О причинах». А те [вещи], которые выше души,
(55) Sed contra est quod dicitur I ad Cor. XIII, maior horum est caritas.
(56) Respondeo dicendum quod, cum bonum in humanis actibus attendatur secundum quod regulantur debita regula, necesse est quod virtus humana, quae est principium bonorum actuum, consistat in attingendo humanorum actuum regulam. Est autem duplex regula humanorum actuum, ut supra dictum est (a. 3; q. 17, a. 1), scilicet ratio humana et Deus, sed Deus est pnma regula, a qua etiam humana ratio regulanda est. Et ideo virtutes theologicae, quae consistunt in attingendo illam regulam primam, eo quod earum obiectum est Deus, excellentiores sunt virtutibus moralibus vel intellectualibus, quae consistunt in attingendo rationem humanam. Propter quod oportet quod etiam inter ipsas virtutes theologicas illa sit potior quae magis Deum attingit Semper autem id quod est per se magis est eo quod est per aliud. Fides autem et spes attingunt quidem Deum secundum quod ex ipso provenit nobis vel cognitio veri vel adeptio boni, sed caritas attingit
ipsum Deum ut in ipso sistat, non ut ex eo aliquid nobis proveniat. Et ideo caritas est excellentior fide et spe; et per consequens omnibus aliis virtutibus. Sicut etiam prudentia, quae attingit rationem secundum se, est excellentior quam aliae virtutes morales, quae attingunt rationem secundum quod ex ea medium constituitur in operationibus vel passionibus humanis.
(57) Ad primum ergo dicendum quod operatio intellectus completur secundum quod intellectum est in intelligente, et ideo nobilitas operationis intellectualis attenditur secundum mensuram intellectus. Operatio autem voluntatis, et cuiuslibet virtutis appetitivae, perficitur in inclinatione appetentis ad rem sicut ad terminum. Ideo dignitas operationis appetitivae attenditur secundum rem quae est obiectum operationis. Ea autem quae sunt infra animam nobiliori modo sunt in anima quam in seipsis, quia unumquodque est in aliquo per modum eius in quo est, ut habetur in libro De causis (Par. 11: В A 175, 11). Quae vero sunt supra animam nobiliori modo sunt in seipsis quam sint in
Раздел 7. Может ли некая добродетель быть истинной без любви-каритас
261
превосходнее сами по себе, нежели в том виде, в каком они находятся в душе. Поэтому знание того, что ниже нас, благороднее любви к таковому, отчего Философ предпочитал интеллектуальные добродетели моральным. Но любить то, что выше нас, а особенно — Бога, лучше, чем знать таковое. И потому любовь-каритас превосходнее веры.
(58) На второе надлежит ответить, что вера действует любовью не как своим инструментом (так, как господин использует слугу), но она действует через нее как через собственную форму. И потому вывод не следует.
(59) На третье надлежит ответить, что объектом надежды и любви-каритас является одно и то же благо, но любовь-каритас подразумевает единение с этим благом, а надежда — некую удаленность от него. И потому любовь-каритас, в отличие от надежды, не относится к этому благу как к труднодостижимому, ведь после единения нет смысла говорить о трудностях. И отсюда ясно, что любовь-каритас совершеннее надежды.
Раздел 7
Может ли некая добродетель быть истинной без любви-каритас
(60) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что некая добродетель может быть истинной добродетелью без любви-каритас.
(61) 1. В самом деле, добродетели свойственно производить благое действие. Но даже те, кто не имеет любви-каритас, иногда совершают благие деяния, например, дарят одежду тем, кто ее не имеет, кормят голодных и т. п. Следовательно, истинная добродетель может существовать и без любви-каритас.
(62) 2. Кроме того, любовь-каритас невозможна без веры, поскольку, согласно апостолу, она — от нелицемерной веры ( 1 Тим 1, 5). Но и в неверующих может быть истинное целомудрие, если они обуздывают свое вожделение, и истинная справедливость, если их суд справедлив. Следовательно, истинная добродетель может существовать и без любви-каритас.
(63) 3. Кроме того, как сказано в VI книге «Этики», наука и искусство являются некими добродетелями. Но таковые обнаруживаются и в грешниках, не имеющих любви- каритас. Следовательно, истинная добро-
anima Et ideo eorum quae sunt infra nos nobilior est cognitio quam dilectio, propter quod philosophus, in X Ethic. (7; 1177al2), praetulit virtutes intellectuales moralibus. Sed eorum quae sunt supra nos, et praecipue dilectio Dei, cognitioni praefertur. Et ideo cantas est excellentior fide.
(58) Ad secundum dicendum quod fides non operatur per dilectionem sicut per instrumentum, ut dominus per servum, sed sicut per formam propnam Et ideo ratio non sequitur.
(59) Ad tertium dicendum quod idem bonum est obiectum cantatis et spei, sed caritas importat unionem ad illud bonum, spes autem distantiam quandam ab eo Et inde est quod cantas non respicit illud bonum ut arduum sicut spes, quod enim iam unitum est non habet rationem ardui. Et ex hoc apparet quod caritas est perfectior spe.
Articulus 7
Utrum sine caritate possit esse aliqua vera virtus
(60) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod sine cantate possit esse aliqua vera virtus.
(61) 1. Virtutis enim propnum est bonum actum producere. Sed illi qui non habent cantatem faciunt aliquos bonos actus, puta dum nudum vestiunt, famelicum pascunt et similia operantur. Ergo sine caritate potest esse aliqua vera virtus.
(62) 2. Praeterea, caritas non potest esse sine fide, procedit enim ex fide non ficta, ut apostolus dicit, I Tim. I. Sed in infidelibus potest esse vera castitas, dum concupiscentias cohibent; et vera iustitia, dum recte iudicant. Ergo vera virtus potest esse sine cantate.
(63) 3. Praeterea, scientia et ars quaedam virtutes sunt, ut patet in VI Ethic. (3; 1139bl5) Sed huiusmodi inveniuntur in hominibus peccatoribus non habentibus cantatem. Ergo vera virtus potest esse sine cantate.
262
Вопрос 23. О любви-каритас как таковой
детель может существовать и без любви- каритас.
(64) Но против: апостол говорит (1 Кор 13, 3): Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы. Но истинная добродетель в высшей степени полезна, согласно этим словам (Прем 8, 7): Она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Следовательно, без любви-каритас не может существовать никакой истинной добродетели.
(65) Отвечаю: надлежит сказать, что как было показано выше (Ч. II-I, В. 55, Р. 4), добродетель всегда обращена к благу. Но благом является главным образом цель, поскольку средства достижения цели являются благами исключительно сообразно порядку по отношению к цели. Поскольку же цель двойственна, а именно, ближайшая и предельная, то благо также двойственно: одно — предельное, а другое — ближайшее и частное. И предельным и главным благом человека является, конечно же, наслаждение Богом, согласно сказанному (Пс 72, 28): А мне благо — приближаться к Богу, и к этому благу человек направляется любовью-каритас. Вторичное же и, так ска¬
зать, частное благо человека, может быть двояким: одно — это истинное благо, само по себе упорядочиваемое к главному благу, т. е. к предельной цели, а другое — благо не истинное, но только кажущееся, которое отвлекает нас от предельного блага.
(66) Из этого ясно, что безусловно истинной добродетелью является та, которая направляет к главному человеческому благу; так ведь и Философ говорит, что добродетель есть расположение совершенного к наилучшему. И в этом смысле не может быть истинной добродетели без любви-каритас. Однако если мы рассмотрим добродетель в порядке к некоей частной цели, то тогда можно говорить о добродетели без любви- каритас, сообразно тому, что она упорядочена по отношению к некоему частному благу. Однако если это частное благо является не истинным, а кажущимся благом, то и та добродетель, которая упорядочена к таковому благу, будет не истинной добродетелью, а ее ложным подобием. Ведь, как говорит Августин, не являются истинными добродетелями ни то благоразумие алчного человека, при помощи которого он изобретает различные способы получения прибыли, ни его справедливость, из-за которой он не присваивает чужое, так как боится на-
(64) Sed contra est quod apostolus dicit, I ad Cor XIII, quod est ultimus finis; aliud autem est bonum apparens et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et non verum, quia abducit a finali bono. si tradidero corpus meum ita ut ardeam, caritatem autem (66) Sic igitur patet quod virtus vera simpliciter est illa quae
non habeam, nihil mihi prodest. Sed virtus vera multum prodest, secundum illud Sap. VIII, sobrietatem et iustitiam docet, prudentiam et virtutem, quibus in vita nihil est utilius hominibus. Ergo sine cantate vera virtus esse non potest.
(65) Respondeo dicendum quod virtus ordinatur ad bonum, ut supra habitum est (II-I, q. 55, a. 4). Bonum autem principaliter est finis, nam ea quae sunt ad finem non dicuntur bona nisi in ordine ad finem. Sicut ergo duplex est finis, unus ultimus et alius proximus, ita etiam est duplex bonum, unum quidem ultimum, et aliud proximum et particulare. Ultimum quidem et pnncipale bonum hominis est Dei fruitio, secundum illud Psalm., mihi adhaerere Deo bonum est, et ad hoc ordinatur homo per cantatem. Bonum autem secundarium et quasi particulare hominis potest esse duplex, unum quidem quod est vere bonum, utpote ordinabile, quantum est in se, ad principale bonum,
ordinat ad pnncipale bonum hominis, sicut etiam philosophus, in VII Physic. (3; 246b23), dicit quod virtus est dispositio perfecti ad optimum. Et sic nulla vera virtus potest esse sine cantate Sed si accipiatur virtus secundum quod est in ordine ad aliquem finem particularem, sic potest aliqua virtus dici sine caritate, inquantum ordinatur ad aliquod particulare bonum. Sed si illud particulare bonum non sit verum bonum, sed apparens, virtus etiam quae est in ordine ad hoc bonum non erit vera virtus, sed falsa similitudo virtutis, sicut non est vera virtus avarorum prudentia, qua excogitant diversa genera lucellorum; et avarorum iustitia, qua gravium damnorum metu contemnunt aliena', et avarorum temperantia, qua luxuriae, quoniam sumptuosa est, cohibent appetitum ; et avarorum fortitudo, qua, ut ait Horatius (Epist 1, verso 46), per mare pauperiem fugiunt, per saxa, per ignes, ut Augustinus dicit, in IV lib. Contra Iulian.
Раздел 7. Может ли некая добродетель быть истинной без любви-каритас
263
лазания, ни его умеренность, посредством которой он обуздывает похоть, ибо она дорогостояща, ни его стойкость, благодаря которой, «о словам Горация, он «бедности чтоб избежать, [л^шися]... не ленясь, чрез огонь, через море, чрез скалы». Но если это частное благо есть истинное благо (например, благополучие страны или что-нибудь подобное), то имеет место истинная добродетель, хотя и несовершенная (если только она не соотносит это благо с предельным и совершенным благом). И сообразно этому, в безусловном отношении истинная добродетель невозможна без любви-каритас.
(67) Итак, на первое надлежит ответить, что действие человека, не имеющего любви- каритас, может быть двояким. Во-первых, оно может сообразовываться с самим отсутствием любви-каритас, когда человек совершает нечто в соответствии с тем, из-за чего он не имеет любви-каритас. И такое действие всегда дурно, и именно его имеет в виду Августин, когда говорит, что действие неверующего именно как неверующего всегда греховно, даже если он дарит одежду тем, кто ее не имеет и т. п., стремясь к цели своего неверия. А другое действие может быть лишено любви-каритас,
но сообразовываться не с самим этим отсутствием любви, а с неким иным даром Божиим, верой или надеждой, или даже с естественным благом, которое, как уже было сказано (В. 10, Р. 4), не полностью устраняется грехом. И в этом случае некое действие может быть благим по своему роду и без любви-каритас, хотя и не совершенно благим, поскольку ему недостает должного порядка к предельной цели.
(68) На второе надлежит ответить, что поскольку цель в вопросах практических есть то же, что начало — в вопросах теоретических, то как при отсутствии правильного представления о первом недоказуемом начале наука не может быть безусловно истинной, так же целомудрие или справедливость не могут быть безусловно истинными без той должной упорядоченности по отношению к цели, которую дает любовь- каритас, сколь бы правильно ни действовал человек в отношении прочего.
(69) На третье надлежит ответить, что наука и искусство по своей сути подразумевают порядок по отношению к некоему частному благу, а не к предельному благу человеческой жизни, как это имеет место в случае моральных добродетелей, которые
(3; PL 44, 748). Si vero illud bonum particulare sit verum bonum, puta conservatio civitatis vel aliquid huiusmodi, ent quidem vera virtus, sed imperfecta, nisi referatur ad finale et perfectum bonum. Et secundum hoc simpliciter vera virtus sine cantate esse non potest.
(67) Ad primum ergo dicendum quod actus alicuius caritate carentis potest esse duplex. Unus quidem secundum hoc quod cantate caret, utpote cum facit aliquid in ordine ad id per quod caret caritate. Et talis actus semper est malus, sicut Augustinus dicit, in IV Contra lulian. (3; PL 44, 750), quod actus infidelis, inquantum est infidelis, semper est peccatum; etiam si nudum openat vel quidquid aliud huiusmodi faciat, ordinans ad finem suae infidelitatis. Alius autem potest esse actus carentis cantate non secundum id quod caritate caret, sed secundum quod habet aliquod aliud donum Dei, vel fidem vel spem, vel etiam naturae bonum, quod non totum per peccatum tollitur, ut supra
dictum est (q. 10, a. 4). Et secundum hoc sine caritate potest quidem esse aliquis actus bonus ex suo genere, non tamen perfecte bonus, quia deest debita ordinatio ad ultimum finem.
(68) Ad secundum dicendum quod, cum finis se habeat in agibilibus sicut principium in speculativis, sicut non potest esse simpliciter vera scientia si desit recta aestimatio de primo et indemonstrabili principio; ita non potest esse simpliciter vera iustitia aut vera castitas si desit ordinatio debita ad finem, quae est per caritatem, quantumcumque aliquis se recte circa alia habeat.
(69) Ad tertium dicendum quod scientia et ars de sui ratione important ordinem ad aliquod particulare bonum, non autem ultimum finem humanae vitae, sicut virtutes morales, quae simpliciter faciunt hominem bonum, ut supra dictum est (II-I, q. 56, a. 3). Et ideo non est similis ratio.
264
Вопрос 23. О любви-каритас как таковой
делают человека безусловно благим, о чем уже было сказано (Ч. II-I, В. 56, Р. 3). И потому здесь нет подобия.
Раздел 8 Является ли любовь-каритас формой добродетелей
(70) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас не является формой добродетелей.
(71) 1. В самом деле, форма вещи является или экземплярной2, или сущностной. Но любовь-каритас не является экземплярной формой других добродетелей, в противном случае из этого следовало бы, что все остальные добродетели принадлежат к тому же виду, что и любовь-каритас. Равным образом, она не является и сущностной формой других добродетелей, ведь в противном случае они бы не различались. Следовательно, любовь-каритас никоим образом не может быть формой добродетелей.
(72) 2. Кроме того, любовь-каритас в сравнении с другими добродетелями называется корнем и основанием, согласно этим словам (Ефес 3, 18): Вы, укорененные и утвержденные в любви. Но корень и основание обладают смысловым содержанием не формы, но, скорее, материи, посколь¬
ку они — первая часть при возникновении [вещи]. Следовательно, любовь-каритас не является формой добродетелей.
(73) 3. Кроме того, форма, цель и действующее не совпадают между собой по числу, как сказано во II книге «Физики». Но любовь-каритас называют целью и матерью добродетелей. Следовательно, ее нельзя называть их формой.
(74) Но против: Амвросий говорит, что любовь-каритас — это форма добродетелей.
(75) Отвечаю: Надлежит сказать, что в нравственных вопросах действие получает свою форму главным образом от цели. Это так потому, что началом нравственных действий является воля, а ее объект и как бы форма есть цель. Но форма действия всегда обусловливается формой действующего. Поэтому надлежит, чтобы в нравственных вопросах форму действию сообщало то, что дает ему порядок по отношению к цели. Однако из сказанного ранее (Р. 7) очевидно, что именно любовь-каритас упорядочивает действия всех остальных добродетелей по отношению к предельной цели. И сообразно этому она сообщает форму действиям всех остальных добродетелей. И именно в этом смысле о любви- каритас говорят как о форме добродете-
Articulus 8 Utrum caritas sit forma virtutum
(70) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod caritas non sit forma virtutum.
(71) 1. Forma enim alicuius rei vel est exemplaris, vel est essentialis Sed caritas non est forma exemplaris virtutum aliarum, quia sic oporteret quod aliae virtutes essent eiusdem speciei cum ipsa. Similiter etiam non est forma essentialis aliarum virtutum, quia non distingueretur ab aliis. Ergo nullo modo est forma virtutum.
(72) 2. Praeterea, caritas comparatur ad alias virtutes ut radix et fundamentum, secundum illud Ephes. III, in caritate radicati et fundati Radix autem vel fundamentum non habet rationem formae, sed magis rationem matenae, quia est prima pars in generatione. Ergo caritas non est forma virtutum.
(73) 3. Praeterea, forma et finis et efficiens non incidunt in idem numero, ut patet in II Physic (7; 198a24). Sed caritas dicitur finis et mater virtutum. Ergo non debet dici forma virtutum.
(74) Sed contra est quod Ambrosius dicit (cf. in 1 Cor. 8, 2; PL 17, 329) caritatem esse formam virtutum.
(75) Respondeo dicendum quod in moralibus forma actus attenditur principaliter ex parte finis, cuius ratio est quia pnncipium moralium actuum est voluntas, cuius obiectum et quasi forma est finis. Semper autem forma actus consequitur formam agentis. Unde oportet quod in moralibus id quod dat actui ordinem ad finem, det ei et formam. Manifestum est autem secundum praedicta (a. 7) quod per cantatem ordinantur actus omnium aliarum virtutum ad ultimum finem. Et secundum hoc ipsa dat formam actibus omnium aliarum virtutum. Et pro tanto dicitur esse format virtutum, nam et ipsae virtutes dicuntur in ordine ad actus formatos.
Раздел 8. Является ли любовь-каритас формой добродетелей
265
лей, ведь они называются добродетелями в порядке по отношению к своим оформленным действиям.
(76) Итак, на первое надлежит ответить, что любовь-каритас называется формой других добродетелей не потому, что она является их экземплярной или сущностной формой, а потому, что она является по отношению к ним действующей причиной, постольку, поскольку сообщает им форму в указанном смысле.
(77) На второе надлежит ответить, что любовь-каритас сравнивают с основанием или корнем сообразно тому, что все прочие
добродетели опираются на нее и ею подпитываются, а не сообразно тому, что основание и корень обладают смысловым содержанием материальной причины.
(78) На третье надлежит ответить, что любовь-каритас называется целью других добродетелей сообразно тому, что она упорядочивает все остальные добродетели к своей цели. А матерью других добродетелей любовь-каритас называют потому, что как мать зачинает в себе от другого, так и любовь-каритас , повелевая добродетелями, зачинает их действия от своего стремления к предельной цели.
(76) Ad primum ergo dicendum quod caritas dicitur esse forma aliarum virtutum non quidem exemplariter aut essentialiter, sed magis effective, inquantum scilicet omnibus formam imponit secundum modum praedictum
(77) Ad secundum dicendum quod caritas comparatur fundamento et radici inquantum ex ea sustentantur et nutriuntur omnes aliae virtutes, et non secundum rationem qua fun¬
damentum et radix habent rationem causae matenalis.
(78) Ad tertium dicendum quod cantas dicitur finis aliarum virtutum quia omnes alias virtutes ordinat ad finem suum Et quia mater est quae in se concipit ex alio, ex hac ratione dicitur mater aliarum virtutum, quia ex appetitu finis ultimi concipit actus aliarum virtutum, imperando ipsos.
Вопрос 24 О субъекте любви-каритас
(i) Затем надлежит рассмотреть любовь- каритас в отношении к своему субъекту. И касательно этого исследуются двенадцать [проблем]: 1) находится ли любовь-каритас в воле как в субъекте; 2) что обусловливает в человеке любовь-каритас: предшествующие действия или божественное влияние; 3) соответствует ли это влияние естественным возможностям человека; 4) возрастает ли любовь-каритас в том, кто ею обладает; 5) возрастает ли она посредством добавления; 6) возрастает ли она посредством любого действия; 7) возрастает ли она до бесконечности; 8) может ли любовь-каритас человека быть совершенной в этой земной жизни; 9) каковы различные степени любви-каритас; 10) может ли она уменьшаться; 11) может ли она быть утрачена после обладания ею; 12) утрачивается ли она из-за одного смертного греха.
Раздел 1
Является ли воля субъектом любви-каритас
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что воля не является субъектом любви-каритас.
(3) 1. В самом деле, любовь-каритас есть некая любовь. Но любовь, согласно Философу, пребывает в вожделении. Следовательно, любовь-каритас также пребывает в вожделении, а не в воле.
(4) 2. Кроме того, как было показано выше (В. 23, Р. 6), любовь-каритас есть первейшая добродетель. Но субъектом добродетели является разум. Следовательно, как кажется, любовь-каритас пребывает в разуме, а не в воле.
(5) 3. Кроме того, любовь распространяется на все человеческие действия, согласно этим словам (1 Кор 16, 14): Все у вас да будет с любовью. Но началом человеческих действий является свободное решение. Следовательно, как кажется, любовь- каритас находится главным образом в свободном решении, а не в воле.
Quaestio 24 De caritatis subiecto
(1) Deinde considerandum est de caritate in comparatione
ad subiectum. Et circa hoc quaeruntur duodecim. Primo, Articulus 1
utrum cantas sit in voluntate tanquam in subiecto. Secun- Utrum voluntas sit subiectum caritatis
do, utrum caritas causetur in homine ex actibus praece- (2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod voluntas non
dentibus, vel ex infusione divina. Tertio, utrum infun- sit subiectum cantatis.
datur secundum capacitatem naturalium. Quarto, utrum (3) 1. Cantas enim amor quidam est. Sed amor, secundum
augeatur in habente ipsam. Quinto, utrum augeatur per philosophum (7op., II, 7; 113b2), est in concupiscibili, additionem. Sexto, utrum quolibet actu augeatur. Septi- Ergo et cantas est in concupiscibili, et non in voluntate,
mo, utrum augeatur in infinitum. Octavo, utrum cari- (4) 2. Praeterea, caritas est principalissima virtutum, ut
tas viae possit esse perfecta. Nono, de diversis gradibus supra dictum est (q 23> a 6) Sed subiectum virtutis est
caritatis. Decimo, utrum caritas possit diminui. Undeci- ratio Erg0 videtur quod caritas sj, jn rationê; et non in
mo, utrum cantas semel habita possit amitti. Duodecimo, voluntate
utrum amittatur per unum actum peccati mortalis. (5) 3 Praeterea> caritas se extendit ad omnes actus hu.
manos, secundum illud I ad Cor. ult., omnia vestra in caritate fiant. Sed principium humanorum actuum est liberum arbitrium. Ergo videtur quod cantas maxime sit in libero
Раздел 1. Является ли воля субъектом любви-каритас
267
(6) Но против: объектом любви-каритас является благо, которое также является и объектом воли. Следовательно, любовь- каритас находится в воле как в субъекте.
Отвечаю: надлежит сказать, что, как было показано в Первой Части (В. 80, Р. 2), есть два типа желания, чувственное и разумное, называемое волей. И объектом обоих желаний является благо, однако по-разному В самом деле, объектом чувственного желания является благо, постигнутое чувством, а объектом разумного желания, или воли, является благо в общем аспекте блага, как оно постигается разумом. Но объектом любви-каритас является не чувственное, а божественное благо, которое познается только умом. Следовательно, субъектом любви является не чувственное, а разумное желание, то есть воля.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что вожделение есть часть чувственного желания, а не разумного, как было показано в Первой Части (Ч. I, В. 81, Р. 2; В. 82, Р. 5), и потому та любовь, которая связана с вожделением, является любовью к чувственному благу. А на божественное, т. е. умопостигаемое благо вожделение распространиться не может: это может только воля. И потому вожделение не может быть субъ¬
ектом любви-каритас.
(9) На второе надлежит ответить, что, как говорит Философ, воля находится в разуме, и потому любовь-каритас, пребывая в воле, не чужда разуму. Однако разум не является мерой для любви-каритас, как он является мерой для человеческих добродетелей, и любовь-каритас регулируется мудростью Божией, превосходя меру человеческого разума, согласно словам Писания о превосходящей разумение любви Христовой (Ефес 3, 19). Поэтому она пребывает в разуме не как в субъекте, так, как благоразумие, и не как в регулирующем, так, как справедливость или умеренность, но лишь сообразно связи воли с разумом.
(ю) На третье надлежит ответить, что свободное решение не является способностью, отличной от воли, как уже было сказано в Первой Части (Ч. I, В. 83, Р. 4). Однако любовь-каритас не находится в воле сообразно аспекту свободного решения, действием которого является избирание, ведь избирание касается средств достижения цели, а воля соотносится с самой целью, как сказано в III книге «Этики». Поэтому любовь-каритас, объектом которой является предельная цель, должна пребывать скорее в воле, чем в свободном решении.
arbitno sicut in subiecto, et non in voluntate.
(6) Sed contra est quod obiectum caritatis est bonum, quod etiam est obiectum voluntatis. Ergo caritas est in voluntate sicut in subiecto.
(7) Respondeo dicendum quod, cum duplex sit appetitus, scilicet sensitivus et intellectivus, qui dicitur voluntas, ut in pnmo habitum est (I, q. 80, a. 2); utriusque obiectum est bonum, sed diversimode. Nam obiectum appetitus sen- sitivi est bonum per sensum apprehensum, obiectum vero appetitus intellectivi, vel voluntatis, est bonum sub communi ratione boni, prout est apprehensibile ab intellectu. Cantatis autem obiectum non est aliquod bonum sensibile, sed bonum divinum, quod solo intellectu cognoscitur. Et ideo cantatis subiectum non est appetitus sensitivus, sed appetitus intellectivus, idest voluntas.
(8) Ad primum ergo dicendum quod concupiscibilis est pars appetitus sensitivi, non autem appetitus intellectivi, ut in primo ostensum est (I, q. 81, a. 2; q. 82, a. 5). Unde amor qui est in concupiscibili est amor sensitivi boni. Ad bo¬
num autem divinum, quod est intelligibile, concupiscibilis se extendere non potest, sed sola voluntas. Et ideo concupiscibilis subiectum caritatis esse non potest.
(9) Ad secundum dicendum quod voluntas etiam, secundum philosophum, in III De anima (9, 432b5), in ratione est. Et ideo per hoc quod caritas est in voluntate non est aliena a ratione. Tamen ratio non est regula caritatis, sicut humanarum virtutum, sed regulatur a Dei sapientia, et excedit regulam rationis humanae, secundum illud Ephes. III, supereminentem scientiae caritatem Christi. Unde non est in ratione neque sicut in subiecto, sicut prudentia; neque sicut in régulante, sicut iustitia vel temperantia; sed solum per quandam affinitatem voluntatis ad rationem.
(10) Ad tertium dicendum quod liberum arbitrium non est alia potentia a voluntate, ut in pnmo dictum est (I, q. 83, a. 4). Et tamen caritas non est in voluntate secundum rationem liberi arbitrii, cuius actus est eligere, electio enim est eorum quae sunt ad finem, voluntas autem est ipsius finis, ut dicitur in III Ethic. (2; 111 lb26). Unde caritas,
268
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
Раздел 2
Действительно ли любовь-каритас причинно обусловливается в нас посредством влияния
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что любовь-каритас причинно обусловливается в нас не посредством влияния.
(12) 1. В самом деле, то, что обще всем творениям, присуще человеку по природе. Но, как говорит Дионисий, все любят и дорожат божественным благом, которое является объектом любви-каритас. Следовательно, любовь-каритас присуща нам по природе, а не является влиянной.
(13) 2. Кроме того, чем больше нечто достойно любви, тем легче его любить. Но больше всего достоин любви Бог, поскольку Он в высшей степени благ. Следовательно, Его любить гораздо легче, чем все остальное. Но нам не требуется некий вли- янный навык для того, чтобы любить другие [вещи]. Следовательно, не нужен он и для того, чтобы любить Бога.
(14) 3. Кроме того, апостол говорит (1 Тим 1, 5): Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Но эти три относятся к человеческим действиям. Следователь¬
но, любовь-каритас причинно обусловливается в нас посредством предшествующих действий, а не влияния.
(15) Но против: апостол говорит (Рим 5, 5): Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (В. 23, Р. 1), любовь-каритас есть дружба человека и Бога, основанная на общении вечного блаженства. Однако это общение имеет место не сообразно естественным благам, а сообразно благодатным дарам, поскольку, как сказано в Писании (Рим 6, 23), благодать Божия — жизнь вечная. И потому сама любовь-каритас превосходит наши естественные возможности. Но то, что превосходит естественные возможности, не может быть естественным и не может обретаться посредством естественных способностей, поскольку естественное следствие не может превосходить свою причину. Поэтому любовь-каритас не может ни присутствовать в нас по природе, ни обретаться посредством естественных способностей; она может только вливаться в нас Святым Духом, Который есть любовь Отца и Сына, причастностью Которому в нас, как было показано выше (В. 23, Р. 2, на 1), и является
cuius obiectum est finis ultimus, magis debet dici esse in voluntate quam in libero arbitrio.
Articulus 2 Utrum caritas causetur in nobis ex infusione
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod caritas non causetur in nobis ex infusione.
(12) 1. Illud enim quod est commune omnibus creaturis, naturaliter hominibus inest. Sed sicut Dionysius dicit, in IV cap. De div. nom. (4, 10; PG 3, 708), omnibus diligibile et amabile est bonum divinum, quod est obiectum caritatis. Ergo caritas inest nobis naturaliter, et non ex infusione.
(13) 2. Praeterea, quanto aliquid est magis diligibile, tanto facilius diligi potest. Sed Deus est maxime diligibilis, cum sit summe bonus. Ergo facilius est ipsum diligere quam alia. Sed ad alia diligenda non indigemus aliquo habitu infuso. Ergo nec etiam ad diligendum Deum.
(14) 3. Praeterea, apostolus dicit, I ad Tim. I, finis praecepti est caritas de corde bono et conscientia pura et fide non ficta. Sed haec tna pertinent ad actus humanos. Ergo caritas
causatur in nobis ex actibus praecedentibus, et non ex infusione.
(15) Sed contra est quod apostolus dicit, Rom V, caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis.
(16) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (q. 23, a. 1), cantas est amicitia quaedam hominis ad Deum fundata super communicationem beatitudinis aeternae. Haec autem communicatio non est secundum bona naturalia, sed secundum dona gratuita, quia, ut dicitur Rom. VI, gratia Dei vita aeterna. Unde et ipsa cantas facultatem naturae excedit. Quod autem excedit naturae facultatem non potest esse neque naturale neque per potentias naturales acquisitum, quia effectus naturalis non transcendit suam causam. Unde caritas non potest neque naturaliter nobis inesse, neque per vires naturales est acquisita, sed per infusionem spintus sancti, qui est amor patris et filii, cuius participatio in nobis est ipsa caritas creata, sicut supra dictum est (q. 23, a. 2, ad 1).
Раздел 3. Как происходит излияние любви-каритас
269
тварная любовь-каритас.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что Дионисий говорит о любви к Богу, которая основана на общности в естественных благах, и которая поэтому присуща всему по природе. Но любовь-каритас основана на некоем сверхъестественном общении. Поэтому здесь нет подобия.
(18) На второе надлежит ответить, что как Бог сам по себе в высшей степени познаваем, но не для нас, из-за ущербности нашего познания, которое зависит от чувственно воспринимаемых вещей, точно так же Бог сам по себе в высшей степени достоин любви, постольку, поскольку является объектом блаженства. Но в этом отношении мы не любим Его в высшей степени потому, что наше желание склоняется к видимым благам. Соответственно, необходимо, чтобы в наши сердца была излита любовь- каритас, дабы мы могли возлюбить Бога в высшей степени как объект блаженства.
(19) На третье надлежит ответить, что когда говорится, что любовь-каритас в нас должна происходить от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, это следует относить на счет действия любви-каритас, к которому побуждают эти [вещи]. Или можно сказать, что так говорится потому,
что такие действия предрасполагают человека к восприятию излияния любви-каритас. И то же самое можно сказать и о словах Августина о том, что к любви-каритас ведет страх, и о глоссе, утверждающей, что вера рождает надежду, а надежда — любовь.
Раздел 3
Действительно ли излияние любви-каритас происходит сообразно естественным возможностям
(20) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что любовь-каритас изливается в соответствии с естественными возможностями [человека].
(21) 1. В самом деле, сказано (Мф 25, 15):
Он дал каждому по его силе (virtus). Но в человеке никакая добродетель (virtus), кроме естественной силы (virtus), не может предшествовать любви-каритас, поскольку, как было показано выше (В. 23, Р. 7), без любви-каритас нет никакой добродетели. Следовательно, Бог изливает в человека любовь-каритас сообразно возможностям его естественной силы (virtus).
(22) 2. Кроме того, во всех упорядоченных между собой [вещах] вторая всегда соразмерна первой: так, мы видим, что в есте-
(17) Ad primum ergo dicendum quod Dionysius loquitur de dilectione Dei quae fundatur super communicatione naturalium bonorum, et ideo naturaliter omnibus inest. Sed caritas fundatur super quadam communicatione supemat- urali Unde non est similis ratio.
(18) Ad secundum dicendum quod sicut Deus secundum se est maxime cognoscibilis, non tamen nobis, propter defectum nostrae cognitionis, quae dependet a rebus sensibilibus; ita etiam Deus in se est maxime diligibilis inquantum est obiectum beatitudinis, sed hoc modo non est maxime diligibilis a nobis, propter inclinationem affectus nostri ad visibilia bona Unde oportet quod ad Deum hoc modo maxime diligendum nostris cordibus caritas infundatur.
(19) Ad tertium dicendum quod cum caritas dicitur in nobis procedere ex corde bono et conscientia pura et fide non ficta, hoc referendum est ad actum caritatis, qui ex praemissis excitatur. Vel etiam hoc dicitur quia huiusmodi actus disponunt hominem ad recipiendum caritatis infusionem.
Et similiter etiam dicendum est de eo quod Augustinus dicit, quod timor introducit caritatem (In Ioann. tr. 9 super 6, 18; PL 35, 2048), et de hoc quod dicitur in Glossa (Interi.) Matth. I, quod fides generat spem, et spes caritatem.
Articulus 3
Utrum caritas infundatur secundum capacitatem naturalium
(20) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod caritas infundatur secundum capacitatem naturalium.
(21) 1. Dicitur enim Matth. XXV quod dedit unicuique secundum propriam virtutem. Sed caritatem nulla virtus praecedit in homine nisi naturalis, quia sine caritate nulla est virtus, ut dictum est (q. 23, a. 7). Ergo secundum capacitatem virtutis naturalis infunditur homini caritas a Deo.
(22) 2. Praeterea, omnium ordinatorum ad invicem secundum proportionatur primo, sicut videmus quod in rebus materialibus forma proportionatur materiae, et in doms gratuitis gloria proportionatur gratiae. Sed caritas, cum sit
270
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
ственных вещах форма соразмерна материи, а в благодатных дарах слава соразмерна благодати. Но любовь-каритас, поскольку она является совершенством природы, соотносится с естественными возможностями как второе с первым. Следовательно, как представляется, любовь- каритас изливается соразмерно естественным возможностям.
(23) 3. Кроме того, люди и ангелы причастны блаженству сообразно одному и тому же основанию, поскольку, согласно сказанному в Писании (Мф 22, 30; Лк 20, 36), сущность блаженства в них одинакова. Но, как говорит Магистр, любовь-каритас и прочие благодатные дары даны ангелам соразмерно их природным возможностям. Следовательно, как представляется, то же самое имеет место и в случае человека.
(24) Но против: сказано (Ин 3, 8): Дух дышит, где хочет; и еще (1 Кор 12, 11): Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Следовательно, любовь-каритас дается не соразмерно нашим естественным возможностям, а как того пожелает Дух, наделяющий нас своими дарами.
(25) Отвечаю: надлежит сказать, что количество любой [вещи] зависит от собствен¬
ной ее причины, поскольку более общая причина производит более общее следствие. Но любовь-каритас, поскольку она превосходит меру человеческой природы, как уже было сказано (Р. 2), не зависит от какой-либо естественной силы, но только от благодати изливающего ее Святого Духа. Следовательно, количество любви-каритас не зависит ни от состояния природы, ни от возможностей естественных сил, но только от воли Святого Духа, Который разделяет свои дары как Ему угодно. И потому апостол говорит (Ефес 4, 7): Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.
(26) Итак, на первое надлежит ответить, что та сила (virtus), сообразно которой Бог наделяет каждого своими дарами, является предшествующей предрасположенностью, или предуготовлением или усилием того, кто получает благодать. Но Святой Дух опережает также и эту предрасположенность или усилие, подвигая ум человека больше или меньше, так, как Ему угодно. Поэтому апостол и говорит (Кол 1, 12) о Боге, призвавшем нас к участию в наследии святых во свете.
(27) На второе надлежит ответить, что форма соразмерна материи, но при этом от-
perfectio naturae, comparatur ad capacitatem naturalem sicut secundum ad primum. Ergo videtur quod caritas infundatur secundum naturalium capacitatem.
(23) 3. Praeterea, homines et Angeli secundum eandem rationem caritatem participant, quia in utrisque est similis beatitudinis ratio, ut habetur Matth. XXII, et Luc. XX. Sed in Angelis caritas et alia dona gratuita sunt data secundum capacitatem naturalium; ut Magister dicit, III dist. II lib. Sent. (II, d. 3, c. 2; QR 1, 318). Ergo idem etiam videtur esse in hominibus.
(24) Sed contra est quod dicitur Ioan. III, spiritus ubi vult spirat; et I ad Cor. XII, haec omnia operatur unus et idem spiritus, dividens singulis prout vult. Ergo caritas datur non secundum capacitatem naturalium, sed secundum voluntatem spiritus sua dona distribuentis.
(25) Respondeo dicendum quod uniuscuiusque quantitas dependet a propria causa rei, quia universalior causa effec¬
tum maiorem producit. Caritas autem, cum superexcedat proportionem naturae humanae, ut dictum est (a. 2), non dependet ex aliqua naturali virtute, sed ex sola gratia spiritus sancti eam infundentis. Et ideo quantitas caritatis non dependet ex conditione naturae vel ex capacitate naturalis virtutis, sed solum ex voluntate spiritus sancti distribuentis sua dona prout vult. Unde et apostolus dicit, ad Ephes. IV, unicuique nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi.
(26) Ad primum ergo dicendum quod illa virtus secundum quam sua dona Deus dat unicuique, est dispositio vel praeparatio praecedens, sive conatus gratiam accipientis. Sed hanc etiam dispositionem vel conatum praevenit spiritus sanctus, movens mentem hominis vel plus vel minus secundum suam voluntatem. Unde et apostolus dicit, ad Coloss. I, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine.
(27) Ad secundum dicendum quod forma non excedit proportionem materiae, sed sunt eiusdem generis. Similiter
Раздел 4. Может ли возрастать любовь-каритас
271
носится к тому же роду. И точно так же благодать и слава принадлежат к одному и тому же роду, поскольку благодать есть не что иное, как начаток славы, пребывающий в нас. Но любовь-каритас и природа не принадлежат к одному и тому же роду. И потому здесь нет подобия.
(28) На третье надлежит ответить, что ангел по своей природе является чистым разумом, и этому его состоянию соответствует то, что он всецело обращен на то, на что обращен, как уже говорилось в Первой Части (В. 62, Р. 6). Поэтому высшие ангелы с наибольшим усилием устремляются как к благу (это касается устоявших), так и к злу (это касается падших). И потому из высших ангелов устоявшие стали наилучшими, а падшие — наихудшими среди прочих. А у человека природа рассудочна, и сообразно этому она иногда пребывает в потенции, а иногда — в акте. И потому человек не всегда полностью обращен на то, на что обращен; и у того, кто обладает большими естественными способностями, усилие может быть меньшим, и наоборот. Поэтому здесь нет подобия.
Раздел 4
Может ли возрастать любовь-каритас
(29) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас возрастать не может.
(30) 1. В самом деле, возрастать может только количественное. Но количество двояко, а именно, протяженное и виртуальное. Первое не подобает любви-каритас, поскольку она есть духовное совершенство. Что же касается виртуального количества, то оно определяется сообразно объектам; но так любовь-каритас не возрастает, поскольку даже наименьшая любовь-каритас любит все то, что надлежит любить из любви-каритас. Следовательно, любовь-каритас не возрастает.
(31) 2. Кроме того, то, что пребывает в пределе, не может получить прибавления. Но любовь-каритас пребывает в пределе, поскольку является величайшей добродетелью и высшей любовью к наибольшему благу. Следовательно, любовь-каритас не возрастает.
(32) 3. Кроме того, возрастание есть некое движение. Следовательно, то, что возрастает, движется, а то, что возрастает по сущности, движется сущностно. Но единственными видами сущностного движения явля-
etiam gratia et gloria ad idem genus referuntur, quia gratia nihil est aliud quam quaedam inchoatio glonae in nobis. Sed cantas et natura non pertinent ad idem genus. Et ideo non est similis ratio.
(28) Ad tertium dicendum quod Angelus est naturae intellectualis, et secundum suam conditionem competit ei ut totaliter feratur in omne id in quod fertur, ut in pnmo habitum est (I, q. 62, a. 6). Et ideo in superionbus Angelis fuit maior conatus et ad bonum in perseverantibus et ad malum in cadentibus. Et ideo superiorum Angelorum persistentes facti sunt meliores et cadentes facti sunt peiores aliis Sed homo est rationalis naturae, cui competit esse quandoque in potentia et quandoque in actu. Et ideo non oportet quod feratur totaliter in id in quod fertur; sed eius qui habet meliora naturalia potest esse minor conatus, et e converso. Et ideo non est simile.
Articulus 4 Utrum caritas augeri possit
(29) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod caritas augeri non possit.
(30) 1. Nihil enim augetur nisi quantum. Duplex autem est quantitas, scilicet dimensiva, et virtualis Quarum pnma caritati non convenit, cum sit quaedam spintualis perfectio. Virtualis autem quantitas attenditur secundum obiecta, secundum quae caritas non crescit, quia minima cantas diligit omnia quae sunt ex caritate diligenda Ergo caritas non augetur.
(31) 2. Praeterea, illud quod est in termino non recipit augmentum. Sed caritas est in termino, quasi maxima virtutum existens et summus amor optimi boni. Ergo cantas augen non potest.
(32) 3. Praeterea, augmentum quidam motus est. Ergo quod augetur movetur. Quod ergo augetur essentialiter movetur essentialiter. Sed non movetur essentialiter nisi quod corrumpitur vel generatur. Ergo caritas non potest augen
272
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
ются возникновение или разрушение. Следовательно, любовь-каритас не может возрастать сущностно, разве что возникая и разрушаясь, но это нелепо.
(33) Но против: Августин говорит, что любовь-каритас заслуживает возрастание, так, чтобы, возрастая, обретать заслуги и совершенство.
(34) Отвечаю: надлежит сказать, что любовь-каритас, присущая человеку в его земной жизни, может возрастать. В самом деле, мы называем себя путниками, потому что находимся на пути к Богу, Который есть предельная цель нашего блаженства. И мы продвигаемся по этому пути тем дальше, чем ближе подходим к Богу, но не телесными шагами, а движениями ума. И это приближение осуществляет любовь-каритас, поскольку именно она соединяет ум [человека] с Богом. Следовательно, любви-каритас, присущей человеку в его земной жизни, свойственно возрастание, поскольку в противном случае его движение по этому пути прекратилось бы. И потому апостол называет любовь-каритас путем, говоря (1 Кор 12, 31): Я покажу вам путь еще превосходнейший.
(35) Итак, на первое надлежит ответить, что любовь обладает не протяженным, а исключительно виртуальным количеством, но это последнее определяется не только числом объектов (так, что любят большее или меньшее число чего-либо), но также и интенсивностью действия (так, что нечто одно любят больше или меньше). И именно в последнем смысле возрастает виртуальное количество любви-каритас.
(36) На второе надлежит ответить, что любовь-каритас обладает высшей степенью со стороны своего объекта, потому, именно, что ее объектом является высшее благо; и в связи с этим она является превосходнейшей из добродетелей. Однако не каждая любовь-каритас обладает высшей степенью, если говорить об интенсивности действия.
(37) На третье надлежит ответить, что некоторые 1 утверждали, что любовь-каритас возрастает не сообразно сущности, а сообразно упрочнению пребывания в своем субъекте или сообразно своему пылу. Но они сами не понимали, о чем говорят. Ведь коль скоро любовь-каритас является акциденцией, ее бытие есть присущность. И потому сущностное возрастание любви-
essentialiter, nisi forte de novo generetur vel corrumpatur, quod est inconveniens.
(33) Sed contra est quod Augustinus dicit, super Ioan. (tr 70 super 14, 16; PL 35, 1827), quod caritas meretur augeri, ut aucta mereatur et perfici.
(34) Respondeo dicendum quod caritas viae potest augeri. Ex hoc enim dicimur esse viatores quod in Deum tendimus, qui est ultimus finis nostrae beatitudinis. In hac autem via tanto magis procedimus quanto Deo magis propinquamus, cui non appropinquatur passibus corporis, sed affectibus mentis. Hanc autem propinquitatem facit caritas, quia per ipsam mens Deo unitur. Et ideo de ratione cantatis viae est ut possit augen, si enim non pos- set augeri, iam cessaret viae processus. Et ideo apostolus cantatem viam nominat, dicens I ad Cor. XII, adhuc excellentiorem viam vobis demonstro.
(35) Ad primum ergo dicendum quod caritati non convenit quantitas dimensiva, sed solum quantitas virtualis Quae non solum attenditur secundum numerum obiectorum, ut
scilicet plura vel pauciora diligantur, sed etiam secundum intensionem actus, ut magis vel minus aliquid diligatur. Et hoc modo virtualis quantitas cantatis augetur.
(36) Ad secundum dicendum quod cantas est in summo ex parte obiecti, inquantum scilicet eius obiectum est summum bonum, et ex hoc sequitur quod ipsa sit excellentior aliis virtutibus. Sed non est omnis cantas in summo quantum ad intensionem actus.
(37) Ad tertium dicendum quod quidam dixerunt (Guilliel- mus Autissiodorensis, Summa aurea, III, tr. 5, с 4; 146va) cantatem non augen secundum suam essentiam, sed solum secundum radicationem in subiecto, vel secundum fervorem. Sed hi propnam vocem ignoraverunt. Cum enim sit accidens, eius esse est inesse, unde nihil est aliud ipsam secundum essentiam augen quam eam magis inesse subiecto, quod est eam magis radican in subiecto. Similiter etiam ipsa essentialiter est virtus ordinata ad actum, unde idem est ipsam augeri secundum essentiam et ipsam habere efficaciam ad producendum ferventions dilectionis actum.
Раздел 5. Действительно ли любовь-каритас увеличивается посредством добавления 273
каритас означает, что ее становится больше в ее субъекте, т. е. что ее пребывание в нем упрочняется. Равным образом, любовь-каритас по самой своей сущности является добродетелью, определенной к действию, и потому сущностное возрастание любви-каритас означает, что она может производить действие более пылкой любви. Следовательно, любовь-каритас возрастает сущностно, но не так, как это предполагает возражение (т. е. начиная и прекращая существовать в субъекте), но посредством упрочнения своего присутствия в субъекте.
Раздел 5
Действительно ли любовь-каритас увеличивается посредством добавления
(38) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас увеличивается посредством добавления.
(39) 1. В самом деле, возрастать может как телесное, так и виртуальное количество. Но возрастание телесного количества происходит посредством добавления, ибо, как говорит Философ, возрастание происходит путем добавления к ранее существовавшему количеству. Следовательно, и возрастание любви-каритас, имеющее место сообразно
виртуальному количеству, происходит посредством добавления.
(40) 2. Кроме того, любовь-каритас есть своего рода духовный свет в душе, согласно этим словам (1 Ин 2, 10): Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Но свет возрастает в воздухе посредством добавления: так, освещенность дома возрастет, если зажечь еще одну свечу. Следовательно, и любовь-каритас в душе возрастает посредством добавления.
(41) 3. Кроме того, возрастание любви, как и ее создание — от Бога, согласно этим словам о том, что Он умножит плоды правды вашей (2 Кор 9, 10). Но когда Бог впервые изливает любовь-каритас, Он создает в душе то, чего в ней прежде не было. Следовательно, когда Он увеличивает любовь- каритас, Он тоже создает в ней то, чего в ней прежде не было. Следовательно, любовь-каритас возрастает посредством добавления.
(42) Но против: любовь-каритас является простой формой. Но, как доказывается в III книге «Физики», при добавлении простого к простому нечто не становится больше. Следовательно, любовь-каритас не возрастает посредством добавления.
Augetur ergo essentialiter non quidem ita quod esse incipiat vel esse desinat in subiecto, sicut obiectio procedit, sed ita quod magis in subiecto esse incipiat.
Articulus 5 Utrum cantas augeatur per additionem
(38) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod caritas augeatur per additionem.
(39) 1. Sicut enim est augmentum secundum quantitatem corporalem, ita secundum quantitatem virtualem. Sed augmentum quantitatis corporalis fit per additionem, dicit enim philosophus, in I De gen. (5; 320b30), quod augmentum est praeexistenti magnitudini additamentum. Ergo etiam augmentum caritatis, quod est secundum virtualem quantitatem, erit per additionem.
(40) 2. Praeterea, cantas in anima est quoddam spintuale lumen, secundum illud I Ioan. II, qui diligit fratrem suum in lumine manet. Sed lumen crescit in aere per additionem,
sicut in domo lumen crescit alia candela superaccensa. Ergo etiam cantas crescit in anima per additionem.
(41) 3. Praeterea, augere caritatem ad Deum pertinet, sicut et ipsam creare, secundum illud II ad Cor. IX, augebit incrementa frugum iustitiae vestrae. Sed Deus primo infundendo cantatem aliquid facit in anima quod ibi pnus non erat Ergo etiam augendo caritatem aliquid ibi facit quod prius non erat. Ergo cantas augetur per additionem.
(42) Sed contra est quod caritas est forma simplex. Simplex autem simplici additum non facit aliquid maius, ut probatur in VI Physic. (2; 232a23). Ergo cantas non augetur per additionem.
274
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
(43) Отвечаю: надлежит сказать, что любое добавление есть добавление чего-то к чему-то. Поэтому при любом добавлении еще до добавления предполагается различие добавляемого и того, к чему оно добавляется. Следовательно, если бы любовь-каритас добавлялась к любви-каритас, то необходимо предположить, что добавляемая любовь-каритас отличается от той любви- каритас, к которой происходит добавление, если и не реально, то, по крайней мере, логически. В самом деле, Бог может увеличить телесное количество, добавив некую величину, сотворенную в самый момент добавления; и эта величина, хотя ее прежде не было в природе вещей, сама в себе обладает тем, что позволяет помыслить ее отличие от того количества, к которому добавляется. Следовательно, если бы любовь-каритас добавлялась к любви-каритас, то между ними должно было бы иметься, по крайней мере, логическое различие. Однако различие форм двояко: по виду и по числу. И различие хабитусов по виду имеет место сообразно различию объектов, тогда как различие по числу имеет место сообразно различию субъектов. Итак, некий хабитус может возрастать вследствие своего распростра¬
нения на те объекты, на которые он раньше не распространялся (так, например, наука геометрии в том, кто впервые начинает познавать некие геометрические принципы, которых раньше не знал, распространяется на них). Но этого нельзя сказать о любви-каритас, поскольку даже малейшая любовь-каритас распространяется на все, что должно быть любимо ею. Следовательно, невозможно помыслить такое добавление при увеличении любви-каритас, если предположить, что добавляемая любовь-каритас отличается от той любви-каритас, к которой происходит добавление, по виду.
(44) Итак, если любовь-каритас добавляется к любви-каритас, остается только предположить, что между ними имеется различие по числу, которое происходит из различия субъектов (так, например, белизна увеличивается тогда, когда одно белое добавляется к другому, хотя от такого увеличения ничто не делается белее). Однако и этого нельзя сказать об исследуемом предмете. В самом деле, поскольку субъектом любви является не что иное, как рациональный ум, постольку такое возрастание может иметь место только в том случае, если бы один ум добавлялся к другому, что невозможно. Кроме того, даже
(43) Respondeo dicendum quod omnis additio est alicuius ad aliquid Unde in omni additione oportet saltem praeintel- ligere distinctionem eorum quorum unum additur alten, ante ipsam additionem Si igitur cantas addatur cantati, oportet praesupponi caritatem additam ut distinctam a caritate cui additur, non quidem ex necessitate secundum esse, sed saltem secundum intellectum. Posset enim Deus etiam quantitatem corporalem augere addendo aliquam magnitudinem non pnus existentem, sed tunc creatam, quae quamvis pnus non fuent in rerum natura, habet tamen in se unde eius distinctio intelligi possit a quantitate cui additur. Si igitur caritas addatur cantati, oportet praesupponere, ad minus secundum intellectum, distinctionem unius cantatis ab alia. Distinctio autem in formis est duplex, una quidem secundum speciem, alia autem secundum numerum. Distinctio quidem secundum speciem in habitibus est secundum diversitatem obiectorum, distinctio vero secundum numerum est secundum diversitatem subiecti. Potest igitur contingere quod aliquis habi¬
tus per additionem augeatur dum extenditur ad quaedam obiecta ad quae pnus se non extendebat, et sic augetur scientia geometnae in eo qui de novo incipit scire aliqua geometncalia quae pnus nesciebat. Hoc autem non potest dici de cantate, quia etiam minima cantas se extendit ad omnia illa quae sunt ex cantate diligenda. Non ergo talis additio in augmento cantatis potest intelligi praesupposita distinctione secundum speciem cantatis additae ad eam cui superadditur.
(44) Relinquitur ergo, si fiat additio cantatis ad cantatem, quod hoc fit praesupposita distinctione secundum numerum, quae est secundum diversitatem subiectorum, sicut albedo augetur per hoc quod album additur albo, quamvis hoc augmento non fiat aliquid magis album. Sed hoc in proposito dici non potest. Quia subiectum cantatis non est nisi mens rationalis, unde tale caritatis augmentum fien non posset nisi per hoc quod una mens rationalis alten adderetur, quod est impossibile. Quamvis etiam si esset possibile tale augmentum, faceret maiorem diligen-
Раздел 5. Действительно ли любовь-каритас увеличивается посредством добавления 275
если бы это было возможно, получился бы больший любящий, а не любящий больше. Итак, можно заключить, что любовь-каритас никоим образом не может возрастать посредством добавления одной любви-каритас к другой, как то полагали некоторые.
(45) Следовательно, любовь-каритас возрастает только благодаря тому, что ее субъект становится все больше и больше ей причастен, т. е. сообразно тому, что он все чаще осуществляет ее действие и подчиняется ей. В самом деле, это является способом увеличения любой формы, которая способна усиливаться, поскольку бытие такой формы полностью заключено в присущности воспринимающему ее. И потому, коль скоро величина вещи следует за ее бытием, говорить, что форма является большей — значит утверждать, что она присуща воспринимающему в большей степени, а не то, что к ней добавляется какая-то другая форма. В самом деле, так было бы, если бы форма сама по себе обладала количеством, но не в соотнесении со своим субъектом. И так, следовательно, любовь-каритас возрастает через интенсификацию в своем субъекте; и это подразумевает ее возрастание по сущности, но не посредством добавления одной любви-кари-
tem, non autem magis diligentem. Relinquitur ergo quod nullo modo cantas augeri potest per additionem caritatis ad cantatem, sicut quidam ponunt (Albertus Magnus, In Sent, I, d 17, a. 10; BO 25, 482; Bonaventura, In Sent., I, d 17, a unie., c.2; QR 1, 311).
(45) Sic ergo caritas augetur solum per hoc quod subiec- tum magis ac magis participat caritatem, idest secundum quod magis reducitur in actum illius et magis subditur illi. Hic enim est modus augmenti propnus cuiuslibet formae quae intenditur, eo quod esse huiusmodi formae totaliter consistit in eo quod inhaeret susceptibili Et ideo, cum magnitudo rei consequitur esse ipsius, formam esse maiorem hoc est eam magis inesse susceptibili, non autem aliam formam advenire. Hoc enim esset si forma haberet aliquam quantitatem ex seipsa, non per comparationem ad subiectum. Sic igitur et caritas augetur per hoc quod intenditur in subiecto, et hoc est ipsam augen secundum essentiam, non autem per hoc quod cantas addatur cantati
тас к другой.
(46) Итак, на первое надлежит ответить, что в телесном количестве есть нечто от количества и нечто от акцидентальной формы, поскольку оно есть и количество, и акци- дентальная форма. От количества оно обладает возможностью различаться по положению и числу, и в этом смысле величина может возрастать посредством добавления, как это видно на примере живых существ. А вот в той мере, в какой телесное количество является акцидентальной формой, оно может различаться только в отношении субъекта; и в этом смысле оно, как и другие акцидентальные формы, может возрастать только через интенсификацию формы в субъекте, как это бывает, согласно Философу, в разрежающихся [вещах]. И точно так же наука, поскольку она есть хабитус, обладает количеством со стороны объектов. И потому она возрастает посредством добавления тогда, когда человек познает большее количество вещей. А как акцидентальная форма, наука обладает количеством сообразно присущности своему субъекту; и в этом смысле она возрастает в человеке тогда, когда он познает более точно то, что знал и ранее. И точно так же двумя количествами обладает любовь-ка-
(46) Ad primum ergo dicendum quod quantitas corporalis habet aliquid inquantum est quantitas, et aliquid inquantum est forma accidentalis Inquantum est quantitas, habet quod sit distinguibilis secundum situm vel secundum numerum Et ideo hoc modo consideratur augmentum magnitudinis per additionem; ut patet in animalibus. Inquantum vero est forma accidentalis, est distinguibilis solum secundum subiectum Et secundum hoc habet proprium augmentum, sicut et aliae formae accidentales, per modum intensionis eius in subiecto, sicut patet in his quae rarefiunt, ut probat philosophus, in IV Physic. (9; 217al4) Et similiter etiam scientia habet quantitatem, inquantum est habitus, ex parte obiectorum. Et sic augetur per additionem, inquantum aliquis plura cognoscit. Habet etiam quantitatem, inquantum est quaedam forma accidentalis, ex eo quod inest subiecto. Et secundum hoc augetur in eo qui certius eadem scibilia cognoscit nunc quam pnus Similiter etiam et caritas habet duplicem quantitatem. Sed
276
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
ритас. Но сообразно тому количеству, которым она обладает со стороны объекта, она, как было показано выше, не возрастает. Таким образом, остается только, что она возрастает исключительно посредством интенсификации.
(47) На второе надлежит ответить, что добавление света к свету можно помыслить в случае воздуха как происходящее по причине различия между источниками, производящими свет. Но в нашем случае такое различие не имеет места, поскольку свет любви-каритас изливается только из одного источника.
(48) На третье надлежит ответить, что излияние любви-каритас подразумевает некое изменение сообразно отсутствию и наличию любви-каритас, и потому надлежит, чтобы возникло то, чего прежде не было. Но возрастание любви подразумевает изменение сообразно «больше» и «меньше». И потому нет необходимости в возникновении того, чего прежде не было: надо только, чтобы то, что прежде было меньшим, стало большим. И потому Бог, дабы любовь возросла, делает ее более завладевающей душой, а саму душу — более совершенным образом причастной уподоблению Святому Духу. И именно так делает
Бог, когда Он увеличивает любовь-каритас, а именно, Он делает так, чтобы она была присуща в большей степени, и чтобы подобие Святого Духа более совершенным образом присутствовало в душе.
Раздел 6
Возрастает ли любовь-каритас посредством любого своего действия
(49) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас возрастает с каждым своим действием.
(50) 1. В самом деле, тот, кто делает большее, может делать и меньшее. Но любое действие любви-каритас заслуживает жизнь вечную, а она есть нечто большее, чем просто возрастание любви-каритас, поскольку подразумевает ее совершенство. Поэтому куда скорее каждое действие любви-каритас увеличивает ее.
(51) 2. Кроме того, как хабитусы приобретенных добродетелей обусловливаются действиями, точно также возрастание любви- каритас обусловливается действием любви-каритас. Но любое добродетельное действие способствует возникновению добродетели. Следовательно, и каждое действие любви-каритас ведет к возрастанию любви.
secundum eam quae est ex parte obiecti, non augetur, ut dictum est. Unde relinquitur quod per solam intensionem augeatur.
(47) Ad secundum dicendum quod additio luminis ad lumen potest intelligi in aere propter diversitatem luminarium causantium lumen. Sed talis distinctio non habet locum in proposito, quia non est nisi unum luminare influens lumen cantatis.
(48) Ad tertium dicendum quod infusio cantatis importat quandam mutationem secundum habere caritatem et non habere, et ideo oportet quod aliquid adveniat quod pnus non infuit. Sed augmentatio cantatis importat mutationem secundum minus aut magis habere Et ideo non oportet quod aliquid insit quod prius non infuerit, sed quod magis insit quod prius minus inerat. Et hoc est quod facit Deus cantatem augendo, scilicet quod magis insit, et quod perfectius similitudo spintus sancti participetur in anima.
Articulus 6 Utrum quolibet actu caritatis caritas augeatur
(49) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod quolibet actu cantatis cantas augeatur.
(50) 1. Quod enim potest id quod maius est, potest id quod minus est. Sed quilibet actus caritatis meretur vitam aeternam, quae maius est quam simplex caritatis augmentum, quia vita aeterna includit caritatis perfectionem. Ergo multo magis quilibet actus cantatis cantatem auget.
(51) 2. Praeterea, sicuti habitus virtutum acquisitarum generatur ex actibus, ita etiam augmentum cantatis causatur per actus caritatis. Sed quilibet actus virtuosus operatur ad virtutis generationem. Ergo etiam quilibet actus caritatis operatur ad cantatis augmentum.
(52) 3. Praeterea, Gregonus dicit (cf. Reg. Pastor., p. III, c 34; PL 77, 118) quod in via Dei stare retrocedere est. Sed nullus, dum movetur actu cantatis, retrocedit. Ergo quicumque movetur actu caritatis, procedit in via Dei. Ergo quolibet actu caritatis caritas augetur.
Раздел 6. Возрастает ли любовь-каритас посредством любого своего действия 277
(52) 3. Кроме того, Григорий говорит, что остановиться на пути к Богу значит пойти вспять. Но никто из тех, кто движим действием любви-каритас, не идет вспять. Следовательно, любой, кто движим действием любви-каритас, подвигается на пути к Богу. Следовательно, любовь-каритас возрастает с каждым своим действием.
(53) Но против: сила следствия не превосходит силу причины. Но иногда действие любви-каритас бывает слабым или теплохладным. Следовательно, оно не усиливает, а скорее ослабляет любовь-каритас.
(54) Отвечаю: надлежит сказать, что духовное возрастание любви в чем-то подобно телесному росту. Но телесный рост животных и растений не является непрерывным движением, таким, что если нечто возрастает на столько-то в течение такого-то времени, то оно увеличивается в равной мере за одинаковые промежутки этого времени, как то имеет место в случае локального перемещения; дело обстоит так, что в течение некоего времени природа только предрасполагает к возрастанию, не производя актуального роста, а уже затем актуально осуществляет то, к чему предрасположила, актуально увеличивая животное или растение. И точно так же любовь-ка¬
ритас актуально не возрастает с каждым своим действием, но каждый ее акт располагает к возрастанию любви-каритас постольку, поскольку усиливает готовность человека к тому, чтобы снова действовать сообразно любви-каритас. И когда эта готовность усилится, человек совершает действие более пылкой любви, посредством которого он устремляется к совершенствованию любви-каритас, и тогда любовь-каритас актуально возрастает.
(55) Итак, на первое надлежит ответить, что каждое действие любви-каритас заслуживает жизнь вечную, которая, однако, даруется не сразу, но в свое время. И точно так же каждое действие любви-каритас заслуживает возрастание любви, но это возрастание имеет место не сразу, а тогда, когда мы устремляемся к нему.
(56) На второе надлежит ответить, что также и при возникновении приобретенной добродетели не каждое добродетельное действие завершается тем, что она возникает, но любое действие предрасполагает к ней, а к актуальному бытию добродетель приводит только последнее и более совершенное действие, как бы вобравшее силу всех предшествующих, подобно тому, как падающие капли пробивают, в конце концов,
(53) Sed contra est quod effectus non excedit virtutem causae. Sed quandoque aliquis actus cantatis cum aliquo tepore vel remissione emittitur Non ergo perducit ad excellentiorem cantatem, sed magis disponit ad minorem.
(54) Respondeo dicendum quod augmentum spintuale caritatis quodammodo simile est augmento corporali. Augmentum autem corporale in animalibus et plantis non est motus continuus, ita scilicet quod, si aliquid tantum augetur in tanto tempore, necesse sit quod proportionaliter in qualibet parte illius temporis aliquid augeatur, sicut contingit in motu locali, sed per aliquod tempus natura operatur disponens ad augmentum et nihil augens actu, et postmod- um producit in effectum id ad quod disposuerat, augendo animal vel plantam in actu. Ita etiam non quolibet actu cantatis cantas actu augetur, sed quilibet actus cantatis disponit ad cantatis augmentum, inquantum ex uno ac¬
tu cantatis homo redditur promptior iterum ad agendum secundum cantatem; et, habilitate crescente, homo prorumpit in actum ferventiorem dilectionis, quo conetur ad cantatis profectum, et tunc cantas augetur in actu.
(55) Ad primum ergo dicendum quod quilibet actus caritatis meretur vitam aeternam, non quidem statim exhibendam, sed suo tempore. Similiter etiam quilibet actus caritatis meretur caritatis augmentum, non tamen statim augetur, sed quando aliquis conatur ad huiusmodi augmentum.
(56) Ad secundum dicendum quod etiam in generatione virtutis acquisitae non quilibet actus complet generationem virtutis, sed quilibet operatur ad eam ut disponens, et ultimus, qui est perfectior, agens in virtute omnium praecedentium, reducit eam in actum. Sicut etiam est in multis guttis cavantibus lapidem.
278
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
отверстие в камне.
(57) На третье надлежит ответить, что человек продвигается по пути к Богу не только когда любовь-каритас актуально возрастает, но и когда он предрасполагается к ее возрастанию.
Раздел 7 Возрастает ли любовь-каритас до бесконечности
(58) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас не возрастает до бесконечности.
(59) 1. В самом деле, как сказано во II книге «Метафизики», всякое движение есть движение к некоторой цели и пределу. Но возрастание любви-каритас есть некое движение, и потому оно направлено к некоей цели и пределу. Следовательно, любовь- каритас не может возрастать до бесконечности.
(60) 2. Кроме того, никакая форма не превосходит возможности своего субъекта. Но возможности разумного творения, являющегося субъектом любви-каритас, конечны. Следовательно, любовь-каритас не может возрастать до бесконечности.
(61) 3. Кроме того, любая конечная [вещь] может, непрерывно возрастая, достигнуть
количества другой конечной, сколь угодно большой [вещи], если только ее приращение с каждым разом не становится все меньше и меньше. Так, Философ говорит, что если мы будем прибавлять к одной линии то, что отнимается у другой линии, которая делится до бесконечности, то мы никогда не достигнем того определенного количества, которое было бы равно сумме этих двух линий, т. е. той, которая делилась, и той, к которой прибавлялось отнятое. Но в нашем случае это не имеет места, поскольку нет необходимости в том, чтобы второе возрастание любви было меньшим, чем первое, ведь куда скорее оно будет равным или даже большим. Таким образом, коль скоро любовь-каритас блаженного на Небесах есть нечто конечное, то если любовь-каритас человека в земной жизни может возрастать до бесконечности, из этого следует, что его любовь может сравняться с небесной любовью, что кажется нелепым. Следовательно, любовь- каритас не может возрастать до бесконечности.
(62) Но против: апостол говорит (Филип 3, 12): Не потому, чтобы я уже достиг, или у совершился, но стремлюсь, не достигну ли и я. И эти слова глосса разъясняет так:
(57) Ad tertium dicendum quod in via Dei procedit aliquis non solum dum actu cantas eius augetur, sed etiam dum disponitur ad augmentum
Articulus 7 Utrum caritas augeatur in infinitum
(58) Ad septimum sic proceditur Videtur quod cantas non augeatur in infinitum.
(59) 1. Omnis enim motus est ad aliquem finem et terminum, ut dicitur in II Metaphys. (I, 2; 994ЫЗ) Sed augmentum cantatis est quidam motus. Ergo tendit ad aliquem finem et terminum. Non ergo caritas in infinitum augetur
(60) 2. Praeterea, nulla forma excedit capacitatem sui subiecti. Sed capacitas creaturae rationalis, quae est subiectum caritatis, est finita. E^go cantas in infinitum augeri non potest
(61) 3. Praeterea, omne finitum per continuum augmentum potest pertingere ad quantitatem alterius finiti quantum-
cumque maioris, nisi forte id quod accrescit per augmentum semper sit minus et minus, sicut philosophus dicit, in III Physic. (6; 206bl6), quod si uni lineae addatur quod subtrahitur ab alia linea quae in infinitum dividitur, in infinitum additione facta, nunquam pertingetur ad quandam determinatam quantitatem quae est composita ex duabus lineis, scilicet divisa et ea cui additur quod ex alia subtrahitur. Quod in proposito non contingit, non enim necesse est ut secundum caritatis augmentum sit minus quam prius; sed magis probabile est quod sit aequale aut maius. Cum ergo cantas patnae sit quiddam finitum, si cantas viae in infinitum augen potest, sequitur quod cantas viae possit adaequare cantatem patnae, quod est inconveniens. Non ergo cantas viae in infinitum potest augen
(62) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Philipp. III. Non quod iam acceperim, aut iam perfectus sim, sequor autem si quo modo comprehendam. Ubi dicit Glossa (Petri Lombardi, PL 192, 246), nemo fidelium, etsi multum profecerit, dicat, sufficit mihi Qui enim hoc dicit, exit de via ante finem.
Раздел 7. Возрастает ли любовь-каритас до бесконечности
279
Никто из верных, сколь бы совершенен он ни был, не должен говорить: «Достаточно!» Ведь кто скажет так, тот остановится раньше, чем достигнет конца пути. Следовательно, любовь-каритас человека в его земной жизни может возрастать все больше и больше.
(63) Отвечаю: надлежит сказать, что предел возрастанию некоей формы может наличествовать в силу трех причин. Во-первых, потому, что сама форма имеет некую определенную меру, и когда она достигается, дальнейшее возрастание этой формы становится невозможным, а если оно все- таки продолжается, то в итоге возникает некая иная форма (так, например, бледность, достигнув своего предела в результате непрерывного изменения, становится или белизной, или чернотой). Во-вторых, предел может иметь место со стороны действующего, сила которого не распространяется на дальнейшее увеличение формы в субъекте. В-третьих, он может иметь место со стороны субъекта, который не способен воспринять дальнейшее совершенство.
(64) Однако ничто из этого не может помешать возрастанию любви-каритас в земной жизни человека. В самом деле, сооб¬
разно смысловому содержанию своего вида любовь-каритас не имеет предела для возрастания, поскольку она есть причастность той беспредельной любви, которой является Святой Дух. Точно так же бесконечной силой обладает действующая причина любви-каритас, т. е. Бог. Равным образом, не может быть установлен предел и со стороны субъекта, поскольку с каждым возрастанием любви-каритас возрастает и способность к дальнейшему возрастанию. Следовательно, не существует предела возрастанию любви-каритас в земной жизни человека.
(65) Итак, на первое надлежит ответить, что возрастание любви-каритас, конечно, имеет свою цель, но эта цель — не в земной, а в будущей жизни.
(66) На второе надлежит ответить, что возможности духовного творения увеличиваются благодаря любви-каритас, поскольку она расширяет наши сердца, согласно этим словам (2 Кор 6, 11): Сердце наше расширено. И потому всегда сохраняется возможность [вместить] дальнейшее возрастание.
(67) На третье надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу по отношению к тому, что обладает количеством одного и того же типа, но не в отношении того, что
Ergo semper in via cantas potest magis ac magis augen.
(63) Respondeo dicendum quod terminus augmento alicuius formae potest praefigi tripliciter. Uno modo, ex ratione ipsius formae, quae habet terminatam mensuram, ad quam cum perventum fuerit, non potest ultra procedi in forma, sed si ultra processum fuent, pervenietur ad aliam formam, sicut patet in pallore, cuius terminos per continuam alterationem aliquis transit, vel ad albedinem vel ad nigredinem perveniens. Alio modo, ex parte agentis, cuius virtus non se extendit ad ultenus augendum formam in subiecto. Tertio, ex parte subiecti, quod non est capax amplioris perfectionis.
(64) Nullo autem istorum modorum imponitur terminus augmento cantatis in statu viae. Ipsa enim cantas secundum rationem propriae speciei terminum augmenti non habet, est enim participatio quaedam infinitae cantatis, quae est spiritus sanctus. Similiter etiam causa augens caritatem est infinitae virtutis, scilicet Deus. Similiter etiam ex parte subiecti terminus huic augmento praefigi non potest,
quia semper, caritate excrescente, superexcrescit habilitas ad ultenus augmentum. Unde relinquitur quod cantatis augmento nullus terminus praefigi possit in hac vita.
(65) Ad primum ergo dicendum quod augmentum caritatis est ad aliquem finem, sed ille finis non est in hac vita, sed in futura.
(66) Ad secundum dicendum quod capacitas creaturae spiritualis per cantatem augetur, quia per ipsam cor dilatatur, secundum illud II ad Cor. VI, cor nostrum dilatatum est. Et ideo adhuc ultenus manet habilitas ad maius augmentum.
(67) Ad tertium dicendum quod ratio illa procedit in his quae habent quantitatem eiusdem rationis, non autem in his quae habent diversam rationem quantitatis; sicut linea, quantumcumque crescat, non attingit quantitatem superficiei. Non est autem eadem ratio quantitatis cantatis viae, quae sequitur cognitionem fidei, et caritatis patnae, quae sequitur visionem apertam. Unde ratio non sequitur.
280
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
обладает количеством разного типа: так, сколько бы линия не увеличивалась, она никогда не достигнет количества поверхности. Но количество любви-каритас земной жизни, следующей за познанием веры, не относится к тому же типу, что и количество любви-каритас блаженного, следующей за непосредственным видением. Поэтому аргумент не имеет силы.
Раздел 8 Может ли любовь-каритас быть совершенной в земной жизни
(68) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас в земной жизни человека не может быть совершенной.
(69) 1. В самом деле, тогда такое совершенство подобало бы прежде всего апостолам. Но они не обладали им, ибо апостол говорит (Филип 3, 12): Не потому, чтобы я уже достиг, или у совершился, но стремлюсь, не достигну ли и я. Следовательно, в этой жизни любовь-каритас не может быть совершенной.
(70) 2. Кроме того, Августин говорит, что пыл любви-каритас уменьшает вожделение, но нужно совершенство любви, чтобы она исчезла совсем. Но ничего подобного не мо¬
жет быть в этой жизни, в которой мы не можем быть без греха, согласно этим словам (1 Ин 1, 8): Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя. Но любой грех происходит из некоего неупорядоченного вожделения. Следовательно, в этой жизни любовь-каритас не может быть совершенной.
(71) 3. Кроме того, совершенное не может стать еще более совершенным. Но, как было показано выше (Р. 7), в земной жизни любовь-каритас может возрастать постоянно. Следовательно, в этой жизни любовь- каритас не может быть совершенной.
(72) Но против: Августин говорит: Любовь- каритас, усиливаясь, совершенствуется, достигнув же совершенства, говорит: «Желаю раствориться и быть с Христом». Но это возможно и в нынешней жизни, как было с Павлом. Следовательно, любовь-каритас может быть совершенной и в нынешней жизни.
(73) Отвечаю: надлежит сказать, что о совершенстве любви можно говорить в двух смыслах: во-первых, со стороны любимого, во-вторых, со стороны любящего. И со стороны любимого любовь-каритас совершенна тогда, когда любимое любимо настолько, насколько оно того требует. Но
Articulus 8 Utrum caritas in hac vita possit esse perfecta
(68) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod cantas in hac vita non possit esse perfecta.
(69) 1. Maxime enim haec perfectio in apostolis fuisset. Sed in eis non fuit, dicit enim apostolus, ad Philipp. III, non quod iam conprehenderim aut perfectus sim. Ergo cantas in hac vita perfecta esse non potest.
(70) 2. Praeterea, Augustinus dicit in libro Octog. trium quaest (36; PL 40, 25), quod nutrimentum caritatis est diminutio cupiditatis; perfectio, nulla cupiditas. Sed hoc non potest esse in hac vita, in qua sine peccato vivere non possumus, secundum illud I Ioan. I, si dixerimus quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, omne autem peccatum ex aliqua inordinata cupiditate procedit. Ergo in hac vita caritas perfecta esse non potest.
(71) 3. Praeterea, illud quod iam perfectum est non habet ulterius crescere. Sed caritas in hac vita semper potest augeri, ut dictum est (a. 7). Ergo caritas in hac vita non potest esse perfecta.
(72) Sed contra est quod Augustinus dicit, super Prim. Canomc. Ioan. (tr. 5, super 3, 9; PL 35, 2014), caritas cum fuerit roborata, perficitur, cum ad perfectionem pervenerit, dicit, cupio dissolvi et esse cum Christo. Sed hoc possibile est in hac vita, sicut in Paulo fuit. Ergo caritas in hac vita potest esse perfecta.
(73) Respondeo dicendum quod perfectio caritatis potest in- telligi dupliciter, uno modo, ex parte diligibilis; alio modo, ex parte diligentis. Ex parte quidem diligibilis perfecta est cantas ut diligatur aliquid quantum diligibile est. Deus autem tantum diligibilis est quantum bonus est. Bonitas autem eius est infinita. Unde infinite diligibilis est. Nulla autem creatura potest eum diligere infinite, cum quaelibet virtus creata sit finita. Unde per hunc modum nullius creaturae caritas potest esse perfecta, sed solum caritas
Раздел 8. Может ли любовь-каритас быть совершенной в земной жизни
281
Бог достоин любви настолько, насколько Он благ, и поскольку Его благость бесконечна, постольку Он должен быть бесконечно любим. Однако никакое творение не может любить Бога бесконечно, поскольку любая тварная сила конечна. Следовательно, в этом смысле никакое творение не может обладать совершенной любовью-каритас, и так совершенна только та любовь-каритас, которой Бог любит самого Себя.
(74) Со стороны же любящего любовь-каритас совершенна тогда, когда любящий любит настолько сильно, насколько способен. И это может происходить тремя способами. Во-первых, сообразно тому, что все человеческое сердце всегда обращено к Богу. И таково совершенство небесной любви-каритас, недостижимое в земной жизни, в которой из-за слабости человеческой невозможно всегда актуально помышлять о Боге и стремиться к Нему любовью-каритас. Во-вторых, любовь-каритас может быть совершенной благодаря тому, что человек посвящает все свое время исследованию Бога и божественных вещей, не обращая внимания ни на что другое, кроме того, что необходимо для поддержания жизни. И такое совершен¬
ство любви-каритас возможно для человека в земной жизни, хотя оно и не является общим для всех, кто обладает любовью- каритас. В-третьих, любовь-каритас может быть совершенной тогда, когда человек ха- битуально вручает все свое сердце Богу, так именно, что не помышляет и не желает ничего, что противно любви к Нему. И это совершенство любви-каритас обще для всех, кто обладает ею.
(75) Итак, на первое надлежит ответить, что апостол отрицает то, что он обладал совершенством небесной любви-каритас. И потому глосса к этим словам утверждает, что он был совершенным путником, но не достиг того совершенства, к которому ведет путь.
(76) На второе надлежит ответить, что эти слова сказаны о простительных грехах, которые противоположны не хабитусу, но действию любви-каритас, а потому несовместимы с совершенством Небесного Отечества, но не с совершенством земной жизни.
(77) На третье надлежит ответить, что совершенство земной жизни не является безусловным совершенством, и потому у него всегда есть возможность роста.
Dei, qua seipsum diligit.
(74) Ex parte vero diligentis caritas dicitur perfecta quando aliquis secundum totum suum posse diligit. Quod quidem contingit tripliciter. Uno modo, sic quod totum cor hominis actualiter semper feratur in Deum. Et haec est perfectio caritatis patriae, quae non est possibilis in hac vita, in qua impossibile est, propter humanae vitae infirmitatem, semper actu cogitare de Deo et moveri dilectione ad ipsum. Alio modo, ut homo studium suum deputet ad vacandum Deo et rebus divinis, praetermissis aliis nisi quantum necessitas praesentis vitae requirit. Et ista est perfectio caritatis quae est possibilis in via, non tamen est communis omnibus cantatem habentibus. Tertio modo, ita quod habitualiter aliquis totum cor suum ponat in Deo, ita
scilicet quod nihil cogitet vel velit quod sit divinae dilectioni contrarium. Et haec perfectio est communis omnibus cantatem habentibus.
(75) Ad primum ergo dicendum quod apostolus negat de se perfectionem patnae. Unde Glossa (Petri Lombardi; PL 192,247) ibi dicit quod perfectus erat viator, sed nondum ipsius itineris perfectione perventor
(76) Ad secundum dicendum quod hoc dicitur propter peccata venialia. Quae non contranantur habitui cantatis, sed actui, et ita non repugnant perfectioni viae, sed perfectioni patriae.
(77) Ad tertium dicendum quod perfectio viae non est perfectio simpliciter. Et ideo semper habet quo crescat.
282
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
Раздел 9
Подобает ли различать три степени любви-каритас
(78) Ход рассуждения в девятом разделе таков. Представляется, что не следует различать три степени любви-каритас, а именно, начальную, развитую и совершенную.
(79) 1. В самом деле, между началом любви-каритас и предельным ее совершенством есть множество степеней. Следовательно, средних степеней должно быть больше, чем одна.
(80) 2. Кроме того, едва начав существовать, любовь-каритас начинает развиваться. Следовательно, не требуется проводить различие между начальной и развитой любовью-каритас.
(81) 3. Кроме того, сколь бы совершенной ни была любовь-каритас в этом мире, она все равно может возрасти, как уже сказано (Р. 7). Но возрастание любви-каритас подразумевает развитие. Следовательно, совершенная любовь-каритас не должна отличаться от развитой. Следовательно, названные три степени любви-каритас указаны неверно.
(82) Но против: Августин говорит: Любовь- каритас после рождения нуждается в пище, и это относится к начальной любви-
каритас, питаясь, она укрепляется, и это относится к развитой любви-каритас, укрепившись, она становится совершенной, и это относится к совершенной любви-каритас. Следовательно, есть три степени любви- каритас.
(83) Отвечаю: надлежит сказать, что духовное возрастание любви в определенном смысле можно уподобить телесному росту человека. И хотя этот последний может быть разделен на множество частей, тем не менее, он обладает некими определенными этапами, соответствующими специфическим действиям или занятиям, к которым на данном этапе человек подводится в результате своего телесного роста. Так, мы называем человека младенцем, пока он не научится пользоваться своим разумом; после этого мы различаем другое состояние человека, когда он начинает использовать разум и говорить; затем следует третье состояние, когда человек достаточно возмужал и обрел способность к деторождению, и так далее, вплоть до достижения совершенного состояния.
(84) Подобным же образом различают и степени любви-каритас, сообразно с различными занятиями, к которым по мере своего возрастания приводит человека любовь-
Articulus 9
Utrum convenienter distinguantur tres gradus caritatis
(78) Ad nonum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter distinguantur tres gradus caritatis, scilicet cantas incipiens, proficiens et perfecta.
(79) 1 Inter pnncipium enim caritatis et eius ultimam perfectionem sunt multi gradus medii. Non ergo unum solum medium debuit poni
(80) 2. Praeterea, statim cum cantas incipit esse, incipit etiam proficere. Non ergo debet distingui caritas proficiens a caritate incipiente.
(81) 3. Praeterea, quantumcumque aliquis habeat in hoc mundo caritatem perfectam, potest etiam eius caritas augen, ut dictum est (a. 7) Sed cantatem augeri est ipsam proficere. Ergo caritas perfecta non debet distingui a cantate proficiente. Inconvenienter igitur praedicti tres gradus caritatis assignantur.
(82) Sed contra est quod Augustinus dicit, super Pnm Canomc.
Ioan. (tr. 5, super 3, 9; PL 35, 2014), caritas cum fuerit nata, nutritur, quod pertinet ad incipientes; cum fuerit nutrita, roboratur, quod pertinet ad proficientes; cum fuerit roborata, perficitur, quod pertinet ad perfectos. Ergo est tnplex gradus cantatis.
(83) Respondeo dicendum quod spirituale augmentum cantatis considerari potest quantum ad aliquid simile corporali hominis augmento. Quod quidem quamvis in plurimas partes distingui possit, habet tamen aliquas determinatas distinctiones secundum determinatas actiones vel studia ad quae homo perducitur per augmentum, sicut infantilis aetas dicitur antequam habeat usum rationis; postea autem distinguitur alius status hominis quando iam incipit loqui et ratione uti; iterum tertius status eius est pubertatis, quando iam incipit posse generare, et sic inde quousque perveniatur ad perfectum.
(84) Ita etiam et diversi gradus caritatis distinguuntur secundum diversa studia ad quae homo perducitur per cantatis augmentum. Nam pnmo quidem incumbit homini stu-
Раздел 10. Может ли уменьшаться любовь-каритас
283
каритас. Так, сначала рост любви-каритас располагает человека главным образом к избеганию греха и сопротивлению вожделению, которые движут его к тому, что противно любви-каритас. И это относится к начинающим, любовь-каритас которых, чтобы не угаснуть, требует ухода и питания. Затем рост любви-каритас располагает человека главным образом к совершенствованию в добре. И такова расположенность тех, чья любовь-каритас является развитой, и кто стремится главным образом к укреплению любви за счет ее возрастания. Третья же расположенность предполагает, что человек стремится главным образом к соединению с Богом и наслаждению Им. И это относится к совершенным, которые желают «раствориться и быть с Христом». Нечто подобное мы видим и в случае локального перемещения, когда, во-первых, происходит удаление от одного предела, во-вторых, приближение к другому пределу, и, в-третьих, обретение покоя в этом пределе.
(85) Итак, на первое надлежит ответить, что все те определенные различия, которые можно обнаружить при возрастании любви, включены в вышеупомянутые три. Так ведь и любое деление непрерывного охва- (88)
тывается этими тремя, а именно, началом, серединой и концом, как говорит Философ в I книге «О мире».
(86) На второе надлежит ответить, что хотя те, в ком пребывает начальная любовь-каритас, и могут развиваться, они, тем не менее, в первую очередь должны сосредоточиться на сопротивлении грехам, которые водят их в смущение своими атаками. Но затем, когда эти атаки уже не столь сильно ощущаются, они, пребывая в относительной безопасности, смогут начать развиваться, но так, чтобы одной рукой производить работу, а другой держать меч, как это некогда делали строители Иерусалима (Неем 4:17).
(87) На третье надлежит ответить, что даже совершенные могут развиваться в том, что касается любви-каритас, но это уже не главное их занятие, поскольку они заботятся прежде всего о единении с Богом. И хотя того же желают и начинающие, и развитые, их главное занятие заключается в другом: начинающие избегают грехов, а развитые совершенствуются в добродетели.
Раздел 10
Может ли уменьшаться любовь-каритас
Ход рассуждения в десятом разделе та-
dium principale ad recedendum a peccato et resistendum concupiscentiis eius, quae in contrarium caritatis movent. Et hoc pertinet ad incipientes, in quibus caritas est nutrienda vel fovenda ne corrumpatur. Secundum autem studium succedit, ut homo principaliter intendat ad hoc quod in bono proficiat. Et hoc studium pertinet ad proficientes, qui ad hoc principaliter intendunt ut in eis cantas per augmentum roboretur. Tertium autem studium est ut homo ad hoc pnncipaliter intendat ut Deo inhaereat et eo fruatur Et hoc pertinet ad perfectos, qui cupiunt dissolvi et esse cum Chnsto. Sicut etiam videmus in motu corporali quod primum est recessus a termino; secundum autem est appropinquatio ad alium terminum; tertium autem quies in termino.
(85) Ad primum ergo dicendum quod omnis illa determinata distinctio quae potest accipi in augmento caritatis, comprehenditur sub istis tribus quae dicta sunt. Sicut etiam omnis divisio continuorum comprehenditur sub tribus his, principio, medio et fine; ut philosophus dicit, in I De caelo
(1; 268al2).
(86) Ad secundum dicendum quod illis in quibus caritas incipit, quamvis proficiant, principalior tamen cura imminet ut resistant peccatis, quorum impugnatione inquietantur. Sed postea, hanc impugnationem minus sentientes, iam quasi securius ad profectum intendunt; ex una tamen parte facientes opus, et ex alia parte habentes manum ad gladium, ut dicitur in Esdra de aedificatoribus Ierusalem.
(87) Ad tertium dicendum quod perfecti etiam in caritate proficiunt, sed non est ad hoc principalis eorum cura, sed iam eorum studium circa hoc maxime versatur ut Deo inhaereant. Et quamvis hoc etiam quaerant et incipientes et proficientes, tamen magis sentiunt circa alia sollicitudinem, incipientes quidem de vitatione peccatorum, proficientes vero de profectu virtutum.
Articulus 10 Utrum caritas possit diminui
(88) Ad decimum sic proceditur. Videtur quod caritas possit
284
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
ков. Представляется, что любовь-каритас может уменьшаться.
(89) 1. В самом деле, противоположности по своей природе относятся к одному и тому же. Но рост и уменьшение суть противоположности. И поскольку, как уже было сказано (Р. 4), любовь может возрастать, то, как кажется, она может и уменьшаться.
(90) 2. Кроме того, Августин, обращаясь к Богу, говорит: Тот любит Тебя менее, кто любит что-то помимо Тебя\ и еще: Питание любви-каритас есть уменьшение вожделения. И потому, как кажется, увеличение вожделения, со своей стороны, уменьшает любовь-каритас. Но то вожделение, посредством которого человек любит что-либо, кроме Бога, может возрастать в нем. Следовательно, любовь-каритас может уменьшаться.
(91) 3. Кроме того, Августин говорит, что Бог делает человека праведником, оправдывая его, не так, что, если тот вдруг отвернется, то в отвернувшемся сохранится сотворенное Им. И из этого можно заключить, что Бог, сохраняя в человеке любовь- каритас, действует точно так же, как и тогда, когда Он впервые изливает в него любовь-каритас. Но того, кто хуже подготовил себя к принятию любви-каритас, Бог
при первом ее излиянии наделяет меньшим. Следовательно, также и при сохранении любви-каритас Бог сохраняет меньше ее в том, кто хуже себя подготовил. Следовательно, любовь-каритас может уменьшаться.
(92) Но против: в Писании любовь-каритас сравнивается с пламенем: Она, то есть любовь-каритас, пламень весьма сильный (Песнь 8, 6). Но пока пламя сохраняется, оно устремляется вверх. Следовательно, пока любовь-каритас сохраняется, она может только восходить, но не нисходить, т. е. уменьшаться.
(93) Отвечаю: надлежит сказать, что то количество, которым любовь-каритас обладает в соотнесении со своим объектом, не может уменьшаться, как оно не может и увеличиваться, о чем уже было сказано выше (Р. 4, на 1; Р. 5). Но поскольку любовь-каритас увеличивается сообразно тому количеству, которым она обладает со стороны своего субъекта, то надлежит исследовать, может ли она и уменьшаться сообразно этому количеству. Итак, если она уменьшается, то необходимо, чтобы она уменьшалась либо вследствие некоего действия, либо просто вследствие прекращения действия. И вследствие воздержа-
diminui.
(89) 1. Contraria enim nata sunt fieri circa idem. Sed diminu- tio et augmentum sunt contraria. Cum igitur caritas augeatur, ut dictum est supra (a. 4), videtur quod etiam possit diminui.
(90) 2. Praeterea, Augustinus, X Confess. (29; PL 32, 796), ad Deum loquens, dicit, minus te amat qui tecum aliquid amat. Et in libro Octogintatrium quaest. (36; PL 40, 25) dicit quod nutrimentum cantatis est diminutio cupiditatis, ex quo videtur quod etiam e converso augmentum cupiditatis sit diminutio caritatis. Sed cupiditas, qua amatur aliquid aliud quam Deus, potest in homine crescere. Ergo caritas potest diminui.
(91) 3. Praeterea, sicut Augustinus dicit, VIII Super Gen. ad litt. (12; PL 34, 383), non ita Deus operatur hominem iustum iustificando eum, ut, si abscesserit, maneat in absente quod fecit, ex quo potest accipi quod eodem modo
Deus operatur in homine caritatem eius conservando, quo operatur primo ei caritatem infundendo. Sed in pnma caritatis infusione minus se praeparanti Deus minorem caritatem infundit. Ergo etiam in conservatione caritatis minus se praeparanti minorem caritatem conservat. Potest ergo cantas diminui.
(92) Sed contra est quod caritas in Scnptura igni comparatur, secundum illud Cant. VIII, lampades eius, scilicet cantatis, lampades ignis atque flammarum. Sed ignis, quandiu manet, semper ascendit. Ergo caritas, quandiu manet, ascendere potest; sed descendere, idest diminui, non potest.
(93) Respondeo dicendum quod quantitas cantatis quam habet in comparatione ad obiectum propnum, minui non potest, sicut nec augen, ut supra dictum est (a. 4, ad 1; a. 5). Sed cum augeatur secundum quantitatem quam habet per comparationem ad subiectum, hic oportet considerare utrum ex hac parte diminui possit. Si autem dimi-
Раздел 10. Может ли уменьшаться любовь-каритас
285
ния от действия уменьшаются (а иногда и разрушаются) добродетели, приобретенные посредством действий, как уже говорилось выше (Ч. II-I, В. 53, Р. 3). Поэтому Философ говорит о дружбе, что многие дружеские отношения прекратились из-за отсутствия общения, т. е. из-за отсутствия встреч и бесед с друзьями. И это так потому, что сохранение любой вещи зависит от ее причины, а причиной приобретенной добродетели является человеческое действие, поэтому в случае прекращения человеческих действий приобретенная добродетель начинает уменьшаться и, в конце концов, совершенно разрушится. Но это не имеет места в случае любви-каритас, поскольку ее причинно обусловливают не человеческие действия, но только Бог, как уже сказано (Р. 2). Поэтому следует заключить, что даже когда ее действие прекращается, то из-за этого она не уменьшается и не разрушается, если только в самом этом прекращении нет греха.
(94) Итак, остается только, что уменьшение любви-каритас может быть обусловлено либо Богом, либо неким грехом. Но Бог наносит нам ущерб только в виде наказания, сообразно тому, что в наказание за грех лишает своей благодати. Следо¬
вательно, Ему подобает уменьшать в нас любовь-каритас только в качестве наказания. Но для наказания нужен грех. Итак, остается только, что если любовь-каритас уменьшается, то причиной этого является грех, либо в качестве действующей причины, либо в качестве того, что заслуживает наказания. Но смертный грех не уменьшает любовь-каритас ни одним из указанных способов: он полностью разрушает ее, причем и как действующая причина, поскольку любой смертный грех противоположен любви-каритас, как будет сказано ниже (Р. 12), и как то, что заслуживает наказания, ведь постольку тот, кто совершает смертный грех, действует против любви- каритас, постольку он заслуживает того, чтобы Бог лишил его этой любви.
(95) Но равным образом никакой простительный грех не может уменьшить любовь-каритас, ни как действующее, ни как заслуживающее наказания. Как действующее — потому, что не затрагивает любовь-каритас. В самом деле, эта любовь относится к предельной цели, в то время как простительный грех есть неупорядоченность в отношении средств достижения цели. Однако любовь человека к цели не может уменьшиться из-за совершения
nuatur, oportet quod vel diminuatur per aliquem actum; vel per solam cessationem ab actu. Per cessationem quidem ab actu diminuuntur virtutes ex actibus acquisitae, et quandoque etiam corrumpuntur, ut supra dictum est (II-I, q. 53, a. 3), unde de amicitia philosophus dicit, in VIII Ethic (5; 1157ЫЗ), quod multas amicitias inappel- latio solvit, idest non appellare amicum vel non colloqui ei Sed hoc ideo est quia conservatio uniuscuiusque rei dependet ex sua causa; causa autem virtutis acquisitae est actus humanus; unde, cessantibus humanis actibus, virtus acquisita diminuitur et tandem totaliter corrumpitur. Sed hoc in cantate locum non habet, quia cantas non causatur ab humanis actibus, sed solum a Deo, ut supra dictum est (a 2). Unde relinquitur quod etiam cessante actu, propter hoc nec diminuitur nec corrumpitur, si desit peccatum in ipsa cessatione.
(94) Relinquitur ergo quod diminutio caritatis non possit causan nisi vel a Deo, vel ab aliquo peccato. A Deo quidem non causatur aliquis defectus in nobis nisi per modum
poenae, secundum quod subtrahit gratiam in poenam peccati. Unde nec ei competit diminuere caritatem nisi per modum poenae. Poena autem debetur peccato. Unde relinquitur quod, si caritas diminuatur, quod causa diminu- tionis eius sit peccatum, vel effective vel meritorie. Neutro autem modo peccatum mortale diminuit caritatem, sed totaliter corrumpit ipsam, et effective, quia omne peccatum mortale contrariatur caritati, ut infra dicetur (a. 12); et etiam meritorie, quia qui peccando mortaliter aliquid contra caritatem agit, dignum est ut Deus ei subtrahat caritatem.
(95) Similiter etiam nec per peccatum veniale caritas diminui potest, neque effective, neque meritorie. Effective quidem non, quia ad ipsam caritatem non attingit. Caritas enim est circa finem ultimum, veniale autem peccatum est quaedam inordinatio circa ea quae sunt ad finem. Non autem diminuitur amor finis ex hoc quod aliquis inordinationem aliquam committit circa ea quae sunt ad finem, sicut aliquando contingit quod aliqui infirmi, mul-
286
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
им неких неупорядоченных действий в отношении средств достижения цели. В самом деле, иногда больные, хотя они искренне желают здоровья, могут нарушить режим питания; и так же в случае теоретических наук ложные заключения, выведенные из начал, не умаляют достоверности самих начал. Равным образом, простительный грех не может заслужить уменьшения любви в виде наказания, ведь когда человек совершает маленькую ошибку, он не заслуживает большой кары: Бог отвращается от человека не в большей степени, чем сам человек отвращается от Него. И потому тот, кто совершил неупорядоченные действия в отношении средств достижения цели, не заслуживает наказания в виде лишения его любви-каритас, которая упорядочивает его к предельной цели.
(96) Отсюда следует, что непосредственно любовь-каритас уменьшаться не может. Однако о том, что располагает к ее разрушению, можно говорить как о том, что уменьшает ее косвенным образом; и таковы простительные грехи, а также воздержание от совершения действий любви- каритас.
(97) Итак, на первое надлежит ответить, что противоположности относятся к одному
и тому же тогда, когда субъект одинаково соотносится с ними обеими. Но любовь-каритас по-разному относится к росту и уменьшению, поскольку, как уже было сказано, причина для возрастания у нее может быть, а для уменьшения — нет. Поэтому аргумент не имеет силы.
(98) На второе надлежит ответить, что вожделение бывает двояким. Одно — то, посредством которого человек полагает свою цель в творениях. И это вожделение полностью умерщвляет любовь-каритас, поскольку, по словам Августина, оно губительно для нее. И из-за этого вожделения мы меньше любим Бога, т. е. меньше, чем мы должны любить Его сообразно любви-каритас, не из-за уменьшения любви- каритас, а из-за ее полного разрушения. И именно так надлежит понимать слова Августина: Тот любит Тебя менее, кто любит что-то помимо Тебя, ибо затем он добавляет: И не ради Тебя. Но так бывает не при простительном, а только при смертном грехе, поскольку то, что любят в простительном грехе, любят ради Бога, пусть и не актуально, а только хабитуаль- но. И есть второе вожделение, вожделение простительного греха, которое всегда уменьшается любовью-каритас, но само ее
tum amantes sanitatem, inordinate tamen se habent circa diaetae observationem; sicut etiam et in speculativis falsae opiniones circa ea quae deducuntur ex principiis, non diminuunt certitudinem principiorum. Similiter etiam veniale peccatum non meretur diminutionem cantatis. Cum enim aliquis delinquit in minori, non meretur detrimentum pati in maiori Deus enim non plus se avertit ab homine quam homo se avertit ab ipso. Unde qui inordinate se habet circa ea quae sunt ad finem, non meretur detnmentum pati in caritate, per quam ordinatur ad ultimum finem.
(96) Unde consequens est quod caritas nullo modo diminui possit, directe loquendo. Potest tamen indirecte dici dimi- nutio caritatis dispositio ad corruptionem ipsius, quae fit vel per peccata venialia; vel etiam per cessationem ab exercitio operum cantatis.
(97) Ad primum ergo dicendum quod contraria sunt circa idem quando subiectum aequaliter se habet ad utrumque contrariorum. Sed cantas non eodem modo se habet ad
augmentum et diminutionem, potest enim habere causam augentem, sed non potest habere causam minuentem, sicut dictum est. Unde ratio non sequitur.
(98) Ad secundum dicendum quod duplex est cupiditas. Una quidem qua finis in creatuns constituitur. Et haec totaliter mortificat cantatem, cum sit venenum ipsius, ut Augustinus dicit ibidem (Octog. trium quaest, 36, PL 40, 25). Et hoc facit quod Deus minus ametur, scilicet quam debet amari ex cantate, non quidem caritatem diminuendo, sed eam totaliter tollendo. Et sic intelligendum est quod dicitur, minus te amat qui tecum aliquid amat, subditur enim (Augustinus, Confess., X, 29, PL 32, 796), quod non propter te amat. Quod non contingit in peccato veniali, sed solum in mortali, quod enim amatur in peccato veniali, propter Deum amatur habitu, etsi non actu Est autem alia cupiditas venialis peccati, quae semper diminuitur per caritatem, sed tamen talis cupiditas cantatem diminuere non potest, ratione iam dicta.
Раздел 11. Можно ли утратить уже имеющуюся любовь-каритас
287
не может уменьшить, по причине уже указанной.
(99) На третье надлежит ответить, что при излиянии любви-каритас требуется движение свободного решения, как уже говорилось (Ч. II-I, В. 113, Р. 3). Поэтому то, что ослабляет это движение, действует как то, что располагает к уменьшению изливаемой любви-каритас. Но для сохранения любви- каритас не требуется движение свободного решения, ведь в противном случае ее не оставалось бы в спящих. Следовательно, любовь-каритас не уменьшается из-за препятствия со стороны интенсивности движения свободного решения.
Раздел 11 Можно ли утратить уже имеющуюся любовь-каритас
(юо) Ход рассуждения в одиннадцатом разделе таков. Представляется, что утратить имеющуюся любовь-каритас нельзя.
(loi) 1. В самом деле, если бы мы утрачивали ее, то лишь из-за греха. Но тот, кто обладает любовью-каритас, не может грешить, Согласно этим словам (1 Ин 3, 9): Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рож¬
ден от Бога. Но любовью-каритас обладают только сыны Божии, поскольку именно она, согласно Августину, отличает сынов Божиих от сынов погибели. Следовательно, имеющий любовь-каритас не может утратить ее.
(102) 2. Кроме того, Августин говорит, что
любовью следует называть только истинную любовь. Но он же утверждает, что любовь, которая может быть утрачена, никогда не была истинной. Следовательно, она не была и любовью-каритас. Если, следовательно, некто уже обладает любовью-каритас, он не может утратить ее.
(юз) 3. Кроме того, Григорий говорит, что божественная любовь совершает великое, если она есть, а если ее действия прекращаются, то это не любовь-каритас. Но никто, совершая великое, не утрачивает любви. Следовательно, если любовь-каритас присуща, ее нельзя утратить.
(104) 4. Кроме того, свободное решение не
склоняется к греху, если им не движет некое греховное побуждение. Но любовь-каритас исключает все греховные побуждения — любовь к себе, вожделение и т. п. Следовательно, любовь-каритас утратить нельзя.
(99) Ad tertium dicendum quod in infusione cantatis requin- tur motus liben arbitni, sicut supra dictum est (II-I, q 113, a. 3) Et ideo illud quod diminuit intensionem liberi arbitrii, dispositive operatur ad hoc quod caritas infundenda sit minor. Sed ad conservationem cantatis non requintur motus liben arbitrii, alioquin non remaneret in dormientibus Unde per impedimentum intensionis motus liberi arbitrii non diminuitur cantas.
Articulus 11 Utrum caritas semel habita possit amitti
(100) Ad undecimum sic proceditur. Videtur quod caritas semel habita non possit amitti.
(101) 1 Si enim amittitur, non amittitur nisi propter peccatum Sed ille qui habet caritatem non potest peccare. Dicitur enim I Ioan. III, omnis enim qui natus est ex Deo, peccatum non facit, quia semen ipsius in eo manet, et non potest peccare, quoniam ex Deo natus est. Cantatem autem non habent nisi filii Dei, ipsa enim est quae distinguit inter filios regni et filios perditionis, ut Augustinus dicit, in XV
De Trin. (18: PL 42, 1082) Ergo ille qui habet cantatem non potest eam amittere.
(102) 2. Praeterea, Augustinus dicit, in VIII De Trin. (7, PL 42, 956), quod dilectio, si non est vera, dilectio dicenda non est. Sed sicut ipse dicit in Epist. ad Iulianum comitem, caritas quae deseri potest, nunquam vera fuit. Ergo neque cantas fuit Si ergo caritas semel habeatur, nunquam amittitur
(103) 3. Praeterea, Gregorius dicit, in homilia Pentecostes, quod amor Dei magna operatur, si est, si desinit operari, caritas non est (cf. Petrus Lombardus, Sent., III, d. 31, с 1 ; QR 2, 690). Sed nullus magna operando amittit caritatem Ergo, si caritas insit, amitti non potest.
(104) 4 Praeterea, liberum arbitrium non inclinatur ad peccatum nisi per aliquod motivum ad peccandum Sed caritas excludit omnia motiva ad peccandum, et amorem sui, et cupiditatem, et quidquid aliud huiusmodi est Ergo caritas amitti non potest
(105) Sed contra est quod dicitur Apoc. II, habeo adversum te pauca, quod caritatem primam reliquisti
288
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
(105) Но против: сказано (Откр 2, 4): Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
(106) Отвечаю: надлежит сказать, что через любовь-каритас в нас обитает Святой Дух, как уже говорилось (Р. 2). Поэтому любовь- каритас можно рассматривать в трех аспектах. Во-первых, со стороны Святого Духа, Который подвигает душу к любви к Богу. И в этом смысле любовь-каритас не допускает греха — благодаря силе Святого Духа, Который непогрешим в совершении всего того, что Он желает делать. Следовательно, невозможно, чтобы одновременно было истинным и то, что Святой Дух желает подвигнуть некоего человека к действию любви-каритас, и то, что этот человек, согрешив, утрачивает любовь-каритас, ведь дар стойкости также имеется среди благодеяний Божиих, которыми спасенный спасен самым надежным образом, как говорит Августин.
(107) Во-вторых, любовь-каритас можно рассматривать сообразно ее собственному смысловому содержанию. И в этом смысле любовь-каритас может только то, что относится к ее смысловому содержанию. И потому она никоим образом не может грешить, равно как тепло не может охлаждать,
а несправедливость делать что-то благое, как говорит Августин.
(108) В-третьих, любовь-каритас можно рассматривать со стороны субъекта, который изменчив из-за свободного решения. Кроме того, любовь-каритас может быть соотнесена с этим субъектом и в общем аспекте, т. е. как форма с материей, и в частном, т. е. как хабитус со способностью. Но форме сообразно своему смысловому содержанию присуще пребывать в субъекте таким образом, что она может быть утрачена тогда, когда она не полностью исчерпывает всю потенциальность материи, что очевидно в случае форм [вещей], подверженных возникновению и разрушению. Ведь материя таких [вещей] воспринимает одну форму так, что сохраняет возможность восприятия другой формы, поскольку ее потенциальность не была полностью исчерпана той первой формой, которая, соответственно, может быть утрачена при восприятии другой. Но форма небесного тела неотделима от него, поскольку полностью исчерпывает потенциальность материи, и, соответственно, в ней отсутствует возможность для восприятия других форм. И точно так же любовь-каритас блаженных, так как она полностью исчерпывает потенци-
(106) Respondeo dicendum quod per caritatem spiritus sanctus in nobis habitat, ut ex supradictis patet (a. 2; q. 23, a. 2). Tripliciter ergo possumus considerare cantatem. Uno modo, ex parte spintus sancti moventis animam ad diligendum Deum. Et ex hac parte cantas impeccabilitatem habet ex virtute spintus sancti, qui infallibiliter operatur quodcumque voluerit Unde impossibile est haec duo simul esse vera, quod spintus sanctus aliquem velit movere ad actum caritatis, et quod ipse cantatem amittat peccando, nam donum perseverantiae computatur inter beneficia Dei quibus certissime liberantur quicumque liberantur, ut Augustinus dicit, in libro De praed. sanet. {De dono persev., 14; PL 15, 1014).
(107) Alio modo potest consideran cantas secundum propriam rationem. Et sic cantas non potest nisi illud quod pertinet ad cantatis rationem. Unde caritas nullo modo potest peccare, sicut nec calor potest infrigidare; et sicut
etiam iniustitia non potest bonum facere, ut Augustinus dicit, in libro De serm. Dom. in monte. (II, 24; PL 34, 1305).
(108) Tertio modo potest considerari caritas ex parte subiec- ti, quod est vertibile secundum arbitni libertatem. Potest autem attendi comparatio caritatis ad hoc subiectum et secundum universalem rationem qua comparatur forma ad matenam; et secundum specialem rationem qua comparatur habitus ad potentiam. Est autem de ratione formae quod sit in subiecto amissibiliter quando non replet totam potentialitatem matenae, sicut patet in formis generabilium et corruptibilium. Quia materia horum sic recipit unam formam quod remanet in ea potentia ad aliam formam, quasi non repleta tota matenae potentialitate per unam formam; et ideo una forma potest amitti per acceptionem altenus. Sed forma corpons caelestis, quia replet totam matenae potentialitatem, ita quod non remanet in ea potentia ad aliam formam, inamissibiliter inest. Sic igitur caritas patnae, quia replet totam potentialitatem rationalis
Раздел 11. Можно ли утратить уже имеющуюся любовь-каритас
289
альность наделенного рассудком ума, настолько, насколько любое актуальное его движение обращено к Богу, присуща им неотделимо. Но любовь-каритас человека в земной жизни не столь полно исчерпывает потенциальность своего субъекта, поскольку он не всегда актуально обращен к Богу. И потому когда он не обращен к Богу актуально, может произойти нечто, из-за чего любовь-каритас будет утрачена.
(109) Что же касается хабитуса, то ему свойственно склонять способность к действию, постольку, поскольку он делает так, что подобающее ему кажется благим, а неподобающее — дурным. В самом деле, как чувство вкуса выносит суждение о блюдах сообразно своей предрасположенности, так и человеческий ум выносит свое суждение относительно того, что должно быть сделано, в соответствии со своей хабитуальной предрасположенностью. И потому Философ говорит, что каков каждый человек, такова и цель, которую он перед собой ставит. Следовательно, любовь-каритас присуща неотделимо тогда, когда то, что ей подобает, может восприниматься только как благо, а так может быть только в Небесном Отечестве, где Бог созерцается через сущность, которая является самой сущно¬
стью благости. Поэтому небесная любовь- каритас не может быть утрачена. Но любовь-каритас человека в земной жизни — может, ведь в этой жизни невозможно созерцать Бога через Его сущность, которая является сущностью благости.
(по) Итак, на первое надлежит ответить, что это авторитетное высказывание относится к силе Святого Духа, сохраняющего свободными от греха тех, кого Он движет так, как желает.
(ni) На второе надлежит ответить, что любовь, которую можно утратить, не является истинной любовью-каритас сообразно ее смысловому содержанию, ведь истинной любви не может быть свойственно любить лишь какое-то время, а потом перестать любить. Однако если любовь-каритас утрачивается вследствие изменчивости ее субъекта, против намерения любви-каритас, включенного в ее действие, то это не противоречит истинной любви.
(112) На третье надлежит ответить, что любовь к Богу всегда совершает великое сообразно намерению, что входит в смысловое содержание любви-каритас. Но в реальности великое осуществляется не всегда — по причине состояния ее субъекта.
mentis, inquantum scilicet omnis actualis motus eius fertur in Deum, inamissibiliter habetur. Caritas autem viae non sic replet potentialitatem sui subiecti, quia non semper actu fertur in Deum. Unde quando actu in Deum non fertur, potest aliquid occurrere per quod caritas amittatur.
(109) Habitui vero proprium est ut inclinet potentiam ad agendum quod convenit habitui inquantum facit id viden bonum quod ei convenit, malum autem quod ei repugnat Sicut enim gustus diiudicat sapores secundum suam dispositionem, ita mens hominis diiudicat de aliquo faciendo secundum suam habitualem dispositionem, unde et philosophus dicit, in III Ethic. (5,1114a32), quod qualis unusquisque est, talis finis videtur ei. Ibi ergo caritas inamissibiliter habetur, ubi id quod convenit cantati non potest viden nisi bonum, scilicet in patna, ubi Deus videtur per essentiam, quae est ipsa essentia bonitatis. Et ideo caritas patriae amitti non potest. Cantas autem viae, in cuius statu
non videtur ipsa Dei essentia, quae est essentia bonitatis, potest amitti.
(110) Ad primum ergo dicendum quod auctontas illa loquitur secundum potestatem spiritus sancti, cuius conservatione a peccato immunes redduntur quos ipse movet quantum ipse voluent.
(111) Ad secundum dicendum quod cantas quae desen potest ex ipsa ratione cantatis, vera cantas non est. Hoc enim esset si hoc in suo amore haberet, quod ad tempus amaret et postea amare desineret quod non esset verae dilectionis. Sed si cantas amittatur ex mutabilitate subiecti, contra propositum caritatis, quod in suo actu includitur; hoc non repugnat veritati cantatis.
(112) Ad tertium dicendum quod amor Dei semper magna operatur in proposito, quod pertinet ad rationem cantatis. Non tamen semper magna operatur in actu, propter conditionem subiecti.
290
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
(из) На четвертое надлежит ответить, что любовь-каритас сообразно смысловому содержанию своего действия исключает все побуждения к греху. Однако иногда она не действует актуально, и тогда может возникнуть побуждение к греху, и если человек поддается ему, то любовь-каритас утрачивается.
Раздел 12 Утрачивается ли любовь-каритас из-за одного смертного греха
( i и) Ход рассуждения в двенадцатом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас не утрачивается из-за одного смертного греха.
(ns) 1. В самом деле, Ориген говорит, что если человеком, находящимся в высшем и совершеннейшем состоянии, и овладеет пресыщение, то я не думаю, чтобы он опустел и отпал внезапно: он необходимо должен падать понемногу и постепенно. Но человек отпадает из-за утраты им любви-каритас. Следовательно, любовь-каритас не утрачивается из-за одного смертного греха.
(116) 2. Кроме того, папа Лев, обращаясь
к Петру в своей проповеди, говорит: Господь видел в тебе не побежденную веру, не отвратившуюся любовь, но поколебавшу¬
юся твердость. Обилие слез говорило о живости чувства, и источник любви смыл сказанные в страхе слова. И на этом основании Бернар заключил, что любовь Петра не угасла, но охладела. Однако Петр, отрекшись от Христа, совершил смертный грех. Следовательно, любовь-каритас не утрачивается из-за одного смертного греха.
(117) 3. Кроме того, любовь-каритас сильнее приобретенной добродетели. Но хаби- тус приобретенной добродетели не устраняется одним противоположным греховным действием. Следовательно, куда менее вероятно, чтобы любовь-каритас устранялась одним противоположным ей смертным грехом.
(118) 4. Кроме того, любовь-каритас подразумевает любовь к Богу и ближнему. Но, как кажется, тот, кто совершает смертный грех, все же сохраняет любовь к Богу и ближнему, поскольку, как было показано выше (Р. 10), неупорядоченность в отношении средств достижения цели не устраняет любовь к самой цели. Следовательно, даже при наличии смертного греха, совершенного из-за неупорядоченного аффекта по отношению к некоему временному благу, любовь к Богу может сохраниться.
(113) Ad quartum dicendum quod caritas, secundum rationem sui actus, excludit omne motivum ad peccandum. Sed quandoque contingit quod cantas actu non agit. Et tunc potest intervenire aliquod motivum ad peccandum, cui si consentiatur, caritas amittitur.
Articulus 12
Utrum caritas amittatur per unum actum peccati mortalis
(114) Ad duodecimum sic proceditur. Videtur quod cantas non amittatur per unum actum peccati mortalis.
(115) 1. Dicit enim Origenes, in I Periarch. (3; PG 11, 155), si aliquando satietas capit aliquem ex his qui in summo peifectoque constiterint gradu, non arbitror quod ad subitum quis evacuetur aut decidat, sed paulatim ac per partes eum decidere necesse est. Sed homo decidit caritatem amittens. Ergo caritas non amittitur per unum solum actum peccati mortalis.
(116) 2. Praeterea, Leo Papa dicit, in Serm. de passione, al- loquens Petrum, vidit in te dominus non fidem victam, non
dilectionem aversam, sed constantiam fuisse turbatam. Abundavit fletus, ubi non defecit affectus, et fons caritatis lavit verba formidinis (Serm. 60, c. 4; PL 54, 345). Et ex hoc accepit Bemardus (cf. Guillelmus de Sancto Theodon- co, De nat. et dig. amoris, c. 6; PL 184, 390) quod dixit in Petro caritatem non fuisse extinctam, sed sopitam. Sed Petrus, negando Christum, peccavit mortaliter. Ergo caritas non amittitur per unum actum peccati mortalis.
(117) 3. Praeterea, caritas est fortior quam virtus acquisita. Sed habitus virtutis acquisitae non tollitur per unum actum peccati contrarium. Ergo multo minus caritas tollitur per unum actum peccati mortalis contranum.
(118) 4. Praeterea, cantas importat dilectionem Dei et proximi. Sed aliquis committens aliquod peccatum mortale retinet dilectionem Dei et proximi, ut videtur, inordinatio enim affectionis circa ea quae sunt ad finem non tollit amorem finis, ut supra dictum est (a. 10). Ergo potest remanere caritas ad Deum, existente peccato mortali per inordinatam affectionem circa aliquod temporale bonum.
Раздел 12. Утрачивается ли любовь-каритас из-за одного смертного греха
291
(П9) 5. Кроме того, объектом теологической (121) Отвечаю: надлежит сказать, что одна
добродетели является предельная цель. Но другие теологические добродетели, а именно надежда и вера, не устраняются из-за одного смертного греха, но сохраняются, пусть и неоформленными. Следовательно, после совершения одного смертного греха может сохраниться и неоформленная любовь-каритас.
(120) Но против: смертным грехом человек заслуживает вечную смерть, согласно этим словам (Рим 6, 23): Возмездие за грех — смерть. Но каждый человек, обладающий любовью-каритас, заслуживает жизнь вечную, ибо сказано (Ин 14, 21): Кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам. Но в этом явлении и заключается жизнь вечная, согласно сказанному (Ин 17, 3): Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса, Христа. Но никто не может одновременно заслуживать и вечную жизнь, и вечную смерть. Следовательно, невозможно, чтобы в некоем человеке любовь-каритас сочеталась со смертным грехом. Следовательно, любовь-каритас утрачивается из-за одного смертного греха.
из противоположностей устраняется при привхождении другой. Но любое действие смертного греха противоположно любви- каритас по своему смысловому содержанию, которое заключается в том, что человек любит Бога превыше всего остального и полностью подчиняется Ему, обращая к Нему всего себя. Итак, любви- каритас, сообразно ее смысловому содержанию, присуще то, что человек любит Бога так, что желает во всем Ему подчиняться и всегда руководствоваться Его заповедями (ведь все, что противоречит Его заповедям, очевидным образом противоречит и любви-каритас, и потому само по себе может устранить любовь-каритас). И если бы любовь-каритас была зависящим от силы своего субъекта приобретенным хабитусом, то она, конечно, не обязательно устранялась бы из-за одного смертного греха. В самом деле, действие непосредственно противоположно не ха- битусу, но действию, и сохранение хаби- туса в субъекте не требует непрерывности действия, а потому при привхождении противоположного действия приобретенный хабитус немедленно не устраняется.
(119) 5. Praeterea, virtutis theologicae obiectum est ultimus finis. Sed aliae virtutes theologicae, scilicet fides et spes, non excluduntur per unum actum peccati mortalis, immo remanent informes. Ergo etiam caritas potest remanere informis, etiam uno peccato mortali perpetrato.
(120) Sed contra, per peccatum mortale fit homo dignus morte aeterna, secundum illud Rom VI, stipendia peccati mors. Sed quilibet habens cantatem habet meritum vitae aeternae, dicitur enim Ioan. XIV, si quis diligit me, diligetur a patre meo, et ego diligam eum, et manifestabo ei meipsum, in qua quidem manifestatione vita aeterna consistit, secundum illud Ioan. XVTI, haec est vita aeterna, ut cognoscant te, verum Deum, et quem misisti, Iesum Christum Nullus autem potest esse simul dignus vita aeterna et morte aeterna. Ergo impossibile est quod aliquis habeat caritatem cum peccato mortali. Tollitur ergo cantas per unum actum peccati mortalis.
(121) Respondeo dicendum quod unum contranum per aliud contrarium superveniens tollitur. Quilibet autem actus peccati mortalis contranatur caritati secundum propriam rationem, quae consistit in hoc quod Deus diligatur super omnia, et quod homo totaliter se illi subiiciat, omnia sua referendo in ipsum. Est igitur de ratione cantatis ut sic diligat Deum quod in omnibus velit se ei subiicere, et praeceptorum eius regulam in omnibus sequi, quidquid enim contrariatur praeceptis eius, manifeste contrariatur cantati. Unde de se habet quod cantatem excludere possit. Et si quidem caritas esset habitus acquisitus ex virtute subiecti dependens, non oporteret quod statim per unum actum contranum tolleretur. Actus enim non directe contranatur habitui, sed actui, conservatio autem habitus in subiecto non requirit continuitatem actus, unde ex su- perveniente contrano actu non statim habitus acquisitus excluditur. Sed cantas, cum sit habitus infusus, dependet ex actione Dei infundentis, qui sic se habet in infusione et conservatione cantatis sicut sol in illuminatione aeris,
292
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас
Но любовь-каритас, являясь влиянным ха- битусом, зависит от действия изливающего ее Бога, Который при излиянии и сохранении любви-каритас действует подобно тому, как Солнце действует при просвещении воздуха [своим светом], как уже сказано (Р. 10, Возр. 3; В. 4, Р. 4, на 3). Поэтому как с появлением препятствия на пути солнечного света свет в воздухе немедленно исчезает, так и любовь-каритас прекращает существовать в душе сразу же после того, как появляется препятствие для излияния Богом любви-каритас в душу. Но очевидно, что всякий смертный грех, противоречащий божественным заповедям, является препятствием для излияния любви-каритас, поскольку уже само то, что человек, избирая, предпочитает грех божественной дружбе, которая требует следования Его воле, обусловливает утрату хабитуса любви-каритас немедленно после совершения одного смертного греха. И потому Августин говорит, что человек в присутствии Бога освящается, а в отсутствии Его остается в постоянном мраке, ибо отступает от Бога не пространственным образом, а отвращением своей воли.
(122) Итак, на первое надлежит ответить, что
это высказывание Оригена можно, во-первых, понять так, что находящийся в состоянии совершенства человек не грешит смертным грехом внезапно, но предрасполагается к нему некоей предшествующей нерадивостью. Поэтому и простительные грехи называются предрасположением к смертному греху, как было сказано выше (Ч. II-I, В. 88, Р. 3). Тем не менее, он отпадает из-за одного смертного греха, утратив любовь-каритас. Однако поскольку позже он добавляет, что если кто-либо иногда случайно подвергнется легкому падению, но скоро одумается и придет в себя, то он, собственно, не может совершенно упасть, то можно ответить иначе, а именно, что когда он говорит о полностью опустевшем и отпавшем человеке, то имеет в виду того, кто согрешил преднамеренно. Но этого с изначально совершенным человеком внезапно произойти не может.
(123) На второе надлежит ответить, что любовь-каритас утрачивается двояко. Во-первых, непосредственно, из-за актуального презрения; и в этом смысле Петр не утратил любви-каритас. Во-вторых, опосредованно, когда нечто противное любви-каритас совершается из-за некоей страсти вожделения или страха. И в этом смысле
ut dictum est (а. 10, arg. 3; q. 4, a. 4, ad 3). Et ideo, sicut lumen statim cessaret esse in aere quod aliquod obstaculum poneretur illuminationi solis, ita etiam caritas statim deficit esse in anima quod aliquod obstaculum ponitur influentiae cantatis a Deo in animam. Manifestum est autem quod per quodlibet mortale peccatum, quod divinis praeceptis contranatur, ponitur praedictae infusioni obstaculum, quia ex hoc ipso quod homo eligendo praefert peccatum divinae amicitiae, quae requint ut Dei voluntatem sequamur, consequens est ut statim per unum actum peccati mortalis habitus cantatis perdatur. Unde et Augustinus dicit, VTII Super Gen. ad litt. (12; PL 34, 383), quod homo, Deo sibi praesente, illuminatur, absente autem, continuo tenebratur; a quo non locorum intervallis, sed voluntatis aversione disceditur.
(122) Ad primum ergo dicendum quod verbum Origenis potest uno modo sic intelligi quod homo qui est in statu perfecto non subito procedit in actum peccati mortalis, sed ad hoc disponitur per aliquam negligentiam praecedentem. Unde
et peccata venialia dicuntur esse dispositio ad mortale, sicut supra dictum est (II-I, q. 88, a. 3). Sed tamen per unum actum peccati mortalis, si eum commisent, decidit, caritate amissa. Sed quia ipse subdit (Periarch, I, 3; PG 11, 155), si aliquis brevis lapsus acciderit, et cito resipiscat, non penitus ruere videtur, potest aliter dici quod ipse intelligit eum penitus evacuan et decidere qui sic decidit ut ex malitia peccet. Quod non statim in viro perfecto a pnncipio contingit.
(123) Ad secundum dicendum quod cantas amittitur dupliciter. Uno modo, directe, per actualem contemptum Et hoc modo Petrus caritatem non amisit. Alio modo, indirecte, quando committitur aliquod contranum caritati propter aliquam passionem concupiscentiae vel timons. Et hoc modo Petrus, contra caritatem faciens, cantatem amisit, sed eam cito recuperavit
Раздел 12. Утрачивается ли любовь-каритас из-за одного смертного греха
293
Петр, совершив противное любви-каритас, утратил ее, но вскоре ее вернул.
( ! 24) Ответ на третье очевиден из сказанного выше (в Отв.).
(125) На четвертое надлежит ответить, что не всякая неупорядоченность в отношении средства достижении цели, т. е. в отношении тварного блага, составляет смертный грех, но только та, которая противоречит божественной воле. И именно это непосредственно противоречит любви-каритас, о чем уже было сказано.
(126) На пятое надлежит ответить, что любовь-каритас подразумевает некое единение с Богом, тогда как вера и надежда —
нет. Но, как уже было сказано (В. 20, Р. 3; Ч. II-1, В. 72, Р. 5), всякий смертный грех состоит в отвращении от Бога. Поэтому всякий смертный грех противополагается любви-каритас, а вере или надежде — не всякий, но только тот, который устраняет хабитус веры и надежды, так, как всякий смертный грех устраняет хабитус любви-каритас. И из этого очевидно, что любовь-каритас не может оставаться бесформенной, ведь она является предельной формой добродетелей, поскольку соотносится с Богом как с предельной целью, как уже сказано (В. 23, Р. 8).
(124) Ad tertium patet responsio ex dictis (in согр.).
(125) Ad quartum dicendum quod non quaelibet inordinatio affectionis quae est circa ea quae sunt ad finem, idest circa bona creata, constituit peccatum mortale, sed solum quando est talis inordinatio quae repugnat divinae voluntati Et hoc directe contranatur caritati, ut dictum est.
(126) Ad quintum dicendum quod caritas importat unionem quandam ad Deum, non autem fides neque spes. Omne autem peccatum mortale consistit in aversione a Deo, ut
supra dictum est (q. 20, a 3; II-I, q 72, a 5). Et ideo omne peccatum mortale contranatur caritati Non autem omne peccatum mortale contrariatur fidei vel spei, sed quaedam determinata peccata, per quae habitus fidei et spei tollitur, sicut et per omne peccatum mortale habitus cantatis Unde patet quod caritas non potest remanere informis, cum sit ultima forma virtutum, ex hoc quod respicit Deum in ratione finis ultimi, ut dictum est (q. 23, a. 8)
Вопрос 25 Об объекте любви-каритас
(1) Затем надлежит исследовать объект люб ви-каритас. И касательно этого надлежит рассмотреть две [общие темы]: во-первых, то, что нам надлежит любить сообразно любви-каритас; во-вторых, порядок, в котором таковое следует любить (В. 26).
(2) И касательно первого исследуются двенадцать [проблем]: 1) следует ли нам из любви-каритас любить одного только Бога, или же мы должны любить также и ближнего; 2) следует ли из любви-каритас любить саму любовь-каритас; 3) следует ли из любви-каритас любить неразумное творение; 4) можно ли из любви-каритас любить самого себя; 5) можно ли любить свое тело; 6) следует ли из любви-каритас любить грешников; 7) любят ли грешники самих себя; 8) следует ли из любви-каритас любить своих врагов; 9) должны ли мы демонстрировать им знаки своей дружбы; 10) следует ли из любви-каритас любить ангелов; 11) следует ли любить демонов; 12) как надлежит перечислять то, что мы обязаны любить из любви-каритас.
Раздел 1
Должна ли любовь-каритас ограничиваться Богом, или же она распространяется также и на ближнего
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас ограничивается Богом и не распространяется на ближнего.
(4) 1. В самом деле, мы должны и любить Бога, и бояться Его, согласно этим словам (Вт 10, 12): Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего и любил Его. Но, как явствует из сказанного выше (В. 10, Р. 2), страх, которым мы страшимся людей, называемый человеческим страхом, отличается от страха, которым мы страшимся Бога, и который является рабским или сыновним. Следовательно, также и любовь-каритас, которой мы любим Бога, отличается от любви, которой мы любим ближнего.
(5) 2. Кроме того, Философ говорит, что быть любимым — значит быть почитаемым.
Quaestio 25 De obiecto caritatis
(1) Deinde considerandum est de obiecto cantatis. Circa quod duo consideranda occurrunt, pnmo quidem de his quae sunt ex caritate diligenda; secundo, de ordine diligendorum
(2) Circa primum quaeruntur duodecim. Pnmo, utrum solus Deus sit ex caritate diligendus, vel etiam proximus. Secundo, utrum cantas sit ex cantate diligenda. Tertio, utrum creaturae irrationales sint ex cantate diligendae. Quarto, utrum aliquis possit ex cantate seipsum diligere. Quinto, utrum corpus proprium. Sexto, utrum peccatores sint ex cantate diligendi. Septimo, utrum peccatores seipsos diligant. Octavo, utrum inimici sint ex caritate diligendi. Nono, utrum sint eis signa amicitiae exhibenda. Decimo, utrum Angeli sint ex caritate diligendi. Undecimo, utrum Daemones. Duodecimo, de enumeratione diligendorum ex caritate.
Articulus 1
Utrum dilectio caritatis sistat in Deo, an se extendat etiam ad proximum
(3) Ad primum sic proceditur Videtur quod dilectio cantatis sistat in Deo, et non se extendat ad proximum.
(4) 1 Sicut enim Deo debemus amorem, ita et timorem, secundum illud Deut. X, et nunc, Israel, quid dominus Deus petit nisi ut timeas et diligas eum ? Sed alius est timor quo timetur homo, qui dicitur timor humanus; et alius timor quo timetur Deus, qui est vel servilis vel filialis; ut ex supradictis patet (q. 10, a. 2). Ergo etiam alius est amor cantatis, quo diligitur Deus; et alius est amor quo diligitur proximus.
(5) 2. Praeterea, philosophus dicit, in VIII Ethic (8; 1159al6), quod amari est honorari. Sed alius est honor qui debetur Deo, qui est honor latnae; et alius est honor qui debetur
Раздел 1. Должна ли любовь-каритас ограничиваться Богом
295
Но воздание почестей, подобающих Богу, известное как богопочитание (latria), отличается от воздания почестей творению, известного как почитание святых (dulia). Следовательно, также и любовь, которой мы любим Бога, отличается от той, которой мы любим ближнего.
(6) 3. Кроме того, согласно глоссе на Мф 1, 2, надежда рождает любовь. Но надежда так связана с Богом, что надеяться на человека предосудительно (Иер 17, 5): Проклят человек, который надеется на человека. Следовательно, и любовь-каритас так связана с Богом, что не может распространяться на ближнего.
(7) Но против: сказано (1 Ин 4, 21): Мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (Ч. II-I, В. 54, Р. 3), хабитусы различаются сообразно различию видов их действий, ибо все действия одного вида относятся к одному хабитусу. Но поскольку действие получает свой вид от объекта сообразно его формальному аспекту, постольку необходимо, чтобы те действия, которые соотносятся с одним и тем же аспектом объекта, относились к одному и тому же виду; так, посредством одного
и того же по виду акта зрения мы видим и свет, и цвет в аспекте света. Но аспектом любви к ближнему является Бог, поскольку мы должны любить в ближнем то, что он — в Боге. И из этого очевидно, что то действие, которым мы любим Бога, и то, которым мы любим ближнего, тождественны по виду. Следовательно, хабитус любви-каритас распространяется не только на любовь к Богу, но также и на любовь к ближнему.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что ближнего можно бояться, как и любить, в двух смыслах. Во-первых, в связи с тем, что присуще именно ему. И так боятся, например, тирана из-за его жестокости, или, наоборот, любят его потому, что хотят что- то от него получить; и такой человеческий страх отличается от страха Божия, равно как и любовь. Во-вторых, человека любят или боятся в связи с тем, что в нем есть от Бога. И так боятся светской власти, потому что она служит Богу в деле наказания, злодеев, или же любят ее за справедливость. И такой человеческий страх не отличается от страха Божия, равно как и любовь.
(ю) На второе надлежит ответить, что любовь относится к благу в общем, тогда как
creaturae, qui est honor duliae. Ergo etiam alius est amor quo diligitur Deus, et quo diligitur proximus.
(6) 3. Praeterea, spes generat cantatem; ut habetur in Glossa (interi.), Matth. I. Sed spes ita habetur de Deo quod reprehenduntur sperantes in homine, secundum illud Ierem. XVII, maledictus homo qui confidit in homine. Ergo cantas ita debetur Deo quod ad proximum non se extendat
(7) Sed contra est quod dicitur I Ioan. IV, hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum.
(8) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q. 54, a 3), habitus non diversificantur nisi ex hoc quod variat speciem actus, omnes enim actus unius speciei ad eundem habitum pertinent. Cum autem species actus ex obiecto sumatur secundum formalem rationem ipsius, necesse est quod idem specie sit actus qui fertur in rationem obiecti, et qui fertur in obiectum sub tali ratione, sicut est eadem specie visio qua videtur lumen, et qua videtur color secundum luminis rationem. Ratio autem
diligendi proximum Deus est, hoc enim debemus in proximo diligere, ut in Deo sit. Unde manifestum est quod idem specie actus est quo diligitur Deus, et quo diligitur proximus. Et propter hoc habitus cantatis non solum se extendit ad dilectionem Dei, sed etiam ad dilectionem proximi.
(9) Ad primum ergo dicendum quod proximus potest timen dupliciter, sicut et aman. Uno modo, propter id quod est sibi proprium, puta cum aliquis timet tyrannum propter eius crudelitatem, vel cum amat ipsum propter cupiditatem acquirendi aliquid ab eo. Et talis timor humanus distinguitur a timore Dei, et similiter amor. Alio modo timetur homo et amatur propter id quod est Dei in ipso, sicut cum saecularis potestas timetur propter ministerium divinum quod habet ad vindictam malefactorum, et amatur propter iustitiam. Et talis timor hominis non distinguitur a timore Dei, sicut nec amor.
(10) Ad secundum dicendum quod amor respicit bonum in communi, sed honor respicit propnum bonum hono-
296
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
почести относятся к собственному благу того, кого почитают, ведь почести суть признание личных добродетелей некоего человека. И потому любовь-каритас не различается по виду сообразно различию количества благости в разном, ведь она соотносится с неким единым общим благом, а почести различаются сообразно собственным благам отдельных [людей]. И потому мы любим всех ближних одной и той же любовью-каритас, постольку, поскольку они соотносятся с единым общим благом, а именно, с Богом, тогда как почести мы оказываем различным [людям] сообразно личным достоинствам каждого из них. И точно так же мы оказываем Богу особые почести богопочитания (latria), по причине Его особого дocтoинcтвà.
(п) На третье надлежит ответить, что предосудительно надеяться на человека как на главную причину спасения, но не предосудительно надеяться на него как на некую помощь в деле спасения, подчиненную Богу. И точно так же предосудительно любить ближнего тогда, когда он рассматривается как предельная цель, но не тогда, когда его любят ради Бога, что и относится к любви-каритас.
Раздел 2
Надлежит ли из любви-каритас любить саму любовь-каритас
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что не следует любить любовь-каритас из любви-каритас.
(13) 1. В самом деле, то, что надлежит любить из любви-каритас, перечислено в двух заповедях любви (Мф 22, 37, 39), и там не упоминается любовь-каритас, ведь эта любовь не является ни Богом, ни ближним. Следовательно, не требуется любить любовь-каритас из любви-каритас.
(и) 2. Кроме того, как уже было сказа¬
но выше (В. 23, Р. 1, 5), любовь-каритас основывается на соучастии в блаженстве. Но любовь-каритас не может быть [лицом], причастным блаженству. Следовательно, не требуется любить любовь-каритас из любви-каритас.
(15) 3. Кроме того, как уже было сказано
выше (В. 23, Р. 1), любовь-каритас есть некая дружба. Однако, как говорится в VIII книге «Этики», никто не может дружить с любовью или какой-либо акциденцией, ибо те не способны ответить взаимностью, которая входит в смысловое содержание дружбы. Следовательно, не требуется л ro¬
rati, defertur enim alicui in testimonium propnae virtutis. Et ideo amor non diversificatur specie propter diversam quantitatem bonitatis diversorum, dummodo referuntur ad aliquod unum bonum commune, sed honor diversificatur secundum propria bona singulorum. Unde eodem amore cantatis diligimus omnes proximos, inquantum referuntur ad unum bonum commune, quod est Deus, sed diversos honores diversis deferimus, secundum propnam virtutem singulorum Et similiter Deo singularem honorem latnae exhibemus, propter eius singularem virtutem.
(11) Ad tertium dicendum quod vituperantur qui sperant in homine sicut in principali auctore salutis, non autem qui sperant in homine sicut in adiuvante ministenaliter sub Deo Et similiter reprehensibile esset si quis proximum diligeret tanquam principalem finem, non autem si quis proximum diligat propter Deum, quod pertinet ad caritatem.
Articulus 2 Utrum caritas sit ex caritate diligenda
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod cantas non sit ex cantate diligenda.
(13) 1 Ea enim quae sunt ex cantate diligenda, duobus praeceptis cantatis concluduntur, ut patet Matth XXII. Sed sub neutro eorum cantas continetur, quia nec caritas est Deus nec est proximus. Ergo cantas non est ex caritate diligenda.
(14) 2 Praeterea, cantas fundatur super communicatione beatitudinis, ut supra dictum est (q 23, a. 1, 5). Sed caritas non potest esse particeps beatitudinis. Ergo cantas non est ex cantate diligenda
(15) 3 Praeterea, cantas est amicitia quaedam, ut supra dictum est (q. 23, a 1). Sed nullus potest habere amicitiam ad caritatem, vel ad aliquod accidens, quia huiusmodi reamare non possunt, quod est de ratione amicitiae, ut dicitur in VIII Ethic (2, 1155b29) Ergo cantas non est ex
Раздел 2. Надлежит ли из любви-каритас любить саму любовь-каритас
297
бить любовь-каритас из любви-каритас.
(16) Но против: Августин говорит: Тот, кто любит ближнего, должен, соответственно, любить и саму любовь. Но мы любим ближнего из любви-каритас. Следовательно, мы должны также любить и саму любовь-каритас из любви-каритас.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что любовь-каритас есть некая любовь. Но любовь в силу природы той способности, актом которой она является, может обращаться на саму себя. В самом деле, коль скоро объектом воли является благо вообще, то действие воли может быть обращено на все то, что обладает смысловым содержанием блага, так как воление само по себе является благом, то воля может волить свое воление. Точно так же разум, объектом которого является истина, мыслит себя мыслящего — постольку, поскольку он также есть нечто истинное. Любовь же даже в силу смыслового содержания своего вида способна обращаться на саму себя — ведь она есть спонтанное движение любящего к любимому, и поскольку человек любит, постольку он любит себя любящего.
(18) Однако любовь-каритас является не простой любовью, но, как уже было сказано (В. 23, Р. 1), обладает смысловым содер¬
жанием дружбы. Но дружески нечто можно любить в двух смыслах: во-первых, как самого друга, с которым мы дружим и которому желаем блага; во-вторых, как благо, которое мы желаем другу. И именно в последнем, а не в первом смысле любовь-каритас любима любовью-каритас, поскольку любовь-каритас есть то благо, которое мы желаем всем, кого любим из любви-каритас. И то же самое касается блаженства, а также других добродетелей.
(19) Итак, на первое надлежит ответить, что Бог и ближний — это те, с кем мы дружим, но любовь к ним включает в себя и любовь к любви-каритас, поскольку мы любим Бога и ближнего настолько, насколько мы любим то, что мы вместе с ближними любим Бога, что и значит — иметь любовь- каритас.
(20) На второе надлежит ответить, что любовь-каритас есть само общение духовной жизни, посредством которого мы достигаем блаженства. И потому мы любим ее как то благо, которого желаем всем, кого любим из любви-каритас.
(21) На третье надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу, если посредством дружбы любимы только те, с кем мы дружим.
cantate diligenda.
(16) Sed contra est quod Augustinus dicit, VIII De Trin (7, PL 42, 957), qui diligit proximum, consequens est ut etiam ipsam dilectionem diligat. Sed proximus diligitur ex caritate. Ergo consequens est ut etiam caritas ex cantate diligatur
(17) Respondeo dicendum quod cantas amor quidam est. Amor autem ex natura potentiae cuius est actus habet quod possit supra seipsum reflecti. Quia enim voluntatis obiectum est bonum universale, quidquid sub ratione boni continetur potest cadere sub actu voluntatis; et quia ipsum velle est quoddam bonum, potest velle se velle, sicut etiam intellectus, cuius obiectum est verum, intelligit se intelligere, quia hoc etiam est quoddam verum. Sed amor etiam ex ratione propnae speciei habet quod supra se reflectatur, quia est spontaneus motus amantis in amatum; unde ex hoc ipso quod amat aliquis, amat se amare
(18) Sed cantas non est simplex amor, sed habet rationem amicitiae, ut supra dictum est (q. 23, a. 1). Per amicitiam
autem amatur aliquid dupliciter. Uno modo, sicut ipse amicus ad quem amicitiam habemus et cui bona volumus. Alio modo, sicut bonum quod amico volumus. Et hoc modo cantas per caritatem amatur, et non pnmo, quia caritas est illud bonum quod optamus omnibus quos ex caritate diligimus. Et eadem ratio est de beatitudine et de aliis virtutibus
(19) Ad primum ergo dicendum quod Deus et proximus sunt illi ad quos amicitiam habemus. Sed in illorum dilectione includitur dilectio cantatis, diligimus enim proximum et Deum inquantum hoc amamus, ut nos et proximus Deum diligamus, quod est caritatem habere
(20) Ad secundum dicendum quod cantas est ipsa communicatio spintualis vitae, per quam ad beatitudinem pervenitur Et ideo amatur sicut bonum desideratum omnibus quos ex caritate diligimus.
(21) Ad tertium dicendum quod ratio illa procedit secundum quod per amicitiam amantur illi ad quos amicitiam habemus.
298
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
Раздел 3
Надлежит ли из любви-каритас любить неразумное творение
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что из любви-каритас надлежит любить и неразумное творение.
(23) 1. В самом деле, благодаря любви-каритас мы максимально уподобляемся Богу. Но Бог любит неразумные творения из любви-каритас, поскольку Он любит все существующее (Прем 11, 25), а все, что Он любит, Он любит самим собой, поскольку Он сам есть любовь-каритас. Следовательно, мы также должны любить неразумные творения из любви-каритас.
(24) 2. Кроме того, любовь-каритас обращена прежде всего на Бога, а на все прочие [вещи] она распространяется сообразно тому, что они имеют отношение к Богу. Но как разумное творение соотносится с Богом постольку, поскольку обладает подобием образа, так с Ним соотносится и неразумное творение — постольку, поскольку обладает подобием следа. Следовательно, любовь-каритас распространяется и на неразумное творение.
(25) 3. Кроме того, Бог является объектом как любви-каритас, так и веры. Однако вера распространяется на неразумное
творение — постольку, поскольку мы верим, что небо и земля были сотворены Богом, что рыбы и птицы были произведены из вод, а сухопутные животные и растения — из земли. Следовательно, и любовь- каритас также распространяется на неразумные творения.
(26) Но против: любовь-каритас распространяется только на Бога и ближнего. Но слово «ближний» не может употребляться применительно к неразумному творению, поскольку оно не разделяет разумную жизнь человека. Следовательно, любовь-каритас не распространяется на неразумные творения.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорилось выше (В. 23, Р. 1), любовь-каритас есть некая дружба. Но мы дружески любим, во-первых, своего друга, с которым дружим; и во-вторых, те блага, которые желаем ему. И в первом смысле невозможно любить из любви-каритас никакое неразумное творение — в силу трех причин. Две из них относятся к дружбе, сообразно тому, что нельзя дружить с неразумными творениями. Во-первых, потому, что дружба связывает нас с тем, кому мы желаем блага. Но мы не можем в строгом смысле слова желать блага неразумно-
Articulus 3
Utrum etiam creaturae irrationales sint ex caritate diligendae
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod etiam creaturae irrationales sint ex cantate diligendae.
(23) 1 Per cantatem enim maxime conformamur Deo Sed Deus diligit creaturas inationales ex cantate, diligit enim omnia quae sunt, ut habetur Sap. XI; et omne quod diligit, seipso diligit, qui est caritas. Ergo et nos debemus creaturas irrationales ex caritate diligere.
(24) 2. Praeterea, caritas pnncipaliter fertur in Deum, ad alia autem se extendit secundum quod ad Deum pertinent. Sed sicut creatura rationalis pertinet ad Deum inquantum habet similitudinem imaginis, ita etiam creatura irrationalis inquantum habet similitudinem vestigii. Ergo caritas etiam se extendit ad creaturas irrationales.
(25) 3. Praeterea, sicut caritatis obiectum est Deus, ita et fidei. Sed fides se extendit ad creaturas irrationales, in¬
quantum credimus caelum et terram esse creata a Deo, et pisces et aves esse productos ex aquis, et gressibilia animalia et plantas ex terra. Ergo cantas etiam se extendit ad creaturas irrationales.
(26) Sed contra est quod dilectio cantatis solum se extendit ad Deum et proximum. Sed nomine proximi non potest intelligi creatura irrationalis, quia non communicat cum homine in vita rationali. Ergo cantas non se extendit ad creaturas inationales.
(27) Respondeo dicendum quod caritas, secundum praedicta (q. 23, a. 1), est amicitia quaedam. Per amicitiam autem amatur uno quidem modo, amicus ad quem amicitia habetur; et alio modo, bona quae amico optantur. Primo ergo modo nulla creatura inationalis potest ex cantate amari. Et hoc triplici ratione. Quarum duae pertinent communiter ad amicitiam, quae ad creaturas inationales haben non potest. Primo quidem, quia amicitia ad eum habetur cui volumus bonum. Non autem proprie possum bonum velle creaturae inationali, quia non est eius pro-
Раздел 4. Должен ли человек из любви-каритас любить себя самого
299
му творению, поскольку обладать благом в собственном смысле слова может только разумное творение, которое по своему усмотрению на основании свободного решения использует те блага, которыми обладает. И потому Философ замечает, что мы не говорим, что с такими вещами случается благо или зло — разве что в переносном смысле. Во-вторых, потому, что любая дружба основана на некотором дружеском участии в жизни, ведь, как говорит Философ, ничто так не приличествует дружбе, как жить сообща с другом. Но неразумные творения не могут принимать дружеского участия в человеческой жизни, которая сообразуется с разумом. Поэтому дружба с неразумными творениями невозможна — разве что в переносном смысле. Третья же причина непосредственно относится к любви-каритас, поскольку эта любовь основывается на соучастии в вечном блаженстве, которое недоступно неразумному творению. Следовательно, дружеская любовь-каритас к неразумному творению невозможна. Однако мы можем любить неразумные творения любовью-каритас как те блага, которые мы желаем другим, т. е. постольку, поскольку мы из любви-каритас желаем их сохранности ради почита¬
ния Бога и пользы для людей. И в этом же смысле неразумное творение из любви-каритас любит Бог.
(28) И из этого очевиден ответ на первое.
(29) На второе надлежит ответить, что подобие следа не обусловливает способность к обретению вечной жизни, как ее обусловливает подобие образа. Поэтому здесь нет подобия.
(30) На третье надлежит ответить, что вера может распространяться на все то, что так или иначе является истинным. Но дружба любви-каритас распространяется только на то, что по природе способно обладать благом вечной жизни. Поэтому здесь нет подобия.
Раздел 4
Должен ли человек из любви-каритас любить себя самого
(31) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что человек не должен любить себя самого из любви-каритас.
(32) 1. В самом деле, Григорий говорит, что для любви-каритас нужно не меньше, чем двое. Следовательно, никто не может любить самого себя любовью-каритас.
(33) 2. Кроме того, как сказано в VIII книге «Этики», дружба по своему СМЫСЛОВО-
prie habere bonum, sed solum creaturae rationalis, quae est domina utendi bono quod habet per liberum arbitrium. Et ideo philosophus dicit, in II Physic. (6; 197b8), quod huiusmodi rebus non dicimus aliquid bene vel male contingere nisi secundum similitudinem. Secundo, quia omnis amicitia fundatur super aliqua communicatione vitae, nihil enim est ita proprium amicitiae sicut convivere, ut patet per philosophum, VIII Ethic. (5; 1157b9) Creaturae autem irrationales non possunt communicationem habere in vita humana, quae est secundum rationem. Unde nulla amicitia potest haberi ad creaturas irrationales, nisi forte secundum metaphoram. Tertia ratio est propria caritati, quia caritas fundatur super communicatione beatitudinis aeternae, cuius creatura irrationalis capax non est. Unde amicitia cantatis non potest haberi ad creaturam irrationalem. Possunt tamen ex cantate diligi creaturae irrationales sicut bona quae aliis volumus, inquantum scilicet ex cantate volumus eas conservari ad honorem Dei et utilitatem hominum Et sic etiam ex caritate Deus eas diligit.
(28) Unde patet responsio ad primum.
(29) Ad secundum dicendum quod similitudo vestigii non causat capacitatem vitae aeternae, sicut similitudo imaginis. Unde non est similis ratio.
(30) Ad tertium dicendum quod fides se potest extendere ad omnia quae sunt quocumque modo vera. Sed amicitia caritatis se extendit ad illa sola quae nata sunt habere bonum vitae aeternae. Unde non est simile.
Articulus 4
Utrum homo debeat seipsum ex caritate diligere
(31) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod homo non diligat seipsum ex caritate.
(32) 1. Dicit enim Gregorius (In Evan. 1 hom. 17; PL 76, 1139), in quadam homilia, quod caritas minus quam inter duos haberi non potest. Ergo ad seipsum nullus habet caritatem.
(33) 2. Praeterea, amicitia de sui ratione importat reama- tionem et aequalitatem, ut patet in VIII Ethic. (2; 1155b28),
300
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
му содержанию подразумевает взаимную приязнь и равенство, чего никто не может иметь по отношению к самому себе. Но, как уже было сказано (В. 23, Р. 1), любовь- каритас есть некая дружба. Следовательно, человек не может любить самого себя любовью-каритас.
(34) 3. Кроме того, все, что относится к люб ви-каритас, не может быть предосудительно, поскольку любовь не превозносится (1 Кор 13, 4). Но любовь к самому себе предосудительна, ибо сказано (2 Тим 3, 1-2): В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Следовательно, человек не может любить самого себя из любви-каритас.
(35) Но против: сказано (Левит 19, 18): Люби ближнего твоего, как самого себя. Но мы любим ближнего из любви-каритас. Следовательно, мы должны и самих себя любить из любви-каритас.
(36) Отвечаю: надлежит сказать, что поскольку любовь-каритас является некоей дружбой, как уже отмечено (В. 23, Р. 1), мы можем говорить о ней в двух смыслах. Во-первых, сообразно общему смысловому содержанию дружбы. И в этом смысле человек не может дружить с самим собой в строгом смысле слова: речь идет о боль¬
шем, чем дружба. В самом деле, дружба подразумевает некое единение, поскольку, как говорит Дионисий, любовь является соединяющей силой; но в отношении самого себя человек един, а единство больше единения. Поэтому как единство является началом единения, так же любовь к самому себе является формой и корнем дружбы. В самом деле, наша дружба с другими заключается в том, что мы относимся к ним как к самим себе, отчего в IX книге «Этики» сказано, что проявления дружбы из отношения к самому себе распространяются на отношение к другим. Так ведь и о началах у нас имеется не научное знание, но нечто большее, а именно, простое постижение.
(37) Во-вторых, мы можем говорить о любви-каритас сообразно ее собственному смысловому содержанию, а именно, сообразно тому, что он есть прежде всего дружба человека с Богом, и уже затем — со всем Божиим. Но к таковому относится и обладающий любовью-каритас человек. Итак, среди всего прочего, что он любит из любви-каритас, как то, что как бы относится к Богу, он любит также и самого себя.
(38) Итак, на первое надлежит ответить, что здесь Григорий говорит о любви-каритас
quae quidem non possunt esse homini ad seipsum. Sed cantas amicitia quaedam est, ut dictum est (q. 23, a .1). Ergo ad seipsum aliquis caritatem habere non potest.
(34) 3. Praeterea, illud quod ad caritatem pertinet non potest esse vituperabile, quia caritas non agit perperam, ut dicitur I ad Cor. XIII. Sed amare seipsum est vituperabile, dicitur enim II ad Tim. III, in novissimis diebus instabunt tempora periculosa, et erunt homines amantes seipsos. Ergo homo non potest seipsum ex caritate diligere.
(35) Sed contra est quod dicitur Levit. XIX, diliges amicum tuum sicut teipsum. Sed amicum ex caritate diligimus. Ergo et nosipsos ex caritate debemus diligere.
(36) Respondeo dicendum quod, cum caritas sit amicitia quaedam, sicut dictum est (q. 23, a .1), dupliciter possumus de caritate loqui. Uno modo, sub communi ratione amicitiae. Et secundum hoc dicendum est quod amicitia proprie non habetur ad seipsum, sed aliquid maius amicitia, quia amicitia unionem quandam importat, dicit
enim Dionysius (De div nom , 4; PG 3, 709) quod amor est virtus unitiva; unicuique autem ad seipsum est unitas, quae est potior unione. Unde sicut unitas est principium unionis, ita amor quo quis diligit seipsum, est forma et radix amicitiae, in hoc enim amicitiam habemus ad alios, quod ad eos nos habemus sicut ad nosipsos, dicitur enim in IX Ethic. (8; 1168b5) quod amicabilia quae sunt ad alterum veniunt ex his quae sunt ad seipsum. Sicut etiam de principiis non habetur scientia, sed aliquid maius, scilicet intellectus.
(37) Alio modo possumus loqui de caritate secundum propriam rationem ipsius, prout scilicet est amicitia hominis ad Deum principaliter, et ex consequenti ad ea quae sunt Dei. Inter quae etiam est ipse homo qui cantatem habet. Et sic inter cetera quae ex cantate diligit quasi ad Deum pertinentia, etiam seipsum ex cantate diligit.
(38) Ad primum ergo dicendum quod Gregonus loquitur de caritate secundum communem amicitiae rationem.
Раздел 5. Должен ли человек из любви-каритас любить свое тело
301
сообразно общему смысловому содержанию дружбы.
(39) И это же относится ко второму.
(40) На третье надлежит ответить, что любящие себя порицаются постольку, поскольку они любят себя в том, что касается их чувственной природы, которой они угождают. Но это не относится к истинной любви к себе в том, что касается разумной природы, когда себе желают благ, относящихся к совершенству разума. И именно так человек обычно и любит себя из любви-каритас.
Раздел 5
Должен ли человек из любви-каритас любить свое тело
(41) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что человек не должен любить свое тело из любви-каритас.
(42) 1. В самом деле, мы не любим то, с чем не желаем себя связывать. Но те, кто обладает любовью-каритас, не желают связи с телом, согласно этим словам (Рим 7, 24): Кто избавит меня от сего тела смерти? И еще сказано (Филип 1, 23): Имею желание разрешиться и быть с Христом. Следовательно, не должно любить свое тело из любви-каритас.
(43) 2. Кроме того, дружба любви-каритас основана на соучастии в наслаждении Богом. Но тело не может быть причастно этому наслаждению. Следовательно, не должно любить тело из любви-каритас.
(44) 3. Кроме того, поскольку любовь-каритас есть некая дружба, то она распространяется на тех, кто может ответить взаимностью. Но наше тело не может любить нас из любви-каритас. Следовательно, его не должно любить из любви-каритас.
(45) Но против: Августин указывает четыре [вещи], которые надлежит любить из любви-каритас, и среди них он называет также и наше собственное тело.
(46) Отвечаю: надлежит сказать, что наше тело можно рассматривать двояко: во- первых, со стороны его природы; во-вторых, со стороны порчи вины и наказания. Но природа нашего тела сотворена не злым началом, как болтали манихеи, а Богом. И потому мы можем использовать тело для служения Богу, согласно этим словам (Рим 6, 13): Представьте члены ваши Богу в орудия праведности. Поэтому из любви- каритас, которой мы любим Бога, мы также должны любить и наше тело. Однако мы не должны любить в своем теле заразу вины и порчу наказания; напротив, жела-
(39) Et secundum hoc etiam procedit secunda ratio.
(40) Ad tertium dicendum quod amantes seipsos vituperantur inquantum amant se secundum naturam sensibilem, cui obtemperant. Quod non est vere amare seipsum secundum naturam rationalem, ut sibi velit ea bona quae pertinent ad perfectionem rationis. Et hoc modo praecipue ad caritatem pertinet diligere seipsum
Articulus 5
Utrum homo debeat corpus suum ex caritate diligere
(41) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod homo non debeat corpus suum ex caritate diligere.
(42) 1 Non enim diligimus illum cui convivere non volumus Sed homines caritatem habentes refugiunt corporis convictum, secundum illud Rom. VII, quis me liberabit de corpore mortis huius? Et Philipp. I, desiderium habens dissolvi et cum Christo esse. Ergo corpus nostrum non est ex caritate diligendum.
(43) 2. Praeterea, amicitia caritatis fundatur super communicatione divinae fruitionis. Sed huius fruitionis corpus particeps esse non potest. Ergo corpus non est ex cantate diligendum.
(44) 3. Praeterea, caritas, cum sit amicitia quaedam, ad eos habetur qui reamare possunt. Sed corpus nostrum non potest nos ex caritate diligere. Ergo non est ex caritate diligendum.
(45) Sed contra est quod Augustinus, in I De doct. Christ. (23; PL 34, 27), ponit quatuor ex cantate diligenda, inter quae unum est corpus proprium.
(46) Respondeo dicendum quod corpus nostrum secundum duo potest considerari, uno modo, secundum eius naturam; alio modo, secundum corruptionem culpae et poenae. Natura autem corporis nostri non est a malo principio creata, ut Manichaei fabulantur (cf. August., De haeres, 46; PL 42, 35), sed est a Deo. Unde possumus eo uti ad servitium Dei, secundum illud Rom. VI, exhibete membra vestra arma iustitiae Deo. Et ideo ex dilectione cari-
302
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
нием любви-каритас мы должны желать их устранения.
(47) Итак, на первое надлежит ответить, что апостол не избегал единства с телом в том, что касается природы тела, более того, в этом смысле он не желал лишиться его, согласно этим словам (2 Кор 5, 4): Мы не хотим совлечься, но облечься. Однако он желал избавиться от заразы вожделения, поразившей тело, и тленности, отягощающей душу и делающей невозможным созерцание Бога. Потому показательны его слова «от сего тела смерти».
(48) На второе надлежит ответить, что хотя наше тело не может наслаждаться Богом, познавая и любя Его, тем не менее, благодаря делам, которые мы совершаем посредством тела, мы можем достичь совершенного наслаждения Богом. Поэтому и из наслаждения души некое блаженство переходит и на тело, т. е. блаженство здоровья и нетленности, как говорит Августин. Следовательно, поскольку тело некоторым образом причастно блаженству, его можно любить из любви-каритас.
(49) На третье надлежит ответить, что взаимность имеет место при дружбе с другим, но не с самим собой, как в отношении души, так и в отношении тела.
Раздел 6 Надлежит ли любить грешников из любви-каритас
(50) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что не следует любить грешников из любви-каритас.
(51) 1. В самом деле, сказано (Пс 118, 113): Неправедных ненавижу. Но Давид обладал совершенной любовью-каритас. Следовательно, из любви-каритас грешников скорее надлежит ненавидеть, чем любить.
(52) 2. Кроме того, как говорит Григорий, любовь подтверждается делами. Но праведники не совершают деяния любви по отношению к грешникам, скорее они совершают деяния ненависти: С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли (Пс 100, 8); и еще: Ворожеи не оставляй в живых (Исх 22, 18). Следовательно, грешников не должно любить из любви- каритас.
tatis qua diligimus Deum, debemus etiam corpus nostrum diligere. Sed infectionem culpae et corruptionem poenae in corpore nostro diligere non debemus, sed potius ad eius remotionem anhelare desiderio caritatis.
(47) Ad primum ergo dicendum quod apostolus non refugiebat corporis communionem quantum ad corporis naturam, immo secundum hoc nolebat ab eo spoliari, secundum illud II ad Cor. V, nolumus expoliari, sed supervestiri. Sed volebat carere infectione concupiscentiae, quae remanet in corpore; et corruptione ipsius, quae aggravat animam, ne possit Deum videre. Unde signanter dixit, de corpore mortis huius.
(48) Ad secundum dicendum quod corpus nostrum quamvis Deo frui non possit cognoscendo et amando ipsum, tamen per opera quae per corpus agimus ad perfectam Dei fruitionem possumus venire. Unde et ex fruitione animae redundat quaedam beatitudo ad corpus, scilicet sanitatis et incorruptionis vigor; ut Augustinus dicit, in epistola ad Diosc. (Epist. 118, 3; PL 33, 439). Et ideo, quia corpus
aliquo modo est particeps beatitudinis, potest dilectione caritatis amari.
(49) Ad tertium dicendum quod reamatio habet locum in amicitia quae est ad alterum, non autem in amicitia quae est ad seipsum, vel secundum animam vel secundum corpus.
Articulus 6 Utrum peccatores sint ex caritate diligendi
(50) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod peccatores non sint ex caritate diligendi.
(51) 1. Dicitur enim in Psalm., iniquos odio habui. Sed David caritatem habebat. Ergo ex cantate magis sunt odiendi peccatores quam diligendi.
(52) 2. Praeterea, probatio dilectionis exhibitio est operis; ut Gregonus dicit, in homilia Pentecost. (In Evang. 2 hom. 30; PL 76, 1220). Sed peccatonbus iusti non exhibent opera dilectionis, sed magis opera quae videntur esse odii, secundum illud Psalm., in matutino interficiebam
Раздел 6. Надлежит ли любить грешников из любви-каритас
303
(53) 3. Кроме того, к дружбе относится желание блага своим друзьям. Но святые из любви-каритас желают нечестивым зла, согласно этим словам (Пс 9, 18): Да обратятся нечестивые в ад. Следовательно, грешников не должно любить из любви- каритас.
(54) 4. Кроме того, друзьям свойственно радоваться одному и тому же и желать одного и того же. Но любовь-каритас не побуждает нас желать того же, что и грешники, равно как и радоваться тому, что доставляет радость им; скорее наоборот. Следовательно, грешников не должно любить из любви-каритас.
(55) 5. Кроме того, как сказано в VIII книге «Этики», для друзей обычно совместное проживание. Но нам не подобают тесные отношения с грешниками, ибо сказано (2 Кор 6, 17): Выйдите из среды их. Следовательно, грешников не должно любить из любви-каритас.
(56) Но против: Августин утверждает, что когда нам говорят: «Возлюби ближнего твоего», то подразумевается, что мы должны в каждом человеке видеть своего ближнего. Но грешники не перестают быть людьми, поскольку грех не уничтожает природу. Следовательно, мы должны любить греш¬
ников из любви-каритас.
(57) Отвечаю: надлежит сказать, что в грешниках можно усмотреть две [вещи]: их природу и их вину. И со стороны своей природы, которой их наделил Бог, они способны получить блаженство, на соучастии в котором, как уже было сказано (Р. 3; В. 23, Р. 1,
5), основывается любовь-каритас. Поэтому мы должны любить грешников из любви- каритас, насколько речь идет об их природе. Но их вина противна Богу и препятствует обретению блаженства. Поэтому, насколько речь идет о вине грешников, из-за которой они противны Богу, надлежит ненавидеть любых грешников, даже отца, мать и близких (Лк 14). Таким образом, мы должны ненавидеть в грешнике то, что он является грешником, и любить в нем то, что он является человеком, способным к обретению блаженства. И это поистине значит — любить грешников из любви-каритас и ради Бога.
(58) Итак, на первое надлежит ответить, что пророк ненавидел неправедных постольку, поскольку ненавидел их неправедность, которая являлась их злом. И это — совершенная ненависть, о которой он сам говорит (Пс 138, 22): Полною ненавистью ненавижу их. Но зло человека ненавидят
omnes peccatores terrae. Et dominus praecepit, Exod. XXII, maleficos non patieris vivere. Ergo peccatores non sunt ex caritate diligendi.
(53) 3. Praeterea, ad amicitiam pertinet ut amicis velimus et optemus bona. Sed sancti ex caritate optant peccatoribus mala, secundum illud Psalm., convertantur peccatores in Infernum. Ergo peccatores non sunt ex caritate diligendi.
(54) 4. Praeterea, proprium amicorum est de eisdem gaudere et idem velle. Sed caritas non facit velle quod peccatores volunt, neque facit gaudere de hoc de quo peccatores gaudent, sed magis facit contrarium Ergo peccatores non sunt ex cantate diligendi.
(55) 5 Praeterea, proprium est amicorum simul convivere, ut dicitur in VIII Ethic. (5; 1157Ы9). Sed cum peccatonbus non est convivendum, secundum illud II ad Cor. VI, recedite de medio eorum. Ergo peccatores non sunt ex caritate diligendi.
(56) Sed contra est quod Augustinus dicit, in I De doct. Christ. (30; PL 34, 31), quod cum dicitur, diliges proxi¬
mum tuum, manifestum est omnem hominem proximum esse deputandum. Sed peccatores non desinunt esse homines, quia peccatum non tollit naturam. Ergo peccatores sunt ex caritate diligendi.
(57) Respondeo dicendum quod in peccatonbus duo possunt considerari, scilicet natura, et culpa Secundum naturam quidem, quam a Deo habent, capaces sunt beatitudinis, super cuius communicatione cantas fundatur, ut supra dictum est (a. 3; q. 23, a. 1, 5). Et ideo secundum naturam suam sunt ex cantate diligendi. Sed culpa eorum Deo contrariatur, et est beatitudinis impedimentum. Unde secundum culpam, qua Deo adversantur, sunt odiendi quicumque peccatores, etiam pater et mater et propinqui, ut habetur Luc. XIV. Debemus enim in peccatoribus odire quod peccatores sunt, et diligere quod homines sunt beatitudinis capaces. Et hoc est eos vere ex caritate diligere propter Deum.
(58) Ad primum ergo dicendum quod iniquos propheta odio habuit inquantum iniqui sunt, habens odio iniquitatem
304
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
на том же основании, на котором любят его благо. Поэтому такая совершенная ненависть тоже относится к любви-каритас.
(59) На второе надлежит ответить, что, согласно Философу, дружбы с грешниками не следует прекращать до тех пор, пока есть надежда на их исправление; и им надлежит помогать восстановить добродетель с еще большей готовностью, чем мы помогали бы им деньгами, имей они денежные проблемы, поскольку добродетель ближе дружбе, чем деньги. Но если они впали в очень большое зло и сделались неисправимыми, то далее поддерживать с ними дружеские отношения не следует. По этой причине как божественный, так и человеческий закон предписывает предавать смерти таких грешников: ведь вероятность того, что они причинят вред другим, гораздо больше вероятности того, что они исправятся. Однако судья принимает такое решение не из ненависти к грешнику, а из любви-каритас, сообразно которой он предпочитает общественное благо жизни отдельного лица. И потом, смертный приговор, вынесенный судьей, может принести пользу и самому грешнику, если его смерть сможет искупить его преступление, а если даже и не сможет, то она, по край¬
ней мере, установит предел его вине, так как он не сможет более грешить.
(60) На третье надлежит ответить, что такого рода проклятья, обнаруживающиеся в св. Писании, можно понимать трояко. Во-первых, не как пожелания, а как предсказания, и тогда слова «да обратятся нечестивые в ад» означают, что нечестивые обратятся в ад. Во-вторых, как пожелания, но не пожелания собственно наказания для человека, а пожелания, чтобы наказывающий свершил свое правосудие, согласно этим словам (Пс 57, 11): Возрадуется праведник, когда увидит отмщение. Ведь и сам Бог, карая грешников, радуется не погибели нечестивых (Прем 1, 13) \ но своей справедливости, согласно сказанному (Пс 10, 7): Господь праведен, любит правду. В-третьих, эти проклятия можно истолковать как желание устранить грех без желания наказать, т. е. чтобы грех был уничтожен, а человек сохранился.
(61) На четвертое надлежит ответить, что мы любим грешников из любви-каритас не так, что желаем того же, чего желают они, или радуемся тому же, чему радуются они, но так, что хотим, чтобы они стали желать того же, чего желаем мы, и радоваться тому же, чему радуемся мы. И по-
ipsorum, quod est ipsorum malum. Et hoc est perfectum odium, de quo ipse dicit, perfecto odio oderam illos. Eiusdem autem rationis est odire malum alicuius et diligere bonum eius. Unde etiam istud odium perfectum ad cantatem pertinet.
(59) Ad secundum dicendum quod amicis peccantibus, sicut philosophus dicit, in IX Ethic. (3 1165ЫЗ), non sunt subtrahenda amicitiae beneficia, quousque habeatur spes sanationis eorum, sed magis est eis auxiliandum ad recuperationem virtutis quam ad recuperationem pecuniae, si eam amisissent, quanto virtus est magis amicitiae affinis quam pecunia. Sed quando in maximam malitiam incidunt et insanabiles fiunt, tunc non est eis amicitiae familiantas exhibenda. Et ideo huiusmodi peccantes, de quibus magis praesumitur nocumentum aliorum quam eorum emendatio, secundum legem divinam et humanam praecipiuntur occidi. Et tamen hoc facit iudex non ex odio eorum, sed ex cantatis amore quo bonum publicum praefertur vitae singularis personae. Et tamen mors per iudicem inflicta
peccaton prodest, sive convertatur, ad culpae expiationem; sive non convertatur, ad culpae terminationem, quia per hoc tollitur ei potestas amplius peccandi.
(60) Ad tertium dicendum quod huiusmodi imprecationes quae in sacra Scnptura inveniuntur, tripliciter possunt in- telligi. Uno modo, per modum praenuntiationis, non per modum optationis, ut sit sensus, convertantur peccatores in Infernum, idest convertentur Alio modo, per modum optationis, ut tamen desiderium optantis non referatur ad poenam hominum, sed ad iustitiam punientis, secundum illud, laetabitur iustus cum viderit vindictam. Quia nec ipse Deus puniens laetatur in perditione impiorum, ut dicitur Sap. I, sed in sua iustitia, quia iustus dominus, et iustitias dilexit. Tertio, ut desiderium referatur ad remotionem culpae, non ad ipsam poenam, ut scilicet peccata destruantur et homines remaneant.
(61) Ad quartum dicendum quod ex caritate diligimus peccatores non quidem ut velimus quae ipsi volunt, vel gaudeamus de his de quibus ipsi gaudent, sed ut faciamus eos
Раздел 7. Любят ли грешники самих себя
305
т0му сказано (Иер 15, 19): Они сами будут обращаться к тебе — а не ты будешь обращаться к ним.
(62) На пятое надлежит ответить, что нестойкие должны избегать тесного общения с грешниками, поскольку есть опасность, что они попадут под их влияние. Однако достойно всяческих похвал, если совершенные, опасаться отпадения которых нет никаких оснований, тесно общаются с грешниками ради их обращения. Так ведь и Господь, согласно Писанию, ел и пил с грешниками (Мф 9, 11-13). Однако никому не следует общаться с грешниками, насколько речь идет о соучастии в грехе; и именно в этом смысле сказано (2 Кор 6, 17): Выйдите из среды их... и не прикасайтесь к нечистому, т. е. не соучаствуйте в грехе.
Раздел 7 Любят ли грешники самих себя
(63) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что грешники любят самих себя.
(64) 1. В самом деле, начало греха должно обнаруживаться прежде всего в грешниках. Но началом греха является любовь к себе, ибо, как говорит Августин, она со¬
здала град Вавилон. Следовательно, грешники больше всего любят самих себя.
(65) 2. Кроме того, грех не уничтожает природу. Но человек по природе любит себя, ведь даже неразумные творения по природе стремятся к собственному благу, например, к сохранению своего бытия и т. п. Следовательно, грешники любят себя.
(66) 3. Кроме того, как говорит Дионисий, благо любимо всеми. Но многие грешники считают себя благими. Следовательно, многие грешники любят самих себя.
(67) Но против: сказано (Пс 10, 6): Любящего нечестие ненавидит душа его.
(68) Отвечаю: надлежит сказать, что любовь к себе в одном смысле обща всем, в другом свойственна только благим, а в третьем — только дурным. В самом деле, то, что некто любит то, что полагает самим собой, обще для всех. Но человека называют «тем-то» в двух смыслах. Во- первых, сообразно его субстанции и природе. И в этом смысле все считают общим благом быть такими, какими они есть, т. е. составленными из души и тела. И так все люди, благие и дурные, любят самих себя постольку, поскольку любят свою сохранность. Во-вторых, человека называют «тем-то» сообразно главенству, и так о гла-
velle quod volumus, et gaudere de his de quibus gaudemus. Unde dicitur Ierem. XV, ipsi convertentur ad te, et tu non converteris ad eos.
(62) Ad quintum dicendum quod convivere peccatoribus infirmis quidem est vitandum, propter periculum quod eis imminet ne ab eis subvertantur. Perfectis autem, de quorum corruptione non timetur, laudabile est quod cum peccatoribus conversentur, ut eos convertant. Sic enim dominus cum peccatoribus manducabat et bibebat, ut habetur Matth. IX. Convictus tamen peccatorum quantum ad consortium peccati vitandus est omnibus. Et sic dicitur II ad Cor. VI, recedite de medio eorum, et immundum ne tetigeritis, scilicet secundum peccati consensum.
Articulus 7 Utrum peccatores diligant seipsos
(63) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod peccatores seipsos diligant.
(64) 1 Illud enim quod est principium peccati maxime in peccatoribus invenitur. Sed amor sui est principium pecca¬
ti, dicit enim Augustinus, XIV De civ. Dei (28; PL 41, 436), quod facit civitatem Babylonis. Ergo peccatores maxime amant seipsos.
(65) 2. Praeterea, peccatum non tollit naturam. Sed hoc unicuique convenit ex sua natura quod diligat seipsum, unde etiam creaturae irrationales naturaliter appetunt proprium bonum, puta conservationem sui esse et alia huiusmodi. Ergo peccatores diligunt seipsos.
(66) 3 Praeterea, omnibus est diligibile bonum; ut Dionysius dicit, in IV cap. De div. nom. (PG 3, 708). Sed multi peccatores reputant se bonos. Ergo multi peccatores seipsos diligunt.
(67) Sed contra est quod dicitur in Psalm., qui diligit iniquitatem, odit animam suam.
(68) Respondeo dicendum quod amare seipsum uno modo commune est omnibus; alio modo propnum est bonorum; tertio modo proprium est malorum. Quod enim aliquis amet id quod seipsum esse aestimat, hoc commune est omnibus. Homo autem dicitur esse aliquid dupliciter. Uno
306
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
ве государства говорят как о самом государстве, и потому, если правитель делает что-либо, то говорят, что это делает государство. И в этом смысле не все представляют себя такими, какие они есть. В самом деле, главным в человеке является рациональный ум, а чувственная и материальная природа вторична, и первое апостол называет «внутренним человеком», а второе — «внешним человеком» (2 Кор 4, 16). И благие люди считают главным в себе разумную природу, т. е. «внутреннего человека», и потому они представляют себя правильно. А дурные люди главным в себе считают чувственную и материальную природу, т. е. «внешнего человека». Поэтому они обладают ложным знанием о самих себе и неправильно любят себя, ибо любят то, чем они, по их собственному мнению, являются. А благие люди обладают истинным знанием о себе и потому любят себя правильно.
(69) И Философ доказывает это при помощи тех пяти вещей, которые присущи дружбе. Во-первых, каждый желает своему другу быть и жить; во-вторых, желает ему блага; в-третьих, он делает ему добро;
в-четвертых, он тесно и с удовольствием общается с ним; в-пятых, он согласуется с ним, как бы радуясь и печалясь от одного и того же. И точно так же благие люди любят себя, т. е. своего внутреннего человека: поскольку они желают сохранения его в его целостности; желают ему его собственного блага, т. е. духовных благ; совершают действия, требующиеся для их обретения; получают удовольствие от чтения в своем сердце, поскольку находят в нем благие помышления в настоящем, воспоминания о прошлых благах и надежду на блага в будущем; и точно так же в них не возникает противоречивых желаний, поскольку вся их душа стремится к одному. С другой стороны, дурные люди не хотят сохранения внутреннего человека в его целостности, они не желают его духовных благ и ничего не делают ради их обретения; точно так же они не получают удовольствия от общения с самими собой, когда читают в своем сердце, поскольку в прошлом и настоящем они обнаруживают зло, а будущее их страшит; кроме того, в них нет внутреннего согласия из-за угрызений совести, согласно сказанному (Пс 49, 21): Изобличу
modo, secundum suam substantiam et naturam. Et secun dum hoc omnes aestimant bonum commune se esse id quod sunt, scilicet ex anima et corpore compositos Et sic etiam omnes homines, boni et mali, diligunt seipsos, inquantum diligunt sui ipsorum conservationem. Alio modo dicitur esse homo aliquid secundum pnncipalitatem, sicut princeps civitatis dicitur esse civitas; unde quod pnncipes faciunt, dicitur civitas facere. Sic autem non omnes aestimant se esse id quod sunt Pnncipale enim in homine est mens rationalis, secundarium autem est natura sensitiva et corporalis, quorum primum apostolus nominat interiorem hominem, secundum extenorem, ut patet II ad Cor IV. Boni autem aestimant pnncipale in seipsis rationalem naturam, sive intenorem hominem, unde secundum hoc aestimant se esse quod sunt Mali autem aestimant pnncipale in seipsis naturam sensitivam et corporalem, scilicet extenorem hominem. Unde non recte cognoscentes seipsos, non vere diligunt seipsos, sed diligunt id quod seipsos esse reputant. Boni autem, vere cognoscentes seipsos, vere seipsos diligunt.
(69) Et hoc probat philosophus, in IX Ethic (4; 1166a3), per quinque quae sunt amicitiae propria. Unusquisque enim amicus pnmo quidem vult suum amicum esse et vivere, secundo, vult ei bona; tertio, operatur bona ad ipsum; quarto, convivit ei delectabiliter; quinto, concordat cum ipso, quasi in iisdem delectatus et contristatus. Et secundum hoc boni diligunt seipsos quantum ad intenorem hominem, quia etiam volunt ipsum servan in sua integritate, et optant ei bona eius, quae sunt bona spintualia; et etiam ad assequenda operam impendunt, et delectabiliter ad cor propnum redeunt, quia ibi inveniunt et bonas cogitationes in praesenti, et memoriam bonorum praetentorum, et spem futurorum bonorum, ex quibus delectatio causatur; similiter etiam non patiuntur in seipsis voluntatis dissensionem, quia tota anima eorum tendit in unum. E contrano autem mali non volunt conservari integritatem intenoris hominis; neque appetunt spiritualia eius bona, neque ad hoc operantur; neque delectabile est eis secum convivere redeundo ad cor, quia inveniunt ibi
Раздел 8. Должно ли из любви-каритас любить своих врагов
307
тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. И точно так же можно показать, что дурные люди любят себя сообразно повре- жденности их внешнего человека, а благие люди так себя не любят.
(70) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Августин там же, любовь к себе, которая свойственна дурным людям и является началом греха, доходит до презрения к Богу, потому что дурные люди настолько желают внешних благ, что презирают блага духовные.
(71) На второе надлежит ответить, что хотя дурные люди не полностью лишены естественной любви, тем не менее, она извращена в них — способом уже указанным.
(72) На третье надлежит ответить, что дурные люди, насколько они полагают себя благими, некоторым образом причастны к любви к себе. Однако это не истинная, а лишь кажущаяся любовь к себе. А особо дурные люди не обладают даже и такой.
Раздел 8 Должно ли из любви-каритас любить своих врагов
(73) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что не следует любить врагов из любви-каритас.
(74) 1. Так, Августин говорит, что это великое благо, то есть любовь к врагам, не совпадает с тем множеством, которое, как мы верим, бывает услышанным, когда оно произносит в молитве: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но грех не прощается, если грешник не имеет любви-каритас, поскольку любовь покрывает все грехи (Притч 10, 12). Следовательно, не обязательно любить врагов из любви-каритас.
(75) 2. Кроме того, любовь-каритас не устраняет природу. Но всякая вещь, даже неразумная, по природе ненавидит то, что ей противоположно, как, например, овца ненавидит волка, а вода — огонь. Следовательно, не обязательно любить врагов из любви-каритас.
mala et praesentia et praetenta et futura, quae abhorrent; neque etiam sibi ipsis concordant, propter conscientiam remordentem, secundum illud Psalm., arguam te, et statuam contra faciem tuam. Et per eadem proban potest quod mali amant seipsos secundum corruptionem exterioris hominis Sic autem boni non amant seipsos
(70) Ad primum ergo dicendum quod amor sui qui est pnncipium peccati, est ille qui est proprius malorum, perveniens usque ad contemptum Dei, ut ibi dicitur {De civit. Dei, XIV, 28; PL 41, 436), quia mali sic etiam cupiunt extenora bona quod spintualia contemnunt
(71) Ad secundum dicendum quod naturalis amor, etsi non totaliter tollatur a malis, tamen in eis pervertitur per modum iam dictum.
(72) Ad tertium dicendum quod mali, inquantum aestimant se bonos, sic aliquid participant de amore sui. Nec tamen ista est vera sui dilectio, sed apparens. Quae etiam non est possibilis in his qui valde sunt mali
Articulus 8
Utrum sit de necessitate caritatis ut inimici diligantur
(73) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod non sit de necessitate cantatis ut inimici diligantur.
(74) 1. Dicit enim Augustinus, in Enchirid. (73; PL 40, 266), quod hoc tam magnum bonum, scilicet diligere inimicos, non est tantae multitudinis quantam credimus exaudiri cum in oratione dicitur, dimitte nobis debita nostra. Sed nulli dimittitur peccatum sine cantate, quia, ut dicitur Proverb. X, universa delicta operit caritas Ergo non est de necessitate cantatis diligere inimicos
(75) 2 Praeterea, cantas non tollit naturam. Sed unaquaeque res, etiam irrationalis, naturaliter odit suum contranum, sicut ovis lupum, et aqua ignem. Ergo cantas non facit quod inimici diligantur.
308
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
(76) 3. Кроме того, любовь-каритас не действует превратно. Но в любви к врагам, как представляется, имеется то же извращение, что и в ненависти к друзьям; и потому Иоав укорял Давида, говоря: Ты любишь ненавидящих тебя, и ненавидишь любящих тебя (2 Цар 19, 6). Следовательно, не обязательно любить врагов из любви-каритас.
(77) Но против: Господь говорит (Мф 5, 44): Любите врагов ваших.
(78) Отвечаю: надлежит сказать, что любовь к врагам можно рассматривать в трех аспектах. Во-первых, сообразно тому, что мы любим наших врагов именно как врагов. И это превратно и противно любви- каритас, поскольку подразумевает любовь к дурному в другом человеке. Во-вторых, любовь к врагам можно рассматривать как относящуюся к их природе, но в общем. И в этом смысле мы обязаны любить наших врагов из любви-каритас, таким образом, чтобы, любя Бога и ближнего, не исключать врагов из числа ближних, которых надлежит любить. В-третьих, любовь к врагам можно рассматривать в частном, так, чтобы человек был особым образом движим к врагу движением любви. И такая любовь к врагу из любви-каритас не является безусловно необходимой, ведь точно
так же любовь-каритас не требует от человека особого движения любви к каждому отдельному человеку, ибо это невозможно. Однако любовь-каритас требует этого в отношении готовности духа, а именно, чтобы человек в случае необходимости были готов любить того или иного конкретного врага. А актуальная любовь к врагу ради Бога без особой необходимости относится уже к совершенству любви-каритас. В самом деле, поскольку человек любит ближнего из любви-каритас ради Бога, то чем больше он любит Бога, тем большую любовь он проявляет к ближнему, так как вражда не препятствует ему. Так, если один человек очень сильно любит другого, он любит и его детей, даже если те настроены враждебно по отношению к нему. И именно так надо понимать слова Августина.
(79) И отсюда очевиден ответ на первое.
(80) На второе надлежит ответить, что любая вещь по природе ненавидит противоположное себе именно как противоположное. Но наши враги противополагаются нам именно как враги. Соответственно мы должны ненавидеть их, ибо их враждебность нам неприятна. Однако они не противоположны нам как люди и как те, кто может обрести блаженство. И в этом отно-
(76) 3. Praeterea, cantas non agit perperam. Sed hoc videtur esse perversum quod aliquis diligat inimicos, sicut et quod aliquis odio habeat amicos, unde II Reg XIX exprobrando dicit Ioab ad David, diligis odientes te, et odio habes diligentes te. Ergo caritas non facit ut inimici diligantur.
(77) Sed contra est quod dominus dicit, Matth. V, diligite inimicos vestros.
(78) Respondeo dicendum quod dilectio inimicorum tripliciter potest consideran. Uno quidem modo, ut inimici diligantur inquantum sunt inimici. Et hoc est perversum et cantati repugnans, quia hoc est diligere malum altenus. Alio modo potest accipi dilectio inimicorum quantum ad naturam, sed in universali. Et sic dilectio inimicorum est de necessitate caritatis, ut scilicet aliquis diligens Deum et proximum ab illa generalitate dilectionis proximi inimicos suos non excludat. Tertio modo potest consideran dilectio inimicorum in speciali, ut scilicet aliquis in speciali
moveatur motu dilectionis ad inimicum. Et istud non est de necessitate cantatis absolute, quia nec etiam moveri motu dilectionis in speciali ad quoslibet homines singulariter est de necessitate cantatis, quia hoc esset impossibile Est tamen de necessitate cantatis secundum praeparationem animi, ut scilicet homo habeat animum paratum ad hoc quod in singulari inimicum diligeret si necessitas occurreret. Sed quod absque articulo necessitatis homo etiam hoc actu impleat ut diligat inimicum propter Deum, hoc pertinet ad perfectionem cantatis. Cum enim ex cantate diligatur proximus propter Deum, quanto aliquis magis diligit Deum, tanto etiam magis ad proximum dilectionem ostendit, nulla inimicitia impediente. Sicut si aliquis multum diligeret aliquem hominem, amore ipsius filios eius amaret etiam sibi inimicos. Et secundum hunc modum loquitur Augustinus.
(79) Unde patet responsio ad primum
(80) Ad secundum dicendum quod unaquaeque res naturaliter odio habet id quod est sibi contranum inquantum
Раздел 9. Требует ли любовь-каритас демонстрации люби к врагам
309
шении мы должны их любить.
(81) На третье надлежит ответить, что любить своих врагов именно как врагов предосудительно. И любовь-каритас этого не требует, как уже было сказано.
Раздел 9 Необходимо ли для спасения демонстрировать нашим врагам знаки и действия любви
(82) Ход рассуждения в девятом разделе таков. Представляется, что любовь-каритас необходимо требует демонстрации врагам знаков и действий любви.
(83) 1. В самом деле, сказано (1 Ин 3, 18): Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Однако делом человек любит, демонстрируя любимому знаки и действия любви. Следовательно, любовь-каритас необходимо требует, чтобы человек демонстрировал своим врагам знаки и действия любви.
(84) 2. Кроме того, Господь одновременно сказал любите врагов ваших и благотворите ненавидящим вас (Мф 5, 44). Но мы должны любить наших врагов из любви- каритас. Следовательно, мы должны также и благотворить им.
(85) 3. Кроме того, любовью-каритас мы любим не только Бога, но и ближнего. Но, как говорит Григорий, любовь к Богу не бывает праздной, ведь она совершает великое, если есть, а если ее действия прекращаются, то это не любовь-каритас. Поэтому и любовь-каритас к ближнему не может удалиться от своих дел. Но из любви-каритас мы необходимо должны любить всех своих ближних, в том числе и врагов. Следовательно, любовь-каритас необходимо требует, чтобы мы демонстрировали своим врагам некие знаки и действия любви.
(86) Но против: глосса к этим словам, Благотворите ненавидящим вас (Мф 5, 44), утверждает, что благотворить своим врагам — высочайшее совершенство. Но любовь-каритас не требует от нас с необходимостью, чтобы мы делали то, что относится к совершенству. Следовательно, любовь-каритас не требует с необходимостью, чтобы мы демонстрировали своим врагам некие знаки и действия любви.
est sibi contrarium Inimici autem sunt nobis contrarii inquantum sunt inimici. Unde hoc debemus in eis odio habere, debet enim nobis displicere quod nobis inimici sunt Non autem sunt nobis contrarii inquantum homines sunt et beatitudinis capaces. Et secundum hoc debemus eos diligere.
(81) Ad tertium dicendum quod diligere inimicos inquantum sunt inimici, hoc est vituperabile. Et hoc non facit cantas, ut dictum est.
Articulus 9
Utrum sit de necessitate salutis quod aliquis signa et effectus dilectionis inimico exhibeat
(82) Ad nonum sic proceditur. Videtur quod de necessitate cantatis sit quod aliquis homo signa vel effectus dilectionis inimico exhibeat.
(83) 1 Dicitur enim I Ioan. III, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate. Sed opere diligit aliquis exhibendo ad eum quem diligit signa et effectus dilectionis.
Ergo de necessitate caritatis est ut aliquis huiusmodi signa et effectus inimicis exhibeat
(84) 2. Praeterea, Matth. V dominus simul dicit, diligite inimicos vestros, et, benefacite his qui oderunt vos. Sed diligere inimicos est de necessitate caritatis. Ergo et benefacere inimicis.
(85) 3. Praeterea, caritate amatur non solum Deus, sed etiam proximus. Sed Gregonus dicit (In Evang. 2 hom. 30; PL 76, 1221), in homilia Pentecostes, quod amor Dei non potest esse otiosus, magna enim operatur, si est; si desinit operari, amor non est. Ergo caritas quae habetur ad proximum non potest esse sine operationis effectu Sed de necessitate caritatis est ut omnis proximus diligatur, etiam inimicus. Ergo de necessitate caritatis est ut etiam ad inimicos signa et effectus dilectionis extendamus.
(86) Sed contra est quod Matth. V, super illud, benefacite his qui oderunt vos, dicit Glossa (ordin.) quod benefacere inimicis est cumulus perfectionis. Sed id quod pertinet ad perfectionem cantatis non est de necessitate ipsius. Ergo
310
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
(87) Отвечаю: надлежит сказать, что знаки и действия любви-каритас проистекают из внутренней любви и соразмерны ей. Но сообразно заповеди внутренняя любовь к врагу в общем необходима безусловно, а любовь в частном — не безусловно, но лишь сообразно готовности духа, как уже сказано выше (Р. 8). И то же самое надлежит сказать и относительно внешней демонстрации знаков или действий любви. В самом деле, есть такие знаки и благодеяния любви, которые демонстрируются ближним в общем, например, когда некто молится о всех верных или вообще о всем народе, или когда он оказывает некое благодеяние всему сообществу. И такие благодеяния или знаки любви необходимо демонстрировать ради исполнения заповеди, ведь если мы не будем этого делать по отношению к врагам, то только по злобе и из мстительности, и это будет противоречить сказанному (Левит 19, 18): Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Но есть такие благодеяния или знаки любви, которые предоставляются отдельным лицам в частном порядке. И предоставление таких благодеяний или знаков любви врагам не необходимо для спасения, если только речь не идет
о готовности духа предоставить их в случае необходимости, согласно сказанному (Притч 25, 21): Если голоден враг твой — накорми его хлебом, и если он жаждет — напои его водою. Когда же такой необходимости нет, то оказание благодеяний врагу относится к совершенству любви-каритас, благодаря которой человек не только избегает угроз со стороны зла, но и желает побеждать зло добром, что тоже относится к совершенству, поскольку в таком состоянии он не только не отвечает ненавистью на причиненное ему зло, но и пытается своими благодеяниями побудить врага полюбить его.
(88) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 10 Должны ли мы из любви-каритас любить ангелов
(89) Ход рассуждения в десятом разделе таков. Представляется, что мы не обязаны любить ангелов из любви-каритас.
(90) 1. В самом деле, Августин говорит, что любовь-каритас двойственна, а именно любовь к Богу и любовь к ближнему. Но в любви к Богу любовь к ангелам не содержится, поскольку они суть сотворенные субстан-
non est de necessitate cantatis quod aliquis signa et effectus dilectionis inimicis exhibeat
(87) Respondeo dicendum quod effectus et signa caritatis ex intenon dilectione procedunt et ei proportionantur. Dilectio autem intenor ad inimicum in communi quidem est de necessitate praecepti absolute; in speciali autem non absolute, sed secundum praeparationem animi, ut supra dictum est (a. 8). Sic igitur dicendum est de effectu vel signo dilectionis exterius exhibendo. Sunt enim quaedam beneficia vel signa dilectionis quae exhibentur proximis in communi, puta cum aliquis orat pro omnibus fidelibus vel pro toto populo, aut cum aliquod beneficium impendit aliquis toti communitati. Et talia beneficia vel dilectionis signa inimicis exhibere est de necessitate praecepti, si enim non exhiberentur inimicis, hoc pertineret ad livorem vindictae, contra id quod dicitur Levit XIX, non quaeres ultionem; et non eris memor iniuriae civium tuorum. Alia vero sunt beneficia vel dilectionis signa quae quis exhibet particulariter aliquibus personis. Et talia beneficia vel dilectionis signa inimicis exhibere non est de
necessitate salutis nisi secundum praeparationem animi, ut scilicet subveniatur eis in articulo necessitatis, secundum illud Proverb. XXV, si esurierit inimicus tuus, ciba illum, si sitit, da illi potum Sed quod praeter articulum necessitatis huiusmodi beneficia aliquis inimicis exhibeat, pertinet ad perfectionem cantatis, per quam aliquis non solum cavet vinci a malo, quod necessitatis est, sed etiam vult in bono vincere malum, quod est etiam perfectionis, dum scilicet non solum cavet propter iniunam sibi illatam detrahi ad odium; sed etiam propter sua beneficia inimicum intendit pertrahere ad suum amorem.
(88) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 10 Utrum debeamus Angelos ex caritate diligere
(89) Ad decimum sic proceditur Videtur quod Angelos non debeamus ex caritate diligere.
(90) 1. Ut enim Augustinus dicit, in libro De doct. Christ. (I, 26; PL 34, 29), gemina est dilectio caritatis, scilicet Dei et
Раздел 10. Должны ли мы из любви-каритас любить ангелов
311
ции. Но она не содержится также и в любви к ближнему, поскольку люди и ангелы не относятся к одному виду. Следовательно, мы не должны любить ангелов из любви-каритас.
(91) 2. Кроме того, у нас больше общего с неразумными животными, чем с ангелами, поскольку неразумные животные принадлежат к тому же ближайшему роду, что и мы. Но, как было сказано выше (Р. 3), мы не любим животных любовью-кари- тас. Следовательно, мы не любим ею и ангелов.
(92) 3. Кроме того, как сказано в VIII книге «Этики», ничто так не приличествует дружбе, как жить сообща с другом. Но мы не можем тесно общаться с ангелами, поскольку не можем даже их видеть. Следовательно, мы не можем дружить с ангелами дружбой любви-каритас.
(93) Но против: Августин говорит: Если ближним называют любого, по отношению к кому мы совершаем деяния милосердия, или кто совершает деяния милосердия по отношению к нам, то очевидно, что заповедь, которая обязывает нас любить ближнего, включает в число ближних и святых ангелов, от которых исходит к нам множество деяний милосердия.
(94) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (В. 23, Р. 1), дружба любви-каритас основывается на соучастии в вечном блаженстве; но в отношении причастности этому блаженству люди не отличаются от ангелов, ибо сказано (Мф 22, 30): В воскресении пребывают, как ангелы Божии на небесах. Поэтому очевидно, что дружба любви-каритас распространяется также и на ангелов.
(95) Итак, на первое надлежит ответить, что ближним называется не только тот, кто соединен с нами общностью вида, но и тот, кто соединен с нами общностью благодеяний, относящихся к вечной жизни; и именно на этой последней общности основывается дружба любви-каритас.
(96) На второе надлежит ответить, что неразумные животные сходны с нами в ближайшем роде на основании чувственной природы, а причастными вечному блаженству мы делаемся не благодаря ей, но благодаря нашему рациональному уму, в котором мы сходны с ангелами.
(97) На третье надлежит ответить, что дружба с ангелами заключается не во внешнем общении (которое свойственно нам со стороны нашей чувственной природы), а сообразно уму. И в земной жизни та-
proximi Sed dilectio Angelorum non continetur sub dilectione Dei, cum sint substantiae creatae, nec etiam videtur continen sub dilectione proximi, cum non communicent nobiscum in specie. Ergo Angeli non sunt ex caritate diligendi
(91) 2. Praeterea, magis conveniunt nobiscum bruta animalia quam Angeli, nam nos et bruta animalia sumus in eodem genere propinquo. Sed ad bruta animalia non habemus cantatem, ut supra dictum est (a. 3). Ergo etiam neque ad Angelos
(92) 3. Praeterea, nihil est ita proprium amicorum sicut convivere, ut dicitur in VIII Ethic. (5; 1157Ы9). Sed Angeli non convivunt nobiscum, nec etiam eos videre possumus. Ergo ad eos caritatis amicitiam habere non valemus.
(93) Sed contra est quod Augustinus dicit, in I De doct. Christ (30; PL 34, 31), iam vero si vel cui praebendum, vel a quo nobis praebendum est officium misericordiae, recte proximus dicitur, manifestum est praecepto quo iubemur diligere proximum, etiam sanctos Angelos contineri,
a quibus multa nobis misericordiae impenduntur officia.
(94) Respondeo dicendum quod amicitia cantatis, sicut supra dictum est (a. 3, 6; q. 23, a. 1, 5), fundatur super communicatione beatitudinis aeternae, in cuius participatione communicant cum Angelis homines, dicitur enim Matth. XXII quod in resurrectione erunt homines sicut Angeli in caelo. Et ideo manifestum est quod amicitia cantatis etiam ad Angelos se extendit.
(95) Ad primum ergo dicendum quod proximus non solum dicitur communicatione speciei, sed etiam communicatione beneficiorum pertinentium ad vitam aeternam; super qua communicatione amicitia caritatis fundatur.
(96) Ad secundum dicendum quod bruta animalia conveniunt nobiscum in genere propinquo ratione naturae sen- sitivae, secundum quam non sumus participes aeternae beatitudinis, sed secundum mentem rationalem; in qua communicamus cum Angelis.
(97) Ad tertium dicendum quod Angeli non convivunt nobis exteriori conversatione, quae nobis est secundum sen-
312
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
кое общение несовершенно, а в Небесном Отечестве — совершенно, как уже сказано выше (В. 23, Р. 1, на 1).
Раздел 11 Должны ли мы из любви-каритас любить демонов
(98) Ход рассуждения в одиннадцатом разделе таков. Представляется, что мы должны любить демонов из любви-каритас.
(99) 1. В самом деле, ангелы являются нашими ближними постольку, поскольку нам с ними общ рациональный ум. Но в этом отношении нам сообщи и демоны, поскольку, как говорит Дионисий, естественные дары, например бытие, жизнь и мышление, в них сохранились целостными. Следовательно, мы должны любить демонов из любви-каритас.
(юо) 2. Кроме того, демоны отличаются от блаженных ангелов наличием греха, так же, как и грешники — от праведников. Но праведники любят грешников из любви-каритас. Следовательно, они должны любить из любви-каритас также и демонов.
(101) 3. Кроме того, из любви-каритас мы
должны любить тех, кто делает нам добро, словно своих близких, как ясно из приве¬
денного выше (Р. 10) авторитетного суждения Августина. Но демоны часто оказываются нам полезны, поскольку, как говорит Августин, их искушения готовят нам венцы [святых]. Следовательно, мы должны любить демонов из любви-каритас.
(102) Но против: сказано (Ис 28, 18): Союз ваш со смертию рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Но совершенство мира и союза имеет место сообразно любви-каритас. Следовательно, мы не должны любить любовью-каритас демонов, которые обитают в преисподней и несут смерть.
(юз) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (Р. 6), в грешниках из любви-каритас мы должны любить природу и ненавидеть грех. Однако само имя «демон» обозначает природу, испорченную грехом. И потому демонов не следует любить из любви-каритас. Но если не обращать внимания на смысл слова, и задаться вопросом о том, следует ли любить из любви-каритас тех духов, которые носят имя демонов, то надлежит отвечать сообразно тому, что было сказано выше (Р. 2,
3), а именно, что нечто может быть любимо из любви-каритас в двух смыслах. Во-первых, как [лицо], с которым дружат. И в этом смысле мы не можем дружить
sitivam naturam. Convivimus tamen Angelis secundum mentem, imperfecte quidem in hac vita, perfecte autem in patria, sicut et supra dictum est (q. 23, a. 1, ad 1).
Articulus 11 Utrum debeamus Daemones ex caritate diligere
(98) Ad undecimum sic proceditur. Videtur quod Daemones ex caritate debeamus diligere.
(99) 1. Angeli enim sunt nobis proximi inquantum communicamus cum eis in rationali mente. Sed etiam Daemones sic nobiscum communicant, quia data naturalia in eis manent integra, scilicet esse, vivere et intelligere, ut dicitur in IV cap. De div. nom. (PG 3, 725). Ergo debemus Daemones ex cantate diligere
(100) 2. Praeterea, Daemones differunt a beatis Angelis differentia peccati, sicut et peccatores homines a iustis. Sed iusti homines ex caritate diligunt peccatores. Ergo etiam ex cantate debent diligere Daemones.
(101) 3. Praeterea, illi a quibus beneficia nobis impendun¬
tur debent a nobis ex caritate diligi tanquam proximi, sicut patet ex auctontate Augustini supra inducta. Sed Daemones nobis in multis sunt utiles, dum nos tentando nobis coronas fabricant, sicut Augustinus dicit, XI De civ. Dei (Cf. Bemardus Clar., In Cant. serm. 17, PL 183, 858). Ergo Daemones sunt ex cantate diligendi.
(102) Sed contra est quod dicitur Isaiae XXVIII, delebitur foedus vestrum cum morte, et pactum vestrum cum Inferno non stabit. Sed perfectio pacis et foederis est per caritatem. Ergo ad Daemones, qui sunt Inferni incolae et mortis procuratores, caritatem habere non debemus.
(103) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (a. 6), in peccatoribus ex cantate debemus diligere naturam, peccatum odire. In nomine autem Daemonis significatur natura peccato deformata. Et ideo Daemones ex caritate non sunt diligendi. Et si non fiat vis in nomine, et quaestio referatur ad illos spintus qui Daemones dicuntur, utrum sint ex cantate diligendi, respondendum est, secundum praemissa (a. 2, 3), quod aliquid ex caritate
Раздел 12. «Верно ли указано то, что мы должны любить из любви-каритас 313
с демонами из любви-каритас. В самом деле, к смысловому содержанию дружбы относится желание блага друзьям. Но то благо вечной жизни, с которым соотносится эта любовь, невозможно желать из любви- каритас духам, которые навечно осуждены Богом, поскольку это противоречило бы нашей любви-каритас к Богу, на основании которой мы принимаем Его справедливость.
(104) Во-вторых, мы можем любить из любви-каритас нечто как то, сохранения чего мы желаем как блага для кого-то другого. И так из любви-каритас мы любим неразумные творения, постольку, поскольку желаем их сохранности ради почитания Бога и человеческой пользы, как было сказано выше (Р. 3). И в этом смысле можем из любви-каритас любить даже природу демонов — настолько, насколько желаем, чтобы эти духи сохранялись в отношении своей природы ради славы Божией.
(105) Итак, на первое надлежит ответить, что ангельский ум может обладать вечным блаженством, а демонический — нет. И потому дружба любви-каритас, которая основывается больше на соучастии в вечной
жизни, нежели на общности природ, возможна с ангелами, но не с демонами.
(106) На второе надлежит ответить, что у грешников, пока они живут земной жизнью, сохраняется возможность обрести вечное блаженство. Но это не относится к проклятым, пребывающим в преисподней, о которых можно сказать то же, что и о демонах.
(107) На третье надлежит ответить, что та польза, которую нам иногда приносят демоны, следует не из их намерения, а из определения божественного провидения. И потому это должно побуждать нас к дружбе не с демонами, а с Богом, Который обращает их дурные намерения нам на пользу.
Раздел 12 Подобающим ли образом указаны те четыре вещи, которые мы должны любить из любви-каритас, а именно, Бог, ближний, наше тело и мы сами
(108) Ход рассуждения в двенадцатом разделе таков. Представляется, что те четыре вещи, которые мы должны любить из любви-каритас, а именно, Бог, ближний, наше тело и мы сами, указаны неподобающим образом.
diligitur dupliciter. Uno modo, sicut ad quem amicitia habetur. Et sic ad illos spiritus cantatis amicitiam habere non possumus. Pertinet enim ad rationem amicitiae ut amicis nostris bonum velimus. Illud autem bonum vitae aeternae quod respicit caritas, spintibus illis a Deo aeternaliter damnatis ex cantate velle non possumus, hoc enim repugnaret cantati Dei, per quam eius iustitiam approbamus.
(104) Alio modo diligitur aliquid sicut quod volumus permanere ut bonum alterius, per quem modum ex cantate diligimus inationales creaturas, inquantum volumus eas permanere ad glonam Dei et utilitatem hominum, ut supra dictum est (a. 3). Et per hunc modum et naturam Daemonum etiam ex caritate diligere possumus, inquantum scilicet volumus illos spintus in suis naturalibus conservan ad glonam Dei.
(105) Ad primum ergo dicendum quod mens Angelorum non habet impossibilitatem ad aeternam beatitudinem habendam, sicut habet mens Daemonum. Et ideo amicitia caritatis, quae fundatur super communicatione vitae aeternae
magis quam super communicatione naturae, habetur ad Angelos, non autem ad Daemones.
(106) Ad secundum dicendum quod homines peccatores in hac vita habent possibilitatem perveniendi ad beatitudinem aeternam. Quod non habent illi qui sunt in Inferno damnati; de quibus, quantum ad hoc, est eadem ratio sicut et de Daemonibus
(107) Ad tertium dicendum quod utilitas quae nobis ex Daemonibus provenit non est ex eorum intentione, sed ex ordinatione divinae providentiae. Et ideo ex hoc non inducimur ad habendum amicitiam eorum, sed ad hoc quod simus Deo amici, qui eorum perversam intentionem convertit in nostram utilitatem.
Articulus 12
Utrum convenienter enumerentur quatuor ex caritate diligenda, scilicet Deus, proximus, corpus nostrum et nos ipsi
(108) Ad duodecimum sic proceditur. Videtur quod inconve-
314
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас
(109) 1. В самом деле, Августин говорит, что
тот, кто не любит Бога, не любит и себя. Следовательно, любовь к себе является частью любви к Богу. Следовательно, любовь к себе не отличается от любви к Богу.
(но) 2. Кроме того, часть не является противоположным членом деления по отношению к целому. Но наше тело является некоей частью нас самих. Следовательно, его не надлежит отделять, как некий особый объект любви-каритас, от нас самих, (ni) 3. Кроме того, у нас есть тело, равно как оно есть у ближнего. И как та любовь, которой человек любит ближнего, отличается от любви, которой он любит себя, так и та любовь, которой человек любит тело ближнего, должна отличаться от любви, которой он любит свое собственное тело. Следовательно, те четыре [вещи], которые надлежит любить из любви-каритас, различены неправильно.
(112) Но против: Августин говорит, что надлежит любить четыре вещи: одна из них выше нас, т. е. Бог, другая — мы сами, третья — рядом с нами, а именно, ближний, четвертая — ниже нас, т. е. наше собственное тело.
(из) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (В. 23, Р. 1), дружба
любви-каритас основана на сообществе блаженства. И в этом сообществе одно считается началом, из которого проистекает блаженство, а именно, Бог; другое непосредственно причастно блаженству, т. е. люди и ангелы; а третье есть то, на что вследствие некоей преизбыточности переходит блаженство, и это человеческое тело. Источник блаженства любим, конечно, потому, что является причиной блаженства, а то, что причастно блаженству, может быть любимо по двум основаниям: либо потому, что едино с нами, либо потому, что соучаствует с нами в причастности блаженству. И сообразно этому есть две [вещи], которые человек должен любить из любви- каритас, т. е. постольку, поскольку человек любит себя и ближнего.
(114) Итак, на первое надлежит ответить, что различное отношение любящего к любимому производит различные смысловые содержания объекта любви. И потому, поскольку отношение между любящим человеком и Богом отличается от отношения между любящим человеком и самим собой, постольку они считаются двумя объектами любви, хотя любовь к первому является причиной любви ко второму. Поэтому если устранить первую, исчезнет и вторая.
nienter enumerentur quatuor ex cantate diligenda, scilicet Deus, proximus, corpus nostrum et nos ipsi.
(109) 1. Ut enim Augustinus dicit, super Ioan. (In Ioann. tr. 83 super 15, 12; PL 35, 1846), qui non diligit Deum, nec seipsum diligit. In Dei ergo dilectione includitur dilectio sui ipsius. Non ergo est alia dilectio sui ipsius, et alia dilectio Dei
(110) 2. Praeterea, pars non debet dividi contra totum Sed corpus nostrum est quaedam pars nostn. Non ergo debet dividi, quasi aliud diligibile, corpus nostrum a nobis ipsis.
(111) 3. Praeterea, sicut nos habemus corpus, ita etiam et proximus. Sicut ergo dilectio qua quis diligit proximum, distinguitur a dilectione qua quis diligit seipsum; ita dilectio qua quis diligit corpus proximi, debet distingui a dilectione qua quis diligit corpus suum. Non ergo convenienter distinguuntur quatuor ex cantate diligenda
(112) Sed contra est quod Augustinus dicit, in I De doct. Christ. (23’ PL 34, 27), quatuor sunt diligenda, unum quod
supra nos est, scilicet Deus, alterum quod nos sumus; tertium quod iuxta nos est, scilicet proximus; quartum quod infra nos est, scilicet proprium corpus
(113) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 3, 6, 10; q. 23, a. 1, 5), amicitia cantatis super communicatione beatitudinis fundatur. In qua quidem communicatione unum quidem est quod consideratur ut pnncipium influens beatitudinem, scilicet Deus; aliud est beatitudinem directe participans, scilicet homo et Angelus; tertium autem est id ad quod per quandam redundantiam beatitudo denvatur, scilicet corpus humanum. Id quidem quod est beatitudinem influens est ea ratione diligibile quia est beatitudinis causa. Id autem quod est beatitudinem participans potest esse duplici ratione diligibile, vel quia est unum nobiscum; vel quia est nobis consociatum in beatitudinis participatione. Et secundum hoc sumuntur duo ex caritate diligibilia, prout scilicet homo diligit et seipsum et proximum.
[4) Ad primum ergo dicendum quod diversa habitudo dili-
Раздел 12. «Верно ли указано то, что мы должны любить из любви-каритас
315
(П5) На второе надлежит ответить, что субъектом любви-каритас является рациональный ум, способный обрести блаженство, которого тело само по себе не достигает, и которому может быть причастно только благодаря некоей преизбыточности. Поэтому человек, сообразно своему рациональному уму, который есть в нем главное, по-разному любит любовью-каритас себя
и свое тело.
(116) На третье надлежит ответить, что человек любит ближнего как сообразно душе, так и сообразно телу в силу некоего соучастия в блаженстве. Таким образом, со стороны ближнего есть только одно основание для любви. И потому тело ближнего не полагается особым объектом любви.
gentis ad diversa diligibilia facit diversam rationem diligi- bilitatis Et secundum hoc, quia alia est habitudo hominis diligentis ad Deum et ad seipsum, propter hoc ponuntur duo diligibilia, cum dilectio unius sit causa dilectionis alterius Unde, ea remota, alia removetur.
(115) Ad secundum dicendum quod subiectum cantatis est mens rationalis quae potest beatitudinis esse capax, ad quam corpus directe non attingit, sed solum per quandam redundantiam. Et ideo homo secundum rationalem
mentem, quae est principalis in homine, alio modo se diligit secundum caritatem, et alio modo corpus proprium.
(116) Ad tertium dicendum quod homo diligit proximum et secundum animam et secundum corpus ratione cuiusdam consociationis in beatitudine. Et ideo ex parte proximi est una tantum ratio dilectionis. Unde corpus proximi non ponitur speciale diligibile.
Вопрос 26 О порядке любви-каритас
(i) Затем надлежит рассмотреть порядок любви-каритас. И касательно этого исследуются тринадцать [проблем]: 1) есть ли в любви-каритас некий порядок; 2) должен ли человек любить Бога больше, чем ближнего; 3) должен ли он любить Его больше, чем самого себя; 4) должен ли он любить себя больше, чем ближнего; 5) должен ли человек любить ближнего больше, чем свое тело; 6) должен ли он любить одного ближнего больше, чем другого; 7) должен ли он любить больше того, кто лучше, или того, кто ему ближе; 8) должен ли он больше любить того, кто связан с ним кровным родством, или того, кто соединен с ним иными связями; 9) должен ли человек из любви-каритас любить сына больше, чем отца; 10) должен ли он любить мать больше, чем отца; 11) должен ли он любить жену больше, чем отца или мать; 12) должен ли он любить тех, кто делает ему добро, больше, чем тех, кому делает добро он сам; 13) сохраняется ли порядок любви в Небесном Отечестве.
Раздел 1
Есть ли в любви-каритас некий порядок
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что в любви-каритас нет никакого порядка.
(3) 1. В самом деле, любовь-каритас есть некая добродетель. Но в других добродетелях нет никакого порядка. Следовательно, нельзя указать порядок и в любви-каритас.
(4) 2. Кроме того, как объектом веры является первая истина, так и объектом любви- каритас является высшее благо. Но в вере не полагается никакого порядка, поскольку во все [догматы] верят одинаковым образом. Следовательно, и в любви-каритас не должно полагаться никакого порядка.
(5) 3. Кроме того, любовь-каритас пребывает в воле, но порядок устанавливается не волей, а разумом. Следовательно, любви-каритас не должен приписываться порядок.
(6) Но против: сказано (Песнь 2, 4): Он ввел меня в подвалы винные, он установил во мне порядок любви.
Quaestio 26 De ordine caritatis
(1) Deinde considerandum est de ordine cantatis. Et circa hoc quaeruntur tredecim. Primo, utrum sit aliquis ordo in caritate. Secundo, utrum homo debeat Deum diligere plus quam proximum. Tertio, utrum plus quam seipsum. Quarto, utrum se plus quam proximum. Quinto, utrum homo debeat plus diligere proximum quam corpus propnum. Sexto, utrum unum proximum plus quam alterum. Septimo, utrum plus proximum meliorem, vel sibi magis coni- unctum. Octavo, utrum coniunctum sibi secundum carnis affinitatem, vel secundum alias necessitudines. Nono, utrum ex caritate plus debeat diligere filium quam patrem. Decimo, utrum magis debeat diligere matrem quam patrem. Undecimo, utrum uxorem plus quam patrem vel matrem. Duodecimo, utrum magis benefactorem quam beneficiatum. Decimotertio, utrum ordo caritatis maneat in patria.
Articulus 1 Utrum in caritate sit ordo
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod in cantate non sit aliquis ordo.
(3) 1. Caritas enim quaedam virtus est. Sed in aliis virtutibus non assignatur aliquis ordo Ergo neque in caritate aliquis ordo assignari debet.
(4) 2. Praeterea, sicuti fidei obiectum est pnma ventas, ita caritatis obiectum est summa bonitas. Sed in fide non ponitur aliquis ordo, sed omnia aequaliter creduntur. Ergo nec in caritate debet poni aliquis ordo.
(5) 3. Praeterea, caritas in voluntate est. Ordinare autem non est voluntatis, sed rationis. Ergo ordo non debet attribui cantati.
(6) Sed contra est quod dicitur Cant. II, introduxit me rex in cellam vinariam; ordinavit in me caritatem.
Раздел 2. Надлежит ли любить Бога больше, чем ближнего
317
) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит Философ в Vкниге «Метафизики», о «предшествующем» и «последующем» говорится сообразно отношению к некоему началу Но порядок некоторым образом включает в себя предшествующее и последующее. Следовательно, везде, где есть начало, есть также и некий порядок. Но выше уже было сказано (В. 23, Р. 1; В. 25, Р. 12), что любовь-каритас устремлена к Богу как к началу блаженства, на соучастии в котором основывается дружба любви-каритас. И потому в [вещах], любимых из любви-каритас, должен существовать некий порядок, соответствующий их отношению к первому началу этой любви, которым является Бог.
) Итак, на первое надлежит ответить, что любовь-каритас, как было сказано выше (В. 23, Р. 6), стремится к предельной цели как именно в аспекте предельной цели, что не подобает никакой иной добродетели. Но в желаемом и делаемом цель обладает смысловым содержанием начала, как явствует из сказанного ранее (В. 23, Р. 7; 4.II-I, В. 13, Р. 3; В. 34, Р. 4, на 1; В. 57,
Р. 4). Поэтому любовь-каритас самым явным образом предполагает соотнесенность с первым началом. Следовательно, в ней необходимо должен наличествовать поря- (и)
док сообразно отношению к первому началу.
(9) На второе надлежит ответить, что вера относится к познавательной способности, деятельность которой имеет место сообразно нахождению познанного в познающем. А любовь-каритас пребывает в желающей способности, деятельность которой заключается в том, что душа стремится к вещам, как они есть сами по себе. Но порядок обнаруживается прежде всего в самих вещах, и лишь от них переходит на наше познание. Поэтому порядок подобает любви-каритас в большей степени, чем вере. Впрочем, определенный порядок имеется и в вере, поскольку прежде всего она относится к Богу, и лишь во вторую очередь — к тому, что соотнесено с Ним.
(ю) На третье надлежит ответить, что порядок относится к разуму как к упорядочивающей способности, а к желанию — как к способности упорядочиваемой. И именно в этом смысле говорится о порядке в любви-каритас.
Раздел 2
Надлежит ли любить Бога больше, чем ближнего
Ход рассуждения во втором разделе та-
(7) Respondeo dicendum quod, sicut philosophus dicit, in V Metaphys. (IV, 11, 1018b9), pnus et posterius dicitur secundum relationem ad aliquod principium. Ordo autem includit in se aliquem modum prions et posterioris. Unde oportet quod ubicumque est aliquod principium, sit etiam aliquis ordo. Dictum autem est supra (q. 23, a. 1; q 25, a 12) quod dilectio cantatis tendit in Deum sicut in pnncipium beatitudinis, in cuius communicatione amicitia cantatis fundatur. Et ideo oportet quod in his quae ex cantate diliguntur attendatur aliquis ordo, secundum relationem ad primum pnncipium huius dilectionis, quod est Deus.
(8) Ad primum ergo dicendum quod caritas tendit in ultimum finem sub ratione finis ultimi, quod non convenit alicui alii virtuti, ut supra dictum est (q. 23, a. 6). Finis autem habet rationem pnncipii in appetibilibus et in agendis, ut ex supradictis patet (q. 23, a. 7; II-I, q. 13, a 3; q. 34 a. 4, ad 1; q. 57, a. 4). Et ideo caritas maxime importat comparationem ad primum pnncipium. Et ideo
in ea maxime consideratur ordo secundum relationem ad pnmum pnncipium.
(9) Ad secundum dicendum quod fides pertinet ad vim cog- nitivam, cuius operatio est secundum quod res cognitae sunt in cognoscente. Caritas autem est in vi affectiva, cuius operatio consistit in hoc quod anima tendit in ipsas res. Ordo autem pnncipalius invenitur in ipsis rebus; et ex eis denvatur ad cognitionem nostram. Et ideo ordo magis ap- propriatur caritati quam fidei. Licet etiam in fide sit aliquis ordo, secundum quod principaliter est de Deo, secundario autem de aliis quae referuntur ad Deum.
(10) Ad tertium dicendum quod ordo pertinet ad rationem sicut ad ordinantem, sed ad vim appetitivam pertinet sicut ad ordinatam. Et hoc modo ordo in caritate ponitur.
Articulus 2
Utrum Deus sit magis diligendus quam proximus
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Deus non sit magis diligendus quam proximus.
318
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
ков. Представляется, что Бога не следует любить больше, чем ближнего.
(12) 1. В самом деле, сказано (1 Ин 4, 20): Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И из этого, как кажется, следует, что более любимо то, что более видимо, ведь вйдение есть начало любви, как сказано в IX книге «Этики». Но ближний видим лучше, чем Бог. Следовательно, Бог менее любим из любви-каритас, чем ближний.
(13) 2. Кроме того, подобие есть причина любви-каритас, согласно эти словам (Сир 13, 19): Всякое животное любит подобное себе. Но человек куда больше подобен ближнему, чем Богу. Следовательно, человек из любви-каритас любит ближнего больше, чем Бога.
(и) 3. Кроме того, как говорит Августин,
то, что любовь-каритас любит в ближнем, есть Бог. Но Бог в себе самом не больше, чем в ближнем. Поэтому Его не должно любить больше в себе самом, чем в ближнем. Следовательно, мы не должны любить Бога больше, чем ближнего.
(15) Но против: больше следует любить то, из-за чего нечто другое надлежит ненави¬
деть. Но мы должны ненавидеть ближних ради Бога, если они уводят нас от Бога, согласно этим словам (Лк 14, 26): Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, тот не может быть Моим учеником. Следовательно, из любви-каритас Бога надлежит любить больше, чем ближнего.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что любая дружба соотносится прежде всего с тем, в чем в первую очередь обнаруживается то благо, на соучастии в котором основывается эта дружба. Так, политическая дружба соотносится прежде всего с правителем государства, от которого зависит все общественное благо страны, в силу чего главным образом именно ему должны доверять и повиноваться граждане этого государства. Но дружба любви-каритас основана на соучастии в блаженстве, которое сущностно заключено в Боге как в первоначале, от которого блаженство переходит на всех, кто способен его обрести. Поэтому из любви-каритас больше и прежде всего следует любить Бога, ведь Его любят как причину блаженства, а ближнего любят как
(12) 1. Dicitur enim I Ioan. IV, qui non diligit fratrem suum, quem videt, Deum, quem non videt, quomodo potest diligere? Ex quo videtur quod illud sit magis diligibile quod est magis visibile, nam et visio est principium amoris, ut dicitur IX Ethic. (5; 1167a4). Sed Deus est minus visibilis quam proximus. Ergo etiam est minus ex caritate diligibilis.
(13) 2. Praeterea, similitudo est causa dilectionis, secundum illud Eccli. XIII, omne animal diligit simile sibi. Sed maior est similitudo hominis ad proximum suum quam ad Deum. Ergo homo ex caritate magis diligit proximum quam Deum.
(14) 3. Praeterea, illud quod in proximo caritas diligit, Deus est; ut patet per Augustinum, in I De doct. Christ. (12; PL 34, 26). Sed Deus non est maior in seipso quam in proximo. Ergo non est magis diligendus in seipso quam in proximo. Ergo non debet magis diligi Deus quam proximus.
(15) Sed contra, illud magis est diligendum propter quod aliqua odio sunt habenda. Sed proximi sunt odio habendi
propter Deum, si scilicet a Deo abducunt, secundum illud Luc. XIV, si quis venit ad me et non odit patrem et matrem et uxorem et filios et fratres et sorores, non potest meus esse discipulus. Ergo Deus est magis ex cantate diligendus quam proximus.
(16) Respondeo dicendum quod unaquaeque amicitia respicit principaliter illud in quo principaliter invenitur illud bonum super cuius communicatione fundatur, sicut amicitia politica principalius respicit pnncipem civitatis, a quo totum bonum commune civitatis dependet, unde et ei maxime debetur fides et obedientia a civibus. Amicitia autem caritatis fundatur super communicatione beatitudinis, quae consistit essentialiter in Deo sicut in primo principio, a quo denvatur in omnes qui sunt beatitudinis capaces. Et ideo principaliter et maxime Deus est ex caritate diligendus, ipse enim diligitur sicut beatitudinis causa; proximus autem sicut beatitudinem simul nobiscum ab eo participans.
Раздел 3. Должен ли человек из любви-каритас любить Бога больше, чем самого себя 319
того, кто вместе с нами становится причастным полученному от Бога блаженству.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что нечто может причиной любви-каритас в двух смыслах. Во-первых, как основание любви-каритас. И такой причиной любви является благо, ибо все любимо постольку, поскольку обладает смысловым содержанием блага. Во-вторых, нечто может обусловливать любовь-каритас как своего рода путь к ее обретению. И в этом смысле причиной любви-каритас является вйдение: не потому, что благодаря ему нечто любимо постольку, поскольку видимо, но потому, что посредством видения мы приходим к любви. Соответственно, дело обстоит не так, что чем лучше нечто видимо, тем более оно любимо, а так, что чем лучше нечто видимо, тем раньше оно может оказаться объектом любви. И именно об этом говорит апостол. В самом деле, поскольку ближний видим для нас лучше, постольку он раньше оказывается объектом нашей любви, ибо душа учится любить неизвестное на основании того, что она уже знает, как говорит Григорий. Именно поэтому можно говорить, что если человек не любит ближнего, то он не любит и Бога — но не потому, что его ближний более
достоин любви, а потому, что он раньше становится ее объектом. А Бог более достоин любви потому, что более благ.
(18) На второе надлежит ответить, что наше подобие Богу предшествует нашему подобию ближнему и обусловливает его, ведь мы подобны ближнему потому, что Бог делает нас причастными тому же, чему он делает причастным и ближнего. И потому на основании подобия мы должны больше любить Бога, чем ближнего.
(19) На третье надлежит ответить, что если говорить о субстанции Бога, то Он одинаков во всем, в чем бы Он ни был, поскольку пребывание в чем-либо не умаляет Его. Однако ближний не обладает благостью Божией так, как ею обладает сам Бог, поскольку Бог обладает ею сущност- но, а ближний — по причастности.
Раздел 3
Должен ли человек из любви-каритас любить Бога больше, чем самого себя
(20) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что человек не должен из любви-каритас любить Бога больше, чем себя самого.
(21) 1. В самом деле, Философ говорит, что дружеская приязнь одного человека к друго-
(17) Ad primum ergo dicendum quod dupliciter est aliquid causa dilectionis. Uno modo, sicut id quod est ratio diligendi. Et hoc modo bonum est causa diligendi, quia unumquodque diligitur inquantum habet rationem boni Alio modo, quia est via quaedam ad acquirendum dilectionem Et hoc modo visio est causa dilectionis, non quidem ita quod ea ratione sit aliquid diligibile quia est visibile, sed quia per visionem perducimur ad dilectionem. Non ergo oportet quod illud quod est magis visibile sit magis diligibile, sed quod pnus occurrat nobis ad diligendum Et hoc modo argumentatur apostolus. Proximus enim, quia est nobis magis visibilis, pnmo occumt nobis diligendus, ex his enim quae novit animus discit incognita amare, ut Gregonus dicit (In Evang. 1 hom. 11; PL 76, 1114), in quadam homilia. Unde si aliquis proximum non diligit, argui potest quod nec Deum diligit, non propter hoc quod proximus sit magis diligibilis; sed quia pnus diligendus occumt. Deus autem est magis diligibilis propter maiorem bonitatem.
(18) Ad secundum dicendum quod similitudo quam habemus ad Deum est pnor et causa similitudinis quam habemus ad proximum, ex hoc enim quod participamus a Deo id quod ab ipso etiam proximus habet similes proximo efficimur. Et ideo ratione similitudinis magis debemus Deum quam proximum diligere.
(19) Ad tertium dicendum quod Deus, secundum substantiam suam consideratus, in quocumque sit, aequalis est, quia non minuitur per hoc quod est in aliquo Sed tamen non aequaliter habet proximus bonitatem Dei sicut habet ipsam Deus, nam Deus habet ipsam essentialiter, proximus autem participative
Articulus 3
Utrum homo debeat ex caritate plus Deum diligere quam seipsum
(20) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod homo non debeat ex caritate plus Deum diligere quam seipsum
(21) 1. Dicit enim philosophus, in IX Ethic (4, ll66al),
320
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
му является следствием его дружеской приязни к самому себе. Но причина сильнее следствия. Поэтому дружба человека с собой сильнее, чем его дружба с кем-либо еще. Следовательно, он должен любить себя больше, чем Бога.
(22) 2. Кроме того, все любимо настолько, насколько является собственным благом [для любящего]. Но то, что является основанием любви, любят больше, чем то, что любят на этом основании — так же, как начала, являющиеся основанием познания, более известны. И потому человек любит себя больше, чем какое бы то ни было другое благо, им любимое. Следовательно, он любит себя больше, чем Бога.
(23) 3. Кроме того, человек любит Бога настолько, насколько он любит наслаждаться Богом. Но насколько он любит наслаждаться Богом, настолько он любит себя, поскольку наслаждение Богом — высшее благо, которое человек может пожелать себе. Следовательно, человек не обязан из любви-каритас любить Бога больше, чем себя.
(24) Но против: Августин говорит: Если ты должен любить себя не ради себя, а ради Того, в Ком находится истинная цель твоей любви, то не причиняй вреда никому друго¬
му, если и его ты любишь ради Бога. Но то, из-за чего нечто «такое-то», само является «таким-то» в большей степени. Следовательно, человек должен любить Бога больше, чем самого себя.
(25) Отвечаю: надлежит сказать, что благо, которое мы получаем от Бога, двойственно, а именно, благо природы и благо благодати. Но на основании соучастия в дарованных нам Богом естественных благах основывается естественная любовь, которой человек, в целостности своей природы, не только любит Бога больше всего остального и больше самого себя, но также соответствующим образом любит все творение — разумной, рассудочной, животной, или, по крайней мере, естественной любовью, как это делают, например, камни и другие лишенные познания [вещи], поскольку все части по природе любят общее благо целого больше, чем собственное частное благо. И это явствует из их деятельности, поскольку любая часть стремится прежде всего к общему действию на пользу целого. Это очевидно и в случае политических добродетелей, в силу которых граждане ради общественного блага готовы пожертвовать своим имуществом, а иногда — даже собой. И потому это
quod amicabilia quae sunt ad alterum veniunt ex amica- diligere, sed propter ipsum ubi dilectionis tuae rectissimus
bilibus quae sunt ad seipsum. Sed causa est potior effectu. finis est, non succenseat aliquis alius homo si et ipsum
Ergo maior est amicitia hominis ad seipsum quam ad propter Deum diligas. Sed propter quod unumquodque,
quemcumque alium Ergo magis se debet diligere quam illud magis. Ergo magis debet homo diligere Deum quam
Deum. seipsum.
(22) 2 Praeterea, unumquodque diligitur inquantum est (25) Respondeo dicendum quod a Deo duplex bonum accipere
proprium bonum. Sed id quod est ratio diligendi magis diligitur quam id quod propter hanc rationem diligitur, sicut principia, quae sunt ratio cognoscendi, magis cognoscuntur. Ergo homo magis diligit seipsum quam quod- cumque aliud bonum dilectum. Non ergo magis diligit Deum quam seipsum.
(23) 3. Praeterea, quantum aliquis diligit Deum, tantum diligit frui eo. Sed quantum aliquis diligit frui Deo, tantum diligit seipsum, quia hoc est summum bonum quod aliquis sibi velle potest. Ergo homo non plus debet ex cantate Deum diligere quam seipsum.
(24) Sed contra est quod Augustinus dicit, in I De doct. Christ. (22; PL 34, 27), si teipsum non propter te debes
possumus, scilicet bonum naturae, et bonum gratiae Super communicatione autem bonorum naturalium nobis a Deo facta fundatur amor naturalis, quo non solum homo in suae integntate naturae super omnia diligit Deum et plus quam seipsum, sed etiam quaelibet creatura suo modo, idest vel intellectuali vel rationali vel animali, vel saltem naturali amore, sicut lapides et alia quae cognitione carent, quia unaquaeque pars naturaliter plus amat commune bonum totius quam particulare bonum proprium. Quod manifestatur ex opere, quaelibet emm pars habet inclinationem principalem ad actionem communem utilitati totius. Apparet etiam hoc in politicis virtutibus, secundum quas cives pro bono communi et dispendia propnarum rerum
Раздел 4. Должен ли человек из любви-каритас любить себя больше, чем ближнего 321
еше отчетливее подтверждается в случае дружбы любви-каритас, которая основана на соучастии в дарах благодати. Поэтому человек должен из любви-каритас любить Бога, Который является общим благом всего, больше, чем себя, ибо блаженство заключено в Боге как универсальном начале и источнике, общем для тех, кто способен быть причастным этому блаженству.
(26) Итак, на первое надлежит ответить, что философ говорит о дружеской приязни к тому другому, в котором благо, являющееся объектом дружбы, обнаруживается неким частным образом, а не о дружеской приязни к тому другому, в котором названное благо обнаруживается сообразно смысловому содержанию целого.
(27) На второе надлежит ответить, что часть любит благо целого сообразно тому, что это целое ему подходит, но не так, что часть относит благо целого к себе, а так, что она относит себя к благу целого.
(28) На третье надлежит ответить, что то, что человек желает наслаждаться Богом, относится к той любви к Богу, которой Его любят любовью вожделения. Но мы любим Бога любовью дружбы сильней, чем любовью вожделения, поскольку божествен¬
ное благо само в себе больше, чем благо по причастности, которое мы можем обрести, наслаждаясь Богом. И потому из любви-каритас человек любит Бога безусловно больше, чем самого себя.
Раздел 4
Должен ли человек из любви-каритас любить себя больше, чем ближнего
(29) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что человек из любви-каритас не должен любить себя больше, чем ближнего.
(30) 1. В самом деле, главным объектом любви-каритас является Бог, как уже было сказано (Р. 2). Но иногда ближний теснее связан с Богом, чем мы. Следовательно, такого ближнего надо любить больше, чем себя.
(31) 2. Кроме того, чем больше мы любим кого-либо, тем больше стараемся оградить его от бед. Но человек из любви-каритас готов пострадать ради ближнего, согласно этим словам (Притч 12, 26): Праведен тот, кто готов претерпеть ради друга1. Следовательно, из любви-каритас человек должен любить ближнего больше, чем себя.
et personarum interdum sustinent. Unde multo magis hoc venficatur in amicitia cantatis, quae fundatur super communicatione donorum gratiae. Et ideo ex caritate magis debet homo diligere Deum, qui est bonum commune omnium, quam seipsum, quia beatitudo est in Deo sicut in communi et fontali omnium principio qui beatitudinem participare possunt
(26) Ad primum ergo dicendum quod philosophus loquitur de amicabilibus quae sunt ad alterum in quo bonum quod est obiectum amicitiae invenitur secundum aliquem particularem modum, non autem de amicabilibus quae sunt ad alterum in quo bonum praedictum invenitur secundum rationem totius.
(27) Ad secundum dicendum quod bonum totius diligit quidem pars secundum quod est sibi conveniens, non autem ita quod bonum totius ad se referat, sed potius ita quod seipsam refert in bonum totius.
(28) Ad tertium dicendum quod hoc quod aliquis velit frui Deo, pertinet ad amorem quo Deus amatur amore concu¬
piscentiae. Magis autem amamus Deum amore amicitiae quam amore concupiscentiae, quia maius est in se bonum Dei quam participare possumus fruendo ipso. Et ideo simpliciter homo magis diligit Deum ex cantate quam seipsum.
Articulus 4
Utrum homo ex caritate magis debeat diligere seipsum quam proximum
(29) Ad quartum sic proceditur Videtur quod homo ex caritate non magis debeat diligere seipsum quam proximum.
(30) 1. Pnncipale emm obiectum cantatis est Deus, ut supra dictum est (a 2). Sed quandoque homo habet proximum magis Deo coniunctum quam sit ipse. Ergo debet aliquis magis talem diligere quam seipsum.
(31) 2. Praeterea, detnmentum illius quem magis diligimus, magis vitamus. Sed homo ex caritate sustinet detrimentum pro proximo, secundum illud Proverb. XII, qui negligit damnum propter amicum, iustus est. Ergo homo debet ex caritate magis alium diligere quam seipsum.
322
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
(32) 3. Кроме того, сказано (1 Кор 13, 5), что любовь не ищет своего. Но больше всего мы любим то, благо чего наиболее старательно ищем. Следовательно, из любви- каритас человек любит себя не больше, чем ближнего.
(33) Но против: сказано (Мф 22, 39): Возлюби ближнего твоего, как самого себя, из чего, судя по всему, следует, что любовь человека к самому себе есть как бы образец для его любви к другому. Но образец превосходит копию. Следовательно, из любви- каритас человек должен любить себя больше, чем ближнего.
(34) Отвечаю: надлежит сказать, что в человеке есть две [природы], духовная и материальная. Но человек называется любящим себя постольку, поскольку он любит себя сообразно своей духовной природе, как уже было сказано выше (В. 25, Р. 7). И в этом смысле человек должен из любви- каритас любить себя больше, чем любого другого человека, хотя и меньше, чем Бога. И это ясно из самого смыслового содержания любви. В самом деле, как уже было сказано выше (В. 25, Р. 12), Бога любят как начало того блага, на котором основывается любовь-каритас; себя же человек любит
из любви-каритас сообразно причастности названному благу, а своего ближнего — как соучаствующего в этом благе. Но соучастие есть основание любви сообразно некоему единению в порядке по отношению к Богу. Поэтому как единство превосходит единение, так и личная причастность божественной любви, превосходит — в качестве основания любви — связь с другим человеком в этой причастности. И потому из любви-каритас человек должен любить себя больше, чем ближнего. И свидетельством этому является то, что человек не должен ввергать себя в зло некоего греха, чтобы уберечь от греха своего ближнего.
(35) Итак, на первое надлежит ответить, что количество любви-каритас зависит не только от объекта, каковым является Бог, но также и от любящего, т. е. от человека, обладающего любовью-каритас, точно так же, как количество любого действия в определенном отношении зависит от субъекта. Поэтому, пусть даже ближний теснее связан с Богом, тем не менее, он не может быть столь же близок обладателю любви-каритас, как сам обладатель, и потому из этого не следует, что этот второй должен любить его больше, чем самого себя.
(32) 3. Praeterea, I ad Cor. XIII dicitur quod caritas non quaerit quae sua sunt. Sed illud maxime amamus cuius bonum maxime quaerimus. Ergo per caritatem aliquis non amat seipsum magis quam proximum.
(33) Sed contra est quod dicitur Levit. XIX, et Matth. XXII, diliges proximum tuum sicut teipsum, ex quo videtur quod dilectio hominis ad seipsum est sicut exemplar dilectionis quae habetur ad alterum. Sed exemplar potius est quam exemplatum. Ergo homo ex cantate magis debet diligere seipsum quam proximum.
(34) Respondeo dicendum quod in homine duo sunt, scilicet natura spiritualis, et natura corporalis. Per hoc autem homo dicitur diligere seipsum quod diligit se secundum naturam spintualem, ut supra dictum est (q. 25, a. 7). Et secundum hoc debet homo magis se diligere, post Deum, quam quemcumque alium. Et hoc patet ex ipsa ratione diligendi. Nam sicut supra dictum est (a. 2; q. 25, a. 12), Deus diligitur ut pnncipium boni super quo fundatur dilectio caritatis; homo autem seipsum diligit ex cantate secun¬
dum rationem qua est particeps praedicti boni; proximus autem diligitur secundum rationem societatis in isto bono. Consociatio autem est ratio dilectionis secundum quan- dam unionem in ordine ad Deum. Unde sicut unitas potior est quam unio, ita quod homo ipse participet bonum divinum est potior ratio diligendi quam quod alius associetur sibi in hac participatione. Et ideo homo ex caritate debet magis seipsum diligere quam proximum. Et huius signum est quod homo non debet subire aliquod malum peccati, quod contranatur participationi beatitudinis, ut proximum liberet a peccato.
(35) Ad primum ergo dicendum quod dilectio cantatis non solum habet quantitatem a parte obiecti, quod est Deus; sed ex parte diligentis qui est ipse homo caritatem habens, sicut et quantitas cuiuslibet actionis dependet quodammodo ex ipso subiecto. Et ideo, licet proximus melior sit Deo propinquior, quia tamen non est ita propinquus cantatem habenti sicut ipse sibi, non sequitur quod magis debeat aliquis proximum quam seipsum diligere.
Раздел 5. Должен ли человек любить ближнего больше, чем свое тело
323
(36) На второе надлежит ответить, что человек должен [в случае необходимости] претерпеть телесные страдания ради друга, и при этом он будет больше любить себя сообразно духовному уму, поскольку это относится к совершенству добродетели, являющейся благом ума. Что же касается духовного, то человек не должен подвергать себя ущербу греха, чтобы уберечь от греха ближнего, как уже было сказано.
(37) На третье надлежит ответить, что, как говорит Августин, слова о том, что любовь «не ищет своего», подразумевают, что она предпочитает общее частному. Но общее благо всегда любимо всеми больше, чем частное благо, так ведь и благо целого более любимо частью, чем ее собственное частное благо, как уже было сказано (Р. 3).
Раздел 5
Должен ли человек любить ближнего больше, чем свое тело
(38) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что человек не дол¬
жен любить ближнего больше, чем свое тело.
(39) 1. В самом деле, у ближнего имеется тело. Если, соответственно, человек должен был бы любить ближнего больше, чем свое собственное тело, то из этого следовало бы, что он должен любить тело ближнего больше, чем свое собственное.
(40) 2. Кроме того, как уже было сказано
(Р. 4), человек должен любить свою душу больше, чем душу ближнего. Но собственное тело ближе нашей душе, чем ближний. Следовательно, мы должны любить собственное тело больше, чем ближнего.
(41) 3. Кроме того, ради защиты более любимого, человек подвергает опасности менее любимое. Однако не всякий человек готов подвергнуть опасности свое тело ради безопасности ближнего, но так поступают только совершенные, согласно этим словам (Ин 15, 13): Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Следовательно, человек не обязан из любви-каритас любить ближнего больше, чем свое собственное тело.
(36) Ad secundum dicendum quod detrimenta corporalia debet homo sustinere propter amicum, et in hoc ipso seipsum magis diligit secundum spintualem mentem, quia hoc pertinet ad perfectionem virtutis, quae est bonum mentis. Sed in spiritualibus non debet homo pati detrimentum peccando ut proximum liberet a peccato, sicut dictum est.
(37) Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus dicit (Epist. 211; PL 33, 963), in regula, quod dicitur, caritas non quaerit quae sua sunt, sic intelligitur quia communia propriis anteponit. Semper autem commune bonum est magis amabile unicuique quam propnum bonum, sicut etiam ipsi parti est magis amabile bonum totius quam bonum partiale sui ipsius, ut dictum est (a. 3).
Articulus 5
Utrum homo magis debeat diligere proximum quam corpus proprium
(38) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod homo non
magis debeat diligere proximum quam corpus propnum.
(39) 1. In proximo enim intelligitur corpus nostri proximi Si ergo debet homo diligere proximum plus quam coipus proprium, sequitur quod plus debeat diligere corpus proximi quam corpus proprium.
(40) 2. Praeterea, homo plus debet diligere animam propriam quam proximum, ut dictum est (a. 4). Sed corpus proprium propinquius est animae nostrae quam proximus. Ergo plus debemus diligere corpus propnum quam proximum.
(41) 3. Praeterea, unusquisque exponit id quod minus amat pro eo quod magis amat. Sed non omnis homo tenetur exponere corpus proprium pro salute proximi, sed hoc est perfectorum, secundum illud Ioan. XV, maiorem caritatem nemo habet quam ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Ergo homo non tenetur ex cantate plus diligere proximum quam corpus propnum.
324
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
(42) Но против: Августин говорит, что мы должны любить ближнего больше, чем собственное тело.
(43) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось выше (Р. 2, 4), из любви- каритас мы должны больше любить то, что обладает более внушительным основанием для того, чтобы быть любимым из любви- каритас. Но основание любви к ближнему, а именно, содружество в полной причастности блаженству, является более внушительным, чем основание любви к своему телу, а именно, причастность блаженству в силу изобильности [божественной благости]. Итак, насколько речь идет о спасении души, мы должны любить ближнего больше, чем собственное тело.
(44) Итак, на первое надлежит ответить, что, согласно Философу, всякая [вещь] есть прежде всего то, что является в ней главным. И потому, когда говорится, что ближнего надлежит любить больше, чем собственное тело, имеется в виду его душа, которая является главной его частью.
(45) На второе надлежит ответить, что наше тело ближе нашей душе, чем ближний, настолько, насколько речь идет об устроении нашей природы. Но насколько речь идет о причастности блаженству, настоль¬
ко душа ближнего связана с нашей душой тесней, чем наше собственное тело.
(46) На третье надлежит ответить, что каждый человек постоянно заботится о своем теле, а о благополучии ближнего ему надо беспокоиться только при особых обстоятельствах. Поэтому любовь-каритас не требует, чтобы человек подвергал опасности собственное тело ради благополучия ближнего — разве что у него имеются соответствующие обязательства. А то, что некто делает это, движимый внезапным побуждением, относится к совершенству любви- каритас.
Раздел 6
Должны ли мы любить одного ближнего больше, чем другого
(47) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что мы не должны любить одного ближнего больше, чем другого.
(48) 1. В самом деле, Августин говорит: Всех людей надлежит любить одинаково. Однако поскольку невозможно делать добро для всех, мы должны сосредоточиться прежде всего на тех, кто ближе к нам — либо по времени, либо по месту, либо в силу каких-либо иных обстоятельств. Следовательно, один
(42) Sed contra est quod Augustinus dicit, in I De doct. Christ (27; PL 34, 29), quod plus debemus diligere proximum quam corpus proprium.
(43) Respondeo dicendum quod illud magis est ex caritate diligendum quod habet pleniorem rationem diligibilis ex cantate, ut dictum est (a. 2, 4) Consociatio autem in plena participatione beatitudinis, quae est ratio diligendi proximum, est maior ratio diligendi quam participatio beatitudinis per redundantiam, quae est ratio diligendi proprium corpus. Et ideo proximum, quantum ad salutem animae, magis debemus diligere quam propnum corpus.
(44) Ad primum ergo dicendum quod quia, secundum philosophum, in IX Ethic. (8; 1169a2) unumquodque videtur esse id quod est praecipuum in ipso; cum dicitur proximus esse magis diligendus quam proprium corpus, intelligitur hoc quantum ad animam, quae est potior pars eius.
(45) Ad secundum dicendum quod corpus nostrum est propinquius animae nostrae quam proximus quantum ad constitutionem propriae naturae. Sed quantum ad participa¬
tionem beatitudinis maior est consociatio animae proximi ad animam nostram quam etiam corporis proprii.
(46) Ad tertium dicendum quod cuilibet homini imminet cura proprii coiporis, non autem imminet cuilibet homini cura de salute proximi, nisi forte in casu. Et ideo non est de necessitate cantatis quod homo propnum corpus exponat pro salute proximi, nisi in casu quod tenetur eius saluti providere. Sed quod aliquis sponte ad hoc se offerat, pertinet ad perfectionem cantatis.
Articulus 6
Utrum unus proximus sit magis diligendus quam alius
(47) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod unus proximus non sit magis diligendus quam alius.
(48) 1 Dicit enim Augustinus, in I De doct. Christ. (28; PL 34, 30), omnes homines aeque diligendi sunt Sed cum omnibus prodesse non possis, his potissimum consulendum est qui pro locorum et temporum vel quarumlibet rerum opportunitatibus, constrictius tibi quasi quadam sorte iunguntur Ergo
Раздел 6. Должны ли мы любить одного ближнего больше, чем другого
325
ближний не должен быть любим больше, чем другой.
(49) 2. Кроме того, там, где есть только она причина для того, чтобы любить нескольких, в любви не должно быть неравенства. Но, как говорит Августин, у любви ко всем ближним есть только одно основание, а именно, Бог. Следовательно, мы должны одинаково любить всех ближних.
(50) 3. Кроме того, любовь есть желание блага кому-либо, как явствует из слов Философа. Но всем ближним мы желаем одинаковое благо, а именно, вечную жизнь. Следовательно, мы должны одинаково любить всех ближних.
(51) Но против: чем больше мы должны любить кого-то, тем больший грех мы совершаем, если не делаем этого. Но если человек не любит некоторых ближних, он грешит более тяжко, чем тогда, когда не любит прочих, почему и заповедано (Левит 20, 9): Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти; но подобной заповеди по отношению к другим людям не существует. Следовательно, некоторых ближних мы должны любить больше, чем других.
(52) Отвечаю: надлежит сказать, что относительно этого вопроса существовало два
мнения. В самом деле, одни говорили, что из любви-каритас мы должны одинаково любить всех ближних в том, что касается аффекта, но не в том, что касается внешних проявлений. И они полагали, что порядок любви в этом случае имеет место сообразно внешним благодеяниям, которые мы должны оказывать в большей мере своим, а не чужим, но не с точки зрения внутреннего аффекта, который должен быть одинаков по отношению ко всем, включая врагов.
(53) Но это мнение кажется неразумным. В самом деле, аффект любви-каритас, т. е. склонность благодати, не менее упорядочен, чем природный аффект, т. е. склонность природы, поскольку обе эти склонности обусловлены божественной мудростью. Но в [вещах] естественных мы видим, что природная склонность каждой [вещи] соразмерна действию или движению, подобающему ее природе: так, элемент «земля» более склонен к движению «вниз», чем элемент «вода», поскольку «земле» подобает находиться ниже «воды». Следовательно, надлежит также, чтобы и склонность благодати, которая является аффектом любви-каритас, была соразмерной внешним действиям, так именно, чтобы
proximorum unus non est magis diligendus quam alius
(49) 2 Praeterea, ubi una et eadem est ratio diligendi diversos, non debet esse inaequalis dilectio Sed una est ratio diligendi omnes proximos, scilicet Deus; ut patet per Augustinum, in I De doct Christ. (22; PL 34, 26) Ergo omnes proximos aequaliter diligere debemus
(50) 3 Praeterea, amare est velle bonum alicui; ut patet per philosophum, in II Rhet (4; I380b35). Sed omnibus proximis aequale bonum volumus, scilicet vitam aeternam. Ergo omnes proximos aequaliter debemus diligere.
(51) Sed contra est quod tanto unusquisque magis debet diligi, quanto gravius peccat qui contra eius dilectionem operatur Sed gravius peccat qui agit contra dilectionem aliquorum proximorum quam qui agit contra dilectionem aliorum, unde Levit. XX praecipitur quod qui maledixerit patri aut matri, morte moriatur, quod non praecipitur de his qui alios homines maledicunt Ergo quosdam proximorum magis debemus diligere quam alios.
(52) Respondeo dicendum quod circa hoc fuit duplex opinio.
Quidam enim dixerunt quod omnes proximi sunt aequaliter ex caritate diligendi quantum ad affectum, sed non quantum ad exteriorem effectum, ponentes ordinem dilectionis esse intelligendum secundum extenora beneficia, quae magis debemus impendere proximis quam alienis; non autem secundum interiorem affectum, quem aequaliter debemus impendere omnibus, etiam inimicis
(53) Sed hoc irrationabiliter dicitur Non enim minus est ordinatus affectus cantatis, qui est inclinatio gratiae, quam appetitus naturalis, qui est inclinatio naturae, utraque enim inclinatio ex divina sapientia procedit. Videmus autem in naturalibus quod inclinatio naturalis proportionatur actui vel motui qui convenit naturae uniuscuiusque, sicut terra habet maiorem inclinationem gravitatis quam aqua, quia competit ei esse sub aqua. Oportet igitur quod etiam inclinatio gratiae, quae est affectus caritatis, proportionetur his quae sunt exterius agenda, ita scilicet ut ad eos intensiorem cantatis affectum habeamus quibus convenit nos magis beneficos esse. Et ideo dicendum est quod etiam se-
326
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
мы обладали более интенсивным аффектом любви-каритас по отношению к тем, к кому нам подобает проявлять большую благосклонность. И потому надлежит сказать, что также и в отношении аффекта мы должны любить одних ближних больше, чем других. И основание этому следующее. Поскольку началами любви являются Бог и сам любящий, постольку необходимо, чтобы аффект любви усиливался соразмерно близости к одному или другому из этих начал, ведь, как уже было сказано (Р. 1), везде, где обнаруживается некое начало, порядок имеет место сообразно отношению к этому началу.
(54) Итак, на первое надлежит ответить, что любовь может быть неравной в двух смыслах. Во-первых, со стороны того блага, которое мы желаем другу. И в этом смысле мы из любви-каритас одинаково любим всех людей, поскольку желаем всем им одно и то же по роду благо, а именно, вечное блаженство. Во-вторых, о большей любви говорят из-за интенсивности действия любви. И в этом смысле мы не обязаны любить всех одинаково. Или можно сказать иначе, а именно, что неодинаковость нашей любви в отношении разных [людей] может иметь место в силу двух об¬
стоятельств. Во-первых, из-за того, что мы любим одних и не любим других. И это неравенство должно сохраняться в благодеяниях, поскольку мы не можем одинаково делать добро всем, но в том, что касается благоволения, любовь не должна быть неравной. А другое неравенство любви является следствием того, что одних мы любим больше, чем других. Итак, Августин желает исключить не это последнее неравенство, а первое, как явствует из того, что он говорит о благодеяниях.
(55) На второе надлежит ответить, что не все наши ближние одинаково соотносятся с Богом, но некоторые из них ближе к Нему вследствие большей своей благости. И их мы должны больше любить из любви-каритас, чем других, т. е. тех, кто не столь близок к Богу.
(56) На третье надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу по отношению к количеству любви со стороны блага, которое мы желаем друзьям.
Раздел 7
Должны ли мы любить тех, кто лучше, больше тех, кто ближе к нам
(57) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что мы должны лю-
cundum affectum oportet magis unum proximorum quam alium diligere. Et ratio est quia, cum principium dilectionis sit Deus et ipse diligens, necesse est quod secundum propinquitatem maiorem ad alterum istorum principiorum maior sit dilectionis affectus, sicut enim supra dictum est (a. 1), in omnibus in quibus invenitur aliquod principium, ordo attenditur secundum comparationem ad illud principium.
(54) Ad primum ergo dicendum quod dilectio potest esse inaequalis dupliciter. Uno modo, ex parte eius boni quod amico optamus. Et quantum ad hoc, omnes homines aeque diligimus ex caritate, quia omnibus optamus bonum idem in genere, scilicet beatitudinem aeternam. Alio modo dicitur maior dilectio propter intensiorem actum dilectionis Et sic non oportet omnes aeque diligere Vel aliter dicendum quod dilectio inaequaliter potest ad aliquos haben dupliciter. Uno modo, ex eo quod quidam diliguntur et alii non diliguntur Et hanc inaequalitatem oportet servare
in beneficentia, quia non possumus omnibus prodesse, sed in benevolentia dilectionis talis inaequalitas haberi non debet. Alia vero est inaequalitas dilectionis ex hoc quod quidam plus aliis diliguntur Augustinus ergo non intendit hanc excludere inaequalitatem, sed pnmam, ut patet ex his quae de beneficentia dicit.
(55) Ad secundum dicendum quod non omnes proximi aequaliter se habent ad Deum, sed quidam sunt ei propinquiores, propter maiorem bonitatem. Qui sunt magis diligendi ex cantate quam alii, qui sunt ei minus propinqui.
(56) Ad tertium dicendum quod ratio illa procedit de quantitate dilectionis ex parte boni quod amicis optamus.
Articulus 7 Utrum magis debeamus diligere meliores quam nobis coniunctiores
(57) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod magis debeamus diligere meliores quam nobis coniunctiores.
Раздел 7. Должны ли мы любить тех, кто лучше, больше тех, кто ближе к нам 327
бить тех, кто лучше, больше тех, кто нам ближе.
(58) 1. В самом деле, то, к чему мы не можем испытывать никакой ненависти, кажется более достойным любви, чем то, что ненавидимо в том или ином отношении — точно так же, как более белым является то, к чему примешано меньше черного. Но те, кто нам близок, должны быть ненавидимы в определенном отношении, согласно этим словам (Лк 14, 26): Если кто приходит ко мне, и не возненавидит отца своего и т. д. А для того, чтобы ненавидеть лучших, у нас нет никаких причин. Следовательно, как кажется, мы должны любить тех, кто лучше, больше, чем тех, кто нам ближе.
(59) 2. Кроме того, человек уподобляется Богу прежде всего благодаря любви-каритас. Но Бог больше любит того, кто лучше. Следовательно, и человек из любви-каритас должен любить того, кто лучше, больше того, с кем он теснее соединен.
(60) 3. Кроме того, при всякой дружбе любить больше следует то, что в большей мере относится к тому, что является основанием этой дружбы (так, в случае естественной дружбы мы больше всего любим тех, кто близок нам по естеству, например, родите¬
лей или детей). Но дружба любви-каритас основывается на соучастии в блаженстве, к которому в большей степени относятся лучшие люди, нежели те, кто наиболее близок нам. Следовательно, из любви-каритас мы должны больше любить лучших, а не тех, кто ближе.
(61) Но против: сказано (1 Тим 5, 8): Если же кто о своих (и особенно о домашних) не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Но внутренний аффект любви- каритас должен соответствовать внешнему проявлению. Следовательно, в первую очередь любовь-каритас относится к наиболее близким, а не к тем, кто лучше.
(62) Отвечаю: надлежит сказать, что каждое действие должно быть соразмерно и объекту, и действующему; и от своего объекта действие получает вид, а от силы действующего — модус своей интенсивности. Так, движение получает свой вид от предела «к которому» [оно направлено], а интенсивность его скорости зависит от предрасположенности движимого и силы движущего. И так любовь получает свой вид от объекта, а свою интенсивность — от любящего. Но объектом любви-каритас является Бог, а любящим — человек. Итак, различие любви по виду, имеющее место
(58) 1. Illud enim videtur esse magis diligendum quod nulla ratione debet odio haben, quam illud quod aliqua ratione est odiendum, sicut et albius est quod est nigro impermixtius. Sed personae nobis coniunctae sunt secundum aliquam rationem odiendae, secundum illud Luc. XIV, si quis venit ad me et non odit patrem et matrem, etc., homines autem boni nulla ratione sunt odiendi Ergo videtur quod meliores sint magis amandi quam coniunctiores.
(59) 2 Praeterea, secundum cantatem homo maxime conformatur Deo. Sed Deus diligit magis meliorem. Ergo et homo per caritatem magis debet meliorem diligere quam sibi coniunctiorem
(60) 3. Praeterea, secundum unamquamque amicitiam illud est magis amandum quod magis pertinet ad id supra quod amicitia fundatur, amicitia enim naturali magis diligimus eos qui sunt magis nobis secundum naturam coniunc- ti, puta parentes vel filios. Sed amicitia cantatis fundatur super communicatione beatitudinis, ad quam magis pertinent meliores quam nobis coniunctiores. Ergo ex caritate
magis debemus diligere meliores quam nobis coniunctiores.
(61) Sed contra est quod dicitur I ad Tim. V, si quis suorum, et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit et est infideli deterior. Sed intenor cantatis affectio debet respondere extenon effectui. Ergo cantas magis debet haben ad propinquiores quam ad meliores.
(62) Respondeo dicendum quod omnis actus oportet quod proportionetur et obiecto et agenti, sed ex obiecto habet speciem, ex virtute autem agentis habet modum suae intensionis; sicut motus habet speciem ex termino ad quem est, sed intensionem velocitatis habet ex dispositione mobilis et virtute moventis. Sic igitur dilectio speciem habet ex obiecto, sed intensionem habet ex parte ipsius diligentis. Obiectum autem caritativae dilectionis Deus est; homo autem diligens est. Diversitas igitur dilectionis quae est secundum caritatem, quantum ad speciem est attendenda in proximis diligendis secundum comparationem ad Deum, ut scilicet ei qui est Deo propinquior maius bonum
328
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
сообразно любви-каритас, обусловливает- добродетели, соббразно которой некото- ся в ближних их отношением к Богу, так рые [люди] приближаются к Богу, может
именно, что мы желаем больших благ то- увеличиваться и уменьшаться, восходить
му, кто ближе к Богу. В самом деле, хотя и падать, как уже было показано выше
то благо, которое любовь-каритас желает (В. 24, Р. 4, 10, 11). И потому я могу желать всем, т. е. вечное блаженство, само по себе из любви-каритас, чтобы тот, кто близок
едино, оно, тем не менее, обладает раз- мне, был лучше другого, и благодаря этому
личными уровнями сообразно различным достиг более высокого уровня блаженства, причастностям блаженству; и это относит- (64) Но есть и еще одно обстоятельство
ся к любви-каритас — желать осуществления божественной справедливости, согласно которой лучшие причастны блаженству более совершенным образом. И это относится к виду любви, ведь различные виды любви обусловливаются различными благами, которые мы желаем тем, кого любим. А интенсивность любви обусловливается соотнесением с самим человеком, который любит. И сообразно этому человек более интенсивным чувством любит тех, кто ему более близок, желая им подобающего блага, нежели он любит лучших людей, желая им большего блага.
(63) Однако здесь следует обратить внимание на еще одно различие. Некоторые ближние близки нам сообразно естественному происхождению, которое неотделимо от них, поскольку именно благодаря ему они суть те, кто они суть. Но благость
в силу которого мы из любви-каритас больше любим тех, кто нам наиболее близок: мы любим их по-разному. В самом деле, мы дружим с теми, кто с нами не связан, только дружбой любви-каритас. А с теми, кто с нами связан, мы дружим еще и другими [видами] дружбы, соответствующими типам связи. Но поскольку благо, на котором основывается любая другая дружба-уважение, направлено как к своей цели к тому благу, на котором основывается любовь-каритас, постольку из этого следует, что любовь-каритас повелевает действием любой другой дружбы (подобно тому, как искусство, которое направлено к цели, повелевает искусством, которое направлено на средства достижения цели). Поэтому любовь-каритас может повелевать и тем самым обстоятельством, что некий человек любим из-за того, что является кров-
ех cantate velimus Quia licet bonum quod omnibus vult caritas, scilicet beatitudo aeterna, sit unum secundum se, habet tamen diversos gradus secundum diversas beatitudinis participationes, et hoc ad cantatem pertinet, ut velit iustitiam Dei servan, secundum quam meliores perfectius beatitudinem participant. Et hoc pertinet ad speciem dilectionis, sunt enim diversae dilectionis species secundum diversa bona quae optamus his quos diligimus. Sed intensio dilectionis est attendenda per comparationem ad ipsum hominem qui diligit. Et secundum hoc illos qui sunt sibi propinquiores intension affectu diligit homo ad illud bonum ad quod eos diligit, quam meliores ad maius bonum.
(63) Est etiam ibi et alia differentia attendenda Nam aliqui proximi sunt propinqui nobis secundum naturalem originem, a qua discedere non possunt, quia secundum eam sunt id quod sunt. Sed bonitas virtutis, secundum quam aliqui appropinquant Deo, potest accedere et recedere, augen et minui, ut ex supradictis patet (q. 24, a. 4, 10,
11). Et ideo possum ex cantate velle quod iste qui est mihi coniunctus sit melior alio, et sic ad maiorem beatitudinis gradum pervenire possit.
(64) Est autem et alius modus quo plus diligimus ex cantate magis nobis coniunctos, quia pluribus modis eos diligimus. Ad eos enim qui non sunt nobis coniuncti non habemus nisi amicitiam cantatis. Ad eos vero qui sunt nobis coniuncti habemus aliquas alias amicitias, secundum modum coniunctionis eorum ad nos. Cum autem bonum super quod fundatur quaelibet alia amicitia honesta ordinetur sicut ad finem ad bonum super quod fundatur cantas, consequens est ut caritas imperet actui cuiuslibet altenus amicitiae, sicut ars quae est circa finem imperat arti quae est circa ea quae sunt ad finem Et sic hoc ipsum quod est diligere aliquem quia consanguineus vel quia coniunctus est vel concivis, vel propter quodcumque huiusmodi aliud licitum ordinabile in finem caritatis, potest a cantate imperari. Et ita ex cantate eliciente cum imperante pluribus modis diligimus magis nobis coniunctos.
Раздел 8. Должны ли мы больше любить тех, с кем связаны кровным родством 329
ным родственником, близким или земляком, или из-за чего-то подобного, что может быть направлено к цели любви-каритас. И так из избирающей и повелевающей любви-каритас мы по-разному любим тех, кто нам наиболее близок.
(65) Итак, на первое надлежит ответить, что нам заповедано ненавидеть родственников не за сам факт родства, но лишь потому, что они оказываются препятствием между нами и Богом. И в этом смысле они не столько близкие, сколько враги, согласно этим словам (Мих 7, 6): Враги человеку — домашние его.
(66) На второе надлежит ответить, что любовь-каритас соразмерно согласует человека с Богом, так именно, что человек соответствует тому, что для него свое, так же, как Бог — тому, что свое для Него. В самом деле, мы можем желать из любви-каритас нечто такое, подходящее для нас, чего, однако, Бог не желает, поскольку это не подобает Ему, как было показано выше (Ч. II-I, В. 19, Р. 10), когда шла речь о благости воли.
(67) На третье надлежит ответить, что любовь-каритас избирает действие любви не только сообразно смысловому содержанию объекта, но и сообразно смысловому со-
(65) Ad primum ergo dicendum quod in propinquis nostris non praecipimur odire quod propinqui nostri sunt, sed hoc solum quod impediunt nos a Deo. Et in hoc non sunt propinqui, sed inimici, secundum illud Mich. VII, inimici hominis domestici eius
(66) Ad secundum dicendum quod caritas facit hominem conformari Deo secundum proportionem, ut scilicet ita se habeat homo ad id quod suum est, sicut Deus ad id quod suum est. Quaedam enim possumus ex caritate velle, quia sunt nobis convenientia, quae tamen Deus non vult, quia non convenit ei ut ea velit, sicut supra habitum est, cum de bonitate voluntatis ageretur (II-I, q. 19, a. 10)
(67) Ad tertium dicendum quod caritas non solum elicit actum dilectionis secundum rationem obiecti, sed etiam secundum rationem diligentis, ut dictum est (a 4, ad 1). Ex quo contingit quod magis coniunctus magis amatur.
держанию любящего, о чем уже было сказано (Р. 4, на 1). И в результате получается так, что более любимым является тот, кто более близок.
Раздел 8
Должны ли мы больше любить тех, с кем связаны кровным родством
(68) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что мы не должны сильнее всего любить тех, кто связан с нами кровными узами.
(69) 1. В самом деле, сказано (Притч 18, 25): Бывает друг, более привязанный, чем брат. И Валерий Максим говорит: Узы дружбы крепки и не слабее уз крови. Кроме того, определено и несомненно, что жребий рождения выпадает по случаю, а в дружеские отношения мы вступаем по своей воле на основании твердого решения. Следовательно, мы не должны любить тех, кто связан с нами кровным родством, больше, чем всех остальных.
(70) 2. Кроме того, Амвросий говорит: Рожденных мною в Евангелии я люблю не меньше, чем как если бы я родил их в браке, ведь природа не влечет к любви сильнее, чем благодать. Несомненно, мы должны больше любить тех, вместе с которыми полагаем
Articulus 8
Utrum sit magis diligendus ille qui nobis est magis coniunctus secundum carnalem originem
(68) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod non sit maxime diligendus ille qui est nobis coniunctus secundum carnalem originem.
(69) 1 Dicitur enim Proverb XVIII, vir amicabilis ad societatem magis erit amicus quam frater. Et Maximus Valerius dicit (Factor Dictor, memorab., IV, 7; DD 664) quod amicitiae vinculum praevalidum est, neque ulla ex parte sanguinis viribus inferius Hoc etiam certius et exploratius, quod illud nascendi sors fortuitum opus dedit; hoc uniuscuiusque solido iudicio incoacta voluntas contrahit. Ergo illi qui sunt coni- uncti sanguine non sunt magis amandi quam alii.
(70) 2 Praeterea, Ambrosius dicit, in I De offic. (7; PL 16, 34), non minus vos diligo, quos in Evangelio genui, quam si in coniugio suscepissem. Non enim vehementior est natura ad diligendum quam gratia Plus certe diligere debemus quos perpetuo nobiscum putamus futuros, quam quos in hoc tantum
330
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
без конца пребывать в будущей жизни, чем тех, которые с нами только в этом мире. Следовательно, мы не должны любить наших кровных родственников больше, чем тех, кто связан с нами неким иным способом.
(71) 3. Кроме того, как говорит Григорий, доказательством любви являются дела. Но по отношению к некоторым людям мы должны совершать большие деяния любви, чем по отношению к кровным родственникам: например, предводителю войска человек должен повиноваться в большей степени, нежели отцу. Следовательно, мы не обязаны любить тех, с кем связаны кровными узами, больше других.
(72) Но против: среди заповедей Декалога имеется особая заповедь о почитании родителей (Исх. 20, 12). Следовательно, мы должны особенно сильно любить тех, кто соединен с нами узами кровного родства.
(73) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось выше (Р. 7), из любви-каритас мы должны больше любить тех, кто нам ближе: как потому, что они любимы более интенсивно, так и потому, что для любви к ним есть больше оснований. Но интенсивность любви происходит от соединения любящего и любимого. И пото¬
му любовь к разным [лицам] должна измеряться сообразно различным смысловым содержаниям соединения, так именно, что всякий любим больше сообразно тому, что относится к такому-то конкретному соединению, на основании которого его любят.
(74) Далее, любовь должна сопоставляться с любовью сообразно сопоставлению соединения с соединением. Так, следует сказать, что дружба кровных родственников основывается на общности естественного происхождения, дружба сограждан — на общности гражданства, а дружба бойцов — на воинской общности. И потому в том, что относится к природе, мы должны больше всего любить кровных родственников; в том, что касается сохранения государства — своих сограждан, а во время войны — товарищей по оружию. И потому Философ говорит, что нам надлежит воздавать каждому свойственное ему и подобающее. Так, видимо, и делают. Ведь на свадьбу зовут родственников... Если же говорить о пропитании, то тут в первую очередь, видимо, следует оказывать поддержку родителям... и оказывать им почести. И то же самое относится к другим [видам дружбы].
5) А если мы сопоставляем соединение с соединением, то ясно, что соединение
saeculo Non ergo consanguinei sunt magis diligendi his qui sunt aliter nobis coniuncti
(71) 3. Praeterea, probatio dilectionis est exhibitio operis; ut Gregonus dicit, in homilia (In Evang. 2 hom. 30, PL 76, 1220). Sed quibusdam magis debemus impendere dilectionis opera quam etiam consanguineis, sicut magis est obediendum in exercitu duci quam patri. Ergo illi qui sunt sanguine iuncti non sunt maxime diligendi.
(72) Sed contra est quod in praeceptis Decalogi specialiter mandatur de honoratione parentum; ut patet Exod. XX Ergo illi qui sunt nobis coniuncti secundum camis originem sunt a nobis specialius diligendi.
(73) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 7), illi qui sunt nobis magis coniuncti, sunt ex cantate magis diligendi, tum quia intensius diliguntur; tum etiam quia plunbus rationibus diliguntur. Intensio autem dilectionis est ex coniunctione dilecti ad diligentem. Et ideo diversorum dilectio est mensuranda secundum diversam rationem coniunctionis, ut scilicet unusquisque diligatur magis in
eo quod pertinet ad illam comunctionem secundum quam diligitur.
(74) Et ultenus comparanda est dilectio dilectioni secundum comparationem coniunctionis ad coniunctionem. Sic igitur dicendum est quod amicitia consanguineorum fundatur in coniunctione naturalis originis; amicitia autem concivium in communicatione civili; et amicitia commilitantium in communicatione bellica. Et ideo in his quae pertinent ad naturam plus debemus diligere consanguineos; in his autem quae pertinent ad civilem conversationem plus debemus diligere concives; et in bellicis plus commilitones. Unde et philosophus dicit, in IX Ethic. (2; 1165al7), quod singulis propria et congruentia est attribuendum. Sic autem et facere videntur. Ad nuptias quidem vocant cognatos, videbitur utique et nutrimento parentibus oportere maxime sufficere, et honorem paternum. Et simile etiam in aliis.
(75) Si autem comparemus coniunctionem ad coniunctionem, constat quod coniunctio naturalis originis est prior et immobilior, quia est secundum id quod pertinet ad
Раздел 9. Должен ли человек из любви-каритас любить сына больше, чем отца 331
естественного происхождения является неустранимым и наиболее первичным, поскольку касается самой субстанции, тогда как другие соединения являются привходящими и могут быть устранены. Поэтому дружба между родственниками является наиболее прочной. Но другие [виды] дружбы могут быть сильнее — сообразно тому, что является собственным для каждого из них.
(76) Итак, на первое надлежит ответить, что поскольку дружба товарищей возникает по их собственному выбору, постольку любовь [такой дружбы] сильнее любви к родственникам, насколько речь идет о том, в чем мы вольны выбирать: например, в своем поведении мы больше согласуемся с друзьями. Однако дружба родственников более прочна, поскольку более естественна, и она сильнее в тех материях, которые затрагивают природу. Поэтому мы больше связаны с ними в том, что касается вещей, необходимых для существования.
(77) На второе надлежит ответить, что Амвросий говорит о любви, насколько речь идет о благодеяниях, относящихся к сообществу благодати, а именно, о наставлении в нравственности. В самом деле, в подобных вопросах человек должен за¬
ботиться о своих духовных чадах больше, чем о детях, рожденных телесно, поскольку последних он должен поддерживать больше в материальном отношении.
(78) На третье надлежит ответить, что то, что в ходе военных действий солдат повинуется предводителю войска больше, чем собственному отцу, демонстрирует не то, что он любит своего отца меньше безусловно, но то, что он любит его меньше в некотором отношении, а именно, в том, что касается любви, которая основывается на воинской общности.
Раздел 9
Должен ли человек из любви-каритас любить сына больше, чем отца
(79) Ход рассуждения в девятом разделе таков. Представляется, что человек из любви-каритас должен больше любить сына, чем отца.
(80) 1. В самом деле, мы должны больше любить тех, кому мы обязаны делать боль-, шее добро. Но мы обязаны делать большее добро своим детям, чем своим родителям, поскольку, как говорит апостол, не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей (2 Кор 12, 14). Следовательно, человек должен любить своих
substantiam; aliae autem comunctiones sunt supervenientes, et removeri possunt. Et ideo amicitia consanguineorum est stabilior. Sed aliae amicitiae possunt esse potiores secundum illud quod est propnum unicuique amicitiae.
(76) Ad primum ergo dicendum quod quia amicitia sociorum propria electione contrahitur in his quae sub nostra electione cadunt, puta in agendis, praeponderat haec dilectio dilectioni consanguineorum, ut scilicet magis cum illis consentiamus in agendis. Amicitia tamen consanguineorum est stabilior, utpote naturalior existens, et praevalet in his quae ad naturam spectant. Unde magis eis tenemur in provisione necessariorum
(77) Ad secundum dicendum quod Ambrosius loquitur de dilectione quantum ad beneficia quae pertinent ad communicationem gratiae, scilicet de instructione morum. In hac enim magis debet homo subvenire filiis spiritualibus, quos spiritualiter genuit, quam filiis corporalibus,
quibus tenetur magis providere in corporalibus subsidiis.
(78) Ad tertium dicendum quod ex hoc quod duci exercitus magis obeditur in bello quam patri, non probatur quod simpliciter pater minus diligatur, sed quod minus diligatur secundum quid, idest secundum dilectionem bellicae communicationis.
Articulus 9
Utrum homo ex caritate magis debeat diligere filium quam patrem
(79) Ad nonum sic proceditur. Videtur quod homo ex caritate magis debeat diligere filium quam patrem.
(80) 1. Illum enim magis debemus diligere cui magis debemus benefacere. Sed magis debemus benefacere filiis quam parentibus, dicit enim apostolus, II ad Cor. XII, non debent filii thesaurizare parentibus, sed parentes filiis. Ergo magis sunt diligendi filii quam parentes.
332
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
детей больше, чем своих родителей.
(81) 2. Кроме того, благодать совершен¬
ствует природу. Но, как говорит Философ в VIII книге «Этики», родители по природе любят своих детей больше, чем те любят их. Следовательно, мы должны любить детей больше, чем родителей.
(82) 3. Кроме того, благодаря любви-ка¬
ритас человеческие аффекты сообразуются с Богом. Но Бог любит своих детей больше, чем они любят Его. Следовательно, также и мы должны любить детей больше, чем родителей.
(83) Но против: Амвросий говорит: Мы должны прежде всего любить Бога, затем — родителей, затем — детей и, наконец, домашних.
(84) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечалось (Р. 4, на 1, Р. 7), об уровнях любви можно говорить в двух смыслах. Во-первых, со стороны объекта. И в этом смысле больше надлежит любить то, что в большей степени обладает смысловым содержанием блага и более подобно Богу. И тогда человек должен любить отца больше, чем сына, поскольку отца он любит в аспекте начала, а начало обладает смысловым содержанием превосходного блага и более подобно Богу. Во-вторых, об уров-
(81) 2. Praeterea, gratia perficit naturam. Sed naturaliter parentes plus diligunt filios quam ab eis diligantur; ut philosophus dicit, in VIII Ethic. (12; 1161b21). Ergo magis debemus diligere filios quam parentes.
(82) 3. Praeterea, per caritatem affectus hominis Deo conformatur. Sed Deus magis diligit filios quam diligatur ab eis Ergo etiam et nos magis debemus diligere filios quam parentes.
(83) Sed contra est quod Ambrosius dicit (Cf. Origen., In Cant. hom. super 2, 4; PG 13, 64), primo Deus diligendus est, secundo parentes, inde filii, post domestici.
(84) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (a. 4, ad 1 ; a. 7), gradus dilectionis ex duobus pensari potest. Uno modo, ex parte obiecti. Et secundum hoc id quod habet maiorem rationem boni est magis diligendum, et quod est Deo similius. Et sic pater est magis diligendus quam filius, quia scilicet patrem diligimus sub ratione principii, quod habet rationem eminentioris boni et Deo similioris. Alio modo computantur gradus dilectionis ex parte ip-
не любви можно рассчитывать со стороны любящего, и в этом смысле более любим тот, кто более близок. И сообразно этому детей любят больше, чем родителей, как говорит Философ в VIII книге «Этики». Во-первых, понятно, потому, что родители любят своих детей как некую часть самих себя, а отец не является частью своего сына, и потому любовь, которой отец любит своего сына, подобна любви, которой человек любит самого себя. Во-вторых, потому, что родители лучше знают, кто их дети, нежели наоборот. В-третьих, потому, что сын, будучи частью своего отца, ближе ему, чем, наоборот, отец близок сыну, будучи его началом. В-четвертых, потому, что родительская любовь продолжительней, ведь отец начинает любить сына сразу [же после его рождения], а сын начинает любить своего отца лишь спустя какое-то время; но чем продолжительней любовь, тем она сильней, согласно этим словам (Сир 9, 12): Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним.
(85) Итак, на первое надлежит ответить, что началу следует подчиняться посредством уважения и почтения, а то, что происходит от начала, должно получать от него попечение и заботу. Поэтому дети обязаны
sius diligentis. Et sic magis diligitur quod est coniunctius. Et secundum hoc filius est magis diligendus quam pater, ut philosophus dicit, in VIII Ethic. (12; 1161Ь21) Primo quidem, quia parentes diligunt filios ut aliquid sui existentes; pater autem non est aliquid filii; et ideo dilectio secundum quam pater diligit filium similior est dilectioni qua quis diligit seipsum Secundo, quia parentes magis sciunt aliquos esse suos filios quam e converso Tertio, quia filius est magis propinquus parenti, utpote pars existens, quam pater filio, ad quem habet habitudinem principii. Quarto, quia parentes diutius amaverunt, nam statim pater incipit diligere filium, filius autem tempore procedente incipit diligere patrem. Dilectio autem quanto est diuturnior, tanto est fortior, secundum illud Eccli. IX, non derelinquas amicum antiquum, novus enim non erit similis illi.
(85) Ad primum ergo dicendum quod principio debetur subiec- tio reverentiae et honor, effectui autem proportionaliter competit recipere influentiam pnncipii et provisionem ipsius. Et propter hoc parentibus a filiis magis debetur honor,
Раздел 10. Должен ли человек любить мать больше, чем отца
333
прежде всего чтить своих родителей, а родители — заботиться о своих детях.
(86) На второе надлежит ответить, что отец по природе больше любит сына сообразно смысловому содержанию соединения с собой. Но сообразно смысловому содержанию более превосходного блага дело обстоит наоборот: сын по природе больше любит своего отца.
(87) На третье надлежит ответить, что, как говорит Августин, Бог любит нас ради нашего блага и ради почестей, воздаваемых Ему. И потому, поскольку отец, как и Бог, относится к нам как начало, постольку дети должны почитать отца, а отец обеспечивать их всем тем, что нужно. Однако в случае необходимости и сын обязан в ответ на полученные блага оказывать всяческую помощь родителям.
Раздел 10
Должен ли человек любить мать больше, чем отца
(88) Ход рассуждения в десятом разделе таков. Представляется, что человек должен любить свою мать больше, чем своего отца.
(89) 1. В самом деле, согласно Философу, женская особь при порождении дает тело. А душу человек получает не от отца,
но от Бога посредством творения, как было сказано в Первой Части (В. 90, Р. 2; В. 118, Р. 2). Следовательно, человек получает от матери больше, чем от отца. Следовательно, он должен больше любить мать, чем отца.
(90) 2. Кроме того, больше надо любить то¬
го, кто сам любит сильнее. Но мать любит своего ребенка сильнее, чем отец, ибо Философ говорит, что матери любят детей сильнее, чем отцы, ведь рождение ребенка требует от них больших усилий и они лучше отцов знают, что это их собственное создание. Следовательно, мать надлежит любить больше, чем отца.
(91) 3. Кроме того, тот, кто больше трудился ради нас, заслуживает большей любви, согласно этим словам (Рим 16, 6): Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для вас. Но матери как при рождении, так и при обучении ребенка трудятся больше отцов, отчего и сказано (Сир 7, 29): Не забывай родильных болезней матери твоей. Следовательно, человек должен любить мать больше, чем отца.
(92) Но против: Иероним, истолковывая слова пророка Иезекииля (Иез 44, 25), говорит, что после Бога, Отца всего, человек должен любить своего отца; и лишь затем
filiis autem magis debetur cura provisionis.
(86) Ad secundum dicendum quod pater naturaliter plus diligit filium secundum rationem coniunctionis ad seipsum Sed secundum rationem eminentioris boni filius naturaliter plus diligit patrem.
(87) Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in I De doct Christ (32; PL 34, 32), Deus diligit nos ad nostram utilitatem et suum honorem. Et ideo, quia pater comparatur ad nos in habitudine principii, sicut et Deus, ad patrem proprie pertinet ut ei a filiis honor impendatur, ad filium autem ut eius utilitati a parentibus provideatur. Quamvis in articulo necessitatis filius obligatus sit ex beneficiis susceptis, ut parentibus maxime provideat.
Articulus 10
Utrum homo magis debeat diligere matrem quam patrem
(88) Ad decimum sic proceditur Videtur quod homo magis debeat diligere matrem quam patrem.
(89) 1. Ut enim philosophus dicit, in I De gen. animal.
(20; 129a\0), femina in generatione dat corpus. Sed homo non habet animam a patre, sed per creationem a Deo, ut in primo dictum est (q. 90, a. 2; q. 118, a. 2). Ergo homo plus habet a matre quam a patre. Plus ergo debet diligere matrem quam patrem.
(90) 2. Praeterea, magis amantem debet homo magis diligere. Sed mater plus diligit filium quam pater, dicit enim philosophus, in IX Ethic. (7; Il68a25), quod matres magis sunt amatrices filiorum. Laboriosior enim est generatio matrum; et magis sciunt quoniam ipsarum sunt filii quam patres. Ergo mater est magis diligenda quam pater.
(91) 3. Praeterea, ei debetur maior dilectionis affectus qui pro nobis amplius laboravit, secundum illud Rom. ult., salutate Mariam, quae multum laboravit in vobis. Sed mater plus laborat in generatione et educatione quam pater, unde dicitur Eccli. VII, gemitum matris tuae ne obliviscaris. Ergo plus debet homo diligere matrem quam patrem.
(92) Sed contra est quod Hieronymus dicit (L. 13 super 44, 25; PL 25, 462), super Ezech., quod post Deum, omnium patrem,
334
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
он упоминает о матери.
(93) Отвечаю: надлежит сказать, что при таких сопоставлениях сказанное надлежит понимать, как относящееся к сущности, т. е. вопрос должен звучать так: следует ли любить отца как такового больше, чем мать как таковую. В самом деле, во всем подобном добродетель или порок могут оказаться столь существенными, что, как говорит Философ, дружба может уменьшиться или даже полностью прекратиться. И потому, как говорит Амвросий, хорошая прислуга лучше дурных сыновей. Однако если говорить об отце и матери как таковых, то отца нужно любить больше, чем мать. В самом деле, отца и мать любят как некие начала естественного происхождения. Но отец как начало превосходит мать, поскольку он есть активное начало, а мать — пассивное и материальное. Следовательно, если говорить об отце и матери как таковых, отца надлежит любить больше.
(94) Итак, на первое надлежит ответить, что при порождении человека мать обеспечивает неоформленную материю тела, которое получает форму благодаря формообразующей силе, пребывающей в отцовском семени. И хотя эта сила не может создать разумную душу, она, однако же, располага¬
ет телесную материю к принятию таковой формы.
(95) На второе надлежит ответить, что сказанное относится к иному смысловому содержанию любви. В самом деле, тот вид дружбы, которой мы любим любящего, отличается от того вида дружбы, которым мы любим порождающего. Но здесь мы говорим о той дружеской приязни, которую человек должен иметь по отношению к отцу и матери именно как к родителям.
(96) На третье надлежит ответить, что превосходство начала в отце более значимо, чем усилия матери при родах, поскольку в объекте любви как таковой скорее обнаруживается смысловое содержание блага, чем смысловое содержание трудного, или сложного2.
Раздел 11
Должен ли человек любить жену больше, чем отца и мать
(97) Ход рассуждения в одиннадцатом разделе таков. Представляется, что человек должен любить жену больше, чем отца и мать.
(98) 1. В самом деле, человек оставит нечто только ради чего-то более любимого. Но сказано (Быт 2, 24), что оставит человек отца своего и мать свою ради жены сво-
diligendus est pater, et postea addit de matre.
(93) Respondeo dicendum quod in istis comparationibus id quod dicitur est intelligendum per se, ut videlicet intel- ligatur esse quaesitum de patre inquantum est pater, an sit plus diligendus matre inquantum est mater. Potest enim in omnibus huiusmodi tanta esse distantia virtutis et malitiae ut amicitia solvatur vel minuatur; ut philosophus dicit, in VIII Ethic. (7; 1158b33). Et ideo, ut Ambrosius dicit (Cf. Origen., In Cant. hom. super 2, 4; PG 13, 54), boni domestici sunt malis filiis praeponendi. Sed per se loquendo, pater magis est amandus quam mater. Amantur enim pater et mater ut principia quaedam naturalis originis. Pater autem habet excellentiorem rationem principii quam mater, quia pater est principium per modum agentis, mater autem magis per modum patientis et materiae. Et ideo, per se loquendo, pater est magis diligendus.
(94) Ad primum ergo dicendum quod in generatione hominis mater ministrat materiam corporis informem, formatur autem per virtutem formativam quae est in semine patris.
Et quamvis huiusmodi virtus non possit creare animam rationalem, disponit tamen materiam corporalem ad huiusmodi formae susceptionem.
(95) Ad secundum dicendum quod hoc pertinet ad aliam rationem dilectionis, alia enim est species amicitiae qua diligimus amantem, et qua diligimus generantem. Nunc autem loquimur de amicitia quae debetur patri et matri secundum generationis rationem.
(96) Ad tertium dicendum, quod maior excellentia pnncipii in patre praeponderat maiori labori matris in generatione: quoniam ratio boni magis attenditur in objecto per se dilectionis, quam ratio difficilis, seu laboriosi.
Articulus 11 Utrum homo plus debeat diligere uxorem quam patrem et matrem
(97) Ad undecimum sic proceditur. Videtur quod homo plus debeat diligere uxorem quam patrem et matrem.
(98) 1. Nullus enim dimittit rem aliquam nisi pro re magis
Раздел 11. Должен ли человек любить жену больше, чем отца и мать
335
ей. Следовательно, человек должен любить свою жену больше, чем отца и мать.
(99) 2. Кроме того, апостол говорит (Ефес 5,
33), что муж да любит свою жену, как самого себя. Но человек должен любить самого себя больше, чем своих родителей. Следовательно, и жену он также должен любить больше, чем родителей.
(юо) 3. Кроме того, там, где имеется несколько оснований для любви, любовь должна быть большей. Но у дружбы между мужем и женой есть несколько оснований для любви, ибо, как говорит Философ, в этой дружбе присутствует как полезность, так и удовольствие, и она может быть также дружбой-уважением, если муж и жена добродетельны. Следовательно, любовь к жене должна быть большей, чем любовь к родителям.
(101) Но против: сказано (Ефес 5, 28): Так мужья должны любить своих жен, как свои тела. Но, как уже было сказано (Р. 5), человек должен любить свое тело меньше, чем ближнего, а из ближних он должен больше всего любить своих родителей. Следовательно, он должен любить родителей больше, чем жену.
(102) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (Р. 7, 9), уровни любви
могут устанавливаться и сообразно смысловому содержанию блага, и сообразно соединению с любящим. Итак, сообразно смысловому содержанию блага, которое является объектом любви, родителей надлежит любить больше, чем жен, поскольку они любимы как начало и некое более превосходное благо. А сообразно смысловому содержанию соединения надо больше любить жену, ведь она соединена с мужем как одна плоть, согласно этим словам (Мф 19,
6): Так что они — уже не двое, но одна плоть. И потому человек должен любить свою жену сильнее, а родителям выражать большее почтение.
(юз) Итак, на первое надлежит ответить, что человек оставляет отца своего и мать свою ради жены своей не полностью, поскольку в некоторых отношениях он должен помогать своим родителям больше, чем жене. Но человек прилепляется к жене, оставив все родственные отношения, в том, что касается плотской связи и совместного проживания.
(104) На второе надлежит ответить, что апостол имеет в виду не то, что человек должен любить свою жену любовью, столь же сильной, как та, которой он любит себя, а то, что любовь человека к себе является
dilecta. Sed Gen. II dicitur quod propter uxorem relinquet homo patrem et matrem. Ergo magis debet diligere uxorem quam patrem vel matrem.
(99) 2. Praeterea, apostolus dicit, ad Ephes V, quod viri debent diligere uxores sicut seipsos. Sed homo magis debet diligere seipsum quam parentes. Ergo etiam magis debet diligere uxorem quam parentes.
(100) 3. Praeterea, ubi sunt plures rationes dilectionis, ibi debet esse maior dilectio. Sed in amicitia quae est ad uxorem sunt plures rationes dilectionis, dicit enim philosophus, in VIII Ethic. (12; Il62a24), quod in hac amicitia videtur esse utile et delectabile et propter virtutem, si virtuosi sint coniuges Ergo maior debet esse dilectio ad uxorem quam ad parentes.
(101) Sed contra est quod vir debet diligere uxorem suam sicut carnem suam, ut dicitur ad Ephes. V. Sed corpus suum minus debet homo diligere quam proximum, ut supra dictum est (a. 5). Inter proximos autem magis debemus diligere parentes. Ergo magis debemus diligere parentes
quam uxorem.
(102) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 7, 9), gradus dilectionis attendi potest et secundum rationem boni, et secundum coniunctionem ad diligentem. Secundum igitur rationem boni, quod est obiectum dilectionis, magis sunt diligendi parentes quam uxores, quia diliguntur sub ratione principii et eminentions cuiusdam boni Secundum autem rationem coniunctionis magis diligenda est uxor, quia uxor coniungitur viro ut una caro existens, secundum illud Matth. XIX, itaque iam non sunt duo, sed una caro. Et ideo intensius diligitur uxor, sed maior reverentia est parentibus exhibenda.
(103) Ad primum ergo dicendum quod non quantum ad omnia deseritur pater et mater propter uxorem, in quibusdam enim magis debet homo assistere parentibus quam uxori. Sed quantum ad unionem carnalis copulae et cohabitatio- nis, relictis omnibus parentibus, homo adhaeret uxori.
(104) Ad secundum dicendum quod in verbis apostoli non est intelligendum quod homo debeat diligere uxorem suam
336
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
основанием его любви к жене, с которой он соединен.
(105) На третье надлежит ответить, что и в дружбе с родителями также имеется несколько оснований любви. И они в некотором отношении, а именно, сообразно смысловому содержанию блага, более серьезны, чем основание любви к жене, хотя эта последняя любовь превосходит первую сообразно смысловому содержанию соединения.
(106) На четвертое, [то есть на аргумент «против»], надлежит ответить, что это «как» подразумевает не равенство, а основание любви. В самом деле, человек любит свою жену прежде всего на основании телесного единения с нею.
Раздел 12
Должен ли человек любить благодетеля больше, чем облагодетельствованного
(107) Ход рассуждения в двенадцатом разделе таков. Представляется, что человек должен любить своего благодетеля больше, чем облагодетельствованного им самим.
(108) 1. Поскольку Августин говорит, что ничто так не побуждает человека к любви, как предварительно обращенная на него лю¬
бовь, ведь поистине жестокосердным должен быть тот, кто не только не хочет любить сам, но и отказывается отвечать на любовь. Но благодетели предваряют нас в благодеяниях любви-каритас. Следовательно, мы прежде всего должны любить благодетелей.
(109) 2. Кроме того, тем больше надлежит любить некоего человека, чем более тяжко мы грешим, если перестаем любить его или совершаем что-либо против него. Но тот, кто перестает любить своего благодетеля или совершает что-либо против него, грешит более тяжким грехом, чем тот, кто перестать любить того, кого прежде облагодетельствовал. Следовательно, надлежит больше любить благодетелей, чем облагодетельствованных.
(по) 3. Кроме того, как говорит Иероним, из всего достойного любви более всего надлежит любить Бога, а затем — отца. Но они суть главные благодетели. Следовательно, благодетеля надлежит любить больше всего.
(ni) Но против: Философ говорит, что благодетели больше питают дружбу к облагодетельствованным:, нежели наоборот.
aequaliter sibi ipsi, sed quia dilectio quam aliquis habet ad seipsum est ratio dilectionis quam quis habet ad uxorem sibi coniunctam.
(105) Ad tertium dicendum quod etiam in amicitia paterna inveniuntur multae rationes dilectionis. Et quantum ad aliquid praeponderant rationi dilectionis quae habetur ad uxorem, secundum scilicet rationem boni, quamvis illae praeponderent secundum coniunctionis rationem.
(106) Ad quartum dicendum quod illud etiam non est sic intelligendum quod ly sicut importet aequalitatem, sed rationem dilectionis. Diligit enim homo uxorem suam principaliter ratione carnalis coniunctionis.
Articulus 12 Utrum homo debeat diligere magis benefactorem quam beneficiatum
(107) Ad duodecimum sic proceditur. Videtur quod homo magis debeat diligere benefactorem quam beneficiatum.
(108) 1 Quia ut dicit Augustinus, in libro De catechiz. rud.
(4; PL 30, 314), nulla est maior provocatio ad amandum quam praevenire amando, nimis enim durus est animus qui dilectionem, etsi non vult impendere, nolit rependere. Sed benefactores praeveniunt nos in beneficio caritatis. Ergo benefactores maxime debemus diligere.
(109) 2. Praeterea, tanto aliquis est magis diligendus quanto gravius homo peccat si ab eius dilectione desistat, vel contra eam agat. Sed gravius peccat qui benefactorem non diligit, vel contra eum agit, quam si diligere desinat eum cui hactenus benefecit. Ergo magis sunt amandi benefactores quam hi quibus benefacimus.
(110) 3. Praeterea, inter omnia diligenda maxime diligendus est Deus et post eum pater, ut Hieronymus dicit (In Ezech. 13 super 44, 25; PL 25, 462). Sed isti sunt maximi benefactores. Ergo benefactor est maxime diligendus.
(111) Sed contra est quod philosophus dicit, in IX Ethic. (7; 1167bl7), quod benefactores magis videntur amare bénéficiais quam e converso.
Раздел 12. Кого следует любить больше — благодетеля или облагодетельствованного 337
(112) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (Р. 7, 9, 11), нечто может быть более любимым в двух смыслах: во-первых, потому, что оно обладает смысловым содержанием более превосходного блага; во-вторых, потому, что оно более тесно связано [с любящим]. И в первом смысле больше надлежит любить своего благодетеля, поскольку он, будучи началом блага в облагодетельствованном, обладает смысловым содержанием более превосходного блага; и это же ранее было сказано об отце (Р. 9). Однако во втором смысле мы больше любим тех, кого облагодетельствовали сами, что доказывается философом при помощи четырех аргументов. Во-первых, это так потому, что облагодетельствованный есть своего рода создание благодетеля, и потому о человеке нередко говорят, что он «создан тем-то». Но любому человеку естественно любить свое создание (так, например, поэты любят свои вирши), ведь каждый любит свое бытие и свою жизнь, а они наиболее отчетливо выражаются в деятельности. Во- вторых, это так потому, что всякий по природе любит то, в чем узревает свое благо. Но и благодетель имеет некоторое благо в облагодетельствованном, и облагодетель¬
ствованный — некоторое благо в благодетеле, однако благодетель узревает в облагодетельствованном благо-уважение, а облагодетельствованный видит в благотворителе благо-полезность. Но благо-уважение доставляет большее удовольствие, чем благо-польза, как потому, что уважение продолжительно, а польза быстро преходит, и удовольствие от воспоминания уступает удовольствию от наличной вещи, так и потому, что гораздо приятней вспоминать о совершении вызывающих уважение благодеяний, чем о пользе, полученной от других. В-третьих, это так потому, что любящему свойственно действие, ведь он желает и делает добро любимому, а любимому свойственно претерпевание [в восприятии блага]. И потому «любить» превосходнее, [чем «быть любимым»], и, соответственно, для благодетеля характерна большая любовь. В-четвертых, это так потому, что совершать благодеяния труднее, чем их получать, а мы больше любим то, что достается с трудом, и относимся с неким пренебрежением к тому, что не требует усилий.
(из) Итак, на первое надлежит ответить, что в благодетеле есть то, что побуждает облагодетельствованного любить его. Однако
(112) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (a. 7, 9, 11), aliquid magis diligitur dupliciter, uno quidem modo, quia habet rationem excellentioris boni; alio modo, ratione maioris coniunctionis. Primo quidem igitur modo benefactor est magis diligendus, quia, cum sit principium boni in beneficiato, habet excellentioris boni rationem; sicut et de patre dictum est (a 9) Secundo autem modo magis diligimus bénéficiâtes, ut philosophus probat, in IX Ethic. (7; 1167b 17), per quatuor rationes Pnmo quidem, quia beneficiatus est quasi quoddam opus benefactoris, unde consuevit dici de aliquo, iste est factura illius. Naturale autem est cuilibet quod diligat opus suum, sicut videmus quod poetae diligunt poemata sua Et hoc ideo quia unumquodque diligit suum esse et suum vivere, quod maxime manifestatur in suo agere. Secundo, quia unusquisque naturaliter diligit illud in quo inspicit suum bonum. Habet quidem igitur et benefactor in beneficiato aliquod bonum, et e converso, sed benefactor in¬
spicit in beneficiato suum bonum honestum, beneficiatus in benefactore suum bonum utile. Bonum autem honestum delectabilius consideratur quam bonum utile, tum quia est diuturnius, utilitas enim cito transit, et delectatio memonae non est sicut delectatio rei praesentis; tum etiam quia bona honesta magis cum delectatione recolimus quam utilitates quae nobis ab aliis provenerunt Tertio, quia ad amantem pertinet agere, vult enim et operatur bonum amato, ad amatum autem pertinet pati. Et ideo excellentioris est amare. Et propter hoc ad benefactorem pertinet ut plus amet. Quarto, quia difficilius est beneficia impendere quam recipere. Ea vero in quibus laboramus magis diligimus; quae vero nobis de facili proveniunt quodammodo contemnimus.
(113) Ad primum ergo dicendum quod in benefactore est ut beneficiatus provocetur ad ipsum amandum Benefactor autem diligit beneficiatum non quasi provocatus ab illo, sed ex seipso motus. Quod autem est ex se potius est eo quod est per aliud.
338
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
благодетель любит облагодетельствованного не потому, что тот его побуждает к этому, но потому, что движим собственным [решением]. А то, что [делается] от себя, превосходит то, что [делается] через другого.
(in) На второе надлежит ответить, что любовь облагодетельствованного к благодетелю более обязательна, и потому противоположное ей является более тяжким грехом. Но любовь благодетеля к облагодетельствованному более добровольна, а потому легче [в своих действиях].
(115) На третье надлежит ответить, что Бог тоже любит нас больше, чем мы Его, равно как и родители любят своих детей больше, чем те любят их. Однако это не значит, что мы любим любого облагодетельствованного больше, чем любого благодетеля. В самом деле, тех благодетелей, от которых мы получили наибольшие блага, т. е. Бога и родителей, мы предпочитаем тем облагодетельствованным, кто получил от нас меньшие блага.
Раздел 13
Сохранится ли порядок любви-каритас в Небесном Отечестве
(116) Ход рассуждения в тринадцатом раз¬
ом) Ad secundum dicendum quod amor beneficiati ad benefactorem est magis debitus, et ideo contrarium habet rationem maions peccati. Sed amor benefactoris ad ben- eficiatum est magis spontaneus, et ideo habet maiorem promptitudinem
(115) Ad tertium dicendum quod Deus etiam plus nos diligit quam nos eum diligimus, et parentes plus diligunt filios quam ab eis diligantur. Nec tamen oportet quod quoslibet beneficiatos plus diligamus quibuslibet benefactoribus. Benefactores enim a quibus maxima beneficia recepimus, scilicet Deum et parentes, praeferimus his quibus aliqua minora beneficia impendimus
Articulus 13 Utrum ordo charitatis remaneat in patria
(116) Ad tertiumdecimum sic proceditur. Videtur quod ordo caritatis non remaneat in patria.
деле таков. Представляется, что порядок любви-каритас не сохранится в Небесном Отечестве.
(117) 1. В самом деле, Августин говорит, что совершенная любовь заключается в том, что большее мы любим больше, а меньшее — меньше. Но в Небесном Отечестве любовь будет совершенной. Следовательно, человек будет любить лучших больше, чем самого себя или своих близких.
(118) 2. Кроме того, мы больше любим того, кому желаем большего блага. Но в Небесном Отечестве каждый желает большего блага тому, кто более благ, ведь иначе его желание не во всем соответствовало бы воле Божией. Но больше блага в том, кто лучше. Следовательно, в Небесном Отечестве каждый любит больше того, кто лучше. И так он больше любит другого, чем себя самого, и чужака, чем своего.
(119) 3. Кроме того, в Небесном Отечестве единственным основанием любви будет Бог, поскольку там исполнятся эти слова апостола (1 Кор 15, 28): Да будет Бог все во всем. Поэтому более любим будет тот, кто ближе к Богу. И так человек будет больше любить лучшего, чем себя самого, и чужака, чем своего.
(117) 1. Dicit enim Augustinus, in libro De vera relig (48; PL 34, 164), perfecta caritas est ut plus potiora bona, et minus minora diligamus. Sed in patna erit perfecta caritas. Ergo plus diliget aliquis meliorem quam seipsum vel sibi coniunctum.
(118) 2. Praeterea, ille magis amatur cui maius bonum volumus Sed quilibet in patria existens vult maius bonum ei qui plus bonum habet, alioquin voluntas eius non per omnia divinae voluntati conformaretur. Ibi autem plus bonum habet qui melior est Ergo in patria quilibet magis diliget meliorem. Et ita magis alium quam seipsum, et extraneum quam propinquum.
(119) 3. Praeterea, tota ratio dilectionis in patna Deus erit, tunc enim implebitur quod dicitur I ad Cor. XV, ut sit Deus omnia in omnibus. Ergo magis diligitur qui est Deo propinquior. Et ita aliquis magis diliget meliorem quam seipsum, et extraneum quam coniunctum
Раздел 13. Сохранится ли порядок любви-каритас в Небесном Отечестве
339
(,20) Но против: слава не уничтожает, а совершенствует природу. Но приведенный выше (Р. 3, 6, 7, 8) порядок любви-каритас основан на самой природе. Однако все по природе любит себя больше, чем других. Следовательно, этот порядок любви-каритас сохранится и в Небесном Отечестве.
(,2i) Отвечаю: надлежит сказать, что порядок любви-каритас необходимо сохранится в Небесном Отечестве, насколько это касается того, что Бог должен быть любим больше всего остального. В самом деле, когда человек будет совершенным образом наслаждаться Богом, это станет безусловно очевидно. Но в если говорить о порядке любви к самому себе и другим, то здесь, как представляется, будут некоторые отличия. В самом деле, как уже было сказано ранее (Р. 7), уровни любви могут различаться или сообразно благу, которое желают другим, или сообразно интенсивности любви. И в первом отношении человек будет любить тех, кто лучше, больше, чем себя, а тех, кто хуже, меньше, чем себя. Действительно, благодаря совершенному соответствию человеческой воли воле божественной, любой блаженный будет желать, чтобы каждый получил то, что ему определено божественной справедли¬
востью. И тогда уже нельзя будет получить большую награду за счет умножения заслуг, как это возможно сейчас, когда можно пожелать и добродетели, и награды лучшего человека, поскольку тогда воля каждого успокоится тем, что ей определено свыше. А во втором отношении человек будет любить себя больше, чем ближнего, даже лучшего. Ведь, как уже говорилось выше (Р. 7), интенсивность действия любви зависит от любящего субъекта. И помимо этого каждый получит от Бога дар любви- каритас, чтобы, во-первых, обратить свой ум к Богу (что связано с любовью человека к самому себе), и во-вторых, желать, чтобы и другие обратились к Богу, или даже содействовать этому по мере своих возможностей.
( 122) Насколько же речь идет о порядке ближних между собой, то, сообразно любви- каритас, человек будет безусловно любить тех, кто лучше. В самом деле, вся жизнь блаженных заключается в обращенности, их умов к Богу. Поэтому весь порядок их любви устанавливается в соотнесении с Богом, так, именно, что каждый будет больше любить и считать более близким того, кто ближе к Богу. Действительно, тогда уже не будет необходимости в добы-
(120) Sed contra est quia natura non tollitur per glonam, sed perficitur Ordo autem cantatis supra positus (a. 3, 6, 7, 8) ex ipsa natura procedit. Omnia autem naturaliter plus se quam alia amant. Ergo iste ordo caritatis remanebit in patria
(121) Respondeo dicendum quod necesse est ordinem cantatis remanere in patria quantum ad hoc quod Deus est super omnia diligendus Hoc enim simpliciter ent tunc, quando homo perfecte eo fruetur. Sed de ordine sui ipsius ad alios distinguendum videtur. Quia sicut supra dictum est (a 7), dilectionis gradus distingui potest vel secundum differentiam boni quod quis alii exoptat, vel secundum intensionem dilectionis. Primo quidem modo plus diliget meliores quam seipsum, minus vero minus bonos. Volet enim quilibet beatus unumquemque habere quod sibi debetur secundum divinam iustitiam, propter perfectam con- formitatem voluntatis humanae ad divinam. Nec tunc erit tempus proficiendi per meritum ad maius praemium, sicut nunc accidit, quando potest homo mêlions et virtutem
et praemium desiderare, sed tunc voluntas uniuscuiusque infra hoc sistet quod est determinatum divinitus Secundo vero modo aliquis plus seipsum diliget quam proximum, etiam meliorem Quia intensio actus dilectionis provenit ex parte subiecti diligentis, ut supra dictum est (a 7). Et ad hoc etiam donum caritatis unicuique confertur a Deo, ut primo quidem mentem suam in Deum ordinet, quod pertinet ad dilectionem sui ipsius, secundario vero ordinem aliorum in Deum velit, vel etiam operetur secundum suum modum.
(122) Sed quantum ad ordinem proximorum ad invicem simpliciter quis magis diliget meliorem, secundum caritatis amorem Tota enim vita beata consistit in ordinatione mentis ad Deum Unde totus ordo dilectionis beatorum observabitur per comparationem ad Deum, ut scilicet ille magis diligatur et propinquior sibi habeatur ab unoquoque qui est Deo propinquior Cessabit enim tunc provisio, quae est in praesenti vita necessaria, qua necesse est ut unusquisque magis sibi coniuncto, secundum quam-
340
Вопрос 26. О порядке любви-каритас
че средств существования, каковая присутствует в земной жизни, когда любой должен в первую очередь помогать своим, а не чужим (неважно, о какой конкретно помощи идет речь), по каковой причине в этой жизни человек из самой склонности любви-каритас больше любит тех, с кем он связан наиболее тесно, ведь именно по отношению к ним он прежде всего обязан проявлять эту любовь. Впрочем, и в Небесном Отечестве человек сможет любить тех, кто с ним связан, на разных основаниях, ведь душа блаженного не будет лишена причин для любви-уважения. Однако все эти основания будут несоизмеримо вторичны сравнительно с тем основанием, которым является близость к Богу.
(123) Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу в отношении тех, кто является для человека своим. Но что
касается его самого, то он должен любить себя тем больше других, чем более совершенна его любовь-каритас, поскольку совершенство любви-каритас обращает человека к Богу совершенным образом, что, как уже было сказано, относится к любви к самому себе.
(124) На второе надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу по отношению к порядку любви сообразно уровню блага, которое любящий желает любимому.
(125) На третье надлежит ответить, что Бог для каждого будет полным основанием любви, поскольку Бог есть все человеческое благо; в самом деле, представим невозможное, а именно что Бог не является благом человека — тогда Он не будет для него и основанием любви. И потому в порядке любви надлежит, чтобы после Бога человек больше всего любил самого себя.
cumque necessitudinem, provideat magis quam alieno, ratione cuius in hac vita ex ipsa inclinatione caritatis homo plus diligit magis sibi coniunctum, cui magis debet impendere caritatis effectum. Continget tamen in patria quod aliquis sibi coniunctum plunbus rationibus diliget, non enim cessabunt ab animo beati honestae dilectionis causae. Tamen omnibus istis rationibus praefertur incomparabiliter ratio dilectionis quae sumitur ex propinquitate ad Deum.
(123) Ad primum ergo dicendum quod quantum ad coniunctos sibi ratio illa concedenda est. Sed quantum ad seipsum oportet quod aliquis plus se quam alios diligat, tanto magis
quanto perfectior est caritas, quia perfectio caritatis ordinat hominem perfecte in Deum quod pertinet ad dilectionem sui ipsius, ut dictum est
(124) Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit de ordine dilectionis secundum gradum boni quod aliquis vult amato.
(125) Ad tertium dicendum quod unicuique erit Deus tota ratio diligendi eo quod Deus est totum hominis bonum, dato enim, per impossibile, quod Deus non esset hominis bonum, non esset ei ratio diligendi. Et ideo in ordine dilectionis oportet quod post Deum homo maxime diligat seipsum
Вопрос 27
О главном действии любви-каритас, которым является собственно любовь
(!) Затем надлежит рассмотреть действие любви-каритас. И, во-первых, главное ее действие, т. е. собственно любовь, а во- вторых, все прочие ее действия, или следствия (В. 28-33).
(2) И касательно первого исследуются восемь [проблем]: 1) что в большей мере свойственно любви-каритас: быть любимым или любить; 2) является ли любовь как действие любви-каритас тем же, что и благоволение; 3) следует ли любить Бога из-за Него самого; 4) можно ли непосредственно любить Бога в этой жизни; 5) можно ли любить Бога во всей полноте; 6) есть ли мера у любви к Богу; 7) что лучше: любить друга или любить врага; 8) что лучше: любить Бога или любить ближнего.
Раздел 1
Действительно ли любви-каритас более присуще принимать любовь, чем любить
(3) Ход рассуждения в первом разделе та¬
ков. Представляется, что любви-каритас более присуще принимать любовь, нежели любить.
(4) 1. В самом деле, лучшая любовь-каритас обнаруживается в лучших. Но лучшие должны быть более любимы. Следовательно, любви-каритас более присуще принимать любовь.
(5) 2. Кроме того, то, что обнаруживается во многом, как кажется, лучше согласуется с природой, и, соответственно, лучше. Но, как говорит Философ, большинство скорее желает быть любимым, нежели хочет любить, и потому у льстецов так много друзей. Следовательно, «принимать любовь» лучше, чем «любить», и, соответственно, в большей степени подобает любви-каритас.
(6) 3. Кроме того, то, почему некая [вещь] такая-то, само такое-то в еще большей степени. Но люди любят потому, что любимы, ведь, как говорит Августин, ничто так не побуждает человека к любви, как
Quaestio 27 De principali actu caritatis, qui est dilectio
(1) Deinde considerandum est de actu caritatis. Et pnmo, de principali actu cantatis, qui est dilectio, secundo, de aliis actibus vel effectibus consequentibus.
(2) Circa pnmum quaeruntur octo. Primo, quid sit magis propnum cantatis, utrum aman vel amare. Secundo, utrum amare, prout est actus caritatis, sit idem quod benevolentia. Tertio, utrum Deus sit propter seipsum amandus Quarto, utrum possit in hac vita immediate amari. Quinto, utrum possit amari totaliter. Sexto, utrum eius dilectio habeat modum. Septimo, quid sit melius, utrum diligere amicum vel diligere inimicum. Octavo, quid sit melius, utrum diligere Deum vel diligere proximum.
Articulus 1
Utrum caritatis sit magis proprium amari quam amare
(3) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod cantatis magis
sit proprium amari quam amare.
(4) 1. Cantas enim in melionbus melior invenitur. Sed meliores debent magis aman. Ergo caritatis magis est propnum amari
(5) 2. Praeterea, illud quod in plunbus invenitur videtur esse magis conveniens naturae, et per consequens melius. Sed sicut dicit philosophus, in VIII Ethic. (8, 1159al2), multi magis volunt amari quam amare, propter quod amatores adulationis sunt multi. Ergo melius est amari quam amare, et per consequens magis conveniens caritati.
(6) 3. Praeterea, propter quod unumquodque, illud magis. Sed homines propter hoc quod amantur, amant, dicit enim Augustinus, in libro De catechiz rud. (4; PL 40, 314), quod nulla est maior provocatio ad amandum quam praevenire amando. Ergo caritas magis consistit in amari quam in amare.
342
Вопрос 27. О главном действии любви-каритас
предварительно обращенная на него любовь. Следовательно, любовь-каритас заключается прежде всего в принятии любви, а не наоборот.
(7) Но против: Философ говорит, что дружба заключается скорее в том, чтобы любить, нежели в том, чтобы быть любимым. Но любовь-каритас есть некая дружба. Следовательно, ей свойственно скорее любить, нежели принимать любовь.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что любви-каритас как таковой свойственно любить. В самом деле, поскольку любовь- каритас есть некая добродетель, постольку она по самой своей сущности склонна к собственному для нее действию. Но «быть любимым» не является действием любви- каритас того, кого любят, поскольку его действие заключается в собственно любви, а «быть любимым» подобает ему сообразно общему смысловому содержанию блага, а именно, постольку, поскольку другой стремится к его благу посредством действия любви-каритас. И из этого очевидно, что любви-каритас в большей мере подобает любить, чем принимать любовь, ведь то, что подобает чему-либо как таковому и субстанциально, подобает в большей степени, чем то, что подобает ему через нечто
иное. И тому есть два свидетельства. Так, во-первых, друзей больше одобряют за то, что они любят, чем за то, что они принимают любовь, а если случается так, что их любят, а они — нет, то их порицают. Во- вторых, матери, чья любовь очень сильна, стремятся скорее любить, чем быть любимыми, поскольку, как отмечает Философ, когда некоторые женщины отдают своих детей на воспитание, то чувствуют к ним любовь, но не ищут ответной любви, когда такая взаимность представляется невозможной.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что лучшие, поскольку они лучшие, должны быть любимы больше. Но из-за того, что их любовь-каритас совершенна, они сами любят больше, чем любят их. В самом деле, лучший не любит то, что ниже него, меньше, чем оно должно быть любимо, а тот, кто менее благ, не может любить того, кто лучше, так, как следует.
(ю) На второе надлежит ответить, что как говорит Философ, люди хотят быть любимыми постольку, поскольку желают уважения. В самом деле, как уважение оказывается человеку как некое свидетельство пребывающего в нем блага, так и любовь к человеку показывает, что в нем имеется
(7) Sed contra est quod philosophus dicit, in VIII Ethic (8, 1159a27), quod magis existit amicitia in amare quam in amari. Sed cantas est amicitia quaedam Ergo caritas magis consistit in amare quam in aman.
(8) Respondeo dicendum quod amare convenit cantati inquantum est caritas. Caritas enim, cum sit virtus quaedam, secundum suam essentiam habet inclinationem ad proprium actum. Amari autem non est actus caritatis ipsius qui amatur, sed actus caritatis eius est amare; amari autem competit ei secundum communem rationem boni, prout scilicet ad eius bonum alius per actum caritatis movetur. Unde manifestum est quod cantati magis convenit amare quam amari, magis enim convenit unicuique quod convenit ei per se et substantialiter quam quod convenit ei per aliud. Et huius duplex est signum. Pnmum quidem, quia amici magis laudantur ex hoc quod amant quam ex hoc quod amantur, quinimmo si non amant et amentur, vituperantur. Secundo, quia matres, quae maxime amant, plus quaerunt amare quam aman, quaedam enim, ut philoso¬
phus dicit, in eodem libro (8, 1159a28), filios suos dant nutrici, et amant quidem, reamari autem non quaerunt, si non contingat.
(9) Ad primum ergo dicendum quod meliores ex eo quod meliores sunt, sunt magis amabiles. Sed ex eo quod in eis est perfectior cantas, sunt magis amantes, secundum tamen proportionem amati Non enim melior minus amat id quod infra ipsum est quam amabile sit, sed ille qui est minus bonus non attingit ad amandum meliorem quantum amabilis est.
(10) Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit ibidem {Ethic., VIII, 8; 1159al6), homines volunt amari inquantum volunt honoran. Sicut enim honor exhibetur alicui ut quoddam testimonium boni in ipso qui honoratur, ita per hoc quod aliquis amatur ostenditur in ipso esse aliquod bonum, quia solum bonum amabile est. Sic igitur amari et honoran quaerunt homines propter aliud, scilicet ad manifestationem boni in amato existentis. Amare autem quaerunt cantatem habentes secundum se, quasi ipsum
Раздел 2. Тождественна ли любовь благоволению
343
некое благо, поскольку только благо любимо. Итак, следовательно, люди стремятся быть любимыми и уважаемыми ради чего-то еще, а именно, ради демонстрации блага, пребывающего в любимом. Но те, кто обладает любовью-каритас, стремятся любить ради любви, как если бы в этом и заключалось благо любви-каритас, так, как и действие любой добродетели является благом этой добродетели. Следовательно, любви-каритас в большей мере свойственно желание любить, нежели желание быть любимым.
(п) На третье надлежит ответить, что некоторые любят, чтобы быть любимыми, не потому, что «быть любимыми» — цель их любви, а потому, что это некий путь, приводящий человека к любви.
Раздел 2
Тождественна ли любовь, сообразно тому, что она есть действие любви-каритас, благоволению
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что любовь, сообразно тому, что она есть действие любви-каритас, есть не что иное, как благоволение.
(13) 1. В самом деле, Философ говорит, что любовь заключается в желании бла-
sit bonum cantatis, sicut et quilibet actus virtutis est bonum virtutis illius. Unde magis pertinet ad caritatem velle amare quam velle aman.
(11) Ad tertium dicendum quod propter amari aliqui amant, non ita quod amari sit finis eius quod est amare, sed eo quod est via quaedam ad hoc inducens quod homo amet.
Articulus 2
Utrum amare, secundum quod est actus caritatis, sit idem quod benevolentia
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod amare, secundum quod est actus cantatis, nihil sit aliud quam benevolentia.
(13) 1 Dicit enim philosophus, in II Rhet. (4; 1380b35) amare est velle alicui bona. Sed hoc est benevolentia. Ergo nihil aliud est actus cantatis quam benevolentia.
га. Но это и значит — благоволить. Следовательно, действие любви-каритас есть не что иное, как благоволение.
(и) 2. Кроме того, чему принадлежит хаби-
тус, тому принадлежит и действие. Но ха- битус любви-каритас, как было показано выше (В. 24, Р. 1), пребывает в способности воли. Поэтому действие любви-каритас является действием воли. Но только такой воли, которая стремится к благу, что и является благоволением. Следовательно, действием любви-каритас является не что иное, как благоволение.
(15) 3. Кроме того, Философ указывает пять [вещей], относящихся к дружбе: во-первых, человек желает другу блага; во-вторых, он желает, чтобы тот существовал и жил; в-третьих, он тесно общается с ним; в-четвертых, он избирает то же, что и друг; в-пятых, он делит с другом радости и печали. Но первые две [вещи] относятся к благоволению. Следовательно, первым действием любви-каритас является благоволение.
(16) Но против: Философ говорит, что благоволение не является ни любовью, ни дружбой, но есть начало дружбы. Однако любовь-каритас есть дружба, как уже было сказано выше (В. 23, Р. 1). Следовательно,
(14) 2. Praeterea, cuius est habitus, eius est actus. Sed habitus cantatis est in potentia voluntatis, ut supra dictum est (q. 24, a. 1). Ergo etiam actus cantatis est actus voluntatis. Sed non nisi in bonum tendens, quod est benevolentia. Ergo actus cantatis nihil est aliud quam benevolentia
(15) 3. Praeterea, philosophus, in IX Ethic. (4; Il66a3), ponit quinque ad amicitiam pertinentia, quorum pnmum est quod homo velit amico bonum; secundum est quod velit ei esse et vivere; tertium est quod ei convivat; quartum est quod eadem eligat; quintum est quod condoleat et congaudeat. Sed prima duo ad benevolentiam pertinent. Ergo pnmus actus cantatis est benevolentia.
(16) Sed contra est quod philosophus dicit {Ethic., IX, 5; 1166b30; b32), in eodem libro, quod benevolentia neque est amicitia neque est amatio, sed est amicitiae principium. Sed cantas est amicitia, ut supra dictum est (q. 23, a. 1).
344
Вопрос 27. О главном действии любви-каритас
благоволение не есть то же, что и любовь, являющаяся действием любви-каритас.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что благоволением в строгом смысле слова называется действие воли, посредством которого мы желаем блага другому. Но это действие воли отличается от действительной любви, как сообразно тому, что она пребывает в чувственном желании, так и сообразно тому, что она пребывает в разумном желании, т. е. в воле. В самом деле, та любовь, которая пребывает в чувственном желании, есть некая страсть. Но любая страсть неким порывом стремления склоняет к своему объекту. Однако страсть любви возникает не вдруг, а после длительного исследования любимой вещи. И потому Философ, показывая различие между благоволением и любовью-страстью, говорит, что благоволение не обладает ни пылом, ни страстностью, т. е. неким порывом стремления, но человек желает блага другому только на основании суждения разума. Равным образом, такая любовь происходит из некоей привычки, а благоволение может появиться внезапно — когда мы, например, наблюдая за кулачным боем, начинаем желать победы одному из участников.
(18) Но и та любовь, которая пребывает в разумном желании, также отличается от благоволения. В самом деле, она подразумевает некое соединение, сообразно аффекту, любящего и любимого — постольку, поскольку любящий воспринимает любимого как некоторым образом соединенного с ним или как принадлежащего ему, вследствие чего и стремится к любимому. А благоволение есть простое действие воли, посредством которого мы желаем человеку блага, даже без вышеназванного аффективного единства с ним. Итак, любовь, которая является действием любви-каритас, включает в себя благоволение, но любовь, или приязнь, добавляет к нему аффективное единство. И потому Философ говорит, что благоволение является началом дружбы.
(19) Итак, на первое надлежит ответить, что Философ, определяя любовь, представляет здесь не полное смысловое содержание, но лишь ту его часть, в которой действие любви отражено наиболее явным образом.
(20) На второе надлежит ответить, что любовь есть действие воли, стремящейся к благу, но предполагающее некое соединение с любимым, какового соединения благоволение не предполагает.
Ergo benevolentia non est idem quod dilectio, quae est caritatis actus.
(17) Respondeo dicendum quod benevolentia proprie dicitur actus voluntatis quo alteri bonum volumus. Hic autem voluntatis actus differt ab actuali amore tam secundum quod est in appetitu sensitivo, quam etiam secundum quod est in appetitu intellectivo, qui est voluntas. Amor enim qui est in appetitu sensitivo passio quaedam est. Omnis autem passio cum quodam impetu inclinat in suum obiectum. Passio autem amons hoc habet quod non subito exoritur, sed per aliquam assiduam inspectionem rei amatae. Et ideo philosophus, in IX Ethic. (5; 1166b33), ostendens differentiam inter benevolentiam et amorem qui est passio, dicit quod benevolentia non habet distensionem et appetitum, idest aliquem impetum inclinationis, sed ex solo iudicio rationis homo vult bonum alicui. Similiter etiam talis amor est ex quadam consuetudine, benevolentia autem interdum oritur ex repentino, sicut accidit nobis de pugilibus qui pugnant, quorum alterum vellemus vincere.
(18) Sed amor qui est in appetitu intellectivo etiam differt a benevolentia. Importat enim quandam unionem secundum affectus amantis ad amatum, inquantum scilicet
amans aestimat amatum quodammodo ut unum sibi, vel ad se pertinens, et sic movetur in ipsum. Sed benevolentia est simplex actus voluntatis quo volumus alicui bonum, etiam non praesupposita praedicta unione affectus ad ipsum. Sic igitur in dilectione, secundum quod est actus cantatis, includitur quidem benevolentia, sed dilectio sive amor addit unionem affectus. Et propter hoc philosophus dicit ibidem (Ethic., IX, 5; Il67a3) quod benevolentia est principium amicitiae.
(19) Ad primum ergo dicendum quod philosophus ibi definit (Rhet., II, 4, 1380b35) amare non ponens totam rationem ipsius, sed aliquid ad rationem eius pertinens in quo maxime manifestatur dilectionis actus.
(20) Ad secundum dicendum quod dilectio est actus voluntatis in bonum tendens, sed cum quadam unione ad amatum, quae quidem in benevolentia non importatur.
(21) Ad tertium dicendum quod intantum illa quae philosophus ibi (Ethic., IX, 4; 1166a3) ponit ad amicitiam pertinent, inquantum proveniunt ex amore quem quis habet ad seipsum, ut ibidem dicitur, ut scilicet haec omnia aliquis erga amicum agat sicut ad seipsum. Quod pertinet ad praedictam unionem affectus.
Раздел 3. Следует ли из любви-каритас любить Бога из-за Него самого
345
(21) На третье надлежит ответить, что перечисленное Философом относится к дружбе постольку, поскольку происходит из любви человека к самому себе, о чем говорится там же — ведь человек желает таковое своему Другу так же, как и себе. Но это как раз и относится к вышеупомянутому аффективному соединению.
Раздел 3
Следует ли из любви-каритас любить Бога из-за Него самого
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что из любви каритас Бога следует любить не из-за Него самого, а из-за чего-то другого.
(23) 1. В самом деле, Григорий говорит, что душа учится любить неизвестное на основании того, что она уже знает, где под «неизвестным» он разумеет умопостигаемое и божественное, а под «известным» — чувственно воспринимаемое. Следовательно, Бога надлежит любить из-за чего-то другого.
(24) 2. Кроме того, любовь следует за знанием. Но Бог познается через иное, согласно этим словам (Рим 1, 20): Невидимое Его чрез рассматривание творений видимо. Следовательно, и любим Он из-за чего-то
еще, а не из-за себя самого.
(25) 3. Кроме того, как утверждает глосса
к Мф 1,1, надежда рождает любовь, а Августин говорит, что страх также приводит к любви. Но надежда ожидает получить что-либо от Бога, а страх избегает чего-то, причиной чего может быть Бог. Таким образом, как представляется, Бога надлежит любить из-за некоего блага, на которое мы надеемся, или же некоего зла, которого мы опасаемся. Следовательно, Бога надо любить не из-за Него самого.
(26) Но против: Августин говорит в I книге «Об учении христианском», наслаждение заключается в соединении посредством любви с кем-либо ради него самого. Но, как он говорит там же, Богом надлежит наслаждаться. Следовательно, Бога надлежит любить из-за Него самого.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что этот предлог «из-за» подразумевает отношение причины. Но есть четыре рода причин, а именно целевая, формальная, производящая и материальная причины, причем к последней сводится материальная предрасположенность, которая является причиной не безусловно, но в некотором отношении. И о том, что нечто любимо из-за другого, говорится сообразно этим четы-
Articulus 3
Utrum Deus sit propter seipsum ex caritate diligendus
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Deus non propter seipsum, sed propter aliud diligatur ex cantate.
(23) 1. Dicit enim Gregonus, in quadam homilia (ïn Evang. 1 hom. 11; PL 76, 1114), ex his quae novit animus discit incognita amare. Vocat autem incognita intelligibilia et divina, cognita autem sensibilia. Ergo Deus est propter alia diligendus.
(24) 2 Praeterea, amor sequitur cognitionem. Sed Deus per aliud cognoscitur, secundum illud Rom. I. Invisibilia Dei
per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur. Ergo etiam propter aliud amatur, et non propter se.
(25) 3. Praeterea, spes generat caritatem, ut dicitur in Glossa (interi.) Matth. I. Timor etiam caritatem introducit; ut Augustinus dicit, super Prim. Canonic. Ioan (Tract. IX super 4, 18; PL 35, 2048). Sed spes expectat aliquid adipisci a Deo, timor autem refugit aliquid quod a Deo infligi potest. Ergo videtur quod Deus propter aliquod bonum speratum, vel propter aliquod malum timendum sit amandus. Non ergo est amandus propter seipsum.
(26) Sed contra est quod, sicut Augustinus dicit, in I De doct. Christ. (5; PL 34, 21), frui est amore inhaerere alicui propter seipsum Sed Deo fruendum est, ut in eodem libro dicitur (Ibid., 4; PL 34, 20). Ergo Deus diligendus est propter seipsum.
(27) Respondeo dicendum quod ly propter importat habitudinem alicuius causae. Est autem quadruplex genus causae, scilicet finalis, formalis, efficiens et materialis, ad quam reducitur etiam materialis dispositio, quae non est
346
Вопрос 27. О главном действии любви-каритас
рем родам причин. Так, сообразно целевой причине мы любим лекарство из-за здоровья. Сообразно формальной причине мы любим человека из-за его добродетели, поскольку благодаря своей добродетели он является формально благим и, соответственно, достойным любви. В соответствии с производящей причиной мы любим некоторых людей из-за того, что они сыновья такого-то отца. В соответствии с материальной предрасположенностью, сводимой к роду материальной причины, мы говорим о том, что любим нечто из-за того, что располагает нас к этой любви; например, мы говорим, что любим человека из-за полученных от него благодеяний, хотя уже после того, как мы полюбили его, мы любим его как друга, не из-за его благодеяний, а из-за его добродетели.
(28) Итак, если говорить о первых трех причинах, то мы любим Бога не из-за чего- то еще, но из-за Него самого. В самом деле, Он не определен к чему-то другому как к некоей цели, но сам является предельной целью всего. Точно так же Он не нуждается в какой-либо форме, чтобы быть благим, поскольку Его субстанция есть Его благость, являющаяся образцом для всего остального блага. И точно
так же не Он получает благо от чего-то иного, но все остальное — от Него. Однако согласно четвертой причине Бога можно любить из-за чего-то еще, постольку, поскольку нечто иное предрасполагает нас к тому, чтобы любить Бога, например, получаемые от Него благодеяния, или награды, на которые мы надеемся, или кары, которых мы стремимся избежать.
(29) Итак, на первое надлежит ответить, что душа учится любить неизвестное, опираясь на известное, не так, как если бы то, что она знает, было основанием любви к тому, что она не знает, в качестве формальной, целевой и производящей причины; речь о том, что известное предрасполагает человека к любви к неизвестному.
(30) На второе надлежит ответить, что познание Бога, конечно, обретается через другие [вещи], но после того, как Он узнан, Он познается уже не через иное, а через самого себя, согласно этим словам (Ин 4, 42): Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он — истинно Спаситель мира.
(31) На третье надлежит ответить, что надежда и страх ведут к любви-каритас как нечто предрасполагающее, как явствует из сказанного выше (В. 17, Р. 8; В. 19, Р. 7).
causa simpliciter, sed secundum quid. Et secundum haec quatuor genera causarum dicitur aliquid propter alterum diligendum. Secundum quidem genus causae finalis, sicut diligimus medicinam propter sanitatem. Secundum autem genus causae formalis, sicut diligimus hominem propter virtutem, quia scilicet virtute formaliter est bonus, et per consequens diligibilis. Secundum autem causam efficientem, sicut diligimus aliquos inquantum sunt filii talis patns. Secundum autem dispositionem, quae reducitur ad genus causae materialis, dicimur aliquid diligere propter id quod nos disposuit ad eius dilectionem, puta propter aliqua beneficia suscepta, quamvis postquam iam amare incipimus, non propter illa beneficia amemus amicum, sed propter eius virtutem.
(28) Pnmis igitur tribus modis Deum non diligimus propter aliud, sed propter seipsum. Non enim ordinatur ad aliud sicut ad finem, sed ipse est finis ultimus omnium. Neque etiam informatur aliquo alio ad hoc quod sit bonus, sed eius substantia est eius bonitas, secundum quam exemplar-
iter omnia bona sunt. Neque iterum ei ab altero bonitas inest, sed ab ipso omnibus aliis. Sed quarto modo potest diligi propter aliud, quia scilicet ex aliquibus aliis disponimur ad hoc quod in Dei dilectione proficiamus, puta per beneficia ab eo suscepta, vel etiam per praemia sperata, vel per poenas quas per ipsum vitare intendimus.
(29) Ad primum ergo dicendum quod ex his quae animus novit discit incognita amare, non quod cognita sint ratio diligendi ipsa incognita per modum causae formalis vel finalis vel efficientis, sed quia per hoc homo disponitur ad amandum incognita.
(30) Ad secundum dicendum quod cognitio Dei acquintur quidem per alia, sed postquam iam cognoscitur, non per alia cognoscitur, sed per seipsum; secundum illud Ioan. IV. Iam non propter tuam loquelam credimus, ipsi enim vidimus, et scimus quia hic est vere salvator mundi.
(31) Ad tertium dicendum quod spes et timor ducunt ad cantatem per modum dispositionis cuiusdam, ut ex supra- dictis patet (q. 17, a. 8, q. 19, a. 7).
Раздел 4. Можно ли в этой жизни любить Бога непосредственно
347
Раздел 4
Можно ли в этой жизни любить Бога непосредственно
(32) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что в этой жизни непосредственно любить Бога нельзя.
рз) 1. В самом деле, как говорит Августин, неизвестное любить невозможно. Но у нас нет непосредственного знания Бога в этой жизни, поскольку теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадателъно (1 Кор 13, 12). Следовательно, мы не можем любить Бога непосредственно.
(34) 2. Кроме того, тот, кто не может делать нечто меньшее, не может делать и большее. Но любовь к Богу больше, чем знание о Нем, поскольку соединяющийся с Господом любовью есть один дух с Ним (1 Кор 6, 17). Но человек не может непосредственно познавать Бога. Следовательно, он куда меньше может непосредственно любить Его.
(35) 3. Кроме того, человек отделен от Бога грехом, согласно этим словам (Ис 59, 2): Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Но грех пребывает скорее в воле, нежели в разуме. Следовательно, человек менее способен непосредственно любить Бога, чем непосредственно познавать Его.
Articulus 4
Utrum Deus in hac vita possit immediate amari
(32) Ad quartum sic proceditur Videtur quod Deus in hac vita non possit immediate amari.
(33) 1 Incognita enim amari non possunt; ut Augustinus dicit, X De Trin (4; PL 34, 20). Sed Deum non cognoscimus immediate in hac vita, quia videmus nunc per speculum in aenigmate, ut dicitur I ad Cor. XIII. Ergo neque etiam eum immediate amamus.
(34) 2 Praeterea, qui non potest quod minus est non potest quod maius est. Sed maius est amare Deum quam cognoscere ipsum, qui enim adhaeret Deo per amorem unus spiritus cum illo fit, ut dicitur I ad Cor. VI. Sed homo non potest Deum cognoscere immediate. Ergo multo minus amare.
(35) 3 Praeterea, homo a Deo disiungitur per peccatum, secundum illud Isaiae LIX, peccata vestra diviserunt inter vos et Deum vestrum. Sed peccatum magis est in voluntate quam in intellectu. Ergo minus potest homo Deum diligere
(36) Но против: опосредованное знание Бога называется «гадательным», и оно упраздняется в Небесном Отечестве, как сказано в Писании. Но, как сказано там же (1 Кор 13, 8), любовь никогда не перестает. Следовательно, любовью-каритас человек непосредственно прилепляется к Богу уже в этой жизни.
(37) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше (В. 26, Р. 1, на 1), действие познавательной способности находит свое завершение сообразно тому, что познанное пребывает в познающем, а действие желающей способности осуществляется в устремлении желания к вещи как таковой. И потому надлежит, чтобы движение желающей способности было обращено на вещи сообразно их собственному состоянию, а действие познавательной способности имело место сообразно модусу познающего. Но порядок вещей сам по себе таков, что Бог познаваем и любим ради Него самого, поскольку Он по своей сущности является самими истиной и благом, в силу которых все прочие вещи познаваемы и любимы. Однако с нашей стороны, поскольку наше познание начинается с чувства, первыми познаются те [вещи], которые ближе всего к чувству, а в по-
immediate quam immediate eum cognoscere.
(36) Sed contra est quod cognitio Dei, quia est mediata, dicitur aenigmatica, et evacuatur in patria, ut patet I ad Cor. XIII. Sed caritas non evacuatur, ut dicitur I ad Cor. XIII. Ergo caritas viae immediate Deo adhaeret.
(37) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (q. 26, a. 1, ad 2), actus cognitivae virtutis perficitur per hoc quod cognitum est in cognoscente, actus autem virtutis appet- itivae perficitur per hoc quod appetitus inclinatur in rem ipsam. Et ideo oportet quod motus appetitivae virtutis sit in res secundum conditionem ipsarum rerum, actus autem cognitivae virtutis est secundum modum cognoscentis. Est autem ipse ordo rerum talis secundum se quod Deus est propter seipsum cognoscibilis et diligibilis, utpote essentialiter existens ipsa veritas et bonitas, per quam alia et cognoscuntur et amantur. Sed quoad nos, quia nostra cognitio a sensu ortum habet, prius sunt cognoscibilia quae sunt sensui propinquiora; et ultimus terminus cognitionis est in eo quod est maxime a sensu remotum. Secundum
348
Вопрос 27. О главном действии любви-каритас
следнюю очередь — те, которые максимально от них удалены. И сообразно этому надлежит сказать, что любовь, которая является действием желающей способности, даже и в этой земной жизни сперва обращается на Бога, а уже затем переходит на все прочее; и в этом смысле любовь-каритас любит Бога непосредственно, и все остальное — опосредованно, через Бога. А со знанием дело обстоит наоборот, поскольку мы познаем Бога через иное — или как причину через ее следствия, или по способу превосходства и отрицания, как явствует из слов Дионисия.
(38) Итак, на первое надлежит ответить, что хотя неизвестное любить нельзя, из этого не следует, что порядок знания тождественен порядку любви. В самом деле, любовь является пределом познания. И потому там, где завершается познание, т. е. на самой вещи, которая познается через иное, может немедленно возникнуть любовь.
(39) На второе надлежит ответить, что поскольку любовь к Богу есть нечто большее, чем Его познание, особенно в земной жизни, постольку первая предполагает второе. И поскольку познание не останавливается на тварных вещах, но через них
устремляется к чему-то иному, там и возникает любовь, и оттуда распространяется на остальное, неким круговым движением: ведь познание начинается с творения и стремится к Богу, а любовь начинается с Бога как с предельной цели и от Него переходит на творения.
(40) На третье надлежит ответить, что вызванное грехом отвращение от Бога устраняется любовью-каритас, а не одним только знанием. И потому любовь-каритас, любя Бога, соединяет душу узами духовного единения непосредственно с Ним.
Раздел 5
Можно ли любить Бога во всей полноте
(41) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что нельзя любить Бога во всей полноте.
(42) 1. В самом деле, любовь следует за знанием. Но мы не можем полностью познать Бога, поскольку это значило бы, что мы полностью постигли Его. Следовательно, Бог не может быть любим нами во всей полноте.
(43) 2. Кроме того, любовь, как говорит Ди-
hoc ergo dicendum est quod dilectio, quae est appetitivae virtutis actus, etiam in statu viae tendit in Deum primo, et ex ipso derivatur ad alia, et secundum hoc caritas Deum immediate diligit, alia vero mediante Deo. In cognitione vero est e converso, quia scilicet per alia Deum cognoscimus, sicut causam per effectus, vel per modum eminentiae aut negationis ut patet per Dionysium, in libro Dediv. nom. (1, 5; PG 3, 593).
(38) Ad primum ergo dicendum quod quamvis incognita amari non possint, tamen non oportet quod sit idem ordo cognitionis et dilectionis. Nam dilectio est cognitionis terminus. Et ideo ubi desinit cognitio, scilicet in ipsa re quae per aliam cognoscitur, ibi statim dilectio incipere potest.
(39) Ad secundum dicendum quod quia dilectio Dei est maius aliquid quam eius cognitio, maxime secundum statum viae, ideo praesupponit ipsam. Et quia cognitio non quiescit in rebus creatis, sed per eas in aliud tendit, in illo dilectio incipit, et per hoc ad alia derivatur, per modum cuiusdam circulationis, dum cognitio, a creaturis incipiens, tendit in
Deum; et dilectio, a Deo incipiens sicut ab ultimo fine, ad creaturas derivatur.
(40) Ad tertium dicendum quod per caritatem tollitur aversio a Deo quae est per peccatum; non autem per solam cognitionem. Et ideo cantas est quae, diligendo, animam immediate Deo coniungit spintualis vinculo unionis.
Articulus 5 Utrum Deus possit totaliter amari
(41) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod Deus non possit totaliter aman.
(42) 1. Amor enim sequitur cognitionem. Sed Deus non potest totaliter a nobis cognosci, quia hoc esset eum comprehendere. Ergo non potest a nobis totaliter aman.
(43) 2. Praeterea, amor est unio quaedam, ut patet per Dionysium, IV cap. De div. nom. (12; PG 3, 709). Sed cor hominis non potest ad Deum uniri totaliter, quia Deus est maior corde nostro, ut dicitur I Ioan. III. Ergo Deus non potest totaliter amari.
Раздел 6. Следует ли различать некий модус любви к Богу
349
онисий, есть некое единение. Но человеческое сердце не может соединиться с Богом во всей Его полноте, поскольку Бог больше сердца нашего (1 Ин 3, 20). Следовательно, Бог не может быть любим во всей полноте.
(44) 3. Кроме того, Бог любит себя во всей полноте. Если бы, следовательно, кто-то другой также любил Его во всей полноте, это означало бы, что он любит Его настолько, насколько Бог любит себя. Но это нелепо. Следовательно, творение не может любить Бога во всей полноте.
(45) Но против: сказано (Втор 6, 5): Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим.
(46) Отвечаю: надлежит сказать, что поскольку любовь мыслится как нечто посредствующее между любящим и любимым, постольку вопрос о том, можно ли любить Бога во всей полноте, можно понять трояко. Во-первых, так, что модус полноты относится к любимой вещи; и в этом смысле Бога необходимо любить во всей полноте, поскольку человек должен любить все, что относится к Богу. Во-вторых, модус полноты можно относить к любящему; и в этом смысле также следует любить Бога во всей полноте, поскольку человек должен любить Бога всеми своими силами и все свое обращать на лю¬
бовь к Богу, согласно этим словам (Втор 6, 5): Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. В-третьих, полноту можно понимать сообразно соотнесению любящего с любимой вещью, так именно, что модус любящего сравнивается с модусом любимой вещи. И это невозможно. В самом деле, поскольку все любимо соразмерно своей благости, постольку Бог, чья благость бесконечна, любим бесконечно. Но никакое творение не может любить Бога бесконечно, поскольку все его способности, как природные, так и влиянные, конечны.
(47) И из этого очевидны ответы на возражения, поскольку первые три подразумевают третий смысл [полноты], а последнее, [т. е. аргумент «против»], второй.
Раздел 6 Следует ли различать некий модус любви к Богу
(48) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что надлежит различать некий модус любви к Богу.
(49) 1. В самом деле, смысловое содержание блага заключается в модусе, виде и порядке, как явствует из слов Августина. Но любовь к Богу — это лучшее в человеке, согласно сказанному (Кол 3, 14): Более же
(44) 3 Praeterea, Deus seipsum totaliter amat. Si igitur ab aliquo alio totaliter amatur, aliquis alius diligit Deum tantum quantum ipse se diligit Hoc autem est inconveniens. Ergo Deus non potest totaliter diligi ab aliqua creatura.
(45) Sed contra est quod dicitur Deut. VI, diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo.
(46) Respondeo dicendum quod, cum dilectio intelligatur quasi medium inter amantem et amatum, cum quaeritur an Deus possit totaliter diligi, tnpliciter potest intelligi. Uno modo, ut modus totalitatis referatur ad rem dilectam. Et sic Deus est totaliter diligendus, quia totum quod ad Deum pertinet homo diligere debet. Alio modo potest intelligi ita quod totalitas referatur ad diligentem. Et sic etiam Deus totaliter diligi debet, quia ex toto posse suo debet homo diligere Deum, et quidquid habet ad Dei amorem ordinare, secundum illud Deut. VI, diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo. Tertio modo potest intelligi secundum comparationem diligentis ad rem dilectam, ut scilicet modus diligentis adaequet modum rei dilectae. Et hoc non
potest esse. Cum enim unumquodque intantum diligibile sit inquantum est bonum, Deus, cuius bonitas est infinita, est infinite diligibilis, nulla autem creatura potest Deum infinite diligere, quia omnis virtus creaturae, sive naturalis sive infusa, est finita.
(47) Et per hoc patet responsio ad obiecta. Nam primae tres obiectiones procedunt secundum hunc tertium sensum, ultima autem ratio procedit in sensu secundo.
Articulus 6
Utrum divinae dilectionis sit aliquis modus habendus
(48) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod divinae dilectionis sit aliquis modus habendus.
(49) 1. Ratio enim boni consistit in modo, specie et ordine, ut patet per Augustinum, in libro De nat. boni. (3; PL 42, 553). Sed dilectio Dei est optimum in homine, secundum illud ad Coloss. III, super omnia caritatem habete. Ergo dilectio Dei debet modum habere.
350
Вопрос 27. О главном действии любви-каритас
всего облекитесь в любовь. Следовательно, любовь к Богу должна обладать модусом.
(50) 2. Кроме того, Августин говорит: Прошу, скажи мне, какова должна быть мера любви. Ибо я не хочу воспылать страстью и любовью к Господу больше или меньше, чем нужно. Но если бы любовь к Богу не имела модуса, то его поиски были бы тщетны. Следовательно, существует некий модус любви к Богу.
(51) 3. Кроме того, Августин говорит, что модус есть собственная мера каждой [вещи]. Но мерой человеческой воли, как и внешнего действия, является разум. Поэтому как во внешних проявлениях любви-каритас необходим предписанный разумом модус (согласно этим словам (Рим 12, 1): Для разумного служения вашего), так и сама внутренняя любовь к Богу должна иметь модус.
(52) Но против: Бернард говорит, что причина любви к Богу — Бог, а мера ее — отсутствие меры.
(53) Отвечаю: надлежит сказать, что, как явствует из приведенного выше авторитетного суждения Августина, модус подразумевает некую определенность меры. И эта определенность обнаруживается как в самой мере, так и в измеряемой [вещи], хотя
и по-разному. В самом деле, в мере она обнаруживается сущностно, поскольку мера сама по себе является определяющей и измеряющей другие [вещи], а в измеряемых [вещах] мера присутствует в некотором отношении, постольку, поскольку они отвечают [своей] мере. Поэтому в самой мере не может быть ничего неопределенного, тогда как в измеряемой вещи может присутствовать неопределенность, если она не соответствует [своей] мере, превосходя или не достигая ее.
(54) Но во всем желаемом и делаемом мерой является цель, поскольку основание всего того, что делается или желается, обнаруживается в цели, как явствует из слов Философа. И потому цель обладает модусом сама по себе, в то время как средства достижения цели обладают модусом сообразно тому, что адекватны цели. Поэтому, как говорит Философ, стремление к цели у всех искусств без предела и ограничения, тогда как у средств достижения цели имеется некий предел. Так, врач не устанавливает предела здоровью, но делает все, что может, для того, чтобы оно было совершенным; тем не менее, он устанавливает ограничения для лекарства, ибо дает его не столько, сколько может, а столь¬
ко) 2. Praeterea, Augustinus dicit, in libro De morib. Eccles. (8; PL 32, 1316), dic mihi, quaeso te, quis sit diligendi modus. Vereor enim ne plus minusve quam oportet inflammer desiderio et amore domini mei. Frustra autem quaereret modum nisi esset aliquis divinae dilectionis modus. Ergo est aliquis modus divinae dilectionis.
(51) 3. Praeterea, sicut Augustinus dicit, IV Super Gen. ad litt. (3; PL 34, 299), modus est quem unicuique propria mensura praefigit. Sed mensura voluntatis humanae, sicut et actionis exterioris, est ratio. Ergo sicut in exteriori effectu caritatis oportet habere modum a ratione praestitum, secundum illud Rom. XII, rationabile obsequium vestrum; ita etiam ipsa interior dilectio Dei debet modum habere.
(52) Sed contra est quod Bemardus dicit, in libro De diligendo Deum (1; PL 182, 974), quod causa diligendi Deum Deus est; modus, sine modo diligere.
(53) Respondeo dicendum quod, sicut patet ex inducta auctoritate Augustini, modus importat quandam mensurae determinationem. Haec autem determinatio invenitur et
in mensura et in mensurato, aliter tamen et aliter. In mensura enim invenitur essentialiter, quia mensura secundum seipsam est determinativa et modificativa aliorum, in mensuratis autem invenitur mensura secundum aliud, idest inquantum attingunt mensuram. Et ideo in mensura nihil potest accipi immodificatum, sed res mensurata est immodificata nisi mensuram attingat, sive deficiat sive excedat.
(54) In omnibus autem appetibilibus et agibilibus mensura est finis, quia eorum quae appetimus et agimus oportet propriam rationem ex fine accipere, ut patet per philosophum, in II Physic. (9, 200a32). Et ideo finis secundum seipsum habet modum, ea vero quae sunt ad finem habent modum ex eo quod sunt fini proportionata. Et ideo, sicut philosophus dicit, in I Polit. (7, 1257b26), appetitus finis in omnibus artibus est absque fine et termino, eorum autem quae sunt ad finem est aliquis terminus Non enim medicus imponit aliquem terminum sanitati, sed facit eam perfectam quantumcumque potest, sed medicinae imponit
Раздел 7. Является ли любовь к врагу большей заслугой, чем любовь к другу
351
ко, сколько нужно для здоровья, поскольку если лекарство превысит определенную меру, то его будет либо недостаточно, либо слишком много. Но целью всех человеческих действий и устремлений является любовь к Богу, поскольку главным образом именно благодаря ей мы достигаем предельной цели, как было показано выше (В. 17, Р. 6; В. 23, Р. 6). И потому нельзя установить модус любви к Богу как меру для измеряемой вещи, так, чтобы в ней могли быть нехватка или избыточность; модус этой любви такой, какой обнаруживается в самой мере, в которой не может быть избытка, но чем полнее обретается норма, тем лучше. Итак, чем больше мы любим Бога, тем лучше любовь.
(55) Итак, на первое надлежит ответить, что то, что «такое-то» по сущности, превосходит то, что «такое-то» благодаря другому. Поэтому благость меры, которая обладает модусом по своей сущности, превосходит благость измеряемой вещи, которая обладает модусом благодаря другому. И точно так же любовь-каритас, которая обладает модусом наподобие меры, превосходит другие добродетели, которые обладают модусом наподобие измеряемых [вещей].
(56) На второе надлежит ответить, что Ав¬
густин сам добавляет там же, что мера любви к Богу в том, чтобы любить Его всем сердцем, т. е. любить Его настолько, насколько это возможно. И это относится к тому модусу, который подобает мере.
(57) На третье надлежит ответить, что тот аффект, объект которого подчиняется суждению разума, должен измеряться разумом. Но объект любви к Богу, а именно, Бог, превосходит суждение разума. И потому этот объект не измеряется разумом, но превосходит его. Равным образом, нет равенства и между внутренним и внешними действиями любви-каритас. Ведь внутреннее действие этой любви обладает смысловым содержанием цели, поскольку предельное благо человека заключается в соединении его души с Богом, согласно этим словам (Пс 72, 28): А мне благо — приближаться к Богу. А внешние действия являются средствами достижения цели, и потому они должны измеряться как любовью- каритас, так и разумом.
Раздел 7
Действительно ли любовь к врагу является большей заслугой, чем любовь к другу
(58) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что любовь к вра-
terminum; non enim dat tantum de medicina quantum potest, sed secundum proportionem ad sanitatem, quam quidem proportionem si medicina excederet, vel ab ea deficeret, esset immoderata. Finis autem omnium actionum humanarum et affectionum est Dei dilectio, per quam maxime attingimus ultimum finem, ut supra dictum est (q 17, a 6; q. 23, a. 6) Et ideo in dilectione Dei non potest accipi modus sicut in re mensurata, ut sit in ea accipere plus et minus, sed sicut invenitur modus in mensura, in qua non potest esse excessus, sed quanto plus attingitur regula, tanto melius est. Et ita quanto plus Deus diligitur, tanto est dilectio melior.
(55) Ad primum ergo dicendum quod illud quod est per se potius est eo quod est per aliud. Et ideo bonitas mensurae, quae per se habet modum, potior est quam bonitas mensurati, quod habet modum per aliud. Et sic etiam caritas, quae habet modum sicut mensura, praeeminet aliis virtutibus, quae habent modum sicut mensuratae
(56) Ad secundum dicendum quod Augustinus ibidem subi-
ungit (ibid.) quod modus diligendi Deum est ut ex toto corde diligatur, idest ut diligatur quantumcumque potest diligi. Et hoc pertinet ad modum qui convenit mensurae.
(57) Ad tertium dicendum quod affectio illa cuius obiectum subiacet iudicio rationis, est ratione mensuranda. Sed obiectum divinae dilectionis, quod est Deus, excedit iudicium rationis Et ideo non mensuratur ratione, sed rationem excedit. Nec est simile de interiori actu cantatis et extenonbus actibus Nam intenor actus caritatis habet rationem finis, quia ultimum bonum hominis consistit in hoc quod anima Deo inhaereat, secundum illud Psalm., mihi adhaerere Deo bonum est. Extenores autem actus sunt sicut ad finem Et ideo sunt commensurandi et secundum cantatem et secundum rationem.
Articulus 7 Utrum sit magis meritorium diligere inimicum quam amicum
(58) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod magis men-
352
Вопрос 27. О главном действии любви-каритас
гу является большей заслугой, чем любовь к другу.
(59) 1. В самом деле, сказано (Мф 5, 46):
Если вы будете любить любящих вас — какая вам награда. Следовательно, любовь к другу не заслуживает награды, а любовь к врагу заслуживает награду, что показано там же. Следовательно, любовь к врагу является большей заслугой, чем любовь к другу.
(60) 2. Кроме того, чем большей заслугой является нечто, тем больше любовь, из которой оно происходит. Но, как говорит Августин, любовь к врагам есть совершенство сынов Божиих, в то время как те, кто обладает несовершенной любовью-каритас, любят друзей. Следовательно, любовь к врагу является большей заслугой, чем любовь к другу.
(61) 3. Кроме того, чем большее усилие прилагается ради блага, тем, судя по всему, больше и заслуга, поскольку каждый получит свою награду по своему труду (1 Кор 3, 8). Но человек прилагает больше усилий для того, чтобы любить своего врага, чем для того, чтобы любить своего друга, поскольку первое труднее. Следовательно, как кажется, любовь к врагу является большей заслугой, чем любовь к другу.
(62) Но против: то, что лучше, является большей заслугой. Но друга любить лучше, поскольку лучше любить лучшее, а друг, который любит, лучше врага, который ненавидит. Следовательно, любовь к другу является большей заслугой, чем любовь к врагу.
(63) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (В. 25, Р. 1), основанием для нашей любви к ближнему из любви- каритас является Бог. Итак, когда спрашивается, что лучше, или в чем большая заслуга — любить друга или врага, эти две любви можно сравнить двояко: во-первых, со стороны ближнего, которого любят; во- вторых, со стороны основания этой любви. И в том, что касается ближнего, любовь к другу превосходит любовь к врагу. В самом деле, друг и лучше, и более тесно связан с нами, а потому есть материя, более подходящая для любви; и, соответственно, действие любви, переходящее на эту материю, также лучше. А противоположное этому хуже, ведь хуже ненавидеть друга, чем врага.
(64) Но во втором отношении лучше любить врага, чем друга, в силу двух обстоятельств. Во-первых, друга можно любить не только ради Бога, тогда как единствен-
torium sit diligere inimicum quam amicum.
(59) 1. Dicitur enim Matth V, si diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? Diligere ergo amicum non meretur mercedem. Sed diligere inimicum meretur mercedem, ut ibidem ostenditur. Ergo magis est meritorium diligere inimicos quam diligere amicos
(60) 2. Praeterea, tanto aliquid est magis meritorium quanto ex maiori cantate procedit. Sed diligere inimicum est perfectorum filiorum Dei, ut Augustinus dicit, in Enchirid. (73; PL 40, 266), diligere autem amicum est etiam cantatis imperfectae. Ergo maioris menti est diligere inimicum quam diligere amicum.
(61) 3. Praeterea, ubi est maior conatus ad bonum, ibi videtur esse maius mentum, quia unusquisque propriam mercedem accipiet secundum suum laborem, ut dicitur I Cor. III. Sed maiori conatu indiget homo ad hoc quod diligat inimicum quam ad hoc quod diligat amicum, quia difficilius est. Ergo videtur quod diligere inimicum sit magis meri- tonum quam diligere amicum.
(62) Sed contra est quia illud quod est melius est magis meritonum. Sed melius est diligere amicum, quia melius est diligere meliorem; amicus autem, qui amat, est melior quam inimicus, qui odit. Ergo diligere amicum est magis mentorium quam diligere inimicum.
(63) Respondeo dicendum quod ratio diligendi proximum ex cantate Deus est, sicut supra dictum est (q. 25, a 1). Cum ergo quaentur quid sit melius, vel magis mentonum, utrum diligere amicum vel inimicum, dupliciter istae dilectiones comparan possunt, uno modo, ex parte proximi qui diligitur, alio modo, ex parte rationis propter quam diligitur. Primo quidem modo dilectio amici praeeminet dilectioni inimici Quia amicus et melior est et magis coniunctus; unde est materia magis conveniens dilectioni, et propter hoc actus dilectionis super hanc materiam transiens melior est. Unde et eius oppositum est deterius, peius enim est odire amicum quam inimicum.
(64) Secundo autem modo dilectio inimici praeeminet, propter duo Primo quidem, quia dilectionis amici potest esse
Раздел 8. Является ли любовь к ближнему большей заслугой, чем любовь к Богу 353
ной причиной любви к врагу является Бог. Во-вторых, даже в том случае, когда обоих любят ради Бога, сила нашей любви к Богу больше тогда, когда она распространяет расположение человека на то, что дальше, а именно, на любовь к врагам. Так, сильнее хот огонь, который способен распространить свой жар на более удаленные от него [предметы], и точно так же любовь к Богу сильнее тогда, когда мы ради Него совершаем сложное, так ведь и сила огня тем больше, чем менее горючую материю он может зажечь.
(65) Но как один и тот же огонь сильнее воздействует на то, что ближе, чем на то, что дальше, так и любовь-каритас любит тех, кто соединен с нами, с большим жаром, чем тех, кто далек от нас. И в этом отношении любовь к друзьям, рассмотренная как таковая, лучше и сильней, чем любовь к врагам.
(66) Итак, на первое надлежит ответить, что слова Господа надо понимать буквально. Ведь любовь к друзьям не имеет заслуги перед Богом тогда, когда мы любим их только потому, что они суть наши друзья; и так происходит, как представляется, тогда, когда друзей любят в том же ключе, в каком не любят врагов. Однако любовь
к друзьям является заслугой тогда, когда друзей любят ради Бога, а не потому, что они — друзья.
(67) Ответ на другие возражения очевиден из сказанного. Ведь в двух следующих аргументах говорится об основании этой любви, а в последнем [т. е. в аргументе «против»] — о тех, кого любят.
Раздел 8
Действительно ли любовь к ближнему является большей заслугой, чем любовь к Богу
(68) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что любовь к ближнему является большей заслугой, чем любовь к Богу.
(69) 1. В самом деле, как представляется,
большей заслугой является то, что избрано апостолом. Но апостол предпочел любовь к ближнему любви к Богу, согласно этим словам (Рим 9,3) : Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Следовательно, любовь к ближнему является большей заслугой, чем любовь к Богу.
(70) 2. Кроме того, как уже сказано выше
(Р. 7), в некотором смысле любовь к другу является меньшей заслугой. Но самым большим нашим другом является Бог, по-
alia ratio quam Deus, sed dilectioms inimici solus Deus est ratio Secundo quia, supposito quod uterque propter Deum diligatur, fortior ostenditur esse Dei dilectio quae animum hominis ad remotiora extendit, scilicet usque ad dilectionem inimicorum, sicut virtus ignis tanto ostenditur esse fortior quanto ad remotiora diffundit suum calorem. Tanto etiam ostenditur divina dilectio esse fortior quanto propter ipsam difficiliora implemus, sicut et virtus ignis tanto est fortior quanto comburere potest materiam minus combustibilem.
(65) Sed sicut idem ignis in propinquiora fortius agit quam in remotiora, ita etiam caritas ferventius diligit coniunctos quam remotos. Et quantum ad hoc dilectio amicorum, secundum se considerata, est ferventior et melior quam dilectio inimicorum.
(66) Ad primum ergo dicendum quod verbum domini est per se intelligendum. Tunc enim dilectio amicorum apud Deum mercedem non habet, quando propter hoc solum amantur quia amici sunt, et hoc videtur accidere quando
sic amantur amici quod inimici non diliguntur. Est tamen mentoria amicorum dilectio si propter Deum diligantur, et non solum quia amici sunt.
(67) Ad alia patet responsio per ea quae dicta sunt. Nam duae rationes sequentes procedunt ex parte rationis diligendi; ultima vero ex parte eorum qui diliguntur.
Articulus 8
Utrum sit magis meritorium diligere proximum quam diligere Deum
(68) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod magis sit meritorium diligere proximum quam diligere Deum.
(69) 1. Illud enim videtur esse magis meritorium quod apostolus magis elegit. Sed apostolus praeelegit dilectionem proximi dilectioni Dei, secundum illud ad Rom. IX, optabam anathema esse a Christo pro fratribus meis. Ergo magis est meritorium diligere proximum quam diligere Deum.
(70) 2. Praeterea, minus videtur esse meritorium aliquo modo diligere amicum, ut dictum est (a. 7) Sed Deus maxime
354
Вопрос 27. О главном действии любви-каритас
скольку Он прежде возлюбил нас (1 Ин 4, 10). Следовательно, любовь к Нему является меньшей заслугой, чем любовь к ближнему.
(71) 3. Кроме того, как представляется, чем сложнее [действие], тем более оно добродетельно и тем большей заслугой является, поскольку добродетель имеет дело с благим и трудным, как сказано во II книге «Этики». Но Бога любить легче, чем ближнего: как потому, что все любит Бога по природе, так и потому, что в Боге нет ничего, что не было бы достойно любви, чего нельзя сказать о ближнем. Следовательно, любовь к ближнему является большей заслугой, чем любовь к Богу.
(72) Но против: то, из-за чего нечто «такое- то», само является «таким-то» в большей степени. Но любовь к ближнему является заслугой только тогда, когда его любят ради Бога. Следовательно, любовь к Богу является большей заслугой, чем любовь к ближнему.
(73) Отвечаю: надлежит сказать, что данное сравнение можно проводить двояко. Во-первых, так, что обе любви рассматриваются по отдельности. И в этом случае любовь к Богу, несомненно, является большей заслугой, поскольку она вознагражда¬
ется за себя саму: в самом деле, предельной наградой является наслаждение Богом, но именно к Нему и направлено движение этой любви. И потому награда обещана тем, кто любит Бога (Ин 14, 21): Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим', и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам.
(74) Во-вторых, указанное сравнение можно проводить между любовью только к Богу, с одной стороны, и любовью к ближнему ради Бога, с другой. И тогда любовь к ближнему содержит в себе любовь к Богу, а любовь к Богу не содержит в себе любовь к ближнему. Поэтому сравниваются совершенная любовь к Богу, которая распространяется в том числе и на ближнего, и недостаточная и несовершенная любовь к Богу, поскольку мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего (1 Ин 4, 21). И в этом смысле любовь к ближнему является более превосходной.
(75) Итак, на первое надлежит ответить, что согласно одному из толкований, апостол желал этого, а именно быть отлученным от Христа за своих братьев, тогда, когда он находился в состоянии неверия, а не потом, когда он уже находился в состоянии благодати. И потому в этом ему не следует
est amicus, qui prior dilexit nos, ut dicitur I Ioan. IV. Ergo diligere eum videtur esse minus meritorium.
(71) 3. Praeterea, illud quod est difficilius videtur esse virtu- osius et magis meritonum, quia virtus est circa difficile et bonum, ut dicitur in II Ethic. (10; 1105a9). Sed facilius est diligere Deum quam proximum, tum quia naturaliter omnia Deum diligunt; tum quia in Deo nihil occurrit quod non sit diligendum, quod circa proximum non contingit. Ergo magis est meritorium diligere proximum quam diligere Deum.
(72) Sed contra, propter quod unumquodque, illud magis. Sed dilectio proximi non est meritoria nisi propter hoc quod proximus diligitur propter Deum. Ergo dilectio Dei est magis meritoria quam dilectio proximi.
(73) Respondeo dicendum quod comparatio ista potest intel- ligi dupliciter. Uno modo, ut seorsum consideretur utraque dilectio. Et tunc non est dubium quod dilectio Dei est magis mentoria, debetur enim ei merces propter seipsam, quia ultima merces est frui Deo, in quem tendit divinae
dilectionis motus. Unde et diligenti Deum merces promittitur, Ioan. XIV, si quis diligit me, diligetur a patre meo, et manifestabo ei meipsum.
(74) Alio modo potest attendi ista comparatio ut dilectio Dei accipiatur secundum quod solus diligitur; dilectio autem proximi accipiatur secundum quod proximus diligitur propter Deum. Et sic dilectio proximi includet dilectionem Dei, sed dilectio Dei non includet dilectionem proximi. Unde erit comparatio dilectionis Dei perfectae, quae extendit se etiam ad proximum, ad dilectionem Dei insufficientem et imperfectam, quia hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum. Et in hoc sensu dilectio proximi praeeminet.
(75) Ad primum ergo dicendum quod secundum unam Glossae expositionem (Petri Lombardi, super Rom 9, 3; PL 191, 1454), hoc apostolus tunc non optabat quando erat in statu gratiae, ut scilicet separaretur a Chnsto pro fratribus suis, sed hoc optaverat quando erat in statu infidelitatis. Unde in hoc non est imitandus. Vel potest dici, sicut dicit Chrysos-
Раздел 8. Является ли любовь к ближнему большей заслугой, чем любовь к Богу 355
подражать. Или же можно сказать, как говорит Златоуст, что это показывает не то, что апостол любил ближнего больше, чем Бога, а то, что он любил Бога больше, чем самого себя. Ведь он желал на время лишиться божественного наслаждения, которое относится к любви к самому себе, ради того, чтобы почтить Бога в ближних, что относится к любви к Богу.
(76) На второе надлежит ответить, что любовь к другу иногда является меньшей заслугой потому, что друг любим как тако¬
вой, что недостаточно для истинного основания дружбы любви-каритас, которым является Бог. И потому любовь к Богу ради Него самого не уменьшает заслугу, но формирует полное ее основание.
(77) На третье надлежит ответить, что «благое» в значительно большей степени образует основание заслуги и добродетели, нежели «трудное». Поэтому более трудное не обязательно является большей заслугой; для этого оно должно быть не просто более трудным, но и более благим.
tomus, in libro De compunct. (1; PG 47, 406), quod per hôc non ostenditur quod apostolus plus diligeret proximum quam Deum, sed quod plus diligebat Deum quam seipsum. Volebat emm ad tempus privari fruitione divina, quod pertinet ad dilectionem sui, ad hoc quod honor Dei procuraretur in proximis, quod pertinet ad dilectionem Dei
(76) Ad secundum dicendum quod dilectio amici pro tanto est quandoque minus mentoria quia amicus diligitur
propter seipsum, et ita deficit a vera ratione amicitiae caritatis, quae Deus est. Et ideo quod Deus diligatur propter seipsum non diminuit mentum, sed hoc constituit totam menti rationem.
(77) Ad tertium dicendum quod plus facit ad rationem menti et virtutis bonum quam difficile Unde non oportet quod omne difficilius sit magis mentorium, sed quod sic est difficilius ut etiam sit melius.
Вопрос 28 О радости
(1) Затем надлежит рассмотреть дальнейшие следствия главного действия любви- каритас, т. е. собственно любви. И во-первых, внутренние следствия (В. 28-30), а во- вторых, внешние (В. 31-33). И касательно первого надлежит рассмотреть три вещи: во-первых, радость, во-вторых, мир (В. 29), в-третьих, милосердие (В. 30).
(2) И касательно радости исследуются четыре [проблемы]: 1) является ли радость следствием любви-каритас; 2) совместима ли такая радость с грустью; 3) может ли эта радость быть полной; 4) является ли она добродетелью.
Раздел 1
Является ли пребывающая в нас радость следствием любви-каритас
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что пребывающая в нас радость не является следствием любви-каритас.
(4) 1. В самом деле, из отсутствия любимой вещи следует скорее печаль, не¬
жели радость. Но Бог, Которого мы любим любовью-каритас, устранен от нас, пока мы живем земной жизнью, ибо водворяясь в теле, мы устранены от Господа (2 Кор 5, 6). Следовательно, любовь-каритас обусловливает в нас скорее печаль, чем радость.
(5) 2. Кроме того, мы заслуживаем блаженство главным образом благодаря любви-каритас. Но среди того, благодаря чему мы можем заслужить блаженство, назван относящийся к печали плач (Мф 5,4): Блаженны плачущие — ибо они утешатся. Следовательно, любовь-каритас обусловливает в нас скорее печаль, чем радость.
(6) 3. Кроме того, как было показано выше (В. 17, Р. 6), любовь-каритас есть добродетель, отличная от надежды. Но, согласно этим словам (Рим 12, 12): Возрадуйтесь надеждою, радость причинно обусловливается надеждой. Следовательно, не любвью- каритас.
(7) Но против: сказано (Рим 5, 5): Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Свя-
Quaestio 28 De gaudio
( 1) Deinde considerandum est de effectibus consequentibus actum cantatis principalem, qui est dilectio. Et pnmo, de effectibus intenonbus; secundo, de exterionbus. Circa primum tna consideranda sunt, primo, de gaudio; secundo, de pace; tertio, de misencordia.
(2) Circa primum quaeruntur quatuor. Primo, utrum gaudium sit effectus caritatis. Secundo, utrum huiusmodi gaudium compatiatur secum tnstitiam. Tertio, utrum istud gaudium possit esse plenum. Quarto, utrum sit virtus.
Articulus 1
Utrum gaudium in nobis sit effectus charitatis
(3) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod gaudium non sit effectus caritatis in nobis.
(4) 1. Ex absentia enim rei amatae magis sequitur tristitia quam gaudium. Sed Deus, quem per caritatem diligimus,
est nobis absens, quandiu in hac vita vivimus, quandiu enim sumus in corpore, peregrinamur a domino, ut dicitur II ad Cor. V. Ergo cantas in nobis magis causat tristitiam quam gaudium.
(5) 2. Praeterea, per cantatem maxime meremur beatitudinem. Sed inter ea per quae beatitudinem meremur ponitur luctus, qui ad tristitiam pertinet, secundum illud Matth. V, beati qui lugent, quoniam consolabuntur. Eigo magis est effectus cantatis tnstitia quam gaudium.
(6) 3. Praeterea, cantas est virtus distincta a spe, ut ex supradictis patet (q. 17, a. 6). Sed gaudium causatur ex spe, secundum illud Rom. XII, spe gaudentes. Non ergo causatur ex cantate.
(7) Sed contra est quia, sicut dicitur Rom. V, caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis. Sed gaudium in nobis causatur ex spiritu sancto,
Раздел 1. Является ли пребывающая в нас радость следствием любви-каритас 357
тым, данным нам. Но радость производится в нас Святым Духом, согласно сказанному (Рим 14, 17): Царствие Божие — не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Следовательно, причиной радости является любовь-каритас.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечалось, когда шла речь о страстях (Ч. II-I, В. 25, Р. 3; В. 26, Р. 1, на 2; В. 28, Р. 5), из любви проистекают и радость, и печаль, хотя и по-разному. В самом деле, радость причинно обусловливается любовью либо благодаря присутствию любимого блага, либо благодаря тому, что в самом любимом благе наличествует и сохраняется его собственное благо (последнее относится в основном к любви-благоволению, посредством которой человек радуется благополучию своего друга даже в том случае, когда тот не присутствует' непосредственным образом). И наоборот: печаль следует из любви либо потому, что любимое отсутствует, либо потому, что тот, кому мы желаем блага, лишен своего блага или страдает от некоего зла.
(9) Но любовь-каритас есть любовь к Богу, благо Которого неизменно, поскольку Он сам есть своя благость. И в силу того, что Его любят, Он присутствует в любящих
посредством своего благороднейшего следствия, согласно сказанному (1 Ин 4, 16): Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог — в нем. Поэтому причиной духовной радости, которой мы радуемся Богу, является любовь-каритас.
(ю) Итак, на первое надлежит ответить, мы называемся «устраненными от Господа», пока пребываем в телах, сообразно сравнению [этого состояния] с тем присутствием, когда некто присутствующий воспринимается зрением, почему апостол и говорит далее (2 Кор 5, 7): Ибо мы ходим верою, а не видением. Однако даже в этой жизни Бог пребывает в любящих Его, обитая в них через благодать.
(и) На второе надлежит ответить, что плач, заслуживающий блаженства, является плачем о том, что противно блаженству. Поэтому на одном и том же основании любовь-каритас обусловливает как этот плач, так и духовную радость, которая радуется Богу, ведь на одном и тот же основании радуются чему-то хорошему и печалятся о том, что ему противоположно.
(12) На третье надлежит ответить, что духовно радоваться Богу можно двояко. Во- первых, сообразно тому, что мы радуемся божественному благу как таковому; во-
secundum illud Rom XIV, поп est regnum Dei esca et potus, sed iustitia et pax et gaudium in spiritu sancto. Ergo cantas est causa gaudii.
(8) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q. 25, a 3; q. 26, a 1, ad 2; q. 28, a 5), cum de passionibus ageretur, ex amore procedit et gaudium et tristitia, sed contrario modo Gaudium enim ex amore causatur vel propter praesentiam boni amati; vel etiam propter hoc quod ipsi bono amato propnum bonum inest et conservatur Et hoc secundum maxime pertinet ad amorem benevolentiae, per quem aliquis gaudet de amico prospere se habente, etiam si sit absens. E contrano autem ex amore sequitur tns- titia vel propter absentiam amati; vel propter hoc quod cui volumus bonum suo bono privatur, aut aliquo malo depnmitur.
(9) Cantas autem est amor Dei, cuius bonum immutabile est, quia ipse est sua bonitas. Et ex hoc ipso quod amatur est in amante per nobilissimum sui effectum, secundum illud I Ioan. IV, qui manet in caritate, in Deo manet et Deus
in eo. Et ideo spirituale gaudium, quod de Deo habetur, ex cantate causatur.
(10) Ad primum ergo dicendum quod quandiu sumus in corpore dicimur peregnnan a domino, in comparatione ad illam praesentiam qua quibusdam est praesens per speciei visionem, unde et apostolus subdit ibidem, per fidem enim ambulamus, et non per speciem. Est autem praesens etiam se amantibus etiam in hac vita per gratiae inhabitationem.
(11) Ad secundum dicendum quod luctus qui beatitudinem meretur est de his quae sunt beatitudini contraria. Unde eiusdem rationis est quod talis luctus ex cantate causetur, et gaudium spintuale de Deo, quia eiusdem rationis est gaudere de aliquo bono et tnstan de his quae ei repugnant.
(12) Ad tertium dicendum quod de Deo potest esse spintuale gaudium dupliciter, uno modo, secundum quod gaudemus de bono divino in se considerato, alio modo, secundum quod gaudemus de bono divino prout a nobis partici-
358
Вопрос 28. О радости
вторых, сообразно тому, что мы радуемся божественному благу постольку, поскольку причастны ему. И первая радость лучше и проистекает преимущественно из любви- каритас, тогда как вторая радость проистекает также и из надежды, посредством которой мы ожидаем наслаждения божественным благом. Впрочем, само это наслаждение, совершенное или несовершенное, обретается сообразно мере любви-каритас.
Раздел 2
Примешивается ли к духовной радости, происходящей из любви-каритас, некая грусть
(13) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что к духовной радости, происходящей из любви-каритас, примешивается некая грусть.
(и) 1. В самом деле, любви-каритас прису¬
ще сорадоваться благу ближнего, согласно этим словам (1 Кор 13, 4, 6): Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Но к этой радости примешивается некая печаль, согласно сказанному (Рим 12, 15): Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Следовательно, к духовной радости любви-каритас примешивается некая грусть.
(15) 2. Кроме того, согласно Григорию, покаяние есть плач о совершенном ранее зле и отказ от совершения того, что оплакивается. Но без любви-каритас истинное покаяние невозможно. Следовательно, к радости любви-каритас примешивается некая грусть.
(16) 3. Кроме того, человек желает быть с Христом из любви-каритас, согласно этим словам (Филип 1, 23): Имею желание разрешиться и быть со Христом. Но это желание рождает в человеке некую грусть, согласно сказанному (Пс 119, 5): Горе мне, что я пребываю. Следовательно, к радости любви-каритас примешивается некая грусть.
(17) Но против: радость любви-каритас есть радость божественной мудрости. Но к такой радости не может примешиваться печаль, согласно этим словам (Прем 8, 16): В обращении ее нет никакой горечи. Следовательно, радость любви-каритас несовместима с печалью.
(18) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1, на 3), любовь-каритас обусловливает два типа божественной радости. Одна радость, основная, свойственна любви-каритас, и ею мы радуемся божественному благу как таковому. И к этой радости любви-каритас не может быть при-
patur. Pnmum autem gaudium melius est, et hoc procedit principaliter ex cantate. Sed secundum gaudium procedit etiam ex spe, per quam expectamus divini bom fruitionem. Quamvis etiam ipsa fruitio, vel perfecta vel imperfecta, secundum mensuram caritatis obtineatur.
Articulus 2
Utram gaudium spirituale quod ex charitate causatur, recipiat admixtionem tristitiae
(13) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod gaudium spirituale quod ex caritate causatur recipiat admixtionem tristitiae.
(14) 1. Congaudere enim bonis proximi ad caritatem pertinet, secundum illud I ad Cor. XIII, caritas non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati. Sed hoc gaudium recipit permixtionem tristitiae, secundum illud Rom. XII, gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus. Ergo gaudium spintuale caritatis admixtionem tristitiae patitur.
(15) 2. Praeterea, poenitentia, sicut dicit Gregonus (In Evang., II, hom. 34; PL 76, 1256), est anteacta mala flere, et flenda iterum non committere. Sed vera poenitentia non est sine caritate Ergo gaudium caritatis habet tristitiae admixtionem.
(16) 3. Praeterea, ex caritate contingit quod aliquis desiderat esse cum Chnsto, secundum illud Philipp. I, desiderium habens dissolvi et esse cum Christo. Sed ex isto desiderio sequitur in homine quaedam tristitia, secundum illud Psalm., heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est. Eigo gaudium caritatis recipit admixtionem tristitiae.
(17) Sed contra est quod gaudium cantatis est gaudium de divina sapientia. Sed huiusmodi gaudium non habet permixtionem tristitiae, secundum illud Sap. VIII, non habet amaritudinem conversatio illius. Ergo gaudium caritatis non patitur permixtionem tristitiae.
(18) Respondeo dicendum quod ex caritate causatur duplex gaudium de Deo, sicut supra dictum est (a. 1, ad 3). Unum quidem principale, quod est propnum caritatis,
Раздел 3. Может ли духовная радость быть совершенной
359
мешана никакая печаль, равно как и к тому благу, по отношению к которому она имеет место, не может быть примешано никакое зло, почему апостол и говорит (Филип 4, 4): Радуйтесь всегда в Господе.
(19) Другая радость любви-каритас — та, которой мы радуемся божественному благу постольку, поскольку причастны ему. И этой причастности может воспрепятствовать нечто противоположное. Поэтому к такой радости любви-каритас может примешиваться печаль — поскольку человек грустит о том, что препятствует причастности божественному благу, либо в нем самом, либо в его ближних, которых он любит как самого себя.
(20) Итак, на первое надлежит ответить, что причиной слез ближнего может быть только некое зло. Но любое зло подразумевает недостаток причастности высшему благу. Поэтому любовь-каритас побуждает нас сострадать ближнему постольку, поскольку нечто препятствует его причастности божественному благу.
(21) На второе надлежит ответить, что наши грехи производят разделение между нами и Богом (Ис. 59, 2). Поэтому причина того, что мы печалимся о наших или даже чужих грехах, заключается в том, что
они мешают нам быть причастными божественному благу.
(22) На третье надлежит ответить, что хотя даже и в сей обители скорби мы некоторым образом причастны, знанием и любовью, к божественному благу, тем не менее, бедствия этого мира препятствуют совершенной причастности божественному благу, такой, которая будет в Небесном Отечестве. Поэтому та печаль, которой человек печалится об отсрочке славы, относится к тому, что препятствует причастности божественному благу.
Раздел 3
Может ли обусловленная любовью-каритас духовная радость быть совершенной
(23) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что духовная радость, обусловленная любовью-каритас, не может быть совершенной.
(24) 1. В самом деле, чем больше мы ра¬
дуемся Богу, тем совершеннее и наша радость. Но мы никогда не сможем радоваться Богу так, как подобает радоваться Ему, поскольку Его благость, будучи бесконечной, всегда превосходит конечную радость творения. Следовательно, радость, которой радуются Богу, не может
quo scilicet gaudemus de bono divino secundum se considerato. Et tale gaudium caritatis permixtionem tnstitiae non patitur, sicut nec illud bonum de quo gaudetur potest aliquam mali admixtionem habere. Et ideo apostolus dicit, ad Philipp. IV, gaudete in domino semper.
(19) Aliud autem est gaudium caritatis quo gaudet quis de bono divino secundum quod participatur a nobis. Haec autem participatio potest impediri per aliquod contrarium. Et ideo ex hac parte gaudium caritatis potest habere permixtionem tristitiae, prout scilicet aliquis tristatur de eo quod repugnat participationi divini bom vel in nobis vel in proximis, quos tanquam nosipsos diligimus.
(20) Ad primum ergo dicendum quod fletus proximi non est msi de aliquo malo. Omne autem malum importat defectum participationis summi boni. Et ideo intantum caritas facit condolere proximo inquantum participatio divini boni in eo impeditur.
(21) Ad secundum dicendum quod peccata dividunt inter nos et Deum, ut dicitur Isaiae LIX. Et ideo haec est ratio
dolendi de peccatis praeteritis nostris, vel etiam aliorum, inquantum per ea impedimur a participatione divini boni.
(22) Ad tertium dicendum quod, quamvis in incolatu huius miseriae ahquo modo participemus divinum bonum per cognitionem et amorem, tamen huius vitae misena impedit a perfecta participatione divini boni, qualis erit in patria. Et ideo haec etiam tnstitia qua quis luget de dilatione glonae pertinet ad impedimentum participationis divini bom.
Articulus 3
Utrum spirituale gaudium quod ex charitate causatur possit in nobis impleri
(23) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod spirituale gaudium quod ex cantate causatur non possit in nobis implen.
(24) 1. Quanto enim maius gaudium de Deo habemus, tanto gaudium eius in nobis magis impletur. Sed nunquam possumus tantum de Deo gaudere quantum dignum est ut de eo gaudeatur, quia semper bonitas eius, quae est infinita, excedit gaudium creaturae, quod est finitum. Ergo
360
Вопрос 28. О радости
быть совершенной.
(25) 2. Кроме того, совершенное не может стать еще более совершенным. Но даже радость блаженных может быть большей, поскольку радость одного больше, чем радость другого. Следовательно, радость творения, которой оно радуется Богу, не может быть совершенной.
(26) 3. Кроме того, полное постижение, как кажется, есть не что иное, как совершенство познания. Но конечна как познавательная способность творения, так и его желающая способность. И поскольку никакое творение не может постигнуть Бога полным постижением, постольку, как представляется, и радость творения, которой оно радуется Богу, не может быть совершенной.
(27) Но против: Господь говорит своим ученикам (Ин 15, 11): Радость моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
(28) Отвечаю: надлежит сказать, что о совершенстве радости можно говорить в двух смыслах. Во-первых, [радость может быть совершенной] со стороны вещи, которой радуются, так именно, что ей радуются настолько, насколько она этого заслуживает. И в этом смысле совершенным образом Богу радуется только сам Бог, поскольку
его радость является бесконечной и потому соответствует бесконечной божественной благости, тогда как радость любого творения должна быть конечной.
(29) Во-вторых, [радость может быть совершенной] со стороны радующегося. Но, как уже было сказано, когда речь шла о страстях (Ч. II-I, В. 25, Р. 2), радость соотносится с желанием как покой с движением. Но покой является совершенным при полном прекращении движения. Следовательно, радость является совершенной тогда, когда желать больше нечего. Но пока мы пребываем в этом мире, движение желания в нас не успокаивается, поскольку всегда остается возможность приблизиться к Богу еще больше при помощи благодати, как явствует из сказанного выше (В. 24, Р. 7). Однако после достижения совершенного блаженства желаний уже не останется, поскольку тогда наслаждение Богом будет совершенным, и в нем человек обретет все, что он искал, даже в других благах, согласно сказанному о том, что Бог насыщает благами желание твое (Пс 102, 5). Следовательно, там успокоится не только то желание, которым мы желаем Бога, но и вообще любое желание. И потому радость блаженных полна совершенным образом, да-
gaudium de Deo nunquam potest impleri.
(25) 2. Praeterea, illud quod est impletum non potest esse maius. Sed gaudium etiam beatorum potest esse maius, quia unius gaudium est maius quam altenus. Ergo gaudium de Deo non potest in creatura impleri.
(26) 3 Praeterea, nihil aliud videtur esse comprehensio quam cognitionis plenitudo Sed sicut vis cognoscitiva creaturae est finita, ita et vis appetitiva eiusdem. Cum ergo Deus non possit ab aliqua creatura comprehendi, videtur quod non possit alicuius creaturae gaudium de Deo implen
(27) Sed contra est quod dominus discipulis dixit, Ioan. XV, gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur.
(28) Respondeo dicendum quod plenitudo gaudii potest intelligi dupliciter Uno modo, ex parte rei de qua gaudetur, ut scilicet tantum gaudeatur de ea quantum est dignum de ea gauderi. Et sic solum Dei gaudium est plenum de seip- so, quia gaudium eius est infinitum, et hoc est condignum infinitae bonitati Dei; cuiuslibet autem creaturae gaudium oportet esse finitum.
(29) Alio modo potest intelligi plenitudo gaudii ex parte gaudentis. Gaudium autem comparatur ad desiderium sicut quies ad motum; ut supra dictum est (II-I, q. 25, a. 1, 2), cum de passionibus ageretur. Est autem quies plena cum nihil restat de motu. Unde tunc est gaudium plenum quando iam nihil desiderandum restat Quandiu autem in hoc mundo sumus, non quiescit in nobis desiderii motus, quia adhuc restat quod Deo magis appropinquemus per gratiam, ut ex supradictis patet (q. 24, a. 4, 7). Sed quando iam ad beatitudinem perfectam perventum fuerit, nihil desiderandum restabit, quia ibi ent plena Dei fruitio, in qua homo obtinebit quidquid etiam circa alia bona desideravit, secundum illud Psalm., qui replet in bonis desiderium tuum Et ideo quiescet desidenum non solum quo desideramus Deum, sed etiam erit omnium desideriorum quies. Unde gaudium beatorum est perfecte plenum, et etiam superplenum, quia plus obtinebunt quam desiderare suffecerint, non enim in cor hominis ascendit quae praeparavit Deus diligentibus se, ut dicitur I ad Cor. II. Et hinc est quod dicitur Luc. VI, mensuram bonam et supereffluentem dabunt
Раздел 4. Является ли радость добродетелью
361
же переполнена, поскольку они получают больше, чем могли бы желать, ведь не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор 2, 9). И именно об этом сказано (Лк 6, 38): Мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше. Но так как никакое творение не способно на ту радость, которое подобает испытывать по отношению к Богу, то не столько эта совершенным образом полная радость входит в человека, сколько, наоборот, человек входит в нее, согласно этим словам (Мф 25, 21): Войди в радость Господа твоего1.
(30) Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу в отношении совершенства радости со стороны вещи, которой радуются.
(31) На второе надлежит ответить, что когда некто достигает блаженства, он достигает предела, установленного для него божественным предопределением; и после этого уже нет ничего, к чему он мог бы стремиться, хотя, достигнув своего предела, одни люди оказываются ближе к Богу, чем другие. И потому со стороны радующегося радость любого блаженного является совершенной, ведь его желание пребывает в полном покое. И тем не менее, радость
одного будет большей, чем радость другого, по причине более полной причастности божественному блаженству.
(32) На третье надлежит ответить, что полное постижение подразумевает совершенство познания со стороны познаваемой вещи, такое именно, что вещь познается настолько, насколько может быть познана. Но есть и другое совершенство познания, со стороны познающего, подобно тому, что было сказано о радости. Поэтому апостол и говорит (Кол 1,9): Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном.
Раздел 4
Является ли радость добродетелью
(33) Ход рассуждения в четвертой главе таков. Представляется, что радость является добродетелью.
(34) 1. В самом деле, порок противоположен добродетели. Но печаль является пороком, что очевидно в случае уныния и зависти. Следовательно, радость надлежит считать добродетелью.
(35) 2. Кроме того, как любовь и надежда суть некие страсти, объектом которых является благо, так и радость. Но любовь и надежда считаются добродетелями. Сле-
in sinus vestros Quia tamen nulla creatura est capax gaudii de Deo ei condigni, inde est quod illud gaudium omnino plenum non capitur in homine, sed potius homo intrat in ipsum, secundum illud Matth XXV, intra in gaudium domini tui
(30) Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit de plenitudine gaudii ex parte rei de qua gaudetur
(31) Ad secundum dicendum quod cum perventum fuerit ad beatitudinem, unusquisque attinget terminum sibi praefixum ex praedestinatione divina, nec restabit ulterius aliquid quo tendatur, quamvis in illa terminatione unus perveniat ad maiorem propinquitatem Dei, alius ad minorem Et ideo uniuscuiusque gaudium erit plenum ex parte gaudentis, quia uniuscuiusque desiderium plene quietabitur. Erit tamen gaudium unius maius quam alterius, propter pleniorem participationem divinae beatitudinis
(32) Ad tertium dicendum quod comprehensio importat plenitudinem cognitionis ex parte rei cognitae, ut scilicet
tantum cognoscatur res quantum cognosci potest Habet tamen etiam cognitio aliquam plenitudinem ex parte cognoscentis, sicut et de gaudio dictum est. Unde et apostolus dicit, ad Coloss I, impleamini agnitione voluntatis eius in omni sapientia et intellectu spirituali.
Articulus 4 Utrum gaudium sit virtus
(33) Ad quartum sic proceditur Videtur quod gaudium sit virtus
(34) 1. Vitium enim contranatur virtuti. Sed tristitia ponitur vitium, ut patet de acedia et de invidia Ergo etiam gaudium debet poni virtus.
(35) 2 Praeterea, sicut amor et spes sunt passiones quaedam quarum obiectum est bonum, ita et gaudium Sed amor et spes ponuntur virtutes. Ergo et gaudium debet poni virtus.
362
Вопрос 28. О радости
довательно, радость также надлежит считать добродетелью.
(36) 3. Кроме того, предписания закона относятся к действиям добродетелей. Но нам заповедано радоваться Богу, согласно этим словам (Филип 4, 4): Радуйтесь всегда в Господе. Следовательно, радость является добродетелью.
(37) Но против: радость не относится ни к теологическим, ни к моральным, ни к интеллектуальным добродетелям, что ясно из сказанного выше (Ч. II-I, В. 57, Р. 2; В. 60; В. 62, Р.З).
(38) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже установлено (Ч. II-I, В. 55, Р. 2, 4), добродетель является неким деятельным ха- битусом, поскольку по своему смысловому содержанию обладает склонностью к некоторому действию. Однако бывает так, что один хабитус производит несколько упорядоченных действий одной природы, каждый из которых следует из другого. И поскольку последующие действия проистекают из хабитуса добродетели только посредством первичного действия, постольку и сама добродетель определяется и именуется сообразно первичному действию, хотя все прочие действия тоже проистекают из нее. Однако из того, что было ска¬
рб) 3. Praeterea, praecepta legis dantur de actibus virtutum. Sed praecipitur nobis quod de Deo gaudeamus, secundum illud ad Philipp ГУ, gaudete in domino semper. Ergo gaudium est virtus.
(37) Sed contra est quod neque connumeratur inter virtutes theologicas, neque inter virtutes morales, neque inter virtutes intellectuales, ut ex supradictis patet (II-I, q 57, a. 2, q. 60; q. 62, a. 3).
(38) Respondeo dicendum quod virtus, sicut supra habitum est (II-I, q. 55, a. 2, 4), est habitus quidam operativus; et ideo secundum propnam rationem habet inclinationem ad aliquem actum. Est autem contingens ex uno habitu plures actus eiusdem rationis ordinatos provenire, quorum unus sequatur ex altero. Et quia posteriores actus non procedunt ab habitu virtutis nisi per actum priorem, inde est quod virtus non definitur nec denominatur nisi ab actu prion, quamvis etiam alii actus ab ea consequantur. Manifestum est autem ex his quae supra de passionibus
зано выше о страстях (Ч. II-I, В. 25, Р. 2,
4), очевидно, что любовь является первым аффектом желающей способности, и уже из нее следуют желание и радость. Поэтому один и тот же хабитус добродетели склоняет нас и к любви, и к желанию любимого блага, и к радости от него. Но поскольку любовь является первым из этих действий, то добродетель получила имя не от радости и не от желания, а от любви, и была названа любовью-каритас. Итак, следовательно, радость — не отличная от любви- каритас добродетель, а действие, или следствие, любви-каритас. И потому она перечислена среди плодов (Гал 5, 22).
(39) Итак, на первое надлежит ответить, что та печаль, которая является пороком, причинно обусловливается неупорядоченной любовью к себе, которая, как уже сказано выше (4.II-I, В. 25, Р. 1, 2, 3; В. 27, Р. 4), является не особым пороком, а общим корнем всякого греха. И потому некоторые отдельные [виды] печали считаются особыми пороками, поскольку являются производными не от некоего частного, но от общего порока. А любовь к Богу является особой добродетелью, т. е. любовью-каритас, к которой сводится радость — как к первичному действию, о чем уже было сказано.
dicta sunt (II-I, q. 25, a. 2,4), quod amor est pnma affectio appetitivae potentiae, ex qua sequitur et desiderium et gaudium. Et ideo habitus virtutis idem est qui inclinat ad diligendum, et ad desiderandum bonum dilectum, et ad gaudendum de eo. Sed quia dilectio inter hos actus est prior, inde est quod virtus non denominatur a gaudio nec a desiderio, sed a dilectione, et dicitur cantas Sic ergo gaudium non est aliqua virtus a caritate distincta, sed est quidam cantatis actus sive effectus. Et propter hoc connumeratur inter fructus, ut patet Gal. V.
(39) Ad primum ergo dicendum quod tnstitia quae est vitium causatur ex inordinato amore sui, quod non est aliquod speciale vitium, sed quaedam generalis radix vitiorum, ut supra dictum est (II-I, q. 25, a. 1, 2, 3; q. 27, a. 4). Et ideo oportuit tnstitias quasdam particulares ponere specialia vitia, quia non denvantur ab aliquo speciali vitio, sed a generali. Sed amor Dei ponitur specialis virtus, quae est cantas, ad quam reducitur gaudium, ut dictum est, sicut
Раздел 4. Является ли радость добродетелью
363
(40) На второе надлежит ответить, что надежда, как и радость, проистекает из любви, но надежда добавляет некое особое смысловое содержание со стороны объекта, а именно «трудность» и «возможность» обретения, в силу чего и считается особой добродетелью. Радость же не добавляет
никакого особого смыслового содержания со стороны объекта, которое могло бы обусловить особую добродетель.
(41) На третье надлежит ответить, что в законе имеется заповедь о радости постольку, поскольку она есть действие любви-каритас, пусть и не первое.
proprius actus eius.
(40) Ad secundum dicendum quod spes consequitur ex amore sicut et gaudium, sed spes addit ex parte obiecti quandam specialem rationem, scilicet arduum et possibile adipisci; et ideo pomtur specialis virtus. Sed gaudium ex parte
obiecti nullam rationem specialem addit supra amorem quae possit causare specialem virtutem.
(41) Ad tertium dicendum quod intantum datur praeceptum legis de gaudio inquantum est actus caritatis; licet non sit pnmus actus eius
Вопрос 29 О мире
(1) Затем надлежит рассмотреть мир. И касательно этого исследуются четыре [проблемы]: 1) есть ли мир то же, что и согласие; 2) все ли желают мира; 3) является ли мир следствием любви-каритас; 4) является ли мир добродетелью.
Раздел 1 Тождественен ли мир согласию
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что мир есть то же, что и согласие.
(3) 1. В самом деле, Августин говорит, что людской мир есть упорядоченное согласие. Но мы говорим здесь исключительно о людском мире. Следовательно, мир есть то же, что и согласие.
(4) 2. Кроме того, согласие есть некое единство воль. Но смысловое содержание мира заключается именно в таком единстве, поскольку, как говорит Дионисий, мир всех объединяет и производит единомыслие. Следовательно, мир есть то же, что и согласие.
(5) 3. Кроме того, те [вещи], у которых противоположности тождественны, сами тождественны. Но согласию и миру противополагается одно и то же, а именно раздор, почему и сказано, что Бог не есть Бог раздора, но - мира (1 Кор 14, 33). Следовательно, мир есть то же, что и согласие.
(6) Но против: возможно согласие нечестивых во зле. Но нечестивым нет мира (Ис 48, 22). Следовательно, мир не тождественен согласию.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что мир включает в себя согласие и еще добавляет нечто к нему. Поэтому везде, где есть мир, есть и согласие, но не везде, где есть согласие, есть и мир, если употреблять слово «мир» в собственном его смысле. В самом деле, согласие, строго говоря, есть согласие с другим, имеющее место постольку, поскольку воли разных сердец сходятся в единодушии. Но бывает так, что сердце одного человека стремится к разным [вещам], причем двояко. Во-первых, сообразно различным желающим способно-
Quaestio 29 De расе
(1) Deinde considerandum est de расе. Et circa hoc quaeruntur quatuor. Primo, utrum pax sit idem quod concordia. Secundo, utrum omnia appetant pacem. Tertio, utrum pax sit effectus caritatis. Quarto, utrum pax sit virtus.
Articulus 1 Utrum pax sit idem quod concordia
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod pax sit idem quod concordia.
(3) 1. Dicit enim Augustinus, XIX De civ. Dei (13; PL 41, 640), quod pax hominum est ordinata concordia. Sed non loquimur nunc nisi de pace hominum. Ergo pax est idem quod concordia.
(4) 2. Praeterea, concordia est quaedam unio voluntatum.
Sed ratio pacis in tali unione consistit, dicit enim Dionysius, XI cap. De div. nom. (PG; 3, 948), quod pax est
omnium unitiva et consensus operativa Ergo pax est idem quod concordia.
(5) 3. Praeterea, quorum est idem oppositum, et ipsa sunt
idem. Sed idem opponitur concordiae et paci, scilicet dissensio, unde dicitur, I ad Cor. XIV, non est dissensionis Deus, sed pacis. Ergo pax est idem quod concordia.
(6) Sed contra est quod concordia potest esse aliquorum impiorum in malo. Sed non est pax impiis, ut dicitur Isaiae XLVIII. Ergo pax non est idem quod concordia.
(7) Respondeo dicendum quod pax includit concordiam et aliquid addit. Unde ubicumque est pax, ibi est concordia, non tamen ubicumque est concordia, est pax, si nomen pacis propne sumatur. Concordia enim, proprie sumpta, est ad alterum, inquantum scilicet diversorum cordium voluntates simul in unum consensum conveniunt Contingit etiam unius hominis cor tendere in diversa, et hoc
Раздел 2. Все ли желают мира
365
стям; и так чувственное желание нередко стремится к тому, что противно разумному желанию, согласно этим словам (Гал 5, 17): Плоть желает противного духу. Во-вторых, сообразно тому, что одна и та же желающая способность стремится к различным желаемым [вещам], обладать которыми одновременно не может. И из-за этого неизбежно возникает противоречие в движениях желания. Но единство таких движений входит в смысловое содержание мира, поскольку в сердце человека не будет мира, если он, даже обладая желаемым, продолжает желать что-то еще, что несовместимо с тем, чем он обладает. Однако подобное единство не входит в смысловое содержание согласия. Поэтому согласие подразумевает единство желаний различных желающих, а мир, кроме этого единства, подразумевает еще и единство желаний одного желающего.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что Августин здесь говорит о том мире, который имеет место между одним человеком и другим. И он говорит, что такой мир является согласием, однако не любым, а упорядоченным, то есть согласием одного человека с другим в отношении того, что под¬
ходит им обоим. В самом деле, если один человек соглашается с другим не по своей воле, а потому, что его вынуждает к этому страх перед неким неизбежным злом, то такое согласие не является истинным миром, поскольку порядок обоих соглашающихся не сохраняется, а нарушается вторжением некоего страха. И потому Августин несколько ранее говорит, что мир есть спокойствие порядка. И это спокойствие заключается в том, что все движения желания в одном человеке успокаиваются.
(9) На второе надлежит ответить, что когда один человек соглашается в чем-то с другим, такое согласие не будет всецело единым, если все движения их желаний не будут согласованы между собой.
(ю) На третье надлежит ответить, что миру противоположен двоякий раздор: раздор в самом человеке и раздор между одним человеком и другим. И только второй раздор противополагается согласию.
Раздел 2 Все ли желают мира
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что не все желают мира.
dupliciter. Uno quidem modo, secundum diversas potentias appetitivas, sicut appetitus sensitivus plerumque tendit in contrarium rationalis appetitus, secundum illud ad Gal V, caro concupiscit adversus spiritum. Alio modo, inquantum una et eadem vis appetiti va in diversa appetibilia tendit quae simul assequi non potest. Unde necesse est esse repugnantiam motuum appetitus Unio autem horum motuum est quidem de ratione pacis, non enim homo habet pacatum cor quandiu, etsi habeat aliquid quod vult, tamen adhuc restat ei aliquid volendum quod simul habere non potest. Haec autem unio non est de ratione concordiae Unde concordia importat unionem appetituum diversorum appetentium, pax autem, supra hanc unionem, importat etiam appetituum unius appetentis unionem.
(8) Ad primum ergo dicendum quod Augustinus loquitur ibi de pace quae est unius hominis ad alium. Et hanc pacem dicit esse concordiam, non quamlibet, sed ordinatam, ex eo scilicet quod unus homo concordat cum alio secundum illud quod utnque convenit. Si enim homo concordet
cum alio non spontanea voluntate, sed quasi coactus timore alicuius mali imminentis, talis concordia non est vere pax, quia non servatur ordo utriusque concordantis, sed perturbatur ab aliquo timorem inferente. Et propter hoc praemittit quod pax est tranquillitas ordinis. Quae quidem tranquillitas consistit in hoc quod omnes motus appetitivi in uno homine conquiescunt.
(9) Ad secundum dicendum quod, si homo simul cum alio homine in idem consentiat, non tamen consensus eius est omnino unitus nisi etiam sibi invicem omnes motus appetitivi eius sint consentientes.
(10) Ad tertium dicendum quod paci opponitur duplex dissensio, scilicet dissensio hominis ad seipsum, et dissensio hominis ad alterum. Concordiae vero opponitur haec sola secunda dissensio.
Articulus 2 Utrum omnia appetant pacem
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non omnia appetant pacem.
366
Вопрос 29. О мире
(12) 1. В самом деле, согласно Дионисию, мир производит единодушие. Но не может быть единодушия в том, что лишено познания. Следовательно, такого рода [вещи] не могут желать мира.
(13) 2. Кроме того, желание не может быть одновременно устремлено на противоположности. Но многие желают войны и раздора. Следовательно, не все желают мира.
(14) 3. Кроме того, желаемо только благо. Но, как кажется, бывает и дурной мир, иначе бы Господь не сказал (Мф 10, 34): Не мир пришел Я принести. Следовательно, не все желают мира.
(15) 4. Кроме того, то, чего желают все, является, как кажется, высшим благом, которое есть предельная цель. Но мир не таков, поскольку он возможен и в земной жизни, в противном случае зря сказал Господь (Мк 9, 50): Мир имейте между собою. Следовательно, не все желают мира.
(16) Но против: Августин говорит, что все желают мира. И то же самое говорит Дионисий.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что из того, что человек желает нечто, следует, что он хочет получить желаемое и, соответственно, устранить все то, что может воспрепятствовать ему в этом. Но воспрепят¬
ствовать в получении желаемого блага может противоположное желание — либо его самого, либо кого-то другого; но таковое, как было показано выше (Р. 1), устраняется миром. Таким образом, все желающее необходимо желает мира, поскольку любое желающее желает получить желаемое спокойно и беспрепятственно, но в этом и заключается смысловое содержание мира, который Августин определяет как «спокойствие порядка».
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что мир подразумевает единение не только разумного, рассудочного и животного желаний, к которым может относиться единодушие, но и естественного желания. Поэтому Дионисий говорит, что мир производит и единодушие, и соприродность, понимая под «единодушием» единение желаний, происходящих из знания, а под «соприродностью» единство естественных стремлений.
(19) На второе надлежит ответить, что даже те, кто ищет войны и раздоров, желают только мира — того, которого они, по их мнению, не имеют. В самом деле, как было сказано выше, если один человек соглашается с другим вопреки своему желанию, то при таких обстоятельствах
(12) 1. Pax enim, secundum Dionysium (De div. nom., 2, PG 3, 948), est umtiva consensus. Sed in his quae cognitione carent non potest unm consensus. Ergo huiusmodi pacem appetere non possunt.
(13) 2. Praeterea, appetitus non fertur simul ad contraria. Sed multi sunt appetentes bella et dissensiones. Ergo non omnes appetunt pacem
(14) 3 Praeterea, solum bonum est appetibile. Sed quaedam pax videtur esse mala, alioquin dominus non diceret, Matth X, non veni mittere pacem. Ergo non omnia pacem appetunt.
(15) 4. Praeterea, illud quod omnia appetunt videtur esse summum bonum, quod est ultimus finis. Sed pax non est huiusmodi, quia etiam in statu viae habetur; alioquin frustra dominus mandaret, Marc. IX, pacem habete inter vos. Ergo non omnia pacem appetunt.
(16) Sed contra est quod Augustinus dicit, XIX De civ. Dei (12, PL 41, 638), quod omma pacem appetunt. Et idem etiam dicit Dionysius, XI cap. De div. nom. (PG 3, 948).
(17) Respondeo dicendum quod ex hoc ipso quod homo ali¬
quid appetit, consequens est ipsum appetere eius quod appetit assecutionem, et per consequens remotionem eorum quae consecutionem impedire possunt. Potest autem impediri assecutio bom desiderati per contranum appetitum vel sui ipsius vel altenus, et utrumque tollitur per pacem, sicut supra dictum est (a. 1). Et ideo necesse est quod omne appetens appetat pacem, inquantum scilicet omne appetens appetit tranquille et sine impedimento pervenire ad id quod appetit, in quo consistit ratio pacis, quam Augustinus definit tranquillitatem ordinis (De civ. Dei, XIX, 13; PL 41, 640).
(18) Ad primum ergo dicendum quod pax importat unionem non solum appetitus intellectualis seu rationalis aut animalis, ad quos potest pertinere consensus, sed etiam appetitus naturalis. Et ideo Dionysius dicit (De div. nom., 2; PG 3, 948) quod pax est operativa et consensus et connat- uralitatis, ut in consensu importetur unio appetituum ex cognitione procedentium; per connaturalitatem vero importatur unio appetituum naturalium.
(19) Ad secundum dicendum quod fih etiam qui bella quaerunt
Раздел 3. Является ли мир собственным следствием любви-каритас
367
мира нет. Поэтому люди посредством войны стремятся разрушить это согласие, как обладающее несовершенным миром, чтобы получить тот мир, при котором ничто не противоречило бы их воле. И потому все воюющие стремятся при помощи войны достичь того мира, который был бы совершенней предшествующего.
(20) На третье надлежит ответить, что мир заключается в покое и единении желания. Но как желать можно то, что действительно является благом, и то, что только кажется им, так и мир может быть истинным и кажущимся. И истинный мир, понятно, может затрагивать только желание истинного блага, поскольку любое зло, пусть даже оно в некотором отношении и кажется благом и потому отчасти успокаивает желание, тем не менее, обладает многочисленными изъянами, из-за которых желание не обретает полного покоя и пребывает в смятении. Поэтому истинный мир может быть только в благих [людях] и применительно к благу. Мир же дурных [людей] является не истинным миром, а его подобием. И потому сказано (Прем 14, 22): Они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют «миром».
i) На четвертое надлежит ответить, что поскольку истинный мир относится только к благу, то в связи с тем, что истинным благом можно обладать двояко (т. е. совершенным и несовершенным образом), истинный мир также двойственен. Во-первых, есть совершенный мир, который заключается в совершенном наслаждении высшим благом, и который объединяет все желания успокоением в одном [объекте]. И это — предельная цель разумного творения, согласно этим словам (Пс 147, 2-3): Он утверждает в пределах твоих мир. Во- вторых, есть несовершенный мир, который обретается в этой жизни. Ведь даже если главное движение души и находит успокоение в Боге, тем не менее, существуют разные внешние и внутренние противоречия, которые нарушают такой мир.
Раздел 3
Является ли мир собственным следствием любви-каритас
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что мир не является собственным следствием любви-каритас.
(23) 1. В самом деле, нельзя обладать любовью-каритас без освящающей благодати. Но некоторые из имеющих мир не облада-
et dissensiones non desiderant nisi pacem, quam se habere non aestimant. Ut emm dictum est, non est pax si quis cum alio concordet contra id quod ipse magis vellet. Et ideo homines quaerunt hanc concordiam rumpere bellando, tanquam defectum pacis habentem, ut ad pacem perveniant in qua nihil eorum voluntati repugnet. Et propter hoc omnes bellantes quaerunt per bella ad pacem aliquam pervenire perfectiorem quam prius haberent.
(20) Ad tertium dicendum quod, quia pax consistit in quieta- tione et unione appetitus; sicut autem appetitus potest esse vel boni simpliciter vel bom apparentis, ita etiam et pax potest esse et vera et apparens, vera quidem pax non potest esse nisi circa appetitum veri boni; quia omne malum, etsi secundum ahquid appareat bonum, unde ex aliqua parte appetitum quietet, habet tamen multos defectus, ex quibus appetitus remanet inquietus et perturbatus. Unde pax vera non potest esse nisi in bonis et bonorum. Pax autem quae malorum est, est pax apparens et non vera. Unde dicitur Sap. XIV, in magno viventes inscientiae bello, tot et tanta
mala pacem arbitrati sunt.
(21) Ad quartum dicendum quod, cum vera pax non sit nisi de bono, sicut dupliciter habetur verum bonum, scilicet perfecte et imperfecte, ita est duplex pax vera. Una quidem perfecta, quae consistit in perfecta fruitione summi boni, per quam omnes appetitus uniuntur quietati in uno. Et hic est ultimus finis creaturae rationalis, secundum illud Psalm., qui posuit fines tuos pacem. Alia vero est pax imperfecta, quae habetur in hoc mundo. Quia etsi principalis animae motus quiescat in Deo, sunt tamen aliqua repugnantia et intus et extra quae perturbant hanc pacem
Articulus 3 Utrum pax sit proprius effectus caritatis
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod pax non sit proprius effectus cantatis.
(23) 1. Caritas enim non habetur sine gratia gratum fa- ciente. Sed pax a quibusdam habetur qui non habent gra-
368
Вопрос 29. О мире
ют освящающей благодатью, ведь и язычники иногда имеют мир. Следовательно, мир не является следствием любви-каритас.
(24) 2. Кроме того, следствием любви-каритас не может быть то, противоположность чего совместима с любовью-каритас. Но раздор, противоположный миру, совместим с любовью-каритас, ибо мы видим, что даже святые учители, например, Иероним и Августин, иногда спорили между собой в отношении некоторых вещей. Равным образом, мы читаем о споре между Павлом и Варнавой (Деян 15). Следовательно, как кажется, мир не является следствием любви-каритас.
(25) 3. Кроме того, одно и то же не может быть собственным следствием разного. Но мир является следствием справедливости, согласно этим словам (Ис 32, 17): И делом справедливости будет мир. Следовательно, он не есть следствие любви- каритас.
(26) Но против: сказано (Пс 118, 165): Велик мир у любящих Закон Твой.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже было отмечено (Р. 1), единство, входящее в смысловое содержание мира, двояко. Первое имеет место сообразно упоря¬
дочению собственных желаний [человека] в одно, а второе — сообразно объединению желания одного [человека] с желанием другого. И оба эти единства производит любовь-каритас. Первое — сообразно тому, что человек любит Бога всем своим сердцем, так именно, что все соотносит с Ним и, соответственно, устремляет к [Нему] одному все свои желания; второе — сообразно тому, что мы любим ближних как самих себя, сообразно чему желаем исполнения их желаний как своих собственных. И потому Аристотель среди свойств дружбы упоминает единство выбора, а Туллий говорит, что друзья желают одного и того же и не желают одного и того же.
(28) Итак, на первое надлежит ответить, что освящающей благодати можно лишиться только вследствие греха, который отвращает человека от должной цели и обращает его на некую недолжную цель. И в связи с этим его желание прилепляется не к истинному предельному благу, а к благу кажущемуся. Следовательно, без освящающей благодати мир является не действительным, а только кажущимся.
(29) На второе надлежит ответить, что, как говорит Философ, к дружбе относится согласие не во мнениях, но в отношении
tiam gratum facientem, sicut et gentiles aliquando habent pacem. Ergo pax non est effectus cantatis.
(24) 2. Praeterea, illud non est effectus caritatis cuius contrarium cum cantate esse potest. Sed dissensio, quae con- trariatur paci, potest esse cum cantate, videmus enim quod etiam sacri doctores, ut Hieronymus et Augustinus, in aliquibus opinionibus dissenserunt, Paulus etiam et Barnabas dissensisse leguntur, Act. XV. Ergo videtur quod pax non sit effectus caritatis
(25) 3. Praeterea, idem non est propnus effectus diversorum. Sed pax est effectus iustitiae, secundum illud Isaiae XXXII, opus iustitiae pax. Ergo non est effectus cantatis.
(26) Sed contra est quod dicitur in Psalm., pax multa diligentibus legem tuam.
(27) Respondeo dicendum quod duplex unio est de ratione pacis, sicut dictum est (a. 1), quarum una est secundum ordinationem propnorum appetituum in unum; alia vero est secundum unionem appetitus propni cum appetitu alterius. Et utramque unionem efficit caritas. Pn-
mam quidem unionem, secundum quod Deus diligitur ex toto corde, ut scilicet omnia referamus in ipsum, et sic omnes appetitus nostri in unum feruntur. Aliam vero, prout diligimus proximum sicut nosipsos, ex quo contingit quod homo vult implere voluntatem proximi sicut et sui ipsius. Et propter hoc inter amicabilia unum ponitur identitas electionis, ut patet in IX Ethic. (4; 1166a7); et Tullius dicit, in libro De amicitia (DD 4, 552), quod amicorum est idem velle et nolle.
(28) Ad primum ergo dicendum quod a gratia gratum faciente nullus deficit nisi propter peccatum, ex quo contingit quod homo sit aversus a fine debito, in aliquo indebito finem constituens. Et secundum hoc appetitus eius non inhaeret principaliter vero finali bono, sed apparenti. Et propter hoc sine gratia gratum faciente non potest esse vera pax, sed solum apparens.
(29) Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit, in IX Ethic. (6; 1167a22), ad amicitiam non pertinet concordia in opinionibus, sed concordia in bonis confe-
Раздел 4. Является ли мир добродетелью
369
важнейших благ, затрагивающих весь образ жизни, поскольку расхождение во взглядах относительно вещей незначительных едва ли является раздором. И потому ничто не мешает тому, чтобы некоторые люди, обладающие любовью-каритас, имели различные мнения. Равным образом, это не препятствует миру, поскольку мнения относятся к разуму, который предшествует желанию, объединяемому миром. И точно так же, если имеется согласие в главнейших благах, то расхождение в чем-то малом не противоречит любви-каритас. В самом деле, такое расхождение следует из различия мнений, когда один человек считает, что то, относительно чего происходит спор, относится к тому благу, в отношении которого имеется согласие, а другой считает, что не относится. И потому такие разногласия во мнениях и в отношении незначительного несовместимы с состоянием совершенного мира, в котором все желания исполнятся, а истина будет полностью постигнута, но совместимы с несовершенным миром, которым обладают люди в земной жизни.
(зо) На третье надлежит ответить, что мир является «делом справедливости» опосредованно, а именно, постольку, посколь¬
ку справедливость устраняет то, что препятствует [миру]. А непосредственно мир является делом любви-каритас, поскольку любовь согласно своему смысловому содержанию обусловливает мир. В самом деле, как говорит Дионисий, любовь есть объединяющая сила, а мир есть единение устремлений желания.
Раздел 4 Является ли мир добродетелью
(31) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что мир является добродетелью.
(32) 1. В самом деле, заповеди даются только о действиях добродетелей. Но среди них есть заповедь о мире (Мк 9, 50): Мир имейте между собою. Следовательно, мир является добродетелью.
(33) 2. Кроме того, мы обретаем заслуги только посредством действий добродетели. Но установление мира является заслугой, согласно этим словам (Мф 5, 9): Блаженны миротворцы — ибо они будут наречены «сынами Божиими». Следовательно, мир является добродетелью.
(34) 3. Кроме того, пороки противоположны добродетелям. Но вражда, которая противоположна миру, названа в числе поро-
rentibus ad vitam, et praecipue in magnis, quia dissentire in aliquibus parvis quasi videtur non esse dissensus. Et propter hoc nihil prohibet aliquos cantatem habentes in opinionibus dissentire. Nec hoc repugnat paci, quia opiniones pertinent ad intellectum, qui praecedit appetitum, qui per pacem unitur. Similiter etiam, existente concordia in pnn- cipalibus bonis, dissensio in aliquibus parvis non est contra cantatem. Procedit enim talis dissensio ex diversitate opinionum, dum unus aestimat hoc de quo est dissensio pertinere ad illud bonum in quo conveniunt, et alius aestimat non pertinere. Et secundum hoc talis dissensio de minimis et de opinionibus repugnat quidem paci perfectae, in qua plene ventas cognoscetur et omnis appetitus complebitur, non tamen repugnat paci imperfectae, qualis habetur in via.
(30) Ad tertium dicendum quod pax est opus iustitiae indirecte, inquantum scilicet removet prohibens. Sed est opus cantatis directe, quia secundum propriam rationem can¬
tas pacem causat. Est enim amor vis unitiva, ut Dionysius dicit, IV cap. De div. nom. (PG 3, 709) pax autem est unio appetitivarum inclinationum.
Articulus 4 Utrum pax sit virtus
(31) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod pax sit virtus
(32) 1. Praecepta enim non dantur nisi de actibus virtutum. Sed dantur praecepta de habendo pacem, ut patet Marc. IX, pacem habete inter vos Ergo pax est virtus
(33) 2 Praeterea, non meremur nisi actibus virtutum. Sed facere pacem est meritorium, secundum illud Matth. V, beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. Ergo pax est virtus.
(34) 3. Praeterea, vitia virtutibus opponuntur. Sed dissensiones, quae opponuntur paci, numerantur inter vitia; ut patet ad Gal. V. Ergo pax est virtus.
370
Вопрос 29. О мире
ков (Гал 5, 20). Следовательно, мир является добродетелью.
(35) Но против: добродетель является не предельной целью, а путем к ней. Но мир, как говорит Августин, в некотором смысле есть предельная цель. Следовательно, мир не является добродетелью.
(36) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечалось выше (В. 28, Р. 4), если все действия следуют одно из другого, исходя от действующего сообразно одному смысловому содержанию, то все они исходят от одной и той же добродетели, и не обладают отдельными добродетелями в качестве своего источника. Это очевидно в случае телесных вещей, поскольку, например, огонь, нагревая, может превращать нечто в жидкость, а нечто — в пар, но он не обладает двумя соответствующими способностями, а производит оба эти действия посредством одной своей нагревающей способности. И поскольку любовь-каритас обусловливает мир сообразно смысловому содержанию любви к Богу и к ближнему, как уже было показано выше (Р. 3), постольку
нет никакой иной, кроме любви-каритас, добродетели, собственным действием которой являлся бы мир, как уже было выше сказано о радости (В. 28, Р. 4).
(37) Итак, на первое надлежит ответить, что заповедь о мире дана потому, что он является действием любви-каритас. И именно потому он является действием, обусловливающим заслугу. И поэтому он включается в число блаженств, которые, как уже было сказано (Ч. II-I, В. 69, Р. 1, 3), являются действиями совершенной добродетели. А в число плодов он включен потому, что ему, как некоему предельному благу, присуща духовная сладость.
(38) И из этого очевиден ответ на второе.
(39) На третье надлежит ответить, что одной добродетели противоположны несколько пороков, сообразно различным ее действиям. И сообразно этому любви-каритас противоположна не только ненависть, сообразно действию любви, но также зависть и уныние — сообразно действию радости, и вражда — сообразно действию мира.
(35) Sed contra, virtus non est finis ultimus, sed via in ipsum. Sed pax est quodammodo finis ultimus; ut Augustinus dicit, XIX De civ Dei (11; PL 41, 637). Ergo pax non est virtus.
(36) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (q 28, a. 4), cum omnes actus se invicem consequuntur, secundum eandem rationem ab agente procedentes, omnes huiusmodi actus ab una virtute procedunt, nec habent singuli singulas virtutes a quibus procedant. Ut patet in rebus corporalibus, quia enim ignis calefaciendo liquefacit et rarefacit, non est in igne alia virtus liquefactiva et alia rarefactiva, sed omnes actus hos operatur ignis per unam suam virtutem calefactivam. Cum igitur pax causetur ex cantate secundum ipsam rationem dilectionis Dei et proximi, ut ostensum est (a. 3), non est alia virtus cuius pax sit
proprius actus nisi caritas, sicut et de gaudio dictum est (q. 28, a. 4).
(37) Ad primum ergo dicendum quod ideo praeceptum datur de pace habenda, quia est actus caritatis. Et propter hoc etiam est actus mentorius. Et ideo ponitur inter beati- tudines, quae sunt actus virtutis perfectae, ut supra dictum est (II-I, q. 69, a. 1, 3). Ponitur etiam inter fructus, inquantum est quoddam finale bonum spiritualem dulcedinem habens.
(38) Et per hoc patet solutio ad secundum.
(39) Ad tertium dicendum quod uni virtuti multa vitia opponuntur, secundum diversos actus eius. Et secundum hoc cantati non solum opponitur odium, ratione actus dilectionis, sed etiam acedia vel invidia, ratione gaudii; et dissensio, ratione pacis.
Вопрос 30
О милосердии
Затем надлежит рассмотреть милосердие. И касательно него исследуются четыре [проблемы]: 1) является ли зло причиной милосердия со стороны того, к кому оно проявляется; 2) кому надлежит проявлять милосердие; 3) является ли милосердие добродетелью; 4) является ли оно наибольшей добродетелью.
Раздел 1
Является ли зло тем, что в собственном смысле движет к милосердию
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что зло не является тем, что в собственном смысле движет к милосердию.
(3) 1. В самом деле, как уже было сказано (В. 19, Р. 1; Ч. I, В. 48, Р. 6), вина в большей степени зло, чем наказание. Но вина за¬
служивает не столько милосердия, сколько негодования. Следовательно, зло не побуждает к милосердию.
(4) 2. Кроме того, жестокое и устрашающее, как представляется, обладает неким переизбытком зла. Но Философ говорит, что устрашающее не ведет к милосердию, а изгоняет его. Следовательно, зло как таковое не побуждает к милосердию.
(5) 3. Кроме того, признаки зла еще не есть зло. Но, как явствует из слов Философа, признаки зла побуждают к милосердию. Следовательно, зло не является тем, что в собственном смысле побуждает к милосердию.
(6) Но против: Дамаскин говорит, что милосердие является видом печали. Но зло побуждает к печали. Следовательно, и к милосердию.
Quaestio 30 De misericordia
(1) Deinde considerandum est de misericordia Et circa (4) 2. Praeterea, ea quae sunt crudelia seu dira videntur
hoc quaeruntur quatuor. Primo, utrum malum sit causa quendam excessum mali habere. Sed philosophus dicit, misericordiae ex parte eius cuius miseremur. Secundo, in II Rhet. (8; 1386a22), quod dirum est aliud a miserabili,
quorum sit misereri. Tertio, utrum misericordia sit virtus. et expulsivum miserationis. Ergo malum, inquantum huius-
Quarto, utrum sit maxima virtutum. modi, non est motivum ad misericordiam.
(5) 3. Praeterea, signa malorum non vere sunt mala. Sed
Articulus 1 signa malorum provocant ad misericordiam; ut patet per
Utrum malum sit proprie motivum ad misericordiam philosophum, in II Rhet. (8; 1386b2). Ergo malum non
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod malum non sit est proprie provocativum misericordiae.
proprie motivum ad misericordiam. (6) Sed contra est quod Damascenus dicit, in II Lib. {De
(3) 1. Ut enim supra ostensum est (q. 19, a. 1; I, q. 48, fide orth., 14; PG 94, 932), quod misericordia est species
a 6), culpa est magis malum quam poena. Sed culpa non tristitiae. Sed motivum ad tnstitiam est malum. Ergo mo-
est provocativum ad misericordiam, sed magis ad indigna- tivum ad misericordiam est malum.
tionem. Ergo malum non est misericordiae provocativum.
372
Вопрос 30. О милосердии
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит Августин, милосердие есть пребывающее в нашем сердце сострадание к чужому несчастью, которое побуждает нас оказать помощь, если это возможно. В самом деле, милосердие (misericordia) называется так потому, что человек из-за несчастий (misera) другого имеет опечаленное сердце (miserum cor). Но несчастье противоположно счастью. Но в смысловое содержание счастья, или блаженства, необходимо, чтобы желающий владел желаемым, поскольку, согласно Августину, блаженным является тот, кто имеет все, что желает, и при этом не желает зла. И потому к несчастью, с другой стороны, относится то, что человек владеет тем, чего он не желает. Но человек может желать нечто трояко. Во-первых, посредством естественного желания, и так все люди по природе желают существовать и жить. Во-вторых, человек желает нечто в силу выбора, совершенного после определенных размышлений. В-тре- тьих, человек желает нечто не как таковое, но в его причине; так, если человек желает съесть то, что для него вредно, в некотором смысле будет верно, что он желает заболеть. Итак, причиной, побуждающей к милосердию, как то, что относится
(7) Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, IX De civ. Dei (5; PL 41, 261), misericordia est alienae miseriae in nostro corde compassio, qua utique, si possumus, subvenire compellimur, dicitur enim misencordia ex eo quod aliquis habet miserum cor super misena alterius. Miseria autem felicitati opponitur. Est autem de ratione beatitudinis sive felicitatis ut aliquis potiatur eo quod vult, nam sicut Augustinus dicit, XIII De Trin. (5; PL 42, 1020), beatus qui habet omnia quae vult, et nihil mali vult Et ideo e contrario ad miseriam pertinet ut homo patiatur quae non vult. Tripliciter autem aliquis vult aliquid. Uno quidem modo, appetitu naturali, sicut omnes homines volunt esse et vivere. Alio modo homo vult aliquid per electionem ex aliqua praemeditatione. Tertio modo homo vult aliquid non secundum se, sed in causa sua, puta, qui vult comedere nociva, quodammodo dicimus eum velle infirmari. Sic igitur motivum misericordiae est, tanquam ad miseriam pertinens, pnmo quidem illud quod contranatur appetitui naturali volentis, scilicet mala corruptiva et contnstan-
K несчастью, является, во-первых, то, что противоположно естественному желанию а именно разрушительное и печалящее зло такое, противоположное которому человек желает по самой своей природе. Поэтому Философ говорит, что милосердие есть некая печаль, происходящая из-за наблюдения зла, разрушительного и печалящего. Во-вторых, зло такого рода обусловливает еще большее сострадание, если оно вступает в противоречие с выбором воли. И сообразно этому Философ говорит, что пробуждает милосердие то зло, которое происходит случайно, например, когда зло приходит оттуда, откуда ожидалось благо. В- третьих, к еще большему милосердию зло побуждает тогда, когда противоречит совокупной воле, например, когда зло случается с человеком, который всегда стремится делать благие вещи. И потому Философ говорит, что более всего мы милосердны к тем, кто претерпевает зло незаслуженно.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что к смысловому содержанию вины относится добровольность. И в этом отношении она заслуживает скорее наказания, чем милосердия. Однако так как вина в некотором смысле может быть и наказанием — постольку, поскольку включает то, что про-
tia, quorum contrana homines naturaliter appetunt Unde philosophus dicit, in II Rhet. (8; 1385ЫЗ), quod misericordia est tristitia quaedam super apparenti malo corruptivo vel contristativo. Secundo, huiusmodi magis efficiuntur ad misencordiam provocantia si sint contra voluntatem electionis. Unde et philosophus ibidem dicit (Rhet., II, 8; 1386a5) quod illa mala sunt miserabilia quorum fortuna est causa, puta cum aliquod malum eveniat unde sperabatur bonum. Tertio autem, sunt adhuc magis miserabilia si sunt contra totam voluntatem, puta si aliquis semper sectatus est bona et eveniunt ei mala. Et ideo philosophus dicit, in eodem libro (Rhet., II, 8; 1386b6), quod misericordia maxime est super malis eius qui indignus patitur.
(8) Ad primum ergo dicendum quod de ratione culpae est quod sit voluntaria. Et quantum ad hoc non habet rationem miserabilis, sed magis rationem puniendi. Sed quia culpa potest esse aliquo modo poena, inquantum scilicet habet aliquid annexum quod est contra voluntatem peccantis, secundum hoc potest habere rationem
Раздел 2. Есть ли основание для милосердия ущерб того, кто его выказывает 373
тиворечит желанию грешника — то в этом отношении она может побуждать к милосердию. И в этом смысле мы должны быть милосердны к грешникам и сострадать им, как указывает Григорий, говоря, что истинная справедливость не отвращается (понятно, от грешников), а сострадает. И в Писании сказано (Мф 9, 36), что Иисус, видя толпы народа, сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.
,) На второе надлежит ответить, что поскольку милосердие есть сочувствие чужому несчастью, то, строго говоря, оно направлено на другого, а не на себя; иначе может быть разве что сообразно некоему подобию, как и в случае справедливости, когда, согласно сказанному в V книге «Этики», рассматриваются несколько частей человека. И в этом смысле говорится (Сир 30, 24): Имей милосердие к душе своей, и тем угодишь Богу1. Следовательно, как невозможно милосердие по отношению к самому себе, а возможно страдание (когда, например, мы страдаем от жестокости другого человека), так оно невозможно и по отношению к тем, кто столь тесно соединен с нами, что является как бы частью нас самих (например, дети или ро¬
дители): когда они испытывают несчастья, мы не проявляем к ним милосердие, а страдаем так, как если бы эти несчастья были нашими. И сообразно этому Философ говорит, что устрашающее изгоняет милосердие.
(ю) На третье надлежит ответить, что как из надежды на благо или из воспоминания о нем следует удовольствие, так же и из ожидания зла или из воспоминаний о прошлом зле следует печаль, хоть и не такая сильная, как при непосредственном восприятии. И потому признаки зла, поскольку они представляют нам достойное сожаления зло как наличествующее, побуждают к милосердию.
Раздел 2
Является ли основанием для милосердия ущерб того, кто выказывает милосердие
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что ущерб выказывающего милосердие не является основанием для милосердия.
(12) 1. В самом деле, милосердие свой¬
ственно Богу, отчего сказано (Пс 144, 9): Милосердие Господа — на всех делах Его. Но в Боге нет никакого ущерба. Следовательно, ущерб не может быть основанием для
miserabilis. Et secundum hoc miseremur et compatimur peccantibus, sicut Gregonus dicit (In Evang., II, hom. 34; PL 76, 1246), in quadam homilia, quod vera iustitia non habet dedignationem, scilicet ad peccatores, sed compassionem. Et Matth. IX dicitur, videns lesus turbas misertus est eis, quia erant vexati, et iacentes sicut oves non habentes pastorem
(9) Ad secundum dicendum quod quia misericordia est compassio miseriae alterius, proprie misericordia est ad alterum, non autem ad seipsum, nisi secundum quan- dam similitudinem, sicut et iustitia, secundum quod in homine considerantur diversae partes, ut dicitur in V Ethic (11; 1138b8). Et secundum hoc dicitur Eccli. XXX, miserere animae tuae placens Deo Sicut ergo misericordia non est proprie ad seipsum, sed dolor, puta cum patimur aliquid crudele in nobis; ita etiam, si sint aliquae personae ita nobis coniunctae ut sint quasi aliquid nostri, puta filii aut parentes, in eorum malis non miseremur, sed dolemus,
sicut in vulneribus propnis. Et secundum hoc philosophus dicit (Rhet, II, 8; 1386a22). quod dirum est expulsivum miserationis.
(10) Ad tertium dicendum quod sicut ex spe et memoria bonorum sequitur delectatio, ita ex spe et memona malorum sequitur tnstitia, non autem tam vehemens sicut ex sensu praesentium Et ideo signa malorum, inquantum repraesentant nobis mala miserabilia sicut praesentia, commovent ad miserendum
Articulus 2
Utrum defectus sit ratio miserendi ex parte miserentis
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod defectus non sit ratio miserendi ex parte miserentis.
(12) 1. Propnum enim Dei est miseren, unde dicitur in Psalm., miserationes eius super omnia opera eius Sed in Deo nullus est defectus Ergo defectus non potest esse ratio miserendi.
374
Вопрос 30. О милосердии
милосердия.
(13) 2. Кроме того, если бы основанием ми¬
лосердия был ущерб, то наиболее ущербные были бы самыми милосердными. Но это не так, поскольку, как говорит Философ, люди совершенно погибшие не выказывают милосердия. Следовательно, как кажется, ущерб выказывающего милосердие не может быть основанием милосердия.
(и) 3. Кроме того, подверженность презре¬
нию является недостатком. Но Философ говорит, что люди, подверженные презрению, не испытывают сострадания. Следовательно, недостаток, или ущербность выказывающего милосердие, не могут быть основанием милосердия.
(15) Но против: милосердие есть некая печаль. Но основанием для печали является ущерб, и потому нездоровые люди более склонны к печали, как уже сказано выше (Ч. II-I, В. 47, Р.З). Следовательно, причиной сострадания является ущерб сострадающего.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что, поскольку, как уже было показано выше (Р. 1)} милосердие есть сострадание несчастьям другого, постольку человек выказывает милосердие потому, что печалится из-за несчастий других. И коль скоро печаль, или горе, относятся к собственному злу, то печалиться и горевать из-за несчастий другого можно лишь настолько, насколько они воспринимаются как свои собственные. Но это может происходить двояко. Во-первых, сообразно единению аффекта, возникающему благодаря любви. В самом деле, поскольку любящий воспринимает любимого как «второе я», то зло, случившееся с любимым, он воспринимает как свое собственное несчастье, и потому страдает от этого зла так, как если бы оно случилось с ним самим. И потому Философ, перечисляя признаки дружбы, говорит, что друг разделяет горе своего друга. И апостол говорит (Рим 12, 15): Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Во-вторых, это происходит по причине реального соединения, например, когда зло, случившееся с другими, близко настолько, что может перейти и на нас. И потому Философ говорит, что люди милосердны к близким и подобным себе, поскольку
(13) 2. Praeterea, si defectus est ratio miserendi, oportet quod illi qui maxime sunt cum defectu maxime miserentur. Sed hoc est falsum, dicit emm philosophus, in II Rhet. (8; 1385Ы9), quod qui ex toto perierunt non miserentur. Ergo videtur quod defectus non sit ratio miserendi ex parte miserentis.
(14) 3. Praeterea, sustinere aliquam contumeliam ad defectum pertinet. Sed philosophus dicit ibidem (Rhet., II, c. 8; 1385b31 ) quod illi qui sunt in contumeliativa dispositione non miserentur. Ergo defectus ex parte miserentis non est ratio miserendi.
(15) Sed contra est quod misericordia est quaedam tristitia. Sed defectus est ratio tnstitiae, unde infirmi facilius contristantur, ut supra dictum est (II-I, q. 47, a. 3). Ergo ratio miserendi est defectus miserentis.
(16) Respondeo dicendum quod, cum misericordia sit compassio super misena aliena, ut dictum est (a. 1), ex hoc contingit quod aliquis misereatur ex quo contingit quod de miseria aliena doleat. Quia autem tristitia seu dolor est de proprio malo, intantum aliquis de miseria aliena tristatur aut dolet inquantum misenam alienam apprehendit ut suam. Hoc autem contingit dupliciter Uno modo, secundum unionem affectus, quod fit per amorem. Quia enim amans reputat amicum tanquam seipsum, malum ipsius reputat tanquam suum malum, et ideo dolet de malo amici sicut de suo. Et inde est quod philosophus, in IX Ethic. (4; 1166a7), inter alia amicabilia ponit hoc quod est condolere amico. Et apostolus dicit, ad Rom. XII, gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus. Alio modo contingit secundum unionem realem, utpote cum malum aliquorum propinquum est ut ab eis ad nos transeat. Et ideo philosophus dicit, in II Rhet. (8; 1385b 16), homines miserentur super illos qui sunt eis comuncti et similes, quia per hoc fit eis aestimatio quod ipsi etiam possint similia
Раздел 3. Является ли милосердие добродетелью
375
считают возможным, что и с ними может случиться то, что произошло с теми. ц по этой же причине старшие и мудрые, которые знают, что с ними может случиться нечто плохое, а также слабые и робкие люди более склонны к милосердию. И наоборот, те, кто считает себя счастливыми и достаточно могущественными, чтобы избежать любого зла, склонны к милосердию в меньшей степени. Следовательно, основанием милосердия всегда является некий ущерб: либо потому, что человек считает ущерб другого своим собственным в силу соединения с ним любовью, либо потому, что [он видит] возможность пострадать таким же образом.
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что Бог проявляет к нам милосердие исключительно в силу любви, постольку, постольку Он любит нас как свое [творение].
(18) На второе надлежит ответить, что те, чьи бедствия таковы, что хуже уже быть не может, не боятся больших страданий и потому не бывают милосердными. И то же относится к тем, кто охвачен очень сильным страхом, ведь они настолько поглощены своей страстью, что не интересуются несчастьями других.
(19) На третье надлежит ответить, что люди, подверженные презрению (либо по причине того, что их самих презирают, либо по причине того, что они желают презирать других), склонны к гневу и храбрости, каковые суть мужественные страсти, ведущие человеческий дух к совершению трудного. И потому они лишают человека мыслей о том, что он может пострадать в будущем. И пока он пребывает в таком расположении, он не испытывает милосердия, согласно этим словам (Притч 27, 4): Гнев не знает милосердия; не знает его и неукротимая ярость2. По той же самой причине не знают милосердия гордецы, которые презирают других и считают их дурными людьми. Поэтому Григорий и говорит, что ложная справедливость, то есть справедливость гордецов, не сострадает, а отвращается.
Раздел 3
Является ли милосердие добродетелью
(20) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что милосердие не является добродетелью.
(21) 1. В самом деле, главным в добродетели является выбор, как явствует из слов Философа в книге «Этика». Но, как ска-
pati. Et inde est etiam quod senes et sapientes, qui considerant se posse in mala incidere, et debiles et formidolosi magis sunt misericordes. E contrario autem alii, qui reputant se esse felices et intantum potentes quod nihil mali putant se posse pati, non ita miserentur. Sic igitur semper defectus est ratio miserendi, vel inquantum aliquis defectum alicuius reputat suum, propter unionem amoris; vel propter possibilitatem similia patiendi.
(17) Ad primum ergo dicendum quod Deus non miseretur nisi propter amorem, inquantum amat nos tanquam aliquid sui
(18) Ad secundum dicendum quod illi qui iam sunt in infimis malis non timent se ultenus pati aliquid, et ideo non miserentur. Similiter etiam nec illi qui valde timent, quia tantum intendunt propnae passioni quod non intendunt misenae alienae.
(19) Ad tertium dicendum quod illi qui sunt in contumelia- tiva dispositione, sive quia sint contumeliam passi, sive quia velint contumeliam inferre, provocantur ad iram et audaciam, quae sunt quaedam passiones virilitatis extollentes animum hominis ad arduum. Unde auferunt homim aestimationem quod sit aliquid in futurum passurus. Unde tales, dum sunt in hac dispositione, non miserentur, secundum illud Prov. XXVI1, ira non habet misericordiam, neque erumpens furor. Et ex simili ratione superbi non miserentur, qui contemnunt alios et reputant eos malos. Unde reputant quod digne patiantur quidquid patiuntur. Unde et Gregorius dicit (In Evang., II, hom. 34; PL 76, 1246) quod falsa iustitia, scilicet superborum, non habet compassionem, sed dedignationem.
Articulus 3 Utrum misericordia sit virtus
(20) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod misericordia non sit virtus.
(21) 1. Principale enim in virtute est electio, ut patet per
376
Вопрос 30. О милосердии
зано в той же книге, выбор есть желание предварительно обдуманного. Следовательно, то, что препятствует этому обдумыванию, или совещанию, не может называться добродетелью. Но милосердие препятствует совещанию, согласно этим словам Саллюстия: Тот, кто совещается в делах сомнительных, должен быть свободен от гнева и милосердия, поскольку из-за них разуму трудно находить истину. Следовательно, милосердие не является добродетелью.
(22) 2. Кроме того, ничто из того, что про¬
тивоположно добродетели, не может быть похвальным. Однако воздаяние противоположно милосердию, как говорит Философ. Но оно является похвальной страстью, как сказано во II книге «Этики». Следовательно, милосердие не является добродетелью.
(23) 3. Кроме того, радость и мир не яв¬
ляются особыми добродетелями, но следуют из любви-каритас, как было показано выше (В. 28, Р. 4; В. 29, Р. 4). Однако милосердие также следует из любви-каритас, поскольку из любви-каритас мы плачем с плачущими, равно как и радуемся с радующимися. Следовательно, милосердие не является особой добродетелью.
(24) 4. Кроме того, поскольку милосердие относится к желающей способности, оно не является интеллектуальной добродетелью. Но оно не является и теологической добродетелью, Бог не есть ее объект. Равным образом, милосердие не является и моральной добродетелью, поскольку не соотносится ни с деятельностью (ибо это относится к справедливости), ни со страстями (поскольку не сводится ни к одной из двенадцати упомянутых Философом «золотых середин»). Следовательно, милосердие не является добродетелью.
(25) Но против: Августин говорит: Гораздо лучше, человечнее и куда сообразнее с благочестивыми чувствами высказывается Цицерон в похвале Цезарю, когда говорит: «Из всех твоих добродетелей нет ни одной, которая была бы удивительней и привлекательней твоего милосердия». Следовательно, милосердие — это добродетель.
(26) Отвечаю: надлежит сказать, что милосердие подразумевает печаль от чужого несчастья. Но эта печаль может в одном смысле означать движение чувственного желания. И в этом случае милосердие является не добродетелью, а страстью. Но в другом смысле эта печаль может означать движение разумного желания, сообразно тому,
philosophum, in libro Ethic. (5; 1106аЗ). Electio autem est appetitus praeconsiliati, ut in eodem libro dicitur (Ethic., III, 2; 1112al4). Illud ergo quod impedit consilium non potest dici virtus. Sed misericordia impedit consilium, secundum illud Sallustii (In coniurat. Catii., 51; DD 52)., omnes homines qui de rebus dubiis consultant ab ira et misericordia vacuos esse decet, non enim animus facile verum providet ubi ista officiunt. Ergo misericordia non est virtus.
(22) 2. Praeterea, nihil quod est contrarium virtuti est laudabile. Sed nemesis contrariatur misericordiae, ut philosophus dicit, in II Rhet. (9; 1386b9). Nemesis autem est passio laudabilis, ut dicitur in II Ethic (7; 1108a35). Ergo misericordia non est virtus.
(23) 3. Praeterea, gaudium et pax non sunt speciales virtutes quia consequuntur ex caritate, ut supra dictum est (q. 28, a. 4; q. 29, a. 4). Sed etiam misericordia consequitur ex caritate, sic enim ex caritate flemus cum flentibus sicut gaudemus cum gaudentibus. Ergo misericordia non est specialis virtus.
(24) 4. Praeterea, cum misericordia ad vim appetitivam pertineat, non est virtus intellectualis. Nec est virtus theologica, cum non habeat Deum pro obiecto. Similiter etiam non est virtus moralis, quia nec est circa operationes, hoc enim pertinet ad iustitiam; nec est circa passiones, non enim reducitur ad aliquam duodecim medietatum quas philosophus ponit, in II Ethic. (5; 1107a28). Ergo misericordia non est virtus.
(25) Sed contra est quod Augustinus dicit, in IX De civ. Dei (5; PL 41, 260), longe melius et humanius et piorum sensibus accommodatius Cicero in Caesaris laude locutus est, ubi ait, nulla de virtutibus tuis nec admirabilior nec gratior misericordia est. Ergo misencordia est virtus.
(26) Respondeo dicendum quod misericordia importat dolorem de miseria aliena. Iste autem dolor potest nominare, uno quidem modo, motum appetitus sensitivi. Et secundum hoc misencordia passio est, et non virtus. Alio vero modo potest nominare motum appetitus intellectivi, secundum quod alicui displicet malum alterius. Hic autem
Раздел 3. Является ли милосердие добродетелью
377
что человеку неприятно зло, происходящее с другим. И это движение может регулироваться разумом, а в соответствии с ним, так отрегулированным, может регулироваться и движение более низкого желания. Поэтому Августин говорит, что это движение духа, т. е. милосердие, подчиняется разуму, когда оно проявляется при сохранении справедливости: когда или подается помощь нуждающемуся, или оказывается прощение раскаивающемуся. И поскольку смысловое содержание человеческой добродетели заключается в том, чтобы движения души регулировались разумом, как явствует из сказанного выше (Ч. II-I, В. 56, Р. 4; В. 59, Р. 4; В. 60, Р. 5; В. 66, Р. 4), постольку милосердие является добродетелью.
(27) Итак, на первое надлежит ответить, что слова Саллюстия надлежит понимать как сказанные о том милосердии, которое не регулируется разумом. Именно оно мешает разумному совету и потому производит отклонение от справедливости.
(28) На второе надлежит ответить, что Философ говорит там о милосердии и воздаянии сообразно тому, что они суть страсти. И они, понятно, противоположны друг другу в том, что касается оценки чужого несчастья, поскольку милосердие печалится,
насколько считает страдание незаслуженным, а воздаяние радуется, насколько считает страдание заслуженным, и печалится, когда незаслуженно благоденствуют. И потому, как сказано там же, обе эти страсти достойны похвалы и относятся к одному и тому же характеру. Впрочем, в собственном смысле слова милосердию противоположна зависть, о чем будет сказано далее (В. 36, Р.З).
(29) На третье надлежит ответить, что радость и мир ничего не добавляют к смысловому содержанию блага, которое является объектом любви-каритас, а потому им не нужна никакая иная добродетель, помимо любви-каритас. Но милосердие соотносится с особым смысловым содержанием, а именно с бедствиями того, по отношению к кому проявляют милосердие.
(30) На четвертое надлежит ответить, что милосердие, сообразно тому, что является добродетелью, является моральной добродетелью, соотносящейся со страстями, и сводимой к середине, которая называется воздаянием, поскольку они относятся к одному и тому же характеру. Но эти середины Философ считал не добродетелями, а страстями, поскольку они даже в качестве страстей достойны похвалы. Однако ничто
motus potest esse secundum rationem regulatus, et potest secundum hunc motum ratione regulatum regulari motus inferioris appetitus. Unde Augustinus dicit, in IX De civ. Dei (5; PL 41, 261), quod iste motus animi, scilicet misericordia, servit rationi quando ita praebetur misericordia ut iustitia conservetur, sive cum indigenti tribuitur, sive cum ignoscitur poenitenti. Et quia ratio virtutis humanae consistit in hoc quod motus animi ratione reguletur, ut ex superioribus patet (II-I, q. 56, a. 4; q. 59, a. 4; q. 60, a. 5; q.66, a. 4), consequens est misericordiam esse virtutem.
(27) Ad primum ergo dicendum quod auctoritas illa Sallustii intelligitur de misericordia secundum quod est passio ratione non regulata. Sic enim impedit consilium rationis, dum facit a iustitia discedere.
(28) Ad secundum dicendum quod philosophus loquitur ibi de misericordia et nemesi secundum quod utrumque est passio Et habent quidem contranetatem ex parte aestimationis quam habent de malis alienis, de quibus misencors dolet, inquantum aestimat aliquem indigna pati, neme-
seticus autem gaudet, inquantum aestimat aliquos digne pati, et tristatur si indignis bene accidat. Et utrumque est laudabile, et ab eodem more descendens, ut ibidem dicitur (Rhet., II, 9; 1386Ы1). Sed proprie misericordiae opponitur invidia, ut infra dicetur (q. 36, a. 3).
(29) Ad tertium dicendum quod gaudium et pax nihil adi- iciunt super rationem boni quod est obiectum cantatis, et ideo non requirunt alias virtutes quam caritatem Sed misencordia respicit quandam specialem rationem, scilicet miseriam eius cuius miseretur.
(30) Ad quartum dicendum quod misericordia, secundum quod est virtus, est moralis virtus circa passiones existens, et reducitur ad illam medietatem quae dicitur Nemesis, quia ab eodem more procedunt, ut in II Rhet. (9; 1386bl 1) dicitur Has autem medietates philosophus non ponit virtutes, sed passiones, quia etiam secundum quod sunt passiones, laudabiles sunt. Nihil tamen prohibet quin ab aliquo habitu electivo proveniant. Et secundum hoc assumunt rationem virtutis.
378
Вопрос 30. О милосердии
не препятствует тому, чтобы они проистекали из некоего избирающего хабитуса. И в этом случае они будут обладать смысловым содержанием добродетели.
Раздел 4 Является ли милосердие наибольшей добродетелью
(31) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что милосердие является наибольшей добродетелью.
(32) 1. В самом деле, поклонение Богу относится к добродетели в высшей степени. Но милосердие лучше поклонения, ибо сказано (Ос 6, 6): Я милосердия хочу, а не жертвы. Следовательно, милосердие является самой большой добродетелью.
(33) 2. Кроме того, глосса на эти слова
(1 Тим 4, 8), Благочестие на все полезно, утверждает, что вся сумма христианского учения заключена в милосердии и благочестии. Но христианское учение охватывает все добродетели. Следовательно, вся сумма добродетелей содержится в милосердии.
(34) 3. Кроме того, добродетель есть то, что делает благим обладателя. Следовательно, чем больше добродетель делает человека подобным Богу, тем она лучше, ведь человек тем лучше, чем более он уподоблен
Богу. Но милосердие уподобляет человека Богу больше всего, ибо сказано (Пс 144 9): Милосердие Господа — на всех делах Его\ а еще Господь сказал (Лк 6, 36): Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Следовательно, милосердие является наибольшей добродетелью.
(35) Но против: апостол, сказав: Итак, облекитесь — как избранные Божии — в милосердие (Кол 3, 12), несколько позже добавляет: Более же всего облекитесь в любовь (14). Следовательно, милосердие не является самой большой добродетелью.
(36) Отвечаю: надлежит сказать, что некая добродетель может быть наибольшей в двух смыслах: во-первых, сама по себе; во-вторых, в соотнесении с обладающим ею. И само по себе милосердие является наибольшим, ведь ему свойственно распространяться на других и, что еще важнее, восполнять претерпеваемый ими ущерб, что приличествует преимущественно высшему. Поэтому милосердие считается свойственным Богу, и говорится, что именно в нем главным образом и проявляется Его всемогущество. Но если говорить о том, кто обладает милосердием, то тогда оно не является самой большой добродетелью, если только обладатель сам не яв-
Articulus 4 Utram misericordia sit maxima virtutum
(31) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod misericordia sit maxima virtutum.
(32) 1. Maxime enim ad virtutem pertinere videtur cultus divinus. Sed misericordia cultui divino praefertur, secundum illud Osee VI et Matth. XII, misericordiam volo, et non sacrificium. Ergo misericordia est maxima virtus.
(33) 2. Praeterea, super illud I ad Tim. IV, pietas ad omnia utilis est, dicit Glossa Ambrosii (cf. Petrus Lombardus; PL 192, 348), omnis summa disciplinae Christianae in misericordia et pietate est. Sed disciplina Christiana continet omnem virtutem. Ergo summa totius virtutis in misericordia consistit
(34) 3. Praeterea, virtus est quae bonum facit habentem. Ergo tanto aliqua virtus est melior quanto facit hominem Deo similiorem, quia per hoc melior est homo quod Deo est similior. Sed hoc maxime facit misericordia, quia de
Deo dicitur in Psalm, quod miserationes eius sunt super omnia opera eius. Unde et Luc. VI dominus dicit, estote misericordes, sicut et pater vester misericors est. Misericordia igitur est maxima virtutum.
(35) Sed contra est quod apostolus, ad Coloss. III, cum dixisset, induite vos, sicut dilecti Dei, viscera misericordiae etc , postea subdit, super omnia, caritatem habete. Eigo misericordia non est maxima virtutum.
(36) Respondeo dicendum quod aliqua virtus potest esse maxima dupliciter, uno modo, secundum se; alio modo, per comparationem ad habentem. Secundum se quidem misericordia maxima est. Pertinet enim ad misericordiam quod alii effundat; et, quod plus est, quod defectus aliorum sublevet; et hoc est maxime superioris. Unde et misereri ponitur proprium Deo, et in hoc maxime dicitur eius omnipotentia manifestari. Sed quoad habentem, misericordia non est maxima, nisi ille qui habet sit maximus, qui nullum supra se habeat, sed omnes sub se. Ei enim qui supra se aliquem habet maius est et melius coniungi superiori
Раздел 4. Является ли милосердие наибольшей добродетелью
379
ляется наибольшим, ничем не превзойденным и превосходящим все. Ведь тому, над кем есть кто-то еще, лучше соединиться с ним, чем восполнять ущерб тех, кто ниже его. И потому, насколько мы говорим о людях, над которыми находится Бог, любовь-каритас, соединяющая с Ним человека, больше, чем милосердие, посредством которого он восполняет ущерб ближнего. Однако из всех тех добродетелей, которые соотносятся с ближним, милосердие является наибольшей, поскольку его действие наиболее превосходно. В самом деле, восполнять ущерб другого в той мере, в какой последний его претерпевает, есть дело высшего и лучшего.
(37) Итак, на первое надлежит ответить, что мы поклоняемся Богу посредством внешних жертв и даров не ради Него, а ради нас самих и наших ближних. В самом деле, Бог не нуждается в наших жертвах, но желает, чтобы мы приносили их Ему ради нашей набожности и пользы для ближних. Поэто¬
му милосердие, посредством которого мы восполняем ущерб других, является наиболее приемлемой для Бога жертвой, ведь оно более всего способствует пользе ближнего, согласно этим словам (Евр 13, 16): Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу.
(38) На второе надлежит ответить, что суть христианской религии заключается в милосердии, насколько речь идет о внешних действиях. Насколько же речь идет о внутреннем аффекте любви-каритас, который соединяет нас с Богом, то он превосходнее и любви, и милосердия по отношению к ближнему.
(39) На третье надлежит ответить, что благодаря любви-каритас мы уподобляемся Богу, как бы соединяясь с ним посредством аффекта. И потому любовь-каритас могущественнее милосердия, благодаря которому мы уподобляемся Богу в том, что касается подобия деятельности.
quam supplere defectum inférions. Et ideo quantum ad hominem, qui habet Deum superiorem, caritas, per quam Deo unitur, est potior quam misencordia, per quam defectus proximorum supplet. Sed inter omnes virtutes quae ad proximum pertinent potissima est misencordia, sicut etiam est potioris actus, nam supplere defectum altenus, inquantum huiusmodi, est superioris et mêlions
(37) Ad primum ergo dicendum quod Deum non colimus per extenora sacnficia aut munera propter ipsum, sed propter nos et propter proximos, non enim indiget sacnficiis nostris, sed vult ea sibi offem propter nostram devotionem et proximorum utilitatem. Et ideo misencordia, qua subven¬
itur defectibus aliorum, est sacnficium ei magis acceptum, utpote propinquius utilitatem proximorum inducens, secundum illud Heb. ult., beneficentiae et communionis nolite oblivisci, talibus enim hostiis promeretur Deus.
(38) Ad secundum dicendum quod summa religionis Christianae in misericordia consistit quantum ad extenora opera. Intenor tamen affectio cantatis, qua coniungimur Deo, praeponderat et dilectioni et misencordiae in proximos.
(39) Ad tertium dicendum quod per caritatem assimilamur Deo tanquam ei per affectum uniti. Et ideo potior est quam misencordia, per quam assimilamur Deo secundum similitudinem operationis.
Вопрос 31 О благодеянии
(1) Затем надлежит исследовать внешние действия, или следствия, любви-каритас. И во-первых, благодеяние; во-вторых, даяние, которое есть некая часть благодеяния (В. 32); в-третьих, братское исправление, которое является одним из видов даяния (В. 33).
(2) И касательно первого исследуются четыре [проблемы]: 1) является ли благодеяние действием любви-каритас; 2) должны ли мы оказывать благодеяния всем; 3) должны ли мы оказывать большие благодеяния тем, кто теснее всего связан с нами; 4) является ли благодеяние особым видом добродетели.
Раздел 1 Является ли благодеяние действием любви-каритас
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что благодеяние не является действием любви-каритас.
(4) 1. В самом деле, любовь-каритас обращена прежде всего к Богу. Но мы не мо¬
жем оказывать благодеяние Богу, согласно этим словам (Иов 35, 7): Что даешь Ему или что получает Он от руки твоей? Следовательно, благодеяние не является действием любви-каритас.
(5) 2. Кроме того, благодеяние заключается прежде всего в даянии. Но даяние относится к щедрости. Следовательно, благодеяние является действием щедрости, а не любви-каритас.
(6) 3. Кроме того, все, что дает человек, он дает или как должное, или как недолжное. Но должное благодеяние относится к справедливости, а недолжное благодеяние есть милость, и потому относится к милосердию. Следовательно, любое благодеяние есть действие либо справедливости, либо милосердия. Следовательно, оно не является действием любви-каритас.
(7) Но против: как уже было сказано выше (В. 23, Р. 1), любовь-каритас есть некая дружба. Но Философ среди других действий дружбы упоминает и «делание блага друзьям», то есть благодеяние. Следова-
Quaestio 31 De beneficentia
(1) Deinde considerandum est de exterioribus actibus vel effectibus caritatis. Et primo, de beneficentia; secundo, de eleemosyna, quae est quaedam pars beneficentiae; tertio, de correctione fraterna, quae est quaedam eleemosyna.
(2) Circa primum quaeruntur quatuor. Primo, utrum beneficentia sit actus caritatis. Secundo, utrum sit omnibus benefaciendum. Tertio, utrum magis coniunctis sit magis benefaciendum. Quarto, utrum beneficentia sit virtus specialis.
Articulus 1 Utrum beneficentia sit actus caritatis
(3) Ad primum sic proceditur. Videtur quod beneficentia non sit actus caritatis.
(4) 1. Caritas enim maxime habetur ad Deum. Sed ad eum
non possumus esse benefici, secundum illud lob XXXV, quid dabis ei? Aut quid de manu tua accipiet? Ergo benefi¬
centia non est actus cantatis.
(5) 2. Praeterea, beneficentia maxime consistit in collatione donorum. Sed hoc pertinet ad liberalitatem. Ergo beneficentia non est actus caritatis, sed liberalitatis.
(6) 3. Praeterea, omne quod quis dat, vel dat sicut debitum vel dat sicut non debitum. Sed beneficium quod impenditur tanquam debitum pertinet ad iustitiam, quod autem impenditur tanquam non debitum, gratis datur, et secundum hoc pertinet ad misericordiam. Ergo omnis beneficentia vel est actus iustitiae vel est actus misericordiae. Non est ergo actus caritatis.
(7) Sed contra, caritas est amicitia quaedam, ut dictum est (q. 23, a. 1). Sed philosophus, in IX Ethic. (4; 1166a3), inter alios amicitiae actus ponit hoc unum quod est operari bonum ad amicos, quod est amicis benefacere. Ergo beneficentia est actus cantatis.
Раздел 1. Является ли благодеяние действием любви-каритас
381
тельно, благодеяние есть действие любви- каритас.
ф Отвечаю: надлежит сказать, что благодеяние подразумевает не что иное, как делание блага кому-либо. Но это благо можно рассматривать двояко. Во-первых, сообразно общему смысловому содержанию блага, и тогда речь идет об общем смысловом содержании благодеяния. И это — действие дружбы, а значит, и любви-каритас. Ведь действие любви включает благоволение, посредством которого человек желает своему другу благо, как было установлено выше (В. 32, Р. 1; В. 27, Р. 2). Но воля производит то, что желает, если, конечно, имеются возможности. И потому вслед за действием любви по отношению к другу следует действие благодеяния. Таким образом, благодеяние сообразно общему смысловому содержанию является действием дружбы, или любви-каритас. Но если благо, которое один человек делает другому, рассматривается в некоем особом аспекте блага, то тогда благодеяние обретает особое смысловое содержание и должно относиться к некоей особой добродетели.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Дионисий, упорядоченная любовь движет к взаимным отношениям, обра¬
щая низших к высшим ради своего совершенства и подвигая высших к заботе о низших; и в этом отношении благодеяние является действием любви. Таким образом, нам надлежит не оказывать Богу благодеяния, но почитать Его своим повиновением, в то время как Он по своей любви одаривает нас своими благодеяниями.
(ю) На второе надлежит ответить, что в даянии надлежит различать две [вещи], первая из которых есть внешний дар, а вторая — внутренняя страсть, которую человек имеет по отношению к богатству, наслаждаясь им. И к щедрости относится ограничение этой внутренней страсти, такое, именно, что человек не излишествует в вожделении богатства и любви к нему, и потому имеет склонность к дарению. Соответственно, если человек приносит большой дар, но при этом хотел бы оставить его себе, то такой дар не будет щедрым. Что же касается внешнего дара, то действие благодеяния в общем относится к дружбе, или любви-каритас. Поэтому дружба нисколько не умаляется, если человек из любви отдает другу что-то, что хотел бы оставить себе; скорее это показывает совершенство дружбы.
(8) Respondeo dicendum quod beneficentia nihil aliud importat quam facere bonum alicui. Potest autem hoc bonum considerari dupliciter. Uno modo, secundum communem rationem boni. Et hoc pertinet ad communem rationem beneficentiae. Et hoc est actus amicitiae, et per consequens caritatis. Nam in actu dilectionis includitur benevolentia, per quam aliquis vult bonum amico, ut supra habitum est (q. 23, a. 1; q. 27, a. 2). Voluntas autem est effectiva eorum quae vult, si facultas adsit. Et ideo ex consequenti benefacere amico ex actu dilectionis consequitur. Et propter hoc beneficentia secundum communem rationem, est amicitiae vel cantatis actus. Si autem bonum quod quis facit alteri accipiatur sub aliqua speciali ratione boni, sic beneficentia accipiet specialem rationem, et pertinebit ad aliquam specialem virtutem
(9) Ad primum ergo dicendum quod, sicut Dionysius dicit, IV cap. De div. nom. (PG 3, 709), amor movet ordinata ad mutuam habitudinem, et inferiora convertit in superiora ut ab eis perficiantur, et superiora movet ad inferiorum
provisionem. Et quantum ad hoc beneficentia est effectus dilectionis. Et ideo nostrum non est Deo benefacere, sed eum honorare, nos ei subiiciendo, eius autem est ex sua dilectione nobis benefacere.
(10) Ad secundum dicendum quod in collatione donorum duo sunt attendenda, quorum unum est exterius datum; aliud autem est interior passio quam habet quis ad divitias, in eis delectatus. Ad liberalitatem autem pertinet moderari interiorem passionem, ut scilicet aliquis non superexcedat in concupiscendo et amando divitias, ex hoc enim efficietur homo facile emissivus donorum. Unde si homo det aliquod donum magnum, et tamen cum quadam concupiscentia retinendi, datio non est liberalis. Sed ex parte exterioris dati collatio beneficii pertinet in generali ad amicitiam vel caritatem. Unde hoc non derogat amicitiae, si aliquis rem quam concupiscit retinere det alicui propter amorem; sed magis ex hoc ostenditur amicitiae perfectio.
(11) Ad tertium dicendum quod sicut amicitia seu cantas respicit in beneficio collato communem rationem boni,
382
Вопрос 31. О благодеянии
(и) На третье надлежит ответить, что как дружба или любовь-каритас соотносится при совершении благодеяния с общим смысловым содержанием блага, так же и справедливость соотносится при этом со смысловым содержанием должного, а милосердие соотносится со смысловым содержанием облегчения несчастья или ущерба.
Раздел 2
Должны ли мы оказывать благодеяния всем
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что мы должны оказывать благодеяния не всем.
(в) 1. В самом деле, Августин говорит, что
мы не можем делать добро всем. Но добродетель не склоняет нас к невозможному. Следовательно, делать добро надо не всем, (и) 2. Кроме того, сказано (Сир 12, 4): Да¬
вай благочестивому и не помогай грешнику. Но многие люди являются грешниками. Следовательно, делать добро надо не всем.
(15) 3. Кроме того, любовь не радуется не¬
правильному (1 Кор. 13, 6). Но неправильно делать добро некоторым [людям], например, неправильно делать добро врагу государства или отлученному, поскольку, делая ему добро, человек вступает с ним в общение. Следовательно, поскольку бла¬
годеяние является действием любви-каритас, мы не должны делать добро всем.
(16) Но против: апостол говорит (Гал 6, 10): Доколе есть время, будем делать добро всем.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1), благодеяние следует из любви постольку, поскольку она подвигает высших к заботе о низших. Но степени достоинства у людей не неизменны, как они неизменны у ангелов, поскольку у людей могут проявляться многочисленные недостатки, и потому тот, кто выше в одном отношении, ниже (или может стать ниже) в другом. Поэтому, поскольку любовь-каритас распространяется на всех, благодеяния тоже должны распространяться на всех, однако с учетом времени и места, ведь все действия добродетели должны иметь место при подобающих обстоятельствах.
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что, строго говоря, мы не можем делать добро по отдельности всем и каждому, однако нет такого человека, который не может оказаться в ситуации, когда он будет нуждаться в благодеяниях со стороны. И потому любовь-каритас требует, чтобы мы, пусть даже и не делая добра кому-либо актуально, по крайней мере, имели дух, гото-
ita iustitia respicit ibi rationem debiti. Misericordia vero respicit ibi rationem relevantis misenam vel defectum.
Articulus 2 Utrum sit omnibus benefaciendum
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non sit omnibus benefaciendum.
(13) 1 Dicit enim Augustinus, in I De doct. Christ. (28, PL 34, 30), quod omnibus prodesse non possumus. Sed virtus non inclinat ad impossibile. Ergo non oportet omnibus benefacere.
(14) 2. Praeterea, Eccli. XII dicitur, da iusto, et non recipias peccatorem. Sed multi homines sunt peccatores. Non ergo omnibus est benefaciendum.
(15) 3. Praeterea, caritas non agit perperam, ut dicitur I ad Cor. XIII Sed benefacere quibusdam est agere perperam, puta si aliquis benefaciat inimicis reipublicae; vel si benefaciat excommunicato, quia per hoc ei commumcat. Ergo, cum benefacere sit actus cantatis, non est omnibus benefaciendum.
(16) Sed contra est quod apostolus dicit, ad Gal. ult., dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes.
(17) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (a. 1, ad 1), beneficentia consequitur amorem ex ea parte qua movet supenora ad provisionem inferiorum. Gradus autem in hominibus non sunt immutabiles, sicut in Angelis, quia homines possunt pati multiplices defectus; unde qui est superior secundum aliquid, vel est vel potest esse inferior secundum aliud. Et ideo, cum dilectio caritatis se extendat ad omnes, etiam beneficentia se debet extendere ad omnes, pro loco tamen et tempore, omnes enim actus virtutum sunt secundum debitas circumstantias limitandi.
(18) Ad primum ergo dicendum quod, simpliciter loquendo, non possumus omnibus benefacere in speciali, nullus tamen est de quo non possit occurrere casus in quo oporteat ei benefacere etiam in speciali. Et ideo caritas requirit ut homo, etsi non actu alicui benefaciat, habeat tamen hoc in sui animi praeparatione, ut benefaciat cuicumque si tempus adesset. Aliquod tamen be-
Раздел 3. Надо ли оказывать большие благодеяния тем, кто ближе
383
вый при соответствующих обстоятельствах делать добро любому человеку. Впрочем, имеются и такие благодеяния, которые мы можем совершать по отношению ко всем, пусть не по отдельности, а в общем, например, когда мы молимся обо всех, как верных, так и неверных.
(19) На второе надлежит ответить, что в грешнике есть две [вещи]: его вина и его природа. Итак, мы должны приходить на помощь грешнику в том, что касается его природы, но не в том, что содействует его греху, ведь это было бы не столько благодеяние, сколько злодеяние.
(20) На третье надлежит ответить, что совершать благодеяния по отношению к отлученным и врагам государства запрещается постольку, поскольку это препятствует им грешить. Однако если возникает ситуация, когда надо поддержать их природу, например, если они умирают от голода или жажды или находятся в иной смертельной опасности, их надо поддержать, но только должным образом, за исключением тех случаев, когда осуществляется справедливое наказание.
Раздел 3
Должны ли мы оказывать большие благодеяния тем, кто связан с нами наиболее тесно
(21) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что мы не должны оказывать большие благодеяния тем, кто связан с нами наиболее тесно.
(22) 1. В самом деле, сказано (Лк 14, 12), что когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих. Но именно они являются самыми близкими. Следовательно, мы должны оказывать большие благодеяния не тем, кто более тесно связан с нами, но нуждающимся чужакам, ибо дальше читаем: Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных и т. д.
(23) 2. Кроме того, поддержать другого человека в сражении является высшим благодеянием. Но солдат на поле битвы обязан скорее помочь незнакомому соратнику, чем родственнику, если тот является врагом. Следовательно, мы не должны оказывать большие благодеяния близким.
(24) 3. Кроме того, сперва надо воздать должное, и лишь затем оказывать даровые благодеяния. Но человек должен делать добро тому, кто его облагодетельствовал.
neficium est quod possumus omnibus impendere, si non in speciali saltem in generali, sicut cum oramus pro omnibus fidelibus et infidelibus.
(19) Ad secundum dicendum quod in peccatore duo sunt, scilicet culpa et natura Est ergo subveniendum peccatori quantum ad sustentationem naturae, non est autem ei subveniendum ad fomentum culpae; hoc enim non esset benefacere, sed potius malefacere.
(20) Ad tertium dicendum quod excommunicatis et reipubli- cae hostibus sunt beneficia subtrahenda inquantum per hoc arcentur a culpa. Si tamen immineret necessitas, ne natura deficeret, esset eis subvemendum, debito tamen modo, puta ne fame aut siti morerentur, aut aliquod huiusmodi dispendium, nisi secundum ordinem iustitiae, paterentur.
Articulus 3 Utrum sit magis benefaciendum his qui sunt nobis magis coniuncti
(21) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non sit magis benefaciendum his qui sunt nobis magis coniuncti
(22) 1. Dicitur enim Luc. XIV, cum facis prandium aut cenam, noli vocare amicos tuos neque fratres neque cognatos. Sed isti sunt maxime coniuncti. Ergo non est magis benefaciendum comunctis, sed potius extraneis indigentibus, sequitur enim, sed cum facis convivium, voca pauperes et debiles, et cetera.
(23) 2. Praeterea, maximum beneficium est quod homo aliquem in bello adiuvet. Sed miles in bello magis debet iuvare extraneum commilitonem quam consanguineum hostem. Ergo beneficia non sunt magis exhibenda magis coniunctis.
(24) 3. Praeterea, pnus sunt debita restituenda quam gratuita beneficia impendenda. Sed debitum est quod aliquis im-
384
Вопрос 31. О благодеянии
Следовательно, как кажется, мы должны оказывать большие благодеяния тем, кто облагодетельствовал нас, нежели тем, кто более нам близок.
(25) 4. Кроме того, как уже было сказано (В. 26, Р. 9), своих родителей надлежит любить больше, чем своих детей. Однако при этом следует оказывать большие благодеяния детям, поскольку не дети должны собирать имение для родителей (2 Кор 12, 14). Следовательно, мы не должны оказывать большие благодеяния тем, кто связан с нами наиболее тесно.
(26) Но против: Августин говорит: Поскольку невозможно делать добро для всех, ты должен сосредоточиться прежде всего на тех, кто теснее связан с тобой — либо по времени, либо по месту, либо в силу каких-либо иных обстоятельств.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, благодать и добродетель подобны порядку природы, установленному божественной мудростью. Но порядок природы таков, что любое естественное действующее распространяет свою деятельность больше и прежде всего на то, что наиболее близко ему; так, огонь нагревает больше то, что находится ближе к нему. И равным образом, Бог в первую очередь и более изобильно изли-
pendat beneficium ei a quo accepit Ergo benefactoribus magis est benefaciendum quam propinquis.
(25) 4. Praeterea, magis sunt diligendi parentes quam filii, ut supra dictum est (q. 26, a. 9). Sed magis est benefaciendum filiis, quia non debent filii thesaurizare parentibus, ut dicitur II ad Cor. XII. Ergo non est magis benefaciendum magis coniunctis.
(26) Sed contra est quod Augustinus dicit, in I De doct. Christ. (28; PL 34, 30), cum omnibus prodesse non possis, his potissimum consulendum est qui, pro locorum et temporum vel quarumlibet rerum opportunitatibus, constrictius tibi, quasi quadam sorte, iunguntur.
(27) Respondeo dicendum quod gratia et virtus imitantur naturae ordinem, qui est ex divina sapientia institutus. Est autem talis ordo naturae ut unumquodque agens naturale per prius magis diffundat suam actionem ad ea quae sunt sibi propinquiora, sicut ignis magis calefacit rem sibi magis propinquam. Et similiter Deus in substantias sibi propinquiores per pnus et copiosius dona suae bonitatis diffundit;
вает дары своей благости на более близкие к себе субстанции, как явствует из слов Дионисия. Но совершение благодеяний есть некое направленное на других действие любви-каритас. И потому надлежит, чтобы мы оказывали наибольшие благодеяния тем, кто наиболее тесно с нами связан.
(28) Но соединение одного человека с другим может возникать сообразно различным связям между людьми. Так, кровные родственники [соединяются] в общности естественного происхождения, сограждане — в общности гражданства, верные — в духовной общности и т. п. И сообразно различию соединений надлежит по-разному оказывать различные благодеяния, поскольку каждого надлежит одаривать более всего тем благом, которое соответствует той вещи, сообразно которой он в безусловном смысле соединен с нами наиболее тесно. Однако ситуация может меняться в зависимости от времени, места и прочих обстоятельств, поскольку в некоторых случаях нужно помочь скорее чужаку, если он, например, пребывает в крайней нужде, чем собственному отцу, если тот не испытывает подобной нужды.
(29) Итак, на первое надлежит ответить, что Господь запретил нам приглашать друзей
ut patet per Dionysium, IV cap. Cael hier. (PG 3, 209). Exhibitio autem beneficiorum est quaedam actio cantatis in alios. Et ideo oportet quod ad magis propinquos simus magis benefici.
(28) Sed propinquitas unius hominis ad alium potest attendi secundum diversa in quibus sibi ad invicem homines communicant, ut consanguinei naturali communicatione, concives in civili, fideles in spirituali, et sic de aliis. Et secundum diversas coniunctiones sunt diversimode diversa beneficia dispensanda, nam unicuique est magis exhibendum beneficium pertinens ad illam rem secundum quam est magis nobis coniunctus, simpliciter loquendo. Tamen hoc potest variari secundum diversitatem locorum et temporum et negotiorum, nam in aliquo casu est magis subveniendum extraneo, puta si sit in extrema necessitate, quam etiam patri non tantam necessitatem patienti.
(29) Ad primum ergo dicendum quod dominus non prohibet simpliciter vocare amicos aut consanguineos ad convivium, sed vocare eos ea intentione quod te ipsi reinvitent.
Раздел 3. Надо ли оказывать большие благодеяния тем, кто ближе
385
или родственников на совместную трапезу не безусловно, но лишь в том случае, когда их приглашают исключительно для того, чтобы они пригласили в ответ, поскольку в этом случае имеет место не любовь- каритас, а алчность. Кроме того, может быть так, что чужаков следует пригласить из-за их крайней нужды. Действительно, сказанное надлежит понимать так, что при прочих равных условиях оказывать благодеяния надлежит в первую очередь тем, кто наиболее тесно связан с нами. Если же из двух [людей] один более тесно связан, а другой больше нуждается, то тогда невозможно предложить какое-то общее правило, определяющее, кому из них надлежит помогать в первую очередь, поскольку есть различные степени нужды и близости; и потому здесь требуется суждение благоразумия.
(зо) На второе надлежит ответить, что общее благо многих божественней, чем благо одного. Поэтому когда человек подвергает свою жизнь опасности ради духовного или временного общего блага своей страны, он совершает добродетельное действие. И поскольку воинская общность предназначена для сохранения государства, постольку солдат, помогающий соратнику, помогает
Нос enim non ent caritatis, sed cupiditatis. Potest tamen contingere quod extranei sint magis invitandi in aliquo casu, propter maiorem indigentiam. Intelligendum est enim quod magis coniunctis magis est, cetens paribus, benefaciendum Si autem duorum unus sit magis coniunctus et alter magis indigens, non potest universali regula determinari cui sit magis subveniendum, quia sunt diversi gradus et indigentiae et propinquitatis, sed hoc requirit prudentis iudicium.
(30) Ad secundum dicendum quod bonum commune multorum divinius est quam bonum unius. Unde pro bono communi reipublicae vel spiritualis vel temporalis virtuo- sum est quod aliquis etiam propriam vitam exponat periculo. Et ideo, cum communicatio in bellicis ordinetur ad conservationem reipublicae, in hoc miles impendens commilitoni auxilium, non impendit ei tanquam pnvatae personae, sed sicut totam rempublicam iuvans. Et ideo non est mirum si in hoc praefertur extraneus coniuncto secundum carnem.
ему не как частному лицу, но как своей стране. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этой ситуации незнакомый человек может быть предпочтен кровному родственнику.
(31) На третье надлежит ответить, что должное двойственно. Первое должное — то, которое входит в число благ не того, кто должен, а скорее того, кому должны — например, когда некто обладает чужими деньгами или какой-то иной вещью, либо потому, что он их украл, либо потому, что он получил их в качестве ссуды, залога или каким-то иным подобным способом. И в этом случае человек обязан в первую очередь отдать то, что должен, а не оказывать благодеяния близким, тратя чужое имущество. Разве что речь идет о столь крайней нужде близких, что позволительно использовать чужую собственность для оказания помощи нуждающимся. Но так нельзя поступать, если кредитор находится в столь же бедственном положении. Однако же в этой ситуации надлежит, обратившись к благоразумию, тщательно взвесить все дополнительные обстоятельства, поскольку, как говорит Философ, в таких ситуациях из-за многообразия частных случаев сформулировать общее пра-
(31) Ad tertium dicendum quod duplex est debitum. Unum quidem quod non est numerandum in bonis eius qui debet, sed potius in bonis eius cui debetur. Puta si aliquis habet pecuniam aut rem aliam alterius vel furto sublatam vel mutuo acceptam sive depositam, vel aliquo alio simili modo, quantum ad hoc plus debet homo reddere debitum quam ex eo benefacere coniunctis Nisi forte esset tantae necessitatis articulus in quo etiam liceret rem alienam accipere ad subveniendum necessitatem patienti. Nisi forte et ille cui res debetur in simili necessitate esset. In quo tamen casu pensanda esset utnusque conditio secundum alias conditiones, prudentis iudicio, quia in talibus non potest universalis regula dan, propter varietatem singulorum casuum, ut philosophus dicit, in IX Ethic. (2; 1164b27). Aliud autem est debitum quod computatur in bonis eius qui debet, et non eius cui debetur, puta si debeatur non ex necessitate iustitiae, sed ex quadam morali aequitate, ut contingit in beneficiis gratis susceptis. Nullius autem benefactoris beneficium est tantum sicut parentum, et ideo
386
Вопрос 31. О благодеянии
вило невозможно. А другим должным является то должное, которое входит в число благ того, кто должен, а не того, кому должны — так, нечто может быть должным не в связи с требованиями справедливости, а по причине некоего нравственного долга, как это бывает в случае даровых благодеяний. Но ни один благодетель не одарит такими благами, которые человек получает от своих родителей, и потому при воздаянии мы должны предпочитать наших родителей всем остальным. Разве что будут очень веские основания в пользу иного, а именно, крайняя нужда или какое-либо иное обстоятельство, например, общее благо Церкви или государства. В прочих же ситуациях надлежит оценивать и связь, и получаемые блага. И это точно так же невозможно определить неким общим правилом.
(32) На четвертое надлежит ответить, что родители суть как бы высшие, и потому родительская любовь заключается в совершении благодеяний, а любовь детей — в почитании своих родителей. Впрочем, в неких крайних случаях родители могут не помогать детям, но дети обязаны помогать родителям при любых обстоятельствах, в силу обязательств, налагаемых на
них полученными от родителей благами, как явствует из слов Философа.
Раздел 4 Является ли благодеяние особой добродетелью
(33) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что благодеяние является особой добродетелью.
(34) 1. В самом деле, заповеди даются ради
добродетели, ведь, как сказано во II книге «Этики», цель законодателя в том, что- бы люди были добродетельны. Но заповеди о любви и о благодеянии даны по отдельности, ибо сказано (Мф 5,44): Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Следовательно, благодеяние является добродетелью, отличной от любви-каритас.
(35) 2. Кроме того, добродетелям противо¬
положны пороки. Но благодеянию противоположны некоторые особые пороки, а именно те, посредством которых причиняется вред ближнему, например, разбой, воровство и т. п. Следовательно, благодеяние является особой добродетелью.
(36) 3. Кроме того, любовь-каритас не под¬
разделяется на несколько видов, а благодеяние, как нам кажется, подразделяется — сообразно различным видам благодеяний.
parentes in recompensandis beneficiis sunt omnibus aliis praeferendi; nisi necessitas ex alia parte praeponderaret, vel aliqua alia conditio, puta communis utilitas Ecclesiae vel reipublicae. In aliis autem est aestimatio habenda et coniunctionis et beneficii suscepti. Quae similiter non potest communi regula determinari.
(32) Ad quartum dicendum quod parentes sunt sicut superiores, et ideo amor parentum est ad benefaciendum, amor autem filiorum ad honorandum parentes. Et tamen in necessitatis extremae articulo magis liceret deserere filios quam parentes; quos nullo modo deserere licet, propter obligationem beneficiorum susceptorum; ut patet per philosophum, in VIII Ethic. (14; Il63bl8)
Articulus 4 Utrum beneficentia sit virtus specialis
(33) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod beneficentia sit specialis virtus.
(34) 1. Praecepta enim ad virtutes ordinantur, quia legislatores intendunt facere homines virtuosos, sicut dicitur in II Ethic. (1; 1103b3) Sed seorsum datur praeceptum de beneficentia et de dilectione, dicitur enim Matth. V, diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos. Ergo beneficentia est virtus distincta a caritate.
(35) 2. Praeterea, vitia virtutibus opponuntur. Sed beneficentiae opponuntur aliqua specialia vitia, per quae nocumentum proximo infertur, puta rapina, furtum et alia huiusmodi. Ergo beneficentia est specialis virtus.
(36) 3. Praeterea, caritas non distinguitur in multas species. Sed beneficentia videtur distingui in multas species, secundum diversas beneficiorum species. Ergo beneficentia est alia virtus a cantate.
Раздел 4. Является ли благодеяние особой добродетелью
387
Следовательно, благодеяние является добродетелью, отличной от любви-каритас.
р7) Но против: внутренне и внешнее действия не требуют различных добродетелей. Но благодеяние и благоволение различаются только как внешнее и внутреннее действие, поскольку благодеяние есть исполнение благоволения. Следовательно, благодеяние не является добродетелью, отличной от любви-каритас, как не является ею и благоволение.
(38) Отвечаю: надлежит сказать, что добродетели различаются сообразно различным смысловым содержаниям объекта. Но у любви-каритас и у благодеяния формальное смысловое содержание одинаково, ведь и первая, и второе соотносятся с общим смысловым содержанием блага, как явствует из сказанного выше (Р. 1). Следовательно, благодеяние не является доброде¬
телью, отличной от любви-каритас, и есть не что иное, как некое ее действие.
(39) Итак, на первое надлежит ответить, что заповеди даются не в отношении хабитусов добродетелей, а в отношении их действий. И потому различие заповедей обозначает различие не хабитусов, а действий.
(40) На второе надлежит ответить, что как все оказанные ближнему благодеяния, если рассматривать их сообразно общему смысловому содержанию блага, сводятся к любви, так и весь причиненный ему вред, если рассматривать его сообразно общему смысловому содержанию зла, сводится к ненависти. Но если рассматривать их сообразно неким особым смысловым содержаниям блага или зла, то тогда они могут сводиться к неким частным добродетелям или порокам. И в этом смысле имеются различные виды благодеяний.
(41) И из этого очевиден ответ на третье.
(37) Sed contra est quod actus interior et exterior non requirunt diversas virtutes. Sed beneficentia et benevolentia non differunt nisi sicut actus exterior et intenor, quia beneficentia est executio benevolentiae. Ergo, sicut benevolentia non est alia virtus a cantate, ita nec beneficentia.
(38) Respondeo dicendum quod virtutes diversificantur secundum diversas rationes obiecti. Eadem autem est ratio formalis obiecti cantatis et beneficentiae, nam utraque respicit communem rationem boni, ut ex praedictis patet (a 1). Unde beneficentia non est alia virtus a cantate, sed nominat quendam cantatis actum.
(39) Ad primum ergo dicendum quod praecepta non dantur de habitibus virtutum, sed de actibus. Et ideo diversitas
praeceptorum non significat diversos habitus virtutum, sed diversos actus.
(40) Ad secundum dicendum quod sicut omnia beneficia proximo exhibita, inquantum considerantur sub commum ratione boni, reducuntur ad amorem; ita omnia nocumenta, inquantum considerantur secundum communem rationem mali, reducuntur ad odium. Prout autem considerantur secundum aliquas speciales rationes vel boni vel mali, reducuntur ad aliquas speciales virtutes vel vitia. Et secundum hoc etiam sunt diversae beneficiorum species.
(41) Unde patet responsio ad tertium.
Вопрос 32 О подаянии
(1) Затем надлежит рассмотреть подаяние. И касательно этого исследуются десять [проблем]: 1) является ли подаяние действием любви-каритас; 2) каковы его виды; 3) какое подаяние более весомо, духовное или телесное; 4) есть ли у телесного подаяния духовное следствие; 5) относится ли подаяние к заповедям; 6) следует ли подавать телесное подаяние из того, что необходимо для существования; 7) следует ли подавать телесное подаяние из того, что приобретено неправедным путем; 8) кто должен подавать; 9) кому должны подавать; 10) каким образом следует подавать.
Раздел 1 Является ли подаяние действием любви-каритас
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что подаяние не является действием любви-каритас.
(3) 1. В самом деле, действие любви-каритас не может иметь места без любви-каритас. Но подаяние возможно и без любви-
каритас, согласно сказанному (1 Кор 13, 3): Если я раздам все имение мое, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы. Следовательно, подаяние не является действием любви-каритас.
(4) 2. Кроме того, подаяние входит в число деяний искупления, согласно этим словам (Дан 4, 24): Искупи грехи твои милостыней. Но искупление является действием справедливости. Следовательно, подаяние является действием справедливости, а не любви-каритас.
(5) 3. Кроме того, принесение жертвы Богу является действием богопочитания. Но подаяние есть приношение жертвы Богу, согласно этим словам (Евр 13,16): Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Следовательно, подаяние является действием богопочитания, а не любви-каритас.
(6) 4. Кроме того, Философ говорит, что даяние с благой целью является действием щедрости. Но подаяние милостыни тако-
Quaestio 32 De eleemosyna
(1) Deinde considerandum est de eleemosyna Et circa hoc quaeruntur decem. Primo, utrum eleemosynae largitio sit actus cantatis. Secundo, de distinctione eleemosynarum Tertio, quae sint potiores eleemosynae, utrum spirituales vel corporales. Quarto, utrum corporales eleemosynae habeant effectum spiritualem. Quinto, utrum dare eleemosynas sit in praecepto. Sexto, utrum corporalis eleemosyna sit danda de necessario. Septimo, utrum sit danda de iniuste acquisito. Octavo, quorum sit dare eleemosynam. Nono, quibus sit danda. Decimo, de modo dandi eleemosynas.
Articulus 1 Utrum dare eleemosynam sit actus caritatis
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod dare eleemosynam non sit actus cantatis.
(3) 1. Actus enim cantatis non potest esse sine cantate. Sed largitio eleemosynarum potest esse sine caritate, secundum illud I ad Cor. XIII, si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, caritatem autem non habuero Ergo dare eleemosynam non est actus cantatis.
(4) 2. Praeterea, eleemosyna computatur inter opera satisfactionis, secundum illud Dan. IV, peccata tua eleemosynis redime Sed satisfactio est actus iustitiae. Ergo dare eleemosynam non est actus caritatis, sed iustitiae.
(5) 3 Praeterea, offerre hostiam Deo est actus latnae. Sed dare eleemosynam est offerre hostiam Deo, secundum illud ad Heb. ult., beneficentiae et communionis nolite oblivisci, talibus enim hostiis promeretur Deus. Ergo cantatis non est actus dare eleemosynam, sed magis latriae.
(6) 4. Praeterea, philosophus dicit, in IV Ethic. (1; 1120a24), quod dare aliquid propter bonum est actus liberalitatis.
Раздел 1. Является ли подаяние действием любви-каритас
389
во в высшей степени. Следовательно, подаяние милостыни не является действием любви-каритас.
) Но против: сказано (1 Ин 3, 17): Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия ?
;) Отвечаю: надлежит сказать, что внешние действия относятся к той добродетели, к которой принадлежит и то, что побуждает к совершению этих действий. Но побуждение к подаянию есть желание помочь тому, кто пребывает в нужде. Поэтому некоторые 1 определяли милостыню как деяние, посредством которого нечто дается нуждающемуся из сострадания и ради Бога. И это побуждение, понятно, относится к милосердию, как было сказано выше (В. 30, Р. 4). Отсюда очевидно, что подаяние является собственным действием милосердия. На это указывает и имя «милостыня», которое как в греческом, так и в латинском языке происходит от «милости». А поскольку милосердие, как уже было сказано (В. 30, Р. 2, 3), есть следствие любви-каритас, постольку подаяние является действием любви-каритас при посредстве милосердия.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что нечто называется действием добродетели в двух смыслах. Во-первых, материально — так, как действием справедливости является совершение справедливых поступков. И такое действие добродетели может иметь место без самой добродетели, ибо многие, не обладая хабитусом справедливости, поступают справедливо, направляемые естественным светом разума, страхом или надеждой на получение чего-либо. Во-вторых, нечто может называться действием добродетели формально, и в этом смысле действием справедливости является справедливый поступок, совершенный так, как его совершает справедливый человек, т. е. охотно и с удовольствием. И в этом отношении действие добродетели не может иметь места без добродетели. Таким образом, подаяние в материальном смысле может иметь место и без любви-каритас, но подаяние в формальном смысле, т. е. ради Бога, с удовольствием, охотно и вообще надлежащим образом, без любви-каритас невозможно.
(ю) На второе надлежит ответить, что нет никаких препятствий для того, чтобы действие, свойственное одной добродетели как избираемое ею, было подчинено другой
Sed hoc maxime fit in largitione eleemosynarum. Ergo dare eleemosynam non est actus cantatis.
(7) Sed contra est quod dicitur I Ioan. III, qui habuerit substantiam huius mundi, et viderit fratrem suum necessitatem patientem, et clauserit viscera sua ab eo, quomodo caritas Dei manet in illo?
(8) Respondeo dicendum quod exteriores actus ad illam virtutem referuntur ad quam pertinet id quod est mo- tivum ad agendum huiusmodi actus. Motivum autem ad dandum eleemosynas est ut subveniatur necessitatem patienti, unde quidam, definientes eleemosynam, dicunt quod eleemosyna est opus quo datur aliquid indigenti ex compassione propter Deum. Quod quidem motivum pertinet ad misericordiam, ut supra dictum est (q. 30, a 4). Unde manifestum est quod dare eleemosynam propne est actus misencordiae. Et hoc apparet ex ipso nomine, nam in Graeco a misencordia denvatur, sicut in Latino miseratio Et quia misencordia est effectus caritatis, ut supra ostensum est (q. 30, a. 2, 3), ex consequenti dare eleemosynam
est actus cantatis, misericordia mediante.
(9) Ad primum ergo dicendum quod aliquid dicitur esse actus virtutis dupliciter. Uno modo, materialiter, sicut actus iustitiae est facere iusta. Et talis actus virtutis potest esse sine virtute, multi enim non habentes habitum iustitiae iusta operantur, vel ex naturali ratione, vel ex timore sive ex spe aliquid adipiscendi. Alio modo dicitur esse aliquid actus virtutis formaliter, sicut actus iustitiae est actio iusta eo modo quo iustus facit, scilicet prompte et delectabiliter. Et hoc modo actus virtutis non est sine virtute. Secundum hoc ergo dare eleemosynas materialiter potest esse sine cantate, formaliter autem eleemosynas dare, idest propter Deum, delectabiliter et prompte et omni eo modo quo debet, non est sine caritate.
(10) Ad secundum dicendum quod nihil prohibet actum qui est proprie unius virtutis eliciti ve, attribui alten virtuti sicut imperanti et ordinanti ad suum finem. Et hoc modo dare eleemosynam ponitur inter opera satisfactona, inquantum miseratio in defectum patientis ordinatur ad satisfacien-
390
Вопрос 32. О подаянии
добродетели как повелевающей этим действием и упорядочивающей его к своей цели. И именно в этом смысле подаяние выходит в число дел искупления: постольку, поскольку сочувствие страданиям человека упорядочено по отношению к искуплению вины. Но сообразно тому, что оно имеет целью угодить Богу, это сочувствие обладает смысловым содержанием жертвы, и в этом смысле им повелевает богопочи- тание.
(и) И из этого очевиден ответ на третье.
(12) На четвертое надлежит ответить, что подаяние относится к щедрости постольку, поскольку щедрость устраняет препятствие для этого действия, которое могло бы возникнуть из-за чрезмерной любви к богатству, вследствие которой человек крайне неохотно расстается со своим [имуществом].
Раздел 2
Подобающим ли образом различают виды подаяния
(13) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что виды подаяния различены неподобающим образом.
(и) 1. В самом деле, насчитывают семь те¬
лесных подаяний, а именно: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого,
приютить странника, навестить больного, выкупить пленника, похоронить умершего. И это содержится в следующем стихе: «Навестить, напоить, накормить, приютить, одеть, выкупить, похоронить». Кроме того, насчитывают семь духовных подаяний, а именно: научить незнающего, наставить сомневающегося, утешить скорбящего, исправить грешника, простить оскорбляющего, перенести обременительного и докучливого и молиться обо всех. И это содержится в следующем стихе: «Наставить, исправить, утешить, простить, долготер- петь и молиться», причем под «наставлением» подразумевается как наставление, так и научение. Но, как представляется, названные подаяния различены недолжным образом. В самом деле, подаяние обращено на оказание помощи ближнему. Но когда мы хороним ближнего, мы ничем ему не помогаем, в противном случае не были бы истинны эти слова Господа (Лк 12, 4): Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. И по этой же причине Господь, перечисляя дела милосердия, не упомянул о захоронении умерших (Мф 25, 35-36). Следовательно, как кажется, эти подаяния различены неправильно.
dum pro culpa. Secundum autem quod ordinatur ad placandum Deum, habet rationem sacrificii, et sic imperatur a latna.
(11) Unde patet responsio ad tertium.
(12) Ad quartum dicendum quod dare eleemosynam pertinet ad liberalitatem inquantum liberalitas aufert impedimentum huius actus, quod esse posset ex superfluo amore divitiarum, propter quem aliquis efficitur nimis retentivus earum.
Articulus 2
Utrum convenienter eleemosynarum genera distinguantur
(13) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter eleemosynarum genera distinguantur.
(14) 1. Ponuntur enim septem eleemosynae corporales, scilicet pascere esurientem, potare sitientem, vestire nudum, recolligere hospitem, visitare infirmum, redimere captivum, et sepelire mortuum; quae in hoc versu continentur, visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo. Ponuntur
etiam aliae septem eleemosynae spirituales, scilicet docere ignorantem, consulere dubitanti, consolari tristem, corrigere peccantem, remittere offendenti, portare onerosos et graves, et pro omnibus orare; quae etiam in hoc versu continentur, consule, castiga, solare, remitte, fer, ora', ita tamen quod sub eodem intelligatur consilium et doctnna. Videtur autem quod inconvenienter huiusmodi eleemosynae distinguantur. Eleemosyna enim ordinatur ad subveniendum proximo. Sed per hoc quod proximus sepelitur, in nullo ei subvenitur, alioquin non esset verum quod dominus dicit, Matth. X, nolite timere eos qui occidunt corpus, et post hoc non habent amplius quid faciant. Unde et dominus, Matth. XXV, commemorans misericordiae opera, de sepultura mortuorum mentionem non facit. Ergo videtur quod inconvenienter huiusmodi eleemosynae distinguantur.
(15) 2. Praeterea, eleemosyna datur ad subveniendum necessitatibus proximi, sicut dictum est (a. 1). Sed multae aliae sunt necessitates humanae vitae quam praedictae,
Раздел 2. Подобающим ли образом различают виды подаяния
391
|15) 2. Кроме того, как уже было сказано
(р. 1), целью подаяния является помощь нуждающемуся ближнему. Но в жизни человека имеется много потребностей, помимо указанных; например, слепой нуждается в поводыре, хромой — в опоре, бедный — в деньгах. Следовательно, названные подаяния указаны неправильно.
(16) 3. Кроме того, подаяние является дей¬
ствием любви-каритас. Но грешника исправляют скорее из строгости, нежели из милосердия. Следовательно, исправление не следует считать духовным подаянием.
(17) 4. Кроме того, подаяние направлено
на восполнение некоего недостатка. Но нет такого человека, которому не был бы свойственен изъян неведения в отношении той или иной [вещи]. Следовательно, как кажется, каждый должен учить каждого, если тот не знает того, что знает этот.
(18) Но против: Григорий говорит: Пусть тот, кто обладает разумением, не скрывает свои знания; пусть тот, чье имение изобильно, не оскудеет в своей милосердной щедрости; пусть тот, кто владеет искусством, приложит все усилия для того, чтобы поделиться своими умениями и навыками с ближним; пусть тот, кто имеет возможность общаться с богатыми, убоится про¬
клятия, если станет пренебрегать использованием этой возможности в интересах бедняков. Следовательно, названные подаяния различены подобающим образом сообразно тому, в отношении чего человек испытывает либо недостаточность, либо избыточность.
(19) Отвечаю: надлежит сказать, что представленное выше различение подаяний должным образом отражает различие нужд ближнего, некоторые из которых имеют место со стороны души и удовлетворяются духовными подаяниями, в то время как другие имеют место со стороны тела и удовлетворяются подаяниями телесными. В самом деле, телесные нужды имеют место либо в этой жизни, либо после нее. И если говорить об этой жизни, то речь идет, понятно, либо об общих нуждах в том, что необходимо всем, либо об особых нуждах, возникающих вследствие некоторых акцидентальных обстоятельств. В первом случае нужда может быть внутренней или внешней. И внутренних нужд две: одна, а именно голод, удовлетворяется твердой пищей, и в отношении нее предписывается «накормить голодного», тогда как другая, а именно жажда, удовлетворяется жидкой пищей, и в отно-
sicut quod caecus indiget ductore, claudus sustentatione, pauper divitiis. Ergo inconvenienter praedictae eleemosynae enumerantur.
(16) 3 Praeterea, dare eleemosynam est actus misericordiae. Sed corrigere delinquentem magis videtur ad severitatem pertinere quam ad misericordiam. Ergo non debet computari inter eleemosynas spirituales.
(17) 4 Praeterea, eleemosyna ordinatur ad subveniendum defectui. Sed nullus est homo qui defectum ignorantiae non patiatur in aliquibus. Ergo videtur quod quilibet debeat quemlibet docere, si ignoret id quod ipse scit.
(18) Sed contra est quod Gregorius dicit (In Evang., I, hom 9; PL 76, 1109), in quadam homilia, habens intellectum curet omnino ne taceat, habens rerum affluentiam vigilet ne a misericordiae largitate torpescat, habens artem qua regitur magnopere studeat ut usum atque utilitatem illius cum proximo partiatur, habens loquendi locum apud divitem damnationem pro retento talento timeat si, cum valet, non apud eum pro pauperibus intercedat. Ergo praedictae
eleemosynae convenienter distinguuntur secundum ea in quibus homines abundant et deficiunt.
(19) Respondeo dicendum quod praedicta eleemosynarum distinctio convenienter sumitur secundum diversos defectus proximorum. Quorum quidam sunt ex parte animae, ad quos ordinantur spirituales eleemosynae; quidam vero ex parte corporis, ad quos ordinantur eleemosynae corporales. Defectus enim corporalis aut est in vita, aut est post vitam Si quidem est in vita, aut est communis defectus respectu eorum quibus omnes indigent; aut est specialis propter aliquod accidens superveniens. Si primo modo, aut defectus est interior, aut exterior. Interior quidem est duplex, unus quidem cui subvenitur per alimentum siccum, scilicet fames, et secundum hoc ponitur pascere esurientem; alius autem est cui subvenitur per alimentum humidum, scilicet sitis, et secundum hoc dicitur potare sitientem Defectus autem communis respectu exterions auxilii est duplex, unus respectu tegumenti, et quantum ad hoc ponitur vestire nudum; alius est respectu habitaculi,
392
Вопрос 32. О подаянии
шении нее предписывается «напоить жаждущего». Что же касается общих нужд во внешней помощи, то первая из них связана с одеждой, и в отношении нее предписывается «одеть нагого», тогда как другая — с кровом, и в отношении нее предписывается «приютить странника». Равным образом, если речь идет о некоей особой нужде, то она возникает либо от внутренней причины, как, например, болезнь, в отношении которой предписывается «навестить больного», либо от внешней причины, и в отношении нее предписывается «выкупить пленника». А после завершения этой жизни предписывается «похоронить умершего».
(20) Равным образом, духовные нужды удовлетворяются духовными действиями двояко. Во-первых, обращением за помощью к Богу, и в этом отношении предписывается «молитва», посредством которой один молится о других. Во-вторых, путем получения помощи от людей, что может происходить тремя способами. Во-первых, за счет помощи, восполняющей нехватку разумения; и если таковая нехватка обнаруживается в теоретическом разуме, то она восполняется «научением», а если в разуме практическом, то — «наставлением».
et quantum ad hoc est suscipere hospitem. Similiter autem si sit defectus aliquis specialis, aut est ex causa intrmseca, sicut infirmitas, et quantum ad hoc ponitur visitare infirmum, aut ex causa extnnseca, et quantum ad hoc ponitur redemptio captivorum. Post vitam autem exhibetur mortuis sepultura.
(20) Similiter autem spiritualibus defectibus spiritualibus actibus subvenitur dupliciter. Uno modo, poscendo auxilium a Deo, et quantum ad hoc ponitur oratio, qua quis pro aliis orat. Alio modo, impendendo humanum auxilium, et hoc tripliciter. Uno modo, contra defectum intellectus, et si quidem sit defectus speculativi intellectus, adhibetur ei remedium per doctnnam; si autem practici intellectus, adhibetur ei remedium per consilium. Alio modo est defectus ex passione appetitivae virtutis, inter quos est maximus tnstitia, cui subvenitur per consolationem. Tertio modo, ex parte inordinati actus, qui quidem tnpliciter
Во-вторых, нехватка может иметь место со стороны страсти желающей способности; и здесь наиболее сильной является скорбь, которая устраняется «утешением». В-третьих, изъян может иметь место со стороны неупорядоченного действия, которое можно рассматривать трояко. Во- первых, со стороны самого грешника, поскольку производится его неупорядоченной волей; и в этом случае исцеление осуществляется через «исправление». Во-вторых, со стороны того, в отношении кого совершен грех; и если он был совершен против нас самих, то исцеление осуществляется через «прощение», а если против Бога и ближнего, то, как говорит Иероним, прощать его своим решением мы не можем. В-третьих, изъян может иметь место со стороны последствий неупорядоченного действия, сообразно чему грешник даже вопреки своему намерению отягощает жизнь окружающих; и в этом случае исцеление осуществляется через «долготерпение». И прежде всего, это относится к тем, кто грешит по слабости, согласно этим словам (Рим 15, 1): Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных. И долготерпение следует проявлять не только сообразно тому, что слабые обременительны из-за
consideran potest. Uno modo, ex parte ipsius peccantis, inquantum procedit ab eius inordinata voluntate, et sic adhibetur remedium per correctionem. Alio modo, ex parte eius in quem peccatur, et sic, si quidem sit peccatum in nos, remedium adhibemus remittendo offensam; si autem sit in Deum vel in proximum, non est nostn arbitrii remittere, ut Hieronymus dicit, super Matth. (III, super 18, 15; PL 26, 136). Tertio modo, ex parte sequelae ipsius actus inordinati, ex qua gravantur ei conviventes, etiam praeter peccantis intentionem, et sic remedium adhibetur supportando; maxime in his qui ex infirmitate peccant, secundum illud Rom. XV, debemus nos firmiores infirmitates aliorum portare Et non solum secundum quod infirmi sunt graves ex inordinatis actibus, sed etiam quaecumque eorum onera sunt supportanda, secundum illud Galat. VI, alter alterius onera portate.
Раздел 2. Подобающим ли образом различают виды подаяния
393
своих неупорядоченных действий: нам следует помогать им нести их бремя в общем, согласно сказанному: Носите бремена друг друга (Гал 6, 2).
(21) Итак, на первое надлежит ответить, что от похорон умершему нет той пользы, которую после смерти могло бы воспринять его тело. И именно это имел в виду Господь, сказав, что убивающие тело потом не могут ничего более сделать. И по той же причине Он, перечисляя дела милосердия, упомянул только те, которые относятся к более очевидным нуждам, ничего не сказав о захоронении умерших. Однако умершего затрагивает то, что происходит с его телом, как в отношении того, что он живет в памяти людей, и будет обесчещен, если останется непогребенным, так и в том, что касается отношения, которое человек имел к своему телу при жизни, каковое отношение благочестивые люди должны воспроизвести после его смерти. И потому, как явствует из слов Августина, некоторых хвалят за погребение умерших, например, Товию или тех, кто похоронил Господа.
(22) На второе надлежит ответить, что все прочие нужды сводятся к этим. В самом деле, слепота и хромота суть некие болезни, и потому помогать слепому или хромо¬
му значит посещать большого. Равным образом, помощь человеку, подвергающемуся некоему внешнему угнетению, сводится к выкупу плененного. А деньги, которыми мы помогаем бедным, требуются исключительно для удовлетворения вышеназванных нужд, и потому эта частная нужда не была упомянута.
(23) На третье надлежит ответить, что исправление грешника, насколько речь идет о самом исполнении действия, как кажется, включает строгость справедливости. Но насколько речь идет о намерении исправляющего, который желает избавить человека от зла вины, оно является действием любви и милосердия, согласно этим словам (Притч 27, 6): Искренни укоризны от любящего — и лживы поцелуи ненавидящего.
(24) На четвертое надлежит ответить, что не всякое неведение является изъяном человека: оно есть изъян лишь тогда, когда человек не знает того, что должен знать, и восполнение этой нехватки посредством научения относится к подаянию. Однако при этом, как и в случае других добродетельных действий, надлежит принимать во внимание обстоятельства лица, места и времени.
(21) Ad primum ergo dicendum quod sepultura mortui non confert ei quantum ad sensum quem corpus post mortem habeat. Et secundum hoc dominus dicit quod interficientes corpus non habent amplius quid faciant. Et propter hoc etiam dominus non commemorat sepulturam inter alia misericordiae opera, sed numerat solum illa quae sunt ev- identioris necessitatis. Pertinet tamen ad defunctum quid de eius corpore agatur, tum quantum ad hoc quod vivit in memonis hominum, cuius honor dehonestatur si insepultus remaneat; tum etiam quantum ad affectum quem adhuc vivens habebat de suo corpore, cui piorum affectus conformari debet post mortem ipsius. Et secundum hoc aliqui commendantur de mortuorum sepultura, ut Tobias et illi qui dominum sepelierunt; ut patet per Augustinum, in libro De cura pro mortuis agenda (3; PL 40, 595).
(22) Ad secundum dicendum quod omnes aliae necessitates ad has reducuntur. Nam et caecitas et claudicatio sunt infirmitates quaedam, unde dirigere caecum et sustentare claudum reducitur ad visitationem infirmorum
Similiter etiam subvenire homini contra quamcumque oppressionem illatam extrinsecus reducitur ad redemptionem captivorum. Divitiae autem, quibus paupertati subvenitur, non quaeruntur nisi ad subveniendum praedictis defectibus, et ideo non fuit specialis mentio de hoc defectu facienda.
(23) Ad tertium dicendum quod correctio peccantium, quantum ad ipsam executionem actus, severitatem iustitiae continere videtur. Sed quantum ad intentionem corrigentis, qui vult hominem a malo culpae liberare, pertinet ad misericordiam et dilectionis affectum, secundum illud Prov. XXVI1, meliora sunt verbera diligentis quam fraudulenta oscula odientis.
(24) Ad quartum dicendum quod non quaelibet nescientia pertinet ad hominis defectum, sed solum ea qua quis nescit ea quae convenit eum scire, cui defectui per doctrinam subvenire ad eleemosynam pertinet. In quo tamen observandae sunt debitae circumstantiae personae et loci et tempons, sicut et in aliis actibus virtuosis
394
Вопрос 32. О подаянии
Раздел 3
Действительно ли телесное подаяние более весомо, чем духовное
(25) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что телесное подаяние более весомо, чем духовное.
(26) 1. В самом деле, более похвально подаяние тому, кто больше нуждается, ведь подаяние похвально постольку, поскольку является помощью для нуждающегося. Но тело, которому помогают телесным подаянием, по самой своей природе нуждается больше, чем дух, которому помогают духовным подаянием. Следовательно, телесные подаяния более весомы, чем духовные.
(27) 2. Кроме того, воздаяние за благодеяние умаляет похвалу и заслугу подаяния, отчего Господь сказал (Лк 14, 12): Когда делаешь обед или ужин, не зови соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали. Но духовные подаяния всегда предполагают воздаяние. Так, тот, кто молится о другом, получает пользу и для себя, согласно этим словам (Пс 34, 13): Молитва моя возвращалась в недро мое; а тот, кто научает другого, сам подвигается в знании. Но этого нельзя сказать о телесных подаяниях. Следовательно, телесные подаяния
более весомы, чем духовные.
(28) 3. Кроме того, к похвальности подаяния относится то, что нуждающийся утешается благодаря ему, и потому сказано (Иов 31, 20): Не благословляли ли меня чресла его; и апостол пишет Филимону: Тобою, брат, успокоены сердца святых (Фи- лим 1, 7). Но иногда для нуждающегося более желанно телесное подаяние, чем духовное. Следовательно, телесное подаяние более весомо, чем духовное.
(29) Но против: Августин, комментируя эти слова (Мф 5, 42), Просящему у тебя — дай, говорит: Давать надлежит так, чтобы не причинить вред ни себе, ни другому, а если отказываешь другому, прими во внимание требования справедливости, чтобы не отсылать его ни с чем. И так иногда, исправив неправедно просящего, ты дашь ему нечто лучшее. Но исправление — это духовное подаяние. Следовательно, духовные подаяния предпочтительнее подаяний телесных.
(30) Отвечаю: надлежит сказать, что сравнение этих подаяний можно проводить двумя способами. Во-первых, безусловно; и в этом смысле духовные подаяния предпочтительнее по трем основаниям. Во-первых, потому, что подаваемое, т. е. духовный
Articulus 3 Utrum eleemosynae corporales sint potiores quam spirituales
(25) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod eleemosynae corporales sint potiores quam spirituales.
(26) 1. Laudabilius enim est magis indigenti eleemosynam facere, ex hoc enim eleemosyna laudem habet quod indigenti subvenit. Sed corpus, cui subvenitur per eleemosynas corporales, est indigentions naturae quam spintus, cui subvenitur per eleemosynas spirituales. Ergo eleemosynae corporales sunt potiores.
(27) 2. Praeterea, recompensatio beneficii laudem et mentum eleemosynae minuit, unde et dominus dicit, Luc. XIV, cum facis prandium aut cenam, noli vocare vicinos divites, ne forte et ipsi te reinvitent Sed in eleemosynis spiritualibus semper est recompensatio, quia qui orat pro alio sibi proficit, secundum illud Psalm., oratio mea in sinu meo convertetur, qui etiam alium docet, ipse in scientia
proficit. Quod non contingit in eleemosynis corporalibus. Ergo eleemosynae corporales sunt potiores quam spirituales.
(28) 3. Praeterea, ad laudem eleemosynae pertinet quod pauper ex eleemosyna data consoletur, unde lob XXXI dicitur, si non benedixerunt mihi latera eius; et ad Philemonem dicit apostolus, viscera sanctorum requieverunt per te, frater. Sed quandoque magis est grata pauperi eleemosyna corporalis quam spiritualis. Ergo eleemosyna corporalis potior est quam spiritualis.
(29) Sed contra est quod Augustinus, in libro De serm. Dom. in monte (I, 20, PL 34, 1264), super illud, qui petit a te, da ei, dicit, dandum est quod nec tibi nec alteri noceat, et cum negaveris quod petit, indicanda est iustitia, ut non eum inanem dimittas. Et aliquando melius aliquid dabis, cum iniuste petentem correxeris. Correctio autem est eleemosyna spiritualis. Ergo spintuales eleemosynae sunt corporalibus praeferendae.
(30) Respondeo dicendum quod comparatio istarum elee-
Раздел 3. Действительно ли телесное подаяние более весомо, чем духовное
395
дар, благороднее дара телесного, согласно этим словам (Притч 4, 2): Я наделил вас благим даром; не оставляйте заповеди моей2. Во-вторых, духовные подаяния предпочтительнее сообразно тому, чему оказывается помощь, поскольку дух благороднее тела. И потому если человек, заботясь о себе, должен заботиться больше о душе, чем о теле, то ему следует поступать так же, проявляя заботу о ближнем, которого он обязан любить как самого себя. В-третьих, духовные подаяния предпочтительнее сообразно самим действиям, посредством которых мы помогаем ближнему, поскольку духовные действия благороднее телесных, которые в некотором смысле являются рабскими.
(31) Во-вторых, подаяния можно сравнивать применительно к тому или иному частному случаю, и тогда телесное подаяние оказывается иногда предпочтительнее духовного. Например, умирающего от голода надо накормить, а не учить, и для того, кто нуждается в необходимом, как указывает Философ, деньги предпочтительнее философии, хотя последняя лучше в безуслов¬
ном отношении.
(32) Итак, на первое надлежит ответить, что при прочих равных условиях лучше подавать тому, кто больше нуждается. Но если тот, кто нуждается меньше, сам по себе лучше и нуждается в лучшем, то лучше подавать ему. Но именно так и обстоит дело в рассматриваемом случае.
(33) На второе надлежит ответить, что если воздаяние не предусматривалось заранее, то оно не умаляет заслуги и похвалы. Так ведь и людская слава, если к ней намеренно не стремились, не умаляет добродетели; например, Саллюстий говорит о Катоне, что чем больше он избегал славы, тем известнее становился. И то же самое касается духовных подаяний. Впрочем, намерение обрести духовные блага не умаляет заслуги, как ее умаляет намерение обрести телесные блага.
(34) На третье надлежит ответить, что заслуга дающего обретается в том, в чем воля получающего успокаивается сообразно тому, что [она упорядочена] разумом, а не в том, в чем она успокаивается, будучи неупорядоченной.
mosynarum potest attendi dupliciter. Uno modo, simpliciter loquendo, et secundum hoc eleemosynae spirituales praeeminent, triplici ratione. Pnmo quidem quia id quod exhibetur nobilius est, scilicet donum spirituale, quod praeeminet corporali, secundum illud Prov. IV, donum bonum tribuam vobis, legem meam ne derelinquatis. Secundo, ratione eius cui subvenitur, quia spiritus nobilior est corpore. Unde sicut homo sibi ipsi magis debet providere quantum ad spiritum quam quantum ad corpus, ita et proximo, quem debet tanquam seipsum diligere. Tertio, quantum ad ipsos actus quibus subvenitur proximo, quia spintuales actus sunt nobiliores corporalibus, qui sunt quodammodo serviles.
(31) Alio modo possunt comparari secundum aliquem particularem casum, in quo quaedam corporalis eleemosyna alicui spintuali praefertur. Puta, magis esset pascendum fame monentem quam docendum, sicut et indigenti, secundum philosophum (Top., III, 2; 118al0), melius est di- tan quam philosophan, quamvis hoc sit simpliciter melius.
(32) Ad primum ergo dicendum quod dare magis indigenti melius est, cetens paribus. Sed si minus indigens sit melior, et melioribus indigeat, dare ei melius est. Et sic est in proposito.
(33) Ad secundum dicendum quod recompensatio non minuit meritum et laudem eleemosynae si non sit intenta, sicut etiam humana gloria, si non sit intenta, non minuit rationem virtutis; sicut et de Catone Sallustius dicit (In coniurat. Catii., 54; DD 58) quod quo magis gloriam fugiebat, eo magis eum gloria sequebatur. Et ita contingit in eleemosynis spiritualibus. Et tamen intentio bonorum spiritualium non minuit meritum, sicut intentio bonorum corporalium.
(34) Ad tertium dicendum quod mentum dantis eleemosynam attenditur secundum id in quo debet rationabiliter requiescere voluntas accipientis, non in eo in quo requiescit si sit inordinata.
396
Вопрос 32. О подаянии
Раздел 4 Имеет ли телесное подаяние духовное следствие
(35) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что телесное подаяние не имеет духовного следствия.
(36) 1. В самом деле, никакое следствие не может превосходить свою причину. Но духовные блага превосходят телесные. Следовательно, телесное подаяние не имеет духовного следствия.
(37) 2. Кроме того, порок симонии заключается в том, что телесное дается за духовное. Но этого порока нужно избегать изо всех сил. Следовательно, нельзя давать подаяние, чтобы получить духовное следствие.
(38) 3. Кроме того, при умножении причины умножается и следствие. Таким образом, если бы телесное подаяние обусловливало духовное следствие, то чем больше было бы подаяние, тем большей было бы и духовное продвижение. Но это противоречит сказанному о вдове, положившей в сокровищницу две лепты, о которой Господь говорит, что она больше всех положила (Лк 21, 3). Следовательно, телесное подаяние не имеет духовного следствия.
(39) Но против: сказано (Сир 17, 18): Милостыня человека сохранит благодать человека,, как зеницу ока3.
(40) Отвечаю: надлежит сказать, что телесные подаяния можно рассматривать трояко. Во-первых, сообразно их субстанции. И в этом отношении у них есть только телесное следствие — постольку, поскольку они удовлетворяют телесные нужды ближних. Во-вторых, их можно рассматривать со стороны их причины, а именно, постольку, поскольку человек совершает телесное подаяние из любви к Богу и ближнему. И в этом отношении они приносят духовный плод, согласно этим словам (Сир 29, 13-14): Трать серебро для брата... располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего — и оно принесет тебе больше пользы, чем золото. В-третьих, телесные подаяния можно рассматривать со стороны следствия. И в этом отношении они тоже обладают духовным плодом — постольку, поскольку ближний, которому помогли телесным подаянием, движим к тому, чтобы молиться за своего благодетеля. И потому после приведенных выше слов следует (15): Заключи милостыню в сердце бедного — и она избавит тебя от всякого зла.
Articulus 4 Utrum eleemosynae corporales habeant effectum spiritualem
(35) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod eleemosynae corporales non habeant effectum spiritualem.
(36) 1 Effectus enim non est potior sua causa. Sed bona spiritualia sunt potiora corporalibus. Non ergo eleemosynae corporales habent spirituales effectus.
(37) 2. Praeterea, dare corporale pro spirituali vitium simo- niae est. Sed hoc vitium est omnino vitandum. Non ergo sunt dandae eleemosynae ad consequendum spintuales effectus.
(38) 3. Praeterea, multiplicata causa, multiplicatur effectus. Si igitur eleemosyna corporalis causaret spiritualem effectum, sequeretur quod maior eleemosyna magis spintualiter proficeret. Quod est contra illud quod legitur Luc. XXI de vidua mittente duo aera minuta in gazophylacium, quae, secundum sententiam domini, plus omnibus misit. Non
ergo eleemosyna corporalis habet spiritualem effectum
(39) Sed contra est quod dicitur Eccli XXIX, eleemosyna viri gratiam hominis quasi pupillam conservabit.
(40) Respondeo dicendum quod eleemosyna corporalis tripliciter potest consideran. Uno modo, secundum suam substantiam. Et secundum hoc non habet nisi corporalem effectum, inquantum scilicet supplet corporales defectus proximorum. Alio modo potest consideran ex parte causae eius, inquantum scilicet aliquis eleemosynam corporalem dat propter dilectionem Dei et proximi. Et quantum ad hoc affert fructum spiritualem, secundum illud Eccli. XXIX, perde pecuniam propter fratrem. Pone thesaurum in praeceptis altissimi, et proderit tibi magis quam aurum. Tertio modo, ex parte effectus. Et sic etiam habet spintualem fructum, inquantum scilicet proximus, cui per corporalem eleemosynam subvenitur, movetur ad orandum pro benefactore. Unde et ibidem subditur, conclude eleemosynam in sinu pauperis, et haec pro te exorabit ab omni malo.
(41) Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit de
Раздел 5. Относится ли подаяние к заповедям
397
(41) Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу в отношении телесного подаяния со стороны его субстанции.
(42) На второе надлежит ответить, что да- юший подаяние не намеревается получить нечто духовное за нечто телесное, поскольку знает, что духовные [вещи] бесконечно превосходят [вещи] телесные; но он намеревается заслужить духовный плод через аффект любви-каритас.
(43) На третье надлежит ответить, что вдова, давшая меньше количественно, дала больше сообразно своим возможностям, явив, таким образом, больший аффект любви-каритас; но именно от любви-каритас телесное подаяние получает свою духовную силу.
Раздел 5
Относится ли подаяние к заповедям
(44) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что подаяние не относится к заповедям.
(45) 1. В самом деле, совет отличен от заповеди. Но подаяние относится к совету, согласно этим словам (Дан 4, 24): Да будет совет мой благоугоден царю — искупи грехи твои милостынею4. Следовательно, подая¬
ние не относится к заповедям.
(46) 2. Кроме того, любой вправе использовать свое имущество и сохранять его. Но тот, кто сохраняет свое имущество, не подает. Таким образом, позволительно не подавать. Следовательно, подаяние не относится к заповедям.
(47) 3. Кроме того, если некто не соблюдает в определенное время то, что является предметом заповеди, он грешит смертным грехом, поскольку предписывающие заповеди обязывают [совершать определенные действия] в определенное время. Следовательно, если бы подаяние было предметом заповеди, то существовал бы определенный период времени, в течение которого человек, не подав милостыню, согрешил бы смертным грехом. Но непонятно, как такое может быть, ведь всегда есть вероятность, что нуждающийся получит помощь откуда-то еще, а то, что мы собираемся потратить на подаяние, может оказаться необходимым нам самим в то или иное время. Следовательно, как кажется, подаяние не относится к заповедям.
(48) 4. Кроме того, все заповеди сводятся к заповедям Декалога. Но в этих предписаниях ничего не говорится о подаянии. Следовательно, подаяние не относится к запо-
софогаН eleemosyna secundum suam substantiam.
(42) Ad secundum dicendum quod ille qui dat eleemosynam non intendit emere aliquid spirituale per софога1е, quia scit spintualia in infinitum софогаИЬш praeeminere, sed intendit per cantatis affectum spiritualem fructum promeren
(43) Ad tertium dicendum quod vidua, quae minus dedit secundum quantitatem, plus dedit secundum suam proportionem; ex quo pensatur in ipsa maior caritatis affectus, ex qua софогаНз eleemosyna spiritualem efficaciam habet
Articulus 5 Utrum dare eleemosynam sit in praecepto
(44) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod dare eleemosynam non sit in praecepto.
(45) 1. Consilia enim a praeceptis distinguuntur. Sed dare eleemosynam est consilium, secundum illud Dan. IV, consilium meum regi placeat, peccata tua eleemosynis redime.
Ergo dare eleemosynam non est in praecepto.
(46) 2. Praeterea, cuilibet licet sua re uti et eam retinere. Sed retinendo rem suam aliquis eleemosynam non dabit. Ergo licitum est eleemosynam non dare. Non ergo dare eleemosynam est in praecepto.
(47) 3. Praeterea, omne quod cadit sub praecepto aliquo tempore obligat transgressores ad peccatum mortale, quia praecepta affirmativa obligant pro tempore determinato. Si ergo dare eleemosynam caderet sub praecepto, esset determinare aliquod tempus in quo homo peccaret mortaliter nisi eleemosynam daret. Sed hoc non videtur, quia semper probabiliter aestimari potest quod paupen aliter subveniri possit; et quod id quod est in eleemosynas erogandum possit ei esse necessarium vel in praesenti vel in futuro. Ergo videtur quod dare eleemosynam non sit in praecepto.
(48) 4. Praeterea, omnia praecepta reducuntur ad praecepta Decalogi. Sed inter illa praecepta nihil continetur de datione eleemosynarum. Ergo dare eleemosynas non est in
398
Вопрос 32. О подаянии
ведям.
(49) Но против: никто не наказывается вечным наказанием за несовершение того, что не относится к заповедям. Но некоторые наказаны вечным наказанием за отказ от подаяния, как явствует из сказанного в Писании (Мф 25, 41-43). Следовательно, подаяние относится к заповедям.
(50) Отвечаю: надлежит сказать, что поскольку любовь к ближнему подпадает под предписание заповеди, постольку все то, без чего она не сохраняется, также подпадает под предписание. Но любовь к ближнему включает не только желание ближнему блага, но и совершение этого блага, согласно этим словам (1 Ин 3, 18): Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Но для того, чтобы желать и делать человеку благо, мы должны удовлетворять его нужды, что и осуществляется посредством подаяния. И потому подаяние относится к заповеди.
(51) Но поскольку заповеди даются применительно к действиям добродетелей, постольку необходимо, чтобы дары подаяния подпадали под предписания заповеди в той мере, в какой действие необходимо относится к добродетели, а именно сообразно тому, что требует правильный расчет-разу¬
мение. Но сообразно правильному расчету разумению надлежит рассмотреть нечто со стороны дающего и нечто со стороны принимающего. И со стороны дающего надлежит, чтобы он подавал от избытка, согласно этим словам (Лк 11, 41): Подавайте милостыню из того, что у вас осталось. И этот избыток, говорю я, относится не только к самому подающему, как то, что имеется сверх «необходимого для индивида», но и к тем, над кем он имеет попечительство. Ибо каждый прежде должен обеспечить себя и тех, кто находится у него на попечении (и в отношении таковых говорится как о «необходимом для лица», где под «лицом» понимается определенное достоинство), и лишь затем из оставшегося удовлетворять нужды всех прочих. Ведь так действует и природа: сначала она, посредством питающей силы, забирает то, что необходимо для поддержания собственного тела, и лишь затем направляет остаток для порождения другого посредством порождающей способности.
(52) Что же касается получающего, то необходимо, чтобы он нуждался, ведь иначе не будет причины для подаяния. И поскольку один человек не может помочь всем нуждающимся, постольку удовлетво-
praecepto.
(49) Sed contra, nullus punitur poena aeterna pro omissione alicuius quod non cadit sub praecepto. Sed aliqui puniuntur poena aeterna pro omissione eleemosynarum; ut patet Matth. XXV. Ergo dare eleemosynam est in praecepto.
(50) Respondeo dicendum quod cum dilectio proximi sit in praecepto, necesse est omnia illa cadere sub praecepto sine quibus dilectio proximi non conservatur. Ad dilectionem autem proximi pertinet ut proximo non solum velimus bonum, sed etiam operemur, secundum illud I Ioan. III, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate. Ad hoc autem quod velimus et operemur bonum alicuius requiritur quod eius necessitati subveniamus, quod fit per eleemosynarum largitionem. Et ideo eleemosynarum largitio est in praecepto.
(51) Sed quia praecepta dantur de actibus virtutum, necesse est quod hoc modo donum eleemosynae cadat sub praecepto, secundum quod actus est de necessitate virtutis, scilicet secundum quod recta ratio requirit. Secundum
quam est aliquid considerandum ex parte dantis; et aliquid ex parte eius cui est eleemosyna danda. Ex parte quidem dantis considerandum est ut id quod est in eleemosynas erogandum sit ei superfluum, secundum illud Luc. XI, quod superest date eleemosynam. Et dico superfluum non solum respectu sui ipsius, quod est supra id quod est necessarium individuo; sed etiam respectu aliorum quorum cura sibi incumbit, quia prius oportet quod unusquisque sibi provideat et his quorum cura ei incumbit (respectu quorum dicitur necessarium personae secundum quod persona dignitatem importat), et postea de residuo aliorum necessitatibus subveniatur sicut et natura primo accipit sibi, ad sustentationem proprii corporis, quod est necessarium ministerio virtutis nutntivae; superfluum autem erogat ad generationem alterius per virtutem generativam.
(52) Ex parte autem recipientis requiritur quod necessitatem habeat, alioquin non esset ratio quare eleemosyna ei daretur. Sed cum non possit ab aliquo uno omnibus necessitatem habentibus subveniri, non omnis necessitas obii
Раздел 5. Относится ли подаяние к заповедям
399
рять надлежит не всякую нужду, но лишь
такую, без удовлетворения которой нужда¬
ющийся может погибнуть. И именно в та¬
ких случаях имеет место то, о чем говорит
Амвросий: Накорми умирающего от голо¬
да — если не накормишь, значит, именно ты
убил его. Итак, нам заповедано подавать
от избытка и тому, кто находится в край¬
ней нужде. В остальных же случаях подая¬
ние относится [не к заповеди], но к совету,
равно как и любое иное большее благоде¬
яние.
(53) Итак, на первое надлежит ответить, что
Даниил говорил с царем, который не под¬
чинялся закону Божию. И потому даже
то, что относится к заповеди закона, им
не признаваемого, было предложено ему
в виде совета. Или можно сказать, что
он говорил о тех случаях, когда подаяние
не относится к заповеди.
(54) На второе надлежит ответить, что вре¬
менные блага, которые человек получает
свыше, являются его благами в смысле
обладания, но в смысле пользования они
принадлежат не только ему, но и тем дру¬
гим, кто может получить помощь от из¬
лишков этих благ. И потому Василий гово¬
рит: Если ты поймешь, что они, то есть вре¬
менные блага, даны тебе свыше, то неужели
подумаешь, что Бог, неравномерно распреде¬
ливший имущества, несправедлив? Для чего
ты богат, а другой — беден, как не для то¬
го, чтобы ты обрел заслугу за правильное
распределение, а он — за смирение? Хлеб,
который ты удерживаешь — пища голодно¬
го; плащ, лежащий у тебя под замком —
одежда нагого\ брошенные сандалии — обувь
босого, закопанный в землю клад — деньги
нищего. Ты несправедлив в той мере, в какой
мог помочь другим. И то же самое говорит
Амвросий и «Декреталии».
(55) На третье надлежит ответить, что дей¬
ствительно имеется время, в которое че¬
ловек, не подавший милостыни, согреша¬
ет смертным грехом — это время со сто¬
роны получающего, когда ясно, что его
нужда является очевидной и неотложной,
и что он едва ли получит помощь от ко¬
го-либо, кроме подающего; и это время
со стороны подателя, когда у него имеется
избыток, который, насколько это можно
понять, в настоящий момент ему самому
не нужен. При этом подающий не дол¬
жен принимать во внимание все возмож¬
ные будущие ситуации, ведь это было бы
той «заботой о завтрашнем дне», которую
запретил Господь (Мф 6, 34); но он должен
дать оценку излишку и необходимому co¬
gat ad praeceptum, sed illa sola sine qua is qui neces¬
sitatem patitur sustentari non potest. In illo enim casu
locum habet quod Ambrosius dicit (cf. PL 17, 613-614),
pasce fame monentem. Si non paveris, occidisti. Sic igitur
dare eleemosynam de superfluo est in praecepto; et dare
eleemosynam ei qui est in extrema necessitate. Alias autem
eleemosynam dare est in consilio, sicut et de quolibet me¬
liori bono dantur consilia.
(53) Ad primum ergo dicendum quod Daniel loquebatur regi
qui non erat legi Dei subiectus. Et ideo ea etiam quae
pertinent ad praeceptum legis, quam non profitebatur,
erant ei proponenda per modum consilii. Vel potest dici
quod loquebatur in casu illo in quo dare eleemosynam
non est in praecepto.
(54) Ad secundum dicendum quod bona temporalia, quae
homini divinitus conferuntur, eius quidem sunt quantum
ad proprietatem, sed quantum ad usum non solum debent
esse eius, sed etiam aliorum, qui ex eis sustentari possunt
ex eo quod ei superfluit. Unde Basilius dicit (Hom. 6 in
Lc 12, 18; PG 31, 275), si fateris ea tibi divinitus provenisse
(scilicet temporalia bona) an iniustus est Deus inaequaliter
res nobis distribuens? Cur tu abundas, ille vero mendicat,
nisi ut tu bonae dispensationis merita consequaris, ille vero
patientiae braviis decoretur? Est panis famelici quem tu tenes,
nudi tunica quam in conclavi conservas, discalceati calceus
qui penes te marcescit, indigentis argentum quod possides
inhumatum. Quocirca tot iniuriaris quot dare valeres. Et hoc
idem dicit Ambrosius (cf. PL 17, 613-614), in Décret.,
dist. XLVII (I, 47, can. 8: Sicut ii; RF 1, 171).
(55) Ad tertium dicendum quod est aliquod tempus dare in
quo mortaliter peccat si eleemosynam dare omittat, ex
parte quidem recipientis, cum apparet evidens et urgens
necessitas, nec apparet in promptu qui ei subveniat; ex
parte vero dantis, cum habet superflua quae secundum sta¬
tum praesentem non sunt sibi necessaria, prout probabiliter
aestimari potest. Nec oportet quod consideret ad omnes
casus qui possunt contingere in futurum, hoc enim esset
de crastino cogitare, quod dominus prohibet, Matth. VI.
400
Вопрос 32. О подаянии
образно тому, что наиболее вероятно, и что происходит в большинстве случаев.
(56) На четвертое надлежит ответить, что любая помощь ближнему сводима к заповеди о почитании родителей. В самом деле, таково толкование апостола, который говорит (1 Тим 4, 8): Почитание — на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей, и так это потому, что заповедь о почитании родителей включает обетование: Чтобы продлились дни твои на земле (Исх 20, 12). А почитание включает все виды подаяния.
Раздел 6
Следует ли подавать милостыню из того, что необходимо для существования
(57) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что не следует подавать милостыню из того, что необходимо для существования.
(58) 1. В самом деле, порядок любви-каритас должен соблюдаться в следствиях благодеяний не в меньшей степени, чем во внутреннем аффекте. Но тот, кто действует вопреки порядку любви-каритас, совершает грех, поскольку этот порядок предписан заповедью. Следовательно, поскольку сообразно порядку любви-каритас чело¬
век должен любить себя больше, чем ближнего, то, как кажется, он согрешит, если отдаст другому то, что необходимо ему самому.
(59) 2. Кроме того, отдающий то, что необходимо ему самому, уничтожает собственное имущество, а это, как явствует из слов Философа, является расточительством. Но совершать порочные действия нельзя. Следовательно, нельзя подавать милостыню из того, что необходимо для существования.
(60) 3. Кроме того, как говорит апостол (1 Тим 5, 8): Если же кто о своих (<а особенно о домашних) не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Но если человек отдает то, что необходимо ему или тем, кто свой для него, то он, как представляется, не печется о себе и о своих. Следовательно, как представляется, любой раздающий в виде подаяния то, что необходимо ему самому, совершает тяжкий грех.
(61) Но против: Господь говорит (Мф 19, 21): Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. Но тот, кто отдает нищим все имение, отдает не только избыток, но и необходимое. Следовательно, человек может подавать милостыню из того, что необходимо
Sed debet diiudicari superfluum et necessarium secundum ea quae probabiliter et ut in plunbus occurrunt.
(56) Ad quartum dicendum quod omnis subventio proximi reducitur ad praeceptum de honoratione parentum. Sic enim et apostolus interpretatur, I ad Tim. IV, dicens, pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitae quae nunc est et futurae, quod dicit quia in praecepto de honoratione parentum additur promissio, ut sis longaevus super terram. Sub pietate autem comprehenditur omnis eleemosynarum largitio
Articulus 6
Utrum quis debeat dare eleemosynam de necessario
(57) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod aliquis non debeat eleemosynam dare de necessario.
(58) 1. Ordo enim cantatis non minus attenditur penes effectum beneficii quam penes intenorem affectum. Peccat autem qui praepostere agit in ordine caritatis, quia ordo cantatis est in praecepto. Cum ergo ex ordine caritatis plus
debeat aliquis se quam proximum diligere, videtur quod peccet si subtrahat sibi necessaria ut alten largiatur.
(59) 2. Praeterea, quicumque largitur de his quae sunt nec- essana sibi est propriae substantiae dissipator, quod pertinet ad prodigum, ut patet per philosophum, in IV Ethic. (1; 1121al7). Sed nullum opus vitiosum est faciendum. Ergo non est danda eleemosyna de necessano.
(60) 3. Praeterea, apostolus dicit, I ad Tim. V, si quis suorum, et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit et est infideli deterior. Sed quod aliquis det de his quae sunt sibi necessaria vel suis videtur derogare curae quam quis debet habere de se et de suis. Ergo videtur quod quicumque de necessanis eleemosynam dat, quod graviter peccet.
(61) Sed contra est quod dominus dicit, Matth. XIX, si vis perfectus esse, vade et vende omnia quae habes, et da pauperibus. Sed ille qui dat omnia quae habet pauperibus non solum dat superflua sed etiam necessana. Ergo de necessanis potest homo eleemosynam dare.
Раздел 6. Надо ли подавать милостыню из необходимого для существования
401
для существования.
(62) Отвечаю: надлежит сказать, что [вещь] называется необходимой в двух смыслах. Во-первых, потому, что без нее нечто невозможно. И из такого необходимого подавать не следует ни при каких обстоятельствах. Например, если некто находится в крайней нужде и имеет лишь то, что позволяет ему поддерживать существование себя, детей и всех тех, за кого он отвечает, то в этом случае подать из такого необходимого значит забрать жизнь у себя и своих. Но это, утверждаю я, не будет иметь место в случае, когда человек жертвует все, что имеет, некоей высокой особе, благодаря которой сохраняется Церковь или государство, ведь ради спасения такой особы похвально подвергать опасности свою жизнь и жизни близких, поскольку общественное благо должно предпочитаться частному.
(63) Во-вторых, нечто называется необходимым тогда, когда без такового человек не может поддерживать тот образ жизни, который подобает ему сообразно его собственному статусу и положению, или же статусу и положению тех, за кого он отвечает. И границы такого «необходимого» нельзя установить с достаточной точно¬
стью, напротив, если [к имуществу] произвести неоднократное добавление, то нельзя будет со всей уверенностью утверждать, что произошел выход за пределы необходимого в названном смысле, и, равным образом, [размер имущества] может неоднократно уменьшиться, но все еще оставаться достаточным для ведения образа жизни, соответствующего общественному положению. И подаяние от такого необходимого является благим делом, хотя и подпадает не под заповедь, а под совет. Однако было бы неразумно потратить все свое имущество на подаяние, так, чтобы оставшегося не хватало для ведения жизни, соответствующей общественному положению и обыденным потребностям, ведь человек должен жить так, как ему подобает.
(64) Однако у этого [правила] есть три исключения. Первое — когда человек изменяет свой статус, например, принимает монашеский постриг. В самом деле, он тогда раздает ради Христа все свое имущество, осуществляя этим деяние совершенного и переводя себя в новое состояние. Второе — когда то, чего человек себя лишает, пусть даже и необходимо для ведения подобающего образа жизни, тем не менее, может быть легко возмещено, и потому его
(62) Respondeo dicendum quod necessarium dupliciter dicitur. Uno modo, sine quo aliquid esse non potest. Et de tali necessario omnino eleemosyna dari non debet, puta si aliquis in articulo necessitatis constitutus haberet solum unde posset sustentari, et filii sui vel alii ad eum pertinentes; de hoc enim necessario eleemosynam dare est sibi et suis vitam subtrahere. Sed hoc dico nisi forte' talis casus immineret ubi, subtrahendo sibi, daret alicui magnae personae, per quam Ecclesia vel respublica sustentaretur, quia pro talis personae liberatione seipsum et suos laudabiliter penculo mortis exponeret, cum bonum commune sit proprio praeferendum.
(63) Alio modo dicitur aliquid esse necessarium sine quo non potest convenienter vita transigi secundum conditionem vel statum personae propriae et aliarum personarum quarum cura ei incumbit. Huius necessarii terminus non est in indivisibili constitutus, sed multis additis, non potest diiudicari esse ultra tale necessanum; et multis subtractis, adhuc remanet unde possit convenienter aliquis
vitam transigere secundum proprium statum. De huiusmodi ergo eleemosynam dare est bonum, et non cadit sub praecepto, sed sub consilio. Inordinatum autem esset si aliquis tantum sibi de bonis propriis subtraheret ut aliis largiretur, quod de residuo non posset vitam transigere convenienter secundum proprium statum et negotia occurrentia, nullus enim inconvenienter vivere debet.
(64) Sed ab hoc tria sunt excipienda. Quorum pnmum est quando aliquis statum mutat, puta per religionis ingressum. Tunc enim, omnia sua propter Christum largiens, opus perfectionis facit, se in alio statu ponendo. Secundo, quando ea quae sibi subtrahit, etsi sint necessaria ad convenientiam vitae, tamen de facili resarciri possunt, ut non sequatur maximum inconveniens. Tertio, quando occurreret extrema necessitas alicuius privatae personae, vel etiam aliqua magna necessitas reipublicae In his enim casibus laudabiliter praetermitteret aliquis id quod ad decentiam sui status pertinere videretur, ut maion necessitati subveniret.
402
Вопрос 32. О подаянии
достоинство не потерпит серьезного ущерба. Третье — когда человек сталкивается с крайней нуждой некоего частного лица или с крайне бедственным положением государства. В самом деле, в подобных случаях в высшей степени похвально пренебречь требованиями своего статуса ради того, чтобы удовлетворить более важные нужды.
(65) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 7
Можно ли подавать милостыню из того, что приобретено неправедным путем
(66) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что можно подавать милостыню из того, что приобретено неправедным путем.
(67) 1. В самом деле, сказано (Лк 16, 9): Приобретайте себе друзей от мамоны неправды. Но «мамона» — это богатство. Следовательно, можно приобретать духовных друзей посредством подаяния от неправедно приобретенного богатства.
(68) 2. Кроме того, любые грязные деньги, судя по всему, приобретаются неправедным путем. Так, заработок блудницы — это грязные деньги, и их запрещено при¬
носить в виде жертвы или дара Богу, согласно этим словам (Втор 23, 18): Не вноси платы блудницы в дом Господа, Бога твоего. Равным образом, грязными деньгами являются деньги, полученные от азартных игр, поскольку, как говорит Философ, их получают от друзей, которым, наоборот, надлежит помогать. А наиболее неправедным является доход от симонии, поскольку симония есть неправедное действие в отношении Святого Духа. Однако допустимо совершать подаяние от всех этих доходов. Следовательно, можно подавать милостыню от неправедно приобретенного.
(69) 3. Кроме того, большего зла следует избегать больше, чем меньшего. Но присвоение чужой собственности есть меньший грех, чем убийство, которое совершает тот, кто не помог человеку, находящемуся в крайней нужде, как это явствует из слов Амвросия, который говорит: Накорми умирающего от голода — если не накормишь, значит, именно ты убил его. Следовательно, в некоторых случаях можно подать милостыню от приобретенного неправедным путем.
(70) Но против: Августин говорит: Подавайте милостыню только от нажитого праведным трудом. Ибо вы не подкупите Су-
(65) Et per hoc patet de facili responsio ad obiecta.
Articulus 7
Utrum possit eleemosyna fieri de illicite acquisitis
(66) Ad septimum sic proceditur Videtur quod possit eleemosyna fieri de illicite acquisitis.
(67) 1 Dicitur enim Luc. XVI, facite vobis amicos de mammona iniquitatis. Mammona autem significat divitias. Ergo de divitiis inique acquisitis potest sibi aliquis spintuales amicos facere, eleemosynas largiendo
(68) 2. Praeterea, omne turpe lucrum videtur esse illicite acquisitum Sed turpe lucrum est quod de meretricio acquiritur, unde et de huiusmodi sacrificium vel oblatio Deo offerri non debet, secundum illud Deut XXIII, non offeres mercedem prostibuli in domo Dei tui. Similiter etiam turpiter acquiritur quod acquintur per aleas, quia, ut philosophus dicit, in IV Ethic. (1; 1122al0), tales ab amicis lucrantur,
quibus oportet dare. Turpissime etiam acquiritur aliquid per simoniam, per quam aliquis spiritui sancto iniunam facit. Et tamen de huiusmodi eleemosyna fien potest. Ergo de male acquisitis potest aliquis eleemosynam facere.
(69) 3 Praeterea, maiora mala sunt magis vitanda quam minora Sed minus peccatum est detentio rei alienae quam homicidium, quod aliquis incumt nisi alicui in ultima necessitate subveniat, ut patet per Ambrosium, qui dicit, pasce fame morientem, quoniam si non paveris, occidisti (cf. PL 17, 613-614) Ergo aliquis potest eleemosynam facere in aliquo casu de male acquisitis.
(70) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De verb. Dom (Sermo ad popul., serm. 113, 2; PL 38, 649), de iustis laboribus facite eleemosynas. Non enim corrupturi estis iudicem Christum, ut non vos audiat cum pauperibus, quibus tollitis Nolite velle eleemosynas facere de faenore et usuris. Fidelibus dico, quibus corpus Christi erogamus.
Раздел 7. Можно ли подавать милостыню из неправедно нажитого
403
дию вашего, Христа, чтобы Он не услышал голоса ограбленных вами бедняков. Не подавайте милостыни от ростовщических денег. Так говорю я верным, которые допускаются к причастию.
(71) Отвечаю: надлежит сказать, что нечто может быть приобретено неправедным образом трояко. Во-первых, сообразно тому, что неправедно приобретенное должно находиться у того, у кого взято, и не может быть удержано приобретателем, как это имеет место в случае грабежа, воровства и ростовщичества. И из таковых [вещей] подавать нельзя, поскольку они должны быть возвращены. Во-вторых, нечто приобретается неправедно тогда, когда приобретатель не может удерживать таковое, но и вернуть тому, у кого получил, тоже не может, поскольку и он приобрел неправедно, и давший дал неправедно. И так бывает, например, в случае симонии, когда дающий и приобретающий действуют против справедливости божественного закона, и потому неправедно полученное не должно быть возвращено, а роздано в виде подаяния. И то же самое относится ко всем подобным случаям, когда нечто дается и приобретается незаконно. В-тре- тьих, нечто обретается неправедно не по¬
тому, что незаконно само приобретение, а потому, что неправедно то, благодаря чему таковое приобретается, что очевидно в случае денег, получаемых блудницей. И такие деньги правильно называют грязными, поскольку блуд как таковой грязен и противен закону Божию; но само получение денег блудницей не является неправедным или противозаконным. Поэтому приобретенное таким неправедным образом может быть удержано и роздано в качестве милостыни.
(72) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Августин, иные же, дурно истолковав это высказывание Господа, отнимали чужую собственность и раздавали ее беднякам, полагая, что так они исполняют заповедь. И такое толкование должно быть исправлено. Но, как он говорит в «Вопросах евангельских», все богатство называется неправедным, поскольку богатство принадлежит неправедным, тем, кто возлагает на него все свои надежны. Или, согласно Амвросию, Он называл богатство неправедным потому, что оно привлекает наши чувства различными непотребными соблазнами. Или же, согласно Василию, Господь сказал так потому, что среди многих предков, чью собственность ты унаследовал, бы-
(71) Respondeo dicendum quod tripliciter potest esse aliquid illicite acquisitum Uno enim modo id quod illicite ab aliquo acquintur debetur ei a quo est acquisitum, nec potest ab eo retinen qui acquisivit, sicut contingit in rapina et furto et usuris. Et de talibus, cum homo teneatur ad restitutionem, eleemosyna fieri non potest. Alio vero modo est aliquid illicite acquisitum quia ille quidem qui acquisivit retinere non potest, nec tamen debetur ei a quo acquisivit, quia scilicet contra iustitiam accepit, et alter contra iustitiam dedit, sicut contingit in simonia, in qua dans et accipiens contra iustitiam legis divinae agit Unde non debet fieri restitutio ei qui dedit, sed debet in eleemosynas erogan Et eadem ratio est in similibus, in quibus scilicet et datio et acceptio est contra legem Tertio modo est aliquid illicite acquisitum, non quidem quia ipsa acquisitio sit illicita, sed quia id ex quo acquiritur est illicitum, sicut patet de eo quod mulier acquirit per meretricium. Et hoc proprie vocatur turpe lucrum. Quod enim mulier meretricium exerceat, turpiter agit et con¬
tra legem Dei, sed in eo quod accipit non iniuste agit nec contra legem Unde quod sic illicite acquisitum est retineri potest, et de eo eleemosyna fien
(72) Ad primum ergo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in libro De verb Dom (Sermo ad popul , serm. 113, 2, PL 38, 648), illud verbum domini quidam male intelligendo, rapiunt res alienas, et aliquid inde pauperibus largiuntur, et putant se facere quod praeceptum est. Intellectus iste corrigendus est. Sed omnes divitiae iniquitatis dicuntur, ut dicit in libro De quaestionibus Evangelii (II, 34; PL 35, 1349), quia non sunt divitiae nisi iniquis, qui in eis spem constituunt. Vel secundiim Ambrosium, iniquum mammona dixit quia variis divitiarum illecebris nostros tentât affectus. Vel quia in pluribus praedecessoribus, quibus patrimonio succedis, aliquis reperitur qui iniuste usurpavit aliena, quamvis tu nescias ut Basilius dicit (cf. Symeon Logotheta, Serm. 6 De avaritia, ex opçnbus Basilii excerptus, PG 32, 1190) Vel omnes divitiae dicuntur iniquitatis, idest inaequalitatis, quia non aequaliter sunt omnibus distributae uno egente
404
Вопрос 32. О подаянии
ли и те, кто неправедно присвоил чужое имущество, пусть даже ты и не знаешь об этом. Или, возможно, любое богатство названо «неправедным» в смысле «неравноправности», а именно, потому, что богатство распределяется неравномерно, и одни живут в изобилии, а другие — в нужде.
(73) На второе надлежит ответить, что выше уже было дано разъяснение, каким образом деньги, полученные блудницей, могут стать подаянием. А что касается того, что их запрещено приносить в виде жертвы или дара Бога, то так установлено, во-первых, для того, чтобы не смущать [других людей], а во-вторых, в силу почтения к святыням. Равным образом, можно подавать милостыню из денег, полученных от симонии, так как они не причитаются давшему, и он заслужил их утрату. Что же касается денег, полученных от азартных игр, то, как представляется, в них может быть нечто непозволительное с точки зрения божественного Закона, а именно, когда человек выигрывает у того, кто не может распоряжаться своей собственностью, например, у малолетнего, невменяемого и т. п., или же когда человек, желая разбогатеть за счет другого, вовлекает его в игру и обыгрывает при
помощи обмана. И в этих случаях деньги необходимо возвратить, и потому их нельзя тратить на подаяние. Кроме того, в этом есть и нечто незаконное с точки зрения позитивного гражданского права, которое вообще запрещает подобного рода наживу. Однако поскольку гражданское право распространяется не на всех, но только на тех, кто подпадает под его действие, и, кроме того, поскольку соответствующие законы могут быть отменены как неупотребительные, постольку все подпадающие под действие этого права должны возвращать выигранные деньги, за исключением тех случаев, когда действует противоположный обычай, или когда человек выигрывает у того, кто вовлек в игру его самого. И в этом случае деньги возвращать не нужно, поскольку проигравший этого не достоин; и если сохранить их нельзя в силу действующего права, то надлежит раздать в виде милостыни.
(74) На третье надлежит ответить, что в случае крайней нужды все [имущество] является общим. Поэтому если нет никого, кто помог бы человеку, находящемуся в крайней нужде, ему позволительно взять чужое для того, чтобы поддержать себя. И на том же основании позволитель-
et alio superabundante.
(73) Ad secundum dicendum quod de acquisito per meretricium iam dictum est qualiter eleemosyna fien possit Non autem fit de eo sacrificium vel oblatio ad altare, tum propter scandalum; tum propter sacrorum reverentiam. De eo etiam quod est per simoniam acquisitum potest fien eleemosyna, quia non est debitum ei qui dedit, sed meretur illud amittere. Circa illa vero quae per aleas acquiruntur videtur esse aliquid illicitum ex iure divino, scilicet quod aliquis lucretur ab his qui rem suam alienare non possunt, sicut sunt minores et funosi et huiusmodi; et quod aliquis trahat alium ex cupiditate lucrandi ad ludum; et quod fraudulenter ab eo lucretur Et in his casibus tenetur ad restitutionem, et sic de eo non potest eleemosynam facere. Aliquid autem videtur esse ultenus illicitum ex iure positivo civili, quod prohibet universaliter tale lucrum Sed quia ius civile non obligat omnes, sed eos solos qui sunt his legibus subiecti; et iterum per dissuetudinem abrogan
potest, ideo apud illos qui sunt huiusmodi legibus obstricti, tenentur universaliter ad restitutionem qui lucrantur; nisi forte contrana consuetudo praevaleat; aut nisi aliquis lucratus sit ab eo qui traxit eum ad ludum. In quo casu non teneretur restituere, quia ille qui amisit non est dignus recipere, nec potest licite retinere, tali iure positivo durante, unde debet de hoc eleemosynam facere in hoc casu.
(74) Ad tertium dicendum quod in casu extremae necessitatis omnia sunt communia. Unde licet ei qui talem necessitatem patitur accipere de alieno ad sui sustentationem, si non inveniat qui sibi dare velit. Et eadem ratione licet habere aliquid de alieno et de hoc eleemosynam dare, quinimmo et accipere, si aliter subvenin non possit necessitatem patienti Si tamen fien potest sine penculo, debet requisita domini voluntate paupen providere extremam necessitatem patienti.
Раздел 8. Может ли подавать милостыню тот, кто находится во власти другого 405
но удержать (и даже отнять) нечто чужое к подать из него милостыню, если иначе помочь нуждающемуся невозможно. Однако если можно обойтись без подобных действий, необходимо сперва заручиться согласием владельца и лишь затем оказать помощь нуждающемуся.
Раздел 8
Может ли подавать милостыню тот, кто находится во власти другого человека
(75) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что тот, кто находится во власти другого человека, может подавать милостыню.
(76) 1. В самом деле, монашествующие находятся во власти тех, кому они принесли обет повиновения. Но если бы они не могли подавать милостыню, то они, становясь монахами, ухудшали бы свое положение, поскольку, как говорит Амвросий, вся суть христианского монашества заключена в благочестии, а наиболее благочестивым действием является подаяние. Следовательно, тот, кто находится во власти другого человека, может подавать милостыню.
(77) 2. Кроме того, муж есть властелин над своею женою (Быт 3, 16). Но женщина, даже будучи замужем или обрученной, может
подавать милостыню; поэтому и рассказывают о блаженной Луции, что она подавала милостыню, хотя ее жених об этом не знал. Следовательно, то обстоятельство, что некто находится во власти другого, не препятствует совершению подаяния.
(78) 3. Кроме того, подчинение детей своим родителям является естественным, почему апостол и говорит (Ефес 6, 1): Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Но, как представляется, дети могут подавать милостыню из имущества родителей, ведь в некотором смысле это и их собственность, поскольку они ее унаследуют. И поскольку они могут использовать ее для некоторых телесных нужд, то, как кажется, они тем более могут использовать ее для подаяния, для исцеления своей души. Следовательно, тот, кто находится во власти другого человека, может подавать милостыню.
(79) 4. Кроме того, рабы находятся во власти своих господ, согласно этим словам (Тит 2, 9): Рабов увещевай повиноваться своим господам. Но им позволительно делать то, что полезно для хозяев, но подаяние милостыни ради них было бы крайне для них полезно. Следовательно, тот, кто находится во власти другого человека, может подавать милостыню.
Articulus 8
Utrum ille qui est in potestate alterius constitutus possit eleemosynam facere
(75) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod ille qui est in potestate alterius constitutus possit eleemosynam facere.
(76) 1 Religiosi enim sunt in potestate eorum quibus obe- dientiam voverunt. Sed si eis non liceret eleemosynam facere, damnum reportarent ex statu religionis, quia sicut Ambrosius dicit (cf. In 1 Tim 4, 8; PL 17, 500), summa Christianae religionis in pietate consistit, quae maxime per eleemosynarum largitionem commendatur. Ergo illi qui sunt in potestate alterius constituti possunt eleemosynam facere.
(77) 2. Praeterea, uxor est sub potestate vin, ut dicitur Gen. III. Sed uxor potest eleemosynam facere, cum assumatur in viri societatem, unde et de beata Lucia dicitur quod, ignorante sponso, eleemosynas faciebat Ergo per hoc quod aliquis est in potestate alterius constitutus, non
impeditur quin possit eleemosynas facere.
(78) 3 Praeterea, naturalis quaedam subiectio est filiorum ad parentes, unde apostolus, ad Ephes. VI, dicit,./?///, obedite parentibus vestris in domino. Sed filii, ut videtur, possunt de rebus patns eleemosynas dare, quia sunt quodammodo ipsorum, cum sint haeredes; et cum possint eis uti ad usum corpons, multo magis videtur quod possint eis uti, eleemosynas dando, ad remedium animae suae. Ergo illi qui sunt in potestate constituti possunt eleemosynas dare.
(79) 4. Praeterea, servi sunt sub potestate dominorum, secundum illud ad Tit. II, servos dominis suis subditos esse. Licet autem eis aliquid in utilitatem domini facere, quod maxime fit si pro eis eleemosynas largiantur Ergo illi qui sunt in potestate constituti possunt eleemosynas facere.
(80) Sed contra est quod eleemosynae non sunt faciendae de alieno, sed de iustis laboribus propnis unusquisque eleemosynam facere debet; ut Augustinus dicit, in libro De verb. Dom (Sermo ad popul., serm. 113, 2; PL 38,
406
Вопрос 32. О подаянии
(80) Но против: как говорит Августин, подавать милостыню следует не из чужого имущества, но из того, что нажито своими праведными трудами. Однако если бы милостыню подавали те, кто подчинен чужой власти, они подавали бы ее из чужого имущества. Следовательно, тот, кто находится во власти другого человека, не может подавать милостыню.
(81) Отвечаю: надлежит сказать, что всякий, кто находится во власти другого человека, должен, как таковой, направляться властью вышестоящего, ибо естественный порядок таков, что низшее направляется высшим. Поэтому в тех вопросах, в которых низший подчинен высшему, первый должен поступать сообразно указаниям второго. Таким образом, тот, кто подчинен власти другого, не должен подавать милостыню из тех вещей, в отношении которых он подчинен, за исключением тех случаев, когда он получил на это разрешение. Однако если он обладает неким имуществом, в отношении которого не подчиняется власти господина, то, будучи независимым в этом аспекте, он может подавать милостыню из этого имущества.
(82) Итак, на первое надлежит ответить, что если монах получил соответствующее рас¬
поряжение от прелата, он может подавать милостыню из собственности монастыря сообразно данным ему указаниям. Но если ему не было дано такого поручения, то он, поскольку своего имущества у него нет, не вправе подавать милостыню без разрешения своего настоятеля, которое либо ясно выражено, либо предполагается с большой долей вероятности, за исключением тех случаев крайней нужды, когда монаху позволительно даже украсть, чтобы подать милостыню. Однако из всего этого не следует, что положение принявших монашеские обеты ухудшается, поскольку, как сказано в книге «О церковных догматах», хорошо подавать бедным из своего имущества, но еще лучше, пожелав следовать за Господом, сразу раздать все и, освободившись от забот, отправиться со Христом.
(83) На второе надлежит ответить, что если у жены помимо приданого, предназначенного для облегчения тягот брака, имеется и иное имущество, либо от собственного дохода, либо полученное каким-либо иным позволительным образом, то она может подавать милостыню из этого имущества, даже не спрашивая мужа, но умеренно — чтобы расходы не разорили мужа. В иных же случаях жена не должна
649) Sed si subiecti aliis eleemosynam facerent, hoc esset de alieno. Ergo illi qui sunt sub potestate aliorum non possunt eleemosynam facere.
(81) Respondeo dicendum quod ille qui est sub potestate alterius constitutus, inquantum huiusmodi, secundum superioris potestatem regulari debet, hic est enim ordo naturalis, ut infenora secundum superiora regulentur Et ideo oportet quod ea in quibus inferior superiori subiicitur, dispenset non aliter quam ei sit a superiore commissum. Sic igitur ille qui est sub potestate constitutus de re secundum quam supenon subiicitur eleemosynam facere non debet nisi quatenus ei a superiore fuent permissum. Si quis vero habeat aliquid secundum quod potestati superioris non subsit, iam secundum hoc non est potestati subiectus, quantum ad hoc proprii iuris existens. Et de hoc potest eleemosynam facere.
(82) Ad primum ergo dicendum quod monachus, si habet dispensationem a praelato commissam, potest facere eleemosynam de rebus monasterii, secundum quod sibi est
commissum. Si vero non habet dispensationem, quia nihil proprium habet, tunc non potest facere eleemosynam sine licentia abbatis vel expresse habita vel probabiliter praesumpta, nisi forte in articulo extremae necessitatis, in quo licitum esset ei furari ut eleemosynam daret Nec propter hoc efficitur peioris conditionis, quia sicut dicitur in libro De eccles dogmat. (71, PL 58, 997), bonum est facultates cum dispensatione pauperibus erogare, sed melius est, pro intentione sequendi dominum, insimul donare, et, absolutum sollicitudine, egere cum Christo
(83) Ad secundum dicendum quod si uxor habeat alias res praeter dotem, quae ordinatur ad sustentanda onera matrimonii, vel ex propno lucro vel quocumque alio licito modo, potest dare eleemosynas, etiam irrequisito assensu viri, moderatas tamen, ne ex earum superfluitate vir de- pauperetur. Alias autem non debet dare eleemosynas sine consensu vin vel expresso vel praesumpto, nisi in articulo necessitatis, sicut de monacho dictum est (ad 1). Quamvis enim mulier sit aequalis in actu matrimonii, tamen in
Раздел 9. Следует ли подавать больше тем, кто более близок
407
подавать милостыню без согласия супруга, явного или предполагаемого, если только на то нет крайней необходимости, как уже говорилось о монашествующих (на 1). В самом деле, хотя в супружестве жена равна мужу, в ведении хозяйства, тем не менее, муж является главою жены, как говорит апостол (1 Кор 11, 3). Что же касается блаженной Луции, то она была не замужем, а только обручена. И потому она могла подавать милостыню с согласия матери.
(84) На третье надлежит ответить, что то, что принадлежит младшим в семье, принадлежит отцу семейства, и потому дети не могут подавать милостыню (разве что незначительную, против которой явно не возражал бы отец). Иначе может быть лишь тогда, когда отец разрешает детям распоряжаться некоей частью имущества. И то же самое можно сказать о слугах.
(85) И из этого очевиден ответ на четвертое.
Раздел 9 Следует ли подавать больше тем, кто более близок
(86) Ход рассуждения в девятом разделе таков. Представляется, что не следует подавать больше тем, кто более близок.
(87) 1. В самом деле, сказано (Сир 12, 4-5): Давай благочестивому и не помогай грешнику; делай добро смиренному и не давай нечестивому. Но иногда бывает так, что те, кто нам близок — нечестивые грешники. Следовательно, мы не должны подавать им большую милостыню.
(88) 2. Кроме того, подавать надлежит ради того, чтобы получить в качестве воздаяния вечную награду, согласно этим словам (Мф 6, 18): Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Но вечное воздаяние заслуживается в первую очередь той милостыней, которая дается святым, согласно этим словам (Лк 16, 9): Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. И эти слова Августин разъясняет так: Кто имеет обители вечные, если не святые Божии? И кого они должны принять, если не тех, кто помог им в нужде? Следовательно, милостыню надлежит подавать главным образом святым, а не тем, кто более близок.
(89) 3. Кроме того, человек наиболее близок самому себе. Но подавать милостыню себе самому человек не может. Следовательно, как представляется, не следует подавать больше тем, кто нам более близок.
his quae ad dispositionem domus pertinent vir caput est mulieris, secundum apostolum, I ad Cor. XI Beata autem Lucia sponsum habebat, non virum. Unde de consensu matns poterat eleemosynam facere.
(84) Ad tertium dicendum quod ea quae sunt filiifamilias sunt patris Et ideo non potest eleemosynam facere (nisi forte aliquam modicam, de qua potest praesumere quod patri placeat), nisi forte alicuius rei esset sibi a patre dispensatio commissa. Et idem dicendum de servis.
(85) Unde patet solutio ad quartum.
Articulus 9
Utrum propinquioribus sit magis eleemosyna danda
(86) Ad nonum sic proceditur. Videtur quod non sit magis propinquioribus eleemosyna facienda.
(87) 1 Dicitur enim Eccli. XII, da misericordi, et ne suscipias peccatorem, benefac humili, et non des impio. Sed quandoque contingit quod propinqui nostri sunt peccatores et impii Ergo non sunt eis magis eleemosynae faciendae.
(88) 2. Praeterea, eleemosynae sunt faciendae propter retributionem mercedis aeternae, secundum illud Matth VI, et pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi. Sed retributio aeterna maxime acquintur ex eleemosynis quae sanctis erogantur, secundum illud Luc. XVI, facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut, cum defeceritis, recipiant vos in aeterna tabernacula', quod exponens Augustinus, in libro De verb. Dom (Sermo ad popul., serm. 113, 1; PL 38, 648), dicit, qui sunt qui habebunt aeterna habitacula nisi sancti Dei? Et qui sunt qui ab eis accipiendi sunt in tabernacula nisi qui eorum indigentiae serviunt? Ergo magis sunt eleemosynae dandae sanctioribus quam propinquioribus.
(89) 3. Praeterea, maxime homo est sibi propinquus. Sed sibi non potest homo eleemosynam facere. Ergo videtur quod non sit magis facienda eleemosyna personae magis coniunctae.
(90) Sed contra est quod apostolus dicit, I ad Tim. V, si quis suorum, et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit et est infideli deterior.
408
Вопрос 32. О подаянии
(90) Но против: апостол говорит (1 Тим 5, 8): Если же кто о своих (и особенно о домашних) не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.
(91) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит Августин, некий наш жребий заключается в том, чтобы заботиться о тех, кто наиболее тесно соединен с нами. Однако в этом отношении надлежит проводить определенные различия сообразно различиям родства, святости и пользы. Ведь нам надлежит подавать больше тому, кто более свят, находится в большей нужде или более полезен для общественного блага, а не тому, кто более близок нам, особенно если он не является настолько близким, чтобы забота о нем была нашей обязанностью, или не находится в крайней нужде.
(92) Итак, на первое надлежит ответить, что мы должны помогать грешнику не как таковому, т. е. не поощряя его грех, но как человеку, т. е. ради поддержания его естественного существования.
(93) На второе надлежит ответить, что подаянием можно заслужить вечное воздаяние двояко. Во-первых, постольку, поскольку подаяние укоренено в любви-каритас. И в этом смысле подаяние является заслугой в той мере, в какой в нем сохраня¬
ется порядок любви, сообразно которому мы при прочих равных условиях должны в первую очередь помогать тем, кто нам наиболее близок. И потому Амвросий говорит, что похвальна та щедрость, которой ты проявляешь заботу о твоих близких, если знаешь, что они пребывают в нужде. Ведь лучше если ты сам поможешь кровным родственникам, которым неловко обращаться за помощью к чужим. Во-вторых, милостыня заслуживает воздаяние вечной жизни благодаря заслугам получающего, который молится за подавшего, и именно об этом говорит Августин.
(94) На третье надлежит ответить, что поскольку подаяние является делом милосердия, то как милосердие, строго говоря, невозможно по отношению к самому себе, разве что в переносном смысле, о чем уже было сказано выше (В. 30, Р. 1), точно так же никто в строгом смысле слова не может подавать милостыню самому себе, если только он не действует от лица другого (так, если человека назначили распределять милостыню, он может взять кое-что и себе, если нуждается, на том же основании, что и другие).
(91) Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in I De doct. Christ. (28; PL 34, 30), illi qui sunt nobis magis coniuncti quasi quadam sorte nobis obveniunt, ut eis magis providere debemus. Est tamen circa hoc discretionis ratio adhibenda, secundum differentiam coniunctionis et sanctitatis et utilitatis. Nam multo sanctiori magis indigentiam patienti, et magis utili ad commune bonum, est magis eleemosyna danda quam personae propinquiori; maxime si non sit multum coniuncta, cuius cura specialis nobis immineat, et si magnam necessitatem non patiatur.
(92) Ad primum ergo dicendum quod peccatori non est subveniendum inquantum peccator est, idest ut per hoc in peccato foveatur, sed inquantum homo est, idest ut natura sustentetur.
(93) Ad secundum dicendum quod opus eleemosynae ad mercedem retnbutionis aeternae dupliciter valet. Uno quidem modo, ex radice caritatis. Et secundum hoc eleemosy¬
na est meritoria prout in ea servatur ordo cantatis, secundum quem propinquionbus magis providere debemus, ce- tens paribus. Unde Ambrosius dicit, in I De offic. (30; PL 16, 72), est illa probanda liberalitas, ut proximos sanguinis tui non despicias, si egere cognoscas, melius est enim ut ipse subvenias tuis, quibus pudor est ab aliis sumptum deposcere. Alio modo valet eleemosyna ad retnbutionem vitae aeternae ex merito eius cui donatur, qui orat pro eo qui eleemosynam dedit. Et secundum hoc loquitur ibi Augustinus.
(94) Ad tertium dicendum quod, cum eleemosyna sit opus misericordiae, sicut misencordia non est proprie ad seipsum, sed per quandam similitudinem, ut supra dictum est (q. 30, a. 1, ad 2); ita etiam, proprie loquendo, nullus sibi eleemosynam facit, nisi forte ex persona alterius. Puta, cum aliquis distributor ponitur eleemosynarum, potest et ipse sibi accipere, si indigeat, eo tenore quo et aliis ministrat.
Раздел 10. Должно ли подаяние быть избыточным
409
Раздел 10
Должно ли подаяние быть избыточным
(95) Ход рассуждения в десятом разделе таков. Представляется, что подаяние не должно быть избыточным.
(96) 1. В самом деле, милостыню надлежит подавать прежде всего тем, кто нам наиболее близок. Но, как говорит Амвросий, мы не должны подавать им так, чтобы они благодаря этому разбогатели. Следовательно, мы не должны подавать избыточно и другим.
(97) 2. Кроме того, Амвросий говорит, что не следует раздавать свое имение сразу, это нужно делать постепенно. Но избыточность подаяния имеет место, когда раздают все сразу. Следовательно, подаяние не должно быть избыточным.
(98) 3. Кроме того, апостол говорит (2 Кор 8, 13): Не требуется, чтобы другим было облегчение, т. е. чтобы они могли, не трудясь, жить за ваш счет, а вам тяжесть, т. е. бедность (2 Кор 8, 13). Но так случилось бы, если бы милостыня подавалась избыточно. Следовательно, подаяние не должно быть избыточным.
(99) Но против: сказано (Тов 4, 16): От всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни изобильно5.
(юо) Отвечаю: надлежит сказать, что милостыня может быть избыточной либо со стороны дающего, либо со стороны получающего. И со стороны дающего она избыточна тогда, когда человек подает излишне много сравнительно со своими средствами. И такое избыточное подаяние похвально, почему Господь и одобрил вдову, которая от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела (Лк 21,4). Тем не менее, здесь надлежит учитывать то, что было сказано выше, когда речь шла о подаянии из необходимого (Р. 9). Со стороны же получающего милостыня может быть избыточной в двух смыслах. Во-первых, когда она удовлетворяет все его нужды. И подаяние такой избыточной милостыни похвально. Во-вторых, когда она значительно превышает потребности получающего. И тогда она не заслуживает похвалы, ведь ее можно было бы разделить между несколькими нуждающимися. И потому апостол говорит: Если я раздам все имение мое и т.д. (1 Кор. 13, 3), каковые слова глосса толкует так: Этим он учит осторожности при подаянии, чтобы мы давали не одному, но нескольким, дабы помочь многим.
(юр Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу по отношению
Articulus 10 Utrum eleemosyna sit abundanter facienda
(95) Ad decimum sic proceditur. Videtur quod eleemosyna non sit abundanter facienda.
(96) 1. Eleemosyna enim maxime debet fieri comunctionbus. Sed illis non debet sic dari ut ditiores inde fieri velint, sicut Ambrosius dicit, in I De offic. (30; PL 16, 72). Ergo nec aliis debet abundanter dan.
(97) 2 Praeterea, Ambrosius dicit ibidem (De off. ministr., I, 30; PL 16,72), non debent simul effundi opes, sed dispensari. Sed abundantia eleemosynarum ad effusionem pertinet. Ergo eleemosyna non debet fien abundanter.
(98) 3 Praeterea, II ad Cor. VIII dicit apostolus, non ut aliis sit remissio, idest ut alii de nostris otiose vivant; vobis autem sit tnbulatio, idest paupertas. Sed hoc contingeret si eleemosyna daretur abundanter. Ergo non est abundanter eleemosyna largienda.
(99) Sed contra est quod dicitur Tob. IV, si multum tibi fuerit,
abundanter tribue.
(100) Respondeo dicendum quod abundantia eleemosynae potest considerari et ex parte dantis, et ex parte recipientis. Ex parte quidem dantis cum scilicet aliquis dat quod est multum secundum proportionem propriae facultatis. Et sic laudabile est abundanter dare, unde et dominus, Luc. XXI, laudavit viduam, quae ex eo quod deerat illi, omnem victum quem habuit misit, observatis tamen his quae supra dicta sunt de eleemosyna facienda de necessanis (a. 6). Ex parte vero eius cui datur est abundans eleemosyna dupliciter. Uno modo, quod suppleat sufficienter eius indigentiam Et sic laudabile est abundanter eleemosynam tnbuere. Alio modo, ut superabundet ad superfluitatem. Et hoc non est laudabile, sed melius est pluribus indigentibus elargin. Unde et apostolus dicit, I ad Cor. XIII, si distribuero in cibos pauperum ; ubi Glossa dicit (Petn Lom- bardi; PL 191, 1660), per hoc cautela eleemosynae docetur, ut non uni sed multis detur, ut pluribus prosit.
(101) Ad primum ergo dicendum quod ratio illa proce-
410
Вопрос 32. О подаянии
к избыточности милостыни в смысле превышения потребностей получающего.
(102) На второе надлежит ответить, что это авторитетное высказывание относится к избыточности со стороны подающего. А понимать его надо в том смысле, что Бог не желает, чтобы человек раздавал все свое имение сразу, за исключением случаев, когда он изменяет свой статус. И потому далее сказано: Если только [мы не следуем] Елисею, который заколол своих волов и накормил ими бедных из всего, что имел, дабы заботы о хозяйстве не удерживали его (3 Цар 19, 21).
(103) На третье надлежит ответить, что слова «не требуется, чтобы другим было облегчение», относятся к избыточному подаянию, превосходящему потребности получающего, которому надлежит подавать не для того, чтобы он роскошествовал, а для того,
чтобы у него было необходимое для существования. Однако в этом отношении следует провести различие, сообразно тому, что люди могут иметь разное положение, и те, кто привык к лучшему, нуждаются в лучшем питании и одежде. Поэтому Амвросий говорит: Подавая человеку милостыню, следует принимать во внимание его возраст и состояние здоровья, а также и тот стыд, который выдает его благородное происхождение, или же то, что он утратил свое богатство не по своей вине. Что же касается слов «а вам тяжесть», то они относятся к избыточности со стороны подающего. Но, как утверждает глосса, он говорит так не потому, что избыточное подаяние дурно, а потому, что, опасаясь за слабых, он предостерегает их от того, чтобы они, подавая таким образом, сами не оказались в нужде.
dit de abundantia superexcedente necessitatem recipientis eleemosynam
(102) Ad secundum dicendum quod auctoritas illa loquitur de abundantia eleemosynae ex parte dantis. Sed intelligen- dum est quod Deus non vult simul effundi omnes opes, nisi in mutatione status Unde subdit ibidem (De ojf. min- istr, I, 30, PL 16, 72), nisi forte ut Elisaeus boves suos occidit, et pavit pauperes ex eo quod habuit, ut nulla cura domestica teneretur.
(103) Ad tertium dicendum quod auctoritas inducta, quantum ad hoc quod dicit, non ut alii sit remissio vel refrigerium, loquitur de abundantia eleemosynae quae superexcedit necessitatem recipientis, cui non est danda eleemosyna
ut inde luxurietur, sed ut inde sustentetur. Circa quod tamen est discretio adhibenda propter diversas conditiones hominum, quorum quidam, delicatioribus nutriti, indigent magis delicatis cibis aut vestibus. Unde et Ambrosius dicit, in libro De offic. (I, 30; PL 16, 74), consideranda est in largiendo aetas atque debilitas. Nonnunquam etiam verecundia, quae ingenuos prodit natales. Aut si quis ex divitiis in egestatem cecidit sine vitio suo. Quantum vero ad id quod subditur, vobis autem tribulatio, loquitur de abundantia ex parte dantis. Sed, sicut Glossa ibi dicit (Petri Lombardi; PL 192, 58), non hoc ideo dicit quin melius esset, scilicet abundanter dare. Sed de infirmis timet, quos sic dare monet ut egestatem non patiantur.
Вопрос 33 О братском исправлении
(D Затем надлежит рассмотреть братское исправление. И касательно этого рассматривается восемь [проблем]: 1) является ли братское исправление действием любви- каритас; 2) подпадает ли оно под заповедь; 3) распространяется ли эта заповедь на всех, или только на прелатов; 4) обязывает ли эта заповедь нижестоящих к тому, чтобы они исправляли прелатов; 5) может ли заниматься исправлением грешник; 6) нужно ли исправлять того, кто в результате исправления становится хуже; 7) должно ли тайное исправление предшествовать открытому обличению; 8) нужно ли призывать свидетелей до открытого обличения.
Раздел 1
Является ли братское исправление действием любви-каритас
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что братское исправление не является актом любви-каритас.
(3) 1. В самом деле, глосса на эти слова
(Мф 18, 15): Если же согрешит против тебя брат твой, утверждает, что брата надлежит обличать из стремления к справедливости. Но справедливость является добродетелью, отличной от любви-каритас. Следовательно, братское исправление является действием не любви-каритас, а справедливости.
(4) 2. Кроме того, братское исправление осуществляется посредством тайного увещевания. Но увещевание есть некий совет, а совет относится к благоразумию, ведь благоразумный является хорошим советчиком, как сказано в VI книге «Этики». Следовательно, братское исправление является действием не любви-каритас, а благоразумия.
(5) 3. Кроме того, противоположные действия не относятся к одной и той же добродетели. Но поддержка грешника является действием любви-каритас, согласно этим словам (Гал 6, 2): Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов, каковой есть закон любви. Следова-
Quaestio 33 De correctione fraterna
(1) Deinde considerandum est de correctione fraterna. Et circa hoc quaeruntur octo. Primo, utrum fraterna correctio sit actus cantatis. Secundo, utrum sit sub praecepto. Tertio, utrum hoc praeceptum extendat se ad omnes, vel solum in praelatis. Quarto, utrum subditi teneantur ex hoc praecepto praelatos corngere. Quinto, utrum peccator possit corngere. Sexto, utrum aliquis debeat comgi qui ex conectione fit deterior. Septimo, utrum secreta correctio debeat praecedere denuntiationem. Octavo, utrum testium inductio debeat praecedere denuntiationem.
Articulus 1 Utrum fraterna correctio sit actus caritatis
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod fraterna correctio non sit actus caritatis.
(3) 1 Dicit enim Glossa (ordin.) Matth. XVIII, super illud,
si peccaverit in te frater tuus, quod frater est arguendus ex zelo iustitiae. Sed iustitiaest virtus distincta a caritate. Ergo correctio fraterna non est actus caritatis, sed iustitiae.
(4) 2. Praeterea, correctio fraterna fit per secretam admonitionem. Sed admonitio est consilium quoddam, quod pertinet ad prudentiam, prudentis enim est esse bene con- siliativum, ut dicitur in VI Ethic. (5; 1140a25). Ergo fraterna correctio non est actus caritatis, sed prudentiae.
(5) 3. Praeterea, contrarii actus non pertinent ad eandem virtutem. Sed supportare peccantem est actus caritatis, secundum illud ad Gal. VI, alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi, quae est lex caritatis. Ergo videtur quod corrigere fratrem peccantem, quod est contrarium supportationi, non sit actus caritatis.
412
Вопрос 33. О братском исправлении
тельно, как представляется, исправление брата-грешника, которое противоположно его поддержке, не является действием любви-каритас.
(6) Но против: исправление грешника есть некое духовное подаяние. Но подаяние, как было сказано выше (В. 32, Р. 1), является действием любви-каритас. Следовательно, братское исправление является действием любви-каритас.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что исправление грешника есть некое средство, которое применяется против греха человека. Но грех того или иного человека можно рассматривать двояко: во-первых, насколько он наносит ущерб грешнику; во- вторых, насколько он приводит к причинению ущерба другим людям (либо посредством физического ущерба, либо посредством соблазна) или общественному благу, справедливость которого нарушается этим грехом. Следовательно, и исправление грешника двояко. Одно исправление используется как средство против греха, насколько он является злом для самого грешника, и это есть собственно братское исправление, которое направлено на улучшение грешника. Но устранить зло некоего человека есть то же, что совершить
ему благодеяние, а совершение благодеяния есть действие любви-каритас, посредством которой мы желаем и делаем благо другу. Следовательно, братское исправление также является действием любви- каритас, поскольку посредством него мы устраняем зло брата, т. е. грех. И устранение греха относится к любви-каритас в большей степени, чем восполнение внешней утраты или телесного ущерба, так как противоположное благо добродетели ближе любви-каритес, чем благо тела или внешних вещей. Поэтому братское исправление является действием любви-каритас в большей степени, чем исцеление телесной немощи или удовлетворение внешних нужд. А другое исправление — то, которое используется как средство против греха человека сообразно тому, что этот грех рассматривается как зло для других людей и, прежде всего, как вред для общественного блага. И такое исправление является действием справедливости, которое заключается в сохранении должных, сообразно справедливости, отношений между людьми.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что глосса говорит о втором исправлении, которое является действием справедливости.
(6) Sed contra, corripere delinquentem est quaedam eleemosyna spiritualis. Sed eleemosyna est actus cantatis, ut supra dictum est (q. 32, a. 1). Ergo et correctio fraterna est actus caritatis.
(7) Respondeo dicendum quod correctio delinquentis est quoddam remedium quod debet adhiben contra peccatum alicuius Peccatum autem alicuius dupliciter considerari potest, uno quidem modo, inquantum est nocivum ei qui peccat; alio modo, inquantum vergit in nocumentum aliorum, qui ex eius peccato laeduntur vel scandalizantur; et etiam inquantum est in nocumentum boni communis, cuius iustitia per peccatum hominis perturbatur. Duplex ergo est correctio delinquentis. Una quidem quae adhibet remedium peccato inquantum est quoddam malum ipsius peccantis, et ista est proprie fraterna correctio, quae ordinatur ad emendationem delinquentis. Removere autem malum alicuius eiusdem rationis est et bonum eius procurare. Procurare autem fratris bonum pertinet ad caritatem, per quam volumus et operamur bonum amico. Unde eti¬
am correctio fraterna est actus caritatis, quia per eam repellimus malum fratris, scilicet peccatum. Cuius remotio magis pertinet ad caritatem quam etiam remotio exterioris damni, vel etiam corporalis nocumenti, quanto contrarium bonum virtutis magis est affine caritati quam bonum corporis vel exteriorum rerum. Unde correctio fraterna magis est actus caritatis quam curatio infirmitatis corporalis, vel subventio qua excluditur exterior egestas. Alia vero correctio est quae adhibet remedium peccati delinquentis secundum quod est in malum aliorum, et etiam praecipue in nocumentum communis boni. Et talis correctio est actus iustitiae, cuius est conservare rectitudinem iustitiae unius ad alium.
(8) Ad primum ergo dicendum quod Glossa illa loquitur de secunda correctione, quae est actus iustitiae. Vel, si loquatur etiam de pnma, iustitia ibi sumitur secundum quod est universalis virtus, ut infra dicetur (q 58, a. 5), prout etiam omne peccatum est iniquitas, ut dicitur I Ioan. III, quasi contra iustitiam existens.
Раздел 2. Относится ли братское исправление к заповедям
413
Или же, если речь идет о первом исправлении, то справедливость понимается как общая добродетель, о чем будет сказано далее (В. 58, Р. 5), так же, как и любой грех есть неправедность (1 Ин 3, 4), как бы противоположная справедливости.
(9) На второе надлежит ответить, что, как говорит Философ, благоразумие производит правильность в средствах достижения цели, относительно которых имеет место изби- рание и совет. Но когда мы делаем нечто правильное в силу благоразумия, и таковое согласуется с целью некоей нравственной добродетели (например, умеренности или стойкости), то это наше действие относится главным образом к той добродетели, к цели которой оно обращено. И поскольку осуществляемое при братском исправлении увещевание обращено на устранение греха брата, каковое устранение относится к любви-каритас, постольку очевидно, что это увещевание, которым как бы повелевает любовь-каритас, является прежде всего ее действием, и уже во вторую очередь — действием рассудительности, которая как бы осуществляет и направляет его.
(ю) На третье надлежит ответить, что братское исправление не противоположно поддержке слабых, скорее оно из этой под¬
держки проистекает. В самом деле, человек поддерживает грешника постольку, поскольку не приходит в возмущение и продолжает желать ему блага, и именно потому он стремится сделать его лучше.
Раздел 2
Относится ли братское исправление к заповедям
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что братское исправление не относится к заповедям.
(12) 1. В самом деле, заповедь не может быть дана о чем-то невозможном, согласно этим словам Иеронима: Богохульствует тот, кто утверждает, что Бог заповедал нам нечто невозможное. Но сказано (Еккл 7, 13): Смотри на действование Бо- жие — ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Следовательно, братское исправление не относится к заповедям.
(13) 2. Кроме того, все заповеди божественного Закона сводятся к предписаниям Декалога. Но братское исправление в Декалоге не упоминается. Следовательно, братское исправление не относится к заповедям.
(и) 3. Кроме того, неисполнение предпи¬
сания божественной заповеди является
(9) Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit, in VI Ethic. (12; 1144a8), prudentia facit rectitudinem in his quae sunt ad finem, de quibus est consilium et electio. Tamen cum per prudentiam aliquid recte agimus ad finem alicuius virtutis moralis, puta temperantiae vel fortitudinis, actus ille est principaliter illius virtutis ad cuius finem ordinatur Quia ergo admonitio quae fit in correctione fraterna ordinatur ad amovendum peccatum fratris, quod pertinet ad caritatem; manifestum est quod talis admonitio principaliter est actus caritatis, quasi imperantis, prudentiae vero secundano, quasi exequentis et dirigentis actum.
(10) Ad tertium dicendum quod correctio fraterna non opponitur supportationi infirmorum, sed magis ex ea consequitur. Intantum enim aliquis supportat peccantem inquantum contra eum non turbatur, sed benevolentiam ad eum servat. Et ex hoc contingit quod eum satagit emendare
Articulus 2 Utrum correctio fraterna sit in praecepto
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod correctio fraterna non sit in praecepto.
(12) 1. Nihil enim quod est impossibile cadit sub praecepto, secundum illud Hieronymi (cf Pelagius, Epist 1, ad Demetr., 16; PL 30, 32), maledictus qui dicit Deum aliquid impossibile praecepisse. Sed Eccle VII dicitur, considera opera Dei, quod nemo possit corrigere quem ille despexerit. Ergo correctio fraterna non est in praecepto.
(13) 2 Praeterea, omnia praecepta legis divinae ad praecepta Decalogi reducuntur. Sed correctio fraterna non cadit sub aliquo praeceptorum Decalogi. Ergo non cadit sub praecepto.
(14) 3. Praeterea, omissio praecepti divini est peccatum mortale, quod in sanctis viris non invenitur. Sed omissio fraternae correctionis invenitur in sanctis et in spiritualibus viris, dicit enim Augustinus, I De civ Dei (9; PL 41, 22),
414
Вопрос 33. О братском исправлении
смертным грехом, которого в святом че- (16) Но против: Августин говорит: Уклоня- ловеке быть не может. Но иногда святые ясъ от исправления грешника, ты делаешься
и духовные люди уклонялись от братского хуже его. Но так может быть только если
исправления, поскольку, по словам Авгу- такое уклонение является несоблюдением
стина, не одни только слабейшие, но и те, требования некоей заповеди. Следователь-
которые ведут высший род жизни, воздер- но, братское исправление относится к за-
живаются от обличений, по причине неко- поведи.
торыхуз вожделения, а не по обязанностям (17) Отвечаю: надлежит сказать, что брат-
любви. Следовательно, братское исправление не относится к заповедям.
(15) 4. Кроме того, то, что подпадает под
заповедь, обладает смысловым содержанием должного. Таким образом, если бы братское исправление подпадало под заповедь, то у нас был бы долг перед братьями — исправлять их, когда они грешат. Но тому, кто должен нечто телесное, например, деньги, следует не ждать, когда кредитор придет к нему, а самому искать кредитора, чтобы вернуть долг. Следовательно, мы должны сами искать тех, кто нуждается в исправлении, чтобы исправить. Но это нелепо — как по причине большого количества грешников, исправить которых один человек не в состоянии, так и потому, что тогда ради исправления людей монашествующие должны будут оставить монастыри, что им не подобает. Следовательно, братское исправление не относится к заповедям.
ское исправление подпадает под заповедь. Однако следует принять во внимание, что как запрещающие заповеди закона запрещают греховные деяния, так и предписывающие положительные предписания побуждают к действиям добродетелей. Но греховные действия являются дурными сами по себе и никоим образом не могут сделаться благими, вне зависимости от условий времени и места, поскольку они как таковые связаны с дурной целью, как говорится во II книге «Этики». И потому запрещающие заповеди обязывают всегда и навсегда. А действиям добродетелей надлежит осуществляться не при всяких, но лишь при должных обстоятельствах, которые требуются для того, чтобы действие было добродетельным, так именно, чтобы действие совершалось там, где должно, тогда, когда должно, и так, как должно. И поскольку распределение средств дости-
quod поп solum inferiores, verum etiam hi qui superiorem vitae gradum tenent ab aliorum reprehensione se abstinent, propter quaedam cupiditatis vincula, non propter officia caritatis. Ergo correctio fraterna non est in praecepto.
(15) 4. Praeterea, illud quod est in praecepto habet rationem debiti. Si ergo correctio fraterna caderet sub praecepto, hoc fratribus deberemus ut eos peccantes corrigeremus. Sed ille qui debet alicui debitum corporale, puta pecuniam, non debet esse contentus ut ei occurrat creditor, sed debet eum quaerere ut debitum reddat. Oporteret ergo quod homo quaereret correctione indigentes ad hoc quod eos corrigeret. Quod videtur inconveniens, tum propter multitudinem peccantium, ad quorum correctionem unus homo non posset sufficere; tum etiam quia oporteret quod religiosi de claustris suis exirent ad homines corrigendos, quod est inconveniens. Non ergo fraterna correctio est in praecepto.
(16) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De verb. Dom. (Serm. ad popul., serm. 82, 4; PL 38, 506), si negle¬
xeris corrigere, peior eo factus es qui peccavit. Sed hoc non esset nisi per huiusmodi negligentiam aliquis praeceptum omitteret. Ergo correctio fraterna est in praecepto.
(17) Respondeo dicendum quod correctio fraterna cadit sub praecepto. Sed considerandum est quod sicut praecepta negativa legis prohibent actus peccatorum, ita praecepta affirmativa inducunt ad actus virtutum. Actus autem peccatorum sunt secundum se mali, et nullo modo bene fieri possunt, nec aliquo tempore aut loco, quia secundum se sunt coniuncti malo fini, ut dicitur in II Ethic. (6; 1107al2). Et ideo praecepta negativa obligant semper et ad semper. Sed actus virtutum non quolibet modo fieri debent, sed observatis debitis circumstantiis quae requiruntur ad hoc quod sit actus virtuosus, ut scilicet fiat ubi debet, et quando debet, et secundum quod debet. Et quia dispositio eorum quae sunt ad finem attenditur secundum rationem finis, in istis circumstantiis virtuosi actus praecipue attendenda est ratio finis, qui est bonum virtutis. Si ergo sit aliqua talis omissio alicuius circums-
Раздел 2. Относится ли братское исправление к заповедям
415
жения цели зависит от смыслового содержания цели, главным среди этих обстоятельств добродетельного действия является это смысловое содержание цели, которой является благо добродетели. Если, следовательно, имеет место такое отсутствие некоего обстоятельства добродетельного действия, которое полностью устраняет благо добродетели, то это противоречит заповеди. Но если есть такое отсутствие некоего обстоятельства, которое не полностью устраняет добродетель, хотя и не позволяет достичь совершенного блага добродетели, то это не против заповеди. И потому Философ говорит, что если мы ненамного отдалимся от золотой середины добродетели, то это не будет ей противоречить, но если удалимся намного, то добродетель разрушится в своем действии. Но братское исправление направлено на улучшение брата. И именно в этом смысле оно подпадает под заповедь, сообразно тому, что необходимо для этой цели, а не в том смысле, что мы должны исправлять совершающего грех брата везде и всегда.
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что при совершении любого благого дела человеческое действие эффективно лишь потому, что получает божественную помощь,
и, однако же, человек должен делать то, что в его возможностях. Поэтому Августин говорит, что не зная, кто входит в число предопределенных, а кто — нет, мы во всем должны так руководствоваться любовью- каритас, чтобы желать спасения всех. Следовательно, мы должны стремиться исправить всех наших братьев, уповая на Божью помощь.
(19) На второе надлежит ответить, что, как уже сказано выше (В. 32, Р. 5, на 4), все заповеди, относящиеся к совершению благодеяний ближним, сводятся к заповеди о почитании родителей.
(20) На третье надлежит ответить, что уклонение от братского исправления может быть трояким. Во-первых, оно может быть заслугой — тогда, когда некто воздерживается от исправления из любви-каритас. Поэтому Августин и говорит, что если кто воздерживается от обличения и обуздания поступающих дурно или потому, что ищет более удобного для этого времени, или потому,, что боится за них же самих, чтобы они не сделались от этого еще хуже или чтобы не воспрепятствовали научить доброй и справедливой жизни других, более слабых, не оказали на них дурного влияния и не отвратили от веры, то в этом обнару-
tantiae circa virtuosum actum quae totaliter tollat bonum virtutis, hoc contrariatur praecepto. Si autem sit defectus alicuius circumstantiae quae non totaliter tollat virtutem, licet non perfecte attingat ad bonum virtutis, non est contra praeceptum. Unde et philosophus dicit, in II Ethic. (9, 1109Ы8), quod si parum discedatur a medio, non est contra virtutem, sed si multum discedatur, corrumpitur vinus in suo actu Correctio autem fraterna ordinatur ad fratris emendationem Et ideo hoc modo cadit sub praecepto, secundum quod est necessaria ad istum finem, non autem ita quod quolibet loco vel tempore frater delinquens corrigatur.
(18) Ad primum ergo dicendum quod in omnibus bonis agendis operatio hominis non est efficax nisi adsit auxilium divinum, et tamen homo debet facere quod in se est. Unde Augustinus dicit, in libro De corr. etgrat. (15; PL 44, 944), nescientes quis pertineat ad praedestinatorum numerum et quis non pertineat, sic affici debemus caritatis affectu ut omnes velimus salvos fieri. Et ideo omnibus debemus frater¬
nae correctionis officium impendere sub spe divini auxilii
(19) Ad secundum dicendum quod, sicut supra dictum est (q. 32, a 5, ad 4), omnia praecepta quae pertinent ad impendendum aliquod beneficium proximo reducuntur ad praeceptum de honoratione parentum
(20) Ad tertium dicendum quod correctio fraterna tripliciter omitti potest Uno quidem modo, meritorie, quando ex caritate aliquis correctionem omittit Dicit enim Augustinus, in I De civ Dei (9, PL 41, 22), si propterea quisque obiurgandis et corripiendis male agentibus parcit, quia opportunius tempus inquiritur, vel eisdem ipsis metuit ne deteriores ex hoc efficiantur, vel ad bonam vitam et piam erudiendos impediant alios infirmos et premant, at que avertant a fide; non videtur esse cupiditatis occasio, sed consilium caritatis. Alio modo praetermittitur fraterna correctio cum peccato mortali, quando scilicet formidatur, ut ibi dicitur, iudicium vulgi et carnis excruciatio vel peremptio, dum tamen haec ita dominentur in animo quod fraternae caritati praeponantur Et hoc videtur contingere quando aliquis praesumit
416
Вопрос 33. О братском исправлении
живается не вожделение, а совет любви-каритас. Во-вторых, уклонение от братского исправления может сопровождаться смертным грехом, когда, по словам Августина, страшатся суда черни, истязания и умерщвления плоти, и это настолько овладевает умом, что становится важнее братской любви. И так бывает, судя по всему, тогда, когда некто считает возможным удержать склонного к проступкам человека от греха, но уклоняется от этого из-за вожделения или страха. В-третьих, такое уклонение является простительным грехом, когда из-за вожделения или страха человек не спешит исправлять прегрешения брата, однако при этом он не отказался бы от исправления, если бы ему было совершенно ясно, что он может удержать брата от греха — поскольку его дух отдает предпочтение братской любви. И именно в этом смысле святые мужи иногда уклонялись от исправления согрешающих.
(21) На четвертое надлежит ответить, что если мы должны некоему конкретному лицу некое материальное или духовное благо, то нам следует не ждать, когда он придет за ним сам, а предпринимать надлежа¬
щие меры, чтобы его найти. Поэтому как тот, кто должен деньги кредитору, обязан отыскать его, когда подойдет время, чтобы вернуть долг, так и тот, кто имеет духовное попечение о некоем человеке, обязан найти его для того, чтобы исправить его прегрешения. Однако для совершения тех благодеяний, телесных или духовных, которые мы должны не конкретному лицу, но всем ближним, мы не обязаны искать кого-то, кому мы должны; достаточно того что мы совершим эти благодеяния по отношению к любому человеку, ведь это будет своего рода жребий, как говорит Августин. И по этой же причине он говорит, что Господь увещевает нас, чтобы мы не относились с безразличием к грехам друг друга; однако не в том смысле, чтобы мы искали, что подвергнуть порицанию, а в том, что мы должны исправлять то, что увидели. Ведь иначе мы стали бы вмешиваться в жизнь других людей, а это противоречит сказанному в Писании (Притч 24, 15): Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места покоя его. И из этого ясно, что нет никакой необходимости в том, чтобы монахи оставляли монастыри ради исправления грешников.
de aliquo delinquente probabiliter quod posset eum a peccato retrahere, et tamen propter timorem vel cupiditatem praetermittit. Tertio modo huiusmodi omissio est peccatum veniale, quando timor et cupiditas tardiorem faciunt hominem ad corrigendum delicta fratns, non tamen ita quod, si ei constaret quod fratrem posset a peccato retrahere, propter timorem vel cupiditatem dimitteret, quibus in animo suo praeponit caritatem fraternam. Et hoc modo quandoque vin sancti negligunt corrigere delinquentes.
(21) Ad quartum dicendum quod illud quod debetur alicui determinatae et certae personae, sive sit bonum corporale sive spirituale, oportet quod ei impendamus non expec- tantes quod nobis occurrat, sed debitam sollicitudinem habentes ut eum inquiramus. Unde sicut ille qui debet pecuniam crediton debet eum requirere cum tempus fuerit ut ei debitum reddat, ita qui habet spintualiter curam alicuius
debet eum quaerere ad hoc quod eum corrigat de peccato. Sed illa beneficia quae non debentur certae personae sed communiter omnibus proximis, sive sint corporalia sive spintualia, non oportet nos quaerere quibus impendamus, sed sufficit quod impendamus eis qui nobis occurrunt, hoc enim quasi pro quadam sorte habendum est, ut Augustinus dicit, in I De doct. Christ. (28; PL 34, 30) Et propter hoc dicit, in libro De verb Dom. (Serm. ad popul., serm. 82, 1; PL 38, 506), quod admonet nos dominus noster non negligere invicem peccata nostra, non quaerendo quid reprehendas,, sed videndo quid corrigas. Alioquin efficeremur exploratores vitae aliorum, contra id quod dicitur Prov. XXIV, ne quaeras impietatem in domo iusti, et non vastes requiem eius. Unde patet quod nec religiosos oportet exire claustrum ad comgendum delinquentes.
Раздел 3. Только ли прелаты должны осуществлять братское исправление
417
Раздел 3
Только ли прелаты должны осуществлять братское исправление
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что братское исправление должны осуществлять только прелаты.
(23) 1. Кажется, что осуществлять братское исправление подобает только прелатам. Так, Иероним говорит: Пусть священники стараются исполнить сказанное в Евангелии: «Если же согрешит против тебя брат твой». Но имя «священник» обычно прилагалось к прелатам, которые должны были иметь попечение о других. Следовательно, как представляется, братское исправление должны осуществлять только прелаты.
(24) 2. Кроме того, братское исправление есть некое духовное подаяние. Но совершать телесное подаяние подобает тем, кто выше прочих в материальном отношении, т. е. богатым. Следовательно, также и братское исправление подобает тем, кто выше других в духовном отношении, т. е. прелатам.
(25) 3. Кроме того, тот, кто поправляет другого, подвигает его своим убеждением к лучшему. Но в естественных вещах низшее движется высшим. Следовательно, и в по¬
рядке добродетели, который следует за порядком природы, исправлять нижестоящих подобает только прелатам.
(26) Но против: в «Декреталиях» сказано: Как священникам, так и всем остальным верным надлежит иметь такое попечение о гибнущих, чтобы либо исправлением удержать их от греха, либо, если они окажутся неисправимыми, отделить их от Церкви.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1), исправление двояко. Одно — то, которое является действием любви-каритас, специально обращенное на исправление согрешающего брата посредством простого убеждения. И осуществление такого исправления подобает каждому, кто обладает любовью-каритас, будь он простой человек или прелат. Но есть и другое исправление, которое является действием справедливости и обращено на достижение общественного блага. И это исправление производится не только посредством увещевания брата, но иногда и посредством наказания, чтобы страх удерживал от греха других. И осуществлять такое исправление должны только прелаты, которые могут не только увещевать, но и исправлять при помощи наказания.
Articulus 3
Utrum correctio fraterna pertineat solum ad praelatos
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod correctio fraterna non pertineat nisi ad praelatos.
(23) 1. Dicit enim Hieronymus, sacerdotes studeant illud Evangelii implere, si peccaverit in te frater tuus, et cetera (Cf Ongenes, In Jos. hom. 7; PG 12, 861). Sed nomine sacerdotum consueverunt significari praelati, qui habent curam aliorum. Ergo videtur quod ad solos praelatos pertineat fraterna correctio.
(24) 2 Praeterea, fraterna correctio est quaedam eleemosyna spintualis. Sed corporalem eleemosynam facere pertinet ad eos qui sunt superiores in temporalibus, scilicet ad ditiores. Ergo etiam fraterna correctio pertinet ad eos qui sunt supenores in spiritualibus, scilicet ad praelatos
(25) 3 Praeterea, ille qui corripit alium movet eum sua admonitione ad melius. Sed in rebus naturalibus inferiora moventur a superioribus. Ergo etiam secundum ordinem
virtutis, qui sequitur ordinem naturae, ad solos praelatos pertinet inferiores comgere.
(26) Sed contra est quod dicitur XXIV, qu. III (Gratianus, Decret., II, causa 24, c. 3, can. 14: Tam sacerdotes; RF 1, 994), tam sacerdotes quam reliqui fideles omnes summam debent habere curam de his qui pereunt, quatenus eorum redargutione aut corrigantur a peccatis, aut, si incorrigibiles appareant, ab Ecclesia separentur.
(27) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 1), duplex est correctio. Una quidem quae est actus cantatis, qui specialiter tendit ad emendationem fratns delinquentis per simplicem admonitionem. Et talis correctio pertinet ad quemlibet caritatem habentem, sive sit subditus sive praelatus. Est autem alia correctio quae est actus iustitiae, per quam intenditur bonum commune, quod non solum procuratur per admonitionem fratris, sed interdum etiam per punitionem, ut alii a peccato timentes desistant. Et talis correctio pertinet ad solos praelatos, qui non solum habent admonere, sed etiam comgere puniendo.
418
Вопрос 33. О братском исправлении
(28) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Августин, ответственность прелатов крайне высока и при том братском исправлении, которое может осуществляться всеми. В самом деле, человек обязан совершать большие временные благодеяния тем, кто вверен его попечению, и точно так же он должен оказывать большие духовные благодеяния исправления, научения и т.д. тем, кто вверен его духовному попечению. Следовательно, Иероним хотел сказать не то, что заповедь о братском исправлении относится только к священникам, а то, что она относится прежде всего к ним.
(29) На второе надлежит ответить, что как тот, кто обладает средствами, достаточными для того, чтобы совершить телесное подаяние, является в этом отношении богатым, так и тот, кто обладает здравым суждением рассудка, благодаря которому способен исправить чье-либо прегрешение, является этом отношении вышестоящим.
(30) На третье надлежит ответить, что даже в естественных вещах имеет место вза- имовоздействие, поскольку разные вещи могут в разных отношениях превосходить друг друга, например, когда каждая из них в отношении другой в чем-то актуальна,
а в чем-то потенциальна. И точно так же один человек может исправлять другого насколько он здраво судит о его грехах пусть и не превосходя его при этом безусловно.
Раздел 4 Должен ли человек исправлять своего прелата
(31) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что никто не обязан исправлять своего прелата.
(32) 1. В самом деле, сказано (Исх 19, 12): Скот, который прикоснется к горе, да будет побит камнями; и еще сказано (2 Цар 6, 7), что Господь поразил Озу за то, что тот коснулся ковчега. Но под горою и ковчегом подразумеваются прелаты. Следовательно, нижестоящие не должны исправлять прелатов.
(33) 2. Кроме того, глосса к этим словам (Гал 2, 11), Я лично противостал ему, поясняет: Как равный. Следовательно, поскольку нижестоящий не равен прелату, он не должен его исправлять.
(34) 3. Кроме того, Григорий говорит, что
помышлять об исправлении жизни святых может лишь тот, кто считает себя лучшим. Но никто не должен считать себя
(28) Ad primum ergo dicendum quod etiam in correctione fraterna, quae ad omnes pertinet, gravior est cura praelatorum; ut dicit Augustinus, in I De civ. Dei. (9; PL 41, 23). Sicut enim temporalia beneficia potius debet aliquis exhibere illis quorum curam temporalem habet, ita etiam beneficia spiritualia, puta correctionem, doctrinam et alia huiusmodi magis debet exhibere illis qui sunt suae spirituali curae commissi. Non ergo intendit Hieronymus dicere quod ad solos sacerdotes pertineat praeceptum de correctione fraterna, sed quod ad hos specialiter pertinet.
(29) Ad secundum dicendum quod sicut ille qui habet unde corporaliter subvenire possit quantum ad hoc dives est, ita ille qui habet sanum rationis iudicium, ex quo possit alterius delictum corngere quantum ad hoc est supenor habendus.
(30) Ad tertium dicendum quod etiam in rebus naturalibus quaedam mutuo in se agunt, quia quantum ad aliquid sunt se invicem superiora, prout scilicet utrumque est quodammodo in potentia et quodammodo in actu respec¬
tu alterius Et similiter aliquis, inquantum habet sanum rationis iudicium in hoc in quo alter delinquit, potest eum corrigere, licet non sit simpliciter superior.
Articulus 4
Utrum quis teneatur corrigere praelatum suum
(31) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod aliquis non teneatur corngere praelatum suum.
(32) 1. Dicitur enim Exod. XIX, bestia quae tetigerit montem lapidabitur, et II Reg. VI dicitur quod Oza percussus est a domino quia tetigit arcam. Sed per montem et arcam significatur praelatus Ergo praelati non sunt corrigendi a subditis.
(33) 2. Praeterea, Gal. II, super illud, in faciem ei restiti, dicit Glossa (Petri Lombardi; PL 192, 108), ut par. Ergo, cum subditus non sit par praelato, non debet eum corrigere.
(34) 3. Praeterea, Gregonus dicit (Moral., IV, 10; PL 75, 692) sanctorum vitam corrigere non praesumat nisi qui de se meliora sentit. Sed aliquis non debet de se meliora sentire
Раздел 4. Должен ли человек исправлять своего прелата
419
лучше прелата. Следовательно, исправлять прелата нельзя.
(35) Но против: Августин говорит: Являйте милосердие не только к себе, но и к своему прелату, ведь чем выше стоит он над вами, тем большей опасности подвергается. Но братское исправление есть дело милосердия. Следовательно, надлежит исправлять даже прелатов.
(36) Отвечаю: надлежит сказать, что нижестоящему не подобает осуществлять то исправление прелата, которое является действием справедливости и производится посредством наказания. Однако то братское исправление, которое является действием любви-каритас, вправе осуществлять любой человек по отношению к любому лицу, с которым он должен быть связан любовью-каритас, если в том обнаруживается нечто, требующее исправления. В самом деле, действие, происходящее из некоего хабитуса или способности, распространяется на все то, что включено в объект этого хабитуса или способности; например, акт видения распространяется на все то, что объемлется объектом зрения. Но поскольку добродетельное действие должно умеряться соответствующими обстоятельствами, постольку нижестоящий, исправ¬
ляя своего прелата, должен делать это подобающим образом — не дерзко и сурово, а мягко и уважительно. Поэтому апостол и говорит (1 Тим 5, 1): Старца не укоряй, но увещевай, как отца, а Дионисий порицает монаха Демофила за то, что тот поправил священника без должного почтения, ударив его и выгнав из церкви.
(37) Итак, на первое надлежит ответить, что, как представляется, нижестоящий касается своего прелата вне должного порядка, когда неуважительно отзывается о нем или клевещет на него. И именно это обозначает история о поражении Богом тех, кто коснулся горы и ковчега.
(38) На второе надлежит ответить, что публичное противостояние кому-либо означает превышение модуса братского исправления, и потому Павел не противостал бы Петру, если бы не был некоторым образом равен ему в том, что касается защиты веры. А тот, кто не равен, должен убеждать уважительно и в личной беседе. Поэтому апостол пишет колоссянам, чтобы они предостерегли своего прелата (Кол 4, 17): Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение твое. Однако надлежит знать, что если вера подвергается опасности, то нижестоящий вправе осудить пре-
quam de praelato suo. Ergo praelati non sunt corrigendi
(35) Sed contra est quod Augustinus dicit, in regula (Epist. 211 ; PL 33,965), non solum vestri, sed etiam ipsius, idestpraelati, miseremini, qui inter vos quanto in loco superiore, tanto in periculo maiore versatur. Sed correctio fraterna est opus misencordiae. Ergo etiam praelati sunt comgendi
(36) Respondeo dicendum quod correctio quae est actus iustitiae per coercionem poenae non competit subditis respectu praelati Sed correctio fraterna, quae est actus caritatis, pertinet ad unumquemque respectu cuiuslibet personae ad quam cantatem debet habere, si in eo aliquid comgibile inveniatur. Actus enim ex aliquo habitu vel potentia procedens se extendit ad omnia quae continentur sub obiecto illius potentiae vel habitus, sicut visio ad omnia quae continentur sub obiecto visus. Sed quia actus virtuosus debet esse moderatus debitis circumstantiis, ideo in correctione qua subditi comgunt praelatos debet modus congruus adhiben, ut scilicet non cum protervia et duritia, sed cum mansuetudine et reverentia comgantur.
Unde apostolus dicit, I ad Tim V, seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem. Et ideo Dionysius redarguit De- mophilum monachum quia sacerdotem irreverenter correxerat, eum percutiens et de Ecclesia eiiciens (Epist. 8, Ad Demophil., par. 1; PG 3, 1088)
(37) Ad primum ergo dicendum quod tunc praelatus inordinate tangi videtur quando irreverenter obiurgatur, vel etiam quando ei detrahitur Et hoc significatur per contactum montis et arcae damnatum a Deo.
(38) Ad secundum dicendum quod in faciem resistere coram omnibus excedit modum fraternae correctionis, et ideo sic Paulus Petrum non reprehendisset nisi aliquo modo par esset, quantum ad fidei defensionem. Sed in occulto admonere et reverenter, hoc potest etiam ille qui non est par Unde apostolus, ad Coloss. ult., scnbit ut praelatum suum admoneant, cum dicit, dicite Archippo, ministerium tuum imple. Sciendum tamen est quod ubi immineret periculum fidei, etiam publice essent praelati a subditis arguendi. Unde et Paulus, qui erat subditus Petro, propter
420
Вопрос 33. О братском исправлении
лата даже публично. Поэтому Павел, который подчинялся Петру, при всех спорил с ним из-за того, что вере грозили опасности. И, как утверждает глосса Августина, Петр служит примером для прелатов: если они вдруг собьются с прямого пути, то пусть не отказываются от исправления со стороны нижестоящих.
(39) На третье надлежит ответить, что помышление о себе как о безусловно лучшем сравнительно с прелатом, свидетельствует о самонадеянной гордыне. Однако думать о себе как о превосходящем прелата в некоем одном отношении не самонадеянно, поскольку в этой жизни каждый имеет какой-нибудь изъян. Кроме того, следует принять во внимание, что когда некто укоряет своего прелата с любовью, то он не думает о себе как о лучшем сравнительно с ним: он, как говорит Августин, предлагает свою помощь тому, кто чем выше стоит, тем большей опасности подвергается.
Раздел 5
Должен ли грешник исправлять того, кто поступает дурно
(40) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что грешник должен
исправлять того, кто поступает дурно.
(41) 1. В самом деле, грех не освобождает человека от необходимости исполнять заповедь. Но, как уже было сказано (Р. 2), братское исправление относится к заповеди. Следовательно, как представляется, человек не должен из-за греха уклоняться от такого рода исправления.
(42) 2. Кроме того, духовное подаяние весомей телесного. Но пребывающий в грехе не должен уклоняться от совершения телесного подаяния. Следовательно, он тем более не должен из-за предшествующего греха уклоняться от исправления тех, кто поступает дурно.
(43) 3. Кроме того, сказано (1 Ин 1, 8): Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя. Следовательно, если бы грех человека воспрещал ему исправлять брата, то никто не мог бы исправить поступающего дурно. Но это нелепо. Следовательно, нелеп и исходный тезис.
(44) Но против: Исидор говорит: Служитель порока не вправе исправлять пороки других. И в Писании сказано (Рим 2,1): Тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.
imminens penculum scandali circa fidem, Petrum publice arguit. Et sicut Glossa Augustini dicit (Petri Lombardi; PL 192, 109; Cf. Augustinus, Epist. 82, Ad Hieran., 2. PL 33, 278), ad Gal. II, ipse Petrus exemplum maioribus praebuit ut, sicubi forte rectum tramitem reliquissent, non dedignentur etiam a posterioribus corrigi.
(39) Ad tertium dicendum quod praesumere se esse simpliciter meliorem quam praelatus sit, videtur esse prae- sumptuosae superbiae. Sed aestimare se meliorem quantum ad aliquid non est praesumptionis, quia nullus est in hac vita qui non habeat aliquem defectum. Et etiam considerandum est quod cum aliquis praelatum carita- tive monet, non propter hoc se maiorem existimat, sed auxilium impartitur ei qui, quanto in loco superiori, tanto in periculo maiori versatur, ut Augustinus dicit, in regula (Epist. 211, PL 33, 965)
Articulus 5
Utrum peccator debeat corrigere delinquentem
(40) Ad quintum sic proceditur Videtur quod peccator co¬
rrigere debeat delinquentem.
(41) 1. Nullus enim propter peccatum quod commisit a praecepto observando excusatur Sed correctio fraterna cadit sub praecepto, ut dictum est (a. 2). Ergo videtur quod propter peccatum quod quis commisit non debeat praetermittere huiusmodi correctionem
(42) 2. Praeterea, eleemosyna spiritualis est potior quam eleemosyna corporalis. Sed ille qui est in peccato non debet abstinere quin eleemosynam corporalem faciat. Eigo multo minus debet abstinere a correctione delinquentis propter peccatum praecedens.
(43) 3. Praeterea, I Ioan. I dicitur, si dixerimus quia peccatum non habemus, nosipsos seducimus. Si igitur propter peccatum aliquis impeditur a correctione fraterna, nullus ent qui possit corrigere delinquentem. Hoc autem est inconveniens. Ergo et primum.
(44) Sed contra est quod Isidorus dicit, in libro De summo bono (Sent, III, 32; PL 83, 704), non debet vitia aliorum corrigere qui est vitiis subiectus Et Rom. II dicitur, in quo
Раздел 5. Должен ли грешник исправлять того, кто поступает дурно
421
(45) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 3), исправление грешника может осуществлять любой, чей разум сохраняет способность судить здраво. Но грех, как уже было сказано выше (Ч. 1Ы, В. 85, Р. 2), не может умалить благо природы настолько, чтобы полностью лишить разум грешника этой способности. И в этом отношении грешнику подобает исправлять того, кто поступает дурно.
(46) Однако предшествующий грех создает определенные препятствия для такого исправления, по трем основаниям. Во-первых, из-за предшествующего греха человек становится недостойным исправлять другого, особенно если он совершил большой грех, а другого упрекает в совершении малого греха. И потому Иероним, комментируя эти слова (Мф 7, 3): Что ты смотришь на сучок и т.д., говорит: Он имеет в виду тех, кто, будучи виновными в смертном грехе, не желают извинять меньшие грехи своих братьев. Во-вторых, подобное исправление делается неуместным из-за соблазна, который может случиться, если грех исправляющего станет известен, и будет ясно, что он занимался исправлением не из любви-каритас, а притворно. Поэтому Златоуст, комментируя эти слова Писа¬
ния (Мф 7, 4), Как скажешь брату твоему и т.д., говорит: С какою целью? Из любви-каритас, чтобы спасти ближнего? Нет, ибо тогда ты сперва бы сам спасся. Следовательно>, ты желаешь не спасти других, а скрыть свои дурные деяния за добрыми наставлениями, и получить от людей похвалу за ученость. В-третьих, такое исправление может быть неуместным из-за гордыни исправляющего: постольку, поскольку он, преуменьшая свои грехи, возносится в сердце своем над ближним до такой степени, что судит его грехи с суровостью, которая подобает только праведнику. Поэтому, согласно Августину, осуждать за грехи — обязанность благих людей, так что когда кого-нибудь осуждает дурной человек, то это осуждение — в пользу осуждаемого. И потому, как говорит Августин там же, когда нужно осудить другого, мы должны задуматься сперва, не было ли и у нас такого порока, ведь мы — люди, и могли его иметь. И если мы имели его ранее, но уже избавились, то тогда пусть память освежит нашу общую немощь, чтобы исправлению предшествовала не ненависть, но милосердие. А если мы найдем, что этот порок и сейчас свойственен нам, то надо не упрекать грешника, а стенать вместе с ним и приглашать его
alium iudicas, teipsum condemnas, eadem enim agis quae iudicas
(45) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a 3, ad 2, 3), correctio delinquentis pertinet ad aliquem inquantum viget in eo rectum iudicium rationis Peccatum autem, ut supra dictum est (II-I, q 85, a 2), non tollit totum bonum naturae, quin remaneat in peccante aliquid de recto iudicio rationis Et secundum hoc potest sibi competere alterius delictum arguere.
(46) Sed tamen per peccatum praecedens impedimentum quoddam huic correctioni affertur, propter tria. Primo quidem, quia ex peccato praecedenti indignus redditur ut alium corrigat. Et praecipue si maius peccatum commisit, non est dignus ut alium comgat de minon peccato Unde super illud Matth. VII, quid vides festucam etc., dicit Hieronymus (PL 26, 48), de his loquitur qui, cum mortali crimine detineantur obnoxii, minora peccata fratribus non concedunt. Secundo, redditur indebita correctio propter scandalum, quod sequitur ex correctione si peccatum co¬
rripientis sit manifestum, quia videtur quod ille qui corrigit non corrigat ex caritate, sed magis ad ostentationem Unde super illud Matth VII, quomodo dicis fratri tuo etc , exponit Chrysostomus (cf Ps.-Chrysostomus, Op. imperf. In Matth., hom. 17 super 7, 14, PG 65, 727), in quo proposito 9 Puta ex caritate, ut salves proximum tuum 9 Non, quia teipsum ante salvares Vis ergo non alios salvare, sed per bonam doctrinam malos actus celare, et scientiae laudem ab hominibus quaerere Tertio modo, propter superbiam corripientis, inquantum scilicet aliquis, propria peccata parvipendens, seipsum proximo praefert in corde suo, peccata eius austera severitate diiudicans, ac si ipse esset ius- tus. Unde Augustinus dicit, in libro De serm Dom in monte (II, 19, PL 34, 1298), accusare vitia officium est bonorum, quod cum mali faciunt, alienas partes agunt. Et ideo, sicut Augustinus dicit in eodem, cogitemus, cum aliquem reprehendere nos necessitas coegerit, utrum tale sit vitium quod nunquam habuimus, et tunc cogitemus nos homines esse, et habere potuisse Vel tale quod habuimus et iam non habemus,
422
Вопрос 33. О братском исправлении
к совместному покаянию.
(47) Из этого ясно, что если грешник исправляет того, кто совершает дурной поступок, со смирением, то он не совершает греха и не заслуживает осуждения, но тем самым он показывает, что заслужил осуждение за тот грех, который совершил ранее — либо в совести брата, либо в своей собственной совести.
(48) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 6
Следует ли воздерживаться от исправления человека из опасения, что он станет хуже
(49) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что не следует воздерживаться от исправления человека из опасения, что он станет хуже.
(50) 1. В самом деле, грех есть некая болезнь души, согласно этим словам (Пс 6,
3): Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Но о больном следует заботиться, даже если тот этого не хочет и этому противится, ведь если оставить его без помощи, он подвергнется еще большей опасности, что очевидно в случае душевнобольных. Следовательно, тем более необходимо исправ¬
лять грешника, независимо от того, сколь плохо он это переносит.
(51) 2. Кроме того, как говорит Иероним, соблазн не должен вынуждать нас отказываться от истин жизни. Но заповеди Божий относятся к истинам жизни. Поэтому коль скоро братское исправление, как было сказано выше (Р. 2), подпадает под заповедь, то, как кажется, от него не следует воздерживаться из опасения ввести в соблазн того, кого исправляют.
(52) 3. Кроме того, согласно апостолу, нам не следует делать зло, чтобы вышло добро (Рим 3, 8). Но, на том же основании, не следует отказываться от добра, чтобы не вышло зла. Но братское исправление есть некое благо. Следовательно, нельзя отказываться от него из опасения, что исправляемый станет еще хуже.
(53) Но против: глосса на эти слова (Притч 9, 8), Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, утверждает: Следует опасаться не того, что обличаемый кощунник начнет бранить тебя, но, скорее, того, что он, возненавидев тебя, станет еще хуже. Следовательно, надлежит воздерживаться от братского исправления, если есть опасение, что исправляемый станет еще хуже.
et tunc tangat memoriam communis fragilitas, ut illam correctionem non odium sed misericordia praecedat. Si autem invenerimus nos in eodem vitio esse, non obiurgemus, sed congemiscamus et ad pariter poenitendum invitemus.
(47) Ex his igitur patet quod peccator, si cum humilitate corripiat delinquentem, non peccat, nec sibi novam condemnationem acquirit; licet per hoc vel in conscientia fratris, vel saltem sua, pro peccato praeterito condemnabilem se esse ostendat.
(48) Unde patet responsio ad obiecta.
Articulus 6
Utrum quis debeat a correctione cessare propter timorem ne ille fiat deterior
(49) Ad sextum sic proceditur Videtur quod aliquis non debeat a correctione cessare propter timorem ne ille fiat detenor.
(50) 1. Peccatum enim est quaedam infirmitas animae, secundum illud Psalm., miserere mei, domine, quoniam infirmus sum Sed ille cui imminet cura infirmi etiam propter eius contradictionem vel contemptum non debet cessare,
quia tunc imminet maius periculum, sicut patet circa fu- nosos. Ergo multo magis debet homo peccantem comgere, quantumcumque graviter ferat
(51) 2. Praeterea, secundum Hieronymum (cf Hugo de Sancto Caro, In univ. Test., super Mt 18, 7, 6, 61), veritas vitae non est dimittenda propter scandalum. Praecepta autem Dei pertinent ad ventatem vitae Cum ergo correctio fraterna cadat sub praecepto, ut dictum est (a. 2), videtur quod non sit dimittenda propter scandalum eius qui corripitur.
(52) 3. Praeterea, secundum apostolum, ad Rom. III, non sunt facienda mala ut vemant bona. Ergo, pari ratione, non sunt praetermittenda bona ne veniant mala Sed correctio fraterna est quoddam bonum. Ergo non est praetermittenda propter timorem ne ille qui corripitur fiat deterior.
(53) Sed contra est quod dicitur Prov. IX, noli arguere derisorem, ne oderit te, ubi dicit Glossa (ordin., 3, 318A), non est timendum ne tibi derisor, cum arguitur, contumelias inferat, sed hoc potius providendum, ne, tractus ad odium, inde fiat peior. Ergo cessandum est a correctione fraterna quando timetur ne fiat ille inde deterior
Раздел 6. Отказываться ли от исправления из опасения, что человек станет хуже 423
(54) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 3), исправление того, кто поступает дурно, двояко. Одно исправление — это, понятно, то, которое должно совершаться прелатами, и оно направлено на [сохранение] общего блага и имеет принудительный характер. И от такого исправления не следует воздерживаться из-за [возможного] расстройства исправляемого. Во-первых, потому, что если он не выражает желания стать лучше, то его следует принудить к отказу от греха посредством наказания. Во-вторых, чтобы в том случае, если грешник окажется неисправимым, общественное благо было сохранено соблюдением порядка справедливости и удержанием [от греха] других людей посредством примерного [наказания] этого одного. Поэтому судья не воздерживается от обвинительного приговора грешнику из опасения расстроить его или его друзей.
(55) А другое братское исправление, целью которого является исправление грешника, включает в себя не принуждение, но простое увещевание. Поэтому если существует вероятность того, что грешник не прислушается к увещеванию и станет еще хуже, то от такого братского исправления
следует воздержаться, поскольку средства достижения цели должны регулироваться сообразно требованиям смыслового содержания цели.
(56) Итак, на первое надлежит ответить, что врач применяет силу, если душевнобольной отказывается от лечения. И этому подобно исправление со стороны прелатов, которое является принудительным, а не простым братским исправлением.
(57) На второе надлежит ответить, что братское исправление относится к заповеди сообразно тому, что является действием добродетели. Но таковым оно является постольку, поскольку соразмерно цели. И потому тогда, когда оно препятствует достижению цели, например, когда из-за него человек становится еще хуже, исправление уже не относится к истинам жизни и не подпадает под заповедь.
(58) На третье надлежит ответить, что все, что упорядочено по отношению к цели, обладает смысловым содержанием блага сообразно порядку по отношению к цели. И потому тогда, когда братское исправление препятствует достижению цели, а именно, тому, чтобы брат стал лучше, оно утрачивает смысловое содержание блага.
(54) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 3), duplex est correctio delinquentis. Una quidem pertinens ad praelatos, quae ordinatur ad bonum commune, et habet vim coactivam. Et talis correctio non est dimittenda propter turbationem eius qui corripitur. Tum quia, si propria sponte emendari non velit, cogendus est per poenas ut peccare desistat Tum etiam quia, si incomgibilis sit, per hoc providetur bono communi, dum servatur ordo iusti- tiae, et unius exemplo alii deterrentur. Unde iudex non praetermittit ferre sententiam condemnationis in peccantem propter timorem turbationis ipsius, vel etiam amicorum eius.
(55) Alia vero est correctio fraterna, cuius finis est emendatio delinquentis, non habens coactionem sed simplicem admonitionem. Et ideo ubi probabiliter aestimatur quod peccator admonitionem non recipiat, sed ad peiora labatur, est ab huiusmodi correctione desistendum, quia ea quae sunt ad finem debent regulan secundum quod exigit
ratio finis.
(56) Ad primum ergo dicendum quod medicus quadam coactione utitur in phreneticum, qui curam eius recipere non vult Et huic similatur correctio praelatorum, quae habet vim coactivam, non autem simplex correctio fraterna.
(57) Ad secundum dicendum quod de correctione fraterna datur praeceptum secundum quod est actus virtutis. Hoc autem est secundum quod proportionatur fini. Et ideo quando est impeditiva finis, puta cum efficitur homo deterior, iam non pertinet ad veritatem vitae, nec cadit sub praecepto.
(58) Ad tertium dicendum quod ea quae ordinantur ad finem habent rationem boni ex ordine ad finem. Et ideo correctio fraterna, quando est impeditiva finis, scilicet emendationis fratris, iam non habet rationem boni. Et ideo cum praetermittitur talis correctio, non praetermittitur bonum ne eveniat malum.
424
Вопрос 33. О братском исправлении
И потому когда от братского исправления воздерживаются, это воздержание не является отказом от добра, чтобы не вышло зла.
Раздел 7 Действительно ли при братском исправлении, сообразно требованиям заповеди, тайное убеждение должно предшествовать открытому обличению
(59) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что при братском исправлении, сообразно требованиям заповеди, тайное убеждение не должно предшествовать открытому обличению.
(60) 1. В самом деле, делами любви-каритас мы прежде всего должны подражать Богу, согласно этим словам (Еф 5, 1-2): Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Но иногда Бог наказывает человека за грех публично, не предваряя это тайным увещеванием. Следовательно, как представляется, нет необходимости в том, чтобы тайное увещевание предшествовало открытому обличению.
(61) 2. Кроме того, как пишет Августин, деяния святых учат нас, как надлежит понимать заповеди священного Писания. Но среди деяний святых встречаются публичные обличения тайного греха, которым не пред¬
шествовало тайное увещевание. Так, мы читаем, что Иосиф доводил худые слухи о братьях до отца (Быт 37, 2); и что Петр публично осудил Ананию и Сапфиру, которые «утаили из цены земли» (Деян 5, 1-9), без предварительного тайного увещевания. Кроме того, нигде не сказано, что Господь тайно увещевал Иуду до того, как обличил его явно. Следовательно, заповедь не требует, чтобы тайное увещевание предшествовало открытому обличению.
(62) 3. Кроме того, осуждение тяжелее обличения. Но допустимо выдвижение публичного обвинения без предварительного тайного увещевания, поскольку в «Декреталиях» сказано, что выдвижению обвинения должно предшествовать краткое извещение. Следовательно, как представляется, заповедь не требует, чтобы тайное увещевание предшествовало открытому обличению.
(63) 4. Кроме того, представляется невероятным, чтобы распространенный среди монашествующих обычай противоречил заповедям Христовым. Но для монашеских орденов обычно на капитуле объявлять того или иного человека грешником без предварительного тайного увещевания. Следовательно, как кажется, заповедь не тре-
Articulus 7
Utrum in correctione fraterna debeat, ex necessitate praecepti, admonitio secreta praecedere denuntiationem
(59) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod in correctione fraterna non debeat, ex necessitate praecepti, admonitio secreta praecedere denuntiationem.
(60) 1. Operibus enim cantatis praecipue debemus Deum imitan, secundum illud Ephes V, estote imitatores Dei, sicut filii carissimi, et ambulate in dilectione. Deus autem interdum publice punit hominem pro peccato nulla secreta monitione praecedente. Ergo videtur quod non sit necessarium admonitionem secretam praecedere denuntiationem.
(61) 2. Praeterea, sicut Augustinus dicit, in libro Contra mendacium (15; PL 40, 506), ex gestis sanctorum intelligi potest qualiter sunt praecepta sacrae Scripturae intelligenda Sed in gestis sanctorum invenitur facta publica denuntiatio peccati occulti nulla secreta monitione praecedente, sicut
legitur Gen. XXXVII quod Ioseph accusavit fratres suos apud patrem crimine pessimo, et Act. V dicitur quod Petrus Ananiam et Saphiram, occulte defraudantes de pretio agri, publice denuntiavit nulla secreta admonitione praemissa. Ipse etiam dominus non legitur secreto admonuisse ludam antequam eum denuntiaret. Non ergo est de necessitate praecepti ut secreta admonitio praecedat publicam denuntiationem.
(62) 3. Praeterea, accusatio est gravior quam denuntiatio. Sed ad publicam accusationem potest aliquis procedere nulla admonitione secreta praecedente, determinatur enim in decretali quod accusationem debet praecedere inscription (Décrétai Gregor., 9, 1. 5, tit. 1, c. 24: Qualiter, RF 2, 746). Ergo videtur quod non sit de necessitate praecepti quod secreta admonitio praecedat publicam denuntiationem.
(63) 4. Praeterea, non videtur esse probabile quod ea quae sunt in communi consuetudine religiosorum sint contra praecepta Christi. Sed consuetum est in religionibus quod
Раздел 7. Должно ли тайное убеждение предшествовать открытому обличению 425
бует этого увещевания.
(64) 5. Кроме того, верующие обязаны повиноваться своим прелатам. Но иногда прелаты предписывают всем или некоторым сообщать о тех, кто, насколько это известно, нуждается в исправлении. Следовательно, как представляется, они обязаны сообщать об этом до тайного увещевания. Следовательно, заповедь не требует, чтобы тайное увещевание предшествовало открытому обличению.
(65) Но против: Августин, комментируя эти слова Писания (Мф 18, 15), Обличи его между тобою и им одним, говорит: Если хочешь исправить человека, говори с ним с глазу на глаз и не бесчесть его. В самом деле, весьма вероятно, что от стыда он станет защищать свой грех, и тогда тот, кого вы хотите сделать лучше, станет хуже. Но заповедь любви-каритас обязывает нас беспокоиться о том, чтобы наш брат не стал хуже. Следовательно, порядок братского исправления подпадает под заповедь.
(66) Отвечаю: надлежит сказать, что в отношении открытого обличения грехов следует провести следующую дистинкцию: грех может быть явным или тайным. И в случае явного греха надлежит воздействовать
не только на грешника, с тем, чтобы он мог стать лучше, но также и на тех, кто знает о его грехе, с тем, чтобы они не впали в соблазн. И потому такие грехи надлежит обличать публично, согласно этим словам апостола (1 Тим 5, 20): Согрешающих обличай пред всеми (чтобы и прочие страх имели), каковые слова, как указывает Августин, следует понимать как сказанные о явных грехах. Если же речь идет о тайных грехах, то, как представляется, надлежит поступать согласно этим словам Господа (Мф 18, 15): Если же согрешит против тебя брат твой и т. д. В самом деле, когда брат оскорбляет тебя в присутствии других, он грешит не только против тебя, но также и против других, поскольку приводит их в смущение.
(67) Но поскольку ближние могут пострадать даже из-за тайных грехов некоего лица, то, как представляется, надо провести еще одну дистинкцию. В самом деле, тайные грехи причиняют вред ближнему либо телесно, либо духовно: например, когда некто вступает в сговор с врагами своего государства, или когда еретик в частных беседах отвращает людей от веры. И поскольку тот, кто грешит тайно таким вот образом, грешит не только против тебя,
in capitulis aliqui proclamantur de culpis nulla secreta admonitione praemissa. Ergo videtur quod hoc non sit de necessitate praecepti.
(64) 5 Praeterea, religiosi tenentur suis praelatis obedire. Sed quandoque praelati praecipiunt, vel communiter omnibus vel alicui specialiter, ut si quid scit corrigendum, ei dicatur. Ergo videtur quod teneantur ei dicere etiam ante secretam admonitionem. Non ergo est de necessitate praecepti ut secreta admonitio praecedat publicam denuntiationem.
(65) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De verbis Dom. (Serm. ad popul., serm 82, 4; PL 38, 509), exponens illud, corripe ipsum inter te et ipsum solum, studens correctioni, parcens pudori. Forte enim prae verecundia incipit defendere peccatum suum, et quem vis facere meliorem, facis peiorem. Sed ad hoc tenemur per praeceptum cantatis ut caveamus ne frater detenor efficiatur. Ergo ordo correctionis fraternae cadit sub praecepto.
(66) Respondeo dicendum quod circa publicam denuntia¬
tionem peccatorum distinguendum est. Aut enim peccata sunt publica, aut sunt occulta. Si quidem sint publica, non est tantum adhibendum remedium ei qui peccavit, ut melior fiat, sed etiam aliis, in quorum notitiam devenit, ut non scandalizentur. Et ideo talia peccata sunt publice arguenda, secundum illud apostoli, I ad Tim. V, peccantem coram omnibus argue, ut ceteri timorem habeant\ quod intelligitur de peccatis publicis, ut Augustinus dicit, in libro De verbis Dom (Serm. ad popul., serm 82, 7, PL 38, 510). Si vero sint peccata occulta, sic videtur habere locum quod dominus dicit, si peccaverit in te frater tuus, quando enim te offendit publice coram aliis, iam non solum in te peccat, sed etiam in alios, quos turbat
(67) Sed quia etiam in occultis peccatis potest parari proximorum offensa, ideo adhuc distinguendum videtur. Quaedam enim peccata occulta sunt quae sunt in nocumentum proximorum vel corporale vel spintuale, puta si aliquis occulte tractet quomodo civitas tradatur hostibus; vel si haereticus pnvatim homines a fide avertat Et quia hic
426
Вопрос 33. О братском исправлении
но и против других людей, постольку необходимо немедленно обличить его, чтобы воспрепятствовать нанесению им вреда, если только ты не убежден, что сможешь избежать этих дурных последствий благодаря тайному увещеванию. Но есть и другие грехи, которые причиняют зло только грешнику и тебе, против которого направлен его грех, либо потому, что ты испытываешь определенный ущерб, либо просто потому что ты знаешь о его грехе. И в этом случае ты должен стремиться только к тому, чтобы помочь согрешающему брату. И подобно тому, как врач, если он может, исцеляет больного не удаляя члены его тела, а если не может, то удаляет менее необходимое ради жизни целого, так и тот, кто желает исправить своего брата, если может, убеждает его, взывая к совести, чтобы сберечь его доброе имя.
(68) А доброе имя полезно, во-первых, самому грешнику, причем не только в том, что касается временных дел, в которых человек, потерявший доброе имя, несет немалые убытки, но также и в том, что касается духовного, ведь многие избегают греха потому, что страшатся позора, и пото¬
му, поняв, что доброе имя уже утрачено они могут перестать сдерживать свои греховные устремления. Поэтому Иероним комментируя Евангелие (Мф 18, 15), говорит: Если кто согрешил против тебя, обличи его в частной беседе, чтобы он не укрепился в грехе, потеряв одновременно страх и совесть. Во-вторых, мы должны беречь доброе имя грешника как потому, что позор одного ложится на всех (согласно этим словам Августина: Если о ком-либо из тех, кого считают святыми, начнут рассказывать как о совершившем нечто преступное (iнезависимо от того, сделал ли он это на самом деле или нет), то люди станут постоянно говорить об этом, в результате чего поверят, что это относится не только к одному, но ко всем), так и потому, что когда о грехе человека становится известно, это может побудить к греху и других. Но поскольку совесть надлежит предпочесть доброму имени, Господь пожелал, чтобы мы публично обличали брата, снимая, одновременно с разрушением его доброго имени, бремя греха с его совести. И из этого очевидно, что заповедь требует, чтобы тайное увещевание предшествовало открытому обличению.
ille qui occulte peccat non solum in te peccat, sed etiam in alios; oportet statim ad denuntiationem procedere, ut huiusmodi nocumentum impediatur, nisi forte aliquis firmiter aestimaret quod statim per secretam admonitionem posset huiusmodi mala impedire. Quaedam vero peccata sunt quae sunt solum in malum peccantis et tui, in quem peccatur vel quia a peccante laederis, vel saltem ex sola notitia. Et tunc ad hoc solum tendendum est ut fratn peccanti subveniatur. Et sicut medicus corporalis sanitatem confert, si potest, sine alicuius membn abscissione; si autem non potest, abscindit membrum minus necessarium, ut vita totius conservetur, ita etiam ille qui studet emendationi fratns debet, si potest, sic emendare fratrem, quantum ad conscientiam, ut fama eius conservetur.
(68) Quae quidem est utilis, primo quidem et ipsi peccanti, non solum in temporalibus, in quibus quantum ad multa homo patitur detrimentum amissa fama; sed etiam quan¬
tum ad spiritualia, quia prae timore infamiae multi a peccato retrahuntur, unde quando se infamatos conspiciunt, irrefrenate peccant Unde Hieronymus dicit (In Mt., III, super 18, 15; PL 26, 136), corripiendus est seorsum frater, ne, si semel pudorem aut verecundiam amiserit, permaneat in peccato. Secundo debet conservan fama fratris peccantis, tum quia, uno infamato, alii infamantur, secundum illud Augustini, in Epist. ad plebem Hipponensem (Epist. 88; PL 33, 271), cum de aliquibus qui sanctum nomen profitentur aliquid criminis vel falsi sonuerit vel veri patuerit, instant, satagunt, ambiunt ut de omnibus hoc credatur. Tum etiam quia ex peccato unius publicato alii provocantur ad peccatum. Sed quia conscientia praeferenda est famae, voluit dominus ut saltem cum dispendio famae fratris conscientia per publicam denuntiationem a peccato liberetur. Unde patet de necessitate praecepti esse quod secreta admonitio publicam denuntiationem praecedat.
Раздел 7. Должно ли тайное убеждение предшествовать открытому обличению 427
(69) Итак, на первое надлежит ответить, что Богу известно все тайное. И потому тайные грехи соотносятся с судом Божьим так же, как явные — с человеческим. Однако же Бог часто увещевает грешников как бы тайным образом, через внутреннее вдохновение, во сне или во время бодрствования, согласно этим словам (Иов 33, 15-17): Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей... тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какого- либо предприятия.
(70) На второе надлежит ответить, что Господь как Бог знал о грехе Иуды, как если бы он был совершен публично. Потому Он мог бы сразу обличить его открыто. Однако вместо этого Он усовестил Иуду за его грех темными словами. Что же касается Петра, то грех Анании и Сапфиры был осужден им публично постольку, поскольку он действовал как исполнитель воли Бога, Который и открыл ему их грех. Иосиф же, надо полагать, когда- то увещевал своих братьев, хотя в Писании и не сказано об этом. Или же можно сказать, что среди братьев все знали о грехе, отчего и говорится об обвинении «братьев», во множественном числе.
(71) На третье надлежит ответить, что к ситуации, когда опасности подвергается множество людей, эти слова Господа неприменимы, поскольку тогда брат согрешает не против тебя одного.
(72) На четвертое надлежит ответить, что то, о чем объявляют на капитулах, относится к мелким грехам, которые не уничтожают доброе имя, и потому является скорее неким воспоминанием о забытых грехах, нежели обвинением или обличением. А если бы речь шла о таком грехе, который может уничтожить доброе имя брата, то тот, кто обнародовал бы его, сделал бы это против заповеди Господа.
(73) На пятое надлежит ответить, что не следует повиноваться прелату, если это противоречит божественной заповеди, согласно этим словам (Деян 5, 29): Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. И потому когда прелат требует, чтобы ему сообщали об известных грешниках, нуждающихся в исправлении, то это требование надлежит воспринимать здраво, ориентируясь на порядок братского исправления, независимо от того, адресовано ли оно всем или конкретному человеку. Если же прелат требует того, что явно противоречит этому установленному Господом порядку,
(69) Ad primum ergo dicendum quod omnia occulta Deo sunt nota Et ideo hoc modo se habent occulta peccata ad iudicium divinum sicut publica ad humanum. Et tamen plerumque Deus peccatores quasi secreta admonitione arguit intenus inspirando, vel vigilanti vel dormienti, secundum illud lob XXXIII, per somnium in visione nocturna, quando irruit sopor super homines, tunc aperit aures virorum, et erudiens eos instruit disciplina, ut avertat hominem ab his quae fecit.
(70) Ad secundum dicendum quod dominus peccatum Iu- dae, tanquam Deus, sicut publicum habebat. Unde statim poterat ad publicandum procedere. Tamen ipse non publicavit, sed obscuris verbis eum de peccato suo admonuit. Petrus autem publicavit peccatum occultum Ananiae et Saphirae tanquam executor Dei, cuius revelatione peccatum cognovit. De Ioseph autem credendum est quod fratres suos quandoque admonuent, licet non sit scriptum. Vel potest dici quod peccatum publicum erat inter fratres, unde dicit pluraliter, accusavit fratres suos.
(71) Ad tertium dicendum quod quando imminet periculum multitudinis, non habent ibi locum haec verba domini, quia tunc frater peccans non peccat in te tantum.
(72) Ad quartum dicendum quod huiusmodi proclamationes quae in capitulis religiosorum fiunt sunt de aliquibus levibus, quae famae non derogant. Unde sunt quasi quaedam commemorationes potius oblitarum culparum quam accusationes vel denuntiationes. Si essent tamen talia de quibus frater infamaretur, contra praeceptum domini ageret qui per hunc modum peccatum fratris publicaret.
(73) Ad quintum dicendum quod praelato non est obedien- dum contra praeceptum divinum, secundum illud Act. V, obedire oportet Deo magis quam hominibus. Et ideo quando praelatus praecipit ut sibi dicatur quod quis sciverit corrigendum, intelligendum est praeceptum sane, salvo ordine correctionis fraternae, sive praeceptum fiat communiter ad omnes, sive ad aliquem specialiter. Sed si praelatus expresse praeciperet contra hunc ordinem a domino constitutum, et ipse peccaret praecipiens et ei obediens,
428
Вопрос 33. О братском исправлении
то тогда грешит и он сам, как требующий, и тот, кто повинуется этому требованию, поскольку оба они действуют против заповеди Господа. И потому прелату не следует повиноваться. В самом деле, он не может судить о тайном, которое известно одному только Богу, и потому не обладает властью предписывать что-либо о нем, если только этот тайное не явлено в каких-либо признаках, например, в дурной репутации или в неких подозрениях; и в этих случаях прелат может действовать как судья, светский или церковный, которые имеют право потребовать от человека, чтобы он сказал правду под присягой.
Раздел 8 Следует ли призывать свидетелей до открытого обличения
(74) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что не следует призывать свидетелей до открытого обличения.
(75) 1. В самом деле, не следует делать тайные грехи своего брата явными для других, поскольку, делая это, человек скорее выдает брата, нежели исправляет его, как говорит Августин. Но когда некто призывает свидетелей, он тем самым делает грехи
своего брата явными для других. Следовательно, в случае тайных грехов нельзя призывать свидетелей до открытого обличения.
(76) 2. Кроме того, человек должен любить ближнего как самого себя. Но никто не призывает свидетелей, чтобы засвидетельствовать свой тайный грех. Следовательно, нельзя призывать свидетелей и для того, чтобы засвидетельствовать тайный грех своего брата.
(77) 3. Кроме того, свидетелей призывают для того, чтобы что-либо засвидетельствовать. Но тайное нельзя засвидетельствовать при помощи свидетелей. Следовательно, в таких случаях призывать свидетелей бесполезно.
(78) 4. Кроме того, Августин говорит, что прежде нем призвать свидетелей, надлежит обратиться к старшему. Но обратиться к старшему, или к прелату, значит рассказать Церкви. Следовательно, нет нужды призывать свидетелей до открытого обличения.
(79) Но против: Господь говорит (Мф 18, 16) : Возьми с собою еще одного или двух и т. д.
(80) Отвечаю: надлежит сказать, что правильный путь от одной крайности к другой лежит через середину. Итак, Господь по-
quasi contra praeceptum domini agens, unde non esset ei obediendum. Quia praelatus non est iudex occultorum, sed solus Deus, unde non habet potestatem praecipiendi aliquid super occultis nisi inquantum per aliqua indicia manifestantur, puta per infamiam vel aliquas suspiciones, in quibus casibus potest praelatus praecipere eodem modo sicut et iudex saecularis vel ecclesiasticus potest exigere iuramentum de veritate dicenda.
Articulus 8 Utrum testium inductio debeat praecedere publicam denuntiationem
(74) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod testium inductio non debeat praecedere publicam denuntiationem
(75) 1. Peccata enim occulta non sunt aliis manifestanda, quia sic homo magis esset proditor cnminis quam corrector fratris, ut Augustinus dicit (Serm. ad popul, serm. 826, 7; PL 38, 510). Sed ille qui inducit testes peccatum fratns alteri manifestat. Ergo in peccatis occultis non debet testium
inductio praecedere publicam denuntiationem
(76) 2. Praeterea, homo debet diligere proximum sicut seip- sum. Sed nullus ad suum peccatum occultum inducit testes. Ergo neque ad peccatum occultum fratris debet inducere.
(77) 3. Praeterea, testes inducuntur ad aliquid probandum. Sed in occultis non potest fieri probatio per testes Ergo frustra huiusmodi testes inducuntur
(78) 4. Praeterea, Augustinus dicit, in regula (Epist. 211; PL 33, 962), quod prius praeposito debet ostendi quam testibus. Sed ostendere praeposito sive praelato est dicere Ecclesiae. Non ergo testium inductio debet praecedere publicam denuntiationem.
(79) Sed contra est quod dominus dicit, Matth. XVIII.
(80) Respondeo dicendum quod de uno extremo ad aliud extremum convenienter transitur per medium. In correctione autem fraterna dominus voluit quod pnncipium esset occultum, dum frater corriperet fratrem inter se et ipsum solum; finem autem voluit esse publicum, ut scilicet Ec-
Раздел 8. Следует ли призывать свидетелей до открытого обличения
429
желал, чтобы при братском исправлении начало было тайным, когда исправление брата братом происходит между ними одними, а конец — публичным, когда происходит церковное обличение. И потому подобает, чтобы в середине призывались свидетели — для того, чтобы грех брата сперва был засвидетельствован немногими, которые могли бы использоваться без особого вреда, в том смысле, чтобы грех был исправлен без публичного уничтожения доброго имени.
(81) Итак, на первое надлежит ответить, что некоторые1 полагали, что порядок братского исправления заключается в том, чтобы сначала урезонивать брата тайно, и если он послушает, то хорошо. А если не послушает, но его грех так и останется скрытым от всех, то, говорят они, дальнейших шагов предпринимать не следует. Однако если о грехе, благодаря определенным признакам, уже стало известно многим людям, то надлежит поступать сообразно тому, что предписано Господом. Однако это противоречит словам Августина о том, что грех брата нельзя скрывать, дабы его не сгубила сердечная порча. И потому надлежит сказать иначе, а именно, что если после
одного или нескольких тайных убеждений все еще остается надежда на исправление брата, то следует продолжать увещевать его тайно. Однако если в результате мы придем к выводу, что тайные увещевания бесполезны, то нам, независимо от того, насколько тайным является грех, нужно призвать свидетелей, если только нет уверенности, что это не посодействует исправлению брата, а сделает его еще хуже. И тогда, как уже было сказано выше (Р. 6), нам лучше вообще уклониться от его исправления.
(82) На второе надлежит ответить, что человек не нуждается в свидетелях для исправления своего собственного греха, однако свидетели могут быть необходимы для исправления греха брата. Следовательно, здесь нет подобия.
(83) На третье надлежит ответить, что свидетелей можно призвать по трем причинам. Во-первых, как говорит Иероним, для того, чтобы показать, что некое действие является грехом. Во-вторых, как говорит Августин, чтобы в случае повторения действия засвидетельствовать этот факт. В- третьих, как говорит Златоуст, чтобы засвидетельствовать, что увещевающий брата сделал все, что было в его силах.
clesiae denuntiaretur. Et ideo convenienter in medio ponitur testium inductio, ut pnmo paucis indicetur peccatum fratris, qui possint prodesse et non obesse, ut saltem sic sine multitudinis infamia emendetur.
(81) Ad primum ergo dicendum quod quidam sic intellexerunt ordinem fraternae correctionis esse servandum ut pnmo frater sit in secreto compiendus, et si audierit, bene quidem. Si autem non audierit, si peccatum sit omnino occultum, dicebant non esse ulterius procedendum. Si autem incipit iam ad plurium notitiam devenire aliquibus indiciis, debet ultenus procedi, secundum quod dominus mandat. Sed hoc est contra id quod Augustinus dicit, in regula (Epist. 211; PL 33, 962), quod peccatum fratris non debet occultari, ne putrescat in corde. Et ideo aliter dicendum est quod post admonitionem secretam semel vel plunes factam, quandiu spes probabiliter habetur de correctione, per secretam admonitionem procedendum est. Ex quo autem iam probabiliter cognoscere possumus quod secreta admonitio non valet, procedendum est ultenus, quantum-
cumque sit peccatum occultum, ad testium inductionem. Nisi forte probabiliter aestimaretur quod hoc ad emendationem fratris non proficeret, sed exinde detenor redderetur, quia propter hoc est totaliter a correctione cessandum, ut supra dictum est (a. 6).
(82) Ad secundum dicendum quod homo non indiget testibus ad emendationem sui peccati, quod tamen potest esse necessanum ad emendationem peccati fratns. Unde non est similis ratio.
(83) Ad tertium dicendum quod testes possunt induci propter tria. Uno modo, ad ostendendum quod hoc sit peccatum de quo aliquis arguitur; ut Hieronymus dicit (In Mt., III, super 18, 16; PL 26, 136). Secundo, ad convincendum de actu, si actus iteretur; ut Augustinus dicit, in regula (Epist. 211; PL 33, 962). Tertio, ad testificandum quod frater admonens fecit quod in se fuit ; ut Chrysostomus dicit (In Mt. hom. 60; PG 58, 586).
Вопрос 33. О братском исправлении
430
(84) На четвертое надлежит ответить, что Августин, говоря о том, что прелату следует сообщить раньше, чем свидетелям, имеет в виду, что прелат является неким особым
лицом, которое может оказаться полезней любого другого, а не то, что к нему следует обратиться как к самой Церкви, т. е. как к церковному судье.
(84) Ad quartum dicendum quod Augustinus intelligit quod prodesse quam alii, non autem quod dicatur ei tanquam
prius dicatur praelato quam testibus secundum quod prae- Ecclesiae, idest sicut in loco iudicis residenti,
latus est quaedam singularis persona quae magis potest
Вопрос 34
О ненависти
(1) Затем надлежит исследовать противоположные любви-каритас пороки. И во- первых, ненависть, которая противоположна собственно любви; во-вторых, уныние и зависть, которые противоположны радости любви-каритас (В. 35-36); в-третьих, раздор и схизму, которые противоположны миру (В. 37-42); в-четвертых, причинение вреда и соблазн, которые противоположны благодеянию и братскому исправлению (В. 43).
(2) И касательно первого надлежит исследовать шесть [проблем]: 1) можно ли ненавидеть Бога; 2) является ли ненависть к Богу наибольшим из грехов; 3) всегда ли ненависть к ближнему является грехом;
4) является ли она наибольшим из грехов против ближнего; 5) является ли она главным пороком; 6) из какого главного порока она происходит.
Раздел 1 Можно ли ненавидеть Бога
(3) Ход рассуждения в первом разделе та¬
ков. Представляется, что Бога нельзя ненавидеть.
(4) 1. В самом деле, Дионисий говорит, само по себе благое и прекрасное любимо и желаемо всеми. Но Бог есть сама благость и красота. Следовательно, никто не может Его ненавидеть.
(5) 2. Кроме того, в апокрифе Ездры сказано, что вся земля взывает к истине, и все одобряют дела ее. Но Бог есть сама истина (Ин 14, 6). Следовательно, все любят Бога и никто не может ненавидеть Его.
(6) 3. Кроме того, ненависть есть своего рода отвращение. Но, как говорит Дионисий, Бог все привлекает к себе. Следовательно, никто не может ненавидеть Бога.
(7) Но против: сказано (Пс 73, 23): Они упоены тем, что ненависть их к Тебе непрестанно поднимается; и еще: А теперь и видели — и возненавидели и Меня, и Отца Моего (Ин 15, 24).
Quaestio 34 De odio
(1) Deinde considerandum est de vitiis oppositis cantati. odio habere possit.
Et primo, de odio, quod opponitur ipsi dilectioni; secun- (4) 1. Dicit enim Dionysius, IV cap. De div. nom. (PG 3,
do, de acedia et invidia, quae opponuntur gaudio caritatis; 708), quod omnibus amabile et diligibile est ipsum bonum et
tertio, de discordia et schismate, quae opponuntur paci; pulchrum. Sed Deus est ipsa bonitas et pulchritudo. Ergo
quarto, de offensione et scandalo, quae opponuntur benef- a nullo odio habetur.
icentiae et correctioni fraternae (5) 2. Praeterea, in apocryphis Esdrae (III Esd. 4, 36-39)
(2) Circa primum quaeruntur sex, pnmo, utrum Deus pos- dicitur quod omnia invocant veritatem, et benignantur in
sit odio haberi. Secundo, utrum odium Dei sit maximum operibus eius. Sed Deus est ipsa ventas, ut dicitur Ioan. XIV.
peccatorum. Tertio, utrum odium proximi semper sit pec- Ergo omnes diligunt Deum, et nullus eum odio habere
catum Quarto, utrum sit maximum inter peccata quae potest.
sunt in proximum. Quinto, utrum sit vitium capitale. Sex- (6) 3. Praeterea, odium est aversio quaedam. Sed sicut
to, ex quo capitali vitio onatur. Dionysius dicit, in IV cap. De div. nom. (PG 3, 697),
Deus omnia ad seipsum convertit. Ergo nullus eum odio habere potest.
Articulus 1
Utrum quis possit deum odio habere ^ §e(j contra est, quod dicitur in Psalm., superbia eorum
(3) Ad primum sic proceditur. Videtur quod Deum nullus qui te 0(jenmt ascendit semper; et Ioan. XV, nunc autem et
viderunt et oderunt me et patrem meum.
432
Вопрос 34. О ненависти
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что, как явствует из представленного выше (Ч. II-I, В. 29, Р. 1), ненависть есть некое движение желающей способности, каковая способность движима лишь чем-то постигнутым. Но Бог может постигаться человеком двояко, во-первых, как Он есть сам по себе, например, когда Он созерцается через свою сущность; во-вторых, через Его следствия, когда, именно, невидимое Его чрез рассматривание творений видимо (Рим 1, 20). Но по своей сущности Бог есть сама благость, ненавидеть которую не может никто, поскольку в смысловое содержание блага входит то, что оно любимо. И потому невозможно, чтобы тот, кто созерцает Бога через сущность, ненавидел Его.
(9) И некоторые из следствий [действий] Бога таковы, что никоим образом не могут быть противны человеческой воле, поскольку существование, жизнь и мышление, каковые суть некие следствия Бога, желаемы и любимы всеми. Поэтому Бог не может быть ненавидим и тогда, когда Он постигается как создатель этих следствий.
(10) Однако есть такие следствия Бога, которые противны неупорядоченной воле, например, наложение наказания или запре¬
щение греха божественным законом, т. е. те следствия, которые противны воле, испорченной грехом. И в этом отношении некоторые могут ненавидеть Бога постольку, поскольку они воспринимают Его как того, кто запрещает грех и налагает наказание.
(и) Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу в отношении тех, кто созерцает Бога через сущность, которая является самой сущностью благости.
(12) На второе надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу в той мере, в какой Бог постигается как причина тех следствий, которые по природе любимы всеми, одними из которых являются дела истины, являющей свое знание людям.
(13) На третье надлежит ответить, что Бог привлекает все к себе постольку, поскольку является источником бытия, поскольку все вещи, в той мере, в какой они существуют, стремятся уподобиться Богу, Который есть само бытие.
Раздел 2 Является ли ненависть к Богу наибольшим из грехов
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что ненависть к Богу
(8) Respondeo dicendum quod, sicut ex supradictis patet (II-I, q. 29, a. 1), odium est quidam motus appetitivae potentiae, quae non movetur nisi ab aliquo apprehenso. Deus autem dupliciter ab homine apprehendi potest, uno modo, secundum seipsum, puta cum per essentiam videtur, alio modo, per effectus suos, cum scilicet invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur. Deus autem per essentiam suam est ipsa bonitas, quam nullus habere odio potest, quia de ratione boni est ut ametur. Et ideo impossibile est quod aliquis videns Deum per essentiam eum odio habeat.
(9) Sed effectus eius aliqui sunt qui nullo modo possunt esse contrarii voluntati humanae, quia esse, vivere et intelligere est appetibile et amabile omnibus, quae sunt quidam effectus Dei. Unde etiam secundum quod Deus apprehenditur ut auctor horum effectuum, non potest odio haberi.
(10) Sunt autem quidam effectus Dei qui repugnant inordinatae voluntati, sicut inflictio poenae; et etiam cohibitio peccatorum per legem divinam, quae repugnat voluntati
depravatae per peccatum. Et quantum ad considerationem talium effectuum, ab aliquibus Deus odio haberi potest, inquantum scilicet apprehenditur peccatorum prohibitor et poenarum inflictor.
(11) Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit quantum ad illos qui vident Dei essentiam, quae est ipsa essentia bonitatis.
(12) Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit quantum ad hoc quod apprehenditur Deus ut causa illorum effectuum qui naturaliter ab hominibus amantur, inter quos sunt opera veritatis praebentis suam cognitionem hominibus.
(13) Ad tertium dicendum quod Deus convertit omnia ad seipsum inquantum est essendi principium, quia omnia, inquantum sunt, tendunt in Dei similitudinem, qui est ipsum esse.
Articulus 2 Utrum odium Dei sit maximum peccatorum
(14) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod odium Dei
Раздел 2. Является ли ненависть к Богу наибольшим из грехов
433
не является наибольшим из грехов.
jl5) 1. В самом деле, наиболее тяжким грехом является грех против Святого Духа, который не может быть прощен (Мф 12, 32). Но ненависть к Богу, как явствует из сказанного ранее (В. 14, Р. 2), не является одним из видов греха против Святого Духа. Следовательно, ненависть к Богу не является наиболее тяжким грехом.
(16) 2. Кроме того, грех заключается в удалении от Бога. Но, как представляется, неверный, который не знает о Боге, удален от Бога больше, чем верный, который пусть и ненавидит Бога, однако знает о Нем. Следовательно, как представляется, грех неверия тяжелее греха ненависти к Богу.
(17) 3. Кроме того, Бога можно ненавидеть только из-за тех следствий, которые противны воле; и первейшим таким следствием является наказание. Но ненависть к наказанию не является наибольшим грехом. Следовательно, ненависть к Богу не является наибольшим из грехов.
(18) Но против: Философ говорит о том, что наилучшее противоположно наихудшему. Но ненависть к Богу противоположна любви к Богу, которая есть наилучшее для человека. Следовательно, ненависть к Богу
является наихудшим из человеческих грехов.
(19) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось выше (В. 10, Р. 3), порочность греха заключается в отвращении от Бога. Но это отвращение обладает смысловым содержанием вины только в том случае, если оно добровольно. Следовательно, смысловое содержание вины заключается в добровольном отвращении от Бога. Но это добровольное отвращение от Бога присутствует в ненависти к Нему по самой своей сущности, а в других грехах — по причастности и в некотором отношении. В самом деле, как воля сама по себе льнет к тому, что любит, так же она сама по себе избегает того, что ненавидит. Следовательно, когда человек ненавидит Бога, его воля как таковая отвращается от Него. При других же грехах, например, при блу- додеянии, воля отвращается от Бога не сама по себе, но в некотором отношении, а именно, постольку, поскольку желает неупорядоченного удовольствия, с которым связано отвращение от Бога. Но то, что «такое-то» само по себе всегда превосходит то, что «такое-то» только в некотором отношении. Следовательно, ненависть к Богу является наиболее тяжким из всех грехов.
non sit maximum peccatorum.
(15) 1. Gravissimum enim peccatum est peccatum in spiritum sanctum, quod est irremissibile, ut dicitur Matth. XII Sed odium Dei non computatur inter species peccati in spiritum sanctum; ut ex supradictis patet (q. 14, a. 2). Ergo odium Dei non est gravissimum peccatorum.
(16) 2 Praeterea, peccatum consistit in elongatione a Deo Sed magis videtur esse elongatus a Deo infidelis, qui nec Dei cognitionem habet, quam fidelis, qui saltem, quamvis Deum odio habet, eum tamen cognoscit. Ergo videtur quod gravius sit peccatum infidelitatis quam peccatum odii in Deum
(17) 3. Praeterea, Deus habetur odio solum ratione suorum effectuum qui repugnant voluntati, inter quos praecipuum est poena. Sed odire poenam non est maximum peccatorum Ergo odium Dei non est maximum peccatorum
(18) Sed contra est quod optimo opponitur pessimum; ut patet per philosophum, in VIII Ethic. (10; 1160b9). Sed odium Dei opponitur dilectioni Dei, in qua consistit op¬
timum hominis. Ergo odium Dei est pessimum peccatum hominis.
(19) Respondeo dicendum quod defectus peccati consistit in aversione a Deo, ut supra dictum est (q. 10, a 3). Huiusmodi autem aversio rationem culpae non haberet nisi voluntana esset. Unde ratio culpae consistit in voluntaria aversione a Deo Haec autem voluntaria aversio a Deo per se quidem importatur in odio Dei, in aliis autem peccatis quasi participative et secundum aliud. Sicut enim voluntas per se inhaeret ei quod amat, ita secundum se refugit id quod odit, unde quando aliquis odit Deum, voluntas eius secundum se ab eo avertitur. Sed in aliis peccatis, puta cum aliquis fornicatur, non avertitur a Deo secundum se, sed secundum aliud, inquantum scilicet appetit inordinatam delectationem, quae habet annexam aversionem a Deo. Semper autem id quod est per se est potius eo quod est secundum aliud. Unde odium Dei inter alia peccata est gravius.
434
Вопрос 34. О ненависти
(20) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Григорий, не делать добро — это одно, а ненавидеть подателя добра — совсем другое, равно как согрешить непроизвольно — это одно, а согрешить намеренно — другое. И этим дается понять, что ненавидеть Бога, подателя всего блага, значит совершать преднамеренный грех, которым является грех против Святого Духа. Поэтому очевидно, что ненависть к Богу является преимущественно грехом против Святого Духа, сообразно тому, что имя «грех против Святого Духа» обозначает некий особый вид греха. Что же касается того, что ненависть к Богу не упоминается среди видов греха против Святого Духа, то это так потому, что она обще обнаруживается в каждом виде этого греха.
(21) На второе надлежит ответить, что само неверие не обладает смысловым содержанием греха, если оно недобровольно. И потому чем оно добровольнее, тем греховнее. А добровольным оно становится потому, что человек начинает ненавидеть явленную ему истину. И из этого ясно, что смысловое содержание греха неверие обретает из ненависти к Богу, истина по отношению к Которому есть вера. И как причина превосходит следствие, так и ненависть к Богу
является большим грехом, чем неверие.
(22) На третье надлежит ответить, что не всякий, кто ненавидит свое наказание, ненавидит Бога как налагающего наказание. Ведь многие ненавидят свои наказания но терпеливо переносят их из почтения к божественной справедливости. Поэтому Августин и говорит, что Бог повелел терпеть наказания, а не любить их. И возненавидеть наказующего Бога значит возненавидеть божественную справедливость а это — тягчайший грех. И потому Григорий говорит: Иногда хуже любить грех, чем совершать его, и точно так же хуже ненавидеть справедливость, чем не совершать справедливые поступки.
Раздел 3 Любая ли ненависть к ближнему является грехом
(23) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что не всякая ненависть к ближнему является грехом.
(24) 1. В самом деле, в божественных заповедях и советах не может быть греха, согласно этим словам (Притч 8, 8): Все слова уст моих — справедливы; нет в них коварства и лукавства. Но сказано (Лк 14, 26): Если кто приходит ко Мне и не возне-
(20) Ad primum ergo dicendum quod, sicut Gregonus dicit, XXV Moral. (2; PL 76, 339), aliud est bona non facere, aliud est bonorum odisse datorem, sicut aliud est ex praecipitatione, aliud ex deliberatione peccare ex quo datur in- telligi quod odire Deum, omnium bonorum datorem, sit ex deliberatione peccare, quod est peccatum in spintum sanctum. Unde manifestum est quod odium Dei maxime est peccatum in spintum sanctum, secundum quod peccatum in spintum sanctum nominat aliquod genus speciale peccati Ideo tamen non computatur inter species peccati in spintum sanctum, quia generaliter invenitur in omni specie peccati in spiritum sanctum.
(21) Ad secundum dicendum quod ipsa infidelitas non habet rationem culpae nisi inquantum est voluntana. Et ideo tanto est gravior quanto est magis voluntana. Quod autem sit voluntana provenit ex hoc quod aliquis odio habet ventatem quae proponitur. Unde patet quod ratio peccati in infidelitate sit ex odio Dei, circa cuius ventatem est fides Et ideo, sicut causa est potior effectu, ita odium Dei
est maius peccatum quam infidelitas.
(22) Ad tertium dicendum quod non quicumque odit poenas odit Deum, poenarum auctorem, nam multi odiunt poenas qui tamen patienter eas ferunt ex reverentia divinae iustitiae. Unde et Augustinus dicit, X Confess (28, PL 32, 795), quod mala poenalia Deus tolerare iubet, non amari. Sed prorumpere in odium Dei punientis, hoc est habere odio ipsam Dei iustitiam, quod est gravissimum peccatum. Unde Gregorius dicit, XXV Moral. (2; PL 76, 339), sicut nonnunquam gravius est peccatum diligere quam perpetrare, ita nequius est odisse iustitiam quam non fecisse.
Articulus 3 Utrum omne odium proximi sit peccatum
(23) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non omne odium proximi sit peccatum.
(24) 1. Nullum enim peccatum invenitur in praeceptis vel consiliis legis divinae, secundum illud Prov. VIII. Recti sunt omnes sermones mei, non est in eis pravum quid nec
Раздел 3. Любая ли ненависть к ближнему является грехом
435
навидит отца своего и матери, тот не мо- усет быть Моим учеником. Следовательно, не всякая ненависть к Богу является грехом.
(25) 2. Кроме того, не может быть грехом то, в чем мы подражаем Богу. Но ненавидя некоторых людей, мы подражаем Богу, ибо сказано (Рим 1, 30): Клеветники, ненавистные Богу. Следовательно, можно ненавидеть некоторых людей и не совершать при этом греха.
(26) 3. Кроме того, ничто естественное не является грехом, поскольку грех есть отклонение от того, что совершается сообразно природе, как говорит Дамаскин. Но любая вещь по природе ненавидит то, что ей противоположно и что гибельно для нее. Следовательно, как представляется, ненависть к своему врагу не является грехом.
(27) Но против: (1 Ин 2, 9): Кто ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Но духовная тьма есть грех. Следовательно, ненависть к ближнему не бывает без греха.
(28) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорилось выше (Ч. II-I, В. 29, Р. 2), ненависть противоположна любви. Поэтому ненависть обладает смысловым содер¬
жанием зла настолько, насколько любовь обладает смысловым содержанием блага. Но любить ближнего подобает сообразно тому, что есть в нем от Бога, т. е. сообразно природе и благодати, но не сообразно тому, что есть в нем от него самого и от дьявола, т. е. сообразно греху и неправедности. И потому позволительно ненавидеть в брате грех и все то, что повреждает в нем божественную справедливость, но ненавидеть саму природу и благодать в нем без греха невозможно. И наша ненависть к любым порокам и нехватке блага в нашем брате входит в нашу любовь к нему, поскольку на одном и том же основании мы желаем человеку блага и ненавидим его зло. Поэтому ненависть к брату, рассмотренная безусловно, греховна всегда.
(29) Итак, на первое надлежит ответить, что родители, насколько это касается природы и той связи, которая соединяет их с нами, должны почитаться в соответствии с божественной заповедью (Исх20,12). А ненавидеть мы их должны настолько, насколько они препятствуют нам достичь совершенства божественной справедливости.
perversum Sed Luc. XTV dicitur, si quis venit ad me et non odit patrem et matrem, non potest meus esse discipulus Ergo non omne odium proximi est peccatum.
(25) 2 Praeterea, nihil potest esse peccatum secundum quod Deum imitamur Sed imitando Deum quosdam odio habemus, dicitur enim Rom I, detractores, Deo odibiles Ergo possumus aliquos odio habere absque peccato
(26) 3 Praeterea, nihil naturalium est peccatum, quia peccatum est recessus ab eo quod est secundum naturam, ut Damascenus dicit, in II libro (De fide orth., 4, PG 94, 876) Sed naturale est unicuique rei quod odiat id quod est sibi contranum et quod nitatur ad eius corruptionem. Ergo videtur non esse peccatum quod aliquis habeat odio inimicum suum.
(27) Sed contra est quod dicitur I Ioan II, qui fratrem suum odit in tenebris est. Sed tenebrae spirituales sunt peccata. Ergo odium proximi non potest esse sine peccato
(28) Respondeo dicendum quod odium amori opponitur, ut supra dictum est (II-I, q 29, a. 1, sed contra; a 2, arg. 1,
ad 2) Unde tantum habet odium de ratione mali quantum amor habet de ratione boni. Amor autem debetur proximo secundum id quod a Deo habet, idest secundum naturam et gratiam, non autem debetur ei amor secundum id quod habet a seipso et Diabolo, scilicet secundum peccatum et iustitiae defectum. Et ideo licet habere odio in fratre peccatum et omne illud quod pertinet ad defectum divinae iustitiae, sed ipsam naturam et gratiam fratns non potest aliquis habere odio sine peccato Hoc autem ipsum quod in fratre odimus culpam et defectum boni, pertinet ad fratris amorem, eiusdem enim rationis est quod velimus bonum alicuius et quod odimus malum ipsius Unde, simpliciter accipiendo odium fratris, semper est cum peccato
(29) Ad primum ergo dicendum quod parentes, quantum ad naturam et affinitatem qua nobis coniunguntur, sunt a nobis secundum praeceptum Dei honorandi, ut patet Exod. XX. Odiendi autem sunt quantum ad hoc quod impedimentum praestant nobis accedendi ad perfectionem divinae iustitiae
436
Вопрос 34. О ненависти
(30) На второе надлежит ответить, что Бог ненавидит не природу клеветника, а его вину. И в этом смысле мы можем ненавидеть клеветников, не совершая при этом греха.
(31) На третье надлежит ответить, что люди не противостоят нам сообразно тем благам, которые получают от Бога; и сообразно этим благам мы должны любить их. Однако они противостоят нам сообразно тому, что проявляют к нам враждебность, что относится к их греху, и в этом отношении мы должны их ненавидеть. В самом деле, мы должны ненавидеть в них то, что они враждебны по отношению к нам.
Раздел 4
Является ли ненависть к ближнему наиболее тяжким грехом против ближнего
(32) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что ненависть к ближнему является наиболее тяжким грехом против ближнего.
(33) 1. В самом деле, сказано (1 Ин 3, 15), что всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца (1 Ин 3, 15). Но убийство является наиболее тяжким грехом против ближнего. Следовательно, и ненависть.
(34) 2. Кроме того, наихудшее противоположно наилучшему. Но лучшее, что мы
можем предложить ближнему — это любовь, поскольку все остальное возводится к любви. Следовательно, наихудшим является ненависть.
(35) Но против: согласно Августину, злом называется то, что наносит вред. Но есть такие грехи, которые причиняют ближнему больше вреда, чем ненависть, например, воровство, убийство и прелюбодеяние. Следовательно, ненависть не является наиболее тяжким грехом.
(36) Кроме того, Златоуст, комментируя эти слова (Мф 5, 19): Кто нарушит одну из заповедей сих малейших, говорит: Заповеди Моисея, такие как «не убивай», «не прелюбодействуй», малы сообразно воздаянию, но велики при нарушении. Л заповеди Христа, такие как «не гневайся», «не вожделей», велики сообразно воздаянию, но малы в том, что касается греха. Но ненависть относится к внутреннему движению, как гнев и вожделение. Следовательно, ненависть к брату является меньшим грехом сравнительно с убийством.
(37) Отвечаю: надлежит сказать, что грех, совершаемый против ближнего, обладает смысловым содержанием греха сообразно двум основаниям: во-первых, по причине неупорядоченности совершающего грех;
(30) Ad secundum dicendum quod Deus in detractoribus odio habet culpam, non naturam. Et sic sine culpa possumus odio detractores habere.
(31) Ad tertium dicendum quod homines secundum bona quae habent a Deo non sunt nobis contrarii, unde quantum ad hoc sunt amandi. Contranantur autem nobis secundum quod contra nos inimicitias exercent, quod ad eorum culpam pertinet, et quantum ad hoc sunt odio habendi. Hoc enim in eis debemus habere odio, quod nobis sunt inimici.
Articulus 4
Utrum odium proximi sit gravissimum peccatum quae in proximo committuntur
(32) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod odium proximi sit gravissimum peccatum eorum quae in proximo committuntur.
(33) 1. Dicitur enim I Ioan III, omnis qui odit fratrem suum homicida est. Sed homicidium est gravissimum peccatorum quae committuntur in proximum. Ergo et odium.
(34) 2. Praeterea, pessimum opponitur optimo. Sed opti¬
mum eorum quae proximo exhibemus est amor, omnia enim alia ad dilectionem referuntur. Ergo et pessimum est odium.
(35) Sed contra, malum dicitur quod nocet; secundum Augustinum, in Enchirid (12, PL 40, 237) Sed plus aliquis nocet proximo per alia peccata quam per odium, puta per furtum et homicidium et adulterium. Ergo odium non est gravissimum peccatum.
(36) Praeterea, Chrysostomus, exponens illud Matth., qui solverit unum de mandatis istis minimis, dicit (cf. Ps.- Chrysostomus, Op. imperf. in Mt, hom 10 super 5, 10; PG 56, 688), mandata Moysi, non occides, non adulterabis, in remuneratione modica sunt, in peccato autem magna, mandata autem Christi, idest non irascaris, non concupiscas, in remuneratione magna sunt, in peccato autem minima. Odium autem pertinet ad intenorem motum, sicut et ira et concupiscentia. Ergo odium proximi est minus peccatum quam homicidium.
(37) Respondeo dicendum quod peccatum quod commi-
Раздел 5. Является ли ненависть главным грехом
437
во-вторых, по причине вреда, причиняемого тому, против кого совершается грех. W в первом отношении ненависть является более тяжким грехом, чем внешние действия, которые наносят вред ближнему, поскольку ненависть разупорядочивает человеческую волю, которая наиболее могущественна в человеке, и в которой укореняется грех. Поэтому даже если внешние действия человека неупорядочены без неупорядоченности воли, то они не являются греховными (например, когда человек убивает по неведению или из излишнего рвения в справедливости). Если же нечто греховное присутствует во внешних действиях, обращенных против ближнего, то таковое всецело происходит из внутренней ненависти. Однако если говорить о вреде, причиняемом ближнему, то внешние действия хуже, чем внутренняя ненависть.
(38) И из этого очевиден ответ на возражения.
Раздел 5
Является ли ненависть главным грехом
(39) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что ненависть является главным грехом.
(40) 1. В самом деле, ненависть непосредственно противоположна любви-каритас. Но любовь-каритас есть первейшая добродетель и матерь всех прочих. Следовательно, ненависть является наибольшим из главных грехов и началом всех остальных.
(41) 2. Кроме того, грехи возникают в нас сообразно склонностям страстей, ибо сказано (Рим 7, 5): Страсти греховные действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но в страстях души из любви и ненависти происходят все остальные страсти, как явствует из сказанного выше (Ч. II-I, В. 25, Р. 2). Следовательно, ненависть надлежит считать одним из главных грехов.
(42) 3. Кроме того, порок есть нравственное зло. Но ненависть больше любой другой страсти соотносится со злом. Следовательно, как представляется, ненависть надлежит считать главным грехом.
(43) Но против: Григорий не перечисляет ненависть среди семи главных грехов.
(44) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Ч. II-I, В. 84, Р. 3), главным является тот порок, из которого в большинстве случаев возникают другие пороки. Но порок противен природе человека,
ttitur in proximum habet rationem mali ex duobus, uno quidem modo, ex deordinatione eius qui peccat; alio modo, ex nocumento quod infertur ei contra quem peccatur. Primo ergo modo odium est maius peccatum quam exte- nores actus qui sunt in proximi nocumentum, quia scilicet per odium deordinatur voluntas hominis, quae est potissimum in homine, et ex qua est radix peccati. Unde etiam si exteriores actus inordinati essent absque inordinatione voluntatis, non essent peccata, puta cum aliquis ignoranter vel zelo iustitiae hominem occidit. Et si quid culpae est in exterioribus peccatis quae contra proximum committuntur, totum est ex interiori odio. Sed quantum ad nocumentum quod proximo infertur peiora sunt exteriora peccata quam interius odium.
(38) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 5 Utrum odium sit vitium capitale
(39) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod odium sit
vitium capitale.
(40) 1. Odium enim directe opponitur cantati. Sed cantas est principalissima virtutum et mater aliarum. Ergo odium est maxime vitium capitale, et principium omnium aliorum.
(41) 2. Praeterea, peccata onuntur in nobis secundum inclinationem passionum, secundum illud ad Rom. VII, passiones peccatorum operabantur in membris nostris, ut fructificarent morti. Sed in passionibus animae ex amore et odio videntur omnes aliae sequi, ut ex supradictis patet (II-I, q. 25, a. 2). Ergo odium debet poni inter vitia capitalia.
(42) 3 Praeterea, vitium est malum morale. Sed odium principalius respicit malum quam alia passio. Ergo videtur quod odium debet poni vitium capitale.
(43) Sed contra est quod Gregorius, XXXI Moral. (25, PL 76, 621), non enumerat odium inter septem vitia capitalia.
(44) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est ( 11 -1, q. 84, a. 3, 4), vitium capitale est ex quo ut frequentius alia vitia onuntur Vitium autem est contra naturam hominis inquantum est animal rationale In his autem quae contra
438
Вопрос 34. О ненависти
насколько он является разумным животным. Однако в том, что делается противоестественным, то, что относится к природе, разрушается постепенно. Следовательно, сперва происходит отдаление от менее естественного, и в последнюю очередь — от наиболее естественного, поскольку первое при возникновении является последним при разрушении. Но первичным и наиболее естественным для человека является любовь к благу, а особенно — любовь к божественному благу и благу ближнего. Поэтому ненависть, которая противоположна этой любви, есть не первое, а последнее при том разрушении добродетели, которое обусловливается пороком. И потому ненависть не является главным пороком.
(45) Итак, на первое надлежит ответить, что, как сказано в VII книге «Физики», добротность (virtus) вещи заключается в том, что она должным образом расположена сообразно своей природе. И потому первым и главным в добродетелях (virtus) должно быть то, что является первым и главным в порядке природы. Поэтому любовь-каритас считается главнейшей добродетелью. А ненависть на этом же основании не может быть первым из пороков, как уже было
сказано.
(46) На второе надлежит ответить, что ненависть к злу, которое противоположно природному благу, является первой из страстей души, равно как и любовь к природному благу. Однако ненависть к со-при- родному благу должна быть не первым, но последним, поскольку такая ненависть, равно как и любовь к чуждому благу, свидетельствует об уже произошедшем разрушении природы.
(47) На третье надлежит ответить, что зло двояко. Одно — это истинное зло, которое, понятно, несовместно с природным благом, и ненависть к такому злу может обладать смысловым содержанием первичности среди страстей. Но есть и другое зло, не истинное, а только кажущееся, когда, именно, истинное и со-природное благо почитается злом из-за испорченности природы. И ненависть к такому злу должна быть чем-то последним. И эта ненависть порочна, а первая — нет.
Раздел 6
Возникает ли ненависть из зависти
(48) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что ненависть не возникает из зависти.
naturam fiunt paulatim id quod est naturae corrumpitur. Unde oportet quod pnmo recedatur ab eo quod est minus secundum naturam, et ultimo ab eo quod est maxime secundum naturam, quia id quod est primum in constructione est ultimum in resolutione. Id autem quod est maxime et pnmo naturale homini est quod diligat bonum, et praecipue bonum divinum et bonum proximi Et ideo odium, quod huic dilectioni opponitur, non est pnmum in deletione virtutis, quae fit per vitia, sed ultimum. Et ideo odium non est vitium capitale.
(45) Ad primum ergo dicendum quod, sicut dicitur in VII Physic. (3; 246b23), virtus uniuscuiusque rei consistit in hoc quod sit bene disposita secundum suam naturam Et ideo in virtutibus oportet esse pnmum et pnncipale quod est pnmum et pnncipale in ordine naturali. Et propter hoc cantas ponitur pnncipalissima virtutum. Et eadem ratione odium non potest esse pnmum in vitiis, ut dictum est.
(46) Ad secundum dicendum quod odium mali quod contrariatur naturali bono est pnmum inter passiones animae,
sicut et amor naturalis boni. Sed odium boni connaturalis non potest esse primum, sed habet rationem ultimi, quia tale odium attestatur corruptioni naturae iam factae, sicut et amor extranei boni.
(47) Ad tertium dicendum quod duplex est malum. Quoddam verum, quia scilicet repugnat naturali bono, et huius mali odium potest habere rationem pnoritatis inter passiones. Est autem aliud malum non verum, sed apparens, quod scilicet est verum bonum et connaturale, sed aestimatur ut malum propter corruptionem naturae. Et huiusmodi mali odium oportet quod sit in ultimo Hoc autem odium est vitiosum, non autem primum.
Articulus 6 Utrum odium non oriatur ex invidia
(48) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod odium non oriatur ex invidia.
(49) 1. Invidia enim est tristitia quaedam de alienis bonis. Odium autem non oritur ex tristitia, sed potius e converso,
Раздел 6. Возникает ли ненависть из зависти
439
^49) 1. В самом деле, зависть есть некая
печаль, испытываемая из-за чужих благ. Но ненависть не возникает из печали, скорее наоборот, мы печалимся от присутствия зла, которое ненавидим. Следовательно, ненависть не возникает из зависти.
(50) 2. Кроме того, ненависть противоположна любви. Но любовь к ближнему, как было установлено ранее (В. 25, Р. 1; В. 26, р. 2), отсылает к любви к Богу. Поэтому и ненависть к ближнему отсылает к ненависти к Богу. Но ненависть к Богу не является следствием зависти, поскольку, как говорит Философ, мы завидуем не тем, кто наиболее удален от нас, но, скорее, тем, кто наиболее близок. Следовательно, зависть не является причиной ненависти.
(51) 3. Кроме того, у одного следствия одна причина. Но ненависть причинно обусловливается гневом, поскольку, как говорит Августин, гнев перерастает в ненависть. Следовательно, зависть не является причиной ненависти.
(52) Но против: Григорий говорит о том, что ненависть происходит из зависти.
(53) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечалось (Р. 5), ненависть к ближнему есть предел в развитии греха, поскольку она противоположна любви, которой
мы по природе любим ближнего. А то, что некто отклоняется от того, что для него естественно, происходит из-за того, что он намеревается избежать чего-то такого, что должно быть избегаемо по природе. Но всякое животное, как говорит Философ, по природе избегает страдания и стремится к удовольствию. Поэтому как любовь возникает из удовольствия, так и ненависть — из страдания, или печали. В самом деле, как к любви к тому, что доставляет нам удовольствие, нас подвигает то, что таковое воспринимается в аспекте блага, так же к ненависти к тому, что доставляет нам печаль, нас подвигает то, что таковое воспринимается нами в аспекте зла. Следовательно, поскольку зависть есть некая печаль, испытываемая из-за чужих благ, постольку благо ближнего становится нам ненавистным. И потому ненависть происходит из зависти.
(54) Итак, на первое надлежит ответить, что поскольку желающая способность, равно как и познавательная, способна обращаться на собственные действия, постольку в действиях желающей способности имеется некий круг. Так, первый этап движения желающей способности заключается в том, что из любви возникает же-
tnstamur enim de praesentia malorum quae odimus. Ergo odium non oritur ex invidia.
(50) 2. Praeterea, odium dilectioni opponitur. Sed dilectio proximi refertur ad dilectionem Dei, ut supra habitum est (q 25, a 1; q. 26, a. 2). Ergo et odium proximi refertur ad odium Dei. Sed odium Dei non causatur ex invidia, non enim invidemus his qui maxime a nobis distant, sed his qui propinqui videntur, ut patet per philosophum, in II Rhet. (10; 1387b22); Ergo odium non causatur ex invidia.
(51) 3. Praeterea, unius effectus una est causa. Sed odium causatur ex ira, dicit enim Augustinus, in regula (Epist. 211; PL 33, 964), quod ira crescit in odium. Non ergo causatur odium ex invidia.
(52) Sed contra est quod Gregorius dicit, XXXI Moral. (45, PL 76, 621), quod de invidia oritur odium.
(53) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 5), odium proximi est ultimum in progressu peccati, eo quod opponitur dilectioni qua naturaliter proximus diligitur. Quod
autem aliquis recedat ab eo quod est naturale, contingit ex hoc quod intendit vitare aliquid quod est naturaliter fugiendum. Naturaliter autem omne animal fugit tristitiam, sicut et appetit delectationem; sicut patet per philosophum, in VII (13; 1153bl) et X (2; 1172b9) Ethic. Et ideo sicut ex delectatione causatur amor, ita ex tristitia causatur odium, sicut enim movemur ad diligendum ea quae nos delectant, inquantum ex hoc ipso accipiuntur sub ratione boni; ita movemur ad odiendum ea quae nos contristant, inquantum ex hoc ipso accipiuntur sub ratione mali. Unde cum invidia sit tristitia de bono proximi, sequitur quod bonum proximi reddatur nobis odiosum. Et inde est quod ex invidia oritur odium.
(54) Ad primum ergo dicendum quod quia vis appetitiva, sicut et apprehensiva, reflectitur super suos actus, sequitur quod in motibus appetitivae virtutis sit quaedam circulatio. Secundum igitur primum processum appetitivi motus, ex amore consequitur desiderium, ex quo consequitur delectatio, cum quis consecutus fuerit quod desiderabat.
440
Вопрос 34. О ненависти
лание; затем за желанием следует удовольствие, когда желаемое обретается. Но поскольку и само удовольствие от обретения любимого блага обладает смысловым содержанием блага, постольку удовольствие причинно обусловливает любовь. И подобным же образом страдание, или печаль, причинно обусловливает ненависть.
(55) На второе надлежит ответить, что в отношении любви и в отношении ненависти следует аргументировать по-разному. Ведь объектом любви является благо, которое переходит от Бога на творения, в связи с чем любить надлежит в первую очередь Бога, а ближнего — во вторую. Ненависть же соотносится со злом, которое присутствует не в Боге, а только в [произведенных] Им следствиях, в связи с чем выше (Р. 1) было сказано, что Бог ненавидим лишь постольку, поскольку рассматривается сообразно своим следствиям. И потому ненависть к ближнему предшествует ненависти к Богу. Таким образом, поскольку зависть к ближнему — матерь ненави¬
сти к нему, постольку затем она становится и причиной ненависти к Богу.
(56) На третье надлежит ответить, что не существует препятствий для того, чтобы нечтх) возникало от разных причин сообразно различным аспектам. И потому ненависть может возникать и из гнева, и из зависти. Однако более непосредственным образом она возникает из зависти, из-за которой само благо ближнего становится раздражающим, а затем — ненавидимым. А из гнева ненависть возникает сообразно некоему прибавлению. В самом деле, сперва из-за гнева мы желаем ближнему зла сообразно некоей мере, постольку, поскольку оно обладает смысловым содержанием мести, но затем из-за продолжительности гнева человек приходит к тому, что желает ближнему любого зла, что входит в смысловое содержание ненависти. И из этого ясно, что формально, сообразно смысловому содержанию объекта, ненависть обусловливается завистью, а гнев обусловливает ее как предрасполагающий [фактор].
Et quia hoc ipsum quod est delectari in bono amato habet quandam rationem boni, sequitur quod delectatio causet amorem. Et secundum eandem rationem sequitur quod tristitia causet odium.
(55) Ad secundum dicendum quod alia ratio est de dilectione et odio. Nam dilectionis obiectum est bonum, quod a Deo in creaturas denvatur, et ideo dilectio per prius est Dei, et per posterius est proximi. Sed odium est mali, quod non habet locum in ipso Deo, sed in eius effectibus, unde etiam supra dictum est (a 1) quod Deus non habetur odio nisi inquantum apprehenditur secundum suos effectus. Et ideo per prius est odium proximi quam odium Dei. Unde, cum invidia ad proximum sit mater odii quod est ad proximum, fit per consequens causa odii quod est in Deum.
(56) Ad tertium dicendum quod nihil prohibet secundum diversas rationes aliquid oriri ex diversis causis. Et secundum hoc odium potest oriri et ex ira et ex invidia. Directius tamen oritur ex invidia, per quam ipsum bonum proximi redditur contristabile et per consequens odibile. Sed ex ira ontur odium secundum quoddam augmentum. Nam primo per iram appetimus malum proximi secundum quandam mensuram, prout scilicet habet rationem vindictae, postea autem per continuitatem irae pervenitur ad hoc quod homo malum proximi absolute desideret, quod pertinet ad rationem odii. Unde patet quod odium ex invidia causatur formaliter secundum rationem obiecti; ex ira autem dispositive.
Вопрос 35
Об унынии
(,) Затем надлежит рассмотреть пороки, противоположные радости любви-каритас. И тот противоположный радости порок, который относится к божественному благу, является унынием; а тот, который относится к благу ближнего, является завистью. Поэтому, во-первых, надлежит рассмотреть уныние, а во-вторых — зависть (В. 36).
(2) И касательно первого рассматривается четыре [проблемы]: 1) является ли уныние грехом; 2) является ли оно особым грехом; 3) является ли оно моральным грехом; 4) является ли оно главным грехом.
Раздел 1 Является ли уныние грехом
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что уныние не является грехом.
(4) 1. В самом деле, никто не заслуживает за страсть ни похвалы, ни осуждения, как говорит Философ. Но уныние есть некая страсть, поскольку оно, согласно Дамаски-
ну, есть вид грусти, о чем уже было сказано (Ч. II-I, В. 35, Р. 8). Следовательно, уныние не является грехом.
(5) 2. Кроме того, никакая телесная слабость, которая случается в определенное время, не является грехом. Но уныние есть нечто подобное, ибо, как говорит Касси- ан, уныние охватывает монаха, как правило, в шестом часу; в определенное время оно словно какая-то лихорадка регулярными приступами жжет яростным огнем душу больного. Следовательно, уныние не является грехом.
(6) 3. Кроме того, то, что произрастает из доброго корня, как представляется, не может быть грехом. Но уныние произрастает из доброго корня, поскольку, как говорит Кассиан, уныние происходит из-за того, что монах оплакивает отсутствие духовного плода, и это отсутствие возвеличивает [в его глазах] другие, удаленные монастыри; но это, как кажется, относится к смирению. Следовательно, уныние не является грехом.
Quaestio 35 De acedia
(1) Deinde considerandum est de vitiis oppositis gaudio caritatis. Quod quidem est et de bono divino, cui gaudio opponitur acedia; et de bono proximi, cui gaudio opponitur invidia. Unde primo considerandum est de acedia; secundo, de invidia
(2) Circa pnmum quaeruntur quatuor. Pnmo, utrum acedia sit peccatum. Secundo, utrum sit speciale vitium. Tertio, utrum sit mortale peccatum. Quarto, utrum sit vitium capitale.
Articulus 1 Utrum acedia sit peccat
(3) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod acedia non sit peccatum.
(4) 1. Passionibus enim non laudamur neque vituperamur, secundum philosophum, in II Ethic. (5; 1105b31) Sed acedia est quaedam passio, est enim species tristitiae, ut Damascenus dicit (De fide orth., II, 14; PG 94, 932), et
supra habitum est (II-I, q. 35, a. 8) Ergo acedia non est peccatum.
(5) 2. Praeterea, nullus defectus corporalis qui statutis hons
accidit habet rationem peccati. Sed acedia est huiusmodi, dicit enim Cassianus, in X lib. De institutis monasteriorum (De institutis coenob., 1; PL 49, 363), maxime acedia circa horam sextam monachum inquietat, ut quaedam febris ingruens tempore praestituto, ardentissimos aestus accensionum suarum solitis ac statutis horis animae inferens aegrotanti. Ergo acedia non est peccatum.
(6) 3. Praeterea, illud quod ex radice bona procedit non videtur esse peccatum. Sed acedia ex bona radice procedit, dicit enim Cassianus, in eodem libro (ibid., 2; PL 49, 366), quod acedia provenit ex hoc quod aliquis ingemiscit se fructum spiritualem non habere, et absentia longeque posita magnificat monasteria, quod videtur ad humilitatem pertinere. Ergo acedia non est peccatum.
442
Вопрос 35. Об унынии
(7) 4. Кроме того, следует избегать любого греха, согласно этим словам (Сир 21,2): Беги от греха, как от лица змея. Но Касси- ан говорит, что опыт доказывает, что приступ уныния преодолевается не бегством, а сопротивлением. Следовательно, уныние не является грехом.
(8) Но против: все, что запрещено в св. Писании, есть грех. Но уныние таково, ибо сказано (Сир 6, 26): Подставь ей, то есть духовной мудрости, плечо твое и носи ее, и не унывай от ее уз. Следовательно, уныние есть грех.
(9) Отвечаю: надлежит сказать, что уныние (acedia), согласно Дамаскину, есть некая угнетающая печаль, которая настолько отягощает дух человека, что он не хочет ничего делать (так ведь и кислое (acida) является холодным). И потому уныние подразумевает некую усталость от дел, как явствует из глоссы на эти слова (Пс 106, 18): От всякой пищи отвращалась душа их, а также из распространенной формулировки, согласно которой уныние есть вялость ума, пренебрегающего добрыми начинаниями. Но такая печаль всегда дурна, иногда сама по себе, а иногда в своем следствии. В самом деле, сама по себе печаль дурна тогда, когда она относится к тому,
что является кажущимся злом и истинным благом, равно как и наоборот, дур. ным является то удовольствие, которое относится к кажущемуся благу и истинному злу. Итак, поскольку духовное благо является истинным благом, постольку печаль, относящаяся к духовному благу, является дурной сама по себе. Но та печаль, которая соотносится с истинным злом, дурна в своем следствии, если она настолько угнетает человека, что полностью отвлекает его от совершения благих дел. Поэтому апостол не хотел, чтобы кающиеся были поглощены «чрезмерною печалью» от своего греха (2 Кор 2,1). Таким образом, поскольку уныние, как оно понимается здесь, означает печаль из-за духовного блага, постольку оно дурно и само по себе, и в том, что касается следствия. И потому уныние есть грех, ведь грехом мы называем дурное в движениях желания, как явствует из сказанного выше (В. 10, Р. 2; Ч. II-I, В. 71, Р. 6; В. 74, Р. 3).
(ю) Итак, на первое надлежит ответить, что сами по себе страсти не греховны; однако их осуждают, если они прилагаются к чему- либо дурному, и хвалят, если они прилагаются к чему-либо благому. Поэтому сама по себе печаль не заслуживает ни похвалы, ни осуждения, однако умеренная печаль
(7) 4 Praeterea, omne peccatum est fugiendum, secundum illud Eccli. XXI, quasi a facie colubri, fuge peccatum. Sed Cassianus dicit, in eodem libro (ibid., 25; PL 49, 398), experimento probatum est acediae impugnationem non declinando fugiendam, sed resistendo superandam. Ergo acedia non est peccatum.
(8) Sed contra, illud quod interdicitur in sacra Scriptura est peccatum Sed acedia est huiusmodi, dicitur enim Eccli. VI, subiice humerum tuum et porta illam, idest spiritualem sapientiam, et non acedieris in vinculis eius. Ergo acedia est peccatum.
(9) Respondeo dicendum quod acedia, secundum Damascenum (De fide orth., II, 14; PG 94, 932), est quaedam tristitia aggravans, quae scilicet ita deprimit animum hominis ut nihil ei agere libeat; sicuti ea quae sunt acida etiam frigida sunt Et ideo acedia importat quoddam taedium operandi, ut patet per hoc quod dicitur in Glossa (Petn Lombardi; PL 191, 977) super illud Psalm., omnem escam abominata est anima eorum; et a quibusdam dicitur quod (1°)
acedia est torpor mentis bona negligentis inchoare. Huiusmodi autem tristitia semper est mala, quandoque quidem etiam secundum seipsam; quandoque vero secundum effectum. Tristitia enim secundum se mala est quae est de eo quod est apparens malum et vere bonum, sicut e contrario delectatio mala est quae est de eo quod est apparens bonum et vere malum. Cum igitur spirituale bonum sit vere bonum, tristitia quae est de spirituali bono est secundum se mala. Sed etiam tnstitia quae est de vere malo mala est secundum effectum si sic hominem aggravet ut eum totaliter a bono opere retrahat, unde et apostolus, II ad Cor. II, non vult ut poenitens maion tnstitia de peccato absorbeatur. Quia igitur acedia, secundum quod hic sumitur, nominat tnstitiam spintualis boni, est dupliciter mala, et secundum se et secundum effectum. Et ideo acedia est peccatum, malum enim in motibus appetitivis dicimus esse peccatum, ut ex supradictis patet (q. 10, a. 2; II-I, q. 71 a. 6; q.74, a.3).
Ad primum ergo dicendum quod passiones secundum
Раздел 1. Является ли уныние грехом
443
из-за зла заслуживает похвалу, тогда как печаль из-за блага и неумеренная печаль из-за зла заслуживают осуждения. И сообразно этому уныние считается грехом.
pi) На второе надлежит ответить, что страсти чувственного желания могут быть как простительными грехами сами по себе, так и склонять душу к смертному греху. И поскольку чувственное желание обладает телесным органом, постольку из-за неких телесных изменений человек может оказаться более склонным к некоему греху. Поэтому иногда бывает так, что вследствие тех или иных телесных изменений, происходящих в определенное время, некие грехи особенно сильно одолевают нас. Но любое телесное расстройство само по себе может располагать к печали. Поэтому постящихся уныние одолевает особенно сильно около полудня, когда они уже чувствуют голод и утомлены жарой.
(12) На третье надлежит ответить, что к смирению относится то, что человек, размышляя о своих недостатках, не превозносится. А презрение к полученным от Бога благам относится не к смирению, но, скорее, к не¬
благодарности. И из этого презрения происходит уныние, поскольку мы печалимся из-за того, что считаем дурным и ничтожным. Итак, следовательно, надлежит, чтобы человек так превозносил блага других, чтобы не презирать при этом те блага, которые он сам получил свыше, поскольку иначе его охватит печаль.
(13) На четвертое надлежит ответить, что греха следует избегать всегда, однако если грех одолевает, то от него можно не только спасаться бегством, но и встречать сопротивлением. Бегством надлежит спасаться тогда, когда длительное размышление о грехе увеличивает склонность к нему, как это имеет место в случае похоти, почему и сказано (1 Кор 6, 18): Бегайте блуда. А сопротивляться следует тогда, когда постоянное размышление уменьшает желание грешить, как, например, в случае, когда это желание возникло на основании поверхностного восприятия. И это имеет место в случае уныния, поскольку чем больше мы размышляем о духовных благах, тем желаннее они нам становятся; и тогда уныние прекращается.
se non sunt peccata, sed secundum quod applicantur ad aliquod malum, vituperantur; sicut et laudantur ex hoc quod applicantur ad aliquod bonum. Unde tristitia secundum se non nominat nec aliquid laudabile nec vituperabile, sed tristitia de malo vero moderata nominat aliquid laudabile; tnstitia autem de bono, et iterum tnstitia immoderata, nominat aliquid vituperabile. Et secundum hoc acedia ponitur peccatum.
(11) Ad secundum dicendum quod passiones appetitus sen- sitivi et in se possunt esse peccata venialia, et inclinant animam ad peccatum mortale. Et quia appetitus sensi- tivus habet organum corporale, sequitur quod per aliquam corporalem transmutationem homo fit habilior ad aliquod peccatum Et ideo potest contingere quod secundum aliquas transmutationes corporales certis temporibus provenientes aliqua peccata nos magis impugnent. Omnis autem corporalis defectus de se ad tristitiam disponit. Et ideo ieiunantes, circa meridiem, quando iam incipiunt
sentire defectum cibi et urgeri ab aestibus solis, magis ab acedia impugnantur.
(12) Ad tertium dicendum quod ad humilitatem pertinet ut homo, defectus proprios considerans, seipsum non extollat. Sed hoc non pertinet ad humilitatem, sed potius ad ingratitudinem, quod bona quae quis a Deo possidet contemnat. Et ex tali contemptu sequitur acedia, de his enim tristamur quae quasi mala vel vilia reputamus. Sic igitur necesse est ut aliquis aliorum bona extollat quod tamen bona sibi divinitus provisa non contemnat, quia sic ei tristia redderentur.
(13) Ad quartum dicendum quod peccatum semper est fugiendum, sed impugnatio peccati quandoque est vincenda fugiendo, quandoque resistendo. Fugiendo quidem, quando continua cogitatio auget peccati incentivum, sicut est in luxuria, unde dicitur I ad Cor. VI, fugite fornicationem. Resistendo autem, quando cogitatio perseverans tollit incentivum peccati, quod provenit ex aliqua levi apprehensione.
444
Вопрос 35. Об унынии
Раздел 2
Является ли уныние особым пороком
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что уныние не является особым пороком.
(15) 1. В самом деле, то, что подобает каждому пороку, не является отдельным видом порока. Но любой порок порождает у человека печаль, относящуюся к противоположному ему духовному благу: так, развратника печалит благо воздержания, а чревоугодника — благо умеренности. Итак, поскольку уныние есть печаль из-за духовного блага, как было сказано выше (Р. 1), то, как представляется, оно не является особым пороком.
(16) 2. Кроме того, уныние, поскольку оно есть некая печаль, противоположно радости. Но радость не полагается отдельным видом добродетели. Следовательно, также и уныние не должно полагать особым пороком.
(17) 3. Кроме того, духовное благо, поскольку оно является неким общим объектом, которое преследует добродетель и избегает порока, может составить особое смысловое содержание добродетели и порока только в том случае, если будет ограничено посредством некоего добавления. Но,
как представляется, ничто не может ограничить его до уныния, если оно является особым пороком, кроме тяжкого труда, ведь человек избегает духовных благ лишь постольку, поскольку их трудно достичь, и потому уныние есть некое утомление. Однако уклонение от труда и стремление к телесному покою, похоже, относятся к одному и тому же, а именно, к праздности. Следовательно, уныние не отличается от праздности. Но, как представляется, это ложно, поскольку праздность противоположна трудолюбию, тогда как уныние противоположно радости. Следовательно, уныние не является особым пороком.
(18) Но против: Григорий отличает уныние от других пороков. Следовательно, оно является особым пороком.
(19) Отвечаю: надлежит сказать, что поскольку уныние есть печаль из-за духовного блага, постольку, если духовное благо рассматривает в общем, уныние не обладает смысловым содержанием особого порока, ведь, как было показано выше (Возр. 1), всякий порок избегает духовного блага противоположной ему добродетели. Равным образом, уныние нельзя назвать особым пороком потому, что оно избегает духовного блага как того, что труднодости-
Et hoc contingit in acedia, quia quanto magis cogitamus de bonis spiritualibus, tanto magis nobis placentia redduntur; ex quo cessat acedia
Articulus 2 Utrum acedia sit speciale vitium
(14) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod acedia non sit speciale vitium.
(15) 1. Illud enim quod convenit omni vitio non constituit specialis vitii rationem. Sed quodlibet vitium facit hominem tristari de bono spirituali opposito, nam luxuriosus tristatur de bono continentiae, et gulosus de bono abstinentiae. Cum ergo acedia sit tristitia de bono spirituali, sicut dictum est (a. 1), videtur quod acedia non sit speciale peccatum.
(16) 2. Praeterea, acedia, cum sit tristitia quaedam, gaudio opponitur. Sed gaudium non ponitur una specialis virtus. Ergo neque acedia debet poni speciale vitium.
(17) 3. Praeterea, spirituale bonum, cum sit quoddam com¬
mune obiectum quod virtus appetit et vitium refugit, non constituit specialem rationem virtutis aut vitii nisi per aliquid additum contrahatur. Sed nihil videtur quod contrahat ipsum ad acediam, si sit vitium speciale, nisi labor, ex hoc enim aliqui refugiunt spiritualia bona quia sunt labonosa; unde et acedia taedium quoddam est Refugere autem labores, et quaerere quietem corporalem, ad idem pertinere videtur, scilicet ad pigntiam. Ergo acedia nihil aliud esset quam pigritia. Quod videtur esse falsum, nam pigritia sollicitudini opponitur, acediae autem gaudium. Non ergo acedia est speciale vitium.
(18) Sed contra est quod Gregorius, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), distinguit acediam ab aliis vitiis Ergo est speciale peccatum.
(19) Respondeo dicendum quod, cum acedia sit tristitia de spirituali bono, si accipiatur spintuale bonum communiter, non habebit acedia rationem specialis vitii, quia sicut dictum est (obi. 1), omne vitium refugit spintuale bonum virtutis oppositae. Similiter etiam non potest dici
Раздел 3. Является ли уныние смертным грехом
445
жимо и отягощает тело или мешает телесным удовольствиям, поскольку это также не отделяет уныние от телесных пороков, вследствие которых человек ищет телесного покоя или телесных удовольствий.
(20) И потому надлежит сказать, что в духовных благах имеется некий порядок, ибо все духовные блага, которые обнаруживаются в действиях отдельных добродетелей, упорядочены по отношению к одному духовному благу, т. е. к божественному благу, в отношении которого существует особая добродетель, а именно любовь-каритас. Поэтому каждой добродетели свойственно радоваться собственному духовному благу, которое заключается в ее собственном действии, в то время как любви-каритас свойственна особая духовная радость, которой радуются божественному благу. И точно так же та печаль, которую вызывает духовное благо, имеющееся в любом действии добродетели, присуща не какому-то особому пороку, но всем им. Однако печаль, которую вызывает то божественное благо, которому радуется любовь-каритас, относится к особому пороку, называемому унынием.
(21) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 3
Является ли уныние смертным грехом
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что уныние не является смертным грехом.
(23) 1. В самом деле, любой смертный грех противоречит некоей заповеди божественного закона. Но уныние не противоречит никакой заповеди, что явствует из рассмотрения по очереди всех заповедей Декалога. Следовательно, уныние не является смертным грехом.
(24) 2. Кроме того, в рамках одного рода грех деяния не менее тяжек, чем грех помышления. Но отклониться делом от некоторого ведущего к Богу духовного блага не значит впасть в смертный грех, ведь иначе смертным грехом грешил бы любой, кто не принял во внимание советы. Следовательно, отклонение помышлением, через уныние, от подобных духовных деяний также не является смертным грехом. Следовательно, уныние не является смертным грехом.
(25) 3. Кроме того, в совершенных мужах не обнаруживается смертного греха. Но уныние обнаруживается и в совершенных, поскольку, как говорит Кассиан, отшельники близко знакомы с унынием, которое
quod sit speciale vitium acedia inquantum refugit spirituale bonum prout est labonosum vel molestum corpori, aut delectationis eius impeditivum, quia hoc etiam non separaret acediam a vitiis carnalibus, quibus aliquis quietem et delectationem corporis quaent.
(20) Et ideo dicendum est quod in spiritualibus bonis est quidam ordo, nam omnia spiritualia bona quae sunt in actibus singularum virtutum ordinantur ad unum spirituale bonum quod est bonum divinum, circa quod est specialis virtus, quae est cantas. Unde ad quamlibet virtutem pertinet gaudere de proprio spirituali bono, quod consistit in proprio actu, sed ad cantatem pertinet specialiter illud gaudium spintuale quo quis gaudet de bono divino. Et similiter illa tnstitia qua quis tnstatur de bono spirituali quod est in actibus singularum virtutum non pertinet ad aliquod vitium speciale, sed ad omnia vitia. Sed tristari de bono divino, de quo cantas gaudet, pertinet ad speciale vitium, quod acedia vocatur.
(21) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 3 Utrum acedia sit peccatum mortale
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod acedia non sit peccatum mortale.
(23) 1. Omne enim peccatum mortale contrariatur praecepto legis Dei. Sed acedia nulli praecepto contrariari videtur, ut patet discurrenti per singula praecepta Decalogi. Ergo acedia non est peccatum mortale.
(24) 2. Praeterea, peccatum operis in eodem genere non est minus quam peccatum cordis. Sed recedere opere ab aliquo spirituali bono in Deum ducente non est peccatum mortale, alioquin mortaliter peccaret quicumque consilia non observaret. Ergo recedere corde per tristitiam ab huiusmodi spiritualibus openbus non est peccatum mortale. Non ergo acedia est peccatum mortale.
(25) 3. Praeterea, nullum peccatum mortale in vins perfectis invenitur. Sed acedia invenitur in vins perfectis, dicit enim Cassianus, in lib. X De institutis coenobiorum (2; PL 49, 363), quod acedia est solitariis magis experta, et in eremo
446
Вопрос 35. Об унынии
есть их главный и неотступный враг. Следовательно, уныние не является смертным грехом.
(26) Но против: сказано (2 Кор 7, 10): Печаль мирская производит смерть. Однако таковой печалью является уныние, ибо она не та печаль, которая «ради Бога», и которая является противоположным членом деления по отношению к мирской печали, производящей смерть. Следовательно, уныние является смертным грехом.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось выше (Ч. II-I, В. 72, Р. 5; В. 88, Р. 1, 2), «смертным» грех называется потому, что уничтожает духовную жизнь, которой обладают через любовь-каритас, посредством которой в нас пребывает Бог. Поэтому тот грех является смертным по своему роду, который сам по себе, сообразно своему смысловому содержанию, противоположен любви-каритас. И таково уныние. В самом деле, собственным следствием любви-каритас является радость от Бога, как было сказано выше (В. 28, Р. 1), а уныние есть печаль из-за духовного блага в той мере, в какой оно является божественным благом. Поэтому уныние по своему роду является смертным грехом.
(28) Однако следует принять во внимание,
что все те грехи, которые являются смертными по своему роду, являются смертными только тогда, когда обретают совершенство. А совершенство греха заключается в согласии разума, ведь мы говорим здесь о том грехе, который заключается в человеческих действиях, началом которых является разум. Поэтому если речь идет о на- чатке греха в одной только чувственности, и дело еще не дошло до согласия разума, то такой грех является простительным по причине несовершенства действия. Например, в роде прелюбодеяния вожделение, которое не выходит за пределы чувственности, является простительным грехом, но если дело доходит до согласия разума, то тогда оно становится смертным грехом. И точно так же движение уныния иногда не выходит за пределы чувственности, так как плоть желает противного духу, и тогда уныние является простительным грехом. Но иногда оно достигает разума, который дает согласие на отвращение, презрение и избегание божественного блага по причине полной победы плоти над духом. И тогда очевидно, что уныние является смертным грехом.
(29) Итак, на первое надлежит ответить, что уныние противоречит заповеди об освя-
commoraniibus infestior hostis ас frequens. Ergo acedia non est peccatum mortale.
(26) Sed contra est quod dicitur II ad Cor. VII, tristitia saeculi mortem operatur. Sed huiusmodi est acedia, non enim est tristitia secundum Deum, quae contra tristitiam saeculi dividitur, quae mortem operatur. Ergo est peccatum mortale.
(27) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q. 72, a. 5; q. 88, a. 1, 2), peccatum mortale dicitur quod tollit spiritualem vitam, quae est per caritatem, secundum quam Deus nos inhabitat, unde illud peccatum ex suo genere est mortale quod de se, secundum propriam rationem, contradatur caritati. Huiusmodi autem est acedia. Nam proprius effectus caritatis est gaudium de Deo, ut supra dictum est (q. 28, a. 1), acedia autem est tristitia de bono spirituali inquantum est bonum divinum. Unde secundum suum genus acedia est peccatum mortale.
(28) Sed considerandum est in omnibus peccatis quae sunt secundum suum genus mortalia quod non sunt mortalia
nisi quando suam perfectionem consequuntur. Est autem consummatio peccati in consensu rationis, loquimur enim nunc de peccato humano, quod in actu humano consistit, cuius principium est ratio. Unde si sit inchoatio peccati in sola sensualitate, et non pertingat usque ad consensum rationis, propter imperfectionem actus est peccatum veniale. Sicut in genere adulterii concupiscentia quae consistit in sola sensualitate est peccatum veniale; si tamen pervenitur usque ad consensum rationis, est peccatum mortale. Ita etiam et motus acediae in sola sensualitate quandoque est, propter repugnantiam camis ad spintum, et tunc est peccatum veniale. Quandoque vero pertingit usque ad rationem, quae consentit in fugam et horrorem et detestationem boni divini, carne omnino contra spiritum praevalente. Et tunc manifestum est quod acedia est peccatum mortale
(29) Ad primum ergo dicendum quod acedia contranatur praecepto de sanctificatione sabbati, in quo, secundum quod est praeceptum morale, praecipitur quies mentis in Deo, cui contranatur tnstitia mentis de bono divino.
Раздел 4. Следует ли считать уныние главным пороком
447
щении субботнего дня, ведь эта заповедь, насколько она является моральной заповедью, предписывает уму покой в Боге, каковому покою противостоит умственная печаль в связи с божественным благом.
ро) На второе надлежит ответить, что уныние является отвращением ума не от всякого духовного блага, но лишь от божественного блага, к которому ум необходимо должен прилепляться. Поэтому если человек впадает в печаль из-за того, что некто побуждает его совершать те действия добродетели, которые он совершать не обязан, то это не является грехом уныния. О грехе уныния можно говорить только тогда, когда человек испытывает печаль от совершения действий ради Бога.
(31) На третье надлежит ответить, что в святых мужах могут обнаруживаться несовершенные движения уныния, которые, однако, не получают согласия разума.
Раздел 4 Следует ли считать уныние главным пороком
(32) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что уныние не следует считать главным пороком.
(33) 1. В самом деле, как уже было установ¬
лено выше (В. 34, Р. 5), главным пороком является тот, который подвигает человека к греховным действиям. Но уныние не подвигает к действиям, скорее оно удерживает от действий. Следовательно, его нельзя полагать главным грехом.
(34) 2. Кроме того, у главного греха должны быть особые «дочери». Но Григорий указывает шесть «дочерей» уныния, а именно злоумышление, злопамятность, малодушие, отчаяние, бездействие в отношении соблюдения заповедей, заблуждение ума касательно непозволительного, которые, как представляется, из уныния не происходят. Так, «злопамятность», судя по всему, тождественна ненависти, которая, как было сказано выше (В. 34, Р. 6), происходит из зависти. А «злоумышление» есть род для всех пороков, и то же относится к «заблуждению ума касательно непозволительного»; и они обнаруживаются в любом пороке. Со своей стороны, «бездействие в отношении соблюдения заповедей», есть, как кажется, то же,- что и уныние, в то время как «малодушие» и «отчаяние» могут произойти из любого греха. Следовательно, уныние не подобает считать главным грехом.
(35) 3. Кроме того, Исидор отличает порок уныния от порока печали, говоря, что
(30) Ad secundum dicendum quod acedia non est recessus mentalis a quocumque spirituali bono, sed a bono divino, cui oportet mentem inhaerere ex necessitate Unde si aliquis contristetur de hoc quod aliquis cogit eum implere opera virtutis quae facere non tenetur, non est peccatum acediae, sed quando contristatur in his quae ei imminent facienda propter Deum
(31) Ad tertium dicendum quod in vins sanctis inveniuntur aliqui imperfecti motus acediae, qui tamen non pertingunt usque ad consensum rationis.
Articulus 4 Utrum acedia debeat poni vitium capitale
(32) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod acedia non debeat poni vitium capitale.
(33) 1 Vitium enim capitale dicitur quod movet ad actus peccatorum, ut supra habitum est (q 34, a. 5) Sed acedia non movet ad agendum, sed magis retrahit ab agendo Ergo non debet poni vitium capitale
(34) 2 Praeterea, vitium capitale habet filias sibi deputatas.
Assignat autem Gregonus, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), sex filias acediae, quae sunt malitia, rancor, pusillanimitas, desperatio, torpor circa praecepta, vagatio mentis circa illicita, quae non videntur convenienter orin ex acedia Nam rancor idem esse videtur quod odium, quod ontur ex invidia, ut supra dictum est (q 34, a 6) Malitia autem est genus ad omnia vitia, et similiter vagatio mentis circa illicita, et in omnibus vitiis inveniuntur. Torpor autem circa praecepta idem videtur esse quod acedia Pusillanimitas autem et desperatio ex quibuscumque peccatis oriri possunt. Non ergo convenienter ponitur acedia esse vitium capitale.
(35) 3. Praeterea, Isidorus, in libro De summo bono (Sent., II, 37, PL 83, 638), distinguit vitium acediae a vitio tristitiae, dicens tristitiam esse inquantum recedit a graviori et laborioso ad quod tenetur, acediam inquantum se convertit ad quietem indebitam. Et dicit de tristitia onn rancorem, pusillanimitatem, amaritudinem, desperationem, de acedia vero dicit onn septem, quae sunt otiositas, somnolen-
448
Вопрос 35. Об унынии
печаль — это когда уклоняются от исполнения своих обязанностей по причине их сложности и обременительности, а когда обращаются к недолжному покою, то имеет место уныние. И о печали он говорит, что она обусловливает злопамятность, малодушие, расстройство и отчаяние, а из уныния, по его мнению, возникают семь [вещей], а именно, праздность, сонливость, расстройство внимания, телесная суетливость, непостоянство, болтливость, любопытство. Следовательно, похоже на то, что либо Григорий, либо Исидор ошибся в отношении уныния как главного греха и его «дочерей».
(36) Но против: Григорий говорит о том, что уныние является главным грехом и имеет шесть названных «дочерей».
(37) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Ч. II-I, В. 84, Р. 3), главным называется тот порок, из которого легко происходят другие пороки, по отношению к которым он обладает смысловым содержанием целевой причины. Но подобно тому как люди совершают многое из-за удовольствия (либо потому, что желают получить его, либо потому, что оно побуждает к определенным действиям), так же многое они совершают из-за печали — либо
tia, importunitas mentis, inquietudo corpons, instabilitas, verbositas, curiositas. Ergo videtur quod vel a Gregorio vel ab Isidoro male assignetur acedia vitium capitale cum suis filiabus
(36) Sed contra est quod Gregonus dicit, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), acediam esse vitium capitale et habere praedictas filias.
(37) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q 84, a 3, 4),, vitium capitale dicitur ex quo promptum est ut alia vitia oriantur secundum rationem causae finalis Sicut autem homines multa operantur propter delectationem, tum ut ipsam consequantur, tum etiam ex eius impetu ad aliquid agendum permoti; ita etiam propter tristitiam multa operantur, vel ut ipsam evitent, vel ex eius pondere in aliqua agenda proruentes. Unde cum acedia sit tristitia quaedam, ut supra dictum est (a. 1), convenienter ponitur vitium capitale.
потому, что желают избежать ее, либо потому, что она принуждает их к совершению неких поступков. Поэтому коль скоро уныние, как уже сказано выше (Р. 1), есть некая печаль, постольку ее подобает считать главным грехом.
(38) Итак, на первое надлежит ответить, что уныние, отягощая дух, удерживает человека от действий, причиняющих печаль. Однако при этом оно побуждает дух к некоторым [другим] действиям — либо таким, которые созвучны печали, например плачу, либо таким, которые позволяют избежать печали.
(39) На второе надлежит ответить, что Григорий подобающе указал «дочерей» уныния. В самом деле, как говорит Философ, никто не хочет долго оставаться без у до- волъствия и в печали\ и из этого необходимо следует, что нечто возникает из печали двояко: во-первых, сообразно тому, что человек избегает то, что вызывает печаль; во-вторых, сообразно тому, что он обращается к тем [вещам], в которых находит удовольствие, и так, согласно Философу, люди, неспособные радоваться духовным удовольствиям, обращаются к удовольствиям телесным. А при избегании печали мы наблюдаем, во-первых, что че-
(38) Ad primum ergo dicendum quod acedia, aggravando animum, impedit hominem ab illis operibus quae tristitiam causant. Sed tamen inducit animum ad aliqua agenda vel quae sunt tnstitiae consona, sicut ad plorandum, vel etiam ad aliqua per quae tristitia evitatur.
(39) Ad secundum dicendum quod Gregonus convenienter assignat filias acediae Quia enim, ut philosophus dicit, in VIII Ethic. (5; 1157Ы5), nullus diu absque delectatione potest manere cum tristitia, necesse est quod ex tnstitia aliquid dupliciter onatur, uno modo, ut homo recedat a contristantibus, alio modo, ut ad alia transeat in quibus delectatur, sicut illi qui non possunt gaudere in spiritualibus delectationibus transferunt se ad corporales, secundum philosophum, in X Ethic. (6; BK 1176Ы9). In fuga autem tnstitiae talis processus attenditur quod primo homo fugit contristantia, secundo, etiam impugnat ea quae tristitiam ingerunt. Spintualia autem bona, de quibus tns- tatur acedia, sunt et finis et id quod est ad finem. Fuga autem finis fit per desperationem Fuga autem bonorum
Раздел 4. Следует ли считать уныние главным пороком
449
ловек избегает причиняющих печаль [вещей], а во-вторых, что он сопротивляется им. Однако духовные блага, из-за которых печалится уныние, являются как целью, так и средствами достижения цели. Но избежание цели происходит через «отчаяние». А избежание тех благ, которые являются средствами достижения цели, насколько мы говорим о «сложном», относительно которого дают совет, происходит из «малодушия», а насколько мы говорим о том, что относится к общей справедливости, из «бездействия в отношении соблюдения заповедей». Что же касается сопротивления причиняющим печаль духовным благам, то иногда это может быть борьба с теми людьми, которые ведут других к духовным благам, и это называется «злопамятностью», а иногда, когда сопротивление переходит уже на сами духовные блага, от которых человек поэтому отрекается, речь идет о собственно «злоумышлении». И в той мере, в какой человек отвращаясь от духовных благ, ищет внешних удовольствий, говорится о такой «дочери» уныния, как «заблуждение ума касательно непозволительного». И из этого очевиден ответ на возражения, выдвинутые против каждой из «дочерей». В самом деле, «злоумышле¬
ние» здесь означает не род порока, но то, о чем сказано; «злопамятность» не тождественна ненависти, но, как указано, есть некое негодование, и то же можно сказать обо всем прочем.
(40) На третье надлежит ответить, что различие между печалью и унынием проводит также и Кассиан, однако правильнее говорит Григорий, называя уныние печалью. В самом деле, как было показано выше (Р. 2), печаль является особым видом порока, отличным от остальных, не сообразно тому, что человек избегает трудной и обременительной работы или горюет по каким- либо иным причинам, но лишь тогда, когда он печалится из-за божественного блага. И эта печаль относится к смысловому содержанию уныния, которое стремится к недолжному покою настолько, насколько отвергает божественное благо. А то, что, согласно Исидору, происходит из печали и уныния, сводимо к тому, о чем пишет Григорий. Так, «расстройство», которое, согласно Исидору, происходит из печали, есть некое следствие «злопамятности». «Праздность» и «сонливость» сводятся к «бездействию в отношении соблюдения заповедей», в отношении которых некто празден тогда, когда совсем их не co¬
quae sunt ad finem, quantum ad ardua, quae subsunt consiliis, fit per pusillanimitatem; quantum autem ad ea quae pertinent ad communem iustitiam, fit per torporem circa praecepta. Impugnatio autem contristantium bonorum spintualium quandoque quidem est contra homines qui ad bona spiritualia inducunt, et hoc est rancor; quandoque vero se extendit ad ipsa spintualia bona, in quorum detestationem aliquis adducitur, et hoc proprie est malitia. Inquantum autem propter tnstitiam a spiritualibus aliquis transfert se ad delectabilia exteriora, ponitur filia acedi-
ae evagatio circa illicita. Per quod patet responsio ad ea quae circa singulas filias obiiciebantur. Nam malitia non accipitur hic secundum quod est genus vitiorum, sed sicut dictum est. Rancor etiam non accipitur hic communiter pro odio, sed pro quadam indignatione, sicut dictum est. Et idem dicendum est de aliis.
(40) Ad tertium dicendum quod etiam Cassianus, in libro De institutis coenob (X, 1; PL 49, 359), distinguit tristitiam ab acedia, sed convenientius Gregonus acediam tnstitiam nominat. Quia sicut supra dictum est (a. 2), tnstitia non est
450
Вопрос 35. Об унынии
блюдает, в то время как пораженный сонливостью соблюдает их, но небрежно. Пять остальных [пороков], которые Исидор полагает следствиями уныния, принадлежат «заблуждению ума касательно непозволительного». Каковое заблуждение, если оно обоснуется в самом средоточии ума, проявляется в том, что ум перескакивает с одного на другое, что называется «расстройством внимания»; если же оно поразит познавательную способность, то называется «лю¬
бопытством»; если затронет речь, то называется «болтливостью»; а если укоренится в теле, то человек либо не может усидеть на месте, что называется «телесной суетливостью», когда умственная неустойчивость находит свое выражение в неупорядоченных телодвижениях, либо же, если человек перемещается из одного места в другое, говорят о «непостоянстве». Или же «непостоянство» можно понимать как непостоянство в намерениях.
vitium ab aliis distinctum secundum quod aliquis recedit a gravi et laborioso opere, vel secundum quascumque alias causas aliquis tnstetur, sed solum secundum quod contristatur de bono divino. Quod pertinet ad rationem acediae, quae intantum convertit ad quietem indebitam inquantum aspernatur bonum divinum. Illa autem quae Isidorus ponit onri ex tristitia et acedia reducuntur ad ea quae Gregonus point (Moral. XXXI, 45; PL 76, 621). Nam amaritudo, quam ponit Isidorus oriri ex tristitia, est quidam effectus rançons. Otiositas autem et somnolentia reducuntur ad torporem circa praecepta, circa quae est aliquis otiosus, omnino ea praetermittens et somnolen¬
tus, ea negligenter implens. Omnia autem alia quinque quae pomt ex acedia oriri pertinent ad evagationem mentis circa illicita. Quae quidem secundum quod in ipsa arce mentis residet volentis importune ad diversa se diffundere, vocatur importunitas mentis; secundum autem quod pertinet ad cognitivam, dicitur curiositas; quantum autem ad locutionem, dicitur verbositas; quantum autem ad corpus in eodem loco non manens, dicitur inquietudo corporis, quando scilicet aliquis per inordinatos motus membrorum vagationem indicat mentis; quantum autem ad diversa loca, dicitur instabilitas. Vel potest accipi instabilitas secundum mutabilitatem propositi.
Вопрос 36
О зависти
(1) Затем надлежит рассмотреть зависть. И касательно нее исследуются четыре [проблемы]: 1) что есть зависть; 2) является ли она грехом; 3) является ли она смертным грехом; 4) является ли она главным грехом, и каковы ее «дочери».
Раздел 1 Является ли зависть печалью
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что зависть не является печалью.
(3) 1. В самом деле, объектом печали является зло. Но объектом зависти является благо, ибо, как говорит Григорий о завистливом человеке, его страдающий ум ранит его наказание, заключающееся в счастье другого. Следовательно, зависть не является печалью.
(4) 2. Кроме того, подобие является причиной не столько печали, сколько удовольствия. Но подобие является причиной зависти, поскольку Философ говорит, что за¬
видуют тем, кто подобен по роду, по учености, по положению, по состоянию или по репутации. Следовательно, зависть не является печалью.
(5) 3. Кроме того, печаль обусловливается неким изъяном, а потому те, кто обладает серьезными изъянами, более склонны к печали, как уже говорилось выше при рассмотрении страстей (Ч. II-I, В. 47, Р. 3). Но, согласно Философу, наиболее завистливы те люди, которые, имея небольшие изъяны, при этом честолюбивы или считаются мудрыми. Следовательно, зависть не является печалью.
(6) 4. Кроме того, печаль противоположна удовольствию. Но противоположности должны иметь разные причины. Следовательно, поскольку воспоминание о прошлых благах является причиной удовольствия, как было показано выше (Ч. II-1, В. 32, Р. 3), постольку оно не может быть причиной печали. Но оно является причиной зависти, ведь, как говорит Философ, мы завидуем тем, кто имеет или приобрел
Quaestio 36 De invidia
(1) Deinde considerandum est de invidia. Et circa hoc cit enim philosophus, in II Rhet. (10; 1387b22), invide- quaeruntur quatuor. Pnmo, quid sit invidia. Secundo, bunt tales quibus sunt aliqui similes aut secundum genus, aut
utrum sit peccatum. Tertio, utrum sit peccatum mortale. secundum cognationem, aut secundum staturam, aut secun-
Quarto, utrum sit vitium capitale, et de filiabus eius. dum habitum, aut secundum opinionem. Ergo invidia non
est tnstitia.
Articulus 1 (5) 3 Praeterea, tnstitia ex aliquo defectu causatur, unde illi
Utrum invidia sit tristitia qui sunt in magno defectu sunt ad tristitiam proni, ut supra
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod invidia non sit dictum est (II-I, q. 47, a. 3), cum de passionibus ageretur,
tnstitia. Sed illi quibus modicum deficit, et qui sunt amatores
(3) 1. Obiectum enim tristitiae est malum. Sed obiectum honoris, et qui reputantur sapientes, sunt invidi; ut patet
invidiae est bonum, dicit enim Gregonus, in V Moral. per philosophum, in II Rhet (10; 1387b27). Ergo invidia
(46, PL 75, 728), de invido loquens, tabescentem mentem non est tnstitia.
sua poena sauciat, quam felicitas torquet aliena. Ergo invidia (6) 4. Praeterea, tristitia delectationi opponitur. Opposito-
non est tnstitia. rum autem non est eadem causa. Ergo, cum memoria
(4) 2 Praeterea, similitudo non est causa tnstitiae, sed bonorum habitorum sit causa delectationis, ut supra dic-
magis delectationis. Sed similitudo est causa invidiae, di- tum est (II-I, q. 32, a. 3), non erit causa tristitiae Est
452
Вопрос 36. О зависти
то, чем следовало бы обладать нам или чем (9) Итак, на первое надлежит ответить, что мы обладали. Следовательно, зависть не яв- нет никаких препятствий для того, чтобы
ляется печалью. благо одного человека воспринималось как
(7) Но против: Дамаскин полагает зависть зло другого. И сообразно этому возможна
видом печали и говорит, что зависть есть некая печаль из-за блага, как уже было
печаль, испытываемая по поводу чужих благ, сказано.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что объек- (ю) На второе надлежит ответить, что по¬
том печали является собственное зло. Однако подчас случается так, что чужое благо воспринимается как собственное зло. И сообразно этому возможна печаль из-за чужого блага. Но это происходит двояко. Во-первых, когда человек печалится из-за чужого блага потому, что оно может составлять опасность для него: так, некто может печалиться из-за величия своего врага, поскольку опасается, что тот способен причинить ему вред. И такая печаль, как говорит Философ, является не завистью, но следствием страха. Во-вторых, чужое благо может восприниматься как собственное зло постольку, поскольку оно умаляет собственные славу и превосходство человека. И именно так печалится из-за чужого блага зависть. И потому люди испытывают зависть главным образом к тем благам, в которых заключается слава, и благодаря которым люди получают известность и почести, как говорит Философ.
скольку человек завидует чужой славе потому, что она умаляет ту славу, которой он хотел бы обладать, постольку он завидует только тем, с кем он хотел бы сравниться или кого хотел бы превзойти в славе. Однако это не относится к тем, кто очень сильно удален от него, поскольку никто, кроме сумасшедших, не пытается сравняться или превзойти в славе тех, чье положение недосягаемо высоко. Так, простолюдин не завидует царю; но, с другой стороны, царь также не завидует простолюдину, которого он очень сильно превосходит. И потому человек завидует не тем, кто далек от него по месту, времени или положению, а тем, кто рядом с ним, с кем он стремится сравняться или кого он желает превзойти. Ведь когда такие люди превосходят нас в славе, это бывает противно нашей воле и вызывает у нас печаль. А удовольствие подобие причиняет в той мере, в какой оно согласуется с волей.
autem causa invidiae, dicit enim philosophus, in II Rhet. (10; 1388a20), quod his aliqui invident qui habent aut possederunt quae ipsis conveniebant aut quae ipsi quandoque possidebant. Ergo invidia non est tristitia.
(7) Sed contra est quod Damascenus, in II libro (De fide orth., 14; PG 94, 932), ponit invidiam speciem tristitiae, et dicit quod invidia est tnstitia in alienis bonis.
(8) Respondeo dicendum quod obiectum tristitiae est malum proprium. Contingit autem id quod est alienum bonum apprehendi ut malum proprium. Et secundum hoc de bono alieno potest esse tristitia. Sed hoc contingit dupliciter Uno modo, quando quis tristatur de bono alicuius inquantum imminet sibi ex hoc periculum alicuius nocumenti, sicut cum homo tristatur de exaltatione inimici sui, timens ne eum laedat. Et talis tristitia non est invidia, sed magis timoris effectus; ut philosophus dicit, in II Rhet. (10, 1386b22). Alio modo bonum alterius aestimatur ut malum proprium inquantum est diminutivum propriae gloriae vel excellentiae. Et hoc modo de bono alterius tristatur in¬
vidia. Et ideo praecipue de illis bonis homines invident in quibus est gloria, et in quibus homines amant honoran et in opinione esse; ut philosophus dicit, in II Rhet. (10; 1387b35).
(9) Ad primum ergo dicendum quod nihil prohibet id quod est bonum uni apprehendi ut malum alten. Et secundum hoc tristitia aliqua potest esse de bono, ut dictum est.
(10) Ad secundum dicendum quod quia invidia est de gloria alterius inquantum diminuit gloriam quam quis appetit, consequens est ut ad illos tantum invidia habeatur quibus homo vult se aequare vel praeferre in glona. Hoc autem non est respectu multum a se distantium, nullus enim, nisi insanus, studet se aequare vel praefene in gloria his qui sunt multo eo maiores, puta plebeius homo regi; vel etiam rex plebeio, quem multum excedit. Et ideo his qui multum distant vel loco vel tempore vel statu homo non invidet, sed his qui sunt propinqui, quibus se nititur aequare vel praefene. Nam cum illi excedunt in glona, accidit hoc contra nostram utilitatem, et inde causatur tristitia. Simi-
Раздел 2. Является ли зависть грехом
453
(и) На третье надлежит ответить, что человек не стремится первенствовать там, где его недостатки велики. И если кто превосходит его в таковом, то он не завидует ему. Однако если это превосходство невелико, то ему может показаться, что он может сравняться [с другим], и потому попытается это сделать. И если его усилия оказываются напрасными из-за превосходства славы другого, то это ввергает его в печаль. Поэтому наиболее завистливы честолюбцы. И, равным образом, завистливы малодушные, ведь им все кажется великим, и что бы хорошее ни случилось с другими, им кажется, их обошли в чем-то значительном. Поэтому сказано (Иов 5, 2), что мелкого губит зависть1, а Григорий говорит, что мы можем завидовать только тому, кого считаем в некотором отношении лучшим.
(12) На четвертое надлежит ответить, что воспоминание о прошлых благах в отношении того, что мы ими обладали, вызывает удовольствие; в отношении того, что мы их утратили, вызывает печаль; а в отношении того, что ими обладают другие, вызывает зависть, поскольку это, как нам кажется, очень сильно умаляет нашу славу. И потому Философ говорит, что старики
завидуют молодым, а люди, много истратившие на что-нибудь, завидуют тем, кто истратил на то же немного; в самом деле, они печалятся и о том, что растратили свое добро, и о том, что другие обрели блага.
Раздел 2 Является ли зависть грехом
(13) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что зависть не является грехом.
(и) 1. В самом деле, Иероним пишет Лете
о воспитании ее дочери так: Пусть учится она вместе с подругами, которым она могла бы завидовать, похвалы которым могли бы подстрекать ее. Но никого нельзя побуждать к греху. Следовательно, зависть не является грехом.
(15) 2. Кроме того, как говорит Дамаскин,
зависть есть печаль, испытываемая по поводу чужих благ. Но в некоторых случаях такая печаль заслуживает похвалы, ибо сказано (Притч 29, 2): Когда господствует нечестивый, народ стенает. Следовательно, зависть не всегда является грехом.
litudo autem delectationem causât inquantum concordat voluntati.
(11) Ad tertium dicendum quod nullus conatur ad ea in quibus est multum deficiens Et ideo cum aliquis in hoc eum excedat, non invidet. Sed si modicum deficiat, videtur quod ad hoc pertingere possit, et sic ad hoc conatur. Unde si frustraretur eius conatus propter excessum gloriae alterius, tristatur. Et inde est quod amatores honoris sunt magis invidi. Et similiter etiam pusillanimes sunt invidi, quia omnia reputant magna, et quidquid boni alicui accidat, reputant se in magno superatos esse Unde et lob V dicitur, parvulum occidit invidia. Et dicit Gregonus, in V Moral. (46; PL 75, 727), quod invidere non possumus nisi eis quos nobis in aliquo meliores putamus.
(12) Ad quartum dicendum quod memona praeteritorum bonorum, inquantum fuerunt habita, delectationem causat, sed inquantum sunt amissa, causant tristitiam. Et inquantum ab aliis habentur, causant invidiam, quia hoc maxime videtur glonae propriae derogare Et ideo dicit philoso¬
phus, in II Rhet (10; 1388a22), quod senes invident iu- nioribus, et illi qui multa expenderunt ad aliquid consequendum invident his qui parvis expensis illud sunt consecuti, dolent enim de amissione suorum bonorum, et de hoc quod alii consecuti sunt bona.
Articulus 2 Utrum invidia sit peccatum
(13) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod invidia non sit peccatum.
(14) 1. Dicit enim Hieronymus, ad Laetam, de instructione filiae (Epist. 107; PL 22, 871), habeat socias cum quibus discat, quibus invideat, quarum laudibus mordeatur. Sed nullus est sollicitandus ad peccandum Ergo invidia non est peccatum.
(15) 2 Praeterea, invidia est tnstitia de alienis bonis, ut Damascenus dicit (De fide orth., II, 14. PG 94, 932). Sed hoc quandoque laudabiliter fit, dicitur enim Prov. XXIX, cum impii sumpserint principatum, gemet populus Ergo invidia non semper est peccatum.
454
Вопрос 36. О зависти
(16) 3. Кроме того, завистью называют некую ревность. Но бывает и благая ревность, согласно этим словам (Пс 68, 10): Ревность по доме Твоем снедает меня. Следовательно, зависть не всегда является грехом.
(17) 4. Кроме того, наказание является противоположным членом деления по отношению к вине. Но зависть является своего рода наказанием. В самом деле, Григорий говорит, что когда гниль зависти разрушает побежденное ею сердце, даже внешность человека показывает, насколько обезумел его дух: лицо бледно, глаза опущены, разум мечется, члены холодны, зубы скрежещут, в сердце ярость. Следовательно, зависть не является грехом.
(18) Но против: сказано (Гал 5, 26): Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
(19) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1), зависть есть печаль, испытываемая по поводу чужих благ. Но эта печаль может возникнуть в силу четырех обстоятельств. Во-первых, человек может печалиться по поводу блага другого из опасений, что оно может причинить вред ему самому или каким-то другим благам. И такая печаль не является завистью, как уже сказано выше (Р. 1), и может быть лишена
греховности. Поэтому Григорий говорит: Бывает так, что мы радуемся падению нашего врага, не утрачивая любви-каритас, w, равным образом, печалимся из-за его славы, не впадая в грех зависти, поскольку полагаем, что от его падения многие заслуженно выигрывают, а его благополучие пугает нас тем, что многие могут несправедливо пострадать.
(20) Во-вторых, мы можем печалиться из-за блага другого не просто из-за того, что он обладает им, но потому, что мы лишены того блага, которым он обладает. И это есть собственно ревность, как говорит Философ. И если эта ревность относится к достойным благам, то она похвальна, согласно этим словам (1 Кор 14, 1): Ревнуйте о дарах духовных. А если она относится к временным благам, то может быть как греховной, так и лишенной греха.
(21) В-третьих, некто печалится из-за блага другого потому, что тот, кому случилось обладать этим благом, недостоин его. И такого рода печаль невозможна по отношению к достойным благам, которые делают человека праведным. Но, как говорит Философ, она связана с богатством и со всем тем, что может оказаться как у достойных, так и у недостойных. И эта печаль, со-
(16) 3. Praeterea, invidia zelum quendam nominat. Sed zelus quidam est bonus, zelus domus tuae comedit me. Secundum illud Psalm., ergo invidia non semper est peccatum.
(17) 4. Praeterea, poena dividitur contra culpam. Sed invidia est quaedam poena, dicit enim Gregonus, V Moral. (46; PL 75, 728), cum devictum cor livoris putredo corruperit, ipsa quoque exteriora indicant quam graviter animum vesania instigat, color quippe pallore afficitur, oculi deprimuntur, mens accenditur, membra frigescunt, fit in cogitatione rabies, in dentibus stridor. Ergo invidia non est peccatum.
( 18) Sed contra est quod dicitur ad Gal. V, non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes.
(19) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 1), invidia est tristitia de alienis bonis. Sed haec tristitia potest contingere quatuor modis. Uno quidem modo, quando aliquis dolet de bono alicuius inquantum ex eo timetur nocumentum vel sibi ipsi vel etiam aliis bonis. Et talis tristitia non est invidia, ut dictum est (a. 1); et potest esse sine
peccato. Unde Gregonus, XXII Moral. (2; PL 76, 226), ait, evenire plerumque solet ut, non amissa caritate, et inimici nos ruina laetificet, et rursum eius gloria sine invidiae culpa contristet, cum et ruente eo quosdam bene erigi credimus, et proficiente illo plerosque iniuste opprimi formidamus.
(20) Alio modo potest aliquis tnstari de bono altenus, non ex eo quod ipse habet bonum, sed ex eo quod nobis deest bonum illud quod ipse habet. Et hoc proprie est zelus; ut philosophus dicit, in II Rhet. (11; 1388a30). Et si iste zelus sit circa bona honesta, laudabilis est, secundum illud I ad Cor. XIV, aemulamini spiritualia Si autem sit de bonis temporalibus, potest esse cum peccato, et sine peccato.
(21) Tertio modo aliquis tnstatur de bono altenus inquantum ille cui accidit bonum est eo indignus. Quae quidem tristitia non potest oriri ex bonis honestis, ex quibus aliquis iustus efficitur; sed sicut philosophus dicit, in II Rhet. (9; 1387all), est de divitiis et de talibus, quae possunt provenire dignis et indignis. Et haec tristitia, secundum ipsum (Rhet., II, 9; 1386bl2), vocatur nemesis, et per-
Раздел 3. Является ли зависть смертным грехом
455
гласно ему, называется желанием возмездия и относится к добрым нравам. Но он говорит так потому, что рассматривает временные блага сами по себе, насколько они могут показаться значительными тем, кто не принимает во внимание вечные блага. Однако согласно учению веры временные блага оказываются у недостойных в силу справедливого божественного установления: либо ради исправления этих людей, либо же ради их гибели; и эти блага — практически ничто по сравнению с будущими благами, предуготовленными для благих людей. И потому такого рода печаль св. Писание запрещает, согласно этим словам (Пс 36, 1): Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие; и еще сказано (Пс 72, 2, 3): Едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых.
(22) В-четвертых, один человек печалится из-за блага другого потому, что благо второго превосходит благо первого. И такая печаль есть собственно зависть. И она всегда греховна, как говорит и Философ, поскольку она печалится из-за того, из-за чего следует радоваться, а именно из-за блага ближнего.
(23) Итак, на первое надлежит ответить, что в данном случае под завистью понимается ревность, которая побуждает человека стремиться к тому, чего достигли лучшие.
(24) На второе надлежит ответить, что тот аргумент имеет силу по отношению к печали из-за чужого блага в первом названном смысле.
(25) На третье надлежит ответить, что зависть отличается от ревности, как уже было сказано. Действительно, ревность иногда может быть благой, но зависть всегда дурна.
(26) На четвертое надлежит ответить, что нет никаких препятствий для того, чтобы некий грех, на основании чего-то с ним соединенного, был наказанием за грех, о чем уже говорилось выше, когда шла речь о грехах (4.II-I, В. 87, Р. 2).
Раздел 3
Является ли зависть смертным грехом
(27) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что зависть не является смертным грехом.
(28) 1. В самом деле, зависть, будучи печалью, есть страсть чувственного желания. Но смертный грех пребывает не в чувственности, но в разуме, как явствует из слов
tinet ad bonos mores. Sed hoc ideo dicit quia considerabat ipsa bona temporalia secundum se, prout possunt magna videri non respicientibus ad aeterna. Sed secundum doctrinam fidei, temporalia bona quae indignis proveniunt ex iusta Dei ordinatione disponuntur vel ad eorum correctionem vel ad eorum damnationem, et huiusmodi bona quasi nihil sunt in comparatione ad bona futura, quae servantur bonis. Et ideo huiusmodi tristitia prohibetur in Scriptura sacra, secundum illud Psalm., noli aemulari in malignantibus, neque zelaveris facientes iniquitatem. Et alibi, pene effusi sunt gressus mei, quia zelavi super iniquos, pacem peccatorum videns.
(22) Quarto aliquis tristatur de bonis alicuius inquantum alter excedit ipsum in bonis. Et hoc proprie est invidia. Et istud semper est pravum, ut etiam philosophus dicit, in II Rhet. (11; 1388a34), quia dolet de eo de quo est gaudendum, scilicet de bono proximi.
(23) Ad primum ergo dicendum quod ibi sumitur invidia pro zelo quo quis debet incitari ad proficiendum cum
melioribus.
(24) Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit de tristitia alienorum bonorum secundum primum modum.
(25) Ad tertium dicendum quod invidia differt a zelo, sicut dictum est. Unde zelus aliquis potest esse bonus, sed invidia semper est mala.
(26) Ad quartum dicendum quod nihil prohibet aliquod peccatum, ratione alicuius adiuncti, poenale esse; ut supra dictum est (II-I, q. 87, a. 2), cum de peccatis ageretur.
Articulus 3 Utrum invidia sit peccatum mortale
(27) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod invidia non sit peccatum mortale.
(28) 1. Invidia enim, cum sit tristitia, est passio appetitus sensitivi. Sed in sensualitate non est peccatum mortale, sed solum in ratione; ut patet per Augustinum, XII De Trin. (12; PL 32, 665). Ergo invidia non est peccatum mortale.
456
Вопрос 36. О зависти
Августина. Следовательно, зависть не является смертным грехом.
(29) 2. Кроме того, во младенцах не может быть смертного греха. Однако в них может быть зависть, ибо Августин говорит: Мне лично довелось видеть завистливого младенца: он еще не умел говорить, но уже злобно и ревниво поглядывал на молочного брата. Следовательно, зависть не является смертным грехом.
(30) 3. Кроме того, любой смертный грех противоположен некоей добродетели. Но зависть противоположна не добродетели, а желанию возмездия, которое является некоей страстью, как явствует из слов Философа. Следовательно, зависть не является смертным грехом.
(31) Но против: сказано (Иов 5, 2): Мелкого губит зависть. Но погубить духовно может только смертный грех. Следовательно, зависть является смертным грехом.
(32) Отвечаю: надлежит сказать, что по своему роду зависть является смертным грехом. В самом деле, род греха познается на основании его объекта, а зависть сообразно смысловому содержанию своего объекта противоположна любви-каритас, благодаря которой душа живет духовной жизнью, согласно этим словам (1 Ин 3, 14): Мы
(29) 2 Praeterea, in infantibus non potest esse peccatum mortale. Sed in eis potest esse invidia, dicit enim Augustinus, in I Confess (7; PL 42, 1007), vidi ego et expertus sum zelantem puerum, nondum loquebatur, et intuebatur pallidus amaro aspectu collactaneum suum Ergo invidia non est peccatum mortale.
(30) 3 Praeterea, omne peccatum mortale alicui virtuti contrariatur. Sed invidia non contrariatur alicui virtuti, sed nemesi, quae est quaedam passio; ut patet per philosophum, in II Rhet (10, 1386Ы6) Ergo invidia non est peccatum mortale.
(31) Sed contra est quod dicitur lob V, parvulum occidit invidia. Nihil autem occidit spiritualiter nisi peccatum mortale Ergo invidia est peccatum mortale
(32) Respondeo dicendum quod invidia ex genere suo est peccatum mortale. Genus enim peccati ex obiecto consideratur Invidia autem, secundum rationem sui obiecti, contrariatur cantati, per quam est vita animae spintualis, secundum illud I Ioan. III, nos scimus quoniam trans-
знаем, что мы перешли из смерти в жизнь потому что любим братьев. Действительно, объектом как любви-каритас, так и зависти является благо ближнего, но сообразно противоположным движениям, поскольку, как было показано выше (Р. 1,2), любовь- каритас радуется благу ближнего, а зависть печалится из-за него. Отсюда очевидно, что зависть по своему роду является смертным грехом. Однако, как уже было сказано выше (В. 35, Р. 3; Ч. II-I, В. 72, Р. 5, на 1), в любом роде смертного греха обнаруживаются некие несовершенные движения в чувственности, которые являются простительными грехами, например, первое движение вожделения в роде прелюбодеяния, или первое движение гнева в роде человекоубийства. И так же в роде зависти даже в совершенных людях иногда обнаруживаются некие первичные движения, которые являются простительными грехами.
(зз) Итак, на первое надлежит ответить, что движение зависти, сообразно тому, что она является страстью чувственности, есть нечто несовершенное в роде человеческих действий, началом которых является разум. Поэтому такая зависть не является смертным грехом. И то же самое можно сказать
lati sumus de morte ad vitam, quoniam diligimus fratres. Utnusque enim obiectum, et cantatis et invidiae, est bonum proximi, sed secundum contrarium motum, nam caritas gaudet de bono proximi, invidia autem de eodem tristatur, ut ex dictis patet (a 1,2) Unde manifestum est quod invidia ex suo genere est peccatum mortale. Sed sicut supra dictum est (q 35, a 3; II-I, q 72, a. 5, ad 1), in quolibet genere peccati mortalis inveniuntur aliqui imperfecti motus in sensualitate existentes qui sunt peccata venialia, sicut in genere adulteni pnmus motus concupiscentiae, et in genere homicidii pnmus motus irae. Ita etiam et in genere invidiae inveniuntur aliqui pnmi motus quandoque etiam in viris perfectis, qui sunt peccata venialia.
(33) Ad primum ergo dicendum quod motus invidiae secundum quod est passio sensualitatis, est quoddam imperfectum in genere actuum humanorum, quorum principium est ratio. Unde talis invidia non est peccatum mortale. Et similis est ratio de invidia parvulorum, in quibus non est usus rationis.
Раздел 4. Является ли зависть главным пороком
457
о зависти младенцев, которые еще не пользуются разумом.
р4) И из этого очевиден ответ на второе.
(35) На третье надлежит ответить, что зависть, согласно Философу, противоположна и желанию возмездия, и милосердию, но по-разному. В самом деле, милосердию она противоположна непосредственно, сообразно тому, что противоположны их основные объекты, ведь завистник испытывает печаль из-за блага ближнего, а милосердный испытывает печаль из-за его зла. И потому, как говорит Философ, завистник не может быть милосердным и наоборот. А желание возмездия противоположно зависти со стороны того человека, благо которого вызывает печаль. В самом деле, желающий возмездия печалится из-за того, что благо досталось его обладателю незаслуженно, согласно этим словам (Пс 72, 3): Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, а завистника печалит наличие блага у того, кто его заслуживает. Из этого ясно, что первая противоположность является более непосредственной, чем вторая. Но милосердие есть некая добродетель и собственное следствие любви-каритас. И потому зависть противоположна и милосердию, и любви-каритас.
Раздел 4
Является ли зависть главным пороком
(36) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что зависть не является главным пороком.
(37) 1. В самом деле, главные пороки являются противоположными членами деления по отношению к своим «дочерям». Но зависть является «дочерью» тщеславия, поскольку, по словам Философа, завистливее всех те, кто любит почести и славу. Следовательно, зависть не является главным пороком.
(38) 2. Кроме того, главные пороки, как кажется, легче тех грехов, которые из них происходят. В самом деле, Григорий говорит, что первичные пороки ищут какой-нибудь повод, чтобы проникнуть в обманутый ум, но те, которые следуют за ними, побуждают ум ко всяческому безумию, как бы смущая его своими дикими воплями. Однако зависть, как представляется, есть тяжелейший грех, ибо, как говорит Григорий, хотя через любой порок, проникающий в сердце человека, его поражает яд нашего древнего врага, однако именно с этим грехом змий запечатлевает в нас свое существо, изливая глубоко в ум отраву злобы. Следовательно, зависть не является главным пороком.
(34) Unde patet responsio ad secundum.
(35) Ad tertium dicendum quod invidia, secundum philosophum, in II Rhet. (9; 1386b9), opponitur et nemesi et misericordiae, sed secundum diversa. Nam misericordiae opponitur directe, secundum contrarietatem principalis obiecti, invidus enim tristatur de bono proximi; misericors autem tristatur de malo proximi Unde invidi non sunt misericordes, sicut ibidem dicitur (Rhet. II, 9; 1387a3)., nec e converso. Ex parte vero eius de cuius bono tristatur invidus, opponitur invidia nemesi, nemeseticus enim tristatur de bono indigne agentium, secundum illud Psalm , zelavi super iniquos, pacem peccatorum videns, invidus autem tristatur de bono eorum qui sunt digni Unde patet quod prima contrarietas est magis directa quam secunda. Misencordia autem quaedam virtus est, et cantatis propnus effectus. Unde invidia misencordiae opponitur et cantati.
Articulus 4 Utrum invidia sit vitium capitale
(36) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod invidia non sit vitium capitale.
(37) 1 Vitia enim capitalia distinguuntur contra filias capitalium vitiorum Sed invidia est filia inanis gloriae, dicit enim philosophus, in II Rhet (10, 1387b31 ), quod amatores honoris et gloriae magis invident Ergo invidia non est vitium capitale
(38) 2 Praeterea, vitia capitalia videntur esse leviora quam alia quae ex eis onuntur, dicit enim Gregorius, XXXI Moral (45, PL 76, 622), prima vitia deceptae menti quasi sub quadam ratione se ingerunt, sed quae sequuntur, dum mentem ad omnem insaniam protrahunt, quasi bes- tiali clamore mentem confundunt. Sed invidia videtur esse gravissimum peccatum, dicit enim Gregorius, V Moral. (46, PL 75, 728), quamvis per omne vitium quod perpetratur humano cordi antiqui hostis virus infunditur, in hac
458
Вопрос 36. О зависти
(39) 3. Кроме того, представляется, что Григорий неправильно указывает «дочерей», говоря, что из зависти возникают ненависть, сплетни, злословие, радость из-за несчастья ближнего и печаль из-за его благоденствия. В самом деле, как явствует из сказанного выше (Р. 3), радость из-за несчастья ближнего и печаль из-за его благоденствия суть то же, что и зависть. Следовательно, их неправильно считать «дочерями» зависти.
(40) Но против: авторитетное суждение Григория, который полагает зависть главным грехом и приписывает зависти тех «дочерей», которые упомянуты выше.
(41) Отвечаю: надлежит сказать, что как уныние является печалью из-за божественного духовного блага, так и зависть есть печаль из-за блага ближнего. Но выше уже было сказано (В. 35, Р. 4), что уныние является главным пороком, потому что побуждает человека совершать те или иные действия либо ради того, чтобы избежать печали, либо ради того, чтобы избавиться от нее. И на этом же основании главным пороком является зависть.
(42) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Григорий, главные пороки столь тесно связаны, что один происходит из дру-
tamen nequitia tota sua viscera serpens concutit, et imprimendae malitiae pestem vomit. Ergo invidia non est vitium capitale.
(39) 3. Praeterea, videtur quod inconvenienter eius filiae assignentur a Gregorio, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), ubi dicit quod de invidia oritur odium, susurratio, detractio, exultatio in adversis proximi et afflictio in prosperis. Exultatio enim in adversis proximi, et afflictio in prosperis, idem videtur esse quod invidia, ut ex praemissis patet (a. 3). Non ergo ista debent poni ut filiae invidiae
(40) Sed contra est auctontas Gregoni, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), qui ponit invidiam vitium capitale, et ei praedictas filias assignat.
(41) Respondeo dicendum quod sicut acedia est tnstitia de bono spintuali divino, ita invidia est tristitia de bono proximi. Dictum est autem supra (q. 35, a. 4) acediam esse vitium capitale, ea ratione quia ex acedia homo impellitur ad aliqua facienda vel ut fugiat tristitiam vel ut tristitiae satisfaciat. Unde eadem ratione invidia ponitur vitium
го го. Так, первым следствием гордыни является тщеславие, которое, повреждая угнетаемый ум, тут же порождает зависть, поскольку, желая прославить ничтожное имя страшится, как бы эта слава не досталась другому. Итак, смысловому содержанию главного порока не противоречит то, что он возникает из другого порока; необходимо только, чтобы он мог быть неким первичным основанием для произведения нескольких родов грехов. Однако, вероятно, именно потому, что зависть очевидным образом происходит из тщеславия, Исидор и Кассиан не считали ее главным грехом.
(43) На второе надлежит ответить, что из этих слов следует не то, что зависть является наибольшим из всех грехов, а то, что когда дьявол склоняет человека к зависти, он склоняет его к тому, что занимает главное место в его сердце, поскольку, как сказано далее, завистью дьявола вошла в мир смерть. Тем не менее, есть такая зависть, которая входит в число тягчайших грехов, а именно, зависть к благодати брата, сообразно которой человек испытывает печаль не просто от блага ближнего, но от самого возрастания Божией благодати. Поэтому такая зависть считается грехом против Святого Духа, ведь этой завистью
capitale.
(42) Ad primum ergo dicendum quod, sicut Gregorius dicit, in XXXI Moral. (45; PL 76, 621) capitalia vitia tanta sibi coniunctione coniunguntur ut non nisi unum de altero proferatur Prima namque superbiae soboles inanis est gloria, quae dum oppressam mentem corruperit, mox invidiam gignit, quia dum vani nominis potentiam appetit, ne quis hanc alius adipisci valeat, tabescit Non est ergo contra rationem vitii capitalis quod ipsum ex alio oriatur, sed quod non habeat aliquam principalem rationem producendi ex se multa genera peccatorum. Forte tamen propter hoc quod invidia manifeste ex inani gloria nascitur, non ponitur vitium capitale neque ab Isidoro, in libro De summo bono (Sent., II, 37; PL 83, 638), neque a Cassiano, in libro De instit. coenob. (V, 1; PL 49, 201).
(43) Ad secundum dicendum quod ex verbis illis non habetur quod invidia sit maximum peccatorum, sed quod quando Diabolus invidiam suggerit, ad hoc hominem inducit quod ipse pnncipaliter in corde habet; quia sicut ibi inducitur
Раздел 4. Является ли зависть главным пороком
459
человек завидует Святому Духу, прославляемому делами своими.
(44) На третье надлежит ответить, что число «дочерей» зависти можно рассмотреть таким образом. В стремлении зависти нечто является как бы началом, нечто — как бы серединой и нечто — как бы завершением. Началом является то, что некто умаляет славу другого, и делает это либо тайно, и тогда имеется «сплетня», либо явно, и тогда имеется «злословие». Середина заключается в том, что человек, стремящийся умалить чужую славу, либо достигает успеха, и тогда имеется «радость из-за несчастья другого», либо не достигает, и тогда имеется «печаль из-за благоденствия другого». А завершением является «ненависть», поскольку как доставляющее
удовольствие благо причинно обусловливает любовь, так же и печаль причинно обусловливает ненависть, о чем уже было сказано (В. 34, Р. 6). И «печаль из-за благоденствия другого» в одном смысле есть то же, что и зависть — поскольку человек страдает из-за благоденствия другого в связи с тем, что оно приносит последнему добрую славу. А в другом смысле эта печаль является «дочерью» зависти — поскольку завистник видит, что его ближний благоденствует, несмотря на все его попытки этому воспрепятствовать. С другой стороны, «радость из-за несчастья другого» не тождественна зависти непосредственно, но следует из нее, ведь из печали из-за блага ближнего, т. е. из зависти, следует радость из-за несчастья другого.
consequenter (Gregonus, Moral. V, 46, PL 75, 728), invidia Diaboli mors introivit in orbem terrarum. Est tamen quaedam invidia quae inter gravissima peccata computatur, scilicet invidentia fraternae gratiae, secundum quod aliquis dolet de ipso augmento gratiae Dei, non solum de bono proximi. Unde ponitur peccatum in spiritum sanctum, quia per hanc invidentiam homo quodammodo invidet spintui sancto, qui in suis openbus glonficatur.
(44) Ad tertium dicendum quod numerus filiarum invidiae sic potest sumi. Quia in conatu invidiae est aliquid tanquam pnncipium, et aliquid tanquam medium, et aliquid tanquam terminus. Principium quidem est ut aliquis diminuat glonam alterius vel in occulto, et sic est susurratio; vel manifeste, et sic est detractio. Medium autem
est quia aliquis intendens diminuere glonam altenus aut potest, et sic est exultatio in adversis; aut non potest, et sic est afflictio in prosperis. Terminus autem est in ipso odio, quia sicut bonum delectans causat amorem, ita tnstitia causat odium, ut supra dictum est (q. 34, a. 6). Afflictio autem in prosperis proximi uno modo est ipsa invidia, inquantum scilicet aliquis tristatur de prospens alicuius secundum quod habent quandam glonam. Alio vero modo est filia invidiae, secundum quod prospera proximi eveniunt contra conatum invidentis, qui nititur impedire. Exultatio autem in adversis non est directe idem quod invidia, sed ex ea sequitur, nam ex tristitia de bono proximi, quae est invidia, sequitur exultatio de malo eiusdem.
Вопрос 37
О раздоре, который противоположен миру
(1) Затем надлежит рассмотреть грехи, которые противоположны миру. И во-первых, раздор, который пребывает в сердце; во-вторых, словопрение, которое пребывает в устах (В. 38); в-третьих, те грехи, которые пребывают в делах, а именно, схизму (В. 39), войну (В. 40) и драку (В. 41).
(2) И касательно первого исследуются две [проблемы]: 1) является ли раздор грехом;
2) является ли он «дочерью» тщеславия.
Раздел 1 Является ли раздор грехом
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что раздор не является грехом.
(4) 1. В самом деле, раздор предполагает расхождение с волей другого человека. Но это, как кажется, не является грехом, поскольку нормой для нашей воли является не воля ближнего, но исключительно воля Бога. Следовательно, раздор не является грехом.
(5) 2. Кроме того, всякий кто побуждает другого к греху, грешит сам. Но, как пред- ставляется, возбуждать раздор не является грехом, поскольку сказано (Деян 23, 6-7), что Павел, узнав, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: «Мужи братия! Я фарисей, сын фарисея! За чаяние воскресения мертвых меня судят!»; когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями. Следовательно, раздор не является грехом.
(6) 3. Кроме того, в святых мужах нет греха, тем более смертного. Но раздор случается даже между святыми, ибо сказано (Деян 15, 39), что случилось разногласие между Павлом и Варнавой, так что они разлучились друг с другом1. Следовательно, раздор не является грехом, и тем более — смертным.
(7) Но против: «разногласия», то есть раздор, упомянуты среди тех «дел плоти», о которых далее сказано, что поступающие так царствия Божия не наследуют (Гал 5, 21). Но вход в царствие Божие закрывает толь-
Quaestio 37 De discordia, quae opponuntur paci
(1) Deinde considerandum est de peccatis quae opponuntur paci. Et pnmo, de discordia, quae est in corde; secundo, de contentione, quae est in ore; tertio, de his quae pertinent ad opus, scilicet, de schismate, rixa et bello.
(2) Circa pnmum quaeruntur duo, pnmo, utrum discordia sit peccatum. Secundo, utrum sit filia inanis gloriae.
Articulus 1 Utrum discordia sit peccatum
(3) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod discordia non sit peccatum.
(4) 1. Discordare enim ab aliquo est recedere ab alterius voluntate. Sed hoc non videtur esse peccatum, quia voluntas proximi non est regula voluntatis nostrae, sed sola voluntas divina. Ergo discordia non est peccatum.
(5) 2. Praeterea, quicumque inducit aliquem ad peccandum, et ipse peccat. Sed inducere inter aliquos discordiam non videtur esse peccatum, dicitur enim Act. XXIII, quod sciens Paulus quia una pars esset Sadducaeorum et altera Pharisaeorum, exclamavit in Concilio, viri fratres, ego Pharisaeus sum, filius Pharisaeorum, de spe et resurrectione mortuorum ego iudicor. Et cum haec dixisset, facta est dissensio inter Pharisaeos et Sadducaeos. Ergo discordia non est peccatum.
(6) 3. Praeterea, peccatum, praecipue mortale, in sanctis vins non invenitur. Sed in sanctis viris invenitur discordia, dicitur enim Act. XV, facta est dissensio inter Paulum et Barnabam, ita ut discederent ab invicem. Ergo discordia non est peccatum, et maxime mortale.
(7) Sed contra est quod ad Gal. V dissensiones, idest discordiae, ponuntur inter opera camis, de quibus subditur,
Раздел 1. Является ли раздор грехом
461
ко смертный грех. Следовательно, раздор является смертным грехом.
) Отвечаю: надлежит сказать, что раздор противоположен согласию. Но согласие (concordia), как уже было сказано (В. 29, р. 3), причинно обусловливается любовью- каритас, поскольку любовь-каритас объединяет сердца (corda) многих людей в их стремлении к чему-то одному, каковое есть, прежде всего, божественное благо, а во вторую очередь — благо ближнего. Итак, раздор является грехом в той мере, в какой он противоположен такому согласию. Однако надлежит знать, что раздор может разрушить это согласие двояко: во- первых, сущностно; во-вторых, акциден- тально. Но о «сущностном» в человеческих действиях и движениях говорят тогда, когда нечто производится в соответствии с намерением. Поэтому сущностный раздор с ближним происходит тогда, когда человек сознательно и намеренно отступает от божественного блага и блага ближнего, в которых должно быть согласие. И такой грех является смертным грехом по своему роду, поскольку он противоречит любви-каритас, хотя первые движения этого раздора, будучи несовершенными действиями, являются простительны¬
ми/ talia agunt, regnum Dei non consequuntur. Nihil autem excludit a regno Dei nisi peccatum mortale. Ergo discordia est peccatum mortale.
(8) Respondeo dicendum quod discordia concordiae opponitur. Concordia autem, ut supra dictum est (q. 29, a. 3), ex cantate causatur, inquantum scilicet caritas multorum corda coniungit in aliquid unum, quod est principaliter quidem bonum divinum, secundano autem bonum proximi Discordia igitur ea ratione est peccatum, inquantum huiusmodi concordiae contranatur. Sed sciendum quod haec concordia per discordiam tollitur dupliciter, uno quidem modo, per se; alio vero modo, per accidens. Per se quidem in humanis actibus et motibus dicitur esse id quod est secundum intentionem. Unde per se discordat aliquis a proximo quando scienter et ex intentione dissentit a bono divino et a proximi bono, in quo debet consentire. Et hoc est peccatum mortale ex suo genere, propter contrari- etatem ad caritatem, licet primi motus huius discordiae, propter imperfectionem actus, sint peccata venialia. Per
ми грехами. А об «акцидентальном» в человеческих действиях говорят тогда, когда нечто происходит непреднамеренно. Поэтому когда несколько человек стремятся к благу, которое относится к почитанию Бога или к пользе ближнего, но при этом один полагает, что такая-то вещь блага, а другой придерживается противоположного мнения, то в этом случае раздор противоречит божественному благу и благу ближнего акцидентально. И такого рода раздор, если только он не связан с тем, что необходимо для спасения, или с недолжным упрямством, не является грехом и не противоречит любви-каритас, поскольку, как было показано выше (В. 29, Р. 3), то согласие, которое является следствием любви-каритас, является единством воль, а не мнений. И из этого очевидно, что иногда раздор является грехом только одной стороны, т. е. тогда, когда один человек желает блага, а другой ему сознательно противится, а иногда грешат обе стороны, когда каждый отвергает благо другого, любя исключительно свое собственное.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что воля одного человека, рассматриваемая сама по себе, не является нормой воли другого человека. Но настолько, насколько воля
accidens autem in humanis actibus consideratur ex hoc quod aliquid est praeter intentionem. Unde cum intentio aliquorum est ad aliquod bonum quod pertinet ad honorem Dei vel utilitatem proximi, sed unus aestimat hoc esse bonum, alius autem habet contrariam opinionem, discordia tunc est per accidens contra bonum divinum vel proximi Et talis discordia non est peccatum, nec repugnat caritati, nisi huiusmodi discordia sit vel cum errore circa ea quae sunt de necessitate salutis, vel pertinacia indebite adhibeatur, cum etiam supra dictum est (q. 29, a. 1; a. 3, ad 2) quod concordia quae est cantatis effectus est unio voluntatum, non unio opinionum. Ex quo patet quod discordia quandoque est ex peccato unius tantum, puta cum unus vult bonum, cui alius scienter resistit, quandoque autem est cum peccato utnusque, puta cum uterque dissentit a bono alterius, et uterque diligit bonum propnum.
(9) Ad primum ergo dicendum quod voluntas unius hominis secundum se considerata non est regula voluntatis altenus. Sed inquantum voluntas proximi inhaeret voluntati Dei,
462
Вопрос 37. О раздоре, который противоположен миру
ближнего смыкается с божественной волей, она становится нормой, регулируемой сообразно первой норме. И потому раздор, или расхождение с такой волей, является грехом постольку, поскольку через это происходит расхождение с божественной нормой.
(ю) На второе надлежит ответить, что как воля человека, твердо держащаяся Бога, становится некоей истинной нормой, расхождение с которой является грехом, так же и противящаяся Богу человеческая воля есть некая ложная норма, расхождение с которой является благом. Итак, тот раздор, который устраняет благое согласие, производимое любовью-каритас, есть тяжкий грех, о котором сказано (Притч 6, 16): Вот, шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его, и это седьмое — «сеющий раздор между братьями». Но устройство того раздора, который устраняет дурное согласие, т. е. согласие в дурной воле, достойно похвалы. Таким образом, то, что Павел сеял раздор между теми, кто был согласен во зле, похвально — ведь и Господь сказал о себе: Не мир пришел Я принести, но меч (Мф 10, 34).
(и) На третье надлежит ответить, что разногласие между Павлом и Варнавой было
не сущностным, а акцидентальным, поскольку оба они желали блага, но один считал, что благом является вот это, а дру. гой думал, что благо — нечто другое. И так было по причине несовершенства человеческой природы, а относительно того, что необходимо для спасения, у них споров не было. Но даже и этот раздор был предопределен божественным провидением, поскольку из него произошла польза.
Раздел 2
Является ли раздор «дочерью» тщеславия
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что раздор не является «дочерью» тщеславия.
(13) 1. В самом деле, гнев является отличным от тщеславия пороком. Но, как кажется, раздор является «дочерью» гнева, согласно этим словам (Притч 15, 18): Человек гневливый заводит драку2. Следовательно, раздор не является «дочерью» тщеславия.
(14) 2. Кроме того, Августин, комментируя эти слова Писания (Ин 7, 39), Еще не было на них Духа, говорит: Недоброжелательность разъединяет, любовь объединяет. Но раздор есть разъединение воль. Следовательно, раздор является скорее следствием недоброжелательности, т. е. зависти, не-
fit per consequens regula regulata secundum primam regulam. Et ideo discordare a tali voluntate est peccatum, quia per hoc discordatur a regula divina.
(10) Ad secundum dicendum quod sicut voluntas hominis adhaerens Deo est quaedam regula recta, a qua peccatum est discordare; ita etiam voluntas hominis Deo contraria est quaedam perversa regula, a qua bonum est discordare. Facere ergo discordiam per quam tollitur bona concordia quam caritas facit, est grave peccatum, unde dicitur Prov. VI, sex sunt quae odit dominus, et septimum detestatur anima eius, et hoc septimum ponit eum qui seminat inter fratres discordias. Sed causare discordiam per quam tollitur mala concordia, scilicet in mala voluntate, est laudabile. Et hoc modo laudabile fuit quod Paulus dissensionem posuit inter eos qui erant concordes in malo, nam et dominus de se dicit, Matth. X, non veni pacem mittere, sed gladium.
(11) Ad tertium dicendum quod discordia quae fuit inter Paulum et Bamabam fuit per accidens et non per se,
uterque enim intendebat bonum, sed uni videbatur hoc esse bonum, alii aliud. Quod ad defectum humanum pertinebat, non enim erat talis controversia in his quae sunt de necessitate salutis. Quamvis hoc ipsum fuerit ex divina providentia ordinatum, propter utilitatem inde consequentem.
Articulus 2 Utrum discordia sit filia inanis gloriae
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod discordia non sit filia inanis gloriae.
(13) 1. Ira enim est aliud vitium ab inani gloria. Sed discordia videtur esse filia irae, secundum illud Prov. XV, vir iracundus provocat rixas. Ergo non est filia inanis gloriae.
(14) 2. Praeterea, Augustinus dicit, super Ioan. (tr. 32, super 7, 39; PL 35, 1646), exponens illud quod habetur Ioan. VII, nondum erat spiritus datus, livor separat, caritas iungit. Sed discordia nihil est aliud quam quaedam separatio voluntatum. Ergo discordia procedit ex livore, idest invidia, magis quam ex inani gloria.
Раздел 2. Является ли раздор «дочерью» тщеславия
463
жели тщеславия.
(j5) 3. Кроме того, то, из чего происхо¬
дит множество зол, является, судя по всему, главным пороком. Но именно таков раздор, поскольку Иероним, комментируя эти слова Писания (Мф 12, 25): Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, говорит: Подобно тому, малое возрастает согласием, большое разрушается раздором. Следовательно, раздор сам должен считаться главным пороком, а не «дочерью» тщеславия.
(16) Но против: авторитетное суждение Григория.
(!7) Отвечаю: надлежит сказать, что раздор подразумевает некую разобщенность воль, постольку, поскольку воля одного человека держится одного, а воля другого человека держится другого. А то, что воля некоего человека настаивает на своем, происходит от того, что он предпочитает свое чужому. И если это предпочтение неупорядоченно, то оно относится к гордыне и тщеславию. И потому тот раздор, вследствие которого человек придерживается своего и отвергает
чужое, считается «дочерью» тщеславия.
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что раздор не тождественен драке. В самом деле, драка заключается в неких внешних действиях, и потому обоснованно считается порождением гнева, который движет дух к нанесению ущерба ближнему. А раздор заключается в расхождении воль, которое производит гордыня или тщеславие, на основании уже указанном.
(19) На второе надлежит ответить, что в раздоре, в качестве предела «от которого», надлежит усматривать отдаление от чужой воли, и в этом отношении раздор является следствием зависти. А пределом «к которому» в случае раздора является приближение к своему собственному, и в этом отношении раздор причинно обусловливается тщеславием. Но поскольку в любом движении предел «к которому» значимей предела «от которого» (поскольку конец движения значимее начала), постольку раздор считается «дочерью» тщеславия, а не зависти, хотя он может являться следствием их обеих, но в разных аспектах, как указано.
(15) 3 Praeterea, illud ex quo multa mala oriuntur videtur esse vitium capitale. Sed discordia est huiusmodi, quia super illud Matth. XII, omne regnum contra se divisum desolabitur, dicit Hieronymus, quo modo concordia parvae res crescunt, sic discordia maximae dilabuntur (In Mt. II, super 12, 25; PL 26, 82). Ergo ipsa discordia debet poni vitium capitale, magis quam filia inanis gloriae.
(16) Sed contra est auctoritas Gregoni, XXXI Moral. (45; PL 76, 621).
(17) Respondeo dicendum quod discordia importat quandam disgregationem voluntatum, inquantum scilicet voluntas unius stat in uno, et voluntas alterius stat in altero. Quod autem voluntas alicuius in proprio sistat, provenit ex hoc quod aliquis ea quae sunt sua praefert his quae sunt aliorum Quod cum inordinate fit, pertinet ad superbiam et inanem gloriam. Et ideo discordia, per quam unusquisque sequitur quod suum est et recedit ab eo quod est alterius, ponitur filia inanis gloriae.
(18) Ad primum ergo dicendum quod rixa non est idem quod discordia. Nam nxa consistit in exteriori opere, unde convenienter causatur ab ira, quae movet animum ad nocendum proximo. Sed discordia consistit in disiunctione motuum voluntatis, quam facit superbia vel inanis gloria, ratione iam dicta.
(19) Ad secundum dicendum quod in discordia consideratur quidem ut terminus a quo recessus a voluntate alterius, et quantum ad hoc causatur ex invidia Ut terminus autem ad quem, accessus ad id quod est sibi proprium, et quantum ad hoc causatur ex inani gloria. Et quia in quolibet motu terminus ad quem est potior termino a quo (finis enim est potior principio), potius ponitur discordia filia inanis gloriae quam invidiae, licet ex utraque onri possit secundum diversas rationes, ut dictum est.
464
Вопрос 37. О раздоре, который противоположен миру
(20) На третье надлежит ответить, что малое возрастает согласием, а большое разрушается раздором потому, что, как сказано в книге «О причинах», чем более едина сила, тем она мощнее, а по мере утраты единства она слабеет. И из этого ясно, что
сказанное относится к собственному следствию раздора, который есть расхождение воль, но не к происхождению из раздора различных пороков, в силу чего он мог бы обладать смысловым содержанием главного порока.
(20) Ad tertium dicendum quod ideo concordia magnae res crescunt et per discordiam dilabuntur, quia virtus quanto est magis unita, tanto est fortior, et per separationem diminuitur; ut dicitur in libro De causis (16; BA 179, 13).
Unde patet quod hoc pertinet ad proprium effectum discordiae, quae est divisio voluntatum, non autem pertinet ad originem diversorum vitiorum a discordia, per quod habeat rationem vitii capitalis.
Вопрос 38 О словопрении
Далее надлежит рассмотреть словопрение. И касательно него рассматривается две [проблемы]: 1) является ли словопрение смертным грехом; 2) является ли оно «дочерью» тщеславия.
Раздел 1
Является ли словопрение смертным грехом
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что словопрение не является смертным грехом.
(3) 1. В самом деле, в духовных мужах смертного греха не бывает. Но между ними может быть словопрение, ибо сказано (Лк 22, 24): Был же и спор между учениками Иисуса, кто из них должен почитаться большим. Следовательно, словопрение не является смертным грехом.
(4) 2. Кроме того, никакой благорасположенный человек не станет радоваться смертному греху ближнего. Но апостол говорит (Филип 1, 16): Некоторые ради словопрений проповедуют Христа1, а затем добавляет: Я и тому радуюсь, и буду радо¬
ваться (18). Следовательно, словопрение не является смертным грехом.
(5) 3. Кроме того, бывает так, что люди спорят между собою в судах или на диспутах без какого-либо злого умысла, но, напротив, стремясь к благу, как, например, те, кто спорит с еретиками. Поэтому глосса на эти слова Писания (1 Цар 14, 1): В один день сказал и т. д., утверждает: Католики вступают в словопрения с еретиками, если те первыми начнут спор. Следовательно, словопрение не является смертным грехом.
(6) 4. Кроме того, Иов, как кажется, спорил с Богом, согласно этим словам (Иов 39, 32): Будет ли спорящий с Богом еще учить? Но он не согрешил смертным грехом, поскольку Господь сказал о нем (Иов 42, 7): Вы говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов. Следовательно, словопрение не всегда является смертным грехом.
(7) Но против: апостол заповедовал не вступать в словопрения (2 Тим 2, 14). Кроме того, споры упомянуты среди тех дел плоти, о которых сказано, что поступающие
Quaestio 38 De contentione
(1) Deinde considerandum est de contentione. Et circa hoc quaeruntur duo. Pnmo, utrum contentio sit peccatum mortale. Secundo, utrum sit filia inanis glonae.
Articulus 1 Utrum contentio sit peccatum mortale
(2) Ad primum sic proceditur Videtur quod contentio non sit peccatum mortale.
(3) 1 Peccatum enim mortale in vins spintualibus non invenitur. In quibus tamen invenitur contentio, secundum illud Luc. XXII, facta est contentio inter discipulos Iesu, quis eorum esset maior Ergo contentio non est peccatum mortale
(4) 2 Praeterea, nulli bene disposito debet placere peccatum mortale in proximo. Sed dicit apostolus, ad Philipp. I, quidam ex contentione Christum annuntiant; et postea subdit, et in hoc gaudeo, sed et gaudebo Ergo contentio non est
peccatum mortale.
(5) 3. Praeterea, contingit quod aliqui vel in iudicio vel in disputatione contendunt non aliquo animo malignandi, sed potius intendentes ad bonum, sicut illi qui contra haereticos disputando contendunt. Unde super illud, I Reg. XIV, accidit quadam die etc., dicit Glossa (ordin., 2, 77A), Catholici contra haereticos contentiones commovent, ubi prius ad certamen convocantur. Ergo contentio non est peccatum mortale.
(6) 4. Praeterea, lob videtur cum Deo contendisse, secundum illud lob XXXIX, numquid qui contendit cum Deo tam facile conquiescit? Et tamen lob non peccavit mortaliter, quia dominus de eo dicit, non estis locuti recte coram me, sicut servus meus lob, ut habetur lob ult. Ergo contentio non semper est peccatum mortale.
(7) Sed contra est quod contrariatur praecepto apostoli, qui
466
Вопрос 38. О словопрении
так царствия Божия не наследуют (Гал 5, 21). Но все, что закрывает перед человеком царствие Божие и противоречит заповеди, является смертным грехом. Следовательно, словопрение является смертным грехом.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что вести словопрение (contendere) — значит выступать (tendere) против кого-то. Поэтому как раздор подразумевает некое противоречие в воле, так и словопрение подразумевает некое противоречие в словах. Поэтому когда некто в своей речи противопоставляет друг другу противоположности, это называют «словопрением» (contentio), которое Туллий считал одним из риторических «цветов», говоря, что словопрение имеет место тогда, когда речь составляется на основе противоположных вещей, например: «Улести сладкое начало, да горький конец», Но противоположность речей может иметь место двояко: во-первых, со стороны намерения спорящего; во-вторых, со стороны модуса [противопоставления]. Касательно первого следует принимать во внимание, выступает ли спорящий против истины (и тогда его следует порицать), или же против лжи (и тогда его следует одобрять). Касательно же второго следует принимать во внимание, соответствует ли мо¬
дус противопоставления лицам и предмету и если соответствует, то он достоин похвалы (потому Туллий и говорит, что словопрение есть острая речь, пригодная для подтверждения и опровержения), а если не соответствует, но превосходит, то достоин осуждения.
(9) Итак, если словопрение подразумевает выступление против истины неупорядоченным способом, то оно является смертным грехом. И именно такое словопрение определяет Амвросий, говоря: Словопрение есть выступление против истины с крикливой самонадеянностью. Однако если словопрение подразумевает выступление против лжи, в должной степени острое, то оно похвально. А если под словопрением подразумевается выступление против лжи, но неупорядоченным способом, то это простительный грех, если только это словопрение не ввело кого-то в соблазн. И потому апостол, наказав не вступать в словопрения, добавляет: Что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих (2 Тим 2, 14).
dicit II ad Tim II, noli verbis contendere. Et Gal. V con- autem considerandum est utrum talis modus contrariandi
tentio numeratur inter opera camis, quae qui agunt, regnum conveniat et personis et negotiis, quia hoc est laudabile
Dei non possident, ut ibidem dicitur Sed omne quod ex- (unde et Tullius dicit, in III Rhet. (Rhetor: ad Herenn., 13;
eludit a regno Dei, et quod contranatur praecepto, est DD 1, 40), quod contentio est oratio acris ad confirmandum
peccatum mortale Ergo contentio est peccatum mortale. et confutandum accommodata), vel excedat convenientiam
(8) Respondeo dicendum quod contendere est contra ali- personarum et negotiorum, et sic contentio est vituperabilis,
quem tendere Unde sicut discordia contrarietatem quan- (9) Si ergo accipiatur contentio secundum quod importat dam importat in voluntate, ita contentio contranetatem impugnationem veritatis et inordinatum modum, sic est
quandam importat in locutione. Et propter hoc etiam peccatum mortale Et hoc modo definit Ambrosius con-
cum oratio alicuius per contraria se diffundit, vocatur con- tentionem, dicens (glossa Petri Lombardi super Rom 1,29;
tentio, quae ponitur unus color rhetoricus a Tullio (Rhetor PL 191, 1335), contentio est impugnatio veritatis cum con-
ad Herenn., IV, 15; DD 1, 57), qui dicit, contentio est cum fidentia clamoris. Si autem contentio dicatur impugnatio
ex contrariis rebus oratio efficitur, hoc pacto, habet assen- falsitatis cum debito modo acrimoniae, sic contentio est
tatio iucunda principia, eadem exitus amarissimos affert. laudabilis. Si autem accipiatur contentio secundum quod
Contranetas autem locutionis potest attendi dupliciter, importat impugnationem falsitatis cum inordinato modo,
uno modo, quantum ad intentionem contendentis; alio sic potest esse peccatum veniale, nisi forte tanta inordina-
modo, quantum ad modum. In intentione quidem con- tio fiat in contendendo quod ex hoc generetur scandalum
siderandum est utrum aliquis contrarietur ventati, quod aliorum. Unde et apostolus, cum dixisset, II ad Tim. II,
est vituperabile, vel falsitati, quod est laudabile. In modo noli verbis contendere, subdit, ad nihil enim utile est, nisi
Раздел 2. Является ли словопрение «дочерью» тщеславия
467
(,о) Итак, на первое надлежит ответить, что ученики Христа спорили, не имея намерения выступить против истины, поскольку каждый защищал то, что считал истиной. Однако в их споре была неупорядоченность, поскольку они спорили о том, о чем им не следовало спорить, а именно о первенстве чести. В самом деле, они еще не были духовными, как утверждает глосса на эти слова. Поэтому Господь и обуздал их.
(п) На второе надлежит ответить, что те, кто проповедовали Христа «ради словопрений», заслуживали осуждения, поскольку хотя они и не выступали против истины веры, а проповедовали ее, тем не менее, противоречили истине в том, что «думали увеличить тяжесть уз» апостола, который возвещал истину веры. Поэтому апостол радовался не их словопрениям, а плодам, которые они приносили, тому, именно, что благодаря им возвещался Христос (так ведь и из зла иногда случайно происходит благо).
(12) На третье надлежит ответить, что сообразно совершенному смысловому содержанию словопрения, насколько оно является смертным грехом, в суде словопре¬
нием занимается тот, кто выступает против истины справедливости, а в диспуте — тот, кто оспаривает истинное учение. И в этом смысле не католики ведут словопрения против еретиков, а наоборот. Но если словопрение в суде или в диспуте берется сообразно несовершенному смысловому содержанию, т. е. как некая острота речи, то оно не всегда является смертным грехом.
(и) На четвертое надлежит ответить, что словопрением, сообразно обычному употреблению имени, там названо рассуждение. В самом деле, Иов говоря (Иов 13,
3) я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, стремился не выступить против истины, но защитить ее, и, равным образом, в этом его рассуждении не было неупорядоченности ни помышлений, ни речи.
Раздел 2 Является ли словопрение «дочерью» тщеславия
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что словопрение не является «дочерью» тщеславия.
ad subversionem audientium.
(10) Ad primum ergo dicendum quod in discipulis Chnsti non erat contentio cum intentione impugnandi veritatem, quia unusquisque defendebat quod sibi verum videbatur. Erat tamen in eorum contentione inordinatio, quia contendebant de quo non erat contendendum, scilicet de pn- matu honoris; nondum enim erant spirituales, sicut Glossa ibidem dicit (ordin., 5, 177B) Unde et dominus eos consequenter compescuit
(11) Ad secundum dicendum quod illi qui ex contentione Christum praedicabant reprehensibiles erant, quia quamvis non impugnarent veritatem fidei, sed eam praedicarent, impugnabant tamen ventatem quantum ad hoc quod putabant se suscitare pressuram apostolo ventatem fidei praedicanti Unde apostolus non gaudebat de eorum contentione, sed de fructu qui ex hoc proveniebat, scilicet quod Christus annuntiabatur, quia ex malis etiam occasionaliter subsequuntur bona
(12) Ad tertium dicendum quod secundum completam ra¬
tionem contentionis prout est peccatum mortale, ille in iudicio contendit qui impugnat veritatem iustitiae, et in disputatione contendit qui intendit impugnare veritatem doctrinae. Et secundum hoc Catholici non contendunt contra haereticos, sed potius e converso Si autem accipiatur contentio in iudicio vel disputatione secundum imperfectam rationem, scilicet secundum quod importat quandam acrimoniam locutionis, sic non semper est peccatum mortale.
(13) Ad quartum dicendum quod contentio ibi sumitur communiter pro disputatione. Dixerat enim lob, XIII cap., ad omnipotentem loquar, et disputare cum Deo cupio, non tamen intendens neque ventatem impugnare, sed exquirere, neque circa hanc inquisitionem aliqua inordinatione vel animi vel vocis uti
Articulus 2 Utrum contentio sit filia inanis gloriae
(14) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod contentio non sit filia inanis glonae.
468
Вопрос 38. О словопрении
(15) 1. В самом деле, словопрение близко рвению, отчего и сказано (1 Кор 3, 3): Ибо если между вами ревность и словопрения, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Но ревность относится к зависти. Следовательно, словопрение возникает скорее из зависти.
(16) 2. Кроме того, словопрение сопровождается повышением голоса. Но, как говорит Григорий, причиной повышения голоса является гнев. Следовательно, также и словопрение является следствием гнева.
(17) 3. Кроме того, среди прочего предметом гордыни и тщеславия является прежде всего знание, согласно этим словам (1 Кор 8, 1): Знание надмевает. Но словопрение обычно возникает из-за нехватки знания, которым мы познаем истину, а не противостоим ей. Следовательно, словопрение не является «дочерью» тщеславия.
(18) Но против: авторитетное суждение Григория.
(19) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (В. 37, Р. 2), раздор является «дочерью» тщеславия постольку, поскольку каждая из сторон стоит на своем и отвергает [мнение] другой стороны.
Но собственным признаком гордыни и тщеславия является стремление к собственной славе. И подобно тому, как раздор происходит между теми, кто в сердце своем стоит на собственном [мнении], так и словопрение происходит между теми, кто защищает собственное [мнение] при помощи слов. И потому словопрение считается «дочерью» тщеславия на том же основании, что и разногласие.
(20) Итак, на первое надлежит ответить, что словопрение, как и раздор, близки к зависти, насколько речь идет об удалении человека от того, с кем он не согласен или с кем спорит. Но насколько речь идет в том, на чем настаивает спорящий, словопрение близко гордыне и тщеславию, поскольку спорящий настаивает на своем собственном мнении, о чем уже было сказано.
(21) На второе надлежит ответить, что в случае того словопрения, о котором мы здесь говорим, повышение голоса употребляется с целью противоборства с истиной. Поэтому само по себе повышение не является для словопрения чем-то главным. И потому не следует, что словопрение происходит из того же, из чего происходит повышение голоса.
(15) 1. Contentio enim affinitatem habet ad zelum, unde dicitur I ad Cor III, cum sit inter vos zelus et contentio, nonne carnales estis, et secundum hominem ambulatis? Zelus autem ad invidiam pertinet. Ergo contentio magis ex invidia oritur.
(16) 2 Praeterea, contentio cum clamore quodam est. Sed clamor ex ira oritur, ut patet per Gregorium, XXXI Moral. (45; PL 76, 621). Ergo etiam contentio ontur ex ira.
(17) 3. Praeterea, inter alia scientia praecipue videtur esse matena superbiae et inanis glonae, secundum illud I ad Cor. VIII, scientia inflat Sed contentio provenit plerumque ex defectu scientiae, per quam veritas cognoscitur, non impugnatur. Ergo contentio non est filia inanis glonae
(18) Sed contra est auctontas Gregoni, XXXI Moral. (45, PL 76, 621).
(19) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (q. 37, a. 2), discordia est filia inanis glonae, eo quod discordantium uterque in suo propno stat, et unus alten non acquiescit; proprium autem superbiae est et inanis glonae
propnam excellentiam quaerere. Sicut autem discordantes aliqui sunt ex hoc quod stant corde in propnis, ita contendentes sunt aliqui ex hoc quod unusquisque verbo id quod sibi videtur defendit. Et ideo eadem ratione ponitur contentio filia inanis gloriae sicut et discordia.
(20) Ad primum ergo dicendum quod contentio, sicut et discordia, habet affinitatem cum invidia quantum ad recessum eius a quo aliquis discordat vel cum quo contendit. Sed quantum ad id in quo sistit ille qui contendit, habet convenientiam cum superbia et inani gloria, inquantum scilicet in proprio sensu statur, ut supra dictum est.
(21) Ad secundum dicendum quod clamor assumitur in contentione de qua loquimur ad finem impugnandae ventatis. Unde non est principale in contentione. Et ideo non oportet quod contentio ex eodem derivetur ex quo derivatur clamor.
Раздел 2. Является ли словопрение «дочерью» тщеславия
469
(22) На третье надлежит ответить, что поводом для возникновения гордыни и тщеславия обычно служат блага, в том числе и противоположные им, когда, например, человек гордится своим смирением. Но такое возникновение имеет место не сущностным, а акцидентальным образом, когда не возникает препятствий для того,
чтобы одна противоположность происходила из другой. И потому ничто не препятствует тому, чтобы непосредственные и сущностные следствия гордыни или тщеславия причинно обусловливались противоположностями того, из чего по случаю происходит гордыня.
(22) Ad tertium dicendum quod superbia et inanis glona occasionem sumunt praecipue a bonis, etiam sibi contrariis, puta cum de humilitate aliquis superbit, est enim huiusmodi derivatio non per se, sed per accidens, secundum
quem modum nihil prohibet contranum a contrario orin. Et ideo nihil prohibet ea quae ex superbia vel inani gloria per se et directe oriuntur causan ex contrariis eorum ex quibus occasionaliter superbia oritur
Вопрос 39
О схизме
(1) Затем надлежит рассмотреть те противоположные миру пороки, которые относятся к делам, а именно, схизму, войну (В. 40), драку (В. 41) и смуту (В. 42).
(2) Итак, во-первых, относительно схизмы исследуются четыре [проблемы]: 1) является ли схизма особым грехом; 2) является ли она более тяжким грехом, чем неверие; 3) о власти схизматиков; 4) об их наказании.
Раздел 1
Является ли схизма особым грехом
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что схизма не является особым грехом.
(4) 1. В самом деле, «схизма», как говорит папа Пелагий, означает «отделение». Но любой грех обусловливает некое отделение, согласно этим словам (Ис 59, 2): Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Следовательно, схизма не является особым грехом.
(5) 2. Кроме того, схизматиком, по всей видимости, является тот, кто не подчиняется Церкви. Но любой грех человека есть неподчинение заповедям Церкви, ведь грех, согласно Амвросию, есть неповиновение небесным заповедям. Следовательно, любой грех является схизмой.
(6) 3. Кроме того, ересь также отделяет человека от единства веры. Если, следовательно, слово «схизма» подразумевает отделение, то, как кажется, схизма не отличается по виду от греха неверия.
(7) Но против: Августин проводит различение между схизмой и ересью, говоря, что схизматик исповедует ту же веру и совершает те же обряды, что и прочие, но при этом находит удовольствие в отделенности общины, а еретик держится того, что отлично от веры Католической Церкви. Следовательно, схизма не является общим грехом.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит Исидор, схизма (schisma) получила свое имя от разделения душ (scissura
Quaestio 39 De schismate
(1) Deinde considerandum est de vitiis oppositis paci pertinentibus ad opus; quae sunt schisma, rixa, seditio et bellum.
(2) Pnmo ergo circa schisma quaeruntur quatuor Primo, utrum schisma sit speciale peccatum. Secundo, utrum sit gravius infidelitate. Tertio, de potestate schismaticorum. Quarto, de poena eorum
Articulus 1 Utrum schisma sit peccatum speciale
(3) Ad primum sic proceditur Videtur quod schisma non sit peccatum speciale.
(4) 1. Schisma enim, ut Pelagius Papa dicit (Fragm epist. ad Victorem et Pancratium, MA 9, 731), scissuram sonat. Sed omne peccatum scissuram quandam facit, secundum illud Isaiae LIX, peccata vestra diviserunt inter vos et Deum vestrum. Ergo schisma non est speciale peccatum.
(5) 2. Praeterea, illi videntur esse schismatici qui Ecclesiae non obediunt. Sed per omne peccatum fit homo inobedi- ens praeceptis Ecclesiae, quia peccatum, secundum Ambrosium (De parad., 8; PL 14, 309), est caelestium inobe- dientia mandatorum. Ergo omne peccatum est schisma.
(6) 3. Praeterea, haeresis etiam dividit hominem ab unitate fidei. Si ergo schismatis nomen divisionem importat, videtur quod non differat a peccato infidelitatis quasi speciale peccatum
(7) Sed contra est quod Augustinus, Contra Faustum (XX, 3; PL 45, 369), distinguit inter schisma et haeresim, dicens quod schisma est eadem opinantem atque eodem ritu colentem quo ceteri, solo congregationis delectari dissidio, haeresis vero diversa opinatur ab his quae Catholica credit Ecclesia. Ergo schisma non est generale peccatum.
(8) Respondeo dicendum quod, sicut Isidorus dicit, in libro
Раздел 1. Является ли схизма особым грехом
471
animorum). Но разделение противоположно единству. Поэтому грехом схизмы называется тот грех, который непосредственно и сущностно противоположен единству; ведь как в естественных вещах акциденции не конституируют вид, так и в вещах, относящихся к нравственности. И в последних сущностным является преднамеренное, а как бы акцидентальным — непреднамеренное. И потому грех схизмы в собственном смысле слова является особым видом греха, ведь схизматик намеренно отделяет себя от того единства, которое производит любовь-каритас, объединяющая не только двух людей узами духовной любви, но также и всю Церковь — единством духа. И потому схизматики в собственном смысле слова суть те, кто добровольно и преднамеренно отделяет себя от единства Церкви, каковое единство является главным: ведь частное единство тех или иных людей должно быть упорядочено по отношению к единству Церкви, подобно тому, как взаимная сопряженность отдельных членов природного тела упорядочена по отношению к единству всего тела.
(9) Однако единство Церкви достигается благодаря двум [вещам], а именно, бла¬
годаря взаимосвязи, или общению членов Церкви, а также упорядоченности всех членов Церкви по отношению к единому Главе, согласно сказанному (Кол 2, 18-19): Безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась Главы, от Которого все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Но Глава — это сам Христос, наместником Которого в Церкви является верховный понтифик. Поэтому схизматики суть те, кто отказывается подчиняться верховному понтифику и не находится в общении с членами Церкви, которые признают его главенство.
(ю) Итак, на первое надлежит ответить, что разделение между человеком и Богом, происходящее вследствие греха, не входит в намерение грешника: оно происходит ненамеренно из-за его неупорядоченного обращения к изменчивому благу. И потому это разделение не является схизмой в собственном смысле слова.
(и) На второе надлежит ответить, что смысловое содержание схизмы заключается в мятежном неповиновении заповедям; и я говорю «в мятежном неповиновении» потому, что схизматик не только упорно пренебрегает заповедями Церкви, но и отказыва-
Etymol. (VIII, 3; PL 82, 297), nomen schismatis a scissura animorum vocatum est. Scissio autem unitati opponitur. Unde peccatum schismatis dicitur quod directe et per se opponitur unitati, sicut enim in rebus naturalibus id quod est per accidens non constituit speciem, ita etiam nec in rebus moralibus. In quibus id quod est intentum est per se, quod autem sequitur praeter intentionem est quasi per accidens. Et ideo peccatum schismatis propne est speciale peccatum ex eo quod intendit se ab unitate separare quam cantas facit. Quae non solum alteram personam alten unit spirituali dilectionis vinculo, sed etiam totam Ecclesiam in unitate spiritus Et ideo propne schismatici dicuntur qui propria sponte et intentione se ab unitate Ecclesiae separant, quae est unitas principalis, nam unitas particulans aliquorum ad invicem ordinatur ad unitatem Ecclesiae, sicut compositio singulorum membrorum in corpore naturali ordinatur ad totius corporis unitatem.
(9) Ecclesiae autem unitas in duobus attenditur, scilicet in connexione membrorum Ecclesiae ad invicem, seu co¬
mmunicatione; et iterum in ordine omnium membrorum Ecclesiae ad unum caput; secundum illud ad Coloss. II, inflatus sensu camis suae, et non tenens caput, ex quo totum corpus, per nexus et coniunctiones subministratum et constructum, crescit in augmentum Dei. Hoc autem caput est ipse Chnstus, cuius vicem in Ecclesia gent summus pontifex Et ideo schismatici dicuntur qui subesse renuunt summo pontifici, et qui membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusant.
(10) Ad primum ergo dicendum quod divisio hominis a Deo per peccatum non est intenta a peccante, sed praeter intentionem eius accidit ex inordinata conversione ipsius ad commutabile bonum. Et ideo non est schisma, per se loquendo.
(11) Ad secundum dicendum quod non obedire praeceptis cum rebellione quadam constituit schismatis rationem. Dico autem cum rebellione, cum et pertinaciter praecepta Ecclesiae contemnit, et iudicium eius subire recusat. Hoc autem non facit quilibet peccator. Unde non omne
472
Вопрос 39. О схизме
ется подчиняться ее решениям. Но не каждый грешник поступает подобным образом. И потому не всякий грех является схизмой.
(12) На третье надлежит ответить, что ересь и схизма различаются сообразно тому, чему каждая из них непосредственно и сущност- но противоположна. Ведь ересь сущностно противоположна вере, а схизма сущностно противоположна единству церковной любви. И потому как вера и любовь-каритас являются различными добродетелями, хотя любой, кто лишен веры, лишен и любви-каритас, так и схизма и ересь являются различными пороками, хотя любой еретик является также и схизматиком, но не наоборот. И именно об этом говорит Иероним: Полагаю, что различие между схизмой и ересью заключается в том, что ересь содержит ложное учение, а схизма отделяет от Церкви. И поскольку утрата любви-каритас есть путь к утрате веры (согласно сказанному (1 Тим 1,6): От чего отступив, то есть от любви-каритас, некоторые уклонились в пустословие), постольку и схизма есть путь к ереси. Поэтому Иероним добавляет, что изначально еще можно найти некое частичное отличие схизмы от ереси, однако нет такой схизмы, которая бы не из¬
мыслила бы нечто еретическое, чтобы уже самым непосредственным образом отпасть от Церкви.
Раздел 2
Является ли схизма более тяжелым грехом, чем неверие
(13) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что схизма является более тяжелым грехом, чем неверие.
(и) 1. В самом деле, чем тяжелее грех, тем
тяжелее наказание, согласно этим словам (Втор 25, 2): Бить при себе, смотря по вине его, по счету. Но, как мы видим, грех схизмы наказывался строже, чем грех неверия или идолопоклонства. В самом деле, мы читаем, что за идолопоклонство некоторые были убиты людьми из своего народа (Исх 32, 28), тогда как о грехе схизмы сказано (Чис 16, 30): А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Кроме того, десять племен, которые согрешили грехом схизмы, восстав против Давида, были наказаны особенно сурово (2 Цар 17). Следовательно, грех схизмы является более тяжким грехом, чем грех неверия.
peccatum est schisma.
(12) Ad tertium dicendum quod haeresis et schisma distinguuntur secundum ea quibus utrumque per se et directe opponitur. Nam haeresis per se opponitur fidei, schisma autem per se opponitur unitati ecclesiasticae caritatis. Et ideo sicut fides et caritas sunt diversae virtutes, quamvis quicumque careat fide careat caritate; ita etiam schisma et haeresis sunt diversa vitia, quamvis quicumque est haereticus sit etiam schismaticus, sed non convertitur. Et hoc est quod Hieronymus dicit, in Epist. ad Gal. (In Tit. super 3, 10; PL 26, 633), inter schisma et haeresim hoc intéressé arbitror, quod haeresis perversum dogma habet, schisma ab Ecclesia separat. Et tamen sicut amissio caritatis est via ad amittendum fidem, secundum illud I ad Пт. I, a quibus quidam aberrantes, scilicet a caritate et aliis huiusmodi, conversi sunt in vaniloquium; ita etiam schisma est via ad haeresim. Unde Hieronymus ibidem subdit (ibid.) quod schisma a principio aliqua in parte potest intelligi diversum ab haeresi, ceterum nullum schisma est, nisi sibi aliquam
haeresim confingat, ut recte ab Ecclesia recessisse videatur.
Articulus 2 Utrum schism sit gravius peccatum infidelitate
(13) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod schisma gravius peccatum sit quam infidelitas.
(14) 1. Maius enim peccatum graviori poena punitur, secundum illud Deut. XXV, pro mensura peccati erit et plagarum modus. Sed peccatum schismatis gravius invenitur punitum quam etiam peccatum infidelitatis sive idololatriae. Legitur emm Exod. XXXII quod propter idololatriam sunt aliqui humana manu gladio interfecti, de peccato autem schismatis legitur Num. XVI, si novam rem fecerit dominus, ut aperiens terra os suum deglutiat eos et omnia quae ad illos pertinent, descenderintque viventes in Infernum, scietis quod blasphemaverunt dominum. Decem etiam tnbus, quae vitio schismatis a regno David recesserunt, sunt gravissime punitae, ut habetur II Reg. XVII. Ergo peccatum schismatis est gravius peccato infidelitatis.
Раздел 2. Является ли схизма более тяжелым грехом, чем неверие
473
(15) 2. Кроме того, согласно Философу, благо многих больше и божественнее, чем благо одного человека. Но схизма противоположна благу многих, т. е. церковному единству, а неверие противоположно частному благу одного человека, т. е. его вере. Следовательно, как представляется, схизма является более тяжким грехом, чем неверие.
(16) 3. Кроме того, согласно Философу, большему злу противоположно большее благо. Но схизма противоположна любви-каритас, которая является большей добродетелью, чем вера, которой противоположно неверие, как явствует из сказанного выше (В. 23, Р. 6). Следовательно, схизма является более тяжким грехом, чем неверие.
(17) Но против: возникшее в результате добавления больше того, к чему было произведено добавление, как в благом, так и в дурном. Но ересь, как явствует из приведенного выше (Р 1) авторитетного суждения Иеронима, возникает вследствие того, что к схизме добавляется ложное учение. Следовательно, схизма является менее тяжким грехом, чем неверие.
(18) Отвечаю: надлежит сказать, что тяжесть греха можно рассматривать двояко: во-первых, сообразно его виду; во-вторых,
сообразно обстоятельствам. И поскольку количество частных обстоятельств бесконечно, и они могут варьироваться бесконечным числом способов, то когда исследуется, который из двух грехов является более тяжким, этот вопрос следует понимать как вопрос о тяжести, определяемой сообразно роду греха. Но, как явствует из сказанного выше (Ч. II-I, В. 72, Р. 2; В. 73, Р. 3), свой род или вид грех получает сообразно своему объекту. И потому по своему роду более тяжким является тот грех, который противоположен большему благу: так, грех, совершенный против Бога, тяжелее греха, совершенного против ближнего. Однако ясно, что неверие является грехом, совершенным против самого Бога, сообразно тому, что Он сам по себе есть первая истина, на которую опирается вера. А схизма противоположна церковному единству, которое есть некое благо по причастности, меньшее, чем Бог. И из этого очевидно, что грех неверия по своему роду тяжелее греха схизмы, хотя может быть так, что тот или иной схизматик грешит более тяжким грехом, чем тот или иной неверующий: либо из-за того, что его презрение больше, либо из-за того, что его грех более опасен [для других], либо из-за чего-то подобного.
(15) 2. Praeterea, bonum multitudinis est maius et divinius quam bonum unius; ut patet per philosophum, in I Ethic. (2; 1094Ы0). Sed schisma est contra bonum multitudinis, idest contra ecclesiasticam unitatem, infidelitas autem est contra bonum particulare unius, quod est fides unius hominis singulans. Ergo videtur quod schisma sit gravius peccatum quam infidelitas.
(16) 3. Praeterea, maiori malo maius bonum opponitur; ut patet per philosophum, in VIII Ethic (10; 1160b9) Sed schisma opponitur cantati, quae est maior virtus quam fides, cui opponitur infidelitas, ut ex praemissis patet (q 23, a. 6). Ergo schisma est gravius peccatum quam infidelitas.
(17) Sed contra, quod se habet ex additione ad alterum potius est vel in bono vel in malo. Sed haeresis se habet per additionem ad schisma, addit enim perversum dogma, ut patet ex auctoritate Hieronymi supra inducta (a. 1). Ergo schisma est minus peccatum quam infidelitas.
(18) Respondeo dicendum quod gravitas peccati dupliciter potest considerari, uno modo, secundum suam speciem;
alio modo, secundum circumstantias. Et quia circumstantiae particulares sunt sunt infinitae, ita et infinitis modis variari possunt, cum quaeritur in communi de duobus peccatis quod sit gravius, intelligenda est quaestio de gravitate quae attenditur secundum genus peccati. Genus autem seu species peccati attenditur ex obiecto; sicut ex supradictis patet (II-I, q. 72, a. 2; q. 73, a. 3). Et ideo illud peccatum quod maiori bono contranatur est ex suo genere gravius, sicut peccatum in Deum quam peccatum in proximum. Manifestum est autem quod infidelitas est peccatum contra ipsum Deum, secundum quod in se est ventas pnma, cui fides innititur. Schisma autem est contra ecclesiasticam unitatem, quae est quoddam bonum participatum, et minus quam sit ipse Deus. Unde manifestum est quod peccatum infidelitatis ex suo genere est gravius quam peccatum schismatis, licet possit contingere quod aliquis schismaticus gravius peccet quam quidam infidelis, vel propter maiorem contemptum, vel propter maius periculum quod inducit, vel propter aliquid huiusmodi.
474
Вопрос 39. О схизме
(19) Итак, на первое надлежит ответить, что народу Израиля уже было явлено в воспринятом законе, что существует только один Бог и что нельзя поклоняться другим богам; и это было также подтверждено многими знамениями, данными этому народу И потому не было необходимости в том, чтобы наказывать тех, кто согрешил против этой веры грехом идолопоклонства, каким-либо особым способом, достаточно было обычного. С другой стороны, этому народу не было столь же хорошо известно, что его вождем должен быть только Моисей, и потому восставших против его власти надлежало наказать необычным и удивительным образом. Или же можно сказать, что этот народ иногда наказывался за грех схизмы особенно строго потому, что был склонен к отступничеству и мятежам, о чем сказано (1 Езд 4, 15): Город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения. Но, как было установлено выше (Ч. II-I, В. 105, Р. 2), иногда грех, наиболее привычный грешнику, наказывается особенно строго, ведь наказание есть некое лекарство, удерживающее человека от греха, так что чем больше склонность к греху, тем более строгим
должно быть наказание. Что же касается десяти племен, то они были наказаны не только за грех схизмы, но и за грех идолопоклонства, как говорится там же.
(20) На второе надлежит ответить, что как благо множества больше блага одного из членов этого множества, так же оно меньше того внешнего блага, по отношению к которому упорядочено множество; например, благо армейского подразделения меньше блага полководца. И точно так же благо церковного единства, которому противоположна схизма, меньше блага божественной истины, которому противоположно неверие.
(21) На третье надлежит ответить, что у любви-каритас есть два объекта, один — главный, и это божественная благость, а другой — второстепенный, и это благо ближнего. Но схизма и другие грехи против ближнего противоположны любви-каритас в том, что касается второстепенного блага, которое меньше объекта веры, т. е. Бога. И потому эти грехи являются меньшими сравнительно с неверием. А ненависть к Богу, которая противоположна любви- каритас в том, что касается главного объекта, не меньше неверия. Однако из всех гре-
(19) Ad primum ergo dicendum quod populo illi manifestum erat iam per legem susceptam quod erat unus Deus et quod non erant alii dii colendi, et hoc erat apud eos per multiplicia signa confirmatum Et ideo non oportebat quod peccantes contra hanc fidem per idololatriam punirentur inusitata aliqua et insolita poena, sed solum communi Sed non erat sic notum apud eos quod Moyses deberet esse semper eorum pnnceps. Et ideo rebellantes eius principatui oportebat miraculosa et insueta poena puniri. Vel potest dici quod peccatum schismatis quandoque gravius est punitum in populo illo quia erat ad seditiones et schismata promptus, dicitur enim I Esdr. IV, civitas illa a diebus antiquis adversus regem rebellat, et seditiones et praelia concitantur in ea. Poena autem maior quandoque infligitur pro peccato magis consueto, ut supra habitum est (II-I, q. 105, a. 2, ad 9), nam poenae sunt medicinae quaedam ad arcendum homines a peccato; unde ubi est maior pronitas ad peccandum, debet severior poena adhiberi. Decem autem tribus non solum fuerunt punitae pro peccato schismatis, sed etiam pro peccato idololatriae, ut
ibidem dicitur
(20) Ad secundum dicendum quod sicut bonum multitudinis est maius quam bonum unius qui est de multitudine, ita est minus quam bonum extnnsecum ad quod multitudo ordinatur, sicut bonum ordinis exercitus est minus quam bonum ducis. Et similiter bonum ecclesiasticae unitatis, cui opponitur schisma, est minus quam bonum ventatis divinae, cui opponitur infidelitas.
(21) Ad tertium dicendum quod caritas habet duo obiec- ta, unum pnncipale, scilicet bonitatem divinam, et aliud secundanum, scilicet bonum proximi. Schisma autem et alia peccata quae fiunt in proximum opponuntur caritati quantum ad secundanum bonum, quod est minus quam obiectum fidei, quod est ipse Deus. Et ideo ista peccata sunt minora quam infidelitas. Sed odium Dei, quod opponitur caritati quantum ad pnncipale obiectum, non est minus. Tamen inter peccata quae sunt in proximum, peccatum schismatis videtur esse maximum, quia est contra spirituale bonum multitudinis.
Раздел 3. Обладают ли схизматики какой-либо [духовной] властью
475
хов, совершаемых против ближнего, грех схизмы, судя по всему, является наибольшим, поскольку он противоположен духовному благу множества.
Раздел 3
Обладают ли схизматики какой-либо [духовной] властью
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что схизматики обладают некоей [духовной] властью.
(23) 1. В самом деле, Августин говорит: Подобно тому, как те, кто уже был крещен, не перекрещиваются после возвращения в Церковь, так и те, кто был рукоположен, по возвращении второй раз не рукополагаются. Но рукоположение есть наделение некоей властью. Следовательно, схизматики, поскольку их рукоположение остается в силе, сохраняют и определенную власть.
(24) 2. Кроме того, Августин говорит: Отделившийся может совершать таинства и принимать их. Но власть совершения таинств есть высшая власть. Следовательно, схизматики, отделившиеся от Церкви, обладают духовной властью.
(25) 3. Кроме того, папа Урбан говорит: Мы предписываем, чтобы посвященные в епи¬
скопский сан по католическому обряду, но через схизму отделившие себя от Римской Церкви, в случае их возвращения к церковному единству милостиво принимались с сохранением посвящения, если это позволяют их жизнь и опытность. Но такого не было бы, если бы схизматики не сохраняли духовную власть. Следовательно, схизматики обладают духовной властью.
(26) Но против: Киприан говорит: Тот, кто не блюдет единство духа и мир общины и отделяет себя от церковных уз и священнической коллегии, не может обладать ни епископской властью, ни епископским титулом.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что духовная власть бывает двух типов: священническая и юридическая. Священническая власть сообщается при помощи некоего посвящения. Но все церковные освящения сохраняются, пока сохраняется сама освященная вещь, как ясно на примере неодушевленных вещей, поскольку единожды освященный алтарь не освящается вторично, если только он не был разрушен. Поэтому такая власть по своей сущности сохраняется в человеке, который был посвящен, до тех пор, пока он жив, даже если он впал в схизму или ересь, что явствует из то-
Articulus 3
Utrum schismatici habeant aliquam potestatem
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod schismatici habeant aliquam potestatem.
(23) 1 Dicit enim Augustinus, in libro Contra Donatist. (I, 1, PL 43, 109), sicut redeuntes ad Ecclesiam qui priusquam recederent baptizati sunt non rebaptizantur, ita redeuntes qui priusquam recederent ordinati sunt non utique rursus ordinantur. Sed ordo est potestas quaedam Ergo schismatici habent aliquam potestatem, quia retinent ordinem.
(24) 2. Praeterea, Augustinus dicit, in libro De unie. bapt. ('Contra Donat., VI, 5; PL 43, 200), potest sacramentum tradere separatus, sicut potest habere separatus. Sed potestas tradendi sacramenta est maxima potestas. Ergo schismatici, qui sunt ab Ecclesia separati, habent potestatem spintualem.
(25) 3. Praeterea, Urbanus Papa dicit quod ab episcopis quondam Catholice ordinatis sed in schismate a Romana
Ecclesia separatis qui consecrati sunt, eos, cum ad Ecclesiae unitatem redierint, servatis propriis ordinibus, misericorditer suscipi iubemus, si eos vita et scientia commendat (Synodus Placentina, can. 10; MA 20, 806). Sed hoc non esset nisi spiritualis potestas apud schismaticos remaneret. Ergo schismatici habent spiritualem potestatem.
(26) Sed contra est quod Cyprianus dicit in quadam epistola, et habetur VI1, qu. I, Can. Novatianus (Gratianus, Decretum, II, causa 7, q. 1, can. 6; Novaciano', RF 1, 568), qui nec unitatem, inquit, spiritus nec conventionis pacem observat, et se ab Ecclesiae vinculo atque a sacerdotum collegio separat, nec episcopi potestatem habere potest nec honorem.
(27) Respondeo dicendum quod duplex est spiritualis potestas, una quidem sacramentalis; alia iurisdictionalis. Sacra- mentalis quidem potestas est quae per aliquam consecrationem confertur. Omnes autem consecrationes Ecclesiae sunt immobiles, manente re quae consecratur, sicut patet etiam in rebus inanimatis, nam altare semel consecratum non consecratur iterum nisi fuerit dissipatum. Et ideo ta-
476
Вопрос 39. О схизме
го, что в случае возвращения в Церковь его вторично не посвящают. Но поскольку низшая способность не должна осуществлять свое действие, если ее не движет высшая способность, как это мы видим даже в естественных вещах, постольку такие люди утрачивают право пользования, так именно, что им не дозволяется использовать свою власть. Но если они ее все- таки используют, то она сохраняет свою силу при совершении таинств, поскольку при этом человек есть не более, чем орудие Божие, и потому действительность таинств не может быть отменена каким-либо грехом того, кто их совершает. Что же касается юридической власти, то она сообщается простым человеческим установлением. И такая власть не является неотъемлемой. И потому она не сохраняется у схизматиков и еретиков. Поэтому они не могут ни разрешать, ни давать индульгенцию, ни отлучать, ни делать что-либо подобное; и если даже они это сделают, то таковое не будет иметь силы. И потому когда говорится, что такие люди лишены духовной власти, то это следует понимать по отношению ко второму ее виду, или же, если
подразумевается первый вид, они лишены не сущности власти, а права ею пользоваться.
(28) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 4
Подобает ли наказывать схизматиков отлучением
(29) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что схизматиков не подобает наказывать отлучением.
(30) 1. В самом деле, отлучение максимально удаляет человека от общения в таинствах. Но Августин говорит, что крещение можно принять и от схизматика. Следовательно, как представляется, не подобает наказывать схизматиков отлучением.
(31) 2. Кроме того, возвращение заблудших входит в обязанности верных Христовых, потому и осуждаются те, кто угнанных не возвращали и потерянных не искали (Иез 34, 4). Но схизматиков легче всего вернуть тем, кто общается с ними. Следовательно, как кажется, их не требуется отлучать.
lis potestas secundum suam essentiam remanet in homine qui per consecrationem eam est adeptus quandiu vivit, sive in schisma sive in haeresim labatur, quod patet ex hoc quod rediens ad Ecclesiam non iterum consecratur. Sed quia potestas inferior non debet exire in actum nisi secundum quod movetur a potestate superiori, ut etiam in rebus naturalibus patet; inde est quod tales usum potestatis amittunt, ita scilicet quod non liceat eis sua potestate uti Si tamen usi fuerint, eorum potestas effectum habet in sacramentalibus, quia in his homo non operatur nisi sicut instrumentum Dei; unde effectus sacramentales non excluduntur propter culpam quamcumque conferentis sacramentum. Potestas autem iurisdictionalis est quae ex simplici iniunctione hominis confertur. Et talis potestas non immobiliter adhaeret. Unde in schismaticis et haereticis non manet. Unde non possunt nec absolvere nec excommunicare nec indulgentias facere, aut aliquid huiusmodi, quod si fecerint, nihil est actum. Cum ergo dicitur tales non habere potestatem spiritualem, intelli-
gendum est vel de potestate secunda, vel, si referatur ad primam potestatem, non est referendum ad ipsam essentiam potestatis, sed ad legitimum usum eius.
(28) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 4
Utrum sit conveniens poena schismaticorum ut excommunicentur
(29) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod poena schismaticorum non sit conveniens ut excommunicentur.
(30) 1. Excommunicatio enim maxime separat hominem a communione sacramentorum. Sed Augustinus dicit, in libro Contra Donatist. (VI, 5; PL 43, 200), quod Baptisma potest recipi a schismatico Ergo videtur quod excommunicatio non est conveniens poena schismatis.
(31) 2. Praeterea, ad fideles Chnsti pertinet ut eos qui sunt dispersi reducant, unde contra quosdam dicitur Ezech. XXXIV, quod abiectum est non reduxistis, quod perierat non quaesistis. Sed schismatici convenientius reducuntur per aliquos qui eis communicent Ergo videtur quod non sint
Раздел 4. Подобает ли наказывать схизматиков отлучением
477
(32) 3. Кроме того, за один и тот же грех дважды не наказывают, согласно этим словам (Наум 1,9): Бог совершит Свой суд, и он уже не повторится. Но некоторые за грех схизмы наказываются мирскими наказаниями, поскольку, согласно «Декреталиям», по божественному и мирскому законам те, кто отпал от единства Церкви и нарушил ее мир, подлежат наказанию со стороны светских властей. Следовательно, их не требуется наказывать еще и отлучением.
(33) Но против: сказано (Чис 16, 26): Отойдите от шатров нечестивых людей сих, то есть схизматиков, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их.
(34) Отвечаю: надлежит сказать, что, согласно Писанию, чем кто согрешил, тем и наказывается (Прем 11, 17). Но схизматики, как явствует из сказанного выше (Р. 1), грешат в двух отношениях. Во-первых, они отделяют себя от общения с чле¬
нами Церкви. И в этом отношении подобающим наказанием для них является отлучение. Во-вторых, они отказываются подчиняться главе Церкви. И поскольку они не желают подчиняться духовной власти Церкви, постольку справедливо, чтобы их подчинила светская власть.
(35) Итак, на первое надлежит ответить, что креститься у схизматика позволительно только в случае крайней необходимости: постольку, поскольку человеку лучше уйти из этой жизни со знаком Христовым, который обретается посредством крещения, чем без этого знака, хотя бы даже крещение было принято от иудея или язычника.
(36) На второе надлежит ответить, что отлучение не запрещает того общения, благодаря которому отделившихся посредством целительных увещаний можно вернуть в церковное единство. Однако и само отделение иногда возвращает их, поскольку, смущенные им, они приходят к покаянию.
excommunicandi.
(32) 3 Praeterea, pro eodem peccato non infligitur duplex poena, secundum illud Nahum I, non iudicabit Deus bis in idipsum. Sed pro peccato schismatis aliqui poena temporali puniuntur, ut habetur XXIII, qu. V, ubi dicitur (Gratianus, Decretum, II, causa 23, q. 5, can. 44; Quali nos; RF 1, 943), divinae et mundanae leges statuerunt ut ab Ecclesiae unitate divisi, et eius pacem perturbantes, a saecularibus potestatibus comprimantur Non ergo sunt puniendi per excommunicationem.
(33) Sed contra est quod Num. XVI dicitur, recedite a tabernaculis hominum impiorum, qui scilicet schisma fecerant, et nolite tangere quae ad eos pertinent, ne involvamini in peccatis eorum.
(34) Respondeo dicendum quod per quae peccat quis, per ea debet puniri, ut dicitur Sap XI Schismaticus autem, ut ex dictis patet (a. 1), in duobus peccat In uno quidem, quia separat se a communione membrorum Ecclesiae. Et quan¬
tum ad hoc conveniens poena schismaticorum est ut excommunicentur. In alio vero, quia subdi recusant capiti Ecclesiae. Et ideo, quia coerceri nolunt per spiritualem potestatem Ecclesiae, iustum est ut potestate temporali coerceantur.
(35) Ad primum ergo dicendum quod Baptismum a schismaticis recipere non licet nisi in articulo necessitatis, quia melius est de hac vita cum signo Christi exire, a quocumque detur, etiam si sit Iudaeus vel Paganus, quam sine hoc signo, quod per Baptismum confertur.
(36) Ad secundum dicendum quod per excommunicationem non interdicitur illa communicatio per quam aliquis salubribus monitis divisos reducit ad Ecclesiae unitatem. Tamen et ipsa separatio quodammodo eos reducit, dum, de sua separatione confusi, quandoque ad poenitentiam adducuntur.
478
Вопрос 39. О схизме
(37) На третье надлежит ответить, что наказания земной жизни суть лекарства, и потому если одного наказания для принуждения человека оказывается недостаточно, то добавляют другое. В самом деле, как врачи используют разные телесные лекарства,
если одно оказывается недейственным, так и Церковь: когда кого-то не может сдержать отлучение, добавляется принуждение со стороны светских властей. А если одного наказания оказывается достаточно, то другое не следует применять.
(37) Ad tertium dicendum quod poenae praesentis vitae sunt medicinales; et ideo quando una poena non sufficit ad coercendum hominem, superadditur altera, sicut et medici diversas medicinas corporales apponunt quando una non
est efficax et ita Ecclesia, quando aliqui per excommunicationem non sufficienter reprimuntur, adhibet coercionem brachii saecularis. Sed si una poena sit sufficiens, non debet alia adhiben.
Вопрос 40
О войне
(1) Далее надлежит рассмотреть войну. И касательно этого исследуются четыре [проблемы]: 1) позволительно ли вести войну; 2) могут ли духовные лица принимать непосредственное участие в сражениях; 3) позволительно ли использовать военные хитрости; 4) допустимо ли сражаться в святые дни.
Раздел 1 Всякая ли война греховна
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что всякая война греховна.
(3) 1. В самом деле, наказание налагается
за грех. Но тем, кто ведет войну, Господь обещал наказание, согласно этим словам (Мф 26, 52): Все, взявшие меч, мечом погибнут. Следовательно, любая война непозволительна.
(4) 2. Кроме того, все, что противоречит божественной заповеди, есть грех. Но война противоречит божественной заповеди, ибо сказано (Мф 5, 39): ^4 Я говорю вам —
не противься злому; и еще: Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Бо- жию (Рим 12, 19). Следовательно, война всегда греховна.
(5) 3. Кроме того, действию добродетели противоположен только грех. Но война противоположна миру. Следовательно, война всегда греховна.
(6) 4. Кроме того, любое упражнение в чем-то позволительном позволительно всегда, как видно на примере научных занятий. Но военные упражнения, которые имеют место на турнирах, запрещены Церковью, а погибшим на таких состязаниях отказывают в церковных похоронах. Следовательно, как представляется, война во всех отношениях есть грех.
(7) Но против: Августин говорит: Если бы христианское учение полностью запрещало войны, то ищущим в Евангелии совет о спасении рекомендовалось бы оставить оружие и уйти с военной службы. Однако воинам было сказано (Лк 3, 14): «Никого не обижайте и довольствуйтесь своим жалованием».
Quaestio 40 De bello
(1) Deinde considerandum est de bello. Et circa hoc quae- et Rom XII dicitur, non vos defendentes, carissimi, sed date
runtur quatuor. Primo, utrum aliquod bellum sit licitum. locum irae. Ergo bellare semper est peccatum.
Secundo, utrum clericis sit licitum bellare. Tertio, utrum (5) 3. Praeterea, nihil contranatur actui virtutis nisi pec-
liceat bellantibus uti insidiis Quarto, utrum liceat in diebus catum. Sed bellum contrariatur paci Ergo bellum semper
festis bellare. est peccatum.
Articulus 1 (6) 4 Praeterea, omne exercitium ad rem licitam licitum
Utrum bellare sit semper peccatum est, sicut patet in exercitiis scientiarum. Sed exercitia bel-
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod bellare semper lorum, quae fiunt in tomeamentis, prohibentur ab Eccle-
sit peccatum. sia, quia monentes in huiusmodi tyrociniis ecclesiastica
(3) 1 Poena enim non infligitur nisi pro peccato. Sed bel- sepultura pnvantur. Ergo bellum videtur esse simpliciter
lantibus a domino indicitur poena, secundum illud Matth. peccatum
XXVI, omnis qui acceperit gladium gladio peribit. Ergo (7) Sed contra est quod Augustinus dicit (Epist 138 ad
omne bellum est illicitum. Marcellinum, 2; PL 33, 531), in sermone de puero cen-
(4) 2. Praeterea, quidquid contranatur divino praecepto turionis, si Christiana disciplina omnino bella culparet, hoc
est peccatum. Sed bellare contranatur divino praecepto, potius consilium salutis petentibus in Evangelio daretur, ut
dicitur enim Matth V, ego dico vobis non resistere malo; abiicerent arma, seque militiae omnino subtraherent Dictum
480
Вопрос 40. О войне
Но поскольку Иоанн наказал им довольствоваться жалованием, значит, он не запрещал военную службу.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, для того чтобы война было оправданной, необходимы три [вещи]. Во-первых, решение правителя, по приказу которого надлежит начинать военные действия. В самом деле, объявлять войну должно не частное лицо, которое может отстаивать свои права в суде вышестоящего [лица]. Кроме того, созыв войск, необходимых для войны, также не является делом частного лица. И поскольку забота об общественном благе возложена на правителей, постольку именно их делом является обеспечение блага вверенного им города, царства или провинции. И подобно тому, как правители вправе применять материальный меч для их защиты от внутренних опасностей, например, карая злодеев (согласно этим словам апостола (Рим 13, 4): Он не напрасно носит меч; он — Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое), точно так же они должны вынимать из ножен меч войны, если требуется защитить общественное благо от внешних врагов. Поэтому правителям сказано (Пс 81,4): Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечести-
est autem eis, neminem concutiatis; estote contenti stipendiis vestris. Quibus proprium stipendium sufficere praecepit, militare non prohibuit.
(8) Respondeo dicendum quod ad hoc quod aliquod bellum sit iustum, tria requiruntur. Primo quidem, auctontas principis, cuius mandato bellum est gerendum. Non enim pertinet ad personam privatam bellum movere, quia potest ius suum in iudicio superioris prosequi Similiter etiam quia convocare multitudinem, quod in bellis oportet fieri, non pertinet ad privatam personam. Cum autem cura reipublicae commissa sit principibus, ad eos pertinet rem publicam civitatis vel regni seu provinciae sibi subditae tuen. Et sicut licite defendunt eam materiali gladio contra intenores quidem perturbatores, dum malefactores puniunt, secundum illud apostoli, ad Rom XIII, non sine causa gladium portat, minister enim Dei est, vindex in iram ei qui male agit; ita etiam gladio bellico ad eos pertinet rempublicam tuen ab extenonbus hostibus Unde et pnn- cipibus dicitur in Psalm., eripite pauperem, et egenum de
вых. И Августин говорит, что естественный порядок, приспособленный для поддержания мира между смертными, требует, чтобы право начинать и вести войну принадлежало правителям.
(9) Во-вторых, необходимо наличие законной причины, такой, чтобы те, кому объявляется война, заслужили это наказание некоей своей виной. Поэтому Августин и говорит, что справедливой должна называться та война, которая является возмездием за несправедливость, а именно, когда требуется покарать народ или государство за отказ возместить зло, причиненное их представителями, или вернуть то, что было незаконно захвачено.
(ю) В-третьих, необходимо, чтобы намерение воюющих было правильным, т. е. чтобы они хотели либо произвести добро, либо предотвратить зло. И потому Августин говорит, что среди истинных почитателей Бога миролюбивыми войнами считаются те, которые ведутся не ради выгоды или из жестокости, но в заботе о мире: чтобы зло было наказано, а добро восторжествовало. В самом деле, иногда бывает так, что война объявляется законной властью и по законной причине, но, тем не менее, является несправедливой из-за намерения,
manu peccatoris liberate. Unde Augustinus dicit, Contra Faust (XX, 75; PL 42, 448), ordo naturalis, mortalium paci accommodatus, hoc poscit, ut suscipiendi belli auctoritas atque consilium penes principes sit.
(9) Secundo, requintur causa iusta, ut scilicet illi qui impugnantur propter aliquam culpam impugnationem mereantur Unde Augustinus dicit, in libro Quaest. (Quaest. in Heptat. 6, q. 10, super Jos 8, 2; PL 34, 781), iusta bella solent definiri quae ulciscuntur iniurias, si gens vel civitas plectenda est quae vel vindicare neglexerit quod a suis improbe factum est, vel reddere quod per iniuriam ablatum est.
(10) Tertio, requintur ut sit intentio bellantium recta, qua scilicet intenditur vel ut bonum promoveatur, vel ut malum vitetur. Unde Augustinus, in libro De verbis Dom. (cf. De civ. Dei, XIX, 12; PL 41, 637), apud veros Dei cultores etiam illa bella pacata sunt quae non cupiditate aut crudelitate, sed pacis studio geruntur, ut mali coerceantur et boni subleventur. Potest autem contingere quod etiam si sit legitima auctoritas indicentis bellum et causa iusta, nihilominus propter
Раздел 1. Всякая ли война греховна
481
ибо, как говорит Августин, жажда разрушения, стремление к жестокой мести, неумолимый и ненасытный дух, лихорадочная мятежностъ и все такое прочее, если что еще можно вспомнить — вот то, в чем справедливо обвиняют войну.
(И) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Августин, «взять меч» — значит вооружиться, чтобы отнять чью-то жизнь без приказа или согласия вышестоящего лица или законной власти. Но если меч использует частное лицо по приказу правителя или судьи, или же должностное лицо — из стремления к справедливости, как бы по велению Божию, то об этом человеке не говорят, что он «взял меч», поскольку он был уполномочен другими. И потому он не заслуживает наказания. Однако же тот, кто использует меч греховно, не всегда убиваем мечом. Но он всегда погибает от своего меча в том смысле, что будет навечно осужден за этот грех, если не покается.
(12) На второе надлежит ответить, что подобные заповеди, как говорит Августин, должны соблюдаться в том, что касается готовности духа, а именно, чтобы человек всегда был готов не противиться и не мстить, если возникнет повод. Но
иногда ради общественного блага (или даже ради блага тех, с кем сражаются) следует действовать по-другому. Поэтому Августин говорит, что с теми, кого нам надлежит с благожелательной суровостью наказывать, часто приходится действовать против их воли. Ведь когда мы по праву очищаем человека от нечестия, для него полезно покориться, поскольку нет ничего более несчастного, чем счастье грешника, которым, словно внутренним врагом, подпитываются вина безнаказанности и злонамеренность воли.
(и) На третье надлежит ответить, что те, кто ведут справедливые войны, желают мира. И они противостоят разве что дурному миру, но не его Господь пришел принести на землю (Мф 10, 34). И потому Августин говорит: Мы не ищем мира ради войны, но ведем войну ради мира. Итак, даже на войне будь миротворцем, чтобы своей победой привести врагов к благам мира.
(и) На четвертое надлежит ответить, что военные упражнения запрещаются не всегда, а только тогда, когда они неупорядо- чены, опасны и могут привести к смертям и беспорядкам. Но в прежние времена военные упражнения не были сопряжены с подобными опасностями, и потому,
pravam intentionem bellum reddatur illicitum. Dicit enim Augustinus, in libro Contra Faust. (XX, 74; PL 42, 447), nocendi cupiditas, ulciscendi crudelitas, implacatus et implacabilis animus, feritas rebellandi, libido dominandi, et si qua sunt similia, haec sunt quae in bellis iure culpantur.
(11) Ad primum ergo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in II lib Contra Manich. (cf Contra Faust., XX, 70; PL 42, 444), ille accipit gladium qui, nulla superiori aut legitima potestate aut iubente vel concedente, in sanguinem alicuius armatur. Qui vero ex auctoritate pnncipis vel iudicis, si sit persona privata; vel ex zelo iustitiae, quasi ex auctoritate Dei, si sit persona publica, gladio utitur, non ipse accipit gladium, sed ab alio sibi commisso utitur. Linde ei poena non debetur. Nec tamen illi etiam qui cum peccato gladio utuntur semper gladio occiduntur. Sed ipso suo gladio semper pereunt, quia pro peccato gladii aeternaliter puniuntur, nisi poeniteant.
(12) Ad secundum dicendum quod huiusmodi praecepta, sicut Augustinus dicit, in libro De serm. Dom. in monte (I,
19; PL 34, 1260), semper sunt servanda in praeparatione animi, ut scilicet semper homo sit paratus non resistere vel non se defendere si opus fuerit. Sed quandoque est aliter agendum propter commune bonum, et etiam illorum cum quibus pugnatur. Unde Augustinus dicit, in Epist. ad Mar- cellinum (Epist. 137, 2; PL 33, 531), agenda sunt multa etiam cum invitis benigna quadam asperitate plectendis. Nam cui licentia iniquitatis eripitur, utiliter vincitur, quoniam nihil est infelicius felicitate peccantium, qua poenalis nutritur impunitas, et mala voluntas, velut hostis interior, roboratur.
(13) Ad tertium dicendum quod etiam illi qui iusta bella gerunt pacem intendunt. Et ita paci non contrariantur nisi malae, quam dominus non venit mittere in terram, ut dicitur Matth. X. Unde Augustinus dicit, ad Bonifacium (Epist. 189; PL 33, 856), non quaeritur pax ut bellum exerceatur, sed bellum geritur ut pax acquiratur. Esto ergo bellando pacificus, ut eos quos expugnas ad pacis utilitatem vincendo perducas.
(14) Ad quartum dicendum quod exercitia hominum ad res
482
Вопрос 40. О войне
как говорит Иероним, назывались «военной подготовкой» или «бескровными войнами».
Раздел 2 Могут ли клирики и епископы принимать участие в сражениях
(15) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что клирики и епископы могут принимать участие в сражениях.
(16) 1. В самом деле, как уже было сказано (Р. 1), войны являются оправданными и справедливыми настолько, насколько защищают бедных и государство в целом от вреда, причиняемого врагами. Но, как кажется, это относится прежде всего к прелатам, ибо, как говорит Григорий, волк идет на стадо, когда нечестивый и хищный угнетает верных и смиренных. А ложный пастырь бросает овец и бежит, боясь возможной опасности для себя и не решаясь восстать против несправедливости. Следовательно, прелатам и клирикам дозволяется принимать участие в сражениях.
(17) 2. Кроме того, папа Лев пишет: В свете постоянных печальных известий о сарацинах начали говорить о том, что они планируют тайно высадиться в римском порту, вследствие чего мы приказали всем нашим людям
собраться и спуститься к побережью. Следовательно, епископам дозволяется принимать участие в сражении.
(18) 3. Кроме того, очевидно, что человек на одном и том же основании делает нечто и одобряет того, кто делает это, согласно сказанному (Рим 1, 32): Делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Но особенно одобряют что-либо те, кто побуждает делать это других. Однако епископам и клиру позволительно побуждать других к военным действиям; так, в «Декреталиях» сказано о том, что Карл предпринял войну против лангобардов по настоятельной просьбе римского епископа Адриана. Следовательно, им позволительно также принимать участие в сражениях.
(19) 4. Кроме того, все, что само по себе достойно и заслуживает награды, позволительно прелатам и клирикам. Но участие в войне иногда достойно и заслуживает награды, поскольку в «Декреталиях» сказано, что если человек погибнет за истину веры, свою страну или защищая христиан, то Бог дарует ему награду на небесах. Следовательно, епископам и клирикам позволительно принимать участие в сражениях.
bellicas non sunt universaliter prohibita, sed inordinata exercitia et periculosa, ex quibus occisiones et depraedationes proveniunt. Apud antiquos autem exercitationes ad bella sine huiusmodi periculis erant, et ideo vocabantur meditationes armorum, vel bella sine sanguine, ut per Hieronymum patet, in quadam epistola (cf. Vegetius, De re milit, I, 9).
Articulus 2 Utrum clericis et episcopis sit licitum pugnare
(15) Ad secundum sic proceditur Videtur quod clericis et episcopis liceat pugnare.
(16) 1. Bella enim intantum sunt licita et iusta, sicut dictum est (a. 1), inquantum tuentur pauperes et totam rempub- licam ab hostium iniuriis. Sed hoc maxime videtur ad praelatos pertinere, dicit enim Gregorius (In Evang. 1, hom. 14; PL 76, 1128), in quadam homilia, lupus super oves venit, cum quilibet iniustus et raptor fideles quosque atque humiles opprimit. Sed is qui pastor videbatur esse et non erat, relinquit oves et fugit, quia dum sibi ab eo pe¬
riculum metuit, resistere eius iniustitiae non praesumit. Ergo praelatis et clencis licitum est pugnare.
(17) 2. Praeterea, XXIII, qu. VIII, Leo Papa scribit (Gratianus, Decretum, p. 2, causa 23, q. 8, can. 7: Igitur; RF 1,
954), cum saepe adversa a Saracenorum partibus pervenerint nuntia, quidam in Romanorum portum Saracenos clam furtiveque venturos esse dicebant. Pro quo nostrum congregari praecepimus populum, maritimumque ad littus descendere decrevimus. Ergo episcopis licet ad bella procedere.
(18) 3. Praeterea, eiusdem rationis esse videtur quod homo aliquid faciat, et quod facienti consentiat, secundum illud Rom. I, non solum digni sunt morte qui faciunt, sed et qui consentiunt facientibus. Maxime autem consentit qui ad aliquid faciendum alios inducit. Licitum autem est episcopis et clencis inducere alios ad bellandum, dicitur enim XXIII, qu. VIII, quod hortatu et precibus Adriani Romanae urbis episcopi, Carolus bellum contra Longobardos suscepit. (Gratianus, Decretum, p. 2, causa 23, q. 8, can. 10.Hortatu; RF 1, 955). Ergo etiam eis licet pugnare.
(19) 4. Praeterea, illud quod est secundum se honestum
Раздел 2. Могут ли клирики и епископы принимать участие в сражениях
483
(20) Но против: В лице Петра епископам ся как торговлей, поскольку она требует
и клирикам было сказано (Ин 18, 11): Вло- слишком большого внимания, так и воин-
уси меч в ножны. Следовательно, им нельзя ским делом, согласно этим словам (2 Тим 2,
принимать участие в сражениях. 4): Никакой воин Божий не связывает себя
(21) Отвечаю: надлежит сказать, что для делами житейскими1.
блага человеческого сообщества требует- (22) Вторая причина является особой. В са-
ся многое. Но, как явствует из слов Философа, многое делается многими лучше и легче, чем одним. И при этом некоторые занятия настолько несовместимы друг с другом, что обычно не могут делаться одновременно. Поэтому тем, кто занимается чем-то значительным, запрещено делать нечто меньшее; так, сообразно человеческим законам солдатам, которым поручено заниматься военным делом, запрещено тратить время на торговлю. Но занятия военным делом радикально противоположны тем обязанностями, которые поручены епископам и клирикам, в силу двух причин. Первая, общая, заключается в том, что военное дело является занятием крайне беспокойным, которое препятствует душе созерцать божественные вещи, славить Бога и молиться за народ, т. е. делать то, что входит в обязанности духовных лиц. И потому клирикам запрещено занимае¬
мом деле, все церковные чины определены к служению таинства алтаря, в каковом таинстве представлены страсти Христовы, согласно сказанному (1 Кор 11, 26): Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Поэтому им подобает не убивать и проливать чужую кровь, а пребывать в готовности пролить собственную кровь за Христа, чтобы на деле уподобиться Ему в том, что они представляют в своем служении. И потому постановлено, чтобы клирики, пролившие чужую кровь, пусть и безвинно, освобождались от служения. Но когда человек имеет некие обязанности, ему непозволительно делать то, в результате чего он становится непригодным к их исполнению. Поэтому клирикам никоим образом нельзя участвовать в сражениях, ведь сражения подразумевают пролитие крови.
et meritorium non est illicitum praelatis et clericis. Sed bellare est quandoque et honestum et meritorium, dicitur enim XXIII, qu. VIII, quod si aliquis pro ventate fidei et salvatione patnae ac defensione Christianorum mortuus fuerit, a Deo caeleste praemium consequetur (Gratianus, Decretum, p. 2, causa 23, q. 8, can 9: Omni timore; RF 1,
955) Ergo licitum est episcopis et clericis bellare.
(20) Sed contra est quod Petro, in persona episcoporum et clericorum, dicitur Matth. XXVI, converte gladium tuum in vaginam Non ergo licet eis pugnare.
(21) Respondeo dicendum quod ad bonum societatis humanae plura sunt necessana. Diversa autem a diversis melius et expeditius aguntur quam ab uno, ut patet per philosophum, in sua Politica (I, 1, 1252b3). Et quaedam negotia sunt adeo sibi repugnantia ut convenienter simul exerceri non possint. Et ideo illis qui maioribus deputantur prohibentur minora, sicut secundum leges humanas militibus, qui deputantur ad exercitia bellica, negotiationes interdicuntur. Bellica autem exercitia maxime repugnant
illis officiis quibus episcopi et clerici deputantur, propter duo. Pnmo quidem, generali ratione, quia bellica exercitia maximas inquietudines habent, unde multum impediunt animum a contemplatione divinorum et laude Dei et oratione pro populo, quae ad officium pertinent clericorum. Et ideo sicut negotiationes, propter hoc quod nimis implicant animum, interdicuntur clericis, ita et bellica exercitia, secundum illud II ad Tim. II, nemo militans Deo implicat se saecularibus negotiis.
(22) Secundo, propter specialem rationem. Nam omnes clericorum ordines ordinantur ad altans ministenum, in quo sub sacramento repraesentatur passio Chnsti, secundum illud I ad Cor. XI, quotiescumque manducabitis panem hunc et calicem bibetis, mortem domini annuntiabitis, donec veniat. Et ideo non competit eis occidere vel effundere sanguinem, sed magis esse paratos ad propnam sanguinis effusionem pro Chnsto, ut imitentur opere quod gerunt ministeno. Et propter hoc est institutum ut effundentes sanguinem, etiam sine peccato, sint irreguläres. Nulli autem qui est
484
Вопрос 40. О войне
(23) Итак, на первое надлежит ответить, что прелаты должны противостоять не только тем волкам, которые несут стаду духовную смерть, но и тем угнетателям и тиранам, которые причиняют телесный вред. Однако они должны делать это с помощью духовного, а не материального оружия, обращая его против соответствующего лица, согласно сказанному апостолом (2 Кор 10,
4): Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. А таковыми являются спасительные увещания и благочестивые молитвы, а для упорствующих — отлучения.
(24) На второе надлежит ответить, что прелаты и клирики могут, по распоряжению вышестоящих, принимать участие в войнах, но не сражаясь с оружием в руках, а оказывая духовную поддержку тем, кто сражается за правое дело, ободряя их, отпуская грехи и т. п. Так, в ветхом законе священникам было предписано участвовать в битве, трубя в священные трубы (Нав 6, 3). Именно потому епископам и клирикам было изначально дозволено участие в войнах; а то, что некоторые из них принимают непосредственное уча¬
стие в сражениях, является злоупотреблением.
(25) На третье надлежит ответить, что, как уже было сказано (В. 23, Р. 4), любая способность, искусство или добродетель, которая соотносится с целью, должна располагать средствами ее достижения. Но верные должны соотносить телесные войны — как с целью — с божественным духовным благом, с которым имеют дело клирики. Поэтому обязанность клириков заключается в том, чтобы побуждать и предрасполагать других к участию в справедливых войнах — ведь самим им запрещено браться за оружие, не потому, что это греховно, а потому, что это не подобает их положению.
(26) На четвертое надлежит ответить, что хотя участие в справедливой войне достойно награды, клирикам это непозволительно, поскольку им поручено дело, которое достойно еще большей награды. Так ведь при том, что брак как таковой может быть заслугой, тем не менее, он непозволителен для тех, кто принес обет безбрачия, поскольку этот обет обязывает к еще большему благу.
deputatus ad aliquod officium licet id per quod suo officio incongruus redditur. Unde clericis omnino non licet bella gerere, quae ordinantur ad sanguinis effusionem.
(23) Ad primum ergo dicendum quod praelati debent resistere non solum lupis qui spiritualiter interficiunt gregem, sed etiam raptonbus et tyrannis qui corporaliter vexant, non autem materialibus armis in propna persona utendo, sed spiritualibus; secundum illud apostoli, II ad Cor. X, arma militiae nostrae non sunt carnalia, sed spiritualia. Quae quidem sunt salubres admonitiones, devotae orationes, contra pertinaces excommunicationis sententia.
(24) Ad secundum dicendum quod praelati et clerici, ex auctoritate superioris, possunt intéressé bellis, non quidem ut ipsi propria manu pugnent, sed ut iuste pugnantibus spiritualiter subveniant suis exhortationibus et absolutionibus et aliis huiusmodi spiritualibus subventionibus. Sicut et in veten lege mandabatur, los. VI, quod sacerdotes sacns tubis in bellis clangerent. Et ad hoc pruno fuit concessum quod episcopi vel clerici ad bella procederent. Quod autem
aliqui propria manu pugnent, abusionis est.
(25) Ad tertium dicendum quod, sicut supra habitum est (q. 23, a. 4, ad 2), omnis potentia vel ars vel virtus ad quam pertinet finis habet disponere de his quae sunt ad finem. Bella autem carnalia in populo fideli sunt referenda, sicut ad finem, ad bonum spirituale divinum, cui clerici deputantur. Et ideo ad clericos pertinet disponere et inducere alios ad bellandum bella iusta. Non enim interdicitur eis bellare quia peccatum sit, sed quia tale exercitium eorum personae non congruit.
(26) Ad quartum dicendum quod, licet exercere bella iusta sit mentonum, tamen illicitum redditur clericis propter hoc quod sunt ad opera magis mentona deputati. Sicut matrimonialis actus potest esse meritorius, et tamen virginitatem voventibus damnabilis redditur, propter obligationem eorum ad maius bonum.
Раздел 3. Позволительно ли использовать военные хитрости
485
Раздел 3 Позволительно ли использовать военные хитрости
(27) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что военные хитрости использовать нельзя.
(28) 1. В самом деле, сказано (Втор 16, 20): Правды, правды ищи. Но военные хитрости, будучи своего рода обманом, как кажется, суть неправда. Следовательно, их нельзя использовать даже в ходе справедливой войны.
(29) 2. Кроме того, ловушки и хитрости, равно как и ложь, судя по всему, противоположны правде. Но так как мы обязаны быть правдивы со всеми, то нельзя лгать никому, как явствует из слов Августина. Следовательно, поскольку, как говорит Августин, каждый должен быть правдив даже со своим врагом, то, по-видимому, не подобает устраивать ему ловушки.
(30) 3. Кроме того, сказано (Мф 7, 12): Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; и эту заповедь надлежит соблюдать в отношениях со всеми ближними. Но наши враги суть наши ближние. Следовательно, поскольку никто не желает быть обманутым или попасть в ловушку, постольку, су¬
дя по всему, никто не должен использовать хитрости на войне.
(31) Но против: Августин говорит: Если сама война справедлива, то для ее справедливости не имеет значения, сражается ли некто открыто или использует хитрости; и это он доказывает авторитетом Господа, Который приказал Иисусу Навину «сделать засаду позади города» Гая (Нав 8, 2).
(32) Отвечаю: надлежит сказать, что военные хитрости предназначены для того, чтобы обмануть врага. Но человек может обмануть другого словом или делом двояко. Во-первых, сознательно солгав или нарушив обещание. И это всегда непозволительно. И подобным образом никто не вправе обманывать врага, поскольку, как говорит Амвросий, существуют правила и нормы ведения войны, которые надлежит соблюдать даже по отношению к врагам. Во-вторых, некто может быть обманут словом или делом сообразно тому, что мы не открываем ему наши планы или намерения. Но мы не обязаны всегда открывать их, ведь даже в священном учении надлежит скрывать многое, особенно от неверных, чтобы они не осмеяли [святыню], согласно этим словам (Мф 7, 6): Не давайте святыни псам. И потому тем более над-
Articulus 3 Utrum sit licitum in bellis uti insidiis
(27) Ad tertium sic proceditur Videtur quod non sit licitum in bellis uti insidiis.
(28) 1 Dicitur enim Deut. XVI, iuste quod iustum est exe- queris. Sed insidiae, cum sint fraudes quaedam, videntur ad iniustitiam pertinere. Ergo non est utendum insidiis etiam in bellis iustis.
(29) 2 Praeterea, insidiae et fraudes fidelitati videntur opponi, sicut et mendacia. Sed quia ad omnes fidem debemus servare, nulli homini est mentiendum; ut patet per Augustinum, in libro Contra mendacium (15; PL 40, 539). Cum ergo fides hosti servanda sit, ut Augustinus dicit, ad Bonifacium (Epist. 189; PL 33, 856), videtur quod non sit contra hostes insidiis utendum.
(30) 3. Praeterea, Matth. VII dicitur, quae vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis, et hoc est observandum ad omnes proximos. Inimici autem sunt proximi. Cum ergo
nullus sibi velit insidias vel fraudes paran, videtur quod nullus ex insidiis debeat gerere bella.
(31) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro Quaest. (Quaest. in Heptat 6, q. 10. Super Jos 8, 2; PL 34, 781), cum iustum bellum suscipitur, utrum aperte pugnet aliquis an ex insidiis, nihil ad iustitiam interest. Et hoc probat auctoritate domini, qui mandavit Iosue ut insidias poneret habitatoribus civitatis Hai, ut habetur los VIII
(32) Respondeo dicendum quod insidiae ordinantur ad fallendum hostes Dupliciter autem aliquis potest falli ex facto vel dicto alterius uno modo, ex eo quod ei dicitur falsum, vel non servatur promissum. Et istud semper est illicitum. Et hoc modo nullus debet hostes fallere, sunt enim quaedam iura bellorum et foedera etiam inter ipsos hostes servanda, ut Ambrosius dicit, in libro De officiis (I, 29; PL 16, 68). Alio modo potest aliquis falli ex dicto vel facto nostro, quia ei propositum aut intellectum non aperimus. Hoc autem semper facere non tenemur, quia etiam in doctrina sacra multa sunt occultanda, maxime infi-
486
Вопрос 40. О войне
лежит скрывать от врага военные планы. Поэтому среди прочих принципов военного искусства одним из важнейших является сокрытие планов от врага, как явствует из «Стратегем» Фронтина. И подобное сокрытие относится к тем военным хитростям, которые допустимо использовать при ведении справедливой войны. И эти хитрости не являются обманом в строгом смысле слова, не противоречат справедливости и упорядоченной воле (ведь воля была бы неупорядоченной, если бы человек хотел, чтобы другие ничего от него не скрывали).
(33) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 4
Позволительно ли сражаться в святые дни
(34) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что сражаться в святые дни непозволительно.
(35) 1. В самом деле, святые дни предназначены для того, чтобы мы посвящали время божественным [вещам], а потому они включены в заповедь о дне субботнем (Исх 20, 8), ведь «суббота» означает «покой». Но на войне покой невозможен. Следовательно, никоим образом не дозво¬
ляется сражаться в святые дни.
(36) 2. Кроме того, Писание осуждает тех, кто в пост требует тяжких трудов от других, постясь для ссор и распрей (Ис 58, 3-4). Следовательно, тем более предосудительно сражаться в святые дни.
(37) 3. Кроме того, не следует делать что- либо неупорядоченное для того, чтобы избежать временного ущерба. Но сражаться в святой день, как кажется, неупорядоченно само по себе. Следовательно, не подобает сражаться в святой день даже ради того, чтобы избежать временного ущерба.
(38) Но против: в Писании одобряются иудеи, которые постановили (1 Мак 2, 41): Кто бы ни пошел на войну против нас в день субботний — будем сражаться против него.
(39) Отвечаю: надлежит сказать, что соблюдение святых дней не препятствует осуществлению того, что направлено на спасение человека, в том числе телесное. Поэтому Господь, споря с иудеями, сказал (Ин 7, 23): На Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? И потому врачам позволительно лечить больных в святые дни. Но куда важнее, чем телесное спасение одного человека, сохранение существования государства, ведь благодаря ему множество людей спасается от гибе-
delibus, ne irrideant, secundum illud Matth. VII, nolite sanctum dare canibus. Unde multo magis ea quae ad impugnandum inimicos paramus sunt eis occultanda. Unde inter cetera documenta rei militaris hoc praecipue ponitur de occultandis consiliis ne ad hostes perveniant; ut patet in libro Stratagematum Frontini (Cf. Stratagem., I, 1; DD 504). Et talis occultatio pertinet ad rationem insidiarum quibus licitum est uti in bellis iustis. Nec propne huiusmodi insidiae vocantur fraudes; nec iustitiae repugnant; nec ordinatae voluntati, esset enim inordinata voluntas si aliquis vellet nihil sibi ab aliis occultari.
(33) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 4 Utrum liceat diebus festis bellare
(34) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod in diebus festis non liceat bellare.
(35) 1. Festa enim sunt ordinata ad vacandum divinis, unde intelliguntur per observationem sabbati, quae praecipitur
Exod. XX; sabbatum enim interpretatur requies. Sed bella maximam inquietudinem habent. Ergo nullo modo est in diebus festis pugnandum.
(36) 2. Praeterea, Isaiae LVIII reprehenduntur quidam quod in diebus ieiunii repetunt debita et committunt lites, pugno percudentes. Ergo multo magis in diebus festis illicitum est bellare.
(37) 3. Praeterea, nihil est inordinate agendum ad vitandum incommodum temporale. Sed bellare in die festo, hoc videtur esse secundum se inordinatum. Ergo pro nulla necessitate temporalis incommodi vitandi debet aliquis in die festo bellare.
(38) Sed contra est quod I Machab. II dicitur, cogitaverunt laudabiliter Iudaei, dicentes, omnis homo quicumque venerit ad nos in bello in die sabbatorum, pugnemus adversus eum.
(39) Respondeo dicendum quod observatio festorum non impedit ea quae ordinantur ad hominis salutem etiam corporalem. Unde dominus arguit Iudaeos, dicens, Ioan. VII, mihi indignamini quia totum hominem salvum feci in sa-
Раздел 4. Позволительно ли сражаться в святые дни
487
ли и предотвращаются неисчислимые временные и духовные бедствия. Поэтому если возникнет такая необходимость, то ради сохранения государства верных можно продолжать справедливую войну и в святые дни, ведь мы бы стали искушать Бога, если при наличии таковой необходи¬
мости пожелали бы отказаться от боевых действий. Однако если исчезает названная необходимость, то в святые дни вести боевые действия непозволительно, по причинам, указанным выше.
(40) И из этого очевидны ответы на возражения.
bbato9 Et inde est quod medici licite possunt medican homines in die festo. Multo autem magis est conservanda salus reipublicae, per quam impediuntur occisiones plurimorum et innumera mala et temporalia et spiritualia, quam salus corporalis unius hominis. Et ideo pro tuitione reipublicae fidelium licitum est iusta bella ex¬
ercere in diebus festis, si tamen hoc necessitas exposcat, hoc enim esset tentare Deum, si quis, imminente tali necessitate, a bello vellet abstinere. Sed necessitate cessante, non est licitum bellare in diebus festis, propter rationes inductas.
(40) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Вопрос 41 О драке
(1) Теперь надлежит рассмотреть драку. И касательно этого исследуются две [проблемы]: 1) является ли драка грехом; 2) является ли она «дочерью» гнева.
Раздел 1 Всегда ли драка является грехом
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что драка не всегда является грехом.
(3) 1. В самом деле, драка, как кажется, есть своего рода борьба, отчего Исидор и говорит, что слово «драчливый» (rixosus) произошло от рычания {rictu) собаки, ведь драчливый человек всегда готов к противостоянию, он находит удовольствие в схватке и провоцирует на борьбу. Но борьба не всегда является грехом. Следовательно, и драка.
(4) 2. Кроме того, сказано, что рабы Исаака выкопали другой колодец, из-за которого также произошла стычка (Быт 26, 21). Но невозможно поверить, чтобы домашние Исаака могли устроить публичную
драку, а он не воспрепятствовал бы ей, если бы драка была грехом. Следовательно драка не является грехом.
(5) 3. Кроме того, драка, как представляется, есть некая частная война. Но война не всегда является грехом. Следовательно, и драка не всегда греховна.
(6) Но против: драка, или ссора, названа среди дел плоти (Гал 5, 20), о которых далее сказано, что поступающие так царствия Божия не наследуют. Следовательно, драка не просто грех, но смертный грех.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что если словопрение подразумевает словесное противостояние, то драка подразумевает некое противостояние в делах, а потому глосса на (Гал 5, 20) поясняет, что драка — когда люди в гневе бьют друг друга. И потому драка есть своего рода частная война, которая происходит между частными лицами и санкционирована не государственной властью, а неупорядоченной волей. Поэтому драка всегда подразумевает грех. И тот, кто несправедливо нападает на другого, со-
Quaestio 41 De rixa
(1) Deinde considerandum est de rixa. Et circa hoc quae- est credendum quod familia Isaac rixaretur publice, eo
runtur duo Primo, utrum nxa sit peccatum. Secundo, non contradicente, si hoc esset peccatum Ergo rixa non
utrum sit filia irae. est peccatum.
(5) 3. Praeterea, rixa videtur esse quoddam particulare bel-
Articulus 1 lum. Sed bellum non semper est peccatum. Ergo nxa non
Utrum rixa sit semper peccatum semper est peccatum.
(2) Ad pnmum sic proceditur Videtur quod nxa non sem- (6) Sed contra est quod ad Gal. V rixae ponuntur inter per sit peccatum opera camis, quae qui agunt regnum Dei non consequuntur.
(3) 1. Rixa enim videtur esse contentio quaedam, dicit Ergo nxae non solum sunt peccata, sed etiam sunt peccata
enim Isidorus, in libro Etymol. (X, ad litt. R; PL 82, mortalia.
392), quod rixosus est a rictu canino dictus, semper enim ad (7) Respondeo dicendum quod sicut contentio importat contradicendum paratus est, et iurgio delectatur, et provocat quandam contradictionem verborum, ita etiam nxa impor-
contendentem. Sed contentio non semper est peccatum tat quandam contradictionem in factis, unde super illud
Ergo neque rixa. Gal. V dicit Glossa (Petn Lombardi; PL 192, 159) quod
(4) 2. Praeterea, Gen. XXVI dicitur quod servi Isaac fode- rixae sunt quando ex ira invicem se percutiunt. Et ideo
runt alium puteum, et pro illo quoque rixati sunt. Sed non nxa videtur esse quoddam pnvatum bellum, quod inter
Раздел 1. Всегда ли драка является грехом
489
вершает смертный грех, ведь причинение вреда ближнему даже ударом руки не может иметь места без смертного греха. А тот, кто защищается, в зависимости от движения души и различных способов защиты, может либо вообще остаться без греха, либо совершить простительный или смертный грех. Ибо если он не имеет иного намерения, кроме как защититься от наносимого ему вреда, и при этом обороняется с должной сдержанностью, то в этом нет никакого греха и, строго говоря, он не является стороной драки. Но если в его душе присутствует желание возмездия или ненависть, а защищаясь он выходит за рамки самообороны, то он в любом случае совершает грех. Однако этот грех простителен, когда движения мести и ненависти незначительны, или когда он не слишком выходит за рамки самообороны; но если защищающийся отвечает противнику с твердым намерением убить его или покалечить, то тогда он грешит смертным грехом.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что драка не является борьбой в полном смысле этого слова; однако в приведенных словах Исидора представлены три [вещи], в которых выражена неупорядоченная [природа] драки. Во-первых, готовность духа к ссо¬
ре, что выражено словами «всегда готов к противостоянию», т. е. независимо от того, что хорошее или плохое говорит или делает другой. Во-вторых, то, что драчливому человеку нравится само противостояние; и потому далее сказано, что он «находит удовольствие в схватке». В-третьих, то, что он провоцирует на ссору других, отчего следует: «и провоцирует на борьбу».
(9) На второе надлежит ответить, что там имеется в виду не то, что рабы Исаака подрались между собой, а то, что жители той земли устроили с ними стычку. И потому согрешили они, а не претерпевшие навет рабы Исаака.
(ю) На третье надлежит ответить, что как было сказано выше (В. 40, Р. 1), для того, чтобы война была справедливой, ее должны объявить руководители государства, а драка возникает из частного аффекта гнева или ненависти. В самом деле, если уполномоченные властями люди правителя или судьи нападают на неких людей, а те защищаются, то говорят не о драке, а о сопротивлении властям. И потому нападающие не устраивают драку и не грешат, а грешат те, кто защищает себя неупорядоченным образом.
privatas personas agitur non ex aliqua publica auctoritate, nominat contentionem, sed tria in praemissis verbis Isidori
sed magis ex inordinata voluntate. Et ideo nxa semper ponuntur quae inordinationem rixae declarant. Primo qui-
importat peccatum. Et in eo quidem qui alterum invadit dem, promptitudinem animi ad contendendum, quod sig-
iniuste est peccatum mortale, inferre enim nocumentum mficat cum dicit, semper ad contradicendum paratus, scil-
proximo etiam opere manuali non est absque mortali pec- icet sive alius bene aut male dicat aut faciat Secundo, quia
cato. In eo autem qui se defendit potest esse sine peccato, in ipsa contradictione delectatur, unde sequitur, et in iurgio
et quandoque cum peccato veniali, et quandoque etiam delectatur. Tertio, quia ipse alios provocat ad contradic-
cum mortali, secundum diversum motum animi eius, et tiones, unde sequitur, et provocat contendentem,
diversum modum se defendendi. Nam si solo animo re- (9) Ad secundum dicendum quod ibi non intelligitur quod pellendi iniunam illatam, et cum debita moderatione se servi Isaac sint rixati, sed quod incolae terrae rixati sunt
defendat, non est peccatum, nec proprie potest dici nxa contra eos. Unde illi peccaverunt, non autem servi Isaac,
ex parte eius. Si vero cum animo vindictae vel odii, vel qui calumniam patiebantur
cum excessu debitae moderationis se defendat, semper est (10) Ad tertium dicendum quod ad hoc quod iustum sit peccatum, sed veniale quidem quando aliquis levis mo- bellum, requintur quod fiat auctoritate publicae potestatis,
tus odii vel vindictae se immiscet, vel cum non multum sicut supra dictum est (q. 40, a. 1). Rixa autem fit ex pnvato
excedat moderatam defensionem; mortale autem quando affectu irae vel odii Si enim minister principis aut iudicis
obfirmato animo in impugnantem insurgit ad eum occi- publica potestate aliquos invadat qui se defendant, non
dendum vel graviter laedendum dicuntur ipsi nxan, sed illi qui publicae potestati resistunt
(8) Ad primum ergo dicendum quod nxa non simpliciter
490
Вопрос 41. О драке
Раздел 2
Является ли драка «дочерью» гнева
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что драка не является «дочерью» гнева.
(12) 1. В самом деле, сказано (Иак 4, 1): Откуда у вас драки и распри ? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Но гнев не относится к вожделеющей [части души]. Следовательно, драка является «дочерью» не гнева, а вожделения.
(13) 2. Кроме того, сказано (Притч 28, 25): Надменный разжигает ссору. Но ссора, как кажется, есть то же, что и драка. Следовательно, судя по всему, драка есть «дочь» гордыни или тщеславия, которые побуждают человека вести себя надменно.
(и) 3. Кроме того, сказано (Притч 18, 6):
Уста глупого идут в ссору. Но глупость отличается от гнева, ведь она противоположна не кротости, а мудрости и благоразумию. Следовательно, драка не является «дочерью» гнева.
(15) 4. Кроме того, сказано (Притч 10, 12):
Ненависть возбуждает ссоры. Но ненависть, как указывает Григорий, возникает из зависти. Следовательно, ссора, или драка, является «дочерью» не гнева, а зависти.
(16) 5. Кроме того, сказано (Притч 17, 19). Кто замышляет раздор, сеет ссоры1. Н0 раздор, как было показано выше (В. 37 Р. 2), является «дочерью» тщеславия. Следовательно, и ссора.
(17) Но против: Григорий говорит, что гнев порождает драку, а в Писании сказано (Притч 15, 18): Человек гневливый заводит драку.
(18) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1), драка подразумевает противостояние, переходящее в действие, когда один человек пытается причинить ущерб другому. Но один человек может желать причинить ущерб другому двояко. Во-первых, когда он желает тому всяческого зла, как бы без ограничения. И это желание является следствием ненависти, поскольку намерение ненависти заключается в нанесении врагу зла как тайно, так и явно. Во-вторых, когда некто намеревается нанести ущерб тому, кто знает о его намерении и сопротивляется, и это называется дракой. И это относится собственно к гневу, который есть желание возмездия, ведь разгневанному человеку недостаточно, чтобы тот, на кого он разгневан, получил ущерб тайно; ему надо, чтобы тот
Et sic illi qui invadunt non rixantur neque peccant, sed illi qui se inordinate defendunt.
Articulus 2 Utrum rixa sit filia irae
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod nxa non sit filia irae.
(12) 1. Dicitur enim lac. IV, unde bella et lites in vobis? Nonne ex concupiscentiis quae militant in membris vestris9 Sed ira non pertinet ad concupiscibilem. Ergo nxa non est filia irae, sed magis concupiscentiae.
(13) 2. Praeterea, Prov. XXVIII dicitur, qui se iactat et dilatat iurgia concitat Sed idem videtur esse rixa quod iurgium. Ergo videtur quod nxa sit filia superbiae vel inanis glonae, ad quam pertinet se iactare et dilatare
(14) 3. Praeterea, Prov. XVIII dicitur, labia stulti immiscent se rixis. Sed stultitia differt ab ira, non enim opponitur mansuetudini, sed magis sapientiae vel prudentiae. Ergo nxa non est filia irae.
(15) 4. Praeterea, Prov. X dicitur, odium suscitat rixas. Sed odium ontur ex invidia; ut Gregonus dicit, XXXI Moral. (45; PL 76, 621). Ergo nxa non est filia irae, sed invidiae.
(16) 5. Praeterea, Prov. XVII dicitur, qui meditatur discordias seminat rixas. Sed discordia est filia inanis glonae, ut supra dictum est (q 37, a. 2) Ergo et nxa.
(17) Sed contra est quod Gregonus dicit, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), quod ex ira ontur rixa. Et Prov. XV et XXIX dicitur, vir iracundus provocat rixas
(18) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 1), rixa importat quandam contradictionem usque ad facta pervenientem, dum unus alterum laedere molitur. Dupliciter autem unus alium laedere intendit. Uno modo, quasi intendens absolute malum ipsius. Et talis laesio pertinet ad odium, cuius intentio est ad laedendum inimicum vel in manifesto vel in occulto. Alio modo aliquis intendit alium laedere eo sciente et répugnante, quod importatur nomine nxae. Et hoc proprie pertinet ad iram, quae est appetitus
Раздел 2. Является ли драка «дочерью» гнева
491
знал, [кто причиняет ему ущерб], и чтобы он против своей воли претерпел нечто в виде возмездия со стороны разгневанного человека, как это явствует из сказанного ранее о страсти гнева (Ч. II-I, В. 46, Р. 6). И потому в строгом смысле слова драка происходит из гнева.
(19) Итак, на первое надлежит ответить, что, как уже было сказано выше (Ч. II-I, В. 25, Р 1), все страсти гневности происходят из страстей вожделения. И сообразно этому то, что непосредственным образом происходит из гнева, происходит также из вожделения, как из первичного источника.
(20) На второе надлежит ответить, что происходящая из гордыни или тщеславия надменность является не прямой, а косвенной причиной ссоры, или драки — постольку, поскольку человек рассматривает то, что ему предпочли другого, как оскорбление, и впадает в гнев, за которым следуют ссора и драка.
(21) На третье надлежит ответить, что, как было показано выше (Ч. II-I, В. 48, Р. 3), гнев препятствует суждению разума, а потому подобен глупости. И потому они обладают общим следствием, ведь именно из-за поврежденности разума чело¬
век пытается неупорядоченно вредить другому.
(22) На четвертое надлежит ответить, что даже если иногда драка и возникает по причине ненависти, тем не менее, она не является ее собственным следствием. В самом деле, открытое нападение на врага с целью причинения ему ущерба в драке не всегда соответствует намерению того, кто испытывает ненависть; ведь часто он стремится вредить тайно, и лишь будучи уверенным в своем превосходстве, устраивает ссору или драку, чтобы нанести врагу повреждения. С другой стороны, на основании, уже указанном, нанесение повреждений человеку в драке является собственным следствием гнева.
(23) На пятое надлежит ответить, что из драки следует ненависть и раздор в сердцах участников драки. И потому тот, кто «замышляет», т. е. намеревается посеять раздор между другими людьми, побуждает их к ссоре, или драке. И так любой грех может повелевать действием другого греха, направляя его к своей собственной цели. Однако из этого не следует, что драка непосредственно и в собственном смысле является «дочерью» тщеславия.
vindictae, non enim sufficit irato quod latenter noceat ei contra quem irascitur, sed vult quod ipse sentiat, et quod contra voluntatem suam aliquid patiatur in vindictam eius quod fecit, ut patet per ea quae supra dicta sunt de passione irae (II-I, q. 46, a. 6, ad 2). Et ideo nxa proprie oritur ex ira.
(19) Ad primum ergo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q. 25, a. 1), omnes passiones irascibilis ex passionibus concupiscibilis oriuntur. Et secundum hoc, illud quod proxime ontur ex ira, oritur etiam ex concupiscentia sicut ex pnma radice.
(20) Ad secundum dicendum quod iactatio et dilatatio sui, quae fit per superbiam vel inanem glonam, non directe concitat iurgium aut rixam, sed occasionaliter, inquantum scilicet ex hoc concitatur ira, dum aliquis sibi ad iniuriam reputat quod alter ei se praeferat; et sic ex ira sequuntur iurgia et nxae.
(21) Ad tertium dicendum quod ira, sicut supra dictum est (II-I, q. 48, a. 3), impedit iudicium rationis, unde ha¬
bet similitudinem cum stultitia. Et ex hoc sequitur quod habeant communem effectum, ex defectu enim rationis contingit quod aliquis inordinate alium laedere molitur.
(22) Ad quartum dicendum quod rixa, etsi quandoque ex odio oriatur, non tamen est proprius effectus odii. Quia praeter intentionem odientis est quod nxose et manifeste inimicum laedat, quandoque enim etiam occulte laedere quaent, sed quando videt se praevalere cum rixa et iurgio laesionem intendit. Sed rixose aliquem laedere est proprius effectus irae, ratione iam dicta.
(23) Ad quintum dicendum quod ex rixis sequitur odium et discordia in cordibus rixantium. Et ideo ille qui meditatur, idest qui intendit inter aliquos seminare discordias, procurat quod ad invicem rixantur, sicut quodlibet peccatum potest imperare actum alterius peccati, ordinando illum in suum finem Sed ex hoc non sequitur quod nxa sit filia inanis gloriae proprie et directe.
Вопрос 42 О смуте
(1) Далее надлежит рассмотреть смуту. И касательно нее исследуются две [проблемы]: 1) является ли она видом греха; 2) является ли она смертным грехом.
Раздел 1
Является ли смута особым грехом, отличным от остальных
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что смута не является особым грехом, отличным от остальных.
(3) 1. В самом деле, согласно Исидору, смутьяном является тот, кто производит разногласие в душах и порождает раздор. Но из того, что некто порождает некий грех, следует, что он грешит тем же по роду грехом, который он порождает. Следовательно, как представляется, смута не является особым грехом, отличным от раздора.
(4) 2. Кроме того, смута подразумевает своего рода отделение. Но, как уже было сказано (В. 39, Р. 1), схизма получила свое имя от отделения. Следовательно, как представляется, грех смуты не отличается
от греха схизмы.
(5) 3. Кроме того, любой особый грех, который отличается от других грехов, является или главным пороком, или происходит от некоего главного порока. Но смута не указывается ни среди главных пороков, ни среди тех пороков, которые происходят из них, как ясно из «Моралий» Григория, где перечисляются пороки обоих типов. Следовательно, смута не является особым грехом, отличным от других.
(6) Но против: в Писании смута упоминается как грех, отличный от других (2 Кор 12, 20) *.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что смута есть некий особый грех, который в чем- то подобен войне и драке, а в чем-то отличается от них. Сходен он с ними тем, что подразумевает некое противостояние, а отличается в двух [следующих моментах]. Во-первых, война и драка означают реальное столкновение нескольких сторон, тогда как смута означает как реальное столкновение, так и подготовку к нему. Поэтому
Quaestio 42 De seditione
(1) Deinde considerandum est de seditione. Et circa hoc quaeruntur duo primo, utrum sit speciale peccatum. Secundo, utrum sit mortale peccatum
Articulus 1
Utrum seditio sit speciale peccatum ab aliis distinctum
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod seditio non sit speciale peccatum ab aliis distinctum.
(3) 1 Quia ut Isidorus dicit, in libro Etymol. (X, ad litt. S; PL 82, 394), seditiosus est qui dissensionem animorum facit et discordias gignit. Sed ex hoc quod aliquis aliquod peccatum procurat, non peccat alio peccati genere nisi illo quod procurat. Ergo videtur quod seditio non sit speciale peccatum a discordia distinctum.
(4) 2. Praeterea, seditio divisionem quandam importat. Sed nomen etiam schismatis sumitur a scissura, ut supra dic¬
tum est (q. 39, a. 1). Ergo peccatum seditionis non videtur esse distinctum a peccato schismatis.
(5) 3. Praeterea, omne peccatum speciale ab aliis distinctum vel est vitium capitale, aut ex aliquo vitio capitali ontur. Sed seditio neque computatur inter vitia capitalia, neque inter vitia quae ex capitalibus oriuntur, ut patet in XXXI Moral. (45; PL 76, 621), ubi utraque vitia numerantur. Ergo seditio non est speciale peccatum ab aliis distinctum.
(6) Sed contra est quod II ad Cor. XII seditiones ab aliis peccatis distinguuntur.
(7) Respondeo dicendum quod seditio est quoddam peccatum speciale, quod quantum ad aliquid convenit cum bello et rixa, quantum autem ad aliquid differt ab eis. Convenit quidem cum eis in hoc quod importat quandam contradictionem. Differt autem ab eis in duobus. Primo
Раздел 2. Всегда ли смута является смертным грехом
493
глосса на 2 Кор 12, 20 говорит, что смута — это волнения, переходящие в столкновения, когда некоторые готовятся к схватке и желают ее. Во-вторых, смута отличается от войны и драки тем, что война в собственном смысле слова ведется против внешних врагов, как бы одним народом против другого, а драка происходит между двумя или несколькими людьми; смута же в собственном смысле слова имеет место между частями одного народа, которые не могут прийти к согласию, например, когда одна часть государства восстает на другую. И потому смута, будучи противоположной особому благу, а именно единству и миру народа, является особым грехом.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что смутьяном является тот, кто разжигает смуту. И поскольку смута подразумевает определенный раздор, то из этого следует, что смутьян — тот, кто порождает не любой раздор, а раздор между частями народа. И грешит грехом смуты не только тот, кто сеет раздор, но и те, кто неупорядоченно
противоречат друг другу.
(9) На второе надлежит ответить, что смута отличается от схизмы в двух [моментах]. Во-первых, в том, что схизма противоположна духовному единству народа, т. е. церковному единству, а смута противоположна временному, или мирскому, единству народа, например, единству города или царства. Во-вторых, схизма не подразумевает никакой подготовки к телесной схватке, но лишь духовный раздор, тогда как смута подразумевает такую подготовку.
(ю) На третье надлежит ответить, что смута, как и схизма, объемлется раздором, поскольку и та, и другая есть некий раздор, но не между отдельными людьми, а между частями народа.
Раздел 2
Всегда ли смута является смертным грехом
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что смута не всегда является смертным грехом.
quidem, quia bellum et rixa important mutuam impugnationem in actu, sed seditio potest dici sive fiat huiusmodi impugnatio in actu, sive sit praeparatio ad talem impugnationem Unde Glossa (Petri Lombardi, super 2 Cor 12, 20, PL 192, 89) II ad Cor. XII dicit quod seditiones sunt tumultus ad pugnam, cum scilicet aliqui se praeparant et intendunt pugnare. Secundo differunt, quia bellum proprie est contra extraneos et hostes, quasi multitudinis ad multitudinem; rixa autem est unius ad unum, vel paucorum ad paucos; seditio autem proprie est inter partes unius multitudinis inter se dissentientes, puta cum una pars civitatis excitatur in tumultum contra aliam. Et ideo seditio, quia habet speciale bonum cui opponitur, scilicet unitatem et pacem multitudinis, ideo est speciale peccatum.
(8) Ad primum ergo dicendum quod seditiosus dicitur qui seditionem excitat. Et quia seditio quandam discordiam importat, ideo seditiosus est qui discordiam facit non quamcumque, sed inter partes alicuius multitudinis. Peccatum autem seditionis non solum est in eo qui discordiam
seminat, sed etiam in eis qui inordinate ab invicem dissentiunt.
(9) Ad secundum dicendum quod seditio differt a schismate in duobus. Pnmo quidem, quia schisma opponitur spirituali unitati multitudinis, scilicet unitati ecclesiasticae, seditio autem opponitur temporali vel saeculan multitudinis unitati, puta civitatis vel regni. Secundo, quia schisma non importat aliquam praeparationem ad pugnam corporalem, sed solum importat dissensionem spiritualem, seditio autem importat praeparationem ad pugnam corporalem.
(10) Ad tertium dicendum quod seditio, sicut et schisma, sub discordia continetur. Utrumque enim est discordia quaedam, non unius ad unum, sed partium multitudinis ad invicem.
Articulus 2 Utrum seditio sit semper peccatum mortale
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod seditio non semper sit peccatum mortale
494
Вопрос 42. О смуте
(12) 1. В самом деле, как сказано в упомянутой выше (Р. 1) глоссе, смута — это волнения, переходящие в столкновения. Но столкновения с применением оружия не всегда являются смертным грехом, ведь, как установлено выше (В. 40, Р. 1), бывает справедливая и оправданная война. Следовательно, смута тем более может иметь место без смертного греха.
(13) 2. Кроме того, смута, как уже сказано выше (Р. 1), есть своего рода раздор. Но раздор может иметь место без смертного греха, а иногда — вообще без всякого греха. Следовательно, и смута.
(и) 3. Кроме того, избавление народа от
тиранической власти достойно похвалы. Но этого не может произойти без некоего разделения народа, ведь одна часть будет стремиться свергнуть тиранию, а другая — сохранить ее. Следовательно, смута может иметь место без смертного греха.
(15) Но против: апостол наряду с другими смертными грехами запрещает и смуту (2 Кор 12, 20). Следовательно, смута является смертным грехом.
(16) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1), смута противополагается единству народа, т. е. единству страны, города или царства. Но Августин гово¬
рит, что мудрый называет народом не некую толпу, а совокупность людей, объединенных согласием в смысле определения прав и взаимной пользы. Из этого ясно, что то единство, которому противоположна смута, является «согласием в смысле определения прав и взаимной пользы». Следовательно, ясно, что смута противоположна справедливости и общему благу. Таким образом, она является смертным грехом по своему роду, и тем более тяжким, чем общее благо, которое разрушается смутой, больше частного блага, которое разрушается дракой. Но грех смуты в первую очередь и по преимуществу относится к тому, кто сеет смуту, и кто, соответственно, грешит наиболее тяжко. А во вторую очередь этот грех относится к тем, кто следует за ним, разрушая общественное благо. Те же, кто защищает общественное благо и противостоит смуте, смутьянами не являются, подобно тому, как человека нельзя называть драчливым только потому, что он защищает себя в драке, о чем уже было сказано (В. 41, Р. 1).
(17) Итак, на первое надлежит ответить, что, как уже было сказано выше (В. 40, Р. 1), война позволительна тогда, когда ведется ради общего блага. Но смута противостоит
(12) 1. Seditio enim importat tumultum ad pugnam; ut patet per Glossam (Petri Lombardi, super 2 Cor 12, 20; PL 192, 89) supra inductam (a. 1). Sed pugna non semper est peccatum mortale, sed quandoque est iusta et licita, ut supra habitum est (q. 40, a. 1; q. 41, a. 1). Ergo multo magis seditio potest esse sine peccato mortali.
(13) 2. Praeterea, seditio est discordia quaedam, ut dictum est (a. 1, ad 3). Sed discordia potest esse sine peccato mortali, et quandoque etiam sine omni peccato. Ergo etiam seditio.
(14) 3. Praeterea, laudantur qui multitudinem a potestate tyrannica liberant. Sed hoc non de facili potest fieri sine aliqua dissensione multitudinis, dum una pars multitudinis nititur retinere tyrannum, alia vero nititur eum abiicere. Ergo seditio potest fieri sine peccato.
(15) Sed contra est quod apostolus, II ad Cor. XII, prohibet seditiones inter alia quae sunt peccata mortalia. Ergo seditio est peccatum mortale.
(16) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 1), sedi¬
tio opponitur unitati multitudinis, idest populi, civitatis vel regni. Dicit autem Augustinus, II De civ. Dei (21; PL 41, 67), quod populum determinant sapientes non omnem coetum multitudinis, sed coetum iuris consensu et utilitatis communione sociatum. Unde manifestum est unitatem cui opponitur seditio esse unitatem iuns et communis utilitatis. Manifestum est ergo quod seditio opponitur et iustitiae et communi bono. Et ideo ex suo genere est peccatum mortale, et tanto gravius quanto bonum commune, quod impugnatur per seditionem, est maius quam bonum privatum, quod impugnatur per nxam. Peccatum autem seditionis pnmo quidem et principaliter pertinet ad eos qui seditionem procurant, qui gravissime peccant. Secundo autem, ad eos qui eos sequuntur, perturbantes bonum commune. Illi vero qui bonum commune defendunt, eis resistentes, non sunt dicendi seditiosi, sicut nec illi qui se defendunt dicuntur rixosi, ut supra dictum est (q 41, a. 1).
(17) Ad primum ergo dicendum quod pugna quae est licita fit pro communi utilitate, sicut supra dictum est (q. 40,
Раздел 2. Всегда ли смута является смертным грехом
495
общему благу народа, и потому всегда является смертным грехом.
(18) На второе надлежит ответить, что раздор, касающийся того, что не является очевидным благом, может иметь место и без греха. Однако раздор по поводу того, что является очевидным благом, не может быть без греха. Но именно таким раздором является смута, поскольку она противостоит единству народа, которое является очевидным благом.
(19) На третье надлежит ответить, что тираническое правление несправедливо, поскольку обращено не на общее благо, а на
частное благо правителя, как явствует из слов Философа. Поэтому восстание против такого правления не имеет смыслового содержания смуты, если только свержение тирании не становится столь неупорядоченным, что подвластный народ страдает от него больше, чем от собственно правления тирана. И надо сказать, что смутьяном скорее является сам тиран, который, желая большей безопасности для своей власти, подпитывает в подвластном народе смуту и раздоры. В самом деле, это черта тирании, поскольку она обращена на собственное благо правителя в ущерб народу.
а 1). Sed seditio fit contra commune bonum multitudinis. Unde semper est peccatum mortale.
(18) Ad secundum dicendum quod discordia ab eo quod non est manifeste bonum potest esse sine peccato. Sed discordia ab eo quod est manifeste bonum non potest esse sine peccato. Et talis discordia est seditio, quae opponitur utilitati multitudinis, quae est manifeste bonum
(19) Ad tertium dicendum quod regimen tyrannicum non est iustum, quia non ordinatur ad bonum commune, sed ad bonum privatum regentis, ut patet per philosophum, in III
Polit. (5; 1279b6) et in VIII Ethic. (10; 1160b8). Et ideo perturbatio huius regiminis non habet rationem seditionis, nisi forte quando sic inordinate perturbatur tyranni regimen quod multitudo subiecta maius detrimentum patitur ex perturbatione consequenti quam ex tyranni regimine. Magis autem tyrannus seditiosus est, qui in populo sibi subiecto discordias et seditiones nutrit, ut tutius dominan possit. Hoc enim tyrannicum est, cum sit ordinatum ad bonum proprium praesidentis cum multitudinis nocumento.
Вопрос 43 О соблазне
(1) Теперь остается исследовать те пороки, которые противоположны благодеянию. И все они, кроме соблазна, соотносятся со смысловым содержанием справедливости, т. е. предполагают несправедливость по отношению к ближнему, в то время как соблазн особым образом противоположен любви-каритас. И потому сейчас надлежит рассмотреть соблазн.
(2) И касательно этого исследуются восемь [проблем]: 1) что есть соблазн; 2) является ли соблазн грехом; 3) является ли он особым грехом; 4) является ли он смертным грехом; 5) соблазняются ли совершенные; 6) вводят ли они в соблазн; 7) следует ли ради того, чтобы избежать соблазна, отказываться от духовных благ; 8) следует ли ради того, чтобы избежать соблазна, отказываться от временных благ.
Раздел 1
Надлежащим ли образом определяют соблазн как «не вполне правильное слово или дело, дающее повод для падения»
(3) Ход рассуждения в первом разделе та¬
ков. Представляется, что определение соблазна как «не вполне правильного слова или дела, дающего повод для падения», не является надлежащим.
(4) 1. В самом деле, как будет показано ниже (Р. 2), соблазн есть грех. Но грех, как говорит Августин, это слово, дело или помышление, противное вечному закону. Следовательно, вышеприведенное определение недостаточно, поскольку в нем отсутствует «помышление», или «пожелание».
(5) 2. Кроме того, поскольку среди добродетельных и правильных действий одни добродетельнее и правильнее других, то «не вполне правильными» являются все действия, кроме самых правильных. Если, следовательно, соблазн есть «не вполне правильное слово или дело», то соблазном является любое добродетельное действие, кроме наилучшего.
(6) 3. Кроме того, «дающее повод для падения» — это акцидентальная причина. Но акцидентальное не должно включаться в определение, поскольку оно не консти-
Quaestio 43 De scandalo
(1) Deinde considerandum restat de vitiis quae beneficentiae opponuntur. Inter quae alia quidem pertinent ad rationem iustitiae, illa scilicet quibus aliquis imuste proximum laedit, sed contra caritatem specialiter scandalum esse videtur. Et ideo considerandum est hic de scandalo.
(2) Circa quod quaeruntur octo. Pnmo, quid sit scandalum. Secundo, utrum scandalum sit peccatum. Tertio, utrum sit peccatum speciale. Quarto, utrum sit peccatum mortale. Quinto, utrum perfectorum sit scandalizari. Sexto, utrum eorum sit scandalizare Septimo, utrum spintualia bona sint dimittenda propter scandalum. Octavo, utrum sint propter scandalum temporalia dimittenda.
Articulus 1
Utrum scandalum inconvenienter definiatur quod est dictum, vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae
(3) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod scandalum in¬
convenienter definiatur esse dictum vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae (interi., super Mt 18, 8; 5, 56r).
(4) 1. Scandalum enim peccatum est, ut post dicetur (a. 2). Sed secundum Augustinum, XXII Contra Faust. (27; PL 42, 418), peccatum est dictum vel factum vel concupitum contra legem Dei. Ergo praedicta definitio est insufficiens, quia praetermittitur cogitatum sive concupitum.
(5) 2. Praeterea, cum inter actus virtuosos vel rectos unus sit virtuosior vel rectior altero, illud solum videtur non esse minus rectum quod est rectissimum. Si igitur scandalum sit dictum vel factum minus rectum, sequetur quod omnis actus virtuosus praeter optimum sit scandalum.
(6) 3. Praeterea, occasio nominat causam per accidens. Sed id quod est per accidens non debet poni in definitione, quia non dat speciem. Ergo inconvenienter in definitione scandali ponitur occasio.
Раздел 1. Об определении соблазна
497
туирует вид. Следовательно, включать «повод» в определение соблазна неправильно.
ф 4. Кроме того, любое действие человека может оказаться поводом для падения другого, поскольку акцидентальные причины неопределенны. Следовательно, если соблазн есть нечто, могущее стать поводом для падения, то любое дело или слово может быть соблазном, что кажется нелепым.
(8) 5. Кроме того, человек может дать повод для падения ближнего, оскорбив или ослабив его. Но соблазн отличается от оскорбления или ослабления, поскольку апостол говорит (Рим 14, 21): Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой оскорбляется, или соблазняется, или ослабляется. Следовательно, приведенное определение соблазна неправильно.
(9) Но против: Иероним, толкуя эти слова, Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? (Мф 15, 12), говорит: Когда мы читаем, что некто «соблазнил», то подразумевается: «дал словом или делом повод для падения».
(ю) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит Иероним, греческое слово «scan- dalon», можно перевести как «то, обо что спотыкаются», «то, обо что ударяются»,
и «то, из-за чего падают». Так, случается, что передвигаясь по материальному пути, человек наталкивается на некое препятствие, которое предрасполагает его к падению; и такое препятствие называется «scandalum». И точно так же при продвижении по духовному пути человек может оказаться предрасположенным к духовному падению из-за слова или дела другого, а именно, постольку, поскольку некто своим убеждением, побуждением или примером может подвигнуть его к греху. И именно это называется соблазном (scandalum) в собственном смысле слова. Но сообразно своему смысловому содержанию к духовному падению предрасполагает только то, чему недостает некоторой правильности, поскольку полностью правильное скорее удержит человека от падения, нежели наоборот. И потому соблазн правильно определен как «не вполне правильное слово или дело, дающее повод для падения».
(и) Итак, на первое надлежит ответить, что помысел, или пожелание зла, сокрыт в сердце, и потому не может стать для другого препятствием, которое предрасполагает к падению. И потому его не следует включать в определение соблазна.
(7) 4. Praeterea, ex quolibet facto alterius potest aliquis sumere occasionem ruinae, quia causae per accidens sunt indeterminatae. Si igitur scandalum est quod praebet alten occasionem ruinae, quodlibet factum vel dictum poterit esse scandalum. Quod videtur inconveniens.
(8) 5 Praeterea, occasio ruinae datur proximo quando offenditur aut infirmatur. Sed scandalum dividitur contra offensionem et infirmitatem, dicit enim apostolus, ad Rom XIV, bonum est non manducare carnem et non bibere vinum, neque in quo frater tuus offenditur aut scandalizatur aut infirmatur. Ergo praedicta definitio scandali non est conveniens
(9) Sed contra est quod Hieronymus, exponens illud quod habetur Matth. XV, scis quia Pharisaei, audito hoc verbo, etc., dicit (In Mt. II; PL 26, 3), quando legimus, quicumque scandalizaverit, hoc intelligimus, qui dicto vel facto occasionem ruinae dederit.
(10) Respondeo dicendum quod, sicut Hieronymus ibidem dicit (In Mt. II, super 15, 12; PL 26, 111), quod
Graece scandalon dicitur, nos offensionem vel ruinam et impactionem pedis possumus dicere. Contingit enim quod quandoque aliquis obex ponitur alicui in via corporali, cui impingens disponitur ad ruinam, et talis obex dicitur scandalum. Et similiter in processu viae spintualis contingit aliquem disponi ad ruinam spintualem per dictum vel factum altenus, inquantum scilicet aliquis sua admonitione vel inductione aut exemplo alterum trahit ad peccandum. Et hoc proprie dicitur scandalum. Nihil autem secundum propriam rationem disponit ad spiritualem ruinam nisi quod habet aliquem defectum rectitudinis, quia id quod est perfecte rectum magis munit hominem contra casum quam ad ruinam inducat. Et ideo convenienter dicitur quod dictum vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae sit scandalum (interi , super Mt 18, 8; 5, 56r).
(11) Ad primum ergo dicendum quod cogitatio vel concupiscentia mali latet in corde, unde non proponitur alten ut obex disponens ad ruinam. Et propter hoc non potest habere scandali rationem.
498
Вопрос 43. О соблазне
(12) На второе надлежит ответить, что «не вполне правильным» здесь называется не то, что превосходимо чем-либо иным в правильности, а то, что обладает неким изъяном правильности: либо потому, что само по себе является злом, как, например, грех, либо потому, что имеет образ зла, например, когда человек «сидит за столом в капище» (1 Кор 8, 10). И хотя это само по себе не греховно (если только нет дурного умысла), тем не менее, поскольку в данном действии есть некий образ и подобие идолопоклонства, оно может стать поводом для падения другого человека. Поэтому апостол увещевает (1 Фес 5,
22): Удерживайтесь от всякого рода зла. И потому подобающе сказано: «не вполне правильное», поскольку данная формулировка включает и то, что греховно само по себе, и то, что имеет образ зла.
(13) На третье надлежит ответить, что, как уже установлено выше (Ч. II-I, В. 75, Р. 2, 3), ничто не может быть достаточной причиной греха, т. е. духовного падения человека, кроме его собственной воли. И потому слова или дела другого человека могут быть только несовершенной причиной, тем или иным образом подталкивающей к падению. Поэтому говорят не о том, что
«соблазн предоставляет причину», но о том что он «дает повод», что подразумевает несовершенную причину, и не всегда — акцидентальную причину. Впрочем, ничто не препятствует включению в некоторые определения чего-то акцидентального, поскольку то, что является акцидентальным для одного, может быть сущностным для другого; так, например, Философ включает в определение случая акцидентальную причину.
(и) На четвертое надлежит ответить, что чье-либо слово или дело может стать причиной греха другого человека двояко, сущностно и акцидентально. Сущностно — когда человек или желает, чтобы его дурное слово или дело привело другого к греху, или не желает этого, но само его дело по сути своей таково, что побуждает другого к греху (например, когда человек публично совершает грех или то, что имеет образ греха). И в этом случае тот, кто совершает нечто подобное, в собственном смысле слова дает повод для падения другого; и это называется «активным соблазном». А акцидентально слово или дело одного человека является причиной греха другого тогда, когда и вопреки намерению действующего, и вопреки природе его деяния
(12) Ad secundum dicendum quod minus rectum hic non dicitur quod ab aliquo alio superatur in rectitudine, sed quod habet aliquem rectitudinis defectum, vel quia est secundum se malum, sicut peccata; vel quia habet speciem mali, sicut cum aliquis recumbit in idolio Quamvis enim hoc secundum se non sit peccatum, si aliquis hoc non corrupta intentione faciat; tamen quia habet quandam speciem vel similitudinem venerationis idoli, potest alteri praebere occasionem ruinae Et ideo apostolus monet, I ad Thess V, ab omni specie mala abstinete vos. Et ideo convenienter dicitur minus rectum, ut comprehendantur tam illa quae sunt secundum se peccata, quam illa quae habent speciem mali
(13) Ad tertium dicendum quod, sicut supra habitum est (II-I, q. 75, a. 2, 3; q 80, a. 1), nihil potest esse homini sufficiens causa peccati, quod est spiritualis ruina, nisi propria voluntas Et ideo dicta vel facta altenus hominis possunt esse solum causa imperfecta, aliqualiter inducens ad ruinam. Et propter hoc non dicitur, dans causam ruinae,
sed, dans occasionem, quod significat causam imperfectam, et non semper causam per accidens. Et tamen nihil prohibet in quibusdam definitionibus poni id quod est per accidens, quia id quod est secundum accidens uni potest per se alteri convenire, sicut in definitione fortunae ponitur causa per accidens, in II Physic. (5, 197a5).
(14) Ad quartum dicendum quod dictum vel factum alterius potest esse alteri causa peccandi dupliciter, uno modo, per se; alio modo, per accidens. Per se quidem, quando aliquis suo malo verbo vel facto intendit alium ad peccandum inducere; vel, etiam si ipse hoc non intendat, ipsum factum est tale quod de sui ratione habet ut sit inductivum ad peccandum, puta quod aliquis publice facit peccatum vel quod habet similitudinem peccati. Et tunc ille qui huiusmodi actum facit proprie dat occasionem ruinae, unde vocatur scandalum activum Per accidens autem aliquod verbum vel factum unius est alten causa peccandi, quando etiam praeter intentionem operantis, et praeter conditionem opens, aliquis male dispositus ex huiusmodi opere
Раздел 2. Является ли соблазн грехом
499
некто, в силу своей дурной расположенности, приводится к греху, например, к зависти к чужому благу. И тогда тот, кто совершает это правильное действие, как таковой, не дает повода для падения, но другой находит его сам, согласно этим словам (Рим 7, 8): Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. И потому это «пассивный соблазн», без активного, поскольку тот, кто поступает правильно, как таковой, не дает другому повода для падения. Итак, иногда случается, что активный соблазн в одном совпадает с пассивным соблазном в другом, например, когда один побуждает к греху, а другой грешит; а иногда бывает активный соблазн без пассивного, например, когда один человек словом или делом побуждает другого к греху, а тот не поддается; и, наконец, бывает пассивный соблазн без активного, о чем уже было сказано.
(15) На пятое надлежит ответить, что «ослабление» означает склонность к соблазну, в то время как «оскорбление» означает негодование на того, кто совершает грех, каковое негодование может иметь место и без духовного падения, а «соблазнение» подразумевает собственно падение.
Раздел 2 Является ли соблазн грехом
(16) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что соблазн не является грехом.
(17) 1. В самом деле, грехи не происходят по необходимости, поскольку, как было установлено выше (Ч. II-I, В. 74, Р. 1), всякий грех доброволен. Но сказано (Мф 18,
7): Необходимо прийти соблазнам. Следовательно, соблазн не является грехом.
(18) 2. Кроме того, никакой грех не может возникнуть из чувства благочестия, поскольку не может дерево доброе приносить плоды худые (Мф 7, 18). Но из чувства благочестия может возникнуть некий соблазн, поскольку Господь сказал Петру: Ты Мне — соблазн (Мф 16, 23), что Иероним толкует так: Ошибка апостола произошла из-за благочестия, к которому дьявол не побуждает. Следовательно, не всякий соблазн является грехом.
(19) 3. Кроме того, соблазниться — значит оступиться. Но не всякий, кто оступается, падает. Следовательно, соблазн может быть без греха, который является духовным падением.
inducitur ad peccandum, puta cum aliquis invidet bonis aliorum. Et tunc ille qui facit huiusmodi actum rectum non dat occasionem, quantum in se est, sed alius sumit occasionem, secundum illud ad Rom VII, occasione autem accepta, et cetera. Et ideo hoc est scandalum passivum sine activo, quia ille qui recte agit, quantum est de se, non dat occasionem ruinae quam alter patitur Quandoque ergo contingit quod et sit simul scandalum activum in uno et passivum in altero, puta cum ad inductionem unius alius peccat. Quandoque vero est scandalum activum sine passivo, puta cum aliquis inducit verbo vel facto alium ad peccandum, et ille non consentit. Quandoque vero est scandalum passivum sine activo, sicut iam dictum est
(15) Ad quintum dicendum quod infirmitas nominat promp- titudinem ad scandalum, offensio autem nominat indignationem alicuius contra eum qui peccat, quae potest esse quandoque sine ruina, scandalum autem importat ipsam impactionem ad ruinam
Articulus 2 Utrum scandalum sit peccatum
(16) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod scandalum non sit peccatum.
(17) 1. Peccata enim non eveniunt ex necessitate, quia omne peccatum est voluntarium, ut supra habitum est (II-I, q 71, a 6; q 74, a. 1; q. 80, a. 1). Sed Matth. XVIII dicitur, necesse est ut veniant scandala Ergo scandalum non est peccatum
(18) 2. Praeterea, nullum peccatum procedit ex pietatis affectu, quia non potest arbor bona fructus malos facere, ut dicitur Matth VII. Sed aliquod scandalum est ex pietatis affectu, dicit enim dominus Petro, Matth. XVI, scandalum mihi es\ ubi dicit (In Mt. III, super 16, 23; PL 26, 124) Hieronymus quod error apostoli, de pietatis affectu veniens, nunquam incentivum videtur esse Diaboli. Ergo non omne scandalum est peccatum.
(19) 3. Praeterea, scandalum impactionem quandam impor-
500
Вопрос 43. О соблазне
(20) Но против: соблазн есть «не вполне правильное слово или дело». Но то, что отклоняется от правильности, обладает смысловым содержанием греха. Следовательно, соблазн всегда сочетается с грехом.
(21) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1), соблазн бывает двух типов: пассивный соблазн в том, кто соблазняется, и активный соблазн в том, кто соблазняет, предоставляя повод для падения. Итак, пассивный соблазн всегда является грехом соблазняемого, поскольку он не соблазнялся бы, если бы так или иначе не пал тем падением, которое есть грех. Однако пассивный соблазн может иметь место без греха со стороны того, чье дело соблазнило другого, когда, например, этот другой соблазняется благим поступком. И равным образом, активный соблазн всегда является грехом соблазняющего, поскольку либо само его действие есть грех, либо же, если действие имеет лишь образ греха, оно все равно не должно совершаться из любви-каритас к ближнему, которая обязывает каждого заботиться о спасении ближнего; и потому тот, кто не отказывается от действия, противостоит любви- каритас. Однако, как было сказано выше (Р. 1, на 4), активный соблазн может иметь
место без греха со стороны соблазняемого
(22) Итак, на первое надлежит ответить, что слова «необходимо прийти соблазнам» следует понимать применительно не к абсолютной, а к условной необходимости в том, именно, смысле, что необходимо чтобы произошло все, что предзнал и предвозвестил Бог, если это берется совокупно, как уже было сказано в Первой Части (В. 14, Р. 13; В. 23, Р. 6). Или же соблазны должны необходимо прийти в смысле необходимости цели: ведь они бывают полезны для того, чтобы «открылись искусные» (1 Кор 11, 19). Или же речь идет о состоянии человека, который не остерегается греха. Так ведь и врач, видя, как некто употребляет неподходящую для него пищу, скажет, что такой человек необходимо заболеет, что следует понимать так: необходимо при условии, что он не изменит свой рацион. И точно так же соблазны необходимо присутствуют, пока люди не изменяют свой дурной образ жизни.
(23) На второе надлежит ответить, что там под «соблазном» понимается любое препятствие, поскольку Петр хотел воспрепятствовать страстям Христовым, будучи движим чувством благочестия по отношению к Нему.
tat Sed non quicumque impingit, cadit. Ergo scandalum potest esse sine peccato, quod est spiritualis casus.
(20) Sed contra est quod scandalum est dictum vel factum minus rectum Ex hoc autem habet aliquid rationem peccati quod a rectitudine deficit. Ergo scandalum semper est cum peccato.
(21) Respondeo dicendum quod, sicut iam supra dictum est (a. 1, ad 4), duplex est scandalum, scilicet passivum, in eo qui scandalizatur; et activum, in eo qui scandalizat, dans occasionem ruinae. Scandalum igitur passivum semper est peccatum in eo qui scandalizatur, non enim scandalizatur nisi inquantum aliqualiter ruit spirituali ruina, quae est peccatum. Potest tamen esse scandalum passivum sine peccato eius ex cuius facto aliquis scandalizatur, sicut cum aliquis scandalizatur de his quae alius bene facit. Similiter etiam scandalum activum semper est peccatum in eo qui scandalizat. Quia vel ipsum opus quod facit est peccatum, vel etiam, si habeat speciem peccati, dimittendum est semper propter proximi cantatem, ex qua unusquisque
conatur saluti proximi providere; et sic qui non dimittit contra cantatem agit. Potest tamen esse scandalum activum sine peccato alterius qui scandalizatur, sicut supra dictum est (a. 1, ad 4).
(22) Ad primum ergo dicendum quod hoc quod dicitur, necesse est ut veniant scandala, non est intelligendum de necessitate absoluta, sed de necessitate conditionali, qua scilicet necesse est praescita vel praenuntiata a Deo evenire, si tamen coniunctim accipiatur, ut in primo libro dictum est (q. 14, a. 13, ad 3; q 23, a. 6, ad 2). Vel necesse est evenire scandala necessitate finis, quia utilia sunt ad hoc quod qui probati sunt manifesti fiant Vel necesse est evenire scandala secundum conditionem hominum, qui sibi a peccatis non cavent. Sicut si aliquis medicus, videns aliquos indebita diaeta utentes, dicat, necesse est tales infirmari, quod intelligendum est sub hac conditione, si diaetam non mutent. Et similiter necesse est evenire scap- dala si homines conversationem malam non mutent.
(23) Ad secundum dicendum quod scandalum ibi large poni-
Раздел 3. Является ли соблазн особым грехом
501
(24) На третье надлежит ответить, что никто не оступается духовно, не сбиваясь так или иначе с ведущего к Богу пути, а это, по меньшей мере, простительный грех.
Раздел 3
Является ли соблазн особым грехом
(25) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что соблазн не является особым грехом.
(26) 1. В самом деле, соблазн есть «не вполне правильное слово или дело». Но таков любой грех. Следовательно, любой грех является соблазном и, следовательно, соблазн не является особым грехом.
(27) 2. Кроме того, каждый особый грех, или каждая особая несправедливость, обнаруживается отдельно от прочих, как сказано в V книге «Этики». Но соблазн не обнаруживается отдельно от других грехов. Следовательно, он не является особым грехом.
(28) 3. Кроме того, любой особый грех конституируется сообразно тому, что сообщает вид моральному действию. Но смысловое содержание соблазна состоит в том, что он есть грех, совершенный в присутствии других. Но, как кажется, очевидность греха, хотя и является отягчающим обстоятельством, тем не менее, не конституирует вид
греха. Следовательно, соблазн не является особым грехом.
(29) Но против: каждой особой добродетели противоположен особый грех. Но соблазн противоположен особой добродетели, а именно любви-каритас. В самом деле, сказано (Рим 14, 15): Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Следовательно, соблазн является особым грехом.
(30) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось выше (Р. 2), есть два типа соблазна: активный и пассивный. И пассивный соблазн, конечно, не может быть особым грехом, поскольку из-за чужого слова или дела человек может пасть сообразно любому роду греха. Равным образом, то самое, что поводом для греха становится слово или дело другого, не конституирует вид греха, поскольку не предполагает особого ущерба противоположной особой добродетели. С другой стороны, активный соблазн можно рассматривать в двух смыслах, как сущностный и как акциденталь- ный. Соблазн акцидентален тогда, когда он не входит в намерение действующего, например, когда человек своим неупорядоченным словом или делом хочет удовлетворить свою волю, а не дать другому по-
tur pro quolibet impedimento. Volebat enim Petrus Christi passionem impedire, quodam pietatis affectu ad Christum.
(24) Ad tertium dicendum quod nullus impingit spiritualiter nisi retardetur aliqualiter a processu in via Dei, quod fit saltem per peccatum veniale.
Articulus 3 Utrum scandalum sit speciale peccatum
(25) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod scandalum non sit speciale peccatum.
(26) 1. Scandalum enim est dictum vel factum minus rectum. Sed omne peccatum est huiusmodi. Ergo omne peccatum est scandalum. Non ergo scandalum est speciale peccatum.
(27) 2. Praeterea, omne speciale peccatum, sive omnis specialis iniustitia, invenitur separatim ab aliis; ut dicitur in V Ethic. (2; 1130al9). Sed scandalum non invenitur separatim ab aliis peccatis. Ergo scandalum non est speciale peccatum
(28) 3. Praeterea, omne speciale peccatum constituitur secundum aliquid quod dat speciem morali actui. Sed ratio
scandali constituitur per hoc quod coram aliis peccatur. In manifesto autem peccare, etsi sit circumstantia aggravans, non videtur constituere peccati speciem. Ergo scandalum non est speciale peccatum.
(29) Sed contra, speciali virtuti speciale peccatum opponitur Sed scandalum opponitur speciali virtuti, scilicet caritati, dicitur enim Rom. XIV, si propter cibum frater tuus contristatur, iam non secundum caritatem ambulas. Ergo scandalum est speciale peccatum.
(30) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (a. 1, ad 4; a. 2), duplex est scandalum, activum scilicet, et passivum. Passivum quidem scandalum non potest esse speciale peccatum, quia ex dicto vel facto alterius aliquem ruere contingit secundum quodcumque genus peccati; nec hoc ipsum quod est occasionem peccandi sumere ex dicto vel facto altenus specialem rationem peccati constituit, quia non importat specialem deformitatem speciali virtuti oppositam. Scandalum autem activum potest accipi dupliciter, per se scilicet, et per accidens. Per accidens
502
Вопрос 43. О соблазне
вод для падения. И в этом случае активный соблазн также не является особым грехом, поскольку акцидентальное не конституирует вид. Сущностным же соблазн является тогда, когда человек намеревается склонить другого к греху при помощи неупорядоченного слова или дела. И в этом случае на основании стремления к особой цели конституируется смысловое содержание особого греха, ведь нравственные действия получают вид от цели, как было показано выше (4.II-I, В. 1, Р. 3; В. 18, Р. 6). Поэтому как воровство и человекоубийство являются особыми грехами из-за особого вреда, который они причиняют ближнему, так и соблазн является особым грехом постольку, поскольку посредством соблазна намереваются причинить особый вред ближнему. И он непосредственно противоположен братскому исправлению, посредством которого намереваются устранить особый вред.
(31) Итак, на первое надлежит ответить, что любой грех может относиться к активному соблазну материально. Но формально смысловое содержание особого греха соблазн может иметь от преследуемой цели, как уже было сказано.
(32) На второе надлежит ответить, что активный соблазн можно обнаружить и отдельно от других грехов, например, когда некто соблазняет ближнего действием, которое не является грехом, но имеет образ зла.
(33) На третье надлежит ответить, что соблазн получает смысловое содержание особого греха не от названного обстоятельства, а от преследуемой цели, как уже сказано.
Раздел 4
Является ли соблазн смертным грехом
(34) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что соблазн является смертным грехом.
(35) 1. В самом деле, как было показано выше (В. 35, Р. 3; Ч. III, В. 88, Р. 2), всякий грех, который противоположен любви-каритас, является смертным грехом. Но соблазн противоположен любви-каритас, как уже было сказано (Р. 2). Следовательно, соблазн является смертным грехом.
(36) 2. Кроме того, никакой грех, кроме смертного, не заслуживает наказания в виде вечного проклятия. Но соблазн заслуживает наказание в виде вечного проклятия, согласно этим словам (Мф 18, 6): Кто
quidem, quando est praeter intentionem agentis, ut puta cum aliquis suo facto vel verbo inordinato non intendit alteri dare occasionem ruinae, sed solum suae satisfacere voluntati. Et sic etiam scandalum activum non est peccatum speciale, quia quod est per accidens non constituit speciem. Per se autem est activum scandalum quando aliquis suo inordinato dicto vel facto intendit alium trahere ad peccatum. Et sic ex intentione specialis finis sortitur rationem specialis peccati, finis enim dat speciem in moralibus, ut supra dictum est (II-I, q 1, a. 3; q. 18, a. 6) Unde sicut furtum est speciale peccatum, aut homicidium, propter speciale nocumentum proximi quod intenditur; ita etiam scandalum est speciale peccatum, propter hoc quod intenditur speciale proximi nocumentum. Et opponitur directe correctioni fraternae, in qua attenditur specialis nocumenti remotio
(31) Ad primum ergo dicendum quod omne peccatum potest matenaliter se habere ad scandalum activum. Sed formalem rationem specialis peccati potest habere ex inten¬
tione finis, ut dictum est.
(32) Ad secundum dicendum quod scandalum activum potest invenin separatim ab aliis peccatis, ut puta cum aliquis proximum scandalizat facto quod de se non est peccatum, sed habet speciem mali.
(33) Ad tertium dicendum quod scandalum non habet rationem specialis peccati ex praedicta circumstantia, sed ex intentione finis, ut dictum est.
Articulus 4 Utrum scandalum sit peccatum mortale
(34) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod scandalum sit peccatum mortale.
(35) 1. Omne enim peccatum quod contranatur cantati est peccatum mortale, ut supra dictum est (q. 35, a. 3; II-I, q. 88, a. 2). Sed scandalum contranatur caritati, ut dictum est (a. 2). Ergo scandalum est peccatum mortale.
(36) 2 Praeterea, nulli peccato debetur poena damnationis aeternae nisi mortali. Sed scandalo debetur poena damna-
Раздел 4. Является ли соблазн смертным грехом
503
соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Ибо, как говорит Иероним, намного лучше принять быстрое наказание за свое преступление, чем терпеть бесконечные муки. Следовательно, соблазн является смертным грехом.
(37) 3. Кроме того, любой грех, совершенный против Бога, является смертным, ведь только смертный грех отвращает человека от Бога. Но соблазн — грех против Бога, поскольку, как говорит апостол (1 Кор 8, 12), уязвляя немощную совесть братьев, вы согрешаете против Христа. Следовательно, соблазн всегда является смертным грехом.
(38) Но против: подталкивание человека к простительному греху также может быть простительным грехом. Но это входит в смысловое содержание соблазна. Следовательно, соблазн может быть простительным грехом.
(39) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1), соблазн подразумевает некое спотыкание, предрасполагающее человека к падению. И потому пассивный соблазн иногда может быть простительным грехом, заключаясь как бы только в том, что человек споткнулся; например,
когда некто движим движением простительного греха, возникшем из-за неупорядоченного слова или дела другого. Но иногда пассивный соблазн может быть смертным грехом, а именно, когда, споткнувшись, человек падает; например, когда некто из-за неупорядоченного слова или дела другого идет дальше, вплоть до смертного греха.
(40) Что же касается акцидентального активного соблазна, то он иногда, конечно, может быть простительным грехом, например, когда человек или грешит простительным грехом, или совершает, причем по неосмотрительности, действие, которое не является грехом само по себе, но имеет некий образ зла. Однако акцидентальный активный соблазн может быть и смертным грехом: либо потому, что человек совершает действие смертного греха, либо потому, что ему безразлично спасение ближнего, так что ради него он не отказывается от осуществления задуманного. В случае же сущностного активного соблазна, когда человек намеревается склонить другого к греху, он совершает смертный грех, если склоняет к смертному греху. Так же и в случае, когда он намерен склонить к простительному греху при помощи дей-
tionis aeternae, secundum illud Matth. XVIII, qui scandalizaverit unum de pusillis istis qui in me credunt, expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo eius et demergatur in profundum maris. Quia, ut dicit Hieronymus (In Mt. III, PL 26, 133), multo melius est pro culpa brevem recipere poenam quam aeternis servari cruciatibus Ergo scandalum est peccatum mortale.
(37) 3. Praeterea, omne peccatum quod in Deum committitur est peccatum mortale, quia solum peccatum mortale avertit hominem a Deo. Sed scandalum est peccatum in Deum, dicit enim apostolus, I ad Cor. VIII, percudentes conscientiam fratrum infirmam, in Christum peccatis. Ergo scandalum semper est peccatum mortale.
(38) Sed contra, inducere aliquem ad peccandum venialiter potest esse peccatum veniale. Sed hoc pertinet ad rationem scandali. Ergo scandalum potest esse peccatum veniale.
(39) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (a. 1), scandalum importat impactionem quandam, per quam aliquis disponitur ad ruinam Et ideo scandalum passivum quandoque quidem potest esse peccatum veniale, quasi
habens impactionem tantum, puta cum aliquis ex inordinato dicto vel facto alterius commovetur motu venialis peccati. Quandoque vero est peccatum mortale, quasi habens cum impactione ruinam, puta cum aliquis ex inordinato dicto vel facto altenus procedit usque ad peccatum mortale.
(40) Scandalum autem activum, si sit quidem per accidens, potest esse quandoque quidem peccatum veniale, puta cum aliquis vel actum peccati venialis committit; vel actum qui non est secundum se peccatum sed habet aliquam speciem mali, cum aliqua levi indiscretione. Quandoque vero est peccatum mortale, sive quia committit actum peccati mortalis; sive quia contemnit salutem proximi, ut pro ea conservanda non praetermittat aliquis facere quod sibi libuerit. Si vero scandalum activum sit per se, puta cum intendit inducere alium ad peccandum, si quidem intendat inducere ad peccandum mortaliter, est peccatum mortale. Et similiter si intendat inducere ad peccandum venialiter per actum peccati mortalis. Si vero intendat inducere proximum ad peccandum venialiter per actum peccati venialis, est peccatum veniale.
504
Вопрос 43. О соблазне
ствия смертного греха. Но если он собирается склонить ближнего к простительному греху, совершив простительный грех, тогда соблазн является простительным грехом.
(41) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 5 Может ли пассивный соблазн обнаружиться в совершенных
(42) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что пассивный соблазн может обнаружиться в совершенных.
(43) 1. В самом деле, Христос был совершеннее всех. Но Он сказал Петру (Мф 16,
23): Ты Мне соблазн. Следовательно, куда скорее могут соблазняться другие совершенные.
(44) 2. Кроме того, соблазн подразумевает препятствие, встречающееся на духовном пути человека. Но даже совершенные люди могут столкнуться с препятствиями на своем духовном пути, согласно этим словам (1 Фес 2, 18): Мы (.я, Павел) и раз, и два хотели прийти к вам — но воспрепятствовал нам сатана. Следовательно, даже совершенные люди могут соблазниться.
(45) 3. Кроме того, даже у совершенных людей бывают простительные грехи, со¬
гласно сказанному (1 Ин 1,8): Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Но пассивный соблазн не всегда является смертным грехом, ведь иногда он бывает простительным, как уже было сказано (Р. 4). Следовательно, пассивный соблазн может быть и в совершенных людях.
(46) Но против: Иероним, комментируя эти слова (Мф 18, 6), Кто соблазнит одного из малых сих, говорит: Заметь, что сказано о соблазнении малых, поскольку большие не соблазняются.
(47) Отвечаю: надлежит сказать, что пассивный соблазн подразумевает некое отступление от блага духа того, кто пребывает в соблазне. Но того, кто твердо держится неподвижной вещи, сдвинуть нельзя. Но большие, или совершенные, твердо держатся Бога, благость Которого неизменна, поскольку даже если они держатся своих прелатов, они держатся их лишь потому, что те твердо держатся Христа, согласно этим словам (1 Кор 4, 16): Подражайте мне, как я Христу. Поэтому сколько бы они ни наблюдали неупорядоченное, в отношении слов и дел, поведение других людей, они никогда не отступают от своей правильности, согласно сказанному в Псалме (Пс 124, 1): Надеющийся
(41) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 5 Utrum scandalum passivum possit etiam in perfectos cadere
(42) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod scandalum passivum possit etiam in perfectos cadere.
(43) 1. Christus enim fuit maxime perfectus. Sed ipse dixit Petro, scandalum mihi es. Ergo multo magis alii perfecti possunt scandalum pati.
(44) 2. Praeterea, scandalum importat impedimentum aliquod quod alicui opponitur in vita spirituali. Sed etiam perfecti vin in processibus spiritualis vitae impediri possunt, secundum illud I ad Thess. II, voluimus venire ad vos, ego quidem Paulus, semel et iterum, sed impedivit nos Satanas. Ergo etiam perfecti viri possunt scandalum pati.
(45) 3. Praeterea, etiam in perfectis vins peccata venialia inveniri possunt, secundum illud I Ioan. I, si dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus. Sed
scandalum passivum non semper est peccatum mortale, sed quandoque veniale, ut dictum est (a. 4). Ergo scandalum passivum potest in perfectis viris invenin.
(46) Sed contra est quod super illud Matth. XVIII, qui scandalizaverit unum de pusillis istis, dicit Hieronymus (In Mt III; PL 26, 133), nota quod qui scandalizatur parvulus est, maiores enim scandala non recipiunt.
(47) Respondeo dicendum quod scandalum passivum importat quandam commotionem animi a bono in eo qui scandalum patitur. Nullus autem commovetur qui rei immobili firmiter inhaeret. Maiores autem, sive perfecti, soli Deo inhaerent, cuius est immutabilis bonitas, quia etsi inhaereant suis praelatis, non inhaerent eis nisi inquantum illi inhaerent Christo, secundum illud I ad Cor. IV, imitatores mei estote, sicut et ego Christi. Unde quantumcumque videant alios inordinate se habere dictis vel factis, ipsi a sua rectitudine non recedunt, secundum illud Psalm., qui confidunt in domino, sicut mons Sion, non commovebitur in aeternum qui habitat in Ierusalem. Et ideo in his qui per-
Раздел 6. Может ли в совершенных мужах обнаружиться активный соблазн
505
на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. И потому в тех, кто совершенно прилепился к Богу посредством любви, нет никакого соблазна, согласно сказанному (Пс 118, 165): Велик мир у любящих закон Твой, и нет им соблазна
(48) Итак, на первое надлежит ответить, что, как уже было сказано выше (Р. 2), слово «соблазн» употребляется там в широком значении, в смысле любого препятствия. Поэтому когда Господь сказал Петру: Ты Мне соблазн, Он имел в виду то, что Петр старался воспрепятствовать Его намерению претерпеть крестные муки.
(49) На второе надлежит ответить, что совершенным людям можно воспрепятствовать в совершении внешних действий. Но ни слово, ни дело другого человека не может воспрепятствовать им стремиться к Богу посредством внутренней воли, согласно этим словам (Рим 8, 38-39): Ни смерть, ни жизнь не может отлучить нас от любви Божией.
(50) На третье надлежит ответить, что совершенные люди по слабости своей плоти иногда совершают простительные грехи, но они не соблазняются словами или делами других, если говорить об истинном смысловом содержании соблазна. Но они
могут некоторым образом приблизиться к соблазну, согласно этим словам (Пс 72, 2): Едва не пошатнулись ноги мои.
Раздел 6 Может ли в совершенных мужах обнаружиться активный соблазн
(51) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что в совершенных мужах можно обнаружить активный соблазн.
(52) 1. В самом деле, претерпевание является следствием действия. Но некоторые претерпели пассивный соблазн из-за слов или дел совершенных мужей, согласно этим словам (Мф 15, 12): Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Следовательно, в совершенных мужах можно обнаружить активный соблазн.
(53) 2. Кроме того, Петр после обретения Духа Святого находился в состоянии совершенства. Тем не менее, впоследствии он соблазнял язычников, ибо сказано (Гал 2, 14): Когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех. «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по- иудейски?». Следовательно, активный со-
fecte Deo adhaerent per amorem scandalum non invenitur, secundum illud Psalm., pax multa diligentibus legem tuam, et non est illis scandalum.
(48) Ad primum ergo dicendum quod, sicut supra dictum est (a. 2, ad 2), scandalum large ponitur ibi pro quolibet impedimento. Unde dominus Petro dicit, scandalum mihi es, quia nitebatur eius propositum impedire circa passionem subeundam.
(49) Ad secundum dicendum quod in exterioribus actibus perfecti viri possunt impedin. Sed in intenori voluntate per dicta vel facta aliorum non impediuntur quominus tendant in Deum, secundum illud Rom. VIII, neque mors neque vita poterit nos separare a caritate Dei.
(50) Ad tertium dicendum quod perfecti viri ex infirmitate camis incidunt interdum in aliqua peccata venialia, non autem ex aliorum dictis vel factis scandalizantur secundum veram scandali rationem. Sed potest esse in eis quaedam appropinquatio ad scandalum, secundum illud Psalm., mei pene moti sunt pedes
Articulus 6 Uttrum scandalum activum possit inveniri in viris perfectis
(51) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod scandalum activum possit invenin in viris perfectis.
(52) 1. Passio enim est effectus actionis. Sed ex dictis vel factis perfectorum aliqui passive scandalizantur, secundum illud Matth. XV, scis quia Pharisaei, audito hoc verbo, scandalizati sunt? Ergo in perfectis vins potest invenin scandalum activum.
(53) 2 Praeterea, Petrus post acceptum spiritum sanctum in statu perfectorum erat. Sed postea gentiles scandalizavit, dicitur enim ad Gal II, cum vidissem quod non recte ambularent ad veritatem Evangelii, dixi Cephae, idest Petro, coram omnibus, si tu cum Iudaeus sis, gentiliter et non Iudaice vivis, quomodo gentes cogis iudaizare? Ergo scandalum activum potest esse in vins perfectis.
506
Вопрос 43. О соблазне
блазн может быть и в совершенных мужах.
(54) 3. Кроме того, активный соблазн иногда бывает простительным грехом. Но простительные грехи могут обнаруживаться и в совершенных. Следовательно, активный соблазн может быть и в совершенных мужах.
(55) Но против: совершенству в большей степени противоположен активный соблазн, чем пассивный. Но пассивного соблазна в совершенных мужах быть не может. Следовательно, куда менее вероятно, что в них есть активный соблазн.
(56) Отвечаю: надлежит сказать, что активный соблазн в строгом смысле слова имеет место тогда, когда человек говорит или делает то, что само по себе предназначено для того, чтобы привести другого к падению; но таковым, конечно, могут быть только неупорядоченные слова и действия. Однако совершенным свойственно упорядочивать все свои действия согласно нормам разума, о чем сказано (1 Кор 14, 40): Только все должно быть благопристойно и упорядоченно. И совершенные руководствуются этим правилом не только там, где они могли бы навредить самим себе, но и там, где они могли бы дать повод для падения другим. И если в их очевидных словах и делах отсутствует некая то¬
лика этой умеренности, то причиной тому человеческая слабость, из-за которой они не достигли [полного] совершенства. Однако эта нехватка не такова, чтобы серьезно отклониться от порядка разума, но мала и незначительна, и потому никакой здравомыслящий человек не найдет в таковом повод для совершения греха.
(57) Итак, на первое надлежит ответить, что пассивный соблазн всегда причинно обусловливается неким активным соблазном, который, однако, не всегда происходит от кого-то другого, ибо может пребывать в самом соблазняемом, который, таким образом, соблазняет самого себя.
(58) На второе надлежит ответить, что, по мнению Августина, да и самого Павла, Петр согрешил и был порицаем за то, что, устранившись от язычников, чтобы избежать соблазна для иудеев, сделал это столь неосторожно, что соблазниться могли обращенные в веру язычники. Однако действие Петра не было столь тяжким грехом, чтобы другие получили достаточный повод для соблазна. Следовательно, хотя в них и был пассивный соблазн, в самом Петре активного соблазна не было.
(59) На третье надлежит ответить, что простительные грехи совершенных мужей за-
(54) 3 Praeterea, scandalum activum quandoque est peccatum veniale. Sed peccata venialia possunt etiam esse in viris perfectis. Ergo scandalum activum potest esse in vins perfectis.
(55) Sed contra, plus repugnat perfectioni scandalum activum quam passivum. Sed scandalum passivum non potest esse in viris perfectis Ergo multo minus scandalum activum.
(56) Respondeo dicendum quod scandalum activum proprie est cum aliquis tale aliquid dicit vel facit quod de se tale est ut alterum natum sit inducere ad ruinam, quod quidem est solum id quod inordinate fit vel dicitur. Ad perfectos autem pertinet ea quae agunt secundum regulam rationis ordinare, secundum illud I ad Cor. XIV, omnia honeste et secundum ordinem fiant in vobis. Et praecipue hanc cautelam adhibent in his in quibus non solum ipsi offenderent, sed etiam aliis offensionem pararent. Et si quidem in eorum manifestis dictis vel factis aliquid ab hac moderatione desit, hoc provenit ex infirmitate humana,
secundum quam a perfectione deficiunt. Non tamen in- tantum deficiunt ut multum ab ordine rationis recedatur, sed modicum et leviter, quod non est tam magnum ut ex hoc rationabiliter possit ab alio sumi peccandi occasio.
(57) Ad primum ergo dicendum quod scandalum passivum semper ab aliquo activo causatur, sed non semper ab aliquo scandalo activo alterius, sed eiusdem qui scandalizatur; quia scilicet ipse seipsum scandalizat.
(58) Ad secundum dicendum quod Petrus peccavit quidem, et reprehensibilis fuit, secundum sententiam Augustini (Epist. 28, ad Hieron., 3; PL 35, 133) et ipsius Pauli, subtrahens se a gentilibus ut vitaret scandalum Iudaeo- rum, quia hoc incaute aliqualiter faciebat, ita quod ex hoc gentiles ad fidem conversi scandalizabantur. Non tamen factum Petri erat tam grave peccatum quod merito possent alii scandalizari. Unde patiebantur scandalum passivum, non autem erat in Petro scandalum activum.
(59) Ad tertium dicendum quod peccata venialia perfectorum praecipue consistunt in subitis motibus, qui, cum sint
Раздел 7. Надо ли отказываться от духовных благ, чтобы избежать соблазна 507
ключаются главным образом во внезапных движениях, которые, будучи скрытыми, не могут дать повод для соблазна. И если они даже и совершают некий простительный грех своими внешними словами или делами, то он столь легок, что сам по себе не может никого соблазнить.
Раздел 7
Следует ли ради того, чтобы избежать соблазна, отказываться от духовных благ
(60) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что нужно отказываться от духовных благ ради того, чтобы избежать соблазна.
(61) 1. В самом деле, Августин учит, что там, где ощущается опасность схизмы, следует приостанавливать наказание за грехи. Но наказание за грехи является духовным благом, поскольку есть действие справедливости. Следовательно, нужно отказываться от духовных благ ради того, чтобы избежать соблазна.
(62) 2. Кроме того, как представляется, священное учение в высшей степени духовно. Но для того, чтобы избежать соблазна, надлежит воздерживаться и от него, согласно этим словам (Мф 7, 6): Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего
перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Следовательно, нужно отказываться от духовных благ ради того, чтобы избежать соблазна.
(63) 3. Кроме того, братское исправление, будучи действием любви-каритас, является неким духовным благом. Но, как говорит Августин, иногда от него следует отказываться, чтобы не вводить других в соблазн. Следовательно, нужно отказываться от духовных благ ради того, чтобы избежать соблазна.
(64) 4. Кроме того, Иероним говорит1, что ради уклонения от соблазна следует воздерживаться от всего, от чего только можно, за исключением трех истин, а именно, истины жизни, справедливости и учения. Но от следования советам или от подаяния милостыни в большинстве случаев можно воздержаться, не причиняя ущерба вышеозначенным истинам, в противном случае тот, кто воздерживается от них, всегда грешил бы. И тем менее, эти вещи являются одними из главных духовных деяний. Следовательно, нужно отказываться от духовных деяний ради того, чтобы избежать соблазна.
(65) 5. Кроме того, уклонение от любого греха является духовным благом, по-
occulti, scandalizare non possunt. Si qua vero etiam in exterioribus dictis vel factis venialia peccata committant, tam levia sunt ut de se scandalizandi virtutem non habeant.
Articulus 7
Utrum bona spiritualia sint propter scandalum dimittenda
(60) Ad septimum sic proceditur. Videtur quod bona spiritualia sint propter scandalum dimittenda.
(61) 1. Augustinus enim, in libro Contra epistolam Parmen. (III, 2, PL 43, 92), docet quod ubi schismatis periculum timetur, a punitione peccatorum cessandum est. Sed punitio peccatorum est quoddam spintuale, cum sit actus iustitiae. Ergo bonum spintuale est propter scandalum dimittendum.
(62) 2 Praeterea, sacra doctnna maxime videtur esse spiritualis. Sed ab ea est cessandum propter scandalum, secundum illud Matth. VII, nolite sanctum dare canibus, neque margaritas vestras spargatis ante porcos, ne conversi dirumpant vos. Ergo bonum spintuale est dimittendum
propter scandalum.
(63) 3. Praeterea, conectio fraterna, cum sit actus caritatis, est quoddam spirituale bonum. Sed interdum ex cantate dimittitur, ad vitandum scandalum aliorum; ut Augustinus dicit, in I De civ. Dei (9; PL 41, 22). Ergo bonum spintuale est propter scandalum dimittendum.
(64) 4. Praeterea, Hieronymus dicit quod dimittendum est propter scandalum omne quod potest praetermitti salva triplici ventate, scilicet vitae, iustitiae et doctnnae. Sed impletio consiliorum, et largitio eleemosynarum, multoties potest praetermitti salva triplici veritate praedicta, alioquin semper peccarent omnes qui praetermittunt. Et tamen haec sunt maxima inter spintualia opera. Ergo spiritualia opera debent praetermitti propter scandalum.
(65) 5. Praeterea, vitatio cuiuslibet peccati est quoddam spirituale bonum, quia quodlibet peccatum affert peccanti aliquod spirituale detnmentum. Sed videtur quod pro scandalo proximi vitando debeat aliquis quandoque peccare venialiter, puta cum peccando venialiter impe-
508
Вопрос 43. О соблазне
скольку любой грех причиняет некий духовный вред грешнику. Но, как представляется, иногда нужно совершить простительный грех, чтобы ближний удержался от соблазна, например, когда посредством простительного греха удается уберечь другого от совершения греха смертного, ибо человек изо всех сил должен препятствовать осуждению ближнего, если только речь не идет о собственном спасении, которого, впрочем, простительный грех не исключает. Следовательно, нужно отказываться от духовных благ ради того, чтобы избежать соблазна.
(66) Но против: Григорий говорит: Если истина является соблазном, то лучше допустить соблазн, чем отречься от истины. Но духовные блага относятся прежде всего к истине. Следовательно, не нужно отказываться от духовных благ ради того, чтобы избежать соблазна.
(67) Отвечаю: надлежит сказать, что поскольку соблазн бывает двух типов, активный и пассивный, постольку данный вопрос не может относиться к активному соблазну, ведь так как он есть «не вполне правильное слово или дело, дающее повод для падения», ничто из связанного с активным соблазном делать нельзя. Но если говорить
о пассивном соблазне, то вопрос является оправданным. Итак, следует выяснить, от чего нужно воздерживаться для того чтобы не ввести в соблазн другого. И что касается духовных благ, то в них следует провести различие. Ведь некоторые из них необходимы для спасения и от них нельзя отказаться без смертного греха. Но очевидно, что никто не должен совершать смертный грех ради того, чтобы предотвратить грех другого человека, поскольку согласно порядку любви человек должен любить свое духовное здоровье больше, чем духовное здоровье другого. Следовательно, мы не должны ради уклонения от соблазна отказываться от того, что необходимо для спасения.
(68) Однако что касается тех духовных благ, которые не необходимы для спасения, то и здесь также надлежит провести различие. В самом деле, соблазн, который происходит из них, иногда обусловливается дурным намерением, например, когда человек соблазняется потому, что желает воспрепятствовать этим духовным благам. И таким был «соблазн фарисеев», которые соблазнились учением Господа. И Господь учит, что таким соблазном следует пренебрегать (Мф 15, 14). А иногда соблазн про-
dit peccatum mortale alterius, debet enim homo impedire damnationem proximi quantum potest sine detrimento propriae salutis, quae non tollitur per peccatum veniale. Ergo aliquod bonum spirituale debet homo praetermittere propter scandalum vitandum.
(66) Sed contra est quod Gregonus dicit, super Ezech. (I, hom. 7; PL 76, 842), si de veritate scandalum sumitur, utilius nasci permittitur scandalum quam veritas relinquatur. Sed bona spiritualia maxime pertinent ad veritatem. Ergo bona spiritualia non sunt propter scandalum dimittenda.
(67) Respondeo dicendum quod, cum duplex sit scandalum, activum scilicet et passivum, quaestio ista non habet locum de scandalo activo, quia cum scandalum activum sit dictum vel factum minus rectum, nihil est cum scandalo activo faciendum. Habet autem locum quaestio si intelli- gatur de scandalo passivo. Considerandum est igitur quid sit dimittendum ne alius scandalizetur. Est autem in spiritualibus bonis distinguendum. Nam quaedam horum sunt de necessitate salutis, quae praetermitti non possunt sine peccato mortali. Manifestum est autem quod nullus debet
mortaliter peccare ut alterius peccatum impediat, quia secundum ordinem caritatis plus debet homo suam salutem spiritualem diligere quam alterius. Et ideo ea quae sunt de necessitate salutis praetermitti non debent propter scandalum vitandum.
(68) In his autem spiritualibus bonis quae non sunt de necessitate salutis videtur distinguendum. Quia scandalum quod ex eis ontur quandoque ex malitia procedit, cum scilicet aliqui volunt impedire huiusmodi spiritualia bona, scandala concitando, et hoc est scandalum Pharisaeo- rum, qui de doctrina domini scandalizabantur. Quod esse contemnendum dominus docet, Matth. XV. Quandoque vero scandalum procedit ex infirmitate vel ignorantia, et huiusmodi est scandalum pusillorum. Propter quod sunt spiritualia opera vel occultanda, vel etiam interdum differenda, ubi periculum non imminet, quousque, reddita ratione, huiusmodi scandalum cesset. Si autem post redditam rationem huiusmodi scandalum duret, iam videtur ex malitia esse, et sic propter ipsum non sunt huiusmodi spiritualia opera dimittenda
Раздел 7. Надо ли отказываться от духовных благ, чтобы избежать соблазна 509
исходит из слабости или неведения, и таков «соблазн малых сих». И для того, чтобы избежать такого соблазна, следует или скрывать духовные блага, или даже откладывать их на потом, если в том нет какой- либо опасности, до тех пор, пока в результате разъяснений не исчезнет сама вероятность соблазна. Однако если соблазн имеет место и после разъяснений, то, как представляется, он происходит из дурного намерения, и тогда уже не следует отказываться от подобных духовных благ.
(69) Итак, на первое надлежит ответить, что наказание налагают не ради самого наказания, а в качестве некоего лекарства, сдерживающего грех. И потому наказание обладает смысловым содержанием справедливости настолько, насколько благодаря ему сдерживается грех. Но если очевидно, что наложение наказания повлечет за собой еще более многочисленные и тяжкие грехи, то тогда оно уже не будет относиться к справедливости. И именно эту ситуацию имеет в виду Августин, когда указывает, что если отлучение некоторых людей грозит опасностью схизмы, то тогда оно не относится к истине справедливости.
(70) На второе надлежит ответить, что касательно учения надлежит принять во вни¬
мание два момента, а именно истину, которой обучают, и сам акт обучения. Истина необходима для спасения, и тот, чьей обязанностью является учительство, не должен учить ничему, что противоречило бы истине, хотя он должен учить ей, сообразуясь с требованиями времени и [статуса] обучаемых. И потому даже в случае вероятного соблазна не следует, утаивая истину, учить лжи. А сам акт обучения является одним из видов духовного подаяния, как уже говорилось выше (В. 32, Р. 2). И потому об обучении можно сказать то же самое, что позднее (на 4) будет сказано о других деяниях милосердия.
(71) На третье надлежит ответить, что братское исправление, как уже было сказано выше (В. 33, Р. 1), направлено на исправление брата, и потому оно считается духовным благом настолько, насколько достигает этой цели. Но оно ее не достигнет, если брат соблазнится из-за исправления. И потому тот, кто воздерживается от исправления для того, чтобы избежать соблазна, не отказывается от духовного блага.
(72) На четвертое надлежит ответить, что истины жизни, учения и справедливости включают в себя не только то, что необходимо для спасения, но также и то, что де-
(69) Ad primum ergo dicendum quod poenarum inflictio non est propter se expetenda, sed poenae infliguntur ut medicinae quaedam ad cohibendum peccata. Et ideo intantum habent rationem iustitiae inquantum per eas peccata cohibentur Si autem per inflictionem poenarum manifestum sit plura et maiora peccata sequi, tunc poenarum inflictio non continebitur sub iustitia Et in hoc casu loquitur Augustinus, quando scilicet ex excommunicatione aliquorum imminet periculum schismatis, tunc enim excommunicationem ferre non pertineret ad veritatem iustitiae.
(70) Ad secundum dicendum quod circa doctrinam duo sunt consideranda, scilicet ventas quae docetur; et ipse actus docendi Quorum primum est de necessitate salutis, ut scilicet contrarium ventati non doceat, sed ventatem secundum congruentiam tempons et personarum proponat ille cui incumbit docendi officium. Et ideo propter nullum scandalum quod sequi videatur debet homo, praetermissa ventate, falsitatem docere. Sed ipse actus docendi inter spintuales eleemosynas computatur, ut supra dictum est
(q. 32, a. 2). Et ideo eadem ratio est de doctnna et de aliis misericordiae openbus, de quibus postea dicetur (ad 4).
(71) Ad tertium dicendum quod correctio fraterna, sicut supra dictum est, ordinatur ad emendationem fratris. Et ideo intantum computanda est inter spintualia bona inquantum hoc consequi potest. Quod non contingit si ex conectione frater scandalizetur Et ideo si propter scandalum correctio dimittatur, non dimittitur spintuale bonum.
(72) Ad quartum dicendum quod in veritate vitae, doctrinae et iustitiae non solum comprehenditur id quod est de necessitate salutis, sed etiam id per quod perfectius pervenitur ad salutem, secundum illud I ad Cor. XII, aemulamini charismata meliora. Unde etiam consilia non sunt simpliciter praetermittenda, nec etiam misericordiae opera, propter scandalum, sed sunt interdum occultanda vel differenda propter scandalum pusillorum, ut dictum est. Quandoque tamen consiliorum observatio et impletio operum misericordiae sunt de necessitate salutis. Quod
510
Вопрос 43. О соблазне
лает обретение спасения более совершенным, согласно этим словам (1 Кор 12, 31): Ревнуйте о дарах больших. И потому ради того, чтобы избежать соблазна, не следует воздерживаться от советов и дел милосердия безусловно, хотя иногда их надлежит скрывать или отсрочивать на некоторое время ради того, чтобы избежать «соблазна малых сих», о чем уже было сказано. Однако в некоторых случаях исполнение советов и деяний милосердия бывает необходимо для спасения. Это происходит тогда, когда человек уже принес обет следовать советам2, или когда он обязан оказать срочную помощь нуждающемуся либо в отношении временного (например, накормить голодного), либо и в отношении духовного (например, наставить несведущего), причем эта обязанность может быть либо вмененной ему по должности, что имеет место в случае прелатов, либо обусловленной крайней необходимостью со стороны нуждающегося. И тогда в отношении такового верно все то, что относится к необходимому для спасения.
(73) На пятое надлежит ответить, что некоторые говорили, что ради того, чтобы избежать соблазна, надо совершать простительные грехи. Но здесь имеется противоречие,
поскольку, если грех надо совершать, то он уже не является ни злом, ни грехом, ведь не может быть грехом то, что не избирается [свободным решением]. Однако случается так, что при определенных обстоятельствах нечто не является простительным грехом, хотя в иных обстоятельствах оно было бы таковым. Например, шутка является простительным грехом, когда от нее нет никакой пользы, но если для нее есть разумная причина, то она не является ни пустой, ни греховной. И хотя простительный грех не устраняет благодать, через которую человек обретает спасение, тем не менее, настолько, насколько простительный грех предрасполагает к смертному греху, он ведет к утрате спасения.
Раздел 8
Следует ли ради того, чтобы избежать соблазна, отказываться от временных благ
(74) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что ради того, чтобы избежать соблазна, нужно отказываться от временных благ.
(75) 1. В самом деле, духовное спасение ближнего, которому препятствует соблазн, мы должны любить больше, чем любые временные блага. Но мы отказываемся от
patet in his qui iam voverunt consilia; et in his quibus ex debito imminet defectibus aliorum subvenire, vel in temporalibus, puta pascendo esurientem, vel in spiritualibus, puta docendo ignorantem; sive huiusmodi fiant debita propter iniunctum officium, ut patet in praelatis, sive propter necessitatem indigentis. Et tunc eadem ratio est de huiusmodi sicut de aliis quae sunt de necessitate salutis.
(73) Ad quintum dicendum quod quidam dixerunt quod peccatum veniale est committendum propter vitandum scandalum. Sed hoc implicat contraria, si enim faciendum est, iam non est malum neque peccatum; nam peccatum non potest esse eligibile. Contingit tamen aliquid propter aliquam circumstantiam non esse peccatum veniale quod, illa circumstantia sublata, peccatum veniale esset, sicut verbum iocosum est peccatum veniale quando absque utilitate
dicitur; si autem ex causa rationabili proferatur, non est otiosum neque peccatum. Quamvis autem per peccatum veniale gratia non tollatur, per quam est hominis salus; inquantum tamen veniale disponit ad mortale, vergit in detrimentum salutis.
Articulus 8
Utrum propter scandalum sint temporalia dimittenda
(74) Ad octavum sic proceditur. Videtur quod temporalia sint dimittenda propter scandalum.
(75) 1. Magis enim debemus diligere spintualem salutem proximi, quae impeditur per scandalum, quam quaecumque temporalia bona. Sed id quod minus diligimus dimittimus propter id quod magis diligimus. Ergo temporalia magis debemus dimittere ad vitandum scandalum proximorum.
Раздел 8. Надо ли отказываться от временных благ, чтобы избежать соблазна 511
того, что любим меньше, ради того, что любим больше. Следовательно, нужно отказываться от временных благ, чтобы не соблазнять ближних.
(76) 2. Кроме того, согласно Иерониму, ради уклонения от соблазна следует воздерживаться от всего, от чего только можно, за исключением трех истин. Но от временных благ можно отказаться без какого- либо ущерба этим истинам. Следовательно, от них нужно отказываться для того, чтобы избежать соблазна.
(77) 3. Кроме того, среди временных благ нет ничего более необходимого, чем пища. Но нам следует отказываться от пищи для того, чтобы избегать соблазна согласно этим словам (Рим 14, 15): Не губи своею пищею того, за кого Христос умер. Следовательно, тем более мы должны отказываться от всех остальных временных благ ради того, чтобы избежать соблазна.
(78) 4. Кроме того, лучшим способом сохранения или возвращения временных благ является обращение в суд. Однако обращаться в суд непозволительно, особенно если это связано с соблазном, ибо сказано (Мф 5, 40): Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и еще (1 Кор 6, 7): И то
уже весьма унизительно для вас, что имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными ? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Следовательно, как представляется, мы должны отказываться от временных благ ради того, чтобы избежать соблазна.
(79) 5. Кроме того, как представляется, в последнюю очередь надлежит отказываться от тех временных благ, которые связаны с духовными. Но для того, чтобы избежать соблазна, мы должны отказываться и от них, ибо апостол, проповедуя духовное, не принимал материального вознаграждения, дабы не поставить преграды благовествованию Христову (1 Кор 9, 12). И по сходной причине Церковь в некоторых землях не взымает десятину, для того, чтобы избежать соблазна. Следовательно, куда скорее надлежит отказываться от прочих благ для того, чтобы избежать соблазна.
(80) Но против: блаженный Фома Кентерберийский потребовал возвращения собственности Церкви, хотя и ввел этим короля в соблазн.
(81) Отвечаю: надлежит сказать, что применительно к временным благам надлежит провести следующее различение: некото-
(76) 2. Praeterea, secundum regulam Hieronymi (cf. Hugo de Sancto Caro, In univ. Test., super Mt 18, 7; 6, 61, Alexander Halensis, Summa theol., II-Il, QR 3, 821), omnia quae possunt praetermitti salva tnplici ventate, sunt propter scandalum dimittenda Sed temporalia possunt praetermitti salva tnplici ventate. Ergo sunt propter scandalum dimittenda.
(77) 3. Praeterea, in temporalibus bonis nihil est magis necessanum quam cibus Sed cibus est praetermittendus propter scandalum, secundum illud Rom. XIV, noli cibo tuo illum perdere pro quo Christus mortuus est. Ergo multo magis omnia alia temporalia sunt propter scandalum dimittenda.
(78) 4 Praeterea, temporalia nullo convenientiori modo conservare aut recuperare possumus quam per iudicium. Sed iudiciis uti non licet, et praecipue cum scandalo, dicitur enim Matth. V, ei qui vult tecum in iudicio contendere et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium', et I ad Cor. VI, iam quidem omnino delictum est in vobis quod iudicia ha¬
betis inter vos. Quare non magis iniuriam accipitis9 Quare non magis fraudem patimini? Ergo videtur quod temporalia sint propter scandalum dimittenda
(79) 5. Praeterea, inter omnia temporalia minus videntur dimittenda quae sunt spiritualibus annexa Sed ista sunt propter scandalum dimittenda, apostolus enim, seminans spiritualia, temporalia stipendia non accepit, ne offendiculum daret Evangelio Christi, ut patet I ad Cor. IX; et ex simili causa Ecclesia in aliquibus tems non exigit decimas, propter scandalum vitandum. Ergo multo magis alia temporalia sunt propter scandalum dimittenda.
(80) Sed contra est quod beatus Thomas Cantuariensis (cf. Jacobus de Varagine, Legenda Aurea, 11,1, GR 67, 2; GR 68) repetiit res Ecclesiae cum scandalo regis.
(81) Respondeo dicendum quod circa temporalia bona distinguendum est. Aut enim sunt nostra, aut sunt nobis ad conservandum pro aliis commissa, sicut bona Ecclesiae committuntur praelatis, et bona communia quibuscumque reipublicae rectonbus Et talium conservatio, sicut et de-
512
Вопрос 43. О соблазне
рые из них являются нашей собственностью, а некоторые отданы нам кем-то еще на хранение (так, например, блага Церкви вверены прелатам, а общее благо государства — его правителям). И сохранение такового, как своего рода вкладов, необходимо является обязанностью тех, кому оно доверено. И потому от него нельзя отказываться ради того, чтобы избежать соблазна, как нельзя отказываться от того, что необходимо для спасения. Что же касается тех временных благ, которые являются нашей собственностью, то иногда для того, чтобы избежать соблазна, мы должны отказываться от них, а иногда нет, независимо от того, находятся ли они в данный момент у нас или переданы кому-то еще. В самом деле, если соблазн возникает из-за невежества или слабости других, как уже говорилось выше (Р. 7) о соблазне «малых сих», то мы должны или полностью отказаться от временных благ, или же устранить соблазн по-другому, а именно, посредством некоего увещевания. И потому Августин говорит: Давать надлежит так, чтобы не причинить вред ни себе, ни другому, насколько это возможно для человека. И если отказываешь другому в том, что он просит, ты должен быть справедлив к нему,
и дать ему нечто лучшее, исправив тем самым неправедно просящего. Однако подчас соблазн возникает из злого умысла, и это есть «соблазн фарисеев». И в этих случаях мы не должны отказываться от временных благ ради тех, кто впадает в такой соблазн, поскольку это нанесло бы урон как общему благу, ибо предоставило бы возможность злодеям присваивать его, так и самим расхитителям, которые, удерживая чужое, закоснели бы в грехе. Поэтому Григорий и говорит: Иногда следует терпеть присвоение наших временных благ, а иногда, сохраняя справедливость, пресекать его, причем не только с целью сохранить свое, но и для того, чтобы присваивающие чужое не потеряли самих себя.
(82) И из этого очевиден ответ на первое.
(83) На второе надлежит ответить, что если бы дурным людям позволили без разбора присваивать чужое, то это привело бы к ущербу для истины жизни и справедливости. И потому не следует отказываться от временных благ ради того, чтобы избежать любого соблазна.
(84) На третье надлежит ответить, что апостол не имел в виду, что из-за соблазна следует полностью отказаться от пищи, ведь для того, чтобы жить человек должен есть.
positorum, imminet his quibus sunt commissa ex necessitate. Et ideo non sunt propter scandalum dimittenda, sicut nec alia quae sunt de necessitate salutis. Temporalia vero quorum nos sumus domini dimittere, ea tribuendo si penes nos ea habeamus, vel non repetendo si apud alios sint, propter scandalum quandoque quidem debemus, quandoque autem non Si enim scandalum ex hoc oriatur propter ignorantiam vel infirmitatem aliorum, quod supra diximus esse scandalum pusillorum (a. 7), tunc vel totaliter dimittenda sunt temporalia; vel aliter scandalum sedandum, scilicet per aliquam admonitionem. Unde Augustinus dicit, in libro De serm. Dom. in monte (I, 20; PL 34, 1264), dandum est quod nec tibi nec alteri noceat, quantum ab homine credi potest. Et cum negaveris quod petit, indicanda est ei iustitia, et melius ei aliquid dabis, cum petentem iniuste correxeris. Aliquando vero scandalum nascitur ex malitia, quod est scandalum Pharisaeorum. Et propter eos qui sic scandala concitant non sunt temporalia dimit¬
tenda, quia hoc et noceret bono communi, daretur enim malis rapiendi occasio; et noceret ipsis rapientibus, qui retinendo aliena in peccato remanerent Unde Gregonus dicit, in Moral. (XXXI, 13; PL 76, 586), quidam, dum temporalia nobis rapiunt, solummodo sunt tolerandi, quidam vero, servata aequitate, prohibendi; non sola cura ne nostra subtrahantur, sed ne rapientes non sua semetipsos perdant.
(82) Et per hoc patet solutio ad primum.
(83) Ad secundum dicendum quod si passim permitteretur malis hominibus ut aliena raperent, vergeret hoc in detrimentum veritatis vitae et iustitiae. Et ideo non oportet propter quodcumque scandalum temporalia dimitti.
(84) Ad tertium dicendum quod non est de intentione apostoli monere quod cibus totaliter propter scandalum dimittatur, quia sumere cibum est de necessitate salutis. Sed talis cibus est propter scandalum dimittendus, secundum illud I ad Cor. VIII, non manducabo carnem in aeternum, ne fratrem meum scandalizem.
Раздел 8. Надо ли отказываться от временных благ, чтобы избежать соблазна 513
Речь шла о том, что ради того, чтобы избежать соблазна, следует воздерживаться от некоторых особых видов пищи, согласно этим словам (1 Кор 8, 13): Не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.
(85) На четвертое надлежит ответить, что, как говорит Августин, эту заповедь Господа надлежит понимать как относящуюся к готовности духа — в том смысле, что человек должен быть готов, если будет необходимо, скорее претерпеть лишения и неспра¬
ведливости, чем обратиться в суд. Однако, как уже было сказано, иногда этого не требуется. И то же самое относится к словам апостола.
(86) На пятое надлежит ответить, что соблазн, которого избегал апостол, был связан с неведением язычников, у которых не было такого обычая. И потому требовалось воздержаться, до тех пор, пока они не будут наставлены. По сходной причине также и Церковь не взымает десятины в тех землях, где это не принято.
(85) Ad quartum dicendum quod secundum Augustinum, in mtelligendum est verbum apostoli, libro De serm. Dom. in monte (I, 19, PL 34, 1260), illud (86) Ad quintum dicendum quod scandalum quod vitabat
praeceptum domini est intelligendum secundum praeparationem animi, ut scilicet homo sit paratus pnus pati ini- uriam vel fraudem quam iudicium subire, si hoc expediat. Quandoque tamen non expedit, ut dictum est. Et similiter
apostolus ex ignorantia procedebat gentilium, qui hoc non consueverant. Et ideo ad tempus abstinendum erat, ut pnus instruerentur hoc esse debitum. Et ex simili causa Ecclesia abstinet de decimis exigendis in tems in quibus non est consuetum decimas solvere.
Вопрос 44
О заповедях, относящихся к любви-каритас
(1) Затем надлежит рассмотреть заповеди, относящиеся к любви-каритас. И касательно этого исследуются восемь [проблем]: 1) нужно ли было давать заповеди о любви- каритас; 2) сколько именно: одну или две;
3) достаточно ли двух; 4) должным ли образом заповедано любить Бога «всем сердцем твоим»; 5) должным ли образом добавлено «всею душою твоею» и т. д.; 6) возможно ли соблюдать эту заповедь в земной жизни; 7) о заповеди «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; 8) подпадает ли под заповедь порядок любви-каритас.
Раздел 1 Нужно ли было давать заповеди о любви-каритас
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что не следовало давать заповеди о любви-каритас.
(3) 1. В самом деле, любовь-каритас при¬
дает модус всем действиям добродетелей, о которых даются заповеди, поскольку она является их формой, как было показано
выше (В. 23, Р. 8). Но, согласно общераспространенной точке зрения, модус не подпадает под заповеди. Следовательно, не было нужды в заповедях о любви-каритас.
(4) 2. Кроме того, любовь-каритас, которая «излилась в сердца наши Духом Святым» (Рим 5, 5), сделала нас свободными, ведь «где Дух Господень, там — свобода» (2 Кор 3, 17). Но из заповедей происходит обязанность, которая противоположна свободе, поскольку налагает необходимость. Следовательно, не было нужды давать заповеди о любви-каритас.
(5) 3. Кроме того, как явствует из сказанного выше (III, В. 100, Р. 9, на 2), любовь- каритас есть главная добродетель, к которой обращены все заповеди. Поэтому если бы о любви-каритас нужно было дать некие заповеди, то их следовало бы поместить среди главных заповедей, каковые суть заповеди Декалога. Но их там нет. Следовательно, не было нужды давать заповеди о любви-каритас.
Quaestio 44 De praeceptis caritatis
(1) Deinde considerandum est de praeceptis caritatis. Et tum, de quibus dantur praecepta, cum sit forma virtutum,
circa hoc quaeruntur octo. Primo, utrum de caritate sint ut supra dictum est (q. 23, a. 8). Sed modus non est in
danda praecepta. Secundo, utrum unum tantum, vel duo. praecepto, ut communiter dicitur. Ergo de cantate non
Tertio, utrum duo sufficiant. Quarto, utrum convenien- sunt danda praecepta
ter praecipiatur ut Deus ex toto corde diligatur. Quin- (4) 2. Praeterea, cantas, quae in cordibus nostris per spiri-
to, utrum convenienter addatur, ex tota mente et cetera. tum sanctum diffunditur, facit nos liberos, quia ubi spiritus
Sexto, utrum praeceptum hoc possit in vita ista impleri. domini, ibi libertas, ut dicitur II ad Cor. III. Sed obliga-
Septimo, de hoc praecepto, diliges proximum tuum sicut tio, quae ex praeceptis nascitur, libertati opponitur, quia
teipsum. Octavo, utrum ordo caritatis cadat sub praecepto. necessitatem imponit. Ergo de caritate non sunt danda
praecepta.
(5) 3. Praeterea, caritas est praecipua inter omnes virtutes,
Articulus 1 a(j quas ordinantur praecepta, ut ex supradictis patet (II-I,
Utrum de caritate debeat dari aliquod praeceptum q jqo, a. 9, ad 2). Si igitur de caritate dantur aliqua
(2) Ad primum sic proceditur. Videtur quod de cantate non praecepta, deberent pom inter praecipua praecepta, quae
debeat dan aliquod praeceptum. sunt praecepta Decalogi. Non autem ponuntur. Ergo nulla
(3) 1. Caritas enim imponit modum actibus omnium virtu- praecepta sunt de caritate danda.
Раздел 1. Нужно ли было давать заповеди о любви-каритас
515
(6) Но против: все, что требует от нас Бог, подпадает под заповедь. Но Бог требует, чтобы человек любил Его (Втор 10, 12). Следовательно, было необходимо дать заповеди о любви-каритас, каковая есть любовь к Богу.
(7) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось выше (II-I, В. 99, Р. 1, 5; В. 100, Р. 5, на 2), заповедь предполагает смысловое содержание должного. Следовательно, нечто подпадает под заповедь постольку, поскольку оно является должным. Но нечто может быть должным в двух смыслах: ради себя самого или ради чего- то другого. И должным ради себя самого в любой деятельности является цель, поскольку она обладает смысловым содержанием блага самого по себе, в то время как средства достижения цели являются должными ради чего-то другого. Так, для врача должным ради себя самого является исцеление, а должным ради чего-то другого является назначение лекарства, которое исцеляет. Но целью духовной жизни является единение человека с Богом, и это единение осуществляется посредством любви-каритас, а все прочее, относящееся к духовной жизни, является средствами достижения этой цели. И потому апостол говорит:
(6) Sed contra, illud quod Deus requint a nobis cadit sub praecepto. Requint autem Deus ab homine ut diligat eum, ut dicitur Deut. X. Ergo de dilectione caritatis, quae est dilectio Dei, sunt danda praecepta.
(7) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q. 99, a. 1, 5; q. 100, a. 5, ad 2), praeceptum importat rationem debiti. Intantum ergo aliquid cadit sub praecepto inquantum habet rationem debiti. Est autem aliquid debitum dupliciter, uno modo, per se; alio modo, propter aliud. Per se quidem debitum est in unoquoque negotio id quod est finis, quia habet rationem per se boni; propter aliud autem est debitum id quod ordinatur ad finem, sicut medico per se debitum est ut sanet; propter aliud autem, ut det medicinam ad sanandum. Finis autem spiritualis vitae est ut homo uniatur Deo, quod fit per caritatem, et ad hoc ordinantur, sicut ad finem, omnia quae pertinent ad spiritualem vitam. Unde et apostolus dicit, I ad Tim. I, finis praecepti est cantas de corde puro et conscientia bona et fide non ficta. Omnes enim virtutes, de quarum
Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. В самом деле, все добродетели, относительно действий которых даны заповеди, направлены или на очищение сердца от беспокойств, причиняемых страстями (таковы добродетели, которые относятся к страстям), или к сохранению чистой совести (таковы добродетели, которые относятся к действиям), или к обладанию правильной верой (таковы добродетели, которые относятся к божественному культу). И все эти три типа добродетелей необходимы для любви к Богу, поскольку нечистое сердце отвращается от любви к Богу из-за склоняющих к земному страстей; нечистая совесть, страшась наказания, внушает человеку страх перед божественной справедливостью; превратная вера склоняет аффект к измышлению различных ложных представлений о Боге и отделяет от истины Божией. Но в любом роде то, что является «таким-то» ради себя самого, превосходит то, что является «таким-то» ради другого, и потому, как сказано в Писании (Мф 22, 38), главной является заповедь о любви- каритас.
(8) Итак, на первое надлежит ответить, что, как уже было сказано выше (Ч. II-I, В. 100,
actibus dantur praecepta, ordinantur vel ad purificandum cor a turbinibus passionum, sicut virtutes quae sunt circa passiones, vel saltem ad habendam bonam conscientiam, sicut virtutes quae sunt circa operationes; vel ad habendam rectam fidem, sicut illa quae pertinent ad divinum cultum. Et haec tria requiruntur ad diligendum Deum, nam cor impurum a Dei dilectione abstrahitur propter passionem inclinantem ad terrena; conscientia vero mala facit horrere divinam iustitiam propter timorem poenae, fides autem ficta trahit affectum in id quod de Deo fingitur, separans a Dei ventate In quolibet autem genere id quod est per se potius est eo quod est propter aliud. Et ideo maximum praeceptum est de caritate, ut dicitur Matth. XXII. i Ad primum ergo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q 100, a 10) cum de praeceptis ageretur, modus dilectionis non cadit sub illis praeceptis quae dantur de aliis actibus virtutum, puta sub hoc praecepto, honora patrem tuum et matrem tuam, non cadit quod hoc ex caritate fiat. Cadit tamen actus dilectionis sub praeceptis
516
Вопрос 44. О заповедях, относящихся к любви-каритас
Р. 10), когда шла речь о заповедях, модус любви не подпадает под заповеди, которые даются о других действиях добродетелей. Например, заповедь «почитай отца твоего и мать твою» не подразумевает, что их надо почитать из любви-каритас. Однако действие любви подпадает под особые заповеди.
(9) На второе надлежит ответить, что обязывающая сила заповеди противоположна свободе только тех, чей ум отвращен от заповедуемого, что очевидно в случае людей, которые исполняют заповеди исключительно из страха. Но заповедь любви можно исполнить только по собственной воле, и потому она не может противоречить свободе.
(ю) На третье надлежит ответить, что все заповеди Декалога упорядочены по отношению к любви к Богу и ближнему, и потому заповеди любви-каритас, будучи включенными во все заповеди Декалога, не были упомянуты среди прочих.
Раздел 2 Надлежало ли дать две заповеди о любви-каритас
(и) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что о любви-каритас
надлежало дать не две заповеди.
(12) 1. В самом деле, как уже было сказано (Р. 1), заповеди закона направлены на добродетель. Но любовь-каритас, как было показано выше (В. 33, Р. 5), является единой добродетелью. Следовательно, надлежало дать только одну заповедь о любви- каритас.
(13) 2. Кроме того, Августин говорит, что любовь-каритас любит в ближнем Бога. Но к любви к Богу нас достаточным образом направляет эта заповедь: «Возлюби Господа, Бога твоего». Следовательно, не было необходимости в добавлении заповеди о любви к ближнему.
(и) 3. Кроме того, различным заповедям
противоположны различные грехи. Однако если некто не любит ближнего, но любит Бога, то он не грешит, согласно этим словам (Лк 14, 26): Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, тот не может быть Моим учеником. Следовательно, дело обстоит не так, что существуют две заповеди, одна из которых — о любви к Богу, а другая — о любви к ближнему.
(15) 4. Кроме того, апостол говорит (Рим 13,
8): Любящий другого исполнил Закон. Но нельзя исполнить Закон без соблюдения
specialibus.
(9) Ad secundum dicendum quod obligatio praecepti non opponitur libertati nisi in eo cuius mens aversa est ab eo quod praecipitur sicut patet in his qui ex solo timore praecepta custodiunt. Sed praeceptum dilectionis non potest impleri nisi ex propna voluntate. Et ideo libertati non repugnat.
(10) Ad tertium dicendum quod omnia praecepta Decalogi ordinantur ad dilectionem Dei et proximi. Et ideo praecepta caritatis non fuerunt connumeranda inter praecepta Decalogi, sed in omnibus includuntur.
Articulus 2
Utrum de caritate fuerint danda duo praecepta
(11) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod de cantate non fuerint danda duo praecepta.
(12) 1. Praecepta enim legis ordinantur ad virtutem, ut supra dictum est (a. 1, arg. 3) Sed caritas est una virtus, ut ex supradictis patet (q. 23, a. 5). Ergo de caritate non fuit
dandum nisi unum praeceptum.
(13) 2. Praeterea, sicut Augustinus dicit, in I De doct Christ. (22, PL 34, 27), cantas in proximo non diligit nisi Deum. Sed ad diligendum Deum sufficienter ordinamur per hoc praeceptum, diliges dominum Deum tuum. Ergo non oportuit addere aliud praeceptum de dilectione proximi.
(14) 3. Praeterea, diversa peccata diversis praeceptis opponuntur. Sed non peccat aliquis praetermittens dilectionem proximi, si non praetermittat dilectionem Dei, quinimmo dicitur Luc. XIV, si quis venit ad me et non odit patrem suum et matrem suam, non potest meus esse discipulus. Ergo non est aliud praeceptum de dilectione Dei et de dilectione proximi.
(15) 4. Praeterea, apostolus dicit, ad Rom. XIII, qui diligit proximum legem implevit. Sed non impletur lex nisi per observantiam omnium praeceptorum. Ergo omnia praecepta includuntur in dilectione proximi. Sufficit ergo hoc unum praeceptum de dilectione proximi. Non ergo debent esse duo praecepta caritatis.
Раздел 2. Надлежало ли дать две заповеди о любви-каритас
517
всех заповедей. Следовательно, любовь к ближнему включает в себя все заповеди. Следовательно, достаточно одной заповеди о любви к ближнему. Следовательно, не требовалось давать две заповеди о любви-каритас.
(16) Но против: сказано (1 Ин 4, 21): Мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось выше (Ч. II-I, В. 91, Р. 3; В. 100, Р. 1), когда шла речь о заповедях, заповеди соотносятся с законом также, как [научные] положения — с теоретическими науками. Но в случае последних заключения виртуально присутствуют в первых началах, в связи с чем тому, кто познал начала во всей их силе (virtus), не требуется представлять все заключения по отдельности. Однако поскольку не все, кто познает начала, постигает достаточным все образом все то, что содержится в них виртуально, постольку ради них необходимо, чтобы в науках заключения выводились из своих начал. Но, как уже было сказано (В. 23, Р. 7, на 2; В. 26, Р. 1, на 1), в делах, совершаемых людьми, в которых нас направляют заповеди закона, смысловым содержанием начала обладает цель. Но любовь к Бо¬
гу есть та цель, к которой упорядочена любовь к ближнему. И потому надлежало дать заповедь не только о любви к Богу, но и о любви к ближнему, ради тех, кто не слишком способен, и кому нелегко понять, что одна из этих заповедей включает другую.
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что хотя любовь-каритас является единой добродетелью, она обладает двумя действиями, одно из которых упорядочено к другому как к своей цели. Но заповеди даются о действиях добродетелей. И потому надлежит, чтобы было несколько заповедей любви-каритас.
(19) На второе надлежит ответить, что Бог любим в ближнем, как цель — в средстве достижения цели. И, тем не менее, на уже указанном основании надлежало дать ясные заповеди отдельно о первом и отдельно о втором.
(20) На третье надлежит ответить, что средства достижения цели обладают смысловым содержанием блага сообразно тому, что обладает порядком по отношению к цели. И наоборот, они обладают смысловым содержанием зла сообразно тому, что удаляются от нее, и никак иначе.
(16) Sed contra est quod dicitur Ï Ioan IV, hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum diligat et fratrem suum
(17) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (II-I, q 91, a. 3; q 100, a. 1) cum de praeceptis ageretur, hoc modo se habent praecepta in lege sicut propositiones in scientiis speculativis. In quibus conclusiones virtute continentur in primis principiis, unde qui perfecte cognosceret pnncipia secundum totam suam virtutem, non opus haberet ut ei conclusiones seorsum proponerentur. Sed quia non omnes qui cognoscunt pnncipia sufficiunt considerare quidquid in pnncipiis virtute continetur, necesse est propter eos ut in scientiis ex pnncipiis conclusiones deducantur In op- erabilibus autem, in quibus praecepta legis nos dingunt, finis habet rationem pnncipii, ut supra dictum est (q. 23, a 7, ad 2; q. 26, a 1, ad 1). Dilectio autem Dei finis est, ad quem dilectio proximi ordinatur Et ideo non solum oportet dan praeceptum de dilectione Dei, sed etiam de
dilectione proximi, propter minus capaces, qui non de facili considerarent unum horum praeceptorum sub alio continen.
(18) Ad primum ergo dicendum quod, si caritas sit una virtus, habet tamen duos actus, quorum unus ordinatur ad alium sicut ad finem. Praecepta autem dantur de actibus virtutum Et ideo oportuit esse plura praecepta cantatis
(19) Ad secundum dicendum quod Deus diligitur in proximo sicut finis in eo quod est ad finem Et tamen oportuit de utroque explicite dan praecepta, ratione iam dicta.
(20) Ad tertium dicendum quod id quod est ad finem habet rationem boni ex ordine ad finem. Et secundum hoc etiam recedere ab eo habet rationem mali, et non aliter.
(21) Ad quartum dicendum quod in dilectione proximi includitur dilectio Dei sicut finis in eo quod est ad finem, et e converso. Et tamen oportuit utrumque praeceptum explicite dan, ratione iam dicta.
518
Вопрос 44. О заповедях, относящихся к любви-каритас
(21) На четвертое надлежит ответить, что любовь к Богу включается в любовь к ближнему как цель в средство достижения цели, и наоборот. Тем не менее, в силу уже указанной причины, надлежало дать ясные заповеди и о первом, и о втором.
Раздел 3 Достаточно ли двух заповедей любви-каритас
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что двух заповедей любви-каритас недостаточно.
(23) 1. В самом деле, заповеди даются о действиях добродетелей. Но действия различаются сообразно своим объектам. Итак, поскольку, как было показано выше (В. 25, Р. 12), из любви-каритас надлежит любить четыре [вещи], а именно Бога, себя, ближнего и свое тело, постольку, судя по всему, должно быть и четыре заповеди любви-каритас. Следовательно, двух заповедей недостаточно.
(24) 2. Кроме того, любовь не является единственным действием любви-каритас; другими ее действиями являются радость, мир и благодеяние. Но заповеди надлежит давать в отношении действий добродетелей. Следовательно, двух заповедей о любви-
каритас недостаточно.
(25) 3. Кроме того, к добродетели относится не только совершение блага, но и избегание зла. Но к совершению блага нас ведут предписывающие заповеди, а к избеганию зла — запрещающие. Следовательно, о любви-каритас надлежало дать не только предписывающие, но и запрещающие заповеди. Следовательно, двух заповедей о любви-каритас недостаточно.
(26) Но против: Господь говорит (Мф 22, 40): На двух сих заповедях утверждается весь Закон и пророки.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что любовь-каритас, как было показано выше (В. 23, Р. 1), есть некая дружба. Но дружат всегда с кем-то. И потому Григорий говорит, что любовь-каритас может быть, как минимум между двумя. А о том, каким образом некто может из любви-каритас любить самого себя, уже было сказано выше (В. 25, Р. 4). Но поскольку любовь и приязнь относятся к благу, а благо является целью или средством достижения цели, постольку было достаточно двух заповедей о любви-каритас: одно, понятно, то, которое ведет нас к любви к Богу как к цели, а второе — то, которое ведет нас к любви к ближнему ради Бога как ра-
Articulus 3 Utrum sufficiant duo praecepta caritatis
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non sufficiant duo praecepta cantatis.
(23) 1. Praecepta enim dantur de actibus virtutum. Actus autem secundum obiecta distinguuntur Cum igitur quatuor homo debeat ex cantate diligere, scilicet Deum, seipsum, proximum et corpus proprium, ut ex supradic- tis patet (q. 25, a. 12); videtur quod quatuor debeant esse caritatis praecepta. Et sic duo non sufficiunt.
(24) 2. Praeterea, caritatis actus non solum est dilectio, sed gaudium, pax, beneficentia. Sed de actibus virtutum sunt danda praecepta. Ergo duo praecepta caritatis non sufficiunt.
(25) 3. Praeterea, sicut ad virtutem pertinet facere bonum, ita et declinare a malo Sed ad faciendum bonum inducimur per praecepta affirmativa, ad declinandum a ma¬
lo per praecepta negativa. Ergo de cantate fuerunt danda praecepta non solum affirmativa, sed etiam negativa. Et sic praedicta duo praecepta cantatis non sufficiunt.
(26) Sed contra est quod dominus dicit, Matth. XXII, in his duobus mandatis tota lex pendet et prophetae.
(27) Respondeo dicendum quod cantas, sicut supra dictum est (q 23, a. 1), est amicitia quaedam. Amicitia autem ad alterum est Unde Gregonus dicit, in quadam homilia (In Evang., I, hom. 17; PL 76, 1139), cantas minus quam inter duos haberi non potest. Quomodo autem ex caritate aliquis seipsum diligat, supra dictum est (q. 25, a. 4). Cum autem dilectio et amor sit boni, bonum autem sit vel finis vel id quod est ad finem, convenienter de cantate duo praecepta sufficiunt, unum quidem quo inducimur ad Deum diligendum sicut finem, aliud autem quo inducimur àd diligendum proximum propter Deum sicut propter finem.
Раздел 4. Подобающим ли образом заповедано любить Бога «всем сердцем своим» 519
ди цели.
(28) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Августин, хотя из любви-каритас нам следует любить четыре [вещи], тем не менее, в отношении второй и четвертой, то есть любви к себе и своему телу, давать какие-либо заповеди не было нужды. Ведь сколь бы человек ни отклонился от истины, в нем все равно сохраняется любовь к себе и своему телу. Но о модусе любви заповедь была необходима, такая именно, чтобы человек любил себя и свое тело упорядоченным образом. И это осуществляется за счет того, что он любит Бога и ближнего.
(29) На второе надлежит ответить, что, как уже было сказано (В. 28, Р. 1, 4; В. 29, Р. 3; В. 31, Р. 1), другие действия любви- каритас происходят из действия любви как следствия из причины. И потому заповеди любви виртуально содержат в себе заповеди о других действиях. Однако мы видим, что ради тех, кто не слишком понятлив, были даны ясные заповеди в отношении каждого из действий. В отношении радости: Радуйтесь всегда в Господе (Филип 4,
4); в отношении мира: Старайтесь иметь мир со всеми (Евр 12, 14); в отношении благодеяния: Доколе есть время, будем делать добро всем (Гал 6, 10). Кроме того,
(28) Ad primum ergo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in I De doct. Christ. (23; PL 34, 27), cum quatuor sint ex caritate diligenda, de secundo et quarto, idest de dilectione sui et corporis proprii, nulla praecepta danda erant, quantumlibet enim homo excidat a veritate, remanet illi dilectio sui et dilectio corporis sui. Modus autem diligendi praecipiendus est homini, ut scilicet se ordinate diligat et corpus propnum. Quod quidem fit per hoc quod homo diligit Deum et proximum.
(29) Ad secundum dicendum quod alii actus cantatis consequuntur ex actu dilectionis sicut effectus ex causa, ut ex supradictis patet (q. 28, a. 1, 4; q. 29, a. 3; q. 31, a. 1) Unde in praeceptis dilectionis virtute includuntur praecepta de aliis actibus. Et tamen propter tardiores inveniuntur de singulis explicite praecepta tradita, de gaudio quidem, Philipp. IV, gaudete in domino semper, de pace autem, ad Heb. ult., pacem sequimini cum omnibus’, de beneficentia autem, ad Gal. ult., dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes. De singulis beneficentiae partibus inveniuntur
в св. Писании обнаруживаются заповеди, относящиеся ко всем отдельным [видам] благодеяния, что станет ясно любому, кто тщательно рассмотрит данный вопрос.
(30) На третье надлежит ответить, что совершение блага — большее [дело], нежели избегание зла, и потому предписывающие заповеди виртуально содержат в себе запрещающие. Однако можно обнаружить и ясные заповеди, обращенные против пороков, которые противоположны любви- каритас. Ведь против ненависти заповедано: Не враждуй на брата твоего в сердце твоем (Левит 19, 17); против уныния: Не унывай от ее уз (Сир 6, 26); против зависти: Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать (Гал 5, 26); против раздора: Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений (1 Кор 1, 10); против соблазна: Как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну (Рим 14, 13).
Раздел 4
Подобающим ли образом заповедано любить Бога «всем сердцем своим»
(31) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что неподобающим образом заповедано любить Бога
praecepta tradita in sacra Scnptura, ut patet diligenter consideranti.
(30) Ad tertium dicendum quod plus est operan bonum quam vitare malum. Et ideo in praeceptis affirmativis virtute includuntur praecepta negativa. Et tamen explicite inveniuntur praecepta data contra vitia cantati opposita. Nam contra odium dicitur Lev XIX, ne oderis fratrem tuum in corde tuo contra acediam dicitur Eccli. VI, ne acedieris in vinculis eius; contra invidiam, Gal. V, non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes; contra discordiam vero, I ad Cor. I, idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata; contra scandalum autem, ad Rom XIV, ne ponatis offendiculum fratri vel scandalum.
Articulus 4
Utrum convenienter mandetur quod Deus diligatur ex toto corde
(31) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter mandetur quod Deus diligatur ex toto corde.
520
Вопрос 44. О заповедях, относящихся к любви-каритас
«всем сердцем своим».
(32) 1. В самом деле, как явствует из сказанного выше (III, В. 100, Р. 1), модус добродетельного действия не содержится в заповеди. Но слова «всем сердцем твоим» подразумевают модус любви к Богу. Следовательно, неподобающе предписывается, чтобы человек любил Бога «всем сердцем своим».
(33) 2. Кроме того, как говорится в III книге «Физики», целое и совершенное есть то, что не лишено ничего. Таким образом, если бы любовь к Богу всем сердцем подпадала под заповедь, то тогда любой человек, сделавший что-то, что не относится к любви к Богу, сделал бы это против заповеди и, соответственно, согрешил бы смертным грехом. Но простительный грех не относится к любви к Богу. Следовательно, простительный грех является смертным, что нелепо.
(34) 3. Кроме того, любовь к Богу всей полнотой сердца относится к совершенству, поскольку, согласно Философу, полнота тождественна совершенству. Но то, что относится к совершенству, является предметом не заповеди, а совета. Следовательно, неподобающим образом заповедано любить Бога всем сердцем
(32) 1. Modus enim virtuosi actus non est in praecepto, ut ex supradictis patet (II-I, q. 100, a. 9) Sed hoc quod dicitur ex toto corde, importat modum divinae dilectionis. Ergo inconvenienter praecipitur quod Deus ex toto corde diligatur.
(33) 2. Praeterea, totum et perfectum est cui nihil deest; ut dicitur in 111 Physic. (6, 207a9). Si igitur in praecepto cadit quod Deus ex toto corde diligatur, quicumque facit aliquid quod non pertinet ad Dei dilectionem agit contra praeceptum, et per consequens peccat mortaliter Sed peccatum veniale non pertinet ad Dei dilectionem. Ergo peccatum veniale ent mortale Quod est inconveniens
(34) 3 Praeterea, diligere Deum ex toto corde est perfectionis, quia secundum philosophum (Phys., III, 6; 207al3) totum et perfectum idem sunt. Sed ea quae sunt perfectionis non cadunt sub praecepto, sed sub consilio Ergo non debet praecipi quod Deus ex toto corde diligatur.
(35) Но против: сказано (Втор 6, 5): Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим
(36) Отвечаю: надлежит сказать, что поскольку заповеди даются о действиях добродетелей, некое действие подпадает под заповедь в той мере, в какой оно является действием добродетели. Однако для действия добродетели требуется, чтобы оно соотносилось не только с должной материей, но и с должными обстоятельствами благодаря которым оно оказывается соразмерным таковой материи. Но Бога любят как предельную цель, с которой нужно соотносить все остальное. Поэтому в заповеди о любви к Богу надлежало обозначить некую полноту.
(37) Итак, на первое надлежит ответить, что под заповедь, которая дается о действии некоей добродетели, не подпадает тот модус, который это действие получает от другой, более высокой добродетели. Но под заповедь подпадает тот модус, который относится к смысловому содержанию собственной добродетели. И именно этот модус обозначается словами «всем сердцем твоим».
(38) На второе надлежит ответить, что любить Бога всем сердцем можно двояко. Во- первых, актуально, так именно, что все
(35) Sed contra est quod dicitur Deut. VI, diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo.
(36) Respondeo dicendum quod, cum praecepta dentur de actibus virtutum, hoc ergo modo aliquis actus cadit sub praecepto, secundum quod est actus virtutis. Requiritur autem ad actum virtutis non solum quod cadat super debitam materiam, sed etiam quod vestiatur debitis circumstantiis, quibus sit proportionatus tali materiae. Deus autem est diligendus sicut finis ultimus, ad quem omnia sunt referenda. Et ideo totalitas quaedam fuit designanda circa praeceptum de dilectione Dei.
(37) Ad primum ergo dicendum quod sub praecepto quod datur de actu alicuius virtutis non cadit modus quem habet ille actus ex alia supenori virtute. Cadit tamen sub praecepto modus ille qui pertinet ad rationem propriae virtutis. Et talis modus significatur cum dicitur, ex toto corde.
(38) Ad secundum dicendum quod dupliciter contingit ex toto corde Deum diligere. Uno quidem modo, in actu,
Раздел 5. Правильно ли добавление: «и всею душою твоею» и т. д.
521
сердце человека всегда актуально устремлено к Богу. И таково совершенство Небесного Отечества. Во-вторых, в том смысле, что все сердце человека устремлено к Богу хабитуально, так именно, что оно не воспринимает ничто из противного любви к Богу. И таково совершенство земной жизни. И простительный грех не противоречит ему, поскольку он не уничтожает навык любви-каритас, так как не влечет к противоположному объекту, а просто препятствует пользованию любовью-каритас.
(39) На третье надлежит ответить, что совершенство любви-каритас, на которое направлен совет, является средним между двумя вышеупомянутыми совершенствами и заключается в том, что человек отказывается, настолько полно, насколько это возможно, даже от допустимых временных вещей, как от того, что отягощает ум и препятствует актуальному движению сердца к Богу.
Раздел 5
Надлежащим ли образом к словам «люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим» добавлено «и всею душою твоею, и всеми силами твоими»
(40) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что к словам «люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим», неподобающим образом добавлено: «и всею душою твоею, и всеми силами твоими».
(41) 1. В самом деле, под «сердцем» здесь понимается не телесный орган, поскольку любовь к Богу — не телесное действие. Но в духовном смысле сердце — это или сама душа, или некая ее часть. Следовательно, было излишним упоминать и сердце, и душу.
(42) 2. Кроме того, сила человека зависит, прежде всего, от сердца, независимо от того, рассматривается ли оно в духовном или материальном смысле. Поэтому после слов «люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим» было излишне добавлять «и всеми силами твоими».
(43) 3. Кроме того, в Евангелии от Матфея сказано (22, 37): «Всем разумением твоим». Но в рассматриваемом здесь тексте Второзакония этих слов нет. Следовательно, как кажется, заповедь, представленная там, сформулирована недолжным образом.
(44) Но против: авторитет св. Писания.
(45) Отвечаю: надлежит сказать, что эта заповедь в различных местах формулируется по-разному. В самом деле, как уже сказано (Возр. 1), во Второзаконии даны три
idest ut totum cor hominis semper actualiter in Deum feratur. Et ista est perfectio patriae. Alio modo, ut ha- bitualiter totum cor hominis in Deum feratur, ita scilicet quod nihil contra Dei dilectionem cor hominis recipiat. Et haec est perfectio viae Cui non contranatur peccatum veniale, quia non tollit habitum cantatis, cum non tendat in oppositum obiectum; sed solum impedit caritatis usum.
(39) Ad tertium dicendum quod perfectio caritatis ad quam ordinantur consilia est media inter duas perfectiones praedictas, ut scilicet homo, quantum possibile est, se abstrahat a rebus temporalibus etiam licitis, quae, occupando animum, impediunt actualem motum cordis in Deum.
Articulus 5
Utrum super hoc: «Diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo», convenienter addatur: «Et ex tota anima tua et ex tota fortitudine tua».
(40) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter, Deut. VI, super hoc quod dicitur, diliges dominum
Deum tuum ex toto corde tuo, addatur, et ex tota anima tua et ex tota fortitudine tua.
(41) 1. Non enim accipitur hic cor pro membro corporali, quia diligere Deum non est corporis actus. Oportet igitur quod cor accipiatur spintualiter. Cor autem spintualiter acceptum vel est ipsa anima vel aliquid animae. Superfluum igitur fuit utrumque ponere
(42) 2. Praeterea, fortitudo hominis praecipue dependet ex corde, sive spintualiter hoc accipiatur, sive corporaliter. Ergo postquam dixerat, diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo, superfluum fuit addere, ex tota fortitudine tua.
(43) 3. Praeterea, Matth. XXII dicitur, in tota mente tua, quod hic non ponitur Ergo videtur quod inconvenienter hoc praeceptum detur Deut. VI.
(44) Sed contra est auctontas Scripturae.
(45) Respondeo dicendum quod hoc praeceptum diversimode invenitur traditum in diversis locis Nam sicut dictum est (arg. 1), Deut. VI ponuntur tna, scilicet ex toto
522
Вопрос 44. О заповедях, относящихся к любви-каритас
[положения]: «всем сердцем твоим», «всею душою твоею» и «всеми силами твоими». В Евангелии от Матфея представлены два из них, а именно «всем сердцем твоим» и «всею душою твоею», тогда как «всеми силами твоими» опущено и добавлено «всем разумением твоим». В Евангелии от Марка даны (12, 30) четыре [положения]: «всем сердцем твоим», «всею душою твоею», «всем разумением твоим» и «всею крепостью твоею», причем «крепость» есть то же, что и «силы». И эти же четыре упомянуты в Евангелии от Луки (10, 27). И потому надлежит указать основание этих четырех [положений], ведь то, что одно из них иногда опускается, происходит потому, что оно включается в другие. Итак, следует принять во внимание, что любовь является действием воли, которая обозначена здесь как «сердце», ведь как телесное сердце является началом всех телесных движений, так и воля, особенно если говорить о преследовании конечной цели, каковая есть объект любви-каритас, является началом всех духовных движений. Но есть три начала практических действий, которые направляются волей, а именно, разум, который обозначен как «разумение», низшая желающая способность, которая обо¬
значена как «душа», и способность, осуществляющая внешние действия, которая обозначена как «сила», «силы» или «крепость». Итак, нам заповедано, чтобы мы стремились к Богу всем нашим стремлением, а именно, «всем сердцем»; чтобы мы подчинили Богу наш ум, [т. е. любили Его] «всем разумением»; чтобы мы регулировали свои желания сообразно [тому, что требует] Бог, [т. е. любили Его] «всею душою»; чтобы наши внешние действия повиновались Богу, [т. е. чтобы мы любили Его] «всей силой» или «всей крепостью».
(46) Впрочем, Златоуст понимает «сердце» как [мы понимаем] «душу», и наоборот, а Августин относит «сердце» к помышлениям, «душу» — к образу жизни, а «разумение» — к разуму. Некоторые же говорят, что «всем сердцем твоим» сказано о разуме, «всею душою твоею» — о воле, «всем разумением твоим» — о памяти. А согласно Григорию Нисскому, «сердце» обозначает растительную, «душа» — чувственную, а «разумение» — разумную душу: постольку, поскольку и нашу пищу, и наши чувства, и наши мысли мы должны относить к Богу.
(47) И из этого очевидны ответы на возражения.
corde, et ex tota anima, et ex tota fortitudine. Matth XXII ponuntur duo horum, scilicet ex toto corde et in tota anima, et omittitur ex tota fortitudine, sed additur in tota mente. Sed Marc. XII ponuntur quatuor, scilicet ex toto corde, et ex tota anima, et ex tota mente, et ex tota virtute, quae est idem fortitudini. Et haec etiam quatuor tanguntur Luc X, nam loco fortitudinis seu virtutis ponitur ex omnibus viribus tuis. Et ideo horum quatuor est ratio assignanda, nam quod alicubi unum horum omittitur, hoc est quia unum intelligitur ex aliis. Est igitur considerandum quod dilectio est actus voluntatis, quae hic significatur per cor, nam sicut cor corporale est pnneipium omnium corporalium motuum, ita etiam voluntas, et maxime quantum ad intentionem finis ultimi, quod est obiectum cantatis, est pnneipium omnium spintualium motuum. Tna autem sunt principia factuum quae moventur a voluntate, scilicet intellectus, qui significatur per mentem; vis appetitiva infenor, quae significatur per animam; et vis exeeutiva ex- tenor, quae significatur per fortitudinem seu virtutem sive
vires. .Praecipitur ergo nobis ut tota nostra intentio feratur in Deum, quod est ex toto corde; et quod intellectus noster subdatur Deo, quod est ex tota mente; et quod appetitus noster reguletur secundum Deum, quod est ex tota anima; et quod extenor actus noster obediat Deo, quod est ex tota fortitudine vel virtute vel viribus Deum diligere.
(46) Chrysostomus tamen, super Matth. (cf Ps.- Chrysos- tomus, Op. imperf. in Mt., hom.42 super 22, 37; PG 56, 837), accipit e contrario cor et animam quam dictum sit. Augustinus vero, in I De doct. Christ. (22; PL 34, 27), refert cor ad cogitationes, et animam ad vitam, mentem ad intellectum. Quidam autem dicunt, ex toto corde, idest intellectu, anima, idest voluntate; mente, idest memo- na. Vel, secundum Gregonum Nyssenum (De hom. opif., 8; PG 44, 145), per cor significat animam vegetabilem, per animam sensitivam, per mentem intellectivam, quia hoc quod nutnmur, sentimus et intelligimus, debemus ad Deum referre.
(47) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Раздел 6. Возможно ли исполнить эту заповедь о любви к Богу в земной жизни 523
Раздел 6
Возможно ли исполнить эту заповедь о любви к Богу в земной жизни
(48) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что в земной жизни можно исполнить эту заповедь о любви к Богу.
(49) 1. В самом деле, согласно Иерониму, богохульствует тот, кто утверждает, что Бог заповедал нам нечто невозможное. Но Бог, как явствует из Второзакония, дал нам эту заповедь. Следовательно, ее можно исполнить в земной жизни.
(50) 2. Кроме того, любой, кто не исполняет заповедь, совершает смертный грех, поскольку, как говорит Амвросий, грех есть не что иное, как нарушение божественного закона и неповиновение небесным заповедям. Таким образом, если бы эта заповедь не могла быть исполнена человеком в его земной жизни, то не было бы никого без смертного греха. Но это противоречит тому, что сказал апостол (1 Кор 1,
8): И утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными; и еще этим словам (1 Тим 3, 10): Если беспорочны, допускать до служения.
(51) 3. Кроме того, заповеди даются для того, чтобы наставить человека на путь спасения, согласно этим словам (Пс 18, 9): Заповедь Господа светла, просвещает очи. Но бесполезно наставлять кого-либо в невозможном. Следовательно, исполнение этой заповеди в земной жизни возможно.
(52) Но против: Августин говорит: Заповедь «возлюби Господа, Бога твоего» и т. д. будет исполнена в полноте любви-каритас Небесного Отечества. Ведь пока сохраняется нечто от того телесного вожделения, которое сдерживается умеренностью, до тех пор невозможно любить Бога всей душой.
(53) Отвечаю: надлежит сказать, что заповедь может быть исполнена двояко, во- первых, совершенно, во-вторых, несовершенно. Заповедь исполняется совершенно тогда, когда достигается цель, установленная автором заповеди, а несовершенно — тогда, когда хотя установленная цель и не достигается, тем не менее, не происходит отклонения от порядка [достижения] этой цели. Так, если полководец приказывает войску вступить в сражение, то его приказ исполняется совершенным образом тогда, когда войско вступает в битву и по-
Articulus 6
Utrum hoc praeceptum de dilectione Dei possit in via impleri
(48) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod hoc praeceptum de dilectione Dei possit servari in via.
(49) 1. Quia secundum Hieronymum, in Expos. Cathol. fid. (cf Pelagius, Libellus fidei ad Innocentium; PL 45, 1718), maledictus qui dicit Deum aliquid impossibile praecepisse. Sed Deus hoc praeceptum dedit, ut patet Deut. VI. Ergo hoc praeceptum potest in via impleri.
(50) 2. Praeterea, quicumque non implet praeceptum peccat mortaliter, quia secundum Ambrosium (De parad., 8; PL 14, 309), peccatum nihil est aliud quam transgressio legis divinae et caelestium inobedientia mandatorum. Si ergo hoc praeceptum non potest in via servari, sequitur quod nullus possit esse in vita ista sine peccato mortali. Quod est contra id quod apostolus dicit, I ad Cor. I, confirmabit vos usque in finem sine crimine; et I ad Tim. III, ministrent nullum crimen habentes.
(51) 3. Praeterea, praecepta dantur ad dirigendos homines in viam salutis, secundum illud Psalm., praeceptum domini lucidum, illuminans oculos. Sed frustra dirigitur aliquis ad impossibile. Non ergo impossibile est hoc praeceptum in vita ista servari.
(52) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De perfect, iustit. (8; PL 44, 300) quod in plenitudine caritatis patriae praeceptum illud implebitur diliges dominum Deum tuum, et cetera. Nam cum adhuc est aliquid carnalis concupiscentiae quod continendo frenetur, non omnino ex tota anima diligitur Deus.
(53) Respondeo dicendum quod praeceptum aliquod dupliciter impleri potest, uno modo, perfecte; alio modo, imperfecte. Perfecte quidem impletur praeceptum quando pervenitur ad finem quem intendit praecipiens, impletur autem, sed imperfecte, quando, etsi non pertingat ad finem praecipientis, non tamen receditur ab ordine ad finem. Sicut si dux exercitus praecipiat militibus ut pugnent, ille perfecte implet praeceptum qui pugnando
524
Вопрос 44. О заповедях, относящихся к любви-каритас
беждает; а несовершенным образом приказ исполняется тогда, когда войско не достигает победы, но не нарушает при этом никаких принципов военного искусства. Но намерение Бога, давшего эту заповедь, заключалось в том, чтобы человек полностью соединился с Ним, что произойдет в Небесном Отечестве, где Бог будет «все во всем» (1 Кор 15, 28). И потому во всей полноте и совершенстве эта заповедь будет исполнена в Небесном Отечестве. А в земной жизни она исполняется несовершенно, хотя один человек может исполнить ее более совершенно, чем другой, и тем совершенней, чем больше он посредством некоего уподобления приближается к совершенству Отечества.
(54) Итак, на первое надлежит ответить, что этот аргумент доказывает, что заповедь можно исполнить в земной жизни определенным образом, хотя и несовершенно.
(55) На второе надлежит ответить, что как нельзя обвинить и наказать воина, который сражался надлежащим образом, хотя и не достиг победы, точно так же и тот, кто пытается исполнить это предписание в земной жизни, не делая ничего противного божественной любви, не совершает смертного греха.
(56) На третье надлежит ответить, что, как говорит Августин, почему не заповедать человеку это совершенство, хотя он и не может обрести его в нынешней жизни? Ведь тот, кто не знает куда идти, идет неверным путем. Но как узнать, если нет соответствующей заповеди ?
Раздел 7
Надлежащим ли образом дана заповедь о любви к ближнему
(57) Ход рассуждения в седьмом разделе таков. Представляется, что заповедь о любви к ближнему дана недолжным образом.
(58) 1. В самом деле, приязнь любви-каритас распространяется на всех людей, даже на врагов, как явствует из сказанного в Писании (Мф 5, 44). Но слово «ближний» подразумевает некую близость, которая, как кажется, не может иметься во всех людях. Следовательно, как представляется, эта заповедь дана недолжным образом.
(59) 2. Кроме того, как говорит Философ, все проявления дружбы по отношению к другому происходят из отношения к самому себе, из чего, судя по всему, следует, что началом любви к ближнему является любовь к самому себе. Но начало превосходит то, что из него возникает. Следовательно, че-
hostem vincit, quod dux intendit, ille autem implet, sed imperfecte, cuius pugna ad victonam non pertingit, non tamen contra disciplinam militarem agit. Intendit autem Deus per hoc praeceptum ut homo Deo totaliter uniatur, quod fiet in patna, quando Deus erit omnia in omnibus, ut dicitur I ad Cor. XV Et ideo plene et perfecte in patria implebitur hoc praeceptum. In via vero impletur, sed imperfecte. Et tamen in via tanto unus alio perfectius implet, quanto magis accedit per quandam similitudinem ad patriae perfectionem.
(54) Ad primum ergo dicendum quod ratio illa probat quod aliquo modo potest implen in via, licet non perfecte.
(55) Ad secundum dicendum quod sicut miles qui legitime pugnat, licet non vincat, non inculpatur nec poenam meretur; ita etiam qui in via hoc praeceptum implet nihil contra divinam dilectionem agens, non peccat mortaliter.
(56) Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in libro De perfect, iustit. (8, PL 44, 301), cur non praeciperetur homini ista perfectio, quamvis eam in hac vita nemo habeat9
Non enim recte curritur, si quo currendum est nesciatur. Quomodo autem sciretur, si nullis praeceptis ostenderetur?
Articulus 7 Utrum convenienter detur praeceptum de dilectione proximi
(57) Ad septimum sic proceditur Videtur quod inconvenienter detur praeceptum de dilectione proximi.
(58) 1. Dilectio enim caritatis ad omnes homines extenditur, etiam ad inimicos; ut patet Matth. V. Sed nomen proximi importat quandam propinquitatem, quae non videtur haben ad omnes homines. Ergo videtur quod inconvenienter detur hoc praeceptum.
(59) 2. Praeterea, secundum philosophum, in IX Ethic. (4; 1166al), amicabilia quae sunt ad alterum venerunt ex ami- cabilibus quae sunt ad seipsum, ex quo videtur quod dilectio sui ipsius sit principium dilectionis proximi. Sed principium potius est eo quod est ex pnncipio. Ergo non debet homo diligere proximum sicut seipsum.
Раздел 8. Подпадает ли под заповедь порядок любви-каритас
525
ловек не должен любить ближнего как самого себя.
(60) 3. Кроме того, по природе человек любит себя, но не ближнего. Следовательно, не подобало заповедовать, чтобы человек любил ближнего как самого себя.
(61) Но против: сказано (Мф 22, 39): Вторая же заповедь подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
(62) Отвечаю: надлежит сказать, что эта заповедь дана подобающим образом, поскольку в ней указаны как основание, так и модус любви. Основание любви указано в слове «ближний», ведь мы должны любить других из любви-каритас потому, что они близки нам как со стороны естественного образа Божия, так и со стороны возможности обрести славу. И неважно, говорится ли о «ближнем», «брате» (1 Ин 4, 21) или «друге» (Левит 19, 18)1, поскольку всеми этими словами обозначается одна и та же близость. А модус любви указан в словах «как самого себя». И это надо понимать не в том смысле, что человек должен любить ближнего точно так же, как самого себя, но — подобно тому, как он любит самого себя.
(63) Но это может иметь место трояко. Во- первых, со стороны цели, так именно, что-
(60) 3. Praeterea, homo seipsum diligit naturaliter, non autem proximum. Inconvenienter igitur mandatur quod homo diligat proximum sicut seipsum.
(61) Sed contra est quod dicitur Matth. XXII, secundum praeceptum est simile huic, diliges proximum tuum sicut teip- sum.
(62) Respondeo dicendum quod hoc praeceptum convenienter traditur, tangitur enim in eo et diligendi ratio et dilectionis modus. Ratio quidem diligendi tangitur ex eo quod proximus nominatur, propter hoc enim ex caritate debemus alios diligere, quia sunt nobis proximi et secundum naturalem Dei imaginem et secundum capacitatem gloriae. Nec refert utrum dicatur proximus vel frater, ut habetur I Ioan. IV; vel amicus, ut habetur Lev. XIX, quia per omnia haec eadem affinitas designatur. Modus autem dilectioms tangitur cum dicitur, sicut teipsum. Quod non est intelligendum quantum ad hoc quod aliquis proximum aequaliter sibi diligat; sed similiter sibi
(63) Et hoc tripliciter. Primo quidem, ex parte finis, ut scilicet aliquis diligat proximum propter Deum, sicut et seip-
бы человек любил ближнего ради Бога, подобно тому, как он должен любить себя ради Бога; и такая любовь к ближнему является «святой» любовью.
(64) Во-вторых, со стороны правила любви, так именно, чтобы человек не содействовал ближнему в чем-либо дурном, но — только в благом, подобно тому, как сам он должен следовать своей воле только в благом; и такая любовь к ближнему является «праведной» любовью.
(65) В-третьих, со стороны основания любви, так именно, чтобы человек любил ближнего не ради собственной пользы или удовольствия, но желал ему блага на том же основании, на котором он желает его себе; и такая любовь к ближнему является «истинной» любовью, ведь если человек любит ближнего ради своей собственной пользы или удовольствия, то он истинным образом любит не ближнего, а себя.
(66) И из этого очевидны ответы на возражения.
Раздел 8 Подпадает ли под заповедь порядок любви-каритас
(67) Ход рассуждения в восьмом разделе таков. Представляется, что порядок любви-
sum propter Deum debet diligere; ut sic sit dilectio proximi sancta.
(64) Secundo, ex parte regulae dilectionis, ut scilicet aliquis non condescendat proximo in aliquo malo, sed solum in bonis, sicut et suae voluntati satisfacere debet homo solum in bonis; ut sic sit dilectio proximi iusta.
(65) Tertio, ex parte rationis dilectionis, ut scilicet non diligat aliquis proximum propter propnam utilitatem vel delectationem, sed ea ratione quod velit proximo bonum, sicut vult bonum sibi ipsi; ut sic dilectio proximi sit vera. Nam cum quis diligit proximum propter suam utilitatem vel delectationem, non vere diligit proximum, sed seipsum.
(66) Et per hoc patet responsio ad obiecta.
Articulus 8 Utrum ordo caritatis cadat sub praecepto
(67) Ad octavum sic proceditur Videtur quod ordo caritatis non cadat sub praecepto
526
Вопрос 44. О заповедях, относящихся к любви-каритас
каритас не подпадает под заповедь.
(68) 1. В самом деле, нарушающий заповедь поступает неправедно. Но если человек любит кого-то так, как должно, а другого еще больше, то он не делает ничего неправедного. Следовательно, он не нарушает заповедь. Следовательно, порядок любви-каритас не включен в заповедь.
(69) 2. Кроме того, все, что подпадает под заповедь, достаточным образом передано нам в св. Писании. Но порядок любви- каритас, который был представлен выше (В. 26), в св. Писании не сообщается. Следовательно, он не входит в заповедь.
(70) 3. Кроме того, порядок предполагает некое различие. Но любовь к ближнему, выраженная в словах «возлюби ближнего твоего, как самого себя», заповедана без какого бы то ни было различия. Следовательно, порядок любви-каритас не подпадает под заповедь.
(71) Но против: то, что Бог делает в нас посредством своей благодати, Он устраивает посредством заповедей закона, согласно этим словам (Иер 31, 33): Вложу Закон Мой в сердца их2. Но Бог причинно обусловливает в нас порядок любви-каритас, согласно сказанному (Песнь 2,4): Упорядочил во мне любовь-каритас3. Следователь¬
но, порядок любви-каритас подпадает под заповедь.
(72) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось выше (Р. 4, на 1), модус, относящийся к смысловому содержанию действия добродетели, подпадает под заповедь, которая дается о действии добродетели. Но порядок любви-каритас относится к самому смысловому содержанию добродетели, поскольку берется сообразно соразмерности любви и любимого, как явствует из сказанного выше (В. 26, Р. 4, на 1; Р. 7, 9). Поэтому очевидно, что порядок любви-каритас должен подпадать под заповедь.
(73) Итак, на первое надлежит ответить, что человек более охотно идет навстречу тому, кого он больше любит. Соответственно, если некто любит меньше того, кого он должен любить больше, он будет больше благоволить тому, кому он должен был бы благоволить меньше. И потому он будет поступать неправедно в отношении того, кого должен любить больше.
(74) На второе надлежит ответить, что в Писании представлен порядок тех четырех [вещей], которые мы должны любить из любви-каритас. В самом деле, когда предписывается любить Бога «всем сердцем», то
(68) 1. Quicumque enim transgreditur praeceptum iniuriam (72) Respondeo dicendum quod, sicut dictum est (a. 4, ad 1), facit. Sed si aliquis diligat aliquem quantum debet, et modus qui pertinet ad rationem virtuosi actus cadit sub
alterum quemcumque plus diligat, nulli facit iniuriam. praecepto quod datur de actu virtutis. Ordo autem cari-
Ergo non transgreditur praeceptum. Ordo ergo caritatis tatis pertinet ad ipsam rationem virtutis, cum accipiatur
non cadit sub praecepto. secundum proportionem dilectionis ad diligibile, ut ex
(69) 2. Praeterea, ea quae cadunt sub praecepto sufficienter supradictis patet (q. 26, a. 4, ad 1; a. 7, 9). Unde mamfes-
nobis traduntur in sacra Scriptura. Sed ordo caritatis qui tum est quod ordo cantatis debet cadere sub praecepto,
supra positus (q. 26) est nusquam traditur nobis in sacra (73) Ad primum ergo dicendum quod homo plus satisfacit Scriptura. Ergo non cadit sub praecepto. ei quem plus diligit. Et ita, si minus diligeret aliquis eum
(70) 3. Praeterea, ordo distinctionem quandam importat. quem plus debet diligere, plus vellet satisfacere illi cui
Sed indistincte praecipitur dilectio proximi, cum dicitur, minus satisfacere debet. Et sic fieret iniuria illi quem plus
diliges proximum tuum sicut teipsum. Ergo ordo caritatis debet diligere.
non cadit sub praecepto. (74) Ad secundum dicendum quod ordo quatuor diligendo-
(71) Sed contra est quod illud quod Deus in nobis facit rum ex caritate in sacra Scriptura exprimitur. Nam cum
per gratiam, instruit per legis praecepta, secundum illud mandatur quod Deum ex toto corde diligamus, datur intel-
Ierem. XXXI, dabo legem meam in cordibus eorum. Sed ligi quod Deum super omnia debemus diligere. Cum autem
Deus causat in nobis ordinem caritatis, secundum illud mandatur quod aliquis diligat proximum sicut seipsum,
Cant. II, ordinavit in me caritatem. Ergo ordo caritatis sub praefertur dilectio sui ipsius dilectioni proximi. Similiter
praecepto legis cadit. etiam cum mandatur, I Ioan. III, quod debemus pro
Раздел 8. Подпадает ли под заповедь порядок любви-каритас
527
этим дается понять, что мы должны любить Его больше всего остального. Когда же предписывается любить ближнего «как самого себя», то этим дается понять, что любовь к себе предпочитается любви к ближнему. Равным образом, когда предписывается «полагать души свои», то есть телесную жизнь, «за братьев» (1 Ин 3, 16), то этим дается понять, что человек должен любить ближнего больше, чем свое тело. Опять же, когда предписывается «де¬
лать добро всем (а наипаче своим по вере)» (Гал 6, 10), и когда человека порицают за то, что он «о своих (и особенно о домашних) не печется» (1 Тим 5, 8), то этим дается понять, что среди ближних мы должны больше любить наилучших и более близких к нам.
(75) На третье надлежит ответить, что сами слова «возлюби ближнего твоего» дают понять, что более близких следует любить больше.
fratribus animam ponere, idest vitam corporalem, datur proximos, meliores et magis propinquos magis debemus
intelligi quod proximum plus debemus diligere quam cor- diligere.
pus propnum. Similiter etiam cum mandatur, ad Gal. (75) Ad tertium dicendum quod ex ipso quod dicitur, diliges ult, quod maxime operemur bonum ad domesticos fidei; proximum tuum, datur consequenter intelligi quod illi qui
et I ad Tim. V vituperatur qui non habet curam suo- sunt magis proximi sunt magis diligendi,
rum, et maxime domesticorum; datur intelligi quod inter
Вопрос 45 О даре мудрости
(1) Затем надлежит исследовать дар мудрости, который соответствует любви-каритас. И во-первых, саму мудрость, а во-вторых, противоположный ей порок (В. 46).
(2) И касательно первого исследуются шесть [проблем]: 1) следует ли считать мудрость одним из даров Святого Духа; 2) в чем она пребывает как в субъекте; 3) является ли мудрость только теоретической, или же еще и практической; 4) совместима ли мудрость, являющаяся даром, со смертным грехом; 5) имеется ли она во всех тех, кто наделен освящающей благодатью; 6) какое блаженство ей соответствует.
Раздел 1
Следует ли считать мудрость одним из даров Святого Духа
(3) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что мудрость не следует считать одним из даров Святого Духа.
(4) 1. В самом деле, как уже было сказано выше (Ч. II-I, В. 68, Р. 8), дары совершен¬
нее добродетелей. Но добродетель соотносится исключительно с благом, отчего Августин и говорит, что никто не пользуется добродетелями дурно. Поэтому дары Святого Духа тем более должны быть определены исключительно к благу. Но мудрость может соотноситься со злом, поскольку сказано (Иак 3, 15), что бывает мудрость земная, плотская, бесовская1. Следовательно, мудрость не должна считаться одним из даров Святого Духа.
(5) 2. Кроме того, как говорит Августин,
мудрость есть знание божественных вещей. Но то знание божественных вещей, которое человек может приобрести посредством своих естественных способностей, относится к мудрости, которая является интеллектуальной добродетелью, а сверхъестественное знание божественного относится к вере, которая является теологической добродетелью, как явствует из сказанного выше (В. 1, Р. 1; В. 4, Р. 5; Ч. II-I, В. 57, Р. 2; В. 66, Р. 5), Следовательно, мудрость скорее должна называться доброде-
Quaestio 45 De dono sapientiae
(1) Deinde considerandum est de dono sapientiae, quod (4) 1. Dona enim sunt perfectiora virtutibus, ut supra dic-
respondet caritati. Et primo, de ipsa sapientia; secundo, tum est (II-I, q. 68, a 8). Sed virtus se habet solum ad de vitio opposito bonum, unde et Augustinus dicit, in libro De lib. arb. (II,
(2) Circa primum quaeruntur sex. Primo, utrum sapientia 19; PL 32, 1628), quod nullus virtutibus male utitur Er-
debeat numeran inter dona spiritus sancti. Secundo, in go multo magis dona spiritus sancti se habent solum ad
quo sit sicut in subiecto. Tertio, utrum sapientia sit specu- bonum. Sed sapientia se habet etiam ad malum, dicitur
lativa tantum, vel etiam practica. Quarto, utrum sapientia enim lac. III quaedam sapientia esse terrena, animalis,
quae est donum possit esse cum peccato mortali. Quinto, diabolica. Ergo sapientia non debet poni inter dona spin-
utrum sit in omnibus habentibus gratiam gratum facien- tus sancti.
tem. Sexto, quae beatitudo ei respondeat. (5) 2. Praeterea, sicut Augustinus dicit, XIV De Trin. (1;
PL 42, 1037), sapientia est divinarum rerum cognitio. Sed Articulus 1 cognitio divinarum rerum quam homo potest per sua nat-
Utrum sapientia debeat inter dona spiritus uralia habere, pertinet ad sapientiam quae est virtus intel-
sancti computari lectualis, cognitio autem divinorum supematuralis pertinet
(3) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod sapientia non acj fidem quae est virtus theologica, ut ex supradictis patet
debeat inter dona spiritus sancti computan. (q. \y a> i; q. 4? a. 5; Ц-I, q. 57, a. 2; q. 66, a. 5). Ergo
Раздел 1. Следует ли считать мудрость одним из даров Святого Духа
529
телью, нежели даром.
(6) 3. Кроме того, сказано (Иов 28, 28): Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум. А в переводе Септуагинты, которым пользуется Августин, в этом месте сказано: Вот, благочестие есть истинная мудрость. Но и страх, и благочестие считаются дарами Святого Духа. Следовательно, не нужно считать мудрость одним из даров Святого Духа, как если бы она отличалась от других.
(7) Но против: сказано (Ис 11, 2): И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разумения.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит Философ, дело мудрого — исследовать наивысшую причину, благодаря которой можно достовернейшим образом выносить суждение относительно других причин и упорядочивать все в соответствии с ней. Но о высшей причине можно говорить в двух смыслах: как о высшей безусловно или в некотором роде. Итак, тот, кто познает наивысшую причину в некотором роде и благодаря ей может судить и упорядочивать все то, что относится к этому роду, называется мудрым в таком- то роде, например в медицине или строительстве, согласно сказанному (1 Кор 3,
10): Я как мудрый строитель, положил основание. А о том человеке, который познает безусловно высшую причину, т. е. Бога, говорят как о безусловно мудром, поскольку он может судить обо всем и упорядочивать все согласно божественным установлениям. Но способность к такому суждению человек получает от Святого Духа, согласно сказанному (1 Кор 2, 15): Духовный судит о всем, поскольку, как сказано там же (2, 10), Дух все проницает, и глубины Божии. И из этого очевидно, что мудрость является даром Святого Духа.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что нечто называется благим в двух смыслах. Во-первых, сообразно тому, что нечто является истинным благом и безусловно совершенным. Во-вторых, сообразно некоему подобию как о благом говорится о совершенном зле; так, мы можем, согласно Философу, говорить о хорошем или совершенном воре. И подобно тому, как у истинно благого обнаруживается некая наивысшая причина, а именно, высшее благо, которое является предельной целью, благодаря знанию которой человек считается истинно мудрым, точно так же и в отношении зла обнаруживается нечто такое, с чем все остальное соотносится как с предель-
sapientia magis debet dici virtus quam donum.
(6) 3. Praeterea, lob XXVIII dicitur, ecce timor domini ipsa est sapientia, et recedere d malo, intelligentia. Ubi secundum litteram Septuaginta, qua utitur Augustinus, habetur, ecce, pietas ipsa est sapientia. Sed tam timor quam pietas ponuntur dona spiritus sancti Ergo sapientia non debet numerari inter dona spiritus sancti quasi donum ab aliis distinctum.
(7) Sed contra est quod Isaiae XI dicitur, requiescet super eum spiritus domini, sapientiae et intellectus, et cetera.
(8) Respondeo dicendum quod secundum philosophum, in principio Metaphys. (I, 2; 982a8), ad sapientem pertinet considerare causam altissimam, per quam de aliis certissime iudicatur, et secundum quam omnia ordinan oportet. Causa autem altissima dupliciter accipi potest, vel simpliciter, vel in aliquo genere. Ille igitur qui cognoscit causam altissimam in aliquo genere et per eam potest de omnibus quae sunt illius genens iudicare et ordinare, dicitur esse sapiens in illo genere, ut in medicina vel ar¬
chitectura, secundum illud I ad Cor. III, ut sapiens architectus fundamentum posui. Ille autem qui cognoscit causam altissimam simpliciter, quae est Deus, dicitur sapiens simpliciter, inquantum per regulas divinas omnia potest iudicare et ordinare. Huiusmodi autem iudicium consequitur homo per spintum sanctum, secundum illud I ad Cor. II, spiritualis iudicat omnia; quia, sicut ibidem dicitur, spiritus omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Unde manifestum est quod sapientia est donum spiritus sancti.
(9) Ad primum ergo dicendum quod bonum dicitur dupliciter. Uno modo, quod vere est bonum et simpliciter perfectum. Alio modo dicitur aliquid esse bonum, secundum quandam similitudinem, quod est in malitia perfectum, sicut dicitur bonus latro vel perfectus latro, ut patet per philosophum, in V Metaphys. (IV, 16; 1021Ы7). Et sicut circa ea quae sunt vere bona invenitur aliqua altissima causa, quae est summum bonum, quod est ultimus finis, per cuius cognitionem homo dicitur vere sapiens; ita etiam in malis est invenire aliquid ad quod alia referuntur sicut
530
Вопрос 45. О даре мудрости
ной целью, и знающий таковое человек считается мудрым в совершении зла, согласно сказанному (Иер 4, 22): Они умны на зло, но добра делать не умеют. Но всякий, кто отвращается от должной цели, необходимо обращается к цели недолжной, поскольку любой действующий действует ради цели. Поэтому если некто устанавливает свою цель во внешних земных благах, то его мудрость называется «земной», если в телесных благах, мудрость называется «животной», если в некоем превосходстве, то это — «дьявольская» мудрость, поскольку она подобна гордыне дьявола, о котором сказано (Иов 21, 26): Он царь над всеми сынами гордости.
(ю) На второе надлежит ответить, что та мудрость, которую считают даром Святого Духа, отличается от той, которая является приобретенной интеллектуальной добродетелью, поскольку вторая обретается человеческими трудами, а первая «нисходит свыше» (Иак 3, 15). Равным образом, она отличается и от веры. В самом деле, вера соглашается с божественной истиной как таковой, а к дару мудрости относится суждение, которое выносится сообразно божественной истине. И потому дар мудрости предполагает наличие веры, ведь, как
сказано в I книге «Этики», всякий хорошо судит о том, что знает.
(и) На третье надлежит ответить, что как благочестие, которое относится к божественному культу, есть проявление веры постольку, поскольку посредством божественного культа мы выражаем свою веру точно так же благочестие есть проявление мудрости. И потому благочестие называется мудростью. И на том же основании мудростью называется страх. В самом деле, то, что человек обладает правильным суждением о божественном, видно из того, что он боится Бога и поклоняется Ему.
Раздел 2 Находится ли мудрость в разуме как в субъекте
(12) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что мудрость не находится в разуме как в субъекте.
(13) 1. В самом деле, Августин говорит, что мудрость есть любовь к Богу. Но, как уже установлено выше (В. 24, Р. 1), любовь-каритас находится как в субъекте не в разуме, а в воле. Следовательно, мудрость не находится в разуме как в субъекте.
(и) 2. Кроме того, сказано (Сир 6, 23):
Мудрость соответствует имени своему. Но
ad ultimum finem, per cuius cognitionem homo dicitur esse sapiens ad male agendum; secundum illud Ierem. IV, sapientes sunt ut faciant mala, bene autem facere nescierunt. Quicumque enim avertitur a fine debito, necesse est quod aliquem finem indebitum sibi praestituat, quia omne agens agit propter finem. Unde si praestituat sibi finem in bonis exterioribus terrenis, vocatur sapientia terrena; si autem in bonis corporalibus, vocatur sapientia animalis; si autem in aliqua excellentia, vocatur sapientia diabolica, propter imitationem superbiae Diaboli, de quo dicitur lob XLI, ipse est rex super universos filios superbiae.
(10) Ad secundum dicendum quod sapientia quae ponitur donum differt ab ea quae ponitur virtus intellectualis acquisita. Nam illa acquiritur studio humano, haec autem est de sursum descendens, ut dicitur lac. III. Similiter et differt a fide. Nam fides assentit veritati divinae secundum seipsam, sed iudicium quod est secundum veritatem divinam pertinet ad donum sapientiae. Et ideo donum sapientiae praesupponit fidem, quia unusquisque bene iu-
dicat quae cognoscit, ut dicitur in I Ethic. (3; 1094b27).
(11) Ad tertium dicendum quod sicut pietas, quae pertinet ad cultum Dei, est manifestativa fidei, inquantum per cultum Dei protestamur fidem; ita etiam pietas manifestat sapientiam. Et propter hoc dicitur quod pietas est sapientia. Et eadem ratione timor. Per hoc enim ostenditur quod homo rectum habet iudicium de divinis, quod Deum timet et colit.
Articulus 2
Utrum sapientia sit in intellectu sicut in subiecto
(12) Ad secundum sic proceditur. Videtur quod sapientia non sit in intellectu sicut in subiecto.
(13) 1. Dicit enim Augustinus, in libro De gratia novi Test. (Epist. 140, 18; PL 33, 557), quod sapientia est caritas Dei. Sed caritas est sicut in subiecto in voluntate, non in intellectu, ut supra habitum est (q. 24, a. 1). Ergo sapientia non est in intellectu sicut in subiecto.
(14) 2. Praeterea, Eccli. VI dicitur, sapientia doctrinae secun-
Раздел 2. Находится ли мудрость в разуме как в субъекте
531
мудрость (sapientia) есть как бы сладостная наука (sapida scientia), что, как кажется, связывает ее с аффектом, к которому относится восприятие духовного удовольствия, или сладости. Следовательно, мудрость находится скорее в аффекте, нежели в разуме.
(15) 3. Кроме того, разумная способность достаточным образом совершенствуется даром разумения. Но если для чего-то достаточно одного, то второе излишне. Следовательно, мудрость не находится в разуме.
(16) Но против: Григорий говорит, что мудрость противоположна глупости. Но глупость пребывает в разуме. Следовательно, и мудрость.
(17) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1; В. 8, Р. 6), мудрость подразумевает некую правильность суждения, сообразно божественным образцам. Но правильным суждение бывает в силу двух [причин] : во-первых, благодаря совершенному пользованию разумом; во-вторых, благодаря некоей со-природности с тем, о чем выносится суждение. Так, о том, что относится к целомудрию, тот, кто изучал нравственную науку, вынесет правильное суждение при помощи некоего рационального исследования, а тот, кто обладает ха-
битусом целомудрия, вынесет правильное суждение благодаря некоей со-природно- сти. Итак, обладание правильным суждением о божественных вещах благодаря рациональному исследованию относится к той мудрости, которая является интеллектуальной добродетелью, а та мудрость, которая является даром Святого Духа, выносит правильное суждение об этих вещах в силу своей со-природности им, как говорит Дионисий: Иерофей совершенен в своих речах о божественном, поскольку не только узнавал, но и переживал божественное. Но это переживание, или со-природность божественным вещам имеет место через любовь-каритас, которая соединяет нас с Богом, согласно этим словам (1 Кор 6, 17): Соединяющийся с Господом есть один Дух. Итак, следовательно, причина той мудрости, которая является даром, находится в воле, т. е. в любви-каритас, а сущность ее находится в разуме, действием которого является вынесение правильного суждения, как было показано выше (Ч. II-I, В. 79, Р.З).
(18) Итак, на первое надлежит ответить, что Августин говорит о мудрости, насколько это касается ее причины, от которой мудрость (sapientia) получила также и свое
dum nomen eius est. Dicitur autem sapientia quasi sapida scientia, quod videtur ad affectum pertinere, ad quem pertinet experiri spirituales delectationes sive dulcedines. Ergo sapientia non est in intellectu, sed magis in affectu.
(15) 3. Praeterea, potentia intellectiva sufficienter perficitur per donum intellectus. Sed ad id quod potest fien per unum superfluum esset plura ponere. Ergo non est in intellectu.
(16) Sed contra est quod Gregorius dicit, in II Moral. (49; PL 75, 592), quod sapientia contranatur stultitiae. Sed stultitia est in intellectu. Ergo et sapientia.
(17) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (a. 1 ; q. 8, a. 6), sapientia importat quandam rectitudinem iu- dicii secundum rationes divinas. Rectitudo autem iudicii potest contingere dupliciter, uno modo, secundum perfectum usum rationis; alio modo, propter connaturalitatem quandam ad ea de quibus iam est iudicandum. Sicut de his quae ad castitatem pertinent per rationis inquisitionem recte iudicat ille qui didicit scientiam moralem, sed per
quandam connaturalitatem ad ipsa recte iudicat de eis ille qui habet habitum castitatis. Sic igitur circa res divinas ex rationis inquisitione rectum iudicium habere pertinet ad sapientiam quae est virtus intellectualis, sed rectum iudicium habere de eis secundum quandam connaturalitatem ad ipsa pertinet ad sapientiam secundum quod donum est spintus sancti, sicut Dionysius dicit, in II cap. De div. nom. (PG 3, 648), quod Hierotheus est perfectus in divinis non solum discens, sed et patiens divina. Huiusmodi autem compassio sive connaturalitas ad res divinas fit per cantatem, quae quidem unit nos Deo, secundum illud I ad Cor. VI, qui adhaeret Deo unus spiritus est. Sic igitur sapientia quae est donum causam quidem habet in voluntate, scilicet cantatem, sed essentiam habet in intellectu, cuius actus est recte iudicare, ut supra habitum est (I, q. 79, a.3).
(18) Ad primum ergo dicendum quod Augustinus loquitur de sapientia quantum ad suam causam. Ex qua etiam sumitur nomen sapientiae, secundum quod saporem quendam
532
Вопрос 45. О даре мудрости
имя, поскольку подразумевает некую сладость (sapor).
(19) Отсюда очевиден ответ на второе, если, конечно, в приведенном авторитетном высказывании речь идет именно об этой [этимологии слова «мудрость»]. Но, похоже, это не так, поскольку такое толкование подобает только слову «мудрость» в латинском языке, а в греческом и, вероятно, в других языках не подобает. Следовательно, как представляется, там под «именем мудрости» понимается ее слава, за которую ее все превозносят.
(20) На третье надлежит ответить, что разум обладает двумя действиями: восприятием и суждением. И к первому относится дар разумения, а ко второму дар мудрости (если говорить о божественных идеях) и дар знания (если говорить о человеческих идеях).
Раздел 3 Является ли мудрость только теоретической, или же еще и практической
(21) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что мудрость может быть только теоретической, но не практической.
(22) 1. В самом деле, дар мудрости превос¬
ходит ту мудрость, которая является интеллектуальной добродетелью. Но мудрость, сообразно тому, что она есть интеллектуальная добродетель, является только теоретической. Следовательно, тем более теоретической, а не практической, является та мудрость, которая есть дар.
(23) 2. Кроме того, практический разум соотносится с человеческими деяниями, которые контингентны. Но мудрость соотносится с божественным, которое вечно и необходимо. Следовательно, мудрость не может быть практической.
(24) 3. Кроме того, Григорий говорит, что в созерцании начала, которым является Бог, мы исследуем, а в деятельности мы трудимся, обремененные тяжелой необходимостью. Но к мудрости относится созерцание божественного, в котором нет ничего обременительного, поскольку, как сказано (Прем 8, 16), в обращении ее нет горечи, ни в сожитии с нею скорби. Следовательно, мудрость является только теоретической, но не практической, или деятельной.
(25) Но против: сказано (Кол 4, 5): Со внешними обходитесь мудро 2. Но это относится к действию. Следовательно, мудрость бывает не только теоретической, но и практической.
importat.
(19) Unde patet responsio ad secundum. Si tamen iste sit intellectus illius auctoritatis. Quod non videtur, quia talis expositio non convenit nisi secundum nomen quod habet sapientia in Latina lingua. In Graeco autem non competit; et forte nec in aliis linguis. Unde potius videtur nomen sapientiae ibi accipi pro eius fama, qua a cunctis commendatur
(20) Ad tertium dicendum quod intellectus habet duos actus, scilicet percipere, et iudicare. Ad quorum pnmum ordinatur donum intellectus, ad secundum autem, secundum rationes divinas, donum sapientiae; sed secundum rationes humanas, donum scientiae.
Articulus 3
Utrum sapientia sit speculativa tantum, an etiam practica
(21) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod sapientia non sit practica, sed speculativa tantum.
(22) 1. Donum enim sapientiae est excellentius quam sa¬
pientia secundum quod est intellectualis virtus. Sed sapientia secundum quod est intellectualis virtus est speculativa tantum. Ergo multo magis sapientia quae est donum est speculativa, et non practica.
(23) 2. Praeterea, practicus intellectus est circa operabilia, quae sunt contingentia. Sed sapientia est circa divina, quae sunt aeterna et necessaria. Ergo sapientia non potest esse practica.
(24) 3. Praeterea, Gregonus dicit, in VI Moral. (37; PL 75, 764), quod in contemplatione principium, quod Deus est, quaeritur, in operatione autem sub gravi necessitatis fasce laboratur. Sed ad sapientiam pertinet divinorum visio, ad quam non pertinet sub aliquo fasce laborare, quia ut dicitur Sap. VIII, non habet amaritudinem conversatio eius, nec taedium convictus illius. Ergo sapientia est contemplativa tantum, non autem practica sive activa
(25) Sed contra est quod dicitur ad Coloss. IV, in sapientia ambulate ad eos qui foris sunt. Hoc autem pertinet ad actionem. Ergo sapientia non solum est speculativa, sed
Раздел 4. Может ли мудрость иметь место без благодати, со смертным грехом 533
(26) Отвечаю: надлежит сказать, что, как говорит Августин, мудрость относится к высшей части разума, а к низшей его части относится научное знание. Но, согласно Августину, высший разум обращается к высшим, то есть божественным, образцам, созерцая их и советуясь с ними. Созерцая — постольку, поскольку созерцает божественное в себе; советуясь — постольку, поскольку на основании божественного выносит суждение о человеческом, направляя человеческие действия в соответствии с божественными установлениями. Итак, следовательно, мудрость, сообразно тому, что она есть дар, является не только теоретической, но также и практической.
(27) Итак, на первое надлежит ответить, что, как сказано в книге «О причинах», чем выше некая сила, тем на большее она распространяется. Поэтому в связи с тем, что мудрость, которая является даром, выше, чем мудрость, которая является интеллектуальной добродетелью (ибо она ближе подходит к Богу, за счет некоего соединения с Ним души), дар мудрости может направлять не только в теории, но и в практике.
(28) На второе надлежит ответить, что божественное само по себе, конечно же, необходимо и вечно, но при этом оно так¬
же является правилом для контингентного, в отношении которого осуществляются человеческие действия.
(29) На третье надлежит ответить, что прежде чем сравнивать нечто с чем-то другим, его надлежит рассмотреть само по себе. Поэтому мудрость сперва должна заниматься созерцанием божественного, т. е. вйдением начала, а уже потом направлять человеческие действия в соответствии с божественными образцами. Однако при этом направлении не бывает никакой горечи или тяжелого труда, скорее наоборот, мудрость обращает горечь в сладость, а тяжелый труд — в покой.
Раздел 4
Может ли мудрость иметь место без благодати, со смертным грехом
(30) Ход рассуждения в четвертом разделе таков. Представляется, что мудрость может иметь место без благодати, со смертным грехом.
(31) 1. В самом деле, святых восхваляют главным образом за то, что несовместимо со смертным грехом, согласно этим словам (2 Кор 1, 12): Похвала наша сия есть свидетельство совести нашей. Но никто не должен хвалиться своею мудростью, ибо ска-
etiam practica.
(26) Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in XII De Trin. (14: PL 42, 1009), superior pars rationis sapientiae deputatur, infenor autem scientiae. Supenor autem ratio, ut ipse in eodem libro dicit (ibid., 7; PL 42, 1005), intendit rationibus supernis, scilicet divinis, et conspiciendis et consulendis, conspiciendis quidem, secundum quod divina in seipsis contemplatur, consulendis autem, secundum quod per divina iudicat de humanis, per divinas regulas dirigens actus humanos. Sic igitur sapientia, secundum quod est donum, non solum est speculativa, sed etiam practica.
(27) Ad primum ergo dicendum quod quanto aliqua virtus est altior, tanto ad plura se extendit; ut habetur in libro De causis (9; BA 174.15; BA 16; 179.5). Unde ex hoc ipso quod sapientia quae est donum est excellentior quam sapientia quae est virtus intellectualis, utpote magis de propinquo Deum attingens, per quandam scilicet unionem animae ad ipsum, habet quod non solum dingat in contemplatione,
sed etiam in actione.
(28) Ad secundum dicendum quod divina in se quidem sunt necessaria et aeterna, sunt tamen regulae contingentium, quae humanis actibus subsunt.
(29) Ad tertium dicendum quod prius est considerare aliquid in seipso quam secundum quod ad alterum comparatur. Unde ad sapientiam per prius pertinet contemplatio divinorum, quae est visio principii; et postenus dirigere actus humanos secundum rationes divinas. Nec tamen in actibus humanis ex directione sapientiae provenit amaritudo aut labor, sed potius amaritudo propter sapientiam vertitur in dulcedinem, et labor in requiem.
Articulus 4 Utrum sapientia possit esse sine gratia, cum peccato mortali
(30) Ad quartum sic proceditur. Videtur quod sapientia possit esse sine gratia, cum peccato mortali.
(31) 1. De his enim quae cum peccato mortali haben non possunt praecipue sancti glonantur, secundum illud II ad
534
Вопрос 45. О даре мудрости
зано (Иер 9, 23): Да не хвалится мудрый мудростью своею. Следовательно, мудрость может иметь место без благодати, со смертным грехом.
(32) 2. Кроме того, мудрость, как уже было сказано (Р. 1), подразумевает познание божественного. Но некоторые и пребывая в смертном грехе могут обладать знанием божественной истины, как это явствует из сказанного о тех, кто подавляет Истину неправдою (Рим 1, 18). Следовательно, мудрость совместима со смертным грехом.
(33) 3. Кроме того, Августин, говоря о любви-каритас, утверждает: Нет ничего более превосходного, нежели этот дар Божий; он один отделяет сынов Царства вечного от сынов вечной погибели. Но мудрость отлична от любви-каритас. Следовательно, она не отделяет сынов Царства от сынов погибели. Следовательно, она совместима со смертным грехом.
(34) Но против: сказано (Прем 1,4): В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху.
(35) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 1), та мудрость, которая является даром Святого Духа, обеспечивает правильность суждения о божественных вещах или же обо всем остальном на осно¬
вании божественных образцов — благодаря некоей со-природности, или соединению с божественным, которое осуществляется через любовь-каритас, как уже было сказано (Р. 2). И потому та мудрость, о которой мы говорим, предполагает наличие любви-каритас. Но любовь-каритас, как явствует из сказанного выше (В. 24, Р. 12), несовместима со смертным грехом. Итак, остается только, что и та мудрость, о которой мы говорим, не может совмещаться со смертным грехом.
(36) Итак, на первое надлежит ответить, что эти слова надлежит понимать как сказанные о мудрости, соотносящейся с мирскими вещами, или даже с вещами божественными, но так, как они постигаются человеческими способностями. И за такую мудрость святых не восхваляют, напротив, отмечается, что ее у них нет (Притч 30, 2): Мудрости человеческой нет у меня. А восхваляют их за божественную мудрость, согласно этим словам (1 Кор 1, 30): [От Него и вы во Христе Иисусе], Который сделался для нас премудростью от Бога.
(37) На второе надлежит ответить, что этот аргумент имеет силу в отношении того знания божественного, которое обретается посредством обучения и рационального
Cor. I, gloria nostra haec est, testimonium conscientiae nostrae. Sed de sapientia non debet aliquis gloriari, secundum illud Ierem. IX, non glorietur sapiens in sapientia sua. Ergo sapientia potest esse sine gratia, cum peccato mortali.
(32) 2. Praeterea, sapientia importat cogmtionem divinorum, ut dictum est (a. 1,3). Sed aliqui cum peccato mortali possunt habere cognitionem veritatis divinae, secundum illud Rom. I, veritatem Dei in iniustitia detinent. Ergo sapientia potest esse cum peccato mortali.
(33) 3. Praeterea, Augustinus dicit, in XVDe Trin. (18; PL 42, 1082), de caritate loquens, nullum est isto Dei dono excellentius, solum est quod dividit inter filios regni aeterni et filios perditionis aeternae. Sed sapientia differt a cantate. Ergo non dividit inter filios regni et filios perditionis. Ergo potest esse cum peccato mortali.
(34) Sed contra est quod dicitur Sap. I, in malevolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis.
(35) Respondeo dicendum quod sapientia quae est donum
spiritus sancti, sicut dictum est (a. 1), facit rectitudinem iudicii circa res divinas, vel per regulas divinas de aliis, ex quadam connaturalitate sive unione ad divina. Quae quidem est per cantatem, ut dictum est (a. 2). Et ideo sapientia de qua loquimur praesupponit cantatem. Caritas autem non potest esse cum peccato mortali, ut ex supradictis patet (q. 24, a 12). Unde relinquitur quod sapientia de qua loquimur non potest esse cum peccato mortali.
(36) Ad primum ergo dicendum quod illud intelligendum est de sapientia in rebus mundanis; sive etiam in rebus divinis per rationes humanas. De qua sancti non gloriantur, sed eam se fatentur non habere, secundum illud Prov. XXX, sapientia hominum non est mecum. Gloriantur autem de sapientia divina, secundum illud I ad Cor. I, factus est nobis sapientia a Deo.
(37) Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit de cognitione divinorum quae habetur per studium et inquisitionem rationis. Quae potest haberi cum peccato mortali, non autem illa sapientia de qua loquimur.
Раздел 5. Имеется ли мудрость во всех тех, кто обладает благодатью 535
исследования. И оно совместимо со смертным грехом, а та мудрость, о которой мы здесь говорим — нет.
(38) На третье надлежит ответить, что мудрость, даже если она и отличается от любви-каритас, тем не менее, предполагает ее наличие, а потому отделяет сынов погибели от сынов Царства.
Раздел 5 Имеется ли мудрость во всех тех, кто обладает благодатью
(39) Ход рассуждения в пятом разделе таков. Представляется, что мудрость присутствует не во всех, кто обладает благодатью.
(40) 1. В самом деле, обладать мудростью — больше, чем слышать ее. Но только совершенные достойны того, чтобы услышать мудрость, согласно этим словам (1 Кор 2, 6): Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Итак, поскольку не все те, кто наделен благодатью, совершенны, то, как представляется, куда менее вероятно, что все они наделены мудростью.
(41) 2. Кроме того, как говорит Философ, дело мудрого — упорядочение; а в Писании сказано (Иак 3, 17), что мудрый судит нелицемерно. Но не все имеющие благодать судят или упорядочивают других, это
должны делать только прелаты. Следовательно, мудры далеко не все из тех, кто наделен благодатью.
(42) 3. Кроме того, согласно Григорию, мудрость дается как средство против глупости. Но многие из имеющих благодать глупы по природе, например, крещеные сумасшедшие или же те, кто [уже после крещения] стал безумен без совершения смертного греха. Следовательно, не все наделенные благодатью мудры.
(43) Но против: каждый, кто без смертного греха, любим Богом, поскольку обладает любовью-каритас, которой любит Бога, а любящих Бога любит Бог (Притч 8, 17). Но сказано также, что Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью (Прем 7, 28). Следовательно, мудрость есть во всех, кто обладает любовью-каритас и не имеет смертного греха.
(44) Отвечаю: надлежит сказать, что мудрость, о которой мы говорим, есть, как уже было показано выше (Р. 1, 3), некая правильность суждения о божественном при созерцании и совещании. И в отношении первого, и в отношении второго разные люди получают разные степени мудрости благодаря своему соединению с божественным. В самом деле, некоторые изби-
(38) Ad tertium dicendum quod sapientia, etsi differat a caritate, tamen praesupponit eam; et ex hoc ipso dividit inter filios perditionis et regni.
Articulus 5
Utrum sapientia sit in omnibus habentibus gratiam
(39) Ad quintum sic proceditur. Videtur quod sapientia non sit in omnibus habentibus gratiam.
(40) 1. Maius enim est sapientiam habere quam sapientiam audire. Sed solum perfectorum est sapientiam audire, secundum illud I ad Cor. II, sapientiam loquimur inter perfectos. Cum ergo non omnes habentes gratiam sint perfecti, videtur quod multo minus omnes habentes gratiam sapientiam habeant.
(41) 2. Praeterea, sapientis est ordinare; ut philosophus dicit, in principio Metaphys. (1,2; 982al8). Et lac. III dicitur quod est iudicans sine simulatione. Sed non omnium habentium gratiam est de aliis iudicare aut alios ordinare, sed solum praelatorum. Ergo non omnium habentium gra¬
tiam est habere sapientiam.
(42) 3. Praeterea, sapientia datur contra stultitiam; ut Gre- gonus dicit, in II Moral. (49, PL 75, 592). Sed multi habentes gratiam sunt naturaliter stulti, ut patet de amentibus baptizatis, vel qui postmodum sine peccato in amentiam incidunt. Ergo non in omnibus habentibus gratiam est sapientia.
(43) Sed contra est quod quicumque qui est sine peccato mortali diligitur a Deo, quia cantatem habet, qua Deum diligit; Deus autem diligentes se diligit, ut dicitur Prov. VIII. Sed Sap. VII dicitur quod neminem diligit Deus nisi eum qui cum sapientia inhabitat. Ergo in omnibus habentibus gratiam, sine peccato mortali existentibus, est sapientia.
(44) Respondeo dicendum quod sapientia de qua loquimur, sicut dictum est (a. 1,3), importat quandam rectitudinem iudicii circa divina et conspicienda et consulenda. Et quantum ad utrumque, ex unione ad divina secundum diversos gradus aliqui sapientiam sortiuntur. Quidam enim tantum
536
Вопрос 45. О даре мудрости
раются только для правильного суждения, как в отношении созерцания божественного, так и в отношении упорядочивания человеческих дел в соответствии с божественными установлениями, насколько это необходимо для спасения. И это присуще любому, кто живет без смертного греха, благодаря тому, что он обладает освящающей благодатью. Ведь если природа не испытывает недостатка в необходимом, то тем более не испытывает его и благодать. И потому сказано (1 Ин 2, 27): Самое сие помазание учит вас всему.
(45) Впрочем, другие наделяются более высокой степенью дара мудрости и в том, что касается созерцания божественного (постольку, поскольку они могут и познавать более возвышенные тайны, и являть их другим), и в том, что касается упорядочения человеческих [дел] сообразно божественным установлениям (постольку, поскольку они могут упорядочивать сообразно этим установлениям не только самих себя, но и других). И эта степень мудрости не является общей для всех тех, кто обладает освящающей благодатью, но относится скорее к благодатям-харизмам, которыми Святой Дух наделяет так, как Ему угодно, согласно этим словам (1 Кор 12, 8): Одному
дается Духом слово мудрости и т. д.
(46) Итак, на первое надлежит ответить, что апостол говорит здесь о той мудрости, которая распространяется на сокровенные тайны божественного, как он сам пишет там же (1 Кор 2, 7): Проповедуем премудрость Бо- жию, тайную, сокровенную.
(47) На второе надлежит ответить, что хотя упорядочивать и судить других приличествует только прелатам, тем не менее, как говорит Дионисий, любой человек может упорядочивать собственные действия и судить о них.
(48) На третье надлежит ответить, что крещеные сумасшедшие, как и младенцы, обладают хабитусом мудрости, которая является даром Святого Духа, но по причине телесного изъяна, препятствующего им пользоваться разумом, лишены ее действия.
Раздел 6 Соответствует ли дару мудрости седьмое блаженство
(49) Ход рассуждения в шестом разделе таков. Представляется, что седьмое блаженство не соответствует дару мудрости.
(50) 1. В самом деле, седьмое блаженство таково: «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Но то
sortiuntur de recto iudicio, tam in contemplatione divinorum quam etiam in ordinatione rerum humanarum secundum divinas regulas, quantum est necessarium ad salutem. Et hoc nulli deest sine peccato mortali existenti per gratiam gratum facientem, quia si natura non deficit in necessariis, multo minus gratia Unde dicitur I Ioan. II, unctio docet vos de omnibus.
(45) Quidam autem altion gradu percipiunt sapientiae donum, et quantum ad contemplationem divinorum, inquantum scilicet altiora quaedam mysteria et cognoscunt et aliis manifestare possunt; et etiam quantum ad directionem humanorum secundum regulas divinas, inquantum possunt secundum eas non solum seipsos, sed etiam alios ordinare. Et iste gradus sapientiae non est communis omnibus habentibus gratiam gratum facientem, sed magis pertinet ad gratias gratis datas, quas spiritus sanctus distribuit prout vult, secundum illud I ad Cor XII, alii datur per spiritum sermo sapientiae, et cetera.
(46) Ad primum ergo dicendum quod apostolus loquitur ibi de sapientia secundum quod se extendit ad occulta mys- tena divinorum, sicut et ibidem dicitur, loquimur Dei sapientiam in mysterio absconditam.
(47) Ad secundum dicendum quod quamvis ordinare alios homines et de eis iudicare pertineat ad solos praelatos, tamen ordinare propnos actus et de eis iudicare pertinet ad unumquemque; ut patet per Dionysium, in epistola ad Demophilum (Epist. 8, 3; PG 3, 1093).
(48) Ad tertium dicendum quod amentes baptizati, sicut et puen, habent quidem habitum sapientiae, secundum quod est donum spintus sancti, sed non habent actum, propter impedimentum corporale quo impeditur in eis usus rationis.
Articulus 6
Utrum septima beatitudo respondeat dono sapientiae
(49) Ad sextum sic proceditur. Videtur quod septima beatitudo non respondeat dono sapientiae.
(50) 1 Septima enim beatitudo est, beati pacifici, quoniam
Раздел 6. Соответствует ли дару мудрости седьмое блаженство
537
и другое относится к любви-каритас; так, о мире сказано (Пс 118, 165): Велик мир у любящих Закон Твой. И апостол говорит (Рим 5, 5): Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, Который есть Дух усыновления, Которым взываем: «Авва!» (Отне!) (Рим 8, 15). Следовательно, седьмое блаженство должно быть отнесено скорее к любви-каритас, нежели к мудрости.
(51) 2. Кроме того, всякая [вещь] в большей степени проявляется в своем ближайшем следствии, нежели в удаленном. Но ближайшим следствием мудрости, как кажется, является любовь-каритас, согласно этим словам (Прем 7, 27): Переходя из рода в род в святые души, [премудрость] приготовляет друзей Божиих и пророков, в то время как мир и усыновление, похоже, являются отдаленными следствиями, ведь они, как было показано выше (В. 19, Р. 2, на 3; В. 29, Р. 3), происходят из любви-каритас. Таким образом, блаженство, соответствующее мудрости, должно определяться скорее со стороны любви-каритас, нежели со стороны мира.
(52) 3. Кроме того, сказано (Иак 3, 17): Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, со¬
гласна на добро, полна милосердия и добрых плодов, судит нелицемерно. Следовательно, соответствующее мудрости, блаженство должно относиться к миру не больше, чем к другим следствиям небесной мудрости.
(53) Но против: Августин говорит, что мудрость приличествует миротворцам, в которых нет никаких мятежных движений, но все повинуются разуму.
(54) Отвечаю: надлежит сказать, что седьмое блаженство соответствует дару мудрости как в том, что касается заслуги, так и в том, что касается награды. И о заслуге сказано: «Блаженны миротворцы». Но миротворец — тот, кто устанавливает мир, либо в себе, либо в других. И в обоих случаях это происходит за счет того, что те, в ком устанавливается мир, приводятся к должному порядку, поскольку, согласно Августину, мир есть спокойствие порядка. Но упорядочение есть дело мудрости, как явствует из слов Философа. И потому миротворчество подобающим образом приписывают мудрости. А о награде сказано: «Они будут наречены сынами Божиими». Но люди называются сынами Божиими постольку, поскольку они причастны подобию единородного и природного Сына
filii Dei vocabuntur. Utrumque autem horum pertinet immediate ad cantatem. Nam de pace dicitur in Psalm., pax multa diligentibus legem tuam. Et ut apostolus dicit, Rom. V, caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis; qui quidem est spintus adoptionis filiorum, in quo clamamus, abba, pater, ut dicitur Rom. VIII. Ergo septima beatitudo magis debet attnbui cantati quam sapientiae.
(51) 2. Praeterea, unumquodque magis manifestatur per proximum effectum quam per remotum. Sed proximus effectus sapientiae videtur esse caritas, secundum illud Sap. VII, per nationes in animas sanctas se transfert, amicos Dei et prophetas constituit, pax autem et adoptio filiorum videntur esse remoti effectus, cum procedant ex cantate, ut dictum est (q. 19, a. 2, ad 3; q. 29, a 3). Ergo beatitudo sapientiae respondens deberet magis determinan secundum dilectionem cantatis quam secundum pacem
(52) 3. Praeterea, lac. III dicitur, quae desursum est sapientia primo quidem pudica est, deinde autem pacifica, modesta,
suadibilis, bonis consentiens, plena misericordia et fructibus bonis, iudicans sine simulatione. Beatitudo ergo correspondes sapientiae non magis debuit accipi secundum pacem quam secundum alios effectus caelestis sapientiae.
(53) Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro De serm. Dom. in monte (I, 4; PL 34, 1235), quod sapientia convenit pacificis, in quibus nullus motus est rebellis, sed obtemperans rationi.
(54) Respondeo dicendum quod septima beatitudo congrue adaptatur dono sapientiae et quantum ad mentum et quantum ad praemium Ad mentum quidem pertinet quod dicitur, beati pacifici Pacifici autem dicuntur quasi pacem facientes vel in seipsis vel etiam in aliis. Quorum utrumque contingit per hoc quod ea in quibus pax constituitur ad debitum ordinem rediguntur, nam pax est tranquillitas ordinis, ut Augustinus dicit, XIX De civ. Dei. (13; PL 41, 640) Ordinare autem pertinet ad sapientiam; ut patet per philosophum, in principio Metaphys (I, 2, 982al8). Et ideo esse pacificum convenienter attnbuitur sapien-
538
Вопрос 45. О даре мудрости
Божия, согласно этим словам (Рим 8, 29): Кого Он предузнал — тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, Который есть рожденная Премудрость. И потому благодаря причастности дару мудрости человек делается сыном Божиим.
(55) Итак, на первое надлежит ответить, что любви-каритас подобает пребывать в мире, а устанавливать мир подобает упорядочивающей мудрости. И равным образом Святой Дух называется Духом усыновления постольку, поскольку через Него нам дается подобие природного Сына, Который есть рожденная Премудрость.
(56) На второе надлежит ответить, что это следует относить к несотворенной Премудрости, которая первая соединяется с нами посредством дара любви-каритас и благодаря этому являет нам тайны, знание которых есть влиянная мудрость. Следовательно, влиянная мудрость, которая есть дар, является не причиной, а следствием любви-каритас.
(57) На третье надлежит ответить, что, как уже было сказано (Р. 3), к мудрости, сообразно тому, что она является даром, относится не только созерцание божественного, но и направление человеческих действий. И при таковом направлении пер¬
вым оказывается удаление от зла, противоположного мудрости; и потому о страхе говорят как о «начале мудрости», ведь он удерживает нас от зла. А последним, своего рода целью, оказывается то, что приводит все к должному порядку; и это входит в смысловое содержание мира. Поэтому Иаков подобающе говорит, что «мудрость, сходящая свыше», т. е. дар Святого Духа, «во-первых, чиста», т. е. как бы лишена грязи греха, а «потом мирна», ведь мир есть конечное следствие мудрости, отчего он и считается блаженством. Что же касается всего дальнейшего, то в таковом явлено, причем в должном порядке, как мудрость приводит к миру. В самом деле, после того, как человек благодаря чистоте избавляется от грязи греха, первое, что от него требуется, это, насколько возможно, проявлять умеренность во всем, и потому сказано, что мудрость «скромна». Во- вторых, требуется, чтобы в вопросах, для решения которых собственного мнения человека недостаточно, он руководствовался советом других, и потому добавлено, что мудрость «послушлива». И эти две [вещи] необходимы для того, чтобы человек достиг мира в самом себе. Но чтобы человек достиг мира с другими, ему сверх того
tiae. Ad praemium autem pertinet quod dicitur, filii Dei vocabuntur. Dicuntur autem aliqui filii Dei inquantum participant similitudinem filii unigeniti et naturalis, secundum illud Rom. VIII, quos praescivit conformes fieri imaginis filii sui, qui quidem est sapientia genita. Et ideo percipiendo donum sapientiae, ad Dei filiationem homo pertingit.
(55) Ad primum ergo dicendum quod cantatis est habere pacem, sed facere pacem est sapientiae ordinantis. Similiter etiam spiritus sanctus intantum dicitur spintus adoptionis inquantum per eum datur nobis similitudo filii naturalis, qui est genita sapientia.
(56) Ad secundum dicendum quod illud est intelligendum de sapientia increata, quae pnma se nobis unit per donum caritatis, et ex hoc revelat nobis mystena, quorum cognitio est sapientia infusa. Et ideo sapientia infusa, quae est donum, non est causa cantatis, sed magis effectus.
(57) Ad tertium dicendum quod, sicut iam dictum est (a. 3), ad sapientiam, secundum quod est donum, pertinet non
solum contemplari divina, sed etiam regulare humanos actus. In qua quidem directione primo occurrit remotio a malis quae contranantur sapientiae, unde et timor dicitur esse initium sapientiae, inquantum facit recedere a malis. Ultimum autem est, sicut finis, quod omnia ad debitum ordinem redigantur, quod pertinet ad rationem pacis. Et ideo convenienter lacobus dicit quod sapientia quae desursum est, quae est donum spintus sancti, pnmum est pudica, quasi vitans corruptelas peccati; deinde autem pacifica, quod est finalis effectus sapientiae, propter quod ponitur beatitudo. Iam vero omnia quae sequuntur manifestant ea per quae sapientia ad pacem perducit, et ordine congruo. Nam homini per pudicitiam a corruptelis recedenti primo occurrit quod quantum ex se potest, modum in omnibus teneat, et quantum ad hoc dicitur, modesta. Secundo, ut in his in quibus ipse sibi non sufficit, aliorum monitis acquiescat, et quantum ad hoc subdit, suadibilis Et haec duo pertinent ad hoc quod homo consequatur pacem in seipso. Sed ulterius, ad hoc quod homo sit pacificus etiam aliis,
Раздел 6. Соответствует ли дару мудрости седьмое блаженство
539
требуется, во-первых, чтобы он не противодействовал их благу, что подразумевает «согласие на добро». Во-вторых, надо, чтобы он и сочувствовал нуждам ближнего в душе, и старался помочь ему действием, и об этом сказано: «Полна милосердия
и добрых плодов». В-третьих, надо, чтобы человек стремился исправлять грехи других с любовью-каритас, и об этом сказано: «Судит нелицемерно» (чтобы он не давал выход своей ненависти, прикрываясь исправлением).
pnmo requiritur ut bonis eorum non repugnet, et hoc est quod dicit, bonis consentiens. Secundo, quod defectibus proximi et compatiatur in affectu et subveniat in effectu, et hoc est quod dicitur, plena misencordia et fructibus bonis.
Tertio requiritur ut cantative emendare peccata satagat, et hoc est quod dicit, iudicans sine simulatione, ne scilicet, correctionem praetendens, odium intendat explere
Вопрос 46
О глупости
(1) Затем надлежит рассмотреть глупость, которая противоположна мудрости. И касательно этого исследуются три [проблемы]: 1) противоположна ли глупость мудрости; 2) является ли глупость грехом; 3) к какому главному греху она возводится.
Раздел 1
Противоположна ли глупость мудрости
(2) Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что глупость не противоположна мудрости.
(3) 1. В самом деле, кажется, что непо¬
средственно мудрости противоположна простота. Но глупость, судя по всему, не тождественна простоте, поскольку та, пожалуй, имеет место только по отношению к божественному, а глупость — и к божественному, и к человеческому. Следовательно, глупость не противоположна мудрости.
(4) 2. Кроме того, одна противополож¬
ность не может быть путем достижения другой. Но глупость, или безумие, явля¬
ется путем, ведущим к мудрости, согласно этим словам (1 Кор 3, 18): Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Следовательно, глупость не противоположна мудрости.
(5) 3. Кроме того, одна противоположность не является причиной другой. Но мудрость является причиной глупости, или безумия, согласно этим словам (Иер 10, 14): Безумствует всякий человек в своем знании, а мудрость есть некое знание. Кроме того, сказано (Ис 47, 10): Мудрость твоя и знание твое — они сбили тебя с пути. Но как раз глупость и сбивает с пути. Следовательно, глупость не противоположна мудрости.
(6) 4. Кроме того, Исидор говорит, что глуп тот, кого не печалит позор и не тревожит несправедливость. Но, как говорит Григорий, это относится к духовной мудрости. Следовательно, глупость не противоположна мудрости.
Quaestio 46 De stultitia
(1) Deinde considerandum est de stultitia, quae opponitur sapientiae. Et circa hoc quaeruntur tna. Primo, utrum stultitia opponatur sapientiae. Secundo, utrum stultitia sit peccatum Tertio, ad quod vitium capitale reducatur.
Articulus 1 Utrum stultitia opponatur sapientiae
(2) Ad pnmum sic proceditur. Videtur quod stultitia non opponatur sapientiae
(3) 1. Sapientiae enim directe videtur opponi insipientia. Sed stultitia non videtur esse idem quod insipientia, quia insipientia videtur esse solum circa divina, sicut et sapientia; stultitia autem se habet et circa divina et circa humana. Ergo sapientiae non opponitur stultitia.
(4) 2. Praeterea, unum oppositorum non est via perveniendi ad aliud. Sed stultitia est via perveniendi ad sapientiam,
dicitur enim I ad Cor. III, si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc saeculo, stultus fiat, ut sit sapiens. Ergo sapientiae non opponitur stultitia.
(5) 3. Praeterea, unum oppositorum non est causa alterius. Sapientia autem est causa stultitiae, dicitur enim Ierem. X, stultus factus est omnis homo a scientia sua; sapientia autem quaedam scientia est. Et Isaiae XLVII dicitur, sapientia tua et scientia tua, haec decepit te, decipi autem ad stultitiam pertinet. Ergo sapientiae non opponitur stultitia.
(6) 4. Praeterea, Isidorus dicit, in libro Etymol. (X ad litt. S; PL 82, 393), quod stultus est qui per ignominiam non commovetur ad dolorem, et qui non movetur iniuria. Sed hoc pertinet ad sapientiam spiritualem; ut Gregorius dicit, in X Moral. (29; PL 75, 947). Ergo sapientiae non opponitur stultitia.
Раздел 1. Противоположна ли глупость мудрости
541
(7) Но против: Григорий говорит, что дар мудрости дается против глупости.
(8) Отвечаю: надлежит сказать, что имя «глупость» (stultitia), как кажется, произошло от «оцепенения» (stupor). И потому Исидор говорит, что глуп тот, [чей ум] неподвижен из-за оцепенения. При этом он указывает, что глупость отличается от слабоумия, поскольку глупость подразумевает некую заторможенность души и притупленность способности суждения, в то время как слабоумие означает полную лишенность духовного чувства1. Следовательно, глупость обоснованно противопоставляется мудрости. В самом деле, «мудрый» (sapiens), согласно Исидору, называется так от вкуса {sapor), ведь как чувство вкуса приспособлено для различения вкуса пищи, так и мудрый распознает вещи и причины И из этого очевидно, что глупость противопоставляется мудрости как противоположность, а слабоумие — как чистое отрицание. Ведь слабоумный вовсе лишен способности суждения, а у глупого она есть, хотя и притупленная, в то время как мудрый судит остро и проницательно.
(9) Итак, на первое надлежит ответить, что, как говорит Исидор, простец противоположен мудрому в том смысле, что ему не¬
достает вкуса {sapor) различения и понимания. Поэтому, как кажется, простота тождественна глупости. Однако, пожалуй, некто считается глупым в первую очередь из-за ошибок в суждениях, которые выносятся на основании наивысшей причины, ведь если он ошибается при вынесении суждения касательно чего-то маловажного, то из-за этого его не назовут глупцом.
(ю) На второе надлежит ответить, что как существует некая дурная мудрость, которая называется «мирской», поскольку, как уже было сказано выше (В. 45, Р. 1, на 1), наивысшую причину и предельную цель она полагает в некоем мирском благе, так же существует и противоположная ей благая глупость, посредством которой человек презирает мирское. И об этой глупости говорит апостол.
(и) На третье надлежит ответить, что та мудрость, которая сбивает с пути и делает человека безумным пред Богом, есть «мудрость мира сего», как явствует из слов апостола (1 Кор 3, 19).
(12) На четвертое надлежит ответить, что равнодушие к несправедливостям иногда связано с тем, что человек утратил вкус к мирскому, и [озабочен] только небесным. И тогда, как говорит Григорий, это
(7) Sed contra est quod Gregonus dicit, in II Moral. (49, PL 75, 592), quod donum sapientiae datur contra stultitiam.
(8) Respondeo dicendum quod nomen stultitiae a stupore videtur esse sumptum, unde Isidorus dicit, in libro Ety- mol. (ibid.; PL 82, 392), stultus est qui propter stuporem non movetur Et differt stultitia a fatuitate, sicut ibidem dicitur, quia stultitia importat hebetudinem cordis et obtusionem sensuum; fatuitas autem importat totaliter spintualis sensus privationem Et ideo convenienter stultitia sapientiae opponitur. Sapiens enim, ut ibidem Isidorus dicit (ibid ; PL 82, 393), dictus est a sapore, quia sicut gustus est aptus ad discretionem saporis ciborum, sic sapiens ad dignoscentiam rerum atque causarum Unde patet quod stultitia opponitur sapientiae sicut contranum; fatuitas autem sicut pura negatio. Nam fatuus caret sensu iudicandi; stultus autem habet, sed hebetatum; sapiens autem subtilem ac perspicacem.
(9) Ad primum ergo dicendum quod, sicut Isidorus ibidem
dicit, insipiens contrarius est sapienti, eo quod est sine sapore discretionis et sensus. Unde idem videtur esse insipientia cum stultitia. Praecipue autem videtur aliquis esse stultus quando patitur defectum in sententia iudicii quae attenditur secundum causam altissimam, nam si deficiat in iudicio circa aliquid modicum, non ex hoc vocatur aliquis stultus
(10) Ad secundum dicendum quod sicut est quaedam sapientia mala, ut supra dictum est (q. 45, a. 1, ad 1), quae dicitur sapientia saeculi, quia accipit pro causa altissima et fine ultimo aliquod terrenum bonum, ita etiam est aliqua stultitia bona, huic sapientiae malae opposita, per quam aliquis terrena contemnit. Et de hac stultitia loquitur apostolus.
(11) Ad tertium dicendum quod sapientia saeculi est quae decipit et facit esse stultum apud Deum, ut patet per apostolum, I ad Cor. III.
(12) Ad quartum dicendum quod non moveri iniunis quandoque quidem contingit ex hoc quod homini non sapiunt
542
Вопрос 46. О глупости
относится не к мирской глупости, а к божественной мудрости. Однако иногда это является следствием того, что человек проявляет безусловную глупость по отношению ко всему, как это очевидно в случае сумасшедших, которые не понимают, что такое несправедливость. И таковое относится к безусловной глупости.
Раздел 2 Является ли глупость грехом
(13) Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что глупость не является грехом.
(и) 1. В самом деле, никакой грех не воз¬
никает в нас естественным путем. Но некоторые глупы по природе. Следовательно, глупость не является грехом.
(15) 2. Кроме того, как говорит Августин, любой грех доброволен. Но глупость не является добровольной. Следовательно, она не является грехом.
(16) 3. Кроме того, любой грех противоположен некоей божественной заповеди. Но глупость не противоположна ни одной заповеди. Следовательно, глупость не является грехом.
(17) Но против: сказано (Притч 1, 32): Беспечность глупцов погубит их. Но тот, кто
погибает, погибает из-за греха. Следовательно, глупость является грехом.
(18) Отвечаю: надлежит сказать, что глупость, как было сказано выше (Р. 1), подразумевает некую заторможенность чувства при вынесении суждения, особенно в отношении наивысшей причины, каковая есть предельная цель и высшее благо. Но в данном отношении человек может испытывать трудности при вынесении суждения по двум причинам. Во-первых, из-за природной непредрасположенности, как это бывает у сумасшедших. И такая глупость не является грехом. Во-вторых, постольку, поскольку чувство человека обращено на земные вещи, вследствие чего он делается неспособным к восприятию божественного, согласно этим словам (1 Кор 2, 14): Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия; и точно так же человек, чей вкус испорчен дурными жидкостями, не распознает сладкое. И такая глупость есть грех.
(19) И из этого очевиден ответ на первое.
(20) На второе надлежит ответить, что хотя никто не желает быть глупцом, тем не менее, человек может желать того, из-за чего он становится глупцом, отвлекая свое чувство от духовного и погружаясь в земное.
terrena, sed sola caelestia. Unde hoc pertinet non ad stultitiam mundi, sed ad sapientiam Dei, ut Gregorius ibidem dicit (Moral., X, 29; PL 75, 947). Quandoque autem contingit ex hoc quod homo est simpliciter circa omnia stupidus, ut patet in amentibus, qui non discernunt quid sit iniuna Et hoc pertinet ad stultitiam simpliciter
Articulus 2 Utrum stultitia sit peccatum
(13) Ad secundum sic proceditur Videtur quod stultitia non sit peccatum
(14) 1 Nullum enim peccatum provenit in nobis a natura Sed quidam sunt stulti naturaliter Ergo stultitia non est peccatum.
(15) 2. Praeterea, omne peccatum est voluntarium, ut Augustinus dicit (De vera relig , 14; PL 34, 133) Sed stultitia non est voluntaria Ergo non est peccatum.
(16) 3 Praeterea, omne peccatum opponitur alicui praecepto divino. Sed stultitia nulli praecepto opponitur Ergo
stultitia non est peccatum
(17) Sed contra est quod dicitur Prov. 1, prosperitas stultorum perdet eos Sed nullus perditur nisi pro peccato Ergo stultitia est peccatum.
(18) Respondeo dicendum quod stultitia, sicut dictum est (a. 1), importat quendam stuporem sensus in iudicando, et praecipue circa altissimam causam, quae est finis ultimus et summum bonum. Circa quod aliquis potest pati stuporem in iudicando dupliciter. Uno modo, ex indispo- sitione naturali, sicut patet in amentibus Et talis stultitia non est peccatum. Alio modo, inquantum immergit homo sensum suum rebus terrenis, ex quo redditur eius sensus ineptus ad percipiendum divina, secundum illud I ad Cor. II, animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei, sicut etiam homini habenti gustum infectum malo humore non sapiunt dulcia. Et talis stultitia est peccatum.
(19) Et per hoc patet responsio ad primum
(20) Ad secundum dicendum quod quamvis stultitiam nullus velit, vult tamen ea ad quae consequitur esse stultum, sci-
Раздел 3. Является ли глупость «дочерью» похоти
543
И то же самое происходит в случае других грехов. Например, сладострастник желает удовольствия, без которого нет греха, но не желает самого греха как такового, и хотел бы наслаждаться безгрешно.
(21) На третье надлежит ответить, что глупость противоречит тем заповедям, которые касаются созерцания истины; и о них уже было сказано выше, когда шла речь о знании и разумении (В. 16).
Раздел 3
Является ли глупость «дочерью» похоти
(22) Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что глупость не является «дочерью» похоти.
(23) 1. В самом деле, Григорий перечисляет «дочерей» похоти, но глупость при этом не упоминает. Следовательно, глупость не происходит из похоти.
(24) 2. Кроме того, апостол говорит (1 Кор 3, 19): Мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Но, согласно Григорию, мудрость мира сего состоит в окутывании сердца различными ухищрениями, что относится к коварству. Следовательно, глупость является «дочерью» не похоти, а коварства.
(25) 3. Кроме того, некоторые люди впадают в ярость и безумие, которые относятся к глупости, главным образом из-за гнева. Следовательно, глупость происходит скорее из гнева, чем из похоти.
(26) Но против: сказано (Притч 7, 2223): Тотчас он пошел за нею, то есть за блудницей, не зная, глупец, что кидается в силки2.
(27) Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже говорилось (Р. 2), глупость, насколько она является грехом, возникает из-за притупления духовного чувства, которое утрачивает способность выносить суждение о духовном. Но чувство человека погружается в земное главным образом из-за похоти, связанной с наибольшими удовольствиями, которые пленяют душу наиболее сильно. Поэтому та глупость, которая является грехом, берет свое начало главным образом в похоти.
(28) Итак, на первое надлежит ответить, что презрение к Богу и Его дарам относится к глупости. Поэтому Григорий называет две «дочери» похоти, которые относятся к глупости, а именно «ненависть к Богу» и «отчаяние в будущей жизни», как бы разделяя глупость на две части.
licet abstrahere sensum suum a spiritualibus et immergere terrenis. Et idem etiam contingit in aliis peccatis. Nam luxuriosus vult delectationem sine qua non est peccatum, quamvis non simpliciter velit peccatum, vellet enim frui delectatione sine peccato
(21) Ad tertium dicendum quod stultitia opponitur praeceptis quae dantur de contemplatione veritatis, de quibus supra habitum est cum de scientia et intellectu ageretur (q 16).
Articulus 3 Utrum stultitia sit filia luxuriae
(22) Ad tertium sic proceditur. Videtur quod stultitia non sit filia luxunae.
(23) 1 Gregonus enim, XXXI Moral. (45; PL 76, 621), enumerat luxunae filias; inter quas tamen non continetur stultitia. Ergo stultitia non procedit ex luxuna.
(24) 2 Praeterea, apostolus dicit, I ad Cor III, sapientia huius mundi stultitia est apud Deum Sed sicut Gregorius dicit, X Moral (29; PL 75, 947), sapientia mundi est cor
machinationibus tegere, quod pertinet ad duplicitatem Ergo stultitia est magis filia duplicitatis quam luxunae
(25) 3. Praeterea, ex ira aliqui praecipue vertuntur in furorem et insaniam, quae pertinent ad stultitiam. Ergo stultitia magis ontur ex ira quam ex luxuna
(26) Sed contra est quod dicitur Prov VII, statim eam sequitur, scilicet meretricem, ignorans quod ad vincula stultus trahatur.
(27) Respondeo dicendum quod, sicut iam dictum est (a. 2), stultitia, secundum quod est peccatum, provenit ex hoc quod sensus spiritualis hebetatus est, ut non sit aptus ad spintualia diiudicanda. Maxime autem sensus hominis immergitur ad terrena per luxunam, quae est circa maximas delectationes, quibus anima maxime absorbetur. Et ideo stultitia quae est peccatum maxime nascitur ex luxuria
(28) Ad primum ergo dicendum quod ad stultitiam pertinet quod homo habeat fastidium de Deo et de donis ipsius Unde Gregonus duo numerat Moral (XXXI, 45; PL 76, 121) inter filias luxuriae quae pertinent ad stultitiam, sci-
544
Вопрос 46. О глупости
(29) На второе надлежит ответить, что эти слова апостола следует понимать как указывающие не на причину, но на сущность, в том именно смысле, что сама мирская мудрость есть глупость пред Богом. И потому не необходимо, чтобы то, что относится к мирской мудрости, было причиной глупости.
(30) На третье надлежит ответить, что гнев, как уже было сказано выше (Ч. II-I, В. 48,
Р. 2), из-за своей остроты очень сильно изменяет природу тела. Поэтому он является важной причиной возникновения той глупости, которая связана с телесными изъянами. Но та глупость, которая связана с духовным препятствием, а именно с погружением ума в земные [вещи], берет свое начало главным образом в похоти, как уже было сказано.
licet odium Dei et desperationem futuri saeculi, quasi dividens stultitiam in duas partes
(29) Ad secundum dicendum quod verbum illud apostoli non est intelligendum causaliter, sed essentialiter, quia scilicet ipsa sapientia mundi est stultitia apud Deum. Unde non oportet quod quaecumque pertinent ad sapientiam mundi sint causa huius stultitiae
(30) Ad tertium dicendum quod ira, ut supra dictum est (II-I, q 48, a. 2), sua acuitate maxime immutat corpons naturam Unde maxime causat stultitiam quae provenit ex impedimento corporali. Sed stultitia quae provenit ex impedimento spirituali, scilicet ex immersione mentis ad terrena, maxime provenit ex luxuria, ut dictum est.
Примечания
К вопросу 1
1. В «Комментарии к „Сентенциям“» ап, а. 25, 1, 1), Фома указывает, что автором этого определения является Ричард Сен-Викторский; ему же приписывают эти слова Филипп Канцлер, Альберт Великий и Бонавентура. Тем не менее, в работах Ричарда формулировка «articulus est indivisibilis veritas de Deo arctans nos ad credendum» не обнаруживается. С другой стороны, она присутствует в сочинениях Пре- позитина и Гийома Осерского.
2. В Синодальном переводе: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
3. В Синодальном переводе: «Но каждому дается проявление Духа на пользу».
4. Подробнее об оформленной и неоформленной вере см. В. 4, Р. 3, 4.
5. Текст, который имеет в виду Фома («Комментарий на апостольский Символ веры»), принадлежит не папе Льву, но Ти- раннию Руфину (340/345-410). В Символе, как он представлен у Руфина, действительно отсутствует предлог «в» перед «святой Вселенской Церковью»: «Credo in Deo Patre omnipotenti... Sanctam Ecclesiam, Remissionem peccatorum, Hujus camis resurrectionem». Пояснения Руфина таковы: «Если бы был добавлен предлог „в“, то смысл был бы такой же, как и в предыдущих артикулах, но в них речь шла о вере в Божество, которую мы выражаем, говоря: „[верую] в Бога Отца“ и „в Сына Его Иисуса Христа“... а когда мы говорим не о Божестве, но о творениях и о таинствах, то предлог „в“ не добавляется. Мы не говорим „Мы верим в святую Церковь“, но: „Мы верим святой Церкви“, не как Богу, но как Церкви, собранной воедино ради Бога» {In Symb. Apost.; PL 21, 373).
К вопросу 2
1. Когитативная способность (от лат. «cogitatio» — «размышление») — способность чувственной души человека; у неразумных животных ей соответствует оценочная, или эстимативная способность, которая является способностью выносить суждения о единичных материальных вещах на основании их так называемых «единичных интенций», определяя, что из этих вещей полезно, а что вредно для индивида. Это своего рода инстинкт, благодаря которому, например, птицы собирают солому для строительства гнезд, а овца убегает, когда видит волка. Что же касается коги- тативной способности, то, как указывает Аквинат, «то, что у прочих животных называется естественной оценивающей способностью, у человека называется когита-. тивной способностью, которая обнаруживает таковые интенции посредством некоего соотнесения. Поэтому она называется также частным рассудком, каковому врачи приписывают определенный орган, а именно, среднюю часть мозга, ибо он соотносит индивидуальные интенции точно так же, как рассудок разумной [части души] соотносит общие интенции» (Ч. I, В. 78, Р. 4, в Отв.).
2. В Синодальном переводе: «Тебе открыто очень много из человеческого знания».
3. Божественное побуждение (instinctus divinus) — движущая сила человеческого поведения, которой человек обладает благодаря дарам, сверхъестественным совершенствам и теологическим добродетелям: «Следует принять во внимание, что в человеке имеются два движущих начала: внутреннее, т. е. разум, и внешнее, т. е. Бог...» (4.II-I, В. 86, Р. 1, в Отв.).
546
Примечания
К вопросу 4
1. Речь идет, в том числе, о Гуго Сен-Вик- торском, который писал: «Если кто-нибудь захочет дать полное и общее определение веры, он может сказать: „Вера есть некая уверенность духа в вещах отсутствующих, находящаяся выше мнения и ниже знания“» {De sacr., I, p. 10, с. 2; PL 176, 330С).
2. Аристотель объясняет это так: «Всякое стремление также имеет цель. А то, к чему имеется стремление, есть начало для ума, направленного на деятельность: последнее и есть [движущее] начало действия. Таким образом, нужно считать правильным взгляд, что движут эти две способности — стремление и размышление, направленное на деятельность. А именно: движет предмет стремления, и через него движет размышление, так как предмет стремления есть начало для него» («О душе», III, 10; 433а15).
3. В латинском языке (как, впрочем, и в греческом) нет строго различия между «справедливостью» и «праведностью», и то и другое называется словом «iustitia». Отсюда должно быть ясно, почему для Фомы «человек оправдывается добродетелями (per virtutes iustificatur)» в связи с тем, что «справедливость есть целокупная добродетель (iustitia est tota virtus)».
К вопросу 5
1. Ср. точку зрения Бонавентуры: «Другое мнение является более распространенным и более правдоподобным, а именно, что человек прежде по времени обладал естественными способностями, чем получил благодать... человек прежде был сотворен в своем естестве, чем был украшен благодатными дарами» (Bonaventura, In Sent., II, d. 29, a. 2, q. 2; QR 2, 703).
К вопросу 8
1. Это можно пояснить следующим фрагментом из «Суммы» Аквината: «„Разуметь“ значит просто постигать умопостигаемую
истину. „ Рассуждать“ же [т. е. мыслить посредством рационального дискурса] значит переходить от одного познаваемого к другому для познания умопостигаемой истины... Итак, ясно, что рассуждение относится к мышлению, как движение — к состоянию покоя, или процесс обретения — к обладанию, из которых одно совершенно, а другое несовершенно» (Ч. I, В. 79, Р. 8, в Отв.).
2. В Синодальном переводе: «Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены».
К вопросу 10
1. Обстоятельства «повреждаются» в том смысле, что грешник действует в определенных обстоятельствах греховным образом.
2. В Синодальном переводе: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением».
К вопросу 19
1. В Синодальном переводе этот стих отсутствует.
К вопросу 20
1. В Синодальном переводе: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя».
К вопросу 21
1. В Синодальном переводе данные слова отсутствуют.
2. В Синодальном переводе: «Нечестие боязливо и, преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы // Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка».
К вопросу 23
1. Послание Иеронима к Паулину (Павлину), епископу Ноланскому, «Об изучении Священного Писания»; написано ок. 394 г. Часто предпосылалось библейскому
Примечания
547
тексту как своего рода руководство по изучению Библии.
2. Согласно Фоме, «Экземплярная форма двойственна. Одна — та, по внешнему облику которой делается нечто; и для нее не требуется ничего, кроме некоего подобия; и в этом смысле мы говорим о том, что истинные вещи являются экземпляр- ными формами их изображений. А другая — та, по подобию которой нечто делается сообразно определенной причастности; и так божественная благость является экземплярной формой всякой благости, а божественная мудрость — экземплярной формой всякой мудрости» {In Sent., III, d. 27, q. 2, a. 4, qc. 3 ad 1).
К вопросу 24
1. Речь идет о Гийоме Осерском.
К вопросу 25
1. В синодальном переводе: «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих».
К вопросу 26
1. В Синодальном переводе: «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение».
2. В манускриптах данный ответ отсутствует. Восстановлен по комментарию Ка- этана.
К вопросу 28
1. В Синодальном переводе: «Войди в радость господина твоего».
К вопросу 30
1. В Синодальном переводе: «Люби душу твою и утешай сердце твое и удаляй от себя печаль».
2. В Синодальном переводе: «Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности?»
К вопросу 32
1. Например, Александр Гэльский {Summa theol., IV, с. 105, m. 1, а. 2; 4, 406vb).
2. В Синодальном переводе: «Я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».
3. В Синодальном переводе: «Милостыня человека — как печать у Него, и благодеяние человека сохранит Он, как зеницу ока».
4. В Синодальном переводе: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным».
5. В Синодальном переводе: «От всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню».
К вопросу 33
1. Например, Альберт Великий {In Sent., IV, d. 14, а. 21; ВО 29, 827).
К вопросу 36
1. В Синодальном переводе: «Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность».
К вопросу 37
1. В Синодальном переводе: «Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом».
2. В Синодальном переводе: «Вспыльчивый человек возбуждает раздор».
К вопросу 38
1. В Синодальном переводе: «Одни по лю- бопрению проповедуют Христа».
К вопросу 40
1. В Синодальном переводе: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими».
К вопросу 41
1. В Синодальном переводе: «Кто любит ссоры, любит грех».
548
Примечания
К вопросу 42
1. В Синодальном переводе — «беспорядки».
К вопросу 43
1. Данное мнение принадлежит не Иерониму, а Гуго из Сен-Шера (см. In univ. Test,, super Mt 18, 7; 6, 61).
2. В данном случае «совет» тождественен монашескому обету. Фома указывает, что «различие между заповедью и советом заключается в том, что заповедь налагает необходимость, а совет предполагает возможность выбора со стороны того, кому он дан» (Ч. II—I, В. 108, Р. 4); при этом «совет относится к большему благу, чем закон» (там же, В. 92, Р. 2, Возр. 2). Соответственно, принятие монашеских обетов, которое открывает перед монахом большие, сравнительно с простым верующим, блага, есть следование совету.
К вопросу 44
1. В Синодальном переводе говорится о ближнем.
2. В Синодальном переводе: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его».
3. В Синодальном переводе: «И знамя его надо мною — любовь».
К вопросу 45
1. В Синодальном переводе: «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская».
2. В Синодальном переводе: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем».
К вопросу 46
1. О духовном чувстве, его остроте и притупленности см. В. 15, Р. 2.
2. В Синодальном переводе: «Как птичка кидается в силки».
Содержание
Пролог 3
Вопрос 1. О вере 5
Вопрос 2. О действии веры 29
Вопрос 3. О внешнем действии веры 50
Вопрос 4. О самой добродетели веры 54
Вопрос 5. О тех, кто обладает верой 73
Вопрос 6. О причине веры 82
Вопрос 7. О следствиях веры 87
Вопрос 8. О даре разумения 91
Вопрос 9. О даре знания 106
Вопрос 10. О вере, насколько это касается противоположных пороков. И во-первых,
о неверии в общем 114
Вопрос 11. О противоположных вере пороках, что касается ереси 139
Вопрос 12. О противоположных вере пороках, что касается отступничества 149
Вопрос 13. О пороках, противоположных исповеданию веры. И во-первых,
о богохульстве в общем 154
Вопрос 14. О богохульстве в частном, то есть о хуле на Духа Святого 161
Вопрос 15. О пороках, противоположных дару разумения, а именно, о слепоте ума
и притупленности чувства 172
Вопрос 16. О заповедях, относящихся к представленному ранее, то есть к вере
и дарам знания и разумения 178
Вопрос 17. О надежде как таковой 184
Вопрос 18. О субъекте надежды 197
Вопрос 19.0 даре страха 205
Вопрос 20. Об отчаянии 229
Вопрос 21. О самоуверенности 237
Вопрос 22. О заповедях, относящихся к надежде и страху 244
Вопрос 23. О любви-каритас как таковой 249
Вопрос 24. О субъекте любви-каритас 266
Вопрос 25. Об объекте любви-каритас 294
Вопрос 26. О порядке любви-каритас 316
Вопрос 27. О главном действии любви-каритас, которым является
собственно любовь 341
Вопрос 28. О радости 356
Вопрос 29. О мире 364
Вопрос 30. О милосердии 371
Вопрос 31. О благодеянии 380
550 Содержание
Вопрос 32. О подаянии 388
Вопрос 33. О братском исправлении 411
Вопрос 34. О ненависти 431
Вопрос 35. Об унынии 441
Вопрос 36. О зависти 451
Вопрос 37. О раздоре, который противоположен миру 460
Вопрос 38. О словопрении 465
Вопрос 39. О схизме 470
Вопрос 40. О войне 479
Вопрос 41. О драке 488
Вопрос 42. О смуте 492
Вопрос 43. О соблазне 496
Вопрос 44. О заповедях, относящихся к любви-каритас 514
Вопрос 45. О даре мудрости 528
Вопрос 46. О глупости 540
Примечания 545
Представляем Вам следующие книги:
Серия «Классики науки»
s Ньютон И. Математические работы. s Евклид. Начала.
s Фреге Г. Логика и логическая семантика.
s Гюйгенс X Трактат о свете. s Гейзенберг В. Избранные труды.
s Мах Э. Механика: Историко-критический очерк ее развития. s Лукреций. О природе вещей: Билингва. s Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты.
s Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. sБюффон Ж. Всеобщая и частная естественная история: История и теория Земли.
<Дарвин Ч. Пангенезис.
s Мечников И. И. Невосприимчивость в инфекционных болезнях.
s Розин В. М. (ред.) Приобщение к философии: Новый педагогический опыт. s Розин В. М. Типы и дискурсы научного мышления.
s Розин В. М. Метаморфозы российского менталитета: Философские этюды. s Розин В. М. Введение в схемологию: Схемы в философии, культуре, науке, проектировании. s Розин В. М. Демаркация науки и религии. Анализ учения и творчества Эмануэля Сведенборга. s Аристотель. Физика.
^ Челпанов Г. И. Учебник логики. s Яновская С. А. Методологические проблемы науки. s Бирюков Б. В. Трудные времена философии. В 7 кн. sГобозов И. А. Кому нужна такая философия?! s Веблен Т. Теория праздного класса, у Ролз Дж. Теория справедливости.
✓ Закгейм А. Ю. Системность — симметрия — эволюция в физике, химии, биологии. s Жилин Д. М. Теория систем: опыт построения курса. s Гинзбург В. Л. Об атеизме, религии и светском гуманизме.
s Асмус В. Ф. Лекции по истории логики: Авиценна, Бэкон, Гоббс, Декарт, Паскаль. s Асмус В. Ф. Логика. Систематический курс. s Асмус В. Ф. Платон.
s Захаров В. Д. Физика как философия природы. s Захаров В. Д. От философии физики к идее Бога.
s Фома Аквинский. Сочинения. sБоэций Дакийский. Сочинения. sУильям Оккам. Избранное. s Роберт Гроссетест. Сочинения.
URSS
Тел./факс-.
+7(499)724-25-45
(многоканальный)
E-mail:
URSS@URSS.ru
http://URSS.ru
Наши книги можно приобрести в магазинах:
«НАУКУ - ВСЕМ!» (м. Профсоюзная, Нахимовский пр-т, 56. Тел. (499) 724-2545) «Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. (495) 625-2457)
«Московский дом книги» (м. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (495) 203-8242) «Молодая гвардия» (м. Полянка, ул. Б. Полянка, 28. Тел. (495) 238-5001, (495) 780-3370) «Дом научно-технической книги» (Ленинский пр-т, 40. Тел. (495) 137-6019)
«Дом книги на Ладожской» (м. Бауманская, ул. Ладожская, 8, стр. 1. Тел. (495) 267-0302) «Санкт-Петербургский Дом книги» (Невский пр., 28. Тел. (812) 448-2355)
«Книжный бум» (г. Киев, книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8 (павильон «Академкнига»). Тел. +38 (067) 273-5010)
Сеть магазинов «Дом книги» (г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12. Тел. (343) 253-5010)
URSS.ru
üs!
URSS.ru
ь:
и
и
ас
И
И
URSS
Jg Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!
Наше издательство специализируется на выпуске научной и учебной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.
Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:
yПенроуз Р. Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах физики.
✓ Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории. s Фома Аквинский. Сумма теологии. Билингва (латынь—русский). Т. 1-5. s Линкер С. Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу.
✓Майнцер К. Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез. s Милль Дж. Ст. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. s Поппер К. Р. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия. s Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. s Семенов Ю. И. Введение в науку философии. В 6 книгах.
✓Майоров Г. Г. Философия как искание Абсолюта: Опыты теоретические и исторические. s Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: Латинская патристика. sCaepeü В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. s Шишков И. 3. История философии: Реконструкция истории европейской философии через призму теории познания. s Майданов А. С. Методология научного творчества. s Денисова Т. Ю. Одиночество: Метафизика и диалектика. s Новиков А. С. Философия научного поиска.
sKpyuiawe А. А., Мамчур Е.А. (ред.) Будущее фундаментальной науки. s Ньютон И. Математические начала натуральной философии. s Руднев В. П. Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни.
s Декарт Р. Космогония. Два трактата: Трактат о свете. Описание человеческого тела и трактат об образовании животного.
s Васильев В. В. (ред.) 100 этюдов о Канте.
s Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.): Формирование научных программ нового времени.
s Гайденко П. П. Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых научных программ. s Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. s Шишков И. 3. Современная западная философия: Очерки истории. s Шишков И. 3. В поисках новой рациональности: Философия критического разума. s Волков Д. Б. Бостонский зомби: Д. Деннет и его теория сознания. s Иванов Д. В. Природа феноменального сознания. s Гусейнов А. А. Античная этика.
</Балагушкин Е. Г. Мистицизм в современной России: Теория. Основные представители. s Гусейнов A.A., Белкина Г. Л. (ред.) Человек в единстве социальных и биологических качеств. s Белкина Г. Л. (ред.) Человек и его будущее: Новые технологии и возможности человека. s Розин В. М. Традиционная и современная философия.
Е-
и
22
9Чш
Ч
09
Г
1
£
0Э
09
Э
L.
09
09
По всем вопросам Вы можете обратиться к нам: тел. +7 (499) 724-25-45 (многоканальный) или электронной почтой URSS@URSS.ru Полный каталог изданий представлен в интернет-магазине: http://URSS.ru
Научная и учебная литература
Серия «Философия сознания»
Философия
сознания
Философская дисциплина, предметом изучения которой является природа сознания, а также соотношение сознания и физической реальности (тела).
философия сознания
Сознание — одна из сложнейших загадок для философии и экспериментальной науки.
Серия посвящена самым разным аспектам данной проблематики, поискам новых взглядов на старый вопрос.
В серии издаются труды как известных зарубежных мыслителей, так и отечественных философов. Например, впервые на русском языке вышел знаковый труд Дэвида Чалмерса «Сознающий ум» (The Conscious Mind), а также «Субстанция мышления»
(The Stuff Of Thought) Стивена Пинкера.
В. В. Васильев • Сознание и вещи: Очерк феноменалистической онтологии
Вадим Васильев
СОЗНАНИЕ И ВЕЩИ
Очерк
феноменалистической
онтологии
I
Все мы верим в существование сознания у других людей, в то, что прошлый опыт можно использовать для прогнозов на будущее, в то, что в мире не бывает беспричинных событий и что физические объекты независимы от нашего сознания. Установив соотношение этих убеждений, мы, полагает автор, сможем уточнить онтологический статус сознания и понять отношение между ментальным и физическим.
Автор критикует физикализм и эпифеноменализм и выдвигает натуралистическую версию интеракционизма, используемую им для оправдания интуиций здравого смысла.
«В этой книге я попробую показать, что кабинетная философия не исчерпала свои ресурсы. Правда, для того чтобы она действительно заработала, она, на мой взгляд, должна скорректировать собственную методологию. Важным инструментом умозрительной философии всегда был концептуальный анализ, позволяющий прояснять понятия людей о мире и о самих себе. Любое эмпирическое понятие структурирует наши представления о вещах. Но эти представления структурируются и на более глубоком уровне - уровне наших базовых убеждений вроде веры в причинность. Я смещаю концептуальный анализ именно в эту плоскость. Думаю, что только при таком понимании он может приносить по-настоящему интересные результаты». В. В. Васильев
Вадим
Валерьевич
ВАСИЛЬЕВ
Доктор философских наук. Заведующий кафедрой истории зарубежной философии и профессор философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Автор трудов по истории философии Нового времени, немецкой философии и аналитической философии сознания.
-Стивен
Пинке
крупнейший психолингвист, профессор факультета психологии Гарвардского университета
и его блестящие труды
Язык как инстинкт
Увлекательный и многогранный рассказ о том феномене, которым является человеческий язык. Пинкер рассматривает его с самых разных точек зрения: собственно лингвистической, биологической, исторической и т. д. «Существуют ли грамматические гены?», «Способны ли шимпанзе выучить язык жестов?», «Контролирует ли наш язык наши мысли?» - вот лишь некоторые из бесчисленных вопросов о языке, поднятые в данном исследовании.
Книга объясняет тайны удивительных явлений, связанных с языком, таких как «мозговитые» младенцы, грамматические гены, жестовый языку специально обученных шимпанзе, «идиоты»-гении, разговаривающие неандертальцы, поиски праматери всех языков. Повествование ведется живым, легким языком и содержит множество занимательных примеров из современного разговорного английского, в том числе сленга и языка кино и песен.
Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу
Работа человеческого сознания исследуется в совершенно новом стиле - через пристальное изучение нашей речи: от бытовых разговоров, шуток и сквернословия до юридических споров, от детских неуклюжих выражений до сленга, от политического дискурса до поэзии. Объясняя сложные идеи с помощью точных и остроумных примеров, Пинкер задаетувлекательный тон изложению науки о языке.
Язык - как показывает Пинкер - тесно переплетен с самой человеческой жизнью, он поистине является окном в природу человека. Эта великолепная работа захватывает с первых же строк, подводя читателя к изумительному открытию: как много, оказывается, мы можем узнаем о нашем естестве, если осмыслим, как мы облекаем свои мысли и чувства в слова!
СТИВЕН ПИНКЕР
СУБСТАНЦИЯ
МЫШЛЕНИЯ
ЯЗЫК как окно в человеческую природу
Издательская группа URSS представляет фундаментальный труд доктора исторических наук, профессора
Юрия Семенова
ФИЛОСОФИИ
Исходная идея всех книг
цикла — философия есть наука, есть
исследование, в ходе которого решаются проблемы и тем самым делаются открытия. Предметом философского исследования является ИСТИНд. Философия есть теория познания истины. Цель исследования процесса познания истины — вооружить человека, и прежде всего ученого, руководством к
познанию истины,
методом познания истины. Истину способно дать лишь
мышление. Только процесс мышления поддается управлению со стороны человека. Поэтому философия есть наука о мышлении (логика) и одновременно предельно общий метод мышления (диалектика).
1 Предмет философии, ее основные понятия и место в системе человеческого знания
2 Вечные проблемы философии: От проблемы источника и природы знания и познания до проблемы императивов человеческого поведения
3 Марксистский прорыв в философии
4 Современные проблемы теории познания, или логики разумного мышления
5 Проблема истины. Мышление, воля и мозг
6 Трудная судьба философии диалектического материализма (конец XIX - начало XXI в.)
Научное издательство
URSS
СОХРАНЯТЬ, РАЗВИВАТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
ИСПОЛЬЗУЙ ШАНС
реализовать свои знания и творческий потенциал
В НАУЧНО-
ДО
управленца
ИЗДАТЕЛЬСКОМ
ЕЛЕ!
ДО
аналитика
ДО ведущего ДО ^Ж
^ редактора специалиста . ^
от/
оператора
от/
корректора
ОТ /
ученика
ОТ г
помощника
Достойно Перспективно осуществимо
Звони:
Присоединяйся:
Заходи:
+7(499)7242545 Пиши: URSS@URSS.ru
0 vk.com/editorial_urss О facebook.com/urss.ru
117335, Москва, Нахимовский пр-т, 56
http://URSS.ru