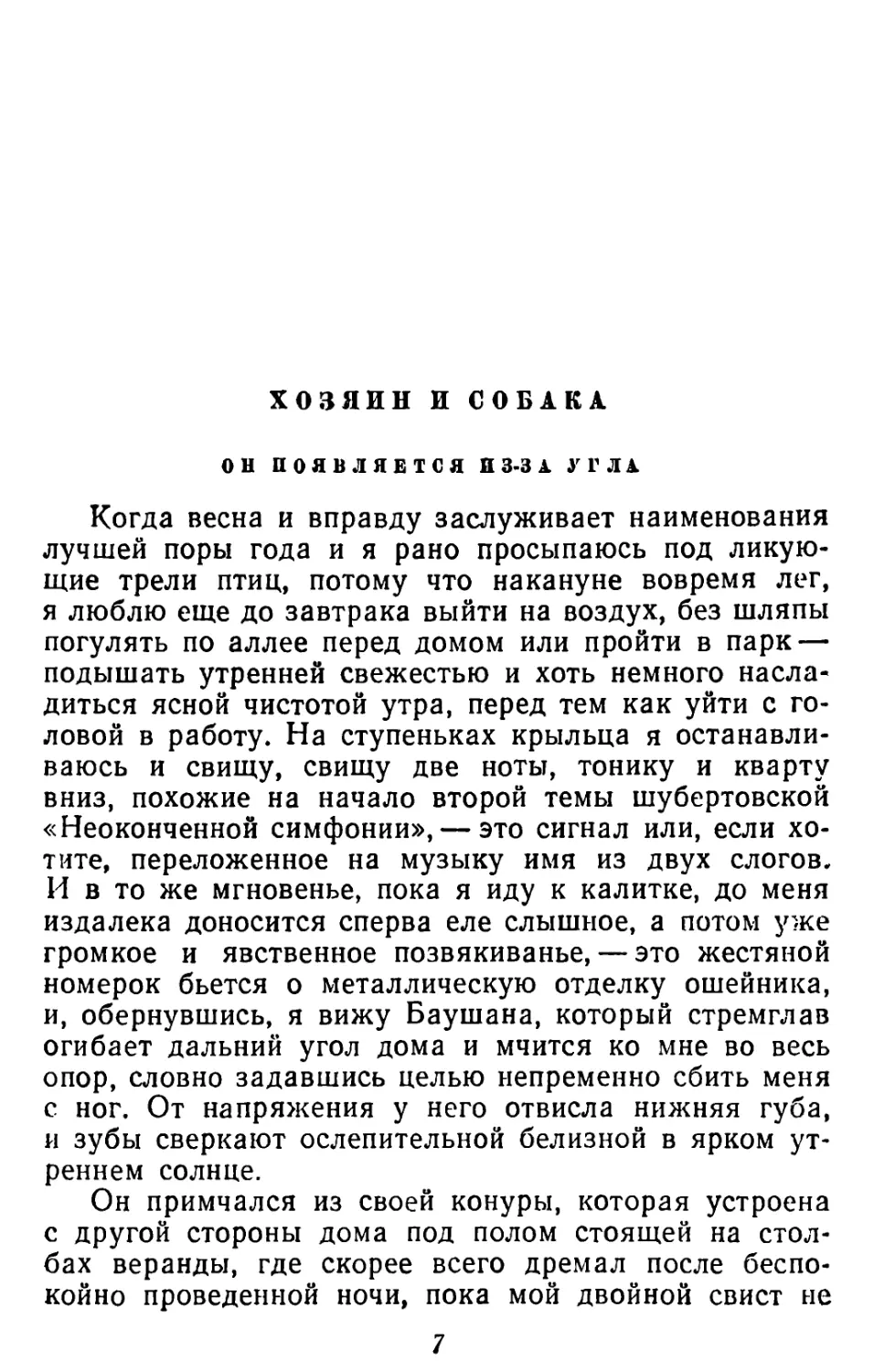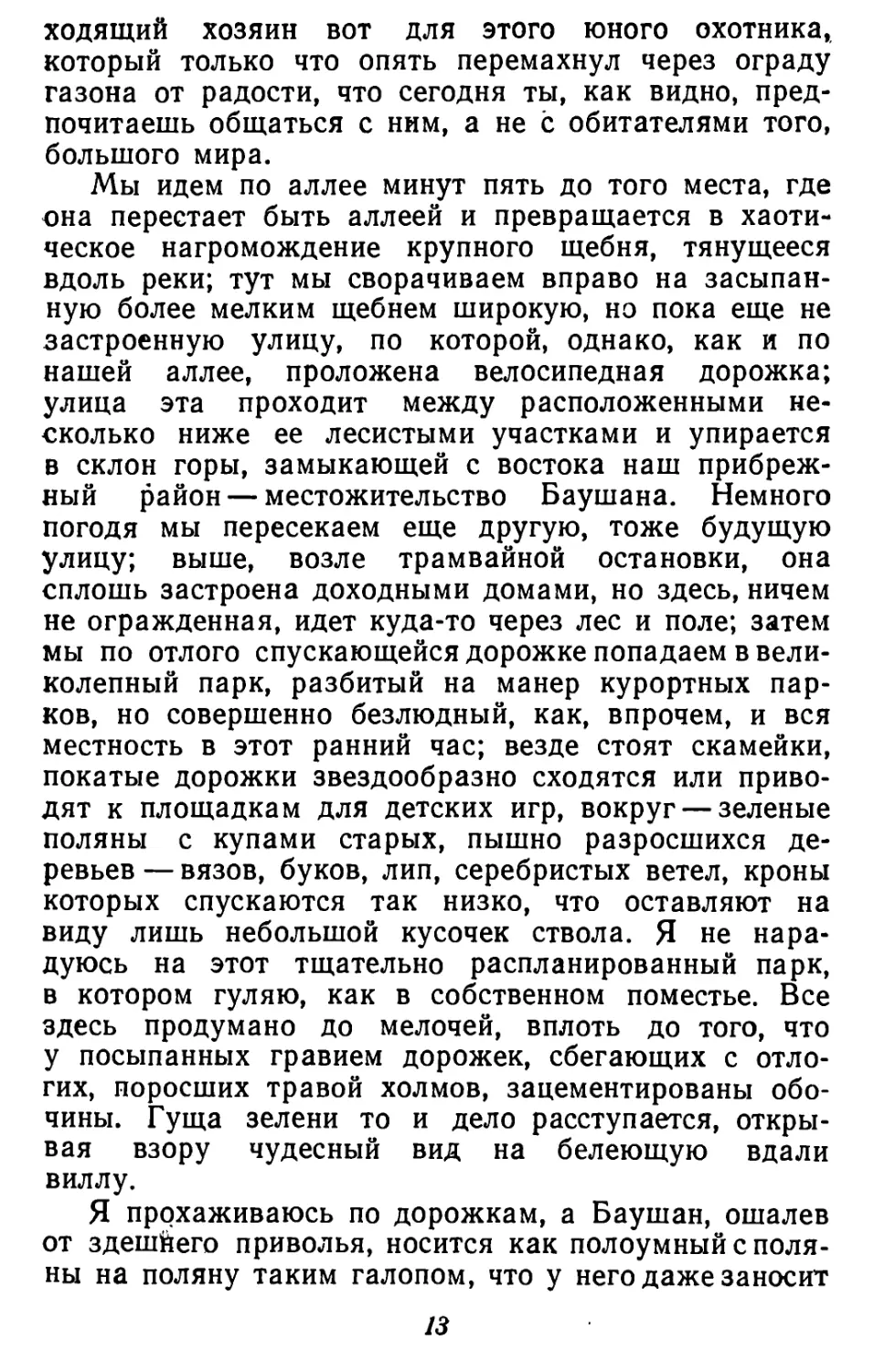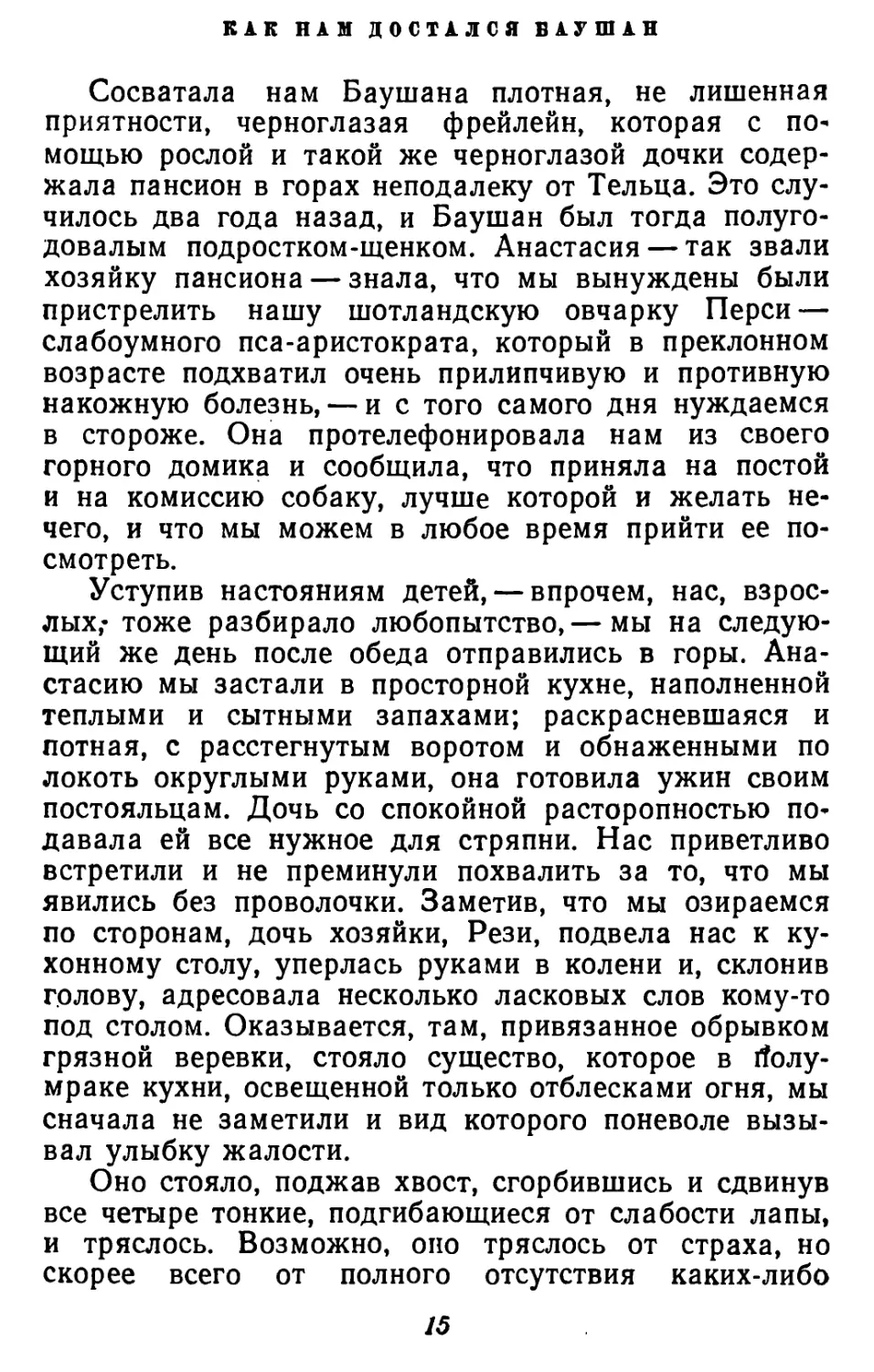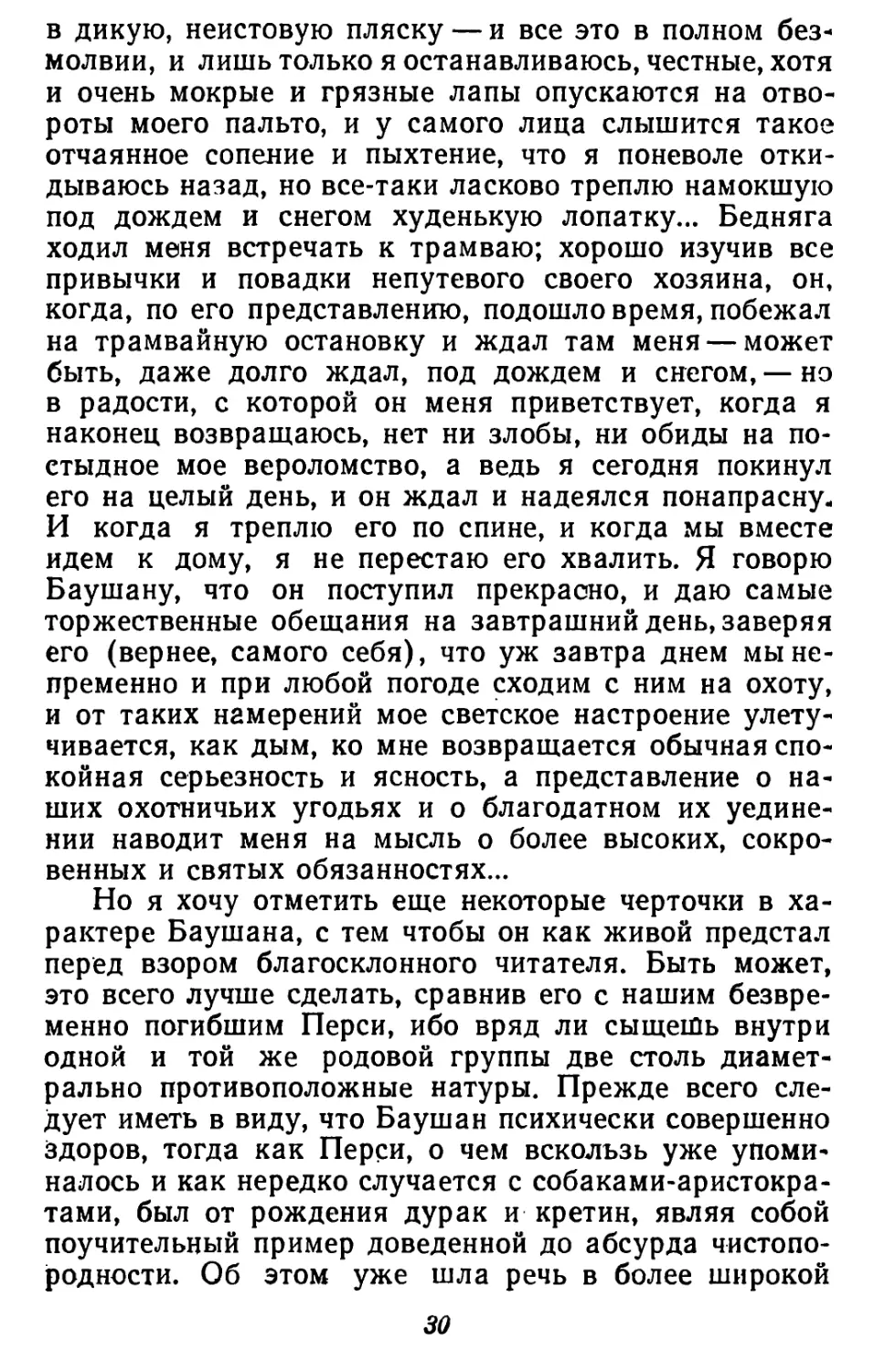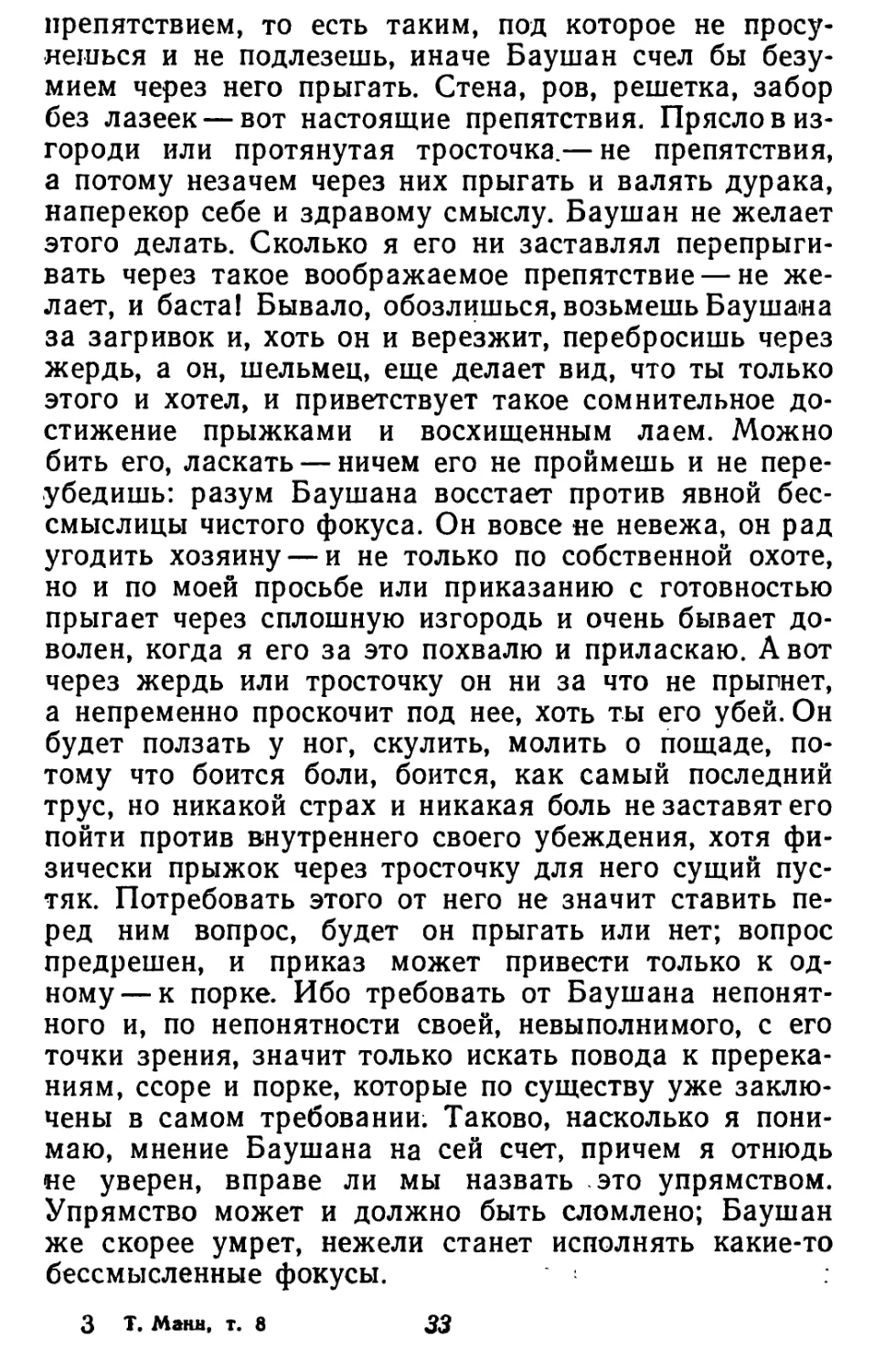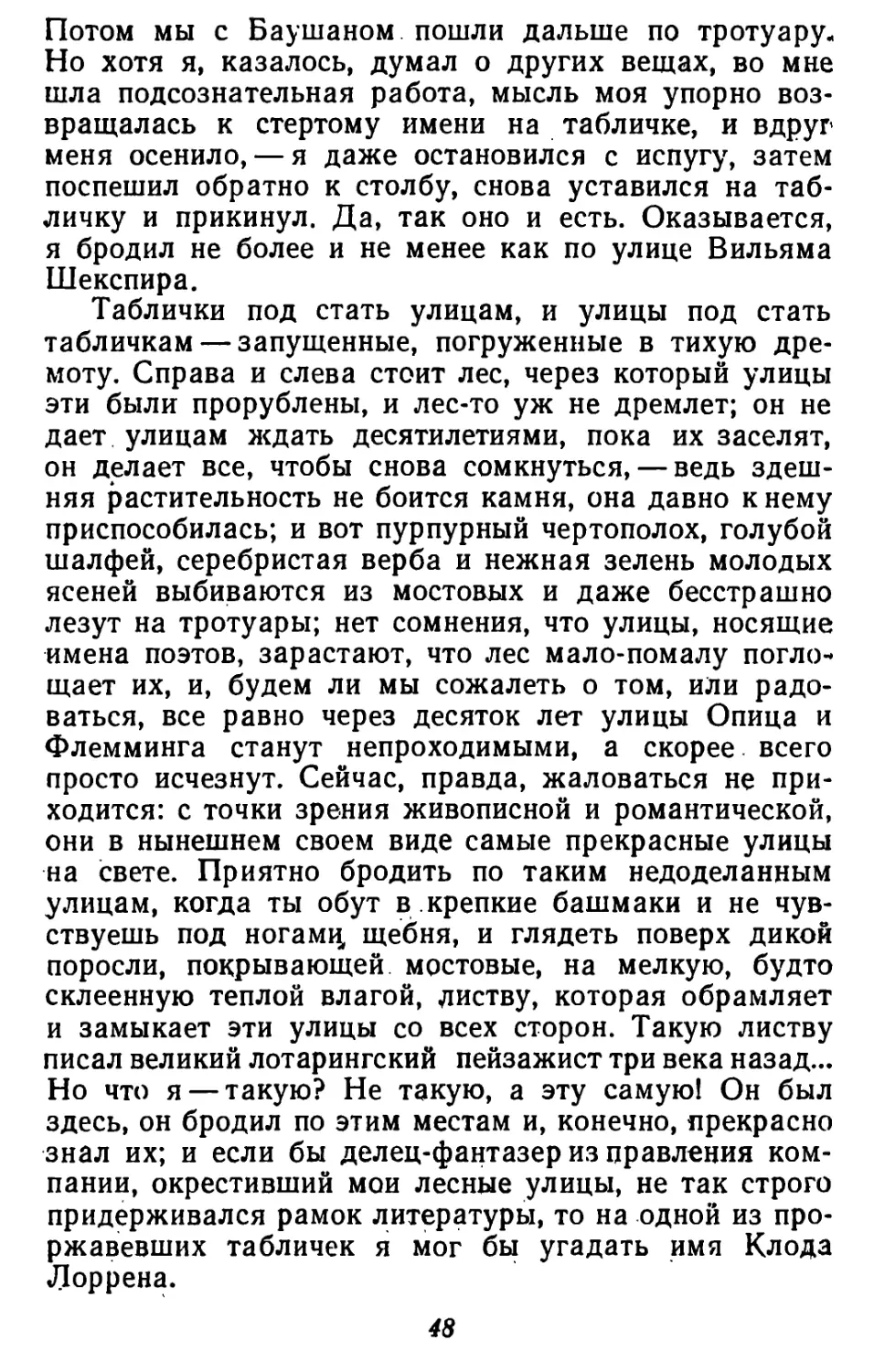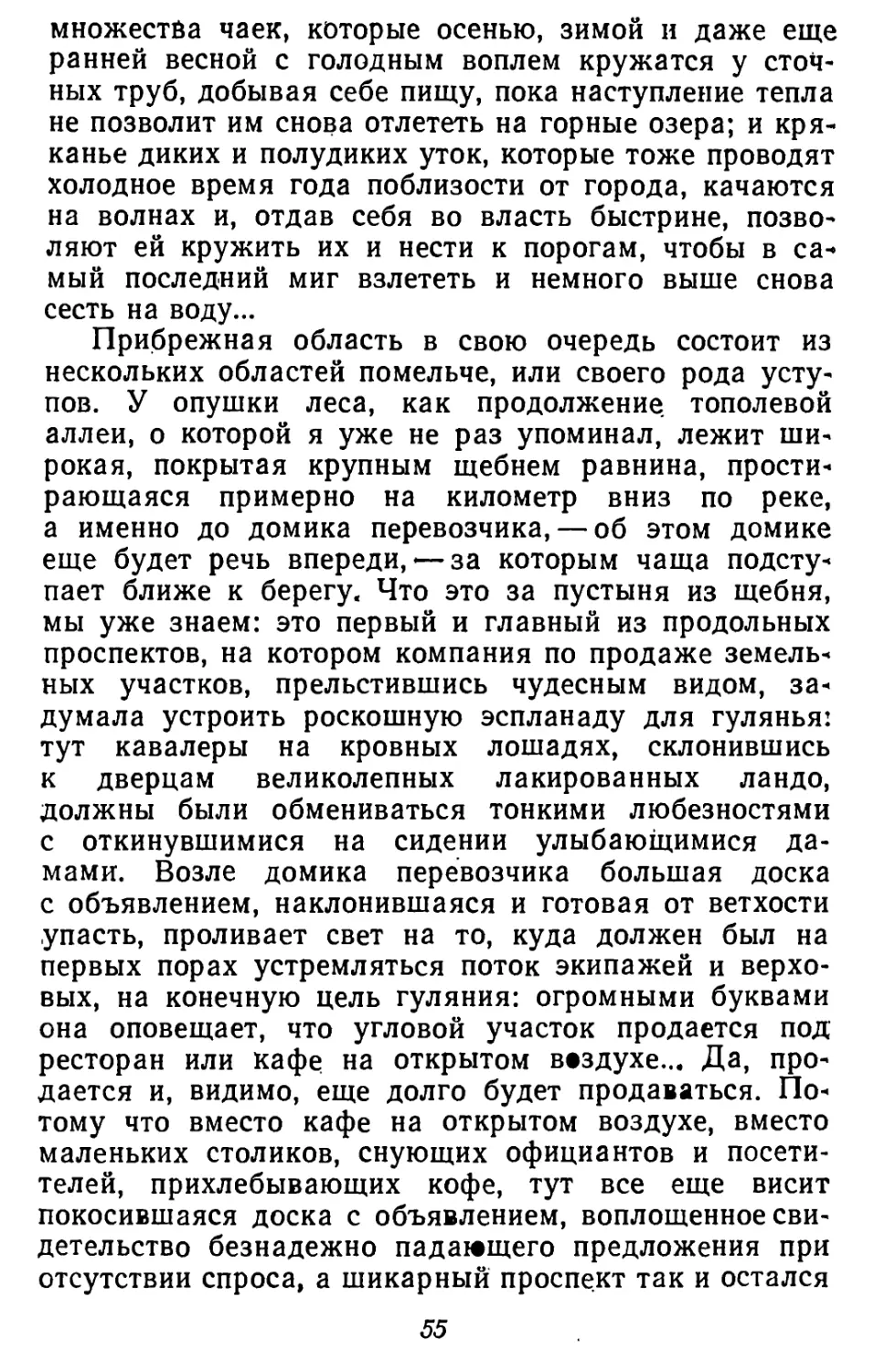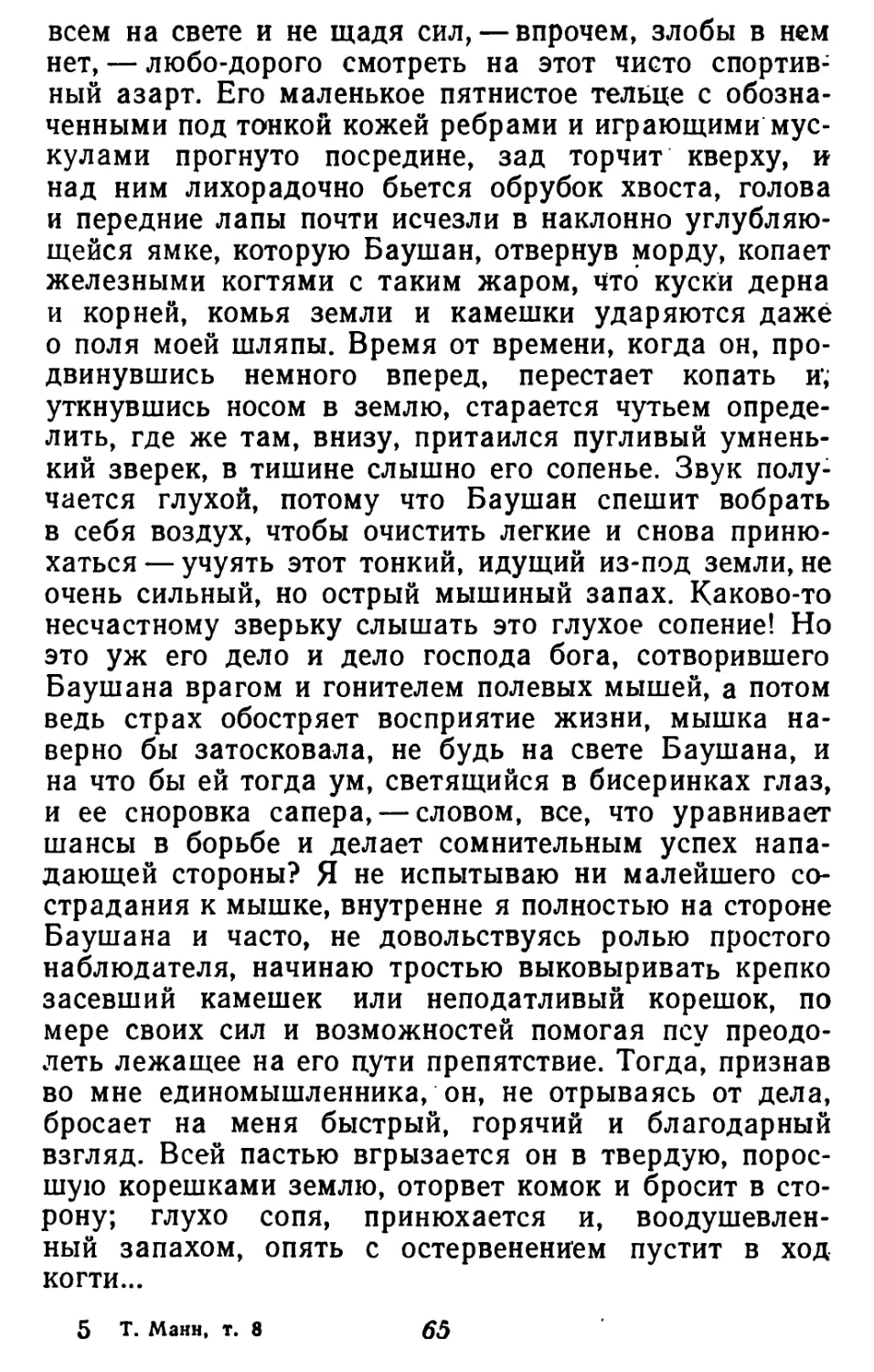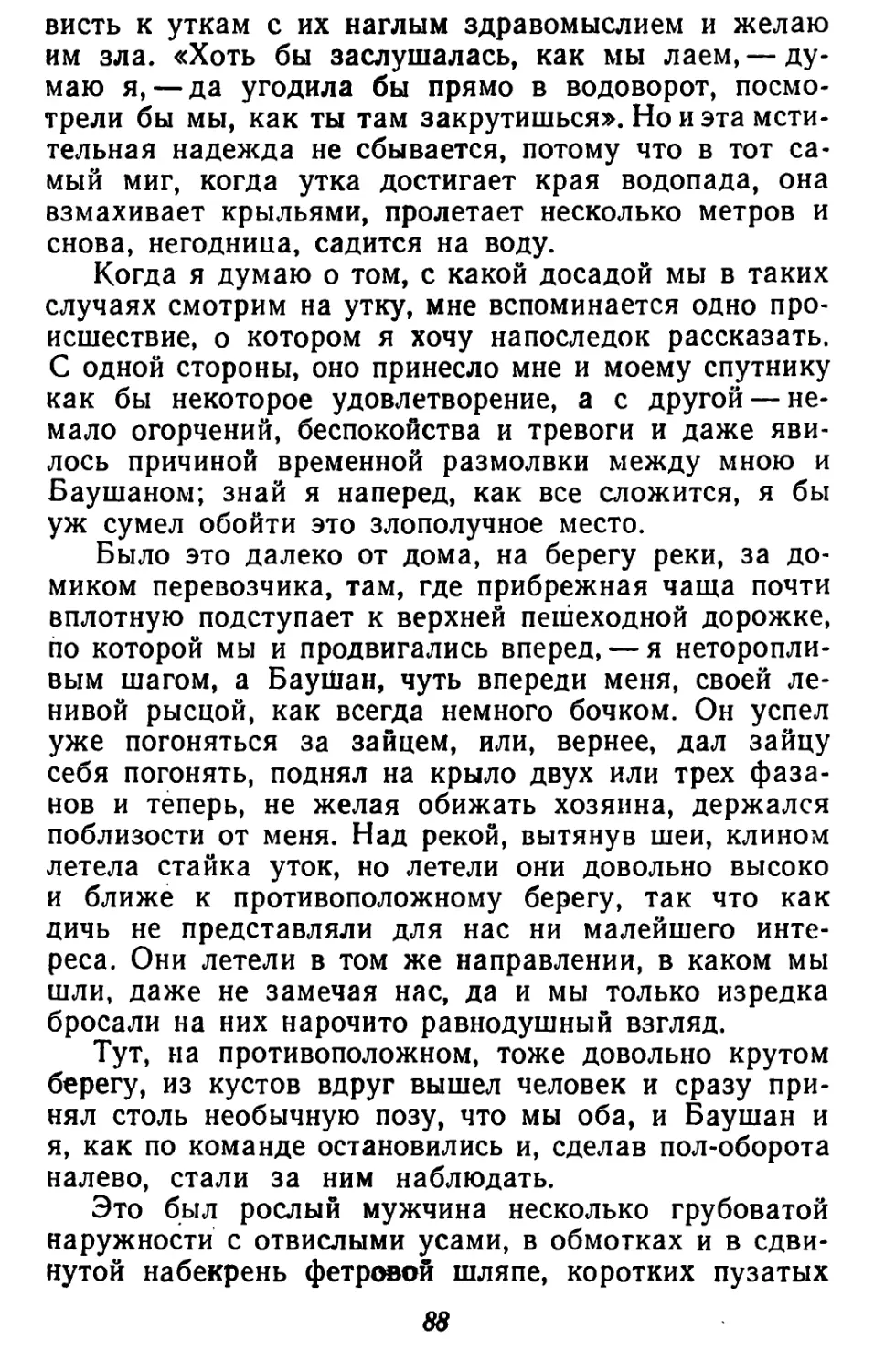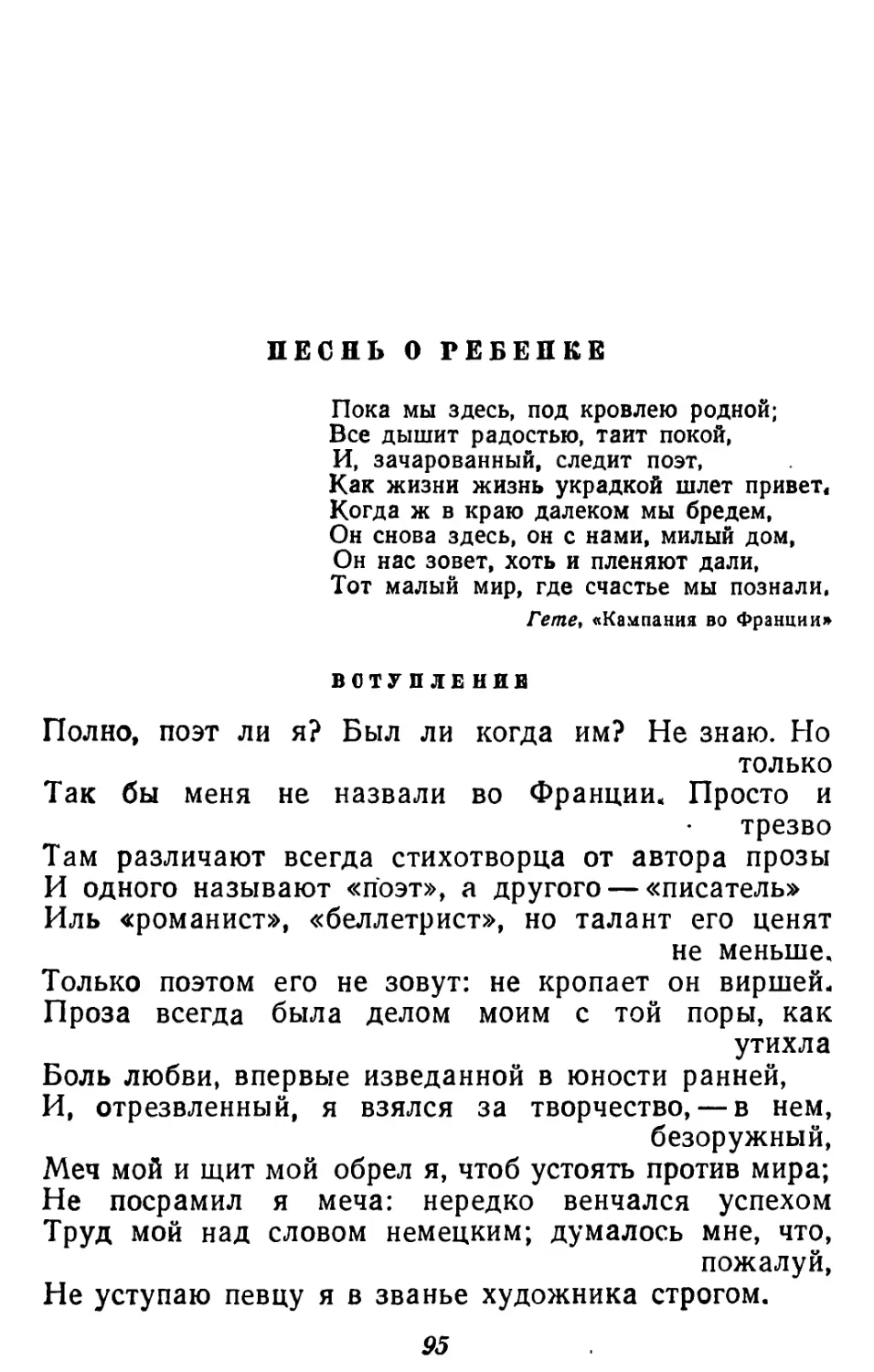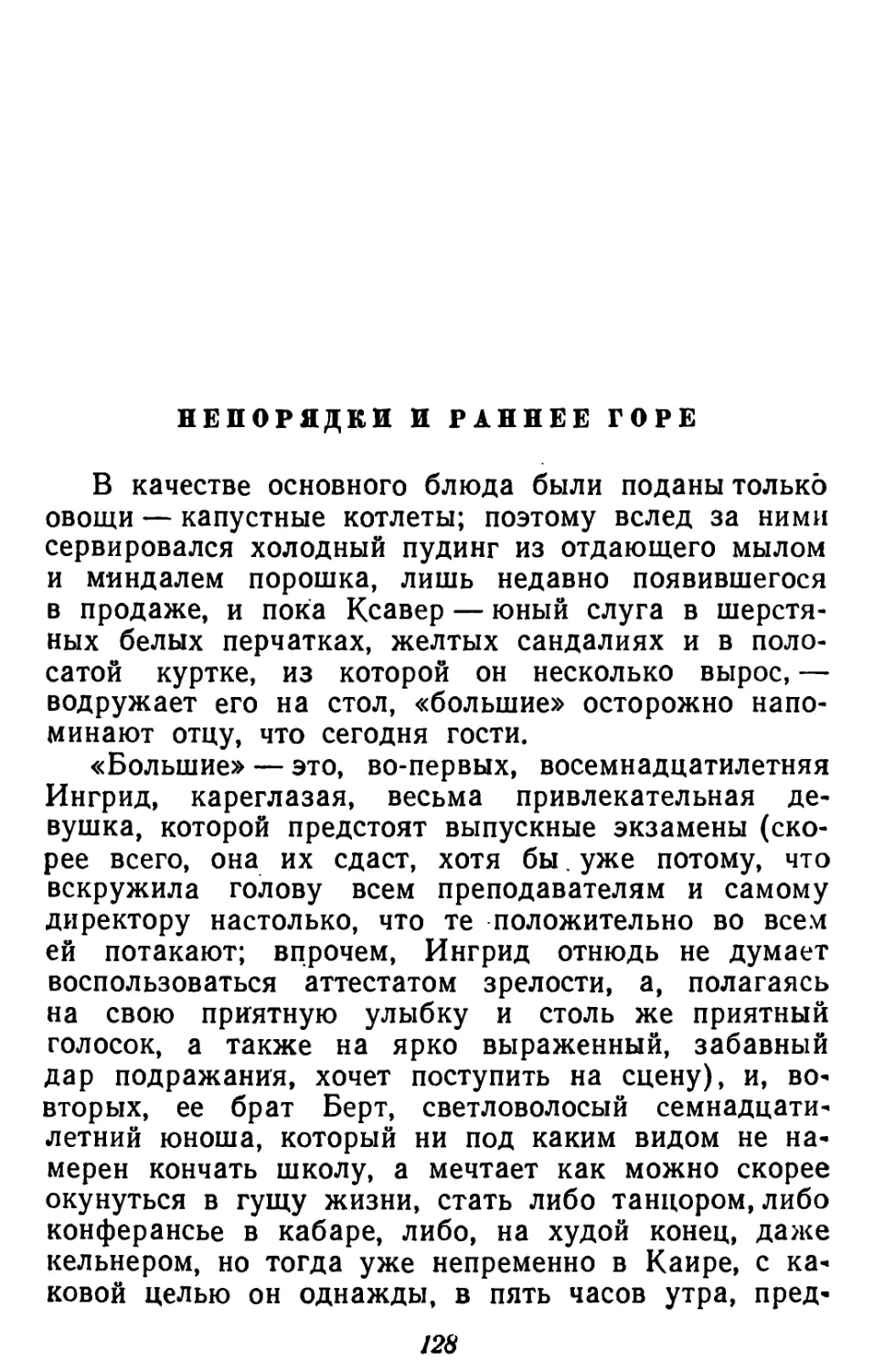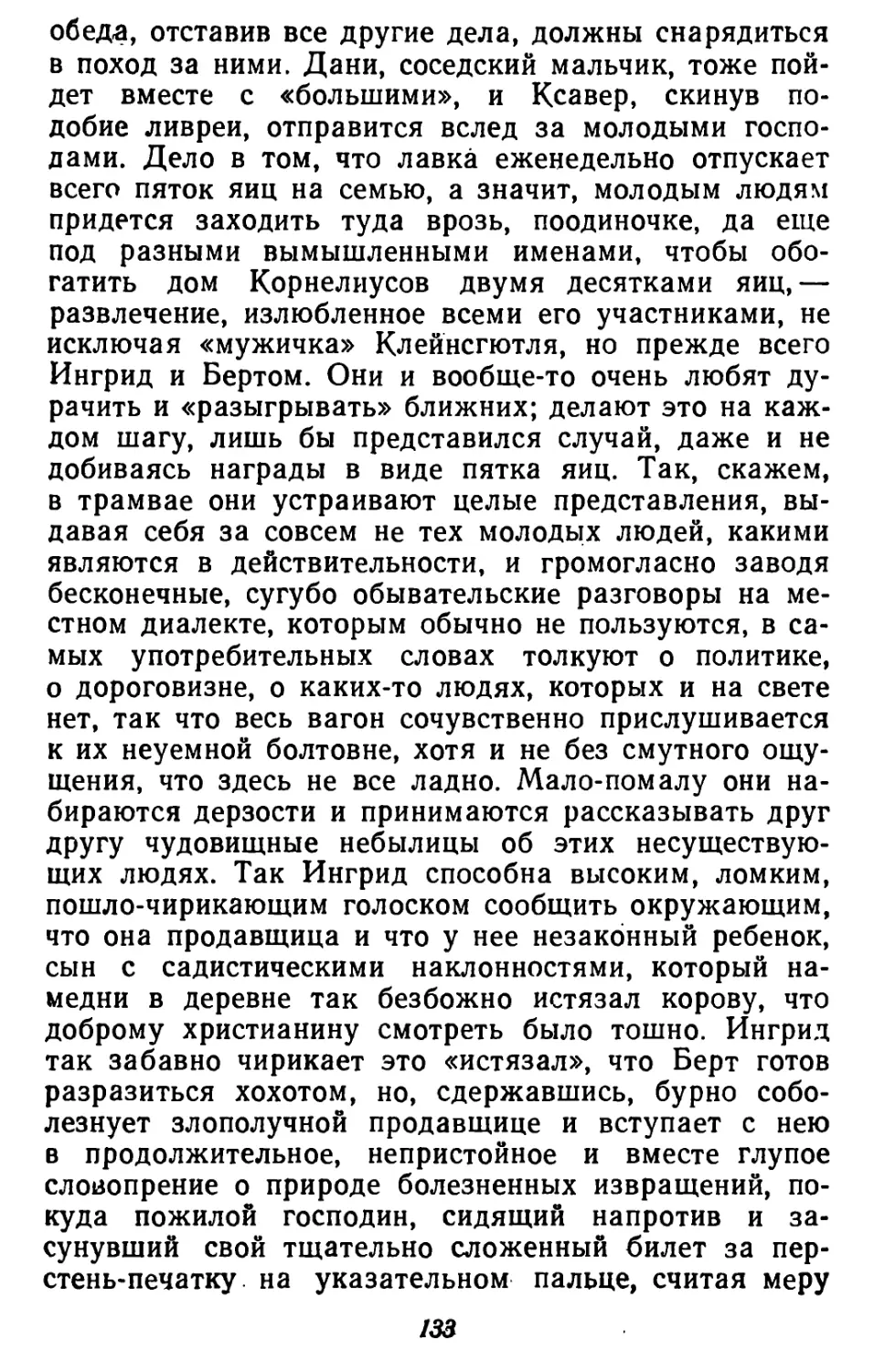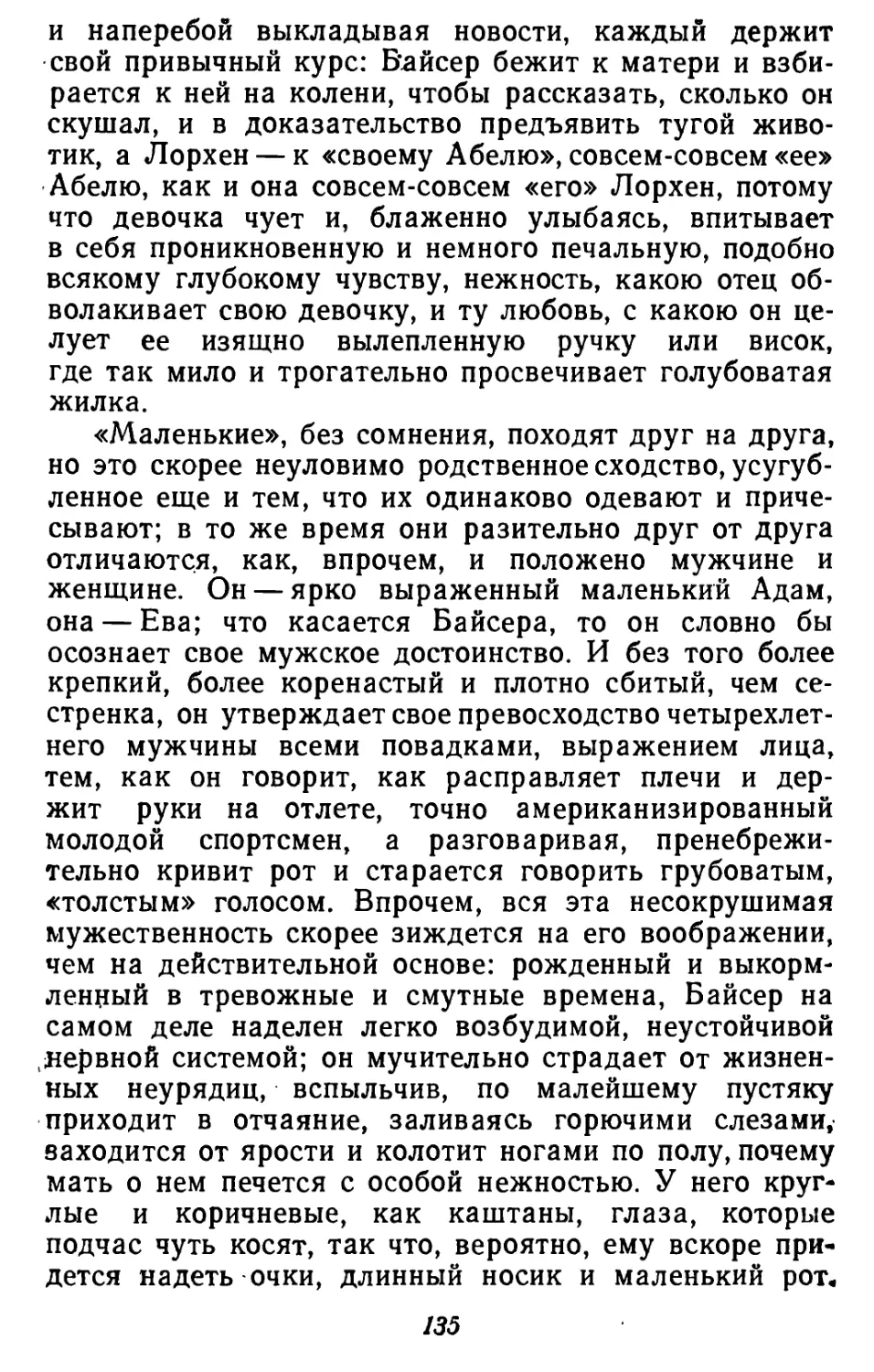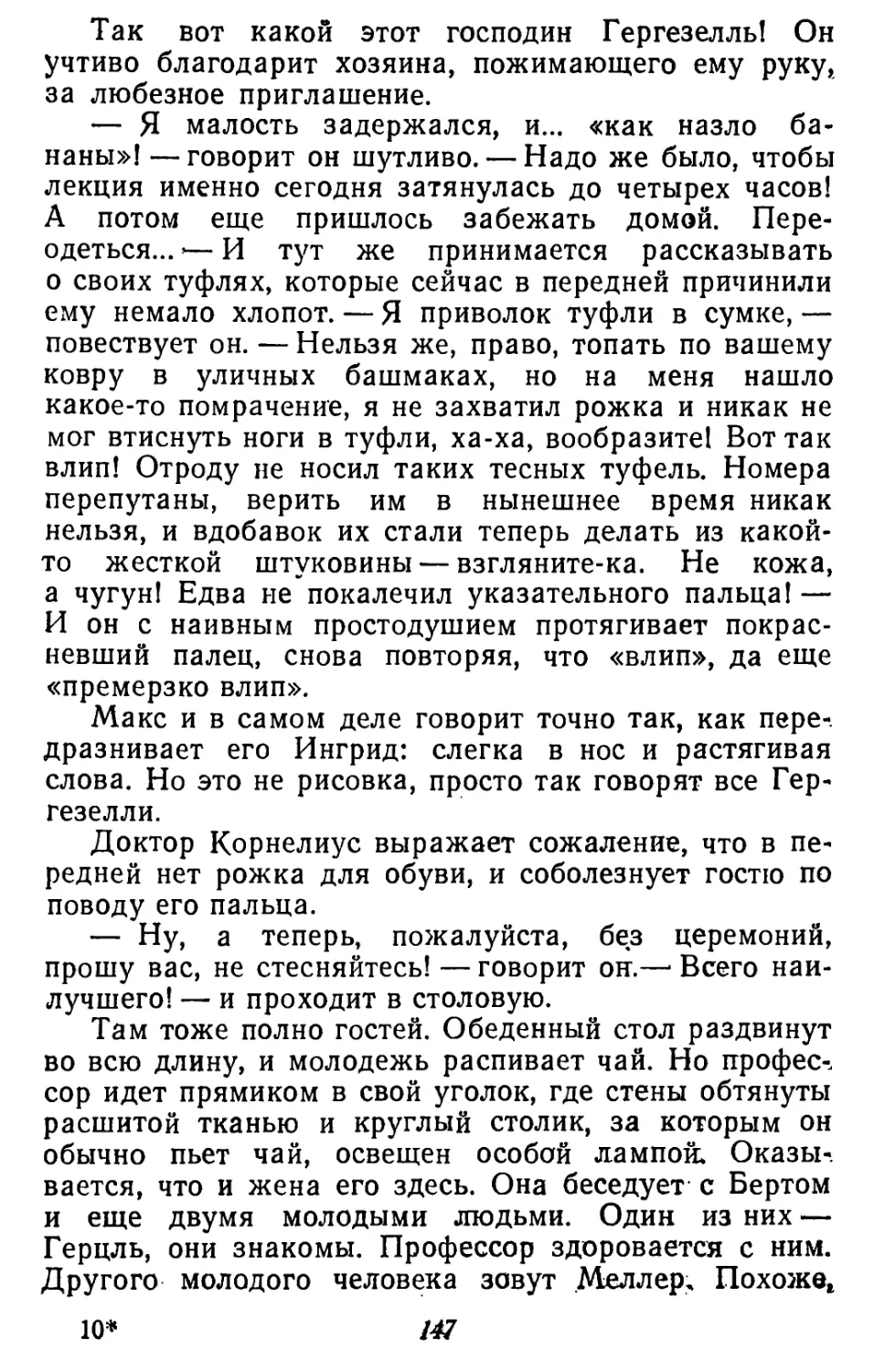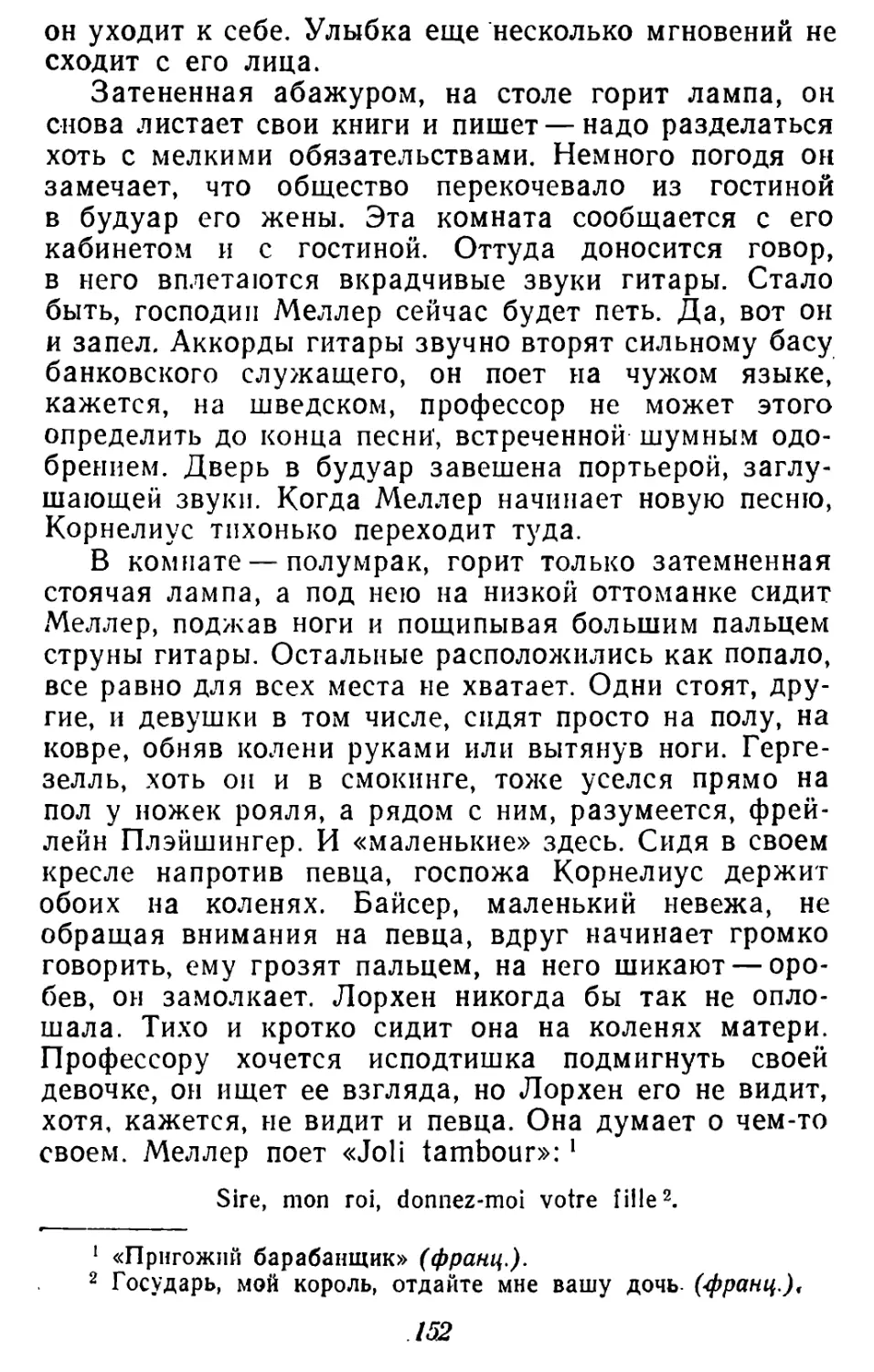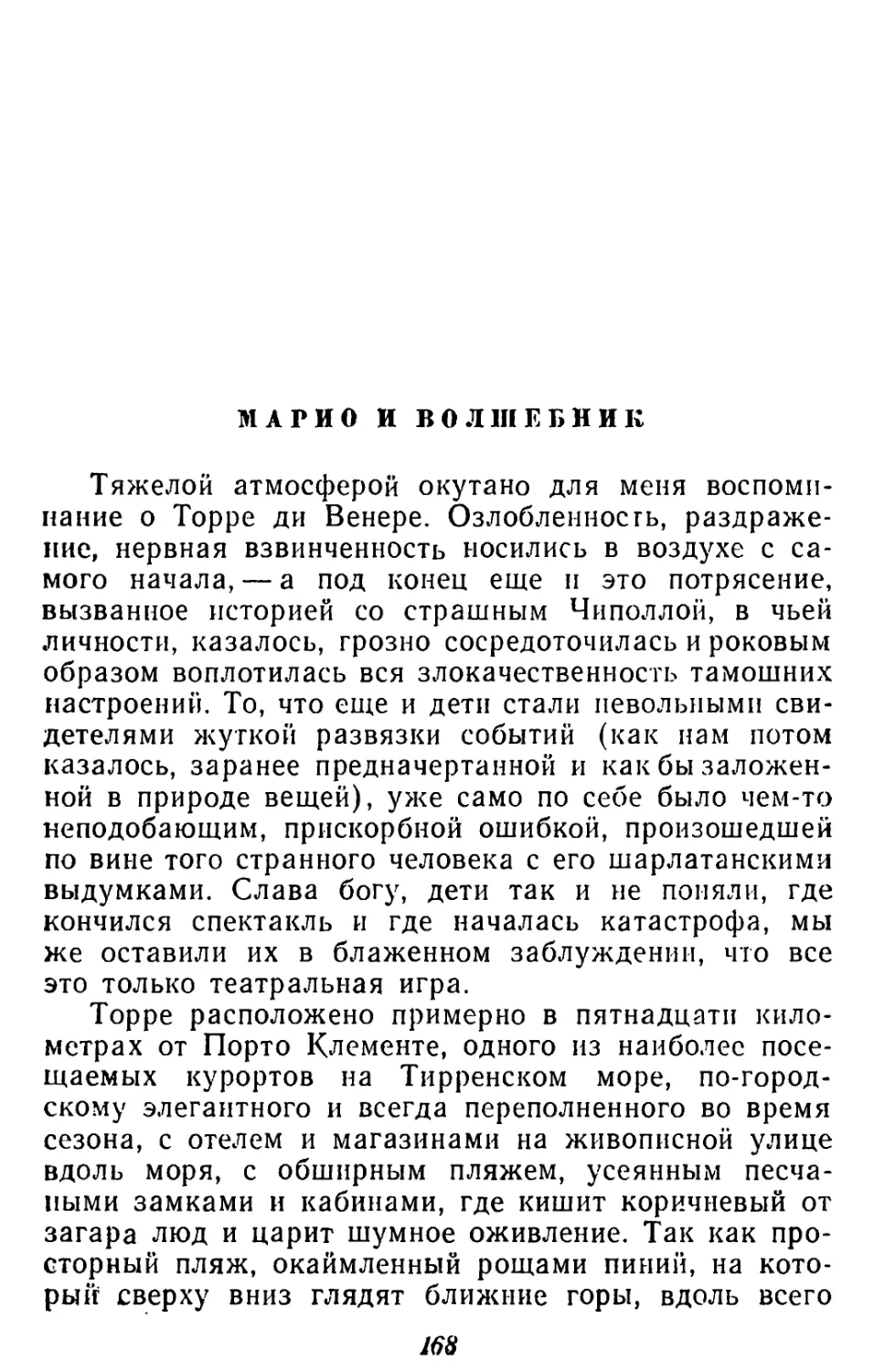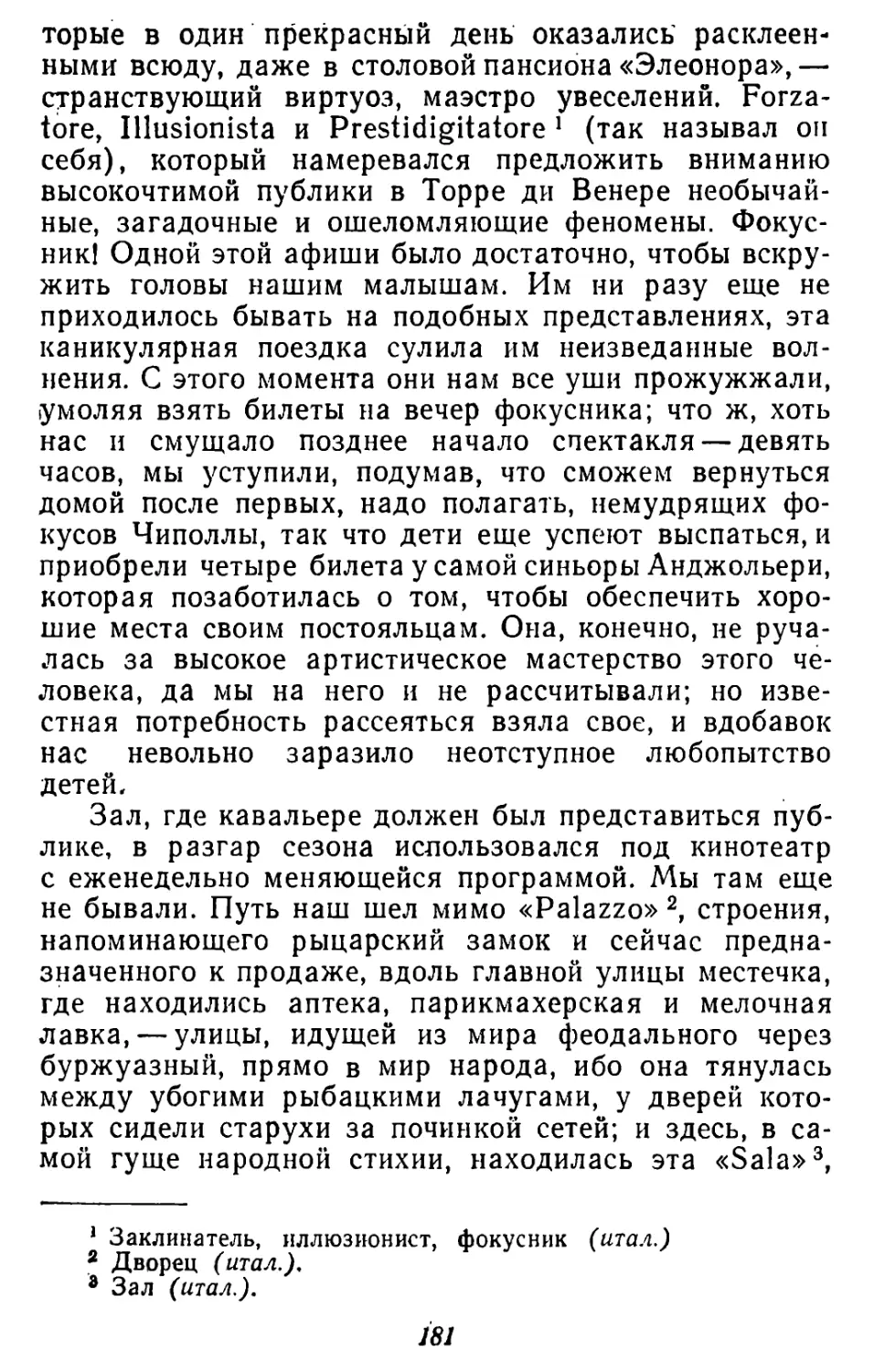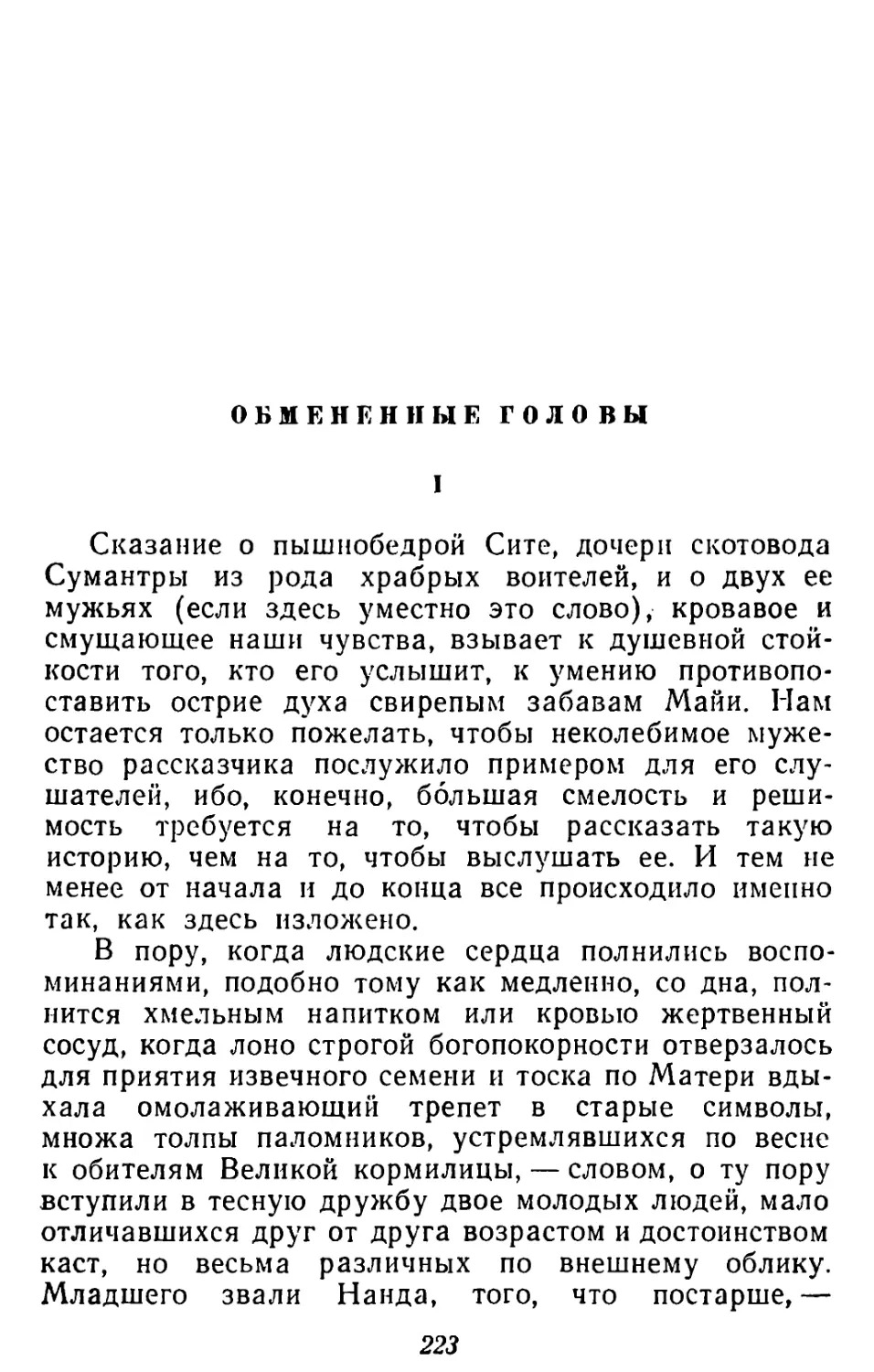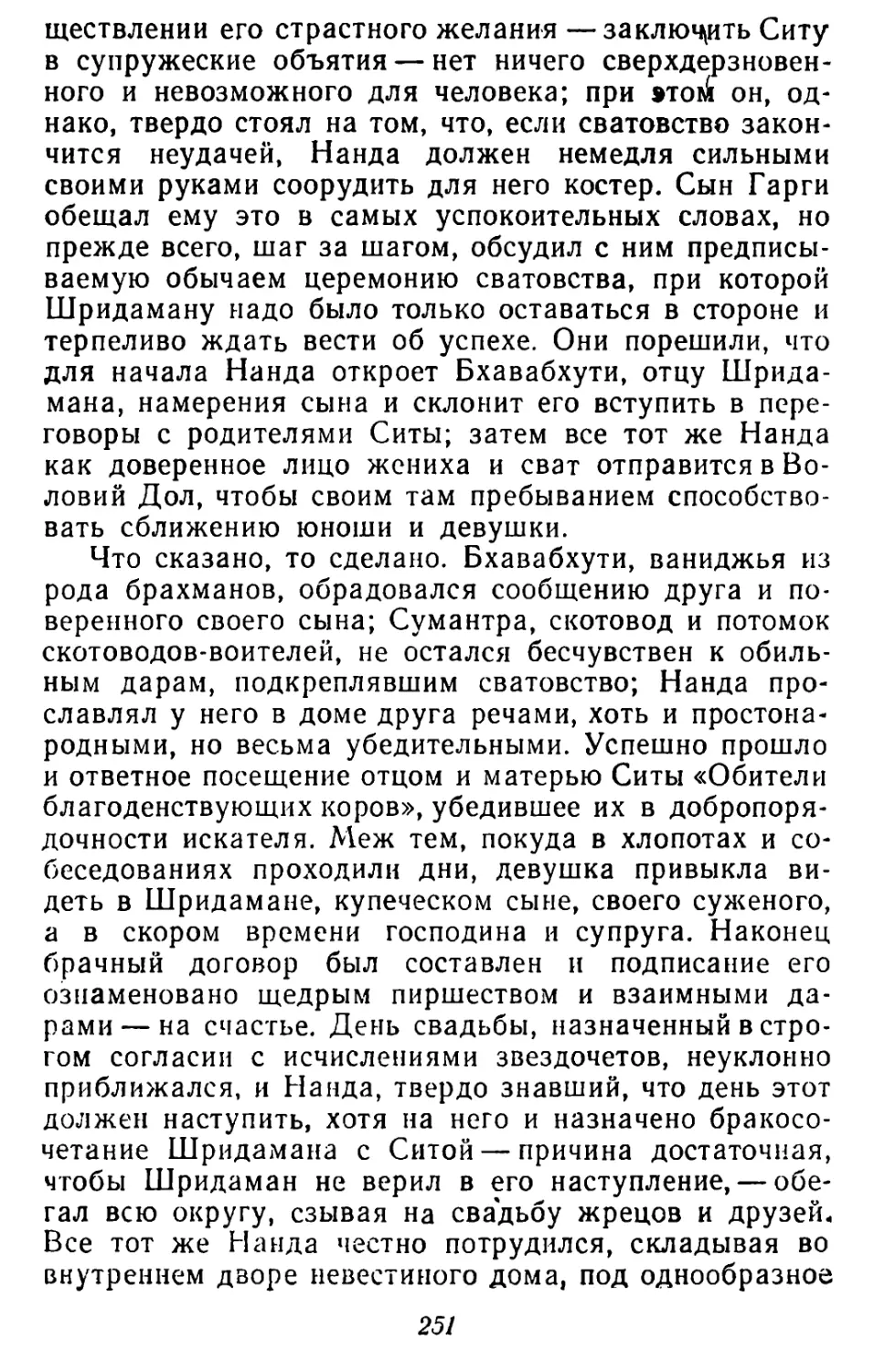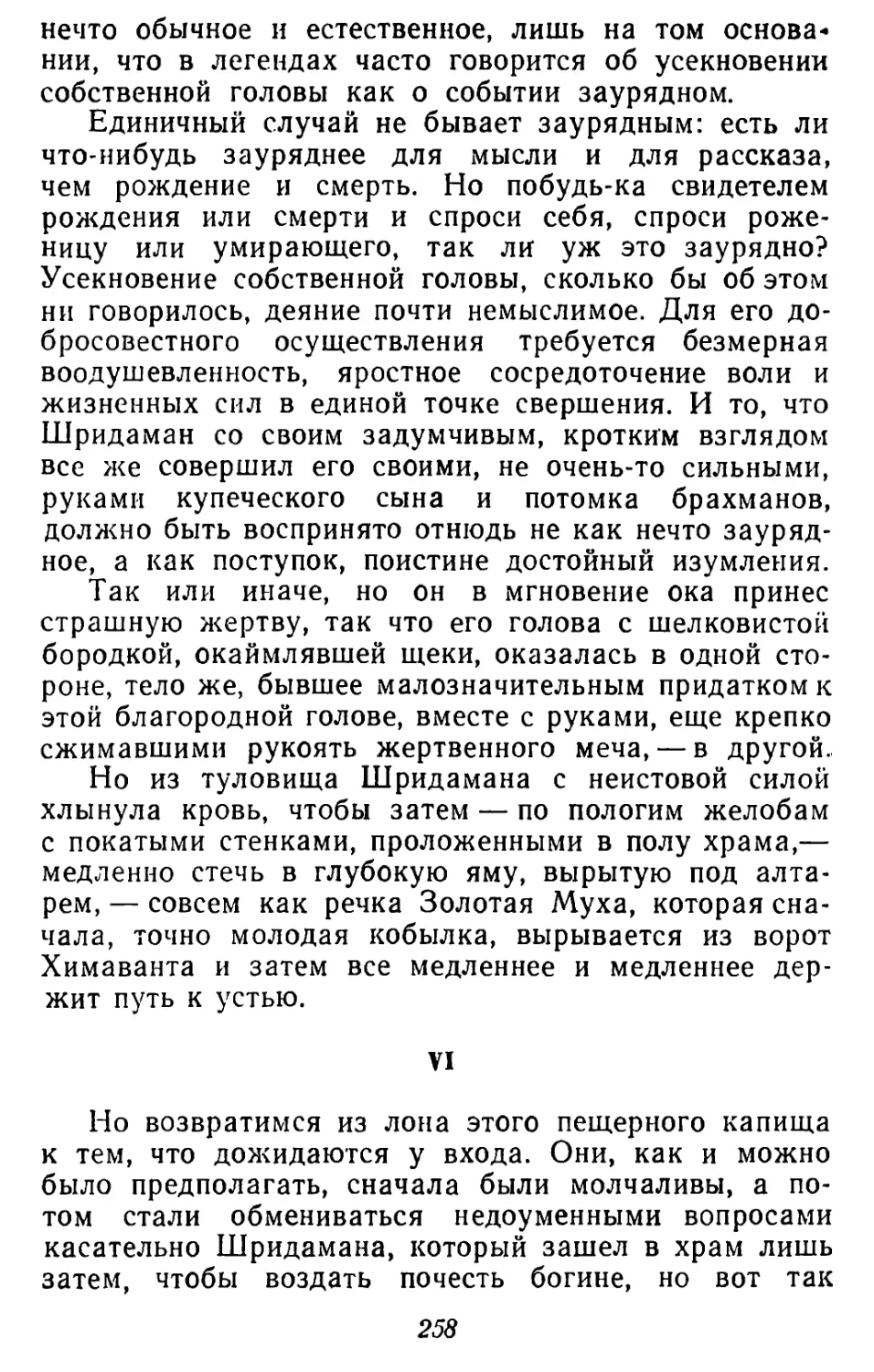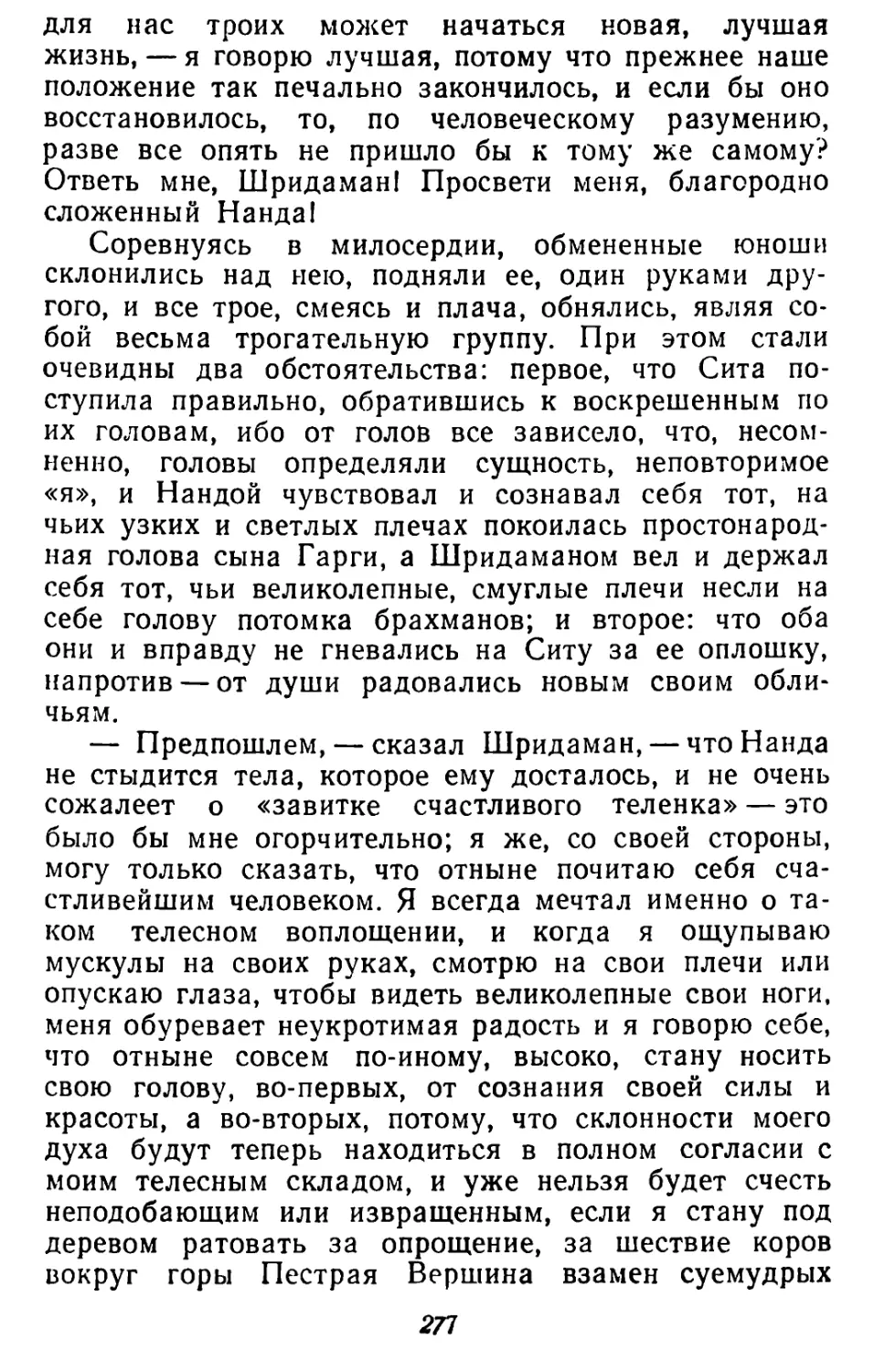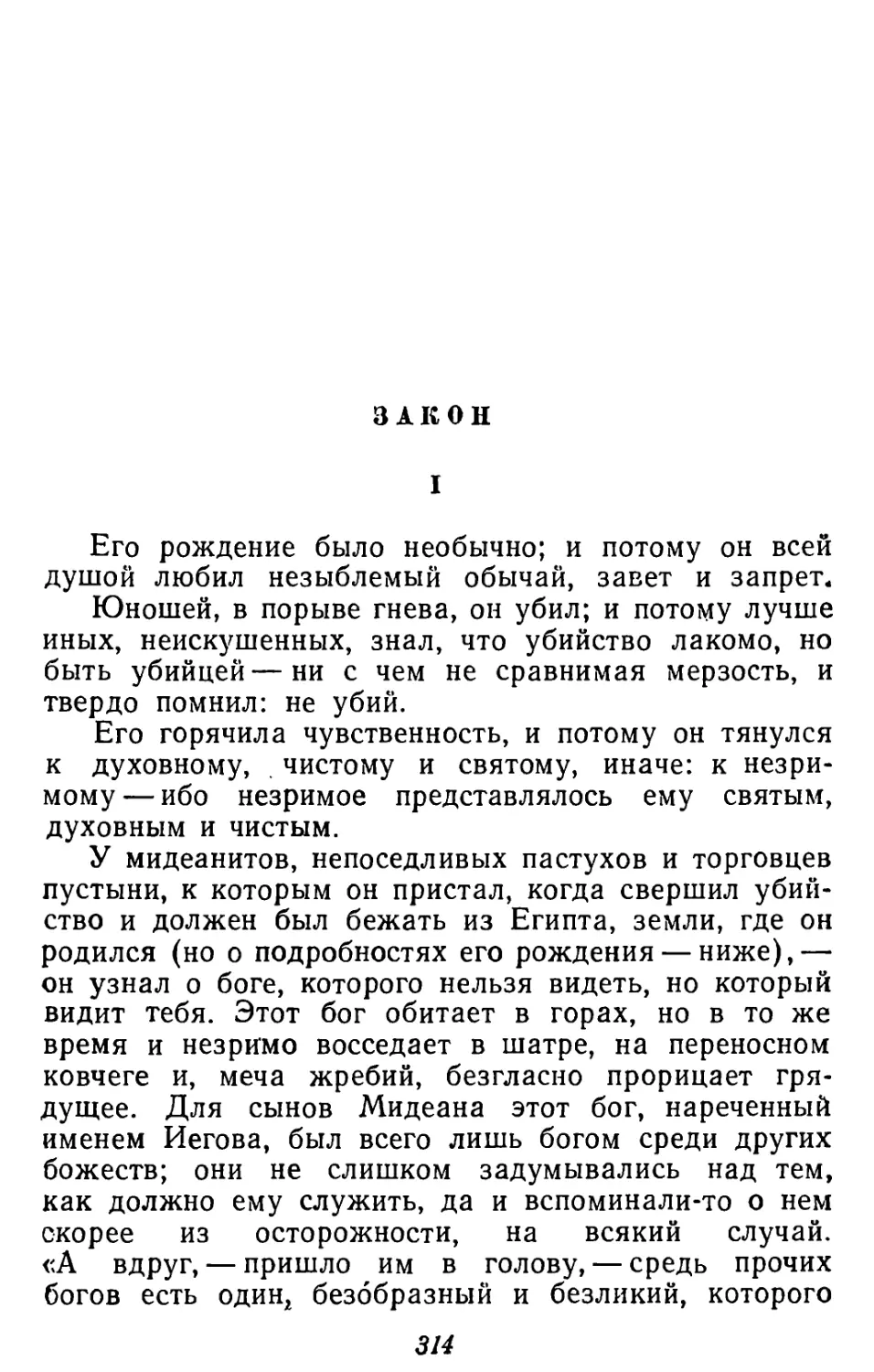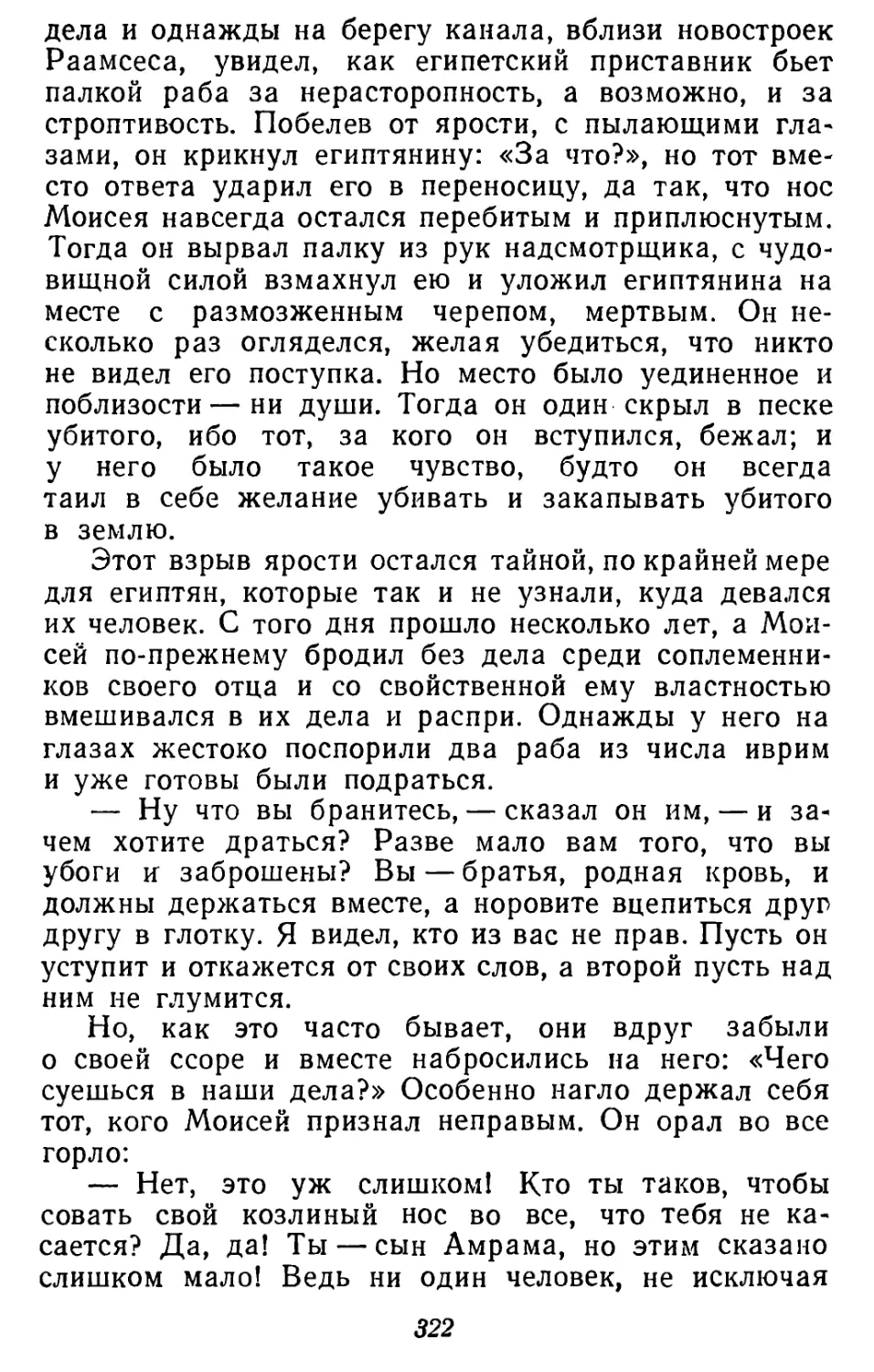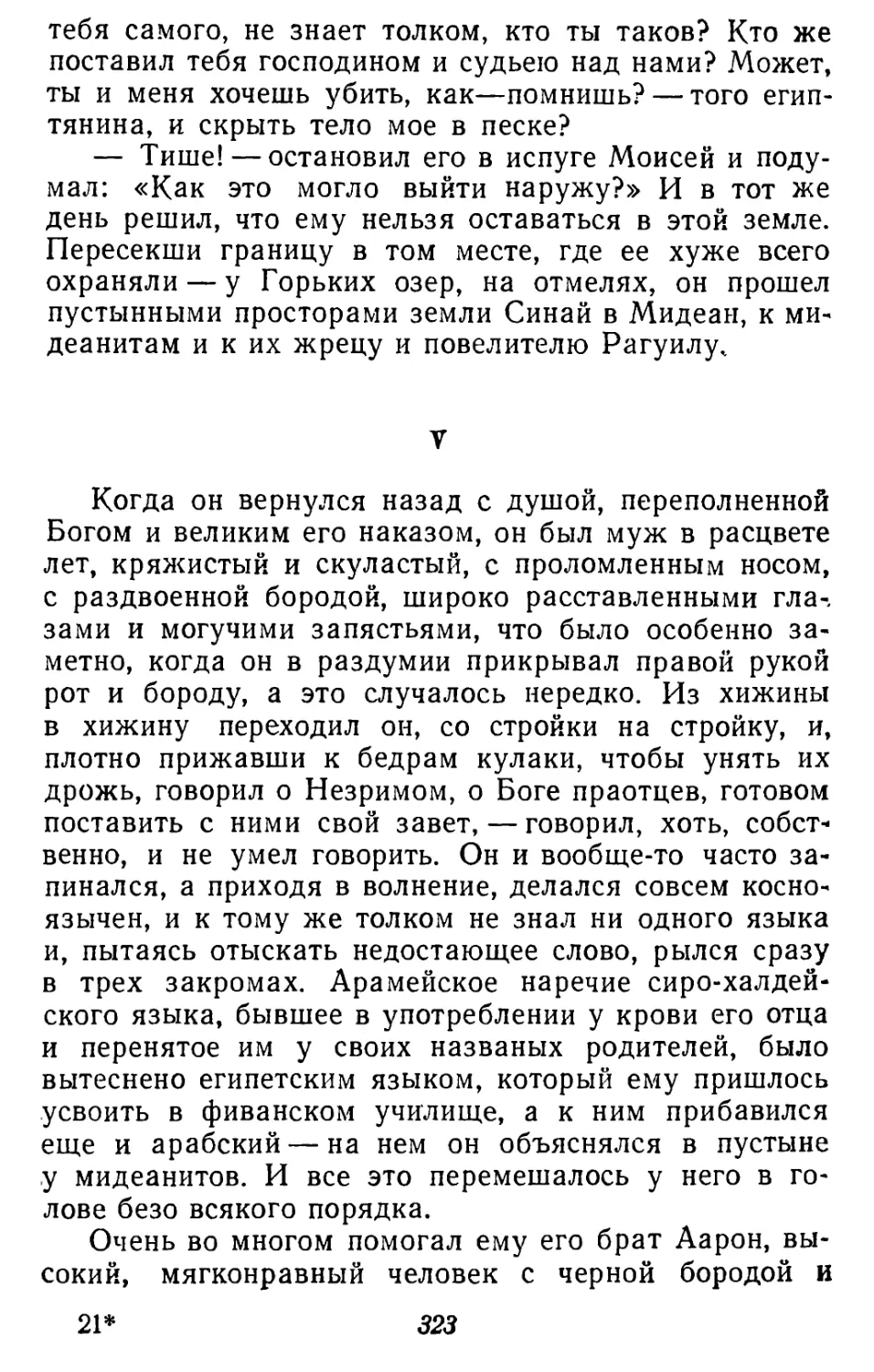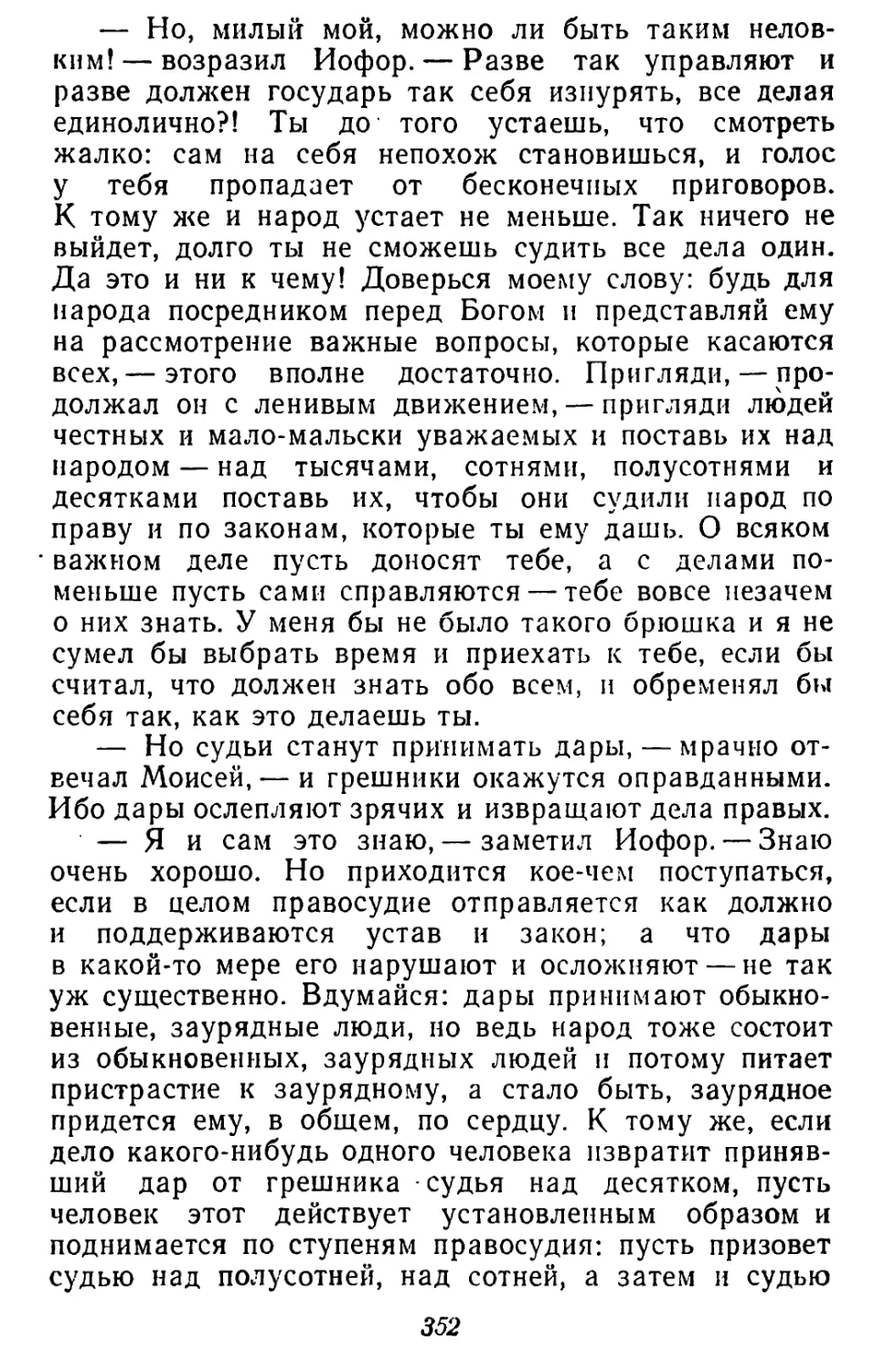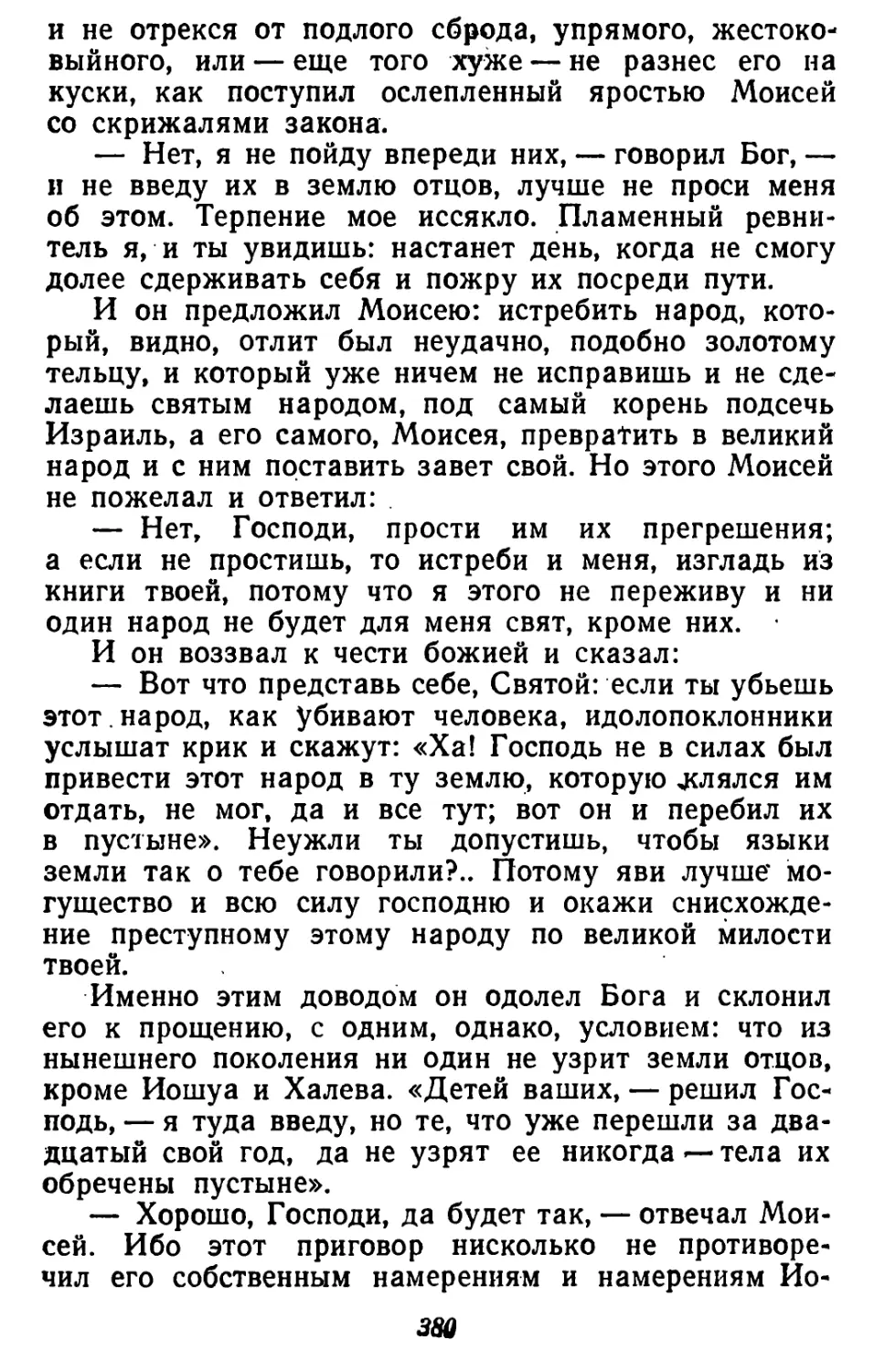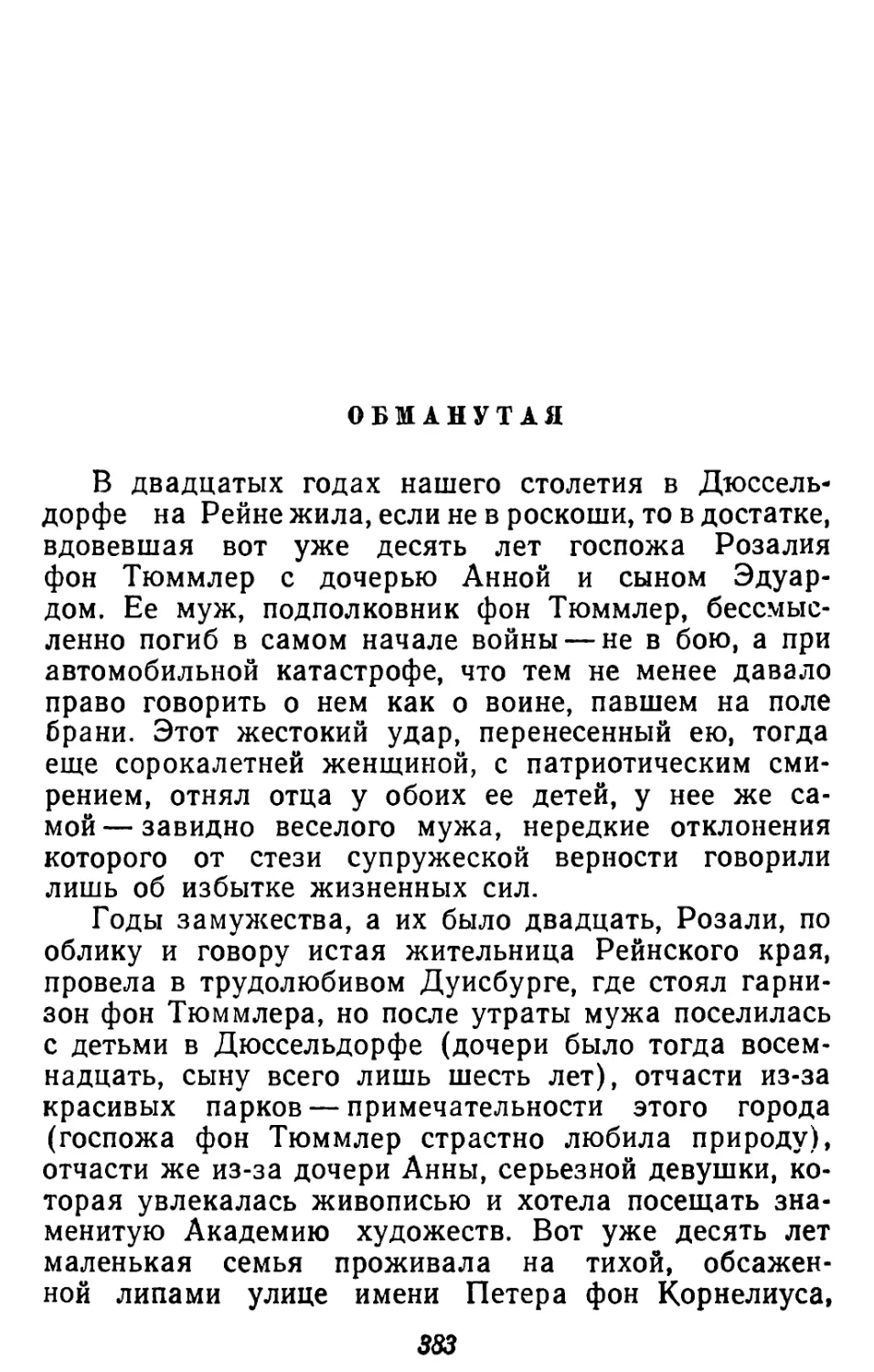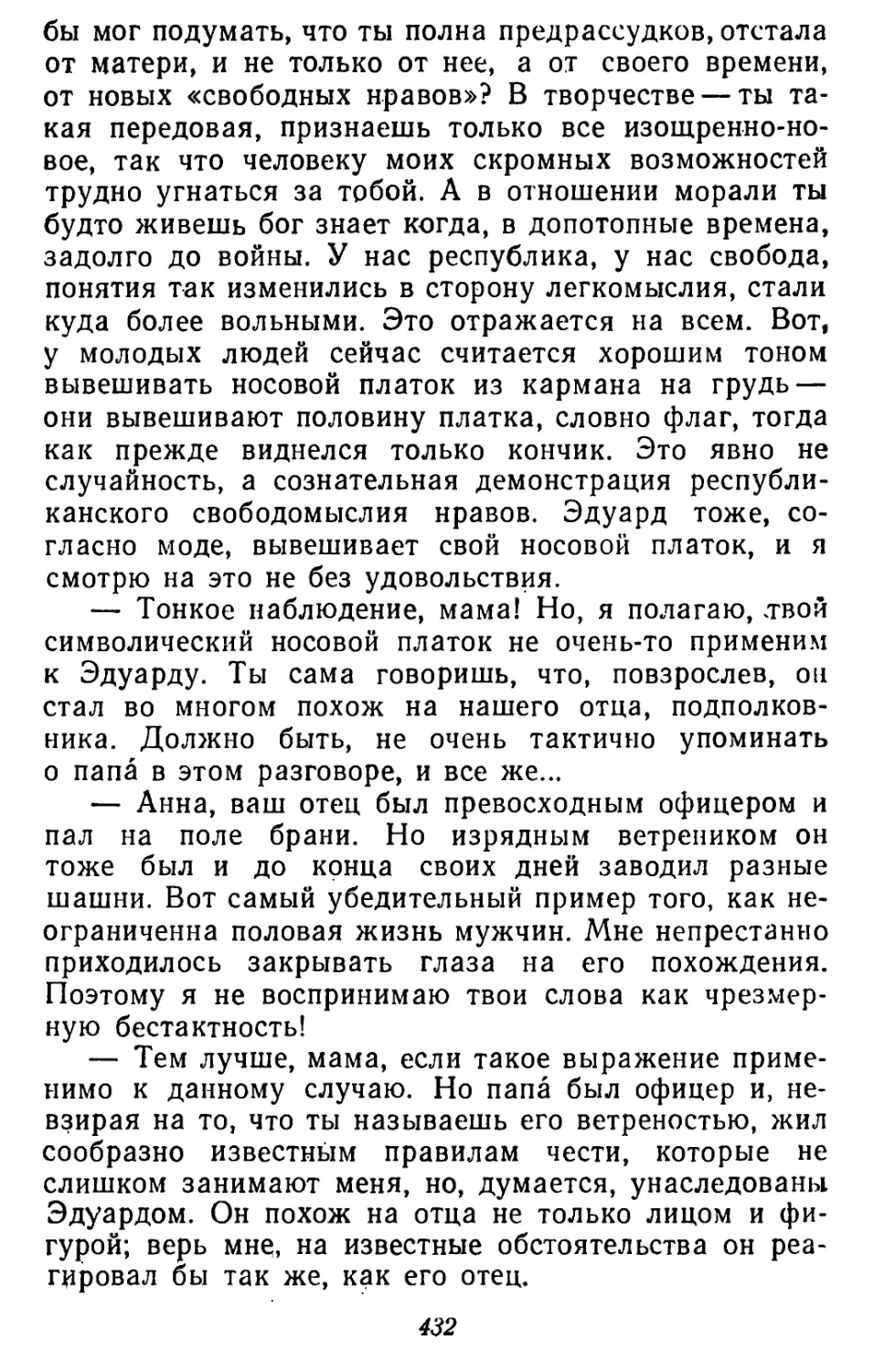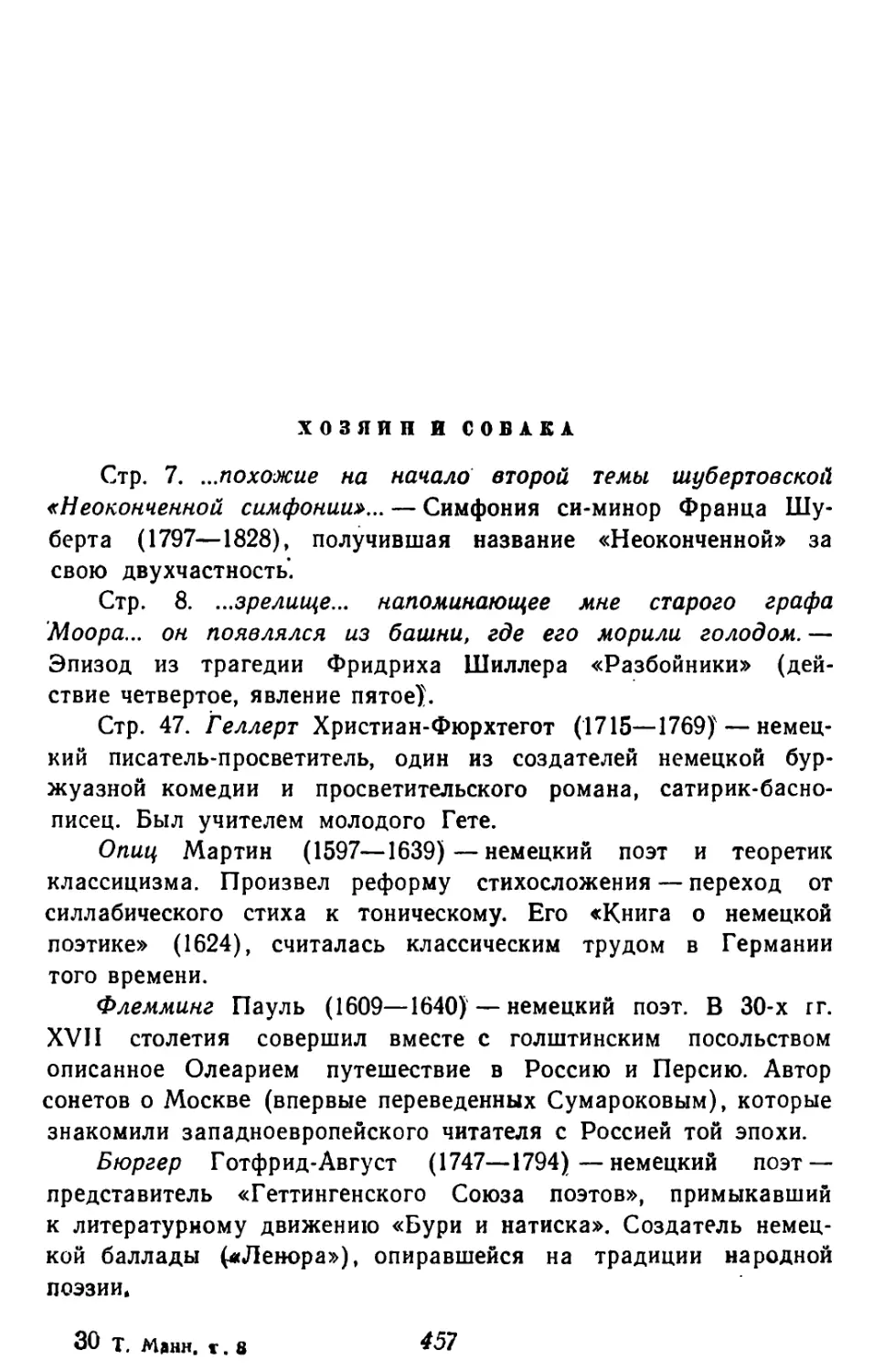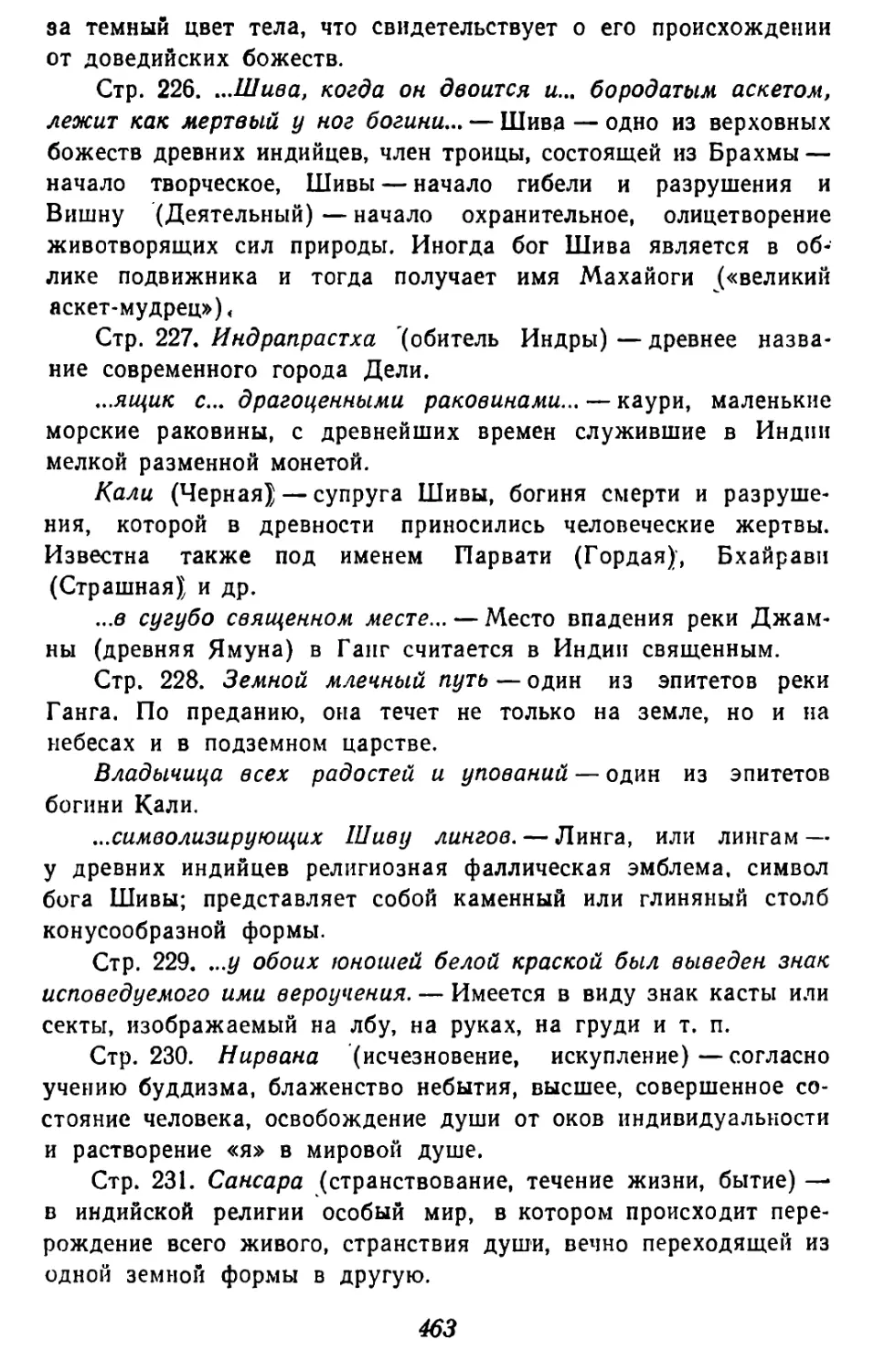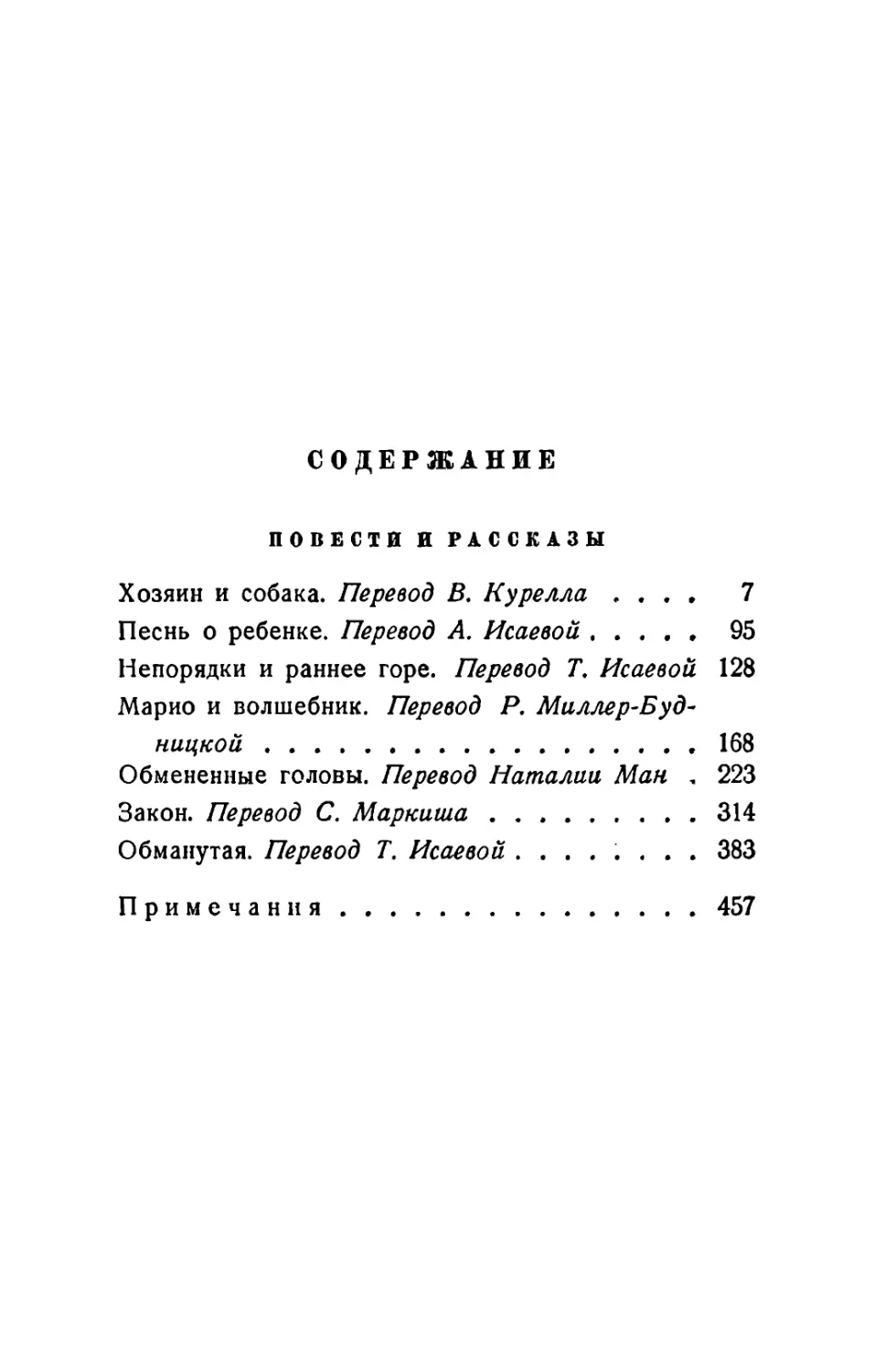Похожие
Текст
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛ ЬСТВ О
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
Л ЙТЕРАТУ Р Ы
МАНН
с о ) i ft -а У ß
coi яЧе-нмм
£ <) <* С Л Hi и
G>
Лод редакцией
H. Н. ВИЛЬМОНТА и Б. Л. СУЧКОВ А
Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москв а 1960
V
Томас
МАНН
Собрание сочинений
том восьмой
ПОВЕСТИ
и
РАССКАЗЫ
Переводы с немецкого
Г осу дарственное изоательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960
THOMAS MANN
ERZÄHLUNGEN
1918-1953
Примечания
Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКОЙ
ПОВЕСТИ
и
РАССКАЗЫ
ХОЗЯИН И СОБАКА
ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ-ЗА УГЛА.
Когда весна и вправду заслуживает наименования
лучшей поры года и я рано просыпаюсь под ликую-
щие трели птиц, потому что накануне вовремя лег,
я люблю еще до завтрака выйти на воздух, без шляпы
погулять по аллее перед домом или пройти в парк —
подышать утренней свежестью и хоть немного насла-
диться ясной чистотой утра, перед тем как уйти с го-
ловой в работу. На ступеньках крыльца я останавли-
ваюсь и свищу, свищу две ноты, тонику и кварту
вниз, похожие на начало второй темы шубертовской
«Неоконченной симфонии», — это сигнал или, если хо-
тите, переложенное на музыку имя из двух слогов.
И в то же мгновенье, пока я иду к калитке, до меня
издалека доносится сперва еле слышное, а потом уже
громкое и явственное позвякиванье, — это жестяной
номерок бьется о металлическую отделку ошейника,
и, обернувшись, я вижу Баушана, который стремглав
огибает дальний угол дома и мчится ко мне во весь
опор, словно задавшись целью непременно сбить меня
с ног. От напряжения у него отвисла нижняя губа,
и зубы сверкают ослепительной белизной в ярком ут-
реннем солнце.
Он примчался из своей конуры, которая устроена
с другой стороны дома под полом стоящей на стол-
бах веранды, где скорее всего дремал после беспо-
койно проведенной ночи, пока мой двойной свист не
7
заставил его встрепенуться. Конура закрыта зана-
весками из дерюги и устлана соломой, отчего в шер-
сти Баушана, и без того несколько взъерошенной от
лежания, и между когтями лап почти всегда торчат
соломинки, — зрелище, всякий раз напоминающее мне
старого графа Моора, каким я однажды видел его
в чрезвычайно натуралистической постановке: он по-
являлся из башни, где его морили голодом, еле во-
лоча «босые» ноги в розовом трико с торчащей между
пальцами соломой. Я невольно становлюсь боком
к мчащемуся на меня Баушану — занимаю, так ска-
зать, оборонительную позицию, ибо его очевидное на-
мерение кинуться мне под ноги и повалить на землю
неизменно вводит меня в заблуждение. Однако в по-
следнюю секунду, когда Баушан уже, кажется, вот-
вот налетит на меня, он вдруг резко тормозит и
сворачивает в сторону, что свидетельствует о его уме-
нии великолепно владеть как собой, так и своим те-
лом; и тут в полном молчании — Баушан не часто
пользуется своим звучным и выразительным голо-
сом— он начинает кружиться вокруг меня в какой-
то неистовой приветственной пляске, в которой при-
топтывания сменяются безумными виляниями не
только предназначенного к тому самой природой хво-
ста, но захватывают в страстном порыве и заднюю
часть туловища до ребер, переходят в винтообраз-
ные движения всего тела, замысловатые прыжки
в воздухе и повороты вокруг собственной оси; но Бау-
шан почему-то упорно пытается скрыть это представ-
ление от моего взора, так что, куда бы я ни повер-
нулся, он всегда оказывается за моей спиной. Од-
нако стоит мне только нагнуться и протянуть руку,
как Баушан одним прыжком уже подле меня и, при-
слонившись плечом к моему колену, застывает как
изваяние; он стоит, прижавшись ко мне всем боком,
упершись крепкими лапами в землю, и, запрокинув
морду, снизу вверх глядит мне в лицо; в сосредото-
ченном внимании, с каким он прислушивается к лас-
ковым словам, которые я бормочу, хлопая его по ло-
патке, чувствуется не меньшая сила страсти, чем
в прежних его бурных изъявлениях восторга.
8
Баушан — короткошерстная немецкая легавая,
если отнестись к такому определению не слишком
придирчиво, а принять его с должной крупицей юмора,
ибо если разобрать Баушана по косточкам, или, как
полагается говорить, по статям, то его вряд ли можно
отнести к чистокровным представителям этой породы.
Прежде всего Баушан мал, он, надо прямо сказать,
значительно меньше обычных подружейных легавых,
и потом передние лапы у него чуточку кривоваты, что
тоже не вполне соответствует признанному идеалу.
Некоторая склонность к «подгрудку», то есть к меш-
кообразным складкам кожи под шеей, которые при-
дают собачьей осанке особую величавость, чрезвы-
чайно красит Баушана, но и это с точки зрения ревни-
телей собаководства, наверное, было бы поставлено
ему в упрек, ибо у легавых, насколько мне известно,
кожа должна плотно прилегать к шее. Окрас Бау-
шана очень хорош. По кофейной рубашке у него раз-
бросаны черные пятна. Но местами проглядывают и
белые пежинки, почти сплошь покрывающие грудьг
живот и лапы, тогда как тупую морду Баушана, ка-
жется, взяли да и окунули в чернила. На широком
лбу и прохладных, лопухом, ушах черная и кофей-
ная шерсть сплетается в причудливый бархатистый
узор, но всего забавнее и милее вихор, в который за-
кручивается у него на груди белая псовина, торча-
щий, словно шип на старинном панцире. Впрочем,
пестрота Баушана тоже может показаться «недопусти-
мой» тем, для кого чистота родословной важнее лич-
ных качеств, ибо классической легавой, говорят, над-
лежит быть одноцветной или пегой в крапе, но никак
не пятнистой. Однако главным камнем преткно-
вения при формальном подходе к определению по-
роды Баушана служит, конечно, обильная раститель-
ность, свисающая у него с уголков верхней губы и
с подбородка, которая не без основания может быть
названа усами и бородой и составляет, как известно,
характерную особенность пинчера или шнауцеля.
Но не все ли равно, легавая или пинчер! Что за
красавец и симпатяга Баушан, когда он вот так стоит,
прижавшись к моему колену, и снизу вверх глядит
9
на меня с беспредельной преданностью! Лучше всего
у него глаза — кроткие и умные, хотя, быть может,
слишком выпуклые и потому чуть-чуть стеклянные.
Радужная оболочка глаз — каряя, такого же кофей-
ного оттенка, что и шерсть, но из-за отливающего
черным непомерно расширенного зрачка она кажется
узеньким колечком, которое тут же переходит в бе-
лок. Прямота и смышленость—а именно эти душев*
ные качества написаны на морде Баушана — свиде-
тельствуют о его нравственном мужестве, а телосло-
жение— о мужестве физическом: выпуклая грудная
клетка с четко выступающими под тонкой и эла-
стичной кожей мощными ребрами, подтянутый живот,
нервные ноги в сетке сухожилий, крепкие, в комке,
лапы — все это говорит об отваге и мужской доб-
лести, говорит о мужицкой охотничьей крови; да, в об-
лике Баушана чувствуется настоящий охотничий пес,
и, на мой взгляд, он по праву может называться ле-
гавой, хоть и не обязан своим появлением на свет
чванливому кровосмесительству; таков примерно
смысл сбивчивых и довольно бессвязных слов, кото-
рые я говорю Баушану, похлопывая его по плечу.
А он стоит и смотрит, прислушивается к звукам
моего голоса, улавливая в убеждающих интонациях
явное одобрение своей персоне. И вдруг быстрым
движением вскидывает голову к самому моему лицу
и смыкает в воздухе челюсти, будто хочет откусить
мне нос, — пантомима, которая служит, по-видимому,
ответом на мои похвалы и всякий раз заставляет
меня со смехом отпрянуть, к чему Баушан тоже давно
привык. Это своего рода воздушный поцелуй, наполо-
вину ласка, наполовину шалость, штука, которую он
проделывал еще щенком и не свойственная ни одному
из его предшественников. Впрочем, он тут же со сму-
щенно-лукавым видом просит прощения за допущен-
ную вольность, виляет хвостом и смешно пригибает
голову. Но вот мы выходим за калитку.
Навстречу нам несется шум, похожий на рокот
моря. Дом мой стоит возле быстрой порожистой реки,
от которой его отделяет лишь тополевая аллея, об-
несенная решеткой полоска газона с молоденькими
10
кленами и насыпная дорога; по обе ее стороны растут
огромные осины — великаны, явно подделывающиеся
под старые искривленные ветлы; их белый пух к на-
чалу июня будто снегом засыпает окрестность. Вверх
по реке, в сторону города, саперы проводят занятия
по наведению понтонного моста. Стук их тяжелых
сапог о доски настила, отрывистые слова команды
явственно долетают до нас. С другого берега слы-
шатся заводской шум и грохот: вниз по течению, наи-
скось от нашего дома, раскинулись корпуса большого
паровозостроительного завода, который за войну
сильно разросся; длинные окна его цехов всю ночь
напролет светятся в темноте. Новенькие, отливающие
лаком паровозы, проходя испытание, деловито снуют
взад и вперед. Иногда протяжно завоет гудок, какой-
то глухой стук время от времени сотрясает воздух, и
из множества труб валит дым, но ветер, по счастью,
относит его за лес на противоположном берегу, да и
вообще-то. дым редко переползает через реку на нашу
сторону. Так мешаются в полупригородном, полуде-
ревенском уединении этого уголка звуки погружен-
ной в самое себя природы и человеческой деятель-
ности, и надо всем сияет ясноокая свежесть раннего
утра.
Обыкновенно я выхожу на прогулку этак в поло-
вине восьмого по официальному времени, на самом
деле, значит, в половине седьмого. Я иду, заложив
руки за спину, по залитой нежарким еще солнцем
аллее, которую пересекают длинные тени тополей;
реки мне не видно, но я слышу ее вольное мерное
течение; тихо шелестят деревья, воздух наполнен
неумолчным чириканьем, щебетом, раскатистыми
трелями и переливами певчих птиц; во влажной голу-
бизне неба, с востока, летит аэроплан — жесткая ме-
ханическая птица, направляя свой ничем не стеснен-
ный полет над рекой и лесом; гул его сперва усили-
вается, затем постепенно замирает; а Баушан радует
меня своими легкими красивыми прыжками через
низенькую решетку газона — туда и обратно, туда и
обратно. Он прыгает, зная, что доставляет мне удо-
вольствие; ведь я сам обучал его этому, постукивая
//
тросточкой по ограде, и хвалил, когда у него хорошо
получалось; вот и теперь он чуть ли не после каж-
дого прыжка подбегает ко мне, ждет, что я скажу
ему — какой он молодчина, какой он смелый и ловкий
пес, пытается допрыгнуть до моего лица и, когда
я его отстраняю, мокрым носом муслит мне ладонь.
Кроме того, эти усердные гимнастические упражне-
ния заменяют ему утренний туалет, с их помощью он
приглаживает свою взъерошенную шерсть и избав-
ляется от застрявших в ней соломинок старика
Моора.
До чего же хорошо после целительной ванны сна
и долгого забвения ночи, помолодев телом и очистив-
шись душой, ранним утром выйти на прогулку.
Бодро, уверенно взираешь ты на предстоящий день,
хоть и медлишь начать его, желая сполна насла-
диться чудесными, свободными от всяких обязан
тельств и забот минутами между сном и работой,
которые достались тебе в награду за примерное пове-
дение. Ты тешишь себя иллюзией, что всегда будешь
жить такой вот простой, серьезной, созерцательной
жизнью, что всегда будешь волен распоряжаться
собой, ибо человек почему-то склонен считать минут-
ное свое состояние, весел он или подавлен, спокоен
или возбужден, за единственно истинное и постоян-
ное и всякое счастливое ex tempore1 мысленно воз-
водить в непреложное правило и нерушимый закон,
тогда как в действительности он осужден жить по
наитию изо дня в день. Вот и веришь, вдыхая утрен-
ний воздух, в свою свободу и добродетель, хотя дол-
жен бы знать, да по существу и знаешь, что мир уже
плетет для тебя свои сети и что скорее всего ты уже
завтра проваляешься в кровати до девяти, потому что
накануне развлекался и только в два часа ночи, раз-
горяченный, захмелевший и взвинченный, удосужился
лечь в постель... Пусть так. Но сегодня ты образец
благоразумия и внутренней дисциплины и самый подч
» Буквально: «вне времени» (лат.); здесь употреблено в зна-
чении необычайного происшествия, нарушающего привычный по-
рядок вещей.
12
ходящий хозяин вот для этого юного охотника,
который только что опять перемахнул через ограду
газона от радости, что сегодня ты, как видно, пред-
почитаешь общаться с ним, а не с обитателями того,
большого мира.
Мы идем по аллее минут пять до того места, где
она перестает быть аллеей и превращается в хаоти-
ческое нагромождение крупного щебня, тянущееся
вдоль реки; тут мы сворачиваем вправо на засыпан-
ную более мелким щебнем широкую, но пока еще не
застроенную улицу, по которой, однако, как и по
нашей аллее, проложена велосипедная дорожка;
улица эта проходит между расположенными не-
сколько ниже ее лесистыми участками и упирается
в склон горы, замыкающей с востока наш прибреж-
ный район — местожительство Баушана. Немного
погодя мы пересекаем еще другую, тоже будущую
улицу; выше, возле трамвайной остановки, она
сплошь застроена доходными домами, но здесь, ничем
не огражденная, идет куда-то через лес и поле; затем
мы по отлого спускающейся дорожке попадаем в вели-
колепный парк, разбитый на манер курортных пар-
ков, но совершенно безлюдный, как, впрочем, и вся
местность в этот ранний час; везде стоят скамейки,
покатые дорожки звездообразно сходятся или приво-
дят к площадкам для детских игр, вокруг — зеленые
поляны с купами старых, пышно разросшихся де-
ревьев — вязов, буков, лип, серебристых ветел, кроны
которых спускаются так низко, что оставляют на
виду лишь небольшой кусочек ствола. Я не нара-
дуюсь на этот тщательно распланированный парк,
в котором гуляю, как в собственном поместье. Все
здесь продумано до мелочей, вплоть до того, что
у посыпанных гравием дорожек, сбегающих с отло-
гих, поросших травой холмов, зацементированы обо-
чины. Гуща зелени то и дело расступается, откры-
вая взору чудесный вид на белеющую вдали
виллу.
Я прохаживаюсь по дорожкам, а Баушан, ошалев
от здешнего приволья, носится как полоумный с поля-
ны на поляну таким галопом, что у него даже заносит
13
зад, или же с негодующе-блаженным лаем гоняется
за птичкой, которая то ли со страху, то ли затем,
чтобы его подразнить, вьется над самым его носом.
Но стоит мне сесть на скамейку, как Баушан уже тут
как тут и пристраивается у меня в ногах. Ибо для
моего четвероногого друга непреложный закон —
бегать, когда я нахожусь в движении, и садиться,
когда я сажусь. Надобности в этом никакой нет, но
Баушан твердо следует этому правилу.
Мне и странно, и уютно, и забавно ощущать на
ноге тепло его разгоряченного тела. Как и всегда
почти, когда я бываю с Баушаном и гляжу на него,
радостное умиление спирает мне грудь. Он и сидит-то
по-крестьянски — лопатки наружу, ступни внутрь.
В этой позе он кажется более приземистым и неуклю-
жим, чем на самом деле, а белый клок шерсти на
груди выпирает совсем уж нелепо и смешно. Зато,
взглянув на его важно поднятую голову, никто не
осмелится обвинить его в неумении держать себя—>
столько в ней настороженного внимания... Мы при-
тихли, и сразу же нас обступила тишина. Шум реки
едва сюда долетает. И потому любой самый слабый
шорох и движение вокруг становятся особенно
слышны и привлекают внимание: вот в траве прот
шуршала ящерица, вот пискнула птаха, где-то побли-
зости роется крот. Уши Баушана подняты, насколько
это позволяет мускулатура висячих ушей, голова,
чтобы лучше слышать, наклонена набок, и ноздри
влажного черного носа, втягивая все запахи, нахо-
дятся в беспрестанном трепетном движении.
Потом он ложится, но так, чтобы все-таки
касаться моей ноги. Он лежит в профиль ко мне,
в древней как мир, симметричной позе полуидола-
полузверя, сфинкс с поднятой головой и грудью, при-
жатыми к туловищу локтями и бедрами и вытянутыми
вперед лапами. Но ему жарко, он открывает пасть, —
и сразу же вся непроницаемая мудрость его облика
исчезает, и он становится самым обыкновенным псом:
глаза моргают и суживаются, а из-за крепких бе-
лых клыков вываливается длинный розово-красный
язык.
14
RAR НАМ ДОСТАЛСЯ Б А У Ш A H
Сосватала нам Баушана плотная, не лишенная
приятности, черноглазая фрейлейн, которая с по-
мощью рослой и такой же черноглазой дочки содер-
жала пансион в горах неподалеку от Тельца. Это слу-
чилось два года назад, и Баушан был тогда полуго-
довалым подростком-щенком. Анастасия — так звали
хозяйку пансиона — знала, что мы вынуждены были
пристрелить нашу шотландскую овчарку Перси —
слабоумного пса-аристократа, который в преклонном
возрасте подхватил очень прилипчивую и противную
накожную болезнь, — и с того самого дня нуждаемся
в стороже. Она протелефонировала нам из своего
горного домика и сообщила, что приняла на постой
и на комиссию собаку, лучше которой и желать не-
чего, и что мы можем в любое время прийти ее по-
смотреть.
Уступив настояниям детей, — впрочем, нас, взрос-
лых,- тоже разбирало любопытство, — мы на следую-
щий же день после обеда отправились в горы. Ана-
стасию мы застали в просторной кухне, наполненной
теплыми и сытными запахами; раскрасневшаяся и
потная, с расстегнутым воротом и обнаженными по
локоть округлыми руками, она готовила ужин своим
постояльцам. Дочь со спокойной расторопностью по-
давала ей все нужное для стряпни. Нас приветливо
встретили и не преминули похвалить за то, что мы
явились без проволочки. Заметив, что мы озираемся
по сторонам, дочь хозяйки, Рези, подвела нас к ку-
хонному столу, уперлась руками в колени и, склонив
голову, адресовала несколько ласковых слов кому-то
под столом. Оказывается, там, привязанное обрывком
грязной веревки, стояло существо, которое в полу-
мраке кухни, освещенной только отблесками огня, мы
сначала не заметили и вид которого поневоле вызы-
вал улыбку жалости.
Оно стояло, поджав хвост, сгорбившись и сдвинув
все четыре тонкие, подгибающиеся от слабости лапы,
и тряслось. Возможно, оно тряслось от страха, но
скорее всего от полного отсутствия каких-либо
15
жировых или мускульных тканей, ибо это был фор-
менный скелет — ребрышки и позвоночник, обтянутые
облезлой шкурой, на четырех палочках. Уши у него
были плотно прижаты — положение, которое спо-
собно сразу же погасить всякий признак живости и
ума в физиономии собаки, а в его совсем еще ще-
нячьей мордочке столь полно достигало этого эф-
фекта, что она выражала одну только глупость,
страдание и мольбу о снисхождении; к тому же усы
и борода, и поныне украшающие Баушана, в ту пору
были куда более пышными и придавали его и без
того жалкому облику еще и оттенок угрюмой подав-
ленности.
Все нагнулись, чтобы утешить и приласкать горе-
мыку. И пока дети шумно изъявляли свою жалость,
Анастасия, хлопоча у плиты, сообщила нам всю
подноготную своего постояльца. Он сын почтенных
родителей, и звать его пока что Люкс, — степенно
рассказывала она ровным приятным голосом. Мать
его она сама знала, а об отце слышала одно только
хорошее. Родом Люкс с фермы в Хюгельфинге, и,
если бы не некоторые чрезвычайные обстоятельства,
хозяева никогда бы с ним не расстались; но теперь
они вынуждены уступить его за сходную цену, для
чего и доставили песика к ней — ведь у нее в доме
всегда бывает много народу. Хозяева приехали
в своей тележке, а Люкс все двадцать километров
мужественно бежал между задними колесами. Зная,
что мы ищем хорошую собаку, она сразу подумала
о нас и почти уверена, что мы его возьмем. Тогда все
устроится ко всеобщему благополучию. Нам собачка,
несомненно, придется по душе, Люкс, со своей сто-
роны, имея теплый угол, уже не будет чувствовать
себя таким одиноким и неприкаянным, и она, Ана-
стасия, перестанет беспокоиться за него. Пусть нас
только не смущает его понурый и несчастный вид.
Его сбила с толку незнакомая обстановка, и он по-
терял уверенность в себе. Но в скором времени мы
поймем, от каких он превосходных родителей.
— Да, но они, по-видимому, не очень-то друг
к другу подходили.
16
— Отчего же, если оба великолепные собаки.—
В щенке заложены самые лучшие качества, она,
фрейлейн Анастасия, готова за это поручиться. И по-
том он не избалован и привык довольствоваться ма-
лым, что в нынешние трудные времена тоже весьма
существенно. До сих пор он вообще питался одной
картофельной шелухой. Лучше всего нам прямо взять
его к себе домой на пробу — это нас ровно ни к чему
не обяжет. Если окажется, что сердце у нас к нему не
лежит, она тут же примет его обратно и вернет нам
деньги. Это она может смело пообещать, нисколько
не опасаясь, что мы поймаем ее на слове. Она доста-
точно хорошо знает и его и нас — то есть обе сто-
роны, уверена, что мы его полюбим и даже думать
не захотим о том, чтобы с ним расстаться.
Она еще долго говорила в том же духе, спокойно,
без запинки, с обычной своей приятностью, и выры-
вавшийся из конфорки огонь, когда она снимала ка-
стрюлю, озарял ее как пламя волшебного котла.
В конце концов она подошла к Люксу и обеими ру-
ками открыла ему пасть, чтобы показать нам его
великолепные зубы и, еще по каким-то соображе-
ниям, его розовое рифленое нёбо. На поставленный
тоном знатока вопрос — чумился ли он? — она с от-
тенком нетерпения отвечала, что не знает. А уж
ростом, заверила она, он со временем наверняка бу-
дет с нашего погибшего Перси. Дети волновались,
Анастасия, ободренная настойчивыми упрашиваниями
детей, рассыпалась в похвалах собаке, а мы не знали,
на что решиться. Кончилось дело тем, что мы выпро-
сили себе отсрочку на размышление и в тяжелом раз-
думье побрели в долину, взвешивая все за и
против.
Но, как и следовало ожидать, четвероногий горе-
мыка под столом обворожил наших ребят, и хотя мы,
взрослые, для вида потешались над их неудачным
выбором, но и у нас щемило сердце, и мы понимали,
что теперь нам, пожалуй, нелегко будет вытравить из
памяти образ бедняги Люкса. Что ожидает его, если
мы от него отвернемся? В какие руки он попадет?
И в нашем воображении уже возникала загадочная
2 Т. Майн, т. й /7
и страшная фигура живодера, от гнусного аркана
которого Перси некогда спасла рыцарская пуля ору«
жейного мастера и почетное погребение в дальнем
углу нашего сада. Лучше бы нам не встречаться
с Люксом, не видеть его усатой и бородатой щенячьей
мордочки, тогда бы мы не думали об ожидавшей его
неизвестной и, быть может, страшной участи; но те-
перь, когда мы знали о его существовании, на нас
как бы ложилась моральная ответственность, от ко-
торой мы лишь с трудом, да и то навряд ли, сможем
отвертеться. Так вот и вышло, что через два дня мы
уже снова взбирались вверх по пологим отрогам
Альп к домику Анастасии. Не то чтобы мы твердо
решились на покупку, — нет, но мы понимали, что при
сложившихся обстоятельствах дело скорее всего этим
кончится.
На этот раз Анастасия с дочерью сидели друг
против друга по обеим концам длинного кухонного
стола и пили кофе. А между ними, перед столом,
сидел тот, кто носил условное имя Люкса, сидел уже
точно так, как сидит теперь: лапами внутрь, по-му-
жицки вывернув лопатки, а за его истрепанным
ошейником красовался букетик полевых цветов, при-
дававший ему празднично-нарядный вид, — ни дать
ни взять разрядившийся по случаю- воскресенья дере*
венский щеголь или дружка на крестьянской свадьбе.
Младшая фрейлейн, сама выглядевшая очень нарядно
в национальном костюме с бархатным лифом на
шнуровке, собственноручно продела ему за ошейник
этот букет «по случаю новоселья», как она пояснила.
И мать и дочь, по их заверениям, не сомневались
в том, что мы придем за нашим Люксом, и придем
именно сегодня.
Итак, с самого начала путь к отступлению был от-
резан. Анастасия в обычной своей приятной манере
поблагодарила нас за десять марок, которые мы ей
вручили в качестве платы за Люкса. Было совер-
шенно ясно, что берет она эти деньги больше в наших
интересах, чем в своих собственных или же в интере-
сах людей с фермы, и берет с единственной целью при-
дать бедному Люксу в наших глазах какую-то'выра-
18
женную в цифрах реальную стоимость. Так мы это и
поняли и охотно выложили деньги. Люкса отвязали
от ножки стола, конец веревки был вручен мне, и,
провожаемая любезными напутствиями и пожела-
ниями, наша процессия покинула кухню фрейлейн
Анастасии.
Не скажу, чтобы почти часовой обратный путь
с нашим новым домочадцем представлял собой
триумфальное шествие, тем более что деревенский
щеголь очень быстро потерял свой нарядный букет.
На лицах встречавшихся нам прохожих мы, правда,
замечали улыбку, но с каким-то оттенком обидного
пренебрежения, а прохожих попадалось все больше,
так как путь наш лежал через рыночную площадь,
которую нам предстояло пересечь из конца в конец.
В довершение всего у Люкса оказался понос, кото-
рым он, вероятно, страдал уже не первый день, что
вынуждало нас к частым остановкам на глазах у го-
рожан. Встав в круг, мы, как могли, загораживали
несчастного страдальца и с ужасом спрашивали себя,
уж не первые ли это зловещие признаки чумы,—
опасения, как потом оказалось, совершенно напрас-
ные, ибо будущее показало, что мы имеем дело
с натурой исключительно крепкой и здоровой, не-
уязвимой ни для какой заразы и болезней.
Дома мы позвали горничную и кухарку, чтобы
представить им нового члена семьи и заодно уж
узнать их мнение. По всему было видно, что они при-
готовились восхищаться, но, увидев понуро стоявшего
Люкса и наши смущенные лица, обе прыснули со
смеху, отвернулись и замахали на него руками.
После этого едва ли можно было надеяться, что гу-
манные соображения, побудившие Анастасию потре-
бовать с нас плату, найдут в них сочувственный от-
клик^ и мы почли за благо сказать, что собаку нам
подарили. Люкса отвели на веранду, где ему был
предложен праздничный обед, составленный из
самых лакомых остатков.
Но он настолько пал духом, что даже ни к чему
не притронулся. Он, правда, обнюхивал кусочки, ко-
торые ему подсовывали, но тут же боязливо пятился,
2*
19
не в силах поверить, что такая роскошь, как куриные
лапки и корки от сыра, в самом деле предназна-
чается ему. Зато от мешка, набитого морской травой,
который положили для него в прихожей, он не отка-
зался и сразу же улегся, поджав под себя лапы,
А в доме тем временем спорили и наконец порешили,
как ему в дальнейшем именоваться.
На следующий день он опять не прикасался
к пище, потом, примерно с неделю, жадно и без раз-
бору хватал все, что ему ни подставляли, пока на-
конец не стал есть со спокойной размеренностью и по-
добающим достоинством. Постепенно он осваивался и
начинал чувствовать себя полноправным членом
семьи. Но входить в подробное описание этого дли-
тельного процесса нет никакой надобности. Правда,
на какое-то время этот процесс был прерван исчез-
новением Баушана: дети вывели щенка в сад и отвя-
зали веревку, чтобы дать ему побегать на воле, но
не успели они отвернуться, как Баушан подлез под
калитку и был таков. Пропажа ввергла в смятение и
печаль если не весь дом, то по крайней мере господ;
прислуга вряд ли приняла близко к сердцу утрату
дареной собаки, если вообще сочла это за утрату.
Мы задали немало работы телефону, то и дело звоня
в пансион к Анастасии, в надежде что пес прибежит
туда. Напрасно, он там не показывался, и только
через два дня фрейлейн Анастасия сообщила нам,
что ей звонили из Хюгельфинга: полтора часа назад
Люкс появился на родимой ферме. Да, он был там,
идеализм инстинкта привел его обратно в мир
картофельной шелухи, заставив снова проделать те
двадцать километров, которые он когда-то пробежал
между колесами тележки, в полном одиночестве,
в дождь и слякоть! Пришлось его бывшим хозяевам
опять запрягать лошадь и трястись двадцать кило-
метров в тележке, чтобы доставить Люкса к Анаста-
сии, а через два дня и мы собрались в путь за бег-
лецом, которого нашли, как и в первый раз, привя-
занным к ножке стола, по уши забрызганного грязью
проселочных дорог, истерзанного и усталого. Правда,
он сразу, узнал нас, завилял хвостом,— словом, вся*
20
чески выказывал свою радость. Но в таком случае
почему же он сбежал?
Со временем стало ясно, что Баушан выкинул из
головы всякую мысль о ферме, но и у нас он еще не
окончательно обжился, никто еще не завладел его
душой, и он был как листок, крутящийся по воле
ветра. В ту пору на прогулках нельзя было ни на
секунду спускать с него глаз, ибо ему ничего не
стоило бы порвать слабые узы дружбы, связывавшие
нас с ним, и улизнуть в лес, где, ведя бродячую
жизнь, он бы очень быстро одичал и уподобился
своим нецивилизованным предкам. Только наша не-
усыпная забота спасла его от этой страшной участи и
удержала на той высокой ступени культуры, которой
он и его сородичи достигли за многие тысячелетия
общения с человеком; а потом перемена места, наш
переезд в город, или, вернее, пригород, немало спо-
собствовали тому, чтобы окончательно привязать
Баушана к нам и к нашему дому.
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ХАРАКТЕРЕ И ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ БАУШАНА
Один человек из долины Изара предупредил меня,
что собаки этой породы часто становятся в тягость
хозяину, так как ни на шаг от него не отходят. По-
этому, когда Баушан в скором времени стал действиг
тельно выказывать упорную приверженность к моей
особе, я остерегся приписать это своим личным до-
стоинствам— так мне было легче сдерживать его по-
рывы и по мере возможности себя от них ограждать.
Мы сталкиваемся здесь с наследственным патриар-
хальным инстинктом собаки, который побуждает
ее, — я говорю, разумеется, не об изнеженных ком-
натных породах, — видеть и почитать в лице главы
семьи, мужчины ^ хозяина, защитника очага и
добытчика, находить в преданном и рабском служе-
нии ему утверждение собственного достоинства и
держаться по отношению ко всем остальным домо-
чадцам с куда большей независимостью. В этом духе
21
и вел себя Баушан со мной почти с первых же дней;
как верный оруженосец глядел мне в глаза, дожи-
даясь приказаний, которые я предпочитал ему не
давать, так как очень быстро выяснилось, что он
отнюдь не отличается послушанием, и ходил за мною
по пятам, очевидно в полной уверенности, что ему
самой природой предназначено неотлучно находиться
при мне. Когда вся семья была в сборе, он, разу-
меется, ложился только у моих ног. Если на прогулке
я отдалялся от остальных, он, разумеется, следовал
за мной. Он непременно желал находиться возле
меня, когда я работал, и, если дверь оказывалась
заперта, стремительно вскакивал в окно,« при этом
гравий сыпался в комнату, — и с глубоким вздохом
ложился под письменный стол.
Но в нас настолько крепко сидит уважение ко
всему живому, что присутствие хотя бы собаки стес-
нительно, когда хочется побыть одному; вдобавок
Баушан мешал мне и самым прямым и непосред-
ственным образом. Он подходил к моему креслу,
вилял хвостом, умоляюще смотрел на меня и топ-
тался на месте, требуя, чтобы я его развлекал.
Стоило мне хотя бы одним движением откликнуться
на его мольбы, как он уже становился лапами на
подлокотники кресла, лез ко мне на грудь, смешил
меня своими воздушными поцелуями, потом начинал
шарить носом по письменному столу, видимо полагая,-
что раз я так старательно над ним нагибаюсь, то там
непременно должно быть что-нибудь съедобное, и,
конечно, мял и пачкал мне рукопись своими мохна-
тыми лапищами. Правда, после строгого окрика «на
место!» он ложился и засыпал. Но во сне ему что-то
грезилось, он быстро-быстро, как на бегу, перебирал
всеми четырьмя лапами, издавая глухой и вместе
с тем пискливый, чревовещательный и какой-то поту-
сторонний лай. Не мудрено, что это меня волновало и
отвлекало от работы; во-первых мне становилось как-
то не по себе, и, во-вторых, меня грызла совесть.
Сновидения эти уж слишком явно были суррогатом
настоящей гоньбы и охоты, стряпней организма, вы-
нужденного хоть чем-то возместить радость движения
22
на вольном воздухе, которая при совместной жизни
со мной выпадала на долю Баушана отнюдь не в той
мере, в какой этого требовали его инстинкт и охот-
ничья кровь. Меня это мучило; но так как ничего тут
поделать было нельзя, высшие интересы повелевали
мне избавиться от вечного источника беспокойства;
причем в оправдание себе я говорил, что Баушан
в плохую погоду наносит много грязи в комнаты и
рвет когтями ковры.
В конце концов Баушану строго-настрого запре-
тили переступать порог дома и находиться со мной,
когда я бывал в комнатах, хотя иногда и допускались
исключения; он быстро понял, что от него требовали,
и покорился противоестественному положению, ибо
такова была неисповедимая воля его господина и по-
велителя. Ведь разлука со мной, нередко, особенно
в зимнее время, продолжавшаяся большую часть дня,
все-таки только разлука, а не настоящий разрыв или
разобщенность. Он не со мной, потому что я так прика-
зал, но это всего лишь выполнение приказа, бытие со
мной в его противоположности, и о какой-то само-
стоятельной жизни Баушана в часы, которые он про-
водит без меня, вообще не приходится говорить.
Правда, сквозь стеклянную дверь кабинета я вижу,
как он с неуклюжей шаловливостью доброго дядюшки
забавляется с детьми на лужайке перед домом. Но
время от времени он непременно подходит к двери и,
так как за тюлевой занавеской меня не видно, обню-
хивает дверную щель, чтобы удостовериться, там ли
я, садится на ступеньки ко мне спиной и ждет. Со
своего места за письменным столом мне видно также,
как он иногда задумчивой рысцой бежит по насыпной
дороге между старыми осинами, но такие прогулки
годны лишь на то, чтобы как-то убить время, в них нет
самоутверждения, нет радости, нет жизни, и уж совер-
шенно немыслимо себе представить, чтобы Баушан
вздумал охотиться без меня, хотя никто ему охотить-
ся не запрещает и мое присутствие, как будет видно
из дальнейшего, вовсе для этого не обязательно.
Жизнь его начинается, когда я выхожу из дому,—
но, увы, и то не всегда! Ведь в то время, как я
23
направляюсь к калитке, еще неизвестно, куда я~по-
верну— направо ли, вниз по аллее к просторам и
уединению наших охотничьих угодий, или налево*
к трамвайной остановке, чтобы ехать в город, а со-
провождать меня Баушану есть смысл только в пер-
вом случае. Вначале он увязывался за мной и тогда«
когда я отправлялся в этот суматошный мир, с изум-
лением взирал на грохочущий трамвай и, поборов
страх, самоотверженно и слепо кидался за мной на
забитую людьми площадку. Но взрыв общественного
негодования немедленно сгонял его на мостовую, и он
скрепя сердце пускался галопом вслед за звенящей и
гремящей махиной, нисколько не похожей на тележку,
между колесами которой он когда-то трусил рысцой.
Пока хватало сил и дыхания, Баушан честно ста-
рался не отставать. Но бедного деревенщину сбивали
с толку городская суматоха и толчея; он попадал
прохожим под ноги, чужие собаки бросались на него
с тыла, вакханалия резких неведомых дотоле запахов
ударяла ему в нос и кружила голову, углы домов,
пропитанные густым ароматом былых любовных
интриг, неудержимо влекли его к себе, и он отставал;
правда, потом ему удавалось нагнать точно такой же
вагон, бегущий по рельсам, но — увы!—это был не
тот вагон; Баушан мчался наугад все дальше и
дальше, пока окончательно не сбивался с пути; и
лишь через два дня, измученный и голодный, являлся
наконец, прихрамывая, домой, в тишину виллы на
берегу реки, куда тем временем достало благоразу-
мия вернуться и его хозяину.
Это случалось не раз, потом Баушан смирился и
больше не провожал меня, когда я поворачивал на-
лево. Лишь только я выхожу за дверь, он уже знает,
что у меня на уме: охота или светские развлечения.
Он вскакивает с половика, на котором лежал, под-
жидая меня в тени подъезда, сразу угадав мои на-
мерения по тому, как я одет, какая у меня тросточка,
какое выражение лица, по тому, взглянул ли я на
него мельком, холодно и деловито, или же, напротив,
ласково и дружелюбно. Как тут не понять! Если по
всему видно, что прогулка состоится, он кубарем
24
скатывается со ступенек и в немом восторге гарцует
впереди меня по направлению к калитке, а если
надежды нет, настроение его падает, он никнет, при-
жимает уши, вид у него становится трагически
печальный, а в глазах появляется то робкое, жалко-
виноватое выражение, которое в несчастье одинаково
свойственно и людям и животным.
Иногда, наперекор всему, он отказывается верить,
что на сегодня все кончено и охота не состоится. Уж
очень ему хотелось погулять1 И, обманывая себя, Бау-
шан предпочитает не видеть ни городской тросточки,
ни благопристойной сюртучной пары, в которую я об-
лекаюсь ради такого случая. Он проталкивается вме-
сте со мной в калитку, крутится вокруг собственной
оси и, в надежде меня соблазнить, припускается га-
лопом направо по аллее, все время оглядываясь и не
желая понять роковое «нет», которым я отвечаю на все
его ухищрения. А когда я тем не менее поворачиваю
налево, он бежит обратно и, громко сопя, с тонким
жалобным присвистом, которого от волнения не в си-
лах сдержать, провожает меня вдоль всего нашего за-
бора; дойдя до решетки прилегающего парка, Баушан
начинает прыгать через нее, туда и обратно; решетка
эта довольно высокая, и, боясь ободрать себе живот,
он всякий раз охает. Прыгает он с отчаяния, из того
бесшабашного удальства, которому все нипочем,
а в основном, конечно, чтобы меня задобрить и поко-
рить своим усердием. Ведь еще не все потеряно, еще
есть надежда, — правда, очень слабая, — что в конце
парка я не пойду к трамвайной остановке, а еще раз
сверну налево и, сделав небольшой крюк, чтобы опу-
стить письмо в почтовый ящик, все же поведу его в лес.
Это хоть и редко, но бывает, а когда и эта последняя
надежда рассыпается прахом, Баушан садится на зе-
млю и предоставляет мне идти, на все четыре стороны.
Так он и сидит посреди дороги в неуклюжей му-
жицкой позе и смотрит мне вслед, пока я не дохожу
до самого конца проспекта. Если я оборачиваюсь,
Баушан настораживает уши, но не бежит ко мне,—
свистни я или позови его, он все равно не пойдет,
он знает, что это бесполезно. Вот и конец аллеи,
25
а Баушан все еще сиротливо сидит посреди дороги—*
крохотное, темное, нескладное пятнышко, при виде ко*
торого у меня всякий раз сжимается сердце, и я са-
жусь в трамвай, терзаясь угрызениями совести. Как
он ждал! И что может быть ужаснее мук ожидания.
'А ведь вся его жизнь — ожидание прогулки со мной;
не успеет он отдохнуть, как уж опять ждет, что я
пойду с ним в лес. Он и ночью ждет, потому что спит
Баушан урывками круглые сутки, то часик вздремнет
на зеленом ковре лужайки, когда солнце славно при-
пекает спину, то прикорнет за дерюжными занавес-
ками конуры, коротая длинный, ничем не заполненный
день. Но зато он не знает и ночного покоя, сон его
прерывист и тревожен, он кружит в темноте по двору
и саду, бросается туда и сюда и — ждет. Он ждет об-
хода сторожа с фонарем и, вопреки здравому смыслу,
провожает его шаркающие шаги угрожающим и при-
зывным лаем, ждет, когда посветлеет небо, ждет, ко-
гда в дальнем садоводстве пропоет петух, ждет, когда
утренний ветерок проснется в ветвях и когда отопрут
наконец кухонную дверь и он сможет туда прошмыг-«
нуть и погреться у плиты.
И все же, думается мне, ночная пытка скукой для
Баушана ничто по сравнению с тем, что он испыты-
вает днем, особенно в хорошую погоду, все равно зи-
мой или летом, когда солнце манит на волю, в каждой
жилочке трепещет страстное желание порезвиться и
поиграть, а хозяин, без которого прогулкой как сле-
дует не насладишься, будто назло сиднем сидит за
своей стеклянной дверью. Подвижное тельце Баушана,
в котором с лихорадочной быстротой пульсирует жизнь,
отдохнуло досыта, даже до пресыщения, о сне нечего
и думать. Он подымается на террасу, подходит к моей
двери, со вздохом, идущим из самой глубины души,
растягивается на полу, кладет голову на вытянутые
лапы и обращает страдальческий взор к небу. Но,
впрочем, роль мученика он выдерживает секунды две-
три, не более. Что бы такое предпринять? Может, спу-
ститься по ступенькам к пирамидальным туям, что
стоят по обе стороны куртины с розами, и поднять
ногу — на ту, что справа, которая из-за дурной при-
26
вычки Баушана каждый год засыхает, так что вместо
нее приходится подсаживать новую? Итак, он спускает-
ся вниз и делает то, в чем не испытывает ни малейшей
нужды, но что может хоть на время рассеять его и
занять. Долго стоит он на трех ногах, несмотря на яв^
ную бесплодность своих усилий, так долго, что четвер-
тая нога у него начинает дрожать, и Баушан вынуж-
ден подпрыгивать, чтобы сохранить равновесие. Потом
он опять становится на все четыре лапы, но, что ни
делай, все равно ему не легче. Тупо глядит он вверх
в сплетенные ветви ясеней, где, весело щебеча, го-
няются друг за дружкой две птички, и, когда они стре«*
лой улетают, проводив их долгим взглядом, отворачи-
вается, будто пожимая плечами и дивясь такой ребя-
ческой беспечности. Затем он начинает потягиваться
так, что трещат все суставы, обстоятельности ради
разделяя эту операцию на две части: сначала он вы-
тягивает передние ноги, высоко вскидывая зад, потом
вытягивает задние ноги и оба раза зверски зевает во
всю пасть. Но вот и с этим покончено, как ни старался
он продлить удовольствие, а если уж ты потянулся
по всем правилам, сразу опять не потянешься. Бау-j
шан стоит и в мрачном раздумье смотрит в землю«
Наконец медленно и осторожно он начинает кружиться
на месте, будто собираясь лечь, но еще не зная навер-
ное, как лучше к этому приступиться. Тут, однако, его'
осеняет новая мысль: ленивой походкой он идет на
середину лужайки — и вдруг диким, почти бешеным
броском кидается на землю и давай кататься по зеле-
ному бобрику подстриженного газона, который щеко-
чет и охлаждает ему спину. Такое занятие, вероятно*
сопряжено с чувством острого удовольствия, потому
что, катаясь по лужайке, Баушан судорожно поджив
мает лапы и в пылу упоения и восторга хватает зу-
бами воздух. Да, потому он и пьет до дна кубок на-
слаждения, что знает, сколь это счастье недолговечно,
ведь кататься по траве можно от силы какие-нибудь
десять секунд, и за этим наступит не здоровая уста-<
лость, служащая наградой настоящей физической ра-
боте, а лишь то отрезвление и постылая тоска, кото-
рыми мы расплачиваемся за хмель и пьяное беспут-
27
ство. Несколько мгновений он лежит на боку, закатив
глаза, будто мертвый. Затем встает и отряхивается;
Отряхивается так, как это умеют только собаки, не
рискуя получить сотрясение мозга; отряхивается так,
что все у него ходуном ходит, уши шлепаются о под-
бородок и губы отскакивают от сверкающих белизной
клыков. А дальше? Дальше он стоит неподвижно
в полной растерянности посреди лужайки и,уж окон-
чательно не знает, чем себя занять. Бедняге остается
лишь прибегнуть к крайнему средству. Он подымается
на террасу, подходит к застекленной двери и, прижав
уши, боязливо и нерешительно, словно нищий, протя-
гивает лапу и скребется в дверь — скребется только
раз, да и то совсем тихо; но эта робко и смиренно про-
тянутая лапа, это слабое, не повторяющееся больше
царапанье в дверь, на которое он решается, не зная,
как себе помочь, переворачивает мне всю душу, и я
встаю, чтобы открыть дверь и впустить его к себе,
хотя знаю, что к добру это не приведет. И правда,
Баушан тотчас принимается скакать и прыгать, при-
зывая меня к более мужественным занятиям, причем
сразу же сбивает ковер в сотни складок и перевора-
чивает все в комнате вверх дном, так что прощай и
покой и работа.
Посудите же сами, легко ли мне, зная, как ждет
меня Баушан, садиться в трамвай, бросив и гнусно
предав сиротливое пятнышко в конце тополевой аллеи!
Летом, когда поздно темнеет, беда не велика, есть на-
дежда, что я хоть вечером пойду гулять в лес, и Бау^
шан, прождав меня так долго, все же не останется
в накладе и, если ему улыбнется охотничье счастье,
еще погоняется за зайцем. Но зимой, когда я после
завтрака уезжаю в город, день бесповоротно потерян,
и Баушан должен оставить всякую надежду на целые
сутки. Тогда ко времени моей вечерней прогулки уже
давно спустились сумерки, в наших охотничьих
угодьях стоит непроглядная тьма, и я вынужден на-
правлять свои стопы вверх по реке, по улицам и го-
родским скверам, где сияют газ и электричество, что
никак не вяжется с простыми и неприхотливыми на-
клонностями Баушана; вначале он, правда, сопрово*
28
ждал меня, но вскоре стал отпускать одного, предпо-
читая оставаться дома. Мало того, что там не порез-
вишься,— его тревожил неестественный полумрак, он
пугался прохожих, пугался кустов, с визгом шарахался
от взлетевшей пелеринки полицейского, чтобы тут же,
с отвагой, порожденной страхом, кинуться на не менее
перепуганного блюстителя порядка, который облегчал
душу потоком угроз и ругательств по нашему ад-
ресу, — да каких только неприятностей не бывало у нас,
когда Баушан сопровождал меня под покровом ночи!
Раз уж я упомянул о постовом, мне хочется добавить,
что есть три категории людей, которых Баушан
совершенно не терпит: это полицейские, монахи и
трубочисты. Он ненавидит их всем сердцем и прово-
жает разъяренным лаем всякий раз, как они прохо-
дят мимо нашего дома или вообще попадаются ему
на глаза.
Притом зима, надо прямо сказать, время года, ко-
гда светская жизнь особенно дерзко посягает на нашу
свободу и добродетель, пора наименее благоприятная
для жизни размеренной и собранной, для уединения и
тихого раздумья, так что город притягивает меня
очень часто еще и вечером, и лишь поздно, в первом
часу ночи, последний трамвай по дороге в парк доста-
вляет меня на предпоследнюю свою остановку, а не то
я возвращаюсь еще позднее, когда уже никакие трам-
ваи не ходят, возвращаюсь пешком, навеселе, с сигаре-
той в зубах, слишком возбужденный, чтобы чувствовать
усталость, во власти той фальшивой беззаботности,
при которой море кажется по колено. И вот тут-то
мой собственный угол, моя подлинная мирная и
тихая жизнь предстает предо мной в образе Баушана и
не только не встречает меня обидами и попреками, но
с ликованием приветствует, безмерно радуется и воз-
вращает меня самому себе. В полной темноте, опре-
деляя дорогу по шуму реки, я сворачиваю на нашу
аллею и едва успеваю пройти несколько шагов, как
чувствую вокруг себя какую-то безмолвную возню и
движение. Сперва я не понимал, что происходит. «Бау-
шан?»— спрашивал я, обращаясь в темноту... Движе-
ние и возня усиливаются до предела,, дереходят
29
в дикую, неистовую пляску — и все это в полном без-
молвии, и лишь только я останавливаюсь, честные, хотя
и очень мокрые и грязные лапы опускаются на отво-
роты моего пальто, и у самого лица слышится такое
отчаянное сопение и пыхтение, что я поневоле отки-
дываюсь назад, но все-таки ласково треплю намокшую
под дождем и снегом худенькую лопатку... Бедняга
ходил меня встречать к трамваю; хорошо изучив все
привычки и повадки непутевого своего хозяина, он,
когда, по его представлению, подошло время, побежал
на трамвайную остановку и ждал там меня — может
быть, даже долго ждал, под дождем и снегом, — но
в радости, с которой он меня приветствует, когда я
наконец возвращаюсь, нет ни злобы, ни обиды на по-
стыдное мое вероломство, а ведь я сегодня покинул
его на целый день, и он ждал и надеялся понапрасну-
И когда я треплю его по спине, и когда мы вместе
идем к дому, я не перестаю его хвалить. Я говорю
Баушану, что он поступил прекрасно, и даю самые
торжественные обещания на завтрашний день, заверяя
его (вернее, самого себя), что уж завтра днем мы не-
пременно и при любой погоде сходим с ним на охоту,
и от таких намерений мое светское настроение улету-
чивается, как дым, ко мне возвращается обычная спо-
койная серьезность и ясность, а представление о на-
ших охотничьих угодьях и о благодатном их уедине-
нии наводит меня на мысль о более высоких, сокро-
венных и святых обязанностях...
Но я хочу отметить еще некоторые черточки в ха-
рактере Баушана, с тем чтобы он как живой предстал
перед взором благосклонного читателя. Быть может,
это всего лучше сделать, сравнив его с нашим безвре-
менно погибшим Перси, ибо вряд ли сыщешь внутри
одной и той же родовой группы две столь диамет-
рально противоположные натуры. Прежде всего сле-
дует иметь в виду, что Баушан психически совершенно
здоров, тогда как Перси, о чем вскользь уже упоми-
налось и как нередко случается с собаками-аристокра-
тами, был от рождения дурак и кретин, являя собой
поучительный пример доведенной до абсурда чистопо-
родности. Об этом уже шла речь в более широкой
30
связи. Здесь достаточно противопоставить истинно на-
родное здравомыслие, отличающее все поведение и
поступки Баушана,— например: когда я отправляюсь
с ним на прогулку или когда он встречает меня, эмо-
ции его всегда протекают в рамках обыкновенной и
здоровой сердечности, без тени какой-либо истерии,
меж тем как Перси в аналогичных обстоятельствах
подчас вел себя просто возмутительно*
И все же различие двух этих существ не исчерпы-
вается сказанным; в действительности оно противоре-
чивее и сложнее. Баушан хотя и крепок как просто-
людин, но как простолюдин чувствителен, тогда как
его аристократический предшественник, несмотря на
более хрупкую и нежную конституцию, обладал куда
более гордой и непреклонной душой и, при всей своей
глупости, во многом превосходил деревенщину Бау-
шана в смысле выдержки и самодисциплины. Вовсе не
в защиту аристократической догмы, а единственно
истины ради, указываю я на это смешение противопо-
ложностей: здоровья и дряблости, изнеженности и
стойкости. Так, например, зимой, в трескучий мороз,
Баушану ничего не стоит провести ночь на улице, ко-
нечно, на соломенной подстилке и за дерюжными
занавесками конуры. Слабость мочевого пузыря не
позволяет ему находиться семь часов подряд в закры-
том помещении без того, чтобы не проштрафиться, по-
этому, полагаясь на железное здоровье Баушана, мы
даже в самое неприютное время года не пускаем его
в комнаты. И вот всего один лишь раз, после очень
уж студеной и туманной ночи, Баушан явился на мой
зов не только украшенный инеем, сказочно распушив-
шим ему усы и бороду, но и несколько простужен-
ный,— он по-собачьи сухо и односложно кашлял; —
но через несколько часов справился с недугом, и все
у него прошло бесследно. Кто бы решился подверг-
нуть Перси, с его тонкой и шелковистой шерстью, ис-
пытаниям подобной ночи? С другой стороны, Баушан
до смешного боится всякой, даже пустячной боли и
выказывает при этом такое малодушие, что это было
бы противно, если бы его простоватая наивность не
обезоруживала своим комизмом. Когда в поисках дичи
31
Баушан продирается сквозь частый кустарник, я
слышу, как он то и дело громко взвизгивает, — это
значит, что он наступил на колючку или его хле-
стнула по носу ветка. А уж если Баушан, прыгая че-
рез ограду, упаси боже, чуточку оцарапает себе живот
или подвернет лапу, он испускает душераздирающий
вопль не хуже героя античной трагедии, прихрамы-
вая, на трех ногах, спешит ко мне и самым жалким
образом скулит и хнычет, — причем, хнычет и скулит
особенно пронзительно, когда его начинаешь утешать
и жалеть, хотя через какие-нибудь четверть часа бе-,
гает и скачет, позабыв о своих страданиях.
Иное дело Персиваль. Тот, стиснув зубы, терпел.
Плетки он боялся не меньше Баушана, но отведывал
ее, к сожалению, чаще, потому что, во-первых, я был
тогда моложе и вспыльчивее, а во-вторых, его дурость
нередко выражалась в упрямом и злобном своеволь-
стве, которое бесило меня и которое невозможно было
оставить безнаказанным. Когда, выведенный из себя,
я срывал с гвоздя плетку, он, правда, заползал на
брюхе под стол или скамейку, но при наказании не из-
давал ни единой жалобы, разве только тихо застонет,
если я уж очень больно хлестну, а дружище Баушан,
тот, стоит мне протянуть руку к плетке, уже заранее
пищит со страху. Короче говоря, — ни самолюбия, ни
выдержки! Впрочем, поведение Баушана редко дает
повод к такого рода крайним мерам, поскольку я уже
давно отвык требовать от него действий, несовмести-
мых с его натурой, что, конечно, могло бы привести
к неприятным столкновениям.
Так, например, я не спрашиваю с него никаких фо-
кусов, да это и было бы бесполезно. Он не ученый, не
балаганное чудо, не танцующий «а задних лапах ду-
рашливый пудель, он — полный энергии юный охот-
ник, а не какой-нибудь профессор. Я уже упоминал
о том, что он великолепно прыгает. Когда -нужно, Бау-
шан преодолевает любое препятствие; если оно слиш-
ком высоко, чтобы перемахнуть через него обычным
прыжком, он подскакивает, цепляется лапами и, под-
тянувшись, спрыгивает на другую сторону, — словом,
берет его. Но препятствие должно быть настоящим
32
препятствием, то есть таким, под которое не просу-
нешься и не подлезешь, иначе Баушан счел бы безу-
мием через него прыгать. Стена, ров, решетка, забор
без лазеек —вот настоящие препятствия. Прясло в из-
городи или протянутая тросточка.— не препятствия,
а потому незачем через них прыгать и валять дурака,
наперекор себе и здравому смыслу. Баушан не желает
этого делать. Сколько я его ни заставлял перепрыги-
вать через такое воображаемое препятствие — не же-
лает, и баста! Бывало, обозлишься, возьмешь Баушана
за загривок и, хоть он и верезжит, перебросишь через
жердь, а он, шельмец, еще делает вид, что ты только
этого и хотел, и приветствует такое сомнительное до-
стижение прыжками и восхищенным лаем. Можно
бить его, ласкать — ничем его не проймешь и не пере-
убедишь: разум Баушана восстает против явной бес-
смыслицы чистого фокуса. Он вовсе не невежа, он рад
угодить хозяину — и не только по собственной охоте,
но и по моей просьбе или приказанию с готовностью
прыгает через сплошную изгородь и очень бывает до-
волен, когда я его за это похвалю и приласкаю. А вот
через жердь или тросточку он ни за что не прыгнет,
а непременно проскочит под нее, хоть ты его убей. Он
будет ползать у ног, скулить, молить о пощаде, по-
тому что боится боли, боится, как самый последний
трус, но никакой страх и никакая боль не заставят его
пойти против внутреннего своего убеждения, хотя фи-
зически прыжок через тросточку для него сущий пус-
тяк. Потребовать этого от него не значит ставить пе-
ред ним вопрос, будет он прыгать или нет; вопрос
предрешен, и приказ может привести только к од-
ному— к порке. Ибо требовать от Баушана непонят-
ного и, по непонятности своей, невыполнимого, с его
точки зрения, значит только искать повода к пререка-
ниям, ссоре и порке, которые по существу уже заклю-
чены в самом требовании. Таково, насколько я пони-
маю, мнение Баушана на сей счет, причем я отнюдь
ие уверен, вправе ли мы назвать это упрямством.
Упрямство может и должно быть сломлено; Баушан
же скорее умрет, нежели станет исполнять какие-то
бессмысленные фокусы.
3 Т. Манн, т. 8
33
Загадочная душа! Такая близкая и вместе с тем
непонятная, а в некоторых проявлениях своих столь
чуждая, что слова наши бессильны охватить ее вну-
треннюю логику. Как, например, объяснить тягостную
по своей нервной напряженности и для участников и
для свидетелей церемонию встречи, знакомства или
хотя бы взаимного ознакомления двух собак? Сотни
раз на прогулках с Баушаном я наблюдал такого рода
встречи, вернее сказать, оказывался невольным и рас-
терянным их свидетелем, и всякий раз во время такой
сцены обычно понятное мне поведение Баушана оста-
валось для меня книгой за семью печатями, — при
всем сочувствии к нему, мне не удавалось вникнуть
в ощущения, законы и родовые обычаи, лежавшие
в основе его действий. Поистине нет ничего более му-
чительного, захватывающего и рокового, чем встреча
двух собак на улице; кажется, будто над ними вла-
ствуют недобрые чары. Это какая-то связанность—»
другого слова не подберешь, — они и хотели бы, но не
могут пройти мимо друг друга, и замешательство их
не знает границ.
Я уж не говорю о таком случае, когда одна из сто-
рон находится взаперти за высоким забором; правда,
и тогда нельзя предугадать, как тот и другой поведут
себя, но это все же наименее опасная ситуация. Они
чуют друг друга бог знает на каком расстоянии, и
вдруг Баушан, как бы ища у меня защиты, начинает
жаться к моим ногам и скулить, выражая такую бес-
конечную душевную боль и тоску, какую никакими
словами не передашь; меж тем чужая собака за забо*
ром подымает свирепый лай, будто бы рьяно охраняя
владения хозяев, лай, который, однако, тоже нет-нет
да и сбивается на плаксиво-ревнивое и жалобное по-
визгивание. Мы приближаемся, вот мы уже поравня-
лись с забором. Чужая собака поджидает нас, она
бранится и оплакивает свое бессилие, кидается как
безумная на забор, всем своим видом показывая (на-
сколько это серьезно, одному богу известно), что не-
пременно разорвала бы Баушана в клочья, если бы
только ей дали волю. Тем не менее Баушан, который
преспокойно мог бы остаться рядом со мной и пройти
34
мимо, подходит к забору; он не может иначе посту-
пить, он сделал бы это, даже если бы я ему ^запретил:
пройти мимо — значило бы преступить какие-то вну-
тренние законы, куда более глубокие и нерушимые,
чем мой запрет. Итак, он подходит к забору и прежде
всего со смиренным и невозмутимым видом совершает
жертвоприношение, которое, как ему известно по
опыту, должно несколько успокоить и хоть ненадолго
умилостивить противника, во всяком случае на то
время, пока он в другом месте, пусть даже рыча и по-
визгивая, занят тем же деЛом. Вслед за тем оба пса
срываются с места и начинают гоняться вдоль забора,
один по одну, другой по другую сторону, не отставая
друг от друга ни на шаг и совершенно молча. В конце
участка оба одновременно поворачивают и мчатся об-
ратно. И вдруг, насередине, останавливаются как вко-
панные, причем уже не боком к забору, а перпендику-
лярно к нему, и, приставив нос к носу, замирают. Так
стоят они довольно долго, чтобы затем продолжать
свое странное и ничем не оправданное соревнование
в беге, плечом к плечу, вдоль забора. Но вот наконец
Баушан, пользуясь своей свободой, удаляется. Какая
ужасная минута для запертого пса! Он не может этого
вынести, усматривает беспримерную подлость в том,
что другой вздумал так вот, ни с того ни с сего, взять
да уйти, он рвет и мечет, носится как безумный взад
и вперед, грозится перескочить через забор, чтобы рас-
правиться с изменщиком» и шлет ему вдогонку самую
страшную ругань и проклятия. Баушан все это слы-
шит и, должно быть, болезненно переживает, о чем
свидетельствует его тихий и смущенный вид; но он не
оглядывается и не спеша трусит дальше, а оскорби-
тельная брань за нами мало-помалу переходит в по-
визгивание и затем смолкает.
Так примерно разыгрывается сцена, когда один из
ее участников находится взаперти. Однако напряже-
ние достигает предела, когда оба пса на свободе, и
встреча происходит в равных условиях; даже не-
приятно это описывать, ибо нет ничего более каверз-
ного, непонятного и удручающего. Баушан, который
только что беззаботно прыгал вокруг^ начинает
3*
35
пятиться, повизгивая и скуля, льнет ко мне, и, хотя я
затрудняюсь сказать, какие чувства выражают эти
идущие из глубины души звуки, они настолько отличны
от всех других, что по ним я безошибочно угадываю
приближение незнакомого пса. Надо глядеть в оба:
так и есть, вон он идет, и еще издали, по его нереши-
тельному и напряженному поведению, ясно, что пес
тоже заметил Баушана. Мое замешательство, пожа-
луй, ничуть не меньше; я отнюдь не жажду этого зна-
комства. «Пошел прочь! — говорю я Баушану. — Что
ты вертишься под ногами? Неужели вам нельзя дого-
вориться между собой где-нибудь в сторонке?» И я
тростью пытаюсь отогнать его, потому что, если дело
дойдет до драки, что отнюдь не исключено, — незави-
симо от того, понимаю ли я ее причины, или нет, — то
разыграется она у моих ног, причинив мне совершенно
излишние волнения. «Пошел прочь!» — тихо повто-
ряю я. Но Баушан не идет, он весь как-то скован, робко
жмется ко мне и лишь на минутку отходит к деревцу
принести традиционную жертву, причем я вижу, как
незнакомец в отдалении приносит свою. Теперь нас
разделяют всего каких-нибудь двадцать шагов, напря-
жение еще возросло. Незнакомец прижался к земле и
вытянул голову, точно тигр, готовый к прыжку, и
в этой разбойничьей позе поджидает Баушана, явно
намереваясь в подходящий момент кинуться на него.
Однако ничего подобного не происходит, дай Баушан,
по-видимому, этого не ждет; так или иначе, он идет
прямо на подстерегающего его хищника, идет, правда,
очень нерешительно, скрепя сердце, но все же идет,
как пошел бы даже в том случае, если бы я его бро-
сил: свернул на боковую дорожку, предоставив ему
самому выпутываться из беды. Сколь ни тягостна ему
эта встреча, он не помышляет о том, чтобы укло-
ниться от нее и улизнуть. Он идет, будто зачарован-
ный, он связан с другим псом невидимой нитью, оба
они связаны между собой невидимыми и таинствен-
ными нитями, которые не в силах порвать. Теперь нас
разделяет всего два шага.
Тут другой пес тихонько подымается, будто никог
гда не прикидывался тигром из джунглей, и стоит
36
точно так, как Баушан, — словно оплеванные, не зная,
на что решиться и как быть, стоят они друг против
друга и не могут разойтись. Они и хотели бы уйти, —
недаром же они грустно косятся по сторонам, — но
обоих будто придавило сознание общей вины. Напря-
женно, с хмурой настороженностью, они придвигаются
и трутся бок о бок, обнюхивая друг у друга основание
хвоста. При этом они обычно начинают урчать, и я,
понизив голос, предостерегающе окликаю Баушана,
ибо сейчас, сию минуту, должно решиться, произойдет
ли драка, или чаша сия меня минует. Но, неизвестно
как и еще менее почему, драка завязалась — Баушан
и чужая собака сцепились в беспорядочный клубок, из
которого вырываются яростное хриплое рычанье и при-
глушенный визг. Тогда, во избежание несчастья, я на-
чинаю орудовать тростью, хватаю Баушана за ошей-
ник или загривок, чтобы стряхнуть повисшего на нем
пса, и делаю еще много такого, отчего у меня долго
потом трясутся руки и дрожат колени. Бывает, од-
нако, что после всех приготовлений и церемоний
встреча протекает гладко и сверх ожиданий кончается
ничем. Но даже когда дело обходится без драки, им
трудно сойти с места, их все еще крепко связывает ка-
кая-то внутренняя нить. Уж, кажется, они благопо-
лучно разошлись, не топчутся больше бок о бок,
а стоят почти на одной линии, — чужая собака, повер-
нувшись в мою, Баушан в противоположную сторону,—
они не глядят друг на друга, почти не поворачивают
головы и только уголком глаза, насколько это воз-
можно, следят за тем, что происходит позади. Но, не-
смотря на отделяющее их теперь расстояние, крепкая
и тягостная нить все еще держится, и ни тот, ни дру-
гой не знает, наступила ли минута избавления, обоим
до смерти хотелось бы уйти, однако какая-то непонят-
ная совестливость их удерживает. Но вот наконец
чары развеялись, нить порвалась, и Баушан, словно
избавившись от смертельной опасности, с легким серд-
цем весело срывается с места.
Я рассказал об этом, чтобы показать, какой чуж-
дой и непонятной кажется мне в иных случаях вну-
тренняя жизнь такого близкого друга: испытывая
37
почти суеверный страх, глядишь и недоумеваешь' и
скорее чувством, нежели разумом, пытаешься в нее
вникнуть. В остальном душевный мир Баушана не
представляет для меня тайны, с сочувственной улыб-
кой разгадываю я смысл его поступков, игру его фи-<
зиономии, все его поведение. Как знакома мне, напри-
мер, манера Баушана громко, с визгом зевать, если
он разочарован прогулкой, слишком короткой и не-
удачной в спортивном отношении, что случается, когда,
поздно сев за работу, я только перед самым обедом
выхожу с ним пройтись и почти тут же поворачиваю
обратно. Он идет рядом со мной и зевает. Зевает са-»
мым бессовестным и неприличным образом, отчаянно^
с визгом, раздирая пасть и принимая оскорбительно-
скучающий вид. «Хороший же у меня хозяин! —«
кажется, говорит этот зевок. — Поздно ночью я ходил
встречать его к мосту, а сегодня он засел за своей
стеклянной дверью, заставил меня прождать целое
утро, хоть подыхай со скуки, а когда наконец удосу-,
жился выйти со мной погулять, сразу повернул обратно.
Даже нюхнуть дичи не дал. А-а-а-и-й! Хороший же
у меня хозяин! Разве это хозяин! Дрянь, а не хозяин!»
Вот о чем с грубой прямотой говорят его зевки, —>
не понять этого нельзя. Я сознаю, что он прав, что я
виноват перед ним, и, думая его утешить, протягиваю
руку, чтобы похлопать его по плечу или погладить по
голове. Но не больно-то он нуждается в моих ласках,
он и принимать их не хочет, снова еще более неучтиво
зевает и увертывается от моей руки, хотя по натуре,
в отличие от Перси и в полном соответствии со своей
простонародной чувствительностью, очень любит вся-
кие нежности. Особенно нравится Баушану, когда ему
почесывают шею; у него даже выработалась забав-
ная манера подталкивать головой мою руку себе под
подбородок. А то, что он не настроен нежничать, по-
мимо разочарования, объясняется еще и тем, что на
ходу, точнее говоря, когда я в движении, он не видит
в ласках ни прелести, ни смысла. Он пребывает в слиш-
ком мужественном расположении духа, чтобы нахо-
дить в этом вкус. Но стоит мне сесть, как все разом
меняется, Баушан всей душой рад любезничать и от*
53
вечает.на мои ласки даже, я сказал бы, с излишней
неуклюже-восторженной навязчивостью.
Как часто, читая на любимой скамейке в укромном
уголке сада за выступом стены или, прислонившись
спиной к дереву, на траве в лесу, я откладываю книгу,
чтобы поговорить и поиграть с Баушаном. Что я ему
говорю? Обычно повторяю его имя, то сочетание зву-
ков, которое ему всего ближе, так как обозначает его
самого и оказывает на него поэтому магическое дей-
ствие, — подстегиваю и разжигаю его самомнение, за-
веряя его на все лады и призывая хорошенько пораз-
мыслить над тем, что его звать Баушан и что именно
он и есть это единственное и неповторимое существо;
если долго это твердить, его можно довести до состоя-
ния экстаза, опьянения собственным «я», в котором
Баушан начинает кружиться на месте и от спираю-
щего грудь избытка счастья и гордости, подняв морду,
лаять на небо. Или мы еще развлекаемся так: я ле*
гонько хлопаю его по носу, а он, щелкая зубами в воз-
духе, как это делают собаки, ловя мух, притворяется,
будто хочет укусить меня за руку. И мы оба смеемся,
да, да, Баушан тоже смеется, а я, хоть и смеюсь, но
это удивительное зрелище трогает меня чуть ли не до
слез. В самом деле, нельзя без волнения видеть, как
в ответ на шутку уголки рта и по-звериному впалые
щеки Баушана начинают вздрагивать и подергиваться,
как неразумная морда животного вдруг складывается
в гримасу человеческого смеха, и этот смех, или, вер-
нее, его тусклый, беспомощный, жалкий отблеск, по-
является, чтобы тут же исчезнуть, уступив место
страху и растерянности, и затем вновь проступить
в том же искаженно-карикатурном виде...
Но довольно, я не намерен больше углубляться
в частности. Меня и без того смущает, что это крат-
кое описание, помимо моей воли, так разрослось. По-
этому, не тратя лишних слов, я хочу показать своего
героя во всем его блеске, в родной стихии, в той жиз-
ненной обстановке, где он наиболее полно бывает са-
мим собой и которая особенно благоприятствует его
талантам и наклонностям, а именно на охоте. Но
предварительно необходимо хоть, сколько-нибудь
39
познакомить читателя с ареной этих радостей, — с на-
шими охотничьими угодьями, местностью у реки, ибо
она тесно связана с личностью Баушана, и я срод-
нился с ней и люблю и ценю ее, пожалуй, не меньше,
чем своего четвероногого друга, — пусть же послужит
это достаточным основанием для того, чтобы без даль-
нейших новеллистических мотивировок посвятить этой
местности следующую главу.
угодья
В садах нашего маленького, но широко раскинув-
шегося поселка, на фоне нежных молодых насажде-
ний, резко выделяются возвышающиеся над крышами
домов старые деревья-великаны, в которых безоши-
бочно угадываешь коренных уроженцев этих мест.
Они гордость и краса нашей сравнительно молодой
колонии, и по мере возможности мы всячески стара-
лись сберечь и сохранить их, а в тех случаях, когда
при разбивке участков возникал конфликт с одним из
этих коренных уроженцев, то есть оказывалось, что
такой вот замшелый почтенный дед стоит на меже,
забор описывает небольшой полукруг, с тем чтобы
включить его в сад, или же в бетоне стены учтиво
оставлено свободное пространство, и старик продол-
жает жить наполовину частной, наполовину общест-
венной жизнью, склоняя голые сучья под тяжестью
снега или шелестя своей мелкой, поздно распускаю-
щейся листвой.
Великаны эти — ясени, дерево, которое очень лю-
бит влагу, что указывает на особенность почвы нашей
местности. Только совсем недавно, каких-нибудь пол-
тора десятка лет назад, благодаря человеческой изо-
бретательности здесь стало возможно жить и хоть
что-то сажать. А раньше тут была топь и глушь —
настоящее комариное царство, где только ивы, карли-
ковые тополи да прочая искривленная и низкорослая
древесная мелочь гляделась в стоячие воды болот.
Дело в том, что эта полоска земли — плавни; на глу-
бине нескольких метров лежит водонепроницаемый
40
слой, поэтому почва здесь всегда была болотистой и
в низинах держалась вода. Осушку произвели, опустив
уровень реки, — я мало что смыслю в технике, но, ка-
жется, был применен именно этот прием, — тем самым
почвенная вода, которой некуда было просачиваться,
получила сток; теперь в реку впадают десятки под-
земных ручейков, и почва в значительной мере уплот-
нилась — в значительной мере, потому что когда изу-
чишь местность, как изучили ее мы с Баушаном, то
знаешь в зарослях, вниз по реке, немало поросших
камышом низинок, сохранивших свой первоначальный
вид: укромные уголки, где даже в самый знойный лет-
ний день царит влажная прохлада и где приятно по-
сидеть и отдохнуть в жару.
Вообще местность эта весьма своеобразна, и с пер-
вого же взгляда чувствуешь, как не похожа она на
знакомый нам пейзаж горных рек с хвойными лесами
и мшистыми полянами; даже после того, как ее при-
брала к рукам компания по продаже земельных уча-
стков, она, повторяю, не утратила своего первоначаль-
ного своеобразия, и не только в садах, но и повсюду
исконная коренная растительность явно преобладает
над пришлой и подсаженной. В аллеях и в парке
встречаются, правда, дикий каштан, быстрорастущий
клен, даже бук и всевозможные декоративные кустар-
ники, но все это не здешнее, а посаженное, так же как
и пирамидальные тополя, выстроившиеся в ряд, точно
гренадеры, но бесплодные, несмотря на свою муже^
ственную красоту. Я говорил уже о ясене, как о де-
реве-аборигене,— он попадается здесь на каждом
шагу и представлен всеми возрастами, от нежной мо-
лодой поросли, лезуЪцей прямо из щебня, как сорняк,
до могучих'столетних великанов; именно ясень вместе
с серебристым тополем, осиной, березой, ивой и таль-
ником придают ландшафту его особый характер. Но
все это породы мелколиственные, а мелкость и изяще-
ство листвы, особенно на какой-нибудь древесной гро-
мадине, сразу бросается в глаза и служит отличитель-
ным признаком местности. Исключение составляют
только вязы, подставляющие солнцу свои широкие,
с пильчатыми краями, блестящие и клейкие с верхней
41
стороны листья, а также множество всяких вьющихся
растений, обвивающих стволы более молодых дерев и
смешивающих свою листву с их листвой, так что одну
от другой даже трудно отличить. В низинах стройные
тоненькие ольхи сбегаются рощицами. Липа, напро^
тив, встречается очень редко, а дуб вовсе отсутствует,
так же как и ель. Но по всему восточному склону—»
граница нашего района, где совсем иная почва и по-
тому иная растительность, — высятся ели. Черные на
фоне неба, стоят они, точно стража, и зорко наблю-
дают сверху за нашей долиной.
От склона холма до реки не больше пятисот мет-
ров, я шагами отмерил это расстояние. Вниз по тече-
нию прибрежная полоса веерообразно расширяется,
но это почти незаметно. Всего-то узенькая полоска,
а какое удивительное разнообразие, хотя мы с Бау-
шаном почти никогда далеко не ходим вниз по реке:
походы наши, считая путь туда и обратно, в общей
сложности занимают часа два, не больше. Постоянная
смена впечатлений и возможность бесконечно разно-
образить и варьировать прогулки, так что даже при
давнем знакомстве с местностью она не приедается и
ландшафт не кажется ограниченным, объясняется тем,
что она четко разделена на три совершенно несходные
между собой области, или зоны, из которых можно
выбрать для прогулки какую-нибудь одну или же,
пользуясь поперечными тропами, пересечь все три по-
очередно: с одной стороны — это область реки с при-
мыкающим к ней берегом, с другой — область горного
склона, а посередине — область леса.
Наибольшее пространство занимает зона леса или
парка, чащи, прибрежных зарослей—не знаю даже,
как сказать, чтобы точнее и нагляднее, чем словом
«лес», обозначить особую прелесть этого места. Ко-
нечно, это вовсе не то, что мы обычно понимаем под
словом лес —этакая просторная зала с гладким по-
лом, устланным мхом и опавшими листьями, и пря-
мыми, ровными колоннами-стволами. Деревья наших
охотничьих угодий самого различного возраста и тол-
щины, среди них, особенно вдоль реки, но также и в
глубине леса, попадаются настоящие исполины — ро-.
42
доначальники многочисленного племени ив и тополей;
есть и возмужалый молодняк десяти — пятнадцати лет
и, наконец, легионы тонюсеньких стволиков, посажен-
ные самой природой дикие питомники ясеней, берез,
ольхи, которые, однако, отнюдь не выглядят худосоч-
ными, потому что, как я уже говорил, их снизу доверху
густо опутывают ползучие растения, так что кажется,
будто ты попал в тропики. Впрочем, я подозреваю,
что эти' постояльцы все же задерживают рост прию-
тивших их деревьев, я живу здесь не один год и
что-то не замечаю, чтобы стволики стали хоть
сколько-нибудь толще.
Деревья тут состоят из немногих родственных по-
род. Ольха одного семейства с березой, тополь не
очень-то в конце концов отличается от ивы. А все вме-
сте, пожалуй, приближаются к типическим очертаниям
этой последней; лесоводам известно, как приспосабли-
ваются деревья к характеру окружающей местности,
йе хуже женщин склонны они подражать господствую-
щим линиям и формам. Здесь же господствуют при-
чудливо изломанные формы ивы, верной и постоянной
спутницы всяких проточных и стоячих вод Будто
ведьма из сказки, стоит она, протянув вперед руки со
скрюченными пальцами из которых в разные стороны
торчат метлы ветвей, Ей-то, должно быть, и пытаются
подражать все остальные. Серебристый тополь изги-
бается точь-в-точь, как она, а от тополя в свою оче-
редь не сразу отличишь березу, которая, соблазнив-
шись местной модой, принимает порой самые диковин-
ные позы,—хотя это отнюдь не значит, что здесь не
встречаются, и в достаточном количестве, очень стат-
ные, а при выгодном вечернем освещении попросту
обворожительные особи этого милого дерева. Здеш-*
ние края знавали его и серебряным стерженьком,
увенчанным редкими, торчащими врозь листиками; и
миловидной стройной красавицей с нарядным, белым
как мел, стволом, кокетливо и мечтательно распустив-
шей по плечам зеленые кудри; и старухой поистине
слонообразных размеров, со стволом в три обхвата и
грубой черной потрескавшейся корой, только вверху
еще сохранившей признаки былой белизны...
43
Почва в этих местах имеет очень мало общего
с обычной лесной почвой. Это галька, глина, а местами
чистый песок, так что, казалось бы, ничего на ней ра-
сти не может. Однако, в пределах своих возможно-
стей, она необычайно плодородна. Здесь растет высо-
кая трава, напоминающая сухую остролистую траву,
что встречается в дюнах, зимой она устилает землю,
словно примятое сено, а иногда прямо переходит
в тростник; в других местах эта трава, напротив, ста-
новится мягкой, густой и пышной и вперемежку с бо-
лиголовом, крапивой, мать-мачехой, всевозможными
ползучими растениями, огромным чертополохом и гиб-
кими молодыми побегами служит хорошим прибежи-
щем фазанам и другим птицам, любящим ютиться
среди шишковатых корней деревьев. Из этой зеленой
гущины всюду тянутся вверх и обвиваются спиралью
вокруг деревьев широколистые гирлянды дикого вино-
града и хмеля, даже зимой продолжают они льнуть
к стволам своими жесткими плетями, похожими на ту-
гие веревки.
Нет, это не лес, не парк, а настоящий волшебный
сад. Да, волшебный сад, хотя речь идет о природе
скудной, убогой и даже в какой-то мере искалеченной,
описание которой исчерпывается десятком простейших
ботанических названий. Местность то и дело волнооб-
разно подымается и опускается, что и придает такую
завершенность, такую глубину и замкнутость пейзажу.
Если бы лес здесь тянулся по сторонам на много миль
или хотя бы даже вширь на такое же расстояние, как
в длину, а не насчитывал какую-то сотню шагов от
середины до края, и тогда ощущение уединенности,
глуши и оторванности от мира не могло бы быть боль-
шим. Только доносящийся с востока мерныц шум на-
поминает о дружеской близости реки, не видной от-
сюда... Тут есть лощины, сплошь заросшие бузиной,
бирючиной, жасмином и черемухой, от аромата кото-
рых в паркие июньские дни тяжело дышать. А есть
овраги — самые обыкновенные выемки для добычи
гравия,— где по склонам и на дне ничего не
растет, кроме сухого шалфея да нескольких прути-
ков ивы.
44
Хотя я живу здесь несколько лет и каждый день
бываю в лесу, все это до сих пор кажется мне необык-
новенным и удивительным. Листва ясеней, похожая на
гигантские папоротники, вьющиеся растения, трост-
ник, эта сырость и сушь, эта убогая чащоба неизменно
волнуют мое воображение; временами мне кажется,
будто я перенесся в другую геологическую эру или
в подводный мир, кажется, будто я бреду по морскому
дну, что, впрочем, не так уж далеко от истины, по-
тому что тут и в самом деле когда-то была вода, — во
всяком случае, в тех низинах, которые теперь, в виде
прямоугольных полян с посеянными самой природой
дикими питомниками ясеня, служат пастбищем овцам;
одна такая поляна находится возле самого нашего дома.
Чаща вдоль и поперек изрезана тропинками: ино-
гда это только вьющаяся среди деревьев ленточка
примятой травы, иногда дорожка, конечно, не про-
ложенная, а просто протоптанная, хогя непонятно, кто
и когда протоптал ее, потому что мы с Баушаном
обычно никого в лесу не встречаем, а уж если, в виде
исключения, нам кто-нибудь вдруг попадется на-
встречу, спутник мой остановится, недоуменно погля-
дит на чужака и глухо тявкнет, что довольно точно
выражает и мое отношение к событию. Даже летом,
в погожие воскресные дни, когда к нам на лоно при-
роды из города валят толпы людей (здесь, как-никак,
на несколько градусов прохладнее), по этим стежкам
можно бродить, не боясь столкнуться с гуляющими:
большинство горожан не знает об их существовании,
а кроме того, всех, как полагается, неудержимо тянет
к воде, и людской поток движется вдоль берега реки,
по каменной каемке, если только она не залита водой,
а вечером тем же путем возвращается в город. В лесу
наткнешься разве что на юную парочку под кустом, —
дерзко и боязливо, как зверьки, выглядывают влюб-
ленные из своего убежища, словно намереваясь занос-
чиво спросить нас, уж не возражаем ли мы, что они
тут сидят и развлекаются на свободе, — предположе-
ние, которое мы молча отвергаем тем, что спешим
пройти мимо: Баушан со свойственным ему безразли*
4ß
чием ко всему, что не пахнет дичью, а я с каменным и
бесстрастным лицом, не выражающим ни одобрения,
ни порицания и явно говорящим, что мне до них нет
никакого дела.
Но эти тропки не единственные пути сообщения
в моем парке. Там есть и улицы — вернее сказать, ос-
татки того, что некогда было улицами, или должно
было ими стать, или когда-нибудь, с божьей помощью,
еще станет... Дело в том, что следы кирки первоот-
крывателей и необузданной предпринимательской дея-
тельности встречаются далеко за пределами отстроен-
ной части местности — нашего небольшого поселка.
В ту пору размахивались широко, строили самые сме-
лые планы. Компания по продаже земельных участ-
ков, которая лет десять — пятнадцать назад забрала
в свои руки всю прибрежную полосу, затевала нечто
куда более грандиозное (в том числе и по части диви-
дендов), чем потом получилось: не как нынешняя жал-
кая кучка вилл был задуман наш поселок. Земли под
участки хватало с избытком, с добрый километр вниз
по реке все было подготовлено, да и сейчас готово
к приему любителей оседлого образа жизни и земель-
ных спекулянтов. На заседаниях правления компании
утверждались щедрые сметы. Мало того, что были
укреплены берега реки, устроена набережная, разбит
парк, рука цивилизации протянулась и дальше в лес;
там корчевали, насыпали гравий, в самой чаще вдоль
и поперек прорубали просеки — прекрасно задуман-
ные великолепные улицы, или наброски будущих улиц,
с обозначенными щебнем мостовыми и широкими
тротуарами для пешеходов, по которым, однако, про-
хаживаемся только мы с Баушаном; он — на неизно-
симо-добротных подошвах своих четырех лап, а я
в башмаках, подбитых гвоздями, чтобы не сбить ноги
о камень. Да это и понятно, виллы, которым по замьь
слам и расчетам компании давным-давно надлежало
красоваться среди зелени, так до сих пор и не по-,
строены, и это несмотря на то, что я подал благой
пример, поставив себе здесь дом. Прошло уже десять
или пятнадцать лет, а этих вилл нет как нет, — не
мудрено, что на всем вокруг лежит печать унылого
46
запустения, а компания не желает больше вклады-
вать деньги и достраивать начатое с таким размахом.
А ведь эти улицы без жителей уже имеют назва-
ния, как всякие другие в городе или в предместье;
и я бы дорого дал, чтобы узнать, какой это фантазер
и глубокомысленный эстет из земельных спекулянтов
был их крестным отцом. Тут есть улица Геллерта,
улица Опица, Флемминга, Бюргера и даже Адаль-
берта Штифтера, по которой я с чувством особой при-
знательности и благоговения прохаживаюсь в своих
подбитых гвоздями башмаках. На углах просек по-
ставлены столбы, как это делается на недостроенных
окраинных улицах, где нет углового дома, и к ним
прибиты таблички с названием: синие эмалевые таб-
лички с белыми литерами. Но, увы, таблички эти не-
сколько обветшали, — слишком уж давно обозначают
они наименование запроектированных улиц, на кото-
рых никто не желает селиться, и, может быть, они-то
яснее всего и говорят о запустении, банкротстве и за-
стое в делах. Никому до них нет дела, никто их не
подкрашивает, от солнца и дождя синяя эмаль облу-
пилась, сквозь белые литеры проступила ржавчина,
так что на месте некоторых букв остались либо рыжие
пятна, либо просто дыры с противной ржавой бахро-
мой по краям, и название поэтому иногда так иска-
жается, что его и не прочтешь. Помню, когда я только
что поселился здесь и начал исследовать окрестности,
мне/долго пришлось ломать себе голову над одной та-
кой табличкой. Это была на редкость длинная таб-
личка, и слово «улица» сохранилось полностью, зато
в самом названии, которое, как я уже говорил, было
очень длинным или, вернее, должно было быть длин-
ным, большая часть букв стерлась или же была изъ-
едена ржавчиной: их можно было сосчитать по корич-
невым пятнам, но разобрать что-либо, кроме поло-
винки «в» вначале, «ш» где-то посередине да еще «а»
в конце, не представлялось возможным. Для моих ум-
ственных способностей отправных данных оказалось
маловато, и я решил, что в этом уравнении слишком
много неизвестных. ^Долго стоял я, задрав голову и
заложив руки за спину, изучая длинную табличку.
47
Потом мы с Баушаном пошли дальше по тротуару-
Но хотя я, казалось, думал о других вещах, во мне
шла подсознательная работа, мысль моя упорно воз-
вращалась к стертому имени на табличке, и вдруг
меня осенило, — я даже остановился с испугу, затем
поспешил обратно к столбу, снова уставился на таб-
личку и прикинул. Да, так оно и есть. Оказывается,
я бродил не более и не менее как по улице Вильяма
Шекспира.
Таблички под стать улицам, и улицы под стать
табличкам — запущенные, погруженные в тихую дре-
моту. Справа и слева стоит лес, через который улицы
эти были прорублены, и лес-то уж не дремлет; он не
дает улицам ждать десятилетиями, пока их заселят,
он делает все, чтобы снова сомкнуться, — ведь здеш-
няя растительность не боится камня, она давно к нему
приспособилась; и вот пурпурный чертополох, голубой
шалфей, серебристая верба и нежная зелень молодых
ясеней выбиваются из мостовых и даже бесстрашно
лезут на тротуары; нет сомнения, что улицы, носящие
имена поэтов, зарастают, что лес мало-помалу погло-*
щает их, и, будем ли мы сожалеть о том, или радо-
ваться, все равно через десяток лет улицы Опица и
Флемминга станут непроходимыми, а скорее : всего
просто исчезнут. Сейчас, правда, жаловаться не при-
ходится: с точки зрения живописной и романтической,
они в нынешнем своем виде самые прекрасные улицы
на свете. Приятно бродить по таким недоделанным
улицам, когда ты обут в крепкие башмаки и не чув-
ствуешь под ногами, щебня, и глядеть поверх дикой
поросли, покрывающей мостовые, на мелкую, будто
склеенную теплой влагой, листву, которая обрамляет
и замыкает эти улицы со всех сторон. Такую листву
писал великий лотарингский пейзажист три века назад...
Но что я — такую? Не такую, а эту самую! Он был
здесь, он бродил по этим местам и, конечно, прекрасно
знал их; и если бы делец-фантазер из правления ком-
пании, окрестивший мои лесные улицы, не так строго
придерживался рамок литературы, то на одной из про-
ржавевших табличек я мог бы угадать имя Клода
Лоррена.
48
Итак, я описал среднюю, лесную область. Но район
восточного склона тоже по-своему привлекателен и для
меня и для Баушана, и мы, как это будет видно из
дальнейшего, отнюдь им не пренебрегаем. Его можно
было бы назвать также зоной ручья, потому что
именно ручей и придает ландшафту столь идилличе-
ский характер и, в мирной безмятежности своих усы-
панных незабудками берегов, представляет разитель-
ный контраст могучей реке, отдаленный шум которой,
при частом у нас западном ветре, хоть и слабо, но до-
летает сюда. В том месте, где первая из поперечных
улиц, наподобие дамбы идущая от тополевой аллеи
между полянами и лесными участками по направ-
лению к склону, упирается в его подножье, слева круто
спускается вниз дорога, по которой зимой молодежь
катается на санках. Ручей берет свое начало дальше,
там, где дорога уже идет по ровной местности, и по
его берегу, с правой или с левой стороны, а не то и
переходя с одной стороны на другую, вдоль постоянно
изменяющего свой облик склона горы, охотно прогу-
ливаются хозяин и собака. Слева — расстилаются луга
с разбросанными по ним купами деревьев. Неподалеку
виднеются сараи и какие-то постройки крупного садо-
водства, рядом — пасутся и пощипывают клевер овцы
под началом довольно бестолковой девочки в красном
платье, которая в упоении властью не своим голосом
кричит на них, упершись руками в коленки, но втайне
ужасно боится большого барана, очень величествен-
ного и важного в густой своей шубе, так что тот
совсем перестал ее слушаться и делает что хочет.
Особенно истошно кричит девочка, когда овцы при по-
явлении Баушана панически разбегаются, что проис-
ходит почти всякий раз помимо его воли и желания,
ибо Баушану до овец нет никакого дела, он смотрит
на них, как на пустое место, и даже старается пред-
отвратить их безумства, проходя мимо с подчеркнутой
осторожностью, безразличием и презрительным высо-
комерием. Для моего обоняния овцы пахнут доста-
точно сильно (впрочем, я не сказал бы, что уж так
неприятно), но это все-таки не запах дичи, и потому
Баушану совсем неинтересно за ними гоняться. И все
4 Т. Манн, т. 8
49
же достаточно одного его резкого прыжка или даже
просто его появления, чтобы все стадо, которое за
минуту до того мирно паслось, разбредясь по всему
пастбищу и блея на все голоса, мгновенно сбилось
в кучу и шарахнулось в сторону; а глупая девчонка,
низко согнувшись, кричит им вслед так, что у нее сры-
вается голос и глаза вылезают из орбит. Баушан же
недоуменно оборачивается ко мне, будто призывая
меня в свидетели полной своей непричастности. «Ну
скажи, при чем тут я? Ведь, право же, я их не тро-
гал»,— выражает все его существо.
Но однажды случилось нечто прямо противоположи
ное, — происшествие, пожалуй, даже более тягост-
ное и, во всяком случае, куда более удивительное, не-
жели обычная овечья паника. Овца, самый обыкно-
венный экземпляр своей породы, среднего роста,
с заурядной овечьей мордой, но с тонким приподня-
тым в уголках, будто улыбающимся ртом, придавав-
шим этой твари выражение какой-то злобной глупо-
сти, по-видимому, не на шутку пленилась Баушаном и
увязалась за ним. Она просто за ним пошла, отдели-
лась от стада, бросила выгон и молча, идиотски улы-
баясь, тащилась за ним по пятам. Он сойдет с до-
роги— и она за ним; он побежит —и она припустится
галопом; он остановится — и она тоже станет позади
него и загадочно улыбается. Баушан был явно недо-
волен и смущен; да и в самом деле он попал в дурац-
кое, я бы сказал, нелепейшее положение, ничего бо-
лее глупого никогда не случалось ни с ним, ни со
мной. Овца уже изрядно удалилась от стада, но это, по-
видимому, ее ничуть не тревожило. Она шла следом за
обозленным Баушаном, решив, должно быть, никогда
с ним больше не разлучаться и, прилепившись к нему,
идти за ним хоть на край света. Присмирев, Баушан
старался держаться поближе ко мне не столько из
страха перед навязчивой особой, — для чего, соб-
ственно, не имелось никаких оснований, — сколько от
стыда за такой срам. Наконец вся эта история ему,
видимо, осточертела, он остановился и, повернув го-
лову, угрожающе зарычал. Тут овца заблеяла, ну
совсем как если бы ехидно засмеялся человек, и это
50
так испугало бедного Баушана, что, поджав хвост, он
пустился наутек, а овца вприпрыжку кинулась за ним.
Между тем мы довольно далеко отошли от стада,
и глупая девчонка уже не кричала, а дико вопила,
чуть не лопаясь с натуги; теперь она не только приги-
балась к коленкам, а, помогая крику, вскидывала ко-
ленки под самый подбородок, так что издали казалась
беснующимся красным пятном. То ли на ее крик, то
ли просто заметив что-то неладное, из-за построек вы-
бежала скотница в фартуке. В одной руке у нее были
вилы, другой она придерживала колыхавшуюся на бегу
грудь. Тяжело дыша, она подбежала к нам и, зама«
хиваясь вилами на овцу, которая тем временем сбавила
шаг, потому что и Баушан пошел тише, пыталась по-
вернуть беглянку к стаду, но ей это не удавалось. Овца,
правда, отскакивала в сторону от вил, но, описав
круг, опять трусила вслед за Баушаном, и никакими
силами ее нельзя было отогнать от него. Тут я понял,
что единственный выход — повернуть обратно. И все
мы пошли назад: я, рядом со мной Баушан, за ним
овца, а за овцой скотница с вилами. Между тем де-
вочка в красном, согнувшись, топотала ногами и что-то
выкрикивала нам навстречу. Мы вернулись к стаду,
но на этом- мытарства наши не кончились; пришлось
довести дело до конца, то есть дойти до скотного двора
и овчарни и ждать, пока скотница, навалившись всей
тяжестью на раздвижную дверь, не отворит ее«
А когда вся процессия, соблюдая тот же порядок, во-
шла туда, мы потихоньку выскользнули из овчарни,
захлопнув дверь перед носом одураченной овцы, так
что она оказалась в плену. Только после этого, на-
путствуемые благодарностями скотницы, Баушан и я
могли продолжать прерванную прогулку, но бедняга
до самого нашего возвращения домой был не в духе
и выглядел пристыженным.
Но хватит об овцах. Слева к садоводству примы-
кает вытянувшийся в длину дачный поселок; легкие
фанерные домишки и беседки, очень похожие на ча-
совенки, посреди крохотных огороженных решетками
садиков, придают ему сходство с кладбищем. Сам
поселок тоже обнесен оградой; только счастливые вла-
4*
öl
дельцы участков могут проникнуть туда через решет-
чатые ворота, и порой я вижу, как какой-нибудь лю-
битель-садовод, засучив рукава, усердно вскапывает
свой огородик шага в четыре длиной, а издали ка-
жется, что он роет себе могилу. Потом опять идут луга,
покрытые бугорками кротовых нор, они тянутся до са-
мой опушки леса средней зоны. Кроме кротов, тут во-
дится уйма полевых мышей — что следует иметь в виду,
памятуя о многообразии охотничьих вкусов Баушана.
По другую сторону, то есть справа, ручей бежит все
дальше вдоль склона, который, как я уже говорил,
постоянно меняет свой облик. Сперва этот склон, по-
росший елями, — угрюм и сумрачен, дальше он пере-
ходит в ярко отражающий солнечные лучи песчаный
карьер, еще немного дальше — в гравиевый карьер,
и, наконец, в осыпь из битого кирпича, словно кто-то
там, наверху, развалил дом и ненужные обломки ски-
нул вниз, так что ручей на своем пути наталкивается
на неожиданное препятствие. Но все ему нипочем, он
лишь ненадолго замедляет свой бег и чуточку высту-
пает из берегов, а красная от кирпичной пыли вода
его, омыв прибрежную траву, оставляет на ней розо-
ватый след. Но вот затор позади, и ручей бойко спе-
шит дальше, еще чище и прозрачнее прежнего, весь
осыпанный солнечными блестками.
Я люблю ручьи, люблю, как и всякую воду, будь
то море или поросшая камышом лужица, и, когда ле-
том в горах до моего слуха откуда-то доносится тихий
говор и болтовня ручейка — я иду на этот звук и готов
пройти сколько угодно, лишь бы разыскать, где спря-
тался словоохотливый сынок горных высот, поглядеть
ему в лицо и познакомиться с ним. Хороши горные по-
токи, которые, по-весеннему грохоча, сбегают между
елями с крутых уступов скал, собираются в ледяные
купели и, окруженные белым облаком брызг, отвесно
падают на следующий уступ. Но и ручьи равнин тоже
по-своему привлекательны и дороги мне —все равно,
мелкие ли, едва покрывающие отшлифованные скольз-
ские камешки на дне, или глубокие, как небольшие
речки, стремительно несущие свои воды в тени низко
склонившихся ив, замедляющие бег у берега и убы-
52
стряющие его на середине. Кто из" нас не предпочитал
всем удовольствиям пешую прогулку вдоль берега
реки? То, что вода имеет для человека такую при-
тягательную силу, естественно и закономерно. Чело-
век— дитя воды, ведь наше тело на девять десятых
состоит из нее, и на какой-то стадии внутриутробного
развития у нас появляются жабры. Для меня лично
любоваться водой во всяком ее состоянии и виде —
самый проникновенный и непосредственный способ об-
щения с природой; только любуясь водой, я сливаюсь
с природой до самозабвения, до растворения моего
собственного ограниченного бытия в бытии вселенной.
Вид моря, дремлющего или с грохотом набегающего
на берег, приводит меня в состояние такого глубо-
кого безотчетного забытья, такой самоотрешенности,
что я утрачиваю всякое ощущение времени, перестаю
понимать, что такое скука, и часы наедине с природой
летят, как минуты. Но так же могу я без конца стоять,
облокотившись на перила мостков, переброшенных че-
рез ручей, и, забыв обо всем, смотреть, как внизу те-
чет, бежит и струится вода, и тогда то, другое тече-
ние вокруг меня и во мне — быстрый бег времени —
не властно надо мной, и я уж не ведаю ни страха, ни
нетерпения. 71 люблю стихию воды, и потому мне так
дорога наша узенькая полоска земли между рекой и
ручьем.
Здешний ручей принадлежит к самым скромным и
простым из разнообразного семейства ручьев; ничем
он особенным не примечателен, и характер у него та-
кой, какому и полагается быть у всякой благодушной
посредственности. До наивности прозрачный, не ве-
дая ни лжи, ни фальши, он далек от того, чтобы, при-
крываясь мутью, изображать глубину: он мелок, чист
и бесхитростно выставляет напоказ покоящиеся на
дне его, среди зеленой тины, старые жестяные ка-
стрюли и останки башмака со. шнурком. Впрочем,
он достаточно глубок, чтобы служить приютом
хорошеньким серебристо-серым, удивительно прыт-
ким рыбешкам, которые при нашем приближении
замысловатыми зигзагами бросаются врассыпную.
Кое-где ручей образует бочажки, и его обрамляют
53
чудесные ивы; особенно полюбилась мне одна, — про-
ходя мимо, я всякий раз на нее засматриваюсь. Она
растет на склоне, в некотором отдалении от воды. Но
одна из ее ветвей в страстной тоске тянется вниз
к ручью и достигла, казалось бы, невозможного:
струйки прохладной воды омывают серебристую
листву самой нижней веточки. А ива стоит, насла-
ждаясь этим прикосновением.
До чего же хорошо идти здесь, подставляя лицо
теплому летнему ветерку. Жарко, и Баушан лезет
в ручей охладить живот; спину и плечи он никогда по
доброй воле в воду не окунет. Он стоит неподвижно и,
прижав уши, со смиренным видом смотрит, как вода
обтекает его и, журча, струится у него из-под брюха.
Но вот он бежит ко мне отряхиваться, так как, по
его глубокому убеждению, это почему-то нужно де-
лать в непосредственной близости от меня, и, конечно,
отряхивается с такой силой, что обдает меня с го-
ловы до ног дождем брызг и тины. И как я его ни
отгоняю, и словами и тростью, — все без толку. Тем,
что кажется ему естественным, закономерным и не-,
обходимым, он никогда не поступится.
Дальше ручей поворачивает на запад к маленькой
деревушке, которая, раскинувшись меж^у лесом и
склоном, замыкает вид с севера; на краю ее стоит
трактир. Там ручей опять расширяется наподобие пру-
да; крестьянки, стоя на коленях, полощут в нем белье«
На ту сторону переброшены мостки, и, если пройти
по ним, попадаешь на проселочную дорогу, которая
идет от деревни опушкой леса и краем огороженного
выгона по направлению к городу. Если свернуть с
проселка направо, можно по такой же изъезженной раз-
битой дороге, ближним путем через лес, попасть к реке«
Итак, мы добрались до зоны реки, и вот сама
река перед нами, зеленая, в белой кипящей пене; по
существу это просто большой горный поток, но его
несмолкаемый шум, который слышится по всей окрест^
ности, где более, где менее приглушенно, а здесь, ни-
чем не сдерживаемый, заполняет слух, может на ху-:
дой конец сойти за священный рев морского прибоя.
К этому шуму примешивается беспрерывный крик
54
множества чаек, которые осенью, зимой и даже еще
ранней весной с голодным воплем кружатся у сточ-
ных труб, добывая себе пищу, пока наступление тепла
не позволит им снова отлететь на горные озера; и кря-
канье диких и полудиких уток, которые тоже проводят
холодное время года поблизости от города, качаются
на волнах и, отдав себя во власть быстрине, позво-
ляют ей кружить их и нести к порогам, чтобы в са-
мый последний миг взлететь и немного выше снова
сесть на воду...
Прибрежная область в свою очередь состоит из
нескольких областей помельче, или своего рода усту-
пов. У опушки леса, как продолжение тополевой
аллеи, о которой я уже не раз упоминал, лежит ши-
рокая, покрытая крупным щебнем равнина, прости-
рающаяся примерно на километр вниз по реке,
а именно до домика перевозчика, — об этом домике
еще будет речь впереди,-—за которым чаща подсту-
пает ближе к берегу« Что это за пустыня из щебня,
мы уже знаем: это первый и главный из продольных
проспектов, на котором компания по продаже земель-
ных участков, прельстившись чудесным видом, за-
думала устроить роскошную эспланаду для гулянья:
тут кавалеры на кровных лошадях, склонившись
к дверцам великолепных лакированных ландо,
должны были обмениваться тонкими любезностями
с откинувшимися на сидении улыбающимися да-
мами. Возле домика перевозчика большая доска
с объявлением, наклонившаяся и готовая от ветхости
упасть, проливает свет на то, куда должен был на
первых порах устремляться поток экипажей и верхо-
вых, на конечную цель гуляния: огромными буквами
она оповещает, что угловой участок продается под
ресторан или кафе на открытом воздухе... Да, про-
дается и, видимо, еще долго будет продаваться. По-
тому что вместо кафе на открытом воздухе, вместо
маленьких столиков, снующих официантов и посети-
телей, прихлебывающих кофе, тут все еще висит
покосившаяся доска с объявлением, воплощенное сви-
детельство безнадежно падающего предложения при
отсутствии спроса, а шикарный проспект так и остался
55
покрытой щебнем пустыней, где ивняк и голубой
шалфей разрослись почти так же буйно, как на ули-
цах Опица и Флемминга.
Рядом с эспланадой, ближе к реке, проходит
узенькая, покрытая щебнем насыпь с травянистыми
откосами, на которой стоят телеграфные столбы; она
тоже сильно заросла. Я иногда хожу здесь разнообра-
зия ради или в дождливую погоду: по щебню идти
хоть и трудно, но зато здесь чище, чем на глинистой
пешеходной дорожке внизу. Эта пешеходная до-
рожка— несостоявшийся «променад», — которая тя-
нется далеко вдоль берега и переходит затем в обык-
новенную тропинку, со стороны реки обсажена моло-
дыми деревцами, кленами и березами, а по другую ее
сторону растут здешние могучие старожилы — испо-
линские ивы, осины и серебристые тополя. От до-
рожки вниз к реке идет крутой откос. Чтобы его не
размыло, когда раз или два в году, во время таяния
снегов в горах или во время продолжительных лив-
ней, поднимается вода, откос хитроумно закреплен
плетенками из ивняка и вдобавок, в нижней своей
части, забетонирован. Местами на этом откосе
устроены спуски с деревянными перекладинами, нечто
вроде лестниц, по которым можно довольно удобно
спускаться к речному руслу — вернее, к шестиметро-
вому каменистому пространству, служащему лишь
в паводок ложем большому горному потоку, который
по примеру своих меньших братьев, в зависимости от
водных условий в горах, то пересыхает до крохот:
ного ручейка, едва прикрывающего камни даже в са-
мых глубоких местах, так что кажется, будто голена-
стые чайки стоят прямо на воде, то вдруг вздувается,
превращаясь в огромную бурную реку, способную на
любое бесчинство и насилие, и, беснуясь, мчится по
широкому своему руслу, с диким ревом увлекая и
кружа самые неподобающие предметы — корзины,
кусты, дохлых кошек и тому подобное. Русло также,
на случай паводка, укреплено идущими по диагонали
заграждениями из ивняка, похожими' на плетни. За-
росшее песчанкой, диким овсом и вездесущей красой
наших мест — сухим голубым шалфеем, это русло
56
благодаря выложенной у самой воды каемке из оте-
санных камней вполне проходимо и даже дает прият-
ную возможность разнообразить прогулки. Ходить по
твердому камню несколько утомительно, но это иску-
пается милой близостью воды, а потом можно иногда
пройти кусочек и рядом, по песку, — да, среди гальки
и дикого овса там попадается и песок, правда, с не-
которой примесью глины и не такой девственной чи-
стоты, как морской, но все же настоящий прибреж-
ный песок, так что гуляешь здесь внизу, вдоль реки,
совсем как по бесконечному взморью — тут и шум
волн, и крики чаек, и даже то поглощающее время и
пространство однообразие, в котором блаженно зами-
рает само течение жизни. Скатываясь с небольших
порогов, всюду бурлит вода, а на полпути к дому
перевозчика к этому примешивается еще и грохот
водопада — шум наклонно впадающего в реку на той
стороне водостока. Выгнутая, как бы поблескиваю-
щая чешуей, струя водопада похожа на большую ры-
бину, и вода под ней постоянно кипит.
Хорошо здесь, когда небо голубое и ялик перевоз-
чика то ли в честь прекрасной погоды, то ли по слу-
чаю праздника украшен вымпелом. У причала стоит
несколько лодок, но к ялику перевозчика прикреплен
трос, который в свою очередь соединяется с другим,
более толстым тросом, протянутым наискось поперек
реки, и ходит по нему на блоке. Лодку гонит само те-
чение, а перевозчик только направляет ее, чуть пово-
рачивая руль. Перевозчик с женой и ребенком живут
в домике, который стоит немного отступя от верхней
пешеходной дорожки; при домике огород и курятник,
квартира эта, конечно, казенная, и они ничего за нее
не платят. Затейливой архитектуры, со множеством
фонариков и балкончиков, домик с двумя комнатами
в нижнем и двумя — в верхнем этаже похож на игру-
шечную виллу. Я люблю сидеть на скамейке перед
садиком у самой пешеходной дорожки, Баушан
укладывается на моей ноге, вокруг бродят куры
перевозчика, при каждом шаге вскидывая голову, а ря-
дом, на спинку скамьи, обычно взгромождается краса-
вец петух и, опустив хвост с роскошными, как у бер-
57
сальеров, зелеными перьями, искоса зорко наблюдает
за мной красным глазом. Я смотрю, как работает пере-
воз; не сказал бы, чтобы дело шло бойко или хотя бы
оживленно, — в кои-то веки кого перевезут! Тем
приятнее видеть, когда с той или с этой стороны реки
появится мужчина или женщина с корзинкой и по-
требует, чтобы их переправили, ибо романтика «пере-
воза» сохранила для нас свою былую притягатель-
ную силу, даже когда все, как тут, устроено на совре-
менный лад и усовершенствовано. Сдвоенные дере-
вянные лестницы для прибывающих и отбывающих
ведут с обоих откосов вниз к мосткам; сбоку, возле
лестниц, проведены электрические звонки. Вот на том
берегу показался человек, он стоит неподвижно и
смотрит через реку на нашу сторону. Теперь уж ему
не приходится кричать, как бывало, сложив руки
трубой. Он подходит к звонку и нажимает кнопку.
Пронзительный звонок на вилле означает: «Эй, пере-
возчик!», но даже и в таком виде вызов лодки не
утратил своей поэзии. Потом жаждущий переправы
стоит, ждет и всматривается, не идет ли кто. Не успел
еще отзвонить звонок, а уж перевозчик выходит из
своего казенного домика, словно он все время стоял
или сидел за дверью, дожидаясь звонка, — выходит и
идет, как заводная игрушка, — нажали на кнвпку, она
и пошла, — впечатление почти такое, как в тире, когда
стреляешь в дверцу домика и, если выстрел удачный,
оттуда выскакивает фигурка — альпийская пастушка
или солдатик. Не спеша, в такт шагам размахивая
руками, перевозчик идет через садик, пересекает
пешеходную дорожку, спускается по деревянной лест-
нице к реке, отвязывает ялик и садится за руль.
Блок бежит по тросу, и лодку несет течением к про-
тивоположному берегу. Там он ждет, пока не усядется
пассажир, а когда они подъезжают к нашим мосткам,
тот подает перевозчику десять пфеннигов и, доволь-
ный тем, что река осталась позади, весел* взбегает
по лестнице и поворачивает направо или налево по
тропинке. Когда перевозчик болен или занят неотлож-
ными домашними делами, случается, что вместо него
на звонок выходит его жена или даже сынишка; они
58
справляются с его работой ничуть не хуже, чем он
сам, как, впрочем, справился бы и я. Должность пере-
возчика не сложная и не требует никаких особых та-
лантов или специального обучения. Словом, он дол-
жен денно и нощно благодарить судьбу за то, что ему
досталась такая синекура и хорошенький домик. Лю-
бой дурак мог бы его заменить, он и сам это велико-
лепно знает и потому держится скромно, даже
несколько подобострастно. Увидев меня на скамье
в обществе петуха и собаки, он учтиво желает мне
доброго утра, да и вообще по всему видно, что он не
хочет наживать себе врагов.
Запах смолы, влажный ветер и глухой плеск волн
о борта лодок. Чего же мне еще желать? Но порой
на меня находят иные, дорогие моему сердцу воспо-
минания: вода спала, чуть пахнет гнилью — это ла-
гуна, Венеция. Но вот вода опять прибыла, льют не-
скончаемые дожди; в резиновом плаще, с мокрым ли-
цом, я шагаю по верхней дорожке, борясь с крепким
вестом, который немилосердно треплет молодые то-
поли в аллее, отрывая их от кольев, и наглядно пока-
зывает, отчего все деревья здесь кривые с разрос-
шимися в одну сторону кдонами. А дождь все льет и
льет, и Баушан то и дело останавливается посреди
дорожки и отряхивается, обдавая грязью все вокруг.
Реку не узнать. Вздувшаяся, желто-черная, она как
одержимая мчится вперед. Поток напирает, спешит —
грязные волны заливают все русло до самого края
откоса, ударяются о его бетонированное подножье,
о переплеты из ивняка, так что поневоле начинаешь
благословлять предусмотрительность людей, укрепив-
ших берег. Река при этом почти не шумит, она как бы
притихла, и тишина ее особенно зловеща. Привыч-
ных нам порогов не видно, они под водой, но, по тому
что в некоторых местах волны выше, провалы между)
ними глубже и гребни опрокидываются не вперед,
как у берега, а назад, — угадываешь, что здесь-то и
находятся пороги. Водопад совсем сошел на нет — это
всего лишь плоская жалкая струйка, и кипенье под
ним почти незаметно ' из-за высокой воды. Баушан
взирает на все эти перемены с безграничным удивле«
69
нием. Он опешил и никак не может взять в толк,
куда же делось сухое место, по которому он привык
бегать и носиться галопом, и почему здесь сегодня
вода; в страхе удирает он вверх по откосу от набе-
гающих валов, виляя хвостом, оборачивается ко мне,
опять смотрит на воду и при этом в недоумении как-то
криво открывает и снова закрывает пасть, высовывая
сбоку кончик языка, — игра физиономии, столь же
свойственная людям, как и животным, и хотя как
форма выражения не очень-то изысканная и даже
вульгарная, но зато весьма удобопонятная; очутив-
шись в таком же затруднительном положении, к ней
вполне мог бы прибегнуть несколько ограниченный и
не слишком культурный человек, причем он, наверное,
еще почесал бы в затылке.
Остановившись более или менее подробно на зоне
реки, я тем самым завершил описание всей нашей
местности и сделал, насколько я понимаю, все от меня
зависящее, чтобы читатель мог наглядно себе ее
представить. В моем описании мне эти края нравятся,
но в натуре нравятся еще больше. Как ни говори,
а в жизни все определеннее и многограннее, так же
как Баушан в действительности непосредственнее, жи-
вее и забавнее, чем его сотканный из слов двойник.
Я привержен к здешней природе, благодарен ей и по-
тому описал ее. Она мой парк и мое уединение; мои
мысли и мечты смешались и переплелись с ее пейза-
жами, как листва ее хмеля и дикого винограда пере-
плелась с листвой деревьев. Я видел ее во всякое
время дня и во всякое время года: осенью, когда
в воздухе стоит лекарственный запах прелого листа,
когда заросли чертополоха уже успели отцвести, и
громадные буки «курортного» парка расстилают по
лугу ржаво-красный ковер опавших листьев, и струя-
щиеся золотом летние дни переходят в ранние ро-
мантически-театральные вечера с плывущим по небу
трафаретным серпом луны, молочными туманами над
землей и закатом, пылающим сквозь черные силуэты
деревьев... Осенью, а также зимой, когда щебень за-
сыпан снегом и по мягкой ровной дороге можно спо-
койно ходить в резиновых ботах, когда река стре-
во
мится вперед, черная между белесыми, скованными
льдом берегами, и в воздухе с утра до ночи стоит
крик сотен чаек. Но все же самые короткие и непри-
нужденные отношения устанавливаются у меня с ней
в теплые месяцы, когда можно, не одеваясь, между
двумя ливнями, на четверть часа выскочить на аллею,
мимоходом притянуть к лицу мокрую ветку черемухи
и бросить хотя бы один взгляд на бегущие волны.
Или, к примеру, от тебя только что ушли гости, и ты,
до смерти усталый от всех разговоров, остался один
в четырех стенах, где воздух еще пропитан дыханием
чужих людей. Тогда хорошо сразу же, в чем есть,
выйти побродить по улицам Геллерта и Штифтера,
отдышаться и прийти в себя. Смотришь вверх на
небо, смотришь на тонкую и нежную листву вокруг,
нервы успокаиваются, и к тебе возвращается обычная
спокойная серьезность и ясность.
Но Баушан всегда со мной. Ему не удалось поме-
шать вторжению внешнего мира в наш дом: сколько
он ни протестовал яростным лаем, сколько ни
рвался — все было напрасно, и он удалился в свою
конуру. Теперь он не помнит себя от счастья, что
я снова с ним, в наших охотничьих угодьях. Левое ухо
у него небрежно завернулось, и он трусит впереди ме-
ня бочком, по собачьему обыкновению, так что задние
лапы движутся не по одной линии с передними,
а чуть наискось. Но вот я вижу, что-то захватило вни-
мание Баушана, его торчащий кверху обрубок хвоста
начинает отчаянно вилять. Тело напряженно вытяги-
вается, голова опущена книзу, он делает прыжок в
одну сторону, затем в другую и, наконец, избрав на-
правление, уткнувшись носом в землю, устремляется
вперед. Это след! Баушан напал на след зайца.
ОХОТА
Местность наша богата дичью, и мы охотимся;
вернее сказать, Баушан охотится, а я смотрю. Таким
манером мы охотимся на зайцев, куропаток, полевых
мышей, кротов, уток и чаек. Но мы не отступаем и
61
перед охотой на крупную дичь — подымаем фазанов
и даже выслеживаем косуль, если им случается зи^
мой забрести в наши края. Какое это волнующее зре-
лище, когда желтое на фоне снега тонконогое легкое
животное, вскидывая белый зад, как ветер мчится от
маленького, напрягающего все силы Баушана, — я не
отрываясь слежу за такой погоней. Не то чтобы тут
могло что-нибудь получиться — этого никогда не было
и не будет. Но отсутствие осязаемых результатов не
охлаждает страсти и азарта Баушана, да и мне не
портит удовольствия. Мы любим охоту ради охоты,
а не ради добычи или корысти, и, как я уже говорил,
главную роль в ней играет Баушан. Он не ждет от
меня ничего, кроме моральной поддержки, ибо из
своего личного и непосредственного опыта не знает
иного взаимодействия между хозяином и собакой и
не представляет себе существования более жестокого
и практического способа заниматься этим делом.
Я подчеркиваю слова «личный» и «непосредственный»,
так как не подлежит сомнению, что его предки, по
крайней мере по линии легавых, знали настоящую
охоту, и я не раз задавал себе вопрос, не живет ли
в Баушане подспудно память об этом и не может ли
какой-нибудь случайный внешний толчок ее пробу-
дить. На такой ступени различие между особью и ро-
дом более поверхностно, чем у людей, рождение и
смерть не вызывают столь глубоких сдвигов бытия, и
родовые традиции, вероятно, лучше передаются потом-
ству, так что, хоть это и кажется несообразным, мы
тут вправе говорить о врожденном опыте, о неосознан-
ных воспоминаниях, которые, будучи вызваны извне,,
могут прийти в столкновение с личным опытом жи-
вого существа и породить в нем чувство неудовлетво-
ренности. Мысль эта одно время меня тревожила, но
потом я выкинул ее из головы, так же как Баушан«
по-видимому, выкинул из головы жестокое происше-
ствие, которому однажды был свидетелем и которое
послужило поводом к моим размышлениям.
Отправляемся мы с ним на охоту обычно, когда
время уже близится к полудню; впрочем, иногда, осо-
62
бенно в жаркие летние дни, и под вечер, часов в шесть
или позже, а бывает, что в эти часы мы выходим из
дому'уже во второй раз, — так или иначе, но настрое-
ние у меня совсем другое, чем при нашей утренней
безмятежной прогулке. Свежести и бодрости уже нет
и в помине, я трудился, мучился, стиснув зубы, пре-
одолевал трудности, вынужденный биться с частно-
стями и в то же время не упускать из виду той более
общей и многообразной связи, которую я обязан, ни-
чем не смущаясь и ни перед чем не отступая, просле-
дить во всех мельчайших ее разветвлениях, и голова
у меня трещит от усталости. Вот тут-то меня и выру-
чает охота с Баушаном, я отвлекаюсь, настроение по-
дымается, прибывают силы, и я уже,могу работать
всю вторую половину дня, за которую мне немало
еще предстоит сделать. Я это и ценю и помню, и по-
тому хочу описать нашу охоту.
У нас, конечно, так не выходит, чтобы, нацелиться
на одну какую-нибудь дичь из вышеприведенного
перечня и идти, скажем, только на зайцев или на
уток. Мы охотимся на все вперемешку, что бы нам ни
попало — чуть было не сказал «на мушку», да нам и
ходить далеко не надо, охота начинается сразу же
у калитки: на лугу возле нашего дома пропасть кро-
тов и полевых мышей. Эти плюшевые зверюшки,
строго говоря, не дичь, но их подземный образ жизни
и скрытный нрав, в особенности хитрость и провор-
ство мышей, которые, в отличие от своих зарывшихся
в землю слепых сородичей, отлично видят при свете
и часто шныряют поверху, чтобы при малейшем шо-
рохе опасливо и так стремительно юркнуть в черную
норку, что даже не разглядишь, как они переступают
лапками, — неотразимо действуют на охотничьи
инстинкты Баушана, и потом это единственная дичь,
которую ему иной раз удается поймать, а полевая
мышь или крот, по нынешним тяжелым временам,
когда в миску у конуры изо дня в день наливается
пресная ячневая похлебка, — право же, лакомый ку-
сочек.
Итак, не успеваю я несколько раз взмахнуть тро-
сточкой, шагая по нашей тополевой аллее, как только
63
что носившийся взад и вперед Баушан уже проделы-
вает какие-то диковинные скачки справа на лугу. Его
обуяла охотничья страсть, он ничего не видит и не
слышит, кроме волнующего присутствия незримых
зверьков: весь напрягшись, нервно виляя хвостом и,
осторожности ради, высоко подбирая ноги, крадется
он по траве, на полушаге замирает с поднятой перед-
ней или задней лапой, склонив голову набок и опу-
стив морду, так что большие лопухи приподнятых
ушей свисают у него спереди по обе стороны глаз,
сверху вниз в упор смотрит на землю и вдруг делает
скачок вперед, накрывая что-то обеими лапами, еще
скачок — и удивленно глядит туда, где только сейчас
что-то было, а .теперь уже ничего нет. Затем он начи-
нает копать... Мне очень хочется посмотреть, что он
копает и до чего докопается, но тогда мы далеко не
уйдем, потому что Баушан способен весь свой охотни-
чий заряд израсходовать на полянке у дома. Посему
я спокойно иду дальше: сколько бы Баушан тут ни
проторчал, он все равно меня найдет, даже если но
видел, куда я свернул, — след мой для него не менее
ясен, чем след зверя; потеряв меня из виду, он
уткнется носом в землю и помчится по следу, и вот уж
я слышу позвякивание жетончика Баушана, слышу
за спиной его упругий галоп, он стрелой проносится
мимо, круто заворачивает и глядит на меня, виляя
хвостом, будто хочет сказать: «А вот и я!»
Но в лесу или на лугах возле ручья, завидев Бау-
шана у мышиной норы, я иногда останавливаюсь и
наблюдаю за ним, даже если солнце клонится к за-
паду и я без толку теряю время, положенное на про-
гулку. Меня захватывает его пыл, заражает его усердие,
я от души желаю ему успеха и хочу быть свидетелем
его торжества. Подчас глядишь на место, где Баушан
копает, и ничего не замечаешь — просто какой-ни-
будь поросший мхом и оплетенный корнями буго-
рок под березой. Но Баушан услышал, учуял дичь,
может быть даже видел, как она туда прешмыгнула;
он уверен, что мышка отсиживается тут под землей
в своих ходах и переходах, нужно только до нее до-
браться; и вот он самоотверженно роет, позабыв обо
64
всем на свете и не щадя сил, — впрочем, злобы в нем
нет, — любо-дорого смотреть на этот чисто спортив-
ный азарт. Его маленькое пятнистое тельце с обозна-
ченными под тонкой кожей ребрами и играющими мус-
кулами прогнуто посредине, зад торчит кверху, и-
над ним лихорадочно бьется обрубок хвоста, голова
и передние лапы почти исчезли в наклонно углубляю-
щейся ямке, которую Баушан, отвернув морду, копает
железными когтями с таким жаром, что куски дерна
и корней, комья земли и камешки ударяются даже
о поля моей шляпы. Время от времени, когда он, про-
двинувшись немного вперед, перестает копать и;
уткнувшись носом в землю, старается чутьем опреде-
лить, где же там, внизу, притаился пугливый умнень-
кий зверек, в тишине слышно его сопенье. Звук полу-
чается глухой, потому что Баушан спешит вобрать
в себя воздух, чтобы очистить легкие и снова приню-
хаться — учуять этот тонкий, идущий из-под земли, не
очень сильный, но острый мышиный запах. Каково-то
несчастному зверьку слышать это глухое сопение! Но
это уж его дело и дело господа бога, сотворившего
Баушана врагом и гонителем полевых мышей, а потом
ведь страх обостряет восприятие жизни, мышка на-
верно бы затосковала, не будь на свете Баушана, и
на что бы ей тогда ум, светящийся в бисеринках глаз,
и ее сноровка сапера, — словом, все, что уравнивает
шансы в борьбе и делает сомнительным успех напа-
дающей стороны? Я не испытываю ни малейшего со-
страдания к мышке, внутренне я полностью на стороне
Баушана и часто, не довольствуясь ролью простого
наблюдателя, начинаю тростью выковыривать крепко
засевший камешек или неподатливый корешок, по
мере своих сил и возможностей помогая псу преодо-
леть лежащее на его пути препятствие. Тогда, признав
во мне единомышленника, он, не отрываясь от дела,
бросает на меня быстрый, горячий и благодарный
взгляд. Всей пастью вгрызается он в твердую, порос-
шую корешками землю, оторвет комок и бросит в сто-
рону; глухо сопя, принюхается и, воодушевлен-
ный запахом, опять с остервенением пустит в ход
когти...
5 Т. Манн, т. 8
65
В большинстве случаев все его усилия оказываются
напрасными. С выпачканным землей носом, грязный
по самые плечи, он небрежно еще раз обнюхивает
ямку и траву вокруг и, отказавшись от своей затеи,
с завидным безразличием семенит дальше.
— Ну зачем ты копал? Там же ничего не было, —*
говорю я Баушану, когда он на меня смотрит, — ни-
чего не было, — повторяю я и, для большей убедитель-
ности, качаю головой и даже поднимаю брови и
плечи.
Но Баушана нет надобности утешать, неудача ни-
сколько его не обескуражила. Охота есть охота, жар-
кое тут на последнем месте, зато до чего же было
хорошо потрудиться, думает он, если вообще еще ду-
мает об осаде, которую только что вел с таким усер-
дием; его уже тянет на новые авантюры, случай к ко-
торым представляется во всех трех зонах буквально
на каждом шагу.
Но бывает и так, что мышке не удается ускольз-
нуть от него, и тогда мне приходится пережить не-
сколько неприятных минут, потому что Баушан тут же,
без всякой жалости, пожирает ее живьем со всеми
потрохами. Может быть, инстинкт самосохранения
подвел злосчастную мышку — и она выбрала себе
под жилье слишком рыхлое, малозащищенное место,
до которого ничего не стоило докопаться; а может, ход
был очень мелкий, и она, потеряв голову, не сумела
его углубить: засела в нескольких дюймах от поверх-
ности земли и с выпученными бисеринками глаз, об-*
мерев от ужаса, прислушивалась к страшному сопе-
нию, которое все приближалось и приближалось. Как
бы там ни было, железный коготь выволок ее на-
ружу и подбросил вверх — на страшный свет божий, —*
пропала мышка! Недаром ты дрожала от страха, и
твое счастье, если от великого страха у тебя пому-
тился рассудок, потому что теперь ты пойдешь Бау-<
шану на жаркое! Он держит ее за хвост, мотает по
земле раз-другой; слышится тонкий, слабый писк, по-
следний писк покинутой богом мышки, и вот уж она
у Баушана в пасти, между его белыми зубами. Ши-
роко расставив задние ноги, он стоит подавшись впен
66
ред и, жуя, вскидывает голову, будто снова и снова
подхватывает на лету кусок, чтобы половчее перебро-
сить его в пасти. Косточки хрустят, еще какое-то мгно-
вение лоскуток шкурки свисает у него с уголка губ,
он подхватывает его, — все кончено; и Баушан начи-
нает исполнять вокруг меня нечто вроде воинствен-
ного победного танца, а я стою, как стоял во время
всей этой сцены, опершись на тросточку, и наблюдаю.
«Ну и ну! — говорю я ему с почтением, исполненным
ужаса, и качаю головой. — Знаешь, кто ты? Самый
настоящий каннибал и убийца!» Но в ответ Баушан
лишь пуще прежнего скачет, и недостает только,
чтобы он громко захохотал. Итак, я иду дальше по
тропинке, чувствуя в спине неприятный холодок от
того, что сейчас видел, но вместе с тем и в какой-то
мере приободренный грубым юмором жизни. То, что
случилось, естественно и закономерно: если мышью
плохо управляет инстинкт, она превращается в жар-
кое для Баушана. Однако в таких случаях мне прият-
нее, если я не помогал тросточкой этому естествен-
ному и закономерному порядку, а ограничился чисто
созерцательной ролью.
Когда, после недолгих поисков Баушан острым
своим чутьем обнаруживает в кустарнике фазана, ко-
торый спал там или притаился, надеясь остаться не-
замеченным, и тяжелая птица внезапно вылетает из
куста, можно не на шутку испугаться. С шумом,
с треском, взволнованно и гневно крича и кудахча,
большая красно-рыжая длинноперая птица поды-
мается в воздух и, роняя помет, тут же с глупым без-
рассудством курицы садится на ближнее дерево, где
продолжает клохтать, а Баушан, упершись передними
лапами в ствол, бешено лает на нее. Гав! Гав! Что
сидишь, безмозглая птица, лети, а я за тобой пого-
няюсь, — как бы хочет он сказать своим лаем. И ди-
кая курица, не выдержав мощного гласа, снова с шу-
мом срывается с ветки и, тяжело взмахивая крылья-
ми, летит между макушками деревьев, не переставая
клохтать и жаловаться, а Баушан молча, как и подо-
бает мужчине, преследует ее по земле.
В этом, и только в этом, его блаженство, ничего дру-
5*
67
гого он не хочет и не знает. Да и что бы произошло,
если бы он в самом деле поймал фазана? Ничего
бы не произошло. Я видел однажды, как Баушан дер-
жал фазана в когтях; вероятно, мой охотник наступил
на него, когда тот спал, и неуклюжая птица не успела
подняться в воздух — и вот смущенный победитель
стоял над ней и не знал, что ему делать. Фазан ле-
жал в траве с оттопыренным крылом и, вытянув шею,
кричал, кричал без умолку, так что издалека можно
было подумать, что в кустах режут старуху, и я бро-
сился туда, чтобы предотвратить злодейство. Но тут
же я убедился, что страхи мои напрасны: явное заме-
шательство Баушана, любопытство и брезгливость,
с каким он, склонив голову набок, взирал на своего
пленника, служили тому порукой. Этот бабий крик
у его ног, видимо, действовал ему на нервы, и он не
столько торжествовал победу, сколько был смущен-
Пощипал ли он немного, почета и посрамления ради,
пойманную птицу? Мне представляется, что я видел,
как он одними губами, не пуская в ход зубов,, выдер-
нул у нее из хвоста несколько перьев и, сердито мо-
тая головой, отбросил их в сторону. Потом оставил
фазана в покое и отошел, не из великодушия, а по-
тому, что вся эта история уже не походила на веселую
охоту и порядком ему наскучила. Посмотрели бы вы,
как опешил фазан1 Несчастный, должно быть, уже
простился с жизнью и сперва даже не знал, как ею
распорядиться, во всяком случае он довольно долго
лежал в траве, как мертвый. Затем проковылял не-
сколько шагов, кое-как взгромоздился на сук, с кото-
рого, покачнувшись, чуть не свалился, и, волоча за со-
бой длинный шлейф хвоста, полетел прочь. Больше
фазан уже не кричал, предпочитая держать язык за
зубами. Молча пролетел он над парком, пролетел
над рекой, над левобережными лесами, все даль-
ше и дальше, как можно дальше от этих проклятых
мест, и, конечно, никогда уже больше сюда не возвра-
щался.
Но в наших угодьях немало его сородичей, — и
Баушан охотится за ними по всем правилам охотни-
чьего искусства. Пожирание мышей — единственное
68
душегубство, в котором он повинен, но и оно является
чем-то побочным и вовсе не обязательным по сравне-
нию с высокой самоцелью, состоящей в том, чтобы
выслеживать, поднимать, гнать, преследовать, — это
признал бы всякий, увидев его за этой великолепной
забавой. Как он тогда хорош, как изумителен, как ве-
ликолепен: Баушан сразу преображается, совершенно
так же, как неуклюжий крестьянский парень из гор-
ной деревушки вдруг становится картинно красив,
когда, охотясь на серну, стоит с ружьем на скале.
Все, что есть в Баушане лучшего, подлинно благо-
родного, раскрывается и получает развитие в эти
блаженные минуты, потому-то он так и ждет их и так
страдает, когда время уходит попусту. Ну какой же
Баушан пинчер, это самая настоящая подружейная
собака, легаш, и каждое его движение, каждая воин-
ственная и мужественно-простая поза, дышат гордо-
стью и счастьем. Я испытываю истинное эстетическое
наслаждение, когда вижу, как он пружинистой рысью
бежит по кустарнику и вдруг замирает в стойке с гра-
циозно поднятой и чуть повернутой внутрь лапой; ка-
кой у него значительный вид, какая смышленая, вни-
мательная морда, и до чего он хорош в напряжении
всех своих сил и способностей! Случается, что, про-
бираясь сквозь чащобу, Баушан взвизгивает. Напо-
рется на колючку и громко скулит. Но и это в по-
рядке вещей, и это — только беззастенчиво-откровен-
ное выражение непосредственных ощущений, лишь
ненадолго умаляюшее его достоинство; секунду спу-
стя Баушан уже снова стоит во всем своем блеске и
великолепии.
Я смотрю на него и вспоминаю время, когда, утра-
тив всякую гордость и внутреннее достоинство, он
опять опустился до того жалкого физического и нрав-
ственного состояния, в каком впервые предстал перед
нами на кухне фрейлейн Анастасии и которое не без
труда преодолел, постепенно обретя веру в себя и
в окружающий мир. Не знаю, что с ним было — шла
ли у него кровь из пасти, из носу или горлом, да и по
сей день это никому не известно; во всяком случае,
куда бы Баушан ни пошел и где бы он ни стоял,—
69
везде оставались кровавые следы — на траве наших
угодий, на его соломенной подстилке, на паркете
кабинета, и никаких ран или царапин мы не обнару-
живали. Иногда казалось, что он вымазал всю морду
красной масляной краской. Он чихал — и во все сто-
роны летели кровавые брызги, он наступал на них и
всюду оставлял кирпичный отпечаток лап. Самый тща-
тельный осмотр не дал никаких результатов, и мы не
на шутку встревожились. Может быть, у него тубер-
кулез? Или какая-нибудь неизвестная нам собачья бо-
лезнь? Поскольку это столь же непонятное, сколь и
неопрятное явление не прекращалось, решено было
поместить его в ветеринарную лечебницу.
На следующий день, около полудня, хозяин дру-
жественной, но твердой рукой надел ему намордник —■
эту штуковину из кожаных ремешков, которую Бау-
шан совершенно не выносит и от которой непременно
хочет избавиться, стаскивая ее лапами и крутя, голо-
вой,— пристегнул к ошейнику плетеный поводок и
повел взнузданного таким образом больного налево по
аллее, затем через городской парк и далее вверх по
людной улице, к виднеющимся в конце ее корпусам
университета. Там мы вошли в ворота, пересекли двор
и очутились в приемном покое, где на скамейках вдоль
стен дожидалось много народа, и у всех, как и у меня,
на поводках были собаки — собаки самых различных
пород и величины, которые уныло глядели друг на
друга через кожаные свои забрала. Тут была старушка
с апоплексическим мопсом, слуга в ливрее с тонконо-
гой, белой, как ромашка, русской борзой, время от
времени тихо и благовоспитанно покашливавшей,
крестьянин с таксой, у которой были такие кривые и
вывернутые наизнанку ноги, что она, по-видимому,
нуждалась в услугах ортопеда, и многие другие. Сно-
вавший взад и вперед служитель впускал посетите*
лей по одному в кабинет напротив; наконец очередь
дошла и до меня с Баушаном.
Профессор, человек еще не старый, в белом опе-
рационном халате и в золотом пенсне, с шапкой кур-
чавых волос и таким знающим добросердечно-участ-
ливым видом, что, заболей я сам или кто-нибудь из
70
домашних, я бы, не задумываясь, обратился к нему,
слушая меня, все время отечески улыбался сидев-
шему перед ним пациенту, который тоже доверчиво
глядел на него снизу вверх. «Красивые у него
глаза», — сказал профессор, оставив без внимания
усы и клинообразную бородку Баушана, и выразил
согласие его осмотреть.
Оцепеневшего от удивления Баушана с помощью
санитара разложили на столе, и я, признаться, даже
растрогался, видя, с каким вниманием и добросовест-
ностью врач прикладывал черную трубку к пятни-
стому тельцу кобелька, совершенно так же, как это не
раз делали со мной. Он выслушал его ускоренно бью-
щееся собачье сердце, выслушал в различных местах
работу других внутренних органов. Затем, засунув
стетоскоп под мышку, обеими руками обследовал его
глаза, нос, горло, после чего поставил предваритель-
ный диагноз. Собака несколько нервна и малокровна,
но, в общем, в хорошем состоянии. Причина кровоте-
чения пока неясна. Это может быть эпистаксия или
гематемезия. Не исключено также и трахеальное или
фарингиальное кровотечение. Но скорее всего это
гемаптеза. Необходимо тщательно наблюдать за жи-
вотным в клинических условиях, а потому лучше оста-
вить его здесь и через недельку наведаться.
Мне оставалось только поблагодарить профессора
за столь обстоятельное разъяснение и откланяться, что
я и сделал, похлопав Баушана на прощание по плечу.
Направляясь к воротам, я видел, как служитель вел
нового больного через двор к стоящему поодаль зда-
нию и как Баушан, растерянно и испуганно озираясь
по сторонам, искал меня глазами. А ведь по суще-
ству-то он должен был быть польщен: мне, откровенно
говоря, было лестно, что профессор признал его нерв-
ным и малокровным. Кто на ферме в Хюгельфинге
чаял и гадал, что о Баушане скажут такое и что его
персоной будут заниматься ученые люди!
Но прогулки мои с этого дня стали какие-то прес-
ные, я получал от них мало удовольствия. Выхо-
дишь— тебя не встречает буря молчаливого восторга,
гуляешь — нет вокруг тебя мужественной охотничьей
71
суетни. Парк, казалось, опустел, мне было скучно.
Почти каждый день я по телефону справлялся
о здоровье Баушана. Ответ, сообщаемый какой-то
подчиненной инстанцией, неизменно гласил: «Само-
чувствие больного, в его состоянии, удовлетворитель-
ное», но что это за состояние, мне, по каким-то
соображениям, не говорили. Тем временем прошла
неделя, как я отвел Баушана в лечебницу, и я решил
пойти туда сам.
Прибитые всюду таблички с надписями и указую-
щими перстами привели меня прямо к двери клиниче-
ского отделения, где помещался Баушан, и я, следуя
строгому предписанию на двери, вошел туда без стука.
Средней величины палата, в которой я очутился, на-
поминала зверинец, да и воздух в ней был такой же
тяжелый, только что к звериному духу здесь приме-
шивался еще сладковатый запах всевозможных ле-
карств— смесь, от которой противно першило в горле
и подташнивало. По стенам шли клетки, большая
часть которых была занята. Из одной клетки на-
встречу мне раздался хриплый лай; у ее отворенной
дверцы возился человек, вооруженный граблями и ло-
патой, должно быть служитель. Не прерывая своего
занятия, он ответил на мое приветствие и предоставил
меня самому себе.
Еще на пороге я, оглядевшись, увидел Баушана и
теперь направился к нему. Он лежал за решеткой
своей клетки на подстилке то ли из толченой дубовой
коры, то ли из каких-то опилок, отчего в палате по-
мимо звериного запаха, вони карболки и лизоформа
разило еще чем-то, — лежал как леопард, но очень
усталый, очень безучастный и скучный леопард; я даже
испугался, когда увидел, с каким мрачным безразли-
чием он отнесся к моему появлению и присутствию
здесь. Раз или два вяло стукнул хвостом по подстилке
и только после того, как я с ним заговорил, оторвал
голову от лап, но тут же снова ее уронил и хмуро
уставился в стенку. К его услугам в глубине клетки
стояла глиняная миска с водой. Снаружи, к прутьям
решетки, был прикреплен в рамочке наполовину пе-
72
чатный, наполовину заполненный от руки скорбный
лист, где под графами кличка, порода, пол и воз-
раст была выведена температурная кривая. Там
стояло: «Помесь легавой, кличка Баушан, кобель, воз-
раст два года, поступил такого-то числа, такого-то
месяца, года... для исследования по поводу скрытых
кровотечений». Ниже следовала начертанная пером и,
кстати говоря, не показывающая особых колебаний
кривая температуры, возле которой цифрами указы-
валась частота пульса Баушана. Ему, оказывается,
измеряли температуру, и даже врач приходил'щупать
ему пульс — в этом отношении лучшего нельзя было и
желать. Зато его моральное состояние сильно меня
встревожило.
— Ваш кобелек? — спросил служитель, подходя
ко мне со своим инструментом. Это был приземистый
человек в дворницком фартуке, бородатый, красноще-
кий, с карими, чуть налитыми кровью глазами, уди-
вительно похожими на собачьи, — до того они были
честные, влажные и добрые.
Я отвечал утвердительно, сослался на приглашение
прийти через недельку наведаться, на телефонные пе-
реговоры и заявил, что пришел узнать, как обстоит
дело. Служитель посмотрел на скорбный лист. Да,
у собаки скрытые кровотечения, сказал он, а это
история затяжная, в особенности когда не устано-
влено, чем они вызваны. «А до сих пор не устано-
влено?» Нет, еще окончательно не установлено. Но
ведь собака поступила сюда для наблюдения, вот ее
и наблюдают. «А кровотечения все продолжаются?»
Да, бывают временами. «И тогда их наблюдают?» Да,
самым аккуратным образом. «А жар есть?» — спро-
сил я, тщетно стараясь разобраться в температурной
кривой. Нет, жару нет. Пульс и температура у собаки
нормальные; пульс примерно девяносто в минуту, как
полагается, меньше и не должно быть, а если бы было
меньше, тогда наблюдать пришлось бы еще тщатель-
нее. Вообще-то, если бы не кровотечения, пес в непло-
хом состоянии. Сперва он, правда, круглые сутки выл,
а потом обошелся. Ест он вот маловато, но ведь и то
73
сказать — сидит взаперти, без движения, а потом
много значит, сколько он раньше ел.
— А чем его кормят?
— Похлебкой, — ответил служитель, — но он плохо
ест.
— Вид у него какой-то подавленный, — заметил
я с деланным спокойствием.
— Есть немножко, да только это ничего не значит,
В конце концов • собаке не очень-то весело сидеть
в клетке под наблюдением. Все они у нас подавлены,
кто больше, кто меньше, — конечно, те, что посмирнее,
а иной пес так начинает даже злобиться, кусаться«
Ну, да ваш не такой. Он смирный, его хоть до самой
смерти наблюдай, кусаться не станет.
Тут я был целиком согласен со служителем, но,
соглашаясь, чувствовал, как во мне нарастают боль
и возмущение.
— И сколько же, — спросил я, — ему придется еще
здесь пробыть?
Служитель снова взглянул на листок.
— Господин профессор считает, что его надо по-
наблюдать еще деньков семь-восемь, — ответил он.
Через недельку можно справиться. В общей сложности
это составит две недели, и тогда уже точно смогут
сказать, что с собакой и как ее лечить от скрытых
кровотечений.
Еще раз напоследок поговорив с Баушаном, с тем
чтобы поднять его дух, и нисколько в этом не преус-
пев, я ушел. Уход мой он воспринял так же безраз-
лично, как и мое появление. Презрение и глубокая
безнадежность, видимо, завладели им. «Если ты спо«
собен был посадить меня в эту клетку, — казалось,
говорил он всем своим видом, — чего же мне от тебя
еще ждать?» Да и как ему было не разочароваться,
как не утратить веру в разум и справедливость? В чем
он повинен, чем заслужил такую кару и как это я не
только допустил, но сам привел его сюда? А я ведь
желал ему только добра. У него открылось кровотече-
ние, и если сам он от этого особенно не страдал, то
все же я, его хозяин, счел необходимым, чтобы суще-
ствующая на то наука занялась им, — ведь не какая-
74
нибудь он дворняжка, а собака из хорошего дома, и
в университете я своими собственными ушами слышал,
что его признали несколько нервным и малокровным,
словно какое-нибудь графское дитя. И вот как все для
него обернулось! Попробуйте ему растолковать, что,
посадив его в клетку, как ягуара, и вместо воздуха,
солнца, движения каждый день потчуя его градусни-
ком, ему оказывают честь и внимание?
Всю дорогу домой я казнился, и если раньше я
скучал по Баушану, то теперь к этому прибавилось
беспокойство за него, за его душевное состояние, со-
мнение в чистоте собственных побуждений и укоры
совести. Уж не из тщеславия ли и эгоистического
чванства потащил я Баушана в университет? А может
быть, мною руководило тайное желание избавиться
от него, любопытно было посмотреть, как потечет моя
жизнь, когда я освобожусь от его неотступного над-
зора и со спокойной душой буду сворачивать куда
захочу — направо или налево, не вызывая ни в еди-
ном живом существе чувства радости или горького
разочарования? Что греха таить, с того дня, как Бау-
шана поместили в клинику, я и в самом деле насла-
ждался давно не испытанной внутренней свободой.
Никто не донимал меня видом своего мученического
ожидания за стеклянной дверью. Никто, стоя у по-
рога с робко поднятой лапой, не вызывал у меня
растроганной улыбки и не отрывал раньше времени
от работы. Шел ли я в парк, сидел ли дома, никому
до этого не было дела. Жизнь и вправду потекла
удобная, покойная и не лишенная прелести новизны.
Но так как обычный стимул для прогулок отсутство-
вал, то я почти перестал выходить. Здоровье мое по-
шатнулось, и когда я уже, можно сказать, дошел до
состояния запертого в клетке Баушана, то вынужден
был сделать вывод, что оковы сострадания более спо-
собствовали моему личному благополучию, нежели
эгоистическая свобода, которой я так жаждал,
Прошла еще одна неделя, и в назначенный день я
снова стоял с бородатым служителем перед клеткой
Баушана. Он лежал на боку, бессильно растянувшись
на подстилке из толченой дубовой коры, которая
75
пачкала ему шерсть; голова у него запрокинулась, и
тупой стеклянный взгляд был устремлен на выбелен-
ную известкой заднюю стенку. Он не шевелился. Лишь
присмотревшись, можно было увидеть, что он еще
дышит. Но время от времени тихий, раздиравший мне
сердце вибрирующий стон вздымал его грудную
клетку с выпирающими ребрами. Оттого, что он
страшно исхудал, ноги его казались несоразмерно
длинными, а лапы огромными. Шерсть облезла, сва-
лялась и, как я уже говорил, перепачкалась оттого,
что он ворочался в дубовом корье. Он не обратил на
меня никакого внимания; и казалось, вообще никогда
уже ни на что не будет обращать внимания.
Кровотечения еще не совсем прошли, сказал слу-
житель, иногда они ни с того ни с сего опять начи-
наются. Чем они вызваны, еще окончательно не уста-
новлено, во всяком случае это не опасно. Если мне
угодно, я могу оставить собаку здесь для дальней-
шего наблюдения, чтобы уж знать наверное, что
с ней, но могу и забрать ее домой, там она со време-
нем поправится. Тут я вытащил из кармана поводок,
который прихватил с собой, и сказал, что забираю
Баушана. Служитель нашел это разумным. Он отво-
рил клетку, и мы оба, порознь и вместе, стали звать
Баушана, но бедняга не шел, он по-прежнему лежал,
уставившись в белую стенку над своей головой.
Правда, когда я просунул руку в клетку и вытащил
его за ошейник, он не сопротивлялся. Но он не вы-
прыгнул, а скорее свалился на все четыре лапы и
стоял, поджав хвост и опустив уши, — донельзя жал-
кое зрелище. Я пристегнул ему поводок, дал служи-
телю на чай и пошел в контору рассчитаться: при
таксе в семьдесят пять пфеннигов за сутки, плюс го-
норар врачу за первый осмотр, пребывание Баушана
в лечебнице обошлось мне в двенадцать с половиной
марок. Затем, окутанные облаком сладковато-звери-
ного запаха клиники, которым насквозь пропитался
Баушан, мы тронулись домой.
Баушан был сломлен физически и нравственно.
Животные непосредственнее, самобытнее и тем самым
в известной мере человечнее, чем мы, во внешних про-
76
явлениях своих чувств: обороты речи, которые про-
должают жить среди нас лишь в переносном смысле
и как метафоры, не утратили у них своего перво-
начального прямого значения, а это всегда радует
глаз. Баушан, как говорится, «повесил голову», то
есть он сделал это буквально и так же наглядно, как
делает это заезженная извозчичья кляча со сбитыми
бабками, когда она, время от времени подрагивая
кожей, понуро стоит на углу улицы, и кажется, будто
пудовая гиря оттягивает ее облепленную мухами
морду к булыжнику мостовой. Короче говоря, две
недели, проведенные Баушаном в университете, низ-
вели его до того состояния, в котором я некогда полу-
чил его в предгорьях Альп; я сказал бы, что от него
осталась одна тень, если бы такое сравнение не было
оскорбительным для тени жизнерадостного и гордого
Баушана. После того как Баушана несколько раз
хорошенько вымыли в корыте, больничный запах,
которым он был пропитан, почти исчез, хотя еще дол-
гое время от него вдруг начинало тянуть карболкой,
но если для нас, людей, ванна является как бы сим-
волическим актом и действует на душевное состояние,
то у бедняги Баушана за телесным очищением бод-
рости духа не последовало. В первый же день я взял
его с собой в наши угодья, но он еле плелся за мной,
по-дурацки свесив на сторону язык, и фазаны еще
долго после его возвращения наслаждались приволь-
ной жизнью. Дома он целыми днями лежал непо-
движно, остекленевшим взглядом уставившись куда-
то вверх, как тогда в клетке, вялый и расслабленный;
теперь уж не он выманивал меня погулять, а мне
самому приходилось идти за ним к конуре и чуть не
силой тащить его на прогулку. Даже неразборчивая
жадность, с которой он глотал пищу, и та напоминала
об унизительной поре его детства. Тем отраднее было
видеть, как он мало-помалу приходил в себя; как при
каждой новой встрече в нем пробуждалась прежняя
простодушно-веселая живость; как в одно прекрасное
утро он не притащился нехотя и угрюмо на мой свист,
а налетел на меня, словно вихрь, прыгнул передними
лапами мне на грудь и опять стал хватать зубами
77
воздух перед самым моим носом; как на прогулках к
нему вернулось гордое сознание своей силы и красоты,
и я опять мог любоваться его мужественной грациоз-
ной стойкой и стремительными прыжками с подтя-
нутыми лапами на шевелящихся в высокой траве
зверюшек... Он забыл. Тяжелый и бессмысленный на
взгляд Баушана инцидент канул в прошлое, по сути
дела не разрешенный и не исчерпанный, ибо объясне-
ние между нами было невозможно, но время все
сгладило, как бывает и между людьми, и мы продол-
жали жить бок о бок, словно ничего не произошло,;
меж тем как невысказанное все больше и больше за-
бывалось... Еще с месяц Баушан иногда появлялся
с окровавленным носом, но случалось это все реже,
а затем кровотечение и вовсе прекратилось, так что
было уже совершенно безразлично, вызвано ли оно
эпистаксией или гематемезией...
Ну вот, не собирался рассказывать о лечебнице^
а рассказал! Да простит мне читатель это простран-
ное отступление и вернется со мной к охотничьим
удовольствиям, на которых мы остановились. Вы
слыхали когда-нибудь плаксивый вой, с каким со-
бака, напрягая все свои силы, гонит улепетывающего
зайца, вой, в котором мешаются ярость и блажен-
ство, нетерпение и исступленное отчаяние? Сколько
раз я слышал, как Баушан вот именно так подвы-
вал! Это упоение страсти, это сама страсть завывает
по лесу, и всякий раз, когда ее дикий вопль издалека
или откуда-то рядом достигает моего слуха, я раду-
юсь и пугаюсь, по спине у меня невольно пробегают
мурашки; довольный, что Баушан сегодня свое навер-
стает, я спешу вперед или куда-нибудь в сторону,
чтобы выйти на гон, и когда заяц, а за ним Баушан
проносятся мимо, стою как зачарованный и с блуж-
дающей по лицу взволнованной улыбкой гляжу на
них, хотя знаю заранее, что ровно ничего из этого
не выйдет.
Лукавый или трусливый заяц! Прижав уши и
втянув голову, он бежит что есть духу, длинными
прыжками удирая от истошно воющего Баушана, так
что в воздухе лишь мелькают его длинные ноги да
78
желто-белый зад. А ведь в глубине своей боязливой,
привыкшей давать стрекача души заяц бы должен
знать, что никакой серьезной опасности ему не грозит
и он, конечно, благополучно удерет, как удирали его
братья и сестры, да и сам он, верно, не раз уже уди-
рал. Никогда в жизни Баушан еще не поймал ни
одного его сородича и никогда не поймает — это со-
вершенно исключено. Недаром пословица говорит:
косому не поздоровится, когда свора гонится, а один
на один — косой господин. Одной собаке его не из-
ловить, хотя бы она и бегала быстрее Баушана и
была намного выносливее его, потому что заяц умеет
делать «скидку», а Баушан этого не умеет, что в ко-
нечном счете и решает дело. Скидка — это надежное
оружие и способность рожденного спасаться бег-
ством, это средство, к которому он может прибег-
нуть всегда, но держит до поры до времени в запасе,
чтобы в решающую минуту применить и оставить
Баушана с носом, когда тот уже торжествует победу*
Вот они выскакивают из кустов, наискось пере-
секают тропинку впереди меня и мчатся к реке, заяц
молча, затаив в душе унаследованную от отцов и де-
дов уловку, а Баушан пронзительно и отчаянно за-
вывая на высоких нотах. «Ну чего ты воешь? — ду-
маю я. — Ведь запыхаешься, задохнешься, а тебе
надо беречь силы, если ты хочешь его поймать!» Я ду-
маю так, потому что мысленно принимаю участие
в охоте, потому что стою на стороне Баушана, потому
что страсть его захватила и меня, и я от всего
сердца желаю ему успеха, даже рискуя тем, что он
на моих глазах разорвет зайца. Как он бежит! И что
может быть прекраснее живого существа, напрягаю-
щего до предела все свои силы и способности! Он бе-
жит лучше зайца, мускулатура у него сильнее, и пре-
жде чем они скрылись из виду, расстояние между
ними уже заметно сократилось. Я тоже почти бегом
продираюсь через кустарник напрямик к реке и как
раз вовремя попадаю на щебенную дорогу, где вижу
приближающийся справа гон в самый захватываю-
щий момент охоты. Баушан вот-вот настигнет
зайца — теперь он бежит молча2 стиснув зубы4 запах
79
косого сводит его с ума. «Наддай, Баушанчик, над-
дай!»— мысленно восклицаю я и еле сдерживаюсь,
чтобы не крикнуть: «Не промахнись только, не за-
будь про скидку!» То, чего я боялся, произошло.
Когда Баушан «наддает», заяц коротким неулови-
мым движением делает бросок под прямым углом
вправо, и мой охотник, беспомощно верезжа и стара-
ясь затормозить, проскакивает мимо, проскакивает,
расшвыривая щебень и подымая облако пыли, и пока
он с душевной болью и жалобным визгом преодоле-
вает силу инерции, пока поворачивает и бросается
в новом направлении, заяц обычно успевает далеко
уйти или вообще скрыться из глаз, потому что где тут
было Баушану усмотреть, куда повернул косой, когда
юн и на ногах-то едва удержался.
«Все это очень хорошо, но совершенно беспо-
лезно!— думаю я, прислушиваясь к дикому завыва-
нию удаляющейся через парк в противоположном
направлении охоты. — Тут нужна не одна собака,
а целая свора, штук пять или шесть. Одни бросились
бы наперерез, другие наскочили бы с боков, прегра-
дили бы ему путь, вцепились в загривок...» И воз-
бужденное воображение рисует мне свору гончих с вы-
сунутыми красными языками, которые набрасы-
ваются на зайца.
Все это мне представляется лишь в пылу охот-
ничьего азарта, ибо что плохого сделал мне заяц,
чтобы желать ему такой страшной кончины? Пусть
Баушан мне ближе, пусть я ему сочувствую и желаю
успеха, но ведь и заяц тоже живая тварь, и если он
и обманул моего охотника, то не со зла, а лишь по-
тому, что ему еще хочется поглодать молодые побеги
в лесу и наплодить зайчат. «Конечно, дело об-
стояло бы иначе, если бы вот эта штука, —продол-
жаю я тем не менее думать, разглядывая свою тро-
сточку,— если бы эта штука была не безобидной
палкой, а вещицей более серьезной конструкции, дей-
ствующей на приличном расстоянии, тогда я мог бы
помочь своему честному Баушану остановить зайца,
и косой, перекувырнувшись разок в воздухе, остался
бы на месте. Тут уж не понадобилось бы никакой
80
своры, а Баушан сделал бы свое дело уже тем, что
поднял зайца». В действительности же картина по-
лучается как раз обратная: Баушан частенько ле-
тит кувырком, когда пытается одолеть проклятую за-
ячью скидку, что, впрочем, иногда случается и с зай-
цем, но для косого это пустяк, дело привычное и,
очевидно, безболезненное, а для Баушана-т тяжелая
травма, и, чего доброго, он так когда-нибудь свернет
себе шею.
Бывает, что охота кончается, едва начавшись:
заяц на первом же кругу благополучно ныряет в ку-
сты и залегает там или же начинает так петлять и
делать скидки, что сбивает охотника со следу, тогда
Баушан, в полной растерянности, начинает бестол-
ково метаться, а я, обуреваемый кровожадными ин-
стинктами, тщетно кричу ему вслед и тычу тростью
в сторону, куда ушел заяц. Но бывает, что гон затя-
гивается надолго и идет по всему лесу, так что за-
ливистый, страстно подвывающий голос Баушана
раздается как охотничий рог то откуда-то издалека, то
совсем рядом, и я, не ожидая его, иду потихоньку
своей дорогой. И, боже мой, в каком он наконец яв-
ляется виде! Вся морда в пене, бока запали, ребра
ходуном ходят, длинный язык вывалился из широко
оскаленной пасти, отчего его осовелые глаза стано^
вятся по-монгольски раскосыми, и дышит он при этом
как паровоз. «Ляг отдохни, Баушан, не то тебя еще
хватит удар!» — говорю я и останавливаюсь, чтобы
дать ему время отдышаться. Особенно боюсь я за
него зимой, в мороз, когда он жадно вбирает в свое
разгоряченное нутро ледяной воздух, выпуская его
белым паром, или захватывает полную пасть снега
и глотает его, чтобы утолить жажду. Но в то время
как он лежит и снизу вверх смотрит на меня сму-
щенными глазами, то и дело слизывая слюну, я не
могу устоять перед искушением подразнить его не-
множко, посмеяться над неизменной бесплодностью
всех его усилий: «Ну где же заяц, Баушан? —спраши-
ваю я его. — Что ж ты не принес мне зайчика?» А он
бьет обрубком хвоста по земле и, прислушиваясь
к моему голосу, на мгновение перестает лихорадочно
6 Т. Манн, т. 8
81
работать боками и сконфуженно облизывается; бед-
няга не подозревает, что насмешка моя только ширма,
за которой я скрываю от него, да и от самого себя,
чувство стыда и укоры совести — ведь я опять ничем
«му не помог и не остановил косого, как это сде-
лал бы всякий другой порядочный хозяин. Он этого
не подозревает, и потому я могу спокойно подшучи*
вать над ним и делать вид, будто это он что-то про-
шляпил и упустил...
Любопытные происшествия случаются иной раз
у нас на охоте. Никогда не забуду, как заяц од-
нажды сам дался мне в руки... Случилось это на уз-
ком глинистом «променаде» над рекой. Услышав,
что Баушан гонит зайца, я вышел из лесу к при-
брежной зоне и, продравшись через колючки чертопо-
лоха, которым порос «главный проспект», спрыгнул
с травянистого откоса на дорожку в ту самую ми-
нуту, когда со стороны домика перевозчика, в напра-
влении которого я смотрел, показался заяц, а за ним,
шагах в пятнадцати, Баушан; русак мчался длин-
ными скачками по самой середине дорожки прямо
на меня. Первым моим побуждением, в котором ска-
залась злонамеренность охотника, было воспользо-
ваться случаем, преградить косому дорогу и поста-
раться повернуть его назад, прямо в пасть плаксиво
подвывающего Баушана. Я замер и затаив дыхание
стал поджидать быстро приближающегося зайца;
в азарте я даже не заметил, что кручу в руке тро-
сточку. Я знал, что у зайцев очень слабое зрение и
только слух и обоняние предупреждают их об опас-
ности. Рассчитывая на это, я решил, что, если буду
стоять неподвижно, заяц, пожалуй, примет меня за
дерево; эту его роковую ошибку, — а мне очень хо-
телось, чтобы он ошибся, — я и собирался использо-
вать, не очень-то представляя ее вероятные послед-
ствия. Действительно ли заяц на какой-то миг
ошибся — сказать трудно. Кажется, он вообще уви-
дел меня лишь в самую последнюю секунду, и то,
что он сделал, было до такой степени неожиданно,
что это разом опрокинуло все мои планы и расчеты
и мгновенно, изменило мое настроение. Не знаю, обе^
82
зумел ли. он со страха, во всяком случае он прыгнул
на меня, как собачонка, цепляясь передними лап-
ками за пальто, встал во весь рост и пытался запря-
тать голову в мои колени, колени страшного охот-
ника! Раскинув руки и подавшись назад, я смотрел
вниз на зайца, который в свою очередь смотрел вверх
на меня. Это длилось всего какую-нибудь секунду
или даже долю секунды, но я видел его необыкно-
венно ясно, видел его длинные уши, одно — торчало
кверху, а другое — свисало вниз, видел большие, бле-
стящие близорукие глаза навыкат, его рассеченную
губу и длинные волоски усов, белую грудь и малень-
кие лапки, чувствовал, или мне казалось, что чув-
ствую, биение его загнанного сердчишка — и до чего
же странно было мне видеть его вблизи, маленького
демона здешних мест, живое трепещущее сердце зна-
комых пейзажей, вечно ускользающее существо, ко-
торое я наблюдал среди любимых просторов и далей
лишь в те краткие мгновенья, когда оно, забавяо под-
кидывая зад, удирало во все лопатки; а теперь это
маленькое существо, в минуту грозлюм опасности,
жалось ко мне, как бы обнимая мои кодеин, колени
человека, — но, как представлялось мне, не колени
хозяина Баушана, а того, кто господин и над зай-
цами, кто и его и Баушана господин. Как я уже гово-
рил, это длилось какую-то долю секунды, потом заяц
от меня отпрянул, упал на свои короткие передние
лапки и стрелой взлетел на правый откос, а к тому
месту, где я стоял, примчался Баушан, примчался
с воем, украшенным всеми фиоритурами страсти, ко-
торый неожиданно и резко оборвался. Ибо господин
зайца преднамеренным и точным ударом трости
сразу охладил его пыл, и Баушан, визжа, кубарем
пролетел чуть не до половины левого откоса, куда
потом, прихрамывая на ушибленную заднюю ногу,
все-таки опять взобрался и только тогда, с большим
опозданием, пустился вдогонку за зайцем, а того уже
давно и след простыл...
Ну и, конечно, остается еще охота на водопла-
вающую птицу, которой я тоже хочу посвятить не-
сколько строк. Время ее —зима да еще холодная
6*
83
ранняя весна, до отлета птиц на озера; в эту пору
они, повинуясь требованию желудка, волей-неволей
вынуждены держаться поблизости от города; охота
эта менее увлекательна, чем травля зайцев, но тоже
имеет свою прелесть и для охотника и для собаки,
или, вернее говоря, для «охотника» и его хозяина:
последнего она привлекает главным образом дорогой
его сердцу и животворной близостью воды и еще тем,
что, наблюдая образ жизни этих водяных птиц, рас-
сеиваешься и отвлекаешься, особенно если выходишь
из собственного круга чувств и представлений и пы-
таешься поставить себя на их место.
Нрав у уток более мирный, положительный и до-
бродушный, нежели у чаек. Они, должно быть, сыты,
их меньше тревожат заботы о хлебе насущном, по-
скольку все, что им нужно для пропитания, посто-
янно имеется в избытке, и стол для них, так сказать,
всегда накрыт. Едят они, как я вижу, почти что все: чер-
вей, улиток, букашек, а то и просто тину, и поэтому
могут себе позволить, расположившись на камнях, по-
греться в лучах солнышка; соснуть четверть часика,
засунув голову под крыло; заняться туалетом, тща-
тельно смазывая перышки так, чтобы они не намо-
кали, а вода скатывалась с них капельками, или же,
единственно удовольствия ради, отправиться на про-
гулку по реке, где, подняв треугольную гузку, они
кружатся и нежатся на волнах, самодовольно по-
водя плечами.
В натуре чаек есть что-то дикое, грубое, уныло-
однообразное и нагоняющее тоску. Голод и алчность
слышатся в хриплом крике, с которым они день-
деньской кружат стаями над водопадом и там, где
в реку из труб сбрасываются коричневые сточные
воды. Ибо рыбная ловля, которой иные из них про-
мышляют, занятие не очень-то прибыльное, когда хо-
тят набить себе желудки сотни высматривающих до-
бычу голодных птиц, так что чаще всего чайкам
приходится довольствоваться отвратительными от-
бросами, которые они подхватывают на лету у водо-
стоков и уносят в своих кривых клювах куда-нибудь
в сторону. Сидеть на берегу они не любят. Но как
84
только спадает вода, они теснятся на выступающих
из реки камнях, покрывая их сплошной белой массой,
напоминающей птичьи базары на скалах и островах
северных морей, где гнездятся гаги, и до чего же
красиво, когда они, испугавшись Баушана, который
с берега грозно лает на них через протоку, вдруг
с криком снимаются и взлетают в воздух. Но пу-
гаются они совершенно напрасно, никакая опасность
им не угрожает. Не говоря уже о врожденной водо-
боязни Баушана, он весьма благоразумно и с пол-
ным основанием остерегается быстрого течения, с ко-
торым ему, конечно, не совладать и которое неиз-
бежно унесло бы его бог знает куда, — чего доброго,
до самого Дуная, в чьи голубые воды он, однако, по-
пал бы в сильно попорченном виде, судя по вздув-
шимся трупам кошек, что проносятся мимо нас, на-
правляясь в те края. Никогда он не входит в реку
дальше чуть покрытых водой прибрежных камней, и
как бы его ни подстегивала охотничья страсть, как
бы он ни прикидывался, что хочет броситься
в волны и вот-вот бросится, можно вполне положиться
на его рассудительность, которая при всем азарте
никогда его не покидает, так что вся его пантомима
с разбегами, все его чрезвычайные приготовления
к решительному прыжку в воду—не более как пу-
стые угрозы, продиктованные к тому же не страстью,
а холодным расчетом, цель которого запугать лапчато-
ногих.
А чайки, как видно, слишком глупы и трусливы,
чтобы смеяться над его ухищрениями. Баушану до
них не добраться, но он лает, и его далеко разнося-
щийся по воде громовой голос докатывается до них,
а ведь и голос нечто вещественное, мощные звуки
приводят чаек в смятение, они не могут долго вы-
держать такого натиска. Сперва они, правда, ста-
раются не обращать внимания, продолжают по-преж-
нему сидеть, но вот вся чаячья толпа начинает бес-
покойно колыхаться, птицы поворачивают головы, то
одна, то другая на всякий случай хлопает крыльями,
и вдруг, дрогнув, все разом взмывают ввысь белым
облаком, из которого слышатся жалобный вопль и
85
горькие сетования, а Баушан прыгает то туда, то
сюда по камням, стараясь разбить стаю и не дать ей
спуститься: движение — вот что привлекает его, он
ни за что не позволит чайкам сесть, пусть носятся
над рекой, а он будет за ними гоняться.
Баушан прочесывает берег, издалека чуя дичь,
потому что всюду с обидным спокойствием, засунув
голову под крыло, сидят утки, и всюду, куда бы он
ни ткнулся, они взлетают прямо из-под его носа, так
что и вправду получается как бы веселая облава—>
взлетают и сразу же плюхаются на воду, где в пол-
ной безопасности качаются и кружатся на волнах или
же, вытянув шею, летят от него, и Баушан, носясь
галопом по берегу, честно меряет силу своих ног
с силой их крыльев.
Только бы они летали, только бы доставили ему
удовольствие, состязаясь с ними, погонять взад и
вперед вдоль берега, о большем он не просит и не
мечтает, а утки, как видно, знают его слабость и при
случае пользуются ею. Как-то весной, когда птицы
уже все улетели на озера, я заметил в тинистой лу-
жице, оставшейся после паводка в ямке высохшего
русла, утку с утятами; должно быть, птенцы еще не
научились летать и она из-за них задержалась. Там-
то Баушан неожиданно и наткнулся на выводок,—
я наблюдал всю сценку с верхней дороги. Он прыгнул
в лужу, стал с лаем и дикими телодвижениями кру-
житься в ней и страшно переполошил все утиное се-
мейство. Никого он, разумеется, не тронул, но нагнал
такого страху, что птенцы, трепыхая коротенькими
обрубками крылышек, бросились врассыпную, а утка
встала на защиту своего потомства со слепым ге-
роизмом матери, которая может ринуться на против-
ника в десять раз более сильного, чем она, и своей
безумной, переходящей всякие границы храбростью
не только его смутить, но подчас даже и обратить
в бегство. Взъерошив перья и безобразно разинув
клюв, она подлетала к самой морде Баушана, герои-
чески возобновляя атаку, снова и снова с шипением
кидалась на него и видом своей устрашающей ре-
86
шимости в самом деле привела противника в замеша-
тельство, хотя и не заставила его окончательно рети-
роваться, ибо Баушан, отступив, опять с лаем наска-
кивал на нее. Тогда утка переменила тактику и взя-
лась за ум, поскольку героизм не оправдал себя.
Вероятно, она знала Баушана, знала с давних пор его
слабости и ребяческие желания. Она бросила своих
малышей — не на самом деле, конечно, — и пусти-
лась на хитрость: поднялась и полетела над рекой,
«преследуемая» Баушаном,— так по крайней мере
^представлялось ему, в действительности же утка,
пользуясь страстью нашего охотника, водила его за
нос: полетела сначала по течению, потом против него,
^увлекая скачущего с ней наперегонки пса все дальше
и дальше от лужицы с утятами, так что, продолжая
свой путь, я вскоре потерял из виду и утку и собаку.
А немного погодя мой простофиля явился, запыхав-
шийся и вконец запаренный. Но когда мы проходили
мимо лужицы на обратном пути, там уже никого не
было...
Так поступила эта мать, и Баушан еще сказал ей
спасибо. Но он ненавидит уток, которые, погрязнув
в мещанском своем благополучии, не желают служить
ему дичью и при его приближении просто-напросто
соскальзывают с камней в воду и с обидным безраз-
личием качаются там перед самым носом Баушана,
нисколько не потрясенные его громовым голосом и,
в отличие от слабонервных чаек, не обманутые его
пантомимой разбегов. Мы стоим рядышком на при-
брежных камнях, Баушан и я, а в двух шагах от нас
с наглой самоуверенностью, жеманно пригнув
к грудке клюв, покачивается на волнах утка — обра-
зец благоразумия и степенности, на которую нимало
не действует взбешенный голос Баушана. Она гребет
против течения и потому почти стоит на месте, но
все-таки ее понемножку относит назад, а примерно
в метре от нее порог — эдакий хорошенький пеня-
щийся водопадик, к которому она повернулась тще-
славно поднятой гузкой. Баушан лает, упершись
передними лапами в камни, а я, вторя ему, лаю про
себя, потому что в какой-то мере разделяю его нена-
87
висть к уткам с их наглым здравомыслием и желаю
им зла. «Хоть бы заслушалась, как мы лаем, — ду-
маю я, — да угодила бы прямо в водоворот, посмо-
трели бы мы, как ты там закрутишься». Но и эта мсти-
тельная надежда не сбывается, потому что в тот са-
мый миг, когда утка достигает края водопада, она
взмахивает крыльями, пролетает несколько метров и
снова, негодница, садится на воду.
Когда я думаю о том, с какой досадой мы в таких
случаях смотрим на утку, мне вспоминается одно про-
исшествие, о котором я хочу напоследок рассказать.
С одной стороны, оно принесло мне и моему спутнику
как бы некоторое удовлетворение, а с другой — не-
мало огорчений, беспокойства и тревоги и даже яви-
лось причиной временной размолвки между мною и
Баушаном; знай я наперед, как все сложится, я бы
уж сумел обойти это злополучное место.
Было это далеко от дома, на берегу реки, за до-
миком перевозчика, там, где прибрежная чаща почти
вплотную подступает к верхней пешеходной дорожке,
по которой мы и продвигались вперед, — я неторопли-
вым шагом, а Баушан, чуть впереди меня, своей ле-
нивой рысцой, как всегда немного бочком. Он успел
уже погоняться за зайцем, или, вернее, дал зайцу
себя погонять, поднял на крыло двух или трех фаза-
нов и теперь, не желая обижать хозяина, держался
поблизости от меня. Над рекой, вытянув шеи, клином
летела стайка уток, но летели они довольно высоко
и ближе к противоположному берегу, так что как
дичь не представляли для нас ни малейшего инте-
реса. Они летели в том же направлении, в каком мы
шли, даже не замечая нас, да и мы только изредка
бросали на них нарочито равнодушный взгляд.
Тут, на противоположном, тоже довольно крутом
берегу, из кустов вдруг вышел человек и сразу при-
нял столь необычную позу, что мы оба, и Баушан и
я, как по команде остановились и, сделав пол-оборота
налево, стали за ним наблюдать.
Это был рослый мужчина несколько грубоватой
наружности с отвислыми усами, в обмотках и в сдви-
нутой набекрень фетровой шляпе, коротких пузатых
88
штанах из жесткого в рубчик бархата, именуемого,
кажется, Манчестером, и такой же куртке, поверх ко-
торой у него перекрещивалось множество ремней:
пояс, лямки от рюкзака и ремень висящего за пле-
чом ружья. Вернее сказать, висевшего, потому что,
едва он показался из кустов, как тотчас же снял его
и, приложившись щекой к прикладу, направил ствол
к небу. Одну ногу в обмотке он выставил вперед,
цевье держал на вытянутой ладони согнутой под
прямым углом левой руки, локоть нажимавшей на
гашетку правой оттопырил в сторону и, целясь, гордо
подставлял небесам свою скошенную физиономию.
Во всем его облике было что-то донельзя оперное,
когда он так вот стоял над прибрежной осыпью, четко
вырисовываясь на фоне живой декорации кустов,
реки и неба. Но нам недолго пришлось взирать на
незнакомца с почтительным и пристальным внима-
нием; почти тотчас с противоположного берега до-
несся сухой хлопок выстрела, — я ждал его с внутрен-
ним трепетом и потому вздрогнул, — мы увидели
слабую при дневном свете вспышку, затем облачко
дыма, и в то время как мужчина, сделав чисто опер-
ный выпад, шагнул вперед с обращенным к небу ли-
цом и выпяченной грудью, держа за ремень ружье
в правой руке, в вышине, куда смотрели и он и мы,
разыгралась коротенькая сценка смятения и бегства:
утиный порядок расстроился, крылья, как плохо на-
тянутые паруса на ветру, отчаянно захлопали, была
сделана попытка спланировать, и вдруг подбитая
утка, кувыркнувшись в воздухе, камнем полетела
вниз и шлепнулась в воду неподалеку от противопо-
ложного берега.
Это была лишь первая половина представления.
Но тут я должен прервать свой рассказ и обратиться
к Баушану, Чтобы изобразить его состояние в эту
минуту, сами собой напрашиваются штампованные
сравнения, ходовая монета, которую можно пустить
в оборот во всех случаях жизни, — я мог бы, напри-
мер, сказать: «Он стоял будто громом пораженный».
Только мне это не по душе и не по вкусу. Громкие
89
слова, стершиеся от частого употребления, не го-
дятся для изображения из ряда вон выходящего
события, скорее здесь нужно простое слово поднять
до вершины его значения. Я скажу только, что Бау-
шан, услышав выстрел и увидев сопровождавшие этот
выстрел обстоятельства, а также все, что засим воо
последовало, опешил, как случалось с ним уже не раз,
когда он сталкивался с чем-то необычным, но теперь
это было усилено во сто крат. Он так опешил, что его
отшвырнуло назад и зашатало из стороны в сторону,
так опешил, что голова у него сперва дернулась
к груди, а потом, когда его качнуло вперед, ее чуть
не вырвало из плечей, так опешил, что, казалось, из
него рвется крик: «Что? Как? Что это было? Стойя
что за чертовщина? Что же это такое?!» Он смотрел
и прислушивался к чему-то внутри себя с тревогой,
которая вызывается высшей степенью удивления,
а оказывается там, внутри его, как ни ново было все
случившееся, это уже жило, жило с самого рожде-
ния Баушана. Когда его отшвырнуло и зашатало из
стороны в сторону, чуть не повернув вокруг собствен-
ной оси, он, как бы оглядываясь сам на себя,
спрашивал: «Что я? Как я? Я ли это?» А когда
утка упала в воду, Баушан рванулся вперед, к са-
мому краю откоса, словно собирался сбежать
вниз и кинуться в воду. Но, вспомнив о течении, он
сдержал свой порыв, устыдился и снова стал на-
блюдать.
Я с беспокойством следил за ним. Когда утка
упала, я счел, что мы видели достаточно, и предло-
жил идти дальше. Но Баушан сидел, насторожив уши
и повернув морду к противоположному берегу, и
в ответ на мои слова: «Пошли, Баушан?» — только
мельком посмотрел на меня и тут же отвернулся, что,
видимо, означало нечто вроде нашего: «Да оставьте
же меня в покое!» Что ж, пришлось смириться,
я скрестил ноги, оперся на трость и тоже стал смот-
реть, что будет дальше.
А утку, одну из тех уток, что так часто с наглой
самоуверенностью качались перед самым нашим но-
сом, теперь крутило в воде, как щепку, так что и
90
разобрать было нельзя, где у нее голова, а где гузка«
За городом река уже не такая порожистая и бурная,
здесь она поспокойнее. Однако течение сразу подхва-
тило сбитую птицу, закружило ее и понесло, и если
мужчина в обмотках стрелял и убивал не для пустой
забавы, а преследовал и практическую цель, то ему
надо было торопиться. Он и в самом деле не стал
терять ни секунды времени, все произошло с вели-
чайшей быстротой. Едва утка коснулась воды, как
он, прыгая, спотыкаясь и чуть не падая, ринулся с от-
коса. Ружье он держал в вытянутой руке, и опять
было что-то очень романтическое и оперное в том, как
он, подобно разбойнику или отважному контрабан-
дисту из мелодрамы, прыгая с камня на камень, спу-
скался по осыпи, напоминающей декорацию. Он
спускался наискось, левее того места, где сначала
стоял, чтобы успеть перехватить увлекаемую тече-
нием утку. Войдя в воду по щиколотку, он, ухватив-
шись за конец ствола, низко согнулся и старался
дотянуться до нее прикладом, это ему удалось: он
поддел ее, не без труда, осторожно, стал подталкивать
к прибрежным камням и наконец вытащил на берег.
Итак, дело было сделано, и мужчина облегченно
вздохнул. Он положил ружье на берег возле себя,
скинул со спины рюкзак, запрятал в него добычу,
снова пристегнул лямки и с этой приятной ношей,
опираясь на ружье, как на палку, стал бодро поды-
маться по осыпи к кустам.
«Ну, этот добыл себе жаркое на завтра», — поду-
мал я с одобрением, к которому, однако, примешива-
лась доля неприязни.
— Вставай, Баушан, пойдем и мы, больше ничего
не будет.
Но, встав и повернувшись разок вокруг собствен-
ной оси, Баушан снова уселся и стал смотреть вслед
мужчине в обмотках, даже когда тот уже скрылся
за кулисами кустов. Я и не подумал повторить при-
глашение. Баушан знает, где мы живем, и, если ему
угодно, пусть хоть до вечера торчит здесь и пялит
глаза на пустой берег, До дома не так уж близко,
m
и я, не мешкая, двинулся в обратный путь. Он пошел
за мной.
Весь тягостный путь к дому Баушан держался
поблизости от меня и не охотился. Но вместо того
чтобы бежать бочком впереди, как он это обычно де-
лает, когда не настроен рыскать по кустам и поды-
мать дичь, Баушан плелся сзади и, как я заметил,
случайно обернувшись, строил самую кислую рожу«
Но мне было все равно, не хватало еще, чтобы я из-
за этого портил себе кровь. Возмутило меня другое:
каждые тридцать или сорок шагов он зевал. Зевал
отчаянно, с визгом, раздирая пасть, и с тем бессо-
вестным, непристойно-скучающим видом, которым он
как бы говорит: «Хороший же у меня хозяин!
Разве это хозяин? Дрянь, а не хозяин!» — и если
оскорбительное взвизгивание, которым он сопровож-
дал каждый зевок, всегда действовало мне на нервы,
то на сей раз оно грозило навеки разрушить нашу
дружбу.
— Пошел! Убирайся от меня! — сказал я.—Сту-
пай к этому господину с пищалью и ходи за ним по
пятам, у него, видно, нет собаки, может быть, ты и
пригодишься ему для его пакостных дел. Хоть он но-
сит дерюгу в рубчик и на приличного господина не
похож, но, по-твоему, он настоящий господин и са-
мый подходящий для тебя хозяин; что ж, мой тебе от
души совет—переходи к нему, раз уж ко всем твоим
занозам он тебе еще одну в сердце вогнал. (Вот как
далеко я зашел!) Лучше даже не спрашивать, имеется
ли у этого молодчика охотничий билет, вот попаде-
тесь когда-нибудь и достанется вам на орехи, но уж
это ваше дело, я тебе от души советовал, а там как
знаешь. А ты, горе-охотник? Сколько раз разрешал
я тебе гонять зайцев, принес ли ты мне хоть одного
на обед? Значит, я виноват, что ты не умеешь делать
скидки и проезжаешься носом по земле, когда надо
проявить ловкость и быстроту! И фазана ты ни разу
не принес; как бы он пригодился в нынешние труд-
ные времена! А теперь, изволите видеть, он зевает!
Ступай, говорят тебе. Ступай к своему господину
в обмотках, посмотришь, такой ли он человек, чтобы
92
чесать тебе шею или, тем более, тебя смешить; по-
моему, он и сам-то толком смеяться не умеет и
разве только грубо гогочет! А если ты полагаешь, что
он отведет тебя для клинического наблюдения в уни-
верситет, когда тебе вздумается чихать кровью, или
что у такого хозяина тебя найдут несколько нервным
и малокровным, то сделай одолжение, ступай к нему,
но как бы тебе не ошибиться. Вряд ли ты дождешься
от него особой любви и внимания! Есть признаки и
различия, на которые такие вот господа с ружьями
имеют особый нюх и глаз: природные достоинства
или изъяны, чтобы сделать мои намеки более понят-
ными или чтобы сказать еще яснее — щекотливые
вопросы родословной и предков; не всякий станет их
обходить из сочувствия и гуманности, и, когда при
первой же стычке он попрекнет тебя твоей бородкой,
этот великолепный стрелок, и назовет всякими не-
благозвучными именами, тогда ты вспомнишь меня
и то, что я тебе говорил...
Все это я по пути домой не без сарказма выло-
жил трусившему за мной Баушану, и если, не желая
казаться чересчур экзальтированным, я говорил это
мысленно, а не вслух, то все же убежден, что он пре-
красно понял, что именно я имел в виду, и, во всяком
случае, усвоил весь ход моих рассуждений. Короче
говоря, это был полный разрыв, и, дойдя до дома,
я нарочно быстро захлопнул за собой калитку, так
что он не успел прошмыгнуть в нее и вынужден был
подпрыгнуть и перелезть через забор. Я слышал, как
он жалобно пискнул, зацепившись животом, но даже
не обернулся и, язвительно пожимая плечами, вошел
в дом.
Но это было давно, более полугода назад, и тут
повторилось то же, что и после университетской кли-
ники: время все сгладило и сровняло, и на этой на-
носной почве, почве всякого существования, мы и
продолжаем жить, как жили. Несколько дней Бау-
шан, правда, ходил задумчивый и скучный, но уже
давно он опять наслаждается охотой на мышей, фа-
занов, зайцев и водоплавающую птицу и, едва вернув-
93
шись домой, уже с нетерпением ждет следующего
нашего выхода. Поднявшись на крыльцо, я еще раз
оборачиваюсь к нему, и по этому знаку он в два
прыжка взлетает на ступеньки и, опираясь передними
лапами в дверь, тянется ко мне, чтобы я на про-
щанье похлопал его по плечу. «Завтра опять пойдем,
Баушан, — говорю я ему, — если только не придется
ехать в город», —» и спешу в дом, чтобы стащить тяже-
лые башмаки на гвоздях, потому что суп уже давно
на столе.
1918
ПЕСНЬ О РЕБЕНКЕ
Пока мы здесь, под кровлею родной;
Все дышит радостью, таит покой,
И, зачарованный, следит поэт,
Как жизни жизнь украдкой шлет привет«
Когда ж в краю далеком мы бредем,
Он снова здесь, он с нами, милый дом,
Он нас зовет, хоть и пленяют дали,
Тот малый мир, где счастье мы познали.
Гете, «Кампания во Франции»
ВСТУПЛЕНИЕ
Полно, поэт ли я? Был ли когда им? Не знаю. Но
только
Так бы меня не назвали во Франции, Просто и
трезво
Там различают всегда стихотворца от автора прозы
И одного называют «поэт», а другого — «писатель»
Иль «романист», «беллетрист», но талант его ценят
не меньше.
Только поэтом его не зовут: не кропает он виршей.
Проза всегда была делом моим с той поры, как
утихла
Боль любви, впервые изведанной в юности ранней,
И, отрезвленный, я взялся за творчество, — в нем,
безоружный,
Меч мой и щит мой обрел я, чтоб устоять против мира;
Не посрамил я меча: нередко венчался успехом
Труд мой над словом немецким; думалось мне, что,
пожалуй,
Не уступаю певцу я в званье художника строгом.
95
Ибо казалась мне совесть высокою сущностью прозы—
Совесть горячего сердца и утонченного слуха;
В ней находил я единство музыки с нравственной
силой.
Был ли поэтом я? Был. Ибо везде, где влюбленность
В слово с каждым порывом души слита неразрывно,
Смело веди разговор о поэзии — он правомерен.
Но оглянись назад! Иль ты впрямь позабыл о позоре?
О пораженье былом, о тайном своем отступленье?
И хоть со временем ты обратил пораженье в победу,
Даже стяжал восхищенье людское, — горечь
осталась.
Помнишь? Волненье хмельное, нежданное новое
чувство
Вдруг овладело тобою, пасть тебя ниц заставляя,—■
И, потрясенный, лежал ты, лицом уткнувшись в ладони;
Полнилась гимном душа и вылиться в песню рвалася,
Слезы застлали твой взор... Но, увы, ничего
не свершилось.
Труд начался кропотливый, усердные поиски формы,
И вдохновенная песнь свелась к поучительной притче*
Правда ведь? Но почему? Видно, ты воспарить
не решился?
Что дано тебе, что не дано — знал заранее сердцем
И примирился; но боль еще долго потом
не стихала.
Разве так было только однажды? Значит, навечно
Должен ты был оставаться писателем, автором прозы,
И никогда не познать тебе истин, открытых поэту?
Бесповоротно судьбой решена твоя участь? Увидим.
Знаю размер я старинный — он мил был и грекам
и немцам.
Сдержанность, неторопливость — суть его, ясность
и мера;
Держится он середины меж песней и словом
разумным;
Праздничность есть в нем и трезвость.
Для выражения страсти,
Сложных душевных движений он не годится,
пожалуй,
Но окружающий солнечный мир — его звуки и краски,
96
Их переливы, оттенки, игру отражает отменно.
Он для беседы свободной подходит и для отступлений,
Там он хорош, где речь — и про дом, и про мирную
радость.
Рано он слух мой пленил в переводе немецком,
когда я
Мальчиком, в битвах Кронида душу и ум возвышая,
Предпочитал'их рассказам о приключеньях индейцев.
Ритм мне привычен с тех пор, и я им свободно владею,
Даже случалось порой, — вы вряд ли заметили это, —
Что, в мою прозу вплетаясь, делал он шаг ее
твердым.
Так разреши же мне, муза, поступью четкой и мерной
Шествовать ныне открыто! Время, — и повод
достойный.
Ибо петь я хочу о ребенке, младшем из наших,
В трудное время подаренном мне, когда был я
немолод;
То, что не сделал порыв и духа взлет небывалый,
Пусть совершит отцовское чувство: я стану поэтом!
ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Позже других рождена, воистину ты первенйца!
Ибо немало прошло уже лет с тех пор, как
в последний
Раз я стал снова отцом. Подросли твои братья
и сестры;
Четверо их — и все разумные, милые дети,
Младшему минуло семь, а старшему скоро
тринадцать.
Юный отец с удивленьем смотрел, как семья
собиралась, —
Чуть ли не из году в год появлялись они друг
за другом,—
Сам одичокий пока, но, гордясь этой резвой гурьбою,
Как и всегда, он, мечтатель, гордился реальности
даром
(Ибо тому, кто в мечты погружен, действительность
мнится
Невероятнее всякой мечты и льстит ему тоньше).
7 Т. Манн, т. 8 97
Что ж, он немало забот положил и трудов, чтоб
упрочить
И укрепить положенье семьи. Но, случалось, порою
Как-то тоскливо ему становилось, и, отчужденный,
Был озабочен он тем, чтоб свободу свою не утратить
И независимость духа, к которым упорно стремился.
Да, я любил их, творенья судьбы и мечты моей
страстной.
Ставшие ныне людьми и свои таившие судьбы;
И ради матери я их любил, что невестой из сказки
В юности въявь мне предстала, — счастьем ее они
были,
И когда старший из них, красивый, особенный
мальчик,
При смерти был и лежал без сознанья, готовый
расстаться
С жизнью, несколько раз побывав под ножом
у хирурга —»
Неузнаваемый, он деревянною куклой казался, —
Сердце мое разрывалось от боли при виде страданий
Горьких ее. Мы плакали вместе. Но слишком внезапно
Древо жизни моей разрослось и раскинуло ветви, —
Только вчера еще бывшее тоненьким деревцем юным, —
И в замешательство это нередко меня приводило,
Чуть ли не в свете смешном предо мной представая.
Но разве
Эта нежданная явь, что меня окружала, возникла ■:
Не из мечты (даже если мечта и к заботе житейской
Вдруг привела), не из грезы, не из тоски
о прекрасном?
И удивительным сном она мне подчас представлялась.,
С недоуменьем веселым ей покоряясь, глядел я
Со стороны, с любопытством, с ней не желая
сливаться,
И раздражен был не раз, если шум ее в мир мой
врывался.
Время шло; шел я с ним, мой собственный путь
пролагая,
Шел в окруженье существ, мне самых близких на
свете,
98
Вызванных к яви мечтою и утверждением жизни.
Вот уж четырнадцать минуло лет с той поры, как
впервые
В дом мой жену я привел, и четверо за семь явились;
Снова семь лет протекло, — нет, видно, все были
в сборе,
И предстояло теперь растить это дружное племя —
Двух кавалеров и барышень двух, — а не ждать
прибавленья-
Жизнь устремилась вперед, об истоках своих забывая,
Не было новых побегов, связь укрепляющих прочно
Меж бытием и грядущим. Меня уж давно научили
Время и опыт любить все то, что своим называл я.
Ибо лишь юношу страсть занимает, а зрелый мужчина
Любит. Ведь страсть вечно жаждет того, что не наше.
Чужое,
Радужный мост наводя, она именует прекрасным.
С нежностью оберегать, благословлять, что дано нам,
В нем красоту различать неустанно, —любви лишь
доступно.
Так к откровенью пришел я, так я ценить научился
То, что мне жизнь подарила. Чудом оно мне казалось,
Малое племя, и что-то его ото всех отличало;
Внутренней жизни моей воплощенье живое, творенье
Зримое страстной мечты; суть от сути моей, дух
от духа.
Жизнь моя с творчеством разве слита не была
неразрывно?
Я отдавался в искусстве не вымыслу — подлинной
жизни;
Но ведь и жизнь для меня была творчеством.— их
не делил я.
С ясной душою взглянул я на то, чем смущен был
когда-то,
Радость в том находя, что раньше меня
тяготило«
И вот тогда, когда в сердце моем эти чувства
проснулись,
В мир ты пришла, была рождена мне, дар
драгоценный,
7*
99
Милая детка моя! И совсем в этот раз по-другому
К встрече я был подготовлен в душе по различным
причинам:
Памятью переживанья, принявшею образ телесный,
Были мне все остальные; ты же была, моя радость,
Плодом любви моей зрелой, верного, прочного чувства,
Близости в счастье и в горе. Бурное время настало;
Почва ушла из-под ног, и рушился миропорядок;
И велики были беды всех, кто трудился и мыслил«
Мягче они меня сделали, но и сильнее; призвали
В жизни свое осознать назначенье, найти свое место
И — почетно оно или нет — занять не колеблясь.
Ведь и любовь обретает впервые свободу и силу
Только тогда, когда, нашу судьбу познавать
научившись,
Овладеваем мы ею и управляем разумно.
И начинаем любовь мы ценить, что нас окружает
(В юности мимо нее проходили мы неблагодарно,
С пренебреженьем ее отстраняя), и другом
гордиться,
И уважать его труд, без которого нам бы едва ли
Собственный труд завершить удалось. О, как же
когда-то
Были мы горды и нетерпимы! Скорее готовы
Веру мы были в себя потерять, чем в душе опереться
Смело на друга. Но стало все по-иному с годами.
Вот распахнулись ворота пятого десятилетья;
Вслед за Орами в них мы вошли, — а хотелось
помедлить!
(Но человек шагает спокойно, с покорностью
странной,
С временем вместе вперед: он знает, залог в этом
жизни.)
Посеребрились виски, и мир представляется новым
Путнику; и по-другому, чем прежде, живется на свете.
Только духовное дорого юноше, он, неприступный,
В глубь бытия погружает задумчиво взор свой
пытливый
И ощущениям внешним не верит. Но время
приходит, —
Ласковей шепчет природа тогда примиренному сердцу;
100
Раньше не трогало так нас новой весны пробужденье,
Первое веянье робкое; в юности был нам неведом
Этот порыв благодарного чувства, с каким мы сегодня
Запах вдыхаем волшебный, склоняясь к раскрывшейся
розе;
Взгляд не встречался приветливо так
с белоствольной березой,
С грацией нежной, по-девичьи свесившей длинные
кудри
В час золотой пополудни. Растроганность странная,
что же
Значишь ты? Что созерцанье любовное нам
предвещает?
Может быть, хочет природа, чаруя нас, мягко
напомнить,
Что из нее мы явились и скоро в нее возвратимся,
Тайно влечет нас к себе, помогая созреть нашим
чувствам?
Доченька, видишь, как был я настроен и как
подготовлен,
Чтобы тебя воспринять из темного лона природы,
Где ты, лелеема бережно, формировалась в согласье
Строгом с законами рода. Не знал, что тебя уж люблю я.
Но когда совершилось трудное, светлое чудо —
Мрак покинула ты и на свет появилась, куда ты
Так давно уже бурно стремилась (толчки я
подслушал),—
Легонький груз ощутил я когда на руках боязливых
И с восхищением тихим увидел, как в твоих глазках
Солнечный свет отразился, а после — о, как
осторожно! —
Я тебя положил к груди твоей матери, — сразу
Сердце мое переполнилось чувством любви
благодатной.
РАНО УТРОМ
Утром, лишь смою дремоту с. лица ледяною водою,
Радуясь новому дню и его чистоте возрожденной,
Деточка, прямо к тебе направляю я путь, в твое
царство
101
Малое, где в это время вода, разведенная няней
В маленькой цинковой ванне, стоящей на козлах
высоких,
Тельце твое омывает. А ты меня смехом встречаешь,
Издали ты за мною следишь сияющим взглядом
С радостной ясной улыбкой доверия и узнаванья
(Помню, как счастлив я был, когда увидал, что
впервые
Чуть пробудилась она при виде меня в твоем взоре,
Счастлив, почти как влюбленный при виде улыбки
любимой).
Мокрый круг на полу — забрызган линолеум,—.ты
ведь
Весело плещешься в ванне и дрыгаешь ножками
бойко —*
То перестанешь, то снова, — ты маленькими
локотками
Бьешь прирученный поток с весьма озабоченным
видом;
Очень собой ты довольна; на мокрой щеке твоей
ямка;
Брызги из ванны летят и мне на костюм
попадают
Но не вся ты покрыта водою — заботливо няня
Держит головку твою на руке, потому что вода
ведь, —•
Хоть и ластится льстиво к тебе и хоть ты
беззаботно
Веришь ей, — не твоя уж больше стихия, с тех пор
как
Стадию жабр прошла ты во тьме, и коварно тебя бы
Лживая вмиг удушила, когда б ей тебя предоставить.
Грудка сухая, и вот золотистую губку, что в ванне
Плавает сверху, беру я и над тобой выжимаю
Медленно, снова и снова; а вот и опять; потихоньку
Теплой прозрачной струей сбегает вода то и дело
Вниз, растекается в малые струйки по ручкам
и ножкам«
Это приятно тебе,—-ты притихла с улыбкой вниманья.
Ну, а потом тебя няня, бережно и осторожно,
Из воды вынимает, — капает с мокрого тельца, —■■
102
Быстро на столик кладет, покрытый пушистой
простынкой,
Над электрической печкой согретой, и сразу, поспешно,
Кутает, кутает, чтобы скорей обсушить хорошенько.
Мне же приятно побыть здесь немного, и я со
вниманьем
За невеликим твоим туалетом слежу: в треугольник
Ровно пеленку сложив, тебе надевают штанишки
И остальные вещицы, одну за другою, — тепло ведь
Больше всего тебе нужно на свете: к нему ты привыкла
В мирном и темном недавнем своем бытии, и пока что
Ты в этом мире холодном еще новичок, чужеземец.
Вот наконец запеленута ловко по самую грудку,
Стала ты с виду похожа на сверточек продолговатый.
Ручки над свертком торчат в обе стороны — белые
крылья,
На голове, надо лбом, хохолок красуется светлый;
Щеточкой мягкой, как бархат, пригладила волосы
няня:
Реденькие на затылке — спишь ведь всегда на
спине ты,-^
Выше лежат на головке они завитками KanpH3HOt
А впереди хохолок задорно вздымается кверху.
Вот теперь я тебе желаю доброго утра,
На руки взяв тебя, назад отклонившись и глядя
Близко-близко в глаза твои. Смело в лицо ты мне
лезешь
Ручками теплыми, за нос хватаешь, смеешься, когда я
Рот раскрываю, рычу, притворяясь, что очень опасен.
После же следует завтрак, и ты на коленях у няни
Важно сосешь из рожка молоко с овсяным отваром,
Теплый напиток глотаешь с блаженством; но полон
животик, —
После движенья и ванны снова ко сну тебя клонит*
Много уж ты пожила, и кладут тебя снова
в постельку..
Так, совершив только то, чем мы, взрослые, день
начинаем,
Чтобы бодро к делам приступить, — ты опять
засыпаешь.
юз
анАк
Я же вступаю в день взрослых; согласно его
распорядку,
Час за часом идет, и каждый свой дар мне приносит:
Сосредоточенный труд в одиночестве, радость беседы,
Отдых недолгий сменяют друг друга; и издали
только
Я продолжаю следить за твоим бытием необычным —
За предварительной жизнью, что в полусне пролетает
Там, за высокой решеткой твоей деревянной кроватки,
Где и заметить-то трудно тебя, хоть мала она очень —
Крохотная, ты лежишь посредине, — вокруг тебя
пусто.
Или цветущий солнечный сад свой простор растворяет,
Чтобы в коляске могла продремать ты быстрое утро:
К югу она изголовьем стоит посредине газона,
В шины одеты колеса высокие, крепки рессоры,
А занавески зеленого шелку — в защиту от солнца.
Лежа здесь, спишь ты обычно; пока в материнской
утробе
Зрела ты, сон твой и бденье мешались, едва
различимы,
Вот и теперь так: день ли, ночь ли — тебе
безразлично.
Но если глазки раскрыты, — проснулась, — играют
тихонько
Пальчики маленькие уголком занавески зеленой,
Или сжимаешь ты ручкой легонько, неловко
игрушку —
Кто-то из наших друзей подложил ее тайно в
коляску, —
На костяном кольце бубенчик серебряный, в форме
Яблока с тонким чеканным узором, и звон его нежный
Издали нам возвещает — где ты, в каком углу сада.
Ты, прислушиваясь, глядишь и глядишь на колечко,
И в твоей памяти хрупкой запечатляются светлый,
Детски радостный образ и чистый звук этой первой
Вещи твоей. А бывает, заплачешь ты вдруг
раздраженно,
Жалобно, зуд и боль ощутивши от зуба, который
104
Нежную ткань десны прорезать собрался. Услышав
Плач твой, я оставляю работу и, выйдя из дома
Через стеклянную дверь, спускаюсь вниз
по ступенькам
Каменным, чтобы к тебе пройти по газону. Тихонько
Ложе пружинистое твое качаю коленом
И завожу разговор: звук голоса, ласковый, ровный,
В душу твою возвращает покой и доверие к миру;
Знаю я, надо всегда к тебе подходить осторожно,
Плачешь ты или молчишь, — ведь склад твой душевный
так тонок,
Что появленье внезапное, голоса звук вызывают
Ужас: ты вздрогнешь, ручонки вскинешь над головою,
Глазки в испуге широко раскроются, и промелькнет
в них
Искра смятения... Бережно, мягко в общенье с тобою
Надо вступать, говорить негромко слова утешенья,—
Слаб ведь еще, неустойчив, лишен равновесия дух
твой,
Ибо ты зарождалась и зрела в недоброе время:
В муках корчился мир; струилась кровь, и стеснило
Горе каждому грудь; мысль зачахла, гонима нуждою.
Правда, тогда ты была от света надежно укрыта
И в тишине проходила свой путь по начальным
ступеням.
Но бушевало время, твое бытие сотрясая,
Судорога континента вторгалась в рождение пульса,
Пестовала тебя растерянность горькая, — что же
Станется с миром и родиной нашей, безвинно виновной?
Впроголодь каждый из немцев питался, — из-за
блокады
Был прекращен подвоз; белков и жиров не хватало;
Тот, кто был еще бодр и жил бы да жил себе мирно,
Радуясь жизни, — иссох, сошел до срока в могилу;
Щеки ввалились, лицо заострилось у самых здоровых;
Споры болезней легко прорастали на почве лишений;
Жизнь в материнской утробе жаждала соков для
роста...
Вот и явилась ты в мир, — не хилой, — легко
возбудимой,
105
Плод наших нежных забот! И природа тебя отличила
Огненной метой от старших, как детище времени
злого:
Слева, над самым виском, с горошину величиною,
Родинкой красной пылает знак твоего зарожденья,—
Так й считаем мы все: война здесь клеймо приложила.
СЕСТРИЧКА
И тебя бережет эта дружная, резвая стайка:
Шум и ссоры смолкают, когда ты здесь вместе
с ними,
В мире нова и священна, безмолвна среди
говорливых, —•
Словом родным не владея, слушаешь только
да смотришь.
В самом низу возле нас, укоренившихся прочно
Здесь, на земле, — за столом ты, маленьким, чуть
выше пола,
В креслице низком сидишь, в его уголок
привалившись;
Спинка его до колен едва доходит нам, взрослым.
Ласково голос смягчают всегда и большие и дети,
Если к тебе, наклонившись, они обратятся, — ты
взглянешь
С ясной улыбкой, любви — не словам — внимая
с доверьем,
Мудро читая в лице тебе от начала знакомом.
Облик твой нежный и хрупкий напоминает во многом
Старости облик глубокой: рот беззубый; усердно,
Медленно ищущий взор; качающаяся головка;
Слабая спинка — все это свое отраженье находит
В самом конце человеческой жизни, но если вначале
Нас умиляет и будит растроганное восхищенье,
То, повторившись еще раз как дряхлая немощь, —
к которой
Мы с снисхожденьем подходим, — пугает нас холодом
склепа.
Часто «святое дитя» тебя называю я в мыслях,
Образ твой светлый, достоинства полный, в душе
вызывая.
106
Пища твоя чиста и безгрешна; маленький ротик,
Пухлый, с какими обычно художники ангелов пишут,
Не осквернен еще словом, которое, с словом
сплетаясь,
Ложь приютить норовит и низкий расчет, и сомненье.
В день моего рожденья тебя принесли ко мне
в шутку,
Чтобы и ты меня поздравила тоже. И вот я,
Знавший доныне тебя лишь в пеленках и детских
конвертах,
В платье увидел теперь впервые из белого шелка.
И в облачении длинном, свисавшем почти что до полу,
В белой крахмальной слюнявке, твой подбородок
обведшей
Строгою рамкой испанской, — казалась ты в эту
минуту
Очень достойной особой, едва ль не духовного званья.
Дома сестричкой тебя называют — причудливым
словом:
Сестрами звались когда-то у нас христовы невесты,
Серые, в серых чепцах и с четками, — где-то все вместе
В Виклингене они жили, послушные старшей.
Я в детстве
Их навещал, приезжая смотреть золотую часовню.
Кротко ходила одна за отцом, когда при смерти был
он,
С нами сидела, с детьми, когда в жару мы лежали.
Тихо входила она, внося и покой и отраду;
Маленький свой саквояж поставив в сторонке,
снимала
Серый свой плед и. серый чепец, который в дорогу
Сверху надела на белый плоеный; бесшумно ступала
По полу в обуви мягкой, готовя компрессы,
лекарства
Нам подавая, а четки у ней на поясе тихо,
Сухо побрякивали; у постели больного часами
Сидя, читала она ему книжки вслух; нам читала
Страшные сказки, преданья, которые мы так любили;
Ей нелегко это было: ведь черт в них встречался
нередко,
107
Трудно давалось ей слово: «Лукавый» она говорила,
«Враг наш», «Нечистая сила». Мы все ее очень
любили.
Нет, она не служанкой была, но была и не дамой;
Не относилась к народу, но также не к высшему
классу-
Девой стыдливой она не была, хоть была незамужней,
Стоя вне общества, смерть и страданья смягчала
незримо;
Чуждая всяким страстям человека, была человечна.
Ровные белые зубы улыбка ее открывала
И удивительной лаской светилась, ибо над бровью,
Там, где оборка чепца, проступала нежная жилка,
Неописуемую доброту лицу придавая.
А вот волос не видал я. Не женской была она
сути,
Но и никак не мужской. И она не случайно,
пожалуй,
Ангелом всем нам казалась. «Сестра!» — ее звали
мы, если
Жажда нас мучила: имя это сурово и нежно,
Кротко оно и бесстрастно, звучит задушевно и свято.
Ты же зовешься «сестричкой», вернее, звалась
до тех пор, как
Именем христианским тебя окрестили с почетом.
Чудится что-то еще мне в звучании этого слова:
Есть в нем веселая тайна, извечно оно и мистично.
Сказочно нежная сила есть в уменьшительной форме
Этого зова: «Сестричка!» — принятой в речи немецкой,
А уж особенно в тайных прозвищах, данных
когда-то
Малому гномов народцу — хитрой и быстрой их
братьи,
В доме шалившей, хозяев дразня или им помогая:
«Ганс-колпачишко», «Мал-человечишко» — так
называли
Тех из них, кто побойчее, — прытких, пугливых,
дружочков,
Неуловимых, бесшумных, затейливых, непостижимых.
Слышится мне что-то весело-ласковое, колдовское
108
В слове «сестричка», которым мы все тебя окликаем,
Если ты в кресле своем, почти что под столиком
сидя,
Вскинешь нетвердо головку и молча, приветливо
взглянешь
Вверх — на высоких людей, причастных таинству
речи.
ЗА ВАВЫ
Все же, хотя ты пока еще дитятко, сказочный гномик,
Пол твой дает себя знать в живости, в быстром
развитье;
Девочка ты: любопытна, жадна к впечатлениям
новым
И благодарна всегда тому, кто тобой руководит,
Их находить помогая; рано твой дух пробудился;
Мальчик тебе не чета — все медлит, он, мешкает,
дремлет.
Девочка! Любо тебя забавлять мне —тружусь я
недаром:
Как ты смеешься, когда я, присевши на корточки
возле
Столика, что вместе с креслом тебе тележкою
служит, —
Толстенького человечка пригну — живот с головою,
Ваньку-встаньку, свинцового снизу, —и тут же он
вскочит,
Быстро качаясь, трясясь, за живот ухватившись
от смеха,
Иль, крутанув его раз за головку, пускаю кружиться—
Как неуклюжий крестьянин, он вертится, топчется
в танце!
Ты в восторге; и все ж это будничные развлеченья.
Ведомо нам кое-что и получше: из столика с креслом
Вынув, несу на руках тебя мир открывать
необъятный, —
Через площадку, по лестнице вниз, где на стенах
картины
Школы испанской, потом вестибюлем — с камином
и люстрой —
В библиотеку мою. Ты глядишь, запрокинув головку,
109
Ротик раскрыв в удивленье, на комнаты, стены
чужие...
Вот теперь у меня ты в гостях, в моих ты владеньях;
Прямо, стойком, на руках тебя я держу, и головкой,
Теплой, пушистой, опоры ища, прислоняешься часто
Ты к виску моему — поет мое сердце. И вот я
Мир вещей представляю тебе, имена называя.
Глядя, прислушиваясь, вбираешь ты, пробуя чувства,
Образ слившийся с звуком; и в лепете слышу уже я,
Как ты пытаешься мне подражать языком
непослушным.
Вот они — красная книга, блестящая чаша, в которой
Луч заиграл, голова на подставке чугунной и глобус.
Но любимое самое, чудо, дивное диво,—
Все к нему обращаешь головку ты, тянешься ручкой,—
Это живые часы в том углу; палисандровый
шкафчик
Там примостился меж полок высоких для книг,
и на нем-то
Больше столетья стоят они, видом подобные храму:
Черного дерева, стройны, колонны, несущие купол,
С бронзовым базисом- и капителью, — всего их четыре,
Черного дерева цоколь, карниз разукрашен резьбою.
А из-под бронзового циферблата свисает, качаясь
Между колоннами мерно, маятник тяжеловесный,—
Лира, к которой подвешен диск из сверкающей меди, —
Ходит и тикает он. Мы с тобой поглядим друг на друга,
Вновь на него, и смеемся. Но вот я берусь за
шнурочек
Пестрый, свисающий вниз с циферблата, тяну
осторожно...
Что-то свершается, что-то готовится в маленьком
храме,
И механизм сообщает послушно, как движется
время —
Четверть пути этот час пробежал, половину ли, весь ли
Путь, — мелодичным, торжественным боем. Радостно
вздрогнув,
Ты рывком вздымаешь ручонки ладошками кверху,
Словно в знак поклоненья; коротенькие восклицанья,
Вроде «ах!» или «там!», твой бурный восторг выражают.
ПО
Взглядом ты просишь ответа у вещи волшебной,
у гида,
И с неохотой, назад повернувшись, с углом
расстаешься.
БОЛЕЗНЬ
Но, как ни радостно мне пробуждать твой ум
и сердечко,
С пестрым миром вещей их связывать хрупкою
связью,
Внешним видом предметов прельщать, — еще больше,
пожалуй,
Счастлив я, если мне удается тебя успокоить,
Мир внести в смятенную душу; блаженную дрему,
Сладкий сон приманить к твоему изголовью, когда ты
Так его внутренне жаждешь и все же капризами,
плачем
Гонишь прочь от себя в беспокойном метанье. Смогу я
Утихомирить тебя, когда безуспешны все средства,—
Горд собой бываю немало. Как-то недавно
Ты заболела; мучительный грипп, войны порожденье,
Не пощадил и тебя — ведь он поражает сегодня
Маленьких самых и слабых, дабы и тех, кто невинен,
Тех, кто владеет священным правом свободы,—их тоже
Не обошли стороною бедствия времени злого.
Жар охватил твое тельце, из носа текло, и уже ты
Боли жестокую пытку познала — мы поняли это,
В жалобном плаче расслышав гнев и мольбу
о пощаде.
Но не знали, где боль притаилась; ушко болело —
Доктор ощупал тебя осторожно,—могла ли сказать ты?
Грустный диагноз гласил: воспаление среднего уха.
Надо лечить тебя было, советы врача выполняя:
Перекись водорода, что, в ухе с шипением пенясь,
Глазки тебя закатить заставляла, — пускать
осторожно;
Маслом камфарным согретым, но, боже спаси,
не горячим,
Капать в малюсенький ход слуховой, где она
угнездилась,
Резкая боль; затыкать его ватой, тепло сохраняя«
///
Няня платок шерстяной повязала тебе через щечку,
Под подбородок, узлом укрепив на головке. Такая,—
С личиком изможденным и постаревшим от боли, —
Ты показалась нам всем несчастной приютской
старушкой,
Жалостный смех вызывая невольно у нас,
сострадальцев.
Как ты кричала! Должно быть, каждое прикосновенье
Сразу же боль пробуждало, но и малейшей надежды,
Что ты сама заснешь на постели, — не было тоже.
Вот и носил я ночью тебя, — до угла и обратно,
Тот же коротенький путь отмеряя, — час или больше,—
Тихо баюкая острую боль монотонностью шага,.
Взад и вперед равномерным хождением, ласковой
речью.
Ныла рука у меня, на которой лежала ты, — снизу
Левой ее подпирал я, но что за блаженство —
увидеть,
Как страданья твои утихают, расслабилось тельце,
И, у меня на руках становясь тяжелей, успокоясь,
Ты погружаешься в сон безмятежный. Однако не сразу
Я положил тебя на кровать, потому что внезапной
Сменой движенья покоем и нарушением ритма
Мог бы рассеять непрочную дымку дремоты: сначала
Надо было твой сон углубить и упрочить, и только
Тут я решился нагнуться, тебя опустить на постельку,
Вытащить руку свою наконец из-под спинки неслышно
И на прощанье, тихонько-тихонько коснувшись губами,
Лоб твой, младенчески выпуклый, поцеловать
осторожно.
Сладостней мне самому забытье показалось от мысли,
Что успокоил тебя, для тебя забытья добиваясь.
восток
Чувства отцовские женщины часто используют
с толком:
Заняты ли по хозяйству они, в магазин ли уходят,
Тотчас тебя мне спешат отдать под опеку, — ведь
знают.
112
Что отказать я не в силах. И правда, дороже всего
мне
(В этом-то весь их расчет) с тобою побыть без
помехи
В мире моем, где, в занятья и в тишину погруженный.
Между работой вниманье делю я и нежным
присмотром.
Вот я сижу за столом; на тахте же, по правую руку,
Радуя глаз, корзинка стоит — «колыбель Моисея»,
Где ты лежишь. Поднимается верх ее и укрепляют
Шелковой лентой его, в ногах завязанной бантом.
Легкие, тоненькие занавески я раздвигаю,
Чтобы, взгляд поднимая от книг и бумаг, мог увидеть
Сразу лицо твое — спишь ты или глядишь, улыбаясь?
И, откинувшись в кресле, черты твои я изучаю,
В склад лица необычный — рас далеких смешенье —
Вглядываясь со вниманьем. Особенно, неповторимо,
Образ твой воплощает то, что свойственно всем вам:
Родина соединилась в тебе с фантастической далью,
Детка, северо-запад с таинственным юго-востоком,
Край заката с краем восхода. О желтой пустыне
Личика низ повествует (вперед он слегка выдается),
Носик арабский... Глазки ль твои засветились
улыбкой?
Голубизна в них северных льдов, но порой, чуть
заметно
Для моего пытливого взора, что-то темнеет
Вдруг в глубине их сладостно, чудно, мечтой
чужедальней.
Светлые брови зато совсем как у предков-ганзейцев
(Я улыбаюсь невольно, вновь находя это сходство), —
В ратушу шли они чинно, купцы с бородой
полукругом,
Трезво вершили дела, протянув табакерку соседу,
Слали свои корабли с товаром в заморские страны...
Знай же, что ты на востоке зачата, — сказка
сбылася:
Кровь мореходов севера, плававших вдаль, —в твоих
жилах,
Двойственен образ отчизны твоей — экзотичный...
немецкий...
8 Т. Манн, т. 8
ИЗ
Так и мой город родной мне в двояком является
свете:
Серый, готически строгий около гавани старой,
Он обступает лагуну, восточные арки вздымая,—
Чудом волшебным восхода, воспоминанием детства,
Сном проясненным до яви. В юности был потрясен я,
Нет, не во сне уносимый гондолой, плавно
скользящей
Мимо торжественной цепи дворцов Большого
канала«
Робкой ногою ступил я тогда впервые на плиты
Хладные, двор выстилавшие, что замыкает роскошно
Пестро-златой и похожий на грезу храм
византийский —-<
В арках восточных, с пилястрами, башенками,
куполами, —
Под шатром синевы овеянный ветром соленым,
Воздух вдыхая морской, мне с детства родной, созерцая
Низенькую галерею Палаццо Дожей, — над нею
В легком паренье застыла другая аркада —
я вспомнил
Ратуши старую залу, где на совет собирались
Бюргеры вольного града. Как же таинственны связи
Гаваней старых торговых, патрицианских республик,
Города, где я родился, — со сказкой волшебной
Востока!
Пряное лакомство детства, что в рождество
подавалось,
Блюдо, стяжавшее славу (обычно кондитеры наши
Форму высокого торта ему придавать ухитрялись
В виде ворот городских с зубчатыми башнями),—
разве
К нам пришло не с Востока, из мусульманских
сералей, —
Сладкая манна с сиропом из роз, с миндалем
растолченным, —
Через Венецию морем, свяченое в храме Сан-Марко?
Имя его по-испански mazapan, massepain
по-французски;
«mazzoth» =— по-древнееврейски — пасхальная
пища народа,
114
Что по пустыне прошел и разбрелся по свету,
сближая
Запад с Востоком. И вновь, как в Венеции, лет
через десять
Сердце забилось от счастья, волшебной яви не веря:
В залитой золотом зале девушку вдруг я увидел, —
Это она, твоя мама, была, — так давно уж родною
Стала она мне с годами, — в тот вечер принцесса
Востока.
Длинные черные кудри из-под златой диадемы
Ей ниспадали на плечи, чуть смуглые, детские
плечи,—
Нет, не такие совсем, как у наших северных женщин,
Плечи флейтистки Нильской долины, — на пурпур
одежды.
На необычном, серьезном личике, бледно-жемчужном,
Темной струящейся речью глаза говорили большие...
Сказка Востока, волшебной страны восходящего
солнца!
Это тогда, моя детка, когда я на образ прелестный
Взор обратил в упоенье, выпал твой жребий,
и властный
Голос призвал тебя к жизни, — руку мою предложил я
Ей, увиденной в праздник, на труд полагаясь
упорный,
И наяву ее в дом мой привел, как об этом мечтал я.
Так обнимаю я мыслью две твои родины, детка,
Глядя на светлые брови твои и на носик арабский.
Древняя родина — это Восток, там родина духа,
Там родился человек и старейшая, кроткая мудрость.
Не на Востоке ли создал однажды гений ганзейца
Книгу великую — ту, что, мир объясняя, о воле
И представленье трактует, мысли германской отвагу
С тайною Упанишад связав неразрывною связью?
Так обнимаю я чувством то, что дороже всего мне
В мире: тебя, моя детка, и достояние духа,
Въявь обретенное мной, — утешение в жизни и
в смерти, —
Сидя у нильской корзины, в руке держа твою ручку,
В личико глядя твое, его склад изучая особый.
8*
lib
КРЕСТИНЫ
Ну, а теперь расскажу о крестинах твоих, чтобы после
Ты это все прочитала — когда уже будешь большая.
Праздник заботливо был подготовлен задолго до срока;
Принял отец твой участье горячее сам в этом деле,
Предусмотрел и обдумал заранее каждую мелочь;
Выбрал и пастора сам, и двух восприемников-
крестных,
Выбору смысл придавая особый в случае каждом.
Письма пришлось написать, а также уладить
конфликты
В установлении даты; здесь трудностей было немало,
Ибо из крестных один был к нам приглашен издалека,
Так же как пастор — пока лишь викарий в Саксонии
юный,
Но, кроме этого, доктор наук философских, глубоко
И благодарно поэзии преданный сердцем. Мы письма
Часто писали друг другу и раньше. И книге
прекрасной,
Степень ему снискавшей, он предпослал мое имя
С дружественным посвященьем. И вот его-то я выбрал,
Чтобы священника роль на твоих он исполнил
крестинах:
Ведь неизвестно, кого пошлет лютеранская церковь
В дом, если ей предоставить все целиком; может
статься,
И остолопа, который в фарс обратить все сумеет;
Этого я не хотел. О крестных скажу в свое время.
Вот и настал наконец знаменательный день тот
осенний.
Комнаты мы украшали цветами с веселым
волненьем —
Множеством астр, хризантем, в соответствии
с временем года,—
Лично отец их принес с городского базара, где сам он
Их и купил, подобрав белоснежных и яркой окраски
(Садик наш смог предоставить зелени только немного
Для оживленья букетов). И вазы наполнив цветами,
Мы их расставили в комнатах трех; живые гирлянды
Стол для крестин украшали: стол в будуаре у мамы
116
Мы, пододвинув к окну, в веселый алтарь обратили,
Тонким дамастом покрытый, столь кстати нашедшимся
в доме.
И серебром замерцали крест, и кувшин, и
подсвечник —
Церковь нас ими ссудила. Принадлежала купель
лишь
Издавна нашему дому. И не одно поколенье
Нашего рода над ней при обряде крещенья держали.
Ты из четвертого. Чаша проста, благородна по форме,
Сделана из серебра, на ножке короткой. Внутри же
От позолоты поблекшей блеск желтоватый. По краю
Фриз из сплетенных друг с другом роз и листьев
зубчатых.
Всем своим видом она отвечает строгому вкусу
Четверти первой минувшего века; подставка ж под
нею
В форме большой тарелки серебряной — старше
намного:
«Тыща шестьсот пятьдесят» — гравировка гласит,
оплетая
В «новой манере» тогдашней узором причудливым
цифры;
Герб с завитушками в пышной рамочке из
арабесков —
Полуцветов-полузвезд. А снизу, на обороте,
Почерком разным и шрифтом увековечена подпись
Всех, кто в теченье столетий были владельцами вещи:
Предки твои это, детка, — от них тебе брови
достались.
Чашу поставили мы в середине, начистив до блеска,
Крест возвышался за нею, а на столе перед чашей
Библию мы поместили тяжелую, в древнем изданье,
Так же ко мне по наследству пришедшую, как
и подставка,
Через длинную цепь поколений и давности той же,
А напечатанную в Виттенберге по высочайшей
Воле курфюрста саксонского. В пядь корешок
шириною,
Блеск золотого обреза не потускнел и не стерся.
117
Убран на славу был стол. Отец твой управился быстро
С делом серьезным. Зато было много хлопот у хозяйки
С приготовленьем к приему гостей: в пять часов
пополудни —
К сумеркам ранним клонился день короткий
осенний —
Стали они собираться, нарядные, рукопожатьем
Нас и друг друга приветствуя; в комнатах
и в вестибюле
Группками стоя, негромко беседуя между собою.
Сестры и братья твои здесь и там между ними
мелькали,
В праздничных платьях и куртках, — у всех
разрумянились щеки,
Все с возбужденьем веселым переживали событье.
Был тут и юный священник, пока еще гость меж
гостями.
Он уж вчера по всей форме отдал визит нам во фраке
И в сюртуке теперь черном был в соответствии
с часом,
Позже прикрыть собираясь сюртук облаченьем
духовным
(Кистер держал наготове его наверху). Не скрывали
Стекла пенсне своим блеском мягкого, кроткого
взгляда
Карих глаз близоруких ученого и книголюба.
Всюду ходил твой отец, наблюдая, чтоб шло все как
надо,
С светлым волненьем в душе: был твой и его это
праздник,
Чувствовал остро ответственность он за теченье
событий
И потому от гостей по лестнице вверх подымался
В детскую он торопливо, где в спешке тебя наряжали,
К пастору шел он оттуда, который пред шкафом
зеркальным
Брыжи приладить старался: пальцы его чуть
дрожали,
Щеки покрылись румянцем, кистера мудрьим советам
Он с благосклонностью явной внимал. А после
на кухню
118
С кистером вместе спуститься пришлось мне за теплой
водою
Для совершенья обряда — холодной бы ты
испугалась, —
Нес в кувшине золоченом ее этот длиннобородый,
В черный одетый сюртук мирянин-церковнослужитель.
Снова затем торопился в гостиную я, чтоб твой
выход
Не пропустить: несказанно бы это меня огорчило.
И наконец совершился он. Дверь широко распахнулась,
И обратились все взоры в ту сторону, где появилась
Ты на руках своей няни — трогательна и невинна.
Платье, в котором крестили уже не одно поколенье
Нашего рода, не слишком тебя украшало: давненько
Вышло оно из моды, без рукавов, кружевное,
И от крахмала топорщилось на твоей малой особе,
Но возвышалась головка как-то особенно мило,—
Светленькая, чуть качаясь, — над кружевом, с ясным
сияньем
Глаз голубых, раскрытых в испуге, с маленьким
пухлым
Ртом и с огненным знаком возле виска, в завитушках,
Так прихотливо лежащих. В стороны ручки
раскинув, —
Как ты держать их привыкла, — розовенькие ладошки
Кверху подняв и расставив, напоминала ты позой
Этой святые иконы — те, на которых младенец,
Людям во благо рожденный, подняв и раскинувши
руки,
Благословляет народы. И вот ты в кругу очутилась
Взрослых людей, погруженных в заботы и грешных.
Раздались
Тихие возгласы радости и умиленья. Наверно,
Чувства испытывал те же вместе с огромной
толпою
И еретик, когда в зыбкой выси громадного зала
Плыл на носилках, в священной немощи, седоволосый
Старец, отец и владыка, и восковою рукою
В воздухе знак искупленья чертил и чертил
неустанно.
И преклоняли колени люди в пыли, и невольно
119
Слезы у многих из глаз катилися неудержимо.
Все обступили тебя со словами привета и ласки,
Но не расплакалась ты, хоть тебя испугал этот натиск:
Свойственно мужество нежным; где напоказ
выставляет
Грубый все чувства бесстыдно, там нежный владеет
собою.
Так тебя чествовали; между тем торопился отец твой
Снова наверх за служителем культа, который все
мешкал:
Возле окна он стоял, давно уж одетый к обряду,
В садик задумчиво глядя, в мысли свои погруженный.
И попросил я спуститься его — все уж было готово,—
И уступил ему, как полагалось, дорогу, чтоб первым
Перед почтенным собраньем предстал он, что с видом
достойным,
Хоть и смущенным, он сделал. Едва ль не до самых
ботинок
Ряса ему доходила, а под его подбородком,
Юношески худощавым и выбритым досиня чисто,
Свежие брыжи лежали отменно. Черный служебник,
На переплете которого крест золотой выделялся,
Он, прислоняя к плечу, придерживал левой рукою,
Как того требует чин. А сзади нас шествовал кистер.
Так друг за другом вошли мы в соседнюю комнату.
Окна
В ней занавешены были, и электрическим светом
Лампа ее освещала. К столу подошел проповедник,
Следовал кистер за ним по пятам; у стола, по другую
Сторону, няня стояла, держа на руках тебя. Мама
Неподалеку сидела; заняли все остальные
В комнате место — кто кресло поближе придвинув, кто
стоя;
И в тишине дружелюбной и ожидания полной
Речь свою юноша начал, поднявши порывисто руку.
Были средь прочих гостей и твои восприемники,
детка,
К радости их и моей пал на них по раздумье мой
выбор:
Оба мужчины, и, так же как пастор, молоды оба —
120
Старшему только недавно перевалило за тридцать,
Но его имя известно уже образованным людям
(Всякий, услышав его, с уваженьем кивнет головою):
Славу стяжала ему его превосходная книга.
Слушал он, преданный друг мой, речь, прислонившись
к роялю,
Сшитый отлично сюртук респектабельности
и старомодность
Виду его придавал; немецкий поэт и ученый,
С нравом веселым и детским, рано познал он страданье,
К жизни духовной стал ближе, мучимый тяжким
недугом
И обреченный судьбой то и дело к нему возвращаться.
Благоговея, отважился он, вдохновленный
любовью,
Горестный жребий воспеть последнего из Икаридов:
Истинный Фауста сын от брака с прекрасной
Еленой, —
Он, человек виттенбергской и элевсинской чеканки,
Небо посмел штурмовать в дерзновенно высоком
порыве,
Смерти предчувствуя зов в душе, раздвоенной опасно
Противоречием грозным и спором меж всем, что
несходно:
Между вчера и сегодня, гармонией и устремленьем,
Тайной и словом, немецким духом и логикой галльской.
Ринулся в скорби смертельной во тьму он
кромешную, — все же
В небе его ореол воссиял, освятив его имя.
Так двадцать глав этой книги тему трактуют, вернее
Тему варьируют, ибо каждая вновь воплощает
Мысль о всегда роковом равновесии
противоречий;
Слова искусство возвышено в книге чувством
глубоким,
Каждая часть отражает неизъяснимую прелесть
Целого. Книгу люблю я, как никакую из новых;
С детства родные картины страницы ее воскрешают;
Связан я внутренней связью с ней неразрывно;
и втайне
Я улыбаюсь, услышав, как знатоки ее хвалят»
121
Но о втором твоем крестном. Нет, не стоял он
с другими,
Слушая проповедь, в кресле сидел — бескровные руки
Крепко сжимали костыль, и твердо в ковер упирался
Черный тугой наконечник резиновый. Слишком
серьезным
Для двадцати пяти лет лицо его бледное было.
Прямо он спину держал, как старик, чья осанка прямая
Честь охраняет мужскую. Формой защитного цвета
Он средь гостей выделялся; четыре последние года —
В прошлом студент и поэт — он сражался на фронте,
покуда
Острый осколок железа не раздробил ему ногу,
В страшную рану втянув все то, что хранилось
в кармане:
Деньги, и ключ, и бумаги. Он долго лежал в лазарете,
Но удалось, хоть с трудом, сохранить ему ногу. Мне
прежде
Юноша был незнаком, однако значительно раньше
Чем разразилось несчастье, мы с ним в переписку
вступили,
И полюбился по письмам нравом отважным и чистым
Мне молодой офицер; и вот, когда время настало
Выбрать надежных тебе покровителей, я не случайно
Тут же подумал о нем: казалось мне полным значенья
То, что защитой тебе, рожденной в смятенное время,
Станет солдат этот юный;, я знал, что он будет доволен.
И, от раненья еще не оправившись и не окрепнув,
(Доктор его отпустить опасался), он все же приехал,
Чтобы сказать свое «да» и с радостью,
с благоговеньем
Дать согласье свое, как обет торжественный,—
юность
Так произносит его и горячая вера, — так сам он,
Мальчик почти, произнес его в сердце своем, присягая
Родине верность хранить до конца, до последнего
вздоха,
Быть защитником права ее, что священным считал он.
Вера его обманула? Неотвратимой судьбою
Вынесен был приговор над любовью его и над верой;
И, повержена в прах, беззащитна, в отчаянье горьком,
122
Бьет себя родина в грудь, вину за собой сознавая.
Те же, кто верх одержал, с добродетельным видом
решают,
Как бы ей кару назначить построже, так, чтоб, однако,
Не обернулась она наказанием для победивших.
Юноша бедный! Так, значит, ты встал на защиту
порока,
Значит, позором тогда уже было запятнано дело,
Ради которого ты и такие, как ты, в небывало
Дерзком порыве пошли, безграничной исполнясь
отваги,
В бой против ярости целого мира, в святом
убежденье,
Что героизм, не надменность, вечный судья в том
увидит?
Но оказался, увы, надменностью гибельной подвиг, .
Мнившийся вам благородным! В пользу врагов был
судьею,
Тем, кто неправых и правых по высшим судит законам,
Провозглашен приговор, последний и неоспоримый,
Лучше ли были они, раз над ними судьба свою руку,
Чтоб охранить их, простерла, в бездну народ твой
толкая?
Что задавать нам вопросы? Может быть, этой победы
Были достойны они, а быть может, совсем недостойны.
Ибо бывает и так, что истории дух помогает
И лицемерам в борьбе, пробуждая в поверженном
душу.
Но если не были лучше они, то был, без сомненья,
Плох и народ твой, служивший подлому времени
верно.
Юноша бедный, ты мнил по-иному, клятву давая,
Образ другой Германии, истинной, был в твоем сердце,
И за другую отчизну ты встал — за ту, что глубокой
Предана мысли всегда, и хоть странной нередко
казалась
Многим чужим, и у них вызывала досаду порою,—
Все ж уваженье невольно внушала им вместе
с надеждой.
Нет, не за ту, что, забывши себя в ослепленье
позорном.
123
Встать собралась во главе современного миропорядка
И проклинает в раскаянье позднем свой замысел ныне.
Впрочем, ведь может развязка, какой бы решающе
ясной
Нам ни казалась она, быть обманчивой. Ибо победа
И поражение — в чем они? Да и на месте ли слово?
Разве последняя это развязка? И разве победа
В споре за власть над отжившим свой век и на смерть
обреченным —
Тоже победа? Кончается эра. И новое будет
Порождено не победой сомнительной — горькой
нуждою.
Будем же ждать его появления в доброй надежде,
Без ликования слишком поспешного и без усмешки.
Знает ли точно народ, поднимаясь волненьем объятый
(Знала ль Германия то?), — для чего напрягает он
силы?
Чувствует только в душе, что волненье ниспослано
свыше,
Ибо орудие все мы. Так будем же верно и скромно
То исполнять на земле, что здесь надлежит совершить
нам,
Будем же верить, что это послужит людям на благо,
Ибо искусство сближает людей, призывает к единству,
Сколь бы ни мнило себя непричастным и отрешенным.
Нравственна сущность его, очищенье несет и свободу
И человеку созвучна в стремленье его
к совершенству, —
Кто ж к совершенству зовет, добру прорасти
помогает.
Плавно он речь свою вел, юноша в сан
посвященный;
Лился из уст его детских поток евангельских истин;
Если не знал, что сказать, не говорил ничего он,
Все ж говорить продолжая, слово рождая из слова,
Как проповедник искусный. Тема его вдохновляла,
Ибо любви посвятил он проповедь, да и удачней
Вряд ли бы сделать мог выбор. Все с одобреньем
внимали,
Как он с ораторским пылом, юный и преданный духу,
124
Славил второй и главнейший дар господний,
с уменьем
Чувства свои облекая в слова, использовал мудро,
В виде живого примера тот мило беспомощный образ
Детства, который так кстати, трогательный
и прелестный,
Был пред глазами собранья, чем, длиннорясый
платоник,
Теме успех обеспечил, чувства смягчив и заставив
Биться сердца. Впрочем, было и без того восприятье
Слушавших речь обостренным в это суровое время.
Так послужила ты, детка, символом —зримым,
наглядным —
Непреходящего, вечно трогательного и людям
Силы дала, благодарным, страх и смятенье отринуть
И обрести на мгновение вновь равновесие духа.
Голос свой подал младенец, нарушив теченье обряда,
Пастора речь перебив. Однообразие звука,
Видно, его утомило и напугало. И плачем
Он залился, протестуя; его утешали в сторонке.
Но, не смущенный ничуть возражением столь
неразумным,
Высказал все проповедник, что он сказать
собирался,
Мужественно повышая голос, чтоб плач заглушить им.
И наконец перешел он к вопросам: свой долг исполняя,
Крестных твоих призывал он торжественно дать
обещанье
В том, что защитою верной тебе они будут отныне
И охранят твою душу с чистосердечной любовью.
Вместе ответили «да!» оба избранника дружно,
С видом глубоко серьезным и голосом чуть
приглушенным,
К сану того, кто им задал вопрос, уваженье питая
И к минуте торжественной; хрипло немного,
поскольку
Слушали долго в молчании речь —один из них стоя,
В кресле глубоком другой, на костыль опершись
и склонившись.
И, получив их согласье, священнодействие начал
125
Юноша пастор: ребенка стал окроплять он водою.
И, успокоясь, ты смолкла и с удовольствием явным
Древний обряд над собою дала совершить. Твоя
мама
До алтаря донесла на руках тебя и у купели
Старшему из твоих крестных передала осторожно—■
Автору книги, — неловко взял он, поэт и мыслитель,
В руки тебя, неуклюже — беспомощный чуть ли
не так же,
Как его ноша, — но крепко держал тебя, чтоб не
упала,
И подставлял под струю он: пастор, читая молитву,
Щедро тебя поливал из горсти — сливал ему кистер
На руку теплую воду из кувшина. И стекала
Струйкой она с хохолка в купель позлащенную —•
так же,
Как и с моей головы в нее стекала когда-то,
Как стекала с голов сестер моих и моих братьев,
Братьев твоих и сестер. И по имени тут же, впервые,
Ты над купелью была торжественно названа, как ты
Названа будешь однажды, в последний раз, над
могилой.
Элизабет тебя нарекли мы. Так порешил я,
Тщательно выбор обдумав. Ибо нередко встречалось
Имя невинное это в нашем роду: нааывались
Так и прабабки и тетки. Было тебя мне приятно
В шествие это включить поколений: напомнило время
Мне об истоках моих — себя я почувствовал внуком.
Нет, не считаю дурным я того, не считаю неправым,
Кто, когда рушится мир и фанфары грядущего
громко,
Резко звучат, не им одним только внемлет,
кто верность
Все же хранит и тому, что, свой век отживая, уходит
В область истории, кто, погруженный в раздумье
о вечной
Взаимосвязи вещей, остается и прошлому предан.
И благодарственной все наконец завершилось
молитвой.
На руки маме опять новоявленную христианку
126
Крестный отец положил и с гордостью, и
с облегченьем.
Тут обступили их гости, символом вечным
представших,
Матери счастья и счастья младенцу желая; а также
Счастья желали отцу. И радостный, выполнив долг
свой,
Пастор наверх удалился, чтобы, свое облаченье
Сняв, в сюртуке появиться в обществе снова. Толпою
Двинулись все — и большие и дети — в столовую,
где их
Праздничное угощенье уже на столах ожидало,
Мудро уставленньих щедрой хозяйкою, тем, что
блокада
Сеткам послала в улов продовольственным, властным
над нами.
1919
НЕПОРЯДКИ И РАННЕЕ ГОРЕ
В качестве основного блюда были поданы только
овощи — капустные котлеты; поэтому вслед за ними
сервировался холодный пудинг из отдающего мылом
и миндалем порошка, лишь недавно появившегося
в продаже, и пока Ксавер — юный слуга в шерстя-
ных белых перчатках, желтых сандалиях и в поло-
сатой куртке, из которой он несколько вырос, —
водружает его на стол, «большие» осторожно напо-
минают отцу, что сегодня гости.
«Большие» — это, во-первых, восемнадцатилетняя
Ингрид, кареглазая, весьма привлекательная де-
вушка, которой предстоят выпускные экзамены (ско-
рее всего, она их сдаст, хотя бы. уже потому, что
вскружила голову всем преподавателям и самому
директору настолько, что те положительно во всем
ей потакают; впрочем, Ингрид отнюдь не думает
воспользоваться аттестатом зрелости, а, полагаясь
на свою приятную улыбку и столь же приятный
голосок, а также на ярко выраженный, забавный
дар подражания, хочет поступить на сцену), и, во-
вторых, ее брат Берт, светловолосый семнадцати-
летний юноша, который ни под каким видом не на-
мерен кончать школу, а мечтает как можно скорее
окунуться в гущу жизни, стать либо танцором, либо
конферансье в кабаре, либо, на худой конец, даже
кельнером, но тогда уже непременно в Каире, с ка-
ковой целью он однажды, в пять часов утра, пред-.
128
принял едва не удавшуюся ему попытку сбежать из
дому. Решительно он чем-то похож на юного слугу
Ксавера Клейнсгютля, своего сверстника, — не то
чтобы Берт был с виду простоват, напротив, чертами
лица он явно напоминает отца, профессора Корне-
лиуса, — нет, это совсем иное сходство, скорее только
какое-то приближение их обоих к одному и тому
же типу, причем главную роль здесь, пожалуй,
играет преувеличенная одинаковость в одежде, по-
вадках, во всем облике. У обоих густые, очень длин-
ные волосы, небрежно разделенные пробором, и оба
они делают одинаковое движение головой, отбрасы-
вая их со лба. Когда один из них, в любую погоду
без головного убора, в спортивной куртке, лишь
ради кокетства перехваченной кожаным ремешком,
слегка подавшись вперед да еще вдобавок склонив
голову к плечу, уходя со двора, отодвигает засов
калитки или садится на велосипед, — Ксавер по соб-
ственному усмотрению пользуется велосипедами
господ, дамскими тоже, а в особо безмятежном на-
строении и профессорским, — доктор Корнелиус,
глядя из окна своей спальни, при всем желании не
может разобрать: кто это — чужой малый или соб-
ственный сын? У них вид русских мужичков, думает
он, как у одного, так и у другого, и оба они отчаян-
ные курильщики, хотя Берт, за неимением денег,
курит меньше Ксавера, истребляющего в день до
тридцати сигарет, предпочтительно марки, носящей
имя прославленной кинодивы.
«Большие» называют родителей «стариками» — и
не за глаза, а открыто, уважительно и любовно,
хотя Корнелиусу всего сорок семь, а жена его на
восемь лет моложе. «Достопочтенный наш старик»,
говорят они, «славная наша старушка». А родители
профессора, перепуганные, сбитые с толку старики,
доживающие свой век у себя на родине, на языке
«больших» именуются «предками». Что касается
«маленьких», Лорхен и Байсера, которые обедают
наверху с «сизой Анной», прозванной так за сизые
щеки, то они, следуя примеру матери, зовут отца
просто по имени — «Абель». Это милое, из ряда вон
9 Т. Манн. т. 8
129
фамильярное обращение звучит необычайно потешно,
особенно когда его лепечет сладкий голосок пяти-
летней Элеоноры, — судя по сохранившимся дет-
ским фотографиям госпожи Корнелиус, она очень
похожа на мать, и профессор в ней души не чает.
— Старикашечка, — вкрадчиво говорит Ингрид и
кладет свою большую, но красивую руку на руку
отца, который, следуя бюргерскому, не лишенному
здравого смысла обычаю, восседает во главе се-
мейного стола, напротив жены, — слева от него си-
дит Ингрид. — Милый предок, разреши мне кос-
нуться того, что бесспорно уже улетучилось из твоей
памяти. Сегодня после обеда должен состояться «на
лужайке детский крик», наше маленькое пиршество
с селедочным салатом. Так не падай, пожалуйста,
духом и не унывай: в девять часов все будет кон-
чено.
— А? — говорит профессор, и лицо у него вытя-
гивается. — Ну что ж, хорошо, — и он кивает голо-
вой в знак того, что подчиняется неизбежности.—
А я думал... Разве сегодня? Да, да, четверг. Как
время бежит! И когда же они пожалуют?
— В половине пятого, — отвечает Ингрид, кото-
рой брат неизменно уступает первенство в перего-
ворах с отцом. — Значит, у Корнелиуса еще есть
время отдохнуть наверху, куда не доносится шум.
От семи до восьми — час прогулки, а при желании
можно даже ускользнуть через террасу.
— О! — бурчит Корнелиус, как бы подразумевая:
«Не надо преувеличивать!»
Но тут вступает Берт:
— Ведь это единственный вечер, когда Ваня не
занят в спектакле. В другой день ему пришлось бы
уйти в половине седьмого. Гости были бы очень
огорчены.
«Ваня», Иван Герцль, первый любовник, восходя-
щее светило Государственного театра, в большой
дружбе с Ингрид и Бертом, которые частенько пьют,
у него чай и навещают его в театральной уборной.
Он артист новейшей школы и, с точки зрения про-
фессора, ведет себя на сцене крайне неестественно»
130
принимает вычурно-танцевальные позы и надсадно
воет. Профессора истории этим не купишь, но Берт
крепко подпал под влияние Герцля и даже стал под-
водить глаза, что не раз уже вызывало неприятные,
но вполне беспоследственные объяснения с отцом.
С бесчувственностью юности к душевным терзаниям
старших Берт заявляет, что, не только избрав карь-
еру танцора, но и сделавшись кельнером в Каире,
он будет подражать Герцлю в каждом его движении.
Корнелиус, вздернув брови, склоняется перед сы-
ном, тем самым подчеркивая учтивую сдержанность,
отличающую его поколение. Ирония этой немой
сцены лишена назидательности и не имеет прямого
адреса: Берт в равной мере волен отнести ее к себе
и к сценическим дарованиям своего друга.
— А кто еще придет? — спрашивает хозяин дома.
Ему перечисляют ряд имен, более или менее знако-
мых, имена тех, кто живет здесь же в предместье
или в самом городе, а также нескольких подружек-
одноклассниц Ингрид. Кстати, надо созвониться еще
кое с кем. Например, со студентом и будущим ин-
женером, Максом Гергезеллем. Произнося это имя,
Ингрид тут же переходит на слегка гнусавый, про-
тяжный говорок, по ее мнению, отличающий все се-
мейство Гергезеллей, и так живо, потешно и правдо-
подобно подражает ему, что родителям от смеха гро-
зит опасность подавиться невкусным пудингом. Ведь
и в нынешние времена нет запрета смеяться над тем,
что смешно.
Между тем в кабинете профессора заливается
телефон, и «большие» мчатся туда, не сомневаясь, что
звонят именно им. Последнее вздорожание многих
заставило отказаться от телефона, но Корнелиусам
все же удалось сохранить его, как удалось сохранить
и дом, выстроенный еще до войны. Все это благодаря
многомиллионному жалованью, которое причитается
Корнелиусу как ординарному профессору истории.
Их загородный дом изящен, удобен, хотя за послед-
нее время и пришел в упадок, — из-за недостатка
строительных материалов его не ремонтируют, — и
вдобавок он обезображен железными печурками
9*
131
с длинными трубами. Но в этом обрамлении, где
протекала жизнь некогда состоятельных бюргеров,
теперь живут не так, как полагалось бы, — убого и
трудно, в поношенном и перелицованном платье.
Дети не знают иного образа жизни, для них все это
в порядке вещей, — они прирожденные пролетарии
из собственного особняка. О нарядах они особенно
не беспокоятся. Это поколение довольствуется одеж-
дой, отвечающей требованиям времени, — прямым
порождением нищеты и изобретательного вкуса, —
летом она сводится к полотняной блузе с кушачком
и к сандалиям. Бюргерам старшего поколения при-
ходится труднее.
Оставив свои салфетки на спинках стульев, «боль-
шие», ушли в соседнюю комнату и беседуют с друзь-
ями. Звонят все больше приглашенные. Они сооб-
щают, что придут или что не могут прийти, или же
договариваются еще о чем-нибудь, и «большие» объяс-
няются с ними на жаргоне, принятом в их кругу,
условном наречии, полном забористо-шутливых слове-
чек и выражений, едва доступных пониманию «ста-
риков». Тем временем и родители совещаются между
собой о том, чем бы накормить гостей. Профессор
проявляет бюргерское тщеславие. Он хотел бы, чтобы,
кроме итальянского салата и бутербродов (на черном
хлебе), был еще и торт или что-нибудь похожее на
торт. Но госпожа Корнелиус говорит мужу, что у него
непомерные претензии: «Молодые люди и не рассчи-
тывают на такую роскошь»; и «большие», вернувшись
к своему пудингу, поддакивают ей.
Хозяйка дома, от которой Ингрид (правда, более
рослая) унаследовала свой внешний облик, утомлена
и вконец замучена убийственными трудностями веде-
ния хозяйства. Ей следовало бы побывать на курорте,
но теперь, когда все пошло кувырком и почва под но-
гами так неустойчива, это неосуществимо. Она думает
только о яйцах, которые необходимо купить сегодня,
и все возвращается мыслью к этим яйцам (цена шесть
тысяч марок); их отпускают только один раз в не-
делю в определенном количестве и в определенной
лавке, здесь неподалеку, так что дети сразу же после
132
обеда, отставив все другие дела, должны снарядиться
в поход за ними. Дани, соседский мальчик, тоже пой-
дет вместе с «большими», и Ксавер, скинув по-
добие ливреи, отправится вслед за молодыми госпо-
дами. Дело в том, что лавка еженедельно отпускает
всего пяток яиц на семью, а значит, молодым людям
придется заходить туда врозь, поодиночке, да еще
под разными вымышленными именами, чтобы обо-
гатить дом Корнелиусов двумя десятками яиц,—
развлечение, излюбленное всеми его участниками, не
исключая «мужичка» Клейнсгютля, но прежде всего
Ингрид и Бертом. Они и вообще-то очень любят ду-
рачить и «разыгрывать» ближних; делают это на каж-
дом шагу, лишь бы представился случай, даже и не
добиваясь награды в виде пятка яиц. Так, скажем,
в трамвае они устраивают целые представления, вы-
давая себя за совсем не тех молодых людей, какими
являются в действительности, и громогласно заводя
бесконечные, сугубо обывательские разговоры на ме-
стном диалекте, которым обычно не пользуются, в са-
мых употребительных словах толкуют о политике,
о дороговизне, о каких-то людях, которых и на свете
нет, так что весь вагон сочувственно прислушивается
к их неуемной болтовне, хотя и не без смутного ощу-
щения, что здесь не все ладно. Мало-помалу они на-
бираются дерзости и принимаются рассказывать друг
другу чудовищные небылицы об этих несуществую-
щих людях. Так Ингрид способна высоким, ломким,
пошло-чирикающим голоском сообщить окружающим,
что она продавщица и что у нее незаконный ребенок,
сын с садистическими наклонностями, который на-
медни в деревне так безбожно истязал корову, что
доброму христианину смотреть было тошно. Ингрид
так забавно чирикает это «истязал», что Берт готов
разразиться хохотом, но, сдержавшись, бурно собо-
лезнует злополучной продавщице и вступает с нею
в продолжительное, непристойное и вместе глупое
словопрение о природе болезненных извращений, по-
куда пожилой господин, сидящий напротив и за-
сунувший свой тщательно сложенный билет за пер-
стень-печатку, на указательном пальце, считая меру
/за
терпения переполненной, начинает открыто возму-
щаться тем, что нынешняя молодежь так обстоятельно
распространяется на подобные «темата» (он упо-
требляет греческое окончание множественного числа
от слова «тема»), после чего Ингрид притворно зали-
вается слезами, а Берт лишь отчаянным усилием
воли, которого по всем признакам едва ли хватит на-
долго, обуздывает смертельную ярость, вызванную
в нем словами пожилого господина: он сжимает ку-
лаки, скрежещет зубами и весь содрогается, так что
пожилой господин, руководствовавшийся только наи-
лучшими побуждениями, поспешно выходит на бли-
жайшей остановке.
Вот в каком духе развлекаются «большие». Теле-
лефон занимает не последнее место в их забавах. Они
звонят всему свету—оперным артистам, государствен-
ным мужам, высоким духовным особам, выдавая себя
то за лавочников, то за графа и графиню Манстей-
фель, и только после длительных препирательств вы-
сказывают догадку, что их неправильно соединили.
Раз как-то они опустошили вазу, в которой родители
хранят визитные карточки знакомых, и рассовали их
по почтовым ящикам близлежащих домов, стараясь
внести в эту путаницу налет правдоподобия, чем
вызвали в квартале великое смятение, ибо как не
смутиться, если бог весть кто почел нужным черт
знает кого почтить официальным визитом.
Ксавер, теперь уже без перчаток, в которых он
прислуживал за обедом, входит в столовую, щеголяя
желтым кольцом-цепочкой на левой руке, и, встряхи-
вая волосами, начинает убирать со стола. Пока про-
фессор потягивает свое слабенькое пиво (восемь
тысяч марок бутылка) и закуривает сигарету, на
лестнице и в прихожей возникает шумная возня —
это «маленькие». Они, как обычно после обеда,
являются поцеловать родителей и, преодолев сопро-
тивление двери, на ручку которой нажимают совмест-
ными усилиями, врываются в столовую, топоча и
спотыкаясь о ковер своими торопливыми, но нелов-
кими ножками в домашних туфельках из красного
войлока, на которые сползли носочки. Громко болтая
134
и наперебой выкладывая новости, каждый держит
свой привычный курс: Байсер бежит к матери и взби-
рается к ней на колени, чтобы рассказать, сколько он
скушал, и в доказательство предъявить тугой живо-
тик, а Лорхен — к «своему Абелю», совсем-совсем «ее»
Абелю, как и она совсем-совсем «его» Лорхен, потому
что девочка чует и, блаженно улыбаясь, впитывает
в себя проникновенную и немного печальную, подобно
всякому глубокому чувству, нежность, какою отец об-
волакивает свою девочку, и ту любовь, с какою он це-
лует ее изящно вылепленную ручку или висок,
где так мило и трогательно просвечивает голубоватая
жилка.
«Маленькие», без сомнения, походят друг на друга,
но это скорее неуловимо родственное сходство, усугуб-
ленное еще и тем, что их одинаково одевают и приче-
сывают; в то же время они разительно друг от друга
отличаются, как, впрочем, и положено мужчине и
женщине. Он — ярко выраженный маленький Адам,
она — Ева; что касается Байсера, то он словно бы
осознает свое мужское достоинство. И без того более
крепкий, более коренастый и плотно сбитый, чем се-
стренка, он утверждает свое превосходство четырехлет-
него мужчины всеми повадками, выражением лица,
тем, как он говорит, как расправляет плечи и дер-
жит руки на отлете, точно американизированный
молодой спортсмен, а разговаривая, пренебрежи-
тельно кривит рот и старается говорить грубоватым,
«толстым» голосом. Впрочем, вся эта несокрушимая
мужественность скорее зиждется на его воображении,
чем на действительной основе: рожденный и выкорм-
ленный в тревожные и смутные времена, Байсер на
самом деле наделен легко возбудимой, неустойчивой
нервной системой; он мучительно страдает от жизнен-
ных неурядиц, вспыльчив, по малейшему пустяку
приходит в отчаяние, заливаясь горючими слезами,
заходится от ярости и колотит ногами по полу, почему
мать о нем печется с особой нежностью. У него круг-
лые и коричневые, как каштаны, глаза, которые
подчас чуть косят, так что, вероятно, ему вскоре при-
дется надеть очки, длинный носик и маленький рот.
135
Нос и рот отцовские, что стало еще очевиднее» когда
профессор сбрил усы и бородку клинышком (бородку,
право же, нельзя было дольше сохранять, потому что
даже человек науки рано или поздно вынужден пойти
навстречу требованиям современности). Профессор
держит на коленях свою Элеонорхен, маленькую Еву,
более грациозную и нежную, чем мальчик, и, от-
ведя подальше руку с сигаретой, позволяет тон-
ким пальчикам теребить его очки, разделенные
пополам стекла которых (для дали и для чтения)
каждый раз по-новому занимают воображение де-
вочки.
В глубине души Корнелиус сознает, что жена по-
ступает великодушнее, отдавая предпочтение маль-
чику, ибо беспокойная мужественность Байсера,
вероятно, более достойна любви, чем ровная прелесть
его дочурки. Но сердцу не прикажешь, думает про-
фессор, а его сердце отдано девочке раз и навсегда,
с того самого дня, как она вошла в его жизнь и он
впервые ее увидел. И теперь, стоит только ему взять
Лорхен на руки, он вспоминает то первое ощущение.,
Это было в залитой светом комнате женской клиники,
где через двенадцать лет после рождения старшего
брата появилась на свет Лорхен. Когда, ободренный
улыбкой матери, он приблизился к стоявшей рядом
с большой кроватью кукольно-нарядной кроватке и,
бережно раздвинув занавески, обнаружил покоив-
шееся на подушках маленькое чудо, совершенное
в своей чистой и сладостной соразмерности, с руч-
ками, тогда еще более крохотными, чем теперь, но
уже прелестными, с широко раскрытыми, еще совсем
синими, как небо, глазами, отражавшими сияние
дня, — он мгновенно почувствовал себя плененным,
покоренным: это была любовь с первого взгляда и
навек. Чувство — нежданное и негаданное в свете
разума —тотчас же завладело Корнелиусом, и, ра-
дуясь, изумляясь, он понял, что отныне будет во
власти этого чувства до конца своих дней.
Впрочем, доктор Корнелиус знает, что с непредви-
денностью, с нечаянностью этого чувства и тем более
с полной его непроизвольностью дело, если разо-
136
браться как следует, обстоит не так-то просто. В глу-
бине души он понимает: не так уж нежданно пришло
и вплелось в его жизнь это чувство. Нет, где-то
в подсознании он был готов воспринять его, вернее,
был к нему подготовлен. В нем зрело что-то трудно
преодолимое, чтобы в надлежащий миг выйти на-
ружу, и это «что-то» было присуще ему именно по-
тому, что он — профессор истории, — странно, не-
объяснимо даже... Но доктор Корнелиус и не ищет
объяснений, а только знает об этом и втихомолку
улыбается. Знает, что профессора истории не любят
историю, коль скоро она свершается, а тяготеют
к той, что уже свершилась; им ненавистны совре-
менные потрясения основ, они воспринимают их как
сумбурное дерзкое беззаконие, одним словом, как
нечто «неисторическое», тогда как сердца их принад-
лежат связному и укрощенному историческому про-
шлому. Ведь прошлое, — признается себе кабинетный
ученый, доктор Корнелиус, прогуливаясь перед ужи-
ном вдоль набережной, — окружено атмосферой без-
временья и вечности, а эта атмосфера больше по
душе профессору истории, чем дерзкая суета совре-
менности. Прошлое незыблемо в веках, значит, оно
мертво, а смерть — источник всей кротости и само-
сохранения духа. Шагая в одиночестве по неосвещен-
ной набережной, доктор Корнелиус внутренне отдает
себе в этом отчет. Именно инстинкт самосохранения,
тяготение к «извечному» увело его от дерзкой суеты
наших дней к спасительной отцовской любви. Любовь
отца, дитя у материнской груди — извечны, и потому
святы и прекрасны* Но все же эти размышления в по-
темках приводят Корнелиуса к выводу, что не все
ладно с его любовью. Он этого от себя не скрывает и
даже пытается теоретически обосновать — во имя
своей науки. Есть что-то предвзятое в возникновении
его любви, какое-то враждебное сопротивление со-
вершающейся на его глазах истории, предпочтение
прошлого, то есть смерти. Странно, очень странно, и
все же это так, В проникновенной нежности к сла-
достной маленькой жизни, к своей плоти, есть что-то
связанно© се смертью, противоборствующее жизни, —
137
что ни говори, это досадно и не слишком хорошо,
хотя, разумеется, надо быть одержимым идеей аске-
тизма, чтобы ради подобных умозрительных рассу-
ждений поступиться столь высоким и чистым чув-
ством, вырвать его из сердца.
У него на коленях сидит девочка, болтая в воздухе
стройными розовыми ножками, а он, шутливо вздер-
нув брови, нежно и почтительно беседует с нею,
восхищенно прислушиваясь к тому, как Лорхен ему
отвечает и своим сладостным высоким голоском ле-
печет «Абель». Он обменивается выразительными
взглядами с женой, которая нянчится со своим Бай-
сером и нежно журит его, уговаривая быть умным и
благовоспитанным, потому что не далее как сегодня,
при очередном столкновении с жизнью, он снова впал
в неистовство и завывал, как беснующийся дервиш«
Порою Корнелиус с некоторым сомнением погляды-
вает и на «больших» — быть может, и они не чужды
научных выводов, что приходят ему на ум во время
вечерних прогулок? Возможно, но по ним это неза-
метно. Упершись локтями в спинки своих стульев, они
снисходительно и не без иронии взирают на родитель-
ские утехи.
На «маленьких» искусно вышитые платьица из
плотной ткани красно-кирпичного цвета, когда-то
принадлежавшие Ингрид и Берту, совершенно одина-
ковые, только что у Байсера из-под платья выгляды-
вают короткие штанишки. Подстрижены дети тоже
одинаково, «под пажа». Светлые волосы Байсера,
кое-где уже потемневшие, принимают самые различ-
ные оттенки и растут как попало, торчащими вих«
рами — похоже, что он неловко на себя нахлобучил
потешный паричок. А каштаново-коричневые мягкие
и блестящие, как шелк, волосы Лорхен не менее
прелестны, чем она сама. Они закрывают ей ушки —
как известно, разной величины. Одно — как следует
быть, другое же — не совсем правильной формы и,
бесспорно, слишком большое. Отец иногда отводит
мягкую прядку волос и, словно впервые обнаружив
этот маленький недостаток, преувеличенно изум-
ляется, чем очень смущает и в то же время очень
138
смешит свою Лорхен. Ее широко расставленные
глаза отливают золотом, в ласковом и ясном взгляде
лучится нежность. Бровки светлые. Носик еще совсем
не определившийся, ноздри вырезаны широко, так что
дырочки почти что совершенно круглые, рот большой
и выразительный, подвижная, прихотливо изогнутая
верхняя губка вздернута. Когда девочка смеется и по-
казывает свои жемчужные, но не сплошные зубки
(один Лорхен недавно потеряла; он качался во все
стороны, и отец выдернул его с помощью носового
платка, а она вся побледнела и затряслась), на ее
щеках, еще по-детски пухлых, но с четко очерчен-
ными скулами — вся нижняя часть лица у Лорхен
слегка выдается вперед, — ясно обозначаются ямочки.
На одной щеке у нее родинка, покрытая легким
пушком.
Вообще-то Лорхен не вполне удовлетворена
своей внешностью, а стало быть, к ней неравнодушна.
Она с грустью сообщает, что «личико у нее некраси-
вое», зато «фигурка славненькая». Лорхен любит
«взрослые», книжные словечки, вроде «пожалуй»,
«разумеется», «окончательно», и нанизывает их одно
на другое. Недовольство Байсера самим собой отно-
сится скорее к области духа. Он склонен к самоуни-
чижению, мнит себя великим грешником из-за своих
припадков ярости, убежден, что рай не для него и что
он угодит прямо в «преисподнюю». Тут не помогают
никакие заверения, что бог всемогущ и милосерд
даже к грешникам. С унылым ожесточением качая
головой в неловко нахлобученном паричке, он утвер-
ждает, что райское блаженство ему заказано. При
малейшей простуде он кашляет и чихает, у него течет
из носу, а внутри все хрипит; он пышет жаром и
только и знает что отдуваться.
«Детская Анна», весьма мрачно настроенная отно-
сительно его физической конституции, предрекает,
что мальчика с такой невиданно «густой» кровью
рано или поздно хватит «кондрашка». Как-то раз ей
даже почудилось, что страшное мгновение уже при-
шло; в наказание за неистовый приступ ярости
Байсера поставили носом в угол, и его лицо — как
139
кто-то вдруг заметил — все посинело, стало еще более
сизым, чем у «сизой Анны». Анна подняла всех на
ноги, возвещая, что вот густая кровь мальчика при-
близила-таки его смертный час, и гадкий Байсер,
вполне законно изумляясь неожиданному обороту
судьбы, увидел вокруг себя встревоженные, ласковые
лица взрослых, покуда не выяснилось, что роковая
синева вызвана не приливом крови, а тем, что окра-
шенная индиго стена детской слиняла на его затоп-
ленное слезами лицо.
Следом за «маленькими» вошла в комнату «детская
Анна» и остановилась у дверей, сложив руки под
белым передником; жирно напомаженные волосы,
глаза гусыни — все в ней говорило о несокрушимом
достоинстве и глупости.
— Малыши-то у нас какие умники стали! —
объявляет она, намекая на свое педагогическое да-
рование.
Не так давно ей удалили семнадцать больных
корешков, заменив их искусственной челюстью из
темно-красного каучука, с соответствующим количе-
ством ровных желтых зубов, ныне украшающих ее
крестьянскую физиономию. В душе «детской Анны»
живет странная уверенность, что все на свете только
и говорят что об ее искусственной челюсти, и даже
воробьи на крыше свирестят о ней. «Немало напрас-
лины на меня повзводили, — говорит она сурово и
загадочно, — когда я вставила себе новые зубы». Она
и вообще тяготеет к смутным, туманным речам,
недоступным пониманию окружающих, и любит,
например, потолковать о некоем докторе Блайфусе,
«которого знает любой ребенок, а в том доме, где он
живет, квартирует еще много таких, что выдают себя
за него». С этим приходится мириться, закрывать
глаза на ее чудачества. Она учит детей отличным
стишкам, например:
Рельсы, рельсы, паровоз!
Пар шипит из-под колес!
Едет он или стоит —
Все равно гудит, гудит!
140
Или скудному, в согласии с переживаемым време-
нем, но все же веселому перечню трапез на неделю:
Понедельник — начало недели,
Во вторник совсем мы не ели,
Среда так лежит посреднике,
В четверг мы глотаем слезинки,
В пятницу рыбки закажем,
В субботу голодные пляшем,
Зато в воскресенье пируем,
Свининку с салатом смакуем.
Или некоему, исполненному загадочно-туманной
романтики четверостишию:
Распахните-ка ворота —
Экипаж у поворота,
В экипаже господин,
Восхитительный блондин.
Или же, наконец, душераздирающей балладе
о Марихен, которая, сидя «на утесе, на утесе, на
утесе», расчесывала свои, уж разумеется, «кудри
золотые». А не то еще про Рудольфа, который извлек
«свой кинжал, свой кинжал, свой кинжал», что также
отнюдь не привело к счастливой развязке. Все это
Лорхен, с ее подвижной рожицей и сладким голоском,
поет и читает куда лучше, чем Байсер. Да она и все
делает лучше его; мальчик в восторге от нее и без-
заветно подчиняется всем ее прихотям, до тех пор
пока в него не вселяется бес озлобления и стропти-
вости. Лорхен охотно просвещает Байсера, в книжке
с картинками показывает ему птиц и научно класси-
фицирует их: «тучеед, градоед, грачеед». Лорхен
наставляет его и в медицинской премудрости, учит,
какие бывают болезни: «воспаление легких, воспале-
ние крови, воспаление воздуха». Если Байсер оказался
недостаточно внимателен и не вытвердил урока, она
ставит его в угол. Как-то раз Лорхен даже наградила
его затрещиной, но потом так застыдилась, что сама
себя надолго поставила в угол.
Что ж, «маленькие» отлично ладят друг с другом,
и сердца их бьются согласно. Они сообща переживают
все, что происходит в их жизни. Еще возбужденные
прогулкой, они, придя домой, в один голос оповещают
о том, что сейчас на дороге встретили двух взрослых
141
му-муу-шек и одну ма-а-аленькую телятинку. С при-
слугой, с «нижними» — с Ксавером и дамами Хинтер-
хефер, двумя сестрами, некогда принадлежавшими
к честному бюргерскому семейству, ныне же выпол-
няющими обязанности кухарки и горничной —
«au pair» (то есть за стол и кров), — они живут душа
в душу, во всяком случае отношения «нижних» с ро-
дителями им часто напоминают их собственные.
Когда «маленьким» за что-нибудь достается, они
мчатся на кухню и возглашают: «Господа сегодня не
в духе!» И тем не менее играть веселее с «верхними»,
особенно с Абелем, когда он не пишет и не читает*
Он придумывает чудесные, куда более забавные штуки,
чем Ксавер или дамы Хинтерхефер. Лорхен и Байсер
играют, будто они «четыре господина», и идут гу-
лять. И вот Абель присаживается на корточки и, став
таким же маленьким, как они, берет их за руки и
отправляется с ними гулять. В эту игру они никак не
могут досыта наиграться. Целый день напролет го-
товы все «пятеро господ», включая и ставшего ма-
леньким «Абеля», вот так семенить по столовой.
Кроме того, имеется крайне захватывающая игра
в «подушку», она заключается в том, что кто-нибудь
из малышей, обычно Лорхен, якобы тайком от
«Абеля», залезает на его стул за обеденным столом и
тихо, как мышка, ждет его прихода. Глядя по сторо-
нам и ее не замечая, Корнелиус долго толкует о до-
стоинствах своего стула, потом приближается к нему
и садится на Лорхен.
— Как?!—говорит он. — Что такое? — и начинает
ерзать взад и вперед, будто и не слыша приглушен-
ного хихиканья за его спиной, которое становится все
более громким. — Кто положил подушку на мой
стул?! Да еще такую твердую, колючую, противную
подушку — сидеть на ней на редкость неудобно!
И он с новыми силами ворочается на этой удиви-
тельной подушке, тиская за спиной что-то востор-
женно визжащее и пыхтящее, покуда наконец не до-
гадывается, что надо обернуться. За сим следует
немаловажная сцена узнавания и открытия, ею все
представление и завершается. Эта игра от стократ«
142
ного повторения не утрачивает очарования новизны,
не делается менее увлекательной.
Но нынче не до забав! Какое-то беспокойство на-
висло в воздухе из-за предстоящего празднества
«больших», а «большим» еще надо успеть, распреде-
лив роли, сходить в лавку за яйцами. Едва только
Лорхен продекламировала «Рельсы, рельсы, паро-
воз!», а доктор Корнелиус, к великому ее замеша-
тельству, обнаружил, что одно ее ушко многим
больше другого, как появляется соседский мальчик
Дани; Ксавер тоже уже сменил полосатую ливрею на
куртку и сразу стал походить на мальчишку, впрочем,
по-прежнему щеголеватого и разбитного. Что ж,
«детская Анна» и ее питомцы возвращаются наверх,
в свой мирок, профессор, следуя ежедневной при-
вычке, скрывается за дверьми своего кабинета,
а госпожа Корнелиус, всецело поглощенная мыслями
об итальянском салате и бутербродах с селедочным
паштетом, спешит все это приготовить до прихода
гостей. К тому же она должна, захватив сумку,
съездить на велосипеде в город — нельзя же допу-
стить, чтобы ее наличные деньги еще больше обесце-
нились, прежде чем она обратит их в хлеб насущный.
Удобно расположившись в кресле, Корнелиус
читает. Между его указательным и средним пальцами
дымится сигара. У Маколея он находит кое-какие
сведения о возникновении государственного долга
в Англии конца семнадцатого века, а у французского
автора — о росте задолженности в Испании конца
шестнадцатого, — то и другое пригодится ему для
завтрашней лекции. Поразительный экономический
расцвет Англии он хочет противопоставить пагубным
последствиям, к которым ста годами ранее привело
Испанию увеличение государственной задолженности,
и выяснить нравственные и психологические основа-
ния данного различия. Кстати, это позволит ему пе-
рейти от Англии в царствование Вильгельма Третьего,
которому, собственно, и посвящена его лекция,
к эпохе Филиппа Второго и контрреформации,
а это—конек Корнелиуса. Он сам написал на эту
тему примечательный труд, на который нередко
143
ссылаются его коллеги; ему-то он и обязан своим
званием ординарного профессора истории. Сигара
почти докурена, пожалуй, под конец она становится
чересчур уже крепкой, а меж тем в его голове без-
звучно складываются окрашенные легкой меланхо-
лией фразы и целые периоды, которые он завтра
преподнесет своим студентам; он расскажет им о без-
надежно обреченной борьбе медлительного Филиппа
против всего нового, против хода истории, расскажет
о разрушающем державу влиянии его деспотической
личности, о немецкой свободе, об осужденной жизнью
и отринутой богом борьбе косной знати против но-
вых сил, против всего передового. Корнелиус находит
эти фразы удачными, но продолжает их оттачивать,
ставя на места использованные книги, да и потом,
подымаясь к себе в спальню, чтобы там полежать
с закрытыми глазами и при закрытых ставнях — он
нуждается в этом часе передышки, хотя, вернувшись
от умозрительных размышлений к действительности-,
понимает, что сегодня час его отдыха протечет под
знаком предпраздничных домашних непорядков. Он
улыбается тому, что одна мысль о вечеринке вызы-
вает у него сердцебиение; плавные фразы о Филиппе,
облаченном в тяжелые черные шелка, мешаются
с мыслями о домашнем бале. Минут на пять он засы-
пает...
Он лежит и дремлет, но ясно слышит, как у вход-
ной двери то и дело заливается звонок, как хлопает
садовая калитка. И каждый раз при мысли о том,
что юные гости уже здесь, уже собрались, уже тол-
пятся в гостиной, он вновь испытывает острое, как
укол, чувство беспокойства, ожидания, томительной
неловкости; и каждый раз вновь и вновь внутренне
усмехается над этим уколом, хотя и понимает, что
его усмешка тоже лишь проявление нервозности,
правда, сдобренной толикой радости — кто ж не
радуется празднику?.. В половине пятого (на дворе
уже темнеет) он встает и подходит к умывальнику:
вот уже год, как таз дал трещину. Это — переверты-
вающийся таз, но один его шарнир вышел из строя, и
починить его нельзя: водопроводчика не дозовешься,
144
нельзя купить и новый,—таких тазов больше нет
в магазинах. Пришлось его кое-как подвесить над
мраморной доской со стоком, и теперь, чтобы вылить
воду, приходится высоко поднимать его двумя руками
и перевертывать. Глядя на таз, Корнелиус качает
головой, как делает это много раз на дню, но затем
тщательно готовится к выходу, протирает под лампой:
до блеска и полной прозрачности стекла своих очков
и идет вниз в столовую.
Когда он спускается по лестнице, к нему снизу
доносится пестрый шум голосов и звуки граммофона,
который уже успели завести, и лицо его немедленно
принимает светски любезное выражение.
«Пожалуйста, без церемоний, прошу вас! Только
не стесняйтесь!» — скажет он и проследует прямо
в столовую выпить стакан чаю. Это приветствие ка-
жется ему наиболее отвечающим данному моменту:
оно прозвучит весело и радушно, ему же самому
послужит надежным укрытием.
Гостиная залита светом. Горят все электрические
свечи в люстре, за исключением одной, которая давно
перегорела. Остановившись на нижней ступеньке
лестницы, Корнелиус обозревает гостиную. Все здесь
очень выигрывает при ярком освещении. Хороши и
копия Маре над камином из обожженного кирпича, и
деревянная панель, и красный ковер, на которой
группами стоят "гости с чашками в руках, болтая и
жуя бутерброды с селедочным паштетом. Празднич-
ная атмосфера — дыхание платьев, волос — веет над
гостиной, такая особенная, знакомая, словно разбу-
женное воспоминание. Дверь в переднюю отворена,
так как гости все прибывают.
Толчея в гостиной ослепляет профессора: в первое
мгновение для него все сливается в одно. Он даже не
заметил, что совсем рядом с ним, у лестницы, стоит
со своими приятелями Ингрид в открытом темном
платье с белой плиссированной отделкой. Она кивает
ему и улыбается, показывая красивые зубы.
— Отдохнул? — тихонько, чтобы никто не услы-
шал, шепчет она. И когда он с искренним удивлением
узнает ее, Ингрид знакомит отца со своими друзьями.
10 Т. Манн, т. 8
145
— Позволь тебе представить господина Цубера, —»
говорит она, — а это фрейлейн Плэйшингер.
У господина Цубера довольно невзрачный вид,-
зато девица Плэйшингер прямо-таки воплощенная
Германия: она белокура, дебела; одета, впрочем,;
крайне легкомысленно. Носик у нее вздернутый,;
а голос, как часто у полных женщин, очень высокий,;
что тут же выясняется, когда она отвечает на любез-
ное приветствие профессора.
— Рад видеть вас, — говорит он. — Как мило, что
вы навестили нас... Вы одноклассница Ингрид?
Господин Цубер — партнер Ингрид по гольф-
клубу. Он некоторым образом причастен к хозяй-
ственной жизни Германии, то есть попросту работает
в пивоваренном деле -своего дядюшки. Профессор
шутливо перекидывается с ним несколькими словами
о жиденьком пиве, будто и впрямь верит, что юный
Цубер имеет решающее влияние на качество пива
в стране.
— Но, пожалуйста, без церемоний, не стесняйтесь,
господа! — бросает он, порываясь пройти в столовую,
— А вот и Макс явился! — говорит Ингрид.—■
Слушай, Макс, где ты шлялся так поздно, бродяга,
ведь танцы и игры не ждут!
Все они между собою на «ты» и общаются друг
с другом, на взгляд стариков, более чем странно:
сдержанностью, обходительностью, салонными мане-
рами эта молодежь не грешит.
Юноша в белоснежной крахмальной сорочке,
с узким галстуком бабочкой, какие носят к смокингу,;
идет из передней к лестнице и кланяется. Темноволо-
сый, но розовощекий, конечно, бритый, только на
висках оставлены маленькие бачки, — он удивительно
хорош собою, но не приторной, назойливо-пылкой
красотой цыгана-скрипача; нет, у него приятная, рас-
полагающая внешность вполне порядочного человека,
покоряюще-ласковые черные глаза, и он даже еще не
умеет достаточно хорошо носить свой смокинг.
— Ну, ну, не ворчать, Корнелия! — говорит он. —»
Если бы не эта ерундовая лекция! — И Ингрид пред-
ставляет его отцу как господина Гергезелля.
146
Так вот какой этот господин Гергезелль! Он
учтиво благодарит хозяина, пожимающего ему руку,
за любезное приглашение.
— Я малость задержался, и... «как назло ба-
наны»! — говорит он шутливо. — Надо же было, чтобы
лекция именно сегодня затянулась до четырех часов!
А потом еще пришлось забежать домой. Пере-
одеться... »— И тут же принимается рассказывать
о своих туфлях, которые сейчас в передней причинили
ему немало хлопот. — Я приволок туфли в сумке, —
повествует он. — Нельзя же, право, топать по вашему
ковру в уличных башмаках, но на меня нашло
какое-то помрачение, я не захватил рожка и никак не
мог втиснуть ноги в туфли, ха-ха, вообразите! Вот так
влип! Отроду не носил таких тесных туфель. Номера
перепутаны, верить им в нынешнее время никак
нельзя, и вдобавок их стали теперь делать из какой-
то жесткой штуковины — взгляните-ка. Не кожа,
а чугун! Едва не покалечил указательного пальца!—
И он с наивным простодушием протягивает покрас-
невший палец, снова повторяя, что «влип», да еще
«премерзко влип».
Макс и в самом деле говорит точно так, как пере-
дразнивает его Ингрид: слегка в нос и растягивая
слова. Но это не рисовка, просто так говорят все Гер-
гезелли.
Доктор Корнелиус выражает сожаление, что в пе-
редней нет рожка для обуви, и соболезнует гостю по
поводу его пальца.
— Ну, а теперь, пожалуйста, без церемоний,
прошу вас, не стесняйтесь! — говорит он.—< Всего наи-
лучшего! — и проходит в столовую.
Там тоже полно гостей. Обеденный стол раздвинут
во всю длину, и молодежь распивает чай. Но профес-.
сор идет прямиком в свой уголок, где стены обтянуты
расшитой тканью и круглый столик, за которым он
обычно пьет чай, освещен особой лампой. Оказы-
вается, что и жена его здесь. Она беседует с Бертом
и еще двумя молодыми людьми. Один из них —
Герцль, они знакомы. Профессор здоровается с ним.
Другого молодого человека зовут Меллер, Похоже,
10*
m
что он из числа «перелетных птиц»; он не имеет, да и
не желает иметь благопристойного вечернего костюма
(по правде сказать, они и вообще-то перевелись), и
очень далек от того, чтобы разыгрывать из себя
«денди» (да, собственно говоря, и денди-то давно уж
перевелись). Он щеголяет в куртке с кушаком и в ко-
ротких брюках, у него лохматые волосы, длинная шея
и роговые очки. Меллер — банковский служащий, но,
как сообщают профессору, кроме того, подвизается и
на поприще искусства, изучает фольклор, собирает и
поет народные песни всех стран и народностей. Вот
и сегодня его попросили принести гитару, но пока она
еще висит в передней, упрятанная в клеенчатый футляр.
Актер Герцль низенького роста и тщедушен, зато
у него буйно растет борода, о чем свидетельствуют
синеватые, густо запудренные щеки. Глаза у него
очень большие, пламенные, невыразимо скорбные;
к тому же он не только пудрится, но и пускает в ход
румяна: нежная розовость его щек, безусловно, ис-
кусственного происхождения.
«Странно, — думает профессор, — казалось бы,
одно из двух: или скорбь, или румяна. Вместе взятое
это говорит о душевном разладе. Можно ли румя-
ниться от избытка скорби? Но, должно быть, в этом
■и заключается столь чуждый нам «духовный строй
артиста», допускающий подобные противоречия, а воз-
можно, и состоящий из таковых. Забавно, но все же
надо быть с ним полюбезнее. Это вполне закономерно,
на том стоят артисты».
— Не хотите ли кусочек лимона, господин при-
дворный артист?
Придворных артистов давно уже нет, но господину
Герцлю приятно, когда его так титулуют, хотя он по-
борник революционного искусства. Еще одно несоот-
ветствие, отличающее его духовный строй! Профессор
не ошибается, приписывая ему эту слабость, и льстит
актеру, стремясь хоть сколько-нибудь искупить тай-
ное отвращение к нарумяненным щекам.
— Премного благодарен, уважаемый господин
профессор!—выпаливает Герцль так поспешно, что,
если бы не незаурядная техника речи, он бы, каза*
148
лось, вывихнул себе язык. Он и вообще ведет себя
в отношении хозяев, и прежде всего хозяина дома,
с величайшей, можно даже сказать, унизительно-за-
искивающей почтительностью. Похоже, что его мучает
совесть: он не мог противостоять внутренней потреб-
ности нарумяниться, теперь же, мысленно ставя себя
на место профессора, порицает себя за это и подчерк-
нутой скромностью хочет умилостивить и задобрить
все остальное ненарумяненное человечество.
За чаем завязывается беседа о собранных Мслле-
роы народных песнях, испанских и баскских, с этих
песен разговор перескакивает на новую трактовку
«Дон-Карлоса» Шиллера — последняя премьера Госу-
дарственного театра. Дон-Карлоса играет Герцль.
— Надеюсь, — говорит он, — что мой Карлос
вполне монолитный образ!
Затем они- начинают по косточкам разбирать
остальных участников спектакля, а также постановку
и то, в какой мере театру удалось воссоздать эпоху;
и вот профессор уже втянут в привычное русло, уже
рассуждает об Испании времен контрреформации.
Ему даже досадно. Ведь он ничего такого не сделал,
отнюдь не повинен в том, что разговор принял то или
иное направление; и все же он опасается, что со сто-
роны могло показаться, будто он хотел блеснуть
своей ученостью; озадаченный, он обрывает свое рас-
суждение. Он рад появлению Лорхен и Байсера. На
«маленьких» воскресные платьица из голубого бар-
хата, они тоже хотят по-своему принять участие
в празднике до того, как их уложат спать. Робея, ши-
роко раскрыв глаза, они здороваются с гостями, по-
корно говорят, как их зовут и сколько им лет. Госпо-
дин Меллер только внимательно смотрит на детей, но
актер Герцль выказывает неумеренный восторг и
умиление. Он возводит очи горе, набожно складывает
руки, только что не благословляет «маленьких». Воз-
можно, что это идет от сердца, но привычка к услов-
ному сценическому действу делает его слова и жесты
невыразимо фальшивыми; кроме того, этим ханже-
ским благоговением перед детьми он как бы искупает
свои нарумяненные щеки.
149
Гости уже встали из-за стола и теперь танцуют
в гостиной, «маленькие» тоже бегут туда, подымается
и профессор,
— Не скучайте же, веселитесь, пожалуйста! — го*
ворит он, пожимая руки Меллеру и Герцлю, одновре-
менно с ним вскочившим с мест. И уходит в свой
кабинет, в свое тихое царство; там он опускает
жалюзи, зажигает настольную лампу и садится за
работу.
Эта работа в конце концов не требует спокойной
обстановки: несколько писем, кое-какие выборки. Ра-
зумеется, сейчас Корнелиус немного рассеян. Он
весь во власти мимолетных впечатлений — тут и жест-
кие туфли господина Гергезелля, и тонкий голосок, по-
слышавшийся из пышных телес Плэйшингер. Он сидит
и пишет или, откинувшись в кресле, смотрит в про-
странство, а мысли его убегают к баскским песням,
собранным Меллером, к преувеличенному смирению и
фальшивому пафосу Герцля, к «его» Карлосу, ко
двору Филиппа Второго. «Странная, таинственная
штука — разговоры, —думает он. — Они податливы и
сами собой сворачивают на то, что тебе всего интерес-,
нее». Он замечал это уже не раз. Между тем он
прислушивается и к шумам домашнего бала, впрочем,
весьма умеренным. До него доносится только невнят-
ный говор, не слышно даже шарканья. Да они, соб*.
ственно, и не шаркают, не кружатся, а как-то странно
шагают по ковру, который им нисколько не мешает, и
ведут своих дам не так, как было принято в дни его
юности, и все это под граммофонную музыку, сейчас
больше всего занимающую Корнелиуса, — под эти ди-
ковинные мелодии нового мира, в джазовой орке-.
стровке, гремящей ударными инструментами; их мед-
ные звуки отлично воспроизводит граммофон, равно
как и отрывистое щелканье кастаньет; это щелканье
тоже отдает джазом, а отнюдь не Испанией. Да, да,
не Испанией! И тут он снова возвращается в русло
привычных мыслей.
Полчаса спустя Корнелиуса осеняет мысль, что
с его стороны было бы очень мило внести и свой вклад
в это празднество в виде сигарет* «Не годится^ — ду-
150
мает он, — чтобы молодые люди курили у него в доме
собственные сигареты, хотя им самим это, пожалуй,
даже невдомек». Он идет в опустевшую столовую, из-
влекает из своего запаса в стенном шкафчике коробку
сигарет, надо сказать, не из лучших, вернее, не из тех,
какие он предпочитает, — эти, на его взгляд, слабо-
ваты и слишком длинны, и он ими поступится охотно,
раз представился такой случай, а для молодежи хо-
роши и такие. С сигаретами он идет в гостиную, улы-
баясь помахивает коробкой в воздухе, раскрывает ее,
ставит на камин и, немножко постояв, уже чувствует
себя вправе удалиться.
Сейчас как раз перерыв в танцах, граммофон без-,
молвствует. Вдоль стен гостиной, возле старинного сто-
лика с гербами, в креслах перед камином, кто стоя,
кто сидя, непринужденно болтают молодые люди. На
ступеньках внутренней лестницы, на потрепанной
плюшевой дорожке, амфитеатром расположились
юноши и девушки: например, Макс Гергезелль рядом
с дебелой Плэйшингер, которая не сводит с него глаз,
в то время как он, полулежа, размахивает рукой и
что-то ей рассказывает... Середина гостиной пуста;
только под самой люстрой, нескладно обнявшись, бес-,
шумно, сосредоточенно, завороженно кружатся двое
«маленьких» в своих голубых платьицах. Проходя
мимо, Корнелиус нагибается, говорит несколько ла-
сковых слов, гладит детей по головкам, но они не от-
влекаются от своего маленького и очень важного дела.
У двери своего кабинета он оглядывается и видит,
как студент, будущий инженер, Гергезелль, вероятно
потому, что заметил профессора, соскакивает со сту-
пеньки, разлучает Лорхен с братом и, без музыки, на-
чинает препотешно с нею танцевать. Согнув колени и
присев на корточки, почти как сам Корнелиус, когда
тот гуляет с «четырьмя господами», силясь обнять и
вести ее как взрослую даму, он проходит со смущен-,
ной Лорхен несколько па шимми. Те, кто их видит,
смеются до упаду, и это как бы служит толчком вновь
завести граммофон и всем сообща пуститься танце-
вать. Взявшись за ручку двери, профессор покачивает
головой, плечи его вздрагивают от смеха, затем
Ш
он уходит к себе. Улыбка еще несколько мгновений не
сходит с его лица.
Затененная абажуром, на столе горит лампа, он
снова листает свои книги и пишет — надо разделаться
хоть с мелкими обязательствами. Немного погодя он
замечает, что общество перекочевало из гостиной
в будуар его жены. Эта комната сообщается с его
кабинетом и с гостиной. Оттуда доносится говор,
в него вплетаются вкрадчивые звуки гитары. Стало
быть, господин Меллер сейчас будет петь. Да, вот он
и запел. Аккорды гитары звучно вторят сильному басу
банковского служащего, он поет на чужом языке,
кажется, на шведском, профессор не может этого
определить до конца песни, встреченной шумным одо-
брением. Дверь в будуар завешена портьерой, заглу-
шающей звуки. Когда Меллер начинает новую песню,
Корнелиус тихонько переходит туда.
В комнате — полумрак, горит только затемненная
стоячая лампа, а под нею на низкой оттоманке сидит
Меллер, поджав ноги и пощипывая большим пальцем
струны гитары. Остальные расположились как попало,
все равно для всех места не хватает. Одни стоят, дру-
гие, и девушки в том числе, сидят просто на полу, на
ковре, обняв колени руками или вытянув ноги. Герге-
зелль, хоть ом и в смокинге, тоже уселся прямо на
пол у ножек рояля, а рядом с ним, разумеется, фрей-
лейн Плэйшингер. И «маленькие» здесь. Сидя в своем
кресле напротив певца, госпожа Корнелиус держит
обоих на коленях. Байсер, маленький невежа, не
обращая внимания на певца, вдруг начинает громко
говорить, ему грозят пальцем, на него шикают — оро-
бев, он замолкает. Лорхен никогда бы так не опло-
шала. Тихо и кротко сидит она на коленях матери.
Профессору хочется исподтишка подмигнуть своей
девочке, он ищет ее взгляда, но Лорхен его не видит,
хотя, кажется, не видит и певца. Она думает о чем-то
своем. Меллер поет «Joli tambour»:l
Sire, mon roi, donnez-moi votre fille2.
1 «Пригожий барабанщик» (франц.).
2 Государь, мой король, отдайте мне вашу дочь- (-франц.).
152
Все восхищены. «Прелестно!..» — слегка в нос, на
свой особый, гергезеллевский манер, тянет Макс« По-
том господин Меллер поет по-немецки. Он сам напи-
сал музыку к этой песенке. Юное общество встречает
и ее бурными восторгами.
Нищенка-бабенка собралась на богомолье пойти,
Иейюхе!
Нищий-муженек думает о том, как бы с ней пойти,
Тидельдумтейде!
Эта веселая песенка нищих всех приводит в восхи-
щение. «Чудо как хорошо!..» — опять же на свой гер-
гезеллевский манер тянет Макс. За сим следует нечто
венгерское, тоже «коронный номер», хоть и на никому
пе понятном языке. И Меллер опять пожинает лавры.
Профессор тоже аплодирует, с подчеркнутой горяч-
ностью. Этот экскурс в историю, в искусство про-
шлого, среди фокстротной одержимости, кажется ему
светлым проблеском, согревает его сердце. Корнелиус
подходит к певцу, приносит поздравления, расспраши-
вает о песнях, об источниках, какими тот пользовался,
и Меллер обещает принести профессору свой сборник
песен и нот. Корнелиус с ним подчеркнуто любезен
еще и потому, что, по обыкновению всех отцов, тот-
час же начинает сопоставлять возможности и дарова-
ния чужого юноши с сыновними, испытывая при этом
горечь, зависть и стыд. Взять хотя бы этого Мел-
лера — примерный банковский служащий (он понятия
не имеет, так ли уж примерно трудится в своем банке
Меллер), к тому же у него несомненный талант, для
совершенствования которого, конечно, понадобилось
немало упорства. Тогда как мой бедный Берт ничего
не знает, ничего не умеет и способен только гаерни-
чать, хотя у него, пожалуй, и на это недостает спо-
собностей! Стараясь соблюсти беспристрастность, он
тешит себя мыслью, что Берт как-никак недурной
мальчик, возможно даже с лучшими задатками, чем
преуспевающий Меллер. Как знать, возможно, где-то
в глубине у него и бьется поэтическая жилка или еще
что-либо эдакое, а танцевально-кабацкие затеи —
пустое мальчишество, блуждающие огоньки в трясине
J53
наших дней. Но отцовская зависть и пессимизм пере-
силивают. И когда Меллер начинает новую песню,
доктор Корнелиус опять уходит к себе.
Время близится к семи, а его внимание по-преж-
нему не сосредоточено; вдруг он вспоминает о коро-
теньком деловом письме — его отлично можно напи-
сать сейчас и таким образом убить время, — вот уже
и половина восьмого. В половине девятого подадут
итальянский салат, стало быть, надо поскорее выйти,
опустить письма и получить в зимней мгле причитаю-
щуюся ему толику воздуха и моциона. В гостиной
давно уже возобновились танцы, а ему надо пройти
через нее, чтобы попасть в прихожую к своему пальто
и галошам, но теперь это не смущает профессора, его
лицо уже примелькалось молодым людям, он уже ста-
рый знакомый и не стеснит их. Он убирает свои бу-
маги, берет письма, выходит и даже на минуту-другую
задерживается около жены, которая сидит в кресле
у двери его кабинета.
Она сидит и смотрит, иногда к ней подходят
«большие» или кто-нибудь из гостей. Корнелиус
остается стоять рядом и тоже, улыбаясь, пригляды-
вается к веселью, теперь явно достигшему кульмина-
ционной точки. Есть здесь и другие зрители: «сизая
Анна», исполненная суровой добродетели, стоит у са-
мой лестницы, так как маленькие всё не навеселятся
всласть, и она считает себя обязанной присматривать
за Байсером, чтобы он не слишком порывисто кру-
жился: при его густой крови это может стать опас-
ным. Но и подвальные жители хотят полюбоваться на
развлечения «больших». Дамы Хинтерхефер и Кса-
вер стоят у двери в буфетную и смотрят во все глаза.
Фрейлейн Вальбурга, старшая из деклассированных
сестер, так сказать, олицетворяющая собою кухню
(называть ее кухаркой не следует, ей это не по
нраву), смотрит на бал своими карими глазами через
шлифованные стекла круглых очков, дужки которых
она обмотала холщовой тряпочкой — чтобы не давили
переносицу. Это благодушная, потешная особа, тогда
как фрейлейн Цецилия, младшая, хотя отнюдь не мо-
лодая ее сестра, блюдет достоинство бывших предста-
J54
вительниц. третьего сословия, отчего с ее лица не схо-
дит величаво-спесивое выражение* Фрейлейн Цеци-
лии очень горько оттого, что из мелкобуржуазной
сферы она низринута в подвал для прислуги. Она ре-
шительнейшим образом отказывается надеть наколку
или что бы то ни было, свидетельствующее о ее поло-
жении горничной, и самые мрачные мгновения ее
жизни наступают регулярно каждую среду, когда
Ксавер уходит со двора и ей приходится подавать
ужин. Она ставит блюда на стол, отвернув лицо и
сморщив нос, — поистине свергнутая королева! Истин-
ная мука смотреть на ее унижение, и однажды, когда
«маленькие» случайно ужинали со взрослыми, оба они,
взглянув на Цецилию, как по команде, громко зарыдали.
Подобные терзания незнакомы юному Ксаверу. Он
не без удовольствия прислуживает за столом и спра-
вляется с этим делом достаточно ловко. Ловкость
у него равно врожденная, и благоприобретенная, так
как раньше он служил младшим кельнером в ресто-
ране. Во всем прочем он совершенный бездельник и
ветрогон — не без положительных черт, как утвер-
ждают его нетребовательные хозяева, — но все же со-
вершенный бездельник. Надо брать его таким как
есть и не требовать, чтобы на терновнике росли вин-
ные ягоды. Он — дитя и плод нынешнего безвременья,
типичный представитель своего поколения, лакей рево-
люционной поры, симпатичный большевик. Профессор
прозвал его «распорядителем балов», так как чуть
дело коснется чего-либо не будничного и забавного,
Ксавер чувствует себя, как рыба в воде, и становится
необыкновенно услужлив и расторопен. Но вот пред-
ставление о долге ему совершенно чуждо, и принево-
лить его к выполнению ежедневных уныло-однообраз-
ных обязанностей так же невозможно, как невозможно
приневолить иных собак прыгать через палку. Видимо,
это противно самой его природе, а потому обезору-
живает и настраивает примирительно. Но если проис-
ходит что-либо необычное, чрезвычайное, забавное —
он готов хоть среди ночи вскочить с постели. В будни
же поднимается не раньше восьми часов; валяется, да
и все, —не прыгает через палку. Но проявления Кса-
155
верова непутевого бытия — звуки его губной гар«
мошки, его сиплое, зато преисполненное чувства пе-
ние, его залихватское посвистывание — день-деньской
несутся снизу из кухни, а дымом его сигарет насквозь
пропитан весь подвальный этаж. Дамы, потерпевшие
социальное крушение, трудятся не покладая рук, а он
стоит и глазеет на них.
По утрам, когда профессор завтракает, Ксавер от-
рывает листок календаря на его столе и больше ни-
чего в кабинете не убирает. Доктор Корнелиус много
раз приказывал ему оставить календарь в покое, ведь
Ксавер не прочь заодно оторвать и следующий ли-
сток— что уже может нарушить для профессора ход
времени. Но эта работа — отрывать листки — по душе
юному Ксаверу, и он не намерен от нее отказаться.
Ксавер любит детей, и это, несомненно, одна из
самых привлекательных черт его характера. Он
простодушно играет с «маленькими»,"искусно мастерит
для них всякую ерунду, а иногда, шлепая толстыми
губами, даже читает им вслух, что производит не-
сколько странное впечатление. Кино он любит
страстно; придя оттуда, впадает в уныние, в тоску,
разражается длинными монологами. Смутная мечта,
что однажды он и сам будет принадлежать к миру
кино, что именно там ему улыбнется счастье, владеет
им. Основанием для этой мечты служат кудри, отбра-
сываемые со лба, ловкость, удаль. Он часто влезает
на ясень перед домом — высокое, шаткое дерево — и,
карабкаясь с ветки на ветку, добирается до самой
верхушки, так что всякого, кто глядит на него снизу,
берет страх и оторопь. Там, наверху, он закуривает
сигарету и, раскачиваясь, как на качелях, отчего вы-
сокий ствол сотрясается до самых корней, высматри-
вает кинорежиссера, который рано или поздно придет
этим путем, чтобы его ангажировать. Если бы Ксавер
сменил свою полосатую лакейскую куртку на пиджач-
ный костюм, он запросто мог бы принять участие
в танцах, ничем не выделяясь среди остальных гостей.
Друзья-приятели «больших» являют собой довольно
пестрое зрелище: мало кто из молодых людей одет
в вечерний костюм, большинство художественным
156
беспорядком в одежде смахивает на песенника Мел-
лера — это относится не только к юношам, но и
к представительницам прекрасного пола. Стоя
у кресла жены, профессор озирает картину бала, он
понаслышке знает кое-что о социальном положении
присутствующей здесь молодежи. Это — гимназистки,
студентки, девушки, работающие в художественной
промышленности. Но среди мужчин попадаются и
отъявленные проходимцы, темные дельцы — порожде-
ние своего времени; на этот скользкий путь их, ко-
нечно, толкнула нынешняя жизнь. Бледнолицый вер-
зила с жемчужными запонками, сын зубного врача —
всего-навсего биржевой маклер, но, если верить молве,
преуспевает в этом качестве не хуже Аладина с его
волшебной лампой. У него есть автомобиль, он зака-
тывает пиры с шампанским и по любому поводу или
даже без повода дарит своим друзьям ценные без-
делушки из золота и перламутра. Он и сегодня при-
нес подарки молодым хозяевам: Берту — золотой
карандашик, Ингрид — огромные серьги кольцами,
настоящее дикарское украшение; слава богу, их не
приходится вдевать в уши, они держатся просто на
зажимах. Подбежав к родителям, «большие» хвалятся
своими подарками, а те, разглядывая их, только ка-
чают головой; Аладин же, стоя поодаль, несколько
раз им кланяется.
Молодежь рьяно танцует, если можно назвать тан-
цем занятие, которому они сосредоточенно предаются.
Как-то по-особому прильнув друг к другу, придав
новомодный изгиб телу, животом вперед, слегка по-
качивая бедрами, словно завороженные чьим-то тай-
ным повелением, они медленно ходят по ковру, не
зная усталости, — да и можно ли от этого устать?
Здесь не увидишь ни вздымающейся груди, ни пылаю-
щих волнением щек. Иногда две девушки танцуют
друг с другрм, а не то и двое молодых людей. Им все
равно, они просто шагают взад и вперед под экзотиче-
ские завывания граммофона, в который нарочно
вставлены толстые иголки, чтобы еще громче звучали
эти шимми, фокстроты, уанстепы, все эти дубль-
фоксы, африканские шимми^ яванские пляски и
157
креольские польки — дикарские пряные мелодии, то
изнемогающе-томные, то бодрые, как военный марш,
или негритянская музыка с чуждыми ритмами, моно-
тонная, только что приукрашенная нарядной орке-
стровкой— звоном и громом ударных инструментов.
— Что это за пластинка? — спрашивает Корнелиуо
у Ингрид, проходящей мимо него в паре с бледно-
лицым маклером. Сравнительное изящество замысла
и отдельные недурные подробности примиряют его
с влекущей томностью сыгранной сейчас вещицы.
— Князь Паппенгейм — «Утешься, милая детка!» —•■
отвечает Ингрид, приятно улыбаясь и показывая при
этом свои белые зубы.
Табачный дым колышется под люстрой. Чад
празднества сгустился, суховато-сладкий, плотный,
насыщенный всевозможными запахами, в каждом, кто
был в юности достаточно восприимчив к впечатлениям
жизни, он будит воспоминания о страданиях еще не-
зрелой души.
«Маленькие» все еще в гостиной. Они так рады
празднику и тому, что им позволили побыть здесь до
восьми часов. Гости свыклись с их присутствием,
малыши в какой-то мере стали неотъемлемой при-
надлежностью вечера. Вышло так, что они разлучи-
лись. Байсер в своем голубом бархатном платьице
одиноко кружится на середине ковра; а Лорхен пре-
потешно гоняется за одной из танцующих пар, пы-
таясь ухватиться рукой за смокинг кавалера. Кава-
лер— Макс Гергезелль, дама — фрейлейн Плэйшин-
гер. Они так красиво ступают, что смотреть на них—*
истинное наслаждение. Что ж, и дикие танцы совре-
менности могут радовать глаз, если их танцуют ис-
кусно. Молодой Гергезелль прекрасно ведет свою
даму, по всем правилам и в то же время непринуж-
денно. Как изящно делает он пресловутый «шаг на-
зад», когда его не теснят соседние пары. Но и «шаг
на месте», даже в самой давке, получается у него,
удивительно изящно, чему немало способствует по-
датливая гибкость партнерши, оказавшейся на диво
грациозной, как, впрочем, многие полные женщины.
Прильнув друг к другу, они весело болтают4 видимо,,
158
даже не замечая настойчиво преследующей их Лор-
хен. Но остальных веселит упорство девочки1, и когда
все трое оказываются возле доктора Корнелиуса, он
пытается поймать свою маленькую и притянуть ее
к себе. Лорхен чуть не плача увертывается от него;
сейчас она и знать ничего не хочет об «Абеле», не ну-
жен он ей. Упершись ручонками ему в грудь, отво-
ротив свое милое личико, возбужденная, рассержен-
ная, она спешит удрать от него.
Профессор не в силах подавить в себе горькой оби-
ды. В это мгновение он ненавидит бал, отравивший
своей сумятицей сердце его дочурки, разлучивший его
с нею. Его любовь, несколько предвзятая и в корне
своем не совсем безупречная, легко ранима. Улыбка
не сходит с его лица, но печальный взгляд бесцельно
устремлен на узор ковра.
— Не пора ли маленьким спать? — говорит он
жене. Но она просит его повременить хоть четверть
часика: вся эта сутолока так нравится детям. Он со-
глашается,— улыбка опять уже играет на его лице,—«
покачивает головой, минуту-другую еще стоит подле
жены, а потом идет в переднюю, до отказа завален-
ную пальто, шалями, шляпами и галошами'.
Покуда он разыскивает в этом хаосе свои вещи,
в переднюю, отирая лоб носовым платком, входит
Макс Гергезелль.
— Господин профессор, — говорит он, растягивая
слова на свой гергезеллевский манер, — кажется, со-
брались прогуляться. — И, как подобает благовос-
питанному молодому человеку, бросается помогать
Корнелиусу. — Ну и влип же я со своими туфлями!
Жмут, не хуже Карла Великого. Оказывается, эти
штуковины мне просто не впору, и дело здесь не
только в жесткой коже, они так жмут, вот здесь, на
ноготь большого пальца, — произнося эту тираду, он
стоит на одной ноге, держа другую обеими руками,—•
что никакого терпения не хватает! Надену лучше
уличные башмаки, и дело с концом... О, разрешите
мне помочь вам!
— Нет, нет, благодарствуйте! — говорит Корне-
лиус — Не беспокойтесь, прошу вас. .Кончайте лучше
159
со своими мучениями. Право же, вы слишком лю-
безны, — добавляет он, когда Гергезелль, опустив-
шись на одно колено, застегивает ему пряжки на
ботах.
Растроганный почтительной и простодушной ус-
лужливостью, профессор испытывает искреннюю бла-
годарность.
— Желаю вам еще хорошенько повеселиться!
Главное, скорей переобуйтесь! Когда туфли жмут,
разумеется не до танцев! Обязательно снимите их!
Всего доброго, пойду немножко подышать воздухом!
=— Сейчас буду опять танцевать с Лорхен! — кри-
чит ему вдогонку Макс. — Танцорка будет — первый
сорт, когда подрастет, ручаюсь головой!
— Вы полагаете? — говорит профессор уже с по-
рога.— Ну, да вам и карты в руки. Смотрите только
поосторожней, не повредите себе позвоночника, сги-
баясь в три погибели! — Кивнув головой, Корнелиус
уходит. «Славный мальчик, — думает он, выходя из
дома. — Студент, а там, глядишь, и инженер, все
ясно, все в порядке. К тому же недурен собой и
умеет держать себя в обществе!» И снова отцовская
зависть, тревога за своего бедного Берта одолевают
его, и снова будущее чужого юноши представляется
ему в розовом свете, а будущее сына — в черном.
Так начинает доктор Корнелиус свою вечернюю
прогулку.
Он идет по аллее, затем, перейдя через мост,
дальше по набережной до следующего моста. Погода
сырая, пронизывающая, сеет снежок. Подняв ворот-
ник, зацепив рукоятку палки за плечо, Корнелиус,
чтобы прочистить легкие, глубоко вдыхает холодный
вечерний воздух. Как и всегда, во время прогулки
он занят мыслями о своей науке, о завтрашней лек-
ции и сейчас уже подыскивает слова, в которых бу-
дет говорить о Филиппе Втором и его борьбе с немец-
кой реформацией. Грустными и справедливыми
должны быть эти слова. Да, да, прежде всего спра-
ведливыми! Справедливость — душа науки, основной
принцип познания, и для молодежи только ее свет
должен'озарять исторические события. Как ради мо-
16Ù
рального их воспитания, так и по соображениям гу-
манно-личного характера, чтобы не оскорбить этих
молодых людей, даже косвенно не задеть их поли-
тических убеждений, которые в наши дни так много-
различны и взаимно противоположны. Горючего ма-
териала здесь хоть отбавляй, и ничего не стоит вы-
звать шум и свист одной части аудитории, даже
скандал, если возьмешь сторону тех или иных анта-
гонизирующих исторических сил. «Но «взять сто-
рону», — думает он, — неисторично, исторична только
справедливость. И, конечно, под этим $тлом и по
здравом размышлении... Справедливость — не юноше-
ский пыл, не бравая, бездумная скоропалительность,
а меланхолия; и потому, что она — по самой своей
природе — меланхолия, то и тяготеет ко всему, что
отмечено меланхолией, и втихомолку держит сторону
того, что не имеет перед собой будущего, а не бра-
вой скоропалительности. Словом, она возникла из
тяготения к бесперспективному и без такого тяготе-
ния была бы невозможна. Что же, справедливости
вообще не существует?» — спрашивает себя профес-
сор и так углубляется в эту мысль, что письма
в почтовый ящик у следующего моста опускает уже
машинально, и затем поворачивает назад.
Эта неотвязная мысль для науки разрушительна,
но в то же время она и сама наука, дело ее совести,
психологии, а потому должна быть взята на учет,
по долгу совести и вполне беспредрассудочно,
сколько бы она тебе ни мешала... Во власти этих
смутных догадок профессор возвращается домой.
У парадного стоит Ксавер и, видимо, дожидается
его.
— Господин профессор, — говорит он, шлепая тол-
стыми губами, и, встряхнув головой, откидывает
назад волосы. — Поживей идите-ка наверх к Лорхен.
Ну и дела!
— Что случилось? — с испугом спрашивает Кор-
нелиус. — Заболела?
— Не то чтоб заболела, — отвечает Ксавер, —
а так нашло на нее, — плачет девчоночка, прямо в три
ручья разливается* А все тот господин виноват, что
ЦТ. Манн, т. 8
16J
с ней танцевал, ну франт этакий, как его.., господин
Гергезелль. Из гостиной никак было ее не увести,;
нипочем, а теперь слезами исходит. Вот уж нашло,;
наехало, прямо беда!
— Вздор! — говорит профессор, входит в перед-:
нюю и швыряет как попало свою одежду. Он молча
распахивает завешенную портьерой стеклянную
дверь и, не глядя на танцующие пары, сворачивает
направо, к лестнице. Наверх он взбегает через две
ступеньки и через верхнюю прихожую и' небольшой
коридорчик* идет прямо в детскую, сопутствуемый
Ксавером, который остается у двери.
В детской еще горит свет. По стенам тянется рас-
писанный пестрыми картинками фриз, на большой
полке в беспорядке нашвырены игрушки, лошадь-ка-
чалка, с алыми лакированными ноздрями, стоит, упи-
раясь копытам"и в гнутые раскрашенные полозья,
а на покрытом линолеумом полу валяются дудка»
кубики, вагончики...
Белые кроватки с сетками поставлены совсем
близко друг от друга. Кроватка Лорхен в углу
у окна, Байсера — чуть поближе к середине ком-
наты.
Байсер спит. Как и всегда, он звучным голосом
прочитал молитву, не без подсказки «сизой Анны»,,
и тотчас же словно провалился в сон, в бурный, пы-
лающий багрянцем, непробудно крепкий сон; теперь
хоть пали над ним из пушек — не услышит; руки со
сжатыми кулачками закинуты на подушку, волосы
неловко нахлобученного паричка слиплись в ярост-
ном сне.
Кроватку Лорхен обступили* женщины. Кроме
«сизой Анны», у самой сетки стоят дамы Хинтерхе-
фер, оживленно переговариваясь то с нею, то между
собой. Когда входит профессор, они поспешно отсту-
пают в сторону, и тут он видит Лорхен: бледная, она
сидит среди своих маленьких подушек и плачет так
горько, как никогда еще не плакала на памяти док-
тора Корнелиуса.
Красивые маленькие руки беспомощно лежат на
одеяле, ночная рубашка, отороченная узкими кру-
162
жевами, соскользнула с хрупкого, как у воробышка,
плеча, а голова, любимая эта головка, со слегка вы«
давшимся вперед подбородком, точно цветок сидя-
щая на тонком стебле шейки, запрокинута назад, так
что плачущие глаза Лорхен устремлены наверх,
в угол между потолком и стеной, и кажется, будто
она поверяет свою великую беду кому-то невидимому.
Но, может быть, девочка просто содрогается от ры-
даний и оттого покачивается и никнет ее головка,
а подвижной рот с изогнутой верхней губкою полу-
раскрыт, как у маленькой mater dolorosa. Потоки слез
льются из ее глаз, и она не перестает испускать тихие
жалобные стоны, нисколько не похожие на преувели-
ченные, надсадные вопли маленьких неслухов; о боль-
шом и настоящем сердечном горе свидетельствуют эти
стоны, и у профессора, который вообще не в силах
видеть плачущей Лорхен, а плачущей так, как сейчас,
он никогда ее не видел, вызывают чувство нестерпи-
мого сострадания.
И в первую очередь это чувство оборачивается ост-
рым раздражением против толкущихся здесь дам Хин-
терхефер.
— Полагаю, — говорит он, повысив голос, — что
стол еще не накрыт к ужину. Но все хлопоты, видимо,
возлагаются на госпожу Корнелиус?.,
Для чуткого слуха представительниц третьего со-
словия этого предостаточно. Разобиженные, они уда-
ляются; ко всем неприятностям еще Ксавер Клейнс-
гютль, стоя в дверях, строит им вдогонку насмеш-
ливые гримасы. Выходец из низов общества и, так
сказать, с младых ногтей к этому обстоятельству при-
выкший, он обожает подтрунивать над социальным
падением дам.
— Девочка моя, девочка, — сдавленным голосом
говорит профессор и, опустившись на стул возле кро-
ватки, обнимает маленькую страдалицу.—Что же это
случилось с моей девочкой?
Лорхен орошает его лицо слезами.
*«* Абель... Абель..« —запинаясь и всхлипывая, бор*
мочет она. — Зачем... Макс... не мой брат? Пусть«.
Макс... будет мой брат!.«
И*
163
«Какая беда, какая непоправимая беда!.. Вот что
натворили эти танцы, этот бальный угар!..» — думает
Корнелиус и, не зная, что предпринять, смотрит на
«сизую Анну», которая, скрестив руки на фартуке,
степенная и суровая, стоит в ногах кроватки.
— Все оттого, — изрекает она многозначительно и
строго, поджимая нижнюю губу, — что в ребенке жен-
ские чувства заговорили...
— Попридержите свой язык, — сердито отвечает
Корнелиус. Хорошо хоть, что Лорхен не отталкивает,
не прогоняет его, как тогда в гостиной, а беспомощно
льнет к нему, неразумно упрямо твердя только одно:
«Пусть Макс будет мой брат...» — и, жалобно всхлипы-
вая, просится обратно к нему, в гостиную: пусть ом
еще потанцует с ней! Но Макс танцует с Плэйшингер,
дебелой особой, имеющей все права на него, Лорхен
же никогда еще не казалась терзаемому жалостью
профессору таким малым воробышком, как сейчас,
когда она, вся дрожа, жмется к нему, не понимая,
что случилось с ее бедным маленьким сердечком. Где
ей понять, что она страдает из-за дебелой, взрослой
Плэйшингер, которая может до упаду танцевать в гос-
тиной с Максом, тогда как Лорхен это было дозволено
один только раз, и то в шутку, хотя она куда милее.
Но молодой Гергезелль здесь ведь ни при чем, безу-
мием было бы поставить ему это в вину. Страдания
Лорхен — противозаконны и бесправны, значит, необ-
ходимо их скрывать. Но ее чувство безрассудно, а по-
тому и безудержно. Вот в чем беда! «Сизая Анна»
и Ксавер, правда, не видят этой беды, но, верно,
по глупости или в силу душевной черствости. От-
цовское же сердце истерзано стыдом и страхом
перед этим и противозаконным и бесправным чув-
ством.
Тщетно внушают бедной Лорхен, что у нее и без
того есть отличный маленький братик — беззаветно
спящий рядом Байсер. Сквозь слезы она пренебрежи-
тельно смотрит на соседнюю кроватку и требует
Макса. Не действуют на нее и обещание профессора,
,что завтра они, «пятеро господ», будут гулять по сто-
ловой хоть до самого вечера, ни интереснейшие по-
164
дробности, которые он собирается, еще до обеда, вне*
сти в игру с подушкой.
Ничего она об этом знать не хочет и также не
хочет положить головку на подушку и уснуть.
Но вдруг оба они — Абель" и Лорхен — начинают
прислушиваться: что ж это совершается там? Шаги...
двое шагают по коридору... и вот чудо совершилось,
оно уже на пороге детской...
Ну разумеется, тут расстарался Ксавер!
Ксавер Клейнсгютль не только торчал у двери,
глумясь над изгнанными из детской дамами. Ом по-
раскинул мозгами и решил кое-что предпринять. Спу-
стился в гостиную, потянул за рукав господина Гер-
гезелля, шлепая толстыми губами, что-то рассказал
ему и о чем-то попросил. И вот они оба здесь. Сде^
лав свое дело, Ксавер опять стоит у двери, но Макс
Гергезелль, в смокинге, с чуть приметными бачками на
щеках, улыбающийся, черноглазый, идет через ком-
нату прямо к кроватке Лорхен — идет в горделивом
сознании своей роли принца, дарящего счастье рыцаря
Лоэнгрина, с уст которого вот-вот сорвутся слова:
«Я здесь, а значит, нет ни бед, ни горя».
Корнелиус потрясен почти так же, как и сама Лор-
хен.
— Смотри-ка, — говорит он едва слышно, — кто
к нам пришел! Как это любезно со стороны господина
Гергезелля!
— Уверяю вас, господин профессор, никакой лю-
безности здесь нет, — отвечает Макс. — Вполне по-
нятно, что мне захотелось еще разок взглянуть на
даму, с которой я танцевал, и пожелать ей спокойной
ночи!
И он подходит к онемевшей Лорхен в зарешечен-
ной кроватке. Она блаженно улыбается сквозь слезы.
Высокий, звенящий звук, сладостный вздох счастья
слетает с ее губ, затем она молча поднимает на ры-
царя Лоэнгрина свои золотистые глаза, чуть распух-
шие и покрасневшие, но насколько же они красивей
глаз дебелой Плэйшингер. Лорхен не простирает рук,-
не пытается обвить ими шею Макса. Ни счастья, ня
ни горя, своего она не понимает, — но она этого
165
не делает. Прелестные маленькие руки по-прежнему
тихо лежат на одеяле, а Макс опирается локтями на
решетку кроватки, как на перила балкона.
— «Кто в жизни целыми ночами, стеня на ложе
не сидел!» 1 — И он исподтишка взглядывает на про-
фессора, ожидая одобрения своей эрудиции. — Ха-ха-»
ха, «утешься, милое дитя»!. Ты так мила. Я уже вижу
тебя взрослой! Смотри только, не подурней! Оста-
вайся такой, как есть! Ха-ха-ха! В ее-то годы! Ну,
а теперь баиньки. Не будешь больше плакать, раз я
пришел к тебе, маленькая Лорелея, да?
Лорхен просветлела и глядит на него. Худое, как
у воробышка, плечо оголилось, профессор старается
натянуть на него рукавчик, обшитый кружевом. На
ум ему невольно приходит сентиментальная история
о ребенке, который, умирая, все просил, чтобы к нему
привели клоуна из цирка, однажды только виденного,
но не забытого. В костюме, расшитом серебряными
мотыльками, клоун явился к ребенку в его смертный
час — и дитя опочило в мире. Макс Гергезелль не рас-
шит мотыльками, Лорхен, слава богу, не при смерти,
на нее только «нашло», в остальном же, право, эта
история — в том же духе. И чувство профессора
к юному Гергезеллю, который стоит, небрежно приело«-
нясь к кроватке, и без удержу болтает — впрочем,
больше для отца, чем для ребенка, — Лорхен об этом,
конечно, и не подозревает, — являет собой диковин-
ное сплетение признательности, замешательства, не-
нависти и восхищения.
— Доброй ночи, маленькая Лорелея! — говорит
Гергезелль, протягивая ей поверх сетки руку.
Крошечная, красивая, беленькая ручка исчезает
в большой, сильной, красноватой руке.
— Спи спокойно, и пусть тебе приснятся сладост-
ные сны! Только, боже упаси, не я! Ха-ха-ха, в ее-то
годы!
На этом завершается посещение сказочного клоуна,
Корнелиус провожает его до дверей«
Стихотворение Гете «Арфист»«
166
— Не стоит благодарности! Помилуйте, за что же
меня благодарить! — великодушно и учтиво оборо-
няется Макс. Он уходит, и Ксавер за ним — внизу
уже пора подавать итальянский салат.
Но доктор Корнелиус возвращается к Лорхен; те-
перь она улеглась, склонила свою головку на плоскую
маленькую подушку.
— Вот видишь, как хорошо все вышло, — говорит
он, с нежностью оправляя на ней одеяльце, она ки-
вает ему и всхлипывает напоследок. Еще добрых чет-
верть часа сидит он у сетки и смотрит, как она
погружается в дремоту, следуя примеру Байсера, ко-
торый уже давным-давно спит сном праведника. Шел-
ковистые каштановые волосы Лорхен, как обычно во
сне, свиваются в красивые кольца, за сомкнутыми рес-
ницами прячутся глаза, выплакавшие столько горя,
ангельский ротик с изогнутой, припухлой верхней губ-
кой приоткрыт в сладостном умиротворении,, и запоз-
далое всхлипывание только изредка прерывает ее ти-
хое и мерное дыханье.
И как спокойно лежат ее ручки — бело-розовые
ручки-лепестки, одна на голубом стеганом одеяльце,
другая под щекой на подушке. Сердце доктора Кор-:
нелиуса полнится нежностью.
Какое счастье, думает он, что с каждым вздохом
Лорхен Лета струит дремотное забвенье в ее малень-
кое сердце, что в детстве такая ночь ложится непро-
ходимой пропастью между сегодня и завтра. Наутро
молодой Гергезелль, конечно же, станет лишь бледной
тенью, бессильной причинить ей какое бы то нибслло
горе, и веселость — еще не подвластная воспомина-
ниям— обяжет Лорхен вернуться к увлекательной
игре" в подушку, к прогулке «пятерых господ», вместе
с «Абелем» и Байсером.
Так возблагодарим же небо!
1926
МАРИО И ВОЛШЕБНИК
Тяжелой атмосферой окутано для меня воспоми-
нание о Toppe ди Венере. Озлобленность, раздраже-
ние, нервная взвинченность носились в воздухе с са-
мого начала, — а под конец еще и это потрясение,
вызванное историей со страшным Чиполлой, в чьей
личности, казалось, грозно сосредоточилась и роковым
образом воплотилась вся злокачественность тамошних
настроений. То, что еще и дети стали невольными сви-
детелями жуткой развязки событий (как нам потом
казалось, заранее предначертанной и как бы заложен-
ной в природе вещей), уже само по себе было чем-то
неподобающим, прискорбной ошибкой, произошедшей
по вине того странного человека с его шарлатанскими
выдумками. Слава богу, дети так и не поняли, где
кончился спектакль и где началась катастрофа, мы
же оставили их в блаженном заблуждении, что все
это только театральная игра.
Toppe расположено примерно в пятнадцати кило-
метрах от Порто Клементе, одного из наиболее посе-
щаемых курортов на Тирренском море, по-город-
скому элегантного и всегда переполненного во время
сезона, с отелем и магазинами на живописной улице
вдоль моря, с обширным пляжем, усеянным песча-
ными замками и кабинами, где кишит коричневый от
загара люд и царит шумное оживление. Так как про-
сторный пляж, окаймленный рощами пиний, на кото-
рый сверху вниз глядят ближние горы, вдоль всего
268
побережья уютно усыпан мелким песком, то не муд-
рено, что уже вскоре, несколько поодаль, у Порто Кле-
менте возник скромный соперник. Toppe ди Венере
(где, впрочем, уже с давних пор тщетно было бы ис-
кать башню, которой городок обязан своим назва-
нием) в глазах иностранцев является как бы филиа-
лом соседнего большого курорта. В течение несколь-
ких лет это местечко слыло идиллической аркадией для
немногих, убежищем для врагов светской суеты. Но,
как обычно случается с такими укромными уголками,
этот покой уже давно был нарушен и отступил дальше
вдоль побережья в Марина Петриера и невесть куда
еще. Ведь известно, что светская жизнь ищет покоя,
но, устремляясь к нему в смехотворной и страстной
тоске, в то же время его отпугивает; ей мнится, что
она могла бы сочетаться с покоем и что там, где гос-
подствует она, мог бы утвердиться и он; даже уже
тогда, когда на месте прежнего мирного существова-
ния открылась ярмарка мирской суеты, свет все еще
продолжает верить, будто покой не покинул эти места.
Поэтому Toppe, городок более скромный и распола-
гающий к созерцательной жизни, чем Порто Клементе,
стал все больше входить в моду у местной публики и
у иностранцев. Теперь приезжие уже меньше стре-
мятся на великосветский курорт, хотя и Порто Кле-
менте остается шумным и переполненным; они едут
в Toppe, что даже изысканней и притом дешевле. Мно-
гих продолжают привлекать сюда мир и тишина, что
когда-то здесь царили, но давно уже сгинули. В Toppe
построен Гранд-отель; расплодились многочисленные
пансионы, дорогие и более скромные, владельцы и
арендаторы вилл и садов вверху, над взморьем, уже
больше не наслаждаются тишиной. В июле и августе
Toppe ди Венере нисколько не отличается от Порто
Клементе: всюду толпы горланящих, чертыхающихся
и ликующих купальщиков, которым неистово палящее
солнце сжигает кожу на затылке; на искрящейся ла-
зури моря колышутся ярко раскрашенные лодочки-
плоскодонки, густо усеянные ребятишками; в воздухе
звенят детские имена, хрипло выкликаемые озабочен*-
ными матерями, не спускающими глаз с этих утлых
J69
суденышек; торговцы устрицами, напитками, цветами,
коралловыми украшениями и cornetti al burro1, пере-
ступая через распростертые на песке тела купальщи-
ков, такими же по-южному гортанными и протяжными
голосами наперебой предлагают свои товары.
Так выглядело взморье в Toppe, когда мы туда
приехали, — все это было довольно мило, но явились
мы, пожалуй, все-таки рановато. В середине августа
итальянский сезон был еще в полном разгаре,-^
время не слишком благоприятное для иностранцев,
стремящихся поглубже вникнуть в очарование этих
мест. Что за сутолока под вечер на набережной,
в кафе на открытом воздухе, хотя бы в том же «Эскви^
зито», куда мы иногда заходили и где нас обслужи-
вал Марио, тот самый Марио, о котором я сейчас
буду рассказывать! С трудом можно найти свобод-
ный столик, и несколько оркестров, ни с чем не счи-
таясь, заглушают друг друга нестройными звуками,
В эти часы сюда съезжаются беспокойные гости из
веселого Порто Клементе, которым Toppe полюбилось
для загородных прогулок; по шоссе взад и вперед
снуют автомобили «фиат», почему лавровые и олеан-
дровые кусты, которыми оно обсажено, стоят покры-
тые слоем белой пыли в дюйм толщиной, так что ка-
жется, будто они занесены снегом — оригинальное, но
отталкивающее зрелище!
Собственно говоря, в Toppe следовало бы приехать
в сентябре, когда большая часть публики уже поки-
нула курорт, или же в мае, прежде чем морская вода
достигла температуры, при которой южанин рискнет
окунуться в волны. Кроме того, до и после сезона там,
правда, если и не совсем безлюдно, то жизнь все же
идет как-то приглушенней и национальный колорит
меньше бросается в глаза. В это время под тентами
кабин и в столовых пансионов преобладают англи-
чане, французы, немцы, тогда как в августе иностра-
нец еще чувствует себя одиноким и, я бы сказал, вто-
роразрядным гостем среди римского и флорентийского
общества —так было по крайней мере в Гранд-отеле^
1 Рожки в масле (итал.).
ПО
где мы сняли комнаты за неимением адресов частных
пансионов.
В этом нам пришлось не без досады убедиться
в первый же вечер, когда мы спустились к обеду в рес-
торан и заняли столик, указанный кельнером« Столик
этот был расположен не так уж плохо, но нас больше
привлекала застекленная веранда с видом на море,
тоже, конечно, переполненная, но не до отказа, где
на столиках горели лампочки под красными абажу-
рами. Малыши пришли в восторг от столь празднич-
ного освещения, — и мы, в простоте душевной, попро-
сили отвести нам место на веранде; попросили, как
оказалось, по неосведомленности, и нам вежливо,
хотя с некоторым замешательством, дали понять, что
этот уютный уголок приберегается для «нашей клиен-
туры» — «ai nostri clienti». Для наших клиентов?
А мы-то кто же? Мы считали себя не проезжими го-
стями, не мошкарой-однодневкой, а солидными по-
стояльцами на три или четыре недели, своими людьми
в доме. Впрочем, мы не стали настаивать на выясне-
нии разницы между нами и той клиентурой, которой
было предоставлено право обедать при красных лам-
почках, и согласились на pranzo 1 за столиком в буд-
нично освещенном общем зале. Обед, который нам по-
дали, оказался весьма посредственным, — обычная
безвкусная стряпня приморских отелей; впоследствии
нам больше пришелся по вкусу стол в пансионе «Элео-
нора», расположенном чуть подальше от моря.
Мы перебрались туда уже дня через три-четыре,
прежде чем успели хоть сколько-нибудь обжиться
в Гранд-отеле, и отнюдь не из-за веранды с лампоч-
ками; дети тотчас же подружились с кельнерами и
боями и, всецело захваченные страстью к морю, вскоре
выкинули из головы эту красочную приманку. Но
у нас разыгрался конфликт с некоторыми клиентами
на веранде, или, вернее, с пресмыкавшейся перед
ними администрацией, — один из тех конфликтов, ко-
торые с самого начала наложили тягостный отпеча-
ток на все наше дальнейшее там пребывание» Среди
Обед, трапеза (итал.).
171
постояльцев отеля находились представители высшей
римской знати, некий принчипе X. с семейством, и так
как комнаты этой высокородной четы примыкали
к нашим, то княгиня, знатная дама и вместе с тем
страстная мать, пришла в ужас от коклюша, кото-
рым недавно переболели наши малыши, — слабые при-
ступы кашля, последние следы перенесенной болезни,
по ночам еще и сейчас изредка нарушали обычно без-
мятежный сон меньшего ребенка. Болезнь эта еще
мало выяснена и дает простор для всякого рода пред-
рассудков, поэтому мы не могли особенно обижаться
на нашу элегантную соседку, испугавшуюся за своих
детей: видимо, она придерживалась довольно распро-
страненного мнения, будто коклюш передается при од-
ном только звуке кашля. В полном сознании своих ма-
теринских прав, она явилась с жалобой в дирекцию,
и последняя, в лице уже знакомого нам метрдотеля
в сюртуке, поспешила со всевозможными извинениями,
заявить, что ввиду создавшихся обстоятельств нам не-
обходимо переселиться в боковой флигель. Тщетно мы
уверяли, что болезнь прошла и опасности заражения
больше не существует. Все, чего нам удалось добить-
ся,— это разрешения представить наш случай на суд
медицины, то есть на заключение постоянного врача при
отеле, а отнюдь не какого-нибудь иного, нами пригла-
шенного. Мы согласились, убежденные, что таким обра-
зом убьем сразу двух зайцев — и княгиню успокоим
и избежим хлопотливого переезда. Является доктор,
честный и справедливый служитель науки. Исследо-
вав малыша, он признает, что болезнь кончилась и
все опасения неосновательны; Мы с полным правом
сочли инцидент исчерпанным, как вдруг метрдотель
заявляет, что прежнее распоряжение очистить ком-
наты и переселиться во флигель, невзирая на меди-
цинскую экспертизу, остается в полной силе.
Это раболепство возмутило нас. Едва ли веролом-
ное упорство, с которым мы столкнулись, исходило от
самой княгини. Скорее всего, подобострастный хо-
зяин отеля даже и не решился передать ей заключе-
ние врача. Как бы то ни было, мы уведомили управ-
ляющего, что покидаем отель немедленно и навсегда,
172
и тотчас же принялись упаковывать вещи. Правду
сказать, мы сделали это с легким сердцем, так как
успели мимоходом осмотреть частную виллу «Элео-
нора», сразу же привлекшую наше внимание своим
приветливым видом, и познакомиться с ее симпатич-
ной хозяйкой, синьорой Анджольери. Госпожа Анд-
жольери, изящная, черноглазая дама тосканского
типа, лет тридцати, с матово-бледным, точно слоновая
кость, лицом южанки, и ее супруг, тщательно одетый,
молчаливый, лысый человек, владели во Флоренции
значительно более крупным отелем и только летом и
ранней осенью лично руководили его филиалом
в Toppe ди Венере. В прежние времена, до замуже-
ства, наша новая хозяйка была компаньонкой, спутни-
цей, костюмершей, даже подругой Дузе, и об этой
великой, счастливой эпохе своей жизни она в первое
же наше посещение принялась пылко рассказывать
нам. Все столики и этажерки в салоне госпожи Анд-
жольери были уставлены фотографиями великой ар-
тистки с задушевными надписями и разными другими
сувенирами их былой совместной жизни; и хотя мы
сразу поняли, что культ прошлого отчасти должен был
содействовать процветанию предприятия, но все же,
осматривая виллу, с увлечением слушали рассказы
синьоры на отрывистом и звучном тосканском наре:
чии — о страдальческой доброте, гении сердца и глу-
бокой чуткости ее покойной госпожи.
Итак, мы велели перенести туда наши вещи,
к большому огорчению крайне детолюбивого, на доб-
рый итальянский лад, персонала Гранд-отеля. Нам
были предоставлены обособленные уютные комнаты,
к морю вела аллея молодых платанов, смыкавшаяся
с прибрежным бульваром; в прохладной и опрятной
столовой мадам Анджольери ежедневно собственно-
ручно разливала суп, прислуга была внимательна и
любезна, стол оказался превосходным, нашлись даже
знакомые из Вены, с которыми можно было после
обеда поболтать возле дома, через них завязались но-
вые знакомства, — словом, все складывалось пре-
красно, мы радовались нашему переезду, и казалось,
рее благоприятствовало мирному отдыху«
173
И тем не менее полного довольства мы не испы-
тывали. Быть может, нас все еще тревожил глупей-
ший повод к перемене отеля — признаюсь, я лично
тяжело переношу подобные столкновения с человечен
ской пошлостью, с наивным злоупотреблением вла-
стью, с несправедливостью и жалким раболепством.
Все это слишком долго занимало мои мысли, ввергая
меня в тягостное, бесплодное раздумье по поводу
таких обыденных и примелькавшихся явлений. Впро-
чем, мы отнюдь не порвали с Гранд-отелем. Дети поч
прежнему водили дружбу с тамошними служителями,
один из них постоянно чинил им игрушки, мы иногда
пили чай в саду отеля и видели там княгиню, — с ярко
накрашенными кораллово-алыми губами, она изящно-
уверенной походкой направлялась к англичанке, на
попечении которой находились ее любимцы, не подо-
зревая о том, что мы были так угрожающе близко,
ибо нашему малышу было строго-настрого заказано
хоть разок кашлянуть в ее присутствии.
Не знаю, стоит ли об этом упоминать, но жара
стояла страшная. То был поистине африканский зной*
стоило только чуть отойти от края индигово-синей про-
хлады, и солнце начинало тиранить нас так неумо-*
лимо, что пройти несколько шагов от пляжа до обе-1
денного стола, хотя бы в одной пижаме, было подви-
гом, к которому мы готовились, заранее вздыхая«
В силах ли вы такое вынести? Да еще неделю за не-
делей. Разумеется, это юг, классическая погода,
климат расцвета человеческой культуры, солнце Го-<
мера и так далее. Но что поделаешь, мне лично через
некоторое время все это начинает казаться нестер-
пимо оглупляющим. Изо дня в день раскаленная пу-
стота неба мне становится в тягость; правда, эти кри-
чащие краски, этот непрерывный поток света своей
безграничной непосредственностью настраивает на
праздничный лад, ты чувствуешь себя беззаботным«
независимым от капризов и превратностей погоды;
но — вначале этого даже не понимаешь — более глуч
бокие и сложные запросы северной души остаются
мучительно неудовлетворенными, и с течением времени
ты начинаешь испытывать нечто вроде презрения к
174
окружающему. Да, вы правы, без этой глупой, пустяч-
ной истории с коклюшем все воспринималось бы по-
иному: я был раздражен и потому полусознательно
(ухватился за первый попавшийся психологический по-
вод, чтоб оправдать и усилить свое угнетенное состоя-
ние. Итак, считайте, что здесь была злая воля с на-
шей стороны. Разве могло быть причиной тому само
море? Странно испытывать что-либо подобное в эти
(утренние часы на мягком песчаном пляже, перед ли-
цом извечного великолепия стихии. И тем не менее
вышло так, что вопреки всему даже на взморье мы
не чувствовали себя привольно и счастливо.
Слишком рано, слишком рано мы приехали; на
пляже все еще царил местный средний класс, с виду
приятные люди. Да, и здесь вы нравы, среди молодежи
встречалось немало прекрасно сложенных, полных
здорового очарования юношей и девушек, и тем не
менее мы были окружены мелкими людишками, ме-
щанским сбродом, который, тут уж вам придется со-
гласиться, не более привлекателен в этих краях, чем
под нашим небом. Что за голоса у этих женщин! Иной
раз просто не верится, что находишься на родине за-
падно-европейского вокального искусства. «Fug-
gièro!» — еще и сейчас звучит у меня в памяти этот
пронзительный, хриплый вопль, отчаянный и в то же
время какой-то автоматический, с ужасающими интона-
циями и резким протяжным «е», который мне приходи-
лось слышать над самым ухом по сто раз на дню в тече-
ние целых трех недель. «Fuggièro! Rispondi almèno!» 1
При этом sp по-простонародному произносилось schp;
уж одно это может вывести из себя, тем более когда
и без того находишься в дурном настроении. Крики
эти были обращены к дрянному мальчишке, с тошно-
творной язвой от солнечного ожога между лопатками,
самому злобному упрямцу и пакостнику, которого мне
когда-либо приходилось встречать, и вдобавок еще
отчаянному трусишке, способному всполошить весь
пляж из-за возмутительной чувствительности к малей-
шей боли. Как-то раз в воде его ущипнул за ногу
Фуджеро! Отзовись же! (итал.)
175
краб; из-за этой ерунды мальчишка душераздирающе
вопил и, словно античный герой, горестно оплакивал
свою участь; можно было подумать, что произошла
какая-то небывалая катастрофа. Видимо, он возомнил
себя тяжко раненным. Кое-как, ползком выбравшись
на берег, он катался по песку и, казалось, в нестерпим
мых муках ревел «Ohi!» и «Oimè!», отбиваясь руками
и ногами от трагически причитающей над ним матери
и от старающихся его усовестить соседей. Сбежался
народ. Привели врача — того самого, что так трезво
отнесся тогда к случаю с коклюшем; и здесь еще раз
подтвердилась его прямота ученого. Добродушно
успокаивая окружающих, он признал этот случай не
стоящим ни малейшего внимания и попросту рекомен-
довал своему пациенту выкупаться еще разок, чтобы
охладить маленькую ранку от клешней краба. Тем не
менее Фуджеро, сопровождаемого целой свитой, унесли
с пляжа на импровизированных носилках, словно уто-
пленника или сорвавшегося с кручи; и все это только
для того, чтобы уже на следующее утро он» снова,
как будто невзначай, разрушал песочные замки, по-
строенные другими ребятами. Словом, не мальчишка,
а просто дрянь.
Ко всему еще этот двенадцатилетний сорванец при-
надлежал к главным носителям того общественного
мнения, которое неуловимо нависало в воздухе, от-
равляя нам, в общем, приятный отдых. Здешней атмо-
сфере недоставало какой-то чистоты, непринужденно-
сти; местная публика держалась крайне заносчиво.
Сначала казалось непонятным, зачем и для чего эти
люди выхваляются своими достоинствами, чванятся
важностью осанки и манер перед иностранцами и друг
перед другом, выставляют напоказ преувеличенное
чувство чести, — к чему бы все это? Со временем мы
поняли, что это политика, что дело тут в идее нации.
И правда, пляж кишел юными патриотами — явление
противоестественное и удручающее. Ведь дети—это
особая человеческая порода, замкнутая общественная
группа, так сказать особая нация; во всем мире они
сходятся легко и естественно в силу общности своего
жизнеощущения, даже если их малый запас слов огра*
176
ничен родным, языком. Наши малыши тоже вскоре
стали играть с местными и приезжими детьми разных
национальностей. Но тут их явно ждало непонятное
разочарование. То и дело возникали обиды, отстаи-
валось чрезмерно щекотливое и надуманное самолю-
бие, едва ли заслуживающее свое название, вспыхи-
вала рознь национальных флагов, разгорались споры
о превосходстве ранга и положения в обществе; взрос-
лые вмешивались не столько умиротворяюще, сколько
безапелляционно, защищая основные устои; произно-
сились громкие слова о величии и достоинстве Италии,
невеселые речи, отбивающие охоту к игре; мы видели,
что оба наши малыша, растерянные и смущенные,
начинают сторониться других детей, и нам стоило не-
малых трудов хоть сколько-нибудь вразумительно
разъяснить им создавшееся положение ; Люди эти,
объясняли мы детям, только что пережили, как бы это
сказать, ненормальное состояние, если хотите, болезнь,
досадную, но, видимо, неизбежную.
По нашей вине, из-за нашего попустительства дело
дошло до открытого столкновения с этими людьми;
хоть мы и отдавали должное их душевному состоянию,
в свете этого нового конфликта нам стало казаться,
что и все предыдущее не было простой случайностью.
Короче говоря, мы оскорбили общественную нрав-
ственность. Наша восьмилетняя дочурка, худенькая,
как воробышек, и выглядевшая по крайней мере на
год моложе своих лет, вдосталь накупавшись, как
всегда в жаркую погоду, вылезла из воды и начала
играть в мокром костюмчике; мы разрешили ей еще
разок сполоснуть его в море от налипшего песка с тем,
чтоб сейчас же надеть и больше уже не пачкать. Го-
ленькая она пробегает несколько метров, отделяющих,
ее от воды, окунает свой вязаный купальничек и бежит
обратно. О, если бы мы могли предвидеть взрыв не-
годования, протеста, насмешек, вызванный ее проступ-
ком, вернее, нашим проступком! Я не собираюсь чи-
тать вам лекцию, но известно, что за последние
десятилетия во всем мире коренным образом измени-
лось отношение к нагому телу; значительные измене-
ния претерпели и чувства, вызываемые наготой. Есть
12 Т. Манн, т. 8
m
вещи, на которые сейчас никто уже и внимания не
обращает; вот почему мы предоставили свободу этому
невинному детскому тельцу. Но здесь эта свобода
была воспринята как вызов. Юные патриоты заулю-
люкали. Фуджеро засунул пальцы в рот и свистнул.
Среди взрослых, по соседству от нас, начались гром-
кие взволнованные переговоры, не предвещавшие ни-
чего хорошего. Какой-то господин в костюме для
уличного променада и в котелке набекрень — наряд
едва ли уместный на пляже — заверяет своих него-
дующих дам, что так этого не оставит. Он подходит,
и на нас обрушивается яростная филиппика, в кото-
рой весь пафос чувственно жизнерадостного юга ока-
зывается в плену у ханжеской чопорности. Оказы-
вается, бесстыдный поступок, совершенный нами, еще
усугубляется оскорбительной неблагодарностью по от-
ношению к Италии, гостеприимно предоставившей нам
кров. Мы преступно попрали не только букву и дух
правил общественного купанья, но также и честь его
страны, и во имя этой чести он, господин в котелке,
позаботится о том, чтобы поругание национального
достоинства не осталось без должной кары.
Мы усиленно кивали, внимая этому бурному по-
току красноречия. Возражать этому разгорячившемуся
господину значило бы попасть из огня да в полымя*
На языке у нас вертелось многое; нам хотелось отве-
тить, например, что дело обстоит не совсем так, что
слово «гостеприимство» в его подлинном смысле здесь,
пожалуй, не вполне уместно, что мы, собственно, гости
не столько Италии, сколько синьоры Анджольери, не-
сколько лет назад сменившей свое призвание доверенч
ной подруги Дузе на профессию хозяйки пансиона.
Хотелось нам также сказать, что мы не представ-
ляли себе, как низко пала нравственность в этой пре-
красной стране, если здесь возможен, более того—-
неизбежен, такой возврат к ханжеству и жеманной
чувствительности. Вместо этого мы уверяли, что и не
помышляли нарушать приличия и оскорблять обще-
ственное мнение, и в порядке оправдания пытались
сослаться на юный возраст и физическую нераинтость
малолетней преступницы. Тщетно! Нашим объясне-
ниям никто не поверил, наши оправдания были от-
вергнуты, и нас решили примерно проучить. О проис-
шествии было сообщено, надо думать, по телефону
в местный полицейский участок, и на пляж явился
представитель власти; он признал инцидент весьма
серьезным — «molto grave» — и пригласил нас просле-
довать за ним наверх, к площади, где находится
муниципалитет. Там чиновник рангом повыше подтвер-
дил предварительное заключение о «molto grave», вы-
сказал по поводу нашего дела несколько нравоучи-
тельных сентенций, в точности повторяющих речи гос-
подина в котелке и, видимо, общепринятых здесь,—•
и оштрафовал нас на пятьдесят лир. Мы решили, что
приключение стоит такого взноса в итальянскую
казну, заплатили и ушли. Но, может быть, нам следо-
вало уехать?
О, если бы мы так и сделали! Мы избежали бы
встречи с этим роковым Чиполлой; но многое совпало,
чтобы заставить нас отказаться от решения переехать.
Один поэт сказал, что только косность мешает нам
выходить из мучительно неловких положений; быть
может, этим и объясняется наше загадочное постоян-
ство. Да и не так-то легко очистить поле битвы сразу
же после подобного происшествия; не хочется при-
знать себя побежденным, особенно когда твое упор-
ство поддерживается сочувствием окружающих. На
вилле «Элеонора» все единодушно восстали против
постигшей нас несправедливости судьбы. Наши
итальянские знакомые по табльдоту считали, что слу-
чай этот отнюдь не украшает доброе имя Италии, и
высказывали намерение призвать к ответу перед со-
отечественниками господина в котелке. Но он исчез
с пляжа вместе со своей компанией, не из-за нас, ко-
нечно; возможно,- впрочем, что самое сознание близ-
кого отъезда удвоило его энергию; так или иначе, мы
вздохнули свободней, когда его не стало. Если быть
до конца откровенным, мы остались еще и потому, что
здешняя обстановка стала казаться нам диковинной,
а все необычайное уже само по себе ценно, незавич
симо от хорошего или плохого самочувствия. Неужели
надо убрать паруса и уклониться от приключения,
12*
179
даже если оно не сулит ничего доброго? Уехать как
раз тогда, когда жизнь становится немного неспокой-
ной, не совсем бозопасной или даже огорчительной и
досадной? Разумеется, нет, нужно остаться, вгля-
деться в то, что происходит, положиться на судьбу и,
быть может, извлечь из всего этого кое-какие уроки.
Итак, мы остались и в виде страшной награды за
нашу стойкость пережили всю эту незабываемую и
злосчастную историю с Чиполлой.
Я не упомянул о том, что вскоре после нашего
столкновения с господствующим режимом в курорт-
ной жизни наступило затишье.
Наш суровый блюститель нравов, шпик в котелке,
был не единственным гостем, покинувшим курорт; на-
чался массовый разъезд, и множество ручных тележек
с багажом устремилось к вокзалу. Пляж утратил свой
национальный колорит, жизнь в Toppe, в кафе и ал-
леях пиний сделалась проще, стала носить более ев-
ропейский характер. Надо думать, что теперь мы
могли бы даже обедать на застекленной веранде, но
мы к этому не стремились, так как превосходно чув-
ствовали себя за столом у синьоры Анджольери — на-
сколько нам позволяли злые духи здешних мест. Одно-
временно с этой благодатной переменой резко изме-
нилась и погода, причем это почти точно совпало
с окончанием каникул и разъездом широкой публики.
Небо заволокло, и стало не то чтобы прохладнее,—
нет, но нестерпимая жара, свирепствовавшая восемна-
дцать дней, — с момента нашего приезда и, может
быть, задолго до нас, — сменилась знойной духотой
сирокко, и мелкий дождь по временам орошал барха-
тистую арену наших утренних удовольствий. Да, вот
еще что: время, которое мы собирались провести
в Toppe, истекло больше чем наполовину; но нам все
еще казалось новым это вялое, словно вылинявшее
море, на поверхности которого перекатывались лени-.
вые медузы; нелепо было бы тосковать по солнцу,
которое исторгало у нас столько вздохов в дни сво-
его надменного владычества.
Именно в это время появился Чиполла. «Ка-
вальере Чиполла», как именовался он на афишах, ко*
190
торые в один прекрасный день оказались расклеен-
ными всюду, даже в столовой пансиона «Элеонора»,—<
странствующий виртуоз, маэстро увеселений. Forza-
tore, Illusionista и Prestidigitatore 1 (так называл он
себя), который намеревался предложить вниманию
высокочтимой публики в Toppe ди Венере необычай-
ные, загадочные и ошеломляющие феномены. Фокус-
ник! Одной этой афиши было достаточно, чтобы вскру-
жить головы нашим малышам. Им ни разу еще не
приходилось бывать на подобных представлениях, эта
каникулярная поездка сулила им неизведанные вол-
нения. С этого момента они нам все уши прожужжали,
умоляя взять билеты на вечер фокусника; что ж, хоть
нас и смущало позднее начало спектакля — девять
часов, мы уступили, подумав, что сможем вернуться
домой после первых, надо полагать, немудрящих фо-
кусов Чиполлы, так что дети еще успеют выспаться, и
приобрели четыре билета у самой синьоры Анджольери,
которая позаботилась о том, чтобы обеспечить хоро-
шие места своим постояльцам. Она, конечно, не руча-
лась за высокое артистическое мастерство этого че-
ловека, да мы на него и не рассчитывали; но изве-
стная потребность рассеяться взяла свое, и вдобавок
нас невольно заразило неотступное любопытство
детей.
Зал, где кавальере должен был представиться пуб-
лике, в разгар сезона использовался под кинотеатр
с еженедельно меняющейся программой. Мы там еще
не бывали. Путь наш шел мимо «Palazzo» 2, строения,
напоминающего рыцарский замок и сейчас предна-
значенного к продаже, вдоль главной улицы местечка,
где находились аптека, парикмахерская и мелочная
лавка, — улицы, идущей из мира феодального через
буржуазный, прямо в мир народа, ибо она тянулась
между убогими рыбацкими лачугами, у дверей кото-
рых сидели старухи за починкой сетей; и здесь, в са-
мой гуще народной стихии, находилась эта «Sala»3,
1 Заклинатель, иллюзионист, фокусник (итал.)
2 Дворец (итал.),
3 Зал (итал.).
181
представлявшая собой всего-навсего довольно про-
сторный деревянный балаган со входом в виде арки,
по обеим сторонам украшенной пестрыми, наклеен-
ными друг на друга афишами. Итак, в назначенный
день, в сумерках, после обеда, мы отправились туда
вместе с разряженными, сияющими детьми. Было
душно, как уже много дней подряд, изредка полыхали
зарницы, накрапывал мелкий дождик. Пришлось рас-
крыть зонтики. Ходьбы до «Sala» было каких-нибудь
четверть часа.
Предъявив у входа билеты, мы должны были сами
разыскать свои места, которые оказались в третьем
ряду налево. Усевшись, мы заметили, что поздний час
начала соблюдался весьма условно: публика собира-
лась медленно, словно стараясь опоздать, и посте-
пенно заполняла партер, которым, собственно, и огра-
ничивался зрительный зал, так как лож не было. Эта
медлительность тревожила нас. На щечках детей от
ожидания и усталости играл лихорадочный румянец.
Заполнены еще до нашего прихода были только стоя-
чие места в боковых проходах и в глубине зала. Там
толпился рыбацкий люд, коренные жители Toppe ди
Венере, предприимчивые молодые парни с полуголыми
руками, скрещенными поверх полосатой фуфайки; и
если нам пришлись по душе все эти люди, сообщаю-
щие таким зрелищам краски и юмор, то дети были
просто вне себя от восторга. Ведь со многими из них
они познакомились и сдружились во время дальних
вечерних прогулок по взморью. Нередко в час, когда
солнце, устав от своих титанических трудов, погружав
лось в море и окрашивало в золотисто-алый цвет на-
бегающую пену прибоя, встречали мы на обратном
пути босоногих рыбаков, которые, выстроившись вряд
и налегая на веревки, с протяжными возгласами тя-
нули сети и укладывали в сочащиеся водой корзины
свой обычно скудный улов, frutti di mare;1 дети лю-
бовались на них^ выкладывали до последней крохи
1 Буквально: «плоды моря» (итал.)\ так называются в Ита-
лии мелкие морские животные, устрицы, креветку лангусты и
другие^ употребляемые в пищу. (Прим. ред.)
182
весь свой запас итальянских слов, помогали тянуть
снасти, завязывали знакомства. И теперь они обмени-
вались приветствиями со своими приятелями на стоя-
чих местах, — вон стоит Гискардо, а чуть подальше
Антонио — они знали их по именам, окликали впол-
голоса, приветливо кивали им, — и те тоже отвечали
кивками и улыбками, обнажавшими крепкие белые
зубы. Гляди-ка, здесь даже Марио из «Эсквизито»,
тот самый Марио, который подает нам шоколад! И
ему охота поглядеть на волшебника, он, наверно, при-
шел спозаранку, так как стоит впереди; на нас Марио
не обращает ни малейшего внимания, такая уж у него
манера, хотя он всего лишь человек из ресторана.
Зато мы здороваемся с парнем, который дает на
пляже лодки напрокат, он тоже здесь, только стоит
совсем сзади.
Четверть, почти половина десятого. Представьте
себе, как мы нервничали. Когда же дети лягут спать?
Мы сделали оплошность, приведя их сюда, а теперь
было бы уже жестокостью увести их, прежде чем они
насладятся представлением. Мало-помалу партер'за-
полнился; можно сказать, все Toppe собралось сюда:
постояльцы Гранд-отеля, постояльцы виллы «Элео-
нора» и других пансионов, примелькавшиеся на пляже
лица. Слышалась английская, немецкая речь, даже
французская с румынским акцентом. Двумя рядами
дальше нас сидела сама мадам Анджольери, рядом
со своим молчаливым и лысым супругом, поглаживав-
шим усы средним и указательным пальцами. Все при-
шли поздно, и тем не менее никто не опоздал: Чи-
полла заставлял себя ждать.
Он именно заставлял ждать себя, это правильное
определение. Намеренно взвинчивал нервы зрителей,
оттягивая свой выход. Это даже нравилось публике,
но ведь всему есть границы. В половине десятого
принялись аплодировать — любезная манера выра-
зить законное нетерпение и в то же время показать
свою готовность тепло встретить артиста. Дети, ко-
нечно, с удовольствием присоединились к прочей
публике. Кто из малышей не любит хлопать артистам?
В толпе простолюдинов послышались энергичные
183
выклики: «Pronti!» и «Cominciamo!» 1 И что же —все
препятствовавшее началу представления вмиг было
устранено. Послышался удар гонга, ему ответило
многоголосое «ах!» со стоячих мест, и занавес раздви-
нулся. Открылась эстрада, убранством напоминавшая
скорее классную комнату, чем арену действий фокус-
ника, главным образом из-за черной аспидной доски,
установленной на подставке у самой рампы слева.
Кроме того, здесь находилась еще обыкновенная
желтая вешалка для платья, два плетеных стула мест-
ного изделия и несколько поодаль, в глубине, круглый
столик, на котором стоял графин с водой, стакан, под-
нос с фляжкой, наполненной какой-то светло-желтой
жидкостью, и ликерная рюмка. Нам предоставили се-
кунды две для обозрения всей этой обстановки. И за-
тем — перед незатемненным зрительным залом на
эстраде появился кавальере Чиполла.
Он вошел той стремительной походкой, которая вы-
ражает готовность служить публике и в то же время
создает впечатление, будто актер таким вот шагом про-
шел длинный путь, торопясь предстать перед лицом
зрителей, — тогда как на самом деле он просто стоял
и дожидался за кулисами. Наряд Чиполлы также был
рассчитан на то, чтобы поддержать обманчивое пред-
ставление, будто артист явился с улицы, издалека.
Человек неопределенного возраста, но, во всяком слу-
чае, далеко не молодой, с резкими чертами потрепан-
ного лица, с колючими глазами и нафабренными уси-
ками над плотно сомкнутым морщинистым ртом, с так
называемой «мушкой» в углублении между нижней
губой и подбородком — он был одет элегантно, в при-
чудливый вечерний костюм. На нем была просторная
черная крылатка с бархатным воротником и пелери-
ной на атласной подкладке, которую он придерживал
спереди руками в белых перчатках, вокруг шеи по-
вязан белый шарф, изогнутый цилиндр криво надви-
нут на лоб.
В Италии, больше чем где бы то ни было, еще жи-
вет дух восемнадцатого столетия и вместе с ним столь
1 Живее! Начнем! (итал.)
184
характерный для той эпохи тип шарлатана, ярмароч^
ного скомороха, с которым сейчас уже, пожалуй, ни
в какой другой стране не встретишься. Чиполла во всем
своем облике являл черты этого отошедшего в исто-
рическое прошлое типа; присущее его стилю впечатле-
ние крикливого и фантастического шутовства усили-
валось благодаря претенциозному наряду. Платье
сидело на нем как-то странно: в одном месте натягива-
лось и неестественно облегало фигуру, в другом —
криво свисало неправильными складками или болта-
лось, как на вешалке; что-то было не в порядке с его
фигурой и спереди и сзади, — что именно, выяснилось
только впоследствии. Но необходимо подчеркнуть, что
в его осанке, в выражении лица, во всей его манере не
было ни тени веселости или клоунады; напротив, в его
облике сквозила суровость, чуждая всякого юмора,
временами угрюмая гордость, а также характерное
для калеки преувеличенное самодовольство, что, впро-
чем, не помешало публике сначала встретить его взры-
вами смеха, раздавшимися в нескольких местах зри-
тельного зала.
Однако в его манере держаться не было ни-
какой угодливости; стремительная походка, которой
он вышел на сцену, свидетельствовала исключительно
об его внутренней энергии, ничего общего с подобо-
страстием не имевшей. Стоя у рампы и медленно стя-
гивая перчатки с длинных желтоватых рук, — на од-
ной из них сверкнул крупный бирюзовый перстень
с печаткой, — он неторопливо обвел зал своими ма-
ленькими строгими глазами, под которыми мешками
собиралась дряблая кожа, причем его взгляд то и дело
испытующе останавливался на чьем-либо лице — и все
это в полном молчании, не разжимая губ. Скомкан-
ные перчатки он отшвырнул далеко от себя, небрежно,
но так метко, что угодил как раз в стакан на круглом
столике; затем, по-прежнему молча озираясь, вынул
из внутреннего кармана пачку сигарет, судя по кар-
тонной обертке, самого дешевого сорта, вытащил одну
оттуда и, не глядя, поднес к ней мгновенно вспыхнув-
шую бензиновую зажигалку. Глубоко затянувшись,
он с нагловатой гримасой выдохнул дым, оттопырил
185
губы и слегка притопнул одной ногой, в то время как
сизая струйка дыма вилась между его гнилыми, стер-
тыми, но все еще острыми зубами.
Публика в свою очередь так же бесцеремонно раз-
глядывала его. Молодые парни на стоячих местах хму-
рили брови и сверлили его взглядами, словно выиски-
вали слабое место у этого слишком самоуверенного
человека. Но они ничего не обнаружили. На то, чтобы
достать и снова спрятать пачку сигарет и зажигалку,
ему потребовалось немало времени из-за неудобства
костюма; при этом он распахнул плащ, и мы уви-
дели у него под мышкой совсем неподобающий пред-
мет— хлыст с серебряной рукояткой в виде когтя,
подвешенный на кожаной петле. Всем бросилось
в глаза, что на Чиполле был не фрак, а обыкновенный
сюртук; когда же он подобрал его полы, то нашим
взорам предстала еще и многоцветная лента, наполо-
вину скрытая жилетом. Зрители, сидевшие сзади нас,
пошептавшись, решили, что это знак отличия ка-
вальере. Не берусь решать, так это или не так, ибо
мне никогда не доводилось слышать, чтоб с этим ти-
тулом были связаны какие-то особые знаки отличия.
Скорей всего эта лента была чистейшей мистифика-
цией, так же как и безмолвная неторопливость фиг-
ляра, который все 'так же бездействовал, лениво и
чванно пуская в публику дым своей сигареты.
Как я уже говорил, кругом смеялись, веселье стало
почти всеобщим, когда со стоячих мест вдруг раз-
дался громкий и суровый возглас: «Buona serai» '
Чиполла встрепенулся.
— Кто это? — спросил он, притворяясь разгневан-
ным.— Кто это сказал? Ну-ка? Сначала расхрабрился,
а потом струсил? Paura, eh?2
Голос у него был высокий, слегка прерывающийся,
словно у астматика, но с металлическими нотками.
Чиполла ждал.
— Это я, — проговорил среди общего молчания си-
девший рядом с нами молодой человек, которого вызов
1 Добрый вечер! (итал.)
2 Страшно, а? (итал.)
186
фокусника задел за живое, — красивый малый в сит-
цевой рубашке и куртке, переброшенной через плечо.
Его жесткие, курчавые волосы были зачесаны кверху
и разлохмачены —модная в «пробуждающейся Ита-
лии» национальная прическа, которая слегка искажала
его черты, придавая им что-то африканское. — Ну да,
я. Вам следовало поздороваться первым, но я уж не
стал с вами считаться.
В публике опять засмеялись. Молодой человек, как
видно, за словом в карман не лез. «На sciolto lo sciling-
uagnolo» \ — заметили около нас. Этот наглядный урок
хорошего тона был здесь, пожалуй, вполне уместен.
— Браво! — ответил Чиполла. — Ты мне нра-
вишься, Джованотто. Я тебя уже давно заприметил*
Такой человек, как ты, может мне пригодиться. По-
хоже, ты малый не промах. Как хочешь, так и де-
лаешь. А случалось тебе не делать того, что хочется?
Или даже делать то, чего не хочешь? Чего хочешь не
ты, а кто-нибудь другой? Послушай, дружок, как,
должно быть, приятно и весело хоть разок не разы-
грывать из себя лихого парня, у которого желание
и действие — одно. Когда-нибудь надо же ввести раз-
деление труда — sistema americano, sa?2 Скажи, хо-
чешь ты показать сейчас язык этой избранной и поч-
теннейшей публике? Весь язык, до самого корня?
— Нет, — враждебно ответил парень. — Не желаю.
Я не такой невежа. Не так дурно воспитан.
— Какое же тут невежество, — возразил Чи-
полла,— ведь ты сделаешь это против воли. Честь и
слава твоему воспитанию, но вот посмотришь, не ус-
пею я сосчитать до трех, как ты сейчас же повер-
нешься направо и покажешь публике язык, да еще
высунешь его так далеко, как тебе и не снилось.
Чиполла посмотрел на парня в упор своими прон-
зительными глазами, казалось, еще глубже запавшими
в орбиты. «Unol»3 — сказал он и щелкнул в воздухе
хлыстом, который он успел выхватить из петли под
1 Он за словом в карман не лезет (тал.).
2 Американская система, так, что ли? (итал.)
3 Раз! (итал.)
187
мышкой. Парень повернулся лицом к публике и вы-
сунул язык во всю длину, напрягаясь из последних
сил, до крайнего предела своих физических возможно^
стей. Затем он с безразлично-тупым видом сел на
место.
— «Это я», — передразнил Чиполла и кивком го-
ловы указал на парня. — «Ну да, я». — С этими сло-
вами он повернулся, предоставив публике самой во
всем разобраться, подошел к круглому столику, налил
себе из фляжки, в которой, видимо, был коньяк, и при-
вычным движением опрокинул рюмочку в рот.
Дети от души смеялись. Они почти ничего не по-
няли из этой словесной перепалки, но их очень поза-
бавила комическая сценка, сразу же разыгравшаяся
между забавным человеком на эстраде и парнем из
публики; а так как они вообще не представляли себе,
что значит вечер фокусов, то такое начало показалось
им очень смешным. Мы же только переглянулись, и,
помнится, я невольно сделал губами почти неслышное
движение, подражая щелканью кнута Чиполлы. Зри-
тели, видимо, не знали, как отнестись к такому неле-
пому началу вечера, и не могли взять в толк, с чего
бы это Джованотто, который был, так сказать, с ними
заодно, вдруг переметнулся и ни с того ни с сего на-
дерзил им. В конце концов все сочли, что он вел себя
по-дурацки, бросили о нем думать и вновь сосредото-
чили все свое внимание на артисте, который, отойдя
от столика, продолжал разглагольствовать.
— Милостивые государыни и милостивые, госу-
дари, — говорил он своим прерывающимся, металли-
чески звучным голосом. — Вы видели, что меня не-
сколько задел урок, который попытался преподать мне
этот подающий надежды молодой языковед («questo
linguista di belle speranze» — над каламбуром посмея-
лись). Прошу вас иметь в виду, что я человек не
лишенный самолюбия! Я люблю, чтобы со мной здоро-
вались, придерживаясь серьезного и вежливого тона, —
иначе не стоит и трудиться. Желая мне доброго ве-
чера, вы в то же время желаете его себе самим. Ибо
у вас и вправду выдастся добрый вечер, если таковой
будет у меня. И этот кумир девушек в Toppe ди Ве-
188
нере (он не уставал язвить парня) хорошо сделал, сы-
грав мне в руку; теперь вы убедились, что сегодня
мне действительно сопутствует удача, и я могу обой-
тись без его пожеланий. Должен признаться, что
у меня почти сплошь добрые вечера. Иной раз слу-
чается, конечно, вечерок и похуже, но редко. Профес-
сия моя трудная, а здоровье не слишком крепкое: не-
кий маленький физический изъян лишает меня воз-
можности участвовать в войне во славу нашей родины.
Тем не менее все силы своей души и ума я полагаю
на то, чтобы овладеть жизнью, а это значит всегда —
овладеть самим собой, и льщу себя надеждой, что мне
удалось заслужить внимание и сочувствие просвещен-
ной аудитории. Пресса оценила мою работу, «Corriere
délia Sera» ] воздал мне должное, назвав меня фено-
меном, а в Риме я удостоился чести на одном из своих
вечеров лицезреть среди присутствующих родного
брата дуче. И если в столь блистательных и высоко-
поставленных кругах мне благосклонно прощали не-
которые мои привычки, то должен ли я был посту-
питься ими в таком сравнительно небольшом городке
(тут публика посмеялась над жалким маленьким
Toppe) и стерпеть попреки от молодого человека,
правда, несколько избалованного вниманием прекрас-
ного пола?
Бедный парень опять превратился в мишень для
острот, Чиполла не переставал над ним издеваться,
выставляя его в шутовской роли donnaiuolo2 и мест-
ного ловеласа; он возвращался к этой теме упорно,
с раздражением и злостью, резко противоречащими
его самоуверенным манерам и светским успехам, ко-
торыми он хвастал. По всей вероятности, Чиполла из-
брал юношу своей жертвой просто потому, что в про-
грамму его сеансов входило высмеивание кого-нибудь
из публики. Но сейчас в его колкостях сквозило под-
линное озлобление, которое становилось по-человече-
ски понятным при взгляде на физический облик того
и другого, даже если бы горбун то и дело не намекал
1 «Вечерний вестник» (итал.).
2 Волокита (итал.).
189
на бесспорные, по его мнению, успехи красивого
юноши в волокитстве.
— Итак, для начала нашей беседы, — добавил
он, — разрешите мне устроиться поудобней.
Он подошел к вешалке и снял верхнюю одежду,
*— Parla benissimo l, — заметил кто-то около нас.
Человек на эстраде еще не показал своего искусства,
но искусством была уже самая его манера держаться,
и своими разговорами он импонировал зрителям. Ведь
для южан живая речь является одной из основных ра-
достей жизни, и к языку здесь относятся со страстью,
непонятной на севере. Нечто древнее, идущее из глу-,
бины веков, чувствуется в тех почестях, которые воз-
даются здесь родному языку, как средству националь-
ного единения, в том светлом и радостном благогове-
нии, с каким здесь ревностно блюдутся формы и законы
речи. Южане наслаждаются, когда говорят; на-
слаждаются, когда слушают и, слушая, критикуют.
Речь служит критерием оценки личности; небрежная,,
неряшливая речь внушает презрение, и, напротив, сло-
весное мастерство и изящество оборотов вызывают
всеобщее уважение, почему даже самый маленький
человек, если только он дорожит мнением окружакь
ших, стремится блеснуть изысканными и тщательно
обдуманными выражениями. Тут по крайней мере
Чиполла явно завоевал расположение публики, хотя
отнюдь не принадлежал к той породе людей, которую
итальянец, своеобразно смешивая моральную оценку
с эстетической, называет «simpatico»2.
Сняв шелковый цилиндр, шарф и крылатку, Чи-
полла одернул сюртук, поправил застегнутые круп-
ными запонками манжеты, разгладил свою шутов-
скую орденскую ленту и снова вернулся к рампе.
Волосы у него были безобразные: на почти обнажен-
ном черепе с затылка ко лбу тянулась узенькая,,
словно наклеенная полоска нафабренных волос с про-
бором посередине, а пряди на висках, тоже крашен-
ные, были зализаны с боков к уголкам глаз; эту при-
1 Замечательно говорит (итал.),
2 Симпатичный (итал.).
190
ческу в стиле старомодного директора цирка, смеш-
ную, но гармонирующую со всем его оригинальным
обликом, Чиполла носил так самоуверенно, что
в публике никто, казалось, не заметил ее комизма
и не посмел рассмеяться. Тот маленький «физический
изъян», о котором он говорил, теперь стал совер-
шенно очевидным, хотя сразу и невозможно было
определить, в чем именно он состоит. Как всегда
в таких случаях, грудная клетка у него была высоко
приподнята, но нарост на спине находился не между
лопатками, как обычно, а ниже; это был своего рода
бедренный и поясничный горб. Горб этот не мешал
ему при ходьбе, но выпячивался как-то назойливо
и комично. Впрочем, поскольку Чиполла предупредил
зрителей о своем уродстве, оно никого не поразило,
и публика отнеслась к нему с должной деликат-
ностью.
— К вашим услугам, — сказал Чиполла.— Если
вы ничего не имеете против, начнем нашу программу
с арифметических упражнений.
Арифметика? На чародейство это что-то не похо-
дило. Можно было заподозрить, что этот человек
«плыл под чужим флагом», выдавал себя не за то,
чем был на самом деле; но его подлинное лицо оста-
валось неясным. Мне стало жаль детей, но пека что
они сияли от радости. Игра с числами, затеянная
Чиполлой, была столь же проста, сколь и ошелом-
ляюща по своему конечному эффекту. Он начал
с того, что взял лист бумаги, прикрепил его кноп-
ками в правом углу доски, сверху, и, приподняв, мел-
ком что-то написал на доске. При этом он болтал без
умолку, стараясь оживить представление непрерыв-
ным словесным аккомпанементом, причем оказался
весьма бойким на язык и разбитным конферансье соб-
ственного номера. Он все время старался уничтожить
пропасть между сценой и зрительным залом, через
которую и без того уже был переброшен мост бла-
годаря перепалке с молодым рыбаком; он настойчиво
приглашал на эстраду представителей из публики и
сам сходил вниз по деревянным ступеням, стремясь
к личному общению со зрителями, •*— видимо, это
m
было его стилем и очень нравилось детям. Не знаю,
нарочно ли он затевал стычки с отдельными людьми,
оставаясь неизменно суровым и раздраженным, но
зрители, во всяком случае те, что попроще, видимо,
считали, что это входит в программу.
После того как он написал что-то на доске и при-
крыл написанное листом бумаги, на эстраду были
приглашены два человека из публики в качестве по-
мощников.
— Здесь не представится особых трудностей, —
заметил он, — так что с этим отлично справится даже
тот, кто не очень силен в счете.
Как обычно, желающих не оказалось, а Чиполла
не решился утруждать кого-нибудь из фешенебельной
публики. По-прежнему обращаясь только к просто-
людинам, он выбрал двух здоровенных парней со
стоячих мест, стал всячески подбадривать их, жу-
рить, что они только праздно глазеют и не хотят
услужить публике, и в конце концов ему удалось-
таки их расшевелить. Тяжело ступая, они двинулись
в проходе между рядами, поднялись на эстраду и,
под громкие «браво!» приятелей, смущенно ухмы-
ляясь, встали у доски. Чиполла еще пошутил с ними,
расхваливая их атлетическое телосложение, их боль-
шие руки, словно созданные для того, чтобы оказать
собравшейся публике требуемую услугу, и затем су-
нул одному из них мелок, наказав попросту записы-
вать цифры, которые ему будут называть.
Но парень заявил, что не умеет писать. «No so
scrivere», — сказал он грубым голосом, а товарищ его
прибавил: «И я не умею».
Кто знает, говорили они правду или же просто по-
тешались над Чиполлой. Так или иначе, но кавальере
далеко не разделял общей веселости по поводу этих
признаний. Он был оскорблен и рассержен. В дан-
ный момент он сидел в плетеном кресле посреди
эстрады, положив ногу на ногу, и курил новую сига-
рету из той же дешевой пачки; куреньем он, видимо,
наслаждался тем полнее, что успел хлебнуть еще
рюмочку коньяку, пока эти увальни топали через весь
зал. По-прежнему, глубоко затягиваясь, он выпускал
192
дым через оскаленные зубы и, покачивая ногой, су-
ровым взглядом смотрел мимо обоих веселых не-
честивцев через головы публики в пустоту, словно1
человек, который, столкнувшись с чем-то невыразимо-
презренным, замыкается в чувстве собственного до-
стоинства.
— Позор, — произнес он холодно и желчно, — сту-
пайте на место! Каждый умеет писать в Италии; ее
величие несовместимо с невежеством и темнотой. Что
за скверная шутка наговаривать перед этой интер-
национальной публикой на себя глупости, которые не
только унижают нас самих, но порочат наше прави-
тельство и родину. Если же Toppe ди Венере и
вправду последний уголок нашей родины, где укры-
лось самое элементарное невежество, то... остается
только пожалеть о том, что я посетил это местечко,
заранее зная, конечно, что во многих отношениях ему
далеко до Рима...
Тут его прервал парень с нубийской прической и
курткой через плечо; видимо, в нем с новой силой
вспыхнул временно угасший воинственный пыл, и те-
перь он с высоко поднятой головой, как рыцарь, ри-
нулся на защиту чести своего родного городка.
— Хватит! — громко воскликнул он. — Хватит на-
смехаться над Toppe! Мы все здешние и не потер-
пим, чтобы наш город высмеивали перед иностран-
цами. И эти двое парней — тоже наши приятели'.
Пусть они люди не ученые, да зато они будут почест-
нее кое-кого, кто так расхвастался Римом, точно сам
его основал.
Это прозвучало великолепно. У молодого человека
язык, как видно, и вправду был неплохо подвешен.
Эта сценка всех позабавила, хотя еще больше оття-
нула начало программы. Любая перебранка увлекает
слушателей. Некоторым просто весело, и они зло-
радно наслаждаются тем, что остались в стороне;
другие бывают удручены и взволнованы, и я их пре-
красно понимаю, хоть на сей раз мне казалось, что
все это заранее сговорено и подстроено и что оба
толстокожих неуча, так же как Джованотто со своей
курткой, в известной мере ассистируют артисту для
13 Т. Манн, т. 8
193
оживления сеанса. Дети слушали в полном восторге*
Они ничего не понимали, но от интонаций у них захва-
тывало дыхание. Вот так вечер чудес, настоящий италь-
янский вечер! Им все это казалось замечательным.
Чиполла встал и, ковыляя, подошел к рампе.
— Смотри-ка! — воскликнул он со свирепой сер-
дечностью. — Старый знакомый! Молодой человек,
у которого что на уме, то и на языке! (Он сказал:
«sulla linguaccia» — «обложенный язык», и это вы-
звало громкий смех в зале.) Ступайте, друзья мои, —•
обратился он к обоим олухам. — Хватит с вас, сей-
час мне нужно заняться этим мужем чести, con
questo torregiano di Venere, этим стражем на башне
Венеры, который, несомненно, ожидает сладостной на-
грады за свою бдительность...
— Ah, non scherziamo! 1 Поговорим напрямик! —*
вскричал парень. Глаза его сверкнули, и он сделал
движение, словно и в самом деле готовился сбросить
куртку и от слов перейти к делу.
Чиполла не придал этому особого значения. Ведь
в противоположность нам, с опаской переглядывав-
шимся между собой, кавальере имел дело с сооте-
чественником, чувствовал под ногами родную землю.
Он сохранял хладнокровие и вид полнейшего превос-
ходства. С улыбкой кивая на забияку, он обращался
к публике, как бы призывая ее в свидетели и пригла-
шая вместе посмеяться над драчливостью и простона-
родной грубостью противника. А затем произошло
нечто странное и жутковатое, каким-то постыдным
и загадочным образом превратившее эту воинствен-
ную сцену на эстраде в пошлый фарс и отчасти
объяснившее нам невозмутимое спокойствие Чиполлы,
Чиполла еще ближе подошел к парню, как-то по-
особенному глядя ему в глаза. Он даже начал спу-
скаться в зрительный зал по лесенке, слева от нас,
но остановился на полдороге; теперь он стоял про-
тив спорщика. Хлыст висел у него на руке.
— Ты не расположен шутить, сынок, — сказал
он, — да это и понятно, каждый видит, что тебе не-
Ах, довольно шутить! (итал.)
m
здоровится. Твой язык, чистота которого оставляет
желать лучшего, свидетельствует об остром желудоч-
ном расстройстве. Не следует посещать вечерние
представления, когда так дурно себя чувствуешь, ты,
я знаю, и сам колебался, не лучше ли тебе лечь в по-
стель и поставить на живот согревающий компресс.
Непростительное легкомыслие выпить сегодня после
обеда столько этой кислятины — белого вина! А те-
перь у тебя такие рези в животе, что впору кор-
читься от боли. Ты уж, пожалуйста, не стесняйся!
Перестань только противиться кишечным спазмам —
и тебе сразу же станет легче!
В то время как он держал эту речь, слово за
слово, с спокойной настойчивостью и с каким-то суро-
вым участием, глаза его, поблекшие и одновременно
пылающие над слезными мешками, все глубже впи-
вались в глаза молодого человека; это был очень
странный взор, и мы понимали, что партнер не в си-
лах оторваться от него не из одной только мужской
гордости. В бронзовом лице юноши не осталось и
следа былой надменности. Он глядел на кавальере,
разинув рот, и этот широко раскрытый рот улыбался
растерянно и жалобно.
—■■ Согнись! — повторил Чиполла. — Что еще тебе
остается? При таком приступе боли нельзя не скор-
читься. Ты ведь не станешь упираться и сдерживать
естественное, чисто инстинктивное движение, лишь бы
сделать мне наперекор.
Молодой человек медленно поднял руки, прижал
их к туловищу, скрестив на животе, тело его пода-
лось вперед и стало клониться все ниже и ниже,
почти к самой земле, он весь скорчился с выверну-
тыми внутрь коленями, — олицетворение обезображи-
вающей муки. Чиполла оставил его в этой позе на
несколько секунд, затем рассек хлыстом воздух и,
ковыляя, вернулся к круглому столику, где опорож-
нил еще одну рюмку коньяку,
— Il boit beaucoup1, — заметила одна дама по-
зади нас. И это все, что бросилоеь ей в глаза? Нам
1 Он много пьет (франц.).
13*
195
еще было неясно, разобралась ли публика во всем
происходящем. Парень уже опять стоял, выпрямив«
шись, и улыбался не без смущения, словно не зная
толком, что, собственно, с ним случилось. Все затаив
дыхание следили за этой сценой и встретили ее раз-
вязку аплодисментами, крича то «браво, Чиполла»,
то «браво, Джованотто». Зрители явно не считали,
что юноша потерпел поражение: наоборот, они хло-
пали ему, как актеру, талантливо сыгравшему роль
жалкого человека. И в самом деле он корчился от
колик так выразительно и натурально, как заправ-
ский актер, рассчитывающий произвести впечатление
на галерку. Впрочем, я не уверен, чему следует при-
писать поведение зрителей, — только ли чувству
такта, в котором южане значительно превосходят
нас, или же глубокому проникновению в сущность
происходящего.
Подкрепившись, кавальере зажег новую сигарету.
Теперь можно было опять приступить к арифметиче-
ским опытам. На этот раз быстро нашелся молодой
человек, вызвавшийся записывать на доске цифры,
которые ему будут диктовать. Его мы тоже знали,
и все эти знакомые лица придавали обстановке
какой-то интимный характер. Это был приказчик из
бакалейно-фруктовой лавки на главной улице, кото-
рый не раз превосходно обслуживал нас. Он орудо-
вал мелком с привычной ловкостью лавочника, пока
Чиполла, спустившись вниз, бродил среди публики
своей ковыляющей походкой, собирая двух-, трех- и
четырехзначные числа, называемые ему, которые он
тут же повторял молодому торговцу, а тот записы-
вал их на доске одно под другим. Все это, как бы по
взаимному молчаливому сговору, было рассчитано на
искусство беседы, на шутку и ораторские отступле-
ния. Конечно, случалось, что артист спрашивал ино-
странцев, которым нелегко давались итальянские
названия цифр; и тогда он долго, с подчеркнуто
джентльменской предупредительностью бился над
ними под вежливо сдержанный смех земляков, ко-
торых он в свою очередь ставил в тупик, заставляя
переводить ему названия чисел с английского и фран-
196
цузского. Некоторые называли цифры, отмечавшие
великие даты в истории Италии. Чиполла тотчас же
их подхватывал и тут же высказывал свои собствен-
ные патриотические соображения. Кто-то крикнул:
«Zero!» ', и кавальере, обидевшись, как всякий раз
при попытке разыграть его, в ответ бросил через
плечо: «Это меньше, чем двузначное число!» Но дру-
гой шутник тут же воскликнул: «Ноль, ноль!» — что
вызвало смех в публике, как все южане, падкой па
двусмысленные намеки. Только кавальере продолжал
держаться с брезгливым достоинством, хотя он сам
и спровоцировал язвительную шутку; пожав плечами,
он велел записать и эту цифру.
Когда на доске было записано примерно пятна-
дцать различных чисел, Чиполла потребовал, чтобы
публика сложила их. Те, что были поопытнее,
должны были складывать в уме, другим позволялось
прибегнуть к помощи карандаша и блокнота. Пока
в зале подсчитывали, Чиполла сидел в кресле подле
доски и курил, гримасничая, с самодовольными и
претенциозными повадками калеки. Вскоре был под-
веден общий итог — пятизначное число. Кто-то на-
звал эту цифру, другой ее подтвердил, у третьего ре-
зультат вычисления немного не сходился, у четвер-
того итог опять совпадал. Чиполла встал, стряхнул
пепел с сюртука, приподнял лист бумаги на доске,
в правом верхнем углу, и показал то, что было напи-
сано под ним. Там значилась та же сумма, что-то
около миллиона. Он заранее написал се.
Изумление и гром аплодисментов. Дети обомлели.
«Как ему это удалось?» — допытывались они. Мы
могли сказать только, что это трюк, объяснить ко-
торый не так-то просто, на то этот человек и фокус-
ник. Теперь-то они уже знали, что такое вечер фоку-
сов. Ведь это же и правда чудеса — сначала у ры-
бака вдруг начались рези в животе, а теперь на
доске очутился готовый итог; у детей блестели гла-
зенки, и мы с беспокойством видели, что, несмотря
на поздний час, — была уже почти половина
1 Ноль! {тал.)
197
одиннадцатого, — нелегко будет увести их домой. Без
слез тут не обойдется. Между тем мы отлично пони-
мали, что горбун .отнюдь не занимается фокусами, что
никакой ловкости рук тут нет и что все это представле-
ние не для детей. Не знаю, конечно, что обо всем
этом думала публика; но вряд ли здесь имел место
свободный выбор при названии слагаемых; может
быть, тот или иной из опрошенных и называл пер-
вую пришедшую ему на ум цифру, но в целом было
ясно, что Чиполла подбирает себе людей, и весь про-
цесс под давлением его воли направляется к заранее
намеченной конечной цели; тем не менее нельзя было
не восторгаться его поразительными счетными спо-
собностями, хотя все прочее, как ни странно, не вы-
зывало восхищения. И вдобавок ко всему еще
патриотизм Чиполлы и его повышенное чувство соб-
ственного достоинства; возможно, что соотечествен-
ники кавальере чувствовали себя здесь в своей сти-
хии и настроились на шутливый лад, но на человека
со стороны вся эта путаница действовала удручающе.
Впрочем, Чиполла сам радел о том, чтобы его фо-
кусы не вызывали сомнений у сколько-нибудь смыс-
лящих в этом людей. Он не называл ни одного имени,
ни одного технического термина. Он, конечно, гово-
рил и об этом, так как болтал без умолку, но только
в самом неопределенном, напыщенном и хвастливом
тоне. Некоторое время он следовал по проторенной
дорожке, продолжая экспериментировать в том же
духе, сначала усложняя вычисления с помощью дру-
гих арифметических действий, а затем до крайности
упрощая их, чтобы наглядно продемонстрировать,
как это делается. Иногда он предлагал просто «от-
гадывать» числа, заранее написанные им под листом
бумаги. Это почти всегда сходило удачно. Правда,
кто-то заявил, что он, собственно, собирался назвать
другую цифру, но в это самое мгновение кавальере
щелкнул хлыстом в воздухе, и у него с языка со-
рвалось именно то число, которое стояло на доске*
Чиполла, смеясь, пожал плечами. Он притворился
пораженным проницательностью своих случайных
ассистентов; но в его комплиментах было столько
19R
унизительной иронии, что участники опыта едва ли
чувствовали себя польщенными, хотя и улыбались
в ответ, приписывая себе известную долю успеха.
Кроме того, мне казалось, что артист не завоевал
симпатии публики. В воздухе чувствовалось какое-то
недоброжелательство, скрытое сопротивление; однако,
помимо приличия, обязывающего к сдержанности,
публике импонировало мастерство Чиполлы, его су-
ровая самоуверенность, и хлыст, по-моему, тоже не-
мало способствовал тому, что мятеж так и не вы-
рвался наружу.
После арифметических опытов он вынул из кар-
мана две колоды и перешел к карточным фокусам*
Насколько мне помнится, основной эксперимент за-
ключался в следующем: он брал, не глядя, из одной
колоды три карты, прятал их во внутренний карман
сюртука и затем предлагал любому желающему вы-
тянуть из другой колоды те же карты, — надо ска-
зать, что опыт не всегда удавался: случалось, что
совпадали только две карты из трех, но в большин-
стве случаев Чиполла с торжеством открывал свои
три карты и сдержанно благодарил за аплодисмен-
ты — невольную дань его искусству. Молодой италья-
нец с тонкими чертами гордого лица, сидевший в пе-
реднем ряду справа, изъявил готовность тянуть
карты, но, добавил он, только по собственному вы-
бору и сознательно противясь какому бы то ни было
внушению. Как Чиполла мыслит себе исход опыта
в таких условиях, осведомился он.
— Вы несколько затрудните мою задачу, — отве-
чал кавальере. — Но ваше сопротивление не изменит
конечного результата. Существует свобода, суще-
ствует и воля; но свободы воли не существует, ибо
воля, руководствующаяся свободой, неминуемо со-
рвется в пустоту. Вы вольны тянуть или не тянуть
карту из колоды. Но, решившись, вы непременно вы-
тянете ту, которая нужна мне, и тем верней, чем
больше будете упорствовать.
Надо признаться, нельзя было лучше подобрать
слова, чтобы замутить воду и вызвать смятение в ду-
шах. Строптивый молодой человек, нервничая, мед*
199
лил протянуть руку к, колоде. Вынув карту, он по-
желал тотчас же убедиться, имеется ли такая карта
у фокусника в кармане.
. — К чему это? — удивился Чиполла. — Зачем
проделывать половину работы? — Но так как упря-
мец продолжал настаивать на предварительной про-
верке,— Е servito! 1— продолжал фигляр с несвой-
ственными ему лакейскими ужимками и показал, не
глядя, три карты, сложенные веером. Слева торчала
та, которая требовалась.
Борец за свободу воли, рассерженный, вернулся
на место под аплодисменты зрителей. Одному черту
известно, сыграли здесь роль прирожденные таланты
Чииоллы или же он был обязан своим успехом меха-
ническим трюкам и ловкости рук. Признав, что дело
тут не обошлось без лукавого, зрители стали с лю-
бопытством смаковать редкостное развлечение, отда-
вая должное бесспорному профессиональному мастер-
ству Чиполлы. Около нас то и дело раздавались воз-
гласы: «Lavora bene!»2, свидетельствовавшие о победе
чувства справедливости над антипатией и молчаливым
возмущением.
После своего последнего успеха, неполного, по
зато тем более впечатляющего, Чиполла снова под-
крепился коньяком. Он и в самом деле много пил, и
смотреть на это было как-то неприятно. Видимо,
коньяк и сигареты были ему необходимы для поддер-
жания и восстановления нервной деятельности, к ко-
торым, как он намекнул, сейчас предъявлялись много-
образные и суровые требования. И правда, в проме-
жутках между номерами он выглядел плохо, весь
какой-то поникший, с глубоко запавшими глазами.
Впрочем, рюмка коньяку немедленно взбадривала его,
и он продолжал говорить дерзко и оживленно, в то
время как сизый дым от сигареты клубился у него,
казалось, прямо из легких. Я хорошо помню, что после
карточных фокусов он перешел к салонным играм, ос-
нованным на подсознании, интуиции и «магнетиче-
1 К вашим услугам! (итал.)
2. Чистая работа! (итал.)
.200
ской» передаче мыслей — короче говоря, на низших
формах ясновидения. Не помню только, в каком по-
рядке и в какой внутренней связи следовали один за
другим отдельные номера'. К тому же я боюсь наску-
чить вам описанием этих опытов; всем они известны,
каждому из нас доводилось принимать в них участие,
искать спрятанные предметы, слепо выполнять слож-
ные последовательные действия, повинуясь таинствен-
ному импульсу, исходящему от окружающих. При этом
каждый из нас, скептически покачивая головой, вы-
сказывал свои скромные соображения о нечистой
двусмысленности и путаной сущности оккультизма,
провозвестники которого в силу своей человеческой
природы тяготеют к мистификации и надуватель-
ству, — что отнюдь не ставит под сомнение все со-
ставные части этой своеобразной амальгамы. Скажут
только, что эффект, естественно, усиливается и впеча-
тление становится несравненно глубже и многогран-
ней, когда распорядителем и главным лицедеем этой
темной игры является такой человек, как Чиполла. Он
сидел в глубине эстрады, спиной к публике, и курил,
пока где-то там, в темпом зале, мы уславливались
о том, что ему предстояло выполнить, или же пере-
давали из рук в руки предмет, который он должен
был сначала найти, а потом молчаливо проделать
с ним предуказанные нами действия. Затем проис-
ходило все то, что обычно происходит на такого рода
сеансах: чародей зигзагами двигался по залу, отки-
нув голову и вытянув вперед руку, то останавли-
ваясь и словно к чему-то прислушиваясь, то вслепую
хватая воздух, а потом вдруг, точно по наитию, обо-
рачиваясь в нужном направлении; при этом он дер-
жал за руку посвященного в секрет проводника,
который должен был пассивно всюду следовать за
ним, но в то же время мысленно сосредоточиться на
задуманном. Казалось, роли переменились, магнети-
ческий ток устремился в обратном направлении, и
артист не раз подчеркивал это в своей безостановоч-
ной речи. Теперь страдающей, воспринимающей, по-
винующейся стороной сделался тот, кто так долго оста-
вался властелином чужих желаний; его собственная
201
воля была выключена, и он в свою очередь вы-
полнял незримо нависшую в воздухе коллективную
волю. Впрочем, он тут же объяснил, что это две сто-
роны одной и той же медали. Способность отре-
шиться от своего «я», сделаться слепым орудием,
повиноваться абсолютно и безоговорочно, утверждал
он, это лишь оборотная сторона уменья хотеть и по-
велевать; по существу это одна и та же сила; властво-
вание и подчинение неразрывно связаны в своем един-
стве, основаны на одном и том же принципе: кто умеет
повиноваться, тот способен повелевать, и наоборот,
одна идея содержится в другой, как идея народа и
вождя. Во всяком случае, на его, Чиполлы, долю вы-
пала чрезвычайно суровая и изнурительная задача —
одновременно играть роль начальника и подчинен-
ного, когда воля переходит в послушание, а послуша-
ние становится волей; в его личности сочетаются в за-
родыше оба начала, что дается очень и очень нелегко.
Он так часто и настойчиво утверждал, что ему
приходится тяжко, как будто хотел объяснить пуб-
лике свою потребность то и дело прикладываться
к стаканчику с живительной влагой.
Он двигался ощупью, словно лунатик, которого
направляет и несет на крыльях тайная воля окру-
жающих. Вытащив сверкающую камнями булавку
из башмака одной англичанки, куда ее спрятали, он
понес ее, спотыкаясь, останавливаясь и снова устрем-
ляясь вперед, к другой даме — синьоре Анджольери;
преклонив колена, он вручил ей булавку, произнеся
при этом задуманные зрителями слова, правда, не-
мудреные, но которые не так-то легко было отга-
дать, тем более что их нужно было сказать по-фран-
цузски: «Примите сей дар в знак моего поклоне-
ния!» — и нам казалось, что в этом условии таился
злой умысел. Жажда чудес боролась в публике с же-
ланием, чтобы этот высокомерный человек потерпел
поражение. Любопытно, что Чиполла, стоя на коле-
нях перед мадам Анджольери, бился над заданной
фразой, начиная ее то так, то этак. «Я должен что-то
сказать! — твердил он. —■ И даже знаю, что именно.
И з то же время чувствую, что, начав говорить, про-
202
изнесу не те слова. Остерегайтесь подсказать их мне!
Ни одного жеста!» — вскричал Чиполла, хотя, без
сомнения, именно на это он втайне и рассчитывал.
«Pensez très fort!»l —воскликнул он вдруг на сквер.-
ном французском языке и сразу же выпалил нуж-
ную фразу, правда, по-итальянски; зато последнее
к наиболее важное слово он все-таки произнес на
языке, видимо совершенно ему чуждом, ибо «vene-
razione» он выговорил как «vénération»2, да еще
с каким-то немыслимым носовым звуком в конце
слова. Публика приветствовала его бурннши апло-
дисментами; теперь после ряда триумфов — после
того, как Чиполла нашел булавку, угадал ее владе-
лицу и опустился перед ней на колени, — эта частич-
ная догадка произвела еще больший эффект, чем
если бы то была полная победа.
Чиполла поднялся и отер со лба пот. Вы пони-
маете, что, рассказывая о булавке, я привел лишь
образчик его работы, наиболее врезавшийся мне в па-
мять. Однако Чиполла много раз видоизменял ос-
новной фокус, затрачивая на это немало времени, и
всякий раз сочетал его с новыми импровизациями,
которым способствовал его непрерывный контакт
с публикой. Больше других, казалось, вдохновляла его
наша хозяйка: она внушала ему ошеломляющие от-
кровения.
— От меня не укрылось, синьора, — обратился он
к ней, — что у вас в жизни были особенные, славные
годы. Тот, кому дано видеть, ясно различит над ва-
шим прекрасным лбом сияние, в прошлом, если не
ошибаюсь, еще более яркое, да, да, медленно уга-
сающее сияние... Ни слова! Не подсказывайте мне!
Рядом g вами супруг, не так ли? — обратился он
к молчаливому господину Анджольери. — Вы муж
этой дамы и наслаждаетесь неомраченным счастьем.
Но в это счастье вторгаются воспоминания.., цар-
ственные воспоминания. Прошлое, мне кажется,
играет в вашей жизни, синьора, большую, очень боль*
1 Думайте напряженней! (франц.)
2 Venerazione (итал.) и vénération (франц.)—уважение,
почтение.
203
шую роль. Вы знали короля... В давно минувшие
годы на вашем жизненном пути встретился король?
— Не совсем так, — чуть слышно пролепетала
добрая фея наших супов и жарких; ее золотисто-карие
глаза засияли на аристократически бледном лице.
— Не совсем так? Нет, не король, я говорил при-
близительно, грубо. Не король, не князь, но все же
царственная личность, властелин в высоком мире
духа. Великий артист, и вы когда-то рядом с ним...
Вы хотите возразить мне, но не решаетесь, вызнаете,
что я уже наполовину угадал. Вот! Великая, про-
славленная во всем мире артистка, чью дружбу вы
знали в ранней юности и чья священная память
давно осеняет и преображает всю вашу жизнь...
Имя? Нужно ли называть это имя, с давних пор
неразрывно слитое со славой нашей родины и вместе
с ней бессмертное в веках? Элеонора Дузе, — заклю-
чил он тихо и торжественно.
Маленькая женщина поникла, подавленная его
прозорливостью. Зрители бурно зааплодировали, де-
монстрируя свои патриотические чувства. Почти все
в зале и прежде всего постояльцы «Каза Элеонора»
знали о почетном прошлом госпожи Анджольери и,
следовательно, могли оценить по достоинству интуи-
цию кавальере. Теперь возникал вопрос: знал ли он
сам об этой истории; ведь он мог услышать ее тот-
час же по приезде в Toppe, во время первого про-
фессионального ознакомления с городком... Впро-
чем, у меня нет оснований подвергать рационалисти-
ческому сомнению его дар, тот самый дар, который
на наших глазах сделался для него роковым.
Объявили антракт, и наш повелитель удалился.
Признаюсь, что почти с самого начала своего рас-
сказа я страшился подойти к этому моменту. Угадать
человеческие мысли вообще не слишком трудно, а уж
здесь и подавно. Вы, разумеется, спросите меня,
почему мы все-таки наконец не ушли, и я не сумею
вам на это ответить. Я сам не знаю и никакого
оправдания себе подыскать не могу. Был уже две-
надцатый час, а может, и того больше. Дети уснули.
Последняя серия опытов наскучила им, и природе
204
нетрудно было вступить в свои права. Они спали
у нас на коленях, девочка — у меня, а мальчик —
у матери. С одной стороны, это, конечно, было уте-
шительно, но с другой — должно было напомнить
нам, что пора сжалиться над детьми и уложить их
в постель. Уверяю вас, мы хотели внять этому тро-
гательному напоминанию, искренне хотели. Мы раз-
будили бедняжек, говоря, что теперь-то уж наверно
приспело время идти домой. Но малыши, едва
очнувшись, принялись умолять нас остаться, а вы
сами знаете, что увести детей до окончания какой-
либо забавы можно только силой, уговорить их не-
возможно. Им так хорошо здесь, у волшебника, жа-
лобно уверяли они, надо подождать, что будет
дальше, ведь так интересно, с чего он начнет после
антракта, а пока они немножко поспят, только не
надо домой, не надо в постель, пока продолжается
этот чудесный вечер!
Мы уступили, уступили, как нам казалось, только
отчасти, решив посидеть здесь еще несколько ми-
нут — не больше. То, что мы все-таки остались, было
непростительно и... необъяснимо. Казалось ли нам,
что мы должны быть последовательны до конца и,
сказав «а», сказать также и «б», раз уж мы все
равно сделали ошибку, приведя сюда детей? Но я
считаю такое объяснение недостаточным. Может
быть, мы сами были увлечены? И да и нет. Ка-
вальере Чиполла внушал нам в высшей степени про-
тиворечивые чувства; но, если не ошибаюсь, так было
со всеми зрителями, и все же никто не уходил.
Поддались ли мы колдовству этого человека, столь
странным образом зарабатывающего свой хлеб, ча-
рам, исходившим от него даже вне программы, в пе-
рерывах между номерами, и парализовавшим нашу
решимость? С таким же успехом можно было ска-
зать, что мы остались просто из любопытства. Ко-
нечно, нам хотелось знать, как закончится этот
столь необычно начавшийся вечер; вдобавок Чи-
полла, уходя, торжественно заверил публику, что
у него припасено для нас еще много интересного и
что мы увидим еще более эффектные номера.
205
Но это все не то, или, другими словами, это дач
леко не все. Вернее было бы сразу ответить на оба
вопроса: почему мы сейчас не ушли домой с пред-
ставления и почему мы раньше не уехали из Toppe?
По-моему, это один и тот же вопрос, и, чтобы выпу-
таться из затруднения, я мог бы просто напомнить,
что уже раз ответил на него. Здесь царила та же
странная, напряженная, тревожно-унизительная и
гнетущая атмосфера, как повсюду в Toppe; более того,
в этом зале, как в фокусе, сосредоточились тохмление,
жуть и нервная взвинченность, которыми, словно
электрическим током, было заряжено все вокруг; и
человек, возвращения которого мы ожидали, казался
нам живым воплощением этого злого начала, Итак,
раз уж мы не уехали из Toppe, нелогично было бы
уходить с представления, то есть сделать то же са-
мое, но, так сказать, в меньшем масштабе. Так я по-
нимаю наше нежелание сдвинуться с места; удовле-
творяет вас это объяснение или нет — дело ваше!
Десятиминутный антракт растянулся почти на
полчаса. Обрадованные нашей уступчивостью, дети
больше уже не спали, а развлекались, перекидываясь
словечками с местными жителями: с Антонио, с Ги«
скарди, с лодочником. Сложив ладошки рупором
у рта, они кричали рыбакам приветствия, переня-
тые от нас: «Дай бог завтра побольше рыбки!»,
«Чтоб в сетях было полным-полно!» Они через весь
зал крикнули Марио, молодому официанту из «Эскви-
зито»: «Mario, una cioccolata е biscotti!» 1 На сей раз
он откликнулся и с улыбкой ответил: «Subito!»2 Впо-
следствии мы не раз вспоминали его приветливую,
чуть рассеянную и меланхолическую улыбку.
Так прошел антракт, раздался удар гонга, зри-
тели, болтавшие в разных углах, прервали раз-
говоры и вновь заняли свои места, дети в жадном не-
терпении выпрямились на стульях, сложив ручонки
на коленях. Сцена все время оставалась открытой«
Чиполла вышел своей ковыляющей походкой и не-
1 Марио, шоколад с бисквитами! (итал.)
3 Сию минуту! (итал.)
206
медленно взял на себя роль конферансье, ведущего
второе отделение своей же программы.
Теперь я объясню вам, в чем дело: этот самоуве-
ренный горбун был самым сильным гипнотизером,
какого я когда-либо встречал в жизни. Если он
пускал пыль в глаза публике, выдавая себя за фокус-
ника, то делалось это исключительно с целью обойти
полицейские установления, категорически запрещав-
шие заниматься этой профессией. Возможно, что в Ита-
лии в подобных случаях принята эта чисто формаль-
ная маскировка, и власти либо мирятся с ней, либо
смотрят сквозь пальцы. Как бы то ни было, Чиполла
с самого начала фактически даже не особенно ста-
рался скрыть подлинный характер своих номеров,
а второе отделение программы было целиком и пол-
ностью посвящено специальным опытам обезличения
человека и подчинения его чужой воле, что Чиполла
маскировал чисто ораторскими приемами. В целой
веренице комических, волнующих, ошеломляющих
опытов, которые к полуночи были еще в полном раз-
гаре, нам продемонстрировали все феномены этого
естественно-таинственного мира — от самого незна-
чительного до чудовищного; за всеми причудливыми
подробностями со смехом и аплодисментами, качая
головой, хлопая себя по коленям, жадно следили
зрители, порабощенные суровой, волевой личностью,
хотя — так мне по крайней мере казалось — втайне
и возмущавшиеся против того своеобразного унижения,
которое несли всем и каждому триумфы Чиполлы,
Две вещи играли в эти триумфах главную роль:
стаканчик живительной влаги и хлыст с рукояткой
в виде когтя. Первый должен был вновь и вновь раз-
жигать его демоническую силу, видимо иссякавшую
без такого подкрепления; и это могло бы заставить
по-человечески встревожиться за него, если бы не
второй оскорбительный атрибут его власти. Свистя-
щий хлыст, с помощью которого он нагло правил
нами, возбуждал в нас отнюдь не сентиментальные
чувства потрясенного и мятежного раба. Нуждался
ли он в чувствах более кротких? Претендовал ли на
наше сострадание? Или хотел того и другого? В па-
207
мять мне врезалась одна его ревнивая фраза, ска-
занная в самый ответственный момент опытов, когда
ему удалось с помощью пассов и дуновений привести
в каталептическое состояние одного молодого чело-
века, всецело и немедленно подчинившегося влиянию
гипнотизера. Оцепенение, в которое впал этот юноша,
было настолько полным и глубоким, что Чиполла
уложил его ногами и затылком на спинки двух
стульев и сам еще взгромоздился ему на живот, при-
чем одеревенелое туловище нисколько не прогнулось.
Вид этого злобного чудовища в вечернем костюме,
скрючившегося на оцепенелом теле, был так не-
правдоподобен и омерзителен, что публика, представив
себе, какие муки должна была терпеть злополучная
жертва «научных» забав, возопила о милосердии.
— Poveretto! Бедняга! — кричали добродушно на-
строенные зрители.
— Poveretto! — с горечью передразнил Чиполла. —
Сказано не по адресу, господа! Sono io il poveretto! 1
Это я терплю все муки.
Мы выслушали наставление. Ладно, пусть так,
пусть он несет на себе все бремя, пусть даже му-
чается воображаемыми желудочными коликами, от
которых так жалобно гримасничал Джованотто. Но
мы не могли не верить своим глазам, и среди нас
едва ли нашлись бы охотники крикнуть «poveretto»
человеку, который страдает ради унижения других.
Но я забежал вперед, пренебрегши распорядком
сеанса. Я и сейчас еще полон воспоминаний о мучени-
ческих подвигах кавальере, но уже не представляю
себе их очередности; впрочем, ничто от этого не ме-
няется. Знаю только, что многие длительные и слож-
ные опыты, имевшие успех у зрителей, произвели на
меня меньшее впечатление, чем некоторые второсте-
пенные и незначительные. Загадочный феномен —
человек-скамейка — пришел мне на ум только в связи
с вышеупомянутым наставлением Чиполлы. Еще
меньше поразил меня эпизод с одной пожилой дамой,
которую Чиполла усыпил тут же на месте, внушив ей,
J Это я бедняга! (итал.)
208
будто она путешествует по Индии; в трансе она
оживленно повествовала о своих приключениях на
воде и на суше. Мне лично это все же показалось ме-
нее безумным, чем случай после антракта, когда вы-
сокий широкоплечий военный оказался не в силах
поднять руку только потому, что горбун, щелкнув хлы-
стом в воздухе, внушил ему, что он не может это сде-
лать. Я как сейчас вижу лицо этого усатого, предста-
вительного colonnello \ когда он, стиснув зубы и
в то же время недоуменно улыбаясь, боролся за утра-
ченную свободу движений. Конфузное происшествие!
Он, видимо, хотел, но не мог, на самом же деле не
мог хотеть, так как его поразил паралич воли, тщетно
отстаивающей свою свободу, — иными словами, то са-
мое, что еще раньше издевательски предсказывал гос-
подину из Рима наш укротитель.
И тем более я не могу забыть фантастическую и
трогательно смешную сценку с мадам Анджольери.
Чиполла угадал ее хрупкую беспомощность перед
своей гипнотической силой с первого же бесцеремон-
ного взгляда, которым окинул зал. Властью своих кол-
довских чар он буквально поднял ее со стула, провел
по всему ряду и повлек за собой; при этом, желая
поярче блеснуть своим искусством, он попросил госпо-
дина Анджольери громко звать жену по имени: пусть
тот бросит на чашу весов свои права и самый факт
своего существования, — ведь голос мужа неминуемо
пробудит в душе синьоры все, что могло бы встать на
защиту ее добродетели против злого наваждения. Но
сколь тщетно оказалось все это!
Хлыст Чиполлы издали щелкнул перед супруже-
ской четой, и действие его было таково, что наша хо-
зяйка, содрогнувшись всем телом, устремила взор
к артисту. «Софрония!»— вскричал уже тогда госпо-
дин Анджольери (а мы и не знали, что госпожу
Анджольери зовут Софрония) и продолжал тревожно
окликать ее, так как опасность становилась очевидной:
взгляд его жены оставался прикованным к прокля-
тому кавальере. Между тем Чиполла, повесив хлыст
Полковник (итал.).
14 Т. Манн, т. 8
209
на руку, протянул к своей жертве десять длинных
желтых пальцев и принялся проделывать перед ее ли-
цом манящие и завлекающие пассы, в то же время
шаг за шагом отступая назад. Тогда мадам
Анджольери, смертельно бледная, поднялась с места,
повернулась всем телом к заклинателю и, казалось,
поплыла за ним. Призрачное и роковое зрелище! С ви-
дом сомнамбулы, не шевеля оцепенелыми плечами,
чуть-чуть приподняв красивые руки и плотно сдвинув
ступни, она медленно заскользила от своей скамьи
вслед за увлекавшим ее соблазнителем.
— Зовите ее, сударь мой, зовите же! — настой-
чиво напоминал страшный человек.
И господин Анджольери крикнул отчаянным голо-
сом: «Софрония!» Ах, он еще кричал ей вслед, при-
ставив одну руку рупором ко рту, а другой маня
жену к себе, пока она ускользала от него все дальше
и дальше. Но бессильно замирал жалкий голос
любви и долга за спиной у обреченной, и госпожа
Анджольери, околдованная и бесчувственная, по ма-
новению горбуна, скользящей походкой лунатички
уносилась вдаль к выходу. Создавалось полное и не-
сомненное впечатление, что она готова следовать за
своим повелителем, если он этого пожелает, хоть на
край света.
— Accidente! 1 — не своим голосом крикнул гос-
подин Анджольери и вскочил с места, когда они были
уже у самой двери.
Но в это мгновение кавальере, словно отказавшись
от лавров победителя, прервал опыт.
— Довольно, синьора, благодарю вас, — обра-
тился он к своей даме, словно свалившейся на землю
с облаков, и с галантностью комедианта предложил ей
руку, чтобы отвести к господину Анджольери. — Су-
дарь мой, — сказал он с поклоном, — вот ваша су-
пруга! С глубочайшим уважением вручаю ее вам
в целости и сохранности! Берегите всеми силами, как
подобает мужчине, это сокровище, всецело преданное
вам, и усильте бдительность, памятуя, что есть силы
Катастрофа! (итал.)
210
более могущественные, нежели разум и добродетель,
и эти силы лишь в, исключительных случаях способны
на великодушное отречение.
Бедный господин Анджольери, молчаливый и лы-
сый! Ведь он едва ли был способен уберечь свое
счастье и от менее демонического врага, чем тот, кто
сейчас к ужасу присоединил еще и насмешку. Важ-
ный и напыжившийся, кавальере вновь поднялся на
эстраду под гром аплодисментов, с удвоенной силой
приветствовавших его красноречие. Если не оши-
баюсь, именно после этой победы авторитет его воз-
рос настолько, что он мог заставить публику пля-
сать, — да, плясать, понимать это следует буквально.
В этот поздний ночной час зрителями овладело ка-
кое-то странное извращение, полное смятение умов,
пьяный распад воли, так долго противившейся воздей-
ствию этого отталкивающего человека. Правда, ему
пришлось еще жестоко побороться за абсолютное гос-
подство над залом: строптивость молодого римлянина,
подавшего опасный пример публике своей невоспри-
имчивостью к внушению, грозила подорвать могуще-
ство кавальере. Но Чиполла прекрасно понимал, как
важно подать пример; поэтому он тактически сосредо-
точил огонь на наименее защищенном пункте против-
ника и заставил открыть плясовую оргию того самого
болезненного и склонного к обезличению юношу, ко-
торого уже раньше, во время сеанса, превратил в бес-
чувственный кусок дерева. Стоило только кавальере
взглянуть на этого молодого человека, как тот, словно
громом пораженный, немедленно откидывал назад
туловище и, вытянув руки по швам, впадал в некий
воинственный сомнамбулизм, так что невозможно
было усомниться в его фактической готовности пови-
новаться любому приказу. Слепая покорность была
ему по вкусу, и, видимо, он рад был избавиться от
своего ничтожного «я»,—то и дело напрашивался на
роль «подопытного» и считал честью как можно бы-
стрее и полнее поддаваться внушению, являя собой
образец обезличения и утраты воли. И на этот раз,
как только он взобрался на эстраду, достаточно было
кавальере разок щелкнуть хлыстом, чтобы заставить
14*
211
его протанцевать «step» 1, в каком-то блаженном
экстазе, с закрытыми глазами и трясущейся головой,
дрыгая из стороны в сторону тощими руками и но-
гами.
Очевидно, это было приятное занятие, так как-
вскоре нашлись и другие желающие: еще двое юно-
шей, один скромно одетый, другой в хорошем ко-
стюме, принялись отплясывать «step» рядом с первым
танцором. Тут опять выступил господин из Рима и
с вызывающим видом осведомился, берется ли ка-
вальере обучить его танцам даже против его воли.
— Даже против вашей воли! — ответил Чиполла
тоном, которого мне никогда не забыть. И сейчас еще
звучат у меня в ушах эти страшные слова: «Anche se
non vuole!»
И тут начался поединок. Пригубив из стаканчика
и сызнова затянувшись сигаретой, Чиполла поставил
римлянина в проходе, лицом к двери, а сам стал по-
зади него и, взмахнув хлыстом, приказал: «Balla!» 2
Противник не сдвинулся с места. «Balla!» — отчетливо
повторил кавальере и щелкнул пальцами. Все видели,
как молодой человек двинул шеей под воротничком,
одновременно рука его дернулась и пятка выверну-
лась наружу. Этими конвульсивными движениями, то
усиливавшимися, то вновь замиравшими, долгое время
дело и ограничивалось. Каждому было ясно, что Чи-
полле придется преодолеть твердую решимость сопро-
тивляться, героическое упорство; его мужественный
противник отстаивал честь рода человеческого, он
весь дергался, но не уступал, и поэтому опыт на-
столько затянулся, что кавальере пришлось делить
свое внимание между сценой и зрительным залом; он
оборачивался к пляшущим на эстраде марионеткам
и щелкал хлыстом, обуздывая их; при этом он объяс-
нял публике, что, сколько бы ни бесновались эти
одержимые, все равно они потом не почувствуют ни
малейшей усталости, так как, собственно, пляшут не
они, а он сам, Чиполла. Затем он снова вонзал свер-
1 Шаг (англ.). В данном случае —название танца.
2 Пляши! (итал.)
212
лящий взгляд в затылок римлянина, устремляясь на
штурм твердыни, которая грозила его владычеству.
Мы видели, как зашаталась эта твердыня под не-
прерывными ударами и повелительными окриками, —
наблюдали это с деловитым интересом, смешанным
с какой-то злорадной жалостью. Насколько я пони-
маю, римлянин потерпел поражение из-за того, что
стоял на позиции чистого нигилизма. Видимо, одно
только нежелание не может быть источником душев-
ной энергии; не хотеть сделать то или иное — этим
жизнь не заполнишь; не хотеть чего-то или вообще
ничего не хотеть и все же исполнить требуемое —
понятия слишком близкие, чтобы в результате не по-
страдала свобода воли; именно об этом твердил ка-
вальере между ударами хлыста и приказаниями;
помимо своих обычных профессиональных секретов,
он сейчас пользовался еще и более сложными прие-
мами психологического воздействия.
— Balla! — говорил он. — К чему так мучиться?
И это ты зовешь свободой — насилие над самим собой?
Una ballatina! ] Все члены твоего тела рвутся в пляс.
А как было бы хорошо дать им наконец волю! Ага,
да ты пляшешь! Борьба кончилась, теперь ты счаст-
лив!
Так оно и было: дрожь и конвульсии во всем теле
упрямца становились неодолимыми, его руки взмет-
нулись кверху, колени вздернулись, все суставы за-
двигались, и он пустился в пляс, высоко вскидывая
руки и ноги; в таком виде, под аплодисменты зрите-
лей, кавальере вывел его на эстраду, к другим завод-
ным куклам. Все видели теперь побежденного там, на
сцене: наслаждаясь, он полузакрыл глаза, лицо рас-
плылось в улыбке. Все-таки это было утешение —
сознавать, насколько лучше ему теперь* чем во вре-
мена его былой гордыни...
Можно смело сказать, что это падение римлянина
произвело сенсацию. Лед был сломан, Чиполла тор-
жествовал, и жезл Цирцеи, этот свистящий кожаный
хлыст с рукояткой в виде когтя, властвовал безраз-
1 Только один танец! (итал.)
2/3
дельно. В момент, о котором я рассказываю — было,
верно, уже далеко за полночь, — на маленькой сцене
плясало человек восемь-девять, да и в зале начина-
лось оживление; некая представительница англосак-
сонской расы, длиннозубая, в пенсне, выйдя из ря-
дов, отплясывала в проходе тарантеллу, хотя маэстро
и не помышлял о ней. Тем временем Чиполла, не-
брежно развалившись на плетеном стуле с левой
стороны сцены, курил, приняв весьма вызывающий
вид, и выпускал дым сквозь свои безобразные зубы.
Притоптывая ногой и изредка с усмешкой пожимая
плечами, он глядел на всеобщую разнузданность
в зале и порой, не оборачиваясь, щелкал хлыстом
перед каким-нибудь уже почти выдохшимся плясу-
ном. Дети, несмотря на поздний час, все еще не
спали — я вспоминаю об этом со стыдом. В зале ца-
рила нездоровая атмосфера, особенно для детей, и,
если мы до сих пор не увели их отсюда, я объясняю
это только одним — мы тоже поддались развинчен-
ности, охватившей всех присутствующих. Конечно,
теперь уже было все равно. Слава богу, что они хоть
не понимали всей двусмысленности этого вечернего
увеселения. Их невинные души без конца упивались
небывалым событием — такой спектакль, вечер мага
и волшебника! Они нет-нет и засыпали на коленях
у нас, а потом, проснувшись с разгоревшимися щеч-
ками и затуманенными глазками, от души хохотали
над прыжками, которые проделывали зрители по пове-
лению Чиполлы. Им и в голову не приходило, что
здесь будет так интересно, и, как только в зале раз-
давались аплодисменты, они тоже начинали весело
хлопать неумелыми ручонками. Но как они запрыгали
на стульях в полном восторге, когда Чиполла поманил
их друга Марио из «Эсквизито», — и поманил именно
так, как рисуется в книжках сказок, поднеся руку
к носу и попеременно то сгибая крючком, то разгибая
указательный палец.
Марио повиновался. Я и сейчас вижу еще, как он
поднимается по ступенькам к кавальере, продолжаю-
щему все так же манерно и вычурно манить его паль-
цем. На мгновение молодой человек заколебался —
214
я точно припоминаю. Весь вечер он стоял у деревян-
ного столба в боковом проходе налево, подле Джова-
нотто с шевелюрой воина, скрестив руки или засунув
их в карманы, и внимательно, хотя и довольно мелан-
холично, следил за происходящим, едва ли хорошо
понимая, что здесь творится. Ему было явно не по
сердцу, что под конец и его привлекли к участию.
И все же вполне понятно, что он последовал знаку
Чиполлы. Такая уж у него выработалась профессио-
нальная привычка; к тому же невозможно предста-
вить себе, чтобы этот скромный малый посмел ослу-
шаться такого окрыленного успехом человека, каким
был в этот вечер Чиполла. Волей-неволей Марио
отошел от столба и, поблагодарив впереди стоящих,
которые, оглянувшись, освободили ему проход к сцене,
поднялся наверх со скептической улыбкой на полных
губах.
Представьте себе коренастого двадцатилетнего
парня, коротко остриженного, с низким лбом и тяже-
лыми веками над туманно-серыми, отсвечивающими
желтым и зеленым глазами. Я помню его хорошо, так
как мы часто перекидывались с ним словечком. Верх-
няя часть лица с приплюснутым веснушчатым носом
как-то стушевывалась перед нижней, привлекавшей
внимание толстыми выпяченными губами, между ко-
торыми при разговоре виднелись влажные зубы; эти
губы эфиопа и глаза с поволокой придавали его
лицу выражение какой-то наивной меланхолии, за
что мы всегда симпатизировали Марио. Наружность
его никак нельзя было назвать грубой; стоило только
взглянуть на его необыкновенно узкие и тонкие
руки — аристократичные даже для южанина, чтобы
понять, как приятны были их услуги.
Мы знали его как человека, не будучи знакомы
лично, если можно так выразиться. Мы виделись с ним
почти каждый день. Нам нравились его задумчивый,
мечтательный вид, его способность порой впадать
в полную отрешенность от всего окружающего, и ма-
нера, с какой он, очнувшись, услужливо спешил за-
гладить свою рассеянность. Держался он строго, не
угрюмо, но и не угодливо, улыбаясь разве только
215
детям* в манерах его не было и тени наигранной лю-
безности; вернее, он нарочно избегал быть любезным,
из застенчивости; не надеясь нравиться людям. Так
или иначе, он все равно запомнился бы нам, ибо не-
значительные путевые встречи нередко запоминаются
лучше значительных. Мы мало знали об его семье;
известно было только, что отец его — мелкий писарь
в муниципалитете, а мать — прачка.
Его кельнерская форма — белая куртка — была
ему больше к лицу, чем поношенный костюм из жи-
денькой полосатой материи, в котором он поднялся
сейчас на сцену; вместо воротничка он повязал вокруг
шеи шелковый шарф с огненными разводами, а концы
его упрятал под пиджак. Марио подошел к кавальере;
но так как тот все еще продолжал манить его, двигая
у себя под носом скрюченными пальцами, Марио вы-
нужден был придвинуться еще ближе и стал у самого
стула, почти вровень с ногами повелителя; и тогда
Чиполла, растопырив локти, схватил его, повернул
лицом к публике и смерил с головы до пят небрежно
властным и веселым взглядом.
— Как это так, ragazzo mio ', — спросил он. —
Мы только сейчас знакомимся? Впрочем, поверь, я
давно тебя знаю. Да, да, я сразу тебя заприметил и
убедился в твоих исключительных достоинствах. Как
же это я мог опять позабыть о тебе? Впрочем, всего
не упомнишь... Скажи мне, как тебя зовут? Мне
нужно твое имя, а не фамилия.
— Меня зовут Марио, — тихо ответил молодой
человек.
— Ах, Марио, прекрасно! Что же, это весьма рас-
пространенное имя. И вдобавок античное, одно из
тех, которые напоминают о героических традициях
нашей родины. Браво! Salve! 2 — И, подавшись кри-
вым плечом вперед, он сделал древнеримский жест
приветствия—высоко взметнул руку наискосок, ла-
донью вверх. Пожалуй, он немного опьянел, да это и
не удивительно; но речь его лилась по-прежнему
1 Мой мальчик (итал.).
2 Привет! (лат.)
2Ï6
плавно и отчетливо. Зато в его манере, интонации, во
всем его облике теперь появилось нечто, напоминаю-
щее сытого тигра или турецкого пашу, какая-то занос-
чивость, высокомерие.
— Так вот, мой Марио, — продолжал он, — как
хорошо, что ты пришел сегодня вечером да еще надел
нарядный шарф, который тебе чудо как идет и от
которого, верно, будут без ума девушки, прелестные
девушки Toppe ди Венере.
Со стоячих мест, оттуда, где еще недавно Марио
наблюдал за спектаклем, послышался смех — ха-ха-ха!
Это Джованотто с шевелюрой воина, в куртке, наки-
нутой на одно плечо, расхохотался грубо и язви-
тельно.
Марио, как мне показалось, пожал плечами. Во
всяком случае, он вздрогнул, но, возможно, это было
почти бессознательное движение, вызванное жела-
нием скрыть свои истинные чувства, притвориться,
будто ему безразличны и шарф и прекрасный пол.
Кавальере мельком взглянул вниз.
— Что нам до этого парня, — сказал Чиполла,—
он, наверно, завидует твоему шарфу и успеху у де-
вушек, а может быть, и тому, что мы так по-прия-
тельски беседуем тут, наверху, ты да я... Если ему
уж так хочется, я могу сразу же напомнить ему ко-
лики в животе. Это мне ничего не стоит. Скажи-ка
лучше, Марио: -нынче вечером ты развлекаешься...
А днем ты, кажется, служишь в галантерейной лавке?
— В кафе, — поправил его юноша.
— Ага, да-да, в кафе! Вот и Чиполла разочек
промахнулся. Ты—cameriere1, виночерпий, Гани-
мед, — это мне нравится, еще одно напоминание об
античных временах, salvietta!2—И кавальере, к вя-
щему удовольствию публики, еще раз приветствовал
Марио древнеримским жестом.
Марио тоже улыбнулся.
— Правда, раньше я служил приказчиком
в Порто Клементе, — признался он. В этом замечании
1 Официант (итал.).
2 Салфетка (итал.).
217
сказалось чисто человеческое желание помочь ясно-
видцу, дать ему наводящие указания.
— Так, так! В галантерейной лавке!
— Там торговали щетками и гребешками,—
уклончиво отвечал Марио.
— Не говорил ли я, что ты не всегда был Ганиме-
дом, с салфеткой под мышкой. Если Чиполла когда и
даст маху, все ж таки можно на него положиться.
Скажи, ты доверяешь мне?
Марио сделал уклончивый жест.
— Это половинчатый ответ, — заметил каваль-
ере.— Нелегко, видно, завоевать твое доверие. Даже
мне оно достанется с трудом. На лице у тебя печать
тайной грусти, un tratto di malinconia К Скажи, — и
с этими словами он схватил Марио за руку,—тебя
что-то печалит?
— No, signore!2 — ответил Марио поспешно и ре-
шительно.
— Нет, ты грустишь, — настаивал фокусник, вла-
стно подавляя решимость своего собеседника. — Разве
могло это от меня укрыться? Не пытайся провести
Чиполлу! Конечно, здесь замешаны девушки, — вер-
нее, одна девушка. У тебя любовная печаль.
Марио энергично покачал головой в знак отрица-
ния. И в тот же миг подле нас раздался грубый хо-
хот Джованотто. Кавальере насторожился. Взор его
блуждал где-то в пространстве, но все же Чиполла
прислушался к смеху и затем, как уже не раз в раз-
говоре с Марио, щелкнул хлыстом назад, через плечо,
чтобы подбодрить свою клоунскую команду. Но тут
его партнер едва не ускользнул; вздрогнув всем те-
лом, он неожиданно повернулся и бросился к сту-
пенькам. Вокруг глаз у него выступили красные
пятна. Чиполла едва успел его задержать.
— Стой, погоди! — вскричал Чиполла. — Вот тебе
раз! Ты хочешь удрать, Ганимед, в самый интерес-
ный момент? Когда вот-вот все должно выясниться?
Оставайся, и ты увидишь чудеса. Обещаю исцелить
След меланхолии {тал.).
Нет, синьор! (итал.),
218
твою печаль. Эта девушка твоя знакомая, ее знают
и твои земляки — как бишь ее зовут? Постой-ка! Ее
имя — я прочел его в твоих глазах. Оно вертится
у меня на языке, ты и сам, я вижу, рвешься назвать
его...
— Сильвестра! — крикнул снизу Джованотто.
Кавальере и глазом не моргнул.
— Бывают же такие наглецы! — заметил он и не-
возмутимо продолжал беседу с Марио, не удостаивая
зал даже взглядом. — Бывают же такие горланы-пе-
тухи, что кукарекают вовремя и не вовремя! Он у нас
с тобой выхватывает имя изо рта да еще, пожалуй,
воображает, этакое ничтожество, что у него есть
какие-то особые права. Ну, да ладно, плевать нам
на него! Но Сильвестра, твоя Сильвестра, да-да, при-
знайся, вот это девушка, не так ли? Настоящее зо-
лото! Сердце замирает, когда смотришь, как она хо-
дит, дышит, смеется, — прелесть, да и только. А ее
округлые руки, когда она стирает белье и, встрях-
нув головкой, откидывает со лба прядь волос! Ан-
гелы небесные!
Марио уставился на него, вытянув шею. Он, ви-
димо, позабыл о публике и о том, где находится.
Красные пятна вокруг глаз у него увеличились и ка-
зались намалеванными. Мне редко случалось видеть
что-либо подобное. Толстые губы его были полуот-
крыты.
— Этот ангел причиняет тебе огорчения, — про-
должал Чиполла, — или, вернее, ты огорчаешься из-
за него. Это разные вещи, совершенно разные, мо-
жешь мне поверить! Любовные ссоры — дело обыч-
ное. Кто же и ссорится, если не влюбленные? Ты
скажешь, что может знать о любви этот Чиполла со
своим маленьким физическим изъяном? Ты жестоко
заблуждаешься, он поистине немало знает о ней, он
владеет всеобъемлющим и проникновенным знанием
ее тайн, и, право же, в любовных делах стоит прислу-
шаться к его суждениям! Но оставим Чиполлу, поза-
будем его совсем и подумаем о Сильвестре, о твоей
очаровательной Сильвестре! Как! Неужели она
может предпочесть тебе какого-то ничтожного тор-
219
лана, и он смеется, когда ты льешь слезы? Предпо-
честь другого тебе, такому сердечному, симпатичному
парню? Невероятно, невозможно! Мы это знаем
лучше, Чиполла и она. Вот видишь, я ставлю себя ма
ее место и, когда мне приходится выбирать между та-
ким вот олухом неотесанным, соленой рыбой, кара-
катицей, и Марио — рыцарем салфетки, всегда вра-
щающимся в высшем обществе, бойко обслуживаю-
щим иностранцев и любящим меня истинно и пылко,
клянусь честью, моему сердцу нетрудно сделать вы-
бор, я знаю, кому я должна подарить это сердце, кому
давно уже, краснея, втайне подарила его... Пришло
время, чтобы он прозрел и все понял, мой избран-
ник, чтобы ты меня увидел и узнал, Марио, мой лю-
бимый... Скажи, кто я?
Омерзительно было глядеть, как обманщик при-
хорашивался, кокетливо поводил плечами, томно щу-
рил заплывшие глаза и скалил выщербленные зубы
в слащавой улыбке... Ах, но что сталось с нашим
Марио, увлеченным этими обольстительными речами?
Тяжело рассказывать, так же как тогда тяжело было
видеть это выворачивание наизнанку сокровенней-
ших недр его души, эту отчаявшуюся и охваченную
блаженным безумием страсть, публично выставлен-
ную на осмеяние. Стиснув руки, он поднес их ко рту,
плечи его дрожали, поднимаясь и опускаясь в такт
судорожным вздохам. Видимо, он от счастья не ве-
рил своим глазам и ушам, позабыв об одном — что
им действительно не следовало верить. «Сильве-
стра!»— в изнеможении прошептал он сдавленным
голосом.
— Поцелуй меня! — сказал горбун. — Поверь, я
разрешаю тебе. Я люблю тебя, — и он, оттопырив
мизинец, кончиком указательного пальца показал на
свою щеку, у самого рта. Марио нагнулся и поцело-
вал его.
В зале наступила полная тишина. То был миг
жуткий, чудовищный, до предела напряженный—миг
блаженства Марио. В это злосчастное мгновение, когда
все слилось в одной страстной мечте, царило полное
молчание; но после прискорбного и непристойно
220
нежного прикосновения губ Марио к обманом подсу-
нутой ему гнусной плоти всеобщее напряжение раз-
рядилось громким смехом — это расхохотался Джо-
ванотто. В хохоте его, грубом и злорадном, как мне
показалось, все же звучала нотка жалости к бед-
ному ограбленному мечтателю — далекий отголосок
того самого «poveretto», которому позавидовал маг,
потребовавший сострадания к себе.
Но не успел еще замереть в воздухе этот смех,
как тот, на эстраде, кого так страстно обласкали сей-
час, щелкнул хлыстом у ножки стула, и пробудив-
шийся Марио отпрянул. Он стоял неподвижно, уста-
вившись в пустоту, всем телом подавшись назад и
прижимая то одну, то другую руку к своим осквер-
ненным губам; внезапно он ударил себя костяшками
пальцев по вискам, повернулся и ринулся вниз по
ступенькам; зрители зааплодировали, Чиполла, сло-
жив руки на коленях, насмешливо пожал плечами.
Уже внизу, в зале, Марио вдруг круто обернулся на
бегу, рука его взметнулась кверху, и два оглуши-
тельных, отрывистых выстрела — один за другим —
прорвались сквозь смех и аплодисменты.
Тотчас же наступило безмолвие. Даже плясуны
замерли на месте, вытаращив ошалелые глаза. Чи-
полла одним прыжком вскочил со стула. Он стоял,
вытянув перед собой руки, как бы отстраняя кого-то,
защищаясь, желая крикнуть: «Стой! Тихо! Все прочь
от меня! Что это?» Но уже в следующее мгновение
грузно осел, голова его упала на грудь, и тотчас
вслед за этим он боком рухнул на пол и остался ле-
жать неподвижно — бесформенная груда одежды и
искривленных костей.
Началась неописуемая суматоха. Дамы, судо-
рожно рыдая, прятали лицо на груди своих спутни-
ков. Требовали врача, полицию. Какие-то люди рину-
лись на эстраду, толкаясь, окружили Марио, чтобы
отобрать у него оружие, вырвать из повисшей руки
этот маленький тупой механизм, даже мало похо-
жий на настоящий револьвер, этот крошечный, почти
незаметный ствол, который столь непредвиденно и
дико направила рука судьбы. Наконец-то мы забрали
221
детей и повели их к выходу, мимо двух подоспевших
карабинеров.
— Кончилось? Уже все? — допытывались дети,
добиваясь полной уверенности.
— Да, это конец, — подтвердили мы. — Страшный,
роковой конец. И все-таки конец, принесший осво-
бождение,— так чувствовал я тогда, так чувствую и
по сей день, и не могу чувствовать иначе!
1930
ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ
Сказание о пышнобедрой Сите, дочери скотовода
Сумантры из рода храбрых воителей, и о двух ее
мужьях (если здесь уместно это слово), кровавое и
смущающее наши чувства, взывает к душевной стой-
кости того, кто его услышит, к умению противопо-
ставить острие духа свирепым забавам Майи. Нам
остается только пожелать, чтобы неколебимое муже-
ство рассказчика послужило примером для его слу-
шателей, ибо, конечно, большая смелость и реши-
мость требуется на то, чтобы рассказать такую
историю, чем на то, чтобы выслушать ее. И тем не
менее от начала и до конца все происходило именно
так, как здесь изложено.
В пору, когда людские сердца полнились воспо-
минаниями, подобно тому как медленно, со дна, пол-
нится хмельным напитком или кровью жертвенный
сосуд, когда лоно строгой богопокорности отверзалось
для приятия извечного семени и тоска по Матери вды-
хала омолаживающий трепет в старые символы,
множа толпы паломников, устремлявшихся по весне
к обителям Великой кормилицы, — словом, о ту пору
вступили в тесную дружбу двое молодых людей, мало
отличавшихся друг от друга возрастом и достоинством
каст, но весьма различных по внешнему облику.
Младшего звали Нанда, того, что постарше, —
223
Шридаман; одному минуло восемнадцать лет, другому
уже двадцать один год, и оба они, каждый в свой
день, были опоясаны священным вервием и сопри-
числены к сонмищу «дважды рожденных».
Родом юноши были из прихрамового селения
в стране Кошала, носившего название «Обитель бла-
годенствующих коров», куда, по велению небожите-
лей, в давние времена перекочевали их предки. Храм
и селение были обнесены изгородью из кактусов и
деревянной стеной с воротами, обращенными на все
четыре страны света, у которых некий странствующий
созерцатель сущего, служитель богини Речи, в жизни
не промолвивший неправедного слова и кормившийся
даяниями селян, произнес благословительную мо-
литву: «Пусть столбы и поперечные брусья ворот
вечно источают мед и масло».
Дружба обоих юношей зиждилась на разности
того, что зовется сущностью человека, и на стремлении
каждого из них восполнить свою сущность сущностью
другого. Ведь всякое воплощение приводит к обо-
собленности, обособленность — к различию, разли-
чие— к сравнению, сравнение — к беспокойству,
беспокойство — к изумлению, изумление же—к вос-
хищению, а восхищение — к потребности воссоеди-
ниться. «Этад ваи тад — сие есть то». Этому учению
тем более подвластна юность — возраст, когда глина
жизни еще мягка и ощущение собственной сути еше
не застыло, еще не привело к отщепенчеству, к пол-
ной огражденности неповторимого «я».
Юный Шридаман был торговец и сын торговца,
а Нанда — кузнец и пастух, ибо отец его Гарга добы-
вал себе пропитание молотом и мехами из птичьих
крыл, а также тем, что разводил в загонах и на паст-
бищах рогатый скот. Что до родителя Шридамана,
по имени Бхавабхути, то он, по мужской линии, вел
свой род от брахманов, толкователей священных Вед;
Гарге же и его сыну Нанде ничего подобного и не
снилось. Однако и последние не были шудрами и,
несмотря на свои козьи носы, безусловно принадле-
жали к человеческому обществу. Впрочем, для Шри-
дамана, да и для Бхавабхути тоже, брахманство
224
давно отошло в прошлое, ибо отец Бхавабхути созна-
тельно остановился на жизненной ступени «отца се-
мейства», непосредственно следующей за ступенью
ученичества, даже и не помышляя о том, чтобы стать
отшельником или подвижником. Он пренебрег суще-
ствованием, всецело зависящим от доброхотных дая-
ний верующих, в благодарность за мудрое толкова-
ние священных Вед; или же просто не мог прокор-
миться на благочестивые лепты единоверцев и затеял
почтенную торговлю щебенкой, камфарой, сандалом,
шелковыми и хлопковыми тканями. Посему и сын
его Бхавабхути, рожденный им, дабы было с кем со-
вершать обрядовые жертвоприношения, также сде-
лался вайшья, то есть торговцем, в прихрамовом
селении «Обитель благоденствующих коров»; по сто-
пам деда пошел и сын его сына — Шридаман, хотя
подростком он обучался у некоего гуру грамматике,
астрономии и основам созерцания сущего.
Не то Нанда, сын Гарги. Его карма была иною,
и никогда он не предавался умствованию, ибо его
к тому не поощряли ни семейные предания, ни кровь,
текшая в его жилах, и был он таким, каким родился
на свет, — сыном народа, веселым и простодушным,
воплощением бога Кришны в человеческом образе,
как Кришна, темнокожий и черноволосый и даже с за-
витком на груди — «завитком счастливого теленка».
Ремесло кузнеца сделало сильными его руки, на
пользу ему пошло и то, что он пас отцовские стада.
Тело его* которое он любил умащать горчичным мас-
лом и украшать венками из полевых цветов и золо-
тыми цепями и обручами, было стройно и красиво,
как и его безбородое лицо, которое ничуть не портили
ни козий нос, ни слишком пухлые губы, а черные
глаза его постоянно смеялись.
Все это нравилось Шридаману при сравнении
с собственным обличием. Его кожа на лице и на теле
была на несколько оттенков светлее Нандовой, да и
чертами он сильно от него отличался: переносье
тонкое, как лезвие ножа, зеницы и веки нежные, щеки,
окаймленные веерообразной шелковистой бородкой.
Мягко было и его тело, не закаленное трудом
15 Т. Манн, т. 8
225
кузнеца и скотовода, скорее брахманское или купече-
ское тело, с грудью узкой и немного впалой, с жир-
ком на животе, хотя, в общем, почти безупречное—«
со стройными коленями и тонкими ступнями. Словом*
тело Шридамана являлось всего лишь принадлеж-
ностью, так сказать, придатком главного — его бла-
городной, умудренной науками головы, тогда как
у Нанды, напротив, главным было тело, а голова
служила ему только милым придатком. Вкупе же оба
они были, как Шива, когда он двоится и в одном во-
площении, бородатым аскетом, лежит как мертвый
у ног богини, в другом — глядя на нее, цветущим
юношей расправляет плечи и весь устремляется
к ней.
Но, будучи не единым, как Шива, который есть
смерть и жизнь, преходящий мир и вечность в лоне
Матери, а двумя отдельными существами здесь, на
земле, они были как две статуи, поставленные друг
перед другом для сравнения. Каждый из них, наску-
чивши своей сутью (хотя оба знали, что все на свете
состоит из одних недостатков), любовался другим из-
за того, что тот так на него не похож. Шридаман
с его нежным ртом, прятавшимся в бороде, находил
удовольствие в созерцании кришноподобного гу-
бастого Нанды, Нанда же, отчасти этим польщенный,
но еще больше оттого, что светлая кожа Шридамана,
благородство его головы и правильность речи (как
известно, всегда идущая рука об руку с мудростью и
познанием сущего, и спокон веков с ними слитая)
производили на него неотразимое впечатление, не
знал ничего лучшего, как водить дружбу с Шридама-
ном, почему они и стали неразлучны. Правда, в их
взаимной склонности была и толика насмешки — так,
Нанда исподтишка потешался над бледным жирком,
тонким носом и правильной речью Шридамана,
а Шридаман — над козьим носом и милой простона-
родностью Нанды. Но такого рода потайная на-
смешка обычно приводит к сравниванию и беспокой-
ству, а это дань осознанной собственной сути, отнюдь
не наносящая урона внушенному нам Майей стрем-
лению воссоединяться с несходным.
226
H
И вот в чудную вешнюю пору, когда воздух весь
звенит от птичьего гомона, Нанда со Шридаманом
пешком отправились в путь-дорогу, каждый по своим
надобностям. Нанде его отец Гарга поручил купить
железо у людей низшей касты, искусных в добывании
оного из болотной руды и носивших на теле одну
лишь камышовую набедренную повязку, с которыми
Нанда отлично умел обходиться. Эти люди жили
в плетеных хижинах, к западу от родины наших
друзей, в северной части многолюдного Индрапрастха,
на реке Джамна, куда дела призывали и Шридамана.
Бхавабхути поручил сыну у тамошнего купца, своего
приятеля, брахмана, как и он, не переступившего
ступени «отца семейства», выменять как можно вы-
годнее тюк пестрых тканей, сотканных из тонких
нитей женщинами в «Обители благоденствующих
коров», на ступки для риса и особо прочный трут,
в которых стали нуждаться жители его родного
селения.
Юноши шли день и еще полдня, то по людным про-
селкам, то глухими лесными тропами, каждый неся
свою кладь на спине: Нанда — ящик с бетелем, дра-
гоценными раковинами и намазанными на лубок ру-
мянами, которыми красят ступни и подошвы, чтобы
всем этим добром расплатиться за руду с людьми
низшей касты, Шридаманже — ткани, зашитые в шкуру
косули (Нанда из дружбы время от времени взвали-
вал на себя и его поклажу), покуда не пришли к ме-
сту омовений Кали-Вседержительницы, Матери всех
миров и созданий, возлюбленной Вишну, у речки Зо-
лотая Муха, что резво, словно выпущенная на волю
кобылка, вырывается из горных недр, но вскоре за-
медляет свой бег, чтобы в священном месте непри-
метно слиться с водами Джамны, которая в свою оче-
редь, уже в сугубо священном месте, впадает в вечный
Ганг, чьи устья впадают в самое море. Многочислен-
ные и прославленные места омовений, где очищаются
от скверны и, зачерпнув воды жизни или же окунув-
шись в речную глубь, приемлют второе рождение*
15*
227
густо окаймляют берега и устья Ганга, а также места
впадения в сей земной млечный путь других рек или
их притоков, как, к примеру, влилась в воды Джамны
дочурка снежных вершин, Золотая Муха; везде там,
в местах омовений и воссоединений, заботливо при-
способленных для священных таинств и набожного
жертвоприношения, устроены священные ступени,
дабы верующий не шлепал неподобающим святости
места образом по зарослям лотоса и прибрежного ка-
мыша, а чинно спускался к реке, чтобы, ничем не от-
влекаясь, благоговейно испить глоток животворной
воды или же окропить себя ею.
Место омовения, на которое набрели друзья, не
было ни знаменито, ни слишком взыскано доброхот-
ными даяниями; о его чудотворной силе не возвещали
умудренные знанием, здесь не толклись знатные и ни-
чтожные (в разные, конечно, часы для тех и для дру-
гих). То был тихий, скромный приют благочестия,
расположенный даже и не у слияния рек, а просто на
берегу Золотой Мухи, у подножья холма, где высился
небольшой храм с горбатой башней, но не каменный,
а деревянный и уже несколько обветшавший, хотя и
изобилующий тонкой резьбой,— святилище Влады-
чицы всех радостей и упований. Ступени, что вели
к месту омовения, тоже были деревянные и уже тро-
нутые временем, но, впрочем, вполне пригодные для
того, чтобы чинно спускаться по ним к реке.
Молодые люди громко изъявили свою радость, за-
видев этот тихий уголок, располагавший к благоче-
стивым мыслям и в то же время суливший им желан-
ный отдых в тени и прохладе. К полудню стало очень
жарко. Весна до времени грозила тяжелым летним
зноем, а высокий берег у маленького храма был
покрыт обильной порослью цветущих манговых и ти-
ковых дерев, магнолий, тамарисков, пальм, сень кото-
рых так и манила поесть и отдохнуть. Друзья поспе-
шили выполнить священные обряды, насколько то
позволяли обстоятельства. Здесь не было жреца, кото-
рый дал бы им елея или прозрачного масла для окро-
пления изваяний, символизирующих Шиву лингов,
стоявших на небольшой террасе перед храмом. Но они
228
зачерпнули речной воды найденным на ступенях упо-
ловником и, бормоча предписанное, совершили благое
деяние. Затем, молитвенно сложив руки, сошли в зе-
леное лоно, испили воды, омылись, соблюдая обряд,
окропили себя, окунулись, поплескались еще немного,
ради удовольствия, а не с благочестивыми целями, и
вышли на облюбованную лужайку в тени дерев,
во всех своих членах ощущая благодатное воссоеди-
нение.
Здесь они по-братски разделили трапезу, хотя ка-
ждый мог бы есть свое, дорожные припасы были у них
почти одинаковы. Но Нанда, разломив ячменную ле-
пешку, протягивал половину Шридаману, говоря:
«Возьми, мой добрый друг», — Шридаман же, разре-
зав плод, с теми же словами протягивал половину
Нанде. Шридаман за едой сидел бочком, на еще све-
жей неопаленной траве, Нанда несколько по-простона-
родному, на корточках, высоко подняв колени, что
показалось бы утомительным всякому, не унаследо-
вавшему этой привычки от своих предков. Они при-
мяли эти позы бездумно и бессознательно. Ведь обрати
они внимание на то, кто как сидит, Шридаман, влюб-
ленный в народную самобытность, присел бы на кор-
точки, подняв колени, Нанда же — из прямо противо-
положного побуждения — уселся бы бочком. На его
черных, прямых, еще влажных волосах была надета
ермолка, на теле — только набедренная повязка из
хлопчатой ткани да множество украшений — серьги
в ушах, на руках обручи и запястья, на шее — жем-
чужная цепь, скрепленная золотыми застежками, в об-
рамлении которой на его груди был виден «завиток
счастливого теленка». Шридаман замотал себе го-
лову белой холстиной, белая рубаха с короткими ру-
кавами спускалась на своего рода подобие широких
шаровар; в вырезе рубахи у него виднелась висящая
на тоненькой цепочке ладанка с амулетом. На лбу
у. обоих юношей белой краской был выведен знак
исповедуемого ими вероучения.
Покончив с трапезой и убрав недоеденное, они пре-
дались непринужденной беседе. Так красиво было
здесь, что ни раджи, ни великие цари не пожелали бы
229
себе ничего лучшего. Сквозь деревья с тихо ко-
леблющейся листвой и кистями соцветий, сквозь вы-
сокие стволы бамбука и каламуса на склоне холма
мерцала вода, набегавшая на нижние ступени спуска.
С ветвей, прихотливо обвитых лианами, казалось, сви-
сали зеленые гирлянды. Чириканье и щебетанье неви-
димых птиц мешалось с жужжаньем золотых пчел,
носившихся от цветка к цветку и вдруг на время
исчезавших в его чашечке. Воздух пах теплом и про-
хладой растений, жасмином, плодами тала, санда-
ловым деревом, и еще пахло горчичным маслом, кото-
рым Нанда сразу же после омовения вновь умастил
свое тело.
— Здесь ведь словно за шестью валами: глада и
жажды, старости и смерти, горя и ослепления, — ска-
зал Шридаман. — Такая умиротворенность разлита
везде. Кажется, будто из неустанного коловорота
жизни ты перенесся в спокойную ее сердцевину и тебе
можно перевести дыхание. Слышишь, как внятно! Я
употребляю слово «внятно», ибо оно восходит к дей-
ственному «внимать», а толчок к этому действию дает
только тишина. Тишина заставляет прислушиваться ко
всему, что не совсем тихо в ней, и еще к тому, что она
лепечет во сне и что мы слушаем — тоже как во сне.
— Истинно твое слово, — отвечал Нанда. — В го-
моне базара нечему внимать; внятна, как ты и гово-
ришь, только тишина, в которой то одному, то другому
внемлет твой слух. Совсем тиха и до краев напол-
нена молчанием лишь нирвана, и внятной ее не
назовешь.
— Ну и ну! — воскликнул Шридаман и поневоле
рассмеялся. — Никому еще не взбрело на ум назвать
нирвану внятной. Ты первый на это отважился, хотя
и прибегнув к отрицательной форме, то есть говоря,
что такой ее назвать нельзя, да еще выискал из всех
отрицаний, мыслимых в применении к нирване (ведь
о ней иначе как отрицаниями и говорить-то нельзя),
самое что ни на есть смешное. Ты мастер говорить
хитро, — если словом «хитро» можно определить не-
что, одновременно правильное и смешное. Мне это
очень по душе, потому что у меня иной раз поджилки
230
трясутся, когда я такое слышу, точь-в-точь как если
человек плачет. Из этого видно, сколь родственны ме-
жду собою смех и плач и что мы заблуждаемся, когда
устанавливаем различие между весельем и страда-
нием, одному говоря «да», другому «нет», тогда как
на самом деле и то и другое вместе должно было бы
именоваться либо плохим, либо хорошим. Но вот
связи между плачем и смехом прежде всего следовало
бы сказать «да» и еще возвысить ее над всеми волне-
ниями жизни. Для этой связи придумано слово «рас-
троганность», означающее радостное сострадание, и
то, что у меня поджилки трясутся и это так похоже на
плач, происходит именно от растроганности и еще от-
того, что мне жалко тебя с твоей хитростью.
— Почему же тебе меня жалко? — полюбопыт-
ствовал Нанда.
— Потому что ты истинное дитя сансара и само-
удовлетворенности жизни, — отвечал Шридаман, — и
отнюдь не принадлежишь к тем душам, которые не-
пременно стремятся вынырнуть из страшного океана
плача и смеха — как лотосы поднимаются над водою,
открывая солнцу свои чашечки. Тебе хорошо в глуби,
кишащей образами и личинами, которые, тесно пере-
плетаясь, меняют свой облик, и оттого, что для тебя
это хорошо, хорошо делается и тому, кто на тебя
смотрит. Но вот теперь тебе взбрело на ум, и никак
из тебя этого не выбьешь, распространяться о нирване
и отпускать замечания касательно ее определения че-
рез отрицание, вроде того что, она, мол, невнятна, что
уже само по себе смешно до слез, или, если прибег-
нуть к нарочно для этого созданному слову, трога-
тельно, так как тут уж начинаешь тебя жалеть и тре-
вожиться, как бы ты не утратил своего благодетель-
ного благоденствия.
— Погоди-ка, — отвечал Нанда. — Я что-то тебя
не пойму. Если тебе жаль, что я подпал под власть
ослепления сансара и что мне чужды повадки ло-
тоса, это еще куда ни шло. Но если ты меня жалеешь
из-за того, что и я тоже по мере своих сил хочу ма-
лость поразмыслить о нирване, то это уже обидно.
Скажу только, что и мне жаль тебя.
231
—• А почему, скажи на милость, теперь ты в свою
очередь меня жалеешь? — поинтересовался Шри-
даман.
— Потому что ты читал Веды и кое-что усвоил из
познания сущего, — отвечал Нанда, — и при этом еще
легче и охотнее подпадаешь под власть ослепления,
чем тот, кто этого не делал. Потому-то у меня му-
рашки бегут по коже от растроганности, и я испыты-
ваю к тебе радостное сострадание. Ведь где хоть чуть-
чуть внятно, как в этом уголке например, там ты по-
зволяешь мнимой умиротворенности вмиг ослепить
тебя, в мечтах уносишься за пределы шести валов
глада и жажды и воображаешь себя в сердцевине ко-
ловорота жизни. А между тем эта внятность и то, что
в тишине можно столь многому внять, как раз и есть
признак того, что коловорот здесь происходит еще
куда более бурно и твое ощущение умиротворенности
всего-навсего воображение. Эти птицы воркуют лишь
перед тем, как предаться любви, эти пчелы, эти стре-
козы и крылатые жуки носятся в воздухе, гонимые
голодом, в траве все приглушенно гудит от тысяче-
кратной борьбы за существование, и вон те лианы, что
так грациозно обвивают стволы дерев, стремятся лишь
высосать из них сок и дыхание жизни, чтобы самим
сделаться жирнее и жизнеспособнее. Вот истинное
познание сущего.
— Я и сам это знаю, — отвечал Шридаман, — и не
поддаюсь ослеплению или поддаюсь лишь на миг и по
доброй воле. Ибо существует не только истина и ра-
зумное познание, но еще и сравнительное наблюдение,
человеческого сердца, а сердце умеет читать письмена
явлений не по их первому, трезвому смыслу, но еще и
по второму, более высокому, умеет использовать эти
письмена как средство прозревать чистое и духовное.
Как бы тылпришел к ощущению мира и счастья ду-
шевного покоя, если бы образ Майи, которая сама по
себе, конечно, отнюдь не покой и счастье, не служил
тебе путеводной нитью? Человек благословен тем, что
ему дозволено через действительность прозреть ис-
тину, а наша речь для этого дозволения, для этого
дара вычеканила слово «поэзия».
232
— Ах, ты вот как полагаешь, — засмеялся Нанда.—
Если тебя послушать, то получается, что поэзия — глу-
пость, вновь наступившая после просветления разума,
и при виде глупца возникает вопрос, что он — еще
глуп или глуп вторичной глупостью? Надо сказать,
что вы, умники, немало затрудняете жизнь нашему
брату. Не успеешь подумать, что самое важное на-
браться разума, как уже узнаешь, что все дело в том,
чтобы снова стать глупцом. Лучше бы вы нам не по-
казывали этой новой, более высокой ступени, чтобы не
отнять у нас смелости взобраться на предыдущую.
— От меня ты не слыхал, что нужно набираться
разума. Давай-ка лучше растянемся на нежной зелени
травы и, заморив червячка, будем сквозь ветви гля-
деть на небо. Это удивительное познание зрением; ле-
жишь на спине, что, собственно, не понуждает тебя
поднимать глаза, но взор твой волей-неволей устрем-
лен кверху, и ты смотришь на небо, как смотрит на
него сама матерь-земля.
— Сья, да будет так,— проговорил Нанда.
— Сьят! — поправил его Шридаман в согласии
с законом чистой и правильной речи. И Нанда посме-
ялся над собою и над ним.
—■ Сьят! — передразнил он его. — Эх ты, буквоед,
оставь уж мне мою народную речь! Если я заговорю
на санскрите, это будет как сопенье молодой ко-
ровы, которой продели в нос веревку.
Теперь уже Шридаман от души посмеялся над
этим простодушным сравнением; затем оба они растя-
нулись на траве и стали смотреть меж ветвей и ти-
хонько покачивающихся крупных, как кисти, соцве-
тий в синеву Вишны, пучками листьев отмахиваясь
от красно-белых мух, называемых «любимцами Ин-
дры», которые вились над ними. Нанда лег на спину
не потому, что так уж его тянуло наподобие матери*
земли созерцать небо, а просто из уступчивости. Впро-
чем, долго он не выдержал и вскоре с цветком в зу-
бах уже сидел на корточках, как подобает дравиду.
— Ну и назойлив же этот любимец Индры, — за-
метил он, говоря о бесчисленных мухах, жужжавших
вокруг них, как о едином существе.—Падок, видно,
233
на мое горчичное масло. А может быть, его покрови-
тель, «едущий на слоне», господин над молниями и
великий бог, повелел ему мучить нас в наказание —
ты сам знаешь за что.
— Тебя это не может коснуться, — возразил Шри-
даман, — ты ведь под деревом был за то, чтобы осен-
ний праздник благодарения Индры свершался на ста-
рый или, лучше сказать, на новый лад, в соответствии
с духовными обычаями и брахманскими ритуалами, и
тебе остается только умыть руки в сознании своей не-
виновности, ибо на совете мы ведь решили иначе и от-
реклись от служения Индре, чтобы предаться новому,
вернее старому, благодарственному служению, больше
подобающему нам, сельским жителям, и более есте-
ственному для нашего благочестия, чем вся эта пре-
мудрая тарабарщина брахманских церемоний в честь
Индры, громовержца, сокрушившего крепости наших
предков.
— Как ты говоришь, так оно и есть, — отвечал
Нанда,— но у меня все еще тревожно на душе; прав-
да, под деревом я откровенно высказал свое мнение
об Индре, но все же я боюсь, что он не захочет вник-
нуть в такие мелочи и чохом покарает всю «Обитель
благоденствующих» за то, что у него отняли его празд-
нество. Вот вдруг людям втемяшилось, что с празд-
ником благодарения Индры что-то не так, по крайней
мере для нас, пастухов и землепашцев, и что-де бла-
гочестивое упрощение нам сподручнее. Что мам до ве-
ликого Индры? Понаторевшие в Ведах брахманы под
неустанные заклинания приносят ему жертвы. А мы
захотели приносить жертвы коровам, лесным пастби-
щам и горам, — они-де для нас истинные и подобаю-
щие божества, мы, дескать, и прежде чтили их, еще
до того, как пришел Индра и, оказав предпочтение
пришельцам, сокрушил крепости исконных жителей —
наших предков; мы толком даже и не знаем, как это
делается, но это, мол, все равно всплывет в нашей
памяти, вернее, сердце нам подскажет. Мы хотим слу-
жить горному пастбищу Пестрая Вершина здесь, по-
близости, и отправлять благочестивые обряды, новые
лишь постольку, поскольку мы почерпнем, их из па-
234.
мятй сердца. Горному пастбищу будем мы приносить
в жертву чистых животных и такие даяния, как кис-
лое молоко, цветы, плоды и сырой рис. И еще мы изу-
красим венками из осенних цветов стада коров, и
пусть они бредут вокруг горы, повернувшись к ней
правым боком, и быки пусть ревут в ее честь громо-
вым голосом туч, чреватых дождем. Это, мол, и будет
наше старо-новое служение горам. А чтобы брахманы
тому не воспротивились, будем сзывать их сотнями и
кормить, велим принести молоко из всех загонов,
пусть наедаются до отвала неснятым молоком и ри-
сом, сваренным в молоке, и они будут довольны.
Так многие говорили под деревом, одни с ними согла-
шались, другие нет. Я поначалу был против служе-
ния горам, потому что боюсь и очень почитаю Индру,
который сокрушил крепости черных, и безразлично от-
ношусь к воскрешению того, о чем мы ничего толком
не знаем. Но ты заговорил чисто и правильно, — под
«правильным» я подразумеваю чистоту твоей речи,—
настаивая на обновлении празднеств в честь гор, и
пренебрег Индрой; тогда и я умолк. Если те, что хо-
дили в школу и кое-чего понабрались из познания су-
щего, думалось мне, восстали против Индры и ратуют
за опрощение, то где уж нам говорить; нам остается
только молча надеяться, что великий пришелец и со-
крушитель крепостей будет милосерден, не посетует
на угощенье целой толпы брахманов и не покарает
нас засухой или страшными ливнями. Возможно ведь,
подумал я еще, что он и сам уже тяготится своим
праздником и для разнообразия хочет, чтобы его за-
менили жертвоприношением горе и шествием коров.
Мы, простой народ, с благоговением относились
к Индре, но, может, он сам к себе теперь его не испы-
тывает. Я очень радовался обновленному празднику и
с удовольствием помогал гнать коров вокруг горы. Но
еще раньше, чем ты исправил мою простонародную
речь и захотел, чтобы я сказал «сьят», мне подума-
лось, как странно, что ты в правильных, ученых сло-
вах ратуешь за простоту.
— Тебе не в чем меня упрекнуть, — отвечал Шри-
даман, — ибо ты на народный лад заступался за
235
суемудрые ритуалы брахманов, и это радовало тебя,
делало тебя счастливым. Но я должен тебе сказать,
что еще большее счастье правильными и продуман-
ными словами ратовать за простоту.
Ш
Тут они на время замолчали. Шридаман лежал все
в том же положении и смотрел вверх, в небо. Нанда,
обняв сильными руками поднятые колени, глядел
сквозь деревья и кустарник высокого берега на место
омовений Кали, Матери.
— Тсс... Силы небе-бесные, — вдруг зашептал
Нанда часто-часто и приложил палец к своим толстым
губам. — Шридаман, брат мой1 Присядь-ка на ми-
нутку да погляди! Что ж это там за чудо такое спу-
скается к реке? Открой глаза пошире! Не пожалеешь.
Она не видит нас, но мы-то ее видим!
Молодая девушка стояла на укромном месте вос-
соединения, собираясь приступить к благочестивому
обряду. Она оставила на ступенях спуска свое сари
и стояла совсем нагая, одетая только в ожерелья,
серьги с качающимися подвесками да белую повязку
на высоко подобранных пышных волосах. Ослепи-
тельна была прелесть ее тела. Все оно, казалось, со-
стояло из обольщений Майи и было обворожительного
цвета, не слишком темное, но и не слишком светлого
оттенка, скорее напоминавшее позолоченную медь,
дивное, точь-в-точь изваянное по замыслу Брахмы, со
сладостно хрупкими плечами ребенка и упоительно
выпуклыми бедрами, от которых как бы раздался
в ширину ее плоский живот, с девически налитыми
бутонами грудей и пышным выпуклым задом, сужав-
шимся кверху и стройно переходившим в нежную
узкую спину, чуть вогнувшуюся, когда она подняла
свои руки-лианы и сомкнула их на затылке так, что
стали видны темнеющие впадинки подмышек. И все
же самым поразительным, всего полнее отвечающим
замыслам Брахмы, и чему не могла нанести урона даже
дурманящая, накрепко приковывающая душу к миру
236
явлений сладостность ее грудей, было сочетание этого
великолепного зада с узкой, гибкой, как тростинка,
эльфической спиной, усиленное и подчеркнутое дру-
гим контрастом — между поистине достойной славо-
словий, волнующей линией роскошных бедер и пре-
лестно-хрупким станом над ними. Наверно, не иначе
была сложена небесная дева Прамлоча, которую
Индра послал к великому подвижнику Канду, дабы
подвиг воздержания не сделал его всесильным и бого-
равным.
— Нам надо уйти, — приподнявшись, тихо сказал
Шридаман, не отрывая глаз от видения. — Не при-
стало смотреть на нее, когда она нас не видит.
— Отчего же? — шепнул в ответ Нанда. — Мы
первые пришли сюда, где все так внятно, и вняли
тому, чему здесь было внимать. Какая же на нас
вина? Не будем двигаться с места, жестоко было бы
подняться с шумом и треском, позволив ей обнару-
жить, что ее видели, тогда как она никого не видала.
Я смотрю с удовольствием. А ты нет? Да у тебя уже
глаза покраснели, как если бы ты прочел мне стихи
Ригведы.
— Тише, — в свою очередь зашептал Шридаман.—
И веди себя как подобает! Это многозначительное,
святое явление, и то, что мы подглядываем, простится
нам только, если мы будем вести себя достойно и бла-
гочестиво.
— Что и говорить, — отвечал Нанда. — Это дело
не шуточное, но все же очень приятное! Ты хотел смо-
треть на небо, лежа на земле, а теперь видишь, что
можно и сидя и стоя взирать на небесное.
Они опять приумолкли, сидели и смотрели. Злато-
кожая девушка, как недавно они сами, сложила руки
и прошептала молитву, прежде чем совершить обряд
воссоединения. Она стояла к ним немного боком, и
они могли видеть, что не только ее тело, но и лицо
меж качающихся подвесок было прелестно. Носик,
губы, брови и удлиненные, словно лепестки лотоса,
глаза. Когда девушка слегка повернула голову — так,
что они даже испугались: уж не заметила ли она со-
глядатаев,— друзья вполне убедились, что очарование
237
ее тела ничуть не обесценено, не обворовано некраси-
вым лицом и что, напротив, чудная ее головка лишь
утверждает в правах красоту ее стана.
— Да ведь я ее знаю! — вдруг прошептал Нанда
и даже щелкнул пальцами. — Только сейчас я признал
ее! Это — Сита, дочь Сумантры из селения Воловий
Дол, здесь поблизости. Оттуда она и пришла омыться
от скверны, теперь все понятно! Да и как мне не знать
Ситы? Ведь я качал ее на качелях до самого солнца«
— Ее... на качелях? — тихо и проникновенно пере-
спросил Шридаман.
— Да еще как, — ответил Нанда. — Качал что
было мочи, на глазах у всего народа! Одетую я бы ее
тотчас узнал, но поди узнай человека, когда он голый«
Да, это Сита из Воловьего Дола! Прошлой весной я
был там в гостях у своей тетки, как раз во время
праздника Солнца, и я...
— Потом расскажешь, прошу тебя! — испуганным
шепотом перебил его Шридаман. — Великая милость,
позволившая нам увидеть ее, может обернуться бе-
дой, если девушка услышит нас. Ни слова больше,
а то мы спугнем ее!
— Тогда она сбежит, и ты ее больше не увидишь,
а ты ведь еще не нагляделся досыта! — поддразнил
его Нанда. Но Шридаман кивнул ему головой, требуя
молчания, и оба снова замерли, наблюдая за тем, как
совершает обряд омовения Сита из Воловьего Дола«
Помолившись, она положила земной поклон, обратила
лицо к небу, затем осторожно вошла в реку, окропи-
лась священной водой, испила ее и, прикрыв волосы
ладонью, окунулась до самой макушки, потом еще не-
много поплескалась, поплавала, ныряя и снова пока-
зываясь на поверхности, и, наконец, вышла на сушу,
во влажном сиянии своей освеженной красоты. Но
милость, осенившая в этом уголке обоих друзей, еще
не исчерпалась: после очистительного омовения Сита
опустилась на ступеньки, чтобы обсушиться; врожден-
ная прелесть ее тела, не ведавшая о соглядатаях, по-
буждала ее принимать то одно, то другое обольсти-
тельное положение, и только, когда и этому время«
препровождению пришел конец, она неспешно облачи.«
238
лась в свои одежды, поднялась по лестнице к храму
и скрылась из виду.
— Что было, то прошло! — сказал Нанда. — Теперь
по крайней мере нам можно говорить и шевелиться.
Скучно ведь так долго притворяться, что тебя нет!
— Не понимаю, как ты можешь говорить о ску-
ке!— возразил Шридаман. — Есть ли на свете боль-
шее блаженство, чем всецело предаться созерцанию
красоты и жить только в ней? Я затаил дыхание итак
готов был сидеть все время. Не из страха, что она
исчезнет, а из страха вспугнуть ее чувство одиноче-
ства, над которым я так дрожал и перед которым так
святотатственно провинился. Ситой, ты говоришь, зо-
вут ее? Я рад, что это узнал, меня утешает в моем
прегрешении, что теперь я хоть про себя могу ее по-
чтить ее именем. Так ты качал ее на качелях?
— Да, я же сказал тебе, — подтвердил Нанда.—
Ее избрали девой Солнца прошлой весной, когда я
был в их деревне, и я ее качал во славу Солнца, до
самого неба, так что с высоты едва было слышно, как
она взвизгивает! А может, ее голос терялся в общем
визге.
— Да, на такие дела ты мастер,— сказал Шрида-
ман.— Впрочем, ты на все руки мастер! За сильные
руки тебя и выбрали ее качальщиком. Я прямо вижу,
как она взлетает до самого синего неба. Крылатый
образ моего воображения сливается с недвижным и
склонившимся в молитвенном поклоне образом, кото-
рый мы подсмотрели.
— Что ж! У нее есть причина молиться и каяться,—
перебил его Нанда, — не в дурном поведении, конечно,
Сита девушка добропорядочная, а во внешнем своем
обличий, впрочем, за него она не отвечает, хотя,
строго говоря, она в нем все-таки повинна. Говорят,
такое благообразие подобно оковам. Почему, соб-
ственно, оковам? Да потому, что она приковывает нас
к миру вожделений и радостей, человек, который ее
увидел, еще сильнее запутывается в тенета сансара
и теряет свой светлый разум, у него все равно что дух
захватило. Таково воздействие красоты, хоть и непред-
намеренное. Но вот то, что девушка, удлиняя себе
239
глаза, придает им форму лепестка лотоса, уже гово-
рит о преднамеренности. Можно, конечно, сказать:
«Благообразие дано ей свыше, она не по своей воле
восприняла его, так зачем же ей молиться, в чем
каяться?» Но так ли уж велика разница между «полу-
чить» и «воспринять»? Сита сама это знает, а потому
и кается в том, что налагает на нас оковы. Но ведь
благообразие-то она приняла не просто, как прини-
мают то, что тебе дают, а с полной готовностью, и
тут не поможет никакой очистительный обряд. Она
вышла из воды все с тем же прельстительным
задом.
— Не говори так грубо о столь нежном и светлом
явлении, — осадил его Шридаман.— Хотя ты и усвоил
кое-что из учения о сущем, но выражаешься, — по-
зволь тебе заметить, — по-мужицки; и из того, как ты
все повернул, явствует, что ты был недостоин этого
явления. Ведь в нашем случае все сводилось к тому и
от того зависело, оказались ли мы его достойными и
с чистой ли душой ему внимали.
Нанда смиренно выслушал порицание.
— Так научи же меня, дау-джи, — сказал он Шри-
даману, величая его «старшим братом». — Скажи,
в каком душевном состоянии ты внимал этому явле-
нию и в каком тем самым надлежало внимать ему
мне?
— Видишь ли! — сказал Шридаман. — Каждому
созданию дано двоякое, бытие: одно — для себя, дру-
гое— для стороннего глаза. Все созданное существует
и воспринимается со стороны, оно — душа и оно же
образ, и потому грешно подпадать под впечатление
образа, не вспоминая о душе. Надо научиться пре-
одолевать омерзение, которое внушает нам образ ше-
лудивого нищего. Нельзя нам основываться только на
том, как он воздействовал на наше зрение и другие
чувства. Ибо воздействие — еще не действительность;
чтобы постичь явление, должно, так сказать, «обойти
его»; этого вправе ждать от тебя любое явление, ибо
оно больше, чем только явление, за ним — его сущ-
ность, его душа, которую надо найти и опознать.
И если не следует задерживаться на чувстве омерзе-
240
ния, которое в нас возбуждает жалкий образ нищеты,
то тем паче нельзя довольствоваться восторгом, кото-
рый нам внушает образ красоты, ибо и она больше,
чем только образ, хотя чувства здесь сильнее иску-
шают нас принять ее лишь за таковой, чем в случае,
когда мы испытываем омерзение. Красота, на первый
взгляд, нисколько не взывает к нашей совести и к про-
никновению в ее душу, к чему в своей убогости как-
никак взывает образ нищего. И все же, любуясь кра-
сотой и не вникая в ее сущность, мы грешим и перед
нею и, думается мне, тем более усугубляем свой грех,
когда мы ее видим, она же не видит нас. Знай же,
Нанда, для меня истинным благодеянием было, что ты
смог назвать имя девушки, за которой мы подсматри-
вали, — Сита, дочь Сумаптры из Воловьего Дола, так
я хоть что-то узнал о ней, кроме того, что увидел, ибо
имя — часть человеческой сути, часть души. А как я
был счастлив услышать от тебя, что она девушка бла-
гонравная; ведь это и вправду значило «обойти ее об-
раз» и заглянуть к ней в душу. И далее: это ведь только
обычай, лишь подражание местным нравам, ни-
сколько не идущее в ущерб благонравию, если она
удлиняет себе разрез глаз, придавая им сходство с ле-
пестками лотоса, и вдобавок чуть-чуть подводит рес-
ницы, — конечно же, она в своей невинности просто
подчиняется обычаям и нравам предков. Красота ведь
тоже выполняет свой долг перед образом, в какой она
воплотилась, и не исключено, что, ревностно его вы-
полняя, она поощряет стремление проникнуть в ее
сущность. И мне мило представлять себе, что у нее
почтенный отец, я имею в виду Сумантру, и хлопотли-
вая мать и что они взрастили ее добронравной; я
словно вижу, как она мелет зерно, варит кашу в очаге
или сучит тонкую шерстяную нить. Не потому ли
всем своим сердцем, повинном в соглядатайстве, за
видимым образом девушки я стремлюсь разглядеть
человека, ее сокровенную суть.
— Тебя-то я понимаю, — отвечал Нанда. — Но не
забудь, что у меня это желание не может быть так уж
сильно, ведь я качал ее до самого солнца и успел не-
множко узнать ее как человека.
16 Т. Манн, т. 8
241
— И даже слишком, — перебил его Шридаман
с заметной дрожью в голосе. — Очень даже слишком!
Потому что близость, которой ты сподобился — по
праву или нет, — этот вопрос мы оставим в стороне,
ведь тебя выбрали в качальщики за силу твоих рук и
тела, а никак не за голову и способность мыслить, —
эта близость, видно, так притупила твое зрение, что
ты в ней увидел лишь единичное создание, а не выс-
ший смысл, вложенный в ее образ, иначе ты не ото-
звался бы так грубо о том воплощении, которое она
приняла. Разве ты не знаешь, что в каждом женском
обличье, будь то ребенок, дева, мать или старица,
таится Она сама, Всепорождающая, Всекормящая
Шакти, — великая богиня, из лона которой все прихо-
дит и в лоно которой все отыдет? Не знаешь, что в ка-
ждом явлении, отмеченном знаком богини, мы чтим
Ее одну, Ей одной дивимся? Она явилась нам здесь,
на берегу Золотой Мухи, в самом прельстительном
своем воплощении — так как же нам было не восхи-
титься ее самооткровением в преходящем образе? Не-
даром же, как я и сам замечаю, у меня дрожит от
волнения голос, что, впрочем, отчасти объясняется и
тем, что я возмущен грубостью твоей речи.
— Да у тебя даже щеки и лоб покраснели, словно
ты обгорел на солнце, — сказал Нанда, — а голос,
хоть он и дрожит, стал полнозвучнее, чем обычно.
Впрочем, могу тебя заверить, что и я на свой лад был
очень даже взволнован увиденным.
— Но тогда я не пойму, — заметил Шридаман,—
как мог ты говорить о ней столь небрежительно и ста-
вить ей в укор красоту, которая заманивает в тенета
любого, кто ее видит, лишив его последних признаков
сознания. Ведь это значит, что ты смотришь на вещи
с непростительной односторонностью и ничего не смы-
слишь в истинной, целостной сущности Той, что яви-
лась нам в столь сладостном обличье. Ибо она — все,
а не только одно: жизнь и смерть, безумие и мудрость,
колдунья и избавительница. Разве ты этого не зна-
ешь? Или знаешь только, что она морочит и завора-
живает всех и вся, и забываешь, что она выводит людей
из мрака одержимости, чтобы привести их к познанию
242
истины? Тогда ты знаешь очень мало и не постиг
тайны, впрочем не так-то легко постижимой, а именно:
что опьянение, в которое ввергает нас богиня, есть
вместе с тем и восторг, устремляющий нас к высшей
истине и свободе. Ибо только оно сковывает и дарит
свободой, только восторг воссоединяет чувственную
красоту с величием духа.
Черные глаза Нанды увлажнились, он ведь обла-
дал чувствительным сердцем и не мог слушать мета-
физические рассуждения без того, чтобы не всплак-
нуть, тем паче теперь, когда обычно тонкий голос
Шридамана вдруг стал полнозвучным и выразитель-
ным. Итак, он, сквозь слезы, зашмыгал своим козьим
носом и сказал:
— До чего торжественно ты сегодня говоришь,
дау-джи! На моей памяти ты никогда еще так не го-
ворил, прямо за душу берет. Мне бы, собственно, сле-
довало хотеть, чтобы ты замолчал, именно потому, что
это берет меня за душу. Но нет, прошу тебя, говори
еще о духе, и об оковах, и о Ней, Всеобъемлющей!
— Ты понял теперь ее сложную суть, — все так же
восторженно продолжал Шридаман, — понял, что Она
порождает не только дурман, но и мудрость, и если
мои слова так живо трогают тебя, то лишь потому,
что Она — владычица полноводной Речи, берущей
свой исток в премудрости Брахмы. В этой двойствен-
ности мы познаем ее, Великую, ибо Она жестокосер-
дна, темна, вселяет в нас ужас; Она пьет из дымя-
щейся чаши кровь всех созданий, и вместе с тем Она
же благосклонная сострадалица, источник всего жи-
вого, любвеобильно покоящая у своих сосцов все по-
рожденное ею. Она — великая Майя Вишну, Она дер-
жит в объятиях его, спящего в ней. Мы же спим и гре-
зим в нем. Множество рек впадает в вечные воды
Ганга, а Ганг впадает в море. Так впадаем мы в бо-
жественные грезы Вишну о преходящем мире, они же
впадают в Море извечной Матери. Знай, Нанда,
сегодня, придя к месту священного омовения, мы при-
шли к истоку сна нашей жизни, и тут явилась нам
в прельстительнейшем облике Она, Всесозидающая и
Всепоглощающая, в чьем лоне мы омылись, чтобы нас
J 6*
243
обморочить и вдохновить — надо думать, в награду
за то, что мы окропили водой ее плодоносное чрево.
Линга и йони — нет более великого знака и нет более
великого часа жизни, нежели час, когда суженый об-
ходит свадебный костер со своею Шакти, и жрец со-
единяет их руки цветочной цепью, и жених говорит:
«Я воспринял ее!», получая невесту из рук родителей,
и еще произносит царственное слово: «Это я, это —
ты, я — небо, ты — земля, я — лад песни, ты — ее
слово, вместе пройдем одной дорогой!» Когда они
празднуют встречу, они — не люди больше, не он и не
она, а высокая чета, он — Шива, она—Дурга, вели-
кая богиня, и их речи — как бред, и не их это речи,
а лепет из темных глубин вожделения, и они умирают
для лучшей жизни в безмерном счастье объятий. Это
и есть тот священный час, окунающий нас в море тю-
знания и избавляющий от лживой обособленности на-
шего Я в лоне Матери. Ибо как красота и дух сли-
ваются воедино во вдохновении, так смерть и жизнь
воссоединяются в любви.
Нанда был совсем покорен этим метафизическим
красноречием.
— Нет, — сказал он, качая головой, и слезы пока-
тились у него из глаз, — до чего ж благосклонна к тебе
богиня Речи и до чего щедро она тебя одарила пре-
мудростью Брахмы, просто сердце надрывается, а все
хочется слушать и слушать. Если бы я мог сказать и
спеть хоть пятую часть того, что измыслила твоя го-
лова, я бы любил и чтил каждую жилку своего тела.
Вот почему ты так нужен мне, старший брат! То, чего
не дано мне, дано тебе, а ты мой друг, и твое начи-
нает мне казаться моим. Ведь как твой друг и това-
рищ я имею в тебе свою часть, я тоже чуть-чуть Шри-
даман, а без тебя был бы только Нандой, чего мне,
по правде сказать, маловато! Говорю тебе прямо: я
ни на миг не пережил бы разлуки с тобою, а уж лучше
попросил бы людей сложить костер и сжечь меня. Вот
что я хотел тебе сказать! Возьми хоть это, прежде чем
мы тронемся в путь.
И он стал рыться в своем дорожном скарбе смуг-
лыми руками в кольцах и запястьях и извлек оттуда
244
пучок бетеля, который жуют> после еды, чтобы приятно
пахло во рту. Отвернув заплаканное лицо, он протя-
нул бетель Шридаману, ибо бетелем угощают друг
друга при скреплении договора дружбы.
IV
Итак, они пошли дальше, а потом на время разо-
шлись, ибо у каждого были свои дела; достигнув изо-
билующей парусами реки Джамны и увидев на гори-
зонте очертания Курукшетры, Шридаман свернул на
широкую дорогу, запруженную повозками и волами,
чтобы затем, в толчее оживленных городских улиц,
разыскать дом человека, у которого должен был ку-
пить рис и трут. Нанда же пошел дальше, узкою тро-
пою, ответвлявшейся от проезжей дороги к хижинам,
где жили люди низшей касты, — приобрести у них
железа для кузни своего отца. При расставании друзья
благословили друг друга и условились через три дня,
в назначенный час, снова встретиться на этой раз-
вилке, чтобы, когда с делами будет покончено, вме-
сте, как пришли сюда, вернуться в родное селение.
После того как трижды взошло солнце, Нанда,
подъехавший на сером ослике, которого он тоже при-
обрел у людей низшей касты и навьючил железом,
еще долго дожидался в условленном месте, так как
Шридаман запаздывал; когда же он со своим тюком
наконец показался на широкой дороге, шаги его были
медленны, он волочил ноги, его щеки, окаймленные
шелковистой веерообразной бородкой, ввалились,
а в глазах стояла печаль. Он не выказал радости при
встрече со своим спутником, и даже когда Нанда,
спеша освободить его от ноши, взвалил и его тюк на
ослика, остался таким же хмурым и печальным, ка-
ким пришел, и шагал рядом с другом, не говоря ни-
чего, кроме «да, да», даже если следовало сказать
«нет, нет»; а когда уместнее было бы «да, да», он
вдруг начинал твердить «нет, нет», — к примеру, от-
казываясь подкрепиться пищей, — и на удивленные
расспросы Нанды отвечал, что не может и не хочет
есть и вдобавок лишился сна.
245
Все указывало на то, что он болен, и лишь на вто-
рую ночь пути, под звездным небом, когда озабочен-
ному Нанде удалось немного разговорить его, он не
только подтвердил, что это так, но глухим голосом
добавил, что недуг его неизлечим и смертелен, и по-
тому он не только должен, но даже хочет умереть,
в его, мол, случае необходимость и желание сплелись
воедино, они не только нераздельны, но более того —
вместе составляют вынужденное желанье, в котором
«хотеть» неизбежно вытекает из «долженствовать» и
«долженствовать» или «хотеть».
— Если ты мне подлинно друг, — сказал Шрида-
ман все тем же задыхающимся, глубоко взволнован-
ным голосом, — то окажи мне последнюю дружескую
услугу, сооруди погребальный костер, чтобы я мог
взойти на него и сгореть в огне. Ибо сжигающий меня
изнутри неизлечимый недуг причиняет мне такие муки,
что по сравнению с ними всепожирающее пламя пока-<
жется мне целебным бальзамом, более того — услади-
тельным купанием в райских реках.
«О, великие боги! До чего ж он дошел!» — подумал
Нанда, услышав это. Здесь следует сказать, что хотя
у Нанды был козий нос и внешне он являл собою как
бы золотую середину между людьми низшей касты,
у которых покупал железо, и внуком брахманов Шри-
даманом, но он сумел с честью выйти из трудного по-
ложения и, несмотря на почтительность, с какою от-
носился к «старшему брату», не растерялся перед ли-
цом его недуга, а напротив — употребил в пользу
Шридамаиа преимущество, заключавшееся в том, что
он, Нанда, был здоров, и, подавив свой испуг, заго-
ворил с ним уступчиво и в то же время разумно.
— Будь покоен, — сказал он, — если твоя болезнь
и впрямь неизлечима, а после твоих слов я не вправе
в этом сомневаться, я тотчас же выполню твое прика-
зание и примусь сооружать костер. Я даже сложу
очень большой костер, чтобы рядом с тобою нашлось
место и для меня, после того как я его разожгу, ибо
разлуки с тобой мне не пережить ни на час, и в огонь
мы пойдем с тобою вместе. Именно потому, что все
это так близко касается и меня, ты должен мне не-.
246
медленно сказать, что, собственно, с тобою, назвать
свой недуг, хотя бы для того, чтобы я, убедившись
в его неизлечимости, предал сожжению тебя и себя.
Ты не можешь не признать, что мое требование спра-
ведливо, и если уж я своим скудным умом понял его
справедливость, то ты, будучи стократ умнее меня, и
подавно должен его одобрить. Когда я ставлю себя
на твое место и на мгновенье пытаюсь думать твоей
головой, — как если бы она сидела у меня на плечах,—
то я вынужден заметить, что моя, я хочу сказать —
твоя, уверенность в неизлечимости твоего недуга тре-
бует дополнительной проверки и подтверждения,
прежде чем мы сделаем столь далеко идущие вы-
воды. Итак, говори!
Но спавший с лица Шридаман долго упрямился и
только твердил, что смертельная безнадежность его
недуга не требует проверок и доказательств. Однако
в конце концов уступил многократным натискам
Нанды и, прикрыв глаза рукою, чтобы во время своей
речи не смотреть на друга, сделал следующее при-
знание.
— С той поры, — сказал он, — как мы увидели на
месте священного омовения эту девушку, нагую, но
добронравную, ту, которую ты качал на качелях до
самого солнца,— Ситу, дочь Сумантры, — зерно не-
дуга, равно вызванного к жизни ее наготой и ее до-
бронравием, запало в мою душу и с часу на час все
разбухало и разрасталось, покуда не заполнило собою
псе мои члены, мельчайшие ответвления каждой
жилки, истощило мои душевные силы, похитило у меня
сон и вкус к еде и теперь медленно, но верно изнич-
тожает меня. Мой недуг, — продолжал он, — потому
смертелен и безнадежен, что излечить его может
только осуществление желания, коренящегося в кра-
соте и добронравии девушки, а это немыслимо, нево-
образимо, это за пределами того, что подобает чело-
веку. Ясно ведь, что если страстная мечта о счастье
искушает его и самая его жизнь зависит от того, сбу-
дется она или нет, а между тем лишь богам, не лю-
дям, дамо уповать на такое счастье, то человек этот
обречен. Если не будет для меня Ситы, с глазами, как
247
у куропатки, прекраснокожей, с дивными бедрами, то
дух моей жизни улетучится сам собою. Посему со-
оруди для меня костер, — лишь в пламени я обрету
спасенье от противоречия между божественным и че-
ловеческим. Но если ты решил взойти на него вместе
со мной, — заключил он, — то, как ни жаль мне твоей
цветущей юности, отмеченной знаком «счастливого
теленка», я не стану спорить, — одна только мысль,
что ты качал ее на качелях, раздувает пламя в моей
душе, и мне очень не хочется оставить на земле того,
кому суждено было это счастье.
Услышав такое, Нанда, к искреннему и глубокому
изумлению Шридамана, разразился нескончаемым хо-
хотом и попеременно то бросался обнимать друга, то
приплясывал и прыгал.
— Влюблен, влюблен, влюблен! — восклицал он.—
Вот и все! Вот он, твой смертельный недуг! Ну и дела!
Ну и потеха! — И он запел:
Мудрец умел себя держать
Достойно и степенно.
Но даже духа благодать —
И та несовершенна.
Один девичий взгляд — и что ж?
Ума как не бывало!
Мудрец с мартышкой бедной схож,
Что с дерева упала '.
Затем снова рассмеялся во всю глотку, хлопнул
себя по коленям и крикнул:
— Шридаман, брат мой, как я рад, что этим все
исчерпано, что ты просто бредил, говоря о костре,—
верно, потому что огонь упал на соломенную крышу
хижины твоего сердца! Маленькая колдунья слишком
долго стояла на пути твоих взоров, и за это время бог
Кама угодил в тебя цветочной стрелой, ибо то, что
мы приняли за жужжанье золотых пчел, верно, было
свистом его стрелы, и Рати, любовная тоска, сестра
весны, тоже поразила тебя. Все это обычно, радостно-
повседневно и отнюдь не выходит за пределы того,
1 Перевод С. Апта.
248
что подобает человеку. Но если ты воображаешь, что
одним богам дозволено мечтать об исполнении твоих
желаний, это можно объяснить только страстностью
желания и еще тем, что если оно и ниспослано тебе
богом, а именно богом Камой, то не ему оно пристало,
а он сделал так, чтобы оно пристало тебе. Я говорю
это не из душевной черствости, а лишь затем, чтобы
охладить твои любовью распаленные чувства, и еще,
чтоб ты знал, что отчаянно переоцениваешь свою цель,
полагая, будто только боги, не люди, вправе стре-
миться к ней, тогда как на самом деле ничего не мо-
жет быть естественнее и человечнее твоей потребно-
сти посеять семя в эту «бороздку». — Он прибег
к такому выражению, потому что Сита и означает «бо-
розда». — Но к тебе, — продолжал он, — как нельзя
лучше применима поговорка: «Днем слепа сова, но-
чью — ворона, слепой от любви — слеп и днем и но-
чью!» Я привел это поучительное речение для того,
чтобы ты одумался и понял наконец: Сита из Воловь-
его Дола вовсе не богиня, хотя в своей наготе, у места
омовений Дурги, и показалась тебе таковою, а совсем
простая девушка, только, по правде сказать, прехо-
рошенькая; и живет она, как все остальные, — мелет
зерно, варит кашу, прядет шерсть, да и родители
Ситы обыкновенные люди, хоть ее отец Сумантра и не
прочь прихвастнуть каплей воинственной крови, что
течет в его жилах, — но это не меняет дела, во вся-
ком случае не слишком меняет! Одним словом, они
люди, с которыми можно потолковать, и раз у тебя
есть друг, такой, как твой Нанда, то неужто ж он не
поспешит к ним и не сладит для тебя это простое и
обыденное дело? Не добудет тебе счастья? Ну? А? Что
скажешь, дурень? Чем сооружать костер, где и я хо-
тел прикорнуть возле тебя, я лучше помогу тебе со-
орудить брачный чертог, в котором ты станешь жить
со своей пышнобедрой красавицей.
— В твоих словах, — помолчав, ответил Шрида-
ман, — содержалось много оскорбительного, не говоря
уж о твоей песне. Оскорбительно, что муку моего же-
лания ты назвал простой и обыденной, тогда как она
превышает мои силы и, кажется, вот-вот разобьет
249
мою жизнь, а ведь известно, что желание, которое
сильнее нас, иными словами ^-слишком сильное для
нас, справедливо считается подобающим не людям,
а разве что богам. Но я знаю, ты желал мне добра и
хотел утешить меня, а потому прощаю тебе простец-
кие и невежественные разговоры о моем смертельном
недуге. Мало того, что прощаю, но твои последние
слова и что ты считаешь возможным то, о чем ты мне
сказал, наполняют мое обреченное сердце буйным
биением жизни, и это от одной лишь мысли о том, что
мечта осуществима, от одной лишь веры в ее осуще-
ствление, веры, на которую я, собственно, не спосо-
бен. Порою мне, правда, кажется, что человек, не по-
раженный моим недугом, может представить себе
положение вещей более здраво и ясно, чем я. Но тут
же я снова начинаю сомневаться, перестаю доверять
какой бы то ни было точке зрения, кроме своей, обре-
кающей меня смерти. Разве так невероятна мысль,
что божественная Сита еще ребенком была помол-
влена и в скором будущем соединится узами брака
с возмужавшим женихом? Эта мысль нестерпимее
огненных мук, и укрыться от нее можно лишь в охла-
ждающем пламени костра.
Но тут Нанда стал заверять друга, что его опасе-
ния не имеют под собою почвы и что Сита не связана
детским обетом. Ее отец Сумантра не пошел на это
из боязни подвергнуть Ситу позору вдовьей доли
в случае преждевременной смерти юного нареченного.
Да и разве ее избрали бы «девой качелей», будь она
обручена. Нет, Сита свободна и доступна сватовству,
а при достатке Шридамана, при его принадлежности
к брахманской касте и его осведомленности в книгах
Вед дело за малым — пусть даст распоряжение другу
все взять в свои руки, начать переговоры между
двумя семьями, и счастливый исход сватовства обес-
печен.
При новом упоминании о качелях у Шридацана
страдальчески задергалась щека, но все же он побла-
годарил друга за желание прийти ему на помощь и
мало-помалу позволил здравому разуму Нанды об-
ратить его от мысли о смерти к вере в то, что в осу-
250
ществлении его страстного желания —заключить Ситу
в супружеские объятия — нет ничего сверхдерзновен-
ного и невозможного для человека; при этом он, од-
нако, твердо стоял на том, что, если сватовство закон-
чится неудачей, Нанда должен немедля сильными
своими руками соорудить для него костер. Сын Гарги
обещал ему это в самых успокоительных словах, но
прежде всего, шаг за шагом, обсудил с ним предписы-
ваемую обычаем церемонию сватовства, при которой
Шридаману надо было только оставаться в стороне и
терпеливо ждать вести об успехе. Они порешили, что
для начала Нанда откроет Бхавабхути, отцу Шрида-
мана, намерения сына и склонит его вступить в пере-
говоры с родителями Ситы; затем все тот же Нанда
как доверенное лицо жениха и сват отправится в Во-
ловий Дол, чтобы своим там пребыванием способство-
вать сближению юноши и девушки.
Что сказано, то сделано. Бхавабхути, ваниджья из
рода брахманов, обрадовался сообщению друга и по-
веренного своего сына; Сумантра, скотовод и потомок
скотоводов-воителей, не остался бесчувствен к обиль-
ным дарам, подкреплявшим сватовство; Нанда про-
славлял у него в доме друга речами, хоть и простона-
родными, но весьма убедительными. Успешно прошло
и ответное посещение отцом и матерью Ситы «Обители
благоденствующих коров», убедившее их в добропоря-
дочности искателя. Меж тем, покуда в хлопотах и со-
беседованиях проходили дни, девушка привыкла ви-
деть в Шридамане, купеческом сыне, своего суженого,
а в скором времени господина и супруга. Наконец
брачный договор был составлен и подписание его
ознаменовано щедрым пиршеством и взаимными да-
рами— на счастье. День свадьбы, назначенный в стро-
гом согласии с исчислениями звездочетов, неуклонно
приближался, и Нанда, твердо знавший, что день этот
должен наступить, хотя на него и назначено бракосо-
четание Шридамана. с Ситой — причина достаточная,
чтобы Шридаман не верил в его наступление, — обе-
гал всю округу, сзывая на свадьбу жрецов и друзей.
Все тот же Нанда честно потрудился, складывая во
внутреннем дзоре невестиного дома, под однообразное
251
чтение брахманом святых книг, свадебный костер из
сухих лепешек коровьего навоза.
И вот настал день, когда Сита, прекрасная, куда
ни глянь, умастила свое тело сандалом, камфарой и
кокосовым маслом, украсилась драгоценностями, на-
дела на себя расшитую блестками безрукавку, облек-
лась в сари, закрыла ниспадавшим пеною покрывалом
лицо, которое впервые предстояло увидеть ее су^
женому (мы-то хорошо знаем, что не впервые), и впер-
вые же назвала его по имени. Долго не наставал вож-
деленный час, но наконец все же настал, — час, когда
Шридаман произнес: «Я получил ее», — и, в то время
как вокруг них, согласно жертвенному обряду, рас-
сыпали рис и лили масло, принял Ситу из рук роди-
телей, чтобы назвать себя небом, ее же землею, ла-
дом песни — себя, словом песни — ее и затем, под пе-
ние хлопающих в ладоши женщин, трижды обвести
гс вокруг пылающей навозной кучи, после чего на
празднично разукрашенных белых яках он увез ее
в свою деревню, к родной своей матери.
Там им предстояло выполнить еще множество об-
рядов, приносящих счастье новобрачным: они снова
ходили вокруг огня, жених кормил ее сахарным тро-
стником и уронил кольцо в ее одежды, потом они сели
за свадебный стол вместе с родичами и друзьями.
А когда все кончили есть и пить, невесту с женихом
окропили водой из Ганга, а также розовым маслом,
и все собравшиеся повели их в брачный покой, на-
званный покоем «счастливой четы», где для них уже
было уготовано осыпанное цветами ложе. Под шутки,
поцелуи и слезы каждый простился с новобрачными;
Манда; все время находившийся подле них, — послед:
ним, уже на пороге.
V
Но пусть те, кто внемлет рассказу, обольстившись
его отрадным течением, не сорвутся в ловчую яму
обмана, скрывающую истинный его смысл. Покуда мы
молчали, он на мгновение отвратил от нас свое лицо,
когда же вновь обернулся к нам, оно исказилось,
252
стало походить на свирепую маску, обезумело, окаме-
нело, приняв черты ужаоного лика, зовущего всех и
вся к кровавым жертвоприношениям. Таким открылся
лик рассказа и Шридаману, и Сите, и Нанде, когда
они, пустившись в путь... Но не будем опережать хода
событий.
Шесть месяцев протекло с того дня, как мать Шри-
дамана приняла в свой дом невестку, прекрасную
Ситу, и та сполна одарила своего тонконосого супруга
упоениями страсти. Миновало знойное лето, а за ним
и пора дождей, покрывшая небо водообильными ту-
чами, а землю — свежестью распускающихся цветов;
небесный шатер стал снова безоблачен и уже по-осен-
нему зацветал лотос, когда молодожены и друг их
Нанда, с благословения родителей Шридамана, отпра-
вились в гости к родителям Ситы, которые со дня
свадьбы ее не видали и хотели воочию убедиться, что
замужество дочки не осталось бесплодным. Хотя Сита
в скором будущем готовилась стать матерью, они все
же отважились пуститься в странствие, впрочем не-
долгое и не слишком томительное, так как погода уже
стояла прохладная.
Они ехали в крытой, занавешенной повозке, запря-
женной яком и одногорбым верблюдом. Повозкою
правил Нанда. Он сидел впереди супругов в залом-
ленной набекрень ермолке и, болтая босыми ногами,
так неотступно и, казалось, так внимательно следил
за животными и дорогой, что не успевал обернуться
к Шридаману с Ситой и перекинуться с ними словеч-
ком. Время от времени он покрикивал на животных,
потом высоким и очень громким голосом затягивал
песню. Но всякий раз голос у него тут же срывался и
пение его начинало походить на жужжанье, в свою
очередь обрывавшееся выкриками вроде: «Нн-о! По-
шевеливай!» В том, как он исторгал громкие звуки
песни из стесненной груди, было что-то пугающее,
как, впрочем, и в неожиданно быстром спаде его
голоса.
Молодые супруги позади него сидели молча. Глаза
их, поскольку Нанда торчал впереди, непременно
упирались бы ему в затылок, и молодая женщина
253
нет-нет да и поднимала опущенный долу взор, чтобы
посмотреть в затылок возницы, и тут же вновь по-
тупляла его. Шридаман же не хотел этого делать и
решительно предпочитал глядеть вбок на раздуваю-
щуюся холстину. Он бы охотно поменялся с Нандой
местами и сам бы взял в руки вожжи, лишь бы не
видеть того, что видела его жена, сидевшая рядом,—
смуглую спину с четко обозначенным хребтом и под-
вижными лопатками. Но беда в том, что, поменяйся
они местами, как он хотел, чтобы облегчить свое
сердце, ничего путного из этого бы все равно не по-
лучилось. Так они медленно тащились по дороге, все
трое часто дыша, словно они бежали, и жилки крас-
нели в белках их глаз, что, как известно, ничего
доброго не предвещает. Человек, наделенный даром
ясновидения, наверно бы заметил тени черных крыл,
осенявших их повозку.
Они охотнее ехали под крылом ночи, вернее в ут-
ренние, предрассветные часы, как то делают обычно,
чтобы избегнуть томительного зноя. Но у них на то
была своя, особая причина. Поелику они блудили
в сердце своем, а мрак, как известно, поощряет блуж-
данье, то, сами того не сознавая, они перенесли блуд
своего сердца во внешнее пространство зримого мира,
то есть попросту заблудились. Дело в том, что Нанда
поворотил свою упряжку — яка и верблюда — не
там, где надо, не на ту дорогу, что должна была их
привести в деревню Ситы. Он, — извинением ему, ко-
нечно, могло служить безлунное, только звездное
небо, — ошибся развилкой, и дорога, по которой он
поехал, вскоре оказалась не дорогой, но обманчивым
просветом между деревьями; поначалу они стояли
раздельно, но затем сплотились в лесок, как бы вы-
сланный вперед непроходимым лесом, чтобы завлечь
путников и вскоре скрыть из поля их зрения даже
этот, на миг блеснувший просвет, который мог бы по
крайней мере помочь им выбраться обратно.
Невозможным оказалось и продвигаться вперед
среди тесно их обступивших стволов, по вязкой влаж-
ной почве леса, и они, все трое, признали, что сби-
лись с пути, не признав, однако, того, что сами на-
254
влекли на себя это злоключение, повторившее смуту
в их собственных душах, — ведь Шридаман и Сита,
сидевшие позади Нанды, даже не думали спать и
с открытыми глазами позволили Нанде завезти иХ
в глухомань бездорожья. Теперь им поневоле приш-
лось развести костер для защиты от хищных зверей
и дожидаться восхода солнца. Когда же дневной
свет стал проникать сквозь чащобу, они принялись
обследовать все кругом, выпрягли яка с верблюдом
и с великим трудом покатили свою повозку сквозь
заросли тиковых и сандаловых деревьев к опушке
джунглей, где перед ними возникло скалистое ущелье,
поросшее редким кустарником, и Нанда убежденно
заявил, что оно должно привести их к цели.
Так, трясясь по каменистым уступам на вихляю-
щей из стороны в сторону повозке, приехали они
к высеченному в скале святилищу Деви, грозной и
неприступной Дурги, Темной Матери Кали, и тут
Шридаман, повинуясь внутреннему зову, высказал
желание остановиться и воздать почесть богине.
— Я хочу только поглядеть на нее, помолиться, и
сейчас же вернусь, — сказал он своим спутникам.—
Подождите меня здесь! — Он слез с повозки и стал
подыматься по выщербленным ступеням, ведущим
к храму.
Этот храм, как и храм великой Матери над
укромным местом омовения на речке Золотая Муха,
не принадлежал к великим и славным святилищам,
но колонны и стены его были густо испещрены свя-
щенными изображениями. Дикая скала нависала над
входом, опираясь на каменные столбы, которые
охранялись ощеренными барсами; по правую и левую
руку от них, а также вдоль стен внутреннего хода
в скале были высечены раскрашенные изображения —
лики живой плоти, что состоит из костей, кожи, сухо-
жилий, мозга, семени, пота, слез и маслянистой
влаги глаз, испражнений, мочи и желчи, плоти, пре-
ображенной страстью, гневом, безумием, алчностью,
завистью, отчаянием, разлукой с теми, кого любишь,
и прикованностью к тем, кого ненавидишь, — голо-
дом, жаждой, старостью, печалью и смертью; плоти,
255
в которой обращается неиссякаемый поток крови,
горячей и сладкой, плоти в тысячах образов мучи-
тельно наслаждающейся собою, плоти, что кишит и
сплетается в великом множестве воплощений, пере-
ходящих одно в другое, так что в этом подвижном,
все созидающем нагромождении человеческого, бо-
жественного и звериного хобот слона как бы заме-
нял собою руку мужчины, а морда вепря — женское
лицо. Шридаман не обращал внимания на эти изо-
бражения, словно бы и не видел их, но, покуда он
шел, его воспаленный взор, скользя по стенам, не-
вольно вбирал их в себя, и душа его, проникаясь
дурманящей нежностью и состраданием, безотчетно
подготовлялась к лицезрению великой Матери.
В капище царил полумрак; дневной свет скупо
проникал только сверху, из-под нависшей скалы,
в предхрамие и примыкавший к нему предвратный
придел, расположенный несколькими ступенями
ниже. Здесь, за низко опущенными вратами, к кото-
рым тоже надо было сойти по ступеням, перед ним
разверзлось лоно храма, чрево Матери Кали.
На последней ступени он вздрогнул и отпрянул
назад, хватаясь распростертыми руками за линги по
обе стороны входа. Ужас вселяло изваяние Кали.
Привиделось ли это его воспаленным глазам, или и
впрямь — никогда и нигде — не представала ему
Гневливая в столь торжествующе-страшном образе?
Из-под каменного свода арки, повитой гирляндами
черепов и отрубленных рук и ног, выступал истукан,
раскрашенный красками, вобравшими в себя свет и
щедро его отдающими, в блистающем царственном
уборе, опоясанный и увенчанный костями и членами
земных сущестЕ, в неистовом вращении колеса своих
восемнадцати рук. Мечами и факелами размахивала
Матерь, кровь дымилась в черепе, который, как
чашу, подносила к устам одна из ее рук; кровь у ног
ее разливалась рекой. Наводящая Ужас стояла
в челне, плывшем по морю жизни, по кровавому
морю. Но и запах настоящей крови учуял тонкий, как
лезвие, нос Шридамана, сладковато-застоялый запах,
Пропитавший спертый воздух пещеры, подземной
256
бойни, где в пол были вделаны желобы, по которым
липко струился жизненный сок обезглавленных жи-
вотных. Звериные головы с открытыми остекленев-
шими глазами, штук пять или шесть голов буйвола,
свиньи и козы были пирамидой сложены на алтаре
перед идолом Неотвратимой, и ее меч, их отсекший,
острый, блестящий, хотя и в пятнах запекшейся
крови, лежал чуть поодаль, на каменных плитах.
С ужасом, который быстро начал перерастать
в исступленный восторг, вглядывался Шридаман
в свирепый пучеглазый лик Алчущей жертв, Несу-
щей смерть и Дарящей жизнь, в бешеное, вихревое
кружение ее рук, от которого и у него уже кружи-
лась голова и, как в пьяной одури, мутились чувства.
Он прижимал кулаки к своей бурно вздымающейся
груди, волны палящего жара и леденящего холода
обдали его, подкатили к затылку, к левой стороне
груди, к восставшему в муке мужскому естеству и
подвигли его на крайнее деяние против себя и во
славу вечного лона. Уже обескровленные губы Шри-
дамана шептали молитву:
— О, Безначальная, бывшая прежде всего су-
щего! Матерь без супруга, чей подол еще никто не
поднял, сладострастно и губительно всеобъемлющая,
ты, которая поглощаешь все миры и образы, из тебя
проистекшие! Множество живых существ приносит
тебе в жертву народ, ибо тебе довлеет кровь всего
живого, и неужели твоя милость, мне во спасение,
не осенит меня, если я сам себя принесу тебе
в жертву? Я знаю, что все равно не уйду из коловра-
щения жизни, хоть я и хочу этого. Но дозволь мне
снова войти в врата материнского чрева, чтобы изба-
виться от своего постылого Я и не быть больше Шри-
даманом, у которого отъята всякая радость, ибо не
ему суждено расточать ее!
Проговорил эти темные слова, схватил меч, лежав-
ший на полу, и отделил свою голову от туловища.
Скоро это сказано, да и сделано могло быть
только скоро. И все же рассказчиком владеет жела-
ние: пусть те, что ему внимают, не примут рассказ
об этом деянии бездумно и равнодушно, словно
17 Т. Манн, т. 8
257
нечто обычное и естественное, лишь на том основа-
нии, что в легендах часто говорится об усекновении
собственной головы как о событии заурядном.
Единичный случай не бывает заурядным: есть ли
что-нибудь зауряднее для мысли и для рассказа,
чем рождение и смерть. Но побудь-ка свидетелем
рождения или смерти и спроси себя, спроси роже-
ницу или умирающего, так ли уж это заурядно?
Усекновение собственной головы, сколько бы об этом
ни говорилось, деяние почти немыслимое. Для его до-
бросовестного осуществления требуется безмерная
воодушевленность, яростное сосредоточение воли и
жизненных сил в единой точке свершения. И то, что
Шридаман со своим задумчивым, кротким взглядом
все же совершил его своими, не очень-то сильными,
руками купеческого сына и потомка брахманов,
должно быть воспринято отнюдь не как нечто зауряд-
ное, а как поступок, поистине достойный изумления.
Так или иначе, но он в мгновение ока принес
страшную жертву, так что его голова с шелковистой
бородкой, окаймлявшей щеки, оказалась в одной сто-
роне, тело же, бывшее малозначительным придатком к
этой благородной голове, вместе с руками, еще крепко
сжимавшими рукоять жертвенного меча, — в другой.
Но из туловища Шридамана с неистовой силой
хлынула кровь, чтобы затем — по пологим желобам
с покатыми стенками, проложенными в полу храма,—
медленно стечь в глубокую яму, вырытую под алта-
рем, — совсем как речка Золотая Муха, которая сна-
чала, точно молодая кобылка, вырывается из ворот
Химаванта и затем все медленнее и медленнее дер-
жит путь к устью.
VI
Но возвратимся из лона этого пещерного капища
к тем, что дожидаются у входа. Они, как и можно
было предполагать, сначала были молчаливы, а по-
том стали обмениваться недоуменными вопросами
касательно Шридамана, который зашел в храм лишь
затем, чтобы воздать почесть богине, но вот так
258
долго не возвращается. Прекрасная Сита, сидевшая
позади Нанды, долгое время смотрела то ему в за-
тылок, то себе в колена и была не менее молчалив^,
чем он, упорно не отворачивавший от упряжки своей
физиономии с козьим носом и простонародно выпя-
ченными губами. В конце концов оба все-таки начали
ерзать на своих местах, а еще немного спустя друг
отважился оборотиться к юной супруге и спросить:
— Ты-то хоть понимаешь, отчего он заставляет
пас дожидаться и что* он там так долго делает?
— Понятия не имею, Нанда, — отвечала она тем
самым колеблющимся и сладостным голосом, услы-
шать который он боялся, как заранее боялся и того,
что, отвечая, она назовет его по имени, а это пред-
ставлялось ему уж вовсе излишним, хотя было столь
же несущественно, как если бы он сказал: «Куда это
запропастился Шридаман?» — вместо того чтоб ска-
зать: «Куда это он запропастился?»
— Я уж давно ломаю себе голову над этим, ми-
лый Нанда, и если б ты сейчас ко мне не обернулся
и не спросил меня, я бы сама, пусть чуть-чуть по-
позже, задала тебе этот вопрос.
Он покачал головой, отчасти от удивления — по-
чему так замешкался друг, отчасти же отклоняя из-
лишнее, то и дело срывавшееся у нее с языка; ведь
вполне достаточно было сказать «обернулся», добав-
ление «ко мне», разумеется вполне правильное, было
излишне до опасности — выговоренное в то время,
как они ждали Шридамана, сладостно колеблющимся,
чуть неестественным голосом.
Он молчал из страха тоже заговорить неестествен-
ным голосом и, возможно, еще и назвать ее по имени,
следуя ее искусительному примеру; итак, это она,
после короткого молчания, предложила:
— Слушай, что я тебе скажу, Нанда, сходи-ка за
ним, погляди, где это он застрял, можешь встряхнуть
его сильными своими руками, если он забылся в мо-
литве,—нам нельзя больше ждать; очень странно
с его стороны заставлять нас сидеть здесь на солнце-
пеке и попусту терять время, когда мы и без того
так долго плутали; мои родители верно уж сильно
17*
259
беспокоятся, потому что они во мне души не чают.
Прошу тебя, Нанда, сходи и приведи его. Даже если
он еще не хочет идти и заартачится, все равно при-
веди! Ты ведь сильнее.
— Хорошо, я приведу его, — отвечал Нанда, —
только, конечно, не силком. Просто напомню ему, что
час уже поздний. Вообще-то я виноват, что мы сби-
лись с пути, один я. Я уж и сам собирался сходить
за ним, да подумал, может, тебе одной боязно дожи-
даться здесь. Но я ведь мигом обернусь.
Сказав это, он слез с козел и двинулся наверх
к святилищу.
А мы, знающие, что его там ждет! Наш долг про-
водить его через предхрамие, где он еще ничего не
подозревал, и через предвратный придел, где он тоже
еще пребывал в полнейшем неведении, и, наконец,
спуститься с ним в материнское лоно. Да, тут он по-
качнулся, ноги у него подкосило, приглушенный крик
ужаса сорвался с губ, он едва устоял, схватившись
за линги, совсем как Шридаман, но не идол его
испугал и поверг в зловещий экстаз, как Шридамана,
а то страшное, что было распростерто на полу. Там
лежал его друг, изжелта-бледная его голова с размо-
тавшейся белой холстиной была отделена от туло-
вища, и кровь его раздельными ручейками стекала
в яму.
Бедный Нанда трясся, как слоновье ухо. Он схва-
тился за щеки своими смуглыми руками, унизан-
ными множеством перстней, и из его простонародных
губ с трудом вновь и вновь выдавливалось имя друга.
Нагнувшись, он беспомощно взмахивал руками над
расчлененным Шридаманом, так как не знал, к ка-
кой части обратиться, какую заключить в объятия,
к какой взывать — к телу или к голове. Наконец он
остановился на последней: голова-то всегда всего
главнее; преклонил колени перед бледным челом и
заговорил (лицо его с козьим носом исказили рыда-
ния), одну руку все-таки положив на тело и время
от времени и к нему оборачиваясь.
— Шридаман, — всхлипывал он,—дорогой мой!
Что ты наделал и как это тебя достало такое совер-
ши?
шить над собой, собственными руками содеять столь
трудное деянье? По тебе ли этот подвиг? Но ты со-
вершил то, чего никто от тебя не ждал. Всегда я вос-
хищался твоим духом, а теперь обречен горестно
восхищаться еще и телом, потому что ты осуществил
наитруднейшее! Что же творилось в тебе, если ты на
это пошел? Какой жертвенный танец рука в руку
плясали в твоей груди великодушие и отчаяние, если
ты себя убил? Ах, горе, горе, благородная голова от-
делена от благородного тела! Оно еще покрыто жир-
ком, но смысл и значение у него отняты, ибо разру-
шена его связь с благородной головой. Скажи, мол
это вина? Я виновен в твоем поступке своим бытием,
если не своим деянием! Видишь, я думаю за тебя,
потому что моя голова еще думает, — может быть, ты
сделал этот выбор, ибо познал суть вещей и вину бы-
тия счел важнее вины деяния. Но может ли человек
сделать большее, нежели избегнуть деяния? Я молчал
сколько возможно, лишь бы не заговорить воркую-
щим голосом. Ничего лишнего я не сказал, даже
имени ее ни разу не произнес, когда говорил с нею.
Я сам себе свидетель, конечно только один я, ни на
что я не посмел откликнуться, когда она язвительно
о тебе отзывалась, чтобы возвысить меня. Но что
толку от этого, ежели я виноват уже тем, что суще-
ствую во плоти? Мне бы уйти в пустынь и там жить
в посту и воздержании. И уйти бы, не дожидаясь,
пока ты со мной заговоришь, — теперь вконец разда-
вленный, я это понимаю; и чтоб облегчить себе бремя,
могу добавить: я б наверняка это сделал, заговори ты
со мной! Почему ты со мной не заговорила, дорогая
голова, покуда еще не лежала в стороне, а сидела на
своем туловище? Ведь они всегда разговаривали друг
с другом, наши головы: твоя—по-умному, а моя —
по-простому, а вот когда все стало важно и опасно,
ты молчал! Теперь уже поздно, ты ничего не сказал,
а совершил поступок, великодушный и грозный, и тем
предписал мне, как должно поступать. Ведь ты же
не думал, что я от тебя отстану и что перед поступ-
ком, который ты совершил своими нежными руками,
мои руки отпрянут, опустятся! Я тебе часто говорил,
261
что не сумею пережить разлуку с тобой, и когда ты,
охваченный любовной болезнью, приказал сложить
для тебя костер, я сказал, что если так, то я буду
готовить костер для двоих и прыгну в него за тобою.
Что теперь должно случиться, я знаю давно, хоть
сейчас только сумел выудить это из путаницы моих
мыслей, едва я сюда вошел и увидал тебя на полу
(тебя — это значит тело, а рядом голову), приговор
над Нандой был произнесен. Я хотел гореть с тобою,
а теперь хочу истекать кровью с тобой, потому что
ничего другого мне, сказать по правде, не остается.
Что ж мне теперь— выйти и сказать ей, что ты сотво-
рил, и в криках ужаса, которые она станет испускать,
расслышать ее тайную радость? Что ж мне — ходить
по свету с пятном на честном имени и слушать, как
люди говорят, а они наверняка будут это говорить:
«Злодей Нанда предал друга, убил его, потому что
возжелал его жену»? Нет, этому не бывать! Никогда!
Я пойду за тобой, и пусть вечное лоно пьет мою
кровь вместе с твоею!
Сказав это, он отвернулся от головы и оборотился
к телу, высвободил рукоятку меча из его уже цепе-
неющих пальцев и отважными своими руками добро-
совестно привел в исполнение приговор, который сам
же произнес над собой, так что тело его, если сна-
чала упомянуть именно тело, рухнуло поперек Шри-
даманова, а пригожая его голова подкатилась к го-
лове друга и с остекленевшими глазами осталась ле-
жать подле нее. И его кровь сначала хлынула дико
и стремительно, а затем медленно заструилась по же-
лобам...
VII
Меж тем Сита, сиречь «бороздка», сидела одна
под шатром своей повозки, и ей казалось, что время
течет еще медленнее оттого, что впереди нет больше
затылка, на который можно смотреть. Сите, конечно,
и не снилось, что произошло с этим затылком, покуда
ее здесь одолевало самое будничное нетерпение. Воз-
можно, впрочем, что в ее душе, глубоко под досадой,
262
правда живой, но тем не менее относящейся к невин-
ному миру мыслимых вещей и даже побуждавшей ее
сердито топать ножками, шевелилось предчувствие
чего-то ужасного, что явилось причиной ее тоскливого
ожиданья и чему никак не соответствовали проявле-
ния нетерпеливости и досады, ибо оно относилось
к разряду тех возможностей, когда топать ножками,
право же, не приходится. Мы, конечно, должны при-
нять во внимание тайную открытость молодой жен-
щины такого рода предположениям, потому что в по-
следнее время она познала обстоятельства, которые
были несколько сродни, чтобы не сказать больше,
той сверхобычной сфере. Впрочем, это никак не ото-
звалось на том, что- сейчас проносилось в ее
мозгу.
«Я уж не знаю, что и сказать? Это же просто не-
переносимо!— думала она. — Ох, эти мужчины, все
они одинаковы! Право же, не стоит одного предпочи-
тать другому: ни на кого положиться нельзя. Один
уходит, оставляет тебя сидеть с другим, за что его
надо было бы хорошенько проучить, а когда ты отсы-
лаешь другого — сиди одна. Да еще на самом солнце-
пеке, потому что мы невесть сколько проплутали!
Еще немного, и я лопну с досады. Ведь среди всех
разумных и положительных возможностей не сыщешь
объяснения или оправдания тому, что сначала за-
пропастился один, а потом и другой, который за ним
пошел. Мне остается только думать, что они затеяли
спор и драку, — Шридаман так привержен молитве,
что его с места не сдвинешь, а Нанда хоть и старается
его увести, но из уважения к хрупкости моего мужа
не отваживается пустить в ход всю свою силу, потому
что он бы мог вынести этого Шридамана ко мне на
руках, как ребенка, ведь руки у Нанды наливаются,
точно железные, если ненароком проведешь по ним ла-
донью. Это бы, конечно, унизило Шридамана, но я
так заждалась, что пусть уж Нанда его унизит. Вот
что я хочу сказать: надо бы мне сейчас взяться за
всжжи и одной отправиться к моим родителям, а вы
придете, и здесь — никого, вот вам и поделом! Если
бы я не считала за бесчестье явиться туда без мужа
263
и друга, из^за того что они посадили меня здесь до-
жидаться, я бы так и сделала. А теперь мне только
остается встать (дольше мешкать уже нельзя), пойти
за ними и посмотреть, что они такое творят. Не уди-
вительно, что меня, бедную женщину, да еще брю-
хатую, одолевает страх, что-то таинственное наверно
уж гнездится за их загадочным поведеньем. Но все
равно, самое худшее из всего мыслимого — это что
они по каким-то причинам, которых другому и не
надумать, повздорили и из-за этого задержались.
В таком случае надо мне вмешаться и поставить
на место их глупые головы».
Тут Сига вылезла из повозки и пошла, при этом
бедра ее колыхались под обвивающим стан сари,
к храму Матери, и, не успев и пятнадцати раз вдох-
нуть воздух, узрела ужаснейшее из деяний.
Она вскинула руки, глаза выступили у ней из
орбит, сознанье затемнилось, и она во весь рост грох-
нулась наземь. Но что толку от этого? Ужаснейшему
деянию спешить было некуда, оно могло ждать, как
ждало уже, покуда Сита воображала, что это она
ждет; на любой срок оставалось оно таким, как было,
и когда несчастная пришла в себя, ничто не изме-
нилось. Она попыталась еще раз упасть в обморок,
но благодаря ее здоровой натуре это ей не удалось.
Итак, присев на камень и схватившись руками за
голову, она неподвижным взглядом уставилась на
отделенные головы, на крест-накрест лежащие тела
и на медленно растекавшуюся подо всем этим кровь.
— О боги, духи и великие подвижники,—лепе-
тали ее посинелые губы, — я пропала! Оба, оба за-
раз — ну, мне конец! Мой супруг и господин, с ко-
торым я ходила вокруг костра, мой Шридаман
с высокомудрой головой и всегда горячим телом, кто
в священные брачные ночи обучил меня всему, что я
знаю в сладострастии, досточтимая его голова отде-
лена от тела, нет его больше, он мертв! Мертв и дру-
гой, Нанда, который качал меня на качелях и был
моим сватом, — вот он лежит, голова его отделена от
окровавленного тела, «завиток счастливого теленка»
еще виден на отважной груди — без головы, что же это
264
.такое? Я могла бы до него дотронуться, могла бы
ощутить силу и красоту его рук и ляжек, если бы
посмела. Но я не смею: кровавая смерть встала ме-
жду ним и моим желанием, как прежде вставали
честь и дружба. Они отсекли головы друг другу! По
причине... я уже не таю ее от себя... Злоба их разго-
релась, точно огонь, в который плеснули масла, они
схватились, и свершилось это взаимное деяние — я
так все и вижу! Но как же они, разъяренные, бились
одним мечом? Шридаман, позабыв свою мудрость и
кротость, обнажил меч и отсек голову Нанде, после
чего тот... да нет же! Нанда по причине, от которой,
в моей беде меня еще и мороз по коже подирает,
обезглавил Шридамана, а он... да нет же, нет! Пере-
стань гадать, ничего у тебя не получается, одни кро-
вавые потемки, а их и без того достаточно; одно мне
ясно, что они поступили как дикари и нисколечко
обо мне не думали. То есть, конечно, думали, из-за
меня, бедной, разожглась их мужская распря, и меня
от этого в дрожь бросает; но только из-за себя они
думали обо мне, не из-за меня, не подумали ведь, что
со мною будет, — в своем неистовстве они ничуть об
этом не заботились, точь-в-точь как сейчас, когда они
недвижно лежат без головы, а я сама должна думать,
с чего же мне теперь начать! Начать? Да здесь кончать
надо, а не начинать. Неужто же мне вдовой бродить
по жизни да слушать хулу и поношения: эта, мол,
женщина так плохо ходила за своим мужем, что он по-
гиб. О вдовах и всегда-то худо отзываются, а сколько
я еще сраму приму, когда одна явлюсь в дом моего
отца и в дом моего свекра. Здесь только один меч, не
может быть, чтобы они друг друга убили, — одним ме-
чом двоим не управиться. Но есть еще третий чело-
век— я. Будут, конечно, говорить, что я необу-
зданная женщина, что я убила своего супруга и его
названного брата — цепь доказательств замкнулась.
Она, конечно, фальшивая, но зато законченная, звено
к звену, и меня предадут огню, невинную. Нет, нет! —
не невинную, стоило бы, конечно, налгать на себя,
^сли б не все было кончено, а так это бессмыслица.
Я вовсе не невинная, давно уже, а что касается
<265
необузданности, доля правды здесь есть, — большая,
очень большая доля! Только все это не так, как будут
думать люди, а значит, есть на свете ошибочная
справедливость? Вот тут-то я и забегу вперед, сама
себя покараю. Я должна последовать за ними, больше
мне ничего, ничего не остается! Меч, где уж мне
с ним управиться этими ручками, они так малы и
боязливы, что им не истребить тела, которому они
принадлежат; оно хоть и набухло соблазнами, но все
насквозь — слабость. Ах, жалко очень его прелести,
и все же оно должно стать таким неподвижным и
бездыханным, как эти оба, чтобы впредь не возбу-
ждать похоти и ее не испытывать. Вот то, что непре-
менно должно случиться, пусть даже число жертв воз-
растет до четырех. Да и что б он увидел в жизни,
вдовий ребенок? Несчастья бы согнули беднягу, я
уверена, что он был бы бледный и слепой, потому
что я побледнела от горя в миг сладострастия и за-
крыла глаза перед тем, кто меня одарил им. Что де-
лать! Это они предоставили мне. Смотрите же, как
я сумею себе помочь!
Она встала, зашаталась из стороны в сторону, по-
том взбежала по ступенькам и, устремив взгляд в пу-
стоту, помчалась через приделы храма обратно, на
волю. Фиговое дерево росло перед святилищем, все
увитое лианами. Она схватила одно зеленое вервие,
смастерила из него петлю, просунула в нее шею и
совсем уже собралась удушить себя.
VIII
Тут был ей голос из высей, и, несомненно, он мог
принадлежать только Дурга-Деви, Неприкасаемой,
Кали Темной, Матери мира. Это был низкий, грубый,
матерински решительный голос.
— Что это ты задумала, глупая гусыня? -— рек
он. — Тебе, видно, мало, что кровь моих сьшов, по
твоей вине, стекает в яму, ты еще хочешь изуродовать
мое дерево и превосходное мое порождение — твое
тело—отдать на растерзание воронам вместе с ми-
266
лым, сладостным, тепленьким зернышком, которое
всходит в нем? Ты что, индюшка, не приметила, что
оно в тебя заложено и что ты с ношею от моего сына?
Ежели ты не умеешь считать до трех в этих наших
делах, то сделай одолженье, вешайся, да только не
в моем дворе, а то будет похоже, что добрая жизнь
кончается в мире из-за твоей бестолковости. Мудрецы
мне все уши прожужжали глупыми своими домы-
слами, что человеческое бытие — это, мол, болезнь, ею
заражаются в любовном пылу, а значит, так пере-
дают и в другие поколения,— а ты, дурища, устраи-
ваешь мне здесь такие штуки! Вынимай голову из
петли, не то заработаешь оплеуху!
— Святая Матерь,— отвечала Сита,— разумеется,
я повинуюсь тебе. Я слышу твой громовый голос из-за
облаков и тотчас же прерываю дело, которое затеяла
с отчаяния, раз ты повелеваешь. Одно только должна
я сказать себе в оправдание: напрасно ты считаешь,
что я не понимала своего положения и не заметила,
что ты укрепила во мне росток и благословила меня.
Я только думала, что он будет теперь бледным, сле-
пым, несчастненьким.
— Ты уж, пожалуйста, предоставь мне печься об
этом! Во-первых, то, что ты говоришь, — глупое
бабье суеверие, во-вторых, в моей пастве должны
быть и бледные, слепые, несчастненькие. Ты лучше
чистосердечно признайся, почему там, в храме, при-
лила ко мне кровь моих сынов, они оба, каждый на
свой лад, славные были ребята! Не скажу, что их
кровь была мне неприятна, но на некоторое время я
еще охотно оставила бы ее течь в их достойных жи-
лах. Говори же! Да смотри, говори правду! Ты, на-
деюсь, понимаешь, что от меня и так ничего не
укроется.
— Они убили друг друга, святая Матерь, а меня
оставили сидеть и дожидаться. Впали в ярость из-за
меня и одним и тем же мечом отсекли...
— Вздор! Только баба может наболтать такую
ерунду! Они сами, в отважном своем благочестии,
один вслед за другим, принесли себя мне в жертву,
вот тебе и весь сказ! Но почему они это сделали?
267
Прекрасная Сита разрыдалась и сквозь слезы на-
чала говорить:
— Ах, святая Матерь, я знаю и не запираюсь, что
виновата я, но что тут поделаешь? Такое уж стряс-
лось несчастье, неизбежное, — конечно, можно ска-
зать, рок, если тебе не неприятно, что я так выра-
жаюсь (тут она всхлипнула несколько раз подряд),—
это же была беда, змеиный яд, что я превратилась
в женщину из хитроумно запертой, ничего не смысля-
щей девчонки, что мирно вкушала пищу у отцовского
очага, прежде чем познать мужчину, который ввел
ее в твои дела. Ах, твое дитя словно объелось бе-
шеной вишни! Совсем, совсем оно переменилось! С той
поры грех, в необоримой своей сладости, стал влады-
кой его раскрывшегося чувства. Не то чтобы я хо-
тела вернуть эту резвую, хитроумную непочатость,
которая была неведением,— нет, этого я не хочу, да
это и невозможно, даже на краткий миг. Я ведь не
знала этого человека в то время, не видела его, уж
конечно нисколько о нем не думала, и моя душа
была свободна от него и от жаркого желания про-
знать его тайны, так что я даже подшучивала над
ним, а вообще-то смело и спокойно шла своей доро-
гой. Юноша явился к нам, с плоским носом, черно-
глазый, дивного сложения, Нанда из «Благоденствую-
щих коров»; в праздник он качал меня на качелях
до самого солнца, и оно меня не жгло. От прикосно-
вений воздуха мне было жарко, больше ни от чего,
и в знак благодарности я щелкнула его по носу. По-
том он вернулся уже сватом Шридамана, своего
друга, после того как наши родители договорились.
Тут уже все было чуточку по-другому, — может, беда
и коренится в тех днях, когда он сватался от имени
того, кто должен был меня обнять как супруг; но тот
еще не был здесь — только другой был.
Он был все время, перед свадьбой и во время
свадьбы, когда мы ходили вокруг костра, и потом
тоже. Днем, разумеется, а не ночью, ночью я спала
с его другом, господином моим Шридаманом, и когда
в брачную ночь мы спознались, точно божественная
чета на усыпанном цветами ложе, он отомкнул
268
меня своей мужскою силой, положил конец моему
неведенью, потому что сделал меня женщиной и от-
нял у меня лукавую холодность девичьих лет. О, это
он сумел, да и как же иначе, ведь он был твой сын
и знал, как сделать радостным любовное соитие; что
я его любила, почитала и боялась — об этом и гово-
рить не приходится, — ах, святая Матерь, не такая
уж я испорченная женщина, чтобы не любить своего
господина и супруга и тем паче не бояться и не по-
читать его тонкую-претонкую, мудрую голову с мяг-
кой такой бородой, точь-в-точь как его глаза, и веки,
и тело, на котором все это держится. Только я хоть
и почитаю его, а все время себя спрашиваю: да разве
пристало ему сделать из меня женщину и просветить
мою бойкую холодность страшной и сладостной тя-
жестью чувств? Мне все казалось, что не его это дело,
что это его не достойно, низко для его мудрости, и
в брачные ночи, когда его плоть восставала, мне все
казалось, что для него это постыдно, унизительно для
его высокомудрия — и в то же время срам и униже-
ние для меня, пробудившейся.
Вечная Матерь, так оно было, брани меня, пока-
рай меня! Я, твое созданье, в этот страшный час без
утайки признаюсь тебе, как обстояли дела, хоть знаю,
что тебе и без того все открыто. Любовная страсть
не подобала Шридаману, моему благородному су-
пругу, его голове и даже телу, которое в этих де-
лах— тут ты со мной согласишься—самое главное,
совсем не подобало телу, что сейчас столь ужасно
разъединено с принадлежащей к нему головой. Он
даже не умел так сделать, чтобы я всем сердцем пре-
далась любовному соитию; пробудить-то он меня
пробудил для своего вожделения, но моего не уто-
лял. Умилостивься, святая Матерь! Твое пробужден-
ное создание больше вожделело, чем вкушало сча-
стье, и желание мое было сильнее утехи.
А днем, и вечером тоже, перед тем как идти спать,
я видела Нанду, козьеносого нашего друга. И не
только видела, я на него смотрела, как научили меня
священные узы брака смотреть на мужчину, его ис-
пытывать; а потом мне в душу закрался вопрос:
269
сумеет ли он сделать так, чтобы мое сердце билось при
любовном соитии с ним, который и говорить-то не
умеет так правильно, как Шридаман, и еще, как со«
вершится божественная встреча с этим, а не с дру-
гим? Да, так думала о своем супруге я, несчастная,
порочная, непочтительная! И еще говорила себе: все
одно и то же! Ну где уж Нанде! Он ведь только что
приятный с лица и на разговор, а твой господин и
супруг — человек, можно сказать, высоких до-
стоинств,— так где уж тут отличиться Нанде? Но мне
это не помогало; вопрос о Нанде и мысль: как же
под стать, без всякого стыда и унижения, будет лю-
бовное соитие его голове и членам и что он, зна-
чит, и есть тот, кто установит равновесие между моим
счастьем и моей пробужденностью, — она, эта мысль,
засела мне в плоть и кровь, словно крючок в рыбью
глотку, и о том, чтобы его вытащить, нечего было и
мечтать: ведь крючок-то был с закорючкой. Ну как
мне было вырвать из души и тела вопрос о Нанде,
если он всегда был при нас? Шридаман и он, хоть и
совсем разные люди, никак не могли обойтись друг,
без друга. Каждый день я его видела, а ночью во-
ображала, что это он со мною рядом, а не Шридаман.
Когда я смотрела на его грудь, отмеченную «завит-
ком счастливого теленка», на узкие его бедра и со-
всем маленький зад (у меня-то ведь зад большой,
а у Шридамана чресла и зад как раз середка между
мной и Нандой), я делалась сама не своя. Когда его
рука касалась меня, все волоски на моем теле дыбом
вставали от блаженства. Когда я воображала, как
дивные ноги, на которых он ходил, от колен до
ступни поросшие черными волосами, обовьют меня
в любовной игре, у меня дух занимался и груди на-
бухали от сладкой мечты. День ото дня становился
он мне милее, и я только дивилась прежней немысли-
мой своей неразбуженности, когда он качал меня
на качелях, и ни он сам, ни запах горчичного маслаг
что источала его кожа, ничуть меня не трогали: как
раджа гандхарвов Читраратха, являлся он мне в HeV
земном сиянии, как бог любви в своей красоте и юно-
сти, такой, что голова шла кругом, весь в дивных
270
украшениях, цветочных цепях, в благоухании и любо-
страстной прелести — Вишну, сошедший на землю
в образе Кришны.
Потому, когда, бывало, Шридаман ночью при-
льнет ко мне, я бледнела от горя, что это он, а не
другой, и еще закрывала глаза, чтобы думать — это
Нанда меня обнимает. Иной раз ничего я не могла
с собой поделать и в любовном пылу бормотала имя
того, кто должен был бы, будь на то моя воля, рас-
палять меня, так что Шридаман понимал: я прелюбо-
действую в нежных его объятиях; ведь я, на свою
беду, говорю во сне, и, конечно, его оскорбленному
слуху все стало ясно из моей болтовни. Я сужу по
глубокой печали, которой он предался, и еще по
тому, что он меня оставил в покое, больше ко мне
не притрагивался. Нанда тоже ко мне не притраги-
вался— не потому, что его ко мне не тянуло, — еще
как тянуло, уж я-то знаю, и не позволю себе клей-
мить его подозрением, что он не изо всех сил ко мне
тянулся! Нерушимая верность другу — вот почему он
бежал искушения! И я, верь мне, вечная Матерь,—
я, во всяком случае, в это верю, — я тоже, если бы
эта пытка наконец обернулась попыткой, спровадила
бы его из уважения к мудрой голове моего супруга.
А так я вообще осталась без мужчины, и мы, все трое,
только и знали, что жить в воздержании.
Вот при таких-то обстоятельствах, о Матерь всего
сущего, мы и тронулись в путь к моим родителям
и, сбившись с дороги, набрели на твой дом. На
немножко, сказал Шридаман, зайдет он в храм,
чтобы мимоездом воздать тебе почести. Но в твоей
подземной бойне, теснимый жизнью, совершил наи-
страшнейшее и лишил свои члены достопочтенной го-
ловы, или, вернее, отнял члены у высокомудрой своей
головы, а меня вверг в унылое вдовство. Горе оттого,
что я от него отпала, да еще забота обо мне, преступ-
нице, были причиной страшного деяния. Ты уж про-
сти мне, великая Матерь, правдивое слово: не тебе
принес он себя в жертву, а мне и другу, чтобы могли
мы сполна вкусить любовных радостей. А Нанда, ко-
торый пошел его искать, не захотел иметь на совести
271
эту жертву и тоже отсек голову от своего кришнопо-
добного тела, так что ничего оно теперь не стоит. Но
ничего — ровно ничего! — не стоит теперь и моя
жизнь: я тоже словно обезглавленная — без мужа,
без друга. Наверно, я провинилась в прошлой жизни
и наказана этой бедой. И как же ты после всего этого
удивляешься, что я собралась положить конец моей
нынешней жизни?
— Ты любопытная гусыня и больше ничего, —
рекла Матерь громовым заоблачным голосом.—
Просто смешно, что ты со своим любопытством вы-
творила из этого Нанды. С такими руками и на
таких ногах по земле бегают миллионы моих сыновей,
а ты из него сотворила себе гандхарву! В конце кон-
цов это даже трогательно, — добавил божественный
голос уже нескользко мягче. — Я, Матерь, считаю, что
любострастие, в сущности, трогательно и что его
очень уж возвеличили. Но порядок, конечно, должен
быть! — И голос вдруг опять сделался грубым и
раскатистым. — Я есмь, конечно, беспорядок, и
именно потому должна со всей решительностью тре-
бовать порядка и блюсти нерушимость брачного
союза, это ты себе заруби на носу! Все ведь полетит
вверх тормашками, если я дам волю своему доброду-
шию! Но вот тобой я очень недовольна. Устраиваешь
мне здесь фокус-покусы да еще говоришь дерзости.
Ты изволила заметить, что мои сыны не мне при-
несли себя в жертву, не затем, чтобы ко мне прилила
их кровь, а один, мол, тебе, второй же — первому.
Что это еще за тон? Пусть-ка попробовал бы человек
отрубить себе голову — не горло перерезать, а по-
настоящему, как того требует жертвенный обряд,
срезать себе голову с плеч — вдобавок еще человек
просвещенный, как твой Шридаман, который и
в любви-то не большой мастер, — если бы не было
у него нужных для этого поступка силы и неистов-
ства, которые я в него влила! Посему я запрещаю
тебе этот тон, независимо от того, есть в твоих
словах доля правды или нет. Ибо правда здесь может
значить, что их поступок был продиктован смешан-
ными причинами, иными словами: это темный посту-
272
пок. Не только затем, чтобы снискать мою милость,
принес мой сын Шридаман себя мне в жертву, но еще
с горя по тебе, может быть, и не отдав себе в этом
отчета. А жертва маленького Нанды явилась лишь
неизбежным следствием Шридаманова деяния. По-
тому я и не чувствую особой склонности принять их
кровь и взглянуть на все это как на жертву. Если
я отменю эту двойную жертву и все поставлю на свои
места, могу я надеяться, что впредь ты будешь вести
себя прилично?
— Ах, святая и милая Матерь! — вскричала Сита
сквозь слезы. — Если ты можешь это совершить,
можешь обратить страшные события вспять, вернуть
мне мужа и друга, так что все опять будет по-ста-
рому, — как же я стану благословлять тебя, я даже
во сне сдержу свой язык, чтобы больше не огорчать
благородного Шридамана! Словами не скажешь, как
я буду тебе благодарна, если ты это устроишь и все
будет как было. Потому что, если все и обернулось
очень печально, так что я, когда стояла у тебя между
колен и смотрела на страшную картину, ясно поняла,
что иначе это и не могло кончиться, то как же было
бы замечательно, если бы твоей мощи достало на то,
чтобы отменить такой конец, ведь в следующий раз
все могло бы окончиться куда благополучней.
— Что значит «достало», «устроишь»? — отвечал
божественный голос. — Надеюсь, ты не сомневаешься,
что для моей мощи это сущий пустяк? С тех пор как
стоит свет, я не раз это доказывала. Хоть ты этого и
не заслуживаешь, но мне тебя жалко вместе со
слепым и бледным росточком в твоем лоне, и обоих
юнцов вон там тоже жалко. Посему навостри-ка уши
и внимай тому, что я скажу! Придется тебе оставить
эту лиану в покое и вернуться в мое святилище, пред
мой лик и к зрелищу, которое ты там устроила. Там
уж не изволь корчить из себя неженку и падать
в обморок; ты возьмешь головы за чуб и опять при-
строишь их к злосчастным туловищам. Если ты при
этом благословишь надрезы жертвенным мечом,
сверху вниз, и дважды произнесешь мое имя — мо-
жешь называть меня Дурга, или Кали, или даже
18 Т. Манн. т. 8
273
попросту Деви, это дела не меняет,— то юнцы воскре-
шены. Ты меня поняла? Головы к телам подноси не
слишком быстро, несмотря на сильное притяжение, ко-
торое возникнет между головой и туловищем, дабы у
пролитой крови хватило времени хлынуть вспять и
вновь влиться в жилы. Это произойдет со сверхъесте-
ственной быстротою, но какое-то мгновение потре-
буется и здесь. Ты, надеюсь, меня слышала? Ну, беги!
Да смотри, сделай свое дело аккуратно, а то заторо-
пишься и неправильно приставишь головы, и будут
они оба ходить с лицом на затылке и народ смешить.
Иди! Если прождешь до завтра, будет поздно.
IX
Прекрасная Сита ничего не ответила, даже «спа-
сибо» не сказала, она вскочила и пустилась бежать
так быстро, как это ей позволяло сари, обратно
в храм Матери Кали. Она пробежала предхрамие,
а затем предвратный придел, ворвалась в материн-
ское лоно и перед наводящим ужас ликом богини
с лихорадочной поспешностью взялась за предписан-
ный ей урок. Сила притяжения между головами и
туловищами оказалась не столь велика, как о том
говорила Деви. Ощутимой она, конечно, была, но не
настолько, чтоб представлять опасность для своевре-
менного возвращения крови вверх по желобам, что
происходило с волшебной быстротой под частый-
частый чавкающий рокот. Благословение мечом и
имя богини, которое Сита с едва сдерживаемым ли-
кованием выкрикнула даже по три раза на каждого
воскрешаемого, безошибочно сделали свое дело:
с крепко сидящими головами без порезов и шрамов
восстали перед нею оба юноши, взглянули на нее,
потом каждый глянул вниз на свое тело, вернее: сде-
лав это, глянул на тело другого, ибо, чтоб увидеть
себя, ему надо было глядеть на другого — такое уж
у них получилось воскресение.
Сита, что ты натворила? Или что случилось? Или
чему ты дала случиться, торопыга? Одним словом
274
(попробуем поставить вопрос так, чтобы граница
между поступком и случаем осталась подобающе
зыбкой): что с тобой стряслось? Волнение, которое
тебя обуяло, вполне понятно, но неужто ты не могла
пошире раскрыть глаза, приступая к этому делу?
Нет, головы своим юнцам ты не насадила задом на-
перед, лица у них не там, где должен быть затылок, —
этого с тобою не случилось. Но, — пора уже сказать,
как ты оплошала, назвать по имени невообразимое
приключение, несчастье, беду, напасть, или как там
теперь вы все трое захотите это называть, — голову
одного ты насадила другому и еще накрепко ее при-
благословила: голову Нанды — Шридаману, если
туловище его без самого главного еще можно имено-
вать Шридаманом, и голову Шридамана — Нанде,
ежели безголовый Нанда еще оставался Нандой,—
короче говоря, не прежними восстали из мертвых
муж и друг, а так сказать, в обратном порядке:
узнаешь ли ты Нанду — если это Нанда с простона-
родным своим лицом — в рубахе и в подобии широ-
ких шаровар, облекающих изящное, с жирком, тело
Шридамана; а Шридаман—если можно этим именем
назвать фигуру, увенчанную нежной его головой; вот
он стоит перед тобою на стройных и сильных ногах
Нанды с «завитком счастливого теленка» под жем-
чужным ожерельем на «его» широкой и загорелой
груди.
Какая напасть — из-за неразумной поспешности!
Принесшие себя в жертву жили, но жили подменен-
ные: тело мужа было увенчано головою друга, на теле
друга красовалась голова мужа. Не диво, что не-
сколько минут кряду в скалистом лоне отдавались
изумленные возгласы этих троих. Юноша с головою
Нанды, ощупывая себя, ощупывал тело, некогда быв-
шее незначащим придатком к мудрой голове Шрида-
мана; а этот последний (если судить по голове), пол-
ный изумления, как свое собственное трогал тело, что
в сочетании с миловидной головою Нанды играло
когда-то первостепенную роль. Что касается учреди-
тельницы этого нового статуса, то она с криками
восторга и отчаяния, кляня себя и взывая
18*
275
о прощении, металась от одного к другому, попере-
менно их обнимала и наконец бросилась им в ноги,
чтобы, то всхлипывая, то смеясь, поведать о своих
мучениях и ужасной оплошке.
— Простите меня, если можете! — восклицала
Сита. — Прости меня, любезный Шридаман, — почти-
тельно обратилась она к его голове и скользнула
взглядом по телу Нанды, приданному этой голове, —
прости и ты меня, Нанда, — она опять воззвала к со-
ответствующей голове, которая, несмотря на ее не-
значительность, и теперь представлялась ей самым
главным, тело же Шридамана, приданное этой голове,
несущественным привеском.— Ах, вы должны найти
в себе силы простить меня, если вы подумаете об
ужасном деянии, на которое у вас достало сил
в прошлом вашем воплощении, и об отчаянии, в кото-
рое вы меня ввергли, подумаете, что я совсем уже
собралась удушиться, а затем у меня состоялся го-
ловокружительный разговор с громовым заоблачным
голосом самой Неприкасаемой, то вы поймете, что,
выполняя ее веления, я была не в себе, — у меня все
плыло перед глазами, и я не отдавала себе отчета, что
у меня под рукой — чья тут голова и чье тело... Я по-
надеялась на удачу, понадеялась, что свое найдет
свое. Наполовину можно было подумать, что я все де-
лаю правильно, и наполовину, что нет, — так вот все
у меня и сошлось, да и у вас так все сошлось и при-
лепилось... Откуда же было мне знать, такая ли
должна быть сила притяжения между головой и
телом? Притяжение-то было, даже очень сильное, но
в другом сочетании оно, возможно, было бы и еще
сильнее. Неприкасаемая тут тоже немножко виновата,
она меня только предостерегала, чтобы я не насадила
вам головы задом наперед, об этом я и заботилась;
что все может получиться так, как получилось, высо-
кая Матерь не подумала! Скажите, вы в ужасе от
такого воскресения? Вы навеки меня проклинаете?
Тогда я пойду вон из храма и завершу деянье, кото-
рое Бесконечная повелела мне прервать. Или вы
в силах меня простить и считаете возможным, что
в тех обстоятельствах, которые создал слепой оок,
276
для нас троих может начаться новая, лучшая
жизнь, — я говорю лучшая, потому что прежнее наше
положение так печально закончилось, и если бы оно
восстановилось, то, по человеческому разумению,
разве все опять не пришло бы к тому же самому?
Ответь мне, Шридаман! Просвети меня, благородно
сложенный Нанда!
Соревнуясь в милосердии, обмененные юноши
склонились над нею, подняли ее, один руками дру-
гого, и все трое, смеясь и плача, обнялись, являя со-
бой весьма трогательную группу. При этом стали
очевидны два обстоятельства: первое, что Сита по-
ступила правильно, обратившись к воскрешенным по
их головам, ибо от голов все зависело, что, несом-
ненно, головы определяли сущность, неповторимое
«я», и Нандой чувствовал и сознавал себя тот, на
чьих узких и светлых плечах покоилась простонарод-
ная голова сына Гарги, а Шридаманом вел и держал
себя тот, чьи великолепные, смуглые плечи несли на
себе голову потомка брахманов; и второе: что оба
они и вправду не гневались на Ситу за ее оплошку,
напротив — от души радовались новым своим обли-
чьям.
— Предпошлем, — сказал Шридаман, — что Нанда
не стыдится тела, которое ему досталось, и не очень
сожалеет о «завитке счастливого теленка» — это
было бы мне огорчительно; я же, со своей стороны,
могу только сказать, что отныне почитаю себя сча-
стливейшим человеком. Я всегда мечтал именно о та-
ком телесном воплощении, и когда я ощупываю
мускулы на своих руках, смотрю на свои плечи или
опускаю глаза, чтобы видеть великолепные свои ноги,
меня обуревает неукротимая радость и я говорю себе,
что отныне совсем по-иному, высоко, стану носить
свою голову, во-первых, от сознания своей силы и
красоты, а во-вторых, потому, что склонности моего
духа будут теперь находиться в полном согласии с
моим телесным складом, и уже нельзя будет счесть
неподобающим или извращенным, если я стану под
деревом ратовать за опрощение, за шествие коров
вокруг горы Пестрая Вершина взамен суемудрых
2Л
ритуалов, ибо теперь это мне подобает, — чужое от-
ныне стало моим. Милые друзья, есть, конечно, и
доля грусти в том, что чужое стало моим и нет у меня
больше чего желать, чем восхищаться, разве только
самим собой, и еще в том, что я более не служу
другим, когда служение Горе превозношу над празд-
ником Индры, а только тому, кем я стал. Да, при-
знаюсь, мне немного грустно, что я теперь тот, каким
всегда хотел быть. Но эта печаль далеко отступает
перед мыслью о тебе, сладостная Сита, мыслью,
которая для меня куда важнее размышлений о себе
самом; я думаю о преимуществах, какие ты извле-
чешь из моего нового обличья, и заранее радостно
ими горжусь. И что касается меня, то все это чудо
я могу только благословить словами: «Сья, да будет
так!»
— Ты мог бы, правда, сказать «Сьят!» после
столь отлично построенной речи, — заговорил наконец
Нанда, потупившийся при последнем слове друга, —
не позволив своим устам подвергнуться воздействию
моих простецких членов, из-за которых я тебе ни-
сколько не завидую, потому что они слишком даже
долго были моими. Я тоже, Сита, ничуть на тебя не
сержусь и в свой черед говорю «Сьят!» об этом
чуде, потому что я всегда желал для себя такого
изящного тела, какое мне теперь досталось. И когда
я в будущем стану защищать премудрое учение Индры
против поборников опрощения, мне это будет больше
к лицу или, скажем, к телу, которое для тебя, Шри-
даман, всегда было второстепенным, для меня же са-
мым главным. Я и не удивляюсь, что наши головы и
тела, впопыхах соединенные тобою, Сита, обладали
такой силой взаимного притяжения; эта сила свиде-
тельствовала о дружбе, которая связывала нас со
Шридаманом, и я могу только надеяться, что ей не
положит конец все случившееся. Но вот одно я должен
сказать: моя бедная голова волей-неволей должна ду-
мать о теле, на которое она насажена, и отстаивать
его права, поэтому я удивлен и огорчен, Шридаман,
что ты как о чем-то само собой разумеющемся обмол-
вился о супружеской будущности Ситы. В моей голове*
278
это не укладывается, и ничего тут само собой не разу-
меется; напротив, это еще большой вопрос, и моя го-
лова отвечает на него, видно, по-другому, чем твоя.
— Как так? — в один голос воскликнули Сита и
Шридаман.
— «Как так»? — повторил субтильный друг. — Не
понимаю, что тут спрашивать? Для меня всего важ-
нее тело, и, значит, я раздумываю о смысле брака,
в котором оно тоже всего важнее, потому что дети
родятся от тела, а не от головы. И хотел бы я посмо-
треть, кто теперь станет оспаривать, что я отец зер-
нышка, созревающего в утробе Ситы.
— Сумасбродная твоя голова! — крикнул Шрида-
ман и в сердцах дернулся своим могучим телом. —
Подумай немножко, кто ты есть! Нанда ты или кто-
нибудь еще?
— Конечно, я Нанда,— отвечал тот, — но раз
я по праву называю это мужнее тело своим и говорю
о нем не иначе, как «я», то и Сита, прекрасная, куда
ни глянь, по праву — моя жена, а ее зернышко — мое
творение.
— Ты полагаешь?—отвечал Шридаман дрогнув-
шим голосом. — Полагаешь, что так? Я бы не ре-
шился это утверждать в пору, когда твое нынешнее
тело еще было моим и покоилось подле Ситы. Ведь,
собственно, она не его обнимала, что, к величайшему
моему горю, явствовало из ее шепота и бормотания,
а то, которое я теперь называю своим. Нехорошо
с твоей стороны, друг мой, что ты коснулся этой
прискорбной истории и меня заставил говорить о ней.
Ну можно ли так решительно утверждать: это-де моя
голова, или, вернее, мое тело, и делать вид, что ты
сделался мною, а я тобой? Совершенно ясно, что если
бы здесь имел место обмен и ты сделался бы Шрида-
маном, супругом Ситы, я же стал бы Нандой, — то
это бы значило, что никакого обмена не произошло и
все осталось по-старому. Меж тем счастливое чудо
как раз в том и состоит, что под руками Ситы произо-
шел обмен только голов и членов, которому радуются
наши мыслящие головы, ибо он послужит к радости
пышнобедрой Ситы, Ты же, упрямо ссылаясь на
279
свое супружеское тело и присваивая себе супруже-
ские права, мне же отводя место друга дома, выка-
зываешь непростительное себялюбие, думаешь только
о своих сомнительных правах, а не о счастье Ситы и
о тех преимуществах, которые воспоследуют для нее
из этого обмена;
— Преимущества, — не без горечи возразил
Нанда, — и то, что ты собираешься ими гордиться,
словно они и впрямь твои, говорят о самом откровен-
ном твоем себялюбии. И это же себялюбие виною
тому, что ты так неправильно меня понимаешь. Ma
самом деле я вовсе не полагаюсь на благоприобретен-
ное супружеское тело, а только на свою собственную
привычную голову, которая, как ты изволил заметить,
служит всему мерилом и заодно с новым и более
изящным телом делает меня Нандой. Ты очень не-
справедливо утверждаешь, что я меньше тебя заинте-
ресован в счастье Ситы и в преимуществах, которые
она может из всего этого извлечь. Когда она смот-
рела на меня в последнее время и со мной говорила
сладостно-трепетным, звучным голосом, который я и
слушать-то боялся, опасаясь, что стану так же отве-
чать ей, то она смотрела мне в глаза, своими глазами
старалась читать в моих и называла меня «Нанда» и
еще «милый Нанда», что мне казалось уже излишним,
однако излишним не было, как я теперь понял, а, на-
против, было исполнено величайшего значения. Ибо
эти слова подтверждают, что она не имела в виду
мое тело, которое само по себе, конечно, не заслу-
живает этого имени, как ты сам наилучшим образом
доказал теперь, когда оно стало твоим, продолжая
именовать себя Шридаманом. Я ей не отвечал или
говорил в ответ только самое необходимое, чтобы не
заразиться этим трепетом, этой звучностью, даже по
имени ее не называл и отводил глаза, чтобы она
ничего не прочитала в них, — все из дружбы к тебе,
из уважения к твоему супружеству. Ну а теперь,
когда глазам, в которые она так глубоко, так вопро-
сительно заглядывала, голове, которой она говорила
«Нанда» и «милый Нанда», еще придано тело
супруга, а его телу голова Нанды, — теперь положе-
280
ние коренным образом переменилось в пользу мою и
Ситы. И прежде всего в ее пользу! А раз уж мы так
радеем о ее счастье и довольстве, то ничего лучше и
совершеннее меня в нынешних моих обстоятельствах
для нее и не придумаешь.
— Нет, — возразил Шридаман,— право же, я от
тебя этого не ожидал. Я боялся, что ты станешь сты-
диться моего тела, но прежнее мое тело с тем же
успехом могло стыдиться твоей головы; вот в каких
ты запутался противоречиях, объявляя, по собствен-
ному усмотрению, то голову, то тело наиважнейшим
в супружестве! Ты всегда был скромным юношей,
а теперь дошел до вершин наглости и самодоволь-
ства, — подумать только, что ты выдаешь себя в ны-
нешних твоих обстоятельствах за самое лучшее и
совершенное из всего, что может составить счастье
Ситы, хотя ясно, как дважды два, что один я могу ей
предложить наилучшие, то есть наиболее радостные и
успокоительные, условия для счастья! Но, право же,
бессмысленно и безнадежно дальше тратить слова.
Вот она стоит, Сита. Пусть сама скажет, кому ей
принадлежать, пусть будет судьей над нами и нашим
счастьем.
Сита в смятении смотрела то на одного, то на дру-
гого. Потом она закрыла лицо руками и стала
плакать.
— Не могу я, -*- рыдала она. — Пожалуйста, не
принуждайте меня решать, я всего-навсего бедная
женщина, и мне это слишком тяжело. Поначалу мне
все казалось легко, и хоть я и очень стыдилась своей
ошибки, но все-таки радовалась ей, особенно когда
видела, что и вы оба рады. Но от ваших речей у меня
голова идет кругом и сердце разрывается так, что
одна половина спорит с другой, точь-в-точь как вы
спорите. В твоих словах, достопочтенный Шридаман,
немало правды, хоть ты и позабыл сказать, что
я могу вернуться домой только с тем супругом, у ко-
торого твои черты. Но доводы Нанды тоже в какой-то
мере меня трогают, и когда я вспоминаю, как пе-
чально и безразлично было мне его тело без головы,
то я думаю, что он прав, и я, наверно, прежде всего
281
имела в виду его голову, однажды сказав ему «ми-
лый Нанда». Но если ты говоришь о спокойствии,
милый Шридаман, спокойствии в счастье, то ведь это
еще большой вопрос, и очень трудно ответить, что
даст моему счастью больше спокойствия: тело супруга
или его голова. Нет уж, не мучайте меня, я все равно
не в силах вас примирить и понятия не имею, кто из
вас двоих мой супруг.
*— Если так обстоит дело, — сказал Нанда,
растерянно помолчав, — и Сита ничего не может
решить, не может рассудить нас, тогда решение
должно быть вынесено третьей, вернее, четвертой сто-
роной. Когда Сита сейчас сказала, что ей можно вер-
нуться домой только с тем супругом, у которого будут
черты Шридамана, мне подумалось: зачем нам воз-
вращаться домой, мы будем жить в уединении, если
покой и счастье она найдет во мне, своем телесном
супруге. Я давно уже носился с мыслью об уединен-
ном житии в пустыне и уже не раз намеревался стать
отшельником, когда голос Ситы внушал мне опасения
за верность дружбе. И вот я свел знакомство с не-
киим подвижником особо святой жизни по имени Ка-
мадамана, дабы получить от него наставление отно-
сительно жизни в безлюдье, и посетил его в лесу Дан-
дака, где он обитает и где кругом полным-полно
святых. Вообще-то его имя просто Гуа, но он присвоил
себе отшельническое имя, Камадамана, и хочет, чтобы
так его и звали, если вообще дозволяет к себе обра-
титься. Уже много лет он живет в лесу Дандака,
строго блюдя обеты омовений и молчания, и, думается
мне, уже близок к преображению. Давайте же поедем
к этому мудрецу — он знает жизнь, он сумел ее пре-
одолеть — и расскажем ему о случившемся с нами,
поставив его судьей над счастьем Ситы. Пусть он ре-
шит, если, конечно, вы оба на это согласны, кто из
нас двоих ее супруг; и да будет нерушим его приговор«
— Да, да, — с облегчением воскликнула Сита.—
Нанда прав, поедем к святому старцу.
— Поскольку речь здесь идет о спорном во-
просе, — сказал Шридаман, — который, видимо, дол-
жен быть решен не нами, то я вполне одобряю это
282
предложение и обещаю подчиниться приговору муд-
реца.
И так как в этом пункте они пришли к согласию,
то все вместе покинули храм Матери Кали и верну-
лись к своей повозке, все еще дожидавшейся их
внизу, у входа в пещеру. Но здесь тотчас же возник
вопрос, кому из мужчин взять на себя обязанности
возницы: ибо, с одной стороны, это дело телесное,
с другой же — для него нужна голова, а Нанда знал
дорогу в лес Дандака, до которого было два дня
пути, она была у него в голове; по телесной же стати
Шридаман больше подходил к тому, чтобы править
упряжкой, отчего Нанда до сих пор и исправлял эти
обязанности. Но теперь он уступил их Шридаману,
а сам с Ситой уселся позади и только указывал ему,
куда ехать.
X
Влажно-зеленый лес Дандака, до которого наши
друзья добрались лишь на третий день, был из-
рядно населен святыми; но в то же время он был
настолько велик, что каждому из них предоставлял
вволю одиночества, да еще целый кусок грозного
безлюдья. Нелегко пришлось паломникам, покуда
они, от отшельника к отшельнику, дознавались, где
обитает Камадамана, укротитель желаний, потому
что все эти подвижники ничего не хотели знать друг
о друге и каждый твердо стоял на том, что он одинок
в громадном лесу и что его окружает полнейшее
безлюдье. Лес обитали святые разных степеней: были
среди них такие, что прошли через житейскую сту-
пень «отца семейства» и остаток жизни, иногда даже
вместе с женой, посвящали умеренному созерцанию,
но были и вконец одичавшие, устремленные к послед-
ней одухотворенности йоги, которые почти полностью
обуздали резвость своих чувств, изнуряя плоть до
последней крайности, и во исполнение нещадных
обетов совершали наимрачнейшие деяния. Они не-
истово постились, в дождь, нагие, спали на земле,
в холодное время года носили только мокрую одежду
283
и, напротив, в летнюю жару садились меж четырех
костров, дабы растопить свою земную материю, ко-
торая и вправду частично стекала с них, частично же
растворялась в иссушающем жаре; но они подвер-
гали ее еще и дополнительному истязанию, целыми
днями взад и вперед катались по земле или пребы-
вали в беспрерывном движении, быстро садясь и
вставая, садясь и вставая. Если же при таких
упражнениях их одолевала хворь, а значит, открыва-
лись виды на скорое преображение, они совершали
последнее паломничество на северо-восток, питаясь
уже не травами и клубнями, а только водой и воз-
духом, покуда тело не отказывалось служить им,
а душа не воссоединялась с Брахмой.
Итак, жаждущие наставления встречали на своем
пути через наделы отъединенности святых такого
рода, и других родов тоже, после того как оставили
свою повозку на опушке леса праведников у одного
отшельнического семейства, что жило там сравни-
тельно вольной жизнью, не вовсе воздерживаясь от
соприкосновения с внешним миром. Как уже сказано,
трудно было троим нашим героям разыскать пустынь,
обитаемую Камадаманой; Нанда, правда, однажды
уже прошел к нему через бездорожье, но теперь
у него было другое тело, и его зрительная память
заметно притупилась. Те же, что жили в лесу, на
деревьях и в дуплах, прикидывались несведущими
или же на самом деле ни о чем не ведали, и только
с помощью жен прежних «отцов семейств», которые
из-за спины своих повелителей по доброте душев-
ной пальцем показывали направление нашим путни-
кам, добрели они наконец, после того как еще целый
день проплутали по лесу, до обители святого и, к ве-
ликой своей радости, увидали его убеленную седи-
нами голову и подъятые к небу руки, больше
похожие на иссохшие сучья, торчащие из большой
болотистой лужи, где он, в предельной духовной
сосредоточенности, стоял по шею уже невесть сколько
времени.
Благоговея перед испепеляющей силой подвижни-
чества, они не посмели его окликнуть и терпеливо
284
дожидались, когда он прервет свое занятие, а это,
потому ли, что он их не заметил, или именно по-
тому, что заметил, случилось очень не скоро. С доб-
рый час пришлось им на почтительном расстоянии от
лужи дожидаться, покуда он не вышел из нее, совер-
шенно голый, с илом, налипшим на бороду и те во-
лосы, что растут на теле. Так как это тело, почти
вовсе не имея мяса, состояло лишь из костей да
кожи, то в его наготе, собственно, ничего предосуди-
тельного не было. Схватив метлу, которая лежала на
берегу, он перед каждым шагом по направлению
к ожидающим мел перед собою землю, и они пре-
красно поняли — это делалось для того, чтобы не
раздавить стопою какую-нибудь живую тварь, слу-
чайно под нее подвернувшуюся. С незваными го-
стями он поначалу обошелся не столь милосердно,
даже погрозил им метлой, отчего возникла опас-
ность, что под его ногами может случиться нечто не-
поправимое, и крикнул:
— Вон отсюда, зеваки и бездельники! Что вам
понадобилось в моей пустыни?
— Победитель желаний, Камадамана, — отвечал
Нанда с великой скромностью, — прости нас, жаж-
дущих наставления, за дерзостный приход! Слава
о твоем самообуздании привлекла нас, но пригнали
нас сюда горести жизни во плоти, касательно кото-
рых ты, могучий бык среди мудрейших, можешь рас-
судить нас, подарить нас советом, если будет на то
твое соизволение. Будь же так добр и вспомни меня!
Я уже однажды дерзнул к тебе явиться, чтобы полу-
чить наставление о жизни в пустыни.
— Все может быть, ты мне как будто знаком, —
отвечал пустынник, воззрившись на него из-под
устрашающе кустистых бровей своими глубоко за-
павшими глазами. — Судя по чертам лица, ты
словно бы и правду говоришь, но твоя фигура за это
время стала много тоньше, что, видимо, явилось
следствием твоего тогдашнего посещения.
— Оно благотворно подействовало на меня,—
уклончиво отвечал Нанда, — но изменение, которое
ты во мне заметил, стоит в связи еще кое с чем
285
другим, с некиим горестным и чудесным событием,
оно-то и принудило нас троих прийти сюда в жажде
наставления. Это событие поставило нас перед вопро-
сом, который мы сами разрешить не в силах, и по-
тому нам необходимо узнать твое мнение, услышать
твой приговор. Мы сейчас стоим и думаем, достанет
ли твоего самообуздания на то, чтобы побороть свой
гнев и выслушать нас.
— Достанет, — отвечал Камадамана. — Никто не
вправе утверждать, что его недостало. Если пер-
вым моим порывом было изгнать вас из пустыни, ко-
торую я обитаю, то и этот порыв подлежит обузда-
нию, и этому искушению я желаю противостоять. Ибо
если подвижничество — бежать людей, то еще боль-
шее подвижничество — принимать их у себя. Смею
вас заверить, что ваша близость и угар жизни, кото-
рым от вас несет, камнем ложатся мне на сердце
и самым нежелательным образом нагоняют румянец
на мои щеки, что вы, конечно бы, заметили, не будь
мое лицо вымазано пеплом, как то и подобает от-
шельнику. Я согласен снести ваше угарное посеще-
ние и, прежде всего, потому, что, как я уже давно
заметил, в вашей троице есть женщина, женщина
такой стати, которая чувствам представляется цар-
ственной, стройная, как лиана, с пышными бедрами
и полными грудями. О да, да! О фу-у! Середина ее
тела прекрасна, лицо исполнено прелести, с глазами,
как у куропатки, а груди у нее (меня потянуло еще
раз выговорить это слово) налитые и упругие. Доб-
рый день, о женщина! Правда ведь, что у мужчин,
стоит им завидеть тебя, волосы на теле встают дыбом
от похоти, и все ваши беды, разумеется, восходят
к твоему источнику, о сладостная ловушка! Привет
тебе! Этих парней я бы, конечно, прогнал ко всем
чертям, но раз уж ты пришла с ними, дорогая, то
оставайтесь здесь, гостите сколько вашей душе
угодно — с истинным радушием прошу вас, пожа-
луйте ко мне; перед дуплом, которое служит мне оби-
талищем, я попотчую вас ягодами; я насобирал их
в листья не затем, чтобы есть, а чтобы устоять перед
соблазном и, глядя на них, удовольствоваться зем-
286
листым клубнем, потому что этот скелет время от
времени все же требует подкорма. И вашу историю,
от которой на меня, конечно, повеет удушливым ча-
дом жизни, я выслушаю — слово за словом буду
внимать ей, ибо никто не смеет заподозрить Камада-
ману в трусости. Конечно, трудно отличить бесстра-
шие от любопытства, и подозрение, будто я стану
внимать вам, потому что изголодался в своем уеди-
нении и сделался охоч до историй, отдающих жиз-
ненным угаром, — это подозрение должно быть отверг-
нуто наравне с другим, будто, отвергая его, я только
потворствую своему любопытству, так что отвергать,
собственно, следовало бы уже любопытство, но,
спрашивается, куда ж тогда пристроить бесстрашие?
Это ведь в точности как с ягодами, я их ставлю перед
собою не столько для отказа от них, сколько для
того, чтобы на них любоваться, и тут я бесстрашно
могу возразить, что в любованье-то и заключено ис-
кушение съесть их и что, не поставив их перед со-
бою, я очень облегчил бы свой урок. При этом, ко-
нечно, начисто отвергается подозрение, что я просто
все это выдумал, дабы иметь возможность созерцать
лакомое блюдо, — или вот как теперь, когда я, хоть
сам и не притрагиваюсь к ягодам, но, потчуя ими
вас, нахожу удовольствие в том, чтобы смотреть, как
вы ими лакомитесь, что — перед лицом обманчивого
характера мирового разнообразия и различия между
Я и Ты — почти равнозначно тому, что я сам их по-
едаю. Короче говоря, подвижничество — это бездонная
бочка, ибо искушения духа здесь мешаются с чув-
ственными искушениями, и справиться с этим так же
трудно, как со змеей, у которой вырастают две го-
ловы, когда отсечешь ей одну. Но этому так и быть
должно, главным же остается бесстрашие. Посему
идите за мной, о люди обоих полов, явившиеся из
житейского чада, идите за мной к дуплу, моему оби-
талищу, и можете рассказывать о вашей житейской
грязи сколько вам угодно, — для самобичевания я
буду слушать вас, отметая, однако, подозрение,
будто мне это доставляет удовольствие; несть числа
желаниям, кои нам следует умерщвлять.
287
С этими словами святой повел их, тщательно под-
метая землю, прежде чем сделать следующий шаг,
к своему обиталищу—могучей и древней чинаре,
еще зеленеющей, несмотря на зияющую пустоту
в стволе, к дереву, мшистую внутренность которого
Камадамана избрал своим домом, —не затем, чтобы
искать там спасения от непогоды, ибо он всегда по-
зволял ей лютовать над своим телом, жару усиливая
огнем костров, а холод мокрым платьем, но лишь
затем, чтобы знать, где его кров, и еще затем, чтобы
держать там запас корней, клубней и плодов, необхо-
димых ему для поддержания жизни, а также запас
хвороста, цветов и трав для жертвоприношений.
Здесь он предложил сесть своим гостям, которые,
узнав, что они не более как предлог для подвижниче-
ства, держались в высшей степени скромно, и подал
им, как было обещано, спелые ягоды, весьма приятно
их подкрепившие. Сам он тем временем встал в аске-
тическую позицию, так называемую «позицию кайот-
сарги»: не шевеля ни единым членом, воздел кверху
руки и, прогнув вовнутрь колена, даже пальцам ног,
не говоря уж о руках, сумел придать установленное
положение. Сосредоточив свой дух, он замер, нагой
(впрочем, в его наготе, как уже сказано, не было ни-
чего предосудительного), а великолепно сложенный
Шридаман, которому, из-за его мудрой головы, вы-
пала честь обо всем поведать отшельнику, рассказал
историю, заставившую их прийти сюда, ибо она
в конце концов свелась к спорному вопросу, разре-
шить который можно было только извне с помощью
судии или святого.
Он рассказал ее последовательно и правдиво, как
это сделали мы, и даже почти в тех же самых словах.
Для того чтобы спорный вопрос стал понятен, доста-
точно было рассказать только последнюю ее стадию,
но, желая хоть немножко развлечь святого в его уеди-
нении, он поведал все, от самых истоков, как то сде-
лали мы на этих страницах, начав с Нанды и его
образа жизни, потом перейдя к дружбе между ними
и привалу у речки Золотая Муха, далее о своей лю-
бовной болезни, сватовстве и женитьбе; в подобаю-
ще
щем месте он обратился к прошлому и сделал отступ-
ление, рассказав, как Нанда познакомился с пре-
лестной Ситой и качал ее на качелях, упомянул
о горестях своей брачной жизни, но очень деликатно,
вскользь, — не столько щадя себя, ведь его-то здесь
были только сильные руки, что качали Ситу, да тело,
о котором она грезила в объятиях его прежних рук,
сколько из уважения к Сите, ей ведь все это не могло
быть приятно, и, покуда длился рассказ, она сидела,
закрыв лицо и головку своим расшитым платком.
Дюжий Шридаман благодаря своей голове ока-
зался превосходным, искусным рассказчиком. Даже
Сита и Нанда, — им ведь все было точно известно, —
затаив дыхание, слушали страшную повесть о себе, и
надо полагать, что Камадамана, хоть он ничем не
выдал себя, все время стоя в позиции Кайотсарги,
тоже был захвачен ею. После того как рассказчик
воссоздал грозное деяние свое и Нанды, поведал
о милости, ниспосланной богиней на Ситу, а также
о вполне простительной ошибке последней, когда она
их восстанавливала, рассказ, естественно, подошел
к концу и, следовательно, к основному вопросу.
— Так вот и получилось, — сказал он, — что го-
лове мужа досталось тело друга, а телу друга муж-
няя голова. Ты ведь мудрец, святой Камадамана, по-
моги же нам разобраться в этой путанице! Как ты
скажешь, так тому и быть, мы сами все равно ничего
решить не сумеем. Кому, скажи, принадлежит эта
женщина, прекрасная, куда ни глянь, и кто по праву
ее муж?
— Да, скажи нам, покоритель желаний, — в свою
очередь воскликнул Нанда с подчеркнутой уверен-
ностью, Сита же ограничилась тем, что сорвала с го-
ловы платок и в трепетном ожидании воззрилась
на Камадаману глазами, похожими на цветок лотоса.
Отшельник сжал растопыренные пальцы рук и
ног и глубоко вздохнул. Затем вооружился метлой,
расчистил от уязвимых тварей маленький клочок
земли и уселся подле гостей.
— Уф! — произнес он.— Ну и разодолжили! Я, ко-
нечно, был готов услышать угарную историю, но тут
19 Т. Манн, т. 8
289
уж чад повалил из всех пор бренной плоти. И меж
моих четырех костров в разгаре лета, право же,
легче дышится, чем в вашем чаду. Если бы мое лицо
не было вымазано пеплом, вы бы увидели багряный
жар, которым ваша история зажгла мои изможден-
ные щеки, вернее, скулы, покуда я, для обуздания
чувств, внимал ей. Ах, дети, дети! Носит вас, точно
быков, что с завязанными глазами крутят масло-
бойку, вокруг колеса всего сущего, и при этом вы
еще кряхтите от усердия, и в ваше тело, которое и
без того зудит, впиваются бичи шести работников
маслобойки, иными словами — страстей. Неужто
нельзя вам с этим покончить? Или вам непременно
надо пялить глаза, суесловить и исходить слюной,
когда при виде обманчивого соблазна у вас от похоти
колени подгибаются. — Ну да, ну да, ну вот, ну вот,
я знаю все наперечет: и лоб в испарине вожделенья,
и тела лоснящегося движенья, и трепетный нос, и по-
катости плеч, и губ горячих бессвязную речь, и сла-
достных грудей наготу, и дебри подмышек в любов-
ном поту! И рук блуждающих маета, и гладкость
бедер и живота, и жарких касаний двойная услада,
прохладная прелесть прекрасного зада, и напряжен-
ное до предела, похотью душной объятое тело, и не-
терпенья блаженный миг, и заплетающийся язык, и
седьмое небо, и то, и се — ну, как же, как же, зна-
комо все.
— Но это ведь мы и сами знаем, великий Кама-
дамана,— сказал Нанда с подавленным нетерпением
в голосе. — Не будешь ли ты так добр произнести
приговор и объявить нам, кто же, собственно, муж
Ситы, дабы мы наконец это узнали и могли бы со-
ответственно вести себя?
— Приговор уже все равно что произнесен,—
отвечал святой. — Здесь все ясно как на ладони, и
остается только удивляться, до чего же мало вы
смыслите в порядке и в праве, если для такого само-
очевидного дела вам понадобился судья. Эта лакомая
приманка вон там, разумеется, жена того, кто несет
на своих плечах голову друга. Ибо во время обряда
бракосочетания жених протягивает невесте правую
290
руку; рука принадлежит туловищу, а туловище—-
другу.
С ликующим криком вскочил Нанда на свои то-
ченые ноги, тогда как Сита и Шридаман, не подни-
мая взоров, остались сидеть на земле.
— Но это только присказка, — возвысив голос,
продолжал Камадамана, — сказка впереди, и она бу-
дет присказки почище, похлеще и в своей правде —
резче. Не спешите, прошу вас!
С этими словами он поднялся, пошел к дуплу, вы-
тащил из него какую-то вещицу — это был лубяной
передник — и прикрыл им свою наготу. Затем он
сказал:
Сомнений нет. Супругом назову
Того, кто носит мужнюю главу:
Как радостей земных венец и кладезь — женщина,
Так наше тело головой увенчано.
Теперь пришел черед Ситы и Шридамана вскинуть
головы и обменяться счастливыми взглядами.
А Нанда, который успел уже так сильно обрадо-
ваться, проговорил тонким голосом:
— Поначалу ты сказал совсем другое!
— Внемлите лишь последним моим словам.
Так решилась их судьба, и Нанда в своей благо-
приобретенной утонченности не смел проявлять недо-
вольство, ибо это он настоял на том, чтобы при-
звать святого в судьи, — совершенно независимо от
безупречно галантного обоснования, которое тот дал
своему приговору.
Все трое отвесили поклон Камадамане и поки-
нули его обитель. Но когда они снова пустились
в путь по влажно-зеленому лесу Дандака, Нанда
вдруг остановился и стал прощаться с ними.
— Всего доброго! — сказал он. — Я теперь пойду
своей дорогой. Хочу сыскать себе пустынь и сделать-
ся отшельником, это ведь уже давно входило в мои
намерения. Вдобавок, в нынешнем моем воплощении,
я считаю себя, пожалуй, слишком хорошим для мира.
Двое других не стали оспаривать его решения;
хоть им и взгрустнулось, но они очень дружелюбно
обошлись с тем, кто решил отступиться. Шридам-ан
19*
291
одобрительно похлопал его по хорошо знакомому
плечу и, из старой приязни, с заботливостью, которую
один человек не столь уж часто выказывает в отно-
шении другого, посоветовал ему не подвергать свое
тело чрезмерным испытаниям и не есть слишком
много клубней, так как столь однообразная пища, он
это хорошо знает, несомненно, пойдет ему во вред.
— Позволь уж мне жить своим умом, — сердито
отвечал Нанда, и когда Сита собралась подарить его
несколькими словами утешения, он тоже лишь пе-
чально покачал головой, украшенной козьим носом.
— Не принимай всего этого близко к сердцу,—
сказала она, — и подумай, что тебе в конце концов
не столь уж многого недостает и что, собственно, это
ты будешь делить со мною ложе супружеских утех
в освященные законом ночи! Будь покоен, то, что не-
когда было твоим, я снизу доверху обовью самой сла-
достной нежностью и за радость сумею отблагодарить
рукою и ртом со всей изысканностью, какой только
угодно будет Вечной Матери обучить меня.
— Мне от этого проку нет, — упрямо отвечал
Нанда. И даже когда она украдкой шепнула ему:
«И твоя голова будет время от времени грезиться
мне», — он продолжал стоять на своем и лишь упорно
и с печалью твердил: — Мне от этого проку не будет!
Так разошлись они в разные стороны, двое и один.
Но Сита вдруг снова побежала за этим одним, когда
он ушел уже довольно далеко, и обвила его руками.
— Будь счастлив, — сказала она. — Ты был пер-
вым мужчиной, который пробудил меня и научил
всему, что я знаю в сладострастии, и что бы там ни
плел усохший святой насчет женщины и головы, зер-
нышко, зреющее у меня под сердцем, — оно от тебя.
XI
Вернувшись в «Обитель благоденствующих коров»,
Сита и Шридаман проводили время в чувственном
упоении, и поначалу ни единая тень не омрачала свет-
лые небеса их счастья. Словечко «поначалу», недоб-
292
рым облаком набежавшее на эту безмятежную ла-
зурь, собственно, прибавлено нами от себя, а мы ведь,
рассказывая эту историю, находимся вне ее, те же*
что в ней жили и чьей историей она была, понятия
не имели о каком-то там «поначалу» и знали только
о своем счастье, которое было обоюдным и, можно
даже сказать, неимоверным.
Поистине это было счастье, едва ли встре-
чающееся на земле и скорее возможное в раю. За-
урядное земное счастье, иначе удовлетворение жела-
ний, сужденное большинству отпрысков рода чело-
веческого, подчиняется известному порядку, закону,
благочестию, принудительному обычаю, иными сло-
вами, оно стеснено и умерено, со всех сторон обве-
дено чертой запрета и, непременного самоограничения.
Жестокая необходимость, отказ, отречение — удел
смертного. Наше вожделение беспредельно, удовле-
творению его, напротив, положены теснейшие пределы,
и настойчивое «о, если бы» везде и всюду натыкается
на железное «не подобает», на черствое «доволь-
ствуйся тем, что есть». Кое-что нам дозволено, многое,
почти все, запрещено, и навек несбыточной остается
мечта, что запретное вдруг обернется дозволенным.
Райская мечта, ибо в том, вероятно, и заключаются
блаженства рая, что дозволенное и запретное, столь
раздельно существующие здесь на земле, там сра-
стаются воедино и чело прекрасного подзапретного
венчает корона дозволенного, за дозволенным же со-
хранена еще и прелесть подзапретного. Как иначе
может бедный человек представить себе райские
блаженства?
Точь-в-точь такое счастье, какое принято обозна-
чать словом «неземное», прихотливый рок послал
супружеской чете, вернувшейся в «Обитель благо-
денствующих», и они большими глотками впивали
его — поначалу. Муж и друг были разнолики и раз-
личны для Ситы-Пробужденной, — а теперь они сли-
лись воедино, и это слияние, по счастью, произошло
так, — да иначе вряд ли и могло произойти, — что луч-
шее в обоих, главные преимущества каждого в отдель-
ности счастливо сочетались и образовали новое, всем
293
желаниям удовлетворявшее единство. По ночам, на
законном супружеском ложе, она извивалась в могу-
чих руках друга и принимала его усладу не как пре-
жде, когда на хилой груди мужа только грезила о ней
с закрытыми глазами, а в благодарность все же цело-
вала уста внука брахманов, — счастливейшая жен-
щина на земле, ибо ей достался супруг, сплошь со-
стоящий, если можно так выразиться, из преимуществ*
А как в свою очередь доволен, как горд был пре-
ображенный Шридаман! Ему не приходилось опа-
саться, что это преображение покажется странным,
а не только приятным его отцу Бхавабхути или его
матери,— имя ее здесь не названо потому, что она
и вообще-то играла весьма скромную роль, — или
еще кому-нибудь из жителей прихрамового селения.
Мысль, что со столь благоприятной телесной пере-
меной дело нечисто, то есть, что ей поспособствовало
нечто не вполне естественное (как будто так уж
важно, чтобы все совершалось естественным путем),
пожалуй, могла бы у кого-нибудь зародиться, если бы
подле Шридамана находился соответственно преобра-
зившийся Нанда. Но Нанда скрылся из поля их зре-
ния, сделался лесным отшельником, а об этом своем
намерении он уже не раз заявлял и раньше.
Перемена, совершившаяся с ним, рядом с переме-
ной его друга, может быть, кому-нибудь и бросилась
бы в глаза, но Нанду никто не видел, видели здесь
только Шридамана — посмуглевшего, сильного, во
всей красоте его новой стати, которую, в случае если
бы ее и заметили, конечно, приписали бы зрелости, на-
ступившей в счастливом браке. Само собой разу-
меется, что властелин Ситы продолжал одеваться
в соответствии с законами своей головы и ходил не
в набедренной повязке Нанды, не в его запястьях и
ожерельях, а теперь, как и прежде, в широких шта-
нах и холщовой рубахе. Но главным доказательством
его тождества в глазах людей, конечно, служила не
допускающая никаких сомнений голова. Если ваш
порог переступил брат, сын или земляк, то, завидев
на его плечах хорошо знакомую голову, даже если
в остальном он будет выглядеть несколько непри-
294
вычно, вы ни на мгновенье не усомнитесь в том, что
этот человек и есть ваш брат, сын или земляк!
Прославлению супружеского счастья Ситы мы
отвели первое место, ибо и Шридаман после своего
превращения думал главным образом о радостях,
воспоследовавших из этого для его возлюбленной
супруги. Но и его счастье, — впрочем, это само собой
разумеется, — ничуть не уступало счастью Ситы и
также носило райский характер. Трудно, очень
трудно заставить внимающих рассказу перенестись
в ни с чем не сравнимое положение любовника, ко*
торый, впав в глубокое уныние, должен был бежать
ласк возлюбленной, ибо понял, что она тоскует по
другим объятиям, а потом вдруг сам оказался в со-
стоянии предложить ей то, чего она так страстно
жаждала. Мало того, что мы привлекли внимание
наших слушателей к счастью Шридамана, мы еще по-
пытаемся доказать, что оно превышало счастье Ситы.
Любовь, которою проникся Шридаман к златокожей
дочери Сумантры, после того как увидел ее во время
священного омовения, — любовь столь пламенно-суро-
вая, что для него она, к простодушному удивлению
и веселью Нанды, приняла обличие болезни и убе-
ждения, что ему должно умереть, — это горячее, бо-
лезненно-страстное чувство, зажженное прелестным
образом девушки, образом, которому он, однако,
тщился придать незаурядное достоинство, — короче
говоря, это воодушевление, порожденное встречей
духа с чувственной красотой, было тесно связано со
всей его своеобразной личностью, но прежде всего
с его брахманской головой, которую богиня Речи ода-
рила такой исступленностью мысли, такой силою во-
ображения, что, как это с полной несомненностью
выяснилось в браке, хилое тело, носившее ее, никак
не могло за ней угнаться. Так вообразим же теперь
степень удовлетворенности, испытываемой человеком,
чьей пламенно-изысканной голове, предрасположен-
ной к глубоким и серьезным размышлениям, придано
бодрое простонародное тело, тело, исполненное перво-
бытной силы, которое способно всегда и во всем
споспешествовать духовным страстям этой головы*
295
И, конечно, бессмысленной была бы попытка предста-
вить себе блаженства рая, иными словами — жизнь
в божественной роще «Радость», иначе как в образе
полного счастья.
Даже омрачающее «поначалу», разумеется, неве-
домое в горних странах, собственно, не делает раз-
ницы между «здесь» и «там», поскольку оно исходит
не из сознания любящих, а из господствующего над
ним сознания рассказчика и, следовательно, несет
с собою лишь повествовательное, а не личное омра-
чение. И все же надо сказать, что очень скоро это
«поначалу» стало просачиваться в личное, более
того, — с первых же мгновений и здесь уже играло
свою роль, по-земному ограничивающую, по-земному
обуславливающую и не вяжущуюся с понятием рая.
Приходится еще отметить, что пышнобедрая Сита до-
пустила ошибку, выполнив милостивое приказание
богини таким образом, каким это случилось с нею,—
и притом случилось не потому, что она действовала
в слепой поспешности, но потому, что действовала не
только в слепой поспешности. Эта фраза хорошо нами
продумана, и желательно, чтобы она была столь же
хорошо понята.
Нигде не сказывается сохраняющее мир волшеб-
ство Майи, основной жизненный закон мечты, мо-
рока, самовнушения, что держит в плену все жи-
вое, — ярче, насмешливее, чем в любовной тоске,
в таинственном вожделении одного существа другим,
вожделении, которое является смыслом и примерным
образцом всего, что продолжает свой род, всех соитий
и всех соблазнов, всего, что влачит убогую жизнь и
нуждается в прельстительном обмане для того, чтобы
жить и впредь. Недаром Утеха — хитроумная жена
бога любви, и недаром эта богиня зовется «Одарен-
ная Майей», ибо она, а никто иной делает видения
прелестными и вожделенными, вернее сообщает им
такую видимость; да и в самом слове «видение» уже
содержится чувственный элемент видимого, а «види-
мое» в свою очередь сближается с «видным»,
иными словами — с прекрасным. Это Утеха, боже-
ственная шутница, явила на берегу речки Золотая
296
Муха обоим юношам, и в первую очередь созревшему
для воодушевления Шридаману, мерцающее красо-
тою, благоговейно волнующее, достойное молитвен-
ного преклонения тело Ситы. И здесь надо.вспомнить,
как счастливы и благодарны были друзья, когда
купальщица обратила к ним голову и они убедились,
сколь прелестны ее носик, уста, глаза и брови, иными
словами, что сладостное тело не унижено, не испор-
чено некрасивым лицом, — непременно надо об этом
вспомнить, чтобы понять: человек одержим не столько
предметом своего вожделения, сколько вожделением
как таковым, и жаждет не отрезвления, но хмеля и
любовной тоски, пуще всего страшась разочаро-
ваться, то есть освободиться от морока.
Теперь обратите внимание на то, в какой мере
волнение юношей, окажется ли и мордочка купаль-
щицы столь же прелестной, доказывает зависимость
тела (fcro смысла и ценности, предусмотренных
Майей) от головы, которой оно принадлежит! Прав
был Камадамана, укротитель желаний, объявив го-
лову наиважнейшим из членов человеческого тела и
на этом утверждении построив свой приговор. Да,
голова и вправду определяет сущность и любовную
ценность тела, и недостаточно сказать, что тело ста-
новится другим, будучи связано с другою головой,—
куда там: допустите, что изменилась одна только
черта, одна выразительная складочка на лице, и это
уже значит, что изменился весь облик человека.
В том-то и заключалась ошибка, по ошибке совер-
шенная Ситой. Она почитала себя счастливой, что
совершила ее, ибо райским блаженством (и, видимо,
уже заранее!) представлялась ей возможность обла-
дать телом друга под знаком мужней головы. Но
Сита не подумала, — так как поначалу счастье, кото-
рым она наслаждалась, не допускало этой мысли, —
что тело Нанды в единении с узконосой головой Шри-
дамана, с его кротким задумчивым взором и шелко-
вистой веерообразной бородкой, уже не то самое,
жизнерадостное тело, а тело совсем другое.
Другим было оно с первой минуты, по самой
своей Майе. Но не только о ней здесь речь. Ибо
297
с течением времени — времени, которое Сита и Шри-
даман поначалу проводили в упоении сладострастием,
в несравненных любовных восторгах, — вожделенное
и наконец-то обретенное тело друга (если тело Нанды
под знаком головы Шридамана можно было еще счи-
тать телом друга, поскольку пребывавшее вдали тело
законного мужа принадлежало теперь другу),— итак,
с течением времени, и притом недолгого, тело Нанды,
увенчанное достопочтенной головою супруга, совер-
шенно независимо от какой бы то ни было Майи,
мало-помалу сделалось иным—то есть под влиянием
головы и диктуемых ею законов сделалось привыч-
ным мужним телом.
Таков общий удел, обычная перемена в браке. Пе-
чальный опыт Ситы в этом отношении мало чем
отличался от опыта других женщин, которые в привыч-
ном супруге очень скоро перестают узнавать игри-
вого, пламенного юношу, некогда за них* посва-
тавшегося. Но здесь зауряд-человеческое было особо
подчеркнуто и обосновано.
Решающее влияние Шридамановой головы, ска-
зывавшееся уже в том, что супруг и повелитель Ситы
облекал свое новое тело не в одежды, обычные для
Нанды, но в свои прежние, а также в его решительном
нежелании, по примеру Нанды, умащать тело горчич-
ным маслом: у него от этого запаха болела голова,
почему он и пренебрегал народным косметическим
средством, что сразу же явилось известным разоча-
рованием для Ситы. Разочаровывало ее, пожалуй, и то,
что поза Шридамана, когда он сидел на полу, опре-
делялась, — впрочем, об этом едва ли нужно упоми-
нать, — не телом, а головой, он не признавал сиденья
на корточках — излюбленное положение Нанды — и
всегда садился бочком. Но все это были только ме-
лочи начальной поры.
Шридаман, внук брахманов, и в теле Нанды про-
должал быть тем, кем он был, и жить, как жил
прежде. Не будучи ни кузнецом, ни пастухом, а куп-
цом и купеческим сыном, пособлявшим отцу в его
почтенной торговле, он со временем, так как родитель
стал быстро дряхлеть, успешно возглавил ее. Шрида-
298
ман не держал в руках тяжкого молота и не пас
скота на горе Пестрая Вершина, а покупал и прода-
вал щебенку, камфару, шелк и ситец, а также ступки
для риса и трут, снабжая этим товаром жителей
«Благоденствующих коров», а в свободное время чи-
тал Веды. И ничего нет удивительного, хоть в осталь-
ном и очень удивительно звучит эта история, что на
нем руки Нанды утратили свою мощь и сделались
тоньше, грудь стала узкой и даже впалой, живот
опять затянулся жирком, — короче говоря, для Ситы
он вскоре снова приобрел мужний облик. Даже зави-
ток «счастливого теленка» у него хоть и не вовсе
исчез, но так поредел, что его уже трудно было при-
нять за отметину Кришны. Сита, его жена, с тоскою
это отмечала. И все же нельзя отрицать, что резуль-
татом такой действительной, а не только навеянной
Майей перечеканки, распространившейся даже на
цвет кожи, которая сделалась заметно светлее, яви-
лась известная утонченность, облагороженность, если
понимать это слово отчасти в брахманском, отчасти
же в купеческом смысле; ибо меньше и тоньше сде-
лались руки и ноги Шридамана, нежнее колени и
лодыжки и все вообще, — словом, радостное тело
друга, в прежнем сочетании бывшее самым главным,
теперь превратилось в вялый придаток головы, бла-
городным и возвышенным порывам которой оно
больше не могло и не стремилось повиноваться в рай-
ской полноте счастья и отныне разве что составляло
этой голове довольно скучливую компанию.
Таков был брачный опыт Ситы и Шридамана,
правда, пришедший к ним после несравненных вос-
торгов медового месяца. Конечно, этот опыт не зашел
столь уж далеко, и нельзя утверждать, что тело Нанды
окончательно и полностью обратилось в тело Шрида-
мана и что все, следовательно, осталось по-старому,
отнюдь нет. Эта история ничего не преувеличивает,
а только подчеркивает относительность телесного пре-
вращения, при всей его неоспоримой очевидности, до-
статочной для понимания того, что речь здесь идет
о взаимодействии между головой и прочими членами,
а также, что его сущность и своеобычность как-никак
299
подчинялась законам видоизменения и приспособле-
ния, которые, поскольку речь идет о природном явле-
ний, видимо, объясняются взаимосвязью соков головы
и тела, а с точки зрения познания сущего восходят
к взаимосвязям и более высоким.
Существует красота духовная и красота, взы-
вающая к чувствам. Однако многим хочется целиком
и полностью отнести красоту к чувственному миру и
решительным образом отделить от нее духовное, то
есть расщепить эти два мира и противопоставить их
друг другу. На этом ведь зиждется и древнее учение,
изложенное в Ведах: «Двоякое блаженство дается
нам в мирах — через радости тела и в спасительном
спокойствии духа». Но из этого учения о блаженстве
уже явствует, что духовное не может быть противо-
поставлено красоте таким образом, каким ей проти-
вопоставляется уродливое, и что приравнять дух к
уродству можно лишь условно. Духовное не равно-
значно уродству и не всегда должно с ним совпадать,
ибо оно приобщается к красоте путем познания кра-
соты и любви к ней, а любовь в свою очередь про-
являет себя как духовная красота, и потому она отнюдь
не обречена на безнадежность и не чужда области кра-
соты; ведь в согласии с законом притяжения проти-
воположностей и красота стремится к духовному, им
восхищается, уступает его домогательствам. Не так
создан наш мир, чтобы духу суждено было любить
лишь духовное, а красоте лишь прекрасное. Более
того, именно то, что эти два понятия друг другу про-
тивоположны, позволяет нам с ясностью, столь же
духовной, сколь и прекрасной, прозреть, что мировой
целью является объединение духа и красоты, иными
словами — совершенство, уже не расколотое надвое.
История же, которую мы здесь рассказываем, всего-
навсего пример опасностей и ошибок, встречающихся
на пути к этой конечной цели.
Шридаман, сын Бхавабхути, в добавление к своей
благородной голове, питавшей любовь к прекрасному,
по нечаянности приобрел еще и прекрасное, рьяное
тело; и поскольку дух был силен в нем, он ощутил
нечто вроде печали, оттого что чужое сделалось его
300
собственным и не могло уже быть предметом восхи-
щения, иными словами: что теперь он сам был тем,
к чему его влекло. Эта «печаль», к сожалению, ска-
зывалась в переменах, которые происходили с его го-
ловой, отныне сочетавшейся с новым телом, ибо
эти перемены происходили с головой, которая сама
обладает красотою, а потому утратила любовь к кра-
соте, иначе — духовную красоту.
Открытым остается вопрос, не свершилось ли бы
все это и без перемены тела, просто в силу супруже-
ского обладания прекрасной Ситой? Впрочем, мы уже
указывали на черту всеобщности, присущую этой
истории, разве что усилившуюся и заостренную бла-
годаря чрезвычайным обстоятельствам. Разумеется,
для слушателя, интересующегося происходящими
в природе процессами, это будет только интересно,
для Ситы же было весьма огорчительно, когда у нее
открылись глаза на то, какими пухлыми и сытыми
выступали теперь из бороды некогда узкие и тонко
очерченные губы ее супруга, более того, что они даже
стали выворачиваться наружу и походить на опухоль,
или что нос его, некогда тонкий, как лезвие ножа,
сделался мясистым и выказывал явную склонность
загибаться книзу, и становился доподлинно козьим
носом, в глазах же утвердилось выражение тупова-
той жизнерадостности. Теперь это был Шридаман
с телом Нанды, только более утонченным, и Шрида-
мановой, но огрубленной головой; ничего по-настоя-
щему своего у мужа Ситы больше не было. Здесь
рассказчик еще и еще раз просит слушателей вник-
нуть в чувства, которые переполняли Ситу в то время,
как свершались эти перемены с ее мужем, ибо, ко-
нечно же, она не могла не думать, что подобное про-
исходит и с ее далеким другом.
Когда она предавалась мыслям о теле мужа, кото-
рое держала в своих объятиях в первую, не столь уж
полную блаженства, но священную и пробудившую ее
ночь, о теле, которым она больше не владела, или,
вернее, поскольку оно теперь было телом друга, все
еще не владела, — то не сомневалась, что Майя Нан-
дова тела перешла в него и точно знала, где теперь
301
ей искать завиток «счастливого теленка». И также
была она уверена, что с прямодушной головою друга,
ныне венчавшей тело мужа, произошли те же облаго-
раживающие перемены, что и с телом друга, увенчан-
ным мужней головой. Это представление трогало ее
еще больше, чем другое, и ни днем, ни ночью, даже
в объятиях ее господина и повелителя, не давало ей
покоя. Все время мерещилось ей похорошевшее
в одиночестве тело мужа, в сочетании с облагорожен-
ной головою друга, в разлуке с нею уж конечно охва-
ченное духовным томлением. Страстное сочувствие
к отторгнутому неуклонно росло в Сите, так что даже
на супружеском ложе, в минуты сладострастия, она
бледнела от горя.
XII
Когда пришло ее время, Сита подарила Шрида-
ману свое зернышко, родила мальчика, которого они
назвали Самадхи, что означает «сосредоточенность».
Над новорожденным помахали коровьим хвостом,
чтобы отвести от него беду, и с этой же целью поло-
жили ему на головку коровий навоз, — словом, чин
чином исполнили все, что требуется. Родители (если
здесь уместно это слово) радовались безмерно, что
мальчик не был ни бледен, ни слеп. Но вот кожа
у него была очень светлая, что, видимо, следовало
отнести за счет материнского происхождения из рода
воинственных кшатриев, к тому же, как мало-помалу
выяснилось, он был очень близорук.
Из-за близорукости Самадхи впоследствии про-
звали еще и Андхака, то есть слепой, и это имя по-
степенно взяло верх над прежним. Между прочим,
близорукость сообщила его газельим глазам мягкий,
обаятельный блеск, так что они были еще краше, чем
глаза Ситы, на которые очень походили, да мальчик и
вообще выдался не в кого-нибудь из двух своих отцов,
а решительнейшим образом в мать; и ничего тут нет
удивительного, ведь именно она несомненно и недву-
смысленно произвела его на свет, и вся его стать,
естественно, восходила к ней. Поэтому он был чудо
302
как красив, и, едва миновала скрюченная пора мок-
рых пеленок и он стал понемногу вытягиваться
в длину, тело его оказалось на редкость сильным и
гармонически прекрасным. Шридаман любил его как
свою плоть и кровь, и в его душу уже закрадывалась
готовность уйти из мира, желание передать свое бы-
тие сыну и в нем продолжить свою жизнь.
Но годы, когда Самадхи-Андхака, лежа у материн-
ской груди-или в своей люльке, подвешенной к по-
толку, становился так красив и мил, совпали с годами
упомянутой перечеканки головы и членов Шрида-
мана, перечеканки, до такой степени придавшей ему
внутренне и внешне мужнее обличие, что Сита уже не
могла более справиться с собой, и ее тоска по дале-
кому другу, в котором она видела родителя своего
сыночка, сделалась поистине необоримой. Желание
свидеться с ним, посмотреть, каков он в свою очередь
стал теперь в согласии с законом соответствия, и пред-
ставить ему своего чудесного сыночка, чтобы и друг
мог на него порадоваться, — это желание целиком за-
владело ею, хотя сказать о нем мужней голове она
все-таки не отважилась. Посему, когда Самадхи ми-
нуло уже четыре года и все кругом стали называть
его Андхака и он, правда, спотыкаясь, все же начал
ходить, а Шридаман уехал из дому по торговым де-
лам, Сита решила пуститься в дорогу и, чего бы это
ей ни стоило, разыскать отшельника Нанду и его
утешить.
Однажды весенним утром, при свете звезд, так как
солнце еще не вставало, она надела страннические
сандалии, взяла в одну руку длинный посох, другою
ухватила за ручонку своего сынка, на которого уже
успела надеть ситцевую рубашку, и, вскинув на спину
мешок с пропитанием, неприметно вышла с ним, в на-
дежде на удачу, из дома и селения.
Отвага, с какою она противостояла затруднениям
и опасностям странствия, свидетельствует о пылкой
настойчивости ее желания. Возможно, что ей спо-
спешествовала текшая в ее жилах воинственная
кровь, пусть стократ разжиженная, но уж наверное
споспешествовала красота обоих, матери и сынка»
303
потому что любому встречному доставляло радость
словом и делом помогать столь прелестной страннице
и ее темноглазому спутнику. Людям она говорила, что
идет по городам и весям разыскивать отца этого ре-
бенка, своего супруга, который из неодолимого стре-
мления к созерцанию сущего сделался лесным от-
шельником и которому она хочет привести сына, чтобы
он просветил и благословил его; и это тоже благо-
приятно действовало на людей, делало их добрыми и
почтительными. В деревнях и селениях ей давали мо-
лока для малютки и почти всегда устраивали им
обоим ночлег на сеновалах или на земляных скамьях
близ мест сожжения. Крестьяне, работавшие на рисо-
вых полях или на плантациях джута, сажали их
в свои повозки и подвозили на большие расстояния,
а если не случалось такой оказии, она быстро шагала,
держа мальчика за руку и опираясь на свой посох, по
пыльным проселкам, причем на каждый ее шаг при-
ходилось два шага Андхаки, и при этом его блестящие
глаза видели перед собою лишь совсем малый кусок
дороги, Сита же смотрела далеко вперед, в даль, пол-
ную ожидания, и цель, к которой ее вела сострадатель-
ная тоска, все время стояла у нее перед глазами.
Так пришла она в лес Дандака, ибо предполагала,
что именно в этом лесу ее друг сыскал для себя без-
людную пустынь, но уже на месте узнала от святых,
которых усердно расспрашивала, что его там нет.
В большинстве своем отшельники не могли или не
хотели сказать ей больше; но их жены, ласкавшие и
кормившие маленького Самадхи, в доброте душевной
поведали ей и еще нечто немаловажное, а именно,
где найти Нанду. Ибо мир ушедших от мира ничем
не отличается от любого другого, и те, что к нему
принадлежат, отлично знают, что он полон сплетен,
пересудов, ревности, любопытства, жажды превзойти
ближнего, и каждый пустынник прекрасно осведо-
млен, где и как живет его собрат. Потому-то эти доб-
рые женщины и смогли сказать Сите, что отшельник
Нанда избрал для своего пребывания место у реки
Гомати, или, по-другому, Коровьей реки, в семи днях
пути отсюда, и что будто бы это весьма отрадное
304
местечко со множеством разнообразных деревьев, цве-
тов и вьющихся растений; воздух там полон птичьего
гомона, и животные стадами бродят по лесам, берег
же реки изобилует корнями, клубнями и плодами.
Собственно говоря, Нанда выбрал себе несколько
слишком приятный уголок, чтобы более суровые свя-
тые могли всерьез принимать его подвижничество,
тем паче что, кроме обета молчания и омовения, он
не давал других сколько-нибудь стоящих обетов; пи-
тается же этот отшельник, ни много, ни мало, лесными
плодами, диким рисом в пору дождей, а иногда даже
жареной птицей и ведет разве что жизнь человека
опечаленного и разочарованного. Что касается дороги
к нему, то она не представляет особых трудностей,
если не считать теснины разбойников, ущелья тигров
и долины змей, где уж конечно придется держать ухо
востро и, главное, не трусить.
Получив такого рода наставление, Сита прости-
лась с сердобольными женщинами из леса Дандака и,
окрыленная новой надеждой, по-прежнему продол-
жала свой путь. День за днем счастливо протекало ее
странствие, ибо, возможно, что Кама, бог любви,
в союзе с Шри-Лакшми, властительницей счастья,
хранили каждый ее шаг. Беспрепятственно прошла
она через теснину разбойников; благодушные пастухи
научили ее, как обойти ущелье тигров, а в долине
ядовитых змей, которую нельзя было миновать, она
не спускала с рук маленького Самадхи-Андхаку.
Но достигнув Коровьей реки, она опять повела его
за ручку, правой рукой опираясь на свой странниче-
ский посох. Утро мерцало росою, когда ей открылась
река. Некоторое время Сита шла вдоль поросших
цветами берегов, а затем, в согласии с полученными
ею указаниями, свернула в сторону и полем двинулась
к виднеющейся вдали полоске леса, из-за которого как
раз вставало солнце, и весь он, точно огнем, горел
цветами красной ашоки и древа кимшука. Ослеплен-
ная сиянием утра, она прикрыла глаза рукою и сразу
же заметила на опушке леса хижину, крытую соло-
мой и лыком, и возле нее юношу в одежде из рогожи,
подпоясанного травами, который с топором в руках
20 Т. Манн, т. 8
305
что-то ладил там. Подойдя еще ближе, она увидела,
что руки у него так же крепки, как те, что качали ее
на качелях до самого солнца, нос же нисколько не сма-
хивает на козий, а напротив, весьма благородно очер-
чен, и губы под ним тоже лишь чуть-чуть припухлые.
— Нанда! — крикнула она, и сердце ее вспыхнуло
ярым пламенем от радости. Ибо он показался ей
Кришной, истекавшим могучей нежностью.
— Нанда, взгляни сюда, это Сита пришла к тебе!
И он уронил свой топор и побежал ей навстречу,
и «завиток счастливого теленка» был у него на груди.
Тысячами приветственных, любовных имен звал он
ее, так как очень истосковался по ней, по всей своей
Сите, истосковался душою и телом.
— Ты пришла наконец! — восклицал он. — О, моя
лунная нежность, женщина с глазами куропатки,
Сита, прекрасная куда ни глянь, златокожая, пышно-
бедрая жена моя! Как часто снилось мне по ночам,
что ты идешь по равнинам ко мне, отверженному,
одинокому, и вот ты и вправду здесь, ты одолела
разбойничью тропу, тигровые заросли и змеиный дол,
которые я умышленно проложил между нами со зла и
досады на приговор отшельника! Ах, ты замечатель-
ная женщина, Сита! Но кого это ты привела с собой?
— Это зернышко, — отвечала она, — которым ты
одарил меня в первую священную брачную ночь,
когда еще не был Нандой.
— Ну, эта ночь, верно, оставляла желать луч-
шего, — сказал он. — Как же его зовут?
— Его имя Самадхи, — отвечала она, — но мало-
помалу его стали звать Андхакой.
— Почему так? — спросил Нанда.
— Не подумай, что он слеп, — воскликнула она.—
Этого про него нельзя сказать, так же как нельзя ска-
зать, что он бледен, хотя кожа у него белая. Он только
очень близорук и уже за три шага ничего не видит.
^— Это имеет свои преимущества, — отвечал
Нанда. И они усадили мальчика чуть поодаль на зеле-
неющую траву и дали ему цветов и орехов — поиграть.
Теперь ему нашлось занятие, и потому то, во что они
играли сами, под птичий щебет, доносившийся с оза-
306
ренных вершин, среди цветущих манговых деревьев,
благоухание которых множит любовную страсть по
весне, осталось вне поля его зрения.
Далее в сказании говорится, что супружеское
счастье этой влюбленной четы длилось всего один
день и одну ночь, ибо не успело солнце вторично
взойти над багряно-цветущим лесом, к которому жа-
лась хижина Нанды, как Шридаман, по возвращении
в свой осиротевший дом тотчас догадавшийся, куда
отправилась его супруга, уже прибыл туда. Домо-
чадцы в «Обители благоденствующих коров», со стра-
хом поведавшие ему об исчезновении Ситы, ждали,
конечно, что гнев его вспыхнет, словно огонь, в кото-
рый подлили масла. Но этого не случилось, он только
долго и медленно качал головой, как человек, знавший
все наперед, и не в ярости и жажде мести, а, правда,
без передышки, но и не спеша, пустился вслед за же-
ной, в пу'стынь Нанды. Он ведь уже давно знал, где
находится Нанда, и только скрывал от Ситы, чтобы
не торопить роковое и неизбежное.
Тихонько подъехал он на своем яке, всегда слу-
жившем ему для долгого пути, спешился под утрен-
ней звездой у хижины и даже не прервал объятия
четы там, внутри, а сел и стал дожидаться, покуда
его разомкнет день. Ревность его была чужда буд-
ничности, заставляющей сопеть и задыхаться того,
кто существует сам по себе, ревность же Шридамана
просветляло сознание, что его собственное прежнее
тело вновь вступило в брачный союз с Ситой, и потому
это с одинаковым успехом могло считаться проявле-
нием верности и проявлением измены; а познание су-
щего поучало его, что, собственно, безразлично, с кем
спит Сита, с ним или с другим, ибо она, даже если
другому при этом ничего не доставалось, все равно
спала с ними обоими.
Отсюда и неторопливость, с какою он совершал
свой путь, отсюда спокойствие и терпение, с каким он
дожидался рассвета. Что при всем том он не был
склонен предоставить вещам идти своей чередой,
20*
307
явствует из продолжения этой истории, согласно кото-
рому Сита и Нанда, с первым солнечным лучом выйдя
из хижины, где еще спал маленький Андхака,— на пле-
чах у них висели полотенца, так как они собирались
искупаться в протекающей поблизости реке,— неждан-
но увидели друга и мужа, сидевшего к ним спиною и
не обернувшегося на их шаги,— подошли к нему, сми-
ренно его приветствовали и в конце концов полностью
согласились с его волей, признав необходимым и неиз-
бежным решение, которое он принял, едучи сюда, от-
носительно всех троих, дабы распутать эту путаницу.
— О Шридаман, господин мой и достопочтенная
супружеская глава! — сказала Сита, низко склоняясь
перед ним. — Привет тебе, и не думай, что твое при-
бытие нам страшно или нежелательно! Ведь там, где
двое из нас, всегда будет недоставать третьего, а по-
тому прости, что я не устояла и, движимая безмерным
состраданием, отправилась к одинокой голове друга!
— И к телу мужа, — подхватил Шридаман.—
Я прощаю тебя. И тебя тоже, Нанда, и прошу в свою
очередь простить меня за то, что я настоял на соблю-
дении приговора святого, приняв в расчет только
свою душу и чувства, с твоими же не посчитался.
Правда, ты сделал бы то же самое, если бы приговор
оказался таким, какого ты ждал. Ибо участь смерт-
ного— в тщете и разделенности этой жизни — за-
слонять свет друг другу, и напрасно лучшие из нас
грезят о бытии, в котором смех одного не означал бы
слезы другого. Слишком уж я положился на свою
голову, радовавшуюся твоему телу, — ибо вот этими,
только слегка похудевшими, руками ты качал Ситу
на качелях до самого солнца. И я льстил себе, пола-
гая, что после нашего преображения именно я смогу
предложить ей все, о чем она тоскует. Но любовь
требует всего целиком. Поэтому мне и пришлось
дожить до того, что наша Сита стала настойчиво
домогаться твоей головы и ушла из моего дома. Если
бы я был уверен, что в тебе, мой друг, она обретет
прочное счастье и удовлетворение, я бы повернул
вспять и дом моего отца сделал бы своей пустынью.
Но я в это не верю! Нет, если вблизи от головы мужа
308
на плечах друга она тосковала по голове друга на
мужних плечах, то, без сомнения, ее охватит и состра-
дательная тоска по голове мужа на плечах друга —
нигде не знать ей покоя и удовлетворения; далекий
супруг неизменно будет превращаться в друга, кото-
рого она любит, и к нему поведет она нашего сынка
Андхаку, ибо в нем будет видеть его отца. А жить
с нами обоими ей нельзя, потому что многомужество
среди высших существ недопустимо. Верно ли то, что
я говорю, Сита?
— Как ты сказал, так оно, на беду, и есть, мой
господин и друг, — отвечала Сита. — Но мое сожале-
ние, которое я облекла в словцо «на беду», относится
лишь к одной части твоей речи, а совсем не к тому,
что ужас многомужества непонятен женщине, подоб-
ной мне. О, из-за этого у меня не вырвется «на беду»!
Напротив, я горжусь, что со стороны моего отца Су-
мантры во мне еще течет немного воинственной крови,
и моя душа возмущается против такой низости, как
многомужество: при всей слабости и при всем сум-
буре плоти, высшему существу все же свойственно
чувство гордости и чести!
— Ничего другого я и не ждал от тебя, — сказал
Шридаман, — и ты можешь быть уверена, что этот
образ мыслей, не зависящий от твоей женской сла-
бости, я с самого начала учел в моих размышлениях.
Итак, поскольку тебе нельзя жить с нами обоими,
я убежден, что этот вот юноша, Нанда, мой друг, с
которым я обменялся головой или телом, если угодно,
присоединится ко мне в том смысле, что нам тоже
нельзя жить и что единственный исход для нас —
отрешиться от нашего обмененного обличия и вновь
растворить наши существа во всесущности. Ибо если
отдельное существо до того запуталось, как это имеет
место в нашем случае, то лучше, чтоб оно расплави-
лось в пламени жизни, как масло в жертвенном огне.
— Шридаман, брат мой, — сказал Нанда, — ты
с полным правом рассчитываешь на мое согласие.
Оно неизбежно. Я даже не знаю, что нам осталось
бы еще делать во плоти, после того как мы оба уто-
лили свои желания и делили ложе с Ситой; моему
309
телу дано было радоваться ей в твоем сознании,
а твоему в моем, точно так же как она радовалась
мне под знаком твоей головы, а тебе под знаком
моей. Но мы смело можем считать, что наша честь
не задета, ибо я обманывал только твою голову
с твоим телом, а это в известной мере уравнивается
тем, что Сита, пышнобедрая, обманывала мое тело
с моей головой; а от того, чтобы я, некогда в знак
верной дружбы тебе подаривший пучок бетеля, обма-
нул тебя с нею, еще будучи Нандой головою и телом,
нас, к счастью, упас великий Брахма. И все же, по
чести, так дальше продолжаться не может, для много-
мужества и разделения двумя мужчинами ложа
с одной женщиной мы слишком почтенные люди,
о Сите уж и говорить не приходится, и о тебе тоже,
даже и с моим телом. Но я и себя причисляю
к почтенным людям, особенно, после того как моим
сделалось твое тело. Посему я беспрекословно согла-
шаюсь со всем, что ты сказал относительно растворе-
ния, и я готов вот этими моими руками, окрепшими
в пустыни, немедля соорудить костер. Ты знаешь, что
я и раньше вызывался сделать это. И также знаешь,
что я всегда был полон решимости не жить дольше
тебя, и без колебаний последовал за тобою в смерть,
когда ты принес себя в жертву богине. Но обманы-
вать тебя я стал лишь тогда, когда тело супруга дало
мне на то известное право и Сита привела ко мне
маленького Самадхи, телесным отцом которого я дол-
жен себя почитать, хотя я охотно и с уважением при-
знаю за тобой отцовство головы.
— Где Андхака? — спросил Шридаман.
— Он спит в хижине, — отвечала Сита, — и во
сне набирается сил и красоты для жизни. Мы как
раз вовремя о нем заговорили, ведь его будущее
должно быть для нас важнее вопроса, как с честью
выбраться из этой неразберихи. Впрочем, все это
тесно связано одно с другим, и, заботясь о своей
чести, мы заботимся о чести мальчика. Останься
я с ним одна, как мне, быть может, и хотелось, когда
вы вернетесь во всебытие, и он будет влачиться по
жизни, несчастный вдовий ребенок, покинутый честью и
310
счастьем. Но вот если я последую примеру благородных
сати, что живьем следовали за мертвым супругом и вме-
сте с ним всходили на костер, так что в их честь воздви-
гали обелиски и каменные плиты на месте сожже-
ния, — если я покину ребенка вместе с вами, тогда,
только тогда, его жизнь будет почетна, и людское ми-
лосердие изольется на него. Посему я, дочь Сумантры,
требую, чтобы Нанда соорудил костер для троих. Как
я делила с вами ложе жизни, так должна объединить
нас троих и кровавая постель смерти. Ведь, по правде
говоря, мы и в жизни всегда бывали втроем.
— Никогда, — сказал Шридаман,—я не ждал от
тебя другого ответа и наперед считался с гордостью
и высокомудрием, что живут в тебе наряду с женской
слабостью. От имени нашего сына благодарю тебя за
твое намерение. Но дабы выбраться из тупика,
в который завело нас плотское вожделение, и допод-
линно восстановить свою честь и гордость, надо очень
и очень подумать о формах этого восстановления, и
тут мои мысли и планы, которые я строил во время
пути, расходятся с вашими. Вместе с мертвым
супругом испепеляет себя и гордая вдова. Но ты не
вдова, покуда жив хоть один из нас, и еще большой
вопрос, станешь ли ты ею, воссев вместе с нами
живыми в огненном чертоге и вместе с нами
прияв смерть. Итак, чтобы сделать тебя вдовой, мы
с Нандой должны убить себя, то есть друг друга,
ибо в нашем случае «себя» и «друг друга» равно-
значно и, с точки зрения чистоты речи, вполне пра-
вильно. Мы должны биться, как олени за свою самку,
двумя мечами, о них я уже позаботился, мечи прито-
рочены к седлу моего яка. Но биться не затем, чтобы
один победил, остался жив и унес с собою пышнобед-
рую Ситу: так дела не поправишь, ибо мертвый на-
всегда останется другом, по которому она будет сох-
нуть, бледнея в объятиях мужа. Нет, мы оба должны
пасть, каждый должен быть поражен в самое сердце
мечом другого, ибо другому принадлежит только меч,
не сердце. Так оно будет лучше, чем обращать
свой меч против собственного измененного и бренного
обличил; мне думается, что наши головы не имеют
311
права выносить смертный приговор телу, соединен-
ному с каждой из них, равно как наши тела не имели
права на блаженство и брачное соитие, неся на пле-
чах чужие головы. Трудной будет наша битва, по-
скольку голове и телу каждого придется поставить
себе задачей биться не за себя и за единоличное об-
ладание Ситой, а за то, чтобы одновременно нанести
и принять смертельный удар. Но, с другой стороны,
не труднее же будет осуществить это двустороннее
самоубийство, чем отсечь себе голову, а ведь мы оба
сумели совладать с собой и совершить этот поступок.
— Возьмемся за мечи! — крикнул Нанда. — Я го-
тов к битве, ибо нет иного пути для нас, соперников,
разрешить этот спорный вопрос. И он справедлив,
этот путь, так как новое сочетание наших тел и голов
сделало приблизительно равной и силу наших рук:
мои стали слабее на твоем туловище, твои сильнее
на моем. С радостью подставлю я тебе свое сердце, по-
тому что обманывал тебя с Ситой, но и всажу меч
в твое, дабы она не бледнела в твоих объятиях от
тоски по мне, но как дважды вдова соединилась бы
с нами в пламени.
И так как Сита с охотою приняла этот порядок и
даже сказала, что он горячит ее воинственную кровь
настолько, что она и не подумает убегать с места боя,
а напротив, глазом не моргнув, будет следить за
таковым, то смертоубийственная схватка тотчас же и
состоялась перед хижиной, где спал Андхака, на
усеянном цветами лугу меж Коровьей рекой и ог-
ненно цветущей полоской леса, и оба юноши, пронзив
сердца друг другу, упали в ярко расцвеченные травы.
Проводы же покойников, из-за того, что с этой свя-
щенной церемонией было связано сожжение вдовы,
превратились в великое народное празднество; тысяч-
ные толпы стеклись к месту сожжения, чтобы наблю-
дать за тем, как маленький Самадхи, прозванный
Андхакой, в качестве ближайшего родственника
мужского пола, щуря свои близорукие глаза, поднес
факел к костру, сложенному из стволов манго и бла-
гоухающих сандаловых чурок, меж которых была
проложена сухая солома, обильно политая растоп-
312
ленным маслом, дабы дружно и яро запылал огонь,
в котором Сита из Воловьего Дола восседала между
мужем и другом. Пламя костра взметнулось до са-
мого неба, что случается не часто, и если прекрасная
Сита и кричала некоторое время, потому что огонь,
когда мы еще не мертвы, жжет очень больно, то
голос ее настолько заглушался пронзительными зву-
ками рогов и треском барабанов, что она словно бы
и вовсе не кричала. Но преданию угодно утверждать,
а нам ему верить, что радость воссоединения с воз-
любленными обратила для Ситы зной в прохладу.
На том месте, где был сложен костер, ей поста-
вили обелиск в память ее жертвы, а не до конца
сгоревшие кости всех троих были заботливо собраны,
политы молоком и медом и убраны в глиняный кув-
шин, который опустили в священные воды Ганга.
Зернышку же ее, Самадхи, вскоре для всех став-
шему только Андхакой, отлично жилось на земле. Про-
славившийся благодаря празднику сожжения и как
сын вдовы, удостоенной обелиска, он пользовался
всеобщим благорасположением, которое из-за его
расцветающей красоты нередко перерастало в неж-
ность. Уже к двенадцати годам, обаятельный, про-
светленный прелестью своего обличья, он напоминал
гандхарву, а на груди его начал обрисовываться «за-
виток счастливого теленка». И надо еще сказать, что
он отнюдь не был в накладе от своей подслепова-
тости, напротив — она удерживала его от чрезмерной
преданности плотской жизни и направляла на духов-
ное. Когда ему исполнилось семнадцать лет, брахман,
знаток Вед, взял его под свою опеку и научил
просвещенной, правильной речи, грамматике, астроно-
мии и искусству мышления, а в двадцать он уже был
чтецом раджи Ванараси. На великолепной дворцовой
веранде, в чистых одеждах, под шелковым белым зон-
тиком, он сидел и читал властелину своим чарующим
голосом из священных и мирских писаний, причем
близко держал книгу у своих темных, мерцающих глаз.
1940
ЗАКОН
I
Его рождение было необычно; и потому он всей
душой любил незыблемый обычай, завет и запрет.
Юношей, в порыве гнева, он убил; и потому лучше
иных, неискушенных, знал, что убийство лакомо, но
быть убийцей—ни с чем не сравнимая мерзость, и
твердо помнил: не убий.
Его горячила чувственность, и потому он тянулся
к духовному, . чистому и святому, иначе: к незри-
мому— ибо незримое представлялось ему святым,
духовным и чистым.
У мидеанитов, непоседливых пастухов и торговцев
пустыни, к которым он пристал, когда свершил убий-
ство и должен был бежать из Египта, земли, где он
родился (но о подробностях его рождения — ниже),—
он узнал о боге, которого нельзя видеть, но который
видит тебя. Этот бог обитает в горах, но в то же
время и незримо восседает в шатре, на переносном
ковчеге и, меча жребий, безгласно прорицает гря-
дущее. Для сынов Мидеана этот бог, нареченный
именем Иегова, был всего лишь богом среди других
божеств; они не слишком задумывались над тем,
как должно ему служить, да и вспоминали-то о нем
скорее из осторожности, на всякий случай.
«А вдруг, — пришло им в голову, — средь прочих
богов есть одинг безобразный и безликий, которого
314
люди не видят?» И они стали приносить ему жертвы,
дабы ни перед кем не согрешить, никого не обидеть и
тем самым обезопасить себя от любой напасти, от-
куда бы она ни грозила.
Не то Моисей. В силу владевшего им влечения
к чистому и святому он проникся безмерным благо-
говением к незримости Иеговы и укрепился в мысли,
что никто из зримых божеств не может сравниться
в святости с Незримым, и весьма дивился, что сыны
Мидеана не оценили по достоинству того свойства,
которое ему, Моисею, представлялось исполненным
глубочайших тайносплетений. В пустыне, где он
пас овец брата жены своей, мидеанитки, и где его
посещали грозные наития и откровения, однажды
даже вырвавшиеся из недр груди его и представшие
ему в виде пламенного лика и внятного наказа, на-
стойчиво обращенного к его душе, — Моисей путем
долгих упорных и беспощадных раздумий пришел
к убеждению, что Иегова не кто иной, как Эль
Эльои — всевышний, Эль Рои — «Бог, очи коего зрят
меня», как тот, что издревле зовется Эль Шаддай —
«Бог Горы», или Эль Олам — «Бог вселенной и веч-
ности», — словом, не кто иной, как бог Авраама,
Исаака и Иакова, «Бог праотцев» — праотцев его
нищих, темных, безнадежно запутавшихся в своих
верованиях родичей, давно порабощенных и признав-
ших домом своим землю Египетскую, чья кровь —
с отцовской стороны — текла в его, Моисеевых, жилах.
И вот, переполненный этим открытием, с тяжким
бременем долга на душе, но весь дрожа от нетерпе-
ния выполнить наказ, он, после многих лет, прове-
денных у сынов Мидеана, посадил на осла жену свою
Сепфору (она была знатного рода, дочерью жреца и
царя Рагуила и сестрою сына его Иофора, хозяина
стад), забрал двух своих сыновей, Гершона и Елеа-
зара, и пустился в обратный путь, в землю Египет-
скую, что лежит на востоке, в семи долгих днях пути
через великую пустыню, — к непаханым низовьям
Нила, где река разделяется на рукава и где в округе
Кос, именуемой также Гошем, Госем и Гошен, жила
и тяжко трудилась кровь его отца.
315
Там он тотчас же, где только мог — в хижинах, на
пастбищах и на работах, — начал изъяснять тем,
в ком текла эта кровь, великий смысл своего пости-
жения, при этом он, по привычке, всякий раз потря-
сал кулаками, не отрывая от тела опущенных рук. Он
возвещал, что бог их праотцев вновь отыскался, что
он явился ему, Мошэ бен Амраму, на горе Ор в пу-
стыне Син, из среды тернового куста, который горел
огнем, не сгорая, что имя его — Иегова, а это озна-
чает «я есмь сущий от века до века», но также и
«дыхание ветра» и «неистовый ураган», и что он, Ие-
гова, возлюбил их кровь и готов поставить с ними
свой завет и избрать их среди всех народов, на од-
ном, однако, условии: они должны клятвенно посвя-
тить себя ему, и только ему, заключив между собою
союз для безобразного служения Незримому и не
помышляя об ином поклонении.
Он неотступно буравил их души такими речами, и
его кулаки не переставали содрогаться на невиданно
широких запястьях. Всего, однако, он им не по-
ведал, утаив от них многое и едва ли не самое важ-
ное, ибо боялся смутить и отпугнуть их. О тайноспле-
тениях незримости, то есть о духовности, чистоте и
святости, он не обмолвился ни единым словом, пред-
почтя не уяснять им, что, поклявшись служить
Незримому, они должны обособиться, стать народом
духовности, чистоты и святости. Из тревоги умолчал
он об этом, из опасения их испугать: ведь они, эта
кровь отца его, были столь жалкой, столь принижен-
ной и запутавшейся в своих верованиях плотью, что
он не мог им доверять, хотя и любил их. И когда он
им говорил, что Незримый, что бог Иегова возлюбил
их, он вселял в Господа чувства и в уста его вклады-
вал речи, которые, быть может, и были господними
чувствами и речами, но не в меньшей мере принадле-
жали и ему, Моисею: ведь это он сам возлюбил кровь
отца своего, подобно тому как не может не возлюбить
ваятель бесформенную глыбу, из которой его руки
сотворят высокий и прекрасный образ; и отсюда
дрожь нетерпения, которая, вместе с осознанием вели-
316
кой тяжести господнего наказа, переполняла его душу
в час, когда он уходил из Мидеана.
Впрочем, он утаил от них и вторую половину на-
каза. Ибо наказ был двойной и гласил, что Моисей
должен не только возвестить своим родичам о вновь
обретенном боге праотцев и о его к ним благоволении,
но и вывести их из Египта, из дома рабства — на
свободу, и привести чрез великую пустыню в Землю
обетованную — в землю Авраама, Исаака и Иакова.
Этот наказ и возвещение о боге стояли рядом и не-
разрывно переплелись один с другим. Бог и обрете-
ние свободы для исхода на родину; бог и избавление
от чужеземного ига — в глазах Моисея это было од-
ной и той же мыслью. Но народу он об этом пока не
говорил, ибо знал: второе неизбежно последует за
первым, и еще потому, что надеялся сам испросить
«второе» у фараона, царя египетского, который был
не вовсе чужим Моисею.
Но то ли народу не понравились его речи, ибо
говорил он плохо, запинаясь и часто не находя
верного слова, то ли в дрожи, сотрясавшей его ку-
лаки, они почуяли таиносплетения незримости и того
завета, который хотел с ними поставить Господь,
и догадывались, что Моисей толкает их на дела труд-
ные и опасные, — так или иначе, на его неотступные
увещания они отвечали недоверием, страхом и жесто-
ковыйным упорством и, озираясь на приставников
фараона, цедили сквозь зубы:
— Зачем ты разглагольствуешь, заикаясь? И к че-
му слова твои? Или кто-нибудь поставил тебя старшим
и судьею над нами? Кто бы это, любопытно узнать?
Он не удивился их ропоту. Ему уже довелось слы-
шать от них такие речи до того, как он бежал в Мидеан.
II
Его отец не был ему отцом, и его мать не была ему
матерью — столь необычно было его рождение.
Вторая дочь фараона Рамессу гуляла со своими
прислужницами в царском саду на берегу Нила под
317
присмотром вооруженных телохранителей. Там заме-
тила она водоноса-еврея, и вожделение охватило ее.
У него были грустные глаза, юношеский пушок на
подбородке и сильные руки, напряженные от ноши.
Он трудился в поте лица своего и жил заботами
каждого дня, но для дочери фараона он был вопло-
щением красоты и прельстительного мужества, и она
повелела привести его к ней в беседку. Своими див-
ными ручками она взъерошила его волосы, влажные
от пота, целовала мышцы его рук и раздразнила его
мужское естество. И он взял ее, царскую дочь, раб-
чужеземец. Получив все сполна, она позволила ему
уйти, но не прошел он и тридцати шагов, как его
убили и тотчас скрыли в земле, и не осталось и следа
от нежной прихоти дочери Солнца.
— Бедняга, — сказала она, узнав о случив-
шемся. — Всегда-то вы переусердствуете. Уж он бы
наверное молчал. Ведь он любил меня.
Но она понесла во чреве своем и спустя девять
месяцев в величайшей потайности родила на свет
мальчика, и прислужницы положили его в просмолен-
ную корзинку из тростника и спрятали корзинку в ка-
мышах у берега реки. Там они же нашли ее и, найдя,
воскликнули:
— О, чудо! Найденыш в камышах, крохотный под-
кидыш! Словно в старинном сказании, точь-в-точь как
было с Саргоном, которого Акки-водонос нашел в ка-
мышах и вырастил в доброте сердца своего. Все повто-
ряется вновь и вновь! Но что нам делать с этой наход-
кой? Отдадим-ка его какой-нибудь простой женщине,
матери, которая сама кормит, а молоко у нее остается,
и пусть он растет, будто он родной ее сын, — ее и за-
конного ее мужа, — так будет всего разумнее.
И они положили ребенка на руки одной еврейке,
и она унесла его в округу Гошен, к Иохаведе, жене
Амрама из колена Леви. Она кормила сына своего
Аарона, и у нее оставалось молоко; по этой причине
и еще потому, что время от времени посланец цар-
ской дочери приносил тайком в ее хижину разное
добро, она растила чужого ребенка в доброте сердца
своего. Так Амрам и Иохаведа стали его родителями
318
в глазах людей, а Аарон — его братом. У Амрама
были волы и пашня. Иохаведа же была дочерью ка-
менотеса. Они не знали, как им назвать бог весть от-
куда взявшегося мальчонку, и потому дали ему полу-
египетское имя, вернее, всего лишь половину египет-
ского имени. Ибо часто сыновья той земли звались
Птах-Мошэ, Амон-Мошэ или Ра-Мошэ, то есть сы-
новьями богов, чтимых в Египте. Но Амрам и Иоха-
веда нашли разумным опустить имя бога и назвали
мальчика просто Мошэ — Моисей. Итак, он был
«сыном», но чьим — неизвестно.
III
Он рос среди пришлого племени и изъяснялся на
его языке. Предки этих колен, «голодные бедуины из
Эдома» (как назвал их писец фараона), однажды, во
время засухи, пересекли с дозволения пограничных
властей рубеж земли Египетской, и для пастбищ им
была отведена округа Гошен в низовьях реки. Тот,
кто подумал бы, что евреям разрешили пасти стада
свои безвозмездно, плохо знаком с нравом сынов
земли Египетской. Мало того, что евреи платили по-
дать скотом, и подать нелегкую, всяк из них, не
знающий немощи, был к тому же обязан нести трудо-
вую повинность, рабскую службу на всевозможных
стройках, а они никогда не прекращались в такой
стране, как Египет. Особенно много стали строить
с тех пор, как Рамессу, второй из фараонов, носив-
ших это имя, сел на престол в Фивах; то была его
страсть и царственная услада. Он строил пышные
храмы по всей стране, а в Нижнем Египте не только
обновил и расширил длинный заброшенный канал,
соединявший восточный рукав Нила с Горькими озе-
рами и тем самым — Великое море с краешком Черм-
ного, но вдобавок еще воздвиг на берегу канала два
города-житницы — Питом и Раамсес. Для этой-то
цели и были согнаны сюда из Гошена эти иврим, по-
томки голодных бедуинов, чтобы они обжигали и но-
сили кирпич, надрываясь и исходя потом под египет-
ской палкою.
319
Впрочем, палка была скорее знаком отличия при-
ставников фараона — рабов не били без надобности.
К тому же их хорошо кормили: рыбы из Нила, хлеба,
пива, говядины — всего было вдоволь. И тем не менее
рабский труд был им мерзок, ибо в их жилах текла
кровь кочевников и в памяти их хранилось предание
о свободной, бродячей жизни: урочный, размеренный
труд им был непривычен и оскорблял их сердца. Но
для того, чтобы единодушно выразить свое недоволь-
ство и проявить согласную стойкость, различные ко-
лена этого племени были слишком слабо связаны
друг с другом и слишком плохо сознавали свою общ-
ность. Много поколений отошло с тех пор, как они
разбили шатры на одном из переходов меж роди-
ной их праотцев и землей исконно египетской, и
за эти долгие годы они стали племенем безобразно-
зыбкой души, нетвердой веры и робкой мысли; мно-
гое они забыли, кое-что поверхностно переняли и,
утратив связующий стержень, изверились в собствен-
ных чувствах — даже в гнездившейся в их сердцах
ярой злобе на тех, кто принуждал их к подъяремной,
рабской службе; впрочем, тут их сбивала с толку
обильная пища: рыба, пиво, говядина.
Моисей, мнимый сын Амрама, войдя в возраст,
тоже должен был бы обжигать кирпичи для фараона.
Но случилось иначе: мальчика забрали у родителей
и увезли в Верхний Египет, где его поместили в за-
крытое учебное заведение, предназначенное для от-
прысков сирийских царьков и местной знати. Моисея
определили туда потому, что его кровная мать, дочь
фараона, та, что его родила и велела спрятать в ка-
мышах, особа хоть и похотливая, но все же не без-
душная, помнила о нем ради его убитого отца — во-
доноса с юношеской бородкой и грустными глазами —
и не пожелала, чтобы он остался среди дикарей:
пусть-де получит образование и займет подобающую
должность при дворе — знак молчаливого полупри-
знания его божественной полукровности. И вот, обла-
ченный в белые льняные ризы и с париком на голове,
Моисей стал постигать науку о звездах и дальних
странах, право и искусство письма. Но он не чувство-
320
вал себя счастливым среди щеголей благородного
учебного заведения; он был одинок среди них, и ему
претила вся эта египетская утонченность чувств, хоть
именно ей он был обязан своим рождением. Кровь
отца, принесенного в жертву этой похотливой утон-
ченности, была в нем сильнее крови египетской ца-
ревны, и сердцем своим он льнул к тем слабовольным
беднякам в стране Гошен, у которых не хватало му-
жества даже на то, чтобы разжечь в себе злобу. Да,
он был с ними, вопреки любострастному зазнайству
его матери.
— Так как же тебя зовут?— спрашивали его
школьники.
— Мошэ, — отвечал он, — Моисей.
— Ах-Мошэ или Птах-Мошэ? — спрашивали они.
— Нет, просто Мошэ.
— Право, это как-то убого и странно, — задирали
его эти хлыщеватые юнцы, и он свирепел до того, что
готов был убить их собственными руками и скрыть
в зыбучем песке. Ведь он хорошо понимал, что, за-
давая такие вопросы, мальчишки просто хотели по-
копаться в истории его необычайного происхождения,
о котором смутно было известно каждому. Сам Мои-
сей едва ли узнал бы, что он лишь тайный плод по-
хотливой утонченности египетских нравов, если б об
этом не знали все (хоть и не слишком достоверно),
все, не исключая фараона, для кого веселое приклю-
чение его дочери осталось тайной не в большей сте-
пени, чем для Моисея то непреложное обстоятель-
ство, что Рамессу Строитель — его дед по любостра-
стию, по грубой усладе и смертоубийственной ее
развязке. Да, Моисей это знал и знал, что знает об
этом и фараон, и в помыслах своих угрожающе кивал
головой в сторону фараонова трона.
IV
Так он прожил в Фивах два года, среди хлыщева-
тых своих однокашников, но потом не выдержал, пе-
релез ночью через стену и бежал обратно в Гошен,
к родичам своего отца. Там он мрачно бродил без
21 Т. Манн, т. 8
321
дела и однажды на берегу канала, вблизи новостроек
Раамсеса, увидел, как египетский приставник бьет
палкой раба за нерасторопность, а возможно, и за
строптивость. Побелев от ярости, с пылающими гла-
зами, он крикнул египтянину: «За что?», но тот вме-
сто ответа ударил его в переносицу, да так, что нос
Моисея навсегда остался перебитым и приплюснутым.
Тогда он вырвал палку из рук надсмотрщика, с чудо-
вищной силой взмахнул ею и уложил египтянина на
месте с размозженным черепом, мертвым. Он не-
сколько раз огляделся, желая убедиться, что никто
не видел его поступка. Но место было уединенное и
поблизости — ни души. Тогда он один скрыл в песке
убитого, ибо тот, за кого он вступился, бежал; и
у него было такое чувство, будто он всегда
таил в себе желание убивать и закапывать убитого
в землю.
Этот взрыв ярости остался тайной, по крайней мере
для египтян, которые так и не узнали, куда девался
их человек. С того дня прошло несколько лет, а Мои-
сей по-прежнему бродил без дела среди соплеменни-
ков своего отца и со свойственной ему властностью
вмешивался в их дела и распри. Однажды у него на
глазах жестоко поспорили два раба из числа иврим
и уже готовы были подраться.
— Ну что вы бранитесь, — сказал он им, — и за-
чем хотите драться? Разве мало вам того, что вы
убоги и заброшены? Вы — братья, родная кровь, и
должны держаться вместе, а норовите вцепиться друг
другу в глотку. Я видел, кто из вас не прав. Пусть он
уступит и откажется от своих слов, а второй пусть над
ним не глумится.
Но, как это часто бывает, они вдруг забыли
о своей ссоре и вместе набросились на него: «Чего
суешься в наши дела?» Особенно нагло держал себя
тот, кого Моисей признал неправым. Он орал во все
горло:
— Нет, это уж слишком! Кто ты таков, чтобы
совать свой козлиный нос во все, что тебя не ка-
сается? Да, да! Ты — сын Амрама, но этим сказано
слишком мало! Ведь ни один человек, не исключая
322
тебя самого, не знает толком, кто ты таков? Кто же
поставил тебя господином и судьею над нами? Может,
ты и меня хочешь убить, как—помнишь? — того егип-
тянина, и скрыть тело мое в песке?
— Тише! — остановил его в испуге Моисей и поду-
мал: «Как это могло выйти наружу?» И в тот же
день решил, что ему нельзя оставаться в этой земле.
Пересекши границу в том месте, где ее хуже всего
охраняли — у Горьких озер, на отмелях, он прошел
пустынными просторами земли Синай в Мидеан, к ми-
деанитам и к их жрецу и повелителю Рагуилу,
V
Когда он вернулся назад с душой, переполненной
Богом и великим его наказом, он был муж в расцвете
лет, кряжистый и скуластый, с проломленным носом,
с раздвоенной бородой, широко расставленными гла-,
зами и могучими запястьями, что было особенно за-
метно, когда он в раздумий прикрывал правой рукой
рот и бороду, а это случалось нередко. Из хижины
в хижину переходил он, со стройки на стройку, и,
плотно прижавши к бедрам кулаки, чтобы унять их
дрожь, говорил о Незримом, о Боге праотцев, готовом
поставить с ними свой завет, — говорил, хоть, собст*
венно, и не умел говорить. Он и вообще-то часто за-
пинался, а приходя в волнение, делался совсем косно-
язычен, и к тому же толком не знал ни одного языка
и, пытаясь отыскать недостающее слово, рылся сразу
в трех закромах. Арамейское наречие сиро-халдей-
ского языка, бывшее в употреблении у крови его отца
и перенятое им у своих названых родителей, было
вытеснено египетским языком, который ему пришлось
усвоить в фиванском училище, а к ним прибавился
еще и арабский — на нем он объяснялся в пустыне
у мидеанитов. И все это перемешалось у него в го-
лове безо всякого порядка.
Очень во многом помогал ему его брат Аарон, вы-
сокий, мягконравный человек с черной бородой и
21*
323
черными, спадавшими на шею кудрями; его большие
выпуклые глаза были чаще всего смиренно потуплены.
Брату Моисей поведал все и даже приобщил его Не-
зримому и всем таиносплетениям незримости, а так
как из-под бороды Аарона текли умилительные речи,
Моисей почти всегда брал его с собой, когда отправ-
лялся вербовать новых сторонников, и тот говорил
вместо брата,— правда, слишком вкрадчиво, елейно
и недостаточно увлеченно,—так что Моисей, потря-
сая кулаками, пытался вдуть пламя в его слова и
вдруг—бац! — перебивал его на своем арамейско-
египетско-арабском наречии.
Жена Аарона звалась Элишеба, дочь Аминадава;
она тоже принесла клятву Незримому и просвещала
народ, как и младшая сестра Моисея и Аарона, Ма-
риам, вдохновенная женщина, умевшая петь и бить
в литавры. Но особенно горячо привязался Моисей
к одному юноше, который в свою очередь всей душою
прилепился к нему, к его откровению и к его помыс-
лам и не отходил от него ни на шаг. Собственно го-
воря, он звался Гошеа, сын Нуна (что значит
«Рыба»), из колена Ефремова. Но Моисей нарек его
именем Иеговы — Иегошуа, или, сокращенно, Иошуа,
и свое имя он носил с гордостью, этот статный моло-
дой человек с кудрявою головой, крутым кадыком и
двумя резко прочерченными морщинами меж бровей.
У него было свое, особое воззрение на дело — не
столько религиозное, сколько военное: ибо для него
Иегова, бог праотцев, был прежде всего богом
воинств, и связанная с господним именем мысль об
исходе из дома рабства для Иошуа совпадала с мы-
слью о завоевании новой, собственной земли для ев-
рейских колен, потому что где-то они должны были
поселиться, а ни одна страна, обетованная или не
обетованная, не будет принесена им в дар. Вполне
разумное рассуждение.
Как ни был он молод, но все, что относилось
к делу, Иошуа держал в своей кудрявой, высоко под-
нятой голове с пристально глядящими глазами и не-
устанно обсуждал предстоящее с Моисеем, своим
старшим другом и господином. Не имея средств и
324
возможности произвести точную перепись еврейских
племен, он подсчитал, что число тех, кто разбил
шатры в Гошене и томился в городах-житницах, Пи-
томе и Раамсесе, а также их братьев, несших раб-
скую службу по всей стране, едва-едва достигает две-
надцати — тринадцати тысяч, а это могло составить
примерно три тысячи мужчин, способных носить ору-
жие. Впоследствии названные цифры были преувели-
чены сверх всякой меры, но Иошуа знал их довольно
твердо и не был ими доволен. Три тысячи человек —
не слишком грозная сила, даже если рассчитывать на
то, что кочующая в пустыне родная кровь в пути при-
соединится к ядру еврейского воинства и двинется
вместе с ним на завоевание новых земель. Распола-
гая такою силой, нечего и думать о великих начина-
ниях— вторгнуться с ними в Землю обетованную
было невозможно. Иошуа это понимал, а потому ду-
мал о каком-нибудь месте на воле, где племя могло
бы поначалу обосноваться и где, в сравнительно
сносных условиях, оно бы приумножилось в силу
естественного прироста, каковой (насколько Иошуа
знал свой народ) составлял в год два с половиной че-
ловека на сотню. Место для такого заповедника и пи-
томника, где возросла бы их воинская сила, юноша и
высматривал и об этом совещался с Моисеем; по-
путно выяснилось, что он поразительно ясно пред-
ставляет себе взаимное расположение разных стран
и держит в голове своего рода карту пригодных стоя-
нок с указанием числа дневных переходов, водопоев,
а главное, боеспособности населения.
Моисей знал, кого он обрел в лице Иошуа, знал
в полной мере, как тот будет ему необходим, и любил
его рвение, хоть все то, о чем не уставал говорить
Иошуа, его, Моисея, почти не занимало. Прикрыв пра-
вой рукою рот и бороду, он слушал, как юноша раз-
вивает свои стратегические замыслы, сам же думал
совсем о другом. Для него, посланца Незримого, Ие-
гова тоже означал исход, но не столько для воору-
женного захвата новых земель, сколько исход на
волю, в обособленность от прочих народов, чтобы
где-то там, на свободе, он, Моисей, остался наедине
32а
со всей этой беспомощной, безнадежно сбитой с толку
плотью, с этими обильными семенем мужчинами,
с женщинами, чьи груди налиты молоком, с пытаю-,
щими свою силу юношами, с сопливыми ребятиш-
ками, словом — с кровью своего отца, и мог бы утвер-
дить в их сердцах святонезримого Бога, чистого и ду-
ховного, сделав для них бога этого объединяющим,
зиждущим средоточием, и по образу его сотворить из
них народ, отличный ото всех других, народ госпо-
день, отмеченный истинной святостью и духовностью
и превосходящий все прочие племена и языки благо-
говением, воздержностью и страхом божиим, си-
речь: страхом перед самим понятием чистоты, перед
заветом, который в будущем укротит своеволие всех
племен, ибо Незримый по сути есть бог вселенский,
но они его завет примут первыми, и в том великая их
предпочтенность перед язычниками.
Такова была любовь Моисея к отцовской крови, —•
любовь ваятеля, — и она для него совпадала с бла-
гостным избранием господним и его готовностью по-
ставить с ними свой завет. И так как он твердо пола-
гал, что преображение по подобию божиему должно
предшествовать всем начинаниям, которые держал
в своей голове юный Иошуа, и что для этого потребно
время — свободное время, где-то там, на свободе, —
его не огорчало, что замыслы Иошуа еще далеки от
осуществления и что у них слишком мало мужчин,
способных носить оружие. Иошуа было потребно
время для того, чтобы, во-первых, приумножился на-
род естественным путем, и еще для того, чтобы он сам
возмужал и был признан достойным полководцем,
Моисею же — для преображения его соплеменни-
ков— этой вожделенной работы ради вящей славы
господней. И, приступая по-разному к общей задаче,
они были единодушны,
VI
Итак, посланец Незримого,—-вкупе с ближайшими
своими приверженцами: красноречивым Аароном,
Элишебой, Мариам, Иошуа и некиим Халевом, ровес-
326
ником и закадычным другом Иошуа, как и он, силь«
ным, простодушным и храбрым, — не теряя ни еди-
ного дня, нес своим весть об Иегове, о почетной го-
товности Незримого поставить с ними свой завет и
разжигал в то же время их ненависть к работе под
египетской палкой, внушая всем и каждому мысль
о свержении позорного ига и об исходе из Египта.
Все они действовали как умели: Моисей запинался и
потрясал кулаками, с уст Аарона плавно лились крот-
кие речи, Элишеба трещала без умолку. Иошуа и
Халев бросали отрывистые призывы, более всего похо-
дившие на команды, а Мариам, которую скоро про-
звали «пророчицей», сопровождала свои слова, зву-
чавшие так торжественно, ударами в литавры. И про-
поведь эта падала не на бесплодную почву: мысль
о том, чтобы поклясться в верности Моисееву богу и
его завету, посвятить себя Незримому и под водитель-
ством его и его посланца совершить исход на волю,
пустила корни среди колен еврейских рабов и посте-
пенно превратилась в стержень, связующий их во-
едино; а тут еще Моисей им обещал или по меньшей
мере их обнадежил, что будет ходатайствовать перед
верховной властью и испросит для всех разрешения
покинуть землю Египетскую, так что их исход будет
уже не безрассудным бунтом, а совершится мирно,
с обоюдного согласия. Они слышали, хотя лишь краем
уха, о его полуегипетском происхождении, о том, что
он был найден в камышах, об утонченном воспита-
нии, от которого он некогда вкусил, и о каких-то его
связях при дворе фараона. И то, что прежде было
причиною недоверия — египетская полукровность
Моисея,— теперь стало источником упований и укреп-
ляло его авторитет. Поистине, если кто мог отстоять
их общее дело перед фараоном, так разве что Мои-
сей. Ему-то они и поручили убедить Рамессу, Строи-
теля и Властелина, отпустить их на волю, — ему и его
молочному брату Аарону, ибо Моисей решил взять
себе в помощь Аарона, во-первых, потому, что сам не
умел говорить связно, Аарон же умел, а во-вторых,
потому, что тот знал кое-какие хитрости, которые
должны были произвести впечатление при дворе и
327
прославить имя Иеговы: так, к примеру, он стискивал
рукою затылок кобры, и та выпрямлялась, как палка,
а потом швырял эту палку оземь, и она свертывалась
кольцом и опять «превращалась в змею». Ни Моисей,
ни Аарон не приняли в расчет, что это чудо известно
и магам фараона, а потому не сможет послужить
столь уж разительным доказательством всемогуще-
ства Иеговы.
Вообще счастье им не улыбалось, как ни хитро-
умно было решение, вынесенное на военном совете,
в котором приняли участие также юные Иошуа и Ха-
лев. Было постановлено: испросить у царя дозволение
собраться всем коленам их племени и уйти в пустыню,
на расстояние трех дней пути от границы, чтобы там
совершить торжественное служение Господу и при-
нести ему жертву — по его же вышнему повелению,—
после чего они вновь вернутся на работу. Едва ли
кто-нибудь ожидал, что фараон даст обмануть себя
такой уловкой и поверит, будто они и в самом деле
возвратятся. То была попросту благоприлично-учти-
вая форма, в которую обрядили ходатайство об ис-
ходе. Но царь не оценил их учтивости.
Однако некоторого успеха братья все же до-
стигли: они проникли в «большой дворец» и пред-
стали пред фараоновым престолом — и не единожды,
а вновь и вновь, покуда медленно и упорно тянулись
переговоры. Обещание, данное Моисеем своим едино-
племенникам, не было бахвальством: он твердо по-
лагался на то, что Рамессу — его дед по тайному
любострастию (а это царем ревниво таилось), как и
на то, что каждый из них знает, что это ведомо им
обоим. То было действенным средством понуждения
в руках Моисея, и если его и недостало на то, чтобы
царь согласился выпустить их из земли Египетской,
оно все же позволяло Моисею вести переговоры с вер-
ховной властью и раз за разом открывало ему доступ
к владыке, ибо царь его боялся. Впрочем, страх госу-
даря опасен, и Моисей все время играл рискованную
игру. Но он был отважен; до чего отважен и сколь
впечатляла Моисеева отвага его соплеменников — об
этом мы вскорости услышим. Ведь фараону ничего не
32$
стоило втихомолку его задушить и тело сокрыть
в песке, чтобы наконец-то доподлинно не осталось
следа от причуды дочерней похоти. Но царевна со-
хранила сладостное воспоминание о том кратком
часе в беседке и ни за что не давала в обиду свое
дитя, найденное в камышах, — он был под ее защи-
той, хоть и ответил черной неблагодарностью на все
ее заботы о его воспитании и житейских успехах.
Итак, Моисей и Аарон получили право стоять пе-
ред фараоном, но в празднике и в жертвоприношении
на воле, за пределами Египта, к которому Господь
якобы призывал евреев, им было отказано наотрез.
Напрасно текли складные речи с уст Аарона, а Мои-
сей страстно потрясал кулаками. Не помогло и то,
что Аарон обратил свой жезл в змею: маги фа-
раона немедленно сделали то же самое, доказав,
что Незримый, во имя которого ратуют оба брата,
вовсе не обладает какой-то особенной силой, а потому
фараон не должен внимать голосу этого бога.
— Да ведь наше племя поразит язва или меч,
если мы не углубимся в пустыню на три дневных пе-
рехода и не устроим там празднества Господу, — ска-
зали братья.
Но царь ответил:
— Нам это безразлично. Вас достаточно много,
больше двенадцати тысяч голов, и будет вовсе не-
плохо, если вы поуменьшитесь в числе, от чумы ли,
от меча или от непосильной работы. Тебе, Моисей, и
тебе, Аарон, важно только одно: чтобы ваши люди
бездельничали, отлынивая от возложенной на них
трудовой повинности. Этого я не потерплю и не по-
зволю. У меня еще не достроено несколько храмов,
а вслед за этим я хочу возвести третий город-жит-
ницу, помимо Раамсеса и Питома и в добавление
к ним. А для этого мне потребуются руки ваших лю-
дей. Благодарю за доклад. Тебя, Моисей, я отпускаю
с чувством особой благосклонности. Но ни слова
больше о празднике в пустыне.
На том и закончилась эта аудиенция. Ничего хоро-
шего за нею не воспоследовало, напротив — произо-
шло явное и неоспоримое зло. Ибо фараон,
329
оскорбленный в своей ревности к строительству, раз-
досадованный тем, что не может прикончить Моисея,
и опасаясь скандала, который бы ему учинила в этом
случае строптивая дочка, отдал приказ еще более
тяжко придавить работой обитателей Гошена и не
жалеть палок для нерадивых; нужно задать им такой
урок, чтобы у них потемнело в глазах и все празд-
ные мечты о богослужении в пустыне разом вылетели
из их голов. Так все и вышло. День ото дня, покуда
длились переговоры Моисея и Аарона с царем еги-
петским, ярмо рабской службы становилось все тя-
желее. Так, к примеру, людям перестали выдавать со-
лому для обжига кирпичей, и теперь они сами
должны были бродить по жнивью и собирать солому,
хотя положенное число кирпичей осталось прежним и
нужно было выполнять урок, — в противном же слу-i
чае палка не уставала гулять по спинам несчастных.
Тщетно еврейские старшины и надсмотрщики, по-
ставленные над народом, жаловались властям на не-
померно высокие требования. Ответ гласил: «Вас
одолела праздность, праздность вас одолела, вот по-
чему вы и вопите: «Хотим уйти отсюда! Хотим при-
нести жертву!» Так добывайте же сами солому и при
этом — ни единым кирпичом меньше».
VII
Для Моисея и Аарона это было немалой помехой/
Старшины им говорили:
— Ну, дождались! Вот что мы получили, связав-
шись с вашим богом и полагаясь на высокое родство
Моисея! Ничего вы не добились, а только сделали нас
ненавистными в глазах фараона и его приставников..
Вы вложили им в руку меч, который нас истребит.
На это было трудно ответить, и Моисей провел
тягостные часы один на один с Богом тернового ку-
ста, упрекая его, и понуждал вспомнить, как он, Мои-,
сей, противился, не желая брать на себя его наказа,
как он молил послать кого-нибудь другого, только не
его: ведь он и говорить-то толком не умеет; Господь
330
же на это ответил: зато-де Аарон красноречив. Верно!
Он легко произносит речи, но уж слишком елейные, и
разве не ясно, что никогда не следует браться за по-
добное дело, ежели язык твой неповоротлив и тебе
приходится просить кого-то еще высказать за тебя
твои мысли. Но Бог утешал и наказывал его из глу-
бины груди его и оттуда вещал в ответ: «Стыдись
своего малодушия! Твои жалобы и отговорки — одно
жеманство! В сердце своем ты только и мечтал о моем
наказе, ибо любовь твоя к народу — любовь ваятеля,
и она столь же велика, как моя любовь, ее не отли-
чишь от моей: обе они сливаются в одну. Да, любовь
Бога — вот что подвигало тебя на труды, и стыдно от-
чаиваться при первой же неудаче!»
Эти слова Моисей должен был выслушать с тем
большим смирением, что на военном совете они все
вместе — он сам, Иошуа, Халев, Аарон и вдохновен-
ные жены — пришли к заключению, что если вду-
маться, то новые притеснения, какое б они ни ро-
ждали недовольство в народе, по сути — не столь уж
нежеланны поначалу: ведь они пробуждают недо-
вольство не только против Моисея, но прежде всего
против египтян, и лишь заставят народ тем более го-
рячо откликнуться на призыв Бога-избавителя,
иначе — на мысль об исходе. Так оно и случилось:
волнения из-за соломы и кирпичей все возрастали, и
упреки Моисею, который-де сделал их ненавистными
в глазах фараона и только повредил им, отступили
перед желанием, чтобы сын Амрама еще раз пустил
в ход свои связи и снова пошел к фараону.
И он пошел, на сей раз уже один, без Аарона, не
думая о неповоротливом своем языке; он потрясал ку-
лаками перед троном и, запинаясь, торопливо глотая
слова, настойчиво требовал царского изволения на
исход его соплеменников в пустыню, на волю, для
жертвоприношения и богоугодного праздника. И не
один, а десять раз приходил он к фараону, ибо царь
не мог закрыть ему доступ к своему престолу — слиш-
ком могущественны были связи Моисея. Между ним
и царем завязалась борьба, затяжная и упорная; и
если она и не склонила фараона уступить дерзким
331
Моисеевым требованиям, то привела к тому, что
сами египтяне в один прекрасный день скорее вытол-
кали, прогнали взашей обитателей Гошена, нежели
отпустили их добром, — лишь бы только от них изба-
виться. Об этой борьбе и мерах понуждения, приме-
ненных к упорствующему фараону, было много вся-
ких толков, хотя и не лишенных основания, но сильно
раздутых и приукрашенных. Говорят о десяти каз-
нях, к которым поочередно присуждал Иегова Египет,
чтобы сломить фараона, в то же время нарочито оже-
сточая его сердце против замысла Моисея, дабы он,
Иегова, имел повод все к новым казням и тем все
более грозно утверждал свое могущество. «Кровь»,
«жабы», «мошки», «дикое зверье», «парша», «мор»,
«град», «саранча», «тьма» и «смерть первенцев» — вот
как называются эти десять казней, и ни в одной из
них нет чего-либо невозможного. Вопрос только в том,
насколько они (исключая последнюю — загадочную
и до конца так и не раскрытую) способствовали до-
стижению искомой цели. Нил время от времени и
вправду принимает кроваво-алую окраску, вода его
ненадолго становится непригодной для питья, и рыба
в ней погибает. Точно так же случается, что болотные
жабы вдруг умножатся сверх всякой меры или что
вши, которые никогда совсем не исчезают, нежданно
появятся в чудовищном количестве, наводя на мысль
о каре за прегрешения. В ту пору и львов было го-
раздо больше, чем теперь; они бродили по окраинам
пустыни или подстерегали добычу в зарослях вдоль
пересохших рукавов реки, и когда число их нападе-
ний на человека и скот разительно возрастало, это
тоже можно было назвать «казнью». А как часто
поражает сынов земли Египетской чесотка или парша
и как легко нечистоплотность приводит к зловонным
язвам, которые не щадят никого, словно чума! Небо
в той земле почти всегда ясно — тем большее впечат-
ление там производят редкие, но свирепые бури, ко-
гда огонь из облаков сопровождается падением тяже-,
лых зерен града, побивающих посевы и срывающих
с деревьев листву, — и все это — без какой-либо по-
нятной людям цели! Саранча — слишком хорошо зна^
332
комый гость, и человек придумал немало отпугиваю-
щих и ограждающих средств против ее налетов, но ее
алчность пересиливала все препоны, и каждое поле
превращалось в сожранную догола пустыню. А тому,
кто хоть раз испытал страх и тоску при затмении
солнца, легко понять, почему избалованный светом
народ назвал эту тьму все тем же словом: «казнь».
Этим бедствия, о которых говорится в преда-
ниях, собственно, исчерпываются, ибо десятое бед-
ствие — смерть первенцев — по сути не входит в их
число, а представляет собой двусмысленное и жуткое
привходящее обстоятельство самого исхода. Все про-
чие беды могли и вправду случиться — иные из них
или даже все, наверное, и в самом деле случились,
коль скоро речь идет о значительном отрезке вре-
мени. Но вернее было бы смотреть на все эти «казни»
как на изящное иносказательное обозначение един-
ственного действенного средства понуждения, кото-
рым располагал Моисей в своей борьбе с Рамессу,
короче говоря — как на обозначение того обстоятель-
ства, что фараон был его дедом по любострастию,
о чем Моисей мог в любой миг раструбить повсюду.
Не раз царь был близок к тому, чтобы поддаться его
натиску, во всяком случае он шел на большие
уступки. Рамессу соглашался отпустить мужчин на
празднество жертвоприношения с тем чтобы женщины,
дети и стада остались на месте. Однако Мои-
сей возразил: «Нет! Стар и млад, с сыновьями и до-
черьми, с овцами и волами, должны мы выйти, ибо
это праздник господень!» Тогда фараон разрешил им
взять с собою жен и детей, и только скот должен был
остаться залогом в земле Египетской, но Моисей
спросил фараона: откуда ж они возьмут жертвы для
мирного заклания и всесожжения в праздник госпо-
день, ежели у них не будет скота. «Ни одного ко-
пыта, — настаивал он, — не должно здесь остаться»,—
и всем стало доподлинно ясно, что речь шла не об от-
лучке или же отпуске, а именно об исходе.
Из-за помянутого копыта между его египетским
величеством и посланцами Иеговы под конец разыгра-
лась бурная сцена. На всем протяжении переговоров
333
Моисей выказывал величайшее долготерпение, хотя
не в меньшей мере был наделен от природы и
вспыльчивостью, заставлявшей его так яростно потря-
сать кулаками. Дошло до того, что фараон не выдер-.
жал и буквально выгнал его из тронной залы.
— Прочь, — закричал он, — и смотри не попа-
дайся мне больше на глаза! А не то умрешь лютой
смертью!
Моисей был возбужден до крайности, но, внешне
храня полное спокойствие, ответил только:
— Ты сказал. Я ухожу и никогда больше не пока^
жусь тебе на глаза.
То, о чем подумал он в минуты этого грозного, хо-
лодного прощания, было не в духе его помыслов. Но
тем более в духе помыслов юных Иошуа и Халева.
VIII
Мы подошли к самой темной главе нашей повести;
в ней не обойтись без недомолвок и туманных наме-
ков. Пришел день, точнее же — ночь или злосчастный
вечер, когда Иегова (или его Ангел-губитель)
явился и присудил египтян (вернее, египетскую про-
слойку среди обитателей Гошена и городов Питом и
Раамсес) к последней, десятой казни, пропуская и
щадя те хижины и дома, где, дабы он не ошибся,
дверные косяки были, как условлено, намазаны
кровью.
Что же он сделал? Он сеял смерть, смерть первен-
цев в египетских семьях. При этом он явно шел на-
встречу кое-каким тайным упованиям и помогал кой-
кому из вторых сыновей обрести права, которых
в противном случае они бы вовеки не получили. Раз-
личие между Иеговой и его Ангелом-губителем на-j
стойчиво отмечалось свидетелями; то был не Иегова,
гласит предание, а именно его Ангел-губитель, вернее
говоря — целый отряд тщательно подобранных анге-
лов-губителей. Если же кто пожелает свести множе-
ственность к единому образу, то многое говорит за
то, что Ангела-губителя Иеговы следует себе пред-
334
ставлять в виде стройного юноши с кудрявою голо-
вой, крутым кадыком и решительно сдвинутыми бро-
вями; это классический тип ангела-губителя, который
во все времена испытывает радость, когда приходит
конец бесполезным переговорам и можно от слов пе-
рейти к решительным действиям.
Оживленные приготовления к таковым не прекра-
щались ни на миг во время затянувшихся перегово-
ров Моисея с фараоном. Для самого Моисея они
ограничились тем, что в ожидании тягостных событий
он потихоньку отправил жену и сыновей назад в Ми-
деан, к своему шурину Иофору, чтобы в будущем его
не обременяли заботы о близких. А Иошуа, который
рядом с Моисеем, бесспорно, занимал то же место, что
Ангел-губитель — рядом с Иеговой, думал о своем: он
не располагал пока ни средствами, ни достаточным
признанием для того, чтобы перевести на военное по-
ложение все три тысячи своих соплеменников, способ-
ных носить оружие, и принять над ними командова-
ние, а потому покуда навербовал всего один взвод,
вооружив его и подчинив своей воле, — теперь у него
по крайней мере было с чем начать.
Эти события окутаны мраком — мраком того ве-,
чера и ночи, которые в глазах сынов земли Египет-
ской были кануном празднества для всеш племени,
что жило среди них в рабской неволе. Поначалу каза-
лось, что эти евреи просто хотят вознаградить себя
за отнятое у них празднество жертвоприношения
в пустыне пиром в честь бога, с изобильными яствами
и зажженными плошками, для чего они даже
брали взаймы у своих египетских соседей золотые и
серебряные сосуды. Но между тем (или, скорее, вме-
сто того) явился Ангел-губитель, и умерли первенцы
во всех жилищах, какие не были помечены пучком
иссопа, омоченным в крови; эта кара имела след-
ствием такое замешательство, такой неожиданный пе-
реворот в правовых отношениях, что путь к исходу
не только открылся перед людьми Моисея, но их на
этот путь толкали с каждым часом все более настоя-
тельно, и как они ни торопились, египтянам все было
мало. И в самом деле, кажется, вторые сыновья не
335
столько ревновали о мщении за смерть тех, чье место
они заступили, сколько о том, чтобы виновники их
возвышения поскорее убрались прочь. Предание гла-
сит: эта десятая казнь сбила наконец спесь с фа-
раона, и он освободил от рабства народ Моисея. Прав-
да, очень скоро он послал в погоню за беглецами вой-
сковой отряд, но свершилось чудо, и войско погибло.
Как бы там ни было, их исход ничем не отличался
от изгнания, и поспешность, с какой он происходил,
ясна уже по такой подробности: ни у кого не оста-,
лось времени, чтобы заквасить тесто и испечь в до-
рогу хлеб; люди успели запастись только пресными
лепешками. Позднее, в память об этом, Моисей уста-
новил для крови отца своего праздничный обычай до
скончания веков. В остальном же все, от мала до ве-
лика, были полностью готовы к выступлению. Когда
Ангел-губитель обходил египетские дома, все уже си-
дели, препоясав чресла свои, на груженых телегах,
обутые, с дорожными посохами в руках. Золотые и
серебряные сосуды, взятые в долг у сынов этой земли,
они прихватили с собой.
Друзья мои! Исход из Египта сопровождался и
убийством и кражей. Но Моисей твердо решил: это
будет в последний раз. Да и как может человек вы-
рваться из нечистоты, без того чтобы не принести
ей последнюю жертву, без того чтобы еще раз не оку-
нуться в нее? Теперь то осязаемое, что любил Мои-
сей страстной любовью ваятеля— бесформенная че-
ловеческая масса, кровь его отца, была на свободе,
а свобода, он знал, это воздух, которым дышит
освящение.
IX
Караван странников, куда менее внушительный,
чем уверяют цифры предания, но все же достаточно
многочисленный для того, чтобы с ним трудно было
совладать, управлять им и снабдить всем необходи-
мым, нелегкое бремя на плечах того, кто взял на
себя ответственность за их судьбу, за их освобожде-
ние,— караван этот избрал путь, который напраши-
336
вается сам собою, если есть веские основания обойти
египетские пограничные укрепления, начинающиеся
севернее Горьких озер; этот путь вел через область
Соленых озер в ту землю, которую омывает больший
из двух, западный залив Чермного моря (между двумя
этими заливами лежит Синайский полуостров). Мои-
сей знал эту страну, потому что дважды пересек ее —
когда бежал в Мидеан и когда возвращался назад.
Лучше, нежели юному Иошуа, державшему в голове
одни только схемы местности, ему были известны ее
особенности, природа тех заросших тростником отме-
лей, которые связывают Горькие озера с морем, но
по которым в иное время можно добраться до Си-
пая, даже не замочивши ног: если дует сильный во-
сточный ветер, море отступает и открывается свобод-
ный проход, — ив таком состоянии беглецы, по ми-
лости Иеговы, застали Тростниковое море.
Весть о том, что Моисей, по внушению Бога, про-
стер над водами свой жезл и тем понудил их отсту-
пить и дать дорогу народу, разнесли повсюду Иощуа
и Халев. Вероятно, так он и сделал и, торжественно
воздевая руки, именем Иеговы призвал на помощь
восточный ветер. Во всяком случае, вера народа в
своего вождя тем более нуждалась в подкреплении,
что именно там впервые она подверглась тяжелому
испытанию. Ибо как раз там войско фараоново, пехота
и колесницы, знаменитые колесницы со смертоубий-
ственными серпами, настигли путников и едва-едва
не положили кровавый конец их пути к Богу.
Эта весть, принесенная замыкающим отрядом
Иошуа, вызвала в народе беспредельный ужас и от-
чаяние. Тотчас ярким пламенем вспыхнуло сожале-
ние («И- зачем только мы пошли за этим человеком,
Моисеем!»), и поднялся всеобщий ропот, который,
к великому огорчению и скорби Моисея, повторялся
затем при всяком столкновении с трудностями. Жен-
щины неистово вопили, мужчины кляли все на свете
и потрясали кулаками, точь-в-точь как Моисей,
когда приходил в возбуждение. «Разве в Египте нет
могил, — кричали они, — в которые мы могли бы
мирно сойти, каждый в свой час, если бы остались
22 Т. Манн, т. 8
337
дома?! — Египет вдруг сделался «домом», хотя
прежде был чужбиною и землею рабства. — Лучше
бы нам служить египтянам, чем погибнуть от меча
в этой глухомани!» Тысячу раз слышал впоследствии
Моисей эти слова, и они отравили ему даже радость
избавления, великую, всеобъемлющую радость. Он
был «Моисей, тот человек, который вывел нас из
Египта», — и это звучало похвалой, покуда все шло
хорошо. Но стоило делам пойти худо — и эти слова
тут же изменяли свою окраску и превращались'
в ворчливый укор, от которого было совсем не так
уж далеко до побиения камнями.
На этот раз дела шли невероятно, посрамляюще
хорошо. Божие чудо возвеличило Моисея, он был
«тем человеком, который вывел нас из Египта», — -
теперь эти слова снова зазвучали по-иному. Народ ва-
лит по высохшим отмелям, следом за ним — египет«
ские колесницы. И тут спадает ветер, волны повора-
чивают вспять, и клокочущие воды поглощают и
всадника и коня.
Торжество беспримерное. Мариам, пророчица,
сестра Аарона, била в литавры, предводительствуя
женщинами, которые шли в хороводе. Она пела:
— Пойте Господу — высоко превознесся он —«
коня и всадника ввергнул в море!
Мариам сама сочинила эту песнь. Представьте же
себе, как она звучала, да еще под грохот литавр!
Народ был глубоко потрясен. Слова «сильный,
святой, страшный, хвалимый, творец чудес» не схо-
дили с уст, и было неясно, относятся они к божеству
или к Моисею, божиему мужу, чей жезл (как пола-
гали) потопил в волнах египтян. Представления
здесь сместились, но это смещение напрашивалось само
собой. И когда народ не роптал, Моисей тратил не-
мало сил на то, чтобы не дать им обожествить себя,
бывшего только провозвестником и посланцем Бога,
Говоря по правде, это было отнюдь не смешно: то,
чего он стал требовать от убогих своих единоплемен-
ников, выходило за пределы всех человеческих обы-
чаев и просто не укладывалось в голове смертного.
Как только Мариам кончила петь и хоровод остано-
338
вился, он воспретил им всякое ликование по случаю
гибели египтян. Он возвестил: вышнее воинство
Иеговы само готово было подхватить эту победную
песню, но Господь напустился на них: «Как?1 Мои
создания утонули в море, а вы вздумали петь?» Эту
короткую, но поразительную историю Моисей по-
ведал всем. И прибавил:
— Не радуйся падению твоего врага; и сердце
твое пусть не веселится его несчастием.
Впервые целая толпа, больше двенадцати тысяч
человек, в том числе три тысячи способных носить
оружие, услышала обращение «ты», которое охваты-
вало всю их совокупность, но в то же время смотрело
прямо в глаза каждому в отдельности — мужчине и
женщине, старцу и дитяти — и, словно палец, упира-
лось каждому в грудь. «Падение врага твоего не
встречай криком радости». Это было в высшей сте-
пени противоестественно! Но, видно, такая противо-
естественность как-то связана с незримостью Бога
Моисеева, который пожелал быть нашим богом.
Самым смышленым среди темной толпы мало-помалу
становилось понятно, что он имеет в виду и какое
это зловещее бремя — поклясться в верности незри-
мому богу«
X
Теперь они были в Синайской земле, в пустыне
Сур; это угрюмое место человек покидает лишь для
того, чтобы оказаться в пустыне Фаран — не менее
горькой и безрадостной. Почему эти две пустыни на-
зывались по-разному—непонятно; они смыкались
одна с другою и были одинаково каменистые, вспу-
ченные мертвыми буграми, безводные и бесплод-
ные— проклятая равнина, тянувшаяся три дня, и
четыре, и пять... Моисей поступил правильно, когда
сразу же, не теряя времени, воспользовался своим
авторитетом, который так возрос на берегу Тростни-
кового моря, чтобы преподать тот нарушающий
законы естества наказ: ибо он уже опять стал
«Моисеем, этим человеком, который вывел нас из
22*
339
Египта», — что теперь означало: «принес нам несча-
стье»,— и громкий ропот бил ему в уши. На четвер-
тый день вода, которую они взяли с собой, подошла
к концу. Тысячи людей изнывали от жажды, над го-
ловой их было неумолимое солнце, а под ногами —
отчаяние, нагое отчаяние, была ли то еще пустыня
Сур, или уже пустыня Фаран — все равно. «Пить! Что
мы будем пить?!» Они кричали во все горло, не думая
и не заботясь о своем вожде, который мучился от-
того, что был за них в ответе. Он бы хотел один то-
миться от жажды, больше того — навсегда забыть
вкус воды, лишь бы только напоить их, лишь бы
только не слышать: «Зачем ты сманил нас из
Египта?!» Самому страдать нетрудно, несравненно
мучительнее сознавать свою ответственность за та-
кую вот толпу, и заботы удручали Моисея, удручали
во все дни жизни его—больше, нежели любого дру-
гого человека на свете.
Скоро и еда вся вышла — да и надолго ли, в са-
мом деле, могло хватить взятых впопыхах
лепешек? «Что мы будем есть?» — теперь звучал еще
и этот крик, перемежавшийся плачем и бранью, и Мои-
сей провел тягостные часы один на один с Богом,
упрекая его и сетуя на то, как жестоко с его стороны
возлагать бремя целого народа на плечи одного сво-
его раба. «Разве я зачал и родил весь этот народ,—
спрашивал он, — так чтобы ты мог сказать: «Неси
его на руках своих»? Где мне взять пищу, чтобы на-
кормить весь народ? Они плачут и говорят мне: «Дай
нам мяса, чтобы мы наелись!» Я не могу один нести
на руках весь народ —это слишком тяжело. А если
ты решил поступить со мною так, лучше убей меня,
чтобы не видеть мне моей и их беды».
И Иегова не оставил его. Что до питья, то на
пятый день, когда они шли по какому-то плоскогорью,
им попался источник, окруженный деревьями; впро-
чем, он значился и на той карте, которую носил
в голове Иошуа, и назывался «Источник Мерра».
Правда, из-за вредных примесей вода была отвра-
тительна на вкус, и это вызвало горькое разочарова-
ние, и ропот широко прокатился по толпе путников.
340
Но Моисей —нужда сделала его.изобретательным —
поставил какое-то подобие фильтра, который задер-
живал дурные примеси — если не целиком, то, во
всяком случае, значительную их часть; так он сотво-
рил чудо при источнике, которое превратило вопли
ярости в восторженные клики и сильно подкрепило
его авторитет. Слова «который вывел нас из Египта»
сразу же вновь приобрели розовый оттенок.
Что касается пищи, то и здесь тоже свершилось
чудо, которое сначала встретили с изумлением и
восторгом. Оказалось, что пустыня Фа ран на боль-
шом протяжении покрыта съедобным лишайником —
манной, сладковатыми на вкус маленькими катыш-
ками, с виду похожими на кориандровое семя или
на бделий; он очень быстро портился и начинал
гнить, если его не ели сразу же, как соберут, зато,
истолченный, растертый и выпеченный в золе напо-
добие хлеба, был, на худой конец, вполне сносной
пищей и вкусом даже напоминал лепешку с медом,
по мнению одних, а по мнению других — жмыхи.
Таково было первое, благоприятное впечатление,
но оно удержалось ненадолго. Уже через несколько
дней люди насытились манной и устали от нее: боль-
ше есть было нечего, и она очень скоро опротивела
им и застревала у них в глотке, и они жаловались:
— В Египте мы даром ели рыбу, и дыни, и бобы,
и лук, и репчатый лук, и чеснок. А теперь наша душа
изнывает, нет ничего, только манна в глазах наших.
С болью слышал Моисей эти речи и, конечно, все
тот же вопрос: «Зачем ты сманил нас из Египта?!»
И он вопрошал Бога: «Что мне делать с этим наро-
дом? Они больше не хотят манны. Смотри, еще не-
много— и они побьют меня камнями».
XI
Впрочем, от побиения камнями его надежно обере-
гал Иошуа и вооруженный отряд, который юноша на-
брал еще в Гошене; они обступили своего освободителя
кольцом, едва лишь угрожающий ропот поднялся
341
среди темного люда. Это был маленький отряд, со-
стоявший пока только из юных воинов, с Халевом
в качестве поручика во главе, но Иошуа ждал лишь
удобного случая, чтобы, выказав достоинства полко-
водца и передового бойца, принять под свою команду
всех способных носить оружие — три тысячи мужчин,
от первого до последнего. И он знал, что удобный
случай не замедлит представиться.
Моисей многим был обязан юноше, которого на-
рек именем божиим; не будь его, все бы уже не раз
могло пойти прахом. Сам Моисей был человеком духа,
и его мужественность, при всей своей силе и крепо-
сти, с широкими и толстыми, словно у каменотеса,
запястьями, была духовной, обращенною внутрь,
взнузданною Богом и им же неукротимо раздувае-
мою мужественностью, чуждой осязаемым вещам и
пекущейся лишь о святом и богоугодном. С каким-то
безрассудством, странно противоречившим той глубо-
кой задумчивости, погружаясь в которую он прикры-
вал рукою рот и бороду, все его мысли и устремления
сосредоточены были на том, чтобы остаться наедине
с кровью своего отца и придать ей новую форму,
чтобы никто и ничто не мешало ему изваять из не
ведающей святости массы, которую он любил, святое
подобие Бога. Опасности свободы, тяготы пустыни,
вопрос, как провести через нее весь этот темный
сброд целым и невредимым, больше того — куда
именно он их ведет, заботили его мало или вовсе не
заботили, к повседневному водительству он никак не
был подготовлен. И он мог лишь радоваться, что ря-
дом с ним был Иошуа, который, превыше всего чтя
в Моисее эту духовную мужественность, предостав-
лял в полное его распоряжение свою мужествен-
ность — юношескую, прямолинейную, направленную
вовне.
Лишь благодаря ему они не заблудились, не сги-
нули в этих диких местах, но передвигались целена-
правленно и разумно. Он намечал по звездам направ-
ление, он определял дневные переходы с таким расче-
том, чтобы всегда быть на недалеком, конечно, только
сравнительно недалеком, расстоянии от воды. И что
342
круглые лишайники съедобны, тоже открыл он.
Одним словом, он неустанно заботился об авторитете
вождя и о том, чтобы слова «который вывел нас из
Египта», если вдруг они превращались в злобный ро-
пот, снова звучали похвалой. В голове у него была
ясно намеченная цель, и, в согласии с Моисеем, он
вел к ней, по звездам, кратчайшим путем. Оба они
сходились на том, что первой их целью должно
быть хотя и временное, но надежное пристанище —
место, где можно жить, где они могли бы провести
какой-то срок, мало того — длительный срок: с одной
стороны, — по мысли Иошуа,—для того, чтобы на-
род умножился и дал возмужавшему своему полко-
водцу больше способных носить оружие мужчин,
с другой, — по мысли Моисея, — для того, чтобы он,
Моисей, из подлого сброда создал Бога, высек из него
нечто святое и благоприличное, посвященное Незри-
мому, чистое творение, — по этой работе тосковали
его душа и могучие руки.
Целью их был оазис Кадеш. Подобно тому как
пустыня Сур переходит в пустыню Фаран, так эта
последняя переходит на юге в пустыню Син, но не
на всем своем протяжении и не сразу. Ибо где-то
между ними лежит оазис Кадеш — благодатная рав-
нина, зеленая услада среди безводья — с тремя боль-
шими источниками и несколькими поменьше, дли-
ною в день пути и шириною в полдня, с пашнями и
сочными лугами, завидная местность, изобилующая
зверем и плодами земными, достаточно обширная для
того, чтобы приютить и прокормить столько людей,
сколько насчитывали еврейские колена.
Иошуа знал, что этот лакомый кусок земли зна-
чится самым лучшим на карте, которую он держал
в голове. Моисей тоже знал об этом, но двинуться
туда, избрать своей целью Кадеш надумал Иошуа.
Случай, которого он давно ждал, должен был пред-
ставиться ему там. Такая жемчужина, как Кадеш,
не была, разумеется, без хозяина. Она была в креп-
ких руках, но все же — не слишком крепких, надеялся
Иошуа. Желавший взять ее должен был сразиться
с тем, кто взял ее раньше; и это был Амалик.
343
Часть племени амаликитян владела Кадешом и
не собиралась уступать его без боя. Иошуа объяснил
Моисею, что должна быть война, должна быть битва
между Иеговой и Амаликом, и вечная вражда возник-
нет между ними и пойдет из рода в род. Оазис нужно
взять, и да станет он местом приумножения племени,
а равно и освящения.
Моисей был не на шутку озадачен. Нельзя желать
дома ближнего своего — таково было одно из тайно-
сплетений незримости Бога, и он известил об этом
юношу. Но тот ответил: Кадеш — не дом Амалика.
Он, Иошуа, сведущ не только в местностях, но и в со-
бытиях прошлого, и он знает, что раньше, — правда,
когда точно, он сказать не может, — в Кадеше жили
евреи, близкие родичи, потомки их отцов, но амалики-
тяне изгнали их и рассеяли. Кадеш — это добыча,
а добычу не возбраняется добывать силою.
Моисей не был в этом уверен, но у него были свои
основания полагать, что Кадеш — в самом деле земля
Иеговы и принадлежит тем, кто заключил с Иеговою
завет. Не за одну лишь свою прелесть, не по причине
изобилия природы звался он «Кадеш», что означает
«Святилище», — он был святилищем мидеанитского
Иеговы, в котором Моисей узнал Бога отцов своих.
Неподалеку оттуда, к востоку, ближе к Эдому, лежала
в цепи других гор гора Хорив, к которой Моисей при-
ходил из Мндеана и где открылся ему Бог в пылаю-
щем кусте. Гора Хорив была престолом Иеговы, по
крайней мере — одним из престолов. Моисей знал:
его исконным престолом была гора Синай в глубине
горных хребтов юга. Но между Синаем и Хоривом — «
местом, где Моисей получил свой наказ, — существо-
вала тесная связь хотя бы в том, что Иегова воссе-
дал на обеих вершинах; их можно было приравнять
одну к другой, с известной натяжкой можно было
и Хорив называть Синаем, а стало быть, Кадеш был
наречен так, как его нарекли, потому, что лежал
у подножья Святой горы.
И Моисей согласился с планом Иошуа и разрешил
ему готовить поход Иеговы на Амалика.
344
XII
Битва состоялась, это исторический факт. Очень
тяжелая битва, она шла с переменным успехом, но
в конце концов победителем остался Израиль. Имя
«Израиль», которое означает «Бог воительствует»,
Моисей дал своему народу перед битвой, дабы укре-
пить его мужество, объяснив, что это старинное, но
забытое имя: его заслужил еще Иаков, их праотец, и
нарек им весь свой род. Для выходцев из Египта оно
оказалось настоящим благословением: разрозненные
колена объединились, все они звались теперь Израиль
и сражались под этим грозным именем в одних ря-
дах, а в битву их вел юный полководец Иошуа со
своим поручиком Халевом.
Амаликитяне не сомневались в том, что означает
нашествие кочевников: такие нашествия всегда озна-
чают только одно. Не ожидая нападения на оазис, они
густыми толпами повалили в пустыню, более много-
численные, чем Израиль, и лучше вооруженные, и,
высоко вздымая облако пыли, с воодушевлением и
воинственными кликами ринулись в бой; силы были
неравны еще и потому, что люди Иошуа страдали
от жажды и уже много дней не ели ничего, кроме
манны. Но зато у них был Иошуа — юноша, кото-
рый зорко смотрел вперед и направлял каждое их
движение, и у них был Моисей—муж божий.
В самом начале свалки Моисей со своим назва-
ным братом Аароном и Мариам, пророчицей, взошел
на холм, с которого видно было поле сражения. Его
мужественность не годилась для войны, и все без ко-
лебания согласились с ним, что его дело—дело
священника, и никаких иных обязанностей он не мо-
жет и не должен нести; и вот, воздевши руки, он
взывал к Богу в пламенных речах: «Восстань, Иегова,
бог мириад и тысяч израилевы^, — и рассеются враги
твои, и побегут ненавидящие тебя пред лицом твоим!»
Они не побежали, и они не рассеялись, вернее —
и рассеивались и бежали, но лишь на отдельных уча-
стках и на самое короткое время; ибо, хотя жажда
и отвращение к манне довели Израиль до неистовства,
345
мириад Амалика было больше, и после короткого за-
мешательства они снова оттесняли противника назад,
оказываясь иной раз в угрожающей близости к наблю-
дательному холму. И тут обнаружился один неоспори-
мый факт: пока Моисей, в молитве, воздевал к небу
руки, одолевал Израиль, когда же он опускал руки,
одолевал Амалик. Но так как руки его отяжелели и он
не мог сам все время держать их подъятыми, Аарон и
Мариам встали один справа, а другая слева и поддер-
живали его руки. А чего это стоило Моисею, следует
судить по тому, что битва длилась с утра до вечера, и
все это время ему нельзя было опускать рук. Легко
себе представить, как трудно приходилось этой духов-
ной мужественности на вершине холма, — вероятно,
еще труднее, нежели тем, кто рубился у подножья.
Но обойтись вовсе без перерывов в течение целого
дня не удалось: помощники изредка на какое-то мгно-
вение отпускали руки учителя, и всякий раз это сто-
ило бойцам Иеговы немалой крови и немалых стес-
нений. Тут Аарон и Мариам снова подхватывали его
руки, и, видя это, новое мужество обретал Израиль.
С другой стороны, и полководческое дарование Иошуа
привело битву к счастливому исходу. Юный воитель
был прозорлив и хитроумен, он придумал совершенно
необычайный маневр, о котором до тех пор никто не
слышал, по крайней мере в пустыне; к тому же это
был полководец с крепкими нервами, умевший смо-
треть спокойно на временную потерю позиций. Сосре-
доточив своих лучших, отборных бойцов, ангелов-
губителей, на левом фланге, он нанес сокрушитель-
ный удар и погнал врага, одержав победу на этом
участке, меж тем как главные силы Амалика, имея
значительное преимущество над рядами »Израиля,
в стремительной атаке отбросили их далеко назад.
Однако благодаря фланговому прорыву Иошуа зашел
Амалику в тыл, и тот принужден был обратиться
против него, не прекращая борьбы с главными си-
лами Израиля, уже почти разбитыми, но теперь при-
ободрившимися и вновь перешедшими в наступление.
Верх взяло безрассудство; потеряв всякую надежду,
амаликитяне кричали:
346
— Измена! Все пропало! Какая тут может быть
победа! Ведь на нас пошел Иегова, бог величайшего
коварства!
И с этим возгласом отчаяния Амалик выпустил
из руки меч и был низложен.
Лишь немногим удалось бежать на север и соеди-
ниться с главною ветвью своего племени. А Израиль
занял оазис Кадеш, и оказалось, что его пересекает
широкий, говорливый ручей, что весь он зарос плодо-
выми деревьями и ягодными кустами, изобилует пче-
лами, певчими птицами, перепелами и зайцами. Дети
Амалика, оставшиеся в шатрах, умножили молодое
поколение Израиля. Жены Амалика стали женами и
девами Израиля.
XIII
Моисей был счастлив, хотя руки у него еще долго
болели. Правда, заботы и впредь будут удручать его
больше, чем любого другого человека на свете, — мы
в этом убедимся. Но пока он был счастлив, видя, как
удачно все складывается. Исход свершился. Кара-
тельные силы фараона нашли гибель в Тростниковом
море, путешествие по пустыне благополучно закон-
чено, битва при Кадеше выиграна с помощью Иеговы.
Во всем своем величии стоял он теперь перед племе-
нем своего отца, «Моисей, этот человек, который вы-
вел нас из Египта», и это было то, в чем он нуждался,
дабы приступить к делу — к очищению и созданию
образа в духе Незримого, к сверлению, к оббивке и
исканию формы во плоти и крови, — к делу, по кото-
рому он томился. Он был счастлив, что остался нако-
нец один на один с этой плотью в оазисе, именовав-
шемся «Святилище». Кадеш стал его мастерской.
Он показал народу гору, видневшуюся среди дру-
гих гор к востоку от Кадеша, за песками пустыни, —
Хорив, который можно было называть еще и Синай,
заросший на две трети кустарником, а выше нагой —
престол Иеговы. Что это так, казалось вполне правдо-
подобным, ибо то была особенная гора, отличавшаяся
от всех своих соседей некиим облаком, всегда
347
неподвижно лежавшим на ее вершине, словно крыша;
днем оно было серое, а ночью будто светилось. Там,
как слышали люди, на косматом склоне горы, у ска-
листой вершины, Иегова воззвал к Моисею из пылаю-
щего тернового куста и наказывал ему вывести их из
Египта. Они слушали со страхом и дрожью, которые
еще не сменилисв у них благоговейным трепетом.
В самом деле, у всех до одного, не исключая и боро-
датых мужей, всякий раз подкашивались колени,
когда Моисей показывал *им на гору с облаком и
объяснял, что там сидит Бог, который их возлюбил и
пожелал быть их единственным богом; и Моисей, по-
трясая кулаками, бранил их за эту робость и, ста-
раясь, чтобы они держали себя с Иеговой смелее и
проще, устроил ему жилище среди их жилищ, прямо
тут же в Кадете.
Ибо Иегове свойственна была подвижная множе-
ственность присутствия — это было одним из след-
ствий его незримости. Он сидел на Синае, он сидел
на Хориве, а теперь, едва только они расположились
в Кадете, в станах амаликитян, как Моисей и здесь
воздвиг ему дом — шатер поблизости от своего шатра,
и назвал его шатром собрания или скинией завета, и
расставил в нем священные предметы, служившие
для почитания Безобразного. В основном это были
вещи, которые Моисей, по памяти, заимствовал из
культа мидеанитского Иеговы: во-первых, своего рода
ларь с шестами для переноски, на котором, по свиде-
тельству Моисея (а кому как не ему было это знать?),
незримо восседало божество и который нужно было
брать с собою в ратное поле и нести впереди воин-
ских рядов, если, к примеру, приблизится Амалик и
будет пытаться отомстить Израилю за свое пораже-
ние. Рядом с ларем лежал медный жезл со змеиной
головой (его называли f «Медный змий») — память
о безобидном фокусе Аарона; одновременно он дол-
жен был изображать тот жезл, который Моисей про-
стер над Тростниковым морем, дабы оно расступи-
лось. Но особенно бережно хранился в шатре Иеговы
так называемый ефод — сума, из которой появлялся
на свет священный жребий «урим и туммим», озна-
348
чавший «да» или «нет», «справедливость» или «не-
справедливость», «добро» или «зло», когда, в случае
особенно трудной тяжбы, неразрешимой человече-
ским умом, необходимо было обратиться прямо
к суду Иеговы.
Впрочем, по большей части всевозможные тяжбы
и споры судил вместо Иеговы сам Моисей. Больше
того—первым делом он устроил в Кадете место су-
дилища, где по определенным дням разбирал тяжбы
и вершил правосудие; там, где бил самый большой
источник, который уже нарекли «Ме-Мерива», что
означает «Вода лека», — вершил Моисей правосудие,
и свято струилось оно, как бьющая из земли вода.
Но если вспомнить, что в оазисе было двенадцать
с половиной тысяч душ, которые подчинялись своим
собственным представлениям о праве, можно понять,
сколько тревог и забот выпадало на долю этого чело-
века. И тем больше ищущих своего права устремля-
лось постоянно к судилищу при источнике, что для
заброшенного и потерянного племени право было
чем-то совсем новым, до сих пор они и не подозре-
вали, что оно вообще существует; лишь здесь они
узнали, что, во-первых, право неразрывно связано
с незримостью Бога и его святостью и стоит на
страже таковых, а во-вторых, что оно обнимает со-
бою и неправоту, чего темный люд долгое время не
мог постигнуть. Им казалось: где струится правосу-
дие, там каждый должен быть правым, и сначала они
не хотели верить, будто в иных случаях правосудие
состоит в том, что человека, который ищет своего
права, признают »неправым и он должен уйти ни
с чем. Такой человек начинал раскаиваться, что не
решил дела со своим супостатом по старинке, за-
жавши в кулаке камень, — тогда, может быть, оно
приняло бы другой оборот, — и лишь с большим тру-
дом усваивал он слова Моисея, что это было бы
противно незримости Бога и что не с пустыми руками
уходит тот, кого признают неправым правосудия
ради: ибо право и справедливость неизменно пре-
красны и полны достоинства в святой своей незри-
349
мости, независимо от того, был ли ты признан пра«*/
вым или неправым.
Итак, Моисей должен был не только вершить
правосудие, но и учить справедливости, и был обре-
менен заботами. Сам он когда-то, в фиванском за-
крытом учебном заведении, изучал право—египет-
ские свитки законов и кодекс Хаммурапи, царившего
на Евфрате. Это помогало ему выносить решение во
многих случаях, например: если вол до смерти забо-
дает мужчину или женщину, то вола побить камнями
и мяса его не есть, а хозяин вола не виноват, но если
вол бодлив был и прежде, а хозяин, зная об этом,
плохо его стерег, пусть поплатится собственной
жизнью — разве что сможет дать выкуп за нее, три-
дцать сиклей серебра. Или: если кто раскроет яму и
не покроет ее как следует, и упадет в нее вол или
осел, то хозяин ямы должен возместить ущерб день-
гами, а труп остается ему. И что бы еще ни
случилось — будь то телесное повреждение, или же-
стокое обращение с рабом, или воровство, или взлом,
или потрава, или поджог, или злоупотребление дове-
рием, — во всех этих случаях и в сотнях других Мои-
сей произносил решение, следуя законам Хаммурапи,
осуждал и оправдывал. Но для одного судьи дел
было слишком много, судилище у источника было
всегда переполнено, и если Моисей расследовал каж-
дый случай мало-мальски добросовестно, он не
справлялся, многое приходилось откладывать. Меж
тем новые дела все прибывали, и не было на свете
человека, которого заботы обременяли бы сильнее.
XIV
Вот почему для него было большим счастьем,;
что прибыл в Кадеш из Мидеана его шурин Иофор,
подавший ему добрую мысль, до которой он сам, при
своем добросовестном самовластии, никогда бы
не додумался. Сразу же после захвата оазиса Моисей
послал весть шурину в Мидеан и просил отпустить
с миром его жену Сепфору и обоих сыновей, которых
350
он поселил у него в шатре во время египетских при-
теснений. Но Иофор любезно явился сам, чтобы
лично передать Моисею из рук в руки жену и сыно-
вей, обнять его, осмотреться и услышать из собствен-
ных уст зятя, как все произошло.
Это был грузный шейх с ясными глазами и плав-
ными, ловкими движениями, человек светский, вла-
ститель цивилизованного, просвещенного народа.
Торжественно встреченный, он остановился у Моисея,
в его жилище, и тут не без удивления узнал, что один
из их богов, и к тому же — безобразный, оказал
такие невиданные милости Моисею и его людям и
спас их от рук египтян.
— Кто бы мог подумать! — воскликнул он. — По-
видимому, он сильнее, чем мы полагали, и я начинаю
опасаться, что до сих пор мы обращались с ним черес-
чур небрежно. Я позабочусь о том, чтобы и у нас он
был в большей чести.
На следующий день были назначены торжествен-
ные всесожжения Господу. Моисей устраивал их
редко; он не придавал слишком большого значения
жертвам: они-де мало что значат для Незримого, ибо
жертвы приносят все народы и языки. Иегова же го-
ворит: «Прежде всего слушайтесь голоса моего, то
есть — голоса раба моего Моисея, и тогда я буду ва-
шим богом, а вы — моим народом». Но на этот раз он
заклал мирные жертвы и принес всесожжения — во
славу и для услады ноздрей Иеговы, но также и для
того, чтобы отпраздновать прибытие Иофора. А еще
через день, рано поутру, Моисей взял своего шурина
к «Воде иска», чтобы тот побывал в судилище и уви-
дел, как он судит народ. Народ стоял вокруг него
с утра до вечера, но конца делам не было видно.
— Ну, а теперь, дорогой зять, — спросил гость,
когда вдвоем они возвращались назад, — объясни
мне, пожалуйста, что это за казнь ты для себя при-
думал? Ты один сидишь,— а весь народ стоит вокруг
тебя с утра до вечера! Для чего ты это делаешь?
— Это мой долг, — отвечал Моисей. — Народ при-
ходит ко мне, чтобы я рассудил человека с его ближ-
ним и научил их справедливости и законам господним*
351
— Но, милый мой, можно ли быть таким нелов-
ким!— возразил Иофор. — Разве так управляют и
разве должен государь так себя изнурять, все делая
единолично?! Ты до того устаешь, что смотреть
жалко: сам на себя непохож становишься, и голос
у тебя пропадает от бесконечных приговоров.
К тому же и народ устает не меньше. Так ничего не
выйдет, долго ты не сможешь судить все дела один.
Да это и ни к чему! Доверься моему слову: будь для
народа посредником перед Богом и представляй ему
на рассмотрение важные вопросы, которые касаются
всех,— этого вполне достаточно. Пригляди, — про-
должал он с ленивым движением, — пригляди людей
честных и мало-мальски уважаемых и поставь их над
народом — над тысячами, сотнями, полусотнями и
десятками поставь их, чтобы они судили народ по
праву и по законам, которые ты ему дашь. О всяком
важном деле пусть доносят тебе, а с делами по-
меньше пусть сами справляются — тебе вовсе незачем
о них знать. У меня бы не было такого брюшка и я не
сумел бы выбрать время и приехать к тебе, если бы
считал, что должен знать обо всем, и обременял бы
себя так, как это делаешь ты.
— Но судьи станут принимать дары, — мрачно от-
вечал Моисей, — и грешники окажутся оправданными.
Ибо дары ослепляют зрячих и извращают дела правых.
— Я и сам это знаю, — заметил Иофор. — Знаю
очень хорошо. Но приходится кое-чем поступаться,
если в целом правосудие отправляется как должно
и поддерживаются устав и закон; а что дары
в какой-то мере его нарушают и осложняют — не так
уж существенно. Вдумайся: дары принимают обыкно-
венные, заурядные люди, но ведь народ тоже состоит
из обыкновенных, заурядных людей и потому питает
пристрастие к заурядному, а стало быть, заурядное
придется ему, в общем, по сердцу. К тому же, если
дело какого-нибудь одного человека извратит приняв-
ший дар от грешника судья над десятком, пусть
человек этот действует установленным образом и
поднимается по ступеням правосудия: пусть призовет
судью над полусотней, над сотней, а затем и судью
352
над тысячей, который получает дары чаще и больше
всех и потому смотрит на вещи шире и свободней,—
у этого судьи он найдет наконец правосудие, если
к тому времени ему еще не надоест его искать.
Так говорил Иофор, сопровождая речь свою плав-
ными жестами, которые для всех вокруг делали
жизнь проще и легче и ясно свидетельствовали
о том, что шурин Моисея — жрец и царь развитого
народа пустыни. Мрачно слушал его Моисей и кивал
головой. У него была податливая натура одинокого
мыслителя, который задумчиво поддакивает житей-
ской мудрости, сознавая ее относительную правоту.
Он и в самом деле последовал совету находчивого
шурина — это было совершенно необходимо. Он на-
значил судей, непричастных жречеству, и правосудие
заструилось подле большого источника и подле ма-
лых; следуя его наставлениям, они разбирали неслож-
ные, повседневные дела (например, об осле, упавшем
в яму), и только особо важные дела поступали
к нему, служителю Бога, а самые важные из них ре-
шались священным жребием.
Теперь он больше не был занят сверх меры, и
у него освободились руки для дальнейшей работы,
каковую он задумал сотворить, трудясь над бесфор-
менным телом народа, и для коей Иошуа, юноша-
полководец, добыл ему мастерскую — оазис Кадет.
Несомненно, правосудие было важным примером
таиносплетении незримости, но всего лишь одним
примером, и надобен был еще огромный, длительный,
в гневе и терпении вершимый труд, чтобы из непокор-
ного сброда сотворить народ — и не просто такой,
как все другие, которым по сердцу заурядное, но не-
обычный в своей незаурядности и чистоте образ, воз-
двигнутый для Незримого и ему посвященный.
XV
Племя скоро почувствовало, что значит попасть
в руки такого гневно-терпеливого мастера, как Мои-
сей, несущего ответственность перед Господом, и
23 Т. Маян, т. 8
353
сообразило, что противоестественное Моисеево наста*
вление — ни единым криком радости не радоваться
гибели врага в пучине моря — было лишь началом,
но началом многообещающим, заходящим далеко
в глубь области чистоты и святости, началом, уже
несущим в себе множество предварительных условий,
которые должны были исполниться для того, чтобы
человек не воспринимал более подобное требование
как нечто совершенно противоестественное. Как это
все происходило в гуще темной толпы, и сколь гру-
бым была она сырьем — сырьем из плоти и крови, не
ведающим простейших понятий чистоты и святости, —
и как Моисей с самого начала втолковывал ей основы
основ явствует из скупых предписаний, с которыми
он приступил к делу, обламывая и долбя свой мате-
риал — отнюдь не к удовольствию последнего: неоте-
санный чурбан не бывает на стороне мастера, он
всегда против него, и как раз основы основ, придаю-
щие первую, самую приблизительную форму, кажутся
ему особенно противоестественными.
Моисей был всегда среди них — то там, то здесь,
то в одном, то в другом стане — со своими колючими
глазами и проломленным носом, он потрясал кула-
ками на широких запястьях и порицал, критиковал,
переворачивал и устраивал заново их бытие, поносил,
исправлял и очищал, причем пробным камнем у него
всегда была незримость Бога, Иеговы, который вывел
их' из Египта, дабы сделать своим народом, и хотел,
чтобы они были святы, как свят он, Незримый. Но
пока они были всего лишь подлым сбродом, не более,
о чем свидетельствовало хотя бы то, что они опорож-
няли желудок прямо в стане, где случится. Это был
срам, и это была зараза. Пусть будет у тебя особое
место за станом; туда и выходи за нуждой, ты понял
меня? И пусть будет у тебя лопатка, ею ты выроешь
ямку, прежде чем сесть; а когда поднимешься — за-
сыпь эту ямку, ибо Господь, Бог твой, ходит по твоему
стану, и потому да будет он святым станом, а это зна-
чит — опрятным, чтобы Бог не зажимал носа и не от«
ворачивался от тебя. Ибо святость начинается с оп-
рятности, и эта чистота, грубо говоря, есть грубая
354
основа всяческой чистоты. Ты постиг это, Ахиман, и
ты, женщина Ноэми? В следующий раз я хочу видеть
у каждого лопатку, а если не увижу —да придет на
вас Ангел-губитель!
Будь опрятен и часто омывайся проточной водой
здоровья ради; ибо без здоровья нет чистоты и свя-
тости; болезнь нечиста. А если ты полагаешь, что под-
лость здоровее, нежели опрятный обычай, то ты —
слабоумный, и тебя поразят желтуха, волчье мясо и
шишки египетские! Если ты не приучишь себя к оп-
рятности, то появится черная злая оспа, и зародыши
мора станут переходить от одного к другому. Учись
различать меж чистотой и нечистотой, иначе не оправ-
даешься пред Незримым, подлым сбродом ты будешь
в глазах его. А потому, если у мужчины или жен-
щины откроется едкая проказа и дурное истечение из
тела, парша или чесотка, пусть объявят их нечистыми
и вышлют за стан, обособив в нечистоте, подобно
тому как Господь обособил вас, чтобы вы были
чисты. И все, к чему такой человек прикасался и на
чем он лежал, и седло, на котором сидел он, сожгите
на огне. Если же вне стана, в особом месте, сделается
он чист, пусть отсчитает семь дней, дабы проверить,
действительно ли он чист, и омоется с ног до головы
водою, после чего может возвратиться.
Различай, говорю тебе, и будешь свят перед Бо-
гом, иначе ты не достигнешь святости, которую я хочу
в тебе видеть. Ты ешь все подряд, без разбора и освя-
щения, а это мерзость в глазах моих. Впредь одно
ешь, другого не ешь, тем гордись, а того отвращайся.
Ты можешь есть всякий скот, у которого раздвоены
копыта и который жует жвачку, а те, что жуют
жвачку, копыта же их не раздвоены, как, например,
верблюд, нечисты они для вас, их не ешьте. Заметь
себе: хороший верблюд, как живая тварь божия,
чист, но в пищу он не годится, точь-в-точь как свинья;
ее тоже не ешьте, ибо хотя копыта у нее и раздвоены,
но жвачку она не жует. Итак — различайте! Всех,
у кого есть плавники и чешуя в водах, ешьте, но тех,
что кишат в водах без плавников и чешуи, сала-
мандру с породою ее, — хоть и они от Бога, ^- бой-
23*
35Ö
тесь употреблять в пищу. А из птиц гнушайтесь орла,
грифа, морского орла, коршуна и подобных им.
И еще: всякого ворона, страуса, совы, кукушки, фи-
лина, лебедя, сыча, нетопыря, выпи, аиста, цапли и
сойки, а также ласточки. Я забыл удода — от него
тоже держитесь подальше. Кто станет есть ласку,
мышь, жабу или ежа? Кто настолько подл, чтобы по-
жирать ящерицу, крота и медянку или еще кого из
тех, что пресмыкаются по земле и ползают на чреве
своем? Если я еще раз увижу, как ты ешь медянку,
я расправлюсь с тобой так, что уже никогда больше
этого не сделаешь. Правда, от медянки не умирают
и для здоровья она не опасна, но это гнусность, а для
вас —гнусность стократ! И падаль не ешь — этой
гнусно и вредно.
Так он давал им предписания касательно еды и
устанавливал ограничения в пище, но не только
в пище. В похоти и любви он тоже их ограничил, ибо
и здесь все у них шло как попало, на самый что ни
есть подлый лад. Не прелюбодействуй, говорил он
им, потому что брак — святой устав. А ты понимаешь,
что это такое—«не прелюбодействуй»? Поелику
свят Бог, сие означает сотни стеснений, и не только
то, что не должно тебе возжелать жены ближнего
своего, — это из них наименьшее. Ибо хоть ты и жи-
вешь плотью, но принес клятву Незримому, а брак
есть самая суть плотской чистоты пред лицом Бога.
Потому, например, не бери себе жены вместо с ма-
терью ее — это не годится. И никогда, ни в коем слу-
чае не ложись с сестрою, дабы не видеть тебе ее
срама, а ей — твоего: кровосмешение это. Не ложись
с теткой твоей, это не достойно ни ее, ни тебя,
страшись этого. Если женщина больна, остерегайся
ее, не приближайся к ней в истечение крови ее.
А если с мужчиною случится во сне нечто постыдное,
нечист он будет до вечера и должен старательно
омыться водою.
Я слышал, ты склоняешь свою дочь к разврату и
берешь у нее деньги, что она получает за разврат?
Больше этого не делай, а если будешь упорствовать,
я велю побить тебя камнями. Как посмел ты возлечь
356
с мальчиком, словно с женщиною? Пустое это, мер-
зость языков земли, и оба должны быть преданы
смерти. И если кто смесится со скотиною, будь то
мужчина или женщина, тех должно истребить совер-
шенно — их должно удавить вместе со скотиной.
Легко себе представить, в какое замешательство
привели их все эти стеснения! В конце концов им на-
чало казаться, что, если каждому из них следовать
неукоснительно, от самой жизни почти ничего не
останется! С резцом ваятеля приступил он к ним, да
так, что обломки полетели, и это следует понимать
буквально, ибо кары, что он возлагал за самые злые
нарушения своих уставов, были отнюдь не шуткой:
позади его запретов стоял Иошуа со своими ангелами-
губителями.
— Я Господь, Бог ваш, — говорил он, рискуя тем,
что они и в самом деле станут считать его богом,—
который вывел вас из Египта и отличил вас меж
всеми народами. Посему и вы отличайте чистоту от
нечистоты и не ходите блудно в след языков земли,
но будьте святы предо мною. Ибо свят я, Господь, и
отличил вас, чтобы вы были моими. Нет нечистоты
хуже, как служить какому-нибудь богу, кроме меня,
ибо я зовусь Ревнитель. Нет нечистоты хуже, как де-
лать себе кумиры и изображения, — будь то изобра-
жение мужчины, или женщины, или вола, или
ястреба, или рыбы, или червя, — ибо тем самым ты
отпадаешь от меня, хотя бы меня самого представлял
кумир твой; это все равно что спать с сестрою или
смеситься со скотиной — то и другое лежит совсем
рядом. Остерегайся! Я среди вас и вижу все. Кто ста-
нет блудно ходить в след богов Египта — богов-зве-
рей или богов преисподней, — тому я воздам: про-
гоню его в пустыню и извергну как отбросы. Точно
так же поступлю я с тем, кто принесет жертву Мо-
лоху (вы еще не забыли его, я знаю): если кто истре-
бит силу свою в честь Молоха, — зло среди вас тот
человек, и зло расправлюсь я с ним. А потому не
сжигай в огне сына твоего или дочь по бессмыслен-
ному обычаю языков земли, не следи За полетом и
криком птиц, не шепчись с волшебниками, гадателями
357
и ворожеями, не вопрошай мертвых и не колдуй, при-
зывая имя мое. Если какой-нибудь негодяй, свиде-
тельствуя, клянется моим именем, посрамляет он имя
Бога своего, истреблю того человека. А еще колдов-
ство и мерзость языков земли — накалывать на себе
письмена, сбривать брови и делать на лице надрезы
в знак печали об умершем. Не потерплю и этого.
Как же велико было их замешательство! Им за-
прещалось даже делать траурные надрезы, им запре-
щалось делать татуировки. Теперь они поняли, что та-
кое незримость Бога! Да, великим стеснением оказался
завет с Иеговой. Но так как позади запретов Моисея
стоял Ангель-губитель, а им не хотелось, чтобы их
изгнали в пустыню, вскоре то, что он запрещал, стало
представляться им ужасным; вначале — лишь из
страха перед карой, но кара не замедлила отметить
печатью мерзости само деяние, и мерзко становилось
на душе у того, кто его совершил, хотя бы мысль
о каре больше его и не тревожила.
Держи сердце свое в узде, говорил он им, и не
обращай взоров на чужое достояние, ибо они легко
приведут тебя к тому, что ты его захватишь — либо
похитишь тайно (а это трусость), либо убьешь вла-
дельца (а это дикость). Но мы — Иегова и я,—*
мы не хотим видеть вас ни трусливыми, ни дикими,
будьте посредине меж тем и другим, я хочу сказать —«
будьте праведны. Понятно вам это? Кража — беда,
подбирающаяся втихомолку, но убийство, будь то из
ярости или из алчности, или из алчной ярости, или из
яростной алчности, — неслыханное, вопиющее злодея-
ние, и кто его совершит, против того обращу я лик
свой, и не найдет он места, где ему укрыться. Ибо он
пролил кровь, а кровь есть святыня и тайна великая,
приношение на мой алтарь, жертва очистительная.
Крови не ешьте, и мяса с кровью не ешьте — ибо это
мое. И если кто запятнан человеческой кровью,
пусть сердце его оледенеет от ужаса, и буду гнать его
дотоле, пока не побежит от самого себя, и так — до
скончания времен. Отвечайте — аминь!
И они ответили: «Аминь!» — еще в надежде на то,
что убийство означает лишь насильственное умерщ-
368
вление, которое желанно немногим и случается не-
часто. Но оказалось, что Бог придает этому слову
такой же широкий смысл, как прелюбодеянию, и по-
нимает под ним все, что угодно; выяснилось, что убий-
ство начинается чрезвычайно рано: если ты нанес
ущерб человеку обманом и надувательством (а они
желанны были каждому!), ты уже пролил его кровь.
Им запрещалось обманывать друг друга, лжесвиде-
тельствовать против кого бы то ни было, пользоваться
неверной мерой, неверным локтем, неверным фунтом.
Это было до крайности противоестественно, и если
что придавало завету и запрету хотя бы видимость
естественности, то это был поначалу лишь естествен-
ный страх перед карой.
Что человек должен чтить отца или мать, как того
требовал Моисей, тоже имело более широкий смысл,
чем можно было предположить с первого взгляда.
Кто поднял на родителя руку или проклял его, с тем
я расправлюсь без пощады. Но почтение должно
распространяться и на тех, кто лишь могли бы быть
твоими родителями. Пред лицом седого встань, сложи
руки и склони свою глупую голову, ты меня понял?
Таков порядок, установленный Богом. Единственным
утешением было то, что, коль скоро ближнему за-
прещено убивать ближнего, появлялась надежда
в свою очередь дожить до старости и седин, и тогда
уже другие будут вставать перед тобою.
Но в конце концов обнаружилось, что старость
есть подобие старины в целом, всего, что идет не от
нынешнего и не от вчерашнего дня, но издалека, на-
поминание об обычае предков, благочестиво передаю-
щемся из рода в род. Ему оказывай почтение и страх
божий. Итак, наблюдай праздники мои, день, в кото-
рый я вывел тебя из Египта, день неквашеного хлеба
и непреложно — день, в который я почил от трудов
творения. Субботу, день господень, рабочим потом не
оскверняй; я запрещаю тебе это! Ибо дланью креп-
кою и рукою простертою я вывел тебя из Египта, из
дома рабства, где ты был невольником, рабочим ско-
том, и пусть мой день будет днем твоей свободы, — ее
празднуй. Шесть дней будь хлебопашцем, плугарем,
359
гончаром, медником, столяром, но в мой день обла-
чись в одежды свои и будь только человеком, и взор
свой устреми к Незримому.
Ты был жалким рабом в земле Египетской —
помни об этом и не угнетай чужестранцев, например,
сыновей Амалика, которых Господь предал в твои
руки. Гляди на них так же, как на самого себя, и пре-
доставь им те же права, а иначе вмешаюсь я, ибо они
под защитою Иеговы. И вообще не делай дерзкого
различия между собой и другим: не думай, будто
лишь ты один воистину существуешь, а все кру-
гом зависит от тебя, и другой — только видимость.
Жизнь—ваше общее достояние, и это всего лишь
случайность, что ты — не он. А потому люби не од-
ного себя, люби и его, и поступай с ним так, как
ты бы хотел, чтобы поступал с тобой он, если бы он
был тобою. Будьте ласковы друг с другом, и целуйте
кончики пальцев при встрече, и учтиво кланяйтесь,
и приветствуйте друг друга: «Будь здоров и невре-
дим!» Ибо не менее важно, чтобы другой был здоров,
нежели чтобы здоров был ты. И хотя это только
внешняя учтивость, когда вы так говорите и целу-
ете кончики пальцев, но жест этот вкладывает вам
в душу толику того, что должно в ней быть по отно-
шению к ближним.
Отвечайте же — аминь!
И они ответили: «Аминь!»
XVI
Но это «аминь» мало что значило; они сказали
«амин! » лишь потому, что Моисей был человеком,
который благополучно вывел их из Египта, утопил
фараоновы колесницы и выиграл битву при Кадеше;
медленно, очень медленно (или так только казалось?)
внедрялось им в плоть и кровь то, чему он их учил
и что -возлагал на них — уставы, заветы и запреты,
и громаден был труд, взятый им на себя, — из темной
толпы воздвигнуть Господу святой народ, чистый
образ, что не рухнет пред очами Незримого. В поте
360
лица своего работал он в Кадете, своей мастерской,
и его широко расставленные глаза поспевали
повсюду; он рубил, высекал, искал форму и выглажи-
вал, трудясь над недовольным всем этим чурба-
ном с неуклонным терпением и удвоенной снисходи-
тельностью, с пламенным гневом и карающей неумо-
лимостью, и не раз он готов был пасть духом, видя,
какой строптивой, какой забывчиво-косной оказывала
себя эта плоть, из коей он творил подобие божие, как
люди не брали с собою лопатку, ели медянок, спали
со своими сестрами или блудили со скотиной, нака-
лывали письмена, сидели на земле рядом с гадате-
лями, крали потихоньку и убивали друг друга. «О под-
лый сброд! — говорил он им тогда. — Вот увидите,
Господь придет на вас и вас истребит!» А самому
Господу он говорил: «Что мне делать с этой плотью
и за что ты лишил меня своей милости, за что взвалил
мне на плечи бремя, какое не в силах я нести? Лучше
бы мне чистить хлев, семь лет не видевший воды и
заступа, и голыми руками обращать чащобу в плодо-
родную ниву, нежели здесь создавать для тебя чистый
образ. Ну гожусь ли я для того, чтобы нести этот
парод на руках своих, словно я произвел его на свет!
Я сродни ему лишь наполовину, с отцовской стороны,
и потому, прошу тебя, дай мне порадоваться жизниг
разреши меня от твоего наказа, а если не разрешишь,
так лучше убей!»
Но Бог отвечал ему из его собственной груди, и
голос Бога звучал так громко и отчетливо, что пал
Моисей на лицо свое:
— Как раз потому, что ты сродни им лишь на-
половину, со стороны того, зарытого в землю, ты,
а не кто иной, образуешь и воздвигнешь для меня
святой народ. Ибо стой ты в самой гуще и будь ты
доподлинно один из них, ты бы не видел их и не мог
бы наложить на них свою руку. Вдобавок твои сето-
вания и просьбы отставить тебя от дела — одно лишь
жеманство. Ведь ты отлично знаешь, что твои труды
уже пошли им впрок, ты успел уже разбудить в них
совесть, так что мерзко становится на душе у того,
кто делает мерзость. А потому не прикидывайся и не
361
старайся скрыть от меня великой любви, которую ты
питаешь к муке своей и к заботе! Это моя любовь,
любовь Бога, и без нее жизнь через каких-нибудь
несколько дней стала бы тебе поперек горла, словно
манна народу. И только если бы я убил тебя, только
тогда она была бы тебе уже не нужна.
Он сознавал это, мученик, и, лежа на лице своем,
соглашался с речами Иеговы, и снова поднялся на-
встречу муке своей и заботе. Но заботы удручали его
не только как ваятеля народа — забота и печаль за-
владели и семейной его жизнью: в ней возобладали
злоба, зависть и ссоры, и не было мира в его доме —
по его вине, ибо причиной неурядиц были его чув-
ства, возбужденные работой и обратившиеся на не-
гритянку, на пресловутую негритянку.
Известно, что, кроме жены Сепфоры, матери его
сыновей, он жил в то время с одной негритянкой,
женщиной из земли Куш; она попала в Египет еще
ребенком, жила среди рабов в Гошене и последовала
за ними в час исхода. Бесспорно, она познала уже не
одного мужчину, и все же Моисей взял ее себе в на-
ложницы. В своем роде она была великолепна —
бугры грудей, сверкающие белки глаз, толстые вы-
вороченные губы, целуя которые не знаешь, что ждет
тебя дальше, и хмелящая кожа. Моисей крепко к ней
привязался, ибо она приносила ему отдохновение, и
не в силах был расстаться с нею, хотя столкнулся
с враждою всего своего дома — не только жены-
мидеанитки и ее сыновей, но, в частности и в особен-
ности, с враждою названых сестры и брата, Мариам
и Аарона. И в самом деле, Сепфора, в которой было
много от светскости ее брата Иофора, как-то прими-
рялась с соперницей, прежде всего потому, что та
держала в тайне свои женские победы над нею и
оказывала ей покорность и почтение; она относилась
к негритянке скорее с насмешкой, чем с ненавистью,
а над самим Моисеем все больше подшучивала,
вместо того чтобы дать волю своей ревности. Что
касается сыновей, Гершона и Елеазара, которые при-
надлежали к конному отряду Иошуа, то чувство долга
и повиновения было в них слишком сильно, чтобы они
362
могли встать на Моисея мятежом, хоть люди и заме-
чали их досаду и стыд за отца.
Совсем по-иному обстояло дело с Мариам, проро-
чицей, и с Аароном, умилительноречивым. Их нена-
висть к наложнице-негритянке была куда злее, потому
что в той или иной мере она давала выход более
глубокой и более общей неприязни, которую они пи-
тали к Моисею: уже давно они начали завидовать его
близкому общению с Богом, мощи его духа, его
избранничеству, видя во всем этом (или почти во
всем) одно лишь высокомерие; ибо самих себя они
почитали людьми не менее, пожалуй, даже куда более
значительными, чем он, и говорили друг другу: «Разве
Господь вещает чрез одного Моисея? Разве не вещает
он и чрез нас тоже? Кто он такой, этот человек,
Моисей, чтобы так возноситься над нами?» Вот что
крылось под ударами, которыми они осыпали его
связь с негритянкой, и всякий раз, как они бранили
и упрекали брата, и заставляли его страдать, поминая
усладу его ночей, эти упреки были лишь отправною
точкой для дальнейших обвинений; и они не заставили
себя ждать — обвинения в обидах, которые чинит им
его величие.
Однажды, когда день угасал, они сидели в шатре
Моисея и настойчиво бубнили все о том же, о чем,
как я говорил, бубнили беспрестанно: негритянка и
опять негритянка, и что он прилепился к ее черным
грудям, и что это срам, позор для Сепфоры, его пер-
вой жены, и унижение для него самого, — ведь он
притязает быть владыкой милостью божией и един-
ственными устами Иеговы на земле.
— Притязаю? — переспросил он. — Чем Бог пове-
лел мне быть, то я и есмь. Но как это недостойно,
как гнусно с вашей стороны завидовать радости и
отдохновению, которые я нахожу на грудях моей не-
гритянки. Да и не грех это перед Господом и среди
всех запретов, которые он мне внушил, нет запрета,
возбраняющего спать с негритянкой. Я такого не
знаю.
— Ну, разумеется, — сказали они. — Ведь ты вы-
бираешь запреты по собственному вкусу и скоро,
363
наверно, так и заявишь, что спать с негритянками
нарочито заповедано, — ведь ты считаешь себя един-
ственными устами Иеговы. А между тем законные
дети — мы, Мариам и я, Аарон, прямые отпрыски
Амрама, потомка Леви, а ты в конце концов — всего
лишь найденыш. Так наберись же смирения, ибо
в том, как упорно ты цепляешься за свою негритянку,
оказывают себя только твое чванство и высокомерие.
— Кто может быть в ответе за свое призвание? —
возразил он. — И кто может быть в ответе за то, что
набрел на пылающий терновый куст? Мариам,
я всегда ценил твой пророческий дар и никогда не от-
, рицал, что ты бьешь в литавры, как...
— Почему же тогда ты запретил мне петь мой
гимн «Коня и всадника», — перебила она, — и не ве-
лел ходить с литаврами в хороводе впереди женщин,
уверяя, будто Бог выговаривал своему воинству за
то, что „оно радовалось гибели египтян? Это было
подло с твоей стороны!
— А тебя, Аарон, — продолжал теснимый ими
Моисей, — я назначил первосвященником при скинии
завета и дал тебе ковчег, ефод и медный жезл, чтобы
ты их хранил. Вот как я ценил тебя!
— Меньше и сделать было нельзя, — заметил
Аарон, — ибо без моего красноречия никогда бы ты
не приобрел этот народ для Иеговы и никогда твое
косноязычие не подвигло бы его на исход. А еще зо-
вешь себя человеком, который вывел нас из Египта!..
Если ты и в самом деле нас ценишь и не. превозно-
сишь себя над законными братом и сестрой, почему
ты тогда ожесточил свое сердце против всяких уве-
щаний и не желаешь прислушаться к нашим словам,
когда тебе говорят, что ты подвергаешь опасности
весь Израиль своим черным волокитством? Ведь
оно — горче желчи для Сепфоры, твоей жены-мидеа-
нитки, и ты оскорбляешь весь Мидеан, так что твой
шурин Иофор еще пойдет на нас войной. А все по ми-
лости твоей черной причуды.
— Иофор, — отвечал Моисей с великим самообла-
данием,— рассудительный, искушенный в делах
света владыка, и он, конечно, поймет, что Сепфора —
364
почтение имени ее! — уже не в силах принести необ-
ходимое отдохновение такому человеку, как я, удру-
чаемому заботами и обремененному тягостным нака-
зом. А кожа моей негритянки — словно корица и
гвоздичное масло в ноздрях моих, я прилепился
к ней всем моим сердцем, а потому прошу вас,
друзья, оставьте ее мне!
Нет, ни за что! С громкими криками они требо-
вали, чтобы он не только расстался с негритянкой,
не только прогнал ее со своего ложа, но и выслал
в пустыню без капли воды.
И тут вздулась у Моисея жила гнева, и яростно
затряслись его кулаки на руках, плотно прижатых
к бедрам. Но прежде чем он успел открыть рот и от-
ветить хоть слово, случилось совсем иное трясение —
вмешался Иегова, он обратил свое лицо против же-
стокосердых брата с сестрою и так заступился за
раба своего Моисея, что те не забыли этого до конца
жизни. Случилось нечто ужасное и доселе небыва-
лое.
XVII
Сотрясались основы. Земля колебалась, уходила
из-под ног, так что нельзя было удержаться на месте,
а стойки шатра зашатались как под ударами гигант-
ских кулаков. Твердь клонилась не на одну только
сторону, но каким-то странным, непостижимым обра-
зом — на все стороны сразу; это было ужасно, а вдо-
бавок под землею что-то рычало и выло, и сверху и
отовсюду слышался трубный звук, будто затрубили
в огромную трубу, доносился гром, гул, треск. Редко-
стное, необычное чувство, даже стыдно как-то стано-
вится: ты сам был готов вспыхнуть гневом, а Господь
-упредил тебя и вспыхнул гневом, несравненно силь-
нейшим, и вот потрясает целый мир, меж тем как ты
бы потрясал лишь собственными кулаками.
Моисей испугался и побледнел меньше остальных,
потому что во всякое время ждал встречи с Богом.
Вместе с Аароном и Мариам, насмерть перепуган-
ными и мертвенно-бледными, он выбежал из дома;
365
тут они увидели, что земля разинула свою пасть и
прямо перед шатром зияет широкая расселина, оче-
видно нацелившаяся на Мариам и Аарона, — лишь
на два, три локтя промахнулась она, иначе бы земля
их поглотила. И еще увидели: гора на востоке, за
песками пустыни, Хорив, или Синай... ах, что же это
случилось с Хоривом, что произошло с горой Си-
наем?! От подошвы до вершины она окуталась ды«
мом и пламенем и с глухим грохотом метала в небо
раскаленные обломки скал, а по склонам ее бежали
вниз огненные потоки. Черное облако над нею, в ко«
тором сверкали молнии, затмило звезды над пусты«
ней, и пепел медленным дождем начал падать на
оазис Кадеш.
Аарон и Мариам поверглись ниц: они застыли от
ужаса, увидев предназначавшуюся для них рассе-;
лину. Явление Иеговы на горе заставило их понять,
что они зашли слишком далеко и вели безумные
речи. Аарон воскликнул:
— Ах, господин мой, эта женщина, сестра моя
Мариам, несла отвратительный вздор! Но вонми моим
просьбам, и да не останется на ней грех ее, коим она
согрешила перед помазанником господним!
И Мариам тоже закричала, обращаясь к Мои-
сею:
— Господин, брат мой Аарон говорил так глупо,
что глупее уже и не скажешь! Прости ему, и да не
останется грех его на нем, дабы Господь не поглотил
его за то, что он так гнусно попрекал тебя твоей не<
гритянкой!
Моисей был не совсем уверен в том, что открове-
ние Иеговы обращено к бессердечным брату с сест-
рой; быть может, просто случилось так, что именно
теперь Господь решил призвать его к себе, дабы
поговорить о народе и о тяжком труде ваятеля,—
такого призыва он ждал с часу на час. Однако он не
стал их разубеждать и ответил:
— Вот видите! Впрочем, мужайтесь, дети Амрама,
я замолвлю за вас словечко перед Господом там, на
горе, куда он зовет меня. Теперь вы убедитесь и весь
народ убедится, растлило ли вашего брата черное
366
беспутство или дух божий живет в его сердце, как ни
в одном другом. Я взойду на эту огненную гору,
взойду к Богу совсем один, чтобы выслушать его мысли
и думы и бесстрашно, как равный с равным, беседо-
вать со Страшным, вдали от людей, но об их делах.
Ведь я уже давно знаю, что все, чему я учил людей,
дабы были они святы перед ним, Святым и Чистым,
Бог желает свести воедино; эти-то глаголы, вечные и
краткие, эти непререкаемые речения я и принесу вам
с его горы, а народ будет хранить их в скинии собра-
ния вместе с ковчегом, ефодом и медным жезлом.
Прощайте! Я могу и погибнуть в мятеже божиих сти-
хий, в пламени горы, — это вполне возможно, и с этим
нельзя не считаться. Но если я вернусь, из его гро-
мов я принесу вам глаголы, вечные и краткие — бо-
жий закон.
Да, таково было его твердое намерение, которое
он решил исполнить во что бы то ни стало. Ибо для
того, чтобы привести к божиему благообразию этот
темный сброд, упрямый и жестоковыйный, все время
сворачивающий на прежние пути свои, и заставить
его убояться заветов, он не видел более действенного
средства, нежели самому, в полном одиночестве, при-
близиться к ужасам Иеговы, взойти на его гору, из-
рыгающую пламя, и принести им оттуда непреклон-
ное повеление; тогда,—так думал Моисей, — они
подчинятся. И вот, когда они сбежались со всех сто-
рон к его шатру, едва держась на ногах от ужаса
при виде всех этих знамений, а также потому, что
раздирающие землю толчки повторились еще раз, и
в третий раз (хотя и с меньшей силой), он поставил
им в упрек обычную их трусость и велел приобод-
риться. Бог призывает его, объявил он, ради них, и
он поднимется на гору к Иегове, и если будет на то
воля Господа, вернется к ним не с пустыми руками.
А они пусть возвратятся в домы свои, и пусть все
как один готовятся к выступлению; пусть освящаются
и будут святы, и вымоют одежды свои, и не прика-
саются к женам своим, ибо завтра им должно высту-
пить из Кадеша в пустыню, и разбить стан против
горы, и там ждать его, пока он не вернется к ним со
367
страшного сретения, надо думать—не с пустыми
руками.
Так все и происходило, или, вернее, почти так.
Ибо Моисей, по своему обыкновению, думал лишь
о том, чтобы они вымыли свои одежды и не прика-
сались к женам. Но Иошуа бен Нун, юный полково-
дец, надумал еще кое-что, столь же необходимое для
того, чтобы снялся с места целый народ, и приказал
своим людям запастись водою и пищей для многих
тысяч, которые выйдут в пустыню. Он не забыл и
о службе связи между Кадешем и станом у горы:
особый отряд во главе с его поручиком Халевом
остался в Кадеше с теми, кто не мог или не хотел
тронуться в путь. Остальные же на третий' день,
когда все приготовления были закончены, с повоз-
ками и скотом для убоя двинулись к горе и, пройдя
полтора дневных перехода, остановились; там, в поч-
тительном отдалении от дымящегося престола Ие-
говы, Иошуа воздвиг ограду и строго-настрого, име-
нем Моисея,' запретил им подниматься на гору или
хотя бы приступать к ее подошве: одному лишь Учи-
телю дано право подходить к Богу так близко, к тому
же это опасно для жизни, а кто ступит на гору, того
должно побить камнями или застрелить из лука. Они
спокойно выслушали этот запрет: у подлого сброда
не было ни малейшего желания близко подходить
к Богу, и вид этой горы не манил и не притягивал
обыкновенного человека — ни днем, когда Иегова
стоял на ней, окутанный густым облаком, в котором
сверкали молнии, ни ночью, когда это облако пылало,
освещая своим пламенем всю вершину.
Иошуа был бесконечно горд богодухновенностью
своего господина, который в первый же день, пред
лицом всего народа, пустился в путь к горе — один,
пешком, с дорожным посохом в руке, захватив с со-
бою лишь глиняную флягу, два или три хлеба да не-
сколько инструментов: кирку, зубило, шпатель и ре-
зец. Юноша гордился Моисеем и радовался впечат-
лению, которое должно было произвести на толпу это
свГятое мужество. Но он и тревожился за того,
кого чтил столь высоко, и горячо умолял его не рн-
368
сковать, не подходить к Иегове вплотную и остере-
гаться горячих потоков лавы, сползающей но скло-
нам горы. Впрочем, добавил он, он будет время от
времени навещать его там, наверху, и позаботится
о том, чтобы Учитель не терпел нужды в этой бо-
жией глухомани.
XV11I
Итак, Моисей шагал по пустыне, опираясь на по-
сох, и его широко расставленные глаза были устрем-
лены на божию гору, которая дымилась, словно печь,
и то }\ дело извергала пламя. Гора была ни с чем не
схожа с виду: трещины и жилы опоясывали ее кру-
гом и словно делили на ярусы, или прясла, напоми-
ная собою бегущие вверх тропы, но то были не тропы,
а ступени какой-то гигантской желтой лестницы. На
третий день призванный Богом, перевалив через
холмы, окружавшие голое подножье горы, оказался
у самой подошвы и сразу же начал взбираться вверх;
стиснув в кулаке дорожный посох и крепко упираясь
им в землю, он поднимался без дорог и тропинок,
продираясь сквозь ошпаренный кипятком, почернев-
ший от копоти кустарник, час за часом, шаг за ша-
гом, все выше, все ближе к Богу, насколько хватало
человеческих сил, ибо мало-помалу сернистые испа-
рения расплавленных металлов, наполнявшие воздух,
стали перехватывать ему дыхание, он судорожно
кашлял и никак не мог откашляться. И все же он до-
брался до верхнего яруса, до террасы под самой вер-
шиной, откуда открывался широкий вид на голые, ди-
кие цепи гор, тянувшиеся справа и слева, и на пу-
стыню вплоть до Кадеша. И стан народа виднелся
вблизи, крохотный, глубоко внизу.
Здесь задыхающийся от кашля Моисей нашел пе-
щеру в отвесном склоне, ее выступавший вперед ка-
менный навес мог защитить его от падающих облом-
ков и жидкой лавы; в этой пещере он расположился,
чтобы после краткого отдыха приступить к работе,
возложенной на него Господом, которая в этих тяж-
ких условиях (испарения металлов тяжело давили
24 Т. Манн, т. 8
369
ему грудь и даже воде сообщали какой-то серный
привкус) не могла занять менее сорока дней и со-
рока ночей.
Но почему так много? Пустой вопрос! Глаголы,
вечные и краткие, непререкаемо связующий нрав-
ственный закон Бога должно было утвердить и запе«.
чатлеть в камне божией горы, дабы Моисей мог при-
нести его в стан у подножья, где ждал подлый сброд?
ненадежная, легкомысленная толпа — кровь его уби-
того отца, и воздвигнуть среди них на веки веков
этот отстой человеческого благоприличия, нерушимый,
запечатленный не только в камне, но и в их душах,
в их плоти и крови. Из глубины его собственной груди
Бог громко приказал ему вырубить из склона горы
две доски и начертать на них непреклонное господне
повеление — пять речений на одной и пять на дру-
гой доске, всего десять речений. Вырубить и выров-
нять доски, сделать их хоть сколько-нибудь достой-
ными носителями глаголов вечных и кратких было
делом немалым: для одного человека, пусть даже
вскормленного молоком дочери каменотеса и наде-
ленного могучими запястьями, то была работа, чрева-
тая многими неудачами и бесплодными попытками,
которая сама по себе потребовала десяти дней из
сорока. Но установление письменности было такой за-
дачей, которая легко могла бы увести далеко за со-
рок число дней, проведенных Моисеем на горе гос-
подней.
В самом деле, как должно было ему писать?
В фиванском училище он постиг нарядные пись-
мена-изображения египтян и их упрощенную скоро-
пись, и священную толчею треугольных клиньев с Ев-
фрата, с помощью которых владыки мира обменива-
лись св©ими мыслями, занесенными на глиняные че-
репки. У мидеанитов он узнал еще одно, третье вол-
шебство обозначений: смысл передавали глазки,
крестики, жуки, полукружья и всевозможные волни-
стые линии; эти начертания, имевшие хождение в Си-
нае, по-пустынному коряво воспроизводили египетские
картины, но обозначали они не целые слова и поня-
тия, а лишь части их, слоги, которые приходилось со-
370
бирать воедино. Ни один из этих трех способов ут-
верждения мысли не годился ему — уже по той про-
стой причине, что каждый был привязан к языку,
понятия которого он выражал, а Моисею было совер-
шенно ясно, что ни в коем случае нельзя предать
камню десятиглагольное повеление на языке вавило-
нян или египтян или на жаргоне синайских бедуинов.
Лишь на языке отцовской крови можно и должно
было сделать это, на том наречии, на котором они
говорили и которым он сам нравственно преображал
их, — не важно, смогут ли они прочитать повеление
божие или нет. Впрочем, конечно же нет: ведь неиз-
вестно еще, как это написать, и не существует ника-
кого волшебства обозначений для их речи.
Всей душою жаждал Моисей подобного вол-
шебства— такого волшебства, которое они сумели
бы уразуметь сразу, сейчас же, которое бы их дет-
ский разум усвоил за несколько дней, и стало быть,
такого, которое за те же несколько дней был бы
способен открыть и изобрести человек, одушевляе-
мый божьею близостью. Ибо нужно было изобрести
и открыть письменность, доселе не существую-
щую.
Какая неотступная и мучительно сложная за-
дача! Он не предвидел заранее всю ее сложность,
лишь одна мысль владела им: «Написать!» — но он
не подумал о том, что невозможно просто так, безо
всякого, взять да и написать. Желания целого народа
клокотали в нем, и голова пылала и словно дыми-
лась, как печь и как вершина Святой горы. Ему чу-
дилось, будто от его головы исходит сияние и надо
лбом поднимаются рога — от напряженности желания
и от простоты озарения. В самом деле, он не мог при-
думать знаки для всех слов, которые были в ходу
у крови его отца, или для слогов, из которых склады-
вались эти слова. Хоть и скуден был запас слов у тех,
что расположились станом внизу, все равно начерта-
ний получилось бы слишком много, так много, что за
несколько скупо отмеренных дней на горе и не приду-
маешь, а главное — невозможно будет быстро вы-
учиться читать и разуметь их«
24*
371
И он поступил иначе, и рога вздымались над его
лбом от гордости за божественную догадку. Он со-
брал все звуки, которые рождались на губах, на
языке, на нёбе и в гортани, и исключил из них те не-
многие, что произносились открыто и пусто, те, что
в окружении других звуков попеременно встречались
в словах и лишь благодаря этим другим становились
словами. И обрамляющих шумных звуков оказалось
не слишком много — не больше двадцати. И, свя-
завши их со знаками, которые, по уговору, призы-
вали бы чмокать или цокать, лепетать или бормо-
тать, шипеть или свистеть, можно было соединять их
в слова, обходясь без помощи главных звуков, что
возникали сами собою, соединять в любые, во все
слова, какие есть на свете, не только в языке отцов-
ской крови, но во всех языках. Даже по-египетски и
по-вавилонски можно было ими писать.
Божественная догадка! Идея с могучими рогами!
Она напоминала того, от кого она исходила, — Не-
зримого и Духовного, того, кому принадлежал це-
лый мир и кто, хоть и избрал среди прочих кровь, что
разбила стан у подножья, был властителем всех зе-
мель. Вдобавок она наилучшим образом отвечала той
ближайшей и неотложной цели, ради которой и из
которой она родилась, — тексту досок, непререкаемо
связующим речениям. Ибо хотя они прежде всего
были обращены к крови, которую Моисей вывел из
Египта, потому что общую с Богом любовь испыты-
вал он к этой крови, но горсточкою изобретенных им
знаков можно было, в случае надобности, записать
слова всех языков, а Иегова — Бог целого мира, и,
стало быть, краткие глаголы, которые задумал напи-
сать Моисей, способны стать уставом и основою чело-
веческого благоприличия для всех народов земли —
повсюду.
И вот, с пылающей головою, он приступил к ис-
пытанию: своим резцом он набросал на скале знаки,
которым научился в Синае, знаки, отныне предназна-
чавшиеся для звуков гудящих, жужжащих и вор-
чащих, рокочущих и клокочущих, льющихся и рву-
щихся, и когда он собрал их вместе и каждому задал
372
особый, отличный от другого урок — гляди-ка! — ими
можно было описать и записать целый мир, осязае-
мое и неосязаемое, деяние и помышление, — одним
словом, всё.
И он писал, точнее говоря — рубил, долбил и ре-
зал ломкий камень досок, которые стал высекать
сразу вслед за тем, как поднялся; их мучительное ро-
ждение на свет шло рука об руку с рождением букв.
Можно ли дивиться тому, что это заняло все сорок
дней без остатка?
Несколько раз его навещал Иошуа, его юноша,
приносил ему воды и лепешек; народу было вовсе
незачем об этом знать, ибо люди думали, что Моисей
живет там, наверху, одною лишь близостью Бога и
его речами, и Иошуа, с дальновидностью полководца,
хотел оставить их при этом мнении. Вот почему он
приходил ненадолго и только ночью.
А Моисей с той минуты, когда свет дня занимался
над Эдомом, и пока он не угасал за краем пустыни,
сидел и работал. Представьте себе: вот он сидит там,
наверху, обнаженный по пояс, с заросшею волосами
грудью и могучими руками, унаследованными от по-
руганного отца, с широко расставленными глазами,
перебитым носом и раздвоенной, поседевшей бородой,
жует лепешку, то и дело кашляет, вдыхая
металлические испарения горы, и в поте лица
своего рубит, обтесывает и выглаживает доски; вот
он прислоняет их к скале, садится перед ними на кор-
точки и старательно, чуть не надрываясь от усердия,
погружает в камень свои каракули — эти всемогу-
щие руны, — сначала нацарапав их резцом на по-
верхности.
Он написал на одной доске:
Я, Иегова, — Бог твой; да не будет у тебя
других богов пред лицом моим.
Не сотвори себе кумира и изображения бога.
Не произноси имени моего всуе.
Помни день мой, чтобы свято блюсти его.
Почитай отца твоего и матерь твою.
373
А на другой доске он написал?
Не убий.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не чини обиды ближнему твоему
лжесвидетельством.
Не обращай алчных взоров на достояние
ближнего твоего.
Вот что он написал, опуская те звуки, что выго-
варивались пусто и открыто, — они были понятны
сами собой. И все время ему казалось, будто над
прядью волос, падающей на его лоб, поднимаются
два луча, словно пара рогов.
Когда Иошуа пришел на гору в последний раз,
он оставался там дольше обычного — целых два дня:
Моисей еще не управился со своим делом, а они хо-
тели спуститься вместе. Юноша искренне восхищался
работой учителя и утешал его, видя, что иные литеры
осыпались и стали неразборчивы, —к великому огор-
чению Моисея и вопреки всей любви и старанию,
какие были на них затрачены. Но Иошуа уверил его,
что общее впечатление от этого нисколько не постра-
дает.
Под конец, на глазах у Иошуа, вот еще что сде-
лал Моисей: чтобы углубленные буквы резче выделя-
лись на камне, он расцветил их своею кровью. Ника-
кой другой краски под руками не было, и он рассек
резцом свою могучую руку и выступившую кровь ста-
рательно втер в литеры, так что они стали отсвечи-
вать красным. Когда надписи просохли, Моисей взял
под мышки по доске, отдал посох, с которым пришел
сюда, Иошуа, и бок о бок они зашагали вниз, к стану,
что был разбит в пустыне у подножья горы.
XIX
Когда они были уже невдалеке от шатров народа,
какой-то шум донесся до их ушей — глухой, преры-
вающийся взвизгами» Оба были в полном недоуме-
374
нии, и хотя Моисей услышал его раньше, первым за-
говорил Иошуа:
— Ты слышишь этот странный крик, гул, завыва-
ния? Если только я не ошибаюсь -^ там идет драка,
кулачный бой. И, должно быть, все они передрались
не на шутку, раз их слышно даже здесь. Коли так,
хорошо, что мы возвращаемся.
—- Что мы возвращаемся, — ответил Моисей, —»
во всяком случае хорошо, но, насколько я могу раз-
личить, это совсем не потасовка и не свалка, а празд-
нество с пеньем и плясками. Разве ты не слышишь
пронзительных выкриков и грохота литавр? Что это
взбрело им на ум, Иошуа? Пойдем скорее!
С цтими словами он подхватил обе доски повыше
и зашагал быстрее вместе с Иошуа, недоуменно ка-
чавшим головою. «Пляска... пляска...» — повторял он
сначала просто с тяжестью на сердце, а потом и
с нескрываемым испугом, ибо скоро не осталось ни-
каких сомнений, что это не схватка, когда один одо-
левает, другой же терпит поражение, а ликующее еди-
нодушие, и непонятно лишь, что это за единодушие,
которое исторгает у них такой радостный вой.
Но скоро и это сделалось понятно, если только не
было понятно уже и раньше. Страшное зрелище
ждало их! Когда Моисей и Иошуа пробежали под
высокой перекладиной ворот, оно открылось им во
всей своей бесстыдной недвусмысленности. Народ
сорвался с цепи. Они сбросили все, что Моисей, освя-
щая их, возложил им на плечи, все благообразие
божие, и копошились в омерзительном отступниче-
стве.
Сразу за воротами была площадь, свободная от
шатров, площадь Собрания. Туда они сошлись, там
творили свое отступничество и копошились в нем, там
праздновали подлую, убогую свободу. Перед тем как
пуститься в пляс, все нажрались до отвала, это было
заметно с первого взгляда, повсюду на площади вид-
нелись следы убоя и обжорства. Кому же приносили
жертвы, в честь кого били скот и обжирались? Оно
стояло тут же. Посреди площади на камне, на цоколе
375
алтаря, стояло оно -— изображение, топорная поделка,
гнусный идол, золотой телец.
Нет, то был не телец, то был бык, обыкновенный,
доподлинный, истекающий семенем бык, как у язы-
ков земли. Тельцом он только звался, потому что был
невелик, скорее даже мал, да и вылит скверно и сме-
хотворен с виду — неуклюжая пакость! — но все же
был еще слишком «хорош» для того, чтобы не узнать
в нем быка. Вокруг идола ходил многолюдный хоро-
вод, с добрый десяток колец; мужчины и женщины,
сцепившись рука в руку, двигались под звон кимва-
лов и бой литавр, головы задраны кверху, глаза за-
катились, колени вскинуты чуть не до подбородка,
визг, пронзительные стоны, дикие жесты. Кольца мча-
лись навстречу друг другу — один позорный круг все
время направо, другой налево; а посреди этой круго-
верти, перед тельцом, скакал Аарон в длинном одея-
нии с рукавами, которое он носил как хранитель ски-
нии завета, а теперь высоко подобрал, чтобы ловчее
было вскидывать длинные волосатые ноги. А Мариам
била в литавры, предводительствуя женщинами.
Так вились они вокруг тельца. А поодаль твори-
лось и вовсе несусветное; тяжко рассказывать о том,
как низко пал народ. Одни ели медянок. Другие, не
таясь, ложились с сестрой и кровосмесительство-
вали — во славу тельца! Третьи облегчались где при-
дется, забывши про лопатку. Мужчины истребляли
свою силу в честь Молоха. Кто-то нещадно колотил
родную мать.
При страшном этом зрелище жилы на лбу Мои-
сея вздулись так, что едва не лопнули. Лицо его по-
багровело, он разорвал кольцо хоровода, — хоровод,
неуверенно покачиваясь, остановился, а его преступ-
ные участники вытаращили глаза и смущенно заух-
мылялись, узнав Учителя, — и бросился прямо к тель-
цу — семени, источнику и отродью преступления. Мо-
гучими руками он высоко поднял одну из скрижалей
закона и обрушил ее на смехотворную скотину, так
что ноги у быка подломились, ударил снова и на сей
раз с такой силой, что доска разлетелась на куски,
но зато и кумир превратился в бесформенную массу;
376
потом взмахнул другой скрижалью и до конца разде-
лался с мерзостью, стер ее в прах, и так как вторая
доска была все еще цела, он разнес вдребезги и ее,
грохнув о каменный цоколь. Потрясая кулаками, он
стоял среди обломков, и стон вырвался из самой глу-
бины его сердца:
— Ты, подлый сброд, ты, Богом забытый! Вот ле-
жит то, что я принес тебе с горы от Бога, то, что он
написал собственной рукой, чтобы дать тебе талис-
ман против бедствия невежества! Вот оно лежит, раз-
битое и расколотое, рядом с остатками твоего ку-
мира! Что теперь мне делать с тобой, что сказать
Богу, дабы он не пожрал, не истребил тебя?
Тут он заметил, что Аарон, прыгун, стоит рядом
с ним — долговязый, застенчивый, с потупленным
взором и сальными локонами, падающими на шею.
Он схватил его за грудь, встряхнул и закричал:
— К чему здесь эта пакость, этот золотой Белиал?
Чем провинился перед тобой этот народ, что ты гу-
бишь его такой страшной гибелью, пока я говорю
с Богом на горе, да еще сам заправляешь треклятым
хороводом?
Но Аарон отвечал:
— Ах, дорогой господин мой, не попусти своему
гневу пасть на меня и на мою сестру: мы вынуждены
были уступить. Ты ведь знаешь — это злой народ,
они нас заставили. Ты ушел и пробыл на горе целую
вечность — вот мы все и решили, что ты уже никогда
не вернешься. И народ окружил меня и принялся во-
пить: «Никто не знает, что сталось с Моисеем, этим
человеком, который вывел нас из Египта. Он не
вернулся. Наверно, гора пожрала его своей па-
стью— тою, что плюется огнем. А ну-ка, сделай нам
богов, которые шли бы перед нами, если нагрянет
Амалик! Мы такой же народ, как все другие, и хотим
ликовать перед богами, и чтобы боги у нас были та-
кие же, как у других людей!» Так они говорили, гос-
подин мой, потому что — прости мне эти слова — ве-
рили, что избавились от тебя. Ну скажи сам, что мне
оставалось делать, когда они обступили меня коль-
цом? Я велел всем вынуть из ушей золотые серьги
377
и принести мне, расплавил золото, сделал форму,
отлил тельца и дал им в боги.
— Да и отлил-то совсем непохоже, — презри-
тельно вставил Моисей.
— Времени было в обрез, — возразил Аарон, —•
уже на следующий день, то есть сегодня, они желали
учинить ликование перед всесильными богами. По-
этому я вручил им отливку (какое-то сходство в ней
все же есть, этого ты не можешь отрицать), и они
радовались и говорили: «Вот твои боги, Израиль, ко-
торые вывели тебя из Египта». И мы воздвигли ал-
тарь, и они принесли всесожжения и заклали мирные
жертвы, и ели, а потом немного поиграли и попля-
сали.
Моисей бросил его и сквозь распавшийся хоровод
ринулся назад; остановившись рядом с Иошуа под
пролетом ворот, он закричал что было силы:
— Кто верен Господу — ко мне!
И немало людей стеклось к нему, те, что были
здравы сердцем и неохотно примкнули к буянам; и
вооруженные юноши Иошуа обступили обоих.
— Несчастные, — сказал Моисей, — что вы на-
творили, и как мне теперь искупить ваш грех перед
Иеговой, чтобы он не отверг вас за неисправимую
жестоковыйность и не пожрал?! Сделать себе золо-
того Белиала, едва лишь я отвернулся! Позор вам
и мне! Вы видите обломки —- я говорю не об облом-
ках тельца, чума их возьми! Я говорю о других об-
ломках! Это дар, который я вам сулил и принес вам
с горы, глаголы вечные и краткие, основа благопри-
личия. Это десять речений, которые я написал для
вас у Бога на вашем языке, написал моею кровью,
кровью отца моего, вашею кровью написал я их«
А теперь от них остались одни осколки.
Услышав это, многие заплакали, и громкие всхлип
пывания вперемежку со сморканием огласили пло-
щадь.
— Может быть, потерянное удастся возместить, —
продолжал Моисей. — Ибо Господь долготерпелив и
многомилостив и прощает преступления и провин-
ности.^ и никого не оставляет ненаказанным, — за-
378
гремел он вдруг, и кровь прилила у него к голове,
и жилы на лбу снова вздулись так, что, казалось, вот-
вот лопнут, — но до третьего и четвертого колена, го-
ворит он, я караю преступление, ибо я — ревнитель,
Ревнитель имя мне. Здесь будет твориться суд, —во-
скликнул он, — и очищение кровью, ибо кровью был
написан закон. Выдайте зачинщиков, которые пер-
вые стали кричать про золотых богов и нагло утвер-
ждали, будто телец вывел вас из Египта, меж тем
как это сделал я, только я... говорит Господь. Они —
добыча Ангела-губителя, кто бы они ни были. Их
должно побить камнями до смерти и застрелить стре-
лами, всех, хотя бы их набралось и три сотни!
Остальные же пусть совлекут с себя все украшения
и пребывают в скорби и печали до тех пор, пока я не
вернусь, ибо я снова взойду на гору божию и по-
гляжу, в силах ли я еще хоть что-нибудь для тебя
сделать, жестоковыйный народ!
XX
Моисей не присутствовал при казнях, которые он
приказал учинить из-за тельца, то было дело реши*
тельного Иошуа. Сам он, покуда народ скорбел, был
снова на горе, перед своей пещерой, подле гудящей
вершины, и опять провел сорок дней и сорок ночей
один среди чадных испарений. Но почему опять так
долго? Ответ гласит: не только потому, что Иегова
повелел ему еще раз вытесать доски и снова напи-
сать на них непреложное повеление, — на этот раз
дело шло немного быстрее, ибо у него уже был ка-
кой-то навык, а самое главное — были уже приду-
маны письмена; но и потому еще, что ему пришлось
выдержать с Господом долгую борьбу, прежде чем
Господь дал изволение возобновить скрижали, настоя-
щий бой, в ходе которого гнев и милосердие, уста-
лость и любовь к начатому делу попеременно оттес-
няли друг друга, а Моисею пришлось призвать на по-
мощь все свое искусство убеждения и все разумные
доводы, чтобы Бог не объявил завет расторгнутым
379
и не отрекся от подлого сброда, упрямого, жестоко-
выйного, или — еще того хуже — не разнес его на
куски, как поступил ослепленный яростью Моисей
со скрижалями закона.
— Нет, я не пойду впереди них, — говорил Бог, —
и не введу их в землю отцов, лучше не проси меня
об этом. Терпение мое иссякло. Пламенный ревни-
тель я, и ты увидишь: настанет день, когда не смогу
долее сдерживать себя и пожру их посреди пути.
И он предложил Моисею: истребить народ, кото-
рый, видно, отлит был неудачно, подобно золотому
тельцу, и который уже ничем не исправишь и не сде-
лаешь святым народом, под самый корень подсечь
Израиль, а его самого, Моисея, превратить в великий
народ и с ним поставить завет свой. Но этого Моисей
не пожелал и ответил:
— Нет, Господи, прости им их прегрешения;
а если не простишь, то истреби и меня, изгладь из
книги твоей, потому что я этого не переживу и ни
один народ не будет для меня свят, кроме них.
И он воззвал к чести божией и сказал:
— Вот что представь себе, Святой: если ты убьешь
этот.народ, как убивают человека, идолопоклонники
услышат крик и скажут: «Ха! Господь не в силах был
привести этот народ в ту землю, которую даялся им
отдать, не мог, да и все тут; вот он и перебил их
в пустыне». Неужли ты допустишь, чтобы языки
земли так о тебе говорили?.. Потому яви лучше* мо-
гущество и всю силу господню и окажи снисхожде-
ние преступному этому народу по великой милости
твоей.
Именно этим доводом он одолел Бога и склонил
его к прощению, с одним, однако, условием: что из
нынешнего поколения ни один не узрит земли отцов,
кроме Иошуа и Халева. «Детей ваших, — решил Гос-
подь, — я туда введу, но те, что уже перешли за два-
дцатый свой год, да не узрят ее никогда —-- тела их
обречены пустыне».
— Хорошо, Господи, да будет так, — отвечал Мои-
сей. Ибо этот приговор нисколько не противоре-
чил его собственным намерениям и намерениям Ио-
380
шуа, и дальше спорить было незачем.— Теперь до-
зволь мне сделать новые скрижали, чтобы я мог от-
нести людям твои краткие глаголы. В конце концов
это даже хорошо, что я разбил в гневе те, первые.
Не говоря уже обо всем прочем, там было несколько
неудачных букв. Я должен тебе признаться, что в глу-
бине души думал и об этом, когда их разбивал.
И снова сидел он (а Иошуа тайком поил его и
кормил) и вырубал и обтесывал, выравнивал и вы-
глаживал,— сидел и писал, стирая время от времени
со лба пот тыльной стороной руки, высекая надписи
на скрижалях, которые вышли даже лучше, чем
в первый раз. Потом снова выкрасил буквы своей
кровью и спустился вниз, держа закон под мышками
обеих рук.
Израилю было сказано, чтобы он воспрял от
скорби и снова надел свои украшения, кроме, ко-
нечно, серег, которые были употреблены во зло.
И весь народ цришел и встал перед Моисеем, дабы
он передал им то, что принес с собою, весть от Ие-
говы с горы, скрижали с десятью речениями.
— Возьми их, кровь отца моего, — сказал он, —
и храни их свято в шатре Бога, и то, что гласят они,
свято соблюдай в деяниях твоих и воздержаниях, ибо
это глаголы краткие, непререкаемо связующие, не-
движная основа благоприличия, и Бог кратко высек
их в камне моим резцом — сжатые, скупые, альфу
и омегу человеческого поведения. На вашем языке
начертал он их, но знаками, коими можно писать на
языке любого народа, ибо он — владыка всех зе-
мель, и посему алфавит — его достояние, и речи его,
если даже они обращены к тебе, Израиль, суть речи
для всех.
В камне горы я запечатлел алфавит человеческого
поведения, но еще в плоти и крови твоей, Израиль,
да будет он запечатлен, чтобы всякий, кто нарушит
хоть единое слово из десяти заповедей, втайне ужас-
нулся перед самим собою и перед Богом, и сердце
его да застынет от страха, ибо он преступил границы
божий. Я знаю и Бог знает заране, что заповеди
его не будут соблюдаться и против речений его будут
381
погрешать всегда и повсюду. Но по крайней мере да
заледенеет сердце у всякого, кто станет их нарушать,
ибо не на скрижалях только — в плоти и крови его
они начертаны, и он знает: речения Бога сохраняют
свою силу.
Но проклятие тому человеку, который встанет
среди вас и скажет: «Они утратили силу». Проклятие
тому, кто будет вас учить: «Отриньте их! Лгите, уби-
вайте и грабьте, распутничайте, насилуйте, преда-
вайте мечу отца и мать — это свойственно человеку;
и славьте имя мое, ибо я возвестил вам свободу»*
Тому, кто воздвигнет тельца и скажет: «Вот ваш бог«
В его честь творите все это и ходите в разнуздан-
ных хороводах вокруг идола». Он будет очень силен,
будет восседать на золотом троне и почитаться за
мудрейшего из мудрых, ибо постигнет: помыслы че-
ловеческого сердца злы от юности его. Но это будет
все, что он постигнет, а кто постиг лишь это и ничего
больше, тот глуп, как ночь, и лучше бы ему вовсе не
родиться. Да, потому что он не знает и не догады-
вается о завете меж Богом и человеком, который ни-
кто не в силах расторгнуть, ни человек, ни Бог, ибо
он нерасторжим. Потоки крови прольются по вине
его черной глупости, столько крови, что румянец сбе-
жит со щек человечества; но однажды люди сва-
лят негодяя, свалят непременно, — иначе быть не мо-
жет. И подниму стопу мою, говорит Господь, и втопчу
его в грязь — глубоко в землю втопчу богохульника,
на сто двенадцать саженей, и человек и зверь пусть
обходят то место, где я втопчу его в землю, и птицы
небесные пусть сворачивают в высоком своем полете,
дабы над ним не пролетать. А кто назовет его имя,
тот пусть плюнет на все четыре стороны и оботрет
себе рот и скажет: «Сохрани и помилуй!» Чтобы
земля вновь была землей — юдолью скорби, да, но не
свалкой для падали. Отвечайте же все — аминь!
И весь народ ответил: «Аминь!»
1944
ОБМАНУТАЯ
В двадцатых годах нашего столетия в Дюссель-
дорфе на Рейне жила, если не в роскоши, то в достатке,
вдовевшая вот уже десять лет госпожа Розалия
фон Тюммлер с дочерью Анной и сыном Эдуар-
дом. Ее муж, подполковник фон Тюммлер, бессмыс-
ленно погиб в самом начале войны — не в бою, а при
автомобильной катастрофе, что тем не менее давало
право говорить о нем как о воине, павшем на поле
брани. Этот жестокий удар, перенесенный ею, тогда
еще сорокалетней женщиной, с патриотическим сми-
рением, отнял отца у обоих ее детей, у нее же са-
мой — завидно веселого мужа, нередкие отклонения
которого от стези супружеской верности говорили
лишь об избытке жизненных сил.
Годы замужества, а их было двадцать, Розали, по
облику и говору истая жительница Рейнского края,
провела в трудолюбивом Дуйсбурге, где стоял гарни-
зон фон Тюммлера, но после утраты мужа поселилась
с детьми в Дюссельдорфе (дочери было тогда восем-
надцать, сыну всего лишь шесть лет), отчасти из-за
красивых парков — примечательности этого города
(госпожа фон Тюммлер страстно любила природу),
отчасти же из-за дочери Анны, серьезной девушки, ко-
торая увлекалась живописью и хотела посещать зна-
менитую Академию художеств. Вот уже десять лет
маленькая семья проживала на тихой, обсажен-
ной липами улице имени Петера фон Корнелиуса,
383
в небольшом особняке, окруженном тенистым садом
и обставленном немного старомодной, но покойной ме-
белью, в стиле тех лет, когда Розали была невестой.
Несколько родственников и друзей, а также профес-
сора академий живописи и медицинских наук, да два-
три фабриканта с женами составляли небольшой кру-
жок, часто собиравшийся под радушным кровом для
скромных вечерних пиршеств, во время которых, сле-
дуя местному обычаю, воздавали должное рейнским
винам.
Госпожа фон Тюммлер была общительного нрава.
Ей нравились людные сборища, и, в пределах своих
возможностей, она держала открытый дом. Непритя-
зательный, веселый нрав, сердечная теплота, которая
выражалась и в любви к природе, снискали ей общее
расположение. Высоким ростом она не отличалась, но
сохранила былую стройность; в ее густых вьющихся
волосах уже заметно проглядывала седина, а на тыль-
ной стороне увядающих нежных рук проступило мно-
жество пятнышек, похожих на веснушки (явление,
против которого еще не найдено средство), и все же
она казалась молодой, благодаря прекрасным, всегда
оживленным глазам, глянцевито-каштанового цвета,
сиявшим на женственно-милом, тонко очерченном
лице. Нос ее имел свойство слегка краснеть, когда
она бывала в приподнятом настроении, что станови-
лось особенно заметным в обществе, и она старалась
устранить этот недостаток, прибегая к пудре — совсем
напрасно, по общему суждению, потому что это про-
изводило даже трогательное впечатление и ничуть ее
не портило.
Розали родилась весной, в мае месяце, и сегодня
праздновала свою пятидесятую годовщину в кругу
родных и нескольких друзей, за усыпанным цветами
столом, в саду, разукрашенном фонариками, под звон
бокалов и благодушные, порою шутливые тосты. Она
старалась веселиться с теми, кто был весел — не без
усилия: потому что с некоторых пор и в сегодняшний
вечер тоже она чувствовала недомогание, сопутствую-
щее переходному возрасту, физическому угасанию ее
женственности, неуклонно совершавшемуся, невзирая
384
на сопротивление несостарившейся души. Головные
боли, сердцебиение, приступы щемящей тоски сменя-
лись днями уныния, болезненной раздражительности,
благодаря которой и в этот праздничный вечер тосты,
произнесенные в ее честь, казались ей безнадежно
плоскими и глупыми. Зная, что ее дочь никогда не со-
чувствует такого рода юмору, почерпнутому в пун-
шевой чаше, она обменивалась с нею понимающим,
безнадежным взглядом.
Самая доверительная, нежная близость связывала
ее с этой девушкой, ныне взрослой подругой, на две-
надцать лет опередившей брата, от которой не надо
было скрывать горестей своего возраста. Анне было
уже под тридцать, она до сих пор не вышла замуж,
но это не смущало Розали, которая из простого эго-
изма предпочитала сохранить в дочери милую, нераз-
лучную спутницу, нежели уступить ее мужу. Анна фон
Тюммлер была более высокого роста, но глаза ее
цвета каштана были те же, что у матери, впрочем,
не совсем те же — им недоставало наивной оживлен-
ности материнских глаз; они скорее были холодны и
задумчивы. Анна родилась с искривлением стопы, опе-
рация, сделанная в детстве, не привела к желатель-
ному результату, и девушка навсегда была лишена
возможности заниматься спортом, танцами, прини-
мать участие в увеселениях сверстниц. Незаурядные
способности, духовная утонченность щедро воспол-
нили все то, в чем ей было отказано. Занимаясь с пре-
подавателями на дому, всего по два-три часа в день,
она без труда сдала экзамен на аттестат зрелости, но
затем отказалась от науки ради искусства — сначала
ваяния, затем живописи — и, будучи еще ученицей,
непримиримо отвергла слепое подражание природе,
предпочтя ему сугубо отвлеченное, абстрактно-симво-
лическое направление с некоторым уклоном в кубизм.
Картины своей дочери, где изысканная современность
уживалась с примитивом, декоративность с глубоко-
мыслием и утонченное пиршество красок с аскетиз-
мом, госпожа фон Тюммлер рассматривала с унылой
почтительностью.
25 Т. Манн, т. 8
385
— Значительно, вероятно, очень значительно,
детка, — говорила она. — Профессор Цумштег это
оценит. Он повлиял на тебя и научил любить такую
живопись, у него наметанный глаз и опыт. Надо иметь
опыт и наметанный глаз, чтобы понимать такие вещи,
Как она называется?
— Деревья на ночном ветру.
— Как-никак здесь есть намек на то, что ты хо-
тела выразить. Значит, эти кегельные шары на серо-
желтом фоне и есть деревья, а вот та странная ли-
ния, свивающаяся как спираль, должна изображать
ночной ветер? Интересно, Анна, очень интересно! Но,;
боже правый, что вы все делаете из милой природы,
дочурка? Чего тебе стоит один-единственный разок
послужить своим искусством красоте, написать что-
нибудь для души, скажем, изящный натюрморт, ветку
свежей сирени, так, чтоб казалось, что вдыхаешь ее
прелестный запах, а рядом с вазой стояла бы жеман-
ная парочка из мейссенского фарфора, кавалер, скло-
нившийся в поцелуе над ручкой дамы, — и все это от-
ражалось бы в сверкающей поверхности стола...
— Стой, стой, мамочка! У тебя неуемная фанта-
зия. Но так писать теперь уже нельзя.
— Анна, не пытайся уговорить меня, что ты, та-
кая способная, не можешь написать что-нибудь ла-
скающее глаз.
— Ты меня неверно поняла, мама! Речь идет не
обо мне, не о том, умею ли я так писать. Этого не до-
пускает наше время, наше искусство.
— Тем хуже для времени и для искусства] Нет,
прости, девочка, я не то хотела сказать. Если это не-
угодно жизни, идущей вперед, то не о чем и спорить.
Напротив, печально было бы отстать от жизни. Это
я вполне понимаю. И еще я понимаю, что необходим
талант, чтобы придумать такую говорящую линию,
как твоя. Мне она ничего не говорит, но по ней видно,
что она говорит о многом.
Анна поцеловала мать, далеко отставив руки
с мокрой палитрой и кистью. И Розали тоже поце-
ловала дочь, радуясь, что та, в измазанной красками
386
блузе, занимаясь своим отвлеченным и, как казалось
матери, мертворожденным рукомеслом, находит в нем
утешение и примирение с незадавшейся жизнью.
Фрейлейн фон Тюммлер очень рано поняла, сколь
пагубно хромающая поступь молодой девушки отра-
жается на чувственных влечениях сильного пола, и,;
даже когда ею, несмотря на телесный ее недостаток,
увлекался какой-нибудь юноша, она во всеоружии
гордости, недоверчиво и холодно отклоняла его иска-
ния, подавляла их в самом зародыше. Однажды,
вскоре после переезда в Дюссельдорф, она полюбила,
мучительно стыдясь своей страсти, вызванной физи-
ческой привлекательностью молодого человека, хи-
мика по образованию, поставившего себе целью пре-
вратить науку в средство обогащения, так что, полу-
чив звание доктора, он тотчас же поступил на одну из
химических фабрик Дюссельдорфа, где занял доход-
ное место и видное положение. Его смуглая кожа, его
покоряющая мужественность, деловая сметка и от-
крытый нрав, подкупавший даже мужчин, были пред-
метом грез всех девушек и женщин светского круга,
превозносивших до небес этого доктора химии и на-
перебой закармливавших его индейками и гусями. От-
ныне горьким уделом Анны стало томиться, как то-
мятся другие, сознавать себя рабою пошлого чувства,
которое она старалась побороть, тщетно взывая к соб-
ственному достоинству.
Впрочем, доктор Брюннер (так звали юного кра-
савца), вполне сознавая себя расчетливым честолюб-
цем, возмещал этот душевный изъян тяготеньем ко
всему изысканно-возвышенному, а потому некоторое
время откровенно ухаживал за фрейлейн фон Тюмм-
лер и охотно болтал с ней в обществе о живописи и
литературе. Нашептывая своим вкрадчивым голосом
пренебрежительно-шутливые суждения о той или иной
из своих горячих поклонниц, он как бы стремился за-
ключить с Анной союз против их назойливо чувствен-
ных ухищрений, против заурядности, не утонченной
телесным изъяном, Каково приходится самой Анне4
25*
387
что за мучительное блаженство испытывает она в то
время, как он глумится над другою, об этом доктор
Брюннер, казалось, и не подозревал: как будто в ду-
ховной близости с Анной, он искал лишь защиту от
утомительных любовных преследований и уважение
к себе — уже за то, что он дорожил этим уважением.
Велико было искушение Анны открыться, довериться
ему, хотя она и знала, что ее слабость окажется
только очередной напрасной данью мужской неотра-
зимости Брюннера. Его искания становились все бо-
лее настойчивыми, серьезными, и Анна в сладостном
смятении сознавалась себе, что безоглядно пошла бы
за него, скажи он решающее слово. Но это слово не
было сказано. Тщеславного стремления к возвышен-
ным материям оказалось недостаточно, чтобы пере-
шагнуть через ее телесный изъян и вдобавок скромное
приданое. Вскоре он стал избегать Анны и обручился
с дочерью богатого фабриканта из Бохума, куда и
перекочевал, отдав предпочтение родному городу не-
весты и химическому предприятию ее отца, к величай-
шему горю дюссельдорфских дам и облегчению Анны.
Розали знала о сердечных муках дочери, знала
задолго до того, как Анна, в приступе отчаяния, при-
шла выплакать на материнской груди то, что назы-
вала своим позором. Не будучи очень умной, госпожа
фон Тюммлер обладала ничуть не злорадной, а напро-
тив, даже глубоко благожелательной прозорливо-
стью во всем, что касалось духовной и физической
жизни женщины, почему от ее глаз не могло ускольз-
нуть ни одно такого рода событие в кругу ее знако-
мых. По едва заметной улыбке, по блеску глаз, но
краске в лице она узнавала, что девушке нравится
тот или иной юноша, и сообщала о своих наблюде-
ниях подружке-дочери, ничего такого не замечавшей,
да и не хотевшей замечать. Она инстинктивно опре-
деляла, находит ли женщина удовлетворение в су-
пружеской жизни, или нет, и печалилась или радова-
лась вместе с той, кого взяла под наблюдение. Она
безошибочно определяла беременность в самом ее на-
чале, причем, как обычно, когда дело касалось со-
бытий радостно-естественных, переходила на диалект
388
и говорила: «Помяни мое слово, она понесла». Розали
любила наблюдать, как охотно Анна помогает гото-
вить уроки старшекласснику-брату. С наивной, но без-
ошибочной психологической прозорливостью она уга-
дывала, как утешало обездоленную девушку ее ум-
ственное превосходство над мужским началом.
Вообще нельзя было сказать, чтобы Розали прини-
мала чуткое участие в душевной жизни сына, этого
непомерно вытянувшегося юнца, который был так по-
хож на ее покойного мужа, не ладил с гуманитар-
ными науками и мечтал о строительстве дорог и
мостов и о профессии инженера. Прохладное дружелю-
бие, поверхностная заботливость — вот и все, что Ро-
зали дарила ему. По-настоящему привязана она была
к дочери, единственной истинной своей подруге. Бла-
годаря замкнутости Анны дружескую откровенность
между обеими женщинами можно было бы назвать
односторонней, если бы мать и без слов не знала всего
о своей девочке, о скорбном одиночестве этого гордого
сердца.
Без ложной обидчивости, просто и весело, прини-
мала она любовно-снисходительные, насмешливо-со-
жалеющие, а подчас почти высокомерные улыбки
своей подруги-дочери. Добрая душа, она легко сно-
сила добродушное подтрунивание над своей просто-
той, которую, несмотря ни на что, почитала желанно-
счастливым свойством, и, смеясь над собой, в то же
время смеялась и над кислой гримаской Анны. Это
случалось нередко, в особенности когда она садилась
на своего конька — проникновенную нежность к при-
роде, — желая ею заразить и рассудительную де-
вушку. А как она любила «свое» время года, пору,
когда родилась, — весну, весну, снабжавшую ее, — по
уверениям Розали, — здоровьем и жизнерадостностью
из самых сокровенных своих истоков! Когда воздух
становился мягким и птицы заводили призывные
песни, лицо ее светлело. Первые крокусы и подснеж-
ники в саду, нарядное цветение тюльпанов и гиацин-
тов на клумбах вокруг дома трогали добрую жен-
щину до слез. Милые фиалки вдоль сельских дорог,
желтые кисти дрока в цвету, красный и белый
389
шиповник, а также сирень, и то, как выбрасывают
ввысь свои бело-розовые свечи каштаны, — все вызы-
вало восхищение, и так хотелось поделиться им с до-
черью. Розали уводила ее из северной комнаты, отве-
денной под мастерскую, от абстрактного ее творче-
ства, и Анна, улыбаясь, с готовностью сбрасывала
рабочую блузу, чтобы сопровождать мать в многоча-
совых прогулках: как ни странно, она была пре-
восходным ходоком, и если в обществе, стараясь
скрыть хромоту, чувствовала себя связанной в движе-
ниях, то здесь, на свободе, где можно было шагать
непринужденно, она вдруг становилась выносливой.
Родной, привычный ландшафт, вновь по-весеннему
поэтические дороги их прогулок, вдоль которых цвели
деревья, прелестные в своем бело-розовом уборе и су-
лящие обилие плодов, — что за волшебная пора! Они
часто гуляли у реки. Текущую воду окаймляли высо-
кие серебристые тополя, и пушистые их сережки ро-
няли пыльцу, похожую на снег, гонимый ветром. Ро-
зали, которая и это находила восхитительным, до-
статочно знала ботанику, чтобы поучать свою дочь,
рассказывая ей о том, что тополь — «двудомное» де-
рево, что на одних тополях растут только мужские,
на других — только женские цветы. Она охотно гово-
рила и об опылении ветром — о любовных услугах,
что оказывает зефир детям флоры, о предупредитель-
ности, с какою он переносит цветочную пыльцу в це-
ломудренно ожидающий женский цветок. Этот вид
оплодотворения казался ей особенно прелестным.
Но подлинной страстью ее были розы. Она выра-
щивала королеву цветов в своем саду, всеми сред-
ствами, заботливо и терпеливо охраняла ее от про-
жорливых гусениц, и, покуда длилось царственное
цветение, на этажерках и столиках ее будуара не пе-
реводились букеты восхитительно свежих роз, в бу-
тонах или уже распустившихся, преимущественно
красных (белые она меньше любила), питомицы ее
сада или же приношения знакомых дам, знавших о ее
страсти. Закрыв глаза, она надолго погружала лицо
в букет, а затем, подняв голову, уверяла, что это и
есть аромат богов и что Психея^ склонившись со све-
390
тильником над спящим Амуром, его кудрявой головой
и чуть приоткрытыми устами, конечно же вдыхала
именно этот небесный аромат, и она, Розали, не со-
мневается, что и праведники там, в райских кущах,
всегда будут вдыхать запах нетленных роз.:
— В таком случае, — скептически замечала
Анна, — там до того привыкнут к нему, что и вовсе
перестанут его замечать.
Но госпожа фон Тюммлер сердилась на Анну за
подобное умничанье. Если так рассуждать, если все
высмеивать, можно усомниться и в самой вечности,
а немудреное, привычное счастье — все же счастье.
Это давало Анне лишний повод в знак примирения
нежно и снисходительно поцеловать свою мать, после
чего обе женщины принимались вместе смеяться.
Искусственного благовония духов Розали не при-
знавала, разве что капельку освежающего одеколона
И. М. Фарина, который она покупала в переулке на-
против. Но все запахи, которые дарует нам природа,
Розали любила без меры, в чувственном благогове-
нии упиваясь их сладостью, пряной горечью, хмель-
ным дурманом. Дорога, по которой они часто гуляли,
вела к оврагу, где на дне неглубокой лощины густо
разрослись кусты черемухи и жасмина, что в знойные,
влажные, предгрозовые дни июня слали вверх жар-
кие облака одуряющих, почти удушливых благовоний.
Несмотря на то что у Анны это вызывало головную
боль, она должна была сопровождать свою мать и
сюда. Розали упивалась тяжелыми вздымающимися
испарениями. Она подолгу простаивала здесь, ухо-
дила, вновь возвращалась, наклонялась над оврагом
и вздыхала:
— Девочка моя, как это чудесно! Это дыхание при-
роды, ее сладостное дуновение, напоенное солнцем и
влагой. Она шлет нам его из своих недр. Вкусим его,
почитая природу, ведь мы тоже ее любимые дети.
— Ты, мама, во всяком случае! — отвечала Анна,,
брала мечтательницу под руку и, прихрамывая, уво-
дила ее прочь. — Ко мне природа относится значи-
тельно хуже: у меня всегда болит голова от этого на-
стоя ее ароматов,
391
— Да, потому что ты от нее воротишь нос, — от-
вечала Розали. — Не славишь ее своим талантом, а,
напротив, с его помощью норовишь возвыситься над
ней, пользуешься природой только как темой для
своих фантазий — это твои собственные хвастливые
слова — и в заумных своих замыслах уносишься бог
весть куда, в холодную пустоту. Я уважаю твое ис-
кусство, Анна, но на месте милой природы тоже была
бы обижена. — И однажды совершенно серьезно пред-
ложила дочери: если уж Анна так одержима этой
своей абстрактностью и хочет изображать все
только условно, пусть хоть раз попытается в красках
выразить запахи.
Эта мысль пришла ей в голову в июле, в дни, когда
зацвели липы и из аллей сада в открытые окна, запол-
няя весь дом, проникал неописуемо чистый и нежный,
колдовской аромат позднего цветения, а с губ Ро-
зали вообще не сходила восхищенная улыбка. Тогда-
то она и сказала:
— Вот что вам надо бы писать, вот чего доби-
ваться в своей живописи! Ведь не хотите же вы пол-
ностью изгнать природу из искусства, вы все же ис-
ходите из нее в своих отвлеченностях и нуждаетесь
в земном и чувственном, чтобы его одухотворять. Ну,
а запах, если можно так выразиться, одновременно и
абстрактен и чувствен; он невидим, он неуловимо
говорит с нами из эфира. На вашем месте я дерз-
нула бы передать невидимое упоение, изобразить его
зримо, — в конце концов это основная задача живо-
писи. Где ваши палитры? Скорее разотрите на них
аромат и перенесите его на холст в виде счастья
в красках. Потом можете назвать свое творение
«Запахом лип», чтобы зрители поняли, что вы заду-
мали.
— Милая мама, ты бесподобна, — возразила фрей-
лейн фон Тюммлер. — Такие проблемы поставят в ту-
пик любого профессора живописи. Знаешь ли ты
хотя бы, что только весьма романтическая личность
способна придумать это твое синтетическое смеше-
ние чувственных восприятий, мистическое претворе-
ние запахов в краски!
392
— Вероятно, я заслужила твои ученые насмешки?
— Нет, нет! Ты не заслужила их, — искренне ска-
зала Анна.
Но как-то, в разгаре августа, когда время близи-
лось к полудню и стояла сильная жара, дамы, гу-
ляя, натолкнулись на удивительное явление, напоми-
навшее злую шутку, издевательство. Возле опушки
леса их внезапно коснулся запах мускуса. Первая
почуяла его Розали.
— Ах! А это откуда? — поделилась она своим от-
крытием. Дочь вынуждена была согласиться.
— Да, похоже на мускус.
Они не прошли и двух шагов, как обнаружили ис-
точник этого запаха. Он возбуждал отвращение. То
была кучка разлагающихся нечистот на краю дороги,
густо облепленная жирными мухами, кишевшими на
ней и над ней. Лучше было не вглядываться. То были
экскременты животного, а быть может, и человека,
соединившиеся с гниющими травами, и вдобавок
истлевший остов какого-то лесного зверька. Словом,
ничего не могло быть гаже этой дымящейся кучки.
Однако тошнотворный запах распада в двувалентном,
двусмысленном своем перерождении уже нельзя было
назвать вонью. Он безоговорочно воспринимался как
запах мускуса.
— Пошли дальше! — одновременно сказали обе
женщины, и Анна, сильнее обычного волоча ногу, по-
висла на руке матери. Они помолчали, как бы ста-
раясь разобраться в поразительном явлении.
— Вот видишь, недаром я не переношу запах мус-
куса и не понимаю, как можно им душиться. Духи
эти не пахнут ни цветами, ни травами. Помнится, на
уроках естественной истории мы проходили, что не-
которые животные выделяют мускус из желез, ка-
жется крысы и кошки, да, тибетские кошки и мускус-
ные крысы. А вот у Шиллера в «Коварстве и любви»
есть человечек, эдакий пошляк, у него пронзительно
гнусавый голос. Когда он выходит на сцену, по всему
партеру распространяется запах мускуса. Я никогда
не могла без смеха читать это место!
393
И они развеселились. Даже теперь, когда орга-
низм Розали должен был мучительно приспосабли-
ваться к физическим и нравственным недугам пере-
ходного возраста, она умела звонко, от всего сердца,;
смеяться. К этому времени Розали обрела друга, не-
подалеку от дома, в уголке городского сада. Это был
старый, одиноко стоявший дуб, сучковатый и искрив-
ленный. Его корни были обнажены, а кряжистый
ствол невысоко над землей разделялся на толстые
узловатые ветви. Наверху они утончались и пускали
новые побеги. В стволе было дупло, запломбирован-
ное цементом, — администрация парка пеклась о своем
детище. Но иные ветви уже отмирали и, не в силах
зазеленеть, голыми искалеченными обрубками тор-
чали ввысь. Другие, — правда, их было немного,—.
весною вновь зазеленели, покрылись зубчатыми, из-
вилистыми листьями, из которых спокон веков пле-
тут священные венки победы. Розали не могла нагля-
деться на дуб. День за днем она участливо следила,
как зарождаются, набухают и распускаются листки на
ветвях и веточках, в которые еще просачивалась
жизнь. Рядом с дубом на лужайке стояла скамья.
Они сели, и Розали сказала:
—■ Мощный старик! Можно ли без умиления смо-
треть, как бодро он держится, как все еще выбрасы-
вает новые побеги. Взгляни на его корни, одеревенев-
шие, толстые, — они распластались по матери-земле
в поисках пропитания, цепкие, словно якоря. Не один
шторм пережил он и не один еще переживет. Такие
не сгибаются. Полый, зацементированный, он уже не
в силах весь покрыться листвой. Но когда приходит
его время, он все же набухает соками, перемогая
старость, а когда ему удается немножко зазеленеть, его
лелеют и чтут за отвагу. Видишь, там, наверху, ки-
вает ветру тоненький побег. Не вся крона распусти-
лась, но пусть хотя бы он поддержит честь старика,
— Не сомневаюсь, что это достойно внимания, но,
если ты не возражаешь, я охотнее вернулась бы до-
мой,— сказала Анна, — мне нездоровится...
— Нездоровится? У тебя... Ах, девочка, как я мо-
гла забыть? Мне стыдно, что я повела тебя гулять*
394
Глазею на старика, и не вижу, что ты скорчилась от
боли. Обопрись на мою руку, и пойдем.
Фрейлейн фон Тюммлер с давних пор ежемесячно
жаловалась на сильные боли. Это стало привычным
явлением, и врачи рассматривали его как неприятный
конституциональный недостаток, с которым прихо-
дится мириться. А потому недомогания Анны не вы-
зывали у матери особых опасений и на обратном
пути, желая утешить и развлечь страдалицу, и вместе
с тем выразить и свою зависть, она сказала:
— Помнишь, когда это впервые случилось с тобой,
ты была еще совсем девчонкой и так испугалась? А я
объяснила тебе, что это вполне естественно, что так
и быть должно, что следует радоваться и гордиться
тем, что ты стала женщиной. Незадолго до этого у тебя
бывают боли. Это мучительно и не обязательно —
я никогда их не знала, — но бывает и так. Я помню
еще два-три подобных случая, когда бывали боли...
Так что же: à la bonne heure!l У нас, женщин, они
другие, чем у мужчин. Те не знают боли, разве только
когда хворают, и тогда они ужасно теряются. Тюмм-
лер, твой отец, тоже терялся при малейшей боли,
хотя он был офицер и пал смертью храбрых. Наш пол
ведет себя по-иному, мы выносливее, страдание —
наш удел. Мы, так сказать, прирожденные страда-
лицы. Прежде всего, мы знаем естественные, здоро-
вые, священные боли родов. Это нечто неотъемлемо
женское, мужчины избавлены от них. Правда, глупые
мужчины приходят в отчаянье от наших полубессо-
знательных криков, упрекают себя и хватаются за
голову, а мы, хоть и кричим, в глубине души смеемся
над ними. Когда ты, Анна, появилась на свет, мне
пришлось очень худо. Это продолжалось тридцать
шесть часов, а Тюммлер все время бегал по комнатам
и держался за голову, и все же это был великий
праздник жизни, и кричала не я, а во мне кричало
нечто — святой экстаз страдания. Позже, с Эдуардом,
не было и вполовину так страшно, но для мужчины
и этого было бы предостаточно. Господа мужчины не
1 В добрый час! (франц.)
395
в ладу с подобными испытаниями. Видишь ли, обычно
боль является предупреждающим сигналом неиз-
менно благожелательной природы о том, что в теле
завелся недуг. «Эй! — значит это. — Тут что-то не
в порядке! Предприми что-нибудь, не против самой
боли, а против того, что кроется за ней!» Конечно, 'и
у женщин боль может иметь подобное значение. Но
ты ведь знаешь, что эти твои ежемесячные боли не
таковы. Они ни о чем не предупреждают. Это просто
разновидность женского страдания, и ты так и рас-
сматривай ее, как почетный акт женской жизни. По-
стоянно, пока ты женщина, не дитя уже и еще не ста-
руха, не способная ни на что, эти боли напоминают
о мощном изобилии твоей крови, твоих материнских
органов, которые готовит к оплодотворению добрая
природа. И только, когда боли не наступают, — а за
всю жизнь так было со мной только дважды, с боль-
шим перерывом, — регулы исчезают, и мы переходим
в иное, благословенное состояние. Господи, боже ты
мой, с каким радостным испугом я тридцать лет назад
обнаружила, что они не наступили! То была ты, моя
любимая девочка, и я до сих пор не забыла, как
краснея шепнула об этом Тюммлеру, прильнув
к нему: «Роберт, знаешь, не без того у меня... Я вроде
понесла...»
— Милая мама, окажи хоть эту любезность,
оставь свой диалект, сейчас он меня особенно раз-
дражает.
— Ой, душенька, прости! Не хватало еще, чтобы
и я тебя раздражала. Меньше всего я хотела этого.
Но, право, в счастливом смятении я именно в таких
словах призналась Тюммлеру. И потом, ведь речь
идет о самых естественных вещах, не так ли? А при-
рода и диалект, в моем ощущении, чем-то связаны
между собою, как, скажем, связаны между собою
природа и народ. Если я болтаю чепуху, так поправь!
Ты ведь настолько меня умнее... Да, ты умна, но ты
не в ладах с природой, ты наделяешь ее отвлечен-
ными мудрствованиями, хочешь ее изобразить по-
своему, в кубах и спиралях, и, если уж мы загово-
рили о взаимосвязях, позволь спросить тебя — нету ли
396
связи между надменной одухотворенностью твоих от-
ношений с природой и тем, что именно тебя она наде-
лила этими ежемесячными страданиями?
— Ну, мама, — не удержавшись от смеха, сказала
Днна, — меня ты ругаешь за мудрствования, а сама
придумываешь непозволительно мудреные теории!
— Если мне удалось хоть немножко развеселить
тебя, детка, то да здравствуют дурацкие теории. Но
о страданиях женщины я говорила всерьез. Ты должна
ликовать, гордиться тем, что тебе тридцать лет, что ты
в самом соку и в расцвете. Поверь мне, я охотно при-
мирилась бы с любою болью, только бы со мною об-
стояло, как с тобой. К сожалению, со мной все
обстоит по-иному, все проистекает скудно, непра-
вильно, а вот уже два месяца и вовсе нет ничего. Ах,
кончился мой бабий век! В библии сказано, кажется
про Сару, ну да, про Сару, что она благодаря чуду
в преклонном возрасте понесла., но это, вероятно,
только так, благочестивая небылица, теперь такое не
случается. Раз уж кончилось все исконно женское,
значит, ты не женщина больше, а только пустая ее
оболочка, непригодная, изношенная, отвергнутая при-
родой. Милоука моя, поверь, это очень горько! У муж-
чин, думается мне, все обстоит по-другому. Я знавала
таких, что и в восемьдесят лет не давали проходу ни
одной женщине. И Тюммлер, твой отец, был из таких.
Как часто мне приходилось смотреть на многое сквозь
пальцы, даже когда он был уже подполковником! Ну,
что такое пятьдесят лет для мужчины? Немножко
темперамента, и ничто еще не препятствует долго
изображать сердцееда, а некоторым из них особенно
везет как раз у совсем молоденьких девочек. Нам,
женщинам, отпущено всего-навсего тридцать пять
полноценных лет. А когда тебе пятьдесят, ты изно-
шена, ты свое отслужила, ты просто хлам для при-
роды.
На эти жестокие слова, проникнутые набожным
поклонением природе, Анна отвечала иначе, чем отве-
тило бы большинство женщин. Она сказала:
— Мама, своими словами ты стараешься унизить
достоинство стареющей женщины, которая честно
397
выполнила жизненный долг и по велению твоей лю-
бимой природы отныне, должна существовать покойно
и умиротворенно, отрешившись от низменных стра-
стей, но даря людям, близким и чужим, одну лишь
возвышенную, чистую любовь. И ты завидуешь муж-
чинам только в том, что их половая жизнь не столь
четко ограничена, как женская. Я лично весьма со-
мневаюсь: достойно ли это зависти? Во всяком слу-
чае, цивилизованные народы приносили изысканную
дань поклонения именно матроне; они ее чтили, как
мы чтим тебя, мама, любуясь твоей прелестной, до-
стойной старостью.
— Милая, — и Розали на ходу притянула дочь
к себе, — ты говоришь так красиво, так разумно, не-
смотря на боли. Я хотела утешить тебя, а на деле ты
утешила свою глупенькую маму, разобравшись в ее
недостойных горестях. Но знай, детка, — не так просто
дается это отрешение, это достоинство. Трудно, иногда
мучительно трудно, приходится и телу, когда оно
переходит в новое состояние, ну, а когда вступает
в действие еще и душа, которая знать не хочет о хва-
леных преимуществах матроны и всеми, силами бо-
рется против угасания тела, тогда особенно трудно.
Да, мучительнее всего — приспособление души к но-
вому состоянию тела.
— Разумеется, мама, я тебя понимаю. Но, ви-
дишь ли, душа и плоть едины. Психика так же под-
чинена законам природы, как и физиология. Природа
учитывает все, и ты не тоскуй: духовная жизнь не-
долго будет находиться в противоречии с естествен-
ными изменениями тела. Ты должна сказать себе, что
духовная жизнь — только отражение телесной. И если
твоей милой душе кажется, что приспособление к но-
вой жизни тела — непосильная задача, — она оши-
бается. Скоро она убедится в том, что ей остается
лишь следовать велениям тела. Ведь тело формирует
душу по своему подобию, а не наоборот.
Фрейлейн фон Тюммлер не случайно говорила так.,
В то время, к которому относится вышеописанный
разговор, у них в доме часто стало появляться новое,
398
постороннее лицо, и от тихой наблюдательности оза-
боченной Анны не могли укрыться назревавшие
сложные события«
Этим новым лицом был некто Кен Китон, два-
дцатичетырехлетний американец, молодой человек,
по мнению Анны, ничем не примечательный и особым
умом не блиставший. Во время войны он застрял
в Дюссельдорфе, где давал уроки английского,
а в иных домах за вознаграждение просто болтал
с женами богатых коммерсантов на своем родном
языке. Эдуард, на пасху перешедший в выпускной
класс, прослышал об этом и выпросил у матери со-
гласие несколько раз в неделю заниматься с мисте-
ром Китоном. В гимназии не скупились на латынь и
греческий и, слава богу, достаточно внимания уделяли
математике, но английский язык, который Эдуард
считал очень важным для своей будущей профессии,
там, к сожалению, не проходился. Эдуард мечтал,
кое-как осилив скучные гуманитарные науки, посту-
пить в политехникум, а там для завершения образо-
вания поехать в Англию или даже в Эльдорадо тех-
ники — Соединенные Штаты. Поэтому он был не
только обрадован, но и очень благодарен матери за
то, что она, уважая целеустремленную ясность его
намерений, разрешила ему брать уроки английского.
Занятия с Китоном очень нравились Эдуарду. Они
приносили несомненную пользу; забавно было с самых
азов изучать новый язык по детскому учебнику и но-
вые слова с их головоломным правописанием и уди-
вительным произношением, которому Кен обучал
своего питомца, причем «л» получался у него еще
более жестким, чем у рейнских жителей, а «р» он
перекатывал по нёбу с таким преувеличенным роко-
том, словно задался целью показать свой родной язык
с самой смешной стороны. «Scrr-ew the top on!» l —
говорил он. «I sllept like a top»2. «Alfred is a tennis
Закрути крышку (англ.).
Я спал как убитый (англ.).
399
play-err. His shoulders are thirty inches brr-oaoadd» !.
Эдуард был готов все полтора часа хохотать над
широкоплечим теннисистом Альфредом, которого
можно было прославлять, применяя неумеренное ко-
количество «though», и «thought», и «taught», и
«tough»2. И тем не менее Эдуард делал успехи,
именно благодаря тому, что Китон, отнюдь не ученый
педагог, придерживался самого легкомысленного ме-
тода обучения, то есть, беззаботно полагаясь на слу-
чай, болтал на slang3 о всевозможных пустяках, и
ученик походя усваивал непринужденный, полный
юмора, во всем мире распространенный язык его
родины.
Госпожа фон Тюммлер, привлеченная весельем,
царившим .в комнате Эдуарда, иногда заходила к мо-
лодым людям и принимала участие в их полезных за-
бавах. Вместе с ними она от души смеялась над Аль-
фредом, the tennis play-err, и даже находила некото-
рое сходство между ним и молодым учителем сына,
таким же широкоплечим, как этот Альфред. У Кена
были густые светлые волосы, не слишком красивое,
но не лишенное приятности, открытое лицо типичного
англосакса, здесь, в Дюссельдорфе, поражавшее
своей оригинальностью. Превосходно сложенный, что
угадывалось, несмотря на широкую, свободную
одежду, он был крепок, длинноног, узкобедр. Руки
у него тоже были красивые, на левой он носил до-
вольно безвкусное кольцо. Простые, непринужденные,
но не лишенные изящества манеры, потешный немец-
кий язык, в его устах безнадежно сходствовавший
с английским, как, впрочем, и крохи итальянского и
французского (он побывал во многих европейских
странах), — все нравилось Розали. Но больше всего
ее привлекала полная естественность Кена« Время от
времени, и постепенно все чаще, она после урока
стала приглашать его к ужину. Интерес Розали
1 Альфред играет в теннис. Его плечи шириной в тридцать
дюймов (англ.).
2 Трудно произносимые слова для фонетических упражне-
ний. (Прим. ред.)
3 Жаргон (англ.).
400
к Кену отчасти был вызван и молвой о большом
успехе Кена у женщин. Приглядываясь к нему, она
решила, что молва не лжет, хотя и не могла прими-
риться с тем, что за едой или разговором он, слегка
отрыгнув, подносил руку ко рту и говорил: «Pardon
me!» *, видимо считая это весьма учтивым, на са-
мом же деле только привлекая ненужное внимание
к своей оплошности.
За столом Кен рассказывал, что родился в неболь-
шом городке в Восточных штатах, где его отец в по-
исках счастья сменил не одну профессию, был Ьго-
кег'ом2, обслуживал бензиновую колонку, а иногда
даже «делал деньги» на real estate business 3. Его сын
посещал high school4, где, — «по европейским поня-
тиям», как он почтительно добавлял, — вообще ни-
чему не учили. Поэтому, чтобы не остаться полным
неучем, он недолго думая махнул в Детройт, Мичи-
ган, и поступил там в колледж, зарабатывая «на
учебу» трудом рук своих в качестве повара, офи-
цианта, а не то судомойки или привратника. Когда
госпожа фон Тюммлер спросила: «Как же при всем
этом вам удалось сохранить белые, можно сказать,
барские руки», — он отвечал, что, делая черную
работу, всегда носил перчатки — пусть полуголый или
в лучшем случае в спортивной рубашке без рукавов,
но в перчатках —обязательно! За океаном так посту-
пают все. Даже рабочие на стройках хотят, чтобы
руки у них были как у клерков и украшены кольцами.
Розали похвалила этот обычай, но Кен возразил:
— Обычай? Чересчур хорошее слово для данного
случая1 Народным обычаем в европейском понима-
нии (вместо «европейский» он говорил «континенталь-
ный») это не назовешь. То ли дело, например, ста-
ринный немецкий обычай — «розга жизни». На пасху
парни стегают девушек и скотину свежими березо-
выми ветками, вербными прутьями, «приперчивают»,
1 Извините меня (англ.).
2 Маклер (англ.).
3 Торговля недвижимостью (англ.).
4 Средняя школа (англ.).
26 т. Манн, т. 8 401
«щекочут», как они говорят — для здоровья, для пло-
довитости. Вот это можно назвать обычаем, и это мне
нравится. «Пасхальная закуска» — вот как иначе на-
зывается этот обычай, это весеннее «приперчивание».
Розали и ее. дети понятия не имели о «пасхальной
закуске» и удивлялись осведомленности Кена в на-
родной жизни. Эдуард посмеялся над «розгой жизни»,
Анна состроила брезгливую гримаску; восхищалась
одна Розали, в полном единодушии с гостем. Кен за-
метил, что это, конечно, похлеще, чем перчатки во
время работы, но что в Америке ничего подобного не
сыщешь, хотя бы оттого, что там нет деревень и кре-
стьяне там — не крестьяне, а такие же предприимчи-
вые дельцы, как все прочие, и к обычаям нисколько
не привержены. Вообще Кен, будучи до мозга костей
американцем, проявлял весьма сомнительную привя-
занность к своей великой родине. «Не didn't саге for
America» 1. Он ни во что ее не ставил, находил просто
отвратительной эту погоню за долларами, хождение
в церковь, беспримерное ханжество, колоссальную
посредственность, а главное — отсутствие историче-
ской атмосферы. Разумеется, у Америки есть история,
но это не «history»2, а так, просто коротенькая и пло-
ская «story»3. Конечно, на его родине, кроме бескрай-
них пустынь, есть и красивые, величественные ланд-
шафты, но за ними «ничего не стоит», тогда как
в Европе за всем стоит так много, в особенности за
европейскими городами с их уходящей в даль веков
исторической перспективой. Американские города —
«he didn't care for them». Возведенные вчера, сегодня
они без всякого ущерба могли бы исчезнуть с лица
земли. Маленькие — это унылое захолустье, один
в точности похож на другой, а большие — нагромо-
ждение вздыбленных свирепых чудовищ, где музеи
ломятся от скупленных на «континенте» памятников
старины. Скупать, быть может, лучше, чем воровать,
но не намного лучше, потому что все, относящееся
1 Америка ему безразлична (англ.).
2 История (англ.).
8 Историйка (англ.).
402
к тринадцатому — пятнадцатому векам, здесь не
к месту, все равно что уворовано.
Тюммлеры смеялись над непочтительной болтов-
ней Кена, журили его, но он уверял, что именно поч-
тительное преклонение перед исторической атмосфе-
рой и перспективой заставляют его так говорить. Ран-
ние исторические даты — одиннадцатый —семнадца-
тый век по р. X. — его страсть, его «hobby»1. По истории
он был одним из лучших учеников в колледже — по
истории и по «athletics»2. Его уже давно тянуло
в Европу, где старина у себя дома, и он бы, не-
сомненно, если бы не было войны, пересек океан по
собственному почину, как матрос, как стюард,
лишь бы подышать воздухом истории. Но война нача-
лась как по заказу; в 1917 он сразу же поступил
добровольцем в «army»3, и все время «trainings»4
боялся, как бы война не закончилась раньше, чем его
переправят «на эту сторону». Перед самым концом
представления, перед шапочным разбором, его поса-
дили на дрянное транспортное судно и доставили во
Францию, где он Действительно побывал в бою под
Компьеном и даже получил довольно тяжелое ране-
ние, так что пришлось несколько недель проваляться в
госпитале. Он был ранен в почки, и теперь у него «рабо-
тает» только одна, но ему вполне достаточно и одной.
Так или иначе, смеясь говорил Кен, теперь он нечто
вроде инвалида и даже получает небольшую пенсию,
которой дорожит больше, чем простреленной почкой.
На инвалида он нисколько не похож, заметила
госпожа фон Тюммлер, и он подхватил: «Слава богу,
нет, only a little cash» 5.
Выписавшись из госпиталя, он ушел с военной
службы, был «honorably discharged»6, получил «Ме-
даль за отвагу» и остался на неопределенное время
б Европе, где находит все изумительным и упивается
1 Конек (англ.).
2 Гимнастика (англ.).
3 Армия (англ.).
4 Учения (англ.).
5 Только слегка ранен (англ.).
6 Уволен с почетом (англ.).
26*
403
столь любезной ему стариной. Кафедральные соборы
Франции, итальянские палаццо и кампанильи, живо-
писные ландшафты ' Швейцарии, такие уголки на
Рейне, как «скала на Рейне», разве все это не most
delightful indeed!1 И повсюду вино! Во французских
бистро, в итальянских тратториях и в уютных погреб-
ках Швейцарии и Германии, во всех этих славных за-
ведениях, именующихся ресторанами «Легкого коня»,
или «Вола», или «Под вечерней звездой»! Да разве
все это встретишь там, за океаном? Там вообще нету
вина, одни drinks2 — виски и ром, и ни намека на
кружку освежающего тирольского пива, на смороди-
новую настойку, которую потягиваешь, сидя за дубо-
вым столом средневековой харчевни или в беседке,
увитой жимолостью! Good heavens!3 В Америке они
вообще не умеют жить!
Германия! Это его любимая страна, хотя он тол-
ком ее не знает, поблуждал только вокруг Боденского
озера да насмотрелся Прирейнского края, где живут
эти милые, веселые люди, которые так aimable4,
в особенности когда бывают слегка под мухой. Поч-
тенные старые города — Трир, Аахен, Кобленц и «свя-
щенный» Кельн, — попробуйте-ка назовите «священ-
ным» какой-нибудь американский город! HolyБ
Канзас-Сити, — ха-ха! Золотой клад, охраняемый ру-
салками с Миссури-ривер — ха-ха-ха! Pardon me!
О Дюссельдорфе, о его пространной истории со вре-
мен Меровингов он знал больше, чем Розали и ее
дети вместе взятые, и как профессор рассуждал
о мажордоме Пипине Коротком, о Барбароссе, по-
строившем императорский замок в Риндхузе, о соборе
в Кайзерсверте, где был ребенком коронован Ген-
рих IV, об Альберте фон Берг, о курфюрсте Яне Вил-
леме и еще о многом другом.
Розали заметила, что он мог бы преподавать ис-
торию с неменьшим успехом, чем английский. «На ис-
1 Восхитительно, в самом" деле (англ.).
2 Напитки (англ.).
3 Боже мой! (англ.)
4 Милы (франц.).
6 Священный (англ.).
404
торию спрос не велик», — возразил Кен. О нет, на-,
против, последовал ответ. Она сама, например,
обнаружив, как мало знает, с удовольствием стала бы
у него учиться. Он был бы «a bit fainthearted» 1, со-
знался Кен. Тут Розали высказала свою сокровенную
мысль: странно и даже печально, но так уж пове-
лось, что молодость и старость друг друга чуждаются
и друг перед другом робеют. Молодость полагает, что
старость, столь почтенная, не способна понимать бур-
ные страсти. А старость, в глубине души восхищаясь
молодостью, почему-то считает своим долгом скры-
вать это восхищение за фальшивой насмешкой и
снисходительностью.
Кен весело и одобрительно смеялся, Эдуард за-
метил, что мама сегодня говорит, как по писанному,
Анна же особенно пытливо смотрела на мать. Та бы-
вала очень оживлена в присутствии мистера Китона,
а иногда, к сожалению, даже немного жеманна. Она
стала часто приглашать его и глядела на него с ма-
теринской умиленностью и тогда, когда он, прикрыв
рот, говорил свое «pardon me!», что казалось Анне
не совсем приличным. Анна чувствовала себя до-
вольно неуютно в присутствии этого молодого чело-
века и не находила в нем ничего замечательного, не-
смотря на его страсть к Европе, увлеченность средне-
вековьем и основательное знакомство со старинными
кабачками Дюссельдорфа. Слишком часто, с нервной
озабоченностью, осведомлялась госпожа фон Тюмм-
лер перед приходом мистера Китона, не покрас-
нел ли ее нос. Он бывал красен, хотя Анна это добро-
совестно отрицала. Но если даже он не был красен
до появления Кена, то в присутствии этого молоко-
соса он тотчас же становился пунцовым. Но тогда ее
мать, возбужденная беседой, обычно забывала об
этом досадном обстоятельстве.
Анна не ошибалась: Розали проникалась все боль-
шей нежностью к юному наставнику сына, не противясь
внезапно настигшему ее чувству. То ли она и вправду
Слегка смущен (англ.).
27 Т. Манн, т. 8
405
не замечала, что с нею делается, то ли сознательно
не заботилась о сохранении в тайне своей поздней
страсти. Казалось, что все приметы, по которым ее
женская пытливость сразу же угадала бы чужую
влюбленность: воркующий, восхищенный смешок, ко-
гда она слушала болтовню Кена, эта вспышка и по-
тупленность нежных глаз, — в ее особом случае ей
не казались уликами. Или же она так безмерно горди-
лась овладевшим ею чувством, что считала недостой-
ной трусливую скрытность?
Для измученной Анны положение вещей стало
бесспорно ясным в тот по-летнему теплый сентябрь-
ский вечер, когда Кен остался к ужину и Эдуард,
после супа, попросил разрешения снять куртку. Mo«
лодым людям было предложено не церемониться, и
Кен последовал примеру своего ученика; нимало не
смущаясь тем, что на Эдуарде как-никак была цвет«
ная рубашка с длинными рукавами и манжетами,
Кен запросто скинул куртку и остался в спортивной
безрукавке, так что все могли любоваться его юно-;
шески сильными, мускулистыми, белыми руками, на«
глядно подтверждавшими, что в колледже он был на
хорошем счету не только по истории, но и по спорту.
Видимо, Кен был далек от того, чтобы заметить, как
потрясло это зрелище хозяйку дома, да и Эдуард не
обратил внимания на мать. Но Анна со смешанным
чувством стыда и сожаления видела все. Лихора-
дочно болтая и смеясь, Розали попеременно становий
лась то пугающе бледной, то заливалась краской, и
ее уклончивый взгляд вновь и вновь неотвратимо воз-
вращался к этим рукам и самозабвенно задержи-
вался на них с выражением глубокой и печальной
страсти.
Возмущенная безмятежным простодушием Кена,
в которое, впрочем, не слишком верила, Анна, как
только представился удобный случай, указала на от-
крытую стеклянную дверь и, сославшись на вечернюю
свежесть, проникающую из сада, предложила моло-
дым людям, во избежание простуды, снова надеть
куртки. Но госпожа фон Тюммлер, едва дождавшись
конца ужина, пожаловалась на мигрень и, внезапно
406
простившись с гостем, удалилась в свою спальню.
Там, бросившись на кушетку во власти ужаса и на-
слаждения, она призналась себе в постыдной своей
страсти,
' — Боже милостивый, я люблю его, да, я люблю
его, как никогда не любила! Может ли это быть?
Ведь по законам природы мне положено тихо, сми-
рившись, доживать свой век, стать внушающей ува-
жение почтенной матроной. Разве не смешно в мои
годы изнемогать от сладострастия, как изнемогаю
я, когда вижу его, вижу его прекрасные руки? Они
обнимают меня в моих ужасных, в моих восхититель-
ных мечтах. Почему я испытала это мучительно-сла-
достное содрогание при виде его сильной груди, обри-
совавшейся под тонкой тканью рубашки? Может
быть, я просто распутная старуха? Нет, только не рас-
путная, не бесстыдная! Ведь я стыжусь его,, стыжусь
его молодости, не знаю, как вести себя с ним, как
смотреть ему в глаза, в эти ясные, приветливые,
мальчишеские глаза, неспособные даже разглядеть
мою страсть. И все же он, он сам, не подозревая ни
о чем, «исхлестал», «приперчил», избил меня своей
«розгой жизни», преподнес мне «пасхальную за-
куску». Зачем только так молодо, с таким увлечением
рассказывал он об этой «розге жизни»? Теперь, при
одной мысли о ее жгучем, возбуждающем прикосно-
вении, бесстыдное наслаждение затопляет, захлесты-
вает самые сокровенные тайники моего существа.
Я хочу его, как меня хотел Тюммлер, когда я усту-
пила его желанию, стала его женой, он был такой
видный, и мы предавались наслаждению, когда он
этого желал. На сей раз желание исходит от меня.
Он пришелся по вкусу моей душе, приглянулся, как
девушка мужчине. Это — возраст. Моя старость и его
молодость. Молодость желанна, как женщина, и по-
мужски вожделеет к ней старость, не уверенная в себе,
не чая радости, робея и стыдясь своей непригодности,
своей ущербленности. Ах, сколько горя у меня впе-
реди! Как смею я надеяться, что он не оттолкнет мою
страсть, ответит на нее, как я ответила Тюммлеру?
Ведь он не девушка, о нет, стоит только вспомнить
27*
407
его сильные руки. Он молодой мужчина и сам может
выбирать, желать женщин, и, говорят, они ему не от-
казывают ни в чем. Здесь в городе женщин сколько
угодно! Стоит мне подумать об этом, и сердце сжи-
мается от ревности. Он дает уроки Луизе Фингстен,
что живет на Пемпельфортерштрассе, занимается
с Амелией Лютценкирхен, женой этого ленивого тол-
стого фабриканта, страдающего одышкой, который
делает кастрюли; Луиза — длинная дылда, у нее ред-
кие волосы, но ей всего тридцать восемь лет, и она
умеет строить такие сладкие глазки. Амелия всего
лишь немногим старше ее, и она красива. Да, к со-
жалению, она красива, и толстяк дает ей полную сво-
боду. Возможно ли, что они лежат в его объятиях
обе, или хотя бы одна из них, должно быть Амелия,
а может быть, и тощая Луиза! Его руки обнимают
их, касаются их грудей, его руки, ласки которых
я жажду с неистовой страстью, недоступной их мел-
ким душонкам! Его горячее дыхание, его губы, его
руки касаются их тел... Мои зубы, мои почти "моло-
дые зубы, скрежещут, все скрежещет во мне, когда
я цумаю об этом. А я сложена лучше, мое тело кра-
сивее, более достойно его ласк, его рук! А какую неж-
ность уготовила бы я моему возлюбленному, как
самозабвенно принадлежала бы ему! Но они молоды,
они живые источники, бьющие ключом, а я — иссяк-
ший родник, я потеряла право даже на ревность —
ревность мучительную, пожирающую, скрежещущую!
Недаром на «гарден-парти» у этих Рольвагенов, где
мы были вместе, я своими глазами, которые, увы, все
видят, уловила, как он обменялся с Амелией взгля-
дом и улыбкой, почти несомненно говорившими
о тайне. Уже и тогда мое сердце сжалось, но я не по-
няла почему, не подумала, что это ревность, что
я способна еще ревновать! Но теперь я поняла, я
узнала, что могу ревновать, и не откажусь от этой
муки, ликуя приму ее, хотя она так странно противо-
речит угасанию моего бедного тела. Анна говорит, что
духовная жизнь — только отражение телесной, что
душа подчинена велениям тела. Анна знает много,
Анна не знает ничего... Нет, этого сказать нельзя. Она
408
страдала, она безрассудно любила и стыдилась своей
любви. Кое-что она знает. Но в том, что душа пере-
страивается вместе с телом на мирный и благостный
лад, в этом она ошибается. Она не верит в чудеса,
не знает, что иногда природа позволяет душе рас-
цвести, когда уже поздно, слишком поздно, — рас-
цвести любовью, желанием, ревностью, как случилось
со мной. Сара, прародительница Сара, подслушав за
дверью хижины, что ей предстоит стать матерью, рас-
смеялась. За это господь разгневался на нее и ска-
зал: «Почто смеется дщерь моя Сара?» Нет, я не
рассмеялась бы. Я хочу верить в чудо, свершившееся
в моей душе, хочу веровать в чудотворную природу и
преклоняться перёд ней за горькую и постыдную за-
поздалую весну, за это щедро дарованное мне'испы-
тание.
Так в тот вечер сама с собой говорила Розали.
Под утро она наконец забылась тяжелым сном,
а после пробуждения первой ее мыслью была все та
же благословенная, жестокая страсть. Стареющую
женщину умиляла сила жизни, умилял мучительно
сладостный расцвет ее чувства. Особенно набожной
она не была и не стала впутывать в игру господа
бога. Набожное свое поклонение она всегда дарила
природе. Она чтила ее и теперь, когда природа дей-
ствовала словно наперекор самой себе. Да, этот
поздний расцвет души противоречил законам при-
роды и светской благопристойности. Несмотря на то
что для Розали ее чувство было счастьем, о нем при-
ходилось молчать, скрывать его от людей, даже от
дочери, с которой она всегда делилась своими чув-
ствами, но прежде всего от него, от любимого, чтобы
он не догадался, не смел догадываться ни о чем.
Иначе она не посмеет поднять на него глаза, смотреть
на него.
Так в ее общение с Кеном вкралось нечто глубоко
неуместное, что-то от робкого смирения, которое гор-
дая своим чувством Розали не сумела в себе преодо-
леть. На тех, кто это замечал, то есть на Анну, это
действовало еще более угнетающе, чем прежняя пре-
увеличенно веселая манера матери держать себя.
409
В конце концов прозрел и Эдуард. Бывали минуты,
когда брат с сестрой, нагнувшись над тарелками,
молча кусали губы, а Кен в замешательстве от непо-
нятного молчания вопросительно поглядывал по сто-
ронам. Однажды Эдуард потребовал объяснения от
сестры.
— Что с мамой, — спросил он Анну, — Кен разо-
нравился ей? — И так как сестра промолчала, скри-
вил рот и добавил: — Или слишком уж понравился?
— Это что еще за вздорные мысли? — осадила его
сестра. — Мальчики не должны интересоваться та-
кими вещами. Наберись благоприличия и оставь свои
мудрые наблюдения при себе! — И немного погодя
прибавила: — Ты мог бы более почтительно пораз-
мыслить над тем, что мать, как все женщины в из-
вестном возрасте, чувствует себя неважно, пережи-
вает тяжелую пору.
— Весьма для меня поучительно и ново! — ирони-
чески возразил ученик старшего класса. — Но не
слишком ли общо? Мать мучается по какому-то осо-
бому, личному поводу; да и ты, моя высокочтимая
сестрица, мучаешься не меньше. Обо мне, глупом
мальчишке, говорить, конечно, не стоит. Но, воз-
можно, этот глупый мальчишка окажется полезным,
подняв вопрос об удалении своего не в меру привле-
кательного учителя. Я мог бы сказать матери, что до-
статочно преуспел с Китоном, и тот снова, еще раз,
был бы «honorably discharged».
— Что ж, попытайся, мой милый.
И он попытался.
— Мама, — сказал он, — я думаю, мы можем по-:
кончить с моими английскими уроками и расходами,
в которые я тебя ввел. Благодаря твоей щедрости и
помощи мистера Китона заложен хороший фунда-
мент, и теперь я могу сам заниматься и читать по-
английски. Впрочем, никто еще не изучил чужой
язык дома, вне той страны, где все говорят на нем и
где приходится им одним обходиться. Вот когда я по-
бываю в Америке, то после той подготовки, которую
ты мне дала, я без особых усилий полностью его ус-
вою. Теперь, знаешь ли, приближаются экзамены на
410
аттестат зрелости, там английского языка с меня не
спросят. Мне следует подумать, как бы не прова-
литься по древним языкам. Надо сосредоточиться на
чем-нибудь одном. Самое время поблагодарить мисте-
ра Китона за его труды и с ним расстаться друзьями!
— Но, Эдуард, — быстро и даже с некоторым пьь;
лом откликнулась госпожа фон Тюммлер. — То, что
ты наговорил, так для меня неожиданно! Не могу
сказать, чтобы я это одобрила. Разумеется, очень
трогательно и внимательно с твоей стороны избавить
меня от лишних расходов. Но это — полезный расход,
и для будущности, о которой ты мечтаешь, даже
очень важный. За нами, дело не станет. Мы не отка-
жем тебе в образовании, как не отказывали в нем
Анне, когда она училась в академии. Не понимаю,
почему, делая такие успехи в английском, ты хочешь
остановиться на полпути. Не сочти за обиду, мальчик,
но можно подумать, что ты плохо ценишь мою готов-
ность помочь тебе. Твой аттестат зрелости — вещь,
серьезная, и я понимаю, что тебе придется основа-
тельно подзубрить древние языки, которые и без того
набили тебе оскомину. Но английские уроки два-три
раза в неделю, — ты ведь не станешь отрицать,
Эдуард, что они скорее являются отдыхом, развлече-
нием, чем дополнительной нагрузкой. Кроме того, по-
зволь мне коснуться чисто человеческих отношений.
Кен, как его все зовут, словом, мистер Китон, с дав-
них пор уже находится с нами в отношениях, не по-
зволяющих сказать ему: «В вас больше не ну-
ждаются», и просто указать ему на дверь: мавр, мол,
сделал свое дело, мавр может уходить! Он стал дру-
гом нашего дома, в какой-то мере даже членом нашей
семьи, и с полным правом мог бы оскорбиться тем,
что его хотят спровадить. И всем нам недоставало бы
его. Особенно Анна, я думаю, расстроилась бы, если
бы он больше не приходил и не оживлял наши ужины
своим интимным знанием истории Дюссельдорфа,
рассказами о споре из-за Юлих-Клевского наслед-
ства и о курфюрсте Яне Виллеме, памятник которому
стоит на рыночной площади. Да и тебе, Эдуард, недо-
ставало бы его, и даже мне. Словом, мальчик, твое
411
предложение сделано от чистого сердца, с добрыми
намерениями, но я не вижу ни необходимости, ни
даже возможности пойти ему навстречу. Пусть лучше
все остается по-старому.
— Как хочешь, мама, —сказал Эдуард и сообщил
о своей неудаче сестре.
— Так я и думала, мой мальчик, — заметила
Анна. — По существу мама правильно обрисовала по-
ложение, у меня возникли те же сомнения, что и
у нее, когда ты сообщил мне о своем плане. Во вся-
ком случае, она права в том, что Китон приятный со-
беседник и мы все сожалели бы о его отсутствии«
Ладно, продолжай с ним заниматься по-прежнему.
Эдуард посмотрел сестре в лицо: оно было невоз-
мутимо. Он пожал плечами и ушел. Кен как раз ожи-
дал Эдуарда в его комнате, прочитал вместе с ним
несколько страниц из Эмерсона или Маколея, а за-
тем американскую mystery story \ давшую материал
для болтовни еще на полчаса до конца урока, а по-,
том остался к ужину, не дожидаясь особого пригла-
шения, как повелось уже давно. После урока он был
неизменным участником семейных трапез, и Розали
в эти дни омраченного стыдом недозволенного
счастья привыкла совещаться с домоправительницей
Бабеттой о меню, заказывая всевозможные лакомые
блюда и заботливо выбирая бутылку выдержанного
рюдесгеймера или пельтцера, за которым после
ужина все вместе коротали еще часок-другой в гости-
ной. Вопреки своим привычкам, Розали не отказыва-
лась от вина, надеясь почерпнуть в нем отвагу без
страха смотреть в глаза любимому. Но иногда вино
лишь утомляло и удручало ее. Тогда в ней боролись
два желания, и в зависимости от того, какое по-
беждало, она либо оставалась, чтобы страдать подле
Кена, либо удалялась, чтобы поплакать в одиночестве.
В октябре, когда начался светский сезон, она
встречалась с Кеном не только у себя дома, но и
в обществе, у Фингстенов на Пемпельфортерштрассе,
1 Таинственную историю (англ.).
412
у Лютценкирхен, y инженера Рольвагена. Она искала
Кена и в то же время никогда не подсаживалась
к группе гостей, завладевшей его персоной, и, механи-
чески болтая в другом кружке, ждала, когда он по-
дойдет ее приветствовать. Она всегда знала, где он
сейчас находится, различала его голос в многоголо*
сой толпе и отчаянно страдала, когда, как ей каза*
лось, Кен обменивался многозначительным взглядом
сообщника с Амелией Лютценкирхен или Луизой
Фингстен. Хотя, кроме отличного сложения, полной
непринужденности и располагающего дружелюбия,
молодой человек ничем особенно не отличался, его
охотно принимали и ласкали в обществе, и он сни-
сходительно-весело пользовался слабостью немцев ко
всему иностранному, прекрасно понимая, что его не«
мецкое произношение и ребяческие обороты речи воз«
буждают общие симпатии. Впрочем, с ним охотно
говорили и по-английски. Одевался Кен как ему за«,
благорассудится. Он не располагал никаким «evening
dress» К Но светские нравы за последние годы стали
более свободными, и смокинг как в ложе театра, так
и на вечерних приемах уже казался чопорным пере-
житком. Так что даже в тех случаях, когда больший*,
ство господ было в смокингах, Кена радушно при«
нимали в его обычном уличном костюме — коричне-
вых брюках, коричневых башмаках и сером вязаном
свитере. В таком виде он посещал салоны, неприну*.
жденно ухаживал за дамами, и не только за теми,
с которыми занимался английским, но и за теми, ко-
торые могли бы стать его ученицами. За столом он,
согласно обычаям своей родины, сперва резал мясо
на мелкие кусочки, затем клал нож наискось на край
тарелки, небрежно опускал левую руку и, орудуя;
правой, поглощал то, что наготовил. Он не изменял
этой привычке потому, что видел, что гости и хозяева
наблюдают за ним с большим интересом.
С Розали он охотно болтал в сторонке, с глазу на
глаз, не только потому, что она принадлежала
к числу его хлебодателей и «боссов», — его просто
1 Вечерним костюмом (англ.).
413
искренне влекло к ней. В то время как холодная интел-
лигентность и духовные запросы ее дочери внушали
ему страх, женственная нежность госпожи фон Тюмм-
лер его привлекала, и, не разбираясь в подлинном
ее значений (это не приходило Кену в голову), он
просто радовался ласковой теплоте, какой окружала
его эта женщина. Ему было с ней хорошо, и он ни*
мало не заботился о причинах, вызывавших у Розали
внезапную напряженность, смятение и замешатель-
ство, считая все это проявлением европейской нервоз-
ности, а стало быть, восхитительным. Страдания, ка-,
залось, красили Розали. Она расцвела и похорошела,
весь ее облик стал более юным. Окружающим это
бросалось в глаза, и ей частенько делали компли*
менты. Розали и раньше выглядела моложаво, но
сейчас в ее красивых карих глазах появился
горячий, слегка лихорадочный блеск, придававший ей
новое очарование. Ее округлившееся, порозовевшее
лицо приобрело удивительную подвижность, позво-
лявшую ей во время беседы, как правило неприну-
жденно веселой, скрывать за смехом горестные тре-
волнения сердца. На этих вечерах все много и громко
смеялись, в щедром единодушии налегая на вина и
пунш; так что некоторая эксцентричность Розали
здесь, среди всеобщего веселья и непринужденности,
проходила вполне незамеченной. Но подлинное счастье
испытывала Розали, когда, случалось, одна из дам
говорила ей в присутствии Кена:
— Милочка, вы изумительно хороши сегодня!
Скажите, как вам открылся источник молодости? Вы
выглядите лучше, чем двадцатилетние барышни!
И когда вдобавок любимый подтверждал: «Да, right
you are! 1 Фрау фон Тюммлер is perfectly delightful to-
night!» 2— она смеялась, и горячий, ее румянец
можно было объяснить радостью по поводу столь
лестных признаний. Она не смотрела на него, но ду^
мала о его руках, и вновь поток ужасного, сла-
достно-жгучего наслаждения затоплял, захлестывал
1 Да, вы правы! (англ.)
2 Сегодня совершенно восхитительна! (англ.)
414
самые сокровенные тайники ее. существа, — теперь
это случалдсь с ней часто и, вероятно, очевидно для
всех, если ее находили обворожительной, если ее на-
ходили молодой.
Однажды вечером, вернувшись из гостей, Розали
изменила своему намерению — скрыть от дочери-под-
руги недозволенную, печальную, но чудесную тайну
своего сердца. Непреодолимая потребность любов-
ного, понимающего участия заставила ее нарушить
данное себе слово и довериться умной Анне.
После полуночи дамы вернулись домой в такси.
Шел мокрый снег. Розали знобило.
— Милая детка, — сказала она. — Позволь мне
еще полчасика побыть с тобой, в твоей уютной
спальне. Меня знобит, голова пылает, и мне, боюсь,
сейчас не удастся заснуть. Если бы ты на прощанье
приготовила нам по чашке чаю, это было бы недурно.
Пунш этих Рольвагенов ударяет в голову. Рольва-
ген хоть и приготовляет его собственноручно, но
как-то бездарно. Он доливает в него мозель и сомни-
тельный яблочный шабо, и вдобавок еще немецкое
шампанское. Завтра у всех нас снова будет отчаян-
ная мигрень, злейшее «hang-over» *, к тебе это не от-
носится, ты так благоразумна, что почти не пьешь.
А я забываюсь и за болтовней не замечаю, что мой
бокал все время наполняют, — мне все кажется, что
это еще первый бокал. Да, приготовь нам по чашке
чаю, это будет очень кстати. Чай возбуждает, но
в то же время успокаивает, и стакан чаю, вовремя
выпитый, предохраняет от простуды. У Рольвагенов
было слишком жарко натоплено; мне по крайней
мере так показалось. А на дворе ненастье... Может
быть, наконец дает о себе знать весна? Сегодня уи
ром, в парке, мне, право же, почудилось ее дыхание.
Но твоей сумасбродной маме это чудится, едва
только день начинает прибавляться. Ты хорошо сде-
лала, что включила электрический камин, здесь уже
недостаточно топят. Милая моя девочка, ты умеешь
создать уютную обстановку для задушевной беседы
1 Похмелье (англ.).
415
перед снрм. Видишь ли, Анна, я давно хотела пого-
ворить с тобой откровенно — да, да, ты права, ты ни*
когда не лишала меня этой возможности. Но бывают
такие обстоятельства, детка, о которых можно гово-
рить и которые можно обсуждать только в редкие ми-
нуты, когда у человека развязывается язык...
— Какие обстоятельства, мама? Рома у нас нет.
Но не хочешь ли чаю с лимоном?
— Сердечные обстоятельства, детка, обстоятель*
ства, касающиеся природы, чудотворной, загадочной,
всесильной природы, которая иногда поступает
с нами удивительно противоречиво и даже свое-
нравно. Тебе это тоже знакомо... Милая Анна, по-
следнее время я часто думаю о твоем, прости, что
касаюсь этого, о твоем увлечении Брюннером, о том,,
как ты пришла ко мне пожаловаться на свое горе.
Тот вечер чем-то был похож на сегодняшний. Него-
дуя на себя,' ты даже назвала свое горе позором,
из-за постыдного разногласия, в которое вступил
твой разум с твоим сердцем, или, вернее, если позво-
лишь так выразиться, — с твоей чувственностью.
— Очень разумная поправка, мама. Ссылаться на
сердце — сентиментальное надувательство. Не сле-
дует называть сердцем совсем другое. Наше сердце
всегда говорит лишь с соизволения разума.
— Ты вправе так говорить. Ведь ты всегда утвер^
ждала, что природа устанавливает гармонию между
душой и телом. Но не станешь же ты отрицать, что
в ту пору между твоими желаниями и разумом гар-
монии не было. Ты была совсем молоденькой, и тебе не
надо было стыдиться природы, ты стыдилась только
себя, своего разума, его приговора, который говорил
тебе, что это желание унизительно. Но разум не смог
преодолеть желания. В этом и заключался твой стыд
и заключалось твое горе. Ты ведь горда, моя Анна, ты
очень горда. Но ты не знаешь, что существует и гор-
дость чувством, гордость, отрицающая свою вину, не
желающая считаться с осуждением разума. Этого ты
не хочешь знать, и тут мы с тобой расходимся. Я живу
сердцем, и если природе угодно будет даровать
моему сердцу неподобающие переживания, даже про-
416
тиворечащие ее законам, мне будет, конечно, мучи-
тельно стыдно из-за моей старости и непригодности,
но это ничуть не умалит моего благоговейного прекло-
нения перед природой, ее животворящими силами.
— Милая мама, — возразила Анна. — Прежде
всего я должна отклонить почести, которые ты воз-
даешь моему благоразумию и моей гордости. Она бы
плачевно капитулировала перед тем, что ты столь
поэтически назвала моим сердцем, если б не вмеша-
лась милосердная судьба. Когда я подумаю о том,
куда привело бы меня сердце, я благодарю господа
за то, что он не дал ему воли. Я меньше чем кто-либо
вправе бросить камень. Но речь не обо мне, а о тебе,
и отклонить честь быть твоей наперсницей я не со-
гласна. Не правда ли, ты хочешь мне в чем-то при-
знаться? Но ты говоришь так неясно, одними общими
местами и намеками... Пожалуйста, помоги мне по-
нять, к чему ты клонишь.
— Что бы ты сказала, милая Анна, если бы твою
мать на старости лет захватила пылкая страсть,
подобающая только цветущей, юной, а никак не увя-
дающей женщине?
— Почему ты прибегаешь к условному обороту
речи? Так, надо думать, и обстоит с тобой. Ты полю-
била?
— Как ты это сказала, моя родная? Как сво-
бодно, как смело и открыто произнесла ты это слово.
Я так долго таила его вместе с горьким счастьем и
стыдом, так рьяно оберегала его от всего света, и от
тебя тоже, что ты, наверно, сейчас как с облаков сва-
лилась, с облаков, где жила твоя достойная мать-
матрона. Да, я люблю, люблю горячо, алчно, бла-
женно, отчаянно, как любила ты. Мое чувство счи-
тается с благоразумием так же мало, как некогда
с ним считалось твое. Хотя я и горжусь весенним рас-
цветом, который мне даровала природа, я все же
страдаю, как страдала ты... Потому-то меня и потя-
нуло рассказать тебе все, все...
— Милая, хорошая мама, скажи мне все, скажи
не стесняясь. Тебе трудно начать, так позволь помочь
тебе вопросом? Кто он?
417
— Для тебя это будет потрясающей неожидан«
ностью, детка. Это — юный друг нашего дома, учи-
тель твоего брата.
— Кен Китон?
— Да.
— Он... Ну хорошо... Не опасайся, мама, я не раз-
ражусь восклицаниями вроде «непостижимо, неслы-
ханно», — хотя большинство людей поступает именно
так. Глупо и дешево обзывать непостижимым чув-
ство, которого не испытываешь сама. И все же, как
ни боюсь я ранить тебя — припиши все это только
моему сочувствию... Ты все время говоришь о том,
что недостойна своего чувства, а спросила ли ты
себя, он-то, достоин ли он твоего чувства, этот юнец?
— Он? Достоин ли он? Я не понимаю тебя, Анна1
Ведь я люблю его. Кен лучше, прекрасней, муже-«
ственней всех, кого я видела в жизни...
— И поэтому ты его любишь? Не попытаться ли
нам правильнее расставить следствие и причину? Не
потому ли он кажется тебе столь прекрасным, что
ты... что ты его любишь?
— О милая, ты разделяешь неразделимое. Здесь,
в моем сердце, его очарованье и моя любовь живут
рядом!
— Но ты так страдаешь, милая мама, а я так
искренне хочу тебе помочь. Не можешь ли ты по-
пытаться на одно мгновение, только на одно мгно-
вение, — возможно, и этого было бы достаточно,
чтобы тебя исцелить, — посмотреть на него не в oc-s
лепительном свете твоей любви, а при будничном
свете дня; увидеть его таким, каков он есть. Хорошо,
в угоду тебе, соглашусь, что он привлекательный
мальчик, но, право же, не заслуживающий таких тер-
заний и таких страстей...
— Я знаю, Анна, ты желаешь мне добра, у тебя
лучшие намерения, но ты должна помочь мне не це-
ной того, чтобы чернить его и быть несправедливой».
А ты несправедлива со своим «дневным светом» — это
такой пристрастный, неверный свет. Ты говоришь — он
мил, допускаешь мне в угоду, что он привлекателен,
желая этим сказать, что он — посредственность, что
418
ничего выдающегося в нем нет. А на самом деле он
незаурядный, замечательный человек. Сердце сжи-
мается, когда подумаешь о его тяжелой жизни.
Вспомни о его скромном происхождении, о железной
настойчивости, которую он проявил, чтобы попасть
в колледж, где превзошел всех студентов по истории
и гимнастике. Вспомни, как он встал под знамя про-
стым солдатом и показал себя героем, получил от-
личие, был «honorably discharged».
— Прости, но такое отличие получает любой сол-<
дат, за кем не числится никакой провинности.
— Любой. Опять ты играешь на его посредствен-!
ности, хочешь намекнуть, что он всего лишь просто«
ватый, заурядный юнец. Но ты забываешь, что и
простота бывает достойной и победительной, забы-
ваешь, что в простоте Кена отражается великий дух
его демократической, далекой родины...
— Он не любит своей родины.
— Тем не менее он истый ее сын, и если он лю-
бит Европу, ее исторические перспективы и народные
обычаи, это говорит в его пользу, возвышает его над
серым большинством. За свою страну он пролил
кровь. Ты говоришь «honorably discharged» бывает
всякий. Но всякого ли награждают орденом за храб-
рость— «Purple heart»1, — в знак того, что он доб-
лестно противостоял врагу и получил ранение, тяже-
лое ранение?
— Ах, милая мама, ведь война одного милует,
другого нет. Один погибает, другой остается жив, не-
зависимо от храбрости того или другого. Когда тебе
оторвет ногу или когда тебе прострелят почки,—
орден является утешением, но не признаком особой
отваги, в большинстве случаев, конечно.
— Так или иначе, он пожертвовал свою почку на
алтарь отечества!
— Да, ему повезло. И слава богу, что на худой
конец можно обойтись одной почкой. Но именно: на
худой конец. Все же это дефект, телесный недостаток,
мысль о котором до некоторой степени умаляет его
1 «Пурпурное сердце» (англ.).
419
совершенство, его великолепную юность, и, глядя на
него При свете дня, не следует забывать, что, несмотря на
свое хорошее или, скажем, нормальное сложение, он не
безупречен, — он инвалид, уже неполноценный человек.
— Великий боже! Кен не безупречен! Кен неполно-
ценный человек! Бедное дитя мое, он безупречен до
совершенства, он запросто, играя, обходится без одной
почки, и это не только его мнение, это общее мнение,
и прежде всего женщин, которые бегают за ним и
с которыми он, конечно, развлекается. Милая, доб-
рая, умная Анна! Разве ты не догадываешься, зачем,
собственно, я затеяла этот разговор? Я хотела узнать,
спросить у тебя, и, надеюсь, ты скажешь мне откро-
венно: не заметила ли ты, что он находится в связи
с Амелией Лютценкирхен, или с Луизой Фингстен, или
с ними обеими? Уверяю тебя, Кена достанет на это,
несмотря на его неполноценность! Подозрения изму-
чили меня, я перестала понимать и надеялась, что ты,
которая умеешь видеть вещи хладнокровно, в обычном,
так сказать, свете дня, скажешь мне чистую правду.
— Бедная моя мамочка! Как ты страдаешь, как
мучаешься! Мне больно за тебя. Но нет, мне кажется,
нет! Правда, я мало знаю его образ жизни и не
испытываю потребности вникать в него, но я не ду-
маю. Во всяком случае, мне не приходилось слышать
о подобных отношениях между ним и госпожой Финг-
стен или госпожой Лютценкирхен.
— Надеюсь, моя добрая девочка, ты говоришь это
не в утешение мне, не с тем, чтобы приложить баль-
зам к моим ранам, не из сожаления. Жалость, — хотя,
быть может, я и ищу ее у тебя, — здесь неуместна...
В стыде и в муках — мое счастье. Я горда ущербной
весной своей души, и если тебе показалось, что я молю
о жалости, то это не так.
— Нет, мама, мне не кажется, что ты молишь
о жалости. Но в подобных случаях гордость и счастье
тесно сплетаются со страданием. Они нерасторжимы.
И если даже ты не ищешь жалости и сострадания, —
все равно ты вызываешь их у тех, кто тебя любит,
кто хочет, чтобы ты сама себя пожалела и освободи-
лась от этого наваждения... Прости меня за резкость.
420
но я не забочусь-о словах, я забочусь о тебе, родная,
и не только после твоего признания, за которое я тебе
так благодарна, не только с сегодняшнего дня. Ты
с большим самообладанием скрывала свою тайну, но
что она — столь необычная и странная — существует
и уже несколько месяцев терзает тебя, это не оста-
лось незамеченным для тех, кто тебя любит, кто
в полной растерянности наблюдал за тобой...
— Кого ты подразумеваешь, говоря о тех, кто
меня любит?
— Я говорю о себе. За последнее время ты очень
переменилась, мама! То есть не переменилась — это
не то слово, — ведь ты осталась все той же, и, говоря
«переменилась», я имею в виду не твой внешний
облик, его омоложение, но и это не то слово: ты, разу-
меется, не могла на самом деле так уж помолодеть.
Но по временам, минутами, моему взору чудилось
некое фантасмагорическое видение, словно в твоем
милом, почтенном образе внезапно вырисовались
черты той мамы, которую я знала, когда была под-
ростком,— нет, больше того — подчас мне казалось,
что я вижу тебя такой, какой никогда не видела.
Так, вероятно, ты должна была выглядеть, когда была
молодой девушкой. И этот обман зрения, если это
обман зрения, — но нет, это не обман! — казалось,
должен был меня только радовать, веселить мое
сердце, ведь правда? Но мне не.было весело, напро-
тив, — мне тяжело становилось на сердце. И именно
в те мгновения, когда ты молодела на моих глазах,
мне было особенно жаль тебя! Потому что одновре-
менно с этим я видела, что ты страдаешь, видела, что
фантасмагория, о которой я упомянула, не просто
связана с твоим страданием, а является его выраже-
нием, зримым выражением того, что ты называешь
своей ущербной весной. Милая мама, откуда у тебя
такие слова? Они несвойственны тебе. Ты — скромная,
душевная женщина, заслуживающая всяческого вое*
хищения. Твои глаза ясно и зорко смотрят на при«
роду, на жизнь, но не в книги. Ты никогда много не
читала, и прежде ты не пользовалась такими словами,
выдуманными поэтами, такими горькими, больными.
28 Т. Манн, т. 8
421
словами, и когда теперь ты их все же произносишь,
это доказывает...
— Что доказывает, Айна? Если поэты пользуются
такими словами, то не потому ли, что они им полезны?
Они отражают их переживания, их чувства. То же са-
мое происходит и со мной, хотя, по-твоему, мне это и
не к лицу. Но это неверно. Слова приходят к тому, кому
они нужны, они просятся наружу, их не страшишься.
Но я могу объяснить твой обман чувств и зрения, всю
эту фантасмагорию, как ты сказала. Это воздействие
его юности, стремление моей души уподобиться ей,
чтобы не испытывать только стыд и унижение.
Анна плакала. Они обнялись. Их слезы смеша-
лись.
— И эти слова, родная моя, — с усилием прого-
ворила хромая девушка, — тоже сродни тем чужим
словам, к которым ты стала прибегать. В твоих устах
они звучат как разрушение. Твоя злополучная одер«
жимость разрушает тебя, я вижу это, и я это слышу,
когда ты со мной говоришь. Мы обе должны покон«
чить с этим любой ценой, положить конец твоей
пагубной страсти, спасти тебя от самой себя. G глаз
долой — из сердца вон, дорогая мамочка! Есть только
один исход, спасительный исход: молодой человек не
должен больше бывать у нас, мы должны отказать
ему от дома. Но этого мало. Ты видишь его и вне
дома, в обществе. Ладно, значит, мы обяжем его по-
кинуть город. Я берусь за это. Я поговорю с ним по-
дружески, поставлю ему на вид, что он попусту рас-
трачивает себя здесь, что давным-давно пора
расстаться с Дюссельдорфом, что не может же он
весь свой век околачиваться в этом городе. Я скажу
ему, что Дюссельдорф — еще не вся Германия, что
при его любознательности ему следует отправиться
дальше, в Мюнхен, в Гамбург, в Берлин, что и эти го-
рода существуют на свете, что их тоже надо изучить,
что следует быть более подвижным, жить то здесь, то
там, прежде чем вернуться на родину и занять там
подобающее положение, вместо того чтобы разыгры-
вать из себя в Европе учителя-инвалида. Я повлияю
на него^ А коли он не согласится, не пожелает порвать
422
с Дюссельдорфом, где он успел наладить деловые
связи, что ж, мама, тогда уедем мы. Мы сдадим наш
дом и переселимся в Кельн, или во Франкфурт, или
в какое-нибудь красивое местечко под Таунусом, и ты
оставишь здесь то, что тебя разрушает и мучает, за«
будешь обо всем с помощью никогданевидения. Стоит
только не видеться, и все пройдет. Так не бывает,
чтобы нельзя было забыть. Можешь называть это
забвение позором, но, верь мне, забывается все!
И тогда там, в Таунусе, ты снова будешь насла-
ждаться своей милой природой, снова станешь нашей
любимой старой мамой.
Проникновенная, но бесполезная настойчивость.
— Стой, Анна, остановись! Хватит, я не могу
больше слушать! Ты плачешь вместе со мной, твое
участие полно любви, но все, что ты наговорила, все
твои предложения — невозможны и для меня ужасны«
Прогнать его или уехать нам? Вот куда привела твоя
опека! Ты говоришь о милой природе, но плюешь ей
в лицо своими бессмысленными требованиями, ты
хочешь, чтобы и я плюнула ей в лицо, задушила
ущербную свою весну, которой она так чудесно и
щедро меня облагодетельствовала. Каким грехом и
предательством это было бы по отношению ко все-
благой природе! Какой неблагодарностью и неверием
в ее всемогущество, каким отрицанием ее милосердия!
|Ты забыла о Саре и о том, как она провинилась перед
богом. Она подслушивала у двери и, смеясь, себе
говорила: «Я стара, прилично ли мне предаваться на-
слаждениям? Да и супруг мой стар». Но господа
оскорбило ее неверие. «Почто смеется дщерь моя
Сара?» — сказал он. Я-то думаю, что она смеялась
не столько над своим преклонным возрастом, сколько
над тем, как стар и обременен годами ее супруг и
господин Авраам. Ему было девяносто девять лет.
Какую женщину не рассмешила бы мысль о любов-
ных утехах с девяностодевятилетним старцем? Пусть
даже в жизни мужчины пора любви не столь резко
ограничена, как в жизни женщины. Но мой господин
молод! Он — сама молодость, воплощение молодости,
и насколько же легче и заманчивее для меня мысль.,«
28*
423
Ах, верная моя Анна! Я полна вожделения, кровь
моя кипит постыдным, жгучим и горьким желанием,
и я не откажусь от него^не отрекусь, не удеру в Тау-
нус, а если ты уговоришь уехать Кена, то вознена-
вижу тебя до конца своих дней.
В великом смущении слушала Анна эту без-
удержно-хмельную речь.
— Милая мама, — сказала она угасшим голо-
сом,— ты очень возбуждена. Сейчас ты больше всего
нуждаешься в покое и сне. Выпей двадцать пять ка-
пель валерьянки на воде, даже тридцать. Это без-
обидное средство иногда очень помогает, и, заверяю
тебя, я не предприму ничего, что было бы несогласно
с твоими желаниями. Верь мне, твое спокойствие мне
дороже всего! Если же я пренебрежительно говорила
о Кене, которого буду уважать как объект твоего
благоволения, хотя мне следовало бы ненавидеть его
как причину твоих страданий, — то пойми, я и это де-
лала только в надежде образумить тебя. Я беско-
нечно тебе благодарна за оказанное доверие и на-
деюсь, твердо надеюсь, что, объяснившись со мной,
гы облегчила сердце. Может быть, это объяснение —
начало твоего выздоровления, — прости, я хотела ска-
зать успокоения, — и твое милое, веселое, дорогое нам
сердце вновь станет прежним. Оно любит, страдая; но
не думаешь ли ты, что со временем оно научится лю-
бить благоразумно и не страдая. Любовь, знаешь ли
(все это Анна говорила, заботливо провожая мать в ее
спальню, с тем чтобы собственноручно накапать ей
в стакан валерьяновых капель), — любовь—какой
только она не бывает, как многообразно то, что пря-
чется под ее именем, и вместе с тем — она всегда
одна и та же. Любовь матери к сыну, — знаю, ты не
очень привязана к Эдуарду, — но и эта любовь бы-
вает задушевной и пылкой, она едва уловимо, но не-
преложно, отличается от любви к ребенку своего
пола, ни на мгновение не преступая границы дозво-
ленного— границы материнской любви. Если учесть,
что Кен действительно мог быть твоим сыном, может,
ты попытаешься перевести нежность к нему в иное
русло, придать ей оттенок материнства, себе на благо?
424
Розали улыбнулась сквозь слезы.
— Дабы между душой и телом воцарилось долж-
ное согласие? — грустно пошутила она.— Милое дитя,
как я насилую твой ум, как злоупотребляю им. Я по-
ступаю нехорошо. И все это напрасно! Материнская
нежность—тоже что-то вроде Таунуса... Но, кажется,
я начинаю заговариваться. Я смертельно устала, тут
ты права. Спасибо за участие и терпение! Спасибо и
за обещание уважать Кена во имя того, что ты назы-
ваешь моим «благоволением». Обещай, что не будешь
ненавидеть его, как я возненавидела бы тебя, если б
ты его прогнала! Он — только средство, избранное
природой, чтобы сотворить чудо в душе моей.
Анна удалилась. На следующей неделе Кен
дважды ужинал у Тюммлеров. В первый раз за сто-
лом присутствовала пожилая чета из Дуйсбурга, ку-
зина Розали с мужем. Анна знала, что известная
сложность чувств и напряженность отношений неот-
вратимо распространяет флюиды, всегда заметные по-
стороннему взгляду, и зорко следила за гостями. Она
увидела, как кузина несколько раз удивленно пере-
вела глаза с Кена на хозяйку дома, увидела даже
улыбку, прятавшуюся в усах ее мужа. В тот же вечер
Анна впервые обнаружила перемену в поведении
Кена с матерью, какую-то новую насмешливо-дерзкую
манеру: он упорно не желал сносить с трудом давав-
шееся ей видимое безразличие и вынуждал хозяйку
оказывать ему знаки внимания. В другой раз посто-
ронних не было. Госпожа фон Тюммлер разрешила
себе своенравную выходку, чтобы высмеять совет
дочери, преподанный в тот памятный вечер, и
одновременно использовать его в своих целях.
Дело в том, что Кен, как выяснилось, напропалую
кутил прошедшую ночь с добрыми друзьями: с уче-
ником Академии живописи и с двумя сынками мест-
ных фабрикантов. До утра совершая обход старинных
погребков, он явился к Тюммлерам с основател'ьно гу-
дящей головой, с hang-over первой степени, как вы-
разился разболтавший тайну Эдуард. Когда Кен
425
стал прощаться и все пожелали друг другу покойной
ночи, Розали, бросив на дочь возбужденно-лукавый
взгляд, ухватила молодого человека за ухо и сказала:
— Ну, сыночек, выслушай серьезный выговор от
мамаши Тюммлер и намотай себе на ус, что ее дом
открыт только для людей степенного нрава и пример-
ного поведения, а не для ночных птиц и забулдыг, ко-
торые не способны членораздельно говорить по-не-
мецки и у которых двоится в глазах! Слышишь, без-
дельник! Не будешь?! Не будешь?! А если дурные
мальчишки станут совращать тебя, впредь не следуй
их примеру и не расточай так беспутно свое здо-
ровье, слышишь?! Изволь одуматься! — Говоря это,
она вновь и вновь дергала его за ухо, а Кен, при-
творно шарахаясь от легкого подергивания ее руки,
делал вид, что наказание нестерпимо болезненно, из-
вивался и строил жалобные гримасы, обнажая при
этом свои красивые, блестящие зубы. Его лицо почти
касалось ее лица, и, наслаждаясь его милой бли-
зостью, она добавила: — А если это повторится и ты
не исправишься, непослушный сынок, я вышлю тебя
из города! Так и знай! Я отправлю тебя в тихое ме-
стечко, под Таунус, где природа, бесспорно, прекрасна,
но нет никаких искушений, и ты вволю сможешь обу-
чать английскому языку деревенских ребят. На пер-
вый раз иди проспись, шалопай!—И она отпустила
его ухо, простилась с ним, по-прежнему пристально
глядя ему в глаза, еще раз, с потускневшим лукав-
ством, глянула на Анну и ушла.
Неделю спустя произошло событие, своей необы-
чайностью повергшее Анну фон Тюммлер в великое
изумление, потрясшее и смутившее ее. Радуясь за
мать, она не знала, следует ли рассматривать случив-
шееся как счастье или как несчастье. В десять часов
утра горничная пригласила ее зайти к госпоже фон
Тюммлер. Так как маленькая семья обычно за-
втракала порознь, сперва Эдуард, затем Анна и по-
следней хозяйка дома, то Анна в это утро с матерью
еще не* виделась. Розали лежала в шезлонге в своей
спальне, укрытая легким кашемировым одеялом. Она
была бледнал но ее носик пылал. Розали кивнула во-
426
шедшей, тяжело ступающей дочери, улыбаясь с не-
сколько подчеркнутой томностью, и в ожидании во-
проса хранила молчание.
— Что случилось, мама? Ты больна?
— О нет, дитя мое, не тревожься, это не болезнь.
Я даже собиралась сама зайти к тебе поздороваться
вместо того/ чтобы вызывать тебя сюда, но мне сле-
дует соблюдать покой, знаешь, как это иногда бывает
с нами, женщинами...
— Мама! Как тебя понять?
Тогда Розали приподнялась, обвила шею дочери
руками, привлекла ее к себе, заставила сесть на край
шезлонга и шепнула, щека к щеке, в самое ухо, по-
рывисто, блаженно, одним дыханием:
— Триумф, Анна, триумф! Оно вернулось ко мне,
вернулось после такого долгого перерыва, вполне
естественно, совсем как полагается у зрелой, живой
женщины! Дорогая моя, что за чудо! Что за чудо
совершила со мной великая добрая природа, благо-
словив меня за веру в нее! Это потому, что я веровала,
Анна! Я не смеялась, и добрая природа наградила
меня за это, взяла обратно те превращения, какие
сама же проделала над моим телом. Этим она дока-
зала, что заблуждалась, и теперь восстановила гар-
монию между моим духом и плотью, но только иным
способом, чем хотелось тебе, дочка. Не тем, что
душа, покорно следуя велениям тела, перестроилась
на почтенный, достойный лад, а наоборот, наоборот, —
тем, что душа оказалась полновластной хозяйкой тела.
Поздравь меня, деточка, я так счастлива! Я снова
женщина, полноправная, настоящая женщина, и чув-
ствую себя достойной его мужественной юности. Мне
не надо больше в полуобморочном состоянии опускать
перед ним глаза. Розга жизни, хлестнувшая меня,
коснулась не только души, но и тела, вновь сделала
его животворным источником. Поцелуй меня, верная
моя девочка, признай, что я вправе быть счастливой,
и восславь вместе со мной величие доброй природы.
Розали снова опустилась в шезлонг и закрыла
глаза. На губах ее блуждала самодовольная улыбка^
носик был красен.
427
— Дорогая, родная мамочка, — сказала Анна, го-
товая разделить ее радость, но почему-то с тяжелым
сердцем, — это действительно большое, трогательное
событие, новое доказательство твоих великолепных
природных данных. Они сказались уже в свежести
твоих чувств, а теперь покорили себе и жизнь твоего
тела. Как видишь, я разделяю твою точку зрения,
верю, что это телесное обновление — продукт юноше-
ски сильных, духовных чувствований. И что бы
я прежде ни говорила об этих вещах, ты не должна
считать меня мещанкой, отрицающей всякую власть
духа над плотью, признающей за плотью решающее
слово в их взаимоотношениях. Настолько-то и я зна-
кома с природой, чтобы понимать их обоюдную за-
висимость и единство. Как сильно дух порой подчи-
няется велениям плоти, так, со своей стороны, он
умеет властвовать над ней, — да, иногда это грани-
чит с чудом. Ты сама — блистательный пример тому,
И все же, позволь сказать тебе, прекрасное, радост-
ное событие, которым ты так горда, — и вполне за-
конно: конечно, ты вправе гордиться! — на меня не
производит того впечатления, как на тебя. По-моему,
оно не так уж много изменило, великолепная моя
мама, и ничего существенного не прибавило к моему
восхищению твоими природными данными или дан-
ными природы вообще. Я, хромая, стареющая девушка,
бесспорно, имею основание не придавать слишком
большого значения телесной жизни. Как раз противо-
речие между свежестью твоего чувства и увяданием
тела казалось мне более блистательным, более чистым
и высоким триумфом духовной жизни, чем это собы-
тие, говорящее о несокрушимости твоего организма.
— Уж лучше помолчи, бедняжка моя! То, что ты
сегодня называешь свежестью чувств, ты еще так
недавно называла без всяких околичностей сума-
сбродством и одержимостью и советовала мне обра-
титься к материнским чувствам, перестроиться на
почтенный, старушечий лад. Ой, не рано ли, Анхен?
Природа высказалась против тебя! Она взяла мое
чувство под опеку и недвусмысленно доказала, что
оно не должно стыдиться ни себя, ни цветущей юно-
428
сти, пробудившей это чувство. И ты полагаешь, что
мои обстоятельства ничего не меняют? Что это не
столь уж важно?
— Я нисколько не намерена умалять слово, ска-
занное природой, моя милая, достойная изумления
мамочка! Прежде всего, я не хочу омрачать радость,
данную тебе этим ее словом. Надеюсь, ты не запо-
дозрила меня в таком побуждении, когда я сказала,
что совершившееся событие мало что меняет. Мои
слова относились к внешней, к практической сто-
роне дела. Когда я советовала, искренне желала тебе
себя превозмочь, ограничить материнской неж-
ностью чувство к молодому человеку, — прости, что я
так холодно о нем говорю, — к нашему другу Китону,
я исходила из того, что он мог быть твоим сыном. Эта
истина непреложна, правда? В ней ничто не измени-
лось, и она будет влиять на ваши отношения с обеих
сторон: с твоей и с его тоже.
— Так, и с его тоже... Ты говоришь об обеих сто-
ронах, подразумевая одну. Ты не веришь, что он мог
бы любить меня не только как сын?
— Я этого не сказала, милая мама!
— Как бы ты могла сказать это, Анна, верная
моя девочка! Подумай о том, как мало у тебя данных
и нужного авторитета, чтобы судить о любовных де-
лах. У тебя не хватает чутья в этой области, потому
что ты рано потерпела разочарование, душа моя, и от-
вратила взор от этой стороны жизни! Духовные за-
просы заменили тебе естественные, природные ра-
дости. Это хорошо. Это твое счастье, это возвышенно.
Но вправе ли ты судить и присуждать к безнадеж-
ности и меня? Ты не наблюдательна, ты не видишь
того, что вижу я, не улавливаешь признаков, говорящих
мне о столь многом, и прежде всего о том, что его
чувство созрело и готово ответить на мое. Надеюсь, ты
не станешь утверждать, что он просто играет мною,
и беспристрастно согласишься, что он не дерзкий
сердцеед и что я имею основания надеяться на ответ-
ное чувство? И разве это было б так уж удивительно?
При всей твоей неосведомленности в вопросах любви,
ты, вероятно, знаешь, что молодые мужчины предпо-
429
читают зрелую женственность неискушенной моло-
дости глупеньких, робких гусынь? Должно быть, здесь
не обходится без тяготения к материнской нежности,
ведь и в страсть зрелой женщины к юноше тоже
вкрадывается нечто материнское. Кстати, помнится,
ты недавно сама говорила об этом.
*—< В самом деле, мамочка? Так или иначе, но ты
права, и я согласна со всем, что ты сказала.
— Тогда не считай, что для меня все склады-
вается столь уж безнадежно, особенно теперь, когда
природа признала мое чувство. Не считай этого, не-
смотря на мои седые волосы, на которые ты, кажется,
сейчас покосилась. Да, к сожалению, я поседела, и
допустила большую ошибку, своевременно не покра-
сившись. Теперь я не могу вдруг начать краситься,
хотя природа до некоторой степени и поощряет
меня к этому. Но зато с лицом я могу кое-что пред-
принять, не только массаж —я буду накладывать не-
множечко румян. Вы, дети, не станете ведь возражать?
— Ну, что ты, мама! Эдуард вообще ничего не
заметит, если ты мало-мальски умело возьмешься за
дело... А я... хоть я и нахожу, что безыскусственность
более свойственна твоему облику, но думаю, ты не по-
грешишь против природы, если поможешь ей столь
общеупотребительным способом.
— Да? Нельзя же допустить, чтобы в Кене возоб-
ладали сыновние чувства. Это обмануло бы мои на-
дежды. Да, славная моя, преданная девочка, это
сердце... Я знаю, ты не любишь говорить и слушать
о «сердце»... Но мое сердце полно ликования и гор-
дости, когда я думаю о том, как теперь встречусь
с Кеном, с его молодостью... Да, сердце твоей мамы
полно надежд на счастье, на новую жизнь!
— Как я рада за тебя, мама! И как мило с твоей
стороны, что ты позволила мне разделить твое сча-
стье! Я разделяю его, разделяю от всей души! В этом
ты не усомнишься, даже если я скажу, что какая-то
тревога омрачает мою радость. Это похоже на меня,
не правда ли? Какое-то опасение, практическое опа-
сение, я вынуждена повторить это слово за неиме-
нием лучшего, хотя уже раз употребила его... Ты го-
430
воришь о своих надеждах, обо всем, что дает тебе
право на них, — я нахожу, что это право прежде всего
дает тебе собственная привлекательность. Но кое-что
ты упустила, не досказала. Куда направлены эти на-
дежды, как применимы они к действительности,
к жизни? Может быть, ты намерена вторично выйти
замуж? Сделать Кена Китона нашим отчимом, по-
вести его к алтарю? Пусть я трусиха, но так как раз-
ница в возрасте у вас не меньше, чем у матери с сы-
ном, то я побаиваюсь разумного осуждения, которое
мог бы вызвать такой шаг!
Широко раскрыв глаза, госпожа фон Тюммлер
смотрела на дочь.
— Нет, — ответила она, — такая мысль не прихо-
дила мне в голову! Могу заверить, что она мне чужда.
Нет, Анна, глупая ты девчонка, я не задавалась
целью дать вам двадцатичетырехлетнего отчима. Но
как странно слышать от тебя это благочестивое и чо-
порное слово «алтарь».
Анна молчала, веки ее трепетали, она глядела
мимо матери, в пустоту.
— Надежда, — сказала Розали, — кто способен
определить, что она такое, как того требуешь ты?
Надежда есть надежда. Она безотчетна. Как же ты
можешь требовать, чтобы она отвечала практическим
целям? То, что сделала со мной природа, — красиво.
Только красоты жду я от нее и впредь. Но сказать
тебе, как я представляю себе будущее, куда приведут
меня мечты, во что они выльются, я не умею. Это —
только надежда. Она вообще не рассуждает... и уж
менее всего об алтаре.
Поджав губы, тихо, неохотно, как бы против воли,
Анна проронила:
— Жаль, это по крайней мере было бы относи-
тельно благоразумным решением вопроса.
Потрясенная госпожа фон Тюммлер пристально
вглядывалась в лицо хромой, пытаясь прочесть ее
мысли. Анна не смотрела на мать.
— Анна, — глухо крикнула Розали, — как ты го-
воришь, как ты ведешь себя! Я тебя не узнаю. Скажи,
кто из нас двоих художница, артистка? Я или ты? Кто
431
бы мог подумать, что ты полна предрассудков, отстала
от матери, и не только от нее, а от своего времени,
от новых «свободных нравов»? В творчестве — ты та-
кая передовая, признаешь только все изощренно-но-
вое, так что человеку моих скромных возможностей
трудно угнаться за тобой. А в отношении морали ты
будто живешь бог знает когда, в допотопные времена,
задолго до войны. У нас республика, у нас свобода,
понятия так изменились в сторону легкомыслия, стали
куда более вольными. Это отражается на всем. Вот,
у молодых людей сейчас считается хорошим тоном
вывешивать носовой платок из кармана на грудь —
они вывешивают половину платка, словно флаг, тогда
как прежде виднелся только кончик. Это явно не
случайность, а сознательная демонстрация республи-
канского свободомыслия нравов. Эдуард тоже, со-
гласно моде, вывешивает свой носовой платок, и я
смотрю на это не без удовольствия.
— Тонкое наблюдение, мама! Но, я полагаю, твой
символический носовой платок не очень-то применим
к Эдуарду. Ты сама говоришь, что, повзрослев, он
стал во многом похож на нашего отца, подполков-
ника. Должно быть, не очень тактично упоминать
о папа в этом разговоре, и все же...
— Анна, ваш отец был превосходным офицером и
пал на поле брани. Но изрядным ветреником он
тоже был и до конца своих дней заводил разные
шашни. Вот самый убедительный пример того, как не-
ограниченна половая жизнь мужчин. Мне непрестанно
приходилось закрывать глаза на его похождения.
Поэтому я не воспринимаю твои слова как чрезмер-
ную бестактность!
— Тем лучше, мама, если такое выражение приме-
нимо к данному случаю. Но папа был офицер и, не-
взирая на то, что ты называешь его ветреностью, жил
сообразно известным правилам чести, которые не
слишком занимают меня, но, думается, унаследованы
Эдуардом. Он похож на отца не только лицом и фи-
гурой; верь мне, на известные обстоятельства он реа-
гировал бы так же, как его отец.
432
— На какие обстоятельства?
— Милая мама, позволь мне, как прежде, быть
с тобой совсем откровенной. Вполне допустимо, что
отношения с.Кеном Китоном, какие ты рисуешь себе
в мечтах, не всегда будут облечены полной тайной,
о них станет известно в обществе. Меня особенно
смущает твоя очаровательная импульсивность* твоя
заслуживающая восхищения неспособность к при-
творству. Стоит только какому-нибудь наглецу намек-
нуть Эдуарду, что его мать... ну, одним словом, как
говорится, ведет легкий образ жизни, и наш Эдуард
полезет в драку, даст молодчику пощечину, и тогда,
кто знает, что за опасные, глупейшие последствия
повлечет за собой его рыцарский поступок.
— Бога ради, Анна, что ты выдумываешь! Ты
меня пугаешь, детка! Я знаю, ты делаешь это, забо-
тясь обо мне, но твоя заботливость бесчеловечна,
бесчеловечна, как всякий суд детей над матерью...
Розали всплакнула. Анна услужливо помогала ей
вытирать слезы, любовно водя рукой, в которой мать
держала платочек.
— Милая, хорошая мама, прости меня! Я поне-
воле причиняю тебе горе. Но не говори о суде детей.
Не сомневайся, что я терпеливо, — нет, это звучит
слишком высокомерно, — скажем, с почтительным
участием отнеслась бы к тому, что ты принимаешь
за свое счастье. А Эдуард, право, не пойму даже, по-
чему я заговорила о нем? Вероятно, в связи с его
республиканским носовым платком. Речь идет не
о нас с Эдуардом и не о людях тоже. Только о тебе,
мама. Ну вот, ты сказала, что лишена предрассудков.
Но так ли это на самом деле? Мы говорили о папа,
о жизненных устоях, унаследованных от него. По его
понятиям, он не преступал их, не грешил против них,
ветреничая и огорчая тебя. И ты всегда прощала его,
прощала, — постарайся понять меня верно, — потому
что, в сущности, была того же мнения, сознавала,
что с истинным распутством его ветреность не имеет
ничего общего. Этого не допускало его происхожде-
ние, его взгляды. Ты такая же. В крайнем случае я,
художница, выродок, но и я тоже, — правда, по иной
433
причине, — не способна воспользоваться своей эман-
сипацией, своей моральной деклассированностью.
— Бедное дитя, — перебила ее госпожа фон Тюмм-
лер, —не говори о себе так печально.
— Речь вообще не обо мне, дорогая мама! — воз-
разила Анна. — Я и говорю и забочусь только о тебе.
Для тебя было бы прямым распутством то, что для
ветреника папа было разве что веселым препровожде-
нием времени, не противоречившим ни его собствен^
ным убеждениям, ни убеждениям общества, его среды.
Гармония между духом и телом, несомненно, хоро-
шая, необходимая вещь. И ты по праву гордишься
тем, что природа, твоя природа почти чудом тебе ее
даровала. Но гармония между образом жизни и при-
рожденными нравственными убеждениями еще более
необходима человеку. Там, где она нарушена, нару-
шен весь духовный строй, и это приводит к несчастью.
Ты чувствуешь, что я права? Ты жила бы в разладе
с самой собой, претворив в действительность то, о чем
грезишь. Ведь по сути дела ты так же, как и папа,
связана известными условностями, и нарушение этих
условностей было бы разрушительным, опустошитель-
ным несчастьем для тебя. Я говорю то, что мне под-
сказывает отчаяние. Почему я снова прибегла
к этому слову: разрушение? Знаю, однажды в страхе
я уже произнесла его, но полностью ощутила это
слово я еще раньше. Почему меня не покидает ощу-
щение, что испытание, счастливой жертвой которого
ты стала, связано с разрушением? Я хочу сделать
тебе признание: недавно, после нашего ночного раз-
говора, когда ты была так возбуждена и мы пили чай
у меня, — я решила поговорить с доктором Оберло-
скамфом, помнишь, он лечил Эдуарда, когда тот
хворал желтухой, и меня, когда я не могла глотать
во время ангины, ты же никогда не нуждалась в док-
торах,— словом, я намеревалась поговорить с ним
о тебе, обо всем, что ты мне доверила, только затем,
чтобы он успокоил меня. Но я запретила, тут же за-
претила себе такую консультацию — из гордости,
мама, ты поймешь меня, из гордости за тебя и ради
тебя, и оттого, что мне показалось унизительным,
434
показалось предательским поведать о твоих чувствах
какому-то медику, которого, с божьей помощью, до-
станет на желтуху, на больное горло, но отнюдь не на
глубокое человеческое потрясение. Я нахожу, что есть
болезни, которые слишком хороши для врачей...
— Благодарю тебя вдвойне, моя милая, — сказала
Розали. ^тчИ.за то, что ты проявила обо мне заботли-
вость и xöffjia поговорить с Оберлоскамфом, и за то,
что отвергла это побуждение. Разве можно, хотя бы
в малой степени, связывать с болезнью то, что ты
называешь моим испытанием, — «пасху женствен-
ности», победу души над телом? Разве счастье-^
болезнь или легкомыслие? Нет, это — просто жизнь,
жизнь с ее радостями и горестями. А жизнь —всегда
надежда, безотчетная надежда, о которой я не умею
дать точные сведения твоему разуму.
— Я и не требую их, дорогая мама.
— Тогда ступай, детка! Дай мне отдохнуть. Ты
ведь знаешь, уединение и отдых полезны нам, жен-
щинам, в такие почетные дни.
Анна поцеловала мать и, тяжело ступая, вышла из
ее спальни. Обе женщины остались под впечатлением
их разговора. Анна сказала далеко не все, что могла
бы сказать и что лежало у нее на сердце. Ее мучили
сомнения, долго ли продлится поздний, тревожный
расцвет матери, который та пышно величала «пасхой
своей женственности». И если Кен, что весьма ве-
роятно, ответит матери, — долго ли продлится его
чувство? Как трепетно будет оберегать его от каждой
более молодой женщины стареющая возлюбленная,
как будет она с первого же дня сомневаться в его
верности, даже в уважении. Хорошо хоть, что она
понимает счастье не как веселье и радость, а как
жизнь со всеми ее страданиями.
Со своей стороны, госпожа фон Тюммлер была
огорчена отношением дочери к случившемуся больше,
чем хотела ей показать. Если стареющую женщину не
слишком испугало романтическое предположение, что
Эдуард, при известных обстоятельствах, пожертвует
из-за чести матери своей молодой жизнью (хоть она
435
и всплакнула, но сердце ее не забилось в безотчетной
тревоге), то сомнение, высказанное Анной касательно
«отсутствия предрассудков», ее мысли о распутстве,
о необходимости гармонического единения между
образом жизни и прирожденными нравственными
убеждениями заставили добрую женщину очень и
очень призадуматься и нарушили покой торжествен-
ного дня. Она отдавала должное сомнениям дочери,
находила в них добрую толику правды. Надо сказать,
это нисколько не мешало ей радоваться предстоящей
после знаменательного события встрече с юным воз-
любленным. Но слова умной дочери о жизни
в разладе с самим собой неотвязно преследовали ее,
и после длительных колебаний и раздумий она ре-
шила отречься от счастья. И отречение может быть
счастьем, коль скоро оно вызвано не плачевной не-
обходимостью, а свободным, сознательным проявле-
нием воли полноправной женщины. На том Розали и
порешила.
Кен появился у Тюммлеров через три дня после
знаменательного физиологического события, читал и
болтал по-английски с Эдуардом, а потом остался
ужинать. При виде его славного мальчишеского
лица, его широких плеч и узких бедер милые глаза
Розали засияли счастьем, и их живой блеск оправды-
вал, если можно так выразиться, яркость ее подкра-
шенных щек, бледность которых и в самом деле
слишком противоречила бы ликующему сиянию глаз.
Начиная с этого дня, а затем и всякий раз, когда
приходил Кен, она усвоила привычку, здороваясь
с ним, брать его руку, влекущим движением притяги-
вать молодого человека к себе и при этом серьезно,
светло и многозначительно глядеть ему в лицо, отчего
у Анны создавалось впечатление, что мать не прочь
тут же посвятить юношу в чудо, которое совершила
с нею природа. Нелепое опасение, разумеется! Весь
вечер обращение хозяйки с молодым гостем отлича-
лось веселой непринужденностью, нисколько не напо-
минавшей тот фальшиво материнский тон, к кото-
рому Розали прибегла назло дочери тогда, после
попойки, как не было больше и заискивающей покор-
436
ности и стыдливой робости, столь не шедшей к ее
милому облику.
Китон, который уже давно и с удовольствием об-
наружил, что покорил сердце этой седой, но полной
очарования европеянки, не мог уяснить себе перемену
в ее поведении. Вполне понятно, что он стал менее
уважительно относиться к Розали, обнаружив ее
слабость, но в то же время эта слабость пробуждала
в нем мужское желание. Его привлекала непосред-
ственность Розали, он и сам был столь же непосред-
ствен, а проникновенная нежность ее чудесных
глаз вполне окупала ее почтенный возраст и увядаю-
щие руки. Мысль вступить с ней в любовную связь,
подобную той, какую он поддерживал, правда, не
с Амелией Лютценкирхен и не с Луизой Фингстен,
а с другой дамой из общества, которую Розали ни
в чем не подозревала, отнюдь не была чужда Кену; и
вскоре Анна заметила, что тон, которого он стал
придерживаться в отношении матери своего ученика,
изменился, стал более игривым и вызывающим.
Особой удачи доброму малому это не приносило.
Вопреки рукопожатию при встрече, когда она при-
влекала его к себе так близко, что их тела почти со-
прикасались, вопреки глубокой нежности ее глаз, все
попытки Кена неизменно наталкивались на ласковое
достоинство, сразу его отрезвлявшее и державшее
в границах благопристойности. Повторные попытки
ни к чему не приводили. «Влюблена она в меня
в конце концов или нет?» — спрашивал он себя и во
всем винил ее детей — эту хромую и своего питомца.
Но Кену ничуть не больше везло и когда он оставался
с Розали наедине, в уголке гостиной, что позволяло
ему придавать своим маленьким атакам уже не на-
смешливый, а нежно-серьезный, даже настойчиво-
страстный характер. Как-то раз он отважился назвать
ее «Розали», самым обольстительным образом растя-
гивая свое картавое, столь всех пленявшее «р». На
его родине это было принятым обращением, которое
не сочли бы даже за особую вольность. Но Розали
437
на мгновение смутилась, покраснела и поспешила
уйти, так за весь вечер и не удостоив его больше ни
единым взглядом или словом.
Зима выдалась не суровая, взамен снегов и мо-
розов она в изобилии принесла дожди и рано пришла
к концу. Уже в феврале наступили солнечные, мягкие
дни, дышавшие весной. Крошечные почки там и сям
отважно набухали на ветвях. Розали с нежностью
приветствовала подснежники в своем саду и раньше
обычного могла радоваться нарциссам и крокусам на
невысоких стеблях, уже распустившимся на участке
ее виллы и в городском саду, где над ними склоня-
лись прохожие, с восхищением указывая друг другу
на пеструю толчею цветов.
— Подумай, как удивительно и как странно,—
сказала госпожа фон Тюммлер дочери, — разве это
не напоминает осень? Кажется, будто цветет все тот
же цветок. Конец и начало! Их можно спутать, так
они друг на друга похожи. Глядя на эти крокусы, пе-
реносишься обратно в осень и, напротив, веришь
в наступление весны при виде последышей осеннего
цветения.
— Да, небольшая путаница в этом есть, — от-
ветила Анна,— по-видимому, твоя закадычная под-
руга, мать-природа, вообще питает пристрастие к дву-
смысленности и мистификации.
— Ты не лезешь в карман за острым словцом
против нее, злая девочка, и то, что меня изумляет,
тебе служит поводом над ней поглумиться. Но не тру-
дись, пересмешница, тебе все равно не удастся поко-
лебать нашу нежную дружбу с милой природой, а те-
перь, когда наступило «мое время года», и подавно.
Я называю его моим потому, что время года, на ко-
торое пал день нашего рождения, сродни нам, как мы
сродни ему. Ты родилась накануне рождественских
праздников и поистине можешь считать это добрым
предзнаменованием. Ты, надо думать, навсегда про-
никлась чувством нежности к этой поре, морозной,
но согретой внутренней радостью. Нет, право же,
я убеждена, что существует нерушимая связь между
нами и временем года, совпавшим с днем нашего
433
появления на свет. В их совместном ежегодном воз-
вращении я вижу какую-то непреложную прочность
обновления. Мне, например, это обновление приносит
весна. Не только потому, что весна, или, как гово-
рится в стихах, «вешняя пора», — для всех излюблен-
ное время года, а потому, что я причастна весне, так
что порою мне кажется, что ее улыбка предназначена
мне лично.
— В этом и я не сомневаюсь, милая мама, — воз-
разило дитя зимы. — И, будь уверена, что по этому
поводу я не позволю себе ни единого острого словца!
Следует, однако, заметить, что в этом году жиз-
ненный подъем, который Розали испытывала или по-
лагала, что испытывает весною, что-то задерживался,
не оправдывая ее расчетов. Можно было подумать,
что моральные устои, внушенные ей дочерью, устои,
которых она так честно придерживалась, шли ей во
вред, как если бы и они, или, вернее, именно они, при-
вели ее к тягостному «разладу». У Анны, во всяком слу-
чае, сложилось такое впечатление, и хромая девушка
упрекала себя за то, что напрасно убедила мать
отречься от своего чувства. Свободомыслие Анны
отнюдь не требовало подобных жертв от этой достой-
ной женщины. Ей это просто показалось подходящим
для душевного покоя ее матери. Порою Анну даже
терзали подозрения, не из дурного ли чувства, не из
тайной ли зависти призвала она свою мать к цело-
мудренному воздержанию? Ведь она, Анна, однажды
сама так страстно возжелала чувственных радостей,
но так их и не сподобилась. Нет! Столь низкими побу-
ждениями она не могла руководствоваться! И все
же Анну при взгляде на мать не переставала мучить
обеспокоенная совесть. Она видела, что Розали легко
устает во время столь любимых ею прогулок и под
предлогом неотложных дел через полчаса, а то и
раньше, настаивает на возвращении домой. Мать ча-
сто подолгу лежала и, несмотря на то что мало дви-
галась, теряла в весе. Когда Розали бывала не одета,
Анна с тревогой смотрела на ее похудевшее, дряблое
тело. Теперь никто не спросил бы Розали, из ка-
кого источника молодости она пьет. С лицом тоже
439
обстояло не лучше. Синие тени усталости обозначи-
лись под ее глазами, и даже румяна, в честь вновь
обретенной женственности, никого не вводили в об-
ман, не могли скрыть желтоватую бледность ее лица.
Но стоило осведомиться о ее здоровье, как Розали
весело и небрежно бросала в ответ: «Пустяки, я здо-
рова, все в порядке!» И фрейлейн фон Тюммлер не
смела посоветоваться с доктором Оберлоскамфом
о здоровье своей матери. Не только чувство вины, но
и чувство уважения заставило Анну отказаться от
этой мысли — того самого уважения, какое побудило
ее сказать, что бывают болезни «слишком хорошие
для врачей».
Вот почему Анну особенно порадовала веселая
предприимчивость матери, ее вера в свои силы, когда
однажды вечером семейство Тюммлер и Кен Китон,
сидя за бутылкой вина, надумали совершить заго-
родную прогулку. С того дня, как Розали пригласила
дочь к себе в спальню, чтобы сделать свое удивитель-
ное признание, не прошло и месяца. Розали была
оживлена и прелестна, как в былые дни. Ее можно
было бы счесть зачинщицей прогулки, если бы эту
заслугу не пришлось приписать Кену, так как он своей
болтовней на исторические темы навел присутствую-
щих на эту мысль. Он рассказывал о всякой всячине,
о разных замках и старинных крепостях, которые ему
довелось повидать, о замке на берегу Вуппера,
об Эресховене, о Гимборне, Гомбурге и Кротторфе,
а затем перескочил на курфюрста Карла-Теодора,
который в восемнадцатом веке перенес свою резиден-
цию из Дюссельдорфа в Шветцинген, а позднее
в Мюнхен, что не помешало его наместнику, некоему
графу Гольштейну, преуспеть тем временем в дюс-
сельдорфском градостроительстве. В пору наместни-
чества была учреждена Академия художеств, разбит
городской парк, возведен замок Иегерхоф и, как за-
метил на этот раз Эдуард, несколько южнее города,
рядом с деревушкой, носящей то же название, по-
строен замок Хольтергоф. «Верно, и Хольтергоф», —
подтвердил Кен. И, сам тому удивляясь, признался,
440
что это замечательное творение позднего рококо ни-
когда не попадало в поле его зрения, как и прилегаю-
щий к замку прекрасный парк, что тянется до самого
Рейна. Госпожа фон Тюммлер и Анна иногда бывали
там, гуляли в парке, но, впрочем, как и Эдуард, не по-
бывали внутри очаровательно расположенного замка.
— Колокол в церковь сзывает, сам же в церкви
не бывает! — неодобрительно сказала хозяйка. Диа-
лект и народные речения у нее всегда служили при-
знаком веселого, благодушного настроения. — Хороши
дюссельдорфцы, все четверо вместе взятые! — доба-
вила она. — Один и вовсе не был там, а остальные не
удосужились осмотреть внутреннее убранство этой
жемчужины среди замков, куда первым делом идет
всякий приезжий.
— Вот что, мои милые, — воскликнула Розали. —
Пора прекратить это безобразие! Нечего ему пота-
кать! Поехали всем скопом в Хольтергоф, не откла-
дывая прогулки в долгий ящик! Сейчас там славно!
И очаровательное время года, и барометр стоит на
«ясно». В парке все распускается, весной он, наверно,
милее, чем летом, в зной, когда мы были там с Ан-
ной. Я истосковалась по черным лебедям, кото-
рые— помнишь, Анна? — так высокомерно и мелан-
холично скользили по озеру. У них были красные
клювы, и они снисходительно и манерно принимали
наши угощения, прожорливые создания!.. На этот
раз мы обязательно захватим им белого хлеба. По-
годите-ка! Сегодня Пятница? Отправимся в воскре-
сенье! Идет? Ведь это самый удобный день для
Эдуарда и для мистера Китона тоже. Не правда ли?
Хотя в воскресенье туда, наверно, нахлынет тьма на-
роду, но меня это не смущает! Я люблю потолкаться
в разряженной толпе. Я наслаждаюсь всем этим не
меньше, чем они, и, с восторгом разделяя общее ве-
селье, веселюсь напропалую! А во время народных
празднеств в Оберкесселе, когда пахнет пончиками,
жаренными в сале, а ребятишки сосут леденцы и
возле балаганов теснится пропасть неописуемо вуль-
гарного люда, и все свистят, дудят, кричат! Мне это
по душе. Правда, Анна на этот счет иного мнения.
29 Т. Манн. т. 8
441
Ей от этого не по себе. Не спорь, Анна, ты предпочи-
таешь изысканную грусть черных лебедей, там, на
водной глади... Кстати о воде! Слушайте, детки, да-
вайте поплывем и мы! Скучно ехать за город в трам-
вае. То ли дело путешествие по реке. Старик Рейн до-
ставит нас на место. Эдуард, будь любезен, загляни
в расписание пароходов! Нет, впрочем, погоди! Ку-
тить так кутить! Один разок можно себе это позво-
лить. Наймем моторную лодку и прокатимся по
Рейну. Тогда и мы будем в гордом одиночестве на
воде, как черные лебеди... Надо только решить:
пуститься ли в плаванье до обеда или после?
Решили, что до обеда. Кстати, Эдуард высказал
предположение, что замок открыт для посетителей
всего несколько часов, по утрам.
Итак, в воскресенье! При энергичном вмешатель-
стве Розали все наладилось быстро и точно. Китону
было поручено нанять лодку. Сбор назначили на
послезавтра в девять утра, на пристани у ратуши
возле футштока.
Все сложилось, как того хотели. Утро выдалось
солнечное, слегка ветреное. Предприимчивая публика
с детьми и велосипедами запрудила набережную
в ожидании белого парохода, курсировавшего по ли-
нии Кельн — Дюссельдорф. Для семейства Тюммлеров
стояла наготове моторная лодка. Ее хозяин — чело-
век с серьгами в ушах, с выбритой верхней губой и
рыжеватой морской бородкой — помог дамам войти
в лодку. Не успели гости занять места на корме под
натянутым тентом, как лодка уже и отчалила. Она
шла, быстро разрезая течение мощной реки, берега
которой, впрочем, выглядели достаточно прозаично-
Башня старого замка, покосившийся купол Ламбер-
тускирхе, портовые сооружения вскоре остались по-
зади. На смену им, за изгибом реки, снова возникли
бараки, лодочные сараи, фабричные здания. Но
дальше, за каменным молом, местность стала жи-
вописнее и зеленее. Деревушки, старинные рыбачьи
селения, — оказалось, что Кен и Эдуард даже знают
их, — ютились под защитой плотины, среди заливных
лугов^ плакучих ив и тополей. Сколько река ни из-
442
вивалась, пейзаж оставался все тем же все полтора
часа, до самого конца пути. «Как хорошо, — восклик-
нула Розали,— что мы предпочли лодку загород-
ному трамваю, на котором бог весть сколько времени
тащились бы по отвратительным улицам предместий»,
Она, очевидно, от всего сердца наслаждалась нехит-
рой прелестью водной прогулки. Закрыв глаза, она
тихонько и радостно напевала навстречу крепчав-
шему ветру: «О ветер речной, как люблю я тебя!
А ты меня любишь, скажи?» Ее осунувшееся узкое
лицо было очень миловидно под маленькой фетровой
шапочкой, украшенной пером, а весеннее пальто
с отложным воротничком из легкой шерстяной ткани
в красную и серую клетку замечательно шло к ней*
Анна и Эдуард тоже захватили в дорогу пальто,
один Кен, сидевший между матерью и дочерью, на-
дел только серый шерстяной свитер под суконную
куртку. Носовой платок, словно флаг, свисал у него
из нагрудного кармана, и Розали, стремительно по-
вернувшись и широко раскрыв глаза, вдруг засунула
его поглубже в карман Кена.
— Скромнее, скромнее, молодой человек! — ска-
зала она, степенно и укоризненно покачав головой.
Он улыбнулся: «Thank you!» l — и выразил жела-
ние узнать, что за song2 она напевала сейчас.
— Song? — переспросила она. — Так себе, чири-
кание, ла-ла-ла, а не песня. — Она снова закрыла
глаза и, едва шевеля губами, замурлыкала: «О ветер
речной, как люблю я тебя!..»
Ветер все время хотел сорвать шапочку с ее еще
густых, вьющихся, поседевших волос, и Розали была
вынуждена придерживать ее, не прекращая оживлен-
ной болтовни о том, как славно было бы продлить
эту прогулку по Рейну, миновать Хольтергоф и
уплыть туда, вдаль, к Леверкузену и Кельну, а от-
туда еще дальше, через Бонн и Годесберг, в Бад-
Хоннеф, что лежит у подножья Семигорья. Говорят,
там очень красиво. Нарядный курорт утопает в пло-
1 Благодарю вас (англ.).
2 Песня (англ.).
29*
443
довых садах и виноградниках, и там имеются щелоч-
ные источники, которые очень полезны при ревма-
тизме. Анна взглянула на мать. Она знала, что
последнее время Розали часто жалуется на боли
в пояснице, и эта прерывистая болтовня, эти как бы
нечаянно, на ветер брошенные слова о целебных во-
дах заставили Анну заподозрить, что и теперь ее не
оставляет эта мучительная, ноющая боль.
Через час они позавтракали хлебцами с ветчиной,
запивая их портвейном из маленьких дорожных рю-
мок. Не было и одиннадцати, когда лодка причалила
к маленькой, легкой пристани вблизи парка и замка.
Розали расплатилась с лодочником и отпустила
его, так как обратный путь они для удобства все же
решили проделать в трамвае. Парк начинался не
у самой реки. Им пришлось пересечь довольно топкий
луг, прежде чем вступить в старинную княжескую
усадьбу, под сень вековых, заботливо ухоженных де-
ревьев. С возвышения, от ротонды, где в нишах из
просмоленного тиса стояли скамьи для отдыха, расхо-
дились аллеи великолепных деревьев, уже покрытых
распустившимися почками. Лишь изредка одинокий
и робкий побег продолжал скрываться под защитой
коричневой оболочки. Иные аллеи, посыпанные мел-
ким гравием, кое-где были в четыре ряда окаймлены
шеренгами дубов, лип, буков, конского каштана и
стройных вязов. Разросшиеся ветви образовывали
над этими тропами подобие шатра. Были здесь и ред-
костные деревья, вывезенные из далеких краев. Эти
деревья в одиночестве стояли на лужайках — при-
чудливые контефрии, древовидные папоротники, буки и
даже старые знакомцы Кена — калифорнийские вел-
лингтонии, дышащие своими мягкими корнями.
Розали оставалась равнодушной к этим причудам.
Природа должна быть естественной и скромной, по-
лагала она, чтобы говорить сердцу. Красоты парка ее
не волновали. Лишь изредка подымая глаза на гордые
деревья, шагала она рядом с Эдуардом, вслед за его
молодым наставником и хромающей Анной, которая,
впрочем, сумела изменить порядок шествия с по-
мощью маленькой хитрости. Она остановилась и по-
444
дозвала брата, чтобы ; спросить его, как называются
аллея, по которой они идут, и узенькая тропинка, ее
пересекавшая: каждая аллея здесь хранила свое
старинное название. Была в парке и «аллея вееров»,
«аллея охотничьего рога» и прочие в том же роде.
Анна продолжала идти рядом с Эдуардом, оставив
Розали наедине с Кеном. Он нес пальто, которое
сняла Розали. В парке было безветренно и много
теплее, чем на реке. Мягко светило весеннее солнце,
сквозь высокие ветви роняя на дорогу золотые кра-
пинки, играя скользящими бликами на лицах людей.
В превосходно скроенном коричневом костюме,
плотно облегавшем ее девически тонкий стан, гос-
пожа фон Тюммлер шла бок о бок с Кеном, порою
бросая загадочно улыбающийся взгляд на пальто,
переброшенное через его руку.
— Вот они! — крикнула она, подразумевая чер-
ных лебедей.
Птицы важно и неторопливо скользили по водной
глади навстречу посетителям.
— Как они хороши! Анна, ты узнаешь их? Где
их хлеб? — Кен вытащил из кармана завернутый в га-
зету хлеб и протянул Розали. Хлеб хранил тепло его
тела. Розали взяла хлеб и откусила от него кусочек.
— But it is old and hard! l — крикнул он, делая
движение задержать ее.
— У меня хорошие зубы! — возразила она.
Но вот один лебедь, подплыв к самому берегу,
распростер свои темные крылья и стал бить ими по
воздуху, вытягивая шею вверх и гневно шипя на Ро-
зали. Наши друзья посмеялись над его жадной рев-
ностью, правда, не без испуга. Остальные птицы под-
плыли к своему вожаку. Розали медленно бросала
им черствые крошки, и птицы неспешно, с достоин-
ством принимали угощение.
— И все же я опасаюсь, — сказала Анна матери,
когда они пошли дальше, — что этот злой лебедь не
простил тебе хищения своей пищи. Он все время был
подчеркнуто холоден и надменен.
Но он завалявшийся и черствый! (англ.)
445
— Нет, почему, — возразила Розали. — Он только
на одно мгновение испугался, что я съем весь хлеб.
Ему тем более должно было прийтись по вкусу то,
что пришлось по вкусу мне.
Они приблизились к замку, к чистому круглому
пруду, в котором он отражался. На островке в полном
одиночестве стоял тополь. На посыпанной гравием
площадке, перед входом в невесомо легкое строение,
изысканная соразмерность которого граничила с при-
хотливой вычурностью, а розовый фасад кое-где —
увы! — облупился, несколько людей в ожидании от-
крытия замка коротали время, сверяя с данными
карманных справочников геральдические фигуры на
фронтоне, ангела с давно остановившимися часами
и каменные гирлянды цветов на высоких башнях. Ро-
зали и ее спутники примкнули к ним и, подняв го-
ловы, тоже принялись рассматривать очаровательные
архитектурные украшения феодальных времен, оваль-
ные «œils-de-boeuf»1 под крышей цветного ши-
фера. Мифологические фигуры — Пан и его нимфы,
довольно игриво и легко одетые, стояли на цоколях
между окон, такие же ветхие, как те четыре каменных
льва, что с угрюмым видом, скрестив лапы, охраняли
лестницу и входы.
Кен с головой ушел в историю, и восторгам его не
было конца. Он находил все «splendid»2 и «excitingly
continental» 3. О dear, стоит только подумать о его про-
заической родине за океаном! Там и в помине нет
этой аристократической грации обветшания за неиме-
нием курфюрстов и ландграфов, что могли бы себя
увековечить, воздав столь роскошную дань культуре.
Это, впрочем, не помешало ему повести себя до-
статочно дерзко в отношении столь почитаемой им
культуры и, к вящему удовольствию ожидающих,
усесться верхом на круп сторожевого льва, несмотря
на то что лев был снабжен острым шипом, как на
игрушечных лошадках, — для того чтобы можно было
насадить на них конника. Обеими вытянутыми вперед
1 «Бычьи глаза» (франц.).
2 Великолепным (англ.).
3 Восхитительно-континентальным (англ.)%
446
руками он ухватился за этот шип и с гиканием и
возгласами «хи!» и «но-но!» делал вид, что пришпори-
вает царя зверей, поистине являя в своем юном ша-
ловливом задоре как нельзя более милое зрелище.
Анна и Эдуард избегали глядеть на мать.
Но тут заскрипели засовы, и Китон поспешил
слезть со своего скакуна, ибо ключник, человек с пу-
стым закатанным рукавом, по всей вероятности ун-
тер-офицер и инвалид войны, в утешение получив-
ший это теплое местечко, распахнул двери централь-
ного портала. Он встал в высоком дверном проеме
и, пропуская мимо себя публику, вручал входные би-
леты и тут же надрывал их, сиплым голосом давая за-
ученные наизусть, сотни раз говоренные пояснения.
— Лепные детали фасада, — говорил он, — изго-
товлены скульптором, нарочно выписанным для этого
из Рима, а парк и замок являются творениями фран-
цузского архитектора. Посетители видят перед собой
один из самых выдающихся образцов позднего ро-
коко, уже переходящий в стиль Людовика Шестна-
дцатого; в замке имеется пятьдесят пять зал и по-
коев, и весь он обошелся владельцам в восемьсот
тысяч талеров, и так далее, и тому подобное.
В вестибюле на входящих пахнуло затхлым холо-
дом. Выстроенные в ряд, там стояли большие
войлочные туфли, похожие на лодки. Посетители зале-
зали в них под визг и хихиканье дам, чтобы не по-
портить драгоценный паркет, и в самом деле одну из
главных достопримечательностей парадных залов,
куда все и побрели вслед за без умолку говорящим
инвалидом, беспомощно шаркая и скользя ногами.
В середине каждого покоя прихотливые и разнообраз-
ные узоры паркета складывались в затейливые
звезды, цветочные гирлянды. Блестящая поверхность,
подобно тихой заводи, отражала тени людей, наряд-
ную гнутую мебель, высокие зеркала между увитых
гирляндами золоченых колонн, затканные цветами
шелковые шпалеры с золотой кромкой, хрустальные
люстры, блеклую нежную роспись потолков и медальо-
нов над дверями, где повторялись охотничьи сцены и
эмблемы музыки. Несмотря на местами потускнев-
447
шую амальгаму, все это создавало странную иллю-
зию ушедших времен. Всюду струящийся поток же-
манных золотых завитков, отражавших неповторимый
вкус породившего его времени, говорил о расточитель-
ной роскоши и неистребимой жажде наслаждений.
Кен Кито'н вел госпожу фон Тюммлер, держа ее
под локоток. Каждый американец так ведет свою
даму по улице. Смешавшись с посторонними посети-
телями, разлученные с Анной и Эдуардом, они сле-
довали за гидом, который хрипло бубнил свой текст,
деревянным книжным языком объясняя людям то, что
они видят; видят же они далеко не все, поучительно
добавил он, по шаблону переходя на топорно шутли-
вый, многозначительный тон, впрочем, нисколько не
отразившийся на кривом и кислом выражении его
лица. Не все пятьдесят пять комнат замка открыты
для обозрения. Эти господа в старину знали толк
в шалостях и веселых забавах. Они не упускали удоб-
ного случая для тайных похождений, для чего у них
имелись укромные уголки, куда можно было попасть
при помощи хитрых механизмов, как, например, вот
этот. И он остановился возле зеркала, которое, пови-
нуясь нажатию пружины, отодвинулось в сторону, от-
крыв изумленным взорам узкую винтовую лестницу
с перилами тонкой сквозной резьбы. Внизу, на цо-
коле, стоял безрукий торс мужчины, увенчанный ви-
ноградными гроздьями и очень условно прикрытый
фиговым листом. Верхняя часть туловища была
слегка откинута назад, и под вскинутой козлиной бо-
родкой расплывалась широкая, сластолюбивая
улыбка. В охах и ахах не было недостатка. «И тому
подобное», — сказал гид, — это было его излюблен-
ное выражение. После чего он водворил зеркало с се-
кретом на место.
— Или вот еще, — сказал он, пройдя немного
дальше, и сделал так, что отодвинулась часть шелко-
вых шпалер, оказавшаяся потайной дверью, за кото-
рой открывался уводивший в неизвестность узкий
коридор. Оттуда пахнуло плесенью. — Вполне в их
вкусе,— сказал однорукий, — иные времена, иные
448
нравы! ^сентенциозно изрек он и повел посетителей
дальше.
Войлочные лодки нелегко было удержать на но-
гах. Госпожа фон Тюммлер уронила одну из них,
и покуда Китон, встав на колени, со смехом ловил ее
и снова одевал ей на ногу, посетители успели уйти
вперед. Он снова взял ее под локоть, но она, мечта-
тельно улыбаясь, не трогалась с места, глядя вслед
исчезавшим в отдаленных покоях людям. По-преж-
нему опираясь на его руку, она обернулась назад и
стала стремительно ощупывать шпалеры там, где
они открылись.
— You aren't doing it right, — шепнул он. — Leave
it to me't was here1. — Он разыскал пружину. Дверь
послушно открылась, и затхлый воздух потайного
хода поглотил их. Было темно. Со вздохом глубокой
безысходной муки Розали охватила руками шею
юноши, и он, тоже ликуя, прижал к себе ее трепещу-
щее тело.
— Кен, Кен! — твердила она, уткнувшись лицом
в его шею. — Я люблю тебя, я тебя люблю, ты знал
об этом, правда? Я не сумела скрыть это от тебя.
А ты, ты тоже любишь меня немножко, хоть
немножко? Скажи, можешь ли ты любить меня, такой
молодой, как по велению природы полюбила тебя
я, седая женщина? Да? Твой рот, — о, наконец-то! —
твой молодой рот, который меня так мучил, твои
губы. Можно поцеловать их? Скажи, можно? Ведь ты
пробудил меня вновь, мой любимый! Я все могу, как
ты, Кен. Любовь сильна — она чудо, она приходит и
делает чудеса. Целуй меня, милый! Меня так мучили
твои губы, о, как они меня измучили! Потому что —
знаешь ли ты? — плохо приходилось моей бедной го-
лове от разного умничания, от мыслей об отсутствии
предрассудков, о том, что распутничать не мой удел,
о том, что мне грозит опустошенность и разрушение
из-за разлада между образом жизни и прирожден-
ными убеждениями. Ах, Кен, это умничание действи-
тельно едва не опустошило, не разрушило меня, а ты...
1 Вы не так это делаете. Позвольте мне. Это здесь (англ.).
449
Это ты наконец! Это ты, это твои волосы, твое дыха-
ние, твои руки! Это твои руки обнимают меня, я узнаю
их, это тепло твоего тела, от которого я вкусила,
а черный лебедь рассердился...
Еще немного, и она упала бы. Он поддерживал ее,
увлекал вперед по таинственному ходу. Постепенно
их глаза привыкли к темноте. Ступеньки вели вниз,
к полукруглой арке-двери, за которой унылый верхний
свет падал на альков, обитый шелком с вытканными
по нем целующимися голубками. Маленький диванчик
стоял там, амур с завязанными глазами держал над
ним что-то вроде светильника. Было душно< Они сели.
— Фу! Мертвящий запах тлена! — с содроганием
шепнула Розали, прижимаясь к его плечу. — Как пе-
чально, Кен любимый, что мы оказались здесь, среди
давно ушедших, мертвых... Я мечтала целовать тебя
на лоне природы, овеянная ее запахами, сладостным
дурманом жасмина и черемухи. Вот где я должна
была целовать тебя, а не здесь, в этом гробу. Пусти,
оставь меня, гадкий мальчик! Я буду твоей, но не
здесь, среди тлена. Завтра я приду к тебе, в твою ком-
нату, завтра утром, а может быть, и сегодня вечером. Я
устрою это, я сыграю шутку с моей премудрой Анной!.,
Он заставил ее еще раз повторить это обещание..
Наконец они решили, что пора вернуться к своим.;
Неизвестно только было — идти ли обратно или впе-
ред. Кен решил идти вперед. Через другую дверь по-
кинули они мертвую комнату наслаждений. Здесь
тоже был темный ход, он петлял, он подымался
вверх, пока наконец не привел к заржавленной ка-
литке. Она поддалась могучему напору Кена, но сна-
ружи так густо была опутана вьющимися растениями,
что им едва удалось выбраться. Воздух был чист и
свеж, журчала вода. За широкими клумбами, где
распускались первые цветы весны — желтые нар-
циссы, били фонтаны. Они вышли в парк с другой
стороны. Только что справа показалась группа посе-
тителей уже без гида. Анна и Эдуард шли послед-
ними. Наша пара смешалась с шедшими впереди
людьми, которые начали разбредаться по парку, лю-
буясь фонтанами. Самым правильным было оста^
450
новиться, оглядеться, пойти навстречу брату с сестрой.
«Где вы были?» — последовал вопрос, и: «Об этом
следует спросить вас!» И: «Можно ли так исчезать?»—
Анна и Эдуард даже возвращались, чтобы разыскать
пропавших, но все было напрасно, «В конце концов
не могли же вы исчезнуть с лица земли»,— сказала
Анна. «Не в большей мере, чем вы», — возразила
Розали. Никто не решался смотреть другому в глаза.
Они миновали кусты рододендрона, обогнули за-
мок и вышли обратно к пруду. Трамвайная остановка
была почти рядом. Сколь длительно было путешествие
на лодке, вдоль изгибов Рейна, столь стремительно
совершилось возвращение в шумном трамвае, проно-
сившемся по фабричному району, мимо рабочих
окраин. Брат и сестра скупо обменивались словами
между собой или с матерью, руку которой Анна дер-
жала в своей, заметив, что Розали дрожит мелкой
дрожью. В городе, около Королевской аллеи, они рас-
прощались с Китоном,
Госпожа фон Тюммлер не пришла к Кену Китону.
Этой ночью она почувствовала себя очень худо и
напугала весь дом. То, что недавно сделало Розали
столь счастливой, столь гордой, то, что она превозно-
сила как чудо, содеянное природой, как возвышенную
победу духа, — сейчас возобновилось самым злове-
щим образом. У нее еще достало сил позвонить, но
когда прибежали дочь и служанка, они нашли ее
истекающей кровью, без памяти.
Доктор Оберлоскамф прибыл немедленно. Розали
пришла в сознание у него на руках и очень удивилась
его присутствию.
— Как, доктор, вы здесь? — сказала она. — Оче-
видно, Анна побеспокоила вас? Но у меня самое
обыкновенное женское недомогание...
— При некоторых обстоятельствах, уважаемая,
подобные функции нуждаются в наблюдении,— воз-
разил старик.
Дочери он со всей решительностью заявил, что
больную необходимо поместить в гинекологическую
клинику,
451
— Это случай, требующий подробного исследовав
ния, которое, впрочем, может показать и полную его
безобидность. Вполне возможно, что метрорагии —
предыдущая, о которой он сейчас впервые услышал,
и эта, всех встревожившая, вторая — вызваны мио-
мой, которую без особых трудностей удастся опери-
ровать и удалить. Под наблюдением директора и пер-
вого хирурга клиники, профессора Мутезиуса, вашей
уважаемой матушке будет обеспечен надежнейший
уход.
Его предписание было выполнено, к немому изу-
млению Анны, без возражений со стороны госпожи
фон Тюммлер. Только глаза у матери были очень
большие, отсутствующие.
Бимануальное исследование, предпринятое Муте-
зиусом, показало не по возрасту увеличенную матку, не-
равномерное утолщение ткани, а на месте придатках
уже угасающей деятельностью — бесформенную опу-
холь. При выскабливании были найдены карциноматоз-
ные клетки, судя по характеру, частично возникшие в
яичниках. Не подлежало сомнению, что и в самой мат-
ке наличествует очаг ракового поражения. Все указы-
вало на бурное развитие злокачественной опухоли.
Профессор, человек с двойным подбородком, ярко-
красным лицом и водянисто-голубыми глазами, кото-
рые легко наполнялись слезами без какой бы то ни
было связи с душевными переживаниями, отвернулся
от микроскопа.
— Я сказал бы, что очаг поражения предостато-
чен, — обратился он к своему ассистенту, доктору
Кнеппергесу. — Все же оперировать будем, Кнеппер-
гес! Тотальная экстирпация в пределах здоровой
ткани малого таза и лимфатических желез, возможно,
продлит жизнь.
Но вскрытие брюшной полости при белом, дневном
свете дуговых ламп явило врачам и сестрам страш-
ную картину, не оставлявшую надежды даже на вре-
менное улучшение. Оказывать помощь было слишком
поздно. И брюшная полость — это было видно и не-
вооруженным глазом — подверглась нашествию пора-
женных клеток. Все лимфатические железы были
452
карциноматозно перерождены; не оставалось сомне-
ния, что очаги рака распространились и в печени.
.-*-. Вот те и на! Взгляните-ка на эту картину! —
сказал Мутезиус. — Вероятно, это превосходит все ва-
ши ожидания. — О том, что это превзошло и его соб-
ственные, он предпочел умолчать. — Нашему благо-
родному искусству, — присовокупил он, между тем
как глаза его наполнились слезами, не говорившими
ни о чем, — здесь предъявлено слишком непосильное
требование. Вырезать все это невозможно! Если вы
изволили заметить, что эта штука в виде метастаза
проникла уже и в оба мочеточника, вы не ошиблись.
Полагаю, уремия не за горами. Я, видите ли, не отри-
цаю возможности, что матка сама произвела это про-
жорливое отродье. И все же советую вам прислу-
шаться к моему предположению — вся история берет
начало в яичниках. Неиспользованные гранулезные
клетки, те, что со дня рождения находятся в полном
покое, с наступлением переходного возраста, бог весть,
благодаря каким возбудителям, получили пагубное
развитие. Тогда, post festum \ если вам угодно так
выразиться, эстрогенные гормоны устремляются на
организм — затопляют, захлестывают его, что и при-
водит к гормональной гиперплазии слизистой оболочки
матки и, как правило, сопровождается кровотечениями.
В полупоклоне, которым Кнеппергес, тощий, само-
надеянный молодой человек, поблагодарил за поуче-
ние, сквозила скрытая ирония.
— Что ж, начали, üt aliquid fieri videatur 2,—ска-
зал профессор. — Все жизненеобходимое мы ей оста-
вим, как ни парадоксально это звучит в данном случае.
Анна ждала наверху в палате. Мать подняли
в лифте, перенесли на носилках и уложили на кровать.
Она проснулась после наркоза и невнятно прогово-
рила:
— Анна, детка, он шипел на меня.
— Кто, мамочка?
— Черный лебедь.
1 Здесь — после всего (лат.).
2 Чтобы казалось, будто что-то сделано (лат.).
453
И тут же снова уснула. Но в последующие дни
Розали не раз еще вспоминала о лебеде, его кроваво-
красном клюве и темном биении распластанных
крыльев. Вскоре уремическая кома повергла ее в глу-
бокое беспамятство. И когда началось двухстороннее
воспаление легких, уставшее сердце больше уже не
могло бороться.
Но незадолго до конца ее сознание еще раз прояс-
нилось. Розали подняла глаза на дочь, которая
сидела у кровати, сжимая руку матери в своей руке«
— Анна, — сказала она, силясь подвинуть верх-
нюю часть тела немного ближе к краю кровати и
поближе к дочери. — Ты слышишь меня?
— Конечно слышу, мамочка, любимая.
— Анна, никогда не говори о жестокой издевке
природы, о том, что она обманывает. Не ропщи на
нее. Я не ропщу. Не хочется уходить туда, от вас,
от жизни и весны. Но разве без смерти была бы
весна? Смерть — великая спутница жизни, и если ко
мне она явилась в облике воскресшей молодости и
любви, это не было ложью, а было благоволением
и милостью.
Еще неуловимое движение, еще поближе к дочери,
и замирающий шепот:
— Природа... Я всегда любила ее. И она всегда
ко мне благоволила.
Розали скончалась мирно, оплакиваемая всеми,
кто ее знал.
1953
ПРИМЕЧАНИЯ
Х03ЯПП H СОВАЕА
Стр. 7. ...похожие на начало второй темы шубертовской
«Неоконченной симфонии»... — Симфония си-минор Франца Шу-
берта (1797—1828), получившая название «Неоконченной» за
свою двухчастность.
Стр. 8. ...зрелище... напоминающее мне старого графа
Моора... он появлялся из башни, где его морили голодом. —
Эпизод из трагедии Фридриха Шиллера «Разбойники» (дей-
ствие четвертое, явление пятое)'.
Стр. 47. Геллерт Христиан-Фюрхтегот (1715—1769)4— немец-
кий писатель-просветитель, один из создателей немецкой бур-
жуазной комедии и просветительского романа, сатирик-басно-
писец. Был учителем молодого Гете.
Опиц Мартин (1597—1639)—немецкий поэт и теоретик
классицизма. Произвел реформу стихосложения — переход от
силлабического стиха к тоническому. Его «Книга о немецкой
поэтике» (1624), считалась классическим трудом в Германии
того времени.
Флемминг Пауль (1609—1640) — немецкий поэт. В 30-х гг.
XVII столетия совершил вместе с голштинским посольством
описанное Олеарием путешествие в Россию и Персию. Автор
сонетов о Москве (впервые переведенных Сумароковым), которые
знакомили западноевропейского читателя с Россией той эпохи.
Бюргер Готфрид-Август (1747—1794)—немецкий поэт —
представитель «Геттингенского Союза поэтов», примыкавший
к литературному движению «Бури и натиска». Создатель немец-
кой баллады («Ленора»), опиравшейся на традиции народной
поэзии.
30 т. Манн. %. в
457
Стр. 47. Штифтер Адальберт (1805—1868J — австрийский пи-
сатель, автор сборников рассказов «Этюды», «Пестрые камни»,
а также романа «Бабье лето».
Стр, 48. Лоррен Клод (псевдоним Клода Желле, 1600—
1682)—французский художник и гравер, один из создателей
французского пейзажа — жанра, характерного для стиля раннего
западноевропейского классицизма.
ПЕСНЬ О Г Е Б Б II К Е
Стр. 96. Знаю размер я старинный — он мил был и грекам
и немцам. — Песнь о ребенке написана гекзаметром — размером
гомеровского эпоса. В немецкой классической литературе им
пользовались Клопшток, Гете, Шиллер и многие другие поэты.
Стр. 97, ь..битвы Кронида — описанные в «Теогонии» древне-
греческого поэта Гесиода битвы Зевса с титанами, которые были
низвергнуты им в Тартар. Кронид —сын титана Кроноса — Зевс.
Стр. 100. Оры — в древнегреческой мифологии богини вре-
мен года.
Стр. 102. Стадию жабр прошла ты во тьме... — Человече-
ский зародыш в материнском чреве, повторяя в процессе своего
развития историю вида, приобретает жаберные щели, которые
впоследствии отмирают еще в эмбриональном состоянии.
Стр. 108. «Ганс-колпачишко», «Мал-человечишко» — персо-
нажи немецких народных сказок братьев Гримм.
Стр. 113. ...корзинка стоит — «колыбель Моисея»... — По
библейскому сказанию, мать Моисея, спасая новорожденного
сына от фараонова приказа — убивать всех иудейских младен-
цев, положила ребенка в корзину и спрятала в тростнике на
берегу Нила, где он был найден пришедшей купаться дочерью
фараона (Библия, Исход, гл. III)4,
Стр. 114. ...мой город родной... около гавани старой... — ро-
дина Томаса Манна и его предков — вольный город Любек«
Пестро-златой... храм византийский... — Речь идет о со-
боре св. Марка в Венеции, который построен в стиле, сочетаю-
щем характер византийской архитектуры с формой романских
базилик.
Стр. 115. Плечи флейтистки Нильской долины... — Намек
на изображение музыкантши с росписи гробницы Нахт в древ-
них Фивах (XV в. до н. э.).
458
Стр. 115. ...создал... гений ганзейца книгу великую... — Не^
мецкий философ-идеалист Артур Шопенгауэр (1788—1860), автор
книги «Мир как воля и представление» (1819—1844), был сыном
данцигского купца и учился в Гамбурге, одном из главных
городов старой Ганзы.
Упанишады — древнейшие религиозно-философские трактаты
индийцев, комментарии к Ведам, относящиеся к первой поло-
вине I тысячелетия до н. э. Упанишады стали известны Шопен-
гауэру в латинском переводе Анкетиль-Дюперрона (1731—1805J)
и сделались его настольной книгой.
Стр. 117. ...напечатанную в Виттенберге по высочайшей воле
курфюрста Саксонского...— В 30-х годах XVII в. в Виттенберге,
с соизволения курфюрста Фридриха Саксонского, был издан не-
мецкий перевод библии, сделанный Мартином Лютером
;( 1483—1546),
Стр, 121« ...его имя известно уже... — Томас Манн имеет
в виду немецкого поэта и ученого-филолога Эрнста Бертрама
(1884—19571 и его книгу «Ницше» (1918}.
Горестный жребий воспеть последнего из Икаридов... — На-
мек на древнегреческий миф о единственном сыне критского
зодчего Дедала, Икаре, которого постигла месть богов за то,
что он поднялся к солнцу на крыльях, сделанных его отцом.
Истинный Фауста сын, от брака с прекрасной Еленой... —
Здесь Томас Манн сравнивает Ницше с Эвфорионом, одним из
персонажей гетевского «Фауста», который отважился подняться
в небо на восковых крыльях, растаявших при приближении его
к солнцу, что привело к его гибели («Фауст», часть вторая, акт
третий, картина «Внутренний двор замка»},
...человек виттенбергской и элевсинской чеканки... — Здесь
имеется в виду Ницше и характер его философского стиля. Вит-
тенберг был исторической колыбелью лютеранства. В аттическом
городе Элевсине с древнейших времен совершались мистерии
в честь богини плодородия Деметры и дочери ее Коры (Персе-
фоны)\ повелительницы подземного мира.
НЕПОРЯДКИ И РАПНЕЕ ГОРЕ
Стр. 143. Маколей Томас Бабингтон (1800—1859} — англ ий-
ский реакционный буржуазный историк и публицист, политиче-
ский деятель партии вигов, боровшийся против чартистов и все-
30* 459
общего избирательного права. В работе «История Англии от
восшествия на престол Якова"II» (1849—1861) выступает с кри-
тикой английской революции середины XVII в.
Стр. 143. Вильгельм Третий Оранский (1650—1702); ~,праЛ
витель Нидерландов, английский король, взошедший на пре-
стол вследствие революции 1688—,1689 гг. Способствовал оконча-
тельному упрочению в Англии. буржуазно-помещичьего парла-
ментарного режима.
Стр. 145. Маре Ганс (1837—1887)—немецкий живописец,
один из основоположников « теоретиков формалистического
искусства в Германии конца XIX в., писал абстрактно-схемати-
ческие и мифологические картины («Геспериды», «Возрасты
жизни» и др.).
Стр. 148. ...из числа перелетных птиц. — «Перелетные пти-
цы»— спортивная организация немецкой молодежи, созданная
в 1896 г. в Берлин-Штеглице под руководством Карла Фишера.
и в 1908—1914 гг. ставшая в Германии массовой. Всегерманский
«Союз перелетных птиц* был распущен гитлеровцами 19 июня
1933 г.
Стр. 165. Лоэнгрин — герой лотарингской легенды XII в.,
разработанной немецкими миннезингерами Вольфрамом фон
Эшенбахом в эпосе «Парцифаль» и Конрадом Вюрцбургским
в сказании «Лебединый рыцарь», а также французскими труба-
дурами в «Песне о рыцаре-лебеде».
ПАРНО И ВОЛШЕБНИК
Стр. 169. ...тщетно было бы искать башню, которой городок
обязан своим названием... — намек на название городка — Toppe
ди Венере (по-итальянски — «Башня Венеры»).
Стр. 173. Дузе-Чекки Элеонора (1859—1924) — крупнейшая
итальянская трагическая актриса, гастролировавшая во многих
странах Европы и Америки, завоевавшая известность накануне
первой мировой войны 1914—1917 гг. и эмигрировавшая из
Италии в связи с захватом власти фашистами. Жена драма-
турга Теобальда Чекки.
Стр. 213. Жезл Цирцеи. — Цирцея — в древнегреческой ми-
фологии волшебница, дочь бога солнца Гелиоса и Океаниды
Персы, на острове Эйя, прикосновением своего жезла обратив-
шая спутников Одиссея в свиней.
460
ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ
Легенда об обмененных головах на протяжении ряда веков
пользовалась популярностью на Востоке, переходя из страны в
страну и от народа к народу.
Впервые эта легенда встречается в санскритском сборнике
XII в. н. э. «Шукасаптати». В XIV в. она перекочевывает
в Иран и с санскрита переводится на персидский, который в те
времена играл такую же роль на Востоке, как в средневековой
Европе — латынь, и выходит в сборнике «Тути намэ» («Книга
попугая»)' Зия-уд-Дина Нахшаби. Вскоре она распространяется
по целому ряду стран Востока. Из последующих многочис-
ленных переделок наибольшей известностью пользуется «Тути
намэ» Мохаммада Кадири, появившаяся в конце XVIII в. на
персидском и нескольких новоиндийских языках. В том же
столетии легенда проникает в Среднюю Азию двумя путями —
через Иран и через Индию. Сначала она появляется в Туркме-
нии, на арабском языке, а также в манускрипте «Тюрки Тоти
намэ», бытует она и в народном творчестве других тюркских
народов. После воцарения в Индии тюркской династии бабури-
дов, в XVI—XVII вв., легенда вновь возвращается на родину.
В связи с развитием национального самосознания индийцев все
более возрастает интерес к культурно-историческим памятникам,
в том числе и к «Сказкам попугая». В 1803 г. легенда выходит
на языке урду, одном из наиболее распространенных новоиндий-
ских языков, в книге Сайда Хайдар-Бахша Хайдари «Тона Ка-
хани». Последний вариант вытесняет все остальные и становится
каноническим текстом.
Стр. 223. Майя—богиня иллюзии, олицетворение обманчи-
вости и призрачности всего земного. В индийских религиях и
идеалистической философии Майя — магическая сила, при по-
мощи которой Брахма творит весь чувственно воспринимаемый
мир.
Великая кормилица вселенной — один из эпитетов богини
Кали.
Стр. 224. ...опоясаны священным вервием и сопричислены
к сонмищу «дважды рожденных». — Речь идет о древнеиндий-
ском обряде, состоявшем в том, что юношу отводили к духов-
ному наставнику, который опоясывал его шнуром, свитым из
трех стеблей священной травы, вручал ему посох и посвящал
божествам. Обряд этот, обязательный для трех высших каст,
461
считался вторым рождением юноши, почему эти касты и назы-
вались «дважды рожденными»,
«Обитель благоденствующих коров». — Деревня названа в
честь легендарной древней деревни Гокула («стадо коров, коров-
ник»), где, по преданию, провел свои детские годы Кришна.
...в стране Кошала... — Кошала — местность, где был осо-
бенно развит культ бога Кришны, так как, по преданию, здесь
Кришна сочетался браком с одной из своих супруг, Сатья, до-
черью Нагнаджита, царя кошальского.
...воротами, обращенными на все четыре страны света... —
В древней Индии существовал обычай строить храмы с четырьмя
входами, посвященными божествам четырех стран света.
Богиня Речи — Сарасвати (богатая водами) — жена Брахмы,
первоначально олицетворение реки, впоследствии богиня мудро-
сти и красноречия, покровительница наук и искусств.
Брахманы. — В древней и феодальной Индии существовали
четыре основные касты: брахманы — жрецы, кшатрии — воины,
вайшьи — земледельцы, скотоводы, иногда—купцы, и шудры —
ремесленники, считавшиеся низшей кастой и, по предположениям
историков, происходившие от аборигенов страны, порабощенных
завоевателями, ариями.
...толкователей священных Вед... — Веды (знание) — древне-
индийские священные книги.
...последние... безусловно принадлежали к человеческому об-
ществу. — В древней Индии низшие касты смешанного происхо-
ждения — чандала, парии и другие — считались презренными и
стоящими вне человеческого общества.
Стр. 225. ...отец... сознательно остановился на жизненной сту-
пени «отца семейства»,.. — Каждый брахман должен был пройти
в своей жизни четыре стадии: брахмачари — ученика аскета,
грихастха — отца семейства, ванаваси — пустынника и саинь-
яси — аскета.
ГУРУ — духовный наставник, учитель.
Карма — в индийской религии и философии итог добрых и
злых деяний в жизни человека, определяющий его судьбу в даль-
нейших перевоплощениях.
...как Кришна — темнокожий и черноволосый. — В древне-
индийской мифологии Кришна — земное воплощение бога
Вишну, принявшего человеческий облик, чтобы спасти людей от
злых демонов, асуров. Имя свое Кришна (Черный) получил
462
за темный цвет тела, что свидетельствует о его происхождении
от доведийских божеств.
Стр. 226. ...Шива, когда он двоится и... бородатым аскетом,
лежит как мертвый у ног богини... — Шива — одно из верховных
божеств древних индийцев, член троицы, состоящей из Брахмы —
начало творческое, Шивы — начало гибели и разрушения и
Вишну (Деятельный)—начало охранительное, олицетворение
животворящих сил природы. Иногда бог Шива является в об-
лике подвижника и тогда получает имя Махайоги («великий
аскет-мудрец») «
Стр. 227. Индрапрастха '(обитель Индры)—древнее назва-
ние современного города Дели.
...ящик с... драгоценными раковинами... — каури, маленькие
морские раковины, с древнейших времен служившие в Индии
мелкой разменной монетой.
Кали (Черная]; — супруга Шивы, богиня смерти и разруше-
ния, которой в древности приносились человеческие жертвы.
Известна также под именем Парвати (Гордая), Бхайравм
(Страшная)' и др.
...в сугубо священном месте... — Место впадения реки Джам-
ны (древняя Ямуна) в Ганг считается в Индии священным.
Стр. 228. Земной млечный путь — один из эпитетов реки
Ганга. По преданию, она течет не только на земле, но и на
небесах и в подземном царстве.
Владычица всех радостей и упований — один из эпитетов
богини Кали.
...символизирующих Шиву лингов. — Линга, или лингам —
у древних индийцев религиозная фаллическая эмблема, символ
бога Шивы; представляет собой каменный или глиняный столб
конусообразной формы.
Стр. 229. ...у обоих юношей белой краской был выведен знак
исповедуемого ими вероучения. — Имеется в виду знак касты или
секты, изображаемый на лбу, на руках, на груди и т. п.
Стр.230. Нирвана (исчезновение, искупление)—согласно
учению буддизма, блаженство небытия, высшее, совершенное со-
стояние человека, освобождение души от оков индивидуальности
и растворение «я» в мировой душе.
Стр. 231. Сансара (странствование, течение жизни, бытие) —
в индийской религии особый мир, в котором происходит пере-
рождение всего живого, странствия души, вечно переходящей из
одной земной формы в другую.
463
Стр. 233. Санскрит (обработанный, совершенный) т— литера-
турный язык древней и средневековой Индии.
Дравиды — группа народов, населяющих южную Индию. Не-
когда они составляли основное население Индии и создали высо-
кую культуру, но в III тысячелетии до н. э. были оттеснены
кочевыми скотоводческими племенами, говорившими на языках
индийской группы индоевропейской семьи.
Стр. 234. ...«едущий на слоне», «господин над молниями» и
«великий бог» — эпитеты бога неба Индры.
Что нам до великого Индры... мы захотели приносить
жертвы коровам, лесным пастбищам и горам... — Намек на одну
из легенд о Кришне, который уговорил пастухов отказаться от
культа Индры и совершить жертвоприношение горе Говардхан.
Стр. 235. ...сокрушил крепости черных. — По преданию, в до-
исторические времена бог Индра даровал пришлым завоевателям,
ариям, победу над уроженцами Индии — темнокожим племенем
«дасью».
Стр. 236. ...по замыслу Брахмы. — Согласно учению брахма-
низма, Брахма является творцом вселенной, всеобщей, самодо-
влеющей душой, а все творения, люди и животные, представ-
ляют собой многообразные воплощения этой души.
Стр. 237. Прамлоча — одна из небесных нимф-танцовщиц
в свите бога Индры, нередко посылаемых богами для искушения
святых подвижников.
Канду — в древнеиндийской мифологии отшельник, просла-
вившийся своими аскетическими подвигами и сделавшийся почти
равным богам.
...как если бы ты прочел мне стихи Ригведы. — Ригведа,
или Веда Гимнов — древнейшая и наиболее важная из всех че-
тырех Вед.
Стр. 238. Праздник солнца — весеннее празднество в честь
бога солнца, сына Брахмы, Сурьи, который изображался обычно
в виде юноши на колеснице, запряженной семью изумрудными
конями.
Стр. 242. Шакти (сила, могущество) — женские божества,
супруги богов Брахмы, Вишну, Шивы, олицетворение производи-
тельных и питающих сил природы.
Стр. 243. В се созидающая и Всепоглощающая — эпитеты бо-
гини Кали, указывающие на двойственный характер ее культа»
Дурга ^(Недоступная) — одно из имен богини Кали,
m
Orjp. 244; И они —эмблема плодородия, женского плодонося-
щего начала, представляющая собой горизонтальный плоский ка-
мень, через который проходит Столб лингама.
Стр. 245. Курукшетра («поле Куру») — издавна почитав-
шаяся священной местность между городами Дели и Амбалой,
где, по преданию, происходила легендарная битва, описанная в
«Махабхарате», а также разыгрывались многие исторические
сражения, решавшие судьбы Индии.
Стр. 248. ...Кама угодил в тебя цветочной стрелой...— Кама,
или Камадева (любовь, желание) —индийский бог любви, сын
Вишну и Лакшми. Обычно изображается вооруженным волшеб-
ным луком с тетивой из пчел и пятью цветочными стрелами.
Рати... сестра весны — жена Камы, богиня любовного счастья.
Стр. 249. ...Сита и означает «борозда». — В древнеиндийском
эпосе «Рамаяна» Сита — дочь царя Джанаки, родившаяся из
борозды, проведенной ее отцом вокруг жертвенника, и жена
героя Рамы, земного воплощения бога Вишну. Имя Ситы носит
также жена Индры, богиня земледелия и плодородия, призывае-
мая во время пашни и посева.
Стр. 250. ...Сита не связана детским обетом. — В древней и
феодальной Индии были в обычае браки, заключавшиеся еще
в младенческом или раннем детском возрасте.
Стр. 251. День свадьбы, назначенный в строгом согласии
с исчислениями звездочетов... — В старину в Индии брак мог со-
стояться только при благоприятном заключении астрологов, кото-
рые должны были составить и" сличить гороскопы жениха и
невесты, так как расхождение между этими гороскопами могло
иметь якобы самые пагубные последствия для семейной жизни.
Стр. 258. ...речка... вырывается из ворот Химаванта... —
Химавант («Снежный»)—древнеиндийское название Гималай-
ского хребта.
Стр. 266. Деви (Божественная) —одно из имен богини Кали.
Стр. 270. ...раджа гандхарвов Читраратха... — Гандхарвы —
небесные певцы и музыканты из свиты Индры.
Стр. 283. Йоги — последователи одной из школ в индийской
философии, ставившей себе целью полное слияние, отожествле-
ние человеческой души с божеством путем особой, детально
разработанной системы аскетических упражнений.
Стр. 287. ...со змеей, у которой вырастают две головы, когда
отсечешь ей одну.— Речь идет о легендарном тысячеголовом царе
465
змей, повелителе подземного мира, Шеша, на котором покоится
Вишну, спящий в промежутках между периодами творения мира.
Стр. 288. Кайотсарга — одно из положений тела, входящих
в систему упражнений йогов.
Стр. 305. Шри-Лакшми (счастье, удача) — жена Вишну, бо-
гиня красоты, счастья и богатства, вышедшая из волн молочного
моря.
Стр. 311. Сати—в древнеиндийской мифологии дочь бога
Дакшни, супруга божества бури, Рудры, которая убила себя
из-за ссоры между отцом и мужем. Это имя в Индии получала
вдова, которая, по древнему обычаю, всходила на погребальный
костер своего мужа.
Стр. 313. ...под шелковым белым зонтиком...— Зонт у древ-
них индийцев считался знаком царской власти, а иногда и одним
из атрибутов божества,
3 À к о н
Стр. 314. Мидеан — страна в северо-западной Аравии,
у Красного моря, в древности населенная арабским пастушеским
племенем мидеанитян, по преданию, потомками Мидеана, сына
патриарха Авраама.
Иегова. — Первоначально бог-покровитель племени Иуды,
а также некоторых других родственных ему кочевых племен,
дух пустыни, обитавший на вершинах гор. Впоследствии — вер-
ховное божество в иудаизме, символ национальной идеи древних
иудеев при завоевании ими земли Ханаанской.
Стр. 315. Гошен — округ в северо-восточном Египте, который,
по библейскому преданию, был отведен фараоном для поселения
отца и братьев Иосифа по прибытии их в Египет (Библия, Книга
бытия, XV, 10)\
Стр. 318. ...дочери солнца. — В древнем Египте фараон
считался земным воплощением бога солнца и назывался «сы-
ном Ра».
Саргон I (Шаррукин, около 2800 г. до н. э.) — древний царь
Аккада в Вавилонии, завоеватель северной Месопотамии, объ-
единивший под своей властью Южное Двуречье. Здесь имеется
в виду легенда об его происхождении, напоминающая библей-
ское предание о Моисее: мать Саргона пустила младенца в ос-
моленной корзинке по течению реки, где его нашел и воспитал
жрец<
466
Стр. 319.. Птах — древнеегипетское божество, владыка под-
земного мира и судья мертвых, покровитель ремесл и искусств,
основатель городов и храмов; культ его впервые возник в Мем-
фисе.
Амон, или Аммон — бог солнца, которому поклонялись в Фи-
вах. В эпоху XXI династии фиванские первосвященники Аммона
захватили царскую власть и объявили Аммона верховным боже-
ством Египта.
Ра (или Тум) — одно из главных божеств древнеегипетской
религии, олицетворение солнечного диска, культ которого рас-
пространился из города Он (Гелиополис). Во времена Среднего
царства Ра начали отождествлять с Аммоном и чтить под име-
нем Аммона-Ра.
...он был «сыном»... — Имя Моше, по преданию, искаженное
египетское «мессу» — сын.
Эдом, или Идумея — гористая часть Аравийской пустыни,
в древности населенная племенем эдомитян, по преданию, по-
томков Исава, сына патриарха Исаака.
Рамессу II Строитель («Рамессу» — сын Ра, конец XIV — на-
чало XIII вв. до н. э.)—один из наиболее прославленных еги-
петских фараонов, завоеватель южной Сирии, Палестины и
государства хеттов, строитель Рамессума (храма-усыпальницы
фараона) и столицы Аанахту в Танисе, а также других храмов
и дворцов.
Питом и Раамсес — укрепленные пограничные города в древ-
нем Египте, служившие складами продовольствия и базами воен-
ных операций для фараонов, когда они предпринимали свои по-
ходы в Азию.
Стр. 324. Нун — древнеегипетское космическое божество,
олицетворение небесного хаоса, океана, в котором пребывали все
живые существа до сотворения мира.
...из колена Ефремова. — Колено это вообще отличалось во-
инственным духом; впоследствии, при завоевании земли Ханаан-
ской, солдаты для войска израильского вербовались преимуще-
ственно из его среды.
Стр. 343. Кадеш (буквально «святыня») — название многих
сирийских городов; здесь — крепость и культурно-политический
центр аморреев (амаликитян)\ расположенный в пустыне.
Амалик — по библейскому преданию, внук Исава, родона-
чальник арабского племени амаликитян, кочевавшего в аравий-
ской пустыне.
467
Стр. 350. Кодекс Хаммурапи—*древнейший юридический па-
мятник Древнего Востока, высеченный на большом каменном
столбе клинописными знаками; составлен по указу вавилонского
царя Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э.)\ законодателя и за-
воевателя, завершившего политическую и территориальную цен-
трализацию Вавилонского государства.
Стр. 357. ...богов Египта — богов-зверей. — В древнем Египте
существовал культ священных животных (кошка, корова, ибис,
ястреб и др.), вследствие чего многие божества, как Озирис,
Изида, Гор, Гатор, изображались с головой животного на чело-
веческом туловище.
Молох — финикийское божество солнца и огня, которому
приносились во всесожжение человеческие жертвы.
...не следи за полетом и криком птиц... — Имеются в виду
гадания жрецов-прорицателей по поведению священны* жв*
вотных и птиц
Стр. 358. ...не вопрошай мертвых... — Некромантия — вызы-
вание теней усопших с целью узнать будущее, — практиковав-
шаяся жрецами и магами, была широко распространена в древ-
нем мире.
Стр. 362. ...он жил в то время с одной негритянкой... она по-
пала в Египет еще ребенком... — по преданию, пленная эфиоп-
ская царевна Фарбис.
Куш — древнеегипетское название Эфиопии.
Стр. 364. Леей — один из сыновей Иакова, по преданию,
родоначальник священнослужителей левитов.
Стр. 370. ...установление письменности... — Речь идет здесь об
изобретении фонетического письма, которое предание приписы-
вает Моисею, в противоположность существовавшему у семити-
ческих племен пиктографическому письму изображений и идео-
графическому письму понятий — египетским иероглифам и асси-
ро-вавилонской клинописи.
Стр. 377. Белиал — одно из имен дьявола, сатаны; олице-
творение всякого нечестия и беззакония.
ОБМАНУТАЯ
Стр. 383. Петер, фон Корнелиус (1783—1867) —известный не-
мецкий исторический живописец из школы «назарейнев» в Риме,
иллюстратор «Фауста», «Божественной Комедии» и «Песни о Ни-
468
белунгах», -мастер фресковой живописи на историко-религиозные
темы.
Стр. 388. Boxyм — город в Западной Германии, в Рурской
области.
Стр. 393, ...у Шиллера в «Коварстве и любви» есть чело-
вечек... — Имеется в виду гофмаршал фон Кальб (действие пер-
вое, явление шестое).
Стр. 397. ...про Сару, что она благодаря чуду... — По библей-
скому преданию, Сара, жена ветхозаветного патриарха Авраама,
родила сына Исаака, когда ей было девяносто, а Аврааму —
сто лет.
Стр. 404. Золотой клад, охраняемый русалками с Миссури-
ривер... — Намек на сокровище, которое стерегут дочери Рейна
в древнегерманском сказании о Нибелунгах, послужившем осно-
вой для тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга».
Меровинги — династия франкских королей (V—VIII вв.),
ведущая свое происхождение от легендарного короля Ме-
ровея.
Мажордом Пипин — Пипин Короткий (714—768) — мажор-
дом (старший сановник) при дворе последнего Меровинга, Хиль-
дериха III, захвативший власть и основавший династию Каро-
лингов (потомки Карла Великого).
Барбаросса (Рыжебородый) — Фридрих I ( 1125—1190)) —
германский король из династии Гогенштауфенов и император
Священной Римской империи.
Кайзерсверт — старинный немецкий город на правом берегу
Рейна.
Альберт фон Берг (1193—1280)N — немецкий философ-схола-
стик, комментатор Аристотеля, автор трудов по теологии, алхи-
мии, физике, естественной истории, один из предшественников
научной мысли Возрождения.
Ян Биллем — курфюрст Иоганн-Вильгельм (1690—1716), мно-
гое сделавший для процветания Дюссельдорфа.
Стр. 411. ...о споре из-за Юлих-Клевского наследства.-—
После смерти последнего представителя Клевского дома, кур-
фюрста Иоганна-Вильгельма, возгорелась борьба за Юлих-
Клевские земли, на которые заявил притязания, вместе с про-
чими претендентами, римско-германский император Рудольф II;
борьба эта привела к войне 1614—1666 гг. и закончилась раз-
делом спорных владений между Бранденбургом и Пфальц-
Нейбургом.
469
Стр. 412. Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882} — американ-
ский философ, публицист и поэт.
Стр. 440. ...курфюрст Карл-Теодор, который в восемнадцатом
веке перенес свою резиденцию из Дюссельдорфа... в Мюнхен. —
После смерти Максимилиана-Иосифа в 1777 г. его преемником
в Баварии сделался курфюрст пфальцский Карл-Теодор (1724—-
1799), который вовлек страну в войну за баварское наследство
i(1778-1779)\
СОДЕРЖАНИЕ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
Хозяин и собака. Перевод В. Курелла .... 7
Песнь о ребенке. Перевод А. Исаевой 95
Непорядки и раннее горе. Перевод Т. Исаевой 128
Марио и волшебник. Перевод Р. Миллер-Буд-
ницкой 168
Обмененные головы. Перевод Наталии Ман , 223
Закон. Перевод С. Маркиша 314
Обманутая. Перевод Т. Исаевой ........ 383
Примечания 457
Томас Манн.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 8
Редактор С. Шлапоберекая
Художественный редактор Д. Ермоленко
Технический редактор В. Овсеенко
Корректор« В. Браги на и В. Элькин
*
Сдано в набор 4/1V I960 г.
Подписано в печать 14/IX 1960 г.
Бумага 84x108'/^—H,W. печ. л.=24,19 усл.
печ. л. 22,674 уч.-изд. л. Тираж 139 000 экз.
Заказ № 1536. Цена 10 руб.
с 1/1 1961 г. цена • 1 .руб. . •
Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
*
Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
' Ленинград, Измайловский пр., 29.