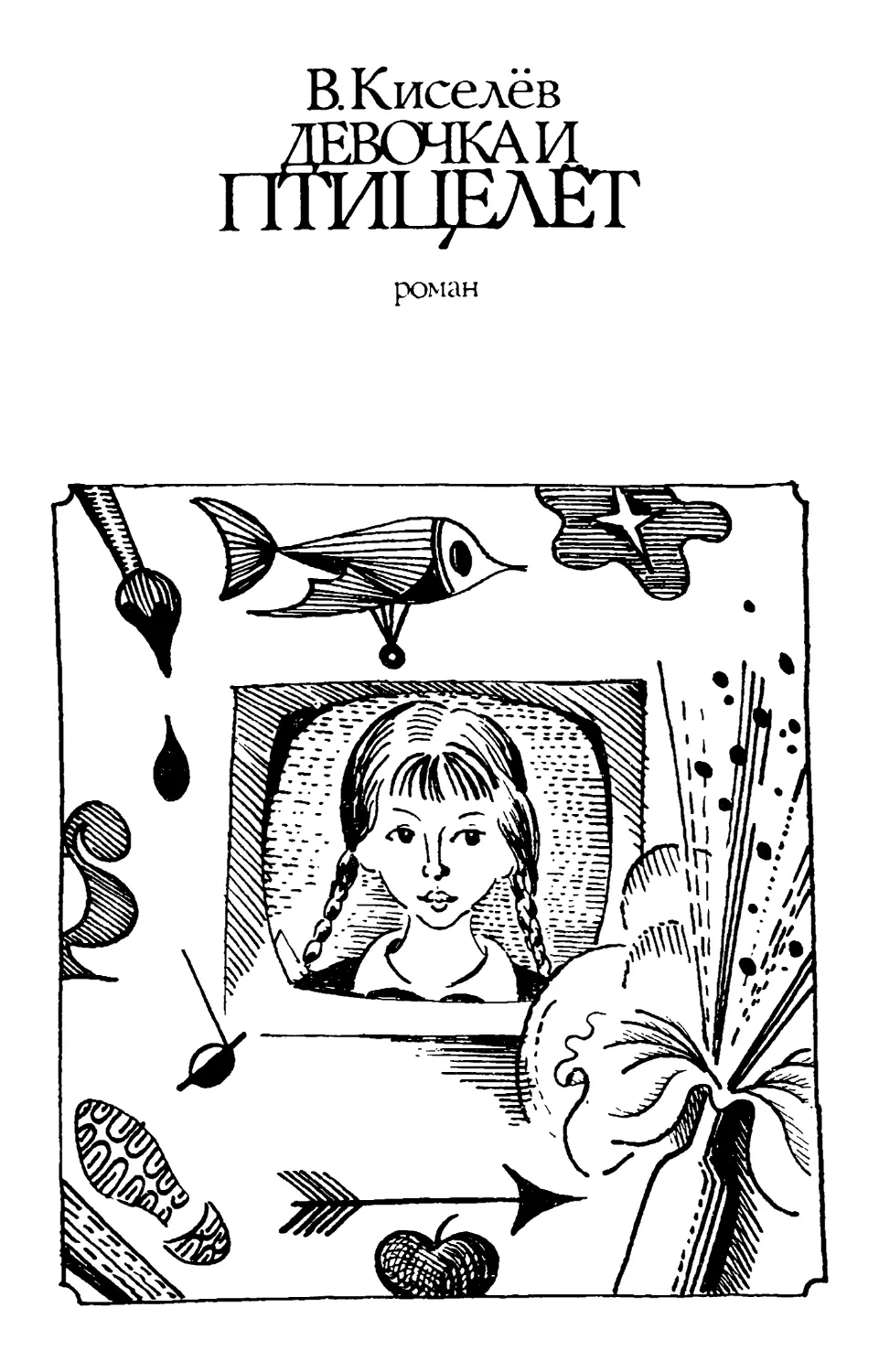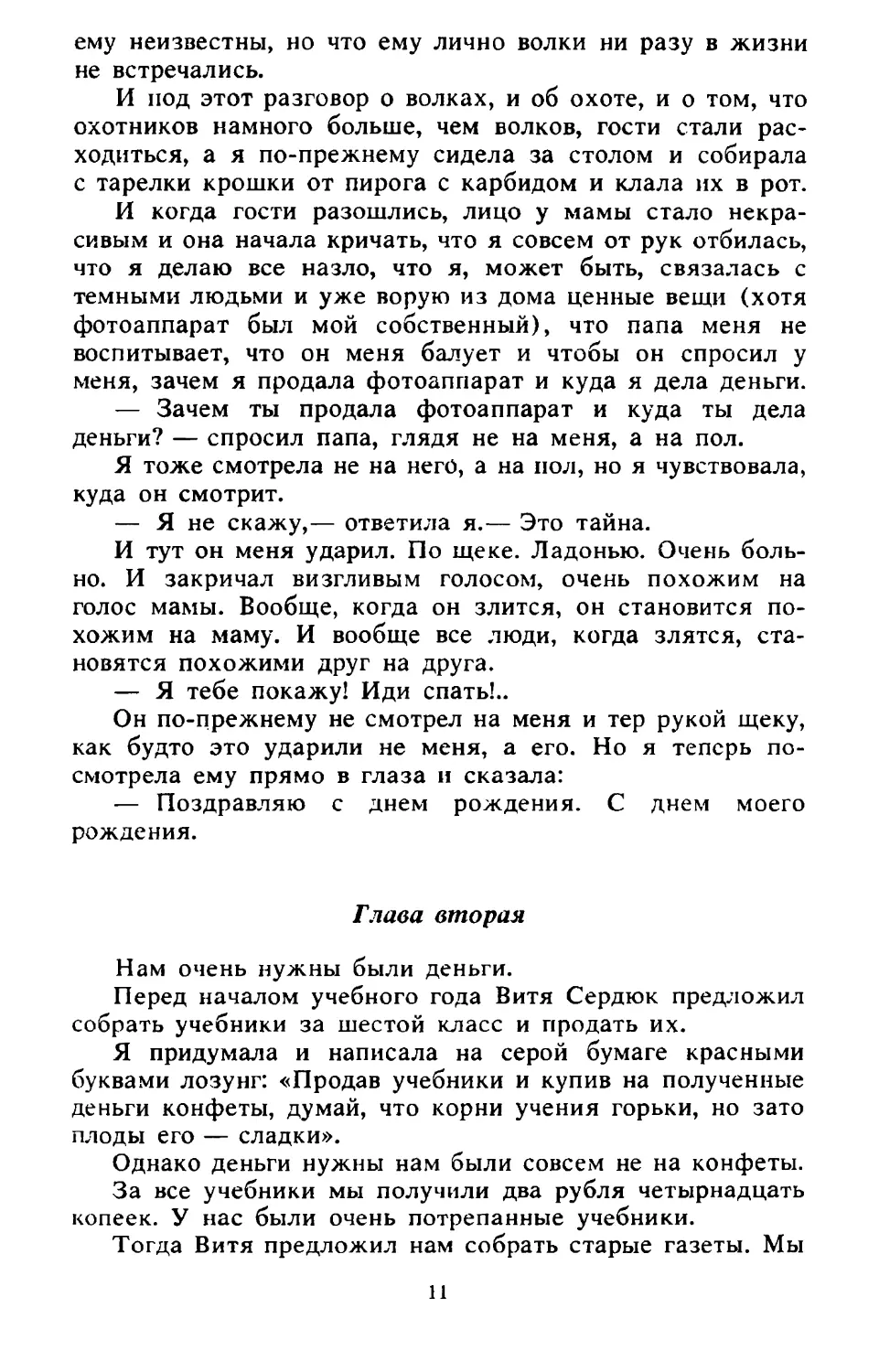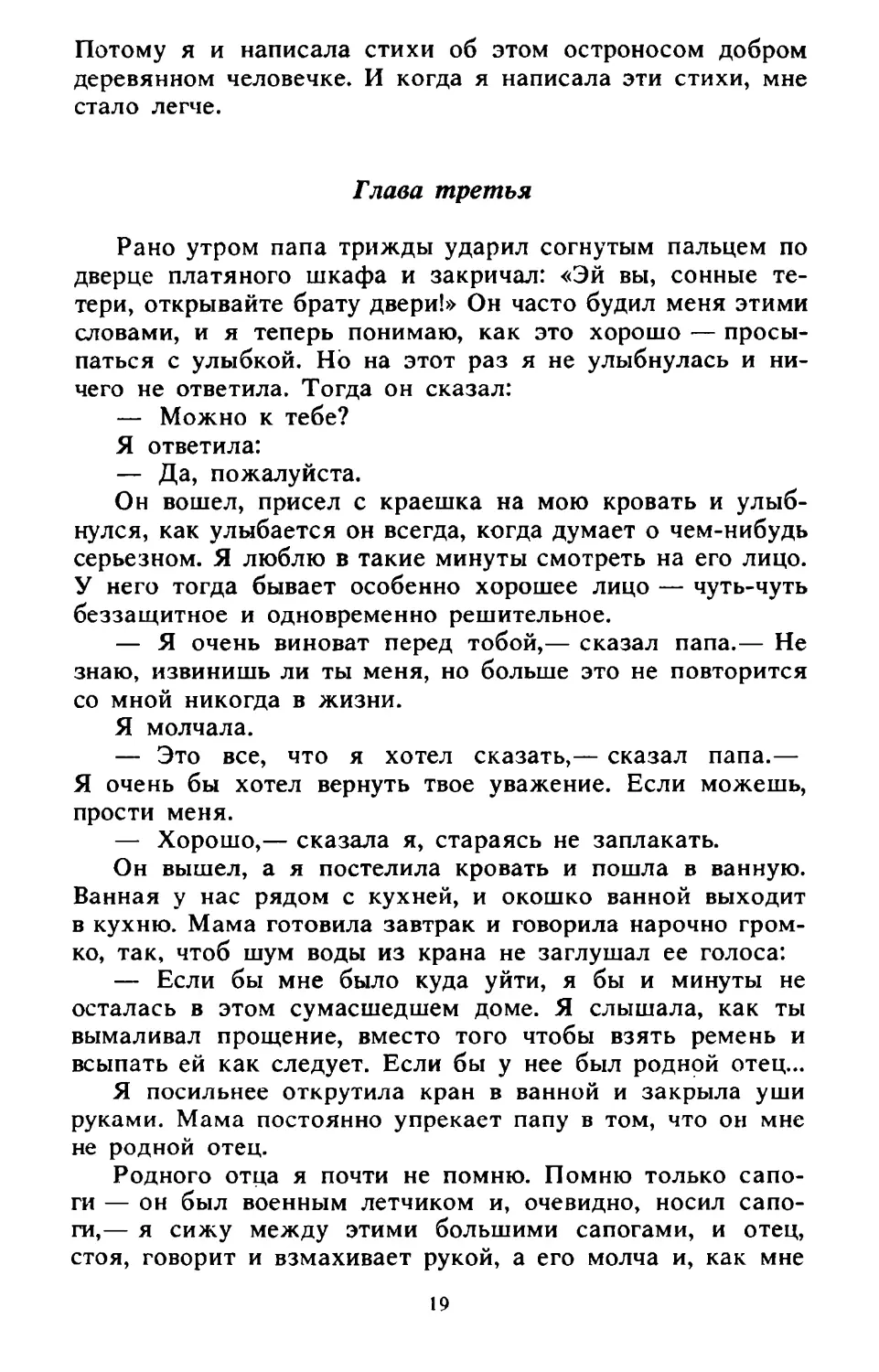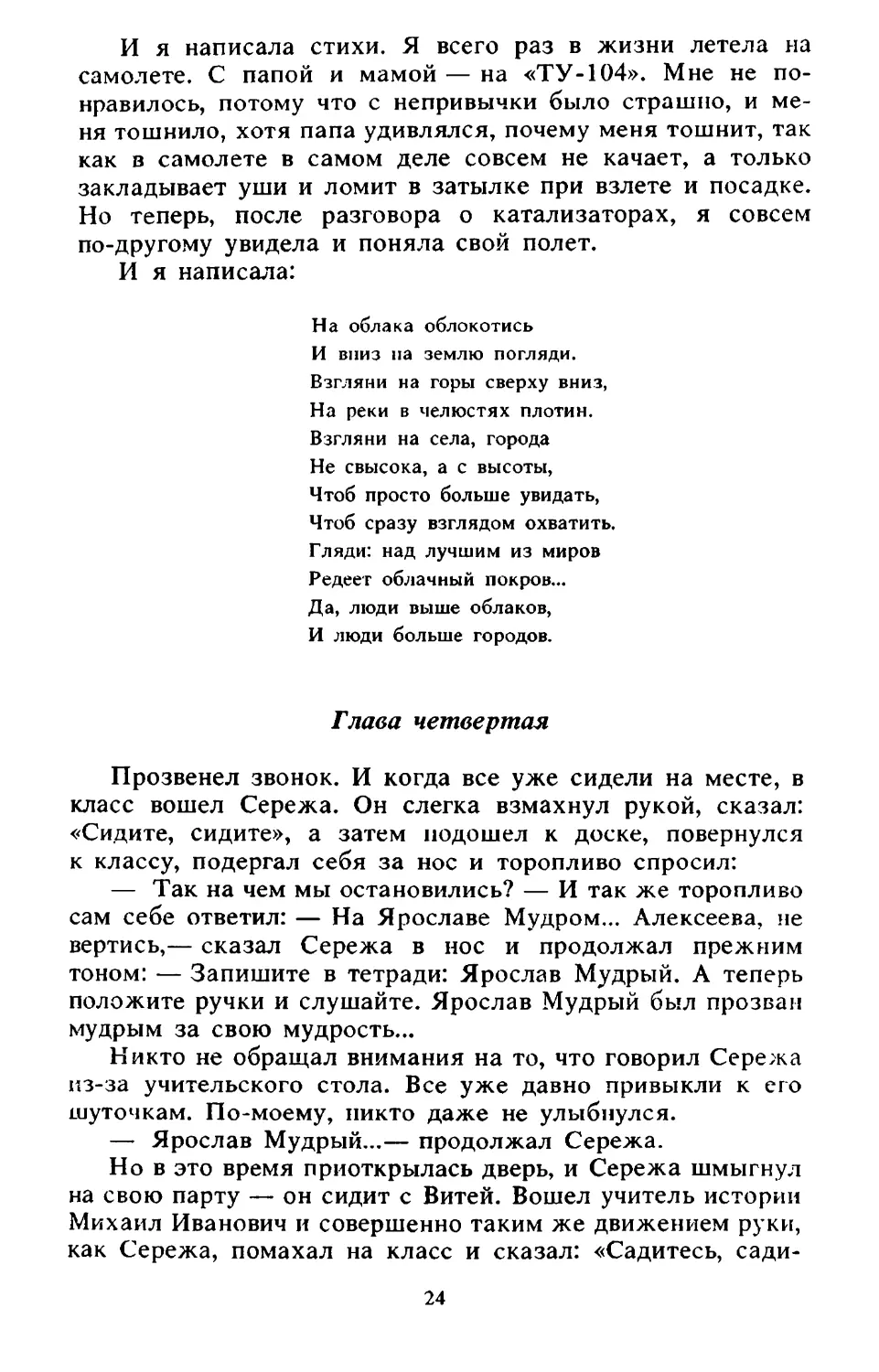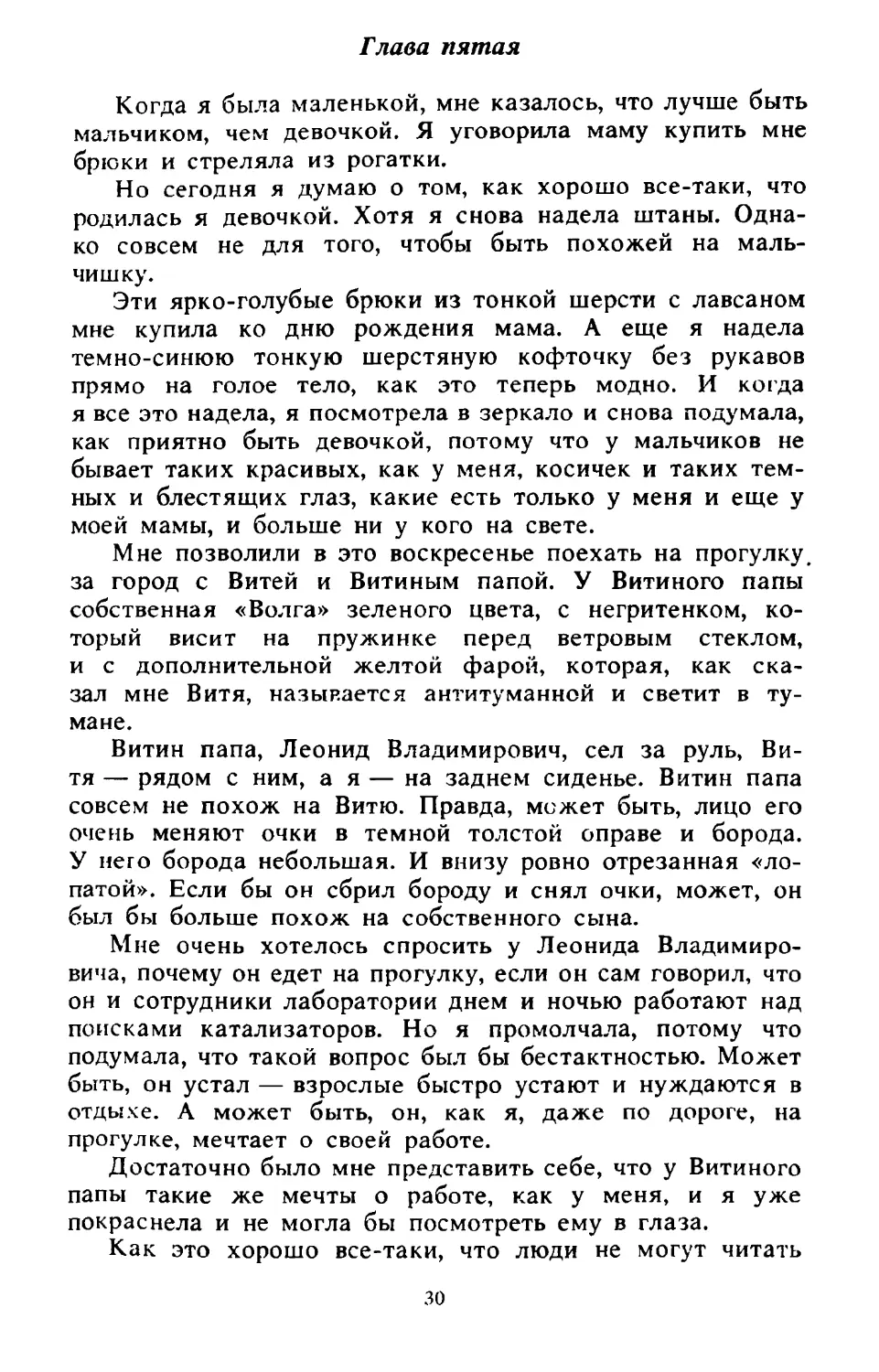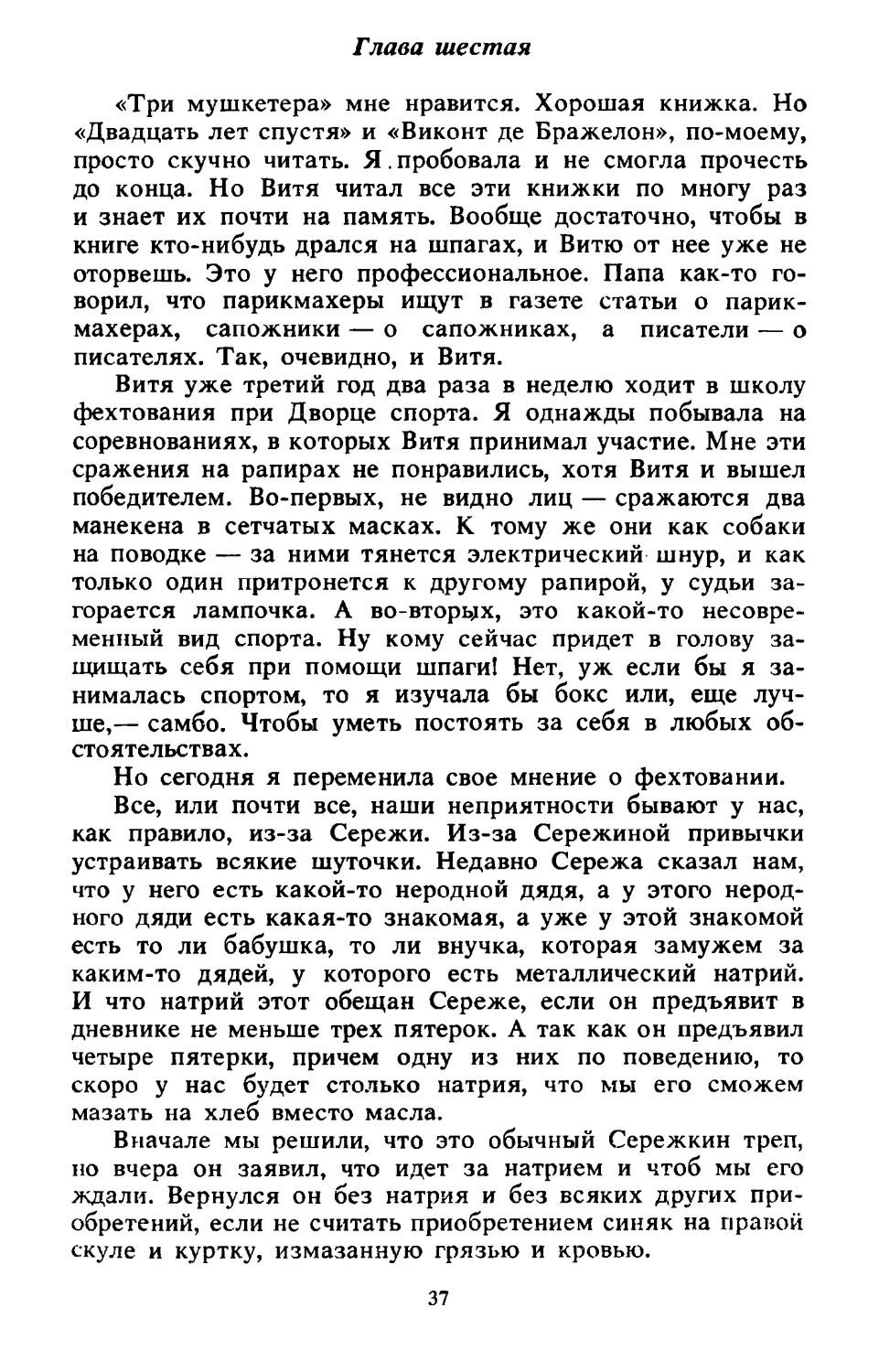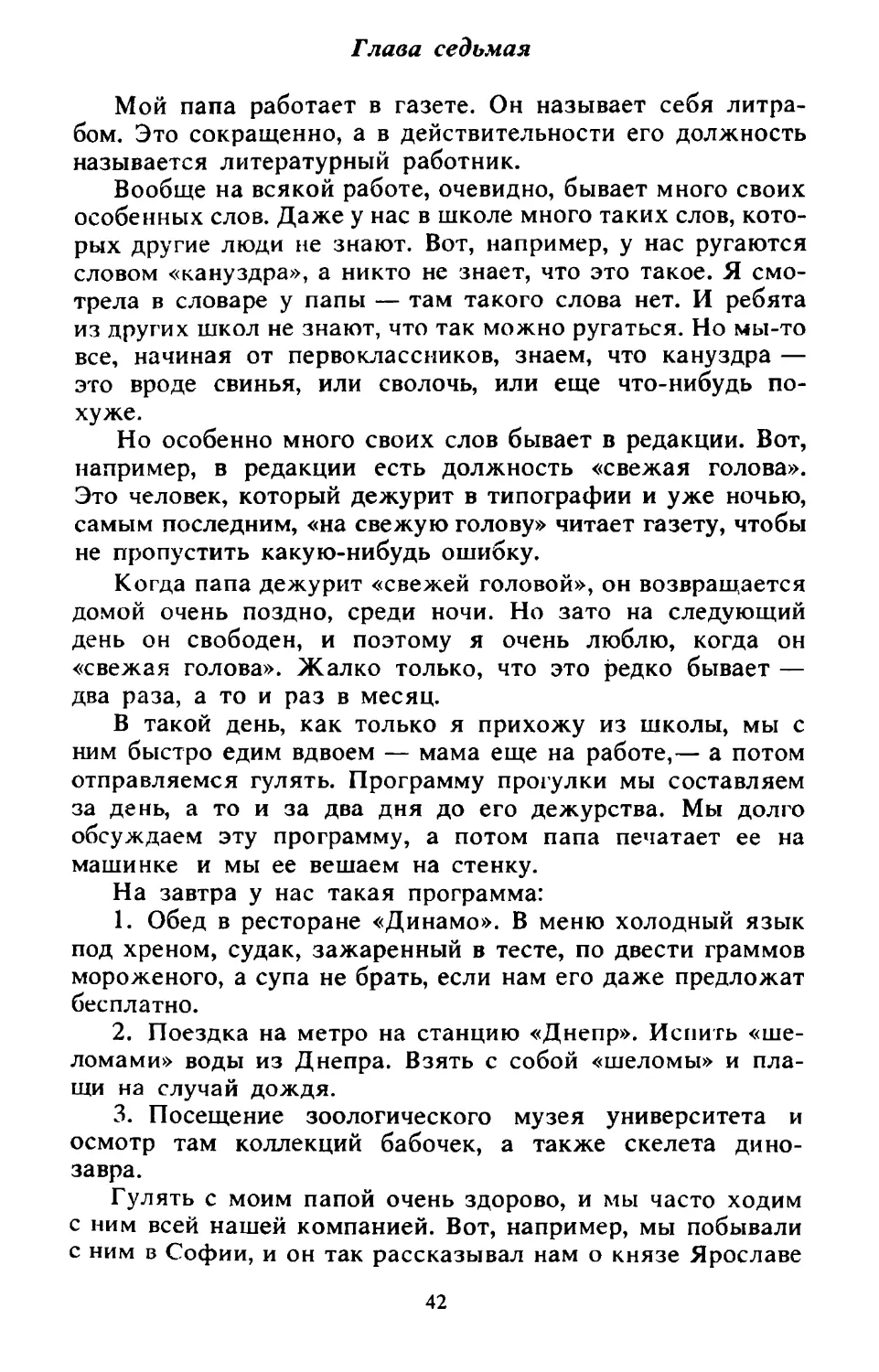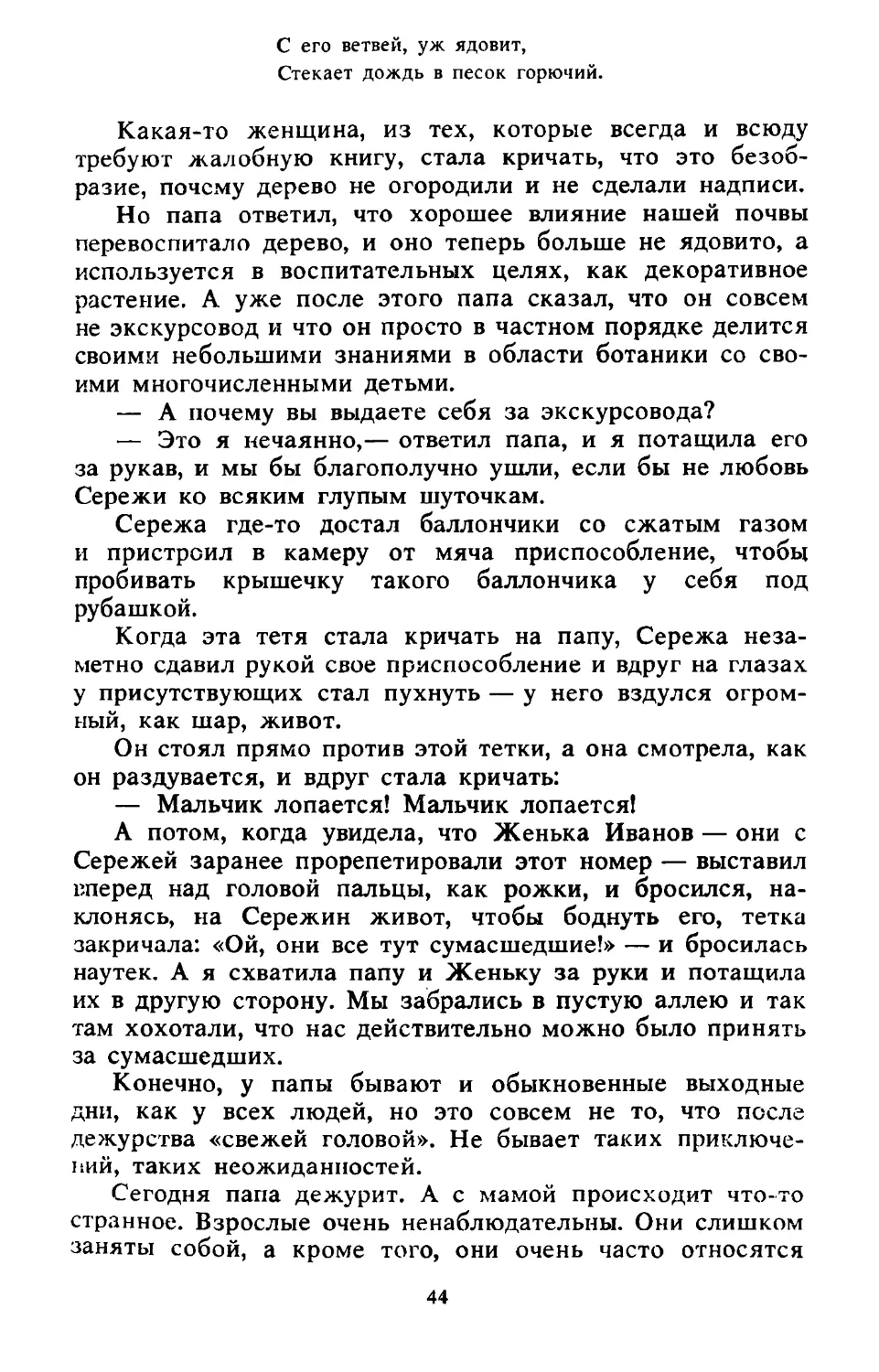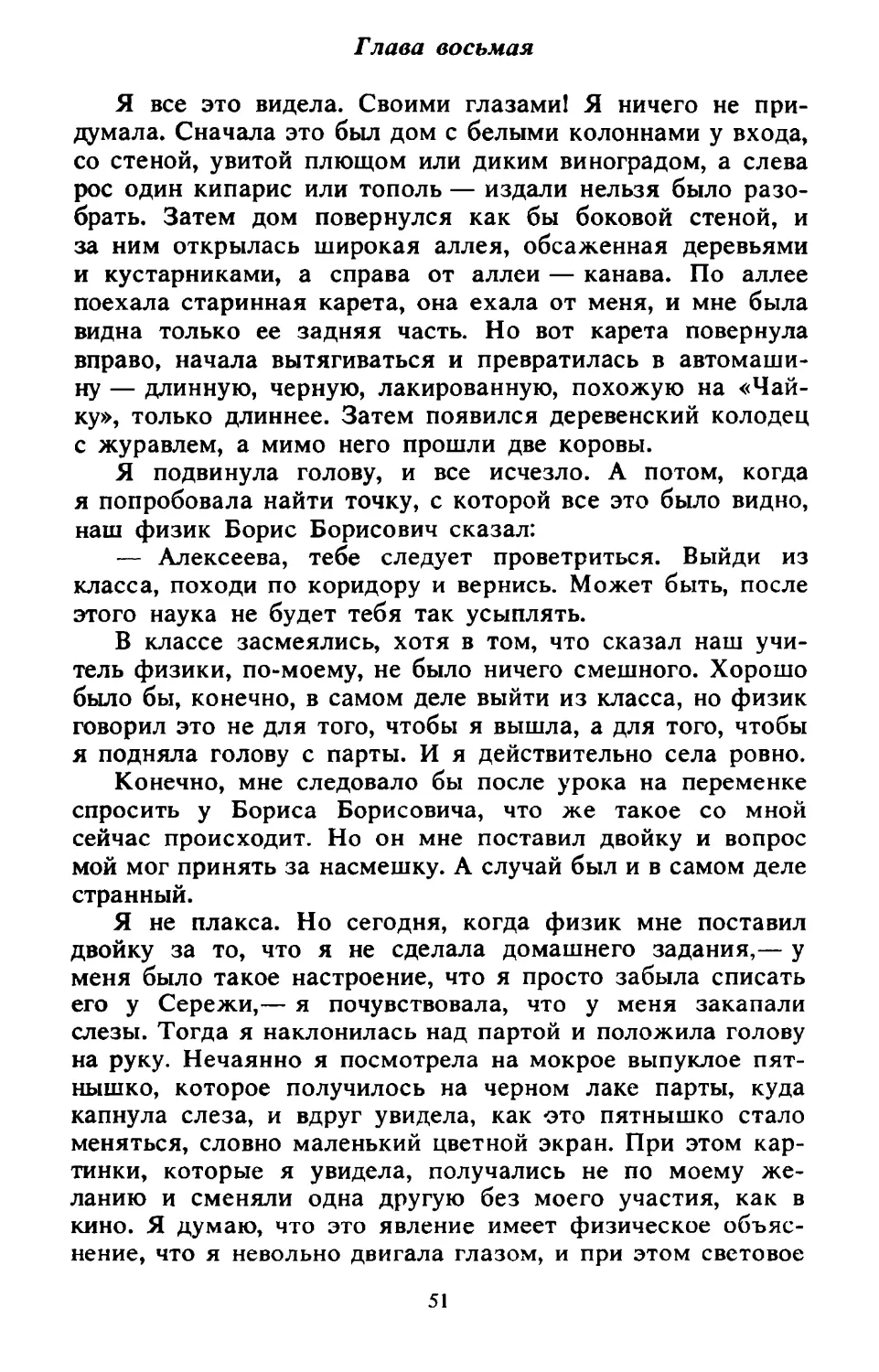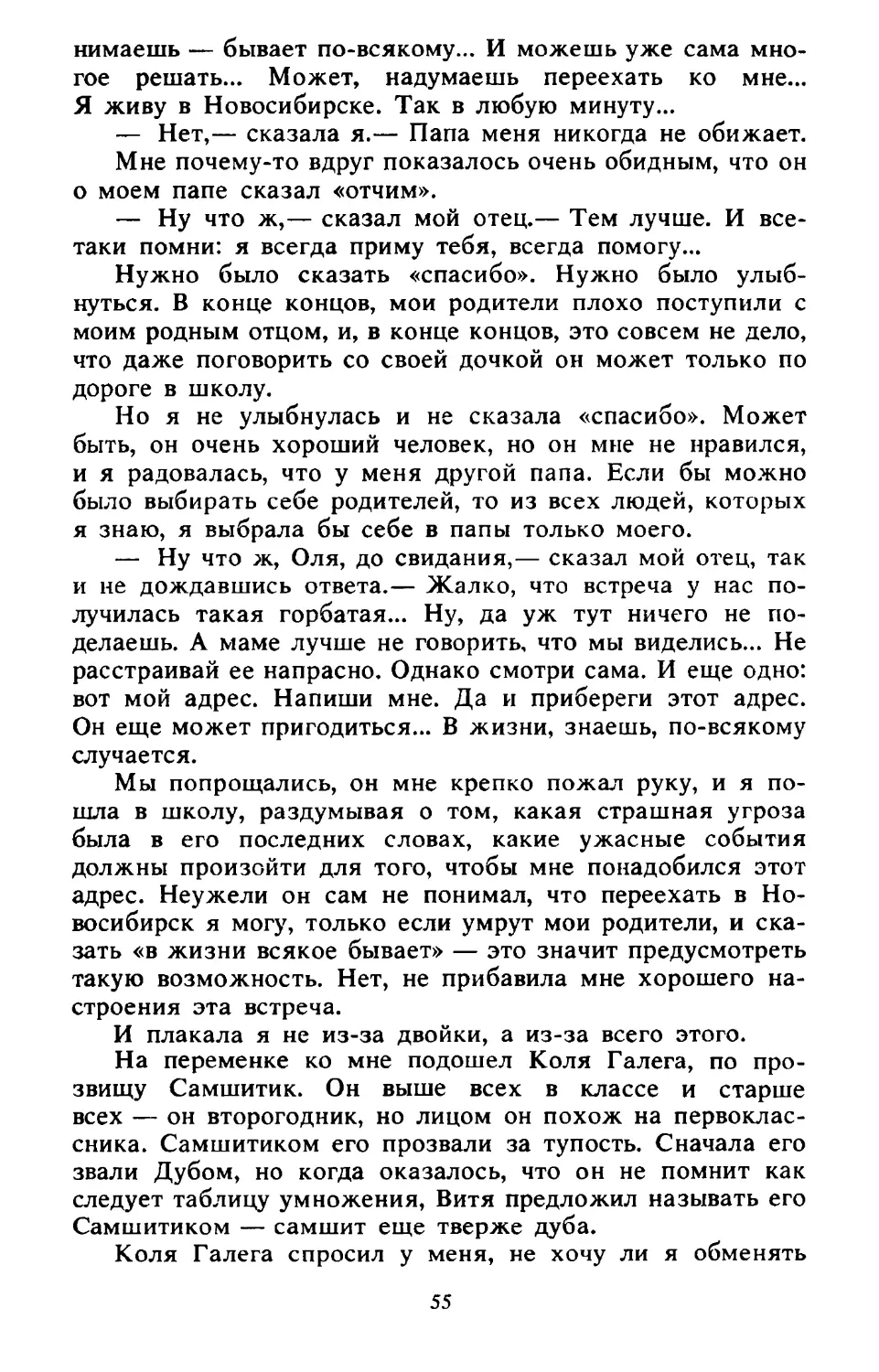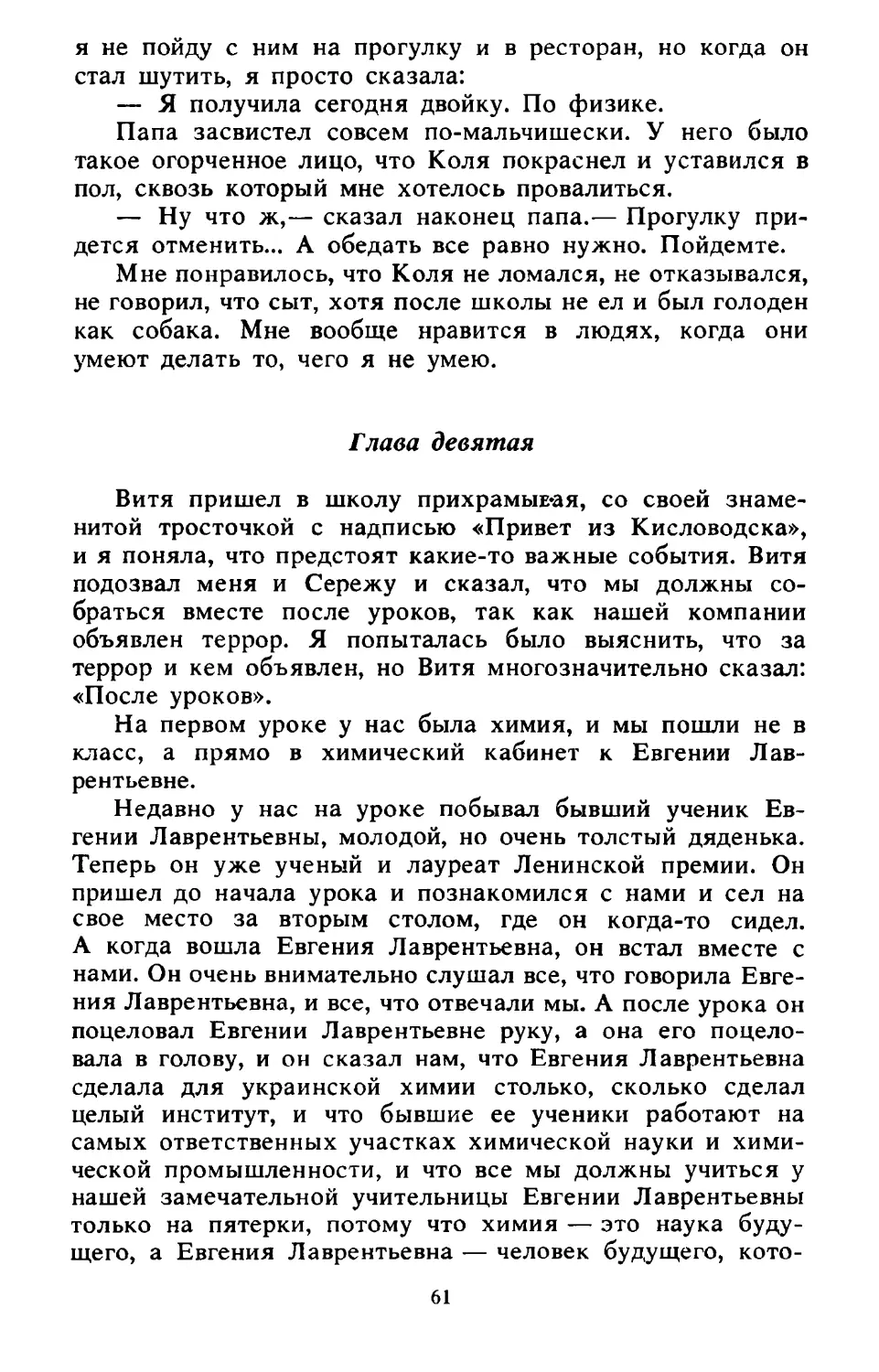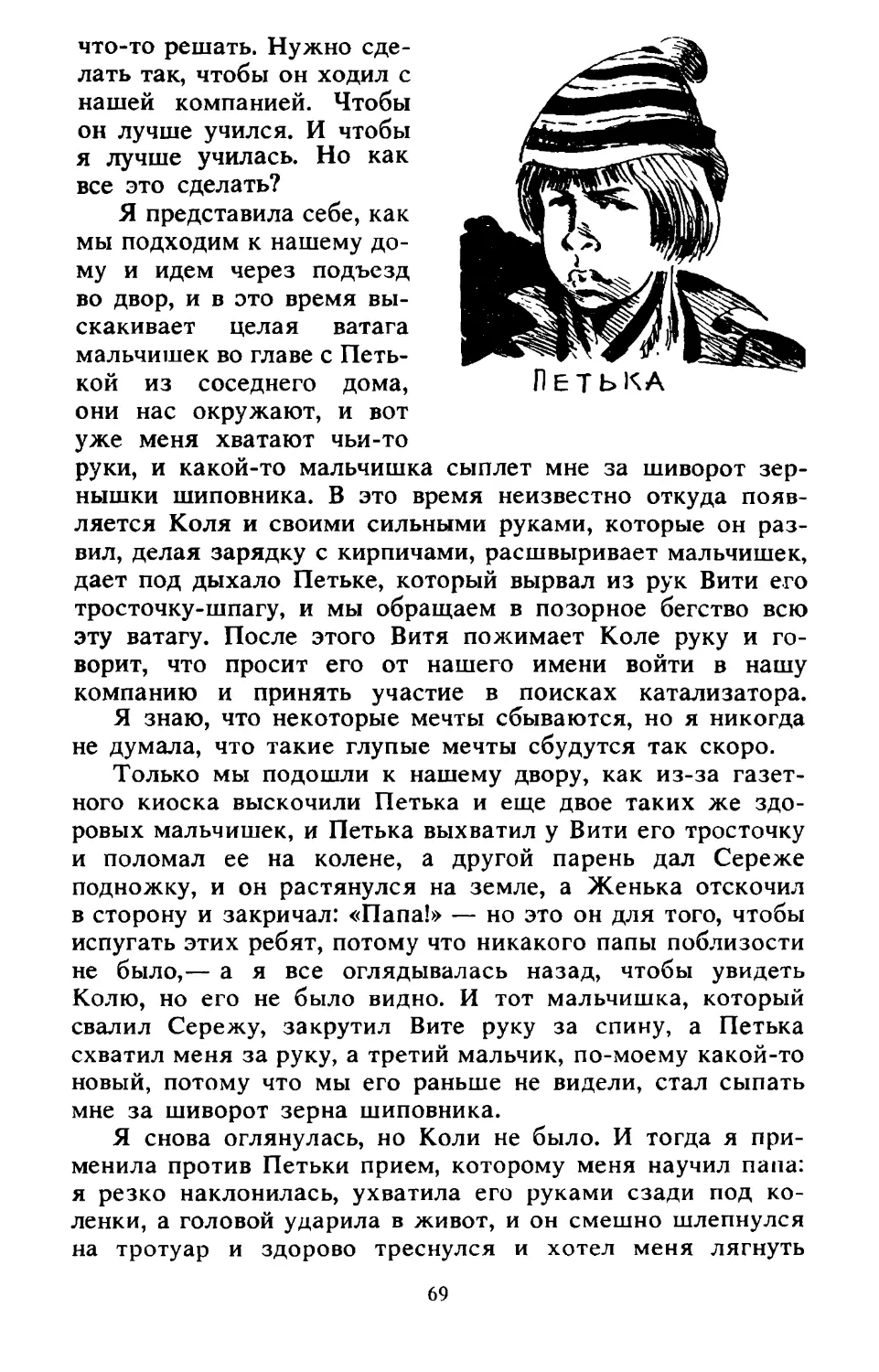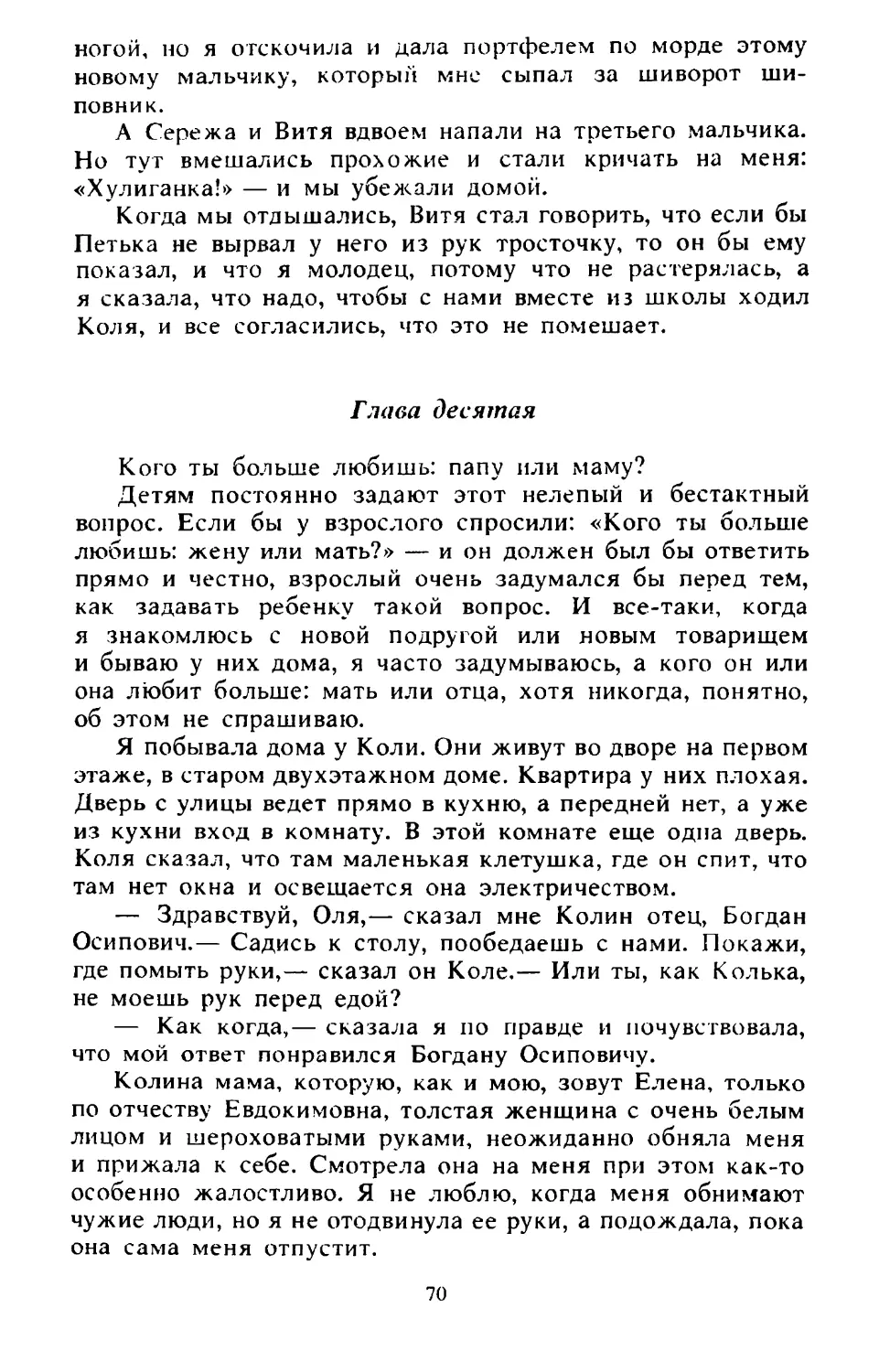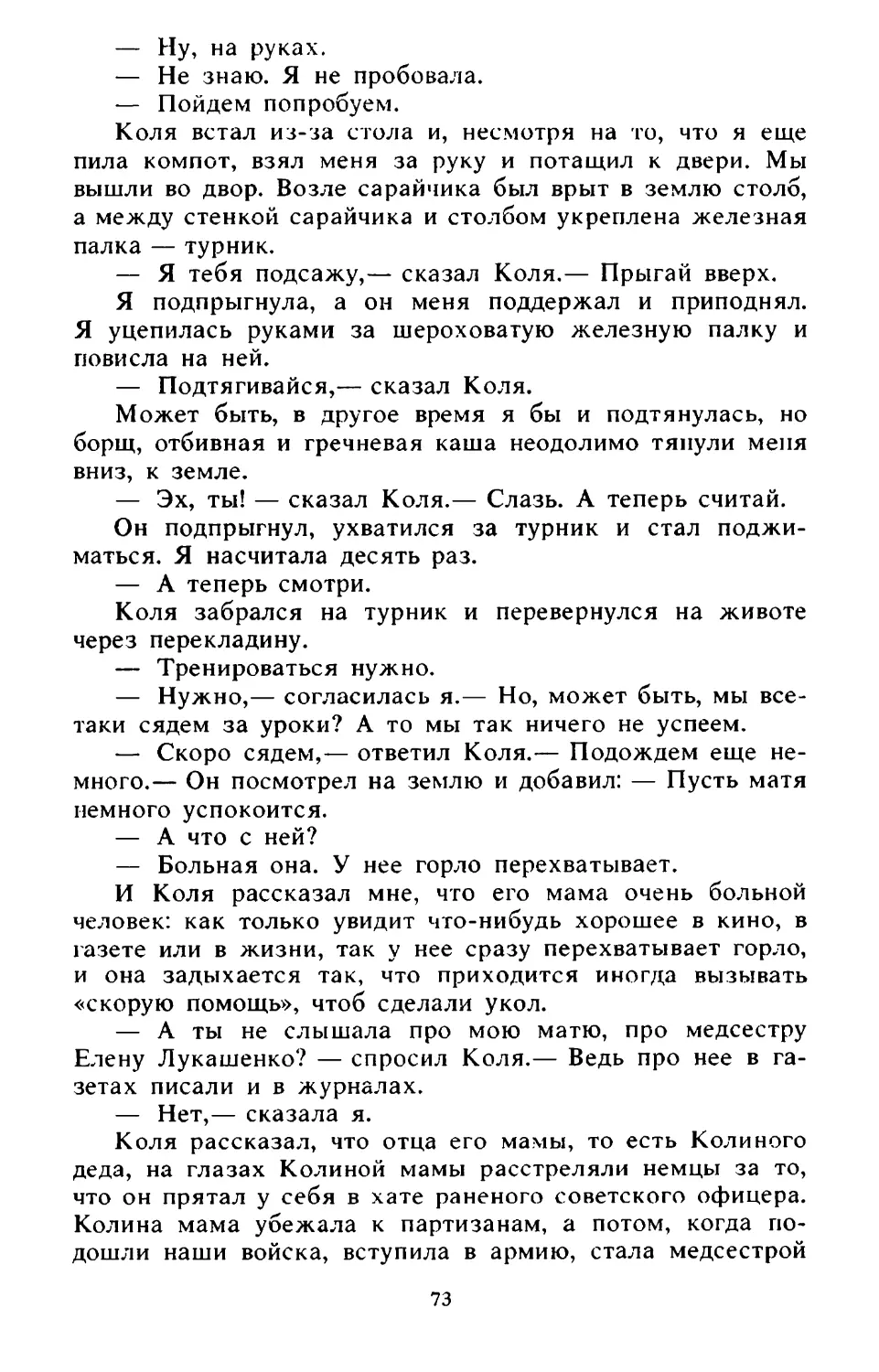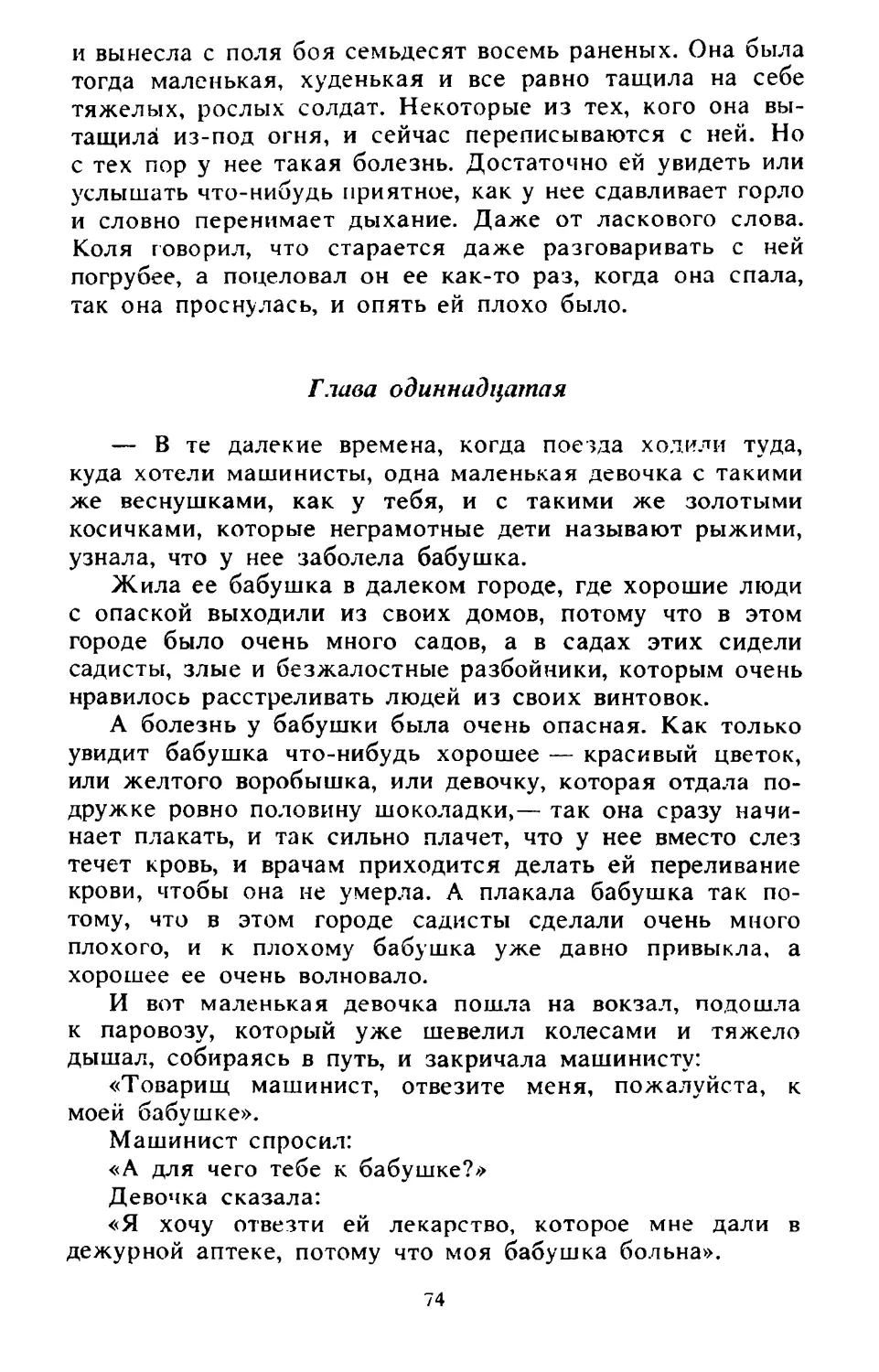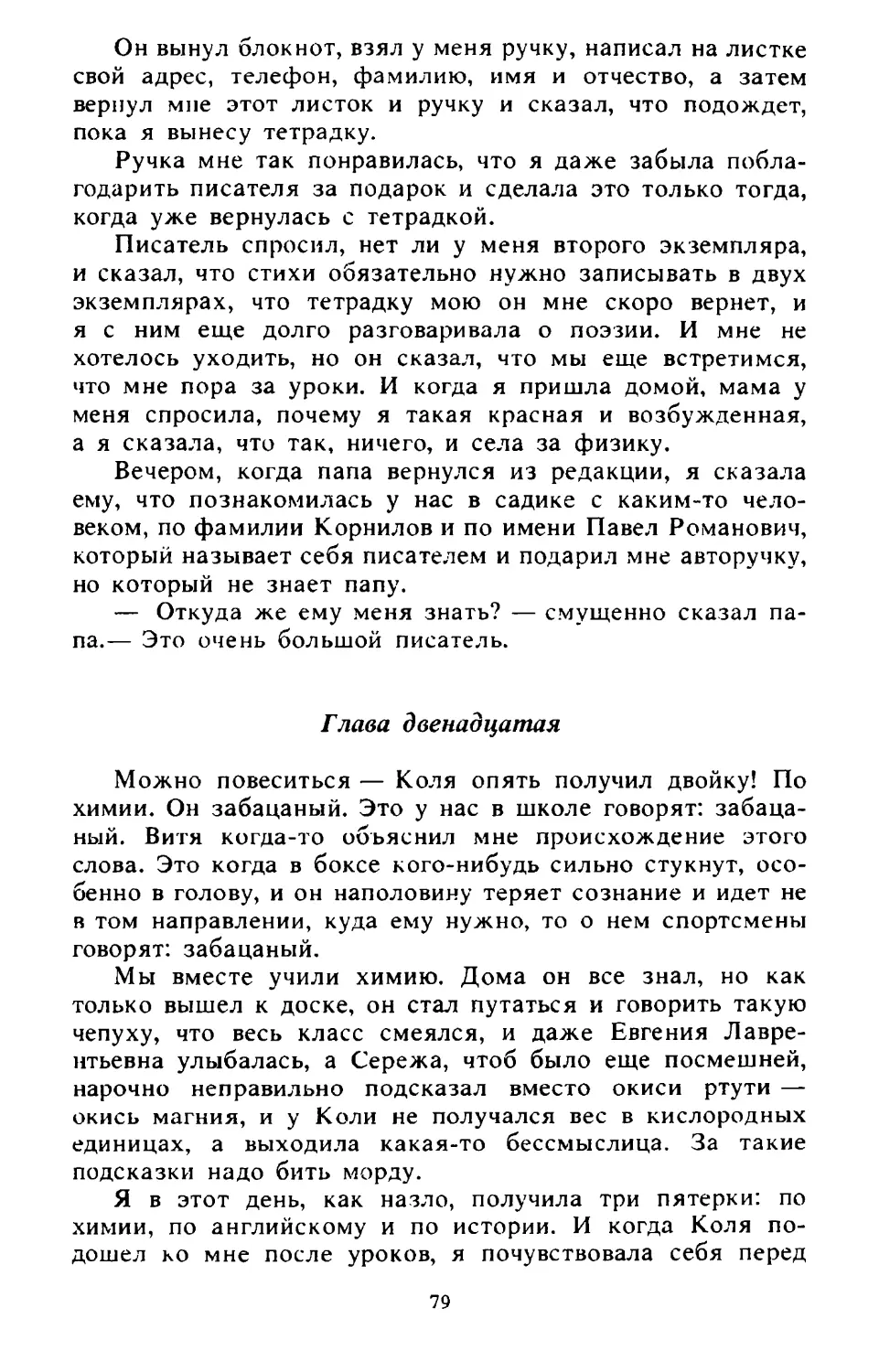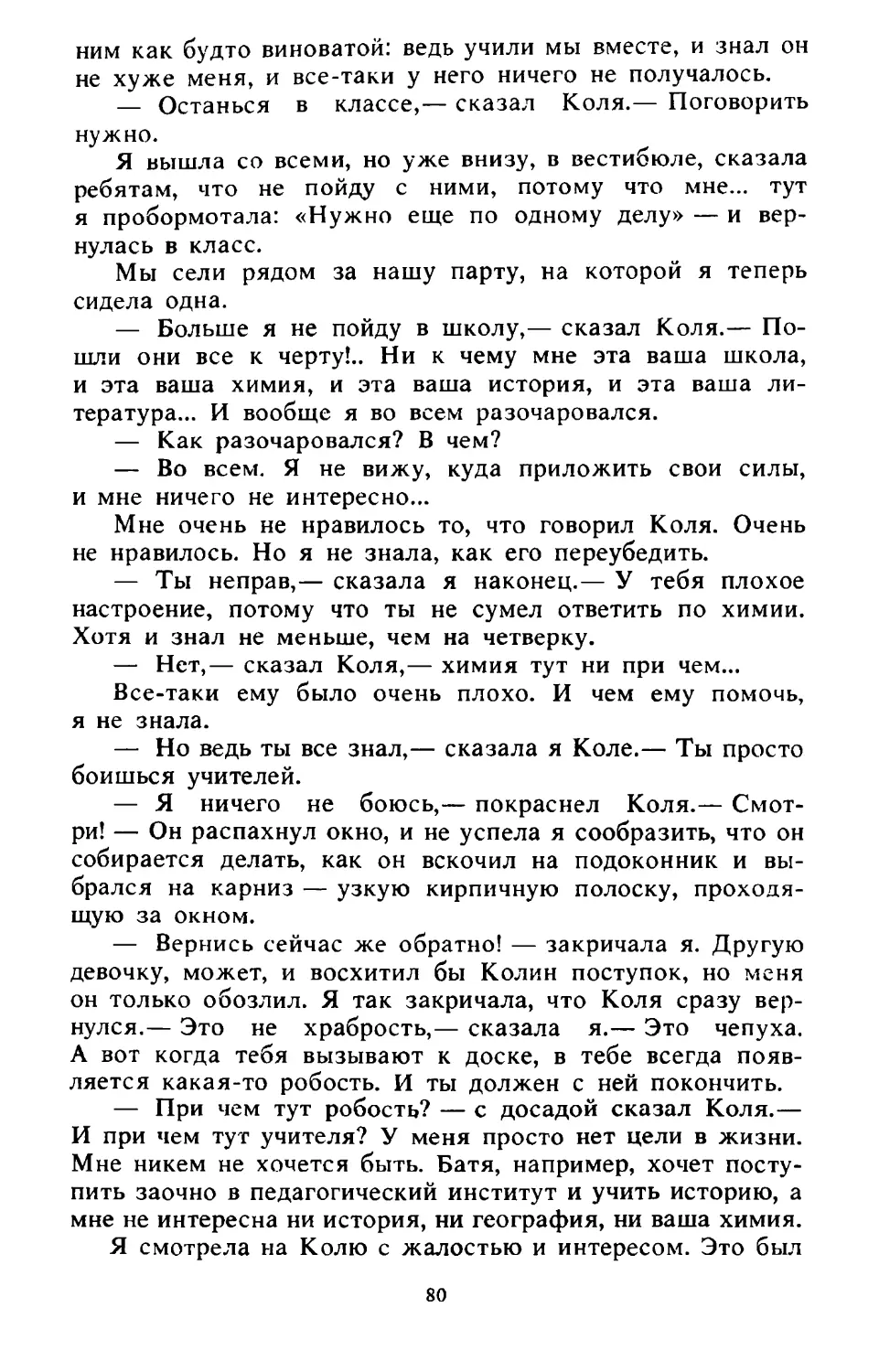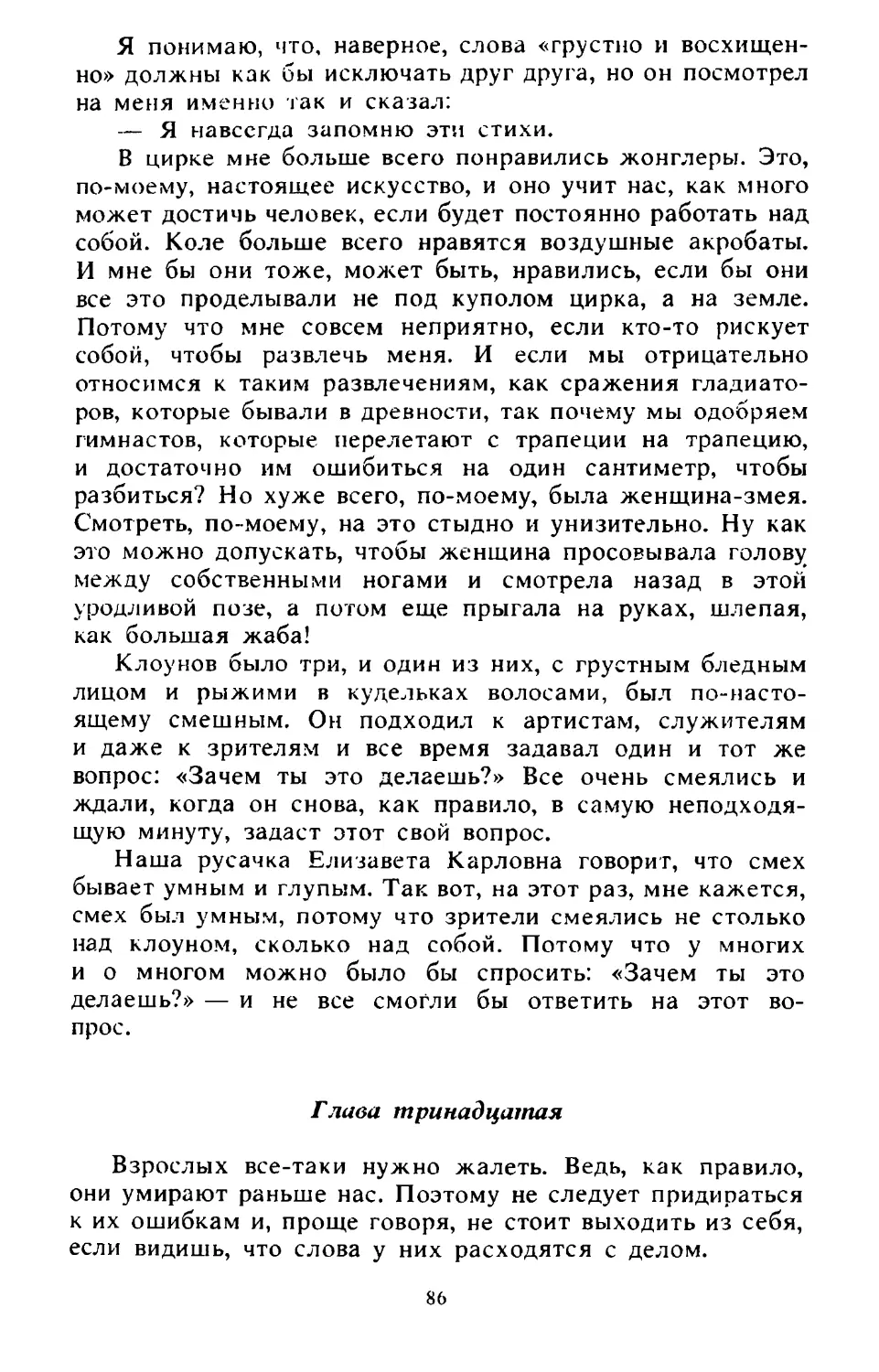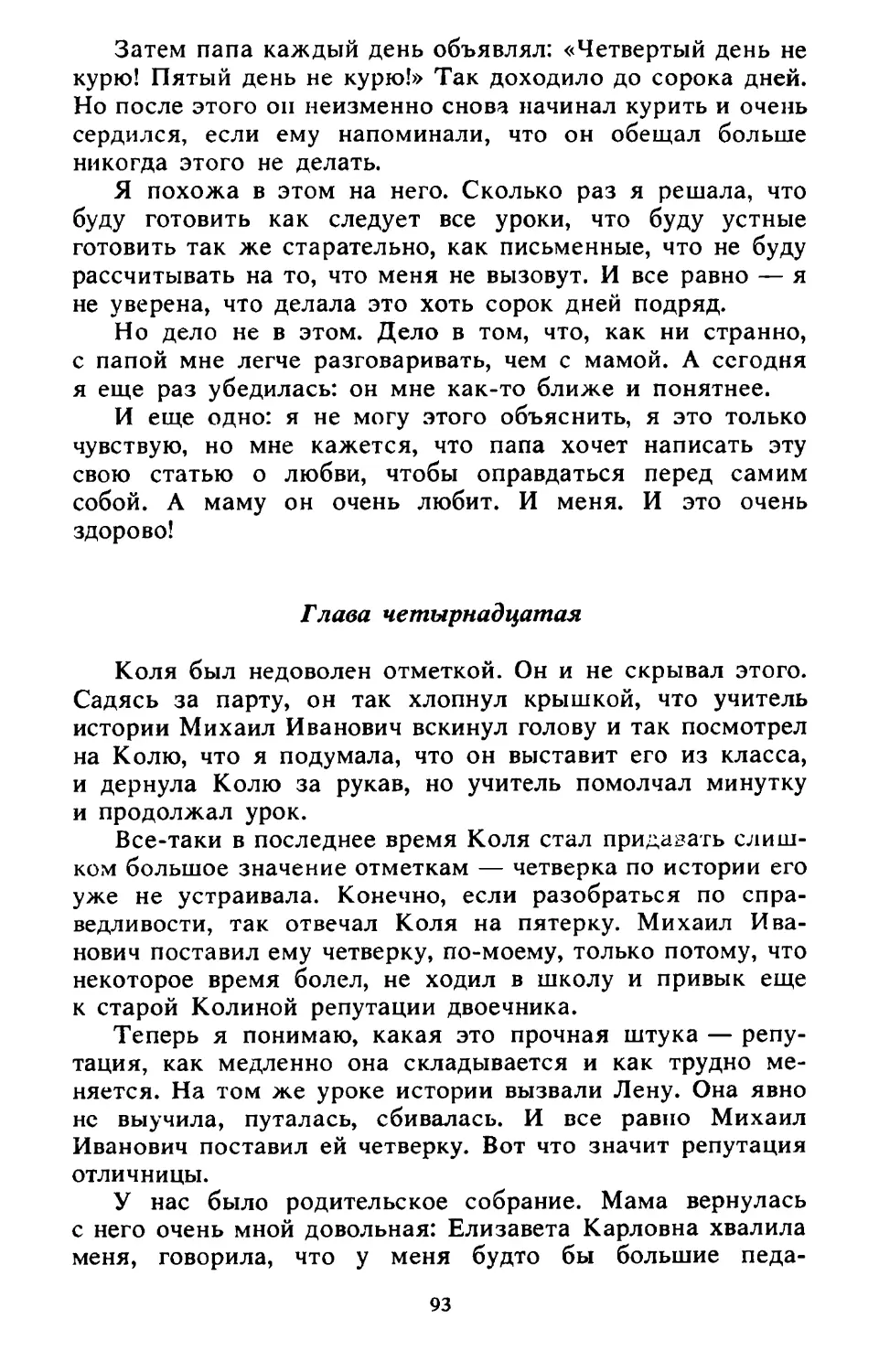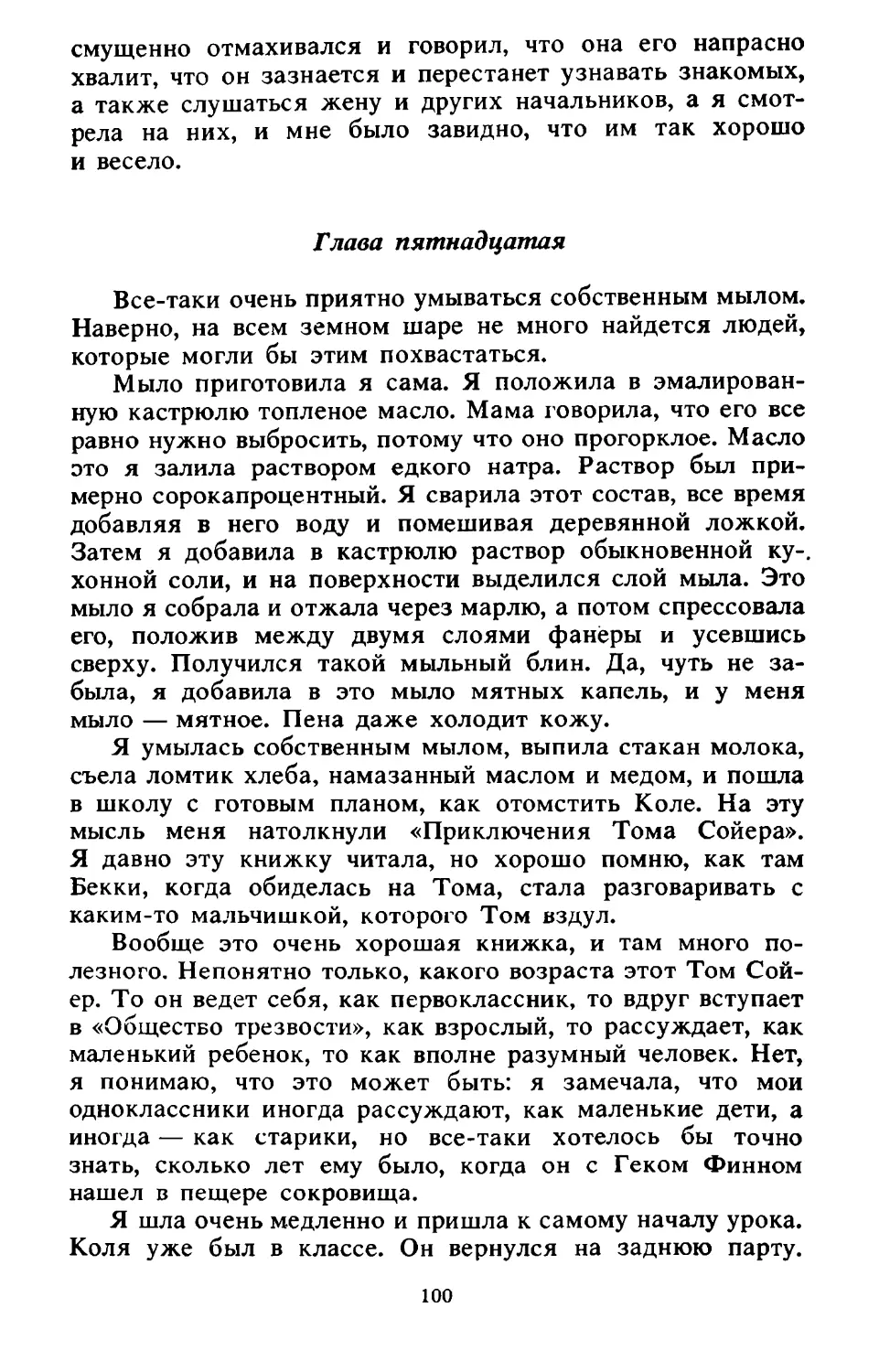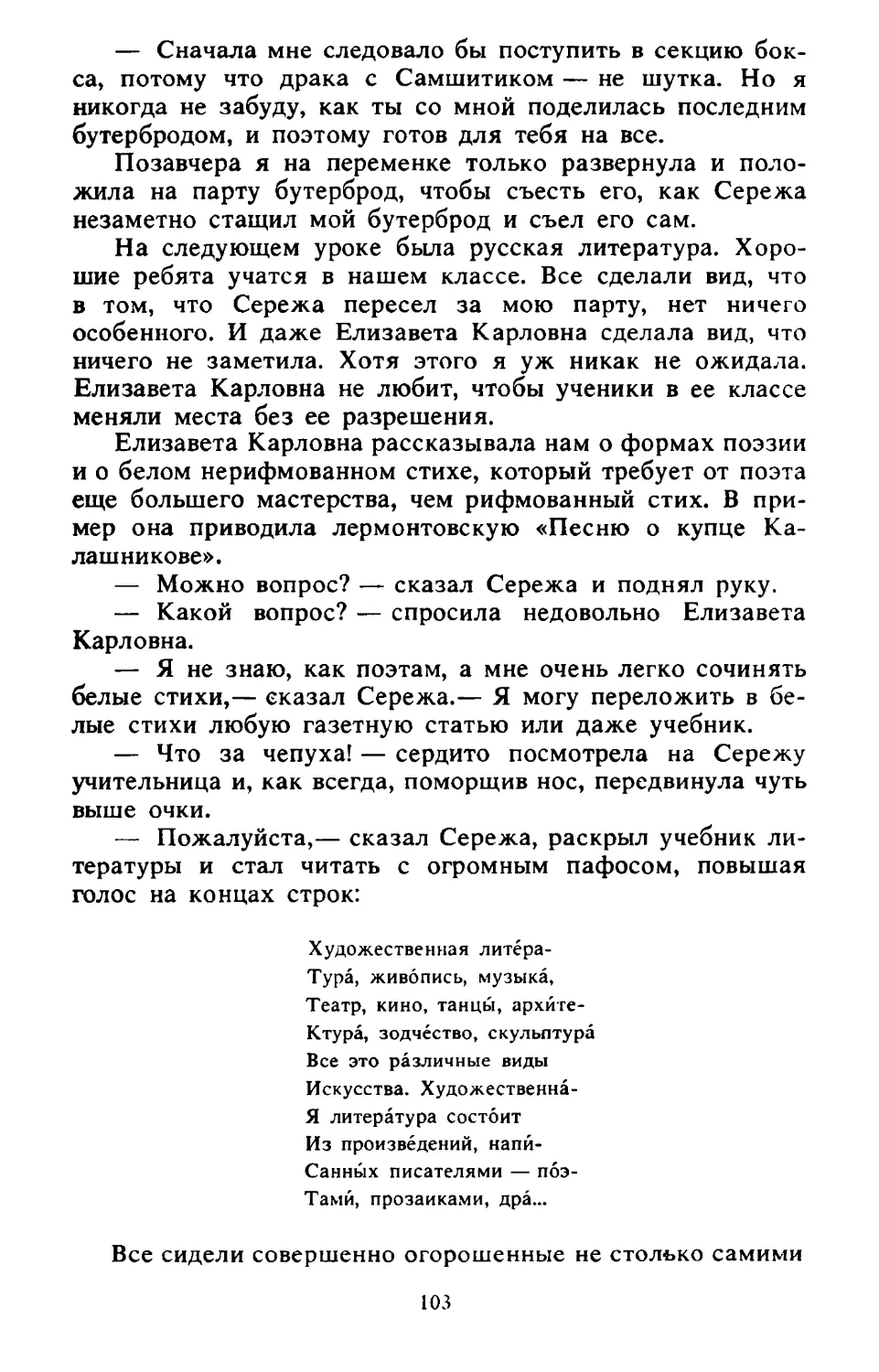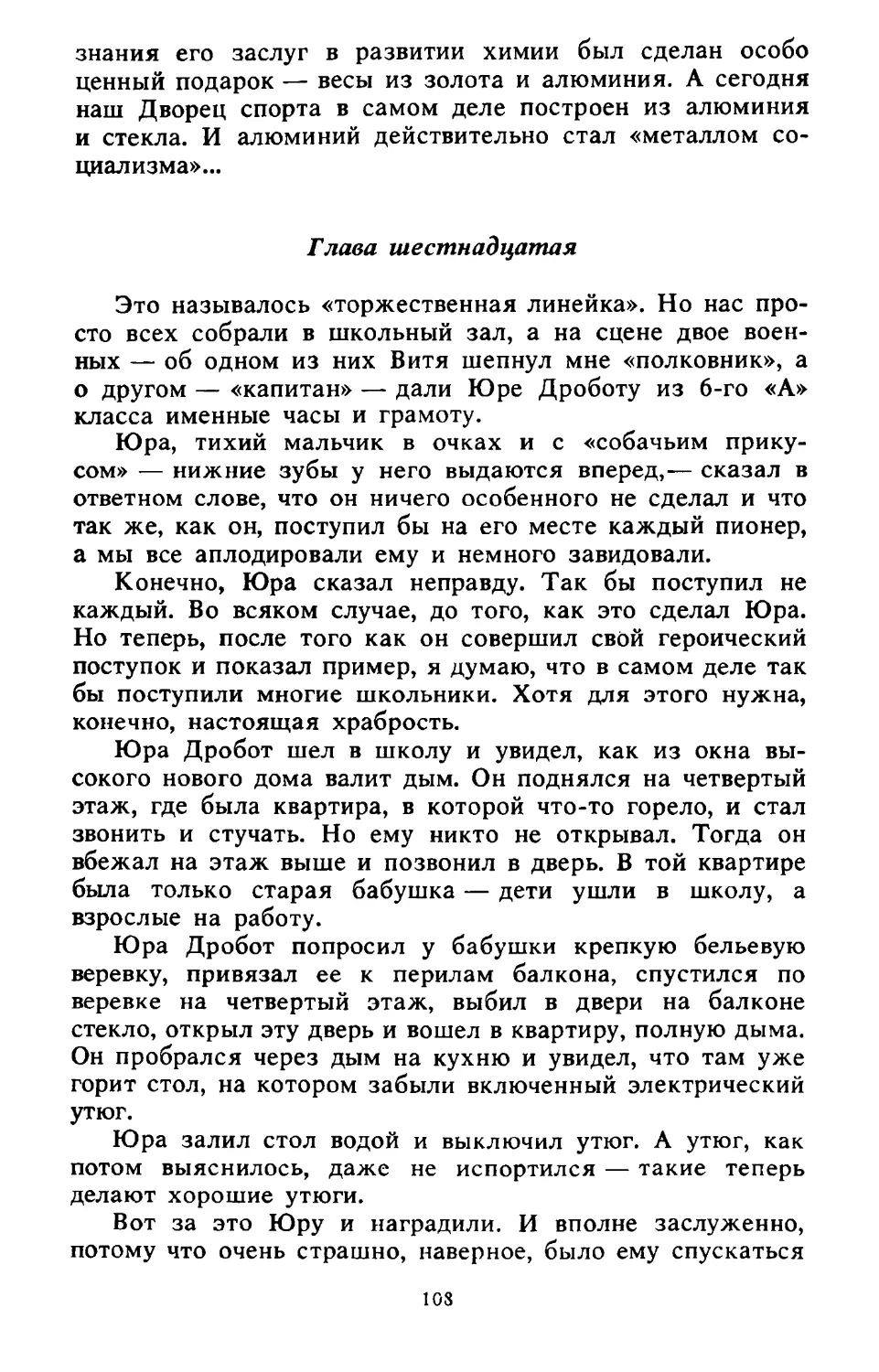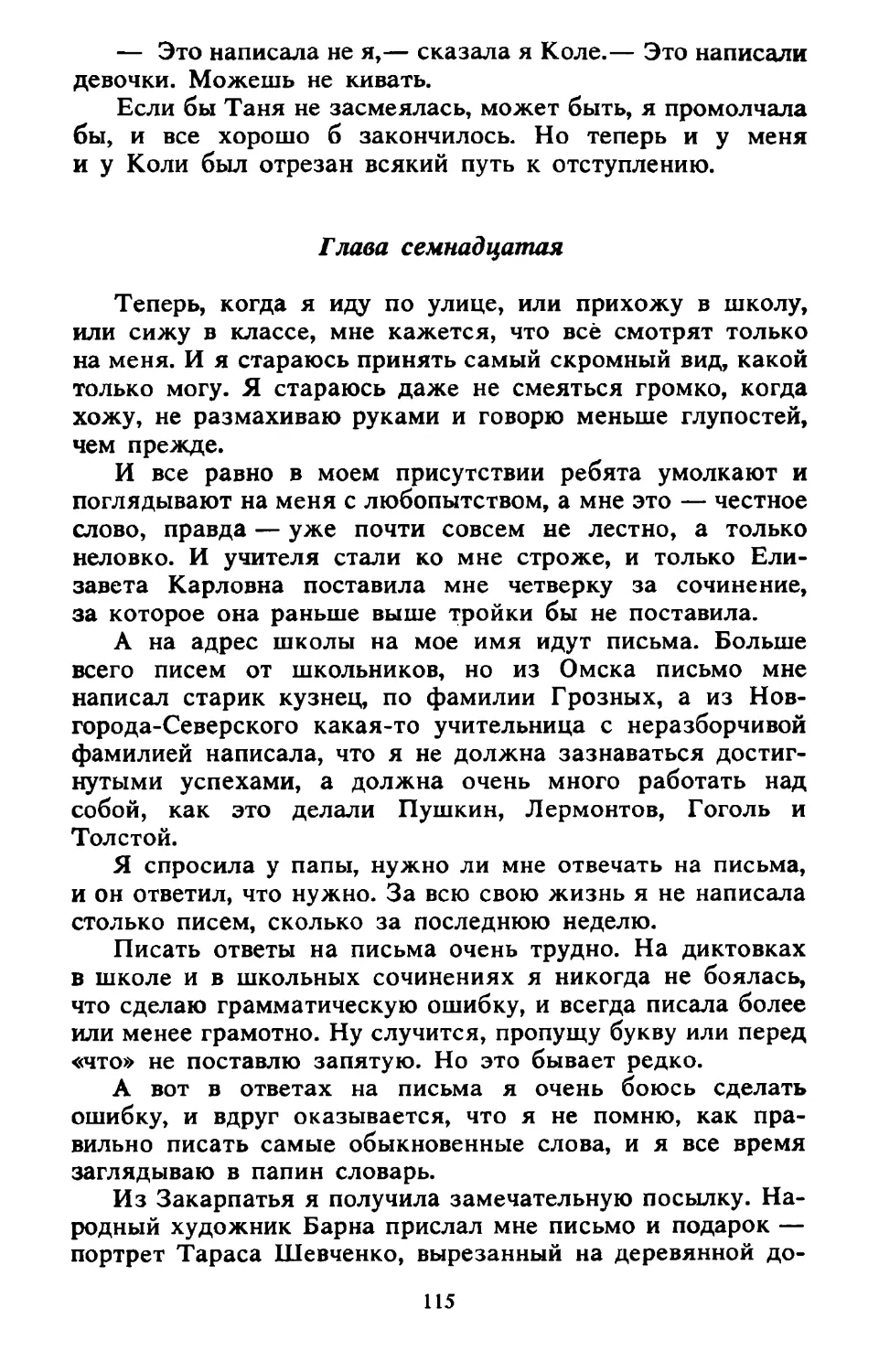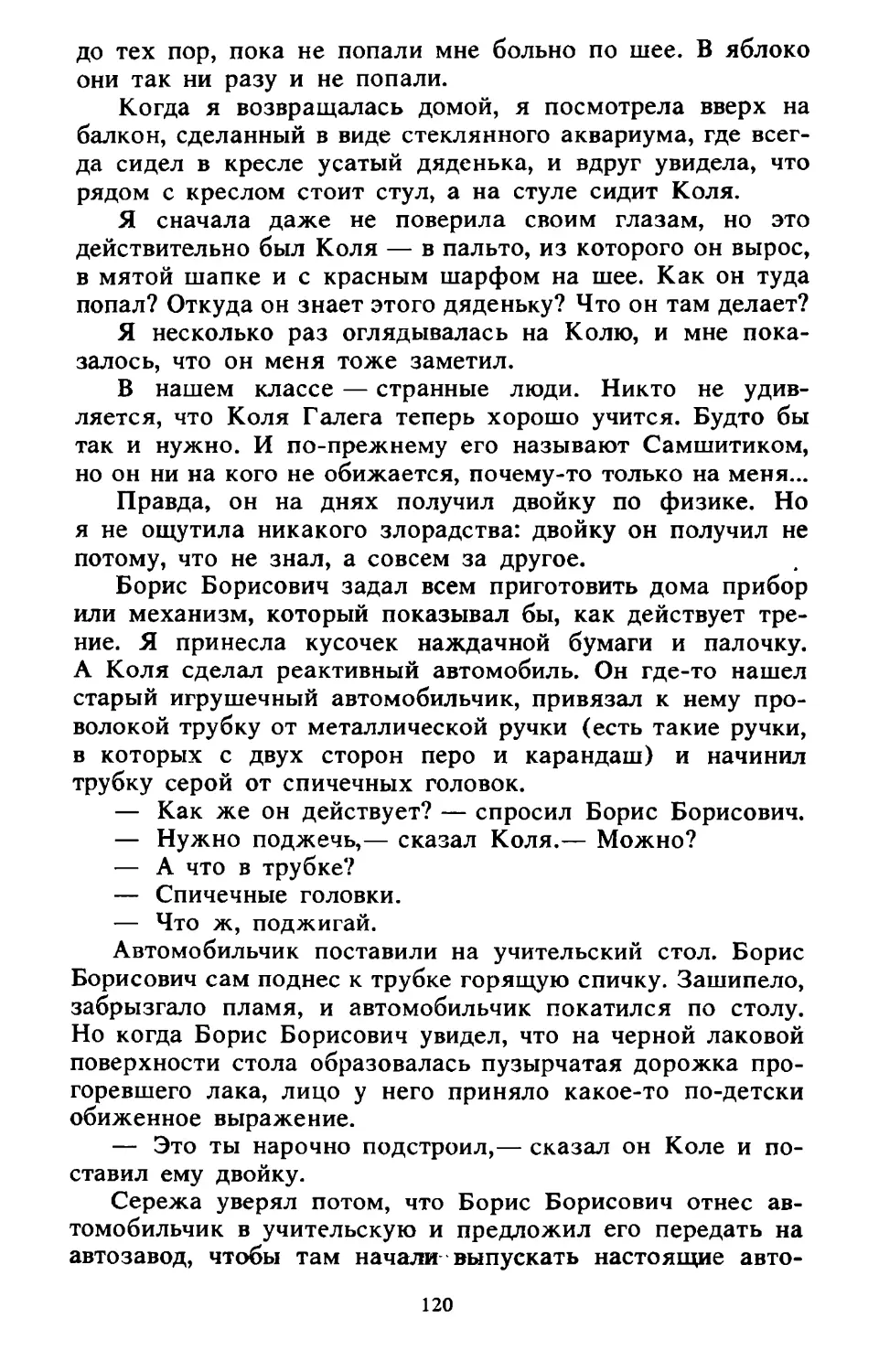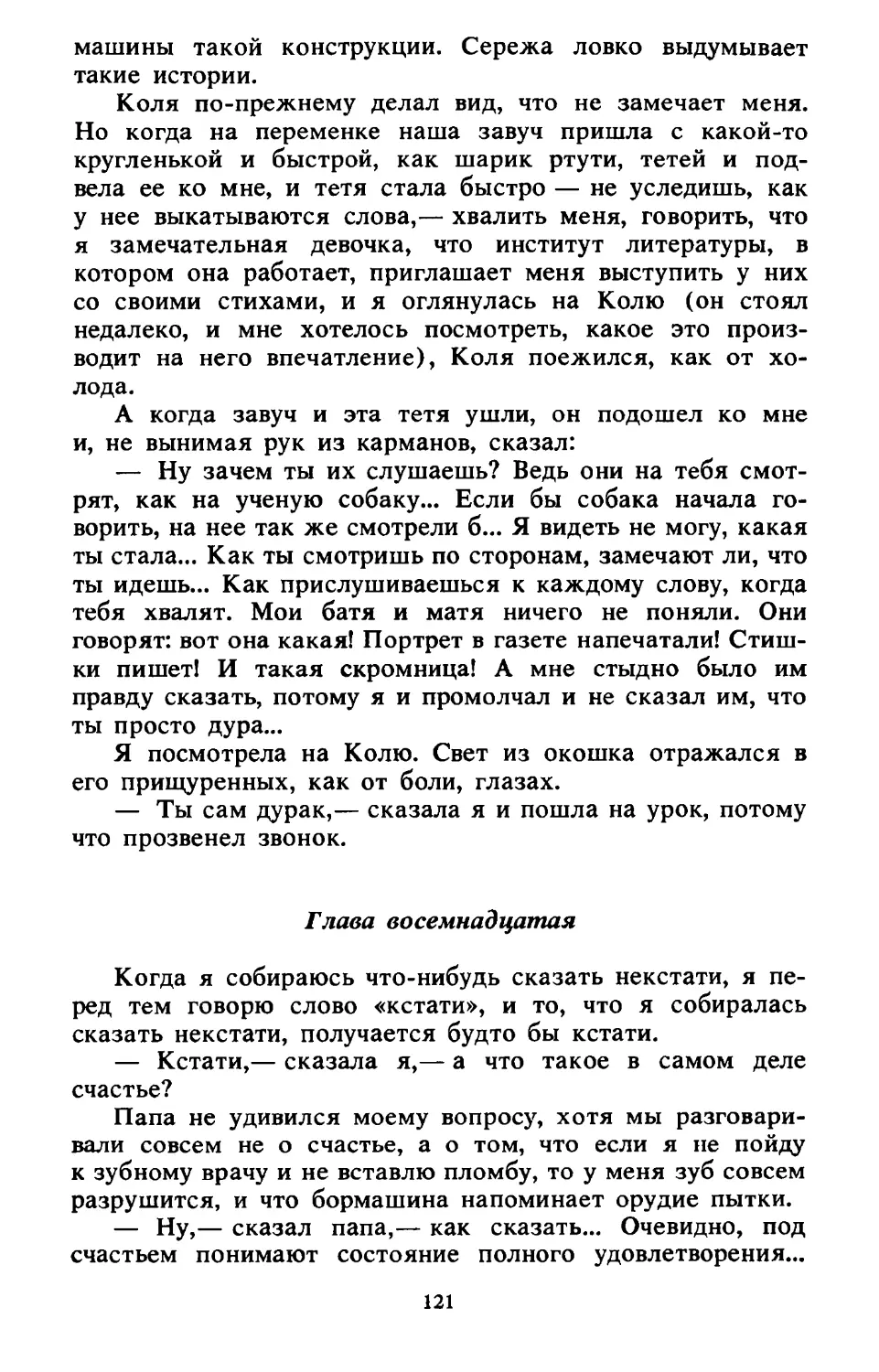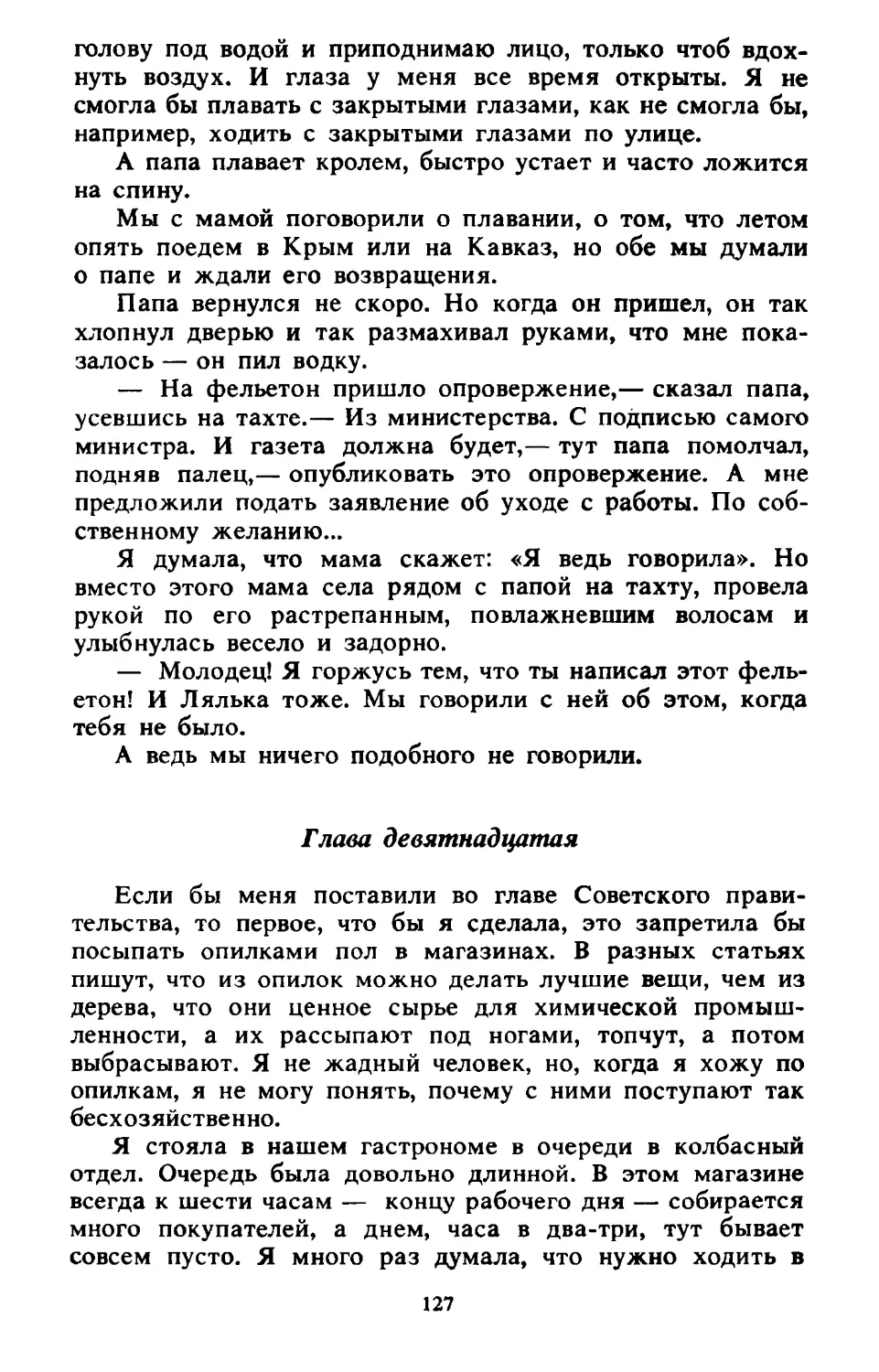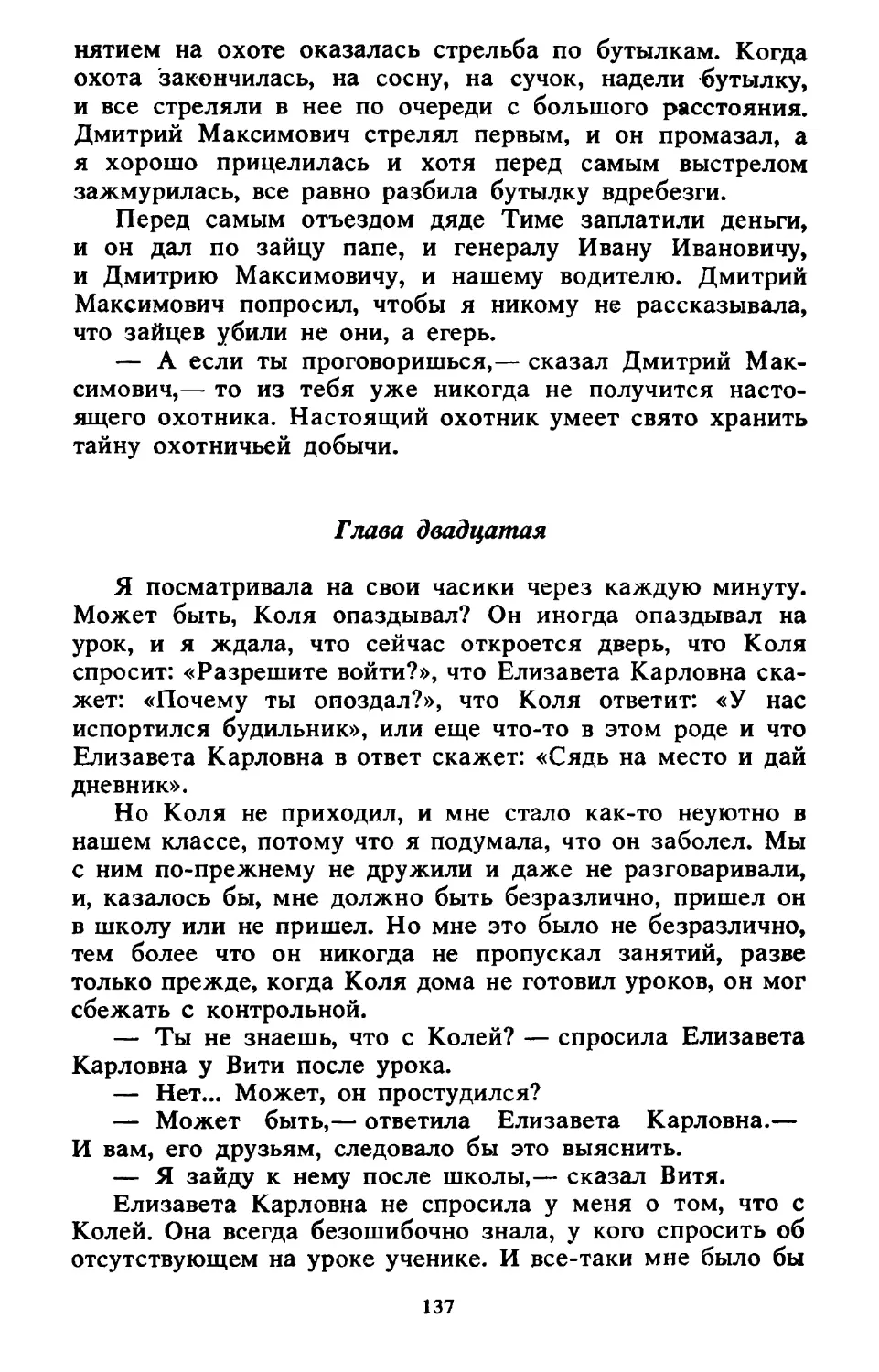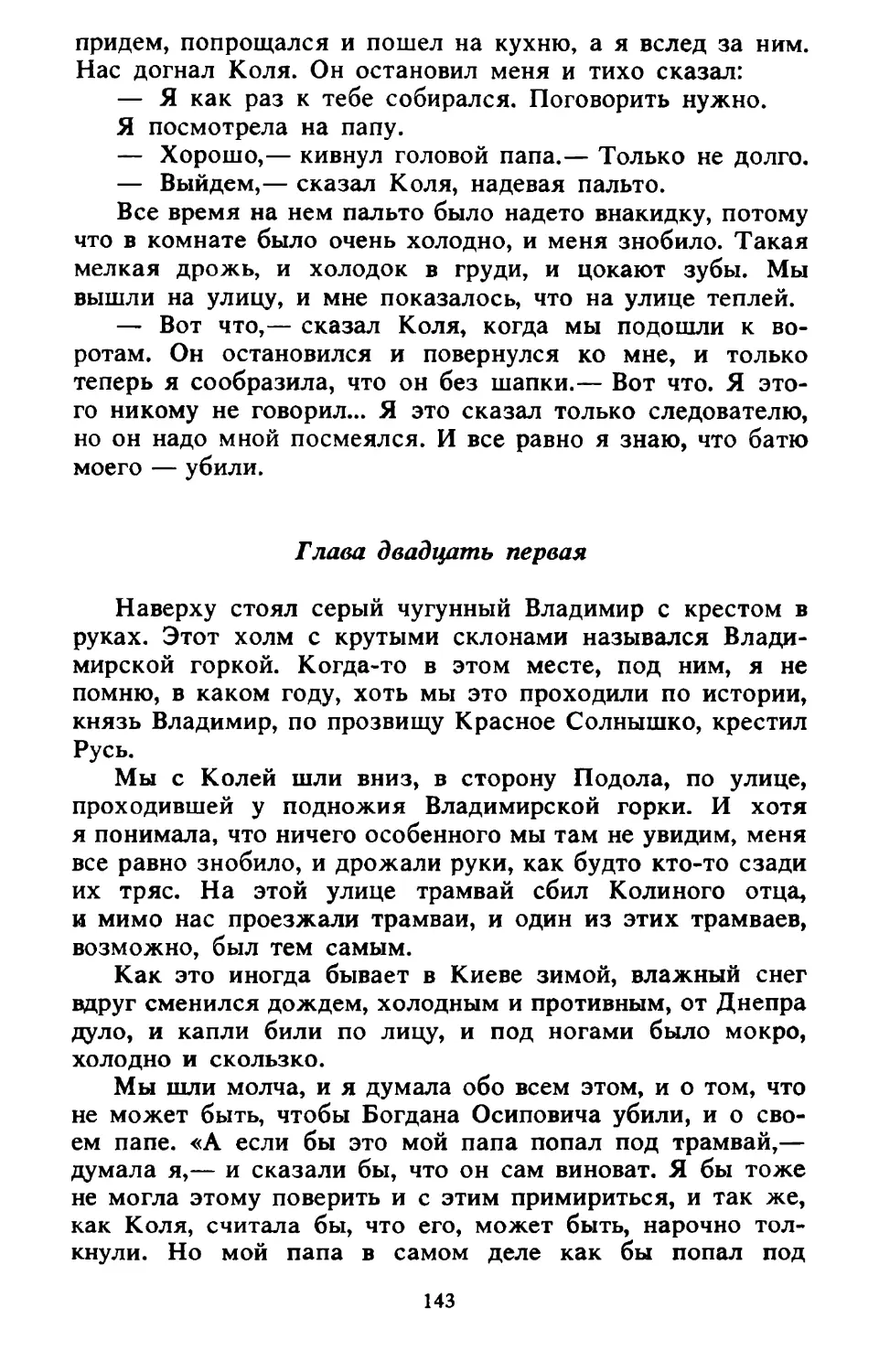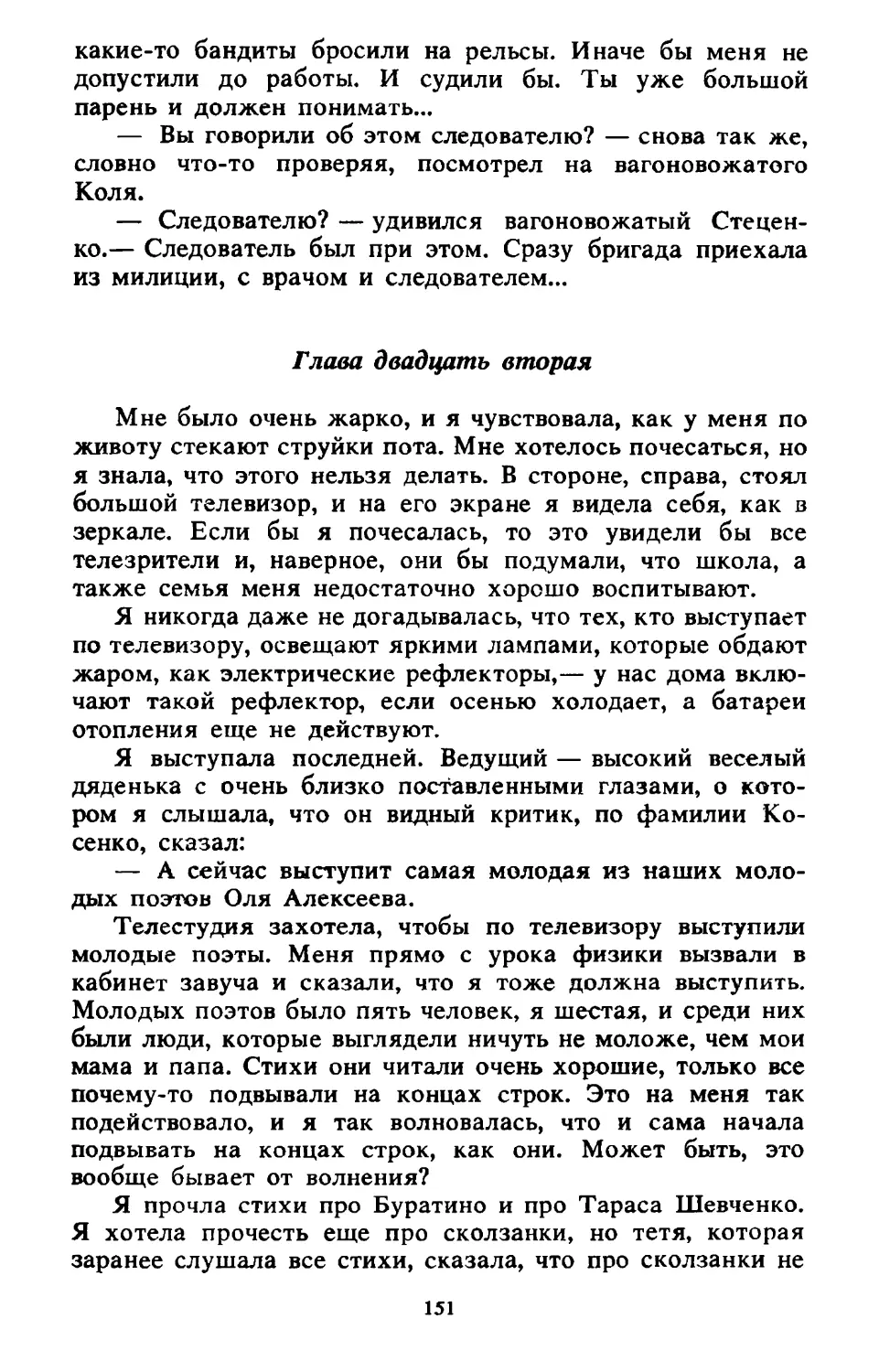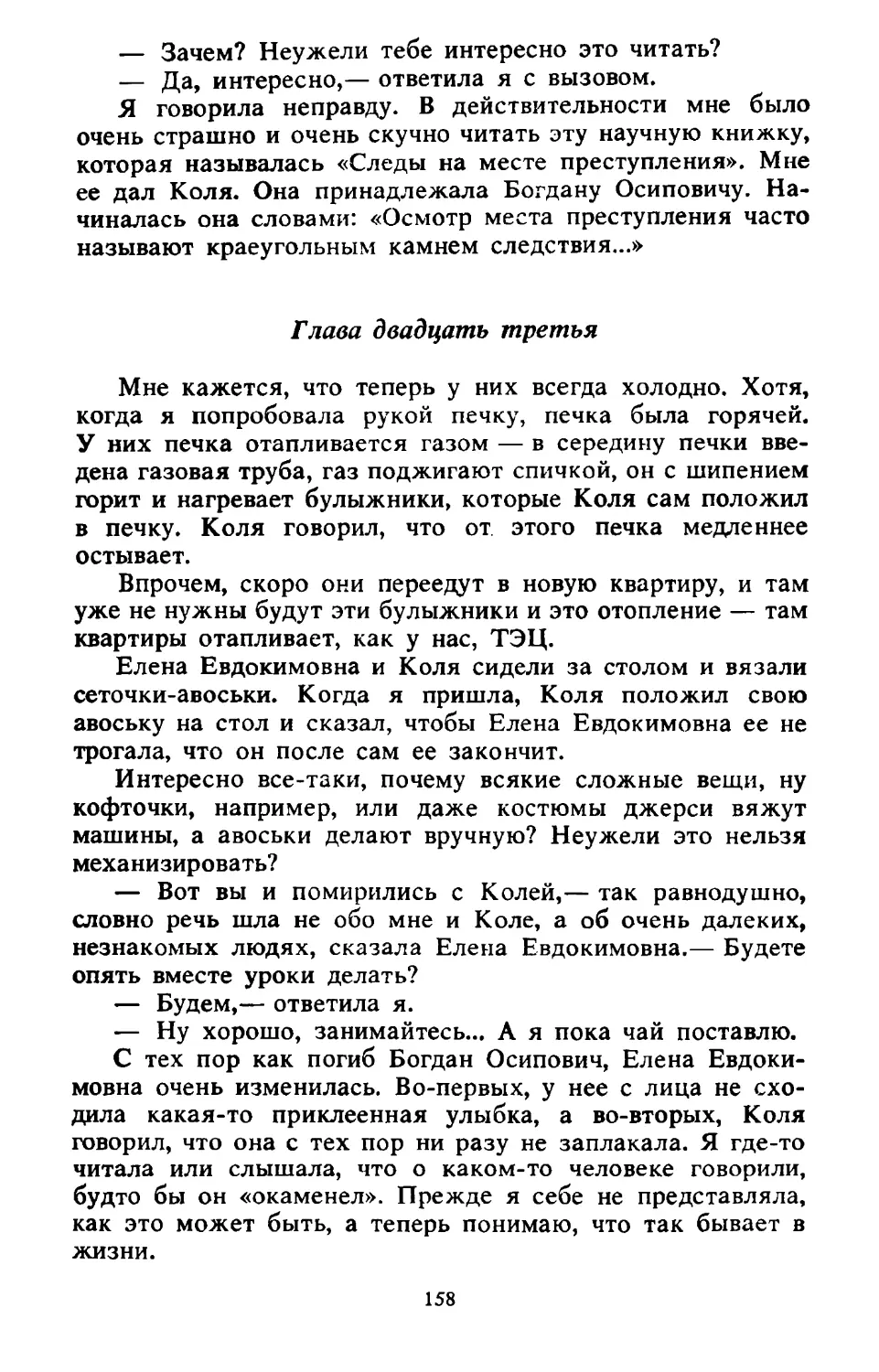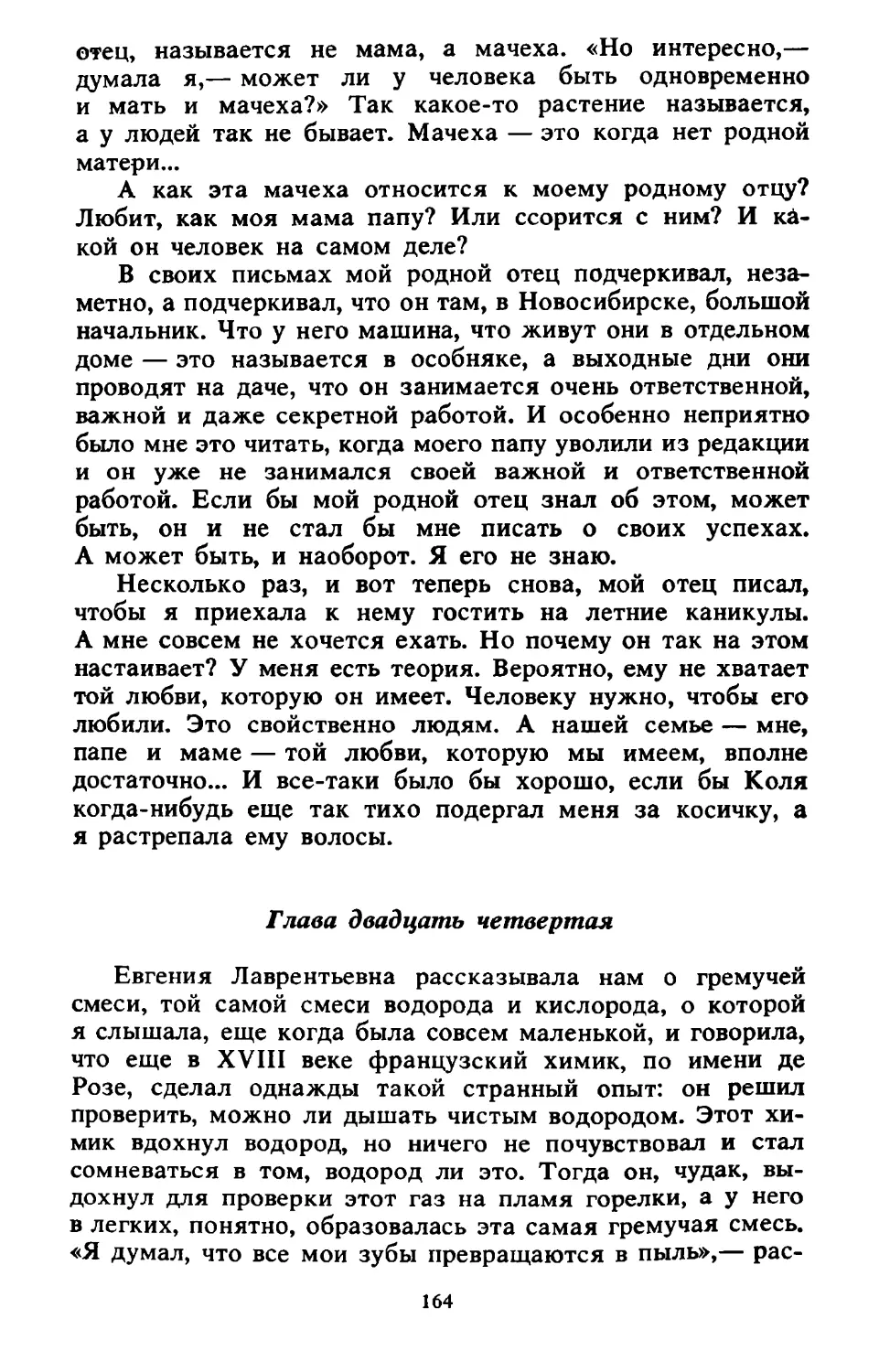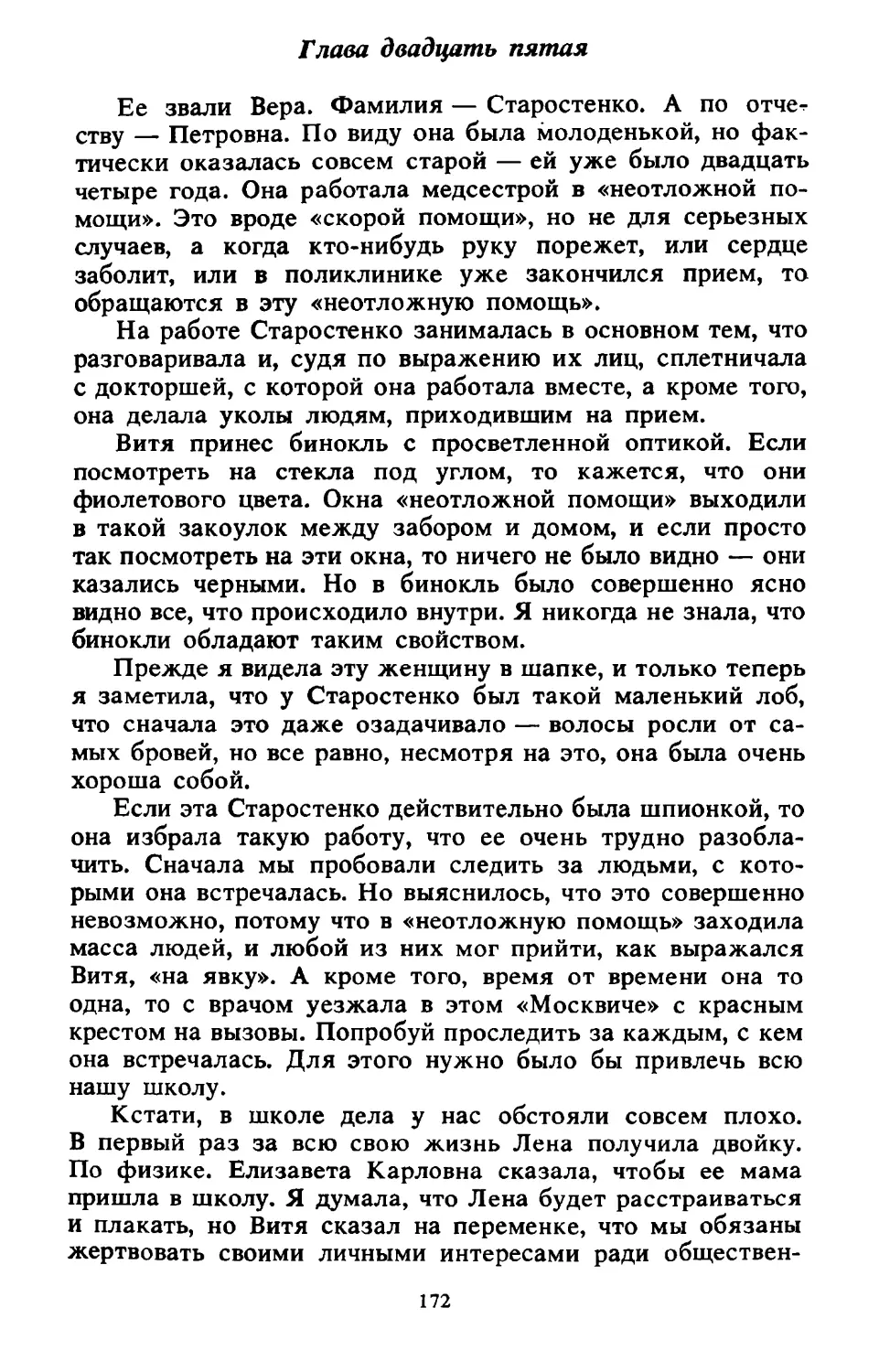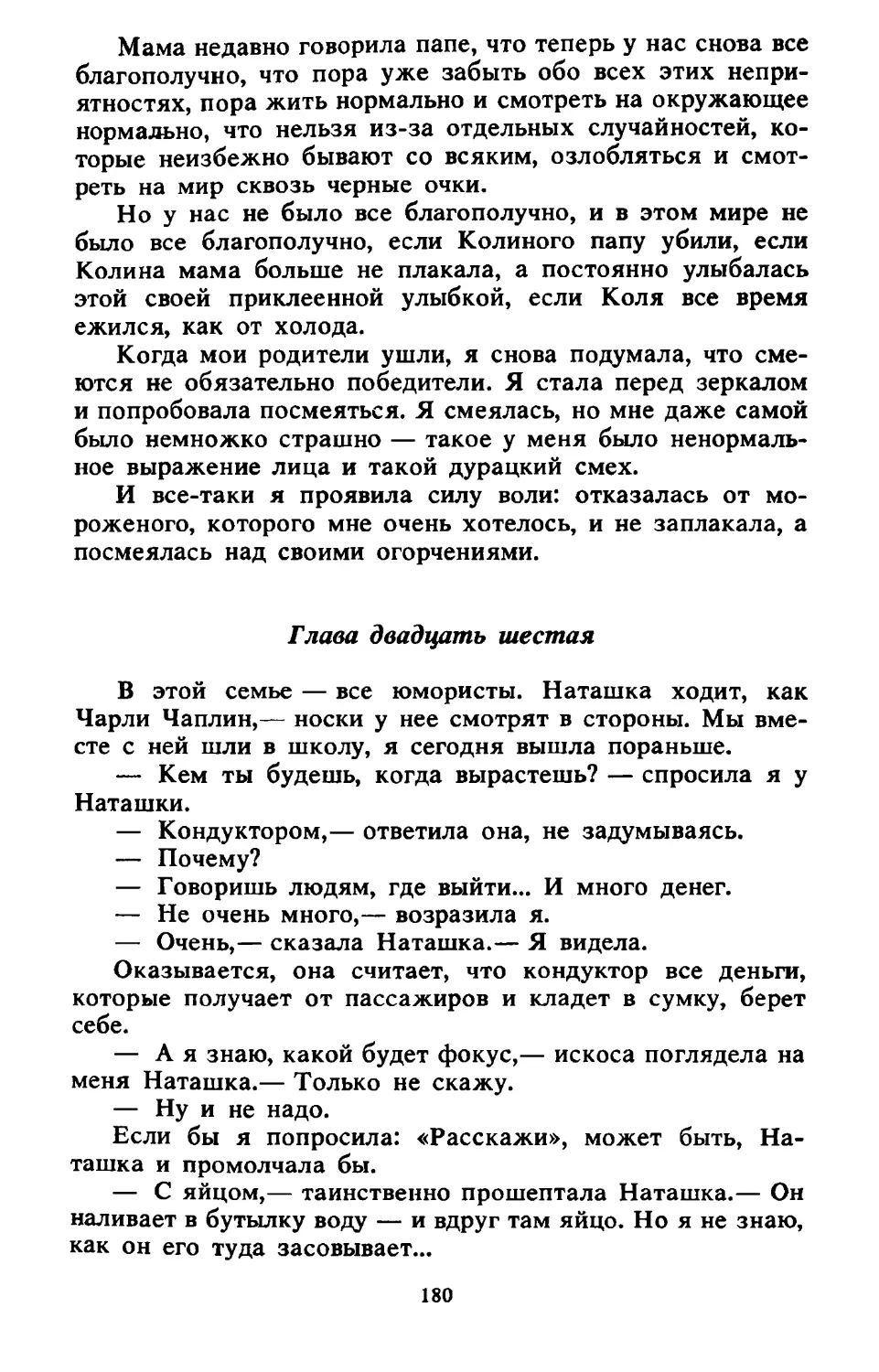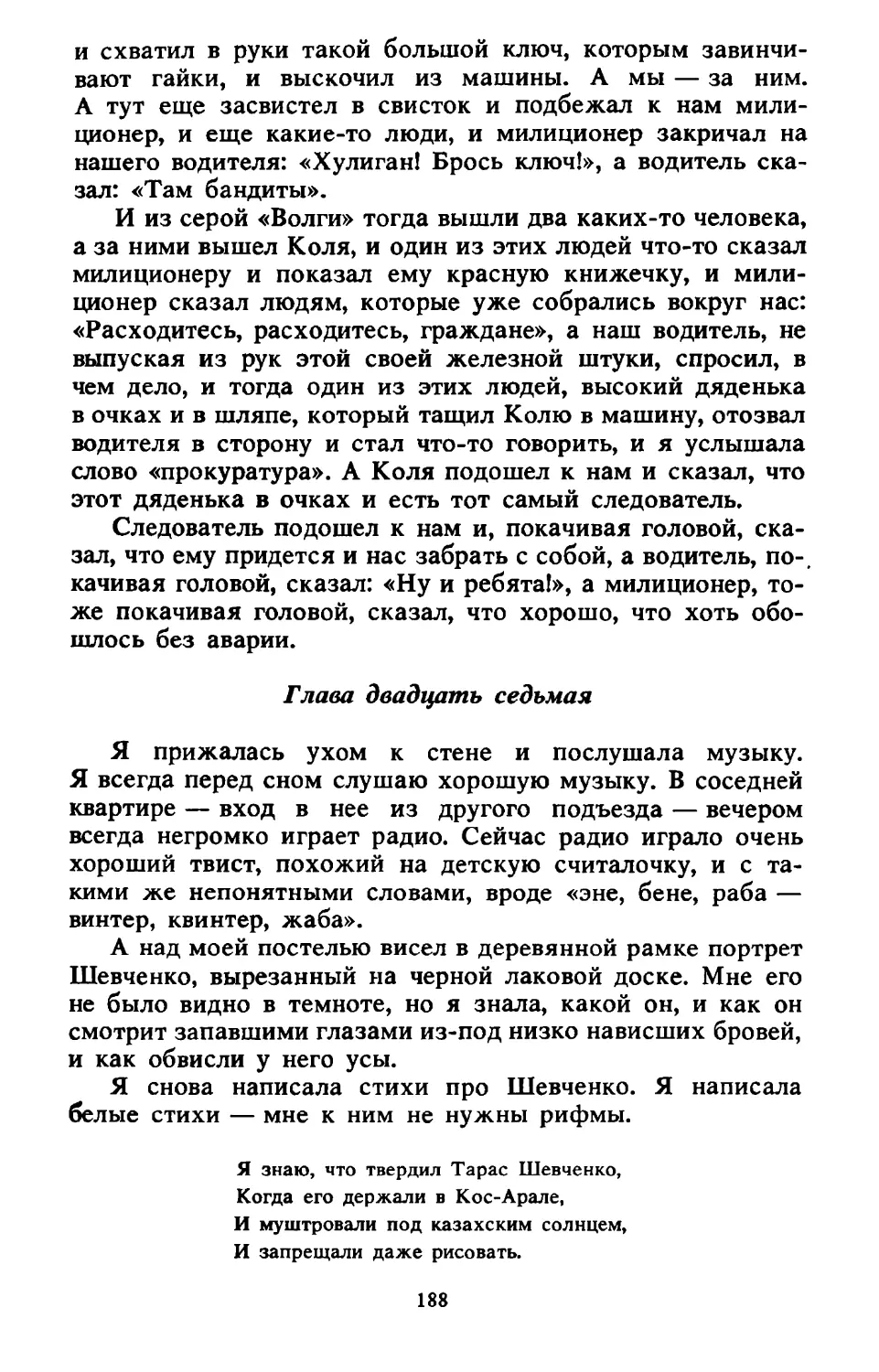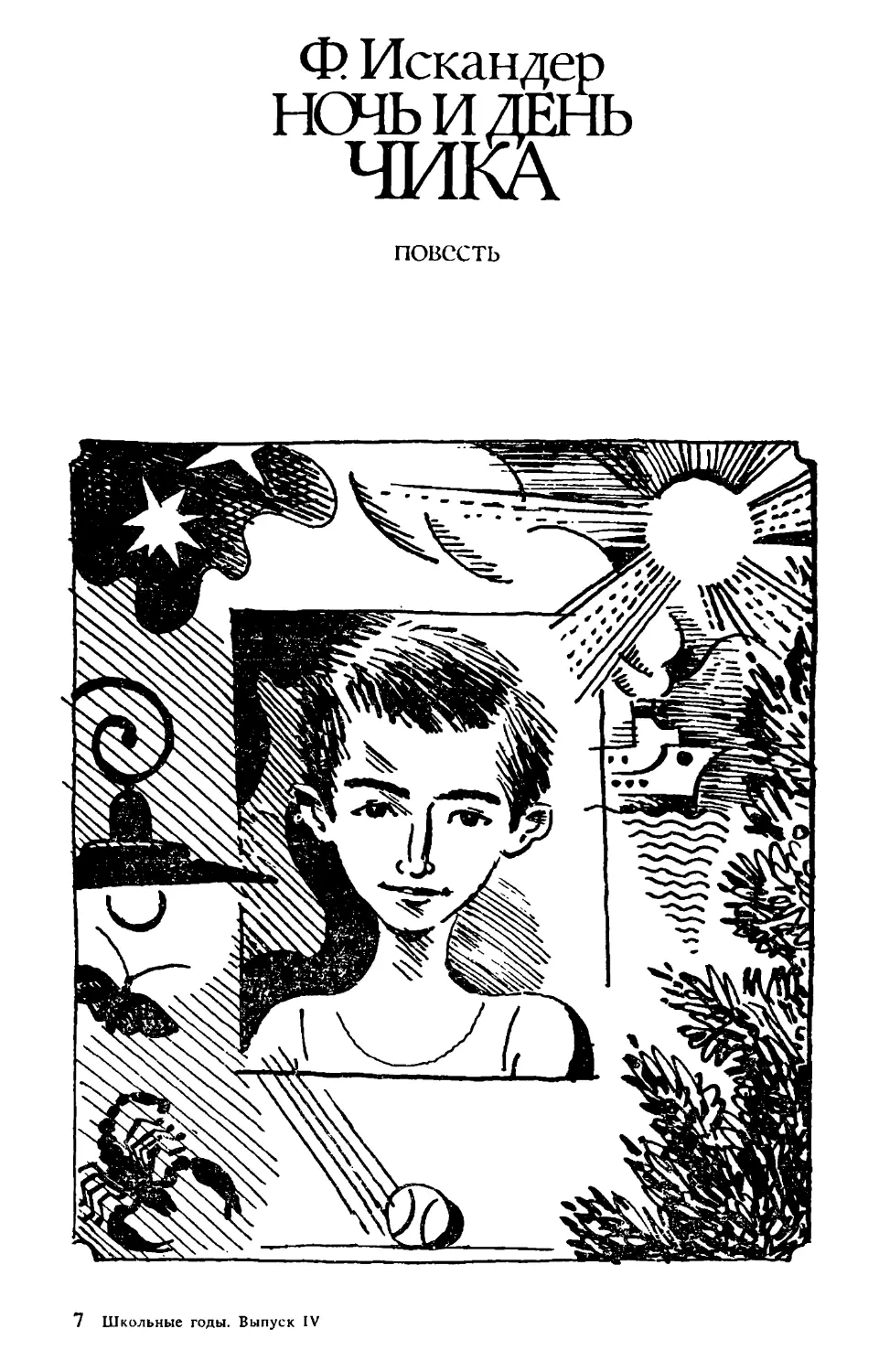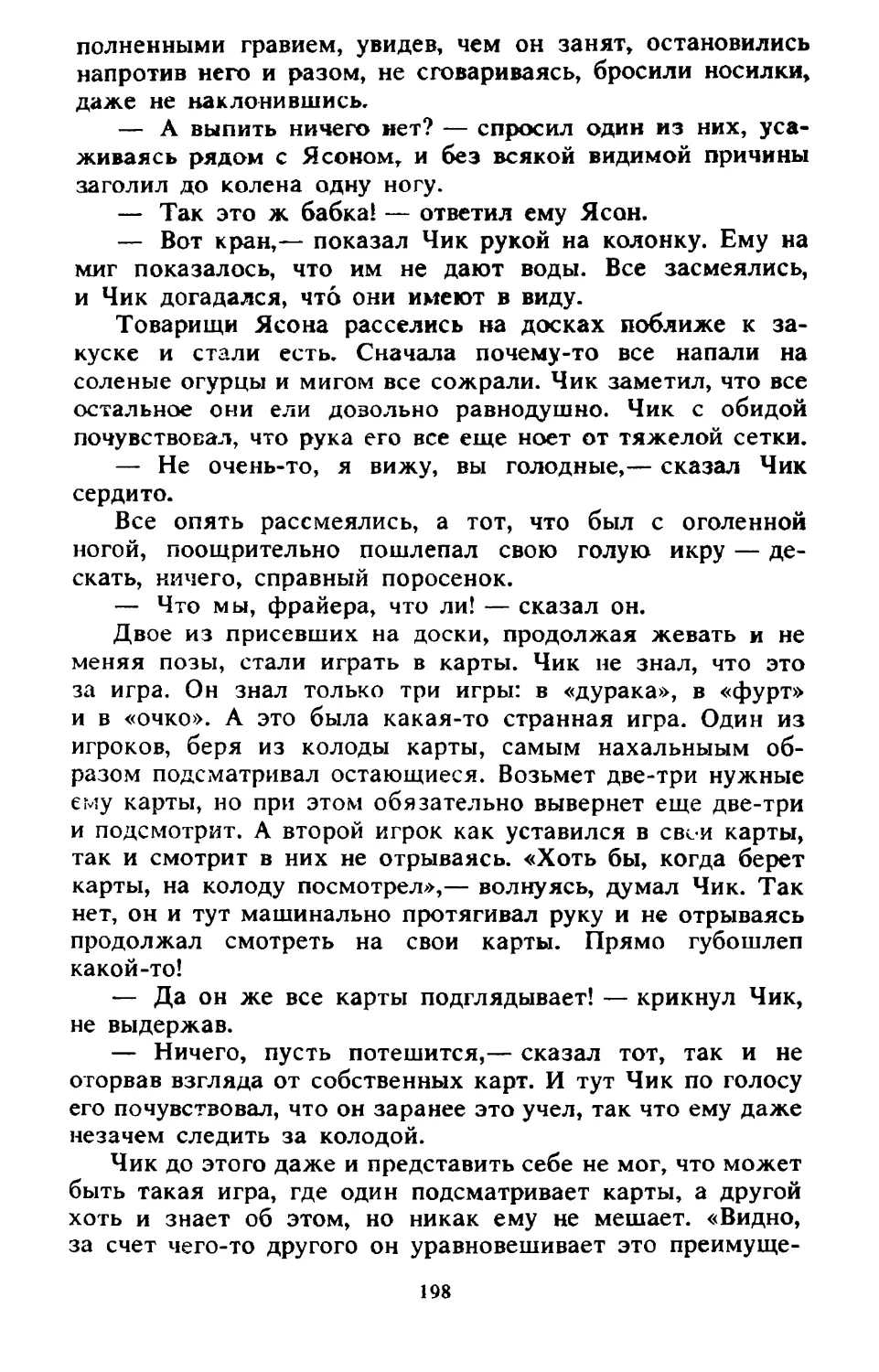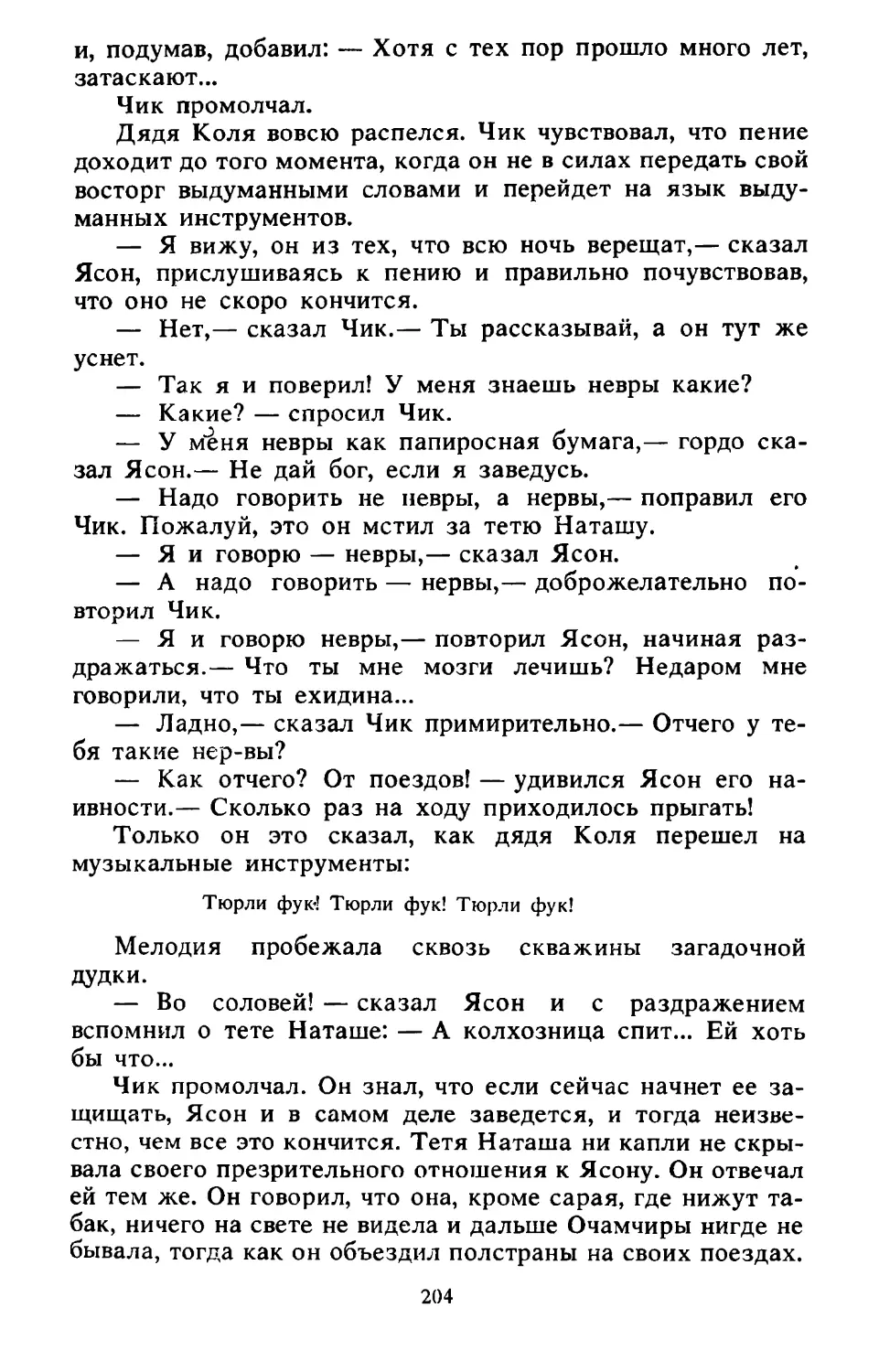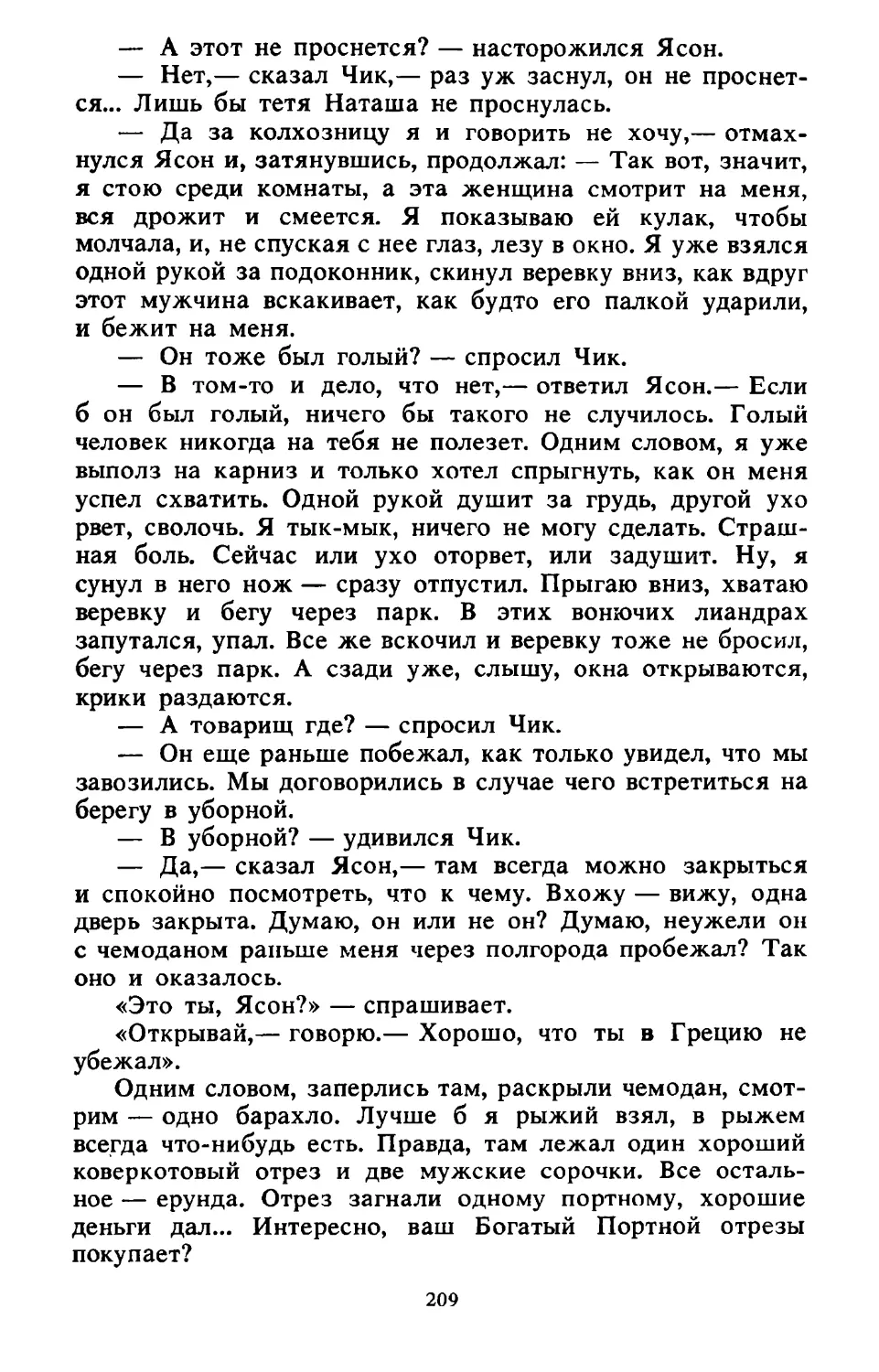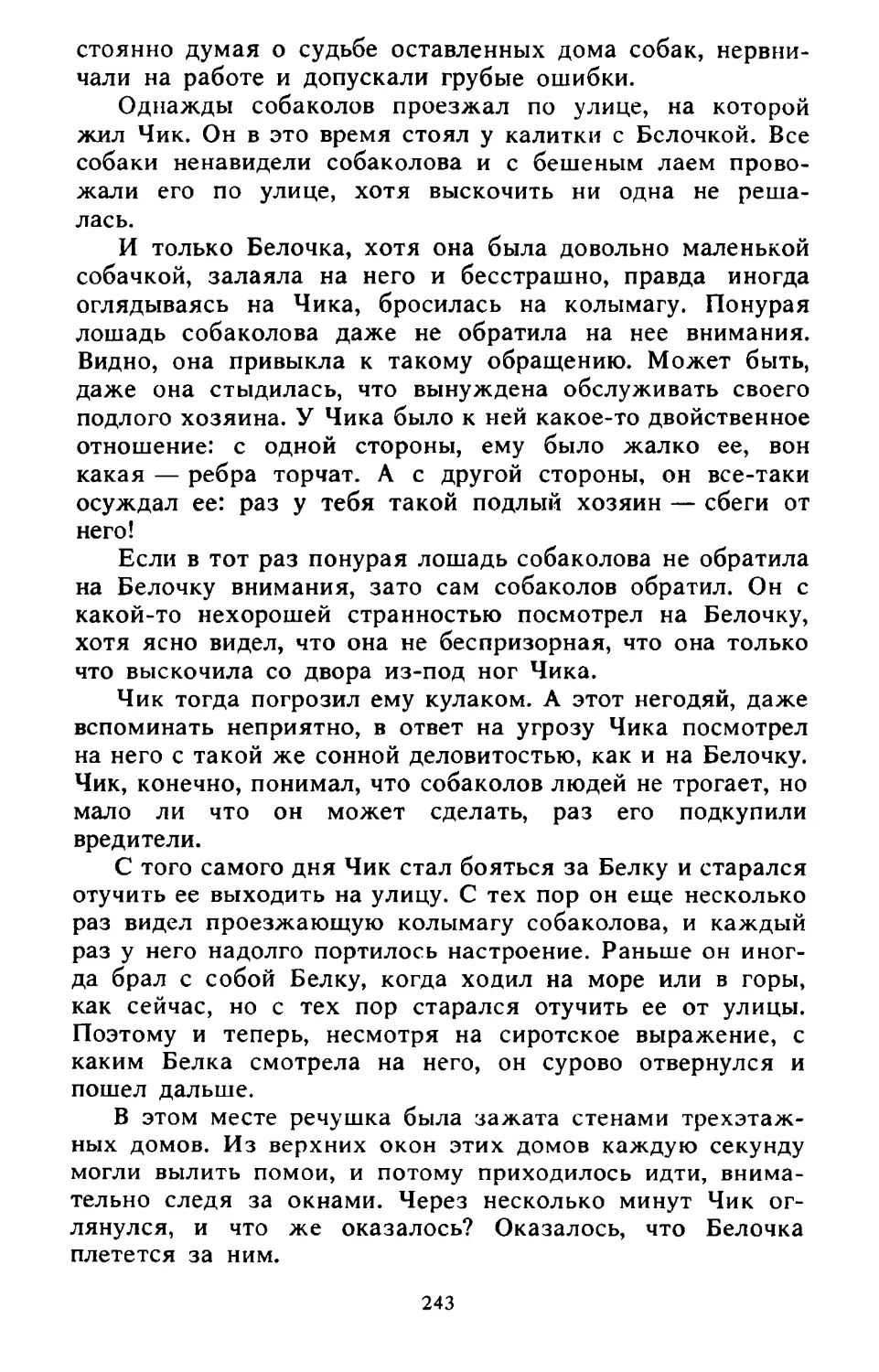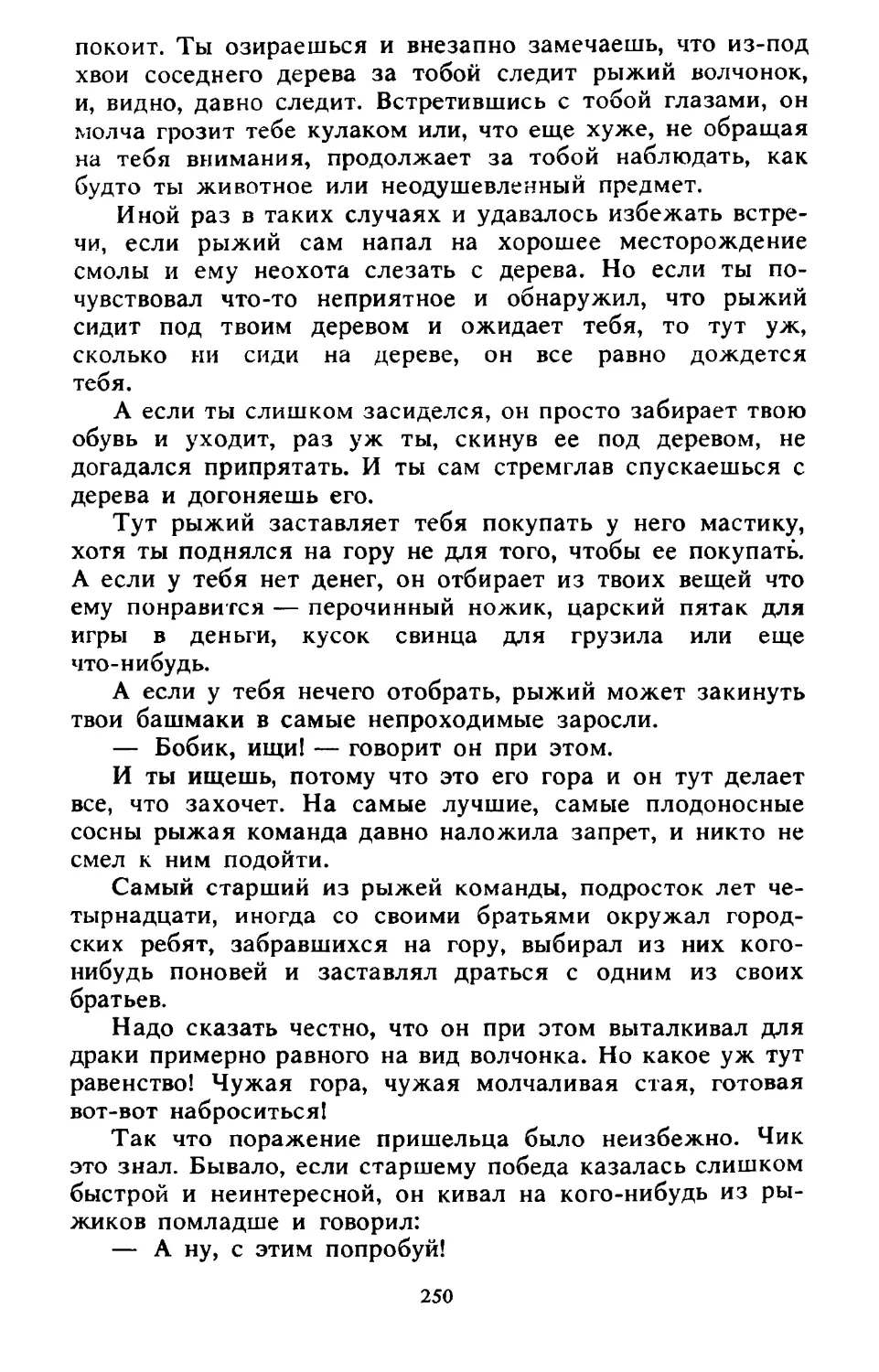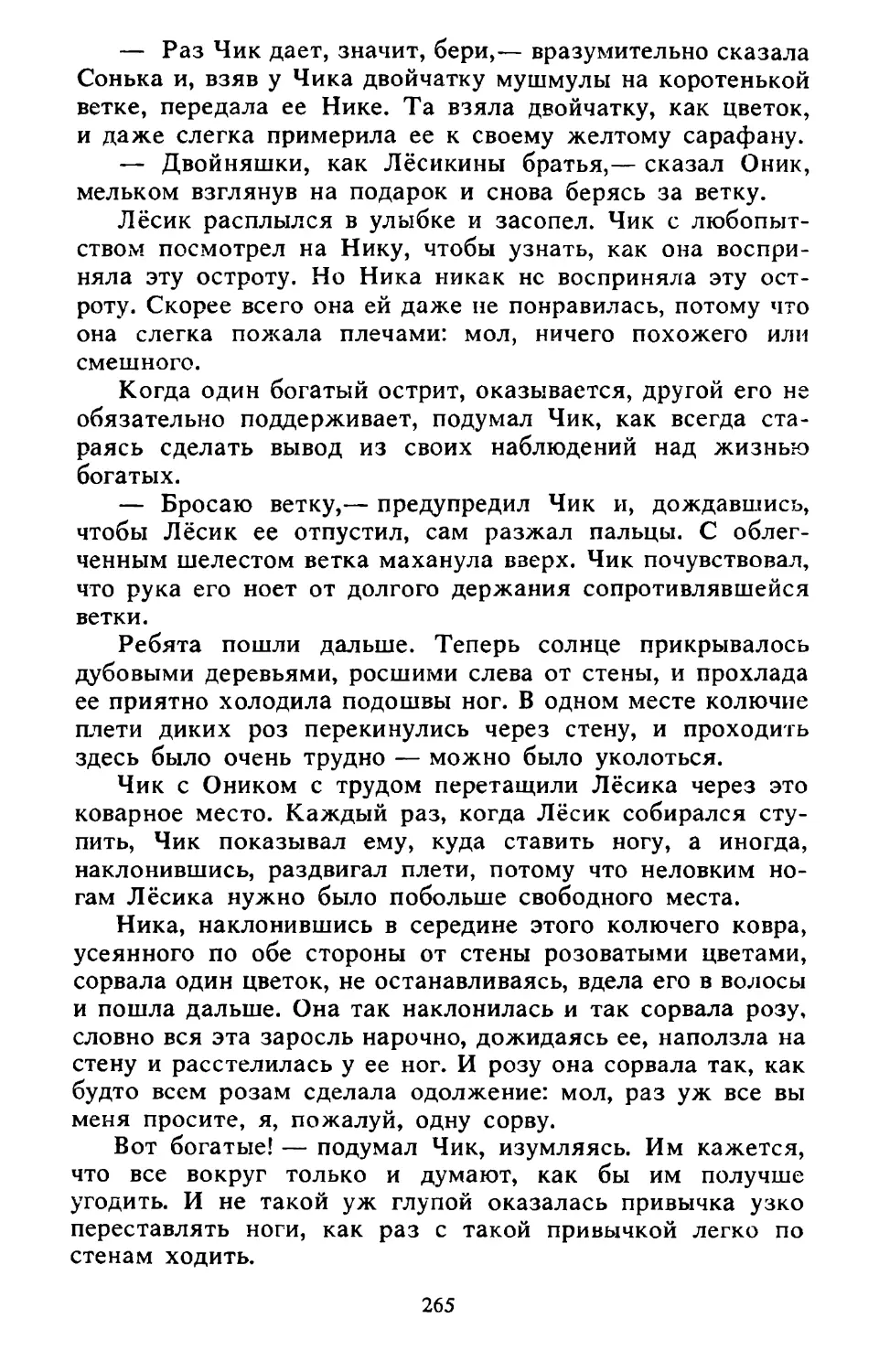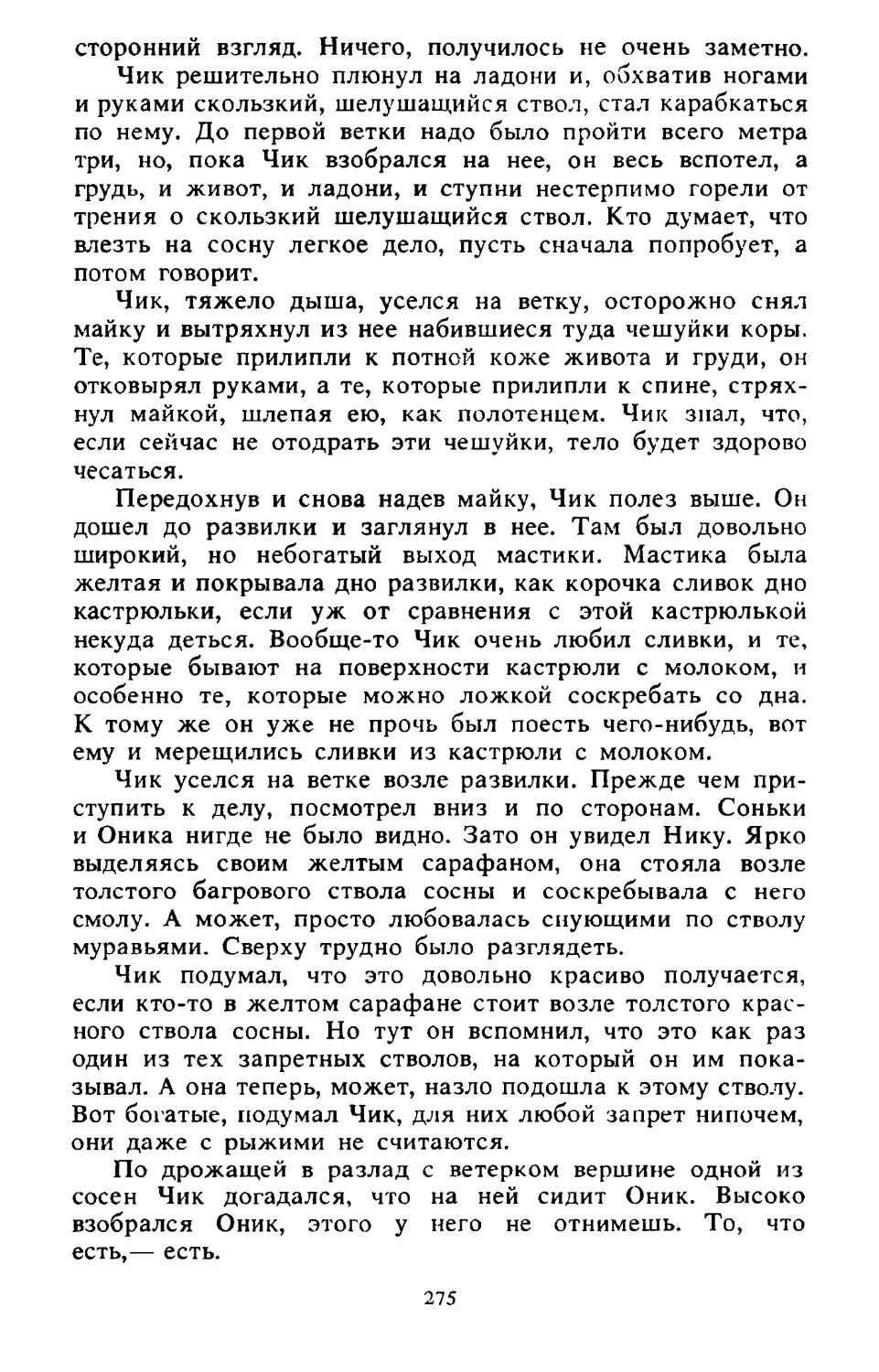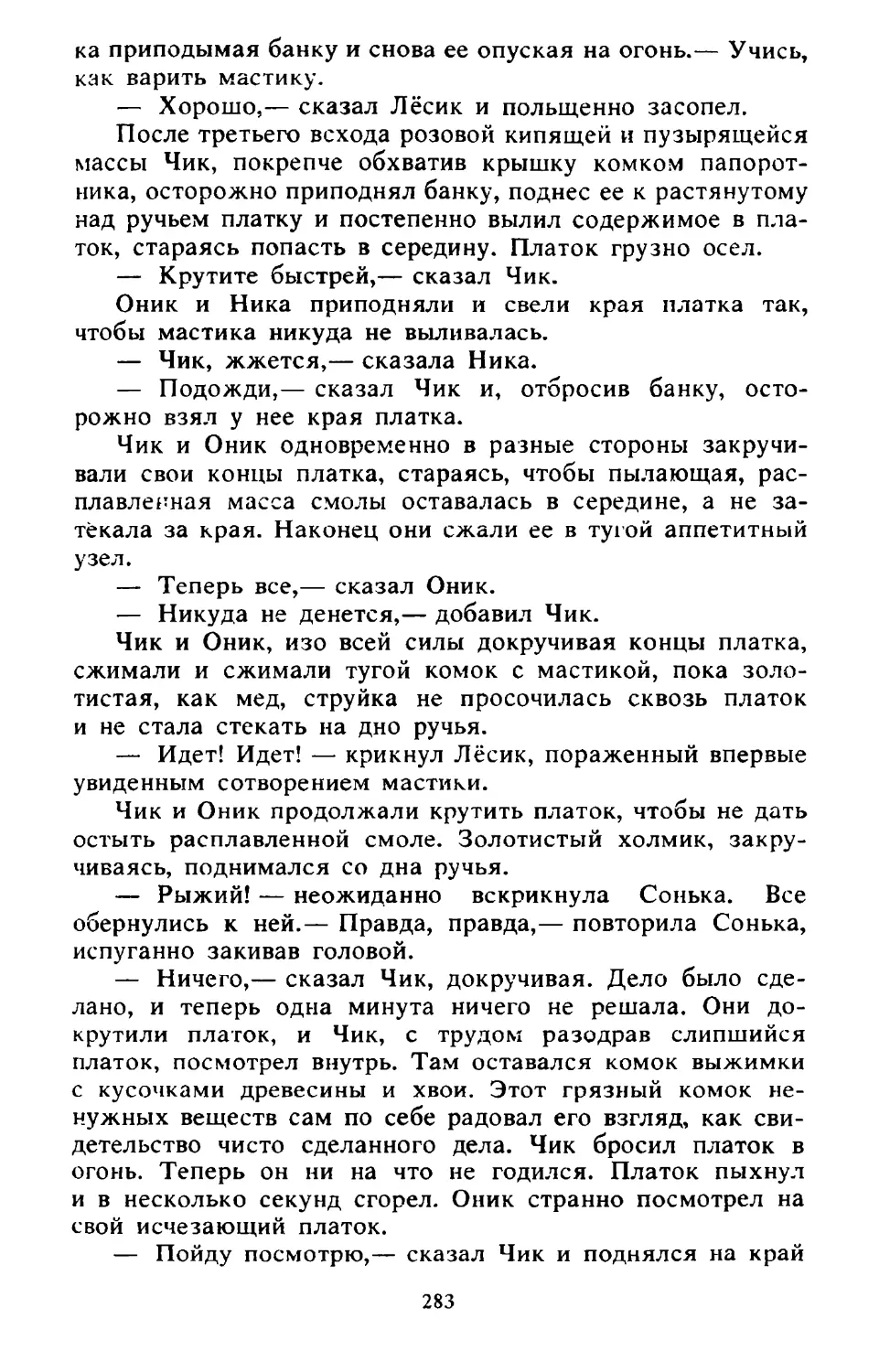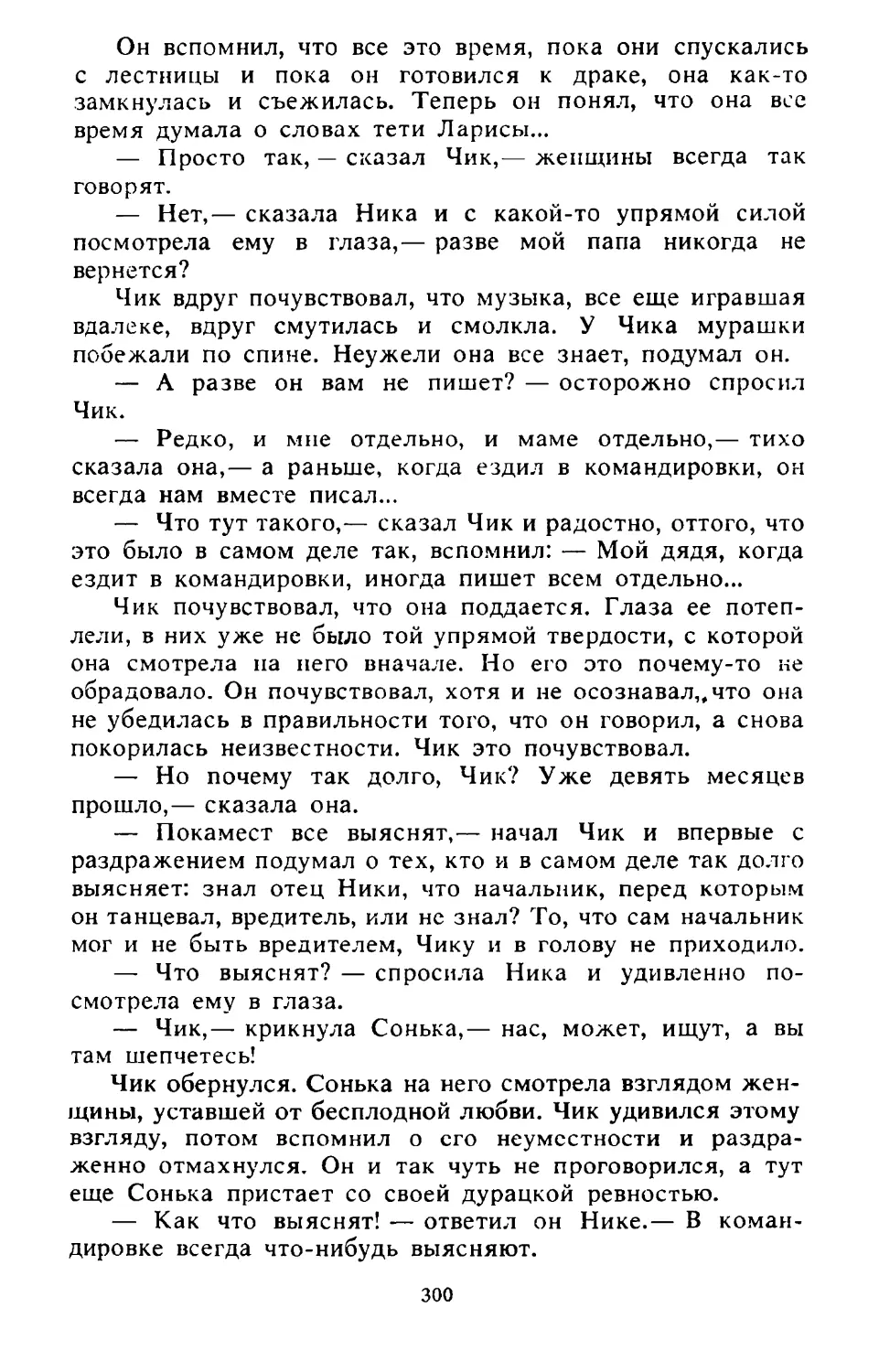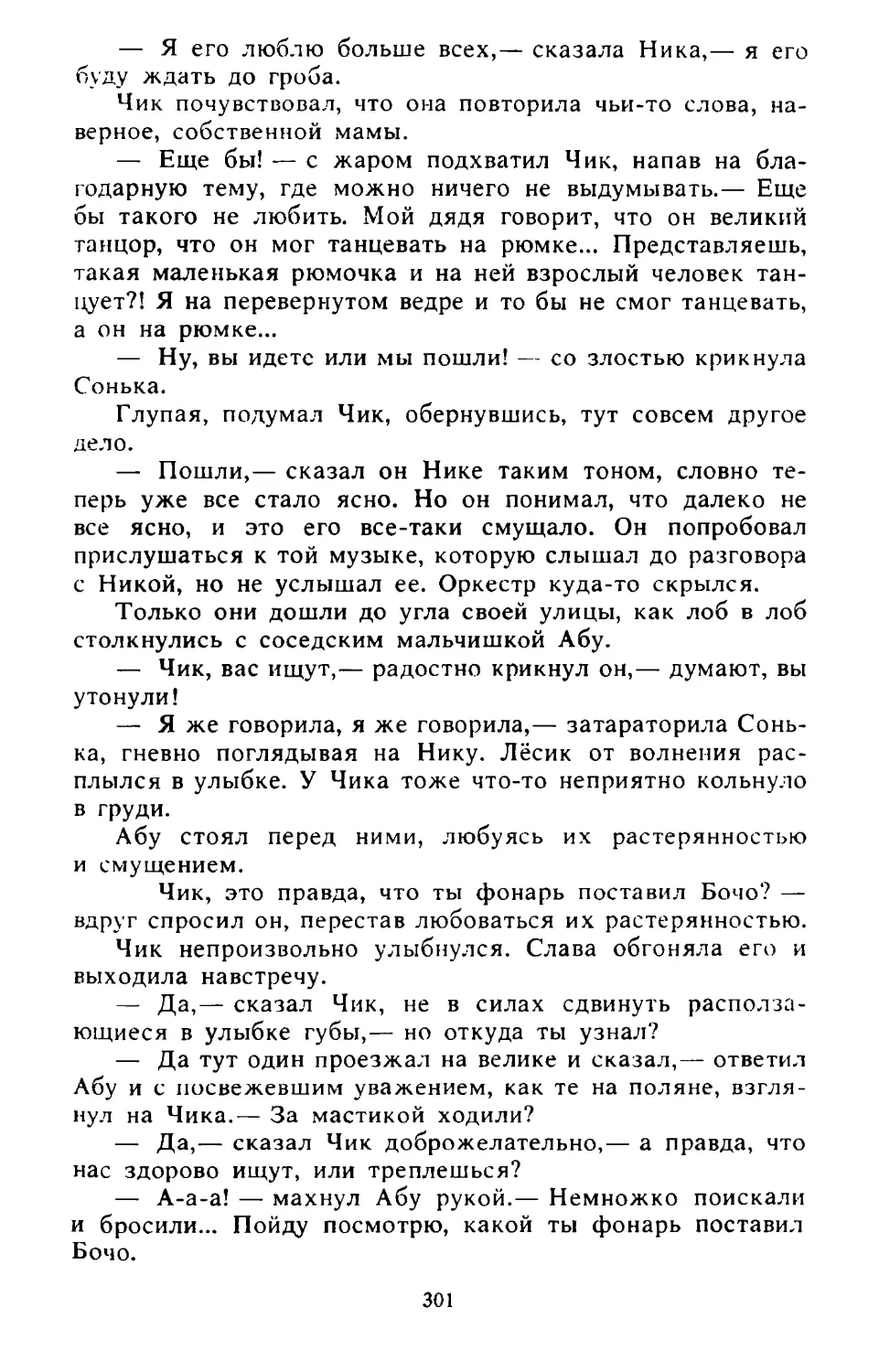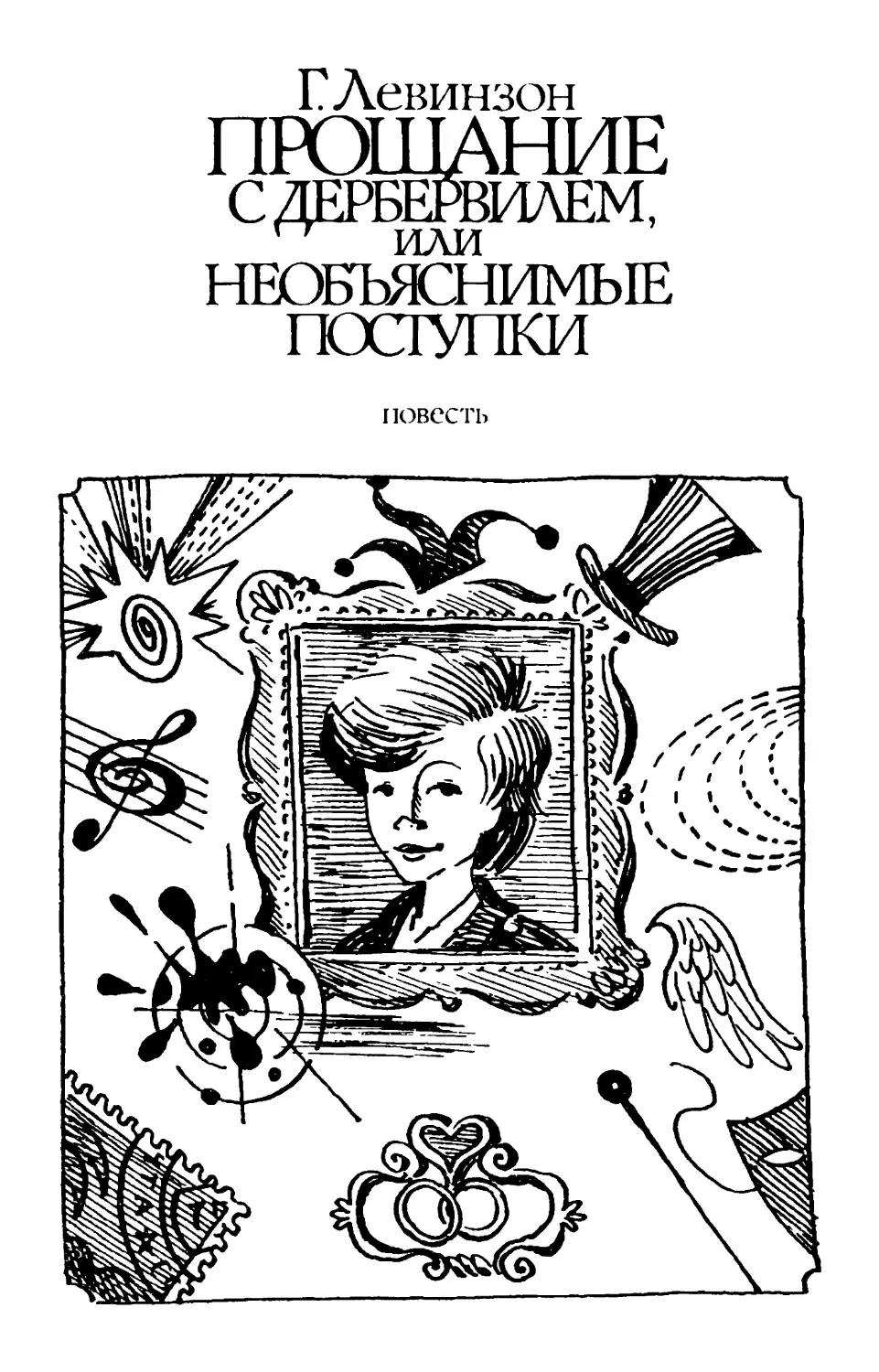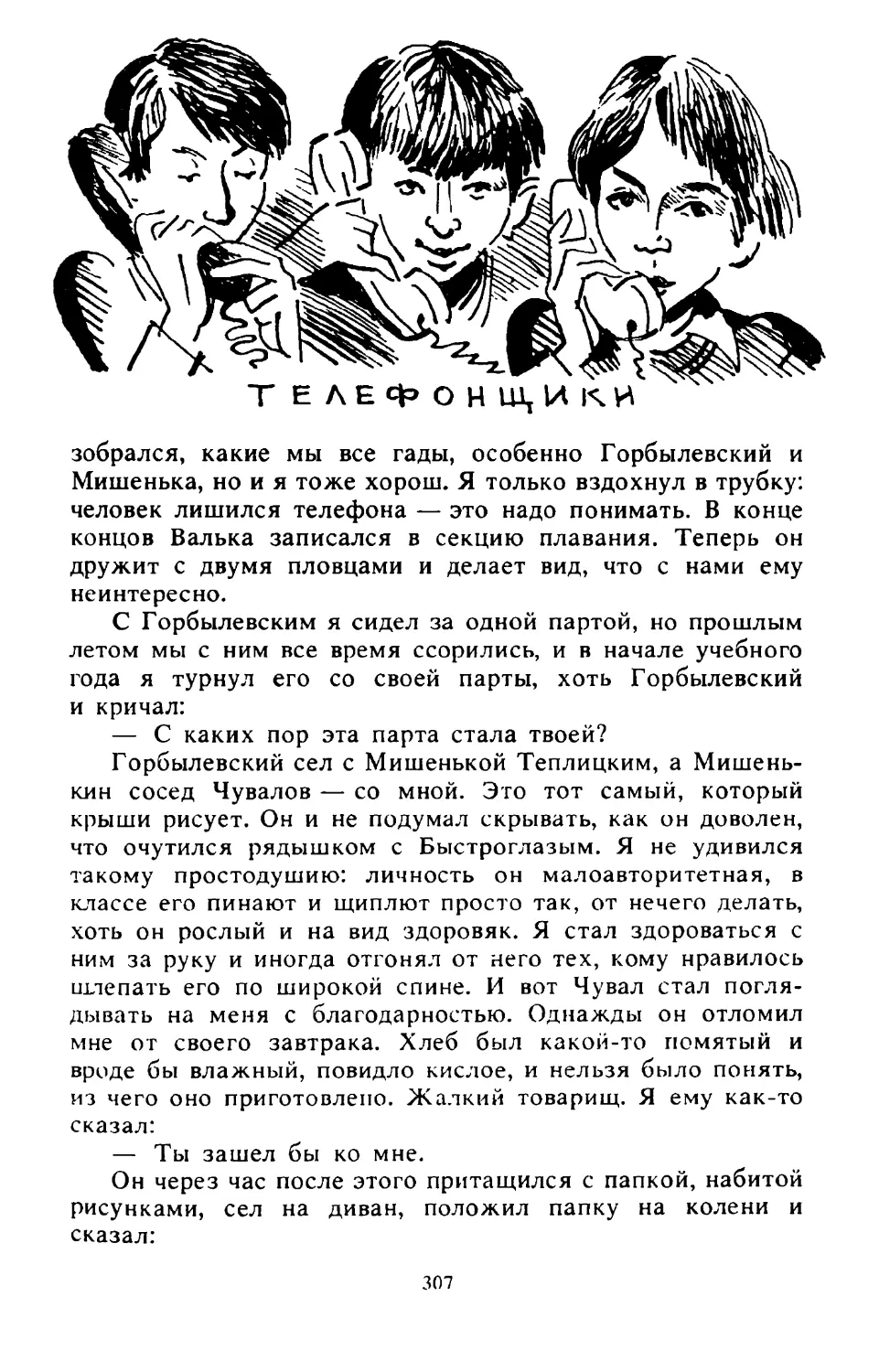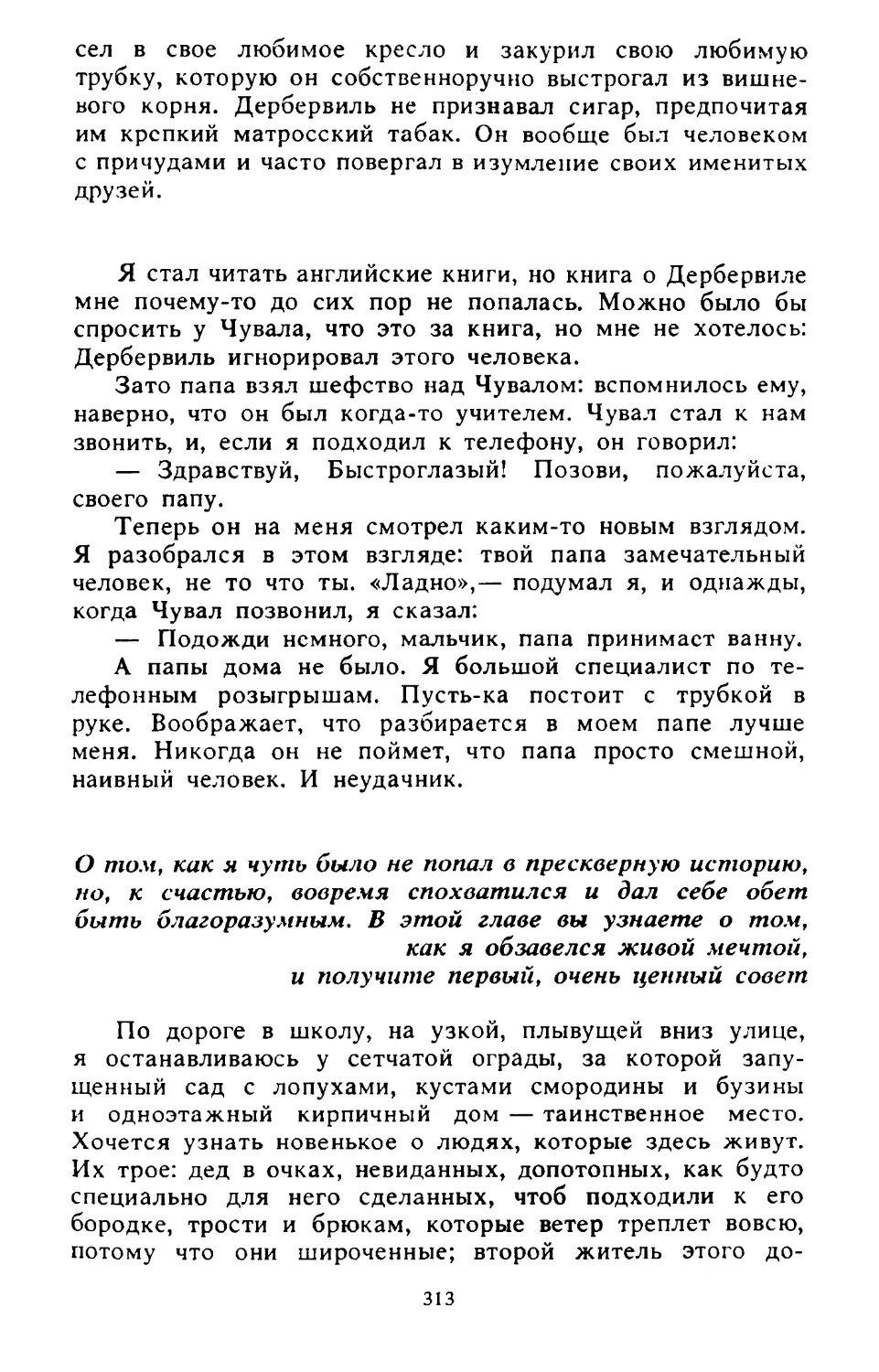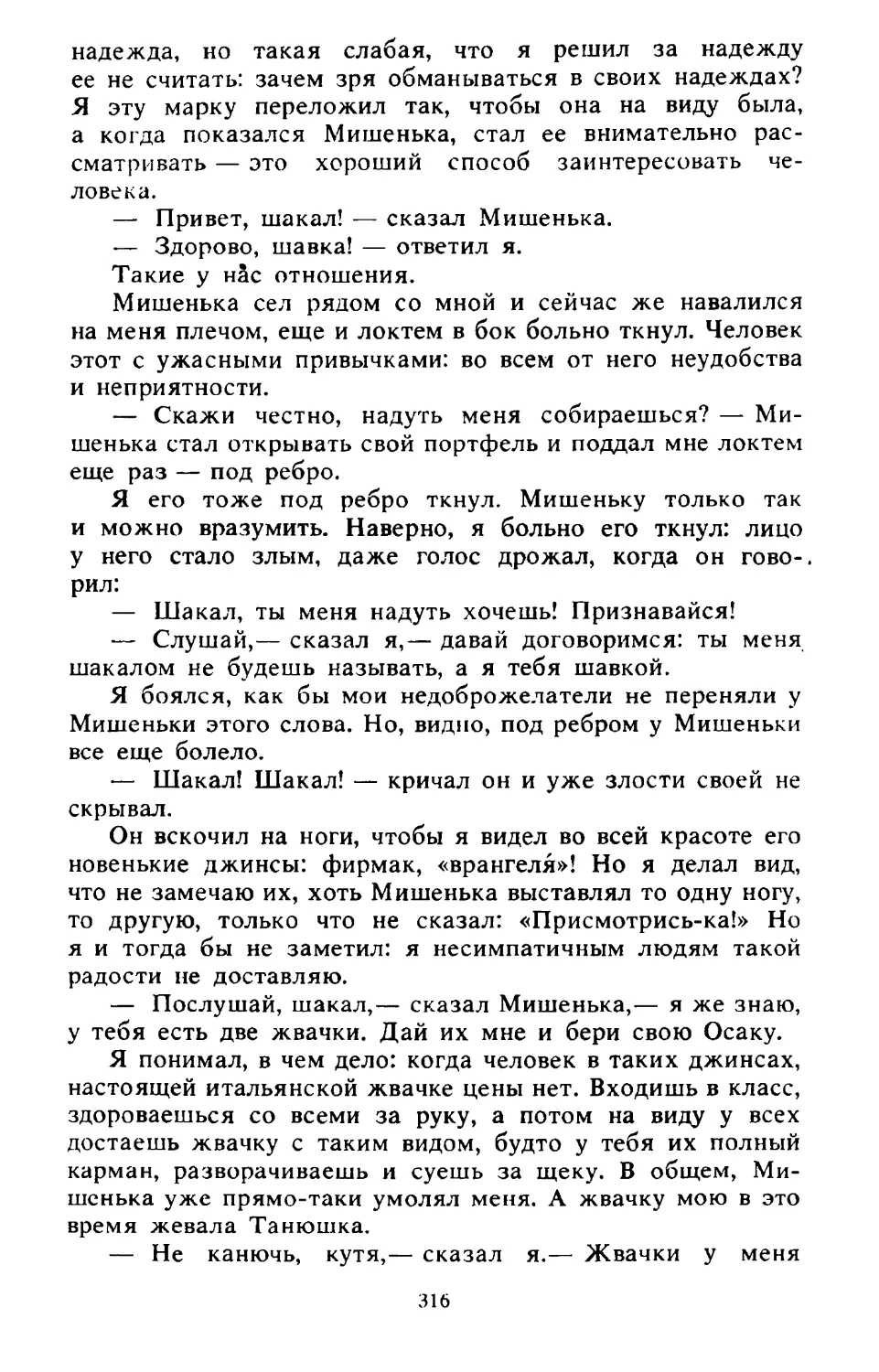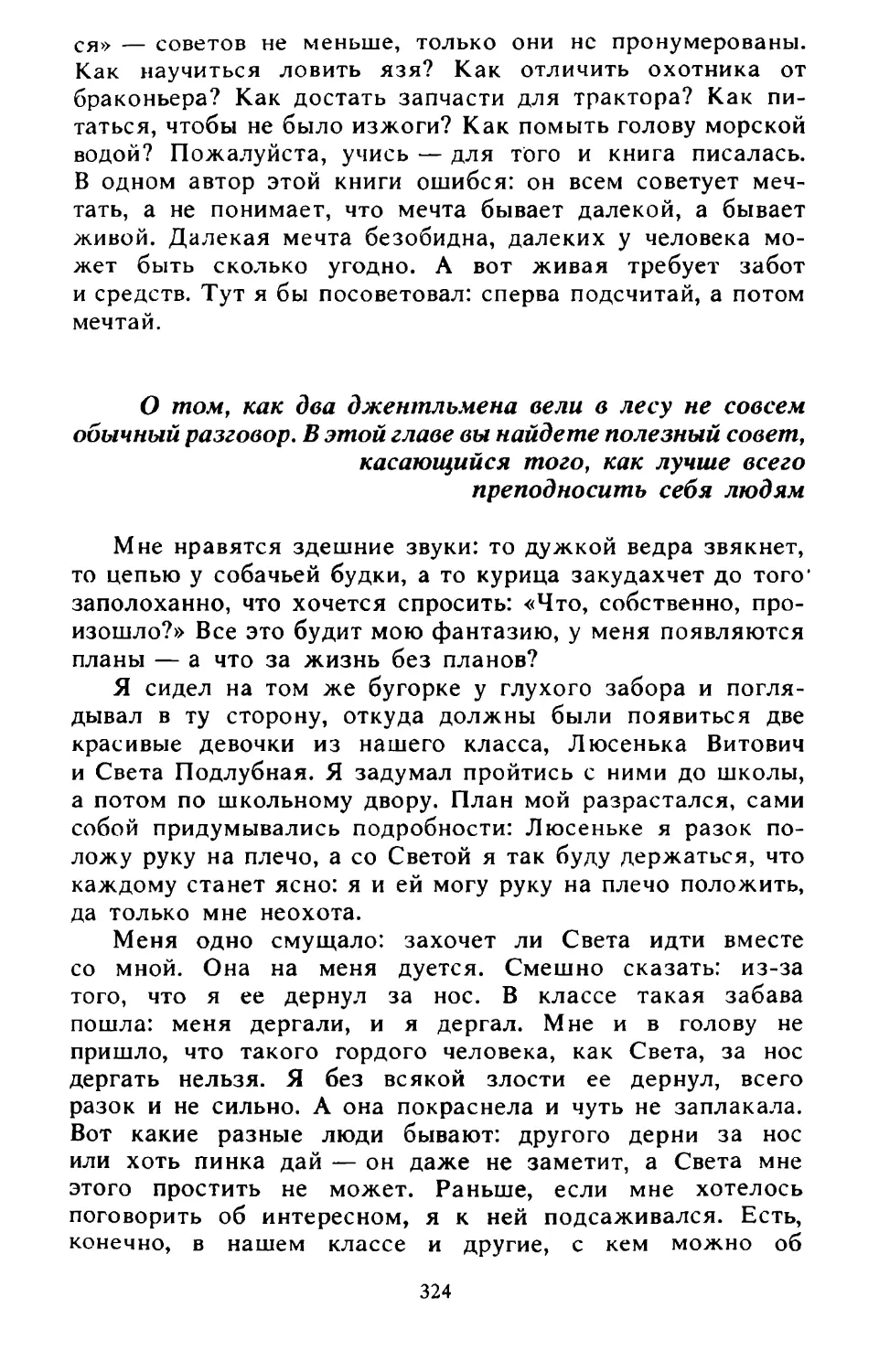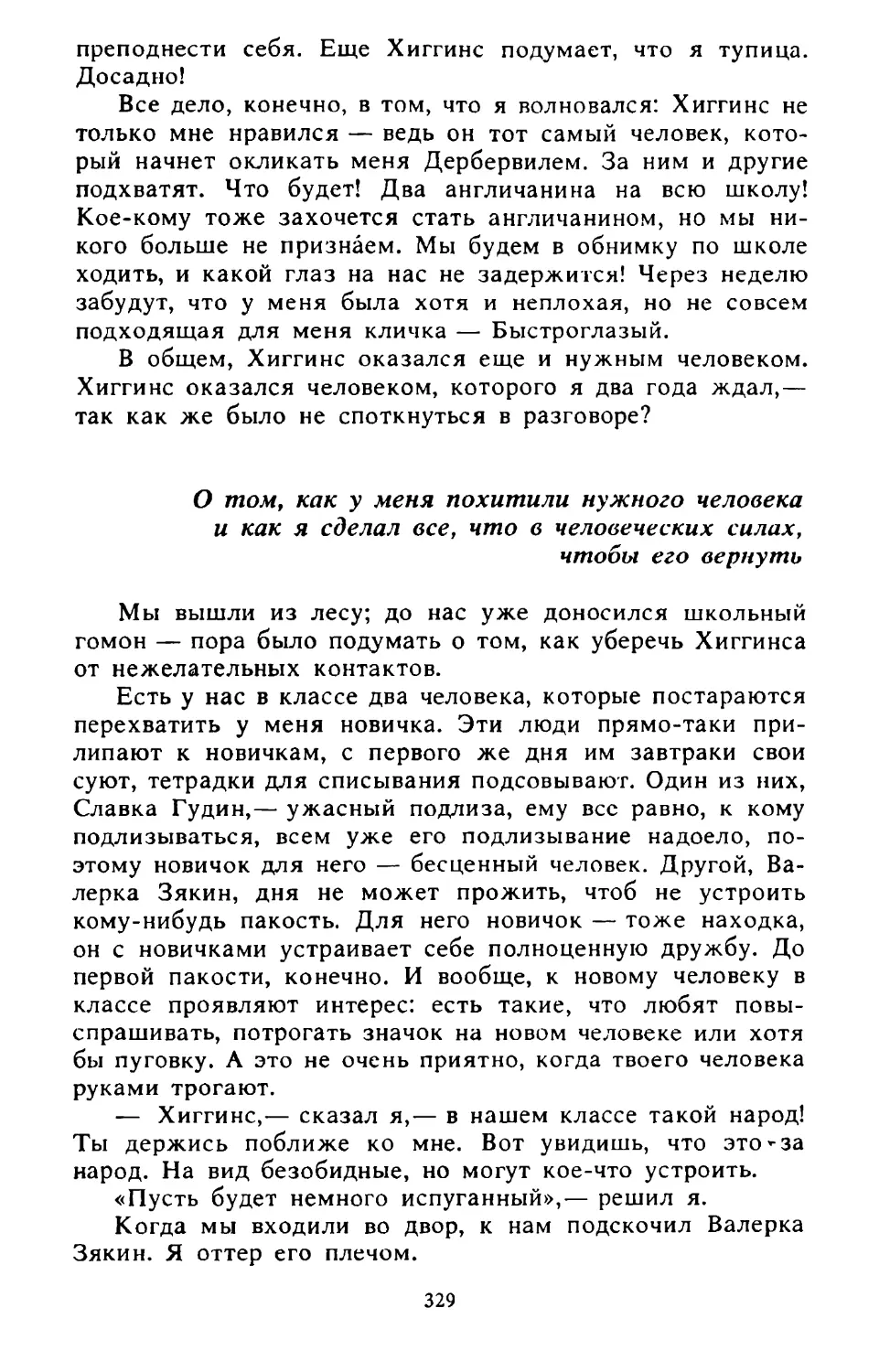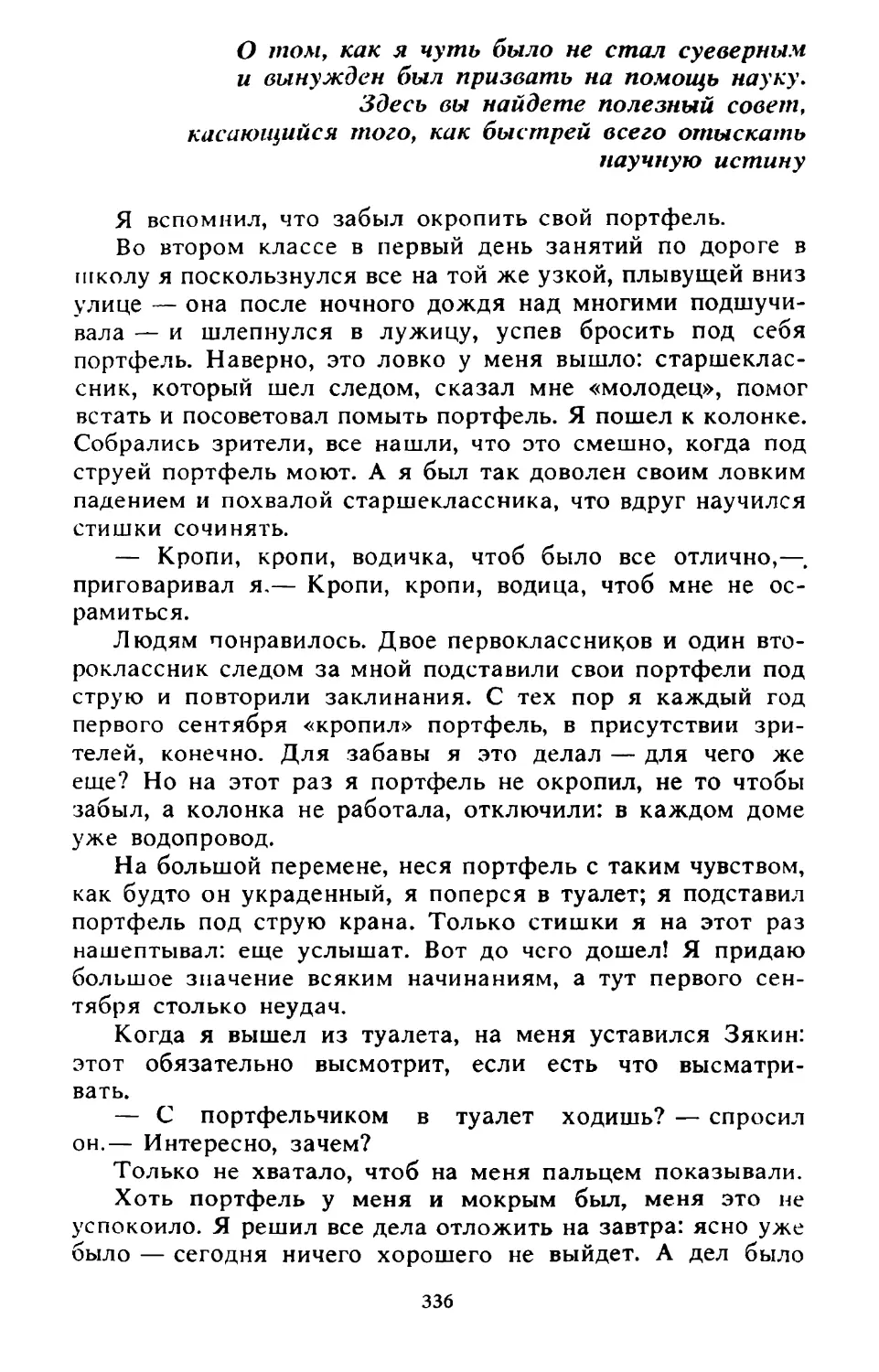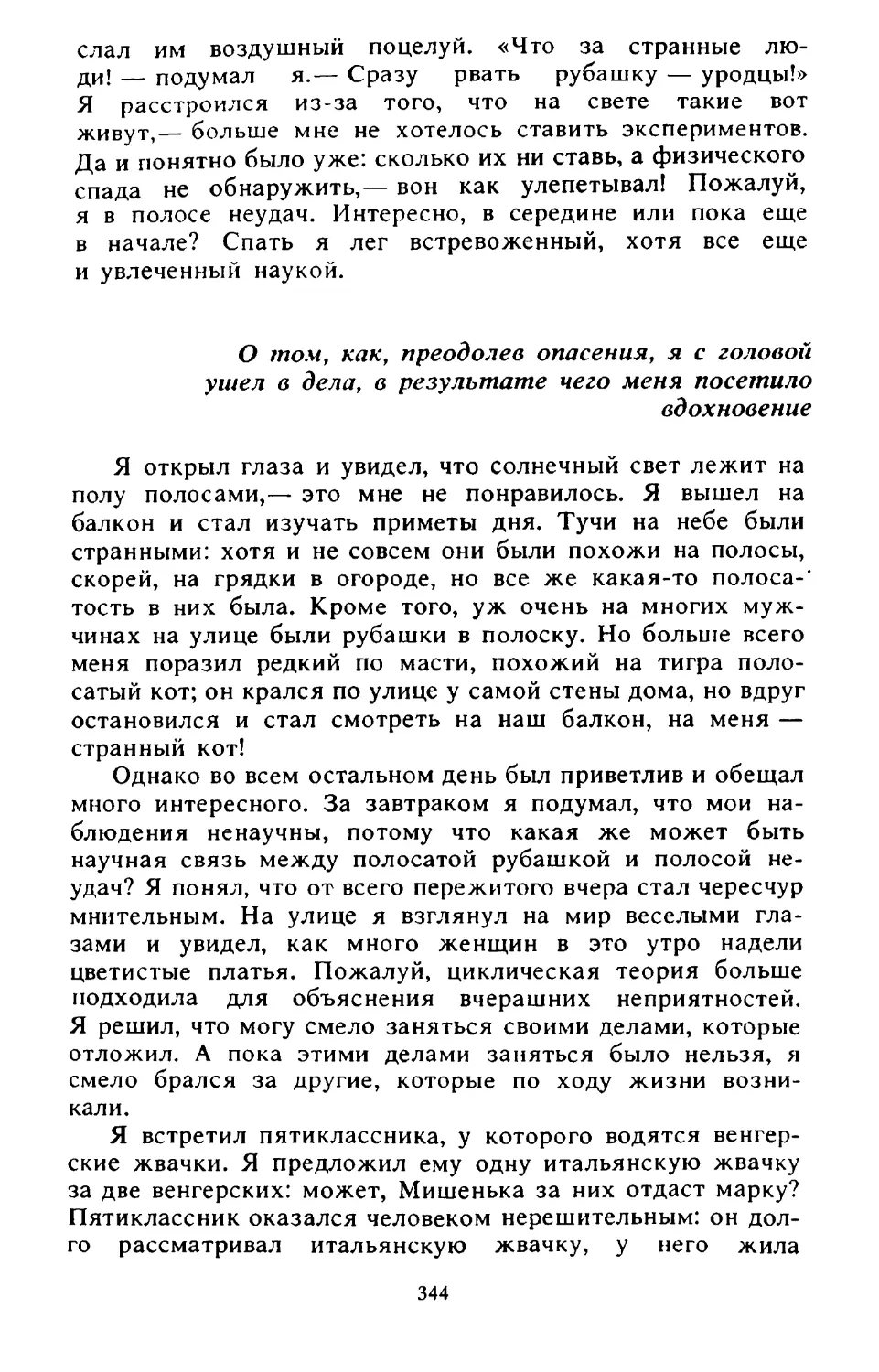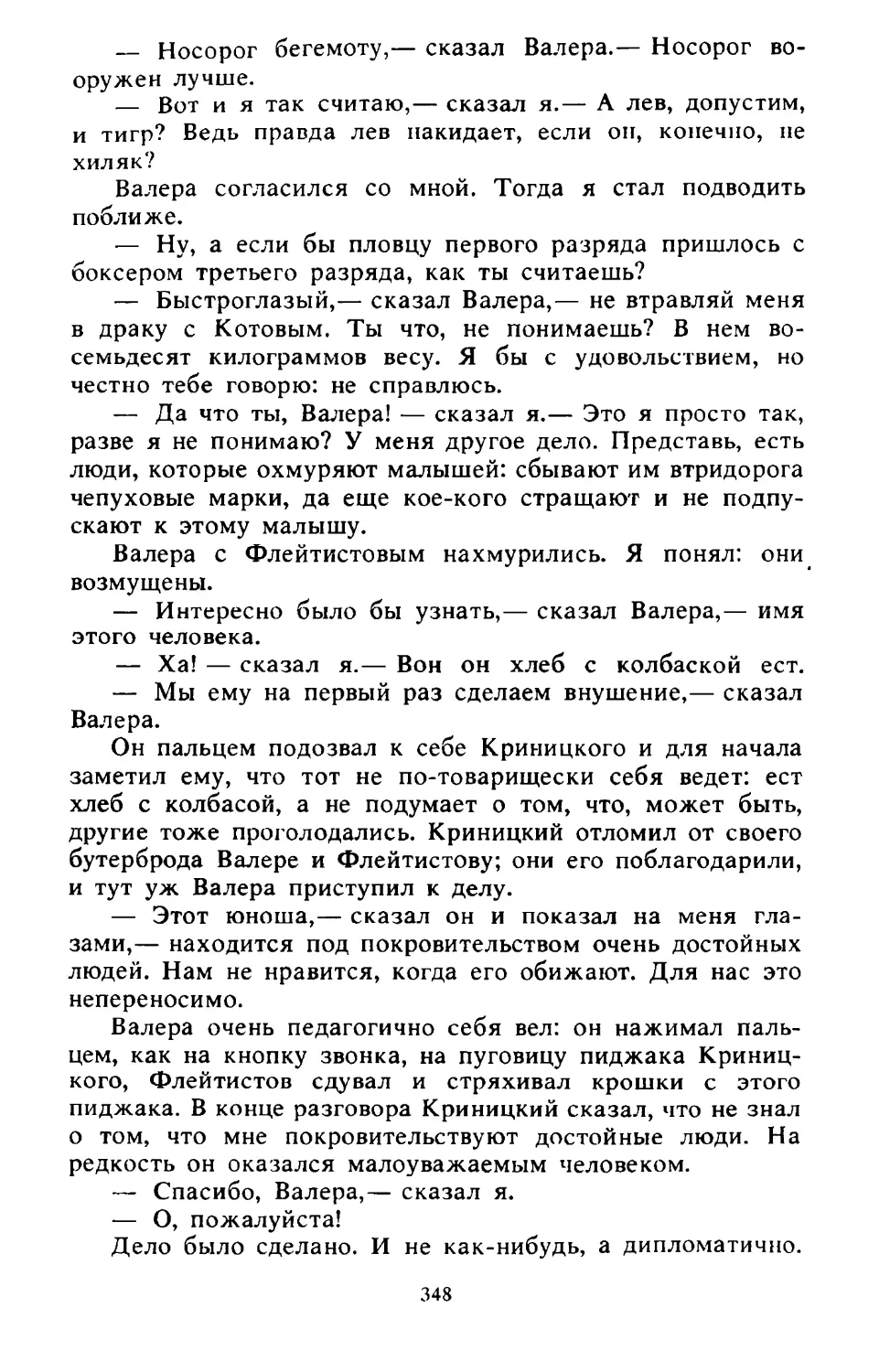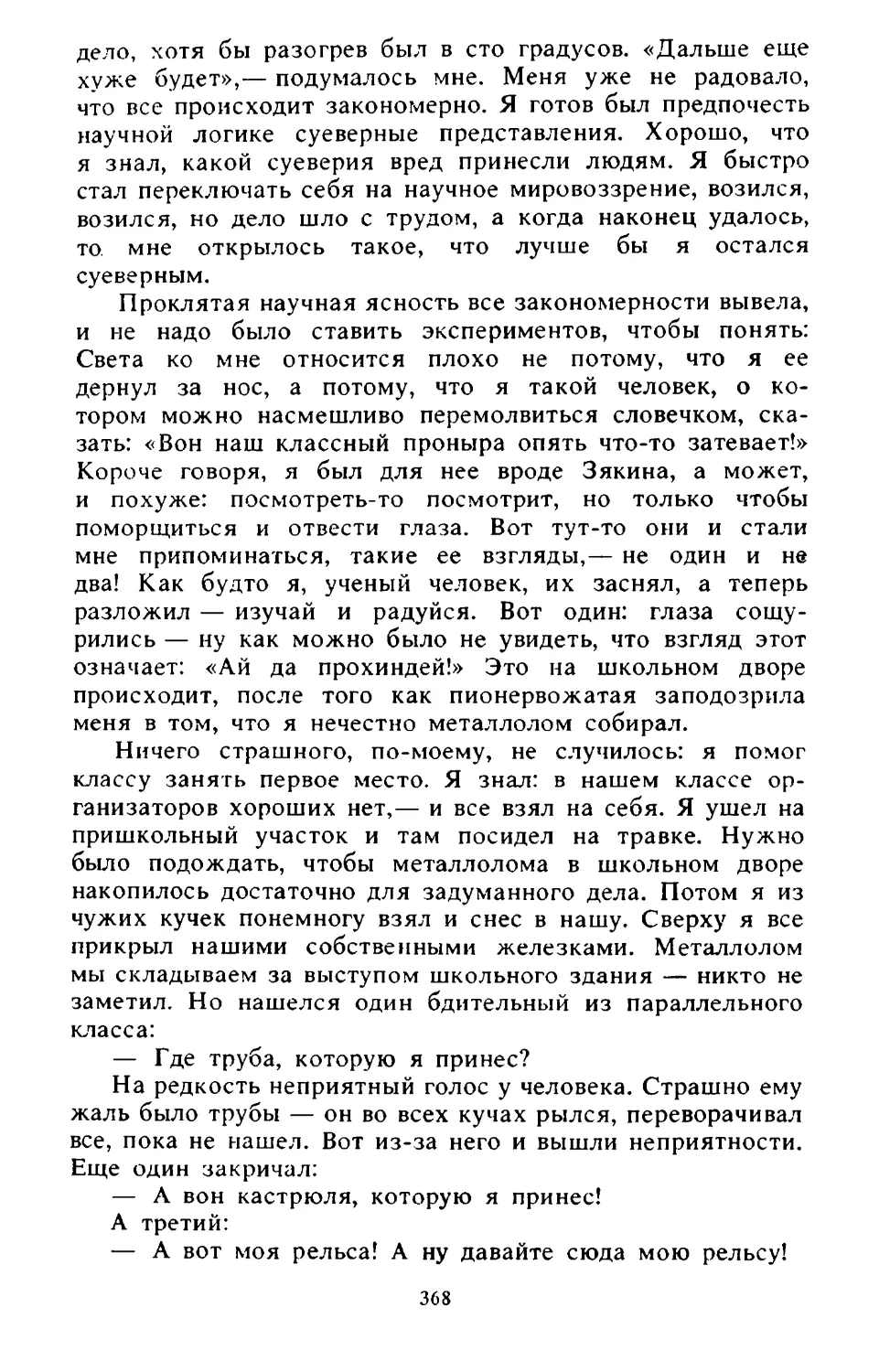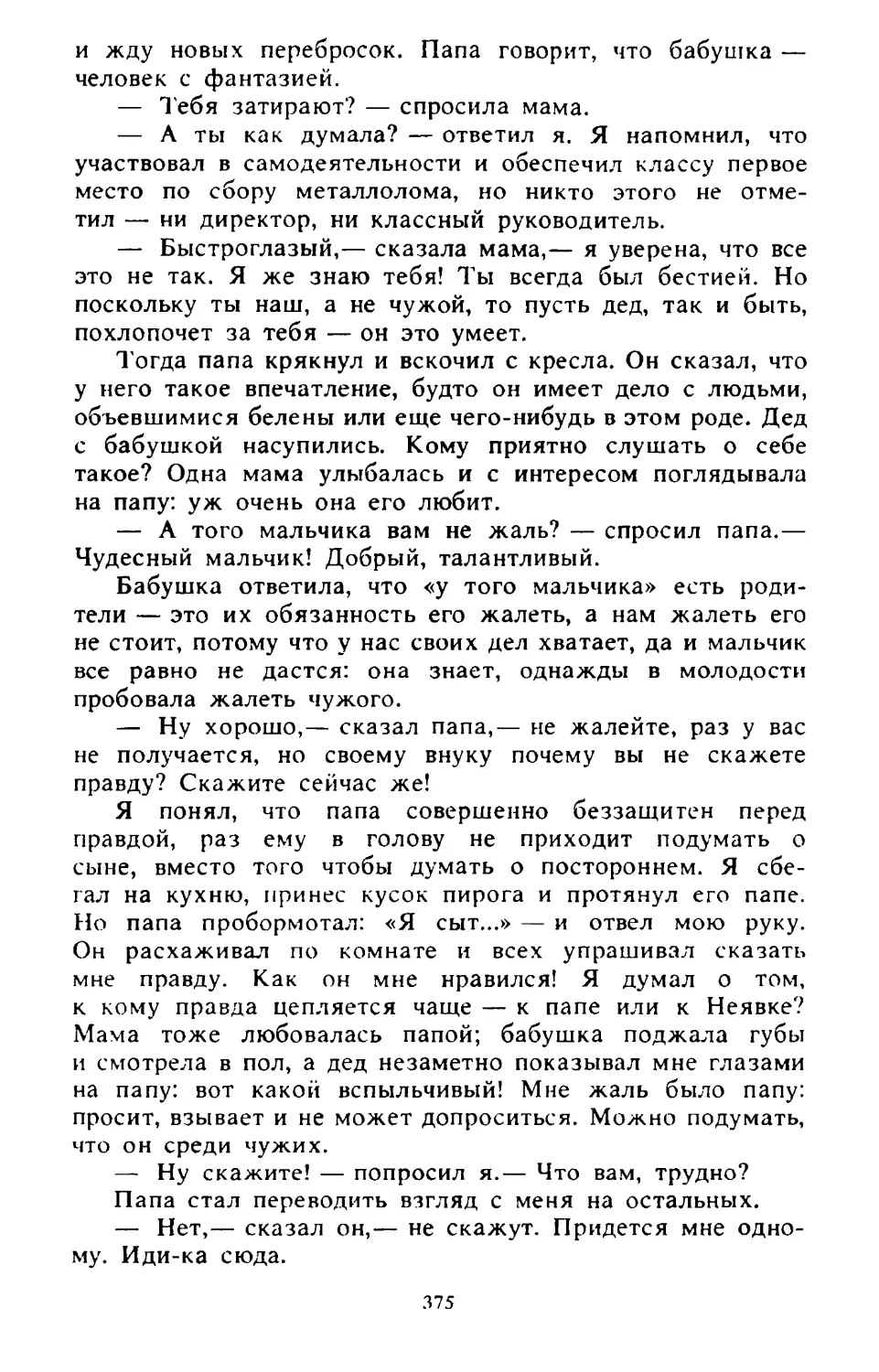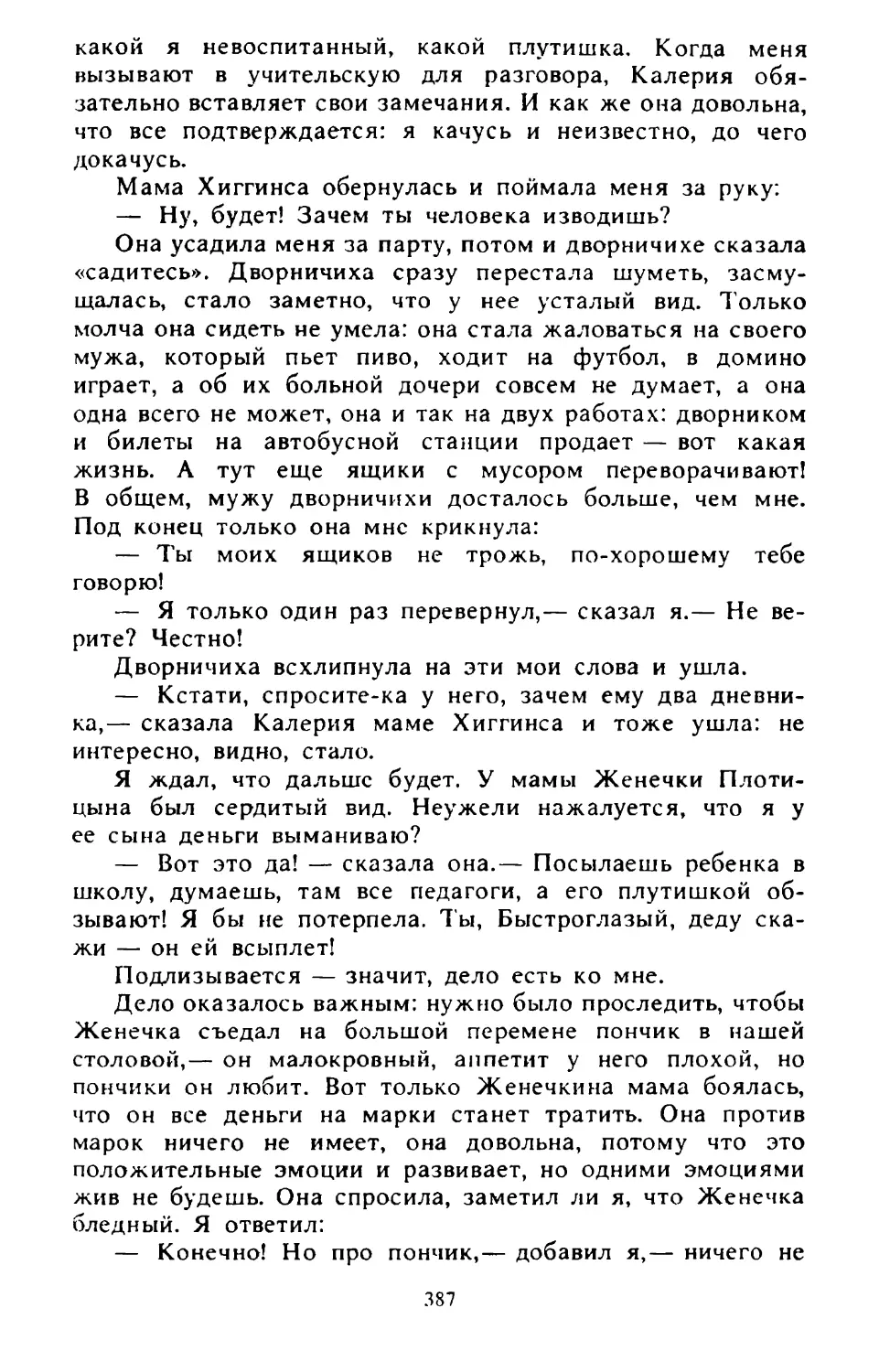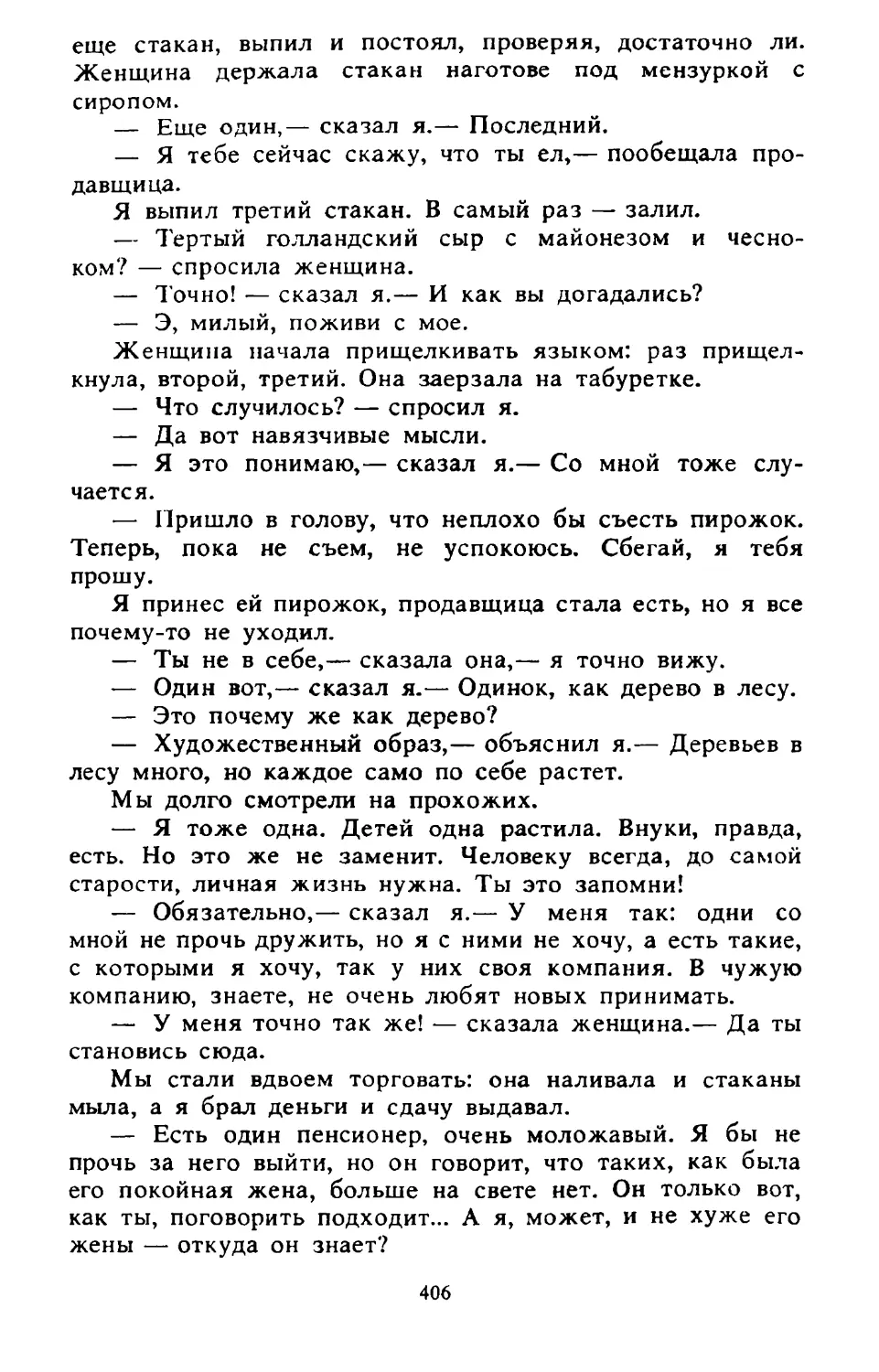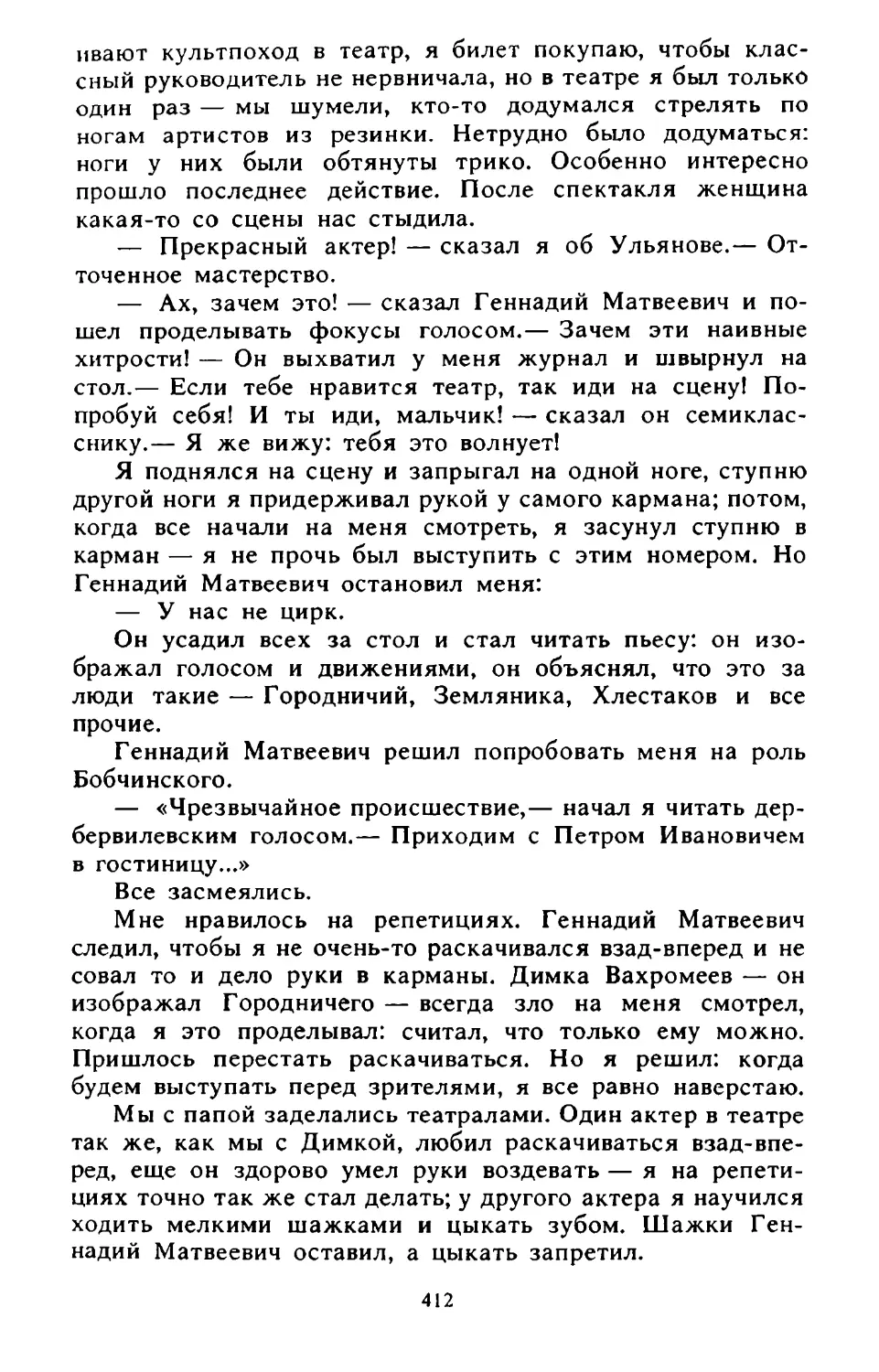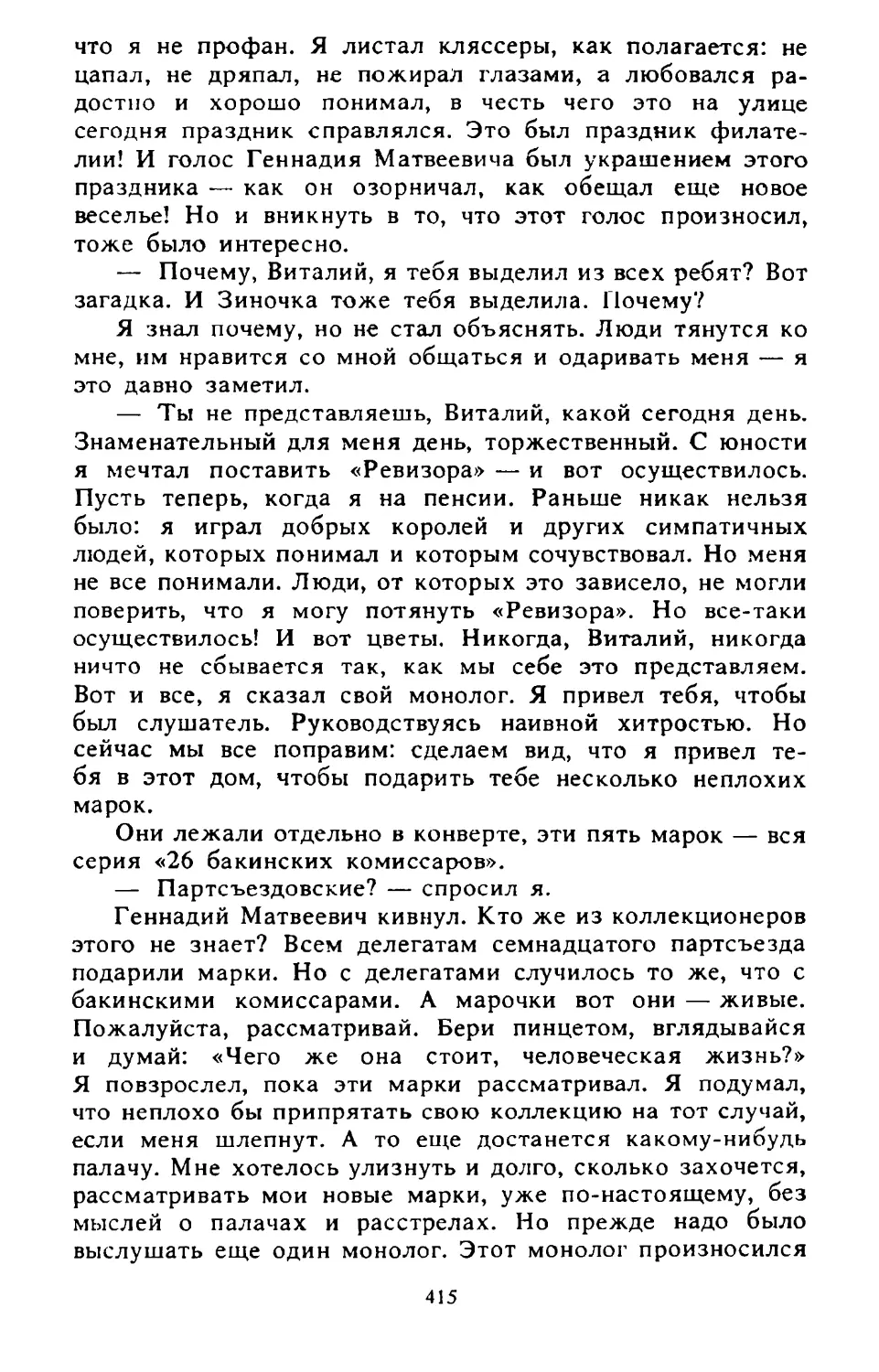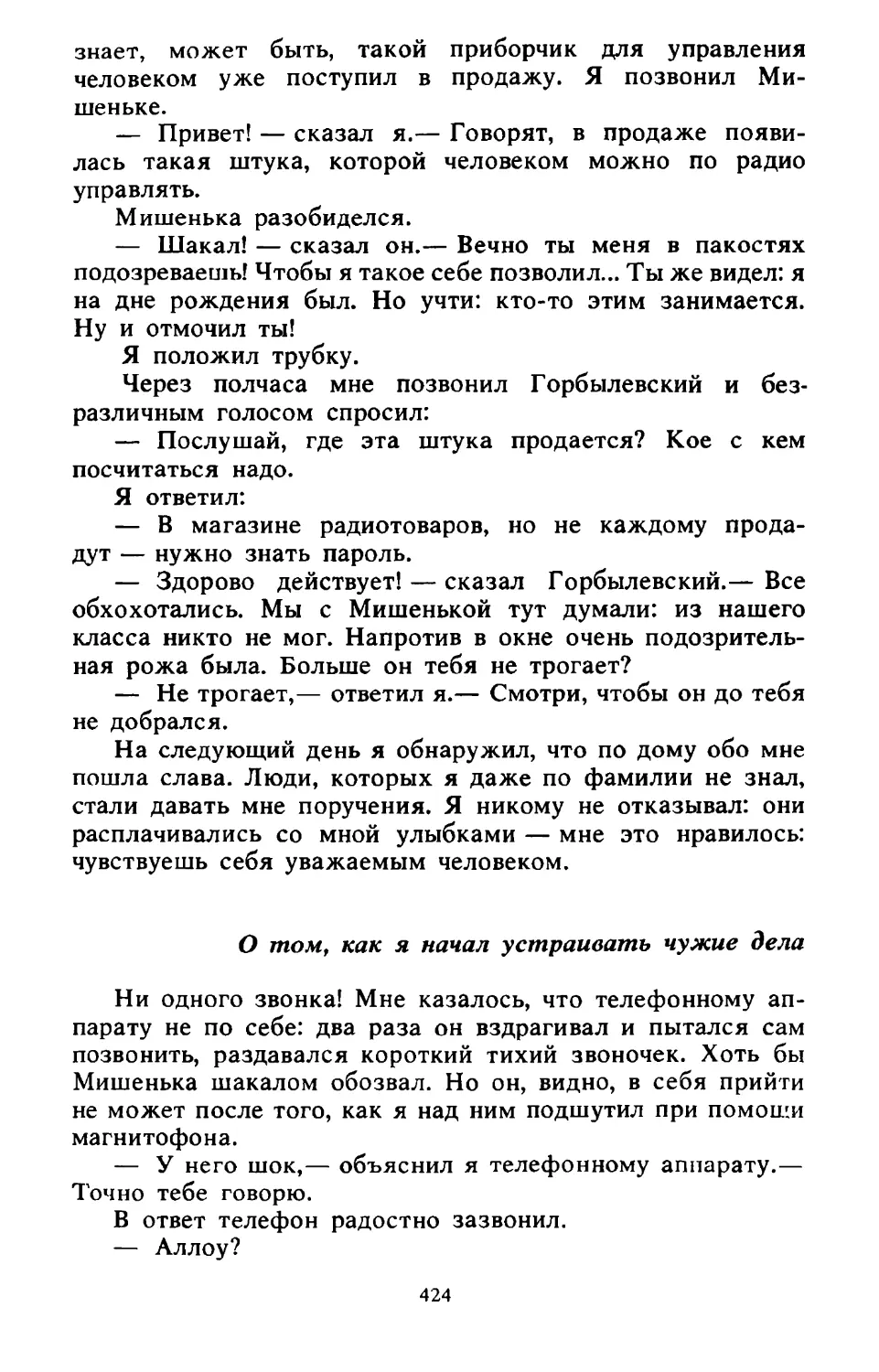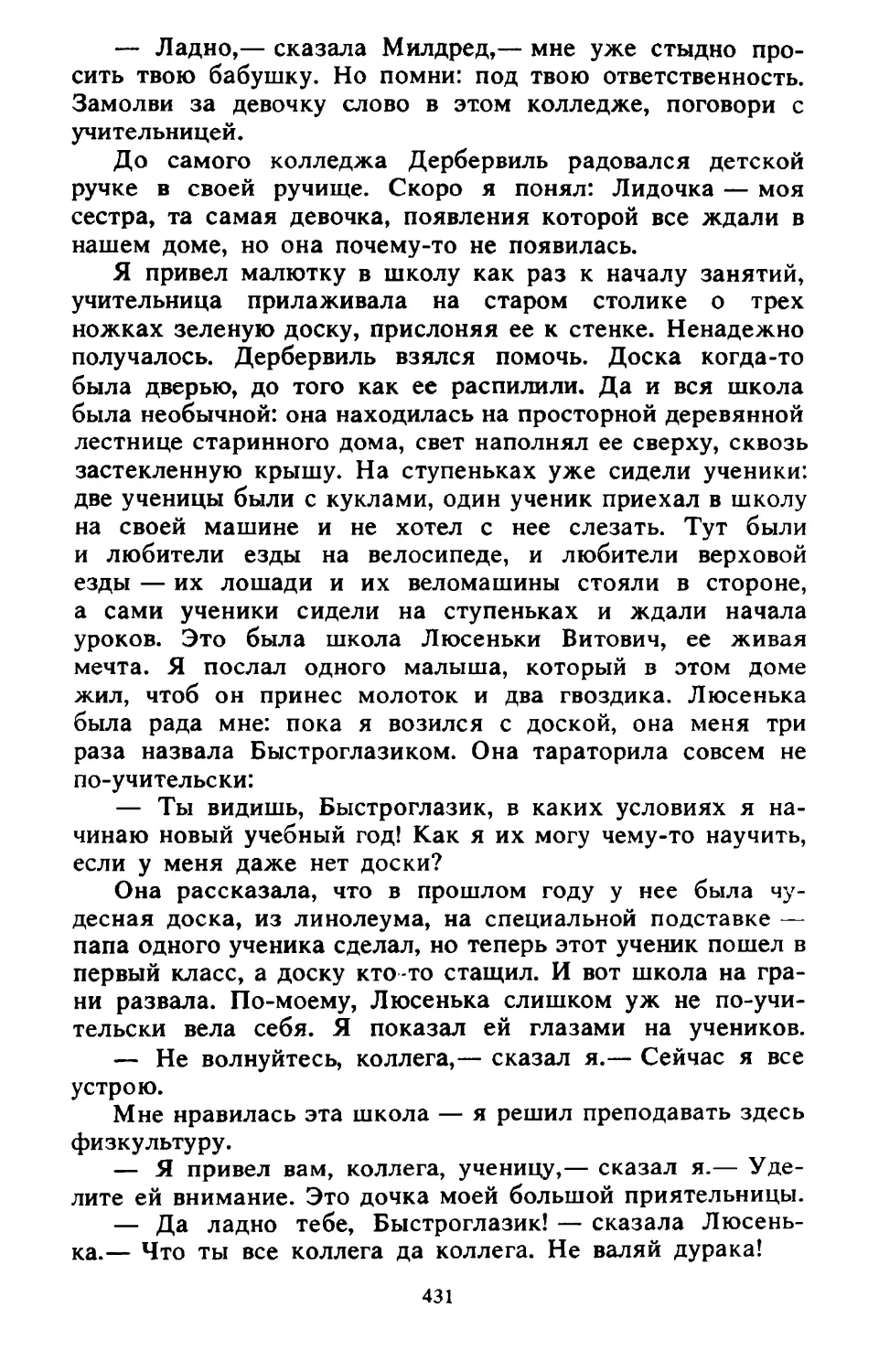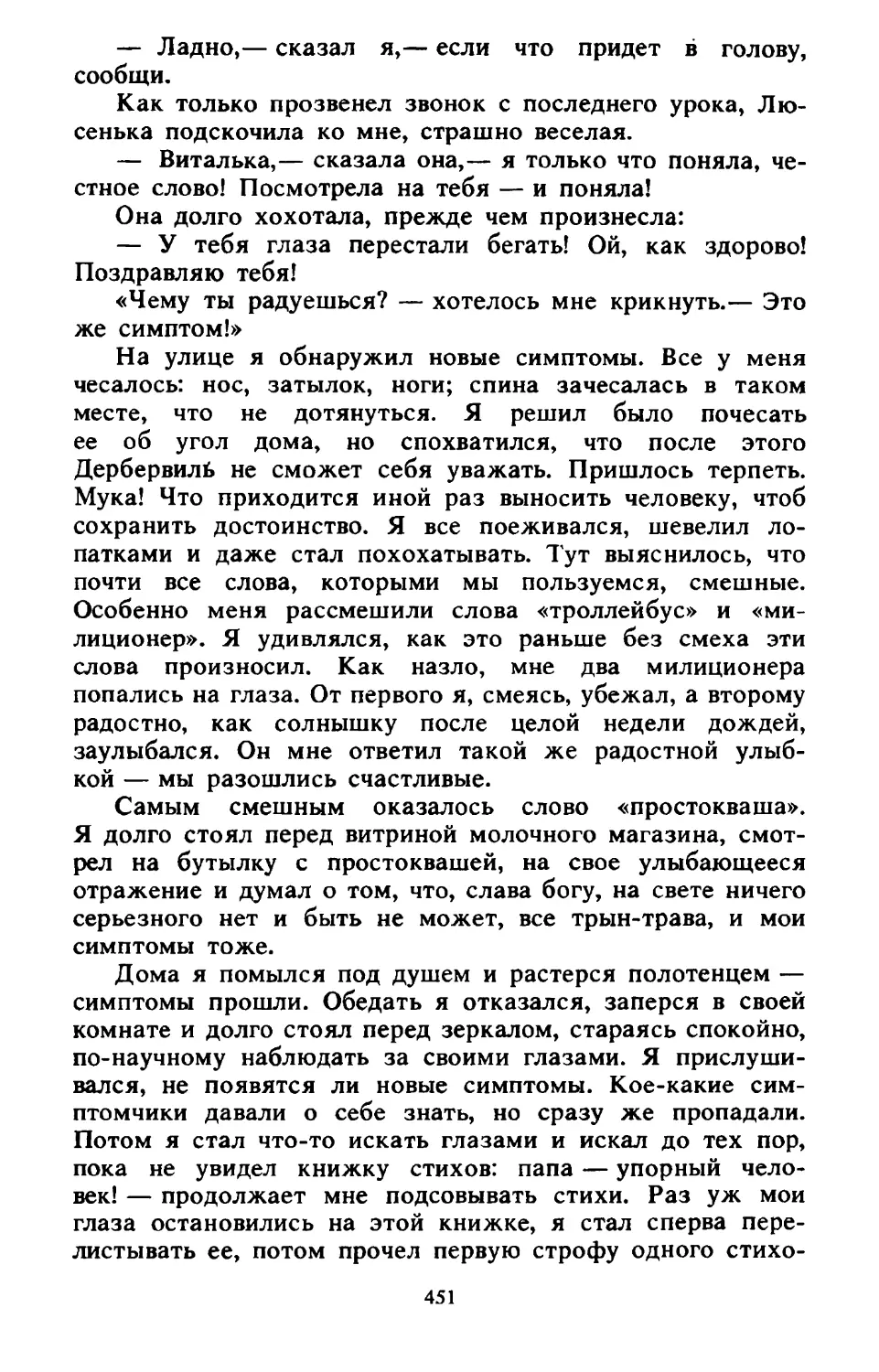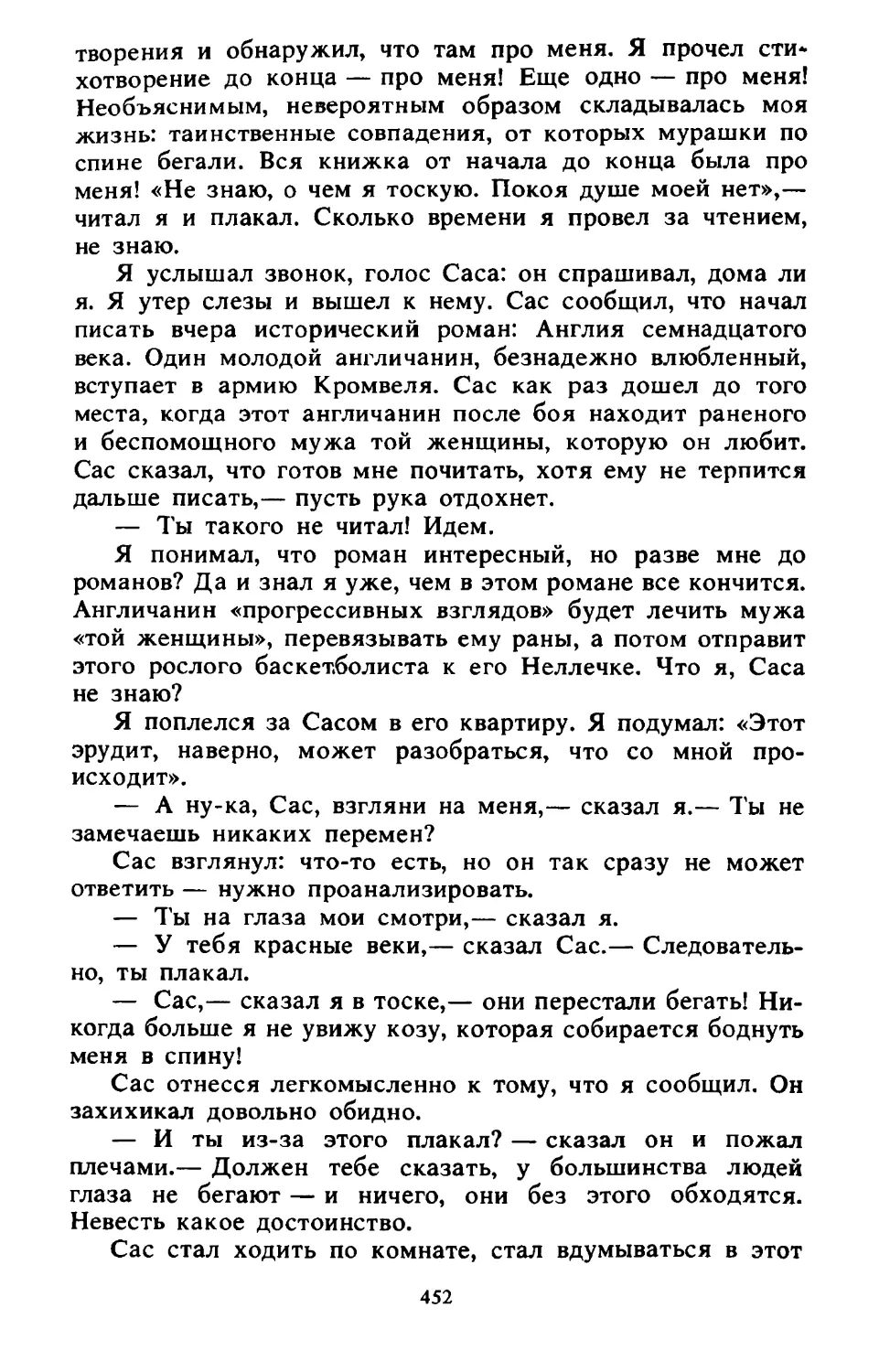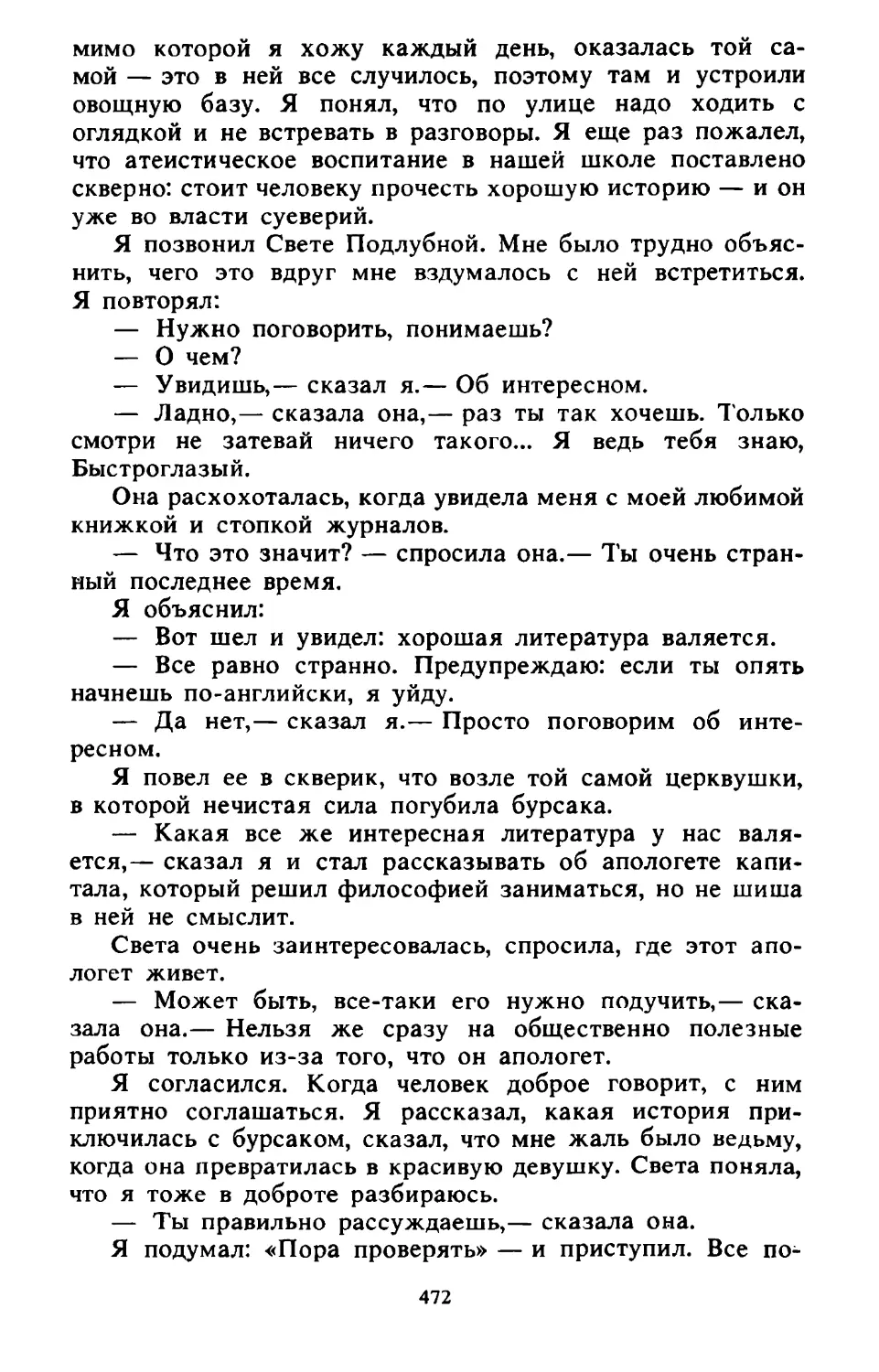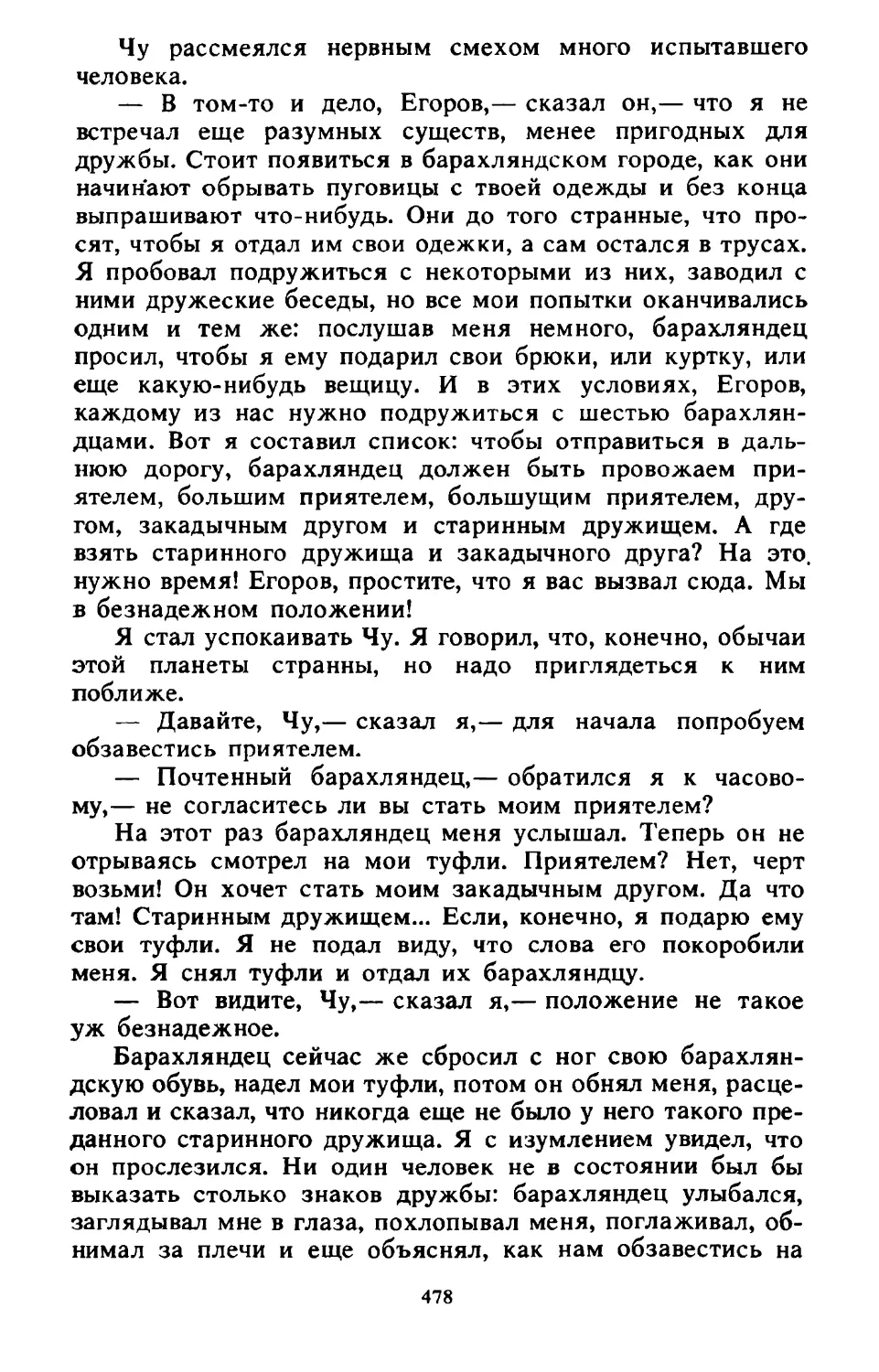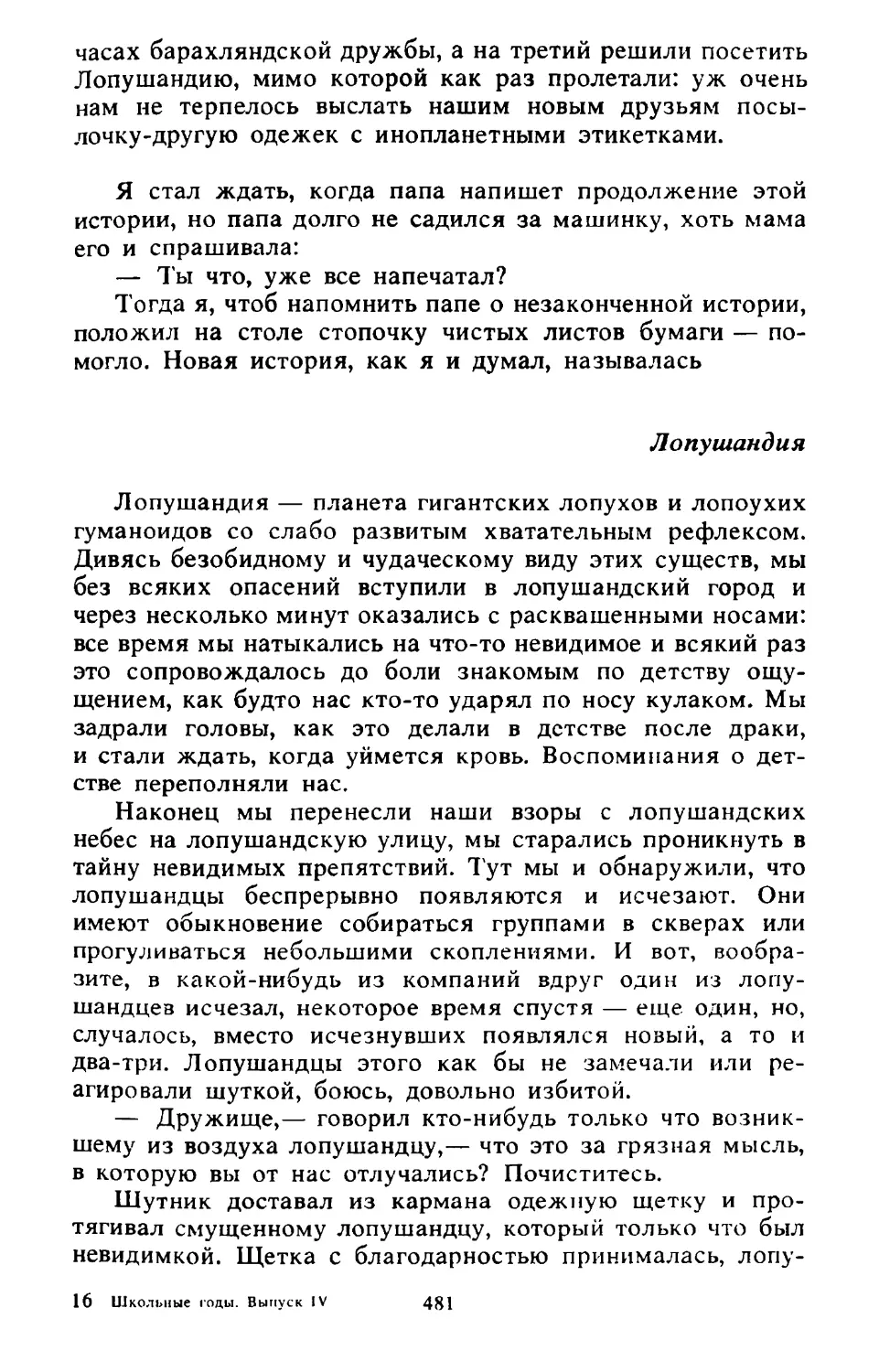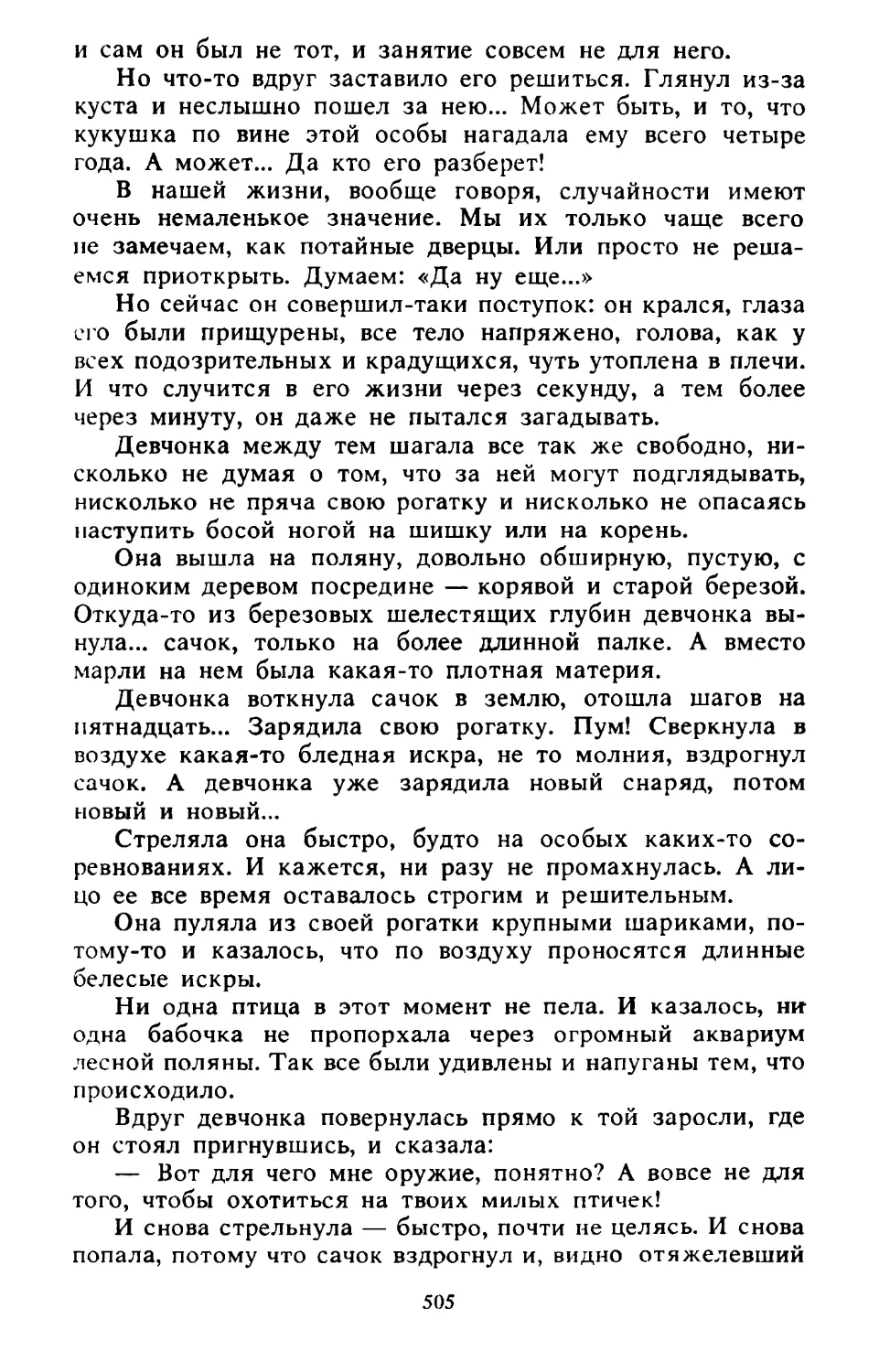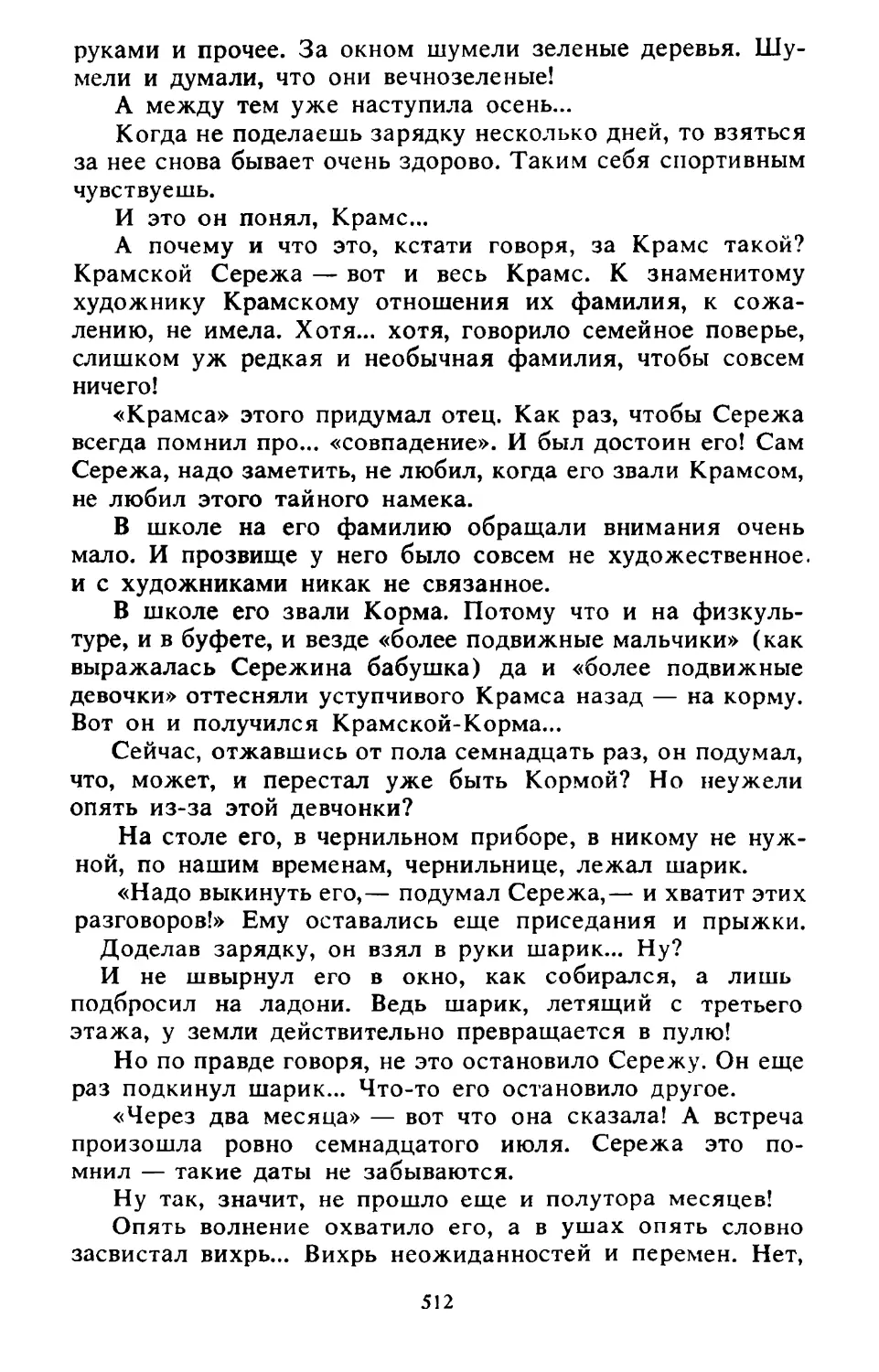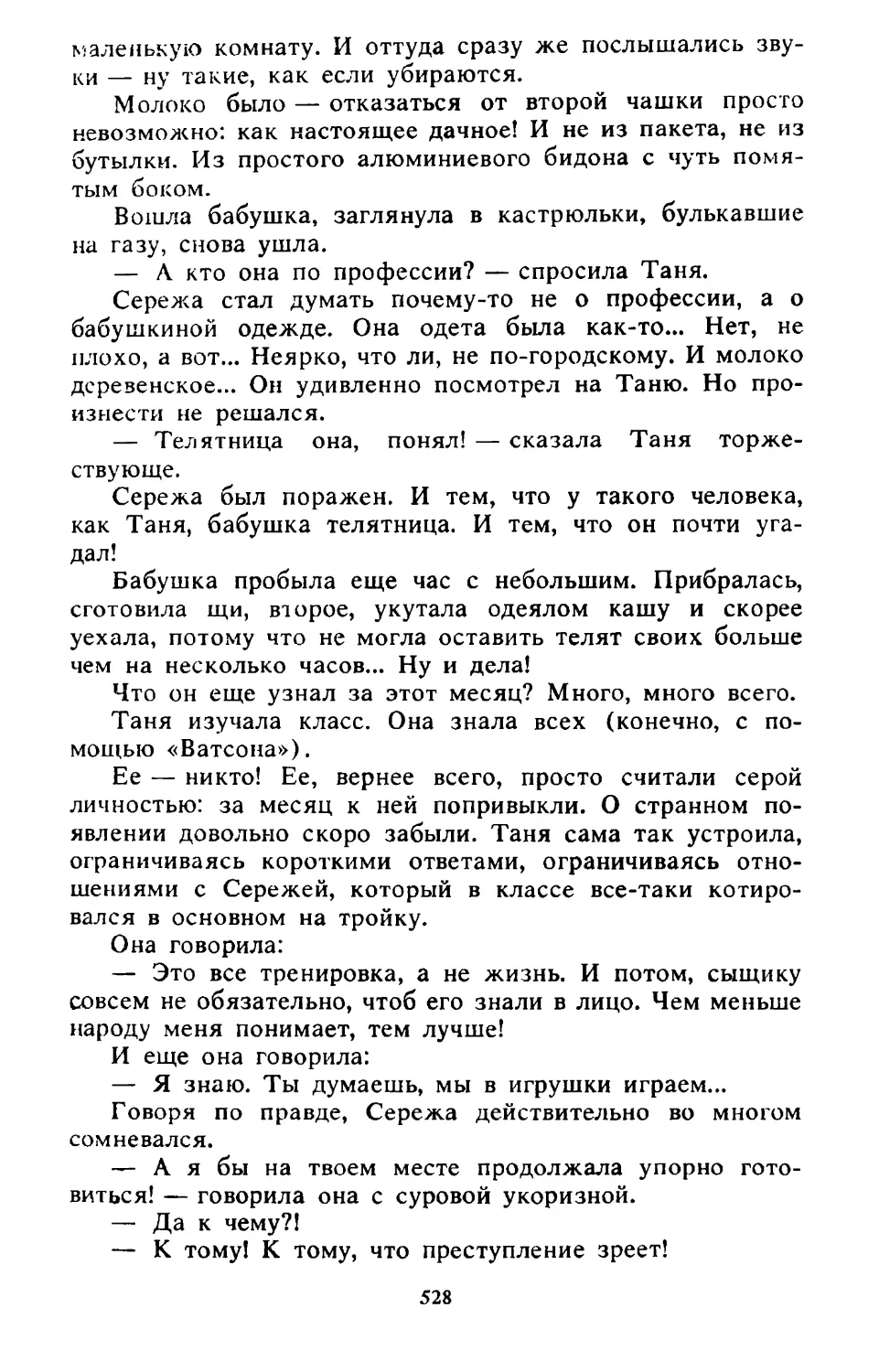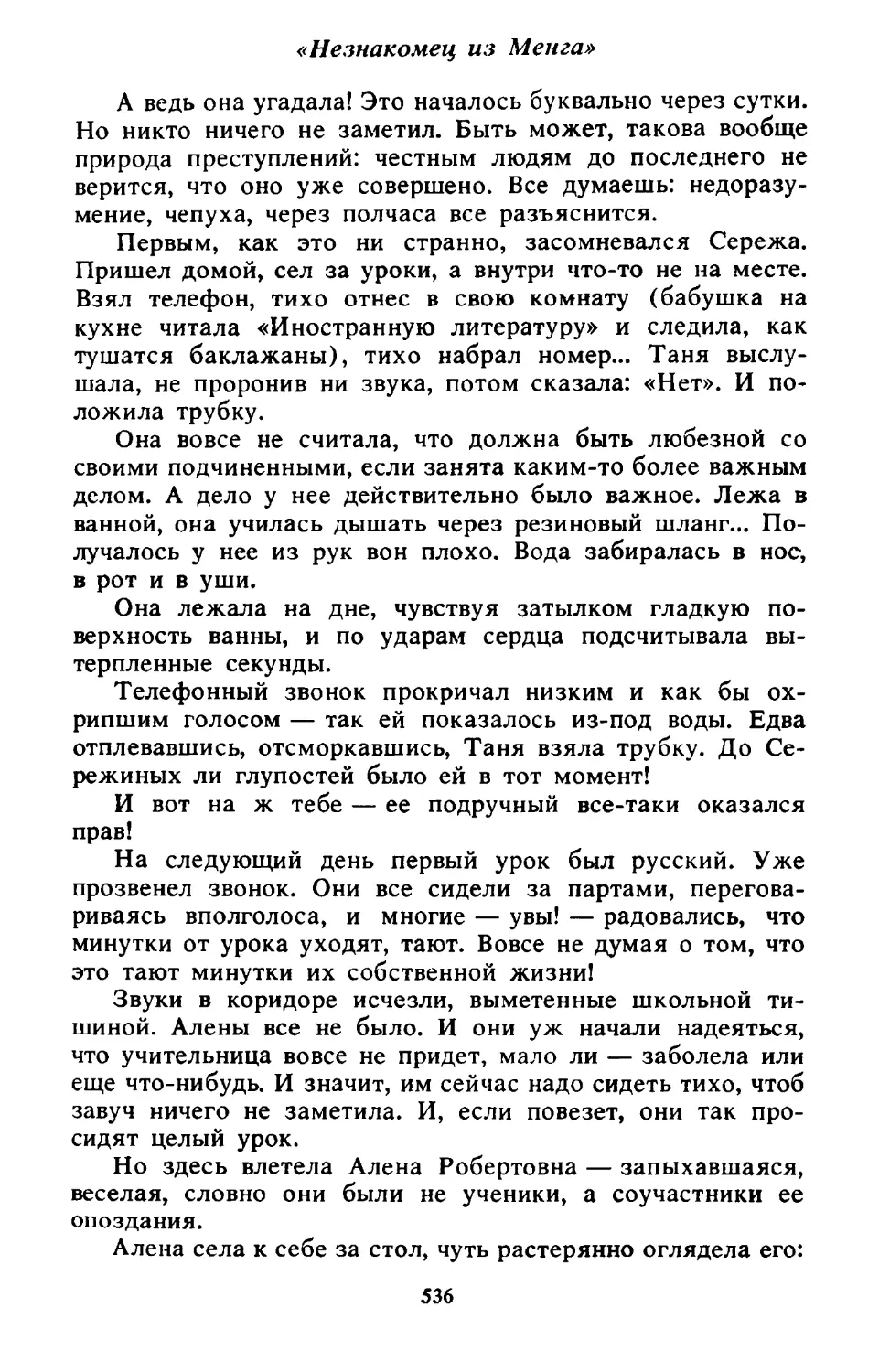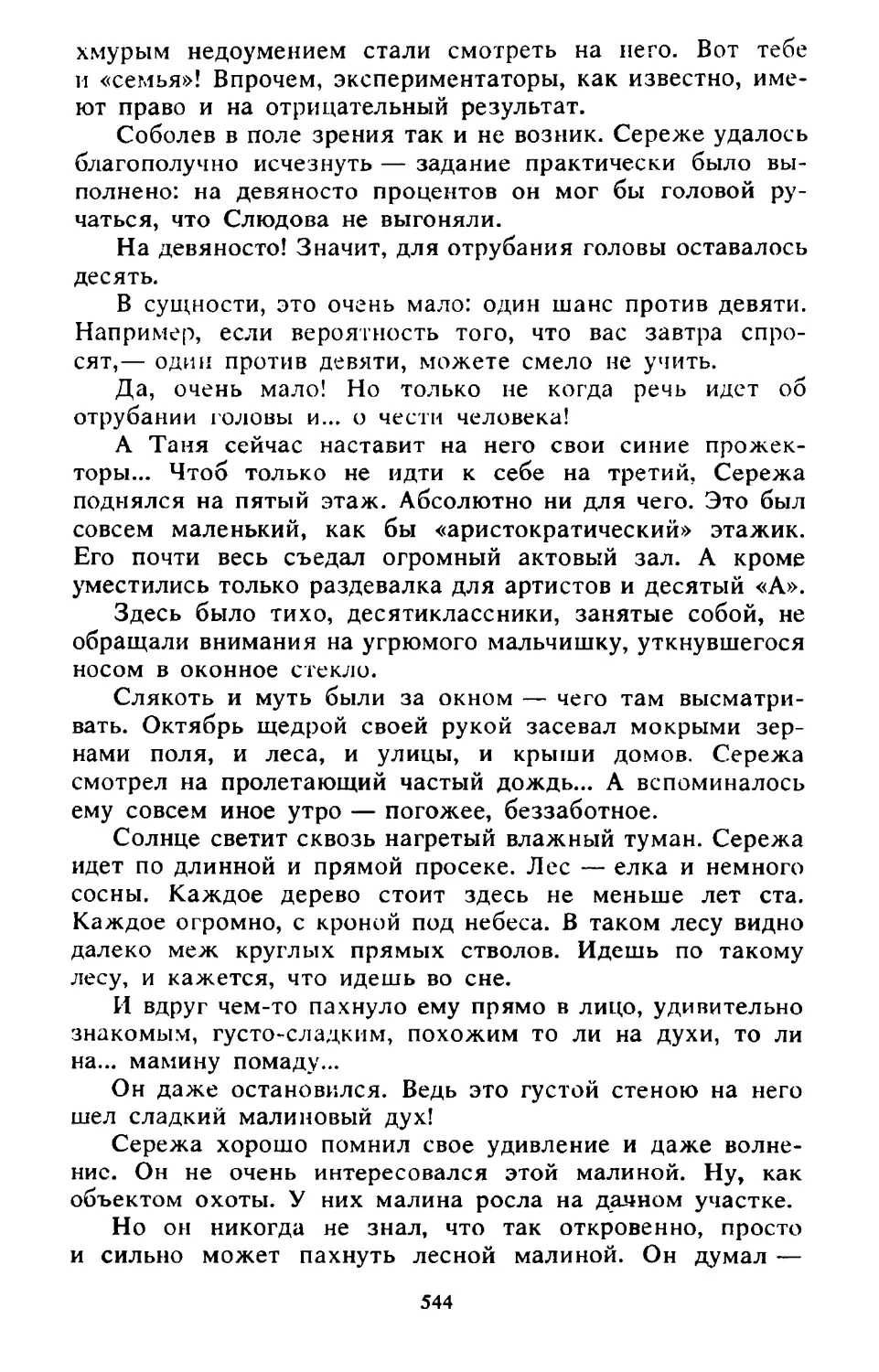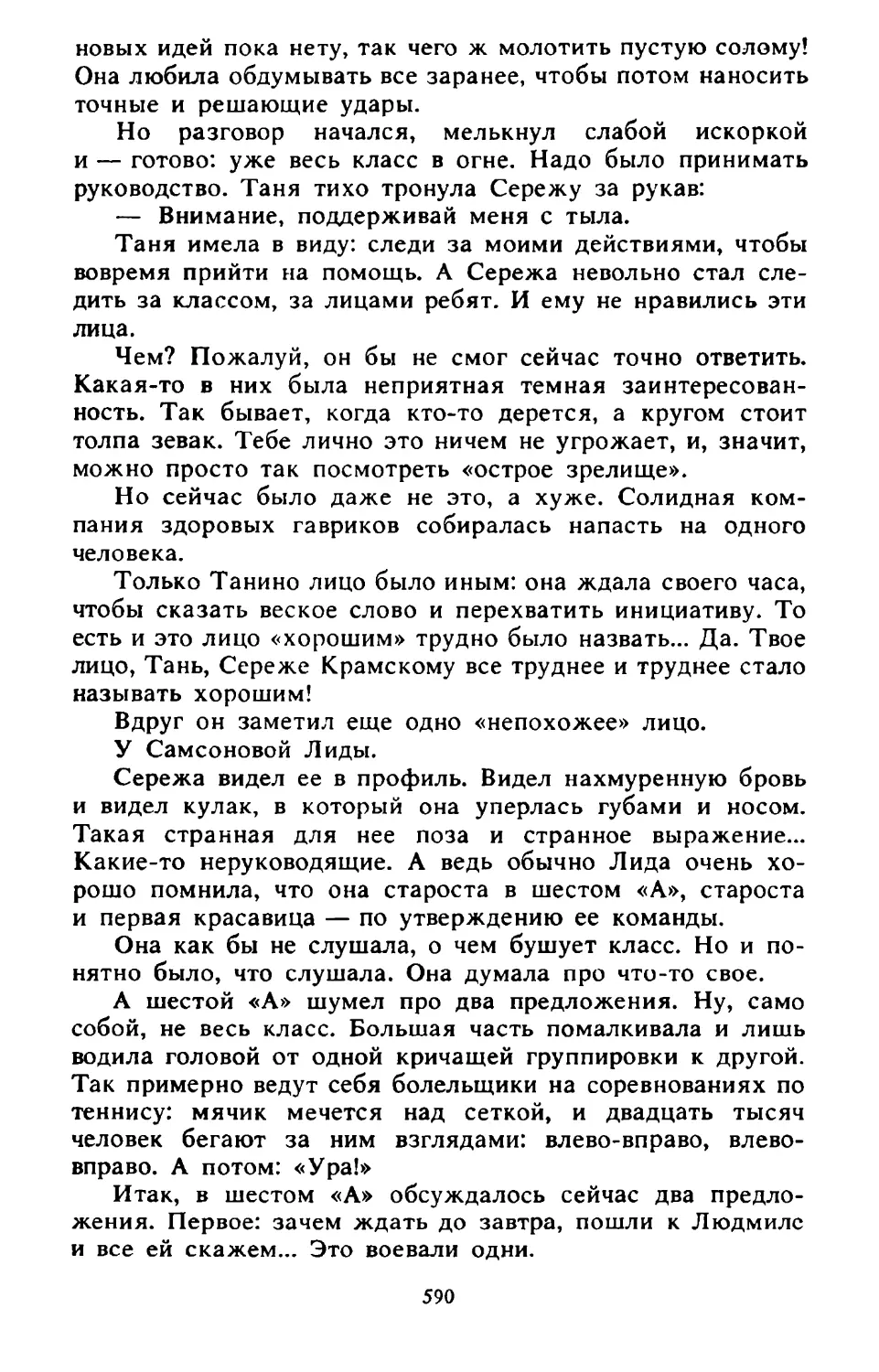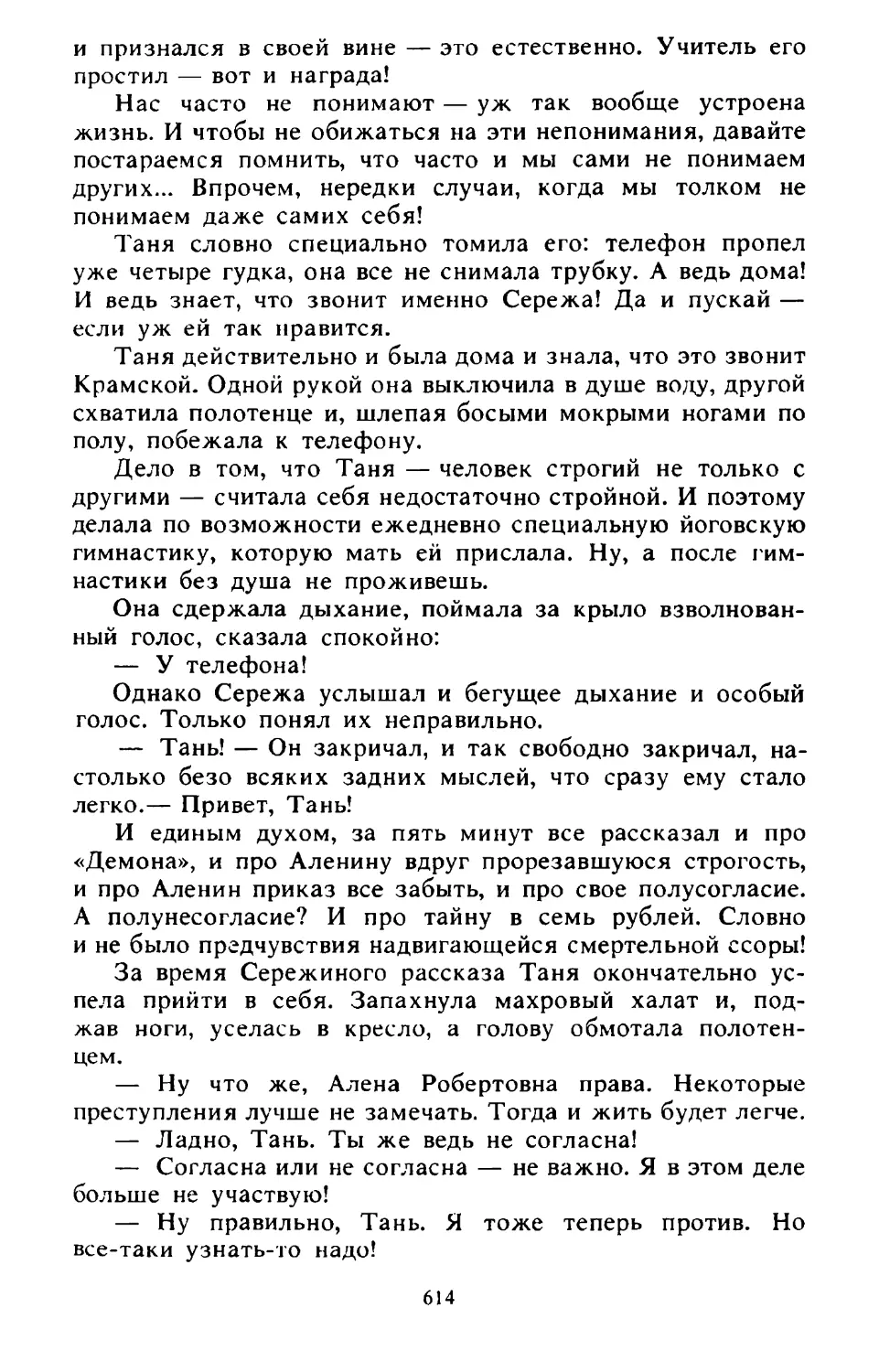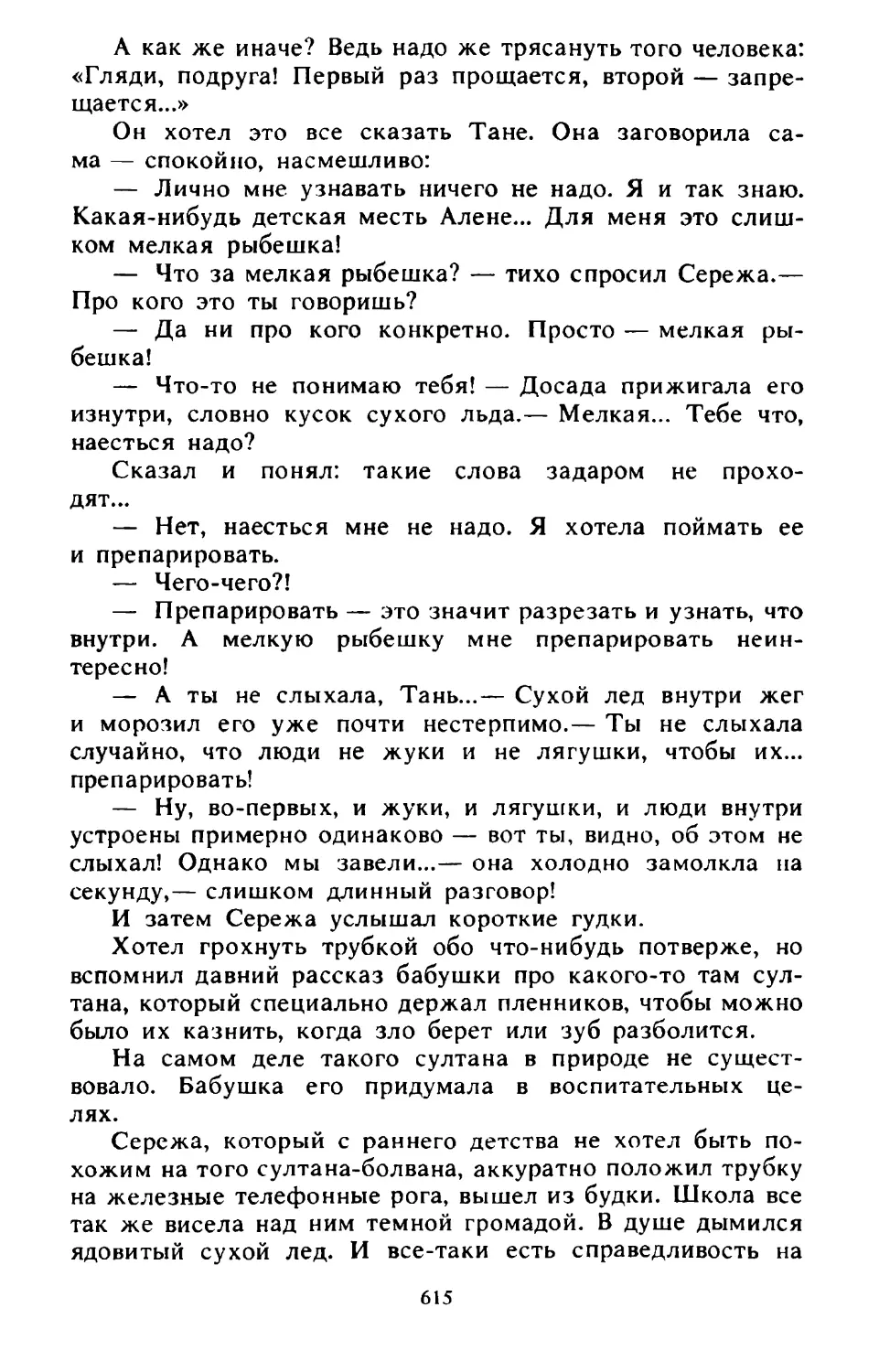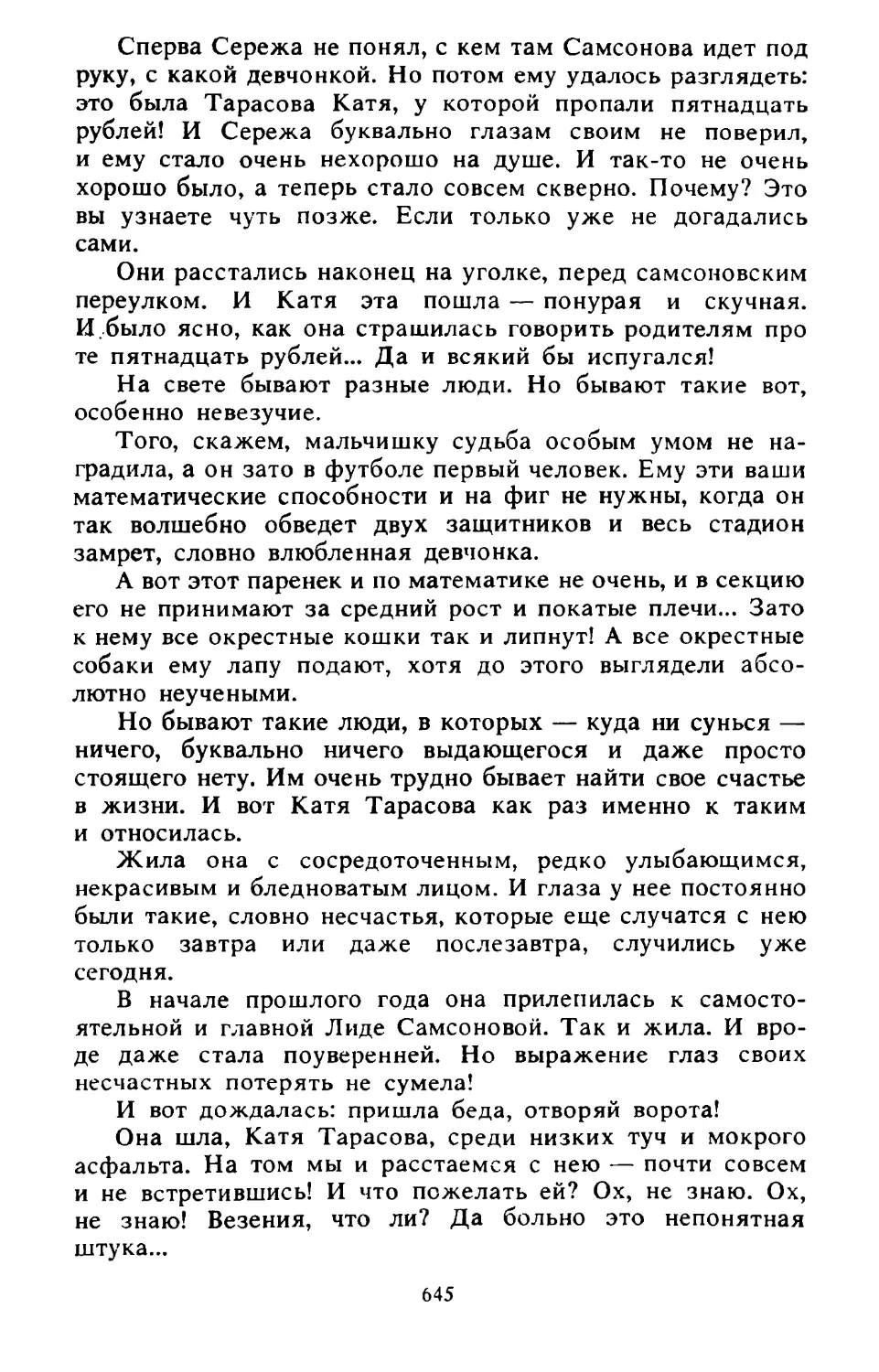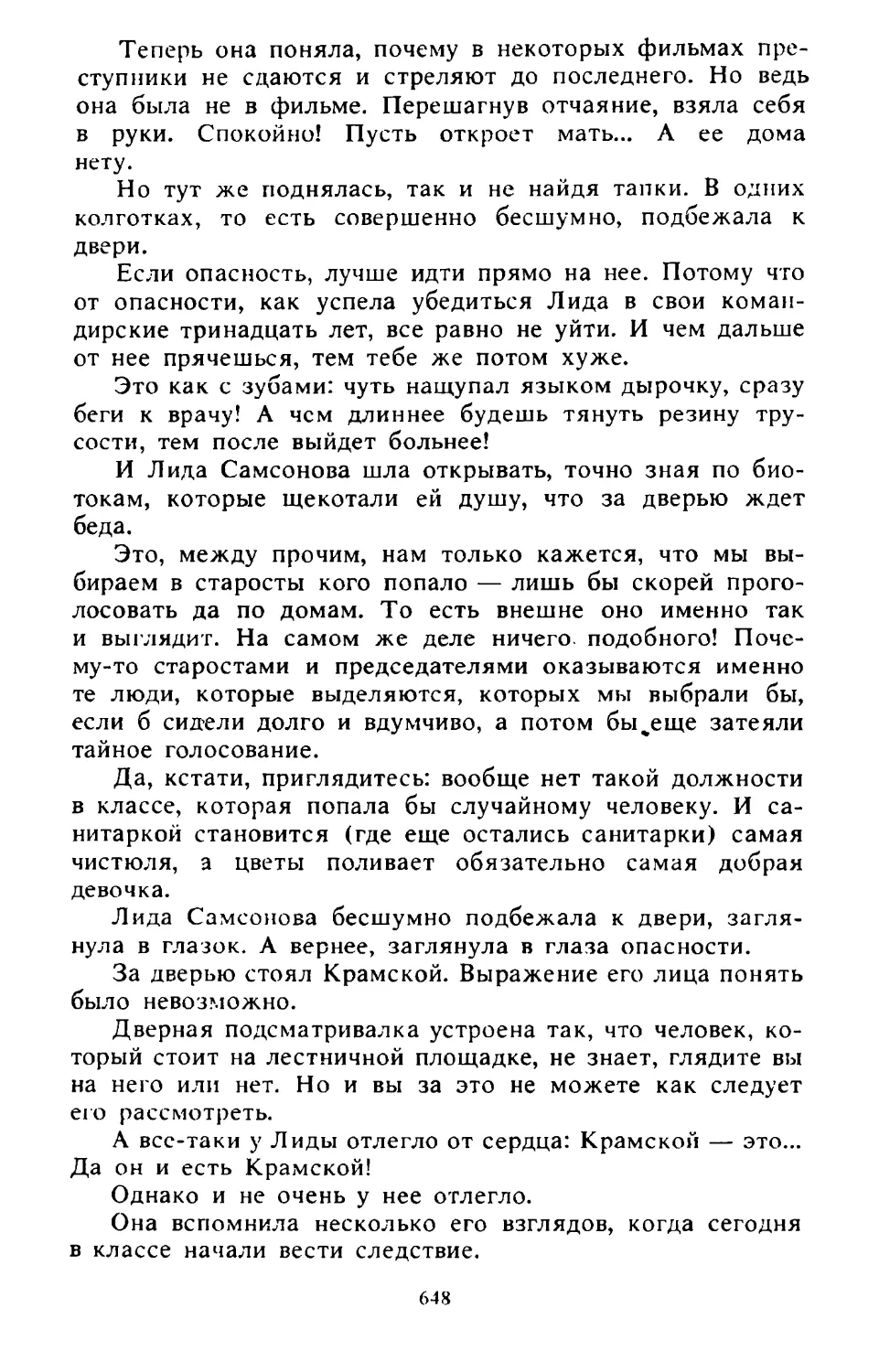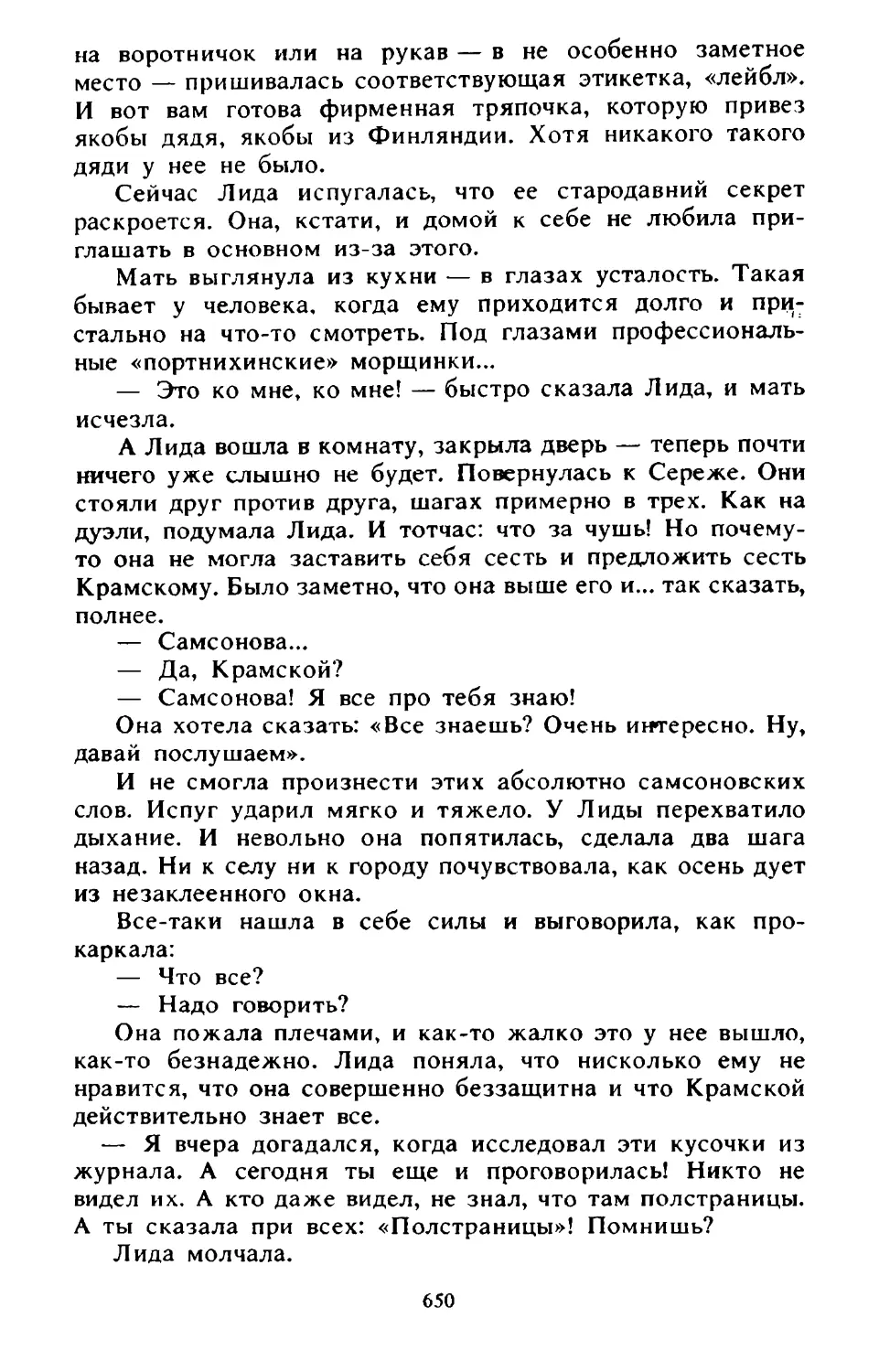Автор: Иванов С. Киселев В. Искандер Ф. Левинзон Г.
Теги: художественная литература повести
ISBN: 5-08-001585-3
Год: 1990
Текст
В. Киселёв ДЕВСЧКАИ
птоцежг
Ф Искандер НСЧЬИДЕНЬ
чик£ .
ГЛевинзон
ПЮШАНИЕ
СДЕИЯЖЛЕМ,
^ ИЛИ
НЮБЪЯСНИМЬШ . ПОСТУПКИ ... С. Иванов X ЕГО СРЕДИ НАС
ББК 84Р7 Ш67
Оформитель А. Савельев Художник Е. Медведев
ш 4803010201—292 ^
М 1Л НЛЗЪ-ОЛ (О Оформление. А. Савельев. 1990
(С) Иллюстрации. Е. Медведев. 1990 (С) Охраняемые произведении ISBN 5—08 — 001585—3 отмечены в содержании
В. Киселёв ДЕВСНКАИ
пщда
рюман
Все, что происходит с человеком после четырнадцати лет, не имеет большого значения
Глава первая
Это всё взрослые выдумали про счастливое детство. Чтобы им было не так стыдно. Есть только счастливая, взрослость. А счастливого детства нет и не может быть. Спросите у любого ребенка.
Начнем с работы. У взрослых в нашей стране семичасовой рабочий день. У школьника — шесть уроков в школе, а потом еще, даже если учиться на тройки, как я, нужно дома готовить уроки не меньше трех часов. Значит, выходит девятичасовой рабочий день, как в самых отсталых колониальных странах. У взрослого — два выходных в неделю. У школьника — один.
Когда у взрослого что-нибудь не получается на работе, ему все сочувствуют, все его жалеют. Когда мамин отдел завалил какой-то проект, так все говорили: «Ах, Елена Павловна, как мы вас понимаем, не нужно ли вам какой- нибудь помощи, не поедете ли вы на курорт?», а мама в ответ делала жалкие губки и говорила, что она очень переживает.
Но когда я схватила двойку по алгебре, весь двор смеялся, и, кто бы меня ни встретил, все спрашивали, на какой вопрос я не ответила, и продавщица мороженого — ей-то какое дело! — сказала, что двоечницам мороженое вредит.
Но самое худшее не это. Самое худшее... Даже в самых отсталых капиталистических государствах, по-моему, уже отменены физические наказания. Для взрослых. А детей бьют. Даже в нашей стране. Даже у нас взрослый сильный
4
человек может ударить ребенка. Ударить девочку. И это называется счастливое детство!
Я прижалась ухом к стене и немного послушала музыку. Я всегда перед сном слушаю хорошую музыку. В соседней квартире — вход в нее из другого подъезда — вечером всегда негромко играет радио. Я думаю, что радиоприемник стоит у самой стены на полированном, блестящем, как автомашина, столике, что это большой приемник с зеленым глазком, который светится в темноте. Но, может быть, это и простой репродуктор. Я слишком часто разочаровывалась в последнее время.
Из кухни вернулись мои родители. Они там мыли посуду. Мама и отчим. Я всегда звала отчима папой, но теперь я поняла: он мне все-таки отчим. И завтра утром, когда он со мной поздоровается, я ему так и скажу: «Здравствуй, отчим!» Или: «Здравствуй, Николай Иванович». Не папа, а Николай Иванович. Я ему этого никогда не прощу. Никогда!..
Мама заглянула в мою комнату, прислушалась. У нас однокомнатная малометражная квартира, а для меня комнату сделали, отгородив угол двумя шкафами — платяным и книжным. Здесь помещаются только моя кровать и тумбочка, уроки я делаю за столиком, который стоит возле окна.
— Она уже спит,— сказала мама шепотом и задернула занавеску между шкафами и стенкой так, чтобы на меня не падал свет.— И незачем из этого устраивать трагедию. Она уже большая девочка, и ничего с ней не случится...
— С нами случится,— сказал папа.— Уже случилось. Со мной. Я никогда себе не прощу, что ударил девочку. Ни себе, ни тебе. Ты в этом виновата.
— Еще бы,— сказала мама и неприятно, ненатурально засмеялась, как смеется она всегда, когда собирается заплакать.— Если бы это была твоя родная дочь, ты бы ее уже давно побил. И не так. Но ты к ней относишься, как к чужой. Ты ее пальцем никогда не тронул, голоса пе повысил. Только и слышно: Оленьке то, Оленьке се. А она совсем от рук отбилась.
— О боже мой! — сказал папа, и я вдруг подумала, что это не мама, а он может сейчас заплакать.— В жизни мне не было так гадко и стыдно, так стыдно и гадко, как сейчас. Ведь я люблю ее. Понимаешь: люблю. И ничего плохого в ней не вижу. И я ударил ее в день ее рождения!..
В самом деле, сегодня день моего рождения. Сегодня,
5
21 октября, мне исполнилось тринадцать лет. И я тихонько, беззвучно заплакала.
Странно, но этот день моего рождения и начался и закончился слезами. Первый раз я заплакала в школе, на первом уроке. Плакала, правда, не одна я, а все наши девочки и некоторые мальчики. Наша русачка Елизавета Карловна рассказывала нам про Михаила Лермонтова, а когда она рассказывает про этого писателя и еще про Николая Островского, все всегда плачут, и даже из других школ приходят послушать. И всем всегда хочется стать лучше, и учиться только на пятерки, и сделать что-нибудь такое хорошее, чтоб это было полезно всему человечеству.
И на первой переменке Витя Сердюк сделал мне подарок ко дню рождения, а я помирилась с Таней Нечаевой, с которой не разговаривала два дня.
На следующем уроке наш математик — зовут его, как Ворошилова, Климент Ефремович — спросил у меня: «Ну как, именинница, готова отвечать?» — и, когда я ответила, что готова, задал вопрос по домашнему заданию, очень легкий, и поставил мне четверку.
Когда я вернулась домой, я уже застала маму — она отпросилась с работы пораньше, чтобы все приготовить к вечеру. На кухне приятно пахло ванилью и еще яйцами, когда их разделяют на желток и белок, а желтки растирают в кружке с сахаром.
— Садись пока за уроки,— сказала мама.
Я пошла в комнату, села за стол, раскрыла учебник по химии, но учить химию мне не хотелось, и я решила пока приготовить прибор для получения ацетилена. Этот прибор нам был нужен для опыта, который мы задумали с ребятами, а конструкцию я придумала сама. Очень простую. Взять бутылку из-под молока с широким горлышком, на треть налить водой. Затем взять листик промокательной бумаги и засунуть его в бутылку так, чтобы края остались снаружи, а в бутылке получился как бы мешочек из этой бумаги. В мешочек этот насыпать карбида — того самого, который насыпают в свои аппараты сварщики на соседней стройке, а сверху все плотно заткнуть большой пробкой с трубочкой. Теперь ваш прибор готов к действию в любую минуту. Достаточно перевернуть бутылку так, чтобы вода размочила промокательную бумагу, и начнет выделяться газ. Я приготовила такой прибор, примерила пробку, так
6
что оставалось только проделать в ней гвоздем тонкое отверстие и вогнать туда стеклянную трубку, но в это время мама сказала:
— Сбегай вниз за сметаной.
Гастроном помещается в нашем доме. Купить сметану — минутное дело, но, когда я вернулась, я увидела, что за это короткое время мама успела перевернуть мой прибор, хотя я поставила его под кухонный столик.
Перед моими глазами, как на экране, вспыхнула иллюстрация № 71 из нашего учебника химии. Там изображен мальчик, который закрыл лицо руками, а перед ним на столе со взрывом вдребезги разлетается колба.
Я тоже невольно потянулась к лицу руками, но сейчас же бросилась к маме, вырвала у нее из рук полотенце, подбежала к бутылке и только успела обмотать ее полотенцем, чтобы осколки стекла не разлетелись в стороны и не ранили нас, как раздался громкий, словно пушечный, выстрел, пробку вышибло из бутылки, она ударилась в потолок, и вслед за пробкой до самого потолка взлетела струя воды, смешанной с карбидом.
Мама даже не догадывалась, от какой опасности я ее спасла, а я не хотела ей этого говорить. И вместо того чтобы радоваться, что все обошлось так благополучно, она накричала на меня, сказала, чтоб я шла гулять, потому что от меня никакой пользы нет, и что в моем возрасте в подготовке к собственным именинам она принимала значительно больше участия.
Вечером, как всегда, на мои именины были приглашены совсем не мои подруги и товарищи, а друзья моих родителей — взрослые люди, среди которых были и такие, которых я видела в первый раз.
Почему детские именины всегда у нас празднуют не дети, а взрослые — мне совершенно непонятно.
Взрослые пили вино и водку, ели холодец, винегрет и фаршированную рыбу, а затем перед сладким стали петь. Запевала, как всегда, жена папиного начальника Вера Сергеевна, немолодая женщина с неестественно громким голосом, с таким громким голосом, словно у нее в теле нет ни сердца, ни желудка, ни других человеческих органов, а одни только легкие.
Они хором весело пели песню про Стеньку Разина, а я смотрела на них и удивлялась: как им не стыдно? Ведь это ужасно, и не может быть, чтобы так было на самом деле. Что получается? Степан Разин полюбил персидскую
7
княжну, женился на ней, так они и поют «свадьбу новую справляет», и достаточно было кому-то сказать, что он «наутро бабой стал», как он схватил девушку и бросил ее в реку. Утопил. И об этом поют в песне. Не осуждая Степана Разина, а восхищаясь им! Очень весело.
Но настоящие неприятности начались с чая. Витя Сердюк подарил мне к именинам две чайные ложечки. Он сам их сделал. Он мне еще прежде рассказал, как их делают. Очень просто. Нужно взять обыкновенную чайную ложку и оттиснуть ее на густом растворе алебастра. С двух сторон. Таким образом получится форма. Затем в эту форму нужно залить сплав из сурьмы с баббитом. Он очень легкоплавкий, этот сплав. А новую ложечку легко зачистить наждачной бумагой, всякие там неровности. Вообще эти ложечки готовят для фокусов и розыгрышей.
Я спрятала ложечки под подушку. И забыла о них. А мама как раз вздумала поменять наволочку, увидела чайные ложечки и даже не удивилась тому, как они могли попасть в мою кровать. Она уже привыкла, что на моей кровати можно найти не только книги, тетради, обертки от конфет и зверьков, которых я люблю лепить из пластилина, но даже живую ящерицу в коробке из-под папирос. А что мне остается делать, если у меня нет своего места и все, что я кладу на стол, мама немедленно убирает? Так и в этот раз. Она подобрала ложечки и положила их к остальным в ящик буфета.
Надо же было случиться, чтобы Витина ложечка попала как раз папиному заведующему отделом. И когда он стал размешивать сахар в чае, то увидел вдруг, что в руках у него только ручка от ложечки, а сама ложечка расплавилась и серебристо-черным слоем лежит на дне стакана. Все стали смеяться и довольно подозрительно рассматривать свои ложечки. Мог бы, конечно, посмеяться и папин начальник — ведь ничего страшного не произошло, сплав этот не ядовит и не имеет никакого вкуса и запаха. Но папин начальник, по-видимому, относится к числу людей, которые любят посмеяться над другими и совершенно не переносят, когда смеются над ними. Он покраснел так, что уши у него стали фиолетового цвета, как будто их облили чернилами, и сказал, что никогда себе не позволяет шуток над своими гостями и поэтому не любит, когда шутят над ним, если он приходит в гости. В общем, и папе и маме было очень неприятно, а к тому же, когда я увидела уши папиного начальника, я почувствовала, что просто лопну,
ну, по-настоящему лопну от смеха. Я понимала, что смеяться неприлично, что смеяться над взрослыми нехорошо, но ничего не могла с собой сделать, пока не применила способ, который посоветовал мне когда-то Витя: если рассмеешься в школе на уроке и чувствуешь, что не можешь остановиться, нужно схватить что-нибудь острое — булавку, иголку, циркуль и посильнее уколоть себя в ногу, ниже коленки, куда врачи стукают молоточком. От боли или еще от чего-то смех сразу проходит. У меня под рукой не было булавки, я незаметно ухватила штопор и кольнула себя ниже коленки, да так сильно, что пошла крозь. Я залепила ранку краешком бумажной салфетки, и мне уже было не до смеха.
Тем временем мама принесла именинный пирог, и я сразу заподозрила что-то неладное. Как только кто-либо попробует ломтик, положенный ему на тарелку, так сразу отодвинет эту тарелку от себя, вроде бы даже с испугом, но молча. И только жена папиного начальника Вера Сергеевна сказала громко и решительно:
— Елена Павловна, должна вас огорчить, но в ваш пирог, в тесто, очевидно, попало тухлое яйцо.
— Не может быть,— сказала мама и покраснела.
Я отломила краешек от ломтика пирога и положила в рот. Ну, знаете... Впечатление было такое, словно туда попало не одно, а сто тысяч тухлых яиц.
И тут я вдруг поняла. Карбид... Когда газом выбило пробку из моего прибора, карбид с водой взлетел под самый потолок и, очевидно, попал в тесто. Я посмотрела на серьезные, озабоченные лица гостей, вспомнила, что каждый из них откусил хоть по кусочку, и снова ухва тилась за штопор. Но во второй раз мне им не пришлось воспользоваться.
— Это все ты,— сказала мама.— Это все твои опыты...
Мама закусила губу, и на глазах у нее показались
слезы. А когда плачет мама, никому не хочется смеяться.
Чтобы как-то сгладить неловкость, папа стал показывать гостям фотопортрет мамы, который он недавно сам сделал. Мама в жизни очень красивая и молодая, а на портрете она получилась совсем красавицей. На портрете она набросила на плечи платок, наклонила набок и назад голову, над головой подняла обеими руками бубен, зубы блестят, глаза блестят — Кармен, да и только.
Гости хвалили портрет, а папа рассказывал, что аппаратом «Комсомолец», очень простым, с очень примитивным
9
объективом, можно делать прекрасные снимки, что этот аппарат он мне подарил еще в прошлом году на день рождения, что я тоже хорошо научилась фотографировать, и показал, какие я сделала снимки. Он не сказал при этом, правда, что проявляла фотографии и печатала их не я, а он сам.
Папа моложе мамы на два года. Я узнала об этом случайно, мама об этом никогда не говорит, и среди наших гостей папа выглядит совсем как мальчик. В нашей школе есть десятиклассники, так у них вид солиднее. У них растут усы, а папа усы бреет.
И сейчас папа быстро и невнятно — когда он волнуется, у него всегда слово налезает на слово — рассказывал о том, что аппаратом «Комсомолец» можно делать превосходные снимки даже при обыкновенном вечернем освещении, без подсветки. А я почувствовала, что сейчас произойдет самое ужасное, и хотя я по-прежнему сидела на стуле за столом, мне показалось, что я сжалась в крохотный комочек, и внутри во мне что-то тихо-тихо пищало, как пищит мышь, зажатая в кулак.
И папа действительно сказал:
— Вот сейчас Оля сфотографирует всех нас. Сделаем на память такой групповой снимок. Принеси аппарат и штатив,— сказал он мне.
— У меня больше нет аппарата,— ответила я.
— А где же он? — удивился папа.
Лучше бы он этого не спрашивал.
Я посмотрела на стол и сказала:
— Я его продала.
Папин начальник вдруг громко стал рассказывать, что он недавно ездил на открытие охотничьего сезона и убил одну утку, что у него было разрешение убить кабана, но кабан ему, к сожалению, не попался и что волка можно бить в любое время года и без всякого разрешения.
Он, по-видимому, был все-таки хорошим человеком, этот папин начальник.
Всем вдруг стало очень интересно, много ли еще осталось волков, обо мне все словно забыли, а папин начальник рассказывал, что в литературе было неправильное представление о том, что волки достигают 60—70 килограммов, а фактически вес наиболее крупных лесных волков редко превышает 50 килограммов, что в позапрошлом году в Советском Союзе было истреблено более 28 тысяч волков, а в прошлом году 26 тысяч, а последние данные
ю
ему неизвестны, но что ему лично волки ни разу в жизни не встречались.
И под этот разговор о волках, и об охоте, и о том, что охотников намного больше, чем волков, гости стали расходиться, а я по-прежнему сидела за столом и собирала с тарелки крошки от пирога с карбидом и клала их в рот.
И когда гости разошлись, лицо у мамы стало некрасивым и она начала кричать, что я совсем от рук отбилась, что я делаю все назло, что я, может быть, связалась с темными людьми и уже ворую из дома ценные вещи (хотя фотоаппарат был мой собственный), что папа меня не воспитывает, что он меня балует и чтобы он спросил у меня, зачем я продала фотоаппарат и куда я дела деньги.
— Зачем ты продала фотоаппарат и куда ты дела деньги? — спросил папа, глядя не на меня, а на пол.
Я тоже смотрела не на него, а на пол, но я чувствовала, куда он смотрит.
— Я не скажу,— ответила я.— Это тайна.
И тут он меня ударил. По щеке. Ладонью. Очень больно. И закричал визгливым голосом, очень похожим на голос мамы. Вообще, когда он злится, он становится похожим на маму. И вообще все люди, когда злятся, становятся похожими друг на друга.
— Я тебе покажу! Иди спать!..
Он по-прежнему не смотрел на меня и тер рукой щеку, как будто это ударили не меня, а его. Но я теперь посмотрела ему прямо в глаза и сказала:
— Поздравляю с днем рождения. С днем моего рождения.
Глава вторая
Нам очень нужны были деньги.
Перед началом учебного года Витя Сердюк предложил собрать учебники за шестой класс и продать их.
Я придумала и написала на серой бумаге красными буквами лозунг: «Продав учебники и купив на полученные деньги конфеты, думай, что корни учения горьки, но зато плоды его — сладки».
Однако деньги нужны нам были совсем не на конфеты.
За все учебники мы получили два рубля четырнадцать копеек. У нас были очень потрепанные учебники.
Тогда Витя предложил нам собрать старые газеты. Мы
и
собрали. Больше всего газет принес Женька Иванов. Женька еще учится в пятом классе, но очень образованный человек, много читает и входит в нашу компанию.
Витя принес шаблон, который он сам вырезал лобзиком из фанеры. По этому шаблону он обрезал ножом со специально заточенным кончиком сложенные стопкой развернутые газетные листы, а когда он сложил один из листов, мы увидели, что получился кулек. Я принесла немного муки, мы сварили клейстер и стали клеить кульки. Из газет, которые мы собрали, получилось двести восемнадцать кульков. Мы отнесли их на рынок, и тетка, которая продает сливы, купила у нас эти кульки и дала нам за них рубль — по пятьдесят копеек за сотню — и еще немного слив за восемнадцать кульков.
Мы спросили, нужны ли ей еще кульки, и она ответила, что нужны. Витя сказал, что кульки и являются единственным правильным путем для выхода из финансового кризиса. Мы решили, что в следующий раз склеим целую тысячу кульков. Но когда мы вернулись к себе во двор, там разразился страшный скандал.
В нашем доме почтальон поднимается на лифте на верхний, седьмой, этаж, а потом пешком спускается вниз и бросает в каждый ящик на двери газеты, журналы и письма. Оказалось, что Женька Иванов поднялся пешком за почтальоном, а затем спустился буквально вслед за ним, вынимая из каждого ящика через щель газеты. В этот день газеты получили только в одной квартире на шестом этаже, где живет какой-то Б. И. Гопник, потому что у него ящик на двери изнутри, а в двери прорезана щель, через которую и бросают почту.
Жители нашего дома не могли примириться с тем, что они не получили газет; почтовое отделение не могло примириться с тем, что от подписчиков поступила целая куча жалоб; наша школа не могла примириться с тем, что отличника учебы Женьку Иванова недостаточно воспитывает пионерская организация, а также семья и что он попал под плохое влияние; мы не могли примириться с тем, что Женька своим легкомысленным поступком поставил всех нас под удар, и в результате Женьке дома сильно всыпали и перестали выпускать во двор, а Витя сказал, что если Женька все-таки порвет оковы и явится к нам, то мы его под конвоем доставим в место заключения.
После этого Витя Сердюк выдвинул новый проект, который получил у нас название «операция Радуга». На эту
12
идею натолкнул нас кот по имени Чудо. Он и в самом деле представлял собой чудо природы.
В нашем дворе есть шотландская овчарка Леда. Хозяева этой овчарки трясутся над ней, никого к ней не подпускают, готовят для нее морковные кисели и выходят из себя, если кто-либо пытается ее погладить. И вот недавно, когда Леду спустили с поводка, она вдруг помчалась к ящикам, которые всегда стоят у заднего входа в гастроном — он выходит в наш двор. А из-за ящиков медленно и спокойно вышел большой белый кот. Мы думали, что Леда сейчас разорвет кота на клочки, но это был какой-то особенный кот. Он даже не выгнул спину и не распушил хвост. Он просто легким, мне показалось, даже ленивым взмахом лапы провел когтями по Лединому носу. Овчарка взвизгнула и, упираясь всеми четырьмя лапами, присела. Кот негромко фыркнул и снова поднял лапу. Тут Леда с визгом бросилась наутек, прибежала к своей хозяйке и зарылась, повизгивая, носом к ней в юбку, а хозяйка стала кричать, что это безобразие, что во дворе нет прохода от детей и котов, что негде погулять собаке.
Мы все были очень благодарны этому коту: приятно, когда на твоих глазах наказывают нахала. Витя подозвал кота, и тот все так же неторопливо подошел к нему и стал тереться о его ногу.
— Послушайте,— вдруг обрадовался Витя,— этот кот слепой!
— Скажи еще, что он черный и с шестью ногами, как таракан,— сказал Сережа.
И я тоже сказала, что это чепуха, потому что слепой кот не мог бы попасть так точно Леде по носу и не подошел бы к Вите, когда тот его позвал.
Витя взял кота на руки и потребовал:
— Посмотрите на его глаза.
Глаза у кота, как мне показалось, были самые обыкновенные, такие же, как у всех котов.
— Они голубые,— сказал Витя, как человек, который сделал важное открытие.— А кот — белый.
И Витя рассказал, что читал в какой-то научной книге, что белые коты с голубыми глазами обязательно бывают слепыми.
— Я не знаю, что написано в твоей книге,— сказал Сережа,— но так как этот кот действительно белый и у него действительно голубоватые глаза, то книга твоя ничего не стоит. Этот кот — зрячий.
13
В ответ на это Витя сказал, что заберет кота к себе и что мы экспериментальным путем установим — слепой это кот или нет, так как ударить Леду по носу и подойти, когда его зовут, кот мог, используя свой слух и обоняние.
Я никогда не представляла себе, что это такое сложное дело — проверить, видит животное или оно слепо. Мне было поручено вести протокол наших экспериментов. Задачей первого опыта было проверить, изменится ли поведение кота, если ему завязать глаза.
Мы завязали коту глаза платком, и его поведение действительно изменилось. Он стал кататься по полу и сдирать повязку. Сережа сказал, что уже один этот факт показывает, что кот зрячий, что повязка ему мешает, но Витя возразил, и, по-моему, правильно, что даже слепой кот точно так же не стал бы мириться с повязкой на морде.
Таким же бесполезным оказался опыт с блюдечком молока. Мы ставили его в разных углах комнаты, и кот каждый раз к нему подходил. Но он теоретически мог найти это блюдце по запаху молока.
С другой стороны, когда мы привязали за нитку кусочек ваты и стали дергать эту вату то вверх, то вниз, кот не обращал на нее никакого внимания. Сережа сказал, что это не является доказательством слепоты, так как с ваткой играют и обращают на нее внимание только котята, а старому коту такая игра совершенно неинтересна. Сережин дедушка, например, всегда садится читать газету, когда по телевизору передают футбол, а Сережа и Сережин папа не могут оторвать глаза от экрана.
Так мы в этот день и не выяснили, слепой этот кот или зрячий. А на следующий день Витя сказал, что он целую ночь думал, как это проверить, и что он придумал способ и уже совершенно точно установил, что кот этот является чудом природы, потому что, несмотря на белый цвет и голубые глаза, все видит.
Витя повел нас к себе и показал, как он это установил. Он зажег настольную лампу, принес мамину пудреницу, раскрыл ее, взял кота и направил ему в глаза зайчика. Мы увидели, что зрачок у кота сузился.
— А раз под действием света у него сужается зрачок, значит, он воспринимает свет,— сказал Витя.— А раз он воспринимает свет, значит, он видит.
Но Вите не хотелось примириться с тем, что кот противоречит выводам науки. И он решил перекрасить кота.
Я в жизни не видела такого исцарапанного человека,
14
как Витя. И в жизни не видела такое странное животное, как крашеный кот. У Вити по носу, губам и подбородку проходили красные полосы, как меридианы на глобусе. А кот выглядел еще более странно: Витя успел только сделать черную с разводами полосу у него на спине и покрасить хвост. Витя уверял, что довел бы дело до конца, если бы не вмешалась бабушка.
Но крашеным котом неожиданно заинтересовался один из жителей нашего дома. Он долго расспрашивал Витю о том, какую краску он применял, стойкая ли это краска, а уходя, сказал со вздохом, что в области крашения химия еще отстает от жизни. Может быть, я ошибаюсь, я никому не сказала об этом, но мне показалось, что у этого человека волосы неестественно черного цвета.
И вот тут-то Витя выдвинул свой план «операции Радуга». Он предложил устроить красильню. В нашем доме по проекту должна быть дворовая прачечная. В подвале. Но не хватило какой-то арматуры, и прачечную пока не открыли. Витя предложил использовать помещение.
— Вначале мы будем красить бесплатно,— сказал Витя,— для того, чтобы о нас узнало побольше людей и чтобы заказчики убедились в нашей добросовестности и высоком качестве окраски. А потом, когда о нас узнают, мы начнем брать деньги.
Но даже и бесплатно никто и ничего не хотел красить, хотя мы ходили из квартиры в квартиру и всюду предлагали свои услуги.
— Ничего,— говорил Витя,— для взрослых характерна такая недоверчивость. Важно их переубедить, а потом к нам будут стоять в очереди.
Нам все-таки удалось уговорить старушку из восемнадцатой квартиры дать нам в окраску скатерть, которую ее первоклассник-внучек, как и полагается, залил чернилами в первый же день учебного года.
— В какой же цвет вам ее покрасить? — спросил Витя.
Скатерть была голубая, а большое чернильное пятно —
фиолетовое.
— В синий,— сказала старушка.— В темно-синий. Чтобы пятно было не так заметно.
— Ну зачем же в синий? — стал разубеждать ее Витя.— Лучше мы вам ее сделаем цвета бордо.
— А какой это «бордо»?
— Темно-красный... Ну, как борщ.
— А, бурдовый,— сказала бабушка.— Хорошо.
15
Мы обесцветили скатерть, выварив ее в растворе хлор' ной извести, так что она стала совсем белой, а затем долго варили ее в краске.
— Главное, чтобы скатерть равномерно окрасилась, чтобы не было пятен и всяких там разводов,— говорил Витя.
Скатерть очень хорошо окрасилась. Мы просто любовались, какого она стала густого вишневого цвета, о котором Витя сказал, что это и есть настоящий бордо — цвет знаменитого французского вина. Еще влажной мы отнесли ее нашей заказчице. Бабушка была очень довольна нашей работой и хотела дать нам денег на конфеты, но Витя отказался и сказал:
— Нам не нужны конфеты. Но расскажите, пожалуйста, своим знакомым, что мы хорошо и добросовестно покрасили вашу скатерть. Это нам очень нужно, потому что мы собираемся расширять производство.
Бабушка пообещала рассказать всем своим соседям, какие мы хорошие красильщики, и пожалела, что ей больше нечего дать нам в окраску.
Мы вернулись в нашу красильню, чтобы покрасить Витину белую рубашку в черный цвет — Витя говорил, что черные рубашки модны и не так пачкаются, как светлые.
Мы развели черную краску, но в это время снова пришла старушка со скатертью. У нее тряслись щеки от негодования. Она сказала, что никому нас не посоветует. Только она прогладила утюгом скатерть, чтобы быстрее подсушить ее и накрыть стол, как скатерть прямо под руками стала распадаться на хлопья. И она вытащила из кошелки и бросила на пол эту распадающуюся на хлопья скатерть. И ушла.
Я взяла в руки кусочек скатерти. Она была очень красивого цвета. Не такого, правда, как когда она была еще влажной, но все равно очень красивого. Мне было жалко старушку и стыдно перед ней, потому что Витя объяснил, что это наша вина: мы, по-видимому, передержали скатерть в хлорной извести.
Так провалилась наша «операция Радуга». И вот тогда я решила продать свой фотоаппарат. Я взяла его с собой в школу, на всех переменках я фотографировала кого придется, а после уроков мы с Витей пошли в комиссионный магазин.
В магазине пахло нафталином и еще тем кисловатым особым запахом, какой издают старые рояли. В этом ма¬
16
газине продавались странные вещи. Например, столовый сервиз за две тысячи рублей. Как автомашина. Ничего особенного, тарелки с картинками: французские крестьянки и крестьяне играют на дудочках и пасут овечек. Кому может понадобиться сервиз за две тысячи рублей? Или бронзовый бульдог с раскрытой пастью — двести восемьдесят рублей. Бронзовый памятник с собачьей могилы. Интересно, сколько он весит? И кто его купит?
А мой аппарат принять отказались. Сказали, что, во-первых, у детей магазин вообще ничего не принимает на комиссию, а во-вторых, не принимают таких аппаратов.
По правде говоря, мне было очень приятно, что ребята смотрели на меня, как на героиню, когда я сказала, что продам свой фотоаппарат. Но сейчас я почувствовала большое облегчение и тихо радовалась про себя, что продав^ щица не приняла мой фотоаппарат и что нам не удалось его продать. Как только мы вышли из магазина, нас подозвал невысокий худой старик с желтыми зубами и седой неровной щетиной на подбородке, одетый в застегнутый доверху кремовый плащ.
— Как фамилия? — спросил он у меня неожиданно.
— Алексеева,— ответила я.
— Где живешь?
Я назвала свой адрес.
— А для чего вам это знать? — спросил Витя.
— А для того,— сказал старик,— что аппарат этот краденый... И для того, что вы хотели похищенный предмет сдать в комиссионный магазин, что предусмотрено статьей сто семьдесят девятой, пункт «А» Уголовного кодекса сроком до семи лет.
— Это наш аппарат,— сказал Витя.— Как вам не стыдно! Пойдем, Оля.
— Э, нет,— сказал старик и крепко взял меня за руку своей грязной рукой с обкусанными ногтями.— Сначала пройдем в милицию.
На нас оглядывались прохожие, две женщины остановились возле нас, и я впервые в жизни поняла, как себя чувствует человек, уличенный в воровстве. Это был мой аппарат, но все равно я себя чувствовала так, словно я его украла. Старик тащил меня по улице, а Витя шел рядом и твердил:
— Отпустите ее... Сейчас же отпустите. Вы не имеете права...
— А вот сейчас придем в милицию, составим там про¬
17
токол по статье сто семьдесят девятой Уголовного кодекса и тогда посмотрим, есть у меня право или нет,— злорадно бормотал старик и вел меня за руку по улице.
А в другой руке я держала свой фотоаппарат, и он жег мне руку, как краденой. Вдруг старик замедлил шаги перед остановкой троллейбуса и быстро сказал:
— Ну, так и быть... На первый раз прощаю. Я сам куплю этот аппарат...
Он сунул мне в руку бумажный рубль, в который была завернута трехкопеечная монета, взял у меня фотоаппарат и сел в троллейбус.
— Зачем ты ему дала аппарат? — удивился Витя.— Подождите! — закричал он вслед старику.
Но троллейбус уже уехал. Мне хотелось плакать, но, честное же слово, я почувствовала облегчение, когда уехал этот отвратительный старик и забрал этот проклятый аппарат.
— Нужно было задержать его,— сказал Витя.— Он, наверное, пьяница. Такой, как когда-то в книгах писали. Что все с себя пропивает. Ты не заметила? Ведь у него под плащом не было даже рубашки.
— Нет,— сказала я.— Я ничего не заметила.
Когда я вернулась домой, я написала стихи. Я всегда пишу стихи, если переволнуюсь или если со мной что-нибудь случится. Но я никогда не пишу стихов о том, что произошло. Они вроде бы совсем не связаны с тем, что со мной случилось, совсем о другом, но я-то знаю, что они очень связаны, только я не умею объяснить, чем именно.
В этот раз я написала стихи про Буратино. Начинались они так:
Бедняга Буратино!
Наверно, неспроста Тебя швырнули в тину,
В глубокий пруд с моста...
Какое отношение имеет Буратино к денежным затруднениям нашей компании? Или к тому, что пропал мой фотоаппарат и этот странный старик в кремовом плаще так напугал меня?.. И все-таки имеет какое-то отношение.
1 В этой книге все стихи, за исключением тех, к которым сделаны специальные примечания, принадлежат перу поэта Л. В. Киселева (1946— 1968). Леонид Киселев. Последняя песня. Издательство «Молодь». Киев, 1979.
18
Потому я и написала стихи об этом остроносом добром деревянном человечке. И когда я написала эти стихи, мне стало легче.
Глава третья
Рано утром папа трижды ударил согнутым пальцем по дверце платяного шкафа и закричал: «Эй вы, сонные тетери, открывайте брату двери!» Он часто будил меня этими словами, и я теперь понимаю, как это хорошо — просыпаться с улыбкой. Но на этот раз я не улыбнулась и ничего не ответила. Тогда он сказал:
— Можно к тебе?
Я ответила:
— Да, пожалуйста.
Он вошел, присел с краешка на мою кровать и улыбнулся, как улыбается он всегда, когда думает о чем-нибудь серьезном. Я люблю в такие минуты смотреть на его лицо. У него тогда бывает особенно хорошее лицо — чуть-чуть беззащитное и одновременно решительное.
— Я очень виноват перед тобой,— сказал папа.— Не знаю, извинишь ли ты меня, но больше это не повторится со мной никогда в жизни.
Я молчала.
— Это все, что я хотел сказать,— сказал папа.— Я очень бы хотел вернуть твое уважение. Если можешь, прости меня.
— Хорошо,— сказала я, стараясь не заплакать.
Он вышел, а я постелила кровать и пошла в ванную. Ванная у нас рядом с кухней, и окошко ванной выходит в кухню. Мама готовила завтрак и говорила нарочно громко, так, чтоб шум воды из крана не заглушал ее голоса:
— Если бы мне было куда уйти, я бы и минуты не осталась в этом сумасшедшем доме. Я слышала, как ты вымаливал прощение, вместо того чтобы взять ремень и всыпать ей как следует. Если бы у нее был родной отец...
Я посильнее открутила кран в ванной и закрыла уши руками. Мама постоянно упрекает папу в том, что он мне не родной отец.
Родного отца я почти не помню. Помню только сапоги — он был военным летчиком и, очевидно, носил сапоги,— я сижу между этими большими сапогами, и отец, стоя, говорит и взмахивает рукой, а его молча и, как мне
19
теперь кажется, восхищенно слушают какие-то люди. Их много в большой комнате, где мы тогда, очевидно, жили. Они сидят на стульях, на подоконниках, как мне кажется, даже на полу. А отец им что-то говорит. И из его слоз я запомнила только красивое и необыкновенное выражение: «...и так далее, и так далее».
Мама говорит, что он погиб при авиационной катастрофе, но я знаю, что это не так.
Я помню многое, что было со мной в раннем детстве: лица, платья, разговоры, которые при мне велись и которых я тогда не понимала. Но когда я вспоминаю о них теперь, они наполняются для меня смыслом. Так, как если бы выучить на память страницу из книги на иностранном, не известном тебе языке, а потом, спустя несколько лет, выучить этот язык.
Так вот, припоминая такие отрывочные разговоры, я поняла, что отец мой оставил нас с мамой потому, что полюбил другую женщину. Я никогда с мамой об этом не говорила, и каким был мой родной отец, я не знаю. Думаю, что был он все-таки плохим человеком, если мог оставить меня и маму.
Но человеком, которого я зову папой, моим отчимом, я горжусь и очень люблю его, по-моему, люблю его даже больше, чем маму, и верю в то, что он самый лучший человек на свете, и хочу во всем быть похожей на него.
Он журналист, работает в газете, часто уезжает в командировки. И когда его нет, я очень по нему скучаю и пишу ему письма, а он мне отвечает. А мама не любит писать письма. Она говорит, что это старомодное занятие и что значительно проще поговорить по междугородному телефону.
Я ему показываю все мои стихи; он их никогда не хвалит и не ругает, но он их понимает. Он, по-моему, понимает даже то, что я сама не всегда понимаю: почему я их написала. И мне очень захотелось прочесть ему стихотворение, начало которого сложилось у меня ночью: я всегда сначала сочиняю стихи в голове, а потом уже записываю их на бумаге. Я придумала только первую строфу:
Мне снова снился отчий дом —
Малометражная квартира.
Проснулась ночью. Было тихо.
И вспоминался этот сон.
20
Но я решила, что сначала я закончу стихотворение, а потом уже перепишу и покажу его папе. Хотя я еще совсем не знала, что будет дальше. Что-то такое о чужих окнах, которые глядят мне в лицо тысячью влажных глаз.
За завтраком все мы молчали, но перед тем, как я пошла в школу, папа спросил:
— Может быть, тебе нужны деньги?
— Нет, не нужны,— ответила я.
Я сказала неправду. Деньги мне были очень нужны.
У каждого человека есть какой-то предмет, о котором он мечтает и на покупку которого он не жалеет денег. У папы, например, это консервные ножи. У нас на кухне одна стенка — там, где газовая плита,— закрыта фанерным щитом кремового цвета, в щит густо забиты гвоздики, а на них висят в ряд двести одиннадцать консервных ножей. Все знакомые приносят папе консервные ножи, из всех командировок он привозит консервные ножи. Он говорит, что когда-нибудь напишет историю эволюции консервных ножей, начиная от первых — в виде щучьей пасти, изготовленных для открывания первых консервов в середине прошлого столетия, и кончая сложным современным устройством с магнитным держателем для обрезанной крышки. Папа говорит, что на конструкцию консервных ножей оказали свое влияние и войны и революции.
Я в детстве больше всего хотела покупать мороженое. Я совершенно не понимала взрослых, которые тратят деньги на хлеб, колбасу, ботинки, когда на них можно купить мороженое. Затем я стала так же думать о книгах.
Но вот теперь я мечтала лишь об одном — о реактивах. О химических реактивах. И я, и Витя, и Сережа, и даже Женька Иванов в последнее время не ходили в кино, не ели мороженого. Все деньги мы тратили на реактивы.
Когда я закончу школу, я поступлю в университет на химический факультет. Но учиться там я буду заочно. А работать я пойду в магазин химических реактивов. Это моя мечта, и я сделаю все, что нужно, для того чтобы она осуществилась.
Все началось с обыкновенного кусочка сахара. Я тогда еще училась в шестом классе и не знала, что сахар не горит, а только темнеет и плавится, если жечь его на спичке. Витин отец, Леонид Владимирович,— он химик, профессор, работает в Академии наук — однажды, когда я и Сережа были у Вити, сказал, что покажет нам фокус.
21
Он дал нам каждому по кусочку сахара и по коробке спичек и предложил зажечь этот сахар, только над пепельницей, чтобы не запачкать стол. Я обожгла себе пальцы, а сахар не загорался. Тогда Витин папа взял у нас сахар и сам поджег,его. И сахар у него сразу загорелся красивым синеватым пламенем, похожим на то, какое бывает, когда горит спирт.
— Теперь догадайтесь, в чем тут фокус,— сказал Витин папа.— Почему у вас сахар не горел, а у меня горит?
Мы не могли догадаться. И Витин папа тогда сказал:
— Вот, ребята, вы сейчас столкнулись с одним из самых интересных явлений природы и одним из самых важных вопросов химии. Вы не обратили на это внимания, но я, перед тем как поджечь кусок сахара, будто нечаянно уронил его в пепельницу. К сахару пристал табачный пепел, а табачный пепел обладает интереснейшим свойством — достаточно крошечного количества, ну просто миллиграмма, чтобы весь сахар, если его поджечь, сгорел.
— А почему пепел так действует на сахар? — спросил* Сережа.
— Потому что табачный пепел в этом случае является катализатором,— ответил Леонид Владимирович и рассказал нам о том, что катализаторы — это такие вещества, которые во время химических процессов не изменяются, их количество не уменьшается и не увеличивается, но что они намного ускоряют химические процессы, иногда в тысячи и в сотни тысяч раз. А бывают и такие реакции, которые вообще без катализатора не получаются.
Не знаю, как у других, но у меня перед глазами сразу возникла такая картина: огромный зал или площадь, заполненная людьми. Они стоят тесно, они мрачны и недовольны, они негромко переговариваются между собой, и вся площадь гудит, как улей. Но тут молодой человек в белой рубашке с расстегнутым воротом, с зачесанными назад волнистыми черными волосами вскакивает на какое-то возвышение — это даже не трибуна, а стол или тележка — и кричит: «Вперед на тиранов!» И все принимаются строить баррикады, вооружаться... Вот этот молодой человек, который закричал «Вперед на тиранов!», мне представилось, и есть катализатор.
Леонид Владимирович прочел нам в тот день целую лекцию о катализаторах. О том, что бывают катализаторы, которые ускоряют действие других катализаторов, и что их называют промоторами, и что бывают вещества, которые
22
замедляют действие катализаторов,— их наз'ывают каталитическими ядами; что в наше время ученые создали теории о том, почему и как действуют катализаторы, но все равно в этом вопросе еще многое остается неизвестным, и некоторые катализаторы
найдены по методу древ- &итин пдпд
них алхимиков, то есть ПРОФЕССОР химии пробуют разные реактивы, проверяя, не ускорят ли они химический процесс.
Я сразу представила себе полутемное помещение, посередине горн, на котором стоит большая изогнутая реторта с красной жидкостью. Витин папа, в коротких штанах, в бархатном камзоле, одной рукой раздувает мехи, в другой руке держит книгу, в которую время от времени заглядывает, произнося вперемежку химические формулы и заклинания, а на голове у него сидит сова, которая то страшно ухает, то бормочет формулы: аш два о, аргентум, нитрогениум и еще такие же слова.
— Значит,— спросила я,— все зависит от того, повезет или не повезет химикам?
— Нет,— возразил Леонид Владимирович.— В тысячах лабораторий всего мира ежедневно проводятся сотни тысяч опытов, для того чтобы найти и испытать новые катализаторы. И если говорить о везении, то это сознательное, так сказать, направленное везение. И когда химики находят новый катализатор — это очень важное, очень радостное событие, а состав нового катализатора очень часто является промышленной, военной или даже государственной тайной.
Когда я вернулась домой, я долго думала о том, что это все-таки очень здорово и очень странно... Пока мы ходим в школу и в кино и готовим уроки или ссоримся друг с другом из-за всякой чепухи, во всем мире в лабораториях, согнувшись над приборами, сидят ученые и ищут катализаторы для того, чтобы ускорить разные химические процессы. А Витин папа говорит, что ускорять разные химические процессы — это значит активно заботиться о том, чтобы людям побыстрее жилось легче и лучше.
23
И я написала стихи. Я всего раз в жизни летела на самолете. С папой и мамой — на «ТУ-104». Мне не понравилось, потому что с непривычки было страшно, и меня тошнило, хотя папа удивлялся, почему меня тошнит, так как в самолете в самом деле совсем не качает, а только закладывает уши и ломит в затылке при взлете и посадке. Но теперь, после разговора о катализаторах, я совсем по-другому увидела и поняла свой полет.
И я написала:
На облака облокотись И вниз па землю погляди.
Взгляни на горы сверху вниз,
На реки в челюстях плотин.
Взгляни на села, города Не свысока, а с высоты,
Чтоб просто больше увидать,
Чтоб сразу взглядом охватить.
Гляди: над лучшим из миров Редеет облачный покров...
Да, люди выше облаков,
И люди больше городов.
Глава четвертая
Прозвенел звонок. И когда все уже сидели на месте, в класс вошел Сережа. Он слегка взмахнул рукой, сказал: «Сидите, сидите», а затем подошел к доске, повернулся к классу, подергал себя за нос и торопливо спросил:
— Так на чем мы остановились? — И так же торопливо сам себе ответил: — На Ярославе Мудром... Алексеева, не вертись,— сказал Сережа в нос и продолжал прежним тоном: — Запишите в тетради: Ярослав Мудрый. А теперь положите ручки и слушайте. Ярослав Мудрый был прозван мудрым за свою мудрость...
Никто не обращал внимания на то, что говорил Сережа из-за учительского стола. Все уже давно привыкли к его шуточкам. По-моему, никто даже не улыбнулся.
— Ярослав Мудрый...— продолжал Сережа.
Но в это время приоткрылась дверь, и Сережа шмыгнул на свою парту — он сидит с Витей. Вошел учитель истории Михаил Иванович и совершенно таким же движением руки, как Сережа, помахал на класс и сказал: «Садитесь, сади¬
24
тесь». Кто-то из девчонок хихикнул. Тогда Михаил Иванович подергал себя за нос и спросил:
— Так на чем мы остановились? — И торопливо ответил: — На князе Ярославе Мудром... Алексеева, не вертись,— сказал он мне, хотя, честное же слово, я ничуть не вертелась.
Все поведение Михаила Ивановича, все его слова были настолько похожи на то, что показал перед тем Сережа, так совпадало каждое движение, что ребята повизгивали, подавляя смех. И только Сережа сидел с очень серьезным, с очень вдумчивым лицом.
Вообще Сережа был бы похож лицом на Пушкина, если бы оно не было у него подвижным, как у обезьяны, и если бы не были такие светлые, словно покрашенные перекисью водорода, волосы. Но когда Сереже вздумается, он может придать своему лицу выражение пай-мальчика с картинок в старых детских книжках.
Михаил Иванович никак не мог понять, чем вызван смех, и, вместо того чтобы дальше рассказывать про Ярослава Мудрого, стал спрашивать домашнее задание. И, как это ни удивительно, первым он вызвал Сережу и поставил ему двойку, потому что Сережа переселил кривичей с верховьев Днепра на Оку, древлян с Припяти на Десну, а полян передвинул к дулебам.
Я уже давно заметила, что почти все наши учителя, когда в классе возникает нездоровый смех, вызывают Сережу и ставят ему двойку, хотя Сережа хорошо учится. Очевидно, они знают, кто у нас первый юморист.
На перемене возле новой школьной стенгазеты столпилось много ребят. Я тоже подошла, но лишь посмотрела и сейчас же пошла дальше. Я дала в газету эти мои стихи про самолет, а их не поместили. И мне показалось обидно, что в газете не мои стихи, а Миры Ковалевой из 8-го «Б». У нас многие мальчики и девочки пишут стихи, но книги стихов в библиотеке, по-моему, наши ребята берут не особенно охотно. Да и мне самой больше нравится читать написанное прозой.
На второй урок мы пошли в самое лучшее место в
25
нашей школе — в химический кабинет. У нас замечательный химический кабинет. Вместо парт там стоят столы. И есть большой стол, к которому подведен газ, и на нем маленькие газовые плитки и химическая посуда. И вытяжной шкаф — большой стеклянный ящик, к которому подведена вентиляционная труба. И вдоль стены шкафы, заполненные банками с этикетками, а в банках всевозможные реактивы. А в одной из банок под слоем керосина хранится металлический натрий, который мне нравится больше всего...
И главное, в химическом кабинете Евгения Лаврентьевна, как всегда, в черном халате и с белыми волосами и с лицом, которое остается добрым и серьезным, даже когда Евгения Лаврентьевна улыбается. Что я прежде слышала о Евгении Лаврентьевне? Что она строгая и что отвечает на все вопросы.
Строгая ли она? Папа как-то говорил, что у плохого учителя ученики могут сидеть на уроках тихо, но у хорошего учителя ученики не могут шуметь и болтать. У Евгении Лаврентьевны на уроках всегда тихо, и просто как-то никому не приходит в голову, что можно отвлечься, или потрепаться с соседом по столу, или еще что-нибудь такое.
Ну, а насчет вопросов — это правда. Она никогда никому не говорит: «Тебе еще рано», или: «Ты это поймешь позже», или: «Ты это будешь учить в десятом классе». Она отвечает на все вопросы. И не только по химии. И всегда скажет еще, какие книги прочесть, чтоб лучше понять. Старшеклассники рассказывают, будто иногда ей задают такие вопросы, что она отвечает: «Я этого точно не знаю. Я выясню и завтра вам отвечу». И никогда не забывает ответить. Мне кажется, что за это ее особенно надо уважать.
Но задавать вопросы ей можно только на переменках или после уроков. Она всегда специально остается. А на уроке ее нельзя прерывать.
Вот я, например, спросила у Евгении Лаврентьевны, почему если посыпать сахар табачным пеплом, то он горит. Подошли мы к ней всей нашей компанией, вчетвером, даже с Женькой Ивановым. Евгения Лаврентьевна сначала расспросила нас, понимаем ли мы, что такое катализатор, а уж потом рассказала, что существует такой очень легкий металл, под названием литий, который в пять раз легче алюминия. Применяется он в металлургии — его добавля¬
26
ют в очень небольшом количестве к меди, алюминию, магнию, от этого они становятся более стойкими и прочными. Литий содержится в некоторых морских водорослях, а также в таких растениях, как лютик, который иначе называют куриной слепотой, и в табаке. В табачном пепле остается часть соединений лития, а этот литий и является катализатором.
От Евгении Лаврентьевны на каждом уроке узнаешь что-нибудь совершенно неожиданное и удивительное. Вот, например, есть такая пословица: «Чтобы узнать человека, нужно с ним пуд соли съесть». Я думала, что для того, чтобы съесть пуд соли, нужно лет двадцать, ну, не двадцать, так десять. Но Евгения Лаврентьевна рассказала нам, что каждый человек с пищей съедает в год от 8 до 10 килограммов соли. Значит, вдвоем они съедают пуд соли всего за год. Значит, мы с мамой съели вместе почти 13 пудов соли, и все-таки... Видимо, не в соли дело и не в сроках, но Евгения Лаврентьевна тут ни при чем.
Витин папа, Леонид Владимирович, рассказывал, что ученики, которые, закончив школу, получают у Евгении Лаврентьевны по химии даже тройку, в институт сдают экзамен по химии на пятерку, а если у ученика Евгении Лаврентьевны в аттестате стоит по химии пятерка, то ему в Киеве в любом институте или в университете поставят пять и могут даже не задавать вопросов.
На всю жизнь я запомню первый урок Евгении Лаврентьевны. «Кто такие химики?» — такая была тема этого урока. Если бы она рассказывала сто часов подряд, никто все равно не сдвинулся бы с места.
Все химики были замечательными людьми — отважными, благородными, готовыми пожертвовать собой для пользы людей.
Особенно мне запомнилось, как Евгения Лаврентьевна рассказывала о великом химике Бутлерове. Восьмилетнего Сашу Бутлерова родители отдали в пансион в городе Казани, ну, вроде бы в интернат. Там он увлекся химией. И вот, когда ему было лет десять, он в своей тумбочке возле кровати устроил небольшую лабораторию. И когда однажды дети играли во дворе, вдруг раздался оглушительный взрыв. Воспитатель побежал в помещение и вытащил оттуда Сашу Бутлерова, у которого были обожжены брови и волосы. Эксперимент, который он задумал, кончился неудачей. Бутлерова решили наказать. В этом пансионе, где он учился, детей не секли розгами, хотя, как
27
сказала Евгения Лаврентьевна, в других учебных заведениях розги были в большом ходу, и вот Бутлерова за его «преступление» посадили в темный карцер, а из карцера его несколько раз выводили в общий обеденный зал с черной доской на груди. А на доске крупными белыми буквами было написано: «Великий химик».
Они это написали, чтобы поиздеваться над мальчиком, но оказалось, что они предсказали его будущее. Потому что он действительно стал великим химиком.
Евгения Лаврентьевна говорила, что все, что возможно с научной точки зрения, в конце концов становится возможным в действительности. Хотя иногда даже ученые слишком поспешно говорят «невозможно», вместо того чтобы сказать «мы еще не умеем». Вот, например, она рассказывала, что долгое время считалось, что невозможно получить искусственный аммиак, но немецкий ученый Габер придумал, как это сделать. Благодаря его открытию Германия так долго держалась в первой мировой войне. Но когда к власти пришли фашисты, они стали преследовать этого Габера, потому что он был евреем, и он убежал из Германии и умер в чужой стране.
Или, например, Евгения Лаврентьевна рассказывала, что знаменитый изобретатель Эдисон, когда услышал, что в Советском Союзе получен искусственный каучук, заявил: «Я не верю, что Советскому Союзу удалось получить синтетический каучук. Все это сообщение — сплошной вымысел. Мой собственный опыт и опыт других показывает, что вряд ли процесс синтеза каучука вообще когда-нибудь увенчается успехом». А ведь сейчас любой ребенок знает, что каучук получают синтетическим путем.
Но если все, что возможно по научной теории, возможно в действительности, то, может быть, уже скоро будет осуществлено то, что задумал Витин папа, Леонид Владимирович, хотя это совсем похоже на фантастику.
Я часто представляю себе, как над нашим городом, над куполами Софии, над Днепром, над Мариинским парком и памятником Вечной Славы летают, медленно взмахивая крыльями, огромные птицы. Вот одна из них плавно опустилась на асфальтовую площадь между Пионерским и Мариинским парком, и стало видно, что это не птица, а огромная машина — птицелет. Открылись дверцы, и из нее вышло много людей — пассажиров.
Пассажиры разошлись, а в кабине остались летчики: я, Витя, Сережа и Женька. На пульте управления перед
28
нами указатель высоты, скорости и еще небольшой прибор с тремя циферблатами. Над одним из них написано «Кислота», над другим — «Щелочь», а над третьим — «Катализатор». Крылья нашего птицелета движутся при помощи искусственных мышц из полимерных пленок, то есть пти- целет движется при помощи химии, так как в нем химическая энергия сразу превращается в механическую.
Леонид Владимирович рассказывал нам, что созданные в их лаборатории тонкие пленки из полимеров под действием щелочи и кислоты то растягиваются, то сжимаются, как искусственная мышца. Если соединить между собой много таких пленок и найти катализатор, который будет ускорять и увеличивать сжатие и растягивание, можно создать искусственные мышцы. И мышцы эти смогут делать огромную работу, они будут в тысячу раз сильнее, чем, скажем, мышца настоящего слона. Витин папа водил нас в свою лабораторию в Академию наук и показал, как сжимаются и растягиваются эти пленки.
Я не знаю, как создают такие лаборатории и как отбирают в них людей, но, скорее всего, я думаю, собираются сначала несколько человек, которые любят и знают химию. Один из них предлагает решить научную проблему, которая всем им очень интересна, а потом к ним присоединяются еще и другие люди. В общем, все у них происходит, очевидно, так же, как в нашей компании, но разница, и не в нашу пользу, в том, что реактивы им дает государство и что они не только не платят денег за то, что занимаются любимым делом, а еще и получают за это зарплату.
О том, что эти пленки — искусственные мышцы — когда-нибудь будут использованы для того, чтобы создать крылатую машину — птицелет, нам сказал Витин папа, а когда мы ушли из лаборатории, Витя предложил:
— Давайте сделаем свою лабораторию. Будем искать катализатор. Может, мы его найдем скорее, чем целая научная лаборатория.
Мы решили держать наш замысел в тайне. Но совсем не потому, что, как сказал Витя, наше открытие может стать военным секретом, а по другой причине, о которой никто не говорил. Мы боялись насмешек. Мы не хотели, чтобы нас дразнили «великими химиками», как Сашу Бутлерова. И мы строго соблюдали тайну. Тем более, что всем нам было приятно иметь тайну, перемигиваться на уроках и шептаться на переменках.
Глава пятая
Когда я была маленькой, мне казалось, что лучше быть мальчиком, чем девочкой. Я уговорила маму купить мне брюки и стреляла из рогатки.
Но сегодня я думаю о том, как хорошо все-таки, что родилась я девочкой. Хотя я снова надела штаны. Однако совсем не для того, чтобы быть похожей на мальчишку.
Эти ярко-голубые брюки из тонкой шерсти с лавсаном мне купила ко дню рождения мама. А еще я надела темно-синюю тонкую шерстяную кофточку без рукавов прямо на голое тело, как это теперь модно. И когда я все это надела, я посмотрела в зеркало и снова подумала, как приятно быть девочкой, потому что у мальчиков не бывает таких красивых, как у меня, косичек и таких темных и блестящих глаз, какие есть только у меня и еще у моей мамы, и больше ни у кого на свете.
Мне позволили в это воскресенье поехать на прогулку, за город с Витей и Витиным папой. У Витиного папы собственная «Волга» зеленого цвета, с негритенком, который висит на пружинке перед ветровым стеклом, и с дополнительной желтой фарой, которая, как сказал мне Витя, называется антитуманной и светит в тумане.
Витин папа, Леонид Владимирович, сел за руль, Витя — рядом с ним, а я — на заднем сиденье. Витин папа совсем не похож на Витю. Правда, может быть, лицо его очень меняют очки в темной толстой оправе и борода. У него борода небольшая. И внизу ровно отрезанная «лопатой». Если бы он сбрил бороду и снял очки, может, он был бы больше похож на собственного сына.
Мне очень хотелось спросить у Леонида Владимировича, почему он едет на прогулку, если он сам говорил, что он и сотрудники лаборатории днем и ночью работают над поисками катализаторов. Но я промолчала, потому что подумала, что такой вопрос был бы бестактностью. Может быть, он устал — взрослые быстро устают и нуждаются в отдыхе. А может быть, он, как я, даже по дороге, на прогулке, мечтает о своей работе.
Достаточно было мне представить себе, что у Витиного папы такие же мечты о работе, как у меня, и я уже покраснела и не могла бы посмотреть ему в глаза.
Как это хорошо все-таки, что люди не могут читать
30
мысли друг друга. Иначе жизнь стала бы совсем невозможной.
Но как бы на меня смотрели и Витин папа и Витя, если бы они узнали, что в ту самую минуту, когда мы отъехали от дома, я даже не замечала, куда мы едем, потому что представляла себе, как я в банку, где у нас мокнут полимерные пленки, капнула из пипетки одну капельку раствора обыкновенной соли. И вдруг пленки стянулись, укоротились в несколько раз. Мы в нетерпении вытаскиваем нашу искусственную мышцу, чтобы посмотреть, что с ней случилось. Сначала мы хотим ее растянуть, но она не поддается.
«Что бы это значило?» — говорит Витя и бросает пленки в банку со щелочью.
Пленки на глазах вытягиваются, увеличиваются, как живые.
Мы показываем нашу искусственную мышцу в лаборатории, где работает Витин папа.
«Это все Оля,— говорит Витя.— Это она придумала испытать как катализатор раствор соли».
«Не может быть!» — говорят научные сотрудники лаборатории, а Леонид Владимирович хватает себя за бороду, перехватывая ее пополам, так что нижний конец распускается как павлиний хвост, и говорит:
«Это замечательно! Это удивительное открытие. Можно сказать, событие эпохи. Мы сейчас же проверим его в нашей лаборатории».
Но в лаборатории ничего не получается.
«Сколько вы насыпали соли?» — строго спрашивает Витин отец.
«Я не помню,— отвечаю ему я и сама пугаюсь.— Щепотку. Я ее перед тем не взвешивала».
«Как же это вы? — сердится Витин папа.— А где ты брала соль?»
«В нашей солонке».
«Сейчас же доставить сюда эту солонку!» — командует Витин папа и сжимает рукой конец бороды так, что она становится узкой и острой, как кинжал.
Меня сажают в машину и везут за солонкой. Анализ соли показывает, что она поглотила некоторое количество серебра из солонки и эти молекулы соленого серебра сыграли свою роль при катализе.
«Это огромная удача, что наши дети сделали это замечательное открытие,— говорит Витин папа и гладит бо¬
31
роду так сильно, что она загибается за подбородок наподобие шарфика.— И уже совсем недалеко то время, когда в воздух взовьются бесшумные птицелеты...»
«А может быть,— подумала я,— Леонид Владимирович, который ведет сейчас машину и держит руль с такой силой, словно у него вырывают этот руль из рук, думает в эту минуту что-нибудь похожее на то, что думаю я, или даже то же самое. И это помогает ему переживать трудности и справляться с неудачами...»
Мы ехали по шоссе мимо новых улиц, на которых было, наверное, строящихся домов столько же, сколько уже построенных, и мимо огромного домостроительного комбината, на котором, как рассказывал мне папа, готовят теперь целые комнаты, а на месте их только составляют, как дети составляют домики из кубиков, и мимо озера с очень холодной и очень тяжелой водой, над которым со всех сторон тесно, почти вплотную друг к другу, стояли рыболовы.
Витя и его папа, очевидно, уже не первый раз ездили* этой дорогой, они совсем не смотрели по сторонам и все время молчали, только раз Витя сказал: «Нужно сменить фильтр», а Леонид Владимирович в ответ кивнул головой.
И мне тоже стало неинтересно смотреть по сторонам и захотелось, чтобы мы уже скорей куда-нибудь приехали.
Мы подъехали к лесу, и Леонид Владимирович свернул с шоссе на песчаную лесную дорогу. Меня подбросило, машину затрясло. Витин папа остановил машину и коротко сказал: «Поменялись».
Он подвинулся вправо, а Витя перелез через его колени и сел за руль. Витя сразу же перевел рычаг скоростей, и машина медленно тронулась. Я посмотрела на спидометр — стрелка показывала 30 километров. Но машину все равно очень бросало. И Витя, и Витин папа на меня ни разу даже не оглянулись. Но мне казалось, что оба они все время помнят, что я сижу сзади и что это они мне показывают, как хорошо Витя научился водить автомашину, хотя до шестнадцати или восемнадцати лет, я не помню, автомашину водить запрещают.
Так мы и ехали сначала по лесу, а потом побыстрее по лугу, а потом снова помедленнее по лесу, и я смотрела на золотые красивые листья берез, и на красные листья осин, и на темную хвою, и смотреть на все это мне было сейчас совсем неинтересно, хотя в другое время я бы очень радовалась, что побывала в осеннем лесу. Так прошел час,
32
начался второй. Если бы это был мой папа и это была бы наша машина, то папа обязательно спросил бы: «Ну, а теперь, может быть, ты, Витя, хочешь немного поучиться править машиной?»
И если бы это была я, то обязательно бы сказала:
«Садись, Витя, рядом со мной. Тут в лесу можно ездить и втроем на переднем сиденье. Посмотришь, как я правлю машиной, а потом и
/I
&итя
сам попробуешь».
Но ни Витин папа, ни Витя ничего подобного не говорили. Они все время молчали, а у меня настолько испортилось настроение, что я стала думать о том, что дело, может быть, не в Вите и его папе, что, может быть, просто, когда человеку принадлежит автомашина, он становится таким безразличным к людям, у которых ее нет.
И я уже жалела, что поехала на эту прогулку, что надела голубые брюки, на которые никто не обратил внимания, и синюю кофточку и вплела в косички тонкие фиолетовые ленточки, которые почти незаметны, но, если присмотреться, придают особую прелесть волосам и всему.
Тем временем машина снова выехала на шоссе, но уже в другом месте, значительно дальше от города, чем там, где мы въехали в лес. Леонид Владимирович снова поменялся с Витей местами, и мы поехали домой.
Витя первый раз оглянулся на меня и спросил:
— Ну, видела, как я теперь вожу машину?
— Видела,— сказала я.— Очень хорошо.
Я не стала говорить, что на такой скорости, с какой мы ехали, водить машину не фокус. Потому что, во-первых, понимала, что по той плохой дороге, по какой мы ехали, быстрее нельзя, а во-вторых, мне хотелось плакать.
Когда мы вернулись домой, Витин папа поставил сначала машину в гараж — у него гараж во дворе, это такая аменная будка с широкими дверьми,— а затем мы все ' месте пошли к Вите. Я не хотела к нему идти, но Витин папа сказал, что нас ждет торт и если мы не съедим этот торт, а он ореховый и с цукатами, то прогулку нельзя считать завершенной, и я не устояла.
33
Витя, Сережа, Женька Иванов и я живем в одном доме и учимся в одной школе. Но у всех у нас квартиры в разных подъездах. У нас очень большой дом, и так как он был построен на месте трех старых, то он имеет три номера.
Витя живет на третьем этаже в семьдесят седьмой квартире. Мы вошли в лифт, и я заметила, как Витя оттолкнул руку своего отца и поспешил сам нажать на кнопку подъема. Все-таки в нем еще много детского.
Леонид Владимирович открыл двери своим ключом и остановился на пороге, а мы стали за ним.
В квартире громкими, нечеловеческими голосами кричали женщины. Ни одного слова нельзя было разобрать, и крик был какой-то странный, я бы сказала, какой-то пустой. Я не хочу никого обидеть, но мне думается, что так, должно быть, кричат сумасшедшие. Витин папа побледнел и поспешил в переднюю, а мы вслед за ним.
Витя живет в трехкомнатной квартире. Из передней две двери: одна в комнату налево, которая служит в Витиной семье столовой, а кроме того, там стоит телевизор и туда приходят гости. А другая дверь — в коридор, а там еще две комнаты, кухня, ванная и удобства.
Крики слышались из-за двери слева. Мы вошли в комнату и увидели, что за столом, на близком расстоянии друг против друга, сидят Витина бабушка и бабушка Женьки Иванова, обе красные, возбужденные и кричат друг другу странные вещи. В этот раз кричала Витина бабушка. Все слова она кричала медленно и каждое слово отдельно:
— А. Скажите. Мне. Пожалуйста. Завтракает. Ли. Ваш. Мальчик. Перед. Тем. Как. Идет. В. Школу.
А Женькина бабушка орала в ответ:
— Я ничего. Не понимаю. Какой завтрак? Я говорю не про питание. Я говорю про воспитание.
— Что случилось? — испуганно спросил Витин отец.
— Хорошо. Что. Вы. Пришли! — закричала Витина бабушка.— Простите. Но. Я. Хочу. Сказать. Несколько. Слов. Сыну! — закричала она, обращаясь к Женькиной бабушке, и вышла из комнаты, а вслед за ней вышел Леонид Владимирович.
Женькина бабушка осталась растерянная и грустная и смотрела на нас, как на незнакомых.
И я и Витя ничего не могли понять. Почему они так кричали? Витина бабушка, совершенно седая, стройная старушка, с красивым, ну просто с очень красивым лицом, разговаривала всегда как-то подчёркнуто, как-то особенно
34
тихо. Я много раз обращала на это внимание. На это и еще на то, что Витя любит свою бабушку, но не очень ее слушается. В общем, относится к бабушке, как к бабушке. Но Витин папа ее просто боится.
Я слышала однажды, как она спросила у него обыкновенную вещь — купил ли он какого-то сыра, который она велела ему купить, а он покраснел и растерялся и стал длинно оправдываться и говорить, что сыра этого не было в магазине, но что он звонил по телефону товарищу в Москву и тот обещал выслать этот сыр посылкой.
Ну, а бабушка Женьки Иванова вообще маленькая, тихая старушка, которая балует Женьку, говорит в нашем присутствии, что его тиранят родители (что совсем непедагогично), и учит Женьку немецкому языку. Совершенно непонятно, почему они так кричали друг на друга.
Тем временем вернулся Витин отец и с очень удрученным видом сказал Женькиной бабушке, что Александра Леонидовна просит ее извинить, так как она себя плохо чувствует. Женькина бабушка закивала головой: «Пожалуйста, пожалуйста» — и ушла.
Леонид Владимирович с очень странным выражением лица, по которому нельзя было понять — то ли он хочет заплакать, то ли рассмеяться, спросил у нас:
— Так каким это сигналом вы созываете своих брать- ев-разбойников?
У нас действительно есть свой сигнал. Мы свистим особым образом. Кроме нас, так никто в школе не умеет. Чтобы научиться так свистеть, нужно много тренироваться, хотя на первый взгляд свистеть так совсем несложно. Нужно сложить руки ковшиком настолько плотно, что если бы набрать воды, она не вылилась бы из рук, и подуть в щель, которая остается между пальцами. Тогда и получается особый звук — громкий, гудящий, словно ветер дует в пустую бутылку.
— Ну-ка погуди,— сказал папа Вите.
Витя взобрался на подоконник и погудел в форточку. Сигнал произвел магическое действие. Вскоре в дверь зазвонили и появились запыхавшиеся Сережа и Женька. Когда они увидели Витиного папу, они переглянулись и были уже совсем готовы задать стрекача, но Витин папа взял их за руки и повел в комнату.
— Вот что,— сказал он,— сегодня я в первый раз в жизни пожалел, что у нас не секут детей. Прежде всего давайте договоримся, что вы никому не расскажете об этой
35
истории. Чтоб Александра Леонидовна не догадалась... А впрочем,— добавил он с сомнением,— может, она первая будет смеяться?.. Но сначала все-таки скажите, как и зачем вы это сделали?
Сережа скромно молчал, а из очень сбивчивого Женькиного рассказа стало понятно, что Женькина бабушка решила встретиться с Витиной бабушкой, чтобы та помогла ей повлиять на Женькиных тираноз-родителей, которые не выпускают Женьку во двор, в то время как Женькина бабушка считает положительным влияние старших ребят на Женьку.
И тут Женька, понятно не без участия Сережи, сказал своей бабушке, что Витина бабушка плохо слышит и поэтому с ней нужно очень громко разговаривать, а затем эти типы отправились к Витиной бабушке и предупредили ее о том, что к ней собирается Женькина бабушка, но что она очень плохо слышит и разговаривать с ней следует погромче.
Так непонятный крик бабушек нашел наконец свое материалистическое объяснение, а Витя и я от этого объяс-* нения, да еще вспомнив, что именно кричали бабушки, чуть не лопнули. К тому же на лицах Женьки и Сережи было написано глубокое раскаяние, а в глазах светилась искренняя зависть к нам, которые присутствовали при этой сцене.
Витин папа как-то очень спокойно посмотрел на нас и тихо спросил:
— Вы слышали, что в тридцать седьмом году была война в Испании? Так вот, Александра Леонидовна там воевала, организовывала радиосвязь. Она большой специалист в этой области. А затем она воевала на финском фронте, а затем во время Отечественной войны организовывала связь с Большой землей для наших разведчиков и партизан и попала в один из самых страшных немецких лагерей, в Равенсбрук. Она — инженер-полковник и награждена двумя орденами Красного Знамени, и двумя Отечественной войны, и двумя Красной Звезды, и многими медалями.
Мы молчали.
— Ладно, идите,— сказал Витин папа устало. Но вдруг улыбнулся, озадаченно потянул себя за бороду и спросил: — Но как вы все-таки решились на такое?..
Глава шестая
«Три мушкетера» мне нравится. Хорошая книжка. Но «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон», по-моему, просто скучно читать. Я.пробовала и не смогла прочесть до конца. Но Витя читал все эти книжки по многу раз и знает их почти на память. Вообще достаточно, чтобы в книге кто-нибудь дрался на шпагах, и Витю от нее уже не оторвешь. Это у него профессиональное. Папа как-то говорил, что парикмахеры ищут в газете статьи о парикмахерах, сапожники — о сапожниках, а писатели — о писателях. Так, очевидно, и Витя.
Витя уже третий год два раза в неделю ходит в школу фехтования при Дворце спорта. Я однажды побывала на соревнованиях, в которых Витя принимал участие. Мне эти сражения на рапирах не понравились, хотя Витя и вышел победителем. Во-первых, не видно лиц — сражаются два манекена в сетчатых масках. К тому же они как собаки на поводке — за ними тянется электрический шнур, и как только один притронется к другому рапирой, у судьи загорается лампочка. А во-вторьдх, это какой-то несовременный вид спорта. Ну кому сейчас придет в голову защищать себя при помощи шпаги! Нет, уж если бы я занималась спортом, то я изучала бы бокс или, еще лучше,— самбо. Чтобы уметь постоять за себя в любых обстоятельствах.
Но сегодня я переменила свое мнение о фехтовании.
Все, или почти все, наши неприятности бывают у нас, как правило, из-за Сережи. Из-за Сережиной привычки устраивать всякие шуточки. Недавно Сережа сказал нам, что у него есть какой-то неродной дядя, а у этого неродного дяди есть какая-то знакомая, а уже у этой знакомой есть то ли бабушка, то ли внучка, которая замужем за каким-то дядей, у которого есть металлический натрий. И что натрий этот обещан Сереже, если он предъявит в дневнике не меньше трех пятерок. А так как он предъявил четыре пятерки, причем одну из них по поведению, то скоро у нас будет столько натрия, что мы его сможем мазать на хлеб вместо масла.
Вначале мы решили, что это обычный Сережкин треп, но вчера он заявил, что идет за натрием и чтоб мы его ждали. Вернулся он без натрия и без всяких других приобретений, если не считать приобретением синяк на правой скуле и куртку, измазанную грязью и кровью.
37
Сережа рассказал, что получил натрий в небольшой аптекарской бутылочке с притертой пробкой, под слоем керосина, потому что на воздухе натрий разлагается. Натрия в ней было немного, «но все равно жалко».
Когда Сережа возвращался с натрием, начался дождь. Сережа остановился под навесом огромного, такого же, как наш, соседнего дома. Это, вернее, не навес, а такой бетонный козырек, который огибает весь дом. Недалеко от Сережи стояли ребята, которые там живут. Я их знаю — это большие ребята, восьмиклассники, а один, кажется, уже даже в техникуме. Один из них, Петька,— мы его знаем, он драчун и задира — сначала вытолкнул Сережу под дождь, а потом стал его щелкать по голове. Сережа отошел в сторонку, незаметно вытащил из флакона кусочек металлического натрия и бросил этот кусочек под ноги Петьке. Когда перед Петькой затрещал и покатился огненный шарик, он с перепугу закричал: «Шаровая молния!» Но другие ребята заметили, как Сережа что-то бросил. Они схватили Сережу. И Петька отобрал у него флакон с натрием.
— Ничего,— сказал Витя.— Петька еще пожалеет об этом. Пойдем в ихний двор. Пойдешь с нами? — спросил он у меня.— Не бойся. Девочку они не будут трогать.
Хотя я точно знала, что в этом случае никто не будет считаться с моим полом, я сказала, что пойду.
На следующий день после школы мы отправились во двор, где живут эти ребята. Там такая детская площадка с песком в ящиках, с деревянной горкой, и огорожена она забором. Утром там играют дети из детского сада, а вечером собирается Петькина компания. Они там курят и некрасиво ругаются. Я сама слышала.
Я заметила, когда мы пошли, что в руках у Вити тонкая тросточка с выжженным на ней рисунком и надписью «Привет из Кисловодска».
— Почему ты ходишь с палочкой? — спросила я у Вити.
Он ответил, но каким-то неуверенным тоном, что подвернул ногу. Я считаю, что мальчишкам и вообще всем людям нужно давать путь для отступления. Поэтому я сказала:
— Так, может, не стоит ходить?
Но Витя ответил:
— Нет, нет, пойдем. Это не имеет никакого значения.
Наша походная колонна выглядела довольно интересно:
38
впереди шел Витя, чуть прихрамывая и опираясь на палочку, за ним немного слева — я, шагов за пять за ним — Сережа, а уже совсем сзади — Женька Иванов.
Мы вошли во двор и направились к детской площадке. Там сидел на детской качалке этот Петька, против него сидел длинный и худой мальчик, которого я не знала, а еще два мальчика из Петькиной компании играли между собой в футбол маленьким желтым мячиком.
«Четыре на четыре»,— подумала я, хотя не была уверена, что мы вчетвером справились бы с одним Петькой.
— Подождите меня тут,— сказал Витя и пошел за забор, а мы остались снаружи.
— Отдай натрий,— сказал Витя и оглянулся на нас,— а то плохо будет...
— Кто это тут вякает? — сказал в ответ Петька.— А ну, брысь отсюда!
Он наклонился, зачерпнул в горсть песок и швырнул его в лицо Вите. Витя от неожиданности прикрыл лицо рукой, и тогда Петька выпрыгнул из своей качалки и стукнул Витю кулаком в грудь, да так, что Витя сел на землю.
Сережа бросился к воротцам, но тут Витя вскочил на ноги... И произошло самое настоящее чудо. Такого я не видела даже в кино.
Тоненькая тросточка, которую Витя держал в руке, замелькала в воздухе так, словно у Вити было сто рук и сто тросточек. Петька отскочил от Вити, а те мальчики, которые играли в футбол, бросились Петьке на помощь. Но Витя ткнул одного тросточкой в живот, а другого тоже в живот и в плечо и снова принялся за Петьку и за того второго, который сидел на качалке и не успел встать. И тогда Петька с криком: «Я тебе покажу!.. Я сейчас милицию позову!..» — бросился наутек, а затем через забор стали перепрыгивать и убегать остальные ребята.
Витя остался на площадке один. Бледный и веселый, он сказал нам:
— Боюсь, что все-таки пропал наш натрий.
Сережа, который даже приплясывал от удовольствия,
ответил, что за такое зрелище не жалко натрия.
Мы пошли назад. Теперь мы шли тесной группой, и Женька Иванов то забегал вперед, то пристраивался сбоку возле Вити, который, чуть прихрамывая, чуть опираясь на свою тросточку — я уверена, что прихрамывал он нарочно,— всем своим видом подчеркивал, что ничего осо-
39
бенкого не произошло, что сам он не видит никакого героизма в том, что победил четырех мальчишек, каждый из которых сильнее его.
Странное дело — девчонки из нашего класса много говорят о любви, а Таня Нечаева и Вера Гимельфарб уже даже целовались с мальчишками. И когда Таня Нечаева после уроков в пустом классе целовалась с Борькой Сафроновым из 8-го «Б», это увидела уборщица и позвала завуча, и был страшный скандал, а потом наша русачка Елизавета Карловна — она у нас руководитель класса — провела с нами беседу на тему «Половое воспитание» и сказала, что Чехов писал, что нельзя целоваться без любви, или нет, не Чехов, а Николай Островский. А Чехов писал, что в человеке все должно быть красиво, хотя, по-моему, это неправильно, потому что если у Веры Гимельфарб кривые ноги, так что же ей, не жить на свете? Или оперировать их?..
Но дело не в этом. В общем, Елизавета Карловна говорила, что мы должны иметь девичью гордость, а мальчики должны иметь мужскую гордость, но когда мы спросили ее, что же все-таки такое любовь, она так и не смогла ответить, а опять говорила про Чехова, Николая Островского и Пушкина, про «Я помню чудное мгновенье», про «Я вас любил: любовь еще, быть может» и про другие стихи.
Но вот на днях какая-то тетя читала по радио лекцию и сказала, что любовь — это прежде всего «эффект присутствия», то есть человека, которого любишь, все время хочется видеть, хочется, чтобы он присутствовал. Если так смотреть, то выйдет, что я очень люблю и Витю, и Сережу, и Женьку Иванова, потому что я постоянно хочу их присутствия и мы постоянно вместе.
Однако с мальчишками я никогда в жизни не стану целоваться. Я вообще не люблю целоваться, мне это не нравится, и никакой особенной любви, про которую пишут в книгах, ни к Вите, ни к Сереже, ни тем более к Женьке Иванову я никогда не ощущала. И все-таки сегодня, когда мы с видом победителей возвращались к себе со двора чужого дома и не хватало только оркестра и торжественного марша, я вдруг подумала, что мне неприятно, что Витя в последнее время часто разговаривает с Леной Костиной. И о чем они могут говорить?
Лена — круглая отличница, лучшая ученица в нашем классе. И, кроме того, она самая красивая девочка, может
40
быть, не только в классе, но и во всей школе. У нее лицо как на иконах, и черная коса, и темные глаза, очень большие, честное же слово, каждый глаз у нее, как рот, и длинные, загнутые кверху ресницы, как у женщин на мыльных обертках.
Но она не интересуется ни химией, ни историей, и когда с ней разговариваешь, так уже через пять минут на тебя нападает страшная тоска. Разговаривать с ней еще скучнее, чем с Елизаветой Карловной. Так о чем же с ней говорит Витя?
И когда я думала обо всем этом, я представила себе лицо этой Лены, и то, что она отличница, и то, что Витя один справился с целой компанией сильных мальчишек, и что он разговаривает с Леной, и что у его отца есть автомашина «Волга», и то, что он умеет водить автомашину, что я некрасивая, и это я выдумала, что у меня какие-то особенные глаза,— глаза у меня самые обыкновенные...
И мне стало так грустно, так захотелось плакать, что я буркнула: «Я уже иду» — и убежала домой. Дома я сняла только пальто и туфли и прямо одетая легла на постель. Я немного поплакала, а потом написала стихи:
Сюда частенько приходят выпить,
Консервные банки лежат на дне.
Течет ручей грязноватый — Лыбедь,
А раньше был он таким, как Днепр.
Каким же тогда был Днепр?
Ревут бульдозеры громче танков,
Ровняют пласты земли.
В серой воде, словно падший ангел,
Желтый кленовый лист.
Он светел и золотист.
Я не знаю, почему я написала такие стихи, но я подумала, что это стихи о любви. В них ничего такого нет, но, может быть, так и пишут стихи о любви?
41
Глава седьмая
Мой папа работает в газете. Он называет себя литра- бом. Это сокращенно, а в действительности его должность называется литературный работник.
Вообще на всякой работе, очевидно, бывает много своих особенных слов. Даже у нас в школе много таких слов, которых другие люди не знают. Вот, например, у нас ругаются словом «кануздра», а никто не знает, что это такое. Я смотрела в словаре у папы — там такого слова нет. И ребята из других школ не знают, что так можно ругаться. Но мы-то все, начиная от первоклассников, знаем, что кануздра — это вроде свинья, или сволочь, или еще что-нибудь похуже.
Но особенно много своих слов бывает в редакции. Вот, например, в редакции есть должность «свежая голова». Это человек, который дежурит в типографии и уже ночью, самым последним, «на свежую голову» читает газету, чтобы не пропустить какую-нибудь ошибку.
Когда папа дежурит «свежей головой», он возвращается домой очень поздно, среди ночи. Но зато на следующий день он свободен, и поэтому я очень люблю, когда он «свежая голова». Жалко только, что это редко бывает — два раза, а то и раз в месяц.
В такой день, как только я прихожу из школы, мы с ним быстро едим вдвоем — мама еще на работе,— а потом отправляемся гулять. Программу прогулки мы составляем за день, а то и за два дня до его дежурства. Мы долго обсуждаем эту программу, а потом папа печатает ее на машинке и мы ее вешаем на стенку.
На завтра у нас такая программа:
1. Обед в ресторане «Динамо». В меню холодный язык под хреном, судак, зажаренный в тесте, по двести граммов мороженого, а супа не брать, если нам его даже предложат бесплатно.
2. Поездка на метро на станцию «Днепр». Испить «шеломами» воды из Днепра. Взять с собой «шеломы» и плащи на случай дождя.
3. Посещение зоологического музея университета и осмотр там коллекций бабочек, а также скелета динозавра.
Гулять с моим папой очень здорово, и мы часто ходим с ним всей нашей компанией. Вот, например, мы побывали с ним в Софии, и он так рассказывал нам о князе Ярославе
42
Мудром, который построил эту Софию, не сам, понятно, построил, но под его руководством, о Киеве того времени, что мы все слушали его с раскрытыми ртами, и я им просто гордилась.
Но в нем много мальчишеского, и иногда он хулиганит, как школьник. В прошлый раз я была очень недовольна этим и даже боялась, что нас арестуют.
Сережа, Витя, Женька Иванов и я пошли с ним в Ботанический сад. Сначала мы пошли за экскурсоводом с группой экскурсантов. Но экскурсовод рассказывал очень скучно, и мы отстали от него, съели по порции мороженого и выпили из автомата по стакану воды с сиропом, а потом папа сказал, что он сам будет нашим экскурсоводом. И он начал останавливаться перед первыми попавшимися деревьями, например, перед обыкновенным кленом, и объяснять, что это дерево по-латыни называется «гаудеамус игитур», хотя я-то знаю, что это первые слова студенческой песни, которую папа часто поет, и обозначают они «радуйтесь, молодые». Затем он сказал, что из листьев этого дерева племя пигмеев мумбо-юмбо готовит опьяняющий напиток, под названием «водька», что кора используется для изготовления ценных украшений для женщин, а из древесины готовят противотанковые снаряды и стулья для заместителей министров, настолько она прочна и тяжела. А вокруг нас стали собираться люди, и я увидела, что их становится все больше и больше, и почувствовала, что это может плохо кончиться.
Но особенно я испугалась, когда перед обыкновенной акацией, подражая скучному голосу экскурсовода, папа стал говорить, что это дерево анчар, о котором Пушкин написал свое знаменитое стихотворение:
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит И тигр нейдет: лишь вихорь черный Па древо смерти набежит —
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
43
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.
Какая-то женщина, из тех, которые всегда и всюду требуют жалобную книгу, стала кричать, что это безобразие, почему дерево не огородили и не сделали надписи.
Но папа ответил, что хорошее влияние нашей почвы перевоспитало дерево, и оно теперь больше не ядовито, а используется в воспитательных целях, как декоративное растение. А уже после этого папа сказал, что он совсем не экскурсовод и что он просто в частном порядке делится своими небольшими знаниями в области ботаники со своими многочисленными детьми.
— А почему вы выдаете себя за экскурсовода?
— Это я нечаянно,— ответил папа, и я потащила его за рукав, и мы бы благополучно ушли, если бы не любовь Сережи ко всяким глупым шуточкам.
Сережа где-то достал баллончики со сжатым газом и пристроил в камеру от мяча приспособление, чтобы пробивать крышечку такого баллончика у себя под рубашкой.
Когда эта тетя стала кричать на папу, Сережа незаметно сдавил рукой свое приспособление и вдруг на глазах у присутствующих стал пухнуть — у него вздулся огромный, как шар, живот.
Он стоял прямо против этой тетки, а она смотрела, как он раздувается, и вдруг стала кричать:
— Мальчик лопается! Мальчик лопается!
А потом, когда увидела, что Женька Иванов — они с Сережей заранее прорепетировали этот номер — выставил вперед над головой пальцы, как рожки, и бросился, наклонясь, на Сережин живот, чтобы боднуть его, тетка закричала: «Ой, они все тут сумасшедшие!» — и бросилась наутек. А я схватила папу и Женьку за руки и потащила их в другую сторону. Мы забрались в пустую аллею и так там хохотали, что нас действительно можно было принять за сумасшедших.
Конечно, у папы бывают и обыкновенные выходные дни, как у всех людей, но это совсем не то, что после дежурства «свежей головой». Не бывает таких приключений, таких неожиданностей.
Сегодня папа дежурит. А с мамой происходит что-то странное. Взрослые очень ненаблюдательны. Они слишком заняты собой, а кроме того, они очень часто относятся
44
к детям, как к полоумным. Мне не раз случалось слышать, как взрослые при детях разговаривают друг с другом намеками, а детям все понятно. Или говорят то, чего не следовало говорить, и вдруг спохватываются: «Ах, здесь ребенок!» А ребенок никогда не станет говорить или делать при взрослых то, чего не следует, никогда не забудет о присутствии взрослого. И всегда заметит в поведении взрослого какую-нибудь странность. Да и можно ли считать ребенком девочку или мальчика тринадцати лет, о которых взрослые постоянно твердят: «Вот мы в вашем возрасте...»
Сегодня вечером мама надушилась немецкими духами с унизительным названием «Последний шанс». Это какие-то очень дорогие духи, душится мама ими редко, а пахнут они, несмотря на название, в самом деле очень приятно. Надела она и новые, ни разу не надеванные чулки, и светлые туфли, о которых она сама говорила, что они ей жмут и что она их никогда и ни за что не наденет. Кроме того, она надела сначала темно-синий шерстяной вязаный костюм — он называется джерси, потом сменила его на новое зеленое шерстяное платье, а потом снова надела костюм.
Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять, что мама готовится к чему-то важному. А когда она спросила у меня, почему я не пойду погулять, мне стало ясно, что к нам должен прийти какой-то человек, что мама этим взволнована и что она не хочет, чтобы я с ним встретилась. Кто бы это мог быть?
У меня мелькнула мысль сказать, что у меня болит голова и что я поэтому не хочу гулять, но я представила себе, как заволнуется мама, которая очень не любит, когда я болею, и поставит мне термометр и заставит принять аспирин и лечь в постель, и спросила, когда мне вернуться.
— В девять. Ровно в девять,— сказала мама.— Только,— решила она вдруг,— переоденься. Надень серую юбку и красный пуловер, который я купила тебе в Ленинграде.
Я поняла, что мне предстоит встретиться с человеком или с людьми, которые придут к маме, и переоделась.
Во дворе я никого не застала, никого не нашла и на улице. И я решила просто немножко побродить. Очень приятно ходить по осеннему Киеву. У нас в самом деле город-сад. И какой-то поэт правильно написал:
В синеве каштаны, липы, клены,
Лист каймой очерчен золотой.
45
Киев, Киев, город наш зелены",
Тронутый осенней красотой...
А кроме того, я люблю рассматривать витрины магазинов, особенно когда там выставлены часы, бинокли, фотоаппараты. И еще транзисторы. Вообще-то мне не очень нравится, когда идет по улице человек и у него из брюха раздается музыка, потому что на брюхе транзистор, или когда включают транзисторы в троллейбусах или в парках. Но мне самой очень бы хотелось иметь транзисторный приемник. С таким крошечным наушником, как это теперь делают. Чтобы слушать его одной и никому не мешать.
Я шла от магазина к магазину, и возле центрального гастронома со мной было неприятное происшествие. Я посмотрела на витрину и отвернулась, чтобы идти дальше, как вдруг увидела, что из дверей магазина вышел и идет прямо на меня тот старик, который забрал мой фотоаппарат.
Витя был прав. На этот раз плащ на нем был расстегнут, и я увидела, что под плащом нет даже рубашки, только на груди свалявшиеся седые волосы. Мне показалось, что старик этот меня узнал, и я очень испугалась.
С ужасом я подумала, как плохо все-таки, что милиция допускает, чтобы по городу ходили такие отвратительные старики, и я как-то замерла и вся сжалась и не могла даже сдвинуться с места. Но он, наверное, даже не видел меня. Он прошел мимо, совсем рядом. От него плохо запахло, и он бормотал ругательства. И вдруг он обернулся, сказал: «Здоров, сынок» — и сел прямо на асфальт возле фонаря, а затем лег.
Асфальт был очень холодным. Я понимала, что старика этого нужно поднять, но боялась. Потом я подумала, что, может быть, он умер, и испугалась еще больше. И я стала говорить прохожим: «Человек упал. Надо позвать «скорую помощь». Возле меня остановилась еще какая-то женщина в ватнике и с. кошелкой, и мне уже не было так страшно. Двое прохожих — один постарше, в шляпе и с тростью, а другой помоложе, с портфелем,— стали поднимать этого старика, но он был жив, потому что он начал плохо ругаться и кричать, что он никуда не пойдет. Они его все-таки подняли на ноги, но он снова повалился на тротуар. Тут подошел милиционер и сказал, что отвезет этого старика домой.
— Я не пойду в вытрезвитель! — стал кричать неожи¬
46
данно пришедший в сознание старик, но милиционер помог ему встать, стал его уговаривать и остановил проезжавшую машину.
Старик сопротивлялся, но милиционер его все-таки посадил в машину и сел рядом с ним, а я пошла домой.
И странные, горькие мысли были у меня в голове. Ведь этот старик, этот пьяница, который настолько утратил человеческие черты, что запугивал меня и забрал мой фотоаппарат и валяется на улице, на холодном асфальте, этот человек был когда-то мальчиком, школьником, таким, как Витя или Сережа, и тоже слушал на уроке про Лермонтова или Николая Островского. И учил на память стихи Пушкина, и читал «Как закалялась сталь». Но если человек знает стихи Пушкина и читал «Как закалялась сталь», он ведь не может после этого забрать чужую вещь, пьянствовать, ругаться и валяться на асфальте. Неужели нет таких книг и стихов, прочитав которые, человек понял бы, как все это плохо, и навсегда отказался от этого?
И неужели Витя, или Сережа, или Женька Иванов могут когда-нибудь стать такими, как этот старик? Не может этого быть. Потому что тогда бы не стоило ни жить, ни учиться, ни работать.
Я вернулась домой в очень плохом настроении. Мама спросила, приготовила ли я на завтра уроки, и я ответила, что приготовила, хотя я не сделала домашнего задания по физике. Но мне не хотелось готовить сейчас домашнее задание, и я решила, что спишу его завтра в школе у Сережи.
Как только я вошла в комнату, я сразу поняла, что человек, которого ждала мама, не пришел: на столе в стеклянной вазе остались яблоки, груши и виноград, так же красиво уложенные, как и перед моим уходом,— мама очень красиво умеет складывать фрукты, ни в одной витрине они не лежат так естественно и небрежно.
Мама читала книжку, которую я уже давно прочла,— «Консуэло» — и прислушивалась к двери, а я взяла старый номер журнала «Юность», и мы обе сидели и читали. В половине десятого мама сняла свой шерстяной костюм и надела домашнее платье из черного вельвета. Есть у нее такое платье, оно длинное и немодное, но маме в нем лучше всего, она в нем похожа на герцогиню.
— Ну, иди умойся и ложись спать,— сказала мама.— Почисть как следует зубы.
Я, как всегда перед сном, умылась под тепленьким
47
душем и почистила зубы и пошла спать с тяжелым, гнетущим чувством, которое, как я пони.маю, может толкнуть человека на са.мый неожиданный поступок — даже на пьянство, даже на предательство, с чувством, что все в этом мире бессмысленно и бессвязно.
Мне приснились странные стихи:
Дождь с отчаяньем бьет кулаками в окно —
Так бывает весной.
Люди тихо встают, друг на друга глядят И уходят под грохот дождя...
Мне часто снятся стихи, но я их обычно не запоминаю, а сегодня запомнила, потому что проснулась от звонка в дверь.
Я подумала, что уже утро, но не открыла глаза, а стала повторять про себя приснившиеся мне стихи, пока не выучила.
Я услышала в передней мужской голос:
— Извини, что так поздно. Не смог раньше выбраться...
И мама в ответ:
— Ничего, я думала, что ты уже не придешь. И оделась по-домашнему. Пойдем в комнату. Только разговаривать нам придется тихонько: Оля спит.
— Так рано? — спросил уже в комнате грубым шепотом мужской голос.
— Половина одиннадцатого. Она в первой смене.
— В шестом классе?
— Нет, в седьмом. Садись, пожалуйста.
— А где твой муж?
— Он сегодня дежурит. В редакции.
— Жалко. Значит, я с ним не встречусь. Завтра я улетаю. А хотелось бы с ним познакомиться. Посмотреть, на кого ты меня променяла.
— Ты до сих пор летаешь? — спросила мама.
Они оба перешли с шепота на обычный разговор.
— Нет. Теперь я пассажиром.
Я лежала, закрыв глаза и зажав сложенные ладони между коленок, как во сне, и не знала, снится ли мне этот разговор или он происходит на самом деле. Но когда мужской голос сказал: «И так далее, и так далее», я поняла, что приехал мой отец. У меня нет к нему никаких родственных чувств, и папой я называю Николая Ивано¬
48
вича, которого очень люблю и который для меня очень хороший папа, но все-таки мне было интересно, какой он, мой отец, похож ли он на меня, почему он нас оставил.
— Семья у тебя есть? — спросила мама.
— Да. Жена. Двое детей. Сыновья.
— Зачем ты приехал?
— Я тут в командировке. Ну, и хотел повидать тебя. И дочку. У нее моя фамилия?
— Нет. Она — Алексеева.
— Что вы ей сказали обо мне?
— Что ты погиб. В авиакатастрофе.
— Это плохо, Лена,— серьезно и спокойно сказал мой отец.— Это очень плохо. Сначала ты обманула меня. Затем ты обманула девочку.
— Я не могла ей сказать. Пусть сначала подрастет.
— Сказать дочке, что ее отец, который перед тобой ни в чем не виноват и от которого ты ушла к другому, погиб,— это значит пожелать ему этого. Но я не суеверен... Как относится к Оле твой муж?
— Хорошо относится. Он не только мой муж, но и ее отец. На протяжении десяти лет. А ей — тринадцать.
Значит, меня обманывали. Для моей же пользы. Детей бьют для их же пользы. Чтобы они были хорошими и, когда станут взрослыми, правильно воспитывали и не били собственных детей. Детей обманывают для их же пользы. Чтобы, когда они вырастут и станут взрослыми, они хорошо знали, что обманывать нельзя.
И горько мне было думать, что это не мой отец, которого я и не знаю, оставил нас с мамой, а мама со мной оставила его и что мой папа не был таким человеком, какой, как я себе представляла, в трудную минуту помог нам, поддержал нас, сказал, что не допустит, чтобы моя мама осталась без мужа, а я без отца, а был тем самым человеком, из-за которого моя мама ушла от моего отца... Я много раз читала о таком в книгах, но никогда не думала, что столкнусь с этим сама.
Конечно, правильнее всего было бы сейчас подняться, надеть платье, выйти из-за занавески, которая отгораживала меня от этих людей, и сказать им: «Я все слышала. Я не спала. Я еще прежде об этом догадывалась. Меня обманывала мама. Меня обманывал папа. Но ведь и вы, родной мой отец, меня обманывали, если столько лет молчали. Значит, я вам совершенно не нужна...»
Но я понимала, что этого нельзя сделать, что я г:оже
49
втянута в эту странную игру, которая больше всего напоминала мне нелепое развлечение, какому предавались мы в детском саду: одна из девочек читала стишок, а другие ей отвечали. Стишок был такой:
Барыня прислала сто рублей:
Что хотите, то купите,
«Да» и «нет» не говорите,
Белого и черного не покупайте...
«И так далее, и так далее», как говорит мой отец. Точно так и в человеческой жизни — кажется, что можешь делать все, что хочешь, а оглянешься, и выяснится, что и того нельзя, и этого не следует.
А они тем временем разговаривали, как совершенно чужие люди, о каких-то давних общих знакомых, о том, как я учусь, и мама сказала, что на «отлично», как будто что-то изменилось бы, если б она сказала правду. А он говорил, что у его мальчиков тройки. И я уже не знала, так ли это, а может быть, они отличники и он говорит это для того, чтобы маме было приятно, что у нее дочка — отличница, а у него мальчики — троечники.
Я им просто не верю. Все, что они говорят, нужно принимать с большой поправкой, со скидкой. И я подумала, что если бы люди так поступали не в духовной, а в материальной области, то продавцы в магазинах взвешивали бы товары не на весах, а просто на ладони, деньги бы за это платили в крепко запечатанных и плотно завязанных пакетах, а на книгах бы заклеивали названия и авторов...
И под эти разговоры о том, где и кто был в отпуске, и какая температура в июне в Новосибирске, где живет теперь мой бывший отец, и о том, какие полы лучше — паркетные или покрытые пластмассовой плиткой, я заснула.
Утром я проснулась первой — папа поздно встает после дежурства. Я пошла на кухню с чувством, что в комнате было что-то странное. И вдруг сообразила: в вазе лежали все яблоки, груши и виноград так, как их с вечера уложила мама. Их никто не тронул. Им было не до этого.
Глава восьмая
Я все это видела. Своими глазами! Я ничего не придумала. Сначала это был дом с белыми колоннами у входа, со стеной, увитой плющом или диким виноградом, а слева рос один кипарис или тополь — издали нельзя было разобрать. Затем дом повернулся как бы боковой стеной, и за ним открылась широкая аллея, обсаженная деревьями и кустарниками, а справа от аллеи — канава. По аллее поехала старинная карета, она ехала от меня, и мне была видна только ее задняя часть. Но вот карета повернула вправо, начала вытягиваться и превратилась в автомашину — длинную, черную, лакированную, похожую на «Чайку», только длиннее. Затем появился деревенский колодец с журавлем, а мимо него прошли две коровы.
Я подвинула голову, и все исчезло. А потом, когда я попробовала найти точку, с которой все это было видно, наш физик Борис Борисович сказал:
— Алексеева, тебе следует проветриться. Выйди из класса, походи по коридору и вернись. Может быть, после этого наука не будет тебя так усыплять.
В классе засмеялись, хотя в том, что сказал наш учитель физики, по-моему, не было ничего смешного. Хорошо было бы, конечно, в самом деле выйти из класса, но физик говорил это не для того, чтобы я вышла, а для того, чтобы я подняла голову с парты. И я действительно села ровно.
Конечно, мне следовало бы после урока на переменке спросить у Бориса Борисовича, что же такое со мной сейчас происходит. Но он мне поставил двойку и вопрос мой мог принять за насмешку. А случай был и в самом деле странный.
Я не плакса. Но сегодня, когда физик мне поставил двойку за то, что я не сделала домашнего задания,— у меня было такое настроение, что я просто забыла списать его у Сережи,— я почувствовала, что у меня закапали слезы. Тогда я наклонилась над партой и положила голову на руку. Нечаянно я посмотрела на мокрое выпуклое пятнышко, которое получилось на черном лаке парты, куда капнула слеза, и вдруг увидела, как ото пятнышко стало меняться, словно маленький цветной экран. При этом картинки, которые я увидела, получались не по моему желанию и сменяли одна другую без моего участия, как в кино. Я думаю, что это явление имеет физическое объяснение, что я невольно двигала глазом, и при этом световое
51
пятнышко в капельке соленой воды на черном фоне создавало какое-то подобие разных картин, а я уже воображала их дальше. Люди в рисунке обоев или в облаках видят то людей, то животных, то танцовщиц, то самолеты.
Прежде я никогда не плакала, если получала двойку. Чаще всего я получала двойки за сочинения. И не за ошибки — я пишу грамотно и за диктовки у меня всегда пятерки,— а за содержание. У меня всегда плохое содержание в сочинениях. Я не умею их писать и пересказываю то, что прочла в книге, а когда я попробовала придумать по-своему, то получилась вообще какая-то глупость, и русачка сказала, что мое сочинение написано по принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядька».
Но я понимаю, что двойки ни для одного человека не проходят бесследно. Они унижают человеческое достоинство. И я тоже плакала, не потому, что получила двойку по физике, а потому, что не сделала урока и забыла переписать его у Сережи и что жизнь у меня складывается так плохо и так неудачно.
Мне очень многое нужно было обдумать. Жалко все- таки, что у человека нет крыльев. Я бы встала сейчас на подоконник, взмахнула большими темно-синими полупрозрачными крыльями и медленно летела бы по осеннему небу. Навстречу мне дул бы ветер, у меня бы слезились глаза, и я бы плотно закрыла рот, и мне бы совсем иначе, совсем по-другому думалось... И я бы тогда придумала что-то очень умное и правильное о том, как я должна жить и как должна относиться к своей маме, и к своему папе, и к своему родному отцу, которого я не знаю и не люблю и который не знает и не любит меня.
Я не уверена, что такое сравнение подходит, но когда я училась во втором классе, меня послали в детский санаторий в Святошино — это под Киевом,— и я там пробыла целых два месяца. И когда я вернулась домой, мне наша комната показалась очень маленькой, такой маленькой, как коробочка. Я сказала об этом папе и маме, и они очень смеялись. Там у нас в санатории были большие палаты, в которых мы спали, и большие веранды, где мы играли.
Мой родной отец тоже оказался совсем не таким великаном, как я это воображала, а человеком обыкновенного роста, может быть, только чуточку выше папы, с очень полным красным лицом и очень белыми зубами. Он догнал меня на улице, когда я шла в школу.
52
— Подожди, девочка,— сказал он.— Ты Оля Алексеева?
— Да,— ответила я.— Здравствуйте.
Я его узнала по голосу.
Я так растерялась, что не остановилась, а по-прежнему шла в сторону школы, а он шел рядом со мной.
— Я через час улетаю,— сказал мой родной отец.— Да и тебе нужно в школу. Времени у нас совсем немного, а мне хотелось с тобой поговорить.
Он остановился, взял меня за плечи, повернул к себе и посмотрел в глаза.
— Тебе говорили, что твой отец погиб?
— Да, говорили.
— Он не погиб, Оля...
— Я знаю,— сказала я.— Я не спала. Я слышала все, что вы говорили с мамой. Я еще прежде догадывалась об этом.
Мой отец был неприятно удивлен моими словами.
— Ты что же... подслушивала? — спросил он брезгливо.
— Нет. Я просто не спала.
— Все равно нехорошо.
— Что же, мне надо было уши заткнуть, что ли? — сказала я грубо.
— Иногда не мешает и заткнуть. Ты должна была сказать, что не спишь.
— В следующий раз я скажу,— буркнула я неожиданно дая себя.
Мой отец растерянно и виновато заморгал глазами.
— Ты не сердись,— сказал он медленно.— Ты уже большая девочка. И еще не раз ты убедишься, что жизнь — очень сложная штука.
Я в этом уже убедилась. Я не понимала только, к чему он все это говорит. Взрослых часто трудно понять. А иногда и совсем невозможно.
— Я очень уважаю и очень люблю твою маму... Хотя если ты не спала и слышала разговор, то понимаешь, что она меня когда-то очень обидела. Но я ее не осуждаю.
«Чего он хочет? — думала я.— Зачем он все это говорит?» И сказала:
— Извините, но я опоздаю в школу.
— Да, да, ты можешь опоздать,— пробормотал мой отец.— Короче говоря, я... вот... что..! Я хотел спросить: не обижает тебя отчим? Ты уже большая девочка и по¬
54
нимаешь — бывает по-всякому... И можешь уже сама многое решать... Может, надумаешь переехать ко мне... Я живу в Новосибирске. Так в любую минуту...
— Нет,— сказала я.— Папа меня никогда не обижает.
Мне почему-то вдруг показалось очень обидным, что он
о моем папе сказал «отчим».
— Ну что ж,— сказал мой отец.— Тем лучше. И все- таки помни: я всегда приму тебя, всегда помогу...
Нужно было сказать «спасибо». Нужно было улыбнуться. В конце концов, мои родители плохо поступили с моим родным отцом, и, в конце концов, это совсем не дело, что даже поговорить со своей дочкой он может только по дороге в школу.
Но я не улыбнулась и не сказала «спасибо». Может быть, он очень хороший человек, но он мне не нравился, и я радовалась, что у меня другой папа. Если бы можно было выбирать себе родителей, то из всех людей, которых я знаю, я выбрала бы себе в папы только моего.
— Ну что ж, Оля, до свидания,— сказал мой отец, так и не дождавшись ответа.— Жалко, что встреча у нас получилась такая горбатая... Ну, да уж тут ничего не поделаешь. А маме лучше не говорить, что мы виделись... Не расстраивай ее напрасно. Однако смотри сама. И еще одно: вот мой адрес. Напиши мне. Да и прибереги этот адрес. Он еще может пригодиться... В жизни, знаешь, по-всякому случается.
Мы попрощались, он мне крепко пожал руку, и я пошла в школу, раздумывая о том, какая страшная угроза была в его последних словах, какие ужасные события должны произойти для того, чтобы мне понадобился этот адрес. Неужели он сам не понимал, что переехать в Новосибирск я могу, только если умрут мои родители, и сказать «в жизни всякое бывает» — это значит предусмотреть такую возможность. Нет, не прибавила мне хорошего настроения эта встреча.
И плакала я не из-за двойки, а из-за всего этого.
На переменке ко мне подошел Коля Галега, по прозвищу Самшитик. Он выше всех в классе и старше всех — он второгодник, но лицом он похож на первоклассника. Самшитиком его прозвали за тупость. Сначала его звали Дубом, но когда оказалось, что он не помнит как следует таблицу умножения, Витя предложил называть его Самшитиком — самшит еще тверже дуба.
Коля Галега спросил у меня, не хочу ли я обменять
55
марки на царские бумажные деньги, а когда я ответила, что не собираю ни марок, ни денег, сказал, что пересядет за мою парту. Мне теперь было все равно, и я сказала: «Садись».
В начале учебного года я сидела с Таней Нечаевой, но мы болтали на уроках, и Елизавета Карловна нас рассадила. Теперь я сижу одна на второй парте в крайнем ряду у окна. В нашем классе двадцать парт, а учеников только тридцать семь. Есть поэтому свободная парта и еще одно место, а Елизавета Карловна, наш классный руководитель, очень любит пересаживать учеников с места на место.
Следующий урок был русский. Коля сел за мою парту и оглянулся кругом с таким выражением, какое бывает на лицах у людоедов в иллюстрациях к детским книжкам — не посмотрит ли кто-нибудь на это косо,— а затем спросил у меня:
— Ты по утрам зарядку делаешь?
— Нет,— ответила я.— Не успеваю.
— А я делаю. С кирпичами вместо гантелей. Пощупай, какие бицепсы.
Я пощупала. Бицепсы как бицепсы. Вероятно, здоровые. Мне не с чем сравнивать.
— О,— сказала Елизавета Карловна, когда вошла в класс,— а Галега уже сел к Алексеевой. Подобное ищет подобного, как говорит пословица, двоечник — двоечницу.
Лена Костина захихикала. У нее очень красивое лицо и мелодичный голос, а смех неприятный, как у людей, которые смеются только тогда, когда им самим этого хочется, как бы сознательно, а рассмеяться непроизвольно, просто от всей души — не умеют.
— Ну что ж, сидите,— решила Елизавета Карловна,— по крайней мере, Галеге не у кого будет списывать контрольные.
И Елизавета Карловна стала нам рассказывать о риторических восклицаниях, риторических вопросах и риторических обращениях, а когда она говорит о литературе, можно услышать, как пролетает муха. У нас в классе почему-то нет мух, но если были бы, можно было бы услышать, как они летают, такая в классе тишина. Елизавета Карловна тогда совсем другая, она говорит совсем иначе, чем обычно, и ее маленькие, свинцового цвета глаза •. начинают светиться за стеклами очков, как звезды. И все ею любуются в такие минуты.
На переменке Коля загородил мне выход и сказал:
56
— Подожди. Я у тебя хотел спросить...— Он замялся.— Как ты относишься к фашизму?
— А какое тебе дело? — ответила я.
— Да нет, я ничего,— сказал Коля.— Я просто выменял на марки фашистский орден «Железный крест». Так я могу тебе его подарить.
— Мне не нужно,— сказала я.— Но при чем здесь фашизм?
— Да некоторым не нравится, когда орден фашистский. А я думаю — все равно. Ведь это коллекция. Так что же — вражеские ордена выбрасывать?
— Нет,— сказала я,— не нужно выбрасывать.
— А ты какую коллекцию собираешь? — спросил Коля.
— Консервных ножей,— ответила я.— Только не я, а папа.
— Брось, из консервных ножей коллекций не делают. А кто такой твой батя?
— Журналист. Он в газете работает.
— Зачем же ему консервные ножи?
Начался третий урок. Английский. Коля сидел рядом со мной и, прикрыв рот ладонью, шептал:
— А у меня батя — милиционер. А матя плетет сеточки.
— Какие сеточки?
— Ну, авоськи. Она в мастерской работает. Надомницей. Я ей помогаю. Тоже плету сеточки. И я тебе скажу, один секрет, который никому не говорил. Я тут только до весны. А весной убегу на Камчатку, там у меня дядька. Моряк. Я юнгой пойду. Хотя матю, конечно, жалко...
Я слушала Колин шепот и думала о том, какое большое доверие к человеку может вызвать полученная им двойка по физике.
Перед четвертым уроком — у нас была история — Коля, глядя не на меня, а на парту, негромко сказал слова, всю важность которых я поняла лишь позже, во время урока, когда я над ними как следует подумала и когда мне вдруг стало жарко в щеках и мокро в глазах.
Он сказал:
— А на уроках ты со мной не разговаривай. И не вертись.
Я с ним не разговаривала и не вертелась. У меня было такое настроение, что мне было не до разговоров. Это он все время разговаривал.
57
Коля помолчал, а когда вошел историк и все встали, он добавил негромко:
— А то они нас рассадят.
Весь урок Коля молчал, а когда Михаил Иванович сказал, что «древнерусские князья, несмотря на отдельные неудачи, все время расширяли древнерусское государство и в интересах феодалов все время облагали данью трудовое население», он прикрыл рот ладонью и тихо прошептал:
— Больше тебя никто не обидит. Никогда. Я убью, если кто тебя обидит. И плакать ты больше никогда не будешь.
Прежде мы возвращались из школы все вместе: Витя, Сережа, я и Женька Иванов.
Если у Женьки было пять уроков, а у нас шесть, то он все равно нас ждал и гонял пока в школьном дворе мяч или играл с пацанами в самую запретную игру «коды», когда столбиком на земле складываются полученные от родителей на завтрак монетки и их нужно перевернуть ударом особого битка, обычно екатерининского пятака.
Но в последние дни из нашей компании при возвра-' щении домой выпал Витя. Он говорил, что у него заболела тетка, что мама поручила ему навещать эту тетку после школы, но мы-то знали, что он просто уходит из школы с Леной Костиной и провожает ее по бульвару до дома, а потом они еще ходят возле ее дома взад и вперед. Но мы не сказали Вите, что знаем об этом: нам это было бы еще более неловко, чем ему.
Но сегодня и я откололась от нашей компании. Перед последним уроком Коля сказал:
— Я, понимаешь, сплел интересную сеточку. Не из ниток, а из лески... Из белой, голубой и зеленой. Батя говорит, можно на Выставку достижений народного хозяйства. Только я это не для мастерской, а для себя... В мастерской сеточки нитяные. Так вот, пойдем после школы к моему дому, я тебе ее вынесу — я сколько хочешь могу таких сплести, а потом я тебя назад к дому провожу. Если захочешь. Ты не опоздаешь, не бойся.
Я сказала Сереже и Женьке, которые меня ждали, что иду с Колей за сеточкой. Я очень боялась, что они скажут, что пойдут с нами. Но ни Сережа, ни Женька не спросили даже, за какой сеточкой. Они только не смотрели на меня, как не смотрят хорошие люди на человека, который врет. Я много раз замечала, что чаще стесняются и стыдятся не те, которые врут, а те, которые слушают.
58
Сережа и Женька ушли, вернее, не ушли, а тут бы больше всего подошло слово, которое они так часто употребляют, «смылись», незаметно исчезли, а я пошла с Колей в сторону, прямо противоположную моему дому.
Шел Коля молча, посапывая носом и глядя под ноги.
Я тоже молчала и не понимала, для чего я пошла с
Колей, зачем мне нужна эта /|\ &Hl>K A YlfcAH ОЬ
сеточка-авоська. И еще я думала о том, что меня ждет
папа, что он вчера был «свежей головой» и сегодня мы по нашей программе должны были пойти в ресторан, и какая это вкуснючая штука — судак в тесте с соусом тартар, что, как объяснил мне папа, означает адский. И что очень хочется есть. Но что все равно в ресторан мы не пойдем, потому что я получила двойку по физике, а у нас когда-то был договор, что если я получу двойку — прогулка отменяется. И что мне все равно не хочется гулять с папой, пока я сама не разберусь во всем этом.
И еще я думала о том, что Витя разговаривает сейчас с Леной Костиной, и, может быть, он уже выдал ей нашу тайну, хотя мы поклялись никому не рассказывать, для чего нам нужны реактивы.
— Ты меня тут подожди,— нерешительно сказал Коля, когда мы подошли к его двору. Очевидно, он не хотел, чтобы его увидели с девчонкой.— А если хочешь — пойдем к нам. Только тебе будет неинтересно.
— Нет, я подожду,— ответила я.— Только ты недолго.
— Я сейчас же,— обрадовался Коля и побежал во Двор.
Он действительно быстро вернулся, вынул из кармана и дал мне сжатую в комок авоську, сплетенную из пластмассовых ниточек. Она у меня в руке распрямилась. Это и в самом деле была удивительно красивая авоська, выплетенная, как кружево, и тона были здорово подобраны — белые, голубые и зеленые ниточки незаметно сменяли друг друга. Я вообще никогда не предполагала, что авоськи делают вручную. А уж чтоб сплести такую штуку,
59
нужно, наверное, очень много времени. И труда. Я спросила у Коли, как это делают. Он оглянулся и сказал:
— Пойдем. Это просто. Нужен только такой челночок из твердого дерева. У меня их несколько. Я тебе дам один и научу, как это надо плести.
Мы немного отошли, и Коля сказал:
— Она растягивается. На вид она маленькая, но в нее можно поместить портфель. Попробуй.
Мы положили в сеточку мой толстый, набитый книгами и тетрадями портфель.
— Давай я понесу,— сказал Коля.
— Нет, я сама.
И дальше я уже несла портфель в Колиной авоське.
Чем ближе мы подходили к дому, тем больше я замедляла шаги, и Коля это, очевидно, заметил, потому что спросил:
— Ты из-за двойки волнуешься?
— Да,— ответила я.
— А у тебя что — сразу дневник проверяют?
— Нет,— сказала я,— не в этом дело.
Я вдруг попросила Колю пойти со мной. Мне была непереносима мысль, что я сейчас одна встречусь с папой.
— Хорошо,— сказал Коля не сразу.— Пошли.
Папа чуть приподнял брови, когда увидел, что я пришла не одна, но сейчас же сделал вид, что в этом нет ничего неожиданного.
Я его познакомила с Колей. Оба они держались чуть настороженно, и я вдруг заметила, что они похожи друг на друга. Они были одного роста, папа сегодня надел черный свитер, и на Коле был черный свитер, только похуже, не такой толстый, пушистый и новый. И штаны папа надел новые, узюсенькие, из немнущейся ткани, с острой складкой, а на Коле были темно-синие штаны от школьной формы, с пузырями на коленях и неглаженые. И даже звали их одинаково... Но главное, у них были очень похожие лица — круглые, добрые лица с одинаковым выражением: с почти незаметной, чуть смущенной улыбкой. Почему я раньше этого не замечала?
— Ну что ж,— сказал папа.— Рога трубят. Оседлаем же наших добрых коней и отправимся на званый обед в замок маркиза Карабаса. Я надеюсь, что вы, граф, окажет^ нам честь пообедать с нами?
Когда мы еще поднимались по лестнице, я заранее решила, что скажу папе, что у меня болит голова и поэтому
60
я не пойду с ним на прогулку и в ресторан, но когда он стал шутить, я просто сказала:
— Я получила сегодня двойку. По физике.
Папа засвистел совсем по-мальчишески. У него было такое огорченное лицо, что Коля покраснел и уставился в пол, сквозь который мне хотелось провалиться.
— Ну что ж,— сказал наконец папа.— Прогулку придется отменить... А обедать все равно нужно. Пойдемте.
Мне понравилось, что Коля не ломался, не отказывался, не говорил, что сыт, хотя после школы не ел и был голоден как собака. Мне вообще нравится в людях, когда они умеют делать то, чего я не умею.
Глава девятая
Витя пришел в школу прихрамьшая, со своей знаменитой тросточкой с надписью «Привет из Кисловодска», и я поняла, что предстоят какие-то важные события. Витя подозвал меня и Сережу и сказал, что мы должны собраться вместе после уроков, так как нашей компании объявлен террор. Я попыталась было выяснить, что за террор и кем объявлен, но Витя многозначительно сказал: «После уроков».
На первом уроке у нас была химия, и мы пошли не в класс, а прямо в химический кабинет к Евгении Лаврентьевне.
Недавно у нас на уроке побывал бывший ученик Евгении Лаврентьевны, молодой, но очень толстый дяденька. Теперь он уже ученый и лауреат Ленинской премии. Он пришел до начала урока и познакомился с нами и сел на свое место за вторым столом, где он когда-то сидел. А когда вошла Евгения Лаврентьевна, он встал вместе с нами. Он очень внимательно слушал все, что говорила Евгения Лаврентьевна, и все, что отвечали мы. А после урока он поцеловал Евгении Лаврентьевне руку, а она его поцеловала в голову, и он сказал нам, что Евгения Лаврентьевна сделала для украинской химии столько, сколько сделал целый институт, и что бывшие ее ученики работают на самых ответственных участках химической науки и химической промышленности, и что все мы должны учиться у нашей замечательной учительницы Евгении Лаврентьевны только на пятерки, потому что химия — это наука будущего, а Евгения Лаврентьевна — человек будущего, кото¬
61
рый личным примером показывает, какими должны быть люди коммунистического общества.
Вообще-то я не понимаю, как можно плохо ответить на уроке у Евгении Лаврентьевны или как можно забыть то, что она говорила на предыдущих уроках. На уроках v Евгении Лаврентьевны ничего не нужно запоминать. Все, что она говорит, само запоминается.
Вот, например, ни один наш ученик уже до самой смерти не забудет, из чего делается стекло, потому что Евгения Лаврентьевна рассказывала, что до сих пор нельзя точно сказать, кто и когда изобрел стекло. Римский ученый Плиний Старший, который погиб в самом начале нашей эры при извержении Везувия, писал, что стекло открыли финикийские купцы-мореплаватели. Во время сильной бури они были вынуждены пристать к берегу. А так как на песчаном берегу они не нашли никаких камней для очага, чтобы сварить себе еду, то они взяли глыбы соды, которую везли на своем корабле для продажи. Целую ночь горел костер, а когда утром кто-то разгреб его, то в золе нашли прозрачные блестящие слитки, которые очень заинтересовали этих купцов. Так, в результате сплавления соды с песком, писал этот Плиний Старший, впервые получилось стекло.
Но в наше время ученые решили проверить, правильно ли написал Плиний. На песчаном морском берегу ученые сложили очаг из кусков соды и всю ночь жгли костер. Однако когда утром его разгребли, то никакого стекла там не оказалось, потому что температуры, которую дает пламя костра, недостаточно для того, чтобы сода сплавилась с песком и превратилась в стекло. Я думаю, что после такого рассказа ни один нормальный человек не может забыть, что основой стекла служат песок и сода.
И все-таки бывают странные люди, которые и по химии получают двойки.
Сегодня на химии Коля сел за один стол со мной, Сережей и Витей, и хотя я подумала, что это уж чересчур, но ничего ему не сказала. Лучше бы он все-таки не пересаживался. Евгения Лаврентьевна вдруг заметила:
— Э, раз Галега пересел за первый стол, значит, он хорошо подготовился к уроку.
И вызвала Колю.
Я прежде думала, что второгодники должны учиться лучше обыкновенных учеников — ведь они все учат второй раз. Однако в самом деле это совсем не так. Из разговора
62
с Колей я поняла, что второгоднику учиться еще труднее. Во-первых, потому, что ему неинтересно — он ведь уже раз слышал то, что говорят учителя, и знает, что будет, наперед, а во-вторых, потому, что ему кажется, будто он уже знает урок, а фактически он не знал его в прошлом году и не выучил в этом.
Мне было очень неприятно смотреть на то, как Коля не мог ответить на самый простой вопрос, как он краснел, мычал и заикался, хотя в жизни он разговаривает нормально и совсем не заикается. Он бы значительно лучше сделал, если бы просто сказал: «Я не знаю», чем путаться на каждом слове. Коля еще не закончил отвечать, а Лена Костина уже подняла руку. Она всегда первой поднимает руку, если кто-нибудь неправильно отвечает и учитель говорит: «Кто хочет ответить?»
Я тоже так когда-то делала. Но очень давно, еще в четвертом классе. Папа тогда побывал в школе на родительском собрании, и учительница меня хвалила за активность. Но папа дома сказал, что из таких «активистов» вырастают бессердечные люди, которые радуются неудачам товарищей, потому что могут показать себя. И хотя мама говорила, что это глупые, антипедагогические выдумки и чтобы я всегда первой поднимала руку, я послушалась папу. Я начала отвечать, только когда меня вызывают, хоть иногда мне очень хотелось выскочить с ответом и приходилось себя подавлять. Теперь на примере Лены Костиной я понимаю, как прав был мой папа.
Лена получила свою очередную пятерку, а Коля свою очередную двойку, и после этого Коля вернулся на место и снова сел рядом со мной. Он смотрел вниз, и выражение лица у него было странное, тупое и ожесточенное.
Перед русской литературой Коля сказал мне — он научился так ловко бормотать себе под нос, что слышу я одна:
— Елизавета нас все-таки рассадит. Я не написал сочинения. А ты?
— Я написала,— ответила я довольно безрадостно.
Елизавета Карловна задала нам написать сочинение
«Тема патриотизма в стихотворении Лермонтова «Бородино». Мне не нравится это стихотворение. Я не понимаю, почему там написано «Чужие изорвать мундиры о русские штыки», когда это говорит простой солдат. Неужели он стал бы так запутанно выражаться? Или что значит: «Земля тряслась, как наши груди»? Но я не написала этого,
63
потому что понимала, что за это Елизавета Карловна поставит мне двойку, а написала, что тема патриотизма видна в словах «Полковник наш рожден был хватом: слуга царю, отец солдатам», а также в словах «Не будь на то господня воля, не отдали б Москвы!». Кроме того, я написала, что во время Великой Отечественной войны Москву не отдали, несмотря на «господню волю». Ну и закончила тем, что Лермонтов вообще великий русский поэт-патриот.
Но все это я напрасно сделала, потому что Елизавета Карловна все равно поставила мне двойку. Она сказала, что я невнимательно слушала на уроках и поэтому вообще неправильно поняла, что такое патриотизм, что из моего сочинения получается, будто бы у русских солдат, про которых писал Лермонтов, был один патриотизм, потому что они служили царю, а у советских солдат, которые защитили Москву от фашистов, был патриотизм совсем другой, хотя фактически это один и тот же патриотизм, и поэтому Лермонтов так созвучен нашему времени.
А Лена, Витя, Сережа и многие другие получили пятерки. Двойки на весь класс получили только два человека — я и Коля. Я за то, что написала, а он за то, что не написал сочинения.
— Я думала,— сказала Елизавета Карловна, поправляя свои круглые очки,— что ты будешь оказывать на Галегу положительное влияние. Но вижу, что ошиблась, и четверку вы можете заработать, только если сложите свои двойки.
Лена Костина засмеялась своим неестественным смехом. Елизавета Карловна помолчала, а затем добавила решительно:
— Придется вас рассадить. Галега, пересядь на свое старое место, на последнюю парту.
Коля встал и, придав лицу совершенно дурацкое выражение, спросил:
— А если я подтянусь?
Я его понимала. Такое можно было спросить только с самым дурацким, с шутовским выражением лица, хотя я знала, насколько это было теперь важно для него. Да и для меня.
— Ну что ж. Как только ты наберешь три четверки, можешь пересесть назад.
После уроков Коля подошел ко мне и сказал:
— Пойдем?..
— Нет,— ответила я.— Сегодня я не смогу...
64
Коля поежился, как от холода, и отошел от меня. Я заметила, он всегда так ежится, если ему стыдно или неприятно.
— Подожди,— сказала я,— мы должны тут сегодня... одну вещь... с ребятами... А завтра пойдем вместе.
— Хорошо,— сказал Коля и улыбнулся смущенно и обиженно.— Я ведь ничего... Может, тебе неловко перед ребятами, что я с тобой из школы хожу?..
— Нет,— сказала я строго,— мне очень ловко. До свидания.
На меня с нетерпением оглядывались Витя и Сережа. Мы вышли на школьный двор. На лестничной площадке второго этажа к нам присоединился Женька Иванов. Когда мы зашли за угол школы — там у нас во дворе такой закоулок, где мальчишки младших классов сводят друг с другом счеты в честном кулачном бою и играют в «коды», а девчонки делятся самыми страшными секретами,— я заметила, что во двор вышла Лена Костина. Только к нам она не подошла, а поджидала Витю в сторонке.
— Так вот,— сказал Витя, нервно постукивая своей палочкой по водосточной трубе,— докладываю обстановку. Когда я вчера шел с Ленкой к ее дому...— Витя помолчал и добавил, как бы перепрыгивая через препятствие,— мне нужно было взять у нее одну книгу, на нас напали без всякого предупреждения ребята из Петькиной компании. Петька мне разбил губу. Вот.— Витя оттянул нижнюю губу, и мы увидели на внутренней стороне припухлость и красные пятнышки.— А Лену они схватили и стали ей бросать за шиворот зернышки шиповника. Ну, от которых очень чешется. А Ленка укусила этого длинного Ваську — он ее держал — за палец. Васька завизжал и врезал ей левой под дыхало. Девчонке. В общем, Ленка заревела, а меня пока били, а я отбивался. И если бы не вмешались прохожие, то было бы совсем плохо... Этот длинный Васька сказал, что отвинтит Лене голову, когда она будет из школы возвращаться. А на меня они тоже имеют зуб. Так что нам надо ходить теперь всем вместе. Сначала мы будем провожать Ленку, чтобы они ее не тронули, а потом возвращаться к себе. И я предлагаю, чтобы Лена теперь тоже входила в нашу компанию и участвовала в катализаторе. Хотя она и зубрила, но химию любит. Какие будут возражения?
У меня были возражения. Думаю, что возражения были также у Сережи и даже у Женьки. Но все мы молчали.
3
65
Это очень трудное дело — высказать возражения, когда речь идет о живом человеке. Наконец Сережа сказал:
— Она девчонка... Растреплется...
— А Оля, по-твоему, не девчонка? — быстро спросил Витя. Он всегда умеет сразу находить ответ.
— Оля-то, конечно, девчонка,— с сомнением сказал Сережа.— Но это — другое дело.
— Это не доказательство,— сказал Витя.— Других возражений нет? Лена, давай сюда.
Он помахал ей рукой, и Лена подошла к нам. Ее беспокоило, как мы ее примем, и поэтому она заранее сделала гордое и безразличное лицо. Я понимаю, человек должен бороться со злорадными чувствами, какие возникают в его душе, но я бы многое дала, чтобы посмотреть на эту выдержанную, приличную, благоразумную Лену, когда ей мальчишки бросали за шиворот шиповник,— а я-то хорошо знаю, как зудит и чешется тело от тоненьких белых волосков, которыми окружены семена,— и как она укусила этого Васю за палец.
— Ну, Лена,— сказал Витя,— мы тебя принимаем в нашу компанию. Теперь мы тебе расскажем наш секрет, но ты должна дать слово, что никому его не выдашь: ни знакомым, ни родителям, ни учителям — никому.
— Честное пионерское,— сказала Лена.
— Хорошо,— сказал Витя.— Знаешь ли ты, что такое катализ?
Но тут вмешался Женька.
— Я так не согласен,— сказал он, и на глазах у него показались слезы.— Почему я клялся Родиной, а она только — честное пионерское?..
— Это справедливо,— поддержал его Сережа.— Пусть тоже клянется Родиной.
— Ну что ж,— неохотно согласился Витя.— Пусть поклянется.
— А как это — Родиной? — испуганно спросила Лена.
— Очень просто,— ответил Витя.— Повторяй за мной: именем Родины клянусь, что никогда и никому не раскрою тайны про нашу научную работу, и если я нарушу это слово, пусть меня все презирают, и любой член нашей компании имеет право дать мне по морде.
— Именем Родины клянусь...— повторяла за ним Лена.
— А ты не разговариваешь во сне? — недоверчиво спросил у Лены Женька Иванов.
66
— Как это — во сне? — удивилась Лена.
— Бывают люди,— с важностью сказал Женька,— которые ночью во сне рассказывают все, что с ними происходило днем. Вот я, например, прежде разговаривал во сне. И чтобы не выдать нашу тайну, перед сном клал в рот «Кис-кис» или «Театральную», но не рассасывал ее, а просто держал во рту. Я из-за этого раз чуть не подавился.
— Я не знаю,— окончательно растерялась Лена.— По-моему, я никогда не разговаривала во сне. Только когда болела гриппом и у меня был бред. Но я спрошу у мамы...
— Ладно,— сказал Витя,— мы тебе доверяем. А пока что мы тебя введем в курс дела.
И Витя начал рассказывать о химии высокомолекулярных соединений, через каждое слово спрашивая у Лены: «Понятно?» — а она в ответ кивала головой.
Я никогда не думала, что отличница Лена Костина так слабо разбирается в химии и так туго соображает. Она кивала головой и ничего не понимала. Женька Иванов разбирался в этом в тысячу раз лучше, чем она.
Чем больше горячился Витя, чем больше щеголял Женька химическими названиями, тем более скучным становилось Ленино лицо. Нет, она не разбиралась в химии, и мечта о том, что можно будет сделать из полимерных пленок искусственную мышцу, ее, по-видимому, не увлекала. Но кое в чем она разбиралась и поэтому сумела поставить всех нас в неловкое положение своим вопросом.
— А почему же все это такая тайна? — спросила она.
— Так ведь если мы найдем катализатор, это будет иметь военное значение,— сказал Витя.
— Если найдете,— возразила Лена, и в ее голосе выразилось большое сомнение.— Но то, что вы занимаетесь этими химическими опытами, по-моему, скрывать совсем не нужно. И тем более делать из этого секрет и тайну...
— Нет, нужно! — вмешался Сережа.— Мы так договорились — и кончено. А тебе если не нравится, можешь отправиться...
Сережа страшно разозлился, покраснел, и у него на лбу, над носом, вздулась такая синяя жилка — она всегда у него вздувается, когда его обижают.
Мне это тоже было неприятно, хотя я понимала, что в словах Лены много справедливого.
— Но ведь ты поклялась Родиной,— с упреком сказал Витя.
67
— Я сдержу данное слово,-— ответила Лена.— Только я не понимаю, к чему это... А реактивов у нас дома никаких особенных нет. Есть только маленькая бутылочка живого серебра от прибора, которым мама измеряет больным давление, и разные лекарства. Их можно считать реактивами?
— Восбще-то можно,— нерешительно ответил Витя.— А ртуть нам пригодится. У нас есть немного ртути... Женька для этого специально разбил термометр и сказал дома, что нечаянно, но она уже кончается.
— Я разбил два термометра,— поднимаясь на носки, чтобы быть выше, сказал Женька. От него вкусно пахло хлебом с маслом.
Мы проводили Лену до самого ее дома и постояли еще немного в ее парадном. Витя со своей палочкой показывал разные выпады и приемы, какие применяют мастера рапиры, и говорил, что д’Артаньян не справился бы с современным мастером спорта, потому что с тех времен искусство сражения на шпагах шагнуло далеко вперед. Лена рассказывала, что у нее сегодня дома еще будет урок английского, что она уже прочла по-английски «Принц* и нищий» Марка Твена и что когда она была с мамой на американской выставке, то экскурсовод спрашивал, не из Англии ли эта девочка — такое хорошее у нее произношение. Даже Сережа, обычно совершенно несклонный к хвастовству, рассказал, что ездил в воскресенье с отцом на рыбную ловлю и поймал на дорожку щуку весом в девять с половиной килограммов. Я тоже не удержалась и сказала, что папа собирается купить мотороллер и учить меня водить его, хотя папа никакого мотороллера не собирался покупать и, напротив, считал, что те, кто ездит на мотороллере, являются «полуфабрикатом для крематория».
Я до сих пор не понимаю, почему мы так «выпендривались» друг перед другом. Очевидно, это заразно. Начнет один, а остальные тоже не могут удержаться.
В общем, мы довольно долго простояли в парадном у Лены, а потом пошли домой. Витя забыл, что ему нужно прихрамывать, и шел ровно и нес свою тросточку в руке, как шпагу, но на нас никто не нападал. А когда мы уже подходили к дому, я оглянулась и заметила, что за нами идет Коля. Он сейчас же скрылся за спинами прохожих. По-видимому, он все время шел за нами. По-видимому, ребята заметили его еще раньше. По-видимому, они его видели, но ничего не сказали.
Я подумала, что это нехорошо и что с Колей нужно
68
что-то решать. Нужно сделать так, чтобы он ходил с нашей компанией. Чтобы он лучше учился. И чтобы я лучше училась. Но как все это сделать?
Я представила себе, как мы подходим к нашему дому и идем через подъезд во двор, и в это время выскакивает целая ватага мальчишек во главе с Петькой из соседнего дома, ПЕТЬКА
они нас окружают, и вот уже меня хватают чьи-то
руки, и какой-то мальчишка сыплет мне за шиворот зернышки шиповника. В это время неизвестно откуда появляется Коля и своими сильными руками, которые он развил, делая зарядку с кирпичами, расшвыривает мальчишек, дает под дыхало Петьке, который вырвал из рук Вити его тросточку-шпагу, и мы обращаем в позорное бегство всю эту ватагу. После этого Витя пожимает Коле руку и говорит, что просит его от нашего имени войти в нашу компанию и принять участие в поисках катализатора.
Я знаю, что некоторые мечты сбываются, но я никогда не думала, что такие глупые мечты сбудутся так скоро.
Только мы подошли к нашему двору, как из-за газетного киоска выскочили Петька и еще двое таких же здоровых мальчишек, и Петька выхватил у Вити его тросточку и поломал ее на колене, а другой парень дал Сереже подножку, и он растянулся на земле, а Женька отскочил в сторону и закричал: «Папа!» — но это он для того, чтобы испугать этих ребят, потому что никакого папы поблизости не было,— а я все оглядывалась назад, чтобы увидеть Колю, но его не было видно. И тот мальчишка, который свалил Сережу, закрутил Вите руку за спину, а Петька схватил меня за руку, а третий мальчик, по-моему какой-то новый, потому что мы его раньше не видели, стал сыпать мне за шиворот зерна шиповника.
Я снова оглянулась, но Коли не было. И тогда я применила против Петьки прием, которому меня научил папа: я резко наклонилась, ухватила его руками сзади под коленки, а головой ударила в живот, и он смешно шлепнулся на тротуар и здорово треснулся и хотел меня лягнуть
69
ногой, но я отскочила и дала портфелем по морде этому новому мальчику, который мне сыпал за шиворот шиповник.
А Сережа и Витя вдвоем напали на третьего мальчика. Но тут вмешались прохожие и стали кричать на меня: «Хулиганка!» — и мы убежали домой.
Когда мы отдышались, Витя стал говорить, что если бы Петька не вырвал у него из рук тросточку, то он бы ему показал, и что я молодец, потому что не растерялась, а я сказала, что надо, чтобы с нами вместе из школы ходил Коля, и все согласились, что это не помешает.
Глава десятая
Кого ты больше любишь: папу или маму?
Детям постоянно задают этот нелепый и бестактный вопрос. Если бы у взрослого спросили: «Кого ты больше любишь: жену или мать?» — и он должен был бы ответить прямо и честно, взрослый очень задумался бы перед тем, как задавать ребенку такой вопрос. И все-таки, когда я знакомлюсь с новой подругой или новым товарищем и бываю у них дома, я часто задумываюсь, а кого он или она любит больше: мать или отца, хотя никогда, понятно, об этом не спрашиваю.
Я побывала дома у Коли. Они живут во дворе на первом этаже, в старом двухэтажном доме. Квартира у них плохая. Дверь с улицы ведет прямо в кухню, а передней нет, а уже из кухни вход в комнату. В этой комнате еще одна дверь. Коля сказал, что там маленькая клетушка, где он спит, что там нет окна и освещается она электричеством.
— Здравствуй, Оля,— сказал мне Колин отец, Богдан Осипович.— Садись к столу, пообедаешь с нами. Покажи, где помыть руки,— сказал он Коле.— Или ты, как Колька, не моешь рук перед едой?
— Как когда,— сказала я по правде и почувствовала, что мой ответ понравился Богдану Осиповичу.
Колина мама, которую, как и мою, зовут Елена, только по отчеству Евдокимовна, толстая женщина с очень белым лицом и шероховатыми руками, неожиданно обняла меня и прижала к себе. Смотрела она на меня при этом как-то особенно жалостливо. Я не люблю, когда меня обнимают чужие люди, но я не отодвинула ее руки, а подождала, пока она сама меня отпустит.
70
На обед был очень вкусный борщ, а потом еще на второе огромные, во всю тарелку, свиные отбивные с гречневой кашей.
— Так чем занимается твой отец? — спросил у меня Богдан Осипович так, словно продолжал уже начатый разговор.
— Журналист. Он в газете работает.
— А как его зовут?
— Николай Иванович.
— Николай Алексеев? — сказал Колин папа и очень обрадовался.— Как же, знаю. Помнишь, Лена,— обратился он к жене,— я тебе еще его фельетон показывал. Замечательный фельетон. Он там так по начальнику железной дороги врезал, что я думал, с работы снимут... начальника этого. Здорово пишет.
Мне было очень приятно, что он помнит статьи моего папы, и вообще очень приятно в этом доме, и только немножко смущало, что Колина мама все время смотрела на меня с жалостью, подперев щеку правой рукой и поддерживая локоть левой рукой, и все время повторяла:
— Ешь, деточка, какая ты худенькая.
А я ела и наелась так, что когда незаметно пощупала рукой живот, мне показалось, что он натянут, как барабан.
На третье Колина мама принесла компот из слив и груш и очень вкусное малиновое варенье, которое, собственно, не варенье, а просто сырая малина, перемятая с сахаром. Мне положили чайное блюдце этой малины, и только я ею всерьез занялась, как показался знакомый. Неизвестно откуда появился и подошел к столу тот самый кот, которого Витя хотел перекрасить в черный цвет. Но теперь он снова был совсем белый.
— Это ваш кот? — спросила я у Коли.
— Наш.
— Он, по-моему, был в нашем дворе.
— Вот, значит, где он пропадал,— сказал Колин папа.— Кто-то его тушью облил.
— А он не слепой? — спросила я.— У нас один мальчик говорил, что белые коты с голубыми глазами обязательно бывают слепыми. Он говорил, что читал про это в какой-то научной книге.
— Этот мальчик перепутал,— сказал Богдан Осипович.— Как говорится, слышал звон, да не знает, где он. Не слепыми, а глухими бывают коты с голубыми глазами и белой масти.
71
— И ваш кот глухой?
— Глухой.
— А как вы это установили?
— Да очень просто - он ничего не слышит.
— И мышей он не может ловить?
— Нет, мышей он ловит,— вступился за кота Коля.— И не хуже, чем всякий другой.
— Он когда пропал, так жена все беспокоилась, что не вернется,— сказал Колин папа.— А я ей говорил — обязательно вернется. Кошки привыкают к месту, а собаки к людям. А вот уж люди по-разному: некоторые, как
кошки, а некоторые, как собаки. А ты кто, кошка или
собака? — спросил он у меня.
— Не знаю,— ответила я.— Скорее собака, но не¬
множко и кошка.
Колин отец как-то очень по-доброму посмеялся.
— Так как же это теперь называется,— подмигнул он мне на Колю,— на буксир, что ли?
Я не поняла его.
— Ну, это в мое время, когда отличник помогал отстающему, называлось «брать на буксир»,— пояснил Колин отец.
— Нет,— сказала я.— Я не отличница. У меня есть тройки и даже двойки. Мы просто будем готовить вместе некоторые уроки. Особенно по химии.
— Хорошо,— сказал Богдан Осипович.— Не оставаться же ему на третий год. Восемь классов нужно закончить. А там — на работу. Придет время, сам поймет, что нужно учиться. Выберет специальность и — заочно. А ты кем собираешься быть, когда школу закончишь? — спросил он у меня.
— Химиком. Думаю поступить в университет на химическое отделение.
— Химический факультет,— поправил он меня.— А не раздумаешь?
— Нет.
Елена Евдокимовна глубоко, со всхлипом вздохнула, как вздыхают маленькие дети, и вдруг сказала:
— Значит, ты поможешь Коленьке? Ты не смотри, что он большой... Ты помоги ему...
Она тяжело задышала, а Коля, не обращая на нее никакого внимания, спросил у меня громко:
— Ты сколько раз можешь поджаться?
— Как — поджаться?
72
— Ну, на руках.
— Не знаю. Я не пробовала.
— Пойдем попробуем.
Коля встал из-за стола и, несмотря на то, что я еще пила компот, взял меня за руку и потащил к двери. Мы вышли во двор. Возле сарайчика был врыт в землю столб, а между стенкой сарайчика и столбом укреплена железная палка — турник.
— Я тебя подсажу,— сказал Коля.— Прыгай вверх.
Я подпрыгнула, а он меня поддержал и приподнял. Я уцепилась руками за шероховатую железную палку и повисла на ней.
— Подтягивайся,— сказал Коля.
Может быть, в другое время я бы и подтянулась, но борщ, отбивная и гречневая каша неодолимо тянули меня вниз, к земле.
— Эх, ты! — сказал Коля.— Слазь. А теперь считай.
Он подпрыгнул, ухватился за турник и стал поджиматься. Я насчитала десять раз.
— А теперь смотри.
Коля забрался на турник и перевернулся на животе через перекладину.
— Тренироваться нужно.
— Нужно,— согласилась я.— Но, может быть, мы все- таки сядем за уроки? А то мы так ничего не успеем.
— Скоро сядем,— ответил Коля.— Подождем еще немного.— Он посмотрел на землю и добавил: — Пусть матя немного успокоится.
— А что с ней?
— Больная она. У нее горло перехватывает.
И Коля рассказал мне, что его мама очень больной человек: как только увидит что-нибудь хорошее в кино, в газете или в жизни, так у нее сразу перехватывает горло, и она задыхается так, что приходится иногда вызывать «скорую помощь», чтоб сделали укол.
— А ты не слышала про мою матю, про медсестру Елену Лукашенко? — спросил Коля.— Ведь про нее в газетах писали и в журналах.
— Нет,— сказала я.
Коля рассказал, что отца его мамы, то есть Колиного деда, на глазах Колиной мамы расстреляли немцы за то, что он прятал у себя в хате раненого советского офицера. Колина мама убежала к партизанам, а потом, когда подошли наши войска, вступила в армию, стала медсестрой
73
и вынесла с поля боя семьдесят восемь раненых. Она была тогда маленькая, худенькая и все равно тащила на себе тяжелых, рослых солдат. Некоторые из тех, кого она вытащила из-под огня, и сейчас переписываются с ней. Но с тех пор у нее такая болезнь. Достаточно ей увидеть или услышать что-нибудь приятное, как у нее сдавливает горло и словно перенимает дыхание. Даже от ласкового слова. Коля говорил, что старается даже разговаривать с ней погрубее, а поцеловал он ее как-то раз, когда она спала, так она проснулась, и опять ей плохо было.
Глава одиннадцатая
— В те далекие времена, когда поезда ходили туда, куда хотели машинисты, одна маленькая девочка с такими же веснушками, как у тебя, и с такими же золотыми косичками, которые неграмотные дети называют рыжими, узнала, что у нее заболела бабушка.
Жила ее бабушка в далеком городе, где хорошие люди с опаской выходили из своих домов, потому что в этом городе было очень много садов, а в садах этих сидели садисты, злые и безжалостные разбойники, которым очень нравилось расстреливать людей из своих винтовок.
А болезнь у бабушки была очень опасная. Как только увидит бабушка что-нибудь хорошее — красивый цветок, или желтого воробышка, или девочку, которая отдала подружке ровно половину шоколадки,— так она сразу начинает плакать, и так сильно плачет, что у нее вместо слез течет кровь, и врачам приходится делать ей переливание крови, чтобы она не умерла. А плакала бабушка так потому, что в этом городе садисты сделали очень много плохого, и к плохому бабушка уже давно привыкла, а хорошее ее очень волновало.
И вот маленькая девочка пошла на вокзал, подошла к паровозу, который уже шевелил колесами и тяжело дышал, собираясь в путь, и закричала машинисту:
«Товарищ машинист, отвезите меня, пожалуйста, к моей бабушке».
Машинист спросил:
«А для чего тебе к бабушке?»
Девочка сказала:
«Я хочу отвезти ей лекарство, которое мне дали в дежурной аптеке, потому что моя бабушка больна».
74
Тогда машинист сказал:
«Вообще-то я собирался поехать на рыбную ловлю, но так как человек человеку друг, товарищ и брат, то поедем сначала наловим рыбы, а потом поедем к бабушке».
«Нет,— сказала девочка,— никогда не нужно откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня. Если это, конечно, хорошее дело. А если это плохое дело, то лучше его отложить на завтра».
«Хорошо,— сказал машинист,— тогда поедем к твоей бабушке, а уж мой белый кот с голубыми глазами обойдется сегодня без рыбы».
Машинист подал девочке руку, она села рядом с ним на сиденье, и поезд помчался по блестящим, начищенным, как паркет, рельсам.
«Как же ты передашь лекарство бабушке? — спросил машинист.— Ведь это хороший поступок, а бабушка от такого поступка может так сильно заплакать, что умрет».
«Действительно,— испугалась девочка,— как же мне быть?»
Наташка слушала меня с открытым ртом. Я уже в два раза старше Наташки. Наташка в этом году только поступила в первый класс. Она младшая сестра Сережи, и я люблю ей рассказывать сказки. Вообще я люблю возиться с детьми, мне с ними никогда не бывает скучно.
Наташка внимательно слушала мою сказку. Мы сидели на скамейке в садике возле нашего дома, а говорила я тихо, вполголоса, потому что на другом конце скамейки сидел очень худой и очень остроносый человек с большими очками в толстой оправе, который читал газету, как бы покалывая ее носом. На нем была модная куртка, сшитая как ватник, но с «молниями», и огромные, тяжелые ботинки с железными подковами, и вообще вид у него был очень чудаковатый, и хотя он не смотрел в нашу сторону, мне почему-то казалось, что он не читает, а слушает то, что я говорю, и это меня смущало, и я хотела сказать Наташке: «Пойдем на другую скамейку», но мне было неудобно, потому что он мог подумать, что я думаю, что он слушает мою сказку.
— «Нужно что-нибудь придумать»,— сказал машинист,— продолжала я.— И они стали молча думать.
И вдруг девочка сказала:
«Я придумала».
— Как ты думаешь, что она придумала? — спросила я у Наташки.
75
— Я знаю,— сказала Наташка,— нужно дать лекарство так, чтобы бабушка не заметила. Когда я была маленькой, мне тоже давали лекарство от кашля и говорили, что это — компот.
П А йЬл'РоМ А ИОВ И Ч
— Правильно,— сказала я.— То же самое, что ты, придумала девочка. И машинист так обрадовался этому ценному предложению, что дал громкий гудок. Вот такой.
Я сложила руки по нашему способу и загудела, как паровоз.
— А дальше? — спросила Наташка.
Когда я гудела, этот человек в стеганой куртке совсем оставил газету и смотрел на меня очень внимательно и странно, и мне расхотелось рассказывать.
— Дальше я еще не дочитала,— ответила я.— Я сегодня дочитаю и завтра тебе обязательно доскажу.
— А в какой книжке это напечатано? — спросил у меня человек в стеганой куртке высоким, совсем не мужским голосом.
Вообще-то я не люблю лгать, но у меня не было выхода.
— У нас дома есть такая книжка,— ответила я.— Только я не помню названия.
— А кто автор?
— Автора я тоже не помню.
Мы с Наташкой встали со скамейки, и человек в стеганой куртке тоже встал, снял очки и нерешительно сказал мне:
— Послушай, девочка... Я вообще не умею разговаривать с детьми. Но все-таки давай немного походим по садику и побеседуем.
— Не ходи! — вдруг уцепилась за мою руку Наташка.— Может быть, этот дядя — садист.
Дядя, странно всхлипывая, засмеялся, а я покраснела и сказала Наташке, чтобы она не говорила глупостей.
— Все равно я пойду с тобой,— сказала Наташка, не выпуская моей руки.
76
Дядя сказал Наташке: «Молодец, так и нужно!» — и попытался погладить ее по голове, но Наташка отклонилась, и мы втроем пошли по садику.
Некоторое время мы шли молча, а затем дядя приостановился и сказал:
— Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Павел Романович. А фамилия моя Корнилов. Я писатель.
— Писатель? — сказала я.— А Алексеева вы знаете?
— Алексеева? Нет, не припоминаю. А кто он такой?
— Николай Иванович Алексеев. Он фельетоны пишет в газету и статьи.
— Нет, не знаю. Не читал,— сказал, как отрезал, дяденька.
Я подумала, что он, наверное, плохой писатель, если не знает статей моего папы, которые все читали и которые всем нравятся, и мне даже расхотелось с ним разговаривать, но я все-таки спросила, где он живет, а он ответил, что в Москве. Тогда я спросила, бывал ли он прежде в Киеве, а он ответил, что был только до войны, и тогда я стала рассказывать, что с тех пор Киев очень переменился, что во время войны в Киеве было разрушено очень много процентов жилой площади, что город построен заново и что сейчас это город-сад.
Павел Романович слушал все эти вежливые разговоры с грустным и внимательным лицом, а потом спросил:
— А какого писателя ты больше всего любишь?
— Шевченко,— ответила я сразу.
— Тараса Шевченко? — удивился писатель.— Больше Пушкина, больше Лермонтова?
— Да,— сказала я.— Больше. Хотя, конечно, и Пушкина, и Лермонтова я тоже очень люблю.
— А почему,— спросил писатель,— ты любишь Шевченко больше всех?
Мне было очень трудно рассказать об этом. Вообще я не знаю, можно ли объяснить это, но все-таки я сказала:
— Потому что Шевченко самый храбрый поэт. Он ничего не боялся. Он всегда писал то, что думал. Я знаю много стихов из «Кобзаря» наизусть.
— А сама ты не писала стихов про Тараса Шевченко?
Я ответила, что писала, затем немного поломалась,
совсем немного, и прочла стихотворение о Шевченко, которое я написала этим летом:
77
Он прятал от тюремщиков В голенище не нож, а стих,
Радоваться нечему,
Но это — его стиль.
Не самолюбие автора,
А чистая вера в то,
Что можно приблизить завтра Залпом своих стихов.
Эта вера рождала Песню в зашитых ртах.
Буду об этом помнить И буду писать — так.
Павел Романович сказал, что это очень хорошие стихи, хотя технически они еще несовершенны, что во всем стихотворении строчки рифмуются, а в последней строфе «рождала» и «помнить» без рифмы, и попросил, чтобы я прочла еще какие-нибудь стихи.
То ли потому, что до сих пор никто не относился серьезно к моим стихам, то ли потому, что Павел Романович был писателем, а я еще никогда в жизни с писателем не разговаривала, я читала одно стихотворение за другим, а он больше не делал никаких замечаний и только кивал головой и говорил: «Еще». Так я читала стихи очень долго, пока Наташка не сказала, что она уже хочет домой, и я тоже сказала, что мне надо домой, потому что я не сделала уроков.
Павел Романович спросил, кем я собираюсь быть, когда вырасту, и я ответила, что химиком.
Павел Романович сказал, что это очень хорошо, но что у меня будет еще время передумать, и спросил, не могу ли я дать ему на несколько дней тетрадку со своими стихами.
И тут я сделала большую бестактность. Вместо того чтобы пригласить писателя к себе домой, я сказала, что сейчас вынесу свою тетрадку.
Он это понял, но не подал виду и сказал:
— Мне за твои хорошие стихи и за твою хорошую сказку хочется сделать тебе подарок. Вот — возьми.
И он вынул из кармана и дал мне прекрасную самопишущую ручку зеленого цвета с прожилками и с золотым колпачком.
— Только прежде я запишу тебе свой адрес и свою фамилию, чтобы ты ее лучше запомнила и могла мне ответить на письмо, которое я тебе напишу.
78
Он вынул блокнот, взял у меня ручку, написал на листке свой адрес, телефон, фамилию, имя и отчество, а затем вернул мне этот листок и ручку и сказал, что подождет, пока я вынесу тетрадку.
Ручка мне так понравилась, что я даже забыла поблагодарить писателя за подарок и сделала это только тогда, когда уже вернулась с тетрадкой.
Писатель спросил, нет ли у меня второго экземпляра, и сказал, что стихи обязательно нужно записывать в двух экземплярах, что тетрадку мою он мне скоро вернет, и я с ним еще долго разговаривала о поэзии. И мне не хотелось уходить, но он сказал, что мы еще встретимся, что мне пора за уроки. И когда я пришла домой, мама у меня спросила, почему я такая красная и возбужденная, а я сказала, что так, ничего, и села за физику.
Вечером, когда папа вернулся из редакции, я сказала ему, что познакомилась у нас в садике с каким-то человеком, по фамилии Корнилов и по имени Павел Романович, который называет себя писателем и подарил мне авторучку, но который не знает папу.
— Откуда же ему меня знать? — смущенно сказал папа.— Это очень большой писатель.
Глава двенадцатая
Можно повеситься — Коля опять получил двойку! По химии. Он забацаный. Это у нас в школе говорят: забаца- ный. Витя когда-то объяснил мне происхождение этого слова. Это когда в боксе кого-нибудь сильно стукнут, особенно в голову, и он наполовину теряет сознание и идет не в том направлении, куда ему нужно, то о нем спортсмены говорят: забацаный.
Мы вместе учили химию. Дома он все знал, но как только вышел к доске, он стал путаться и говорить такую чепуху, что весь класс смеялся, и даже Евгения Лаврентьевна улыбалась, а Сережа, чтоб было еще посмешней, нарочно неправильно подсказал вместо окиси ртути — окись магния, и у Коли не получался вес в кислородных единицах, а выходила какая-то бессмыслица. За такие подсказки надо бить морду.
Я в этот день, как назло, получила три пятерки: по химии, по английскому и по истории. И когда Коля подошел ко мне после уроков, я почувствовала себя перед
79
ним как будто виноватой: ведь учили мы вместе, и знал он не хуже меня, и все-таки у него ничего не получалось.
— Останься в классе,— сказал Коля.— Поговорить нужно.
Я вышла со всеми, но уже внизу, в вестибюле, сказала ребятам, что не пойду с ними, потому что мне... тут я пробормотала: «Нужно еще по одному делу» — и вернулась в класс.
Мы сели рядом за нашу парту, на которой я теперь сидела одна.
— Больше я не пойду в школу,— сказал Коля.— Пошли они все к черту!.. Ни к чему мне эта ваша школа, и эта ваша химия, и эта ваша история, и эта ваша литература... И вообще я во всем разочаровался.
— Как разочаровался? В чем?
— Во всем. Я не вижу, куда приложить свои силы, и мне ничего не интересно...
Мне очень не нравилось то, что говорил Коля. Очень не нравилось. Но я не знала, как его переубедить.
— Ты неправ,— сказала я наконец.— У тебя плохое настроение, потому что ты не сумел ответить по химии. Хотя и знал не меньше, чем на четверку.
— Нет,— сказал Коля,— химия тут ни при чем...
Все-таки ему было очень плохо. И чем ему помочь,
я не знала.
— Но ведь ты все знал,— сказала я Коле.— Ты просто боишься учителей.
— Я ничего не боюсь,— покраснел Коля.— Смотри! — Он распахнул окно, и не успела я сообразить, что он собирается делать, как он вскочил на подоконник и выбрался на карниз — узкую кирпичную полоску, проходящую за окном.
— Вернись сейчас же обратно! — закричала я. Другую девочку, может, и восхитил бы Колин поступок, но меня он только обозлил. Я так закричала, что Коля сразу вернулся.— Это не храбрость,— сказала я.— Это чепуха. А вот когда тебя вызывают к доске, в тебе всегда появляется какая-то робость. И ты должен с ней покончить.
— При чем тут робость? — с досадой сказал Коля.— И при чем тут учителя? У меня просто нет цели в жизни. Мне никем не хочется быть. Батя, например, хочет поступить заочно в педагогический институт и учить историю, а мне не интересна ни история, ни география, ни ваша химия.
Я смотрела на Колю с жалостью и интересом. Это был
80
первый человек за всю мою жизнь, которому никем не хотелось быть. Конечно, он внешне был очень мало похож на Печорина, но, как Печорин, он был лишним человеком в нашем обществе и тоже во всем разочаровался.
— А как же будет с цирком? — спросила я.
— Что ж, в цирк, конечно, пойдем,— обреченно ответил Коля.
Билеты в цирк нам купил Богдан Осипович. Мне хотелось пойти в цирк, потому что я была в нем только раз за всю жизнь, и то в раннем детстве. Мои родители, вернее, моя мама не любит цирка, и поэтому мы в него никогда не ходили. И тут моя мама тоже стала говорить, что это неудобно, чтобы я ходила в цирк с каким-то мальчиком, что я еще маленькая, но папа предложил составить точный список, в каком бы указывалось, для чего я маленькая, а для чего большая, и мама, как она сама выразилась, «скре- пя сердце» — когда я была меньше, я думала, что говорят «скрипя сердцем»,— разрешила мне пойти в цирк.
После школы я не стала заниматься с Колей, а направилась к Вите, где наши ребята сегодня собирались приготовить из чернильного прибора — бывают такие чернильные приборы из прозрачной пластмассы — полиме- тилметакрилат — очень ценное для наших опытов химическое вещество. Для этого нужно было построить специальную установку с холодильником и конденсатором готового продукта. В холодильнике я предложила использовать сухой лед, который всегда остается у мороженщицы в нашем гастрономе, и Витя сказал, что это ценное рационализаторское предложение.
У Вити я застала только Лену Костину,— впечатление было такое, словно она даже не заходила домой, а прямо пошла к Вите. Они о чем-то очень горячо разговаривали, может быть, даже обо мне, потому что, когда я вошла, сразу замолчали. Но мне это было безразлично.
Витя сказал, что Сережа и Женька Иванов отправились в экспедицию за сухим льдом, а он пока приготовит сырье. После этого он взял щипцы и молоток и стал разбивать на куски чернильный прибор, который мне было немножко жалко, потому что мы заплатили за него два рубля тридцать пять копеек, а с деньгами у нас по-прежнему было довольно туго. Кроме того, прибор этот был прозрачным, красивым и новеньким.
Пока Витя ломал чернильный прибор, Лена негромко у меня спросила:
81
— Ты занимаешься со своим Колей?
— Он такой же мой, как твой,— ответила я.
— Это неважно,— сказала Лена.— Я хотела тебе посоветовать... Бот вы зовете меня зубрилой — я знаю, я и в самом деле немножко зубрила. А почему? Потому что я в младших классах очень боялась отвечать у доски и все вызубривала. Теперь я уже не зубрю. Но Галете для начала нужно просто зубрить уроки на память, как стихи.
Я заметила, что Витя прислушивается к нашему разговору, задрала нос и ответила, что мы обойдемся без зубрежки, но подумала, что Лена, может быть, не такой уж нечуткий человек, как мне это казалось...
В Витину дверь кто-то отчаянно зазвонил: надавил кнопку и держал до тех пор, пока не открыли. Мы все бросились в переднюю. За дверью стояли Сережа и Женька. Вид у них был испуганный, смущенный и довольный. Они достали сухого льда. Они напрямик объяснили нашей мороженщице, для чего им нужен этот сухой лед, и хотя мороженщица сказала, что химические опыты лучше делать с чистым мороженым, она им дала бесплатно несколько кусков сухого льда.
И вот когда они вошли в Витино парадное и поднялись на второй этаж, они увидели, что уборщица поставила на площадке ведро с водой и моет в парадном окна и подоконники. Сережа тут же бросил в ведро кусок сухого льда, а затем они поднялись вверх и стали наблюдать, что произойдет дальше. Когда уборщица увидела, что в ее ведре вода бурлит, как кипяток, и из воды поднимаются клубы белого пара, она страшно испугалась и стала кричать: «Ой, лишенько, вода загоршася!» На ее крики из соседней квартиры выскочила старушка и стала говорить, что это, очевидно, не вода, а бензин и что нужно вызвать пожарных. Но мимо проходил какой-то дяденька, который засучил рукав, достал из ведра оставшийся там еще кусок сухого льда и объяснил женщинам, что сухой лед — это замороженный углекислый газ, который переходит прямо из твердого состояния в газообразное, и что сухой лед в ведро, очевидно, подбросили дети. Уборщица вспомнила, что тут проходили два «шибеника» — по-украински это слово звучит не обидно и даже ласково, а по-русски грубо: шибеник — это висельник.
Они не успели закончить своего рассказа, как в дверь снова позвонили.
— Прячьтесь,— сказал Витя и пошел открывать.
82
Это была уборщица и еще какая-то пожилая женщина, очевидно, соседка. Уборщица спросила:
— К вам не забегали два таких хлопчика — побольше и маленький?
Витя ответил, что никто не забегал. Тогда уборщица потребовала:
— А скажи: пионерское слово.
Витя дал пионерское слово, и тут уборщица закричала:
— Так, значит, ты и на пионерское слово брешешь! А я же знаю, что они у тебя прячутся!..
Совершенно непонятно, зачем она требовала, чтобы он дал честное пионерское. Но взрослые часто так поступают: заведомо зная, что кто-нибудь лжет, требуют у него слова, что он говорит правду.
На весь этот шум вышла Витина бабушка. Она поговорила с уборщицей, сказала Сереже и Женьке, что им незачем прятаться, и поговорила еще с ними, и все это так спокойно, что уборщица стала улыбаться, и мы тоже стали улыбаться. Она всех заражает своим спокойствием. Я думаю, это очень важно для государства, чтобы в нем были такие спокойные люди. Если бы их было побольше, то, наверное, никто бы ни с кем не ссорился и не было бы всяких преступлений.
Тем временем мы приготовили прибор для перегонки осколков чернильного прибора в полиметилметакрилат. Для этого мы соединили колбу из жаростойкого стекла с холодильником, который приготовили из коробки из-под ботинок. В эту коробку мы сложили сухой лед. Холодильник стеклянной трубкой мы связали с конденсатором — широкогорлой бутылкой из-под молока.
Шерсть, древесина, хлопок, каучук, смолы — не так уж много полимеров создала природа. Химики сделали намного больше. Я очень люблю читать романы и всякие другие книги, но мне кажется, что интереснее всего читать самый обыкновенный учебник химии. Вот есть такой замечательный рассказ — не помню, какого писателя,— который называется «Золотой жук». Там человек находит записку, написанную непонятными знаками, но постепенно он расшифровывает каждый знак и всю записку и благодаря этому находит клад. Но в химии на каждой странице приходится примерно таким же образом расшифровывать формулы, определять в веществе каждую молекулу, каждый атом, а клад можно найти более ценный, чем нашли в этом рассказе.
83
Мне не хотелось уходить, но нужно было еще готовить с Колей уроки, а потом идти в цирк, и я сказала, что мне пора домой. И только после этого решила заговорить о том, что собиралась сказать вот уже несколько дней.
— Надо взять в нашу компанию Колю,— сказала я твердо.
— А ты что, его адвокат? — спросил Витя.
— Нет, не адвокат... Но Лену мы взяли.
— Лена — другое дело,— отрезал Витя.— А Коля пусть сначала химию подучит, чтобы хоть тройки были. А то он до сих пор не знает, как отличить кислород от водорода или как определить, кислота это или щелочь. А я это уже в первом классе знал или, может быть, еще в детском саду.
Витя, конечно, здорово знает химию, но и хвастается он тоже здорово.
— Почему ты говорил, что мы все вопросы будем решать коллективно, а сам всем распоряжаешься один? — спросила я.— А как ты, Сережа, смотришь, если Коля будет с нами?
Сережа помялся и сказал довольно решительно, что Коля нам пригодится, особенно если учесть, что Петькина компания решила переловить нас всех поодиночке и как следует вздуть.
— А ты, Женька?
— Женька у нас еще не имеет права голоса,— вмешался Витя.
Но обиженный Женька ответил ему:
— Я был «против», а теперь я назло тоже скажу «за».
А Лена, хотя я к ней не обращалась, сказала, что она
согласна с Витей, что Коля должен сначала подтянуться по химии.
— И вообще,— сказал Витя,— Галеге головной мозг попался случайно, он бы мог вполне обойтись спинным...
Я очень разозлилась и ушла. Дома я уже застала Колю. Мама пока использовала его физическую силу — он укреплял над окном карниз с чистыми занавесками.
Мы сели за уроки.
— Послушай, Коля,— сказала я.— А что, если тебе в самом деле хоть раз вызубрить уроки на память? Чтоб отвечать, не сбиваясь, как автомат... Это только для начала, а потом не нужно будет зубрить.
— Хорошо,— согласился Коля не слишком радостно и посмотрел на меня как-то странно.
84
Последнее время он иногда смотрит на меня так странно — глаза у него тогда бывают грустные и какие-то преданные. Я не хочу его обидеть даже про себя, но какие-то собачьи глаза. И мне, когда он так смотрит, очень хочется погладить его по голове. Черт его знает что такое!
Учить на память — это, оказалось, хорошая мысль, только для Коли, а не для меня. У него, оказалось, очень сильная зрительная память — прочитает страницу и как будто сфотографировал то, что прочел. Вот, например, выучив страничку учебника, он сразу мог сказать, что написано в третьей строчке, а что на восьмой строчке. В общем, я поняла, что ему здорово можно подсказывать. Например, негромко, будто бы про себя, сказать вслух: «Тридцать два дробь четыре». Это будет обозначать — тридцать вторая страница, четвертая строчка, и он сразу вспомнит, что там, и выпалит: «Такие личинки называются «фин». Мы как раз учили про солитера в зоологии.
Когда мы сделали уроки, я спросила у Коли, может ли он таким же образом запоминать стихи.
— Какие стихи? — спросил Коля.
Оказалось, что он никогда не учил стихов наизусть.
— А вот такие,— сказала я и прочла на память стихотворение, которое недавно придумала:
Не поможет ни сила, ни меткость,
Ни уменье, ни твердость руки.
У дантесов тяжелые веки,
И у них под глазами мешки.
Знать, поэтам ни шпага стальная,
Ни винтовка, ни острый кинжал Не нужны, если их убивают За стихи, что разят наповал.
— Давай я его перепишу,— сказал Коля.— Мне легче запомнить, когда я вижу это перед собой.
Я ему продиктовала стихотворение, и он сразу же отложил листок и прочел на память то, что я продиктовала.
— Здорово! — сказала я.— А знаешь, чьи это стихи?.. Это — мои.
— Не может быть,— ответил Коля убежденно и, вдруг сообразив, что я бы не стала врать, сказал: — А я думал — это из учебника по литературе. Просто даже не верится.— И он снова посмотрел на меня грустно и восхищенно.
85
Я понимаю, что, наверное, слова «грустно и восхищенно» должны как бы исключать друг друга, но он посмотрел на меня именно так и сказал:
— Я навсегда запомню эти стихи.
В цирке мне больше всего понравились жонглеры. Это, по-моему, настоящее искусство, и оно учит нас, как много может достичь человек, если будет постоянно работать над собой. Коле больше всего нравятся воздушные акробаты. И мне бы они тоже, может быть, нравились, если бы они все это проделывали не под куполом цирка, а на земле. Потому что мне совсем неприятно, если кто-то рискует собой, чтобы развлечь меня. И если мы отрицательно относимся к таким развлечениям, как сражения гладиаторов, которые бывали в древности, так почему мы одобряем гимнастов, которые перелетают с трапеции на трапецию, и достаточно им ошибиться на один сантиметр, чтобы разбиться? Но хуже всего, по-моему, была женщина-змея. Смотреть, по-моему, на это стыдно и унизительно. Ну как это можно допускать, чтобы женщина просовывала голову между собственными ногами и смотрела назад в этой уродливой позе, а потом еще прыгала на руках, шлепая, как большая жаба!
Клоунов было три, и один из них, с грустным бледным лицом и рыжими в кудельках волосами, был по-настоящему смешным. Он подходил к артистам, служителям и даже к зрителям и все время задавал один и тот же вопрос: «Зачем ты это делаешь?» Все очень смеялись и ждали, когда он снова, как правило, в самую неподходящую минуту, задаст этот свой вопрос.
Наша русачка Елизавета Карловна говорит, что смех бывает умным и глупым. Так вот, на этот раз, мне кажется, смех был умным, потому что зрители смеялись не столько над клоуном, сколько над собой. Потому что у многих и о многом можно было бы спросить: «Зачем ты это делаешь?» — и не все смогли бы ответить на этот вопрос.
Глава тринадцатая
Взрослых все-таки нужно жалеть. Ведь, как правило, они умирают раньше нас. Поэтому не следует придираться к их ошибкам и, проще говоря, не стоит выходить из себя, если видишь, что слова у них расходятся с делом.
86
Мама очень не любит, когда я или папа болеем. А мне очень нравится болеть. И папе тоже. Только нам это редко удается. Мы все какие-то очень здоровые...
На этот раз папа заболел ангиной. У него повысилась температура до тридцати восьми градусов, и стало трудно глотать. Мама среди недели, а не в воскресенье, поменяла все постельное белье — к папе должен был прийти врач. А папа лежал на белоснежной, накрахмаленной наволочке очень серьезный, очень важный и очень грустный и незаметно мне подмигивал, и пил в постели чай с коньяком и лимоном.
— Как же ты здесь будешь один? — спросила мама.
— Не знаю,— ответил папа. И трагическим тоном добавил: — Но запомните, если я в ваше отсутствие умру, то трудно вам будет без меня, двум одиноким женщинам.
Мама сказала, чтобы я вернулась из школы пораньше, потому что я должна ухаживать за больным, а папа сказал, что раз в доме тяжелобольной, то я могла бы и вообще не ходить в школу, а ухаживать за ним. Но мама посмотрела сначала на его очень серьезное лицо, потом на мое очень серьезное лицо и сказала, что этот номер не пройдет и чтобы я отправлялась в школу.
В школе я просидела только четыре урока, а с двух последних — с географии и зоологии — отпросилась домой в связи с болезнью папы.
— А что с ним? — спросила учительница зоологии.
— Еще неизвестно,— ответила я.— Еще врач не приходил. Температура тридцать восемь.
У папы наверняка ангина, но я не сказала этого, потому что ангина слишком обыкновенная болезнь для того, чтобы отпустили с урока.
Я открыла дверь своим ключом, сняла пальто и тихонько вошла в комнату. Папа спал. Он любит поспать днем, только ему это редко удается. Я отправилась на кухню готовить нам еду: мама сказала — подогреть бульон и заправить его яйцом.
В нашей семье бульон с яйцом едят, только если кто- нибудь заболел, а обычно мы едим бульон отдельно, а яйца отдельно. Мама меня предупредила, что если яйцо выпустить в горячий бульон, то оно свернется, и поэтому нужно сначала смешать и взбить вилкой это яйцо в половине чашки холодного бульона, а потом вылить эту смесь в кастрюльку с горячим бульоном. Я все так и сделала и подогрела второе — жареную телятину. У папы во время
87
болезни удивительный аппетит, он говорит, что чем у него выше температура, тем ему больше хочется есть.
Когда у меня все было готово, я нарочно уронила крышку от кастрюли на пол и понесла бульон в комнату. От грохота на кухне папа проснулся и сказал, что он не спал.
Не успел папа пообедать, как пришла участковая врачиха Фаина Семеновна. Она измерила папе температуру, посмотрела горло, сказала, чтобы он и дальше принимал этазол и пил горячее, и велела ему три дня лежать в постели.
Когда ушла Фаина Семеновна, папа закурил, но сейчас же погасил папиросу и сказал, что курить ему противно, а это первый признак того, что он по-настоящему болен, а так как он по-настоящему болен, то к нему нужно проявлять чуткость и поэтому я должна его развлекать. Для начала «развлечения» он предложил сыграть в «буриме». Мы взяли по листику бумаги и карандаши.
— «Нету»,— сказал папа.
— «Поэту»,— ответила я и продолжала: — «Созвучья».
Папа ответил на это:
— «Получше».
Мы записали эти слова и стали сочинять на них стихи. У папы всегда очень ловко получается буриме. В этот раз он так написал:
Новых рифм в помине нету —
Очень плохо быть поэтом.
Все истрачены созвучья —
И похуже и получше.
А я так написала:
Смешнее человека нету,
Чем тот, кто хочет стать поэтом,
Чтоб целый день искать созвучья.
Быть химиком гораздо лучше.
Мы посмеялись сначала над тем, что он сочинил, затем над тем, что я сочинила, и стали играть в «типографию» — кто больше придумает слов из букв, заключенных в одном слове. Из слова «председатель» папа составил восемьдесят шесть слов, а я — двадцать семь. В «типографию» он всегда выигрывает.
88
— Ну, а что у вас в школе? — спросил вдруг папа.
— Ничего,— ответила я.— Опять получила тройку по сочинению.
— Почему?
Я рассказала, что Елизавета Карловна задала нам на дом написать сочинение на вольную тему — кому про что захочется. Я написала сочинение «Золото и железо».
— Покажи,— сказал папа.
Я дала ему свою тетрадку, и он начал внимательно читать. Вот что я там написала:
«Из золота делают разные драгоценные вещи, например кольца. У моей мамы есть золотое обручальное кольцо. И когда я была маленькой, оно мне очень нравилось, а теперь уже не нравится. Лучше бы кольца делали из железа, потому что когда хотят узнать, богатое какое-нибудь государство или нет, то спрашивают не про то, сколько оно имеет золота, а про то, сколько оно вырабатывает железа, потому что именно железо — самый главный металл.
А золото, которое называют благородным металлом, фактически металл кровавый. И правильно писали разные писатели, что золото принесло людям много неприятностей. Для того чтобы его получить, люди убивали друг друга, воевали друг с другом или продавали людей, как рабов. Я читала в какой-то книжке, что если бы все слезы, которые пролили из-за золота, собрать в одно место, то вышло бы целое море. Это объясняется тем, что за золото в капиталистическом мире можно все купить, то есть можно самому не работать, а жить за счет эксплуатации.
Мы с вами счастливые /поди. Мы живем в новом, светлом, социалистическом мире. У нас хозяевами жизни, хозяевами страны являются не алчные хищники и стяжатели, а люди труда. В нашем новом мире все природные богатства, все достижения науки, техники, культуры служат народу, используются для того, чтобы жизнь людей становилась с каждым годом лучше, счастливее, интереснее, радостнее. Таков главный закон нашего светлого мира — мира социализма».
— Почему же тройка? — спросил папа.
— Елизавета Карловна сказала, что поставила бы мне пятерку,— ответила я,— так как тема моего сочинения правильная и оно идейно по своему содержанию, если бы я не списала конец из «Комсомольской правды». А мне никогда даже в голову не приходило, что Елизавета Кар¬
89
ловна читает «Комсомольскую правду». И как можно запомнить, что где написано? Для этого все-таки надо иметь очень хорошую память.
— Оля Алексеева,— сказал папа,— это уже плагиат. Так ты, чего доброго, перепишешь «Белеет парус одинокий» и скажешь, что это ты сама написала.
На этом папа закончил нотацию, и мне показалось, что он совсем не огорчен моей тройкой. Мама мне это так легко бы не спустила.
Папа попросил, чтобы я ему дала еще чаю с лимоном и коньяком и положила побольше сахара. Он всегда кладет в стакан по шесть, а то и по семь кусков сахара. Не понимаю, как может мужчина быть таким сластеной. А когда я ему дала чай, он отпил немного и спросил, хочу ли я послушать, какую новую статью он собирается написать.
По-моему, он немного притворяется, когда задает такой вопрос. Он отлично знает, что больше всего на свете я люблю слушать его рассказы о статьях, какие он только задумал. В такие минуты я им особенно горжусь. Это и в самом деле здорово: тысячи и даже миллионы читателей еще даже не догадываются, что будет такая статья, ее еще не напечатали машинистки, не набрали наборщики, еще не оттиснули на газетных листах огромные, постоянно спешащие ротационные машины, лесоруб, может быть, только срубил дерево, из которого сделают бумагу, а я уже знаю, что будет в этой статье. Это все равно что заглядывать в будущее. Хоть краешком глаза, а заглядывать.
— Эта статья будет называться «Существует ли любовь?»,— сказал папа и искоса, чуть прищурясь, посмотрел на меня.
Я сделала безучастное лицо. Мне было страшно любопытно, потому что я сама часто задумывалась над этим вопросом, но я боялась, что вдруг папа раздумает и прекратит рассказывать, хотя бы потому, что статья, судя по названию, относилась к числу таких, о которых на афишах кинотеатров предупреждают: «Детям до шестнадцати...» Хотя, с другой стороны, газета — это не кино, и ее может прочесть любой ребенок и даже первоклассник.
— Видишь ли,— сказал папа, устраиваясь в постели поудобнее,— в чувство дружбы государство не вмешивается. Это личное дело каждого — дружить ему с каким-то человеком или не дружить. А вот с чувством любви дело обстоит сложнее. Брак заключается, или, во всяком случае,
90
должен заключаться, по любви. Семья представляет собой ячейку общества, как бы частицу государства. И вот Карл Маркс писал когда-то, что если бы брак не был основой семьи, то он так же не являлся бы предметом законодательства, как, например, дружба. Ты понимаешь это? — спросил папа.
— Понимаю,— ответила я не очень уверенно, потому что не знала, к чему он ведет.
— Но вот,— продолжал папа,— в нашу редакцию приходит много писем, в которых рассказывается, что с чувством любви у нас часто совершенно не считаются, как будто его не существует. В результате этого очень затруднены разводы в семьях, которые фактически распались, а люди, не получившие формального развода, не могут на законных основаниях создать новую семью. Я расскажу в этой статье о мальчике, который в четвертый раз убегает из дому, потому что его родители постоянно спорят и дерутся между собой. И о детях, у которых в метрике вместо фамилии отца прочерк, потому что родители не смогли оформить развода. И, наконец, отвечу тем, которые возражают против того, чтобы облегчить расторжение браков, потому что от этого страдают дети... Действительно, всякий семейный разлад отзывается на детях. Но нужно еще разобраться, от чего дети больше страдают. Какое из двух зол большее — родители, которые не любят друг друга, часто ссорятся, скандалят и отравляют этим жизнь детей, или родители, которые хоть и расторгнут брак, но воспитывают детей в дружной новой семье. Ну и в конце сделаю вывод о том, что если любовь существует, так с ней уже приходится считаться... В общем, я вижу, что статью на такую тему тебе читать будет неинтересно.
— Нет,— ответила я не сразу.— Мне это интересно.— А потом вдруг спросила: — Значит, мой родной отец и мама спорили между собой?
Папа страшно растерялся.
— С чего ты это взяла? — сказал он наконец.— Ничего подобного... Они никогда не ссорились и очень уважали друг друга... А как это тебе удалось так рано вернуться сегодня из школы? — постарался он перевести разговор на другую тему.
Мне было неприятно, что папа так смущен и растерян, и, конечно, в другое время я тоже охотно перевела бы разговор на школу, но сейчас я решила выяснить все до конца.
91
— Меня отпустили,— сказала я.— Но скажи — когда журналист или писатель что-нибудь пишет, он всегда пишет как бы о себе?
— Да,— ответил папа твердо.— Всегда. Как бы он ни старался быть объективным, но все равно все, о чем он пишет, преломляется в нем, все видится его глазами.
— Но если мой родной отец и мама не ссорились между собой, почему мама его оставила?
Я сама не ожидала, что спрошу это так резко.
Папа лежал на кровати, опешивший, растерянный, несчастный, с высокой температурой.
— Откуда ты это знаешь? — спросил он, не глядя на меня.
— Он приезжал недавно. Я с ним виделась.
— Это очень сложно,— сказал папа и посмотрел мне прямо в глаза.— Боюсь, ты меня не поймешь. Я очень люблю твою маму. Понимаешь... Можно быть счастливым человеком в самом черном государстве и несчастнейшим при самом справедливом строе. Многое зависит от того, кто рядом с тобой. А и я и твоя мама можем быть счастливыми, только если мы будем вместе.
Он так сказал это, что у меня сдавило горло. Кажется, я заразилась от Колиной мамы ее болезнью.
— И все-таки,— сказал папа,— ты маме не говори, что знаешь об этом. Ей будет неприятно.
— А я и не собиралась,— ответила я.
— И приготовь мне, пожалуйста, еще чаю.
Папа снова закурил, глубоко втягивая в себя табачный дым. Я все-таки больше похожа на папу, чем на маму. Хотя он мне и не родной отец. Я имею в виду не лицом, а в моральном отношении. У меня тоже недостаточная сила воли.
Папа бросал курить уже, наверное, сто раз. Делал он это всегда торжественно и жизнерадостно.
«Больше я не курю! — объявлял он маме и мне.— Для чего мне отравлять собственные легкие ядом, каплей которого можно убить голубя, кролика и даже лошадь. Ученые подсчитали, что процент заболеваний раком у курящих намного больший, чем у людей, которые, как ты и Оля, никогда в жизни не курили. Это последняя сигарета».
И он закуривал эту «последнюю» сигарету, а всю остальную пачку выбрасывал в мусоропровод, или в урну, или просто в Днепр — в зависимости от того, где это происходило.
92
Затем папа каждый день объявлял: «Четвертый день не курю! Пятый день не курю!» Так доходило до сорока дней. Но после этого он неизменно снова начинал курить и очень сердился, если ему напоминали, что он обещал больше никогда этого не делать.
Я похожа в этом на него. Сколько раз я решала, что буду готовить как следует все уроки, что буду устные готовить так же старательно, как письменные, что не буду рассчитывать на то, что меня не вызовут. И все равно — я не уверена, что делала это хоть сорок дней подряд.
Но дело не в этом. Дело в том, что, как ни странно, с папой мне легче разговаривать, чем с мамой. А сегодня я еще раз убедилась: он мне как-то ближе и понятнее.
И еще одно: я не могу этого объяснить, я это только чувствую, но мне кажется, что папа хочет написать эту свою статью о любви, чтобы оправдаться перед самим собой. А маму он очень любит. И меня. И это очень здорово!
Глава четырнадцатая
Коля был недоволен отметкой. Он и не скрывал этого. Садясь за парту, он так хлопнул крышкой, что учитель истории Михаил Иванович вскинул голову и так посмотрел на Колю, что я подумала, что он выставит его из класса, и дернула Колю за рукав, но учитель помолчал минутку и продолжал урок.
Все-таки в последнее время Коля стал придавать слишком большое значение отметкам — четверка по истории его уже не устраивала. Конечно, если разобраться по справедливости, так отвечал Коля на пятерку. Михаил Иванович поставил ему четверку, по-моему, только потому, что некоторое время болел, не ходил в школу и привык еще к старой Колиной репутации двоечника.
Теперь я понимаю, какая это прочная штука — репутация, как медленно она складывается и как трудно меняется. На том же уроке истории вызвали Лену. Она явно не выучила, путалась, сбивалась. И все равно Михаил Иванович поставил ей четверку. Вот что значит репутация отличницы.
У нас было родительское собрание. Мама вернулась с него очень мной довольная: Елизавета Карловна хвалила меня, говорила, что у меня будто бы большие педа¬
93
гогические способности, что во мне произошел какой-то перелом, что я стала значительно серьезнее, чем была прежде, и очень хорошо сумела помочь Коле Галеге. Потом Колина мама благодарила мою маму и говорила ей, что когда я прихожу, так у них дома от этого праздник.
Мама тут же добавила, что если у меня не будет головокружения от успехов и если я и дальше буду так же серьезно относиться к учебе, то я еще выйду в отличницы и докажу, что я не хуже Лены, которую по-прежнему ставили всем в пример.
А по-моему, это совершенно не нужно доказывать, Все и так знают, что я не глупее Лены Костиной и ум тут совершенно ни при чем, а просто Лена Костина старательнее меня и многих других и, очевидно, способнее к наукам. Она, правда, меньше других способна к химии и этим напоминает Колю, который теперь, как и Лена, вошел в нашу компанию и которому, как и Лене, скучновато, когда мы обсуждаем химические вопросы.
На днях Коля сказал мне:
— Хорошо учиться — очень просто. Не нужно для этого никаких особенных способностей. И совершенно ни к чему зубрить. Достаточно ежедневно готовить уроки. И все. Жалко мне теперь, что я потерял год.
Черт его знает зачем, но я сказала:
— Значит, тебе больше не нужна моя помощь?
Нет, мама была все-таки права насчет головокружения от успехов. Я быстро привыкла к тому, что Колины пятерки все, и особенно он, связывали с моим участием.
— Нет, не нужна,— отрезал Коля.— И я тебе скажу — мне надоело, что ты всюду хвастаешь. И что на меня смотрят, как на ученую собаку, а на тебя, как на дрессировщика. Хватит. И сидеть с тобой я тоже больше не хочу.
— Ну и не сиди,— сказала я.— Я тебя не звала.— И добавила: — Самшитик.
Коля странно посмотрел на меня и очень покраснел. Если бы, конечно, это сказала не я, а кто-нибудь из мальчишек, сейчас бы тут была хорошая драка. Я даже думала, что он и меня ударит, и мне хотелось этого. Если бы он меня ударил — я была бы права. Но он отвернулся от меня и пошел, но вдруг возвратился, посмотрел на меня с презрением и сказал:
94
— Эх, ты... А я тебя человеком считал... А ты занималась со мной, чтобы тебя похвалили... что ты помогаешь отстающему...
И ушел. А я немного поплакала и тоже пошла домой. Я открыла дверь своим ключом и вошла в переднюю. Когда я разделась, я заметила, что мамино пальто висит на вешалке.
Значит, что-то случилось. Я вошла в комнату и увидела, что мама переодевается. Тут мама — как была, в одной комбинации — схватила меня за руки и закружила по комнате. Я кружилась очень неохотно. Мама отпустила меня и сказала:
— Ну, Лялька, поздравь меня и себя тоже — на зимние каникулы мы с тобой и с папой поедем в Москву. Наш проект получил на всесоюзном конкурсе первую премию.
Мамин отдел проектировал для целины типовые зернохранилища, мама последнее время очень много работала и очень волновалась из-за своей работы.
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш — есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы,—
вдруг запела мама свой любимый «Марш энтузиастов». Когда у мамы веселое настроение, она сразу вся как-то хорошеет и становится удивительно, ну просто редкостно красивой.
Многие ребята из нашего класса уже побывали в Москве. И мне тоже очень хотелось побывать в Мавзолее Ленина и в Кремле и посмотреть на кремлевские звезды. Я так много раз видела Москву в кино, что мне кажется, я буду узнавать улицы.
Здорово будет, если я тоже побываю в столице нашей Родины.
— Хочешь посмотреть, что я тебе купила? — спросила мама. И она, все еще неодетая и необутая, в одних чулках подбежала к своей сумке и вынула оттуда серую небольшую коробочку.— Держи. Это тебе. Подарок...
Я открыла коробочку. Там лежали часики, такие маленькие, что у них не было даже секундной стрелки.
— Сегодня купим ремешок, и будешь их носить. Только не в школу. Я свои первые часы получила в шестнадцать лет. И не такие,— сказала мама.— Намного хуже. А сейчас
96
переоденься быстренько. Скоро придет папа, и отправимся обедать в ресторан.
— А уроки? — спросила я.
— Сделаешь позже,— сказала мама.— Может, хочешь пригласить с собой своего Колю?
— Нет,— ответила я,— он такой же мой, как твой. И я не хочу никого приглашать.
— Поссорились? — спросила мама.
— Нет,— сказала я.— Я ни с кем не ссорилась.
Я ответила так резко, что мама посмотрела на меня и сказала сквозь зубы — она причесывалась и в губах держала заколки:
— Очень ты все-таки тяжелый человек. Любую радость можешь испортить. Другая девочка не так бы обрадовалась таким часам. И уж, во всяком случае, поблагодарила бы за них.
— Спасибо,— сказала я.— Я просто...
Я не хотела огорчить маму. Я в самом деле была рада ее подарку и благодарна ей. Мне всегда хотелось иметь такие маленькие часики. Просто сегодня... А кроме того — куда же их еще надевать, как не в школу? Ведь именно в школе хочется, чтобы у тебя на руке были часы, чтоб посмотреть, много ли еще осталось до конца урока, успеет ли тебя учитель вызвать. А когда я сижу дома, они мне ни к чему — у нас будильник, и еще такие круглые часы на шкафу, и настенные на кухне. И на улице теперь часы на каждом углу, возле почты и во многих витринах. Я думаю, что у людей, которые живут в большом городе, наручные часы являются скорее украшением, чем измерителем времени. Потому их стараются делать такими красивыми, и даже есть уже кольца с часами.
— Ох, Лялька! — сказала мама, надевая свой синий костюм джерси.— Все люди строят воздушные замки, но при малейшем ветерке они разлетаются. И только мы, наша проектная группа, решили создать такой воздушный замок, чтобы он стоял, как каменный. Наш склад будет построен из воздуха... Представляешь себе — огромные капроновые полотнища, под которыми будет поддерживаться давление немного выше атмосферного. Такой склад будет в двенадцать раз дешевле самого дешевого из существующих теперь, а кроме того, его легко перевезти на другое место и поставить можно буквально за день... Так что у тебя в школе?
4 Школьные годы. Выпуск IV
97
— Ничего. Все благополучно.
— Брось, брось. Я тебя насквозь вижу. Покажи дневник.
Я показала.
— По физике пятерка. И по географии? И даже по геометрии? Молодец, Лялька!.. Так чем же ты недовольна?
— Я всем довольна.
— Ну, иди переоденься. С тобой не договоришься... Папа сейчас придет.
Примчался папа, веселый, красивый, нарядный — он купил себе такое коротенькое пальто из какой-то синтетики,— и закричал на нас:
— Милые дамы, подгоните ваших портных, парикмахеров и сапожников, потому что внизу ждет такси, и счетчик в этом такси крутится с нездешней силой.
Папа нас растормошил, мама докрашивала губы уже на лестнице, а папа тем временем говорил:
— Есть у американцев такая паршивая пословица: «Время — деньги». Обычно этого как-то не чувствуешь. Но до тех пор, пока ты не просишь таксиста подождать то небольшое время, какое требуется жене, чтобы накрасить губы и примерить пяток платьев.
— У меня всего пять платьев,— с обидой сказала мама.
— Ой ли? — ответил папа.
— Но как ты догадался? — счастливо рассмеялась мама.— Именно пять новых платьев я себе собираюсь сейчас сшить. Да самых модных! А тебе — новый костюм. Ты видел, какие я часы Оле купила?
— Нет. Когда же я мог?
— Нужен ремешок. Надо было взять часы с собой. Купили бы ремешок по дороге.
— Я сбегаю,— предложил папа.
— Ладно, потом,— ответила мама.
Мы сели в такси. Как всегда, мама и папа сзади, а я впереди, рядом с шофером.
— В ресторан «Динамо»,— сказал папа водителю, пожилому человеку, который очень недовольно покосился на меня, когда я завертела ручку, открывая окно.
Машина тронулась, а я все раздумывала о том, как же будет с Колей. Конечно, если бы я рассказала маме о нашем разговоре, то она ответила б, что я сама виновата, потому что я его обидела. Но ничем особенным я его не обидела. Ему часто говорили Самшитик, да и теперь говорят, и никогда он не обижался. Он просто стал теперь
98
таким обидчивым. Успех меняет людей. И не всегда к лучшему.
И мне очень захотелось, чтобы Коля, после того как поссорился со мной, снова начал получать двойки. Вот тогда бы он узнал. И все бы увидели, что хорошо учиться он начал под моим влиянием.
— Коля тебе ничего не говорил? — неожиданно спросил папа.
— Нет,— ответила я недовольно, потому что мне показалось, что он будто подслушал мои мысли.
— Значит, он ничего не знает... А тебя ждет большой сюрприз.
— Какой?
— Сюрприз имеет такое название потому, что должен быть неожиданным. Но я тебе расскажу,— сказал папа, расплачиваясь с водителем.— Пойдемте?
Он взял под руку маму и меня, а мы с мамой почти одного роста, и повел нас вверх по длинной и широкой лестнице к ресторану «Динамо».
В ресторане, когда мы уже сели за столик и когда наш знакомый официант, совсем молодой человек, подстриженный ежиком, по имени Федор Павлович, спросил у мамы, как ее здоровье, хотя мама никогда и ничем не болеет, спросил у меня, не именинница ли я сегодня, сказал папе, что погода портится, и посоветовал нам взять на обед беф «Динамо» — я только видела это блюдо, а никогда его не ела — это такое мясо, запеченное в горшочках, а сверху горшочки накрыты белым тестом,— папа сказал, чтобы нам дали этот беф «Динамо» и еще бутылку мускатного шампанского, а потом уже рассказал мне, что он как депутат горсовета выступил на заседании комиссии, которая занимается жилищным вопросом, и сказал, что родители Коли живут в плохих квартирных условиях и что Колина мама, Елена Евдокимовна Лукашенко, герой Отечественной войны, и им уже выделили квартиру в новом доме, в нашем же районе, почти против нас, и что дом этот на днях будет принят государственной комиссией и заселен.
Папа никогда прежде не говорил, что он депутат городского Совета. Я об этом даже не догадывалась. А мама смотрела на папу смеющимися влюбленными глазами и говорила, что он молодец, что это он сделал замечательное дело, что она хочет выпить шампанского за то, что он такой хороший, и чтобы он всегда был таким, а папа
99
смущенно отмахивался и говорил, что она его напрасно хвалит, что он зазнается и перестанет узнавать знакомых, а также слушаться жену и других начальников, а я смотрела на них, и мне было завидно, что им так хорошо и весело.
Глава пятнадцатая
Все-таки очень приятно умываться собственным мылом. Наверно, на всем земном шаре не много найдется людей, которые могли бы этим похвастаться.
Мыло приготовила я сама. Я положила в эмалированную кастрюлю топленое масло. Мама говорила, что его все равно нужно выбросить, потому что оно прогорклое. Масло это я залила раствором едкого натра. Раствор был примерно сорокапроцентный. Я сварила этот состав, все время добавляя в него воду и помешивая деревянной ложкой. Затем я добавила в кастрюлю раствор обыкновенной ку-. хонной соли, и на поверхности выделился слой мыла. Это мыло я собрала и отжала через марлю, а потом спрессовала его, положив между двумя слоями фанеры и усевшись сверху. Получился такой мыльный блин. Да, чуть не забыла, я добавила в это мыло мятных капель, и у меня мыло — мятное. Пена даже холодит кожу.
Я умылась собственным мылом, выпила стакан молока, съела ломтик хлеба, намазанный маслом и медом, и пошла в школу с готовым планом, как отомстить Коле. На эту мысль меня натолкнули «Приключения Тома Сойера». Я давно эту книжку читала, но хорошо помню, как там Бекки, когда обиделась на Тома, стала разговаривать с каким-то мальчишкой, которого Том вздул.
Вообще это очень хорошая книжка, и там много полезного. Непонятно только, какого возраста этот Том Сойер. То он ведет себя, как первоклассник, то вдруг вступает в «Общество трезвости», как взрослый, то рассуждает, как маленький ребенок, то как вполне разумный человек. Нет, я понимаю, что это может быть: я замечала, что мои одноклассники иногда рассуждают, как маленькие дети, а иногда — как старики, но все-таки хотелось бы точно знать, сколько лет ему было, когда он с Геком Финном нашел в пещере сокровища.
Я шла очень медленно и пришла к самому началу урока. Коля уже был в классе. Он вернулся на заднюю парту.
100
Я этого ожидала и все-таки надеялась, что он этого не сделает.
Я села на место и услышала, как в классе зашушукались.
На первом уроке наш математик Климент Ефремович вызвал меня и задал задачу — довольно простую, я знала, как ее решить, но все равно она у меня не получалась, потому что я допустила глупую арифметическую ошибку: от 82 отнять 11 я написала 72, и из-за этого вышел неправильный результат.
А сбилась я потому, что в классе, пока я отвечала, время от времени возникал, как говорит Елизавета Карловна, «нездоровый смех». Смех этот вызывал Сережа. У него насморк, и он научился каким-то особым образом сморкаться в платок. При этом он носом издает звук, похожий на звук трубы — вначале низкий и громкий, а заканчивается он таким тоненьким писком.
Если бы кто-нибудь другой так высморкался, то не обратили бы внимания или удивились и даже сказали, что так сморкаться неприлично. Но когда это делает Сережа, все вокруг смеются и считают, что это очень остроумно, потому что все й всегда ждут от него смешного. И он так к этому привык, что когда хочет сказать что-нибудь серьезное, а вокруг смеются, так он уже даже не обижается.
Климент Ефремович несколько раз подозрительно посмотрел на Сережу, но промолчал. У Сережи в самом деле был насморк, и, очевидно, Климент Ефремович не решился делать замечание человеку за то, что тот странно сморкается. Затем он просмотрел на доске мое решение и спросил:
— В чем тут ошибка? Кто скажет?
В классе первыми поднялись две руки: Лены Костиной и Коли Галеги.
— Вот, значит, как? — удивился Климент Ефремович.— Ну скажи, скажи,— предложил он Коле.
Коля сказал, что я неправильно отняла и что поэтому результат у меня получился неверный.
— Так,— сказал Климент Ефремович.— Нужно быть внимательней. Дай дневник.
Я дала дневник, и он мне все-таки поставил четверку. Я много раз замечала, что Климент Ефремович ко мне несправедлив. Но в хорошую сторону. Он мне всегда завышает отметки. Другому бы он поставил тройку.
Я не знаю, почему он так ко мне относится, но я
101
много раз замечала, что обычно глаза у него усталые и какие-то отрешенные, какие-то погруженные в себя, а когда он посмотрит на меня, глаза у него всегда веселеют. Но вот то, что Коля первым поднял руку, это уже, по-моему, просто свинство. Подумаешь — отличник... Если бы он ошибся, я бы так не сделала.
На переменке Коля вышел из класса вместе с Леной, а когда я тоже вышла в коридор, то услышала, как Лена оживленно и громко говорит Коле:
— Нет, нет... Совсем не так. И «гуд найт» и «гуд бай» при прощании обязательно нужно произносить с восходящим тоном. Если их произносить, как ты и некоторые другие, с нисходящим тоном, то это у англичан считается очень грубо и невежливо и обозначает видите вон, а я с вами больше не хочу разговаривать»...
Следующий урок у нас английский, мы этого не учили, и я по правде не знаю, чем отличается восходящий тон от нисходящего.
«Ну что ж, ладно»,— решила я и стала разыскивать Сережу, чтобы привести в исполнение план, подсказанный мне «Томом Сойером».
— Оля,— сказал Сережа,— а я тебя как раз ищу. Пошли в медпункт. Поможешь мне. Подержишь меня за ноги.
— Зачем — за ноги?
— Ну, пока мне будут капли в нос закапывать. А то я сам не удержу стойку на руках.
Мы пошли в медпункт, и наша докторша, вместо того чтобы выставить нас за дверь, сначала посмеялась, а потом действительно согласилась закапать Сереже в нос в положении вниз головой, заметив при этом, что так капли в самом деле не вытекут из носа и попадут, куда им нужно.
Сережа вышел из медпункта на руках. За дверью его ждала восторженная толпа пятиклассников во главе с Женькой Ивановым. Я еще не видела, чтобы человека так обожали, как пятиклассники Сережу. Они смотрят на него, как на бога. Если бы Сережа вздумал, они бы его носили на руках.
Никто так не ценит смешного и не нуждается так в смешном, как пятиклассники.
— Послушай, Сережа,— сказала я.— Может, ты пересядешь за мою парту?
Сережа посмотрел на меня очень понимающими, очень умными и даже сочувственными глазами, но сейчас же скорчил шутовскую физиономию и ответил:
102
— Сначала мне следовало бы поступить в секцию бокса, потому что драка с Самшитиком — не шутка. Но я никогда не забуду, как ты со мной поделилась последним бутербродом, и поэтому готов для тебя на все.
Позавчера я на переменке только развернула и положила на парту бутерброд, чтобы съесть его, как Сережа незаметно стащил мой бутерброд и съел его сам.
На следующем уроке была русская литература. Хорошие ребята учатся в нашем классе. Все сделали вид, что в том, что Сережа пересел за мою парту, нет ничего особенного. И даже Елизавета Карловна сделала вид, что ничего не заметила. Хотя этого я уж никак не ожидала. Елизавета Карловна не любит, чтобы ученики в ее классе меняли места без ее разрешения.
Елизавета Карловна рассказывала нам о формах поэзии и о белом нерифмованном стихе, который требует от поэта еще большего мастерства, чем рифмованный стих. В пример она приводила лермонтовскую «Песню о купце Калашникове».
— Можно вопрос? — сказал Сережа и поднял руку.
— Какой вопрос? — спросила недовольно Елизавета Карловна.
— Я не знаю, как поэтам, а мне очень легко сочинять белые стихи,— сказал Сережа.— Я могу переложить в белые стихи любую газетную статью или даже учебник.
— Что за чепуха! — сердито посмотрела на Сережу учительница и, как всегда, поморщив нос, передвинула чуть выше очки.
— Пожалуйста,— сказал Сережа, раскрыл учебник литературы и стал читать с огромным пафосом, повышая голос на концах строк:
Художественная литёра- Тура, живопись, музыка,
Театр, кино, танцы, архитектура, зодчество, скульптура Все это различные виды Искусства. Художественна- Я литература состоит Из произведений, напй- Санных писателями — поэтами, прозаиками, дра...
Все сидели совершенно огорошенные не столько самими
103
стихами, сколько горячностью, с которой их произносил Сережа, а кто-то даже подвывал от удовольствия.
— Хватит, хватит,— сказала Елизавета Карловна, но Сережа, как поэт в порыве вдохновения, в позе Пушкина со знаменитой картины — Пушкин на лицейском экзамене,— продолжал:
Матургами. В этих произведениях, как и в других видах искусства, в художественной Форме в образах отра...
— Хватит,— сказала Елизавета Карловна.— Мы уже насладились твоими стихами. Садись.
И, когда Сережа сел, она продолжала:
— Вот, ребята, Сережа привел очень яркий пример к тому, что я говорила. Как видите, одной перестановкой ударений нельзя сделать стихов из прозы. Однако если бы он не импровизировал, а подготовился как следует дома,* ему, возможно, удалось бы даже зарифмовать между собой строки, которые он нам читал. Но и от этого они не стали бы более поэтическими. Как я вам объясняла, поэзия — это не ритм и не рифма, а прежде всего мышление образами.
Елизавета Карловна продолжала урок, но я отвлеклась и некоторое время не слышала того, что она говорила, потому что задумалась о ее словах. Я совсем не понимаю, что значит «мышление образами». По-моему, все люди мыслят образами. Даже при решении арифметических задач. Даже цифры можно себе представить в виде образов. И я начала складывать в голове сказку о цифрах.
Когда-то королевство цифр,
Своих соседей покорив,
На зависть и на страх врагам,
Тра-та-та-там, тра-та-та-там...
Царящею, держащей власть Династия 1 была.
Царь, выступая, гордо нес
Свой длинный, тонкий, острый нос.
Его министр первый — 2.
Он, говорили, голова.
104
И вправду, голова его Министра больше самого.
Но шел слушок из уст в уста,
Что голова его пуста.
Затем что-то такое про 3 и 4, а потом:
Богаты страшно 5 и 6—
Имений, фабрик их не счесть.
Тот и другой вперед несет С огромной важностью живот.
Из 7 надо будет сделать военного.
А 8, 9—те купцы,
В их магазинах леденцы,
Автомобили «кадиллак»,
Идут отлично их дела.
А нуль сделаем ученым. Толстым и добрым ученым.
Профессор — старый толстый нуль.
Старик боится свиста пуль.
Автомобилей, лошадей,
Дам, жаб, мальчишек и т. д.
«И т. д.», или, иначе, «и так далее», как любит говорить мой родной отец.
Я подумала о том, что нужно будет написать в Новосибирск письмо. Написать, чтобы отец прислал мне свою фотографию и фотографию своих детей, раз уж они мне какие-то родственники. Что я живу очень хорошо, и увлекаюсь химией, и всем довольна.
И еще я подумала, что если бы за моей партой сидел Коля, то я бы ему шепнула: «Я решила написать письмо своему отцу в Новосибирск», а он бы не удивился, кивнул головой и тихо ответил: «Ну что ж, напиши». А Сереже я этого не могла сказать.
А потом уже я подумала, что из меня никогда не будет хорошей ученицы, потому что, пока я все это думала, урок закончился, а я почти ничего не слышала и не запомнила.
После уроков Коля, Витя, Сережа и Лена как ни в чем не бывало пошли вместе домой, и моя выдумка с «Томом
105
Сойером» ничего не дала, а я осталась в школе, чтобы повидаться с Евгенией Лаврентьевной.
Мне всегда нужна теория. Когда мне было четыре года (я хорошо помню, в четыре года меня отдали в детский сад), я услышала от соседской девочки, что вода состоит из газов: из водорода, который так называется потому, что родит воду, и кислорода. Если их соединить и пропустить хоть маленькую искорку, раздастся взрыв и получится капля воды.
Я тогда же сложила для себя теорию, что тучи состоят из газа, я даже знала, что белые — это водород, а черные — кислород и что когда между ними проходит искра — молния, то раздается взрыв — гром и падают капли воды.
Я была настолько уверена в правильности этой своей теории, что узнала, как получается дождь на самом деле, значительно позже, чем нормальные дети,— кажется, только в четвертом или пятом классе, когда нам рассказывали об этом в школе.
Сейчас у меня новая теория, и я хотела посоветоваться о ней с Евгенией Лаврентьевной.
Я долго ждала за дверью, пока уйдут ученики из разных классов, которые после уроков всегда остаются в лаборатории, задают Евгении Лаврентьевне вопросы, проводят опыты, которые их интересуют.
Наконец они стали выходить, но Евгения Лаврентьевна вышла вместе с ними. Однако когда она увидела меня, она спросила: «Ты ко мне, Оля?» — и вернулась в лабораторию. А я за ней.
— Что у тебя такое? — спросила Евгения Лаврентьевна чуть ворчливо, но на часы не посмотрела. Она никогда не смотрит на часы, если разговаривает с ребятами.
Я сначала расспросила Евгению Лаврентьевну, что такое «губчатая платина», а она спросила, где я встретила это название, и рассказала мне, что это такое, а потом уже я сказала:
— И еще я хотела у вас спросить... есть ли ученая формула про то, что такое любовь и отчего она происходит?
— Формула? — удивилась Евгения Лаврентьевна.— По-моему, нет. Я, во всяком случае, не знаю такой. А у тебя на этот счет появилась новая теория?
— Да,— сказала я.— Химическая. Мне кажется, что это — как соединение химических элементов в какое-то
106
вещество... Или, вернее, двух веществ в одно новое. В одном не хватало одних элементов, в другом — других элементов, а когда они соединяются, они как бы дополняют друг друга. И любовь тоже, может быть, появляется, когда в одном человеке не хватает одного, а в другом другого, и они это чувствуют и как бы тянутся друг к другу.
— Нет,— сказала Евгения Лаврентьевна,— это значительно сложнее в химии, а уж в жизни — и говорить не приходится... Ты пишешь стихи?
— Да,— ответила я.— Пишу.
— Прочти мне что-нибудь на память.
Я прочла Евгении Лаврентьевне стихи про Буратино и про Тараса Шевченко. Она слушала очень внимательно и, как говорит в таких случаях мой папа, уважительно, а потом сказала:
— Я не считаю себя знатоком поэзии, и поэтому мое мнение не может иметь особой цены. Но мне твои стихи понравились, и я думаю, что тебе следует продолжать их писать... Ну, а теперь, если у тебя нет других вопросов, пойдем домой.
И уже по дороге она сказала:
— Писатели иногда каким-то удивительным образом догадываются о том, что лишь впоследствии открывают ученые. Вот, например, ты читала «Путешествие Гулливера» Свифта?
— Читала.
— Я не знаю, обратила ли ты на это внимание, но Свифт упоминает там, что у Марса есть два спутника. Тогда еще не было телескопов и люди не знали о спутниках Марса. Но впоследствии ученые установили, что у Марса действительно есть два спутника — Деймос и Фобос. Как об этом мог догадаться Свифт — неизвестно до сих пор.
Она замолчала, и я подумала, что она сейчас расскажет о своей теории, откуда это могло быть известно Свифту, но вместо этого она сказала:
— Или вот ты еще будешь изучать роман Чернышевского «Что делать?». В этом романе Чернышевский назвал алюминий металлом социализма и говорил, что в будущем будут сооружаться громадные дома с массой света и воздуха из алюминия и стекла. В те времена, а роман этот был написан в начале 1863 года, алюминий считался драгоценным металлом и стоил примерно столько же, сколько золото. Еще через шесть лет после того, как был написан роман, в Лондоне побывал Менделеев, и ему в знак при¬
107
знания его заслуг в развитии химии был сделан особо ценный подарок — весы из золота и алюминия. А сегодня наш Дворец спорта в самом деле построен из алюминия и стекла. И алюминий действительно стал «металлом социализма»...
Глава шестнадцатая
Это называлось «торжественная линейка». Но нас просто всех собрали в школьный зал, а на сцене двое военных — об одном из них Витя шепнул мне «полковник», а о другом — «капитан» — дали Юре Дроботу из 6-го «А» класса именные часы и грамоту.
Юра, тихий мальчик в очках и с «собачьим прикусом» — нижние зубы у него выдаются вперед,— сказал в ответном слове, что он ничего особенного не сделал и что так же, как он, поступил бы на его месте каждый пионер, а мы все аплодировали ему и немного завидовали.
Конечно, Юра сказал неправду. Так бы поступил не каждый. Во всяком случае, до того, как это сделал Юра. Но теперь, после того как он совершил свой героический поступок и показал пример, я думаю, что в самом деле так бы поступили многие школьники. Хотя для этого нужна, конечно, настоящая храбрость.
Юра Дробот шел в школу и увидел, как из окна высокого нового дома валит дым. Он поднялся на четвертый этаж, где была квартира, в которой что-то горело, и стал звонить и стучать. Но ему никто не открывал. Тогда он вбежал на этаж выше и позвонил в дверь. В той квартире была только старая бабушка — дети ушли в школу, а взрослые на работу.
Юра Дробот попросил у бабушки крепкую бельевую веревку, привязал ее к перилам балкона, спустился по веревке на четвертый этаж, выбил в двери на балконе стекло, открыл эту дверь и вошел в квартиру, полную дыма. Он пробрался через дым на кухню и увидел, что там уже горит стол, на котором забыли включенный электрический утюг.
Юра залил стол водой и выключил утюг. А утюг, как потом выяснилось, даже не испортился — такие теперь делают хорошие утюги.
Вот за это Юру и наградили. И вполне заслуженно, потому что очень страшно, наверное, было ему спускаться
103
с пятого этажа на четвертый и лезть в дым. Но он сказал, что сделал это, не дожидаясь ничьей помощи, потому что очень спешил.
Соседская бабушка сказала ему, что там, кажется, остался ребенок. И Юра испугался, что ребенок этот может сгореть в пламени или задохнуться в дыму. Поэтому, не ожидая старших, Юра бросился на помощь.
Весь зал смотрел на него во все глаза, как на героя, а он стеснялся. И действительно, ничего героического в его внешнем виде не было. Когда его фотографировала тетенька — корреспондент «Пионерской правды», она спросила, всегда ли он носит очки. По-видимому, она хотела, чтобы он снял очки, потому что в очках человек выглядит недостаточно героически. Но Юра сделал вид, что не понял ее намека, и ответил: «Да, всегда».
Интересно бы все-таки было посмотреть вблизи, какие часы ему подарили и какая на них выцарапана надпись. Теперь уже ни один учитель не сможет запретить Юре приходить в школу с часами. И, конечно, получить такие часы с надписью куда приятнее, чем подарок от мамы. Тем более, что мама не позволяет брать с собой в школу эти часы.
И я очень завидовала Юре, что он совершил такой замечательный поступок и так скромно себя ведет.
На переменке к нам подошел Женька Иванов. Я заметила, что лицо у Женьки как-то изменилось, и сразу не могла понять, что с ним такое, а потом сообразила: он выпячивал вперед нижнюю челюсть, чтобы быть похожим на Юру Дробота.
— Воля должна быть стойкой, твердой и гибкой,— сказал Женька.— Действия настоящего волевого офицера являются решениями, основанными на трезвом учете реального положения и знании общей задачи...
— Ты что, с ума сошел? — спросила я.
Женька Иванов поднес левую руку ко лбу, как козырек, а правой отдал честь и важно ответил:
— Так говорится о таких людях, как Юра Дробот, в книге «Офицер на войне».
Все наши мальчишки-пятиклассники помешались на военных книжках. Если в заглавии есть слово «война», они эту книжку готовы выучить на память. А вообще Женька стал «любимчиком» у Евгении Лаврентьевны. Хотя он и пятиклассник, она ему разрешает после уроков приходить в химический кабинет и делать там разные опыты вместе
109
со старшеклассниками, Евгения Лаврентьевна теперь, по-моему, разговаривает с Женькой Ивановым не меньше, чем с Витей, который начал ходить к ней в кабинет тоже с пятого класса.
Не знаю, как для других, а для меня звонок на урок всегда звучит по-разному. Очевидно, это зависит от того, на какой урок он зовет, готово ли у меня домашнее задание, не боюсь ли я, что меня вызовут. Сейчас звонок звучал весело и дружелюбно: у нас химия. Но Витя при этом звонке очень заволновался и покраснел. Евгения Лаврентьевна поручила ему сегодня сделать «сообщение». Она часто поручает ребятам подготовить «сообщение» — это значит короткий, десятиминутный рассказ о каком- нибудь химическом вопросе, который мы еще не изучаем, но который интересует наших ребят. Витя сегодня должен рассказать о полимерах. О полимерах пишут во всех газетах и говорят по радио, а изучают их только в десятом классе.
Я всегда знала, что наш химический кабинет — самый лучший в мире. Но теперь я заметила в нем еще одну замечательную штуку. Я прежде на это не обращала внимания. Правда, я об этом никому не расскажу, потому что это — тайна. Над столом Евгении Лаврентьевны висит большой портрет Менделеева. Если посмотреть на этот портрет, то, оказывается, в стекле видно все, что делается сзади. И пока я сижу на химии, я все время вижу Колю Галегу, который теперь снова сел за последний стол. А на других уроках и на переменках мы не смотрим друг на друга.
Когда наши ребята ссорятся, они иногда перестают разговаривать между собой. Из-за этого, когда Таня Нечаева поссорилась с Сережей, весь класс хохотал.
Сережа на переменке в присутствии Тани вдруг громко обращался ко мне:
— Оля, скажи Тане, чтобы она мне отдала «Таинственный остров». Я взял эту книжку у тети, а новый тетин муж говорит, что я ему разрознил все подписные издания.
Я говорила Тане"
— Отдай Сережину книжку.
Тогда Таня отвечала:
— Оля, скажи Сереже, что у меня есть свой «Таинственный остров» и пусть он ко мне не пристает.
Я говорила Сереже:
— У нее — свой «Таинственный остров»...
110
По-моему, Сережа никогда так много не разговаривал с Таней, как в те дни, когда они «не разговаривали» друг с другом.
Но мы с Колей разговариваем. Однако только по делу, когда занимаемся у Вити исследованием катализаторов.
Наши ребята любят слушать «сообщения». Особенно потому, что докладчика можно «засыпать». Можно задавать ему вопросы, а вопросы эти ребята потихоньку готовят заранее.
Витя стал за учительский стол, а Евгения Лаврентьевна села в сторонке у окна на стуле.
— Есть ли жизнь на Марсе? — сказал Сережа, но Лена Костина зашипела на него: «Оставь свои шуточки!» — и Сережа замолчал.
Витя раскрыл и снова закрыл тетрадку, в которой он записал свое «сообщение», и начал рассказывать:
— Было время, когда ножи и другие вещи делали из камней. Такую эпоху называют каменным веком. Потом наступил бронзовый век, когда все делали из бронзы. Затем — железный, когда все стали делать из металла. А теперь наступил новый век — полимеров...
Я посмотрела в портрет Менделеева на Колю. Он сидел опустив голову и скручивал пальцами трубочку из промокашки.
— Уже на сегодняшний день,— продолжал Витя, все так же не заглядывая в тетрадь,— мировое производство полимеров в два раза больше выпуска меди, алюминия, цинка и других цветных металлов... Название «полимер» — от греческих слов «поли» — много и «мерос» — частица. В молекуле полимера много атомов. Как мы знаем, молекула воды состоит из трех атомов, а молекулы некоторых полимеров состоят из миллиона атомов...
Коля в портрете быстро раскрыл тетрадь и что-то в нее записал. Что он пишет? Может, он тоже сочиняет стихи?
— Самые распространенные полимеры — это пластмассы. Они имеют замечательные свойства. Есть, например, такая пластмасса — тефлон. Эту пластмассу называют химической платиной. Ее не могут разъесть самые сильные кислоты, она не горит и не меняется при очень низкой и очень высокой температуре...
«Тефлон,— подумала я и посмотрела на Колю.— Надо будет спросить у Вити, для чего его применяют».
Витя заглянул в тетрадку.
— Шестерни из пластмассы текстолит прочнее сталь¬
111
ных, а работают они бесшумно. Стеклопластик в два с половиной раза легче алюминия, но он прочный, как сталь. Из него делают лодки, катера и даже кузова для автомашин. Ну, про синтетический каучук и так все знают, а это тоже полимер... В строительстве из пластмасс готовят целые дома, в них и мебель, и окна, и двери — все из пластмассы. А водопроводные трубы из пластмассы не боятся мороза.
Коля оперся головой на руку и улыбнулся... Может быть, он представил себе окна, которые не разбиваются, когда ребята играют в футбол?..
— Промышленность выпускает очень много искусственного волокна из полимеров. Есть, например, такое волокно — нитрон. Оно лучше шерсти. Вот, например, из нитроновой ткани сделали костюм и целый год держали его под солнцем, под дождем, в снегу. Этот костюм мяли, мочили, сушили, а потом еще вываляли в грязи, нарочно облили маслом. После этого костюм постирали в теплой воде с мылом, и он стал как новый...
Я посмотрела в портрет Менделеева на Колю в стареньком свитере и подумала, что костюмы из нитрона прежде всего нужно делать для школьников, особенно для мальчишек — одежда у них очень рвется и пачкается.
— Из полимеров в медицине делают искусственные ребра, суставы и сухожилия,— сказал Витя.— Тонкие пластмассовые пленки заменяют в ушах поврежденные барабанные перепонки, а из пластмассовой трубки делают пищевод...
— А из пластмассового шара — голову,— подсказал Сережа, но Витя не растерялся и ответил:
— Если не верите — пощупайте Сережину. Но пластмассовая голова интересует только Сережу. А вот пластмассовая мышца может получиться в самом деле...
Я насторожилась. Неужели Витя собирался вот так, перед всеми, рассказать наш секрет? Но Витя рассказал только о том, что некоторые полимерные пленки под воздействием кислоты й щелочи растягиваются и сжимаются, как мускулы, и что ученым в будущем удастся создать машины, которые смогут работать при помощи таких пленок.
— Представляете себе,— сказал Витя,— робот, огромный, как дом. И у этого робота все мышцы, как у человека, только из полимерных пленок. И им можно управлять на
112
расстоянии по радио. Такой робот возьмет лопату величиной с наш химический кабинет и будет работать, как экскаватор. Или, если надо будет проложить дорогу в лесу, он сможет выдирать деревья, как траву. Или, если застрянет в грязи автомашина, он возьмет ее на руки, как ребенка, и перенесет на дорогу...
Ребята здорово слушали Витю. И только Сережа сказал:
— Не хотел бы я поздороваться за руку с этим роботом.
Всем было так интересно слушать про Витиного робота, что ему почти не задавали каверзных вопросов. Только наша модница Таня Нечаева спросила, из чего делают нитроновую шерсть, и Витя, не задумываясь, ответил, что из ацетилена — газа, которым сварщики на стройках сваривают водопроводные трубы, и синильной кислоты.
Евгения Лаврентьевна от нашего имени поблагодарила Витю за интересное «сообщение». На переменке ребята окружили Витю, который продолжал рассказывать про робота. Подошла к Вите и я. А Коля прошел мимо и даже не оглянулся в нашу сторону. Ну и пусть...
На последнем уроке у нас было домоводство. Для занятий по домоводству в школе специальный класс. Там две газовые плиты и буфет с посудой, а посреди комнаты — длинный стол. На уроке мы сидим по обе стороны этого стола, друг против друга.
Еще перед уроком я заметила, что Таня и Вера о чем-то перешептываются и что-то затевают, а когда мы расселись, поняла, в чем дело. Они устроили так, что я оказалась против Коли. Коля уставился в стол, а они захихикали.
Наша учительница домоводства Миля Степановна — странная женщина. Она очень серьезно нас учит, как готовить разные блюда, и сервировать стол, и шить, и все это она очень хорошо знает, но разговаривает она так, как будто в жизни не читала никаких книг. Вместо «регулировать» она говорит «лекулировать». Можно было бы подумать, что она просто не выговаривает этого слова, но это не так, потому что вместо «реагировать» она очень хорошо выговаривает «регулировать». Ребята ее любят. Даже мальчишки ходят на ее уроки и тихо сидят, хотя им домоводство учить не обязательно.
Сегодня у нас, по словам Мили Степановны, основной
113
вопрос домоводства на Украине: как готовить вареники с творогом.
Все наши девочки принесли в школу по сырому яйцу, немного творога и муки. Миля Степановна засучила рукава и принялась за тесто.
— Смотрите,— говорила она,— в муке делается вот такое углубление, а в него наливают воду и сырые яйца...
До чего же красиво все это получалось у Мили Степановны! Толстая, румяная, веселая, она все это показывала с таким удовольствием, и так ловко все у нее выходило, что нашим девочкам хотелось уже скорей самим приняться за тесто для вареников.
— А теперь поставим тесто ненадолго в холодное место, ну, вот хоть сюда, на окно, и возьмемся за творог...
Я посмотрела на Колю. Он сидел красный и растерянный, а перед ним лежал листок бумаги — какая-то записка.
Я хорошо умею читать книги или даже письма вниз головой. Вообще я сначала научилась читать наоборот, мама меня долго от этого отучала. Когда мне было пять лет, мы жили в квартире с соседями, а у этих соседей была девочка по имени Люба. Она была старше меня на год, а ее брат, Миша, уже учился в пятом классе. И он учил Любу читать по букварю. Во время этих занятий я всегда садилась против них и внимательно слушала. Но так как я сидела по другую сторону стола, то и запомнила все буквы вниз головой. Когда же выяснилось, что я не могу прочесть обыкновенной вывески, но бегло читаю детские книжки, если их повернуть наоборот, мама пришла в ужас и стала меня переучивать.
На листике бумаги, который лежал перед Колей, было написано:
Коля, давай мирится, потому что мне все это уже надоело. Я считаю, что мы оба не правы, а наша дружба должна быть выше всяких мелких обид. Если ты со мной согласен — ничего не говори, а только кивни головой. Оля.
Все это было написано почерком, похожим на мой, и даже такими словами, какие могла бы написать я сама, лишь в слове «мириться» был пропущен мягкий знак.
Коля посмотрел на меня и быстро закивал головой. Несколько раз подряд. Таня Нечаева прыснула.
114
— Это написала не я,— сказала я Коле.— Это написали девочки. Можешь не кивать.
Если бы Таня не засмеялась, может быть, я промолчала бы, и все хорошо б закончилось. Но теперь и у меня и у Коли был отрезан всякий путь к отступлению.
Глава семнадцатая
Теперь, когда я иду по улице, или прихожу в школу, или сижу в классе, мне кажется, что всё смотрят только на меня. И я стараюсь принять самый скромный вид, какой только могу. Я стараюсь даже не смеяться громко, когда хожу, не размахиваю руками и говорю меньше глупостей, чем прежде.
И все равно в моем присутствии ребята умолкают и поглядывают на меня с любопытством, а мне это — честное слово, правда — уже почти совсем не лестно, а только неловко. И учителя стали ко мне строже, и только Елизавета Карловна поставила мне четверку за сочинение, за которое она раньше выше тройки бы не поставила.
А на адрес школы на мое имя идут письма. Больше всего писем от школьников, но из Омска письмо мне написал старик кузнец, по фамилии Грозных, а из Нов- города-Северского какая-то учительница с неразборчивой фамилией написала, что я не должна зазнаваться достигнутыми успехами, а должна очень много работать над собой, как это делали Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Толстой.
Я спросила у папы, нужно ли мне отвечать на письма, и он ответил, что нужно. За всю свою жизнь я не написала столько писем, сколько за последнюю неделю.
Писать ответы на письма очень трудно. На диктовках в школе и в школьных сочинениях я никогда не боялась, что сделаю грамматическую ошибку, и всегда писала более или менее грамотно. Ну случится, пропущу букву или перед «что» не поставлю запятую. Но это бывает редко.
А вот в ответах на письма я очень боюсь сделать ошибку, и вдруг оказывается, что я не помню, как правильно писать самые обыкновенные слова, и я все время заглядываю в папин словарь.
Из Закарпатья я получила замечательную посылку. Народный художник Барна прислал мне письмо и подарок — портрет Тараса Шевченко, вырезанный на деревянной до¬
115
ске, покрытой черным лаком. Это называется гравюра по лаку, а вокруг деревянная некрашеная рамочка с резным гуцульским узором. Шевченко на этом портрете суровый и гневный, каким он был, наверное, когда писал о Петре Первом:
Це той первый, що розпинав Нашу Украшу...
Портрет Шевченко я повесила над своей кроватью и по утрам, когда просыпаюсь, первым делом смотрю на него.
Пришло на адрес школы из Новосибирска и письмо от моего родного отца. Он написал, что я молодец, что я замечательная девочка, что он гордится мной и ставит меня в пример своим детям, которые являются моими братьями, хотя я их никогда не видела. Зовут их Дима и Ростик, и, оказывается, они близнецы.
А папа недоволен всем этим и огорчен. Он говорил вечером с мамой, а я не спала и слышала из своей комнаты, что головы и покрепче моей не выдерживали внезапного успеха, что лучше бы все это произошло через десяток лет и что их ответственность за меня и мое будущее еще более повышается.
Но мама с ним, по-моему, не согласна, вчера она мне сказала, что я уже большая и могу носить часики куда угодно, даже в школу, только чтобы я их не разбила в драке. А «Литературную газету» с моими стихами она носит в сумочке и показывает всем знакомым.
В «Литературной газете», под названием «Доброго пути», была напечатана статья писателя Корнилова. Он написал о нашей встрече, о сказке, которую я рассказывала Наташке, и как Наташка сказала о нем «может быть, этот дядя садист», и о нашем разговоре про Шевченко, и про химию, и про стихи. Закончил он статью красивыми латинскими словами «Poetae nascuntur» — «поэтами рождаются», и что я, Оля Алексеева, родилась таким поэтом, и что поэтическое время, в которое мы живем, помогло развиться во мне моим задаткам, и что он предлагает вниманию читателей мои стихи.
И целых пять стихотворений. И фотография, на которой я выгляжу страшно испуганной,— ее сделали, когда я еще училась в шестом классе. Эту фотографию редакция, как я узнала, получила в школе. Честное слово, все это заняло почти половину газетной страницы.
116
Я уже читала стихи на школьном вечере, и меня пригласили прочесть свои стихи во Дворце пионеров и даже в Киевском педагогическом институте — перед будущими учителями.
И я читаю стихи и принимаю, как должное, аплодисменты и славу, делая самый скромный вид, какой только могу, а внутри во мне все время страх, что я самозванка и что все это какая-то глупая ошибка.
Дело в том, что в нашей школе очень многие ребята пишут стихи и, по-моему, пишут их лучше меня. Они очень здорово умеют написать стихотворение к Первому мая, или к Октябрьским праздникам, или эпиграммы на учителей, а у меня это никогда не получалось. И я думаю, что любой из них может сказать: «Подумаешь, у меня стихи лучше, а на нее все смотрят так потому, что про нее написал в газете известный писатель Корнилов».
Но ведь и в самом деле, на мои стихи по-прежнему никто бы не обращал внимания, да я их почти никому и не показывала, если бы Павел Романович не написал про них в «Литературной газете».
А написал он про них потому, что встретился со мной в садике возле нашего дома и случайно заговорил со мной. Но, может быть, он просто не знает других детей, и у него нет своих детей, и он даже не догадывается, что очень многие ребята пишут стихи, и поэтому его удивило, что я их пишу, и поэтому они ему так понравились?.. И как вообще попал он в наш садик?..
Я пошла в садик и села на ту самую скамейку, на которой мы тогда сидели, только не на то место, где сидела я с Наташкой, а на то место, где сидел писатель, и стала представлять себе, почему он там сидел.
Я представила себя на его месте и посмотрела перед собой и вдруг увидела то, на что я прежде не обращала внимания. То есть я видела это каждый день, но как-то по-другому.
Я увидела огромный новый дом, облицованный кремовой плиткой, со множеством балконов. И каждый балкон — это, значит, квартира, и в каждой квартире люди, которые очень любят друг друга, но все равно часто не понимают друг друга и ссорятся из-за всяких пустяков.
На одном из балконов была сделана как бы стеклянная клетка, как бы закрытая стеклянная веранда вместо балкона, и там стояло кресло, и сидел на нем какой-то дяденька с круглым лицом и усами. Я и прежде его
117
всегда там видела, но никогда не задумывалась: а почему он там сидит? Вероятно, он болен? Но чем? Может быть, у него парализованы ноги? Может быть, нужно пойти в эту квартиру и узнать, что с ним? Может быть, ему нужны книги или еще что-нибудь? И, может быть, писатель заметил этого человека, сел на скамейку и задумался о нем?
А на другом балконе висит белье — простыни, пододеяльники, наволочки. Ветер их надувает, они трепещут под ветром, как паруса, и кажется, что сейчас вот-вот оторвут балкон от дома и понесут его по воздуху. И, может быть, писатель представил себе, как задрожал и помчался балкон.
А внизу гастроном. Из дверей гастронома вышла старушка с двумя тяжелыми мешками, связанными между собой. И один у нее впереди, а другой сзади, за спиной, вернее, за плечом. По виду старушка — крестьянка, вероятно, приехала она в город, чтобы купить разных товаров, гостинцев внукам. Но мимо проходят новенькие автомашины, и троллейбусы, и небо расчертил реактивный самолет, а старушка тянет свои мешки на себе, как сто лет назад. И, может быть, писатель заметил такую же старушку, и присел на скамейку, и задумался об этом?
Я вернулась домой и написала Павлу Романовичу письмо, в котором рассказала ему о своих сомнениях и попросила написать мне, почему он сидел на скамейке в нашем садике.
Я очень испугалась, что потеряла адрес Павла Романовича, но потом вспомнила, что спрятала его адрес в «Кобзарь». Я нашла записку с адресом и надписала конверт.
«А если бы просто написать на конверте: «Москва, писателю Корнилову», дошло бы письмо?» — подумала я. И решила, что дошло бы. Такой это писатель.
И еще я думала о том, что, конечно, случайность имеет значение. Не только для меня. Когда Юра Дробот шел по улице, он случайно оказался против того дома, из окон которого валил дым. Но то, что он спустился по веревке на балкон, нельзя ведь считать случайностью. Или то, что Колиного дедушку, отца Елены Евдокимовны, расстреляли фашисты, может быть случайностью, хотя он спас раненого, а фашисты за это расстреливали. Но то, что Елена Евдокимовна была санитаркой и вынесла на себе столько
118
раненых солдат из боя — это уже не случайность. Это — ее героизм. *Гак что нельзя все объяснять одной случайностью.
На почте тетя, которая принимает письма, сказала, что для авиазаказного нужно еще доплатить шесть копеек. Она не обратила никакого внимания на то, кому я посылаю письмо, что на конверте написан адрес писателя, и дала мне квитанцию — узкую полоску бумаги, на которой было написано только: «Москва. Корнилову» — совсем как я сначала собиралась написать на конверте.
А когда я возвращалась, из двора соседнего дома неожиданно выскочил Петька и тот новый мальчик, которого я ударила портфелем.
— Вот она! — сказал Петька.
Я приосанилась, потому что за последние дни часто слышала, как в школе обо мне говорили: «Вот она!» — но Петька подскочил ко мне и больно дернул меня за косичку, а второй мальчишка ударил меня сзади коленкой так, что я просто полетела вперед.
Они ничего не слышали о том, что мои стихи под заголовком «Доброго пути» напечатаны в «Литературной газете», а если и слышали, то им на это было совершенно наплевать.
И так как их было двое, а я одна, то я бросилась наутек, а они бежали за мной и кричали, что «покажут мне», но они меня не догнали, а я вбежала в свой двор, где, к счастью, были Витя, Сережа и Женька Иванов. Это мне просто повезло.
У Сережи в руках были лук и стрелы.
— Послушай, Оля! — обрадовался он.— Хочешь быть нашим Вильгельмом Теллем?
— Каким Вильгельмом Теллем?
— Мы тебе поставим на голову яблоко, и кто собьет
его.
— Нет,— сказала я,— не хочу. Вы мне глаза выбьете.
— Боишься?
— Не боюсь, а не хочу.
— С тех пор как ее фотографию и стихи напечатали в газете,— сказал Витя,— она стала воображалой... Можно ведь закрыть глаза руками или стоять к нам спиной.
Если бы он не напомнил о моих стихах, я бы, конечно, отказалась, но теперь я сказала:
— Ну хорошо, я стану спиной.
Они положили мне на голову яблоко и стреляли в него
119
до тех пор, пока не попали мне больно по шее. В яблоко они так ни разу и не попали.
Когда я возвращалась домой, я посмотрела вверх на балкон, сделанный в виде стеклянного аквариума, где всегда сидел в кресле усатый дяденька, и вдруг увидела, что рядом с креслом стоит стул, а на стуле сидит Коля.
Я сначала даже не поверила своим глазам, но это действительно был Коля — в пальто, из которого он вырос, в мятой шапке и с красным шарфом на шее. Как он туда попал? Откуда он знает этого дяденьку? Что он там делает?
Я несколько раз оглядывалась на Колю, и мне показалось, что он меня тоже заметил.
В нашем классе — странные люди. Никто не удивляется, что Коля Галега теперь хорошо учится. Будто бы так и нужно. И по-прежнему его называют Самшитиком, но он ни на кого не обижается, почему-то только на меня...
Правда, он на днях получил двойку по физике. Но я не ощутила никакого злорадства: двойку он получил не потому, что не знал, а совсем за другое.
Борис Борисович задал всем приготовить дома прибор или механизм, который показывал бы, как действует трение. Я принесла кусочек наждачной бумаги и палочку. А Коля сделал реактивный автомобиль. Он где-то нашел старый игрушечный автомобильчик, привязал к нему проволокой трубку от металлической ручки (есть такие ручки, в которых с двух сторон перо и карандаш) и начинил трубку серой от спичечных головок.
— Как же он действует? — спросил Борис Борисович.
— Нужно поджечь,— сказал Коля.— Можно?
— А что в трубке?
— Спичечные головки.
— Что ж, поджигай.
Автомобильчик поставили на учительский стол. Борис Борисович сам поднес к трубке горящую спичку. Зашипело, забрызгало пламя, и автомобильчик покатился по столу. Но когда Борис Борисович увидел, что на черной лаковой поверхности стола образовалась пузырчатая дорожка прогоревшего лака, лицо у него приняло какое-то по-детски обиженное выражение.
— Это ты нарочно подстроил,— сказал он Коле и поставил ему двойку.
Сережа уверял потом, что Борис Борисович отнес автомобильчик в учительскую и предложил его передать на автозавод, чтобы там начали выпускать настоящие авто¬
120
машины такой конструкции. Сережа ловко выдумывает такие истории.
Коля по-прежнему делал вид, что не замечает меня. Но когда на переменке наша завуч пришла с какой-то кругленькой и быстрой, как шарик ртути, тетей и подвела ее ко мне, и тетя стала быстро — не уследишь, как у нее выкатываются слова,— хвалить меня, говорить, что я замечательная девочка, что институт литературы, в котором она работает, приглашает меня выступить у них со своими стихами, и я оглянулась на Колю (он стоял недалеко, и мне хотелось посмотреть, какое это производит на него впечатление), Коля поежился, как от холода.
А когда завуч и эта тетя ушли, он подошел ко мне и, не вынимая рук из карманов, сказал:
— Ну зачем ты их слушаешь? Ведь они на тебя смотрят, как на ученую собаку... Если бы собака начала говорить, на нее так же смотрели б... Я видеть не могу, какая ты стала... Как ты смотришь по сторонам, замечают ли, что ты идешь... Как прислушиваешься к каждому слову, когда тебя хвалят. Мои батя и матя ничего не поняли. Они говорят: вот она какая! Портрет в газете напечатали! Стишки пишет! И такая скромница! А мне стыдно было им правду сказать, потому я и промолчал и не сказал им, что ты просто дура...
Я посмотрела на Колю. Свет из окошка отражался в его прищуренных, как от боли, глазах.
— Ты сам дурак,— сказала я и пошла на урок, потому что прозвенел звонок.
Глава восемнадцатая
Когда я собираюсь что-нибудь сказать некстати, я перед тем говорю слово «кстати», и то, что я собиралась сказать некстати, получается будто бы кстати.
— Кстати,— сказала я,— а что такое в самом деле счастье?
Папа не удивился моему вопросу, хотя мы разговаривали совсем не о счастье, а о том, что если я не пойду к зубному врачу и не вставлю пломбу, то у меня зуб совсем разрушится, и что бормашина напоминает орудие пытки.
— Ну,— сказал папа,— как сказать... Очевидно, под счастьем понимают состояние полного удовлетворения...
121
Ну, благополучие, жизнь без горя, без несчастий, без тревог.
— А как же,— возразила я,— наши космонавты?.. Нельзя же сказать, что у них жизнь без тревог... Они летают на ракетах и рискуют собой для того, чтобы человек освоил космос. И когда мы учили Лермонтова, стихотворение «Парус», так в нем сказано будто про парус, а в самом деле про человека: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»
— Это правильно,— сказал папа.— Счастье не может быть индивидуальным, как зубная щетка. Оно не может принадлежать одному человеку. Поэтому за счастье людей людям приходится бороться и иногда находить это свое счастье в борьбе, а совсем не в жизни без тревог...
Вчера папа дежурил «свежей головой», а сегодня, в субботу, мы с ним отправились в поход по магазинам хозяйственных товаров. Папа говорит, что в продаже появился какой-то новый консервный нож, которого еще нет в его коллекции. Этим ножом можно открывать стеклянные консервные банки, не повредив крышечки, что очень ценно' для домашних хозяек, которые готовят самодельные консервы.
— Тебе не понравился мой фельетон? — сказал папа, по-своему расценивший мой вопрос.
Позавчера в газете был напечатан папин фельетон «Маленькое счастье». В нем рассказывалось о начальнике главка по фамилии Костенко. Этот человек для своего «маленького счастья» обманывал, давал неправильные сведения о выполнении плана, а людей, которые выступали против него, он увольнял с работы. Одна пожилая женщина покритиковала его на собрании, так он, этот Костенко, сумел все так подстроить, что она попала под суд, и ее посадили в тюрьму, а потом, когда ее выпустили, она очень тяжело заболела. У этой женщины были дети и даже внучка.
Этот папин фельетон был совсем не остроумный, а какой-то очень сердитый и резкий, в каждом слове чувствовалось, что папа просто ненавидит этого Костенко.
Еще когда папа только собирался писать фельетон, я вечером слышала из своей отгороженной занавеской комнаты разговор мамы с папой. Мама говорила, что на таком фельетоне можно поскользнуться, что она лично знает Костенко, что это опасный человек, которого уже пытались разоблачить, но он вышел сухим из воды, а люди, которые выступали против него, напрасно пострадали.
122
Но папа ответил, что он все равно выступит в газете. Тогда мама сказала, что он еще пожалеет, что не послушался ее, а папа сказал, что молчать было бы преступлением.
— Нет,— ответила я,— фельетон мне понравился... Только он какой-то не смешной, а страшный.
Не глядя на меня, папа сказал:
— В таких случаях мне не хочется смеяться...
Мы побывали уже в четвертом магазине, а такой консервной открывалки, какая нам была нужна, нигде не было. В предпоследнем магазине продавщица сказала папе, что такой ключ ни к чему, потому что крышечки все равно Сформируются, и что в будущем году промышленностью намечено выпускать больше крышечек. А папа, по-види- мому, постеснялся ей сказать, что ему открывалка нужна не из-за крышечек, а из-за коллекции. Вообще папа был сегодня не таким, как всегда после дежурства, он вроде бы и шутил, и смеялся, и все равно все время думал о чем-то своем, и о чем-то своем нехорошем, и я не знала о чем.
Пока мы ходили по магазинам и рассматривали холодильники, и стиральные машины, и кухонный комбайн, который сам чистит картошку и выжимает сок из всего, что бы туда ни сунули, пошел сильный снег, густой, хлопьями — настоящая метель. Мы побежали к троллейбусу, потому что папа был без шапки. В троллейбусе было совсем мало людей, мы с папой сели рядом на сиденье, а за окнами снег сыпал так густо, что ничего не было видно, кроме снега. Все было скрыто белой пеленой, и троллейбус вдруг остановился. Водитель сказал, что впереди стоят другие машины и не видно, куда ехать.
Троллейбус стоял, а снег сыпал все сильнее и сильнее, снежными хлопьями залепило окно, и я вдруг представила себе, что сейчас будет такой снегопад, что троллейбус занесет доверху, с крышей, что весь наш город занесет снегом. А когда-нибудь, через тысячу лет, археологи откопают наш троллейбус и напишут ученый труд о том, что в те далекие времена, когда мы жили, существовали громадные животные, которые питались людьми, и что при раскопках в желудке такого животного с двумя усами на спине нашли скелеты нескольких человек. Мне стало неприятно, и я сказала папе:
— Может, выйдем?
Но троллейбус тронулся, и снегопад вдруг утих, проглянуло солнце, и город засверкал, заискрился, а на снег
123
бросились тысячи людей и машин, чтобы сгрести его с улиц и вывезти за город.
Вдоль всех улиц потянулись узенькие ледяные дорожки, которые в два счета успели раскатать ребята. В Киеве такие дорожки называются сколзанками, и я не знаю, как их называют в других местах. Мы с папой по очереди проехались по одной такой длинной сколзанке, а потом вернулись и снова проехали, а потом еще в третий раз. На третий раз папа разбежался сильнее, чем я, налетел на меня и сбил с ног. И когда я упала, а он — вслед за мной, на него сердито закричал прохожий с очень знакомым голосом:
— Что вы делаете!.. Как вам не стыдно!..
Я увидела, что это наш учитель математики Климент Ефремович. Папа стал меня поднимать, а я сказала Клименту Ефремовичу:
— Это мой папа.
Климент Ефремович очень удивился и сказал, что скол- занки нужно обходить, потому что можно сломать ногу. И мы с папой, смущенные и мокрые от снега, отправились домой сушиться.
Но пока мы с папой ездили за этой открывалкой для стеклянных банок с железными крышечками и катались на сколзанке, в нашей жизни произошло очень важное событие. И произошло оно без меня.
Как только мы с папой подошли к нашей двери, мы увидели, что к ней кнопкой прикреплена записка: «Оля, когда вернешься, бегом ко мне — получилось!!! В.».
— Я сейчас,— сказала я папе и, не заходя домой, помчалась к Вите.
Я застала у него всю нашу компанию, в том числе Колю и Лену.
— Где ты ходишь? — сказал Витя.— Пленка сокращается, как настоящая мышца, почти на сантиметр. Мы измеряли.
— Как это вам удалось? — спросила я, с завистью рассматривая незамысловатый прибор, сделанный из ванночек для проявления фотографий. Их называют кюветами.
— Это мы с Сережей,— сказал Витя.— Ну и Коля помог. И все остальные, конечно,— добавил он великодушно.— Папа говорит, чтоб мы отдали наш прибор в школу Евгении Лаврентьевне. Он говорит, что такой прибор может украсить любой химический кабинет.
124
— А как же птицелет?
— Будет и птицелет... И даже робот... Когда-нибудь,— ответил Витя.— Важно, что доказана принципиальная возможность. Папа говорит, что когда Кибальчич — это был такой революционер, его казнил царь,— когда Кибальчич в тюрьме начертил проект ракетного двигателя, так он еще тоже был совсем не похож на те ракеты, какие сейчас возят на парадах.
Коля не смотрел на меня, пальцы у него пожелтели от реактивов, а лицо совсем не выражало той радости, какая подходила для такой минуты.
— Папа говорит,— сказал Витя,— что Евгения Лаврентьевна всем нам поставит четвертные пятерки. Такого прибора нет ни в одной школе во всем мире.
— А мне? — спросил Женька Иванов и надул губы.— Ведь мы не учим химию. За что же мне поставят пятерку?..
— За поведение,— сказал Сережа.— Тебе поставят пятерку за благородное поведение и снизят ее до тройки за то, что ты прожег кислотой свои форменные штаны.
Сережа стал рассказывать о том, как мы сделаем небольшой птицелет, как Женька на нем будет летать в школу. Все смеялись, и даже Коля разошелся и сказал, что будет посылать вместо себя в школу робота. А я вспомнила папу и как он молча сидел в троллейбусе с залепленными снегом окнами, и мне захотелось домой. Кроме того, у меня в голове все время вертелись строчки, которые складывались в новое стихотворение. Я пошла домой, но по дороге зашла в садик, подошла к скамейке, где мы сидели с Наташкой и писателем Корниловым, и придумала это стихотворение до конца.
Дома я застала и папу и маму. Перед моим приходом они, по-видимому, о чем-то спорили, потому что лица у обоих были точно такие, какие бывают у наших ребят, когда они ссорятся. Но когда я вошла, они заговорили на спокойную тему — о консервных ножах.
Я сказала, что хочу прочесть им новое стихотворение, которое сегодня написала. Но я его не записывала на бумаге, а просто прочла наизусть:
Улицы розданы Детям, словно клад.
Тянутся сколзанки От угла до угла.
125
Детям кататься Не надоест,
А взрослые боятся Скользких мест.
Не пришлось бы каяться...
Асфальт шершав —
К асфальту тянется Их душа.
А может, доверимся Гладкости льда?
Давайте проедемся!
Проедемся? Да!
Только и сегодня Учитель мой Сколзанки обходит Стороной.
Папа и мама переглянулись. Мама сказала:
— Неужели это ты сама придумала?
— Конечно, сама.
— Молодец! — похвалила меня мама.
А папа сказал, что не все взрослые боятся поскользнуться, и снова многозначительно посмотрел на маму.
Мы собирались ужинать, но в это время папу по телефону вызвали в редакцию. Мама встревожилась, но папа сказал, что, очевидно, предстоит какая-то срочная командировка.
Мама проводила папу до двери. Они почему-то шли к двери, держась за руки, как ходят первоклассники на экскурсию. А когда мама вернулась, она сказала мне, что завтра мы с ней пойдем в бассейн.
Я очень люблю плавать. Плавать меня научила мама, когда мне было лет пять, еще до школы. Мама прекрасно плавает, у нее первый разряд, и она только немного не дотянула до нормы мастера.
Я, как и мама, плаваю брассом — это стиль не такой быстрый, как кроль, но при брассе не так устаешь, и я могу проплыть сколько угодно. Этим летом мы с мамой и папой были в Крыму. Я с мамой плавала почти за полтора километра и ничуть не уставала. Я все время держу
126
голову под водой и приподнимаю лицо, только чтоб вдохнуть воздух. И глаза у меня все время открыты. Я не смогла бы плавать с закрытыми глазами, как не смогла бы, например, ходить с закрытыми глазами по улице.
А папа плавает кролем, быстро устает и часто ложится на спину.
Мы с мамой поговорили о плавании, о том, что летом опять поедем в Крым или на Кавказ, но обе мы думали о папе и ждали его возвращения.
Папа вернулся не скоро. Но когда он пришел, он так хлопнул дверью и так размахивал руками, что мне показалось — он пил водку.
— На фельетон пришло опровержение,— сказал папа, усевшись на тахте.— Из министерства. С подписью самого министра. И газета должна будет,— тут папа помолчал, подняв палец,— опубликовать это опровержение. А мне предложили подать заявление об уходе с работы. По собственному желанию...
Я думала, что мама скажет: «Я ведь говорила». Но вместо этого мама села рядом с папой на тахту, провела рукой по его растрепанным, повлажневшим волосам и улыбнулась весело и задорно.
— Молодец! Я горжусь тем, что ты написал этот фельетон! И Лялька тоже. Мы говорили с ней об этом, когда тебя не было.
А ведь мы ничего подобного не говорили.
Глава девятнадцатая
Если бы меня поставили во главе Советского правительства, то первое, что бы я сделала, это запретила бы посыпать опилками пол в магазинах. В разных статьях пишут, что из опилок можно делать лучшие вещи, чем из дерева, что они ценное сырье для химической промышленности, а их рассыпают под ногами, топчут, а потом выбрасывают. Я не жадный человек, но, когда я хожу по опилкам, я не могу понять, почему с ними поступают так бесхозяйственно.
Я стояла в нашем гастрономе в очереди в колбасный отдел. Очередь была довольно длинной. В этом магазине всегда к шести часам — концу рабочего дня — собирается много покупателей, а днем, часа в два-три, тут бывает совсем пусто. Я много раз думала, что нужно ходить в
127
гастроном днем и не тратить времени напрасно, но все как-то не получалось.
Я стояла в очереди и рассматривала мокрые и грязные опилки под ногами, а передо мной стоял тот самый дяденька с усами, который всегда сидел на балконе, устроенном как стеклянная клетка. Дяденька опирался на очень толстую, но, по-видимому, легкую бамбуковую палку с черной ручкой.
Сквозь очередь протиснулись два высоких, одинаково одетых парня — оба они были без шапок, в очень коротких красивых пальто с вязаными в резинку воротниками, как на свитерах, на обоих пушистые красные шарфы и черные узконосые туфли.
— Не давайте без очереди! — потребовала у продавщицы толстая пожилая женщина. Она стояла впереди нас.
— Не горячитесь, тетенька, наживете третий инфаркт,— отмахнулся от нее, как от мухи, один их этих парней, такой высокий, что его можно было принять за баскетболиста из сборной Украины, и протянул через го-, ловы чеки продавщице.— «Столичную» и четыреста любительской. Нарежьте потоньше.
— Не отпускайте без очереди! — снова закричала толстая женщина.— Мы тоже спешим. За водкой можно и постоять...
— Станьте в очередь,— предложила продавщица тетя Вера.— Слышите, что про вас говорят...
— Как не стыдно,— тоненьким, но звонким голоском пропищала старушка, которая стояла за нами.
— Ты, бабушка, не вмешивайся,— басом сказал второй парень.— Когда будет очередь на кладбище, там будешь распоряжаться.
— Зачем же вы оскорбляете женщину, да еще такую, что вам в матери годится! — возмутился усатый дяденька из нашего дома.
Нагрубивший старушке парень подошел к нам поближе, наклонился к дяденьке и что-то негромко, с угрозой сказал ему на ухо, очевидно что-то гадкое, потому что я услышала плохое слово. И вдруг парень этот завизжал, и не басом, а совершенно детским голосом — громко, на весь магазин, и запрыгал на одной ноге к концу очереди. А за ним отошел от прилавка и его товарищ. Вид у обоих был растерянный, они негромко бормотали какие-то угрозы.
В первую минуту я, как и все остальные, не сообразила, что произошло, хотя и видела, как усатый дяденька ле-
128
гонько опустил свою палку на самый кончик острого носка туфли этого парня, но мне и в голову не пришло, что именно этим был вызван такой странный визг.
— «Вот злонравия достойные плоды»,— подмигнул мне дяденька.
— Что это у вас за палка? — спросила я.
— Волшебная,— ответил дяденька и протянул ее мне. Я взяла палку в руку и еле смогла удержать — она была в тысячу раз тяжелее, чем могло показаться по ее внешнему виду.— Это бамбук, заполненный внутри свинцом.
— Для чего же свинец в палке?
— Вместо зарядки. Заведи себе такую же, и ты справишься с любым пареньком из своего класса.
— Вы Колю Галегу знаете? — неожиданно для себя спросила я у дяденьки.
— Колю Галегу? Кто же не знает Колю Галегу? Это известный человек,— снова подмигнул мне дяденька так, будто он про меня все знал.
Тем временем подошла наша очередь. Дяденька купил двести граммов голландского сыра, а я купила целый килограмм украинской домашней колбасы и еще полкилограмма венгерского сала, покрытого коркой жгучего красного перца. Мы вышли из магазина вместе с дяденькой и прошли мимо парней в коротких пальто, но они сделали вид, что нас не замечают.
— Ты решила потолстеть? — спросил дяденька.
— Нет,— ответила я,— это охотничьи припасы.
— А ты охотник?
— Да.
— И умеешь стрелять?
— Да,— сказала я менее уверенно.
— Ну что ж... Тогда — ни пуха ни пера.
— До свидания,— ответила я, вместо того чтобы сказать «к черту», как обычно отвечают в нашем классе на такое пожелание, и пошла домой.
Дома мама угощала какую-то очень толстую тетеньку в туго обтягивающем ее фиолетовом креп-сатиновом платье, из которого она выросла, чаем с домашним пирогом, а тетенька говорила, что она не ест теста, что боится потолстеть, хотя, по-моему, ей уже можно было не бояться, и ела пирог ломоть за ломтем, а папа скучным голосом говорил, что фотоаппаратом «Комсомолец» с очень примитивным объективом можно делать превосходные снимки, и показывал фотографии.
5 Школьные годы. Выпуск IV
129
После того как папу уволили с работы в редакции, к нам стало приходить очень много людей, которые прежде к нам вообще не заходили или приходили очень редко. А так как каждому нужен был какой-нибудь предлог, то наша коллекция консервных ножей пополнилась интересными экземплярами, среди которых был прекрасный японский нож. Папа уверял, что этим ножом открывали консервы японские самураи, а при случае именно таким оружием они делали себе харакири.
Папин заведующий отделом Дмитрий Максимович и его жена Вера Сергеевна приходили к нам чуть ли не каждый вечер. Дмитрий Максимович в глаза хвалил папу и успокаивал маму, говорил, что это — недоразумение, что справедливость восторжествует и папу восстановят на работе, и при этом, мне кажется, он себя перед папой чувствовал как-то неловко. Вероятно, ему было стыдно, что папу уволили с работы за правильный фельетон и папа этим так расстроен, а у него все благополучно. Я это вполне понимаю. Мне было так же стыдно, когда я получала по, физике четверку, а Коля — двойку, хотя мы учили вместе и знали одинаково. Взрослые играют в те же игры, что и дети.
На воскресенье Дмитрий Максимович пригласил папу на охоту. Я посмотрела на Дмитрия Максимовича. Он молчал. Потом я посмотрела на папу. Папа тоже помолчал, подмигнул Дмитрию Максимовичу и сказал:
— Оля, выйди на кухню. Мы тебя позовем.
Я поплотнее закрыла двери, чтобы не было слышно, что они говорят, потому что не хотела подслушивать. На кухне я съела немного мытого изюма, который мама собиралась положить в пирог, но когда он мытый — он не такой вкусный. Папа позвал меня в комнату.
— Ну, так и быть. Выклянчила. Поедешь с нами,— сказал он ворчливо.
Я только посмотрела на него, и это уже называлось «выклянчила»!
А Дмитрий Максимович добавил:
— Но запомни, Оля! Это первый случай, когда я беру с собой на охоту особу женского пола.
По правде говоря, я была уверена, что все эти разговоры ничего не стоят, потому что мама не позволит мне поехать на охоту. Но я снова убедилась в том, что никогда нельзя предусмотреть, как поступит мама в том или в другом случае. Она сказала, что это очень хорошо, что
130
я мало бываю на воздухе, и единственное, о чем она просит, это только чтобы мы с папой не перестреляли друг друга и не простудились.
Для того чтобы я не простудилась, были проведены большие мероприятия. Мама заставила меня надеть ее теплые ботинки, а так как у меня тридцать четвертый номер обуви, а у нее тридцать шестой, то я надела на каждую ногу по два шерстяных носка. Кроме того, на мне были две шерстяные кофточки и еще столько всякого другого белья, что я стала в два раза толще, чем была, и еле влезла в свое куцее старенькое пальто.
Мы выехали в семь часов вечера в субботу в маленьком автобусе, который Дмитрий Максимович называл странным словом «микробус». Нам предстояло проехать в нем почти 250 километров. Кроме водителя и нас, в автобусе был еще один человек — военный генерал в папахе с красным донышком. И мне было очень приятно, что я еду с генералом, потому что я еще никогда вблизи генералов не видела. Генерал поздоровался с папой и спросил, как меня зовут. Я почтительно ответила, что Олей, генерал сказал, что это хорошо, сел рядом с водителем и заснул.
Я села возле папы, по автобусу взад и вперед сновали вещи, которые мы взяли с собой. Сильно трясло, и было очень тепло, даже жарко, я тоже, как генерал, заснула, и этот мой сон напоминал бег с препятствиями: я просыпалась от каждого толчка и снова засыпала.
И снился мне странный сон, который все время обрывался и все время возвращался к началу, и каждый раз по-другому, каждый раз по-другому, и все — очень плохо.
Папа недавно говорил, что в газете было сообщение о том, что писатель Павел Романович Корнилов поехал в США во главе какой-то культурной делегации. И мне снилось, что это мы с Павлом Романовичем едем на машине на охоту в Америке и что он мне говорит: «А твой папа негр, и расисты облили его бензином и подожгли». И я хочу спросить: кто негр, папа или мой родной отец, но почему-то не решаюсь, и вот я в окне машины вижу, как горит человек, и он стоит ко мне спиной, и я не могу отличить, кто это — папа или мой родной отец, а машина мчится, и я хочу крикнуть: «Остановите!» — и не могу, и слова застревают у меня в горле.
А потом мне снилось, что ничего этого не было, а это мы с папой едем по Америке в машине на охоту, но машина вдруг сворачивает к какому-то небоскребу, и я спрашиваю
131
у папы: «Разве в небоскребах охотятся?», а папа отвечает: «Нет. Мы едем не на охоту, а в этот небоскреб, потому что там много коридоров и комнат, и в нем можно заблудиться, как в лесу, и я тебя там оставлю, потому что меня уволили с работы, я не зарабатываю денег, и мне тебя нечем кормить, и тебя там съедят волки». И я хочу попросить: «Папа, пожалуйста, не оставляй меня, я тоже буду, как ты, работать, буду делать из ниточек авоськи, я уже умею». Но я плачу и не могу сказать ни слова...
А потом мне снилось, что это мы с мамой едем на охоту по Америке, и мама говорит: «Неволя пуще охоты», а я хочу сказать, что «Охота пуще неволи», но мама отвечает: «Нет, неволя». И я вдруг понимаю, что это мы едем не на охоту, а это мама везет меня к моему родному отцу, и я хочу крикнуть: «Папа, папочка, помоги!» — но только мычу.
А потом мне снова снилось, что ничего этого не было, и снова снился Павел Романович, но так плохо, что об этом даже нельзя рассказать, и все время мне снилось черт знает что...
Только глубокой ночью мы приехали в село Турье, а потом еще долго искали какого-то Тиму. Этот Тима — знакомый Дмитрия Максимовича — повел нас ночевать к себе в хату. В хате пахло чем-то острым — не уксусом и не перцем, а чем-то похожим, и освещалась она маленькой керосиновой лампой, огонек в которой поднимался и коптил, как только открывали дверь. Мы поужинали и очень много ели, а взрослые пили водку и разговаривали с Тимой о завтрашней охоте, и генерал после каждой рюмки краснел и важно спрашивал, есть ли зайцы.
Я так устала, что у меня слипались глаза. Нам постелили на полу солому и накрыли ее сверху шерстяными цветными половиками. Как только мне показали, где можно лечь, я сразу легла и заснула.
Утром меня разбудил папа. Было еще совсем темно, и мы все по очереди умылись в сенях холодной водой из маленького умывальника и сели завтракать.
Генерал переоделся — надел обыкновенный старенький ватник и сразу стал похож не на военного, а на простого суетливого старичка. Все-таки форма имеет большое значение. Интересно, как бы выглядели наши учителя, если бы надели генеральскую форму? Только теперь я решилась спросить у генерала, как его зовут, и он сказал, что у него редкое имя — Иван Иванович.
132
Наш хозяин, которого все звали Тимой, был совсем уже немолодым человеком, а разговаривал он на каком-то странном языке, на какой-то смеси русского с украинским, и мне его было понять значительно труднее, чем если бы он говорил просто по-украински или по-русски. Дмитрий Максимович после сказал, что это местный говор «суржик», что словом «суржик» обозначают смесь пшеницы с рожыо, а также такой смешанный язык.
Когда говорили другие, этот дядя Тима, казалось без всякого повода, вдруг подмигивал окружающим и восторженно восклицал: «От даеть!» «От даеть!» — так он прореагировал на то, что папа сказал, что у него во фляге коньяк, и что Дмитрий Максимович сказал, что я тоже буду охотиться, и что наш водитель сказал, что нужно будет достать бензина. И я уже стала подозревать, что в словах и папы, и Дмитрия Максимовича, и водителя был еще какой-то неизвестный мне смысл, но когда на мой вопрос, будет ли у меня ружье, дядя Тима тоже воскликнул: «От даеть!» — я поняла, что это у него просто такая странная привычка.
Дядя Тима был егерем, и мне было очень приятно, что я разговаривала не только с живым генералом, но и с живым егерем.
А ружье мне дали в самом деле. Принес его дядя Тима. «От даеть!» — сказал он, когда я осторожно взяла его в руки.
Это было одноствольное ружье. У всех были двуствольные ружья, и только мне дали одноствольное. Но когда я спросила, где второе дуло, папа сказал, что и одного для меня вполне достаточно, а может быть, даже и слишком много.
Дмитрий Максимович предупредил меня, что на охоте я все время должна быть рядом с ним, что не имею права отойти от него даже на шаг и что он меня научит стрелять из этого одноствольного ружья, а патроны он мне даст свои, потому что у нас с ним ружья одного калибра. Дмитрий Максимович мог бы снабдить патронами всех охотников — он был обвешан патронташами, как матросы — герои гражданской войны.
Мы с Дмитрием Максимовичем вышли за хату, и я там два раза выстрелила в сарай. Я очень боялась отдачи, о которой меня предупреждали и папа и Дмитрий Максимович. И первый раз меня сильно ударило в плечо, а второй раз я крепче прижала приклад, и меня ударило
133
слабее. Дмитрий Максимович сказал, что это закон
Ньютона, что действие равно противодействию, но я в этом пока не разобралась, потому что, по его словам, получилось, будто бы, с одной стороны, дробь летит в зайца, а, с другой стороны, ружье летит в охот¬
ника.
Охота состояла в том, что мы поехали на своем «микробусе» в лес, где дядя Тима расставил охотников в цепь,
каждого друг от друга на расстоянии примерно в сто
метров, а с другой стороны на эту цепь должны были гнать зайцев другие охотники — односельчане дяди Тимы.
В лесу снега было мало, а на деревьях рос мох, и я собрала целую кучу этого мха, чтобы привезти его маме и ребятам, а вокруг была такая красота, какой я даже не воображала и не представляла себе никогда в жизни, что это такая неописуемая красотища. И в сердце у меня даже что-то словно звенело. Я стояла под деревом на лесной просеке рядом с Дмитрием Максимовичем и смотрела по сторонам, а ружье у меня было заряжено, только курок не взведен, и все равно я старалась держать это ружье подальше от себя и Дмитрия Максимовича.
Перед нами, вдали, послышались какие-то крики и гудки. Я спросила у Дмитрия Максимовича, что это значит, а он сказал, что это шумят загонщики и чтобы я не болтала, а была внимательной. И тут я вдруг увидела зайца. Я сначала не поверила своим глазам, потому что он был похож не на зайца, а на кролика, и вел себя не как заяц, а как кролик: он не бежал стремглав, а медленно прыгал то вправо, то влево, то вправо, то влево и таким образом подвигался вперед.
— Дмитрий Максимович,— сказала я,— по-моему, вон там скачет заяц.
— Где? — спросил Дмитрий Максимович.
Но заяц скрылся за деревьями, а когда он показался между ними, Дмитрий Максимович выстрелил из обоих стволов и оглушил меня, но заяц поскакал дальше, все так же медленно — вправо и влево, и тогда Дмитрий Максимович закричал мне: «Стреляй!» Но пока я двумя руками взвела курок и выстрелила, заяц уже ускакал, а я так волновалась, что забыла про отдачу, и очень удивилась, что ружье снова стукнуло меня по плечу.
— Зачем же ты так длинно объясняла про зайца? — с досадой сказал Дмитрий Максимович.— Нужно было сказать только одно слово: «Пыльнуй!»
134
«Пыльнуй» — это по-украински значит: будь внимательным или бдительным.
Дмитрий Максимович перезарядил сначала свое, а потом и мое ружье и сказал, чтобы я была повнимательней, как будто это он, а не я, первым заметил зайца.
Я задумалась о том, как все-таки было бы здорово, если бы я убила зайца, и о том, что в школе мне все равно бы не поверили, но в это время Дмитрий Максимович шепотом сказал: «Не стреляй», а я никуда и не собиралась стрелять. Я посмотрела сначала на него, а потом влево и сразу же увидела, что мимо нас бесшумно и быстро, как во сне, движется громадное сказочное существо с ветвистыми рогами такой же формы, как мох, который я собрала с окружающих нас деревьев. Это был лось. Я видела живого лося! Честное слово, он прошел от нас на расстоянии в двадцать, ну, может быть, в сорок метров.
Я потом спросила у Дмитрия Максимовича, что бы с нами было, если бы он на нас бросился, но Дмитрий Максимович сказал, что лоси — благородные животные и никогда не бросаются на людей.
Тем временем загонщики вышли к нам. Мы собрались все вместе. Дмитрий Максимович был очень раздосадован тем, что не попал в зайца. Папа вообще не стрелял, потому что не видел никаких животных. А генерал Иван Иванович сердито говорил, что это вообще не охота, что нужна «пороша» и что заяц «залег», и все вытирал нос белоснежным платком, который очень не подходил к его старенькому ватнику.
Но дядя Тима убил зайца, и все его поздравляли с «полем», и всем, как мне показалось, было завидно.
Нас перевезли на новое место, но на этот раз мы не видели никаких зверей, а когда все собрались, оказалось, что дядя Тима убил еще одного зайца, а потом была третья «загонка», и в третьей «загонке» дядя Тима убил двух зайцев, а все остальные ни одного.
И пока все это происходило, я очень замерзла и устала, и хотя снег был неглубоким, он мне все равно набился в ботинки, и я обрадовалась, когда сказали, что пора обедать, потому что уже два часа дня.
Обедали мы на открытом воздухе, просто на лесной поляне, где в землю вбили два рогатых сука, на них положили толстую палку, на палку повесили ведро, а под ведром разложили костер. В ведре сварили полевой супчик. Ничего вкуснее этого супчика я не ела за всю свою жизнь.
135
В этот супчик положили кусок баранины, и кусок свиного венгерского сала, которое мы привезли с собой, и целого петуха, и половину утки, и пшено, соль, лук, перец, укроп и петрушку и начали его варить, оказывается, как только мы пошли в первую «загонку». За это время пшено и все это разное мясо разварилось в одну сплошную кашицу и пропахло дымом.
Нам с папой налили этого супчика в одну помятую миску из «металла социализма» — алюминия, и мы, обжигая язык и губы, съели целую миску, а потом еще попросили добавки.
— Просто объедение,— сказал генерал Иван Иванович, вынимая из кармана свежий белый носовой платок и утирая им рот.
«Интересно, сколько у него с собой платков?» — подумала я. У меня не было ни одного, и я решила, что мама права, что нехорошо девочке всегда ходить без носового платка.
— Ну как, Ольга Николаевна,— спросил у меня генерал,— не замерзла?
— Нет, ничуть,— ответила я, потому что очень разогрелась от супчика.
— Довольна, что поехала на охоту?
— Очень довольна,— сказала я. Мне в самом деле было так хорошо и интересно, как никогда в жизни.
Присев на корточки и разгребая палкой головешки в костре, Дмитрий Максимович сказал папе:
— А знаете ли, не хотел вам говорить, но ходят слухи, что героя вашего фельетона выдвигают на повышение.
Я никогда не могла понять, почему люди находят, казалось бы, самое неподходящее время и место для того, чтобы сообщить какое-нибудь неприятное известие.
— А куда именно? — таким тоном, словно ему это было совсем безразлично, спросил папа.
— В Совет Министров.
— Ну что ж,— сказал папа.— Это ненадолго.
— Будем надеяться,— ответил Дмитрий Максимович и налил себе в миску еще черпак полевого супчика.— Но бои предстоят еще тяжелые, трудные бои... Ну что ж, пора и за дело... Что, Оля, убьем зайца?..
Я не ответила, потому что у меня совсем испортилось настроение.
Мы еще долго охотились, и дядя Тима убил еще лисицу, а больше никто ничего не убил. Самым интересным за¬
136
нятием на охоте оказалась стрельба по бутылкам. Когда охота закончилась, на сосну, на сучок, надели бутылку, и все стреляли в нее по очереди с большого расстояния. Дмитрий Максимович стрелял первым, и он промазал, а я хорошо прицелилась и хотя перед самым выстрелом зажмурилась, все равно разбила бутылку вдребезги.
Перед самым отъездом дяде Тиме заплатили деньги, и он дал по зайцу папе, и генералу Ивану Ивановичу, и Дмитрию Максимовичу, и нашему водителю. Дмитрий Максимович попросил, чтобы я никому не рассказывала, что зайцев убили не они, а егерь.
— А если ты проговоришься,— сказал Дмитрий Максимович,— то из тебя уже никогда не получится настоящего охотника. Настоящий охотник умеет свято хранить тайну охотничьей добычи.
Глава двадцатая
Я посматривала на свои часики через каждую минуту. Может быть, Коля опаздывал? Он иногда опаздывал на урок, и я ждала, что сейчас откроется дверь, что Коля спросит: «Разрешите войти?», что Елизавета Карловна скажет: «Почему ты опоздал?», что Коля ответит: «У нас испортился будильник», или еще что-то в этом роде и что Елизавета Карловна в ответ скажет: «Сядь на место и дай дневник».
Но Коля не приходил, и мне стало как-то неуютно в нашем классе, потому что я подумала, что он заболел. Мы с ним по-прежнему не дружили и даже не разговаривали, и, казалось бы, мне должно быть безразлично, пришел он в школу или не пришел. Но мне это было не безразлично, тем более что он никогда не пропускал занятий, разве только прежде, когда Коля дома не готовил уроков, он мог сбежать с контрольной.
— Ты не знаешь, что с Колей? — спросила Елизавета Карловна у Вити после урока.
— Нет... Может, он простудился?
— Может быть,— ответила Елизавета Карловна.— И вам, его друзьям, следовало бы это выяснить.
— Я зайду к нему после школы,— сказал Витя.
Елизавета Карловна не спросила у меня о том, что с
Колей. Она всегда безошибочно знала, у кого спросить об отсутствующем на уроке ученике. И все-таки мне было бы
137
приятней, если бы она обратилась ко мне. И поручила бы мне зайти к нему. Я бы, конечно, не пошла, но все-таки...
К шести часам — было уже темно, теперь рано темнеет — мы собрались у Вити. У него появилась новая идея: с помощью наших сокращающихся пленок построить что-то вроде вечного двигателя. Конструкцию он придумал очень интересную, но я не знала, можно ли ее сделать практически. В младших классах, а иногда и в детском саду все дети делают себе двигатели, которые вращаются центробежной силой. Для этого нужно крепкую нитку сложить вдвое, продеть через отверстие в большой пуговице, завязать конец, надеть нитку на пальцы, закрутить ее, а потом растягивать и отпускать. Пуговица при этом с огромной скоростью вращается то в одну, то в другую сторону, пока не лопнет нитка. Хотя я уже большая, но я до сих пор люблю готовить себе такие двигатели.
Витя сказал, что если мы вместо нитки используем нашу пленку, а в две ванночки для проявителя нальем кислоту и щелочь, то пуговица будет все время крутиться то в одну, то в другую сторону.
Когда я пришла к Вите, там уже были Сережа, Лена и Женька Иванов, но Коли не было.
Мы скрутили пленки так, что они напоминали тонкие шнурочки, и продели их в пуговицу, и сделали все остальное, как предлагал Витя, но пуговица даже не собиралась вращаться.
Я все время раздумывала о том, как спросить у Вити, заходил ли он к Коле, но ничего не могла придумать, а ребята, как назло, словно забыли о Коле, и никто даже не вспомнил, что его днем не было в школе и что вечером он не пришел к Вите. Но, может быть, подумала я, Витя рассказал ребятам, почему Коли не было, еще до моего прихода?..
Пришел Витин папа, Леонид Владимирович, погладил бороду и сказал, что так из нашей машины ничего не получится, потому что одна половина пленки растягивается, а другая сжимается, и что для того, чтобы наша машина заработала, нужно сделать саморегулирующееся устройство, которое поочередно поливало бы пленку то кислотой, то щелочью. Он нарисовал нам схему, как сделать такое устройство, и тут же добавил, что мы не сможем его изготовить.
— Леонид Владимирович,— сказал Сережа,— что это у вас за ниточка?.. На пиджаке...
138
— Где? — спросил Леонид Владимирович.
— Вот она...
Сережа потянул какую-то белую ниточку на плече у Леонида Владимировича, и мы вдруг с удивлением увидели, что нитка тянется без конца, тянется и тянется, метр за метром, а Сережа вытягивает ее двумя руками и опускает на пол.
— Погоди,— испугался Леонид Владимирович.— Ты этак мне весь пиджак распустишь...
Он снял пиджак и сам стал тянуть эту нитку, а она все тянулась и тянулась без конца.
— Откуда она могла взяться? — удивился Витин папа и стал осматривать свой пиджак.— Э,— закричал он вдруг,— да у меня в кармане катушка! Ну, знаете... Твоя работа? — обратился он к Сереже.— Вот зачем ты вертелся вокруг моего пиджака!
— Моя,— ответил Сережа.
Я подумала, что если бы Сережину изобретательность использовать, так сказать, «в мирных целях», то он мог бы придумать что-нибудь очень ценное. Оказывается, Леонид Владимирович снял пиджак и повесил его на стул, а Сережа тем временем засунул ему в карман катушку ниток, конец нитки иголкой продел под подкладкой и вывел ее наружу.
Леонид Владимирович смотрел на Сережу с восхищением. Что бы Сережа ни сказал или ни сделал, Леонид Владимирович всегда смотрит на него, как бы любуясь.
У меня про это есть своя теория, только я никому о ней не говорила. Я думаю, что Витин папа в детстве хотел быть таким, как Сережа, только у него это не получалось, и он был таким, как Витя. И когда он стал взрослым, то отрастил себе бороду, а Сережа, даже когда он будет совсем взрослым, все равно не станет ходить с бородой. А Витя, возможно, будет.
Я смеялась над Сережиной проделкой и думала обо всем этом и еще о том, что уже семь часов, что Коля не пришел и, по-видимому, уже не придет.
В конце концов я не выдержала и спросила у Вити:
— Ты заходил к Коле?
— Нет,— отмахнулся Витя,— не успел. Завтра зайду... А что, если мы вместо пуговицы возьмем свинцовый кружок потяжелей, сделаем в нем две дырки, как в пуговице, и скрутим побольше пленок, а потом будем их сверху поливать поочередно то кислотой, то щелочью? Если ко¬
139
лесо будет крутиться, то, может быть, потом удастся сделать самодвижущийся велосипед?
— И что же? — возразила я.— Велосипедист будет держать в руках две бутылки со щелочью и кислотой и по очереди лить из них жидкость на колеса?
— Это только как опыт,— сказал Витя.— А потом мы еще что-нибудь придумаем.
Лена, которая за последнее время так понаторела в химии, что я даже удивлялась, тоном и даже голосом Елизаветы Карловны произнесла:
— Нужен катализатор. Мы перестали делать серьезные опыты, а занимаемся фокусами. Если мы найдем катализатор, то пленки будут стягиваться с большей силой, и тогда можно будет сделать не только велосипед, но и птицелет.
Да, Лена была права. Нужно было искать катализатор. Мама говорила как-то, что многие люди строят воздушные замки, но лишь некоторым удается сделать свои мечты действительностью. И если бы мы нашли катализатор, то наш воздушный замок, наша мечта про птицелет стала бы действительностью и на нем бы летали так, как сейчас летают на самолетах.
Может быть, наша социалистическая промышленность начала бы выпускать даже индивидуальные, ну, личные птицелеты, как сейчас выпускают мотоциклы или велосипеды, и люди ездили бы на работу или в гости не в троллейбусах, а в птицелетах.
Александра Леонидовна, как всегда, пригласила нас ужинать.
— Я вам помогу накрыть стол,— сказала по-английски Лена Витиной бабушке.— Можно?
— Ну конечно,— ответила по-русски Александра Леонидовна.
«Вот они и нашли общий язык»,— подумала я.
Лена еще что-то сказала по-английски, только я не поняла. Она обращалась к Витиной бабушке, но смотрела при этом не на нее, а на нас — какое это производит впечатление.
— Пойдемте, дети,— снова сказала Александра Леонидовна.
Я от ужина отказалась и пошла домой. Мне это было самой удивительно, но, честное же слово, я теперь ничуть не завидовала Лене, что она так дружит с Витей и что она, а не я, разговаривает с героической Витиной бабушкой
140
и так свободно чувствует себя у них дома. Я не знала, почему я так теперь к этому отношусь. Но догадывалась. Потому, что у меня были другие заботы.
В эти дни я старалась поменьше бывать дома. Хотя и папа и мама разговаривали между собой и со мной очень нежно, но это, как мне казалось, была какая-то искусственная нежность, а в самом деле они говорили одно, а думали о другом и смеялись, когда им совсем не хотелось смеяться, и все время у нас были какие-нибудь гости, а когда не было гостей, папа читал «Войну и мир», «Анну Каренину» и другие произведения великого классика русской литературы Льва Толстого.
Я шла домой и думала, что нужно будет рассказать, как Сережа устроил этот фокус с белой ниткой. А может быть, самой засунуть папе в карман пиджака катушку и продеть нитку так, как это сделал Сережа? Это рассмешило бы папу.
Но, может быть, думала я, и не стоит этого делать, потому что папа вдруг рассмеется неискренне, а когда он смеется неискренне, у меня начинает дрожать подбородок. Как удержаться от смеха, я знаю: нужно уколоть себя чем-нибудь острым ниже коленки, куда врачи стукают молоточком, а как удержаться от слез — человечество еще не открыло.
Как только я вернулась домой, я сразу почувствовала, что произошло еще что-то очень неприятное: мама не смотрела на меня, а папа ходил взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы штанов, и мама не говорила ему, чтобы он вынул руки, потому что это плохая привычка.
Я поужинала на кухне. Все время я слышала, как папа ходит из угла в угол. Когда я вошла в комнату, папа сказал:
— Вот что, Оля... Случилось большое несчастье... Колин отец попал под трамвай.
— Как это — под трамвай? — глупо спросила я.— У нас ведь нет трамваев.
Папа посмотрел на меня удивленно и пожал плечами.
— Я хотела сказать — в нашем районе...
— Он умер, Оля.
Папа сказал «он умер», а я никак не могла себе представить, что Богдана Осиповича уже нет. Я заплакала и спросила:
— А когда это?..
— Еще в субботу.
141
Пока мы ездили на охоту и стреляли в бутылки, здесь погиб Колин отец.
Папа снова прошелся по комнате, остановился и сказал:
— Я собираюсь к ним. Я хотел бы, чтобы ты пошла со мной. Мама, правда, думает, что тебе нужно избегать тяжелых впечатлений. Но я...— Папа не закончил фразу и спросил: — Пойдешь?
— Да,— ответила я и стала одеваться.
— Только не плакать,— сказал папа.— Только не плакать.
Так и не успел Богдан Осипович переехать в новый дом.
Дверь в Колину квартиру была приоткрыта, как летом. Папа позвонил, и к двери подошел Коля. Он посмотрел на нас и сказал: «Здравствуйте». Мы прошли через кухню в комнату, где на столе, в самом центре, стоял гроб, окруженный венками с бантами из стружек, горшками с цветами, еловыми ветками, а вокруг у стен стояли стулья. На стульях сидели Колина мама, какой-то пожилой милиционер и усатый дяденька с палкой, который жил в нашем доме. Елена Евдокимовна встала нам навстречу и сказала:
— Спасибо, что пришли. Садитесь...
Мы с папой сели на стулья рядом с Еленой Евдокимовной, а Коля тоже сел, но по другую сторону стола. Мы не снимали пальто, папа держал шапку на колене. Я старалась не смотреть на Богдана Осиповича и смотрела поэтому все время то на милиционера, то на дяденьку с палкой, то на Елену Евдокимовну. Лицо Елены Евдокимовны, еще более белое, чем всегда, выглядело спокойным, серьезным и замкнутым. Она не плакала, и я понимала, какой она была, когда тащила на себе раненых под огнем.
Милиционер все время покашливал и начинал говорить, но не заканчивал фраз: «Вот, значит, выходит...», «Значит, завтра с утра...», «А у нас говорили...».
Дяденька с палкой держал палку между колен и смотрел на ее конец. Я заметила, что у него дрожит подбородок, и изо всех сил старалась не заплакать, но все равно у меня потекли слезы.
Я посмотрела на Богдана Осиповича и сразу же отвела глаза, потому что его лицо показалось мне совсем незнакомым и страшным — желтым, пухлым, ненастоящим.
Из Колиной комнатки — дверь в нее была приоткрыта — выглянул белый глухой кот с голубыми глазами, но сейчас же скрылся назад, словно чего-то испугался.
Папа встал, сказал Елене Евдокимовне, что мы завтра
142
придем, попрощался и пошел на кухню, а я вслед за ним. Нас догнал Коля. Он остановил меня и тихо сказал:
— Я как раз к тебе собирался. Поговорить нужно.
Я посмотрела на папу.
— Хорошо,— кивнул головой папа.— Только не долго.
— Выйдем,— сказал Коля, надевая пальто.
Все время на нем пальто было надето внакидку, потому что в комнате было очень холодно, и меня знобило. Такая мелкая дрожь, и холодок в груди, и цокают зубы. Мы вышли на улицу, и мне показалось, что на улице теплей.
— Вот что,— сказал Коля, когда мы подошли к воротам. Он остановился и повернулся ко мне, и только теперь я сообразила, что он без шапки.— Вот что. Я этого никому не говорил... Я это сказал только следователю, но он надо мной посмеялся. И все равно я знаю, что батю моего — убили.
Глава двадцать первая
Наверху стоял серый чугунный Владимир с крестом в руках. Этот холм с крутыми склонами назывался Владимирской горкой. Когда-то в этом месте, под ним, я не помню, в каком году, хоть мы это проходили по истории, князь Владимир, по прозвищу Красное Солнышко, крестил Русь.
Мы с Колей шли вниз, в сторону Подола, по улице, проходившей у подножия Владимирской горки. И хотя я понимала, что ничего особенного мы там не увидим, меня все равно знобило, и дрожали руки, как будто кто-то сзади их тряс. На этой улице трамвай сбил Колиного отца, и мимо нас проезжали трамваи, и один из этих трамваев, возможно, был тем самым.
Как это иногда бывает в Киеве зимой, влажный снег вдруг сменился дождем, холодным и противным, от Днепра дуло, и капли били по лицу, и под ногами было мокро, холодно и скользко.
Мы шли молча, и я думала обо всем этом, и о том, что не может быть, чтобы Богдана Осиповича убили, и о своем папе. «А если бы это мой папа попал под трамвай,— думала я,— и сказали бы, что он сам виноват. Я бы тоже не могла этому поверить и с этим примириться, и так же, как Коля, считала бы, что его, может быть, нарочно толкнули. Но мой папа в самом деле как бы попал под
143
трамвай,— думала я.— Только он остался жив. Но у него словно что-то отрезало».
Я вспомнила, как вчера вечером, когда я уже легла спать, пришел откуда-то папа, он теперь иногда поздно приходит, и со странным смешком, совсем не похожим на его смех, с каким-то горьким смешком говорил маме: «Написал рецензию. На книгу стихов Гамзатова. Всего шестьдесят строк... Лежит. Не печатают. Сделал очерк. На радио. Лежит. Радио молчит...»
Вот поэтому, наверное, Коля и был убежден, что его отца нарочно убили. Он говорил, что Богдан Осипович никогда не пил водки или вина, а врачи после смерти установили, что его отец попал под трамвай пьяным. Кроме того, Богдан Осипович никогда не курил, а у него в кармане нашли сигареты.
— А если он в тот раз нарушил эту свою привычку — не пить алкогольных напитков? — осторожно сказала я Коле.— Ведь бывает, что...
— Нет,— прервал меня Коля с какой-то яростью.—. Этого не может быть! Ты не знаешь... Батя рассказывал, что на фронте он пил водку, и раз его вызвал полковник с грузинской фамилией — я уже забыл, как фамилия, вроде Унгиадзе,— а батя сделал вид, что не пьяный, и пошел со своим отделением в разведку, и закурил, и чуть не погубил своих товарищей, и чуть сам не погиб... И с тех пор он дал слово никогда не пить и не курить.
Я подумала, что люди иногда нарушают свое слово, но не сказала этого вслух.
— Как это все произошло? — спросила я.— Как он там оказался?
Коля тогда стоял в пальто и без шапки у ворот своего дома, и почему-то мы оба не могли пройти за эти ворота.
Глядя в землю, Коля рассказал, что в субботу, часов в семь, Богдан Осипович сказал, что уйдет ненадолго по делу.
«Не задерживайся,— сказала ему Елена Евдокимовна.— Ты ведь говорил, что вечером придет Юрий Митрофанович».
Юрием Митрофановичем звали усатого дяденьку с палкой из нашего дома.
«Через два часа я приду. А если чуть задержусь, пусть Митрофаныч меня подождет».
Юрий Митрофанович не пришел, а Богдан Осипович все
144
не возвращался, и в одиннадцать часов вечера Елена Евдокимовна начала волноваться. Она пошла к телефону- автомату и позвонила в отделение милиции, где служил Колин папа, но там сказали, что он не заходил, но если он появится, то ему передадут, что жена беспокоится.
Елена Евдокимовна так и не ложилась спать, а Коля спал тревожно и настороженно. Ночью к ним в дверь позвонили. Коля проснулся и понял, что что-то случилось, потому что это был не отец — у отца был ключ... Вошел их знакомый — дежурный из отделения милиции — и еще какой-то человек в гражданском, и дежурный сказал, что с Богданом Осиповичем случилось несчастье. Елена Евдокимовна и Коля поехали с ними. «Я матю одну не пущу»,— сказал им Коля.
Коля мне не рассказывал, что они там увидели. «Это такое,— сказал Коля,— что об этом нельзя говорить».
Ну, а уже потом какая-то «экспертиза» показала, что Богдан Осипович попал под трамвай по своей вине в нетрезвом состоянии.
Папа, мама и я были на похоронах Богдана Осиповича. Когда выносили гроб, играл милицейский оркестр, и Елена Евдокимовна, которой, я видела, эта музыка была совсем непереносима, не плакала, но и не сказала, чтобы они прекратили.
На кладбище поехали три автобуса, и было много людей, которых я не знала. Коля потом сказал мне, что и он многих не знает. Так, например, сильно плакала одна красивая молодая женщина в синтетической шубке и такой пушистой шапке, как это теперь модно. Коля ее видел в первый раз, но она говорила, что ей известно, каким хорошим человеком был Богдан Осипович, и когда она узнала о том, что с ним случилось, она все бросила и прибежала.
А потом были поминки. Нас позвала Елена Евдокимовна, и мы пошли, даже мама, хотя она шепнула папе, что, по ее мнению, поминки — обычай уродливый и нелепый.
Я с ней вполне согласна. К чему это? Чтобы еще больше ощутить преимущество живых перед мертвыми? Или доказать самим себе, что нам все безразлично? Даже смерть? И неужели взрослые, которые здесь собрались, не понимали этого? Или они пришли потому, что так принято, а самим им было так же стыдно, как мне? И так же, как я, они давились каждым съеденным куском?
Юрий Митрофанович — дяденька с усами и палкой из
145
нашего дома — налил себе в стакан водки, поднялся и сказал:
— Помянем же покойного нашего друга Богдана Осиповича Галегу. Не для того, как говорилось в церковной службе: если мертвые не встают снова, то будем же есть и пить, ибо завтра мы умрем, а для того, что это мужественный обычай. Умер наш товарищ, наш друг, и каждому тяжела его смерть. Но мы не лицемеры, мы знаем, что жизнь продолжается и что покойник был одним из тех людей, которые желали людям счастливой жизни. И помогали им жить счастливо. И вот мы собрались и действительно едим и пьем и почтим этим его память.
После него о Колином отце говорил еще лысый толстый дяденька в очках и с одышкой, чем-то похожий на доктора. Он сказал:
— Мы с покойным Богданом Галегой были друзьями... Мы вместе были на фронте. Вместе ходили в разведку. И когда нам, разведчикам, однажды пришлось отходить, а он прикрывал отход... Мы шли спокойно, не оглядываясь. Галега был из тех людей, которые стреляют до последнего патрона. Из надежных людей...
А старый милиционер — его звали дядя Семен — снова сказал: «Вот, значит, как выходит...» — и покивал головой... Кроме того, там было еще несколько милиционеров, и соседи из их дома, и какой-то артист с бантиком вместо галстука, и продавщица тетя Вера из нашего гастронома.
Во время этих поминок случилось одно неприятное происшествие. Я еще прежде заметила, что лицо у Коли как-то очень изменилось, стало напряженным и злым, как у человека, который целится, и вдруг он спросил у дяди Семена — они сидели рядом:
— Откуда у вас этот нож?
Дядя Семен почему-то держал в руках такой большой складной ножик с зеленой пластмассовой ручкой.
— Что ты, мальчик,— смешался дядя Семен.— Это мы вместе с твоим покойным батей покупали. Одинаковые. Ему и мне.
Коля покраснел и попросил:
— Дайте его мне.
— Ну что ж... Возьми,— не сразу согласился дядя Семен.— На память...
По-моему, все-таки телепатия существует в действительности. Мы с Колей шли все время молча, но лишь
146
только я вспомнила об этом ноже, как Коля повернулся ко мне и сказал:
— Знаешь, нам вернули батины вещи. Ну, которые остались... Но такого ножа, как у дяди Семена, среди них нет. И дома я всюду искал. Его тоже нет.
— Ты думаешь — это был тот самый нож? — спросила я, пугаясь собственных догадок.
— Нет,— сказал Коля.— Не знаю. Просто я теперь ничему не верю.
Мы уже дошли почти до самого низа по этой улице вдоль Владимирской горки, слева была горка, а справа склон к набережной и Днепр.
Мимо нас вниз шел трамвай. Вдруг через дорогу побежала собака — крупная, серая, похожая на немецкую овчарку, но не овчарка.
Она бросилась прямо под вагон.
Я зажмурилась.
Трамвай зазвонил и проехал вниз, а я боялась посмотреть на рельсы, потому что думала, что трамвай переехал собаку и что это то самое место. Но Коля потащил меня за рукав и сказал:
— Пойдем. Она пробежала. Под самым носом у трамвая. Нам — дальше... Ты смотри, сколько тут собак...
В самом деле, через дорогу в том же месте пробежали еще две собаки — одна побольше, а другая маленькая, с белой грязной шерстью, и обе нырнули в дырку в заборе, отделявшем от улицы поросший деревьями склон.
— Это здесь,— сказал Коля и показал мне на рельсы.
Мимо нас прошел трамвай. Я со страхом посмотрела
на рельсы. Мне казалось, что там до сих пор должна быть кровь. Мне казалось, что это место должно чем-то отличаться. Но оно было таким же, как и вся остальная улица.
— Это здесь,— повторил Коля и посмотрел на меня исподлобья очень серьезно, как бы что-то во мне проверяя. Я никогда прежде не замечала у него такого взгляда.— А теперь пойдем. Попробуем все-таки понять, как батя мог здесь оказаться. Зачем он сюда ходил? Ведь это не его район...
Мы спустились еще немного и повернули направо, к набережной.
— Начнем с набережной,— сказал Коля.— Зачем батя мог сюда пойти? Кого-то встретить? Но катера сейчас не ходят. Пойдем дальше.
148
Мы прошли вдоль причала к дощатому деревянному зданию с надписью «Павильон».
Мы вошли внутрь. В павильоне было грязно, душно и холодно. Люди в пальто и шапках пили за столиками пиво и ели колбасу. За одним из столиков мы увидели милиционера дядю Семена. Он сидел один.
— Что вы здесь делаете, ребята? — спросил он, когда мы подошли к нему.
— Да так, ничего,— ответил Коля.— Здравствуйте.
— Здравствуйте... Пришли посмотреть на это место? Ну что ж... Не замерзли?..
Мы молчали.
— Ты, Колюшка, не смотри, что я выпил,— сказал дядя Семен.— У меня сегодня отгул. Вот я и выпил сто грамм. И правильно... У нас в отделении говорят, что милиционер должен уметь это... Говорят, был бы твой батя пьющий, не случилось бы с ним этого. Пьющий человек хоть и выпьет, а на ногах держится. А непьющий, если выпьет, так все с ним может случиться... Ты только не обижайся...
— Пойдем,— сказал Коля и потащил меня за рукав, но вдруг остановился и спросил: — Дядя Семен, а вы не знаете фамилии этого вагоновожатого? Ну, который...
— Знаю. Его фамилия Стеценко будет. А для чего он тебе?
— Да так,— ответил Коля, и мы ушли.
— Что здесь делает дядя Семен? — спросила я у Коли.
— А ты что, сама не видела? Выпивает.
— Значит, он знает этот буфет. Может быть, он бывал здесь вместе с твоим папой?
— Ну что ты, в самом деле! — с досадой посмотрел на меня Коля.— Я ведь тебе говорил, что батя ничего не пил. Даже пива. Так для чего бы он сюда пришел?
Мы пошли от этого павильона сначала вправо, а потом влево. Слева были какие-то мастерские с нелепым названием «Титан», и Коля сказал, что сюда его отец уж никак не мог ходить, а дальше были склады, которые мы обошли кругом, и Коля сказал, что складами нужно будет еще поинтересоваться. Было там еще такое летнее кафе-мороженое, такая веранда, на которой летом стояли столики под зонтиками, но сейчас там было пусто, и ветер катал по полу промерзшие бумажные стаканчики.
— Вот что,— сказал Коля, не глядя на меня.— Ты поезжай домой. А я пойду еще в одно место.
149
— Куда?
— На последнюю остановку... трамвая. Нужно найти этого вагоновожатого.
Я сказала, что пойду с Колей, и увидела, что он этим доволен, хотя он не подал виду. Наверное, ему было все- таки страшно встретиться с глазу на глаз с тем самым вагоновожатым.
Мы пошли пешком на Красную площадь — это было недалеко. Когда подъехал трамвай, Коля спросил у вагоновожатого, не Стеценко ли он, а вагоновожатый сказал, что нет и что Стеценко приедет через один вагон.
Чего только не взбредет в голову, когда напряженно чего-либо ожидаешь! Мне казалось, что я непременно узнаю этого вагоновожатого Стеценко, что он окажется человеком, которого я прежде уже видела, что, скорее всего, это будет один из тех двух парней, которые лезли без очереди в гастрономе, или старик, который когда-то забрал мой фотоаппарат. Но на самом деле вагоновожатый Стеценко был совсем незнакомым невысоким пожилым человеком. Он очень испугался, когда узнал, зачем мы пришли.
— Вот, значит, какое дело,— сказал он растерянно.— У меня график... Но я спрошу диспетчера... Вагон на запас! — громко крикнул он пассажирам, которые уже входили в трамвай.
Он вышел из вагона, переговорил с человеком в черной шинели, который стоял на тротуаре, вернулся и отогнал вагон на запасной путь.
— А теперь послушай, мальчик,— сказал он Коле, выходя из своей кабины.— Я не убивал твоего отца. Конечно, всякое случается в жизни. И всякие случаи бывают на транспорте. Но в этом я не виноват. Ты сам пойми — меня б не оставили на работе... Да и судили бы меня, если бы я сбил человека.
— Как это произошло? — спросил Коля.
— Ты видел, какой там спуск? Сразу не затормозишь. Сильно мело. В метели мне показалось, что через рельсы переходят на другую сторону вроде бы три человека. Я даже затормозил слегка. А потом вдруг увидел: прямо перед вагоном лежит человек. Понимаешь, поперек рельсов. Я стал тормозить... Но уже было поздно, и я толкнул его... Но я его не убивал. Ты пойми, у меня у самого дети... Двое... Голова у него была за рельсами, в сторонке. Я до нее не дотронулся... А при обследовании тут же на месте судебный врач обнаружил, что голова разбита. Значит, его
150
какие-то бандиты бросили на рельсы. Иначе бы меня не допустили до работы. И судили бы. Ты уже большой парень и должен понимать...
— Вы говорили об этом следователю? — снова так же, словно что-то проверяя, посмотрел на вагоновожатого Коля.
— Следователю? — удивился вагоновожатый Стецен- ко.— Следователь был при этом. Сразу бригада приехала из милиции, с врачом и следователем...
Глава двадцать вторая
Мне было очень жарко, и я чувствовала, как у меня по животу стекают струйки пота. Мне хотелось почесаться, но я знала, что этого нельзя делать. В стороне, справа, стоял большой телевизор, и на его экране я видела себя, как в зеркале. Если бы я почесалась, то это увидели бы все телезрители и, наверное, они бы подумали, что школа, а также семья меня недостаточно хорошо воспитывают.
Я никогда даже не догадывалась, что тех, кто выступает по телевизору, освещают яркими лампами, которые обдают жаром, как электрические рефлекторы,— у нас дома включают такой рефлектор, если осенью холодает, а батареи отопления еще не действуют.
Я выступала последней. Ведущий — высокий веселый дяденька с очень близко поставленными глазами, о котором я слышала, что он видный критик, по фамилии Косенко, сказал:
— А сейчас выступит самая молодая из наших молодых поэтов Оля Алексеева.
Телестудия захотела, чтобы по телевизору выступили молодые поэты. Меня прямо с урока физики вызвали в кабинет завуча и сказали, что я тоже должна выступить. Молодых поэтов было пять человек, я шестая, и среди них были люди, которые выглядели ничуть не моложе, чем мои мама и папа. Стихи они читали очень хорошие, только все почему-то подвывали на концах строк. Это на меня так подействовало, и я так волновалась, что и сама начала подвывать на концах строк, как они. Может быть, это вообще бывает от волнения?
Я прочла стихи про Буратино и про Тараса Шевченко. Я хотела прочесть еще про сколзанки, но тетя, которая заранее слушала все стихи, сказала, что про сколзанки не
151
нужно читать, потому что это стихотворение телезрители могут понять неправильно.
В другое время я, конечно, очень бы радовалась, что меня пригласили выступить по телевизору, но сейчас я была занята мыслями об одном загадочном событии, и мне казалось, что мы с Колей приближаемся к разгадке того, кем был убит Богдан Осипович. А что он был убит, а не просто попал под трамвай, после того, что нам сказал вагоновожатый Стеценко, у меня уже не было никаких сомнений. Хотя вначале, когда Коля сказал мне, что его папу убили, только на том основании, что Богдан Осипович никогда не пил водки или вина, я подумала, что этого не может быть. То есть не то, что он не пил, а то, что его убили какие-то люди нарочно.
Мы с Колей решили никому об этом не говорить, пока у нас не будет точных фактов, но Коля сам рассказал об этом фронтовому другу своего отца, лысому, похожему на доктора, дяденьке, который так хорошо говорил на поминках о Богдане Осиповиче. Фамилия его была Соколов. Коля встретил его на улице, на Подоле. Я не присутствовала при этом разговоре. Соколов сказал Коле, что это вполне возможно, что, возможно, Богдан Осипович встретился с кем-нибудь из своих старых фронтовых друзей. Что вспомнил войну и нарушил свой обычай не пить алкогольных напитков. А потом, возможно, Богдан Осипович увидел на улице каких-то хулиганов, а был он не в милицейском, а в обыкновенном костюме. И, возможно, он забыл, что он не в милицейской форме, и хотел их отвести в милицию, а они ему разбили голову. И, чтобы замести следы своего преступления, бросили его под трамвай.
Коля спросил, с кем же из фронтовых друзей Богдан Осипович мог встретиться, и Соколов сказал, что все они порастерялись. Но где-то в Черкассах живет отставной полковник Романенко, который командовал частью, где служил Колин отец.
Я бы не обратила на все это такого внимания, если бы не одно странное совпадение. Сегодня мы с Колей ходили на табачную фабрику. Именно там и появилась эта загадка.
Колин папа не курил. Но среди вещей, которые отдали Колиной маме, был похожий на мыльницу пластмассовый портсигар с сигаретами. Коля сказал, что мы должны выяснить, что это за сигареты.
Для этого мы и отправились на табачную фабрику. Дежурный в проходной не хотел нас пропускать. Я стала
152
выдумывать, для чего нам нужно на фабрику, и сказала, что мы нашли портсигар и хотим узнать, что за сигареты в нем, чтобы вернуть этот портсигар хозяину. Охранник так удивился моему нахальству, что стал похож на рыбу, попавшую на сушу: он выпучил глаза, вытянул вперед и открыл губы, а уши у него и так торчали из-под шапки-ушанки, как плавники.
Коля посмотрел на меня очень укоризненно и сказал:
— Вы нас пропустите... Нам нужно. Мой отец был милиционером. Его убили бандиты. Он не курил, но у него в кармане нашли портсигар, и нам нужно узнать, что в нем за сигареты.
— Как фамилия твоего отца? — спросил дежурный. Лицо его странно изменилось. Он смотрел на Колю, как смотрят на человека, который сильно порезался и у которого течет кровь,— сморщившись и переживая чужую боль.
— Галега. Богдан Осипович.
— Галега? — повторил фамилию охранник.— Нет, не слышал... Сейчас позвоним начальнику цеха. В котором сигареты выпускают...
Охранник позвонил по телефону и рассказал нам, как пройти в этот сигаретный цех.
На фабрике был очень сильный запах, но не табака, а какой-то неприятный кондитерский запах. Так пахнут леденцы, если о них забыли и они очень долго, целый год, пролежали в своей железной коробочке. Сигареты делала большая машина. Из нее с огромной скоростью вылетала одна бесконечная готовая сигарета. Эта же машина рубила сигарету на части и складывала в пачки.
Начальник цеха, пожилой дяденька с большим животом, держал в зубах сигарету длиной с карандаш. Он выслушал нас очень серьезно и, так же как охранник, сморщился, переживая чужую боль. Потом он посмотрел сигареты, которые ему дал Коля, и сказал:
Соколов
153
— Это — черкасские... Но подождите-ка еще минутку.
Начальник цеха ушел и вскоре вернулся с каким-то
дяденькой, который рядом с ним выглядел как Дон Кихот рядом со своим оруженосцем — он был высоким и худым. Это был их дегустатор, то есть человек, который по запаху и вкусу определяет качество табака.
Они разломали одну сигарету, распушили табак, и дегустатор каким-то образом определил, что сигареты эти выпущены не больше, как месяц тому назад, потому что в них есть греческий табак, а табак этой партии прибыл к нам совсем недавно.
Начальник цеха сказал нам, что в сигареты входит смесь, состоящая из многих сортов табака, но настоящий специалист всегда может разобраться, из каких именно.
Но я его уже и слушала. Я думала о том, что в Черкассах жил этот фронтовой друг Колиного папы — Романенко. И сигареты были из Черкасс.
— Надо ехать в Черкассы,— решил Коля.
Вот обо всем этом я раздумывала, когда возвращалась в набитом троллейбусе домой со студии,— об этом и еще о том, что мне не хочется домой.
В те дни, когда у папы были неприятности, я многому научилась и многое поняла. Мама и папа тогда как бы поменялись ролями. Папа стал раздражаться из-за пустяков, редко улыбался, а мама как-то ловко умела его успокоить, уговорить. Она ни разу не повысила за то время на меня голоса, она придумывала то пойти в кино, то в театр. И что еще здорово, она ни разу не вешала носа, все время шутила, смеялась. По-моему, она никогда в жизни не была такой веселой.
Но теперь, когда у нас было все хорошо, когда папу восстановили на работе в редакции, когда все его поздравляли и дарили ему консервные ножи, я старалась, как это ни странно, бывать дома поменьше. Не знаю почему. Может быть, потому, что я часто бывала у Коли и видела, как плохо Елене Евдокимовне.
А дома меня ждал сюрприз. И очень приятный. Папа купил телевизор. Он назывался «Харьков». Это, оказалось, даже был не просто телевизор, а комбайн — в нем были радиоприемник, и проигрыватель для пластинок, и большой экран.
Раньше у нас не было телевизора, и мама не соглашалась его покупать из-за меня — чтобы я готовила уроки, а не торчала перед экраном.
154
Но сейчас мама сказала, что раз я сама выступаю по телевизору, то нужно, чтобы он был в доме.
— А мы с папой смотрели,— сказала мама.— Молодец. Хорошо выступила. Только у тебя был чересчур серьезный вид. Даже ни разу не улыбнулась. И почему ты гладила себя рукой по животу?
— Я не гладила. Мне просто очень хотелось почесаться,— возразила я.
— Значит, ты чесалась? — рассмеялся папа.
Я рассказала, как жарко было там на студии и что я совсем не волновалась.
А на столе в стеклянной вазе лежали мои любимые пирожные «картошка».
— Принеси из кухни чайник, будем ужинать.
Мы сели ужинать, и за ужином папа говорил, что летом мы поедем в Крым и снова будем плавать, и гулять, и собирать гербарий и коллекцию бабочек. И еще папа хвалил стихи, которые я читала по телевизору.
А телевизор поставили на новый столик в самом углу комнаты. И пока мы ужинали, мы все время поглядывали на экран. Показывали «Телевизионные новости», и все очень хорошо было видно.
— Чуть не забыла,— сказала мама.— Тебе письмо. От писателя Корнилова.
У меня почему-то сдавило сердце — мне вдруг показалось, что в письме будет что-то неприятное. Я взяла письмо, но не распечатала его сразу, а пошла в свой угол, села на кровать, положила письмо на подушку и немного подумала, а уже потом разорвала конверт.
Странно, но, когда я читаю то, что написал знакомый человек, я всегда как будто слышу его голос. И сейчас письмо Павла Романовича тоже звучало для меня его голосом — высоким, чуть сиплым и очень приятным.
Милая Оля! — писал Павел Романович. — Извини, что так не скоро ответил тебе — я был в отъезде, и твое письмо мне только сегодня вручили.
Я догадываюсь, что день, когда ты мне написала это письмо, был для тебя днем больших сомнений. Внезапный успех, как и внезапная неудача, всегда оставляет свой рубец на характере человека. И людям иногда с успехом справиться бывает еще труднее, чем с неудачей.
Вот почему так порадовало меня твое письмо: оно
155
живое свидетельство того, что у тебя здоровый организм\, который смог переварить успех. Надеюсь, что он сможет так же легко переварить неудачи, а они неизбежно будут.
Теперь о твоих сомнениях в собственных способностях. Тут уж ничего не поделаешь. Гы всегда будешь сомневаться, мучиться, и, /сак бы тебя «и свалила, в такие Зки ты будешь волком смотреть на мир и на людей. Со лшои это гоже часто бывало и бывает до сих пор, и я в таких случаях так расстраиваюсь, что всегда кончаю самоубийством. Яо, поверь мне, милая девочка, стихи твои напечатали не потому, что я ил предложил редакции, а потому, что ты их написала. Я стихи твои мне очень нравятся. Я плохо запоминаю стихи, но твои знаю на память и с удовольствием читаю их своим друзьям.
Л как я оказался в вашем садике — пусть останется тайной. Яо когда ты будешь совсем взрослой и даже старенькой и будешь много ходить по городу, ты обязательно высмотришь по дороге какой-нибудь садик, а в садике какую-нибудь скамейку и разгадаешь мою тайну...
Павел Романович снова извинялся, что задержался с ответом на мое письмо, просил, чтобы я ему написала, как мне живется, как я учусь, и прислала ему новые стихи. А в конце письма он передавал привет Наташке.
Я написала стихи, но не знала, посылать ли их Павлу Романовичу.
Когда я их показала папе, он воспринял их как-то странно.
Эти стихи я написала после того, как мы с Колей ходили на Подол.
Вообще-то я хотела написать о дожде и о мокрых холодных трамваях, но потом мне вспомнилась собака, которая перебежала рельсы, и стихи получились о собаках:
Подол — плохое место для собак:
Плевать трамваям на собачьи лапы,
У них дорога, пассажиры, график,
Они неотвратимы, как судьба.
Дождливые подольские дворы,
Изысканные завтраки помоек...
156
И, кажется* от моря и до моря: Дожди, дворы, помойки и пиры...
А вечером огромная луна...
И так все время: бегай и надейся,
Что, может быть, останется на рельсах Не голова, а лапа...
— Слишком они у тебя какие-то взрослые получились,— сказал папа.— И что ты понимаешь под словом «Подол»?
— Как — что? — ответила я.— Есть такой район в городе. Там много трамваев.
— Нет,— сказал папа решительно.— Мне эти стихи не нравятся.
Первый раз в жизни он так неодобрительно говорил о моих стихах. И разве это недостаток, если стихи «слишком взрослые»?
Я подумала, что у нас с ним просто разное настроение, что если бы я ему показала эти стихи, когда его несправедливо уволили из редакции, то, может быть, они ему и понравились, а теперь, когда у нас все благополучно и прекрасно, папе эти грустные стихи читать уже неинтересно и даже противно. Может быть, они ему напомнили о тех днях?
«Пошлю стихи про Подол и про собак Павлу Романовичу»,— подумала я, хотя прежде, до того как я получила это письмо, я бы не решилась на это. Письмо писателя очень меня подбодрило.
Я вернулась в комнату и села спиной к телевизору за свой столик у окна. Я разложила книги и тетради, будто бы для того, чтобы делать уроки, но сама занялась совсем другим делом.
— Что это ты читаешь? — спустя некоторое время спросила мама и подошла ко мне. Она взяла у меня книжку и прочла вслух, так, чтобы слышал папа: — «Немаловажный интерес представляет вопрос о сроках сохранения цвета волос после смерти. Срок этот не подчинен какой- либо закономерности, так как в каждом отдельном случае зависит от многих условий. Однако, как правило, при гниении цвет волос сохраняется довольно продолжительное время...» Что это за гадость? Откуда у тебя эта книга? — удивилась мама.
— Взяла у товарища.
157
— Зачем? Неужели тебе интересно это читать?
— Да, интересно,— ответила я с вызовом.
Я говорила неправду. В действительности мне было очень страшно и очень скучно читать эту научную книжку, которая называлась «Следы на месте преступления». Мне ее дал Коля. Она принадлежала Богдану Осиповичу. Начиналась она словами: «Осмотр места преступления часто называют краеугольным камнем следствия...»
Глава двадцать третья
Мне кажется, что теперь у них всегда холодно. Хотя, когда я попробовала рукой печку, печка была горячей. У них печка отапливается газом — в середину печки введена газовая труба, газ поджигают спичкой, он с шипением горит и нагревает булыжники, которые Коля сам положил в печку. Коля говорил, что от этого печка медленнее остывает.
Впрочем, скоро они переедут в новую квартиру, и там уже не нужны будут эти булыжники и это отопление — там квартиры отапливает, как у нас, ТЭЦ.
Елена Евдокимовна и Коля сидели за столом и вязали сеточки-авоськи. Когда я пришла, Коля положил свою авоську на стол и сказал, чтобы Елена Евдокимовна ее не трогала, что он после сам ее закончит.
Интересно все-таки, почему всякие сложные вещи, ну кофточки, например, или даже костюмы джерси вяжут машины, а авоськи делают вручную? Неужели это нельзя механизировать?
— Вот вы и помирились с Колей,— так равнодушно, словно речь шла не обо мне и Коле, а об очень далеких, незнакомых людях, сказала Елена Евдокимовна.— Будете опять вместе уроки делать?
— Будем,— ответила я.
— Ну хорошо, занимайтесь... А я пока чай поставлю.
С тех пор как погиб Богдан Осипович, Елена Евдокимовна очень изменилась. Во-первых, у нее с лица не сходила какая-то приклеенная улыбка, а во-вторых, Коля говорил, что она с тех пор ни разу не заплакала. Я где-то читала или слышала, что о каком-то человеке говорили, будто бы он «окаменел». Прежде я себе не представляла, как это может быть, а теперь понимаю, что так бывает в жизни.
158
Елена Евдокимовна все забывала. Она уже, наверное, в пятый раз говорила, что мы помирились с Колей. И ничему не удивлялась. Она ничуть не удивилась, когда Коля сказал, что поедет на день в Черкассы, не спросила даже, для чего.
Я думаю, что Коле совсем не нужно было выдумывать целую историю о том, что он хочет повидать фронтового друга Богдана Осиповича, полковника Романенко, чтобы он помог им получить пенсию. И когда Коля вернулся, она его не спросила о результатах поездки. Это я ждала результатов с огромным нетерпением.
Но никаких результатов не было. Коля сказал, что побывал в Черкассах в адресном бюро. Там ему дали адреса нескольких Романенко. И все оказались не те. Кто-то из этих Романенко посоветовал ему пойти в военкомат. А в военкомате Коле сказали, что полковник в отставке Романенко больше года тому назад переехал куда-то в Крым, кажется, в Ялту.
Колю это все так расстроило, он так надеялся на эту поездку в Черкассы, что он даже со мной перестал разговаривать обо всей этой истории. Но сегодня, как только я вошла, по Колиному лицу я поняла, что появилось что-то новое. И действительно, он сказал, почти не разжимая губ:
— Есть новости. Потом расскажу.
Когда Елена Евдокимовна вышла на кухню, я подошла к Коле, а он наклонился ко мне и стал шептать на ухо:
— Понимаешь... Матя складывает сейчас всякие вещи. Ну, чтобы переезжать... А я ей, ну, помогал. И в этом шкафу,— мы стояли в простенке между шкафом и окном,— у нас там одежда и всякое такое...
Коля не закончил фразы, потому что открылась дверь, и мы невольно отскочили друг от друга, а в двери показался тот самый дяденька из нашего дома, с усами и палкой. х
Он как-то нехорошо посмотрел на нас и сказал:
— Здравствуйте, здравствуйте...
Я знаю, что он подумал. Он подумал, что мы с Колей целовались. Как только не стыдно ему такое думать, когда у Коли погиб отец, и вообще...
— Здравствуйте, Юрий Митрофанович,— ответил Коля.— Я все хотел у вас спросить одну вещь... Батя перед уходом говорил, что вы придете, а вы потом не пришли...
Я так насторожилась, что услышала, как стучат мои маленькие часики и как не в лад им стучат часы за дверью на кухне.
159
— А разве я тебе не говорил? — сказал Юрий Митрофанович, усаживаясь на стуле и ставя свою тяжеленную палку между коленями.— Я его встретил...
— Где? — быстро спросила я.
Юрий Митрофанович с удивлением и, как мне показалось, с насмешкой посмотрел на меня и ответил, обращаясь к Коле:
— На троллейбусной остановке.
— Значит, вы были последним, кто его видел.— Коля помолчал, подошел к столу, сел против Юрия Митрофановича и спросил: — Что он вам говорил?
— Да ничего не говорил... Сказал, что вернется часа через два. Извинялся, что уходит.
— А по какому делу вы должны были увидеться с ним в тот вечер?
— Без всякого дела,— не сразу ответил Юрий Митрофанович.— Мы с твоим отцом были друзьями. А встреча с другом — сама по себе дело.
Я знала, что мне теперь следовало спросить. Мне нужно, было спросить: «А куда вы пошли после того, как встретились с Богданом Осиповичем на троллейбусной остановке?» Но Юрий Митрофанович мог ответить: «Пошел домой». И что я могла возразить против этого? И, может быть, он действительно пошел домой... Но все равно я с отвращением смотрела на зажатую между колен налитую свинцом толстую бамбуковую палку.
Елена Евдокимовна принесла чайник, и мы пили чай с болгарским сливовым вареньем, которое называется «конфитюр», и за чаем шел разговор о ближайшем переезде. Юрий Митрофанович сказал, что он говорил с Семеном Алексеевичем — это с милиционером дядей Семеном — и что милиция даст машину, чтобы перевезти мебель, и он тоже придет помогать. А Елена Евдокимовна сказала — очень спокойно,— что жалко, что Богдан Осипович не дожил до этого времени.
Я выпила чай очень быстро, потому что мне хотелось поскорей услышать то, что начал рассказывать Коля, но Елена Евдокимовна налила мне еще стакан, и я его тоже быстро выпила, хотя чай был горячий и мне обварило язык, а потом не выдержала и сказала:
— Нам еще нужно выучить географию...
Коля меня понял и поддержал:
— И сделать задачки по физике.
Юрий Митрофанович посмотрел на нас как-то странно
160
и скоро ушел, а Елена Евдокимовна тоже ушла на кухню. И тогда Коля сказал:
— Когда складывали вещи, матя сказала, чтобы я примерил батин пиджак. Я уже с ним одного роста. Только худее. И в пиджаке лежал этот блокнот...— Коля вынул из кармана небольшую записную книжку в зеленой пластмассовой обложке...— Тут всего две записи,— сказал Коля, не выпуская книжку из рук.— Вот.
Он дал мне блокнот. Довольно разборчиво в нем было написано:
1. Не допускать загрязнения вещественных дока- зательств.
2. Прикреплять ко всем вещественным доказательствам этикетки.
3. Указывать на этикетке фамилию человека, обнаружившего доказательство, где оно находилось.
4. Волосы, нитки и др. завернуть сначала в белую бумагу, а потом положить в конверт.
5. Не употреблять грязную тару.
6. Пули и другие мелкие предметы сначала завернуть в вату, а затем положить в картонные коробки.
7. Для записей употреблять только простой графитовый карандаш.
8. На этикетках к жидкостям не употреблять чернил.
После этого на отдельной страничке было написано и обведено слово Титан.
Я перевернула еще несколько страничек, но там уже не было никаких записей.
— Дальше пусто,— сказал Коля.
— Что же это значит?
— Кое-что значит. Видишь, запись про вещественные доказательства сделана пером, чернилами? А «Титан» записан карандашом?
— Вижу.
— Значит, они сделаны в разное время. Ну, вещественные доказательства — это у них, наверное, такие занятия были. Или лекция. У бати в тетрадках много таких штук записано. Я ж тебе давал книжку про следы... А вот «Титан»... Как ты думаешь, про что это?
6 Школьные годы. Выпуск IV
161
— Может быть, про какого-нибудь сильного человека?.. Который ходит с пудовой палкой?..
— Ты что — сдурела? — удивился Коля.— Юрия Митрофановича матя вынесла на себе совсем без сознания... Ее ранили, когда она его тащила. Они потом вместе в госпитале лежали. У него одного легкого совсем нету, а в другом осколки.
Мне стало очень стыдно. Мне стало так стыдно и жарко, что у меня выступили слезы.
— Да ты не реви,— сказал Коля.— Я — ничего... «Титан» — это, помнишь, мастерские... когда мы на Подол ходили?..
— Помню.
— Важно было понять, куда ходил батя. И теперь мы, кажется, это поняли.
— Нет,— ответила я,— я не понимаю. Вспомни сам, это было в субботу. В субботу — выходной... Для чего Богдан Осипович мог пойти после работы в мастерские, когда там никого нет?
— А если там что-то хотели украсть? Ну, скажем, передать через забор какие-то вещи, а батя про это узнал и пошел туда. А они на него напали.
— Почему же он пошел один, и в обыкновенной одежде, а не в милицейской? И никому не сказал про это?
— Да,— согласился Коля,— и без оружия? А кроме того, это не его район. В общем, в этом нужно разобраться...
— Послушай, Коля,— сказала я.— Когда мы с тобой поссорились... и я сказала на тебя Самшитик, ну, и вообще... Так я тогда была неправа. Я это давно хотела тебе сказать.
Коля грустно улыбнулся, осторожно взял меня за косичку и несколько раз подергал ее. Он прежде никогда этого не делал. А я ему растрепала волосы. Я тоже прежде этого никогда не делала. Затем Коля отпустил косичку и сказал:
— Мне кажется, это было так давно, как будто прошло уже много лет. И как будто мы тогда были совсем маленькими и смешными. И все-таки жалко мне, что этого больше не будет... Птицелета, и стихотворений, и другого... Я не хотел тебе говорить. И я мате еще об этом не говорил. Но вот закончу четверть и больше не пойду в школу.
— Как — не пойдешь? — испугалась я.
— То есть пойду, но в другую. В вечернюю. Мате
162
трудно. Нужно мне идти на работу. Дядя Семен обещал помочь устроиться. Нужно работать.
Люди, даже когда они стоят рядом, очевидно, все время находятся друг от друга на разном расстоянии — то ближе, то дальше, в зависимости от того, как они относятся друг к другу. И если бы была такая линейка, которой можно измерять это расстояние, то Коля, который, когда подергал меня за косичку, был совсем рядом, оказался бы сейчас за сто километров. Я подумала, что он совсем большой и занят взрослыми и серьезными мыслями, а я со своими стихами, со своими уроками, со своими выдумками и обидами веду себя совсем как маленькая девочка.
— Что это глаза у тебя сегодня на мокром месте? — сказал Коля.— Я теперь про все это иначе думаю. Можешь называть меня Самшитиком или как хочешь, а я все равно на тебя не обижусь.
На кухне послышался какой-то шум, и в комнату вошли Витя, Сережа и Женька Иванов. Все они держали в руках шапки, все раскраснелись, как будто бежали.
— Хлопцы,— сказал Сережа, обращаясь ко мне и давясь от смеха,— а мы Петьку засунули в урну.
— В какую урну? — спросила я.
— В уличную. Он, может, там до сих пор сидит. Петька толкнул Женьку в снег, а мы как раз наскочили, схватили его и засунули ногами в урну. Знаете, такую из бетона. У него ноги длинные, а урна узкая, и он там застрял.
Я посмотрела на Сережу, и на Витю, который, очевидно вспомнив, как Петька застрял в урне, мстительно улыбнулся, и на Женьку Иванова и подумала, что я тоже стала намного старше.
Но не понадобилось много времени, чтобы я поняла, что это еще не так.
Сережа прыснул, вспомнив еще что-то смешное, и предложил:
— Послушайте... анекдот. У девочки спрашивают: «У тебя есть братья или сестры?» — «Нет,— отвечает девочка,— но зато у меня три папы моей первой мамы и две мамы моего первого папы».
Ребята посмеялись, а я покраснела. Нет, я понимала, что Сережа имел в виду совсем не меня, да он и не знал, что мой папа мне не родной отец. И все- таки мне было очень неприятно. Ведь у меня, почти как у этой девочки из анекдота, были два папы, а значит, и две мамы. Правда, эта тетя, на которой женился мой
163
отец, называется не мама, а мачеха. «Но интересно,— думала я,— может ли у человека быть одновременно и мать и мачеха?» Так какое-то растение называется, а у людей так не бывает. Мачеха — это когда нет родной матери...
А как эта мачеха относится к моему родному отцу? Любит, как моя мама папу? Или ссорится с ним? И кй- кой он человек на самом деле?
В своих письмах мой родной отец подчеркивал, незаметно, а подчеркивал, что он там, в Новосибирске, большой начальник. Что у него машина, что живут они в отдельном доме — это называется в особняке, а выходные дни они проводят на даче, что он занимается очень ответственной, важной и даже секретной работой. И особенно неприятно было мне это читать, когда моего папу уволили из редакции и он уже не занимался своей важной и ответственной работой. Если бы мой родной отец знал об этом, может быть, он и не стал бы мне писать о своих успехах. А может быть, и наоборот. Я его не знаю.
Несколько раз, и вот теперь снова, мой отец писал, чтобы я приехала к нему гостить на летние каникулы. А мне совсем не хочется ехать. Но почему он так на этом настаивает? У меня есть теория. Вероятно, ему не хватает той любви, которую он имеет. Человеку нужно, чтобы его любили. Это свойственно людям. А нашей семье — мне, папе и маме — той любви, которую мы имеем, вполне достаточно... И все-таки было бы хорошо, если бы Коля когда-нибудь еще так тихо подергал меня за косичку, а я растрепала ему волосы.
Глава двадцать четвертая
Евгения Лаврентьевна рассказывала нам о гремучей смеси, той самой смеси водорода и кислорода, о которой я слышала, еще когда была совсем маленькой, и говорила, что еще в XVIII веке французский химик, по имени де Розе, сделал однажды такой странный опыт: он решил проверить, можно ли дышать чистым водородом. Этот химик вдохнул водород, но ничего не почувствовал и стал сомневаться в том, водород ли это. Тогда он, чудак, выдохнул для проверки этот газ на пламя горелки, а у него в легких, понятно, образовалась эта самая гремучая смесь. «Я думал, что все мои зубы превращаются в пыль»,— рас¬
164
сказывал потом этот самый де Розе, чудом оставшийся в живых.
В эти дни меня не покидало странное ощущение, что все мы, вся наша компания, надышалась, как этот де Розе, гремучей смесью и с минуты на минуту мог произойти взрыв.
Началось это с того, что мы с Колей опоздали в школу. У нас уроки начинаются в девять утра, а выхожу я из дому без четверти девять, потому что школа близко. Коля меня догнал в нашем парадном, когда я спускалась на следующую площадку. По-видимому, он забрался выше и поджидал, пока я выйду.
У него было бледное и словно похудевшее лицо, и он слегка заикался, как в тех случаях, когда не знал чего- нибудь у доски.
— Я напал на след,— сказал Коля.
И он рассказал, что решил вчера постоять возле этих мастерских «Титан». Он хотел посмотреть, может, покажется какой-нибудь человек, которого он прежде видел и с которым мог прежде встречаться его отец.
— Там, может, ты заметила,— говорил Коля, глядя под ноги и ступая как-то боком,— стоит такая будочка. В ней летом водой торгуют. Через нее видно. Я стал за ней. И знаешь, кто вышел из этих мастерских?
— Кто?
— Догадайся.
— Не знаю...— Я остановилась. Я очень боялась назвать это имя.— Дядя Семен?
— Нет,— сказал Коля.— Никогда не догадаешься... Оттуда вышла та самая женщина, что приходила к нам на похороны... Ну, помнишь, в такой круглой шапке... Она медсестрой работает...
— И ты думаешь, что это она?..
— Что значит «она»? — удивился Коля.— Нет, конечно. Но, может, она связана с людьми, которые это сделали. Почему она раньше к нам никогда не приходила, а на похороны пришла? Что она делала в этом «Титане»? Я за ней шел до самой больницы. Я сто раз думал, что она меня заметит... А теперь нужно проследить, с кем она встречается, и узнать, к кому она ходила в «Титан». За ней нужно следить. И мы узнаем...
— Я видела такой венгерский фильм,— сказала я.— Про шпионов. Там американского шпиона — а может быть, и не американского — ловят наши, ну, венгерские
165
милиционеры. Они, конечно, переодетые. И когда они следят за этим шпионом, за ним идет сначала один — в ресторан, а когда он выходит из ресторана, за ним идет уже другой, а потом, когда он садится в автобус, с ним садится третий. Поэтому он не может догадаться, что за ним следят, а потом за ним гонятся на автомашине и ловят его. Надо поговорить с ребятами. Чтоб следить за ней по этому методу.
— Да,— сказал Коля.— Нужно поговорить с ребятами. Я тоже об этом думал.
На первом уроке был русский, и хотя мы опоздали почти на десять минут, Елизавета Карловна ничего не сказала и не спросила, почему мы опоздали. Теперь, после смерти Богдана Осиповича, учителя не делали Коле замечаний и даже не вызывали его, а он сидел рядом со мной, очень молчаливый, и рисовал на промокашке кубики и звездочки и только иногда ежился, как от холода.
В конце урока Коля, как это он умеет делать, почти не разжимая губ, сказал мне:
— После уроков поговорим с ребятами. Только нужно будет как-нибудь отшить Женьку Иванова.
— Почему «отшить»? — обиделась я за Женьку.— Тогда можешь и меня отшить. Женька еще никогда никого не подводил...
— Алексеева,— сказала Елизавета Карловна,— я в твоем возрасте эти проблемы решала не на уроке.
В классе засмеялись, а я подумала, что этих проблем Елизавета Карловна никогда не решала.
— Ладно,— сказал Коля после урока.— Я ведь говорил, что мы больше не будем ссориться. Хочешь, чтобы был Женька,— пускай будет. Я только хотел тебя попросить...— Коля замялся,— чтобы ты сама рассказала ребятам про это...
— Как — сама?
— Ну, то есть я буду с тобой... Но чтобы рассказывала — ты.
— Хорошо,— согласилась я.
Мы собрались после уроков в нашем закоулке школьного двора.
— Сейчас,— объявил Сережа,— профессор Алексеева сделает научный доклад про свою новую теорию птице- лета... Нужно поймать десять тысяч воробьев, каждому привязать за лапку нейлоновую ниточку, за другой конец ниток держится летчик, и птицелет готов...
166
Никто не улыбнулся. Наши ребята понимают, когда что-то всерьез.
— Хватит трепаться,— сказал Витя.— Что случилось?
— Сейчас узнаешь,— ответил Коля.— Только я хочу предупредить... Это такое дело, что если растреплете...
— Лишь бы ты сам не растрепал,— обиделся Витя.
Коля требовательно и недоверчиво смотрел на Лену.
— Я уже раз давала слово,— надула губы Лена.— А если вы с Олей не верите, так я могу уйти.
— Да хватит,— сказал Витя.— Что там такое?
— Колин папа не попал под трамвай,— сказала я.— Понимаете? Вернее, он попал, но умер не от этого. Его убили...
Ребята молчали. Сережа недоверчиво улыбнулся, а Женька открыл рот, собираясь что-то сказать, но снова закрыл его.
— Сначала, когда мне Коля рассказал про это, я тоже сомневалась. А потом поняла, что это — правда.
— А факты? — спросил Витя.
— Сейчас я расскажу про факты.
И я им рассказала всю историю сначала: и про то, что Богдан Осипович не пил алкогольных напитков, и про вагоновожатого Стеценко, и про табачную фабрику, и про мастерские «Титан».
— Я знаю, кто его убил,— сказал Женька.— Ео убили шпионы. Они всегда так делают.
— Подожди, Женька,— отмахнулся от него Витя.— А как же следователь?.. Про которого Оля говорила? — спросил он у Коли.— Ему же этот ваш вагоновожатый сказал, что через рельсы переходили три человека?..
— Сказал,— мрачно ответил Коля.— И я ему первый сказал, что батя непьющий. Но он не обратил внимания. Он какой-то этот... бюрократ. В очках. В глаза не смотрит.
— А если эта женщина в самом деле шпионка? — вмешалась Лена.— И заметит, что мы за ней следим. Может, она в сумочке или даже в кармане носит маленький револьвер?
— Меня она не узнает,— сказал Сережа.— Я могу переодеться даже в платье. Я могу так менять лицо, что сам на себя не похож.
И Сережа скорчил такую гримасу, что нос у него съехал куда-то на левую щеку.
— Ну зачем это ты? — словно целясь, посмотрел на него Коля.— С тобой всерьез, а ты как маленький...
167
— Да я — ничего,— смутился Сережа.
— Понятно,— сказал Витя.— Дело серьезное. Нужно все хорошо продумать. Тебя она видела? — спросил он у Коли.
— Видела. Оля ж говорила. Она на похоронах была.
— Понятно. А тебя? — спросил он меня.
— Меня тоже.
— И это понятно. Может, она вас даже сфотографировала. Теперь есть такие аппараты шпионские в часах.
Я хотела возразить, что этой тете совершенно незачем было нас фотографировать, даже если бы она в самом деле была шпионкой, а кроме того, совсем не доказано, что она шпионка, но Витя продолжал, и я просто не успела ему возразить.
— Значит, следить за ней будем мы вчетвером — я, Сережа, Лена и Женька. А вы с Колей будете у нас в резерве. Дежурить мы будем по два человека, и если она зайдет, скажем, в магазин, где у нее явка, то один, ну, к примеру, Оля, останется снаружи, а Женька пойдет за ней внутрь. Понятно?
— Понятно,— сказала я, посмотрела на Колю и сейчас же отвела глаза.
Мне это не нравилось. Мне это вдруг напомнило игру, в которую мы играли на нашем дворе, когда были меньше,— в «сыщика-разбойника». Колиного папу, Богдана Осиповича, в самом деле убили. И мне казалось, что нехорошо превращать это в игру. Но я не знала, что предложить.
— Пошли по домам,— сказал Витя.— Ровно через час сбор. Начнем с больницы. В больницу пойдут Оля и Лена. Ты ее узнаешь? — спросил он у меня.
— Узнаю,— ответила я неуверенно.
— Постарайся узнать. И незаметно покажешь на нее Лене. А Лена выяснит, как ее фамилия, а может быть, и адрес. Жалко, что пропал твой фотоаппарат. Вот сейчас он бы нам пригодился. Хорошо бы ее сфотографировать... Ну, пошли. Через час соберемся у моего парадного. Домой пойдем по одному, чтобы не обращать на себя внимания. Ты, Оля, иди первой.
Это мне уже показалось совсем бессмысленным — почему нельзя обращать на себя внимание и почему нужно идти по одному? Но я не стала спорить и пошла домой.
Когда я через час подошла к Витиному подъезду, там
168
уже стояли Витя, Сережа и Лена, а Коли и Женьки Иванова не было. Витя в руке держал тросточку, похожую на ту, которую когда-то поломал Петька, но без надписи.
— Так не годится,— сказал Витя, постукивая тросточкой об асфальт.— Раз договорились — значит, не опаздывать. Ждем ровно пять минут. Не придут — отправимся без них.
— А может быть, у Коли что-нибудь случилось,— сказала я.
— Слушайте загадку,— предложил .Сережа.— Девочка стоит вечером под дождем на троллейбусной остановке и ждет троллейбуса. Вдруг к ней подходит некто в сером и говорит: «Я тебе не отец, но ты мне — дочь». Кто это был?
К нам подошел Коля.
— Матя в- магазин* посылала,— сказал он смущенно.— За* капустой. А в овощном только одна продавщица. Вторая — гриппом заболела...
— Кто же это все-таки был? — спросила я у Сережи.
— А ты отгадай.
— Отчим?
— Нет. При чем здесь отчим?
— То была мама этой девочки,— сказал Витя.— Пошли. Больше никого ждать не будем.
Значит, это была мама. Как я сама не догадалась? Но, может, Витя уже слышал эту загадку?
Мы пошли к троллейбусу, и на самой остановке нас догнал Женька Иванов. У него было красное зареванное лицо. Очевидно, «тираны-родители» не пускали его на улицу, а требовали, чтобы он сел за уроки.
Только в троллейбусе я сообразила, что у меня нет ни копейки денег и что мне нечем заплатить за билет. Я спросила у Коли, есть ли у него деньги.
— На билеты есть,— ответил Коля.— Сколько нас?
— Я уже взял билеты! — крикнул нам Витя.
Какая-то молодая женщина с подрисованными к вискам уголками глаз, как это теперь делают, и в шубке из искусственного каракуля сказала смешливому дяденьке, который сидел с ней рядом:
— Посмотри, какая хорошенькая девочка.
Я оглянулась на Лену. Но они смотрели не на нее. Они смотрели на меня. Лена была сзади них, и они ее просто не видели.
Я подумала, что о Лене эта тетя не сказала бы «хо¬
169
рошенькая». Она бы сказала «какая красивая девочка». Но все равно я покраснела, и мне было приятно.
Троллейбусом и трамваем мы приехали на Подол. Витя спросил у какого-то встречного старого дяденьки, который очень кашлял, где находится поликлиника. Дяденька прокашлялся, плюнул на землю и ответил, что это близко.
— Я ведь там был,— сказал Коля.
Я не знаю, как это получилось, но Витя сразу стал у нас всем распоряжаться, хотя убили совсем не его папу. Однако его все слушались, даже Коля и я. Наверное, всегда бывают какие-то люди, которые берут на себя руководство, и если даже они могут распорядиться хуже других, их уже все равно слушают.
Двор поликлиники был окружен очень высокой и очень толстой белой стеной, и Витя сказал, что тут, по-видимому, раньше был монастырь, потому что осталась такая стена и из-за стены была видна церковная колокольня, но без креста.
Во дворе поликлиники был садик, а посредине этого садика стояло странное сооружение — высокий квадратный столб на фигурном пьедестале, а на столбе — квадратные циферблаты. И из каждого циферблата торчала узкая фигурная металлическая дощечка. Это были настоящие солнечные часы, и Витя сказал, что если бы было солнце, то и сейчас по ним можно было узнать время.
— Ну, хватит,— сказал Витя.— Мы сюда не на экскурсию пришли. Мы вас подождем, а вы с Леной найдите эту женщину и выясните, как ее фамилия и как ее зовут.
Мы с Леной пошли в поликлинику. Лена внешне выглядела совсем спокойной, а я очень волновалась. Я боялась, что нас не пустят. То есть я понимала, что ко мне нельзя придраться, ведь могло случиться так, что я пришла бы сюда за справкой к врачу. Или, скажем, чтобы передать какому-то человеку, который тут работает, письмо от папы. Но это было бы совсем другое дело. А так — мне было очень боязно.
— Снимите пальто,— сказала нам тетенька в несвежем с желтыми потеками халате. Она стояла возле раздевалки.
Мы разделись, тетенька нам дала номерки. Мы поднялись на второй этаж и вошли в коридор, в котором было много дверей. Перед каждой дверью сидели и стояли люди. Они ждали своей очереди на прием к врачу.
— Скажем, что ищем маму,— почти не разжимая губ, как говорил в таких случаях Коля, когда хотел, чтобы его
170
не услышали, сказала Лена.— Будем заглядывать в каждую дверь. А если ты ее увидишь, так ты мне скажешь, и я останусь у двери... А ты выйдешь к ребятам...
Лена заглянула в белую дверь, которая была прямо перед нами.
— Мы не к доктору, мы только заглянем,— сказала она женщинам, ждавшим своей очереди.— Мы ищем маму.
В комнате мы увидели почти совсем голую толстую тетеньку и мужчину-врача. Он ее осматривал.
— Что вам тут?..— закричал он на нас, и мы скорее захлопнули дверь.
— А если тебя спросят, как фамилия твоей мамы? — спросила я Лену.
— Я скажу — Костина. Моя мама в самом деле врач.
— И она тут работает?
— Ну что ты! — удивилась Лена так, как будто все обязаны знать, где работает ее мама.— Она научный сотрудник в институте Богомольца.
Мы обошли весь коридор. Мы не пропустили ни одного кабинета. А в одну дверь мы заглядывали дважды, потому что там было две комнаты. На нас кричали и больные и врачи. И все-таки женщины, которая нам была нужна, мы нигде не увидели.
Мы отдали номерки, надели пальто и вышли на улицу к нашим ребятам.
— Ничего,— сказал Витя.— Может быть, она работает в другом месте. Мы пока не теряли времени напрасно и выяснили, что тут, кроме поликлиники^ еще больница и лаборатория. Поэтому есть новый план... Скоро конец рабочего дня. Выход из этого двора только один — через ворота. Мы будем на улице, за воротами. Ты, Коля, стань в парадном, которое против ворот. С тобой пойдет Женька. Дождемся, пока будут выходить врачи и всякие сестры. Если увидишь ее — вышлешь к нам Женьку. Смотри внимательно. А Оля станет за нашими спинами и тоже будет смотреть. Важно ее не пропустить.
Витя сделал своей тросточкой выпад, как шпагой.
Мы ее не пропустили. Эта женщина вышла из ворот, я ее узнала еще до того, как успела рассмотреть,— у меня заколотилось сердце. В руках у нее был чемоданчик. Она села в «Москвич» с красным крестом на дверцах и уехала.
Глава двадцать пятая
Ее звали Вера. Фамилия — Старостенко. А по отчет СХВу — Петровна. По виду она была молоденькой, но фактически оказалась совсем старой — ей уже было двадцать четыре года. Она работала медсестрой в «неотложной помощи». Это вроде «скорой помощи», но не для серьезных случаев, а когда кто-нибудь руку порежет, или сердце заболит, или в поликлинике уже закончился прием, то обращаются в эту «неотложную помощь».
На работе Старостенко занималась в основном тем, что разговаривала и, судя по выражению их лиц, сплетничала с докторшей, с которой она работала вместе, а кроме того, она делала уколы людям, приходившим на прием.
Витя принес бинокль с просветленной оптикой. Если посмотреть на стекла под углом, то кажется, что они фиолетового цвета. Окна «неотложной помощи» выходили в такой закоулок между забором и домом, и если просто так посмотреть на эти окна, то ничего не было видно — они казались черными. Но в бинокль было совершенно ясно видно все, что происходило внутри. Я никогда не знала, что бинокли обладают таким свойством.
Прежде я видела эту женщину в шапке, и только теперь я заметила, что у Старостенко был такой маленький лоб, что сначала это даже озадачивало — волосы росли от самых бровей, но все равно, несмотря на это, она была очень хороша собой.
Если эта Старостенко действительно была шпионкой, то она избрала такую работу, что ее очень трудно разоблачить. Сначала мы пробовали следить за людьми, с которыми она встречалась. Но выяснилось, что это совершенно невозможно, потому что в «неотложную помощь» заходила масса людей, и любой из них мог прийти, как выражался Витя, «на явку». А кроме того, время от времени она то одна, то с врачом уезжала в этом «Москвиче» с красным крестом на вызовы. Попробуй проследить за каждым, с кем она встречалась. Для этого нужно было бы привлечь всю нашу школу.
Кстати, в школе дела у нас обстояли совсем плохо. В первый раз за всю свою жизнь Лена получила двойку. По физике. Елизавета Карловна сказала, чтобы ее мама пришла в школу. Я думала, что Лена будет расстраиваться и плакать, но Витя сказал на переменке, что мы обязаны жертвовать своими личными интересами ради обществен¬
172
ных интересов, и Лена с ним полностью согласилась.
На следующем уроке, на алгебре, двойку получил Сережа. Возможно, Климент Ефремович поставил бы ему тройку, если бы не Сережины шуточки.
Сережа решил уравнение, но когда Климент Ефремович спросил у него правило, Сережа стал путаться. Климент Ефремович удивился и сказал, что раз человек умеет пользоваться правилом, то он должен уметь его сформулировать, и что это был очень легкий вопрос.
— Вопрос, может быть, и легкий,— нахально ответил Сережа,— но вот ответ...
В классе раздался нездоровый смех, и Сережа с преувеличенным отчаянием на лице пошел на место.
Правда, на переменке Сережа говорил, что он тоже пожертвовал своими личными интересами ради общественных. Он, конечно, шутил, но и в самом деле то, что Витя назвал нашими «общественными интересами», отнимало очень много времени, и тут уж было не до отметок.
Жизнь шла своим чередом, и мы по-прежнему занимались у Вити нашими химическими опытами и поисками реактивов. Правда, теперь во время опытов мы разговаривали не столько о птицелете, сколько о книжках про шпионов.
Хотя мы следили за медсестрой Верой Старостенко уже вторую неделю, ничего подозрительного мы пока что не заметили.
В мастерские «Титан» она больше не ходила. Теперь я понимаю, какая разница между кино и жизнью: в кино шпион занимается шпионажем, и поэтому за ним легко проследить, а в жизни он делает уколы сотням людей, и проследить за ним совершенно невозможно.
Впрочем, один раз я наблюдала странную и нехорошую встречу. Я дежурила в паре с Витей, он мне отдал свой бинокль с просветленной оптикой, а сам пошел проверить, нет ли радиоустановки в этом «Москвиче» с красным крестом. Я посмотрела в бинокль и увидела, что Вера Старостенко одна, что докторши, с которой она работает, нет, что в комнату вошел какой-то подозрительный человек в берете и сером пальто с поднятым воротником, что он хотел закрыть дверь изнутри на ключ, а она не пускала его это сделать, но он все-таки закрыл дверь и стал ее целовать, то есть не дверь, а эту Старостенко, и она его тоже стала целовать, и я понимала, что на это нельзя смотреть, но все-таки смотрела и все видела.
173
Когда вернулся Витя, он сказал, что в «Москвиче» есть радиоприемник, который, возможно, используется и как рация, что он сумел все хорошо исследовать, потому что водитель ушел в «неотложную помощь», и спросил у меня, что он там делал.
Значит, это был водитель «Москвича». Я его просто не узнала.
— Так, ничего,— ответила я.— Разговаривал с этой Старостенко.
После этого я начала болтать всякую чепуху и задавать глупые вопросы, чтобы отвлечь Витю и не давать ему бинокль, и Витя, по-моему, очень удивился, что со мной случилось и почему я вдруг так поглупела.
Я решила, что не скажу ребятам о том, что я видела, потому что об этом нехорошо рассказывать.
Каждый вечер мы наспех готовили уроки и подводили итог. Особенно трудно было с уроками Женьки Иванова: в пятом классе очень сложные арифметические задачки, мы их решали все вместе и все равно ответ не всегдд сходился с задачником. А итогов мы тоже пока никаких не имели, и Сережа сказал, что, может быть, это вообще случайное совпадение: могла же эта Старостенко пойти в мастерские «Титан», потому что там кто-то сильно порезался, и он знает, как это проверить. Он хотел подойти прямо к Старостенко, громко сказать ей: «Привет из «Титана»!» — и посмотреть, как она на это будет реагировать. Мы его еле отговорили.
Сегодня на большой переменке я подумала, что обо мне снова что-то написали в газете. Может быть, подумала я, напечатали еще какое-нибудь стихотворение из тех, которые были в тетрадке. Мне хотелось, чтобы это было стихотворение про самолет, потому что я до сих пор в душе считала, что наша стенгазета неправильно сделала, когда не поместила его. Интересно, что бы они запели, если бы увидели, что это стихотворение напечатали не в стенной, а в настоящей газете. Но я стеснялась спросить, что там такое, потому что краем уха слышала, как о газете разговаривали две мало знакомые мне учительницы из младших классов, и одна из этих учительниц сказала обо мне: «Тише, вот она».
Однако, как я об этом узнала позже, в газете были помещены совсем не мои стихи, а папин фельетон. Елизавета Карловна подозвала меня и сказала, чтобы я передала папе, что учителям очень понравился его новый
174
фельетон и что они его поздравляют, а мне было стыдно, что я ничего об этом не знаю, и я сказала: «Спасибо, обязательно передам», и кивала головой так, как будто я не только читала этот фельетон, но даже знала о нем заранее.
В этот день наша учительница зоологии выполнила свое давнее обещание. У нас в школе нет микроскопа, но она где-то достала микроскоп, потому что уже давно собиралась нам показать, как выглядит увеличенная капля воды.
Мы по очереди смотрели на эту каплю, и каждого приходилось оттаскивать от окуляра, и ребята просили учительницу, чтобы она не забирала микроскоп, что они будут не спеша рассматривать эту каплю после уроков.
Я тоже посмотрела в микроскоп, и то, что я увидела, мне совсем не понравилось. Во-первых, мне было неприятно, что в прозрачной капле воды столько всяких микробов. То есть теоретически я знала об этом и раньше, но одно дело знать теоретически, а другое дело увидеть на практике, как в воде, которую мы пьем, плавают существа, похожие на креветок и мокриц. А во-вторых, я подумала, что эти существа так малы в сравнении с нами, что мы их рассматриваем в микроскоп, но, может быть, где-то во Вселенной существуют такие громадные существа, что они со своих галактик рассматривают нас в свои микроскопы.
В общем, я много раз замечала и на себе и на других, что когда у человека плохое настроение, то все ему кажется не так, и когда ему предлагают мороженое, то он говорит, что не хочет мороженого, потому что он простужен, а когда ему предлагают конфеты, он говорит, что не хочет конфет, потому что у него болят зубы, а когда его зовут в кино, он говорит, что не хочет в кино, потому что смотрел этот фильм уже два раза.
После уроков мы с Колей обошли несколько киосков, пока купили газету с папиным фельетоном. Ее уже везде раскупили. Мы взяли газету, отошли в сторонку за киоск и стали читать этот фельетон про себя, но вместе. Коля читает медленнее меня, и когда он засмеялся, я не могла понять, что его рассмешило.
Фельетон этот назывался «Опровержение министра». В нем писалось:
Я больше не пишу фельетонов. И искренне восхищаюсь гражданским мужеством и готовностью к самопожертвованию литераторов, отдавших свои перья этому, увы, нелегкому жанру!
175
Мои ученые друзья недавно подсчитали, что в среднем продолжительность жизни фельетониста на восемь лет меньше, чем у очеркистов, выступающих под рубрикой «О людях хороших», и на одиннадцать с половиной лет меньше, чем у поэтов, публикующих свои стихи исключительно в дни праздников. Фельетонисты рано седеют, их чаще оставляют жены, и язва желудка, а также гипертония и диабет являются их профессиональными заболеваниями. В некоторых редакциях фельетонистам уже начали выдавать молоко «за вредность производства», и я считаю это мероприятие своевременным и заслуживающим самого широкого распространения.
В чем же дело? А дело, оказывается, в опровержениях. В тех самых опровержениях, классическая формула которых была изложена более трех тысяч лет тому назад в одном восточном сказании: во-первых, я не брал этого горшка, во-вторых, когда ты мне его давал, он был с трещиной, а в-третьих, когда я тебе его возвращал, он был целым.
В каждой редакции по каждому фельетону заводится «дело». Некоторые из этих дел по количеству заключенных в них листов и содержанию соперничают с полным собранием сочинений Александра Дюма-отца, а по стилю и настроению — с перепиской между князем Курбским и Иваном Грозным.
Фельетонист в своем сочинении говорит о чем-то: «черное». А опровергатель говорит: «белое». Этим обычно и начинается «дело». Далее фельетонист на основании неопровержимых документов за номерами такими-то от чисел таких-то доказывает: «несомненно, черное». А опровергатель создает комиссию, призывает в свидетели соседей и присылает в редакцию акт с решительным утверждением: «белое, но с отдельными редко расположенными черными точками». На этот раз приходится попотеть фельетонисту. Он посещает членов комиссии, которые, оказывается, не только не подписываются на газету и не читали фельетона, но и вообще в это время были в далеком арктическом плавании. И снова пишет: «черное».
Но не дремлет и опровергатель. Заручившись справками из домоуправления, а также с места службы своего очень авторитетного родственника, он утверждает: «серое, и лишь местами черный фон».
Фельетонист посещает и домоуправление, и место работы авторитетного родственника и снова пишет письма, а копии вкладывает в «дело». И тут ему уже не до новых фельетонов, и настроение у него скверное, и он отказывается пойти с женой на новую кинокомедию, теряет ключи от квартиры и непочтительно отзывается о своем редакторе именно в ту минуту, когда редактору почему-то вздумалось покинуть кабинет и оказаться за спиной раздражительного фельетониста.
Если кто-либо из читателей слышал о фельетоне, в ответ на который не были присланы опровержения, пусть сообщит об этом: этот факт заслуживает того, чтобы о нем упомянули в Большой советской энциклопедии.
176
— Конечно,— жаловался недавно один мой знакомый фельетонист,— не эти опровержения можно бы и не обращать такого внимания, как мы это делаем, не отдавать всех своих сил опровержению опровергателей. Но тогда теряется весь смысл нашей работы: вместо того чтобы устранить недостатки, о которых мы пишем, наказать виновников, от нас отделываются «опровержениями».
— Еще как отделываются,— вздохнул, в свою очередь, и я.
Некоторое время тому назад был опубликован мой фельетон «Маленькое счастье». В нем говорилось о начальнике главка В. JI. Костенко, в наклонностях которого было что-то недоброе, что-то постыдное, что-то чуждое нашему времени, говорилось о том, как этот человек стремился спрятать эти свои качества от общественности, зажимая «-преследуя малейшее слово критики. Любого человека, который придерживался другого мнения, о чем бы ни шла речь — даже о прочитанной книге, даже о просмотренном фильме, В. Л. Костенко стремился уничтожить всеми доступными ему средствами.
В ответ на фельетон из министерства «'редакцию поступило письмо, подписанное самим министром М. Н. Усовым. «В результате проведенной министерством проверки,— говорилось в этом письме,— установлено, что приписок к плану, на наличие которых указывалось в фельетоне Николая Алексеева, фактически не было».
Я не закален в фельетонном ремесле и, получив это письмо, сознаюсь, просто растерялся. Черт побери! Ведь я собственными глазами — собственными! — видел документы, которые показывали, что к плану были сделаны приписки. И начальник главка В. Л. Костенко не отрицал этого.
Обидели и удивили меня и те строки письма, где говорилось: «Почему т. Алексеев, поднимая такой важный, принципиальный вопрос, как критика руководства учреждения, так беспринципно выбрал объект для примера?» По-видимому, по мнению министра М. Н. Усова, пожилая женщина, которую незаконно судили, которую преследовали только за то, что она покритиковала на собрании начальника главка, недостаточно «принципиальный» объект для примера.
Мне пришлось затратить немало труда, чтобы доказать, что я не лжец, что у министра не было оснований для опровержения фельетона.
Но вот минуло немного времени, и начальника главка В. JI. Костенко пришлось уволить с работы. В приказе министерства приводились те же самые факты, которые так легко отрицались в опровержении: В. Л. Костенко сняли за приписки, за обман государства, за зажим критики и грубость с подчиненными. Больше того, открылись такие обстоятельства, о которых я даже не подозревал: акт финансовой ревизии показал, что В. Л. Костенко был просто нечист на руку.
После этого шли выписки из документов, и мой папа критиковал министра за то, что министр защищал «честь
177
мундира». А заканчивался этот фельетон теми же словами, какими он начинался:
Я больше не пишу фельетонов! И искренне восхищаюсь гражданским мужеством и готовностью к самопожертвованию литераторов, отдавших свои перья этому, увы, нелегкому жанру.
— Вот дает! — совсем как егерь дядя Тима, сказал Коля, когда дочитал фельетон.— Здорово!
Я помолчала и предложила:
— Пойдем к нам... Пообедаем вместе.
— Я вообще-то не голодный,— ответил Коля.— А твои родители уже дома?
— Нет,— сказала я.— Мы пообедаем вдвоем.
Коля повеселел и ускорил шаги.
Я еще прежде замечала, что он стесняется моей мамы. Да и папы тоже.
Дома я сказала Коле, чтобы он помыл руки, неожиданно для самой себя вдруг решила:
— Сейчас приготовим бульон с яйцом. Будешь есть?
— Давай,— ответил Коля.— Мне все равно.
— А на второе — макароны с мясом. Это называется «по-флотски». Нужно их только разогреть на сковородке.
Бульон с яйцом мне не удался — почему-то свернулся белок, и в бульоне плавали хлопья. Но Коле это блюдо очень понравилось, и когда я предложила ему добавки, он сказал: «Давай».
За обедом он снова вспомнил о фельетоне и заметил:
— Нужно было купить две газеты. Чтоб матя почитала.
— Можешь взять,— ответила я.— Папа принесет еще газет. Он всегда приносит, если там напечатана его статья.
— Спасибо,— сказал Коля, когда мы доели все макароны.— Я пойду. Я еще домой должен зайти, отнести авоськи... А потом мы с Витей задумали одну штуку...
Он встал из-за стола и тихо, чуть-чуть подергал меня за косичку. Мне очень хотелось растрепать ему волосы, но сейчас я почему-то не решилась это сделать.
Коля ушел, а я помыла посуду и села за уроки.
Теперь мы готовили уроки по очереди — один сделает, а остальные у него потом списывают. Даже Лена Костина списывала алгебру у Сережи и удивлялась потом, почему у задачи не сходится ответ.
Я еще не успела закончить уроки, как вернулись с работы мои родители. Очевидно, папа зашел за мамой в ее проектное бюро.
178
— Скорее,— сказала мама,— одеваться! Лялька! Надень красный пуловер, который я тебе привезла из Ленинграда. Он тебе идет. Поедем в ресторан и устроим пир на весь мир. Умираю от голода.
Они были очень веселы, папа смеялся и ткнул меня пальцем в живот.
— Я не поеду,— ответила я.— Я уже обедала. И я еще не сделала уроков.
— Ну и ну! — закричала мама из кухни.— Лялька объелась макаронами. Но от мороженого и шампанского ты, конечно, не откажешься. А уроки сделаешь потом.
— Нет,— сказала я.— Я не поеду.
Папа посмотрел на меня с веселым удивлением. Очевидно, он не мог понять, как человек может отказаться от мороженого. И от шампанского.
— Ты видела газету? — спросил он.— Там фельетон. И на этот раз, говорят, смешной.
— Смешной,— согласилась я.— Только ты сам говорил прежде, что не понимаешь, как над этим можно смеяться.
— Вот оно что! — прищурился папа.— Можно, Оля. И нужно. Над подлостью, над жадностью, над тупостью, может быть, действительно не стоит смеяться, пока они действуют. Но когда их преодолели, когда их победили, над всем этим необходимо смеяться. Победители всегда смеются...
Я подумала, что иногда смеются и побежденные, только не сказала этого вслух.
— А ты в самом деле больше не будешь писать фельетонов? — спросила я.
— Буду,— ответил папа.— Это просто литературный прием. Ведь то, что сегодня напечатано,— это и есть фельетон. А кроме того, я готовлю еще одну бомбу... И врежу — с нездешней силой... Собирайся же, Оля.
— Нет, нет,— повторила я.— Я не поеду.
— Никто так не умеет испортить радости, как наша дочка,— процедила мама сквозь зубы, в которых держала шпильки. Она причесывалась.— Поедем, Коля, а она пусть сидит дома. Да и вообще, где это видано — таскать детей по ресторанам?..
Я ничего не ответила и снова уткнулась носом в учебник физики.
Как скоро люди все забывают! И мама, и папа уже не помнили, что у Коли погиб отец.
179
Мама недавно говорила папе, что теперь у нас снова все благополучно, что пора уже забыть обо всех этих неприятностях, пора жить нормально и смотреть на окружающее нормально, что нельзя из-за отдельных случайностей, которые неизбежно бывают со всяким, озлобляться и смотреть на мир сквозь черные очки.
Но у нас не было все благополучно, и в этом мире не было все благополучно, если Колиного папу убили, если Колина мама больше не плакала, а постоянно улыбалась этой своей приклеенной улыбкой, если Коля все время ежился, как от холода.
Когда мои родители ушли, я снова подумала, что смеются не обязательно победители. Я стала перед зеркалом и попробовала посмеяться. Я смеялась, но мне даже самой было немножко страшно — такое у меня было ненормальное выражение лица и такой дурацкий смех.
И все-таки я проявила силу воли: отказалась от мороженого, которого мне очень хотелось, и не заплакала, а посмеялась над своими огорчениями.
Глава двадцать шестая
В этой семье — все юмористы. Наташка ходит, как Чарли Чаплин,— носки у нее смотрят в стороны. Мы вместе с ней шли в школу, я сегодня вышла пораньше.
— Кем ты будешь, когда вырастешь? — спросила я у Наташки.
— Кондуктором,— ответила она, не задумываясь.
— Почему?
— Говоришь людям, где выйти... И много денег.
— Не очень много,— возразила я.
— Очень,— сказала Наташка.— Я видела.
Оказывается, она считает, что кондуктор все деньги,
которые получает от пассажиров и кладет в сумку, берет себе.
— А я знаю, какой будет фокус,— искоса поглядела на меня Наташка.— Только не скажу.
— Ну и не надо.
Если бы я попросила: «Расскажи», может быть, Наташка и промолчала бы.
— С яйцом,— таинственно прошептала Наташка.— Он наливает в бутылку воду — и вдруг там яйцо. Но я не знаю, как он его туда засовывает...
180
Сегодня у нас на последнем уроке — химия. Это лучший день недели. После урока весь класс остается в химическом кабинете. Евгения Лаврентьевна рассказывает интересные вещи о химии и о химиках. А теперь к этому уроку ребята готовят химические фокусы и показывают их. А потом рассказывают, в чем секрет. Что собирался показать Сережа, я уже узнала от Наташки.
У Евгении Лаврентьевны на столе лежала книга с закладками. Я посмотрела издали и, хотя буквы были перевернуты, прочла: «Конан Дойл. Избранные произведения». Вот, значит, чем увлекалась Евгения Лаврентьевна! Я вспомнила страшный рассказ этого писателя о пляшущих человечках и подумала, как было бы здорово, если б Шерлок Холмс примкнул к нашей компании. Он бы, наверное, быстро разобрался в нашем деле.
Евгения Лаврентьевна сказала:
— Когда мы изучали закон сохранения массы, мы с вами сожгли в колбе немного фосфора, и при этом образовалось новое вещество — фосфорный ангидрид в виде белого дыма. Вы также видели, как светится фосфор при окислении на воздухе. Но это свечение фосфора создает иногда у людей неправильное представление. Вот что пишет ваш любимый писатель Конан Дойл в «Собаке Баскервилей».
Евгения Лаврентьевна раскрыла книгу там, где она была заложена полоской бумаги.
— «Да! Это была собака, огромная, черная как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло бы возникнуть видение, более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана». А дальше вот что говорится уже об убитой собаке: «Ее огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. «Фосфор»,— сказал я».
Этого не могло быть. Фосфор на воздухе не только светится, но и загорается — собака просто изжарилась бы, если б ее шерсть смазать раствором фосфора в летучей жидкости или опылить фосфором. Кроме того, фосфор еще и ядовит. И достаточно было в пасть этой собаке Баскер¬
181
вилей попасть одной десятой доле грамма, чтобы она отравилась и немедленно погибла.
Все это я говорю к тому,— улыбнулась Евгения Лаврентьевна (и я снова подумала, какая она красивая),— что в седьмом «Б» появился юный химик, который вздумал свою таксу превратить в собаку Баскервилей. Так вот запомните, что фосфор для людей еще более ядовит, чем для собак.
После урока Евгения Лаврентьевна села на стуле сбоку у своего стола, ближе к окну, и объявила:
— А сейчас поглядим, чем нас удивит сегодня Сережа.
Сережа вышел к столу и попросил две колбы с узкими
горлышками. С важным и серьезным видом он налил в одну колбу воду, потом перелил эту воду в другую колбу, снова перелил в первую, а затем опять вылил воду во вторую. Пустую колбу он несколько раз встряхнул в руках.
И вдруг на наших глазах в колбе появилось куриное яйцо. Это было так здорово, что все просто ахнули, а я толкала Колю и Витю в бока — они сидели по сторонам от меня,— потому что мне казалось, что они недостаточно восхищаются.
— Интересно,— сказала Евгения Лаврентьевна.— Очень интересно. Ну, кто же скажет, в чем тут секрет?
Все молчали.
— Он выпустил яйцо из рукава,— сказала Нечаева.
— Разве ты не видишь, что яйцо в два раза шире горлышка колбы? — возразила Евгения Лаврентьевна.
— Пусть даст колбу в руки,— потребовал кто-то из ребят.
— Нет,— сказал Сережа,— ты так отгадай. В этом как раз и фокус.
— Значит, никто не знает,— встала Евгения Лаврентьевна.— Я тоже не могу догадаться. Это в самом деле похоже на чудо. Придется, Сережа, тебе самому рассказать, как ты это сделал и какие химические законы ты для этого использовал.
Мне, конечно, было очень любопытно узнать, в чем состоял секрет этого фокуса. И все-таки мне было немножко жалко, что это сейчас станет известно — мне хотелось хоть некоторое время считать, что на свете бывают чудеса.
Сережа рассказал, что он сделал иглой две тоненькие дырочки в обыкновенном яйце — одну на заостренном конце, а другую на тупом. Затем он стал втягивать в себя ртом
182
это яйцо, и, хоть он не любит сырых яиц и ему было противно, он все равно его выпил. Пустую скорлупу он положил в стакан и залил ее обыкновенным уксусом...
Химическим этот фокус является потому, что яичная скорлупа полностью растворяется в уксусе, правда, ее для этого нужно продержать в стакане два дня. Когда яйцо растворилось, осталась только оболочка — тонкая пленка, находящаяся под скорлупой. Эту оболочку Сережа незаметно зажал между пальцами и бросил ее в колбу. Когда он вылил воду, оболочка осталась в колбе. Затем он встряхнул колбу, и оболочка через сделанные иголкой дырочки наполнилась воздухом и приняла форму яйца.
Надо сказать, что эта оболочка была настолько похожа на настоящее яйцо, что мне и после Сережиного объяснения не верилось, что это только оболочка.
Евгения Лаврентьевна рассказала нам, почему уксус растворяет известь, и привела еще пример с легендой о египетской царице Клеопатре, которая будто бы растворила в уксусе драгоценную жемчужину и выпила этот раствор.
После этого мы еще посмотрели фокус, который подготовил Витя. Он подвесил к железной подставке для пробирок четыре листика белой бумаги и поджег их. Один из этих листиков горел желтым огнем, второй — голубым, третий — красным, а четвертый — зеленым. Ну, в этом фокусе ничего таинственного не было, все сразу поняли, что бумага чем-то пропитана.
Витя рассказал, чем именно он пропитывал бумагу, но я всего не запомнила... Синее пламя дала азотнокислая медь, а красное — азотнокислый стронций. Мы испытывали эти реактивы как катализаторы, но я тогда не знала, что они окрашивают пламя.
Когда мы уже расходились, Евгения Лаврентьевна сказала:
— А ты, Оля, останься еще на несколько минут. Я хочу с тобой поговорить.
— Я тебя подожду внизу,— шепнул мне Коля, почти не разжимая губ.
— Как у тебя дела, Оля? — спросила Евгения Лаврентьевна.— Что дома?
— Нормально,— ответила я.
Евгения Лаврентьевна поморщилась.
— Ас товарищами?
— Нормально.
183
— Ты, Оля,— сказала Евдения Лаврентьевна,^ пишешь стихи. Значит, ищешь самые лучшие слова для того, чтобьь-выразить мысль. И уж ты могла бы не употреблять этого пустого, бессмысленного слова «нормально». Что значит — «нормально»?
Меня теперь-* часто -попрекали стихами. На днях Елизавета Карловна говорила, что девочка, которая пишет стихи, могла бы не писать в своих домашних сочинениях в каждой фразе по два раза слово «который».
Но что другое, кроме «нормально», могла я сказать даже Евгении-Лаврентьевне? Я молчала.
— Вот что, Оля,— продолжала Евгения Лаврентьев^ на,— мне кажется, что ты себя ведешь неправильно. Я понимаю, как тяжело ты переживаешь смерть Колиного отца. Я знаю, что у тебя доброе сердце. Но ты, по-моему, начала сердито смотреть на всех людей, которые не переживают вместе с тобой и Колей, .которые заняты своим делом и, делая его, смеются, шутят, радуются. А это уже нехорошо. Кроме того, люди, несмотря на переживания, должны добросовестно делать свою работу. А ты запустила учебу... Я у тебя больше ничего не хочу спрашивать, раз ты мне отвечаешь словом «нормально». Но подумай об этом. А теперь пойдем...— Евгения Лаврентьевна посмотрела на меня и чуть улыбнулась: — Нет, ты пойди сама, а я еще задержусь на несколько минут.
У выхода из школы меня ждал Коля.
— Что она говорила? — спросил он подозрительно.
— Ничего. Все нормально,— ответила я.
Некоторое время мы шли молча, а потом Коля спросил:
— Твой батя все еще собирает консервные ножи?
— Собирает.
— А зачем это ему?
Я обиделась за папу и сказала, что человек может собирать какую угодно коллекцию, собирают же марки, и есть специальные филателистические магазины, и бывают марки (я читала), которые стоят тысячу рублей. А что такое эта марка, даже за тысячу рублей? Кусочек бумаги. А любым консервным ножом из коллекции можно при случае хоть консервы открыть. И вообще, по-моему, люди искусственно создают себе ценности вроде этих марок, или жемчуга, или даже золота. Чем настоящий жемчуг лучше искусственного? Тем, что его можно растворить в уксусе? Или золото? Просто желтый металл. А за него воевали.
— И уж коллекция консервных ножей лучше коллек¬
184
ции марок, каждый нож имеет свою настоящую ценность, а не выдуманную.
— Да нет, я ничего,— удивился Коля моей горячности.—
Я просто нашел такой старый консервный нож.
С двумя колесиками.—
Коля вынул нож из кармана.— Если у вас в коллекции нет такого...
— Спасибо,—сказа- СЛГЛШИТИК ла я и взяла нож.
Коля проводил меня до самого моего дома.
— Так ты сегодня не придешь? — спросил он нерешительно.
— Нет,— ответила я.— Не смогу. Сегодня мама придумала генеральную уборку. Она говорит, что я не слежу за порядком и я должна ей помочь. Завтра увидимся.
Утром Коли и Вити не было на первом уроке, и я очень волновалась. Что с ними могло случиться? Они пришли к самому началу второго урока, и тут открылась одна странная и страшная штука.
Мы все считали их шпионами. Я не помню, кто это первым сказал. Кажется, Женька Иванов. Но про себя я не думала, что они шпионы. Про себя мне все это казалось такой игрой, в которой все договорились между собой относиться к ней всерьез, а если кто-нибудь отнесется не всерьез, то этим он обидит остальных.
Но теперь, когда я посмотрела на Колю и Витю, я подумала обо всем этом по-другому. Они были какие-то очень измученные, и очень встревоженные, и очень растерянные.
Витя на переменке собрал нашу компанию и сказал, что они с Колей выяснили, для чего эта женщина ходила в мастерские «Титан». Она ходила туда к дяденьке, которого я сразу вспомнила. Такой лысый, похожий на доктора. Он еще на поминках говорил, что был с Богданом Осиповичем в разведке и Богдан Осипович стрелял, а они отходили.
— Его фамилия Соколов,— сказал Коля.
185
— Но ведь он фронтовой друг твоего отца... И неужели ты думаешь?..— спросила я.
— Еще неизвестно, какой он друг,— вмешался Витя.— Коля говорит, что он к ним раньше заходил только один раз. Может быть, он и является резидентом.
— А как он оказался в «Титане»? — спросила Лена.
— Кажется, он там работает,— ответил Витя.— Это мы должны выяснить.
— Но ведь ты с ним советовался,— сказала я Коле.— Спрашивал у него про фронтовых друзей твоего папы.
Коля поежился, как от холода, а Витя сказал, что это-то и плохо, потому что Коля, возможно, насторожил этого резидента.
— Теперь,— сказал Витя,— мы должны установить за мастерскими «Титан» такое наблюдение, чтобы ни одна птица не могла пролететь незаметно.
После школы Витя нарисовал схему, где какие посты у нас будут расположены и как пост с постом должен связываться.
Я в этот день дежурила с Женькой Ивановым. По дороге я купила три горячих пирожка с мясом, полтора пирожка дала Женьке, а полтора съела сама. Вообще, когда мы дежурили, мне всегда хотелось есть, должно быть, от волнения, я часто покупала пирожки и всегда вспоминала какую-то детскую сказку про медведя:
Сяду на пенек —
Съем пирожок...
Мы с Женькой стали на углу возле артели, там, где отметил это на своей схеме Витя. Но стоять там было как-то неловко, нам казалось, что все прохожие обращают на нас внимание, и мы начали прохаживаться взад и вперед и разговаривать о том, что летать на индивидуальных птицелетах в условиях города будет все же очень трудно, потому что здесь, в воздухе, много проводов: и троллейбусных, и трамвайных, и просто всяких электрических, и что птицелет может натолкнуться на эти провода, произвести короткое замыкание тока и загореться.
— Нужно будет,— предложил Женька,— устроить ца крышах самых высоких зданий посадочные площадки для птицелетов, вроде таких стоянок, как это теперь делают для автомашин. Человек сможет туда прилететь, оставить там свой птицелет, пойти в магазины за покупками или,
186
скажем, на рынок, а потом снова подняться на крышу и полететь, куда ему нужно.
Так, интересно беседуя, мы шли в сторону трамвайной остановки и увидели там на своем посту Колю. Женька ему помахал рукой, но Коля сделал вид, что он нас не замечает.
В это время к краю тротуара подъехала серая «Волга», из «Волги» вылез какой-то высокий человек в шляпе и очках. Он подошел к Коле, что-то сказал ему и потащил за руку в автомашину. Коля сопротивлялся, но он его тащил.
Мы очень испугались и бросились к Коле, но Коля уже был в машине, и пока мы добежали, она тронулась, и тогда мы подбежали к другой «Волге», которая стояла немного впереди. В ней за рулем сидел какой-то совсем молодой водитель и читал книжку.
— Пожалуйста,— закричала я,— скорее! Вон за той машиной, серой! Скорее! Они увезли Колю, нашего товарища!..
Мы оба забрались в машину на переднее сиденье рядом с шофером.
— За какой машиной?.. Вы что, сбесились? Что вам тут...— сказал водитель, но его прервал Женька.
— Дяденька! — закричал он.— Скорее! Они его убьют. Они убили его папу и его тоже убьют!
Женька плакал и кричал это так, что водитель включил мотор, и мы помчались. И только тогда водитель спросил, какая машина.
— Серая! — закричала я.— Вон она!.. В ней какие-то бандиты...— Я не решилась сказать — шпионы.— Они убили Колиного отца. Он был милиционером. А теперь они Колю схватили...
Мы проскочили через перекресток, и я увидела, что мы летим прямо на такую огромную, покрытую алюминиевыми листами машину-холодильник, и я закрыла глаза, а водитель выругался, и уже этот холодильник оказался сзади, и мы мчались по горе вверх, и мы уже догоняли серую «Волгу», которая увезла Колю, но шофер опять выругался, потому что эта серая «Волга», как бы почувствовав погоню, прибавила скорость и стала уходить, а шофер сказал, что карбюратор барахлит.
И тут я услышала, что мотор в самом деле работает как-то не так, но мы все-таки уже взобрались на гору, и на Крещатике мы обогнали эту серую «Волгу», и я увидела в ней Колю и закричала: «Вот он!», а наш водитель резко затормозил перед самым носом той серой «Волги»
187
и схватил в руки такой большой ключ, которым завинчивают гайки, и выскочил из машины. А мы — за ним. А тут еще засвистел в свисток и подбежал к нам милиционер, и еще какие-то люди, и милиционер закричал на нашего водителя: «Хулиган! Брось ключ!», а водитель сказал: «Там бандиты».
И из серой «Волги» тогда вышли два каких-то человека, а за ними вышел Коля, и один из этих людей что-то сказал милиционеру и показал ему красную книжечку, и милиционер сказал людям, которые уже собрались вокруг нас: «Расходитесь, расходитесь, граждане», а наш водитель, не выпуская из рук этой своей железной штуки, спросил, в чем дело, и тогда один из этих людей, высокий дяденька в очках и в шляпе, который тащил Колю в машину, отозвал водителя в сторону и стал что-то говорить, и я услышала слово «прокуратура». А Коля подошел к нам и сказал, что этот дяденька в очках и есть тот самый следователь.
Следователь подошел к нам и, покачивая головой, сказал, что ему придется и нас забрать с собой, а водитель, по-, качивая головой, сказал: «Ну и ребята!», а милиционер, тоже покачивая головой, сказал, что хорошо, что хоть обошлось без аварии.
Глава двадцать седьмая
Я прижалась ухом к стене и послушала музыку. Я всегда перед сном слушаю хорошую музыку. В соседней квартире — вход в нее из другого подъезда — вечером всегда негромко играет радио. Сейчас радио играло очень хороший твист, похожий на детскую считалочку, и с такими же непонятными словами, вроде «эне, бене, раба — винтер, квинтер, жаба».
А над моей постелью висел в деревянной рамке портрет Шевченко, вырезанный на черной лаковой доске. Мне его не было видно в темноте, но я знала, какой он, и как он смотрит запавшими глазами из-под низко нависших бровей, и как обвисли у него усы.
Я снова написала стихи про Шевченко. Я написала белые стихи — мне к ним не нужны рифмы.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда его держали в Кос-Арале,
И муштровали под казахским солнцем,
И запрещали даже рисовать.
188
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда он видел, как сквозь строй проводят,
И слышал, как с глухим и страшным звуком Отскакивают палки от спины.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда вельмож он видел украинских,
Своих же братьев давящих и рвущих,
Почище всяких турков и татар.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко.
И как его завет я повторяю Одно-единственное это слово:
Ненавиджу *.
Я ненавижу! Ненавижу всех, кто может для своей пользы убить человека... Из-за денег... Или из-за вещей. Или из-за того, что этот человек иначе думает. Покритиковал их.
Я их ненавижу!
Мы следили за ними, как будто они шпионы. Но они хуже шпионов. Потому что шпионы все-таки стараются принести пользу своему государству. Я понимаю, что за шпионами нужно следить и нужно их ловить, но их можно понять. В конце концов, Зорге, замечательный герой, которым мы гордимся, был нашим агентом, а фашисты его, наверное, называли советским шпионом.
Нет, такие люди, как этот лысый Соколов, в тысячу раз хуже всякого шпиона. И они живут рядом с нами, и их видят и не догадываются, кто они на самом деле, или догадываются, но молчат. А когда такие смелые люди, как Колин папа, говорят об этом, то они им мстят и хотят их убить и даже убивают.
Я когда-то написала школьное сочинение про золото. Но я тогда даже не догадывалась, как я в нем все правильно написала. У Соколова дома в батарее отопления нашли целый склад золота — там лежали кольца, и золотые цепочки, и монеты, и даже золотые зубы, и все это он прятал в батарею не случайно, а потому, что, оказывается, он был очень хитер и знал, что есть такой прибор с наушниками, и если этим прибором водить возле пола или возле стен, то там, где спрятан металл, в наушниках на-
1 Ненавижу (укр.).
189
чнется писк, а батарея металлическая, и возле нее прибор все равно будет пищать, и никто не догадается, что там что-то спрятано.
Но для чего этому человеку нужно было золото? К тому же он все равно держал его в батарее. Но чтобы сохранить золото и чтобы добавить в эту батарею еще несколько колец или зубов, он убил Колиного отца, Богдана Осиповича.
Нам рассказал обо всем этом следователь. А потом еще мой папа. А потом об этом писали в «Вечернем Киеве».
Следователь на нас очень сердился. Мы, оказывается, ему здорово помешали, и Колю он увез тогда потому, что с Колей, еще школьником, еще, в конце концов, мальчиком — хотя он высокий и с большими бицепсами,— могли расправиться, как с его отцом.
Следователь с самого начала знал, что Колиного отца нарочно убили, но он специально сказал, что Богдан Осипович в нетрезвом состоянии попал под трамвай, чтобы усыпить бдительность преступников. Для этого он сказал так,- же, чтобы Колиной маме пока не давали пенсию, а Коля и вся наша компания очень ему помешали, потому что мы насторожили этих преступников. Они, оказывается, даже знали, что мы за ними следим, хотя как они об этом догадались, я понять не могу. Тем более, что мы в основном следили за медсестрой Верой Старостенко, а эта Старостенко в мастерские «Титан» ходила случайно, к своей знакомой, и никакого отношения к преступникам не имела, а, наоборот, была хорошей женщиной, и на похороны Богдана Осиповича она пришла потому, что он ей когда-то очень помог, а в чем Колин отец ей помог, я так и не узнала.
— И все-таки, ребята,— сказал нам следователь,— если вы после школы пойдете учиться дальше по кашей части, то количество неразгаданных преступлений в этом мире очень уменьшится.
Витя потом говорил, что мы были на правильном пути, и если бы мы продолжали слежку, то мы бы и без милиции разоблачили эту преступную банду, и что ему все в этом деле совершенно понятно. А мне до сих пор это не совсем понятно. Особенно как это началось. Есть какие-то инкассаторы, что ли, которые увозят в банк деньги из разных магазинов, и Колин папа во время своего милицейского дежурства несколько раз замечал, что в один маленький магазин на Владимирском базаре — это даже не магазин, а такая зеленая будка, там много таких,— то ли не при¬
190
езжал такой инкассатор, то ли приезжал другой инкассатор, я так и не поняла, но, в общем, что-то там показалось Богдану Осиповичу подозрительным, и он выяснил, чей это магазин, и оказалось, что этот магазин получает товары из мастерских «Титан».
И тогда он пошел в этот «Титан», чтобы выяснить, что это такое.
Витя говорил, что вообще-то он должен был сразу сказать в милиции про свои подозрения, но так как эти мастерские были в другом районе, то он, наверное, хотел сначала понять, в чем там дело, а потом уже сказать.
И вот Богдан Осипович, оказывается, встретил в этих мастерских своего знакомого Соколова, который там работал начальником. Этот лысый Соколов никогда не был с Колиным папой в разведке, а он только лежал с ним в госпитале и там слышал от Богдана Осиповича про разведку. Я думаю, что он даже в госпитале лежал совсем не потому, что был ранен, а, может быть, потому, что был чем-нибудь просто болен, например ангиной, но это точно не известно. И этот Соколов сказал Колиному папе, чтоб Колин папа не сообщал о магазине, что он сначала сам в этом разберется, а потом Соколов пришел к ним домой, а потом позвал Колиного папу в мастерские. И там он и другие, как сказал следователь, сообщники — их было четыре человека — стали уговаривать Богдана Осиповича, чтобы он принял участие в их преступлении.
Они, оказывается, делали в этих мастерских всякие кожаные пояса, и ремешочки для часов, и сумочки, и небольшие чемоданчики. Но все это они отдавали не нашему государству, а продавали через продавцов, которые им помогали, а деньги они делили между собой. И денег они получали очень много, огромное количество. Я никогда даже себе не представляла, что эти ремешки и сумочки так дорого стоят, но Витя подсчитал на бумажке, и вышло, что они получили миллион рублей.
И когда Колин папа, Богдан Осипович, отказался продать свою честь и совесть за деньги, они его схватили и ударили по голове, и влили в него почти бутылку водки, чтобы замести следы своего преступления, и засунули в карман сигареты, а так как он был еще живой, то этот Соколов железным молотком снова несколько раз ударил Богдана Осиповича по голове. А потом они отнесли его и бросили на рельсы, чтобы его разрезало трамваем и уже никто не мог ничего узнать.
191
И все-таки я ничего не понимаю. Ведь я сама слышала, что говорил этот лысый Соколов на поминках Колиного папы. Он лучше всех сказал про Колиного папу, которого сам убил. И он приходил на похороны. Значит, его не мучила совесть. Значит, эти золотые кольца и эти золотые зубы, которые он держал в своей батарее, были для него в тысячу раз дороже, чем человеческая жизнь. А разве может кусок желтого, менее полезного в хозяйстве металла, чем железо, из которого сделана батарея, быть дороже человеческой жизни?
И как горько мне теперь думать, что я так мало знала Богдана Осиповича, мало его видела, не сделала ему ничего приятного, а Елену Евдокимовну я люблю еще больше, чем прежде, я очень люблю ее и знаю, какой трудной была ее жизнь, что ее отца фашисты расстреляли у нее на глазах, а я думала о том, что было бы со мной, если бы фашисты на моих глазах расстреляли моего папу, и она была на войне, и тащила под огнем раненых, и сама была ранена, а я думала о том, смогла бы я не бояться и тащить под огнем раненых.
Но все равно, все несчастья, которые были в жизни Елены Евдокимовны, все трудности она переживала для того, чтобы людям было лучше и чтобы все в нашей стране было как следует, было по правде.
Я очень люблю моего папу, и очень люблю мою маму, и очень люблю Елену Евдокимовну, и очень люблю Юрия Митрофановича — дяденьку с палкой, которого Елена Евдокимовна вынесла на себе из огня,— и еще очень многих людей. И я еще напишу стихи о том, как я их люблю, и что, когда я вырасту, любой из тех, кого я так люблю, сможет прийти ко мне, когда захочет, и я буду готова поделиться с ним всем, что у меня есть. И каждое слово в этих стихах будет правдой.
И я ненавижу этого Соколова и тех, кто расстреливает коммунистов в Испании, и тех, кто убивает женщин и детей в колониальных странах.
Ненавиджу!
Мы с ребятами снова добываем реактивы, делаем химические опыты и мечтаем о своем птицелете. И я верю — мы еще полетим на птицелете над нашим хорошим Киевом.
Но я и все наши ребята многое теперь поняли. Мы поняли, какими нужно быть. И мы будем такими.
192
Ф Искандер НШЬИДЕНЬ
чжК
повесть
7 Школьные годы. Выпуск IV
— А тебе, Ясон,— спросил Чик,— приходилось убивать человека?
Чик лежал на высокой бабушкиной кровати и, приподнявшись, смотрел в противоположную сторону залы — так называли эту комнату. Там почти в полной темноте лежал Ясон. Ясон курил, и огонек папиросы, когда он затягивался, озарял его впалую щеку, коротенький нос и большие губы.
Между Чиком и Ясоном на своем обычном месте лежал дядя Коля, сумасшедший дядюшка Чика. Ставни среднего окна были открыты, и свет уличного фонаря слегка озарял постель и бритую голову дяди Коли.
В столовой спала тетя Наташа, дальняя родственница Чика. Больше в доме никого не было, все уехали в деревню на похороны...
Обычно Чик спал у себя дома, внизу, на первом этаже. Но сегодня бабушка оставила его здесь, чтобы он присматривал за дядей. Сам-то дядя предпочел бы, чтобы Чик за ним не присматривал, потому что в таких случаях Чик редко удерживался, чтобы не подразнить его.
Правда, сейчас Чик, занятый разговором с Ясоном, не собирался его дразнить. Дело в том, что Ясон был вором. Это все знали. Во всяком случае, знали все родственники. Изредка он заходил к ним домой, иногда оставался ночевать и всегда уходил рано утром.
Задав вопрос, Чик напряженно прислушивался, чтобы не пропустить ни одного слова. Прислушиваясь, он по-
194
глядывгл сквозь среднее окно на уличный фонарь, вокруг которого толклись мотыльки и мошки.
Ясон не спешил с ответом, зато в тишине без умолку раздавалась песенка дяди Коли. Такие песенки, собственного сочинения, без всяких слов, вернее, с выдуманными словами, он всегда пел перед сном, если у него было хорошее настроение.
Иногда он прерывал песню и, приподнявшись, тревожно смотрел в сторону Чика, чтобы всзремя перехватить его очередную проделку. То, что Чик до сих пор ничего не выкинул, беспокоило его, казалось признаком особого коварства.
— Вижу, вижу,— приговаривал он, делая вид, что разгадал замысел Чика и достаточно сурово покарает, когда это будет необходимо. Еще один оттенок легко улавливал Чик в его предупреждении. Он как бы выманивал его из засады — мол, давай, если ты такой храбрый, действуй побыстрей, а там я с тобой разделаюсь, и мы оба освободимся друг от друга. Иногда он поглядывал на Ясона, стараясь предугадать, чью сторону примет этот неизвестный человек в случае столкновения с Чиком.
Собственно говоря, Чик собирался подбросить ему кошку. С этой целью он взял ее к себе в постель, но сейчас, увлекшись рассказами Ясона, забыл о своих планах. Кошка спала, уютно устроившись на простыне, которой укрывался Чик.
Кошек и собак дядя Коля не переносил. Он испытывал к ним яростное отвращение. Было похоже, что он не видел между ними особой разницы. Во всяком случае, и тех и других он обобщенно называл собаками.
Предупредив Чика, что его тайные приготовления не остались незамеченными, дядюшка на время успокоился и снова затянул свою бесконечную мелодию, иногда подражая каким-то музыкальным инструментам, совершенно неведомым Чику, а может быть, и всему остальному человечеству.
— Он что, всю ночь будет так скулить? — неожиданно спросил Ясон, не отвечая на вопрос Чика.
— Это он поет,— ответил Чик, несколько обиженный за дядю,— он так попоет немного, а потом заснет.
— Интересно, что ему сейчас кажется? — сказал Ясон и затянулся. Снова появились в темноте большие губы, коротенький нос и ямина впалой щеки.
— Ничего не кажется,— ответил Чик несколько раз¬
195
драженно.— Ты лучше скажи, приходилось тебе убивать или нет?
— Было,— сказал Ясон не очень охотно. Чик не мог почувствовать, жалеет он об этом или ему просто лень вспоминать.
— Так расскажи,— снова подтолкнул он его.
— В ту ночь,— начал Ясон,— мы ничего такого не думали. Шли с кино с одним корешом...
— Я его не знаю? — спросил Чик.— Он не из тех, кого я видел на стадионе?
— Не, то был грек,— сказал Ясон с таким видом, как будто среди тех, что были на стадионе, не могло оказаться грека.
...В прошлом году за драку в ресторане Ясона посадили в тюрьму. Оказывается, он заплатил деньги ресторанному певцу, чтобы тот спел «Здравствуй, моя Мурка». Но певец почему-то отказался петь эту песню, хотя обещал спеть любую другую. Из-за этого все и началось.
Чик вообще считал всю эту историю очень глупой. Если уж Ясону было совсем невтерпеж послушать «Мурку», то он мог прийти к ним домой, и Чик ему спел бы ее, и притом бесплатно.
Одним словом, из-за этого получилась драка, и один из друзей Ясона бросил в певца бутылку из-под шампанского. Но она в певца не попала. Она попала в барабан, и тот лопнул. Не лопни барабан, ничего бы не случилось. А когда барабан лопнул, кто-то решил, что началась стрельба, и позвонил в милицию. Тут приехала милиция, и всех перехватали. Таким образом Ясон оказался на полгода в тюрьме. Вернее, это так считалось, что он сидит в тюрьме. На самом деле он вместе с другими заключенными работал. Чик тогда несколько раз носил ему передачи. Передачи эти — полная сетка продуктов — втайне от домашних собирала бабушка и давала Чику отнести, потому что работал Ясон совсем рядом, в двух кварталах от дома, на стадионе.
Хотя по дорожке похаживал часовой, пройти к заключенным было совсем легко с другой стороны, где в деревянном заборе была не слишком замаскированная дыра. В другое время ее обязательно заделали бы, а сейчас решили оставить, потому что все равно этот забор собирались заменить каменной оградой. (Среди ребят ходили темные слухи о том, что в гребень каменной ограды собираются вцементировать бутылочные осколки, как это делалось в некоторых местах. К счастью, слухи эти впос¬
196
ледствии не оправдались, но тогда мысль о новом каменном заборе с бутылочными осколками наводила на Чика тоску.)
Даже в самый первый раз, когда Чик приходил сюда со своей тяжелой сеткой, наполненной продуктами, он нисколько не боялся часового. Он просто дождался, когда тот повернулся к нему спиной, и пролез в дыру. Потом, когда заключенные хвалили его за храбрость, Чик хотя и не протестовал, но про себя удивлялся их наивности.
Пролезая в дыру, Чик совершенно ясно понимал, что не может наш советский часовой выстрелить в нашего советского школьника. В крайнем случае просто прогонит. Чик это до того ясно понимал, что голова его легко пролезла в дыру. А ведь обычно, когда он пролезал через эту дыру, голова его нередко застревала из-за своего размера и слишком растопыренных ушей. Дело в том, что надо было слегка сунуть голову в дыру, немного поерзать ею, а дальше она сама находила дорогу. Но Чик от волнения часто всовывал голову до отказа, так что поерзать уже было невозможно и приходилось лезть напролом. Чику всегда казалось, что в таких случаях уши его от предчувствия боли сами прижимаются к голове. А все потому, что он слишком волновался. А часового не надо было бояться, и голова Чика, спокойно поерзав, прошла в дыру.
Арестованные, почти все здоровые и молодые ребята, показались Чику веселыми и жизнерадостными. Одни из них перетаскивали носилки с песком и гравием, другие гасили в яме известь, третьи копали фундамент для каменной ограды, а четвертые вообще ничего не делали, просто сидели на досках. Чик почувствовал, что Ясона надо искать среди них. Так оно и оказалось.
Чику было неловко подходить к нему. Он думал, что Ясону будет стыдно перед ним за то, что он оказался в тюрьме, да еще вдобавок ему и голову побрили. Поэтому сам Чик испытывал неловкость. К счастью, Ясон не смотрел в его сторону, и он незаметно подошел к нему.
— А, Чик! — улыбнулся Ясон, увидев его, и, потрепав по голове, взял сетку. Чик сразу же почувствовал, что Ясон никакого стыда за то, что сидит в тюрьме, или за то, что ему побрили голову, не испытывает. Поэтому он и сам перестал стыдиться. Потом он заметил, что вообще никто из заключенных никакой неловкости не испытывает.
Ясон вынимал из сетки хлеб, сыр, масло, помидоры, соленые огурцы и все это небрежно складывал на досках. Двое заключенных, проходивших мимо с носилками, на¬
197
полненными гравием, увидев, чем он занят, остановились напротив него и разом, не сговариваясь, бросили носилки, даже не наклонившись,
— А выпить ничего нет? — спросил один из них, усаживаясь рядом с Ясоном, и без всякой видимой причины заголил до колена одну ногу.
— Так это ж бабка! — ответил ему Ясон.
— Вот кран,— показал Чик рукой на колонку. Ему на миг показалось, что им не дают воды. Все засмеялись, и Чик догадался, что они имеют в виду.
Товарищи Ясона расселись на досках поближе к закуске и стали есть. Сначала почему-то все напали на соленые огурцы и мигом все сожрали. Чик заметил, что все остальное они ели довольно равнодушно. Чик с обидой почувствовал, что рука его все еще ноет от тяжелой сетки.
— Не очень-то, я вижу, вы голодные,— сказал Чик сердито.
Все опять рассмеялись, а тот, что был с оголенной ногой, поощрительно пошлепал свою голую икру — дескать, ничего, справный поросенок.
— Что мы, фрайера, что ли! — сказал он.
Двое из присевших на доски, продолжая жевать и не меняя позы, стали играть в карты. Чик не знал, что это за игра. Он знал только три игры: в «дурака», в «фурт» и в «очко». А это была какая-то странная игра. Один из игроков, беря из колоды карты, самым нахальныым образом подсматривал остающиеся. Возьмет две-три нужные ему карты, но при этом обязательно вывернет еще две-три и подсмотрит. А второй игрок как уставился в свои карты, так и смотрит в них не отрываясь. «Хоть бы, когда берет карты, на колоду посмотрел»,— волнуясь, думал Чик. Так нет, он и тут машинально протягивал руку и не отрываясь продолжал смотреть на свои карты. Прямо губошлеп какой-то!
— Да он же все карты подглядывает! — крикнул Чик, не выдержав.
— Ничего, пусть потешится,— сказал тот, так и не оторвав взгляда от собственных карт. И тут Чик по голосу его почувствовал, что он заранее это учел, так что ему даже незачем следить за колодой.
Чик до этого даже и представить себе не мог, что может быть такая игра, где один подсматривает карты, а другой хоть и знает об этом, но никак ему не мешает. «Видно, за счет чего-то другого он уравновешивает это преимуще¬
198
ство»,— подумал Чик. Может быть, за счет более точной игры или еще чего-то.
Это было похоже на то, как однажды Чик бежал наперегонки с одним мальчиком. Условия были такие: надо было выбегать с одного места в разные стороны и, сделав круг из четырех кварталов, прибежать назад. Чик очень старался, потому что знал, что этот мальчик хорошо бегает.
Они встретились примерно на середине параллельной улицы. Ревниво пропыхтев друг мимо друга, разбежались. Когда Чик выскочил на свою улицу и уже подбегал к тому месту, где они стартовали, он вдруг увидел, что его соперник выбегает со двора соседнего дома. Значит, как только они разминулись, тот решил срезать дорогу и побежал по дворам.
Соперник тоже заметил, что Чик его видит, он даже не мог скрыть смущенной улыбки и все-таки с тупым усердием продолжал бежать, хотя теперь это не имело никакого смысла...
Все-таки Чик пришел первым. Сперва он чуть было не задохнулся от возмущения, но потом, отдышавшись, понял, что мошенник (он все еще смущенно улыбался) вдвойне наказан. Получалось, что он и меньше бежал, и все равно пришел вторым. Оказалось, что прыгать через заборы тоже нелегко, а в одном дворе за ним еще и собака погналась.
Чик вспомнил этот случай, наблюдая за странной игрой в карты. Он пришел к выводу, что мошенничать не так выгодно, как это кажется многим. А в том, что именно так кажется многим, Чик нисколько не сомневался.
— ...Было уже часов так двенадцать,— продолжал Ясон.— Смотрю, в доме напротив парка окна открыты на втором этаже и свет горит. Прислушался — ничего не слышно, как будто спят. А свет горит. Место тоже удобное, и этаж низкий. В случае чего прыгай и чеши через парк. А кореш, который со мной был, оказался трус, но я не знал. Возле нас тоже ошиваются случайные проходимцы.
«Ты,— говорю ему,— кроме помидоров на базаре, что- нибудь воровал?»
«Я цесный вор, кого хоцесь спроси»,— отвечает он.
Вообще он некоторые слова не так говорил, потому что грек. Не, среди греков мировые ребята попадаются, но этот оказался трус.
«Тогда попробуем»,— говорю.
Вижу, дрейфит, но не хочет показывать.
«Подожди,— говорит,— есе рано».
199
«Ну, рано, рано,— говорю,— нас дети дома не ждут».
Пошлялись по городу, вышли на бульвар — вижу, скучает мой кореш. Ну ничего, думаю, сейчас повеселеет. У сторожа павильона покупаю поллитру и колбасу. Сели на берегу, пьем, закусываем. Вижу, он повеселел.
«Прошел мандраж?» — говорю.
«Какой мандраз? — говорит.— Я полезу, а ты стой на вассере».
Кидаю бутылку в море. Вижу — плавает.
«Вот,— говорю,— кто утопит, тот и стоит на вассере».
Смотрю — я не успею один камень поднять, он уже три кинул. Дал я ему утопить эту бутылку, и мы пошли. Все равно я его в дом не собирался пускать — такого ман- дражиста пусти, все дело испортит. По дороге зашел в один двор и срезал там бельевую веревку. Запихал в карман. Приходим к дому — вижу, окна все еще открыты и свет горит...
— А разве при свете не опасно? — спросил Чик.
— Еще лучше,— радостно пояснил Ясон,— хотя некоторые не понимают. Когда свет горит, ты сразу все видишь, где что и куда в случае чего бежать. А без света у него преимущество получается.
— У кого «у него»? — спросил Чик.
— Как у кого? — удивился Ясон и, скрипнув кроватью, повернулся к Чику.— У хозяина! Ведь он и без света знает, где что стоит у него. А ты можешь через какой-нибудь стул перевернуться и срок получить.
— Еще бы,— сказал Чик,— ведь он у себя дома.
— В том-то и дело,— вздохнул Ясон. В голосе его прозвучала обида за преимущество хозяина в знании особенностей своей квартиры. Чику это показалось очень смешным.
Пилюм, пилюм, пилюм, пилюм,
Плюм, плюм, плюм!
Дядя Коля, не прерывая песни, неожиданно перешел на музыкальный инструмент, зазвучавший еще более радостно и энергично.
— Он что, совсем чокнулся? — спросил Ясон, приподнявшись, словно пытаясь разглядеть инструмент, на котором играл дядюшка Чика.
— Да нет, он всегда такой,— сказ Чик.
Нет, раньше он был получше, гласился Ясон.
200
— Ты просто с ним никогда не спал,— ответил Чик.— Он всегда так поет, когда у него настроение хорошее.
— С чего он радуется,— пробормотал Ясон,— живую бабу никогда не видел, за хорошим столом в жизни не сидел...
— Ладно, рассказывай дальше,— перебил его Чик. Он не любил, когда начинались такие разговоры про дядю.
— Некоторые думают, что раз горит свет,— продолжал Ясон,— то люди спят некрепко. Но я тебе скажу — это ерунда. Если человек заснул при свете, он так же крепко спит, как и без света.
— Хватит про свет, дальше рассказывай,— перебил его Чик.
— Ну вот, приходим снова,— продолжал Ясон,— а свет горит.
— Я же сказал, хватит про свет,— терпеливо напомнил ему Чик.
— А я и не говорю,— продолжал Ясон.— Я оставил его на вассере, а сам полез...
— Как полез? — снова перебил его Чик, чтобы он не пропускал интересных подробностей.— Ведь на второй этаж трудно залезть?
— Нет,— сказал Ясон,— там было легко. Там была парадная дверь, а над ней такой козырек. Я залез на этот козырек, оттуда на карниз, а по карнизу дошел до окна.
— У нас тоже такой козырек,— вспомнил Чик и посмотрел на закрытые ставни напротив своей кровати. Само окно было открыто, и достаточно было снаружи просунуть нож или проволочку, чтобы скинуть крючок, на который закрывались ставни.
А вдруг Ясон залезет к Богатому Портному, подумал Чик. Квартира Богатого Портного находилась рядом. Можно было вылезти на карниз, а оттуда перейти на его балкон. Летом он всегда был открытый.
— Да, почти такой,— согласился Ясон и, словно угадав мысль Чика, добавил: — На вашего Богатого Портного уф какой зуб имею...
— Ты что? — сказал Чик строго.
— А что? — спросил Ясон.
— Да ты что! — крикнул Чик.— Я ведь с его сыном дружу!
— Вот, Чик,— сказал Ясон,— ты даже шуток не понимаешь.
201
— Этим не шутят,— важно заметил Чик.
— Вообще, Чик, я тебр честно скажу, ты мне нравишься,— сказал Ясон,— ты не то что эта колхозница... И вот, значит, влезаю в комнату,— продолжал Ясон.— Стою у окна. Вижу, на кровати спит мужчина, слегка похрапывает. Молодец, думаю, спи. Комната хорошая, вообще ничего особенного. На одной стене ковер, а на нем кинжал для украшения. Ладно, думаю, видел я в гробу
этот кинжал. Рядом шифоньер. Но я тебе честно скажу, я шифоньеры вообще не уважаю. Хуже нет — иметь дело с шифоньером, особенно если в комнате спит человек.
— Потому что скрипит? — легко догадался Чик.
— Да, скрипит, как арба. Я чемоданы уважаю. Взял за ручку и пошел как фрайер. За это я люблю в поездах работать. Лучше поездов ничего на свете нет. Там тебе никаких шифоньеров. Но вот я нагнулся, и смотрю под кровать, и вижу два чемодана. Один рыжий, другой черный. Потихоньку нагнулся и начинаю вытаскивать черный...
— Собаки! Собаки! Брысь! Брысь! — вдруг заорал дядя Коля, свешиваясь с кровати и заглядывая под нее. Кошка, спавшая у Чика на кровати, вздрогнула и с испугу попыталась спрыгнуть, ко Чик вовремя ее перехватил.
— Он что, совсем очумел? — воскликнул Ясон и тоже привскочил с кровати. Дядя Коля смотрел на Чика округлившимися глазами.
— Нету! Нету! — крикнул Чик и для ясности сделал широкий отрицательный жест, чтобы успокоить дядюшку.
— Хитришь?! — настороженно спросил дядюшка.
— Нет, не хитрю,— сказал Чик и опять сделал отрицательный жест.
— Собаки нету? — спросил дядюшка, словно пытаясь уточнить, понимает ли Чик, что именно его беспокоит.
— Нету,— повторил Чик и опять сделал широкий отрицательный жест. Действовать надо было просто и односложно, чтобы исключить оттенки в истолковании его слов.
202
— Ха-ха-ха,— рассмеялся дядя Коля,— а я думал — собаки...
Последние слова он произнес извиняющимся голосом. Ему стало стыдно за ложную тревогу. Это не помешало ему, видно, для очистки совести, последний раз крикнуть: «Брысь!» После чего, окончательно успокоившись, он снова запел свою песенку.
— Что это? — строго спросил Ясон.
— Ему показалось, что у него под кроватью кошка,— сказал Чик просто. Он чувствовал, что с Ясоном тоже надо говорить односложно.
— По-моему, он говорил о собаках,— еще строже возразил Ясон,— или меня здесь за дурака принимают?
— Он и собак и кошек называет собаками,— объяснил Чик, стараясь придать голосу самую обычную интонацию.
— Тогда откуда ты знаешь, что он кричал на кошку? — спросил Ясон.
— Просто наша Белка сюда редко заходит,— сказал Чик.
— Он что, и собакам и кошкам говорит «брысь»? — спросил Ясон, несколько успокоившись.
— Да,— сказал Чик,— так ему запало в голову.
Вообще-то Чик не раз об этом думал и пришел к выводу, что, раз дядя Коля и собак и кошек называет собаками, какая-то сила заставила его уравновесить эту несправедливость по отношению к кошкам возгласом «брысь». Но Чик не стал излагать Ясону свою догадку — он чувствовал, что это для него слишком сложно.
— А больше ему ничего не запало? — спросил Ясон.
— Нет,— сказал Чик.— Рассказывай дальше.
— Лучше в КПЗ ночевать, чем с ним,— сказал Ясон.
— Он, если его не трогать, никогда не тронет,— сказал Чик.
— Откуда я знаю! — ответил Ясон и добавил: — А вообще он кумекает, о чем мы говорим?
— Что ты! — успокоил его Чик.— Он ничего не понимает, он даже плохо слышит.
— А эта колхозница, интересно, спит? — спросил Ясон. Так он называл тетю Наташу. Слово «колхозница» звучало у него презрительно. Чику нравилась тетя Наташа, и ему было обидно, что Ясон ее так насмешливо называет.
— Да, спит,— сказал Чик.
— Ты тоже язык придерживай,— посоветовал Ясон
203
и, подумав, добавил: — Хотя с тех пор прошло много лет, затаскают...
Чик промолчал.
Дядя Коля вовсю распелся. Чик чувствовал, что пение доходит до того момента, когда он не в силах передать свой восторг выдуманными словами и перейдет на язык выдуманных инструментов.
— Я вижу, он из тех, что всю ночь верещат,— сказал Ясон, прислушиваясь к пению и правильно почувствовав, что оно не скоро кончится.
— Нет,— сказал Чик.— Ты рассказывай, а он тут же уснет.
— Так я и поверил! У меня знаешь невры какие?
— Какие? — спросил Чик.
— У меня невры как папиросная бумага,— гордо сказал Ясон.— Не дай бог, если я заведусь.
— Надо говорить не невры, а нервы,— поправил его Чик. Пожалуй, это он мстил за тетю Наташу.
— Я и говорю — невры,— сказал Ясон.
— А надо говорить — нервы,— доброжелательно повторил Чик.
— Я и говорю невры,— повторил Ясон, начиная раздражаться.— Что ты мне мозги лечишь? Недаром мне говорили, что ты ехидина...
— Ладно,— сказал Чик примирительно.— Отчего у тебя такие нер-вы?
— Как отчего? От поездов! — удивился Ясон его наивности.— Сколько раз на ходу приходилось прыгать!
Только он это сказал, как дядя Коля перешел на музыкальные инструменты:
Тюрли фук*! Тюрли фук! Тюрли фук!
Мелодия пробежала сквозь скважины загадочной
ДУДКИ.
— Во соловей! — сказал Ясон и с раздражением вспомнил о тете Наташе: — А колхозница спит... Ей хоть бы что...
Чик промолчал. Он знал, что если сейчас начнет ее защищать, Ясон и в самом деле заведется, и тогда неизвестно, чем все это кончится. Тетя Наташа ни капли не скрывала своего презрительного отношения к Ясону. Он отвечал ей тем же. Он говорил, что она, кроме сарая, где нижут табак, ничего на свете не видела и дальше Очамчиры нигде не бывала, тогда как он объездил полстраны на своих поездах.
204
Он даже сомневался, видела ли она когда-нибудь поезд.
— И видеть не хочу, так же как и тебя,— безжалостно отвечала тетя Наташа. Чик не одобрял такую резкость, тем более что скоро поезда должны были появиться в Абхазии, потому в городе возвели эстакады и Чернявскую гору продырявили тоннелем.
Вообще все взрослые родственники поругивали Ясона. Правда, не так уж слишком, потому что он редко приходил в гости. Только бабушка как начнет его пилить, так и пилит, пока он не уйдет из дому. Чик знал, что она-то как раз его жалеет, потому что он был сыном ее брата. Другие ему просто предлагали стать человеком, то есть таким, как они. Но он с этим не соглашался, потому что и так считал себя человеком, и притом более высокого сорта, чем они.
Казалось, обе стороны выжидали, чтобы наяву убедиться, чей образ жизни окажется в конце концов более правильным и потому более выгодным. Наверное, из-за этого, хотя и с некоторыми предосторожностями, Ясона пускали в дом, и он, в свою очередь, терпел поучения родственников. Так думал Чик.
Скрипнув кроватью, Ясон потянулся к пепельнице, чтобы достать окурок. Пепельница стояла на полу. Снова спичка озарила коротенький нос, большие губы и тени впалых щек. Он откинулся на подушке и пыхнул папиросой.
— Ты стал тянуть чемодан, и вдруг что-то случилось,— напомнил Чик.
— Да... Слышу — перестал храпеть. Я перемандражил и совсем залез под кровать. Думаю, если он сам проснулся, ничего не заметит. Минут двадцать пролежал под ним, чувствую — спит.
— Начал храпеть? — спросил Чик.
— Нет,— сказал Ясон,— по дыханию вижу. Я по дыханию лучше доктора могу определить, спит человек или притворяется.
— У спящего ровное дыхание,— заметил Чик.
— Это ерунда,— сказал Ясон,— ровное дыхание можно придумать. Но есть такое, что ни за что не придумаешь.
— А что это? — спросил Чик.
— Это так не расскажешь,— ответил Ясон,— это надо как следует перемандражить несколько раз, тогда почувствуешь. Да тебе это и не надо знать... Одним словом, вижу — спит. Потихоньку выволакиваю чемодан, подхожу к окну. Смотрю — нет моего паразита. Оказывается, он в
205
парке из кустов выглядывает. Еле увидел. Ничего себе на вассере стоит! Я, значит, тут рискую, а он голову прячег. Даю знак — подходит. Я прицепил чемодан к веревке и осторожно спустил ему. Даю знак, что еще буду спускать* Он отвязывает веревку, переходит улицу, перелезает через ограду и стоит там в кустах... Лиандры, что ли, называются... Такие вонючие цветы?
— Да, да,— живо подтвердил Чик,— это олеандры, у них цветы, когда переспеют, вонять начинают..*
— И вот он, значит,— продолжал Ясон,— стоит среди этих вонючих цветов, сам такой же вонючий, а я подымаю веревку, кладу ее на подоконник и только поворачиваюсь, как вдруг открывается дверь во вторую комнату и в дверях останавливается женщина.
— И она тебя не видит? — спрашивает Чик, пораженный таким ходом событий. Чик даже привскочил на кровати, что не понравилось кошке. Но сейчас ему было не до нее.
— Как не видит?! Прямо на меня смотрит! — восторженно говорит Ясон.
— И что она говорит?
— Ничего не говорит. Стоит и смеется!
— Смеется?!
— В том-то и дело, что смеется.
— Но почему?
— Откуда я знаю! Наверно, от страха или стыда. Она же голая.
— И он просыпается от ее смеха? — догадывается Чик, чувствуя, как волосы у него на затылке привстали, аж кожа на голове защемилась.
— В том-то и дело, что нет! Она так тихо, тихо смеется и вся дрожит.
— Но почему она полезла среди ночи в эту комнату? Она что-нибудь услышала? — допытывается Чик, отчетливо представляя эту ужасную картину. Вот она стоит в дверях, тихо смеется и вся дрожит голым телом. Чик почему-то представил, что эта дрожащая кожа совершенно белая, даже слегка пупырчатая, вроде бы от холода, хотя где взяться холоду, когда олеандры на всю улицу воняют. Чик чувствует, что если бы эта женщина была позагорелей, то картина получилась бы не такая ужасная.
— Да нет,— усмехнулся Ясон.
— Я знаю,— вдруг догадался Чик,— она была лунатик! Она искала выход к луне.
206
— Лунатик! — презрительно повторил Ясон.— Если ты лунатик — лезь на крышу, а не мешай людям... спать.
Чик почувствовал, что последнее слово прозвучало неубедительно.
— И ты его... убил? — спросил Чик, холодея, хотя и так уже знал, что он именно этого мужчину убил. Он хотел представить, что бы было, если бы этот мужчина не заснул. Но у него ничего не получилось. Он только представил, что этот мужчина неподвижно лежит себе с открытыми глазами и скучно так, скучно смотрит в потолок, как бы заранее готовясь к состоянию мертвеца.
— Да,— сказал Ясон и неожиданно добавил: — Слушай, Чик, у меня папиросы кончились. Где теткины папиросы лежат, знаешь?
— Знаю,— сказал Чик, вставая,— сейчас принесу.
— Она что, «Рицу» курит?
— Да,— сказал Чик и вышел из залы. Он тихо прошел через столовую, где спала тетя Наташа. Пол в столовой был крашеный и, наверное, поэтому быстрей остывал. Ступать по нему босыми ногами было приятно. Он вышел на веранду и нащупал возле столика, где стоял самовар, начатую пачку папирос «Рица», которые курила его тетушка.
Чик часто бегал за этими папиросами в магазин, потому что тетушка ему доверяла покупать эти папиросы, а старшему брату не доверяла. Тот уже покуривал и мог незаметно открыть пачку, вытащить оттуда пару папирос и снова закрыть ее. Сначала тетушка, если замечала, что в пачке не хватает папирос, все сваливала на фабрику и со странной радостью всем рассказывала, что фабрика ее обманула. Потом однажды было замечено, что фабрика тут ни при чем, а во всем виноват старший брат Чика. Чик ожидал, что теперь она всем расскажет, что ошибалась насчет фабрики, как бы извинится перед ней. Но ничего такого не произошло. Тетушка про фабрику больше не вспоминала, хотя при случае с таким же странным удовольствием рассказывала, что, оказывается, брат Чика покуривает и поворовывает у нее папиросы. Так как при этом она не вспоминала про фабрику, в головах у знакомых могла произойти путаница, они могли подумать, что фабрика поворовывает папиросы и брат Чика поворовывает, так что неизвестно, что остается курить самой тетушке. Неряшливостью образа мыслей — вот чем удивляли Чика многие взрослые. Среди взрослых первое место занимали женщины. Среди женщин наипервейшее место занимала тетушка.
На веранде, целый день открытой солнцу, было особенно душно. Ночь все еще никак не могла остыть. Светили звезды, но луны не было. Впереди в самом конце неба подымалось легкое зарево. Там был порт. Рядом с верандой весело светила оцинкованная крыша соседского дома. Уже несколько месяцев в желобе, проходящем вдоль крыши, лежал великолепный теннисный мяч, случайно заброшенный сюда с какого-то соседского двора. Чик нащупал его глазами и с удовольствием убедился, что он на месте. На крышу нельзя было залезть, но он знал, что мячик медленно, но неуклонно продвигается в сторону водосточной трубы. После каждого сильного ливня он продвигался вперед на целый метр или даже полтора. Иногда его задерживали вмятины или рубцы на поверхности желоба, но рано или поздно он все равно перескакивал через них и неуклонно приближался к водосточной трубе.
По расчетам Чика, теперь мячу хватило бы одного или двух хороших ливней, чтобы бултыхнуться в бочку под водосточной трубой. И тут надо было не прозевать этот прекрасный миг. В последние дни стояла страшная духота, и можно было ожидать, что на город вот-вот обрушится хорошая гроза. Но она все еще никак не обрушивалась. Небо оставалось чистым и ясным.
Чик приоткрыл дверь в столовую, где спала тетя Наташа, тихо закрыл и на цыпочках перешел комнату. Открывая дверь в залу, Чик на минуту приостановился. Он прислушался к дыханию тети Наташи, чтобы определить по дыханию, спит она или нет. Хотя он и так знал, что она спит, ему почему-то было любопытно прислушаться к ее дыханию. Дыхания не было слышно. За открытым окном серел мощный ствол кипариса. Чик постоял немного и вошел в залу, прикрыв за собой дверь. Чик прошел мимо дяди Коли, подошел к кровати Ясона и подал ему пачку.
— А этот Лемешев уснул,— сказал Ясон и, зашуршав пачкой, вытащил оттуда папиросу.
— Я же говорил! — напомнил Чик и подошел к своей кровати.
Дядя Коля спал, откинувшись на подушке и приоткрыв рот.
— Рассказывай дальше,— попросил Чик, залезая на кровать. Он укрылся простыней и, нащупав кошку, погладил ее. Она, не просыпаясь, поблагодарила его урчаньем.
208
— А этот не проснется? — насторожился Ясон.
— Нет,— сказал Чик,— раз уж заснул, он не проснется... Лишь бы тетя Наташа не проснулась.
— Да за колхозницу я и говорить не хочу,— отмахнулся Ясон и, затянувшись, продолжал: — Так вот, значит, я стою среди комнаты, а эта женщина смотрит на меня, вся дрожит и смеется. Я показываю ей кулак, чтобы молчала, и, не спуская с нее глаз, лезу в окно. Я уже взялся одной рукой за подоконник, скинул веревку вниз, как вдруг этот мужчина вскакивает, как будто его палкой ударили, и бежит на меня.
— Он тоже был голый? — спросил Чик.
— В том-то и дело, что нет,— ответил Ясон.— Если б он был голый, ничего бы такого не случилось. Голый человек никогда на тебя не полезет. Одним словом, я уже выполз на карниз и только хотел спрыгнуть, как он меня успел схватить. Одной рукой душит за грудь, другой ухо рвет, сволочь. Я тык-мык, ничего не могу сделать. Страшная боль. Сейчас или ухо оторвет, или задушит. Ну, я сунул в него нож — сразу отпустил. Прыгаю вниз, хватаю веревку и бегу через парк. В этих вонючих лиандрах запутался, упал. Все же вскочил и веревку тоже не бросил, бегу через парк. А сзади уже, слышу, окна открываются, крики раздаются.
— А товарищ где? — спросил Чик.
— Он еще раньше побежал, как только увидел, что мы завозились. Мы договорились в случае чего встретиться на берегу в уборной.
— В уборной? — удивился Чик.
— Да,— сказал Ясон,— там всегда можно закрыться и спокойно посмотреть, что к чему. Вхожу — вижу, одна дверь закрыта. Думаю, он или не он? Думаю, неужели он с чемоданом раньше меня через полгорода пробежал? Так оно и оказалось.
«Это ты, Ясон?» — спрашивает.
«Открывай,— говорю.— Хорошо, что ты в Грецию не убежал».
Одним словом, заперлись там, раскрыли чемодан, смотрим — одно барахло. Лучше б я рыжий взял, в рыжем всегда что-нибудь есть. Правда, там лежал один хороший коверкотовый отрез и две мужские сорочки. Все остальное — ерунда. Отрез загнали одному портному, хорошие деньги дал... Интересно, ваш Богатый Портной отрезы покупает?
209
— Нет,— сказал Чик,— он такими делами не занимается.
— Ты в натуре дружишь с его сыном?
— Да,— сказал Чик.
— Интересно, где у пахана деньги лежат, он знает?
Чик не мог понять, шутит он или говорит всерьез.
— Отстань,— сказал Чик,— лучше дальше рассказывай.
— А что рассказывать! — зевнул Ясон.— Ох, поясница... Кроме отреза, я все спустил в уборную. Чемодан тоже сломал и спустил в уборную. А между прочим, этот ман- дражист сорочки не хотел отдавать. «Зацем,— говорит, выбрасывать? Я,— говорит,— сестрице отдам, сестрица перекрасит...»
— Значит, золота не было? — спросил Чик после некоторой паузы.
— Откуда золото! — пробормотал Ясон уже ворчливо, сонным голосом.
Ясон начал засыпать. Чик чувствовал какую-то неудовлетворенность от его рассказа. По правде сказать, он ожидал чего-то страшного, таинственного. А тут все оказалось слишком просто, даже как-то противно. Особенно эта подлая попытка перекрасить рубашки убитого и носить.
— Может, ты его ранил? — спросил Чик, немного помолчав.
— Убил, убил,— пробормотал Ясон, с досадой одолевая дремоту. Но Чика это бормотание совсем не убедило.
Чик замолчал. Вокруг уличного фонаря все так же с бессмысленной яростью толклись мотыльки. Большая черная бабочка, которой раньше там не было, сейчас дрябло трепыхалась среди них.
Он снова представил, как эта женщина тихо смеется, глядя на Ясона, а тот отступает к окну и грозит ей кулаком, а тут вскакивает этот мужчина и безоружный бежит на Ясона.
— Хоть бы сначала за кинжалом побежал! — сказал Чик. Но Ясон ничего не ответил. Он уже храпел.
Странно получается, подумал Чик. Если бы этот мужчина не уснул, ничего бы не случилось. Он бы закричал, как только Ясон появился в окне, а Ясон спрыгнул бы и убежал. Сколько случайностей, подумал он, и как, оказывается, просто убить человека! Чику стало не по себе. Особенно гадостно снова показалось ему предложение перекрасить рубашки, а потом носить.
210
«Сестрица перекрасит»,— вспомнил Чик и вздрогнул.
Ветхие ставни в окне напротив Чика время от времени поскрипывали, с гор потягивал ночной ветер. Если бы вор вздумал забраться сюда, подумал Чик, он полез бы через это окно. Ведь оно было ближе остальных к железному козырьку над парадным входом.
Теперь Чик прислушивался к ставням. Каждый раз, когда они издавали скрип, Чик замирал и прислушивался. Иногда ему казалось, что кто-то стоит на карнизе и осторожно пробует скинуть крючок на ставне. Крючок еле слышно поскрипывал. Чик понимал, что это ему кажется, потому что крючок поскрипывал вместе со ставней, а ставня покачивалась от ветра. Чик знал, что летними ночами ветер всегда дует с гор. Но все-таки как-то неприятно было это еле слышное «крр-крр...». Словно кто-то пробует крючок, пробует...
Чик лежал на спине, глядя в потолок и прислушиваясь к поскрипыванию ставен. По потолку, слегка озаренному уличным фонарем, время от времени проходили таинственные тени. Чик стал следить за ними, стараясь отвлечься от неприятных мыслей. Он и раньше замечал эти тени, но никогда не знал, откуда они берутся. Вот проскользнули две тени, а вот целая вереница теней печально прошествовала и растворилась над его головой. Некоторые тени, дойдя до середины потолка, как бы вспомнив, что они что-то забыли, нерешительно возвращались обратно. Иногда ему казалось, что их кто-то окликнул, и вот они возвращаются. Ему казалось, что он даже угадывает смысл этого бесшумного оклика — мол, подождите, сейчас не ваша очередь. Он так думал, потому что через некоторое время эта же самая тень, он узнавал ее по очертанию, снова появлялась и уже спокойно проходила свой непонятный путь.
Чик умом понимал, что они, эти тени, как-то связаны с тем, что происходит на улице, что они идут откуда-то оттуда. Но дело в том, что на улице ничего не происходило. Если бы проезжала машина или фаэтон, или в соседнем доме открывали освещенное окно, или поблизости колыхалось дерево, тогда было бы все понятно.
А сейчас Чику казалось, что эти тени связаны с ушедшим днем или даже с давным-давно прошедшими днями. То ли тени каких-то людей, то ли тени каких-то дневных событий... Что-то там получилось не так, они как-то выскочили из отведенного им времени, и вот они ходят,
211
чего-то ищут, что-то пытаются делать. Чику было жалко этих неудачников дня — не смогли завершить свои дела днем, что же у них получится ночью?
Так бывало в школе, когда тебя выгонят из класса, ходишь по школьному двору неприкаянный, не знаешь, что делать. Купишь стакан семечек у бабки, а они невкусные, или залезешь на турник и висишь, висишь, даже подтягиваться неохота. Все не дождешься звонка, чтобы слиться со своими и быть счастливым оттого, что ты с ними вместе. Правда, потом, после звонка, слившись со своими, ты уже не чувствуешь этой радости, и даже как-то странно, что тебя так тянуло к ним.
Чик вздохнул и повернулся к стене с решительным намерением уснуть. Надо думать о приятном, подумал он, например, о завтрашнем дне. Главное, что он обязательно будет, и все, что сейчас кажется тревожным, исчезнет, а если вспоминать, покажется глупым и смешным.
Сладость предстоящего дня ощущалась как сладость ясности. Он совсем успокоился и, уже засыпая, вдруг подумал, что и ночь по-своему хороша. Именно тем и хороша, почувствовал он, что в ее кромешной тьме с особенной силой ощущаешь сладость предстоящего дня, благодарность за то, что день был и будет.
Чик уже совсем засыпал, а может, даже и заснул, когда Ясон вдруг что-то быстро-быстро забормотал во сне. Чик очнулся и со страхом стал прислушиваться к этому бормотанию. Какая-то злобная жалоба чувствовалась в голосе Ясона. Внезапно бормотание затихло, но тишина сделалась еще страшней, затаила грозный смысл этого бормотания.
Чик приподнялся на постели и посмотрел в сторону Ясона. Но там ничего не было. Было видно только смутное очертание постели. Чик перевел взгляд на дядю. Тот спал, как обычно, слегка закинув голову и приоткрыв рот. Привычная поза дядюшки немного успокоила Чика. Он всегда спал спокойно, никакого там тебе бормотания или угроз. Странно, подумал Чик, сумасшедший спит, как нормальный, а нормальный спит, как сумасшедший.
А вдруг он не спит, подумал Чик, а только притворяется, ждет, чтобы я заснул? Может, он теперь жалеет, что все это рассказал? Может, он думает, что я завтра пойду в милицию?
Надо было твердо ему сказать, думал он, что я умею держать язык за зубами. Почему я тогда ему ничего не сказал, подумал он, удивляясь своему легкомыслию.
212
Все-таки Чик хорошо помнил, почему он тогда промолчал. Нет, не потому, что он думал выдать Ясона. Он понимал, что это подло. Раз человек доверился, значит, нельзя. Если б Чик сам, как Шерлок Холмс, раскрыл его преступление, тогда б совсем другое дело. А так нельзя — это Чик знал точно. И хоть Чик знал, что никому ничего не скажет, раз тот просил держать язык за зубами, Чик как-то почувствовал, что полностью лишать Ясона тревоги тоже нехорошо. Поэтому он тогда и промолчал. Но сейчас Чик жалел об этом, потому что ему стало страшно.
Он снова попытался уснуть, но у него опять ничего не получилось. Ему показалось, что кошка лежит слишком близко и дышит ему прямо в лицо. Чик ее отодвинул и положил между собой и стенкой на уровне живота. Чик считал, что это достаточно уютное место, но она полежала там с минуту и, видимо решив, что Чик уже заснул, вкрадчивой походкой подошла к его лицу и улеглась. Чику эта вкрадчивая походка как-то не понравилась. Он ее снова, теперь уже более властно, отодвинул на отведенное место. Кошка как будто уснула, но Чик никак не мог уснуть.
Время от времени подушка делалась липкой и горячей. Чик переворачивал ее и погружал щеку в успокоительную прохладу нетронутой стороны. Через несколько минут она опять делалась невыносимой.
— Ребята, договоримся! — вдруг закричал Ясон и присел на кровати.
Чик тоже вскочил, ожидая самого худшего, но Ясон больше ничего не сказал. Кровать под ним заскрипела. Видно, он, так и не проснувшись, снова улегся.
— Ты что-то сказал? — спросил Чик через некоторое время. Голос его прозвучал неприятно. Чик слышал в тишине, как бешено колотится его сердце. Словно в ответ на слова Чика, Ясон захрапел. Притворяется, подумал Чик, недаром он скрыл от меня признаки спящего человека. Он заметил, что я не сплю, и, чтобы успокоить меня, захрапел. А как только я усну, он встанет и задушит меня.
Пусть только встанет, подумал Чик, храбрясь, я так закричу, что вся улица проснется. Дядя Коля намного сильнее Ясона, так что скрутит его в одну минуту. Да и тетя Наташа его ничуть не боится.
Постепенно Чик опять успокоился, но теперь ему стало грустно. Жизнь показалась ему какой-то непрочной, ненадежной.
213
Вот так живешь себе, живешь, подумал Чик, и вдруг кто-то тебя убивает ни с того ни с сего. Он чувствовал, что жизнь от смерти отделяет слишком тонкая, слишком нежная пленка. В этом была какая-то грустная несправедливость. Странно, что днем он этого никогда не чувствовал. Казалось, что днем жизнь защищена от смерти солнечным светом, как апельсин толстой кожурой. Ночь отдирает от жизни ее защитную солнечную кожуру апельсина, и вот уже тысячи враждебных сил готовы вонзиться в обнаженную мякоть жизни. Чик это чувствовал сейчас всем своим телом.
И не только Ясон со своей тайной. Например, скорпион может заползти на кровать. Хотя от его укуса, кажется, никто не умирал, все-таки это ужасно — когда укусит скорпион. Лучше пусть меня сто раз укусит собака, чем один раз скорпион, подумал Чик.
Он привстал и внимательно оглядел стену, чтобы проверить, нет ли поблизости скорпиона. Стена была вся в пятнах отколупнутой штукатурки и в разводах сырости. Хотя Чик ее прекрасно знал, но сейчас, в полутьме, одно пятно показалось ему подозрительным, и он долго ожидал, не шевельнется ли оно. Нет, все-таки это был не скорпион.
Дом, в котором жил Чик, был старый и сырой. В нем водились скорпионы. Чик сам несколько раз находил скорпионов. С каким омерзением, бывало, Чик пригвождал скорпиона к стене ножницами, а тот извивался-извивал- ся и наконец, поняв, что ему некуда деться, закидывал свой отвратительный хвост и жалил самого себя в затылок.
Убитого скорпиона обычно засовывали в бутылку с подсолнечным маслом. Говорят, потом он туда выпускает свой яд, и, если кого-нибудь укусит скорпион, надо смазать этой жидкостью укус. Бутылка со скорпионами висела на солнце на одном из окон веранды. Она висела там с незапамятных времен, и, хотя в доме Чика скорпионы никого не кусали, все-таки, как только обнаруживался скорпион, его убивали и засовывали в бутылку — авось пригодится.
Чик вспомнил несколько выдающихся случаев, связанных с укусами скорпионов, хотя ему совсем не хотелось об этом вспоминать. Так, одному человеку, пока он спал, скорпион залез в туфлю. А когда человек проснулся и сунул ногу в эту туфлю, скорпион его укусил. А другой человек проснулся утром и полез под подушку, где у него
214
лежали часы, чтобы узнать, пора ему вставать или еще можно полежать в постели. И вот он сует руку под подушку, а там его уже скорпион дожидается.
Чик вдруг увидел, что стрелки часов превратились в осторожные клешни скорпиона, и он никак не мог понять, были ли вообще часы, или это скорпион притворился часами. Эта коварная неясность превращения часов в скорпиона какой-то страшной тревогой стала давить на Чика, словно это превращение грозило возможностью других, еще более страшных превращений. Может быть, друга во врага, может быть, мамы в мачеху или любимого героя гражданской войны в затаенного шпиона фашистов.
И вот Чик чувствует: чтобы все эти превращения не совершились, он должен во что бы то ни стало ясно себе представить и понять, как и почему часы превратились в скорпиона. Чик сделал неимоверное усилие над собой, чтобы вырваться из этой неясности, и проснулся.
Ну конечно же, часы лежали под подушкой сами по себе, а скорпион заполз туда сам. Оказывается, Чик задремал, и ему это все примерещилось. Ему захотелось перевернуть разгоряченную подушку. Если под нею окажется скорпион, подумал он, приподымая подушку, надо сразу же его прихлопнуть этой же подушкой, спрыгнуть с кровати и зажечь свет. А там видно будет, что делать дальше.
Нет, скорпиона пока что, во всяком случае под нею, нет. Скорее всего скорпион может заползти в постель со стены. Чик тщательно отодвинул простыню — так, чтобы она ни в одном месте не прикасалась к стене. Пришлось побеспокоить кошку. Она никак не хотела сходить с насиженного места и лежала на нем отяжелевшим комом. Тут он вспомнил, что кошки тоже довольно опасные животные. Он вспомнил рассказ про одну кошку, которая не то задушила больную девочку, не то выцарапала ей глаза.
Нет, пожалуй, надо прогнать ее, подумал он, вспомнив, как она упорно хотела остаться лежать возле его головы, да еще, думая, что он уснул, подходила к нему вкрадчивой походкой. Все-таки жалко было выгонять ее с кровати, но он преодолел жалость и спустил ее вниз.
Чик снова улегся, но почувствовал, что для полного спокойствия еще что-то надо сделать. Да, вспомнил он, надо утром вытряхнуть сандалии, прежде чем надевать их на ноги. А то сунешь ногу, а там скорпион. А вдруг забуду? — подумал он. Он слез с кровати, нашел свои
215
сандалии, перевернул их и придавил к полу, чтобы для скорпиона не оставалось ни одной щелочки.
Чик снова залез на кровать и тут вспомнил об одном потрясающем скорпионе. О нем рассказывал соседский старик Габуния. Однажды на крыше своего дома этот старик заметил огромного скорпиона. Он был величиной с черепаху.
Это случилось до революции, в николаевские времена. Тогда еще попадались огромные первобытные скорпионы. Когда этот скорпион проползал по крыше, под ним трещала черепица. Так рассказывал старик Габуния.
Некоторые не верили его рассказу, считая старика придурковатым. Но Чик сразу поверил. Именно потому, что он был придурковатым стариком, сообразил Чик, он никак не мог придумать, что черепица трещала.
Старик Габуния хотел пристрелить скорпиона, но, пока ходил за ружьем, скорпион залез под какую-то черепицу. Старик не стал разбирать крышу из-за этого скорпиона, он просто махнул на него рукой и продолжал жить в своем доме как ни в чем не бывало.
Чик ни за что не стал бы жить в доме, где есть хотя бы один скорпион величиной с черепаху.
А хорошо быть придурковатым, неожиданно позавидовал Чик старику Габуния. Придурковатому ничего не страшно. Может, у него сейчас черепица на крыше трещит под гигантским скорпионом, а он спит себе и ни о чем не думает.
Чик сам не мог понять, спит он или не спит, когда вдруг что-то мягкое и страшное рухнуло ему на живот.
Скорпион-гигант!!! — мелькнуло в омертвевшем сознании, и в какую-то долю секунды Чик даже успел сообразить, как тот сюда попал: полз по потолку и рухнул под собственной тяжестью. А еще через мгновение догадка спасительной радостью разлилась по телу: да нет! Это же кошка!
Ух, вздохнул Чик, надо ее совсем убрать отсюда. Сам же я виноват, что она здесь.
Горло у него пересохло от пережитого ужаса.
Он спустился с кровати, взял кошку в охапку и понес на веранду. Проходя по комнате, где спала тетя Наташа, Чик прислушался к ее дыханию, но опять ничего не услышал — так тихо она спала. Чик постоял немного на прохладном полу и пошел дальше. Здесь было почему-то гораздо спокойней, чем в той комнате. Если б я здесь спал,
216
подумал Чик, я бы давно заснул. Чик и сейчас перешел бы в столовую, но здесь стояла только одна кушетка, и на ней спала тетя Наташа.
Чик вышел на веранду и выпустил кошку. Он посмотрел на соседскую крышу и привычно нащупал глазами теннисный мяч, лежавший в водосточном желобе. Еще пару хороших ливней, и он скатится вниз. Главное — не прозевать, с приятной озабоченностью подумал он.
В гуще кипариса за окнами веранды слышался тихий гомон спящих птиц. В кипарисе спали воробьи. Он стоял под окном, где спала тетя Наташа.
С кипарисом Чика связывала великая тайна. Из ствола кипариса примерно на уровне окна торчала засохшая ветка. Хотя она и высохла, все-таки она была крепкая, Чик был в этом уверен. У него был немалый опыт лазанья по деревьям, и он по виду ветки мог определить, достаточно ли она крепкая, чтобы выдержать человека.
Чик несколько раз пытался прыгнуть на нее из окна, но каждый раз ему чуть-чуть не хватало смелости. Стоило слегка наклониться к ней и спрыгнуть с подоконника, как можно было вцепиться в нее и слезть вниз. Прыгнуть и зацепиться за ствол было невозможно, потому что он был слишком толстый и гладкий. А за эту ветку можно было. Другие ветки начинались гораздо выше, а здесь, на уровне второго этажа, это была единственная высохшая ветка, вернее, обрубок ветки, сливающийся со стволом и почти незаметный со стороны. Каждый раз, когда Чик хотел спрыгнуть на нее с подоконника, ему чуть-чуть не хватало смелости. В конце концов он решил, что все дело в том, что сейчас нет причины, ради которой стоило бы рисковать, а когда будет стоящая причина, он спрыгнет не моргнув глазом. Чик это знал точно.
И вот однажды ему открылась причина, великий повод, из-за которого он спрыгнет на эту ветку. Скоро так или иначе начнется война с фашистами, думал Чик. И вот если они займут наш город (временно, конечно!) и устроят штаб в нашем доме...
Они, конечно, будут охранять все выходы и входы, но об одном никак не смогут догадаться — что кто-то может из дома спуститься по кипарису. Это им и в голову не придет: кто же будет прыгать на толстый гладкий ствол кипариса! И тут-то Чик совершит свой подвиг. Он спрыгнет на эту ветку — разумеется, с полной пазухой тайных документов — и удерет к своим.
217
Вот какая великая тайна была у Чика. Забыв все свои ночные страхи, он сейчас лакомился мечтой о своем будущем подвиге. Насытившись мечтой о великой тайне, Чик стал думать о тете Наташе, потому что с ней у него тоЖе была связана тайна. Правда, не такая великая, но все же приятная.
Дело в том, что тетя Наташа ему давно нравилась. Чик теперь даже не мог вспомнить, когда она ему начала нравиться. Ему нравилась ее быстрая походка, длинные косы и маленькая голова. А главное — ему нравилось, когда тетя Наташа его целовала.
Вообще-то Чик терпеть не мог, когда его кто-нибудь целовал. Как назло, родственники и знакомые их семьи беспрерывно чмокались, и Чику, как самому младшему, доставалось больше всех. Увернуться было почти невозможно — очень уж они все обидчивые были! Даже утираться после поцелуев приходилось тайком.
Особенно противны были поцелуи пьяных, небритых мужчин. Но еще противней были поцелуи тетушкиных подружек с накрашенными губами. Какую-то злобную энергию вкладывали они в свои поцелуи, словно Чик был виноват, что у них там что-то не получалЬсь.
И вот среди всех этих поцелуев, которые он отбывал как повинность, однажды он с изумлением почувствовал, что бывают приятные поцелуи. Чик тогда подумал и решил, что это происходит оттого, что от нее хорошо пахнет. От тети Наташи пахло деревенской кухней, точнее — запахом копченого сыра и жареной кукурузы. Этой весной тетя Наташа вышла замуж, и Чик, когда узнал об этом, решил, что теперь она не станет его целовать, или даже если будет, то ему самому это будет не так приятно, как раньше. Но когда она приехала в город, и поцеловала его, и Чик прислушался к действию поцелуев, он вынужден был признать, что ничего такого не случилось. Поцелуи не потеряли приятности, они даже стали еще пахучее.
Удивительно, вдруг подумал Чик, что две мои тайны оказались рядом: по одну сторону окна — кипарис, по другую — тетя Наташа. Что бы это могло означать? — подумал он. Во всяком случае, это неспроста так получилось. Может быть, обе тайны хотят соединиться? Но для чего?
Ему захотелось напиться, и он открыл кран. Спешить было некуда, и он сначала пустил воду, чтобы вылилась вся, которая была в надземной части трубы. Чик пальцами
218
почувствовал, когда стала подходить свежая подземная вода. Он напился, вытер рот и тихонько, стараясь не скрипеть, вошел в столовую. На этот раз он решил пройти возле кушетки, где спала тетя Наташа.
Он тихонько подошел к кушетке и остановился, затаив дыхание. Тетя Наташа спала, завернувшись в простыню. Лицо ее было повернуто к стене. Окно было открыто, и ствол кипариса сейчас казался толще, чем он был на самом деле, и гораздо ближе к окну. Казалось, протяни от окна руку — и достанешь до ствола.
Гомон птиц в хвое кипариса здесь слышался гораздо сильней, чем на веранде. Непонятно отчего волнуясь, он прислушивался к этому гомону и смотрел на странное, как бы отвернувшееся куда-то лицо тети Наташи. Казалось, что она смотрит сон, как смотрят кино. Чик все еще слышал тихий шорох гомонящих наверху птиц, как вдруг слух его мгновенно обострился, и он отчетливо услышал струенье и щелканье о ствол падающих хвоинок. Эти сухие хвоинки осыпались с веток, на которых спали птицы. Они и днем все время осыпались, но Чик впервые услышал этот струящийся тихий звук.
— Тетя Наташа! — еле слышно позвал он. Ему показалось, что так долго стоять над ней и ничего не говорить как-то стыдно. Он не думал, что она проснется, но она сразу же проснулась.
— Ай! — вскрикнула она с какой-то деревенской грубоватостью, но тут же догадалась: — Это ты, Чик?
— Да,— сказал Чик.
— Ты чего не спишь? — удивленно и нежно спросила она, подымая голову.
— Не знаю,— сказал Чик,— что-то все мерещится, мерещится...
— Я же тебе говорила, не слушай этого дурака,— зашептала она и, быстро вытянув из простыни руки, обняла его за плечи шершавыми ладонями.— Он только и знает, что хулиганские глупости рассказывать... И врет все, выдумывает, не верь ты ему...
Подталкивая его к своей комнате и все-таки удерживая, она целовала его куда попало — в лоб, в щеки, в глаза. Чик готов был целую вечность так простоять, чувствуя прикосновение ее шершавых ладоней и твердых губ, вдыхая чудный запах копченного над костром сыра и жареной кукурузы. Но так как она все-таки подталкивала, он понял, что надо идти, и пошел к себе.
219
Он взобрался на бабушкину кровать и лег, прислушиваясь к волнующему и вместе с тем успокаивающему запаху копченого сыра и жареной кукурузы. Он подумал, чтц этот запах остался на его плечах от ее шершавых ладоней* Он понюхал свое плечо и удивился, что оно ничем не пахнет. Но он продолжал чувствовать этот запах, и ему больше не только ничего не мерещилось, но даже если бы он нарочно стал думать о самых страшных вещах, они бы его не испугали. Наверное, от этого запаха, подумал Чик, все еще вдыхая слабеющий аромат деревенской кухни и вспоминая дуновенье ее шепота на лице.
И вдруг волна забытья с гулом ударила его откуда-то сбоку и поволокла за собой. Так, бывало, зазеваешься в море, и вдруг прибойная волна шлепнет сзади, накроет с головой и потащит. Вздрогнешь на миг, а потом радостно отдаешься сильному движению шелестящей воды.
...А когда Чик проснулся утром, в комнате никого не было. Свет, как вода под напором, косыми струями, золотыми столбами сквозь тысячи пляшущих пылинок бил в комнату. По силе его Чик понял, что утро началось давно.
Сейчас ставни среднего окна были прикрыты, как и остальные. Чик сразу же догадался, кто их прикрыл. Только он подумал об этом, как распахнулась дверь с веранды в столовую и он услышал быстрые шаги тети Наташи. Она подошла к буфету, скрипнула его дверцей и зазвенела стаканами.
С веранды доносился поющий голос дяди Коли. Постукивая ложкой о дно железной кружки, из которой он всегда пил чай и которую никому, кроме бабушки, не давал в руки, он пел одну из самых своих бодрых песен — песню ожидания утренней трапезы. Чик улыбнулся, представив, как дядюшка держит свою кружку перевернутой до самого последнего мгновенья перед разливом чая, чтобы туда не залетела случайная соринка или, не дай бог, муха.
Чик чувствовал, что стол уже накрыт, сахар наколот, самовар кипит, а дядя Коля и тетя Наташа ожидают, когда он встанет. От всего этого он испытывал сейчас необычайный подъем духа, благодарность начинающемуся дню и готов был запеть не хуже дядюшки.
— Собаки, брысь! — раздался голос дяди Коли, на мгновение прервавшего свою песню. На этот раз он и в самом деле имел в виду собаку. Чик услышал
220
удаляющееся цоканье когтей Белки. Чик хотел было ее позвать, но затем решил сначала одеться, а потом уже поиграть с Белкой. Впереди был весь день. Он мимоходом вспомнил о тревогах этой ночи, и многое из того, что казалось страшным, сейчас выглядело совсем не так, словно оно потеряло свой запах или цвет. А некоторые подробности он вообще забыл. Так, одеваясь, он никак не мог понять, какого черта, пока он спал, ему кто-то перевернул сандалии.
* * *
Чик сидел у себя во дворе на толстой виноградной лозе, могучими витками подымающейся на шелковицу. Он держал уткнувшуюся передними лапами и головой ему в колени свою собачку Белку. Он поглаживал ее одной рукой по спине, иногда выковыривая из шерсти стебельки высохшей травы, колючки репейника, а то и клещей.
Стебельки засохшей травы он отбрасывал, колючки репейника выщелкивал, а если попадались клещи, он их осторожно клал на землю и изо всех сил растирал сандалией.
Когда Чик проводил рукой по голове и дальше по спине собаки, она старалась потереться мордой о его ладонь, показывая, что ей приятно. Если же клещ или колючка оказывались слишком цепкими, она слегка поскуливала, но не пыталась уйти. Она только показывала Чику, чтобы он действовал осторожней, ведь все-таки она живое существо и ей больно, хотя она и согласна, что Чик делает полезное дело.
Когда Чик осторожно клал клеща на землю, она с любопытством поглядывала на него, удивляясь, что такое ничтожество заставляло ее так бешено чесаться. А когда Чик раздавливал клеща сандалией, Белка, мотнув головой, фыркала, показывая, что она нисколько не жалеет этого паразита.
В нескольких шагах от Чика, упруго щелкая веревкой, прыгала через скакалку девочка Ника. Длинные ноги ее однообразно пригарцовывали, сверкая белыми тапочками, а желтый сарафан все время колыхался, а иногда, вдруг напузыриваясь, приобретал сходство, впрочем, довольно жалкое, с парашютом.
Чик хмуро, как маленький и притом пресыщенный богдыхан, следил за ее однообразными движениями. Белка
221
тоже искоса следила за пригарцовывающей девочкой, и каждый раз, когда веревка щелкала по земле, она мигала. Звук этот был ей неприятен. И хотя Чику казалось, что она сама стыдится своего страха, она как бы говорила Чику, продолжая при каждом щелкающем звуке мигать: мало ли что может случиться, а вдруг и меня огреет эта противная веревка.
Чику тоже было неприятно это скакание, но совсем по другой причине. Дело в том, что он в этот день задумал вместе с ребятами и девочками своего двора пойти в поход за мастикой. И вот вместо того, чтобы готовиться к походу или скромно сидеть возле Чика, показывая, что она побаивается, как бы Чик не раздумал брать ее с собой, эта Ника ничего такого и не думала делать.
В поход за мастикой? Пожалуйста, как бы говорила она всем своим видом, но, пока вы собираетесь, я еще попрыгаю.
Этого-то Чик больше всего на свете не любил. Это (Чик затруднялся, как это назвать), одним словом, это было свойственно некоторым мальчикам и почти всем девочкам. Во всяком случае, Чик еще ни разу не встречал девчонку, которая была бы до конца предана Делу. Их всегда мог отвлечь какой-нибудь пустячок, унижающий Дело.
Например, если ты с ними на лужайке вздумал ловить стрекоз, то кто-нибудь из них рано или поздно погонится за бабочкой или начнет собирать цветы, а то поймает божью коровку и будет целый час ее упрашивать, чтобы она взлетела на небо. И так во всем. В этом была какая-то умственная, что ли, неполноценность, но так уж они были устроены, и с этим ничего нельзя было поделать.
И вот тебе, пожалуйста, готовится великий поход за мастикой, а она как ни в чем не бывало скачет на своей скакалке.
Кстати, если кто не знает, что такое мастика,— это жвачка, вываренная из сосновой смолы и процеженная сквозь чистую тряпку. Лучше всего носовой платок, но, разумеется, чистый, еще не встречавшийся с носом.
Жевать мастику, особенно пускать из нее пузыри очень приятно. Но главное, мастика сейчас в моде. Появляться среди ребят, жуя мастику, прилично, это производит хорошее впечатление.
И наоборот, если ты целыми неделями появляешься среди ребят с пустым ртом, или клянчишь у кого-нибудь, чтобы дали тебе тоже пожевать, или, глядя на других,
223
пускающих пузыри, невольно оттопыриваешь губы и высовываешь язык, это производит на всех плохое впечатление.
Получается, что ты не можешь сходить в поход за мастикой, не умеешь раздобыть сосновой смолы и выварить ее как следует. Или, что еще хуже, все это ты умеешь, но тебя не пускают из дому, а уйти без спроса не хватает храбрости, дрейфишь. Горе тому, кто подолгу не жует мастику, он рискует сделаться всеобщим посмешищем!
Среди ребят своего двора Чик считал себя самым главным. Разумеется, он об этом не говорил, это было бы слишком глупо, но считал это вполне справедливым. Во-первых, он это так считал потому, что так оно и было, а во-вторых, он был старше на три месяца самого старшего из них, Оника, сына Богатого Портного.
Конечно, во дворе были и другие ребята, но это были совсем взрослые парни. Они были старше его на пять-шесть лет, их нельзя было принимать в расчет, у них свое.
Мать Оника говорила, что Чик старше Оника на три месяца, а хитрее на три года. Она это, как попугайка, повторяла тысячу раз.
Чик чувствовал, что в словах ее есть какая-то правда, но она нарочно огрубляет ее. Пожалуй, Чик нашел бы словечко поточней, чтобы определить разницу между собой и Оником. Но Чик отмалчивался, потому что считал унизительным что-то доказывать этой не очень-то умной женщине. Откровенно говоря, ему было неприятно слышать от старших про свою хитрость. Не то чтобы Чик не хитрил, очень даже хитрил, если это было надо. Но он-то знал, что взрослые обитатели их дома, называя его хитрецом, мстят ему, потому что он давно догадался об их взрослых хитростях.
Чик давно заметил, что у них во дворе взрослые, разговаривая с маленькими или между собой, очень часто говорят одно, а думают совсем про другое. И хотя Чик никогда не мешал им думать совсем про другое, они почему-то злились на него за то, что он знает про другое.
Чик просто удивлялся, почему они так злятся на пего за это. Иногда то, про что они думали, было так понятно и близко, что никак невозможно было не догадаться о нем.
Когда Чик был совсем маленький, он, слушая, как во
224
дворе один взрослый, разговаривая с другим, говорит одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. Чик замечал, что и другой взрослый при этом думает совсем про другое, так что никого никто не обманывает. Он только не понимал, почему они в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли.
А иногда дома, когда собирались госги, Чик замечал, что начиналась всеобщая игра, когда все говорили про одно, а думали не только про другое, а просто про разное. Так что Чик не успевал проследить, кто про что думает, или просто уставал следить.
Правда, случалось, что взрослые забывали про эту игру и кто-нибудь из них начинал рассказывать что-нибудь интересное и ничего другого при этом не думал, и тогда Чик с обожанием слушал этого человека. Конечно, и в таких случаях тот мог прерваться, чтобы сказать что-нибудь понарошку, но Чик на него за это не обижался. Он терпеливо пережидал, как если бы этот взрослый закуривал, или опрокидывал в рот рюмку, или произносил тост, не только не имеющий другого, скрытого смысла, а вообще никакого смысла не имеющий.
Своих товарищей Чик разделял на тех, кто чувствует, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое, и тех, которые этого не чувствуют. Обычно те, которые не чувствовали этого, были более губошлепистыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что незнание делает их более беззаботными и веселыми, точно так же как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает.
Просто он чувствовал, что, например, Оник как раз относится к тем ребятам, которые так и слушают взрослых развесив уши, не подозревая, что за их словами может скрываться совсем другое. Он чувствовал, что в этой наивности Оника есть какое-то достоинство, которого он, Чик, теперь лишен навсегда. При всем этом он любил Оника и иногда завидовал этому его достоинству простоты.
Порой Чик сознательно допускал по отношению к Онику некоторые небольшие, как он считал, несправедливости. Он считал, что ему очень уж легко живется на свете.
Вот и теперь, когда они решили отправиться за мастикой, он поручил Онику самое трудное — вынести из дому чистый платок. Дело в том, что после того, как сквозь
8 Школьные годы.
225
платок будет процежена расплавленная смола, он сделается непригодным к употреблению. Его остается только выбросить, потому что отмыть невозможно. Ничего, думал Чик, семья Богатого Портного от одного платка не обеднеет.
Кроме Оника и Чика, в поход должны были пойти две девочки: Сонька и Ника. И еще Лёсик, который, как понимал Чик, будет еще большей обузой, чем даже девчонки.
Лёсик, по слухам, родился с какой-то болезнью, от которой он теперь хромал и заикался. Чик часто задумывался над его странной болезнью, от которой он одновременно хромал и заикался. Чик считал, что он как бы прихрамывает на язык или заикается на ногу. Можно было считать и так и так. Несмотря на свои недостатки, Лёсик был добрым мальчиком, и Чик часто защищал его от ребят.
Из-за своей хромоты Лёсик плохо держался на ногах. Он мог упасть на ровном месте без всякой причины. Просто нога у него подворачивалась.
Однажды, когда он шел по улице, один из соседских мальчишек крикнул ему в шутку:
— Лёсик, осторожно, упадешь!
Услышав свои имя, Лёсик обернулся в его сторону и в самом деле упал. С тех пор на улице и в школе пошла гулять эта дурацкая дразнилка.
— Лёсик, а-ста-рож-но, у-па-дешь! — нараспев кричал кто-нибудь, увидев, как Лёсик с портфелем ковыляет по улице. Обычно в таких случаях Лёсик с улыбкой обора> чивался на этого мальчика, всем своим видом показывая, что он понимает, чего они ждут от него. И конечно, старался не падать, хотя иногда, правда очень редко, все- таки падал. Но даже если и падал, он, так же добродушно улыбаясь, вставал, отряхивался и шел дальше.
Лёсика из-за его хромоты родители никогда не пускали со двора. Только в школу отпускали, потому что она была совсем рядом, а больше никуда не отпускали. Конечно же, ему, как и всем ребятам, хотелось сходить на море или на
226
гору или просто посидеть на улице. Но мать его все время следила за ним и строго наказывала, если он выходил за калитку.
Правда, не так давно у родителей Лёсика родились двойняшки, и матери стало некогда следить за Лёсиком так внимательно, как раньше.
Родители Лёсика захотели иметь второго ребенка, чтобы посмотреть, будет он совсем здоровым или родится такой же, как Лёсик. А тут родились сразу двое и оба здоровые. Лежа в коляске, лупят друг друга ногами и кричат не заикаясь.
Но отец Лёсика был все равно недоволен. Он считал, что им было бы достаточно одного здорового ребенка, а тут родились двое. Опять не так, как он хотел, получилось.
Чик давно заметил, что есть такие мужчины, которые вечно недовольны, что бы жена ни сделала. И женщины тоже есть такие, которые вечно недовольны, что бы муж ни сделал. Лёсикин отец был как раз из вечно недовольных. Чик был уверен, что, если бы Лёсикина мама родила одного здорового ребенка, он все равно что-нибудь придумал бы. Может, сказал бы: раз уж пошли здоровые дети, так родила бы сразу двух.
Так или иначе, сейчас мать Лёсика была целыми днями занята своими двойняшками и про Лёсика слегка подзабыла. Чик решил воспользоваться этим и взять его с собой в поход за мастикой.
Сонька сейчас мыла под краном пустую консервную банку. Она была дочерью Бедной Портнихи, так иногда называли ее маму, чтобы отличить от отца Оника, Богатого Портного. Они жили в самом деле очень бедно и занимали одну из худших комнат во дворе. Тетушка часто говорила об их бедности, хотя сама же говорила и противоположное.
— Ничего себе бедная,— кивала тетушка на Сонькину маму, возвращающуюся с базара,— всегда с полной корзиной идет.
227
Противоречивость тетушки поражала Чика. Как будто нельзя быть бедным и возвращаться с базара с полной корзиной! Ведь можно покупать самые дешевые продукты, что, кстати, всегда и делала Сонькина мама. Она ходила на базар к самому закрытию, когда наиболее слабовольные крестьяне сдавались и продавали по дешевке свои продукты.
Во дворе было замечено, что она нарочно в самые жаркие дни ходит на базар, то есть в такие дни, когда продукты быстрее портятся.
— Все равно сгниет,— часами бормотала она, стоя на солнцепеке возле безропотно оползающих персиков или где-нибудь в мясном ряду. Говорят, самые упорные сдавались вместе со свистком милиционера, закрывающего базар.
Кстати, Чик любил бывать на базаре. Обилие овощей, особенно фруктов, всегда веселило его, внушало желание петь бодрые песни. Единственно, что он не любил на базаре,— это мясные ряды. Не то чтобы Чик был вообще против мяса. Нет, мясо он любил. Но его как-то коробила грубая откровенность яростных кусков, брошенных на прилавок, обреченность коровьих туш, лишенных хвостов и как бы потому облепленных жирными мухами, множество маслянистых крюков, топоров, плах и палаческих фартуков. А самих мясников с растаращенными глазами Чик прямо-таки опасался. Он был уверен, что оголенное мясо развивает в них тайное бешенство, пьянит их.
Однажды Чик видел на базаре, как Сонькина мама спорила с мясником. Чик тогда с ужасом замер, ему показалось, что мясник сейчас выскочит из-за прилавка с топором и погонится за ней. Положение осложнялось тем, что Чик был на базаре со своим сумасшедшим дядюшкой, который был влюблен в Сонькину маму.
Об этом все знали, и Чик в первую очередь. Главное, он тоже ее заметил и почувствовал, что происходит что-то неладное. Дядюшка уже замер и уставился на мясника неподвижным взглядом, что обычно означало готовность перейти к энергичным действиям. К счастью, именно в этот миг Сонькина мама сговорилась с мясником, и он влепил шматок мяса в ее растопыренную корзину. Она хохотнула и понеслась дальше. Дядюшка тоже мгновенно повеселел. Чик почувствовал, что у него на сердце отлегло. Черт его знает, что могло случиться!
228
— Дурачок шумит! — сказал дядюшка, показывая рукой на мясника и посмеиваясь. В то же время он взглядом просил Чика не рассказывать дома о том, что он собирался вступиться за эту женщину.
Дядюшка стыдился своей страсти, тем более что его дрвольно-гаки безжалостно высмеивали из-за этой несчастной любви.
Так вот, дочь этой женщины, Сонька, была очень привязана к Чику. Иногда Чик подозревал, что по какому-то тайному закону равновесия она испытывала к Чику то чувство, которое дядюшка Чика испытывал к ее матери и на которое мать ее не могла ответить. По этому же закону равновесия Чик тоже не мог ничем ответить на эти чувства. Хотя самую привязанность ценил, особенно ценил ее беззаветную преданность делам, которые он время от времени затевал. Впрочем, характер привязанности Чик мог и преувеличить из-за склонности к гармоническим конструкциям, которую он неустанно проявлял.
А что сказать о Нике? Она вместе с матерью переехала к ним во двор этой весной. Чик знал от дяди, что Ника — дочь известного танцора Пата Патарая. Дядя сам когда-то танцевал с ним в ансамбле. Дядя говорил, что Пата Патарая такой замечательный танцор, что может танцевать на перевернутой рюмке.
Чик очень долго старался представить, как это можно танцевать на перевернутой рюмке. В конце концов он решил, что отец Ники танцевал на перевернутой рюмке, стоя на конце большого пальца одной ноги и приподняв вторую. Это было похоже на рисунок из замечательной книги «История гражданской войны». Чик эту книгу много раз листал. Там был нарисован дореволюционный крестьянин, который одной ногой стоял на своей земле, а другую держал в воздухе, потому что своей земли у него было так мало, что некуда было поставить вторую ногу.
229
Чик через этот рисунок почему-то легко представил Пата Патарая, танцующего на перевернутой рюмке. Разумеется, в отличие от лохматого, оборванного крестьянина он его представлял одетого в черкеску и в азиатские сапоги.
Хотя при нем об этом старались не говорить, и именно поэтому Чик особенно внимательно прислушивался, он понял, что Пата Патарая арестован. По обрывкам разговоров Чик догадался, что, оказывается, отец Ники довольно часто танцевал при большом начальнике, который оказался вредителем.
Это, по мнению Чика, было слишком. Начальник-то, конечно, вредитель, думал Чик, но отец Ники пострадал по ошибке.
Чик решил, что танцевать на перевернутой рюмке так трудно, что все внимание уходит на то, чтобы не свалиться с этой рюмки, а следить за вредительством начальника одновременно с этим слишком сложно.
Вскоре Чик догадался, что Ника ничего об этом не знает, Чик сам решил, что ей нельзя говорить об этом. Из разговоров взрослых Чик понял, что и соседи тоже ничего толком не знают об этом.
В первые дни, когда они переехали к ним во двор, Чик тоже ничего не знал. Он только заметил, что эту новую девочку одевают нарядно, как взрослую. Почти каждый день Чик слышал, как она попискивает: это мать ей заплетала косы. Кроме того, она ходила, узко переставляя свои длинные ноги, словно стремилась как можно меньше соприкасаться с пачкающим ее пространством. А главное, в ее личике, надо сказать, довольно хорошеньком, была та особая отмытость, по которой Чик за километр узнавал детей богатых родителей. У Оника тоже в лице была такая отмытость. По этому признаку он их сразу узнавал, как, скажем, по цвету газированной воды можно было сразу узнать, что в этом стакане двойная порция сиропа.
Чик первое время старался держаться подальше от Ники. Но все-таки Чик испытывал к богатым какое-то странное любопытство. Поэтому он присматривался к ним и даже прислушивался, если это было возможно. И вот однажды, когда он играл у них под окнами, он услышал, как мать Ники велела дочери сходить за хлебом. Ты смотри, подумал Чик даже с некоторым умилением, их тоже, как и нас, посылают за хлебом. Только Чик так подумал, как Ника высунулась из окна и сказала:
230
— Чик, я тебя очень, очень прошу, сходи за хлебом. Мне так не хочется...— При этом она с таким приятным бесстыдством, с такими ужимками завертела своей мордочкой, что Чик не смог отказать. Это была такая неожиданная наглость, что он просто растерялся.
— Давай деньги,— сурово сказал он, и она, вытянув из окна руку, передала ему деньги. Страшно надувшись от оскорбления, Чик поплелся за хлебом.
— Бессовестная,— услышал он голос ее мамы из окна и странный смешок Ники. Почему, почему я не отказался, пораженный, думал Чик всю дорогу и не знал, чем это объяснить. Во всяком случае, он пришел к твердому решению больше у них под окнами не играть.
Потом они подружились, потому что мать Ники к нему хорошо относилась. Это оттого, что Чик и дядя очень дружили и любили друг друга. А так как дядя раньше дружил с ее мужем, вот она и выделила Чика.
Иногда, уходя на базар или по делам в город, она оставляла Чика в квартире вместе с Никой. Чик не раз поражался ее умению, пошкодничав, мгновенно придавать своему облику невинное выражение. Ну, разумеется, перехитрить Чика ей никогда не удавалось.
Убранство в их квартире, как и ожидал Чик, оказалось роскошным. Например, буфет был похож на дворец со стеклянными окошечками, дверцами, карнизиками. Кроме того, там был письменный стол, патефон с целой горой всевозможных пластинок и огромный диван, на котором можно было подпрыгивать, как на сетке циркачей.
Правда, у дяди тоже стоял письменный стол, но ос¬
тальные вещи здесь были куда лучше.
— А у вас есть персидский ковер? — спросил Чик, заметив, что на стене нет никаких ковров.
— Был какой-то, мама продала,— небрежно ответила Ника.
Вот богатые, подумал Чик, им все равно, был у них персидский ковер или не был, даже толком не знают.
— А у нас есть персидский ковер,— сказал Чик, чтобы что-нибудь противопоставить этой прорве богатства. Он подпрыгивал на пружинящем диване, испытывая удовольствие не только от его упругих толчков под ногами, но и от того, что он бесплатно пользуется всем этим богатством. Чик считал, что сам он живет средне. Он так и говорил: «Мы живем средне», когда разговоры
231
о том, кто как живет, возникали на улице или в школе.
Ника довольно часто заводила патефон. Некоторые пластинки Чику очень нравились, но он их воспринимал по-своему. Особенно нравилась одна, где рыцарь пел перед боем: «Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?» Чику очень хотелось, чтобы она мимо пролетела, эта стрела. Он даже видел этот замедленный полет стрелы, пролетающей мимо рыцаря, который украдкой, одними глазами, с облегчением, но никак не показывая радости, следит за ее полетом. Показывать радость стыдно, а увертываться от летящей стрелы вообще не положено. Ничего не поделаешь, в те времена были такие суровые условия. Так думал Чик.
Иногда Ника заводила пластинки, где выступал ансамбль песни и пляски с участием ее папы. Ансамбль сначала начинал с какой-нибудь кавказской песни, а потом постепенно подогревал себя и доводил до состояния пляски. Одни из них при этом продолжали петь и хлопать в ладоши, а другие пускались в пляс. Чика удивляло, что Ника среди общего топанья радостно улавливала топанье отца.
— Во! Во! — тыкала она пальцем в пластинку.— Это он, он, Чик!
— Да как ты узнаешь? — удивлялся Чик.— Может, это кто-нибудь другой топает?
— Ну что ты,— говорила Ника, каким-то женским движением покачивая головой,— у папы совсем особый звук — легкий, точный...
Чик, сколько ни старался, никак не мог определить, чем отличается топанье Пата Патарая от всех остальных. Он решил, что во всем этом есть доля кривлянья, но считал это вполне простительным грехом, потому что она и в самом деле очень любила отца, которому так не повезло. К тому же такого рода кривлянье было свойственно многим взрослым.
— Тридцать рублей истратила, а что я купила! — например, говорила тетушка каждый раз, возвращаясь с базара. Это тоже было кривлянье, преувеличение. Во-первых, купила дай бог сколько, а во-вторых, хоть цены, по-видимому, в самом деле растут, но ведь не так быстро, как говорила тетушка. По ее словам получалось, что в каждый последующий день базар хуже, чем в предыдущий. Казалось, этими преувеличениями и кривляньем взрослые за¬
232
клинают себя от большей беды, чем та, которая есть. Они как бы говорят ей: «Не надо тебя, не иди к нам, у нас уже есть точно такая же Большая беда».
Вот этим взрослым привычкам и подражала Ника, думал Чик, когда она говорила, что среди топота многих танцующих узнает топот своего отца по особой легкости да еще и точности.
Однажды, когда Чик играл с ней в прятки, случилось вот что.
Чик спрятался под письменный стол, а Ника почему-то долго его не могла найти. От нечего делать Чик пошарил рукой по тыльной стороне письменного стола и вдруг обнаружил, что там какие-то узкие щели. Чик понял, что это щели между ящиками письменного стола. В дядином письменном столе таких щелей не было. Такой уж тут стоял стол. Может быть, подумал Чик, у богатых так и положено иметь такие щелястые письменные столы.
Снаружи все дверцы его были заперты, а сзади можно было пальцами нащупать щели. Чик с трудом просунул руку в ящик и тронул пальцами какую-то коробку. С трудом шевеля пальцами, он открыл картонную коробку и вдруг почувствовал, что она наполнена какими-то маленькими металлическими предметами. Чик сразу же догадался, что это пистончики для патронов. Чик даже вспотел от волнения. Это был целый клад золотистых пистончиков, которые стреляли, как настоящий пистолет, если бить по ним камнем. Но тут Ника его обнаружила, и ему пришлось вылезать из-под письменного стола. После этого Чик еще несколько раз прятался под ним и успел вытащить оттуда и спрятать в карман с десяток великолепных новеньких пистончиков.
— Ты какой-то глупый, Чик,— в конце концов сказала Ника.— Почему ты все время в одно место прячешься?
Чик хмыкнул, подтверждая свою глупость, одновременно сладостно перебирая в кармане пистончики.
— Что это у тебя в кармане? — спросила Ника, чувствуя, что Чик хитрит. Она заглянула ему в глаза.
— Ничего,— сказал Чик, продолжая держать руку в кармане.
— Нет, покажи, что у тебя в кармане,— сказала Ника.
— Ничего особенного,— сказал Чик,— лучше давай играть.
233
— Нет, покажи! — крикнула Ника и накинулась на него, стараясь выдернуть его руку из кармана.
Чик не давал выдернуть руку из кармана, и они оба повалились на диван. Так как Чик не слишком сопротивлялся, главное было удержать руку в кармане, после некоторой возни Ника оказалась сверху. Она налегла ему на грудь и, упираясь острым локтем одной руки ему в живот, другой старалась выдернуть его руку из кармана.
Чик, конечно, не давался. Он чувствовал, что намного сильнее ее. Она попыталась просунуть руку в карман и в самом деле немного ее туда просунула, кряхтя и обдавая его струями горячего дыхания. Но Чик рукой, что была в кармане, прижал ее руку и не давал ей продвинуться дальше.
Игра эта показалась Чику забавной. Ему показалось, что, если б не острый локоть ее, давивший ему в живот, возня эта была бы даже приятной. Чик вывернул свой живот из-под ее локтя и прислушался, приятно ему или нет. Ты смотри, подумал он, в самом деле очень приятно. Удивительно, что раньше ничего такого он не испытывал. Правда, один раз в детском саду было что-то такое. Но это было так давно, что он забыл про это.
Страясь держаться так, чтобы это новое ощущение не ослабевало, он в то же время не забывал и о своих пистончиках в кармане. Он продолжал их сжимать в кулаке и в то же время изо всех сил придавливал ладонь Ники, проползающую в карман.
Ника не на шутку разгорячилась. Чем больше она горячилась, тем приятней становилось Чику. Чик почувствовал, что надо поощрять ее усилия, чтобы сохранить уровень достигнутой приятности. Он сделал вид, что постепенно сдается, и она еще азартней взялась за него. Постепенно быстро шевелящиеся пальцы Ники добрались до его кулака, и, так как ему было приятно поощрять ее, он дал ей чуть-чуть просунуть палец между своими плотно сжатыми пальцами. Он был уверен, что сумеет ее остановить, когда надо. Но тут Чик ошибся. Царапая ему ладонь своим шарящим пальцем, она вдруг крикнула:
— Знаю! Знаю!
— Скажи, что? — спросил Чик и изо всех сил сжал в кулаке любопытствующий палец, чтобы он больше не шевелился.
— Знаю,— пропыхтела Ника,— это такие штучки для
234
патронов... У папы тоже они есть... Вон там в письменном столе заперты.
Все еще тяжело дыша, она кивнула головой на письменный стол. Сначала Чику показалось, что она догадалась, откуда он взял эти пистончики, но теперь понял, что она ничего не знает.
На него напал смех. Чик его никак не мог остановить, и она, вдруг обидевшись на него, резко выдернула руку из кармана и вскочила на ноги. Чик смутился и тоже встал. Он не понимал, почему она так обиделась на его смех, ведь она не знала, что он как раз оттуда и вынул эти пистоны. Он тогда не знал, что в таких случаях девочки терпеть не могут, чтобы кто-нибудь смеялся. Он вообще не подозревал, что она тоже что-то почувствовала.
— Ты не веришь,— сказала Ника и серьезно посмотрела на него,— что папа положил туда патроны, и патронташ, и эти штучки?
На Чика опять напал дурацкий хохот, и он никак не мог остановиться. Как же ему не верить, когда он сам их оттуда достал!
— Ах, ты опять?! — закричала она с такой злостью, что Чик сразу же перестал смеяться.
— Верю! Верю! — поспешно ответил Чик.— Честное слово!
— Конечно,— сказала Ника, заглядывая ему в глаза,— как только папа вернется из командировки, я тебе покажу их...
Она еще глубже заглянула Чику в глаза, стараясь о чем-то догадаться и как бы умоляя Чика уверить ее, что догадываться не о чем. Чик это мгновенно почувствовал.
— Хорошо,— сказал Чик спокойно,— когда он приедет, ты меня позовешь и покажешь.
Казалось, солнце упало на лицо Ники, так оно мгновенно просияло. Чик никогда в жизни не видел, чтобы у кого-нибудь так быстро вспыхивало от радости лицо.
— Да,— сказала она,— мы с папой не только покажем, папа тебе подарит их сколько хочешь. Мой папа самый, самый, самый добрый на свете!
— Знаю,— сказал Чик,— мне дядя рассказывал. Но ты уверена, что он мне подарит?
— Конечно! — закричала Ника и даже всплеснула руками в том смысле, что тут и говорить не о чем.
— А если бы он был сейчас здесь,— спросил Чик,— он бы подарил их мне?
235
— Ну да,— сказала Ника,— он делает все, что я у него попрошу.
— Можно считать, что он мне уже подарил? — спросил Чик.
— Можно,— кивнула Ника и села на диван. Чик уселся рядом.
Все равно, подумал Чик, он бы мне подарил... И потом, он же вернется, когда поймут, что он вредителю никогда не помогал.
— А почему ты мне сразу не показал, Чик? — спросила она и как-то по-особому посмотрела на Чика. Чик насторожился. Ему показалось, что она догадалась, что он что-то почувствовал, и вызывала его на откровенность. Как бы не так, подумал Чик, ни за что на свете.
— Просто так,— сказал он,— это игра такая.
— А мы еще будем в нее играть? — спросила она.
— Да,— сказал Чик как можно проще,— почему бы и не поиграть.
— А мне нравится,— сказала Ника и так откровенно посмотрела на него, что никаких сомнений не оставалось, что и ей была приятна эта возня, но сейчас он никак не хотел говорить об этом.
— Да,— сказал Чик,— это смешная игра.
— Чик, хочешь, я тебе расскажу один секрет? — сказала она и, посмотрев на Чика, как-то хитро раскосила глаза, словно сразу же посмотрела в обе стороны, не подслушивает ли кто.
— Расскажи,— ответил он, чувствуя, как жгучее любопытство сжимает ему горло, и одновременно настораживаясь, чтобы она не выманила его на откровенность.
— Когда мы с папой были в санатории,— начала она, радуясь своему воспоминанию и стараясь заразить Чика этой радостью, но Чик не давал заразить себя этой ра-
236
достью и держался ках можно тверже,— так там был один мальчик,— продолжала она таинственным голосом и опять мгновенно выкосила глаза, словно пыталась застукать подсматривающих, хотя в комнате никого не было и не могло быть,— и у нас было свидание, и мы целовались два раза. Да, да, Чик, два раза, я помню.
Она выразительно посмотрела на Чика и, выставив два пальца, подтвердила, что поцелуев было именно два, а не один и не три.
У Чика дух захватило от этой откровенности. Вот богатые, подумал он, им ничего не стыдно! В то же время его как-то покоробил этот жест рукой, показался грубым. Так с сумасшедшим дядюшкой Чика обычно разговаривали, чтобы он лучше понял, о чем идет речь.
— Я не глухой, можешь пальцами не показывать,— сказал Чик.
— А у тебя, Чик, было свидание? — спросила она почти шепотом и опять выкосилась в обе стороны, словно они собирались сделать что-то недозволенное, а она смотрела, не подглядывает ли кто. A-а, вдруг догадался Чик, она нарочно так делает, чтобы подтолкнуть меня!
— Все это глупости,— сказал он сурово, отвергая эту тему. Вообще-то у Чика никаких свиданий не было, но прямо сказать об этом ему не хотелось.
После этого случая они еще несколько раз играли в выдуманную Чиком игру, покамест он не достал из коробочки в письменном столе все пистоны. Он перевернул всю коробку в ящике, и те из них, которые лежали шляпкой вниз, он доставал, придавив палец к острым краям пистона, а те, которые нельзя было придавить к пальцу, он загонял поближе к краю ящика и доставал их, зажав между пальцами.
Когда они кончились, он решил прекратить эту игру. Он чувствовал, что, если она будет продолжаться, он увязнет в какой-то постыдной тайне. Возможно, это был инстинкт свободы. Чик этого не знал. Он только понимал, что с тайной ему будет жить хлопотно и громоздко, а он этого не хотел.
— Как ты думаешь,— спросил он у нее, когда кончились пистоны,— а целую коробку твой папа мне подарил бы?
— Конечно,— просияла Ника и царственно махнула рукой,— он даже целую коробку конфет может подарить.
237
Он не чувствовал больших угрызений совести за эту опустошенную коробку с пистонами и теперь окончательно успокоился.
Чик все еще сидел на лозе и гладил Белку, положив ее морду к себе на колени. Приковылял Лёсик и скромно сел рядом с Чиком, показывая, что он благодарен ему за этот поход. Чика беспокоило отсутствие Оника, которого он послал домой за чистым платком. Что с ним?
Сонька вымыла консервную банку под краном и, утирая рукавом брызги с веснушчатого лица, подошла к Чику.
— Хватит? — спросила она и дала Чику понюхать банку. Чик взял в руки банку и внюхался в нее. Все-таки слабый запах рыбных консервов можно было почувствовать. Но от этого, видно, нельзя было избавиться. Белочка тоже потянулась, чтобы понюхать, чем пахнет банка. Чик дал ей понюхать.
«Пахнет!» — фыркнула Белочка и чихнула.
— Ладно,— сказал Чик,— ничего.
— Можно мне скакалку взять? — спросила Ника, не останавливая своих прыжков. Чик от возмущения не мог найти, что ответить. Он молча уставился на нее с некоторой надеждой, что она смутится. Но она как ни в чем не бывало продолжала прыгать.
— Может, ты еще куклу возьмешь? — сказал Чик, сам чувствуя, что слова его недостаточно язвительны.
— Куклу... гы, гы! — Сонька до ушей растянула свою знаменитую улыбку. Лёсик тоже улыбнулся, засопел в поддержку остроумия Чика. Только сама Ника, продолжая скакать, пожала плечами, показывая, что ничего смешного и тем более остроумного в его словах не находит.
Наконец появился Оник.
— Пахан кушать заставил,— сказал он с отвращением и, оглянувшись на окно своей квартиры, сунул Чику чистый платок. Потом он еще раз оглянулся на окно и вытащил из кармана десять и пятнадцать копеек.
— На копилку,— сказал Оник и протянул деньги Чику.
— О, молодец,— сказал Чик, сразу же прощая его за опоздание. Он побежал домой и вбросил в копилку деньг и. Они собирали деньги на футбольный мяч. Домашние Чика знали об этом, но родители Оника не знали, Чик уговорил его не рассказывать им о копилке. Он чувствовал,
238
что это затруднит приток монет из дома Богатого Портного.
— Мы на огороде будем долго! — ответил Чик на оклик матери и сбежал по лестнице.
Так как отец Оника, как всегда в такое время, торчал с шитьем на балконе, Чик решил выйти через огород на речку и, подымаясь вдоль русла, пробраться на соседнюю улицу.
Огород, или сад, его и так и так называли, представлял собой участок с баскетбольную площадку, на котором росли дикая хурма, инжир, груша, айва, персик, два куста роз и один полудохлый куст смородины, считавшейся здесь, на юге, экзотическим растением. Все деревья были обвиты лозой «изабеллы». Между деревьев на грядках росли лук, кусты помидоров, кинза, петрушка и редкие мощные стебли кукурузы.
Бабушка Чика считалась хозяйкой огорода, и Чик был единственным из ребят, кто беспрепятственно туда допускался. Правда, иногда, когда у бабушки было плохое настроение или она считала, что ребята там топчут грядки, она насылала на них сумасшедшего дядю, и он гнал оттуда всех без разбору. Чик из самолюбия в таких случаях пытался ему объяснить, что он все-таки Чик, а не какой- нибудь чужой. Но это не помогало.
— Иди, иди, иди,— односложно приказывал тот с каким-то бюрократическим, как чувствовал Чик, безразличием к личности каждого. В таких случаях он их всех приравнивал и делал вид, что не узнает Чика. Он как бы говорил своим видом: мне приказано вас гнать, вот я вас и гоню, а кто ты там мне — племянник или не племянник, я не знаю и знать не хочу.
Это больше всего и раздражало Чика. Если бы он, прогоняя их, говорил Чику своим видом: да, я знаю, что ты Чик, а я твой сумасшедший дядюшка, но мне приказано всех гнать, и я гоню всех,— тогда было бы куда легче. Так нет же, он делал вид, что не узнает его. Вообще Чик заметил, что чем слабее умственно человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки — это лакомство умных, вот что заметил Чик. Пожалуй, Чик про себя не сказал бы, что он такой уж умный, но он мог дать голову на отрез, что различает множество оттенков, которых другие не видят.
Вообще, задумываясь о своей голове, он пришел к такому выводу, что некоторые вещи он соображает очень
239
хорошо, а некоторые туговато, с большим трудом. Он считал, что его голова в разных частях работает по-разному. В одной части колесики кружатся весело, быстро, легко, в другой части медленно, со скрипом, как колеса арбы. Он только не знал, где какая часть расположена. Вернее, он предполагал, что там, где виски, работа головы ът к черту не годится, а вот затылочная часть работает хорошо. Может быть, он так думал, считая, что, как говорят, «силен задним умом». Когда он вспоминал давным- давно прошедшие дела, он видел с необыкновенной ясностью, как надо было тогда действовать, а когда они происходили, он этого не замечал. Еще он заметил, что сильные встряски, долгая беготня тоже плохо действовали на его голову. Так, если он перед школой долго играл в футбол, то на первом уроке очень плохо соображал, что к чему. Видно, внутри головы с перегородками было неважно и все колесики перепутывались, мешали друг другу работать.
Во всяком случае, Чик точно знал одно, что та часть головы, которая определяет, что справедливо и что несправедливо, у него работает очень здорово. Этого Чик не сказал бы про многих взрослых.
Вот, например, бабушка. Обычно, когда собирали груши, она всем соседям посылала часть урожая. Это понятно, это хорошо. Но если она на кого-нибудь из них в это время была в обиде, она никому ничего не посылала. Но при чем тут другие, если ты на кого-то в обиде?
Чик тоже бывал на кого-нибудь из своих друзей в обиде, но ему никогда не приходило в голову, что от этого должны страдать все. И когда он брал их с собой в сад, все, что они там срывали с деревьев, он старался делить поровну. Ну иногда, конечно, если уж попадется очень хороший инжир, он мог его отправить себе в рот до общего дележа. Все же он стыдился этих минутных слабостей и нередко, проглотив плод, испытывал горькое раскаяние. Эх, думал он в такие мгновения, если бы раскаяние пришло двум я-тремя секундами раньше, я бы не стал его глотать. Но ведь откуда ему взяться, раскаянию, если ты еще этот плод не проглотил?
Однажды, когда Чик был совсем маленький, а Богатый Портной не такой уж богатый, тому поручили собрать с дерева груши для всего двора. В тот год был хороший урожай, и все соседи задолго до начала сбора притихли, чтобы, не дай бог, не обидеть бабушку. Бабушка пыталась
240
к некоторым соседкам придираться, но они смехом и шутками отвечали на ее придирки.
И вот Богатый Портной с корзиной на дереве собирает груши, а ребята со всего двора стоят под деревом и кричат ему, где какая груша еще осталась. Одну грушу, самую крупную и желтую, он никак не мог заметить, хотя она висела на ветке совсем рядом. Ребята все время кричали ему, снизу показывая на нее, а он никак не мог заметить, все время разгребая листья на других ветках.
Наконец он ее заметил. Осторожно дотянувшись, он нежно и плотно обнял ее всей пятерней.
— О-о-о,— похвалил грушу Богатый Портной,— эта пойдет в карман...
И в самом деле, сняв ее с ветки, он осторожно, как яйцо, положил ее в карман. Теперь Чик заметил, что карманы его подозрительно оттопырены. Чика тогда больше всего поразила откровенность Богатого Портного. Он как бы считал, что это и так всем ясно, что такую грушу нельзя в общую корзину положить. Но почему?
Чик тогда почувствовал, что у него испортилось праздничное настроение. В общем, тогда что-то испортилось. Он сам не мог понять, почему одна груша, правда самая хорошая, может все испортить. Но он чувствовал это. Потом он вспомнил, что, как только Богатый Портной потянулся к этой груше и обхватил ее ладонью, он, Чик, ощутил какую-то тревогу за нее. Он как-то по-особому потянулся за нею и сорвал ее. Он так ее взял, словно на ней было написано — только для Богатого Портного. Но почему? Было неясно и неприятно.
Чик шлепнул рукой по карману, чтобы убедиться, все ли на месте. Щелкнул спичечный коробок, стукнул по пальцам черенок перочинного ножичка — все в порядке!
Ника забросила скакалку к себе на веранду, и ребята пошли в сад.
Проходя под грушей, Чик оглядел ее, но еще на ветках не было ни одного спелого плода. Инжир уже понемногу поспевал, но Чик с утра снял с дерева два спелых, а больше за день не могло поспеть.
Вдруг Сонька подняла с земли упавший инжир.
— Чик! — крикнул Оник.— Она с земли подняла инжир!
241
— Я только посмотреть хотела,— сказала Сонька и поспешно бросила инжир на землю. Считалось, что подымать с земли палый инжир — признак нищенства. Груши, яблоки и другие достаточно плотные фрукты можно, а инжир нельзя. Чик с упреком посмотрел на Соньку.
— Знаем, знаем, как посмотреть,— сказал Оник и насмешливо закивал головой.
Сонька наступила на инжир и растерла сандалией его сладкое повидло, чтобы показать, до чего ей противно было бы съесть этот инжир. По тому, как она смачно его раздавила и растерла, Чик догадался, до чего ей хотелось съесть этот инжир.
Ребята вылезли сквозь дырявый забор и спустились к руслу речушки. Летом она обычно усыхала и плелась едва высунув язык. Белочка, конечно, попыталась за ними увязаться.
— Белочка, домой,— сказал Чик строго, но доброжелательно. Белочка оглянулась, словно Чик разговаривал не с ней, с какой-то другой собачкой. Чик давно знал все ее хитрости.— Кому говорят, домой! — Чик прибавил в голосе строгости, но оставил и нотку доброжелательности.
«Ах, ты мне говоришь? Но мне так не хочется, Чик!» — сказала Белка взглядом и, склонив голову, застыла в позе сиротской покорности. Это было нелегко перенести, но Чик стойко держался. Он понимал, до чего ей скучно оставаться во дворе, когда все порядочные люди куда-то уходят, но брать ее с собой было нельзя.
Дело в том, что в последнее время в городе появился собаколов, который ездил по улицам со своей страшной клеткой и ловил зазевавшихся собак. О судьбе собак, попавших в его клетку, ходили самые мрачные слухи. Говорили, что он их убивает, из мяса делает мыло, а шкуры перекрашивает, чтобы хозяева не узнали, и продает. Недаром Чик ненавидел мыло, хотя его уверяли, что в магазинах то мыло не продают. Продают не продают, все равно противно, думал Чик.
Про одну женщину даже рассказывали, что она купила на базаре мех драгоценного животного, а потом, через некоторое время, когда краска облезла, оказалось, что эта шкура ее собственной собаки, которая когда-то пропала у нее. Бедная женщина отмыла шкуру своей собаки и, рыдая, с почестями похоронила у себя в саду. Чик подозревал, что собаколов этот подослан вредителями, чтобы люди, по¬
242
стоянно думая о судьбе оставленных дома собак, нервничали на работе и допускали грубые ошибки.
Однажды собаколов проезжал по улице, на которой жил Чик. Он в это время стоял у калитки с Белочкой. Все собаки ненавидели собаколова и с бешеным лаем провожали его по улице, хотя выскочить ни одна не решалась.
И только Белочка, хотя она была довольно маленькой собачкой, залаяла на него и бесстрашно, правда иногда оглядываясь на Чика, бросилась на колымагу. Понурая лошадь собаколова даже не обратила на нее внимания. Видно, она привыкла к такому обращению. Может быть, даже она стыдилась, что вынуждена обслуживать своего подлого хозяина. У Чика было к ней какое-то двойственное отношение: с одной стороны, ему было жалко ее, вон какая — ребра торчат. А с другой стороны, он все-таки осуждал ее: раз у тебя такой подлый хозяин — сбеги от него!
Если в тот раз понурая лошадь собаколова не обратила на Белочку внимания, зато сам собаколов обратил. Он с какой-то нехорошей странностью посмотрел на Белочку, хотя ясно видел, что она не беспризорная, что она только что выскочила со двора из-под ног Чика.
Чик тогда погрозил ему кулаком. А этот негодяй, даже вспоминать неприятно, в ответ на угрозу Чика посмотрел на него с такой же сонной деловитостью, как и на Белочку. Чик, конечно, понимал, что собаколов людей не трогает, но мало ли что он может сделать, раз его подкупили вредители.
С того самого дня Чик стал бояться за Белку и старался отучить ее выходить на улицу. С тех пор он еще несколько раз видел проезжающую колымагу собаколова, и каждый раз у него надолго портилось настроение. Раньше он иногда брал с собой Белку, когда ходил на море или в горы, как сейчас, но с тех пор старался отучить ее от улицы. Поэтому и теперь, несмотря на сиротское выражение, с каким Белка смотрела на него, он сурово отвернулся и пошел дальше.
В этом месте речушка была зажата стенами трехэтажных домов. Из верхних окон этих домов каждую секунду могли вылить помои, и потому приходилось идти, внимательно следя за окнами. Через несколько минут Чик оглянулся, и что же оказалось? Оказалось, что Белочка плетется за ним.
243
— Ах так! — угрожающе сказал Чик и гневно посмотрел на Белку. Она продолжала стоять. А между тем в любую секунду из любого окна могла вылететь струя помоев. Особенно опасна была струя из верхних окон, потому что они выливали ее. как бы с поверхности земного шара в безвоздушное пространство. Правда, с другой стороны, тут было и свое преимущество. Хотя жители верхнего этажа даже и не смотрели вниз, когда шлепали свои помои, все же благодаря самой высоте, если вовремя заметить летящие помои, можно было от них увернуться. Зато уж если жители нижних этажей, не заметив тебя, шваркнут помоями — никак не увернешься.
«Какие же окна опасней?» — задумался Чик и снова обратил внимание на Белочку. Она смотрела на Чика, терпеливо ожидая его решения. Тут Чик разозлился на себя и на Белку. На себя за то, что он имел дурацкую привычку задумываться над ненужными вещами, а на Белку за то, что она вообще еще тут торчала и, главное, думала, что он задумался над ее судьбой — брать ее или не брать, хотя он думал об этих проклятых помоях.
Чик сделал вид, что наклонился за камушком, и, разогнувшись, махнул рукой, словно кинул его.
«Не верю!» — сказала Белка, мотнув головой.
— Ах, не веришь! — вслух ей ответил Чик и, нагнувшись, в самом деле поднял камушек. Правда, выбрал поменьше и бросил его в Белку. Камушек щелкнул несколько раз, подпрыгивая возле Белки. Она приподняла голову, а уши у нее вздрагивали при каждом щелчке.
«Ну, если дело дошло до камней...» — Чик прямо-таки услышал эти слова, когда она, повернувшись и уныло поджав хвост, затрусила назад. Сердце у Чика сжалось, но ничего нельзя было сделать, так было надо.
— Чик, скорей, а то нас помоями обольют,— напомнила Сонька. Чик ничего не ответил, и они пошли дальше.
Они прошли мост, перекрывавший улицу, и остановились. После моста было небольшое пространство, где их легко можно было заметить с улицы, особенно с балкона, на котором вечно торчал Богатый Портной со своим утюгом.
Чик осторожно выглянул из-под моста на улицу. Богатый Портной был на балконе. Он, как обычно, фыркал водой изо рта и потом несколько раз проводил утюгом по столику, на котором лежала его очередная работа. Чик
244
хорошо знал последовательность его действий. Они обычно никогда не менялись.
«Фырк! Фырк!» — водой изо рта на тряпку, потом внимательно взглянет на улицу, снова берется за утюг.
Надо было перебегать, пока он фырчит, или через несколько мгновений, когда он начинает гладить. Чик легко, без особой опаски, перебежал открытое пространство. Богатый Портной его не заметил. Оник из-под моста следил за Чиком с испуганными глазами. Он очень боялся, что отец его увидит и вернет домой. Он до того боялся, что сам уже не доверял своему слуху.
— Фырчит или не фырчит? — шепотом спрашивал он у Чика.
— Сейчас зафырчит,— ответил Чик, прислушиваясь к балкону. «Фырк! Фырк!» — раздалось с балкона. Чик переждал несколько мгновений и дал знак Онику. Оник в несколько прыжков одолел опасное расстояние. Ника не стала дожидаться его знаков, а сама спокойно перешла на эту сторону, показывая, что она никого не боится.
Вообще-то Чик преувеличивал опасность, но эта вечная независимость Ники сейчас ему не понравилась. Зато Сонька, дождавшись команды Чика, быстро перебежала на его сторону, показывая, что она в отличие от некоторых угадывает желания Чика и точно их исполняет. Если Чику нравится считать, что перебегать от моста в безопасное пространство очень, очень опасно, то она так и будет перебегать, как будто это очень, очень опасно.
Чику было бы приятней, если б она в самом деле чувствовала эту опасность, а не преувеличивала для Чика. Но все же это было лучше, чем самостоятельность Ники.
Бедный Лёсик и в самом деле сильно разволновался и от предстоящей опасности, и от сознания своей неловкости. На полпути между мостом и изгибом реки, где они укрывались, он шлепнулся в воду и забарахтался, неуклюже шевеля ногами и руками, как перевернутый жук.
Чик, пригнувшись, подбежал к нему. Только он попытался поднять его на ноги, как вдруг откуда ни возьмись у края обрывистого берега появилась Белка. Она радостно взвизгнула и залаяла, решив, что Чик и Лёсик нарочно барахтаются в воде. Чик бросил на нее свирепый взгляд, но Белочка решила, что все это игра, и еще радостней залаяла.
245
Тут Чик почувствовал, что и в самом деле над ними нависла угроза. Сейчас Богатый Портной подымет голову, увидит их и догадается, что Оник с ними.
Он пригнулся, ухватился за рубашку Лёсика изо всех сил и поволок его по воде до самого поворота. Увидев такое, Белка залилась вовсю и даже попыталась спуститься вниз. Но тут Чик выглянул и, взяв в руку огромный булыжник и сделав самое свирепое выражение из всех возможных выражений лица, погрозил ей.
— Что ты там увидела, Белка? — хохотнув, поднял голову Богатый Портной.
Чик едва успел скрыться.
— Утя! Утя! Утя! Утя! — раздался голос женщины из соседнего двора. Она думала, что Белка лает на ее уток, и давала им знать, что она не даст их в обиду.
Ребята побежали вперед, а Чик, поддерживая одной рукой Лёсика, тянулся за ними. Здесь речка делала еще один изгиб, и с улицы их нельзя было заметить. Отсюда был виден только кусок обрывистого склона, на котором стояла Белка и тоскливо смотрела им вслед.
Тут на всех напал смех, а Лёсик, весь мокрый, только сопел и смущенно оглядывал себя.
— Ничего,— сказал Чик и бодро шлепнул рукой по мокрым штанам Лёсика,— пока придем, высохнет.
Ребята пошли дальше. Теперь с обеих сторон над обрывистыми склонами шли сады и огороды. Тропинка была довольно хорошая, так что Лёсик без особого труда поспевал за всеми.
Перед самым выходом из речки, где начиналась следующая улица, внезапно впереди показалась собака. Она сидела чуть повыше тропы и грызла большую кость с круглой шишкой на конце. Собака была большая и бездомная. Это было видно и по желтой свалявшейся шерсти, и по тому, как она спокойно расположилась здесь, на диком берегу речки.
Чик знал, что домашние собаки в таких местах не располагаются. Домашняя собака если и найдет где-нибудь вкусную кость, то она ее притащит к себе, а не будет ее грызть где попало.
Это была опасная встреча. Мало ли что ей взбредет в голову. Они остановились и молча уставились на собаку. Собака тоже перестала грызть свою кость и, приподняв голову, а главное, не выпуская добычу изо рта, тоже молча уставилась на ребят.
246
Чик мельком подумал, что она сейчас похожа на старого капитана с трубкой. Чик про него читал какую-то книжку, но сейчас не мог вспомнить, что это была за книжка. Там был такой старый капитан с трубкой. Он на вид был свирепый, но на самом деле был очень добрый. Все свирепые капитаны с трубкой, про которых читал Чик, в конце концов оказывались очень добрыми. Конечно, могло оказаться, что и эта собака окажется доброй, но кто ее знает. Ведь сама-то она и не подозревает, что похожа на свирепого капитана с трубкой, который просто так, чтобы было интересней, напустил на себя свирепость.
Они молча бесконечные мгновения смотрели друг на друга, и от этого ребятам делалось все страшней и страшней.
— Чик,— сказала Сонька тихо,— по-моему, я ее где-то встречала...
— По-моему, она бешеная,— сказал Оник.
Чик сам об этом подумал, но решил, что сейчас правильней будет отрицать это, чтобы его маленькую команду не охватила паника.
— У бешеной должна быть красная слюна,— сказал Чик.
— Бешеные бегут к воде,— сказал Оник,— а она видишь куда пришла?
— Глупости,— сказал Чик и, помертвев от страха, двинулся вперед. Если бы Чик был один и встретился бы в таком месте с такой собакой, которая только смотрит, и молчит, и даже кости изо рта не вынимает, он просто повернулся бы и ушел. Или даже сначала попятился бы как следует, а потом повернулся бы и ушел. Но сейчас, на глазах у всех, он этого сделать не мог.
— Чик, я боюсь за тебя,— услышал он сзади шепот Соньки. Он медленно, не шевелясь, проходил опасное место. Он не смотрел в сторону собаки, но краем глаза следил за ней. Ему казалось, что с каждым шагом морда ее делается все огромней и огромней, он видел ее большие зубы сквозь небрежный прикус и красную полоску пасти.
Она похожа на старого капитана с трубкой, упрямо думал Чик. Она и есть старый капитан с трубкой, а старый капитан никогда никого не кусает. Старый капитан добрый, он курит трубку мира, и он и подумать не хочет, чтобы кого-нибудь укусить.
Чик прошел для полной безопасности еще шагов десять
247
и остановился. Перевел дух. Теперь все ребята на той стороне завидовали ему. Чик дал знак Онику идти. Оник продолжал стоять.
— Чик, она все еще смотрит,— сказала Сонька.
— Пусть смотрит,— сказал Чик.— Ну, давай, Оник,— сказал Чик,— шевелись!
Оник тоскливо смотрел на Чика и даже не пытался сойти с места. И вдруг неожиданно для всех, содрогаясь смущенной улыбкой, Лёсик заковылял по тропе.
— Только не упади, только не упади,— забормотала Сонька.
Лёсик мужественно проковылял мимо собаки и подошел к Чику.
— Молодец, Лёсик,— сказал Чик и обнял его. Лёсик благодарно засопел.
Сразу же за Лёсиком пошла Ника. Она шла, по своей горделивой привычке узко переставляя ноги и всем своим видом показывая, что ее-то собака никогда не посмеет тронуть. Вот богатые, подумал Чик, вечно им кажется, что все должны знать об их богатстве.
Сонька не захотела одна оставаться и взяла Оника за руку. Так, взявшись за руки как маленькие, они вдвоем перешли опасное место.
И тут собака, повернув голову и все еще не выпуская кости изо рта, удивленно посмотрела на них. Казалось, она хотела сказать:
«Чего это вы тут делали, никак не пойму? Чего-то переговаривались, чего-то переходили по одному? Ниче-го не понимаю!»
Повеселев от удачного перехода этого опасного места, ребята пошли дальше.
— Я сейчас вспомнила,— сказала Сонька,— я эту собаку на базаре видела.
— Может, она здесь прячется от собачника,— сказал Оник.
— Все может быть,— вздохнул Чик. Напоминание о собачнике всегда портило ему настроение. Видно, от этого собачника никуда не денешься.— Возьми у Соньки банку,— сказал Чик, обращаясь к Онику. Нечего было Онику напоминать ему о собачнике, сам виноват.
За что? — сказал Оник с обидой.
Чик выразительно посмотрел на него, напоминая, что он струсил. Оник понял его намек, но не принял его за уважительную причину. Чика всегда поражало в Онике
248
равнодушие к вопросам личной доблести. Чик, как и все ребята, изо всех сил старался выглядеть храбрее, чем он был на самом деле. Для этого ему нередко приходилось понукать свою упирающуюся храбрость. А Онику и в голову не приходило, что ее надо понукать, пусть себе плетется как-нибудь или даже стоит на месте, если ей так хочется. Вот и теперь он смотрит с обидой на Чика и никак не хочет понять, что хоть как-нибудь должен поплатиться за свое поведение.
— Я платок дал,— напомнил Оник и сам выразительно заглянул Чику в глаза, как бы добавил, что он и деньги сегодня внес в копилку.
— Ничего, Чик, я понесу,— вмешалась Сонька. Она любила, чтобы все было хорошо.
— Ладно,— сказал Чик примирительно.
— Когда мы с папой жили в санатории,— сказала Ника задумчиво,— то там была немецкая овчарка, она из киоска носила в зубах газету.
— Может, скажешь еще, читала,— сострил Оник, повеселев оттого, что ему не пришлось нести эту консервную банку.
— Можешь не верить,— сказала Ника и дернула плечом.
Ребята выбрались на улицу. На гору, где росли мастичные сосны, можно было идти прямой дорогой или в обход. Прямой дорогой можно было прийти быстрей, но там надо было пройти через поселок, где обычно околачивались «рыжие волчата», как их называли.
Они жили над поселком в одной из двух сталактитовых пещер, которые были на этой горе. В этой пещере они жили вместе с родителями и осликом, на котором ездил по городу и гадал их рыжебородый отец.
Рыжие считали, что это их гора, и они сторожили ее. Городские ребята, поднимавшиеся на эту гору, предпочитали с ними не встречаться. Чик нередко с ними встречался, но тоже предпочитал обойтись как-нибудь без них.
Бывало, сидишь на сосне, напав на хорошее месторождение смолы, соскребываешь ее ножом или гвоздем, вдыхаешь скипидарный запах хвои и смолы и чувствуешь себя счастливым золотоискателем, напавшим на хорошую жилу.
И вдруг настроение начинает портиться. Ты еще не понимаешь, в чем дело, но чувствуешь: что-то тебя бес¬
249
покоит. Ты озираешься и внезапно замечаешь, что из-под хвои соседнего дерева за тобой следит рыжий волчонок, и, видно, давно следит. Встретившись с тобой глазами, он молча грозит тебе кулаком или, что еще хуже, не обращая на тебя внимания, продолжает за тобой наблюдать, как будто ты животное или неодушевленный предмет.
Иной раз в таких случаях и удавалось избежать встречи, если рыжий сам напал на хорошее месторождение смолы и ему неохота слезать с дерева. Но если ты почувствовал что-то неприятное и обнаружил, что рыжий сидит под твоим деревом и ожидает тебя, то тут уж, сколько ни сиди на дереве, он все равно дождется тебя.
А если ты слишком засиделся, он просто забирает твою обувь и уходит, раз уж ты, скинув ее под деревом, не догадался припрятать. И ты сам стремглав спускаешься с дерева и догоняешь его.
Тут рыжий заставляет тебя покупать у него мастику, хотя ты поднялся на гору не для того, чтобы ее покупать. А если у тебя нет денег, он отбирает из твоих вещей что ему понравится — перочинный ножик, царский пятак для игры в деньги, кусок свинца для грузила или еще что-нибудь.
А если у тебя нечего отобрать, рыжий может закинуть твои башмаки в самые непроходимые заросли.
— Бобик, ищи! — говорит он при этом.
И ты ищешь, потому что это его гора и он тут делает все, что захочет. На самые лучшие, самые плодоносные сосны рыжая команда давно наложила запрет, и никто не смел к ним подойти.
Самый старший из рыжей команды, подросток лет четырнадцати, иногда со своими братьями окружал городских ребят, забравшихся на гору, выбирал из них кого- нибудь поновей и заставлял драться с одним из своих братьев.
Надо сказать честно, что он при этом выталкивал для драки примерно равного на вид волчонка. Но какое уж тут равенство! Чужая гора, чужая молчаливая стая, готовая вот-вот наброситься!
Так что поражение пришельца было неизбежно. Чик это знал. Бывало, если старшему победа казалась слишком быстрой и неинтересной, он кивал на кого-нибудь из рыжиков помладше и говорил:
— А ну, с этим попробуй!
250
Самый младший рыжик, такой парнишка лет семи, и то, оглядывая городских ребят своими кошачьими глазами, говорил:
— С кем-нибудь поддаться охота...
Конечно, им тоже доставалось, когда они шли в школу или из школы, но тут они были полновластными хозяевами.
Этой весной у Чика было столкновение с одним из рыжиков, но сейчас он не хотел об этом вспоминать, до того это было неприятное воспоминание.
Одним словом, Чик решил идти в обход. Там тоже было одно довольно сложное препятствие, а именно встреча со щенком волкодава, как его называл Чик. Но делать было нечего, лучше было встретиться со щенком волкодава, чем с этими рыжими волчатами.
Ребята перешли улицу, прошли мимо детдома под прохладной тенью кипарисов, потом завернули на крутую пригородную улицу и вышли на полянку, в конце которой проходила длинная каменная стена. Стена эта подымалась почти до самого гребня горы, где росли сосны, богатые мастикой. По этой стене им предстояло подыматься.
На полянке ребята с соседней улицы играли в футбол. Чик сразу заметил среди них Бочо, и в груди у него неприятно екнуло.
Дело в том, что Чику предстояло с ним подраться. Это было неизбежно. Но Чик предпочел бы подраться где-нибудь в другом месте. Если не удастся на своей улице, то все же лучше было бы возле школы или на углу между их улицами. Но драться здесь, где у Бочо были кругом свои ребята, Чик считал невыгодным и несправедливым. Поэтому он предпочел бы сейчас как можно незаметней пройти мимо игроков. Но разве дадут!
— Чик, вон Бочо,— сказал Оник простодушно.
— Не твое дело,— прошипел Чик, разозлившись на него за это простодушие. Оник знал, что Чику предстоит подраться с Бочо, но не понимал, что сейчас Чику это невыгодно.
Они уже почти прошли полянку, когда его окликнул Шурик, нервный сын школьной уборщицы.
— Чик,— крикнул он,— вон Бочо, будешь драться?
Чик сделал вид, что не расслышал. Но проклятый Шурик не унимался.
— Бочо,— крикнул он своему голкиперу,— вон Чйк, будешь драться?
251
— Мне что,— ответил Бочо своим сиплым голосом и, понимая неимоверную выгоду своего положения, не удержался от улыбки,— я всегда готов.
Дальше отмалчиваться было невозможно, и Чик остановился. Вся его команда остановилась.
— Мы сейчас идем за мастикой,— сказал Чик внятно и небрежно,— на обратном пути — пожалуйста...
— Подерись, а потом идите,— мирно посоветовал Шурик.
Этот ехидина знал, что сейчас Чику невыгодно драться. Ему очень хотелось посмотреть, как Бочо поколотит Чика. Чик знал, что, если Бочо победит, Шурик захочет подраться с Чиком, чтобы перерешить давно решенный вопрос, кто из них сильней. Поэтому он так стремился к этому вдохновляющему зрелищу.
Игра остановилась, и все ждали, что будет.
— Какой хитрый,— сказал Шурик,— на обратном пути вы пойдете другой дорогой.
— Нет,— твердо ответил Чик,— раз я сказал, значит, так и будет.
— Или драка, или игра,— сказал хозяин мяча и угрожающе поднял мяч с земли. Он ревновал, что всеобщее внимание от его мяча переключилось на какую-то не слишком вероятную драку.
— Играть, играть! — закричали ребята и стали расходиться по своим местам.
Чик нашел возможным теперь двинуться дальше, не унижая своего человеческого достоинства.
— А что это за москвичка! — крикнул Шурик и под смех ребят изобразил походку Ники.
— Она не москвичка, она на другой улице жила,— сказал Лёсик, не понимая, что Шурик ищет повода для придирок.
— Притворяется москвичкой,— крикнул Шурик, хотя никто, кроме него, и не говорил, что она москвичка,— красавица южная, никому не нужная...
Чик молча проглотил эти оскорбления, в сущности, направленные против него. Вообще-то появляться среди ребят в обществе двух девчонок, причем одна из них фасонистая, и двух мальчиков, причем один из них еле держится на ногах, а другой хоть и ловкий, но не слишком приспособлен защищать свою честь, было и всегда не очень-то прилично. Но в другие времена эти ребята — вернее, Шурик, а еще вернее, Шурик с их мол¬
252
чаливого согласия — не могли позволить себе такое.
Чик понимал, что авторитет его катастрофически падает. Он решил не откладывать сегодняшнюю драку, чтобы остановить этот обвал престижа.
Чик вспомнил, хотя это было неприятно, с чего все началось. В тот день недалеко от школы, в детском парке, он с одним мальчиком играл в деньги. Они играли в «накидку», так в те времена называли эту игру. Смысл ее состоял в том, что с определенного места игроки бросали свои пятаки на столбик монет, стоящий на каком-нибудь плоском камне. Чей пятак упал ближе, тот первым разбивает этот столбик.
Вокруг Чика и этого мальчика, когда они подходили расшибать монеты, образовалось кольцо из любопытствующих ребят. Среди них были Шурик и один из рыжиков.
В разгаре игры Чик обычно сильно волновался. На этот раз он особенно сильно волновался, может быть, потому, что денег на кону было больше, чем обычно. Два раза, когда на кону стоял сочный столбик серебристых монет, Чик выигрывал право первому расшибать этот сладостный столбик. Оба раза от волнения он промахнулся. Оба раза пятак его в миллиметре от столбика стукнул ребром по земле. И оба раза после того, как он промахивался, в напряженной тишине раздавался тихий смех какого-то мальчика.
Чик чувствовал, как неприятно покалывает его этот смех, но из самолюбия и поглощенности неудачей он не обращал внимания на то, кто именно смеялся.
И вот когда третий раз он получил право первым расшибать столбик монет, и, страшно волнуясь и думая все время о том, что ему, после того как промахнулся два раза, теперь промахиваться в третий раз никак нельзя, он прицелился дрожащей рукой, как бы предчувствуя, что обязательно промахнется, ударил изо всех сил и в самом деле промахнулся. Даже еще хуже. Пятак, ударившись рядом, задел столбик монет, и он мягко, гармошкой повалился набок, так и не перевернувшись ни одной монетой.
И гут в третий раз раздался тихий презрительный смех. У Чика в глазах что-то поплыло. Почему-то всегда это называют кругами, но Чик не уверен, что это были именно круги. Скорее, это были какие-то остроугольные фигуры.
Теперь Чик разглядел смеющегося. Это был рыжик. Он
253
сидел на корточках совсем близко. Чик, не разгибаясь, со всей силой дал ему по стриженой голове бреющий удар. По боли, ошпарившей ладонь, Чик почувствовал, что он его очень крепко ударил.
Рыжий схватился за голову и стал медленно подыматься, не сводя с Чика ненавидящих глаз. Чик почувствовал тревогу и на всякий случай тоже встал на ноги.
Чик не собирался с ним драться. Чик был чуть ли не на голову выше, старше его и сильней. Это было ясно всем, в том числе и рыжему. Все еще держась за голову, он смотрел на Чика горящими глазами волчонка. Потом он слегка покосился в сторону своей горы, но она была далековато, и помощи ждать оттуда было бессмысленно. Здесь он был один.
И все-таки он ринулся на Чика. Несколько смущенный, Чик отбросил его, и по легкости, с которой рыжий отлетел, он еще раз почувствовал, насколько сам он сильней его.
Но не тут-то было. Рыжий с еще большей яростью набросился на него, и Чику ничего не оставалось, как вступить в драку.
Чик дрался, все время чувствуя какую-то неловкость, потому что это была очень неравная драка. Он каждый раз, когда они сцеплялись, пытался отбросить его, но тот со свирепостью, свойственной всей рыжей команде, лез, и лез, и лез на него. В общем, получилась какая-то кошмарная драка. Все время чувствуя неравенство сил, Чик сдерживал себя и от этого действовал как-то нерешительно, неуклюже. Он все время думал о зрителях и старался им показать, что он дерется не в полную силу.
Но рыжий этого не замечал. Он только чувствовал, что раз противник не побеждает, значит, должен победить он. Покряхтывая и урча от кровожадного упоения, он вновь и вновь бросался на Чика, не сводя с него желтых ненавидящих глаз. Чику даже как-то стало не по себе. Он даже почувствовал некоторые панические признаки еще отдаленной усталости. Он как-то слишком упустил его вперед, как-то слишком развил в нем волчий аппетит к драке, покамест сам ковырялся в обороне.
В это время один из ребят постарше, игравших в парке на детском бильярде, подбежал к ним и, схватив рыжего в охапку, приподнял над землей. Рыжий стал яростно барахтаться у него в руках, стараясь вырваться, а парень
254
этот, посмеиваясь, продолжал держать его в воздухе, а Чик стоял рядом и не знал, что ему делать.
— Иди-ка ты отсюда,— сказал он Чику, чувствуя, что даже ему не так-то просто удержать рыжего волчонка.
Чик, понурясь, пошел. Не успел он пройти и десяти шагов, как услышал за спиной какие-то крики. Чик быстро обернулся, решив, что рыжий вырвался и мчится за ним.
Рыжий и в самом деле вырвался, но бежал совсем в другую сторону, а за ним мчался паренек, который держал ёго. Оказывается, рыжий укусил его и убежал.
Тем и закончилась драка. Но почему-то с этого дня началось падение его авторитета. На следующий день в школе разнеслась весть, что один из рыжиков, да не старший и не следующий, а тот, что поменьше Чика, излупцевал его в парке да еще укусил взрослого парня, который якобы пытался Чику помочь.
Старший рыжик на одной из перемен, поглаживая своего братца по голове, кивнул на проходящего Чика и стал что-то рассказывать ребятам, окружавшим его. Чик мог представить, что он там рассказывал, тем более что маленький рыжик в это время нагло и весело посматривал в сторону Чика и все время кивал головой: дескать, все так и было, как мой брат рассказывает.
Чик мрачно, с деланной независимостью ходил по школьному двору. Он считал унизительным доказывать, что этот маленький наглец не мог его победить. Также он считал постыдным требовать свидетельских показаний от очевидцев драки.
Главное, всем так хотелось, чтобы победил маленький рыжик, что тут ничего нельзя было доказать. По глазам маленького рыжика было видно, что он и сам поверил в свою победу. В ближайшие дни он уже без старшего брата показывал на Чика и, по-видимому, рассказывал о своей победе.
Некоторые ребята из других классов приходили посмотреть на Чика, побежденного маленьким рыжиком. Один даже принял за Чика самого большого мальчика из их класса, до того ему хотелось порадоваться разнице между Чиком и маленьким рыжиком.
Чик чувствовал, что людей, охваченных жаждой сотворения мифа, невозможно остановить. Он это точно чувствовал, хотя и не знал, что это так называется. Зато он знал, что очутился в глупейшем положении. Пошатнулось
255
стройное здание годами отработанных оценок. Начался сложный и утомительный процесс переоценки ценностей. Шурик стал дерзить, а Бочо при встрече с ним как-то двусмысленно улыбаться.
Шурик и раньше несколько раз бунтовал, но Чик сравнительно легко ставил его на место. Шурик вместе с матерью жил в одной из школьных полуподвальных комнат. У них над головой весь день звенел школьный звонок. Чик считал, что Шурик от этого нервный и даже слегка психованный.
Чик относил Шурика к числу тех ребят, которые знают, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое. Как это ни странно, Чик чувствовал, что эта общая черта их не сближает, а, наоборот, отдаляет друг от друга. Чик чувствовал, что именно из-за этого они недолюбливают друг друга.
Хотя Шурик не был сильным мальчиком, связываться с ним никто не любил. Во-первых, он поторговывал чистыми тетрадями, даже глянцевые тетради, в то время, великая редкость, у него бывали. В трудную минуту к нему можно было обратиться. Разумеется, продавал он их гораздо дороже, чем они стоили.
А во-вторых, и это главное, из-за его нервности. Распсиховавшись, он в драке мог огреть противника чем попало. Но это-то как раз Чика и не страшило. По домашнему опыту обращения с дядей Колей Чик знал, как с такими людьми надо себя вести.
«Ах, ты психованный? Так я еще психованней!» — вот как надо было с такими людьми себя вести. По этому правилу взрослые мужчины в доме Чика не раз смиряли дядю Колю, когда он, чаще всего в жару, начинал бузить. Шурик прекрасно знал, что Чик не даст ему спуску из-за его психованности, и поэтому сдерживал свою психо- ванность.
Но авторитет Чика начал падать, и было похоже, что Шурик собирается снова помериться силами с Чиком. Ясно было, что при этом он не будет сдерживать свою психо- ванность, а прямо спустит ее с цепи.
В мае этого года, когда ребята большой компанией купались в море, случилось страшное — у Чика пропали трусы. Так как девчонок поблизости не было, а в мокрых, хотя и выжатых трусах ходить еще было холодно, все купались голые. И вот, когда Чик вышел из воды, обнаружилось, что у него исчезли трусы.
256
Чик сначала решил, что кто-то подшутил и вскоре трусы возвратят. Но никто трусы не возвращал, и Чик стал волноваться. Сначала он перекопал весь берег, думая, что их зарыли в прибрежную гальку, но трусов нигде не оказалось.
Чик не на шутку разволновался. Он подозревал, что это дело рук Шурика, но ничего доказать не мог. Шурик сидел тут же и, холодно сочувствуя, делал различные предположения. Трусы могли украсть какие-нибудь хулиганы. Чик страшно растерялся и, что скрывать, разревелся. Путь к дому был отрезан. Сейчас все разойдутся, а он голый останется на берегу.
К счастью, Оник оказался преданным и сообразительным другом.
— Ты посиди тут,— сказал он,— а я сбегаю домой и возьму у твоей мамы трусы.
— Нет,— сказал Чик, чувствуя, что сама мысль плодотворна,— она подумает, что я утонул. Лучше ты дай мне твои трусы, я их дома сменю и принесу.
— А если отец тебя заметит в моих трусах и решит, что я утонул, знаешь, какой шухер будет? — сказал Оник, уже заранее зная, что Чик его все равно уговорит.
Тут Чик уверил Оника, что отец его никак не может заметить Чика, потому что домой он возвратится не через калитку, а через речку и огород.
Чик так и сделал. Он бежал всю дорогу, немного стесняясь слишком ярких трусов Оника. За квартал от дома он спустился в речку, добрался до огорода и уже стремглав, как ошпаренный, перелетел через двор, вбежал домой, вытащил из шкафа чистые трусы, переоделся в них и тут почувствовал полное счастье безопасности. Никто ничего не заметил. Чик свернул трусы Оника и, сжав их жгутом', выскочил на улицу.
— Оника не видел? — окликнул его Богатый Портной.
Чик на радостях забыл, что он вечно торчит на балконе.
От неожиданности Чик спрятал за спину руку со свернутыми трусами. По-видимому, знакомый цвет того, что Чик сжимал в руке, чем-то смутно напомнил ему Оника.
— А это что прячешь? — кивнул головой Богатый Портной.
— Ничего,— сказал Чик и тут уже по-настоящему испугался. Чик представил гнев Богатого Портного, если б тот узнал в руке у Чика трусы Оника, каким-то таинственным образом отделившиеся от хозяина.
9 Школьные годы. Выпуск IV
257
В это время со двора вышел Алихан и уселся на крыльце Богатого Портного. Богатый Портной посмотрел на Алихана. Алихан посмотрел на Богатого Портного, а потом на Чика, не понимая, что их соединяет.
— Значит, не видел Оника? — снова спросил Богатый Портной и пытливо заглянул в глаза Чика.
— Не видел,— ответил Чик, стараясь твердо глядеть на Богатого Портного. Руки он продолжал держать сзади.
— Что-то хитришь, но что — не пойму,— сказал Богатый Портной.
— Ничего не хитрю,— ответил Чик.
— А что такое,— сказал Алихан и поднял голову,— я видел Оника.
— Ты иди, иди,— сказал Богатый Портной и сделал вид, что перестал интересоваться Чиком.
Чик сразу же понял его хитрость. Он подумал, что сейчас Чик повернется спиной и он увидит, что у Чика в руке. Чик не стал поворачиваться, тем более ему интересно было узнать, как и где Алихан мог видеть Оника.
— Где он? — спросил Богатый Портной у Алихана, делая вид, что совсем не следит за Чиком.
— Только что во дворе пробегал,— сказал Алихан.
Чик быстро повернулся и, прижав руку с трусами Оника
к груди, побежал. Как он мог видеть Оника, когда Оник сейчас сидит на берегу, думал Чик радостно, мчась по улице. И, только завернув за угол, Чик вдруг догадался: так это он меня принял за Оника! Чику стало еще веселее, и он бежал до самого моря, напевая песенку вроде дяди Коли и шлепая трусами Оника по своим голым ногам.
Тогда все обошлось прекрасно, и Чик позже, вспоминая этот случай, с благодарностью думал про Оника и с затаенной обидой про Шурика.
Чик так и не узнал, куда делись его трусы. Но одно то, что он мог подумать на Шурика, а мог подумать потому, что Шурик к этому времени так себя вел, что было вообразимо, что он мог это сделать, говорило о степени падения его престижа.
Да, теперь надо было обязательно подраться с Бочо, несмотря на невыгодные условия.
Чик никогда с Бочо не дрался. Бочо ему всегда нравился. Бочо был такой добродушный, такой лупоглазый коренастик. За эту коренастость да еще сиплый-пресиплый голос Чик его уважал. У него был такой сиплый голос, что
258
те, кто слышал его в первый раз, думали, что он так говорит, потому что никого на свете не боится, а никого на свете не боится, потому что у него старший брат самый сильный парень в городе. На самом деле у него никакого старшего брата не было, просто у него был такой голос от природы.
По какому-то необъяснимому чутью Бочо без драки признал, что Чик его несколько превосходит в силе. Чик это признание чувствовал и в благодарность за то, что тот избавил его от довольно утомительного доказательства, так же молча обещал не пользоваться этим превосходством и уважать его независимость.
Но с тех пор как Чик перенес эту несчастную драку с рыжиком да еще потерял на берегу трусы, все пошатнулось. Бочо при встрече с ним стал блудливо улыбаться, и значение этой улыбки Чик прекрасно понимал. А означала она одно — что, собственно говоря, превосходство Чика ничем не доказано и Бочо готов посмотреть, как Чик его еще будет доказывать.
Ребята подошли к железным решетчатым воротам, почему-то всегда закрытым на замок. Там, за воротами и каменной стеной, на склоне горы рос огромный фруктовый сад с яблоками, грушами, мушмулой, маслинами.
По слухам, до революции здесь жил какой-то важный князь. Но во время революции его свергли, и он куда-то исчез. Чик почему-то представлял, что после того, как его свергли, он покатился вниз по склону горы.
Чик слыхал, что после того, как исчез князь, маслины в его бывшем саду перестали плодоносить, хотя расти продолжали. Остальные фрукты продолжали плодоносить, а маслины перестали. Они остались преданными князю.
Чик вообще никогда не любил маслины из-за того, что они какие-то горькие да еще соленые. Он считал это каким-то уродством. Если ты фрукт — ты должен быть сочным и сладким. А если ты не сочный и не сладкий, какой же ты фрукт!
Чик чувствовал какую-то связь между тем, что он не любил маслины, и тем, что они остались преданными князю и не хотели плодоносить, хотя совсем засохнуть почему-то тоже отказывались. Тогда высыхайте совсем, если вы такие, сердито думал о них Чик, очистите место для наших фруктов!
259
Чик про эти маслины часто думал. Иногда он считал, что их надо вырубить или сжечь, раз они такие упрямые. Да, сжечь, как сожгли дом князя во время революции.
Эти маслины смущали его душу своей бессмысленной преданностью. Чик считал, что преданность может быть только среди наших, что для врагов это слишком красивое занятие — быть преданным. Но такими уж они уродились, и с этим ничего нельзя было сделать. Главное, что князь никогда не вернется. Чик это точно знал, а они продолжают быть преданными, и от этого их обреченная преданность как бы делается еще преданней и еще трогательней.
Чик никак не мог взять всего этого в толк и не любил вспоминать о маслинах. Но все равно иногда это само лезло в голову, и Чик ничего с этим не мог поделать.
Но сейчас Чик об этом не думал. Он просто вспомнил мимоходом про маслины, которые растут за стеной в саду, и тут же забыл. Сейчас ему было все равно, кому там они преданы или не преданы. Сейчас его занимали более близкие вещи, а главное, предстоящая драка с Бочо в невыгодных для него условиях.
Недалеко от ворот, возле стены, возвышался зеленый холмик, взобравшись на который можно было легко перейти на стену. Ребята влезли на зеленый холмик.
— Всем разуться! — приказал Чик и сам первым разулся. Чик положил сандалии на гребень стены и быстро влез на нее. Стена была горячей от солнца и с непривычки слегка обжигала подошвы ног.
— Оник,— сказал Чик,— будешь подсаживать Лёсика, а я буду его сверху тянуть.
Лёсик наклонился и грудью уперся в стену. Он снизу смотрел на Чика виноватым взглядом, как бы прося прощения за свою неловкость. Чик взял его за шиворот, покрепче уперся ногами, чтобы ступни почувствовали неровности кромки стены и вцепились в них. Оник подсел под Лёсика, уперся головой ему в зад, и они одновременно потянули его наверх и плашмя взгромоздили на стену. После этого Лёсик сам постепенно собрался и встал.
— Ну как? — спросил Чик.
— Ничего,— ответил Лёсик, смущенно улыбаясь, и кивнул на ноги,— только жжет.
— Это пройдет,— сказал Чик,— меня и то жгло.
Оник одним прыжком, упершись руками в кромку сте-
260
мы, поднялся на нее. Он вообще был очень ловким, и Чик это в нем ценил. Девочки тоже быстро взобрались на стену, а Ника даже не сняла своих тапочек. Правда, резиновые тапочки цепко держали ее на гребне стены, но Чик считал, что она нарочно не сняла, чтобы не подчиняться его приказу.
Чик решил, что он будет боком идти впереди и придерживать Лёсика одной рукой, а за Лёсиком будет идти Оник и подстраховывать его.
— Ника, возьмешь Лёсикины сандалии,— сказал Чик, обернувшись.
— Фи,— сморщила Ника свой маленький нос,— мне неприятно, пусть Соня несет.
Чику обычно нравилось, как она морщит свой нос. Она так забавно его морщила, что Чику каждый раз, когда она его морщила, хотелось слегка щелкнуть его. Но сейчас ему это не нравилось.
— Сонька и так банку несет,— сказал Чик, раздражаясь на себя за то, что ему нравится, как она морщит нос,— а из-за твоей походки над нами смеются.
— Смеются дураки,— ответила Ника,— а мой папа считает, что у меня красивая походка.
Она стояла на стене в своем желтом сарафане и белых тапочках, легкая, независимая, а главное, нисколько не благодарная за то, что ее взяли в поход.
— Знаешь, как ты надоела со своим папой,— сказал Оник, обернувшись. Он ничего не знал о судьбе ее отца. Никто из ребят, кроме Чика, ничего не знал о судьбе ее отца.
— А ты знаешь, как надоел со своим Богатым Портным,— ответила Ника.
— Сейчас ка-ак сандалией заеду,— сказал Оник,— сразу очутишься в саду.
— Только попробуй,— сказала Ника и нагло посмотрела на Оника своими хотя и синими, но темными от густоты цвета глазами. Глядя ей в глаза и прислушиваясь к ссоре, Чик вдруг подумал: оказывается, богатые не так уж любят друг друга. Чику почему-то было приятно, что богатые не выступают единым фронтом. Но сейчас, на стене, эта ссора была ни к чему.
— Не надо спорить,— сказала Сонька,— я возьму.
Она протянула руку и взяла у Лёсика его сандалии.
— Хорошо, пошли,— сказал Чик. Он считал, что сейчас спорить здесь, на стене, неуместно. Они стали медленно
261
подниматься вверх. Боком идти было неудобно, и Лёсик как-то не в лад время от времени с какой-то опасной силой неуклюжего человека дергал Чика за руку. Не успели они пройти и десяти шагов, как вдруг с полянки раздался голос Шурика.
— Лёсик, а-ста-рож-на, упадешь! — пропел он гнусаво. Лёсик, как всегда, обернулся на голос и так дернул Чика за руку, что Чик чуть не слетел со стены.
— Чего ты смотришь, когда они дразнят! — заорал он не своим голосом. Чик даже вспотел от страха. Он страшно разозлился на Шурика за его подлое напоминание, а заодно разозлился и на Лёсика.
— П-привычка,— сказал Лёсик и улыбнулся от смущения.
— Дурацкая привычка,— бормотал Чик, постепенно успокаиваясь.
Они двинулись дальше, и тогда с полянки раздался еще раз голос Шурика.
— Идите,— крикнул он,— там вам рыжие покажут!
В это мгновение Чик окончательно и бесповоротно решил на обратном пути подраться с Бочо. Другого выхода нет, отрезал Чик всякие сомнения, а то совсем на голову сядут. Окончательность решения вдруг успокоила Чика, и он сосредоточил внимание на дороге.
Идти боком по стене, придерживая одной рукой Лёсика, даже Чику было неудобно, а Лёсику и подавно. В конце концов Лёсик засопел и остановился.
— Я сам,— сказал он Чику, заглядывая ему в глаза и стараясь понять, не оскорбил ли его этим решением.
— Хорошо,— сказал Чик,— я тебя буду страховать.
Чик, осторожно обняв Лёсика — при этом он почувствовал, как напряжено его тело,— отошел назад. Теперь Лёсик шел впереди. Сделав шаг одной ногой, он слегка подволакивал другую.
— Вниз не смотри,— сказал Чик,— смотри только вперед.
Слева от стены шел каменистый косогор, а справа росли деревья мушмулы, из-за которых почти не видно было склона. Иногда ветки мушмулы нависали над стеной, и Чик просто так, для разнообразия дороги, нагибал какую-нибудь ветку и потом опускал. Ветка шуршала своими большими ушастыми листьями. Урожай мушмулы давно собрали, но Чик иногда встречал на некоторых ветках
262
желтые, сморщенные плоды, которые не заметили сборщики. Теперь, среди лета, они переспели и подсохли, и Чик знал, что они сейчас сладкие как сахар. Но они висели слишком высоко, чтобы достать до них. Все же смотреть на них было приятно, и Чик не забывал хотя бы мельком оглядеть каждое дерево.
— Если хочешь, я понесу банку,— неожиданно предложила Ника.
Казалось, все это время она раздумывала, не унизит ли ее такое предложение, и теперь решила, что можно.
— Ничего,— вздохнула Сонька,— я уж донесу.
Вдруг Чик заметил впереди ветку, усеянную свежей,
только что поспевшей мушмулой. Ветка эта проходила слишком высоко, хотя и нависала над стеной. Чику очень хотелось достать до нее, и он стал вглядываться, как бы это сделать. Он заметил, что эта плодоносная ветка скрещивается с другой веткой, которая проходит над ней. А эта другая ветка сама имеет маленькую ветку, которая не идет вверх, как основная, а тянется к стене, хотя и не дотягивается.
Чик сообразил, что если дотянуться до нее и раскачать, то она передаст свои качания большой ветке, от которой она ответвляется, а та, большая, постепенно передаст качания ветке с мушмулой, потому что они перекрещиваются и она сверху будет давить на нее.
Чик вытянулся в сторону сада и с трудом дотянулся до самого крайнего листика этой ветки. Чик только двумя пальцами сумел дотянуться до него. Но все-таки он его ухватил этими двумя пальцами и стал осторожно и сильно тянуть листик и вместе с ним ветку на себя. Чик знал, что у мушмулы крепкие листья, но все-таки он мог оборваться, и Чик тянул его осторожно. Он старался так его тянуть, чтобы между тем местом листика, за которое он держался, и тем местом ветки, за которое держался сам листик, как бы проходила прямая линия. Чик давно заметил, что если так тянуть листик или тоненькую ветку, они делаются достаточно прочными. Почувствовав мгновение, когда он сможет дотянуться до ветки другой рукой, Чик вытянул ее и, одновременно бросив листик, цапнул ветку. Все получилось так, как и ожидал Чик. Он раскачал эту ветку, а она постепенно раскачала плодоносную, и, когда та достаточно низко опустилась, Чик схватил ее.
Здесь было еще больше плодов, чем он ожидал.
263
И главное, все они, парные и одиночки, были свежие и сочные, как в начале лета. Чик догадался, что тогда эту ветку пропустили, потому что плоды на ней были совсем зеленые.
— Ой, Чик! — восторженно завопила Сонька, увидев, какое богатство им привалило.
— Рвите,— хозяйственно сказал Чик, пригибая ветку как можно ниже. Лёсик неуверенно взялся одной рукой за ветку, а другой потянулся к мушмуле. Оник тоже схватился за ветку и сильно дернул ее в свою сторону. Чику это показалось похоже на то, как телок, дотянувшись до вымени коровы, нетерпеливо дергает за сосцы. Чик отчасти сам почувствовал себя этой коровой, которую дергают за сосцы.
— Чик, а у меня руки заняты! — крикнула Сонька и от нетерпения даже слегка подпрыгнула.
— Давай банку,— сказала Ника, протягивая руку.
— Спасибо, Ника,— сказала Сонька и передала ей банку. Заодно она положила у ее ног и свои и Лёсикины сандалии. Все трое держались руками за ветку и сами живой гроздью повисли на ней, срывая мушмулу, чмокая нежными водянистыми плодами и далеко выплевывая большие, вроде каштанов, и скользкие, как у арбуза, косточки. Несколько минут только и слышен был шорох разгребаемых листьев, чмоканье и кряхтенье.
Вдруг Лёсик посмотрел на Чика и показал глазами на Нику. Чик совсем забыл о ней. Сейчас на лице у нее было то задумчивое и смешное выражение, какое бывает у женщин, которые делают вид, что только что вышли из открытой, быстро мчащейся машины. В крайнем случае — из коляски мотоцикла.
Г олова слегка закинута, а ресницы помаргивают, словно продолжают сбивать потоки встречного воздуха, режущего глаза. Сейчас это было особенно смешно, потому что она держала в оттопыренной руке старую консервную банку.
— А ты что? — спросил Чик. Ника вздрогнула и посмотрела на него.
— Я не люблю,— сказала она, вздохнув. Чику показалось, что она сейчас вспоминала своего папу.
Ветка быстро пустела. Чик изо всех сил ее согнул и достал хорошую, спелую двойчатку.
— На,— протянул он ее Нике.
— Я не люблю,— повторила она и замотала головой, хотя глаза с любопытством оглядели ярко-желтые плоды.
264
— Раз Чик дает, значит, бери,— вразумительно сказала Сонька и, взяв у Чика двойчатку мушмулы на коротенькой ветке, передала ее Нике. Та взяла двойчатку, как цветок, и даже слегка примерила ее к своему желтому сарафану.
— Двойняшки, как Лёсикины братья,— сказал Оник, мельком взглянув на подарок и снова берясь за ветку.
Лёсик расплылся в улыбке и засопел. Чик с любопытством посмотрел на Нику, чтобы узнать, как она восприняла эту остроту. Но Ника никак не восприняла эту остроту. Скорее всего она ей даже не понравилась, потому что она слегка пожала плечами: мол, ничего похожего или смешного.
Когда один богатый острит, оказывается, другой его не обязательно поддерживает, подумал Чик, как всегда стараясь сделать вывод из своих наблюдений над жизнью богатых.
— Бросаю ветку,— предупредил Чик и, дождавшись, чтобы Лёсик ее отпустил, сам разжал пальцы. С облегченным шелестом ветка маханула вверх. Чик почувствовал, что рука его ноет от долгого держания сопротивлявшейся ветки.
Ребята пошли дальше. Теперь солнце прикрывалось дубовыми деревьями, росшими слева от стены, и прохлада ее приятно холодила подошвы ног. В одном месте колючие плети диких роз перекинулись через стену, и проходить здесь было очень трудно — можно было уколоться.
Чик с Оником с трудом перетащили Лёсика через это коварное место. Каждый раз, когда Лёсик собирался ступить, Чик показывал ему, куда ставить ногу, а иногда, наклонившись, раздвигал плети, потому что неловким ногам Лёсика нужно было побольше свободного места.
Ника, наклонившись в середине этого колючего ковра, усеянного по обе стороны от стены розоватыми цветами, сорвала один цветок, не останавливаясь, вдела его в волосы и пошла дальше. Она так наклонилась и так сорвала розу, словно вся эта заросль нарочно, дожидаясь ее, наползла на стену и расстелилась у ее ног. И розу она сорвала так, как будто всем розам сделала одолжение: мол, раз уж все вы меня просите, я, пожалуй, одну сорву.
Вот богатые! — подумал Чик, изумляясь. Им кажется, что все вокруг только и думают, как бы им получше угодить. И не такой уж глупой оказалась привычка узко переставлять ноги, как раз с такой привычкой легко по стенам ходить.
265
Стена подошла к домику на горе. Здесь надо было слезать, переходить через дворик, а там сразу начинался гребень горы, где росли сосны, богатые мастикой.
Это был маленький деревянный домик с чистенькими окнами, с открытой верандой, с палисадничком, в котором росли на высоких кустах садовые розы — красные, белые и желтые, до того похожие на масло, что хотелось их намазать на хлеб.
Снизу к зеленому дворику подымалась настоящая каменная лестница с широкими площадками и каменными скамейками. Лестница была неимоверной длины и, как догадывался Чик, доходила до самых железных ворот, откуда они начинали свой подъем по стене.
Самое удивительное было то, что Чик здесь ни разу не встретил ни одного живого человека. Так что домик этот можно было считать заколдованным. Единственным живым существом, которое здесь всегда встречало Чика, был щепок волкодава.
Чик открыл этот путь к сосновой роще этой весной. С тех пор он здесь бывал пять или шесть раз. И каждый раз щенок волкодава набрасывался на Чика, требуя, чтобы Чик с ним поиграл.
То ли оттого, что он скучал по людям, то ли оттого, что он все-таки был щенком волкодава, играя, он увлекался и начинал очень больно кусать Чика. Чик понимал, что он играет, но щенок не понимал, что, играя, надо кусать послабее, а если Чик пытался показать ему, что он на него злится, щенок начинал кусать еще сильней, думая, что Чик нарочно предлагает ему более дерзкую игру. Хотя Чик и привыкал к этой боли, но все равно было очень больно. К тому же за эти два-три месяца щенок здорово вырос, и, как замечал Чик при каждой встрече, его играющая челюсть все крепче хватала Чика. Может, он думал, что Чик с такой же быстротой растет или привыкает к боли? Но Чик рос куда медленнее щенка волкодава, а привыкать к боли ему было неохота. Так или иначе, выхода не было. Приходилось терпеть его игры до самой калитки, ведущей в сосновую рощу.
То, что во дворе этого дома жил щенок волкодава, не мешало Чику думать, что домик волшебный или заколдованный. Мешала думать бельевая веревка, протянутая вдоль веранды, на которой висели прищепки, похожие на птичек, сидящих на проводе. Чик, конечно, понимал, что
266
здесь живут люди, но он никак не мог понять, почему их никогда не бывает дома.
Рядом со стеной росло дерево инжира-скороспелки, или, как его еще называют, птичий инжир. Одна ветка этого инжира подходила к самой стене. Если ухватиться за нее и несколько раз перебрать руками, можно смело спрыгивать во двор.
Но сейчас Чик не спешил спрыгивать во двор, потому что дерево было усеяно мелкими черными плодами инжира. Чик еще не спешил потому, что оттягивал Естречу со щенком волкодава. Но сам себе Чик в этом не признавался.
— Сбрасывайте обувь,— сказал Чик, оглядывая дерево,— а мы с Оником полезем за инжиром.
Сандалии посыпались вниз.
— А банку можно? — спросила Сонька.
— Можно,— разрешил Чик и, ухватившись за ветку, повис на ней.
Он несколько раз перебрал руками, дошел до ствола, закинул ногу на ветку, за которую держался, зацепился за нее коленом и, слегка раскачавшись в таком положении, ухватился рукой за другую ветку, после чего, подтянувшись, выполз на первую ветку.
— Чик, может, лучше пойдем, пока нет волкодава? — сказала Сонька.
— Ха,— усмехнулся Чик, тяжело переводя дыхание,— от щенка волкодава никуда не уйдешь!
Сам Чик много раз надеялся, пока не видно щенка волкодава, незаметно перейти двор, но ему это никогда не удавалось. Чик пришел к выводу, что щенок нарочно не показывается, покамест кто-нибудь не очутится во дворе. Потому что, если щенок покажется, когда человек стоит на стене, тот еще, чего доброго, раздумает спрыгивать во двор. А если уж спрыгнул, то тебе ничего не остается, как поиграть со щенком.
Оник вслед за Чиком залез на дерево, но сделал это гораздо легче Чика. Чик знал, что он ловчее его, и уж с этим ничего нельзя было поделать.
Они заняли две ветки, нависавшие прямо над стеной. Здесь было полным-полно инжира. Птичий инжир не такой крупный и сочный, как садовый, но зато гораздо слаще.
Чик дотянулся до очень спелого темно-лилового инжира со слегка одрябшей от спелости кожицей, нежно крутанул его на ветке, чтобы не раздавить плод. Издав тукающий звук, инжир очутился у него в ладони.
267
Сонька, Лёсик и Ника снизу, со стены, следили за ним. Чик осторожно поднес инжир ко рту.
— Ну как? — облизнувшись, спросила Сонька.
Чик еще и не донес инжир до рта, когда она это спросила. Чик отодвинул руку ото рта недоумевающим жестом, показывая на смехотворную поспешность ее вопроса. Все рассмеялись, а Сонька, застыдившись, опустила голову.
— Мировой,— сказал Чик, пожевывая хрусткую, сахаристую мякоть инжира.
Плодов на дереве было много, и Чик с Оником успевали сами есть и бросать товарищам. Лёсик чуть не свалился со стены, пытаясь поймать брошенный инжир, и Чик строго запретил ему ловить инжир. Инжир шлепался в широко растопыренный Сонькин подол. Ника сначала отказывалась его есть, но потом, попробовав, так разохотилась, что Чик даже не успевал бросать.
— Чик, я уже съела! — кричала она, словно собиралась обрадовать его этим.
«Вот они, богатые,— думал Чик, слегка раздражаясь,— • сперва они отказываются есть птичий инжир, а потом кидать не успеваешь, да еще они требуют, чтобы ты радовался их аппетиту».
Чику сначала было приятно, что ей понравился птичий инжир, но потом, когда она стала просить, не соразмеряя возможности Чика срывать инжир со своими возможностями отправлять его в рот, он стал злиться на нее.
Все же инжира на дереве было так много, что все наелись, и уже даже Сонька стала очищать с него кожуру. Чик предупредил, чтобы кожуру бросали только на ту сторону, а то хозяева узнают, что они здесь делали.
— Чик, а где хозяева? — поинтересовалась Сонька, наевшись, как бы благодарная хозяевам за их долгое отсутствие.
— Я их не видел, но они есть,— сказал Чик и, мгновенно повиснув на ветке, спрыгнул вниз. Чик почувствовал, как у него тяжело бултыхнулся живот, когда он спрыгнул, до того он наелся инжиру. За Чиком спрыгнул Оник. Сонька и Ника повисли на ветке и, перебрав несколько раз руками, чтобы быть поближе к земле, благополучно спрыгнули на землю.
Щенок волкодава нигде не показывался, и Чик стал
268
надеяться, что на этот раз, может, и в самом деле обойдется. Теперь оставался Лёсик. Чик и Оник должны были его поддержать, когда он повиснет на ветке.
— Как только я скажу: раз! два! три! — бросай ве ку! — приказал ему Чик.
Лёсик уныло слушал его, стоя на стене, и губы его у;ке начинали расплываться от смущения. Чику это не понравилось. Раз Лёсик улыбается, значит, не верит в благополучный исход.
— Давай,— взбадривал его Чик,— у тебя же руки сильные.
Лёсик ухватился обеими руками за ветку, но оторвать ноги от стены никак не решался. Главное, он слишком близко от стены ухватился руками, а надо было как можно дальше, где ветка потолще. Чик знал, что инжир очень слабое, ненадежное дерево.
— Подальше! Подальше! — крикнул Чик, но Лёсик неожиданно опустил ноги и как-то грузно и ненадежно закачался на ветке.
— Перехватывай! Перехватывай! — крикнули все в один голос. Ветка угрожающе заскрипела, а Лёсик продолжал качаться, словно оглох. Чик и Оник стояли под опасно раскачивающимся телом Лёсика, и Чик видел его лицо с выпученными глазами, с дурацкой улыбкой до ушей. Чик вытянул руку, чтобы, ухватившись за его ступню, хотя бы остановить это дурацкое покачивание. Только он его схватил за пятку, как Лёсик — видно, ему стало щекотно — рухнул на них всем своим беспомощным и потому грузным телом.
Чик только успел почувствовать неимоверную тяжесть, и они все втроем покатились под косогор. Не успели они остановиться, как Чик услышал вопль девочек и радостный визг щенка волкодава, бросившегося на Чика. Он ухватился зубами за его штаны и, мотая мордой и радостно повизгивая, стал тянуть его с невероятной энергией. Чик даже не мог понять, чего он хочет: то ли с Чика стянуть штаны, то ли самого Чика стащить с Оника и Лёсика, на которых он лежал. Кстати, Лёсик и тут, лежа под Чиком и Оником, продолжал смущенно улыбаться.
Чик удивился, с какой мощью тянет его щенок волкодава, как он быстро взрослеет и как хорошо, подумал Чик, что сам я пошел в поход не в трусах, а в этих крепких, хотя и коротких штанах.
— Бегите к выходу! — героическим голосом крикнул
269
Чик, давая щенку стащить себя с Оника и Лёсика и тем самым показывая, какая свирепая борьба ему предсто- ит.-— Не забудьте сандалии! — крикнул Чик, давая щенку уволакивать себя вниз по косогору. Отталкиваясь руками от земли, Чик слегка помогал ему.
— Не забудем! — крикнула Сонька и стала собирать обувь.
Лёсик и Оник уже вскарабкались до подножия инжира. Им оставалось перебежать ровную травянистую площадку двора.
— Не бойтесь, я его задержу! — крикнул Чик голосом, преодолевающим неимоверную боль. Оник и ковыляющий за ним Лёсик уже пробегали мимо дома.— Не забудьте банку! — крикнул Чик предсмертным голосом.
Оник остановился, понимая, что ему придется возвращаться.
— А где она? — спросил он у Чика. Это прозвучало довольно глупо. Можно было подумать, что Чик валяется себе на траве, а не сопротивляется свирепому натиску щенка волкодава. Чик успел бросить на Оника такой взгляд, что тот быстро отыскал банку и побежал в сторону калитки.
«Ах, ты не столько играешь со мной, сколько с ним разговариваешь?!» — прорычал щенок и, бросив штаны, с кровожадной радостью ухватил Чика за щиколотку.
Чик давно этого ожидал. И то хорошо, что столько времени успел у него выиграть. Теперь надо было, продолжая схватку и этим отвлекая щенка волкодава, неуклонно двигаться в сторону калитки.
Сжав зубы от боли, Чик слегка подтянул ногу, которую держал юный волкодав. Щенок зарычал, делая вид, что ему мешают грызть вкусную кость. Чик осторожно встал на ноги, чувствуя теплую тяжесть его головы на своей ступне.
В самом деле, это был рослый щенок пепельного цвета, с большой мордой и тяжелыми лапами. Чик слегка двинул ногой, чтобы почувствовать меру сопротивления, когда придется бежать.
Сейчас главное было одолеть подъем и выбежать на ровную площадку двора. Двинув ногой, Чик почувствовал, до чего тяжел щенок и как ему трудно будет бежать от него.
«Добычу отбирают, надо крепче за нее держаться!» — прорычал щенок, как только он двинул ногой, и, перехватив
270
челюсть, удобней взялся за щиколотку. Одновременно с этим он одним глазом хитро посмотрел на Чика, давая знать, что это он нарочно так прорычал, чтобы играть было интересней. Он предлагал Чику делать вид, что Чик у него отбирает добычу. Ничего себе, делать вид, подумал Чик, когда ты так больно держишься за мою ногу.
Чик наклонился и слегка щелкнул его по уху ладонью.
«Не отвлекай меня,— прорычал щенок,— знаешь, какую вкусную кость я грызу».
Еще бы не знать, подумал Чик с раздражением. Он наклонился и теперь посильнее щелкнул его по уху.
«Ах так»,— тявкнул щенок и прыгнул, пытаясь схватить Чика за руку.
Чик успел отдернуть руку и изо всех сил побежал вверх по косогору. Он успел выбежать на лужайку двора, когда щенок его догнал.
— Чик, беги сюда! — закричали в один голос ребята и замахали руками.
Они стояли по ту сторону штакетника и оттуда в полной безопасности следили за ним.
— Вам хорошо! — успел крикнуть Чик, когда щенок догнал его и снова ухватился за ногу. Сгоряча, превозмогая боль, Чик проволочил его несколько шагов, но боль стала до того нестерпимой, что Чик упал.
Все-таки несмотря на боль, он мог бы и не упасть, но так выглядело героичней, а Чик это любил. К тому же он надеялся, что щенок отпустит ногу и схватится за штаны и тогда можно будет без всякой боли проволочиться с ним до калитки. Но щенок за штаны не ухватился, и Чику пришлось, чтобы дать отдохнуть ноге, сунуть ему в пасть кисть руки.
Все-таки щенок был не очень умный. Как он ни кусал Чика, как ни терзал его своей свирепой игрой, одного он никак не мог понять, что Чик при всем при этом движется к своей цели. И когда Чик, хлопнув калиткой, очутился по ту сторону забора и, протянув руку между планками штакетника, прикрыл калитку щеколдой, щенок вдруг обо всем догадался и заскулил. С него сразу слетела вся свирепость.
«Ну, Чик, ну, пожалуйста, ну поиграй еще немного»,— жалобно скулил щенок и вилял хвостом. Чик отряхнулся и, посмотрев на щенка, укоризненно покачал головой. Он ему дал знать, что если щенок будет еще так кусаться, то Чик вообще прекратит с ним всякие игры.
271
Щенок жалобно смотрел на Чика, но тут у самой его морды заструилась большая усатая бабочка с красными в черных пятнах крыльями.
«Ну и не надо!» — мотнул щенок головой и, одновременно щелкнув зубами, хотел поймать бабочку, но та мягко отпрянула в воздухе, и страшная пасть захлопнулась возле нее. Щенок от удивления вытаращил глаза и даже облизнулся, чтобы убедиться, что это летает не другая бабочка, а та же самая: до того он был уверен, что защелкнул ее пастью. Раздраженный сплошными неудачами (то Чик не захотел с ним поиграть, то эта бабочка не захотела попадать ему в пасть), он бросился за ней. Бабочка не спеша струилась в воздухе, и щенок, догоняя ее, несколько раз щелкал зубами, но та каждый раз слегка сдувалась в сторону и лениво мерцала над лужайкой двора.
Наконец щенок ей надоел, и она залетела за косогор. Щенок добежал до края лужайки и остановился. Больше он в сторону ребят не оборачивался. Он сделал вид, что залюбовался открывшимся ему пейзажем. На самом деле,' как догадывался Чик, он стыдился своей неловкости и не хотел показывать своего смущения.
Ребята вышли на гребень горы. Весь гребень и склон были покрыты сосновыми и более редкими кедровыми деревьями. Под ногами пружинила скользкая прошлогодняя хвоя. Стволы сосен прозрачно краснели, словно какой-то пламень просвечивал изнутри. Пахло разогретой смолой, земляной сухостью и далеким морем.
Город, рыжея ржавыми крышами, красиво вытянулся вдоль дуги залива. Большой пароход с красной каймой на трубе подходил к пристани, оставляя за собой длинный, почему-то не расходящийся след.
— Корабель! Корабель! — закричал Оник.
— Не корабель, а корабль,— поправил его Чик. Чик не любил, когда какие-нибудь знакомые слова неправильно, непривычно произносили. Сейчас Чику показалось, что красивый, стройный корабль как-то скособочился оттого, что Оник его неправильно назвал.
— А мы с папой и с мамой на пароходе в Батум ездили,— сказала Ника.
Никто ее не поддержал, и она замолкла.
— Чик,— спросил Лёсик,— отчего в городе столько ржавых крыш?
— Не знаю,— сказал Чик,— наверно, от дождя.
272
— Красиво? — спросил он у Лёсика через несколько мгновений, не дождавшись его восторгов. В сущности, если как следует вдуматься, может быть, Чик для того и тащил сюда Лёсика, чтобы через его восхищение снова порадоваться самому. Так всегда бывало интересно. Когда ты к чему-нибудь хорошему уже привык, а другой только что это видит или узнает и начинает изумляться, тогда и тебе становится как-то приятно.
— Здорово,— сказал Лёсик и, благодарно взглянув на Чика, засопел.
— Это еще что,— сказал Чик, раскрывая несметность своих сокровищ,— здесь начинается первое селение.
— Здесь, где стоим? — переспросил Лёсик и стал наивно осматриваться, словно ища пограничный знак между городом и деревней. Он никогда не был в деревне.
— Вообще на этой горе,— пояснил Чик.
Лёсик еще более благодарно засопел и уважительно оглядел гору, хотя никакого селения здесь не было.
Они снова залюбовались своим городом. Отсюда все было видно как на ладони: и зеленое поле стадиона, и базар, и школу, в которой они учились, и их собственный дом с торчащим над крышей зеленым копьем кипариса.
Соньке даже показалось, что она видит на балконе Богатого Портного с утюгом. Но это, пожалуй, было преувеличением. Сам балкон можно было заметить, но увидеть на нем Богатого Портного, да еще с утюгом, было невозможно, потому что все сливалось со стеной.
— Я и то не вижу, а ты видишь,— обиженно сказал Оник.
Чика всегда охватывала какая-то странная грусть, когда он издалека, с горы, смотрел на свой дом. Чик никак не мог понять, отчего ему становится грустно, и даже пытался думать об этом.
Ему чудилось, что он когда-нибудь навсегда расстанется со своим городом, и то, что он на него сейчас смотрит как бы со стороны, было похоже на то, как он его будет вспоминать издалека, совсем из другого города, откуда он не сможет, как сейчас, спуститься к нему. От всего этого Чику становилось немножко грустно и немножко важно.
Были видны прямые улицы города, по которым быстрыми жучками проползали машины и совсем медленно плелись фаэтоны. Вдруг Чику показалось, что на одной улице промелькнула колымага собачника. Может, Чик
273
и ошибся, но в груди у него что-то екнуло, и сразу же перестало быть немножко грустно и немножко важно, а стало как-то тоскливо. А вдруг Белочка сейчас на улице?
Чик понял, что никогда-никогда он не будет себя чувствовать полностью счастливым, пока этот собаколов существует в городе.
— Пора собирать мастику,— сказал Чик, чтобы делом перебить тоскливое состояние.
Было решено, что он и Оник залезут на сосны, а остальные будут искать мастику у подножия других деревьев. Чик предупредил, чтобы они далеко не разбредались и громко не разговаривали, чтобы не привлекать внимания рыжих. Кроме того, Чик показал на четыре самых толстых сосны, считавшихся личной принадлежностью рыжих, и приказал даже не подходить к ним, чтобы не давать им повода к придиркам.
Чик ходил под соснами и, оглядывая стволы от подножия до самых вершин, старался определить, есть ли выход хорошей смолы. Иногда его можно было просто увидеть, а иногда о его существовании можно было догадаться по тоненькой струйке засохшей смолы, стекающей откуда-то сверху. И если ручеек достаточно свежий, можно было надеяться, что наверху выход смолы еще никем не тронут.
Чаще всего смола выступала на трещинах ствола или на местах с ободранной корой. Получалось так, что если на дереве ранка, то почти обязательно там есть скопление смолы. Может быть, думал Чик, дерево этой смолой лечится от ран?
Чик остановился возле сосны, которая показалась ему подходящей. Во всяком случае, на верхней развилке ствола Чик заметил желтоватую высохшую полоску, похожую на след, который остается на поверхности кастрюли, когда молоко перебежит через край.
Здесь росли сосны какой-то особой породы, в отличие от тех, которые Чик видел в других местах. Они были очень ветвисты, и ветки начинались довольно близко от земли.
Все же добраться до первой ветки не так-то просто. Чик снял сандалии и, не видя поблизости никаких кустов, зарыл их в прошлогоднюю хвою подальше от своего дерева. Он подошел к своему дереву и оглянулся на холмик, куда зарыл сандалии, при этом он старался смотреть на него с той степенью проницательности, на которую способен по¬
274
сторонний взгляд. Ничего, получилось не очень заметно.
Чик решительно плюнул на ладони и, обхватив ногами и руками скользкий, шелушащийся ствол, стал карабкаться по нему. До первой ветки надо было пройти всего метра три, но, пока Чик взобрался на нее, он весь вспотел, а грудь, и живот, и ладони, и ступни нестерпимо горели от трения о скользкий шелушащийся ствол. Кто думает, что влезть на сосну легкое дело, пусть сначала попробует, а потом говорит.
Чик, тяжело дыша, уселся на ветку, осторожно снял майку и вытряхнул из нее набившиеся туда чешуйки коры. Те, которые прилипли к потной коже живота и груди, он отковырял руками, а те, которые прилипли к спине, стряхнул майкой, шлепая ею, как полотенцем. Чик знал, что, если сейчас не отодрать эти чешуйки, тело будет здорово чесаться.
Передохнув и снова надев майку, Чик полез выше. Он дошел до развилки и заглянул в нее. Там был довольно широкий, но небогатый выход мастики. Мастика была желтая и покрывала дно развилки, как корочка сливок дно кастрюльки, если уж от сравнения с этой кастрюлькой некуда деться. Вообще-то Чик очень любил сливки, и те, которые бывают на поверхности кастрюли с молоком, и особенно те, которые можно ложкой соскребать со дна. К тому же он уже не прочь был поесть чего-нибудь, вот ему и мерещились сливки из кастрюли с молоком.
Чик уселся на ветке возле развилки. Прежде чем приступить к делу, посмотрел вниз и по сторонам. Соньки и Оника нигде не было видно. Зато он увидел Нику. Ярко выделяясь своим желтым сарафаном, она стояла возле толстого багрового ствола сосны и соскребывала с него смолу. А может, просто любовалась снующими по стволу муравьями. Сверху трудно было разглядеть.
Чик подумал, что это довольно красиво получается, если кто-то в желтом сарафане стоит возле толстого красного ствола сосны. Но тут он вспомнил, что это как раз один из тех запретных стволов, на который он им показывал. А она теперь, может, назло подошла к этому стволу. Вот богатые, подумал Чик, для них любой запрет нипочем, они даже с рыжими не считаются.
По дрожащей в разлад с ветерком вершине одной из сосен Чик догадался, что на ней сидит Оник. Высоко взобрался Оник, этого у него не отнимешь. То, что есть,— есть.
275
• I
Открыв перочинный ножик и упершись грудью в одну из веток развилки, Чик выскребал из нее смолу и клал в маленький газетный кулек. С приятным шелестом сухие кусочки смолы сыпались в бумагу. Там, где были свежие выходы, смола была вязкая, и Чик, отодрав ее лезвием, счищал ее в кулек, с наружной стороны для упора подставив ладонь.
Чик выскреб углубление в развилке, смял кулек, чтобы из него ничего не высыпалось, и положил его в карман. Потом он почистил лезвие перочинного ножа о ствол, защелкнул его и ножичек сунул в карман. Чик решил, прежде чем слезать с дерева, воспользовавшись высотой, как следует оглядеть соседние деревья.
Оглядывая соседние деревья, Чик подымался все выше и выше. На самой вершине, уже опасно покачиваясь, Чик снова оглядел окружающие сосны, но нигде ни одного стоящего выхода смолы не обнаружил. И вдруг он случайно бросил взгляд на тоненькую ветку возле себя и обмер.
Белый с желтыми прожилками самородок величиной с кулак висел на ней как сказочный плод. Чик даже и не слыхал никогда, чтобы на такой тоненькой ветке образовался такой мощный самородок.
Ветка покачивалась под тяжестью Чика, и вместе с ней покачивался самородок. Чик испугался, что самородок может сорваться и, рухнув, разбиться на мелкие кусочки. Больше не раздумывая, он потянулся к нему и, почти не веря, что все это происходит наяву, оторвал его от ветки. Самородок целиком, чисто оторвался от ветки. Он был сух и приятно увесист.
Сильно волнуясь, Чик перенес его в левую руку, правой залез в карман, вытащил кулек и осторожно вложил его туда. Сразу наполнившийся кулек Чик снова положил в карман.
Продолжая волноваться, Чик стал слезать с дерева. Слезая, он все время думал, что раз ему так повезло, обязательно что-нибудь случится. Не может быть, чтобы ничего не случилось, раз ему так повезло. От волнения у него дрожали руки и ноги. Один раз нога соскользнула с ветки, на которую он стал, но Чик все еще крепко держался руками, так что он сумел найти ноге более устойчивое положение.
Начинает случаться, подумал Чик, но все-таки решил не сдаваться судьбе. Он решил ее перехитрить. Он слезал
277
очень быстро и очень осторожно. Быстро — чтобы судьба не успела придумать что-нибудь очень коварное, а осторожно — чтобы она не могла использовать его быстроту.
Дойдя до последней ветки, он повис на ней, потом обхватил ногами ствол, потом отпустил одну руку и обхватил ею ствол, потом, быстро отпустив вторую руку, ухватился за ствол с другой стороны и, шурша шелухой ствола, обжигая живот и ноги, полетел вниз.
Очутившись на земле, Чик очень удивился и обрадовался, что еще ничего не случилось. Но тут он вспомнил про сандалии и испугался, что их незаметно унес кто-нибудь из рыжих. Ведь сверху он не мог следить за этим холмиком.
Ну да, подумал Чик уныло, потому-то, наверное, ничего не случилось. Было обидно, что, оказывается, не он перехитрил судьбу, а просто она изменила способ мести. Все же он подбежал к месту, где он закопал сандалии, и быстро ногой разметал хвою.
Вот это да! Сандалии целехонькие лежали там, где их положил Чик. Чик теперь окончательно поверил, что с ним ничего не случится.
Чик вытряхнул сандалии и огляделся. Ему было очень хорошо, так легко, весело. Лёсик и Сонька вместе стояли возле одной сосны и собирали мастику прямо в банку. Чик махнул им рукой, чтобы они подошли к нему.
— Что случилось, Чик? — закричала Сонька издали.
Чик хлопнул себя ладонью по лбу, показывая, что раз
она так громко кричит в роще, где их могут услышать рыжие, значит, она идиотка. Бедные тоже бывают с придурью, подумал Чик мельком.
Сонька и Лёсик подошли к нему.
— Их нигде не видно, Чик,— уже преувеличенным шепотом сказала Сонька.
— Так ты их и увидишь,— сказал Чик, вынимая из кармана кулек.
— Ой, Чик, какая здоровенная! — воскликнула Сонька восхищенно.
— Тише, тише,— сказал Чик миролюбиво, хотя на этот раз голос ее был такой же громкий, как и раньше. Но если человек в первый раз в жизни видит такое чудо, как ему удержаться?!
— Можно понюхать, Чик? — спросила она.
— Конечно,— сказал Чик и поднес кулек к ее носу.
278
— Пахнет как роза,— сказала Сонька, внюхавшись, и даже чмокнула языком.
Возможно, она имела в виду самую пышность запаха, а не его качество.
— При чем тут роза? — сказал Чик, несколько оскорбленный нелепостью сравнения. Чик сразу же стал думать, почему ей пришел в голову запах розы, а не какой-нибудь другой. Наверное, решил Чик, она хотела сказать, что мой самородок имеет самый лучший запах, а так как самый лучший запах считается у розы (Чик считал это предрассудком), вот она и сравнила.
— Чик, можно, я переложу его в банку? — не угома- нивалась Сонька.
— Подожди,— сказал Чик, к ним подходили Оник и Ника.
Лёсик долго сопел над самородком, нюхая его.
— Пахнет мастикой,— наконец сказал он.
— А ты хотел, чтобы чем? — язвительно спросил Чик. Простота Лёсика, как и слишком пышное сравнение с розой, не понравилась Чику.— Дело не в запахе, а в породе,— спокойным голосом владельца счастья объяснил Чик,— такой большой кусок белой мастики очень редко попадается.
— Давай запомним место,— сказала Сонька,— а в следующий раз ты снова сорвешь его здесь.
Чик не стал ей отвечать, потому что это было слишком глупо. Ждать самородка на этом же месте было все равно что ждать самое красное яблоко или самую крупную грушу на той самой веточке, на которой они висели в прошлом году.
— Посмотрите, что Чик нашел! — крикнула Сонька, увидев приближающихся Оника и Нику. Гордясь за Чика, она присоединилась к нему, она как бы сказала им: смотрите, чего добилась наша пара, а чего добились вы?
Оник и Ника шли рядом, и Чик, оглядев йх, подумал, рассеянно ревнуя: уж не поцеловались ли они? За Оника-то он был спокоен, но черт-те что Нике могло взбрести в голову. Может, она вспомнила того мальчика из санатория. Интересно, сколько бы она теперь пальцев оттопырила?
— Где нашел? — спросил Оник и, взяв в руки самородок, понюхал его. Ника тоже, наклонившись, понюхала. Всем казалось, что самородок должен пахнуть чем-то особенным.
279
— На этом дереве,— сказал Чик и с удовольствием рассказал, как все было.
— Чик, можно, я буду его нести? — сказала Ника и высыпала свою добычу с ладони в банку. Она мастику собирала прямо в ладонь.
— Как хочешь,— сказал Чик и пожал плечами.
— Я первая хотела нести, Чик,— жалобно сказала Сонька и посмотрела на Чика.
— Он будет в банке,— решил Чик.
Все высыпали свою добычу в банку, а сверху положили самородок. Теперь все хотели нести банку с мастикой, но Чик решил, что правильней всего, если ее будет нести Сонька.
— Кто ее тащил из дому, тот и будет нести,— сказал Чик.— А теперь к роднику.
Вспомнив о роднике, все почувствовали жажду и стали быстро к нему спускаться. Родник был расположен ниже по косогору, там, где кончалась роща и начинался открытый склон, местами поросший зарослями папоротника, кустами сассапариля и ежевики.
На этом же склоне, только ниже и левее, в одной из сталактитовых пещер жили рыжие волчата вместе со своими родителями и осликом, которого они на ночь загоняли в пещеру.
— Этот самородок знаете на что похож? — неожиданно сказала Ника.
— На что? — спросила Сонька.
— На горный хрусталь,— сказала Ника задумчиво. Чик почувствовал, что у нее начинаются воспоминания.
— Это что еще за горный хрусталь?! — спросила Сонька, понимая, что Ника как-то пытается умалить ее победу. Чик тоже ничего не слышал про горный хрусталь. Он только знал одно: как только начинают говорить про богатых, то обязательно вспоминают, что у них хрусталь и драгоценности.
— Когда папа танцевал в Батуме, то мы ходили в музей и видели там горный хрусталь и другие полудрагоценные камни,— сказала Ника.
— Фу-ты! — сплюнул Оник.— А я думаю, что это она так долго не вспоминает про своего полудрагоценного папу.
Все рассмеялись, потому что это было смешно, учитывая, что никто из них ничего не знал о ее папе. Всем казалось, что она все время хвастается своим папой. Чик
280
хоть и не рассмеялся, но почувствовал какую-то приятность, услышав слова Оника. Сначала он даже не мог понять, откуда эта приятность. Ах да, потом догадался Чик, раз он так сказал, значит, они не целовались.
— У нее папа — великий танцор,— напомнил Чик,— мне дядя говорил...
Оник хмыкнул. Сонька незаметно пожала плечами, но возразить никто не посмел. Если уж Чик призывал в свидетели дядю, возражать ему было трудно и даже опасно.
Родник был расположен в маленькой ложбинке под маленьким каменистым обрывчиком. Кто-то давным-давно обложил его камнями, чтобы он не осыпался и не мелел.
Ребята набросились на родник — кто став на колени, кто лежа на животе и опираясь грудью и руками о мокрые камни, тянули и тянули ледяную воду. И только бедняга Лёсик почему-то не мог дотянуться ртом до воды и стал пить, набирая ее в ковшик ладони. Но и ладонь у него протекала, такой уж он был неловкий.
— Сонька, ты будешь на вассере стоять,— сказал Чик, утираясь и тяжело передыхая после вкусного водопоя. Он чувствовал, что этим скучным занятием сейчас никого не займешь, кроме нее. Всем хотелось смотреть, как будет вариться мастика.
— Почему всегда я? — захныкала Сонька.— Я и банку несла всю дорогу.
— А кто нес самородок? — напомнил Чик.
Сонька опустила голову.
— Если рыжие нас здесь застанут, все пропало,— сказал Чик, давая знать Соньке, что теперь от нее зависит вся их судьба.
Сонька молча повернулась и вышла из ложбинки на косогор.
— Не стой там,— крикнул Чик вполголоса,— а то увидят. Смотри из-за куста.
Сонька неохотно присела за куст. Когда кто-нибудь что-то делает недобровольно, подумал Чик, он всегда пытается небрежностью отомстить тем, кто его заставил это делать. Чик это и по себе знал.
— Несите сухие ветки,— сказал Чик и стал сооружать из камней очаг.
Через несколько минут ребята нанесли столько сухих веток, что можно было не то что мастику сварить, а целого
281
баранчика зажарить. Чик подсунул сухую хвою между камнями, сверху наломал тонких веточек, а потом наложил ветки покрупнее.
Он поставил на камни банку с мастикой, проверил, крепко ли она держится на камнях, а потом, вынув из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и поднес огонь к сухой хвое. Она вспыхнула и затрещала. Поднялся клуб дыма, сильно запахло смолой. Ребята сидели вокруг огня и следили за тем, что происходит. Ника и Лёсик вообще впервые видели, как варится мастика. На дне коробки зашипела подтаивающая смола, как масло на сковородке.
— Начинается,— сказал Оник.
— Пусть меня сменит кто-нибудь,— напомнила о себе Сонька.
Чик ничего не ответил ей, даже не оглянулся. Он стал помешивать прутиком в банке.
— Чик, она все время сюда смотрит,— сказал Лёсик. Он понимал, что только им и захотят заменить Соньку, если придется. Он хотел, чтобы удлинили время ее дежурства за счет его плохого качества.
Смола в банке постепенно расплавлялась и закипала. Самородок Чика подтаивал и оседал. С каждой секундой он делался все меньше и меньше. Чик беспрерывно помешивал прутиком в банке, чтобы там поменьше комочков оставалось.
Продолжая помешивать, он сорвал несколько стеблей папоротника, росшего у ручья, смял их, чтобы потом можно было ухватиться за горячую крышку консервной банки.
— Приготовиться,— сказал Чик Онику и Нике. Теперь Чик, щурясь от едкого дыма, все быстрее и быстрее помешивал кипящую массу, чтобы не подгорало на дне и не осталось ни одного нерастаявшего комочка. От самородка ничего не осталось, но Чик не жалел об этом, он знал, что его находка придаст всей мастике серебристый оттенок.
— Уже и то как вкусно пахнет,— сказал Лёсик, с удовольствием внюхиваясь в запах кипящей смолы.
Ника и Оник, присев на корточки над самым ручейком, растянули платок, держа его за углы.
— Чик, пора,— сказал Лёсик, боясь, что кипящая масса мастики перебежит через край.
— Должна три раза взойти,— сказал Чик важно, слег¬
282
ка приподымая банку и снова ее опуская на огонь.— Учись, как варить мастику.
— Хорошо,— сказал Лёсик и польщенно засопел.
После третьего всхода розовой кипящей и пузырящейся
массы Чик, покрепче обхватив крышку комком папоротника, осторожно приподнял банку, поднес ее к растянутому над ручьем платку и постепенно вылил содержимое в платок, стараясь попасть в середину. Платок грузно осел.
— Крутите быстрей,— сказал Чик.
Оник и Ника приподняли и свели края платка так, чтобы мастика никуда не выливалась.
— Чик, жжется,— сказала Ника.
— Подожди,— сказал Чик и, отбросив банку, осторожно взял у нее края платка.
Чик и Оник одновременно в разные стороны закручивали свои концы платка, стараясь, чтобы пылающая, расплавленная масса смолы оставалась в середине, а не затекала за края. Наконец они сжали ее в тугой аппетитный узел.
— Теперь все,— сказал Оник.
— Никуда не денется,— добавил Чик.
Чик и Оник, изо всей силы докручивая концы платка, сжимали и сжимали тугой комок с мастикой, пока золотистая, как мед, струйка не просочилась сквозь платок и не стала стекать на дно ручья.
— Идет! Идет! — крикнул Лёсик, пораженный впервые увиденным сотворением мастики.
Чик и Оник продолжали крутить платок, чтобы не дать остыть расплавленной смоле. Золотистый холмик, закручиваясь, поднимался со дна ручья.
— Рыжий! — неожиданно вскрикнула Сонька. Все обернулись к ней.— Правда, правда,— повторила Сонька, испуганно закивав головой.
— Ничего,— сказал Чик, докручивая. Дело было сделано, и теперь одна минута ничего не решала. Они докрутили плагок, и Чик, с трудом разодрав слипшийся платок, посмотрел внутрь. Там оставался комок выжимки с кусочками древесины и хвои. Этот грязный комок ненужных веществ сам по себе радовал его взгляд, как свидетельство чисто сделанного дела. Чик бросил платок в огонь. Теперь он ни на что не годился. Платок пыхнул и в несколько секунд сгорел. Оник странно посмотрел на свой исчезающий платок.
— Пойду посмотрю,— сказал Чик и поднялся на край
283
ложбинки. Он улегся рядом с Сонькой и стал выглядывать из-под куста.
— Вон там,— кивнула Сонька на кусты сассапариля и ежевики. Это было метрах в пятидесяти от родника. Чик всмотрелся в кусты, но ничего подозрительного не заметил.
— Может, показалось? — спросил Чик. Рядом с ним шмякнулся Лёсик, Оник и Ника тоже залегли за кустом.
— Честное слово,— сказала Сонька,— два раза голова выглянула.
— Хоть бы я увидела этих рыжих,— шепнула Ника. Она училась совсем в другой школе и ни разу рыжих не видела.
— На вид они обыкновенные рыжие,— сказал Лёсик.
— Ха, на вид! — усмехнулся Чик, показывая, что ничто не может быть столь обманчивым, как внешность рыжих.
Несколько минут ребята всматривались в кусты сассапариля и ежевики, но так ничего и не увидели. Вдруг вершина одного из кустов шевельнулась.
— Вон! Вон! — шепнула Сонька.
— Ну и что? Ветер,— сказал Оник все же вполголоса.
И вдруг сразу из-за кустов появилась рыжая голова.
Она со звериной осторожностью посмотрела вокруг себя и на несколько мгновений задержалась, повернувшись в сторону родника.
— Учуял,— не то удивленно, не то испуганно выдохнул Лёсик.
Голова рыжего отвернулась. Теперь она не скрывалась в кустах. Он протянул руку и, сорвав молодой побег сассапариля, отправил его в рот. Вернее, отправил в рот кончик побега и, жуя, постепенно втягивал в рот весь стебель. Потом он снова обернулся в сторону родника и, перестав жевать, замер, прислушиваясь. Стебель продолжал торчать у него изо рта.
— У них нюх, как у волков,— сказал Оник шепотом.
— Их так и называют — рыжими волчатами,— пояснила Сонька для Ники, гордясь этой хоть и опасной, но все же необычайной достопримечательностью своего края города.
Рыжий все еще смотрел в сторону родника. Но вот стебелек, торчавший у него изо рта, шевельнулся, потом задвигалась челюсть, и он, не меняя позы, вобрал в рот весь побег. Видно, что он совсем успокоился, потому что снова
284
повернул голову, выискивая глазами свежие побеги сассапариля.
— Я не знала, что их едят,— сказала Ника.
— Еще как,— сказала Сонька,— мама даже на базаре их покупает и готовит с орехами.
Теперь рыжий больше не оборачивался. Он стоял и мирно пасся в кустах. Иногда, фыркнув, громко выплевывал косточки от ягод. Видно, ягоды он поглощал вместе с побегами, когда они ему попадались. Даже не отделяет ягоды от листьев, с восхищением подумал Чик.
— Потихоньку назад,— сказал Чик. Ребята немного отползли от куста и, встав на ноги, вернулись в ложбину.
— Они что, дикие, что ли? — спросила Ника.
— Полудикие,— сказал Чик, окуная руки в ручей и вынимая оттуда уже остывшую и почти затвердевшую массу мастики. Чик помял ее в ладонях, вытянул колбаской, ра'зделил, отметив ногтем пять равных частей, и сказал Онику: — Кусай!
Оник откусил первым, а потом все остальные. Теперь все с удовольствием жевали мастику, сплевывали накапливающуюся слюну, вынимали изо рта, мяли в руках, и, когда сгибали ее упругую массу, она на сгибе делалась золотистой и нестерпимо блестела.
— Чик, а ты говорил, она белая будет? — спросила Ника.
— Потом побелеет,— сказал Чик, жуя.
— Теперь за ягодами, чтобы пузыри пускать,— сказал Оник.
Ребята загасили костер, поливая его водой из банки. Закинули банку в кусты, разбросали камни самодельного очага, чтобы поменьше следов оставалось для рыжих. Потом углубились в рощу, так и не замеченные рыжими. Там, в начале рощи, тоже было одно место, где росли кусты сассапариля. Чик и Оник хорошо знали это место.
— Неужели из-за этих ягод мастика будет делать пузыри? — спросила Ника, когда они подошли к зарослям сассапариля.
— Еще как! — в один голос сказали Оник и Чик.
Они стали рвать красные и зеленые ягоды сассапариля
величиной с чернику. Расколов ягоду зубами, они выплевывали плодик, а потом соскребали зубами тончайшую
285
пленочку вокруг косточки. После этого косточка тоже выплевывалась, а пленочка вжевывалась в мастику. Достаточно было вжевать десяток пленочек, как мастика делалась даже на прикус упругой, как резина.
— Какая нежная,— сказала Ника, сняв пальцем с кончика языка зеленовато-прозрачную пленку.
Первым выдул пузырь Оник. Чик не спешил. Чик продолжал жевать. Надо ее как следует разжевать, чтобы пузыри делались крупными и достаточно громко лопались.
— Я одного не пойму,— сказала Ника,— кто первым догадался, что надо сдирать пленочку, чтобы пузыри получались?
Чик даже перестал жевать, до того он поразился этому вопросу. Ему самому это не раз приходило в голову. Он никак не думал, что это и ей может прийти в голову, да еще с первого раза.
— Сам не знаю,— сказал Чик. Это в самом деле невозможно было понять, кто догадался первым соединить мастику с этой пленочкой.
— Так делают все с незапамятных времен,— сказала Сонька.
— Тогда кто догадался первым до незапамятных времен? — спросила Ника.
— Первобытные люди,— сказал Оник и выдул пузырь. Все посмотрели, какой у него получится пузырь. Пузырь у него получился хороший, величиной с персик.
— Первобытные люди мастику не жевали,— сказал Чик, дождавшись, когда лопнет пузырь.
— Тогда кто? — спросил Оник, слизывая языком кусочки мастичной пленки, оставшейся на губах от лопнувшего пузыря. Он посмотрел на Чика с выражением тусклого любопытства к вечности.
— Не знаю кто, но только не первобытные люди,— сказал Чик. Он был уверен, что первобытные люди мастику никогда не жевали. Тем более пузырей не пускали. Вообще лучше было об этом не думать. Это могло навести на мысли о началах и концах вообще. Чик не любил этих мыслей, но они иногда сами приходили, и от них некуда было деться.
Чаще всего они приходили на закате, в хорошую погоду, в теплое время года. Кроме того, Чик заметил, что в городе они приходили к нему гораздо реже, чем в деревне. Но и в городе приходили, если вдруг на улице
286
встречалась похоронная процессия, или вечером возле моря, или днем где-нибудь в таком месте, как сейчас.
В таких случаях Чик с нежной печалью думал о непонятности строения Вселенной. Вот, например, наша планета, думал Чик, с ее горами, зелеными долинами, теплыми морями — это понятно, это хорошо. А вот дальше идут звезды, а за этими звездами другие звезды, а за другими звездами еще другие неведомые звезды. Ну а дальше что? То, что некоторые звезды на самом деле планеты, на которых, может быть, есть жизнь, служило очень слабым утешением. А что дальше, дальше что? Вот что было непостижимо. Если Вселенная имеет конец, то что за этим концом? А если она его не имеет, то как это представить? Да и как это может быть, чтобы какое-то расстояние длилось, длилось, длилось и никогда, никогда не кончалось?
Душа Чика ни конца Вселенной не могла принять, ни отсутствия этого конца. Вот что было удивительно. И Чик, когда об этом думал, заранее понимал, что ни один из взрослых ему не ответит на этот вопрос. Ведь ответ взрослого мог бы означать одно из двух: или есть бесконечность, или есть конец. Но Чик никак не мог принять такую бессмысленность. Может быть, есть что-то третье, но что?
И еще вот что было удивительно. Сначала об этом думалось с нежной печалью, даже как-то сладко-сладко становилось. Так бывало, когда в школе решаешь задачу и чувствуешь, что идешь по правильному пути. Значит, думая об этом, вспоминал Чик, я решаю какую-то нужную задачу и иду по правильному пути, поэтому сначала хоть и грустно, но грусть приятная. Но потом я чувствую, что решение уходит куда-то и я не могу найти ответа, и тогда становится тоскливо.
В такие минуты Чик ругал себя за то, что стал думать об этом, до того ему делалось тоскливо. Но не думать он уже не мог. Он и думал и тосковал но бездумью. Если это было в деревне, он тосковал по беззаботной городской суете, где ни дети, ни тем более взрослые об этом не думают. Хорошо им там не вспоминать об этом, с завистью думал Чик и хотел туда, в город, в родной двор, в забвение суеты. Тоска эта доводила Чика до ощущения какого-то космического сиротства, особенно если его не прерывали или тем более не звали на ужин.
Если же звали на ужин, в первые минуты Чик, входя
287
в кухню, никак не мог взять в толк, как это все эти мужчины и женщины, его родственники, могут говорить о каких-то шнурометрах табака, о каких-то там бригадирах, которые вечно чего-то там недоприписывают? Как это можно обо всем этом говорить, когда еще не решен вопрос, где конец Вселенной и как он может быть вообще?
Но потом постепенно у веселого очажного огня, кусая пахучий кусок вяленого мяса, дуя на горячую мамалыгу, Чик чувствовал с некоторым легким смущением, как его тоска быстро улетучивается куда-то и он теперь с удовольствием вслушивается во взрослые разговоры. А думал он в такие минуты, вспоминая о началах и концах, но не чувствуя их, что потом когда-нибудь додумает это.
Поэтому Чик и сейчас, чтобы случайно не задуматься об этом, решил приняться за пузыри. Он как следует помял в руках мастику, сунул обеими руками расплющенный комок в рот, вытянул его языком, стараясь нигде не придавить, убрал язык и дунул в образовавшийся мешочек. Пузырь получился неплохой, но все-таки у Оника он был гораздо крупней.
Теперь все делали пузыри, и они то и дело лопались. Ника сразу же научилась делать пузыри, у нее был длинный, ловкий язык. У бедняжки Лёсика и пузыри получались кривобокими, потому что у него язык плохо ворочался. Но за этот день он столько увидел и столь- кого достиг, что можно было им гордиться. Так думал Чик, с удовольствием гордясь им и тем самым гордясь собой. Все-таки кто бы взял такую обузу, как Лёсик, думал Чик, мысленно пробегая по рядам знакомых ребят с их улицы или из школы, и все они малодушно или презрительно отворачивались от Лёсика. А вот я взял, думал Чик, поглядывая на Лёсика с отцовским умилением. Взял, хотя будет очень трудно на обратном пути громоздить его на стену. Ничего, думал Чик, как-нибудь взгромоздим, зато он всю жизнь будет помнить этот поход за мастикой.
Ребята пошли обратно и снова вышли к таинственному домику, во дворе которого жил щенок волкодава. Щенок сидел посреди двора и грыз кожаную тапку. Он не обратил на них внимания, хотя они подошли к самому забору. Знаем, знаем, подумал Чик, это твой старый трюк.
— Я его отвлеку, а вы проходите к инжиру,— сказал он остальным, просовывая руку между планками штакетника и отодвигая щеколду калитки.
288
Пожевывая мастику, он вошел во двор и направился к щенку. Тог на мгновение оторвался от тапки, посмотрел на Чика и мотнул головой.
«Не хочу играть!» — сказал он Чику этим движением головы и снова взялся за тапку.
Что за черт, подумал Чик, ничего не понимаю. И в это мгновение в доме скрипнула дверь и на веранде появилась женщина. Чик даже испугался — до того это было неожиданно, а главное, что женщина была Чику хорошо знакома. Звали ее тетя Лариса. Она довольно часто приходила к тетушке в гости. Они обе были горбоносенькие, и у обеих брови срастались на переносице. Чик считал, что это сходство помогло им сдружиться. Им легко было хвалить и считать друг друга красавицами. Потому что, если одна называла другую красавицей, получалось, что это она про себя говорит. Во всяком случае, тетушка считала, что вся ее цветущая юность прошла в боях с легионами женихов, которые штурмовали ее как крепость. Но взять крепость сперва почему-то удалось какому-то старенькому персидскому консулу, а уж второй раз дядя Чика, как считал Чик, и крепость одолел, и консула прогнал, и сам засел в этой крепости. На самом деле тетушка сама прогнала консула, а уж потом вышла замуж за дядю, но этого Чик тогда не знал. И вот вдруг он оказался во дворе тетушкиной подруги.
— Чик,— страшно удивилась эта женщина,— что-ни- оудь случилось?
— Ничего,— сказал Чик,— мы мастику собирали.
Тут тетя Лариса увидела и остальных ребят, все еще
с 1 о я в ш и х за забором.
— Ах, мастику,— сказала она, улыбнувшись, потому что обрадовалась, что ничего не случилось.— Проходите, летки. А дома знают? — с тревогой спросила она у Чика.
Чик ожидал этого вопроса.
— Конечно,— сказал он. Чик считался правдивым мальчиком, потому что врал очень скупо, только по необходимости.
Из домика, дожевывая хлеб, вышел подросток. Это был ее сын Омарч Он несколько раз приходил со своей мамой, когда надо было тащить фрукты, которые они приносили тетке в подарок. Но Чику с ним не удавалось поговорить, потому что он сразу же уходил или играл на улице со своими сверстниками.
ю
Иногда тетя Лариса приходила одна, с большим букетом цветов. В таких случаях тетушка преувеличенно суетилась вокруг цветов, чтобы незаметно было, что на самом деле ей гораздо больше нравится, когда приносят фрукты.
— А где наш Омарчик, я скучаю по нашему золотому Омарчику,— говорила тетушка, сажая тетю Ларису за свои бесконечные чаи. Чик не только понимал, что она говорит одно, а думает другое, он прямо-таки чуть ли не над каждым сказанным словом мог поставить подразумеваемое.
«А где ваши фрукты? Я соскучилась по вашим персикам, яблокам, хурме!» — вот что на самом деле означали тетушкины слова.
Тетя Лариса уставилась на детей, смутно узнавая их.
— А эта синеглазка не дочь Патарая? — спросила она у Чика, кивнув на Нику.
Ребята стояли за Чиком, сдержанно, через два-три положенных такта, пожевывая мастику.
— А вы знаете моего папу? — расцвела Ника и потянулась к тете Ларисе с благодарным вниманием.
— Конечно, знала,— вздохнула тетя Лариса,— бедный Пата...
Она еще что-то хотела сказать, но Чик сделал самые страшные глаза из всех, какие мог, показывая, что об этом нельзя говорить.
— Что с тобой, Чик? — глупо удивилась тетя Лариса и сделала круглые глаза. Все-таки, видно, она что-то почувствовала, потому что больше ничего не стала говорить.
— Вот Чик дает! — засмеялся Омар, увидев, что Чик сделал страшную морду. Он, конечно, и вовсе ничего не понимал.
— Ребята, может, поедите инжиру? Вон там скороспелка растет,— кивнула она в сторону стены.
— Нет,— сказал Чик за всех,— нам не хочется...
— Тогда открой им ворота, Омар,— сказала тетя Лариса, лучезарно улыбаясь.— Скажи тете, что в субботу приду.
Раз уж вам ничего не хочется поесть, вы хоть возьмите мою прекрасную улыбку, казалось, хотела она сказать, глядя им вслед.
— Хорошо,— сказал Чик и пошел к лестнице. У него немного отлегло на душе. Он очень боялся, что тетя Лариса
290
скажет еще что-нибудь про отца Ники. С этими взрослыми трудно дело иметь, думал Чик, они ничего не понимают.
— Чик, Чик,— вдруг окликнула его тетя Лариса, что-то вспомнив.
Чик остановился. Вся его команда тоже остановилась.
— Я сейчас тебе роз нарежу, подожди! — крикнула она.
— Что вы, тетя Лариса! — закричал Чик, страшно испугавшись.— Мы сейчас не домой идем... Мы идем в гости...
— Вот и хорошо,— согласилась тетя Лариса,— придете в гости с розами.
— Я хотел сказать, мы не в гости, мы в парк кататься на гигантских шагах,— лихорадочно поправился Чик, злясь на тетю Ларису, что она его вынуждает врать и при этом довольно глупо.
— Жаль,— сказала тетя Лариса,— такие розы пропадают.
— Мне тоже жалко,— согласился Чик,— но что поделаешь.
Тетя Лариса повернула к дому, а Омар вприпрыжку через одну-две ступени стал спускаться к ним.
У нее розы пропадают, а я должен позориться, подумал Чик. Сейчас появиться на полянке с охапкой роз все равно что навеки себя похоронить. Проще принести их на свою могилу, чем ходить с ними по улицам.
— Какие гости, какой парк? — спросила Сонька, разводя руками,— нас и так уже ищут, наверное...
— Это он с понтом,— сказал Оник, понимая, почему Чик отказался от роз.
— Так я бы понесла,— добавила Ника, пожав плечами.
Чик ничего не ответил. Он посмотрел на Нику. Она
как-то скучно притихла, как будто отделилась от всех. Хуже нет, подумал Чик, чем хранить чужую тайну. Он решил не обращать на нее внимания, чтобы она успокоилась, если что-то заподозрила. А может, и не заподозрила, подумал Чик, успокаивая самого себя. Может, она просто так притихла.
Лестница была длинная и крутая. Время от времени она расширялась до размеров площадки, на которой с обеих сторон стояли каменные скамейки.
По обе стороны от лестницы, за каменным барьером, росли розы, георгины, карликовые пальмы и всевозможные кактусы, один уродливее другого. Чик знал, что эти пло¬
291
щадки сделаны для того, чтобы князь со своей свитой, поднимаясь по лестнице, отдыхал на каждой площадке и нюхал цветы.
Чем ниже они спускались, тем больше волновался Чик, думая о предстоящей драке. Если бы этот Омар хоть бы постоял рядом, когда они будут драться, Чик считал бы, что ему повезло. Но сам говорить ему об этом Чик не хотел. Это было бы очень стыдно. Если бы само собой в разговоре случайно он узнал о предстоящей драке в невыгодных для Чика условиях, тогда другое дело.
— А вы давно здесь живете? — начал Чик издалека.
— Всегда,— ответил Омар, останавливаясь и оглядываясь на Лёсика. Он все никак не мог понять, почему Лёсик отстает, хотя понять эго было проще простого. Такая непонятливость ничего хорошего не сулила, и Чик пожалел, что начал разговор очень уж издалека.— ...Здесь же государственный сад,— продолжал Омар,— а мой папа работает садовником...
Слова о государственном саде прозвучали со странной внушительностью, как если бы эти фрукты предназначались не для еды, а для какой-то символической цели, например для сельскохозяйственной выставки или для какого-нибудь праздничного парада, чтобы проносить их.
— Я знаю,— сказал Чик и, показывая свою осведомленность, добавил: — До революции здесь жил князь...
— Точно,— сказал Омар,— отец его помнит, он у него садовником работал...
Вот это да, подумал Чик, и у князя садовником работал, и у нас.
Он очень удивился этому, но постарался скрыть свое удивление, чтобы не огорчать Омара.
Они уже подходили к воротам, и Чик почувствовал, что никак не сумеет случайно намекнуть Омару о предстоящей драке. Сквозь узоры решетчатых ворот Чик успел заметить, что ребята все еще на полянке, хотя уже и не играют в футбол. Он понимал, что Бочо среди них, хотя его и не было видно. Сгрудившись, они сидели посреди полянки. Хозяин мяча сидел на своем мяче, как на трибунке, вполне законно возвышающей его над остальными.
Скрежеща ключом, Омар открывал ворота, и Чику теперь хотелось хотя бы задержать его у ворот, чтобы ребята на полянке заметили его в обществе этого внушительного подростка.
292
— Омар, а почему маслины у вас не родятся? — спросил Чик в отчаянии, пытаясь его задержать.
— Ну их к чертовой матери, эти маслины! — неожиданно вспылил Омар и, открыв скрипучие ворота и нетерпеливо придерживая их, пропустил ребят наружу.— Из-за них у отца знаешь какие неприятности?!
— Да, я знаю,— подтвердил Чик тоскливо, чувствуя, что разговор не получился.
Омар, видно, тоже почувствовал, что слишком резко обошелся с Чиком, хотя и не знал, что Чику надо.
— Заходи,— кивнул он уже из-за ворот,— у нас есть кое-что повкуснее этих вонючих маслин.
Громыхнув закрытым замком, чтобы проверить его надежность, Омар исчез, и ребята остались одни. Главное, что на полянке так ничего и не заметили.
Ребята пошли через полянку. Чик старался шагать как можно независимей. Он даже решил, как только поравняется со всей этой компанией, пустить пузырь.
Через несколько секунд их заметили. Чик не смотрел на них, но он это понял по тишине, которая воцарилась на поляне. Это была неприятная, насмешливо-ожидающая тишина. Пора пускать пузырь, подумал Чик, почувствовав, что поравнялся с ними. Он сунул язык в расплющенную мастику и выдул довольно приличный пузырь. Пузырь лопнул ему в лицо.
— Чик! — крикнул Шурик, дождавшись, чтобы пузырь лопнул. Все-таки ему было интересно посмотреть, какой получится пузырь.
Чик обернулся, словно только что всех их заметил.
— Или ты дерешься с Бочо,— сказал Шурик,— или ты 1CCTHO говоришь, что сдрейфил.
Чик оглядел всех сидевших и лежавших на траве и успел заметить, как Бочо глупо и горделиво улыбается. Он сделал вид, что только что вспомнил об обещанной драке. Он медленно слизнул в рот пленочки мастики, оставшиеся под носом и на подбородке, и, продолжая жевать, спокойно сказал:
— Всегда готов!
Глаза у ребят загорелись от любопытства. Бочо не в силах был сдержать блудливой улыбки, до того выгодные условия драки предстояли ему.
— Чик, не дерись, их много, а ты один! — бесстрашно крикнула Сонька.
— Глупости,— сказал Чик и подошел к ребятам. Он
293
считал, что пока он очень здорово держится и дай бог держаться так до конца.
Все встали, предвкушая удовольствие поглазеть на драку. Только хозяин мяча продолжал, покачиваясь, сидеть на своем мяче.
Широкоплечий и большеголовый Бочо, глядя на Чика, как-то снисходительно улыбался, словно ясно видел побежденного и опозоренного Чика. Переносить эту улыбку было ужасно неприятно.
— Здесь будем? — спросил он своим сиплым голосом.
— Где хочешь,— сказал Чик, чувствуя, как челюсть его, жующая мастику, сама остановилась. Чик усилием воли снова принялся жевать, стараясь ничем не выдать своего волнения.
— Так давай! — просипел Бочо и стал подходить к Чику, внимательно всматриваясь в него, чтобы не пропустить признаки робости или нерешительности.
«Неужели так сразу, так быстро?!» — содрогнулся Чик внутренне, в то же время ни на секунду не забывая, 4tq никак нельзя показывать своего страха.
— Оник, держи.— Чик вынул мастику изо рта и, не спуская глаз с надвигающегося Бочо, протянул назад руку.
Раньше Оника подбежала к нему Сонька и выхватила мастику.
— Чик, их много, а ты один! — опять бесстрашно крикнула Сонька.
— Ничего,— сказал Чик, продолжая внимательно смотреть на Бочо. Чик был уверен, что никто не вмешается в драку, потому что это были ребята с соседней улицы и они знали Чика. Но все-таки, когда все «болеют» за твоего противника, до чего же неприятно драться. Вдруг Бочо остановился в нескольких шагах от Чика.
— Если хочешь, отойдем,— кивнул Бочо на край поляны, где начиналась стена. Сейчас, когда у него было столько болельщиков, он хотел показать, что он в них не нуждается. Наверное, ему и в самом деле так казалось.
— Как хочешь,— сказал Чик, радуясь передышке, но показывая, что не боится никаких болельщиков.
— Ребя! — заорал Бочо изо всех сил.— Вы стойте здесь, а мы пойдем подеремся!
Он мог это сказать гораздо тише, но он хотел своим голосом напугать Чика. Голос у него в самом деле был внушительный. Главное, он здорово хрипел и даже сипел. Чик его отчасти за этот голос уважал, но не сейчас, когда
294
он его пугал этим голосом.
— Давай! — радостно отозвались ребята.— Мы будем отсюда смотреть, как ты его отколошматишь!
Чик и Бочо решительно направились в сторону стены.
— Чтоб не фасонил со своей москвичкой! — крикнул вслед один из ребят.
В его голосе прозвучала вечная слободская ненависть вот к таким чистеньким, хорошо одетым девчонкам, как Ника. Чику совершенно неуместно полезла в голову какая-то мысль насчет бедных и богатых. Но он ее не успел додумать, да и не хотел додумывать, это она сама полезла ему в голову, когда он услышал голос этого мальчишки.
— Она не москвичка,— услышал Чик просящий мира голос Оника,— она в нашем дворе живет...
— А фасонит, как москвичка,— уверенно сказал тот же голос, и Чику показалось, что он услышал, как тот презрительно цвиркнул сквозь зубы слюной, хотя услышать это было никак невозможно.
— Чик, не бойся, мы здесь! — вдруг пронзительно крикнула Сонька, и голос ее обдал Чика какой-то великолепной волной бодрости, хотя он и понимал, что помощи от своей компании ждать бессмысленно.
Услышав Сонькин крик, ребята с улицы Бочо захохотали, до того им это показалось смешным.
— Лёсик, а-а-сто-рожна, у-па-дешь! — гадливым голосом пропел Шурик и фальшиво захохотал, показывая хохотом, чего стоит Чик и вся его команда.
Чик и Бочо стояли в двух шагах друг от друга. Они еще как-то недостаточно подогрелись для драки. Бочо угрюмо, исподлобья глядел на Чика, стараясь припомнить какую- нибудь старую обиду. Но, видно, обида не припоминалась, и Бочо начинал злиться на Чика за то, что он никак не может припомнить какую-нибудь стоящую обиду. Чик это чувствовал.
295
— Ха! — вдруг хрипло усмехнулся Бочо, глядя на Чика. Что-то унизительное было в его усмешке.
— Чего смеешься? — спросил Чик и бегло оглядел себя.
— Ха! — усмехнулся Бочо еще более хрипло и добавил: — Посмотри на мои плечи и на свои.
Это была правда. Бочо был куда шире Чика, зато у Чика грудь была намного здоровее, чем у Бочо, и Чик это знал.
— А грудь? — сказал Чик и, набрав воздуху, изо всех сил растопырил ее.
— Что ты мне суешь свою грудь! — страшным голосом захрипел Бочо.
— А что ты мне суешь свои плечи! — ответил ему Чик, собрав все свое мужество. Все-таки Бочо здорово его подавлял своим голосом.
Вдруг Бочо протянул руку и молча приложил ладонь к его груди. Чик прямо растерялся, до того это был страшный и непонятный жест.
— Ты чего меня лапаешь? — в ужасе крикнул Чик.— Хочешь драться — дерись!
— У тебя сердце дрожит, я слышу! — закричал Бочо радостно.— Вот до чего ты меня дрейфишь!
Сердце Чика и в самом деле страшно колотилось. Но какое он имел право дотрагиваться до Чика и слушать, как стучит его сердце?!
«Ах, ты так!» — подумал Чик, и в это же мгновение его осенила военная хитрость.
Он приподнял голову и как бы украдкой бросил многозначительный взгляд наверх, в сторону домика, где жила тетя Лариса. Бочо сразу же клюнул. Он тоже поднял голову и, посмотрев туда, снова уставился на Чика, теперь уже подозрительно.
— Ты чего туда смотрел? — спросил он не так уж хрипло, как раньше.
— Никуда я не смотрел,— сказал Чик, успокаиваясь оттого, что Бочо начинал волноваться.
— Нет, смотрел.
— Нет, не смотрел.
— Может, скажешь, что ты с Омаром знаком? — спросил Бочо.
Чик промолчал. Надо было, чтобы рыба получше села на крючок.
— Чего молчишь? Скажи, скажи,— насмешливо торопил его Бочо. На самом деле он начал тревожиться.
296
— Он мой троюродный брат,— нахально отчеканил Чик.
— Ха! — хрипло усмехнулся Бочо, думая, что поймал Чика.— Тогда почему по стене лезли?
— Потому что их дома не было,— сказал Чик, чувствуя, что Бочо сам себя загоняет в ловушку.
— А сейчас? — раздраженно просипел Бочо.
— А сейчас они дома,— сказал Чик, чувствуя, как тело его освобождается от страха, легчает.
— Ребя! — крикнул Бочо, как бы отчасти жалуясь и раздражаясь из-за того, что они его подвели.— Он говорит, чю Омар его брат?!
— Не верь, не верь,— крикнул Шурик, как человек, больше всех заинтересованный в победе Бочо,— он все придумал!
— Пусть скажет, как зовут его маханю! — крикнул тот мальчик, который назвал Нику москвичкой.
— Да,— снова оживившись, прохрипел Бочо,— скажи, как зовут его маханю?
— Тетя Лариса,— сказал Чик презрительно.
— Ребя,— крикнул Бочо с отчаянной надеждой,— он говорит, тетя Лариса!
— Правильно,— мрачно подтвердили ребята.
— Правильно! — крикнула Сонька и даже подпрыгнула от радости.— Она к ним часто в гости ходит.
— Ненавижу ехидину! — крикнул Бочо и ринулся на Чика. Другого выхода у него не было.
Чик почувствовал страшный удар в скулу, голова его загудела, и он бросился в драку, как в воду. Чик слышал за спиной топанье бегущих ребят. Он и так знал, что, как только начнется драка, все прибегут. Но теперь ему ничего не было страшно. Он изо всех сил махал руками, стараясь попасть в раздваивающееся и мелькающее лицо Бочо, не чувствуя ударов, которые тот ему наносил.
Главное — стараться попасть в лицо, в которое почему-то до удивления, какое бывает во сне, трудно попасть, и оно все время расплывается, и только отовсюду смотрят темные глазищи Бочо и мелькает его лобастая стриженая голова. Иногда они сцепляются, потом расцепляются, изредка обмениваясь яростными словами.
— Получай на закуску!
— Ах, ты плашмя?!
— Вот тебе, вот тебе, головой!
Сопение, кряхтенье, тяжелое дыхание, обмен ударами
297
и обмен впечатлениями от ударов. Но время идет, и Чик чувствует, как тяжело наливаются руки и тело, как они слабеют с какой-то непонятной быстротой, как все трудней и трудней дышать. Неужели, думает Чик, чувствуя, что начинает теряться, неужели только я так устал? И почему у меня дыхание кончается, как же моя широкая грудь?
И вдруг Бочо хватается за лоб и мгновенно выходит из круга, образованного прибежавшими ребятами. Чик ничего не понимает, у него перед глазами все покачивается, но он чувствует, что случилось что-то радостное, неожиданное.
Бочо некоторое время стоит, пригнувшись, и ладонью щупает лоб.
— Фонарь? — вдруг спрашивает он, опустив руку и удивленно оглядывая всех.
— Фонарь! — подтверждает тот, что назвал Нику москвичкой, и переводит взгляд на Чика, словно только сейчас заметив какие-то интересные подробности в его облике, которых он раньше не замечал.
Чик смотрит на Бочо. Все смотрят на Бочо. У Бочо над глазом появилась огромная шишка.
— Фонарь? — спрашивает Бочо и оглядывает друзей с какой-то трогательной надеждой, что они его разуверят в этом.
— Фонарь, фонарь,— подтверждают все удивленно и с посвежевшим интересом к его личности смотрят на Чика.
— Ой-ой-ой! — неожиданно запричитал Бочо, снова схватившись за лоб.— Что я дома скажу? Что я дома скажу?!
— Ничего,— сказал Чик,— надо холодное... Оник, дай свой пятак...
Оник неохотно вынул из кармана тяжелый царский пятак и протянул Чику. Чик взял пятак и, подойдя к Бочо, приложил его к шишке. Чик чувствовал, что каждое его движение сейчас уверенно и свободно и никому не может прийти в голову, что он подлизывается или как-то слишком расчувствовался. И Бочо с такой трогательной надеждой и доверчивостью смотрел на Чика, так безропотно надеялся на его помощь, так глубоко был поглощен возможностью предстоящего наказания родителями, что Чик чувствовал, как внутри у него все переворачивается от нежности и благодарности к Бочо за эту прекрасную победу.
— Смачивай в воде и прикладывай,— говорит Чик,— а пятак потом как-нибудь отдашь...
Оник с молчаливым упреком посмотрел на Чика в том
298
смысле, что ему хорошо быть щедрым за счет других. Чик ответил ему на это восторженным взглядом, показывая, что в часы великих побед нельзя считаться с такими мелочами. Чик краем глаза заметил, что Шурик старается не попадаться ему на глаза, прячется за спинами ребят, как предатель Мазепа.
Уходя со своей командой, Чик напряг слух. Он чувствовал, что он должен что-то очень приятное услышать за спиной. И он в самом деле услышал. Он услышал целую фразу, которая потрясла его своей былинной красотой.
— Ребята, ну и колотушка у этого Чика,— сказал кто-то.
Зарево славы подымалось за его спиной. Чик ощущал в своем теле необыкновенную легкость. Он почти не чувствовал земли. Он почти ничего не видел и не слышал. Что-то радостно лопочут друзья, Сонька ему сует мастику, но он ее почему-то положил не в рот, а в карман. Потом появились какие-то волнения, стали говорить, что нас, наверное, ищут, что нам, наверное, попадет. Кого ищут, чего ищут? Он только чувствовал какую-то легкость, легкость и музыку. Будто слышится какой-то оркестр, вроде тех предпраздничных оркестров, которые за несколько дней до праздника начинали шагать по городу, как бы пробуя будущее веселье. Чик страшно любил эти пробы будущего веселья и, бывало, как только услышит такой оркестр, вместе с Белочкой выбегал на улицу и долго-долго провожал его.
— Чик,— вдруг донеслось до него сквозь музыку оркестра,— я тебе что-то хочу сказать.
Они уже шлепали по тротуару, вот-вот свернут на свою улицу. Это был голос Ники.
— Ага,— сказал Чик, не останавливаясь и не оборачиваясь, потому что никак не хотел упускать музыки, которую он слышал,— говори...
— Только один на один,— сказала Ника, и Чик по ее голосу почувствовал, что она остановилась. Ему стало тревожно.
— Что? — спросил Чик, останавливаясь и с легкой досадой чувствуя, что музыка уходит вперед; ну ничего, догоню, подумал он.— Вы идите,— кивнул он остальным.
— Чик,— тихо сказала Ника и прямо посмотрела ему в глаза своими темными от густоты синевы глазами,— почему эта женщина сказала про папу «бедный»?
Чик сразу все вспомнил.
299
Он вспомнил, что все это время, пока они спускались с лестницы и пока он готовился к драке, она как-то замкнулась и съежилась. Теперь он понял, что она все время думала о словах тети Ларисы...
— Просто так, — сказал Чик,— женщины всегда так говорят.
— Нет,— сказала Ника и с какой-то упрямой силой посмотрела ему в глаза,— разве мой папа никогда не вернется?
Чик вдруг почувствовал, что музыка, все еще игравшая вдалеке, вдруг смутилась и смолкла. У Чика мурашки побежали по спине. Неужели она все знает, подумал он.
— А разве он вам не пишет? — осторожно спросил Чик.
— Редко, и мне отдельно, и маме отдельно,— тихо сказала она,— а раньше, когда ездил в командировки, он всегда нам вместе писал...
— Что тут такого,— сказал Чик и радостно, оттого, что это было в самом деле так, вспомнил: — Мой дядя, когда ездит в командировки, иногда пишет всем отдельно...
Чик почувствовал, что она поддается. Глаза ее потеплели, в них уже не было той упрямой твердости, с которой она смотрела на него вначале. Но его это почему-то не обрадовало. Он почувствовал, хотя и не осознавал,, что она не убедилась в правильности того, что он говорил, а снова покорилась неизвестности. Чик это почувствовал.
— Но почему так долго, Чик? Уже девять месяцев прошло,— сказала она.
— Покамест все выяснят,— начал Чик и впервые с раздражением подумал о тех, кто и в самом деле так долго выясняет: знал отец Ники, что начальник, перед которым он танцевал, вредитель, или не знал? То, что сам начальник мог и не быть вредителем, Чику и в голову не приходило.
— Что выяснят? — спросила Ника и удивленно посмотрела ему в глаза.
— Чик,— крикнула Сонька,— нас, может, ищут, а вы там шепчетесь!
Чик обернулся. Сонька на него смотрела взглядом женщины, уставшей от бесплодной любви. Чик удивился этому взгляду, потом вспомнил о его неуместности и раздраженно отмахнулся. Он и так чуть не проговорился, а тут еще Сонька пристает со своей дурацкой ревностью.
— Как что выяснят! — ответил он Нике.— В командировке всегда что-нибудь выясняют.
300
— Я его люблю больше всех,— сказала Ника,— я его буду ждать до гроба.
Чик почувствовал, что ома повторила чьи-то слова, наверное, собственной мамы.
— Еще бы! — с жаром подхватил Чик, напав на благодарную тему, где можно ничего не выдумывать.— Еще бы такого не любить. Мой дядя говорит, что он великий танцор, что он мог танцевать на рюмке... Представляешь, такая маленькая рюмочка и на ней взрослый человек танцует?! Я на перевернутом ведре и то бы не смог танцевать, а он на рюмке...
— Ну, вы идете или мы пошли! — со злостью крикнула Сонька.
Глупая, подумал Чик, обернувшись, тут совсем другое дело.
— Пошли,— сказал он Нике таким тоном, словно теперь уже все стало ясно. Но он понимал, что далеко не все ясно, и это его все-таки смущало. Он попробовал прислушаться к той музыке, которую слышал до разговора с Никой, но не услышал ее. Оркестр куда-то скрылся.
Только они дошли до угла своей улицы, как лоб в лоб столкнулись с соседским мальчишкой Абу.
— Чик, вас ищут,— радостно крикнул он,— думают, вы утонули!
— Я же говорила, я же говорила,— затараторила Сонька, гневно поглядывая на Нику. Лёсик от волнения расплылся в улыбке. У Чика тоже что-то неприятно кольнуло в груди.
Абу стоял перед ними, любуясь их растерянностью и смущением.
Чик, это правда, что ты фонарь поставил Бочо? — вдруг спросил он, перестав любоваться их растерянностью.
Чик непроизвольно улыбнулся. Слава обгоняла его и выходила навстречу.
— Да,— сказал Чик, не в силах сдвинуть расползающиеся в улыбке губы,— но откуда ты узнал?
— Да тут один проезжал на велике и сказал,— ответил Абу и с посвежевшим уважением, как те на поляне, взглянул на Чика.— За мастикой ходили?
— Да,— сказал Чик доброжелательно,— а правда, что нас здорово ищут, или треплешься?
— А-а-а! — махнул Абу рукой.— Немножко поискали и бросили... Пойду посмотрю, какой ты фонарь поставил Бочо.
301
— Он, наверно, уже домой ушел,— сказал Чик.
— Ну тогда поиграю в футбол,— ответил Абу и пошел дальше.
Ребята радостно заработали челюстями и пошли своей дорогой. Все-таки хорошо, что Абу их успокоил. Когда они зашли за угол, Чик сразу же увидел на балконе сутулую спину Алихана, склоненную над игральной доской. Он играл в нарды с Богатым Портным. Ясно, что Богатому Портному сейчас не до Оника. Оник сразу же повеселел.
В сущности, Богатый Портной и тетушка были главными паникерами. Но тетушка тоже, как и Богатый Портной, если увлечется чем-нибудь, могла и не вспомнить о его существовании...
Чик заметил, что Белочка сидит у калитки и смотрит в их сторону. Видно, она их еще не узнала, но почувствовала что-то знакомое. Чик не хотел подавать голоса, чтобы с балкона на них не обратили внимания. Он только всплеснул руками и ударил ими по ногам, как если б сидел на скамейке и приглашал ее на колени. Белочка мгновенно склонила набок голову, и, когда Чик повторил этот жест, она сорвалась с места и помчалась навстречу. Она бежала своей боковой побежкой, которую Чик так любил, и она его всегда так смешила.
Белочка с разгону налетела на Чика и в прыжке несколько раз лизнула ему лицо. Потом она для приличия лизнула Оника и Соньку, не слишком скрывая, что больше всего обрадовалась Чику. Она бегала вокруг них, визжала и прыгала... Она очень соскучилась и совсем не помнила, что Чик ее обидел. Ну, где можно еще отыскать такую веселую, добрую собаку? Нет, подумал Чик, с этим соба- коловом надо что-то делать, иначе не будет спокойной жизни.
Ребята приближались к дому. С каждым шагом Чик чувствовал, что слабеет и слабеет их походный уют, вот-вот совсем распадется, потому что каждый сейчас занят собственной тревогой встречи со своими родителями.
Чику всегда бывало немножко грустно в такие часы. Но ничего не поделаешь, он и сам сейчас занят этой тревогой. Поэтому ему было приятно, что рядом кружится Белка, словно он с ней особенно и не расставался, словно так: вышли немного погулять, а теперь возвращаются домой. Одомашненный тем, что Белочка была рядом, Чик подходил к дому с плутоватой и, может, потому тайно веселящей надеждой на безнаказанность.
ГЛевинзон
ПРОЩАНИЕ
СДЕИИ%ИЛЕМ,
^ ИЛИ
НЕОБЪЯСНИМЫЕ
ПОСТУПКИ
повесть
...Ты подивишься на превращение судеб и самих форм человеческих...
А ну/ « Метаморфозы»
Со мною что-то происходит...
Из стихотворения, написанного обо мне
О том, как я стал Дербервилем.
Здесь я преподношу себя читателю и знакомлю его с важнейшими фактами моей биографии
Мы с дедом замечательные советчики. Однажды за советом к нам приезжал человек из Красноярска. Один наш совет, касающийся продажи дома, принес нашим большущим друзьям двенадцать тысяч рублей, другой — тут о деньгах говорить смешно — спас человеку жизнь. А сколько свадеб сыграно благодаря нашим советам! Сколько после этих свадеб найдено в капусте детей! Бегают они теперь, голоногие и в джинсиках,— сердце радуется! Недавно один такой, насоветованный, показал мне язык. Я сказал: «Знал бы ты, кому язык показываешь!» Так что если в этой книге вы набредете глазами на совет, не ухмыляйтесь, не пожимайте плечами, а вникайте и берите. Плохого не посоветую: я на удивление здорово разбираюсь в жизни.
Дед говорит, у меня это генетическое. Когда я еще лежал в коляске и только начинал лопотать, то и тогда уже было видно, что я бывалый человек. Меня не озадачишь, я посмотрю — и все пойму. Никаких со мной неловкостей, никаких заминок не случается — люди тянутся ко мне. И не с пустыми руками — вот что интересно: когда они отходят, я кладу в карман вкусное или полезное. Поговаривают, правда, что у меня недостаток: свойство зрения, бегающий взгляд. Все время мои глаза высматривают. И они замечают всегда то, что следует, а не какую-нибудь ерунду, которая является случайным фактором.
Ведь сколько людей смотрят не туда! Один, например, из нашего класса вечно присматривается, какие у домов
304
крыши,— трубы его интересуют, черепица, антенны, в какой цвет железки выкрашены. Он даже рисует иной раз на уроке крыши. Он славный, и взгляд у него не бегающий, и все же у кого из нас зрение не в порядке? Другой замечает кошек и собак хоть за двести метров, хоть за четыреста и, заметив, обязательно крикнет: «Смотри, смотри!» Незрелый человек, инфантильная личность.
Я помню, как это случилось с моими глазами. Малышом, года в четыре, я пошел с бабушкой к ее большой приятельнице, Елене Викторовне. Елена Викторовна всегда припасала для меня плитку шоколада. Но в тот день она была чем-то расстроена, а бабушка куда-то торопилась — обе они забыли о шоколаде, хотя шоколадка на виду лежала, на столе в конфетнице. Бабушка взяла меня за руку и потащила к двери, прощаясь на ходу. Но я не собирался уходить. Бабушка протащила меня по ковру, потом подхватила под мышки и поставила на колени. Они с Еленой Викторовной посмотрели на шоколадку; у них вырвалось: «О, господи!» — у одной, а у другой: «Да что же это я!»
— Ты не находишь, что у него что-то с глазами? — спросила Елена Викторовна, после того как дала мне шоколадку.
— Ты подумай! — сказала бабушка.— Да нет. Просто он перевозбужден.
Но я не то что перевозбужден был, я испугался: я стоял к зеркалу почти спиной и все же замечал в нем смутное свое изображение. Я до сих пор иной раз пугаюсь себя в зеркале: у меня удивительный сектор обзора, у других людей боковое зрение, а у меня — заднее. Однажды я заметил козу, которая неслась на меня, хоть и смотрел вроде в другую сторону. Я успел вскарабкаться на дерево, а коза боднула другого, нерасторопного человека — он, полоротый, стоял и пялился на нее. Коза до сих пор пасется на пришкольном участке. Ее держит наш завхоз: дочери его врачи козье молоко порекомендовали. За мной она уже не охотится: зачем? Можно всегда найти разиню, который всякую ерунду видит, а самого важного не замечает. В классе меня окликают Быстроглазым.
Неплохое прозвище. Особенно оно хорошо звучит, когда девочки меня ласково называют — Быстроглазик. И все же оно меня не устраивало: я начал догадываться, что человек я необыкновенный. Обыкновенных стригли
305
коротко, а я ходил с локонами. Их мне начали отпускать с младенчества, чтобы меня интересней было любить. В школе привыкли к такому моему виду и никогда не требовали, чтобы я стригся короче. (Теперь это уже не локоны, а модная прическа.) Из-за этой моей прически на меня обращали внимание, всегда заводили разговор обо мне и всегда обнаруживали во мне еще много необыкновенного — я привык, что на мне человеческие взгляды задерживаются дольше, чем на других. Однажды, когда я торопился на пионерский сбор, а мой галстук куда-то запропастился, бабушка повязала мне на шею шелковую красную косынку. Получилось вроде красного банта. И сейчас же походка у меня изменилась: меня несло, я плыл сам собой, и такая легкость была в моих движениях, так ладно и приятно голова на плечах покоилась и поворачивалась, что невозможно было не любоваться на себя в витрины магазинов — что за взгляд, что за жесты! В школе я заметил, что и голос у меня изменился. Я стал другим человеком. Я еще не знал имени этого человека, но уже понимал, какая это значительная личность. Все в доме решили, что перемены эти к лучшему. Одного папу мой новый облик смущал. Однажды он спросил:
— У тебя все в порядке? Ничего не болит?
Разве можно было такого человека окликать — Быстроглазый? Я ждал случая, чтобы с этим покончить. А пока придумывал себе новые прозвища, но ни одно меня не устраивало.
Нас называют телефонщиками: меня, Мишеньку Теп- лицкого, Марата Васильева и Горбылевского. У всех у нас дома телефоны, и вечно мы звоним друг другу и договариваемся, договариваемся, да только я не припоминаю, чтобы мы хоть раз о чем-нибудь договорились. Был еще пятый телефонщик — Валька Сероштан, но его родители обменяли свою двухкомнатную квартиру с телефоном на трехкомнатную без телефона. После этого Валька недолго оставался среди нас. Он вначале пробовал звонить к нам из автомата, но получалось не то: он сразу же разучился закручивать разговор, и всегда оказывалось, что с ним не о чем говорить. Он стал поговаривать, что мы плохие друзья, подрался с Горбылевским, потом с Мишенькой. Однажды он позвонил мне и сказал, что наконец-то ра-
306
зобрался, какие мы все гады, особенно Горбылевский и Мишенька, но и я тоже хорош. Я только вздохнул в трубку: человек лишился телефона — это надо понимать. В конце концов Валька записался в секцию плавания. Теперь он дружит с двумя пловцами и делает вид, что с нами ему неинтересно.
С Горбылевским я сидел за одной партой, но прошлым летом мы с ним все время ссорились, и в начале учебного года я турнул его со своей парты, хоть Горбылевский и кричал:
— С каких пор эта парта стала твоей?
Горбылевский сел с Мишенькой Теплицким, а Мишенькин сосед Чувалов — со мной. Это тот самый, который крыши рисует. Он и не подумал скрывать, как он доволен, что очутился рядышком с Быстроглазым. Я не удивился такому простодушию: личность он малоавторитетная, в классе его пинают и щиплют просто так, от нечего делать, хоть он рослый и на вид здоровяк. Я стал здороваться с ним за руку и иногда отгонял от него тех, кому нравилось шлепать его по широкой спине. И вот Чувал стал поглядывать на меня с благодарностью. Однажды он отломил мне от своего завтрака. Хлеб был какой-то помятый и вроде бы влажный, повидло кислое, и нельзя было понять, из чего оно приготовлено. Жалкий товарищ. Я ему как-то сказал:
— Ты зашел бы ко мне.
Он через час после этого притащился с папкой, набитой рисунками, сел на диван, положил папку на колени и сказал:
307
— Я пришел.
У меня Марат Васильев как раз был. Мы с ним ждали Мишенькиного звонка. Марат Васильев все спрашивал меня глазами: «А этот тут зачем?» Чувал был обут в сердитые кроссовки, какие наша фабрика «Прогресс» выпускает для пенсионеров младшего и среднего возраста. Насчет старинных людей все понятно: многие из
них, что ни дай, мигом на ноги натягивают — лишь бы дешево и сердито. Но как может мой современник такое носить?! Этот вопрос меня до того волновал, что я то и дело поглядывал на Чуваловы ноги, хотя вообще-то избегаю смотреть на вещи, лишенные эстетического идеала. Штанины брючонок на Чувале взбились, и было заметно, что кожа у него выше лодыжек шелушится — хотелось подарить ему флакончик глицерина. Думалось, это у него оттого, что он такие невкусные завтраки ест. Нужно было посмотреть его рисунки. Я сказал:
— Давай показывай.
Он смутился и стал показывать — крыши, конечно. Черепичные и железные. Антенны, трубы, тени. Крыши ночью и крыши днем, под луной, в дождик, одна крыша была под самыми облаками, так что тучка за трубу зацепилась. На некоторых крышах человек был нарисован.
— Тоже в тапочках,— сказал мне шепотом Марат.
Только кроссовками этот человек и походил на Чувала.
Он был старше, десятиклассник на вид, худощавый, в рубашке в обтяжку и в джинсах: ходил по крышам, танцевал почти у края, сидел, свесив ноги, стоял, глядя на луну. На одном рисунке он сидел, обхватив колени, и думал, а напротив него сидел кот и тоже думал. Хвалить особенно нечего было.
Марат ткнул пальцем в кота. Мы посмеялись над этим мыслителем — кот был здорово нарисован. Тогда Чувал взял чистый лист из папки и карандашом быстро нарисовал пять котов: испуганного, сытого, голодного, спящего (сразу было видно: ему снится веселый сон) и кота в сапоге. Как
308
он очутился там, бедняга, в громадной ботфорте со шпорой? Только голова торчала, испуганная рожица усатика. Было понятно: еще не скоро ему удастся выбраться.
Я тут же лист с этими рисунками к коврику над диваном приколол. Непонятно было, зачем Чувал рисует дурацкие крыши и ненормального малого, который днем и ночью по этим крышам лазает, если умеет так здорово котов рисовать. Марат Васильев попросил, чтобы Чувал и для него рисунок сделал. Чувал тут же нарисовал большущего кота, во весь лист,— кот этот убегал, страшно испуганный. Скорей всего, это тот самый был, который в сапог попал, а теперь выбрался и драпал. Может, ему казалось, что сапог за ним гонится? Чувал, наверно, много интересного знал об этом коте. Но я не стал расспрашивать: еще завоображает.
Папа появился в комнате как будто специально для того, чтобы подружиться с Чувалом. Видели б вы, как они сидели рядышком на диване: Чувал по одному доставал рисунки из папки и показывал. Папа оказался ценителем, даже волноваться начал. Меня так и подмывало сказать, что зря он себя так ведет, как будто Чувал в этой комнате первый человек. Нельзя же выделять кого попало. И начало казаться: может, рисунки Чувала в самом деле хорошие? Хотелось подойти и вместе с папой рассматривать. Вот тебе на!
Позвонил Мишенька и сказал, что может нам кое-что интересное показать. Мы с Маратом ушли. А человек в некрасивых кроссовках остался с папой.
Но Мишенька нам ничего интересного не показал, просто ему хотелось, чтобы мы поскорее к нему пришли. Мы пытались поговорить о чем-нибудь, но без телефона у нас не вышло. Кончилось тем, что я сказал Мишеньке:
— А ну тебя к черту! — и ушел.
Я оставил их с Маратом скучать, а сам решил вернуться домой, позвонить Горбылевскому и рассказать, как два долдона скучают и ничего придумать не могут, хоть тресни.
Недалеко от нашего дома, напротив старинной церквушки, есть скверик на четыре скамейки. В этом скверике я увидел папу и Чувала: они сидели рядышком, ели мороженое и разговаривали. Они-то не скучали. Я почему-то не подошел к ним, а повел себя по-шпионски: стал наблюдать. Я постарался вспомнить, когда в последний раз сот так с папой разговаривал. Но ничего не вспоминалось.
309
Получалось, что не было у нас таких разговоров. Чувал доел мороженое, достал из кармана коробку фломастеров (я сразу понял — мои), вытащил один из них и стал рисовать.
Папа следил за его рукой, придвинулся к нему поближе — они сидели плечо в плечо. Как отец и сын. Мне все это ужасно не понравилось. Я пошел домой.
Дома я сразу же выдвинул ящик своего письменного стола: так и есть — фломастеры исчезли. Правда, я ими никогда не пользовался — я попросил деда купить их, потому что у каждого человека среди прочих вещей должны быть и фломастеры. Но все равно я был возмущен и приготовил слова для разговора.
— Что это ты раздариваешь мои вещи? — спросил я папу, как только он появился.— Другие отцы думают, прежде чем подарить кому-нибудь хотя бы пуговку своего сына!
Я упрекнул папу, что он вообще мало обо мне думает и недостаточно мне внимания уделяет,— а дети сами собой не воспитываются.
— Ты не ленись,— закончил я,— а фломастеры мне купи другие.
— Ты ими не пользовался,— сказал папа.
— Мало ли что, мне хотелось, чтоб они у меня были.
Терпеть не могу, когда у меня чего-то нет. Папе этого
не понять. Он сел в кресло и стал размышлять над «ситуацией». Когда «ситуация» возникает, он всегда садится и обдумывает. Иной раз он такое открывает в «ситуации», что только диву даешься.
— Давай завтра сходим в кино,— сказал я.— Как отец с сыном. Понял?
У меня уже все было обдумано: купим мороженого, посидим перед сеансом на скамейке, что возле кинотеатра «Мир»; тут я прижмусь к нему плечом, и мы поговорим, как отец с сыном,— всякому завидно станет.
Папа обдумал «ситуацию» и сказал:
— Этот мальчик лучший среди вас. Глубокий, тонкий человек. И он талантлив.
— Пусть себе талантлив,— сказал я,— у меня от этого голова не закружится! Если хочешь знать, это малоавторитетная личность, совсем беспомощный.
Вот тут выяснилось, что папа все-таки открыл кое-что в «ситуации».
— Ты приревновал,— сказал он.— Как это глупо! Че¬
310
ловек нуждается, чтоб к нему проявили интерес, чтобы одобрили, признали. Неужели не понятно? Он вас просил об этом, а вы не видели!
И пошли тонкости. Я не особенно вникал. Мама как-то сказала, что папины тонкости требуют специальных средств обнаружения. Я не ношу с собой специального прибора. Нет у меня его. Он договорился до невероятного — сказал, что на Чувале печать сиротства и душевной огорченности. Наверно, отец ушел или еще что-нибудь стряслось — он, видите ли, сразу это заметил, потому что сам через это прошел. Я знал, что у Чувала есть отец, но лучше было об этом помалкивать: зачем родного отца дурачком выставлять?
Папа расстроился и стал смешным. Я подумал: «У тебя у самого душевная огорченность». Опять с ним это случилось. Он огорчается из-за всего: из-за того, что есть мерзавцы, которые матерятся на улицах, из-за того, что люди толкаются в очереди, отпихивают друг друга, готовы ходить по головам, только бы купить одежку, которая считается модной. Одно время он ко всем приставал с разговором о воспитателе в интернате, который орал на детей и раздавал подзатыльники, когда никого из взрослых поблизости не было. Люди его выслушивали и отвечали: «Бывает». Конечно, бывает. Всякое бывает. Нужно это знать заранее. Нельзя же каждый раз расстраиваться. Он спросил:
— Ты понял, что я говорил?
Я ответил:
— Ага. Тонкости.
— Не понял,— сказал он.— Ты от меня ускользаешь. Иногда мне кажется, что я тебя потерял.
— Да вот он я! Чувствуешь? — Я прижался к нему, спрятал лицо и улыбнулся смешному слову «ускользаешь».
В кино мы решили идти в тот же день, а не завтра. У папы был такой вид, как будто он пережил большое потрясение. Он купил в киоске три сигареты. Две из них он тут же выбросил в урну, а одну закурил. Наверно, он одну сигарету купить постеснялся: о продавцах ду¬
мает.
Мы купили мороженое и посидели с полчаса на скамейке плечо в плечо, разговаривая об интересном. Все было как полагается. И все же мне казалось, что у Чувала с папой это вышло лучше. Наверно, если бы Чувал был папиным сыном, они бы дружили, все бы у них получалось
31 I
само собой и Чувалу не надо было бы заранее придумывать.
Я стал хуже относиться к Чувалу. Я решил, что на следующий год отделаюсь от него, а к себе за парту посажу кого-нибудь другого, хотя бы Марата Васильева. А Чувал тянулся ко мне: показывал мне свои рисунки — теперь он все время кошек рисовал и передавал по рядам,— протягивал мне половинки своих завтраков, от которых у людей ноги шелушатся. Я этих завтраков стал бояться, как девчонки мышей. Но скоро он заметил мою холодность, приуныл и — простодушный человек! — даже не старался этого скрыть. Как-то я достал из портфеля свой завтрак и заметил, что Чувал смотрит на меня с возмущением. Не мог он понять, почему я ни разу не поделился с ним, он же со мной делится. А я прошел мимо него той самой походкой, которая появилась у меня, когда бабушка повязала мне красный бант на шею, задел его плечом, но даже не взглянул на малоавторитетного человека. Вот тогда он и сказал мне вслед:
— Дербервиль!
Я повернулся, чтоб наказать его за дерзость, но вдруг заметил, что улыбаюсь. Чувал мне тоже улыбался — горько, насмешливо и с вызовом. Я сам удивился тому, что проделал дальше: я похлопал Чувала по плечу, и мне подумалось: «Дербервиль решил не наказывать беднягу». Потом я подошел к нашему обжоре Михалевичу и отдал ему свой завтрак.
— На-ка съешь,— сказал я,— а то ты сегодня что-то бледный.
Дербервиль — остроумный человек. В тот день я все время делал и говорил неожиданное для себя. На следующей переменке я сказал Свете Подлубной:
— Ну-ка, моя дорогая, посторонись. Иначе я рискую наступить тебе на подол.
Света съездила меня по затылку.
— Проходи, мой дорогой,— сказала она.— И не вздумай еще раз меня так назвать.
Дербервиль привык к выходкам этой экстравагантной женщины.
Домой он решил возвращаться пешком, благо над Лондоном светило солнышко. Когда Дербервиль проходил то ли мимо Тауэра, то ли мимо Букингемского дворца, вдовствующая королева улыбнулась ему из окошка — Дербервиль поклонился ей, приподняв цилиндр. Дома Дербервиль
312
сел в свое любимое кресло и закурил свою любимую трубку, которую он собственноручно выстрогал из вишневого корня. Дербервиль не признавал сигар, предпочитая им крепкий матросский табак. Он вообще был человеком с причудами и часто повергал в изумление своих именитых друзей.
Я стал читать английские книги, но книга о Дербервиле мне почему-то до сих пор не попалась. Можно было бы спросить у Чувала, что это за книга, но мне не хотелось: Дербервиль игнорировал этого человека.
Зато папа взял шефство над Чувалом: вспомнилось ему, наверно, что он был когда-то учителем. Чувал стал к нам звонить, и, если я подходил к телефону, он говорил:
— Здравствуй, Быстроглазый! Позови, пожалуйста, своего папу.
Теперь он на меня смотрел каким-то новым взглядом. Я разобрался в этом взгляде: твой папа замечательный человек, не то что ты. «Ладно»,— подумал я, и однажды, когда Чувал позвонил, я сказал:
— Подожди немного, мальчик, папа принимает ванну.
А папы дома не было. Я большой специалист по телефонным розыгрышам. Пусть-ка постоит с трубкой в руке. Воображает, что разбирается в моем папе лучше меня. Никогда он не поймет, что папа просто смешной, наивный человек. И неудачник.
О том, как я чуть было не попал в прескверную историю, по, к счастью, вовремя спохватился и дал себе обет быть благоразумным. В этой главе вы узнаете о том,
как я обзавелся живой мечтой, и получите первый, очень ценный совет
По дороге в школу, на узкой, плывущей вниз улице, я останавливаюсь у сетчатой ограды, за которой запущенный сад с лопухами, кустами смородины и бузины и одноэтажный кирпичный дом — таинственное место. Хочется узнать новенькое о людях, которые здесь живут. Их трое: дед в очках, невиданных, допотопных, как будто специально для него сделанных, чтоб подходили к его бородке, трости и брюкам, которые ветер треплет вовсю, потому что они широченные; второй житель этого до¬
313
ма — женщина, молодая, но не очень-то красивая, она всегда ходит быстро и улыбается чему-то, наверно, о дочке своей вспоминает; с дочкой ее я знаком хорошо: она застенчивая; если скажет что-нибудь, то обязательно покраснеет и взглянет на тебя, чтоб проверить, понравилось ли тебе то, что она сказала.
С этим домом у меня давние отношения: первого сентября я распутываю проволоку, восстанавливаю дыру между железным столбиком и отставшей сеткой, я протискиваюсь через этот лаз в сад и забираюсь на высокую яблоню, которая в соседстве с кленом все тянулась, тянулась к солнцу и до того вытянулась, что только мальчишке и под силу добраться до ее плодов. Я срываю яблоки и бросаю их в траву, а Танюшка уже тут как тут — сносит их в кучку. Никогда она первая не заговорит, а дед ее вообще со мной ни разу не разговаривал. Он только поглядывает в окошко, наверно, думает, что мне его не видно.‘Потом я спускаюсь с дерева, беру себе два яблока и, разговаривая с Танюшкой, съедаю их, пока они еще прохладные и в капельках росы.
— Ты подросла,— сказал я Танюшке на этот раз.— Как поживаешь?
— Что за жизнь? — ответила она.— Ни братика, ни сестры. Только дед. Но он много ругаться стал. Он, знаешь, стареет.
Она сложила руки на животе, пригорюнилась, как взрослая. Я подумал: «Если бы у нее был отец, то она бы не была такой застенчивой». И тут у меня защипало в глазах, в груди как будто теплое пролилось и стало растекаться. В общем, накатило, мечтаться начало такое, что и сказать неудобно: будто Танюшкин папа нашелся и папа этот — я! В портфеле у папы две итальянские жвачки в упаковке, их ему двоюродный брат Генка прислал из Одессы. Они папе позарез нужны для обмена, уже давно задуманного. Но разве пожалеешь для своей малютки! Я одну из этих жвачек достал и отдал Танюшке, хотя кто-то другой во мне, не папа, вовсю старался меня остановить. Я побежал от Танюшки, выскользнул на улицу через дыру и проволокой ее стал заделывать. Дышал я так, как будто только что улепетывал от грабителей. Я понимал, какой избежал опасности: еще немного — и я отдал бы Танюшке вторую жвачку, а там... Страшно подумать, в какие убытки и неприятности может влететь на крыльях мечты такой человек, как я. Вот отдышусь
314
и расскажу, в какую я однажды историю попал, замечтавшись.
Я знал: скоро мне станет жаль жвачки; мне не хотелось, чтобы это произошло вблизи этого сада и лопухов, редких по размеру. Я быстро стал уходить от лопушандии — так называю я это место за оградой, куда только мне разрешается входить, потому что... Но я и сам не знаю почему.
Это, как любит говорить папа, тайны чеЛовеческих отношений.
И все же меня потянуло оглянуться: один лопух пророс по эту сторону ограды, и кто-то уже лупил по нему ногой или палкой — он был истрепан и переломан, а другие произрастали себе хозяевами на лопушандской земле. Та- нюшкин дед уже складывал яблоки в плетеную корзинку; ветер трепал его широченные брюки, очки вдруг упали в корзинку, он их оттуда достал и надел. Уже третий год я срываю у них яблоки, а он все не выйдет поговорить. Но, может, это и правильно: если б он хоть раз заговорил со мной, то уже не интересно было б дырку в ограде проделывать.
Я сел у забора на бугорок, чтоб дождаться Мишеньку. Лопушандия осталась за поворотом, и теперь думалось: «Лопух, ну зачем же ты жвачку отдал?» Конечно, я не имел права этого делать: она мне нужна была, чтобы выменять у Мишеньки марку — среднюю сестричку из серии «Всемирная выставка «Экспо-70» в Осаке». Две у меня были, а эта, шестикопеечная, со звездочкой, ну не шла — и все, хоть я ее уже по ночам начал звать. Так бывает. И марка вроде не такая уж редкая, а связать свою судьбу с твоей не хочет, все прилипает к чужим рукам. Дед мне рассказывал, как много лет ждал одну совсем даже невзрачную — дурнушку, можно сказать. Понимала марочка, что главное — не продешевить, преподнести себя как следует. Зато и встреча была! Я бы за свою Осаку три жвачки отдал. Лучше бы, конечно, не Мишеньке. Мне больше нравится, когда мои жвачки жуют люди посимпатичней. И хотя я не показывал виду, что отношусь к Осаке по-особенному, Мишенька догадался: уж очень несговорчиво он себя вел.
Я достал из портфеля кляссер, в котором ношу марки для обмена. Я осмотрел каждую марку: нет, тут не было ничего такого, что могло бы заинтересовать Мишеньку. Только на одну из антивоенной серии у меня была
315
надежда, но такая слабая, что я решил за надежду ее не считать: зачем зря обманываться в своих надеждах? Я эту марку переложил так, чтобы она на виду была, а когда показался Мишенька, стал ее внимательно рассматривать — это хороший способ заинтересовать человека.
— Привет, шакал! — сказал Мишенька.
— Здорово, шавка! — ответил я.
Такие у нас отношения.
Мишенька сел рядом со мной и сейчас же навалился на меня плечом, еще и локтем в бок больно ткнул. Человек этот с ужасными привычками: во всем от него неудобства и неприятности.
— Скажи честно, надуть меня собираешься? — Мишенька стал открывать свой портфель и поддал мне локтем еще раз — под ребро.
Я его тоже под ребро ткнул. Мишеньку только так и можно вразумить. Наверно, я больно его ткнул: лицо у него стало злым, даже голос дрожал, когда он гово-. рил:
— Шакал, ты меня надуть хочешь! Признавайся!
— Слушай,— сказал я,— давай договоримся: ты меня шакалом не будешь называть, а я тебя шавкой.
Я боялся, как бы мои недоброжелатели не переняли у Мишеньки этого слова. Но, видно, под ребром у Мишеньки все еще болело.
— Шакал! Шакал! — кричал он и уже злости своей не скрывал.
Он вскочил на ноги, чтобы я видел во всей красоте его новенькие джинсы: фирмак, «Врангеля»! Но я делал вид, что не замечаю их, хоть Мишенька выставлял то одну ногу, то другую, только что не сказал: «Присмотрись-ка!» Но я и тогда бы не заметил: я несимпатичным людям такой радости не доставляю.
— Послушай, шакал,— сказал Мишенька,— я же знаю, у тебя есть две жвачки. Дай их мне и бери свою Осаку.
Я понимал, в чем дело: когда человек в таких джинсах, настоящей итальянской жвачке цены нет. Входишь в класс, здороваешься со всеми за руку, а потом на виду у всех достаешь жвачку с таким видом, будто у тебя их полный карман, разворачиваешь и суешь за щеку. В общем, Мишенька уже прямо-таки умолял меня. А жвачку мою в это время жевала Танюшка.
— Не канючь, кутя,— сказал я.— Жвачки у меня
316
здесь, в портфеле, но ты их не получишь... Одну еще могу дать...
Он подхватил портфель, обругал меня еще раз шакалом и пошел. Я знал, что дальше будет, и быстро подобрал ссохшуюся грудку земли. Когда Мишенька нагнулся, чтоб и себе подобрать, я в него запустил — очень метко, за ворот рубашки попало,— а сам отскочил вовремя. Быстроглазого не проведешь!
Я был зол на себя. Что же произойдет, если каждый будет раздаривать жвачки, которые ему самому нужны? Удручающая картина представилась мне: энергичные, деятельные люди, наподобие меня, ходят по городу и раздают жвачки всяким беспомощным, которые сами достать не в состоянии, и эти беспомощные сейчас же запихивают жвачки в рот и жуют, бесстыжие! Такая нелепость потрясала. И ведь не в первый раз я свое отдаю, сам себя в дураках оставляю.
Но как с этим бороться, если случаются в моей жизни минуты, когда я не Дербервиль, не Быстроглазый, а кто-то другой, загадочный для себя самого? Мне начинает казаться, что живу я то ли в сказке, то ли в фантастической истории братьев Стругацких, а уж в этих историях чего люди не вытворяют!
Однажды в таком состоянии я обзавелся живой мечтой, которой с тех пор порядочно уделил забот и средств.
Шел я как-то по городу и увидел в сквере на скамейке девушку. Девушка была необыкновенной. Посмотришь на нее — и досада берет, что к тебе она никакого отношения не имеет, живет в другом доме, разговаривает каждый день не с тобой, а с другими, и ты тут ничего поделать не можешь, потому что таково расположение людей на планете. Вон карамельками лакомится, а с тобой не поделится. И тут на меня в первый раз накатило: защипало в глазах, как будто что-то теплое пролилось в груди и стало растекаться, я, помнится, часто задышал, стал озираться — и я не узнал города: кто-то уже преобрази;! его, братья Стругацкие или Рэй Брэдбери. Дудел в ручонке у малыша резиновый шарик «уйди-уйди!», дребезжал старенький автобус, везя людей прямо в приключение, каких на земле не бывает; каждый человек на улице знал, что если не через полчаса, то уж через час обязательно что-то необычное с ним произойдет, и я понимал: нужно
.317
только немного постараться, чтобы мечта и жизнь в одно соединились. Я начал действовать.
— Не помешаю? — спросил я девушку и сел рядом с ней.
— Сиди,— сказала она безразлично.
— Давайте поговорим,— сказал я.— Когда люди рядом сидят и молчат — это, знаете ли, нехорошо: неуважение к личности. Угостите-ка конфеткой — не разоритесь.
Она угостила, но стала настороженно поглядывать на меня. «Странный мальчик!» — вот что ей думалось, ручаюсь. Она единственная во всем городе не поняла еще, что ее ждет событие, какое на земле редко случается. Но я-то знал, что даже очень и стараться не придется: все
само собой выйдет. Вот только нужно, чтобы и она поняла.
— Да вы не беспокойтесь, я просто так,— сказал я.— Вы вон какая, а мне всего двенадцать — что может получиться? Я для тренировки.
Она расхохоталась и после этого уже сама стала мне протягивать кулек с карамельками — поняла!
Теперь оставалось только ждать. Я был уверен: недолго. Так что я не удивился, когда заметил, что из того самого автобуса, который недавно продребезжал по мостовой, а теперь в противоположную сторону ехал, настойчиво смотрит на нас человек: блеснули очки — и солнечный зайчик шмыгнул по ее глазам и по моей шевелюре. Автобус задержался у остановки и потрусил дальше, тогда стало видно, что врач (и как, скажите, я догадался, что это врач?) уже стоит на тротуаре,— зайчик уже поигрывал у нее на лбу, на глазах, и она щурилась.
— Он что, нарочно? — спросила она меня так робко
и взволнованно, что я понял: она тоже догадывается — это тот, кого мы ждем.
Он стоял уже в десяти шагах, ближе подойти не решался. Мне оставалось только немного ему помочь.
— Садитесь, чего уж там! — крикнул я и показал рукой рядом с собой. Он подошел и сел.
— На одну минуту,— сказал он и быстро взглянул на
девушку так, как будто это запрещено.
Трудно ему это далось — три слова и взгляд. Он отдохнул и проговорил еще несколько слов:
— Поймите меня правильно: едешь по городу, смотришь в окно — и вдруг екает в груди, и чувствуешь, что
318
00
мимо проехать ты не в состоянии. Клянусь, я не приставала!
Опять ему нужно было передохнуть. Она тоже молчала; положила кулечек с карамельками на колени, руки на груди скрестила и стала смотреть с таким вот видом: «Ну и сидите, мне-то что?»
Он пробормотал, что работает врачом на «скорой помощи», что ему пора на дежурство, а он вот сидит. Она пожала плечами: что же вы так?
— Не могу уйти,— сказал он.
Она улыбнулась, а я кивнул. Я это понимал: уйдешь — и все, больше не увидишь. Никогда! Страшно подумать! Другому достанется только потому, что другому кто-то сказал: «Позвольте вам представить мою большую приятельницу».
Нет, настоящий человек с таким примириться не может!
— Скажите мне, где вас можно найти?
— Послушайте,— сказала она,— не тратьте время. Я так не могу!
Она расстроилась, что не умеет знакомиться. Странный человек! Надо было постараться, а не расстраиваться. Но ведь люди всякие бывают.
— Номер телефона какой-нибудь,— сказал он.— Подруги вашей, если у вас телефона нет.
Она молчала. Я таких людей не понимаю! Я же видел: она не прочь познакомиться с врачом, только ей хотелось, чтоб всю работу делал он один.
— Так нельзя,— подправил я опять чуть-чуть.— Это не честно.
Она только глазами повела в мою сторону, взяла в одну руку кулек с карамельками, другой открыла сумочку и переложила ее со скамейки на колени. Она положила кулек с карамельками в сумочку, только сумочку она не закрыла, сумочка — уж не знаю, как это вышло,— оказалась па асфальте, все из нее вывалилось: зеркальце, расческа, записная книжка, ручка, носовой платок и... студенческий билет. Врач помог ей все это собрать. Студенческий билет он раскрыл, почитал и сказал:
— Спасибо. Теперь я знаю все, что мне нужно. Я приду.
Вот как она ему сообщила и как ее зовут и где искать. Таких хитрюг мне не приходилось еще встречать.
— Советую вам отнестись к этому серьезно,— сказал
320
я, когда врач ушел.— Пропустишь случай — всю жизнь жалеть будешь.
— Ты что,— спросила она,— амур на охоте?
Она положила мне на колени кулечек с карамельками и ушла. Мне было жаль, что уже все кончилось: сам намечтал! И как здорово! Хотелось, чтоб они поженились. Но как я узнаю об этом? Скоро я понял: то, что ты намечтал, никогда от тебя не отвяжется. О том, чтоб они поженились, я мечтал без конца. (Очень жаль, что я не сообразил им в это время намечтать квартиру.) Однажды я набрал «03» и спросил женщину, которая принимает вызовы, не знает ли она, женился ли уже их врач, который в очках, молодой такой. Ну и выругала меня женщина! Я часа два после этого к телефону боялся подойти.
Много раз мне мерещилось, будто я их вижу идущими по улице. Как-то в сумерки они появились передо мной, как волшебники в фильме, как будто из вечернего воздуха соткались. Он был все в тех же очках, но в другом костюме; она тоже была одета по-другому. Но я столько раз ошибался, что решил как следует проверить. Я несколько раз забегал вперед и смотрел на них, потом отставал. Они остановились у автомата выпить газировки, я тоже сунулся со своей монетой. Я так на них пялился, что только с третьего раза в щелку попал.
— Как ты думаешь,— спросила она,— долго еще этот шпик будет за нами ходить?
— Скоро отстанет,— ответил он и опрокинул над моей головой стакан.
В стакане еще было немного с красным сиропчиком. Не они! Да и вряд ли я их узнаю: в мечтах люди меняются до неузнаваемости.
Так оно и вышло. Однажды у входа в кинотеатр со мной заговорил человек: как поживаешь, и прочее. Я отвечал, а сам думал: «Кажется, это сын большого дедушкиного приятеля, в их семье кто-то руку сломал». Рядом с ним стояла женщина.
— А мы о тебе часто вспоминаем,— сказал он.
— Мне тоже приходится о вас думать,— сказал я.— Позавчера мы с дедом о вас говорили. Рука у вашей мамы не болит уже?
И он и женщина засмеялись. Только тогда я сообразил, кто они.
— Я так и знал, что вы поженитесь,— сказал я.
1 1 Школьные годы. Выпуск IV
321
Я проводил их до самого дома. Я сказал:
— Не мешало бы взглянуть, как вы живете.
Наверно, ни у одного человека на свете мечта не ютилась в такой маленькой комнатенке. Комнатенку эту они снимали у старушки. Старушка обо мне слышала — ее позвали, чтоб она взглянула на меня. Она стала называть меня «сваток». Теперь, правда, тимуровцем называет: я, чем могу, стараюсь помочь своей мечте — делаю для них покупки, через деда я нашел для них хороших и недорогих мастеров, которые всего за сорок пять рублей и им, и старушке жилплощадь побелили, по моему совету они купили себе тахту, а никудышную кровать отнесли на чердак; в нашем подвале я нашел прекрасно сохранившуюся детскую кроватку, в которой я сам спал первые четыре года жизни,— я притащил ее для их малыша. Я объяснил, конечно, что кровать чешская и в прекрасном состоянии. Об эстетической стороне я тоже позаботился: принес им две картины. Одну купил, другую мне на день рождения подарили. Папа сказал о ней: «Хороша!» — и я решил: для мечты будет. Но что’ можно придумать, когда маленькая комнатенка, да еще и ребеночек. Нет, бесквартирная мечта — это не для меня. Я стараюсь вовсю, мечтаю, чтоб им поскорее дали двухкомнатную в новом районе. Как специалист, могу сказать: намечтать квартиру — это самое трудное. Но все же помаленьку продвигается: уже начали строить дом, в котором им квартиру выделили.
Его зовут Вадим, ее — Марина, а их малыша — Максимом. Еще мы с ними встретимся в этой истории.
Кто ответит, зачем мне понадобились эти заботы? Почему я пекусь об этих людях без всякой пользы для себя? Никто. Это необъяснимо. Надо просто знать, что это случается с людьми, и быть начеку: на тебя накатывает, а ты переключайся на дельное или беги, как я только что убежал от Танюшки.
И хотя я остался без марки, я чувствовал себя человеком, который большой опасности избежал. Страшно подумать, в какой расход меня бы ввела новая живая мечта: я бы каждый день навещал Танюшку, носил бы ей подарки. А как же иначе? Разве станет нормальный человек что-то жалеть для дочери своей? Я достал из портфеля калькулятор, вещицу на полупроводниках за пятьдесят пять руб-
322
лей. Только вчера мне дед его подарил к началу учебного года. Вообще-то пользу можно и на пальцах высчитать, даже дошкольник понимает, когда выгодно, а когда нет, но калькулятор еще большую ясность вносит в жизнь. Недаром дед сказал:
— Помни, все в жизни можно подсчитать!
Я подсчитал, сколько бы израсходовал на Танюшку за год, если бы в день тратил по пятьдесят копеек. Порядочная сумма получилась — пришлось бы от коллекционирования отказаться. А польза? Нет, таких цифр, чтоб пользу подсчитать, не было. Я погладил пальцами калькулятор: лежит вот на ладони, и все тебе ясно, и даже мечту можно перевести в цифры и решить, что с ней делать. Калькулятор советовал убрать ее из жизни. Только вот как это сделать, если на меня накатывает? Как защиплет в глазах, как разольется тепло в груди! И не дай бог, если еще поблизости в детский шарик какой-нибудь проказник задудит.
Я задумался. Я спокоен был, мысли не суетились, а чтобы уверенней себя чувствовать, я перемножал, делил и возводил в степень разные числа. В первый раз я серьезно решал, как дальше жить — здраво, не для виду, не для того, чтоб побаловаться калькулятором. И вот пришла ясность: с одной живой мечтой я как-нибудь управлюсь — пусть остается, раз уж я к ней привязался. А другие, если по-человечески жить хочу, близко не подпускать, какими бы заманчивыми ни казались. Волю проявить, в кулаке себя держать! Вот так! Это мой обет. Я прислушался к себе, каков я в кулаке. Воля наполняла меня — сперва твердым стал живот, потом мускулы рук и ног напряглись, я становился почти каменным. Прекрасно! Калькулятор я решил носить в кармане, чтобы он мне всегда о моем обете напоминал.
Я сидел на бугорке у забора, за которым парники и грядки треста зеленого строительства, все на той же узкой, плывущей вниз улице, вблизи лопушандии,— но какой она теперь была далекой! Наверно, кое-кому из читателей показалось, что я слишком долго просидел на этом бугорке. Знаю таких: читают книжки, чтоб узнать, кто на ком женился. А если человек думает о важном, им это не интересно. Не понимают люди, что главное в книжке — это польза, совет. В каждой книжке столько советов, что только успевай брать. Одна книжка так и называется: «1000 советов домашней хозяйке». В другой — «Мечты сбывают¬
323
ся» — советов не меньше, только они не пронумерованы. Как научиться ловить язя? Как отличить охотника от браконьера? Как достать запчасти для трактора? Как питаться, чтобы не было изжоги? Как помыть голову морской водой? Пожалуйста, учись — для того и книга писалась. В одном автор этой книги ошибся: он всем советует мечтать, а не понимает, что мечта бывает далекой, а бывает живой. Далекая мечта безобидна, далеких у человека может быть сколько угодно. А вот живая требует забот и средств. Тут я бы посоветовал: сперва подсчитай, а потом мечтай.
О том, как два джентльмена вели в лесу не совсем обычный разговор. В этой главе вы найдете полезный совет,
касающийся тогог как лучше всего преподносить себя людям
Мне нравятся здешние звуки: то дужкой ведра звякнет, то цепью у собачьей будки, а то курица закудахчет до того* заполоханно, что хочется спросить: «Что, собственно, произошло?» Все это будит мою фантазию, у меня появляются планы — а что за жизнь без планов?
Я сидел на том же бугорке у глухого забора и поглядывал в ту сторону, откуда должны были появиться две красивые девочки из нашего класса, Люсенька Витович и Света Подлубная. Я задумал пройтись с ними до школы, а потом по школьному двору. План мой разрастался, сами собой придумывались подробности: Люсеньке я разок положу руку на плечо, а со Светой я так буду держаться, что каждому станет ясно: я и ей могу руку на плечо положить, да только мне неохота.
Меня одно смущало: захочет ли Света идти вместе со мной. Она на меня дуется. Смешно сказать: из-за того, что я ее дернул за нос. В классе такая забава пошла: меня дергали, и я дергал. Мне и в голову не пришло, что такого гордого человека, как Света, за нос дергать нельзя. Я без всякой злости ее дернул, всего разок и не сильно. А она покраснела и чуть не заплакала. Вот какие разные люди бывают: другого дерни за нос или хоть пинка дай — он даже не заметит, а Света мне этого простить не может. Раньше, если мне хотелось поговорить об интересном, я к ней подсаживался. Есть, конечно, в нашем классе и другие, с кем можно об
324
интересном поговорить, но никто не умеет во время разговора так серьезно смотреть на тебя, так внимательно слушать,— разговор получается замечательный. Я специально для этих разговоров журнал «Наука и жизнь» читал. Лишиться такого собеседника из-за ерунды! Я стал придумывать, как подлизаться к Свете, чтобы ей даже в голову не пришло, что я подлизываюсь.
Папа говорит, что у меня каждый день от полутора до двух тысяч планов. Это, конечно, преувеличение. Но в то утро у меня сразу же новый план появился, как только я их увидел, двух очкастых людей — мать и сына. Они шли, взявшись за руки, низкорослые, не скажешь, что красивые: это были люди новые, иначе бы они с таким интересом не осматривали каждый домишко и не шарахнулись бы от собаки, которая любит пугать новичков, бросаясь со страшным лаем на сетку ограды. Я сразу понял: что это наша новая классная руководительница с сыном: такими мне описал их вчера Горбылевский — он их видел, когда приходил в школу за учебниками. (С прежней нашей классной руководительницей, Еленой Николаевной, мы расстались в конце прошлого учебного года: она переехала в другой город.) Я решил с ними познакомиться: не помешает. Да и интересно будет в школьный двор заявиться с новым классным руководителем. Обо мне говорят: «Быстроглазый раньше всех поспевает». Приятно, когда это подтверждается.
Я знакомлюсь с людьми двумя способами. Первый способ такой: я говорю «привет», и человек отвечает «привет». А что ему еще остается? И пока он соображает, где меня встречал, я ему что-нибудь смешное говорю — и вот мы знакомы. Второй способ — дербервилевский. Тут я представляюсь лордом Дербервилем, цилиндр приподнимаю и держусь с достоинством. Попробуй-ка пройти мимо, если сам лорд Дербервиль тебе представляется. С этими я решил знакомиться дербервилевским способом. Я отбросил портфель, и сейчас же у меня в руке появился стек, я стал им похлопывать по голенищу своего охотничьего сапога. Моя охотничья куртка в клетку и с отворотами была небрежно застегнута на одну пуговицу, светлый цилиндр я приподнял над головой и подержал его подольше, чтоб они разобрались, что это не кепка какая-нибудь.
— Лорд Дербервиль,— сказал я,— приветствует вас в своих охотничьих угодьях.
325
Я поклонился даме и протянул руку ее сыну. Кто-то из них ойкнул, скорей всего учительница, потому что сын ее уж очень неожиданно вырвал у нее руку и бросился ко мне. Сколько рукопожатий! Уже пора было отпустить руку лорда Дербервиля, но он все тряс. Он говорил, что зовут его Генри Хиггинс («Вы, конечно, слышали обо мне, сэр?»), что он изучает языки и счастлив познакомиться со знаменитым охотником и сыщиком.
— Я просто счастлив, сэр. Я просто счастлив! — И все тряс мою руку.
Я не знал, что думать. Он и правда был счастлив. Я подумал: «Может, он чокнутый и в самом деле себя Хиггинсом считает?» Но учительница смотрела на его проделки без удивления. Она сказала:
— Вот уж не думала, что в этих краях проживает еще один знаменитый англичанин.
— Мама, ты иди,— сказал Хиггинс,— мы с лордом поохотимся. Тебе ведь это не интересно, правда?
— Не интересно,— сказала учительница,— но я не люблю, когда меня бросают посреди улицы.
— Посреди леса, мама! Иди по этой тропинке, и ты выйдешь прямо к колледжу. Ну я тебя прошу! У нас с лордом совсем мало времени.
Учительница пошла, но неохотно — понятно было, что она сейчас остановится.
— Сэр,— сказал я,— по-моему, ваша матушка хочет вам что-то сказать.
— О! — ответил Генри Хиггинс.— Ее нужно поцеловать, без этого она не может работать.
Учительница наклонилась к нему, когда он к ней подбежал, и он ее поцеловал. Конечно, это вызвало бы удивление, проделай такое кто-нибудь из нашего класса. Но Генри Хиггинс — это совсем другое дело. Ах, как он нежен со своей матушкой!
— Простите, сэр, что я вас оставил. Мы с матушкой очень привязаны друг к другу — ей целый день будет чего-то недоставать, если я ее не поцелую,— подтвердил Генри Хиггинс мЬи мысли.
Потом он добавил, по-хиггинсовски смутившись,— скулы его покраснели, и веснушки на них перестали быть видны:
— Дело в том, сэр, что мы вдвоем на целом свете. Представьте, я даже не знаю, кто был мой отец.
Мне захотелось спросить, на самом ли это деле или это
326
касается только Генри Хиггинса, но я спохватился, что такой вопрос не к лицу лорду Дербервилю.
— Ах, сэр,— сказал я,— чего не бывает! Представьте, сэр, мой отец совсем не лорд Дербервиль.
— О сэр,— сказал он,— как это интересно! Кто же ваш настоящий отец?
Ему в самом деле было интересно. Он переминался с ноги на ногу и смотрел мне в рот — срочно надо было придумать, кто мой настоящий отец.
— Ни за что не догадаетесь,— ответил я.— Мой отец граф...— Как назло, я позабыл фамилии всех английских графов.— Мой отец, сэр...— Я тянул время.— Мой отец... О, вы ни за что не догадаетесь...
— Граф Мальборо!
— О! — изумился Дербервиль.— О, сэр, как вы догадались? Это непостижимо!
Генри Хиггинс был доволен.
— Все очень просто, сэр,— сказал он с хиггинсовским смешком.— Вы произносите «л», как его произносил только один человек в Англии — граф Мальборо.
— О! — опять изумился Дербервиль и подумал: «Что это я все «о» да «о», надо что-нибудь другое придумать».— Э-э-э, сэр,— сказал он.— Э-э-э... Я вот о чем хотел спросить...
Хиггинс склонил голову, наставив на Дербервиля ухо.
Но Дербервилю опять нечего было сказать.
— У меня весьма деликатный вопрос, сэр. Э-э-э...
«Это «э-э-э»,— думал Дербервиль,— ну зачем я за него
уцепился?»
— Я понимаю ваше затруднение, сэр,— сказал Хиггинс.— Вы хотите знать, чью фамилию я ношу? Моей матушки, сэр. Она перешла к ней от моего деда, знаменитого мореплавателя Эдуарда Хиггинса.
— Чрезвычайно интересно! — сказал Дербервиль.— Но не находите ли вы, сэр, что нам пора? — Дербервиль мотнул головой в ту сторону, куда ушла мама Хиггинса: ему не хотелось произносить слово «школа». Разговор получился замечательный, но он потребовал больших усилий, и Дербервиль боялся, что начнет говорить не то.
Мы шли молча. Я отдыхал от разговора и готовился преподнести себя Хиггинсу. Есть такое правило, которому следуют все люди с умом: познакомившись с человеком, преподнеси себя в лучшем виде. Это очень важно, иначе человек может чего-то в тебе не заметить. Тут продуман-
327
ность нужна. Главное — не проявлять излишней скромности, ведь если ты сам себя барахлом считаешь, то кто же в тебя поверит? Мы с дедом это понимаем.
Пора уже, пора было себя преподносить! Но у меня не ладилось: два раза я открывал рот й произносил все то же проклятое «э-э-э». Хиггинс улыбался. Он, конечно, думал, что я собираюсь продолжить дербервилевский разговор. А все дело было в том, что заготовки оказывались никудышными. Я спохватывался, что сейчас наговорю глупостей, продешевлю с самого начала: уж очень бесхитростные, недипломатичные слова шли на язык. «Хиггинс,— хотелось мне сказать,— ты мне понравился с первого взгляда! Ты не представляешь, как я рад, что встретил тебя. Давай будем дружить: я буду любить тебя, ты будешь любить меня, а остальных мы близко не подпустим: они до такой дружбы еще не доросли». Вот каких чистосердечных глупостей я чуть не наговорил. Хорошо, что я знаю: без дипломатии с людьми нельзя! Скажешь человеку, что он тебе понравился, а он возьмет и завоображает. Ведь известно: на свете еще не рождался человек, которому бы не' хотелось повоображать.
Начнем сначала! Мало кто понимает, какое это трудное искусство — преподносить себя. Тут как будто невзначай заинтересовать нужно: намекнуть, что у тебя связи или что ты достать что-то можешь. Каждый, кто хоть немного разбирается в жизни, понимает: заинтересованный человек ведет себя гораздо лучше незаинтересованного.
Я решил позондировать, чем можно заинтересовать Хиггинса.
— Хиггинс, о чем ты мечтаешь? — спросил я.— Не удивляйся моему вопросу. Мне кажется, мы можем подружиться, и я бы хотел узнать тебя поближе. Ведь недаром на пионерских сборах говорится: «Скажи мне, о чем ты мечтаешь, и я скажу тебе, кто ты».
Хиггинс засмущался. Он сказал, что не может вот так сразу о своих мечтах, потом, когда мы познакомимся поближе...
— Ты прав, Хиггинс,— сказал я.— Вот так сразу нельзя. Но я ведь почему спросил? У меня предчувствие, что некоторые из твоих мечтаний осуществятся не сегодня, так завтра. Самое позднее — послезавтра. Имей это в виду: так случается со всеми, кто дружит со мной.
Хиггинс удивленно взглянул на меня: переборщил я — сорвалось! В первый раз со мной такое: не сумел
328
преподнести себя. Еще Хиггинс подумает, что я тупица. Досадно!
Все дело, конечно, в том, что я волновался: Хиггинс не только мне нравился — ведь он тот самый человек, который начнет окликать меня Дербервилем. За ним и другие подхватят. Что будет! Два англичанина на всю школу! Кое-кому тоже захочется стать англичанином, но мы никого больше не признаем. Мы будем в обнимку по школе ходить, и какой глаз на нас не задержится! Через неделю забудут, что у меня была хотя и неплохая, но не совсем подходящая для меня кличка — Быстроглазый.
В общем, Хиггинс оказался еще и нужным человеком. Хиггинс оказался человеком, которого я два года ждал,— так как же было не споткнуться в разговоре?
О том, как у меня похитили нужного человека и как я сделал все, что в человеческих силах,
чтобы его вернуть
Мы вышли из лесу; до нас уже доносился школьный гомон — пора было подумать о том, как уберечь Хиггинса от нежелательных контактов.
Есть у нас в классе два человека, которые постараются перехватить у меня новичка. Эти люди прямо-таки прилипают к новичкам, с первого же дня им завтраки свои суют, тетрадки для списывания подсовывают. Один из них, Славка Гудин,— ужасный подлиза, ему все равно, к кому подлизываться, всем уже его подлизывание надоело, поэтому новичок для него — бесценный человек. Другой, Валерка Зякин, дня не может прожить, чтоб не устроить кому-нибудь пакость. Для него новичок — тоже находка, он с новичками устраивает себе полноценную дружбу. До первой пакости, конечно. И вообще, к новому человеку в классе проявляют интерес: есть такие, что любят повы- спрашивать, потрогать значок на новом человеке или хотя бы пуговку. А это не очень приятно, когда твоего человека руками трогают.
— Хиггинс,— сказал я,— в нашем классе такой народ! Ты держись поближе ко мне. Вот увидишь, что это'-за народ. На вид безобидные, но могут кое-что устроить.
«Пусть будет немного испуганный»,— решил я.
Когда мы входили во двор, к нам подскочил Валерка Зякин. Я оттер его плечом.
329
— Это ты мне вчера пакость устроил?
— Какую? — спросил он. На всякий случай он решил держаться от меня подальше.
Хиггинс.
Мы прошли по школьному двору на виду у всего нашего класса и встали в строй между телефонщиками и пшенками. Я поправил Хиггинсу воротник рубашки — пусть все видят, что я покровительствую новенькому. «Рубашечку мы ему заменим,— решил я.— Отведу его
к своему парикмахеру, пусть он ему сделает круглую голову. Остальное сойдет».
— Посмотрите, что за человек! — сказал я телефонщикам.— Вы поняли?
Телефонщиков я не опасался: человек в таких одеждах их не заинтересует. Вот если бы на Хиггинсе была замшевая курточка или фирменные джинсы... Горбылевский кивнул Хиггинсу, Марат Васильев пожал руку и проговорил: «Понятно!» А Мишенька изобразил: что тут особенного — очкарик. Он не хотел отвлекаться. Он рассказывал о поездке за город на новых «Жигулях», о том, как они всех обгоняли, даже интуристов, о том, как отец его здорово вырулил в трудном месте. В Мишенькином рассказе, как всегда, было до черта вещей: два автосифона, оранжевая палатка, необыкновенные ласты и маска, японский транзистор, немецкая зажигалка, три пары светозащитных очков, газовая плитка с баллонами, он даже два раза упомянул о золотой брошке своей мамы. Я не в восторге от нашей компании: кроме телефонных разговоров, у нас ничего не получается, хоть мы без конца говорим о каких-то делах, записываем время, торопимся. Когда же мы встречаемся, то от скуки обзываем друг друга шакалами, шавками, крохоборами, жлобами, пинаем друг друга ногами. Все это мы делаем под музыку Мишенькиного магнитофона — вечно он его с собой таскает. Вот пшенки — другое дело. Это удивительное содружество! Они умеют придумывать, и им всегда весело. Однажды они закончили учебный год с одинаковыми оценками у всей четверки. Такого никогда на свете не было и больше не повторится!
330
Они называют друг друга АИ (Альберт Иванов), Л Б Леонид Баталин), ВМ (Владимир Михалюк) и СП (Сергей Подавалкин). Все они коротышки, самые низкорослые в классе, дохляки, сидят они вместе—занимают две парты у окна — и ходят в обнимку. Я бы с удовольствием с ними подружился, но не подхожу по росту.
Пока я наблюдал за Мишенькой и придумывал, как бы пресечь его хвастовство, у меня похитили человека, которого я подобрал себе в друзья. Не знаю, как это получилось: рядом со мной оказался АИ, а Хиггинс стоял на его месте в окружении ишенок. СП одаривал его лесными орешками — можно было подумать, что пшенок не четверо, а пятеро: Хиггинс был одного роста с ними и вообще здорово на них похож. Я попытался его отбить.
— Сэр! Хиггинс! — кричал я.— Сейчас я вас освобожу.
— «Сэр»! — передразнивали меня пшенки. Они выстроили заграждение, щипались, щекотались, тыкали пальцами в меня, как копьями. И хотя я стал почти что каменным, я не выдерживал, отскакивал, а один раз даже по-девчоночьи взвизгнул. Когда пшенки вместе, это хищники. Тут никто из них уже не помнит, как они позорно улепетывают от меня, когда мы один на один встречаемся. Телефонщики и не подумали меня защищать.
А Хиггинс? Он так себя вел, как будто это шуточки, а не серьезная борьба за человека. Он делал вид, что собирается убежать. Пшенкам эта игра нравилась, они кричали: «Куда! Куда! Ах, озорник! Пострел!» И до чего же они додумались! Один из пшенок по-баскетбольному водил руками вверху, караулил Хиггинса, как воробья, другой пшенка опасался, что Хиггинс кошкой прошмыгнет,— он у самой земли преграждал ему дорогу. Нет, с пшенками не соскучишься.
— Дербервиль, иди сюда: тут орешки,— сказал это Хиггинс для приличия, на меня он не смотрел, выковыривал зубом ядрышко из скорлупы.
«Может, из-за орешков он с ними? — подумалось мне.— Поест и вернется. Может, он лесные орешки так любит, что не может совладать с собой?» Я чуть было не крикнул ему: «Хиггинс, да у меня этих орешков дома сколько хочешь!» Но все же не выговорились эти слова. Нет, дело тут не в орешках было. Уж очень низко ставил меня Хиггинс. Вроде прохожего я для него был. Не придавал он мне значения. С пшенками ему интересней.
331
П lu © и \< И
Вот что значит плохо себя преподнести!
Я все-таки решил бороться до конца: ведь нужный человек! Верну — и все тут! Я понимал, что трудно будет это сделать: после первого звонка мы расходимся по классам строем.
Так и вышло. Сначала директор отбарабанил свое «в этот солнечный, праздничный день», хотя солнышко в это время и спряталось за тучку; потом нас поздравила с началом учебного года старейшая учительница школы (голос у нее, конечно, был взволнованный, и он дрогнул, как всегда, на словах «дорогие дети», «родная школа» и «наши традиции»); как только она закончила, вышел вперед военрук, и я стал следить, когда у него покраснеет лицо,— оно и на этот раз покраснело раньше, чем он начал выкрикивать команды; под трум-ту-ру-рум (барабаны) и ту-ту-ту (горны) мы двинулись строем... Но тут произошло незапланированное: какой-то первоклассник на школьном крыльце, как на сцене, упал пузом на свой шикарный букет — все радостно грохнули.
Пшенки утащили Хиггинса с собой, посадили его за свою парту, третьим между ЛБ и АИ. Подступиться к ним было невозможно. Тогда я стал обдумывать и понял, что главное сейчас — сделать так, чтобы Хиггинса посадили со мной за одну парту. У нас в классе было только одно свободное место — на последней парте: там сидит малоуважаемый человек Шпарага. Он выделяется только тем, что его папа выступает на всех родительских собраниях. Многим родителям его выступления нравятся. С неделю после выступления своего папы Шпарага ходит
332
по школе с выпяченной грудью и с руками за спиной — то на одном этаже, то на другом, чтобы все, кому это интересно, могли посмотреть на человека, у которого папа так замечательно выступает. Иногда я собираю телефонщиков и подхожу к Шпараге с разговором о его необыкновенном папе. Я спрашиваю, не знает ли он, о чем его папа собирается говорить на следующем родительском собрании. Шпарага серьезно и радостно отвечает, что не знает, что это для него самого секрет, но, если узнает, обязательно мне сообщит.
— Смотри же, Шпарага,— говорю я.— Ты обещал! Нас это очень интересует.— И подмигиваю телефонщикам.
Что же выходило? Если Чувала пересадить к Шпараге, то классному руководителю ничего не останется, как посадить Хиггинса рядом со мной. Я вспомнил, что стал почти каменным, и тяжелыми шагами подошел к Чувалу.
— Слушай, Чувал,— сказал я,— в прошлом году я тебя пригласил сидеть со мной, так ведь? А в этом году я хочу сидеть с новеньким. Давай садись со Шпарагой. Какая тебе разница?
Чувал расстроился и сразу стал похож на того чудака, который по ночам с крыши луной любуется.
— Быстроглазый,— сказал он,— я не пересяду! Это мое место. Сам иди к Шпараге!
И хотя я стал почти каменным, я пожалел, что затеял это: Чувал готов был расплакаться. Но не мог же я позволить, чтобы он покрикивал на меня. Я перелез через спинку парты, сел на свое место рядом с Чувалом, уперся спиной в стену, а ногами стал спихивать Чувала. Он цеплялся за парту, упирался, но вдруг вскочил и выбежал из класса. Вот нежная душа! Я догадывался, куда он убегает: в парк. С ним такое случается: смотрит учитель, а Чувала на уроке нет. Где Чувалов? В парке! Раза два пробовали об этом с его мамой говорить. Но она такая же странная, как и ее сын: начинала нервничать и только одно повторяла: «Не трогайте вы его, не трогайте! Погуляет — вернется». Вот учителя и махнули рукой на эти странности Чувала: учится он хорошо, к тому же такой застенчивый, что его так и хочется похвалить.
Но на этот раз Чувал в коридоре наткнулся на маму Хиггинса, она вернула его в класс. Началось разбирательство. Чувал молчал. Ему теперь вздумалось улыбаться: что это, мол, я выкинул такое? Не хотел он перед всем классом
333
признать, что я его обидел. Эту улыбку надо было видеть. В классе притихли. Что он со мной делал этой улыбкой! Щипать в глазах начало — я чуть не раскаменел. На Свету Под- лубную эта улыбка тоже подействовала: Света рассказала маме Хиггинса, из-за чего Чувал хотел убежать. На меня Света бросала презрительные взгляды.
— Он вообще проныра! — представила ома меня новой учительнице.
Я сказал:
— Чего суешься, фискалка? Мама Хиггинса мне велела
молчать и стала наводить справедливость: меня она пересадила к Шпараге, а Хиггинс сел на мое место с Чувалом. Никогда еще мои начинания не оканчивались таким крахом. Но я решил не падать духом.
— Привет! — сказал я Шпараге.— Что там твой папа собирается нам новенькое сказать?
На этот раз Шпарагу какая-то муха укусила.
— Замолчи! — сказал он.— Тебе ли над моим папой смеяться? Ты... головоногий! — выпалил он и отвернулся, чтоб уже никогда в жизни на меня не смотреть, но зато косился он на меня почти все время — ох, нехорошо он обо мне думал. Но приходилось мириться. Не дашь же человеку под ребро за мысли!
На перемене мама Хиггинса подозвала меня. Произошла первая в этой истории беседа о моих поступках. Мама Хиггинса так возмущалась, как будто никогда с плохими поступками не сталкивалась. Хотелось ей объяснить, что поступки бывают всякие,— нужно это помнить, тогда сохранишь здоровье. Я сказал:
— Вы человек новый и многого не понимаете. Сейчас я вам кое-что покажу.
У меня для такого разговора была припасена вырезка со статьей из газеты. В статье говорилось о воспитательной работе в школах, о том, в каких школах справляются, а в каких нет. Нашу школу в статье критиковали. Я показал вырезку маме Хиггинса. Она прочла и спросила:
— Ну и что?
Ш пар яга.
334
Я ей объяснил:
— То, что произошло у меня с Чувалом,— это ерунда. В нашей школе и не такое случается: в позапрошлом году двое десятиклассников рвали цветы с клумбы чуть ли не в центре города.
— Твой поступок ничуть не лучше,— сказала она.
— Может, вы и правы,— сказал я и сделал вид, что задумался над своим поступком.— Только вот педколлектив здесь не на высоте. Вы, наверно, заметили, как прошел первый звонок? Не упади первоклассник, вы бы ни одной детской улыбки не увидели.
Кажется, я ее озадачил. Но мне этого мало было: я большие надежды возлагал на статью: ценная бумага! Я сообщил маме Хиггинса, что уже давно сам своим воспитанием занимаюсь, потому что на такой педколлектив нельзя положиться. Но что я могу сам в свои тринадцать лет? Опыта мало, знаний мало. Понятно, что не всегда получается. Тут у нее лицо стало удивленным, и я приободрился.
— Я-то еще ничего,— стал я отделывать концовку разговора.— Вы скоро убедитесь, какая в этих стенах публика. Каждый третий — хулиган, а обманщики — так все до одного.
И ей не помешает быть немного испуганной. Я потянул к себе вырезку: еще пригодится. Мама Хиггинса о чем-то задумалась и не сразу разжала пальцы. Потом она стала меня честить: спросила, как это я додумался носить такое и предъявлять учителям. Как будто трудно додуматься приберечь нужную бумагу. У деда целая папка бумаг, и он знает, когда какую достать. Мама Хиггинса назвала меня маленьким демагогом и перестраховщиком в пеленках. Я понял: нельзя соваться с бумагой к малоизученному человеку.
— На меня ты можешь положиться,— подытожила мама Хиггинса.— Я буду заниматься твоим воспитанием по всем правилам. Ни одна газета не придерется. Держись, Дербервиль! — И улыбнулась.
Вот так улыбка! Нужно быть начеку.
О том, как я чуть было не стал суеверным и вынужден был призвать на помощь науку.
Здесь вы найдете полезный совет, касающийся того, как быстрей всего отыскать
научную истину
Я вспомнил, что забыл окропить свой портфель.
Во втором классе в первый день занятий по дороге в школу я поскользнулся все на той же узкой, плывущей вниз улице — она после ночного дождя над многими подшучивала — и шлепнулся в лужицу, успев бросить под себя портфель. Наверно, это ловко у меня вышло: старшеклассник, который шел следом, сказал мне «молодец», помог встать и посоветовал помыть портфель. Я пошел к колонке. Собрались зрители, все нашли, что это смешно, когда под струей портфель моют. А я был так доволен своим ловким падением и похвалой старшеклассника, что вдруг научился стишки сочинять.
— Кропи, кропи, водичка, чтоб было все отлично,—. приговаривал я.— Кропи, кропи, водица, чтоб мне не осрамиться.
Людям понравилось. Двое первоклассников и один второклассник следом за мной подставили свои портфели под струю и повторили заклинания. С тех пор я каждый год первого сентября «кропил» портфель, в присутствии зрителей, конечно. Для забавы я это делал — для чего же еще? Но на этот раз я портфель не окропил, не то чтобы забыл, а колонка не работала, отключили: в каждом доме уже водопровод.
На большой перемене, неся портфель с таким чувством, как будто он украденный, я поперся в туалет; я подставил портфель под струю крана. Только стишки я на этот раз нашептывал: еще услышат. Вот до чего дошел! Я придаю большое значение всяким начинаниям, а тут первого сентября столько неудач.
Когда я вышел из туалета, на меня уставился Зякин: этот обязательно высмотрит, если есть что высматривать.
— С портфельчиком в туалет ходишь? — спросил он.— Интересно, зачем?
Только не хватало, чтоб на меня пальцем показывали.
Хоть портфель у меня и мокрым был, меня это не успокоило. Я решил все дела отложить на завтра: ясно уже было — сегодня ничего хорошего не выйдет. А дел было
336
у меня много, и все важные. Нужно было навестить моего покровителя из 9-го «А» Валеру Ешанова, договориться об обмене марками и попросить защиты. Нужно было купить второй дневник: бабушка мне за каждую пятерку и четверку платит тридцать копеек, но если я получу двойку или тройку, то целую неделю ни копейки не дает. Из-за какой-то тройки можно порядочные деньги потерять. Вот я и держу для убыточных оценок второй дневник, который никому дома не показываю. Нужно было организовать хорошее начало учебного года: получить хоть одну пятерку. Я это каждый год проделываю: слушаю внимательно объяснение, а потом тяну руку — это же как первая монета в копилку! Я не буду перечислять дел не таких важных, но все равно необходимых для человека, который живет не как придется, а с толком.
От беззаботной жизни я хирею и становлюсь мнительным. Я сидел на непривычном месте и косился на Шпарагу, а Шпарага косился на меня. Я злился на него за то, что он думает обо мне всякие гадости, и два раза толкнул его локтем, чтобы он на мою половину парты не сдвигался. После этого он уже не только косился, а и нашептывал, потом и напевать что-то под нос стал, оскорбительное, конечно. Я сказал:
— Шпарага, лучше прекрати это пение!
Хиггинс ко мне не подошел, хоть пшенки вскоре перестали за ним присматривать. Я сам с ним заговорил.
— Что же ты, Хиггинс? — сказал я.— К пшенкам переметнулся?
Хиггинс грустно посмотрел мне в глаза.
— Что делать, Дербервиль? Отношения не получились. Но давай не будем отчаиваться.
Я чуть не расхохотался. Я подумал: со странностями мальчик. Позже, во время разговора с Хиггинсом у меня дома, я понял, что Хиггинс не свободный человек, как я или вы: он во власти воспоминаний и всяких чувств находится. А тогда я не знал, что и ответить. Я пробормотал:
— Ну, как хочешь, Хиггинс,— и отошел.
В тот день я несколько раз ловил на себе грустный взгляд Хиггинса. Вместо того чтобы организовать отношения, он грустил из-за того, что они не получились.
После уроков я не понесся, как бывало, домой хвастаться первой пятеркой и требовать у бабушки платы за нее, а долго сидел на скамейке в скверике, который
337
возле церквушки. Я на церквушку поглядывал и размышлял о религиозном суеверии. Нет, это недопустимо, чтобы в наши дни человек верил, что все его неудачи оттого, что он не окропил портфель. Нужно было искать научное объяснение тому, что происходит. И я стал искать. Я перемножил на калькуляторе два трехзначных числа, посмотрел на церковный крест сперва одним глазом, потом другим — и у меня появилась уверенность, что научное объяснение вот-вот отыщется. Нужно только еще кое-что сделать. Я достал из портфеля коробочку с цветными мелками: я решил применить свой очень хороший способ, при помощи которого нахожу ответ на любой вопрос. Я отсчитал от скамейки пять шагов и провел красным мелком черту. После этого я вернулся к скамейке и стал на эту черту смотреть, заодно я приводил свои мысли в порядок, прогонял все посторонние. Трудней всего было прогнать мысли о Чувале, Свете Подлубной и Хиггинсе, отказавшемся со мной дружить. Но в конце концов я управился, мне уже ничего не мешало — я мысленно держал перед глазами большую стопку журналов «Наука и жизнь», в стопке были все номера, какие я прочел за свою жизнь. Все тем же способом, мысленно я стал брать журналы из стопки и быстро просматривать их. Я двинулся к красной черте, но не обычными шагами — я приставлял пятку одной ноги к носку другой: научное объяснение при таком способе отыскивается в тот момент, когда обе ноги окажутся за красной чертой.
На ближней скамейке сидели мужчина и девочка и наблюдали за мной. Девочка чуть было не помешала мне просматривать журналы.
— Папа, да что он делает? Что он делает? — спрашивала она.
Папа оказался догадливый.
— Не мешай,— сказал он.— В школе задали.
Все у меня, конечно, получилось. Только научных объяснений оказалось два. И нужно было решить, какое из них верное.
Первое мое научное объяснение строилось на теории циклов. Вся жизнь человеческая состоит из этих циклов, их три: интеллектуальный, эмоциональный и физический.
И каждый цикл имеет период подъема, когда все у человека получается, и период спада, очень опасный, когда ничего, кроме неприятностей, получиться не может, как
338
ни старайся. Если у меня сегодня все три цикла на спаде, то нечему и удивляться — все будет идти через пень колоду. Второе научное объяснение опиралось на теорию вероятности. По этой теории в жизни каждого человека случается определенное количество неудач, неприятностей, неурядиц, конфузов, досадных происшествий, недоразумений и просто несчастий, а поскольку моя жизнь последние годы проходила без всех этих перечисленных отрицательных явлений, то рано или поздно они должны были посыпаться на меня, чтобы вероятностная норма не оказалась недовыполненной. Во второй теории, как видите, было мало утешительного, но наука есть наука, нужно ее принимать как есть. Все-таки это лучше, чем находиться в плену у суеверий. Я был рад, что вырвался из этого плена.
Не успел я уйти со скамейки, как убедился в правильности моих научных выводов. Девочка на соседней скамейке разговаривала с отцом и поглядывала на меня с уважением. Эти дошкольники! Они готовы уважать тебя только за то, что ты ходишь в школу и делаешь уроки.
— Ты догадываешься,— спрашивала девочка отца,— что мама тебе сюрприз приготовила?
— Догадываюсь.
— Ия! Как ты думаешь, что?
— Думаю, выходные туфли.
— Ия так думаю! Я тебе скажу по секрету: черные.
— Эй! Держи язык за зубами! — сказал отец.
Девочка смутилась, но тут же зашлась смехом. Они мне
нравились. И разговор их меня заинтересовал. Когда я был такой, как девочка, я считал, что разговоры о подарках — самые интересные. Но даже теперь, когда я читаю журнал «Наука и жизнь», мне эти разговоры продолжают нравиться, хотя они и несерьезные.
— Я молчу,— сказала девочка,— больше секретов не выдаю. Только ты мне скажи, что ты ей подаришь. Тоже туфли? Вот будет интересно! Она тебе туфли, и ты ей туфли. А перед этим она тебе галстук, а ты ей вязаную кофточку, а еще перед этим ты ей платье, а она тебе белую сорочку.
Я стал изучать лицо мужчины: приятное, ничего не скажешь. Такой барахло не подарит. Наверно, платье было дорогущее.
Я продолжал слушать. Часы, чайный сервиз, еще одна
339
кофточка, сочинения Пушкина. Колечко с камушком! Брошь! Все это он ей подарил. А ее подарки были поскромнее. Я понял: она — его живая мечта и ему хочется дарить ей вещи подороже. Брошь, наверно, была золотая, такая, как у моей бабушки,— с маленьким бриллиантиком. Я опять стал изучать лицо мужчины. Бывает же такое: видишь незнакомого симпатичного человека — и тебе его денег жаль, как своих. Может, он все-таки ей серебряную брошь подарил? Вряд ли: уж очень он симпатичный. Скорее всего, бриллиант был большой и редкий. Где он его только достал? Попался, бедняга! Нужно было бежать, как я убежал от Танюшки! А теперь что поделаешь? Мне подумалось: а вдруг и я когда-нибудь попадусь! Дойду до полной беспомощности, самое дорогое раздарю — вещицы со своего письменного стола! Коллекцию! Мне прямо дурно стало, когда я о коллекции подумал. Я встал и прошелся, чтобы проветрить голову, в которую такие нестерпимые мысли приходят. Нет, никакая сила меня не заставит подарить коллекцию!
— Теперь вспоминай, что ты ей перед этим подарил,— сказала девочка.
— Норковый воротник и туфли к моему серому пальто.— Это уже сказала женщина. Она была нарядная и красивая — конечно, живая мечта!
Мне захотелось поговорить с мужчиной: у меня было к нему много вопросов. Понимает ли он, что женщина эта — его живая мечта? Щиплет ли у него в глазах? Слышит ли он дудение детского шарика?
— Ну и надарили вы ей! — сказал я.— Целый универмаг! Конечно, можно бы и поскромней подарки делать, да только не живой мечте...
Они молча смотрели на меня. Так, как будто я враг человечества. Мужчина шепнул своей мечте:
— Он перед твоим приходом как-то странно тут вышагивал.
— Мы говорили, а он подслушивал,— сказала девочка.— Я заметила.
— Да я не сумасшедший,— сказал я.— Вы послушайте сначала...
Но они не собирались слушать.
— Идемте отсюда! — сказала живая мечта.
Они ушли негодуя.
— Уродец,— сказала живая мечта.— Как это ему в голову пришло?
340
— Юный рационалист,— поддакнул муж.
Девочка все оборачивалась и поглядывала на меня уже без всякого уважения. Я понял, что неудачно начал разговор. Очень похоже, что сегодня у меня интеллектуальный спад. И хотя все это имело научное объяснение, я расстроился. Уже меня сегодня назвали шакалом, пронырой, маленьким демагогом и перестраховщиком в пеленках, а вот теперь юным рационалистом и уродцем. Многовато. Хотелось броситься за этими людьми и объяснить им, что дело тут не во мне, а в действии законов природы. Но я понимал, что сегодня мне лучше жить молчком: вон что выходит. Завтра я узнаю, какая из двух теорий верна. Если мои неприятности прекратятся, значит, первая, а если нет — набирайся мужества и терпи: жди, когда мрачная полоса сменится светлой. Я даже с домашними решил не разговаривать, хотя бабушка три раза чуть ли не упрашивала рассказать ей, как прошел первый школьный день. Дербервиль был неумолим.
— Ступайте на кухню, Пэгги! — велел он своей старой служанке, когда та в третий раз появилась в его кабинете.
— Понятно,— сказала бабушка,— у тебя в школе что-то случилось.
Она пошла не на кухню, а в другую комнату и поделилась своими тревогами с мамой. Теперь уже мама принялась за расспросы:
— Быстроглазый, что это ты сегодня молчишь? На тебя это не похоже.
Я ответил, что должен сегодня помалкивать. И если она не хочет, чтобы со мной что-нибудь стряслось, пусть не пристает ко мне с разговорами.
— Обычные его хитрости,— сказала мама бабушке.— Конечно же, в школе что-то случилось. Надо позвонить.— Она тут же стала набирать номер.
Маме ответили, что моего классного руководителя в школе нет, но чтоб она обязательно позвонила завтра, потому что в учительской был обо мне нехороший разговор. Я понял, что самым дурацким образом влип в новую неприятность. Нужно было поговорить с бабушкой! Что ж, это похоже на интеллектуальный спад, усугубленный спадами эмоциональным и физическим. Я повеселел: это гораздо лучше, чем полоса неудач. Не надо расстраиваться, решил я, все идет по науке, а законы природы нам не страшны, если мы их встречаем во всеоружии знаний.
341
Дальше все продолжалось по науке. Мама мне предложила сходить за хлебом. Я всегда отлыниваю от этого поручения. Мама сказала:
— Может, ты соизволишь?
Я ответил, что сегодня никак не могу: должен жить осторожно — может все что угодно произойти! Мама спросила, когда я прекращу свои хитрости, и бросила мне целлофановый мешочек. С тяжелым сердцем я открыл дверь.
В нашем доме живет одинокая старая женщина — Мария Кондратьевна. Муж ее умер, а дети разъехались. Она не выходит, в хорошую погоду сидит на балконе: ноги больные. Дербервиль с ней в прекрасных отношениях, всегда кланяется ей, а она ему благосклонно отвечает — вдовствующая королева!
Быстроглазый тоже ничего против этой женщины не имеет. Но когда я прохожу мимо ее двери, так уж выходит: я нажимаю на кнопку звонка и убегаю. Случается, Мария Кондратьевна, заметив с балкона, что я вошел в парадное, выходит на площадку и спрашивает меня:
— Ты не знаешь, Виталий, кто это ко мне без конца звонит, а потом убегает?
Я не сомневаюсь: она знает, кто звонит, но, деликатный человек, она ни за что не скажет прямо — на совесть мою воздействует. Я отвечаю:
— Это хулиган какой-то, Мария Кондратьевна. Ничего, он нам еще попадется.
Я задержался у двери Марии Кондратьевны. Мне пришло в голову, что я занимаюсь наукой как придется, без плана. Как могло получиться, что я до сих пор не поставил ни одного эксперимента? Я решил запланировать целую серию экспериментов и немедленно приступил к первому: нажал кнопку звонка и понесся вниз по лестнице.
Результат эксперимента оказался ошеломляющим: я наступил на огрызок яблока (я сам его утром бросил в парадном: не совать же было в карман) — и меня понесло ногой вперед, я потерял управление. О! Вспомнить тошно. Я трахнулся затылком о край ступеньки, тут же вскочил и понесся дальше. Боль разошлась по спине и была такой отчетливой, что ее можно было сфотографировать для науки. Наверно, я все же успел свернуть за угол раньше, чем Мария Кондратьевна на своих больных ногах доплелась до двери.
342
«Что же показал эксперимент?» — спросил я себя и дернул головой, как артист Миронов в фильме «Бриллиантовая рука». Затылок болел, и радостно было сознавать, что это не просто боль, а результат эксперимента и закон природы. Интеллектуальный спад был налицо, но вот физического не обнаруживалось, да и эмоциональный какой-то не явный был, не отчетливый. Неужели я попал в полосу неудач? Я решил при помощи калькулятора подсчитать, чем это мне грозит.
Сколько я могу прожить? К тому времени, когда я вырасту, человеческая жизнь будет уже продлена если не до ста лет, то до девяноста — это уж точно. Я, чтоб не очень увлекаться, выбил себе на калькуляторе девяносто четыре года. Это число я помножил на триста шестьдесят пять — вот сколько дней я проживу. Не так уж много. Дальше я задумался: надо было решить, сколько в среднем неприятностей, несчастий и прочей мерзости выбить на один день моей жизни. Пожалуй, одной неприятности на день хватит. Не все же такие дни, как сегодня. Так что полученное число больше не пришлось перемножать. Итого на мою жизнь выпадает тридцать четыре тысячи триста десять неприятностей — вот это да! И почти все они по теории вероятности могут свалиться на меня в полосу неудач. Ведь жил же я почти без неприятностей последнее время. Радовался, лопух. А они накопились, и теперь, возможно, сыпануло... Нужно было быть готовым ко всему. Я дернул головой и спрятал калькулятор в карман. Дня три после этого я головой дергал. Потом я забыл о том, что стряслось на лестнице. И только позднее мне пришло на ум, что мое падение на лестнице, быть может, оказалось роковым.
Я купил хлеба и по дороге домой провел еще один эксперимент: с разбегу перевернул ногой ящик с мусором. Опять результат эксперимента обнаружился сразу ,же. Один несимпатичный пенсионер, мой давний недоброжелатель, закричал с балкона:
— Ребята! А проучите-ка его!
Двое прохожих бросились мне наперерез с противоположной стороны улицы.
— За рубашку его хватай! Рви ему рубашку! — советовал тот из них, который совсем не умел бегать.
Другой потянулся рукой к моей рубашке, но я увернулся. Когда я добежал до угла, они трусили по улице, только чтобы пенсионер мог видеть их старания. Я по¬
343
слал им воздушный поцелуй. «Что за странные люди! — подумал я.— Сразу рвать рубашку — уродцы!» Я расстроился из-за того, что на свете такие вот живут,— больше мне не хотелось ставить экспериментов. Да и понятно было уже: сколько их ни ставь, а физического спада не обнаружить,— вон как улепетывал! Пожалуй, я в полосе неудач. Интересно, в середине или пока еще в начале? Спать я лег встревоженный, хотя все еще и увлеченный наукой.
О том, как, преодолев опасения, я с головой ушел в дела, в результате чего меня посетило
вдохновение
Я открыл глаза и увидел, что солнечный свет лежит на полу полосами,— это мне не понравилось. Я вышел на балкон и стал изучать приметы дня. Тучи на небе были странными: хотя и не совсем они были похожи на полосы, скорей, на грядки в огороде, но все же какая-то полоса-' тость в них была. Кроме того, уж очень на многих мужчинах на улице были рубашки в полоску. Но больше всего меня поразил редкий по масти, похожий на тигра полосатый кот; он крался по улице у самой стены дома, но вдруг остановился и стал смотреть на наш балкон, на меня — странный кот!
Однако во всем остальном день был приветлив и обещал много интересного. За завтраком я подумал, что мои наблюдения ненаучны, потому что какая же может быть научная связь между полосатой рубашкой и полосой неудач? Я понял, что от всего пережитого вчера стал чересчур мнительным. На улице я взглянул на мир веселыми глазами и увидел, как много женщин в это утро надели цветистые платья. Пожалуй, циклическая теория больше подходила для объяснения вчерашних неприятностей. Я решил, что могу смело заняться своими делами, которые отложил. А пока этими делами заняться было нельзя, я смело брался за другие, которые по ходу жизни возникали.
Я встретил пятиклассника, у которого водятся венгерские жвачки. Я предложил ему одну итальянскую жвачку за две венгерских: может, Мишенька за них отдаст марку? Пятиклассник оказался человеком нерешительным: он долго рассматривал итальянскую жвачку, у него жила
344
на лбу вздулась, наконец вернул мне жвачку и сказал:
— Ты не уходи, надо подумать.
Я шел с ним рядом. Только, по-моему, не столько он обдумывал, сколько изучал мое лицо. Он спросил, почему у меня глаза бегают; после этого у него самого глаза забегали.
— Какой-то ты ненадежный,— сказал он.— Пожалуй, надуешь. Нет, я не меняюсь.
— Шаромыжник! — сказал я.— К тебе с честным предложением, а ты оскорблять! — Я ткнул его легонько под ребро, чтоб не отнимал зря времени у занятого человека.
По дороге в школу я организовал еще два дельца, хотя и небольших, но необходимых для правильного течения жизни. Я нагнал одного типа из параллельного класса, который последнее время начал нос задирать, перестал со мной здороваться. Я посмотрел ему в глаза и пошел дальше. Пусть знает, что это не он со мной не здоровается, а я с ним. Тут же я увидел, что из парадного вышла Ирка Кондаченко; мы встретились с ней глазами. Что-то уж очень часто мы с ней глазами встречаемся. Наверно, она решила, что я ею заинтересовался. Я подскочил к Ирке и дунул ей в щеку. Пуфф — вот как я тобой интересуюсь! Нет, жизнь нельзя пускать на самотек, ее все время подправлять надо.
Я действовал уже без всяких опасений. На первом уроке я получил пятерку, на втором еще одну. На переменке между этими уроками, когда я несся по коридору просто так, чтобы ноги не застаивались, я чуть не налетел на маму Хиггинса.
— По-моему, ты слишком много бегаешь,— сказала она.— Подумать о своих поступках у тебя нет времени.
Она была не такой грозной, как вчера,— зря я встревожился.
Мама Хиггинса начала мне внушать, чтобы я на пять минут в день где-нибудь в сторонке садился и обдумывал свои поступки, а то я все бегаю, бегаю и поэтому странные вещи делаю и говорю. Она назвала мое существование бездумным. Я пообещал, что сделаю, как она советует.
— Обязательно сделай,— сказала она.— Продолжай работать над собой, я тебе помогу. Ни одна газета не придерется!
345
Она улыбнулась мне как-то многообещающе, как будто только что сообщила, что у нее для меня хорошенькая вещица припасена на мои именины. Я решил, что она чудачка. Если б я знал, что она мне наобещала своей улыбкой!
— Вы Хиггинсу не запрещаете со мной дружить? — спросил я.
— Что ты! Я к тебе хорошо отношусь. Он сам не хочет. Он считает, что ты по-свински обошелся с Чуваловым. Так что иди, работай над собой.
Я долго соображал, смеялась она надо мной или всерьез говорила. Потом я решил пять минут подумать над своими поступками, как обещал: все-таки научный подход.
Я достал калькулятор и сел на подоконник. Я не уверен был, что стоя это можно делать. Сперва ни о чем не думалось, а только болел ушибленный вчера затылок. Я дернул головой, и тут мысль заработала, как будто я ударил кулаком по испорченному приемнику — и он заговорил. «Вот было бы хорошо,— думалось,— если бы бабушка мне за каждую пятерку не по тридцать копеек платила, а по полтиннику». Я выбил четыре пятерки в неделю и тут же подсчитал, сколько за год выйдет,— порядочная сумма... Тут меня уборщица с подоконника согнала. Жаль: хорошие мысли в голову приходили. Я решил: попробую как-нибудь еще.
На большой перемене я поднялся на третий этаж и пошел в конец коридора, чтобы выполнить главное из запланированных дел. Я вошел в химкабинет и, как и ожидал, увидел моего покровителя Валеру Ешанова, перворазрядника по плаванию и коллекционера марок. Я ему добываю марки, которые его интересуют, а у него покупаю такие, которые ему не нужны. Мне они чаще всего тоже не нужны, я их потом сбываю второкласснику Женечке Плотицыну. Женечка рад любой марке, еще в коллекционировании мало смыслит, но я его заинтересовал и сделаю настоящим коллекционером. Ешанов сидел за столом рядом со своим другом, довольно симпатичным человеком с потрясающей фамилией — Флейтистов.
— А! Наш юный друг! — сказал Валера.- Здравствуй!
Он пожал мне руку и протянул ее Флейтистову, чтобы
и тот пожал. Вот как себя ведут симпатичные люди! В позапрошлом году я обменивался марками с другим девятиклассником — он уже школу окончил,— тот был совсем не то: за руку не здоровался и называл меня
346
не «мой юный друг», а «гвоздик». Никакой радости с ним не было. Когда ни придешь для обмена, он торопится: «Ну, показывай!» Ничего он в человеческих отношениях не понимал. Однажды, когда он был дежурным по школе, он мне сделал замечание, чтобы я не орал в коридоре. После этого случая я уже с ним марками не обменивался — никакого смысла не было. Но Валера совсем другой. Он даже поинтересовался, как я лето провел. А как же иначе? Ведь мои родители раскланиваются с его родителями, мама однажды в хлебном магазине поговорила о чем-то с его мамой.
— Валера,— сказал я,— у меня для тебя сюрприз! Я тебе сейчас больше ничего не скажу, но ты имей в виду.
— У меня для тебя тоже кое-что есть,— сказал Валера,— останешься доволен. Встречаемся, как и в прошлом году, по средам в шесть.
Теперь мне нужно было об одном деле поговорить. Валерин одноклассник Криницкий (он как раз в это время вошел в химкабинет и достал из портфеля завтрак) решил у меня Женечку Плотицына отбить, под видом защиты, конечно. Он напирает на то, что я Женечку обманываю, а вот он не будет. На редкость бессовестный человек! Я нуждался в Валериной защите. Но тут надо было разговор вести дипломатично: а вдруг Валера с Криницким в дружбе? А если не в дружбе, то мало ли что еще может быть: может, их родители раскланиваются.
Мне вспомнилась телепередача «В мире животных», и я понял, как надо вести дипломатичный разговор.
— Вот, Валера,— сказал я,— одна вещь меня интересует. Как ты думаешь, кто кому накидает — гималайский медведь бурому или бурый гималайскому?
Валера переглянулся со своим другом — кажется, я не совсем удачно спросил.
— Медведи бывают разные,— сказал Валера.— Вот, допустим, гималайский здоровяк встречает бурого хиляка, так тут и раздумывать нечего.
— Я понимаю, Валера,— сказал я,— что не совсем удачно спросил. Ну, а как ты думаешь, вот, допустим, встречаются бурый здоровяк со здоровяком гималайским!
— Гималайский ему в первом раунде накидает,— сказал Валера,— тут все ясно...
— Вот и я так считаю,— сказал я.— Ну, а представь себе, бегемот и носорог поссорились — кто кому?
347
Носорог бегемоту,— сказал Валера.— Носорог вооружен лучше.
— Вот и я так считаю,— сказал я.— А лев, допустим, и тигр? Ведь правда лев накидает, если он, конечно, не хиляк?
Валера согласился со мной. Тогда я стал подводить поближе.
— Ну, а если бы пловцу первого разряда пришлось с боксером третьего разряда, как ты считаешь?
— Быстроглазый,— сказал Валера,— не втравляй меня в драку с Котовым. Ты что, не понимаешь? В нем восемьдесят килограммов весу. Я бы с удовольствием, но честно тебе говорю: не справлюсь.
— Да что ты, Валера! — сказал я.— Это я просто так, разве я не понимаю? У меня другое дело. Представь, есть люди, которые охмуряют малышей: сбывают им втридорога чепуховые марки, да еще кое-кого стращают и не подпускают к этому малышу.
Валера с Флейтистовым нахмурились. Я понял: они возмущены.
— Интересно было бы узнать,— сказал Валера,— имя этого человека.
— Ха! — сказал я.— Вон он хлеб с колбаской ест.
— Мы ему на первый раз сделаем внушение,— сказал Валера.
Он пальцем подозвал к себе Криницкого и для начала заметил ему, что тот не по-товарищески себя ведет: ест хлеб с колбасой, а не подумает о том, что, может быть, другие тоже проголодались. Криницкий отломил от своего бутерброда Валере и Флейтистову; они его поблагодарили, и тут уж Валера приступил к делу.
— Этот юноша,— сказал он и показал на меня глазами,— находится под покровительством очень достойных людей. Нам не нравится, когда его обижают. Для нас это непереносимо.
Валера очень педагогично себя вел: он нажимал пальцем, как на кнопку звонка, на пуговицу пиджака Криницкого, Флейтистов сдувал и стряхивал крошки с этого пиджака. В конце разговора Криницкий сказал, что не знал о том, что мне покровительствуют достойные люди. На редкость он оказался малоуважаемым человеком.
— Спасибо, Валера,— сказал я.
— О, пожалуйста!
Дело было сделано. И не как-нибудь, а дипломатично.
348
Я шел по коридору и радовался своей, удаче: никаких признаков интеллектуального спада уже не было и в помине.
Я спустился на первый этаж. Здесь во 2-м «Б» учится Женечка Плотицын, совсем еще несмышленый человек: он не понимает, что не я должен его проведывать, а он меня.
Женечка бросился мне навстречу, я пожал ему руку и сказал:
— Здравствуй, юноша!
— Меня уже обижали! — сообщил Женечка, как только мы покончили с рукопожатием.— Вон тот, который борется, вон тот у стены и еще один — он в столовую ушел.
Я отпустил леща тому, который боролся, и тому, который у стены стоял. Первый убежал плакать в класс, а второй так и остался у стены — смотрел на меня исподлобья, как на собаку, которая, того и гляди, укусит.
— Ты мне скоро списки составлять будешь,— сказал я Женечке.
Его всему учить надо. Но мне не трудно. Года через два я подберу ему какого-нибудь второклашку, чтоб Женечка ему ненужные марки сбывал. Женечка мне нравится: он хоть и несмышленыш, а в человеческих отношениях неплохо разбирается. Когда мы по четвергам встречаемся с ним в сквере, он садится на скамейку рядышком, прижимается ко мне, заглядывает в глаза и доверяется во всем — ну просто родной человек! Я ни разу его не надул. У меня даже появляется желание подарить ему несколько марок: я беспомощным становлюсь, когда ко мне вот так, по-родственному, прижимаются. Папа говорит, что из всех моих инстинктов самый сильный — инстинкт родства. Однажды ко мне на перемене прижался наш пакостник Зя- кин — он это делает ради смеха. Можете себе представить, у меня к этому типу теплое чувство появилось. Я Зякина тут же прогнал: он таких чувств не заслуживает. Женечка — другое дело. Я только стараюсь держать себя в руках: если филателисты начнут раздаривать марки, то коллекционированию конец. О порядке в мире я никогда не забываю.
— У меня для тебя куча марок,— сказал я Женечке.— В четверг в шесть начнем наши встречи.
Я попрощался с ним за руку и пошел к себе на второй этаж. На лестнице Женечка меня догнал и сообщил, что
349
тот, который ходил в столовую, уже вернулся и успел Женечке ножку подставить.
— Юноша! — сказал я ему на это. Ты начинай соображать. Посмотри на этот коридор: вон человеку ножку подставили, а вон бедной девочке не дают пройти. Ты соображай! Неужели подножка — это такое событие, из-за которого стоит беспокоить занятого человека? Дай ему под ребро, и больше он тебе подножек ставить не будет.
Женечка побежал выполнять. Уверен, из меня бы получился хороший педагог. Его мама должна мне цветы носить.
Тут прозвенел звонок, и я пожалел, что нет у меня больше времени заниматься делами: после интеллектуального спада пришло вдохновение.
На третьей переменке, подгоняемый вдохновением, я сбегал в магазин «Школьник» и купил себе дневник для двоек и троек. Я прямо на уроке стал заполнять его и только закончил, как историк наш, Павел Владимирович, вызвал меня закреплять. Я мало что слышал из его объяснения, с трудом на тройку хватило. Мой второй дневник мне тут же пригодился. Так кстати я его купил! Это выглядело прямо-таки таинственно и обнадеживало после вчерашних неудач. Может, я вступил в полосу удач? Может, все сто тысяч удач (это число я без калькулятора прикинул) свалятся на меня в одну неделю? Не теряйся, Дербервиль, куй железо, пока горячо! Я решил сегодня же переговорить со Светой Подлубной. Дело в том, что при большом количестве удач случилось маленькое недоразу- меньице, совсем малюсенькое, но оно меня беспокоило почему-то. Можно было подумать, что это не недоразу- меньице, а самая настоящая неприятность. Света Подлуб- ная заметила на переменке, как я дергаю головой, и сказала Вальке Сероштану:
— Смотри, какой неприятный!
И хотя я знал: она так говорит, потому что злится на меня,— я расстроился. Вот еще! Можно было подумать, что у меня душа нежная, как у Чувала. Я даже в зеркало пошел смотреться: ничего неприятного я не увидел, но головой все-таки старался больше не дергать.
На последнем уроке у меня появился план: я решил недоразумение со Светой Подлубной исправить. Пусть этот день состоит из одних удач. Вдохновение мне поможет проделать все гладко и успешно.
О том, как я столкнулся с людьми, понимающими все наоборот. Б этой главе вы сможете прочесть мою очень неплохую
речь в защиту хвастовства, вранья и прочих украшений жизни, а также получить совет, касающийся того, как избавиться от правды, если она к тебе некстати прицепилась
После звонка с последнего урока я посидел за партой, прислушиваясь к своему вдохновению. Его было на троих. И все же мне показалось, что по краям оно стало пожиже. Покруче надо бы! А то ведь как бывает: приходит время осуществлять план, а вдохновение совсем жиденькое. Я знаю прекрасный способ, как сохранить вдохновение: нужно придумать разминочный план, провернуть какое- нибудь дельце для разогрева. Такое дельце я уже держал в уме.
По русскому языку нам задали описать рабочее место своего соседа по парте. Об этом попросила нашу учительницу русского языка Евгению Константиновну мама Хиггинса. Нам сказано было, что мы все получим оценки за эту работу, а потом на классном собрании обсудим, у кого какое рабочее место, и решим, что можно улучшить. Мне тогда же пришло в голову устроить так, чтобы мое рабочее место было лучшим в классе. Теперь я стал обдумывать этот план и тут же почувствовал, что разогрев идет полным ходом. План получался многоходовый, с коленцами и завитушками — ух, до чего же интересный!
Первое коленце касалось Шпараги. Не мог же я допустить, чтобы этот человек, поющий обо мне какие-то гадости, описывал мое рабочее место.
Я это коленце на одной ножке преодолел: скок, скок! — до сих пор приятно вспоминать. Я подскакал к Неявке, очень милому и покладистому человеку (его соседа по парте, Парщика, как раз в тот день не было в школе), и мигом договорился, что буду описывать его рабочее место, а он — мое. Неявке очень понравилось, что я с этой просьбой прискакал к нему на одной ножке: это же тот самый незрелый человек, который пялится на каждую кошку и собаку. С незрелыми людьми можно о чем угодно договориться даже и на двух ногах. Когда мы учились в третьем классе, один семиклассник договорился с Неявкой, что Неявка не придет на общешкольное мероприятие. Се-
351
Цея&\<-а
миклассник сказал: «Что-то я сегодня целый день о тебе думаю. Твоя ведь фамилия Неявка, правда? Зачем же ты обеспечиваешь явку?» Неявка ответил: «Больше не бу¬
ду» — и не явился на мероприятие. На него, конечно, накинулись. Еще бы! На том мероприятии мы минут сорок стояли, а походить под барабан нам разрешили всего минуты три. Да и то во время этой прогулки приходилось кричать «ура!». Человек с любой фамилией не отказался
бы погулять во время такого мероприятия. Неявка с тех пор ни на одно мероприятие не является. И ни с какими замечаниями к нему не подходи. «Я Неявка или нет?» — спрашивает он и держится твердо. Тут уж не скажешь, что он покладистый человек. Больше всего учителей возмущает, что Неявку поддерживает его папа, абстракционист. Абстракциониста два раза вызывали в школу, а он только руками разводит: «Уж очень неинтересные мероприятия». Вот какие это люди — абстракционисты! Они считают, что мероприятия планируют для удовольствия. Горбылевский и Мишенька мне как-то намекнули, что Неявка тоже абстракционист: от папы заразился. Я тогда им не поверил. Уж очень они любят сочинять о людях всякие небылицы.
— Неявка,— сказал я, все еще стоя на одной ножке,— есть возможность отличиться! Мы должны добиться, чтобы наши рабочие места были лучшими в классе.
Неявка поскреб затылок и ответил:
— Быстроглазый, боюсь, что из этого ничего не выйдет.
Я встал на обе ноги, внимательно посмотрел на Неявку и понял, что Горбылевский и Мишенька правы: Неявка, как и его папа, абстракционист. Я кое-что в абстракционизме смыслю: как-то минут пятнадцать изучал картину. Знаете, ту самую, где гнутые линии, ломаные палки и прочие абстракции. Ничего страшного. Даже интересные мысли в голову приходят. Да и картина оживает. Пока я ее разглядывал, две палки подрались, а абстракция, похожая на шляпу, бросилась их разнимать. Если бы
352
Неявка был обыкновенным абстракционистом, то я бы ему объяснил, что нельзя так отрываться от живой жизни. Это и абстракционист бы понял. Но в том-то и дело, что Неявка, как и его папа, был абстрактным гуманистом. Старший абстракционист преподает в нашем университете. Он написал книгу, в которой такая прорва гуманизма, что наша областная газета не выдержала и объяснила ему, что в деле преобразования жизни и перевоспитания следует избегать абстракций, а воздействовать на каждую конкретную личность всяческими гуманными методами. Мне понравилось это выступление газеты. Я тоже за гуманные методы. Нельзя же чуть что — сразу под ребро.
Я шел рядом с Неявкой и все поглядывал на него. Я старался понять, что там у него в голове делается, какие такие мысли взаимодействуют, в результате которых утеряна полная связь с действительностью. Но кто разберется в этом? Я только одно понял: абстрактные гуманисты — самые загадочные среди абстракционистов: смотри на него, фотографируй, изучай, а все равно ничего не поймешь, потому что несерьезность этих людей превосходит размером любую мысль. Я не хочу сказать, что абстрактные гуманисты совсем уж не заслуживают серьезного отношения. Это не так. Но каждый из них нуждается в перевоспитании. Я решил заняться перевоспитанием Неявки и стал обдумывать, как бы ему понятней объяснить, что гуманизм и все такое прочее хотя и хорошая штука, но только для размышлений: все это надо держать в уме, а поступать надо наоборот. Я стал втолковывать это Неявке. Но он смотрел на меня непонимающими глазами.
— Ладно, Неявка,— сказал я,— продолжим нашу беседу потом. Ты во всем положись на меня. Я к тебе через часок зайду.
По дороге к Неявке я думал о том, все ли абстрактные гуманисты пялятся на кошек и собак или только некоторые. Я решил, что все они такие. На Неявкиной улице мне то и дело попадались на глаза то кошка, то собака. «Уж не Неявка ли их тут прописал?» — подумал я. Одна собака, английской породы, с ушами, как лопухи, сидела на подоконнике и грустно смотрела на мир. Она могла заинтересовать кого угодно: у большеухой был нервный тик, дергался глаз и верхняя губа. Я начал ей подмаргивать. Морг — я ей, морг — она мне. Стало казаться, что сейчас
12
353
мы с ней дельце провернем. Хозяйка собаки заметила меня в окно и раскричалась на всю улицу, что я издеваюсь над больным существом... Собака стала моргать еще быстрей, вид у нее был обиженный.
— Вот вы кричите,— сказал я женщине,— а не понимаете, что нужно убрать бедное животное со сквозняка.
Женщина задумалась над моими словами. И тут в этом же окне появился Неявка.
— Ты прав, Быстроглазый,— сказал он.— Ветер Пату противопоказан. Как мы сами не догадались?
Он велел собаке спрыгнуть на пол, собака его послушалась.
— Быстроглазый, ты ко мне? — спросил он.— Так ты иди и жди меня. Я скоро приду, вот только приготовлю Пату лекарство.
Дверь в квартиру Неявки была приоткрыта, но я решил все же позвонить. Мне из квартиры крикнули «заходите!» — я вошел, и тут же мама Неявки появилась в коридоре, кивнула мне и пошла себе опять на кухню. Я чуть было не почувствовал себя одиноким, но появилось в коридоре милое существо — довольно большая пятнистая собака, похожая немного на боксера, немного на ту англичанку, которую я видел в окне. Она села, расставив передние ноги, все порывалась броситься ко мне, но не решалась и только головой кивала: заходи, заходи! — и хвостом отстукивала: привет, привет! Я ответил: «Привет!» — и заглянул в комнату: там Неявкин папа что-то
писал за столом, заваленным книгами. Абстракционист
мне кивнул и тоже не поинтересовался, что мне понадобилось в их доме. Я пожалел, что раньше в этот дом не заходил: тут, наверно, можно подушку или мячик побуцать, «козлика» забить — никто тебе слова не скажет.
В другой комнате я обнаружил Шпарагу. Он сидел в замызганном, облезлом кресле. Наверное, это было любимое кресло Неявки.
— А, пожаловал! — сказал Шпарага грозно.— Не думай, что если ты от меня избавился, то у тебя все получится!
Шпарага оставил кресло, заложил руки за спину, выпятил грудь и стал расхаживать с таким видом, будто решал, вышвырнуть ли меня из комнаты или позволить все-таки дождаться Неявки. «Ничего, пусть,— решил
354
я.— Каждой букашке охота повоображать». В моем плане не было предусмотрено, что Шпарага станет строить мне козни, но ведь лишняя завитушка хорошему плану не помешает.
Я стал оглядывать комнату: кроме кресла, в ней стоял еще большущий обшарпанный рояль, не у стенки, а посередине. Вокруг этого рояля можно было играть в догонялки. Я еще раз пожалел, что раньше в этот дом не заходил.
— Шпарага,— сказал я,— что это ты нос задираешь? Покажи-ка мне лучше рабочее место Неявки. Пока он лечит собаку, я займусь делом.
Шпарага ехидно улыбнулся и показал пальцем на рояль.
— Шпарага, ты уверен? — переспросил я.
На этот раз Шпарага только пожал плечами.
Такого рабочего места я больше не увижу: чего только
тут не было навалено! Одних только карандашей, заточенных и незаточенных, с десяток там и сям лежало, учебники, тетрадки, выдранные из тетрадок листы, книжка, на обложке которой собака была нарисована, надкусанный ломоть хлеба с маслом, голубая красивая стекляшка, несколько авторучек без колпачков и колпачков без авторучек, коричневый шнурок, деревянный орел с обломанным крылом, настоящий живой котенок и блюдечко с молоком для него; тут только собаки недоставало, на рабочем месте Неявки. Я взял выдранный из тетради листок и стал описывать это рабочее место. Котенок мне мешал: терся о рукав, мурлыкал. Я его отодвигал
и писал дальше, а он опять подходил и терся; потом я почувствовал, что кто-то к ногам моим прислонился. Ух ты! — собака, та, что в коридоре меня приветствовала. Она виляла хвостом и уже поднималась на задние лапы, чтобы лизнуть меня в лицо. От собаки я все время отбрыкивался. За рабочим местом Неявки надо было трудиться руками и ногами. Еще и приходилось сдерживать себя: склочник Шпарага заглядывал через мое плечо и хмыкал. Потом он и вовсе прилепился ко мне. Уж и не знаю каким клеем. Дышал в самое ухо — щекотно было. В общем, работа кипела! Я написал все как полагается. Перечитал — понравилось. Только чего-то все же не хватало. Я подумал, почесал шариком затылок и понял, что забыл об ударной концовке. Я приписал, что в нашу эпоху научно-технического прогресса особое
внимание мы должны уделять научной организации труда (не зря я читаю журнал «Наука и жизнь»). Все у нас должно быть, закончил я, на таком же уровне, как и рабочее место Неявки: и наши знания, и наше отношение к учебе, и наши человеческие отношения. Вот теперь все как полагается — никто не придерется.
— Вот так, Шпарага,— сказал я.— Понял, какие у нас с Неявкой рабочие места? У тебя могло быть не хуже, если бы ты не ссорился с умными людьми.
Вот тут Шпарага и забегал по комнате.
— Быстроглазый,— начал он обличать меня,— ты пишешь, что рабочее место Неявки — лакированный письменный стол светло-коричневого цвета. Ты что, стола от рояля не умеешь отличить? Ты написал, что на столе у Неявки все в идеальном порядке! Разве это идеальный порядок? — Он повел рукой над роялем, котенок решил, что Шпарага с ним играет, запрыгал, стал тянуться к руке.— Ты не слышал выступление моего папы на последнем родительском собрании,— закончил Шпарага,— иначе бы ты знал, что ложь убивает в человеке все’ хорошее.
Тут все было понятно: Шпарага хотя и не абстракционист, но тоже относится к людям, которые понимают все наоборот. На таких людей не следует сердиться. Им надо терпеливо объяснить.
— Шпаражка,— приступил я к делу, подбирая педагогический тон,— родительское собрание — это одно, там, конечно, полагается говорить то, что твой папа говорил. Но домашнее задание — это совсем другое. Ты все перемешал!
Ну эго ты брось! — сказал Шпарага.— Света Под- лубная правильно о тебе говорит, что ты все время выгадываешь. Ты все время вот это делаешь, вот это...
Негодяй стал изображать рукой, туловищем и лицом, как я живу. Хорошо, что я не впечатлительный, а то оы я ужаснулся тому, как извиваюсь в жизни, как ловчу, ползаю, подпрыгиваю, как корчу рожи — и все для того, чтобы выгадать. Нужно было это пресечь, а то еще в школе вздумает изображать мою жизнь. Я стал прислушиваться, что там в соседней комнате делается; тихо было — наверно, Неявкин папа пишет свои абстракции. Я бросился на обличителя, сцепил руки за его спиной и нажал подбородком на плечо, я подсек дохляка и аккуратно, чтобы не было шума, уложил на пол.
356
«Разомну-ка его как следует! — решил я.— А то уж слишком он бесстрашный». Но тут собаке тоже захотелось побороться. Она залаяла, запрыгала вокруг нас. Вошел Неявкин папа и спросил:
— Вы боретесь или деретесь?
— Боремся,— ответил я и отпустил разоблачителя.
Неявкин папа пробормотал:
— Вы не очень-то,— и ушел.
У Шпараги вид был возмущенный и радостный. Чего он только не насочинял про меня, пока лежал на полу!
— Задушить меня хотел, да? — сказал он.— Только ты меня не запугал!
Для людей, понимающих все наоборот, нет большей радости, чем пострадать за правду. Шпарага не знал, что со своей радостью делать. Он опять стал прохаживаться по комнате, заложив руки за спину и выпятив грудь. Он напевал ту же песенку, что и в школе. Теперь я разобрал, что это за песенка: «Весел я...» Я пожалел, что так гуманно обошелся со Шпарагой. Все-таки нужно было под ребро.
— Шпарага,— сказал я,— ты опять поешь свою глупую песенку!
— Хочу и пою! — ответил он.— Мне весело. Понятно?
Я пожал плечами, сел в кресло и стал играть с собакой.
Тогда зловредный человек придумал другое: начал бормотать словечки, все громче и громче. Он искоса поглядывал, проверял, как это на меня действует. Некоторые из его словечек я запомнил: наглец, проныра, криворожий, пройда, свистун, прощелыга, хлопотун, арап, ловчила, пролаза, жук, прохиндей... Тут я заметил, что он уже совсем близко от меня ходит, уже перешагивает через мои вытянутые ноги. Можно было его двинуть, но он меня заворожил своими словечками. С человеком, который умеет придумывать, не соскучишься!
— Быстроглазый,— решил мне объяснить Шпарага,— я сам с собой разговариваю. Говорю, что мне хочется, понял?
— Говори еще,— попросил я.
Он удивился, но послушался. Он перешел на политику: Попандопуло, папа Док, тонтон-макут, Пиночет, Чомбе, Салазар. На этом он выдохся и ста;* напевать «Весел я...».
— Ты знаешь, Шпарага, почему я тебя не двинул? — спросил я.— Ты много слов знаешь. Но все равно ты дурак. Я тебе сейчас объясню, как должен себя вести человек с умом.
Сидя в кресле, я произнес очень неплохую речь в защиту хвастовства, вранья и всего прочего, что служит украшением жизни.
Что твой папа, произносящий речи? — начал я.— Ты послушай, как должен поступать человек с умом.
Человек с умом, говорил я, все видит, что там на рабочем месте или еще где. Но не все он говорит. Он взвесит и только тогда скажет. Он аккуратно скажет, продуманно, а не вот так: трах-та-ра-рах! Он знает, когда надо прихвастнуть, когда соврать, а когда промолчать; он ничего не станет поганить мерзкими словами, от его слов всем приятно. Зачем повторять то, что и так все видят? Разве для этого нам слова даны? Нет, Шпарага, слова нам даны для украшения жизни.
— Быстроглазый,— сказал Шпарага,— можешь не стараться: я ничего не слышал. Я напеваю песенку и думаю о своем.
— Не прикидывайся,— сказал я,— и послушай дальше. Ну разве тебе не хочется, чтобы у Неявки было хорошее рабочее место: светло-коричневый лакированный письменный стол с тумбой и четырьмя ящиками, как вот тут написано?
— Так нет же у него такого стола! — не выдержал Шпарага.— Что толку?
— Вот ты и показал, что понимаешь все наоборот,— сказал я.— Считаться же будет! А это гораздо важней, чем то, что на самом деле. Ты понял?
— Быстроглазый,— сказал Шпарага,— я тебя больше не слышу. Можешь не сомневаться!
До самого Неявкиного прихода он ходил по комнате с выпяченной грудью. Два раза он пробормотал: «А вот посмотрим!»
— А я уже описал твое рабочее место,— сказал я Неявке и протянул ему листок.
Неявка прочитал и буркнул:
— Вранье!
— Конечно,— сказал я.— Нравится?
— Придумано хорошо,— ответил Неявка.— Но понимаешь, у меня от вранья настроение портится. Быстроглазый, зачем нам портить себе настроение? Давай напишем правду.
Неявка засмущался: все-таки догадывался, какие глупости говорит.
— Неявочка,— сказал я,— ты что же хочешь? Чтобы
358
я весь этот хлам записал в тетрадь — и этот хлеб с маслом, и шнурок, и котенка? Ты опомнись и веди себя, как нормальный человек. А настроение я тебе исправлю. У меня для таких случаев есть совершенно невероятная история про одного чудика, который в поезде старушку напугал.
Неявка оказался большим любителем историй, он даже за рубашку мою уцепился.
— Быстроглазый, что за история? Ну-ка рассказывай!
— Сначала опиши мое рабочее место,— сказал я.— Я продиктую.
Он стал смотреть в угол.
— Неявка,— сказал я и кивнул на Шпарагу,— ты оказался под дурным влиянием. Ты это пойми и преодолей себя.
— Понимаешь, Быстроглазый,— ответил Неявка,— я правда не могу: меня папа запрезирает. Да и вообще у меня не получится: я даже, если и начну врать, то все равно под конец правду скажу.
— Тогда давай так сделаем,— сказал я.— Я сам опишу свое рабочее место. Тут ничего нет плохого, Неявка. Представь, что я написал диссертацию и пришел к тебе за рецензией, понял?
— Нет.
— Да что же тут неясного? — сказал я.— Мы сделаем из этого формальность. Только вместо диссертации будет мое рабочее место. Я напишу рецензию на это рабочее место и приду к тебе. Я скажу: «Неявка, мне нужна рецензия на мое рабочее место!»
— Так она ж у тебя уже написана!
— В том-то и дело, Неявка! Ты понял, что такое формальность? Я говорю: «Дорогой Неявка, мне нужна рецензия» — и ставлю на стол коньяк.
— А коньяк зачем? — спросил Неявка.
Этого требует формальность,— ответил я.— Только вместо коньяка я тебе расскажу историю про чудика. Ты не беспокойся, здесь ничего плохого нет. Я этот вопрос изучил: у нас же в доме тема. Мишенькин папа при помощи формальности три замечательных рецензии себе организовал. Ты понял? Давай повторим.
— Значит, так,— сказал Неявка,— ты мне рассказываешь историю про чудика...
— А вот и нет! — сказал я.— Ты хитрец, Неявка. Коньяк я хоть и выставил, но могу его в любое время
359
забрать. Я тебе только пообещал рассказать историю про чудика. Но сперва ты должен подмахнуть рецензию. Ты понял? Сперва ты должен переписать в свою тетрадку то, что я напишу о своем рабочем месте. Потом я тебе рассказываю историю про чудика. Уловил последовательность?
— Ну а если меня в классе заставят это читать?
— Неявка, ты меня удивляешь! — сказал я.— Вранье же чужое. Неужели тебе трудно прочесть по бумажке?
— Быстроглазый,— сказал Неявка,— я не хочу тебя обманывать. Я не смогу этого прочесть.
— Интересно, почему? — спросил я.— Ты что, читать не умеешь?
— Не знаю. Что-то мне мешает. Как только какое- нибудь вранье, у меня язык не поворачивается.
Что было делать? Я даже немного растерялся и запрыгал на одной ноге. Мне подумалось: может быть, вот так, при помощи подскоков, можно преодолеть Неявкино заблуждение? Неявка с интересом смотрел на мои прыжки,t но все равно я поступал нелепо. Подскоки ведь помогают только вместе со словами. И все-таки я действовал. Два круга по комнате проскакал. И не зря: когда я завершал второй круг, мне пришло в голову: «А прижму-ка я его в политическом аспекте!»
— Неявка! — тут же приступил я.— Что ты тут такое наговорил? Как это у тебя язык не поворачивается сказать хорошие слова о нашей жизни? Неужели ты не понимаешь, что такие слова надо почаще произносить? Вот ты собираешься написать гадость обо мне и о моем рабочем месте, о нашей действительности, Неявка! Ведь ты же не будешь отрицать, что ты и я — это наша действительность? А там,— сказал я грозно и показал рукой,— там только этого и ждут! Там это подхватят! Ведь у них нет большей радости, чем повторить какую-нибудь гадость о нас с тобой!
— Где? — спросил Неявка и стал смотреть в ту сторону, куда указывала моя рука.
— Там, там, Неявка! — сказал я, продолжая указывать в сторону океана и еще дальше.— Там ждут твоих слов и уже руки потирают!
— Ты о чем? — спросил Неявка.— О западной пропаганде, да? Так она же ничего не узнает. Честное слово, Быстроглазый, я не могу. У меня буквы перемешиваются, когда я вранье читаю. Не веришь? Спроси у Шпараги.
360
Я понял: дело безнадежное. Передо мной стоял человек, который всю жизнь будет рабом правды. Она к нему будет цепляться на каждом шагу, а он даже отмахнуться не догадается.
— Ладно, Неявка,— сказал я,— живи себе как у тебя получается. Может быть, тебе все-таки перепадет немного счастьица. Хотя, конечно, вряд ли...
Грустно так, как актер Янковский, когда ему уже нечего сказать и остается только смотреть, я посмотрел на Неявку и прикинул, сколько ему может перепасть от жизни радостей. Лучше б я этого не делал. Я увидел, как правда скручивает Неявку в бараний рог, как она его волочит по жизни, швыряет, теребит. А он хоть бы что. Только ул ыбается.
— Все в порядке, Неявка,— сказал я.— Больше мы спорить не будем. Историю про чудика я тебе просто так расскажу. Но сначала пошли ко мне, опишешь мое рабочее место.
Шпарага увязался за нами, а мне даже лень было его шугануть: в каком-то расслабленном состоянии я находился, осознав, что есть люди, которых невозможно заставить поступать разумно.
Перед дверью нашей квартиры я сказал:
— Джентльмены! Мне нужно предупредить бабушку: она пугается посторонних.
Шпарага стал бормотать, что что-то здесь не так, но Неявка ему сказал:
— Мало ли что! Бабушки всякие бывают. Они же старые.
Я быстро привел свое рабочее место в порядок: перенес мои любимые вещички со стола на диван. (О своих любимых вещичках я расскажу в другой раз, когда у меня будет побольше времени.) Потом я протер стол влажной тряпкой. И тогда уже впустил в квартиру Неявку и Шпарагу.
— Пиши честно,— сказал я Неявке.— Тут все в порядке.
Шпарага решил осмотреть мои ящики.
— А где у тебя учебники лежат? — стал он допытываться.— Где тетрадки? Ну-ка показывай!
Ящики в моем письменном сголе забиты всякими вещицами (не такими, конечно, любимыми, как те, что я держу на столе) и кляссерами с марками.
— Ты, Шпаражка, потише,— сказал я и стал оттирать
361
его от стола,— бабушку напугаешь. И почему это ог тебя одни неприятности?
Но тут Шпарага заметил мои вещицы на диване.
И это опиши! — стал он кричать совсем уж азартна— Ты понял, Неявка? Когда мы уйдем, он все опять на стол перенесет.
Неявка даже покраснел от такой бесцеремонности.
— Да ладно тебе,— сказал он почему-то шепотом,— диван — не рабочее место.
Шпарага стал ворчать: опять я ловчу! Но мы с Неявкой не стали его слушать. Неявку я усадил для работы за свой письменный стол, а сам уселся в свое кресло, положил на колени портфель и стал правдиво описывать рабочее место Неявки. Представляю, как бы Шпарага возмутился, если б узнал, что кресло и есть мое настоящее рабочее место.
Правды я отвалил щедро, ни о чем не забыл: ни о коричневом шнурке, ни о хлебе с маслом. Вот уж смеяться будут в классе!
Неявкино рабочее место мне все больше нравилось. Работать за ним можно, писал я, только котенка надо переселить на пол, а то он все время трется о руку. Закончил я так: мало ли какое может быть рабочее место, лишь бы человеку за ним работалось.
Неявка закончил раньше меня и с тревогой ждал, что там у меня получится.
— Неявка,— сказал я,— в первый раз вижу человека, который сам себе организовывает волнения. Вот читай и радуйся. Тут столько правды, что тебе на неделю хватит. Только учти: в классе будут смеяться...
Неявка стал читать. Он так разволновался, что начал покашливать, чесаться — я принес ему воды, Неявка высосал воду до дна и сказал:
— Спасибо, Быстроглазый, что ты меня защищаешь!
— О, пожалуйста! — ответил я.
Шпарага тоже прочел. Он нашел две орфографические ошибки и сказал, что о котенке я не то написал: Неявка его специально на рабочем месте поселил, чтобы можно было гладить левой рукой, когда правой пишешь — так Неявке лучше думается.
— Шпаражка,— сказал я,— про котенка вставим. Когда я берусь писать правду, то готов написать любую небылицу.
Потом я прочел, что там Неявка насочинял о моем
362
рабочем месте. О ящиках он не упомянул, но, чтобы сочинение не выглядело уж очень коротким, он описал три царапины и два чернильных пятна на моем столе. Особенно хорошо у него получилось описание второго пятна: он открыл, что оно напоминает доберман-пинчера. (С тех пор мне нравится рассматривать это пятно; доберман-пинчера я, правда, никогда не видел, но не станет же Неявка врать.)
— Будем считать, Неявка,— сказал я,— что мы это дельце провернули. Теперь я тебе могу рассказать историю о чудике.
И я ему рассказал о том, как один малый свалился в поезде с верхней полки на старушку. Неявка хохотал так, что слезы на глазах выступили.
— Ты понял, Неявка, в чем мораль этой истории? — спросил я.— В жизни случается всякое. Нужно это понимать! Вот завтра, например, все будут читать вранье, и только мы с тобой правду. Два лопуха!
Шпарага сказал, что и он будет читать правду.
— А ты, Шпаражка, молчи,— сказал я.— Ты хоть и зловредный человек, но глубоко несчастный. Я тебя жалею так же, как и Неявку. Может, ты все-таки передумаешь? — спросил я Неявку.— До сих пор я с тобой говорил как гражданин, а теперь по-человечески советую. Ну зачем тебе правда, из-за которой над тобой будут смеяться? Другая какая-нибудь подвернется.
Неявка не стал отвечать. Да и что он мог сказать в защиту своего безрассудства? Он мне нравился. Жаль, что через три месяца Неявка уехал из нашего города: уж очень в университете его папу стали донимать за абстрактный гуманизм, говорили, что не признают его темы, пока он не признает своих ошибок. Вот Неявкин папа и переехал преподавать в другом университете. Неявка мне объяснил, что ректор того университета ничего не имеет против абстрактных гуманистов. Он говорит: «Пусть хоть альбигоец. Лишь бы взяток не брал».
Мог ли я подумать, провожая Неявку на лестницу, что ко мне самому через минуту прицепится правда?
Я вернулся в комнату и стал перечитывать то, что написал о рабочем месте Неявки. И вдруг мне захотелось написать получше, так, чтобы все поняли: рояль самое подходящее для Неявки рабочее место, другого ему не нужно. Я сел в кресло и стал писать. Очень интересно, скажу я вам, правда цепляется к человеку: тебе даже
36 з
п в голову не приходит, что ты в опасности, только в груди начинает щекотать. Ты волнуешься, а из-за чего волнуешься, это тебя не интересует: одна правда в голове. Я писал и зачеркивал, писал и зачеркивал. И все мне казалось, что можно бы получше. Сколько сразу открылось тонкостей и сложностей! Сомнения даже появились: хотелось предложить, чтобы все, кто любит простор, неразбериху и домашних животных, устраивали себе рабочее место на рояле. Я зачеркнул все написанное и решил писать заново. И написал бы, если бы в комнату не вошла бабушка и не спросила, что это со мной: может, что болит? Тут только я опомнился и понял, что это правда вьет из меня веревки. Я испугался, напрягся, вскочил и начал принимать меры. Хорошо, что я знаю способ, как избавиться от правды. Я пошел па кухню, отрезал себе кусище пирога с яблоками и съел. Сразу помогло. Чтобы отвязаться от правды окончательно, я съел еще один кусок и запил компотом. Правду надо как следует заесть. Запить тоже не мешает. Я почув-. ствовал, что опять стал решительным человеком. Кто это вздумал мной помыкать? Я вернулся в мою комнату, порвал описание рабочего места Неявки, а в тетрадь записал то, что следовало: про лакированный письменный стол. Вот так!
Прежде чем приступить к осуществлению второго моего плана, я поинтересовался моим вдохновением. Его было достаточно. Но как-то непривычно оно себя вело: то в ноге я его обнаруживал, то в плече — блуждающее. Никогда мне еще не приходилось браться за дело с вдохновением в плече, надо было подумать. Я походил по комнате и решил, что с таким разогревом, как у меня, можно провернуть любой план. А вдохновение — пусть оно себе блуждает! Для уверенности я возьму с собой мой окропленный портфель.
О том, как, продолжая устраивать свои дела, я почувствовал усталость и потерял интерес к науке
Второй мой план был хитроумный и тонкий, и осуществлять его было радостно. Правда, он требовал терпения, которого у меня лично достаточно, но вот ноги мои часто торопятся и начинают действовать вопреки задуманному. А задумал я пойти к Люсеньке Витович. Я знал, что в семь
364
часов к ней приходит переводить английский Света Под- лубная. Я все уже отрепетировал в уме: как раз в это время зайду к Люсеньке, ненавязчиво зацеплюсь языком, а там воспользуюсь своей окропленной вещицей, достану тетрадь и учебники и влезу без всякого нахальства переводить английский вместе с девочками. Особенно в моем плане мне нравились довольно-таки интеллигентные слова: «А ну-ка посмотрим, кто из нас лучше английский знает!»
Нужно было выждать еще с час. Я сел в скверике на скамейку и стал переводить английский, чтобы поразить девочек своими знаниями. Прохожим и тем, кто отдыхал в скверике, нравилось, что я не бью баклуши, как некоторые, а даже на улице занят делом. Две старушки на соседней скамейке с похвалой говорили обо мне. Приятно было слушать. Но ноги мои вдруг потребовали и для себя дела — пришлось старушек разочаровать. Когда я появился у Люсеньки, Светы там еще не было. Люсенька мне радостно удивилась:
— Это ты, Быстроглазик? Ой, как хорошо!
Она всем говорит только приятное и когда разговаривает с тобой, то можно подумать, у нее большей радости в жизни не было. Как-то на каникулах мы всем классом ездили на экскурсию в крепость-герой Брест. Люсенька несколько раз забегала в то купе, где я лежал и почитывал, и все угощала меня — то пирожком, то лимонадом. Я уже решил, что она в меня влюблена, но потом увидел, что она и Мишеньке Теплицкому полбутылки лимонаду принесла. Зря она этого типа обслуживала...
Я сказал Люсеньке, что нахожусь в странном состоянии: брожу по городу с портфелем, домой еще не заходил, к тому же у меня нет расписания и я не знаю, какие на завтра уроки. Только я все это проговорил, как и сам поверил, что состояние мое странное: вот приперся в чужой дом с портфелем. Ну зачем мне этот портфель? Суетливо я принялся искать свое вдохновение — и не нашел. Уж и не знаю, совсем ли оно исчезло или запропастилось в такое место, где никому не придет в голову искать. При такой нескладице нужно было поскорее уходить. Но Люсенька уже занялась мной: усадила меня за стол, достала дневник, раскрыла. Никто в классе не умеет так аккуратно вести дневник и тетради. Люсенька собирается стать учительницей и по-учительски требовательна к себе — она школу организовала на лестнице (я еще об этой школе
365
расскажу). Люсенька и со мной вела себя как учительница. Только в той игре, которую она затеяла, уж очень маленьким учеником я ей представлялся: первоклас¬
сником.
— Достань-ка, Быстрог- лазик, дневник, сосредоточься и пиши аккуратно.
Оба мои дневника были заполнены.
— Я на листке сперва, Людмила Викторовна,— сказал я.— Боюсь наляпать.
Я раскрыл портфель, чтоб поискать листок бумаги. Я не учел, как может повести себя учительница с первоклассником. Люсенька сама достала дневник из моего портфеля. Какая это была ошибка — окроплять портфель в туалете!
— Зачем же? — сказала Люсенька.— Это непроизводительная затрата времени. Сосредоточься — и ты напишешь без помарок.
Уже она начала раскрывать дневник. Я вырвал его и сделал вид, что страшно рассердился.
— Хватит! — сказал я.— Я тебе не первоклассник — не командуй! Я четвероклассник, поняла? Ко мне в портфель лазить нельзя!
Люсенька растерялась.
— Ну извини,— сказала она.
Она вышла в другую комнату — наверно, чтоб прийти в себя после моей выходки. Вернулась она с конфетницей, в которой карамельки лежали, поставила конфетницу передо мной:
— Ешь, Быстроглазик.
— Ты извини,— сказал я.— Понимаешь, терпеть не могу быть первоклассником: меня в первом классе по голове портфелем сильно ударили, с тех пор реакция.
— Ладно, Быстроглазик,— сказала Люсенька.— Я же не знала.
Мне повезло: Света появилась, когда я еще писал. Только можно ли это считать везением? Люсеньке она улыбнулась, а в мою сторону так повела глазами, что стало
366
ясно: теперь я для нее — тьфу! Она мне начала выказывать знаки неуважения. И откуда у нее взялось столько этих знаков! Она села на диван рядом с Люсенькой, а получилось: Люсенька не то что ты. Она стала Люсеньке что-то шептать на ухо, а получилось: вот с ней-то я разговариваю. А когда Света засмеялась каким-то своим словам, то можно было не сомневаться: о ком бы эти слова ни были, смеется она надо мной. Умеет, ничего не скажешь. Света взяла Люсеньку за руку, притянула к себе еще ближе и шептала еще долго с очень обидными для меня смешками. И как она заботилась о том, чтобы я ничего не услышал! Как будто я такой человек, что подслушивать стану.
— Хотела переводить с тобой английский, да расхотелось.— Света брезгливо посмотрела на меня — и дурак бы понял, почему ей расхотелось.
Я растерялся: никто еще Дербервилем так не
обходился.
Люсенька и не подумала скрывать, что она поняла, почему Света ушла.
— Вот так, Быстроглазик,— сказала она,— Света тебя осуждает. Ты плохо с Вовиком обошелся. А он такой добрый.
— Расхваливай,— сказал я.— Разве ты поймешь, какой это человек?
— Какой?
— На многое способен,— сказал я.— Если хочешь знать, он клин способен между сыном и отцом вбить. В семейные дела суется!
Люсенька всплеснула руками:
— Что ты такое говоришь?!
Больше мне не хотелось слушать ее учительский голос. Я даже подумал, что чересчур уж она хорошая на вид,— наверно, неискренний человек.
— Ты не обижайся,— сказала Люсенька.— Правда — хоть и горькое, но полезное лекарство.
Это уже было совсем невыносимо.
— Ты опять со мной как с первоклассником!
— Быстроглазик,— сказала Люсенька,— я давно уже перевела тебя в четвертый.
Я спускался по лестнице и хорошо себе представлял, какой у меня дурацкий вид с этим вот портфельчиком, окропленным в туалете. Я давал себе слово никогда больше при блуждающем вдохновении не браться ни за какое
367
дело, хотя бы разогрев был в сто градусов. «Дальше еще хуже будет»,— подумалось мне. Меня уже не радовало, что все происходит закономерно. Я готов был предпочесть научной логике суеверные представления. Хорошо, что я знал, какой суеверия вред принесли людям. Я быстро стал переключать себя на научное мировоззрение, возился, возился, но дело шло с трудом, а когда наконец удалось, то мне открылось такое, что лучше бы я остался суеверным.
Проклятая научная ясность все закономерности вывела, и не надо было ставить экспериментов, чтобы понять: Света ко мне относится плохо не потому, что я ее дернул за нос, а потому, что я такой человек, о котором можно насмешливо перемолвиться словечком, сказать: «Вон наш классный проныра опять что-то затевает!» Короче говоря, я был для нее вроде Зякина, а может, и похуже: посмотреть-то посмотрит, но только чтобы поморщиться и отвести глаза. Вот тут-то они и стали мне припоминаться, такие ее взгляды,— не один и не два! Как будто я, ученый человек, их заснял, а теперь разложил — изучай и радуйся. Вот один: глаза сощурились — ну как можно было не увидеть, что взгляд этот означает: «Ай да прохиндей!» Это на школьном дворе происходит, после того как пионервожатая заподозрила меня в том, что я нечестно металлолом собирал.
Ничего страшного, по-моему, не случилось: я помог классу занять первое место. Я знал: в нашем классе организаторов хороших нет,— и все взял на себя. Я ушел на пришкольный участок и там посидел на травке. Нужно было подождать, чтобы металлолома в школьном дворе накопилось достаточно для задуманного дела. Потом я из чужих кучек понемногу взял и снес в нашу. Сверху я все прикрыл нашими собственными железками. Металлолом мы складываем за выступом школьного здания — никто не заметил. Но нашелся один бдительный из параллельного класса:
— Где труба, которую я принес?
На редкость неприятный голос у человека. Страшно ему жаль было трубы — он во всех кучах рылся, переворачивал все, пока не нашел. Вот из-за него и вышли неприятности. Еще один закричал:
— А вон кастрюля, которую я принес!
А третий:
— А вот моя рельса! А ну давайте сюда мою рельсу!
368
Прямо сражение началось. Пионервожатая сказала, что этот инцидент испортил мероприятие, и сердито посмотрела на меня. И хотя я спросил: «Что вы на меня так смотрите?» — она осталась при своем мнении.
Наш класс занял первое место. Но на вечере обо мне спели песенку: «Быстроногий, быстроглазый собирал металлолом». Песня всем понравилась. Ее еще долго распевали. Кто не знал о Быстроглазом, узнал. Я остался доволен, а о Светином осуждающем взгляде ни разу не вспомнил.
А вот еще один снимочек: как метнулись в мою сторону глаза, как сощурились и припечатали — эх, ты! Тут причина была посерьезней: я побил очень славного человека из параллельного класса, хотя, клянусь, я это делал через силу. Мы с ним столкнулись на бегу на перемене, и мне показалось, что я ушибся больней, чем он. Тогда я ему добавил. А он решил: чтобы поровну вышло, надо мне кое-что вернуть. Мне сразу стало ясно: это не боксер и не борец. Он мне папу напоминал: так же, как папа, каждое слово отчетливо произносил, будто на весах взвешивал и боялся недовеса. Я сказал:
— Стоп! Кругом учителя! Зайди после уроков — продолжим.
Я забыл о нем, и когда увидел его после уроков у двери класса, то и не сообразил сразу, зачем он тут.
— Ты хотел продолжить — идем!
Не мог он, конечно, не понимать, что не партнер мне, но, видно,, втемяшил себе, что в трусы себя запишет, если не придет.
Мы пошли за тот же выступ школьного здания, где металлолом складываем. Только мы начали, а у него уже из носу потекло. Я пожалел, что перед дракой не сказал: «До первой крови!» Теперь надо было драться и смотреть на его лицо в крови, на то, как обдумывает он каждый свой удар, будто шахматный ход, но и под носом не забывает вытирать — миляга! Я полюбил его. Мне уже мечтаться начало, что мы друзья до гроба, уже в глазах защипало, и я ждал сигнала детского шарика, но так и не задудело, и не хватило поэтому у меня смелости сказать: «Хватит, а то у тебя под носом Красное море». Я боялся, что зрители меня трусом посчитают. Так я потерял лучшего своего друга. Появилась завуч. Видно, Света ее привела: она стояла рядом с завучем и уничтожала меня взглядами.
369
Вот как выходит: живешь на свете, бегаешь, хлопочешь, молодцом себя считаешь — и не знаешь, что кто-то за тобой наблюдает и думает: «Какой стервец, а?» Я почувствовал усталость, пора было отдохнуть от науки и от дел. Но вместо того чтобы пойти домой, я стал прохаживаться недалеко от Светиного дома. Вот тут и начинается необъяснимое.
О том, как я совершил первый в этой истории необъяснимый поступок. Попутно здесь высказываются
важные суждения о природе необъяснимых поступков
Любой человек время от времени совершает необъяснимый поступок. Этого не нужно пугаться. Если вы сидите на уроке и вдруг ловите себя на том, что жуете промокашку или отрываете от тетрадки полоски и скатываете из них шарики, знайте: это и есть необъяснимый поступок.
Бывают, конечно, необъяснимые поступки и посерьезней: однажды я перелез из нашего окна на третьем этаже на наш балкон. Для этого нужно было повиснуть на руках, держась за перекладину рамы, отпустить одну руку и дотянуться ею до перил балкона, после того как упрешься одной ногой в балкон; дальше нужно было присоединить вторую руку и ногу и перелезть через перила,— работа эта требовала большой сосредоточенности. Зачем я это делал? Не объяснишь. Просто взглянул из окна на балкон, и мне подумалось: «А интересно!..» Но даже серьезных необъяснимых поступков не стоит пугаться. Беда наступает тогда, когда человек начинает совершать один необъяснимый поступок за другим, ведет себя так, как будто кто-то управляет им по радио... Но я забежал немного вперед.
Прохожих, представьте, занимало, что я слоняюсь по улице, вместо того чтобы идти домой, почти все они взглядывали на меня насмешливо. Одна старушка с балкона начала допытываться:
— Что же ты с портфелем ходишь? Натворил что-то?
Если б я сказал, что ничего не натворил, она бы все равно не поверила. Не люблю выглядеть вруном. Я сказал, что получил пять двоек и выбил в классе окно. Старушка ахнула и после этого уже не отрывала от меня глаз. Она мне все советы давала, чтобы я шел домой: дома мама
370
накажет, а потом пожалеет и накормит, а так что ходить? Скоро мне начало казаться, что я на самом деле набедокурил, что родители у меня злые-презлые — и вот я слоняюсь с портфелем... и есть очень хочется.
— Иди, милый, домой,— советовала старушка.— Иди, иди, не убьют.
— Нельзя, бабушка,— ответил я.— Может, и не убьют, но так исколошматят, что жизни рад не будешь.
— Да что это за родители такие! — сказала старушка.
Она ушла в комнату, потом вернулась и опустила мне
на веревочке бутерброд, завернутый в газету. Она мне рассказала, что приехала в гости к дочери (вообще-то она живет у другой дочери), а в том городе, где она живет, у нее есть такой же внук, как я. Этот внук тоже как получит двойку, так домой не идет: отец очень строгий. Бутерброд оказался с колбасой. Я его съел, беседуя со старушкой. Мы сошлись на том, что лучше, когда родители по-доброму воспитывают, а не хватаются за ремень чуть что.
Старушка опять стала увещевать. Неудобно было отказывать сердобольному человеку. Да и зачем? Ее легко можно было обмануть.
— Ладно, бабуся,— сказал я,— на вашу ответственность.
Я ушел от ее глаз за речной изгиб улицы. Здесь я увидел двух продавщиц мороженого, обе смотрели на меня и, можно сказать, гипнотизировали: а иди-ка ты ко мне со своей монеткой! Монетку я вертел в пальцах и раздумывал, чей гипноз принять. Одна продавщица, на той стороне улицы, где я стоял, была старой моей знакомой, небольшой моей приятельницей. Мороженое она здесь продает давно, гораздо дольше, чем я живу на свете,— так говорит папа. Она торгует и зимой, сидит на раскладном стульчике и изучает прохожих и дома; у нее приятный, добрый взгляд, и те, кто это замечает, становятся ее покупателями. Зимой папа часто покупает мороженое, и мы едим его на десерт. В это время папа говорит о продавщице, о том, что, судя по всему, женщина эта необыкновенного душевного здоровья, потому что самое безнадежное на свете дело — продажу мороженого зимой — делает спокойно, ни на кого не обозлена и всегда готова человеку помочь двухкопеечной монетой или другой услугой, а нет — она тебя добрым взглядом одарит. У другой продавщицы взгляд был настойчивый, мне начало казаться, что она меня за воротник
37 1
тащит к своей серебристой будочке с красной надписью на стекле: «Мягкое мороженое». И хотя мягкое мороженое мне нравится больше, я выбрал обыкновенное: как-никак о продавщице обыкновенного мы говорим за нашим столом — свой человек. Между нами разговор произошел, совсем неожиданный для меня.
— Видишь, что за человек? — сказала продавщица и кивнула на серебристую будочку.— Взгляды ревнивые бросает. Выбила себе мягкое мороженое и местечко здесь и ревнует меня к каждому покупателю. Да что ж ты ревнуешь? — спросила она громко, так что продавщица мягкого мороженого, пожалуй, и услышала.— У меня ж один покупатель на твоих десять!
Продавщица в будочке вдруг засуетилась, что-то делать стала. Она нагибалась и распрямлялась, ведерко у нее в руках появилось, потом тряпка.
— Милиционера своего знакомого на меня насылает,— сказала мне продавщица.— Милиционер уговаривает перейти на другое место. «Ты, говорит, здесь все равно ничего не заработаешь». А я отвечаю: «Что заработаю, то мое, а уйти отсюда не могу». Я же здесь скоро тридцать лет как сижу. Те, кто детьми у меня мороженое покупали, теперь папы и мамы. Здесь я могу с человеком поздороваться и словечком перекинуться, вот как с тобой сейчас. Здесь родных лиц у меня много. Так как же ты можешь меня на чужой угол гнать? — спросила она опять громко, и женщина в будке задвигалась еще быстрее.— Как же ты додумалась спихивать меня с моего угла?
— Я добра тебе хочу,— не выдержала вторая продавщица.— Хочешь, я тебе такое место подберу, три плана будешь делать? Л здесь у тебя что за план? Здесь ты только на совесть мою жмешь. Долго ты жать собираешься?
— Не понимает,— сказала моя продавщица,— спихивает меня ногами и еще жалуется, что стыдно ей это делать. Ты мне скажи, откуда такие люди берутся?
— Ха! — сказал я.— Матери их такими рождают. У нас в классе тоже такой гад есть. Своего товарища с парты ногами спихнул: «Иди, говорит, отсюда. Я с другим сяду!»
— Насовсем спихнул? — заволновалась продавщица.
— Где там,— сказал я.— Его же учительница и пересадила. Он тоже ревнивый. Он того парня, которого спихивал, к своему отцу ревнует. Понимаете, его отец того парня любит. За доброту и талант, а сына своего просто
372
за то, что он сын. Как вы думаете, должен он его ревновать? Ведь все же он клин между отцом и сыном вбивает.
— Да какой клин? — сказала продавщица.— Какой клип, что ты? Пусть радуется, что у него отец чужих любить умеет. Свое само любится, а чужого надо уметь любить. Я знаю: тридцать лет училась. Я тут каждый камушек полюбила. О детях не говорю — они мне ладошки подставляют!
— Так вы думаете, этому, что спихивал ногами, извиниться надо?
— Извинись обязательно,— сказала продавщица.— Раз его отец твой любит, значит, он хороший... не смотри на меня так, я догадливая. Я столько на людей смотрю, что все про них понимаю.
— Ладно, подумаю,— сказал я.— А пока я пошел. Одна девчонка скоро должна появиться, нужно спрятаться.
Я спрятался в парадное. Я вел оттуда наблюдение за улицей и думал: «Что это я за разговор с продавщицей вел? Зачем наговаривал на себя? Чувала выгораживал. Сам себя пусть выгораживает. Он — себя, я — себя: такие
правила».
Появилась Света Подлубиая. С тетрадками в руке она шла к Люсеньке. Когда я выскочил из парадного, она вздрогнула и пробормотала:
— Это что за засада такая?
Кажется, она приготовилась к неприятностям.
— Ду ю спик инглиш? — спросил я.
Света решила, что это уже начинаются неприятности, и отскочила от меня.
— Не пугай ее,— сказала моя продавщица.— Что ж ты ее пугаешь, чудак?
Света быстро пошла по улице, а я увязался за ней.
— Не бойся, милая,— успокоила ее женщина,— он в тебя влюблен, потому и пристает.
Тут уж мне ничего не осталось, как пойти в другую сторону. Выходило, я столько времени ждал Свету только для того, чтобы сказать ей: «Ду ю спик инглиш?» Не знаю, какое у вас сложилось впечатление, а меня этот поступок страшно удивил. Я несколько раз пожал плечами, разок сплюнул и пробормотал:
— Ну погоди же!
Кому я угрожал? Тут опять было о чем подумать.
О том, как выяснилось, что папа не понимает, что такое семья, и к тому же совершенно беззащитен перед правдой. В этой главе высказываются важные мысли о семье, которые должен усвоить
каждый
Дома дед мне сообщил, что мама звонила в школу и моя новая классная руководительница нажаловалась ей на меня.
В дербервилевской комнате папа с мамой обсуждали мой поступок. Вошел дед и присоединился к ним. Я стал слушать, что интересненького они скажут.
Дед сказал, что меня вынудили «столкнуть того парня>>, потому что уже давно затирают: по поведению ставят «удовлетворительно», а не «отлично», по русскому и географии снизили оценку на балл, а по пению на целых два.
— Сколько мы будем с этим мириться? — спросил' дед.— Разве за мальчика некому постоять?
Дед понимает, что такое семья. Для него нет большей радости, чем выручать меня. Если вызывают в школу родителей, он идет вместо них. Когда он возвращается домой, то всегда сообщает одно и то же: «Ничего особенного. Ерунда какая-то». Дед до того преданный мне человек, что Дербервиль решил его сделать своим дворецким: преданность должна вознаграждаться.
— Я схожу завтра в школу,— сказал дед,— и пристрою мальчика на ту парту, которая ему по вкусу.
Мама и дед посмотрели на папу, вошла бабушка и тоже стала на него смотреть. Папа обдумывал «ситуацию». Все волновались, кроме меня, конечно: я-то знал, что папа откроет в «ситуации» такое, что все ахнут.
— Он должен понять,— сказал папа, обдумав,— что это низменный поступок.
Папа спросил, могу ли я себе представить, чтобы так поступил порядочный человек. Лучше бы ему не задавать этот вопрос: бабушка прямо-таки заголосила, как только поняла, что папа считает меня непорядочным. То, что она говорила, трудно передать. Смысл был такой: разве я хуже этого противного мальчишки Горбылевского, которого даже по имени никто не хочет называть, или хуже этого скверного Мишеньки? Нет, я других не хуже. Так почему же все сидят, где им хочется, а меня с парты на парту перебрасывают, и я сижу на самом краешке, как сирота,
374
и жду новых перебросок. Папа говорит, что бабушка — человек с фантазией.
— Тебя затирают? — спросила мама.
— А ты как думала? — ответил я. Я напомнил, что участвовал в самодеятельности и обеспечил классу первое место по сбору металлолома, но никто этого не отметил — ни директор, ни классный руководитель.
— Быстроглазый,— сказала мама,— я уверена, что все это не так. Я же знаю тебя! Ты всегда был бестией. Но поскольку ты наш, а не чужой, то пусть дед, так и быть, похлопочет за тебя — он это умеет.
Тогда папа крякнул и вскочил с кресла. Он сказал, что у него такое впечатление, будто он имеет дело с людьми, объевшимися белены или еще чего-нибудь в этом роде. Дед с бабушкой насупились. Кому приятно слушать о себе такое? Одна мама улыбалась и с интересом поглядывала на папу: уж очень она его любит.
— А того мальчика вам не жаль? — спросил папа.— Чудесный мальчик! Добрый, талантливый.
Бабушка ответила, что «у того мальчика» есть родители — это их обязанность его жалеть, а нам жалеть его не стоит, потому что у нас своих дел хватает, да и мальчик все равно не дастся: она знает, однажды в молодости пробовала жалеть чужого.
— Ну хорошо,— сказал папа,— не жалейте, раз у вас не получается, но своему внуку почему вы не скажете правду? Скажите сейчас же!
Я понял, что папа совершенно беззащитен перед правдой, раз ему в голову не приходит подумать о сыне, вместо того чтобы думать о постороннем. Я сбегал на кухню, принес кусок пирога и протянул его папе. Но папа пробормотал: «Я сыт...» — и отвел мою руку. Он расхаживал по комнате и всех упрашивал сказать мне правду. Как он мне нравился! Я думал о том, к кому правда цепляется чаще — к папе или к Неявке? Мама тоже любовалась папой; бабушка поджала губы и смотрела в пол, а дед незаметно показывал мне глазами на папу: вот какой вспыльчивый! Мне жаль было папу: просит, взывает и не может допроситься. Можно подумать, что он среди чужих.
— Ну скажите! — попросил я.— Что вам, трудно?
Папа стал переводить взгляд с меня на остальных.
— Нет,— сказал он,— не скажут. Придется мне одному. Иди-ка сюда.
375
Я подошел к нему. Он положил мне руки на плечи и сказал, что я поступил подло. Тут бабушка ойкнула, а папа грозно на нее посмотрел и добавил к сказанному, что если я привыкну так поступать, то не будет у меня в жизни ни радости, ни счастья, ни друзей.
— Славно! — сказала мама.— Как я тебя люблю таким! — Она подошла к папе и поцеловала его. Маме растрогаться ничего не стоит.— Жаль,— сказала мама,— что никто, кроме меня, этого в тебе не оценит.
Дальше мама спросила папу, как он думает, почему наш дом хиреет. Дед и бабушка уставились на папу — им тоже хотелось получить ответ.
— Ответь мне,— просила мама,— мой добрый муж, опора семьи! Не хочешь! — сказала мама.— Я сама отвечу. Есть у нас в доме человек, который никак не хочет понять, что такое семья!
Папа убрал руки с моих плеч и пошел из комнаты.
— К Вове пойду,— сказал он,— извинюсь вместо Витальки. Может, у тебя есть потребность извиниться? Тогда пошли вместе.
Не было у меня такой потребности — папа один ушел защищать чужие интересы.
— Я бы никогда так не поступил! — сказал я маме. У меня от обиды голос дрожал: все-таки вбил Чувал клин между мной и папой!
Мне вспомнилось, как я совсем еще крохой бросился защищать своего папу, хотя папа был абсолютно не прав.
Тогда мы всей семьей отправились в город. У витрины магазина я устроил истерику: улегся на тротуаре и стал вопить и сучить ногами. Я требовал, чтобы мне купили «штучку». Дед присел возле меня и с виноватым видом объяснил, что «штучка» ■— электроприбор. Зачем он мне? Но у меня все шло так хорошо — не хотелось сразу вставать только потому, что дед все повторяет это слово «электроприбор». Тогда папа сказал:
— Это надо пресечь! — поставил меня на ноги и надавал по рукам.
Я зашелся: все мне в тот день удавалось. И вот тут какой-то прохожий сказал папе:
— Ай, ну зачем же так сильно!
Я сразу же замолчал, и, пока папа соображал, что этому человеку ответить, я ответил сам.
— А ну-ка, подальше от моего папы! — выкрикнул я.
377
Дед подхватил меня на руки, и мы всем домом понеслись от смеющихся людей. Но мужчина, который вступился за меня, не смеялся: по-моему, он пытался понять, что произошло, и не мог.
И вот настало время высказать очень важную мысль, которую должен усвоить каждый: если ты делаешь
какое-то свинство, то это свинство и больше ничего, с какой стороны ни посмотри, но если то же самое свинство ты делаешь ради родного человека, то это уже не свинство, а полезный для семьи поступок. Я всегда это понимал!
Я приготовил для папы укоризненный взгляд. Когда он вернулся, я уставился на него этим взглядом, но он не захотел его замечать. Теперь, когда он предал своего сына, он занялся возделыванием своей души: взял с полки книжку стихов и стал читать. Эгоист! Недаром дед намекает, что, если бы папа не был таким эгоистом, если бы он без конца не возделывал свою душу, а думал немножко и о семье, все у нас в доме было бы по-другому. Это точно! Мне самому в голову приходило: не будь папа таким эгоистом, давно бы у нас уже была машина. Альтруистом надо быть — вот что я хочу сказать!
За чтением стихов папа всегда волнуется, улыбается мечтательно, подскакивает иной раз на стуле. Кончается всегда тем, что он читает нам вслух. И на этот раз папа подсел ко мне и прочел стихотворение — о цветах:
Взгляните на белые лилии, на стройность их стеблей тугих, на их молодые усилия быть чище и выше других.
В общем, папа предлагал мне брать пример с этих цветочков. Тогда бы я не стал спихивать Чувала ногами с парты, потому что сразу бы стал чище и лучше других. Я никак не могу привыкнуть к тому, до чего папа наивный человек. Как-то он мне предлагал учиться у мотыльков, которые тянутся к свету, летят на огонь и в конце концов сгорают. Я его тогда так прямо и спросил:
— Ты хочешь, чтобы я сгорел?
В стихотворении еще говорилось о маках, анютиных глазках и астрах. Папа читал его с волнением, и как ему хотелось, чтобы мы с мамой стали похожи на эти растения!
378
Я прикрыл губы ладонью, чтобы не заметно было улыбки.
Мама же всегда серьезно относится к чтению стихов. Мама похвалила стихотворение, она повторила:
— «...Быть чище и выше других»... Господи,— сказала мама,— кто себе может позволить такую роскошь?
А папа уже читал другое стихотворение, улыбался и совсем не собирался задуматься над тем, что такое ответственность перед семьей.
Настало время рассказать о нем.
О том, что за человек мой папа; о том, как он жил сам по себе, пока не оказался в нашем доме;
о том, как мы подбирали ему тему и делали для этой темы все, что могли
Однажды в наш благополучный дом вкралась неудача: папа выбрал недиссертабельную тему. Нельзя сказать, что папа в этом виноват. По-моему, ни один человек на свете не догадался бы, что тема с изъяном. Помню, я вместе со всеми ее осматривал: в ней две буквы «ф» рядышком, в ней волнующее слово ЭВМ — ничего подозрительного. Недаром дед считает, что недиссертабельных тем вообще не существует. Он во всем винит папу: мол, папа покалечил тему, а теперь придумывает оправдания. Я, конечно, с дедом не соглашаюсь, и дед хвалит меня:
— Ты правильно делаешь, что защищаешь отца.
Но тут же он вздохнет, и я догадываюсь, какие слова просятся у него на язык: «Такой уж человек твой отец!»
Мой папа, Леонид Георгиевич Бесфамильный, родился во время землетрясения и с тех пор ходит в неудачниках. Если же в его жизни случаются удачи, то какие-то странные.
В 1943 году погиб на фронте его отец, папа жил впроголодь, видел всякое. Мама считает, что от этого в нем развилась склонность к «душевным огорчениям» и некоторым другим странностям. Учился папа в той самой школе, в которой теперь я учусь, успевал хорошо и, как я слышал, даже помогал своей маме по дому.
Высшее образование папа получил в университете, на механико-математическом факультете. Тут уж он учился
379
на одни пятерки. («Чтоб получать повышенную стипендию»,— говорит папа. А мама добавляет: «Да он же очень способный!»)
В университете папа добился большой удачи: стал чемпионом по русским шашкам. Друзья в честь этого события подарили ему на день рождения красивую рубашку в клетку, фуражку в клетку и дюжину клетчатых носовых платков. Это было смешно.
О «душевных огорчениях» папы этого времени мне мало что известно, хотя из его разговоров с друзьями можно понять, что такие огорчения были. Однажды, например, папа нашел в своем кармане женский носовой платок и страшно разволновался. Он был уверен, что этот платок сунула ему в карман одна студентка, чтобы дать понять папе, что он ей нравится. На следующий день папа, наряженный, подошел к этой студентке и пригласил ее в кино, но студентка в кино идти отказалась, а когда папа завел разговор о платке, то испуганно посмотрела на него и «отретировалась». Папа улыбался, вспоминая об этом происшествии, но я подозреваю, что это было для него большим ударом. Очень меня заинтересовало, откуда все же в его кармане оказался женский платок, но об этом мне ничего узнать не удалось. Как-то на уроке литературы меня осенило, что платок подбросила другая студентка, в сто раз лучше той, которую папа пригласил в кино, но папа об этом не догадался — очень жаль!
Следующий, трехлетний период в жизни папы был интернатский. Папа отказался от работы на заводе в нашем городе, а вместо этого поехал учительствовать в маленький город в Сибири. В этот период в жизни папы было много странных удач: то оказывалось, что один очень непослушный воспитанник интерната вечно подкарауливает папу, чтобы с ним поздороваться, то пятиклассники, которые ни одному учителю не давали урока провести — такие были дикие, целый урок усердно работали у папы, а то и такая радость привалит: заходишь к своим ученикам в спальню, а они книжку вслух читают, ту самую, о которой папа им вчера говорил. Всех папиных удач этого периода не перечислить, но было и большое «душевное огорчение», из-за которого папа в конце концов бросил работу в интернате. Он вернулся в наш город, познакомился вскоре с мамой, и они поженились.
Сведения об их знакомстве и женитьбе у меня самые точные.
380
Однажды мама присела на скамейке в скверике, и в это же самое время из какого-то раскрытого окна донеслась песенка: «Ах, любовь — это страшная сила!» Это было неспроста. Едва только песня перестала звучать, мама повернула голову и увидела на соседней скамейке папу, который ни о какой любви не думал, может быть, и песни не слышал, а предавался «душевной огорченности»; бедняга уже не замечал, что на одной его ноге красный носок, а на другой — зеленый. Маме стало жаль этого человека. Ей нестерпимо захотелось сделать его счастливым.
Когда-то, когда мама была еще студенткой, они с папой в одной компании праздник какой-то справляли. И вот мама стала смотреть на папу и ждать, когда он ее узнает и поздоровается. А папа хоть и узнал, но не поздоровался. «Наглец»,— решила мама и уже встала, чтобы уйти, но тут папа закурил очередную, третью уже, сигарету, и мама поняла, что если в ближайшее время не найдется человек, который отучит папу курить, то папа наверняка скончается от никотинного отравления. Нельзя было бросить этого человека вот так — на скамейке, в разных носках — на произвол судьбы. Ко всему еще с мамой невероятное приключилось: ей начало представляться, как этот человек входит в ее дом и спрашивает: «Что это у тебя такой усталый вид, родная?» Потом — что он ее ведет за руку по морскому пляжу, на нем красивые плавки — одна половина зеленая, а другая красная, а на маме красивый купальник, тоже красный с зеленым, и папа ей говорит: «Я научу тебя плавать». Последним представилось, как папа укачивает на руках ее ребенка — меня! Мама поняла: перед ней родной человек.
— Здравствуйте,— сказала мама.— Насилу вас узнала!
Так папа оказался в нашем благополучном доме, в квартире в восемьдесят один квадратный метр, с телефоном, двумя балконами и просторной ванной, выложенной первосортным нетускнеющим кафелем.
Все у папы выходило так, как пригрезилось маме: он маму плавать научил, а возвращаясь с работы, спрашивал: «Ты не устала, родная?» Мама отучила папу курить, кое к чему приучила, даже галстук в гости надевать; у папы изменилось выражение лица, он стал веселей, уверенней в себе, и все, кто его ни встречал, говорили, что женитьба ему на пользу. В каких-нибудь три месяца мама сделала
381
папу счастливым, но иногда ей казалось, что он не совсем это понимает.
Скоро я присоединился к этим успехам. Меня папа укачивал, как это может делать только родной человек. Я стал подрастать и скоро тоже заметил, что он родной- преродной. Мама, само собой, тоже была родная, и когда мы выходили в город всей семьей, то каждому, кто ни посмотрит, было ясно, что все у нас родные друг другу, а постороннего мы в свой дом не допустим.
На пятом году жизни я стал замечать, что папа смешной. Мне нравилось следить за ним незаметно. Два раза с ним невероятно смешное случалось: как-то в поезде ночью он с верхней полки свалился на старушку, старушка закричала: «Ой, кто это?» — «Это я, с верхней полки»,— ответил папа вежливо, отчетливо выговаривая слова. В другой раз папа в автобусе не удержался на ногах и свалился прямо на лукошко с яйцами, которое женщина на коленях держала. Женщина обозвала папу кретином, но все в автобусе были так довольны зрелищем, что зашикали на женщину.
Иногда с папой случались «душевные огорчения». И каждый раз из-за одного и того же: никак он не мог понять, что на свете случается всякое. Никак я ему этого втолковать не мог.
Но радостей и удач было гораздо больше. Особенно большой радостью были письма, которые иногда приходили папе от его бывших учеников и учениц. Ученицы писали письма длинные, и писем от них было больше. Ученики и ученицы рассказывали, как им живется, где они теперь работают, вспоминали о своей интернатской жизни. Я понял, что в интернате папа был тоже смешной и что это нравилось его ученикам. Одна ученица написала папе удивительное письмо. В письме этом она вспоминала о том, как папа заставлял ее работать на уроке, как не разрешал ей сидеть за партой в курточке внакидку, и многое другое. Дальше ученица эта сообщала, что она уже совсем взрослая — окончила педучилище, получила направление на работу и теперь может сказать папе, что она его любит и с радостью вышла бы за него замуж, если бы он только захотел. Маме очень понравилось это письмо — она его положила в шкатулку с бумагами, а ученице отослала коробку конфет. С тех пор она любит говорить папе: «По-моему, ты не совсем понимаешь, какая тебе досталась хорошая жена».
382
...Дед первый смекнул, что наш благополучный дом нуждается в теме. Он расспросил одного своего приятеля, другого и выяснил, что в нашем городе есть НИИ, где очень хорошие темы дают. Дед подолгу стал вести разговоры с папой о том, что нужно идти работать в этот НИИ, а не в школу или еще куда-нибудь. Папа послушался его совета, и все стали ждать, когда он раздобудет тему. Но папа уж очень долго присматривался да подучивался, он объяснял деду, что еще рано думать о теме. Дед не соглашался: он считал, что нужно сперва ее, то есть тему, притащить в дом, а там видно будет. В общем, тема появилась позже, чем хотелось бы деду, но и гораздо раньше, чем вначале задумал папа. Мы пригляделись к нашей квартире и решили, что пора делать ремонт.
Я посетил трех человек с темами из нашего класса, понаблюдал за жизнью в их доме, осмотрел квартиры. Наш дом был получше, но все же кое-что полезного я увидел. В одном доме было две темы — я стал подумывать, что и нам неплохо бы второй обзавестись. У меня с дедом об этом разговор был. Дед сказал, что я говорю дело, но вот беда: наш дом две темы сразу не потянет. В другом доме я приметил гантели в прихожей и такие же купил папе, чтоб он форму поддерживал. В третьем доме сын называл отца «старик». Я попробовал это внедрить у нас, но папа сказал:
— Никогда не подхватывай ходячих словечек.
Но зато аквариум, почти такой же, как я обнаружил в этом доме, мы с дедом купили.
Дед тоже многое сделал для нашей темы. Одних папок всевозможных с десяток купил. После каждой покупки он говорил папе:
— Ты давай, действуй! Как там у нас дела?
Он купил пишущую машинку, много пачек бумаги, он начал для нашей темы спиртное приносить; бутылки он сперва ставил в книжный шкаф, но их так много набралось, что мы выделили им место: открываешь створку — и человек ахает. Дед поговаривал, что настанет время, когда это все пригодится для важного диссертабельного разговора. Наша тема стала пользоваться успехом у папиных друзей.
Теперь уже получалось так: что бы мы ни предпринимали, что бы ни покупали — все это для темы. Новые шторы — для темы, новые красивые туфли папе — для темы, потому что, если вдуматься, человек с темой не
383
может ходить в некрасивых туфлях. Бабушка стала готовить блюда, каких раньше не готовила; мама стала больше уделять внимания папе: то причешет его, то велит рубашку сменить. (Папа стал говорить, что вихор на макушке — единственное невозделанное место на нем.) Даже знакомые наши стали интересоваться: «Как поживает ваша тема?» Один папа для темы ничего не покупал, по-прежнему редко причесывался и даже не избавился от привычки тихонько насвистывать. Это тревожило.
Но однажды в комнате, отведенной для темы, застучала машинка. Лица у всех сделались особенными: дело пошло! Но только одному мне пришло в голову поинтересоваться, что же папа печатает, запершись один. Я стал изучать папины бумаги и скоро нашел то, что искал: к теме это не имело отношения. Но я помалкивал: не доносить же на родного отца! Да и очень мне хотелось почитать, что папа сочинит дальше.
Стук машинки всех усыпил... Но время шло, и однажды выяснилось, что не всякую тему можно защитить между двумя ремонтами. Мама затеяла с папой долгий, многонедельный разговор о том, как папа себе представляет наше дальнейшее положение. Папе этот разговор не нравился. Мама то отступала, то наступала, но все же продвигалась вперед. Начинала она со слов: «Я не собираюсь тебе ничего навязывать, но все же ты должен понять...» А заканчивать ей приходилось так: «Что ты таращишь глаза? Не хочешь об этом говорить, не надо».
Чем закончился этот разговор, вы узнаете в конце этой истории.
О том, как мама Хиггинса помогала мне работать над собой и как я разобрался в том, что означала ее загадочная улыбка
Я уже не сомневался, что попал в полосу неудач. Я знал, что бороться с этим нельзя. Нужно только стараться вести себя мужественно. Поэтому, когда я за завтраком хлебнул чересчур уж горячего чаю, я не поморщился даже, а только с пониманием кивнул. Я ждал, что неприятности начнутся, как только я захлопну дверь квартиры. Но проклятая теория вероятности дала мне минуты две передыху. Они начались на улице. Со злющим лицом, с мокрой тряпкой в руке из парадного выскочила
384
дворничиха. Я сразу понял: это еще один результат
эксперимента с мусорным ящиком. И хотя я знал, что неприятность предотвратить нельзя, я развернулся и понесся от разъяренной женщины: тряпка полетела мне вслед, шмякнулась о мою спину, хлестнула концом по щеке и отвалилась. Я остановился на безопасном расстоянии и стал думать, как лучше всего прорваться к школе. Дворничиха обзывала меня словами, довольно обидными даже для человека, попавшего в полосу неудач, и она не слышала, что я ей два раза сказал: «Вы потише, потише!» Из ее слов выходило, что я каждый вечер переворачиваю мусорные ящики. Какая в этом была несправедливость! Меня утешало только то, что ни я, ни дворничиха тут ни при чем: всем заправляет теория вероятности. Хотелось достать калькулятор и подсчитать, сколько на мою жизнь выпадет несправедливостей. На балкон вышел несимпатичный пенсионер: ябедник решил полюбоваться на дело рук своих. Он прихлебывал из стакана что-то невкусное, морщился и даже вздрогнул разок. Он сказал дворничихе, что кричать бесполезно, а пусть она лучше идет в школу, отыщет там меня и обо всем сообщит директору. Начали страшные слова носиться над акациями: «примут меры», «наказать», «родителям на работу». Я убежал. Нашу улицу я проскочил дворами, но когда подходил к школе, обернулся и увидел, что дворничиха вон она, идет с деловым видом.
Я нисколько не удивился, когда на школьном дворе выяснилось, что меня ожидает новая неприятность: за ручку с папой стоял тот самый малыш, который вчера пялился на меня исподлобья, после того как я отпустил ему леща. У папы его тоже привычка смотреть исподлобья. Плюгавец, мозглячок — представляю, как ему доставалось в школе. Его поколачивали, а ответ держать придется мне. Но не убегать же было от этого замухрышки. Я не приостановился даже, хотя, признаться, разволновался так, будто меня ожидали очень важные события.
— Не думай,— сказал папа, нежно поглаживая сыну- лину головку,— что мы пойдем жаловаться на тебя учителям, чтоб они тебе мораль прочли. Не надейся: у нас есть средство получше.
Стало понятно: человек отлично разбирается в жизни. Из окна первого этажа я понаблюдал за ним: он вел разговор с тремя десятиклассниками, показывал им рукой на своего сына, чтоб они убедились, какой его сын кроха,
13 Школьные годы. Выпуск IV
385
и, конечно, доказывал, что общественность таких должна взять под защиту. Десятиклассники кивали.
На втором этаже я увидел еще одного обиженного, того самого, который вчера убежал плакать в класс. Он стоял у дверей учительской рядом со своей гневной мамой и мамой Хиггинса. Этого обиженного по головке гладила мама Хиггинса.
— Дербервиль,— сказала она,— я вижу, у тебя ничего не получается. Ты сделал то, что я тебе советовала?
Я ответил, что сделал, но не помогло.
— Ладно,— сказала мама Хиггинса,— придется нам приналечь. Я знаю средство получше. Иди пока в класс.
На третий этаж я поднимался с нехорошими предчувствиями. Здесь, в кабинете русской литературы, минут через пять меня отыскала моя давняя недоброжелательница Калерия Максимовна, наша географичка. Дворничиха ей так азартно показала на меня пальцем, как будто они охотились с ружьем. Калерия кивнула: я так и думала. Она предложила мне спуститься в математический кабинет. Ее нисколько не возмущало, что дворничиха обзывала меня словами, самое ласковое из которых было «бандит».
В математическом кабинете я опять встретился с мамой Хиггинса. За пять минут второй этаж приготовил мне новый сюрприз: маму Женечки Плотицына. В присутствии мамы Хиггинса дворничиха начала повторять мне то, что уже говорила на лестнице, только на этот раз голос у нее погромче был. Маме Хиггинса пришлось ей сказать:
— Вы спокойней, пожалуйста.
Но дворничиха и не подумала утихомириться. Такой неумелый жалобщик. Я с ней расправился в два счета.
— Вы сами видите, что это за человек! — сказал я маме Хиггинса.— Она мне проходу не дает.
Маме Хиггинса пришлось встать между нами, потому что руки дворничихи уж очень близко замелькали от моего лица.
— Вы все видите сами,— сказал я маме Хиггинса и спрятался за ее спиной, как будто уж совсем напугался.
— Он прикидывается,— сказала Калерия Максимовна.— Обратите внимание, какие у него глаза: плутишка.
С Калерией Максимовной мы давно не в ладах. Она меня невзлюбила, наговаривает всем на меня, объясняет,
386
какой я невоспитанный, какой плутишка. Когда меня вызывают в учительскую для разговора, Калерия обязательно вставляет свои замечания. И как же она довольна, что все подтверждается: я качусь и неизвестно, до чего докачусь.
Мама Хиггинса обернулась и поймала меня за руку:
— Ну, будет! Зачем ты человека изводишь?
Она усадила меня за парту, потом и дворничихе сказала «садитесь». Дворничиха сразу перестала шуметь, засмущалась, стало заметно, что у нее усталый вид. Только молча она сидеть не умела: она стала жаловаться на своего мужа, который пьет пиво, ходит на футбол, в домино играет, а об их больной дочери совсем не думает, а она одна всего не может, она и так на двух работах: дворником и билеты на автобусной станции продает — вот какая жизнь. А тут еще ящики с мусором переворачивают! В общем, мужу дворничихи досталось больше, чем мне. Под конец только она мне крикнула:
— Ты моих ящиков не трожь, по-хорошему тебе говорю!
— Я только один раз перевернул,— сказал я.— Не верите? Честно!
Дворничиха всхлипнула на эти мои слова и ушла.
— Кстати, спросите-ка у него, зачем ему два дневника,— сказала Калерия маме Хиггинса и тоже ушла: не интересно, видно, стало.
Я ждал, что дальше будет. У мамы Женечки Плоти- цына был сердитый вид. Неужели нажалуется, что я у ее сына деньги выманиваю?
— Вот это да! — сказала она.— Посылаешь ребенка в школу, думаешь, там все педагоги, а его плутишкой обзывают! Я бы не потерпела. Ты, Быстроглазый, деду скажи — он ей всыплет!
Подлизывается — значит, дело есть ко мне.
Дело оказалось важным: нужно было проследить, чтобы Женечка съедал на большой перемене пончик в нашей столовой,— он малокровный, аппетит у него плохой, но пончики он любит. Вот только Женечкина мама боялась, что он все деньги на марки станет тратить. Она против марок ничего не имеет, она довольна, потому что это положительные эмоции и развивает, но одними эмоциями жив не будешь. Она спросила, заметил ли я, что Женечка бледный. Я ответил:
— Конечно! Но про пончик,— добавил я,— ничего не
387
знал — теперь учту, буду с Женечкой в столовку на большой перемене ходить.
Замечательный разговор получился! Жаль, человека с кинокамерой не было: можно было бы в кино показывать. Я Женечкину маму до двери проводил.
Когда я повернулся к маме Хиггинса, она улыбалась все той же загадочной улыбкой. Ничего я не мог понять. Давно уже пора было возмущаться. Тогда бы я нашел что ответить, сказал бы: «Что вы себе нервы треплете из-за пустяков. Позвоните родителям: пусть они занимаются моим воспитанием, а не сидят сложа руки. Сами собой дети не воспитываются». Но она сказала:
— Все, иди. Урок уже давно начался.
— А когда ж будем обсуждать случившееся? — спросил я.— Уж очень много фактов нарушения.
— Да что ты беспокоишься? — Она не то чтобы хихикнула, а вроде бы взлетел ее голос — то ли в горле запершило, то ли издевка прорвалась.— Что ты на меня так смотришь? Иди. Я уже все решила. Мы вчера с папой твоим советовались. Вот еще с председателем совета отряда поговорю.
— Зря,— сказал я.— Лучше бы с дедом или с мамой: у папы и так много душевных огорчений.
— Из-за тебя?
— Да нет,— сказал я.— Никак не может привыкнуть, что на свете всякое случается. Наивный человек: возделывает свою душу. Если бы не это, то давно бы уже у нас была и тема защищена, и машина — точно вам говорю! Он же способный.
— Ты что, недоволен отцом?
— Да вы что? — сказал я.— Я его люблю! Просто говорю как есть. Машина ведь никому еще не помешала, правда?
Она рассердилась:
— Что ты тут об отце своем наговорил?! Эх ты! Да я его двадцать лет знаю! Если б у моего Сашки был такой отец, он бы счастлив был. Машина ему понадобилась...
Я понял: мама Хиггинса — та самая студентка, которая папе платок подбросила. Ишь как разволновалась — неравнодушна! Надо было второй платок подбросить или еще что-нибудь придумать. Действовать надо было, тогда бы сейчас не нервничала.
— Папа вам посоветовал сказать всю правду о моих
388
поступках? — спросил я.— Так вы сейчас и скажите, я обдумаю. В классе нельзя. У нас такой народ... Только и ждут, чтоб человека обозвали.
Я ей рассказал, как Шпарагу в третьем классе учительница обозвала разиней, и с тех пор его редко по-другому окликают. Уж очень я боялся, что она допустит педагогический просчет.
— Так вы мне не поможете.— Я решил напомнить, что она мне только помогает работать над собой, главное же делаю я.— Можете душевную травму нанести, учтите.
— Помогу, Дербервиль,— сказала она.— Увидишь, у нас все получится.
Тут уж она не улыбалась, смотрела мне прямо в глаза и рукой сделала нетерпеливый жест: иди же! Я ушел.
Нехорошие предчувствия меня одолевали. Я не сомневался, что папа посоветовал маме Хиггинса сказать в классе всю правду обо мне. Что поделаешь? Человеку, беззащитному перед правдой, никогда не понять, что нельзя ее всюду совать. Я ведь тоже против правды ничего не имею, но что же делать, если иногда малюсенькая не- правдочка гораздо выгоднее большущей правды? Взять хотя бы мой второй дневник. Такое пустячное изобретение, неправдочка с комара, а приносит мне в год — я подсчитал на калькуляторе — большущие деньги. Я качал головой: правда что хочет, то и делает с моим отцом, вот заставляет сына на позор выставлять. Я тогда еще не знал, что правда до того поработила папу, что вмешивается в наши семейные дела и даже занимается нашей темой.
Я решил позвонить деду на работу и зашел для этого в канцелярию. Но деда не оказалось на месте. Жаль! Как мне хотелось ему сказать: «Дед, выручай! Папа с классным руководителем и с правдой загоняют меня в угол...» Он бы мигом примчался. Но тут же я понял, что нахожусь в паническом состоянии, и стал обдумывать, как можно отбиться. Я решил правде противопоставить правду. Ну а если правды у меня окажется маловато, добавлю вранья. Буду говорить: «А сами-то вы лучше, что ли?»
Я до конца урока обдумывал, кому какую правду выложу. Чувалу я поставлю на вид, что он ссорит сына с отцом (разве это не подло?), Свете Подлубной — что она гордячка и задавака (разве так должен себя вести председатель совета отряда?). Я понял, что каждому найдется чем рот заткнуть. Наивные, я вам скажу, те люди, которые думают, что вся правда, какая есть на земле, принадлежит
389
им. В трудную минуту правда у кого угодно отыщется, нужно только мозгами пораскинуть.
Я думал, что мама Хиггинса устроит собрание после уроков, что будет много разговоров о моих поступках. Но я еще не знал маму Хиггинса. Она вошла в класс со звонком на второй урок вслед за Калерией и сказала, что Калерия согласилась «ради Бесфамильного» пожертвовать (тут она улыбнулась мне) пятью минутами урока.
— Дети,— спросила она,— знаете ли вы, что Виталий усиленно работает над собой? Ему хочется быть честным, справедливым, дисциплинированным...
Она долго перечисляла, каким мне хочется быть, на потеху меня выставляла. В классе смешки пошли. Шпарага один глаз навел на меня, другой — на маму Хиггинса.
— Но у него не всегда выходит,— сказала мама Хиггинса.— Недавно он по-свински с товарищем обошелся, вчера двух малышей побил... Учителя жалуются. Даже дворники. Короче говоря, он все время срывается, и ему одному не справиться. Можем ли мы ему помочь?
— Мо-о-о-жем! — пропели несколько голосов, среди них я голос Мишеньки уловил и одного из пшенок.
— Товарища в беде не бросим,— сказал самый ехидный из пшенок, Подавалкин.
— Так думайте скорей, как это сделать,— сказала мама Хиггинса,— времени у нас мало.
— Всыплем ему пять горячих,— предложил Горбылев- ский и подмигнул мне.
— Бойкот нужно объявить,— сказала Света Подлуб- ная.— Я уже объявила. Только остальные с ним разговаривают. Пусть знает, как к нему относятся!
— Это будет хорошая помощь,— сказала мама Хиггинса.— Кто против?
Против был только Хиггинс. Он сказал, что это очень жестокая мера.
— Ну что ты! — сказала мама Хиггинса.— Это же товарищеская помощь. Виталий меня сам просил помочь.
Дербервиля высмеивали, и он даже словечка вставить не мог: сам напросился.
— Договорились,— подытожила мама Хиггинса.— Три дня.
Она ушла. Калерия начала урок. Я прислушивался к мыслям, которые носились по классу, и даже не удив¬
390
лялся тому, что научился отгадывать, кто что думает. Почти все мысли были насмешливыми, носились три ехидные мыслишки—Шпарагина, Горбылевского и Мишенькина. Две сочувствующие — Хиггинса и Чувала. Марат Васильев никак не мог решить, сочувствовать ему или злорадствовать. Зякин был доволен, что мне целых три дня не с кем будет поговорить,— не он один такой. Света Подлубная была удовлетворена, и мысль ее в три слова умещалась: «Давно бы так!»
Я решил, что Дербервиль будет себя вести так, как будто не его бойкотируют, а он сам знать никого не хочет: если разобраться, скучный кругом народ. Дербервиль заскучал и скучал до конца урока. Только вот Шпарага мешал ему скучать. Зловредный человек все громче напевал «Весел я...».
— Шпарага,— сказал я,— сейчас ты поешь, но скоро плакать будешь.
— Хочу и пою! — ответил Шпарага.— Мне весело, понял? Вообще-то с тобой разговаривать не полагается, но я тебе все-таки сообщу новость: на следующем родительском собрании мой папа будет говорить о твоем отношении к товарищам по классу.
— Шпарага,— спросил я,— какое мне дело до твоего трепливого папы?
Но он уже меня не слышал, опять напевал: «Весел я!» Я ткнул его под ребро. Калерия заметила и сказала:
— Видите, какой он! Не зря с ним уже никто не хочет дела иметь.
На переменке я остался сидеть за партой: Дербервиль все еще скучал.
Зякин вертелся возле меня, все надеялся, что я подлизываться к нему стану, но так и не дождался. Тогда он сказал:
— Ближе чем на три шага не подходить.
Я встал, оттолкнул его подальше от своей парты и велел не подходить ближе чем на пять шагов.
Шпарага принес мел и разделил нашу парту на половинки, он считал, что бойкот надо мелом отчертить. Зато Люсенька Витович, проходя мимо, улыбнулась мне: улы- баться-то можно.
Хиггинс посовещался с Чувалом, подошел ко мне и сказал, что ни он, ни Чувал в бойкоте не участвуют: это слишком жесткая мера. Дербервиль кивнул и сказал:
— Это разумно.
391
Пшенка Подавалкин на весь класс прокричал голосом нашего директора:
— Очень полезное педагогическое начинание! Оч-чень!
Но глупей всего повели себя мои телефонные друзья.
Горбылевский стал в дверях класса и поманил меня пальцем в коридор. Дербервиль только улыбнулся презрительно. Тогда Горбылевский подошел ко мне и сказал, по-дурацки выговаривая слова,— он для конспирации старался говорить не раскрывая рта:
— Если захочешь поговорить, сделай вот такой знак и иди в туалет — мы придем.
Знак был тоже дурацкий: нужно было приложить палец к носу.
— Иди ты! — сказал я.— Хоть отдохну от твоих разговоров.
И вот когда я выдерживал первый натиск бойкота, выяснилось, что не только мама Хиггинса думала о том, как мне помочь работать над собой.
О том, как я подвергся новому педагогическому воздействию и как один человек на глазах у всех совершил поступок, который вряд ли поддается
объяснению.
В этой главе я перекладываю свой калькулятор
из кармана в ящик стола
В класс вошли три десятиклассника. Один вел за руку кроху, того самого, у которого папа знаток жизни; второй очутился возле меня, развернул за плечи и крепко стал держать за руки повыше локтей, а третий... у третьего руки остались свободными. Руки как руки, большие, загорелые. Самый противный из десятиклассников, тот, что кроху за руку держал, попросил «уважаемых пионеров» подойти поближе: сейчас будет проведена воспитательная двухминутка. Я его знал немного — с улыбочкой, к учителям подлизывается. До чего ж я не люблю таких: ведут себя тихонями только потому, что нет у них возможности повоображать. Но уж если представится случай... Как он выпендривался! Что голосом своим выделывал! Он сейчас не помнил, сколько сам подзатыльников малышам роздал.
— По какой щеке он тебя ударил? — спросил малыша тот, у которого руки были свободными.
392
Несмышленыш показал на правую щеку. Я хорошо помнил, что съездил его по левой. Но не поправлять же было! Я решил отбиваться ногами, но мои своевольные ноги меня подвели: вдруг засучили, начали лягаться, хотя я еще и готовности номер один не объявил. Десятиклассник обхватил своей ножищей (проклятый акселерат!) обе мои ретивые, и я получил по правой щеке — гораздо сильнее мне досталось, чем крохе. Только тогда несмышленыш спохватился, что не на ту щеку показал.
— Нет, по этой,— сказал он.
Ему обязательно уточнить надо было. Эти мне любители правды!
— Это легко исправить,— сказал десятиклассник со свободными руками.
Но когда он сделал ко мне шаг, в лицо ему полетел учебник. Представляете, Чувал бросил! Еще и крикнул:
— Издеваться пришел!
Он побледнел, губы его дрожали — не знаю, от испуга или от возмущения; он поставил на парту портфель, чтобы, как гранаты, доставать из него учебники, но передумал и замахнулся на десятиклассника портфелем. Уже десятиклассник приблизился к нему, хотя Хиггинс и пытался помешать — размахивал перед его носом линейкой.
— Я тебя бить не буду,— сказал десятиклассник,— ты и так заплачешь. Скажи маме, чтоб она тебе сегодня температуру измерила.
— Не заплачу! — сказал Чувал и всхлипнул. Такие передряги не для него.
Пшенка Подавалкин заулюлюкал, другие пшенки подхватили, весь класс их поддержал — вряд ли десятиклассники остались довольны воспитательной двухминуткой. Я ушел из класса, когда все толпились возле Чувала и обсуждали, устоял бы десятиклассник на ногах или нет, если бы получил портфелем по голове; кое-кто поднимал портфель и замахивался, чтоб прикинуть, каков получается удар. Уже наш историк шел на урок, я ему сказал:
— Ухожу. Не спрашивайте почему. Все равно не отвечу.
Наверно, вид у меня был аховый. Историк сказал:
— Иди.
Я побродил по городу, потом стал высматривать автомат, чтоб позвонить деду. Но позвонил я почему-то папе.
393
— Я ушел с урока,— сказал я.— Мне бойкот объявили. Ты доволен?
— Нет, конечно,— сказал он.— Иди домой, раз ушел. Вечером поговорим.
— Скажи еще что-нибудь,— попросил я. Мне нужно было, чтобы он сказал что-нибудь утешительное. Он понял.
— Ты стал уж очень толстокожим,— сказал он.— Вернее, был. Так что, может быть, это на пользу.
Я повесил трубку и пошел домой. Мне казалось, что как только я пойму поступок Чувала, то сразу же успокоюсь. Мне наплевать было, что Дербервиля унижали при всем классе, при Свете Подлубной; бойкот мне уже казался затеей наивных людей — папы, мамы Хиггинса и Светы Подлубной. А вот поступок Чувала — на калькуляторе его не высчитаешь. Скорее всего, это необъяснимый поступок — и нечего тут ломать голову. Но разве можно было об этом не думать? Не стал он смотреть, как будут наказывать его обидчика, а вступился. Но, может, он не за меня вступился? Пожалуй, не за меня. Он вступился потому, что десятиклассник поступал не по правде. Вроде бы я нашел объяснение, но оно меня не успокоило.
Тогда я для успокоения стал считать на калькуляторе. Я прикинул, сколько в нашем городе ворон, сколько воробьев, сколько человек каждый день появляется в городе в рубашке в полоску. У меня вышло тридцать две тысячи семьсот. От такой ясности на душе стало легче. Нельзя ли как-нибудь высчитать поступок Чувала? Но где взять цифры? Я высчитал, сколько Чувал в год съедает своих противных завтраков, сколько делает рисунков, я даже высчитал, сколько необъяснимых поступков за год может совершить такой человек, как Чувал, и хотя в этом тоже была ясность, но к тому, о чем я думал, эта ясность отношения не имела.
Пришел Хиггинс. Он принес мой портфель. Я пригласил его в свою комнату, чтобы показать, как я живу. Хиггинс сказал, что я живу хорошо. Ему понравилось, что в моей комнате два окна, что занимаюсь я за письменным столом, а захочу — могу в кресле посидеть. Хиггинс проверил, удобно ли сидеть в моем кресле, посмотрел, красивый ли вид из окна.
— Шмоточки смотреть будешь? — спросил я и раскрыл шкаф.
394
Телефонщики любят порыться в моем шкафу, примерить какую-нибудь из вещиц. Однажды Горбылевский ушел от меня в моей рубашке и носил ее два дня. Нам казалось это забавным. Но Хиггинс в шкаф заглядывать не захотел, даже отвернулся — так он себя вел, как будто рассердился на шкаф. Я закрыл дверцу, и Хиггинс успокоился.
— Вот так, Хиггинс,— сказал я.— Я-то думал, что ты будешь моим частым гостем.
Хиггинс ответил, что и ему так казалось, но, что поделаешь, отношения не получились, хотя, может быть, они еще и получатся.
— Хиггинс, ты же не ребенок,— сказал я.— Не получились — надо организовать. Когда мне надо было, я даже с одним старым дирижером организовал прекрасные отношения. Я могу хоть с курицей организовать отношения. Положись на меня.
Хиггинс меня не понял. Он даже стал поглядывать на меня как-то сбоку, как будто я тупица, которому простые вещи надо объяснять. И он мне долго объяснял, что отношения организовать нельзя, потому что это штука сложная. Его послушать, так надо было только прислушиваться и приглядываться, как эти отношения складываются. Он и правда все время прислушивался к себе, у него невероятная память была на то, что он испытывал и чувствовал. Наверно, если бы его спросить: «Что ты сегодня чувствовал в десять минут девятого?» — он бы без запинки ответил. Он рассказал, что сперва почувствовал ко мне симпатию, потому что у нас замечательный разговор получился — ни с кем ему еще не удавалось так здорово поговорить. Но потом он испытал разочарование: когда я начал ему говорить, чтобы он ни с кем в нашем классе не водился — он был рад, что его похитили пшенки. А после того, как я несправедливо обошелся с Чувалом, он испытал возмущение, а к Чувалу почувствовал нежность, жалость и еще что-то. А уж как эти чувства усилились, когда Чувал стоял и улыбался! Он целый день в этих чувствах разбирался, а ночью проснулся и понял, что ни к кому на свете еще не испытывал такого тепла...
— Короче,— сказал я,— какое чувство ты ко мне сейчас испытываешь?
Он ответил:
— Неопределенное, смешанное чувство симпатии и осуждения.
395
Он стал говорить, что все это не так просто, что в этом надо разобраться...
— Ладно,— сказал я,— разберешься — скажешь. Только имей в виду, Хиггинс: в классе у меня много недоброжелателей. Ты, наверно, заметил это сегодня. Не позволяй этим людям влиять на себя!
Мне хотелось, чтобы он еще со мной побыл в этот трудный для меня день, но он заторопился. Он сказал, что отправляется на поиски Чувала. Оказывается, Чувал вскоре после меня тоже ушел с урока и его до сих пор нет дома. Я посоветовал Хиггинсу искать Чувала в парке.
— Дербервиль,— сказал Хиггинс,— в классе говорят, что ты умеешь хорошие советы давать. Посоветуй мне, как успокоить Чувала: уж очень он был не в себе.
— Пусть делает домашнюю работу,— сразу же нашелся у меня совет.— Пусть в квартире уберет, выбьет ковры. Это лучший способ привести себя в норму... Его изобрел мой дед.
Когда я открыл перед Хиггинсом дверь на лестницу, то вдруг оказалось, что он не замечает ни двери, ни меня. Я понял, что он обнаружил в себе новое чувство. Мне было интересно, что там ему подвернулось. Я подошел к двери кухни и сделал бабушке знак, чтоб она выключила радио.
— Ну что там, Хиггинс? — спросил я, когда он встрепенулся.— Что-нибудь дельное?
Хиггинс ответил, что обнаружил в себе какое-то новое чувство ко мне.
— Хорошее? — спросил я.
— Неплохое! — ответил Хиггинс.— Очень интересное, сложное чувство. Должен тебе сказать, Дербервиль, никто не вызывает таких сложных чувств, как ты.
Я спросил:
— Может быть, пора организовывать отношения?
Но Хиггинс отмахнулся. По лестнице он спускался осторожно, чтобы не растрясти новое чувство. Я хотел ему крикнуть, чтоб он заходил и звонил, пока просто так, без отношений, но понял, что это бесполезно: все равно он будет поступать, как ему чувства подскажут.
Я решил, что мне, как и Чувалу, не помешает успокоиться при помощи домашней работы, и стал приводить в порядок свое рабочее место.
Я уже давно не занимаюсь за письменным столом. Когда мне надо писать, я усаживаюсь в кресло и кладу на
396
колени портфель. Мой письменный стол заставлен любимыми вещами. Я стал переносить эти вещи со стола на диван.
Сперва я перенес папину пишущую машинку, которую я держу у себя, чтобы приходящие ко мне люди могли ее подержать, сказать: «Ух ты, тяжелая!» — и спросить: «Сколько стоит?» Потом я перенес со стола на диван деревянный домик с аистом на крыше, потом фарфоровую статуэтку, изображающую двух пьяных охотников, в другую руку я взял бронзовую охотничью собаку с хвостом на отлете — эти вещи надо переносить вместе, потому что хотя собака и бронзовая, но принадлежит она фарфоровым охотникам.
Потом я перенес зверей и птиц, которых охотники могли бы подстрелить, если бы не были такими пьяницами: деревянную лакированную цаплю, бронзовую львицу на мраморной подставке и деревянного медведя, играющего в футбол.
Теперь настала очередь переносить две вазочки, керамическую и стеклянную,— в них я держу совсем уж маленькие вещицы.
Я перенес еще бюст Пушкина, портрет Есенина и портрет еще какого-то поэта (фамилии не знаю: она не уместилась в рамке), китайскую настольную лампу, немецкий чернильный прибор, которым я не пользуюсь, коробку домино, которая всегда должна быть под рукой, и книжку стихов, которая неизвестно как на столе оказалась, скорей всего, папа положил в надежде, что я заинтересуюсь.
На диване мои любимые вещи тоже неплохо выглядят. Я пошел на кухню, попросил у бабушки тряпку и протер каждую вещицу. Папа говорит, что у меня дикарская привязанность к вещам. Этой же тряпкой я вытер стол и опять перенес на него вещи, соблюдая ту же последовательность,— теперь мое рабочее место было в порядке да и настроение вроде бы улучшилось.
Я сел в кресло и стал дожидаться папу.
Папа задержался. Оказывается, он заходил домой к маме Хиггинса. Он мне сообщил, что они с мамой Хиггинса посоветовались и решили, что бойкот завтра надо отменить, так как десятиклассники внесли в это дело непредвиденные осложнения. Он был в хорошем настроении и поглядывал на меня с интересом. Он, конечно, считал, что мероприятие удалось и я уже стал лучше. Он три раза по волосам моим провел рукой: я ему нравился в улучшенном виде.
397
Вот и хорошо! — сказал он.— Нельзя же жить все
время баловнем. Эта встряска была необходима.
Я ждал, когда он заговорит о главном. Но так и не дождался.
— Ты что,— спросил я,— так и не пойдешь меня защищать? Мне же по физиономии надавали! При всем классе!
Он, представьте, засмеялся и сказал, что все вышло как нельзя лучше: должен же я был испытать, каково беззащитному человеку, когда его бьют по лицу.
Я ушел в кухню, чтобы сказать бабушке то, чего не мог сказать ему.
— Совсем спятил! — сказал я.— Радуется, что меня при всем классе по лицу отшлепали.
Бабушка горько кивнула и поджала губы. Она меня утешила: за меня есть кому вступиться. Она уже все знает и уже позвонила родителям двух десятиклассников по телефону, а к родителям третьего, того, который бил, они пойдут вместе с дедом.
Я вернулся к папе и сказал, что старые люди должны брать на себя его работу.
— Напрасно они это,— сказал он и обнял меня за плечи.— Ну конечно, у тебя выражение глаз изменилось...
Я вздохнул: пусть тешится. Я сказал ему, чтобы он поменьше ходил к маме Хиггинса, а не то вынужден буду сообщить об этом дома: она же та самая, которая сунула ему свой платок. Папа расхохотался и сказал, что и правда учился с мамой Хиггинса в одной группе, но насчет платка — это я зря. Как он недавно понял, поразмыслив, платок этот принадлежал его маме, а папа по рассеянности положил его к себе в карман. Только после разговора о платке он почему-то стал серьезным.
Я занялся подсчетами на калькуляторе. Подсчеты получались все грустные. Сколько людей в нашем городе получают каждый день по физиономии? Сколько мы теряем в год из-за того, что папа до сих пор не защитил тему? Сколько мы будем терять в год после того, как дед уйдет на пенсию? Я вспомнил — Горбылевский мне недавно сказал,— что в нашем городе за день умирает в среднем двенадцать человек. Я подсчитал, сколько умрет в нашем городе за год, за пять, за десять лет. Я подумал, что если подсчитать за девяносто четыре года со дня моего рождения, то в полученное число покойников войду и
308
я. Больше мне не хотелось заниматься подсчетами, я решил пока переложить калькулятор из кармана в ящик стола.
О том, как я начал совершать один необъяснимый поступок за другим. Здесь вы найдете описание одного немаловажного разговора, который привел меня в нормальное состояние
Дербервиль сидел в своем любимом кресле и курил свою любимую трубку. Он поглядывал на телефон: скоро к нему начнут звонить его именитые друзья.
В комнату вошла старая служанка Дербервиля.
— Виталька,— сказала она,— опять ты держишь во рту ингалятор? Хочешь, я тебе дам чернослив в шоколаде?
— Пегги,— сказал Дербервиль,— вы бы лучше вытерли пыль на моем столе.
— Ты опять? — сказала старушка.— Утром я протирала твои вещицы.
Уж эта Пегги! К старости она стала сварливой.
— Бабуля,— сказал Дербервиль,— что ты нервничаешь? Тащи свой чернослив. Я уже кончил курить.
Однажды Пегги попросила Дербервиля называть ее «бабуля». И хотя Дербервилю очень не нравилось это слово, он согласился: ему не трудно, а старушке радость. Старая преданная служанка принесла Дербервилю две конфеты и стала придумывать себе работу: смахнула пыль со стола, поправила плед на диване, картину на стене, хотя картина висела ровно. Дербервиль давно изучил наивные хитрости старой женщины: Пегги хочется поболтать. Дербервиль и сам любит поговорить со старушкой. Но на этот раз разговор не состоялся: зазвонил телефон и пришлось старушку отослать на кухню. Неторопливым движением руки Дербервиль взял трубку и поднес к уху:
— Аллоу?
Звонил Горбылевский. Он сообщил, что решено организовать одно дело, но Мишенька не хочет со мной организовывать никаких дел, потому что я гад.
— Это Мишенька так говорит,— уточнил Горбылевский,— я тут ни при чем.
Я ответил, что Мишенька сам гад и что мы вполне можем без него обойтись. Но Горбылевский сказал, что он
399
без Мишеньки никуда не пойдет. Тогда я сказал, что он тоже гад, и положил трубку, чтобы последнее слово осталось за мной.
Потом я позвонил Мишеньке и сказал:
— Шавка!
Потом зазвонил телефон, но я не стал брать трубку, потому что понял: это Мишенька хочет меня шакалом обозвать.
Потом позвонил Марат Васильев и сказал, что Мишенька всех обзванивает и сообщает, что я гад, но Марат считает, что гад не я, а Мишенька, и раз я не иду организовывать дело, то и он не пойдет.
Потом зазвонил телефон, но я не взял трубку, потому что догадался, что это Мишенька во второй раз пытается меня шакалом обозвать.
Потом позвонил Горбылевский и спросил:
— Ну как, ты идешь?
Я ответил:
— Ладно, иду.
Потом позвонил Марат Васильев и спросил:
— Это правда, что ты идешь?
Я ответил:
— Да ты что? Через час, не раньше.
Я ему посоветовал, чтобы и он не торопился. Он сказал, что так и сделает. Но я знал, что он сейчас же помчится — слабохарактерный. Зато у меня силы воли хватает. Целый час я думал о том, что Горбылевский подлиза: если бы у Мишеньки не было «Жигулей», то он бы меня поддерживал. Раньше так всегда было. Ровно через час я вышел из дому.
Своих телефонных друзей я увидел на обычном месте — на пустыре у глухой стены дома. Они играли в нашу обычную игру: кто кому больше пинков отвесит. Я решил принять участие: хотелось Мишеньку как следует угостить. Все бросились на меня в атаку. Мне досталось от Гор- былевского и Марата Васильева, но зато я изловчился и по-футбольному поддал Мишеньке. Мишенька охнул и стал кричать, что я бью изо всех сил.
Мы с полчаса после этого стояли, защищая свои тылы стеной. Иногда кто-нибудь перебегал, и тогда все набрасывались на него. И вот я стоял и думал: «Ничего себе человеческие отношения!» Мишенька злился на меня. Марат Васильев — на Горбылевского, а Горбылевский, я заметил, только делал вид, что старается поддать
400
Мишеньке. «А защищал меня Чувал»,— подумал я и пошел от этих кретинов. Они бросились на меня в атаку, но я не по правилам толкнул Мишеньку двумя руками в грудь. Им стало понятно, что ко мне лучше не подходить. Марат Васильев немного прошелся, держась от меня подальше.
— Что случилось?
Я и не подумал отвечать. Марат симпатичный, но он несамостоятельный человек.
— Не ходи за ним,— сказал Горбылевский Марату,— он чокнулся.
Марат отстал. Я разок обернулся: Мишенька стоял в трусах, а Марат Васильев примерял его джинсы. Кретины, ничего не могут придумать!
Со мной еще такого не случалось: я не знал, куда пойти, чем заняться, слонялся по улице, потом по скверу. Несколько раз мне мерещилось, будто кто-то меня толкает в плечо и спрашивает: «Ты что, с ними расплевался? Как же ты будешь без телефонных разговоров?»
Молодая мама попросила меня побыть с ее малышкой — всего пять минут. Я согласился. Я неплохо провел время: учил малышку прыгать на одной ноге, делал вид, что смотрю на нее сердито, а она делала вид, что пугается: заходилась в смехе и в притворном испуге так, что можно было подумать, будто это не понарошку; но сразу же она просила: «Еще!» Мама застала нас за этой игрой и решила, что я всерьез девочку пугаю. Она ее подальше от меня увела и даже спасибо не сказала. А мне почему-то ужасно не хотелось расставаться с малышкой. «Ишь ты! — подумал я.— Разлучила». Я ушел из сквера. Шел быстро, по-деловому, как будто меня ждали неотложные дела.
Дело вскоре подвернулось: я увидел пшенку ЛБ и добежал за ним. Такие у нас традиции: когда мне попадается пшенка в одиночку, я за ним бегу. Л Б оглядывался и, наверно, удивлялся, почему это я до сих пор его не догнал,— я же самый быстроногий в классе. Но мне не хотелось его догонять, я бежал ради традиции. Пшенка скоро выдохся и перешел на шаг, я сделал вид, что тоже выдохся. Тогда пшенка остановился и стал корчить рожи. Эти пшенки от беспомощности к наглости переходят мгновенно. Я вытащил из кармана жвачку, ту самую, итальянскую, и бросил ему. Мне пшенки всегда нравились, хоть
401
они и относятся к моим недоброжелателям, Л Б подобрал жвачку. Вот кролик. Хоть бы спасибо сказал. Но он лучше придумал: что-то вытащил из кармана и тоже бросил. Я подобрал — кусочек дорожного сахара в упаковке. Пшенка побежал дальше. Точно: кролик. Я наблюдал за ним, пока он не вбежал в парадное дома, где живет пшенка АИ,— там они все собираются. Сейчас будут жвачку делить.
Я съел сахар и опять быстро зашагал по улице. Опять у меня была походка очень занятого человека. Несколько раз я принимался думать о том, зачем это мне понадобилось дарить пшенке последнюю свою жвачку. Мне эти жвачки нелегко достались. Целая переписка была с моим двоюродным братом Генкой. Но меня это почему-то не очень беспокоило.
Потом я заинтересовался своими ногами: куда они меня несут?
Они привели меня к дому Чувала. Я почти уверен был, что Чувала дома нет: он целыми днями околачивается у Хиггинса. Но я все же решил зайти к нему — посмотрю, как человек живет. Квартира Чувала на седьмом этаже. Я понял, почему Чувалу так нравится рисовать крыши: из окон только крыши и видны были — покатые, плоские, черепичные, железные, антенны, трубы, чердачные окошки; я и двух кошек приметил — на солнышке грелись. Я начал путешествовать по этим крышам, как тот чудак в кроссовках, которого рисует Чувал. Я перепрыгивал с крыши на крышу, полы моего фрака развевались — Дербервиль резвился. Чувала дома, конечно, не было. Нужно было уходить. Но мне захотелось посмотреть рисунки Чувала. Теперь интересно было взглянуть на нарисованные крыши. Я сказал об этом маме Чувала. Она обрадовалась и дала две папки. В папках оказались совсем другие рисунки — не крыши. Разное было нарисовано, но чудак в кроссовках попадался часто. На одном рисунке он ехал верхом на ослике; мимо проносились машины, в небе реактивный самолет — еще быстрей, а он себе ехал на ослике и, наверно, думал: «Ах, хорошо!» Я заметил, что на каждом рисунке дорога какая-нибудь — асфальтированная, или проселочная, или тропинка; на одном рисунке только с краю кусочек дороги был, а остальное — деревья и небо в облаках.
Во второй папке были портреты: маму свою Чувал много раз рисовал, был там портрет одной нашей учи¬
402
тельницы, Ксении Владимировны. Чувал любит с ней поговорить на переменке. Я свой портрет увидел! Потом еще один и еще — всего их семь было. Три портрета изображали Быстроглазого: что-то я высматривал, что-то замышлял. Три портрета — Дербервиля. До сих пор не могу понять, как Чувал обо всем догадался: и как Дербервиль в любимом кресле сидит, и как трубку свою любимую курит, и фрак был такой, какой Дербервиль любит носить, только на одном портрете неточность была: перстень на безымянном пальце Дербервилю пририсовал — Дербервиль терпеть не может перстней. «Подслушивает он меня, что ли?» — подумал я. Но самым удивительным был седьмой портрет: не Дербервиль, не Быстроглазый, но точь-в-точь я. И знаете где? На крыше! И на ногах кроссовки! Сидел этот не Дербервиль, не Быстроглазый, но похожий на меня на краю крыши, свесив ноги, и вслушивался, не раздастся ли дудение детского шарика. «Умеет мысли читать! — решил я.— Ай да Чувал!»
— Он любит тебя,— сказала мама Чувала.
Она все это время за моей спиной стояла. Она забавная: ходит в нашу школьную столовую сырки покупать. Иногда она заносит сырок Чувалу. Он всегда смущается, шепчет: «Мама, да иди ты со своим сырком!» Она отвечает: «Ну, ты чудак», кладет сырок на парту и уходит. Насмешники наши Чувала после этого спрашивают: «Что, мамочка сырок принесла?» У Чувала щеки розовеют. И чего стесняться? Мне бабушка тоже иной раз поесть в школу приносит. Я говорю: «Бабуля, что так мало?» Бывает, в сумку загляну: может, там что-нибудь лежит для сюрприза? Зрители, конечно, тоже собираются. Но надо мной не смеются. Наоборот, говорят: «Вот дает!»
Я не поверил матери Чувала, что Чувал меня любит. Что я ему, родственник?
— Правда, правда,— сказала мама Чувала.— Любит. Ты его защищаешь. Если б не ты, он бы до сих пор одни крыши рисовал.
Я подумал: «Наверно, она меня с моим папой путает. Впрочем, почему бы ему меня не любить? Ведь бросился же он меня защищать».
Я начал говорить. Я сам удивлялся своим словам.
— Вот есть люди,— говорил я,— так что за радость с ними общаться? Они тебе ногой поддадут или шакалом обзовут, с ними начеку все время надо быть. Но Чувал не
403
такой. С ним за партой сидеть — радость, потому что знаешь: он никакой гадости о тебе не думает. И вообще — скромность. Сидит человек, рисует. Он, может быть, талант, а он об этом совсем не думает... Он рисует и радуется, если кто-нибудь на его рисунки посмотрит... А уж защитить товарища — это он умеет, себя не пожалеет! Я вам советую,— сказал я,— сырки ему в класс не носить. Не такой он человек, чтоб ему сырки носить. Его уже «маменькиным сырком» дразнят.
— Я учту это,— сказала она.
Я опять доверился своим ногам. До чего ж деловой вид у меня был! Какая-то женщина даже посторонилась, пропуская меня. Наверно, решила, что я спешу к больной бабушке. Ноги мои на этот раз привели меня к дому Хиггинса. Но к Хиггинсу я заходить не стал: все таким же деловым шагом перешел на другую сторону улицы и вошел в парадное, что напротив дома Хиггинса. Оттуда я вел наблюдение, пока не появились Хиггинс и Чувал. Чувал нес папку в руке (конечно, с рисунками), а Хиггинс ему что-то говорил — два раза они коснулись плечами друг друга. Теперь можно было уходить. Получалось: важное дело, ради которого я торопился, уже сделано. Опять я шел по-деловому. Теперь меня воспоминания начали преследовать — о Чувале разное вспоминалось. И хотя бы только вспоминалось, а то и представлялось. Например, вот такое: он бежит за мной со своим ужасным завтраком в руке и умоляет: «Быстроглазый, съешь, пожалуйста!» А я отвечаю: «И не проси!» «Может, я на ходу вздремнул, и мне приснилось? — подумал я.— Ох, неладно со мной! Что за жизнь я сегодня веду? Путаную, бесцельную. Можно подумать, кто-то по радио мной управляет. Может, Мишенька такой передатчик на барахолке приобрел и теперь шкодничает?»
Я знаю очень хороший способ, как избавиться от неприятных воспоминаний: нужно выпить газировки.
По крайней мере, теперь уж я знал, куда иду, и знал, что по важному делу, но прохожие этого не понимали: кто-то мне крикнул вслед:
— Чего прешься на людей!
Я выпил стакан газировки — помогло. Но было понятно: неприятные воспоминания притаились и готовы снова на меня наброситься. Я попросил продавщицу налить мне
405
еще стакан, выпил и постоял, проверяя, достаточно ли. Женщина держала стакан наготове под мензуркой с сиропом.
— Еще один,— сказал я.— Последний.
— Я тебе сейчас скажу, что ты ел,— пообещала продавщица.
Я выпил третий стакан. В самый раз — залил.
— Тертый голландский сыр с майонезом и чесноком? — спросила женщина.
— Точно! — сказал я.— И как вы догадались?
— Э, милый, поживи с мое.
Женщина начала прищелкивать языком: раз прищелкнула, второй, третий. Она заерзала на табуретке.
— Что случилось? — спросил я.
— Да вот навязчивые мысли.
— Я это понимаю,— сказал я.— Со мной тоже случается.
— Пришло в голову, что неплохо бы съесть пирожок. Теперь, пока не съем, не успокоюсь. Сбегай, я тебя прошу.
Я принес ей пирожок, продавщица стала есть, но я все почему-то не уходил.
— Ты не в себе,— сказала она,— я точно вижу.
— Один вот,— сказал я.— Одинок, как дерево в лесу.
— Это почему же как дерево?
— Художественный образ,— объяснил я.— Деревьев в лесу много, но каждое само по себе растет.
Мы долго смотрели на прохожих.
— Я тоже одна. Детей одна растила. Внуки, правда, есть. Но это же не заменит. Человеку всегда, до самой старости, личная жизнь нужна. Ты это запомни!
— Обязательно,— сказал я.— У меня так: одни со мной не прочь дружить, но я с ними не хочу, а есть такие, с которыми я хочу, так у них своя компания. В чужую компанию, знаете, не очень любят новых принимать.
— У меня точно так же! — сказала женщина.— Да ты становись сюда.
Мы стали вдвоем торговать: она наливала и стаканы мыла, а я брал деньги и сдачу выдавал.
— Есть один пенсионер, очень моложавый. Я бы не прочь за него выйти, но он говорит, что таких, как была его покойная жена, больше на свете нет. Он только вот, как ты, поговорить подходит... А я, может, и не хуже его жены — откуда он знает?
406
— Вот именно! — сказал я.
— А другой и не пенсионер еще, и очень на мне жениться хочет, да у меня к нему сердце не лежит. Я же вижу: деспот он.
— Один человек,— сказал я,— все в чувствах своих разбирается, дружить со мной или нет. Как вы это находите?
— А что, правильно делает! Я тоже так! Если в чувствах не разобраться, можно влипнуть.
Она мне рассказала, как однажды чуть не влипла.
— Но все-таки надо поскорей разбираться,— сказал я,— а не тянуть волынку. У меня есть одна компания на примете, куда меня с удовольствием возьмут. Вообще-то люди тянутся ко мне...
— А вот это точно! — сказала она.— В чувствах надо разбираться побыстрей. Человек не может без конца ждать. Есть и другие объекты.
— Вы посмотрите, что получается,— сказал я.— С некоторыми людьми даже молчать интересно. К некоторым интересно зайти, даже когда их нет дома: рисунки можно посмотреть или с мамой его поговорить. Все с такими людьми интересно! Вспоминать о таком человеке приятно! Другие же только и умеют злиться, пинаться и завидовать. Разве это человеческие отношения?! Дружить с такими — зря время терять.
— Не дружи! — сказала женщина.— Не нравится человек — не подходи: пожалеешь потом.
Еще с полчаса я помогал женщине продавать воду. Я чувствовал, что обрел душевное равновесие, никакие воспоминания меня больше не беспокоили. Теперь говорила одна женщина. Она мне объясняла, какая у нее тонкая работа — какой нужен глазомер, как нужно каждое слово взвешивать, даже мурлатой или заспанной и то нельзя быть: скандалов не оберешься! Взялся с людьми работать, так держись. Она меня пригласила захаживать к ней под зонтик. Я сказал:
— Обязательно.
Когда я возвращался домой, меня пытались убить: слишком поздно я заметил «Жигули» Мишенькиного папы. Мишенька сидел рядом со своим отцом, который недавно защитил тему, купил себе модные часы с браслетом, а месяц тому назад еще и «Жигули». Мишеньке, конечно, было чем меня убивать. На заднем сиденье наслаждались ездой три подлизы: Горбылевский, Марат Васильев и ка¬
407
кой-то бестелефонный приблудыш из параллельного класса. Я слишком поздно сориентировался — Мишенька поймал меня взглядом и стал убивать. Подлизы ему помогали: показывали на меня пальцами и хохотали. Можно было подумать, что все они кричат: «A-а! Завидуешь!» Так попасться! Мишенька, наверно, думал, что убил меня. Но я остался жив. Я, правда, зашатался, но сразу же взял себя в руки. У меня появился план мести.
Дома я поставил свой магнитофон на стул, а стул придвинул к телефонному столику. Теперь надо было подождать, чтобы Мишенька вернулся домой.
Мой брат Генка вместе со жвачками прислал мне кассету с редчайшей записью: крик человека из фильма ужасов. Не знаю, кто записал этот крик, где Генка эту запись достал, но я, наверно, первый придумал ей применение. Я набрал Мишенькин номер и, когда Мишенька подошел к телефону, сказал ему: «Шавка». Потом я стал ждать ответного Мишенькиного звонка, покуривая дербервильскую трубку. Когда телефон зазвонил, я принялся за дело. Я замечательно управился с двумя аппаратами — те, кто изобрел телефон и магнитофон, могли бы порадоваться: не зря старались. Я держал трубку перед магнитофоном. Я его на полную громкость включил. Крик разнесся по квартире и дальше помчался через открытую форточку: кричал человек нечеловеческим голосом — пронзительно и жалобно, молил, возмущался, всхлипывал, пока не умер. Я положил трубку на рычаг, выключил магнитофон и выглянул на улицу: на тротуарах стояли люди с задранными головами. Вбежала бабушка, держась за сердце и охая, потом раздался громкий долгий звонок в дверь: прибежал кто-то из соседей поинтересоваться, что случилось. Наконец-то я совершил нормальный, легко объяснимый поступок! Мне уже не казалось, что со мной неладно.
Но радость моя была преждевременной.
О том, как я сошелся с человеком, коллекцией и жизнью которого распоряжался Высокий Смысл
На следующий день я отправился врачевать свою душу музыкой. Но прежде чем рассказать, что из этого получилось, я должен вас познакомить с Геннадием Матвеевичем.
Наш благополучный дом ко всему еще и музыкальный: он укомплектован прекрасным немецким пианино, которому цены нет, и стереофонической радиолой «Симфония» за триста пятьдесят рублей (о магнитофоне вы уже знаете).
Пианино дед приобрел по дешевке в тысяча девятьсот сорок пятом году — для меня: он был уверен, что рано или поздно я появлюсь на свете. И как видите, я появился, но надежд деда не оправдал. Моя учительница музыки, интеллигентная старушка, намекала деду, что я не туда, куда надо, колочу и чересчур уж сильно, но дед не хотел понимать ее намеков: очень ему нравилось смотреть на меня, когда я за инструментом. Дед говорил старушке:
— Ничего, тренируйте его, он научится.
Тогда я посоветовал моей учительнице, чтоб она поговорила с папой. И вскоре состоялся наш последний урок. У моей старой учительницы был торжественный вид, она сидела рядом со мной, как всегда, держась прямо, а я наигрывал и напевал песенку: «Быстроногий, быстроглазый собирал металлолом». Она меня поправляла, подпевала, под конец мы спели эту песенку вдвоем под мой безукоризненный аккомпанемент. Учительница сказала:
— Все-таки ты чему-то научился.
Мы оба радовались нашей разлуке. Теперь, когда я бываю на именинах в доме, где есть инструмент, я исполняю эту песенку, и это всегда оказывается лучшим номером. А пианино стоит у нас, как и стояло: кому охота выносить из дому хорошую вещь? Иногда к нему подсаживается папа и наигрывает что-нибудь на слух, его пальцы не тарабанят по клавишам, а извлекают звуки вдумчиво и с толком, но когда кто-нибудь заходит в комнату, папа перестает играть и опускает крышку.
«Симфонию» тоже приобрел дед, после того как я ему объяснил, что наш дом недоукомплектован. Я созвал те¬
409
лефонщиков, чтоб они посмотрели новую вещицу. Это мое мероприятие принесло государству семьсот рублей: вскоре у Горбылевского и Мишеньки тоже появилась «Симфония». Они тоже устроили показ новой вещицы, и, хотя они хвастались при этом вовсю, я их не осуждал: кто бы стал покупать дорогую вещь, если бы нельзя было похвастаться? Но Марат Васильев начал вести себя не по правилам — он заявил, что терпеть не может музыки. Вот тут Мишенька его и убил. Он сказал:
— И зря: твой папа вполне мог бы тебе купить губную гармошку за рубль.
«Симфонией» заинтересовался один папа: он стал собирать пластинки, по вечерам устраивал для себя концерты, на этих концертах он и меня заставлял присутствовать. Он шутил:
— Музыка врачует душу — посиди.
Было немного обидно: что же, у меня такая душа, что ее врачевать надо? Больше всего папе нравится неоконченная симфония Шуберта и музыка к «Розамунде» — он чаще других прослушивает эту пластинку, а однажды, когда вертелась эта симфония, которую Шуберт, слава богу, не окончил, когда скрипки выделывали одно, а какие-то басовитые инструменты другое, чтоб доказать, что и они не хуже, а писклявая дудка, на которой мальчишка баловался, в это время свою линию гнула и доказывала, что все на свете ерунда, кроме ее писка,— однажды в этом самом месте, папа схватил меня за руку и сказал:
— Ты посмотри, что делает!
Он стал рукой по-дирижерски помахивать. Я подумал: «Ну и Шуберт! Давно, понимаете ли, умер, а папу заставляет дергать рукой и гримасничать». Кто бы мог подумать, что благодаря этим принудительным концертам в моей коллекции появятся новые марки?
В прошлом учебном году в нашей школе появился высокий старик с раскатистым голосом, которым он умел громко шептать, тихо кричать и говорить так, что казалось, будто он поет. За ним по коридору увязывалась малышня. Выяснилось, что старик этот руководит драмкружком в школе.
На школьном вечере скоро показали пьесу о разведчиках. Старик пришел на вечер со своей женой; он усадил ее
410
в первом ряду, сам то и дело к ней подсаживался, но вскоре опять уходил, наверно, давать указания актерам. И старик и его жена были взволнованы, переглядывались, старушка все время кивала мужу: не волнуйся, мол, все идет хорошо. А на сцене чепуха происходила: главного, самого храброго разведчика изображал Димка Вахромеев из 8-го «А». Ему отец однажды на улице по мордасам надавал. В другой раз я слышал, как отец воспитывал его дома, похоже, ремнем, а Димка, как какой-нибудь четвероклассник со слабой психикой, кричал: «Ой, папа! Ой, больно!» Зато на сцене он ходил с таким видом, будто никому никогда в голову не приходило охаживать его ремнем, засовывал руки в карманы и раскачивался взад-вперед,— и весь зал должен был смотреть на это, никто не мог его одернуть. Другой разведчик тоже хорош был, известный жадюга Шкляев из 7-го «Б». В этой пьесе он подарил одному солдату трофейный аккордеон. Зато пленного немца изображал тихий и правдивый семиклассник: он вел себя скромно и хорошо соображал, где что надо делать: разведчики еще и кляп не успевали приготовить, а он уже раскрывал рот. Было ясно: старик роли распределил неправильно. И я тогда же на вечере решил: чем этот Димка перед всей школой будет воображать, так уж лучше я.
Я расспросил симпатичного семиклассника, который немца изображал, как записаться в драмкружок. Он сказал:
— Это просто, но такого малорослого, как ты, Геннадий Матвеевич вряд ли возьмет.— Но потом добавил: — Может, на роль Добчинского или Бобчинского.
Я начал расспрашивать в классе, нет ли у кого журнала о театре. Ни у кого не оказалось. Тогда я захватил с собой из дому номер «Советского экрана». После уроков я с этим журналом пришел в пионерскую комнату, где собирались на репетицию драмкружковцы. Я поиграл в шашки с одним семиклассником, который пришел посмотреть, как пьесу будут ставить, но потом я игру оставил и стал ходить по пионерской комнате не очень близко, но и не очень далеко от Геннадия Матвеевича, и в это время я внимательно читал журнал.
Геннадий Матвеевич подошел и спросил:
— Ты любишь кино?
— Не только кино,— ответил я,— но и театр.
И чтоб Геннадий Матвеевич не сомневался, я ему показал портрет артиста Ульянова. Когда в школе устра¬
411
ивают культпоход в театр, я билет покупаю, чтобы классный руководитель не нервничала, но в театре я был только один раз — мы шумели, кто-то додумался стрелять по ногам артистов из резинки. Нетрудно было додуматься: ноги у них были обтянуты трико. Особенно интересно прошло последнее действие. После спектакля женщина какая-то со сцены нас стыдила.
— Прекрасный актер! — сказал я об Ульянове.— Отточенное мастерство.
— Ах, зачем это! — сказал Геннадий Матвеевич и пошел проделывать фокусы голосом.— Зачем эти наивные хитрости! — Он выхватил у меня журнал и швырнул на стол.— Если тебе нравится театр, так иди на сцену! Попробуй себя! И ты иди, мальчик! — сказал он семикласснику.— Я же вижу: тебя это волнует!
Я поднялся на сцену и запрыгал на одной ноге, ступню другой ноги я придерживал рукой у самого кармана; потом, когда все начали на меня смотреть, я засунул ступню в карман — я не прочь был выступить с этим номером. Но Геннадий Матвеевич остановил меня:
— У нас не цирк.
Он усадил всех за стол и стал читать пьесу: он изображал голосом и движениями, он объяснял, что это за люди такие — Городничий, Земляника, Хлестаков и все прочие.
Геннадий Матвеевич решил попробовать меня на роль Бобчинского.
— «Чрезвычайное происшествие,— начал я читать дер- бервилевским голосом.— Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...»
Все засмеялись.
Мне нравилось на репетициях. Геннадий Матвеевич следил, чтобы я не очень-то раскачивался взад-вперед и не совал то и дело руки в карманы. Димка Вахромеев — он изображал Городничего — всегда зло на меня смотрел, когда я это проделывал: считал, что только ему можно. Пришлось перестать раскачиваться. Но я решил: когда будем выступать перед зрителями, я все равно наверстаю.
Мы с папой заделались театралами. Один актер в театре так же, как мы с Димкой, любил раскачиваться взад-вперед, еще он здорово умел руки воздевать — я на репетициях точно так же стал делать; у другого актера я научился ходить мелкими шажками и цыкать зубом. Шажки Геннадий Матвеевич оставил, а цыкать запретил.
412
Спектакль наш состоялся в конце учебного года. Дед, папа и мама пришли смотреть. Опять Геннадий Матвеевич волновался, опять в первом ряду сидела его старенькая жена и успокаивала его взглядом. В зале было много хохоту, особенно когда мы с Димкой долго стояли друг против друга и раскачивались. После спектакля Геннадий Матвеевич каждого из нас обнял и расцеловал, мне он сказал:
— Виталий, поздравляю! Это успех!
Он прослезился, а уж когда в комнату, где мы толпились, прибежала какая-то семиклассница и преподнесла нашему руководителю букет роз, Геннадию Матвеевичу пришлось достать платок и вытереть себе глаза. Потом я узнал: цветы прислал папа. Дома он рассказывал, что смотрел не столько на сцену, сколько на «этих старых людей».
В тот же вечер Геннадий Матвеевич пригласил меня к себе домой:
— Виталий, составь компанию старому артисту.
Он познакомил меня со своей женой, и мы пошли по городу, справлявшему, по всем приметам, какой-то праздник: тихие предвечерние улицы украшены были нежной зеленью, которая кое-где отливала золотом.
Жили старики в коммунальной квартире, в комнате с одним окном; мебель в ней стояла старая, половичок на полу был замызганный, с чернильным пятном, которое выводили, да не вывели; коврик над кроватью был линялый, кое-где из него нитки торчали — хотелось его причесать. Быстроглазый сразу разглядел филателистический каталог на письменном столе, и уже о нем не забывал и все старался угадать, где Геннадий Матвеевич коллекцию держит.
Меня угощали чаем с творожным печеньем. Чашки все три были разные, одна со щербинкой; ложки — тоже разные, но я все-таки верил, что коллекция должна быть настоящей. Разговор шел о театре, а хотелось его на марочные дела перевести. Разносилось похожее на пение:
— Ты, Виталий, удивительно Бобчинского сыграл, никто еще эту роль так не трактовал. Твой Бобчинский держится как английский лорд. Но он же не лорд. Где уж там! Вот и получился комический эффект. Ты это интуитивно схватил.
Я старался держаться солидно, только вот ко мне прицепились слова «между прочим».
413
— Между прочим, я понимаю,— говорил я,— что такое «интуитивно». Вы не беспокойтесь, что я не пойму. У нас дома полно словарей, и папа следит, чтобы я в них заглядывал. Я знаю, что такое «интуитивно», «экспрессивно» и даже «сентенциозно». Вы слышали это слово?
— Да,— сказал Геннадий Матвеевич,— лет сорок тому назад я это слово употреблял и думал, что становлюсь от этого умнее.
Он, конечно, неправильно рассуждал: если ты говоришь «сентенциозно», то сразу видно, что ты не дурак и человек начитанный. Но спорить я не стал.
— Между прочим,— сказал я,— в умственном отношении очень хорошо заниматься коллекционированием марок.
— Бесспорно,— сказал Геннадий Матвеевич.— А как насчет музыки? Музыкой ты увлекаешься?
— Еще бы,— сказал я,— музыка врачует душу! Между прочим, я не только музыкой интересуюсь. Коллекционирование марок тоже хорошее хобби.
Но о марках Геннадий Матвеевич как бы не слышал: поставил на стол какой-то допотопный проигрыватель, пластиночку установил — не стереофоническую, не долгоиграющую, а тоже допотопную. Но все получилось: пластинка завертелась, музыка зазвучала.
— «Розамундочка»! — закричал я.— Вы тоже это любите?
Я скромненько, одной кистью, подирижировал, потом посидел в задумчивости.
— Что делает! — сказал я.
Геннадий Матвеевич согласился, кивнул.
— Так ты, значит, в самом деле интересуешься музыкой,— сказал он, когда Шуберт умолк.— Что ж, перейдем к маркам. Ты так наивно, по своему обыкновению, намекал. Но я таких намеков не понимаю — имей это в виду.
Коллекция находилась в тумбочке письменного стола: английские колонии и дореволюционная Россия. В ней попадались марки, которые стоили больше всех моих и дедовых.
Виталий,— сказал Геннадий Матвеевич,— этой коллекции больше сорока лет. Это единственное, что мне в жизни удалось довести до конца. Но не будем хныкать: другим и этого не удается.
Мы поговорили о марках. Геннадий Матвеевич понял,
414
что я не профан. Я листал кляссеры, как полагается: не цапал, не дряпал, не пожирал глазами, а любовался радостно и хорошо понимал, в честь чего это на улице сегодня праздник справлялся. Это был праздник филателии! И голос Геннадия Матвеевича был украшением этого праздника — как он озорничал, как обещал еще новое веселье! Но и вникнуть в то, что этот голос произносил, тоже было интересно.
— Почему, Виталий, я тебя выделил из всех ребят? Вот загадка. И Зиночка тоже тебя выделила. Почему?
Я знал почему, но не стал объяснять. Люди тянутся ко мне, им нравится со мной общаться и одаривать меня — я это давно заметил.
— Ты не представляешь, Виталий, какой сегодня день. Знаменательный для меня день, торжественный. С юности я мечтал поставить «Ревизора» — и вот осуществилось. Пусть теперь, когда я на пенсии. Раньше никак нельзя было: я играл добрых королей и других симпатичных людей, которых понимал и которым сочувствовал. Но меня не все понимали. Люди, от которых это зависело, не могли поверить, что я могу потянуть «Ревизора». Но все-таки осуществилось! И вот цветы. Никогда, Виталий, никогда ничто не сбывается так, как мы себе это представляем. Вот и все, я сказал свой монолог. Я привел тебя, чтобы был слушатель. Руководствуясь наивной хитростью. Но сейчас мы все поправим: сделаем вид, что я привел тебя в этот дом, чтобы подарить тебе несколько неплохих марок.
Они лежали отдельно в конверте, эти пять марок — вся серия «26 бакинских комиссаров».
— Партсъездовские? — спросил я.
Геннадий Матвеевич кивнул. Кто же из коллекционеров этого не знает? Всем делегатам семнадцатого партсъезда подарили марки. Но с делегатами случилось то же, что с бакинскими комиссарами. А марочки вот они — живые. Пожалуйста, рассматривай. Бери пинцетом, вглядывайся и думай: «Чего же она стоит, человеческая жизнь?»
Я повзрослел, пока эти марки рассматривал. Я подумал, что неплохо бы припрятать свою коллекцию на тот случай, если меня шлепнут. А то еще достанется какому-нибудь палачу. Мне хотелось улизнуть и долго, сколько захочется, рассматривать мои новые марки, уже по-настоящему, без мыслей о палачах и расстрелах. Но прежде надо было выслушать еще один монолог. Этот монолог произносился
415
вполголоса. Геннадий Матвеевич держал перед собой коллекцию — то вытягивал руки с альбомами, то к груди подносил.
— Ты знаешь, Виталий, какая цена этой коллекции? Догадываешься, правда? Сумму мы не будем называть, чтоб не потрясать воображения. Можно было бы продать всю, можно было бы продать часть, но я решил оставить. Видишь ли, сорок лет я собирал эти марки, так почему же сейчас, когда мы стары, это собирание должно лишиться своего смысла? Ты понимаешь, о чем я говорю? О том, что жизнь человека от начала до конца должна подчиняться высокому смыслу.
О высоком смысле я кое-что знал из тех историй, которые папа печатал на машинке (только там эти слова с большой буквы писались). Но ни за что бы я не поверил, что в жизни можно встретить человека, который с этим самым Высоким Смыслом советуется, продать ему марки или нет. Да кто его видел? Может, это выдумка и больше ничего. Нет, не научный это был подход.
— Зиночка не понимает,— продолжал Геннадий Ма-* твеевич.— Она хочет, чтобы я часть коллекции ликвидировал и чтобы на эти деньги мы ездили по свету и поддерживали свое здоровье.
— Не всю же,— сказала жена Геннадия Матвеевича.
— Ну, подумаем, подумаем,— сказал он.
Я вздохнул и стал смотреть в окно. Во дворе белье сушилось. Я не сомневался, чье оно: из той же компании, что половичок и коврик. Жаль было старых людей: могли бы жить по-человечески.
Мы договорились с Геннадием Матвеевичем, что я его буду навещать во второе и четвертое воскресенье каждого месяца.
В последний раз, когда я был у Геннадия Матвеевича, он мне сообщил, что решил ликвидировать часть коллекции. Он все обдумал. Теперь, когда он поставил «Ревизора», можно это сделать. Он поедет в Москву вместе с Зиночкой и привезет оттуда много денег. На эти деньги остаток дней своих они будут путешествовать.
О том, как, врачуя душу музыкой, я пополнил свою коллекцию редчайшими марками. В конце этой главы вы найдете размышления, касающиеся
природы Высокого Смысла
Во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в нашем городе проводится филателистический праздник. В эти дни я люблю быть нарядным.
На этот раз я надел дербервилевский кримпленовый костюм и пышным узлом повязал дербервилевский галстук.
На улице праздник был виден во всем: две сентябрьские хорошо подобранные чистенькие тучки вывешены были в небе, пониже мир украшала телевизионная вышка, вымытая предпраздничным дождем, прохожие тащили кто в одной, кто в обеих руках консервированные томаты в красивых банках с блестящими крышками. Я прошел мимо двух моих недоброжелателей, которые высказывались по поводу моего галстука и, видно, жалели, что нет у них ничего подходящего под рукой, чтоб запустить в меня. «В Лондоне нет порядка,— подумал Дербервиль.— Чернь обнаглела».
В доме у Геннадия Матвеевича были большие перемены: вместо коврика, который можно было причесывать, над кроватью висел другой — с узорами, напоминающими то ли бутылки, то ли пингвинов; вместо половичка с чернильными пятнами лежала вполне приличная вещица, на которой хотелось постоять. Да что там! Шкаф новый стоял! Новая настольная лампа на письменном столе изгибалась по-лебединому! Много еще я заметил перемен.
А вот Геннадий Матвеевич лежал в постели.
— Виталий,— сказал он,— я прилег ненадолго, чтоб не улечься навсегда. Садись возле этой лежанки и не смотри на Зиночку, пока глаза у нее не просохнут. Ты удивишься, когда узнаешь, из-за чего она плачет.
У жены Геннадия Матвеевича глаза в самом деле были заплаканы. Она начала разрезать диковинный торт — наверно, московское изделие,— открыла коробку с диковинными пирожными.
— Мы теперь богачи! — сказал Геннадий Матвеевич.— Зиночку это взволновало: она боится, что мы не успеем истратить все наши деньги. Попрекает меня: «Почему ты раньше не продал марки?»
14 Школьные годы. Выпуск IV
417
— Ну уж! — сказала жена Геннадия Матвеевича.— Не попрекаю я! Но обидно — это правда.
Мы пили чай с диковинным тортом и необыкновенными пирожными. Геннадий Матвеевич не стал садиться за стол, а устроился, сидя в постели. Он все говорил о сюрпризах, которые меня ожидают. «Как хорошо,— думал я,— быть достойным человеком: достойному человеку сюрпризы готовят, ради него вон какой тортище разрезают». Сюрпризов оказалось два: красивая авторучка с золотым пером — такой ни у кого в нашем классе нет — и двенадцать марок. Среди них была моя любимая серия. Вообще-то у меня две любимых серии: одна — из моего кляссера, другая — из чужого. Марки из чужого кляссера тоже нужно любить. Любовь эта грустная. Ну и что? У человека должны быть всякие чувства. Я не хочу, чтобы мне каких-нибудь чувств недоставало. Я тут же полюбил другую серию из чужого кляссера, а эту — «К 10-летию гражданской авиации» — прижал к груди. Я услышал, как там, в конверте, Ант-9, урча мотором, облетает наш земной шарик. Мы стали рассматривать мои новые марки. Мы говорили о них всласть — они заслуживали долгого разговора; ручку мы разок дали подержать жене Геннадия Матвеевича — она провела блестящим колпачком себе по щеке и сказала: «Ах какая!» Тут я не выдержал, забрал у нее ручку и себе по щеке провел. И чего было торопиться?
Потом была музыка. Проигрыватель был все тот же, из далекой эпохи, но пластинка звучала новая, концерт Сен-Санса. Геннадий Матвеевич предупредил, что во второй части будет одна изумительная тема. Сен- Санс — он вроде Шуберта: с разговорами подступает, все он доказывал, что хотя кругом и хорошо, и филателистический праздник на улице, и марки в конверте, и паркеров- ская ручка на столе лежит, но все же... Я взглянул на Геннадия Матвеевича и понял, на что Сен-Санс намекает. Я не люблю, когда со мной об этом разговор заводят. Не очень это меня интересует сейчас — болезни и это самое... Что там еще Сен-Санс имел в виду? Смерть, конечно. Об этом еще успею. Сен-Санс со мной согласился и еще раз проиграл радостно и задорно замечательную тему во второй части.
Но стало ясно: разговор он затеял неделикатный.
— Виталий,— продолжала жена Геннадия Матвеевича этот разговор,— у него был сердечный приступ: он прямо на улице упал.
418
Геннадий Матвеевич сделал знак рукой: об этом не надо.
— Если вдуматься,— сказал он,— то в смерти нет ничего трагического.
Я, конечно, возражать не стал. Но, по-моему, если уж вдуматься, то получается вот что: один родной человек с цветами лежит, а другой идет следом, провожая его навсегда, и они даже как следует попрощаться не могут: тот, что с цветами, уже ничего не понимает. Уж и не знаю, как это получилось: я представил себе Геннадия Матвеевича лежащим с цветами, а его старая жена провожает его в последний путь. Но нельзя же так! Он мне марки привез, ручку, а я его с цветами представляю. Да и жену его одну на свете оставил. Я решил себя наказать за это: представил и себя с цветами, а за мной с плачем идет моя жена. Я присмотрелся к своей жене и понял, что это Света Подлубная. Интересно все-таки в жизни получается: обзывала пронырой, говорила, что я неприятный человек, а потом за этого проныру замуж вышла. И вот как убивается. По плохому мужу так убиваться бы не стала.
Уже можно было уйти, но я понял, что старикам не хочется оставаться одним. Я долго еще у них сидел.
Когда я опять появился на улице, филателистический праздник был уже отменен по случаю болезни Геннадия Матвеевича, тучки с неба были убраны, от всего праздника только и осталось, что томаты в стеклянных банках.
В правом кармане у меня было весело: там марки лежали, в левом тоже: там паркеровская ручка до времени пристроилась, а вот на душе неспокойно. Я начал подозревать, что опять впадаю в суеверия: Высокий Смысл не шел из головы. Я понимал, что это из-за Сен-Санса, но сладить с мыслями не мог. Высокий Смысл мне даже представляться начал усатым мужчиной с картины, которую я где-то видел. Костюм средневековый, лицо надменное, и мне — ни словечка. С Геннадием Матвеевичем он так себя не ведет. Обидно, когда тобой пренебрегают. Но вот я заметил, что губы его дрогнули в загадочной улыбке. Не так уж он плохо, наверно, ко мне относится. Я уверен был, что Геннадий Матвеевич подарил мне марки и ручку по его распоряжению. «Ладно, пусть подальше держится,— решил я.— Лучше все-таки с ним в личные контакты не вступать: вот что он с Геннадием Матвеевичем делает — что хочет!»
419
Тут я опомнился и затряс головой, чтоб переключить себя на научное мировоззрение,
О том, как в одну минуту я себя покрыл несмываемым позором, после чего в паническом состоянии стал совершать совсем уж бессмысленное. В конце этой главы речь пойдет о пагубном влиянии музыки на человеческий организм
Я вспомнил, что Света Подлубная сегодня празднует свой день рождения. Вчера на классном часе мама Хиггинса поздравила ее, а Света прошлась по рядам и положила перед каждым три конфеты — так заведено в нашем классе. Потом она всех пригласила на завтра к себе домой. Все, конечно, не придут. Вот Зякин, скажем,— как он может к ней пойти? Света его терпеть не может и однажды сказала ему прямо в глаза, что у нее настроение портится, когда она его видит. Наберется еще много таких, кто не пойдет, потому что они сбоку припека, из другой компании, в другие дома ходят. Я всегда у Светы на дне рождения бывал, и теперь меня потянуло к ее дому.
Я выбрал место для наблюдения в скверике за кустами бузины.
Сперва появились пшенки. Они по очереди несли свой подарок, большущего розового пуделя из плюша. Пшенки долго топтались у парадного и спорили, кому подарок преподносить. Потасовку устроили. Кто не знает пшенок, подумал бы, что они ссорятся. Но нет, просто им охота побороться, они все дела так решают.
За пшенками появился Сероштан. Оказывается, он в кармане зеркальце носит. Он погляделся в это зеркальце, причесался, а перед тем как войти в парадное, зачем-то дрыгнул ногой.
Люсенька Витович прошла с озабоченным видом, она несла в подарок какую-то книжку. Мишенька и Горбылевский окликнули ее, и они вошли в парадное вместе.
Потом появился Генка Бугера, несчастный человек: родители его до того жадные, что никогда ему дня рождения не справляют и на подарки денег не дают. Бугера в парадное не вошел, а стал ждать какого-нибудь доброго челрвека, чтобы тот вручил Свете подарок от своего имени и от имени Бугеры. Первый подарок — его нес Марат
420
Васильев — Бугеру не устроил: совсем уж маленькая была вещица, трехцветная шариковая ручка, кажется. Зато сразу же за Маратом появились Хиггинс и Чувал с громадным подарком — плюшевым медведем невероятного цвета. Бугера бросился к ним, переговорил — я слышал, как Чувал сказал Хиггинсу:
— Дай ему, пусть он вручит.
Ай да Бугера! Мне было его жаль, но и наглость его меня возмущала. А уж Чувал! Купить такой замечательный подарок, а потом позволить его вручить другому! Видно, он решил свести меня с ума своими необъяснимыми поступками.
Дальше я увидел такое, что меня потрясло. Зякина! Пакостный человечишко изображал из себя хорошего малого: сделал ручкой малышке, которая с балкона на него смотрела, уступил дорогу мужчине, тащившему на горбу мешок капусты. Конечно, здесь, на улице, он мог сколько угодно пускать пыль в глаза. Мне захотелось выскочить из своей засады и запретить Зякину идти к Свете. Разве она ему не говорила, что ей смотреть на него противно! Так нет же, поперся. Ему, конечно, в голову не приходит, что есть гости желанные, а есть нежеланные. Я стал перебирать в уме всех, кто был сейчас у Светы на именинах: там были всякие люди, и достойные, и недостойные, но такого человека, которому бы из Москвы могли привезти двенадцать редчайших марок и дорогущую ручку, там, конечно, не было. Такой человек прятался за кустом! И хотя я понимаю, что в жизни случается всякое, я все же возмутился. Уж если я здесь стою, то кое-кого не мешало бы выволочь за шиворот из Светиной квартиры.
Дальше выяснилось, что я продолжаю совершать необъяснимые поступки. Я перешел на другую сторону улицы и вошел в парадное Светиного дома. Я взбежал по лестнице, позвонил в Светину квартиру и сейчас же припустил вниз. Потом я спрашивал себя, на кой ляд мне это нужно было. И конечно, не мог найти ответа. Дверь открылась почти сразу же, и я услышал Светин голос:
— Эй, кто там балуется? А ну-ка входи!
Я выбежал из парадного: с балкона на меня смотрела Светина мама; рядом с ней стояли Зякин, Горбылевский и Мишенька, кто-то из них показывал на меня пальцем. Я понял, что покрыл себя несмываемым позором.
421
— Быстроглазый,— сказала Светина мама,— что же ты передумал? Иди к нам.
Я ответил, что на именины не собирался, я только позвонить забежал. Это такое поздравление — по-английски. А вообще-то мне некогда.
Никогда не забуду, как после этих слов надо мной потешались Мишенька, Горбылевский и Зякин. На балконе стало тесно: все повыходили. Я им просалютовал, ненавистным и хохочущим, и пошел по улице — прочь от этого дома! Кто теперь в классе удержится от того, чтобы не сказать: «Быстроглазого Света на именины не пригласила, так он ошивался в ее парадном».
Я пошел в сквер, что возле старинной церквушки, и сел на скамейку. На соседней скамейке парень с девушкой слушали музыку — на коленях у парня был кассетный магнитофон. И вот тут я понял, что зря занимался врачеванием своей души музыкой. Я подвергся новым издевательствам. Не знаю, какой композитор сочинил произведение, которое парень с девушкой слушали, но это была не музыкальная пьеса, а насмешка над моим позором. Сначала речь шла о том, как весело у Светы празднуют день рождения, обо мне вроде бы разговору не было. Но вот зазвучала ехидная писклявая дудочка — это кто-то отпустил шутку насчет моего странного поведения. Не было инструмента, который бы эту шутку не подхватил. Даже скрипки, такие милые на вид, потешались над моим несчастьем, контрабас, очень похожий внешностью на Зяки- на, пытался что-то сострить, барабан бухал все одно и то же: бух, бух! Хотелось ему пожелать, чтобы он лопнул.
Потом зазвучала другая вещь, грустная, и стало понятно, что это о моем несчастье: теперь уже все мне сочувствовали, все понимали меня, и та самая дудка, которая только что потешалась надо мной, теперь приставала с задушевным разговором. А я беспринципно принимал сочувствие от тех, кто только что насмехался надо мной. Рядом со мной сидел пожилой человек.
— Интересно,— спросил он,— из-за чего можно так переживать? У тебя дома все здоровы?
Нужно бы ответить, чтобы он не приставал, но вместо этого я жалобно пробормотал, что все здоровы.
— Ну вот видишь? — сказал он.— Так что же случилось?
Хотелось ему пожаловаться, что я повредил себя музыкой, и теперь любая дудка, любой барабан что хотят,
422
то и делают со мной. Я вскочил со скамейки и убежал.
Когда я подходил к нашему дому, вдовствующая королева, Мария Кондратьевна, с балкона попросила меня купить ей молока и хлеба. Я обрадовался поручению: все-таки отвлекало от горьких мыслей. Я возвратился с покупками и спросил у Марии Кондратьевны, не нужно ли еще что сделать. Она ответила:
— Я всегда знала, что ты славный, хоть ты и беспокоишь меня звонками.
Работа в ее доме нашлась. Я отнес подточить ножи и ножницы, потом выбил во дворе коврик, который в передней на полу лежит. Мария Кондратьевна стояла на балконе и объясняла соседям, что я удивительный мальчик. Пришел и переделал в ее доме всю работу. Одна очень хитрая и неприятная женщина — она на втором этаже живет — сказала мне:
— Что ты для одной Марии Кондратьевны стараешься? А ну-ка притащи мне из подвала картошки!
И хотя женщина была несимпатичной и не умела уважительно разговаривать с человеком, который бескорыстно брался выполнять чужую работу, я притащил ей картошку. Я только спросил ее:
— Вы не знаете, на фига мне это нужно?
— Значит, нужно,— ответила она.— А то как же, стал бы ты просто так помогать. Наверно, за показатели борешься. А ну-ка купи мне десять килограмм капусты. Квасить буду.
Я купил ей капусту и помог заквасить. Конечно, все эти бессмысленности я делал потому, что находился в паническом состоянии.
Женщина угостила меня противным овощным рагу. Папа говорит, что единственный овощ, который я потребляю,— это апельсины. Но женщина все-таки заставила меня есть, еще и требовала, чтобы я хвалил. Я думал: «А может, и правда кто-то мной по радио управляет?»
— Если что нужно будет сделать, заходи,— сказала мне женщина на прощанье.
Она предложила мне выдать справку о проделанной работе и приписать туда, что я ей окна помыл. Никак она не могла поверить, что ни за какие показатели я не борюсь.
Дома я решил, что не помешает проверить Мишеньку: его папа мастер дефицитные вещи доставать — кто его
423
знает, может быть, такой приборчик для управления человеком уже поступил в продажу. Я позвонил Мишеньке.
— Привет! — сказал я.— Говорят, в продаже появилась такая штука, которой человеком можно по радио управлять.
Мишенька разобиделся.
— Шакал! — сказал он.— Вечно ты меня в пакостях подозреваешь! Чтобы я такое себе позволил... Ты же видел: я на дне рождения был. Но учти: кто-то этим занимается. Ну и отмочил ты!
Я положил трубку.
Через полчаса мне позвонил Горбылевский и безразличным голосом спросил:
— Послушай, где эта штука продается? Кое с кем посчитаться надо.
Я ответил:
— В магазине радиотоваров, но не каждому продадут — нужно знать пароль.
— Здорово действует! — сказал Горбылевский.— Все обхохотались. Мы с Мишенькой тут думали: из нашего класса никто не мог. Напротив в окне очень подозрительная рожа была. Больше он тебя не трогает?
— Не трогает,— ответил я.— Смотри, чтобы он до тебя не добрался.
На следующий день я обнаружил, что по дому обо мне пошла слава. Люди, которых я даже по фамилии не знал, стали давать мне поручения. Я никому не отказывал: они расплачивались со мной улыбками — мне это нравилось: чувствуешь себя уважаемым человеком.
О том, как я начал устраивать чужие дела
Ни одного звонка! Мне казалось, что телефонному аппарату не по себе: два раза он вздрагивал и пытался сам позвонить, раздавался короткий тихий звоночек. Хоть бы Мишенька шакалом обозвал. Но он, видно, в себя прийти не может после того, как я над ним подшутил при помощи магнитофона.
— У него шок,— объяснил я телефонному аппарату.— Точно тебе говорю.
В ответ телефон радостно зазвонил.
— Аллоу?
424
— Дербервиль,— услышал я голос Хиггинса,— мы с Чувалом... В общем, я решил к тебе обратиться за советом: Чувал в затруднительном положении. Но сам он звонить стесняется, потому что...
— Отлично, Хиггинс! — прервал я.— Только ведь ты не секретарь его, правда? Пусть он сам возьмет трубку.
Я не сомневался, что Хиггинс уже передал трубку Чувалу, но даже сопения не было слышно. Я знаю немного Чувала: он стоит на другом конце провода и злится, что его заставляют разговаривать, когда ему не хочется. Мое телефонное чувство подсказало мне, что сейчас он может повесить трубку.
— Чувал,— сказал я,— не вздумай вешать трубку. Тебе все равно не обойтись без дельного совета. Что у тебя за трудности? Я с готовностью тебя выслушаю.
Бубнящим голосом, через силу Чувал стал говорить, что вопросы, с которыми он хочет ко мне обратиться, могут показаться странными. Тон его был непочтительным. Можно было подумать, что это я прошу у него каждый день советов и уже до чертиков ему надоел. Но все равно я ликовал: очень я хотел этого звонка.
— Ты зря беспокоишься,— сказал я.— Когда человек обращается ко мне за советом, я его внимательно выслушиваю, а не гогочу, не строю рожи и не подмигиваю: я понимаю, что такое ценный совет. Эта штука хоть и не стоит денег, но как много она значит! Ты вот что, Чувал, иди-ка лучше ко мне, и мы поговорим с глазу на глаз. Представь, что я доктор, а ты пациент. Какие могут быть секреты от доктора?
— Хорошо, я приду,— сказал Чувал строго.
Через десять минут он с Хиггинсом появился у меня. Он то смущался и мямлил, что хочет поговорить со мной о важном, но как бы мне не показалось, что это ерунда, то злился и бубнил, что сам бы он не пришел, что это Хиггинс его заставил.
— Чувал,— стал успокаивать я его,— я же не варвар! Садись и говори. Как доктору, понял?
Он сел в кресло, но к разговору все не приступал, а опять начал злиться. Уж не знаю, на кого и из-за чего. Я придумал, как заставить его заговорить: я принес из другой комнаты стул и уселся на этот стул напротив Чувала.
— Слушаю тебя.
425
— Понимаешь, Быстроглазый...— Чувал решил с неприятным делом покончить побыстрей и перешел на такую скороговорку, что не стало в его речи слов, а были одни предложения: — Понимаешь, Быстроглазый, в нашем доме живет очень симпатичный старичок — поляк Эдуард Казимирович. Так вот, когда тепло, я с ним здороваюсь, а когда холодно, у меня не получается. Это мне жизнь отравляет. Что ты на это скажешь?
— Ты видишь, Чувал, я не смеюсь,— сказал я.— И должен признаться, твой рассказ меня заинтересовал. Только ты уж слишком быстро принялся за дело. Ты хочешь сам себя перегнать. Притормози и толково объясни, почему это не при всякой температуре ты можешь здороваться с польским старичком.
— Потому что, когда холодно, ходят в шапках,— чуть помедленней объяснил Чувал.
— Ты видишь, я не смеюсь,— сказал я Чувалу.— Так что же ты так смущаешься? Внимательно слушай меня. Я вижу, что без моих наводящих вопросов толку не будет.
Я стал задавать наводящие вопросы, и вскоре все вы-’ яснилось. Оказывается, польский старичок снимал перед Чувалом шляпу и раскланивался. Чувал раз попробовал снять перед ним шапку, но сразу же передумал: уж очень неловко получалось — так и осталась на голове с задранным козырьком. Эдуард Казимирович вполне мог подумать, что Чувал над ним насмехается. С тех пор Чувал в холодные времена года прячется от Эдуарда Казимировича. Не жизнь, а мука: Эдуард Казимирович часто выходит прогуляться. А сегодня Чувалу купили новую шапку, он стал ее примерять да и вышел в ней на лестницу. И такое невезение — столкнулся с Эдуардом Казимировичем и так растерялся, что бросился вниз по ступенькам и чуть не протаранил старика.
Меня эта история почему-то взволновала. Я заходил по комнате, обдумывая, какой Чувалу дать совет.
— Ну что ты наделал, Чувал! — говорил я.— Зачем ты обижаешь старого человека? Он перед каждым сопляком шляпу снимает, а ты... Это высокая культура, учти! А что, если этот прекрасный человек решил, что он тебе неприятен?
— Вот и я об этом думаю! — сказал Чувал.— Быстроглазый, придумай-ка что-нибудь!..
— Придумаю,— сказал я.— Ты, случайно, не говорил в присутствии старика: «Какой неприятный»?
426
— Да ты что!
— Ну да, конечно,— сказал я.— Ты на такое не способен. Но есть такие: ранят в самое сердце, а потом радуются. Есть, есть, Чувал, не удивляйся! Сиди спокойно, я вот еще немного подумаю и избавлю тебя от твоих мук.
Минуты две я ходил по комнате, и мне все стало ясно, и план появился.
— Все дело в том, Чувал,— приступил я к спасению человека,— что ты не догадываешься, сколько радости в движении. Я давно это заметил. Ну-ка сделай вот так руками. А теперь так! А теперь, пожалуйста, ножкой вот так. Скажи, тебе все это доставляет радость? Нет! Может, ты и бегать не любишь?
Чувал ответил, что бегать — еще так-сяк, пожалуй, нравится.
— Ты скованный человек! — сказал я.— Тебе же все равно, что дома сидеть, что по улице ходить, тебе безразлично, что твои ноги и руки проделывают. Ты закрепощен, как говорят спортсмены, ты связан — в общем, задеревенел. Куда тебе здороваться со старым поляком! Ну-ка догадайся, что в срочном порядке тебе нужно? Не можешь? Кружок современных танцев. У нас тут неподалеку, в клубе полиграфистов, такой кружок есть. Я тебя запишу. А пока что давай научимся самому необходимому.
Минут пятнадцать я обучал Чувала перед зеркалом снимать шапку и кланяться. Хиггинс тоже решил подучиться — я ему принес из прихожей папину шляпу. Дело шло совсем плохо. Я обнаружил, что голос у Чувала тоже задеревенел. «Приветствую вас! Как поживаете?» он произносил таким тоном, что можно было подумать, он собирается съездить тебя по челюсти.
— С таким голосом,— сказал я,— только в грабители. А ну давай попробуем другое. Ну-ка расслабься. Жаль, что у тебя нет очков. Один мой знакомый десятиклассник при встрече вместо шапки снимает очки и говорит: «Салют, милейший!»
Мы испробовали с Чувалом новый вариант. Так как очков у него не было, он просто прикладывал ладонь к виску. Дело пошло, он все больше и больше веселел. Я уже прекратил занятия, а Чувал все прикладывал руку к виску и выкрикивал: «Салют, милейший!» Он сказал, что при первой же встрече вот так, раскованно, поздоровается с Эдуардом Казимировичем.
427
Я сел на диван передохнуть.
— Какие еще трудности? — спросил я Чувала.
Он опять засмущался.
— Ты, конечно, заметил, Быстроглазый,— приступил он к изложению другой своей трудности,— что я иногда ухожу с уроков. Но я это делаю не потому, что боюсь двойку получить, а потому, что взволнован...
— Из-за чего?—перебил я.— Говори пообстоятельней, потому что ты можешь пропустить важное.
Чувал ответил:
— Мало ли из-за чего!
Сегодня, например, он прогулял из-за того, что одна девочка из параллельного класса, проходя мимо него, сказала подружке: «Какой славный!» Чувал прогулял два урока, все ходил по парку и думал: заговорить с этой девочкой или нет? А вдруг она не о нем сказала? Потом он уже не о девочке думал, а о том, как славно кругом: небо, деревья... И люди такие славные попадаются...
— Чувал,— спросил я строго,— ты подошел к девочке?
Он ответил:
— Нет.
— Продолжай, Чувал,— сказал я.— Мы в конце подытожим.
— Я кончил,— сказал Чувал.— Вот. Помогай.
— Тебя бы мало кто понял,— сказал я,— но я понимаю. В том, что ты прогуливаешь уроки, когда взволнован, я не вижу ничего плохого: у тебя такие хорошие мысли во время гуляния — это все искупается. Но я не могу понять, Чувал, другого. Как это ты до сих пор не подошел к девочке? Она ж тебя любит!
Чувал вскочил. Наверно, он уже в парк собрался.
— Спокойно,— сказал я и усадил его на место.— Ты сейчас же пойдешь к этой девочке, понял? Она тебя ждет! Это точно. У меня поразительная интуиция: я никогда не ошибаюсь.
Хиггинс поддакнул мне. Он сказал, что то же самое говорил Чувалу.
— Чувал,— сказал я,— Хиггинс хороший товарищ. Но ему недостает напористости. К тому же он слишком много внимания уделяет своим чувствам. Вам нужен третий, такой, как я.— Я решил дать им убедиться, что без меня им не обойтись.— Идите, действуйте,— сказал я.— Если появятся затруднения, звоните.
Хиггинс позвонил уже через пять минут. Он сообщил,
428
что Чувал хоть и упирается, но идет. И еще он злится — не знаю ли я, на кого?
— На жизнь,— ответил я.— Не обращай внимания. Жизнь требует обыкновенных поступков, а он умеет совершать только необъяснимые.
— Можно я буду держать тебя в курсе дела?
— Конечно, Хиггинс! — сказал я.— И даже нужно. Иначе вы все провалите.
Через полчаса Хиггинс позвонил опять. Он сообщил, что Чувал бродит у дома той девочки, но пойти к ней не решается и уже два раза порывался убежать в парк.
— Я так и думал,— ответил я.— Что ж, пора мне вмешаться. Ждите меня, я приду и организую. Только вот что, я могу задержаться. Стоит мне выйти, как люди бросаются ко мне с просьбами.
О том, как, продолжая устраивать чужие дела, я попутно выяснил интересующий меня вопрос.
В этой главе вы получите совет, касающийся того, как проверить, влюблен ли ты в девочку
Неторопливым дербервилевским шагом я покинул квартиру. Выходя из парадного, я столкнулся с женщиной, которой симпатизирую, с нашей соседкой — дверь напротив — Людмилой. Она молоденькая, красивая и хотя еще студентка, но у нее уже есть муж и ребенок. Что-то Дербервиль подметил в ней такое,— в ее глазах и в том, как она прядку со лба убирает,— что заставляет его покровительствовать ей.
— Здравствуйте, моя дорогая! — сказал я.— Чудесная погода, не правда ли? Лондон нас балует.
— Удивляюсь,— сказала она,— почему я тебе разрешаю называть себя «моя дорогая». Придется мне, наверно, бабушке на тебя пожаловаться.
— Пегги мне не может ничего запретить,— сказал я.— Пегги совершенно беспомощна. Вы заметили, как она постарела?
Я тут же решил, что, когда Пегги станет совсем уж старенькой, я куплю ей домик в каком-нибудь графстве — названия графств повылетали из головы,— буду выплачивать ей пенсию, тысячу фунтов в год, а вместо нее возьму себе в услужение эту милую женщину.
— Заметила,— ответила милая женщина по имени
429
Милдред,— бабушка целый день вкалывает, а вы ей никогда не поможете, милорд.
Это верно: у бабушки много обязанностей по дому, и последнее время ей их заметно трудней выполнять — она все чаще стала вздыхать в моем присутствии. Это значит: «Ты бы помог мне, выбил бы ковры или хотя бы пол натер в квартире, ты же видишь, я не управляюсь». Но ковры, сколько их ни выбивай, все равно пыльные, а полы в нашем доме и без того зеркальные.
Я понимал: не зря Милдред стоит здесь, у парадного,— она, конечно, собирается попросить, чтобы я побыл с ее дочкой, да все решиться не может, потому что уж очень часто обращается с этой просьбой то ко мне, то к бабушке.
— Догадываюсь,— сказал Дербервиль,— что мы не просто так здесь стоим. Ну же! Смелей, моя дорогая! Что там у вас?
— Перестань! — рассердилась на меня женщина.— Что за фамильярности!
— Не буду, не буду,— успокоил я Милдред и благосклонно выслушал ее просьбу, прикидываясь, что перестал быть Дербервилем.— Давайте вашу малютку, я ее пристрою в колледж,— сказал я.— До пяти часов она будет в надежных руках.
— Что еще за колледж?
— О, не беспокойтесь, миссис. На мою ответственность.
— Ну! — сказала Милдред.— Ну! Ты не можешь не ломаться!
Лондон радовался погожему дню. Справа от нас Тауэр грел на солнышке свои старые бока, слева Темза отсвечивала и переливалась под солнцем. В одном из окошек замка Дербервиль увидел вдовствующую королеву. По случаю хорошей погоды она не только улыбнулась Дербервилю, но и милостиво помахала рукой. Дербервиль снял цилиндр и поклонился королеве.
— Зачем ты смущаешь старушку? — сказала Милдред.— Здравствуйте, Мария Кондратьевна! — крикнула она вдовствующей королеве.— Не обращайте на него внимания: вы же его знаете.
Милдред ушла за своей малюткой.
Прежде чем малютку мне доверить, она, вернувшись, попросила, чтоб я рассказал, что это за колледж такой, куда я собираюсь пристроить девочку. Я рассказал.
430
— Ладно,— сказала Милдред,— мне уже стыдно просить твою бабушку. Но помни: под твою ответственность. Замолви за девочку слово в этом колледже, поговори с учительницей.
До самого колледжа Дербервиль радовался детской ручке в своей ручище. Скоро я понял: Лидочка — моя сестра, та самая девочка, появления которой все ждали в нашем доме, но она почему-то не появилась.
Я привел малютку в школу как раз к началу занятий, учительница прилаживала на старом столике о трех ножках зеленую доску, прислоняя ее к стенке. Ненадежно получалось. Дербервиль взялся помочь. Доска когда-то была дверью, до того как ее распилили. Да и вся школа была необычной: она находилась на просторной деревянной лестнице старинного дома, свет наполнял ее сверху, сквозь застекленную крышу. На ступеньках уже сидели ученики: две ученицы были с куклами, один ученик приехал в школу на своей машине и не хотел с нее слезать. Тут были и любители езды на велосипеде, и любители верховой езды — их лошади и их веломашины стояли в стороне, а сами ученики сидели на ступеньках и ждали начала уроков. Это была школа Люсеньки Витович, ее живая мечта. Я послал одного малыша, который в этом доме жил, чтоб он принес молоток и два гвоздика. Люсенька была рада мне: пока я возился с доской, она меня три раза назвала Быстроглазиком. Она тараторила совсем не по-учительски:
— Ты видишь, Быстроглазик, в каких условиях я начинаю новый учебный год! Как я их могу чему-то научить, если у меня даже нет доски?
Она рассказала, что в прошлом году у нее была чудесная доска, из линолеума, на специальной подставке — папа одного ученика сделал, но теперь этот ученик пошел в первый класс, а доску кто-то стащил. И вот школа на грани развала. По-моему, Люсенька слишком уж не по-учительски вела себя. Я показал ей глазами на учеников.
— Не волнуйтесь, коллега,— сказал я.— Сейчас я все устрою.
Мне нравилась эта школа — я решил преподавать здесь физкультуру.
— Я привел вам, коллега, ученицу,— сказал я.— Уделите ей внимание. Это дочка моей большой приятельницы.
— Да ладно тебе, Быстроглазик! — сказала Люсенька.— Что ты все коллега да коллега. Не валяй дурака!
431
Я опять ей показал глазами на учеников, но она не хотела этого замечать.
Я приколотил доску двумя гвоздями к стене.
— А ругаться не будут? — спросила Люсенька.
— Пусть вас это не волнует, коллега,— сказал я.
Тут уж Люсенька рассмеялась и толкнула меня.
— Ну, ты невозможный,— сказала она.— Спасибо. Не знаю, что и делала бы без тебя.
Все-таки она в меня влюблена: вот как смотрит. Я решил проверить, не влюблен ли я в нее. Я знаю один верный способ: нужно представить себе, что девчонка входит в твой дом, ну, так, как будто она твоя жена. Если хорошо представляется, значит, влюблен. Я стал представлять. Получалось неплохо, но потом выяснилось, что дом не мой, какой-то незнакомый, да и вовсе не я в этом доме находился, а Хиггинс. Мне понятно стало, почему Хиггинс все к Люсеньке на переменках с разговорами подходит. Немного жаль было, что не я в нее влюблен: красивая девочка, доброжелательный человек, да и школу вон какую организовала. Не то что Света Подлубная. Везет Хиггинсу. Мне подумалось, что надо бы проверить, не влюблен ли я в Свету, но тут же я понял, что на такое унижение не пойду. Она меня пронырой назвала и неприятным человеком, а я после этого проверяй, не влюблен ли в нее,— дикая мысль.
Я провел с учениками зарядку. Малыш, который на кабине своей машины сидел, зарядку делать отказался. Я хотел его заставить, но Люсенька не разрешила.
— Оставь его! — сказала она.— Не хочет — не надо, у нас школа добровольная.
Она пошла меня проводить по лестнице.
— До свидания, коллега! — сказал я.
— Перестань, Быстроглазик! — сказала она.— Ты все шутишь, а наша учительская работа — дело серьезное. У меня восемьдесят процентов новеньких. Надо их научить читать, а они даже букв не знают.
Она пошла вверх по лестнице озабоченная.
О том, как, организовывая жизнь двум беспомощным, я понял, что я чище и выше других
На улице я вспомнил, что не спросил у Хиггинса, где мне их с Чувалом искать. В таких случаях я доверяюсь
432
своим ногам. Я дал им полную волю. Мне любопытно было, как они на этот раз справятся.
Они привели меня на тихую улочку, обсаженную каштанами. Я увидел двух своих новых друзей. Чувал стоял, облокотившись спиной на ствол каштана. Вид у него был такой: я бы давно все это бросил, да мне не дают; Хиггинс ходил вокруг каштана, как ученый кот вокруг дуба.
— Дербервиль, как ты нас нашел? — обрадовался он мне.— Я тебе два раза звонил, но тебя не было дома.
— Деловой человек,— ответил я,— всегда найдет правильную дорогу. Излагайте ситуацию.
Ситуация не изменилась. Чувал упрямился, он говорил, что надо быть сумасшедшим или невероятным наглецом, чтобы заявиться в дом к незнакомой девочке. Я ему объяснил, что он просто беспомощный человек. У таких девочек уводят, и потом девочки всю жизнь страдают с нелюбимыми мужьями.
— Ты хочешь, чтоб она страдала? — спросил я.
Он этого не хотел. Тогда я велел Чувалу взять себя в руки. Я собрал у него необходимые сведения: в каком классе учится девочка, как ее зовут, в какой квартире живет, кто родители, задавака или нет, любит ли конфеты, слушается ли родителей? На половину моих вопросов он ответить не смог, но и того, что я узнал, мне было достаточно.
— Я пошел,— сказал я.— Ждите меня терпеливо: у меня будет трудный разговор.
— Вот так сразу? — спросил Чувал. Он даже сделал движение, чтобы меня задержать.— Ты не стесняешься?
— Я никогда не стесняюсь,— ответил я,— я люблю разговаривать с людьми. Только не вздумай уйти!
Я поднялся на второй этаж, нашел восьмую квартиру и позвонил. Мне открыла женщина. Конечно, это была ее мама, у нее в глазах был вопрос: интересно, кто это к моей Наденьке?
— Наденька дома, я надеюсь? — спросил я.
Она даже вздрогнула: не ожидала, что я ее дочку, как и она, Наденькой называю. Хмыкнула.
— Наденька дома,— ответила она.— Наденька, к тебе молодой человек.— И ушла. Все получилось, как я рассчитывал.
Наденька вышла. Глаза у нее были похожи на мамины, только вопрос в них был другой: что это все значит, хотела бы я знать?
433
— Приветик! — сказал я.— Мы знакомы, не правда ли?
— Ты Быстроглазый,— сказала она.— Но мы .не знакомы.
Все Быстроглазого знают!
— Сама же сказала: Быстроглазый,— возразил я.— Знакомы, знакомы! Проходим в школе по коридору: ты на меня посмотришь, я — на тебя, а заговорить не заговариваем. Это плохо. Люди должны общаться.
— Правильно! — Она засмеялась, тряхнула волосами. Очень, скажу вам, мило это у нее получилось. В такую девочку я и сам не прочь бы влюбиться.
— Тогда садись, поговорим,— сказал я.— Садись вот здесь, на ступеньке. Садись, садись — увидишь, замечательный разговор получится.
Все оказалось проще, чем я думал: она, оказывается, была готова к разговору и тут же мне об этом сообщила, как только села рядом со мной. Просто чудесно вышло: ей хотелось с кем-нибудь поговорить. Она сидела дома и думала: «Хоть бы кто-нибудь зашел». Ей последнее время без конца хочется разговаривать: жизнь круто изменилась. Но подружкам, видно, ее разговоры уже надоели.
— Интересно было бы знать поконкретнее,— сказал я,— что это в твоей жизни так изменилось.
— Не объяснишь,— сказала она.— Никто этого не понимает. Я папу полюбила. То есть он мне не папа, а отчим, уже два года с нами живет. Я с ним никогда не ссорилась, но и не любила его. А на прошлой неделе я посмотрела на него — он как раз картошку чистил, такой смешной,— и поняла, что люблю его. Теперь со мной что-то делается. Мне все время хочется с людьми разговаривать, и все мне кажутся очень милыми.
Я ей сказал, что она сама милая, самая милая из всех людей, какие мне попадались. И вот почему: никогда ей не придет в голову подумать о человеке какую-нибудь гадость или, скажем, высказаться о нем: «Какой неприятный!» А ведь есть же такие люди, которые на других с таких позиций смотрят. Она согласилась, что есть. И так же, как и я, она была возмущена такими людьми. Я спросил ее, не знает ли она моего большущего приятеля Чувала.
— Нет, а что?
— Ему тоже все кажутся милыми! — ответил я.— Надо будет тебе с ним поговорить. У вас много общего.
Но мне не хотелось ее вот так сразу Чувалу передавать. Я начал говорить неожиданное для себя.
434
— Мне тоже все кажутся славными, но на меня люди смотрят другими глазами. Говорят, что я проныра, люблю обстряпывать делишки. Но для себя я очень редко что- нибудь делаю, больше для других...
— Это хорошо! — сказала она.— Я уже все поняла. Тебя обидели. Да? И ты пришел ко мне излить душу.
— Точно! — сказал я.— Обидели. Глубоко, до слез! — Слезы тут же появились на моих глазах.— И все это так несправедливо! Как будто бы я деляга какой-то. А все зависть и человеческая неблагодарность... Все потому, что я чище и выше других!
— Нет, нет,— сказала она.— Ты чересчур уж хорошо к себе относишься. Давай разберемся.
Только этого мне недоставало.
— Да что разбираться! Что разбираться! — сказал я.— У меня и времени на это нет. Я же целый день ношусь: то одному что-то устраиваю, то другому. Вот уже надо бежать чужого ребенка из колледжа забирать.
— Так зачем же ты пришел?
— За одним только словом! — сказал я.— Скажи, вот если б я проходил по школе, а ты шла мне навстречу, ты могла бы обо мне подумать: «Какой славный!»?
— Господи! Вот только сегодня это было: ты шел по коридору, а я подумала: «Какой славный!»
— Спасибо,— сказал я.— Больше мне ничего не надо. Кстати, я тебе сейчас устрою разговор с Чувалом. Он должен быть недалеко. Вот уж с ним ты поговоришь так поговоришь. Жди тут, не заходи в квартиру!
Она кивнула, вид у нее был здорово растерянный.
Я еще из парадного начал делать знаки Чувалу.
— А ну бегом! — сказал я.
Пришлось его втолкнуть в парадное, он сопротивлялся. Хиггинс мне помог. Чувал сдался и побежал вверх. По-моему, он плохо понимал, что с ним происходит.
— Вот так, Хиггинс,— сказал я,— не хочет он устраивать своих дел. Эгоист. Ты, надеюсь, понял, что я хочу сказать?
Хиггинс признался, что не понял.
— Хорошо, Хиггинс,— сказал я,— постараюсь тебе объяснить. Только мысль эта настолько важная, что упаси бог ее изувечить. Не будем ее с наскоку брать. Ты постой возле того дерева, а я постою под этим, и будем надеяться, что мысль моя созреет раньше, чем каштаны.
435
Хиггинс отошел и о чем-то своем задумался. А я присел на корточки, подобрал палочку и подсчитал без калькулятора, вычерчивая цифры на земле, сколько полезных дел я мог бы устроить для себя за последние три дня, если бы не старался для других. Я задумался и думал не меньше пяти минут — как мама Хиггинса советовала. Потом я подозвал Хиггинса и выложил перед ним созревшую, гладенькую, как каштан, мысль.
— Так вот, Хиггинс,— сказал я,— устраивать свои дела священная обязанность каждого человека. И те, кто думает иначе, ничего в жизни не смыслят. На что надеются такие люди? На то, что их дела будут устраивать другие. А если другим не захочется? Тогда эти люди всю жизнь будут неустроенными и несчастными. Но разве для того, Хиггинс, мы рождаемся на свет, чтобы быть несчастными? Конечно, нет. Мы счастливыми хотим быть. Попробуй кому-нибудь намекнуть, что он будет несчастным. Да человек же распсихуется, начнет обзываться. И будет прав. Но с другой стороны, Хиггинс, разве я могу быть счастливым среди несчастных и неустроенных? Нет! Мне будет жаль их, хоть они и пальцем будут на меня показывать и пронырой обзывать. Это, Хиггинс, таким способом они заставляют меня свои дела устраивать... Но есть еще один вопрос, Хиггинс: что приятней, устраивать свои дела или чужие? Нет-нет, не торопись с ответом. Иди под свое дерево и подумай.
Я посидел на корточках и почертил палочкой по земле.
— Нет, Хиггинс,— крикнул я,— не отвечай! Я сам отвечу, потому что тебе не придет в голову то, что мне сейчас пришло.
Я пошел под каштан Хиггинса и стал ему излагать новую, только что созревшую мысль.
— Чужие дела, Хиггинс, устраивать приятней,— сообщил я.— Это праздник души. А свои? Не очень приятно. Ты свое дельце устроил, а тебя что-то тревожит. И ты начинаешь новое дельце устраивать, чтоб от тревоги избавиться. И так без конца. Только не всякому разобраться, что его тревожит. Хотя, казалось бы, и дураку должно быть ясно, что тревожит его совесть. Ведь сделать что-то только для себя — это все равно что съесть бутерброд с икрой в парадном, как будто по секрету от других. Ты не пробовал? Не советую. Я однажды съел, так меня три дня совесть мучила. В общем, Хиггинс, окажи мне любезность, позволь мне сварганить для тебя одно дельце: хочу организовать
436
твою жизнь, пристроить тебя к родному человеку. Ты не против?
Хиггинс поинтересовался, кто его родной человек.
— Господи, Хиггинс,— сказал я,— конечно, Люсенька Витович. Идем, идем! Не упрямься и не удивляйся. Есть на свете проницательные люди. Они посмотрят — и все поймут: у них зрение такое. Да перестань же упираться! Сосредоточься, потому что тебе тоже придется организовать одно дело для меня.
Я стал говорить Хиггинсу о том, что меня тревожило последнее время. Обо мне в классе распускают слухи, что я проныра, люблю «обстряпывать», «сварганивать» свои делишки. И кто больше всех об этом говорит? Света Подлубная. Мне Горбылевский донес. Этот услужливый человек обязательно сообщит, если о тебе какую-нибудь гадость скажут. Сразу же позвонит, до завтра не потерпит.
— Не думай, Хиггинс,— говорил я,— что я влюблен в Свету. Это еще требует проверки, и я при случае проверю, хотя это и дико — влюбляться в человека, который тебя поносит за глаза. Нет, дело не во влюбленности. Дело в другом: я терпеть не могу, когда обо мне какую-нибудь гадость думают. С меня хватит того, что рядом со мной сидит Шпарага и на каждом уроке думает обо мне такие гнусности, что во мне все закипает. И кончится тем, что я его побью, хотя бы мне еще один бойкот грозил. Но что Шпарага? У Шпараги деформированный череп. Ты заметил? Ему плохо в роддоме головку вылепили. А у Светы какая головка! Какие при этой головке глаза! Какие волосы! Разве мы можем, Хиггинс, допустить, чтобы все это поганилось недостойными мыслями?! Тем более что думает она, а скверно живется от этих мыслей мне. Так зайди сегодня вечером к ней, Хиггинс, невзначай, узнать, что задано по физике, и расскажи ей о том, какие благородные мысли я перед тобой сегодня развивал. Они ведь тебя поразили, правда? Ведь тебе хочется рассказать об этом своей маме? Ведь расскажешь, не стерпишь? Так зачем тебе с мамой об этом говорить? Поговори со Светой. И не забудь ей раза три напомнить, что мысли эти — благородные.
Тут я чуть не уперся носом в двери парадного. Я понял, что все это время мой язык, как пропеллер, нес меня вперед, теперь он втащил меня в парадное, и мы оказались в школе Люсеньки Витович.
437
Я сказал Люсеньке, что привел ей завхоза — он все здесь оборудует, доску и прочее. Люсенька обрадовалась Хиггинсу. Они начали обсуждать, где достать доску. О человеке, который устроил их судьбу, они забыли. Я взял за руку Лидочку и ушел. Теперь у меня не было никаких сомнений, что я чище и выше других.
Я поглядывал на прохожих и прикидывал, кто из них может сравниться со мной. Большинство были никудышные люди: ненадежные, нерасторопные и сплетники порядочные. Мне попались две женщины, которые третью обсуждали: одна из них раза три повторила: «Уж я-то ее знаю!» Хотелось защитить ту, третью женщину от несправедливых наговоров. Попадались и люди, которые пытались быть хорошими и чистыми,— у них были особенные лица и голоса. Были даже и такие, что поглядывали на меня с пренебрежением: я, мол, чище и выше тебя. Я их быстро научился отличать от остальных. Одна такая женщина сказала кому-то в окне: «Здравствуй, милая! Несу тебе то, что обещала»,— и посмотрела на меня: вот я какая! Эти люди меня ужасно раздражали: не знал, что у меня столько конкурентов. Один такой, пятиклашка из нашей школы, вел себя особенно нескромно: собрал малышей и рассказывал им сказку. Он только что не кричал: «Любуйтесь мной!» С этим конкурентом я решил разделаться. Я отвесил ему шелобана и сказал:
— Надо быть скромней!
— За что ты его? — спросила Лидочка.
— За хвастовство,— ответил я.
Я отвел Лидочку домой, вернулся на улицу и стал ждать новых поручений: пусть я сгорю в пламени, как тот мотылек, что тянулся к свету!
Сейчас же из окна второго этажа одна симпатичная женщина спросила:
— Быстроглазый, ты, наверно, можешь достать дрожжей?
— Конечно,— ответил я и пошел за дрожжами.
Я раздобыл их у своей довольно большой приятельницы, которая в столовой работает. Она с радостью мне их дала. Мы улыбаемся друг другу при встрече, и я как-то ездил для нее за лекарствами в дальнюю аптеку.
— Не для себя, для людей стараюсь,— сказал я, когда брал дрожжи.
Я принес женщине дрожжи и опять вышел на улицу. Я предчувствовал, что понадоблюсь тут для важного дела.
О том, как в благодарность за мои добрые дела меня назвали дикарем двадцатого века
Я увидел нашего соседа,— дверь слева,— десятиклассника и эрудита Леню Саса. Сас шел, читая книжку на ходу; голову он держал набок, одно плечо выше другого. Иногда он отрывался от книжки и проверял, не сбился ли с дороги, и каждый раз он жалел, что поднял глаза: вокруг такая ерунда происходила, такая чушь и бестолковщина, что только и оставалось презрительно улыбаться. Я никогда не упускаю случая поговорить с Сасом: он знает много такого, что может пригодиться Дербервилю.
— Здравствуй, Сас,— сказал я.— Что нового пишут в книгах?
Сас оторвался от книги, и, конечно, оказалось, что и я и все прочее на улице выглядит очень ерундово: какие-то муж и жена довольно громко ссорились, у акации стояла собака с задранной ногой, а из окна дома неслась громкая музыка. Сас посмотрел на это окно и сказал:
— Дикари двадцатого века!
Я уже приготовил блокнот и шарик.
— Сас,— сказал я,— дай-ка мне название английского графства.
— Йоркшир,— сказал Сас.— Одного хватит?
Я сказал:
— Хватит.
Не мог же я купить домик для Пегги сразу в двух графствах. Сас догадывается, что я Дербервиль, ему нравится, что я не просто Виталька Бесфамильный, Быстроглазый, а еще и англичанин. Он страшно любопытный, этот эрудит,— вечно расспрашивает, как моего англичанина зовут и в какую эпоху он живет. Он говорит, что на моем месте выбрал бы семнадцатый век — эпоху Кромвеля и великих событий. Ну как ему объяснить, что мой Дербервиль живет в разные эпохи? Конечно, иногда получается путаница: по Лондону ходят в длинных плащах и ботфортах, во фраках и цилиндрах; в одно и то же время скачут всадники в шлемах и Дербервиль едет в своем «роллс-ройсе».
— Послушайте, милорд,— сказал Сас,— почему вы не хотите мне довериться? Я бы вам подобрал литературу по Англии семнадцатого века, мы бы с вами эпоху смоделировали. Такого бы англичанина сотворили! Человека передовых взглядов, но безнадежно влюбленного.
439
Я догадываюсь, в кого был бы влюблен этот англичанин Саса: в девушку по имени Нелли. Как раз в это время я заметил Нелли на другой стороне улицы — она шла в сопровождении баскетболиста Ричарда. Сас тоже их заметил и побледнел, улыбка его стала еще презрительней. Еще недавно Нелли встречалась с Сасом и слушала, как Сас читал стихи на трех языках — русском, польском и англий¬
ском, но теперь она ходит с баскетболистом Ричардом Шониным, который стихов читать не умеет, но зато умеет бросать мячи в корзину. И у Ричарда рост. Когда он с Нелли идет по улице, то прохожие, наверно, только об одном думают: «Какая рослая, красивая пара!» А Сас? Метр шестьдесят, больше он не вытянет, хоть бы на цыпочки встал.
— Вот так, милорд,— сказал Сас.— Я очень хорошо представляю себе этого англичанина. Ироничный человек. Когда ему нечего будет сказать, он просто галантно раскланяется.
Сас снял цилиндр и не очень-то умело поклонился Нелли и Ричарду. Ричард захохотал, а Нелли что-то сердито сказала ему и учтиво ответила Сасу. Я видел: Сас, если захочет, тоже сумеет стать англичанином.
— Сас, подбери себе английскую фамилию,— сказал я.— Кланяться ты уже умеешь.
— А вас, милорд, как зовут? Ну же, представьтесь.
Я представился ему, как англичанин англичанину:
— Дербервиль, сэр.
— И вы знаете, сэр, как пишется ваша фамилия? Уверен, что не знаете.
Сас взял у меня блокнот и написал: «д’Эрбервилль». Может, так правильней, но меня такая фамилия не устраивала: мне нужен Дербервиль с большой буквы.
— У вас такая библиотека, а вы, сэр, не знаете, как пишется ваша фамилия.
Сас опять уткнулся в книгу. Как это понимать? Он все
440
еще со мной в компании или сам по себе? Сас пошел от меня, не попрощавшись. Ну и манеры! Он чуть не столкнулся с жильцом нашего дома по имени Митя. Это очень застенчивый человек лет тридцати, он смущается даже меня. Митя о чем-то заговорил с Сасом. Сас кивнул в мою сторону и сказал:
— Идите к нему, этот сделает... Ты можешь достать лягушек? — спросил меня Сас.
— Конечно! — ответил я.
Сасу мой ответ почему-то не понравился. Он стал смеяться неприятным тоненьким смешком и допытываться, есть ли такое, чего бы я не мог достать.
— Вот ты смеешься,— ответил я,— но ты еще не раз ко мне обратишься.
Я стал выслушивать Митин рассказ, как он пытался раздобыть лягушек. Он побывал на двух прудах и трех озерах, но лягушек не обнаружил. Попадаются, правда, маленькие, но и те не даются. Митя смотрел на меня, как на человека, который, если захочет, может стать его спасителем: лягушки завтра к утру нужны позарез, жена в больнице, должны анализ делать, а без лягушек нельзя.
— Ждите меня здесь,— сказал я Мите.
Я перешел на противоположную сторону улицы, вошел в будку автомата и набрал наш номер.
— Дед,— спросил я,— кто из наших знакомых имеет отношение к лягушкам?
— Надо подумать,— ответил дед.
Он думал долго. Я забеспокоился. И зря. Иной раз случается, что какую-нибудь ерунду трудно достать. Однажды дед целую неделю доставал ходящую куклу для внучки большой бабушкиной приятельницы. Он говорил: «Можно подумать, что я достаю бульдозер».
Человек, имеющий отношение к лягушкам, конечно же, нашелся.
— Виталька,— сказал дед,— иди к Пете Башмету. В мединституте есть виварий. Иди и скажи ему, чтобы он тебе раздобыл сколько надо лягушек. А я ему позвоню.
— Готово! — сказал я Мите, вернувшись.— Мы идем в мединститут.
Сас вдруг заявил, что идет вместе с нами: он все хочет видеть своими глазами.
Петя Башмет — закадычный папин друг. В нем росту метр шестьдесят четыре — папа его называет Петя Баш,
441
потому что считает, что фамилия Башмет для него слишком длинная. Они дружат еще со школьных лет. Мне нравится слушать их споры. Они ведут разговор о возможностях и перспективах, о человеческих отношениях и о том, что, между прочим, что-то переменилось, какой-то сдвиг произошел, о том, как это отразится, и о том, не вызовет ли это поголовного увлечения. Послушаешь — и начинаешь понимать, что не так все просто. Особенно мне нравится разговор о революции в науках, которая, однако, не затронула некоторые сферы сознания. Иной раз я прошу их поговорить об этом — они соглашаются, и каждый раз получается все интересней. Заканчивается этот разговор всегда одинаково: кто-нибудь из них говорит: «А про мячик мы забыли!» Тогда я приношу им теннисный мячик, и они бросают его друг дружке через стол. Я стою в стороне: мне интересней наблюдать, чем самому играть. Так они забавляются минут десять. И почему мне так нравятся смешные, несерьезные люди?
Петя Баш оказался не в настроении.
— А вы с дедом все промышляете? — сказал он.— А ну отвечай, зачем тебе лягушки? Срочное дело у них, видите ли!
Я ответил:
— Анализ будут делать жене одного моего большого приятеля.
— «Большого приятеля»,— передразнил он.— Ну и дед у тебя! Когда он угомонится? Я человека вытаскиваю, а он звонит: «Срочное дело!»
Я промолчал. Вообще на Петю надо поменьше обращать внимания: лягушек он все равно достанет.
К нам подошла женщина в белом халате, она принесла Пете банку с пластмассовой крышкой.
— Вот растяпа! — сказал ей Петя о ком-то.— На час нельзя отлучиться. Чуть не угробила мне женщину. Такую женщину! Вы заметили, какая женщина, Евдокия Семеновна?
Евдокия Семеновна ответила:
— Еще бы!
— Но я ее вытащил! — сказал Петя.— Теперь я ее оставлю себе. У меня она не будет травиться. Женюсь на ней: это мое. Я сутки трудился.
— Имеете полное право,— ответила Евдокия Семеновна. Она, видно, привыкла к Петиным шуткам. Раньше я его разговоры о женитьбе всерьез принимал.
442
Петя сунул мне банку, развернул меня и поддал коленкой, хулиган такой.
— Привет папе!
Я понесся к двери, но он окликнул меня:
— Ты не обижаешься?
— Да вы что! — сказал я.— Человек лягушек достал, а я на него обижаться буду?
— Скажи, что тебе самцы нужны.
Я пошел искать человека, имеющего прямое отношение к лягушкам.
— Трех самцов,— сказал я ему.— И пожалуйста, покрупней.
Он ухмыльнулся. Он вынес в банке трех лягушек, похожих на бегемотов.
Кажется, беспомощному Мите захотелось меня расцеловать, когда он их увидел. У него трешница в руке появилась. Я не успел сам отказаться от трешницы.
— Спрячьте-ка денежку, спрячьте-ка! — заволновался Сас, он поглядывал на меня с опаской: чего доброго, выхвачу.
Я еще раз убедился: окружающие ни шиша во мне не смыслят.
— Спрячьте, Митя, деньги,— сказал я.— Кланяйтесь от меня вашей жене, когда завтра ее увидите. Я надеюсь, все обойдется благополучно.
Митя еще раз стал благодарить: от этих лягушек зависит здоровье его жены. Сас и тут помешал мне закончить дело как полагается.
— Да что вы перед ним рассыпаетесь? Нашли перед кем!
Митя засмущался, похлопал меня по плечу и ушел.
— Сас,— спросил я,— неужели я не заслужил, чтобы мне сказали спасибо? Ты же слышал: от этих лягушек зависит жизнь человека.
— Тоже мне Альбер Швейцер нашелся! — ответил Сас.— Ты что, изобрел средство от рака? Или, может, создал искусственную кровь? Ну-ка ответь, какой рост у Олега Блохина?
Я ответил. Тогда он стал другие вопросы задавать: сколько стоят на барахолке «Врангеля»? Какой вес у Те- офило Стивенсона? Вопросы были нетрудные. Сас смеялся после каждого ответа тоненьким своим смешком.
— Ну вот видишь,— сказал он, а фамилию свою написать не умеешь.— Ты просто дикарь двадцатого века.
443
Он уткнулся в книжку, постоял немного возле меня, читая, и ушел. Выходило, такой человек, как я, даже не заслуживает, чтоб ему говорили обыкновенные слова — «спасибо» и «до свидания».
О том, как я запутался в мечтах и понялу что должен заняться своим здоровьем. В этой главе делается первая в мире попытка классифицировать мечты, а также даются полезные советы, касающиеся того, как и о чем мечтать
«Мы любим помечтать!» — такое название придумала для диспута школьная пионервожатая. Ей поручил провести его во всех шестых классах наш директор, после того как выяснилось, что многие шестиклассники требуют у родителей джинсы за сто восемьдесят рублей. Стало ясно: мы не о том мечтаем.
Вот мы и учились, как правильно мечтать. Все высту- . пали толково. Кто же не умеет отличить правильную мечту от неправильной? Очень хорошо, если тебе о космосе мечтается или о каком-нибудь общественно полезном деле; если ты мечтаешь о том, чтобы стать врачом или учителем, так это просто замечательно. В общем, говорили то, что полагается. Мишенька себе придумал мечту стать начальником ГАИ. Все в классе смеялись: он терпеть не может гаишников, он говорит, что они папу его преследуют. Пионервожатая выслушивала и хвалила каждого за его мечту. Одна Люсенька Витович, по-моему, правду сказала.
Пионервожатая и меня спросила:
— Ну а ты о чем мечтаешь?
Я заметил, что ей больше всего нравятся мечты на профессиональные темы. Я ответил, что мечтаю стать доктором — в белом халате и в очках.
— Почему в очках?
— Не знаю,— ответил я,— так мечтается.
— А о джинсах,— допытывалась она,— не мечтается?
— О штатовских или о польских? — спросил я.
— О штатовских,— сказала она ласково.
— О штатовских не мечтается,— ответил я.
Подловить хотела. Представляю, что было бы, если бы
я здесь, на диспуте, рассказал о своей настоящей мечте на профессиональную тему.
В Одесском институте консервной промышленности ра¬
444
ботает довольно большой приятель моего деда. Вот дед и решил, что мне надо поступать в этот институт. Я скоро стал замечать, что мне нравятся всякие консервы. Не есть я их люблю, нет — вид меня их волнует: баночки, коробочки, этикетки. Всегда жаль портить такое изделие ножом. И вот появилась мечта: нажимаешь кнопку — коробочка открывается, и все за столом ахают. Хорошо, что я об этом ни гугу: пионервожатая решила бы, что Быстроглазый высмеивает важное мероприятие,— пожалуй, родителям бы позвонила. Я был доволен, что избежал опасности. Кажется, полоса неудач миновала. Да и вообще, мечты лучше не выбалтывать. На то они и мечты. От разговоров они тускнеют. Пусть себе мечтается на разные темы — профессиональные, общественно-политические, космические, но об этом лучше помалкивать.
И никаких портретов! А то на нашей улице в витрине фотоателье выставили портрет придурковатой девицы — фотограф к этому портрету название придумал: «Мечты сбываются». Я человек не застенчивый, но на этот портрет стараюсь не смотреть: неловко. Как-то мне попалась книжка с таким же названием: «Мечты сбываются». Я ее полистал: мне интересно было, о каких мечтах там идет речь. Оказывается, бывают мечты на спортивные и производственные темы, а у одной очень симпатичной девушки рыбнохозяйственная мечта была. Я об этой девушке все в книжке прочитал: рыбнохозяйственная — это же почти консервная.
Один из наших все же попался, пшенка АИ: уж очень он размечтался, пока шло мероприятие. Он сказал, что мечтает побегать в плавочках по пляжу. Он жмурился, подставлял плечи солнышку, хотя каждому было ясно, что солнце мечтой в класс не затащишь.
— Неужели у тебя нет большой, серьезной мечты? — спросила пионервожатая.
Она велела пшенке подумать и к концу мероприятия выбрать себе настоящую мечту, с которой бы не скучно было жить. Но пшенка же не дурак — он сказал, что уже у него такая мечта имеется, только что пришла в голову: он мечтает стать водолазом, чтобы исследовать морские глубины. Ему сразу стало холодно, он обхватил плечи руками, зубы его постукивали. Остальные пшенки быстро при помощи троса подняли его на поверхность и стали укорять за то, что он перед погружением плохо оделся и забыл пропустить стаканчик согревающего.
445
— Не надо представлений,— сказала пионервожатая, но мечту одобрила.
К концу мероприятия пришел директор и проверил, не забыла ли пионервожатая кого наделить мечтой. Он убедился, что у каждого из нас теперь была большая, серьезная, настоящая мечта, с которой не скучно жить и хочется творить и дерзать. Директор остался доволен. Он сказал, что мероприятие принесло большую пользу и теперь никому из нас не придет в голову требовать у родителей джинсы за сто восемьдесят рублей. Я стал приглядываться к его карманам: интересно, в каком из них он калькулятор носит? Директор спросил, что это я его так настойчиво рассматриваю,
— Извините,— сказал я,— а у вас какая мечта? — Я слышал, он мечтает дотянуть до пенсии.
Он ответил, что мечтает, чтобы все мы выросли настоящими людьми, подлинными мечтателями. Знает, что надо говорить!
После мероприятия мне захотелось побаловаться, навестить свою живую мечту. Эх, буду мечтать, что в голову взбредет! Намечтаю такого, что ни на одном диспуте не расскажешь.
Я примечал, где что продается: засек государственную картошку по двенадцать копеек, прекрасные консервированные томаты и тонкие сосиски. Мне открыла старушка и, как всегда, проговорила:
— А, тимуровец!
Марина кормила Максимку из бутылочки с соской. Вид у нее был усталый. Я рассказал о картошке, томатах и сосисках. Она сказала:
— Все тащи,— и дала мне авоську.
Картошки я купил двенадцать килограммов. Когда я пристроил поверх картошки сосиски, а левой рукой прижал к боку банку с томатами, я очень хорошо понял, что это такое — «мечты сбываются». Но я не дохляк — управился. Я притащил и спросил:
— Какие еще трудности?
Мы уложили Максимку в коляску, снесли его вниз по лестнице, и я полтора часа присматривал за ним, пока Марина отдыхала. С Вадимом мы так и не увиделись: он был на дежурстве.
По дороге домой ко мне прицепилась Шпарагина песенка: «Весел я...» Я напевал ее довольно громко, прохожие обращали внимание, а какая-то рожа в окне приложила
446
палец к виску и повертела. Я попытался избавиться от этой песенки, но у меня не получилось. Я забывался и начинал опять: «Весел я...» «Нехорошо!» — подумалось мне.
Я очень кстати вспомнил, что знаю неплохой способ, как избавляться от прилипчивых мелодий: нужно думать об интересном. И я стал думать. Песенка уже не напевалась, только рука иногда сама собой выдергивалась из кармана: дирижировать ей хотелось. Прохожие и это подметили. Но как совладать с рукой, я способа не знал. И вот я шел, стараясь, чтобы рука не очень-то своевольничала, и вдруг спохватился: да я же мечтаю! Мечта была странной: будто я доктор в очках, похожий немного на Вадима, немного на Петю Баша, будто я работаю на кафедре реанимации и на «скорой помощи» сразу — но, может, это была одна и та же организация, я как следует не разобрался,— и вот я «вытаскиваю» одного за другим «оттуда», а они меня благодарят: «Спасибо, доктор!» «До свидания, доктор!» — тоже никто из них не забывает сказать. А где же моя консервная? Ее уже не было. Я понял, что запутался в мечтах, и опять подумал: «Нехорошо!» Я попытался вернуться к своей старой, консервной мечте — не получилось! Вот тут я начал понимать отчетливо, что со мной неладно: моя жизнь несется неизвестно куда, как корабль, сорванный в бурю с якоря. Догадки начали мелькать, и сердце так застучало, как будто бы у меня их два: в левом и в правом ухе.
Пора разобраться! Мне и совет мамы Хиггинса припомнился — о том, как человеку необходимо хоть пять минут в день посидеть и подумать. Я начал было тут же думать — стоя, но вдруг спохватился: а вдруг стоя неправильно думается? Я сел на скамейку в том самом скверике, что у старинной церквушки. И сразу начало думаться очень отчетливо: «Ты уже давно совершаешь необъяснимые поступки...» Все эти поступки припомнились... Как я Свету полтора часа прождал только для того, чтобы сказать ей «ду ю спик инглиш»; как отдал пшенке ни с того ни с сего жвачку, которая мне самому нужна была; как расплевался с телефонщиками и лишил себя телефонных разговоров. А теперь? Уже четыре дня дежурю у домов номер тридцать шесть, тридцать четыре и тридцать восемь — жду поручений, хотя на фига мне это нужно? Ел невкусное рагу — на кой мне это? Было ясно: я совершаю бессмысленные, ненормальные поступки, и чем дальше, тем этих поступков больше и тем они
447
ненормальней. «Тут уже можно ставить диагноз,— подумал я.— Вот и песенку распевал на улице — симптом!» Я стал прикидывать, отчего это могло случиться, и не мог понять. Вспомнилось только, как я трахнулся головой о ступеньку. Других причин я не находил. Я ощупал то место на голове, которое ушиб. Уже не болело. «Удар сделал свое дело»,— подумал я.
Потом начало думаться странное, совсем не имеющее отношения к жизни. Почему меня зовут Виталькой, а не Аркашкой, скажем, или Маратом? Почему моя мама и папа поженились? Не поженись они — и меня бы не было на свете. Почему я такой, а не другой какой-нибудь? И больше всего меня удивляло, что я совершенно случайно оказался в нашем доме. В моем кресле мог бы сидеть какой-нибудь Аркашка, человек поудачливей меня. И он бы, наверно, думал, что это ему полагается: папа, мама, преданный дед и кресло. И дед любил бы его ничуть не меньше, чем любил бы какого-нибудь Витальку. Оказывается, я случайность. И значит, что бы со мной ни случилось — не имеет значения. Я сразу повеселел: мне всё равно. Я поднялся со скамейки и пошел домой, напевая Шпарагину песенку. Дома бабушка спросила, отчего это я такой веселый.
— Пегги,— ответил я,— есть причины.
Я вспомнил, что мне пора идти на встречу с Женечкой Плотицыным. Я достал из ящика кляссер, в котором ношу марки для обмена и продажи, потом зачем-то взял из коллекции еще несколько марок, выбирая получше. Иногда приятно носить с собой: можно достать, посмотреть.
С Женечкой мы всегда встречаемся на одном и том же месте: все в том же скверике у церквушки. Но я в скверик сразу не пошел, а сбегал в столовую, в которой работает моя большая приятельница, и купил для Женечки пончик.
Женечка меня ждал. Он обрадовался пончику. Мы, как обычно, уселись рядом. Я раскрыл кляссер и стал показывать ему марки. Я ему показал и те марки, которые взял из коллекции, и объяснил, что это редкие и дорогие. Потом я спросил, когда у него день рождения. Он ответил:
— Уже был.
— Все равно,— сказал я.— Это тебе — бесплатно.— И отдал ему кляссер.
Женечка взял кляссер и еще теснее прижался ко мне. Марки из коллекции одна за другой проплывали перед
448
моими глазами — большущие, как транспаранты. Я опять начал напевать. И тут произошло страшное: в глазах защипало, в груди пролилось теплое, стало растекаться, и я явственно услышал дудение детского шарика: «Уйди- уйди!» Я вздрогнул, отодвинулся от Женечки. Женечка удивленно посмотрел на меня и спросил:
— Тебя кольнуло вот тут? У меня бывает.
— Женечка,— сказал я.— Мне надо срочно уйти. Не спрашивай почему.
Дома я долго ходил по комнате, стараясь не замечать своего отражения в зеркале. Я понимал, что обзавелся второй живой мечтой, хотя и давал себе обет быть поосторожней. Если бы спохватился до того, как шарик задудит, то можно было бы спастись. А теперь все! Тяни две мечты. Разорят! Считай, что коллекции у тебя уже нет! Я попробовал отделаться от второй мечты. Я ее мысленно трепал, волочил, закапывал, пинал, сжигал, топил, дарил, продавал, подбрасывал в чужие дома — все это хорошие способы, но ни один не помогал. Может, это из-за диспута? Решил сделать наперекор пионервожатой, а надо было старших слушаться, мечтать, о чем полагается.
Что-то меня все-таки заставило подойти к зеркалу и посмотреть на себя. Страшные перемены обнаружил я на своем лице!
Я опять зашагал по комнате, и тут мне стало казаться, что и походка моя изменилась: не было уже в ней дер- бервилевского полета и беззаботности. Я подумал: «Конечно, мне все равно, но у меня есть родители, дед и бабка, я должен о них подумать. Нужно заняться своим здоровьем».
До вечера все в доме удивлялись моей веселости.
Ночью мне приснился сон. Я стою у окна, и вот к нашему дому подъезжает синяя «Лада», из нее выходит человек, очень неприятный, похожий на Мишеньку. Я уже знаю, что он ко мне, и иду открывать ему дверь. Я бы мог и не открывать, но мне все равно. Человек останавливается в дверях, выкрикивает противным голосом: «Мечты сбываются!» — и начинает хохотать. Хохот этот переходит в крик из фильма ужасов, человек падает и катится вниз по лестнице. Я возвращаюсь к окну.
Кончилось тем, что тип этот выкатился из парадного, встал как ни в чем не бывало, уселся в свою синенькую «Ладу» и уехал.
Я проснулся и решил больше не засыпать: этот тип
15 Школьные годы. Выпуск IV
449
сразу же опять явится. Но скоро я вспомнил, что знаю очень хорошее средство от страшных сновидений. Я пошел на кухню, нашел в холодильнике кефир, налил в стакан, всыпал пять ложек сахару и залпом выпил это зелье.
Представьте, до утра меня никто не тревожил.
О том, как я посетил первого специалиста, который оказался чересчур медлительным
В школе я старался вести себя так, как будто ничего не случилось. Я по-прежнему был весел, встревал во все разговоры на переменах, я то и дело принимался насвистывать и притоптывал в это время ногой, чтоб всякому, кто ни взглянет, было понятно: дела у меня идут чудесно. Ко мне подошла Люсенька Витович и попросила одолжить ей тетрадку в клетку.
— Виталька,— сказала она,— ни у кого нет, ты моя последняя надежда.
— Ты меня всегда Быстроглазиком называла,— сказал я.— Чего это ты вдруг «Виталька» говоришь?
— Не знаю,— ответила Люсенька.— Само собой получилось. Что ты на меня так подозрительно смотришь?
Я достал из портфеля тетрадь и дал Люсеньке.
— Очень тебя прошу,— сказал я,— подумай, почему ты меня назвала Виталькой.
— А ну тебя! — сказала Люсенька.— Вечно ты разыгрываешь.
— Да нет же! — сказал я.— Это очень важно. Подумай, на следующей перемене скажешь.
— Хорошо, хорошо, не волнуйся,— сказала Люсенька и попятилась от меня.
На той же перемене Горбылевский с Мишенькой затеяли разговор в коридоре — специально для меня.
— Ходят слухи,— сказал Мишенька,— что один человек дежурит целыми днями на улице и выполняет любые поручения.
— Я же сразу сказал, что он чокнулся,— ответил Горбылевский.
Я стал насвистывать и притоптывать ногой. Телефонщики тоже насвистывали и притоптывали.
На следующей перемене Люсенька Витович сказала мне, что думала целый урок, но так и не смогла понять, почему вдруг назвала меня Виталькой.
450
— Ладно,— сказал я,— если что придет в голову, сообщи.
Как только прозвенел звонок с последнего урока, Люсенька подскочила ко мне, страшно веселая.
— Виталька,— сказала она,— я только что поняла, честное слово! Посмотрела на тебя — и поняла!
Она долго хохотала, прежде чем произнесла:
— У тебя глаза перестали бегать! Ой, как здорово! Поздравляю тебя!
«Чему ты радуешься? — хотелось мне крикнуть.— Это же симптом!»
На улице я обнаружил новые симптомы. Все у меня чесалось: нос, затылок, ноги; спина зачесалась в таком месте, что не дотянуться. Я решил было почесать ее об угол дома, но спохватился, что после этого Дербервилб не сможет себя уважать. Пришлось терпеть. Мука! Что приходится иной раз выносить человеку, чтоб сохранить достоинство. Я все поеживался, шевелил лопатками и даже стал похохатывать. Тут выяснилось, что почти все слова, которыми мы пользуемся, смешные. Особенно меня рассмешили слова «троллейбус» и «милиционер». Я удивлялся, как это раньше без смеха эти слова произносил. Как назло, мне два милиционера попались на глаза. От первого я, смеясь, убежал, а второму радостно, как солнышку после целой недели дождей, заулыбался. Он мне ответил такой же радостной улыбкой — мы разошлись счастливые.
Самым смешным оказалось слово «простокваша». Я долго стоял перед витриной молочного магазина, смотрел на бутылку с простоквашей, на свое улыбающееся отражение и думал о том, что, слава богу, на свете ничего серьезного нет и быть не может, все трын-трава, и мои симптомы тоже.
Дома я помылся под душем и растерся полотенцем — симптомы прошли. Обедать я отказался, заперся в своей комнате и долго стоял перед зеркалом, стараясь спокойно, по-научному наблюдать за своими глазами. Я прислушивался, не появятся ли новые симптомы. Кое-какие сим- птомчики давали о себе знать, но сразу же пропадали. Потом я стал что-то искать глазами и искал до тех пор, пока не увидел книжку стихов: папа — упорный человек! — продолжает мне подсовывать стихи. Раз уж мои глаза остановились на этой книжке, я стал сперва перелистывать ее, потом прочел первую строфу одного стихо¬
451
творения и обнаружил, что там про меня. Я прочел стихотворение до конца — про меня! Еще одно — про меня! Необъяснимым, невероятным образом складывалась моя жизнь: таинственные совпадения, от которых мурашки по спине бегали. Вся книжка от начала до конца была про меня! «Не знаю, о чем я тоскую. Покоя душе моей нет»,— читал я и плакал. Сколько времени я провел за чтением, не знаю.
Я услышал звонок, голос Саса: он спрашивал, дома ли я. Я утер слезы и вышел к нему. Сас сообщил, что начал писать вчера исторический роман: Англия семнадцатого века. Один молодой англичанин, безнадежно влюбленный, вступает в армию Кромвеля. Сас как раз дошел до того места, когда этот англичанин после боя находит раненого и беспомощного мужа той женщины, которую он любит. Сас сказал, что готов мне почитать, хотя ему не терпится дальше писать,— пусть рука отдохнет.
— Ты такого не читал! Идем.
Я понимал, что роман интересный, но разве мне до романов? Да и знал я уже, чем в этом романе все кончится. Англичанин «прогрессивных взглядов» будет лечить мужа «той женщины», перевязывать ему раны, а потом отправит этого рослого баскетболиста к его Неллечке. Что я, Саса не знаю?
Я поплелся за Сасом в его квартиру. Я подумал: «Этот эрудит, наверно, может разобраться, что со мной происходит».
— А ну-ка, Сас, взгляни на меня,— сказал я.— Ты не замечаешь никаких перемен?
Сас взглянул: что-то есть, но он так сразу не может ответить — нужно проанализировать.
— Ты на глаза мои смотри,— сказал я.
— У тебя красные веки,— сказал Сас.— Следовательно, ты плакал.
— Сас,— сказал я в тоске,— они перестали бегать! Никогда больше я не увижу козу, которая собирается боднуть меня в спину!
Сас отнесся легкомысленно к тому, что я сообщил. Он захихикал довольно обидно.
— И ты из-за этого плакал? — сказал он и пожал плечами.— Должен тебе сказать, у большинства людей глаза не бегают — и ничего, они без этого обходятся. Невесть какое достоинство.
Сас стал ходить по комнате, стал вдумываться в этот
452
вопрос и объяснять мне: ни у одного мыслителя глаза не бегали — ни у Эйнштейна, ни у Сократа, ни у Альбера Швейцера...
— Сас,— сказал я.— Так это же еще не все! Это же только симптом: мне страшное приходит в голову.
Сас стал деловитым и спокойным. Он собрал на столе бумаги, сложил их в стопку.
— Давно это с тобой? — спросил он.
Я ответил, что довольно давно; вначале, правда, не так явно было, но вот вчера отчетливо и ужасно... Сас кивнул. Он ушел на кухню и вернулся с топориком, каким мясо разделывают, и с ножом. Он положил обе эти загадочные вещи на стол. Нож был мельхиоровый. Я машинально потянулся рукой к красивой вещице. Сас отбросил мою руку и переложил нож и топорик подальше от меня.
— Я понял сразу,— сказал Сас сухо.— Тебе хочется убить человека. При некоторых душевных расстройствах это бывает.
Сас всегда был обо мне хорошенького мнения.
— Да нет, Сас! — сказал я.— Мне хочется подарить свою коллекцию марок. Всю сразу! Нестерпимо хочется! Приступы такие, понимаешь? Я боюсь, что не справлюсь с собой!
Сас опять отнесся слишком легкомысленно к моему сообщению. Опять он захихикал и уже без опаски приблизился ко мне.
— Я не знаю,— сказал он,— чего ты так нервничаешь? Ну так подари. Что тут страшного?
— Тебе легко говорить,— сказал я.— Это дорогущая коллекция. Ее еще дед начал собирать. Это мое самое сильное увлечение. Ты подумай, Сас, в каком я положении!
Сас подумал: походил по комнате, держа голову набок.
— И все-таки я считаю,— сказал он,— что ты должен совершить этот поступок: нельзя подавлять в себе благородные порывы. Это украсит твою жизнь! Может быть,— добавил Сас со своим противным смешком,— это будет ее единственным украшением.
— Сас,— сказал я,— подари мне вот этот красивый ножичек.
— Чего вдруг?
— Вот видишь,— сказал я,— легко говорить о благородных поступках, но гораздо труднее их совершать.
453
Сас пробормотал, что я болтаю пошлости и что все его доводы разбиваются о мою тупость.
— Неужели тебе не жаль своих благородных порывов?! — спросил он.— Неужели тебе хочется их в себе задушить?!
— Сас,— сказал я,— если можешь, задуши их во мне: пользы никакой, а убытков много.
— Пусть будет по-твоему,— сказал Сас.— Но знай: когда-нибудь ты пожалеешь об этом.
Он велел мне раздеться до пояса.
— Начнем, как полагается, с опроса,— сказал Сас.— С чего начались у тебя эти... ненормальности?
— Они начались после того, доктор, как я ударился головой о ступеньку.
Сас спросил, не было ли у нас психически больных в роду. Я ответил, что у меня папа со странностями: способен на необъяснимые поступки. Сас поморщился и уже после этого все делал мне назло. Он стал нагло водить пальцем перед моим носом и велел мне следить глазами за этим пальцем.
— Ничего, бегают,— сказал Сас и опять захихикал. Он надел очки и стал больно водить ручкой ножа по моей груди.
— Сас, потише,— попросил я.
— Цыц! — прикрикнул он.
Потом он посадил меня на стул, закинул одну мою ногу на другую, взял со стола топорик для разделки мяса и примерился обушком.
— Сас, ты не мог бы ручкой ножа? — попросил я.
— Цыц,— ответил он,— не указывай мне!
С четвертого раза он мне попал в очень болючее место. Я завопил и забегал по комнате, а Сас спокойно положил инструмент на стол и сообщил, что пока что не может мне сказать ничего определенного: ему нужно подчитать литературу. Конечно, он бы мог проконсультироваться у.своего брата, невропатолога, но он привык до всего доходить своим умом. Сас стал подсчитывать, сколько ему времени понадобится.
— На роман — три дня,— бормотал он.— На изучение литературы — дней десять... Зайдешь ко мне через две недели,— велел он.
— Сас, и ты совсем ничего не можешь сказать? — спросил я.— На тебя это не похоже.
Сас ответил: кое-что ему, конечно, ясно. Но пока его
454
мысли носят скорей гипотетический характер — он не может на них опираться при установлении диагноза. Но своими гипотезами он готов со мной поделиться. Например, ему известен один случай, когда человек, начисто лишенный слуха, ударился головой вот так же, как я, и после этого начал сочинять довольно неплохую музыку.
— Та же картина! — сказал этот ехидина.— От сотрясения в мозгу обнаружилось что-то стоящее. Но,— продолжал Сас развивать свои гипотезы,— скорей всего, дело в адреналинчике и гормончиках: чуть меньше выделяется в организме, чем нужно, чуть больше — и психическое равновесие нарушено, человек начинает делать и говорить не то.
Он мне рассказал об одной американской миллионерше, которая за один день раздарила двенадцать миллионов. Хорошо, что детям пришло в голову ее обследовать. Мысль о том, что адреналинчик с гормончиками распоряжаются моими марками, показалась мне страшной. Но Сас их так по-приятельски называл: адреналинчик, гормончики. Просто не верилось, что он не может с ними договориться.
— Сас,— спросил я,— ты не мог бы как-нибудь на них воздействовать?
— Об этом еще рано говорить,— ответил Сас.— Пока что мы остановимся на аутотренинге. Может, это как раз то, что тебе нужно.
Он за несколько минут обучил меня аутотренингу, и я пошел домой лечиться.
Я лег на диван, расслабился, как учил Сас, отключился мысленно от всего и сосредоточился на своем теле. Я стал внушать себе, как велел Сас: «Я сильный! Я контролирую свои поступки!» Но тут мне подумалось, что надо бы поконкретней. Я начал пользоваться другим внушением: «Я нормальный! Я никому ничего не дарю! Я ни для кого ничего не делаю за так! Я совершаю только разумные поступки!» Это внушение мне тоже показалось недостаточно конкретным и чересчур длинным. Я новое придумал: «Я никому не подарю своих марок! Не подарю — и все!» От этого внушения у меня почему-то начались судороги — аутотренинг мне вредил.
Я вскочил с дивана и набрал рабочий номер Пети Баша.
О том, как я посетил второго специалиста, который оказался чересчур вспыльчивым и загадочным
— А кто его спрашивает? — спросил меня недоверчивый голос.
— Один его большущий приятель,— ответил я.— По очень важному делу.
— Гм,— сказал недоверчивый голос.
— Вопрос жизни и смерти! — сказал я.
— Гм...— сказал недоверчивый голос.— Так и быть, постараюсь его найти.
Петя Баш не подходил к телефону. В трубку доносились голоса, и я уловил среди прочих слов и слово «адреналин». Я даже не вздрогнул: уже привык к таинственным совпадениям.
— Алло? — спросил Петя таким голосом, каким спрашивают: «Какого черта?»
— Петя, мне нужно срочно с вами поговорить,— сказал я.— Вопрос жизни и смерти.
— Я все время занимаюсь вопросами жизни и смерти,— ответил Петя.— Говори, что за вопрос? Предупреждаю, лягушек я больше доставать не буду.
— Да какие там лягушки! — сказал я.— Дело касается меня: сына вашего большущего приятеля!
— А ну перестань лить! — прикрикнул Петя.— Говори, в чем дело!
— Вы должны меня осмотреть,— сказал я.— Без этого ничего не поймете.
— Ладно, показывайся,— сказал Петя.— Я скажу, чтоб тебя пропустили.
Петю я застал у того же окна, возле которого мы вели разговор о лягушках. Он как раз кончил пить кофе и передавал чашечку Евдокии Семеновне.
— Петя,— сказал я,— посмотрите на меня. Вы не замечаете во мне никаких перемен?
— А ну-ка брось свои закидоны,— сказал Петя.— Говори, наконец, в чем дело?
— Петя,— сказал я,— мои глаза перестали бегать!
Евдокия Семеновна выронила чашечку — я услышал
мелодичный звук. Но она и не подумала подбирать осколки. Она наблюдала. Петя быстро подошел ко мне, взял за руку и повел; у застекленной двери он подтолкнул меня в спину, так что дверь я раскрыл плечом. Я повернулся и крикнул:
456
— А еще доктор!
По лестнице поднимался мужчина в белом халате.
— Видели? — сказал я.— Вот они, теперешние медики!
— Не говори! — ответил он.
Я вышел на улицу. Я был зол на всех реаниматоров, какие живут на свете. Я удивился, когда услышал Петин голос:
— Погоди! Какой-то ты все же странный.
— В том-то и дело,— сказал я.— Странный и ничего не могу с этим поделать. Навязчивые мысли. Представьте, я уже дошел до того, что чуть не подарил свою коллекцию одному второклашке.
— Как это «чуть не подарил»? — сказал Петя.— Ты что, спятил? Такую коллекцию!
Вот с этого и надо было начинать: Петя тоже коллекционер. Но я в тот день слишком уж был не в себе.
Петя начал отдавать распоряжения: коллекцию запереть, а ключ принести ему или лучше папе отдать.
— Больше тебе ничего не хочется дарить?
— Я сейчас в таком состоянии,— сказал я,— что могу подарить все, что угодно. Вообще могу невероятное выкинуть.
Петю все это не удивляло.
— Все ценное запереть! — сказал он.— Понятно?! Слушайся меня, я знаю, что говорю!
Он похлопал меня по плечу. Как-то уж очень уважительно провел рукой по моим волосам... и пошел к своим реанимируемым.
— Ничего страшного,— крикнул он Евдокии Семеновне, которая наблюдала за нами из окна.— Папины гены прорезались.
— Петя,— сказал я,— вы ведете себя загадочно: объясните мне, что со мной.
— Хорошо,— сказал он.— Однажды твой папа принес мне в подарок очень редкую книгу. Знаешь, почему он это сделал? Он считал, что эта книга мне нужней. Потому, видишь ли, что мне больше хочется ее иметь, чем ему.
Я ничего не понял. «Может, я отупел от переживаний?» — думал я и искал связь между той книгой и моей коллекцией, но никакой связи, хоть убей, не находил. Я подумал: «Петя и сам малость не в себе — перерабатывает».
Но все же я успокоился: если бы что-нибудь серьезное
457
со мной стряслось, Петя бы догадался,— все-таки врач. Да и запереть на ключ все ценное — очень полезный совет.
Я заторопился, выскочил на дорогу, и тут выяснилось, какой опасности подвергаются люди, лишенные бокового зрения.
О том, как я обычным для себя таинственным образом столкнулся с третьим специалистом, который посоветовал мне доискиваться причин
Я заметил машину только после того, как взвизгнули тормоза. К счастью, она небыстро ехала, а реакция и прыгучесть у меня что надо. Я оказался на капоте. О том, как подпрыгнул, я не помнил. Шофер смотрел на меня, как на наваждение; я поглядывал на него с интересом. Он потянулся рукой к дверце: сейчас будет ссаживать. Я заторопился, соскользнул на мостовую и тут только заметил, что мне преграждает дорогу доктор в халате. Я ударился* от него.
— Не скачи ты,— сказал доктор.— Что ты скачешь от меня, как от милиции?
Я узнал голос Вадима, моей живой мечты, человека, которому я намечтал жену, но забыл намечтать квартиру. Не знаю, как Вадим, а я не удивился. Я вернулся.
— Что случилось? — спросил он.— У вас кто-то в больницу попал?
— Другое,— сказал я.— Со мной что-то неладное. Ты же видишь? — Я показал на машину.
— Это уж точно,— сказал Вадим.— Василия Степановича ты в столбняк вогнал.
Василий Степанович сидел за рулем неподвижно, он не отрывал от меня глаз.
— Василий Степанович,— сказал Вадим,— сделайте глубокий вдох, вам сразу станет легче.
Василий Степанович послушался.
— Ну вот,— сказал Вадим,— одного мы привели в норму. Тобой я займусь чуть позже. Василий Степанович, подъезжайте.
«Скорая» подъехала к дверям больницы, Вадим и женщина в белом халате помогли выбраться из машины старушке, у которой что-то было с ногой, и повели ее. Василий Степанович показал мне на сиденье рядом с
458
собой. Я думал, он начнет отчитывать, но он о случившемся не заикнулся — сидел молча и только один раз проговорил:
— Мой тоже где-то прыгает. Вот я ему попрыгаю. Я его сегодня расспрошу, где он целыми днями носится.
Вернулся Вадим и повел меня в больничный двор. Мы сели на скамейку.
— Пять минут, не больше,— сказал он.— Рассказывай.
На этот раз я решил о глазах сказать в конце.
— Я начал совершать необъяснимые поступки...— приступил я.— Представь, во вред себе или просто нелепые...
Я обо всем рассказал. Не забыл упомянуть о том, как неизвестно зачем ел препротивное овощное рагу, и о том, как умолял почти что одну девчонку, чтоб она сказала, что может подумать обо мне: «Какой славный!»
— Должен добавить,— закончил я,— что у меня перестали бегать глаза!
Вадим кивнул, как будто это так и должно быть. Он вообще вел себя уж очень спокойно: ну, это, мол, понятно.
— Перед тем как это все начало случаться, я ударился головой. Заметь себе это.
— А произошло ли что-нибудь? — спросил он.— В тебе вообще сильна эта потребность — делать что-то для других.
— А глаза? — спросил я.— Чего вдруг они перестали?.. Ты же видишь: я под машину лезу.
— Ты стал больше думать,— ответил Вадим.— Ушел в себя и не реагируешь на внешние раздражители. Конечно, какой-то душевный сдвиг произошел.
Он мне стал говорить о том, что каждый человек живет внутренней жизнью. Ты спишь, делаешь свои дела, а жизнь эта идет своим чередом, по своим законам — внутренняя работа. От этой работы иногда в человеке происходят перемены, но ты о них еще не догадываешься. Поэтому тебе твои собственные поступки кажутся странными.
— Нужно доискаться причин,— сказал Вадим.— Выяснить мотивы, которые руководят твоими поступками.
О мотивах ему нравилось говорить. Это, оказывается, коварная штука: иногда поступок кажется благородным, а мотивы премерзкие, а иногда наоборот.
— Доискивайся причин,— сказал он.— Старайся понять, зачем тебе понадобилось дарить эту коллекцию.
— Господи,— сказал я,— ну зачем мне это нужно! Он же несмышленыш. Он покупал у меня марки. Потом его
459
мама попросила покупать ему каждый день пончик — я покупал. И начало представляться, будто я уже взрослый, а он мой сын. Мы же с ним плечо в плечо сидим на скамейке, как отец с сыном. А разве для сына что-нибудь жалеют?
— Вот видишь! Ты сам объяснил. Часто нами руководит не расчет, а эмоции.
Только их недоставало! Эмоции, мотивы, адреналинчик с гормончиками...
Но оказалось, это еще не все.
— Мне почему-то кажется,— сказал Вадим,— что ты кому-то что-то хочешь доказать.
— Плевал я! Никому я ничего доказывать не собираюсь! — В голове у меня гудело: еще и это! Интересно, кому это я доказываю?
— Не зарекайся. Вот я, например, одному человеку доказываю всю свою жизнь, что я лучше, чем ему однажды показалось. Послушай-ка историю. Я тогда учился во втором классе. Было у меня двое друзей — Вовка и Генка. И вот Вовкиного отца перевели в другой город — нужно было расставаться. Мы с Генкой договорились, что проводим Вовку на вокзал. Но Генка заболел. Провожать пошел я один. Вовка подарил мне на память красивый перочинный нож с перламутровой отделкой и не менее красивую перламутровую ручку. Он сказал: «Одну из этих вещей отдай Генке». Но я не мог расстаться ни с одной из этих вещиц. Откуда мне было знать, что за такие поступки расплачиваться приходится? И вот я всю жизнь доказываю Генке, что то был случайный поступок. Всегда это вспоминается, когда я недоволен собой, и я себе говорю: «Ты опять хочешь зажулить ножик». Сначала я тоже ничего не понимал. Просто я заметил, что мне нравится дарить друзьям перочинные ножи и ручки. (Я вспомнил, что Вадим подарил мне как-то красивый перочинный нож.) Потом уж разобрался. Так что доискивайся причин. А я побегу: кто-то уже валидол сосет и ждет меня.
Он побежал к машине, но вдруг вернулся и протянул мне красивую шариковую ручку:
— На! У меня две! Разбередил ты мою память.
О том, как я доискивался причин и в результате встретился еще с одним специалистом
Я заторопился домой, чтобы спрятать коллекцию. То, что я ее собираюсь прятать от себя самого, казалось мне делом обычным. Я верил в эмоции, мотивы, адреналинчик с гормончиками — все это факты научные. Предположение Вадима о том, что я что-то кому-то хочу доказать, не особенно меня беспокоило: я дал себе слово ничего никому не доказывать, как бы мне ни хотелось. Но вот одна мысль, которую часто повторяют в телепередаче «Очевидное невероятное», меня здорово тревожила. Что мы знаем о нашем мире? Крохи! Сколько еще научных истин не открыто! А вдруг моей коллекцией как раз и распоряжается неоткрытая истина! Вьет из меня веревки, хотя у нее названия даже нет. Навстречу мне шел усатый мужчина, торопился, пот со лба платком утирал. Бедняга думал, что торопится по своей воле, а на самом деле его какой-нибудь Адреналинчик, которого он и в глаза не видел, кнутом погонял. Адреналинчик гикнул — мужчина наддал, перешел на бег, а я вдруг спохватился, что уж очень он похож на того, кто Высоким Смыслом мне представлялся. Я, конечно, понимал, что Высокий Смысл не может быть человеком, и все же смотрел вслед мужчине, пока он не свернул за угол. А что, если Высокий Смысл не суеверие, а неоткрытая истина? Ведь уверен же Геннадий Матвеевич, что он руководит его жизнью. Я решил, что от Высокого Смысла нельзя отмахиваться. Это гораздо страшней, чем трахнуться головой о ступеньку,— этот не пожалеет, в штопаном бельишке заставит ходить!
Дома у меня произошел разговор с папой. Оказывается, Петя Баш ему звонил.
— Почему ты мне ничего не сказал? — спросил он.
— Откуда мне знать? — ответил я.— Адреналинчик не захотел. Ты не будешь меня уговаривать совершать бессмысленные поступки?
— Нет. Запирай свои марки и давай мне ключ.
Я запер тумбу стола и отдал ключ папе.
— Мне кажется, я понимаю, в чем дело,— сказал он.— У тебя чувство вины. Ты слишком много нехороших поступков совершал последнее время. Особенно по отношению к бабушке...
О своих нехороших поступках по отношению к бабушке
461
я ничего не знал. Оказалось, что я отношусь к ней неуважительно, как к девчонке на побегушках, понукаю ею и никогда не стараюсь ей помочь. А сейчас, объяснил папа, мне захотелось искупительной жертвы, вот я и готов расстаться с самым сильным своим увлечением. Видно, папа как следует обдумал «ситуацию». После того как он обдумает, он всегда говорит что-нибудь невероятное. Но сейчас его гипотеза мне показалась интересной. Я решил, что «искупительную жертву» тоже не стоит сбрасывать со счетов, тем более что папа привел мне множество примеров из исторического прошлого и из произведений литературы: людям свойственно так поступать. Он предложил мне очень простой способ избавиться от навязчивой мысли: сунул мне в руки щетку и полотер и сказал:
— Помоги бабушке — и ты себя почувствуешь гораздо лучше.
Я убрал в квартире и минут десять после этого думал о том, помогло мне это или не помогло. Так сразу нельзя было определить. По-видимому, это выяснится позднее.
В доме уже все знали о том, что со мной произошло. Дед считал, что на меня кто-то оказывает дурное влияние, бабушка — что меня кто-то сглазил, а мама — что я все придумал, чтобы только не делать уроки.
— Настал момент! — сказала мама и принялась убирать вещицы с моего стола.
Я отнесся к этому безучастно, и у мамы это вызвало подозрение. Она сказала, что догадывается, о чем я думаю: о том, что потом все поставлю на место. Мама заперла мои вещицы в сервант.
— Господи, как все просто! — сказала она и принялась мною повелевать: проверила дневник и тетради, велела вытряхнуть из портфеля все лишнее, осмотрела меня тщательно, как наш сосед этажом ниже осматривает свои «Жигули», обнаружила что-то в ушах, что-то содрала ногтем на спине, велела мне принять душ, а потом раскричалась, почему это я ее до сих пор не поцеловал.
Я ее поцеловал, и она сказала:
— Не подлизывайся! Садись за уроки.
Когда я учил геометрию, позвонил Сас. Оказывается, он забыл мне сказать очень важное: возможно, все дело в обыкновенной сублимации. «Еще одно!» — подумал я и спросил:
— Сас, а что это такое?
462
— Допустим, тебе хочется сделать что-то непозволительное, но это настолько непозволительно, что даже думать об этом ты боишься. И вот ты вместо этого делаешь что-нибудь другое, позволительное.
— Сас,— спросил я,— а нельзя ли это сублимировать, как ты считаешь? Дарение коллекции. Сделать что-нибудь другое, более позволительное?
Сас ответил, что всегда изумлялся моей хитрости и изворотливости.
Мои страхи почти прошли. Было ясно, что положение не такое уж страшное. Правда, у меня перестали бегать глаза и что-то, конечно, странное со мной происходит, но ведь всему можно найти объяснение. Оно обязательно найдется. Я был уверен, что даже с Высоким Смыслом при желании можно сладить. Ко мне опять прицепилась Шпарагина песенка «Весел я...». Мне не хотелось больше от этой песенки отделываться. Я расхаживал по комнате, напевая. «Все чепуха,— думалось мне.— С какой это стати я столько страхов нагородил! Неужели это всерьез?» Но тут же спохватился, что походка у меня уже далеко не дербервилевская. Я лег спать со смешанным чувством успокоения и тревоги. «Ого, как они во мне смешиваются! — подумал я, засыпая.— Хиггинс бы меня понял».
Дальше пойдет описание моего второго страшного сновидения.
Я увидел Адреналинчика, выходящего из нашего парадного. Под мышкой он тащил мою коллецию и, заметив меня, смутился. Он оказался неплохим малым. «Я тут ни мри чем,— сказал он.— Честное слово! Высокий Смысл приказал».— «И ты позволяешь этому гаду вить из себя веревки?!» — сказал я. «А что делать? — ответил он.— Ты себе представить не можешь, какой это деспот. Никто не хочет с ним связываться». Из парадного один за другим вышли гормончики: Зеленый, Желтый и Красненький. Зеленый тащил большущий тюк — все мои одежки. Желтый — в плетеной корзине, которая у нас на чердаке валялась,— мои любимые вещи, те, что я держал на столе. Красненький был совсем махонький, препротивный и с невероятной прыгучестью. Он тащил мой второй дневник: подпрыгивал, гримасничал и отпускал прибауточки: «А что бы нам с этой вещью сделать? А какую бы нам пользу из нее извлечь?» — «Жрите меня! — сказал я.— Забирайте тоже с собой!» — «А на фига ты нам нужен?» — сказал
463
Зелененький. «На кой ляд ты нам сдался!» — подхватил Желтенький. Подъехала синяя «Лада». За рулем сидел все тот же препротивный тип, похожий на Мишеньку. «Вредность приехала!» — завопили гормончики и начали размещаться и втаскивать мое добро. Адреналинчик тоже сел в машину. «Постараюсь что-нибудь сделать для тебя»,— сказал он, высунувшись в окошко. Вредность высунулся в другое окошко, закричал: «Мечты сбываются!» — захохотал и нажал на сигнал. Раздался крик из фильма ужасов. Они укатили, а я проснулся.
Я пошел на кухню и приготовил себе лекарство от страшных сновидений. Но, видно, я принял слишком большую дозу — мне совсем расхотелось спать. Я вернулся в свою комнату и включил свет. Мой письменный стол очень уж непривычно выглядел без моих любимых вещиц. И хотя я прекрасно разбираюсь, где сновидения, а где явь, я все же решил, что не лишним будет проверить, на месте ли мои одежки. Я раскрыл створку шкафа — все было на месте. «Подумать только, что они со мной делают!» — разозлился я. Я решил, что должен немедленно по всем правилам науки разобраться. Только наука может мне помочь!
Я принялся за дело: отсчитал от печки пять шагов, провел красным мелком черту, вернулся к печке и стал двигаться к черте, приставляя пятку одной ноги к носку другой. Когда обе мои ноги переступили черту, я уже знал, каким методом нужно вести исследование.
На шкафу у меня лежали свернутые в рулон два ватмана. Я достал их со шкафа и один из них разложил на столе и приколол по краям кнопками.
Когда утром выяснилось, что я отказываюсь идти в школу и никого в комнату не впускаю, в доме поднялся переполох. Мама говорила:
— Я еще вчера догадалась, что он что-то задумал.
Папа возражал:
— Не нужно все время подозревать человека в хитростях.
Дед допытывался через дверь, с кем я теперь дружу. А бабушка причитала и повторяла, что знает, кто меня сглазил. Я велел поставить мне еду под дверь и всем идти по своим делам. Тут бабушка начала кричать на деда, чего это он стоит. Дед умчался. Потом выяснилось, что он вызвал ко мне невропатолога — одного своего довольно большого приятеля.
464
Я уже закончил подготовительную работу. Я разграфил оба ватмана и внес нужные записи в каждую из колонок. На одном ватмане я записал имена или фамилии людей, которым мне могло прийти в голову что-то доказать. На всех, конечно, колонок не хватило, и все же набралось шестьдесят девять, не считая одной вагоновожатой, которой я уже давно кланяюсь по-дербервилевски. Ее мне очень хотелось вписать, но где было взять место? Я решил ее держать в уме. Я уже знал, что хотел ей доказать: что я парень о-го-го, рубаха-парень, весельчак и вообще что надо. На другом ватмане колонок было поменьше; первым шел Адреналинчик, дальше гормон- чики, Высокий Смысл, сублимация, ушиб головы, искупительная жертва, положительные и отрицательные эмоции и гены. Я оставил место, потому что был уверен, что этим не ограничится.
Я приступил к работе над первым ватманом. До чего же дело оказалось трудным! Кто бы мог подумать, как много всего я пытался доказывать людям. Одним я доказывал, что я самый добрый, другим — что самый веселый. Третьим — что я гад: мне нравилось их злить. А кому только я не доказывал, что самый умный! Горбылев- скому я как-то доказывал, что умею далежо плевать. Многим доказывал, что бегаю быстрей всех. И не было ни одного человека из шестидесяти девяти, кому, бы я не доказывал, что я получше его во всех отношениях! Некоторым я доказывал, что наш дом не то, что у других; некоторым — что мой папа хоть и без машины, но с темой; некоторым — что могу проскакать на одной ноге от школы до дома; одному я доказывал, что у меня ноги толще, чем у него, другому — что у меня ноги тоньше, чем у него,— всего не перечислишь! Все колонки были заполнены, но я и сотой части не записал. Мне было ясно, какую грандиозную работу я на себя взвалил. Я велел бабушке принести мне обед и поставить под дверь.
Пообедав, я сообразил, что неправильно организовал работу. Я взял пачку бумаги и начал составлять картотеку. В нее я включил и вагоновожатую, и одну рожу, которая вечно торчит в окне и начинает кричать «бандит», как только меня замечает,— этой роже я много чего доказывал. Теперь я решил не торопясь заняться каждым в отдельности.
Первой я почему-то придвинул к себе карточку Светы Подлубной. Дело пошло: я ей доказывал, что я умный,
465
красивый, обаятельный, смышленый, смелый, решительный, ловкий, что умею ходить на руках, танцевать на заднице, передразнивать учителей за их спиной, ходить по карнизу, валять дурака, обижать дохляков, кидать в прохожих снежками, подшучивать над милиционерами, исполнять мелодии при помощи носа,— но хватит. Главное, вот что мне открылось: я в то же время старался ей доказать, что я совсем не то, что она обо мне думала. Это открытие меня огорошило. Я сразу почувствовал себя усталым и без пререканий впустил в комнату нового специалиста.
Довольно большой приятель деда ворвался ко мне, как маленький ураганчик. Он поигрывал пальцами, прищелкивал и старался мне доказать, что он заранее все понимает и такой весельчак, что мы на славу повеселимся. Никто ничего еще сообразить не успел, а Ураганчик уже пронесся по комнате, задержался у стола, почитал мои бумаги и сказал:
— О! Хорошо!
Я разделся до трусов и спросил, хватит ли ему двадцати минут.
— О! Прекрасно! — сказал он, рассматривая, каков я в трусах.
Бабушка начала икать. Дед смахнул слезинку, мама смотрела на меня с недоверием и все пыталась понять, что за подвох я устраиваю. Один папа не обращал внимания ни на меня, ни на Ураганчика, сидел за столом и с мечтательной улыбкой читал мои бумаги.
Бабушка опять начала причитать: она знает, кто меня сглазил, и, если что случится, пойдет и размозжит голову этой мерзавке. Ей сказали, что она мешает, и выставили из комнаты. Ураганчик кивнул на дверь, за которой она все еще причитала, и подмигнул мне. Он спросил, в какие я игры люблю играть.
— Мало ли в какие,— ответил я.— Сейчас мне не до игр.
— Он играет в какого-то англичанина,— сказала из-за двери бабушка.
Ураганчик спросил, не ученый ли этот англичанин. Я ответил:
— Нет, просто разносторонне одаренный человек; ученый — другой англичанин, Хиггинс.
— Ну что ж,— сказал Ураганчик,— и это неплохо.
Он начал меня осматривать. Он ухитрился при этом
466
щелкать пальцами, пощипывать меня, шутить, и смотрел он на меня вот так: я же обещал, что будет весело. Он меня осматривал сидящим на стуле, лежащим на диване, он меня осматривал стоящим с вытянутыми руками, с открытыми и закрытыми глазами, он осмотрел мне темя и пятки.
Я сообщил ему, что ударился головой. Он спросил:
— Давно? Не тошнило? Не было ли рвоты? Каким местом ударился? Подумаешь,— сказал он.— Велика важность! — Сел за стол и отодвинул в сторону мои бумаги.— Сейчас я вам выпишу бром,— сказал он,— для бабушки. Но если вам очень хочется, то можете и внуку немного давать. Некоторая повышенная возбудимость. Вообще очень интересный пациент. Но должен вас огорчить: совершенно здоровый. Только ведь нормы здоровья у каждого свои. Вы этого не считаете? — спросил он деда.— Вот если бы с вами такое случилось, то я бы сказал, что вы немного не в порядке. Хочу обратить ваше внимание: художническая натура — вообразит и
сразу же поверит. Скорей всего, он начал играть в другую игру. Вот увидите! Вы не представляете, до чего у них гибкая психика.
Папа уже обдумал «ситуацию» и сказал:
— Мы все играем в какую-нибудь игру. Но кто ответит, где кончается игра и начинается жизнь?
— О! — сказал Ураганчик.— Да! Да! Да! — Он чуть было не забыл дописать рецепт.
Мама спросила:
— В школу вы ему ходить не запрещаете?
— При его состоянии здоровья это просто необходимо.
Он взглянул на меня: правда, весело было?
— Прошу прощения, что всех вас огорчил! — Он пронесся по квартире, и скоро я услышал, как он прошелестел в листьях акации за окном.
Все удалились на совещание, а я взял со стола карточку Светы Подлубной и как был, в трусах, уселся в кресло. Я долго изучал полученные результаты и кое-что еще записал.
Что-то мне подсказывало, что я влюблен в Свету. Я решил это, не откладывая, проверить своим очень надежным способом. Мое увлечение наукой захватывало меня все больше.
Я позвонил Сасу.
— Сасушка,— сказал я,— ты знаешь, мне нравится мое легкое недомогание. Марочки мои в надежном месте,
468
а лечением своим я решил заняться сам. Снабди меня литературой.
Сас ответил, что теперь-то он не сомневается, что я нездоров. Он мне стал внушать, что самолечение при таких заболеваниях пагубно сказывается.
— Брось,— сказал я.— Тебе просто хочется меня лечить! Но я не уступлю. Если ты меня снабдишь литературой, я буду с тобой советоваться.
— Удивляюсь твоей хитрости,— сказал Сас.— Ладно, ты получишь литературу.
О том, как я был пропагандистом чтения и вслед за тем, продолжая заниматься исследовательской работой,
обзавелся родным человеком
На ватмане появилась новая колонка: влюбленность. Я знал, что во влюбленном состоянии человек совершает самые невероятные поступки. Я вспомнил, как бывший телефонщик Сероштан, влюбившись в Ирку Капустину, начал есть в большом количестве мел. Он ел его только тогда, когд Ирка на него смотрела, в остальное время был нормальным человеком. Припомнились мне и другие случаи — из литературы. Особенно интересным был случай про одного влюбленного, который влезал на деревья в парке и очень сожалел, что не может немедленно прыгнуть с парашютом. Этот же влюбленный дал одному человеку пять рублей только потому, что человек попросил у него на трамвай. Ясно было, что во влюбленном состоянии люди склонны к безумию и ужасающей, преступной щедрости.
Пора уже было заняться чтением литературы, чтоб подготовиться к разговору со Светой Подлубной. Во время этого разговора я и выясню, влюблен я в нее или нет.
Я знал, что некоторые люди с темой работают в библиотеке. Мне не хотелось от них отставать, я решил просмотреть несколько номеров журнала «Наука и жизнь» в читальном зале.
В библиотеку я решил идти дворами. Я знаю дорогу дворами от начала нашей улицы до самого нашего дома. Кое-где надо в дыры протискиваться, перелезать через ограды; собаки лают, кошки шарахаются, люди из окон и с балконов смотрят на тебя: что за человек?
В одном из дворов я надолго задержался: у основания ограды там была навалена большая куча макулатуры —
469
наверно, жильцы для школьников нанесли: журналы «Вопросы философии» и «Вокруг света», книжки с обложками и без обложек, исписанные тетради. Все это могло вполне заменить библиотеку. Я начал рыться, перелистывать и решил прочесть статью в журнале «Вопросы философии». Статья оказалась интересной. В ней высмеивался то один философ, то другой: все они ни шиша не понимали, но тщились доказать, лезли в философию со своими* буржуазными представлениями. Особенно досталось одному буржуазному апологету, который не хотел признаться, что он защитник капитала. По-моему, после этой статьи апологету только одно остается: бросить философию и заняться общественно полезным делом. Я эту статью читал с шариком в руке, как читают папа и Леня Сас. Смешные места я подчеркивал. Не было, наверно, в доме человека, который бы с балкона или из окошка хоть раз не взглянул на меня и не подивился моей любви к чтению. Один пенсионер вышел на балкон на минуту, но, как только увидел меня, велел внучке принести себе меховую безрукавку, уселся на стул и уже не спускал с меня глаз; на другом балконе мама сказала сыну:
— Вот видишь, как мальчик читает, а тебя книжку не заставишь взять.
Кончилось тем, что она своего сына отлупила за то, что он целый день без дела слоняется.
У нас большущая библиотека. Дед может достать любую книгу, хоть Жорж Санд, хоть «Библиотеку приключений». Раньше папа ему записывал, в каких еще книгах дом нуждается. Но однажды он взглянул на наши книги и сказал:
— Мне этого не прочесть за всю мою жизнь.
После этого он перестал просить деда доставать книги. Мне он частенько говорит:
— Почему ты так мало читаешь? Если б в твоем возрасте у меня было столько книг!
Я отвечаю, что люблю только английские книги: «Остров сокровищ», «Лунный камень», «Собаку Баскервилей». Но и английские книги я читаю лишь иногда, когда с телефонщиками рассорюсь. В остальное время мне хватает своих историй — про Дербервиля. Если бы все эти истории записать, то получилась бы книга потолще «Лунного камня».
Я кончил читать статью и записал в дербервилевский блокнот два интересных слова: «квазитеория» и «квинтэс¬
470
сенция». Может быть, Света Подлубная тоже интересуется этими вещами, тогда хороший разговор получится. Но только вряд ли: она специалист по журналу «Наука и жизнь».
Чтобы жители дома не подумали, что я не такой уж хороший читатель, я решил прочесть еще что-нибудь. Выбрал книжку без обложки, перелистал и наткнулся на того самого «Ревизора», которого мы ставили. Я стал искать в этой книжке рассказ от первого лица: когда человек сам о себе рассказывает, то, по крайней мере, знаешь, что он жив останется. От первого лица нашлась одна история, но она была о сумасшедшем. Я не чокнутый, чтоб такое читать. Я решил прочесть историю с непонятным названием «Вий».
Сразу же стало ясно, что добром здесь не кончится. Хоть писатель и шутил, но чувствовалось: что-то он приготовил. Мне понравилось, как бурсак рыбу стащил, а когда ведьма уселась на него верхом, вот тут уж я решил быть начеку, а то еще, чего доброго, и со мной то же самое случится. Мне, правда, не очень понравилось, как бурсак себя вел после того, как ведьма превратилась в красивую девушку. Тут, по-моему, он должен был удивиться, помириться с ней, влюбиться в нее и уговорить перестать заниматься колдовством. Но он этого не сделал и поплатился. Никогда еще мне так славно не читалось, я только вздрагивал, когда мне казалось, что ко мне подкрадывается нечистая сила. Человек, которого наказала мама, бросал в меня с балкона огрызками яблок — я не обращал внимания. Страшно окончилась эта история! И зачем он поднял глаза? Ведь его же кто-то предупредил: «Не смотри!» Надо было послушаться. Бестолковый. Одно утешение: все эти ведьмы и колдуны тоже погибли.
Во дворе появилась дворничиха и стала меня просить, чтобы я унес все эти книжки и журналы, раз они мне так понравились. Я взял стопочку «Вопросов философии», перетянутую шпагатом, и свою любимую книжку.
— Остальное,— сказал я,— потом заберу.
Я надул дворничиху. Да и неизвестно было, дворничиха ли она. Может, тоже ведьма. Хотел бы я знать, зачем ей метла понадобилась? Я обошел ее стороной, чтоб она не могла вскочить на меня верхом. Уже темнеть начало, и ей вполне могло прийти такое в голову.
На улице мне встретился парень, очень похожий на того бурсака, который так глупо погиб. Старинная церквушка,
471
мимо которой я хожу каждый день, оказалась той самой — это в ней все случилось, поэтому там и устроили овощную базу. Я понял, что по улице надо ходить с оглядкой и не встревать в разговоры. Я еще раз пожалел, что атеистическое воспитание в нашей школе поставлено скверно: стоит человеку прочесть хорошую историю — и он уже во власти суеверий.
Я позвонил Свете Подлубной. Мне было трудно объяснить, чего это вдруг мне вздумалось с ней встретиться. Я повторял:
— Нужно поговорить, понимаешь?
— О чем?
— Увидишь,— сказал я.— Об интересном.
— Ладно,— сказала она,— раз ты так хочешь. Только смотри не затевай ничего такого... Я ведь тебя знаю, Быстроглазый.
Она расхохоталась, когда увидела меня с моей любимой книжкой и стопкой журналов.
— Что это значит? — спросила она.— Ты очень странный последнее время.
Я объяснил:
— Вот шел и увидел: хорошая литература валяется.
— Все равно странно. Предупреждаю: если ты опять начнешь по-английски, я уйду.
— Да нет,— сказал я.— Просто поговорим об интересном.
Я повел ее в скверик, что возле той самой церквушки, в которой нечистая сила погубила бурсака.
— Какая все же интересная литература у нас валяется,— сказал я и стал рассказывать об апологете капитала, который решил философией заниматься, но не шиша в ней не смыслит.
Света очень заинтересовалась, спросила, где этот апологет живет.
— Может быть, все-таки его нужно подучить,— сказала она.— Нельзя же сразу на общественно полезные работы только из-за того, что он апологет.
Я согласился. Когда человек доброе говорит, с ним приятно соглашаться. Я рассказал, какая история приключилась с бурсаком, сказал, что мне жаль было ведьму, когда она превратилась в красивую девушку. Света поняла, что я тоже в доброте разбираюсь.
— Ты правильно рассуждаешь,— сказала она.
Я подумал: «Пора проверять» — и приступил. Все по¬
472
лучилось замечательно: она входила в наш дом, как входит мама — расстегивая пальто на ходу и улыбаясь; она почесывала нос, за который я ее когда-то дернул — давно, когда мы были еще детьми. Я присмотрелся к квартире: наша.
— Что ты так на меня смотришь? — спросила Света.
Передо мной сидел родной человек. Я в этом не сомневался. Это такая редкость: родные люди на улице не валяются. Родного человека надо хватать и тащить в дом. Лучше бы прямо сейчас. Но ведь она еще не понимает, что будет моей женой.
— Да что ты так на меня смотришь? Перестань!
— Хорошо,— сказал я.— Я не смотрю, я задумался. Вот я записал интересные слова — «квазитеория» и «квинтэссенция». Ты что-нибудь в этом смыслишь? Давай поговорим.
Но она в этом не разбиралась. Она сказала:
— О пульсарах — пожалуйста. Или, если хочешь, о загрязнении атмосферы.
— Ладно,— сказал я.— Начинай.
— Нет, ты начинай. И не смотри на меня так. Ты что, загипнотизировать меня хочешь? Имей в виду: я еще не совсем тебе доверяю.
— В сущности,— начал я,— если вдуматься, в смерти нет ничего трагического...
Я и сам не понял, как это получилось. Все дело, наверно, в том, что мне припомнилась замечательная тема из второй части концерта Сен-Санса. И я пересказал ей наш разговор с Сен-Сансом, который мы вели, когда я в последний раз навестил Геннадия Матвеевича: откуда-то травка взялась, голубое небо и две тучки. Тучки я припомнил — это были те самые, которые украшали небо в филателистический праздник,— опять их начало размывать, сквозь них просвечивала синева, и очень жаль, сказал я, что они скоро исчезнут, потому что, хотя и другие тучки появятся, но таких уже не будет. Удивительно грустно выходит: были тучки — и нет, но тогда откуда же берется радость?
Теперь уже она смотрела на меня не отрываясь.
— Быстроглазый,— сказала она.— Ты совсем не такой, как я думала. Ты так хорошо в музыке разбираешься.
— Пустяки,— сказал я,— два года занимался с учителем. И потом, дома у нас регулярно концерты. Но главное, мы с Геннадием Матвеевичем два раза в месяц прослушиваем что-нибудь новое и обсуждаем. Этот чело¬
473
век ко мне очень привязан.
Я решил, что не лишним будет при случае показать Свете паркеровскую ручку и объяснить, как она мне досталась. Я сказал:
— Теперь уж ты на меня смотришь.
— Быстроглазый,— сказала Света,— а ну-ка признавайся! Ты прикидывался пронырой, да? Разыгрывал всех? Я же знаю, ты любишь такие шутки. Я поняла это: мне один человек много интересного о тебе рассказал.
Я бы мог ответить: «Разыгрывал», но мне не хотелось врать. Я знаю правило: родному человеку не врут. Но не мог же я ей сказать, что сам не понимаю, что со мной. Только догадываюсь: что-то во мне переменилось, самому удивительно и страшновато. Света сама догадалась.
— Нет,— сказала она.— Этого не может быть. Просто тебе надоело быть несерьезным. Такое случается. То же самое произошло с принцем Генри. Ты читал Шекспира? Ему надоело быть несерьезным — я так радовалась за этого человека! — Она поежилась.
Я снял пиджак и накинул ей на плечи: пора было начинать заботиться о родном человеке. Я проводил ее до самого парадного. Мне подумалось, когда мы прощались, что нужно бы ее чмокнуть в щеку, а то прощаемся, как чужие. Но я удержался, и, по-моему, правильно поступил: она же еще ничего не понимает — начнет нервничать, а это ни к чему. Я просто пожал ей руку и ушел.
Вечер стоял по-настоящему осенний, темень сливалась вверху с беззвездным небом, фонари светили как будто только для себя, не позволяя теплому и светлому растекаться, прохожие выныривали и погружались, и приглушенно доносилось из какого-то окна музыкальное размышление на четырех инструментах о том, что радость обманчива, но и горести тоже недолговечны. Я не знал, кто это со мной заговорил — Шуберт ли, Сен-Санс? Я поддакивал, кивая головой, хотя и недоумевал: что за разговор такой? Странно. Самое время было исполнить мне песенку: «Видно, я любимую нашел...»
С&^ТА
474
Но когда я пришел домой, я понял, что меня подготавливали. Дом наш был потрясен и находился в полуобморочном состоянии: полы на кухне сами собой скрипели, пахло корвалолом, каплями Зеленина и еще каким-то лекарством, которого в нашем доме раньше не потребляли. Дед сидел у стола, пригвожденный к стулу какой-то нестерпимой мыслью; мама расхаживала от двери к окну, и всякий раз, когда она делала разворот у окна, бабушка в соседней комнате горестно вздыхала. На столе лежали раскиданные листки — я их сразу же узнал: те самые, папины, то, что он вместо темы печатал. Папы не было.
В эту ночь он не ночевал дома.
Утром мама начала обзванивать наших приятелей, чтобы выяснить, не заночевал ли папа у кого-нибудь из них. А я еще раз перечитал то, что папа напечатал на машинке, и мне опять понравилось. Я аккуратно сложил листки, заколол их скрепкой и спросил маму:
— Неплохо, правда?
— Ты считаешь,— спросила она,— что человек в его возрасте может себе позволить такие шуточки вместо диссертации?
Здесь я прерываю рассказ о папином исчезновении и его поисках, потому что настало время рассказать...
О лопушандцах и барахляндцах
В тридцать пять лет папа добился самой большой ло- пушандской удачи. Нужно было видеть, как этот удачливый человек выбежал из шахматно-шашечного клуба, перешел улицу и купил в табачном киоске две сигареты. Одну из них он сразу же выбросил, а другую прикурил у человека очень неудачливого, с синяком под глазом и в стоптанных туфлях. Потом мы с папой быстро шли по улице, хотя нам некуда было спешить,— нас подгоняла удача. Это был день, когда папа стал чемпионом области по стоклеточным шашкам и когда он начал печатать на машинке, купленной дедом.
Мы встретили трех дедушкиных приятелей: двух больших и одного большущего. Каждому из них я рассказал о нашей удаче.
Первый большой приятель деда засомневался, удача ли это. Он поглядывал на папины новые красивые туфли и рассказывал о своем сыне, который в шашки не играет,
475
диссертаций не пишет, а зарабатывает в три раза больше папы. Он поинтересовался, сколько папе заплатили за нашу удачу. А когда узнал, что за лопушандские удачи ничего не платят или платят самую малость, даже как будто обрадовался и спросил, где папа купил такие туфли.
Второй большой приятель деда тоже задал вопрос:
— Сколько вам за это заплатили?
Но он не обрадовался, как первый, а огорчился и утешил папу. Он тоже все смотрел на папины туфли, что-то соображал и наконец закинул удочку: не может ли дед и ему такие же достать?
Третий — это был большущий приятель деда,— глядя на папины туфли, сказал:
— Я слышал, за это дело не платят. Но зато в газете заметка будет. Не забудьте показать на работе.
Он так и не посмотрел на нас: не мог оторвать глаз от туфель. Когда мы распрощались с большущим приятелем деда, я понял, что надо было хвастаться не лопушандской удачей, а туфлями.
Дома папа заперся в комнате, отведенной для темы, и мы услышали, как застучала машинка. Все подумали одно и то же: дело пошло!
На следующий день я порылся в папиных бумагах и нашел историю, которая называется
Барахляндия
Барахляндия — самая странная из планет нашей галактики: там я лишился всех своих одежек, но зато приобрел многих друзей.
Однажды я получил радиограмму от своего старинного друга Коротышки Чу. (Это не кто иной, как знаменитый путешественник Николай Чуркин. Но все мы, его друзья, называем его Коротышкой Чу, поскольку считаем, что его фамилия для него слишком длинная.)
«Дружище Егоров! — говорилось в радиограмме.— Я не могу покинуть Барахляндию. Пожалуйста, помогите мне. Я не хочу официально просить о помощи, иначе о случившемся станет известно моей жене...»
Через шесть дней я посадил свой ракетолет рядом с ракетолетом Коротышки Чу. Я ступил на Барахляндию: планета как планета. Справа виднелись барахляндские го¬
476
ры со снежными шапками, слева — барахляндский город с довольно высокими строениями; ноги мои ступали по ба- рахляндской траве, а в нескольких метрах от меня пролегала дорога, на вершок покрытая пылью, с канавами по обеим сторонам. В одной из канав я обнаружил Чу. Вид его был ужасен: худой, небритый, грязный, он спал, свернувшись калачиком, как бездомная кошка... Тут же, в канаве, стояла рация.
Я стал будить Чу. Он долго не просыпался, мычал. Когда же наконец проснулся, то бросился в мои объятия с восклицанием:
— Ах, это вы, дорогой Егоров!
Мы уселись на краю канавы. Чу сейчас же спросил, не найдется ли у меня чего-нибудь поесть. Я дал ему бутерброд, который захватил на всякий случай. Чу с жадностью набросился на еду, бормоча, что уже больше недели питается кислыми барахляндскими ягодами.
— Чу,— спросил я,— почему вы не запаслись провизией?
— Она в ракетолете,— ответил он.— Погодите, я доем и все объясню.
Он быстро управился с бутербродом, попросил у меня флягу, напился. Он сказал:
— Егоров, я не должен был вызывать вас на эту планету: вчера мне стало ясно, что отсюда невозможно выбраться. Идемте, вы сейчас все поймете.
Он подвел меня к своему ракетолету, здесь я увидел барахляндца, который сидел на траве и держал правую руку на винтовке.
— Привет тебе, почтенный барахляндец! — сказал я, как требовал межпланетный обычай.
Барахляндец ничем не обнаружил, что услышал мое приветствие.
— Этот человек... простите, барахляндец,— начал объяснять Чу,— поставлен здесь для того, чтобы не впускать меня в ракетолет... пока я не обзаведусь на Барах- ляндии друзьями. Барахляндцы называют свою планету планетой дружбы. Они свято чтут старинные обычаи, и в дальнюю дорогу на этой планете имеет право отправиться лишь тот, кого провожают друзья. Определенное количество, заметьте, Егоров.
— Чу,— спросил я,— вы, надеюсь, узнали, сколько должно быть друзей? Я думаю, что на планете дружбы не так уж трудно будет подружиться.
477
Чу рассмеялся нервным смехом много испытавшего человека.
— В том-то и дело, Егоров,— сказал он,— что я не встречал еще разумных существ, менее пригодных для дружбы. Стоит появиться в барахляндском городе, как они начинают обрывать пуговицы с твоей одежды и без конца выпрашивают что-нибудь. Они до того странные, что просят, чтобы я отдал им свои одежки, а сам остался в трусах. Я пробовал подружиться с некоторыми из них, заводил с ними дружеские беседы, но все мои попытки оканчивались одним и тем же: послушав меня немного, барахляндец просил, чтобы я ему подарил свои брюки, или куртку, или еще какую-нибудь вещицу. И в этих условиях, Егоров, каждому из нас нужно подружиться с шестью барахлян- дцами. Вот я составил список: чтобы отправиться в дальнюю дорогу, барахляндец должен быть провожаем приятелем, большим приятелем, большущим приятелем, другом, закадычным другом и старинным дружищем. А где взять старинного дружища и закадычного друга? На это. нужно время! Егоров, простите, что я вас вызвал сюда. Мы в безнадежном положении!
Я стал успокаивать Чу. Я говорил, что, конечно, обычаи этой планеты странны, но надо приглядеться к ним поближе.
— Давайте, Чу,— сказал я,— для начала попробуем обзавестись приятелем.
— Почтенный барахляндец,— обратился я к часовому,— не согласитесь ли вы стать моим приятелем?
На этот раз барахляндец меня услышал. Теперь он не отрываясь смотрел на мои туфли. Приятелем? Нет, черт возьми! Он хочет стать моим закадычным другом. Да что там! Старинным дружищем... Если, конечно, я подарю ему свои туфли. Я не подал виду, что слова его покоробили меня. Я снял туфли и отдал их барахляндцу.
— Вот видите, Чу,— сказал я,— положение не такое уж безнадежное.
Барахляндец сейчас же сбросил с ног свою барахлян- дскую обувь, надел мои туфли, потом он обнял меня, расцеловал и сказал, что никогда еще не было у него такого преданного старинного дружища. Я с изумлением увидел, что он прослезился. Ни один человек не в состоянии был бы выказать столько знаков дружбы: барахляндец улыбался, заглядывал мне в глаза, похлопывал меня, поглаживал, обнимал за плечи и еще объяснял, как нам обзавестись на
478
Барахляндии нужным количеством приятелей и друзей.
— О! Не беспокойтесь,— приговаривал он,— на Барахляндии знают толк в дружбе. У вас будет столько преданных друзей, сколько вам понадобится.
Я и не заметил, как растрогался — стал тоже заглядывать барахляндцу в глаза, похлопывать его, поглаживать и даже один раз чмокнул его в щеку, на что он мне ответил радостным и благодарным взглядом.
Скоро мы с Чу шли по дороге в направлении барах- ляндского города, держа каждый в руке листок картона, на котором барахляндскими буквами было написано:
ИЩУ ДРУЗЕЙ И ПРИЯТЕЛЕЙ ЗА ПРИЛИЧНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Едва мы вступили в барахляндский город, как нас окружило множество барахляндцев: они теснились вокруг нас, отталкивали друг друга, похлопывали нас, заглядывали нам в глаза и наперебой предлагали нам свою дружбу. Я заметил, что лишился двух пуговиц. Оставшиеся пуговицы я сам оборвал, смекнув, что они могут понадобиться для приобретения друзей и приятелей.
И вот мы с Чу стояли в одних трусах в окружении счастливо улыбавшихся нам барахляндцев — наших новых приятелей и друзей. Особенно радостно улыбался мой закадычный друг. Он то и дело подтягивал брюки, которые минуту назад были моими. Мне было немного совестно: брюки были широковаты ему в поясе. Я сказал своему закадычному другу об этом.
— Да брось ты! — ответил он.— Я их с радостью подтягиваю.
Барахляндцы сообщили, что теперь нам всем вместе нужно посидеть в трактире — так на барахляндии положено расставаться. Я сказал, что у нас с Чу нет денег.
— Нашел о чем беспокоиться! — ответили мне.
Мы направились в трактир «Дружба навеки». Наши новые друзья по очереди шли с нами в обнимку, показывали на нас прохожим и говорили:
— Посмотрите на этих благородных барахляндцев: для друзей они готовы снять с себя последнюю одежку.
Прохожие нам аплодировали. В трактире мы уселись за большим столом. На столе появилась одна из моих пуговиц, которую трактирщик смахнул в карман своего передника. Он принес нам еды и напитков. Мы славно провели время в обществе своих новых друзей. Мой за¬
479
кадычный друг- не один раз принимался плакать. Он говорил, что не может удержаться от слез, когда думает о том, что мы расстаемся навеки. Мне тоже взгрустнулось.
Мой большущий приятель неодобрительно поглядывал на старинного дружищу Чу. Он говорил, что это какой-то на редкость бесчувственный барахляндец: знай ест, пьет и хоть бы раз всплакнул. Старинный дружище Чу обиделся. Он сказал, что никому не видно, что делается у него здесь,— и ударил себя в грудь. После этого он так разрыдался, что все бросились его утешать, в том числе и мой большущий приятель. Я боялся, что тоже разрыдаюсь. Поэтому я налегал на еду и питье. Должен сказать, что это неважное средство от плача,— я все равно расплакался. Когда все было выпито и съедено, мы направились к ракетолетам. По дороге к нам присоединились еще несколько барахляндцев. Они кричали, что будут провожать нас просто так, бескорыстно. Они были взволнованы не меньше наших друзей. Один из них все время дергал себя за нос, а другой все приговаривал:
— Подумать только, навсегда!
Мой старинный дружище встретил нас у ракетолетов радостными восклицаниями, которые, однако, вскоре сменились горестными. Наши новые друзья совершили прощальный обряд: встали вокруг нас, взявшись за руки, покружились и спели: «Если за руки всем взяться, славный будет хоровод». В ракетолеты они внесли нас на руках, и те, кто пошел провожать нас бескорыстно, получили возможность выбрать себе что-нибудь на память. До сих пор не могу припомнить, кому из них достался судовой журнал. Все были в слезах, все махали руками и желали нам, желали...
А после отлета я загрустил. Только что вокруг меня было столько друзей, а теперь я был один в беспредельном космосе. Я включил видеофон.
— Егоров,— сказал Чу с экрана,— хорошо, что я записал их адреса.— И он высказал то, что обоих нас поразило в этой истории: — Я чувствую себя обманщиком, Егоров. За что меня удостоили дружбы эти простодушные люди? За поношенные одежки.
— Вот именно, Чу,— сказал я.— Нигде дружба не достается так дешево, как на Барахляндии. Вот увидите, скоро на Барахляндию хлынут всякие одинокие, несчастные обманщики в поисках грошовой дружбы.
Два дня мы предавались воспоминаниям о прекрасных
480
часах барахляндской дружбы, а на третий решили посетить Лопушандию, мимо которой как раз пролетали: уж очень нам не терпелось выслать нашим новым друзьям посы- лочку-другую одежек с инопланетными этикетками.
Я стал ждать, когда папа напишет продолжение этой истории, но папа долго не садился за машинку, хоть мама его и спрашивала:
— Ты что, уже все напечатал?
Тогда я, чтоб напомнить папе о незаконченной истории, положил на столе стопочку чистых листов бумаги — помогло. Новая история, как я и думал, называлась
Лопушандия
Лопушандия — планета гигантских лопухов и лопоухих гуманоидов со слабо развитым хватательным рефлексом. Дивясь безобидному и чудаческому виду этих существ, мы без всяких опасений вступили в лопушандский город и через несколько минут оказались с расквашенными носами: все время мы натыкались на что-то невидимое и всякий раз это сопровождалось до боли знакомым по детству ощущением, как будто нас кто-то ударял по носу кулаком. Мы задрали головы, как это делали в детстве после драки, и стали ждать, когда уймется кровь. Воспоминания о детстве переполняли нас.
Наконец мы перенесли наши взоры с лопушандских небес на лопушандскую улицу, мы старались проникнуть в тайну невидимых препятствий. Тут мы и обнаружили, что лопушандцы беспрерывно появляются и исчезают. Они имеют обыкновение собираться группами в скверах или прогуливаться небольшими скоплениями. И вот, вообразите, в какой-нибудь из компаний вдруг один из лопу- шандцез исчезал, некоторое время спустя — еще один, но, случалось, вместо исчезнувших появлялся новый, а то и два-три. Лопушандцы этого как бы не замечали или реагировали шуткой, боюсь, довольно избитой.
— Дружище,— говорил кто-нибудь только что возникшему из воздуха лопушандцу,— что это за грязная мысль, в которую вы от нас отлучались? Почиститесь.
Шутник доставал из кармана одежную щетку и протягивал смущенному лопушандцу, который только что был невидимкой. Щетка с благодарностью принималась, логлу-
16 Школьные соды. Выпуск IV
481
шандец чистил свою одежду, отшучиваясь словами в роде этих: «Дружите, разве можно узнать что-нибудь об этом мире, не запачкавшись!» Похоже, каждый лопушандец носил с собой щетку, чтобы можно было пошутить таким образом. Но это была не единственная странность этих лопоухих людей: кое-кто из них ходил в туфлях разного цвета, многие — в одежках наизнанку; мы видели лопу- шандца, впрягшего себя в тележку, в которой преспокойно лежал и жевал сено осел; один из лопушандцев средь бела дня ходил по улице с зажженным фонарем, а два его товарища лаяли тю-собачьи на прохожих, и прохожим это, представьте, нравилось. Лопушандские чудачества и странности можно было бы перечислять очень долго.
— Я, кажется, разобрался, Егоров,— сказал Чу,— в этом лопушандском феномене исчезновения: они погружаются в собственные мысли без остатка, они в них растворяются. Впрочем, почему бы нам не расспросить этих чудаков?
С предосторожностями, выставив руки вперед, мы приблизились к компании лопушандцев — ни один из лопушандцев не посмотрел в нашу сторону, но все они вдруг исчезли. Новая наша попытка кончилась тем же. Мы пытались вступить в контакт с лопушандцами часа полтора, мы устали, проголодались, но за все это время ни один лопушандец даже не взглянул в нашу сторону. Было ясно: с нами не желают иметь дела. Мы вспомнили, что у нас тоже есть гордость, и решили покинуть эту планету, но, конечно, не раньше, чем добьемся своего. Нам ничего не оставалось, как противопоставить холодному безразличию лопушандцев нашу горячую заинтересованность. Следующего невидимку, на которого я наткнулся, я ухватил за бока и стал трясти. Поскольку я его не видел, телефонная форма обращения показалась мне самой подходящей.
— Алло! — кричал я.- Алло! Вы меня слышите? Алло! Отвечайте!
Чу принялся мне помогать.
Результат был такой, как будто мы трясли куклу. В припадке лопушандоненавистничества я ущипнул невидимку на уровне своего бедра. Тогда-то. и состоялся первый контакт. Мы услышали жалобное «ой!», и лопушандец обнаружился вполне зримо, с гримасой боли на лице.
— Привет вам, почтенные барахляндцы! — сказал он-— Вот вам все мои пуговицы — и прошу меня не задерживать.
482
Лопушандец начал срывать с себя пуговицы и совать их в наши карманы.
— Вы довольны, не правда ли? — говорил он заискивающе, но в то же время и насмешливо.— Какой замечательный у нас получился контакт!
— Почтенный лопушандец,— сказал я,— за кого вы нас принимаете? Нам нужен обычный контакт, а не пуговицы.
— Обычные контактье,— сказал лопушандец,— не начинаются со щипков. И перестаньте, пожалуйста, прикидываться, что вы не барахляндцы! Скажите прямо, если вам еще что-нибудь нужно. Вот вам на память мой пиджак. Я понимаю: вам хочется подружиться бескорыстной бара хляндс кой дружбой!
Никто так, как лопушандцы, не владеет интонацией. Он нас припечатывал каждым своим словом. Издевка, брезгливость и даже некоторое сочувствие по поводу нашего ничтожества — все тут было!1 Вас явно оскорбляли.
— Я готов вас признать своими закадычными друзьями,— продолжал лопушандец. —* Но, прошу прощения, мне некогда. Уверен, что мои брюки вас утешат.— Лопушандец исчез, прежде чем мы успели его удержать, на тротуаре валялись брюки и пиджак.
— Почтенный! — закричал я.— Почтенный! Неужели вы откажетесь поговорить с нами хотя бы издалека?
— Дорогуша! — присоединился Чу.— Всего два вопроса! К тому же нам так хочется возвратить вам вещи!
Лопушандец сжалился. Ему, наверно, не хотелось целиком выбираться из своих мыслей: мы увидели только голову и правую руку, которая делала какие-то движения, не принятые у землян, возможно издевательские.
— На два вопроса я готов ответить,— произнесла голова.— Конечно, если вопросы не барахлиндские.
— Мы надеемся, что они не барахлякдские,— сказал Чу.— Ответьте нам, почему вы нас боитесь и почему вы решили, что мы барахляндцы?
— Лопушандць* ничего не боятся,— ответила голова высокомерно,— но мир полон нелепостей.— Здесь рука указала на нас: — Почему бы не уйти от них в сферу чистых размышлений? А ваша принадлежность к барах- ляндцам не вызовет сомнений даже у ребенка: у вас ни единой странности, а мысли в ваших глазах отливают безумным блеском. Как же тут не понять, что у вас на уме поступки нелепые и омерзительные, короче говоря, барах-
483
ляндские. Я прощаюсь, почтенные! — Голова вернулась к туловищу, некоторое время рука проделывала странные лопушандские движения, потом и она погрузилась в ло- пушандские мысли.
Высокомерие лопушандца меня потрясло: никогда еще со мной не обращались как с существом низшим.
— Чу,— сказал я,— нам следует проучить этих зазнаек! Они себя ведут так, как будто мы черт знает что! Я с мухой не позволил бы себе так обращаться!
— Успокойтесь, Егоров,— возразил Чу,— они такие, как есть. В конце концов, это их планета. Давайте-ка лучше подумаем, как вступить с ними в контакт, иначе наши барахляндцы останутся без подарков.
Мы уселись на разостланные лопушандские одежки и стали думать; мысли наши из серых становились разноцветными. Ни на какой другой планете я не встречал мыслей таких замечательных цветов и оттенков. Скоро они начали светиться: они собирались в громадные спиралевидные скопления и, похоже, уже существовали незави-. симо от нас. Наши мыслительные импульсы породили целые галактики чистейшего разума... или безумия. Надеюсь, мы не очень повредили Вселенной. Я так был увлечен, что забыл о голоде. Об этой низменной потребности мне напомнил симпатичный лопушандец, который начал неподалеку от нас кружить в непонятном волнении. У лопушандца была очаровательная странность: он носил на шее в виде ожерелья связку сосисок. Мы с Чу начали отвлекаться от строительства мыслительных миров.
— Егоров,— шепнул Чу,— не смотрите в его сторону: спугнете. Похоже, он хочет вступить в контакт, но не решается.
— Сосиски заберем, а самого отпустим,— сказал я, глотая слюнки.
— Вы забыли о контакте! — возмутился Чу.— Конечно, сосиски мы съедим. А с ним вступим в контакт. Смотрите, он уже готов заговорить!
И в самом деле: лопушандец не очень, правда, громко, смущенно, но и не без лукавства произнес:
— А я любопытен!
— Почтенный,— решился я,— не стесняйтесь, скажите, что вас заинтересовало?
— Ваши мысли, конечно. Они так аппетитно светятся в ваших глазах. Нельзя ли мне принять участие в вашем пиршестве?
484
— Насчет пиршества очень точно сказано! — похвалил я.— Приблизьтесь — и мы приступим.
— Разве я удаляюсь? — спросил лопушандец.— Я уже с полчаса приближаюсь. И да поможет мне Высокий Смысл, минут через десять надеюсь быть у цели.
Лопушандец подшучивал над собой, чтоб придать себе решительности. На нас он смотрел насмешливо. Небо и лопухи тоже, по-видимому, не заслуживали серьезного отношения, и на них лопушандец бросал насмешливые взгляды, пока приближался к нам. Я понял, что в затруднительных случаях лопушандцы покрывают себя броней иронии.
— Надеюсь, вы не возражаете? — спросил я, когда лопушандец уселся рядом с нами, и оборвал с его ожерелья первую сосиску.
— Такой странности я еще не встречал! — обрадовался
он.
Так мы подружились с первым лопушандцем. Его имя Лопух-в-канаве. Он познакомил нас со своими друзьями. Мы провели в обществе лопушандцев несколько незабываемых месяцев.
Любимое времяпрепровождение лопушандцев — разговоры об интересном. Лопушандец может говорить по нескольку суток подряд. При этом он в большом количестве потребляет бутерброды и пиво, так как теряет в весе по полтора килограмма в час, усиленно выделяя энергию, которая носит название трепкалории. На первых порах мы с Чу не могли выкроить ни минуты на еду. Говорить и жевать одновременно мы не умели, когда же мы не говорили, то сидели с открытыми ртами. Наши лопушандские друзья, видя, что мы превращаемся в скелеты, попросили знакомого учителя красноречия обучить нас трудному лопушандскому умению говорить жуя.
За разговорами мы чуть было не забыли о цели нашего прибытия на Лопушандию. Только через неделю мы выслали нашим барахляндским друзьям семьдесят замшевых курточек и столько же пар «Врангелей» — одежек, от которых барахляндцы без ума.
— Зачем? — укоряли нас.— Чтобы поощрять попрошайничество?
Но нашлись среди лопушандцев и сторонники нашей затеи. Эти лопушандцы надеялись, что большое количество подарков заставит барахляндцев задуматься над тем, как мало проку в приобретениях материальных. Через три дня
485
мы получили телеграмму: «Благодарим за скромные подарки, ждем новых контактов». Телеграмма эта вызвала хохот среди наших лопушандских друзей. Все пришли к единодушному мнениф: чего же еще ждать от барахляндцев?
Презрение, с каким лопушандцы относятся к барах- ляндцам, превосходит земные представления. О появлении барахляндцев в городе оповещают по радио, чтобы население могло уберечься от контактов с ними. Ничто не вызывает у лопушандца такой ужас, как барахляндские разговоры: послушав барахляндца, лопушандец заболевает болезнью, весьма напоминающей бурное помешательство и называемой барахляндит. На моих глазах один из наших лопушандских друзей заболел барахляндитом из-за одной вполне безобидной фразы, которую выкрикнул подвыпивший барахляндец:
— Слышь, кончай базарить!
Тщедушный наш лопушандец бросился на рослого барахляндца и сильнейшим ударом в нос сбил его с ног. Потом он заплакал, заламывая в тоске руки, и стал выкрикивать:
— Что он сказал! О Высокий Смысл, что он сказал!
Барахляндец, разумеется, не мог понять, за что его так.
Он обругал всех нас лопушандскими психами. К счастью, болезнь не всегда протекает так бурно. Чаще всего заболевший несколько часов подряд бессмысленно повторяет слышанные от барахляндца выражения, что-нибудь вроде: «Закругляйся трепаться», «Что ты хнычешь? Вот тебе твои бабки!», «Да брось ты обижаться — я тебя не надувал», при этом больной смеется смехом, который на Земле называют идиотским.
Чтобы избежать заболевания этой странной для землянина болезнью, на Лопушандии обнародована памятка «Как уберечься от барахляндита». В брошюрке этой советуется совершенно не вступать в контакт с барахлян- дцами, при их приближении погружаться в собственные мысли, в случае же, если барахляндец проявит «чрезмерную заинтересованность», рекомендуется нанести ему удар в нос средней силы — доказано, что это самый убедительный для барахляндца аргумент.
Из бесед с нашими лопушандскими друзьями мы узнали, что отношение барахляндцев к лопушандцам если не презрительное, то насмешливое. Барахляндцы любят употреблять выражения вроде: «Что ты разводишь лопушандские сложности? Действуй!» или: «Ну, брат, это все ло-
486
пушандская заумь!» Самая же оскорбительная для ба- рахляндца насмешка — «лопух». Этим словом шпыняют барахляндца, имеющего обыкновение по несущественным или малопонятным соображениям отказываться от поступков, которые могут принести выгоду. И тем не менее нет барахляндца, который бы не копил пуговок, чтобы «слетать к лопухам» и подружиться с каким-нибудь из них.
Поразительно, что и лопушандцы испытывают какую-то необъяснимую тягу к барахляндцам. Смущаясь, каждый из наших лопушандских друзей признался нам, что хотя бы раз в году он по секрету от всех отправляется на планету дружбы с портфелем, набитым пуговками, и большущим чемоданом одежек и не возвращается оттуда, пока «не спустит всего» со своими барахляндскими друзьями. В одних трусах он ходит с барахляндцами по трактирам, обнимается с ними, целуется, клянется им в вечной дружбе, и не было случая, чтобы кто-нибудь при этом заболел барахляндитом. Напротив, барахляндский образ жизни действует на лопушандца благотворно: он становится общительней, раскованней, приобретает способность «просто смотреть на вещи», короче говоря, проникается «дикарской мудростью». Некоторое время по возвращении с Барах- ляндии лопушандец живет затворником: он ждет, пока психика его придет в норму и восстановится лопоухость. Затем он возвращается к лопушандскому образу жизни, и встреться ему теперь барахляндец — он скроется от него в свои мысли из-за опасения заболеть барахляндитом.
Поразмыслив над всем этим, мы с Чу пришли к выводу, что :> ги две столь различные цивилизации — лопушандская и барахляндская — нуждаются друг в друге, чем-то дополняют одна другую и, пожалуй, существуя особняком, выродились бы. Правда, стоило нам поделиться этой мыслью с кем-нибудь из лопушандцев, как тот начинал нервничать: бросал на нас затравленные взгляды, пожимал с деланным равнодушием плечами, говоря: «Ну, знаете... Мы без них вполне можем обойтись».
Мы не заметили, как превратились в лопушандцев: с легкостью погружались в собственные мысли до полного телесного исчезновения и даже носили в кармане щетку. Как и всякий лопушандец, мы мыслили масштабами Вселенной, обеспечивая ее великолепнейшими спиралевидными построениями из чистейшего, не замутненного никакими низменными примесями разума. Мы ни на минуту не забывали, что служим Высокому Смыслу — этому боже¬
487
ству лопушандцев, которое, согласно их поверьям, пронизывает всякого мыслящего (кроме барахляндца) и осуществляет его связь в пространстве и времени со всем сущим, когда-либо существовавшим или тем, что появится когда-нибудь. Скоро мы пришли к пониманию своей миссии, состоящей в установлении гармоничных отношений между лопушандцами и барахляндцами, иначе невозможно было понять, зачем мы появились здесь, на Лопушандии. Проникшись духом Высокого Лопушандизма, радостным приятием всего живого, независимо от планетарного происхождения, семейства, вида, подвида, расы и национальности, мы не могли не осознать, как уродует лопушандскую душу презрительное отношение к барахляндцу. Мы по нескольку суток обсуждали с нашими лопушандскими друзьями все тонкости и сложности возникшей проблемы.
Никогда не забуду нашего разговора с Лопухом-у-до- роги, лопушандцем, прославившимся своими спиралевидными построениями фиолетовых и розовых тонов с восхитительными вкраплениями Высокого Смысла. Мы спро<- сили без обиняков:
— Не находите ли вы, что презрительное отношение к барахляндцу есть не что иное, как неосознанное желание скрыть свою заинтересованность в этом простодушнейшем из разумных существ?
— Да хранит нас Высокий Смысл! — воскликнул Ло- пух-у-дороги, хрустя в волнении пальцами.— Признаться, я тоже мучительно и подолгу об этом размышляю. Неужели за этим стоит наше корыстолюбие? Неужели мы заражены мелочными соображениями?
— Еще как! — ответили мы беспощадно.— Мы подогреваем в простодушном барахляндце страсть к вещам и попрошайничеству. И во имя чего? Нашей низменной потребности дарить материальные ценности!
— Это так! — горько согласился Лопух-у-дороги.
Он нам признался, что сам недавно раздарил портфель пуговок, анализируя при этом свое душевное состояние. Но это не самое страшное: ему стало известно, что многие лопушандцы понуждают барахляндцев совершать поступки, которые они сами совершить не могут. Вот только вчера его сосед, Лопух-под-солнцем, за три пуговки склонил одного барахляндца, чтобы тот обозвал его, Лопуха-у-до- роги, тупицей.
— Вы понимаете, что это значит? — спросил Лопух-у- дороги.— Это самая изощренная форма эксплуатации.
488
Мрачное подполье лопушандской души открылось мам. Мы тут же высказали сорок три соображения по поводу открывшегося. Лопух-у-дороги ответил двумя возражениями на каждое из наших соображений. Он упрекал нас в том, что, гонясь за истиной, мы забываем о Высоком Смысле. А в кого мы все превратимся, если перестанем поверять каждую нашу мысль Высоким Смыслом?
Мы дискутировали трое суток, выбрасывая пивные бутылки в сад через окно. Выяснилась какая-то общность наших позиций: и мы и Лопух-у-дороги сходились на том, что проблема эта очень сложная и что презрительное отношение к барахляндцам противоречит Высокому Смыслу. Мы закончили дискуссию усталые, но довольные: хотя истина была еще далеко, мы, несомненно, к ней приблизились.
К следующей дискуссии с двумя лопухами — Лопу- хом-за-окном и Лопухом-над-колыбелью — мы готовились три месяца: очень трудно было сформулировать наши соображения так, чтобы не пострадал Высокий Смысл. Мы с Чу уже понимали, что не сможем покинуть Лопушандию раньше, чем отыщется истина. И чтобы подбодрить себя, мы после целого дня работы говорили:
— Вы чувствуете? Она сегодня приблизилась.
Но однажды, когда мы оттачивали сто восемьдесят шестое наше соображение, Чу сказал:
— Егоров, вы, конечно, уже поняли, что нам никогда не покинуть Лопушандию? — И он заплакал. Я кивнул и тоже заплакал.
— В конце концов, Чу,— сказал я,— это наша планета. Ведь мы настоящие лопушандцы.
Он согласился со мной, но тут же признался, что иногда ему нестерпимо хочется на Барахляндию, где с тебя сдерут последний пиджак, где можно за пуговку выпить и поесть, подружиться и расстаться всего за один час, где не отличают своекорыстия от бескорыстия, где никаких сложностей и где никому не приходит в голову, что существует Высокий Смысл.
— Чу,— сказал я,— меня тоже туда тянет. Не означает ли это, что все мы немного барахляндцы?
Так родилось сто девяносто четвертое, самое беспощадное наше соображение.
Наша дискуссия с двумя Лопухами собрала большую аудиторию. Она проходила блистательно. Но на исходе третьих суток, когда мы с Чу добрались до сто девятого
489
нашего соображения, ни на минуту не забывая о Высоком Смысле, перед нами предстали наши жены. Разгневанные, с руками в бока, они смели сто девятое наше соображение всего несколькими фразами:
— Мы воспитываем детей! Мы сбились с ног по дому! А они здесь едят бутерброды и распивают пиво!
Мы спрятались от них в собственные мысли, но они тут же восстановили контакт с нами при помощи щипков и щекотания.
— Уши себе отрастили! — было сказано нам, когда мы объявились из нашего укрытия.— Не мужья, а летучие мыши!
За уши они нас'вывели из дискуссионного зала. Что мы могли? Мы заковали себя в броню иронии. Мы улыбались: вот она жизнь! Мы смеялись над собой, над женами, над обстоятельствами — а что еще может сделать лопушандец, вышибленный из своих мыслей?
Через неделю мы орудовали пылесосами и помогали делать уроки нашим детям, а нашим женам удалось благодаря этому выкроить время на посещение парикмахерской и косметического салона. Лопушандская ироничность все еще кривит мои губы. И все же надежда добраться когда- нибудь до истины не покидает меня. Да поможет мне Высокий Смысл!
Я прочитал эту историю и вспомнил, как папа часами спорит со своим закадычным другом Петей Башем, как они во время этих споров едят бутерброды и пьют пиво,— папа смеялся и над лопушандцами, хотя и понимал, что на всю жизнь останется лопушандцем.
О том, как завершилась история пашей темы.
Здесь вы получите последний совет — касающийся того, как лучше всего прощаться
Итак, мама обзвонила всех наших приятелей, но никто из них не сказал: «Между прочим, твой муж у нас ночевал». Стало ясно: папа находится у своей мамы, у моей бабушки номер два,— мы опасались козней.
Бабушка номер два не похожа на бабушку номер один: она не умеет вкусно готовить, не называет меня «внучек*, иной раз даже забываешь, что она родной человек.
Как-то бабушка номер один ей сказала, что папе до¬
4 90
лжно нравиться жить в нашем доме — в коврах. Бабушка номер два на это ответила, что у нее он рос без ковров, но зато всякому видно, что он честный человек.
— Здесь в честности тоже разбираются,— заметила бабушка номер один, но бабушка номер два так хмыкнула, как будто большей нелепости ей слышать не приходилось.
Ужасно неделикатно получилось: можно было подумать, что в нашем доме вообще о честности не слышали. По-моему, обе мои бабушки смешные: одна носится со своей честностью, другая — со своими коврами.
По дороге в школу я встретил десятиклассника, у которого отец защитил докторскую диссертацию. Раньше, когда он мне попадался на глаза, я говорил себе: «Ничего, у нас тоже есть тема». Но теперь мне было ясно: нашу недиссертабельную симпатюшку понимающие люди вряд ли темой признают. Для них это не тема, а наши разбитые надежды. Я пригляделся к десятикласснику: до чего самоуверенный! Нет, не признает.
В школе я был весел. На перемене я притоптывал ногой и насвистывал. Я уверен: никому из моих недоброжелателей не пришло в голову, что у нас дома неблагополучно. Только одна Света поняла. Она спросила:
— Что у тебя случилось?
— Как ты догадалась? — спросил я.
— Еще бы не догадаться! У тебя нога дергается, а губы судорогой сводит.
— Тебе я могу сказать,— ответил я.— Больше никому! Мы хороним тему. Дом трещит и может развалиться.
— Я поняла,— сказала она,— хоть ты и говоришь загадками.
Прямо из школы я помчался к бабушке номер два. Я не застал ни ее, ни папы, ни бабушкиного малосимпатичного соседа, который, когда открывает мне дверь, то всегда даег понять, что я ему надоел своими звонками.
Я позвонил домой и спросил, не возвращался ли папа. Бабушка не ответила, а велела мне идти обедать. Но я и не подумал возвращаться в дом, который стал совсем унылым. Я вспомнил о Танюшке, о том, что на дереве в ее саду еще остались несорванные яблоки. Но дело, конечно, не в яблоках было: я решил поближе посмотреть, что это за жизнь такая — без отца.
Танюшка мне обрадовалась. Она сказала:
— Ты нас совсем забыл — дед все время спрашивает о тебе.
491
Яблок на дереве осталось совсем мало. Я управился за десять минут. Я сказал Танюшке:
— Хорошо бы посмотреть, как вы живете.
Она повела меня в дом.
Оказалось, Танюшкин дед чуть ли не обижался на меня. Это выяснилось потом, когда мы поели печеной картошки и сыграли партий пять в домино.
— Ты не понимаешь старых людей,— сказал он.— Ты ушел — и забыл. А я помню.
— Да,— сказала Танюшка.— Я тоже. Мы в игру играли, будто ты к нам пришел и делаешь у нас уроки. Мы тебе не мешали.
Тогда я спросил Танюшкиного деда, почему это он ни разу из дома не вышел, когда я у них во дворе бывал. Он ответил, что никому не навязывается. Вот если бы я вошел и представился, тогда другое дело. Очень он мне показался обидчивым и церемонным. Но такой уж это дом.
Я видел: им не хочется, чтобы я уходил. Я пробыл у них до прихода Танюшкиной мамы.
Ничего утешительного для себя я в этом доме не увидел: отца не хватало, как ни прикидывай.
Я стал подмечать, как много отцов ходит по улицам — лопушандцы, барахляндцы. Попался чей-то подвыпивший папа, попался папа седой, папа в мятом пиджаке и папа с перебинтованной рукой; у входа в гастроном трое пап говорили о футболе. Сам не знаю, как это получилось, я довольно долго шел за одним смешным длинноносым папой: он нес в авоське пакеты с продуктами, торопился, что-то напевал под нос. Наверно, дома он будет эти пакеты по одному доставать, разворачивать, масло он обязательно понюхает, проверит, свежее ли, и даст понюхать своему сыну, а тот скажет: «Свежее» — и им даже в голову не придет, что может быть как-то по-другому.
Я надеялся, что среди всех этих пап и своего увижу.
Но увидел я маму — в скверике, возле той самой церквушки, в которой овощную базу устроили. Она сидела со скрещенными на груди руками, задумчивая, с повернутой головой, как будто собиралась в профиль фотографироваться.
Она не сразу меня заметила, потом все-таки взглянула на меня и сейчас же отвернулась — боялась, что фотограф рассердится.
— Папа хочет с тобой поговорить,— сказала она.— Он уходит от нас.
492
Я сел с ней рядом.
— Никуда он не уйдет,— сказал я и почувствовал, что нижняя губа у меня дрожит. А мама, положив на скамейку что-то, что было зажато у нее в кулаке, проделала то, что она делает всегда, когда я под рукой у нее оказываюсь: взяла меня обеими руками за голову и начала осмотр. Она проверила уши, расстегнула рубашку и под рубашкой осмотрела, зачем-то подула мне в затылок, как будто я курица, которую покупают, поерошила волосы, поправила брюки под ремешком — и осмотр был закончен. Я заметил, что на скамейке лежит то самое письмо, которое папе прислала ученица.
— Иди,— сказала мама,— он у бабушки. Я буду тебя ждать.
Дверь мне открыла бабушка номер два. Когда мы шли по коридору, она коснулась моего плеча. Я отстранился: пока еще не сирота.
Папа сидел на диване и курил. Он показал глазами, чтобы я сел справа от него. Я ему улыбнулся: ну и номер ты выкинул1 Губа опять задрожала. Пришлось прикусить ее: она мне мешала выглядеть жизнерадостным. Бабушка принесла мне голубцов, я их съел.
— Мы будем с тобой видеться каждый день, ладно? Сюда приходи, а я тебе звонить буду.
— Ты что! — сказал я.
Бабушка вышла из комнаты — наверно, всплакнуть.
Я встал с дивана, взял папу за руку и потянул к двери. Я заглядывал ему в глаза и улыбался. Он покачал головой, и я понял, что так ничего не выйдет. У Генки Куксина, моего одноклассника, ушел отец, так Генка, ю-моему, даже не удивился: он с дерева падал, под машину раз попал, обе ноги в гипсе были, с ним всякое может произойти, он уже это знал. А я такое понять не мог. Конечно, ошибка произошла, и сейчас все выяснится.
— Это из-за темы, да? — спросил я. И стал объяснять папе, как это глупо — бросать из-за темы родных людей. Если бы я был отцом, я бы так не поступил.
Папа попросил, чтобы я подал ему портфель — он на полу стоял, у самой двери, тот самый, который дед ему купил. Папа вытащил из портфеля папку, раскрыл, и я увидел ее: две буквы «ф» рядышком и волнующее слово «ЭВМ». Я не знал, что она так разбухла. Вначале шли страницы, отпечатанные на машинке. Я полистал их, красиво располагались абзацы, формулы были вписаны фи¬
493
олетовыми чернилами. Почерк был не папин. Как будто сама тема обеспечила себя формулами. Обидно было, что отпечатанных страниц немного. Дальше было от руки: тоже формулы, какие-то вычисления, на полях кое-где стихи попадались. Видно, папа по памяти записывал. «Никому ведь я не продал ни души, ни тела». «Начитался! — подумал я.— Хороший сын не должен своего отца и близко к стихам подпускать».
— Тут речь должна была идти о том,— сказал папа,— что внедрение ЭВМ на одном заводе принесло замечательные результаты. Никто в этом не усомнится. Статья даже в газете была. Так решено считать: как задумано, так и получилось. Но, понимаешь, ничего не получилось. Вот тут я все подсчитал.— Папа отделил листы, написанные от руки.— Не сумели. Если бы можно было защитить диссертацию о том, что внедрение ничего не дало, потому что то-то сделали не так, а таго-то не сделали,— это было бы полезным делом. Но таких диссертаций защищать не принято...
Все было понятно: к папе прицепилась правда. Я старался не думать о том, как бы славно у нас сложилось, если бы папа разочек решился соврать. Всего разок! Ну, если ему это не нужно, так для родных людей. О нас надо было думать! Папа понял, какие слова у меня просятся на язык.
— Я пытался,— сказал он и показал мне листы, отпечатанные на машинке.— Знаешь, что это означает? Рекомендовать и другим заводам делать так же. Я тянул... Три года не мог принять решения. У нас такой благополучный дом. Но я, конечно, знал, что никогда этого не сделаю. Ты думаешь, наверно, что самое страшное — это смерть? Нет, бессмысленность.
— Ладно,— сказал я.— С темой покончено — пошли домой.
— Не выйдет. Таким я в доме не приживусь. Не монтируюсь. Отторгает меня дом. Ты понял, в чем дело? Все должно быть по-другому. Я уже ушел из НИИ. Поступил на работу в школу. Я ведь учитель. Это у меня получалось. Почему я столько лет не тем занимался? Какие мы медлительные. Почти сорок лет жизни я потратил на то, чтобы научиться принимать решения.
Я им залюбовался: лопушандец говорил о Высоком Смысле. Он принял решение, объяснял он, и все встало на свое место. Он сразу же осмыслил значение сверши вше-
494
roc я. Он, как умел, участвовал в жизни и потому имеет отношение теперь ко всему. Я вряд ли сумею передать, что он говорил. Выходило, что пакость, которую он устроил себе и родным людям, полна Высочайшего Смысла: на всю Вселенную распространяется, имеет отношение к каждой звездочке, видимой нами и невидимой] Но и это еще не все. Он намекнул, что имеет отношение ко всем временам: к прошлым и будущим. Все он в себя вобрал, совершив эту пакость. Честное слово, он это говорил1 Он твердил, что постиг смысл поступков. Пока он это твердил, на земле люди совершили поступков больше, чем звезд на небе. Всяких: хороших, плохих, объяснимых, необъяснимых,— кто может разобраться во всем этом? Один я пытаюсь. Но ясно мне пока только одно: необъяснимые поступки люди совершают потому, что иначе не могут. Просто наш дом стал жертвой Высокого Смысла.
И еще я понял: необъяснимые поступки, Высокий Смысл — они делают людей красивыми. Я никогда не любил его так сильно! Какое барахло, по сравнению с моим отцом, Мишенькин отец с защищенной темой, «Жигулями» и привычкой подмигивать. Даже сравнивать неприлично. А я завидовал Мишеньке. Почему я ни разу никому не сказал, что горжусь своим отцом?! «Быстроглазый папку проглядел»,— подумал я. Я поцеловал его, обнял за шею, прижался щекой к щеке, я пытался его приподнять с дивана. Я наметил путь прямо к двери, но у меня силенок не хватило. Лопушандцев приятно любить: если уж улыбка, так улыбка; если ты прижмешься к лопушандской щеке, ты знаешь, что это не просто так — он не сидит и не ждет, когда это кончится.
— Ты же все понял,— сказал папа.— Иди к маме.
Он проводил меня на лестницу. Я два раза оборачивался, чтоб улыбнуться ему. Некоторые считают, что прощаться надо побыстрей. Ничего подобного. Тот, кто так думает, ничего не смыслит в человеческих отношениях. Я вернулся, взбежал по лестнице до того места, откуда был виден папа, стоявший в дверях на тот случай, если мне захочется вернуться, и я помахал ему рукой, а потом уже припустил вниз и бежал до самого скверика у церквушки. Мама сидела на той же скамейке, все еще для фотографирования в профиль, и не подала виду, что заметила меня. Я сел рядом с ней.
— Все должно быть по-другому,— сказал я.— Ты поняла?
405
Она взглянула на меня, резко повернула голову, наверно, подумала: «Так ты за него?»
— Я тут буду ждать,— сказал я.
Она опять на меня так же взглянула.
— Ты уже сориентировался? — Она похлопала меня по щеке довольно сильно — не такая уж это была ласка.— Если я задержусь, иди домой.
Я сидел и обдумывал то, что надо было обдумать. Все мои мысли начинались со слова «допустим». Уже совсем стемнело. Я только догадывался, что на соседних скамейках сидят люди. Потом я догадался, что их не стало. Мы один на один остались с церквушкой. Она была памятником архитектуры, а я человеком, которому незачем идти домой. Я перебирал свои «допустим».
О том, как я расстался с близким мне человеком, решившим перебраться в другую эпоху
Допустим, все будет по-другому: мы перейдем жить к бабушке номер два. Книжку любимую я с собой заберу. «Симфонию» и магнитофон тоже. Папину пишущую машинку, любимые вещицы, транзисторный приемник... Для каждой вещи я подбирал место в бабушкиной комнате. Одежки вместе со шкафом, сервант... придется вынести бабушкин диван. Кстати, на чем мы будем спать? Что, если, как в поезде, сделать верхнюю и нижнюю полки? Бабушкин стол пришлось тоже убрать... фарфоровых охотников уже кто-то свалил на пол и они разбились. Бронзовая собака задрала голову и завыла. Хвост она все еще держала на отлете. Папа зацепился за «Симфонию» и упал на деревянный домик с аистом на крыше. Аист закричал, как кричат лебеди в пруду в нашем парке. «Может, это не аист, а лебедь? — подумал я.— Но ведь лебеди не живут на крышах». Бабушка номер два стояла и раздумывала, как добраться до двери. А мама сидела на шкафу, свесив ноги: там просторней. Мне было ясно: все это не для Дер- бервиля.
Дербервиль вскоре появился, чтобы мне об этом сказать, он сел рядом со мной на скамейку.
«Я ухожу: мне негде разместить мой гардероб.— Он задумался.— У меня такое впечатление,— сказал он,— что я прожил почти сорок лет, чтобы решиться на этот поступок. Я ухожу в семнадцатый век, в эпоху Кромвеля
496
и великих событий. У меня там прекрасное имение и слуги. Все должно быть по-другому! Вы ведь все поняли, правда?»
Я не стал расспрашивать, при чем здесь сорок лет. Остальное я понял. Он, сколько мог, был со мной, но теперь действительно негде разместить его гардероб.
«Я все понимаю, сэр»,— сказал я.
Тогда он приподнял цилиндр.
«Возьмите на память мои чешские туфли,— сказал он.— Вещицы и кресло я вам тоже оставляю. Прощайте!»
Он стал уходить в темноту, как уходят навсегда. Когда он переходил улицу, проезжавшее такси остановилось. Шофер открыл дверцу и сказал:
«Эй ты, диво! Хочешь, я тебя бесплатно подвезу?»
Дербервиль не ответил. Он шел все быстрей. Свет фонаря отсвечивал в его цилиндре; он ступал бесшумно. Ненадолго он остановился и поговорил с каким-то человеком. Я напряг зрение, чтобы рассмотреть этого человека. Я его узнал: это был англичанин прогрессивных взглядов из эпохи Кромвеля. Руку он держал на перевязи — значит, ранен был. «Действительно, неплохо смоделировано»,— подумал я. Дальше они пошли вдвоем. Скоро я перестал их видеть — то ли они растворились, то ли их черные костюмы слились с темнотой. Один раз, правда, что-то блеснуло, но, может, это были очки какого-нибудь прохожего.
— Что ты здесь делаешь? — спросили меня и потрясли за плечо на тот случай, если я сплю.— Сбежал из дому, да?
Я стал насвистывать и притоптывать ногой, чтоб никому не могло прийти в голову, что у нас дома что-то стряслось.
— Никто у нас из дому не убегал! — сказал я.— Я жду здесь родителей, отлучились ненадолго.
— А мы смотрим ночной город,— сказал Сас.
Он стал рассказывать своей махонькой девочке, которая заменила ему высокую Нелли, о памятнике архитектуры семнадцатого века. Я понял, почему ему больше не нужен англичанин из эпохи Кромвеля. О том, что в церкви побывала нечистая сила, этот эрудит ничего не знал. Я старался запомнить то, что он говорил. Это может пригодиться: пора уже мне пригласить Свету на вечернюю прогулку. Я полез в карман за дербервилевским блокнотом, чтобы записать слово «контрфорс». Блокнота в кармане, конечно, не оказалось. Я засмеялся.
497
— Сас,— сказал я,— с англичанами покончено, правда?
Он кивнул.
— Что ж, это было полезно.
И он спросил с лопушандской заботливостью:
— Может, пойдешь с нами?
— Да у меня все в порядке, Сас! — ответил я.— Сейчас появятся родители. Вон они, кажется, идут.
Нет, это шли не они.
Долго вообще никто не шел.
Потом послышались голоса — не их.
Допустим, они появятся только утром. Я дождусь. Проехала машина, фары ее далеко осветили улицу — ни одного прохожего. Допустим, мама появится одна... Я заплакал: я понял, что так оно и случится. Чтобы какой-нибудь из прохожих не услышал, я старался плакать беззвучно. Это было необъяснимо, не из моей жизни. Это была уже другая жизнь, и нужно было к ней привыкать.
О том, как она теперь выглядит, наша жизнь
На далекой окраине города, откуда можно увидеть горизонт, где за девятиэтажными домами начинается поле с негородской зеленью, стоит большущий, в два корпуса, интернат. Здесь работает папа и его новая жена. Живут они в двухэтажном домишке, построенном для хозяйственных нужд и приспособленном под жилье для учителей.
По воскресеньям я приезжаю сюда — обычно первым автобусом,— схожу на конечной остановке, но к двухэтажному домику не иду, а затаиваюсь за интернатской оградой, в том месте, где выставлены ящики и баки с кухонными отходами. Здесь я застаю двух-трех кошек, которые уже привыкли ко мне и не обращают на меня внимания. Скоро из дверей дома выбегает Хиггинс — в майке, если тепло, или в синем спортивном костюме — и следом за ним папа в таком же костюме. Это они уже приступили к своей получасовой пробежке. Они убегают в поле, а я слежу за ними,, прячась за баками, пока они видны, а потом сижу на ящике и жду их возвращения. Они вбегают во двор, потные, переговариваются. Возможно, разговор обо мне идет. Я ухожу, быстро иду на остановку автобуса: через пятнадцать минут они там появятся. Они всегда удивляются, что ни разу не пришлось им ждать меня. Я провожу с ними целый день.
449
Вечером меня провожает кто-нибудь один — Хиггинс или папа (наверно, нехорошо получилось бы, если бы каждый раз провожал папа). Это само собой получилось.
С папой мы две-три остановки идем пешком, разговариваем. С тех пор как папа с нами не живет, мы стали ближе друг другу, и мне уже не нужно придумывать, чтобы выходило, как у отца с сыном.
Папа переменился. Он всегда теперь причесан, на работу, как я узнал, ходит в белой рубашке и в костюме, но, главное, какая-то твердость в нем появилась: он теперь умеет говорить таким тоном, что и в голову не приходит ослушаться. Нет, лопушандцем его не назовешь. Я думаю, он отыскал какую-то третью планету. Как она называется, я не знаю, но я уверен: жители этой планеты превыше всего ставят поступки.
Почему-то вблизи папиного дома мне везет на драки: я уже три раза подрался. Один раз, когда шел с Хиггинсом,— с тремя интернатскими. Кончилось тем, что они скрутили меня и один из них уселся на меня верхом., А мне было начхать. Хиггинсу тоже досталось, но он бодрился, а я еще долго лежал ничком и плакал, хотя мне было и начхать. Потом интернатские спрашивали меня:
— Чего ты к нам полез?
Что я им мог объяснить? Вот Хиггинс — тот, кажется, понял. Он, как любит говорить папа, тонкий человек.
Поздним вечером я возвращаюсь в свой дом. Два года оказалось достаточно, чтобы мама присмотрела себе нового родного человека с защищенной темой и «Жигулями». Только он работает не в институте, а на заводе — руководит отделом. Тема его тоже с двумя «ф» и волнующим словом «ЭВМ». Человек он спокойный и рассудительный и все на свете берется объяснить — при помощи техники. Если его послушать, то дождь — техника, и плач — техника, и смех — тоже техника. Все ему ясно, и он к тому же начальник, поэтому он с людьми разговаривает покровитель ственно и удивляется, что некоторые неначальники, которым еще не все ясно, одергивают его. Любимое его слово «логично». Что бы он ни сказал, он обязательно спросит в конце: «Логично?» Люди отвечают «логично», иначе он снова при помощи техники начнет доказывать, а это вынести трудно. Он говорит «ложить» и «пренциндент». Я не поправляю: мне нравится, что он и этим от папы отличается. Он будет так говорить до самой смерти: кто станет поправлять начальника? А папины словари листаю один я.
500
Однажды, вскоре после того, как он у нас появился, он вздумал положить мне руку на плечо. Я отстранился и ушел в другую комнату. Мама вышла следом и сказала:
— Ты как звереныш.
— Скажи ему,— ответил я,— чтобы он никогда ко мне не прикасался. И точка.
Мы не ссоримся. Хотя его, по-моему, здорово злит, что я за ним наблюдаю. Вначале он говорил:
— Виталий меня изучает.
А недавно я слышал, как он пожаловался маме:
— Он с меня глаз не спускает. Беспренциндентно!
Балда. Просто я сравниваю его с папой, и всегда выходит, что папа — лучший на свете человек, а он — барахло.
У него есть сын, мой ровесник. Он тоже навещает своего отца по воскресеньям. Иногда и среди недели заходит. Я при первой же встрече ему сказал:
— Твой папа мне ни к чему.
Но он все равно считает, что я у него в долгу: повадился уносить что-нибудь из моих вещичек — уже нет у меня фарфоровых охотников, собаки с хвостом на отлете и бронзовой львицы. Сперва он говорил:
— Я это возьму, а?
Потом стал брать без спросу. Я решил: уж лучше я ему дарить буду. Что поделаешь? Нужно. Он хоть и несимпатичный, но посмотришь, как он слоняется по дому и прислушивается к голосам,— и жаль становится. Последний раз я ему подарил медведя, играющего в футбол.
В доме считают, что я переменился из-за того, что «эго стряслось». Но я-то знаю, что все началось раньше. Может быть, в то утро, когда я встретил Хиггинса. Трудновато было привыкнуть к тому, что я уже не Дербервиль, а какой-то другой человек, о котором я мало что знаю. Я пытался похожего человека найти в книжках или в фильмах. Но полного сходства ни с кем не обнаруживалось. Так я и живу: не Дербервиль, не Быстроглазый, а неизвестно кто. Прежние мои одежки для этого человека не подходят — я хожу в джинсах, в болоньевой куртке, под которую свитер надеваю, и в лыжных ботинках. Телефонщики смотрят на меня с изумлением, а мне непонятно, как это я мог проводить столько времени с этими людьми.
Коллекционированием я по-прежнему занимаюсь, и мне сейчас странно, что посетила меня мысль подарить коллекцию Славику. Ему я продолжаю покупать пончики, хоть
501
он уже в четвертом классе. В коллекционировании он уже смыслит почти так, как я. Иногда я ему дарю марку-две, но спокойно.
Геннадий Матвеевич часто похварывает, но все равно много ездит по стране, побывал уже ка Кавказе, в Средней Азии п даже на Байкале. Недавно он уехал в Польшу, в гости к одному филателисту, с которым он двадцать лет в переписке. Я пишу ему письма в город Краков — пар- керовской ручкой.
Я долго занимался своей исследовательской работой, но запутался в бумагах до того, что хоть технику призывай. Я сгреб все в портфель и поехал к папе. Втроем — е ним и с Хиггинсом — мы проговорили над моими бумагами полдня, но кончилось тем, что и они запутались. Вот тогда папа и сказал:
— А ты попробуй все описать. Может быть, так разберешься.
И я засел за эту историю. Я носил ее кусками папе, кроме тех глав, где о нем речь* Он советовал, кое-где выправлял, кое-где руку приложил. Вторым помощником у меня был Леня Сас. Ему я сперва носил главы, где о папе шла речь, но он потребовал, чтобы я принес остальные. Он очень критически отнесся к моей работе, сказал, что все не так, он знает: уже три романа написал. Он взялся переделывать, а когда я его просил, чтобы он показал, что выходит, он отвечал, чтобы я не мешал. Я забрал свои бумаги. Сас хмыкнул мне вслед и сказал, что обойдется без них. Он написал мою историю по-своему: перенес все события в Англию семнадцатого века. Он объяснил, что так влез в эту эпоху, что не может выбраться. История Саса мне понравилась, только в ней речь шла часто совсем не о том. Зато эпиграф — он идет первым — я у него выпросил. Он такой эрудированный, что ему нетрудно будет подобрать другой. Второй эпиграф — мой собственный.
Недавно Сас меня спросил:
— Так кто же ты теперь? Я что-то не могу понять.
— Сас, не знаю,— ответил я.— Ты можешь в это поверить?
— Стадия становления,— объяснил Сас.— Разберешься, не бойся.
А я и не боюсь. Я уже понял: со мною что-то происходит и, похоже, будет происходить всю жизнь.
502
С. Иванов
его стаи нж:
повесть
Сверкающие пули
Поздним утром в июльском лесу эхо разносится особенно далеко и прозрачно. Кукушка отмеряет года тебе щедро — остановись и считай. Один, два, три, четыре...
И вдруг замолчала.
Ты, конечно, знаешь, что все это просто так, верить не надо. А сердце, однако, замрет. Стоишь, сам не знаешь, чего ожидая. Кукушка, до тех пор невидимая, взлетит, тронув крыльями две-три тонких березовых ветки. Вскоре где-то сядет опять. И опять начнет отсчитывать годы — один, два, десять, тридцать... Перевалит за пятьдесят...
Но это уже не твое, не тебе считают! И ты стоишь — как бы притаился: не от кого-нибудь, а только чтобы тревога ушла. Поискала бы, поискала тебя — нету нигде. И ушла. Тогда можно возвращаться — на опушку, на дорогу, по мосту, через речку, домой.
Но оказалось на сей раз, притаиться пришлось не зря. Вслед за кукушкой не успело пролететь и полной минуты, как появился тот, из-за кого предсказательница спела такую короткую жизнь.
Это была девчонка, довольно рослая, в коротком платье, энергичная, босая. И в левой руке рогатка!
А он был, напротив, человек нерешительный, склонный к всевозможным там размышлениям (недаром занимался таким сомнительным делом, как слушание кукушек), и босиком ходить опасался.
Он бы ни за что в жизни не должен был красться и следить за этой девчонкой: и девчонка была не та,
504
и сам он был не тот, и занятие совсем не для него.
Но что-то вдруг заставило его решиться. Глянул из-за куста и неслышно пошел за нею... Может быть, и то, что кукушка по вине этой особы нагадала ему всего четыре года. А может... Да кто его разберет!
В нашей жизни, вообще говоря, случайности имеют очень немаленькое значение. Мы их только чаще всего не замечаем, как потайные дверцы. Или просто не решаемся приоткрыть. Думаем: «Да ну еще...»
Но сейчас он совершил-таки поступок: он крался, глаза его были прищурены, все тело напряжено, голова, как у всех подозрительных и крадущихся, чуть утоплена в плечи. И что случится в его жизни через секунду, а тем более через минуту, он даже не пытался загадывать.
Девчонка между тем шагала все так же свободно, нисколько не думая о том, что за ней могут подглядывать, нисколько не пряча свою рогатку и нисколько не опасаясь наступить босой ногой на шишку или на корень.
Она вышла на поляну, довольно обширную, пустую, с одиноким деревом посредине — корявой и старой березой. Откуда-то из березовых шелестящих глубин девчонка вынула... сачок, только на более длинной палке. А вместо марли на нем была какая-то плотная материя.
Девчонка воткнула сачок в землю, отошла шагов на пятнадцать... Зарядила свою рогатку. Пум! Сверкнула в воздухе какая-то бледная искра, не то молния, вздрогнул сачок. А девчонка уже зарядила новый снаряд, потом новый и новый...
Стреляла она быстро, будто на особых каких-то соревнованиях. И кажется, ни разу не промахнулась. А лицо ее все время оставалось строгим и решительным.
Она пуляла из своей рогатки крупными шариками, потому-то и казалось, что по воздуху проносятся длинные белесые искры.
Ни одна птица в этот момент не пела. И казалось, ни одна бабочка не пропорхала через огромный аквариум лесной поляны. Так все были удивлены и напуганы тем, что происходило.
Вдруг девчонка повернулась прямо к той заросли, где он стоял пригнувшись, и сказала:
— Вот для чего мне оружие, понятно? А вовсе не для того, чтобы охотиться на твоих милых птичек!
И снова стрельнула — быстро, почти не целясь. И снова попала, потому что сачок вздрогнул и, видно отяжелевший
505
от шариков, стал крениться. И вдруг упал навзничь, словно убитый...
Здорово это получилось!
Однако он — человек, пригнувшийся среди молодых колючих елок, человек, проживший весьма осторожную двенадцатилетнюю жизнь,— стоял не шевелясь. Не потому, конечно, что думал еще спрятаться, а потому, что был растерян.
— Иди, не бойся,— уверенно и легко сказала девчонка.— Хочешь попробовать разок? — И помахала рукой, в которой была рогатка.
Тогда он вышел, и она насмешливо, но без презрения осмотрела его. Протянула свое оружие:
— Бей в березу.
Молча он приметился. Странно все это происходило. Шарик был холодный и гладкий — лучшая пуля для ро- гаточной стрельбы.
Пум! Ударившись о березу, шарик с визгом отскочил в сторону, в траву. Девчонка сразу побежала к тому месту — видно, не хотела терять снаряд. Наклонилась, стала шарить, расталкивая и валя цветы.
Тогда и он подошел... неуверенно. Она протянула ему уже найденный шарик:
— А ну-ка дай еще выстрел.
Таким тоном, что отказаться было попросту нельзя.
Он опять приметился. Первый раз все было как во сне. Теперь же он волновался куда заметней. Свистнул шарик. А потом опять взвизгнул, стукнувшись о березу!
И опять девчонка живо подбежала к тому месту, где тихо качнулся потревоженный блестящей пулей султан конского щавеля.
Вот не думала, что ты хоть раз попадешь!
Посмотрела подозрительно:
— Тренировался?
Он покачал головой. Где уж там было при его родителях тренироваться в стрельбе из рогатки!
— Значит, есть способности! — сказала девчонка, словно она ему эти способности и подарила.— Кстати, такие люди могут мне пригодиться.
Он хотел спросить, зачем ей могут пригодиться такие люди. И как вообще какой-то девчонке могут пригодиться люди. Но не сумел произнести ни звука.
— В общем, так,— сказала она, видя, что от него не много услышишь.— Речь идет о сыске, который начнется
506
примерно через два месяца. Возможно, я задействую и тебя. Но для этого ты должен разбираться в нашей работе... В сыщицкой, я имею в виду!
Впервые он решился что-то промычать... вернее всего, спросить.
Тут же она его перебила. Как видно, ей не особенно требовалось, чтобы кто-то говорил в ее присутствии.
— Подумай сам,— сказала она.— Подумай и поймешь, что должен уметь сыщик. Мазурку, например, наверно, танцевать не обязательно. А десять — двенадцать приемов каратэ будет в самый раз... Ну и так далее. Через два месяца я тебя проверю!
Он опять попытался выговорить свое удивление.
— Не волнуйся. Я тебя сама найду. А в данный момент у меня работа по другой линии. Здесь и сейчас ты не нужен мне.
Тут она бросила ему отысканный наконец шарик.
— На память... Но учти: очень многое будет зависеть только от тебя!
И все. И будто окончился сеанс радиосвязи — она перестала его замечать. Сунула рогатку в сачок, сачок на плечо и пошла себе — «юная любительница насекомых».
А он остался стоять, сжимая в руке холодный шарик.
Неужели черный человек?
Когда о таких вещах читаешь в книжке, им просто не веришь. Но даже когда такие вещи происходят с тобой самим, ты все равно остаешься в каком-то полусомни- тельном состоянии. И хочется на манер жителей прошлых веков воскликнуть: «Уж не сон ли это? Прошу вас, друг мой, ущипните меня!»
Однако не надо щипаться. В любой момент можно положить на стол блестящий шарик и увидеть, как он медленно начинает перекатываться, нащупывая круглыми боками невидимые для человеческого глаза неровности.
Шарик. Тот самый. Который дважды просвистел в воздухе, больно ударив березу по корявому, в черно-белых трещинах боку.
Шарик... По воскресеньям родители интересуются у бабушки состоянием настроений их сына. Они — все трое его близких родственников — с самого рождения следят
507
за ним, приглядываются, словно ученые, которые взялись за самый важный в своей жизни эксперимент.
А между прочим, они и есть ученые. Только бабушка уже ученый на пенсии.
Следят они и видят, что их ненаглядный подопытный ведет себя странно. Сидит, например, в прелестное, залитое солнцем утро и рассматривает глупейшую картинку под заглавием: «Сравните с предыдущей, найдя шестнадцать отличий».
— Что ты делаешь, Краме? — говорит отец, за небрежным вопросом скрывая легкую тревогу и удивление.
А картиночка действительно глупейшая: пациент, спасаясь от зубного врача, выпрыгнул из окна небоскреба. Ну и произвел при этом соответствующий беспорядок, который надо установить. Называется «Психологический практикум».
Сын закрывает газетную страницу и отвечает, что он решил развивать наблюдательность.
Еще через несколько дней мать застает его за разучиванием приемов каратэ. А поскольку приемы ему приходится изучать по воспоминаниям известного фильма о самураях, то все он делает с удвоенной жестикуляцией, и утроенной громкостью боевого клича: «Кья!», и учетверенной звсрскостью лица.
Родители и бабушка абсолютно твердо знают, что каждый поступок ребенка, каждый день и час оставляют след в его душе. Так утверждает знаменитый заграничный педагог, по системе которого воспитывается тот, кто однажды был здесь назван Крамсом.
На тайном семейном совете взрослых бабушка сознается, что она замечала за Крамсом и другие странности.
Ей горько сознаваться, но она... подсматривала, увы!
И она видела однажды, как мальчик полз по дорожке — столь тщательно и аккуратно, словно от этого зависело все его будущее. Бабушка пыталась понять, что же такое он выслеживает. Оказалось — ничего! Оказалось, он тренируется. И от этого бабушке стало особенно не по себе.
Еще об одном факте она не решается и говорить. Она видела, как ее внук учился бросать камни. Ставит, понимаете ли, на спинку садовой скамьи чурбак и... с таким остервенением, с такой опять старательностью...
Мама, слушая ее, сидела с горестно распахнутыми гла¬
508
зами. Она ведь слишком хорошо помнила, как Краме занимался каратэ.
— И все это, понимаете, он делает скрытно. Словно к чему-то готовится! А если к нему приходят мальчики (так ученая-бабушка называла приятелей своего внука), если приходят мальчики, он держится с ними как прежде — такой же будто бы книжник и аккуратист. А мальчики (они ведь более подвижные) продолжают ему покровительствовать. Хотя и по-прежнему с большим удовольствием выслушивают его рассказы.
— Подумайте! Что все это может значить?! — воскликнула мама.
— Мне почему-то на ум пришла история о Моцарте и Черном человеке,— тихо сказала бабушка.
Она была филологом, то есть изучала литературу не только в школе, но и всю жизнь после. Кому-то, возможно, это могло бы показаться полной каторгой, но бабушке очень нравилось.
Мама, услышав про Черного человека, вздрогнула:
— Что вы говорите такое, Елизавета Петровна! — И посмотрела укоризненно... Однако не на бабушку, а на папу, поскольку именно папе бабушка была мамой, а маме — лишь свекровью.
— Мама! — сказал папа с грустью и обидой.
— Но мою аналогию не следует понимать буквально! — воскликнула бабушка.
И пока она объясняет, как ее надо понимать, стоило бы вспомнить, что это был за Черный человек, который пришел однажды к великому композитору Вольфгангу Амадею Моцарту.
Вообще говоря, все это легенда... Будто бы за несколько недель до смерти к Моцарту пришел некто, весь закутанный в черное, и попросил сочинить реквием.
Чтоб было все ясно, реквиемы исполняют на похоронах. Это очень торжественная, но обязательно траурная музыка.
Моцарт сочинял-сочинял да и умер. Даже будто несколько последних нот вообще не успел дописать. То ли его отравил злодей и завистник Сальери, то ли он сам умер от чахотки. Но факт, что Черный человек так за реквиемом и не явился. А явилась за ним сама Моцартова смерть...
Бабушка продолжала еще объяснять, что она имела в виду и чего не имела, а ученый-химик мама в ответ ей нервно пожимала плечами, а папа с тоской думал, зачем
509
он только дал маме слово бросить курить,— короче говоря, в это весьма напряженное мгновенье на террасу вошел тот самый, которого в этой книжке почему-то называют скрипучим именем Краме.
Он заметно хромал, и на щеке его яркой загогулиной сияла свежая царапина.
— Что... это? — медленно спросила мама.
— Не беспокойся, пожалуйста... С дерева неудачно спрыгнул.
За его спиной взрослые переглянулись. Что им было делать? Задавать прямые вопросы? Тогда пришлось бы сознаться, что они за Крамсом подглядывали. Но это было совершенно невозможно в их свободолюбивой семье.
— И все же я уверен: с ним ничего плохого случиться не может! — сказал папа.
Одргако фраза эта никого не убедила — уж слишком она была вычитанная из книг.
Это пароль!
А ведь бабушка, между прочим, оказалась не так уж и не права насчет Черного человека. Сережа (он же Краме), можно сказать, ни на минуту не забывал о той встрече.
Хотя, конечно, забывал — это ведь только так говорится: «Ни на минуту». И чем дальше, тем воспоминания и волнения делались бледнее и туманней, И даже иной раз он думал: да неправда это все. Девчонки ведь любят быть артистками — не откажется ни одна... Да, артистками. А проще говоря, вруньями.
Но эта была совсем не похожа на врунью!
Значит, все правда? Значит, что-то еще произойдет с ним? Самое главное!
Словно вихрь кружился над ним, разметая в душе простое и привычное. В такие дни он плохо ел. Он и во- обще-то не отличался богатырским аппетитом. Но в такие дни он особенно плохо ел. Нервничал... Это ему бабушка сообщала — сам человек ничего подобного обычно не замечает.
Но продолжал упорно делать зарядку! Уже почти два месяца он ее делал и не знал, на пользу это идет или впустую. Вдруг однажды он додумался, что не будет толку от такой зарядки! Ведь если считается, что все болезни от нервов, то и здоровье должно быть от нервов — только от
510
хороших нервов. Так-то! Недаром у него родня была сплошь научные работники.
И приказал себе успокоиться.
Оказывается, он теперь умел это — держать себя в руках. А может, просто раньше не знал, что умеет. Ведь она ему не требовалась в его прежней осторожной жизни — такая сила воли. А первое сентября надвигалось, как туча на солнышко. Стали готовиться к отъезду в Москву. И тогда он все-таки понял, что ничего не произойдет уже: не появится девчонка. Наврала.1
И он даже сам захотел поскорее уехать, чтобы прекратить свое позорное ожидание.
Вихрь, видите ли... А может, буря в стакане воды? Ученая семья давала себя знать, и потому частенько он выражался несколько вычурно и книжно.
До первого сентября оставалось лишь несколько дней — таких пустых и в то же время наполненных суетными делами. Таких и радостных и тревожно-томительных, как в очереди на укол.
Несомненно, ему хотелось в школу: интересно всех увидеть, как бы заново признавая свой класс в этик загорелых незнакомцах и... незнакомках. Ну и вообще хотелось жизненных перемен — каникулы к концу всегда успевают поднадоесть.
И в то же время сердце вдруг неожиданно и тоскливо останавливалось. Ведь человек, проучившийся пять лет, уже весьма опытен и знает, сколько впереди труда предстоит, и невзгод, и даже горестей, пока опять доберешься до того мая, до той середины июня, когда наконец все будет кончено и снова тебе разрешат нырнуть в долгожданное лето.
Странно! Всегда мы чего-то ищем, каких-то перемен. И это, кстати, не только в школьной, но и во всей нашей дальнейшей жизни. И сколько ни уверяем себя, что остановись, мол, от добра добра не ищут! А сами все ищем, ищем...
Итак, Сережа дожил до первого сентября. Уже несколько дней он не делал зарядки — словно забыл про нее. Но в это как раз утро проснулся он рано. И подумалось: да неужели какая-то случайная девчонка то может приказывать ему делать зарядку, то может отменить (причем даже ничего на самом деле не приказывая и не отменяя!).
Нелепость, стыд!
Он поднялся и начал разные там подтягивания, рывки
511
руками и прочее. За окном шумели зеленые деревья. Шумели и думали, что они вечнозеленые!
А между тем уже наступила осень...
Когда не поделаешь зарядку несколько дней, то взяться за нее снова бывает очень здорово. Таким себя спортивным чувствуешь.
И это он понял, Краме...
А почему и что это, кстати говоря, за Краме такой? Крамской Сережа — вот и весь Краме. К знаменитому художнику Крамскому отношения их фамилия, к сожалению, не имела. Хотя... хотя, говорило семейное поверье, слишком уж редкая и необычная фамилия, чтобы совсем ничего!
«Крамса» этого придумал отец. Как раз, чтобы Сережа всегда помнил про... «совпадение». И был достоин его! Сам Сережа, надо заметить, не любил, когда его звали Крамсом, не любил этого тайного намека.
В школе на его фамилию обращали внимания очень мало. И прозвище у него было совсем не художественное, и с художниками никак не связанное.
В школе его звали Корма. Потому что и на физкультуре, и в буфете, и везде «более подвижные мальчики» (как выражалась Сережина бабушка) да и «более подвижные девочки» оттесняли уступчивого Крамса назад — на корму. Вот он и получился Крамской-Корма...
Сейчас, отжавшись от пола семнадцать раз, он подумал, что, может, и перестал уже быть Кормой? Но неужели опять из-за этой девчонки?
На столе его, в чернильном приборе, в никому не нужной, по нашим временам, чернильнице, лежал шарик.
«Надо выкинуть его,— подумал Сережа,— и хватит этих разговоров!» Ему оставались еще приседания и прыжки.
Доделав зарядку, он взял в руки шарик... Ну?
И не швырнул его в окно, как собирался, а лишь подбросил на ладони. Ведь шарик, летящий с третьего этажа, у земли действительно превращается в пулю!
Но по правде говоря, не это остановило Сережу. Он еще раз подкинул шарик... Что-то его остановило другое.
«Через два месяца» — вот что она сказала! А встреча произошла ровно семнадцатого июля. Сережа это помнил — такие даты не забываются.
Ну так, значит, не прошло еще и полутора месяцев!
Опять волнение охватило его, а в ушах опять словно засвистал вихрь... Вихрь неожиданностей и перемен. Нет,
512
чувствовал Сережа: все- таки встреча состоится!
И в то же время он отлично понимал, что это полная ерунда. Как тут встретиться: в Москве, два незнакомых человека? Проще во Вселенной вторую цивилизацию найти! Ни имени, ни фамилии. Только шарик.
Он стоял под душем, а у ног его катался шарик, словно расплющенный под слоем воды.
Сережа тронул его ногой, и было неясно, то ли в нем пряталась какая-то тайна, то ли ничего в нем не пряталось... Глупая железка без начала, без конца!
На завтрак бабушка ждала его в белой торжественной кофте, причесанная с такой особой аккуратностью. Строго и приветливо посмотрела на внука, чтобы и он проникся ответственными задачами, которые ждут его, шестиклассника, практически взрослого человека.
А Сережа катал по столу шарик — снова холодный, будто на него и не лилась две минуты назад вода из горячего крана.
Он всегда был холодный. И в этом, если задуматься, все-таки пряталась какая-то тайна!
— Да что там у тебя? — спросила бабушка, чуть разочарованная тем, что Краме не замечает ее особого настроя.
Впрочем, она давно уж привыкла, что у внука всегда что-то свое, а ее чувства обычно оказываются некстати. Она привыкла терпеть и молчать, как это привыкают делать все бабушки на свете. Вернее, все хорошие бабушки.
А ведь когда-то и они были девочками!..
— Что у тебя, Краме?
Ему хотелось говорить про свое волнение... И не хотелось! Потому что говорить бы это пришлось бабушке. А Сережа ни секунды не верил, будто ей можно растолковать подобные вещи. И чтобы прекратить все дальнейшие вопросы, чтобы она поняла наконец, как бесконечно далека от его тайны, Сережа сказал:
17 Школьные годы. Выпуск IV
513
— Это, видишь ли, пароль!
А потом вдруг:
— И возможно, он сегодня мне пригодится...
Пригодится? Ни предчувствия, ни тем более уверенности никакой в нем не было. Получилось, чти словно кто-то внутри его ну как бы проговорился. И Сережа это услышал. И бабушка это услышала. Обменялись вопросительными взглядами. После завтрака Сережа положил шарик в карман школьных штанов, хотя прежде намеревался снова сослать его в сухую чернильницу.
Два стальных шарика
Школа, школьный двор, линейка, сверкание отглаженных рубашек и все прочее, что связано с этим днем, были именно такими, как он себе представлял, как он помнил по прошлым первым сентября. Десятиклассники, первоклассники... Главная отличница школы без бумажки, и. потому особенно старательно, произносит свою речь. Море улыбок и острова осенних букетов — все уже немного по- вядшие* потому что цветы для первого сентября принято покупать загодя.
Наконец его класс, толпящийся вокруг таблички 6 «А», те самые незнакомцы и незнакомки, все, как один, шоколадные, только, конечно, разных оттенков.
Некогда было думать в толкотне приветствий и взглядов, но что-то изменилось в мире. Что же? Это он позже поймет. Дело в том, что за лето Сережа Крамской вытянулся заметней, чем многие.
И эти многие подумали, что Корма, наверное, больше уже не Корма...
А тут и звонок — первый после трехмесячного безделья! Раскрылись школьные двери. Повалил народ, мгновенно заполнив вестибюль, запрудив лестницу.
А стены кругом новенькие, ярко-салатовые, пахучие. И запах этот, как обычно, продержится до октября, до первых больших дождей, а там завянет, перемешается со всеми прочими школьными запахами.
Шестой «А» продвигался вверх по лестнице, и Сережа, сам почти не заметив того, оказался одним из первых. Через спины главных мальчишек класса он хорошо видел спортивную опрятную причесочку их классной руководительницы.
514
Алёны Робертовны...
Странное имя, не так ли? Но тут дело в том, что к отчеству «Робертовна» какое имя ни приставь, все будет странно. А в остальном она была, как говорится, «вполне»: молодая, симпатичная и во всех случаях жизни старалась «своих детей понять», а проще говоря — защитить. И класс за это ценил!
Пошли по коридору. На лестнице еще чувствовался некоторый строй, остатки торжественной линейки. Теперь же они окончательно превратились в ватагу. Алена Робертовна энергично раскрыла дверь класса, вошла...
Но как-то и не вошла. Что-то словно бы помешало ей. С равнодушным любопытством Сережа Крамской встал на цыпочки.
И увидел ту самую девчонку. Из леса. Конечно, Сережа вздрогнул и покраснел. Глаза их встретились... Как же она смогла его найти? А главное — зачем?
Она была одета в тапочки с тоненькой перепонкой, белые носки, короткую юбку и приветливую рубашечку в клетку. А стояла она совершенно спокойно и чуть-чуть ожидающе. Так стоят хозяйки у себя дома, когда встречают гостей.
Лица ее было не разглядеть, потому что она стояла спиной к окну, в которое лавиной летел ослепляющий солнечный ветер. Сережа теперь хорошо понимал такие вещи. Когда детективу надо провести разговор, он всегда старается, чтобы свет падал на лицо его собеседника, а сам он оставался в тени.
Не один Сережа растерялся, между прочим. Алена Робертовна тоже.
— А это, ребята, наша новенькая, Таня Садовничья.— Вряд ли кто ее мог слышать, ведь все продолжали толпиться в коридоре.— Таня* а как ты сюда попала? — Голос ее наконец обрел уверенность и обычную учительскую хрипотцу.
Ответила девчонка спокойно, будто говорила с простой знакомой:
— Просто я пришла немного раньше.
Мол, не расстраивайтесь, все в порядке, страшного ничего не случилось.
Учительница промолчала.
А класс вообще не обратил никакого внимания на слова новенькой — может, лишь несколько девочек, которые по¬
515
чувствовали в Тане Садовничьей конкурентку.
Но Сережа-то обратил! Он-то знал, что это за человек на самом деле.
И все же — как она сумела проникнуть в ученики их класса? Странно до ужаса! Глазами Таня приказала ему помалкивать и ждать.
— Рассаживайтесь, ребята! — сказала Алена Робертовна, подойдя к своему столу.— Кто где
хочет!
В прошлом году Сережа сидел один. Он ведь был Корма. Вначале, правда, с ним сидел один мальчик, Савицкий, но потом он заболел. И, придя, пересел на другое место. Учителя было стали его сажать обратно к Сереже, а он взял да и совсем из школы ушел. Куда-то переехали в другой район.
С ним и теперь, по старой памяти, тоже не собирались садиться. Никому даже в голову не пришло сказать, что-де греби ко мне, Корма.
Ну, и с новенькой, с этой Таней, тоже никто садиться не собирался. Больше, конечно, из-за того, что просто стеснялись.
И тогда вдруг эта новенькая, с таким слишком простым для себя именем Таня, тогда эта девчонка улыбнулась Сереже спокойными глазами и кивнула на заднюю парту, в самом углу, у окна.
Известно, что задние парты — по-древнешкольному «Камчатка» — пристанище всевозможных типов: неактивных, ленивых, а то и просто отпетых. В начале года, да тем более первого сентября, да перед самым первым уроком люди здесь садиться не хотят. А если, может, и хотят, то стесняются. У каждого есть надежда, что «вчерашний день лишь черновик, все можно заново начать», как говорится в одном хорошем стихотворении.
516
И вдруг она пошла туда сама. И за ней плелся Сережа. Корма!
Странная подробность.
Незаметная, а все же странная.
Алена Робертовна, уже готовая начать свою «тронную речь», даже выпустила из легких воздух. И ей пришлось его вдыхать
заново.
— Здравствуйте, дорогие мои мальчишки и девчонки!
К этому своему вступительному слову она готовилась сегодня целое утро. И во время отпуска, лежа на песочке около моря, Алена мыслями не раз пролетала над этим мгновеньем — когда она говорит своим ребятам «тронную речь».
Она, может быть, и загорала только для них — чтобы они ею любовались — именно они! Любовались и гордились. И синее платье с белой отделкой надела специально. Подчеркивать загар чисто-белым платьем — это вульгарно. А когда белое лишь отделка, то очень хорошо.
Но, к сожалению, эта милая Алена Робертовна не очень-то знала школу, хотя и преподавала уже третий год. Она вообще не очень знала жизнь. А может, лучше будет сказать, не очень ее... замечала, как и все восторженные люди. И жила она не в настоящем мире, а в том, что сама себе придумала.
Это случается с людьми, и не так уж редко. Живут они всю жизнь, ничего не зная. И живут, надо сказать, довольно неплохо, потому что окружающие к ним относятся со снисхождением: ну витает человек... Пусть себе витает! Что ж ему, крылья рубить?
— Дорогие мальчишки и девчонки! Вот и пришел наш веселый праздник!
Эти фразы она услышала когда-то от Чуковского или, может быть, от другого какого-то писателя, И фразы эти очень понравились ей. Но то, что позволено знаменитому Корнею Ивановичу, никак не годится для молоденькой учительницы.
Класс, услышав такое вступление, сразу вспомнил, что
517
Алена — известная витальщица в облаках. И тихо каждый занялся своим делом, то есть разговорами: не видались-то целую пропасть времени, глубиной в девяносто два дня.
Но именно тихо, потому что относились к ней как бы снисходительно и знали ее доброту.
Некто Игорь Тренин, человек в классе не очень уважаемый, повернулся к Сереже, не торопясь осмотрел его соседку. Есть такие люди — они скрывают свою слабость тем, что угнетают других.
— Не теряешься, Корма,— сказал он наконец и хмыкнул. Он не старался к этому разговору привлечь чье-то внимание, да и не привлек. Он лишь хотел напомнить Сереже, кто среди них главный.
И чтоб эта новенькая тоже знала!
К сожалению, Сережа не нашелся сразу, как ему ответить, а потому покраснел и растерялся. Вернее, был готов покраснеть и растеряться. Но его неожиданно выручила Таня, эта девочка. И опять довольно-таки неожиданным способом. Она спросила:
— Как его зовут, а?
Она спросила совершенно нормальным тоном, но так, словно Тренина здесь вообще не было.
— Его? Тренер...
Сережа вовсе не хотел унизить Тренина прозвищем. Просто вырвалось от неожиданности. Таня посмотрела на Тренина спокойными стальными глазами:
— Хочешь, я тебе, Тренер, фокус покажу?
И вдруг вынула... шарик! Положила на край стола. Затем повернула голову, наставила глаза на Сережу — смотрела требовательно. И Сережа, буквально замерев от ужаса — ведь он, в сущности, захватил свой шарик совершенно случайно,— сунул руку в карман...
У Тренина прямо челюсть отпала. Очень дурацкая получилась физиономия и совершенно беспомощная от полного ничегонепонимания.
— Привет! — Таня показала головой, что теперь он может отвернуться, поскольку больше ей не нужен.
И Тренер отвернулся, абсолютно бессловесно! Уши его от смущения горели, как два заката, и, казалось, немножко подросли.
— Ты драться умеешь? — шепотом спросила Таня.
Сережа сразу понял, что врать бесполезно.
— Научишься! — это она сказала так, словно бы давала ему задание на будущее.
518
Алена Робертовна между тем продолжала свою речь...
— Ты будешь слушать? — спросила Таня.
Опять ее вопрос застал Сережу врасплох: он не любил себе признаваться в том, что частенько не слушает учителей, занят более интересными делами. Да в этом и никто не любит признаваться!
— Я лично послушаю; — сказала Таня.— Мне надо ее гонять... А ты мне пока составь схему класса — по партам: имена и прозвища.
Алена Робертовна говорила, в сущности, умные и полезные вещи. Но почти никто ее не слушал — из-за «ви- тательной» манеры выражаться. И только синие глаза с задней парты смотрели на учительницу внимательно и спокойно.
И без всякой любви.
Странно и жутко..,
В тот день больше ничего примечательного не случилось с Таней Садовничьей. Нет, пожалуй, было. На шестом уроке, на физкультуре, им устроили прикидку на шестьдесят метров — кто как отдохнул за лето, кто сколько сил набрался, кого, может быть, стоит рекомендовать в легкоатлетическую секцию.
И здесь Садовничья вдруг заявила:
Побегу только с самым сильным. Иначе мне не интересно.
Причем сказала она это без всякого вызова. Просто сообщила учителю, как обстоят дела.
Степан Семенович усмехнулся, чтобы скрыть удивление:
— Ну... Удовлетворим твою просьбу.
И сначала все пробежали шестьдесят на время. А потом Таня побежала с самым сильным, с Огаревым.
Степан Семенович надеялся после забега ей сказать, что вот, мол, никогда не надо задаваться.
Но она отстала совсем ненамного!1 И он решил промолчать. Потом Таня объяснила стоящему рядом Сереже:
— Просто я хотела, чтоб меня сразу запомнили. Это пригодится!
И ее действительно запомнили. А поскольку она контактировала с Сережей, его телефон стал даже своеобразным дефицитом... Ведь в классе мало кто знал эти никому, казалось бы, не нужные семь цифр.
519
— Ты можешь сказать-то, кто она такая? — спрашивали Сережу.
А он отвечал:
— Пока не могу!
А что ему оставалось делать, когда он сам ничего не знал?
И вдруг, словно гром среди ясного неба, раздался ее звонок:
— Надеюсь, ты не удивляешься, что я знаю твой телефон?
— Удивляюсь,— честно ответил Сережа.
— Неужели ты думаешь, так трудно найти способ узнать телефон какого-то ученика? В школу, например, можно позвонить... Но я, естественно, воспользовалась другим.
Потом и еще бывали случаи, когда она что-то «узнавала». И Сереже Крамскому редко удавалось раскрыть пути ее узнавания.
— Приходи ко мне. Будешь заниматься боксом. Бокс мне от тебя нужен в первую очередь.
Он хотел всего этого и ждал чуть не целое лето, ждал — ее резкости, неожиданности... и таинственности в то же время. А теперь вот робел! Слабым, словно сделанным из поролона, пальцем тронул кнопку звонка.
Дверь эту Сережа нашел без труда, потому что Садовничья, оказывается, жила всего в «полумороженом» от него — как выражалась в их школе одна изысканная девятиклассница.
То был новый, известный всему кварталу дом — шестнадцатиэтажка. Через темный предбанничек его провели в слишком просторную, слишком светлую комнату. Такие всегда бывают в новых домах, покуда сюда еще не успела заселиться мебель. У стены стоял диван, у другой стены телевизор. «Удобно»,— подумал Сережа. Перед стеклянной дверью, выходящей на балкон, поместился письменный стол со стулом.
— Форму принес? — спросила Таня. Тут же увидела, что ничего он не принес, крикнула куда-то в закрытую дверь: — Дай ему что-нибудь.— А потом указала глазами, что Сереже туда надо войти.
Парень, явно старше его, сидел на стуле и зашнуровывал настоящие боксерские ботинки. Сердце у Сережи застучало от волнения и... сами понимаете, отчего еще! Все же он сумел заметить, что в комнате ничего нет, кроме трех стульев. Странная какая-то квартира.
520
Парень из стоящего рядом раскрытого чемоданчика вынул трусы, майку, посмотрел на Сережины — на самом деле, конечно, купленные бабушкой — сандалии:
— Сегодня босиком побудешь. В следующий раз свое приноси.
Сережа стал неловко раздеваться. Парень рассматривал его без всякого дружелюбия, но и без всякой вражды. Примерно так на вас смотрит в свое зеркальце, например, шофер автобуса: можно наконец закрывать двери или еще кто-то там никак не влезет.
Как человек воспитанный, Сережа попробовал завести разговор. Спросил:
— А родители нам ничего?
Видно, по его тону парень догадался, что Сережа был бы не против, если б родители вдруг помешали поединку.
— Не волнуйся,— ответил он с заметной усмешкой.— Родители в Африке.
Сереже представилась саванна из «Клуба кинопутешественников».
— Они исследуют?
— Они токари, понял? — И добавил уже с неприязнью: — Что ж, одним профессорам быть?
Сережа миролюбиво пожал плечами: мол, ничего такого он не собирался думать.
— А вот я, например, в ПТУ учусь... А что ж, по-твоему, одним десятиклассникам быть?
Странная такая беседа.
В большой комнате Таня осмотрела его спокойными синими глазами. Наверное, Сережа не очень-то получился прекрасен в трусах и майке, которые к тому же были ему велики. Да еще с босыми своими, крошечными, как у девчонки, ногами. Сказала:
— На первый раз сойдет.
Сережа никогда еще не надевал боксерских перчаток. Они были тяжелые и мягкие и в то же время внушительные. Сережа поднял их к лицу, как не раз видел в телевизоре, и стал коротко прыгать влево-вправо, ааево-вправо. А этот мальчишка из ПТУ тоже стал прыгать, надвигаясь.
Так они немножко попрыгали. Сережа незаметно для себя отступал. И когда он почувствовал спиной, что сейчас будет диван, что отступать больше некуда, мальчишка вдруг замахнулся левой, а ударил правой. У Сережи что-то сверкнуло в глазах, и он упал спиной на диван.
521
— Прекрати сейчас же! — закричала Таня.— Я тебе что велела?!
Мальчишка чго-го ответил — Сережа не расслышал, потому что он очухивался и вставал.
— Давай делай, как я,— говорил ему мальчишка, словно ничего не случилось,— замах левой, удар правой, замах левой, удар правой. Не, ты как следует замахивайся, чтоб я поверил, чтобы я тебе челюсть открыл... Л теперь смотри: делай вид, что ты в нос лупишь, а сам в живот. Оп-па! — И Сережа почувствовал, как мальчишкина перчатка ударила его в самое солнечное сплетение. Но теперь уже небольно, учебно.— Давай это двадцать раз!
Когда уже пот с Сережи лил, как дождь из июльской тучи, мальчишка остановил его и стал показывать упражнения, которые надо делать боксеру на зарядке: для брюшного пресса, для плеч, для шеи.
— А это,— он показал на бицепсы,— нам вообще не надо. Хоть ножом отрежь да выброси! — И даже показал, как бы он отрезал свои бицепсы ножом, засмеялся. Он был чем-то доволен. Сказал Тане, которая все так же молча и внимательно следила за ними: — Ничего, способный малый. Не курит — сразу видно.
Сережа сидел, положив на диван руки в тяжелых боксерских варежках и совершенно забыв, что он при женщине голый и босый. Да еще в чужом доме!
Но Таня Садовничья была для него не «женщина», не девчонка то есть, а... У взрослых это называется «начальство». У ребят же на еей счет имеется несколько названий. И поэтому, как говорится в учебнике по русскому языку, «вместо точек подставь нужное слово».
Нельзя сказать, что ему понравилась эта тренировка. И нельзя сказать, что ему понравилось быть способным учеником боксера. Нет, ему, конечно, было приятно, что похвалили. Да только неприятно, что хвалили за умение бить. Он сказал, скрывая и довольство свое и недовольство:
— А зачем это вообще нужно?
— Пригодится! — Мальчишка усмехнулся.
— Ну, для чего?
— Да для всего! Для уверенности. И потом... Что ж ты, не замечал — чем здоровей, тем спокойней.
— Не всегда. Америка, например, какая сильная, а совсем не «спокойная»!
Сережа спорил, по существу, не с мальчишкой этим. Он спорил с самим боксом, с умением драться, с умением бить.
522
Мальчишка не ответил ему ни слова, лишь посмотрел на Таню да пожал плечами:
— Я же не Америка...
— Его зовут Борис.— Таня кивнула, как бы подтверждая, что он действительно не Америка. И потом сама улыбнулась своей шутке.
И вдруг сказала:
— У меня хлеба нет.
Борис спокойно кивнул и поднялся.
— И купи там чего-нибудь к чаю.
— А чего?
— Ну что будет.
И он больше ни о чем не стал спрашивать, потому что, понял Сережа, не хотел получить еще порцию сердитых, нетерпеливых слов. Взял сумку и ушел.
— Он почему тебя так слушается? — спросил Сережа.
Таня в ответ пожала плечами:
— Ну, я опытней, умней. И он это отлично знает!
Сережа буквально рот раскрыл от удивления... Раскрыл
бы — но он не мог себе такого позволить.
— Кто-то ведь должен быть главней, а кто-то должен подчиняться... Это нормально.
— Он твой брат?
— Почему брат... Просто нужен для дела.— И придавила взглядом вопрос: мол, для какого такого дела. Потом сказала, чтобы просто проехать это место: — Я одна живу.
— Совершенно одна?!
— Ну... Бабушка иногда наезжает.
За чаем Борис довольно самоуверенно обучал Сережу премудростям «человеческих отношений».
— В драке главное иметь спокойствие и видеть, что происходит.
Он придвинул к себе опустевшую банку из-под варенья, позвенел ложкой по стенкам. Потом налил в банку кипятка, стал ополаскивать. И когда остатки варенья растаяли, стал пить сладкую воду. Сережа где-то читал, что так делают... или делали раньше. Но видеть этого ему не приходилось ни разу. У них в семье так никогда не делали.
Борис заметил его взгляд.
— Дать?
Сережа покраснел в ответ. Борис пожал плечами, отпил из банки и наставительно продолжал:
— В драке надо, как в шахматах, не торопиться. Если будешь играть внимательно, то даже с мастером можно
524
продержаться ходов пятнадцать — двадцать... А в драке редко встречаются мастера!
Таня слушала его внимательно и, пожалуй, с одобрением. Когда Борис кончил, она сказала:
— Правильно говорит!
Через несколько дней, когда они возвращались из школы, Сережа опять завел разговор про драку. Про умение бить... И еще ему хотелось что-нибудь про нее узнать, про загадочную девчонку, которая стреляет из рогатки стальными шариками, для которой настоящие боксеры ходят в магазин.
Кстати, она и в Москве тренировалась в той своей расчетливой и спокойной стрельбе: вешала фанерку с толстым пластилиновым кругом, чтобы шарики не разлетались.
И вот однажды Сережа спросил: зачем ей это надо?
— Учусь стрелять!
Сережа опять хотел спросить — зачем? Но неожиданно у него вырвалось:
— В кого?
— Я ж тебе, кажется, объяснила — еще тогда: я собираюсь работать инспектором Уголовного розыска. Значит, надо уметь стрелять. Не из рогатки, конечно! — перебила она сама себя.— Но глаз тренирует хорошо. Я узнавала.
— Что ж, ты будешь... в людей стрелять?
Она ответила, спокойно сверкнув на него синими глазами:
— Я буду стрелять в преступников.
На том разговор и окончился. И все же странно и жутко было все это слышать.
Учебные драки
Таня, конечно, видела, как он относится к ее планам, и к ее стрельбе, и ко многому другому из того, что она считала правильным. Обычно в таких случаях люди говорят тебе: «Ну значит... как хочешь. Найду себе других».
Таня продолжала с ним... как это назвать? Дружбой, по крайней мере, не назовешь!.. Продолжала их отношения. И это было тоже необычно в ней. Как и все остальное.
И было совершенно неясно, откуда она такая. Словно прилетела с Марса и принялась тут устанавливать свои законы и правила.
525
Собственно, ее законам подчинялся один только Сережа. Вот уже месяц, как он занимался боксом. А за месяц, оказывается, многому можно научиться. И ко многому можно привыкнуть.
Он научился наносить удары, и это уже не казалось ему чем-то непоправимым. Может быть, потому, что он научился принимать удары — не теряться, не. умирать от первой оплеухи или тычка в нос. И он знал теперь: чем решительней и больше он нанесет ударов, тем меньше получит сам.
Два раза в неделю они ходили с Таней на тренировку по раскрытию преступлений. У кино, прямо перед входом в кассу, продавали мороженое. Ну и кто-нибудь непременно бросал бумажку на тротуар. Сережа обязан был определить, чья это бумага.
— Кого подозреваешь? — тихо спрашивала Таня.
Стоя у стены, они внимательно оглядывали очередь.
Сережа успел уже заметить, что чаще бумагу бросали
мальчишки. На них и стоило обращать особое внимание.
— Думаю, в синей куртке.
— Почему?
— Ест противно, толкается. Сорт мороженого совпадает: у него эскимо за двадцать и бумага от эскимо.
Особо строгих доказательств тут быть не могло. Таня и Сережа к ним, пожалуй, и не стремились. Потому что развивали в себе такое чувство, которое у работников Угрозыска называется интуиция.
— Ладно, принимаем этого типа как рабочую версию,— говорила Таня.— Действуй!
О, как он боялся в первые разы... Но и к страху можно привыкнуть. И даже довольно легко. Тут главное помнить, что если даже тебя стукнут, например, по челюсти, ты от этого не умрешь, а сумеешь ответить ударом на удар.
Сережа подходил к «преступнику»:
— Подними бумажку, которую ты бросил!
Чаще всего ему отвечал недоуменный взгляд... Это удивительно: люди даже не замечают, как они мусорят.
— Тебе сказали — поднять!
— «Сказали*? А тебя тут сколько?
Если даже противник был выше и плечистей, он обязательно поначалу терялся — путала Сережина уверенность.
— А ну поднимай. Как миленький поднимешь!
526
— Слушай, мальчик. Что ты тянешь? Что ты напрашиваешься?
И наступал главный момент.
— Подними. Иначе получишь.
Умение драться — и не на боксерском ринге, а в настоящей жизни — тоже входило в Танину программу.
Потом, когда Сережа думал о секундах стычки, получалось, что он помнит все совершенно отчетливо, до каждого движения. До решающего удара. Не верилось, что это происходило с ним!
Однажды, когда попался им действительно крепкий мальчишка и когда Сереже ничего не оставалось, как только продержаться свои «шахматные» пятнадцать — двадцать ходов, из-за его спины вдруг вынырнула Таня и ребром ладони резко ударила мальчишку по правой руке. Мальчишка ойкнул, рука его опустилась, и драка прекратилась.
— Ты ведь это без меня умеешь,— сказал потом Сережа.— Зачем же нужен я?
— А ты сам сообразить никак не можешь? — Она замолчала с одной ей доступной холодностью.— Я ведь все-таки женщина!
— Ясно... А кем я тебе довожусь? Телохранителем?
— Ты мне доводишься доктором Ватсоном,— ответила она.
Словно жук на булавке
Однажды Сережа застал у Тани какую-то женщину. Для матери Таниной она была слишком пожилая. А главное — какая-то она была вся «нематеринская». Да и родители же ее в Африке.
— Психологический практикум,— сказала Таня.— Кто, по-твоему, этот человек?
Женщина с улыбкой посмотрела на Таню, покачала головой. Было что-то непередаваемое в этой улыбке, такое, что Сережа сразу сказал:
— Бабушка твоя?
Тогда женщина засмеялась с удовольствием:
— И даже Татьяной меня зовут. Федоровной. В честь вот этой вот стрекозы! Садись-ка, Сережа, выпей с нами молока.
Однако сама бабушка пить не стала, а быстро ушла в
527
маленькую комнату. И оттуда сразу же послышались звуки — ну такие, как если убираются.
Молоко было — отказаться от второй чашки просто невозможно: как настоящее дачное! И не из пакета, не из бутылки. Из простого алюминиевого бидона с чуть помятым боком.
Вошла бабушка, заглянула в кастрюльки, булькавшие на газу, снова ушла.
— Л кто она по профессии? — спросила Таня.
Сережа стал думать почему-то не о профессии, а о
бабушкиной одежде. Она одета была как-то... Нет, не плохо, а вот... Неярко, что ли, не по-городскому. И молоко деревенское... Он удивленно посмотрел на Таню. Но произнести не решался.
— Телятница она, понял! — сказала Таня торжествующе.
Сережа был поражен. И тем, что у такого человека, как Таня, бабушка телятница. И тем, что он почти угадал!
Бабушка пробыла еще час с небольшим. Прибралась, сготовила щи, второе, укутала одеялом кашу и скорее уехала, потому что не могла оставить телят своих больше чем на несколько часов... Ну и дела!
Что он еще узнал за этот месяц? Много, много всего.
Таня изучала класс. Она знала всех (конечно, с помощью «Ватсона»).
Ее — никто! Ее, вернее всего, просто считали серой личностью: за месяц к ней попривыкли. О странном появлении довольно скоро забыли. Таня сама так устроила, ограничиваясь короткими ответами, ограничиваясь отношениями с Сережей, который в классе все-таки котировался в основном на тройку.
Она говорила:
— Это все тренировка, а не жизнь. И потом, сыщику совсем не обязательно, чтоб его знали в лицо. Чем меньше народу меня понимает, тем лучше!
И еще она говорила:
— Я знаю. Ты думаешь, мы в игрушки играем...
Говоря по правде, Сережа действительно во многом
сомневался.
— А я бы на твоем месте продолжала упорно готовиться! — говорила она с суровой укоризной.
— Да к чему?!
— К тому! К тому, что преступление зреет!
528
— Да с чего ты взяла?
— Логический расчет. Первый месяц все к школе относятся шаляй-валяй. Но дальше уже надо думать про четвертные. Понимаешь? А честно думать по силам далеко не всем!
Сережа в таких случаях не умел ни возразить, ни поддакнуть.
— Для начала я расследую чисто школьное дело. К этому и готовься. Думай о школе, о классе. Все замечай.
И Сережа старался замечать.
И тем заметнее становились перемены в нем самом. Со страхом и волнением их замечала Сережина бабушка.
Дело в том, что его родители уехали в сибирский Академгородок — участвовать в каких-то там экспериментах. Таня, узнав об этом, усмехнулась:
— Тоже на восток? Поближе к моим?
Сережа хотел удивиться: ведь Сибирь и Африка... Но Таня нисколько не слушала его. Сказала сердито:
— Раньше дети хотели быть свободными от родителей, а теперь родители хотят быть свободными от детей.
— Да ты откуда это знаешь?
— Я же их не осуждаю! — Таня усмехнулась. И было неясно, то ли она это сама придумала, то ли где-то вычитала. А где можно такое вычитать?
Но речь сейчас не об этом и вообще не о Тане. Речь о Сережиной бабушке, о Елизавете Петровне. Каждый день, а особенно каждый вечер, она собиралась поговорить с внуком и — не могла. Она сама установила в доме эти отношения вольности, свободы личности. Ведь когда-то она была тут вовсе не «бабушкой», а главой семьи. Когда еще жив был ее муж и сын только готовился поступать на химфак в Московский университет.
И все-таки однажды, когда Сережа пришел домой с синяком под глазом... И при этом вовсе не подавленный. И при этом глаза — и подбитый и неподбитый — чуть ли не веселые, чуть ли не победные. (А они, наверное, и были победные, только бабушка того представить себе не могла!) В общем, именно в такой вечер она решилась наконец. Всего, впрочем, на одну фразу:
— Ты думаешь, это хорошо — так измениться вдруг? — Она подала внуку холодную серебряную ложку, чтобы он приложил ее к синяку.— Ты уже стал не ты, понимаешь? Какой-то другой!
529
Это были, как ей казалось, сильные слова. На Сережу, однако, они не произвели впечатления.
— Ну ладно. Давай пить чай! — сказала бабушка. И это была тоже не простая фраза в их семье. Она как бы значила: разговор вслух окончен. Но разговор про себя — безмолвный разговор и даже более важный — продолжается!
...Елизавета Петровна думала сейчас о довольно странном — о многих смертях, через которые приходится пройти человеку, пока он не доберется до последней и главной своей смерти.
Вот Сережа... Потерял такую чудесную наивность и мягкость. Стал вдруг внимательнее, расчетливей. Стал другой! И значит, тот прежний Краме больше не существует.
Так ужасно было это думать.
Но это была правда. Елизавета Петровна вдруг невольно вспомнила, как внук ее ожесточенно дышит, делая свою физзарядку... Конечно, это абсолютно в духе вре-, мени — увлечение спортом и так далее. Но — подумать только! — как это не похоже на Крамса. На прежнего Крамса! Теперь уж его так и не назовешь!
Не в силах более сдерживать себя, Елизавета Петровна порывисто встала. То есть порывисто, насколько ей позволили шестьдесят шесть лет. И ушла к себе!
Она ошиблась. Ее слова произвели на Сережу впечатление. Он, конечно, не мог знать о взрослых бабушкиных мыслях про многие смерти в жизни человека. А все же чувствовал эти перемены. И тревожно ему становилось. Хотя он и делал вид, что — ничего, все в порядке. На самом деле было ему тревожно. Ведь он тоже принадлежал к этой семье, которую когда-то основала бабушка, и наследственная закваска в нем сидела крепко.
Машинально Сережа прижимал тяжелую серебряную ложку к подбитому глазу. Ложка была старая, с неудобной квадратной ручкой, на которой были вырезаны виноград, яблоки, груши, колосья, еще что-то пышно-растительное и четыре буквы: «ВСХВ». Так раньше, задолго до его рождения, называлась Выставка достижений народного хозяйства.
Был бы поблизости человек, который умеет выражаться штампами, он сразу бы определил, что Сережа «идет на поводу».
Так, быть может, Сережа шел? Не хотелось ему думать
530
этими глупыми словами. Получается, что про человека говорят, как про лошадь или как про корову!
Значит, что же ему — уйти от Тани?
И сразу отвечал себе: нет, этого он не сделает... Идти на поводу, конечно, плохо, но и предавать тоже, извините, не очень...
И всс-таки странные у них были взаимоотношения! Попадись сейчас Сережа на язык сплетнице, она точно определила бы: влюбился!
Хотя на самом деле Сережа и не думал влюбляться. Куда там — в такую начальницу, в такого железного Шерлока Холмса!
И неправильно было бы сказать, что Сережа ее, например, боялся. Однако и возражать не пробовал никогда.
Раз он пришел к Тане для какого-то там их дела. Между прочим, она никогда не ходила к нему, а только он к ней. Сережина бабушка даже, наверное, и не подозревала о существовании такой Садовничьей Татьяны.
Он пришел к ней. Таня открыла дверь, молча и спокойно приложила палец к губам, провела в маленькую комнатку. И здесь из-за полуприкрытой двери он слышал разговор, который происходил в большой.
— Кто там пришел?
— Мой брат! — твердо ответила Таня.
А первый голос был нервный отчего-то. Мальчишеский.
— Ты ведь мне обещала. Разве не так? А теперь предаешь!
— Ну ты же видишь, я переехала в другой район,— спокойно отвечала Таня.— Другая школа.
— Что ж, если школа другая, значит, можно спокойно предавать?
— Мне это не интересно больше! — опять очень твердо произнесла она.— И я не обязана притворяться.
На этом месте Сережа сильно прикрыл дверь — чтобы не подслушивать и чтобы напомнить о себе.
Через короткое время невидимый мальчишка ушел.
— Вылезай! — сказала Таня. И потом: — Почему ж ты ничего не спрашиваешь?
А он правда ничего не спрашивал. Как подчиненный, что ли? Ему прикажут, он и выполняет — вопросы никакие не нужны. Действительно странно!
— Рассказать, как я тебя в лесу узнала?
А он уж будто забыл, будто у него Таня была командиром всю сознательную жизнь. Надо же — гипноз!
531
— Мы когда эту квартиру купили, я решила сходить в школу, где буду учиться. Пошли с отцом. А тут перемена — выходит ваш пятый «А». Ну и ты в том числе.
— Почему именно пятый «А»?
— А это семейная традиция. У меня отец все восемь лет в классе «А» учился. И я тоже решила!
Сережа кивнул. Все до того просто оказалось, что лучше бы и не узнавать. Таня живо разобралась в этом его скучном кивке:
— Когда фокусы объясняют, всегда неинтересно. А сами только что хлопали! — Потом пригвоздила его взглядом: — Как же ты не оценил, что я тебя запомнила! И потом узнала! Через три месяца! Среди леса! Когда ты был в одних шортах!
Увидев, что Сережа чувствует себя пристыженным, она смягчилась:
— Это приходил один мой... В общем, человек из той школы.
Вдруг раскрыла нижнюю часть книжного шкафа. А там, как известно, книги обычно не лежат, там разные бумаги или даже постельное белье.
Таня вынула несколько больших застекленных коробок. Сережа глянул и замер от удивления. За стеклами оказались картонки, к которым сплошь рядами были приколоты жуки.
— Мы вот чем занимались,— резко сказала Таня.— Дурацкое занятие! Каждый жук шевелит лапами чуть ли не по неделе.
Сережа еще раз посмотрел на ряды высохших жуков... Ему стало не по себе.
— Ия подумала: зачем изучать насекомых, когда сразу можно изучать людей!
Не то сомнение, не то испуг шевельнулся в его душе: может, ей скоро и людей надоест изучать? И, как тот мальчишка, он окажется в совершенно безвоздушном пространстве... Спросил:
— А ты, кроме жуков, еще чем-нибудь увлекалась?
Она ответила:
— Конечно!
— А почему больше Борис не появляется?
— А он больше не нужен. Понадобится — позову.
Вот о чем вспоминал, о чем думал Сережа Крамской,
когда сидел один за кухонным столом перед стаканом
532
остывшего чая, прижимая к подбитому глазу тяжелую серебряную ложку.
А поделать ничего не мог!
Скоро кое-что случится
— Хотела бы я знать, кто же это сделает,— сказала Таня.
— Что сделает?
— Преступление.
Сережа собрался было удивиться, почему она так уверена: пять лет их класс спокойно обходился без преступлений, а как пришла Садовничья, так сразу должны... преступаться!
Таня между тем продолжала свои мечты:
— Да нет, не хочу я знать, кто его совершит...
— Почему?
— Потому! Думаешь, Шерлок Холмс сразу хотел знать, кто кого убил? Он хотел до этого докопаться!
Помолчали. Алена Робертовна произносила речь — шел, между прочим, классный час.
— Слушай, Тань, а почему?..— И далее Сережа изложил ей свою мысль про пять лет спокойной жизни их класса.
Не дослушав (ей и так все было ясно!), Таня улыбнулась чуть снисходительно и покачала головой:
— А как ты думаешь, закон Архимеда существовал до Архимеда? Точно так же и преступления! Вы их не замечали, вот и все. Думали: это — совпадение, то — несчастливый случай. А чаще как бывает? Подозрение есть, да разбираться неохота, ну и замнем для ясности! А каждое нераскрытое преступление рождает пять или шесть новых.
— Ты откуда знаешь?
— Знаю. Это моя теория. Самый опасный преступник знаешь какой? Который остался безнаказанным! — И, видя, с каким вниманием Сережа ее слушает, сказала: — Надо мне было с тобой еще теорией подзаняться. Совсем я это упустила из виду! Теперь уж некогда.
— Почему?
— Предчувствие есть: начинается моя работа! Теперь смотри и слушай, чтоб...— она поискала слова посильнее,— чтоб ни один микроб не проскочил!
533
И они стали слушать Алену Робертовну, наверстывая пропущенное.
Классные часы, как известно, происходят по субботам.
Но сейчас была обычная среда, третий урок, по расписанию русский. Алена Робертовна решила: ничего, если надо, она всегда нагонит. Поговорить с классом по душам, вот что сейчас важно.
Сегодня было тридцатое сентября — день подведения итогов за месяц и день вручения золотой медали лучшему ученику. То было чисто ее изобретение. И надо сказать, не лучшее изобретение. Медаль назначалась всего одна. Думала, в классе разгорится соревнование. Но ничего, увы, не разгорелось! Несмотря на то, что медаль была настоящая, золотая, какие дают ученикам за отличную успеваемость и примерное поведение.
Алена Робертовна пожертвовала ради такого случая своей собственной школьной медалью: просверлила в ней дырочку, продела цепочку. Получился прекрасный переходящий приз.
И все-таки успеха эта затея не имела. Март, апрель и май прошлого года (а именно столько существовал не1 обычный приз) медаль получала Лида Самсонова. Именно она была круглой отличницей, а стало быть, ничего тут не поделаешь!
И хотя Алена Робертовна верила в свою идею, старалась все обставлять поторжественней и даже брала у Самсоновой интервью для стенгазеты, медаль уже в апреле была переименована в «лидаль». А это, конечно, несомненный признак того, что ребята настроены иронически, а совсем не вдохновенно.
Что-то надо было делать. Но что? Самое простое — отказаться от этой... «лидали». Алена Робертовна считала, что так поступить она не имеет права — авторитет. И потом, вдруг кто-то из учеников класса решит, что она просто зажала свое золотишко!
Тогда придумала Алена Робертовна (а придумывала она, как мы помним, лежа у самой сине-белой каймы Черного моря), придумала создать, как говорят взрослые, здоровую конкуренцию. Сперва, быть может, несколько искусственную. Но потом, думала она, борьба все-таки разгорится! Обязательно должна разгореться!
Алена решила присудить медаль не совсем справедливо — не лучшей ученице Самсоновой, а кому-нибудь другому.
534
— Сегодня я хочу отметить особую старательность и прогресс нашего нового лауреата. Хочу заметить, что она большой молодец, добилась своего, отвоевала у Лиды медаль. Значит, я полагаю, это могут сделать и другие?
Тут Алена улыбнулась чарующей улыбкой — словно готовилась принять букет гвоздик*
А класс замер в ожидании сенсации. Вернее, в ожидании непонятного. Ведь Самсонова как была лучшей, так и осталась. Что же в таком случае затеяла Алена Робертовна? И для чего? Учителя — народ непонятный!
— Медаль присуждается Лене Серовой!
Загремели аплодисменты — это в одном углу шестого
«А». И вытянулись физиономии — это в другом углу шестого «А».
Эх вы, витающая в небесах Алена Робертовна! Жалеешь вас, жалеешь, а, видать, надо все-таки хоть разок подрезать ваши выдуманные крылья...
Были в шестом «А» две девчонки, вокруг которых так или иначе крутилась вся жизнь — Самсонова и Серова. У них были свои «команды». А остальные двадцать семь или двадцать восемь человек класса являлись... Как тут сказать? Болельщиками, что ли: сам в команде не состоишь, «на поле не выходишь», однако за делами ее следишь, или даже заполняешь таблицу под названием «Движение по турам», или даже нет-нет да и выкрикнешь, что, мол, «Спартак» — чемпион, а ваша — так себе команда:.. И стало быть, когда произносятся слова, что «Серова обошла Самсонову...» (да еще произносятся кем!), и когда у Самсоновой медаль отбирают, а Серовой отдают* это, знаете ли...
Здесь стоит, между прочим, заметить, что Сережа принадлежал к той части болельщиков, у которой вытянулись физиономии.
Пожалуй, лишь одна Таня сохранила полный нейтралитет. Но ведь она была новенькая.
Сережа почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Естественно, это была его соседка по парте. Спокойными своими синими глазами погасила Сережин все еще досадливый и негодующий взгляд:
— Запомни мои слова! Скоро что-то случится!
«Незнакомец из Менга»
А ведь она угадала! Это началось буквально через сутки. Но никто ничего не заметил. Быть может, такова вообще природа преступлений: честным людям до последнего не верится, что оно уже совершено. Все думаешь: недоразумение, чепуха, через полчаса все разъяснится.
Первым, как это ни странно, засомневался Сережа. Пришел домой, сел за уроки, а внутри что-то не на месте. Взял телефон, тихо отнес в свою комнату (бабушка на кухне читала «Иностранную литературу» и следила, как тушатся баклажаны), тихо набрал номер... Таня выслушала, не проронив ни звука, потом сказала: «Нет». И положила трубку.
Она вовсе не считала, что должна быть любезной со своими подчиненными, если занята каким-то более важным делом. А дело у нее действительно было важное. Лежа в ванной, она училась дышать через резиновый шланг... Получалось у нее из рук вон плохо. Вода забиралась в нос, в рот и в уши.
Она лежала на дне, чувствуя затылком гладкую поверхность ванны, и по ударам сердца подсчитывала вытерпленные секунды.
Телефонный звонок прокричал низким и как бы охрипшим голосом — так ей показалось из-под воды. Едва отплевавшись, отсморкавшись, Таня взяла трубку. До Сережиных ли глупостей было ей в тот момент!
И вот на ж тебе — ее подручный все-таки оказался прав!
На следующий день первый урок был русский. Уже прозвенел звонок. Они все сидели за партами, переговариваясь вполголоса, и многие — увы! — радовались, что минутки от урока уходят, тают. Вовсе не думая о том, что это тают минутки их собственной жизни!
Звуки в коридоре исчезли, выметенные школьной тишиной. Алены все не было. И они уж начали надеяться, что учительница вовсе не придет, мало ли — заболела или еще что-нибудь. И значит, им сейчас надо сидеть тихо, чтоб завуч ничего не заметила. И, если повезет, они так просидят целый урок.
Но здесь влетела Алена Робертовна — запыхавшаяся, веселая, словно они были не ученики, а соучастники ее опоздания.
Алена села к себе за стол, чуть растерянно оглядела его:
536
— Годенко.
Поднялся Гришка Годенко — одна из ярких личностей их класса.
— Будь любезен, сходи, пожалуйста, за журналом.
У Алены Робертовны и Гришки были сложные отношения, и уже давно — с четвертого класса, с тех пор, как Алена взяла их класс под свою опеку.
Обычно как относятся к учителям? Того немножко любят, того немножко не любят. Но в основном все-таки спокойно, чтобы не сказать равнодушно.
Здесь все было наоборот.
Если б в шестом «А» употреблялись возвышенные слова, то вполне можно было бы сказать, что у Алены Робертовны и ее ученика Годенко отношения романтические!
Гришка мог на контрольном диктанте выпустить из-под парты воробья с привязанной к хвосту лентой. Естественно, урок лопался, как передутый воздушный шар. Алена Робертовна громко сердилась, причем не столько за сорванный урок, сколько за то, что эта привязанная лента «является издевательством не только над птицей, но и над самой Жизнью!..». Так она говорила, сверкая глазами.
И вдруг Годенко, который вовсе не собирался признаваться, что именно он выпустил несчастного воробья, теперь крикнул Алене Робертовне прямо в лицо, что стыдно ей так думать про издевательство над Жизнью. Он лишь для того привязал ленту, чтоб воробья легче было поймать и отпустить в окно.
«Неужели вы не понимаете таких простых вещей, что вас не хотят расстраивать, что о вас думают!» — крикнул Гришка и выбежал из класса, предоставив другим возможность доказывать, как просто поймать воробья, за которым струится по воздуху метровой длины розовая ленточка.
Трудно, конечно, понять, какая тут забота о человеке, когда к воробью привязывают ленту. Вернее всего, что Гришка просто хотел покрасоваться перед любимой учительницей.
Иногда, кстати, это ему удавалось сделать очень даже просто. И тогда все замечали, какой Годенко милый и симпатичный. Например, он мог на Восьмое марта обклеить всю доску мимозными ветками и россыпями отдельных мимозных шариков (если в магазине, то это можно купить даже на самые небогатые средства). Урок русского, ко¬
537
нечно, опять пропадал, потому что кто же, скажите, тронет такую красоту!
И Алена Робертовна вдохновенно проводила классный час. А урок с общего согласия переносили на субботу, на после занятий, когда должен был проходить настоящий классный час.
В данный момент у Гришки и Алены Робертовны опять была, как говорится, «напряженка». И шестой «А», который с большим интересом следил за развитием их отношений, это хорошо знал...
Теперь же, словно шелест по лесу, по классу пронеслись всевозможные красноречивые взгляды: мол, напряженка напряженкой, а за журналом погулять послали все-таки любимого Годеночку.
Гришка покраснел и подчеркнуто спокойным шагом отправился выполнять задание.
Понятно, что Алена не стала его ждать, она начала урок. Лишь минут через десять она обратила внимание, что Годенки все нет. Сделала короткую паузу, пожала плечами, как бы вспоминая о своих все-таки прохладных отношениях с данным субъектом. И снова углубилась в русский язык.
Она кончила опрос и перешла к новому материалу. Надо заметить, что если Алену слушать внимательно, то можно было легко понять, объясняет она интересно. А ведь это редкая вещь, когда про синтаксис и орфографию умеют рассказать так, что ты сидишь без всякого желания пошептаться о вчерашнем хоккее и, может быть, впервые понимаешь, как действительно богат и прекрасен, как он удивительно устроен — твой родной язык.
Сережа Крамской открыл для себя это умение учительницы в конце пятого класса и теперь, когда не имелось более неотложных дел, старался слушать ее. С трудом он повернул голову к Тане.
— А ведь, кажется, ты прав! — Она смотрела на него спокойным и ясным взором. Но все-таки Сережа услышал ее тайное волнение. И затем услышал, как сейчас же
ГРИШКА
538
и на той же глухой ноте заработала его собственная душа.
— Чего прав?
— Журнал-то исчез!
Да! Именно об этом вчера и звонил ей Сережа: о крохотном происшествии на уроке рисования. Валентин Макарович, особенно ни к кому из них не обращаясь, ворчал, что, мол, куда это в вашем классе вечно деваются журналы? Что вы их, на бутерброды используете, что ли?
Но, серьезно говоря, кому на рисовании нужен журнал? То есть нужен, конечно. Однако обойтись без него куда проще, чем идти искать.
Сейчас, после Таниных слов, Сережа еще ничего не успел ощутить — ни радости, ни гордости, а только все то же волнение,— и тут дверь отворилась, вошел Годенко. Вид какой-то непонятный, и глаза горят.
И журнала в руках нету!
Происходит немая сцена. Алена у них была, между прочим, не из тех учительниц, которые понукают учеников фразами: «Мы тебя ждем. Ты нас задерживаешь. Не отнимай у класса время» и так далее. Алена просто ждет, когда сверкающий глазами Годенко отдышится и что-нибудь промолвит.
И шестой «А», который на своем веку достаточно повидал учителей, невольно проникается уважением к своей классной. Она хоть и витает, а понятие у нее есть!
И вот Годенко начинает повествовать... Всякий, кто читал «Трех мушкетеров», помнит, конечно, эпизод, когда д’Артаньян встречает в городе Менге некоего незнакомца (как выясняется из дальнейшего, то был граф де Рошфор), пытается его преследовать. И после некоторых весьма живописных сцен зловещий незнакомец исчезает.
Понятно, что Гришкин рассказ был осовременен. И все-таки в главных деталях и поворотах сюжета он почти полностью совпадал с тем, что можно прочитать на соответствующих страницах романа Александра Дюма.
Только на месте знаменитого гасконца фигурировало имя Годенки, а на месте подлого де Рошфора — имя Слю- дова из шестого «Б».
Таков уж был этот странноватый и, в общем-то, отличный парень Гришка. Небось они с тем Слюдовым всего лишь столкнулись в уборной на две-три секунды, погрозили друг другу кулаками... А у него получился целый рассказ. Да какой —- лучше Дюма!
539
— Но при чем тут твой Слюдов? — спросила Алена, которая в шестом «Б» не преподавала.
— Мы враги! — И Гришка опустил свои прожигательные глаза в пол.
Это была истинная правда. Неделю назад Слюдов и Годенко дрались на глазах у всего коридора. По странному совпадению в те пять или шесть минут на горизонте не проплыло ни одного учителя. Инцидент — редкостное событие! — остался тайной учеников.
И поэтому всем все было ясно. Одной Алене не ясно.
— Ну хорошо. Так где все-таки журнал?
— Да я до него не дошел! — И оглянулся на класс
Его поняли: где уж тут о журналах думать, когда на
пути твоем в пустом коридоре мелькнул враг.
— Сядь, Годенко! Даже замечание тебе записывать не хочу! Лида Самсонова, сходи, пожалуйста, за журналом!
В этих словах, кажется, не было ничего особенного. Но так только кажется! Шестой «А» сейчас же вспомнил, что Годенко — из болельщиков Лены Серовой, и, посылая теперь Самсонову, Алена как бы хочет подчеркнуть, что серовская компания — второй сорт, раз не могла справиться с таким простым заданием.
Урок с этой секунды пошел нервно. Каждый думал, что знает истинную причину этой нервности. Однако знала ее одна лишь неприметная новенькая, Таня Садовничья: над классом сгущаются тучи — вот что она знала!
Продолжение не заставило себя долго ждать. История уже словно катилась с горки, обрастая все новыми событиями и действующими лицами. Интеллигентно постучавшись (это уж, конечно, в пику Серовой), вошла Самсонова... С пустыми руками!
Алена Робертовна, видно, потеряла всякое терпение, повернулась к Лиде всем корпусом:
— Да что такое?!
На шее у Самсоновой проступили неровные красные пятна. Сережа знал: это она волнуется.
Лида опустила голову, закрыла подбородком шею:
— Я смотрела, а его там... нет!
— Хм... А я его там видела сегодня!
— А я...— Лида подняла голову, еще сильней заалели на шее у нее некрасивые пятна.— А я смотрела вместе с Розой Григорьевной!
Алена сделала несколько растерянных шагов к Лиде. Словно старалась рассмотреть что-то особое на ее лице.
540
— Лида? Зачем же это... вместе?
Самсонова уже взяла себя в руки. Пятна ее поблекли.
— А вы мне как будто не верите... последнее время.
Это был намек на отданную Серовой золотую медаль.
Так, по крайней мере, решил Сережа. И Алена Робертовна тоже. Она положила руку на плечо Самсоновой:
— Что ты, девочка!
Иногда Алена Робертовна казалась себе очень старым и опытным педагогом. «Тебя с седыми прядками над нашими тетрадками...», как пелось в одной популярной песне.
— И потом,— продолжала Лида еще спокойнее,— я там была не первая...— Снаряд, зловеще жужжа, пролетел над полем боя и разорвался в самом центре серовского лагеря. А им и ответить было нечем.
— Да, странно,— сказала Алена Робертовна со значением.— Действительно странно... Ты не находишь, Го- денко?
— Следи за тем, что происходит! — услышал Сережа в своем ухе раздельный приказной шепот. Сама же Таня тщательнейшим образом все записывала — слово в слово, точка в точку — как слова песен Высоцкого.
— Что ж, садись, Лида. Извини, если я тебя обидела невольно... И ты, Годенко... Садись пока.
А вот дальнейшее Сереже действительно показалось странным. Это, он понял, надо запомнить: на Гришку грянуло оскорбление. Ведь и учительница и Самсонова хоть прямо ничего и не сказали, но явно намекают на его, годенскую, причастность к пропавшему журналу. Оскорбление! А Гришка вместо того, чтобы заорать, по своему обычаю, вместо того, чтобы вылететь из класса, просто сел и опустил голову. Может, ему было стыдно, как уличенному. Нет, представьте. Он себя лишь сдерживал. Он себя сдерживал изо всей силы... Странно!
— Продолжим урок, ребята.— Тут Алена глянула на часы.— А впрочем, запишите домашнее задание!
Полетел звонок! Сережа, как и почти весь шестой «А», сразу встал — после такого напряжения хотелось подвигаться. Лишь Годенко остался сидеть за партой. Да Самсонова. Да Таня Садовничья, которая продолжала быстро писать. И только дымящейся трубки ей не хватало да квартиры на Бейкер-стрит. А Ватсон — вот он, стоял здесь, глядя на шефа глазами, полными внимания и усердия. Таня поймала этот взгляд. И ох как трудно было ей не улыбнуться.
541
— Сядь-ка на минуту!
Пододвинула листок, который был озаглавлен: «Узнать, решить». И дальше в столбик:
1. Был ли выгнан с урока Слюдов?
2. Была ли в учительской Роза Григорьевна?
3. Заходила ли Алена Р. перед уроком в учительскую?
4. Кому выгодно, чтобы пропал журнал?
Сережа пробежал листок, и в первую секунду ему показалось, что он все понял, но...
— Вопросы потом,— сказала Таня.— Сейчас ты ведешь разведку по пункту первому, я по пункту второму. Третий и четвертый исследуем дедуктивным методом.
«Незнакомец из Менга» № 2
«Дедуктивным методом» — это здорово. За дедуктивный Сережа мог бы перенести и ее руководящий тон. Но вот идти в шестой «Б» и узнавать про Слюдова... Страх сунул за шиворот Сереже Крамскому свою ледяную руку.
А дело вот в чем. Когда они ходили на тренировочные раскрытия преступлений, то однажды им пришлось столкнуться с мальчишкой из шестого как раз «Б». Это был довольно расхлябанный тип. Сережа его приструнил почти без всяких усилий. Однако этот мальчишка, Соболев его была фамилия, Сереже, что называется, «пообещал»...
Обещанного, как известно, три года ждут. И Сережа не очень беспокоился насчет соболевских угроз. Но одно дело — не беспокоиться, и совсем другое — идти прямо в логово противника.
Тут уж у Соболева, каким бы ни был он рохлей, а забитое чувство гордости должно взыграть! К тому ж поддержка родного класса обеспечена.
В общем, соваться туда было чистым самоубийством. А тут надо еще добавить, что разведку Сереже предстояло вести не только в чужом классе, но и на чужом этаже!
Школа у них была экспериментальная (теперь есть такие: либо с каким-нибудь особым уклоном, либо по какой-нибудь особой программе, либо прямо говорят — экспериментальная). И в качестве одного из экспериментов решили расселить классы «по семьям». Чтоб на одном этаже учились и первачата, и средние, и старшие.
Пусть, мол, младшие не боятся старших, а старшие учатся опекать младших... И вот теперь Сереже из-за этого
542
эксперимента пришлось со своего третьего этажа идти на опасный четвертый.
Он так тяжело шел по ступенькам, как, наверно, никогда не будет ходить в своей жизни. И даже когда в середине где-то там двадцать первого века ему исполнится семьдесят два года...
Шел и старался успокоить себя надеждой: посмотрит на этого Слюдова — и сразу будет ясно, выгоняли его или нет! Ведь нормального человека за всю школьную жизнь выгоняют с урока раза три-четыре, не больше.
То есть для него это событие.
А значит, по лицу обязательно должно быть заметно!
Так рассуждал Сережа. И в то же время он точно знал, что никогда не разрешит себе довериться какому-то беглому взгляду. Ведь тут решается судьба человека, его честное имя.
А что? Разве нет? Береги платье снову, а честь смолоду! Если Сережа определит, что Слюдова никуда не выгоняли, то, стало быть, Годенко врет. И тогда...
Не имеет значения, что Годенко болеет за «команду Серовой», а Сережа за «команду Самсоновой»: ведь и сыщику надо беречь честь смолоду, а не одному только подозреваемому!
Собрав мужество, изобразив на лице своем всю возможную независимость, он заглянул в шестой «Б». Слюдова он увидед.сразу, и Слюдов -ему не понравился!
Слюдов был абсолютно спокоен.
То есть по результатам визуального обследования можно было сказать: его не выгоняли. Сидел за партой и читал книжку. Даже не учебник, а именно книжку, художественную литературу — до того он был спокоен.
— Э? Чего читаешь, Слюда? — спросил Сережа.
Они почти не были знакомы, и Сережа мог лишь догадываться, что прозвище этого человека, если исходить из обычных школьных правил, должно быть как раз, наверное, Слюда.
Предполагаемый Слюда поднял голову:
— А тебе-то что? Вали отсюда!
Это было не оскорбление, не вызов на драку, просто нормальное отношение жителя четвертого этажа к чужа- ку-третьеэтажнику. И при этом опять полное спокойствие! Так, интересно, интересно!
Но Сереже вдруг очень неинтересно стало вести аналитическую работу. Потому что еще несколько человек с
543
хмурым недоумением стали смотреть на него. Вот тебе и «семья»! Впрочем, экспериментаторы, как известно, имеют право и на отрицательный результат.
Соболев в поле зрения так и не возник. Сереже удалось благополучно исчезнуть — задание практически было выполнено: на девяносто процентов он мог бы головой ручаться, что Слюдова не выгоняли.
На девяносто! Значит, для отрубания головы оставалось десять.
В сущности, это очень мало: один шанс против девяти. Например, если вероятность того, что вас завтра спросят,— один против девяти, можете смело не учить.
Да, очень мало! Но только не когда речь идет об отрубании головы и... о чести человека!
А Таня сейчас наставит на него свои синие прожекторы... Чтоб только не идти к себе на третий, Сережа поднялся на пятый этаж. Абсолютно ни для чего. Это был совсем маленький, как бы «аристократический» этажик. Его почти весь съедал огромный актовый зал. А кроме уместились только раздевалка для артистов и десятый «А».
Здесь было тихо, десятиклассники, занятые собой, не обращали внимания на угрюмого мальчишку, уткнувшегося носом в оконное стекло.
Слякоть и муть были за окном — чего там высматривать. Октябрь щедрой своей рукой засевал мокрыми зернами поля, и леса, и улицы, и крыши домов. Сережа смотрел на пролетающий частый дождь... А вспоминалось ему совсем иное утро — погожее, беззаботное.
Солнце светит сквозь нагретый влажный туман. Сережа идет по длинной и прямой просеке. Лес — елка и немного сосны. Каждое дерево стоит здесь не меньше лет ста. Каждое огромно, с кроной под небеса. В таком лесу видно далеко меж круглых прямых стволов. Идешь по такому лесу, и кажется, что идешь во сне.
И вдруг чем-то пахнуло ему прямо в лицо, удивительно знакомым, густо-сладким, похожим то ли на духи, то ли на... мамину помаду...
Он даже остановился. Ведь это густой стеною на него шел сладкий малиновый дух!
Сережа хорошо помнил свое удивление и даже волнение. Он не очень интересовался этой малиной. Ну, как объектом охоты. У них малина росла на дачном участке.
Но он никогда не знал, что так откровенно, просто и сильно может пахнуть лесной малиной. Он думал —
544
только где-нибудь в тайге, где-нибудь в рассказах Пришвина или Бианки.
И оттого настроение у него стало особое. Он свернул со своего пути и отправился на поляну, где познакомился с той необыкновенной девчонкой, с будущей Таней... И долго ходил у корявой, медленно умирающей березы: ему хотелось найти шарик, в пару для его собственного одинокого шарика.
Казалось: найду — и что-то случится. А береза неподвижно висела над ним зеленым воздушным шаром. И словно тоже ждала: найдет он или нет?
Шарик Сережа так и не нашел, но все равно возвращался домой задумчивый и таинственный. Смотрел на себя как бы со стороны и становился еще таинственней. И дома, ни с кем не разговаривая, замкнуто пил чай...
Вот что ему вспомнилось и, может, вспоминалось бы дальше. Да тут зазвенел звонок — Сережа тотчас вернулся на грешную землю и опять увидел перед собой заплаканное окно, октябрь.
И вспомнил тяжелое свое положение.
Поскольку ничего другого ему просто не оставалось, он пошел по лестнице к себе на этаж, на урок. А что скажет Таня, об этом лучше было совсем не думать.
Он прошел несколько ступенек... Внизу слышался какой-то гомон. С равнодушным любопытством Сережа перегнулся через перила...
Вот что такое везение! Шестой «Б» длинным червяком тянулся вниз по лестнице. Впереди шествовал физкультурник Степан Семеныч — такой до ужаса подтянутый, в спортивном костюме фирмы «Адидас» и в кроссовках «Пума» или что-то еще познаменитей.
Сережа от волнения даже не сообразил, что ему следовало бы спрятаться. Его голова так и висела над проходящим шестым «Б», словно вылезшая из туч луна.
Но вот они ушли, пропали их голоса и покрикивания физкультурника, чтоб они вели себя потише: ведь уже начались уроки!
Тотчас Сережа сбежал по лестнице. На цыпочках, бесшумно (или ему только казалось, что бесшумно) пролетел по коридору до дверей шестого «Б». Страх схватил его за шиворот. Однако Сережа не успел остановиться и с этим страхом, который, словно всадник, сидел у него на плечах, ввалился в чужой класс.
Было пусто, была полнейшая тишина. Только дыхание
18 Школьные годы. Выпуск IV
545
вырывалось из Сережи, как из компрессора... Войди сейчас кто-нибудь, и Сережа никогда и ничего не сумел бы объяснить! Но один страх в нем пересилил другой — страх оказаться трусом. Тоже новость для прежнего робкого Сережи Крамского.
Только некогда ему было раздумывать о таких вещах.
Он вынул слюдовский портфель. Выпала книжка. Невольно Сережа полюбопытствовал, что же там читал заклятый враг их Годенки. Он читал, оказывается, «Детство Багрова-внука»!
И с презрением Сережа мотнул головой: книга эта ему казалась чем-то неимоверно скучным! Тягучие описания природы, нескончаемые красоты и восхищения...
А странно! Ведь всего три минуты назад он сам вспоминал прекрасный лес начала августа, туман и белое, чуть склонившееся к осени солнце...
Сережа толкнул книгу в парту и раскрыл портфель.
Еще раз приступ ужаса охватил его. Ведь раньше он, в конце концов, просто вошел, просто сел за парту. А теперь...
Закусив губу, словно готовился прыгнуть с высоченного трамплина в неведомую реку, Сережа вынул слюдовский дневник. Страницы не слушались, будто сделанные из пластилина. Наконец он сумел добраться до второго октября. Первый урок... История у них была. В графе «Отметки» у Слюдова стояла уверенная, выведенная зеленым шариком четверка.
И ни тебе замечаний, ни тебе: «Родители! Убедительная просьба...»
Ну вот и все!
Теперь он мгновенно вспомнил, что сам опаздывает на урок. Уже опоздал!
Молниеносно вылетел из чужого класса. Надо бы, конечно, сперва осторожно высунуться. Повезло — в пустом коридоре ни одна пара глаз не поймала его на взлете.
По лестнице, через три ступеньки! На последнем прыжке как не грохнулся — чудо. Нет, не чудо, а просто спортивный стал: попробуйте-ка три месяца подряд позаниматься спортом — сами узнаете. Но и этого изменения в своей жизни не заметил сейчас Сережа.
Без стука он влетел в класс. Сразу представил свои торчащие, как у первоклассника, глаза и растрепанный вид.
— Ну, Крамской, четыре минуты, это, пожалуй, мно¬
546
говато, даже если ты совсем не уважаешь математику,— сказала Роза Григорьевна.
— Извините! — пробормотал Сережа, следя лишь за тем, чтобы сердце его не выскочило из-под рубашки.
— Но может быть, ты все-таки объяснишь свою уважительную причину?
Да, Сережа мог объяснить ее. Дело в том... Тут он осветил жителей шестого «А» многозначительной улыбкой... Дело в том, что, едва он собрался идти в класс, на пути его мелькнул кровный враг — Слюдов из шестого «Б». И Сережа не мог его пропустить, как в свое время д'Артаньян не мог пропустить незнакомца из Менга... и тэ дэ и тэ пэ — все живописные подробности взяты напрокат из рассказа Годенки.
Класс сидел словно загипнотизированный: надо же до такого додуматься! И, главное дело, кто?! Корма, бедняк, забитый ребенок!
Роза Григорьевна покачала головой:
— Дети! Да когда же вы наконец повзрослеете?! Боюсь, что лишь после того, как загоните меня в гроб... Садись, Крамской! А впрочем, раз уж ты у доски, отвечай-ка нам! Ответишь — победителей не судят. Не ответишь — получишь двойку и замечание. Согласен?
Сережа понял, что это лишь риторический вопрос, и сразу принялся за длинный пример.
Когда через некоторое время он благополучно добрался до своей парты («Надо бы тебе, Крамской, отлично поставить, но не такой я человек — получай четверку!»), Таня могла сказать только одно:
— Гениально! — И голос у нее был не холодный, не начальницкий, а самый нормальный восхищенный девчоночий голос. И, услышав его, Сережа покраснел.— Я все время на Годенку смотрела,— продолжала Таня.— Сидел, как пришитый. Как будто у него все части тела сейчас отклеиваться будут... Что, не выгоняли Слюдова?
— В дневнике четверка!
Таня пристально посмотрела на него:
— Молодец! А слова Самсоновой подтвердились: Роза действительно целый урок сидела в учительской.
— Как же ты узнала?
— Да никак. Подошла и спросила. Она: это тебе для чего? А я: если не трудно, ответьте, пожалуйста. Она засмеялась и ответила — она же такая, да?
547
Следствие должны вести знатоки!
— Знаешь ты, что такое мимикрия? — спросила Таня. Они встретились в ее квартире, чтобы разработать дальнейший план действий.
Сережа слыхал это слово, но... забыл!
— Мимикрия вот что такое.— Таня вынула картонку со своими жуками.— Видишь, если под этого подложить зеленый листок или травку, ты его не заметишь... Ну, вроде бы не заметишь.
Эх! Как же он забыл... Правильно! Мимикрия — это маскировка для выживания. Мама рассказывала: «Заяц белый, куда бегал... Угадай, про какого зайца говорится — про зимнего или про летнего?» Сережа подумал и говорит: «Про зимнего».— «Верно. А почему?» Сережа подумал и опять ответил. Тогда мама и рассказала ему про мимикрию. Только это давно было. Еще, наверное, в детском саду, и Сережа само понятие помнил, а слово улетучилось.
— Я вот что поняла,— продолжала Таня.— Мимикрия устроена только для глупых, для недоразвитых хищников. Недоразвитый пройдет в двух шагах от еды и ничего не заметит, останется голодный, а там потихонечку и вымрет.
Сережу прямо жуть взяла от жестокой неумолимости законов природы. В диком мире плохо быть слабым. Даже слабым хищником!
— Потому и жизнь у них продолжается,— говорила Таня,— что слабые вымирают, а сильные остаются... А теперь слушай главное. Преступник тоже использует разную мимикрию — путает улики, заметает следы. Он думает: во я какой хитрый, а это у него просто инстинкт работает. Ему-то надо бы совсем другое делать...
— А что ему надо делать? — тихо спросил Сережа.
— Этого, слава богу, никто не знает! — Таня улыбнулась.— И потому умный сыщик поймает даже самого-са- мого гениального преступника. Просто таков уж непреложный закон.
— Тань, ты это все сама придумала?
Не выдержала Таня, торжествующе улыбнулась. Однако быстро взяла себя в руки.
— Помнишь, у нас было четыре вопроса? Первое: встречался ли Годенко со Слюдовым? Нет! Второе: причастна к этому делу Самсонова? Нет! Потому что там была Роза Григорьевна. Третье: кому выгодно убить журнал?
548
Годенке, по крайней мере, точно, что выгодно — учится плохо, с классной у него опять война...
— Значит, мы раскрыли его мимикрию?!
— Этого тебе знать пока не надо.
— Почему?!
— Ну... есть одно обстоятельство. И кстати: завтра придешь за двадцать пять минут до звонка. Я кое-что тебе проясню.
— А почему завтра-то?!
— Все! — Она встала: — Ты зарядку делаешь?
— Делаю,— ответил Сережа с обидой.
По пути домой и дома Сережа думал о Танином рассказе. Его собственный подвиг уже казался ему вовсе и не подвигом. А вот Таня... Даже эти четыре вопроса: надо было до них додуматься, надо было понять всю ситуацию!
Но чего она теперь-то темнит?
Хм... Между прочим, вопросов на бумажке было четыре. А они разобрали только три! Четвертый же... Сережа совсем было бросился к телефону: уточнить этот пунктик.
Нет. Подожди! Должен сам. Она ведь специально не рассказала. Говорит: приходи на двадцать пять минут раньше.
А четвертый был вопрос... Вспомнил! «Заходила ли Алена в учительскую перед уроком?»
А зачем это? Заходила не заходила — какое имеет значение?
Несколько раз он аккуратно прошел все дело от начала до конца, и каждый раз в конце оказывалось одно и то же: Годенко!
Могучая зеленая четверка в слюдовском дневнике... Как вспомнишь ее, любое сомнение бледнеет и вянет — Годенко, Годенко, больше некому.
И в то же время сомнение брало. Уж очень они не походили друг на друга — воровство и Гришка... Возможно, это, конечно, голословное утверждение. Но ведь когда с человеком столько лет учишься... Нет, не был Годенко жуликом, не был, хоть убей!
На следующее утро, волнуясь, Сережа Крамской вошел в класс. И застал за партами чуть не половину народа. Что особенно поразило Сережу — именно за партами!
Таня стояла перед учительским столом.
— Я им сказала, что мы знаем, кто украл журнал! — тихо сказала она.
549
— Как это сказала?
— Позвонила.
И Сережа проглотил следующий вопрос — узнать телефоны всего шестого «А» была для Тани Садовничьей не задача!
— Ты сядь пока, я тебя вызову.
Сережа послушно сел. А Таня, к слову сказать, так его к себе и не приблизила, на почетное место.
Ребята собирались удивительно дружно. Еще минут пять, и «полна горница людей». История с журналом, оказывается, всех трясла и раздирала!
Ну, само собой, не приплелись три или четыре скуч- ницы, которых ничем, кроме тряпок, не заинтересуешь.
— Тихо! — сказала Таня, хотя и так было тихо.— Я начинаю!
Наступила такая тишина, какой не всегда умеет добиться и сам директор школы.
— Я не знаю, кто украл журнал. Но заявляю, что наша группа будет вести расследование!
Вы думаете, они стали метать в Садовничью громы, молнии, столы и стулья? Увы, нет! Теперь ведь никого и ничем не удивишь. Теперь удивление вообще стало считаться чем-то почти неприличным. Да, их обманули. Обещали сказать интересное, а предлагают детскую игру. Однако что же делать? Хотел сесть в кресло, а сел в лужу... Остается только сидеть где сидишь и слушать. Ну и острить по возможности.
— Тоже мне «наша группа» — два трупа! — крикнул Игорь Тренин.
Сережа хотел положить на глупое Игоряшкино плечо железную длань. Таня взглядом остановила его. Затем твердо продолжала:
— И предлагаю нам помогать!
Она все еще стояла за учительским столом, и никому как-то не приходило в голову прогнать ее оттуда.
— С какой это стати вам должны помогать?..
Многие с подчеркнутым презрением оборачивались на
Сережу, и он, кажется, впервые испытал на себе справедливость выражения: «не знал, куда девать глаза».
— Будете слушать не перебивая — и я вам все объясню!
Хотя ее никто и не думал перебивать. Ее вообще не собирались слушать!
Однако они не на того напали.
550
— Известно вам, что такое мимикрия?
И тут же стала рассказывать то, что рассказала вчера Сереже. А потом про закон, по которому преступник обязательно должен быть пойман.
И шестой «А» сам не заметил, как снова притих. Наверное, имелись персоны, которые рады были бы съязвить, да онемели — потому что интересно было! А Таня сразу вдруг про Годенко: первое — имеет зуб на Алену, второе — ему выгодно, чтобы журнал исчез. И наконец, третье, самое сильное,— ни с каким Слюдовым он не встречался!
Ух ты, вот она какая на самом деле, гробовая тишина! Слышно, как муха пролетит — ну, это, оказывается, ерунда. Тут чуть ли не слышно было, как микроб проползает.
Замер шестой «А». Впервые на его глазах было раскрыто преступление. Но главное, что с этим двое учеников — Садовничья и Крамской — не к учительнице побежали, не к завучу, а все рассказали им. И именно они теперь, шестой «А», должны стать судьями своему... ну, пусть не товарищу, а все ж человеку, которого знают как облупленного с первого класса.
— Так... А чего ж тогда? — спросил Алешка Воскресенский, чуть заикаясь и оттого краснея.— Сами все узнали. А говорите, что н-не знаете?
Таня только того и ждала:
— К сожалению... или к счастью, есть еще одно обстоятельство! Я хочу задать вопрос: как вы думаете, Алена Робертовна была перед тем уроком в учительской? Или нет?
Что-то мелькнуло по лицам шестого «А», какое-то сомнение, не то даже страх. Ведь Садовничья не за здорово живешь спросила. Она, видно, ничего просто так не делает! Такой компьютер!
— Была. Она же сама сказала, что была,— с трудом вспомнил кто-то. Огаров это был — лучший бегун, но по сообразительности далеко не чемпион мира.
Другие предпочли из осторожности промолчать. И правильно сделали.
Таня холодно улыбнулась Огарову:
— Да, Алена Робертовна так сказала. И это особенно странно! Все помнят, что она в тот день опоздала?
С удивлением, даже с огромным удивлением Сережа заметил, что многие этого вовсе не помнят: ну, было и было — подумаешь!
551
Потом, конечно, вспомнили.
— Опоздала минут на пять,— отчеканила Таня.— Так зачем же ей было идти в учительскую?
— За журналом! — крикнул Тренер и сам на себя удивился, как бывает, когда приходишь в комнату смеха, где кривые зеркала. Иным смешно, а ты глядишь — и странно видеть себя с такой дикой рожей. Вот и Тренеру-Гарьке стало странно, что он сморозил этакую глупость.
Но Садовничья для наглядности не стала издеваться над ним. А сказала — опять всему классу:
— А ведь за журналом специально был послан Годенко! Так зачем же она в учительскую бегала? Представьте: сперва на четвертый этаж, потом обратно на третий. А время урока идет. И любой ее может спросить: вы почему не с классом?
Ух, как она говорила! Словно Алена Робертовна была уже не учительницей, а просто как все они — как Годенко, как любой. Сереже неловко стало. Так нам всегда бывает неловко, если человека ругают за глаза... Ну так встань, чего же ты! Не решился против Тани...
— Но ведь Алена же сказала: «Я видела журнал в учительской»,— звонко и повелительно произнесла Серова.
— Прибежала, посмотрела на журнал и опять бегом в класс? — Таня засмеялась. И жутковатый это получился смех — холодный, безжалостный. Наступила тишина.
Вдруг поднялась Самсонова. Сережа обратил внимание на то, как она бледна.
— Ты что хочешь сказать-то?!
— Ничего... Только одно. Вину Годенко нельзя считать полностью доказанной.
Так эти двое почему-то и остались у Сережи в памяти. Весь класс сидит. А они стоят — прямые, каменные и смотрят друг другу в глаза. Самсонова здоровенная, почти настоящая тетя. А Таня хотя и поменьше, но зато решительность — как у летящей в цель пули.
Не долго прожила эта странная сцена. Опомнившись, Серова вскочила — чтоб и ей тоже оказаться позаметней:
— В таком случае, я предлагаю...
Договорить ей не дали. Или, может, ей и нечего было договаривать. Потому что уж очень легко она уступила Годенке.
Сперва Гришка рванулся выйти к доске — для торжественности, что ли? Но вдруг почувствовал, что это нелепо.
552
И остановился посреди класса в проходе — пугало пугалом.
И, поняв, что через секунду он вообще ни на что не решится или кто-нибудь что-нибудь брякнет — и тогда придется орать, а то и драться, Гришка заговорил, обрывая свою речь на каждом слове, будто стрелял из пистолета:
— Я сам докажу свою невиновность. И кончайте... развлечения!
В эту секунду Сережа отчетливо понял, что Годенко здесь совершенно ни при чем, что их наблюдения, обыски чужих портфелей, разные умные выводы — действительно всего лишь развлечение, не больно-то хорошая игра.
Первой это, конечно, должна была почувствовать Таня. И Сережа опять промолчал: чего говорить, если на свете существует такой человек.
Но Таня вдруг сказала совсем другое — будто и не было Гришкиных стреляющих слов. Вернее, слова она, конечно, услышала. А вот самого главного — правдивого голоса — нет. И будто совсем не увидела, как он правдиво остановился посреди класса.
— Не надо! — сказала Таня очень спокойно. И синими глазами подтвердила это свое спокойствие.— Он докажет, видите ли... Здесь никакой самодеятельности быть не может! Расследование должна вести наша группа.
— Чушь!
— Нет, не чушь, Годенко. Во-первых, все видели, что мы это умеем. А ты... Тебя вообще никто не знает!
В споре, бывает, не главное — сказать истину, главное — сказать метко. И глупый Гришка не сообразил, что надо немедленно возмутиться, что он в этом классе с пеленок, а Садовничья — всего лишь пришлая марсианка.
Вместо этого Годенко начал доказывать, что он не верблюд:
— Да ты пойми — это меня касается, дура ты набитая! Меня, а не тебя!
Самсонова
553
— За такие слова ты можешь и получить, Годенко. Но я тебя прощаю — пока. И не перебивай людей, когда они говорят... Я сказала «во-первых». А во-вторых, это касается не только тебя. Из-за журнала пострадают очень многие: раз отметки пропали, значит, опять будут спрашивать — всех подряд, по всем предметам!
Может быть, впервые до класса дошла эта ужасающая перспектива.
Сережа обратил внимание, что Самсонова, которая до того времени все продолжала стоять, вынула из парты щетку для волос, несколько раз провела ею по затылку, чего-то там приглаживая. Совершенно дурацкие действия! Сережа объяснил их себе довольно просто: ее-то отметки помнят все учителя — куда ни чихни, пятерка. Так что лично Самсоновой Лиде это ничем не грозит.
Затем Самсонова села и почти тут же раскрыла какую-то книжку — ее происходящее не касалось.
Но странно! Во всей ее подчёркнуто спокойной позе ясно слышалось напряжение. Словно она только маскировалась под спокойствие. Или это лишь казалось Сереже?
— Я считаю, что требования у Садовничьей Тани законные! — звонко крикнула Серова.
Какие там еще требования? Но вернее всего, она крикнула, просто чтобы выделиться, чтобы всем показать, что Самсонова не интересуется делами родного класса, а вот она интересуется... Артистка!
— Пусть они ведут свое расследование,— продолжала актрисничать Лена.— Но под нашим контролем общим. Пусть они дают нам отчеты. Хотя бы в неделю раз. Или два!
В ответ ребята одобрительно загудели. А чем им было плохо: самим делать ничего не надо, только сиди да жди, когда на тебя прольется очередная серия детектива про твой собственный класс. И в то же время ты при деле!
И странно и жаль: никому из них в голову не пришла та простая мысль, что ведь это все неприлично... Неприлично! Да: плохо, опасно быть толпой...
А Таня тем более ни о чем не задумывалась. Продолжала шагать к своей победе.
— Мы согласны на такие условия! — сказала она. И потом, может быть, специально для Серовой, ведь она в классе кое-что значила: — Мы согласны и даже считаем такие условия совершенно справедливыми!
По пятам и еще ближе
— Мы для чего это будем делать? — спросил Сережа.
— Для того, что я должна ее понять! — отвечала Таня.
— Чего понять-то, конкретно?
— Если она действительно взяла, так я хочу понять зачем.
Эти реплики были произнесены задушенным шепотом, словно бы в приключенческом фильме. Сережа, между прочим, именно там себя и чувствовал... Таня требовала следить за Аленой Робертовной и, как она выразилась, «определить ее ло-гику поведения вне школы». То есть, по-человечески говоря, следить, как она ведет себя после уроков, почему, зачем. Посмотреть да и увидеть: может, она чего подозрительное будет совершать.
Еще в классе, когда они разрабатывали свой план, Сережа испытывал непростые чувства. Ему хотелось пойти за Аленой: интересно подслеживать, наблюдать исподтишка, красться... Но была и неловкость. Потому что ведь это стыдно — подсматривать за человеком.
«А как же другие детективы,— подумал Сережа,— как же настоящий Шерлок Холмс? Может, это просто работа такая?..» На время ему удалось загнать свой стыд поглубже в душу, подальше с глаз долой.
— Что-что ты говоришь, Тань?
— Слушать надо!
Они благополучно выпустили свою жертву из школы, абсолютно чисто пристроились сзади. На первом же перекрестке их классная рассталась с биологиней Татьяной Николаевной и продолжала свой путь одна.
Из мировой кино- и теледетективной продукции Сереже было известно, как это трудно — осуществлять слежку. Противник очень скоро замечает «хвост». Раз-два-три — и в ближайшем закоулке на голову бедного сыщика обрушивается нечто большое и пыльное.
Однако Алена была, наверное, лучшим в мире объектом для наблюдения. Сережа и Таня чувствовали себя рядом с ней настоящими невидимками. Да и любой мог бы рядом с ней чувствовать себя невидимкой!
Она шла, одетая в скафандр своих каких-то мыслей, и ничего не замечала вокруг. Даже машин, которые несколько раз опасно проносились перед ее носом. Учительница их, конечно, видела, но как бы не придавала этому
555
значения. Словно не машины проносились мимо нее, а только тени от машин.
Сразу было видно, что она никуда не спешит. Просто идет, не останавливаясь, будто гуляет по лесу. Да ведь это был не лес!
Сережа в жизни своей редко пользовался словом «интуиция». Вообще, может быть, употребил его раза два, и то не вслух. Он и сейчас им не воспользовался. Хотя именно интуиция подсказывала ему, что их классная к этому делу с журналом абсолютно не причастна. Как облака на небе. Как птицы в жарких странах!
— Тань,— сказал он. И не знал, как продолжить, как сказать ей про свой стыд. И про уверенность, что учительница не виновата.
А впереди шла его учительница, шла все тем же задумчивым шагом, лишь время от времени перекладывала из руки в руку свою полухозяйственную-полукрасивую сумку.
Таня догадалась приблизительно, о чем он хотел сказать, оттолкнула спокойным холодноватым взглядом:
— В литературе описаны еще не такие случаи!
— В литературе... какой?
— В криминалистской!
Это, конечно, были сильные слова. Но не они убедили Сережу. Лишь посмотрел Тане в глаза, кивнул и безропотно пошел дальше. Слишком стальной был у нее авторитет.
Если б Алена была хоть немного другим человеком... Нет, если б у нее были хоть немного другие какие-нибудь планы, она запросто смогла бы скрыться. Даже и не стараясь совсем, даже и не подозревая о преследователях. Сверни куда-нибудь, сядь на трамвай, растворись в магазине, наконец просто иди домой.
Так нет же! Она шла себе, никуда не ныряя, вообще словно никуда не стремясь.
Но ведь куда-то все же она шла?
И наконец открылось: она шла к метро. Их школа расположена не очень удачно, как и весь их микрорай- ончик,— до метро надо ехать несколько остановок на автобусе. Остановки длинные, как почти везде в окраинных московских районах. Казалось бы, сядь ты на автобус, кругом все-таки не Крым и не Сочи. Она не садилась!
Теперь в толкучке, какая всегда бывает перед метро, Таня и Сережа подобрались к ней совсем близко. Жгучий, щекотный страх пронимал Сережу Крамского до самых
556
костей, извивался вдоль сердца шершавой змейкой... А в самом метро будет и того опаснее!
На эскалаторе их вообще разделяла лишь хилая прослойка в два или три человечка. Наверное, все это и было романтикой детективной работы.
Они вошли в тот же вагон, только с другого конца.
В просвете между незнакомыми спинами и руками видна была сидящая Алена. Положив сумку свою на колени, она проверяла тетради. Таня и Сережа переглянулись: смертельное любопытство одолевало их — чья там сейчас несчастная лежала на операционном столе?
Вслед за Аленой им пришлось делать пересадку, потом еще одну. На «Таганке» они чуть не потеряли ее. Наконец на «Бауманской» подземный путь был окончен.
И вдруг она сделала то, чего никак не положено делать учительницам — по крайней мере, таковы были Сережины понятия. Отстояв короткую очередь, она купила жареный пирожок. Съела его с заметным аппетитом, чуть сутуля плечи и пригнув голову.
Рядом с нею стояли толпы жующих людей. «Бауманская» — это ведь самый студенческий район в Москве: МВТУ, МЭИ, МОПИ, Институт связи — целый океан студентов и целые горы жареных пирожков: схватил, сжевал, помчался дальше — основной студенческий способ питания.
Таня и Сережа не знали, что Алена Робертовна здесь тоже когда-то училась, в МОПИ, в пединституте имени Крупской.
И жила здесь — почти двадцать лет. Лишь относительно недавно из старого дома ее переселили в новый дом, в новый район. Но сюда она нет-нет приезжала, потому что не могла забыть родной «Бауманской», ни студенческих лет, ни этих пирожков классических, которые они ели всей компанией, пересмеиваясь, разговаривая с набитым ртом:
«Чего-чего?»
«Вот бы, говорю, тебя сейчас дети увидели. Педагоги ня!»
Не подозревала Алена Робертовна, что дети как раз видели ее. Сережа смотрел не отрываясь и чувствовал, что не должны они этого видеть! Что это никакая не детективная работа, а низость.
— Тань! Ну что ты, сама не понимаешь! Не она это. Не похоже совсем.
557
Таня на мгновенье оторвалась от Алены, поедающей пирожок.
— Преступника не поймешь, ясно? Не угадаешь! Есть даже теория, что преступники все ненормальные. Ты про него думаешь одно, а у него в голове совсем другое.
— А если она не преступник?
— А если преступник?! — И, поймав Сережину секундную растерянность: — Мы обязаны просеять как можно больше народа. Иначе не раскроешь.
Что ж тогда выходит, подумал Сережа, тогда выходит, любого разрешено подозревать — без разбора? Если «как можно больше народа просеять», то подозревай кого хочешь. И как хочешь за ним следи, потому что — а вдруг он преступник сумасшедший? Так его и жалеть не надо!
— Нет, Тань. Что-то у нас тут баба-яга мелькает.
— Кто?!
— Да... Не важно.
Когда-то бабушка научила его делить поступки на человеческие и на те, которые, прикрываясь тобой, подстраивает баба-яга. Это сразу становится ясно: проверьте несколько своих действий — сами убедитесь.
Кстати, когда не забываешь про подлую ягу, совсем по-другому начинаешь жить. Лучше. Вы попробуйте!
Но Сережа побоялся объяснить своему Холмсу столь «детские» вещи (видимо, в этом трусливом молчании тоже не обошлось без некоей «Б-Я»). И поэтому слежка продолжалась.
Алена Робертовна между тем с удовольствием доела пирог. Признаться, пожалела, что не купила два... Ладно! И так ничего. Второй раз стоять в очереди ей не хотелось.
Именно сегодня почему-то, в конце шестого урока, она решила съездить «к себе на родину» — так у нее назывался тот уголок Москвы на «Бауманской», где еще недавно был ее двор, где она училась играть в классы, где ей объяснились в любви первый раз.
Это было на лавочке под старым, хотя и не слишком могучим вязом. Он отчего-то плохо рос, и за двадцать пять лет, которые Алена его знала, вяз не прибавил, казалось, ни вширь, ни в высоту.
А теперь только он один и остался от всего ее двора, четырех домов с допотопными сараями, с голубятней, с крохотной фабричкой, где у рабочих можно было выпросить цветные стеклышки, с чердаками, с подвалами, с
558
толстенными стенами, каких никогда уже больше не будут делать нигде на земле.
Их и ломать было непросто. А особенно Аленин дом, который был во дворе самый старый и самый крепкий, как оказалось. Он стоял тут будто бы со времен Петра Великого.
Алена запряталась в жиденькой толпе зевак, и впереди какой-то прохожий разглагольствовал, что, мол, этому дому к углу мотоцикл прицепи, рвани посильнее, он и развалится, этот домишко.
Но подъехала машина с огромным литым шаром, размахнулась и ударила их дом прямо по лицу, в середину. Алена успела взглянуть на окна второго, верхнего этажа, где они жили.
Ее бабка перед отъездом зачем-то вымыла полы, окна, аккуратно заперла дверь на ключ... Она здесь прожила семьдесят два года, с рождения.
Последний раз Алена увидела эти вымытые, словно под Первое мая, окна. И тут же они лопнули от удара, посыпались и ослепли. Но дом продолжал стоять не шелохнувшись. И тогда машина развернулась во второй раз и опять ударила, а потом опять. А дом все стоял навстречу этим ударам — упрямо и покорно.
Алена отвернулась, побежала... Когда пришла в себя — стоит у метро, как раз, наверное, вот здесь, где она ела сейчас пирожок. А тогда она вдруг подумала, что ведь это предательство — бросать дом в его последнем бою. И пошла обратно.
Однако дома уже не было в живых. Осталось что-то полуразвалившееся, с опрокинутой крышей, с висячими электрическими проводами, за которые уцепились куски штукатурки. Из пролома в стене вывалилась их умывальная раковина и застыла в странном положении — словно цветок, на зеленой крашеной трубе.
И тогда Алена с огромной тоскою поняла, что это уже не дом, что ему ничем не поможешь, что его больше никогда не будет! Как и в ее жизни чего-то больше никогда не будет. Детства и юности...
Вот о чем ей подумалось, о чем ей вспомнилось сейчас у метро, «на том самом месте». Она стояла, опустив голову и руки.
А правую руку оттягивала сумка, в которой лежали тетради...
«Что же ты замышляешь»,— думала Таня. Ей не каза¬
559
лось поведение учительницы таким уж безобидным. Нет, классная как-то связана с этой пропажей. А иначе почему человек должен себя так странно вести? Мечется-мечется по городу. Словно следы заметает! В то же время Таня чувствовала, что и подручный ее может оказаться прав: не было в облике их классного руководителя ничего такого... Ну, дерзкого, подозрительного, что ли.
Хотя это все лишь голые эмоции, на уровне «нам кажется».
— Ну? И что ты думаешь делать? — тихо спросила Таня.
Решительный момент настал для Сережи.
Так чего же ты? Скажи: «Бросим эту идиотскую слежку, уедем домой». Он промолчал. Струсил.
Есть разные формы трусости. А бывает даже и такая: испугался... показаться трусом. Как Сережа сейчас... Подумал: «А вдруг Таня решит, что я забоялся, вдруг решит?»
И тут, словно придя ему на помощь, Алена Робертовна начала действовать. Пошла увереннее, чем обычно, словно на что-то решившись. А преследователи за ней!
Вот она вошла в продовольственный магазин — вроде тех, что на окраинах нашего города зовут универсамами. Чтобы попасть на «продуктовую территорию», тут надо взять специальную железную сумку. А свою оставить в такой вроде бы камере хранения. Алена отдала свою «по- лухозяйственную-полукрасивую», взяла номерок и... на улицу!
Что же это значит?
Они переглянулись, и Сережа в ответ мог лишь только пожать плечами. Алена Робертовна шагала вся во власти своих мыслей — то быстрей припускала, то шла потихоньку. По этой походке ее, в случае чего, каждый мог приметить и запомнить.
А день им для слежки попался хороший — солнечный и с ветром: такие дни иной раз еще забредают в середину осени. При свете и ветре этого дня особенно грустно и легко было бы думать о прошедшем лете.
— Дорого бы я отдала, чтобы прочитать ее мысли!
«И читать тебе нечего, думал Сережа,— не нужны
тебе ее мысли...» А сам все продолжал идти за Аленой Робертовной. Странная такая вот ситуация!
Иногда ему удавалось видеть Аленино лицо. Может, это неправильное сравнение — лицо ее было открыто настро¬
560
ению, как пруд открыт бывает то солнцу, то облакам, проплывающим в небе, то ветру.
Раньше Сережа относился к Алене Робертовне довольно равнодушно: он вообще не имел такой привычки — подлизываться к учителям, но не имел привычки с ними и воевать. Отвечал им уроки. При необходимости мог их малость надуть. Иногда приходилось выслушивать их душеспасительные напутствия (это когда ему прицеливались написать замечание в дневнике).
Но кончались уроки — кончались и учителя. И наверное, если б у них ввели преподавание при помощи обучающих автоматов, для Сережи Крамского мало что изменилось бы.
Но вдруг в этот ветреный и солнечный день Сережа заметил, что начинает относиться к Алене с... симпатией, что ли? Он ее узнавал, вот в чем дело,— тратил на нее время и душу. И быть может, именно это, а не только Танин авторитет, заставляло его все идти да идти вслед за классной руководительницей.
Она по-прежнему не садилась ни в какой транспорт и, вернее всего, брела совершенно бесцельно. Так, по Сережиному разумению, могут шестиклассники поступать. Но не учительницы!
Вот она сунула руку в карман и вытащила перчатки. Из кармана что-то выпало и шлепнулось на тротуар. Учительница этого не заметила. А Таня быстро нагнулась и торжествующе подняла находку — жетон из магазина.
— Давай отдадим,— сказал Сережа.
— И не подумаю.
Впервые ему не хотелось разговаривать с Таней. Ему хотелось быть с Аленой Робертовной, с ее непонятным поведением. И поэтому он продолжал идти за ней.
А вернее сказать, с ней!
Кто имеет право подглядывать?
Был такой известный философ — Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Он создал теорию о том, каким образом устроена человеческая жизнь. Но как и почти всякая теория, она была немножко хуже, чем сама жизнь. Не все существующие факты с ней согласовывались, а некоторые так и просто противоречили.
И когда Гегелю, человеку, видимо, довольно упрямому,
561
говорили: мол, видите же, факты против вас, он отвечал: «Тем хуже для фактов!»
Что-то похожее хотелось крикнуть и Сереже, только он не знал такого неожиданного и остроумного изречения. Поэтому ему приходилось молчать и соглашаться с Таней. Дело в том, что им все же раскрылась кое-какая тайна про Алену. Хотя к журналу тайна эта отношения не имела.
Существует в Москве такая улица — тесная, забитая машинами. Называется — улица Чернышевского. Она почти обязательно попадается вам на пути, если от «Бауманской» двигаться к Центру. (Алена Робертовна именно так и двигалась.) И там на перекрестке, где ходит древний трамвай «А», или, по-старомосковски, «Аннушка», есть кафе — стеклянный кубик.
Алена шла-шла, вдруг толкнула стеклянную дверь этой стекляшки, и сейчас же Сережа с Таней, которые, давно осмелев, были буквально у нее за спиной, услышали:
— Аленушка! Аленка!
Какой-то мужчина поднялся из-за своего столика, быстро снял кепку, сверкнув... довольно-таки малым количеством волос на голове. И учительница их обернулась на этот голос, помахала рукой, стала пробираться меж посетителями, которым одну секунду это все было любопытно, а потом они опять углубились в свои цыпленки табака.
Сквозь прозрачную стену кафе отлично было видно, как Алена подала лысому руку и тот ее сейчас же поцеловал (руку, а не саму учительницу) и усадил так аккуратно, словно это была столетняя бабушка. А руку из своей не выпускал... Вот какие дела!
И она не вырывалась!
А он все время улыбался и шевелил губами...
Но самое удивительное в этой ситуации, что он и для Алены лишь шевелил губами. Потому что она его не слушала!
К сожалению, так довольно часто бывает на свете, что любишь одного человека, а на свидание приходишь к совсем другому!
А что ей было делать? Ведь иногда хочется, чтоб на тебя смотрели с... этим самым, извините за дурацкое слово... с обожанием. Чтоб на тебя смотрели с мечтой — исполнить любое твое желание.
— Вадим, ты мне дашь чего-нибудь поесть? — спросила она и аккуратно высвободила свою руку.
562
Она, между прочим, специально назначила ему встречу в этой стекляшке, а не в кафе получше, чтоб не давать лишних надежд. Она хорошо понимала такие вещи.
И он, кстати, как человек умный, тоже понимал такие вещи и расстраивался. И только делал вид, что не понимает.
Сережа с Таней глазели на них и видели то, что видели: лысый улыбается и Алена улыбается.
А какое, собственно, им до этого дело?
— Идем отсюда, Тань.
Она смерила Сережу недовольным взглядом. Почему он все время старается защитить классную от ее, Таниного, якобы нечестного подсматривания? Врач осматривает больного не потому, что мечтает узнать, какие там красоты у него под рубашкой и майкой, а потому, что так надо для дела!
Хотя сейчас, признаться, Таня была не совсем уверена, что так ей надо для дела. Пропажа классного журнала к этим улыбкам никакого отношения не имела.
Недовольная собой и еще больше недовольная Сережей, Таня повернула к нему один из своих выверенных, особенно стальных взглядов.
— Помнишь, ты усиленно доказывал, что она вообще никуда не идет. А она все-таки шла! И поэтому не думай, что ты обязательно всегда и во всем прав!
Таня сказала не совсем то, что хотела. Но мысль про докторов и осматривание как-то не очень выговаривалась вслух. Однако без этого получилось, что она просто по-на- чальницки кричит на Сережу, а не доказывает.
Сердясь, она пошла к трамвайной остановке, к той самой «Аннушке». Сережа шагал сзади, глубоко засунув руки в карманы. На него неожиданно подействовала бездоказательная Танина ругня.
А ведь правда: шут ее знает, эту Алену! Все перепутывалось в ее поведении! Съеденный с жадностью пирожок, сумка, оставленная в магазине, теперь этот человек.
Погоди! Ну и что? Какие тут, собственно, выводы? А никаких. Кроме одного: Сережа ее совсем не знает. И раз так... Интуиция его, еще недавно такая в себе уверенная, начинала растерянно колебаться.
Всю длинную дорогу в метро они ехали молча. Это иногда случается с людьми, и не обязательно надо говорить: ссора. В метро ведь все-таки слишком шумно и сутолочно.
563
Но когда садились в автобус, Таня сказала, почти бросила:
— Я думаю, дня два ты мне не понадобишься. Действуем по индивидуальным программам.
Его охватила не то обида, не то испуг. И, пришибленный этим чувством, Сережа так и доехал до своей остановки, а Таня вышла на одну раньше.
Бабушка — по обыкновению своему сидя в кухне, хотя на плите ничего не булькало и не скворчало,— медленно листала Сережин учебник истории.
Зрелище странное, надо признаться. Зачем, скажите на милость, вам, шестидесятишестилетняя женщина, читать такие книги?
Что-то в этом роде подумал Сережа, остановившись в дверях. На самом деле бабушка собиралась писать статью о языке этого учебника. А язык ей, надо сказать, не нравился. И она собиралась писать весьма резкую статью.
Елизавета Петровна считала, что язык данного учебника особенно важен, так как чтение исторических книг развивает у человека стратегическое мышление (то есть, проще говоря, такое мышление, которое учит составлению планов на далекое и близкое будущее). А ребенку, как известно, такого мышления особенно недостает... Вот, стало быть, для чего старалась бабушка.
Эх, знать бы об этом и Сереже... Стратегическое мышление. Возможно, у него родились бы какие-нибудь новые идеи по ходу расследования. А возможно, и родились бы какие-нибудь новые идеи насчет отношения к бабушке.
Но ничего Сережа не узнал, и ничего в нем не изменилось. Потому что бабушкину статью никогда и нигде не напечатали.
Статья так и лежала в бабушкином архиве. Собственно, в бабушкином ящике письменного стола. А после ее смерти затерялась куда-то, так никем и не прочитанная.
Он сел напротив бабушки: то ли ему хотелось есть, то ли ему хотелось общаться — сам не знал. Для начала хмыкнул. Это он так выражал свое отношение к ее занятию. Да, пожалуй, и вообще к ней.
Елизавета Петровна приподняла очки, посмотрела на внука. А Сережа, очки никогда не носивший, опять (как и всегда) удивился про себя, почему они никуда не падают, находясь в таком ненадежном, почти невесомом положении, а именно на лбу.
564
Вот о чем ему действительно хотелось бы спросить. И, конечно же, он не спросил. Не решился на этот «слишком детский» вопрос.
И бабушка тоже не решилась рассказать Сереже, чем она занимается. Почему? Да просто испугалась, что над ней посмеются. И потому начала свою речь с наступления, с уже хорошо известной в семье темы — как Сережа (словечко «Краме» Елизавета Петровна с некоторых пор произносить не решалась), как он сильно изменился в последнее время.
— Люди, если ты заметил, делятся на тех, которых мы понимаем, и на тех, которых мы не понимаем... Чувствуешь иной раз: человека-то много, а что он такое, зачем он? Вот и я последнее время никак не могу соединить твои поступки в какую-то систему.
Сережу удивила неожиданная простота и правильность этого наблюдения.
Только не надо, как бабушка: раз ей что-то непонятно, так она сразу уж с каким-то недоверием, чуть ли не с подозрением. А ты возьми да разберись — куда лучше будет!
...Тут в скобках стоит заметить, что сам он разбираться в бабушкином поведении и не собирался...
Елизавета Петровна, между прочим, еще что-то сказала, Сережа ее не услышал. Хотел было попить чайку, но, чтобы не увязнуть в разных там дискуссиях, ушел из кухни. Оглянулся — бабушка еще смотрела ему в спину, а сама уже готова была дальше листать учебник истории.
— Родители письмо прислали,— сказала она, вспомнив.— Пишут, все хорошо. Задерживаются.
— Ладно,— кивнул Сережа.— Я после почитаю.
И больше, между прочим, Сережины родители в этой книжке не появятся... Так зачем же они вообще появлялись? А вот зачем — чтобы мелькнуть, а потом исчезнуть. Чтобы другие родители, взглянув на них, могли с удовольствием сказать: «Нет, нет, мы не такие!»
Сережа сел на диван перед пустым, темным экраном телевизора. Не мог понять, но отчего-то ему было вроде как не по себе. Без всякой видимой причины. Так бывает, когда проснешься поутру, выглянешь в окно, а там пасмурная темнотища.
Вернее всего, ему было неспокойно и грустно от случившегося вдруг одиночества. Если так можно сказать, общего одиночества. Учительница в кафе, Таня у себя в
565
квартире, родители в Академгородке, бабушка на кухне, он здесь, перед серым и холодным телевизором. И каждый сам по себе. По-настоящему никому до другого дела нет.
Так он сидел пригорюнившись. И немножечко он, конечно, был прав. Но в основном все-таки он был не прав!
Такое состояние, когда грусть словно сама собой и не понятно почему начинает распускаться в тебе, такое состояние долго продолжаться не может. Если б, скажем, зуб болел, это другое дело, тут вздохи из тебя вылетают целыми толпами — как призраки из английского замка. А беспричинно?.. Да что я вам, кисейная барышня!
Опять же дела, уроки...
Да и потом, он жил не просто так, а посреди детектива. На следующее утро его перед школой остановила Тара- нина. Не красавица вообще-то. Но и не мымрочка... Из шестого «Б».
— Возьми записку. Только не болтай, пожалуй¬
ста! — И ушла словно бы сердитая.
Сыщик получает рану в сердце
Сережа поскорей сунул записку в карман. В его жизни таких записок еще не было! И долго он никак не мог найти случая, чтобы ее прочитать. Без конца кругом толокся праздно^любопытный народ. А в© время урока — Таня: сразу заинтересуется!
Тане говорить про записку он не хотел. И побаивался.
Наконец уже на третьем уроке, на математике, он отпросился у Розы Григорьевны «выйти», чем удивил весь класс и Таню, конечно, тоже. Ведь с некоторого возраста человеку уже неудобно громким голосом проситься в туалет.
Сережа выходил из класса под молчаливый хор тридцати пяти взглядов... А что поделаешь!
Зато в коридоре он смог в свое удовольствие развернуть
таинственный клочок: «Крамской! Нам надо поговорить. Найди меня. Марина Коробкова».
Из шестого «Б» Коробкова! Кто ж ее не знал! У нее отец какой-то журналист, не то писатель. Он выступал на общем утреннике, помнится, классе в четвертом. И странно как-то было смотреть на него: взрослый дядька, а стихи сочиняет! Такого мнения, кстати, придерживался не только Сережа.
566
А может, им просто обидно стало, что Коробкова не из их класса, а из параллельного злосчастного «Б».
Но так или иначе, с тех пор многие заметили, что Марина эта — симпатичная.
Сережу, который из-за своего воспитания был от таких вещей весьма и весьма далек, записка привела в сильное волнение. Быть может, он даже побледнел, только не было возможности это проверить. А руками, сколько их к лицу ни прикладывай, ничего не определишь.
Но что было бесспорно, обидные Танины слова «ты не понадобишься мне дня два» обернулись теперь неожиданной удачей. Сразу после звонка он, не спросившись, не сказавшись, помчался на первый этаж, где при входе висела пара больших зеркал. Но вовремя испугался, что кто-то его увидит за столь постыдным занятием.
Остановился. Издали поглядел на первоклассниц, которые, поднявшись на цыпочки, строго и любопытно разглядывали себя. Пошел вверх по лестнице.
И все же он как бы осмотрел себя — в душе.
Сменил выражение лица. То у него вид был какой-то растерянно-отчаянный: мол, подходи по одному, жизнь задешево не отдам! Теперь он придал себе спокойствия и решительности. И маленький-маленький прищур, иронический такой. Стараясь не шевельнуть на лице ни одним мускулом, чтобы не испортить этого выражения, он поднялся на четвертый этаж.
Судьба избавила Сережу от лишних мучений. Коробкова словно его и высматривала. Да, именно его! И сразу бросилась наперерез, чтобы хоть не весь класс стал глазеть на них. Коробкова, несмотря на свою знаменитость, тоже была не сильно опытна в делах свиданий.
От волнения Сереже стало вдруг будто бы неинтересно, будто бы даже скучно. На самом деле он просто боялся. Душа его мелко дрожала. И одновременно она сгорала от нетерпения — жарко и бездымно, словно стог соломы.
— Крамской, ты получил мою записку? — спросила Марина, хотя и так было ясно. Но ведь она тоже волновалась.
— Получил! — неловко пролаял Сережа.
— Я тебе хочу дать показания!
Сережа проглотил сухоту в горле, и это получилось не очень красиво, словно бы он икнул.
— С того урока, который вас интересует, Слюдов не
567
был выгнан. Но зато на тот урок опоздал один человек из нашего класса!
Огромная заинтересованность и страшное разочарование буквально разрывали Сережу. А Коробкова усмехнулась с тем совершенно дурацким наслаждением и превосходством, с каким девчонки сообщают вам, что они отнюдь не думали в вас влюбляться!
Да, именно так усмехнулась надменная Коробкова и показала Сереже свой дневник, где на соответствующей странице значилось: «Родители! Ваша дочь 2-го октября прогуляла 20 минут урока истории». И подпись, которую Сережа знал достаточно хорошо, ибо с историей у него по некоему стечению обстоятельств были давние нелады.
— Надеюсь, теперь тебе все понятно?
Ему тут хоть бы немножко съехидничать... Не из того он был сделан теста!
Коробкову, надо заметить, это удивило — его такое благородство. И она сказала изменившимся голосом:
— До свидания... Крамской! Надеюсь, разговор останется между нами.
Прозвенел звонок. Сережа едва услышал его разочарованными ушами... А ну-ка хватит! Пора успокоиться! Да ведь ничего и не было для него, Сергея Крамского, в этой Маринке. Его сердце официально принадлежало Самсоновой, раз он был болельщиком ее команды... И вообще, не может любовь появиться из глупой записки, тем более из обиды.
Теоретически так.
А в жизни — чего только с нами девчонки не делают!
Он вошел в класс. И, видимо, с таким не от мира сего грустным лицом, что учительница истории Жанна Михайловна, которая Маринке написала замечание недрогнувшей рукой, которая и Сережу обычно несильно жаловала, сейчас лишь кивнула головой: мол, садись за парту.
Дела подследственной плохи!
Таня тоже была всего лишь человеком, да к тому ж еще и девочкой. И едва только Сережа сел:
— Кажется, есть новости?
— Годенко невиновен!
— Так! — сказала Таня, сощурив глаза.— Почти все
568
сходится. Годенко — подставная фигура. В смысле: его пытались мне подставить!
Тут она заметила Сережин трагический вид.
— А что, собственно? То есть я хочу спросить, каковы подробности дела?
Молчать было бы невозможно, и Сережа, срезая углы и разливая ведра серой краски безразличия, передал историю с запиской и всем прочим.
— И где сама записочка?
Она осмотрела ровный бумажный квадратик, небрежно сунула его в карман.
— Да не страдай! После окончания дела тебе вернут твою драгоценность. А я на прошлом уроке — чего это, думаю, ты такой нервный. В уборную побежал!
Сережа молчал.
— Коробкова... Это с такими волосками жидкими — белыми?
— Садовничья, встань! Повтори, пожалуйста, о чем я сейчас говорила... Дай дневник!
Все-таки есть справедливость на свете!
Дома Сережа еще раз прошел всю эту историю от начала до конца. Бабушку бы спросить... Невозможно!
И тут он вспомнил, что в старину — не когда бабушка была молодой, не в тридцатые годы, а намного-намного раньше,— если запискам хотели придать особое значение, то непременно окрапляли их духами. Не мужчины, конечно, а женщины.
И теперь Сережа страшно жалел, что не догадался сделать такую простую вещь — понюхать ту бумажку. Ведь ароматам свойственно улетучиваться, а сколько еще протянется следствие, неизвестно!
На следующий день Таня абсолютно не обращала на него внимания. Причем так равнодушно, так по-деловому не обращала, словно бы это и не Сережа был ее главным помощником. Словно бы это и не он так безупречно отработал версию Годенко.
Правильно говорится, что бывают на свете люди, а бывают — которым только бы покомандовать!
— Тань,— наконец он сказал,— уже два дня твои проходят!
Таня посмотрела на него, усмехнулась — так, между прочим, удивительно по-взрослому. Не с ехидством, не с превосходством, а именно вот по-взрослому: что, мол, Сережа еще маленький, а она до ужаса огромная!
569
— Не волнуйся, тебя не забыли. Просто все должно выясниться именно сейчас.
— Когда сейчас?
— А вот смотри.— Таня подняла руку.
Шел урок литературы. Алена Робертовна, увлеченная своим объяснением, ее не замечала. Тогда Таня встала:
— Скажите, пожалуйста, Алена Робертовна, а когда будет готова контрольная по литературе?
Алена запнулась на лету.
— Контрольная?.. Да, действительно! Завтра будет готова.
— Спасибо! — произнесла Таня особенно ученическим, старательным голосом и села. И тут же показала Сереже... жетончик алюминиевый: — Вот она где, контрольная!
Весь прямо-таки похолодев, Сережа догадался: сумка с тетрадями — магазин — жетон из камеры хранения!
— Ты как его достала?
— Забыл? Подобрала!
Он посмотрел на учительницу, которая уже опять парила в своем рассказе.
— Ты что хочешь с ним делать? Зачем он тебе?
— А чтобы сконструировать некоторую ситуацию.— Тут уж она не смогла удержаться и улыбнулась: мол, я тебе не какая-то Коробкова.— Но о подробностях несколько позже.
А «подробности» были такие. Два дня сумка лежала в универсаме. И Алена Робертовна про нее не вспомнила! Таня рассудила, что и с журналом могло произойти нечто подобное. И лежит он себе где-нибудь в камере хранения Курского вокзала, или под диваном у двоюродной бабушки, или шут его знает где — они ведь тогда за классной не следили!
Алена рассеянная — вот в чем истина!
— А зачем тебе номерок нужен?
Номерок Тане нужен для чистоты эксперимента: узнать, вспомнит Алена без подсказки, где тетради посеяла, или нет. Если не вспомнит, значит, она и журнал куда-то задевала! Такую вот нелепость придумала Таня.
— Ну, это... мало ли,— сказал Сережа,— это ведь все- таки не обязательно...
— А у нас вообще не может быть прямых доказательств. Но как косвенное оно очень сильное. Это во-первых! А во-вторых, больше-то некому. Был Годенко подозреваемый...— Она выразительно посмотрела на Сережу.
570
Но забывчивость еще не преступление. Преступление, рассуждала Таня, когда человек свою вину начинает валить на другого. А ведь Алена так и сделала. Я, говорит, видела в учительской журнал, а ты, Годенко, его стащил!
И за это она должна быть наказана!
— Нельзя так, Тань,— неуверенно возразил Сережа.
— Ладно, хватит,— прервала его Таня.— Пиши! «После шестого урока состоится важное сообщение. Группа розыска».
— Как это, «сообщение» — и вдруг «состоится»?
— Ничего. Нормально будет. Посылай по рядам.
Алена Робертовна вела урок. А по рядам, от парты
к парте, или, вернее говоря, от стола к столу, медленной белой молнией пробиралась записка. И каждый, прочитав ее, оглядывался на Таню Садовничью, а потом невольно на учительницу.
После шестого лишь два человека не остались: одному надо было с матерью к врачу, другому (другой, вернее) — на фигурное катание. Оба подошли к Тане... Вроде как отпрашиваться:
— Пусть нам после Корма отзвонит. Ладно, Садовничья?
— Нам же тоже интересно,— сказала фигуристка.— Мы же тоже члены коллектива!
Не улыбнувшись, ничем не выдав своего торжества, Таня достойно кивнула.
«Для пользы дела...»
Попробуйте когда-нибудь после шестого урока задержать свой класс хотя бы на минуту. Сами увидите, что у вас получится.
Это знала и Таня Садовничья. Сейчас, незаметно глянув на часы, она обнаружила, что шестой «А» слушает ее уже четверть часа. И дальше готов слушать!
А что она такое рассказала? Всего лишь: о невиновности Годенко (без основных подробностей) и о поведении Алены в тот день (без упоминания о сумке).
И теперь, когда она вдруг объявила, что для следствия крайне важно кое-что в данной истории временно хранить под грифом «секретно», ух и вой же начался! То есть не вой, конечно, а грозные крики возмущения.
571
Но по существу именно вой: ведь они были в ее руках, ведь это они мечтали узнать тайну... Тайну Тани. И готовы были высидеть любое назначенное время.
— Да поймите вы! — крикнула Таня чуть ли не сердито.— Я не могу рассказывать всем.
— Почему?! — вопили они.
— Потому. Так всегда бывает! Что вы думаете, необычайную тайну должен знать каждый первый попавшийся?
На этот раз они промолчали.
— Мне нужно,— продолжала Таня,— чтоб вы от класса выбрали двух свидетелей-понятых. Двух самых, ну... уважаемых. Для проведения очень важного следственного эксперимента!
Сережа (и, пожалуй, не он один) чувствовал, что все эти звучные судебные слова... в общем, вряд ли Таня употребляет их абсолютно правильно. Но это было сейчас совершенно неважно. Важным было совсем иное — выборы. Двух самых уважаемых лиц.
То была, между прочим, интересная сцена. И многие, наверное, дорого отдали бы, чтоб присутствовать при ней. Нет, это вам не санитарку выбирать и не ответственного за поливаемость цветов — голосуй за кого попало, лишь бы скорее домой.
Выбирали с пристрастием, с криками. Таня, словно настоящая учительница, спокойно стояла у окна.
И странное дело: хоть голосование и проходило совершенно безнадзорно, выбрали-то тех же самых — Серову Лену и Самсонову Лиду, старосту и председателя совета отряда. Причем никто этого не заметил. Потому что — а кого еще-то выбирать? Всем известные, проверенные... Значит, и правильно сделали.
— А теперь до свидания, остальные! — громко сказала Таня. И взглядом подозвала к себе Сережу: — Постой у двери с той стороны, чтобы никто не подслушивал. Я хочу их ввести в курс дела о забытой сумке.
Говоря по правде, ей не очень нравилось, что придется иметь дело с девчонками. Не из-за какого-то там «ухаживания», а просто с мальчишками у нее четче получался контакт.
Хотя немного, наверное, и из-за «ухаживания». Кто тут разберется!
— Запомните,— сказала Таня.— Если история раньше времени выплывет наружу, все с вами сразу будет ясно!
572
Серова и Самсонова переглянулись. Старые противницы, они сидели сейчас за одной партой перед учительским столом, почти касаясь друг друга плечами.
— Зачем ты так говоришь, Таня? — нахмурив брови, сказала Самсонова.— Чтобы нас обидеть? Мы с Леной совсем не такие люди!
— Я вас просто предупредила. И отправляйтесь на задание сразу.— Тут она проявила заботу о подчиненных: — По дороге где-нибудь поешьте.
Что говорить! В этом было очень много настоящей самостоятельной жизни! «Поешьте по дороге». Необычно, значительно.
Самсонова и Серова вышли из школы. Они чувствовали, что им любопытно друг с другом, что им о многом хотелось бы поговорить. И совсем по-другому живется, когда не надо подкалывать, когда не надо высчитывать чужие промахи.
— Давай ко мне зайдем,— сказала Лена.— Это же все равно по пути. Бутербродиков возьмем и портфели оставим.
Лида молча кивнула. Ей интересно было пойти на неведомую территорию. И к тому же неплохо, конечно, где-нибудь поесть, но у нее совершенно не было денег.
Этим двум девочкам предстояло найти подходящую засаду в районе того магазина и следить, придет Алена Робертовна или нет. А если не придет, то за десять минут до закрытия предъявить номерок и взять сумку.
— А что мы будем делать? — спросил Сережа.
— «Мы»?..— Таня улыбнулась. Но ведь два дня, которые были отпущены для наказания, прошли.— Ладно, хорошо. «Мы» будем следить за действиями Алены.
Звучало это просто. А по существу оказалось томительным и стыдным делом. Они подошли к Алениному парадному. Напротив как раз была телефонная будка. Позвонили, убедились, что учительница их дома. Дальше?
— Будем осуществлять наружное наблюдение,— сказала Таня.— А там — по обстоятельствам.
Они пошли в дом напротив, поднялись на седьмой этаж. Отсюда, с лестничной площадки, был отличный обзор. Дверь Алениного подъезда как на ладони, не нужен никакой оптический прицел!
Но что дальше делать — неясно.
573
Скучать!
Входят-выходят люди. Никакой Алены нету.
— А ты что думал, детективная работа состоит из одних приключений? — сказала Таня.
Такие до грубых мозолей заезженные слова... И стало еще скучнее.
Таня сама почувствовала это. Но хватило ей мужества не поступить, как поступили бы в таких случаях некоторые, а именно — сорвать зло на своем подчиненном.
— Ладно,— она сказала,— сходи купи чего-нибудь пожевать. Если меня тут не будет, поезжай на «Бауманскую». Назначаю тебя старшим в их группе.
Однако когда Сережа вернулся с двумя пачками печенья «Привет», все было по-прежнему. Только начался дождь.
— Тань, а что мы будем делать, если она выйдет?
— Я пока не могу тебя посвятить во все свои планы...— И замолчала как бы на полуслове, как бы додумывая вдруг пришедшую ей в голову новую идею.
По правде, она и сама не очень представляла, что будет делать.
В великой уверенности своей Таня не замечала, с каким сомнением в эти минуты поглядывал на нее Сережа. Если б только это была не Таня, он давно бы уже сказал: «Кончай ты в игрушки играть — неинтересно!»
И оба они не знали, что именно в эти самые минуты Алена Робертовна стояла у окна в своей квартире и смотрела на тот же огромный, ничем не засаженный и не заставленный двор, по существу пустырь, заключенный между четырьмя щитами окружавших его домов.
Ей показалось, что там мелькнули ребячьи фигурки — уж не ее ли ученики? А почему, собственно, ее? Мало ли детей ходит по улицам!
А еще она стояла в этой неопределенной позе, ибо ее одолевали сомнения. Прошло уже несколько дней, как пропал этот злосчастный журнал. Ситуация сложилась неприятная, и Алену Робертовну торопили, чтобы она как-то разбиралась!
В конце концов, все это не так уж трудно было бы выяснить. Журнал — такая вещь, которая всегда на виду,— можно дознаться, где и когда именно потерян его след.
Если даже не удастся вернуть журнал к исполнению его, так сказать, служебных обязанностей, то хотя бы надо
574
выявить виновника и примерно наказать. Так считала заведующая учебной частью.
Алена же считала по-другому. Если журнал не вернуть (а ясно, что его не вернуть, коли он не нашелся за четыре дня), надо ли вести выяснение, припирать кого-то к стенке? Алена считала, что куда лучше будет устроить откровенный разговор со всем классом. Ведь это их общее: беда, вина... Называй, как считаешь нужным.
И она все тянула с дознанием, пользуясь тем, что была бывшей ученицей завуча и любимицей.
А учителя, которым без журнала, без оценок в конце четверти в пору было кричать «караул», требовали виновников. А уж одна-то виновница была, по их мнению, налицо — Алена Робертовна. Ведь это она распустила класс до такого состояния, что журналы стали пропадать.
Вот такая прорисовывалась ситуация.
Но кстати, и это еще не все. Главное... Да, конечно, главное — она не верила сама себе! Несколько раз с ней случалось такое: она перекладывала или даже уносила совершенно посторонние вещи. Она даже один раз решила, что, может, ей стоит обратиться к врачу, что, может, ее забывчивость — это болезнь...
Правда, со школьными журналами у нее ничего подобного никогда не происходило.
Из подъезда шестнадцатиэтажной башни, что стояла напротив, вышел какой-то парнишка. Алене Робертовне опять показалось, что это из ее класса. Что это Годенко. И она вспомнила, как упрекнула его несправедливо. Кажется, даже кричала. Совершенно отчетливо Алена вспомнила, как она непозволительно громко, с подозрительностью в голосе произносит: «А я его там видела!»
Зачем же она так сказала? Ну зачем?!
Приходилось признать: она крикнула это в пылу и угаре взрослой своей, учительской самоуверенности, что журнал, конечно же, на месте, просто ученики ее, как и обычно, верхоглядствуют.
«Еще хорошо, меня никто не уличил»,— подумала Алена и облегченно усмехнулась. Эх, как же она была не права!
Успокоившись, молодая учительница задернула штору. Вернее всего это, конечно, был не Годенко... Как и многие близорукие девушки, Алена не носила очков — считала, что
575
очки ее старят и делают менее привлекательной. А ни того, ни другого ей вовсе не хотелось.
Таня и Сережа прождали до шести часов, что стоило им немалых нервов. Два раза даже пришлось менять этажи, так как к ним привязался какой-то жилец, который хотя и был старый, но, имея в своем распоряжении такой современный транспорт, как лифт, мог не считаться ни с возрастом, ни с грудной жабой. Под конец он их, собственно, и выгнал, этот усатый, лысый, громко дышащий человек. Хотя им и самим, в общем-то, пора было идти.
— Поможем Серовой и Самсоновой,— сказала Таня,— а то они могут там...— И Таня изобразила лицом, что могут в решительную минуту мямли и недотепы.— Кстати, до скольких магазин?
— До семи.
— Молодец! — Она глянула на часы.— Как раз успеем.
— Тань, а может, предупредим Алену, что мы ее подозреваем. Она ведь рассеянная, ты же сама говоришь. Засунула его куда-нибудь и забыла.
— А тут испугается и вспомнит! — Таня засмеялась.
Они шли по длинному переходу на «Курскую» кольцевую, и некоторые даже оглянулись на Танин такой громкий и холодный смех.
— Тебе, Тань, как будто самое главное — ее поймать!
— А тебе?
— Мне? Журнал найти!
— А мне и то и другое! Преступников никто по головке не гладит. Один ты собираешься.
Сережа промолчал. Ему жалко было Алену Робертовну. Такое от рождения имелось у него... Как сказать? Свойство души, что ли? Он умел представлять себя на месте того, кто попал в беду.
А Таня вот не умела. Она шла к намеченной цели без лишних сомнений. Тоже такое свойство души.
Появились они, надо сказать, очень вовремя. Самсонова и Серова в решительную минуту действительно заволновались, не сказали, чего им было приказано.
Старушка-выдавалыцица сумок с большим сомнением взяла номерок. Еще бы — столько времени прошло! Они с этой сумкой бог знает как намучились, решили уж в милицию ее отдавать. И вдруг являются эти две девицы... А сзади напирали вечерние усталые и спешащие люди.
576
Здесь-то как раз возникла Таня:
— Дело в том, понимаете, что у нас учительница заболела, а там лежат тетради с контрольной.
Старушка улыбнулась, поскольку так называемая детская непосредственность всегда действует на окружающих положительно.
Но, как на грех, здесь же оказалась и некая усталая, наработавшаяся за смену женщина. Не нужны ей были ни сумка, ни история эта. Она чувствовала, что зазря теряет минуты.
— А ты-то откуда взялась? — раздраженно сказала женщина.— Ты здесь вообще не стояла!
Еще мгновенье, и она могла произнести роковые слова, что пусть, мол, приходят с родителями... И тогда конец!
— А вы не верите, так проверьте! — быстро сказала Таня и раскрыла Аленину сумку.
Это был, конечно, дерзкий шаг, и при других обстоятельствах... Но из переполненной сумки буквально хлынули школьные тетради. Все такие наивные, все таких зелено-сине-розовых тонов.
У женщин, толпившихся вокруг события, сердце, что называется, защемило. А чем его в таких случаях защемляет? А наверное, той самой дверью, за которой безвозвратно оставлено школьное детство. И не стоит, дорогие читатели, над ними смеяться.
Таня Садовничья, не теряя времени и пустив вперед «людокола» Сережу, проталкивалась сквозь народ.
Остальные члены ее небольшого отряда — каждый со своей степенью незаметности — утирали, что называется, холодный пот со лба.
Поздний звонок
Вечером, перед тем как пойти спать, Таня проанализировала истекший день и осталась им довольна.
И чем-то она была недовольна... Несколько секунд послушала, как за стеной гремит хоккеем телевизор и перед телевизором беснуется сосед.
Нет, она чем-то все-таки была недовольна.
Зазвонил телефон. Это бабушка, как она выразилась, «решила Танечку послушать». Возвращалась с вечерней дойки и по пути завернула в правление. Глядь — в кабинете у директора пусто, телефон свободный...
19 Школьные годы. Выпуск IV
577
Знала Таня, какое такое это «по пути»: целый лишний километр надо отшагать — по ночи, по слякоти. И километр обратно.
После бабушкиного звонка какой-то комок в душе у нее размягчился, и она поняла, что за недовольность мешала ей спокойно лечь спать — Сережины слова: мол, надо Алену предупредить... То есть, что он у нас такой дико добрый, а Таня, значит, получается злодейка?
Вот почему она и не могла по-настоящему подружиться с Крамским — он как-то не до конца разделял ее позицию.
Таня продолжала сидеть перед телефоном. А за стенкой продолжал грохотать хоккей.
И вот она сняла трубку, набрала номер. В голове мгновенно родился план. Что ж, будь по-твоему, она предупредит.
— Ой, але... Это Алена Робертовна? Извините, Алена Робертовна. Это Садовничья Татьяна, ваша ученица. Хотела позвонить в другое место, а машинально набрала ваш номер... Извините, пожалуйста. Спокойной ночи! — и разъединилась.
Алена медленно положила трубку, сделала почти беззвучным вечер балета. Странный был, однако, звонок. «Собиралась в другое место, машинально ваш номер». Машинально? Это когда он все время у тебя на уме. А почему?
И девочка какая-то не совсем понятная. Несколько раз Алена ловила на себе ее взгляд. Такой оценивающий, что ли. Словно решает, иметь с ней дело или не иметь.
И еще сегодня что-то... Сегодня...
А! На литературе. Ее вопрос про контрольные. Он ведь странный! Ребята не любят узнавать о контрольных, потому что боятся. И всегда ждут — пусть сам учитель скажет. И даже, замечала Алена, жила в ее учениках фантастическая надежда, что, может быть, «училка» совсем забудет про контрольную.
А эта вдруг сама... Странно!
Алена (она отлично помнила то свое состояние) хотела даже подшутить над такой небывалой решительностью. Да запнулась! Вспомнила, что контрольная-то еще не проверена.
А кстати, где тетради?
Хм... Абсолютно вылетело из головы.
Но ведь на уроке думать о постороннем некогда. Там и растеряться-то некогда!
578
И потом тоже не нашлось минутки. Опять с завучем про этот журнал... В общем, за целый день она не вспомнила про тетради ни разу: как-то не раздавалось внутри сигналов беспокойства. Только вот теперь, этот случайный звонок...
Случайный ли? Да что она такое начинает думать! Совсем с ума сошла!
Опять включила балет на нормальную громкость. Но действительно, где же все-таки тетради?
A-а! Вспомнила! Где-то их оставила. Проклятая рассеянность! В какой-то камере хранения. Еще номерок болтался в кармане. Ну да, перчатки вынимала...
Как читатель может догадаться, в пальто — и нигде в другом месте! — номерка не оказалось: Таня Садовничья была тому причиной. И Алена уже сама себе не верила: в этот раз он мелькнул перед глазами или прошлой осенью? Ужас был еще в том, что она совершенно ясно вспомнила номер этого номерка — шестьдесят восемь. Бред какой-то!.. Что за шестьдесят восемь? Журнал, теперь тетради...
Спать Алена Робертовна легла растревоженная. Ночью привиделось ей, как она ходит по каким-то коридорам и без конца рассказывает про исчезнувший журнал, пишет объяснения. А кругом бесконечно тоскливый полусвет. И наконец она входит в какую-то комнату, а ей говорят: «Ну вот вы и пришли».
Смотрит, а на окнах решетки! И тогда она горько заплакала.
Так и проснулась — серым утром вся в слезах.
Таня удивлена
— Может быть, не все обратили внимание на мой вопрос, который я спросила тогда у Алены,— так начала Таня Садовничья свою речь.
На самом деле она была уверена, что внимание обратили все. И ей, признаться, было странно заметить на их лицах тупое, именно так подумала Таня, тупое недоумение.
Но умный человек должен уметь прощать окружающим и непонятливость, и нелепость, и насмешку, под которой чаще всего скрывается самое обычное недопонимание. Примерно так думала Таня, и эти мысли помогали ей успокоиться.
579
— Я спросила у Алены — где тетради с контрольной? Вот что я спросила! А она сделала растерянное лицо.
И здесь Таня выложила на стол трехэтажную тетрадную стопку.
Это хорошо получилось — она могла судить по раскрывшимся ртам. Только помощник ее, Крамской, сидел как бы несколько равнодушный. Но ведь оп все знал. Да еще Самсонова и Серова из разных концов класса светили на нее завистливыми глазами.
Извините, девочки! Хотите быть в центре внимания, думайте, соображайте, работайте! А не только живите прошлыми заслугами...
Зато уж остальные были под ее гипнозом!
И здесь без шуток надо заметить, что в такие минуты человек в глазах очень многих становится — причем на всю жизнь — выдающейся личностью. Потом в семейных легендах, внукам своим, будут эти шестиклассники рассказывать, что, мол, когда-то свела судьба с некоей Таней Садовничьей. Что с нею теперь, не знаю, но, уж наверное, стала большим человеком!
И Таня в эти минуты особенно ясно чувствовала, как растет и мужает ее... знаменитость.
Знаменитость... А хорошо это или плохо? Вопрос, который в этой книжке разрешить совсем не трудно.
Совершенно точно, что о купании в лучах славы мечтают многие. И наверное, в принципе здесь ничего плохого нет. Плохо, когда эти многие стремятся получить славы больше, чем они заслужили. И счастья больше, чем они заслужили, и успеха, и всего остального, на что человек должен тратить свой нелегкий труд.
Но ведь за все надо чем-то расплачиваться... Кстати, расплата не жестокость какая-нибудь, не случайность неприятная. Она — как закон жизни.
А те, которые стремятся получить хорошее во что бы то ни стало, они часто отдают в уплату чужое человеческое счастье, или благополучие, или спокойствие... Бывает, и чужие человеческие жизни. А что, говорит, я мог поделать? Это было необходимо.
Врет он!
Спокойно и точно Таня изложила ход расследования. Лишь замолчала историю с номерком. Способы, которыми достигнут успех, считала она, в конце концов не так уж важны. Важен результат. А он лежал на столе.
580
— Я предлагаю устроить ей последнее испытание, дать последний шанс, положить тетради где-нибудь на видном месте — с намеком. И уж если она опять не признается про журнал, тогда...— Таня хотела произнести слово «суд». Но какой в самом деле над учительницей суд? — Тогда выложим ей все доказательства. И пусть она постоит и покраснеет.
— Предлагаю прямо здесь тетради оставить! — волнуясь, крикнул Алеша Воскресенский.
— Она придет, увидит, должна будет спросить, откуда мы их взяли...— Таня покачала головой.
— Ну и пускай!
— Не получится испытания, понимаешь? Вместо испытания сразу начнется суд.— Все-таки не удержалась от столь притягательного слова.
И шестой «А» сейчас же услышал его.
О чем он подумал в этот момент, шестой «А»?
О чем ОН подумал? Но ведь это не один человек. Каждый думал свое.
Чего там притворяться — кое-кому хотелось устроить это представление: «Ну что, попалась?!» За все двойки, за все наставления... «Ты — нас. А теперь мы — тебя!»
А были, которые испугались и просто затихли: «Да ну еще — скажешь, а потом Алена Робертовна как узнает...» Хотя и эти были бы не прочь «полюбоваться».
И были третьи, которых было большинство. Каждому из них хотелось крикнуть: «Да вы что, ребята?! Какая-то Садовничья будет нашу Алену унижать, будет проверять на ней разные свои дурацкие предположения, а вы?..» Ведь действительно: уж Алена-то Робертовна, уж с нею-то столько всего! Ведь тетю свою родную меньше видишь, чем ее...
Но почему же они смолчали, эти третьи, которые все так правильно думали?
Струсили! Испугались! Что обвинят их: к учителю, мол, подлизываешься. За отметочку, за похвалу на классном часе. В любимчики пролезаешь?
И смолчали...
Эх, честные люди, честные люди! Что же иной раз вы боитесь быть честными? Не бойтесь вы! Иначе из-за вашего молчания такое может произойти... И кстати, уж происходило неоднократно!
Вот и сейчас в шестом «А» то же началось. Завопили те,
581
которым не терпелось рассчитаться с Аленой Робертовной. Было их не так уж много. Да глотки — что твой артист Большого театра.
Таня, которая сама предложила проволочку с последним шансом, но предложила лишь затем, чтобы потом ни один Крамской не обвинил ее в жестокости, в неблагородстве, на самом деле ничего не имела против немедленно начать действовать. Потому она решила не останавливать народ, а лишь пожала плечами: мол, если вы так считаете и настаиваете...
Этот Танин маневр понял в своем «камчатском» углу Сережа Крамской. Он, если честно, надеялся промолчать... Надеялся! Но больше молчать не мог.
— А я знаю, как надо сделать. И куда справедливей будет! — вдруг сказал Сережа.— Надо проникнуть в учительскую, и там есть в углу вешалка деревянная рогатая. На нее повесить сумку с тетрадями. Давайте выберем, кто это может сделать. У нас три минуты времени!
Это все он проговорил одним залпом — чтобы не перебили. И еще успел в конце придумать про три минуты и про «давайте выберем» (по идее, самого смелого, самого находчивого), чтобы их отвлечь.
Особенно три минуты были, как сказали бы специалисты, точной психологической деталью. Народ сразу кинулся предлагать.
Значит, суд отодвигался в неизвестные времена... Может быть, вообще не состоится. Значит, Алена все-таки получала свой шанс!
Только Таня поняла Сережину ловкую политику. И подумала, что Крамской ведь совершенно заурядная личность. Ну, был по крайней мере. И вдруг такие точные удары! Откуда?
Надо с ним поговорить на эту тему, подумала Таня, как-то его прощупать. Или он притворялся, или он действительно так вырос.
Однако никакого разговора подобного между ними не состоялось. Ни в тот день, ни после. Никогда! Они разошлись, о чем мы вскоре узнаем. Разошлись — и презирая друг друга, и сожалея о ссоре.
Таня так и не узнала, что на смелые поступки человека толкают не одни только решительность и воля. Смелым человека делает нередко и доброта... «Ну чего ты лезешь на рожон?! — ему говорят.— Не видишь, что ли!»
582
А он — хоть ты убей! — не может не заступиться. Хоть ты убей!
И случается, убивают...
Так должна бы перевестись доброта в роде человеческом. А все она не переводится!
Урок
Значит, все-таки она сошла с ума! Магазин, наконец явившийся в ее памяти так четко, что и не сказать, старушка, приемщица сумок, ярко-синий платок на голове... Алена точно помнила!
А тетради при этом спокойно висели на деревянном рожке старинной, отполированной тысячами шляп и пальто вешалке, невесть как попавшей в их новую крупнопанельную школу.
Учительница опустилась на стул, боясь прикасаться к сумке своей, словно к привидению. Она могла бы поклясться, что вчера здесь никакой сумки не было. Но кто же теперь поверит ее клятвам?
Алена Робертовна сняла злосчастную сумку, спустилась на первый этаж, вышла из школы.
Из окон своего класса ее округленную, постарушевшую спину видели ученики шестого «А».
— В милицию пошла! — пошутил Тренин.
На эту его посредственную шутку откликнулись довольно дружно — в основном «люди с глотками»: сейчас звонок, а у них первым уроком как раз она. Значит, сорок пять минут полной свободы... Тем более никто ей ничего плохого-то не делал, совесть чиста.
За углом Алену Робертовну поджидал телефон-автомат. Верхняя петля его двери разболталась, и автомат как бы сам тянул к пей руки. Делать нечего, подумала она, все равно предупредить надо.
И налетела, что называется, с ковшом на брагу — к телефону подошла сама завуч. По голосу и по невнятным ответам своей любимицы Людмила Ивановна поняла, что здесь каким-то образом опять замешан журнал.
— Ладно, не волнуйся... Не волнуйся, тебе говорю. Отдохни.
И подумала: «Ну я, голубчики, с вами сейчас переговорю!»
Она всегда приходила в школу к первому уроку, хотя
583
у неё самоичбыл занят только второй или даже третий час. Это она делала (как сама же полушутя-полусерьезно признавалась себе) исключительно для собственного спокойствия: она была уверена, что при ней ничего плохого в школе случиться не может.
Причем не обязательно она в эти свободные часы занималась чем-то учебным или педагогическим. Сейчас, например, она собиралась почитать «Новый мир», который ей дали на два дня... И вот пожалуйста!
Поэтому завуч была настроена особенно решительно. Как сборная СССР перед матчем с канадцами.
Но едва вошла она в класс, посмотрела в эти рожицы, на которых была написана полная беззащитная решимость жизнь задешево не отдавать, стало ей стыдно! Кого же ты бить-то хотела?.. Неожиданно для себя она заговорила с ними совсем не так, как собиралась.
В шестом классе ученик обычно бывает уже достаточно опытен. Его дежурной душеспасительной беседой не проймешь. Тут много есть приемов. Первый — просто не поверить, сказать себе: «A-а... слыхали мы это сто раз».
Когда же не поверить невозможно, когда слово учителя пронимает до костей, рекомендуют отключиться, пропускать все мимо ушей.
Но бывает, что не может сгодиться ни один прием — это в тех случаях, когда у человека совести побольше и говорит с ним действительно настоящий учитель, действительно хороший и умный человек.
Шестой «А», как мы заметили, любил детективы, следствия и все тому подобное. Но шестой «А» был, что ни говори, воспитан Аленой Робертовной, и, значит, был классом неплохим. Пусть сложным (как любят выражаться некоторые), но неплохим. Притом говорил с ним человек хороший, говорил искренне.
И вот жители шестого «А» стали с каждой минутой чувствовать себя все неуютнее, все неуютней... Что же делается такое! Как же так она умеет, эта Людмила Ивановна? Ее, пожалуй, еще немного послушаешь, действительно уверишься, что ты виновен в этом злосчастном журнале. И помчишь признаваться в том, чего ты вовсе не совершал. Гипноз какой-то.
И вот от .арты к парте поползло открытое письмо: Серова Садовничьей. Серова сидела от Тани точно через весь класс по диагонали. Одна за первым столом у двери, другая за последним у окна. Значит, каждый может оз-
584
Р*К€>Шt?b£K*c А Яша& Серова того
и хотела:
«Садовничья Таня! Почему мы должны терпеть это, выслушивая, как рыбы? Мы не делали, так за что же нас жалеть и ругать? Предлагаю честно встать и выложить наши доказательства и улики. Я даже могу это сделать сама! Е. Серова».
И приписка: «Пусть каждый прочитает и поставит свою подпись — «за» или «против».
Лист был разделен на две половины. И в половине «За» уже стояла одна подпись Мироновой — верной серовской оруженосихи.
Минут за десять до звонка письмо приползло к Тане. Причем вцоловиле «За» было много подписей, а в половине «Против» лишь малая запуганная стайка.
И все-таки решающее слово они оставили за Таней! Было чем гордиться. В таких случаях особенно бывает приятно, когда твой доверенный (ну и немного подчиненный) человек сам понимает это и сам тебе об этом говорит...
Дождешься от него!
«Доверенный человек» насупленно рассматривал листок, словно там могли быть еще изнанка, подкладка и тайные кармашки! Ему-то можно рассматривать, он ничего не решает. А вот как поступить Тане?
Если она хочет укрепить свое положение в классе, надо соглашаться: зачем идти против всех?
Но тут была одна подробность: Серова, видите ли, «готова сделать сама». То есть готова... взять себе славу!
Таня посмотрела на список «Против» — правильно: Самсонова здесь. Потому что сообразила...
Вопрос надо было решать быстро и психологически точно. Дело из рук выпускать нельзя. Все подготовлено, все отлажено. Еще нем+roFO — и Татьяна Садовничья может получить известность не хуже самого Шерлока Холмса. Тем более она женщина.
Только надо аккуратно отмести всех Серовых, вообще всех любительниц позариться на ее успех.
И поможет ей в этом насупленное доверенное лицо, несговорчивый Ватсон.
— Ну? Что ты думаешь?
— Сами же дали последнюю попытку... Теперь отнимают! Она даже на урок не пошла!
— Правильно! — Таня вырвала лист из тетради по рус¬
585
скому. Написала: «Мы должны быть более твердыми в принятых решениях. Обещали дать ей последний шанс? Значит, так и надо поступать!» Пододвинула лист Сереже.
И опять поползла по рядам белая медленная молния... Кто видел шаровые молнии, говорят, они тоже так вот движутся — медленно и как бы нерешительно, словно чего-то выжидают или кого-то ищут.
Особенно долго над запиской сидела Самсонова. Почему? Неизвестно. И Таня Садовничья даже испугалась, что Лида сейчас встанет, и... Тогда вся слава Самсонихе!
Но какое-то лицо у нее было неподходящее для этого решительного шага. «Эх ты,— подумала Таня,— я бы сейчас на твоем месте...» Испытывая чувство явного превосходства (и, признаемся в скобках, облегчения), она увидела, как записка наконец отчалила от Лидиной парты.
Она так никогда и не узнала, что сейчас творилось в душе Лиды Самсоновой. А мы это еще узнаем...
До Серовой листок дойти не успел. Сорок пять минут кончились под грохот звонка. Таня на то и рассчитывала!
Завуч, Людмила Ивановна, тоже видела какое-то подозрительное шевеление во время урока. И пожалуй, даже заметила, как однажды мелькнула с ряда на ряд свернутая вчетверо бумажная эстафета.
Но удержала себя, не подошла и не сказала непререкаемо: «Дай-ка сюда!» Чувствовала, что нарушит что-то важное и хрупкое.
Когда раздался звонок, завуч как раз говорила последнюю свою фразу. И потом, уже на переменочном полушуме и вставании:
— Поймите, ребята, и запомните: это сделал кто-то из вас! И лучше вам самим разобраться, чем...
Она сделала намеренную паузу, ожидая отклика, думая, что, может, не зря она потратила эти сорок пять минут... И дождалась.
— Найдем! — сказала Таня Садовничья.— Даю вам слово!
И вслед поднялся почти самолетный гул одобрительных голосов — Людмила Ивановна даже немного растерялась. Но, не выдав себя ни единым дрожанием в голосе, закончила:
— Что же, я рада. Только помните: сроку у вас — до завтрашнего классного часа.
О чем думают утонувшие
Она сидела совершенно одна, в своей тускло освещенной октябрем квартире. Напротив молчал телефон.
В этот ранний час школьного утра она привыкла быть среди своего народа — витать в облаках объяснений, ссориться, дружить и многое-многое другое, чему названия она точного не знала. Но знала, однако, что оно существует — то, из-за чего она крепко-накрепко приросла к школе, и другой работы себе не мыслит, и всех «неучителей» считает лишь странными недотепами, коли они, при совершенно свободном выборе, сделались не педагогами, а какими-то там инженерами, балеринами или таксистами.
Но сегодня и сейчас она чувствовала себя плохо, так плохо и немощно, как тот чемпион мира по плаванию, который однажды вдруг обнаружил, что начисто разучился плавать... Такой случай действительно был описан в специальной литературе.
Со спокойным отчаянием Алена стала прикидывать, чем она могла бы заняться в этой жизни. Ну просто для пропитания. Со школой, она считала, покончено.
Из дальней дали ей припомнилось, что когда-то, когда она сама была ученицей, их готовили с чертежным уклоном.
Алена вылезла из низкого кресла перед низким столиком, где она проверила не одну тысячу тетрадей. Подошла к шкафу, стала на колени, открыла нижний ящик, разгребла старые какие-то бумаги и достала со дна готовальню — огромную, совершенно профессиональную, длиною чуть не в полметра. Ее когда-то купила Алене покойная мама.
Но сейчас она думала не о маме своей. Ее поразило, как неожиданно легко нашла она эту стародавнюю, навсегда, казалось, позабытую вещь... Значит, память ее работала? А вовсе не была в обмороке или при смерти.
К сожалению, она прошла мимо этой мысли, почти ее не заметив, а стоило бы призадуматься!
Она открыла готовальню. Каждая железочка покоилась тут в надлежащей бархатной лунке, в абсолютном порядке и чистоте. И, глядя на этот не очень свойственный ей, современной, порядок, Алена всею тоской своей почувствовала, насколько эта готовальня — чуждая ей вещь. И как далека ей и чужда чертежная профессия.
587
Несмотря на кажущуюся свою «порхательность-по-цве- там», она была не из тех, кто часто плачет. Учительницы, я замечал, вообще плачут редко. И совсем не оттого, что жизнь их воздушна и легка, а оттого только, что у них нет времени побыть маленькими!
Настоящая учительница всегда (и в классе и не в классе) чувствует себя взрослой. Кстати, не такое уж это легкое дело.
Итак, она не заплакала, глянув в глаза холодному и такому отчужденному блеску чертежных железок. Но хорошо поняла, что это для нее не спасенье.
Некоторое время она просидела на ковре перед шкафом, подвернув под себя ноги в сапогах. И можно было подумать — если бы только кто-нибудь увидел ее сейчас,— что именно сейчас-то она и позабыла вечно быть взрослой учительницей, а стала просто девчонкой.
Между тем думала она вовсе не девчоночьи думы. Она решала свою судьбу.
И вот решила — выходить замуж за того лысоватого человека. Его звали Вадим, как мы помним (или, вернее сказать, как мы давным-давно забыли...).
Да, она решалась на брак по расчету! Хотя не такой уж был в этом сильно корыстный расчет — выходить за простого инженера из НИИ. Но факт: она действительно решалась выйти замуж без любви. А что ей было делать, скажите?.. Одинокой, без всякой иной опоры!
Нет, я абсолютно ее не осуждаю! Не осуждаю, понимаете!
Взрослые ведь тоже не железные. И когда мы их доводим разными своими штуками, это только кажется, что они все забывают, что на следующий день они просыпаются, и для них вчерашние неприятности как с гуся вода. Уверяю вас — нет.
Алена сняла телефонную трубку и, пока проволока гудка наматывалась ей на барабанную перепонку, стала рыться в книжечке, чтобы найти номер Вадима. Где-то в свое время она его записала небрежной рукой. Да, видно, не на ту букву...
Теперь номер все никак не попадался — судьба берегла нашу Алену. И тогда она стала быстро крутить диск. И едва только набрала последнюю цифру, как на том конце провода сейчас же подняли трубку и сказали: «Школа».
— Людмила Ивановна! Я сейчас приду и все расскажу!
588
— Не надо, Алена! Лучше успокойся.
Алена вдохнула объемистый шар воздуху, чтобы...
— Я даю тебе отгул на сегодня и на завтра!
А послезавтра, кстати, было воскресенье. Людмила Ивановна сама решила раскрутить эту историю. Провести классный час.
Трудно сказать, лучше так было для учительницы или не лучше. Завуч думала, что лучше.
В школе она работала больше двадцати лет, а это огромный срок. И хорошо знала, как учителя иной раз устают от своей работы. Вот и Алена, видно, тоже устала. Так пусть отдохнет, подсоскучится.
В принципе она была права. Но как раз в этом случае здорово ошибалась! Вовсе не отдых требовался молодой учительнице. Хорошо, что Алену, как мы уже заметили, «судьба берегла». Иначе бы...
Портфель Лиды Самсоновой
Забот шестому «А» хватало и без пропавшего журнала. Грозно надвигался конец первой четверти, словно конец света. А в конце света, как считают, каждый должен будет предстать перед неким рентгеном, который выяснит все твои грехи и все твои добродетели.
В школе роль того «всевидящего рентгена» выполняют четвертные отметки. И хоть в наши дни четвертную двойку бывает иногда получить труднее, чем даже четвертную пятерку, все-таки они случаются, эти зловещие редкостные отметки. И видеть их в дневнике тем более никому не охота — портить себе каникулы. А другому и простая тройка может разбить сердце на мелкие части.
Вынырнув после второго урока из контрольной по алгебре, шестой «А» сейчас же попал под беглый — и, надо признать, меткий — огонь фронтального опроса, который устроила историчка.
Передохнуть и заняться личными делами они смогли только перед шестым уроком, перед физкультурой.
По издревле заведенному правилу они сидели в классе, ожидая, когда за ними придет физкультурник Степан Семеныч. И невольно — как спохватились — начали говорить про журнал и про Алену.
Кто первый начал — шут его знает, само началось! Но точно, что не Таня Садовничья. Она как раз помалкивала:
589
новых идей пока нету, так чего ж молотить пустую солому! Она любила обдумывать все заранее, чтобы потом наносить точные и решающие удары.
Но разговор начался, мелькнул слабой искоркой и — готово: уже весь класс в огне. Надо было принимать руководство. Таня тихо тронула Сережу за рукав:
— Внимание, поддерживай меня с тыла.
Таня имела в виду: следи за моими действиями, чтобы вовремя прийти на помощь. А Сережа невольно стал следить за классом, за лицами ребят. И ему не нравились эти лица.
Чем? Пожалуй, он бы не смог сейчас точно ответить. Какая-то в них была неприятная темная заинтересованность. Так бывает, когда кто-то дерется, а кругом стоит толпа зевак. Тебе лично это ничем не угрожает, и, значит, можно просто так посмотреть «острое зрелище».
Но сейчас было даже не это, а хуже. Солидная компания здоровых гавриков собиралась напасть на одного человека.
Только Танино лицо было иным: она ждала своего часа, чтобы сказать веское слово и перехватить инициативу. То есть и это лицо «хорошим» трудно было назвать... Да. Твое лицо, Тань, Сереже Крамскому все труднее и труднее стало называть хорошим!
Вдруг он заметил еще одно «непохожее» лицо.
У Самсоновой Лиды.
Сережа видел ее в профиль. Видел нахмуренную бровь и видел кулак, в который она уперлась губами и носом. Такая странная для нее поза и странное выражение... Какие-то неруководящие. А ведь обычно Лида очень хорошо помнила, что она староста в шестом «А», староста и первая красавица — по утверждению ее команды.
Она как бы не слушала, о чем бушует класс. Но и понятно было, что слушала. Она думала про что-то свое.
А шестой «А» шумел про два предложения. Ну, само собой, не весь класс. Большая часть помалкивала и лишь водила головой от одной кричащей группировки к другой. Так примерно ведут себя болельщики на соревнованиях по теннису: мячик мечется над сеткой, и двадцать тысяч человек бегают за ним взглядами: влево-вправо, влево- вправо. А потом: «Ура!»
Итак, в шестом «А» обсуждалось сейчас два предложения. Первое: зачем ждать до завтра, пошли к Людмиле и все ей скажем... Это воевали одни.
590
Вторые же говорили: нет, дождемся до завтра. Пусть она придет, Алена, и чтоб она в глаза нам посмотрела!
Это говорили те, кто был еще кровожадней первых.
А Таня — зачинщица свары — сидела и прикидывала, какую ей группировку возглавить, а затем повести за собой. Выигрышней было бы вторую: тут все получалось эффектней.
Но что-то в Танином сердце подсказывало ей, что надо торопиться, не то все планы могут полететь в тартарары. Наконец она все-таки решила рискнуть: ладно, пусть завтра! А что, собственно, может случиться-то? Да ничего. Подумаешь — предчувствия, ерунда на постном масле!
И только она собралась открыть рот, чтобы веским голосом... Как веский голос раздался из другого конца класса.
— Послушайте, что я вам скажу.
Как это было произнесено? Громко или негромко, жестко или дружески? Пойди теперь разбирайся. Но это было сказано именно так, что все услышали и все замолкли. Самсонова, поняла и спохватилась Таня, была все-таки серьезным противником в борьбе за авторитет. Таким серьезным, что Таня не нашлась вовремя вклиниться в эту чужими руками завоеванную тишину, чтобы сказать свое веское мнение. А тогда уж никакая Самсонова... Но Таня вот не нашлась!
— Делать надо завтра,— спокойно продолжала Лида.— Солиднее. Понимаете или не понимаете?
И дальше она повторила то же, что говорили сторонники второго пути. То есть ничего нового. Вроде бы... А считалось — отныне и во веки веков! — что это она придумала и она сказала. И класс пошел именно за ней. А не за Серовой. А не за Садовничьей.
Кто-то уже начал с ней советоваться. Сережа, который, наверное, единственный не участвовал в споре, глядел на Самсонову. Странное опять было у нее лицо.
Нет, она, конечно, была довольна, что победила. А все равно у нее настоящего победного веселья не было в глазах. И не было ни малейшего злорадства: мол, устроим Алене!
У нее была в глазах... тоска.
Или, может быть, Сережа ошибался?
Ему не дали времени заниматься этим психо¬
591
анализом. Только засела в душе заноза непонятности — на будущие времена, разбираться... Дальше на него обрушилась Таня: как он посмел не поддержать ее, когда требовалось?.. Да ведь не во мне дело, хотел он ответить, кончай ты зло срывать. Но Таня и сама, видно, поняла. Остановилась:
— Сегодня будь дома. Возможно, ты мне понадобишься.
Сережа промолчал. Хотя у них давно уж были иные отношения. Куда более равноправные. Но Таня, когда сердилась, всегда вспоминала, кто у них командир, а кто Ватсон. Хотя и это, в сущности, уже позабывалось...
Смута и беспокойство клубились у Сережи в душе. И когда внизу, у раздевалки перед физкультурным залом, к нему обратилась сама Самсонова, он сперва даже не понял, что ему надо сделать.
— У меня голова болит, понимаешь? Я иду домой. Принеси мне сверху портфель.
Дошло наконец!
Такую просьбу готовы были бы выполнить очень .многие — это уж вы поверьте. Но попросили Крамского, замечаете?
Ничуть не запыхавшись, он вбежал на третий этаж, вошел в класс. Вынул самсоновский портфель... И тут почувствовал, что сердце его бьется. Портфель Лиды Самсоновой — это была для шестого «А», что ?там ни толкуй, реликвия. Хорошо, что никто не видел Сережино слишком сосредоточенное и, честно говоря, отчасти торжественное лицо.
Да нет, увидел кое-кто, представляете! Коробкова Мариночка! Спокойно заглянула в класс, словно сейчас не урок, а переменка:
— Здравствуй, Крамской...
И замолчала так, знаете ли, выжидательно. Просто даже странно, как она умеет возникать в самые неожиданные моменты.
Так думал Сережа, нелепо держа под мышкой самсоновский портфель, словно надеялся сделать его менее заметным. Хотя откуда ей было знать, Сережин это портфель или чей-то чужой.
Итак, Маринка стояла в дверях, чуть склонив голову набок. А Сережа... Как ему было сейчас поступить? Что произнести? Стоял и молчал — пень пнем! А ведь ему эта
592
встреча, может быть, даже во сне уже снилась — как совершенно что-то несбыточное: идет, и вдруг навстречу Она!
Так пользуйся же, несчастный!
А он не умел. Даже улыбнуться не получалось. И без конца гонял по кругу одну и ту же тупую мысль, что там физкультура начинается, и Самсонова ждет, и...
— Что же ты молчишь, Крамской? Ты разве мне ничего не хочешь сказать?
Сережа в ответ лишь краснел, как штангист под штангой.
— А мне показалось... Ну как хочешь. Я второй раз перед тобой не появлюсь. И тебе долго придется за мной охотиться!
Она стремительно повернулась... Нет, безо всякой обиды или злости. Может быть, только с легким презрением. А главное для того, чтоб подол ее форменного, чуть расклешенного платья мелькнул, словно лисий хвост.
Это был мастерский трюк, не один годенко на него попался и не один еще крамской попадется!
В кратчайшее мгновение перед Сережей блеснули коричневые сапожки и светло-серые колготы. Он бежал вниз, сердце его билось о прижатый к левому боку самсоновский портфель. Но мечтало оно, это сердце, совсем не о Самсоновой!
Можно подумать: «Какая ветреность!» А это не так. По Самсоновой Сережа вздыхал просто... «по долгу службы». Коли уж ты болельщик, то нужно поддерживать «родную команду». А в Маринку оказался влюблен- нечаянно, от чистого сердца.
Значит, и никакой ветрености тут нет!
Народ уже выходил строиться.
— Ты чего же так долго? — строго и как-то слишком громко спросила Лида. Кое-кто даже оглянулся.
— Я н-недолго,— ответил Сережа и покраснел.
— А чего ты пыхтишь?
— Ничего я не пыхчу.— Сережа не мог понять, к чему она клонит. Про Коробкову же она знать не могла!
— Странно! — Лида взяла свой портфель и ушла.
Тут же и ребята рассосались. Из физкультурного зала
уже дважды прилетал судейский свисток — пора на построение. И последней ушла Таня.
Но больше Сережа Крамской ничего уж не помнил,
593
потому что физкультура с некоторых пор была его любимым предметом, а баскетбол — его любимой иг- рой.
Он с опозданием вбежал в зал. А все ж Степан Семенович на него не ругался. Потому что видел старательность ученика и видел, какой тот сделал скачок за лето «в своем физическом развитии», как выражался Степан Семенович, который любил читать специальную литературу.
В далеких мечтах своих, за стаканом вечернего чая, он почему-то представлял, что именно из этого прежде такого заморенного мальчишки может вырасти разрядник, а там, глядишь, и мастер, а там, глядишь, и...
Степан Семеныч имел довольно редкую даже среди спортсменов профессию: тренер по гребле на каноэ-одиночке. Обстоятельства, однако, сложились таким образом, что он стал школьным учителем физкультуры.
Преступник спасает Алену
О том, какие виды имеет на Сережу учитель физкультуры, мало кто знал. Бабушка, например, Елизавета Петровна, даже и не подозревала. А если б узнала, ох, она пришла бы в огромное волнение!
Здесь только не надо думать, что бабушка была такая жуткая ретроградка и не понимала роль спорта в современном мире. Все она понимала! Но согласитесь: если с мальчиком, с твоим единственным внуком (к тому же с бывшим Крамсом!), происходит столько всего неожиданного... Да еще и «спортивная одаренность»... Согласитесь, это уж многовато!
Надо заметить, Елизавета Петровна понимала, что многие изменения в Сережином характере в основном пошли ему на пользу. А все равно бабушке было страшно: ведь когда человек так меняется, это уж по существу не тот человек. Может, и лучше, но не тот!
Вот о чем она думала, поджидая Сережу из школы. И знала наперед: ее опасения никто всерьез не примет. Не только сам Сережа, но даже и сын с невесткой.
Мы ведь обычно как рассуждаем? Старая стала — значит, все, до свидания. У человека, можно сказать, самая мудрость просыпается, а его — на пенсию.
Ворчим потихоньку: ей бы, мол, в магазины для нас
594
ходить да внуков качать, а она, понимаешь, философствует...
Эх, старость — самый несправедливый возраст!
Если вы увидите старушку на футбольном матче, что вам придет в голову? Да то же самое, что и вашим соседям: «Трекнулась бабулька!»
А если человек именно на шестьдесят четвертом году жизни понял красоту этой самой великой современной игры — что тогда?
Не «голы — очки — секунды», не «Спартак», дави!», что в основном и понимаем мы с вами, а настоящую красоту.
Именно с высоты своего возраста...
Да ведь никто же не поверит!
Вот и сейчас,* скажем, вы читаете эти строчки, а сами думаете, что я шучу. Потому что музыку там классическую — ну ладно, так и быть, люби хоть до восьмидесяти девяти. А уж футбол!..
Елизавета Петровна отлично знала об этой творящейся в мире несправедливости. Причем неисправимой несправедливости, как считала она. Поэтому и не спорила.
Сейчас, когда внук пришел из школы, она ни о чем его не расспрашивала, а лишь наблюдала за тем, как Сережа ест ее, прямо сказать не больно-то вкусный обед.
Дело в том, что Елизавета Петровна всю жизнь провела на работе — в своем филологическом институте, да на конференциях, да в редакциях разных газет. «Кулинарных техникумов» она вовсе не кончала, сама питалась всю жизнь по столовым, по кафе, где едят стоя и на скорую руку. И сына так приучила. Не хотелось ей терять времени на готовку!
Нет, конечно, кое-что она готовила — без этого не обходится. И вот теперь, когда она вышла на пенсию, жизнь заставила развивать эти «способности» заново. И научилась помаленьку. Да у Крамских никогда и не было особенного преклонения перед сверхвкусной едой.
Сережа ел суп-лапшу, бабушка сидела напротив и поверх газеты смотрела на его лицо.
По лицу этому — причем неслышимые самому Сереже — бродили, словно тени от облаков, разные мысли и чувства. Про Коробкову — как она повернулась: и сердито и одновременно ловко, про Таню с ее изучающим взглядом, про Степана Семеныча, который, когда стали играть в баскетбол, выбрал к себе в команду Сережу и больше всех
595
его «питал мячами»... Тут радость приподняла Сережу Крамского, причем куда выше их девятиэтажного дома и выше низких октябрьских туч.
И про Самсонову бродили тени по его лицу — какие-то смутные, какие-то неизвестно почему — неприятные, полные хитрых намека- тельных взглядов.
Баскетбольная радость тотчас уплыла, стала маленькой, как поднебесный самолет, и пропала за горизонтом. Сережа нахмурился и отодвинул пустую тарелку. Бабушка, тоже молча, поднялась, чтобы положить второе.
И здесь раздался звонок. Какой-то особенно резкий, словно очередь из вражеского автомата. Даже бабушка повернулась с ложкой, из которой готова была десантироваться на пол вареная дымящаяся картошина.
Так у Сережи и соединилось в памяти: неприятные мысли и этот звонок.
— Привет,— сказала Таня.— Необходима срочная встреча.
Сережа глотнул воздуха, соображая, что он должен ответить на ее такой холодный руководящий тон.
— Я внизу. Около твоего подъезда.
Никогда она к нему не заходила. Почему — шут его знает. Но факт, что никогда. Он сорвал с вешалки пальто, кепку. Бабушка, все еще держа в ложке дымящуюся картофелину, смотрела, как за внуком захлопнулась дверь. Взрослые — и особенно старые — тоже далеко не всегда умеют остановить строгим словом или приказать. Они тоже бывают растерянны, а потом утирают платком глаза и думают: «Старалась-старалась, готовила-готовила, а он даже...»
Таня сидела на малышовской площадке под грибком — нога на ногу, свободно откинувшись назад. Но именно в этой как бы свободности и было заметное напряжение.
Елизавета Петровна
596
И еще понял Сережа, что она спешит. Из-под пальто проступал коричневый уголок школьной формы. А Таня не любила этого платья. Дома сразу старалась переодеться. Да и, надо заметить, родители ее снабжали разными красивыми свитерками и брючками.
Все эти мысли промелькнули в Сережиной голове совершенно автоматически, неуловимо. А ведь они значили, между прочим, что бывший стажер Крамской сам уже стал неплохим детективом. По крайней мере, наблюдательным человеком. Но Таня так ничего этого и не узнала, не погордилась своими воспитательскими талантами.
— Садись,— сказала она с чуть заметной усмешкой. И протянула ему конверт, на котором разноцветно сообщалось, что первое июня — Международный день защиты детей.
За эти два месяца Сережа усвоил, что в общении с Таней лишние вопросы — это лишние неприятности. Раз дали тебе конверт, значит, соображай. Медленно Сережа осмотрел его, что называется, «с ног до головы».
— Да внутрь-то загляни!
Он вынул какие-то обрезки бумаги. Зеленоватые квадратики. Ровно разрезанные. Наверное, ножницами.
Что-то было написано. И Сережа почти узнал этот аккуратный почерк: «Самсонова, Серова, Сурнина, Тренин» — фамилии были написаны в столбик. Да ведь это!..
Таня смотрела на него с любопытством и с насмешкой: мол, когда же ты догадаешься?
Сережа нервными пальцами протеребил еще несколько квадратиков:
— Это же страница из нашего журнала?!
— Думала, ты только к вечеру догадаешься...
Эх, Таня-Таня, к чему твое ехидство! Он догадался-то как раз скоро. Но больно уж открытие невероятное!
— Это нашла Миронова Варя. У себя в кошельке... На месте семи рублей. После физкультуры. Ну что ж ты не спрашиваешь ничего? Почему после физкультуры? Потому что на переменке ходила в буфет. И у нее оставалось в кошельке семь с мелочью. Мелочь на месте, а семи нету. Миронова сразу, естественно, позвонила мне.
Она еще что-то продолжала говорить. А у Сережи в голове буксовало немыслимое мелькание. Так иной раз бывает в телевизоре: то работал — все нормально, а то
597
вдруг как замелькает. И ручки вертеть бесполезно, хоть совсем открути. Остается одно средство — грохнуть его кулаком по крышке. И тотчас вынырнет из этого мелькания диктор в белой рубашке и темном галстуке, начнет опять рассказывать спортивные новости.
Вот и Сережа точно так же: сидел-сидел с мучительной миной на лице да вдруг как закричит:
— Подожди ты!
Таня замолкла. Потому что глубоко в душе была все- таки лишь девчонка и пугалась, когда на нее неожиданно так гавкали. Еще благородный гнев не успел проступить на ее так непривычно растерянном лице, когда Сережа сказал — самое главное, что сейчас следовало сказать. Как он считал.
— А выходит, Алена-то Робертовна не виновата!
Они обменялись взглядами. И в Таниных глазах слишком ясно проступил вопрос: «Ну и почему я должна прыгать от радости?»
— Она же не виновата, Тань!
— Да. К сожалению.
— Как это — «к сожалению»?! Как это ты говоришь?!
— Ну, так. Не важно.
— Честный человек оправдался, а ты не рада?
— А подлец ушел!
— Да не в этом дело. Мы честного человека чуть на каторгу не отправили. Представляешь, какими бы мы были тогда свиньями!
— Ну, себя называй, как понравится, а других не надо! Ты перестань, перестань хлопать в ладоши! И послушай, что тебе говорят: вор от нас ушел!
— Да мы же его, во-первых, найдем, Тань. А потом — он не такой уж и вор.
— Он украл.
— Так он же украл-то... Разве ты не понимаешь? Главное не то, что он украл. Главное, что он нам бумажки эти подбросил, понимаешь теперь? Чтобы Алену оправдать! Это еще не вор.
— А кто?
Сережа Крамской не знал, как сказать. А в голове его крутились какие-то странные слова, что воров, может быть, совсем не существует... не существовало бы, если б находились люди, готовые им вовремя помочь.
Но сейчас главное было в другом.
— Тань, надо к Алене!
598
Таня посмотрела на него долгим прищуренным взглядом. Не презрительным, а скорей изучающим. Хотя чего уж там было его изучать!
— И зачем же ты пойдешь?
— Ну как зачем, Тань?
— Слушай внимательно, что я тебе скажу. Обвинение с нее снято. Чего тебе дальше надо?
— Да, Тань...
Он хотел сказать, что боится, как бы Алена... Ну, мало ли — чего-нибудь там с собой не сделала.
И не сказал. Потому что, по правде говоря, он в это не верил. А врать о таких вещах не хотелось.
На самом деле ему было стыдно, или, верней, как- то ему было не по себе, что они так вот крутили-вер- тели человеком, а теперь: «обвинение снято», и привет.
Отец однажды ему рассказывал, что теперь и подопытных лягушек не терзают зазря — делают обезболивающие уколы или усыпляют. Даже лягушек!
— Я пойду к Алене, Тань. Как хочешь!
Она чуть не крикнула: «Я тебе не разрешаю!» Но именно не крикнула. Вдруг поняла, что это ей ничуть не поможет. Что это уже непоправимо.
Долго Таня и Сережа... нет, Садовничья и Крамской смотрели друг другу в глаза. Странное это было занятие, никогда раньше они так не смотрели. Что-то надо было произнести.
Не произносилось!
Сережа никак не мог разобрать, что она хотела ему сказать глазами. Слышал в Танином молчании, что она, быть может, не остановится и перед применением силы.
Но что же там было у нее в самой глубине глаз? Какие-то тени. Черные огни страха...
И наконец Сережа понял! И сам испугался.
В ходе следствия они применяли незаконные способы ведения дела. Вот оно что!
Погоди. Но разве это возможно — раскрыть преступление, и вдруг... незаконно?
Оказывается, возможно. Ведь человек не дикий зверь, его нельзя травить собаками, выгонять из укрытия разной отравляющей химией. Пытать, наконец!
Даже с преступником нельзя бороться преступными методами. Иначе из расследователя ты сам превратишься в преступника, понятно? Поэтому мерзости пишут в разных
599
там заграничных детективчикаы, чая
вора, забирается ночью в чужой дом или приставляет к вискугпистолет, чтаб^вырвать необходимый факт.
Алведь Алена даже обвиняемой не была. Только подозреваемой.
Теперь Сережа все это уразумел. Понял, что ему предстоим у Алены Робертовны... Нем, не героический поступок под* громкие овации восхищенной публики — ему предстоит прощение просить.
И, невольно весь сжавшись, он сказал:
— Не бойся. Я все беру на себя.
— Я не боюсь, Сережа. Но ты запомни свои слова.
— Запомню.
И тут ему стало страшно... Ну, страшновато. Не по<* нятно? А вы попробуйте когда-нибудь сказать: «Спокойно. Все беру на себя»...
Быть того не может, но и Тане стало сейчас страшновато. Она* поняла: в этот момент Садовничья и Крамской рвут навсегда. Во веки-веков. У них разные дороги.
Никогда Таня не жалела о таких вещах — первая рвала. И вот вдруг настал случай пожалеть.
О чем жалела она?
О том, что пропадает такой способный ученик? Что уходит мальчишка, который мог бы в нее здорово влюбиться?
Но ведь, учеников она себе наберет сколько хочешь. И мальчишек, готовых в нее влюбиться, полон свет. И перебоев с друзьями пока не случалось у Тани Садовничьей. Что же ей тогда этот Крамской? И не умела сказать себе. Только чувствовала грусть и досаду.
Так кладоискатель, наверное, придет на заветное место, ходит-ходит: где же оно зарыто, сокровище? И не найдет — то ли сообразительности не хватило, то ли чуткости. И уйдет ни с чем. С одной горькой досадой.
Но ни словом, ни взглядом Таня Садовничья не выдала себя.
— Вечером позвони...
Еще хотела добавить слово: «Доложись». Нет, не добавила. Теперь это было уже ни к чему. Просто ушла.
Конверт с клочками остался, лежать на лавке.
В тайге при блеске звезд
Весь этот разговор — такой важный! — продолжался чуть^ больше десяти минут. Второе, укрытое кухонным полотенцем поверх крышки, даже не успело остыть. И оно было вкусным. А может, и невкусным. Сережа этого не знал.
Он быстро съел котлету и картошку... Обычно он ел довольно медленно — так было принято у них в семье. Но сейчас он чувствовал" еду не больше, чем мясорубка, которая крутила эти котлеты.
Бабушка, стараясь оставаться равнодушной и незамеченной, неотрывно следила за ним. Если б она была другим человеком, она бы, наверное, предложила Сереже еще пол- кютлеточки: быстро съел, значит, против добавки возражать не до^кен.
Но* бабушка была именно «тем» человеком. И видела, как сейчас далек Сережа от этой котлеты и от нее самой — шестидесятищестилетней Елизаветы Петровны Крамской. *
«Я не нужна ему в советчики»,— подумала она. И подумала это с горечью. Но без обиды. Не могла она обижаться на Сережу: слишком любила его. И если обижалась на кого, так только на человеческую природу: что она устроила некоторые вещи, совсем их не обдумав.
Вырос из бабушки, как из прошлогоднего костюмчика... Ну что поделаешь, думала она.
А снова до бабушки еще не дорос. И не понимает. А когда поймет — как бы уж поздно не было...
Ей теперь оставалось только одно: незаметно следить за ним и стараться понять, по хорошей он дороге идет или по плохой. И если по плохой, то защитить, броситься вперед старой, но еще сильной тигрицей... Хотя по складу своему она вовсе не была тигрицей.
Однако знала, если понадобится, если за Сережу, то сил у нее достанет быть и решительной, и сильной, и даже злой!
Внук ее в этот момент думал о Тане.
Вернее, это неправильное слово — «думал», потому что никаких стройных мыслей у Сережи не было. В его сердце громоздились разные бурные и часто противоположные чувства, а в голове мелькали обрывки разговоров, которые он сам сейчас придумывал и сам сейчас же отбрасывал в пустоту, в забвение и вечную смерть.
601
Пожалуй, если бы Сережа Крамской был повзрослее, можно было бы сказать, что он мучается. Он и в самом деле мучился, только не понимал этого. Он спорил с Тан^й и поминутно ее побеждал, вернее, убеждал. Но ведь Таня была не настоящая, а, так сказать, мысленная, выдуманная. Оттого и победы его были подобны победам над кораблями из игрального автомата.
А ведь они даже не поссорились. Да, ни ругательных, ни просто громких слов произнесено не было. И будь на месте Сережи взрослый человек, он непременно воспользовался бы этим обстоятельством. Попробовал бы помириться.
Но Сережа знал душой, что между ним и Таней случилось что-то куда важней и хуже обычной громкой ссоры. Если перевести на взрослый язык, то, наверное, надо было бы употребить слово «разрыв». Или, пожалуй, точнее: «раскол», потому что «разрыв» — это когда люди любили-лю- били друг друга, а потом... разрыв.
Раскол — дело посерьезней. Раскол — когда расходятся во взглядах. Вот как раз такое и получилось у Тани и Сережи.
И если даже этот раскол попробовать склеить через какое-то время, все равно трещины останутся. Сколько бы ты ни прожил — хоть двадцать, хоть семьдесят лет,— эти трещины не срастутся. Они навсегда.
Было Сереже Крамскому в эту минуту тоскливо и страшно. С особой отчетливостью он вдруг подумал: теперь и незачем сидеть за одной партой.
Это была как бы не его мысль. Это Таня подумала у него в голове.
Тут же он почувствовал, как сила оставляет его. Он ведь был сильный — с самого первого сентября. Но он был Таней сильный... Неужели только Таней? А теперь опять превратился в захудалую Корму?
Страшно ему сделалось. Падать вообще страшно. Особенно тем, кто полетал.
Но и четверти мысли не возникло у Сережи — пойти к Тане. Прощение там... ну, или что-то в этом роде.
Он был уверен, что Таня его простит. И ошибался. Таня уже решила: Крамской — точка! То, что она жалела или не жалела, страдала или не страдала, роли теперь играть не могло. Такой уж она была человек.
К счастью, Сережа «недодумался» ей позвонить. Нет, не из-за гордыни. Просто ему такой мысли не пришло:
602
пойти просить ради собственной выгоды. И тем предать свою правоту. По-серьезному говоря: свои убеждения.
Так уж он был воспитан. Кем? Семьей. А если точнее, бабкой своей. Сережа Крамской этого нимало не знал, он этого даже в голове не держал — про какое-то там бабушкино воспитание. А понял он, откуда проистекает такой его характер, такая его душа, уже лет через пятнадцать, уже далеко за пределами этой книги.
Он сидел, бородатый геолог, в тайге, поздним вечером, у костра, сентябрьской морозной ночью при блеске звезд. За спиной, в палатке, спали двое его товарищей. Можно было никуда не спешить, не думать о том, что не выспишься, потому что завтра за ними прилетал вертолет.
И так он сидел у костра, Сергей Петрович Крамской, молодой, но уважаемый человек. Сидел он, и думал, и вспоминал, и многое-многое до него доходило.
Но бабушки уже не было в живых...
При помощи лупы
Сережа сунул тарелку в раковину.
— Спасибо.
— На здоровье. Вкусно было?
— Угу.
И пошел в свою комнату, где на столе его ждал конверт с картинкой про Международный день защиты детей. Медленно, с какой-то неохотой, с какой-то даже неприязнью Сережа взялся за него, вытряхнул на стол зеленоватые квадраты. Посидел минуту, перебирая и рассматривая их без всякой системы, безо всякого, можно сказать, смысла.
Но вот в нем потихоньку зашевелилось любопытство. Сережа захотел найти квадрат со своей фамилией и со своими отметками. И не нашел... Почему?
Тогда он стал складывать эти куски бумаги в том порядке, в каком они жили на журнальной странице. До вмешательства ножниц.
То была не простая работа. Но Сережа, которому за лето много пришлось решить всяких задач на внимание, головоломок и прочей, в сущности говоря, ерунды, имел тренированное упорство, тренированное уме¬
603
ние не злиться, когда «не идет шайба в ворога». И вот все квадраты расплылись на свои места, словно ученые льдины. С удивлением и с некоторым трепетом смотрел Сережа на то, что получилось. Странно было думать, но всего несколько часов назад это держал в руках сам преступник.
То, что лежало перед Сережей, не было целой страницей. Скорее, это была половинка. Ну, может быть, чуть больше. Первой стояла фамилия Самсоновой, и потом до конца списка, до Яковлевой Ольги, весь шестой «А». Потому-то себя Сережа и не обнаружил, своей Крамской фамилии, она осталась нетронутой на верхней половине журнального листа.
И почерк показался ему знакомым. Вынул дневник, перелистнул страницу — вот! «Бездельничал на уроке биологии». И подпись Татьяны Николаевны.
Две недели назад, когда была сделана эта запись, Сережа, признаться, расстроился. Теперь же... Значит, это была «биологическая» страница журнала. И почему-то cpai- зу он подумал: случайно или не случайно? Хм... Когда ноженками так все аккуратно разрезано... Нет, это не случайно.
Тогда зачем?
Еще раз он прошелся взглядом по журнальному полулисту. Невольно застрял на Самсоновой. Почему на Самсоновой? Ну потому уже, что он, Сережа Крамской, никогда, как мы знаем, не был к ней абсолютно равнодушен.
Хотя, начиная с пятого класса, она была заметно выше Кормы.
Ну ладно. Итак, Самсонова — две пятерки, четверка и снова пятерка. Отметочки! Хоть отправляй на Выставку достижений народного хозяйства.
Следующей в списке шла Серова Ленка. К ней Сережа тоже никогда не относился равнодушно. Но именно потому, что она была соперник номер один Самсоновой Лиды.
Отметки... Куда уж ей до Самсоновой: тройка, тройка, четверочка — причем эта последняя получилась у Татьяны Николаевны какая-то неуверенная, дрожащая, словно бы занимала чье-то чужое место.
Место законной тройки — вот в чем, наверное, дело... «Или уж я это слишком ударился в гадания»,— подумал Сережа.
604
И тут, как сильная рука подхватывает падающего с крыши котенка, так его подхватила неожиданная мысль: а приему же тогда в конце сентября Алена Робертовна дала медаль Серовой — с ее такими подозрительными оце- ночками?
Мы-то с вами знаем, почему классная руководительница шестого «А» выдала медаль Серовой Лене — чтобы поднять «дух здорового соревновательства». А Сережа этого не знал и с удивлением вспоминал сцену вручения медали, произошедшую уже почти месяц назад. Счастливое лицо Серовой и растерянное, обиженное лицо Самсоновой.
Так, а что дальше? Сережа почувствовал: это еще не конец, у замеченной им тропинки есть продолжение. Но мысль бестолково топталась на месте, как троечник у доски.
Ладно, пока отложим. Что еще можно сказать про данные клочки? А то, что они не клочки. Они аккуратные квадратики. Девчачья работа!
Для пущей важности он сбегал к маминому туалетному столику — был у нее такой один жутко заграничный пузырек от духов с огромной пробкой в виде увеличительного стекла.
Про его маму никак не следовало думать, что она, мол, сильно падка на всякую там гонконгскую дребедень. Но этот флакон был так неожиданно красив, что выкинуть его было просто невозможно. И когда духи в нем кончились, мама налила новых.
Сережа аккуратно выкрутил из флакона увеличительную пробку, отчего по комнате сейчас же распространился горьковатый и чистый аромат.
А Шерлок Холмс, надо заметить, был не такой уж глупый человек, когда пользовался лупами!
Теперь Сережа отлично мог рассмотреть краешки этих квадратов. Да, несомненно: страницу разрезали ножницами. Причем не простыми ножницами, но маленькими, ноженками для ногтей.
Почему вы так считаете, коллега?
Да потому, что линия получалась не прямая, а такими как бы полудугами, ведь и ножницы эти, как известно, делаются не прямые, а с загнутыми носами.
Сережа опять сбегал к маминому столику. Вот они, точно такие и лежат. Или примерно такие.
Взял лист бумаги, стал его резать. Хм! Если поста¬
605
раться, вернее, если не спешить, то можно прорезать совершенно нормальную прямую линию. А это значит, преступник — нет, преступница... торопилась!
Эх, Таня! Зря ты не захотела вести следствие.
Сережа вскочил, чтобы позвонить ей. И вдруг странная мысль поразила его. Эта мысль все связывала воедино, объясняла все факты. Все, какими он располагал на сегодняшний день. Доказательств, конечно, мало. Но интуиция буквально кричала Сереже, что он прав.
Странная мысль! И даже, можно сказать, страшная. Самому себе он и то не решался ее произнести. Ему даже казалось, что он видел эти ножницы с загнутыми носами в руках у... одного человека. На самом деле он их, наверное, не видел, а казалось, что видел.
Потому что Сережа слишком хорошо знал, у кого они могут быть. У кого они сейчас лежат в портфеле!
И чтобы прекратить это, чтобы не проговориться самому себе, Сережа начал быстро и даже суетливо собираться.
И еще и еще подгонял себя: ему же надо к Алене Робертовне, она же там мучается, одна сидит.
Лишь бы не проговориться! Опять надел школьную форму, хотя к Алене вовсе не обязательно было идти в форме и он это знал.
Еще час назад, когда он сказал Тане, что все берет на себя, ему страшно было идти признаваться. Теперь он почти бежал — из двух зол, как известно, выбирают меньшее.
Стоп! А вдруг ее нету? Заскочил в телефонную будку. Уже после второго гудка услышал Аленин голос. Не стал ничего говорить, разъединился, побежал дальше.
Стоп! А вдруг она сейчас и уйдет? Лихорадочно обыскал карманы... Бабушкина выучка: всегда иметь при себе несколько двухкопеечных монет, чтобы, если задерживаешься или что-то, сразу позвонить.
Опять Алена Робертовна подняла трубку на втором гудке. А он совершенно не приготовился, что будет говорить. И получилось как-то отрывисто и глупо:
— Здравствуйте! Говорит Крамской! Я должен к вам сейчас зайти.
И не помнил, ответила ему что-то Алена или нет. Побежал. В знакомый двор, где они с Таней вели наблюдение.
Лифт висел где-то далеко вверху, Сережа не стал
606
дожидаться, пока он приползет, важная персона. Запрыгал через ступеньку, через две.
Лишь бы скорее добраться до Алены!
При этом он совершенно забыл, что не знает номера ее квартиры. Наверно, добежав таким манером этажа до шестого-седьмого, он бы наконец остановился, присел на ступеньку или на подоконник. И может быть, в чем-то разобрался бы.
На лестничной площадке четвертого этажа у раскрытой двери его ждала Алена Робертовна. Вот вам и интуиция, которой Сережа так боялся поверить.
Алена хоть и была довольно стройной девушкой, однако к спорту это никакого отношения не имело, и особой ловкостью движений она никогда не отличалась.
Но здесь так удивительно и ловко у нее получилось. Она сразу и как-то удачно взяла Сережу за руки своими холодными от волнения руками. И этот обжигающий холод Сережа Крамской запомнил навсегда. Не верите? А вы сейчас позовите-ка свою память, и она обязательно вынет из своих тайников не одно, а даже несколько прикосновений, которые вам не забудутся никогда.
— Ну, что же у тебя случилось, Сережа?!
— У меня?
— Ну а у кого же? Такой голос был!
Без лишних слов, без интеллигентных приглашений Сережа вошел в раскрытую дверь.
И с этого момента началась совсем иная жизнь для него.
Демон!
Сереже казалось, что его голос абсолютно ровен. Лишь где требуется, он говорит потише или погромче.
На самом деле голос его вовсе не был ровен. Он весь извивался и дергался, словно под пыткой. Да ведь он и был под пыткой — волнением.
Дрожал, извивался Сережин голос. Алена Робертовна, глядя на своего ученика, не могла выдавить из себя ни звука. Гнев и ужас владели ею.
Но, к счастью, молодая учительница не умела по-настоящему злиться и мстить. Она была, что называется, поэтическая натура, главная жизнь у нее вся проходила в мечтах, в разных мыслях да фантазиях. Нет, такие люди
608
не умеют злиться или мстить. Они доверчивы, и с ними, в общем-то, хорошо иметь дело.
Наверное, Сережа потому и пошел к своей классной руководительнице, что в глубине души все-таки знал: Алена ему зла не сделала. Боялся, конечно, а все-таки и... не очень боялся.
Пожалуй, можно было сказать, что сейчас Алена куда больше страшилась ученика Крамского, чем он ее. Вспомнилась вдруг географичка Лидия Павловна, которая красивым своим голосом спрашивала: «Ну, Алена? Что ваши дети?» Вот тебе и дети.
Ведь за ней шла настоящая охота, ей ставили безжалостные западни. И главное, кто? Человек, которому она воспитывала душу более двух лет!
Помнится, у него еще бабушка... с таким приятным разговором.
Называется: мальчик из хорошей семьи!
В то же время она еще раз и во всей красе могла видеть свою так называемую рассеянность.
Рассеянность, говорила она себе, да нет, это уж по- другому называется. Это называется невнимательность. А еще более по-другому — эгоизм... То есть когда думаешь только о себе, витаешь в своих собственных фантазиях, а про других...
Но и никак она не могла отделаться от ужаса, какие же только эксперименты ни ставил над нею этот мальчик, чтобы уличить!
— Да нет,— сказал Сережа,— я не уличить. Я... чтобы Годенку спасти.
Сказав так, Сережа и правду говорил и не совсем правду. Наверное, Садовничья, когда подслеживала учительницу, хотела ее именно уличить. Но ведь Сережа про Таню здесь не упоминал. А сам он вовсе не собирался Алену «припирать», «выводить на чистую воду» и тому подобное. Он все это делал для справедливости.
Тут, кстати, неожиданно произошла довольно странная вещь. Дав слово, Сережа намертво молчал про участие в этом деле Садовничьей... Стоп. А как быть с остальными? Имеет ли Сережа право упоминать про те слежки и разбирательства, которые вел шестой «А»? Тоже вряд ли! Скажут: кто тебя об этом просил?
И тогда Сереже ничего не оставалось, как только все брать на себя.
20 Школьные годы. Выпуск IV
609
Но когда усилия чуть ли не половины класса приписываются одному человеку, этот человек поневоле становится фигурой необыкновенной. Каким-то прямо богатырем!
Сережа, правда, получался фигурой не такой симпатичной, как богатыри. Но фигурой все-таки выдающейся. Бывают, знаете ли, такие особые злодеи, на которых хочешь не хочешь, а приходится взирать с потаенным восхищением. Про них иной раз даже книги пишут. Пример тому — знаменитая поэма Лермонтова «Демон».
Так думал Сережа, разглядывая себя в Алениных расширившихся зрачках... И ему, надо сказать, не особенно нравилось его положение. Он никогда не был особенно охоч до славы, а тем более до чужой славы.
Он уже представил, сколько мороки и объяснений ему теперь предстоит с теми как раз, кто до славы охоч.
— Скажи, пожалуйста, Крамской,— начала Алена Робертовна довольно робко,— как ты все-таки догадался, что я...— Она хотела усмехнуться, но усмешка не получилась, Алена Робертовна смогла лишь пожать плечами.— Что я... не виновата?
И тут Сережа извлек уже хорошо знакомый нам конверт, а из конверта половину журнальной страницы, которая тщательнейшим образом была восстановлена при помощи клея и тонких полос прозрачной полиэтиленовой пленки.
Я не берусь передать чувства, с которыми Алена Робертовна взяла зеленоватый листок. Скажу лишь, что руки ее крупно дрожали, и казалось, будто листочек тот ожил и собирается улететь в жаркие страны.
Уже через несколько мгновений она узнала страницу из своего журнала и узнала почерк Татьяны Николаевны. Но не стала ее рассматривать, как это в свое время делал Сережа. На нее вдруг нахлынули видения. Ей казалось, что она видит и весь журнал, лежащий в каком-то письменном столе. И если она еще сосредоточится, то сумеет рассмотреть и лицо девочки, которая сидит за этим письменным столом и что-то напряженно читает.
Однако хватит! Что за странные картины, что за выдумки.
Так сказала себе Алена, которая твердо решила начать новую жизнь — более строгую и четкую, более похожую на жизнь завуча Людмилы Ивановны.
610
— А скажи, пожалуйста, как это к тебе попало?
Сережа готов был к такому вопросу. Без видимых
запинок он воспроизвел Танин рассказ, везде заменив имя Садовничьей на свое. И только про семь рублей ни слова. Почему? Да потому, что он верил: эти
деньги украдены, чтобы просто стали заметны клочки журнала. То есть он верил, что это не настоящая кража. И в то же время не очень верил... Поэтому он сперва сам хотел разобраться, сам, не впутывая в эти сомнительные дела взрослых.
Так часто бывает. Взрослые говорят: «Детям этого знать не надо!» А ребята думают в каком-то важном деле: «Только б взрослые не узнали!»
Эх, побольше бы мы доверяли друг другу, попроще было бы и жить!
Итак, Сережа взялся излагать свою честную полуправду. А семь рублей сумел замаскировать.
Но совсем неожиданно он выговорил такое, в чем и себе не хотел признаваться:
— Тогда она вынула у Мироновой кошелек, положила туда...— И замолчал.
— Кто это «она»?
— Это... преступник...
— А почему ты сказал «она»?
— Честное слово, не знаю! — Сережа посмотрел на свою учительницу совсем не демоническим взором.— А зря неохота подозревать!
За мгновенье целый рой промчался в Алениной голове. На что же решиться? Что приказать ему раз и навсегда?
Но почему все-таки Крамской сказал ОНА?
И снова мелькнула фигура девочки за письменным столом. Лицо ее было уже почти различимо.
«А зря не хочу подозревать!»
Правильно! Он сам подсказал ей, что надо сделать.
— Вот что. Послушай меня! — Аленин голос стал неожиданно строг.— Я хочу. И я требую, чтобы ты все прекратил! Чтобы все было забыто!
Хм!.. Если бы это зависело только от Сережи.
Но ведь еще на нем висели, как пиявки, эти семь рублей... Конечно, на нем, раз он Алене ничего не сказал.
— Ты можешь мне обещать?
Сережа молчал.
611
— Или не можешь?
А он ведь ей не мог этого обещать. Эх, как было бы хорошо — раз-два: обещано! И конец.
Но не лучше ли будет именно найти того человека? Вернее, ту... Ну не важно, пусть «того человека»! Найти, тряхнуть его-ее: «Ты что делаешь" дубина! Тебе жить надоело?!»
— Пойми, Крамской. Мне сейчас далеко не до шуток. Ты затеял плохую игру. И я требую, чтобы...
«Да знаю я, что вы требуете...»
— Я не слышу твоего ответа, подтвержденного честным пионерским словом! Крамской!
Сережа молчал. Да и что же он мог сейчас обещать? Класс, разгоряченный следствием и погоней, остановить нелегко. Классу подавай виноватого!
Но, говоря честно, Сережа и на себя теперь не сильно надеялся. Ему все больше казалось, что он должен довести расследование до конца.
Алена словно схватила его мысли за шиворот:
— Недаром, понимаешь ли ты, недаром судить разрешается лишь юристам. То есть людям не только со специальным образованием, но и со специальной совестью!
— Я обещаю вам, Алена Робертовна, я постараюсь... это прекратить.
Сейчас Сережа решил, что лично для себя он оставляет этот вопрос открытым, а что касается класса... Он попробует уговорить класс больше расследованием не заниматься. Потому и сказал: «постараюсь».
Для Алены сие прозвучало полной дикостью. И чтобы не раздражаться, с одной стороны, а с другой — чтобы не впасть в мягкий «уговаривательный» тон, отвергнутый ею навсегда, а с третьей стороны, чтобы сохранить свой новый тон — строгого спокойствия, Алена решилась на довольно сомнительные, с точки зрения настоящей педагогики, слова. Она сказала:
— Теперь ступай, Крамской, и подумай!
Так обычно делают не очень опытные учительницы, когда им надо оборвать разговор по той причине, что ничего больше они сказать не имеют.
Тогда и Сережа поступил как не очень толковый ученик. Он сказал:
— Спасибо! До свидания!
Однако уходя, он взял листок, положил его в конверт
612
с Международным детским днем. И Алена поняла, что ей еще оттачивать и оттачивать свою новоиспеченную педагогическую строгость.
Небо, полное окон
По-осеннему быстро и густо смеркалось, когда Сережа вышел из Алениного подъезда. Но это еще не был тот настоящий вечер, когда ученикам шестых классов надлежит отправляться домой. Примерно час можно было бы ходить по улицам, смотреть, как все больше в мире загорается окон: там люди возвращались со службы, там раскладывали ноты в кружке художественной самодеятельности, там готовились к шахматным сражениям — цех на цех.
Но попадались и совершенно темные дома. Их окружали пустые темные дворы, их стерегли неподвижные деревья. И черные осенние тучи проплывали над ними как-то особенно охотно...
А что это были за дома, знаете ли вы?
Это были школы!
А я думаю, многое бы на свете изменилось к лучшему, если б те окна горели и если б школьные двери не были по вечерам заперты на замки.
Не нужно было бы, например, Сереже Крамскому обходить сейчас стороной разные закоулки, в которых собираются подозрительные компании... А чем они, собственно говоря, подозрительные? Не тем ли просто, что собираются в подозрительных местах — в подворотнях да подъездах?
Как раз именно в эту минуту Сережа и забрел на пустой школьный двор, постоял в темноте, и ему стало отчего-то грустно. Ладно, он решил, пора Тане звонить, вечер уже настал, а она сказала: «Позвони вечером».
Странно: вроде разошлись они как в море корабли, а вроде и... Странно!
И еще Сережа напрочь забыл, что хотя бы немного может быть собою горд: ведь он не испугался, ведь он совершил почти что подвиг и спас Алену от новых мучений.
Кстати, и Алене Робертовне тоже, наверное, не мешало бы это понять: некто, жертвуя собой, избавил вас от многих горьких минут! Но в Алене, увы, сработала нормальная взрослая психология: ребенок был виноват, он пришел
613
и признался в своей вине — это естественно. Учитель его простил — вот и награда!
Нас часто не понимают — уж так вообще устроена жизнь. И чтобы не обижаться на эти непонимания, давайте постараемся помнить, что часто и мы сами не понимаем других... Впрочем, нередки случаи, когда мы толком не понимаем даже самих себя!
Таня словно специально томила его: телефон пропел уже четыре гудка, она все не снимала трубку. А ведь дома! И ведь знает, что звонит именно Сережа! Да и пускай — если уж ей так нравится.
Таня действительно и была дома и знала, что это звонит Крамской. Одной рукой она выключила в душе воду, другой схватила полотенце и, шлепая босыми мокрыми ногами по полу, побежала к телефону.
Дело в том, что Таня — человек строгий не только с другими — считала себя недостаточно стройной. И поэтому делала по возможности ежедневно специальную йоговскую гимнастику, которую мать ей прислала. Ну, а после гимнастики без душа не проживешь.
Она сдержала дыхание, поймала за крыло взволнованный голос, сказала спокойно:
— У телефона!
Однако Сережа услышал и бегущее дыхание и особый голос. Только понял их неправильно.
— Тань! — Он закричал, и так свободно закричал, настолько безо всяких задних мыслей, что сразу ему стало легко.— Привет, Тань!
И единым духом, за пять минут все рассказал и про «Демона», и про Аленину вдруг прорезавшуюся строгость, и про Аленин приказ все забыть, и про свое полусогласие. А полунесогласие? И про тайну в семь рублей. Словно и не было предчувствия надвигающейся смертельной ссоры!
За время Сережиного рассказа Таня окончательно успела прийти в себя. Запахнула махровый халат и, поджав ноги, уселась в кресло, а голову обмотала полотенцем.
— Ну что же, Алена Робертовна права. Некоторые преступления лучше не замечать. Тогда и жить будет легче.
— Ладно, Тань. Ты же ведь не согласна!
— Согласна или не согласна — не важно. Я в этом деле больше не участвую!
— Ну правильно, Тань. Я тоже теперь против. Но все-таки узнать-то надо!
614
А как же иначе? Ведь надо же трясануть того человека: «Гляди, подруга! Первый раз прощается, второй — запрещается...»
Он хотел это все сказать Тане. Она заговорила сама — спокойно, насмешливо:
— Лично мне узнавать ничего не надо. Я и так знаю. Какая-нибудь детская месть Алене... Для меня это слишком мелкая рыбешка!
— Что за мелкая рыбешка? — тихо спросил Сережа.— Про кого это ты говоришь?
— Да ни про кого конкретно. Просто — мелкая рыбешка!
— Что-то не понимаю тебя! — Досада прижигала его изнутри, словно кусок сухого льда.— Мелкая... Тебе что, наесться надо?
Сказал и понял: такие слова задаром не проходят...
— Нет, наесться мне не надо. Я хотела поймать ее и препарировать.
— Чего-чего?!
— Препарировать — это значит разрезать и узнать, что внутри. А мелкую рыбешку мне препарировать неинтересно!
— А ты не слыхала, Тань...— Сухой лед внутри жег и морозил его уже почти нестерпимо.— Ты не слыхала случайно, что люди не жуки и не лягушки, чтобы их... препарировать!
— Ну, во-первых, и жуки, и лягушки, и люди внутри устроены примерно одинаково — вот ты, видно, об этом не слыхал! Однако мы завели...— она холодно замолкла на секунду,— слишком длинный разговор!
И затем Сережа услышал короткие гудки.
Хотел грохнуть трубкой обо что-нибудь потверже, но вспомнил давний рассказ бабушки про какого-то там султана, который специально держал пленников, чтобы можно было их казнить, когда зло берет или зуб разболится.
На самом деле такого султана в природе не существовало. Бабушка его придумала в воспитательных целях.
Сережа, который с раннего детства не хотел быть похожим на того султана-болвана, аккуратно положил трубку на железные телефонные рога, вышел из будки. Школа все так же висела над ним темной громадой. В душе дымился ядовитый сухой лед. И все-таки есть справедливость на
615
свете, должно было случиться с Сережей что-нибудь хорошее — в награду. Или хотя бы что-то неожиданное. И оно случилось!
— Крамской? Это ты, Крамской?
Сережа обернулся, но не вздрогнул. Потому что голос был совсем не страшный. Девчоночий. И надо сказать, волнующий. Это был голос Марины Коробковой.
Сережа сразу увидел ее и невольно удивился, как тихо она подошла — вообще словно бы тут стояла не двигаясь целые полчаса.
Сережа увидел ее короткий плащ с капюшоном — почти как средневековая накидка, сапоги и белые колготки из-под плаща.
И еще ему показалось, что он видит Маринкины глаза. Но с такого расстояния, и в такой темноте, и под капюшоном... Нет, это, конечно, было чистой фантазией. А Сереже казалось все-таки, что он видит!
Здесь надо несколько слов сказать о Марине Коробковой, вернее, о Маринке. Потому что для кого-то она, может быть, и важная особа, но для нас-то с вами — обычная девочка.
Дело в том, что Маринка жила в доме напротив Але- ниного. То есть в том самом, из которого Таня и Сережа вели однажды наблюдение за Алениными окнами. И даже более того! Активный пенсионер, который гонял двух детективов с этажа на этаж, был не кто иной, как родной Маринкин дедушка.
Одним словом, бывают в жизни совпадения! Впрочем, они не так уж и невероятны, если учесть, что все действующие лица разыгрывающейся драмы жили в одном микрорайоне.
Когда Маринка спросила у деда, чего это он там ворчит, а дед ответил, что, мол, слоняются по подъезду какие-то юные лоботрясы, в сердце Маринки сразу залезло подозрение: уж не Годенко ли, получивший в свое время ее отставку.
Пугнув под диван попавшегося по дороге кота, Маринка припала носом к стеклу. И хотя вечерело, она своим безошибочным глазом сейчас же рассмотрела Крамского!
Таня Садовничья, как на грех, шла немного впереди — по начальственной своей манере, да и она, как мы помним, была на Сережу сердита.
Крамской, значит... Так-так-так! А в школе никакого
616
внимания! Будучи человеком абсолютно современным, Маринка не верила ни в какие чудеса, а также и в получу- деса, то есть в совпадения.
Для нее все было совершенно очевидно: Крамской приходил, чтобы... Маринка прищурила свои глаза, которые среди шестых классов принято было считать зелеными, и усмехнулась.
Следующие два дня она буквально диву давалась, как же Крамской ловко умеет маскировать свое неравнодушие!
А Маринка, между прочим, достаточно разузнала о нем. Слухи о Сереже ходили странные: будто он учится в какой-то особой вечерней разведческой школе. Маринка этому, естественно, не поверила. Однако на всякий случай попробовала осторожно поспрашивать отца: в принципе бывают такие учебные заведения или нет.
Отец ее, когда Маринка вошла к нему в кабинет, тяжело поднял глаза от лежащей перед ним рукописи. Был он красный, с полным и крупным лицом, волосы, зачесанные назад и чуть набок, были редки, а высокий лоб, как и почти всегда, собран в морщины.
Маринкин отец был еще почти молод, всего несколько лет назад поигрывал с друзьями в футбол. Но теперь в это практически невозможно было поверить.
— Мариночка! — сказал отец хрипловатым от долгого молчания голосом.— Ну что же тебя беспокоят такие глупости?!
Как видно, у него опять не ладилась статья, в которой он рассказывал, почему один писатель сочиняет хорошие книжки, а другой плохие... Есть на свете такие люди, называются критики. Маринкин отец им как раз и был.
В конце концов не важно, существует та особая школа или не существует. А вот что дыма без огня не существует, это уж точно! Да и вокруг всего шестого «А» клубились кое-какие слухи. Маринке очень хотелось проникнуть в эту историю. Однако она бродила лишь где-то по ее окраинам. А в самой сердцевине сверкало имя Крамского.
617
То, что там еще упоминается имя какой-то Тани, не то Мани, Маринку ничуть не занимало. Главным тут был, конечно, Крамской. А все остальное — так, бесплатное приложение... Какая-нибудь воздыхательница!
Нежданно-негаданно Маринка чуть ли не влюбилась в этого Крамского. И про себя уже называла его не «Крамской», а «Сережа»... Странно! Хотя они и пяти фраз не сказали друг другу!
Наконец сегодня произошла эта встреча в классе (когда Сережа прибежал за самсоновским портфелем). И Маринка уж сказала ему почти что открытым текстом. А он опять — такое разыграл равнодушие! Нет, вернее, не равнодушие, а сверхнаивное удивление и смущение.
Маринка, естественно, ему не поверила: не мог же человек с такой разведческой подготовкой ничего не заметить. Видно, их там неплохо все-таки готовят...
И вдруг он попался!
С некоторых пор Маринка переставила свой стол поближе к окну — чтобы видеть всех, кто входит во двор. Одним глазом она делала уроки, а другим — наблюдала. Чаще же всего наблюдала обоими глазами.
И вот она увидела!
Крамской на этот раз уж не пошел в их дом, а забежал в тот, что напротив: охота ему была опять на деда нарываться. А наблюдать можно и оттуда — еще даже лучше.
Однако Маринка «помариновала» его полчасика (ну и сама, конечно, порядком «измариновалась»). Наконец вышла на улицу.
Погода, надо заметить, была довольно-таки дрянная. Дождя хотя нет, но каждую минуту жди, что сейчас и нагрянет.
Как вести себя, Маринка не продумала — от волнения. Довольно-таки глупо она уселась на качелях, на мокрой доске. Да и вообще, какие осенью качели? Настоящие качели для лета и весны!
Дождь так и не собрался, но стало темнеть. За домом, из которого за ней наблюдал Крамской, начинался закат. И было, в сущности, странно: огонь в полнеба, а по земле расползается темнота. Об этом Маринка думала, чтобы просто скоротать время, которое, несмотря на все ее старания, короталось плохо.
Наконец он вышел! Маринка сейчас же принялась качаться, а качели несмазанные — сильно скрипели. Но с
618
первого взгляда было понятно, что все это напрасно. Ничего не замечая, Крамской пошел куда-то в другую сторону и был так равнодушен, что хоть гром греми — он бы не заметил, наверное, и грома. Не говоря уж про этот жалкий скрип!
По инерции еще продолжая качаться, она сообразила, в сущности, просто вспомнила, что где-то в этом доме живет учительница из их школы. Анна Робертовна, что ли... В шестом «Б» она не преподавала. И вроде даже была у Крамского классной руководительницей.
С огромным разочарованием Маринка поняла, что Крамской живет совершенно отдельной жизнью и никакими тайными ниточками с нею не связан. Она даже почти вспомнила Таню, которая начальственно шагает впереди — это в тот день, когда Маринкин дед гонял по этажам «юных лоботрясов».
И абсолютно неизвестно зачем — из одной упрямой досады на себя — она пошла за Сережей. Почти не скрываясь, словно нарочно хотела, чтоб он ее увидел. Да ведь и правда хотела. Но он ее не видел, а все шел и шел куда-то.
У них в районе пустоты и воздуха много, дома стоят огромно и отдельно, каждый загораживал по полнеба. Сейчас все их окна светились, и Маринка неведомо для себя чувствовала то же, что и Сережа Крамской,— неуютность и грусть оттого, что она идет совершенно одна, совершенно одиноко, на виду у многих и многих уютных, но таких равнодушных к ней окон.
В городе из-за неоновых фонарей почти не видно стало звезд. И думаешь иной раз, что, может быть, их заменяют окна многоэтажных огромных квадратов и прямоугольников. Ведь окна горят долго — почти всю ночь, почти как звезды...
Потом, вслед за Сережей, она оказалась на школьном дворе. И замерла у кустов, когда увидела, что он собирается звонить.
Еще несколько дней назад она бы обязательно подслушала. Или уж, по крайней мере, имела бы в душе такое поползновение. Но сейчас ей не хотелось поступать... низко. Да, она так и сказала себе: «Низко». И удивилась этому слову — вообще употребляемому шестиклассниками крайне редко. А уж по отношснию-то к себе и ч тем более. Никогда!
Итак, она стояла у кустов и ждала. Нет, она, конечно,
619
испытывала то волнение, которое испытывает всякая кошка при встрече с мышонком, а всякая девочка при встрече с интересующим ее мальчишкой.
Но испытывала она и еще что-то, намного более важное, чем этот охотничье-спортивный интерес.
Наверное, все-таки не случайно, не из одного только любопытства, она интересовалась шестым «А» и Крамским. И совершила этот жалкий, с точки зрения всех своих подружек, да, жалкий, по обычным меркам, поступок, когда поплелась за ним...
Что же это было такое?
Если б речь шла о взрослых, я бы сказал: она влюбилась. А может быть, и у шестиклассников это называется тем же словом?
Сережа вышел из будки.
— Крамской? — И тут же испугалась, тут же подумала, что надо хоть немножечко сделать вид, будто она нечаянно оказалась тут: — Это ты, Крамской?
Сережа подошел к ней, не зная, что говорить, забыв все, что было полминуты назад.
— Я иду мимо и вижу, ты в телефоне стоишь...
Опытный детектив, он хорошо знал, что среди такой
темноты ничего в той будке не разглядеть. Но сейчас же поверил ей и кивнул.
Ну, а дальше-то что?
А ничего, неизвестно. Сереже и так хорошо было — стоять с ней в этой темноте и молчать. Но Маринка, более опытная в таких делах, знала, что нельзя просто стоять — и все!
— Я домой иду.
Вот же дубина! Маринка видела своим рентгеновским девчоночьим взглядом, что он волнуется. Еще как! А сам ни слова!
— Ну... Ты хочешь меня проводить?
Сереже глупо казалось отвечать на то, что и так было слишком понятно.
— Почему же ты не отвечаешь... Сережа?
Слово это — «Сережа» — вырвалось из нее абсолютно нечаянно, незапрограммированно! Собиралась-то она сказать: «Крамской», а получилось: «Сережа».
Обычно такие мгновенья наши трусливые души стараются проскочить, словно бы ничего не случилось. Но Маринка Коробкова, видно, родилась не совсем простым человеком. И она не испугалась признаться стоящему на¬
620
против нее мальчишке в том, что... Да нет, она, конечно, не словами признавалась. Словами этого и на листе бумаги, пожалуй, не выговоришь.
Маринка посмотрела Сереже в глаза. Они были совершенно одного роста... ну совершенно! И, как потом выяснилось, родились в одном месяце. Сережа был старше нее лишь на четырнадцать дней: он третьего июля родился, а Маринка семнадцатого.
Школьные отношения, «школьные любови» — да еще с шестого класса — редко бывают гладкими и прямыми. Обязательно где-нибудь на ровном месте возникают пустые ссоры, ненужные объяснения. У них же — с первого дня и до самого конца — этого ничего не было. Редчайший случай!
Да, редчайший, но он произошел!
Впрочем, я слишком уж забегаю вперед. И делаю это только для того, чтобы объяснить, как Маринкина рука оказалась вдруг в Сережиной, хотя, по представлениям многих, для этого должна была бы пройти неделя, а то и больше. И вряд ли я смог бы объяснить, почему в такую познотень Сережа оказался в Маринкиной комнате. Ко- робков-папа долго выискивал благовидный предлог и наконец с некоторым тайным беспокойством заглянул к дочери.
Он никогда не видел, чтобы его Машка разговаривала с кем-то, имея такие заинтересованные глаза. И толстый папа-Коробков невольно позавидовал этому мальчишке с бледноватым и не очень уверенным лицом...
Когда, тихо скрипнув, дверь приотворилась и в нее просунулся могучий дядька, так удивительно непохожий на Маринку и чем-то неуловимо на нее похожий, Сережа повернулся и встал, сказал «здравствуйте». Ну, словом, как поступают все нормальные воспитанные люди.
И все же что-то такое осталось на Сережином лице — несмываемое никакой вежливостью, что папа-Коробков почувствовал себя до ужаса здесь лишним.
И немедленно вышел!
Однако родительский инстинкт все-таки победил в нем. Он еще постоял несколько секунд под дверью, послушал, что было не очень хорошо с его стороны... А впрочем, сделайтесь сами родителями, тогда и судите.
Итак, он послушал под дверью, но ничего не понял. Похоже, мальчик этот рассказывал его дочери детективный
621
сюжет, что было очень мало вероятно: слишком уж у них лица были другие!
И тут, почувствовав наконец стыд, папа-Коробков тихо ушел к себе в кабинет, отложил рукопись с чужим романом, вставил в машинку лист бумаги и принялся за статью, которая не имела отношения ни к Маринке с ее мальчиком, ни к отложенному чужому роману... Нет, Маринка все же как бы была в той статье, присутствовала невидимкой.
И потом статью, кстати, сильно хвалили, говоря, что критик Коробков переживает вторую молодость. А он, между нами, толком и первой-то не пережил, вечно занятый работой и литературными спорами.
Кто кого
На следующий день было так много событий, что про него, наверное, следовало бы отдельно написать целую книгу, размечая все по часам и по минутам. Это, кстати сказать, редко бывает. Обычно часы нашей жизни пробегают серыми мышками. Потому мы про них почти и не помним ничего. Эх, говорим, счастливая и неповторимая пора детства. А чего там было такого уж неповторимого, сами не знаем.
Но совсем не таков уродился день, о котором идет речь.
Четвертым уроком была у них литература. И вот в класс вошла Алена Робертовна. Походка ее была пружиниста, взгляд горел, и голос, которым она сказала: «Тихо, ребята!», заставил всех замолкнуть.
Лишь Сережа Крамской примерно представлял, что сейчас должно произойти. Да Таня Садовничья сидела со всепонимающим выражением лица. Да у Мироновой, у которой вчера вместо семи рублей оказались в кошельке злосчастные клочки, продолжала, видимо, переживать это событие и тоже не особенно отреагировала на внезапную решительность учительницы.
— Тихо, ребята! Как вам известно, у нас пропал классный журнал. Вчера эта история стала мне до конца ясна... Мне — понимаете? И это мое дело — вашей учительницы, вашего классного руководителя!
Шестой «А» удивленно затаился. Словно Аленина истинная душа, до того скрывавшаяся, вдруг вырвалась из засады.
622
— Я никого не хочу посвящать в эту историю. Я ее прекращаю, вы слышите?! А если кто-то вздумает продолжать, пусть не надеется на хорошую жизнь. Этой истории не было в нашем классе.
— Но ведь она была! — тихо сказала Таня.
Ее мог услышать только Сережа. Учительница бы прежде обратила внимания на этот голос не больше, чем на полет мухи под потолком.
— Садовничья! Ты, кажется, что-то сказала?
Ничего подобного Таня не ожидала. Да и никто не
ожидал.
— Садовничья?! Так кто там тебе жить не дает? — Эта фраза была давно когда-то вычитана в одной книжке. Теперь она очень оказалась кстати для «новой Алены».
Таня поднялась:
— Извините. Я... я нет...
— Ну и отлично. Всем все понятно пока? Остальное я вам объясню после!
Эту фразу Алена Робертовна уже нигде не вычитывала. Эта фраза выскочила из нее сама. Знать, давно сидела там и теперь — хвать!
Окинула класс уверенным учительским взглядом:
— Хм!.. Ну, а что ж ты стоишь, Садовничья? Иди уж отвечать!
И с разных сторон раздался смешок — такой угодли- венький смешочек испуганного класса.
Его услышала Алена Робертовна, и что-то сжалось у нее в сердце... А что там сжаться могло? Да, наверное, какой-нибудь важный сосуд. По нему кровь шла-шла, и вдруг он сжался, у него словно б дыхание перехватило. Кровь остановилась, Алена почувствовала горечь, боль и подумала: «Да что же это я делаю такое!»
Но строгости на лице своем не убавила: страшно было снова впасть в прошлую кисельность и расхлябанность. И, спокойно сев на стул, она задала Садовничьей, которая стояла перед нею, нормальный учительский вопрос...
Угодливый тот, трусливый смех услышал и Сережа Крамской. К тому же он ведь не мог знать, что делалось в, Аленином сердце.
Никогда Сережа особенно Алену не любил. А теперь понял, что все-таки он любил ее, но только ту, прежнюю. И назло «новой Алене» подумал: «Нет уж, не испугаюсь я твоей «хорошей жизни», продолжу следствие!»
623
На перемене он подошел к Серовой:
— Лена, мне для ведения дела очень нужен на десять минут твой дневник.
Серова подняла на него большие серые глаза (да, так уж совпало в жизни). А на груди сверкнула золотая «медаль раздора», врученная классной руководительницей.
— А при чем здесь мой дневник? Кажется, ты обещал кое-что другое...— И она скосила глаза свои на сидящую рядом Варьку Миронову.
Тьфу ты, на самом деле!
Сегодня ранним утром Сережа действительно позвонил Мироновой и сказал, что она получит свои деньги. После уроков. И при этом взял строгое слово — не разглашать. А Серова уже знает!
Девчонки... Ох, девчонки!
Но с другой стороны, и семь рублей не шутка — для человека, который ни зарплаты, ни стипендии, ни пенсии не получает.
— Спокойно! — сказал Сережа нервным голосом.— Спокойно! Я ж обещал — и разберусь!.. Но Миронова, кажется, мне тоже кое-что обещала? А пока, Серова Лена, дай-ка дневник.
— Зачем?
— Так нужно.
Он действительно хотел с помощью ее дневника проверить некоторые важные мысли с листком из журнала.
— А что Таня считает? — спросила Серова голосом приближенного к начальству человека.
— Что Таня, я не знаю,— ответил он сердито,— а я разберусь!
И, поймав на себе мироновский взгляд, он постарался успокаивающе улыбнуться.
Получилось же как-то нервно и криво... Уж такой был сегодня день. Нервозность буквально носилась в воздухе, как микробы во время эпидемии гриппа.
Больше всего ему сейчас хотелось бы сбегать на четвертый этаж и поглазеть немного на Маринку. И удостовериться, что все вчерашнее — это не вранье с ее стороны.
Но попробуй-ка сбегай, когда ты теперь деятель. Надо было срочно заниматься пропавшими рублями, пока Серова и Варька Миронова не развели самодеятельность.
Он решил просто-напросто собрать с ребят по двадцать копеек. Их тридцать пять человек, как раз получится семь
624
рублей. Таким образом Миронова успокоена, побочное злодеяние устранено... А с тобой, дорогая преступница, мы еще потолкуем!
И Сережа начал действовать.
У них в классном шкафу давным-давно стоял разломанный глобус. Он разломался как раз по экватору, и две половинки получились словно две чашки-пиалы.
Сережа взял одну из них (ту, у которой дном была Антарктида), поставил ее на шкаф, чтоб всем было видно. А на доске крупно написал: «Миронова потеряла 7 рублей. Просьба положить в земной шар 20 коп. У кого есть... совесть!»
Довольный собою, он поставил восклицательный знак в конце. А вокруг него уже собирался народ, конечно. И многие опять и опять удивлялись втайне, как изменился этот Сережка Крамской. Вот тебе, дядя, и Корма...
Пока Сережа был занят своим писанием, своими восклицательными знаками и своей гордостью, он, к сожалению, не заметил нескольких важных вещей. Во-первых, не заметил он, как в двери промелькнули драгоценные глаза Коробковой. И во-вторых, как Самсонова глядит на то, что выводит его рука. Зрачки Лидины удивленно расширены, словно надеются стать величиною с те буквы, которые вырастают на доске.
А Варька Миронова... Она в обычных условиях ничем не была знаменита, а только тем, что сверхпредана своей Серовой, эта Варька сейчас сидела сжавшись и не знала, то ли ей плакать, то ли ей радоваться.
Сережа оглянулся. Он искал Таню. И тотчас нашел! Тане тоже очень хотелось встретиться с ним глазами. И стало Сереже, которому казалось, что он так все хорошо и весело придумал, стало ему сильно не по себе.
Он вдруг осознал, что Таня теперь далеко не союзник. Противник! Эх, жаль, он не встретил драгоценные глаза Коробковой — ему было бы легче!
Наш воспитанник
Но тут и звонок прогремел, вошла географиня... А если «гео» отбросить, получится Графиня.
Ее так и звали — за спокойную сухость тона, за бледно накрашенные тонкие губы, за большие очки на маленьком носу. Почему-то и кому-то в их школе сие показалось признаком «графиньства». Давно это было — лет десять назад. И потом уж пошло-поехало.
А Графиня, кажется, и сама не возражала против такого имени. И даже невольно старалась ему соответствовать — ходила прямая, плечи убирала назад, слова произносила редко и властно.
Впрочем, кто его знает, какие они были на самом деле, эти графини? В школе, где учился Сережа Крамской, думали, что именно такие.
И вот она вошла, Лидия Павловна, кивком головы посадила класс.
Она бывала Графиней двух видов — в зависимости от настроения: Графиня томная и Графиня решительная. Сегодня она как раз была томная, вся в своих помыслах. И поэтому, заметив Сережину надпись, лишь обронила в пустоту:
— Это надо вытереть.
Тренин, который был сегодня дежурным, выполз из-под своей парты: а плохо, что ли? Можно сходить в уборную, помочить тряпку... Времечко идет.
И вдруг он почувствовал на своем плече железную длань.
— Сиди, Тренер! — сказала Таня Садовничья.— Я тебе помогу.
Она вышла к доске. Никто пока не обращал на нее никакого внимания.
Взяла в руки мел. И это пока тоже видел один Сережа.
Аккуратно вывела под призывом о двадцати коп. и глобусе: «Деньги эти не потеряны!»
Шорох и шелест пошел по рядам — увидели, а кто не увидел еще, того толкали в бок: смотри, Пень-Иваныч, дд говори «спасибо», что показали.
А Таня преспокойно взяла тряпку и пошла ее мыть и с мылом стирать... Про некоторых хулиганов говорят: мол, ай-яй-яй, такие они, сякие! Своим безобразным поведением сорвали урок. А вот вам Таня Садовничья — ни
626
шума, ни крика. Но разве кто-нибудь теперь думал о географии?
Так рассуждал Сережа Крамской, который в это время тоже не думал о географии.
Вошла Таня, повернулась к классу: ну так что, мол, все видели? И потом стерла.
Лидия Павловна ничего понять не могла. Она и так и эдак старалась найти причину. Из томной Графини стала Графиней решительной, а потом даже грозной. Ей это совсем не помогло. Урок был загублен на корню. Никто не слушал, на дополнительные вопросы не отвечал. Она бы, наверное, наставила им сердитых двоек. Но ведь был конец четверти, а учителя за двойки отвечают — не меньше учеников!
Махнув на все рукой, Графиня стала объяснять новый материал. Тоже без толку! И, остановившись на полуслове, она приказала тогда всем сдать дневники, немедленно!
Это, конечно, расшевелило — уж будьте уверены! Лидия Павловна стояла со спокойной своей тонкой улыбкой:
— Ну что, Садовничья! Я долго буду ждать? Крамской?!
Ах, да, раз Таня стирала с доски и раз Сережа сидел с ней за одной партой, они же «дежурные»!
Переглянулись, встали. Класс, чувствуя себя провинившимся, полез в портфели.
— Да не бойтесь,— сказала учительница, которая была, в общем-то, вполне добрым человеком.— Ваша классная руководительница будет из дневников проставлять оценки в новый журнал!
Она улыбнулась победно, увидев их облегченно-растерянные физиономии. А когда Сережа хотел помочь ей отнести дневники в учительскую, сказала с насмешливой сухостью:
— Не надо!
И ушла. И тут звонок затрещал. Это у нее здорово получилось! А Сережа, в сущности нечаянно, остался стоять — один перед всем классом. Уроков больше не было, но никто не собирался расходиться.
— Чего замолк, Корма? Давай открывай собрание. Будем следствие вести! — закричал Тренин.
Нет, нелегко это — смотреть в глаза целому классу. Но делать нечего, и Сережа начал гнуть свою линию:
— Чего следствие-то? Алена Робертовна заводит новый
627
журнал. Преступника она прощает. Ну и хорошо, нам-то какое дело? Соберем для Мироновой по двадцать копеек с носа, и домой.— Он вынул из кармана заготовленный двугривенный и со звяком бросил в половинку земного шара.
— А чего ж тогда Садовничья пишет? Э, Садовничья?
Таня подождала, когда замолкнут крикуны. Это ей
легко удалось, даже не надо было вставать или призывно поднимать руку.
— Пусть сама Миронова скажет... Миронова! Разве ты эти деньги потеряла?
— Нет,— ответила Варька, готовая заплакать от волнения.
— Садись, Миронова,— сказала Таня. И потом наконец сама встала.— У Мироновой есть доказательства, что деньги украдены. И они временно хранятся у Крамского.
— Ч-чего хранится-то? — и смеясь и заикаясь, крикнул Воскресенский.— Деньги или доказательства?
— Доказательства! — холодно объяснила Таня. Словно бы Алешка правда ее не понял.— Дай-ка их нам посмотреть, Крамской!
Доказательства — в смысле те клочочки журнальные... Но их не было сейчас у Сережи!
— Они... дома.
Причем даже не у него дома, а у Маринки Коробковой. Хотя в данном случае значения не имело.
Странно было другое: зачем Таня завела эту историю? Вчера сказала: «Я больше не участвую». А теперь вдруг... Так хотелось спросить: «Тебе что, Тань, завидно стало?»
И пожалуй, Сережа был бы не так уж далек от истины.
Когда Таня поняла, что Алена Робертовна ни при чем, ей словно обидно сделалось, ее словно обманули. Тогда-то она и сказала Сереже, что «мелкая рыбешка» не для нее. Но теперь... Вдруг Крамской стал такой излишне самостоятельный. А ведь весь начинен ее силой, ее уверенностью, ее методами работы.
Впрочем, эти мысли подавали голос в ее голове лишь тихо-тихо из темного уголка. А впереди громко возмущались совсем другие. Эти мысли кричали: «Крамской обдуривает класс, а я должна молчать?!»
Хотя на самом деле ей не больно важно было, обдуривают класс или не обдуривают. Уж мы-то знаем, каким человеком была Таня Садовничья. Весьма непростым!
628
— Чего-то непонятно, Корма! — закричал среди недоброго гудения Годенко Гришка.— Что за доказательства? Чего ты их скрываешь?
И в Сережиной жизни вдруг наступил довольно зловещий момент. Уже чуть ли не его самого начинали подозревать в этих семи рублях. Или по крайней мере в соучастии. А «любители справедливости» тут как тут: им бы только суд затеять, остальное неважно!
Все-таки он сумел не испугаться. Жаль, что не было здесь Маринки Коробковой, а была только эта заведенная Таней Садовничьей толпа. Но что ж поделаешь, справедливость чаще всего приходится доказывать среди не самой дружественной обстановки.
И он стал им говорить. Он не готовился заранее, а потому получилось не особенно... Зато по делу.
Он вот что им пытался растолковать. Если класс занимает первое место, то говорят: «О! Молодец класс!» А если последнее — опять: будут ругать всех.
— Гол считается, что вратарь пропустил, а на самом деле виновата вся команда, понимаете? Так же и с этими рублями исчезнувшими. Поэтому я и предлагаю: давайте просто соберем по двадцать копеек, и кончено!
Нет, его совсем не понимали: то гол, а то кража денег!
— Ну это же мы его таким воспитали!
— Кого? Вора?! Вора воспитали вором? Ну ты даешь, Кормушка!
— Могу доказать! Например, как мы Алену чуть не засудили, а она оказалась абсолютно ни при чем.
— Откуда это известно?
Тут уж Сережа, хочешь не хочешь, должен был рассказать про клочки из журнала, оказавшиеся в мироновском кошельке.
— А между прочим, Алена сама могла бы устроить следствие! Но почему-то она не устроила.
— Просто не сообразила! — крикнул Тренин.
— Не бойся, сообразила бы... Просто она ч е л о в е к... И мы давайте не устраивать... Неужели вам эти двадцать копеек жалко!
— Чего? Я могу первый отдать,— сказал Годенко.
И за ним поднялось еще несколько девчонок и мальчишек.
Но не успели они совершить свой хороший человеческий поступок. Им Таня помешала!
629
— Одну минуточку! — сказала она.— Я, например, в вашем «замечательном коллективе» не воспитывалась. И виноватой себя не считаю!
— Ну и молодец! — сказал Сережа.— А мы, кстати, никого виноватым не считаем.
— А деньги все-таки собираете?
— Да именно потому, что мы верим друг другу и не хотим копаться!
Тут его стали поддерживать хорошие люди: Гришка и Воскресенский А„теха. Но Таня сумела перекричать их:
— А все-таки мне не понятно! И я не согласна сдавать эти копейки!
Эх, зачем же она все портит? Зачем ей это надо? И тогда Сережа крикнул, уже не стараясь себя удержать, уже разрывая с Таней последние ниточки:
— Слушай, Садовничья! Не хочешь, не сдавай. Сохрани свои двадцать коп. на мороженое! Варька, обойдешься без ее двадцатника?
— Да пусть,— тихо сказала Миронова.— Конечно.
— Так, Крамской! — сказала Таня.— С тобой мне все окончательно ясно. А все-таки не надо действовать нечестными приемчиками. Я не о копейках своих переживаю. Я о классе думаю! Вчера семь пропало. А сегодня, может, кто-то уже пятнадцати недосчитается!
Кто больнее ударит?
Эх, бывают же совпадения!
Вдруг Катя Тарасова — на этот раз уже оруженосиха Самсоновой,— которая вслед за Годенкой хотела пойти и сдать двадцать копеек (а почему именно вслед за Годенкой, пусть то останется ее личной сердечной тайной), Катя Тарасова полезла к себе в портфельное отделение, где у нее лежали деньги. И вдруг тихо пискнула:
— А у меня пятнадцать рублей пропали!
Говорят, в такие мгновенья наступает необыкновенная тишина. И она действительно наступила в шестом «А», потому что каждый сделал невольный судорожный вздох: «О-ох...»
И потом очень многие дернулись проверять свои собственные денежки. Плохая то была секунда в жизни шестого «А»: никто никому не верил и все друг друга
подозревали.
630
Лишь очень немногие не полезли рыться в своих портфельных тайниках. И Сережа Крамской в том числе. Он смотрел на одного человека, на одну девочку.
Девочка эта, между прочим, была среди тех, кто не кинулся на поиски своего кошелька. Словно знала: у нее все в порядке. Но даже издалека было заметно, как она бледна.
Она тоже отчего-то посмотрела на Сережу, причем испуганными глазами,— видно, прочитала что-то в Сережином взгляде.
Не сразу Сережа услышал победный Танин голос, не сразу перевел взгляд от того лица на Танино. И увидел ее торжествующую улыбку.
— Крамской у нас так все хорошо подсчитал. Семь рублей разделить на тридцать пять виноватых, получится по двадцать копеек. А теперь,— она спокойно вышла к доске,— это, значит, что же? Тысяча пятьсот копеек на тридцать пять...— Она взяла мел и начала на доске, с огромной будто бы заинтересованностью, производить деление.
Получалось сорок две копейки с дробями. Но Таня все продолжала свою математическую работу. И вот уже получилось сорок две и восемьсот пятьдесят семь тысячных. Нет — восемь тысяч пятьсот семьдесят одна десятитысячная. Нет! Восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать стотысячных...
И когда Таня стала извлекать следующий знак, класс разразился наконец гомерическим, то есть по-простому говоря, ужасно громким, смехом. А Таня под этот смех повернулась к Сереже и что-то стала говорить ему почти неулыбающимися губами.
Что она там говорила, никто не слышал, даже Сережа не слышал. Вернее всего, она вообще ничего не говорила. Да какое это имело значение? От этой неслышимости поражение Сережи только усиливалось.
— Да все ясно! — уже кричали любители острых ощущений.— Давай, Садовничья! Веди процесс дальше!
— Не процесс, а обыск! Пора уже обедать идти! кричал Тренин.— Обыщем, узнаем, и хорош!
После такого крика в некоторых стали разгораться не
самые лучшие чувства...
Сжавшись, Сережа сидел за своей партой среди этого бушующего котла, где вверху гордой пеной вздувался Иго- ряшка-Тренер.
631
Многие-то просто помалкивали: они были ни туда ни сюда — они были ни при чем, жили в хатах, которые с краю... «А что же я,— подумал Сережа,— а где моя хата?»
Но что он мог сейчас — солдат, которого более сильный противник обезоружил и затолкал в темницу. Там Сережа и ожидал своей участи.
Tf'EHEp
Тренин и «тренинцы» продолжали устанавливать свои порядки. В каждом классе есть такие люди: всё-то они сидят тише воды, ниже травы, но едва начнется какая-
нибудь буза, они сразу тут как тут.
— Тихо, крошки... Я буханка! Работаем по науке. А ну узнай у Тарасихи, какими деньгами было пятнадцать?
— И пусть все до начала обыска заранее заявят и сдадут неворованные деньги!
Это все тренинцы устанавливали свои порядочки.
Но до чего же быстро в нормальном класое начинают происходить такие вещи. При некотором стечении обстоятельств.
Таня Садовничья, стоя у доски, старалась сохранить спокойствие и достоинство. Как будто бы события продолжают развиваться под ее руководством. На самом деле тут уже никто не руководил. На секунду выскакивал тот, кто выкрикивал чего-нибудь поподлей и погромче. А в ответ грохотало:
— Правильно! Молоток!
А почти весь класс молчал — как загипнотизированный... Только твердили себе под нос известные трусливые слова, что, мол, «не охота связываться». И хоть бы один поднялся: «Да вы что, озверели?» Не нашлось такого!
А до Тани вдруг дошло наконец, что и ее, Садовничью Татьяну, будут сейчас обыскивать!
Вначале ее, конечно, обыскивать не станут, сперва обыщут всяких подозрительных и слабых. Но потом все равно и до нее дойдет.
В то, что деньги будут найдены, Таня не верила ничуть!
632
Да для этих нескольких бумажек можно придумать такую щель... Значит, обязательно дойдет и до нее очередь. А то, что под конец,— это даже еще хуже, потому что под конец они начнут обыскивать особо старательно.
Тут, признаться, Таня испугалась. Ведь она была бессильна перед компанией Тренина. Нет, она могла бы, наверное, послать их всех к аллаху и не даться. Но кто не дался, тот и своровал — так будут потом говорить.
Она сама толкнула их на эту дорогу. И теперь сама должна была поплатиться...
Вдруг все перевернулось — буквально за одну минуту. На пути у Тренина, который чего-то там распоряжался, разбивая ребят на группы для обыска, вдруг на его пути встала Самсонова, которая ведь тоже имела авторитет. Хотя и потускневший, но все-таки крепкий.
Сережа Крамской повернул голову, еще не в силах угадать, что же сейчас произойдет.
— Сядь, тебе говорят! — крикнула Лида.
Тренин сразу остановился и даже, показалось Сереже, вздрогнул. Ведь Тренин никогда не был великим смельчаком. Он, вернее сказать, был самым обычным зайцем. И живо вспомнил, какой перед ним возвышается руководящий товарищ.
Лида прошла мимо тренинцев, которые все стояли с теми рожами, какие обычно бывают у некоторых учеников, когда их учительница за что-нибудь ругает, а они повторяют одним и тем же скучно-глупым голосом: «Чего я сделал-то?.. Я ничего не знаю...»
А Лида вышла к доске, обменялась взглядами с Садовничьей: мол, не пора ли и тебе, девочка, сесть на место? Не пора ли уступить капитанский мостик более достойному человеку?
Таня, однако, продолжала стоять и даже — словно бы для надежности, словно чтоб уж никаким ветром ее отсюда не сдуло — взялась рукой за учительский стол. Тогда Самсонова просто встала впереди нее — как бы загородила своей персоной. Как бы вообще Тани больше не существовало!
И снова Таня Садовничья почувствовала себя неуверенно, неудобно. Что же случилось? Почему и этот еще вчера подчинявшийся ей человек вдруг оттесняет ее за кулисы?
А происходящее имело очень простое объяснение: Таня
633
вела себя неожиданно, начальственно, жестко. И все первое время перед ней терялись. Но ведь жесткости научиться нетрудно. Жесткость — это не то что доброта, здесь все ясно: кто смел, тот и съел.
И сейчас Самсонова оказалась «смелой», потому что у нее был план продолжения войны — у нее, а не у Садовничьей.
— Будет тишина? — сказала Лида. Вернее, она крикнула. Но очень спокойным, внятным и потому особенно властным голосом.
«Хороший прием,— подумала Садовничья,— надо запомнить». А Самсонова уже без всякого крика продолжала:
— Обыск не нужен. Я знаю, кто это сделал. Я догадалась! Я думала, он сам признается... Может, все-таки ты сам признаешься, Крамской?
Один, у самого края
И сразу какая-то тяжесть придавила его к стулу, он даже опустил голову.
Это была тяжесть человеческих взглядов. Весь класс смотрел на него... Если он сейчас не поднимет голову, они подумают... Но они уже и так подумали: то имл Таня командовала, то он сам, то Тренин, то Лидка Самсонова. И теперь им стало уже все равно, кому подчиниться.
Когда Сережа все-таки поднял голову и встал, он увидел, что его дела плохи.
— Я этого не делал.
— А у меня есть доказательства! Вы помните или нет, что у меня вчера голова заболела на физкультуре? И я его послала в класс за портфелем, и он долго не возвращался, а пришел — какой-то нервный был. А потом у Вари Мироновой пропали деньги. И появилась эта половина странички из журнала!
Тут Крамской почему-то вдруг покраснел. Тренин, который заметил это, подумал: «Сейчас признается... Инте- реснекько будет!»
Таня Садовничья твердо знала: это не Крамской! Слишком она хорошо изучила его. Да нет, он абсолютно не преступник! Но сдержала себя: ничего-ничего, надо проучить. Потом она его вытянет из трясины. И чтоб он запомнил, кто его спас! А пока...
634
И сразу она избавится от этого позорного обыска, от Тренина, с которым она тоже посчитается. Может быть, даже и при помощи Крамского. Только это все позже.
— Что же ты молчишь, Крамской? — сказала Таня, становясь рядом с Самсоновой.— А я тоже помню. Верно, Лида! Он когда вбежал с твоим портфелем, он какой-то был неестественно запыхавшийся.
Она смотрела Сереже прямо в глаза.
— Эх, ты,— сказал Сережа со злостью и обидой,— я же все время был твой помощник! Значит, и тебя надо подозревать! Других топишь, а сама уже потонула.
Растерянность мелькнула в Таниных глазах, она удивленно нахмурила брови.
— Точно! — крикнул Тренин.— Правильно! Мы ее тоже проверим. Что нам, тяжело? — Он улыбнулся.— А ты, Корма, и сейчас волнуешься. Не только вчера, когда с портфелем.
— А ты бы не волновался, да? — закричал Годенко.— Когда тебя вором подозревают!.. Я его знаю, Серегу-Кор- му. Да что, мы его все не знаем? Это не он!
— А пусть доказательства приведет! — крикнул Тренин.
— Не надо никаких доказательств. Даст честное слово, и хорош! — После этого Годенко отвернулся к окну, словно ему было стыдно здесь находиться.
Слова эти были так просты и так ясны, что... что многим сделалось не по себе: да как же они мне самому-то в голову не пришли? Воскресенский Алеша даже встал, пошел по проходу к Годенко.
Но сам Сережа не услышал этой перемены в классе. Да и трудно что-нибудь услышать, когда тебя так оглоушат.
— Успокойтесь,— сказал он с презрением.— Есть у меня доказательства!
Ведь у него действительно был железный свидетель — Маринка Коробкова.
И тут... О господи! Как же он мог позабыть! Померк- нувшим взором Сережа посмотрел на часы. В конце второй реременки в руки ему посредством тайной почты попала узкая полоска бумаги: «2 ч. 30 м. у к/т «Горный». М. К.».
Сережа не любил слово «свидание», оно казалось ему каким-то пошлым. Каким-то неприятно взрослым. Во¬
635
обще вся эта так называемая «любовь» до недавнего времени ему не нравилась. Он старался не смотреть на нее по телевизору, как любят некоторые, и даже, пожалуй, многие.
Теперь все стало по-другому. И никогда еще он так не стремился на это — эх-хе-хе! — свидание.
До которого оставалось всего двенадцать минут!
А до «Горного» — если всю дорогу бежать — не меньше минут семи!
И невольно Сережа пошел к двери, вовсе не думая о том, что ему сейчас скажут или крикнут.
— Ты куда рванул, дружок?
— За свидетелем! — Он уже почти слышал, как бежит, громко дыша: это ведь невозможно, чтобы Маринка пришла первая!
— Тихо! Сперва обыск, а потом можешь катиться за свидетелем.— Его схватили. И так подло — прямо за шиворот.
Сережа замер на мгновенье и вдруг услышал, как тре- нинская рука отлетела, словно сделанная из веревки. Обернулся — Таня стояла между ним и Трениным, готовая к ответному удару.
Быстро они переглянулись. Зачем же ты это сделала, Садовничья Татьяна? Защитила своего врага... Зачем?
Человек пять, новоиспеченная тренинская ватажка, повылезли из-за парт. В их медленных движениях сквозила нерешительность. Но и угроза.
«Драться,— с тоской подумал Сережа.— Только хуже время потеряю!» И отступить не мог. Ведь теперь и он защищал Таню, не только она его. Снова посмотрел ей в глаза. Таня едва заметно кивнула... В сущности, одними ресницами: начинай!
У Джека Лондона, в романе «Сердца четырех», есть такая пиратская песня: «Мы спиной к спине у мачты, против тысячи вдвоем...»
Что ж, прости, Маринка. Оказывается, у мужчин есть дела поважнее, чем любовь. И...
Тренин почувствовал, что сейчас он «схлопочет». И в то же время слышал, как из-за парт выходят его ребятишки... А все-таки не хотелось ни с того ни с сего схло- патывать. Он непроизвольно отступил. Как говорят в боксе, разорвал дистанцию. И Сережа прозевал ударить.
А дальше и совсем разладилась драка.
636
Годенко Гриша, который по-прежнему смотрел в окно — конечно, будто бы смотрел,— вдруг поднялся и что есть силы как грохнет книгой о парту. А книга была не тоненькая — «Литература»! И потом Годенко, даже не послушав, наступила тишина или нет, закричал:
— Вам же сказали человеческим языком: он свидетеля приведет, за что же его обыскивать?!
От этого крика Таня Садовничья словно очнулась: что это она? Быстро отодвинулась от Крамского... Что это она затеяла?!
И, окончательно взяв себя в руки, твердо сказала:
— Надо проголосовать! Тренин пусть тут не распоряжается. И ты не распоряжайся.
Затем она скользнула равнодушным взглядом по Сереже — словно прикидывала, сколько в нем росту.
— Кто за то, чтобы не обыскивать?
— А если он не приведет?
— Тогда разберемся! — крикнул Годенко.
— Тогда, значит, он и украл! — сказала Серова, которой тоже хотелось хоть немножко выдвинуться.— Согласен, Крамской?
— Голосуем! — крикнула Таня.— Кто за то, чтобы без обыска?
И стало понятно, что не Тренин был главный в шестом «А». Все проголосовали — чтобы без обыска! Не сразу только, оглядываясь друг на дружку... Но вот и Тренин поднял руку, что уж совсем было глупо с его стороны. Вот и Самсонова запоздало дернулась — Сережа заметил это. С тобой, Самсонова, еще будет встреча!
Свидетель защиты
— Маринка! Марин, Марин!.. Ну ладно тебе. Извини, пожалуйста!
Она подождала, когда Сережа подбежит к ней, вынула из кармана билеты просроченные, теперь совершенно бессильные, потому что кино уже шло минут пять. Конечно, не настоящее кино, а пока только журнал. Но Маринка этого знать не хотела!
Она швырнула билеты ему под ноги. И дальше ей следовало повернуться, чтобы уйти. Но не уходила и не поворачивалась. Сережа наклонился, поднял с мокрого асфальта эту синюю бумажку. Он хотел бы поклясться, что
637
никогда в жизни больше не опоздает, что... Да ведь это все вслух непроизносимо!
Сережа сложил билеты, спрятал их глубоко в карман. Маринка посмотрела ему в глаза. Не выдержала, улыбнулась, хотела сказать: «Ой! Хитрый же ты, Крамской... Не знала!»
Вместо этого она сказала другое:
— Ладно уж, пойдем скорей. Еще успеем!
Ходить в кино считается теперь несовременно и даже почти глупо. Маринка все-таки решилась купить эти билеты, потому что не знала, куда бы ей пойти с Сережей.
На то, что он придумает что-нибудь сам, Маринка совершенно не надеялась. Он еще будет неделю размышлять, прежде чем решится ей позвонить... И вернее всего, она была тут права.
— Ну идем. Чего ты?
— Нам, Марин, надо в школу с тобой идти. Меня, Марин, обвиняют, что я семь рублей украл!
— Какие еще семь рублей? — Она покраснела.— Что это за чушь?!
— Самсонова на меня сказала...
И дальше — о горе! — пришлось объяснять, зачем это ему понадобилось идти вчера за портфелем Лиды Самсоновой. Как рассказать ей, что еще сутки назад Самсонова ему почти нравилась, а сегодня... До чего же хорошо было бы, если б девчонки умели понимать такие вещи без слов.
И в то же время ему надо было спешить «со страшной силой»: ведь его ждал целый класс!
— Пойдем, Марин. Я по дороге тебе... Только ты не обижайся на одну вещь. Ты веришь, Марин, что я...
Какое же слово тут поставить? «Дружить»... Ой, какое скучное словечко!
— Ну и чего ты хотел сказать-то, Сережа? Говори уж, не бойся.— Чувствовала она, что Сережка перед ней в чем-то провинился.
— Ты знаешь, Марин, Самсонову?
— Хм... Знаю!
Нет, я не позавидую в эти минуты Сереже Крамскому. Да ему и никто не позавидует! И давайте-ка пропустим те бесконечные пять минут, которые тянулось это объяснение.
Маринка шла опустив голову, глубоко засунув руки в
638
карманы. Надо же! Буквально позавчера Сережа казался ей загадочным и таким необъяснимым. А теперь он был простым мальчишкой, который попал в беду. Но странно: от простоты этой он не становился для Маринки неинтересней.
Так уж сложилось в ее жизни — она привыкла, чтоб ее слушались. Она невольно и подружек себе таких выбирала — которые говорят: «Ой, Марин, спасай! Чего делать, прямо не знаю...» Вот и Сережа ей попался такой же.
Не поднимая головы, искоса она посмотрела, на него. Лицо у Сережи было напряженное, растерянное, раздосадованное. Он уже почти слышал, как Маринка задает ему вопросы про Самсонову. А еще хуже — про Таню.
Маринка же его лицо поняла совсем по-другому: он ждет помощи. Ну естественно, а как иначе, ведь она Коробкова!
Только, увы, к этой истории Маринка не имела никакого отношения и не могла придумать, как же его выручить, шляпу такую... детективную.
И вдруг вспомнила, вспомнила все-таки! Даже засмеялась от радости.
— Да я все знаю! Не бойся! Я ее видела. Она сама потом заходила к вам в класс, минут через пять после тебя!
— Кто?!
— Эта... Самсонова ваша.
Он хотел пробормотать что-то вроде: «Ты не ошибаешься?» Да ведь она не ошибалась — это ясно.
— Сколько времени она в классе пробыла?
— Я не следила... Да не важно! Пойдем сейчас и скажем!
И тут Сережа ее удивил.
— Ничего мы не скажем! — Он крепко держал Маринку за руку. Но совсем не так, как вчера, а строго — чтоб она и единой мыслью не посмела ослушаться.
Маринке стало обидно:
— Чего ж ты, струсил?
Не время было сердиться и выяснять отношения.
— Марин, я тебе все расскажу. Но сейчас просто некогда. Сейчас надо только сказать, что ты меня видела в классе. И видела, что я там делал. Больше ни слова!
Они уже стояли на школьном дворе. Их уже могли видеть из окон шестого «А».
639
— Даю слово, я тебе все объясню!
Надо было или спокойно соглашаться, или строить из себя избалованную королеву.
Маринка больше привыкла исполнять королевские обязанности. Но ведь с ней что-то произошло вчера. И может быть, она даже стала другим человеком. Хотя лично я не очень верю в такие превращения. Просто человек часто сам не знает, каков он. Вот и Маринка — всю жизнь думала, что она избалованная королевка, а на самом деле оказалась верным товарищем!
— Ты согласна, Марин?
— Ладно. Пошли.
Дальше можно было бы рассказать, как оно все там произошло, как удивленно и с какой печалью раскрыл глаза Годенко, когда увидел «свидетеля».
В сердце Годенки вошла острая ледяная сосулька.
— Ты чего, Гриха? — тихо спросил Воскресенский.
— Ничего! — мужественно ответил Годенко.— Называется: убийство лысого в зарослях укропа...
А уж как прищурилась Таня...
И как шестой «А», который весь извелся от нервной скуки и уж двадцать раз с разом проклял преподобного Корму, как этот самый шестой «А» вдруг... Нет, эффект, произведенный появлением Сережи и Маринки, описать невозможно. Слишком была знаменита эта Коробкова М. Среди шестых и седьмых классов.
— Не бойся, Марин. Говори! — И больше ей Сережа помочь ничем не мог.
Ох, как она пожалела, что не воспользовалась неоднократно повторенным советом своего отца: всегда перед выступлением хорошенько подумать, что и как собираешься говорить.
Улыбнувшись жалкой улыбкой, она приступила к даче показаний. И, закончив, спросила — так робко, что потом готова была презирать себя всю жизнь:
— Мне теперь уйти?
Ей никто не ответил, потому, наверное, что сейчас никто не мог взять на себя роль главнокомандующего. И Маринка вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь, излишне старательная девочка. «Ну, я же должна была это сделать, я и сделала. Я обещала ведь... Я же... Мало ли! Что ж, человек разволноваться не может!» И потом ни с того ни с сего: «Если он мне сегодня не позвонит, я его убью!»
640
А Сережа в это время говорил:
— Даю классу слово, что деньги завтра будут здесь!
Таня Садовничья собралась было затеять новую склоку. И не смогла! Быть может, потому, что ей в голову пришли именно эти слова: «затеять склоку».
— А когда мы получим надлежащие объяснения? — спросила Серова и аж покраснела от таких слов.
— Вместе с деньгами!
И так у него это здорово получилось, что никто уж не смог ничего возразить.
Шестой «А», говоря по совести, устал. И хотелось есть. Сережа, отчасти сознательно, отчасти нечаянно, воспользовался этим. Он спросил у пострадавших:
— Вы можете подождать свои деньги до завтра?
Миронова только кивнула, а Тарасова Катька тихо
пролепетала:
— Я тогда скажу дома, что у меня их взяли на один день...
— Скажи,— кивнул Сережа.— Не бойся!
— А чего, по двадцать копеек-то уже не надо собирать? — спросил Тренин, который, как всякий не больно самостоятельный сверчок, вернулся на свой не больно самостоятельный шесток.
— Уже не надо! — ответил Сережа.
Герои начинают исчезать
Когда все спешат или, вернее, когда все рады уйти, скрыться бывает легко. Он сделал самую простую вещь — зашел в уборную. Услышал, как его класс недружной толпою спустился по лестнице. Известное такое состояние, когда ни с кем не хочется говорить, а только поскорей бы остаться одному.
Они как раз именно этого все и хотели, тридцать пять без вины виноватых.
Плохого они ничего не сделали. Почти ничего плохого, почти не сделали... Но вдруг почему-то им трудно стало смотреть друг на друга.
Таня Садовничья, одна из очень немногих, не чувствовала за собою вины. Но ей было как-то не по себе, ей было как-то странно и худо. Она поискала глазами Крамского. Может быть, он проскочил на улицу раньше? Саму Таню
21 Школьные годы. Выпуск IV 641
задержала в классе Миронова. Что-то там бессмысленное начала толковать про обыски.
Словно Таня мечтала кого-то обыскивать! Ее саму чуть не обыскали! И потом, она в принципе считала такой метод поголовного прочесывания карманов грязной работой.
Эдак каждый дурак найдет, каждый Тренин! Если б после преступления разрешалось обыскивать весь земной шар, тогда бы вообще не существовало никаких криминалистических проблем!
Она ответила Мироновой что-то довольно резкое, быстро спустилась в вестибюль. Крамского уже не было.
Подождать ее он даже не подумал. Ну, естественно!
Естественно... Да, зря она ухватилась за самсоновскую версию. Конечно же, Крамской ни при чем.
Ну и что? Все равно сейчас он должен был остаться. Еще неделю назад обязательно бы остался! Начал бы объяснять, доктор Ватсон... Хотя и обиделся.
А теперь просто отшвырнул ее одной жесткой репликой. А класс этот несчастный... Поразительно, как быстро они позабыли все ее заслуги. Подлость какая!
Или, может, ей все^таки стоило самой довести это дело? Ну и что, если не Алена виновата? Найти другого, бросить его на растерзание было бы тоже совсем неплохо. Но ей, видите ли, расхотелось, ее, видите ли, обида взяла, что она ошиблась. Глупо!
А Крамской продолжил. Крамскому было интересно. И теперь он бормочет им какое-то бессмысленное честное слово, и они слушаются. Неужели все дело в Крамском? Доктор Ватсон... Неужели Шерлок Холмс не мог бы существовать без своего недалекого помощника? Бред!
Таня уже пришла домой, уже разделась, уже разогрела себе обед, сготовленный вчера бабушкой. Она не хотела признаваться. Не хотела признавать свое поражение. Чувствовала, что все изменилось в плохую и странную сторону, а в чем дело, понять не могла.
А вот в чем дело, Таня... Когда у человека высокая цель, его победить очень трудно. И происки врагов — если такие есть — тебе кажутся случайными камешками на дороге. Споткнулся, потер ушибленное место и пошел дальше. У тебя ведь вон какая цель впереди — далекая вершина горы.
А с низкой целью почти обязательно в конце концов
642
потерпишь поражение... Кстати, что такое низкая цель? Низкая — это когда из любого дела стараешься извлечь для себя выгоду. И здесь обязательно найдутся ловкачи, которые сумеют тебя обскакать или подставить ножку.
Так получилось и с Таней. Она вроде бы за справедливость боролась, за правосудие, а на самом деле старалась прославиться и установить над шестым «А» свою власть. Но столкнулась с другими любителями того же самого. И оказалась у разбитого корыта.
Завтра, может быть, она опять что-то придумает. И опять вытолкнет свою личность на первое место. А там, глядишь, все повернется — вновь ее отшвырнут... И странно думать: неужели человек всю жизнь обречен на эту никчемную суетню? Причем такой умный и такой одаренный человек, как Таня?
Увы, неизвестно! Здесь мы расстанемся с Таней Садовничьей, и как дальше сложится ее судьба, судить не беремся. Можно только сказать, что пока она ничего не поняла и потому продолжала строить грандиозные свои мелкие планы и все думала, как бы ей половчее... Прощай, Таня...
А вот учительница Алена Робертовна, которая в данную минуту, сидя в своем любимом кресле за своим любимым столиком, заканчивала восстановление журнала, она поняла. И подумала: «А все равно я буду добиваться своего!» Как будто бы Танины слова, да? На самом деле, нет. Потому что «добиваться своего» было для Алены Робертовны — растить людей.
У кого-то самое главное в жизни — растить пшеницу твердых сортов, у кого-то — писать новые книги, у кого-то — прокладывать в тайге километры железной дороги. У нее было вот это... Вырастить как можно больше хороших, интеллигентных людей.
И поняла: не нужна ей придуманная строгость — это ведь не похоже на нее, на настоящую Алену Робертовну. Да и ребята в конце концов поймут, что перед ними лишь притворство и она что-то скрывает под своим «злым поведением».
А что ей, собственно, скрывать? Совершенно ей скрывать нечего! Потому что она не ищет выгод лично для себя. Ну только, может, одно: чтобы ребята ее любили.
А для этого никакая показная строгость тебе не пригодится. Для этого лишь нужно их побольше любить... Побольше, чем себя!
643
Прощайте, Алена Робертовна. И пусть бы вам удалось в жизни то, что вы задумали.
А Сережина бабушка, Елизавета Петровна, уже давным-давно поняла то, о чем мы сейчас толкуем, задолго до нашего с вами рождения. И многие годы так жила — стараясь не для себя, а для высокой цели.
Но теперь, когда она сделалась пенсионеркой и довольно-таки средней готовщицей обедов и завтраков, ей стало казаться, что она пережила сама себя и теперь существует попусту.
Однажды Елизавета Петровна подумала даже такую жестокую вещь: я, подумала она, живу после своей
смерти...
Но это, к счастью, было не так. И даже абсолютно не так. Те якобы не удавшиеся разговоры, которые бабушка заводила с Сережей, не исчезали в пространстве пустым эхом. Тут надо сказать, что настоящие слова вообще не пропадают — кому-то в душу они обязательно западут.
И то, что сейчас делал Сережа Крамской, он делал не только потому, что родился таким вот благородным человеком, а потому, что он был внуком Елизаветы Петровны Крамской.
До свидания, милая бабушка. И так жаль, что вас нельзя сейчас утешить, опять сидящую над своей статьей про учебник истории. Но может, вам все-таки Сережа кое-что расскажет?
Нет, не расскажет! А когда захочет это сделать, бабушкина жизнь окажется в прошлом...
Помните то наше «воспоминание о будущем»? Геолог Сергей Крамской сидит у костра... Единственное, что он сможет сделать,— напишет путаное письмо своей жене Марине Владимировне.
И она его поймет!
А это значит, что хорошие слова опять не пропадут даром.
Не потерять из виду
Сережа Крамской в эти минуты шел по пятам за Самсоновой. Так, конечно, только говорится: по пятам. Он шел в значительном отдалении, прячась то за углами, то за машинами, то за спинами людей.
644
Сперва Сережа не понял, с кем там Самсонова идет под руку, с какой девчонкой. Но потом ему удалось разглядеть: это была Тарасова Катя, у которой пропали пятнадцать рублей! И Сережа буквально глазам своим не поверил, и ему стало очень нехорошо на душе. И так-то не очень хорошо было, а теперь стало совсем скверно. Почему? Это вы узнаете чуть позже. Если только уже не догадались сами.
Они расстались наконец на уголке, перед самсоновским переулком. И Катя эта пошла — понурая и скучная. И.было ясно, как она страшилась говорить родителям про те пятнадцать рублей... Да и всякий бы испугался!
На свете бывают разные люди. Но бывают такие вот, особенно невезучие.
Того, скажем, мальчишку судьба особым умом не наградила, а он зато в футболе первый человек. Ему эти ваши математические способности и на фиг не нужны, когда он так волшебно обведет двух защитников и весь стадион замрет, словно влюбленная девчонка.
А вот этот паренек и по математике не очень, и в секцию его не принимают за средний рост и покатые плечи... Зато к нему все окрестные кошки так и липнут! А все окрестные собаки ему лапу подают, хотя до этого выглядели абсолютно неучеными.
Но бывают такие люди, в которых — куда ни сунься — ничего, буквально ничего выдающегося и даже просто стоящего нету. Им очень трудно бывает найти свое счастье в жизни. И вот Катя Тарасова как раз именно к таким и относилась.
Жила она с сосредоточенным, редко улыбающимся, некрасивым и бледноватым лицом. И глаза у нее постоянно были такие, словно несчастья, которые еще случатся с нею только завтра или даже послезавтра, случились уже сегодня.
В начале прошлого года она прилепилась к самостоятельной и главной Лиде Самсоновой. Так и жила. И вроде даже стала поуверенней. Но выражение глаз своих несчастных потерять не сумела!
И вот дождалась: пришла беда, отворяй ворота!
Она шла, Катя Тарасова, среди низких туч и мокрого асфальта. На том мы и расстаемся с нею — почти совсем и не встретившись! И что пожелать ей? Ох, не знаю. Ох, не знаю! Везения, что ли? Да больно это непонятная штука...
645
Лучше давайте обещаем друг другу относиться к таким людям помягче, Им трудно живется, и мы их давайте поддерживать, А таких людей нам в жизни встретится не один и не два,,.
Сережа вынужден был ждать, пока скроется из виду Тарасова. И подбежал к углу переулка, где жила Самсонова, в тот самый последний момент, когда Лида уже бралась за ручку двери своего парадного — удача: ведь Сережа лишь весьма приблизительно знал, где она живет.
Он добежал до парадного, когда Лида выходила цз лифта на своем этаже. А что за этаж? Однако в новых домах, где лифт ходит в глухой, закрытой железом шахте, снизу никак не узнаешь, где же он там притаился.
Значит, ему ничего не оставалось, как только бежать изо всей силы вверх по лестнице и молить судьбу, чтобы за это время никто не вошел в подъезд и снизу не нажал кнопку.
А почему, собственно, Сережа должен был молить судьбу? Ведь много проще было бы сказать перед классом:
«А Коробкова Марина видела, как Лида...»
И выложить еще кое-какие, уже свои собственные, наблюдения и выводы... Однако он бежал. Он не был Таней Садовничьей и не стремился к низким целям: сегодня свести счеты с растерявшимся врагом, завтра выдвинуться в известные всему этажу детективы.
У него была другая цель — установить справедливость. А для этого требовалось свергнуть несправедливость.
Но и саму несправедливость надо свергать справедливо — об этом Сережа Крамской уже знал. Так он и действовал.
Ему опять повезло. Пока он мчался, лифт никто не вызвал, и таким образом Сережа узнал, что Самсонова живет на шестом этаже.
Здесь было три двери. А надо заметить, что в этом новом московском районе дома были очень похожие, а лестничные площадки — так просто родные сестры. И если б Сережу каким-нибудь образом привели сюда с закрытыми глазами, то он лишь с большим трудом смог бы узнать, что это не его собственные площадка и дверь. Или что это не площадка, где живет Алена Робертовна. Или что это не Танина лестничная площадка.
646
Теперь он решал, в какую дверь ему позвонить: в как бы Аленину, в как бы свою или в как бы Танину... Так вышло, что они все трое жили в «разных» дверях: Сережа в левой, Алена Робертовна в средней, а Таня в правой.
Сережа постарался прислушаться, но не по-настоящему, а только одним вниманием: не подскажет ли ему интуиция, в какую же из дверей надо позвонить?
Но все было глухо, и ниоткуда биотоки к нему не приходили.
Тогда он подумал: «Только не в «моей». И не в «Але- нйной»... Да! Значит, она в «Садовничьей» живет двери. Значит, в «Садовничьей».
И потом зачем-то позвонил в «свою».
Страшная сцена
И все-таки есть на свете биотоки! И рождаются в нас ни на чем не основанные предчувствия. Реже счастливые, чаще предчувствия беды.
Лида Самсонова едва успела снять пальто, сапоги и теперь, став на колени, шарила под диваном, где, по ее понятию, должны были обитать тапочки, когда раздался этот звонок в дверь. Едва слышимый, потому что из кухни летело торопливое и громкое тарахтение материной машинки, а также голос певицы из радиоприемника, которая подробно объясняла, почему плохо ходить по морозу в неподшитых и старых валенках.
Лида чувствовала ко всему происходящему странную ненависть и отвращение — ко всему! И к исчезнувшим тапочкам, и к певице крикливой, и к стуку машинки, и к этому мерзкому вкрадчивому звонку.
И когда она сейчас расставалась с мымрой Тарасовой, Лиде непреодолимо хотелось сделать ей больно — толкнуть, например, чтоб она шваркнулась о фонарный столб.
В душе ее кипели страх и ледяная тоска. Но казались Лиде отвращением и ненавистью. Хотелось крикнуть всему на свеге: «А идите вы... куда подальше!»
Звонок брякнул снова — тихий, короткий. Сквозь все шумы Лида услышала его, будто он предназначался только ей, Самсоновой Лидии. Страх, пузырясь, поблескивая нечистыми, как из лужи, ледяшками, заполнил всю Лиду, подступил к самому горлу.
647
Теперь она поняла, почему в некоторых фильмах преступники не сдаются и стреляют до последнего. Но ведь она была не в фильме. Перешагнув отчаяние, взяла себя в руки. Спокойно! Пусть откроет мать... А ее дома нету.
Но тут же поднялась, так и не найдя тапки. В одних колготках, то есть совершенно бесшумно, подбежала к двери.
Если опасность, лучше идти прямо на нее. Потому что от опасности, как успела убедиться Лида в свои командирские тринадцать лет, все равно не уйти. И чем дальше от нее прячешься, тем тебе же потом хуже.
Это как с зубами: чуть нащупал языком дырочку, сразу беги к врачу! А чем длиннее будешь тянуть резину трусости, тем после выйдет больнее!
И Лида Самсонова шла открывать, точно зная по биотокам, которые щекотали ей душу, что за дверью ждет беда.
Это, между прочим, нам только кажется, что мы выбираем в старосты кого попало — лишь бы скорей проголосовать да по домам. То есть внешне оно именно так и выглядит. На самом же деле ничего подобного! Почему-то старостами и председателями оказываются именно те люди, которые выделяются, которых мы выбрали бы, если б сидели долго и вдумчиво, а потом бы%еще затеяли тайное голосование.
Да, кстати, приглядитесь: вообще нет такой должности в классе, которая попала бы случайному человеку. И санитаркой становится (где еще остались санитарки) самая чистюля, а цветы поливает обязательно самая добрая девочка.
Лида Самсонова бесшумно подбежала к двери, заглянула в глазок. А вернее, заглянула в глаза опасности.
За дверью стоял Крамской. Выражение его лица понять было невозможно.
Дверная подсматривалка устроена так, что человек, который стоит на лестничной площадке, не знает, глядите вы на него или нет. Но и вы за это не можете как следует его рассмотреть.
А всс-таки у Лиды отлегло от сердца: Крамской — это... Да он и есть Крамской!
Однако и не очень у нее отлегло.
Она вспомнила несколько его взглядов, когда сегодня в классе начали вести следствие.
648
И потом — она его топила! Нарочно топила, хотя сама же и послала за портфелем.
И все-таки отлегло! Потому что она Крамскому нравилась.
Раньше считалось, что симпатичные девчонки ни на что больше не годятся, как только на писание дурацких записочек, на хождение по свиданьям и тому подобное.
Теперь все по-другому. Часто красота нужна девчонкам для дела — старостой вот, например, стать. Или председателем совета отряда. А посудите сами: идет сдача рапортов на дружинной линейке, и от шестого «А» выходит красивая председательница, от шестого «Б» красивая, а от шестого «В», например, какая-нибудь страшненькая... Тут и объяснять ничего не надо!
Во все это твердо верила Лида и потому, кстати, всерьез никогда не боялась Садовничьей, которая была значительно менее красивой... Так она считала.
Пока Лида смотрела в глазок, прошло какое-то, и быть может немалое, время. Сережа Крамской вдруг повернулся к другой двери. Тут Лида догадалась: он не знает, где именно она живет.
А как этаж определил? Может, он и этаж как следует не знает?
Знает! Раз сюда попал, то знает.
Опять она отмела легкий путь прятанья от опасности. Не успел Крамской дотронуться до звонка «Алениной» двери, как щелкнул замок и Лида поспешно произнесла:
— Заходи, Крамской... Ты ко мне?
Ясно, к ней — к кому же еще. Но Лида это специально сказала. Так говорила старшая пионервожатая Светлана. К ней войдешь в пионерскую, она сидит одна. А все равно спросит: «Ты ко мне?» Получалось сразу более значительно: она вожатая, а ты просто пионерка.
Крамской пропустил мимо ушей ее хитроумную реплику. Вообще у него было такое лицо, что Лида снова испугалась.
— Привет,— он сказал.— Надо поговорить.
Нет, ничего хорошего ей ждать не приходилось.
Забыв, что она без туфель, без сапог, даже без домашних тапочек, а в одних только колготках, Лида пошла вперед. В кухне мать снова строчила на машинке.
Мать ее была портнихой, притом очень неплохой. И многие Лидины платья были сшиты именно ею. А потом
649
на воротничок или на рукав — в не особенно заметное место — пришивалась соответствующая этикетка, «лейбл». И вот вам готова фирменная тряпочка, которую привез якобы дядя, якобы из Финляндии. Хотя никакого такого дяди у нее не было.
Сейчас Лида испугалась, что ее стародавний секрет раскроется. Она, кстати, и домой к себе не любила приглашать в основном из-за этого.
Мать выглянула из кухни — в глазах усталость. Такая бывает у человека, когда ему приходится долго и пристально на что-то смотреть. Под глазами профессиональные «портнихинские» морщинки...
— Это ко мне, ко мне! — быстро сказала Лида, и мать исчезла.
А Лида вошла в комнату, закрыла дверь — теперь почти ничего уже слышно не будет. Повернулась к Сереже. Они стояли друг против друга, шагах примерно в трех. Как на дуэли, подумала Лида. И тотчас: что за чушь! Но почему- то она не могла заставить себя сесть и предложить сесть Крамскому. Было заметно, что она выше его и... так сказать, полнее.
— Самсонова...
— Да, Крамской?
— Самсонова! Я все про тебя знаю!
Она хотела сказать: «Все знаешь? Очень интересно. Ну, давай послушаем».
И не смогла произнести этих абсолютно самсоновских слов. Испуг ударил мягко и тяжело. У Лиды перехватило дыхание. И невольно она попятилась, сделала два шага назад. Ни к селу ни к городу почувствовала, как осень дует из незаклеенного окна.
Все-таки нашла в себе силы и выговорила, как прокаркала:
— Что все?
— Надо говорить?
Она пожала плечами, и как-то жалко это у нее вышло, как-то безнадежно. Лида поняла, что нисколько ему не нравится, что она совершенно беззащитна и что Крамской действительно знает все.
— Я вчера догадался, когда исследовал эти кусочки из журнала. А сегодня ты еще и проговорилась! Никто не видел их. А кто даже видел, не знал, что там полстраницы. А ты сказала при всех: «Полстраницы»! Помнишь?
Лида молчала.
650
— Но я еще раньше догадался. У Серовой по всем предметам хорошие отметки, только по биологии тройки. И ты выбрала именно эту страницу, биологическую!
— Почему же я, а не ты?
— А потому, что хотела сказать, что Алена Робертовна неправильно дала ей медаль!
— А может быть, не я. Мало ли в классе... которые за меня.
— Ты! Я краешки исследовал... под микроскопом — они разрезаны твоими ножницами. У всех на труде были нормальные ножницы, а у тебя полукруглые. Я заметил нечаянно. Да они и сейчас, наверно, в портфеле лежат?
Портфель, как назло, был прямо вот он — открывай да проводи экспертизу.
— Ну что? Достать их?
— Не надо.
— А семь рублей...
— Не я!
— Тебя видели! Коробкова Марина из шестого «Б». Только я ее просил не говорить при всех. Но если ты будешь сейчас отказываться...
Лида со страхом покачала головой.
— А про пятнадцать будешь отказываться? Дай их сюда.
Переставив несколько раз закоченевшие босые ноги, Лида оказалась рядом со своим портфелем и открыла его.
«Лучшая девочка в мире»
Подождите. Но как же так это все произошло?
Жила на свете девочка, в зоопарк любила ходить. Мама в ней души не чаяла. И бабушка тоже — пока жива была. Отца у нее не было — верно. Но ведь это... Мало ли у кого отца нет.
Целуя дочку на ночь, мама обязательно говорила: «Ты у меня самая лучшая девочка в мире!» А кому, скажите на милость, этого не говорят? Но мы все равно радуемся, когда слышим такие слова — как тут не обрадоваться!
Потом-то, конечно, понимаем — немного повзрослев,— что это просто мамина любовь говорит, а на самом деле... Ну чего уж там, какие уж мы «самые лучшие в мире». Есть и покрасивей, и поспособней...
651
А Лида вот Самсонова поверила! Ну или что-то в этом роде. Кто тут виноват? Мама? А сама разве ты не должна иметь голову на плечах?
Никаких между тем особенных способностей у нее не было. У других что-то есть, какие-нибудь там судомодельные кружки, художественные гимнастики. У нее ничего такого не наблюдалось. Кроме уверенности, что она лучшая девочка в мире.
Да, лучшая!
И Лида принялась стараться. Вот это уж не отнимешь: старалась, училась. И не то чтобы ей очень нравилось само учение. Но зато ей очень нравилось получать пятерки.
Ничего и никогда, (кроме пятерок!
Маминой гордостью. Вот кем она стала уже к середине первого класса. И однажды сказала (ну, конечно, не в первом — в классе третьем или в четвертом): «Ты мне должна помогать! Я не могу ходить в чем попало. Ты ведь знаешь, в какой школе я учусь и на каком я счету!»
Мама беспечно рассмеялась такой ее милой строгости.
А Лида действительно была на хорошем счету, и школа действительно была хорошая.
Рассмеялась мама, но дочкины слова услышала. И с тех пор стала Лида ходить в необыкновенных платьях. Только нашлепки на них были самые обыкновенйые — заграничные.
В четвертом классе у Лиды появилась первая в ее жизни «оруженосиха». Слово это зазвучало у них значительно позднее, а вот сама первая оруженосиха возникла уже в четвертом.
А за что она стала оруженосихой, эта Алена Веселова, за какие грехи? Очень просто: иногда ей давали особую жакеточку поносить, с оленями (а размеры-то у всех в четвертом классе примерно одинаковые, тем более для шерстяных .вещей).
И частенько давали списывать математику, так что Алена заметно подтянулась, чуть ли не стала третьей или четвертой ученицей. И другая Алена — Робертовна — сильно хвалила обеих подруг.
Однажды Веселова сказала:
— Ну вот чего ты хочешь? Вот скажи! Вот я все для тебя сделаю!..
Это был тихий вечерний расслабленный час. И хотелось
652
чего-то необыкновенного, а может, и немного дурацкого.
— А вот говори, что я самая красивая... Будешь?
Это ведь трудно для девчонок! Однако Алена Веселова
только засмеялась в ответ:
— Конечно, буду!
И тогда они засмеялись вместе, словно задумали общую тайну. И даже обнялись.
Вскоре Алена Веселова переехала в другой район и стала учиться в другой школе. И учителя в той другой школе удивлялись и поругивали учителей из этой школы: как можно было такой нетвердой девочке ставить сплошные пятерки и четверки.
И сама Алена в полной мере хлебнула горя, а потом раскаяния за свое прежнее столь легкомысленное житье по подсказке.
Но в будущем шестом «А» дело-то уже было сделано. Лида Самсонова стала самой красивой девочкой класса. Да и куда было деваться: отличница, учителя везде ее стараются выдвинуть. На любое мероприятие, в любой поход, в любой театр она так одевается, что либо носи темные очки, либо ослепнешь!
Никто уже Веселовой той почти не помнил. И напрочь забылось, что именно она пустила разговоры о Лидиной красоте. Да и сама Лида эту историю запамятовала. Лишь невольно сердилась, когда где-то поблизости появлялась новая девочка, конкурентка!
И вот я думаю, ну неужели преступление начинается с такой малости? Не верится!
А с чего же оно начинается, скажите?.. С этого и начинается!
В четвертом классе, словно на смену Алене Веселовой, пришла Серова Лена. Она была девочка самостоятельная, в себе уверенная.
Существует такая поговорка: что, мол, в чужой монастырь не ходят со своим уставом. По-простому говоря, это значит вот что: если ты пришел в новую компанию, то присмотрись и не устанавливай здесь своих законов, а постарайся жить по законам уже существующим.
Серова признавать это правило не собиралась. Да и «устав самсоновского монастыря» ей не казался правильным.
— Чего, эта Лида-жирная у вас красивой считается? Ну я не знаю!
Недолго ее реплика оставалась малоизвестной, очень
653
недолго! От девчонки к девчонке. От девчонок к мальчишкам...
— Если ты, Серова, завидуешь,— прищурив и без того маленькие глазки, сказала Катя Тарасова,— если завидуешь, то так* и надо говорить.
И началось! Не важно, что там ответила Лена. Но в классе очень скоро образовалось две «команды». Пошли всевозможные «спортивные мероприятия»...
Однако почему же так быстро и легко развалилась самсоновская империя? Да потому, что многим поднадоело преклоняться перед этой «Лидой-преподобной»... г
А другим вот нисколько не надоело.
«А почему? — говорили они.— Самсонова — отличная староста, своя, проверенная. Красивая! Уж не ваша вы- скочка-серая-Леночка».
И пошло-поехало, разделился класс. А бывший новичок Лена Серова благодаря этому выделилась. Даже стала почти вровень с Самсоновой!
Лиду, например, выбирают старостой... Ее испокон века выбирали старостой. А Лену тогда выбирают председателем совета отряда.
Лида хмурит брови и думает: «Ну и пусть, я-то главней!» (В начале четвертого класса еще не все были пионерами.) Но очень быстро две командирши сравнялись «по главности», потому что весь класс стал пионерским.
И собственно говоря, мы пришли в эту историю как раз тогда, когда силы Самсоновой и Серовой были равны.
Так сказать, по традиции (раз уж Самсонова считается красивой) стали красивой считать и Серову. И сама Серова привыкла к этому... считанию.
Но в одном Лена никогда не могла бы сравниться с Лидой — в учении!
Для простого человеческого взгляда это было бы не так уж и заметно. Да ведь речь-то идет об особом взгляде, о школьном. А здесь между учеником, имеющим круглые пятерки, и учеником, у которого в четверти затесалась парочка четверок... Разница между ними, по школьным меркам, большая! Да вы сами знаете.
А особенно если эти два ученика... ученицы!
В конце прошлого года в школе был педсовет, на котором речь шла об успеваемости. На педсоветах об этом часто шла речь. Ведь в основном, бывало, именно по успеваемости судили о работе учителей: плохая успеваемость — плохие ученики — плохая работа.
654
Но дело даже не только в строгом оке начальства. Учителя чаще всего — люди честные и старательные (такие, между прочим, они и в этой книжке). И это только кажется, что какая-нибудь Татьяна Николлевна ставит нам двойку с особым удовольствием и ехидной усмешкой. Вовсе нет! Она ставит, а ей стыдно. Значит, плохо, думает, она их учит. Надо что-то делать, надо стараться, изобретать.
Об этом самом говорила на педсовете и завуч Людмила Ивановна: «Надо наконец заинтересовать учащихся, понимаете? Надо, чтоб они учились весело, а может быть, и чуть азартно».
Тогда-то в романтическом уме Алены Робертовны и родилась идея ежемесячно вручать лучшему ученику переходящую золотую медаль.
Преступление
Как говорится: гладко было на бумаге, да забыли про овраги! Никакой борьбы не получалось. Чего там бороться и как там бороться, когда Самсонова все равно лучшая во веки веков. Это и учителя знали, и директор, и завуч. И даже чуть ли не в соседних школах.
Годенко однажды на сборе отряда прокричал, что надо бы установить Кубок прогресса, как в футболе: кто по сравнению с прошлым месяцем больше всех подтянулся, тому и давать. Но его не услышали, потому что решили — это просто антисамсоновские штуки.
Лида ходила с медалью-«л и далью» в марте, апреле и мае. И в сентябре она ходила, сверкая золотом,— как чемпионка прошлого учебного года. Вот тут-то Алена Робертовна и решила на октябрь отдать медаль Серовой: чтобы все-таки была борьба.
А медаль-то уж к тому времени стала не еще одним пунктом в борьбе за успеваемость, а еще одним пунктом в борьбе «команд». И невольно это получился сильнейший удар по самсоновскому лагерю. По самой Самсоновой!
Причем удар несправедливый...
Ведь у Серовой действительно биология была далеко не на высшем уровне!
Выходит, в Лидином преступлении и Алена Робертовна чем-то виновата? Ну допустим. А ты-то сама имей голову на плечах и совесть в груди.
655
Нет, она не имела. Злость и обида разгуливали по ее душе, как по собственному дому.
Однажды ей зачем-то надо было пойти в учительскую. Историчка забыла на доске карту древних государств, Лида, как староста, решила эти государства снести на место.
И вот момент, миг: она вошла — в учительской никого. На столе несколько журналов, в том числе и шестого «А».
Страх кричал ей: «Беги отсюда!» Э, нет! Лида уже в течение нескольких дней с особой холодностью смотрела на Алену Робертовну. А Серова скользила по школе, сверкая медалью.
Э, нет! Лида схватила журнал, сунула его под фартук и вышла из учительской.
Зачем она это сделала? Наверно, в какой-то книжке, а может, телепостановке ей попался такой же сюжет.
Но все-таки зачем? Сама не знала. Только крутилось в голове: назло. Назло!
Зашла в туалет и быстро сунула журнал за батарею. Получилось причем довольно-таки заметно. Но Лида не стала поправлять, решила: пусть заметят, нормально. Алене все равно влетит: что ж ты за классный руководитель, когда твои журналы валяются по туалетам.
Началась вся эта история — которой мы уже были свидетелями. А журнал продолжал лежать за батареей. И никто его почему-то не замечал. Лида это проверила, когда Алена Робертовна послала ее в учительскую за журналом — ну вы, наверное, помните: сперва послала Годен- ко, а потом ее. А потом...
Лида решила: лучше журнал забрать, а то найдут еще. Станут докапываться, припомнят про медаль, припомнят, как она однажды вызвалась отнести историческую карту.
Наверное, это все было глупостью и трусостью. Но ведь у страха глаза велики, а у преступления и того больше.
И она унесла журнал домой. Все! Нету его! Исчез неизвестно куда... Положила в свой письменный стол.
А тут вдруг Садовничья выскочила со своим тихоней — Крамским. Она бы эту парочку очень легко убрала — при ее огромном авторитете. Но Лида боялась. И потому затихла.
А ребята уже увлеченно мчались по крутой детективной дорожке.
Все больше обвинений ложилось на Алену. На ни в чем не повинную Алену... Но Лида-то слишком хорошо знала,
656
что все не так, что все это вранье до последнего слова. Хоть и ненарочное, а вранье.
В классах встречаются такие люди: невзлюбят какого-нибудь взрослого и начинают его доводить. Чаще это мальчишки. А у них вот Садовничья объявилась со своими шерлок-холмсовыми штуками.
И главное, Алена как-то не умела за себя заступиться. И каждый день с ней что-то случалось.
Тогда Лида решила пожалеть ее. Получила — хватит... Ведь в этом тоже есть своя особая радость — прощать обессилевшего врага.
И Садовничью можно усмирить одним ударом. Что ж ты, милая? Вела-вела свое расследование, а оказалась полная чушь...
Алену, конечно, о расследовании надо поставить в известность.
Она разработала план (собственно говоря, воспользовавшись методами той же Садовничьей). Только в холодном своем азарте вырезала не простые полстранички, а со смыслом: вот, мол, какая ваша Серова выдающаяся медалистка! То есть решила сразу убить двух зайцев (что, как известно из поговорки, не удается никогда).
Но под конец испугалась. Страх в эти дни вообще был ее главным советчиком. И решила подстраховаться — затеяла эту историю с головной болью и с посыланием Крамского за портфелем. Она бы любого могла послать, но отправила Корму — чтобы, в случае чего, еще раз ударить по Садовничьей: вот они, твои помощнички! Да и Крамского заодно проучить, чтобы не прыгал!
Сережа принес портфель. Она при всех удивилась, почему это, мол, так долго. А потом пошла в совершенно пустой и совершенно беззащитный сейчас класс.
Миронову она выбрала тоже специально. Миронова известная серовская оруженосиха. И если б стали разбираться с клочками, Миронова бы сразу заметила фамилию своей начальницы. А там уж и слепой увидит, что у Серовой по биологии тройка да хилые четверки.
Клочки положить в портфель — так она решила заранее. Но когда уже села за мироновскую парту, вдруг сообразила: да мало-ли в портфелях хранится всякого мусора. Мирониха эти бумажки, может быть, вообще не заметит! Она быстро раскрыла тот маленький кармашек, где обычно школьницы хранят кошельки. Раскрыла его, радуясь своей идее: «В кошельке-то она обязательно...»
657
А пальцы уже коснулись денег... «Возьми, не бойся. Это для дела. Пусть попрыгают, поищут. А потом подкинешь, чтоб все поняли, какие они полные дураки!»
В коридоре действительно вильнуло хвостом какое-то платье... И теперь (после всего) она сообразила: да, это была Коробкова — лисица несчастная!
Но тогда она летела домой и прямо слышала, как потяжелел ее портфель от чужих денег, а душа лопалась от горького и сладкого волнения — именно такого, каким, наверное, бывает вкус отравы.
Лиде невозможно было признаться себе в этом, но все время она думала, как истратит найденные в кошельке рубли.
Пришла домой — матери нет. Быстро переоделась: в неотличимые от заграничных джинсы и джинсовую курточку, в рубашку, перешитую матерью из своего старого платья — теперь, через пятнадцать лет, опять эта клетка стала модной. Надела кожаное пальто — действительно очень дорогое, которое Лида стеснялась надевать, потому что такого не было ни у кого. Взяла с подзеркальника материну губную помаду... Краситься не стала: могли увидеть во дворе.
Выбежала, несколько минут ждала троллейбус. А казалось, ждет целый час. Проехала три,остановки, никем не замеченная, и вошла в кафе. Как можно уверенней отдала раздевальщику свое драгоценное пальто, нырнула в туалет и, заперевшись в кабинке, покрасила губы. Теперь уж никто не различит, тринадцать ей, пятнадцать или уже шестнадцать.
В крохотном кругленьком зеркальце она увидела свои отчаянные синие глаза, потом — накрашенные губы. Получилось именно так, как она хотела, как она несколько раз тренировалась, спрятавшись в ванной: и не очень ярко и в то же время заметно, что они накрашены.
Мало кому, в общем-то, приходило в голову сидеть в кафе в такую рань. Обедов тут не давали, музыку заводили часов с шести вечера.
А сейчас было только два пятнадцать.
Стараясь пружинно покачиваться, она прошла через зал, мимо компании, кажется, студентов, у которых стол был заставлен чем-то, что ресторанные правила велят пить через соломинку.
Села... Медленно к ней подошел официант — чуть прищурившись, чуть улыбнувшись. Но официантам много чего
658
приходится повидать на своем веку, в том числе и посе- тительниц-девчонок.
— Кофе большую чашку и два пирожных! — Эти слова были у нее заранее. Она заказала ровно половину того, что заказывала ее мать, когда они приходили сюда примерно год назад.
— И все?
Заготовленные слова кончились. А она не знала, как нужно разговаривать с официантами: дерзить или, наоборот, улыбаться. И она покраснела.
Официант ушел, Лида осталась за пустым столом, посредине которого стояла грязная рюмка с крохами чего-то недопитого. Лида незаметно пододвинула эту рюмку к себе... Никто не обращал на нее внимания.
Она сама не знала, зачем пришла сюда. Несколько раз ей хотелось проверить, на месте ли деньги. И не хотелось лишний раз дотрагиваться до них.
Ничего похожего на радость или на удовольствие она не испытывала, только нервничала и боялась, что на шее появятся красные пятна — это у нее случалось от нервов, и поэтому ей всегда приходилось быть спокойной.
Вдруг из-за спины ее выплыл кофе, а с другой стороны тарелка с двумя эклерами. Прямо над своим ухом она услышала тихий голос:
— Пожалуйста...
И опять она не знала, благодарят официантов или не благодарят.
Отпила из чашки большой глоток. Кофе оказался жутко горячий. С огромным трудом Лида проглотила его. Сидела с обожженным языком, чувствуя выступившие на глазах слезы.
Однажды по пути в зоопарк они с матерью зашли сделать примерку: мать сама ездила по клиентам, чтобы соседи не говорили лишнего.
Квартира оказалась большая, захламленная множеством вещей, небрежно брошенной одеждой. И было ясно, что новую юбку, которую шила для клиентки мать, постигнет та же участь — валяться где-нибудь в общем ворохе.
На неубранной и, как показалось Лиде, не очень чистой постели спала собака. Но это была человеческая постель, и укрыта собака была краем человеческого одеяла. И она думала во сне, что это и есть верх счастья и блаженства.
659
Так, усмехнувшись, сказала Лидина мать, когда они вышли.
Теперь Лида, сидящая со своим кофе и со своими пирожными, почему-то вспомнила эту старую картинку второсортного собачьего счастья... Ей захотелось уйти. Но как-то глупо было бросать несъеденные пирожные. И потом, она не расплатилась.
Вдруг от компании студентов отделился один, пошел, глядя прямо на Лиду, улыбнулся и сел к ней за стол.
— Девушка, только вы извините меня... Вы кого-нибудь ждете?
— Нет. Я просто завтракаю!
— Ого! — он посмотрел на часы.— И часто вы так завтракаете?
— Иногда...
Просто чудо, как она сумела взять этот холодноватый тон. И как сумела найти в себе это спокойствие. Она опять отпила кофе, теперь уже остывшего, откусила пирожное и с радостью заметила, что на краешке его осталось немного помады. Положила пирожное так, чтобы и студент мог видеть эту помаду.
— А когда вы появитесь тут в следующий раз?
— Еще не решила.— Она повернула голову и увидела, что официант смотрит на нее. Лида кивнула. Официант поднялся и пошел. Лида еще раз откусила пирожное.
— А вы не могли бы появиться здесь завтра? Часиков в семь!
Лида спокойно вынула деньги, протянула официанту трешку. Официант так же спокойно дал ей рубль сдачи... А все стоило — ну никак не больше чем рубль двадцать!
«Ничего,— сказала она себе,— привыкай...» Кивнула официанту.
— Спасибо,— сказал тот и отошел.
— Вы не могли бы... ровно в семь часов. Я вас встречу у входа.
— Я подумаю.
Она поднялась, и студент тоже встал вместе с нею. Теперь было заметно, что он — здоровый парень, восемнадцатилетний первокурсник, а Лида всего лишь девчонка... А может, и не было заметно: из-за этой акселерации все так перепуталось!
Лида сперва подумала: не протянуть ли ему руку, но вовремя вспомнила, что на ее школьных, кое-где даже обкусанных ногтях нет и следов м*аникюра.
660
— Я здесь буду проезжать мимо... И, возможно, зайду.
— А вас как зовут, извините?
— Лидия,— на всякий случай она сунула руки в карманы джинсиков.
— Надо же! Мое любимое вино... А меня Саша.
— До свидания, Саша! — И быстро прошла сквозь зал. Студент не посмел пойти за нею.
И тут Лида заметила, что, наверное, это студент техникума, и ему самому лет пятнадцать!
Надела свое прекрасное пальто (которыми, впрочем, набита сейчас вся Москва). Еще раз, уже по улице, прошла мимо стеклянной стены, за которой сидела «ее компания». Студент Саша помахал ей и стал пальцем писать на стекле что-то невидимое.
Лида улыбнулась, и... Этого она не сделала бы никогда в жизни. Но тут сделала! Она села в такси: машины стояли у края тротуара длинным хвостом. «Ну теперь он уж точно подумает, что я настоящая продавщица или парик¬
махерша!»
— Куда поедем? — повернулся к ней таксист, седой старый дядька лет пятидесяти. Еще раз глянул на Лиду — его-то не могла обмануть никакая акселерация.—
А деньги у тебя есть?
Но, впрочем, тут же запустил мотор.
— Едьте прямо по этой улице. Я вам тогда скажу.
— Ну, «едьте» так «едьте»...— И больше не произнес ни слова.
Когда на счетчике набило девяносто копеек, Лида сказала, чтоб он остановился, отдала рубль и вы¬
шла.
— Сдачу возьми!
Она не обернулась, не ответила и через секунду услышала, как машина дала газ и укатила... Ничего-ничего, привыкай!
А потом вдруг поправилась: привыкнут!
Она, кажется, даже усмехнулась, так подумав... И вдруг усмешка эта замерзла на ее губах. Лида кое-что поняла. И она испугалась. Она испугалась сама себя!
Она поняла, что ей опять необходимы деньги. То, что она пойдет завтра к семи часам, Лида решила сразу. Дело не в том, что ей очень нравится этот Саша. Нет, как раз не очень... С семейкой прыщей на лбу и слишком мягким блестящим носом. Но хотелось пойти туда, сидеть в клубах дыма, с этой соломинкой во рту... И было противно... Или
661
только страшно? Если только страшно, тогда ерунда, она вытерпит.
Нужны были деньги.
Она, естественно, знала: платить должен мужчина. Да мало ли что должен. С деньгами уверенней. Она, может, потому так и разговаривала прекрасно, что могла в любую минуту спокойно расплатиться и уйти.
И официант ее запомнил. Целых восемьдесят копеек дала сверху — конечно, запомнит! «Сверху дали» — так говорит ее мать, когда ей везет с клиенткой.
Утром в школе она думала про деньги. Она не знала, сколько ей нужно, не могла представить себе никакую сумму. Просто деньги — чтоб они лежали в кармане и хрустели, когда их трогаешь. Стыд и ужас были загнаны в самое подземелье души.
Про вчерашние семь рублей в классе молчали, как будто вообще ничего не случилось... А ведь Миронова просто могла подумать, что потеряла их! Теперь Лида очень жалела, зачем она сунула в кошелек эти клочки.
Вдруг оруженосиха Тарасова сказала, ч^о собирается после уроков идти за резиновыми сапожками — себе и маме. Тарасова надеялась заманить с собой и ненаглядную Лиду.
— Ты когда идешь?
— Прямо после шестого. Он же рядом здесь, обувной.
Значит, деньги у нее с собой. Рублей десять. Даже
больше — на две пары... Рублей пятнадцать!
На физике, когда Тарасову вызвали отвечать, Лида трясущимися руками нащупала в маленьком кармашке ее портфеля деньги. Казалось, они хрустнули на весь класс. Лида замерла в глупой, какой-то скособоченной позе. Но всем было не до нее, даже Садовничьей, даже Крамскому — все-таки физика на дворе, а не какое-нибудь рисование.
Потом две перемены она таскала Тарасову по школе — якобы в поисках одного восьмиклассника. И даже чуть не пропустила тот момент, когда Крамской начал писать свое объявление. Потом была география — как на пытке.
Потом началась и сама пытка. Следствие!
Ужас держал ее за горло, не отпуская ни на секунду. Она даже привыкла жить с этим ужасом. Рядом Тарасова лопотала что-то... Вдруг она сунулась за деньгами! И в классе произошел взрыв.
662
Взрыв тишины.
И после начали спорить про обыскивание!
Тогда она воспользовалась своей страховкой — начала валить на Крамского.
Тут они переглянулись с Садовничьей, и ей показалось, что Садовничья тоже знает: Крамской ни при чем. Но почему-то промолчала.
От этой ответной подлости Лиде даже будто стало легче. Вот только бы сейчас... Вот только сейчас спасется, и больше никогда!
И пронесло! После еще многих пыток страха Лида шла домой. Ей было холодно. Ни о чем не хотелось думать. Рядом ковыляла Тарасова.
И это была уже новая подлость — идти под ручку с человеком, которого ты обокрала!
А что делать, говорила она себе, иначе заподозрят.
Она не знала той беспощадной истины, что одна подлость неминуемо рождает следующую.
— А я что? Я ничего,— шептала Лида,— сейчас уроки поделаю...
Ей хотелось думать, что она такая же, что ничуть она не изменилась: ученица, отличница. ' «Уроки поделаю...» И потом, когда Тарасова наконец убралась восвояси: «К семи успею!»
И, поднимаясь в лифте, уже придумала, как скажет матери, будто ей надо на секцию. И подумала, где спрячет спортивную сумку... Или даже можно с собой. Скажет им — соревнования!
А ведь еще вчера она почти с чистой совестью обещала себе: «Возьму эти семь, а потом обратно подкину...»
Здесь и раздался звонок в дверь. И за дверью стоял Крамской.
«Помиловать» и «казнить»
Итак, он сумел добиться: преступник сознался в своей вине, следствие успешно завершилось. Ну? И что же теперь?
Наступает время быть великодушным... Повинную голову меч не сечет! Ладно уж, ступай восвояси, баба-яга, да в другой раз не попадайся!
Но бывает, приходит час именно не быть великодушным. Не быть!
663
Все ли человек имеет право простить?.. И я знаю, многие сейчас подумают и скажут: да, все! Так уж мы воспитаны, так уж мы устроены. Нам стыдно смотреть в глаза изобличенному вору или предателю. Мы говорим: лежачего не бьют!
Такие весьма и весьма благородные слова... Но давай- те-ка разберемся, что это вообще значит — простить? А это значит сказать в душе своей: «Ладно уж, ничего такого страшного он не сделал!» То есть свою собственную душу приспособить, подравнять к душе того, кого надо прощать... Зачем? Да чтобы его поступок не казался тебе таким отвратительным, чтобы ты именно мог... простить.
И вот, выходит, из-за своей будто бы доброты ты начинаешь потом жить с переделанной, с ухудшенной душой. А это уже опасно!
Кажется, древние индусы считали, что душа передается из поколения в поколение, от человека к человеку, как эстафета, как, например, зажженный олимпийский факел — от бегуна к бегуну...
Теперь все мы, конечно, знаем, что это лишь легенда. Однако легенда красивая, над ней стоит задуматься. То самое, про что Пушкин однажды сказал: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
Ну ладно... Так вот, древние индусы считали, что души путешествуют во времени — из очень далеких веков и до нас! И значит, насколько же надо с ними осторожно обращаться, чтоб не повредить, чтобы не покалечить ее о душу какого-нибудь прохиндея или лгуна — не испортить жизнь еще даже не родившемуся человеку из далекого будущего.
И уже невозможно тебе существовать шаляй-валяй, раз ты в ответе перед теми, кто родится в две тысячи пятисотом, и перед теми, кто родится в трехтысячном году. И дальше и дальше...
Значит, нельзя прощать?
Да. По-настоящему плохое прощать нельзя!
Они стояли друг против друга: будто бы взрослая Лида Самсонова и будто бы мальчик Сережа Крамской. На столе лежали пятнадцать рублей. И еще трешник — из вчерашней недотраченной семерки. И еще классный журнал в зеленой обложке.
— Позови сюда свою мать! — сказал Сережа.
Самсонова, ни капли не готовясь к этому, вдруг заплакала.
664
Она действительно была заметно выше Сережи, она была кое в чем настоящая тетя. И никто в шестом «А» не видел, как она плачет. Пожалуй, и Лидина мать призабыла, как выглядят эти слезы.
Теперь Лида плакала, сама как будто бы открывая новое для себя чувство.
Плакала и отрицательно качала головой.
— Позови мать, Самсонова! Иначе будет хуже. Иначе я все расскажу в классе.
На самом деле он ничего не хотел говорить шестому «А». Ведь наказывать надо тоже не как попало.
Если орава оголтелых ребят начнет плясать на чьих-то косточках, из этого ничего хорошего не выйдет... Нет, Сережа Крамской совсем не хотел рассказывать в классе!
— Я не могу, Сереженька!
Но, словно почувствовав что-то — может быть, сердцем,— какую-то излишнюю тишину в комнате, где была дочь, Лидина мать открыла дверь и остановилась на пороге.
Она увидела плачущую Лиду. Это было для нее так необычно, что мать даже забыла наброситься на стоящего здесь мальчишку — наверное, каким-то образом виновника.
Она встретилась глазами с дочерью. С заплаканными глазами дочери. И вдруг Лида побежала к матери. Но не к матери, а мимо нее. Крикнула:
— Да пусти же ты!
И мать услышала, как она вбежала в ванную и закрыла дверь на щеколду.
А жизнь продолжалась себе, словно бы и не случилось никакой беды. Всяк занимался своим делом. Таня Садовничья хмурила брови и недоумевала. Алена, такая веселая и такая умиротворенная, писала в новом журнале последние строчки. «И все,— думала она,— и ничего больше нет. Истории этой конец, а новой жизни начало!»
Скоро ей позвонит один известный нам лысоватый человек, и она скажет ему с грустной, а на самом деле со счастливой улыбкой: «Да нет, не стоит, знаешь... И лучше этого не надо... Нет, ничего не случилось. Просто ни к чему... Да. Вот именно, прощай!»
А Маринка Коробкова сидит у телефона и шепчет: «Попробуй только не позвони. Я тебе так не позвоню! Вот если через десять минут не раздастся, я тебе тогда... Хуже будет, имей в виду...»
665
Отец выглянул из своего кабинета. Он закончил ту самую статью, у него было хорошее настроение, и он не прочь был пообщаться с дочерью. Например, спросить: чего это, мол, ты не делаешь уроки... Или что-нибудь в том же духе.
Но увидел Маринкино лицо, озадаченно подобрал губы и снова пропал в кабинете.
Да, всяк занимался своим делом. А Сережа Крамской жил, наверное, труднее всех на свете. Попробуйте-ка объяснить матери, что ее дочь...
Сережа положил Самсоновой странное, быть может, наказание. Но в сущности правильное! Самсонова должна была перестать быть Самсоновой — такой знаменитой, такой руководящей, такой авторитетной и такой якобы красивой. Пусть она все начинает заново. А там уж — как получится.
А как это можно — все начать заново? Уйти в другой класс, в другую школу — вот как. Потому Сережа и сказал Лиде: «Позови мать». А совсем не потому, что у него было такое уж великое желание посыпать чужие раны солью и перцем.
Мать еще попробовала защититься:
— А ты что? Ты можешь это доказать?
— Могу.
И мать сразу поняла, что может. И Лида недаром спряталась в ванной, захлопнувшись на щеколду.
— Через неделю каникулы начнутся. И вы... Ну, скажите, например, что переезжаете в другой дом...
— Уж я найду что сказать...— с досадой и тоской ответила мать.
Сережа взял со стола журнал, пятнадцать рублей, лежащие мятым комком. Потом он показал глазами на трешницу.
— Тут должно быть семь.
И мать вдруг особенно ясно почувствовала, что все это действительно случилось с ее дочерью, с ее Лидой... Что все это случилось с нею самой!
И от полной непоправимости своего горя мать опустилась на стул перед проклятой трешницей и громко зарыдала.
Сережа смотрел на горе, которое он причинил этой женщине. Этому дому. Ему было стыдно, горько. И он ни капельки не радовался ни своему детективному успеху, ни... вообще ничему на свете!
Тихо, словно он боялся нарушить этот громкий плач,
666
Сережа вышел в коридор, сунул журнал и деньги в портфель.
По лестнице он уже спустился к входной двери, когда его догнал лифт. Лидина мать протянула ему пятерку и две рублевки:
— Возьми!
Глаза ее были сухи, только блестели слишком ярко.
А ворованная трешница, значит, так и осталась лежать на столе.
Эпилог
Эта история произошла в 1983 году. А в 1992 состоится праздник пятилетия окончания школы бывшим шестым «А». Их район, прежде такой новый и голый, станет одним из самых зеленых в зеленой Москве. Они будут сидеть в Алениной квартире, в довольно-таки тесной комнате... Да и как ей быть просторной, когда здесь сгрудилось человек двадцать, если не больше.
Вот сидит Леночка Серова — симпатичная, как диктор телевидения, улыбаясь, говорит что-то Марине Крамской (ну да, бывшей Коробковой), говорит, а сама все поглядывает на молодого гиганта, который, с одной стороны, кандидат в мастера по толканию ядра, а с другой — лучший слесарь-сборщик завода. Такой вот оказался талант у Гришки Годенко. А Катя Тарасова работает закройщицей, а Ленька — тренер... Ээ! Да у каждого своя судьба. Но есть в них и что-то неуловимо общее — вот это вот самое, из-за чего они собрались тут все вместе... Они стараются не шуметь, чтобы не разбудить Аленину трехлетнюю дочку, которая спит в соседней комнате.
Они вспоминают, вспоминают. У каждого наготове своя история. Вот и Сергей Крамской — вдруг кладет на стол посреди чашек и рюмок... Что же он кладет-то?
Журнал в выцветшей зеленой обложке. Крупно выведено: 6 «А».
— Что это такое, Сергей Петрович? — шутливо спрашивает кто-то.
Их всех совсем недавно впервые стали называть по имени-отчеству. И теперь они не упускают случая...
— А помните,— говорит Сергей.— Ну, когда мы журнала лишились...
668
— Какого журнала, Серег? — басом спрашивает Годенко. Но смотрит почему-то на Марину.
— Да я ведь вообще в вашем классе не училась,— Маринка пожимает плечами.
— Ах да, правильно...
— Слушайте, а я помню! — кричит Серова Леночка.— Тут где-то страницы должно не хватать...
Алена удивленно глядит на Сергея, на свою уже давр ным-давно главную гордость. И не может произнести: «Неужели ты?..» Сережа ловит ее взгляд, хмурит брови, улыбается через силу.
— Тот, который...— он замолкает.— Среди нас его нет!
СОДЕРЖАНИЕ
B. Киселев
ДЕВОЧКА И ПТИЦЕЛЕТ 4
Ф. Искандер
НОЧЬ И ДЕНЬ ЧИКА 194
Г. Левинзон
ПРОЩАНИЕ С ДЕРБЕРВИЛЕМ, ИЛИ НЕОБЪЯСНИМЫЕ ПОСТУПКИ
@ Издательство «Детская литература», 1982
304
C. Иванов ЕГО СРЕДИ НАС НЕТ
@ Издательство «Детская литература», 1985
504
Литературно-художественное издание
ДЛЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Киселев Владимир Леонтьевич ДЕВОЧКА И ПТИЦЕЛЕТ
РОМАН
Искандер Фазиль Абдулович
НОЧЬ И ДЕНЬ ЧИКА
Левинзон Гавриил Александрович
ПРОЩАНИЕ С ДЕРБЕРВИЛЕМ,
ИЛИ НЕОБЪЯСНИМЫЕ ПОСТУПКИ
Иванов Сергей Анатольевич
ЕГО СРЕДИ НАС НЕТ
ПОВЕСТИ
Ответственный редактор О. Б. ТРЕТЬЯЧЕНКО Художественный редактор Г. Ф. ОРДЫНСКИЙ Технический редактор Е. П. КУДИЯРОВА Корректор Л. В. Савельева
ИБ № 1 1928
Сдано в набор 16.11.89. Подписано к печати 23.04.90. Формат 84Х 108'/яз. Бум. типогр. N9 1. Шрифт тайме. Печать высокая. Уел. печ. л. 35,28. Уел. кр.-отт. 35,28. Уч.-изд. л. 37.85.
Тираж 200 000 экз. (1-й завод 1 — 100 000 экз.). Заказ № 3505. Цена 2 р.
Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственною комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»
К ЧИТАТЕЛЯМ
Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.
Ш67 Школьные годы. Выпуск 4: Роман и повести/ Оформ. А. Савельев; Художн. Е. Медведев.— М.: Дет. лит., 1990.— 670 с.: ил.
ISBN 5—08—001585—3
В этот выпуск вошли роман В. Киселева «Девочка и птицелет» и повести Ф. Искандера «Ночь и день Чика», Г. Левинзона «Прощание с Дербервилем, или Необъяснимые поступки» и С. Иванова «Его среди нас нет». Все они — о жизни подростка в школе и семье, о его отношениях со сверстниками и родителями, о нравственном и гражданском становлении личности.
„ 4803010201—292 лл
Ш 332—90 ББК 84Р7
М101(03)-90