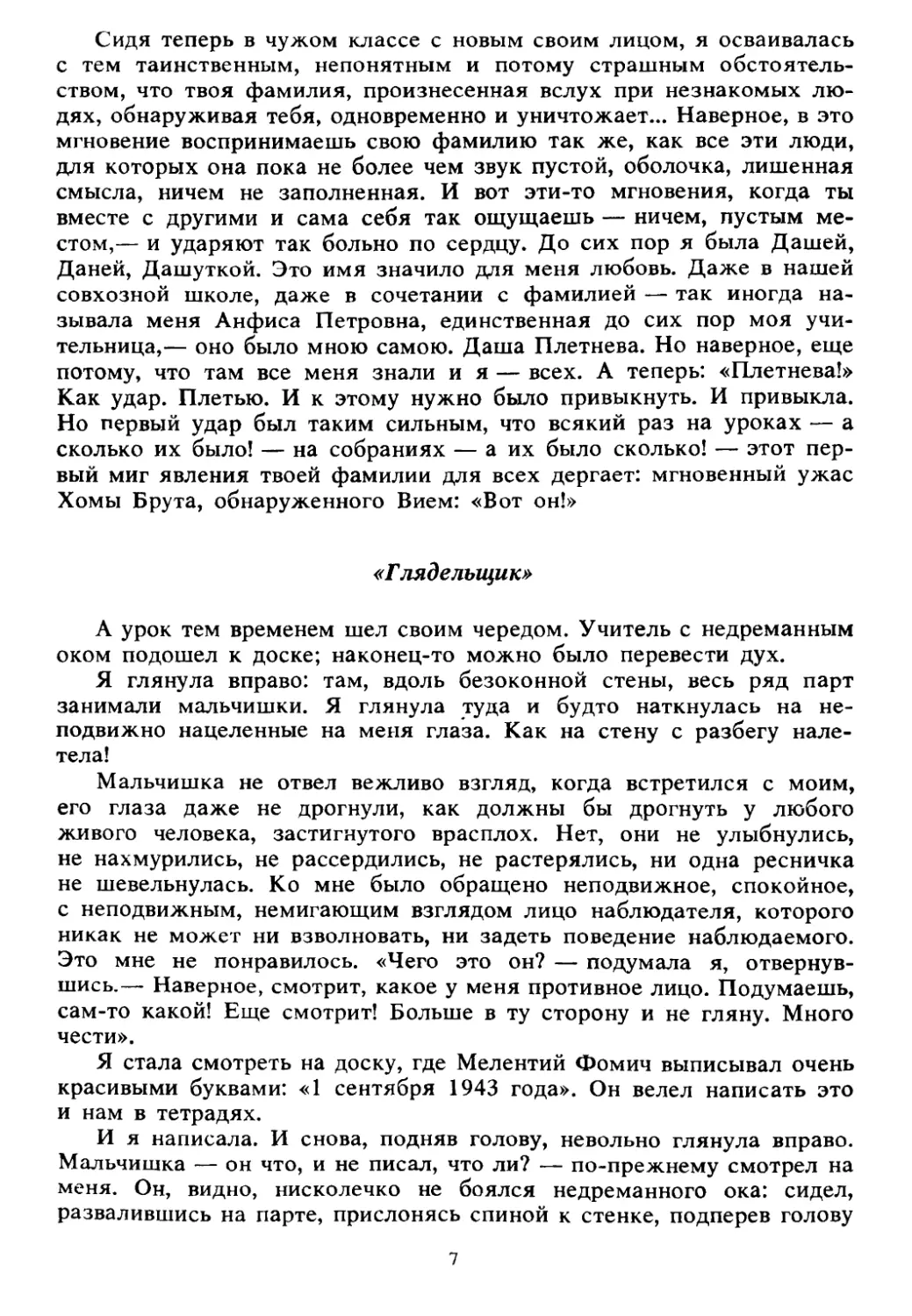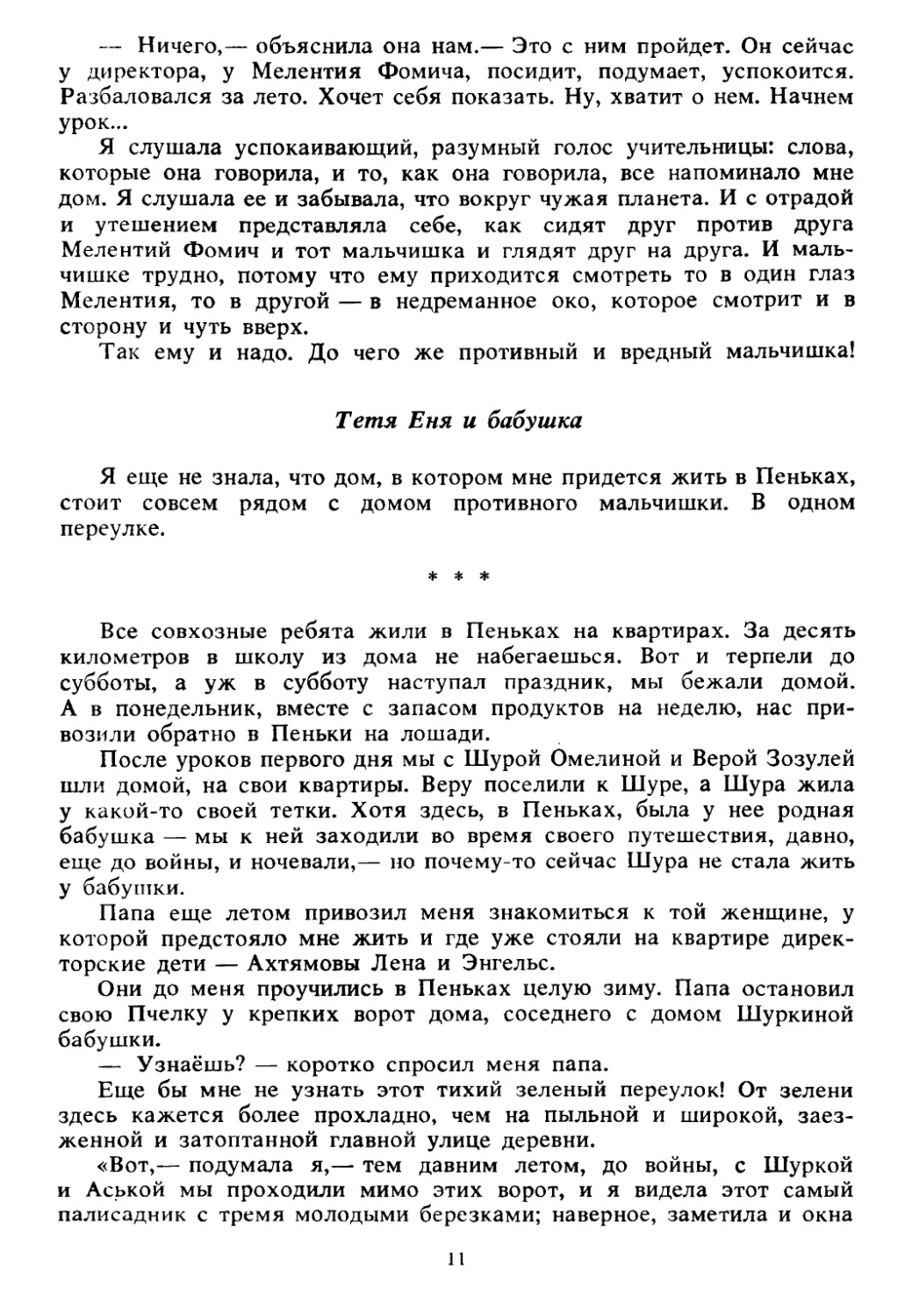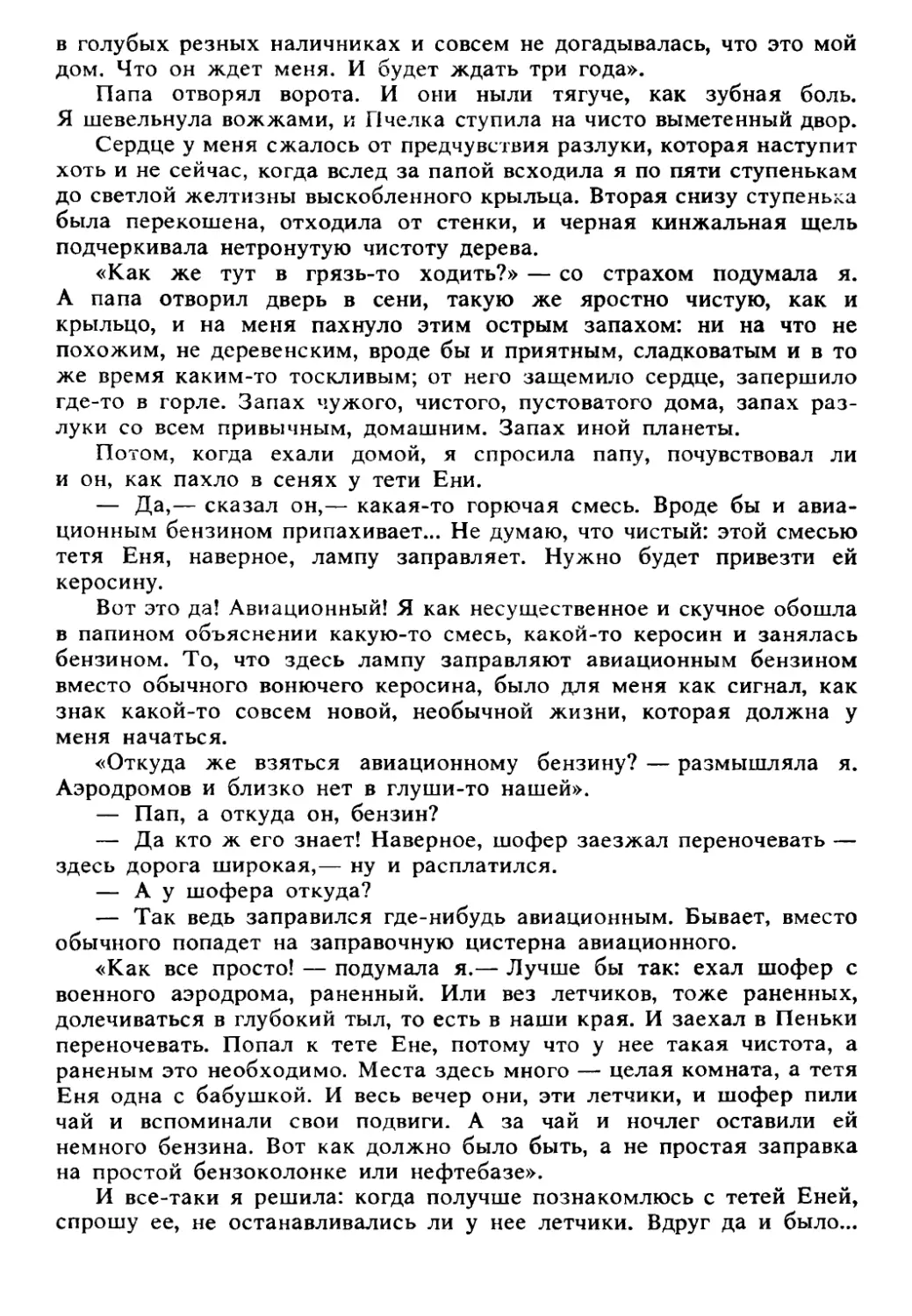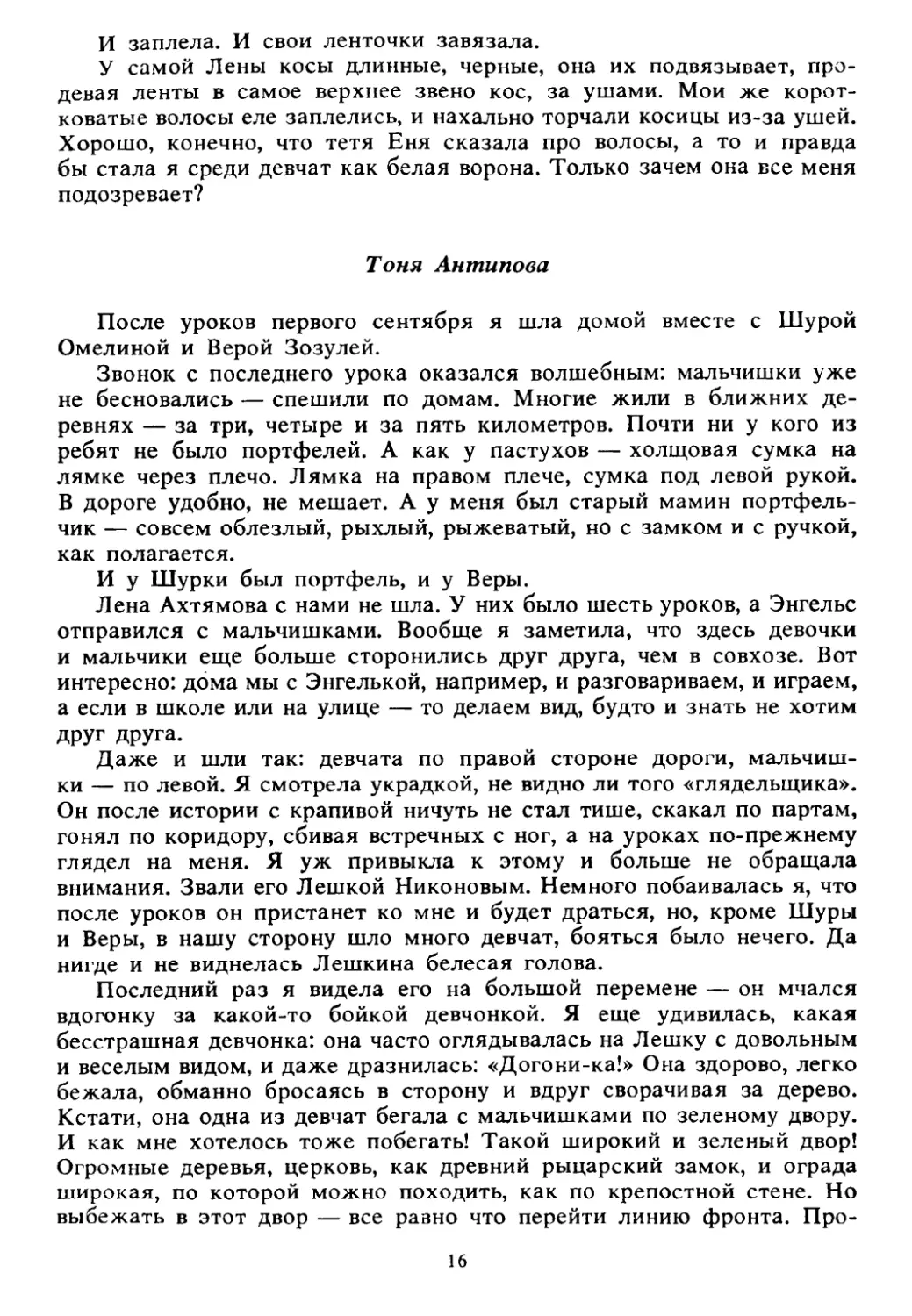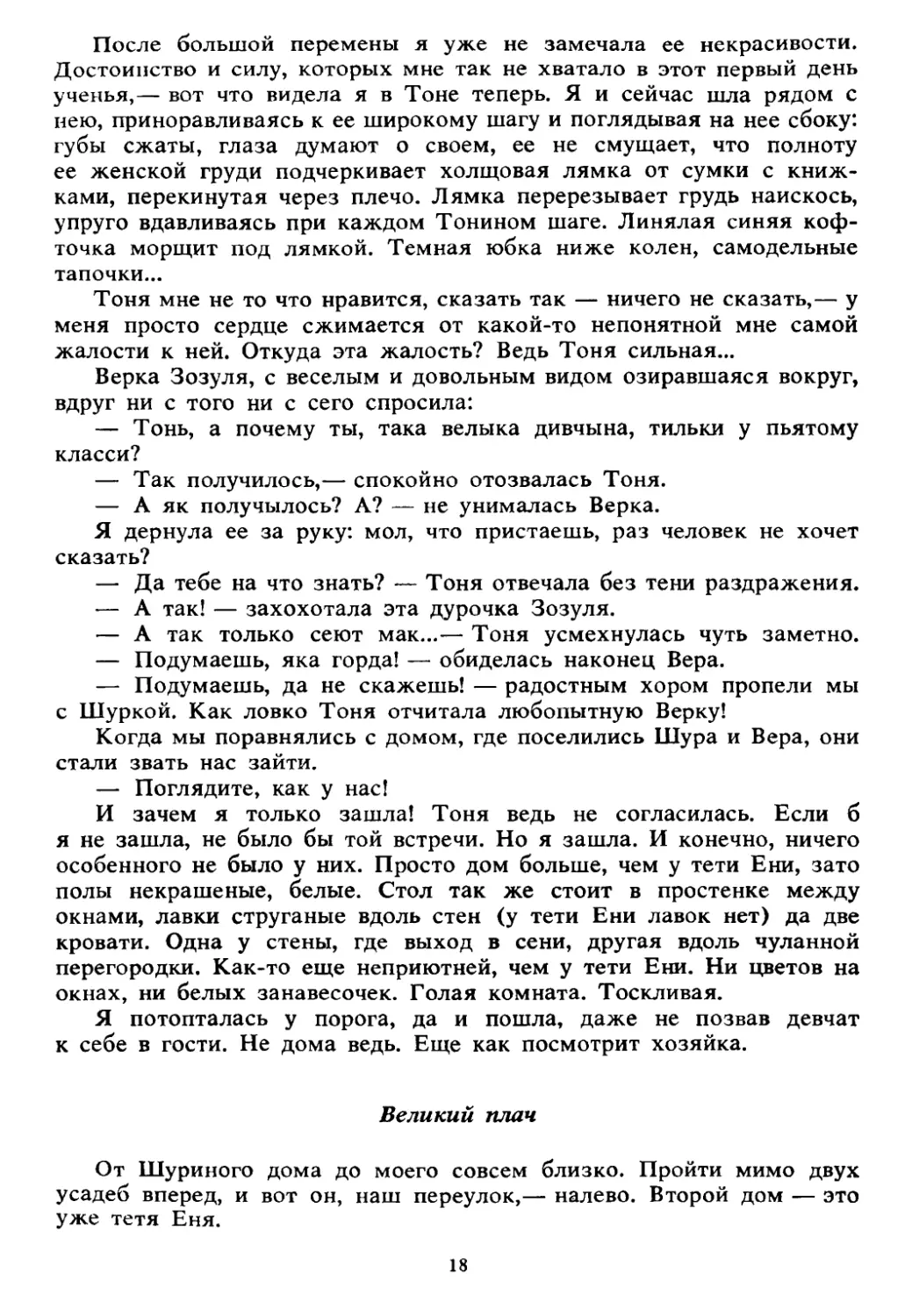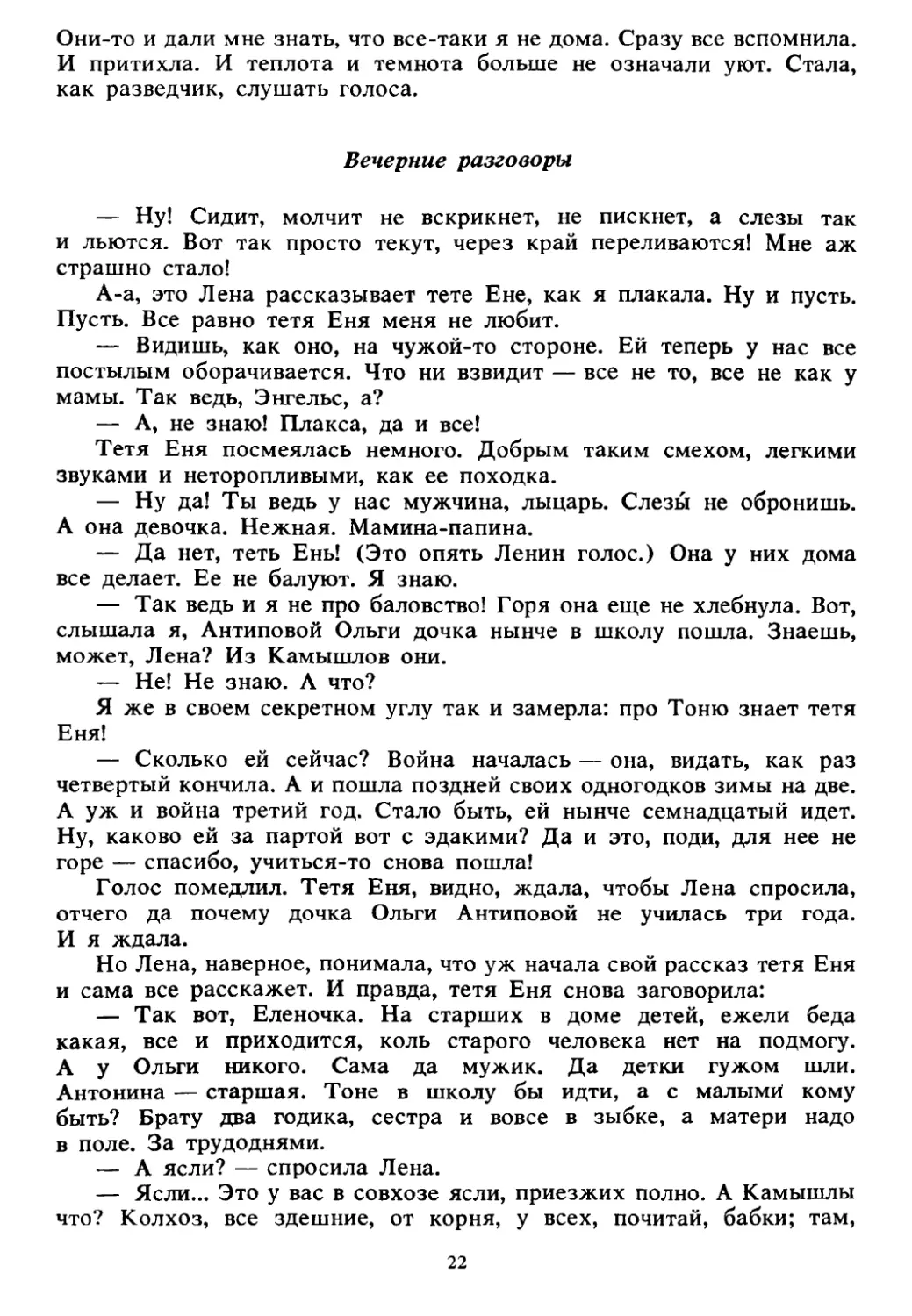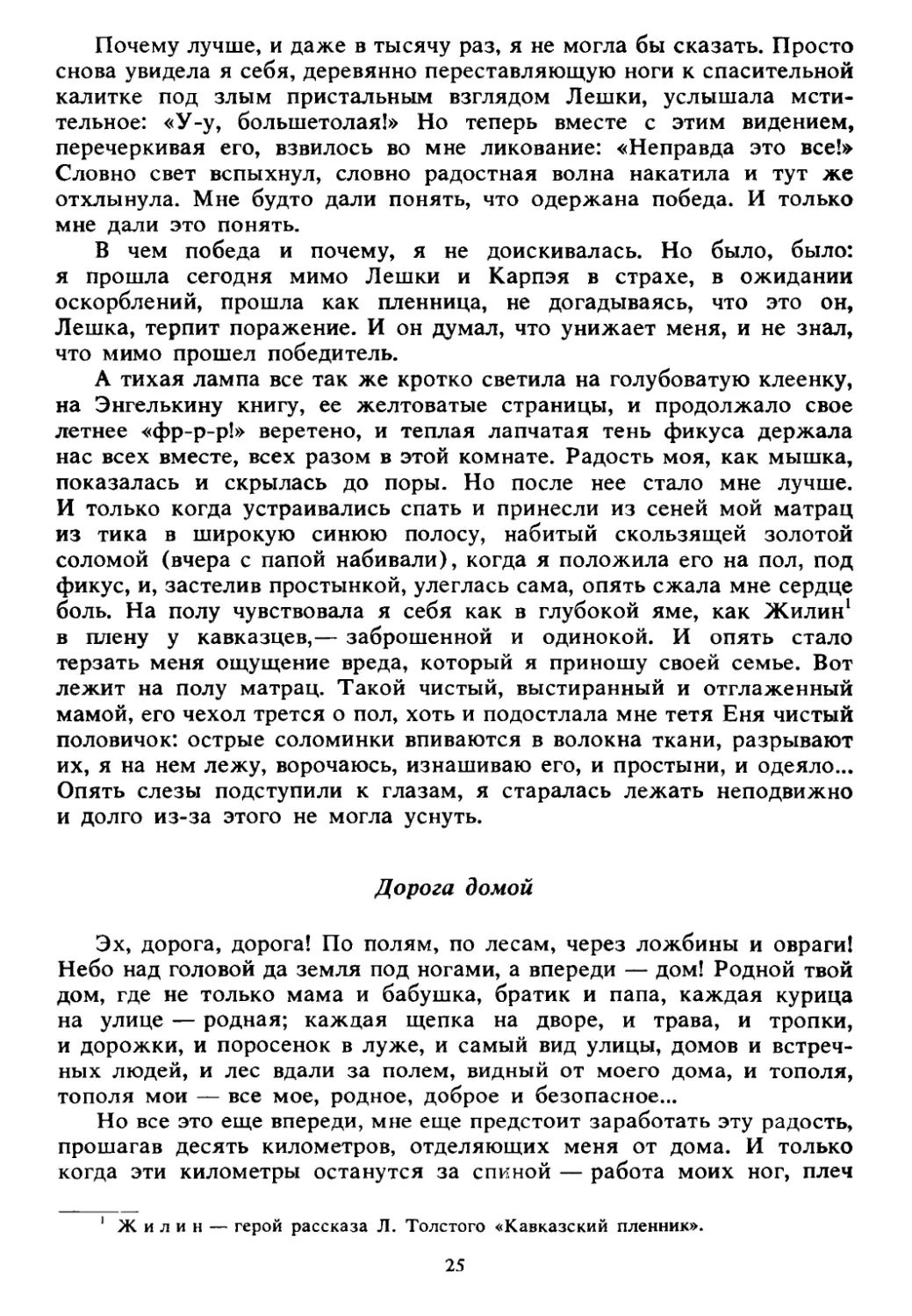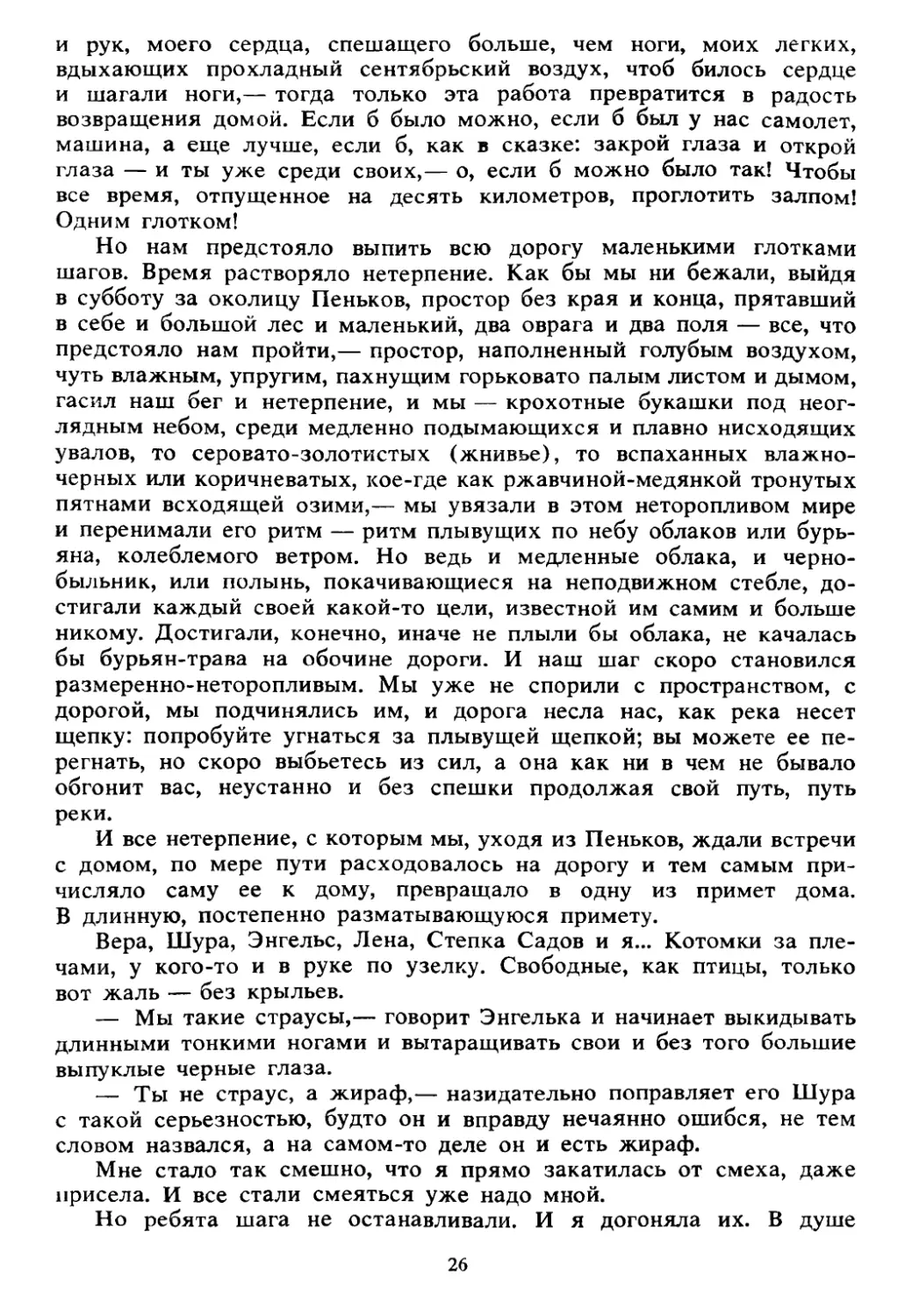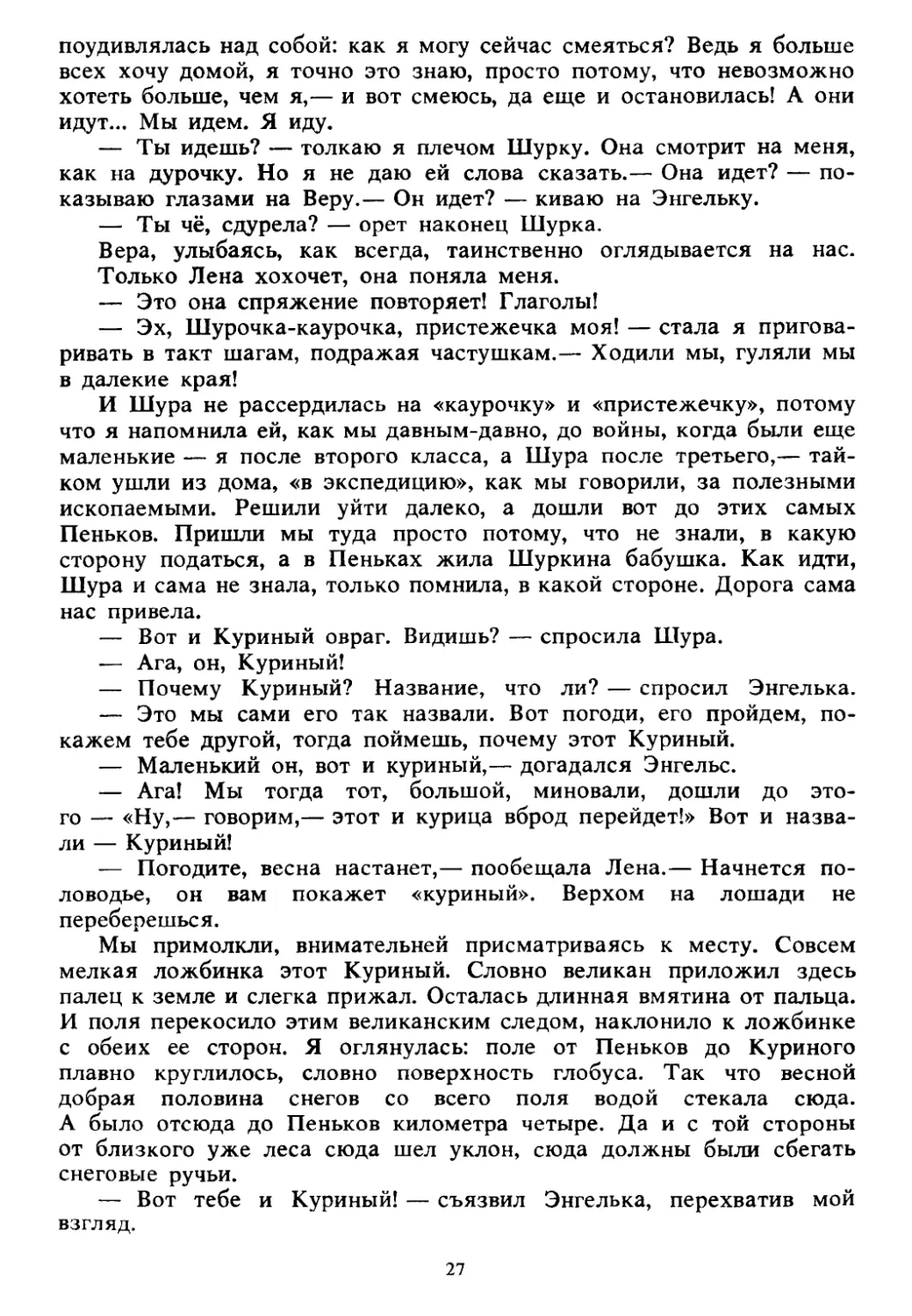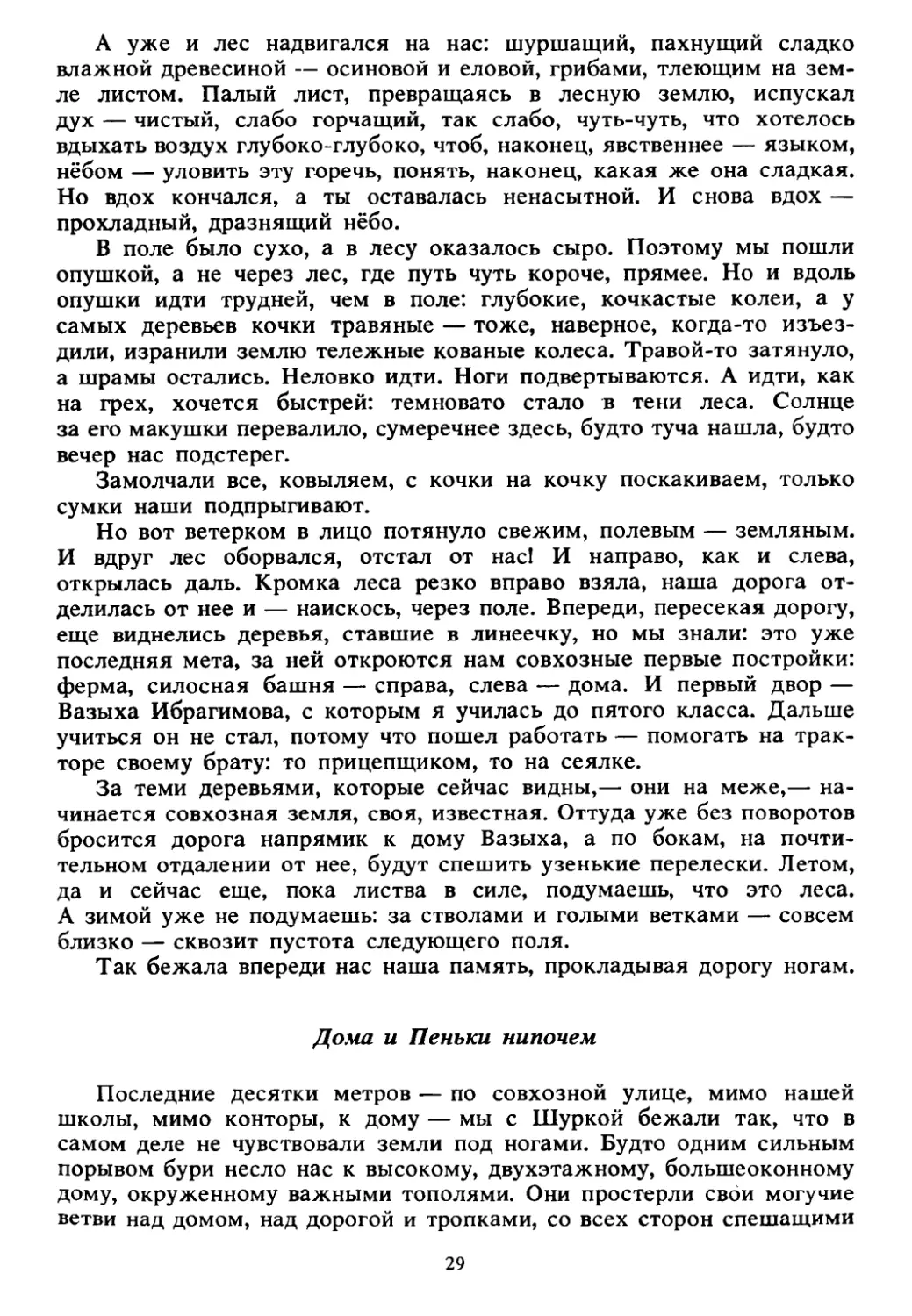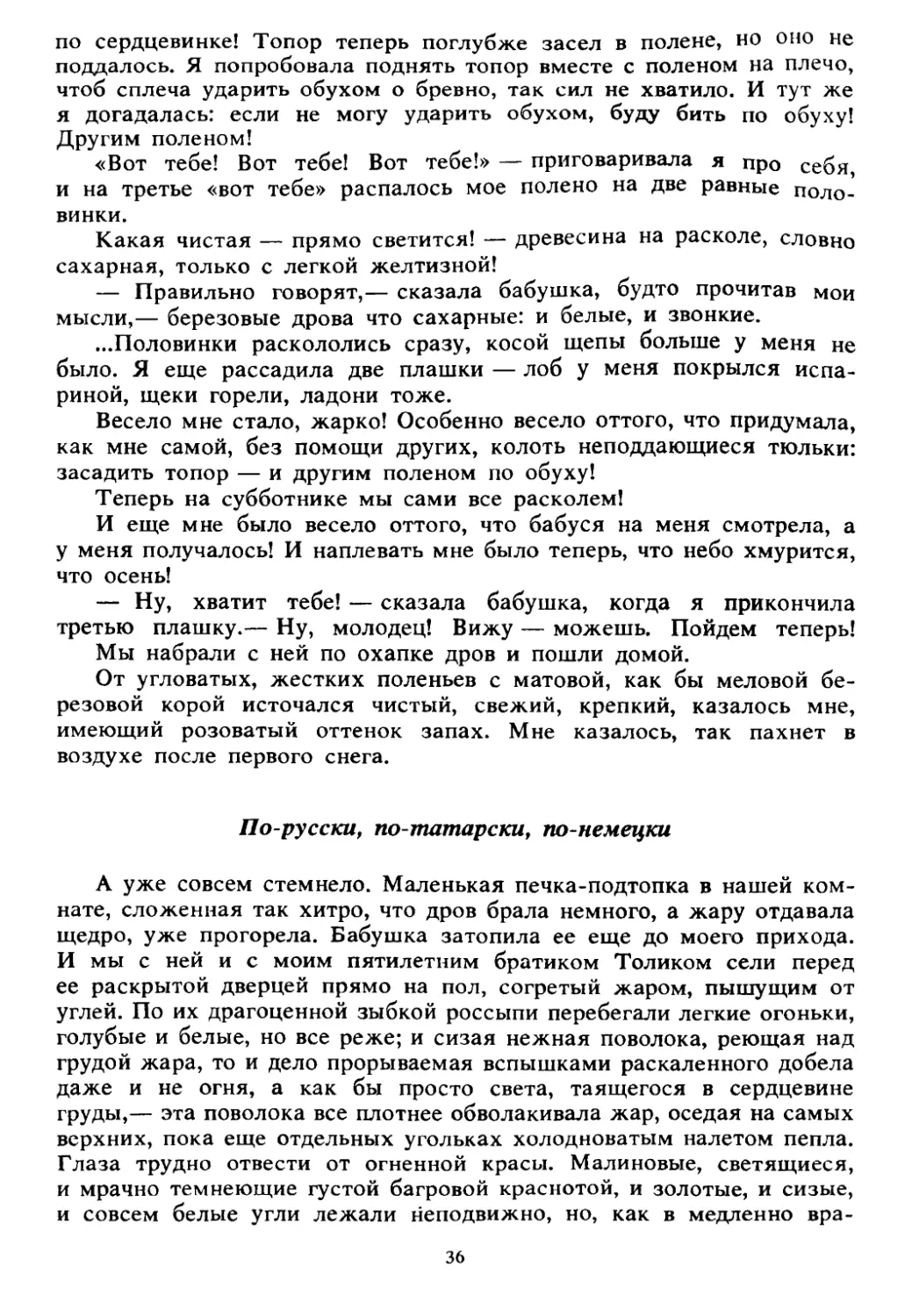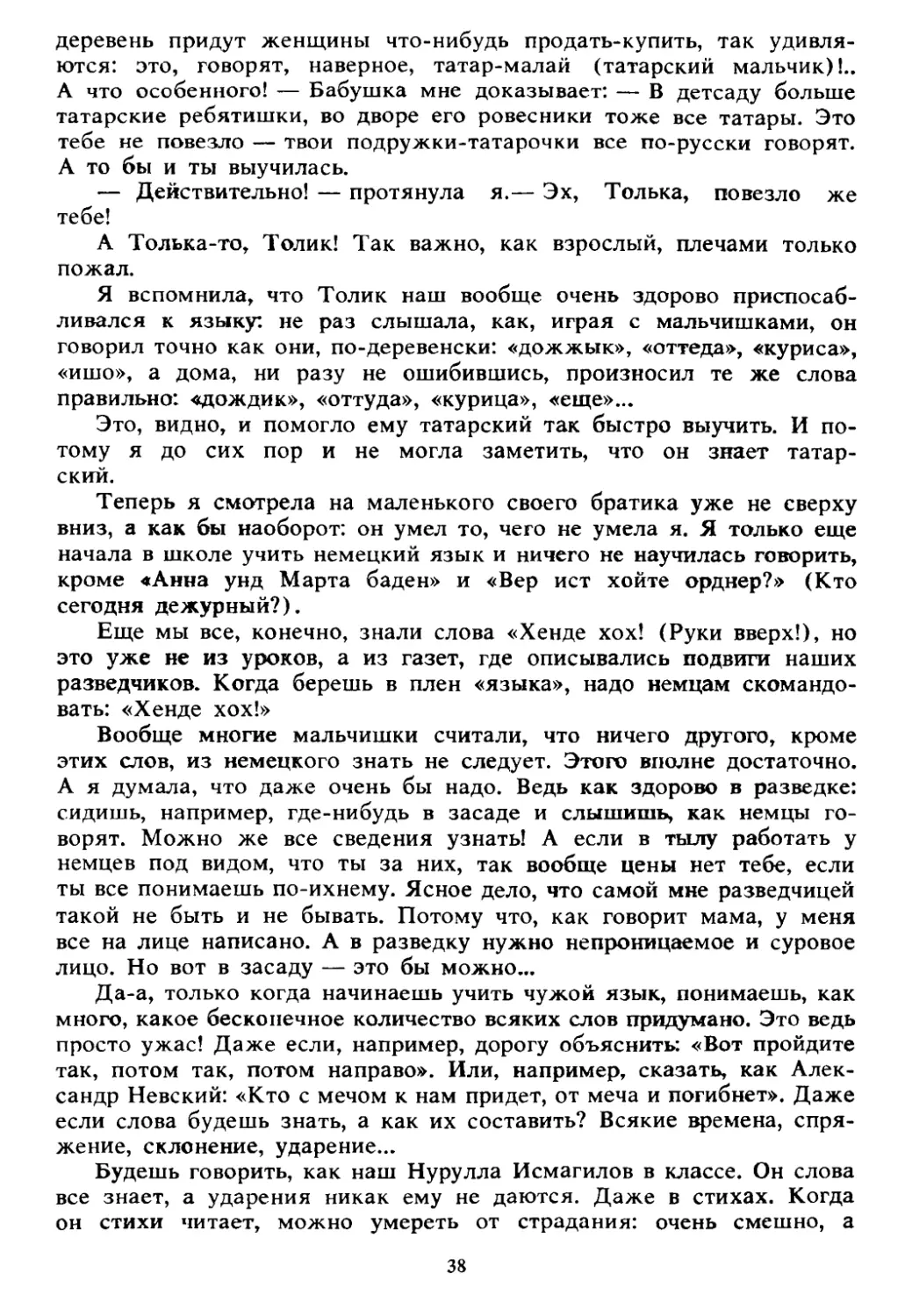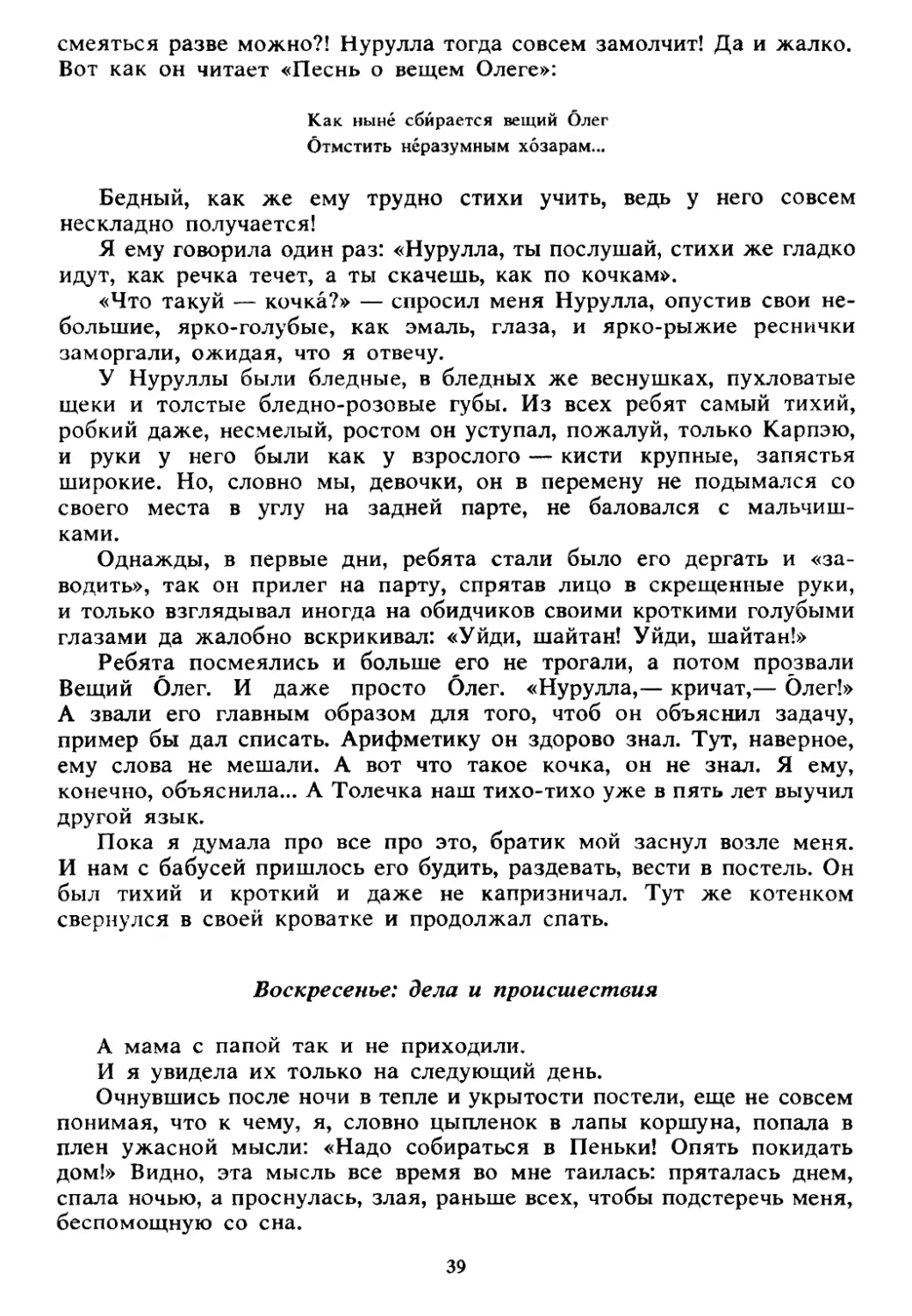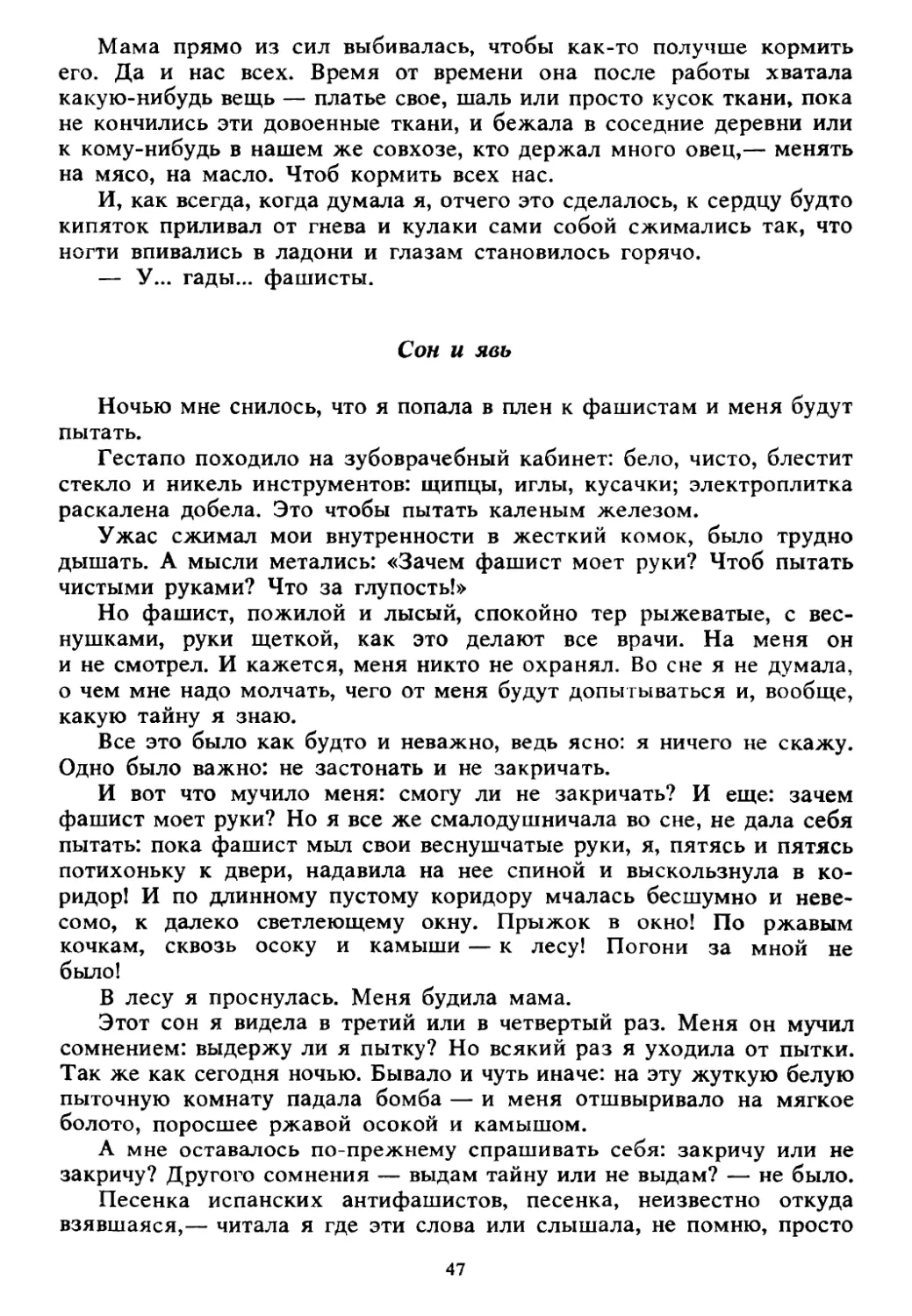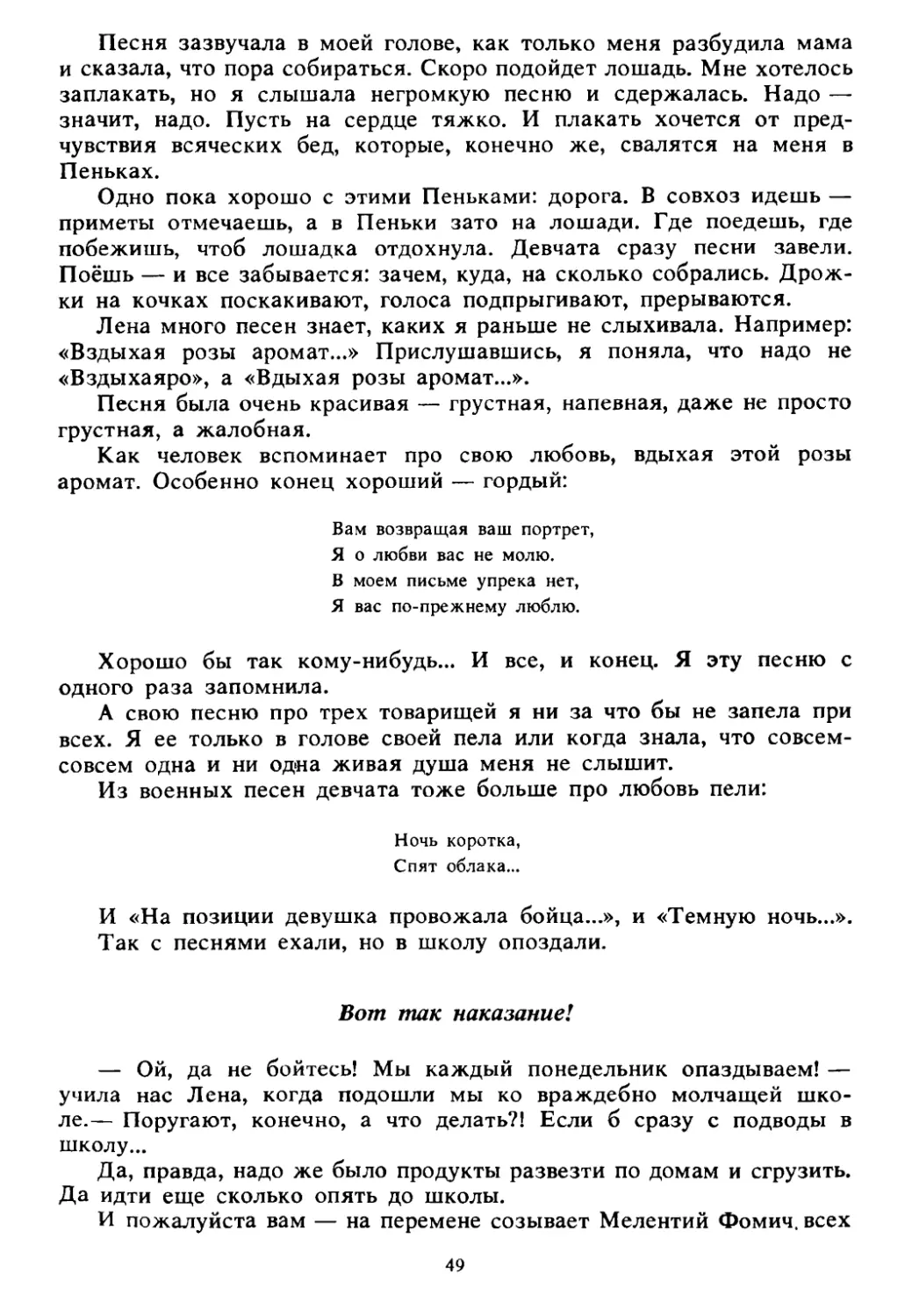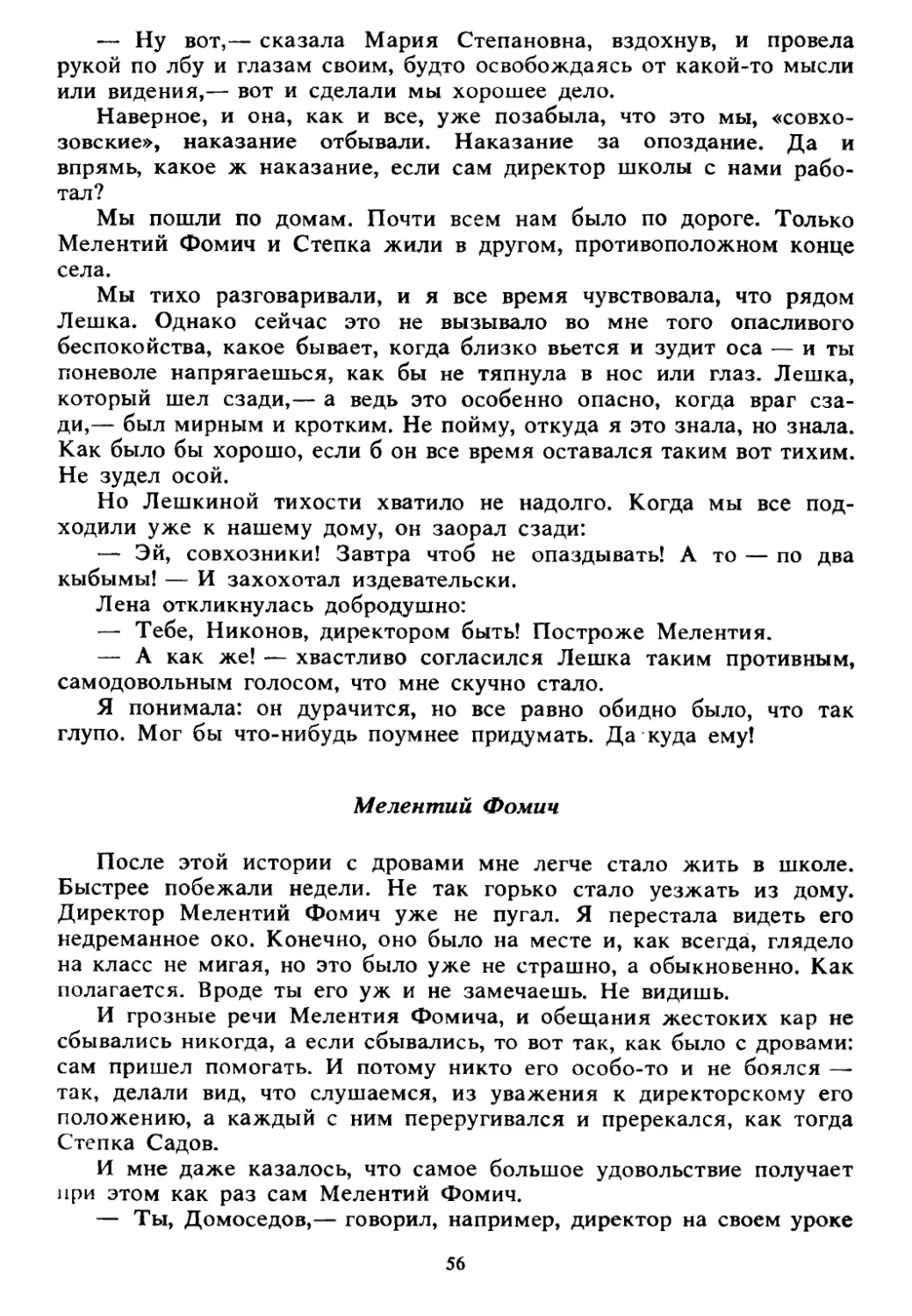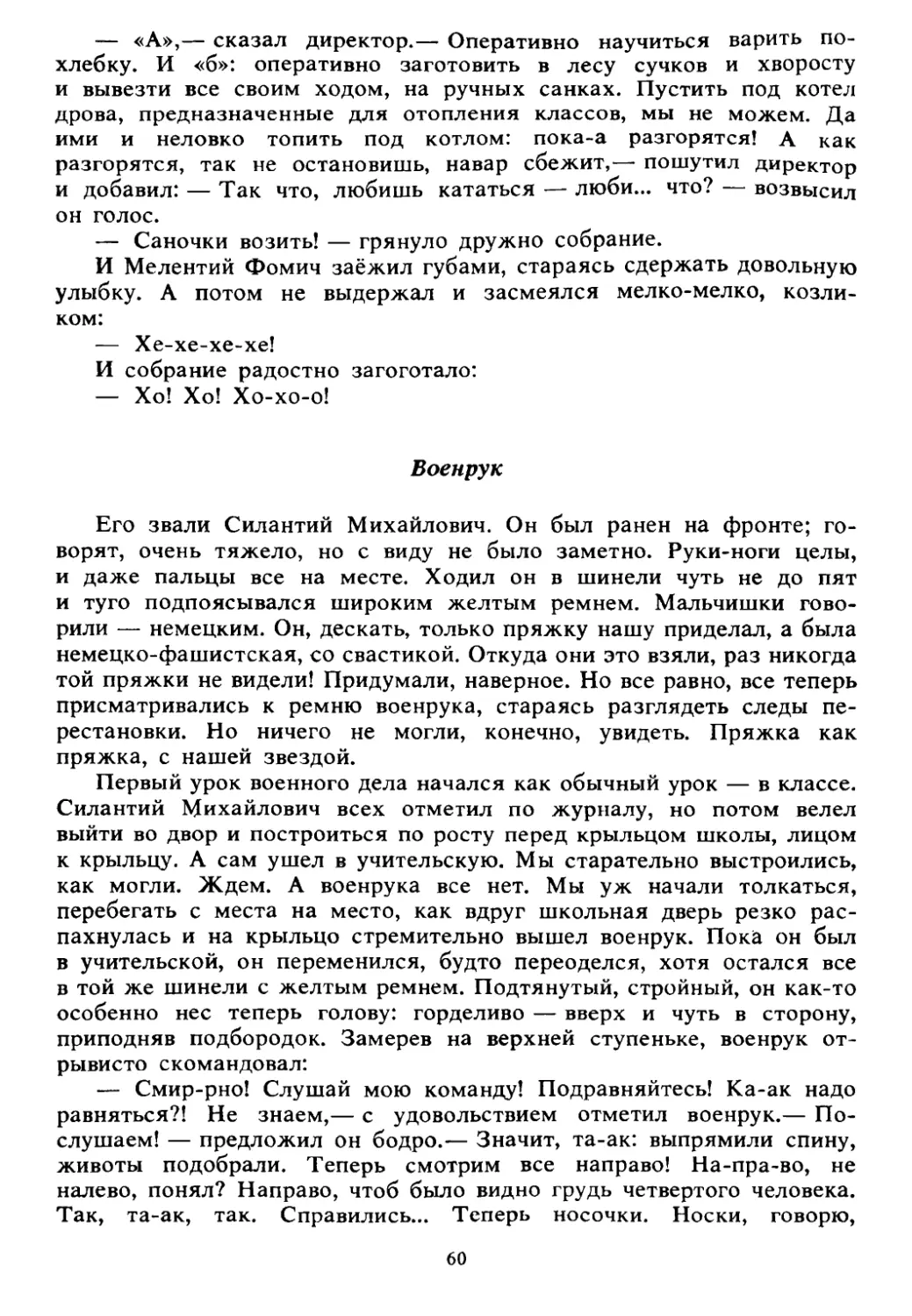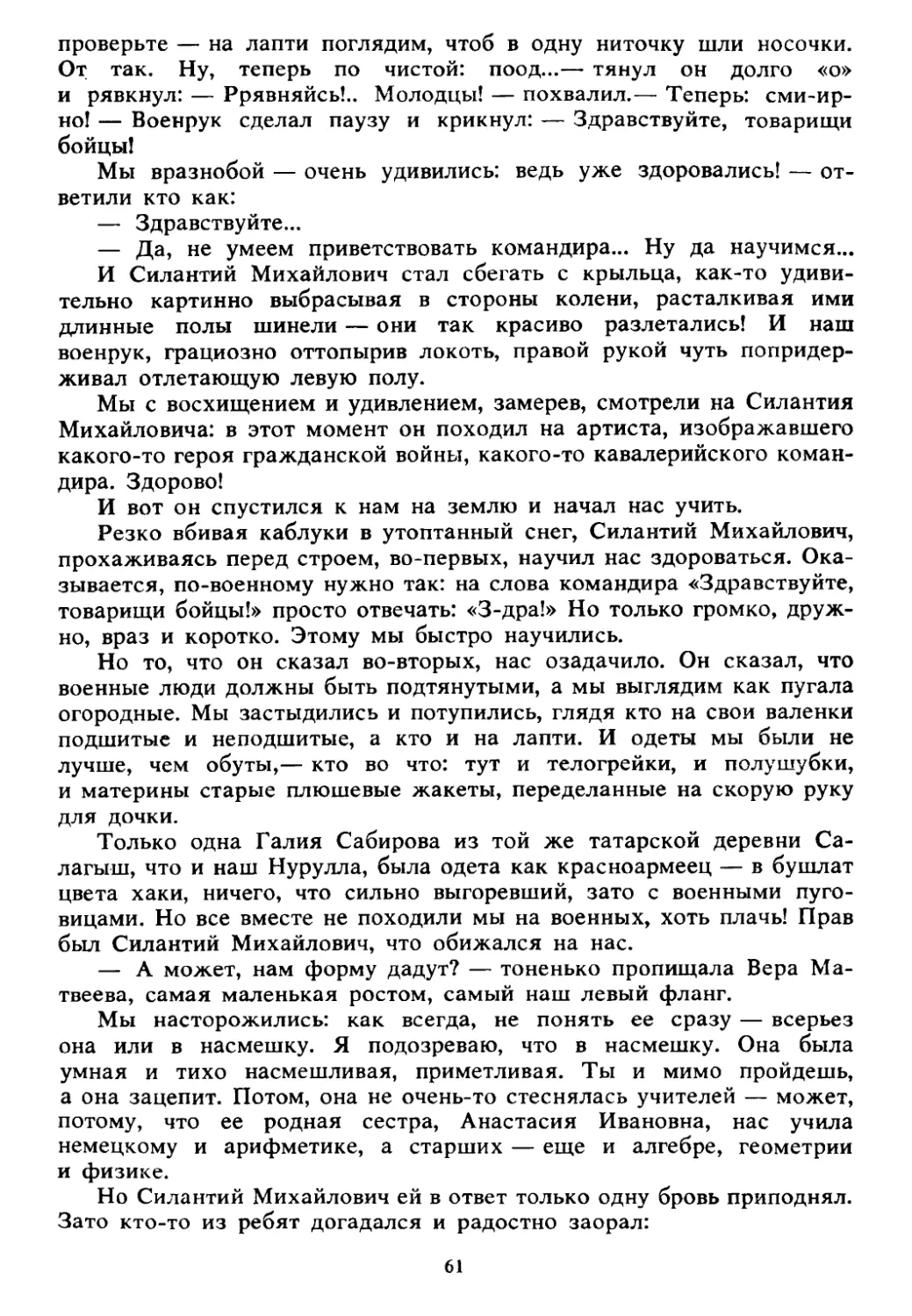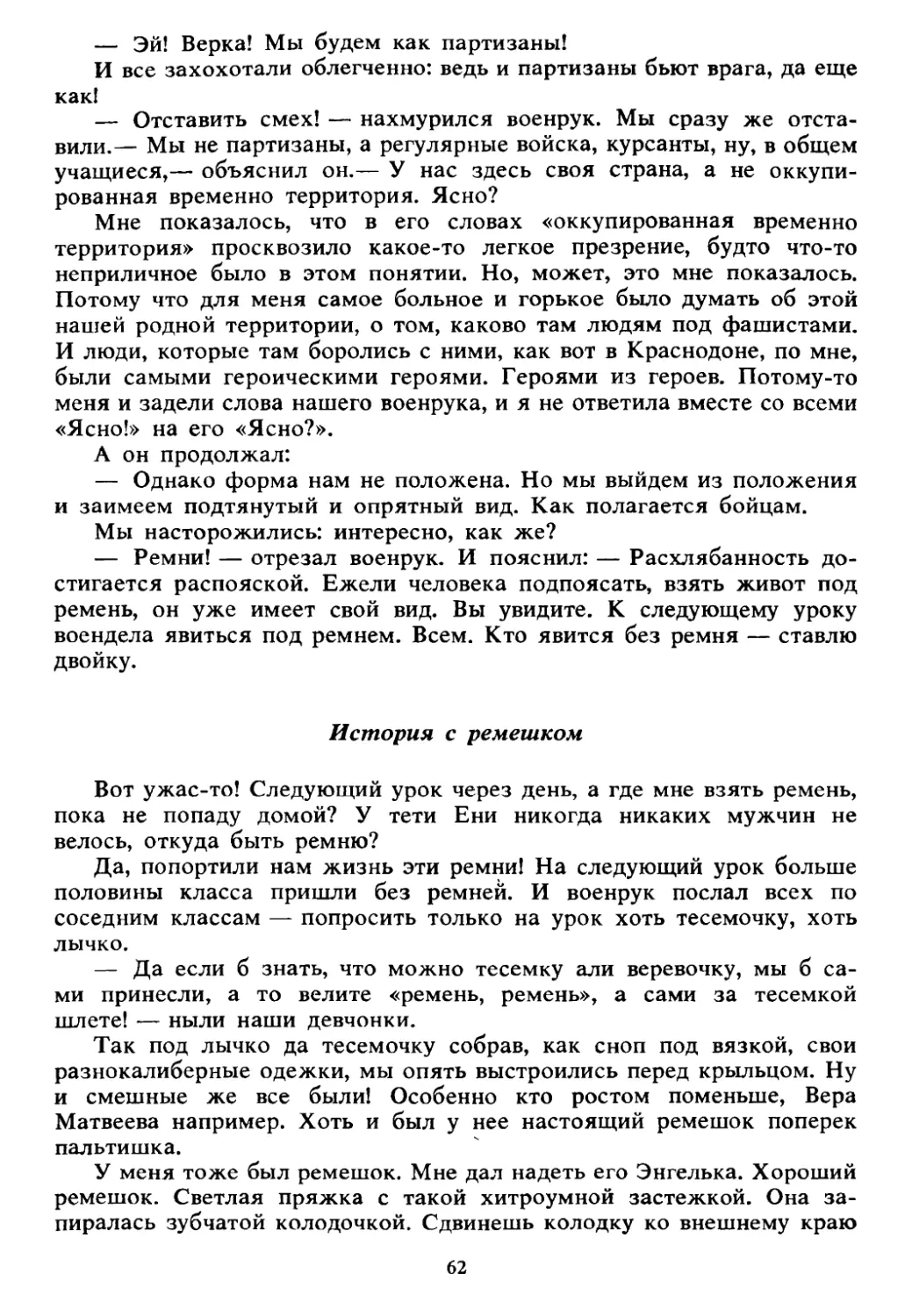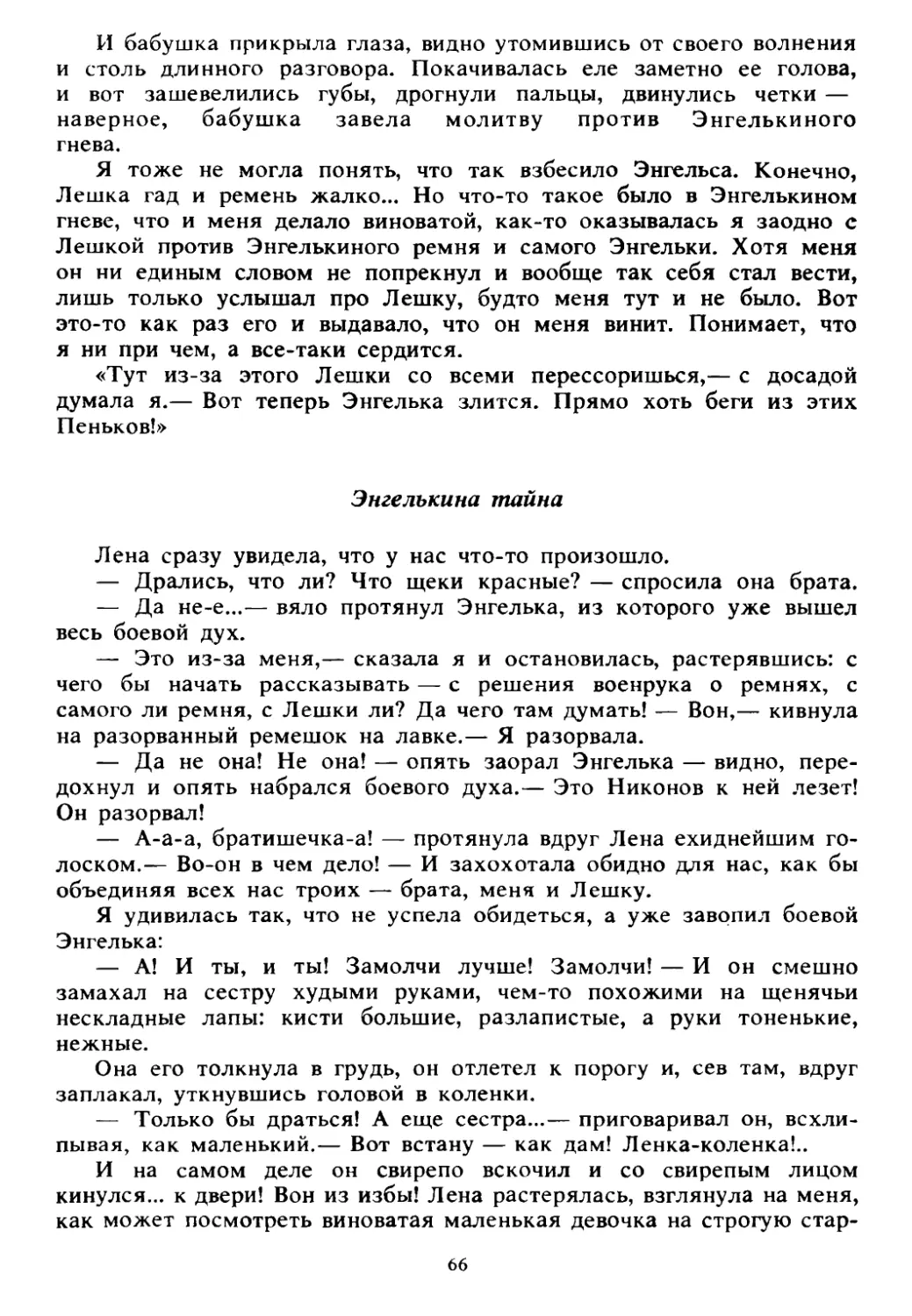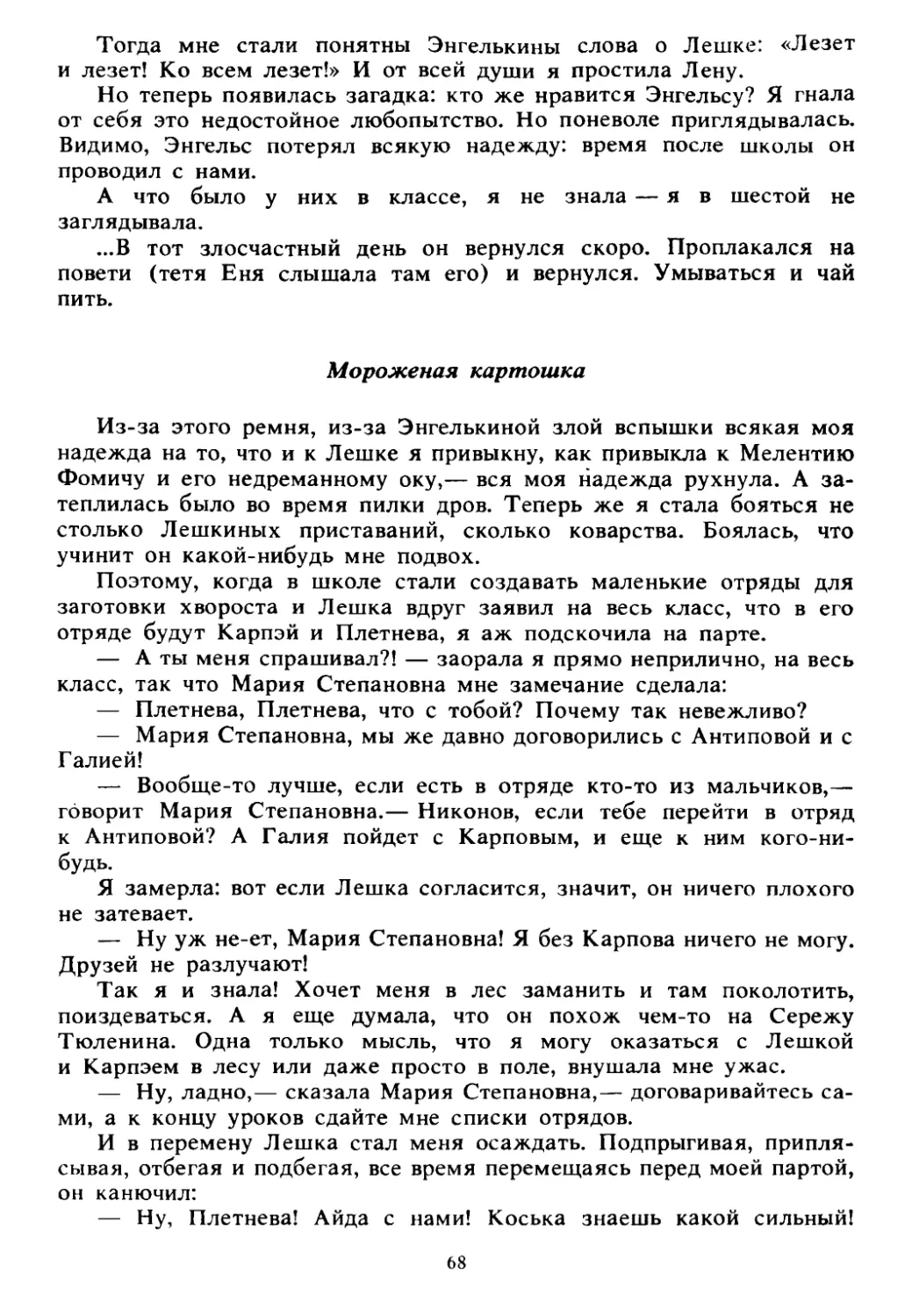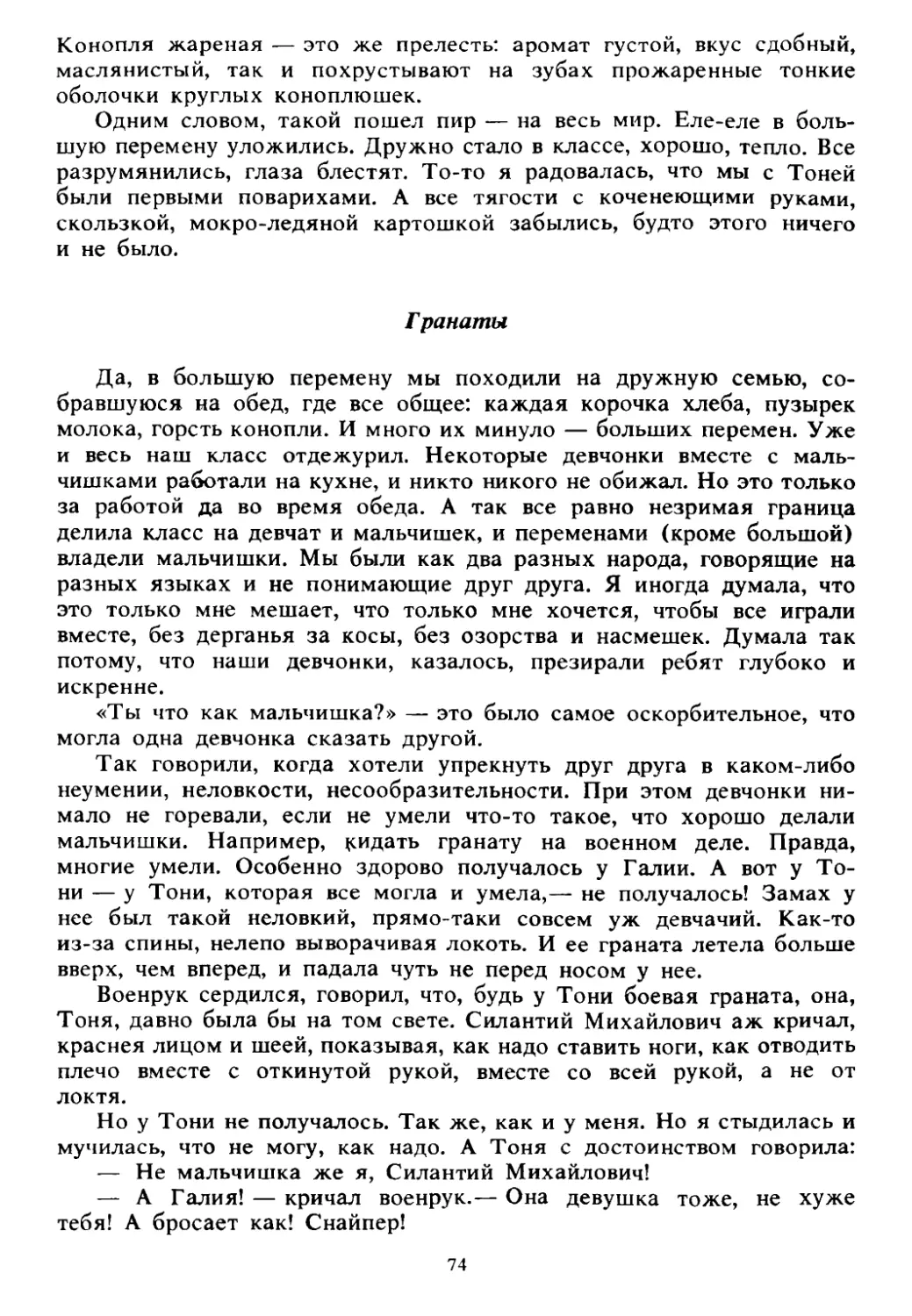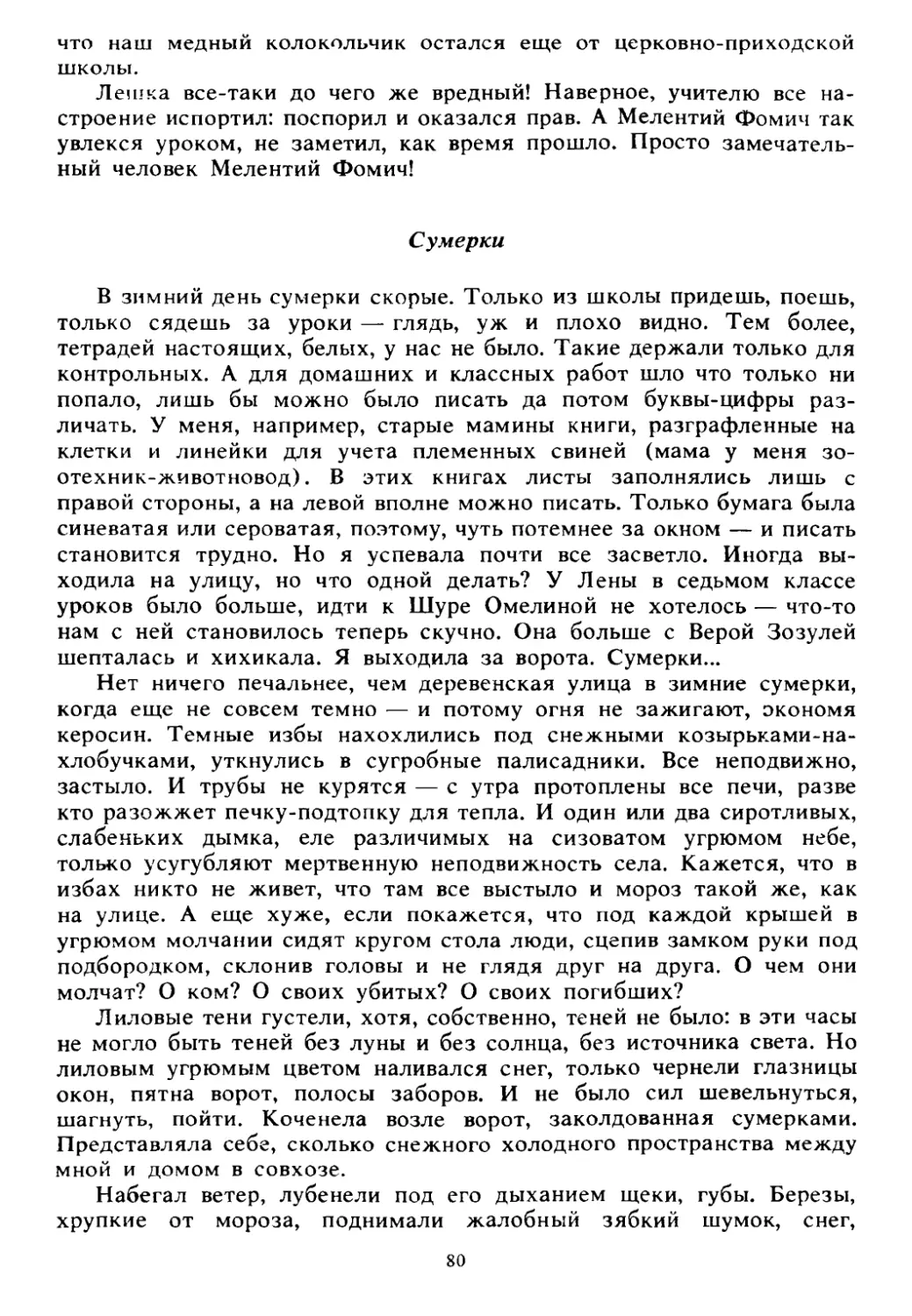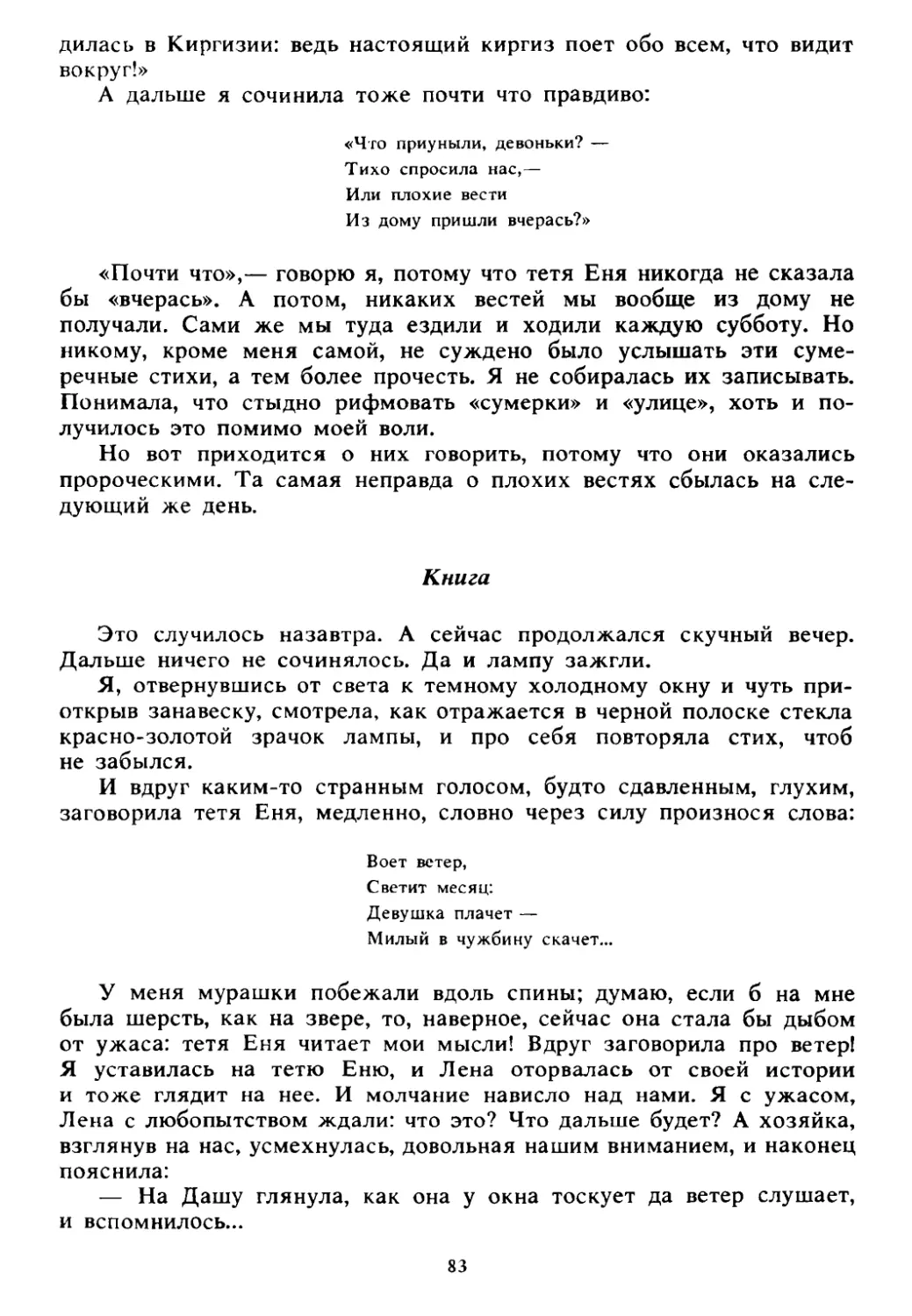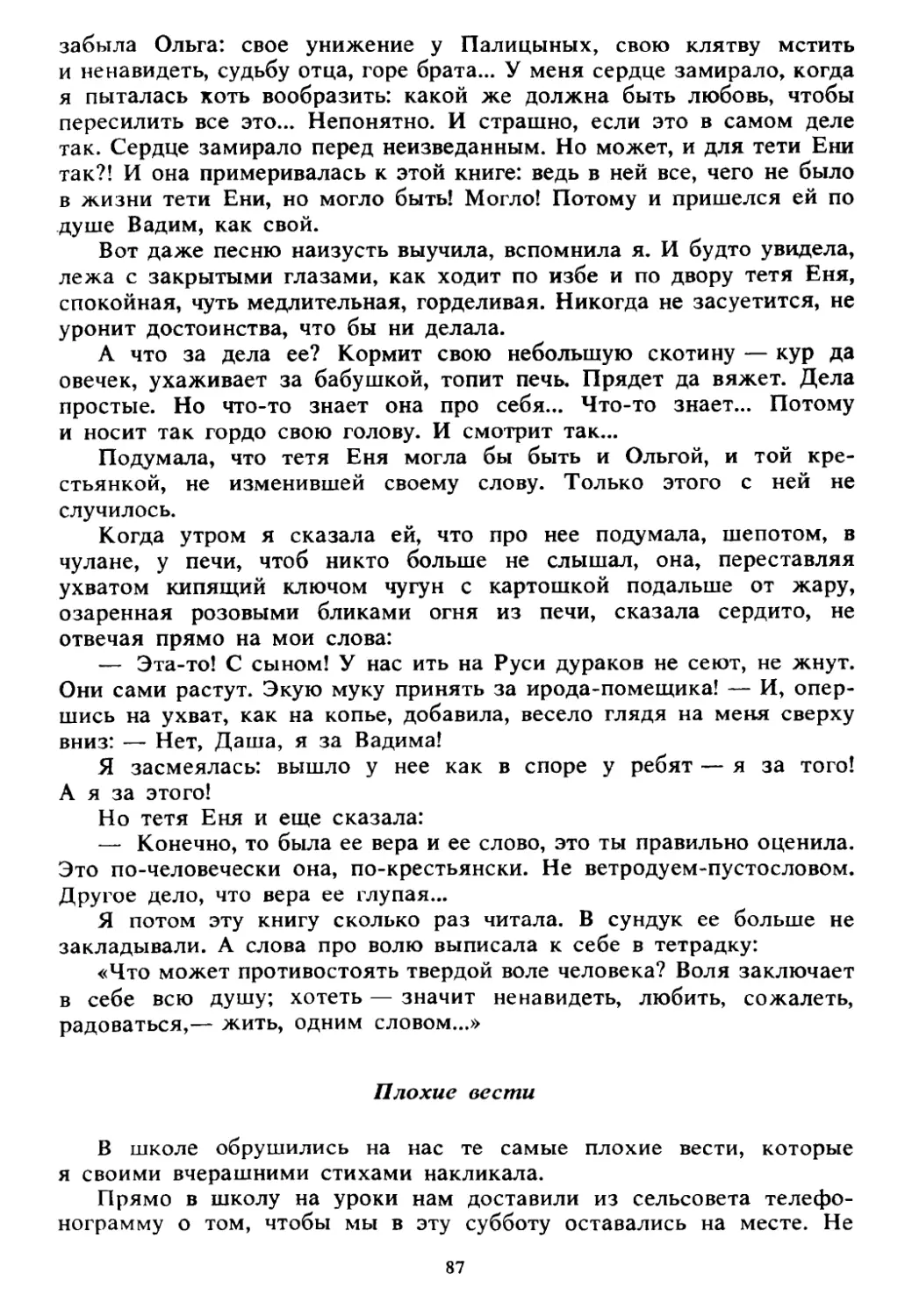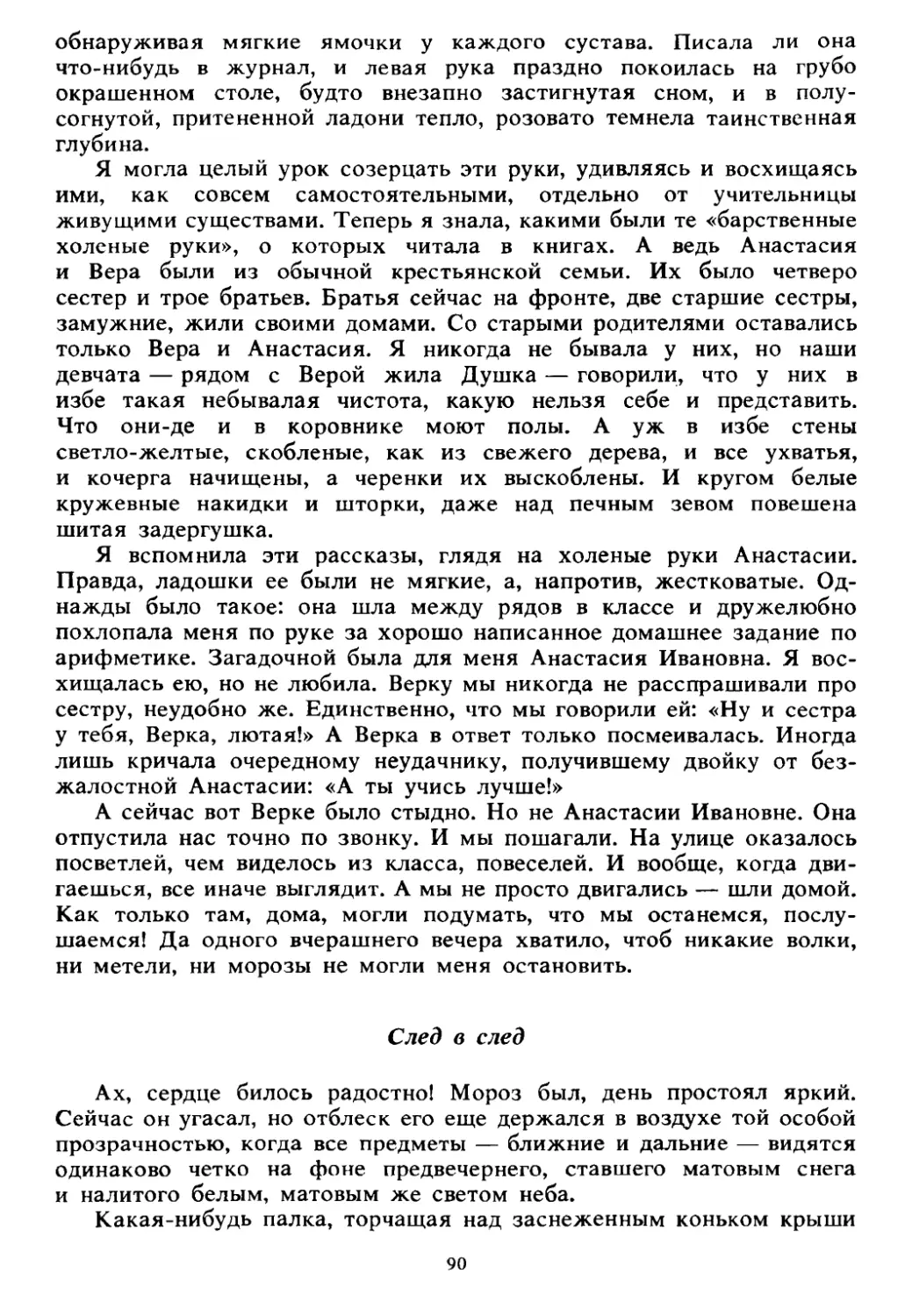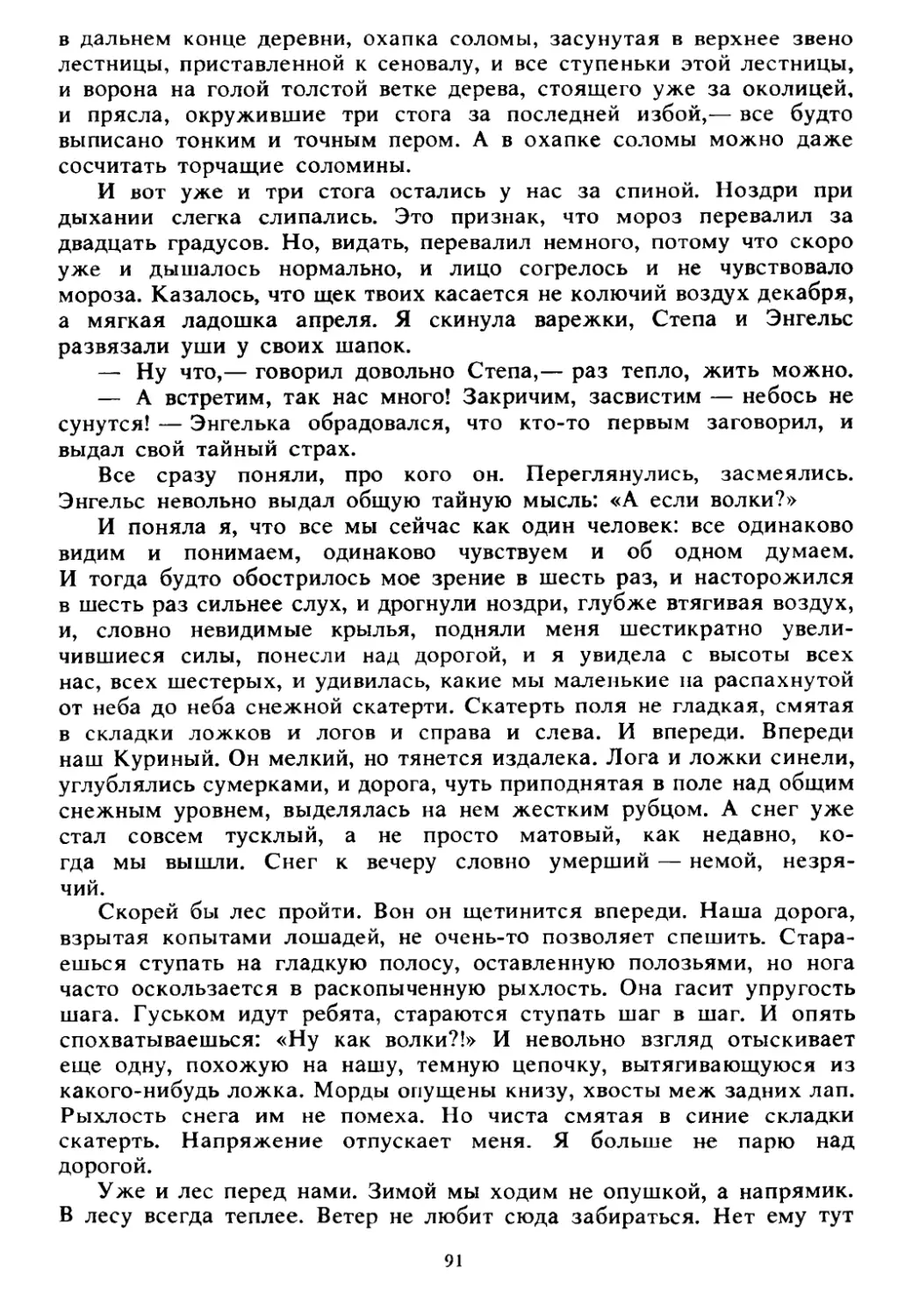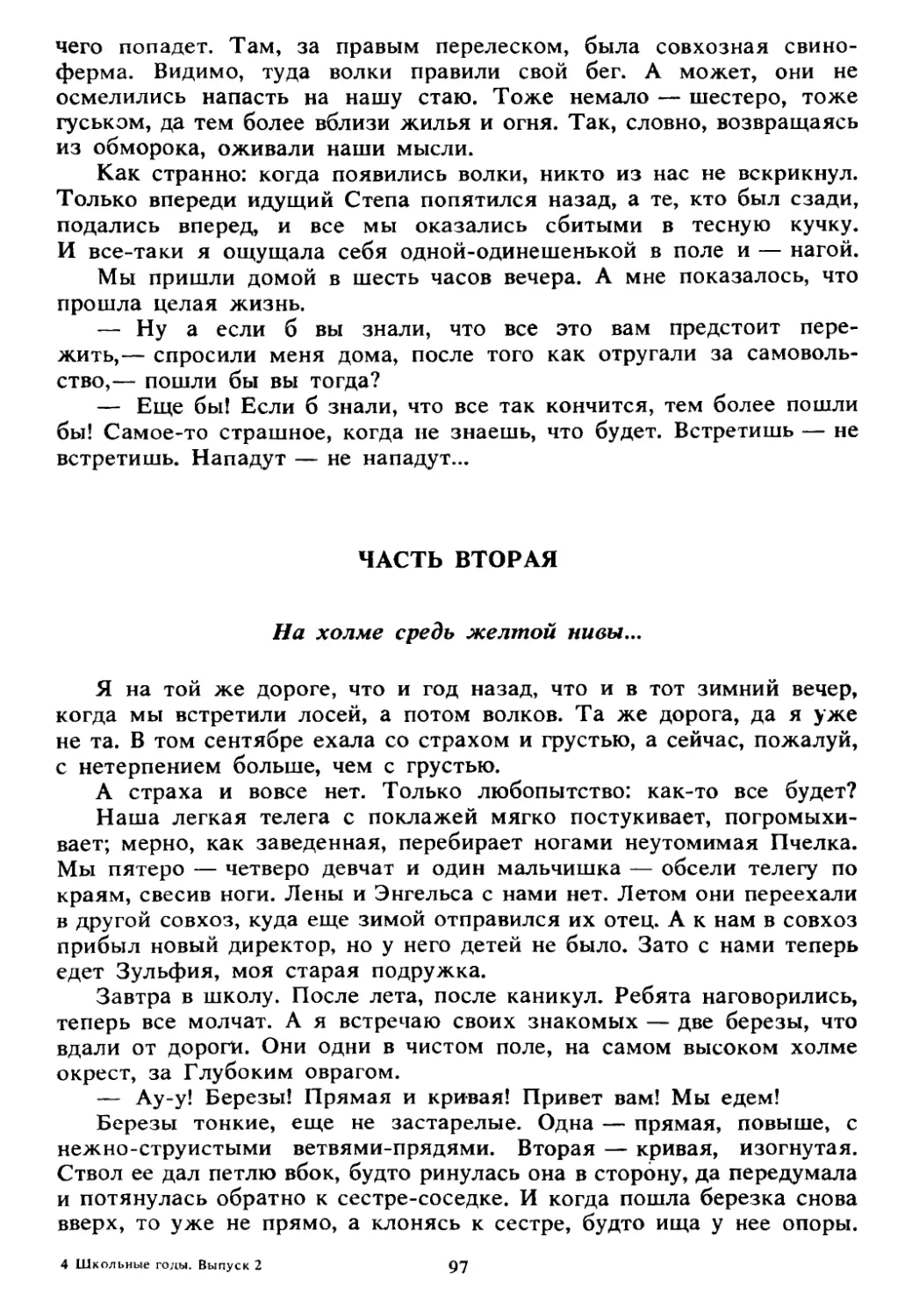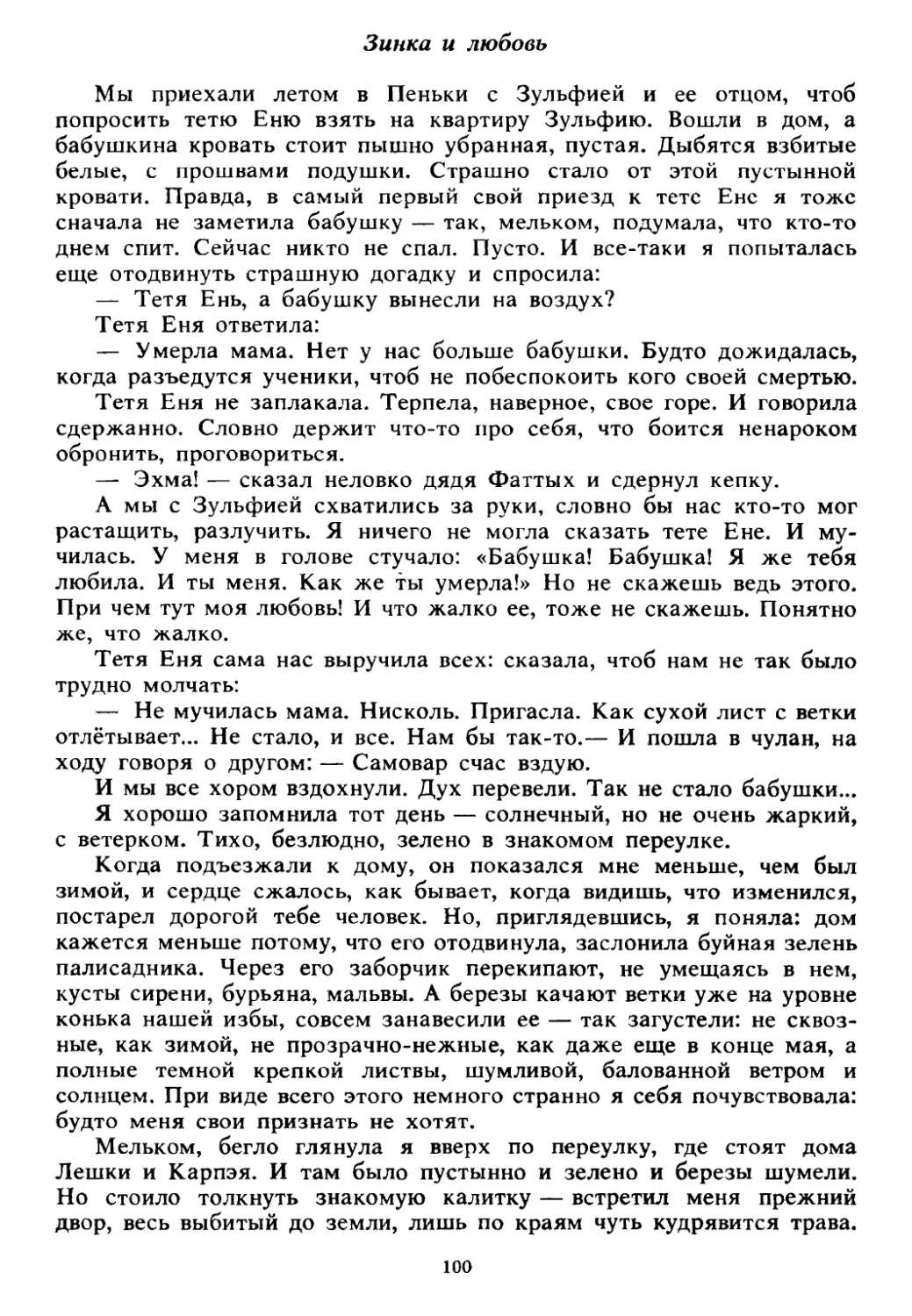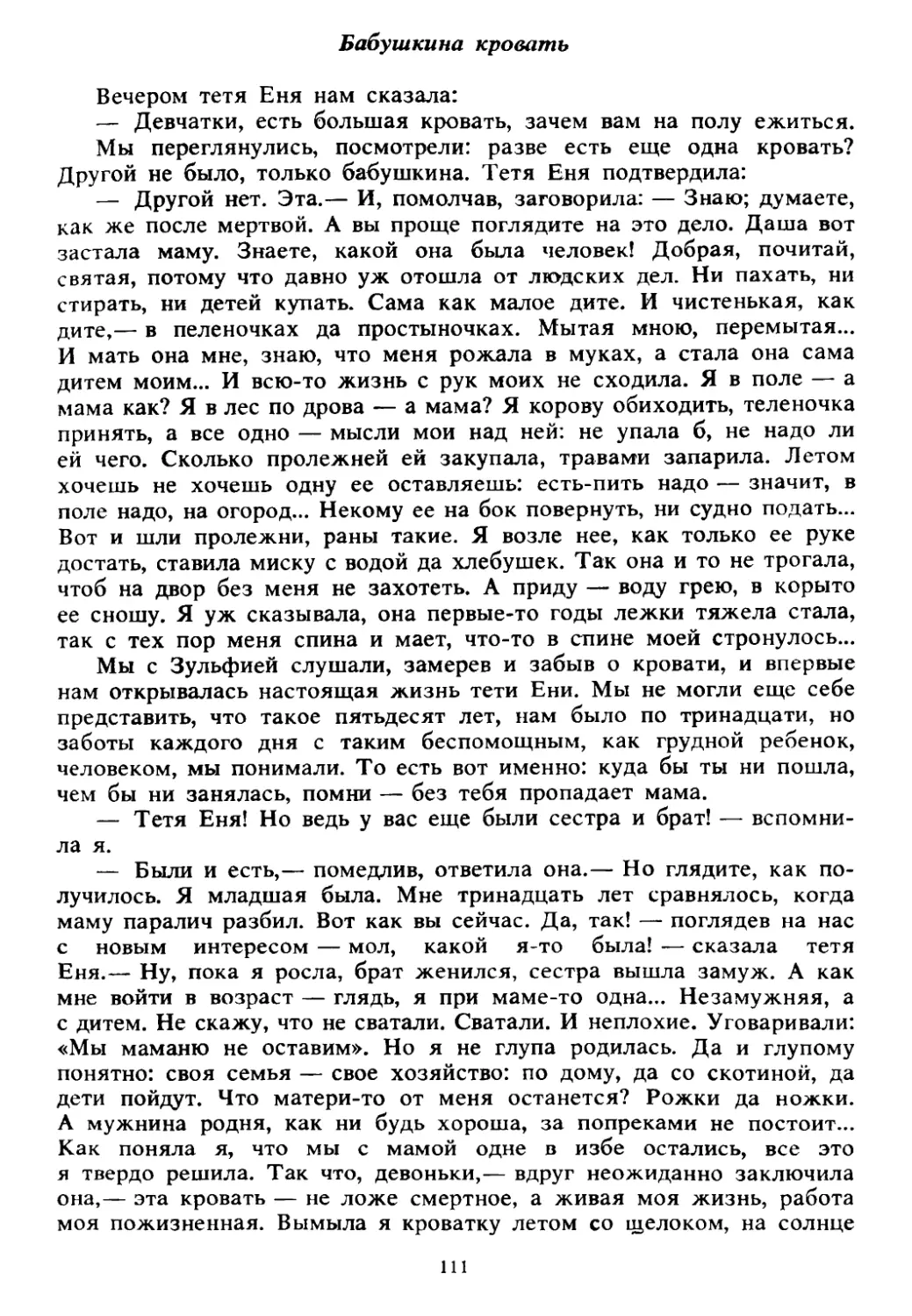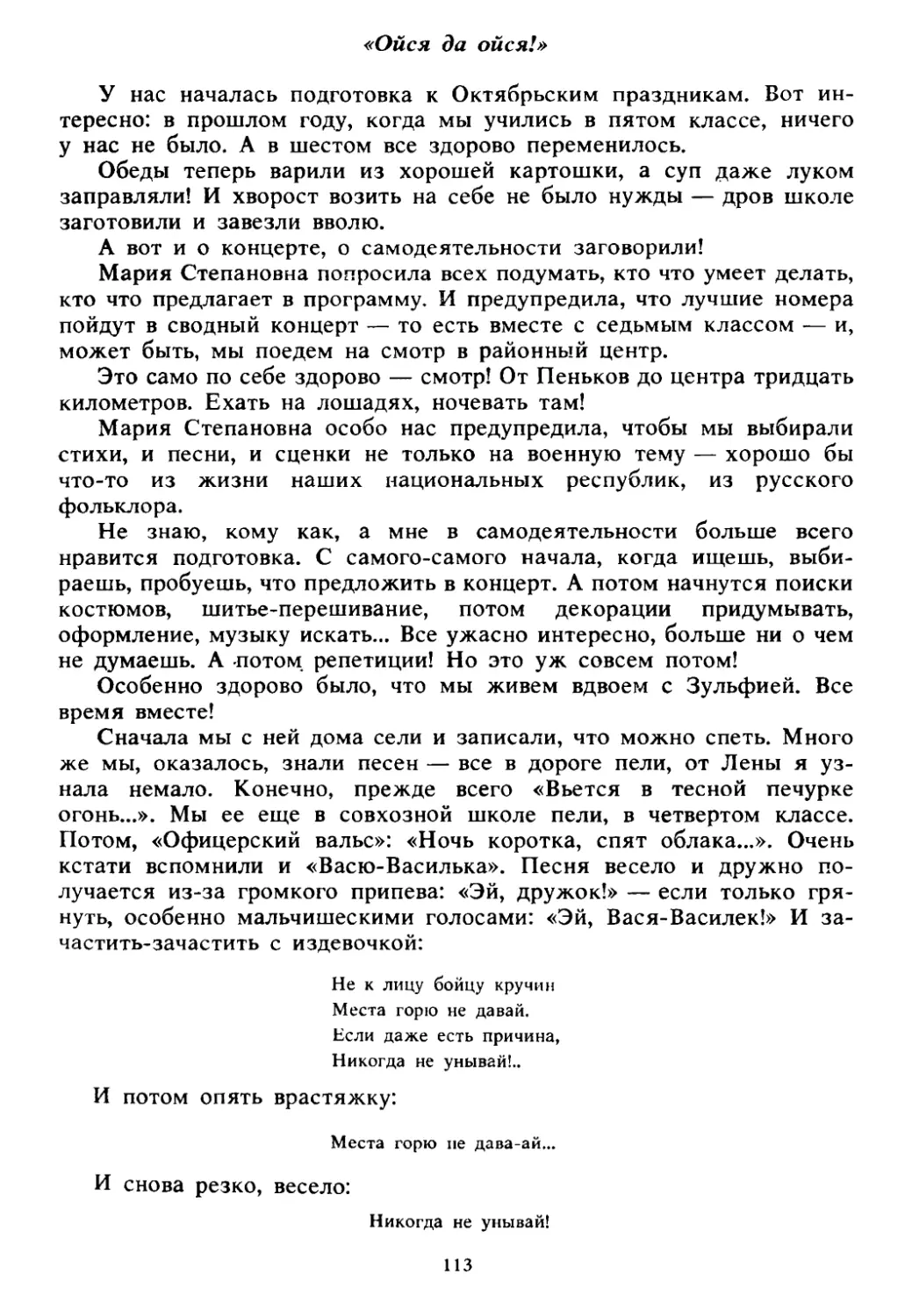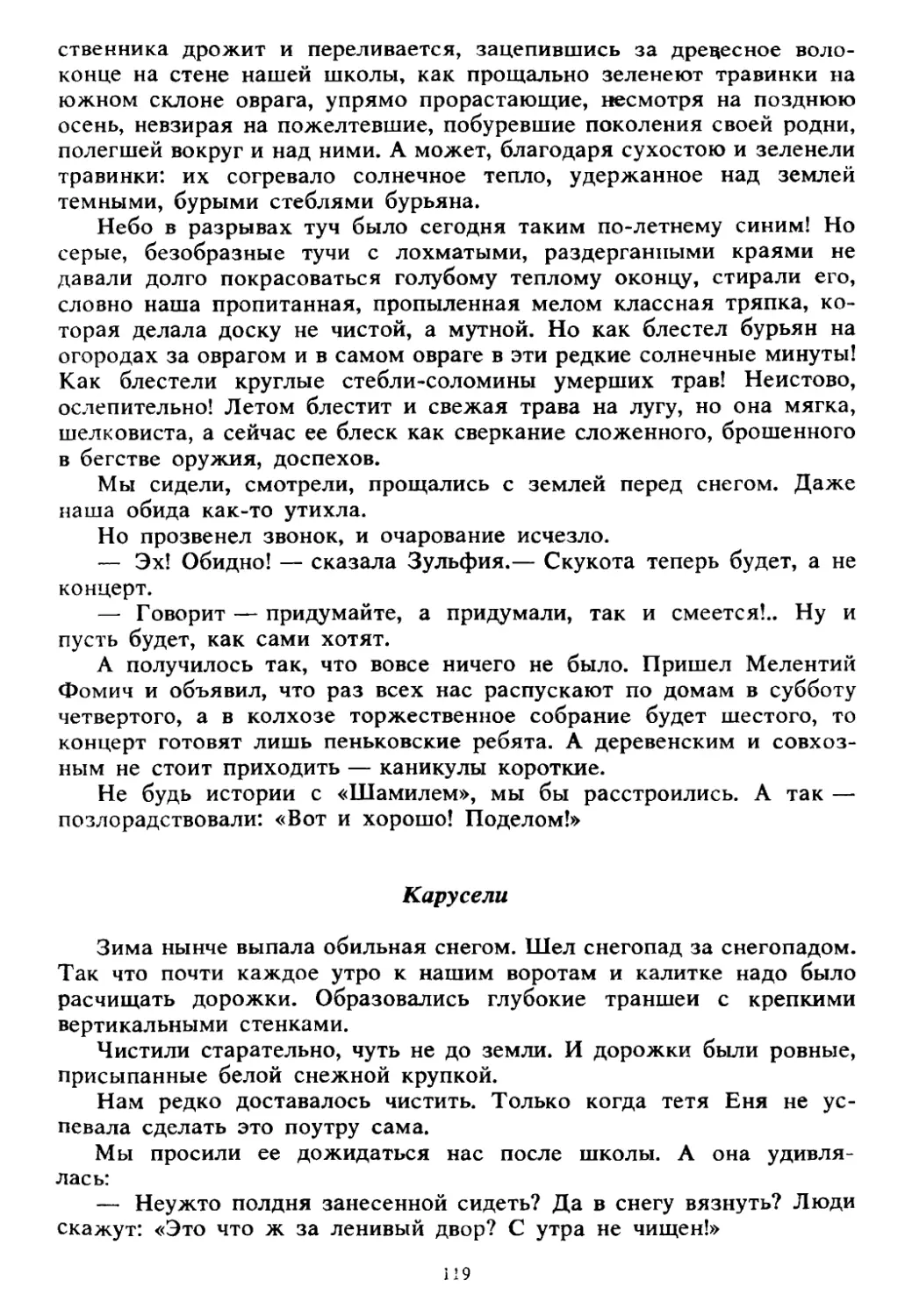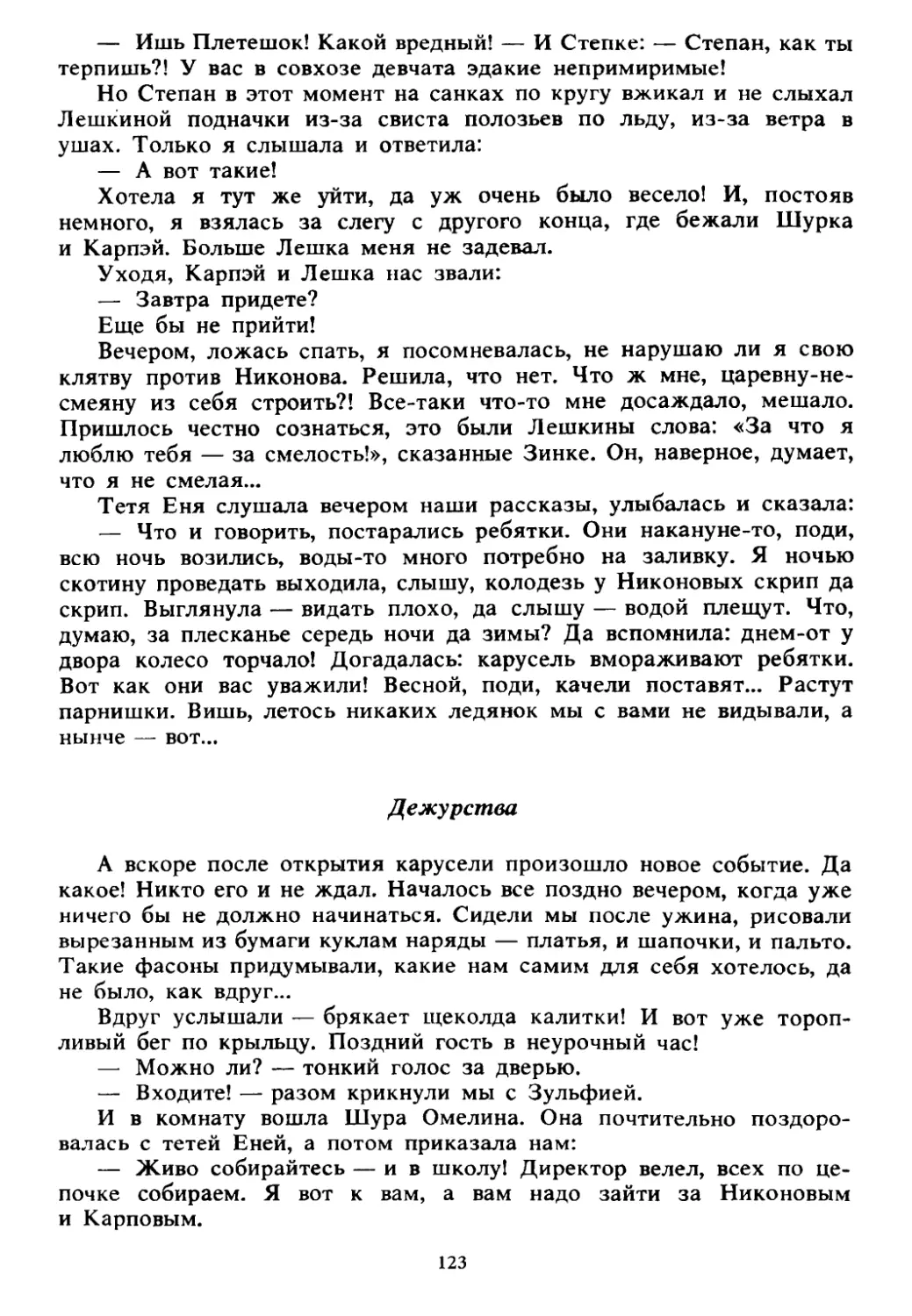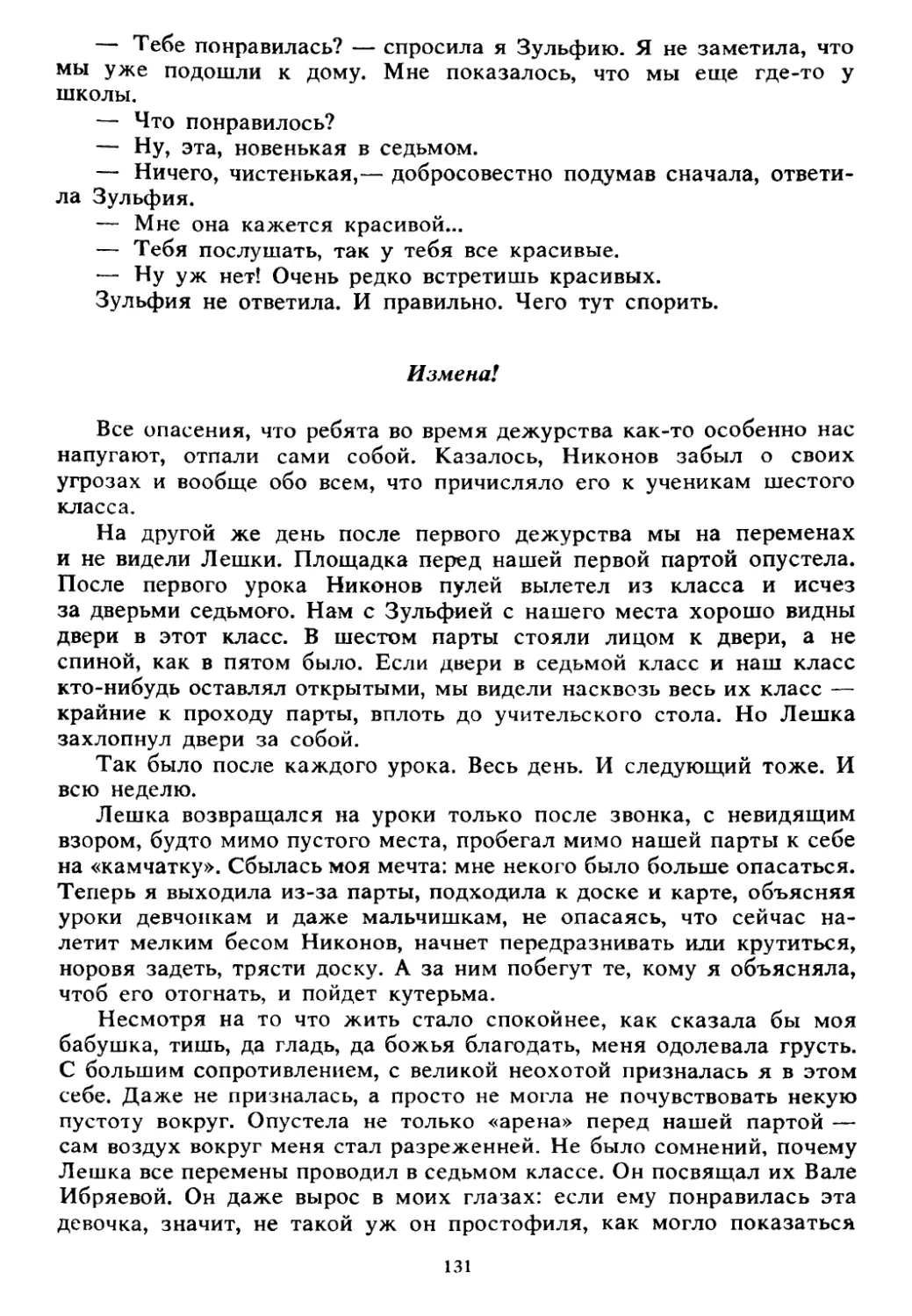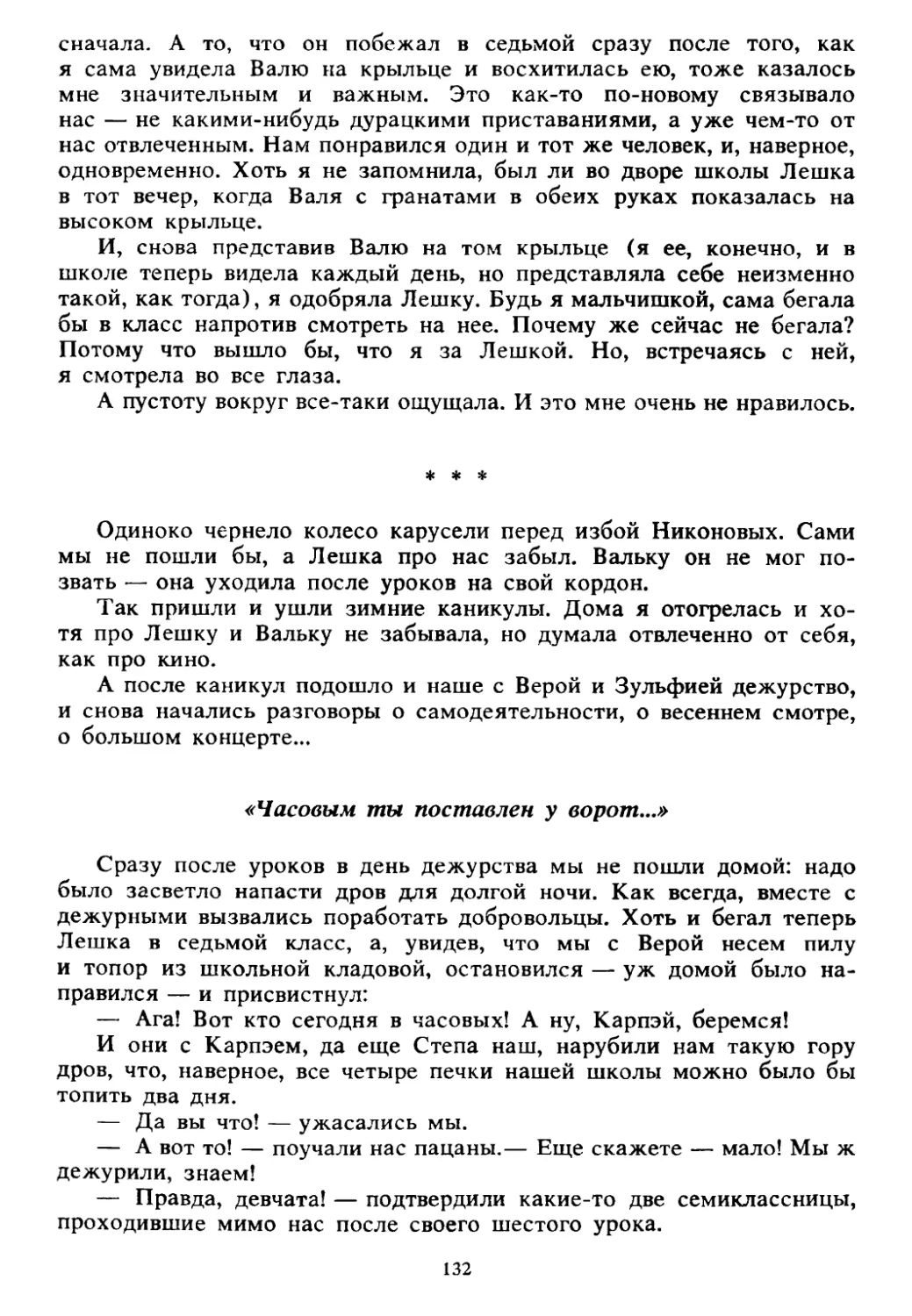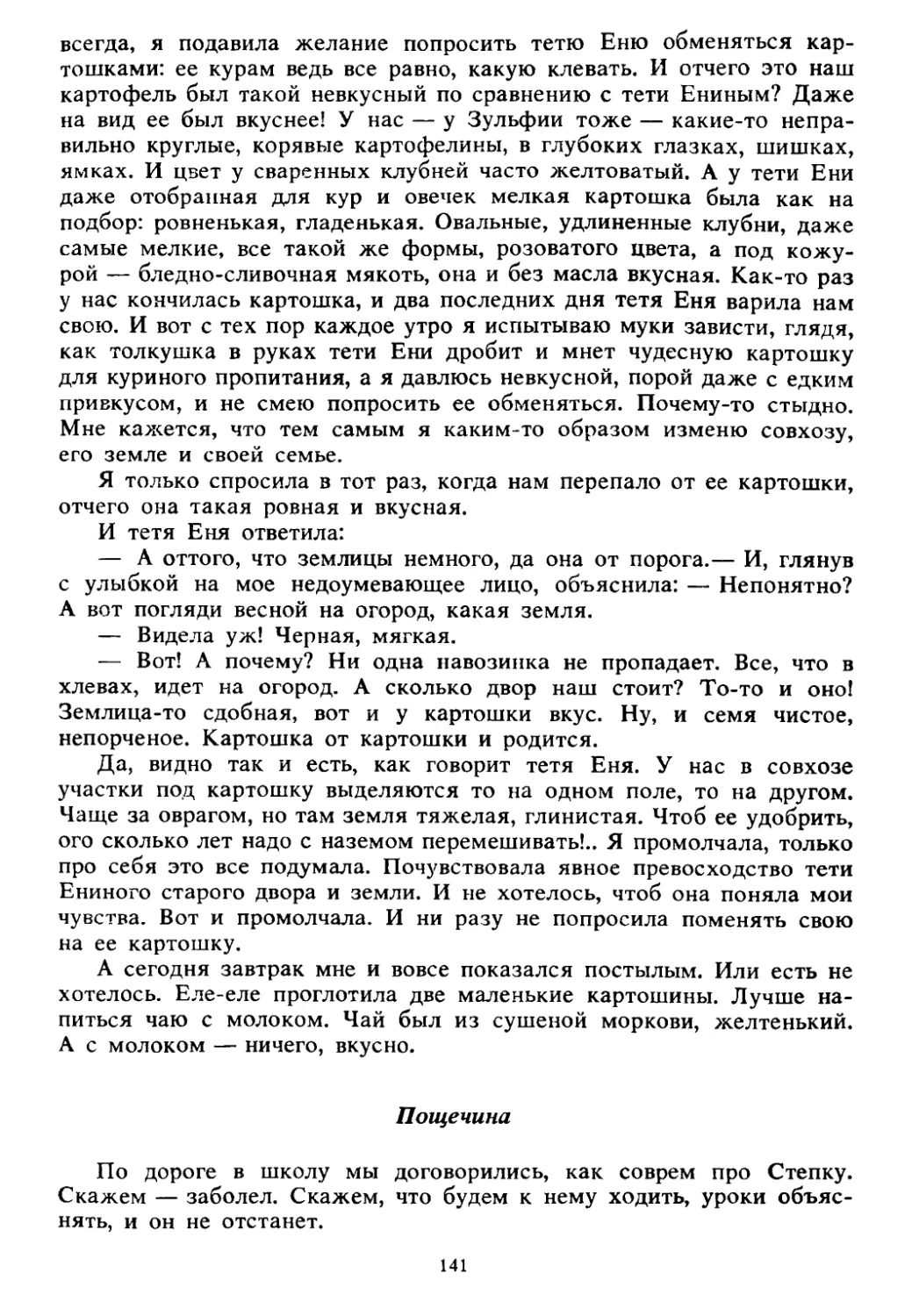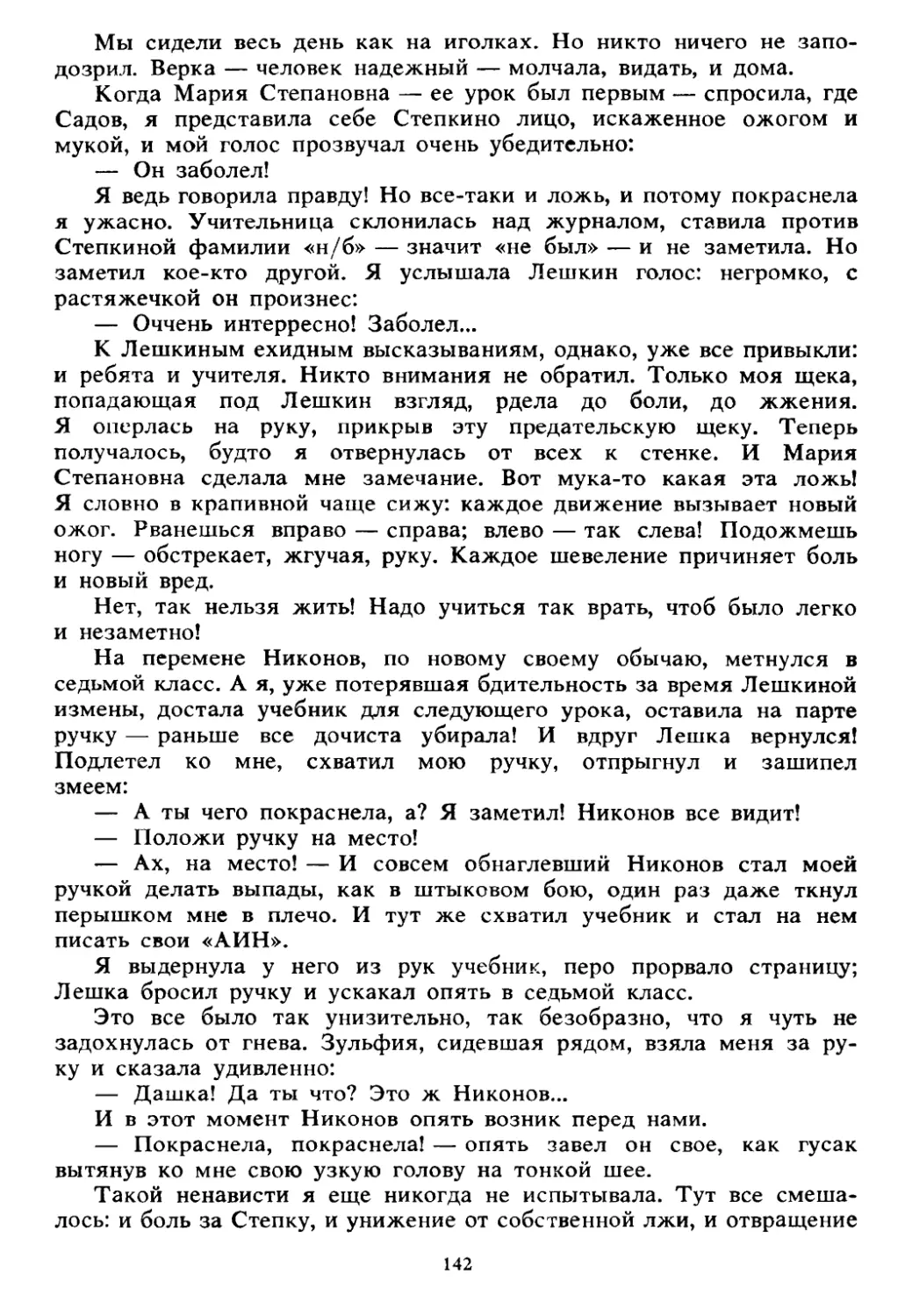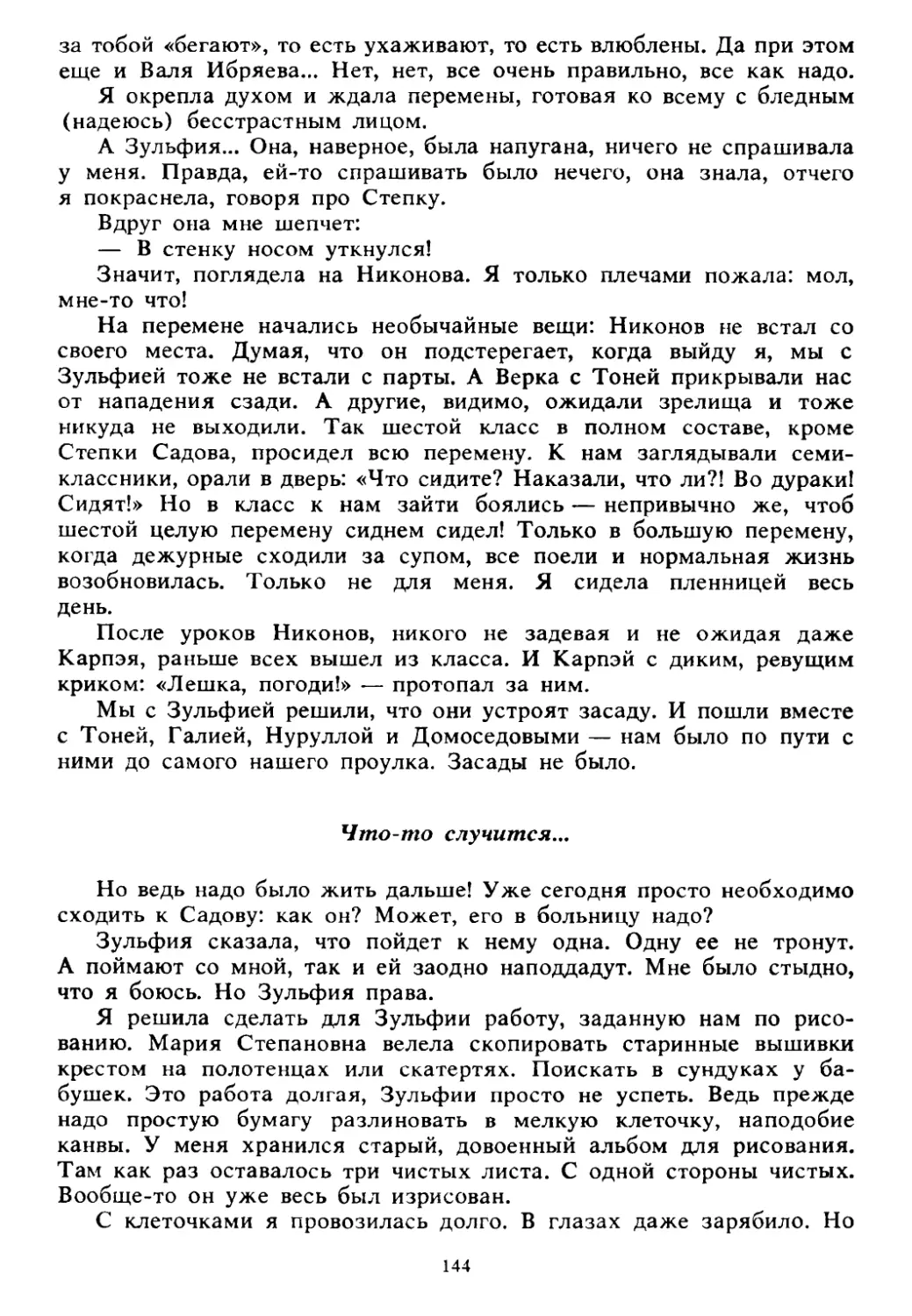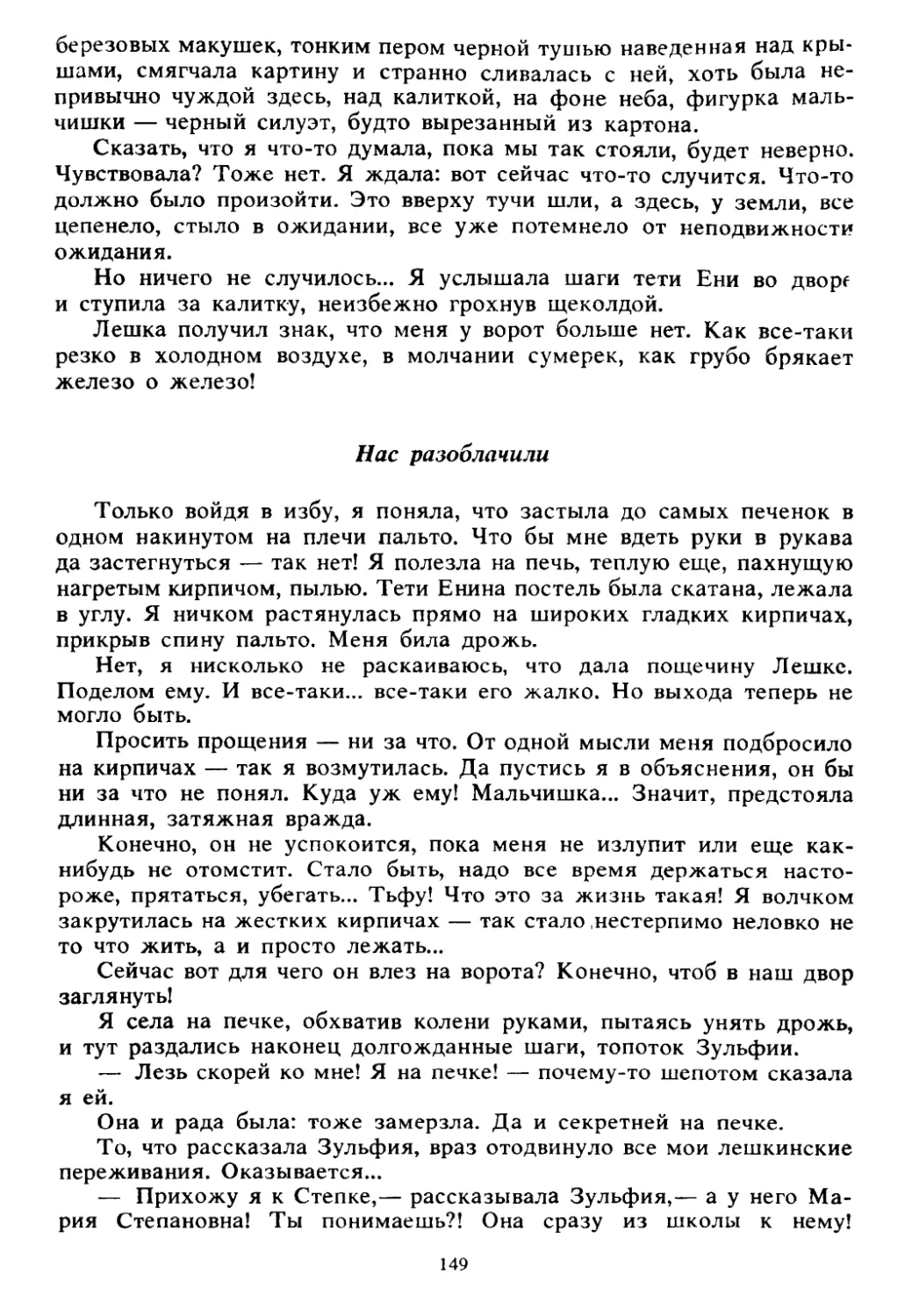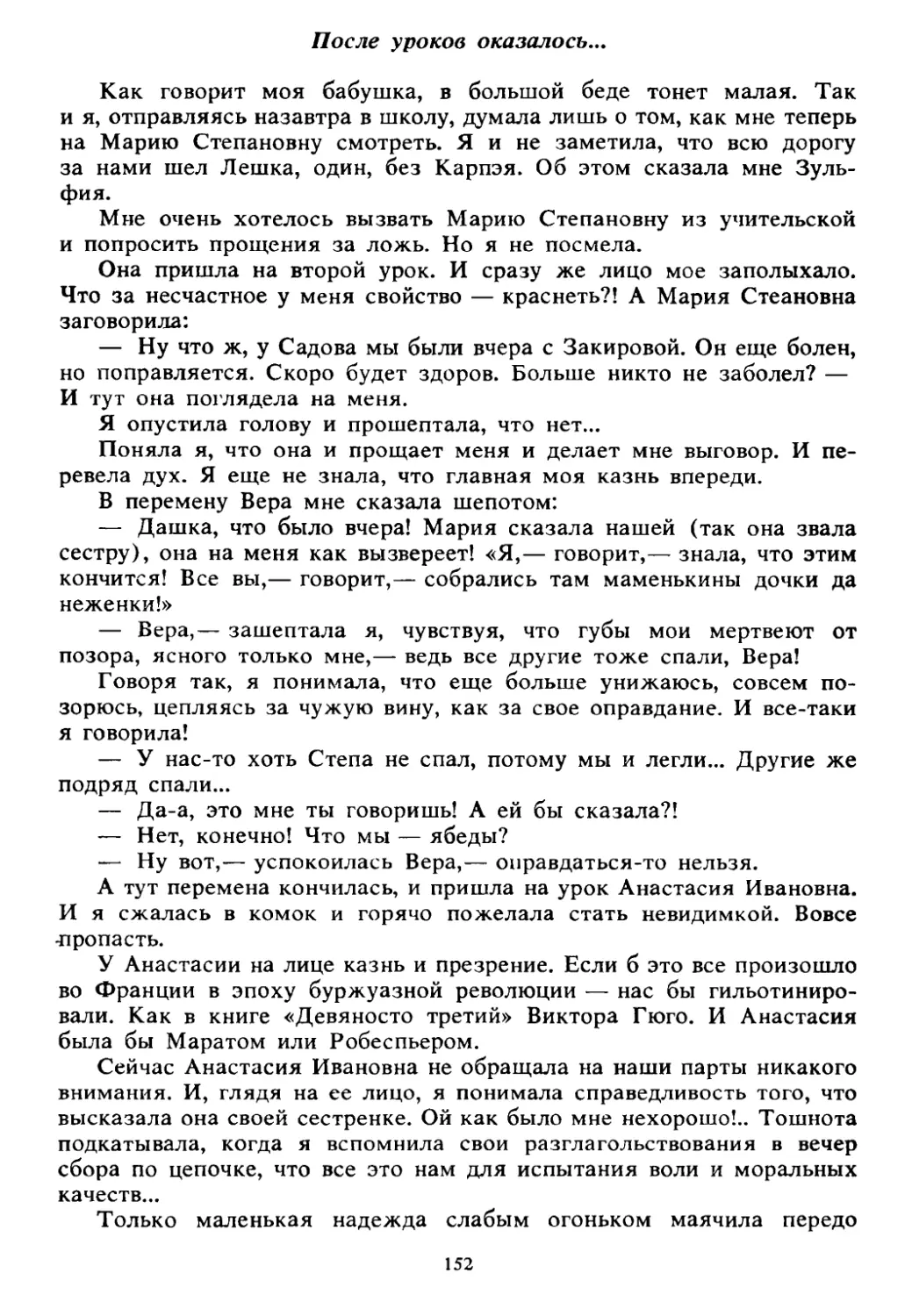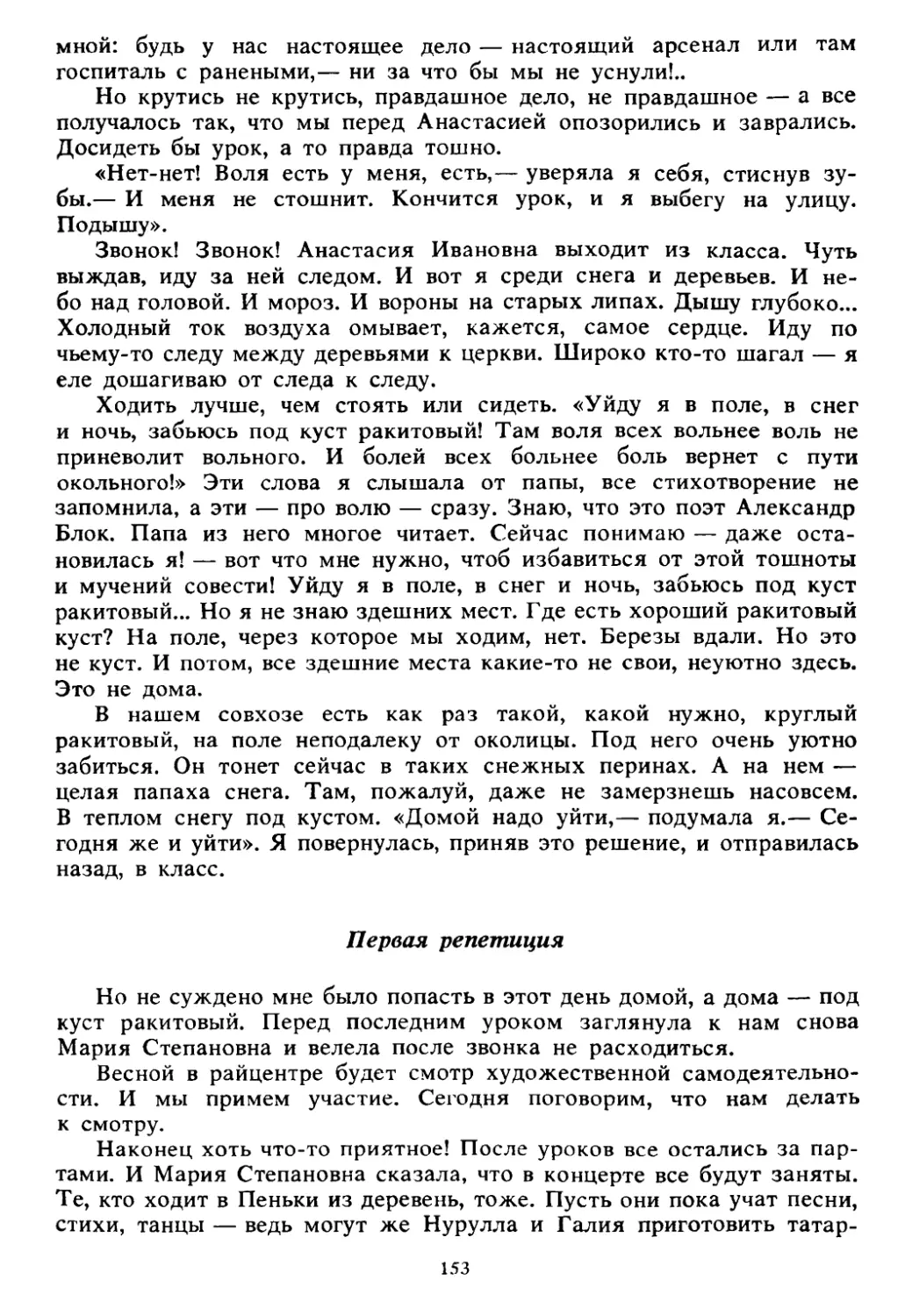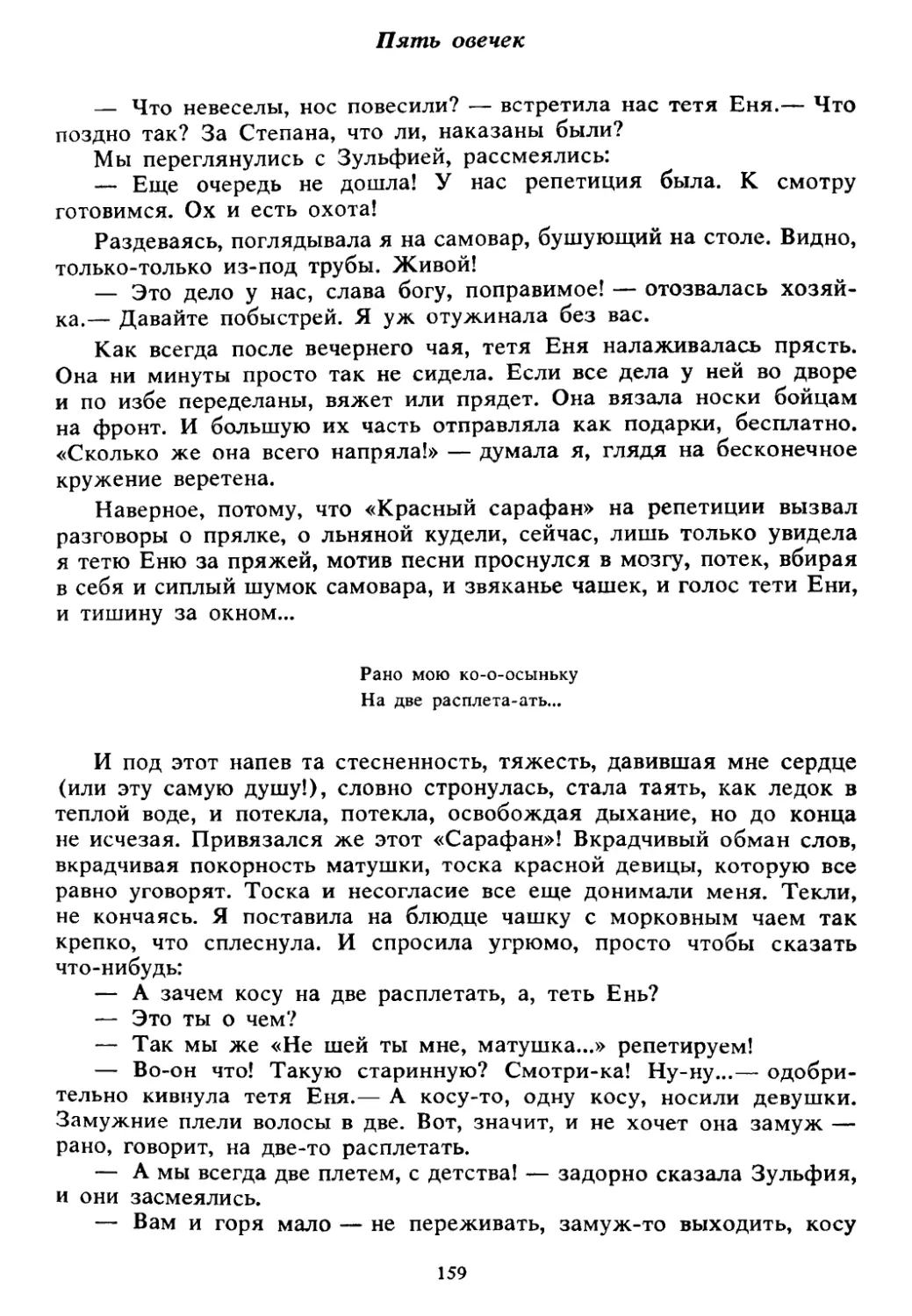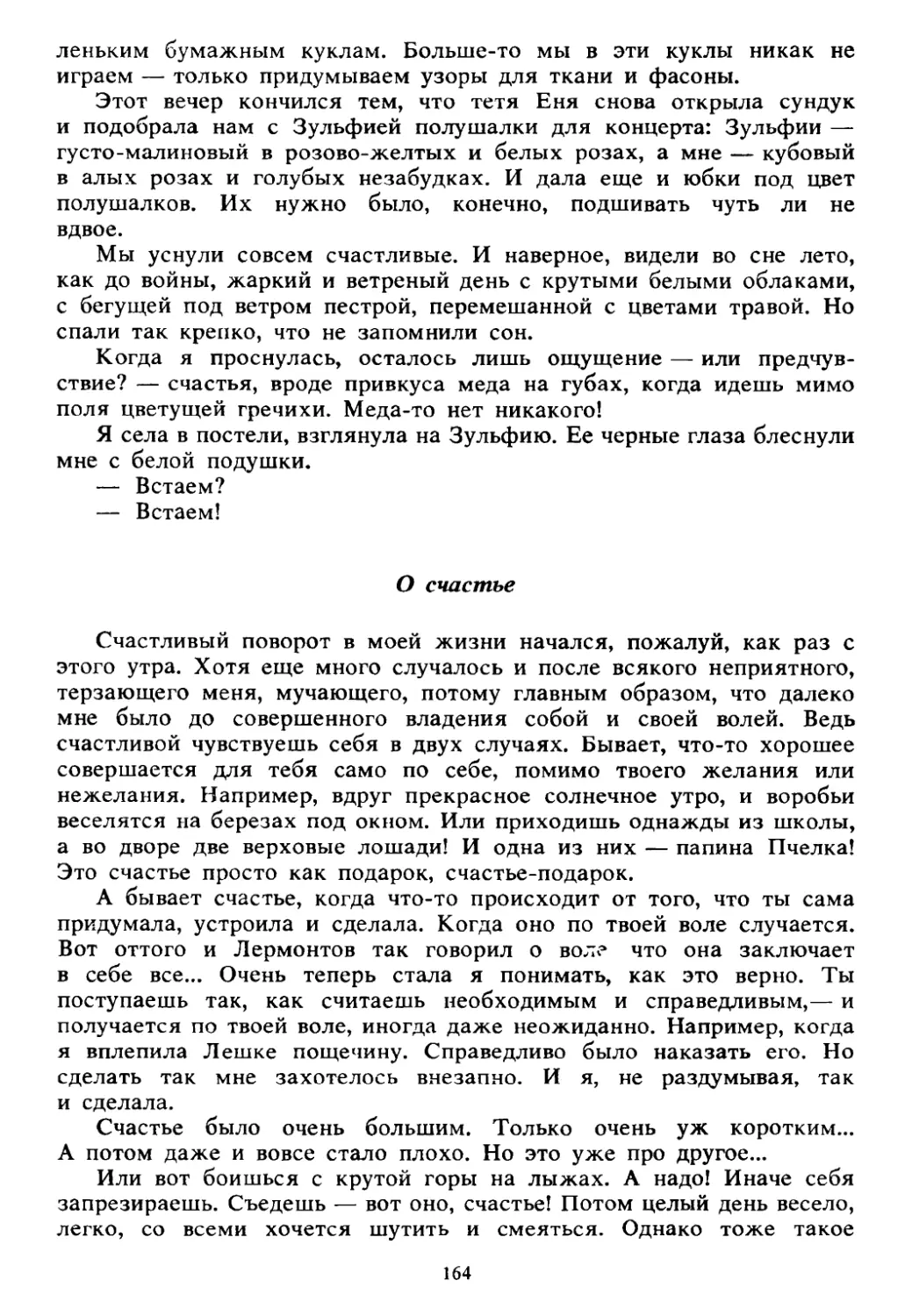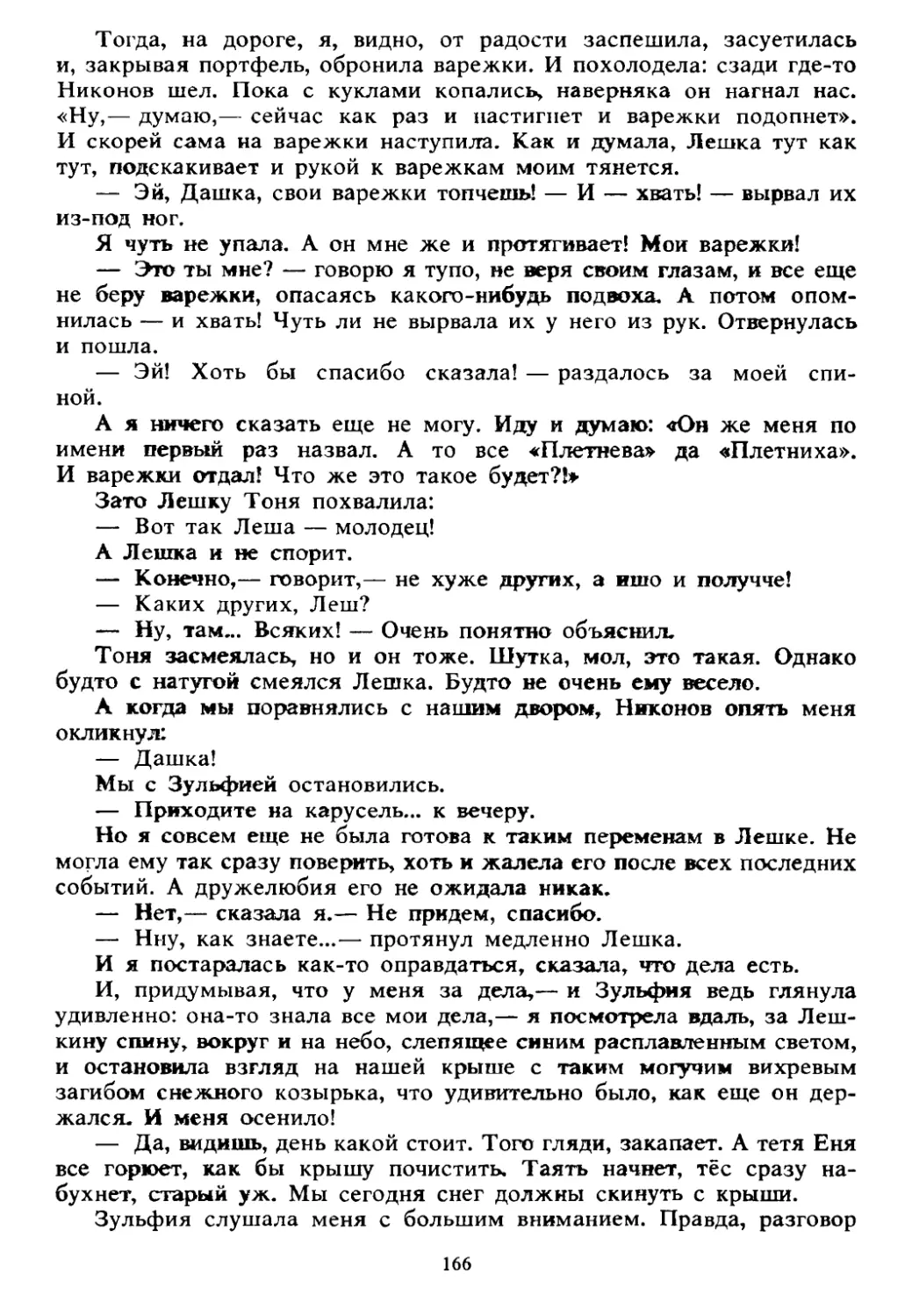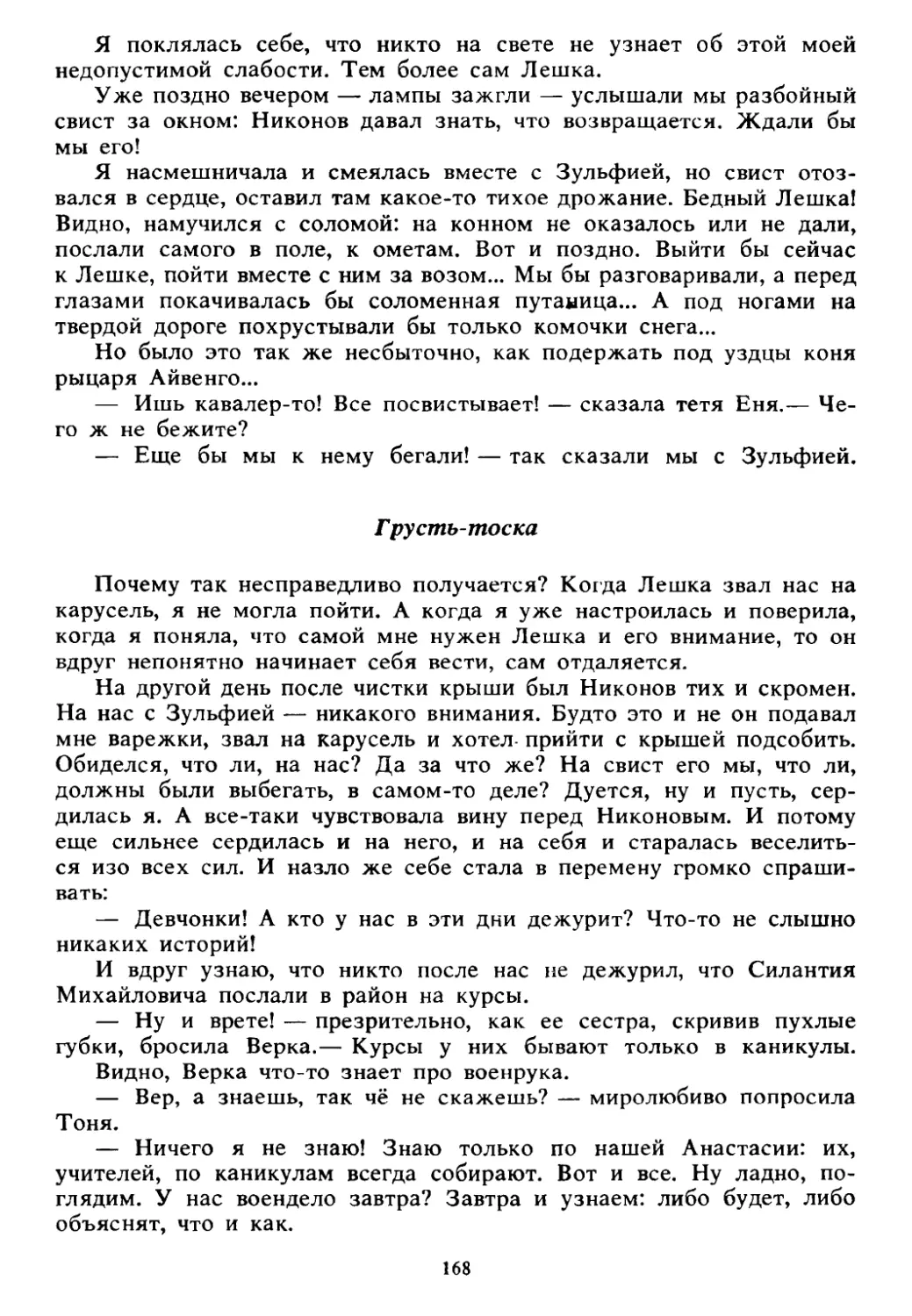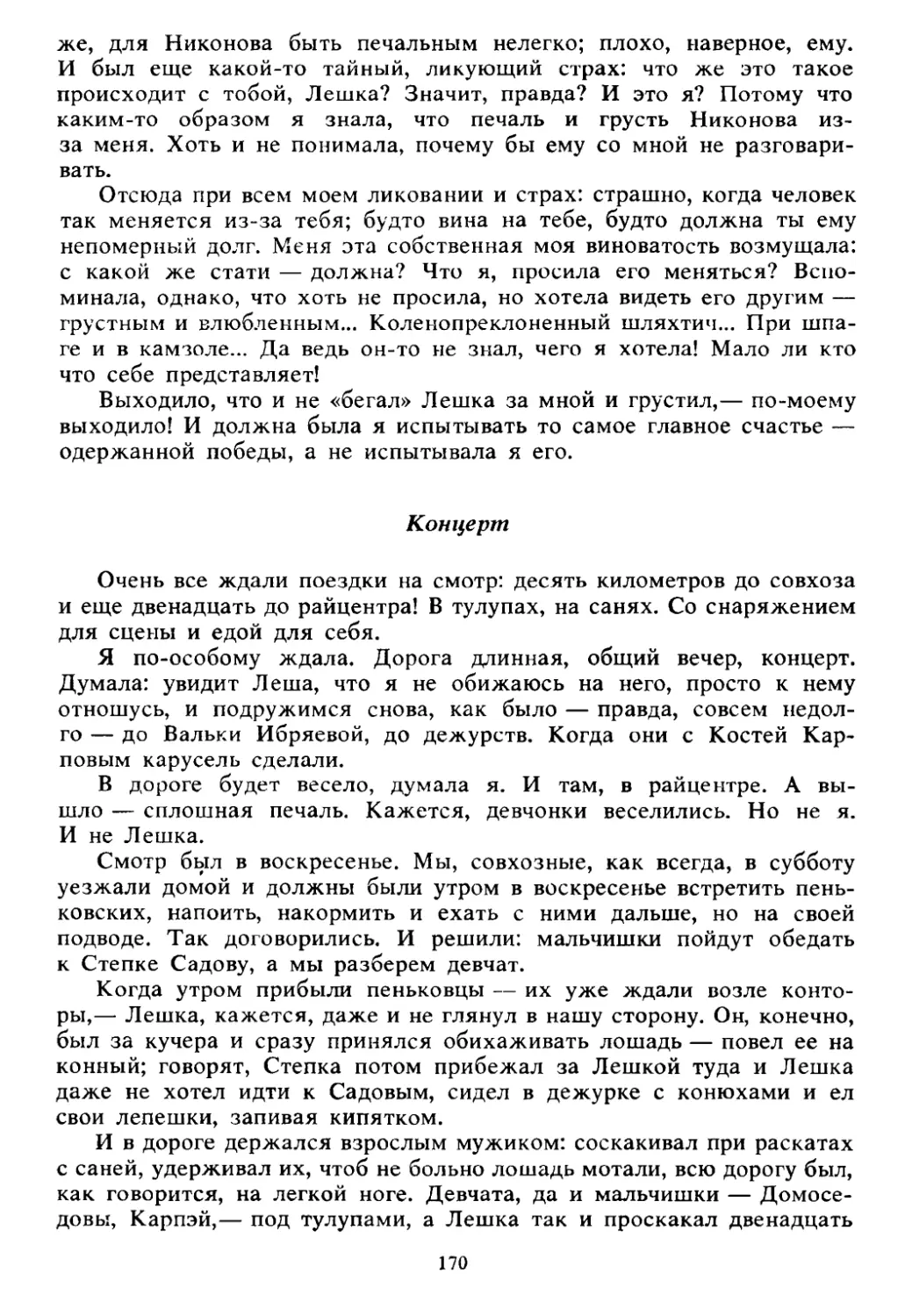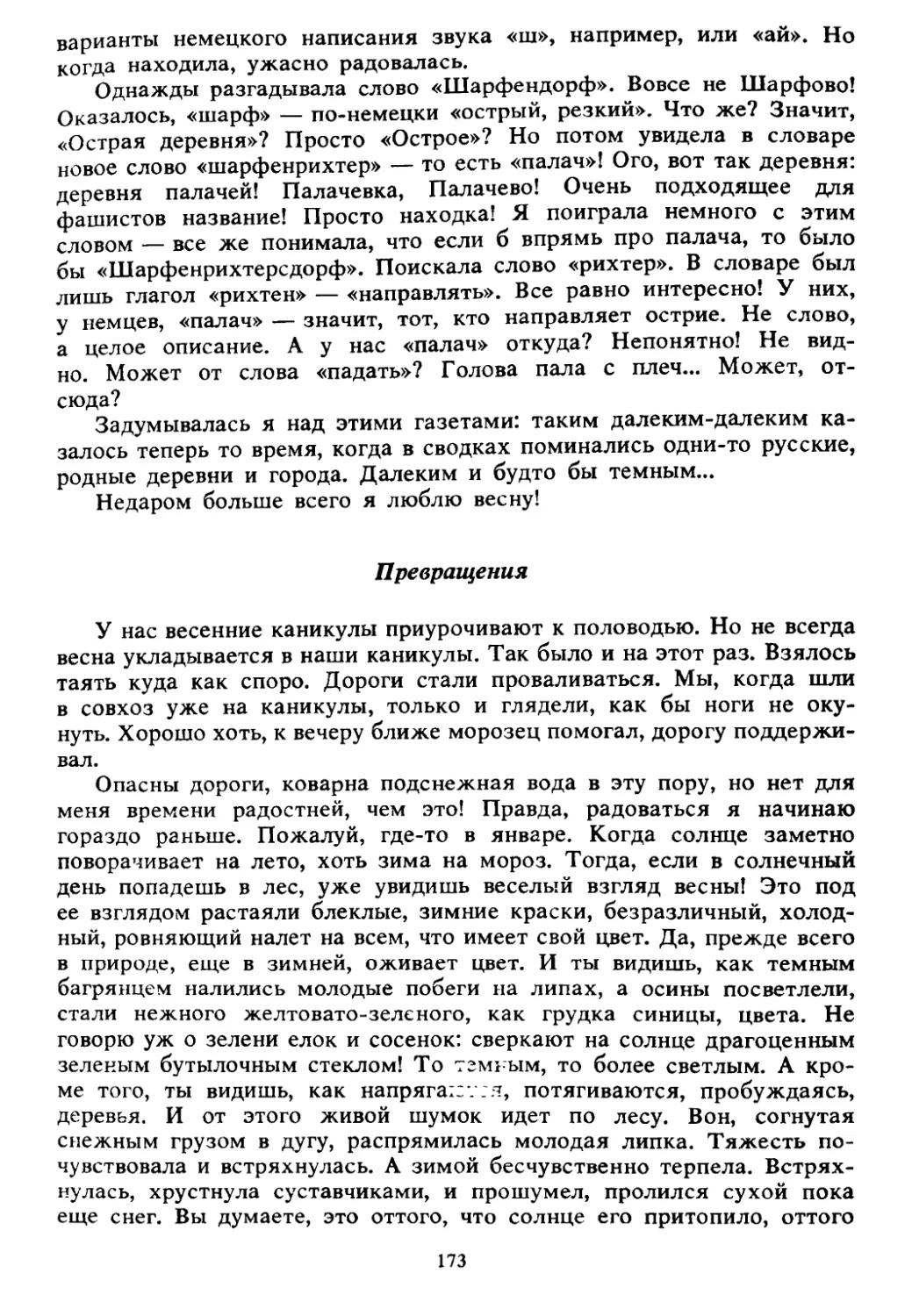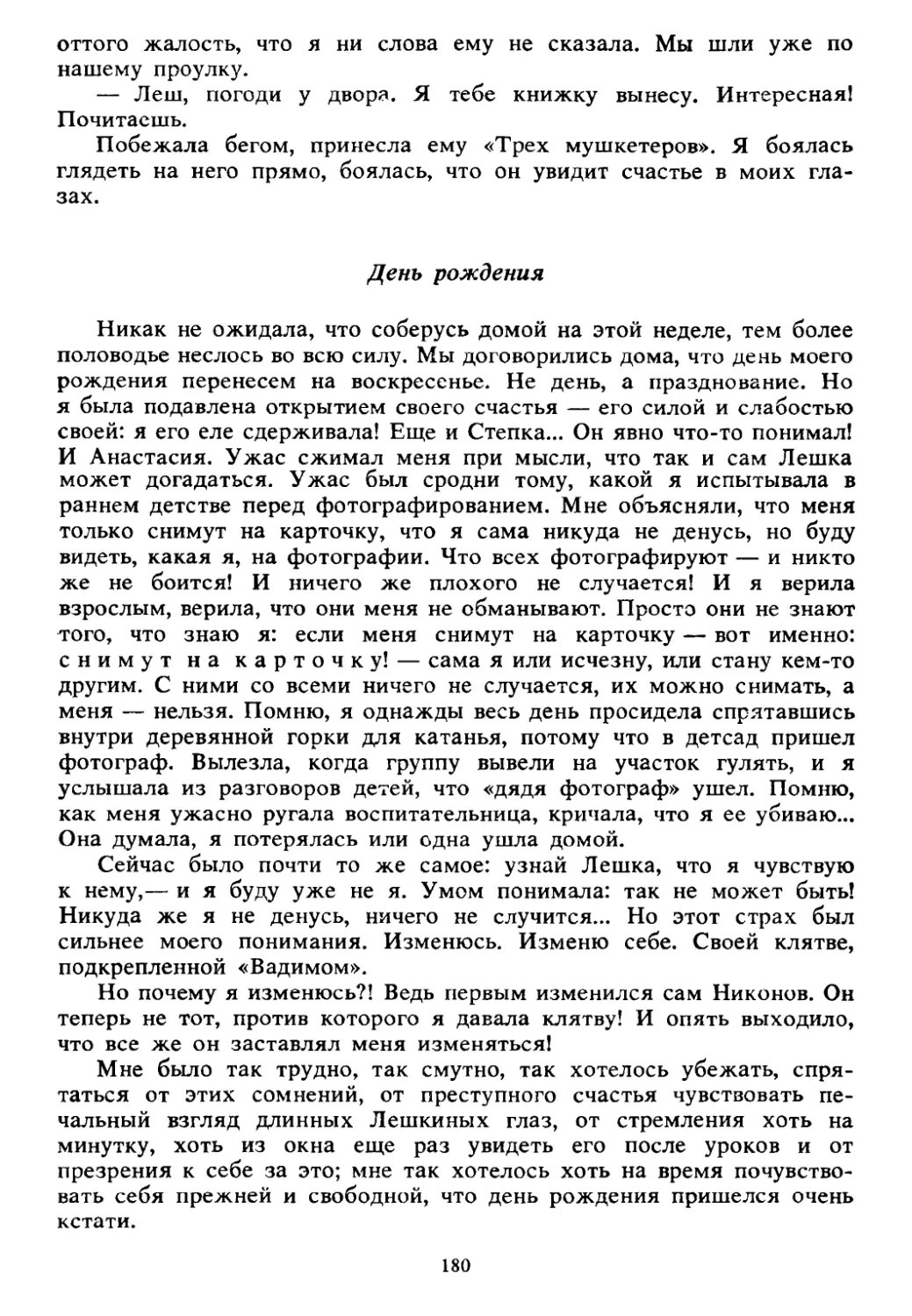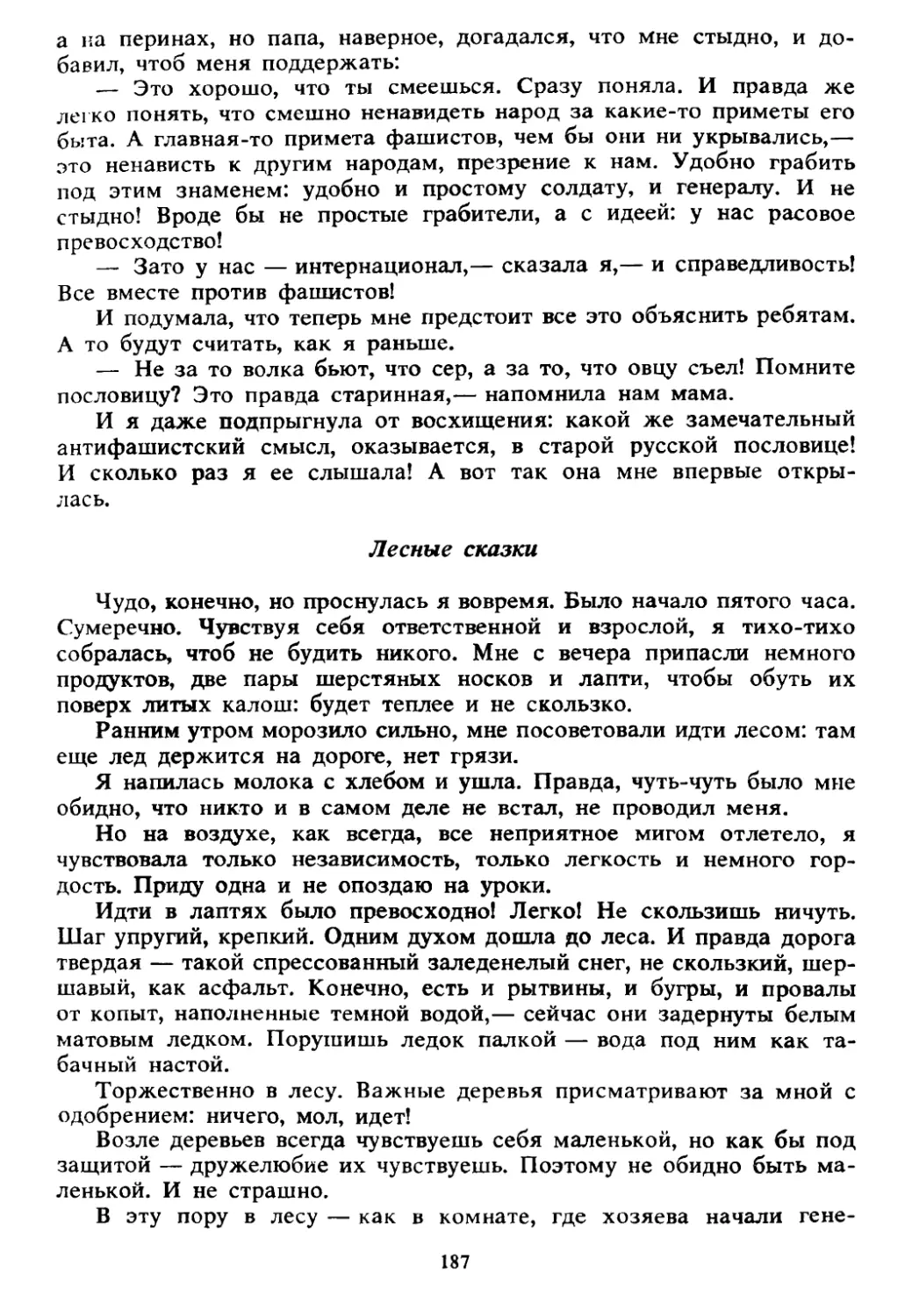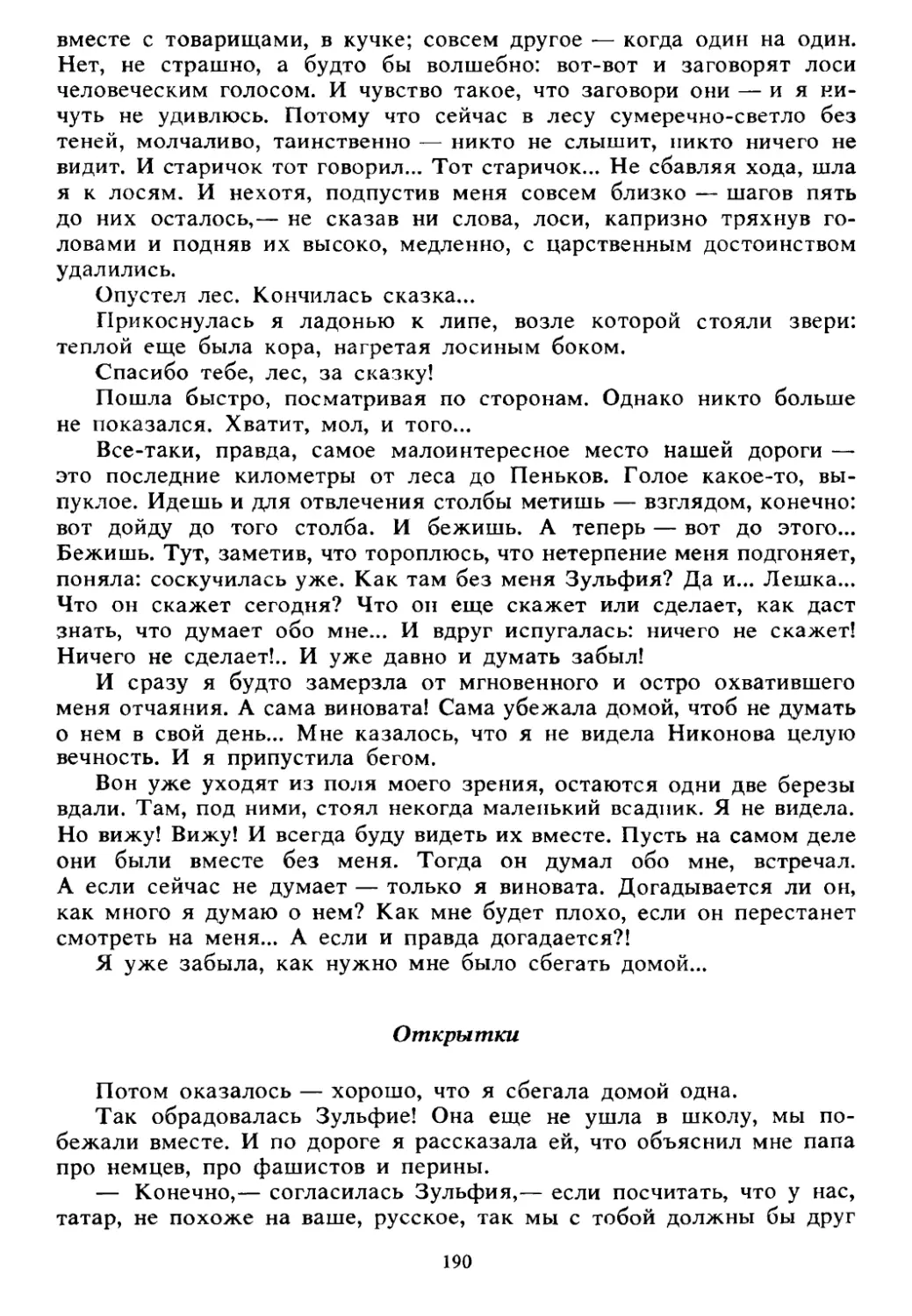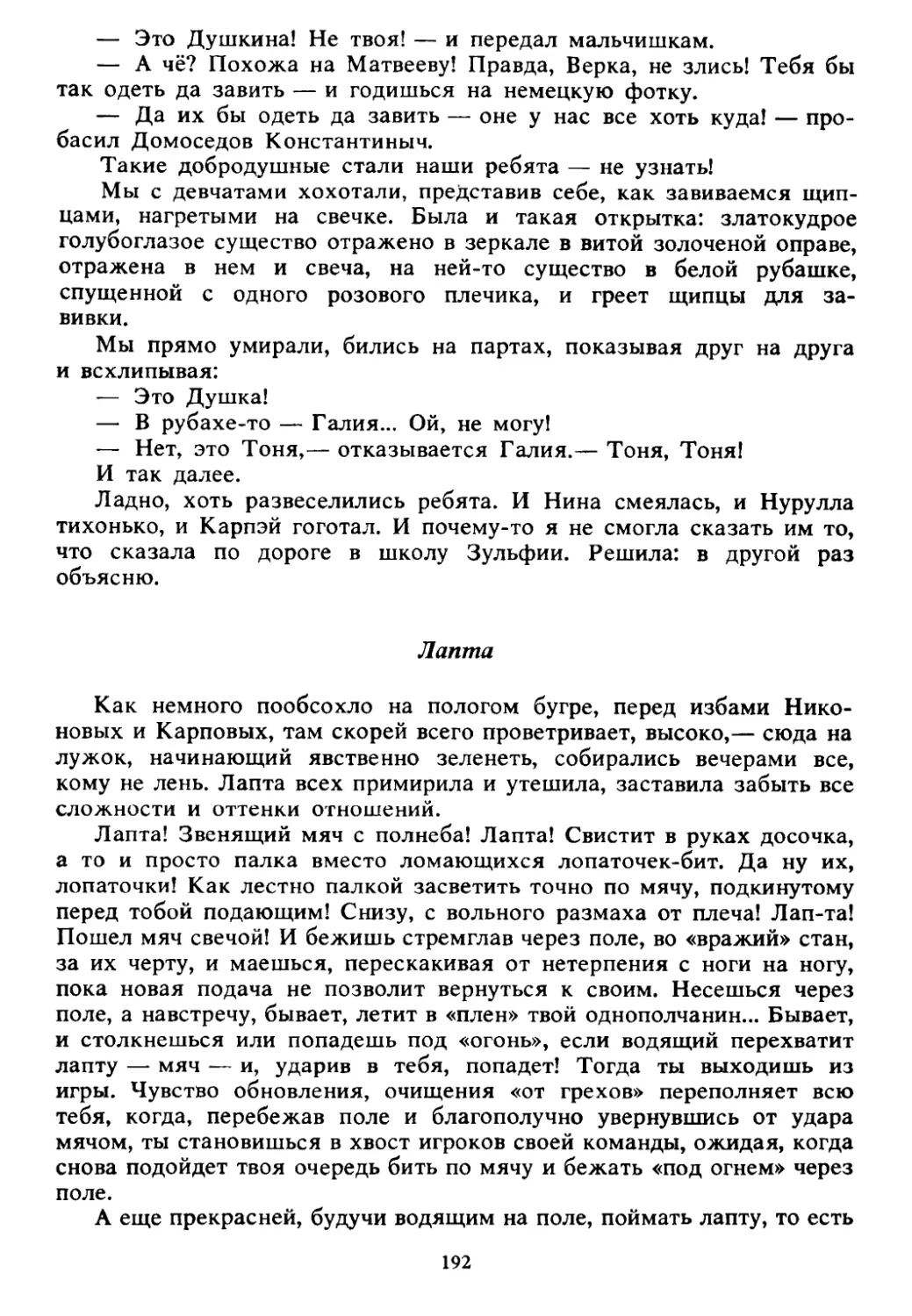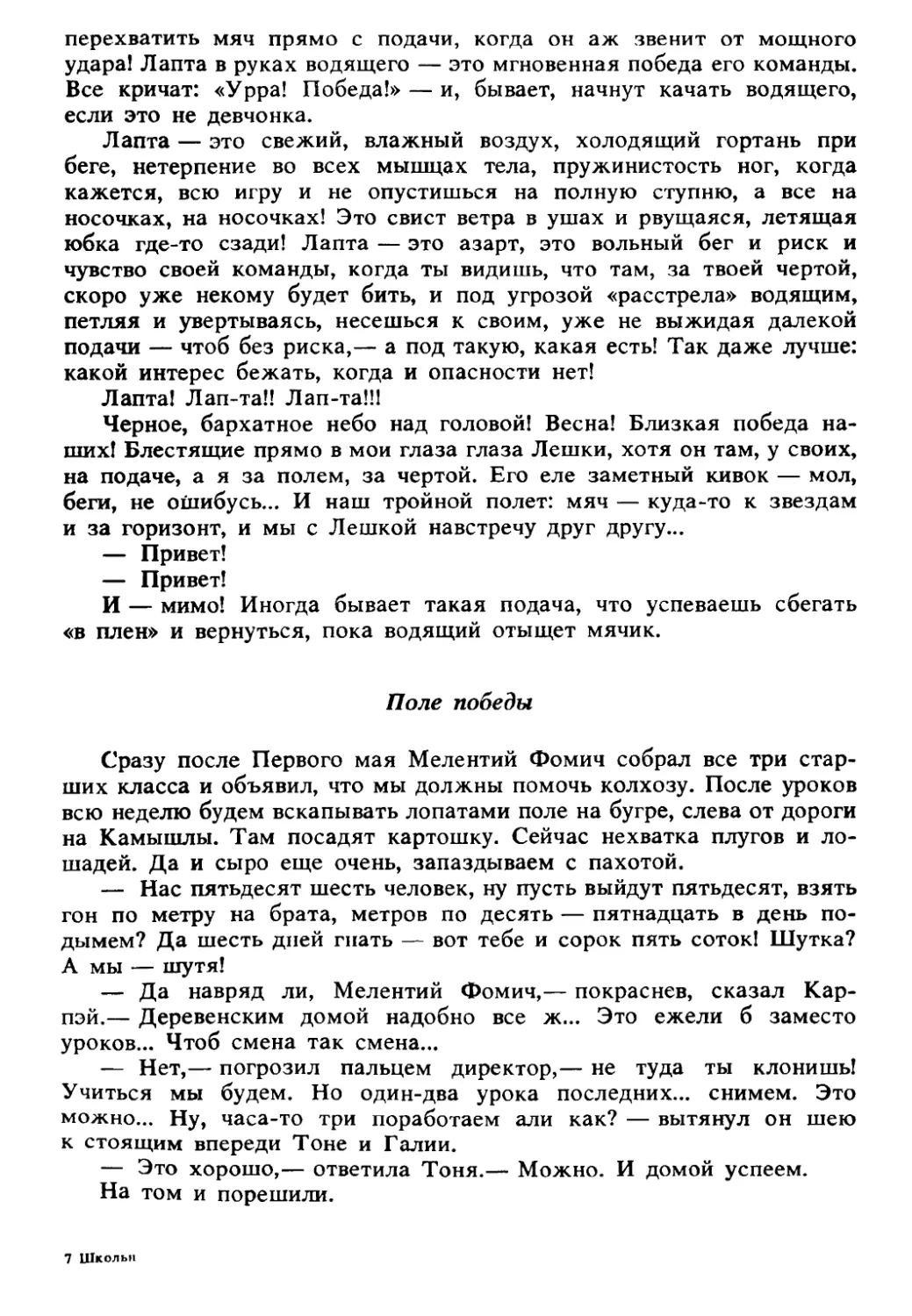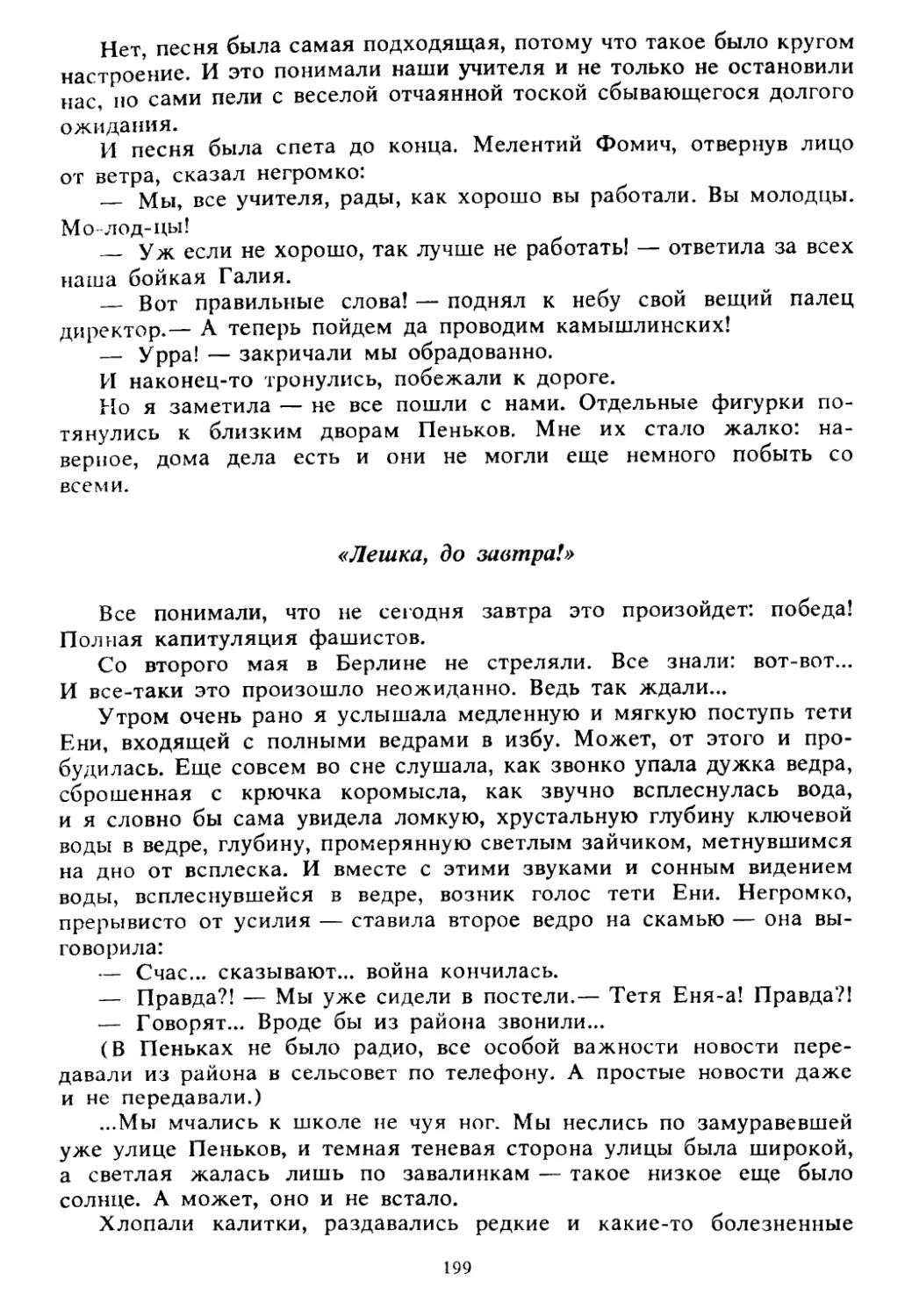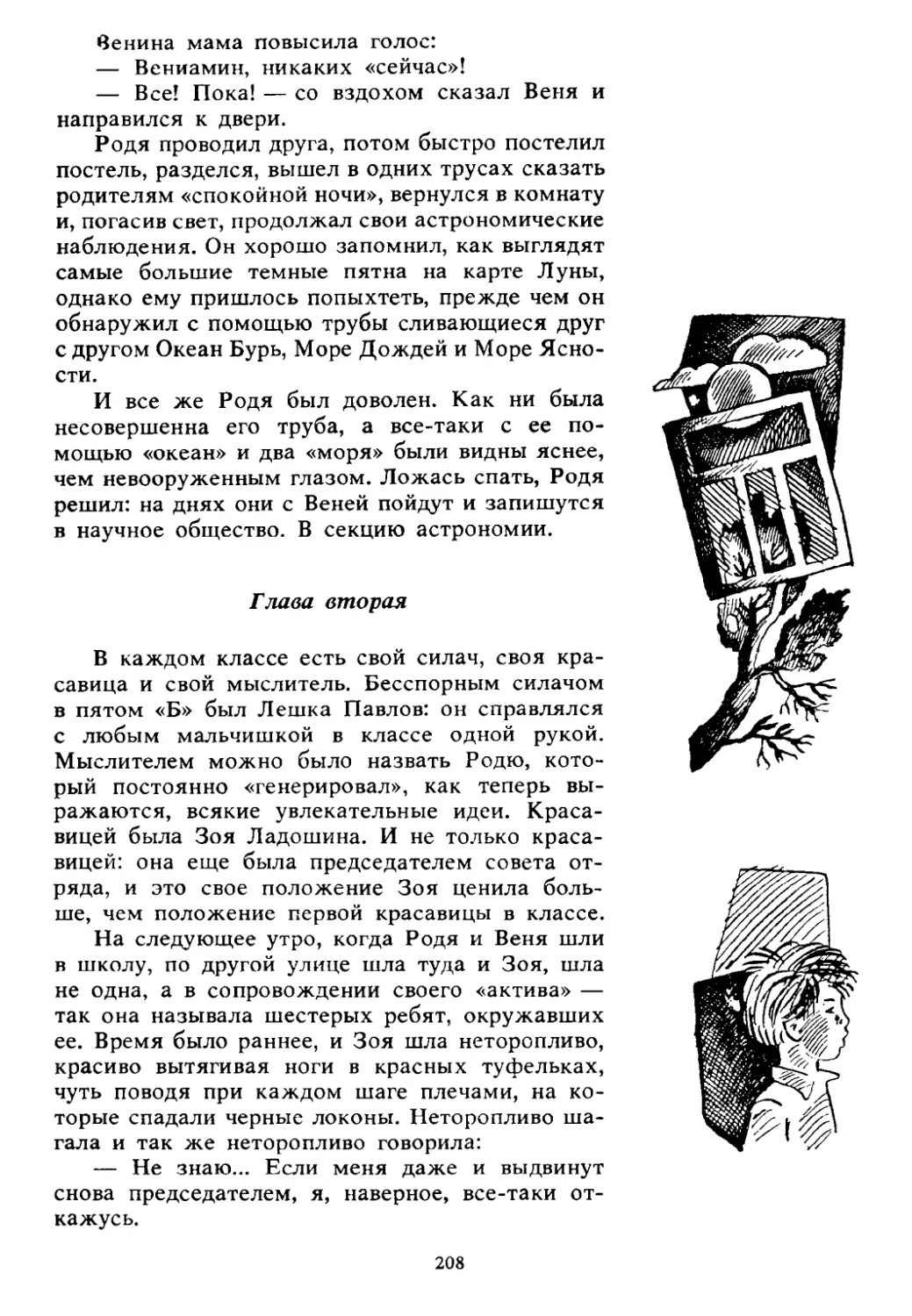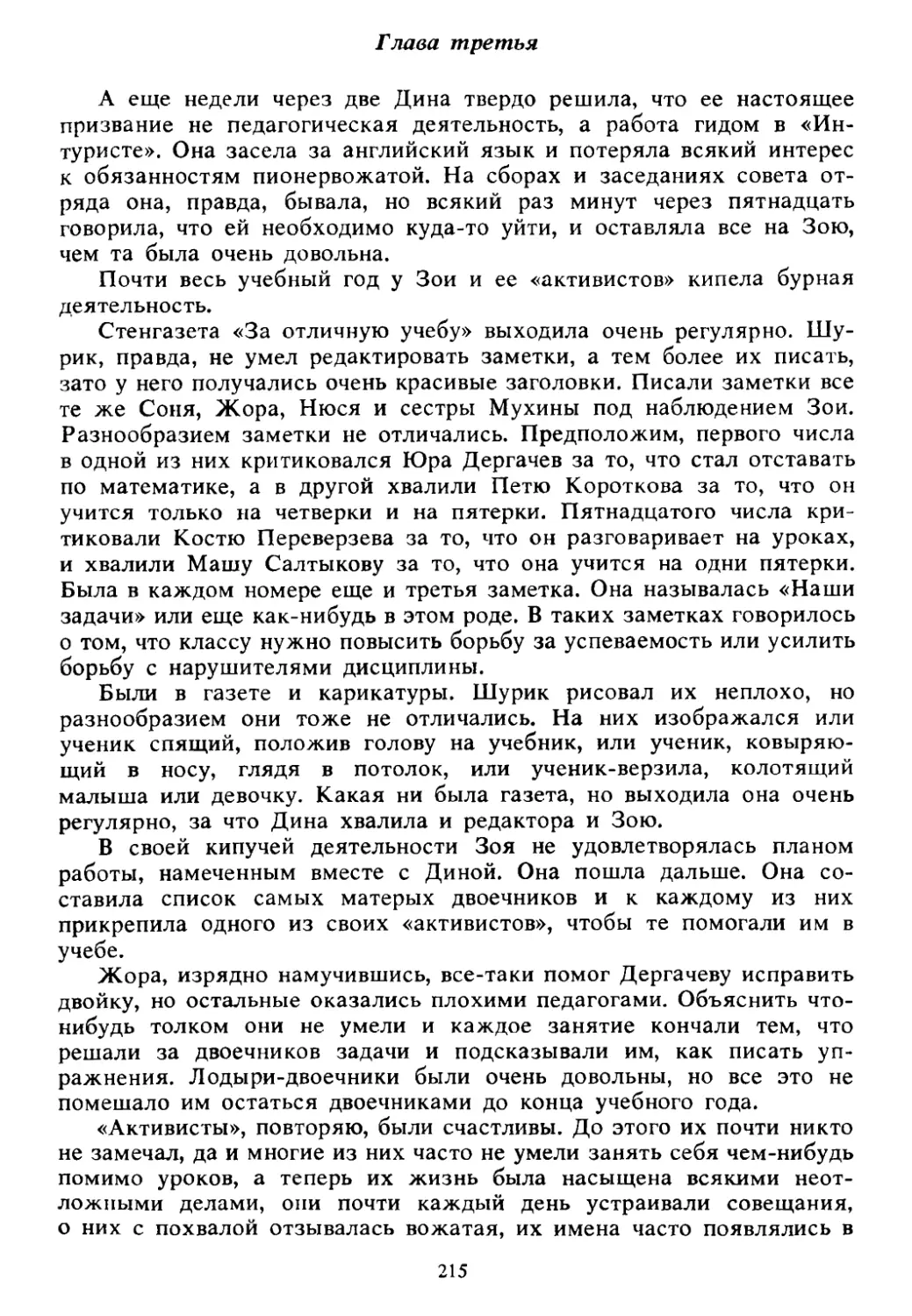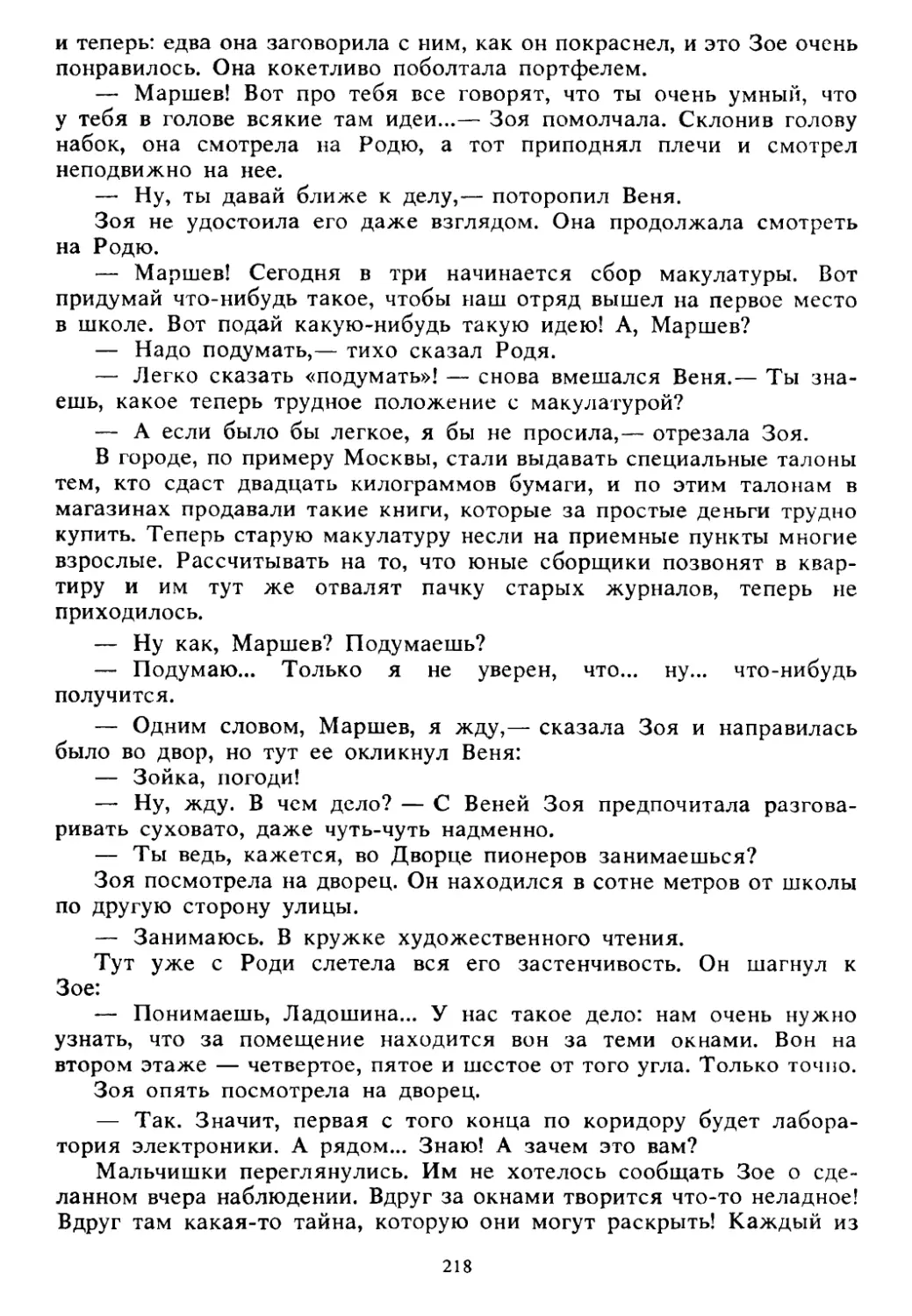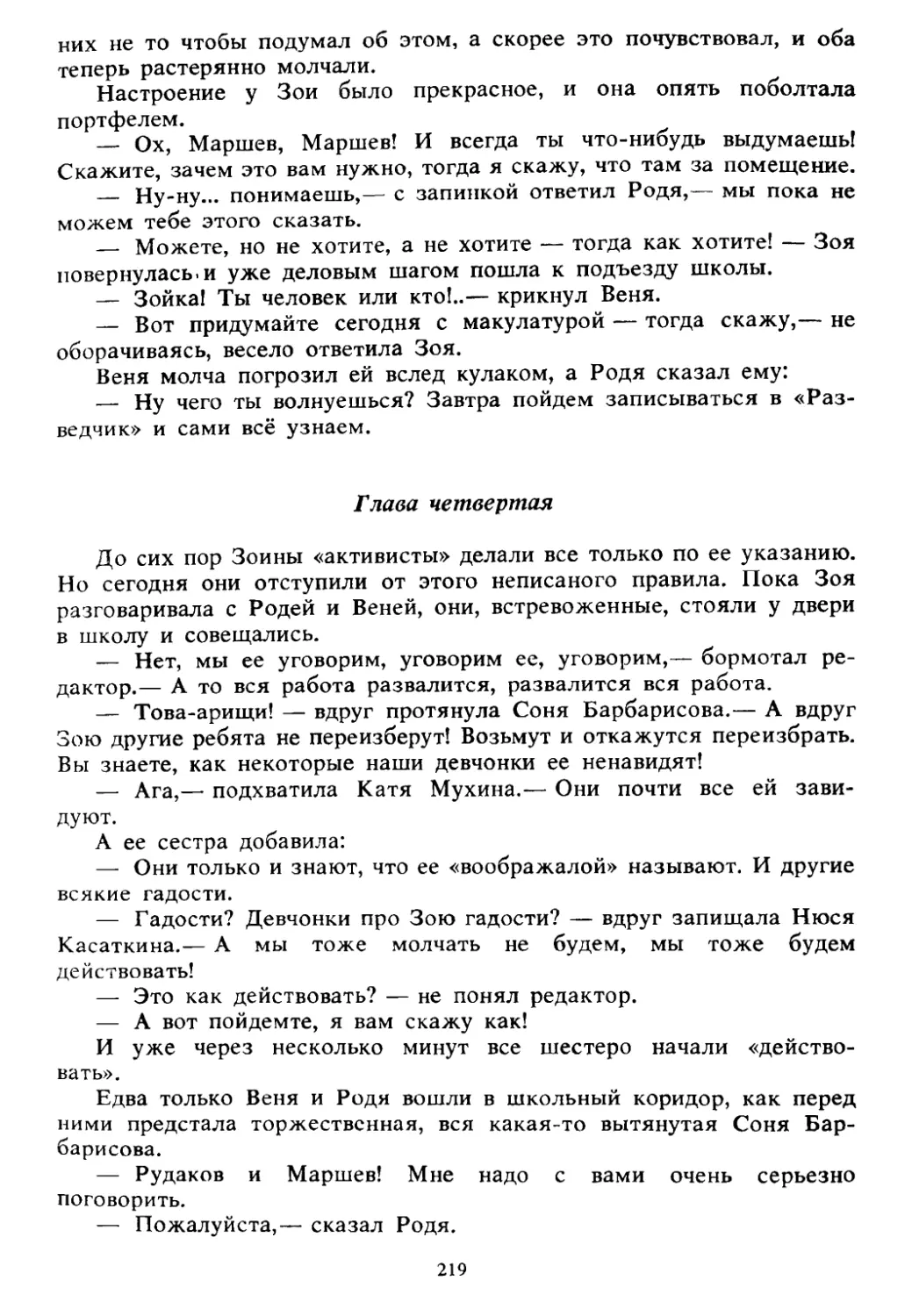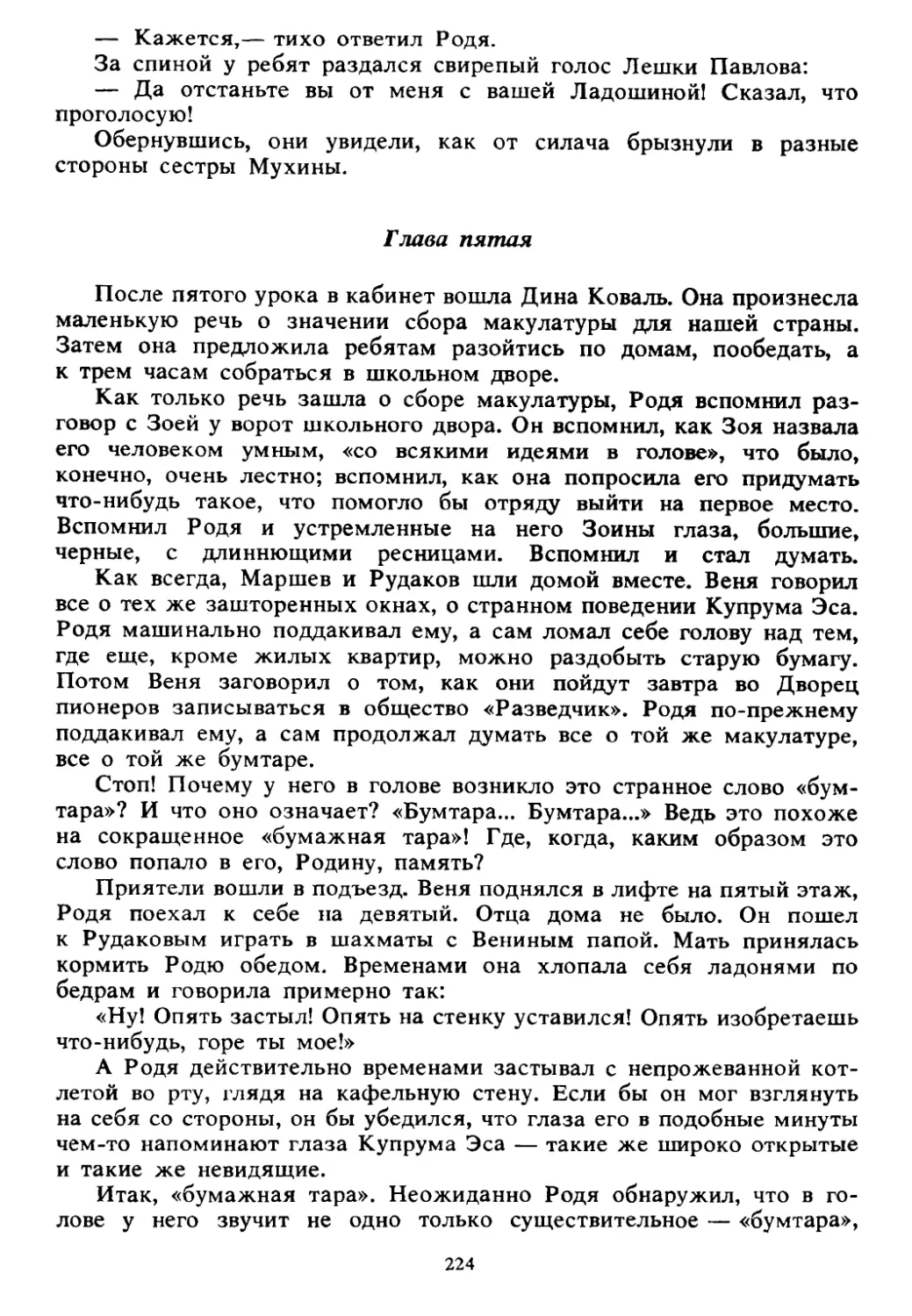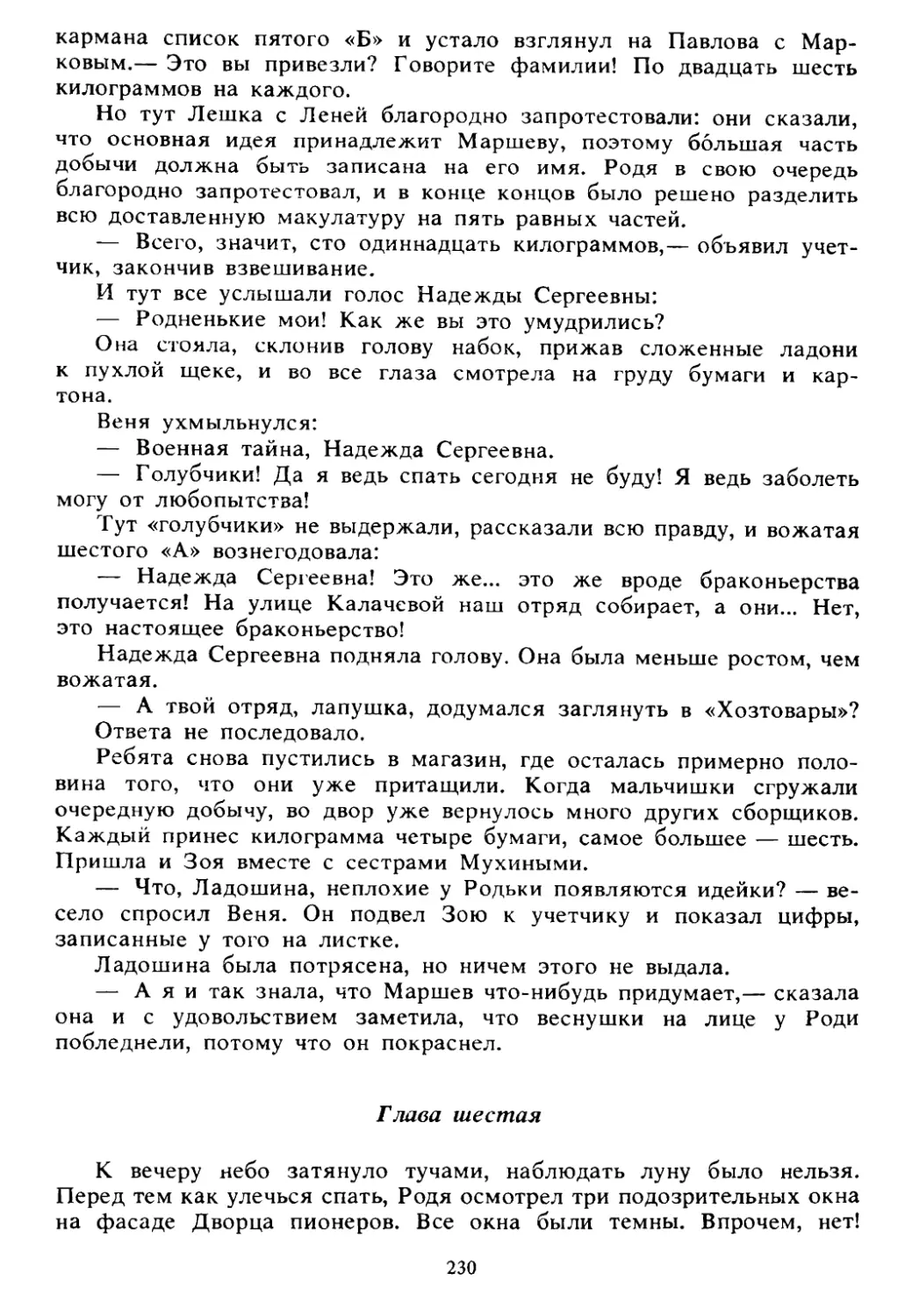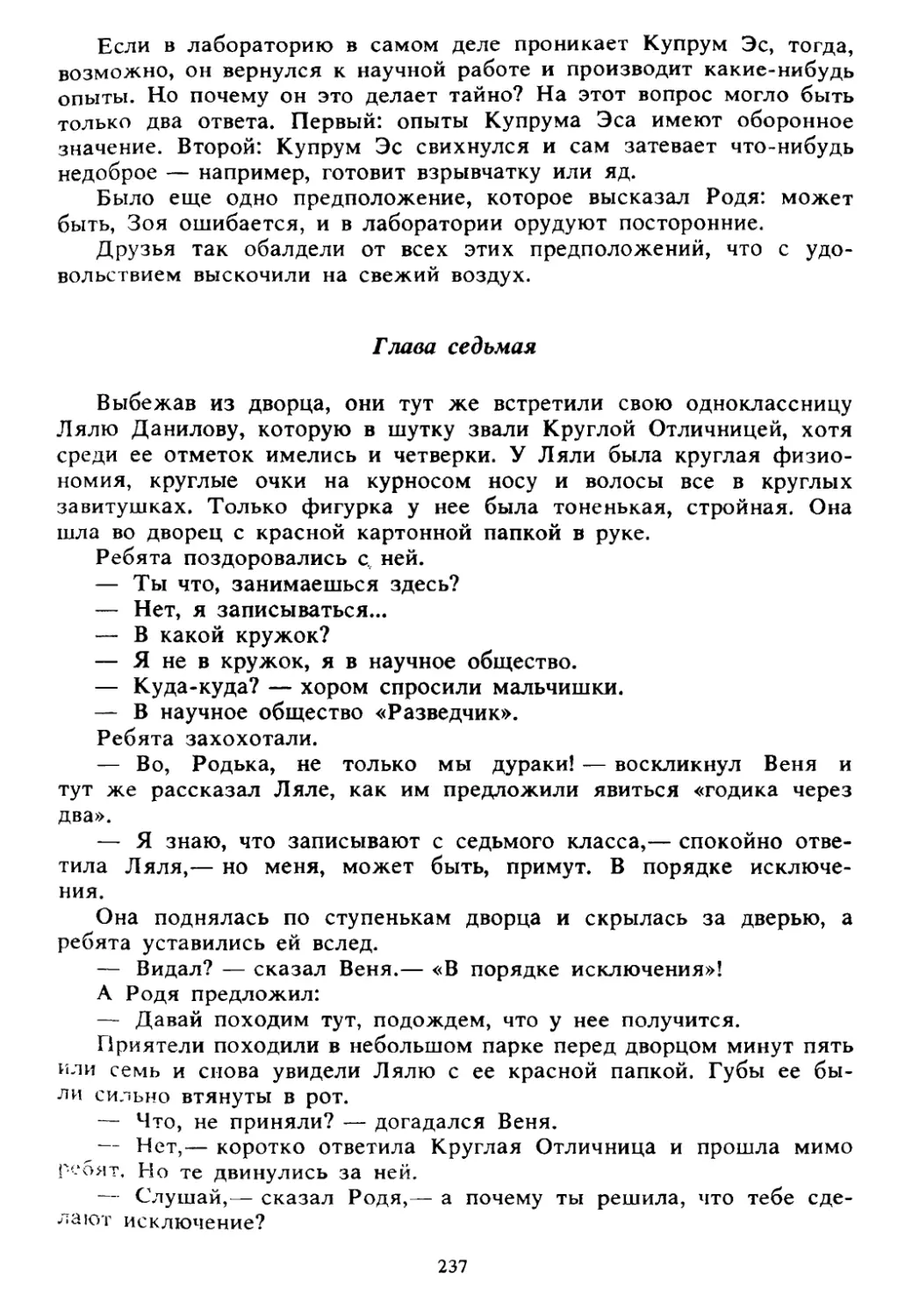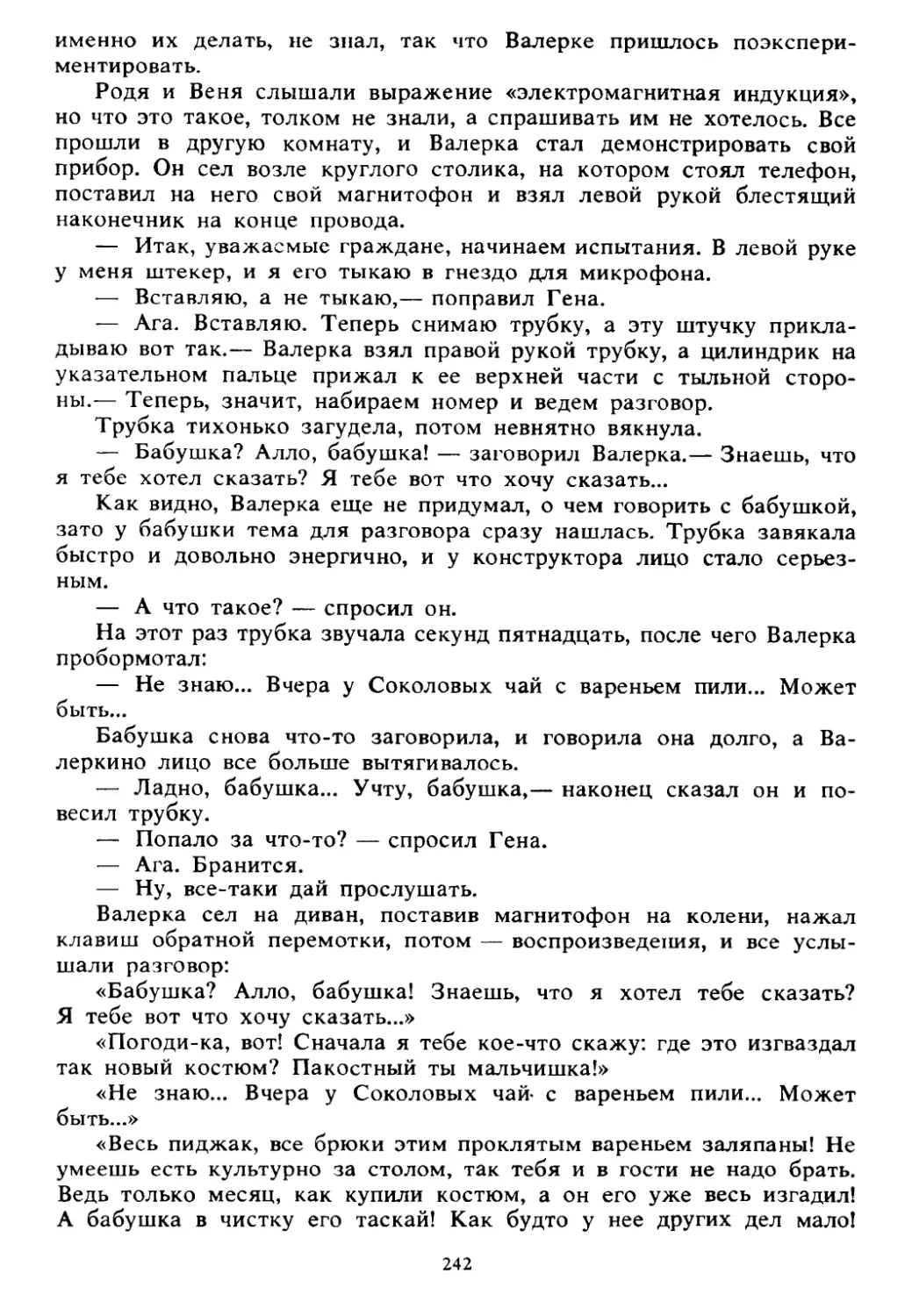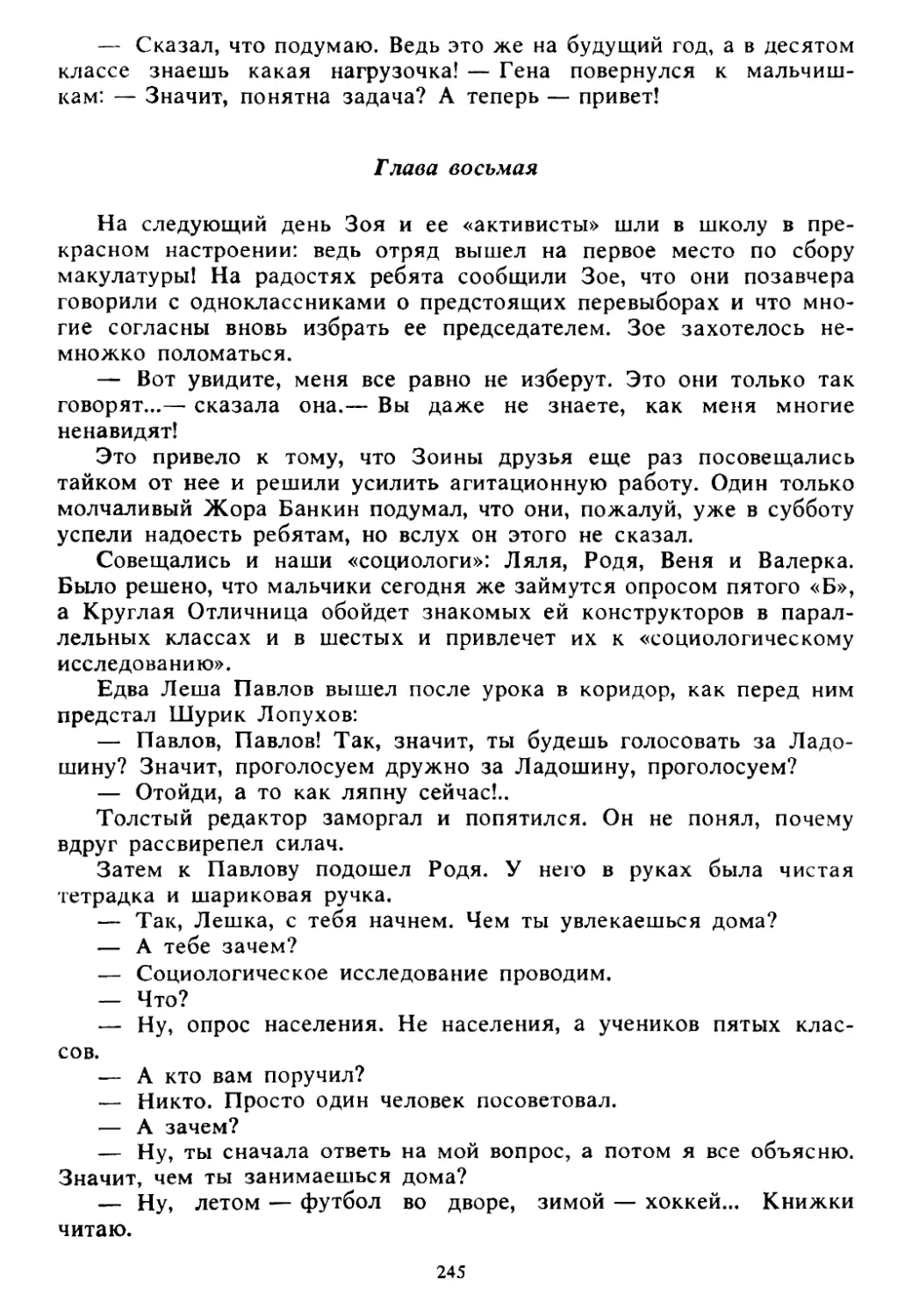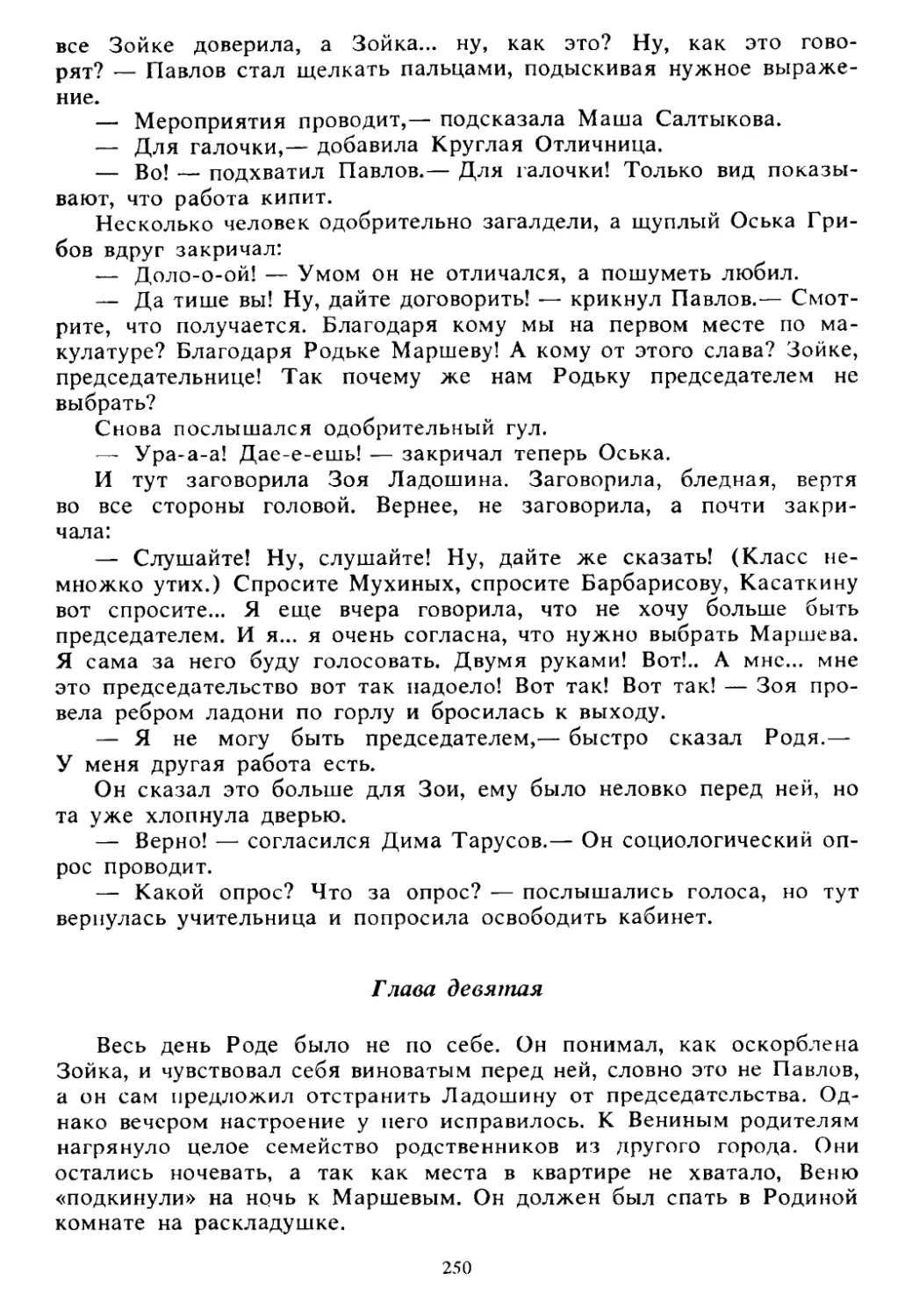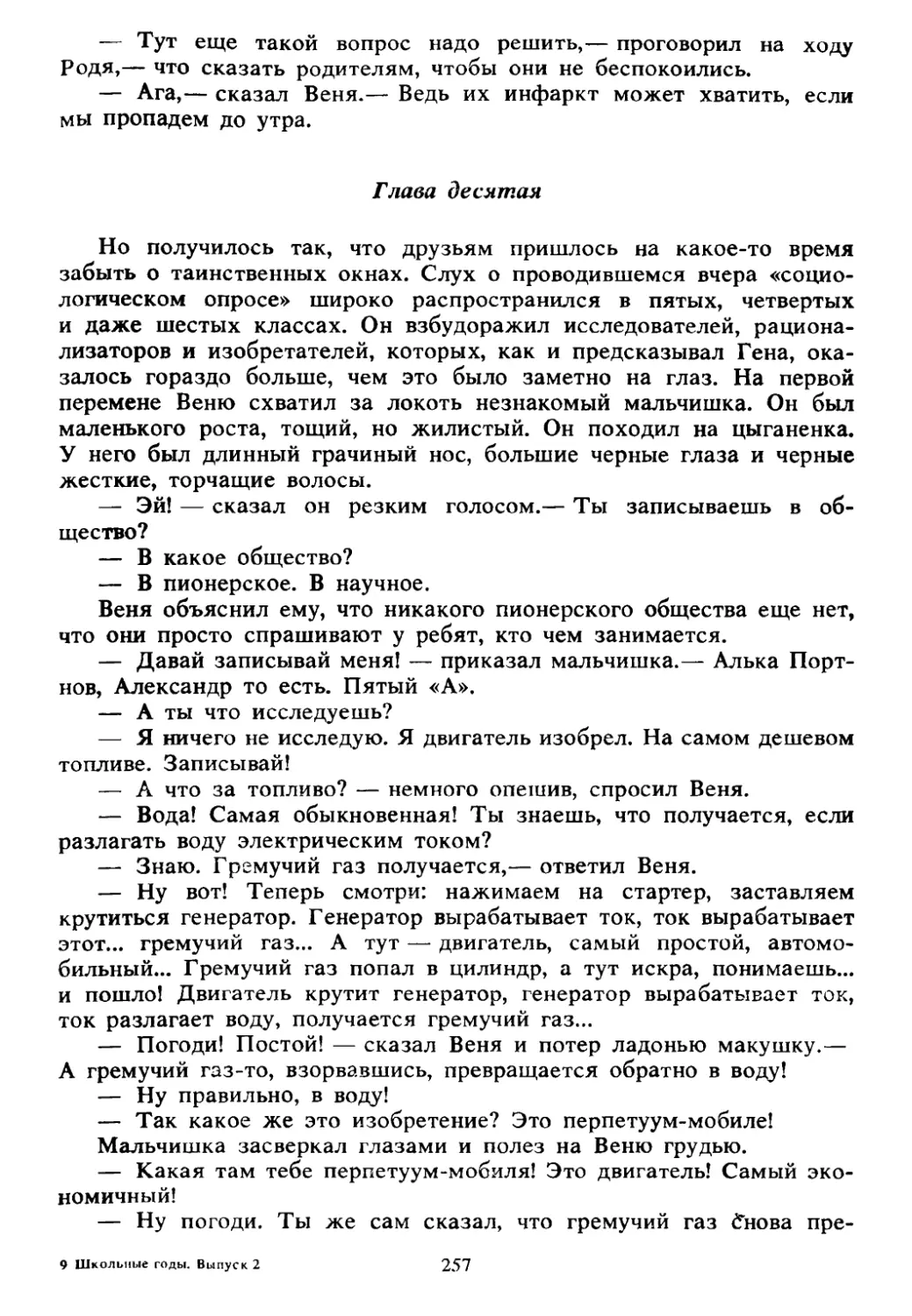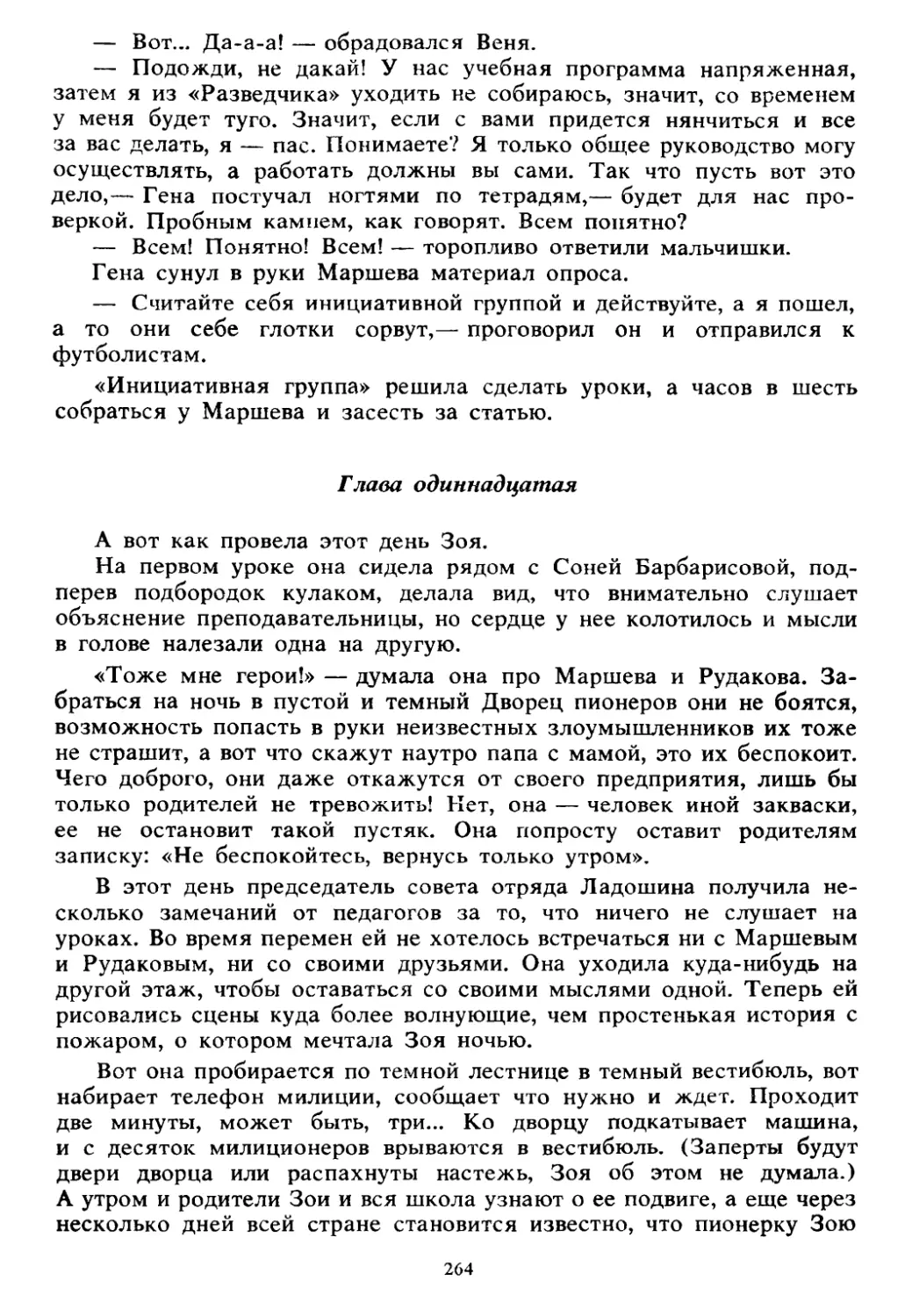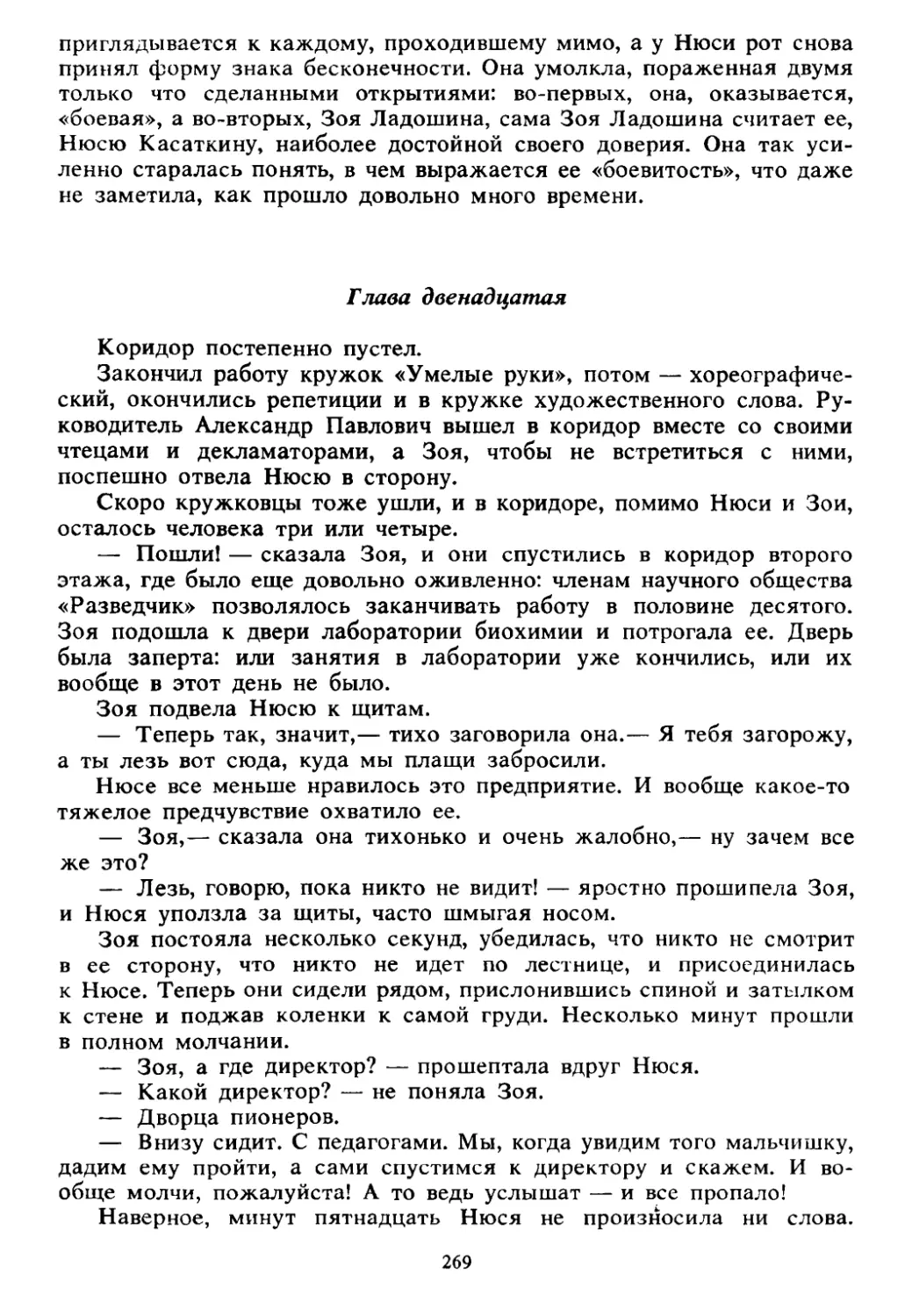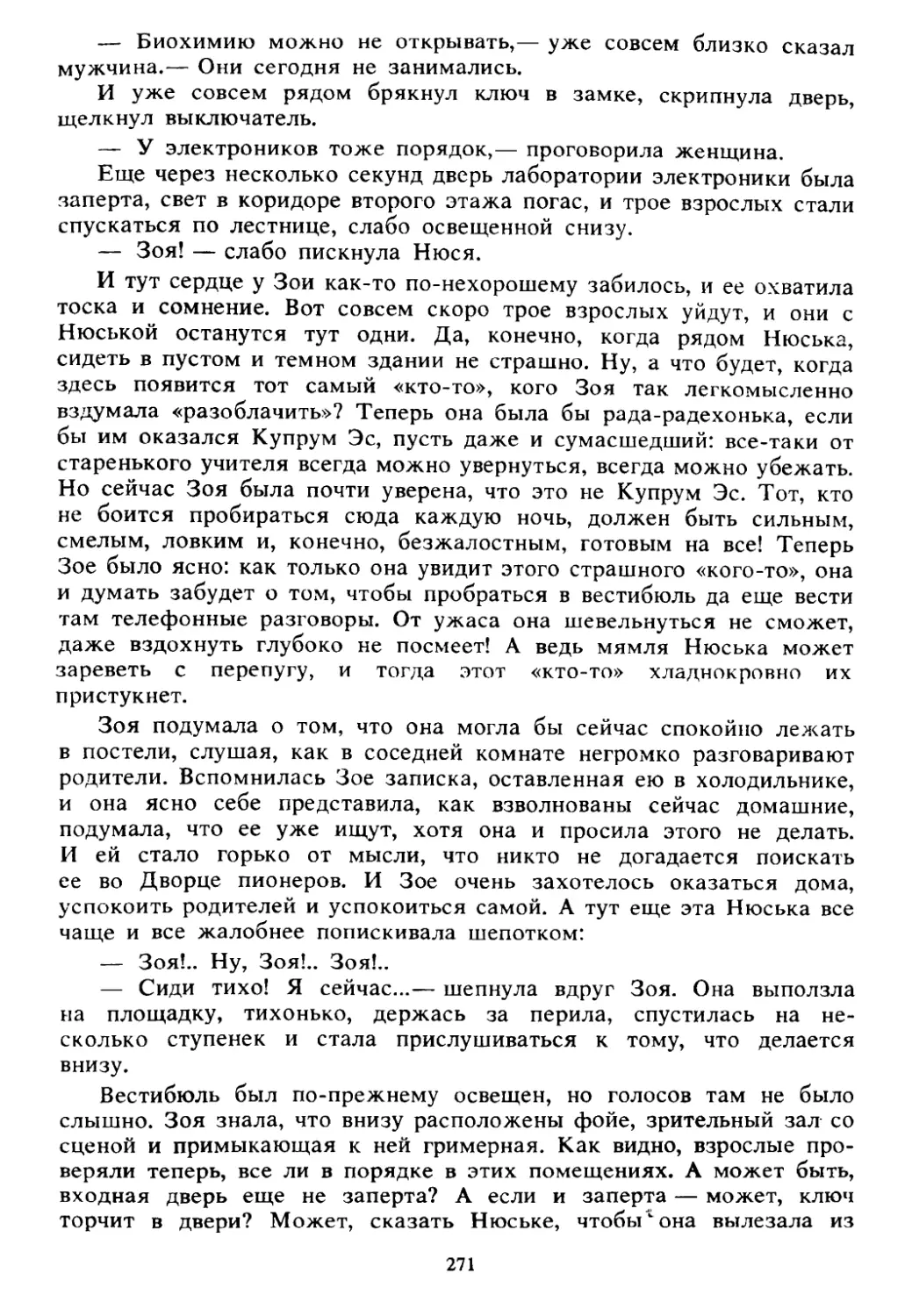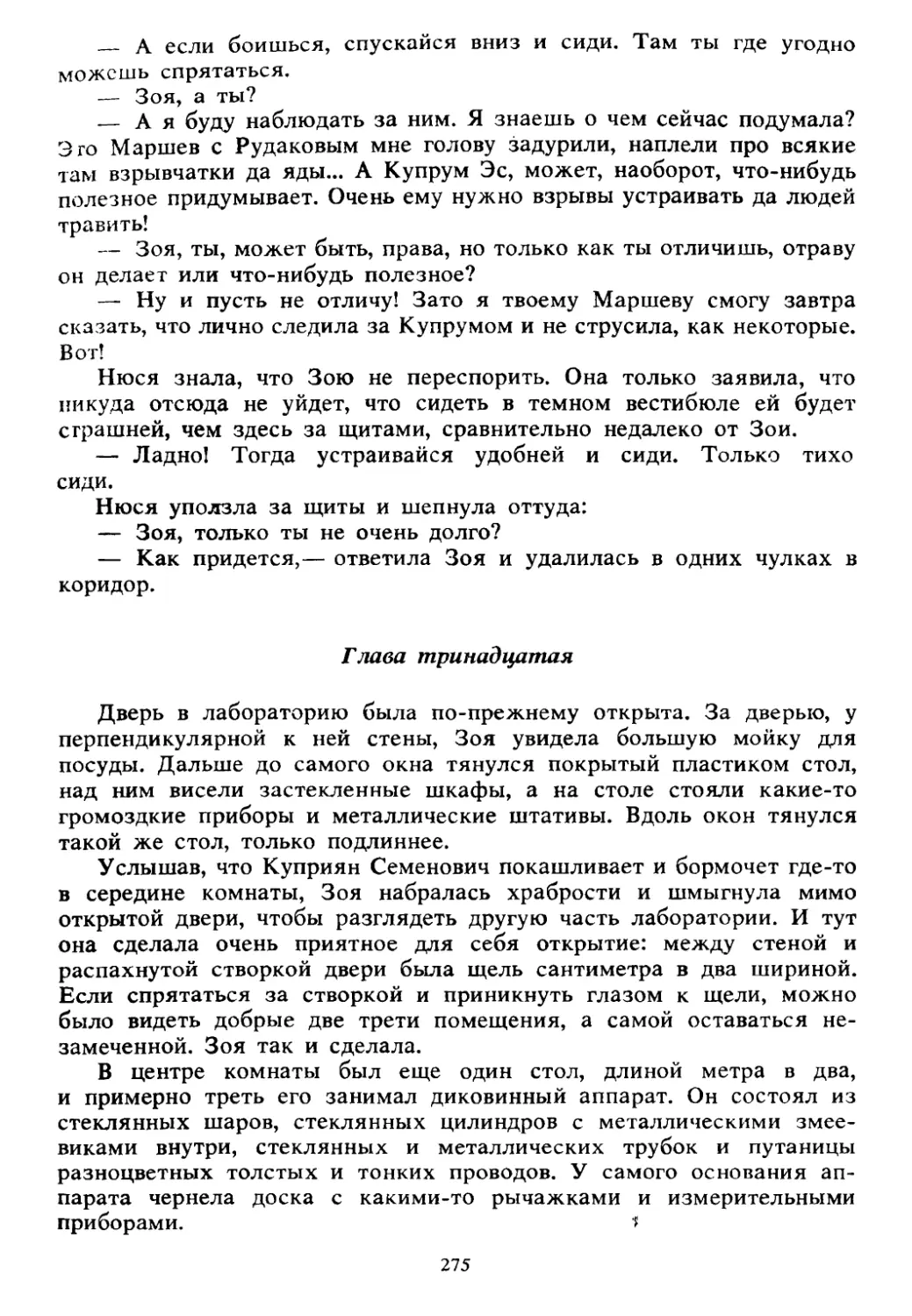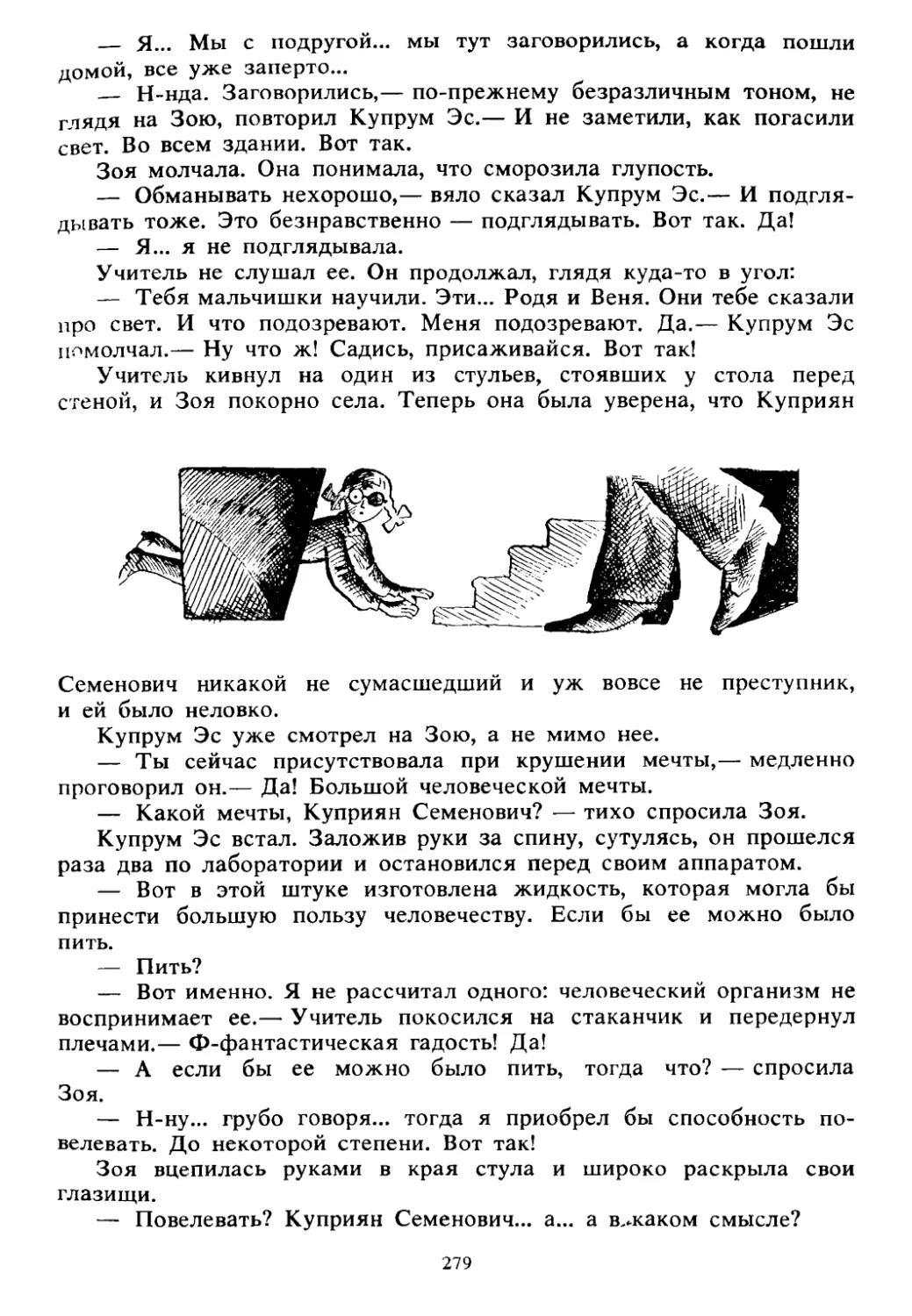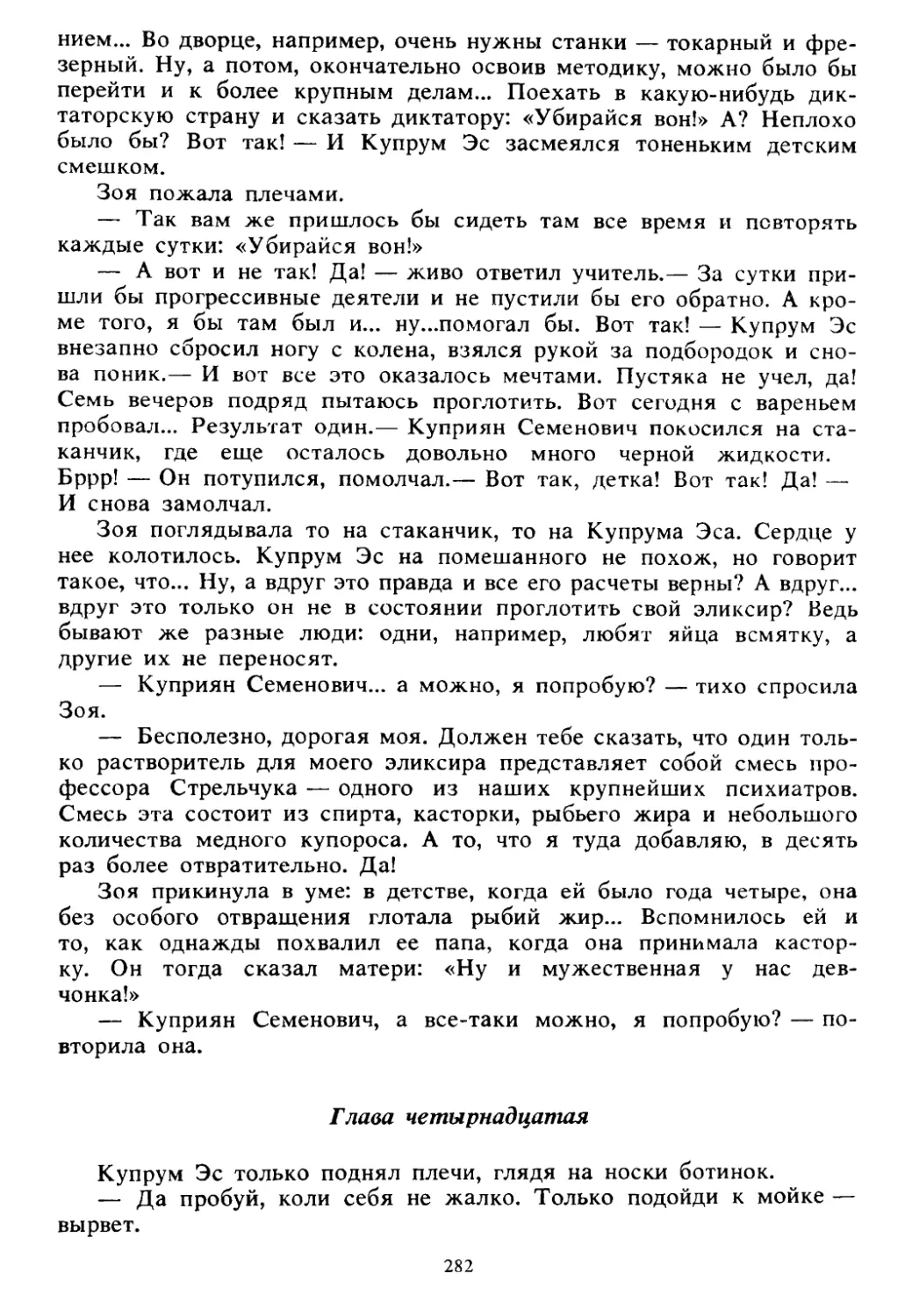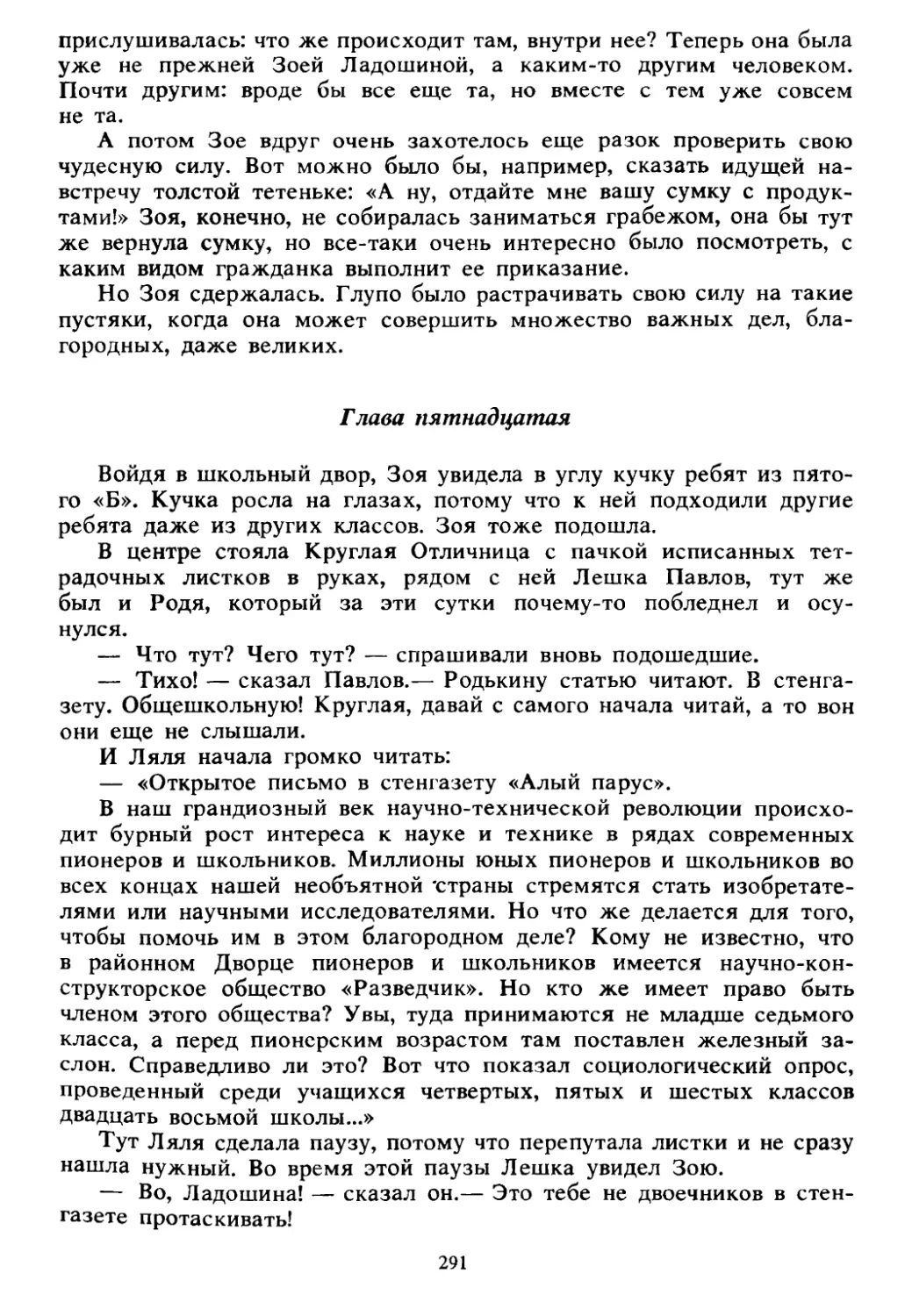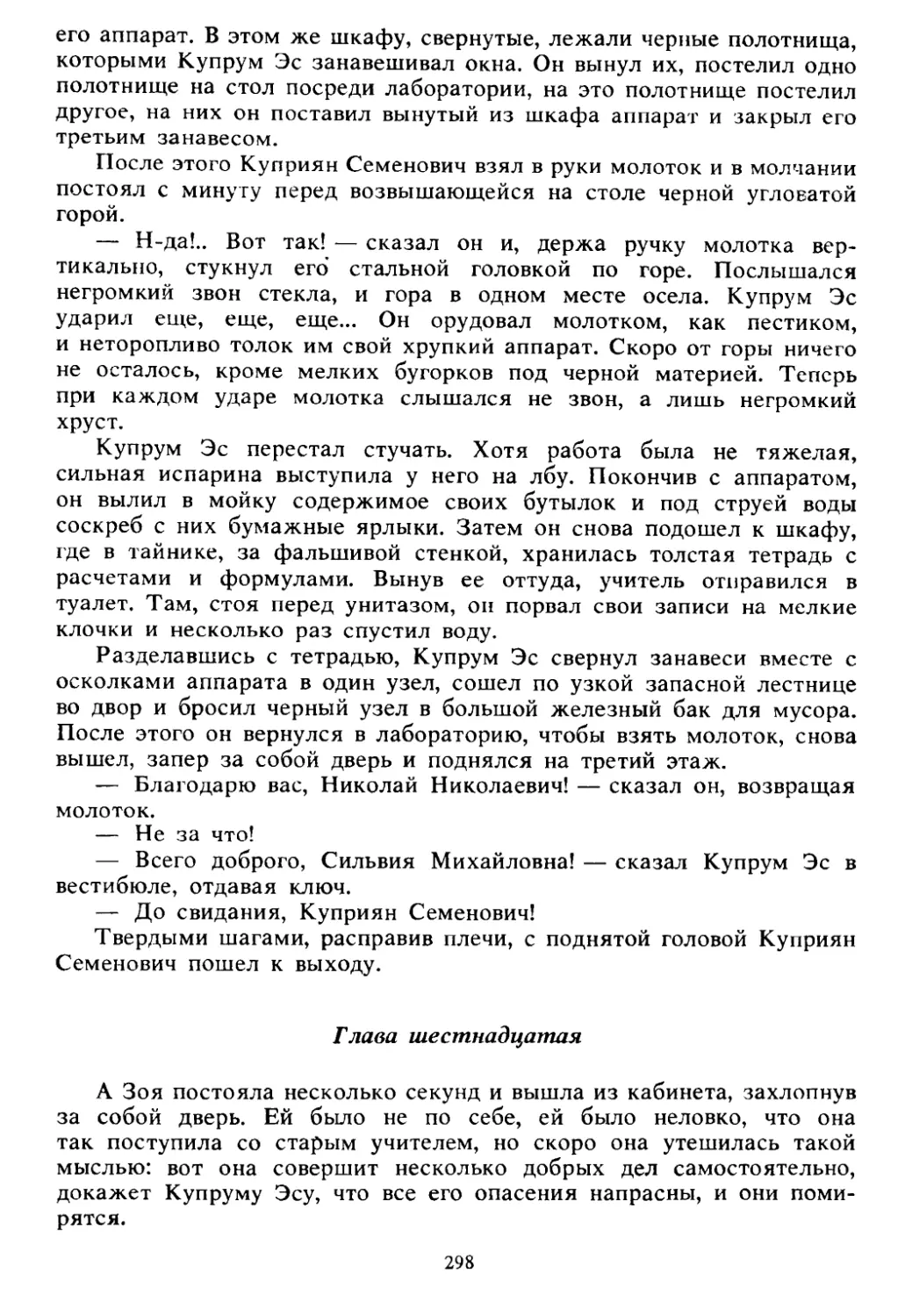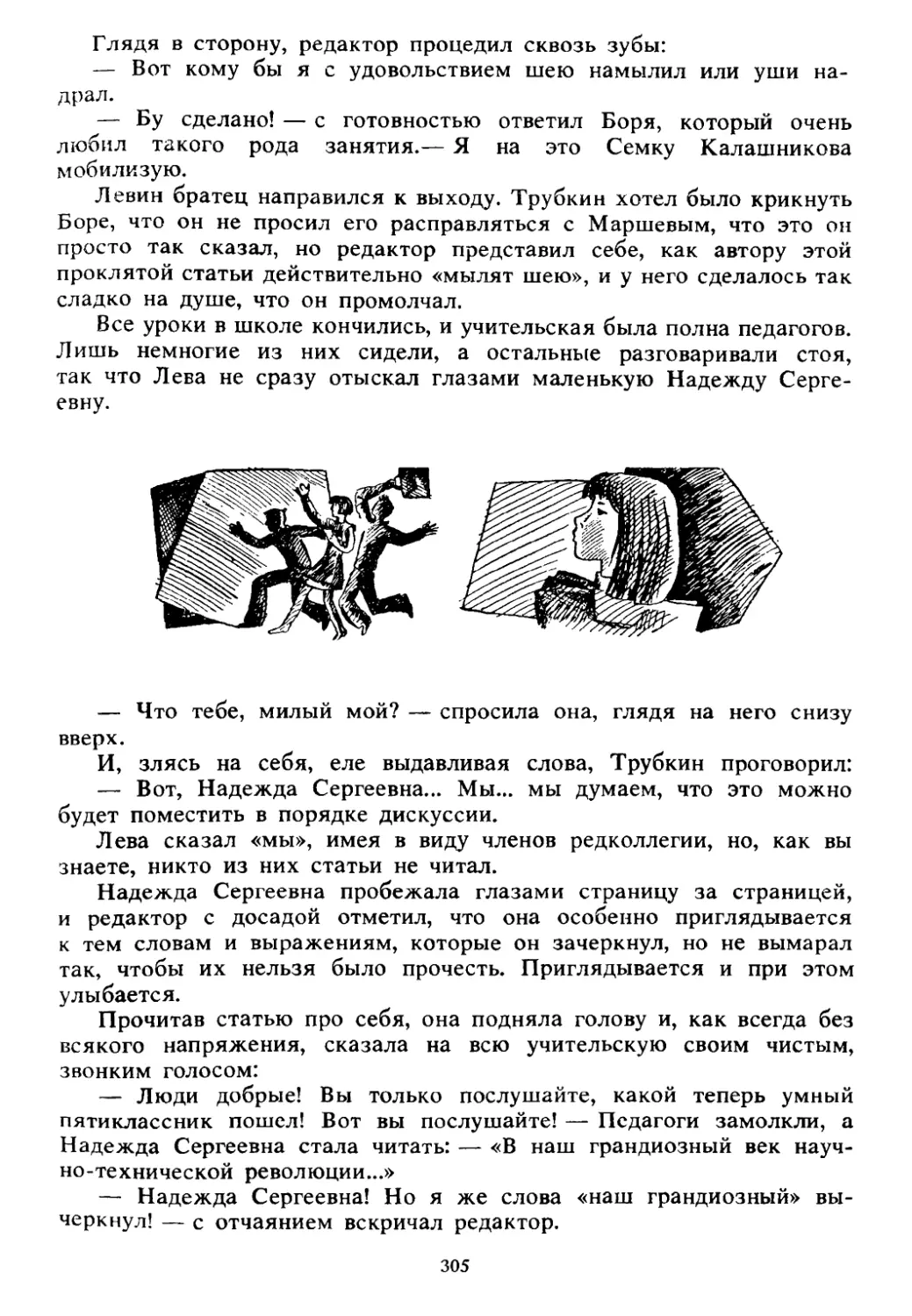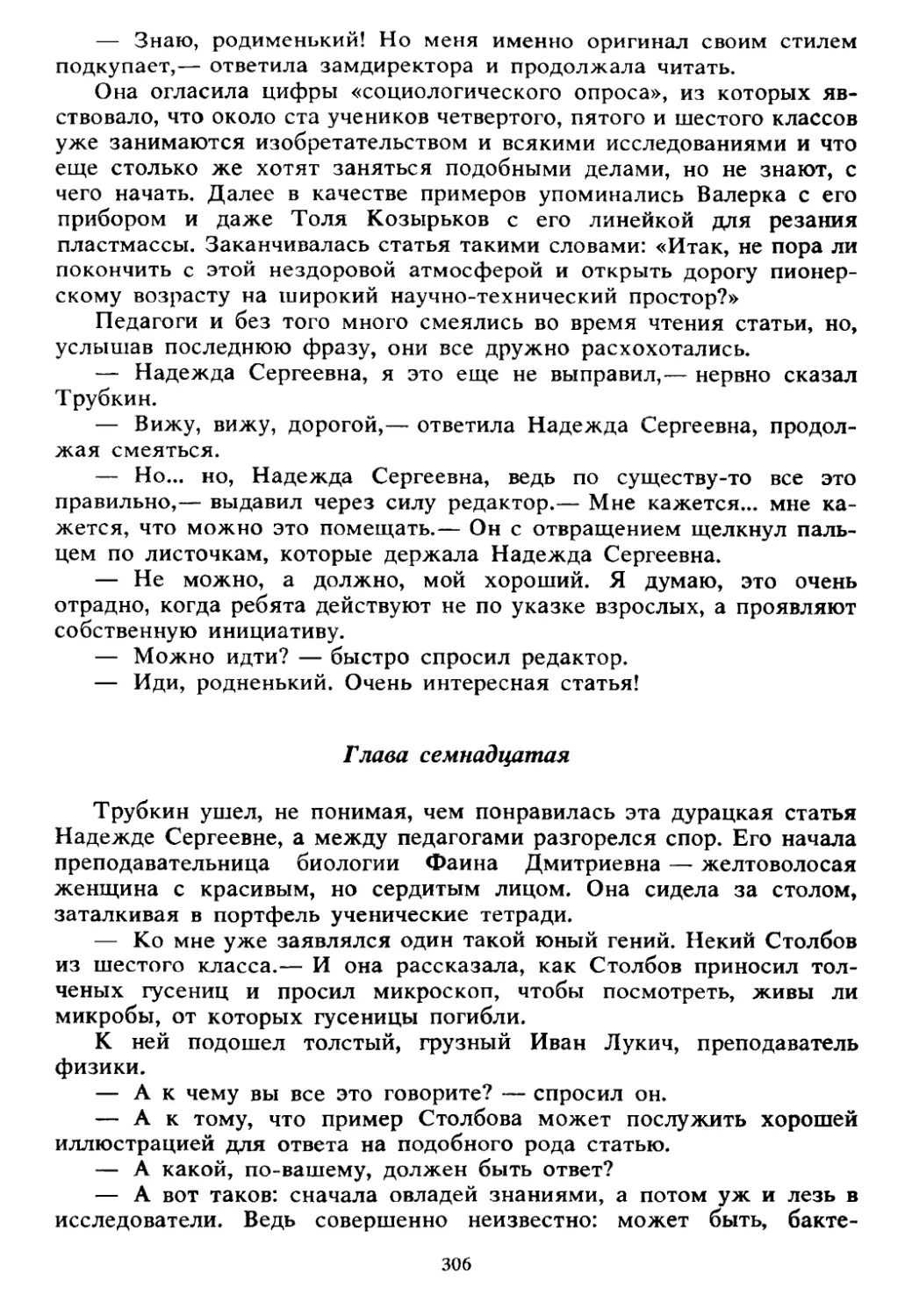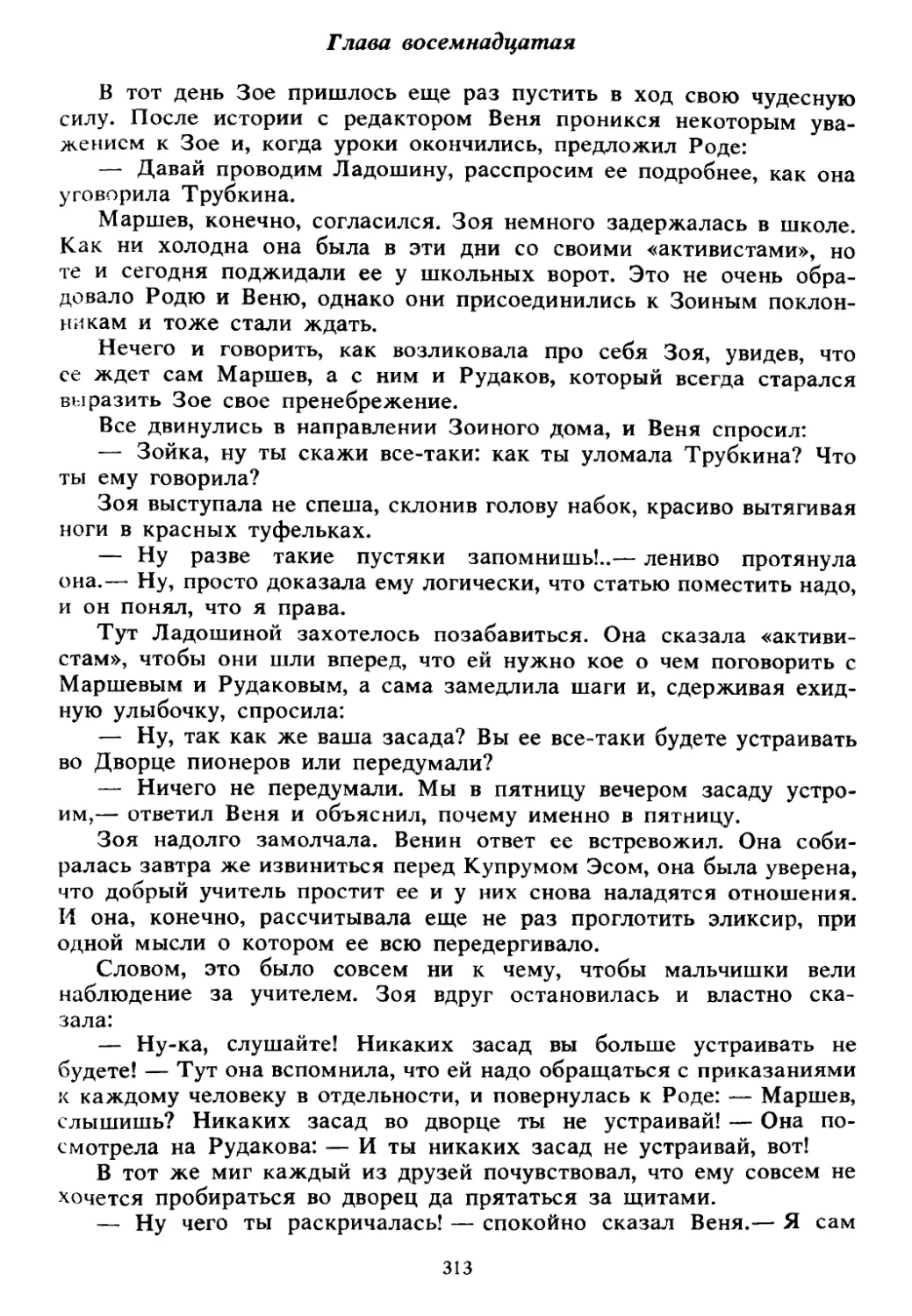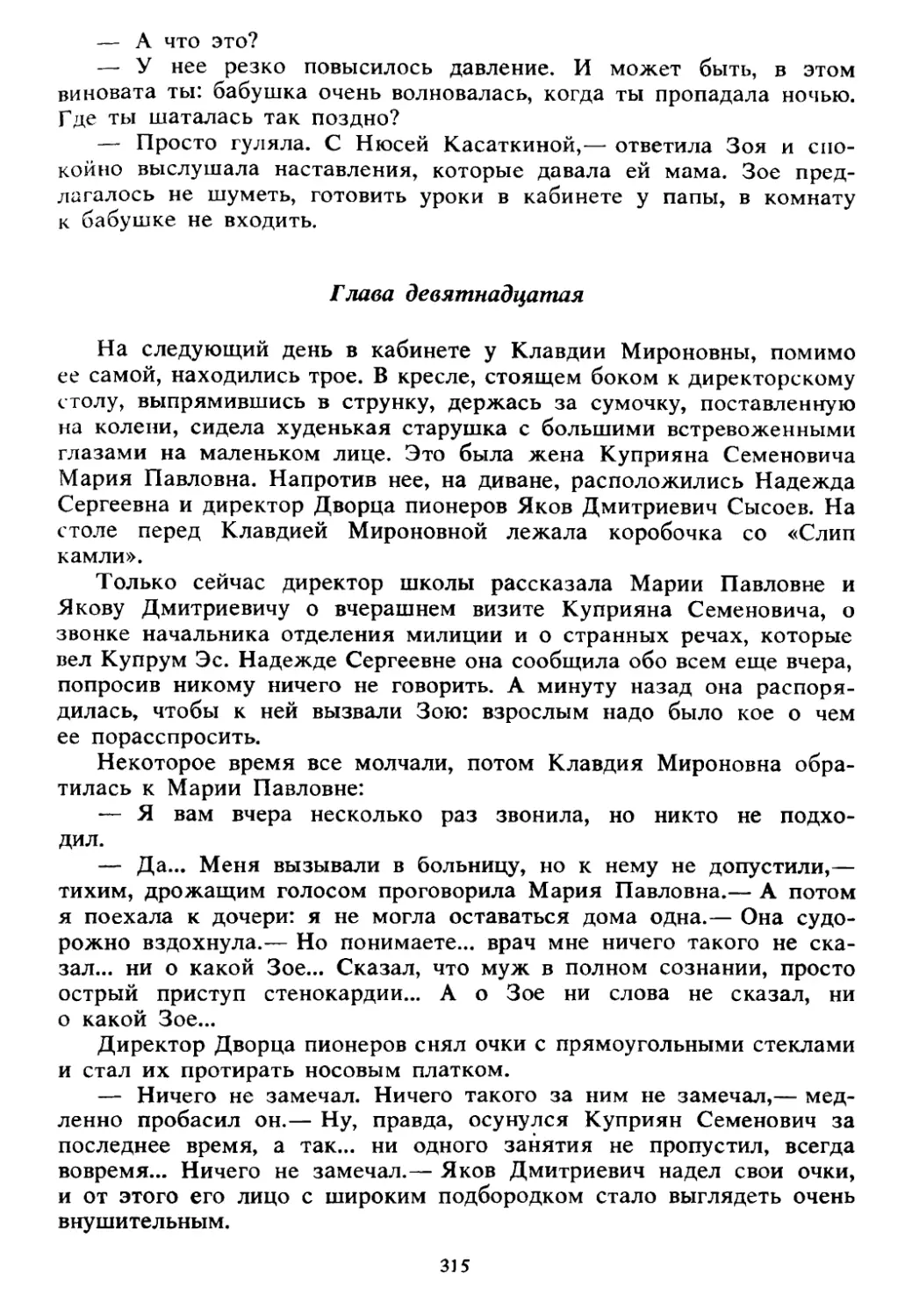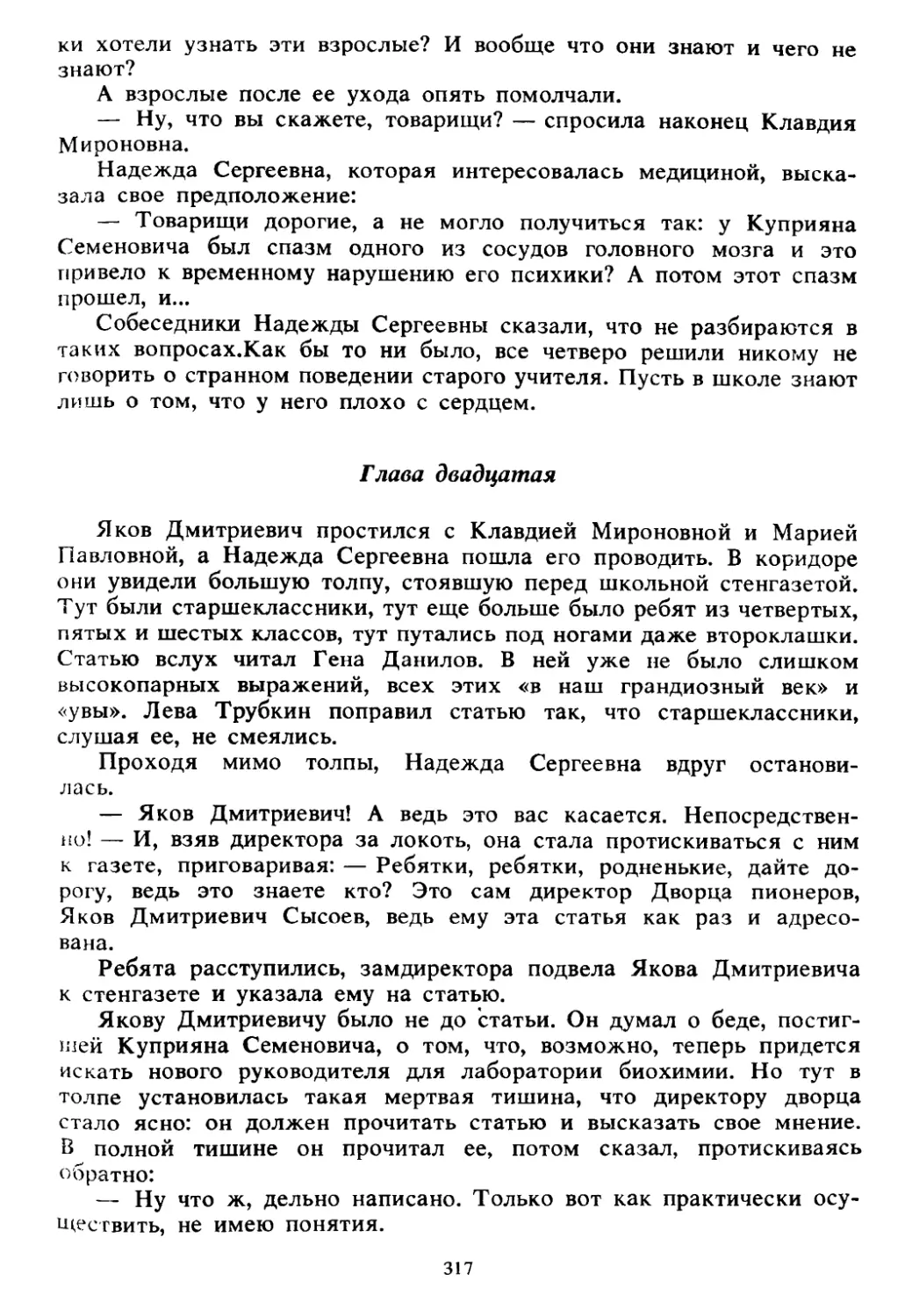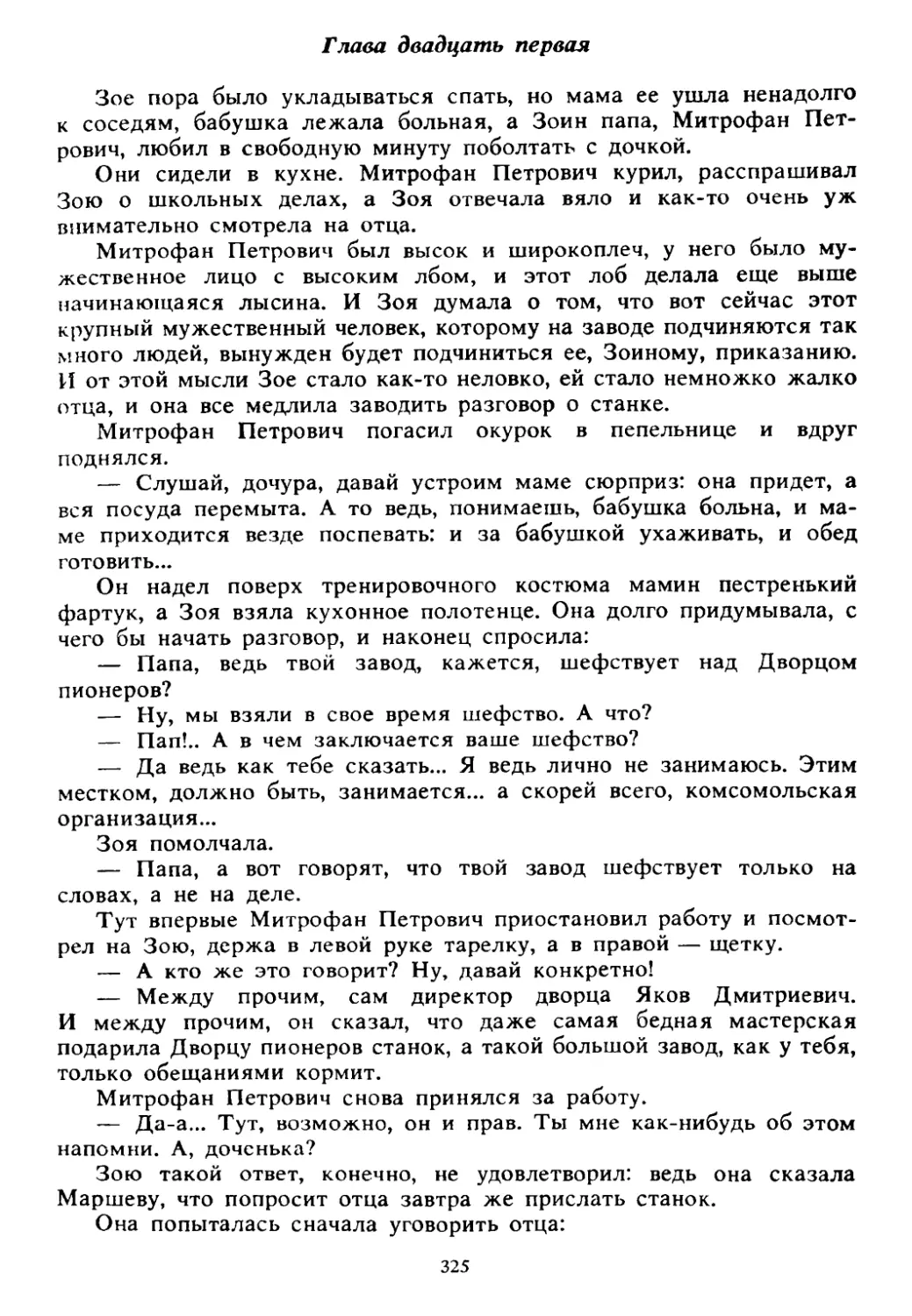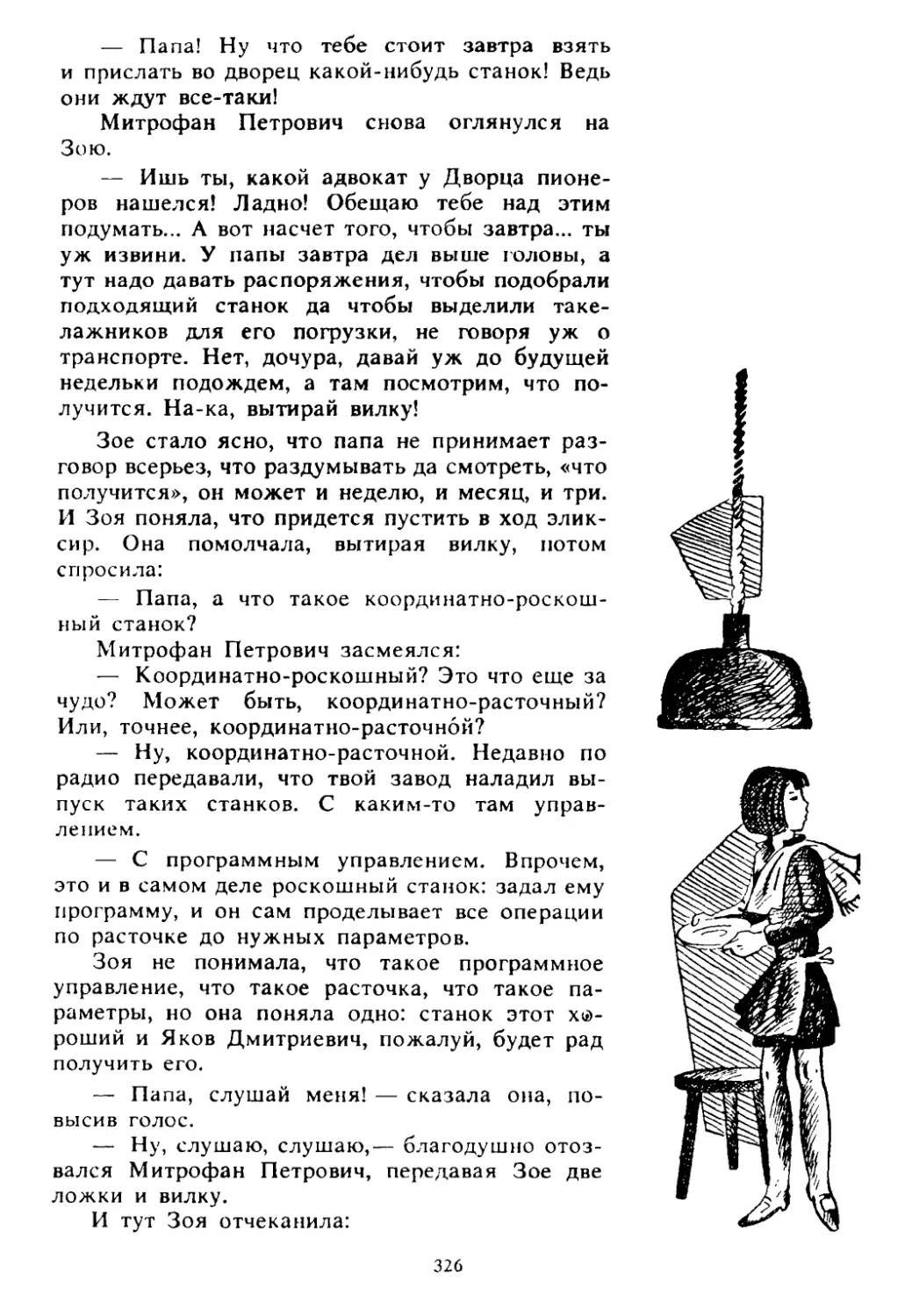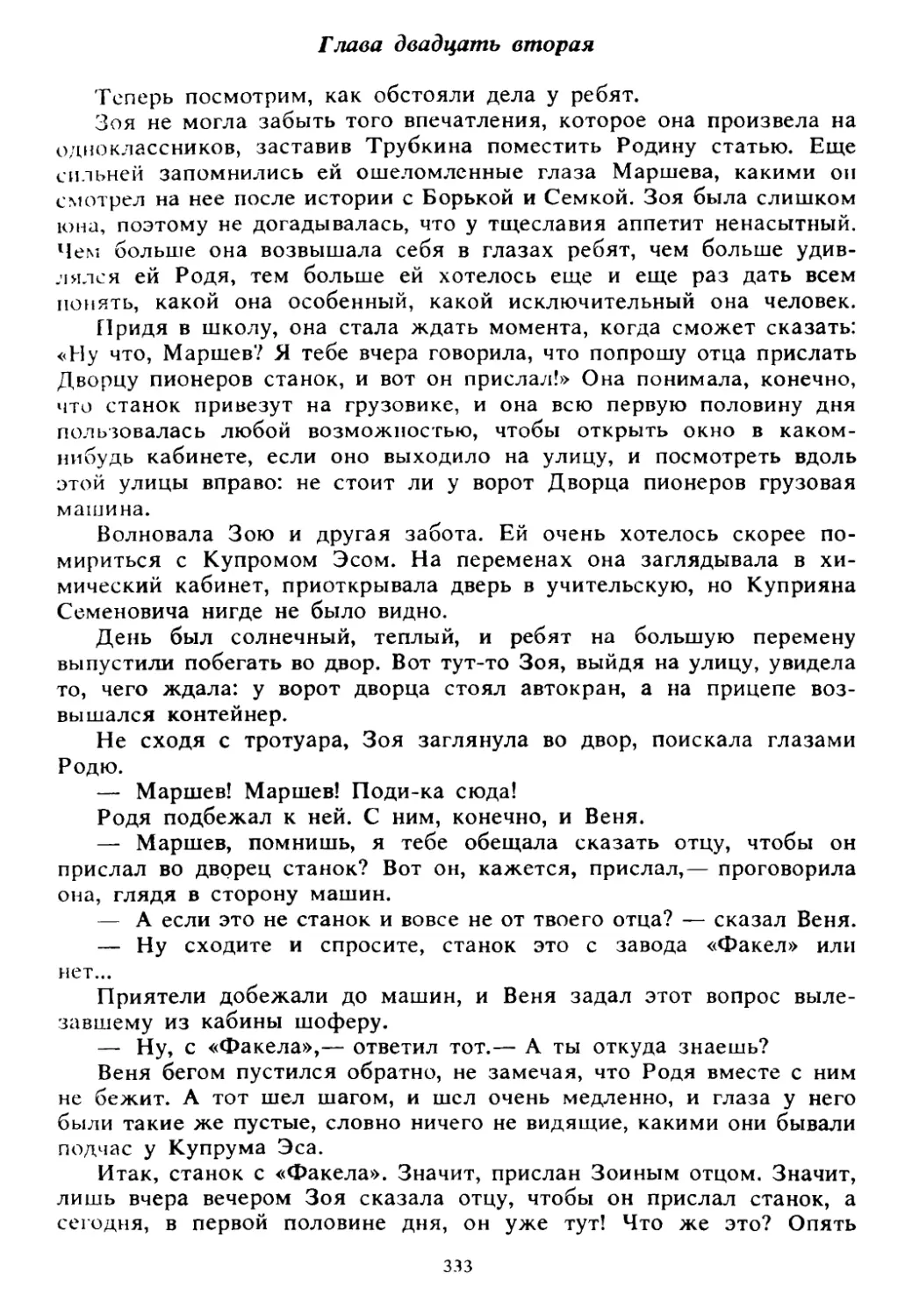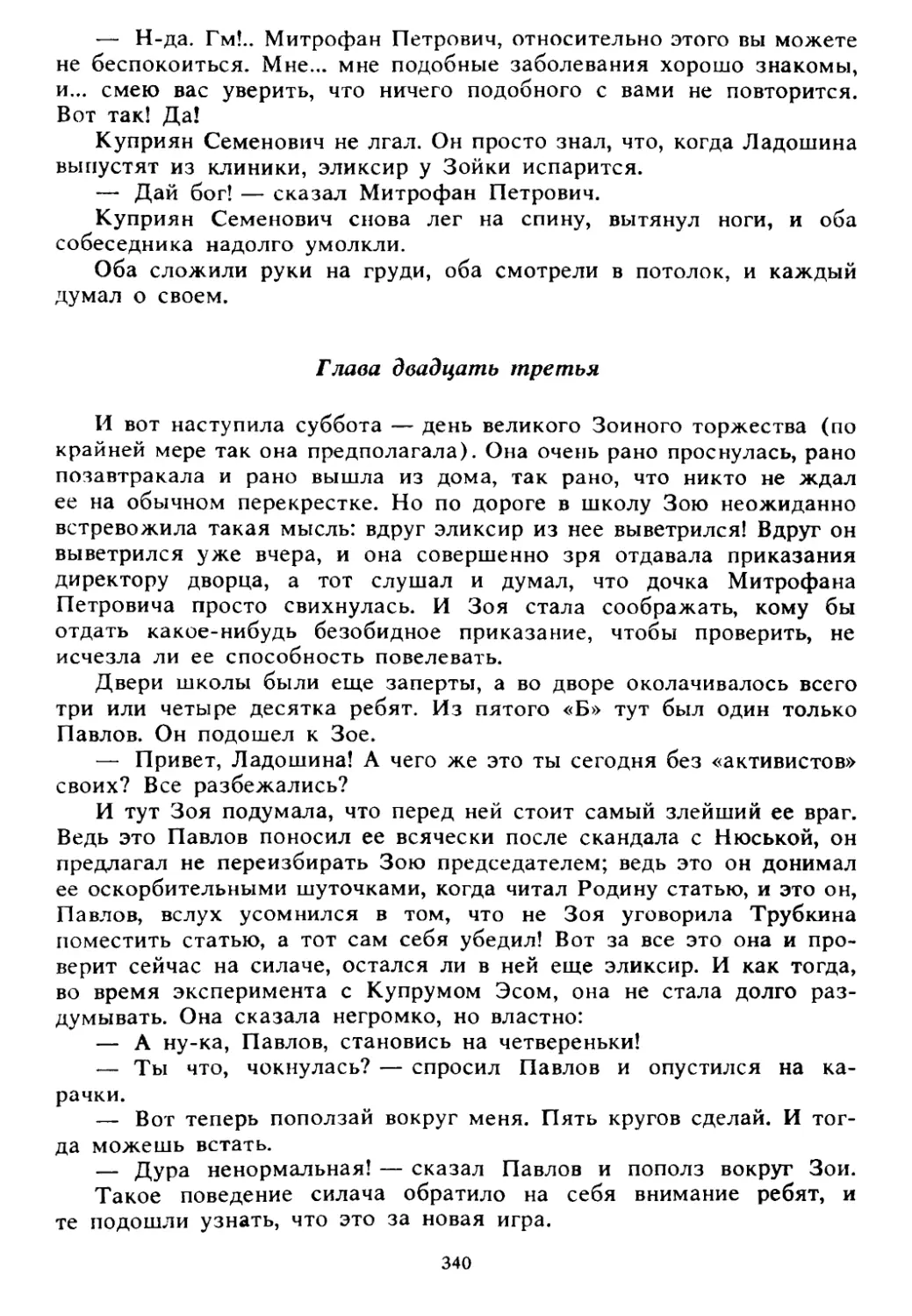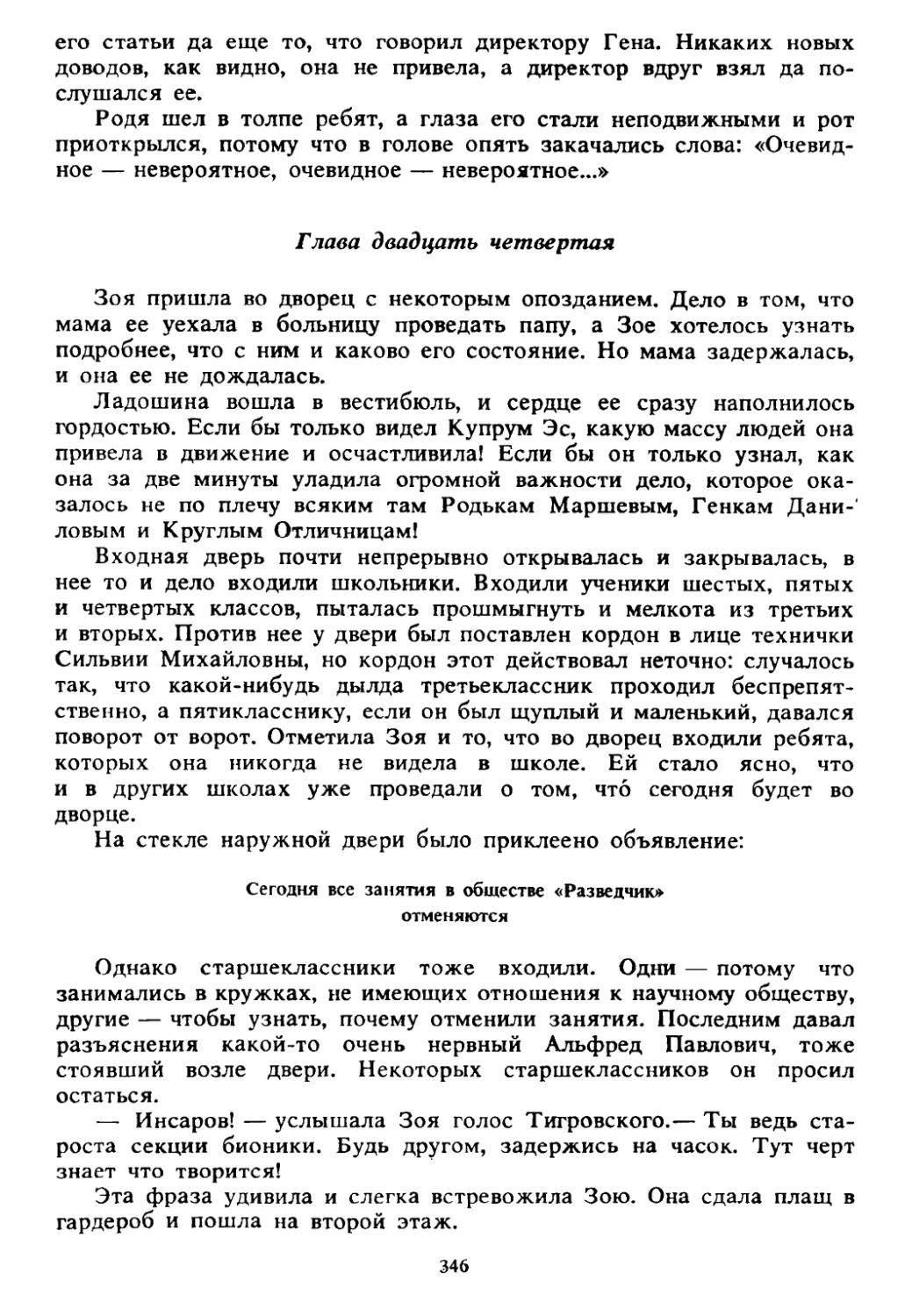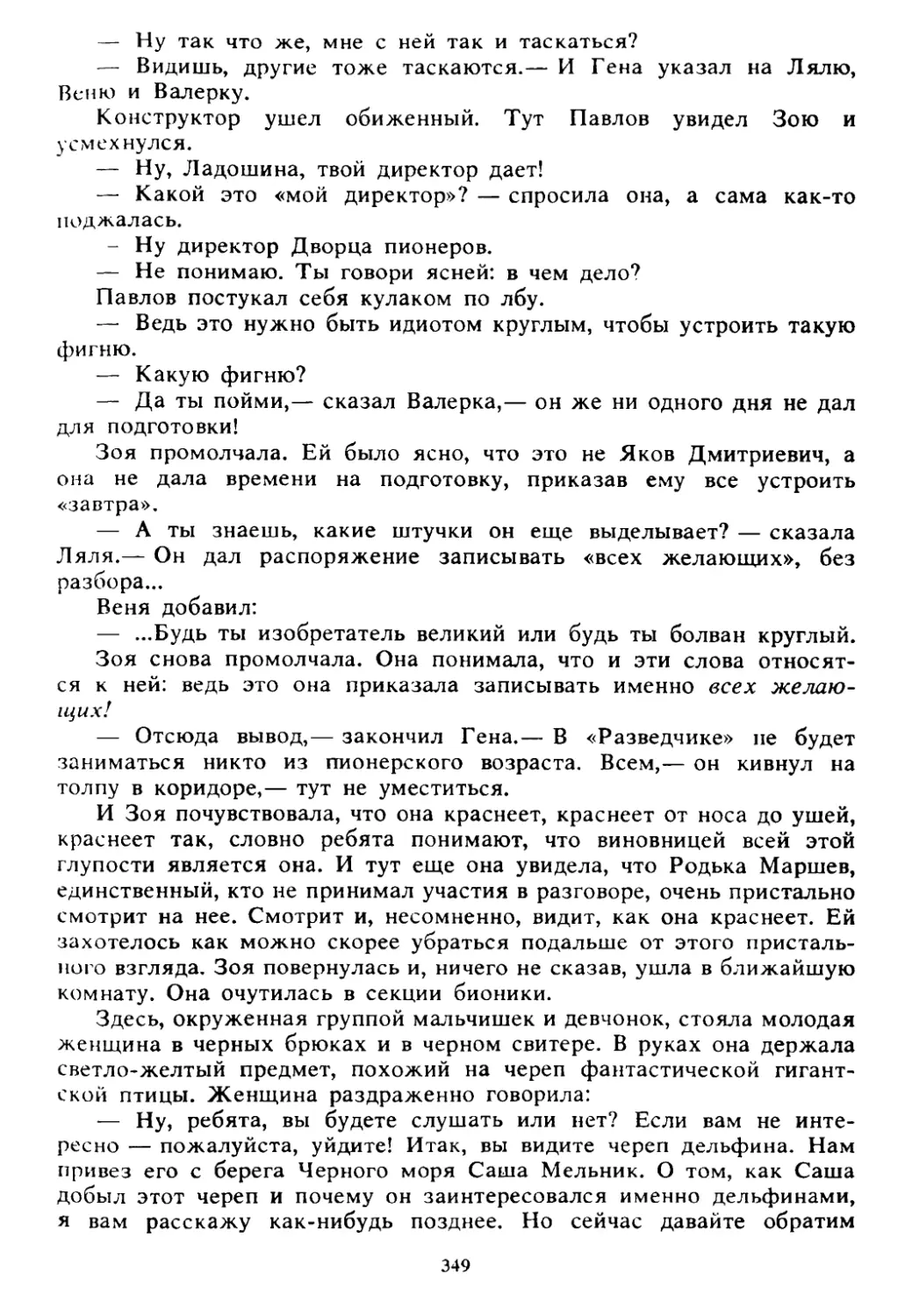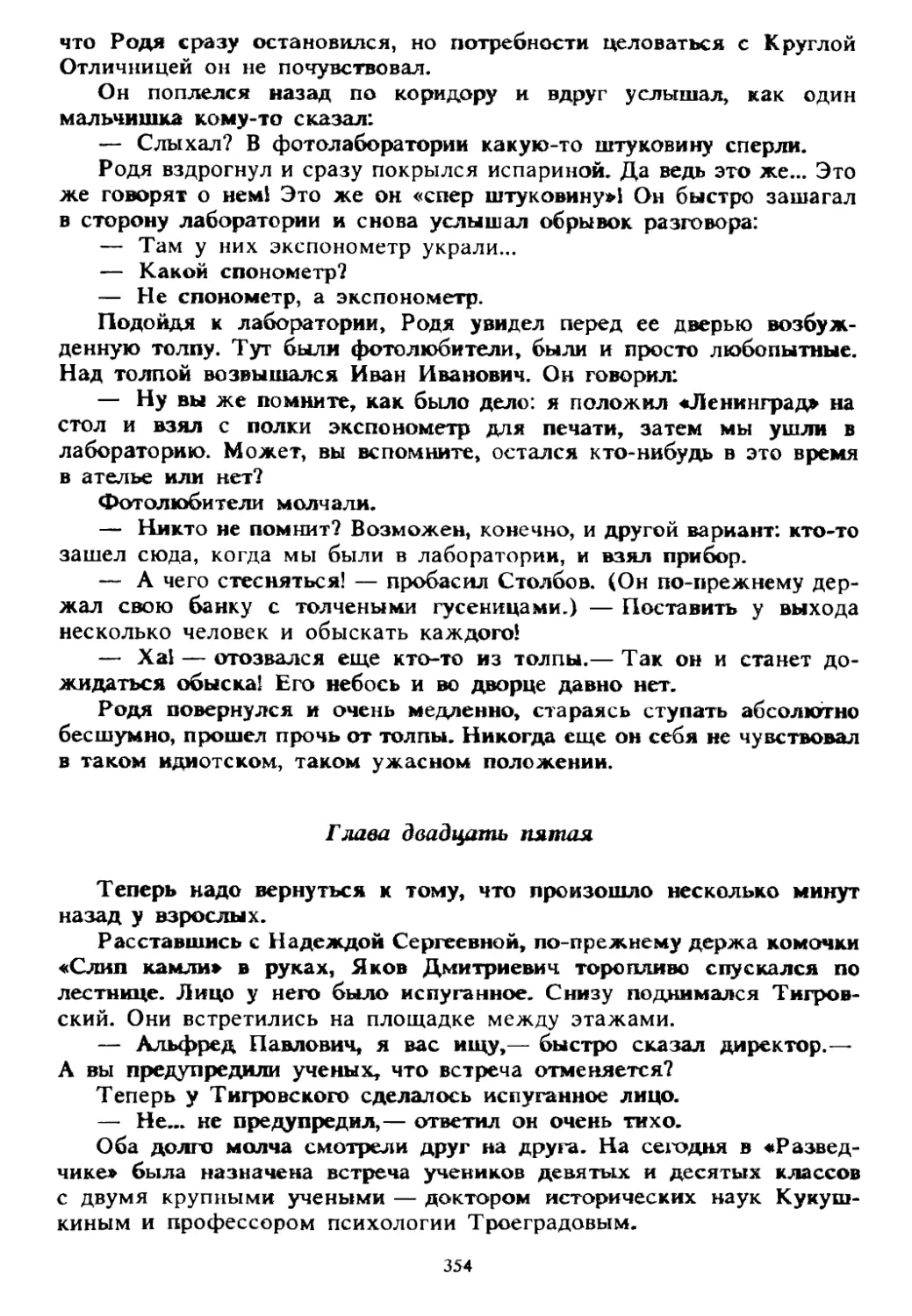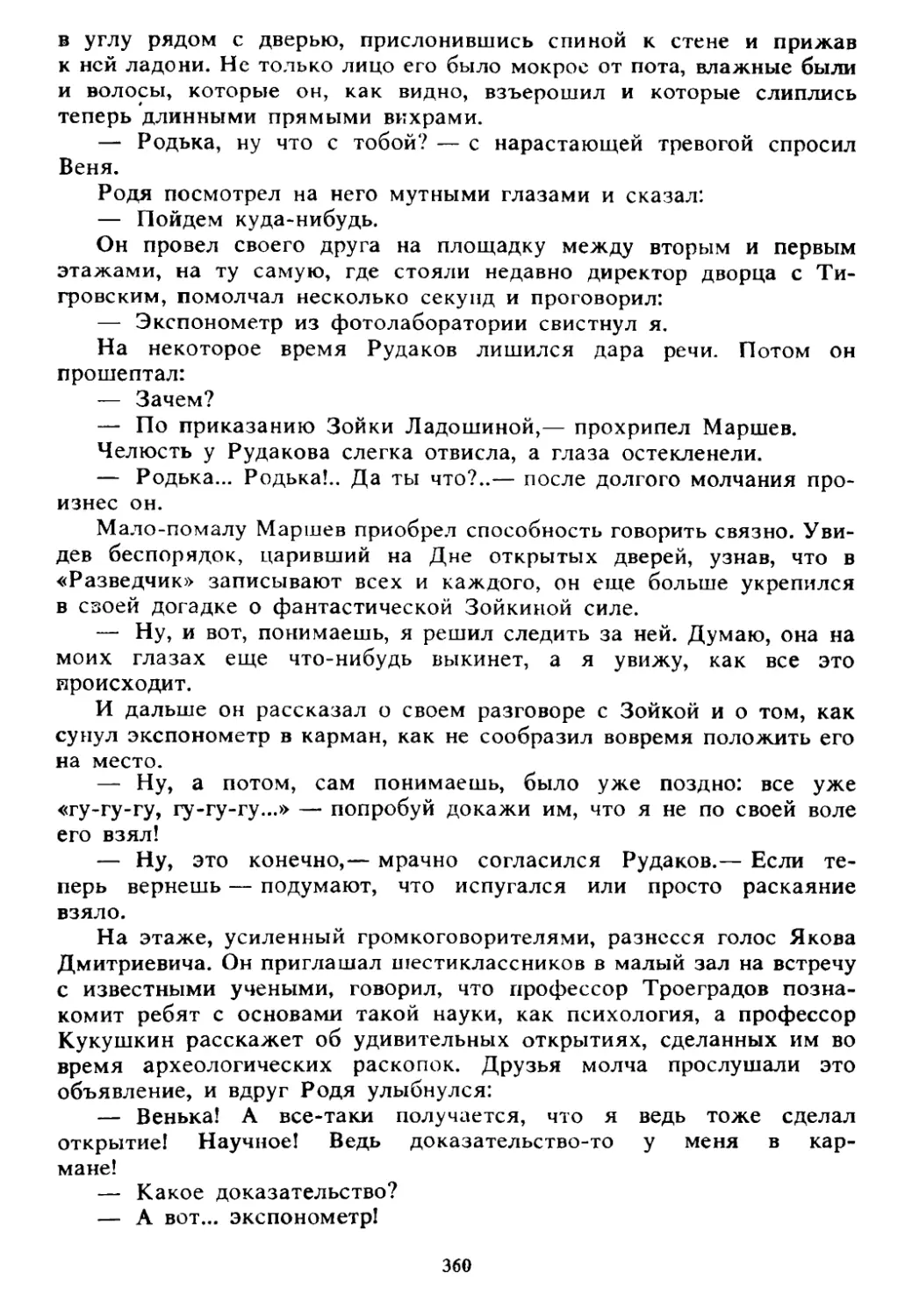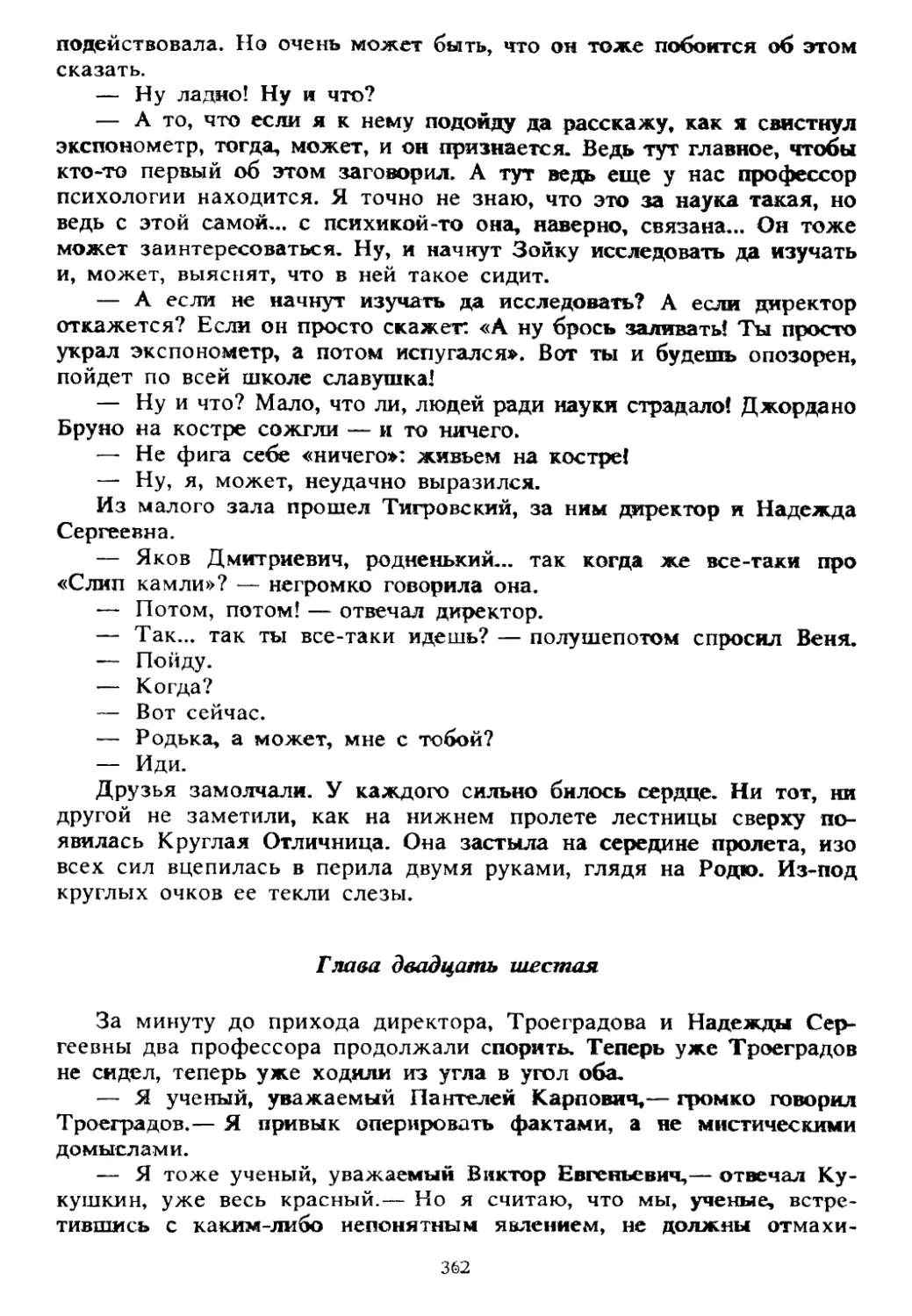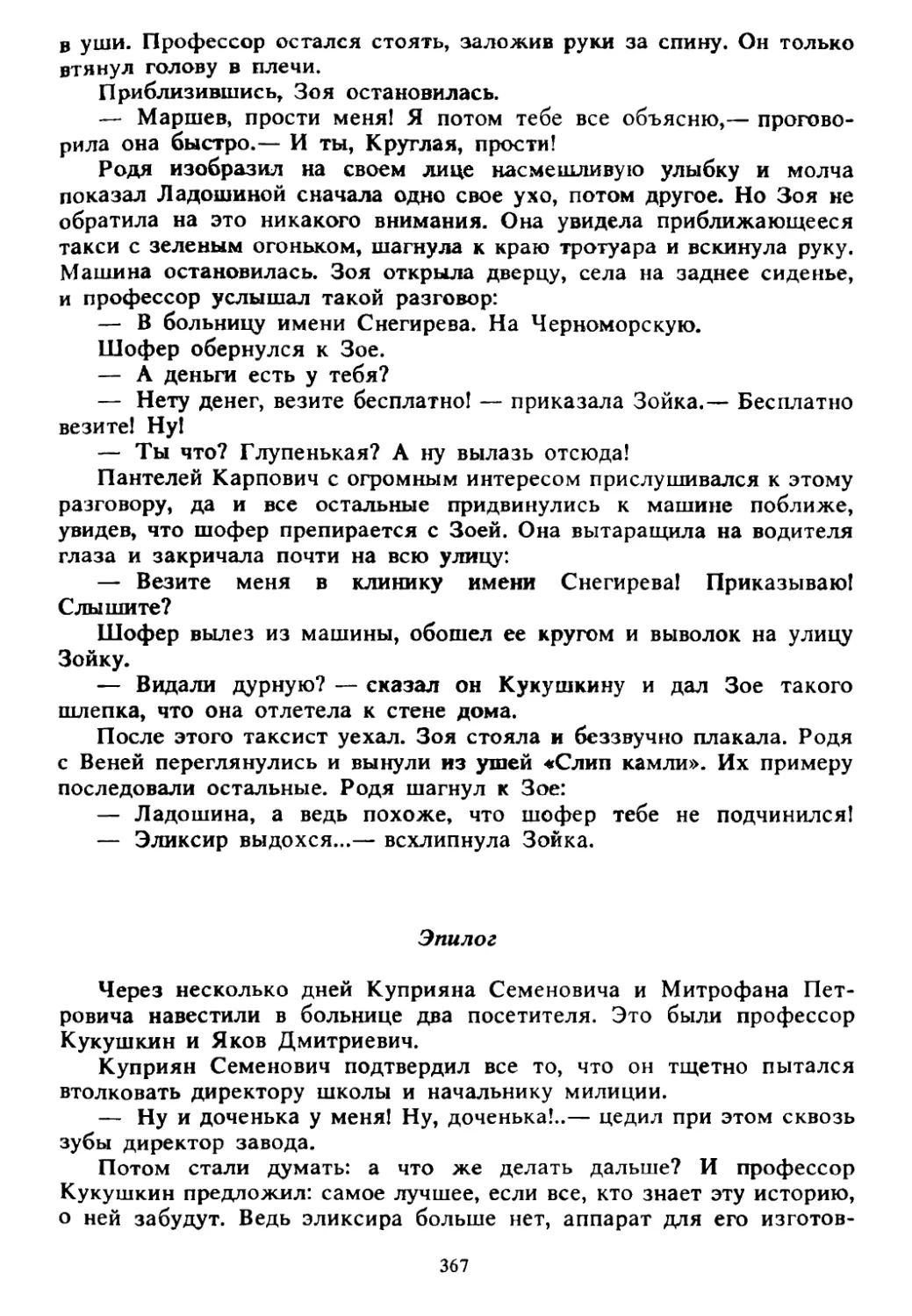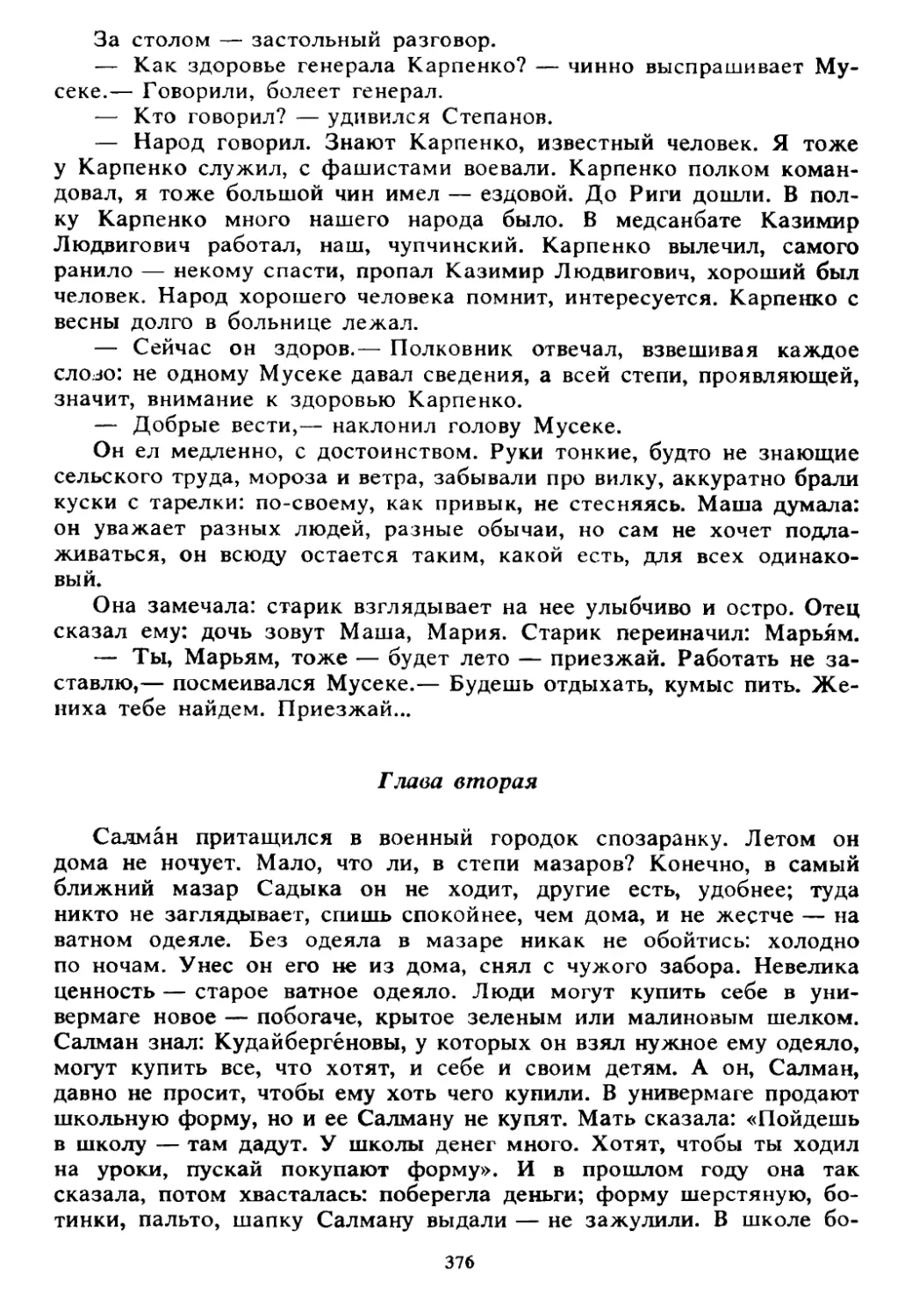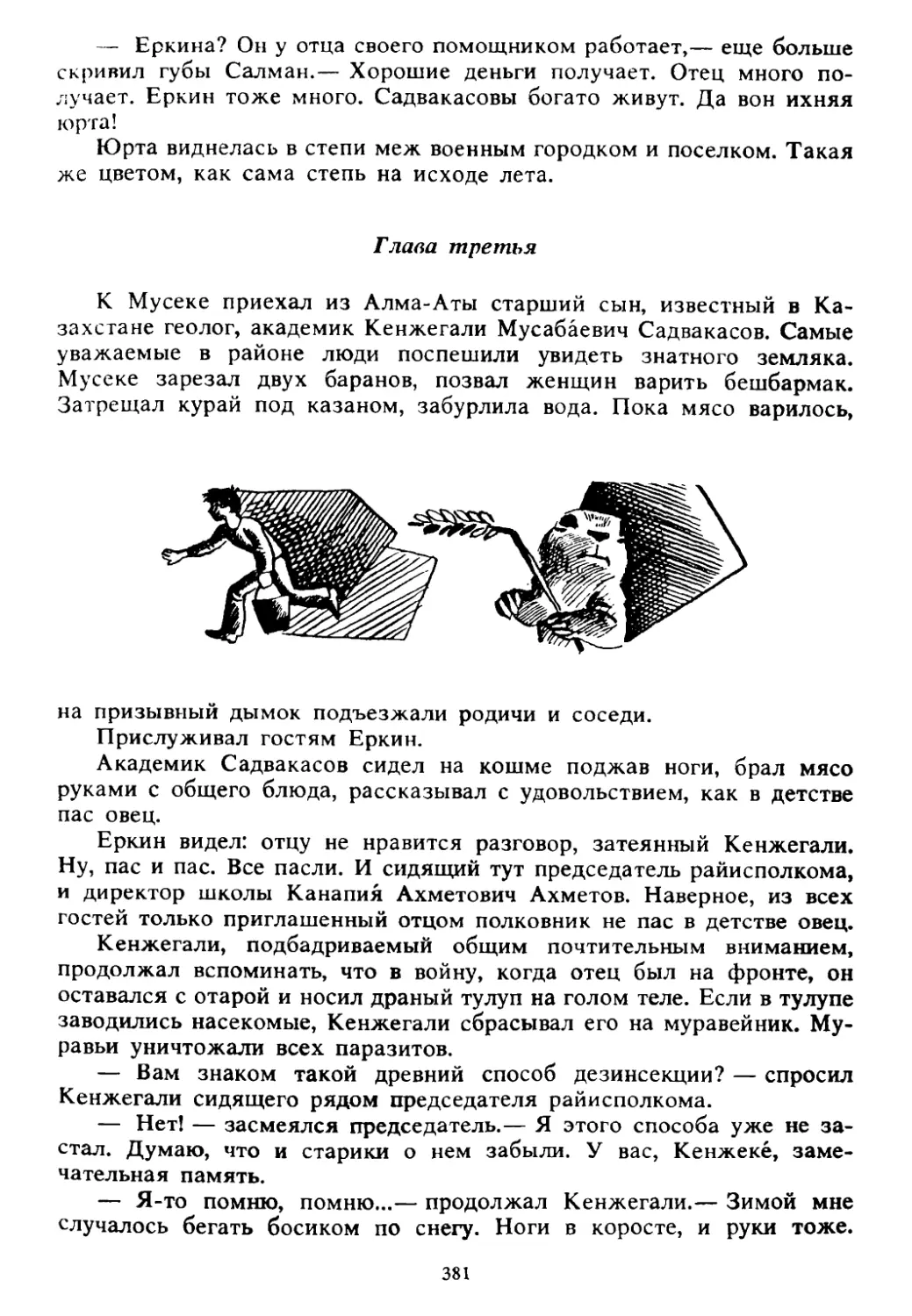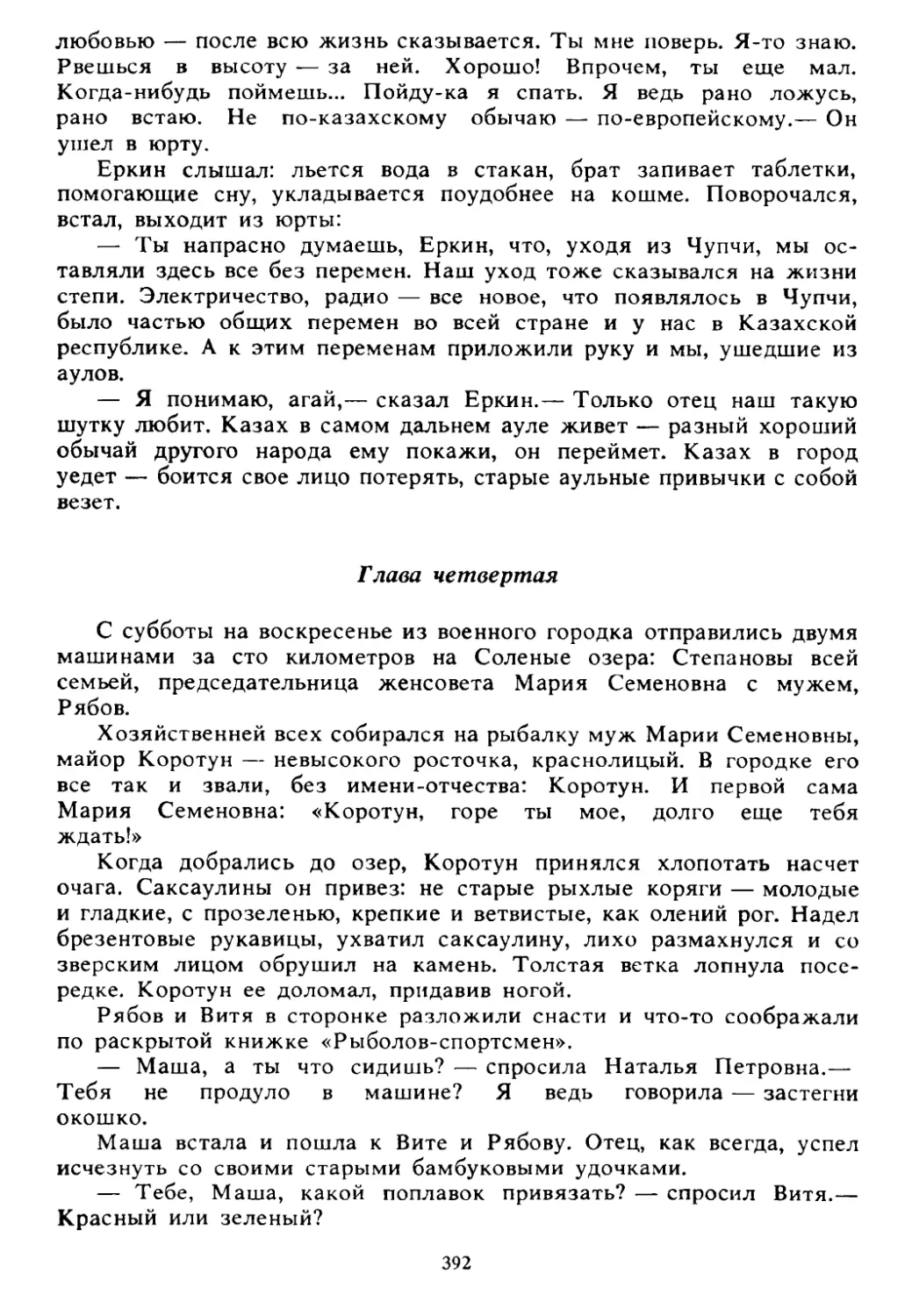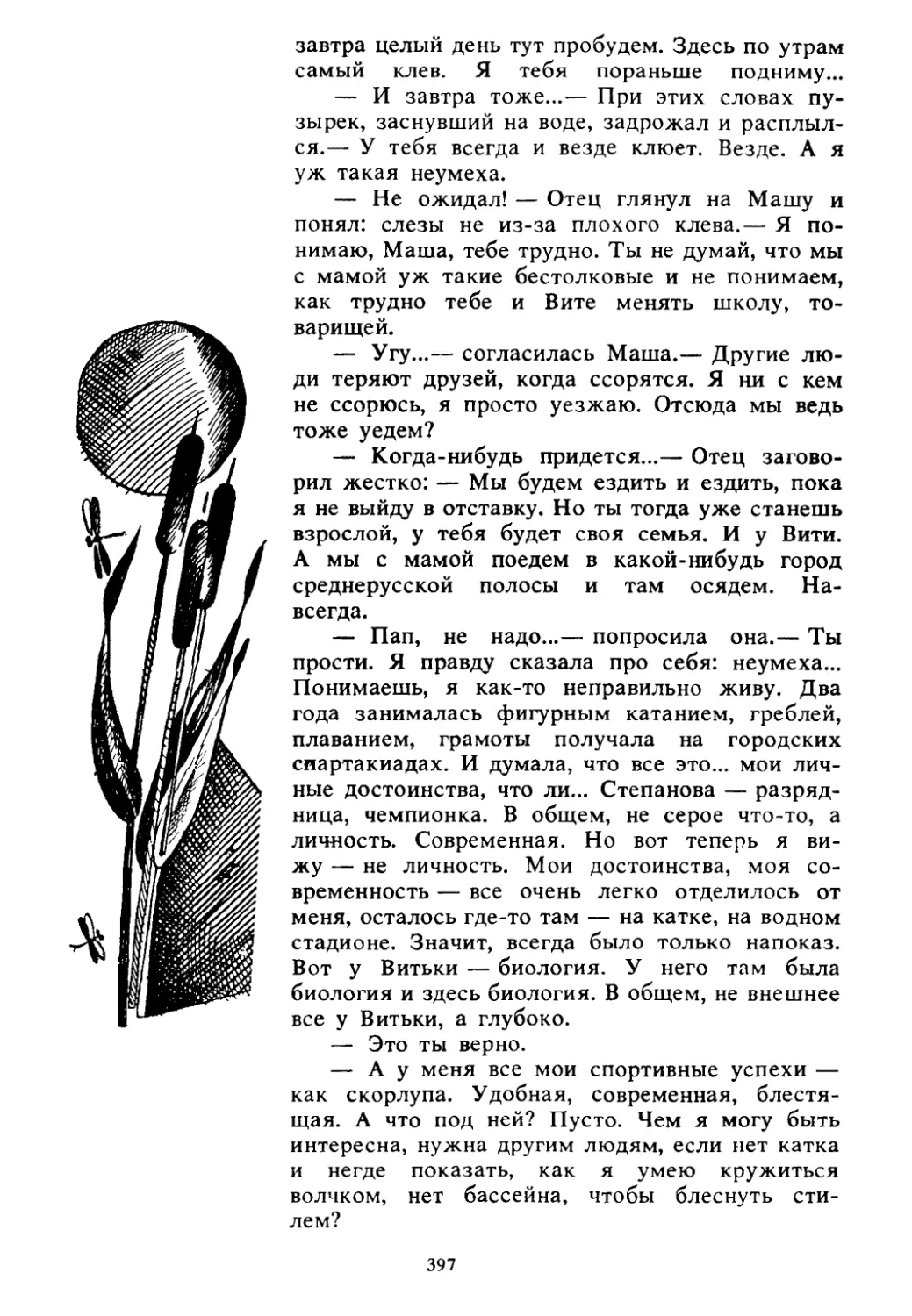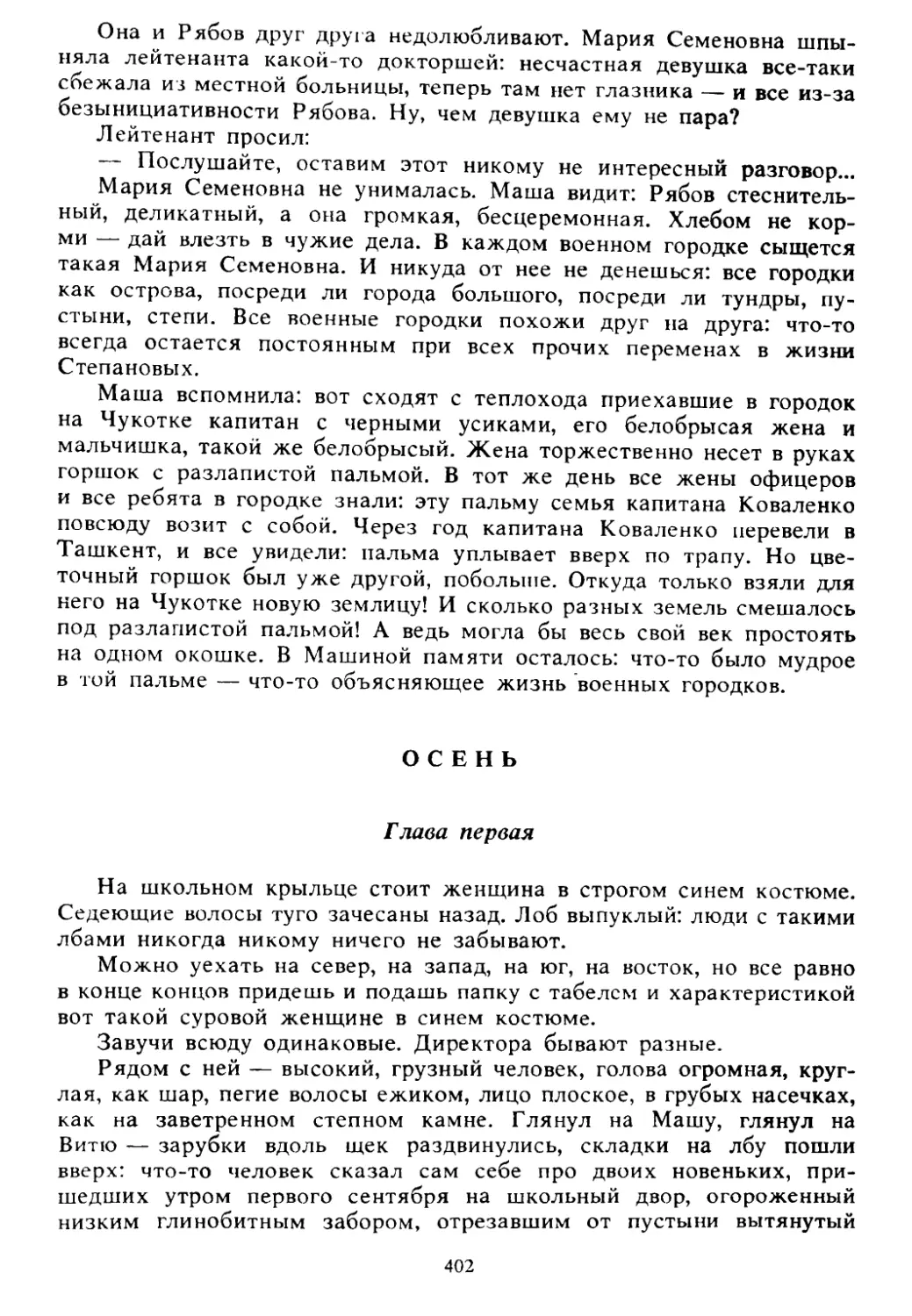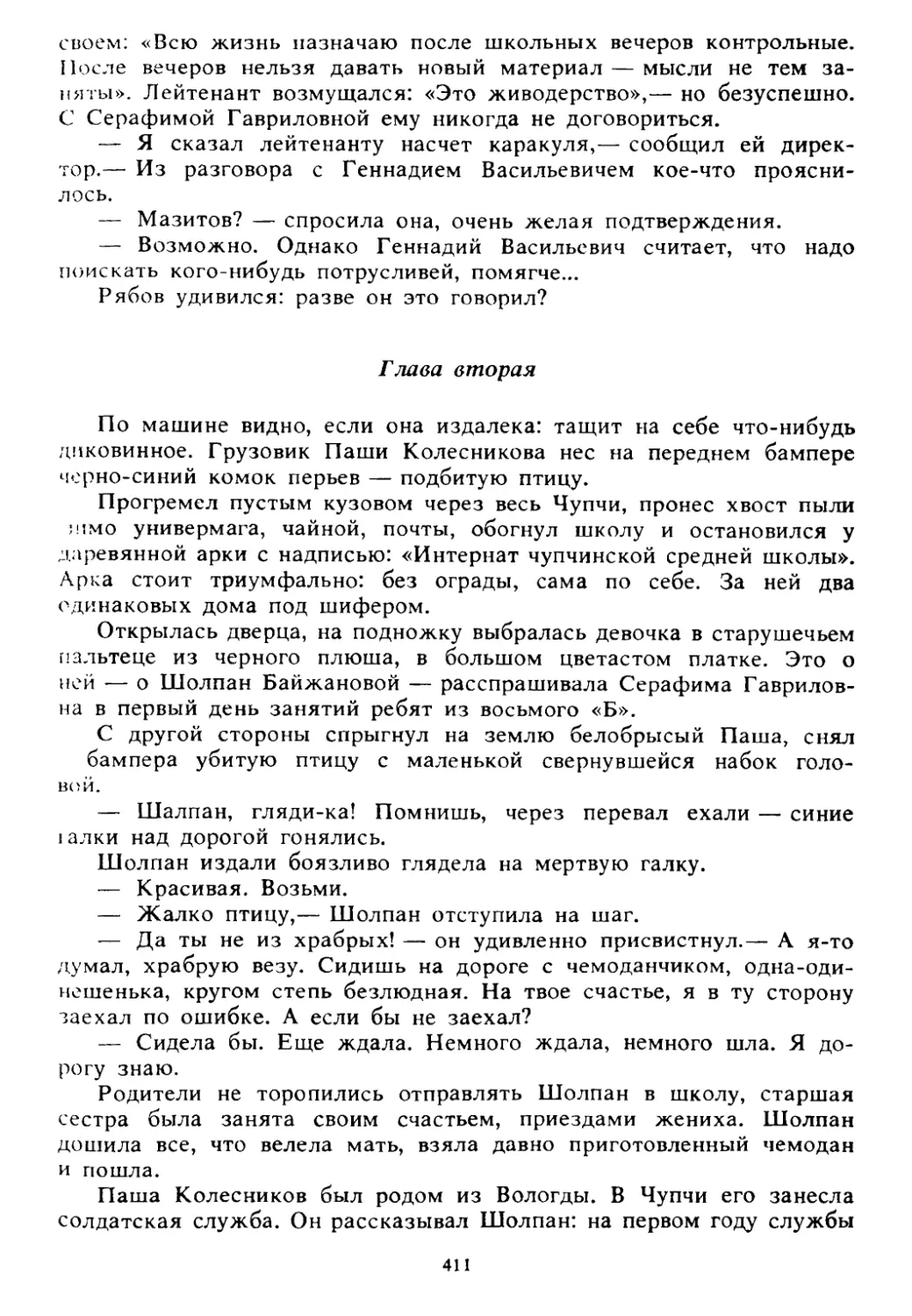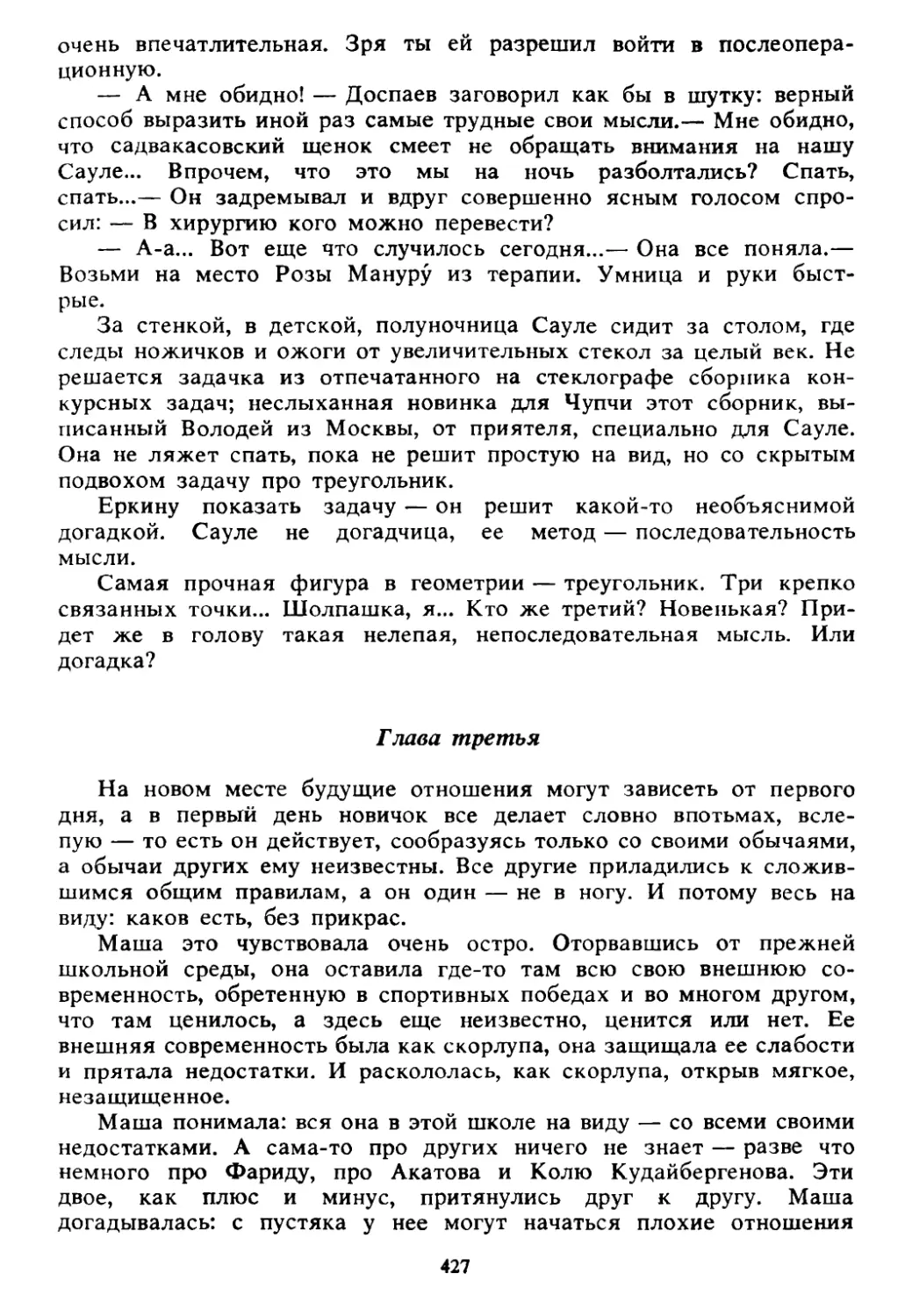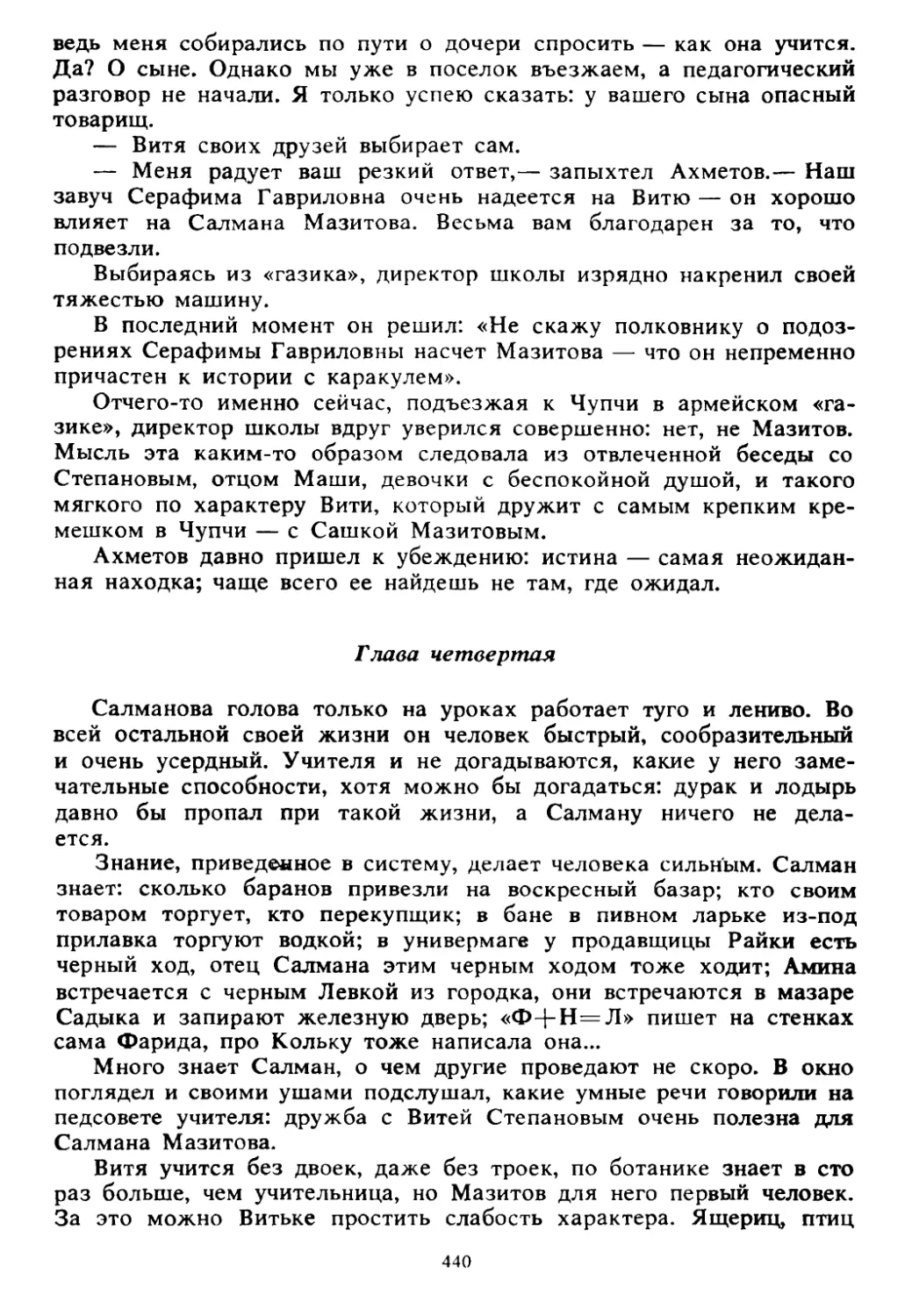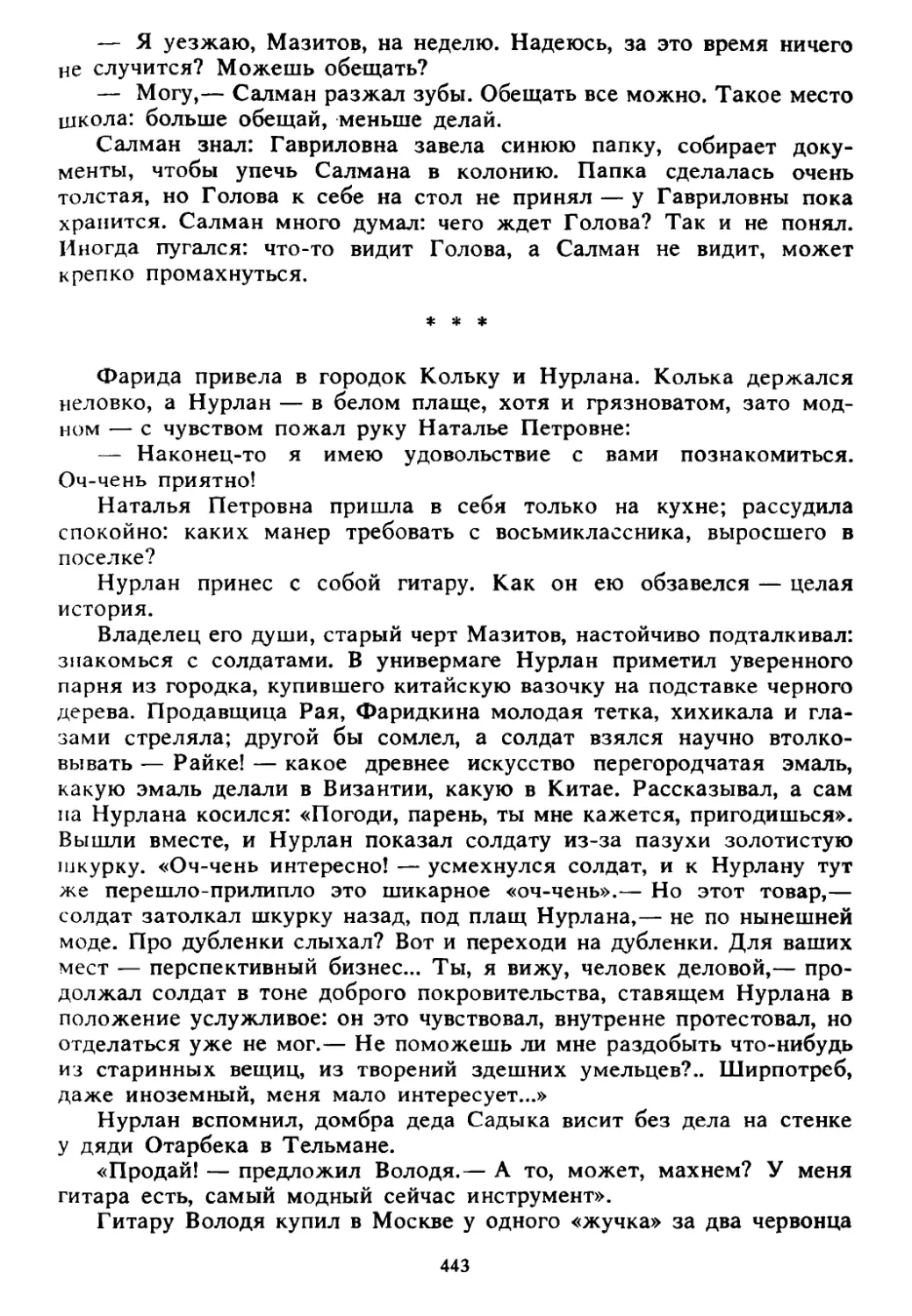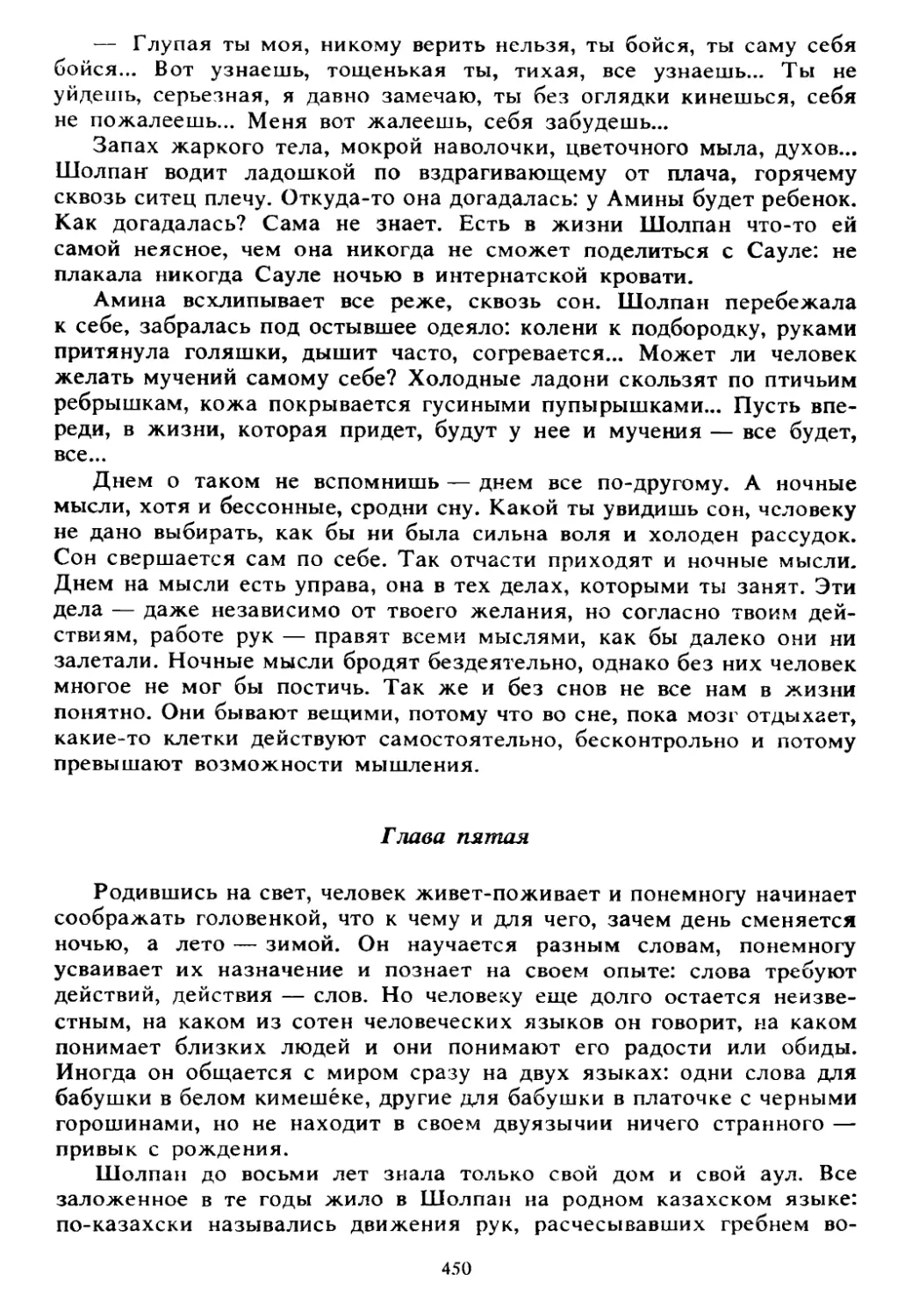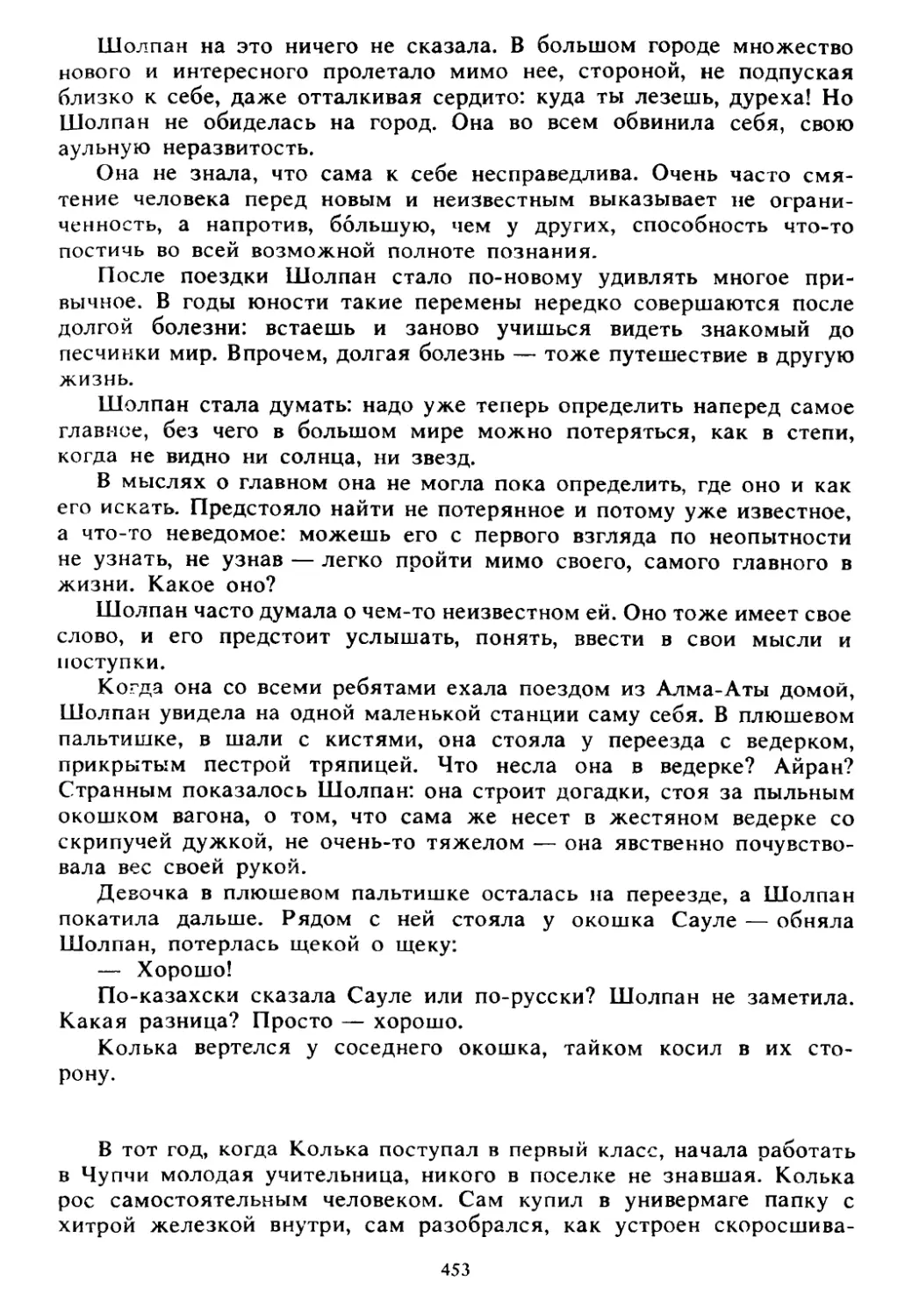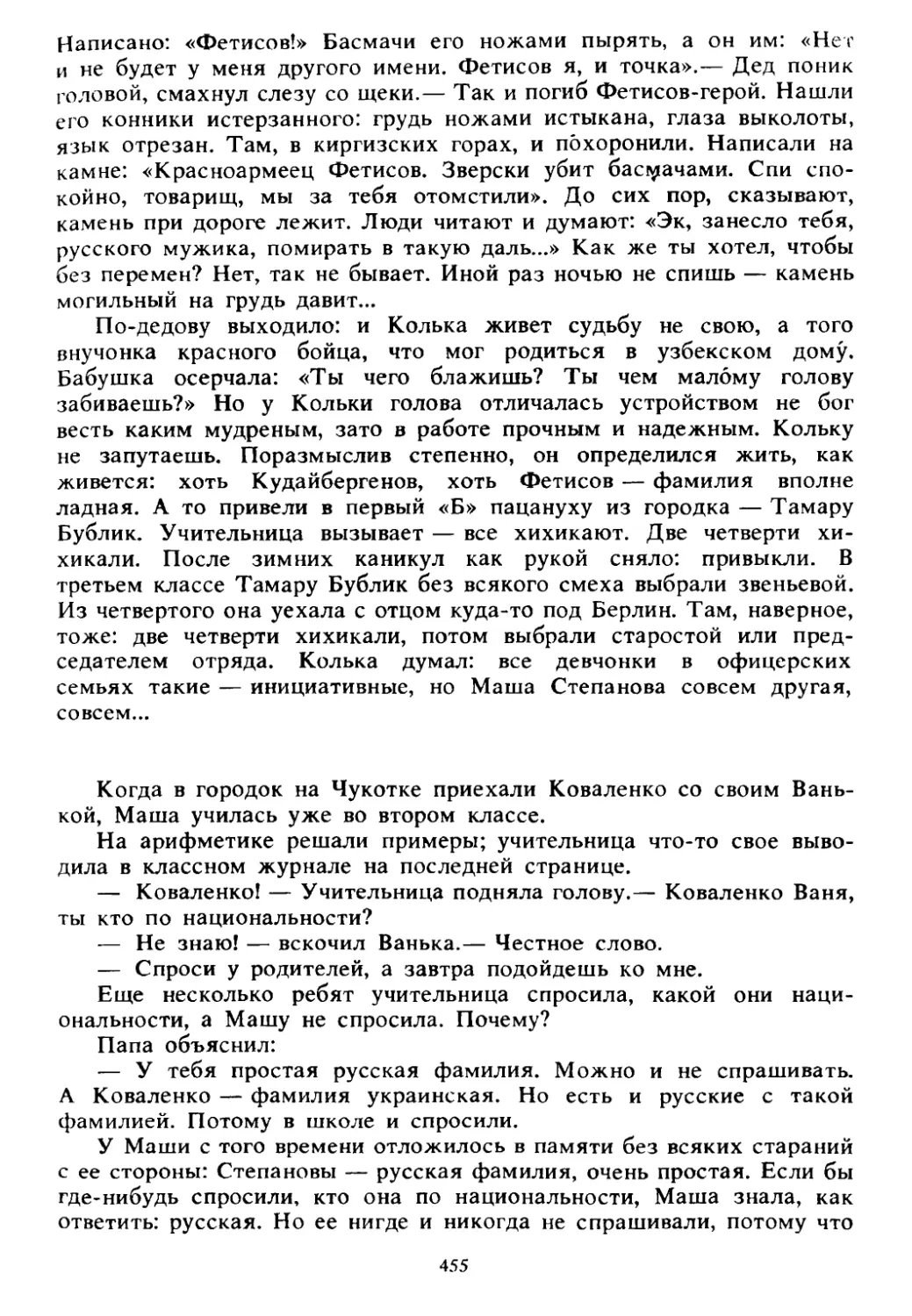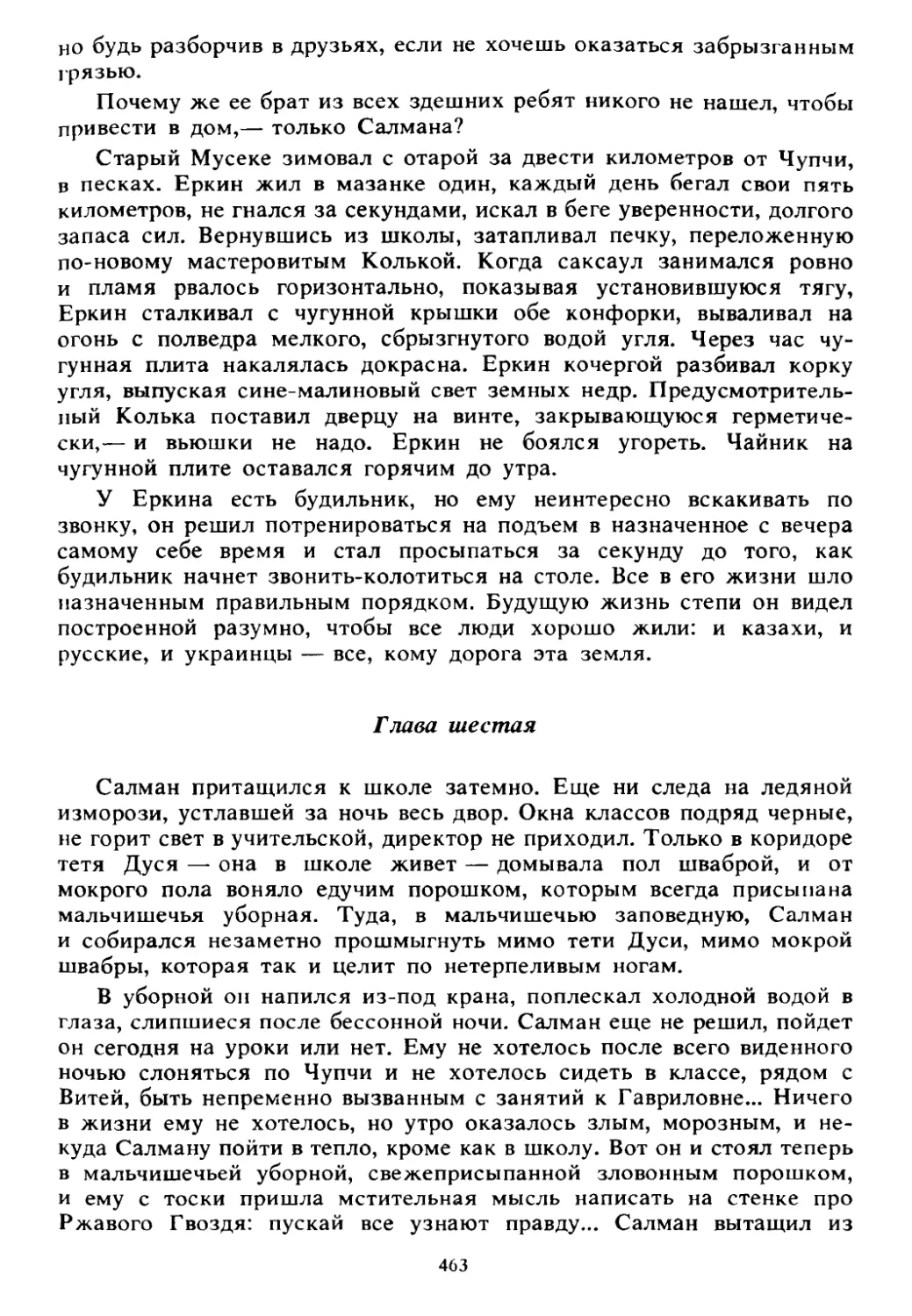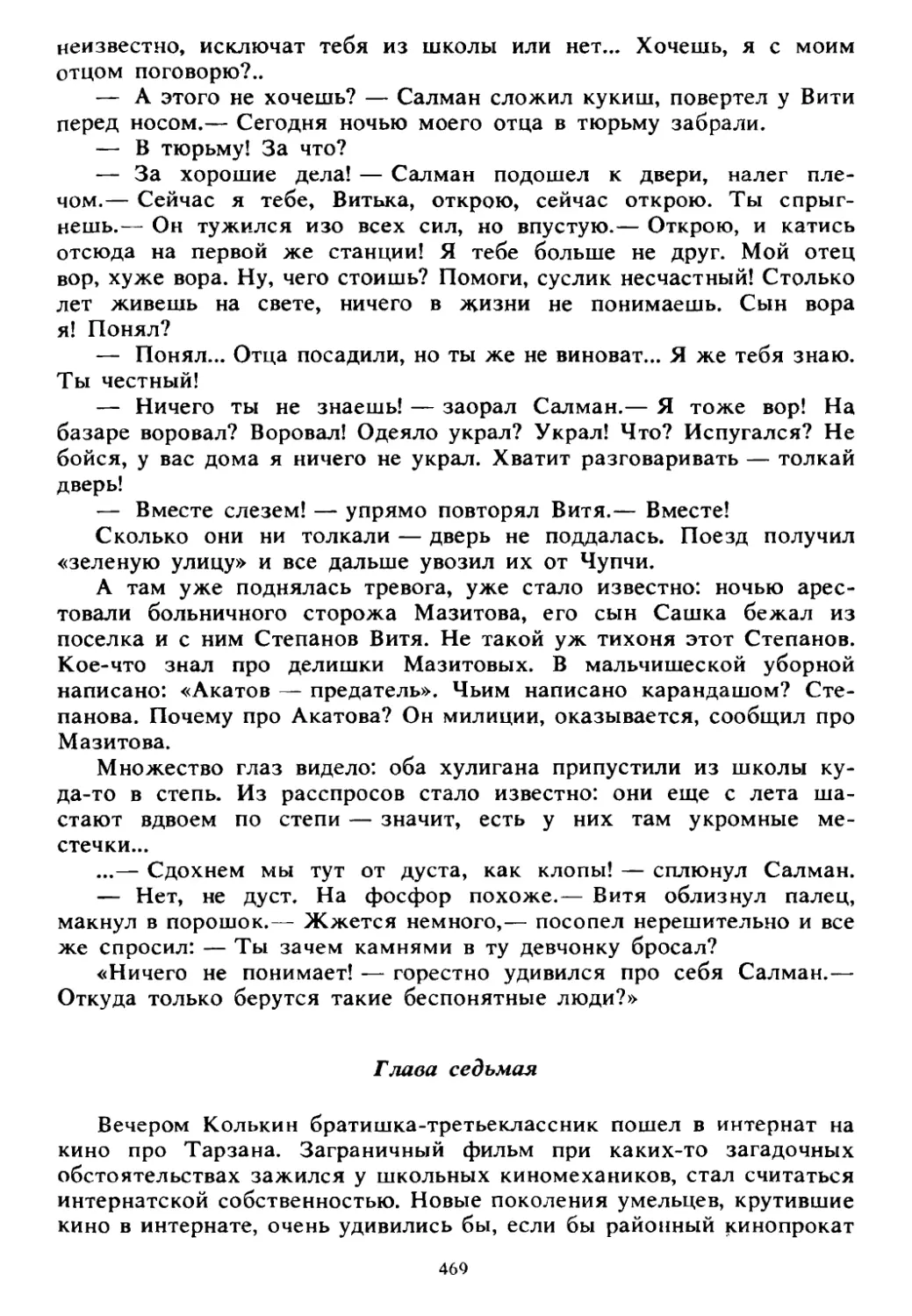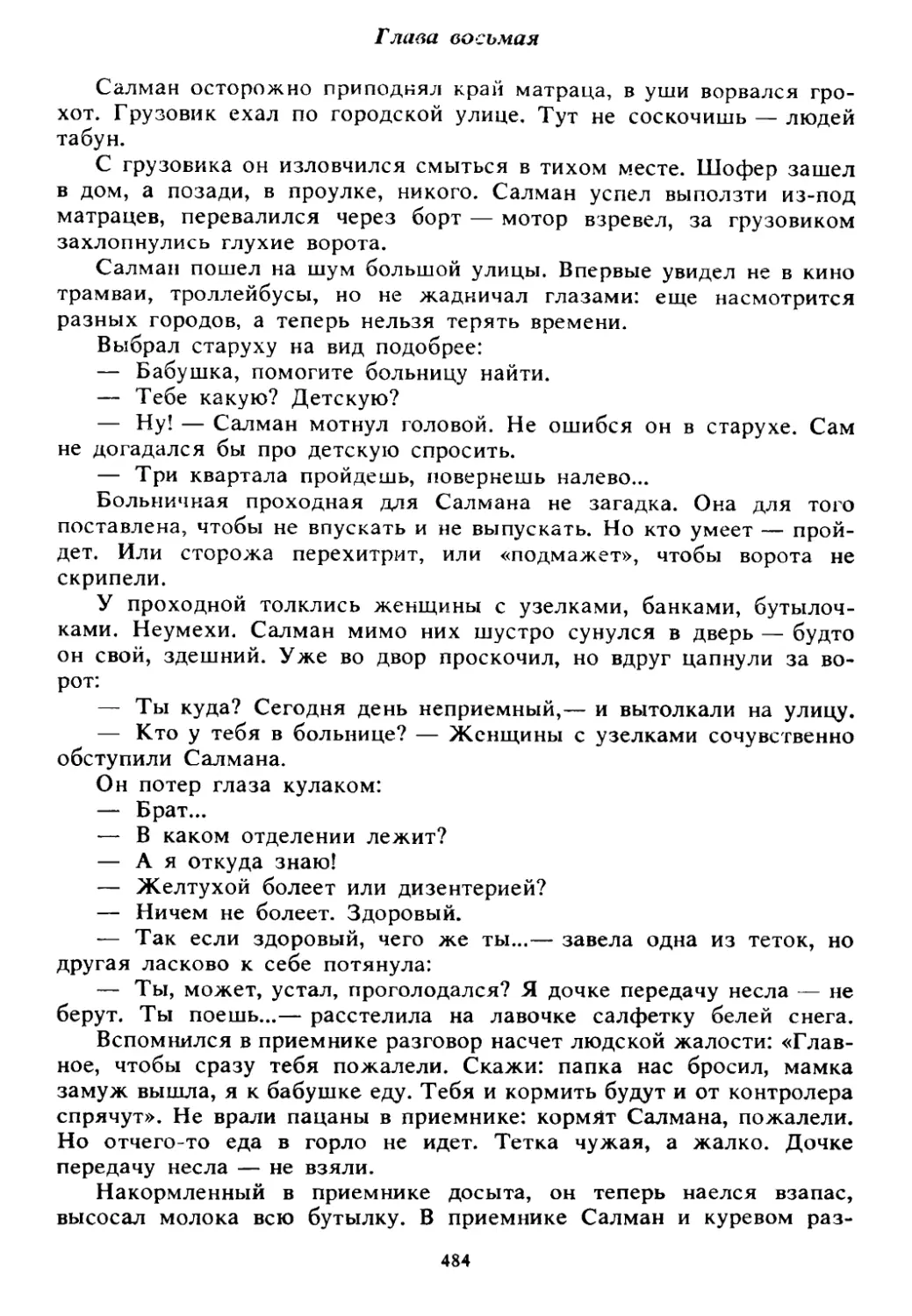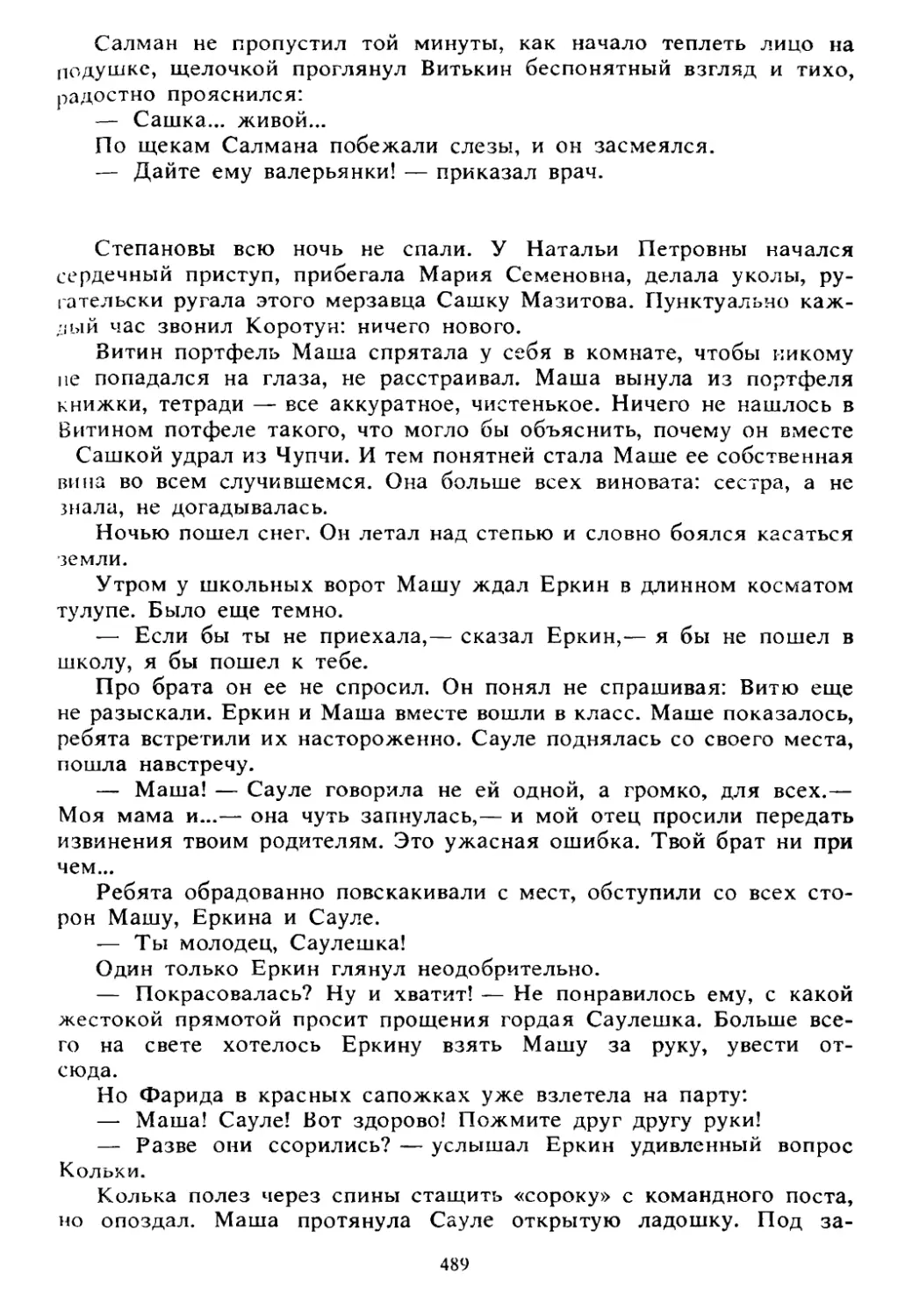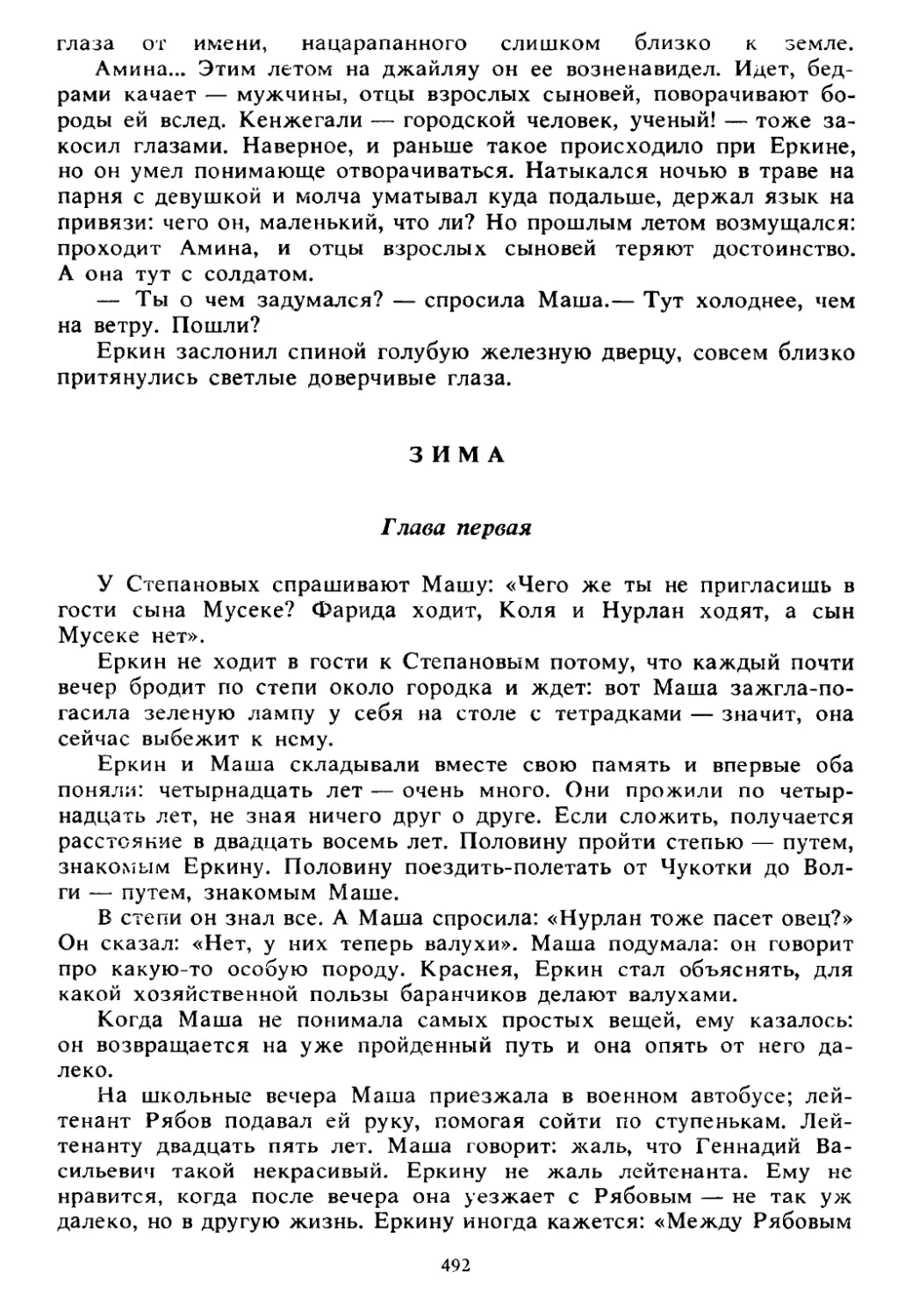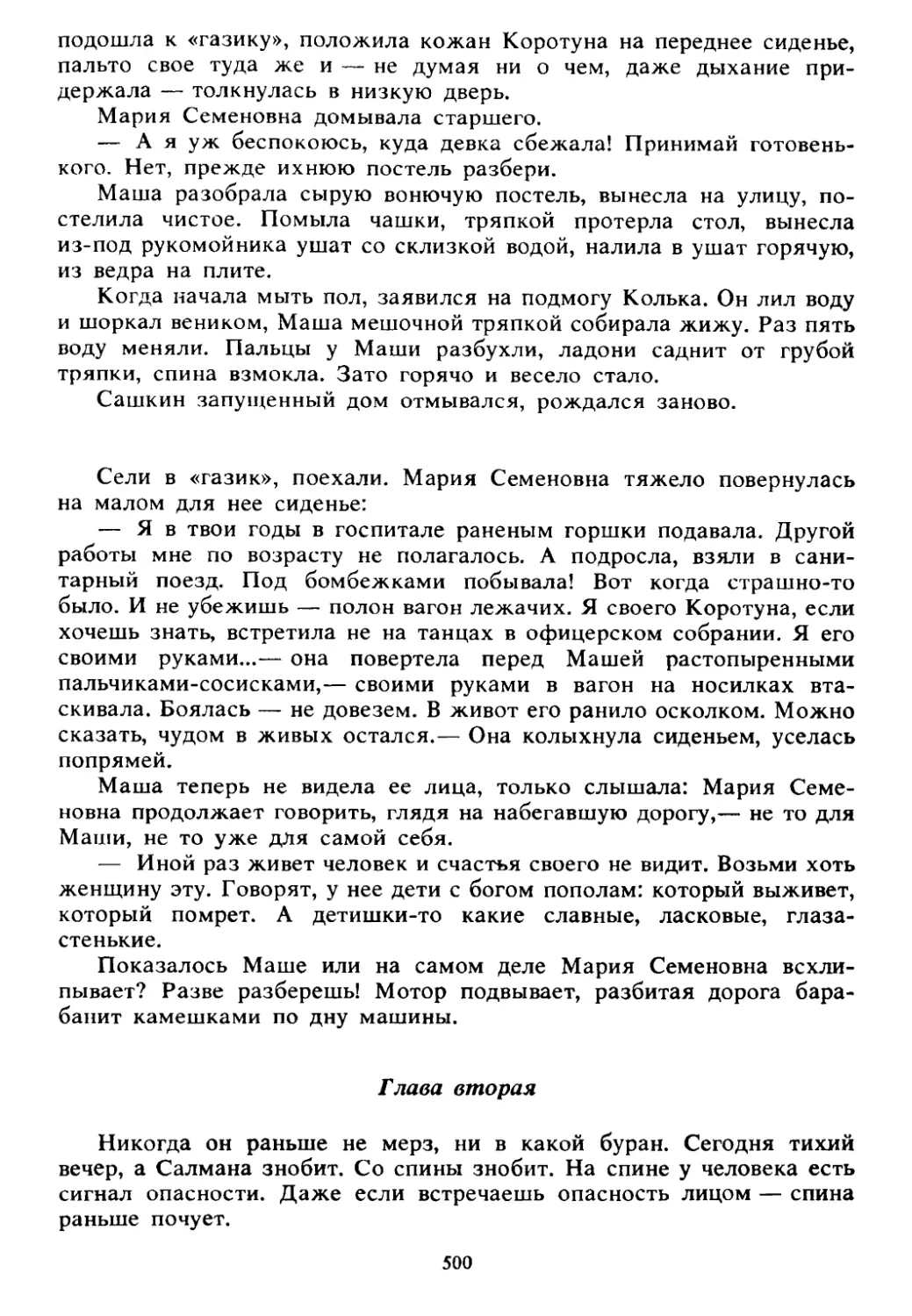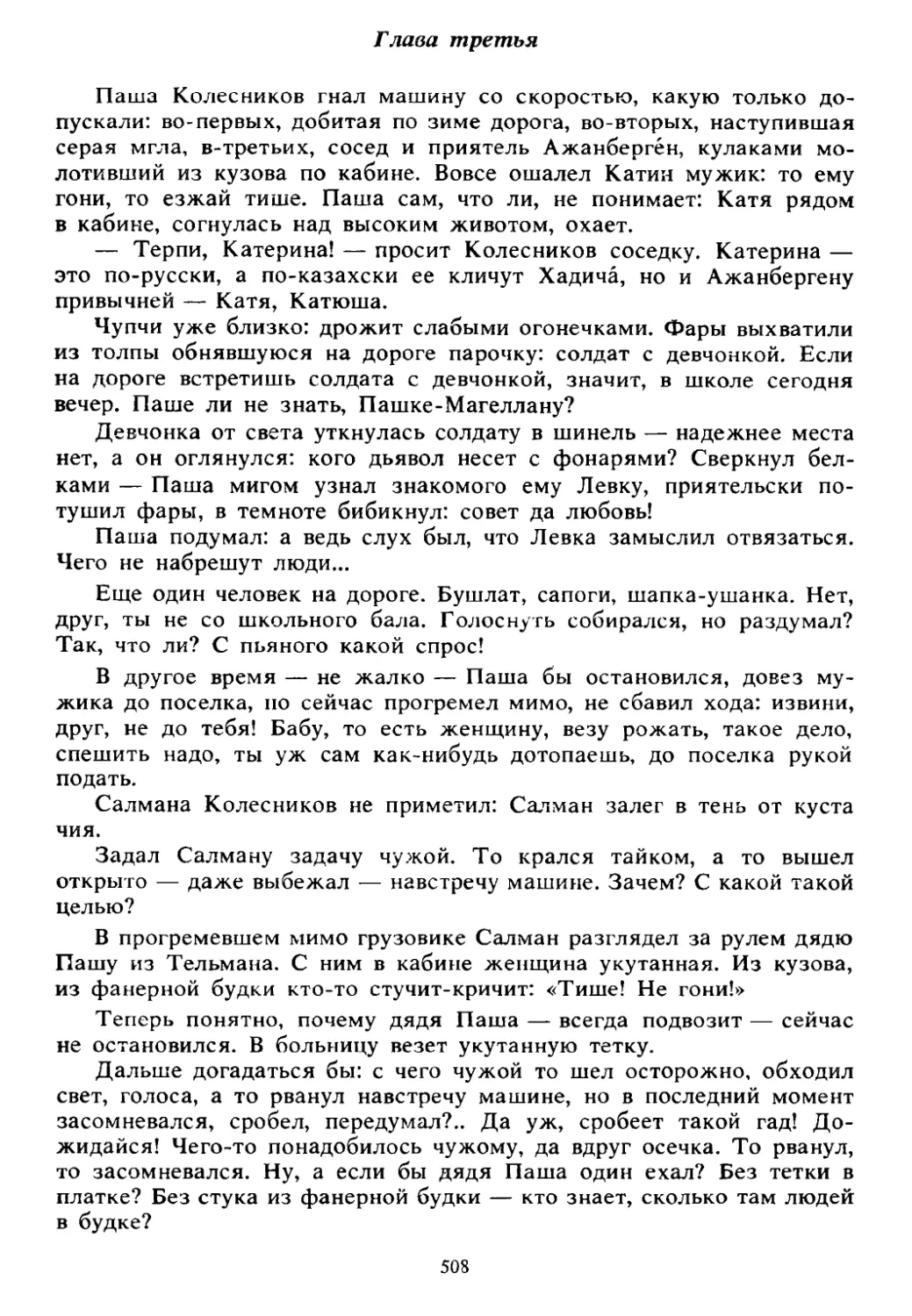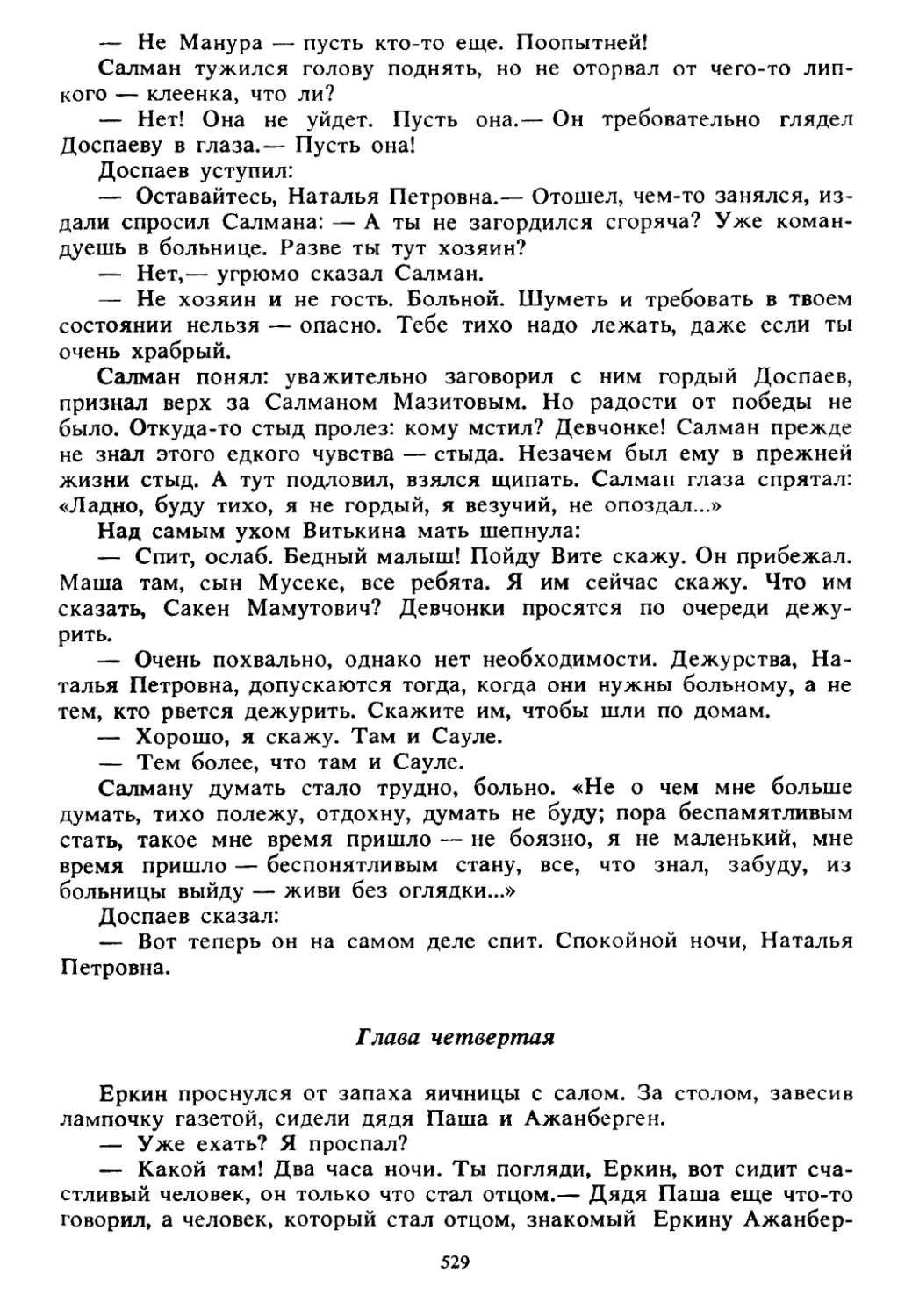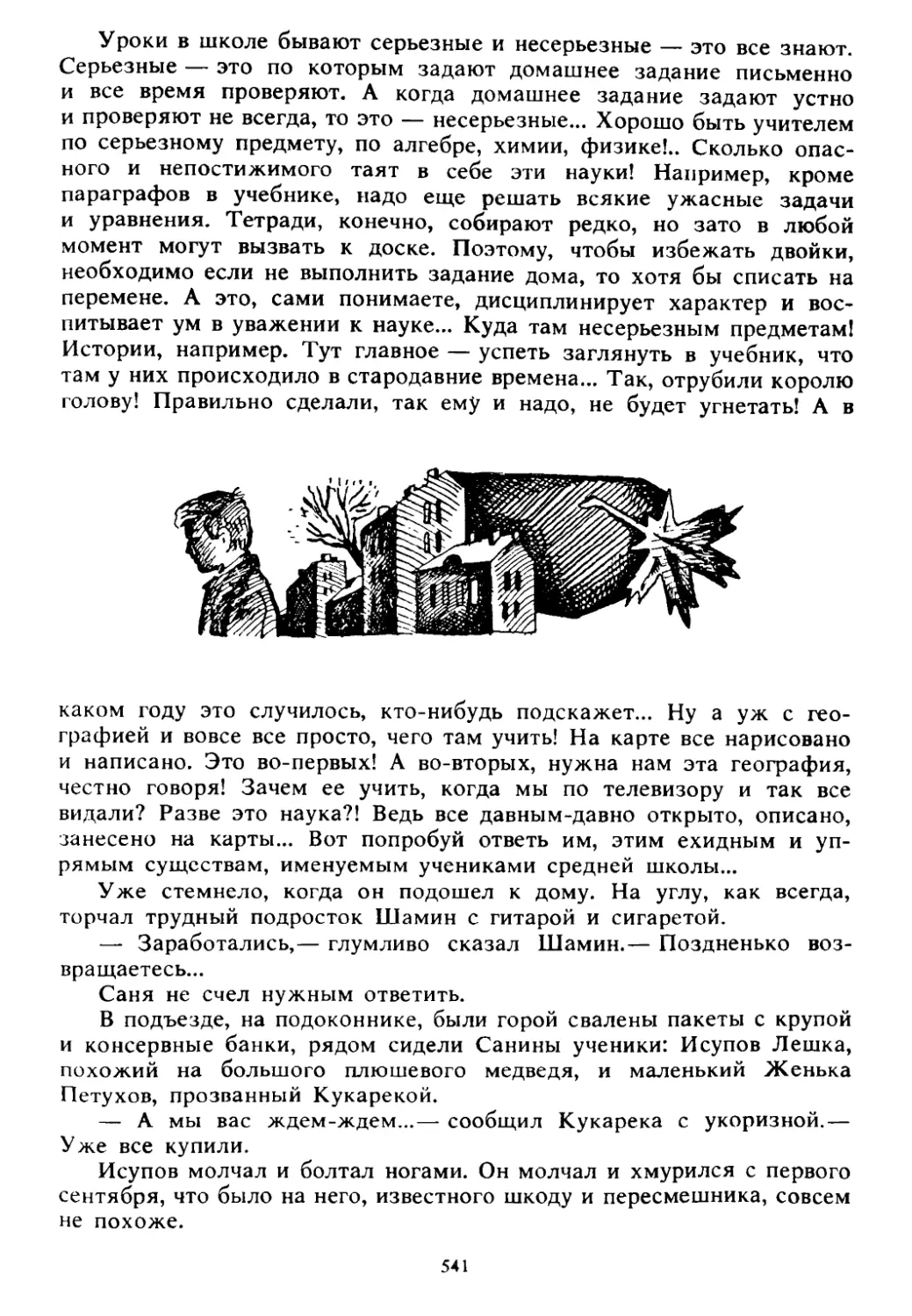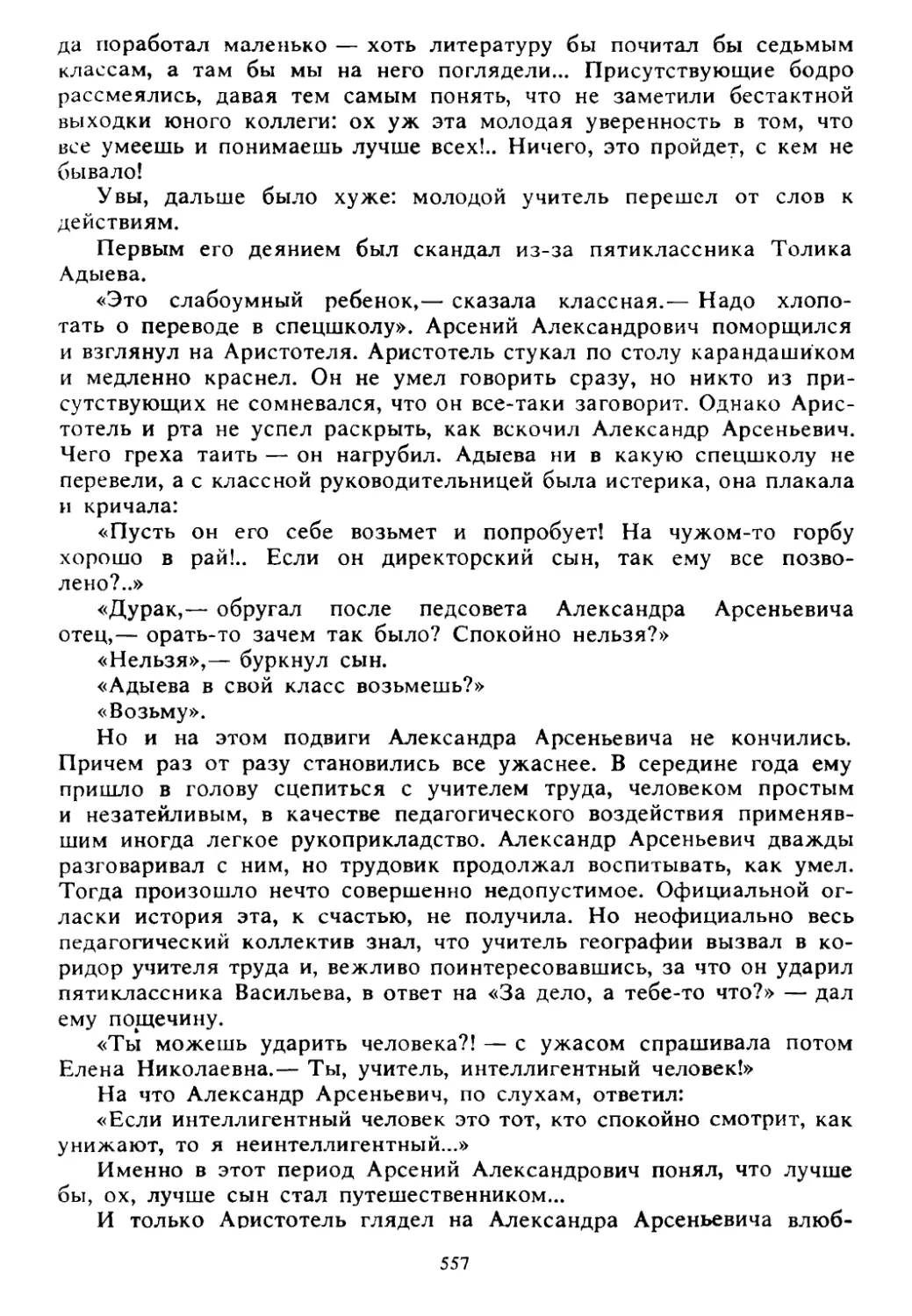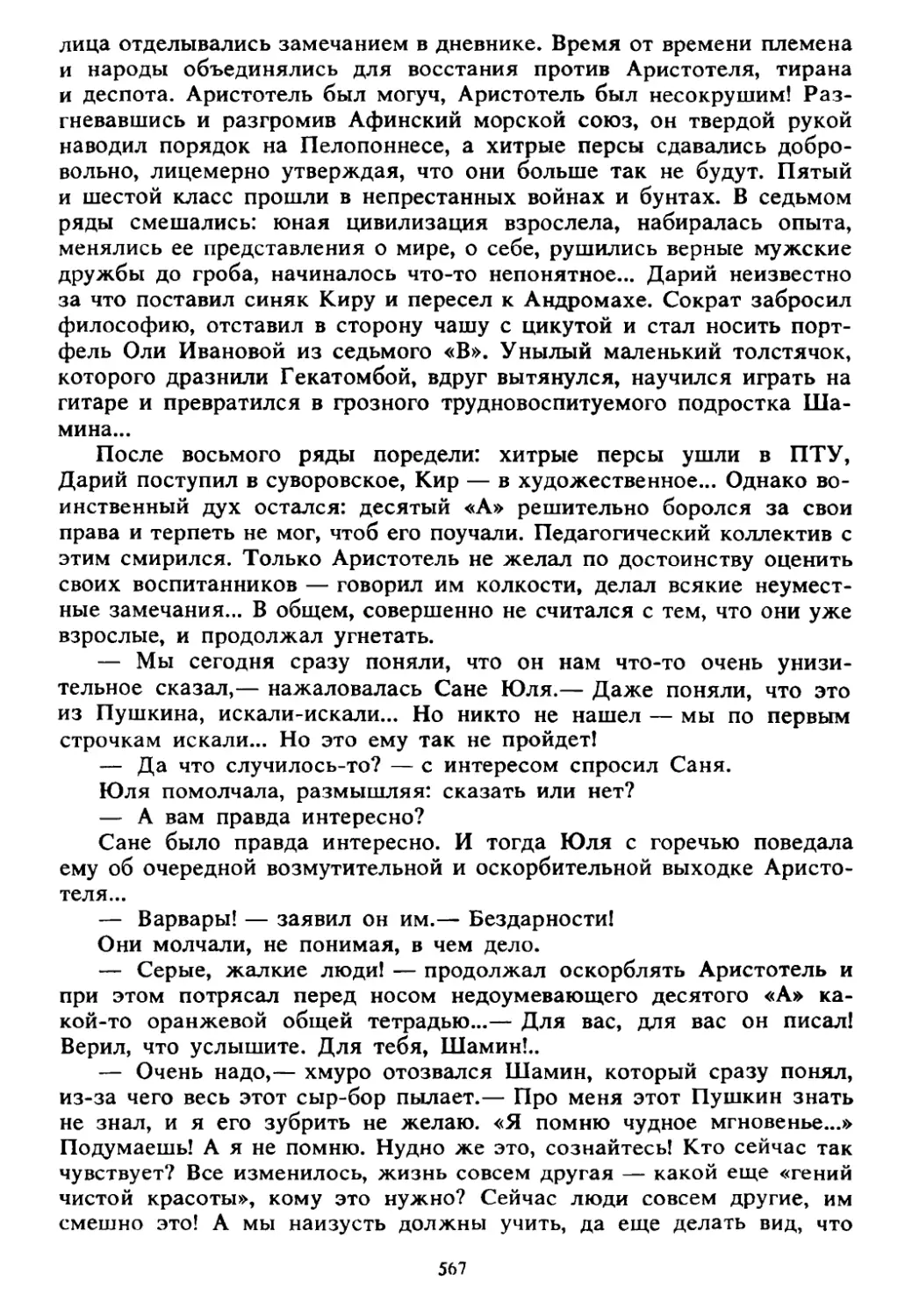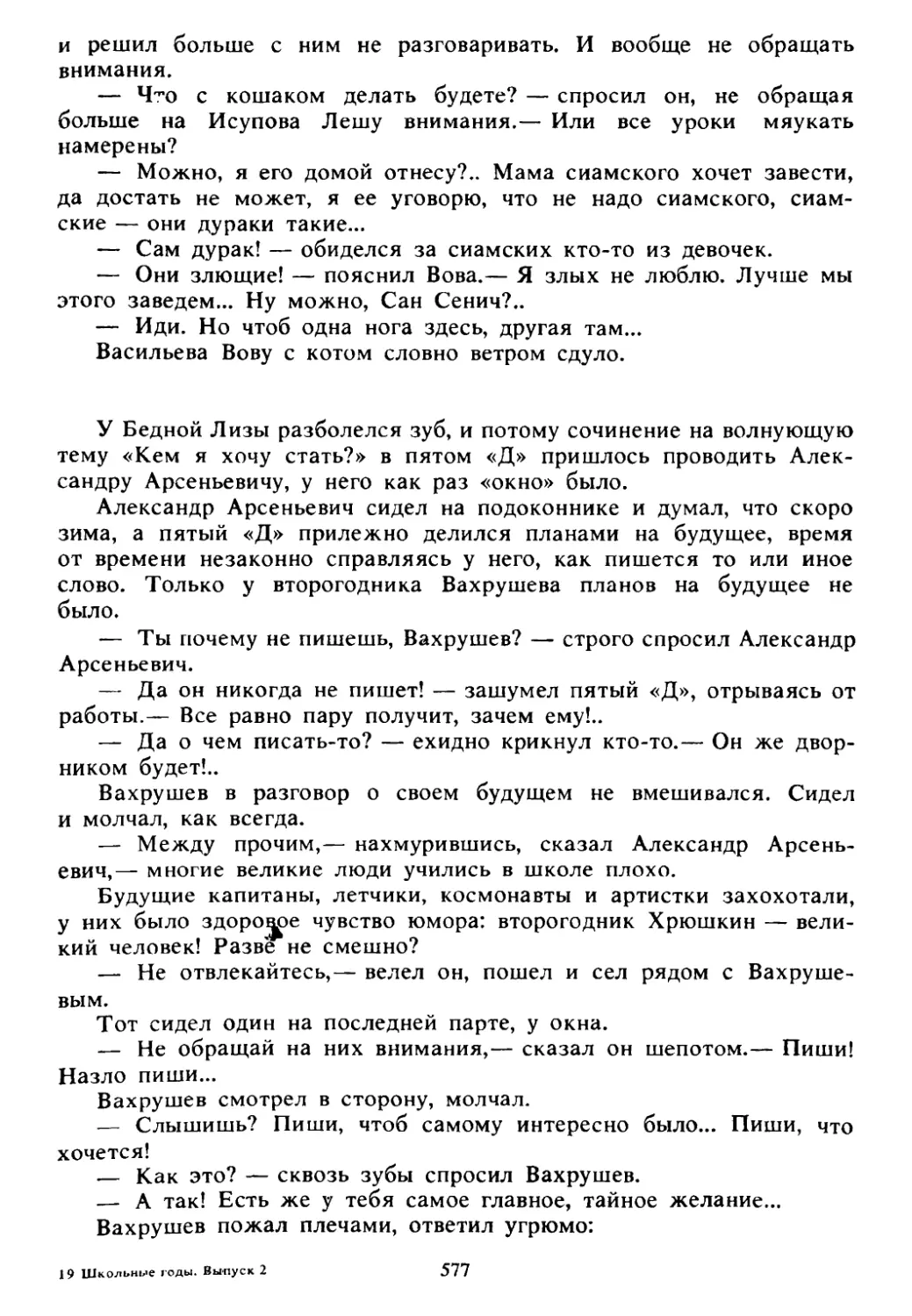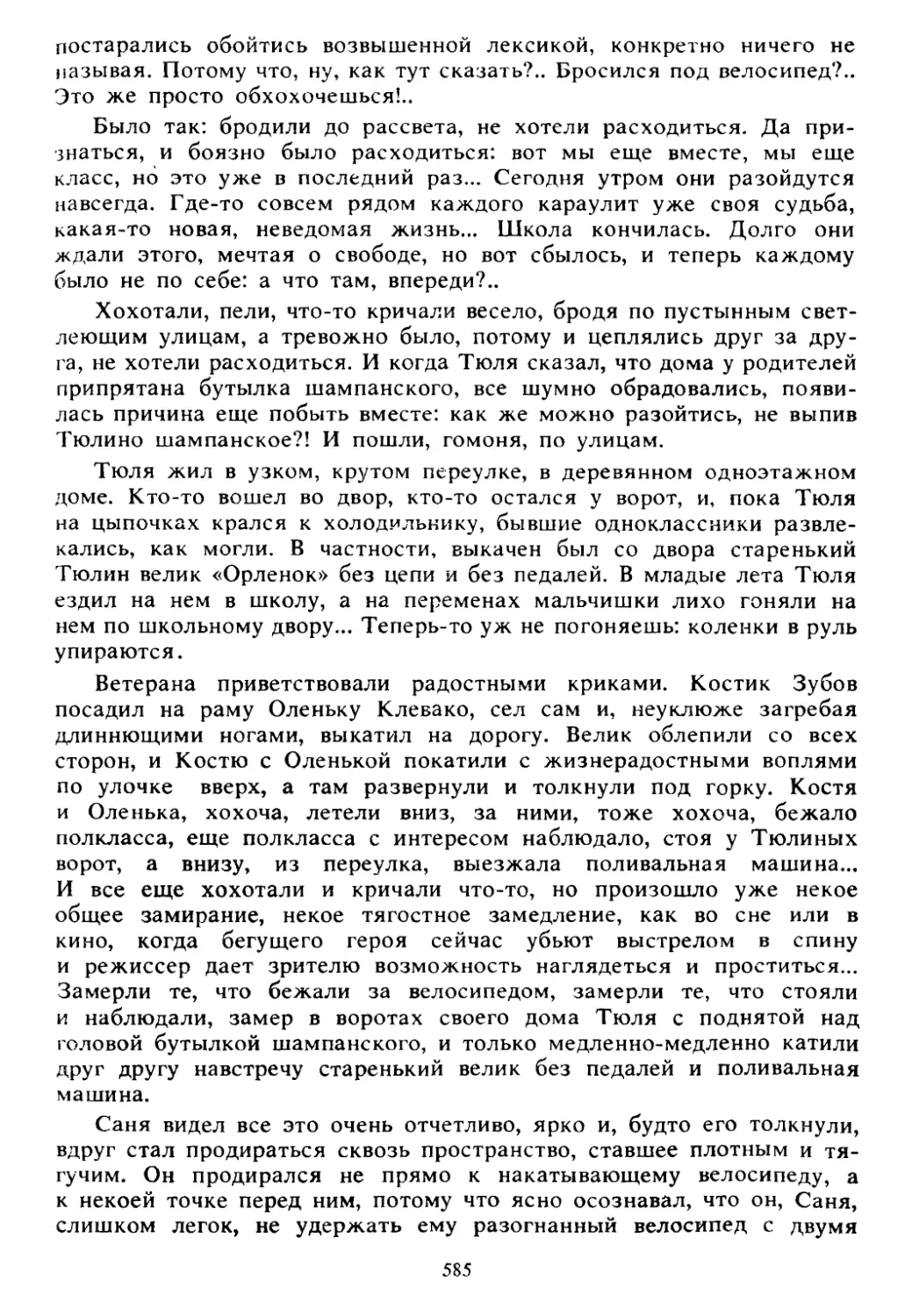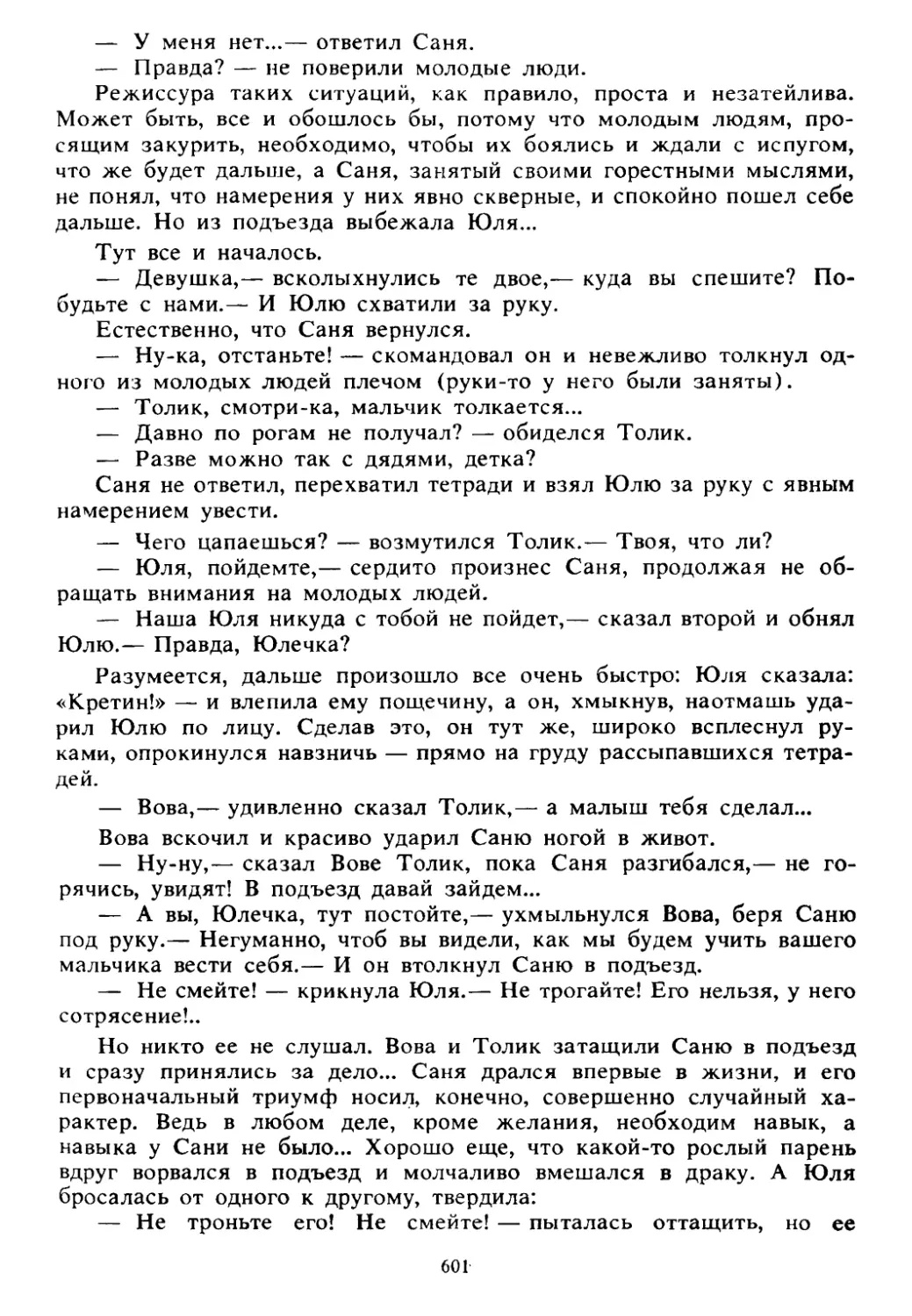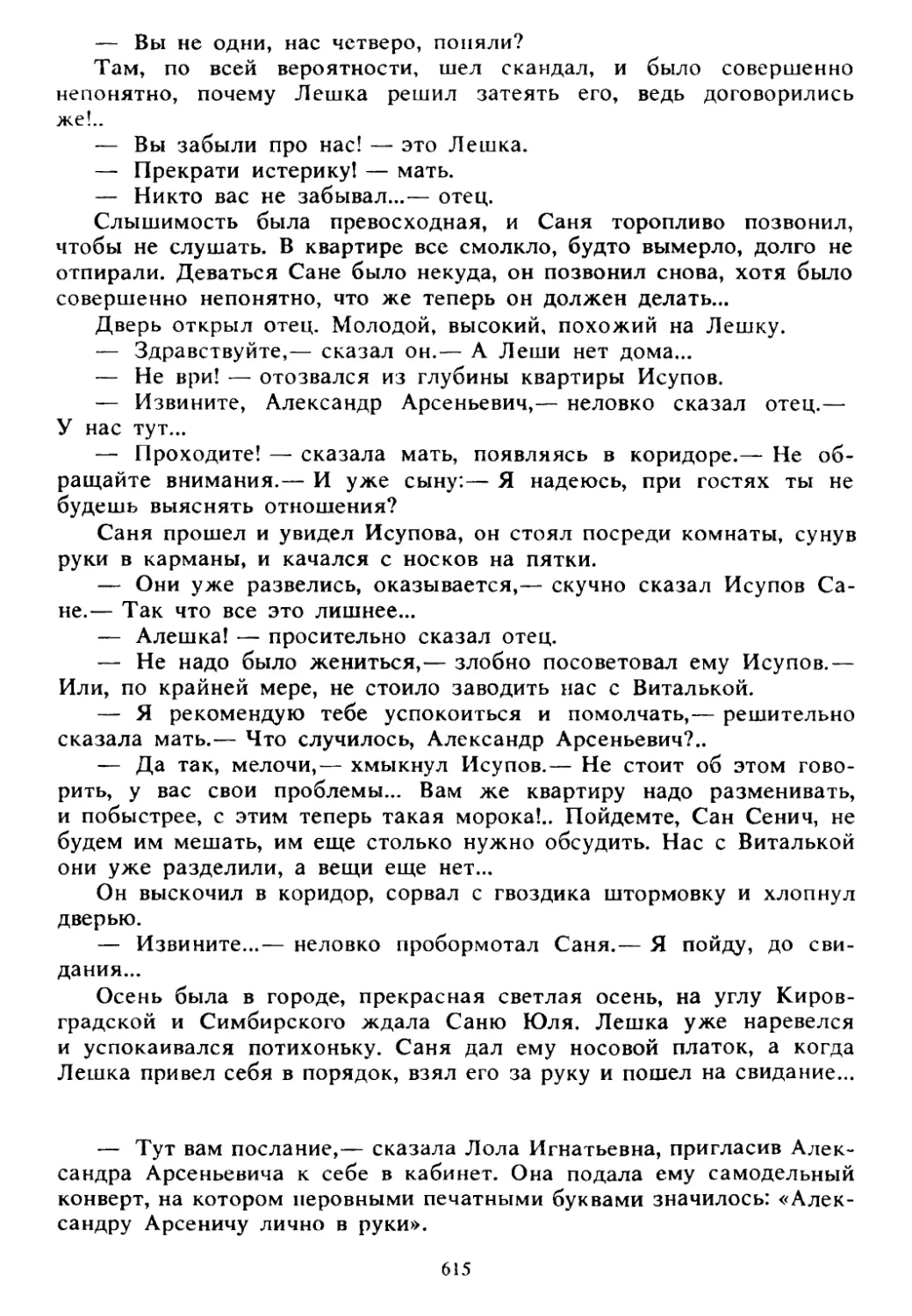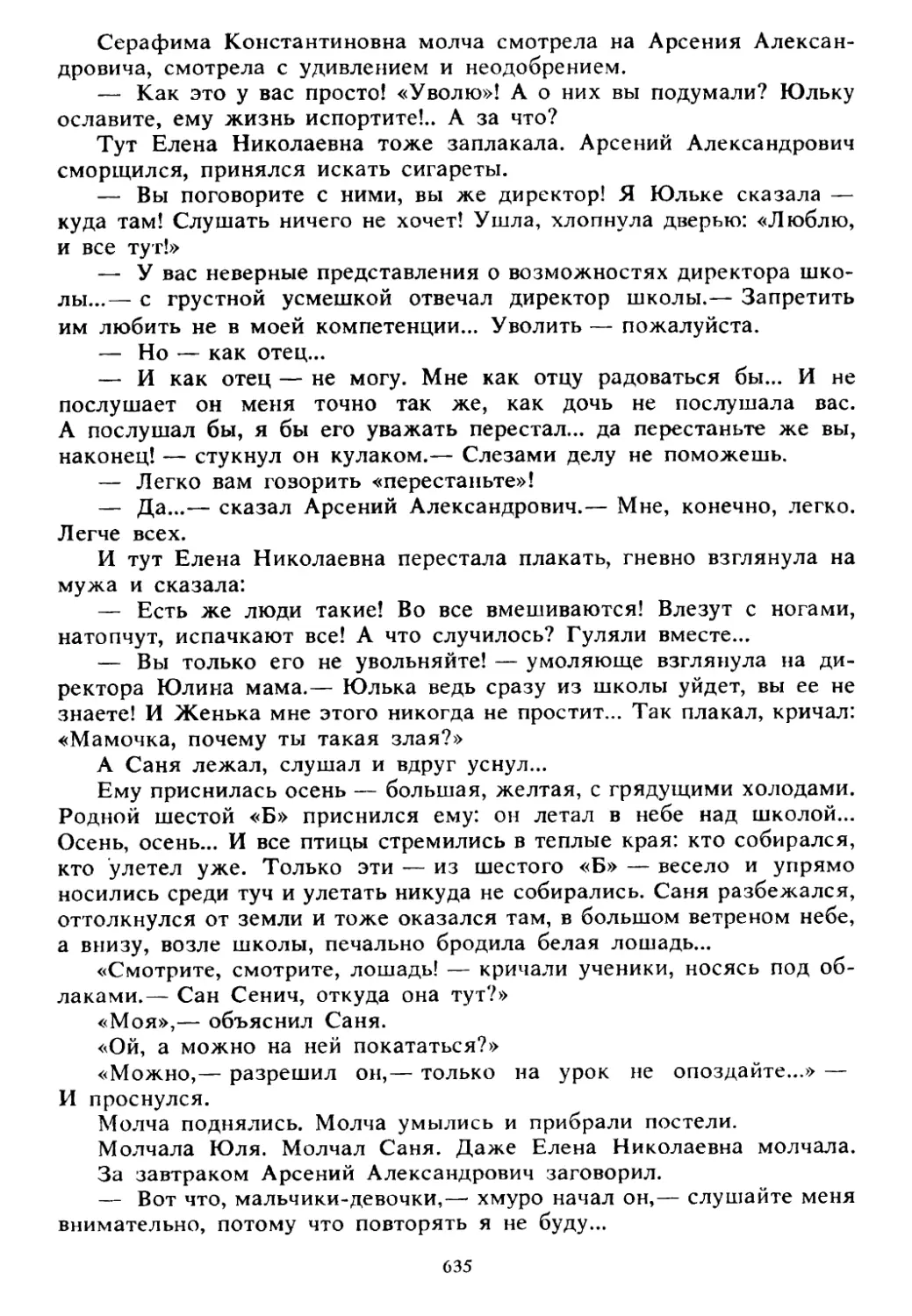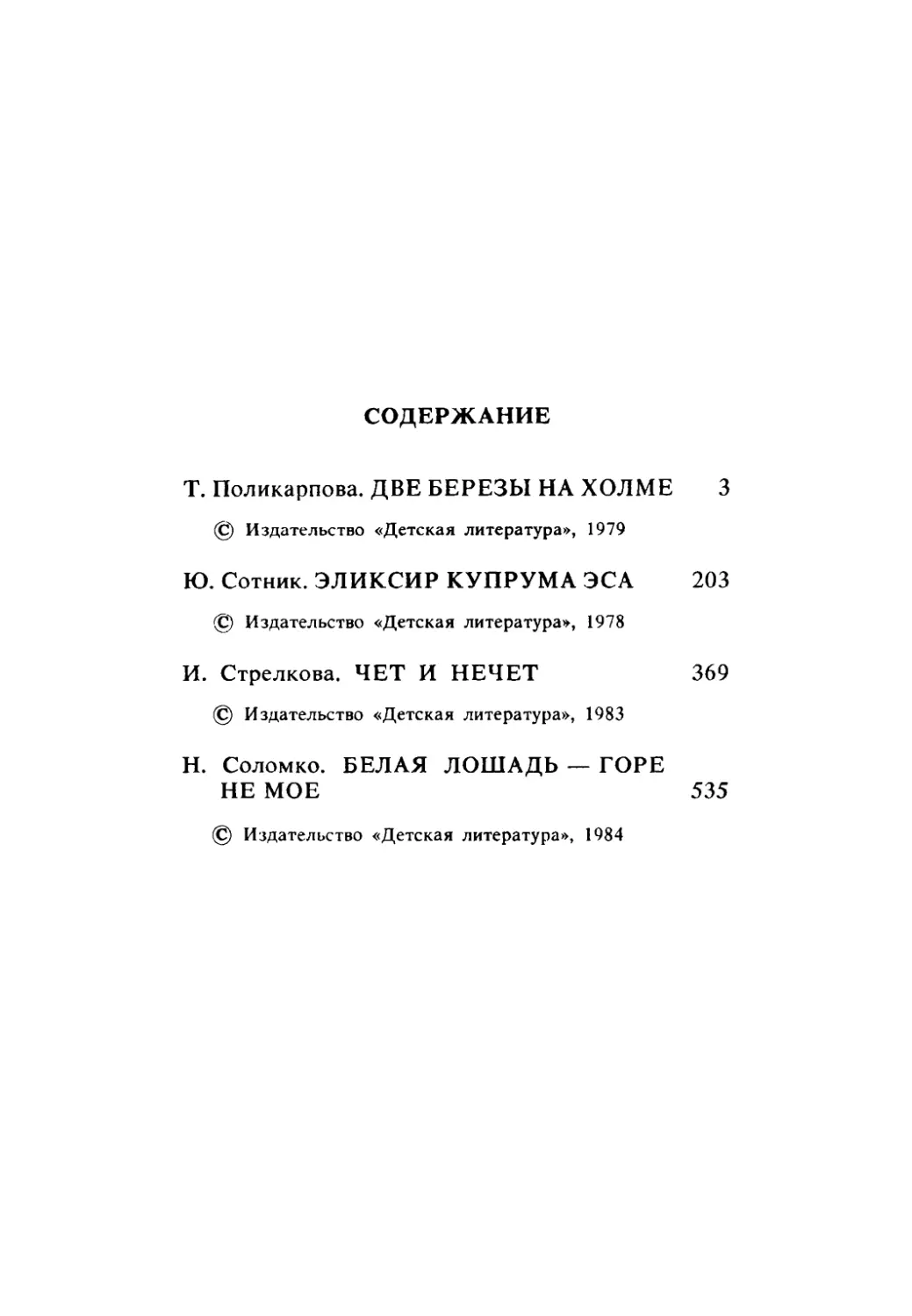Автор: Стрелкова И. Сотник Ю. Поликарпова Т. Соломко Н.
Теги: художественная литература повести
ISBN: 5-08-001161-0
Год: 1988
Текст
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
■g Т. Поликарпова
" ДВЕ БЕРЕЗЫ , TiA ХОЛМЕ {Й
Ю. Сотник Чек
k ЭЛИКСИР ft КУПРУМАЭСА
И.Стрелкова
ЧЕТ И НЕЧЕТ
Н.Соломко лтт,
Ш БЕЛАЯ «Я ЛОШАДЬ- ГОРЕ НЕ МОЕ
ПОВЕСТИ
МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1988
ББК 84.3Р7 III 67
4803010102-
М10К03)
ISBN—5—08-
Художник В. Нагаев Оформитель А. Савельев
Состав. Иллюстрации. Оформление.
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1988 Охраняемые произведения отмечены в содержании.
-515
377—88
-88 -001161—0
Т. Поликарпова
ДВЕ БЕРЕЗЫ НА ХОЛМЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Пеньковская планета
Новая школа — это каждый раз как новая планета. Ты ступаешь на ее землю и не знаешь, кто тебе тут враг, кто друг. Вообще неизвестно, что за племена здесь обитают. Какие у них законы и привычки, чего здесь надо особенно опасаться.
А для меня не только школа новая начиналась — в пятом классе вообще все новое: и предметы, и учителя. Но и этого мало. Само село, где эта школа и этот пятый класс находились, было чужим — Пеньки.
Все совхозные ребята, кто собирался кончать семилетку, ходили в Пеньковскую школу: в совхозной-то было всего четыре класса.
Теперь эта новая Пеньковская планета бушевала вокруг нас, совхозных. Нам так и кричали со всех сторон: «Совхозные! Совхозные приехали! Новенькие есть!»
От волнения, от того, что никогда еще не видела сразу так много незнакомых ребят, я не могла уловить, запомнить хоть какие-то лица: они мелькали, похожие и разные, вокруг меня, я даже не пыталась всматриваться, все силы свои собрала, чтоб сохранять на лице достойное спокойствие, чтоб не обнаружить, как мне страшно и одиноко. Все старшие ребята из совхоза, наверное, разбежались по своим классам, а моя подружка Зульфия болела, и первого сентября ее не было с нами. И чувствовала я себя в кутерьме чужого веселья такой заброшенной и маленькой, как, наверное, может чувствовать себя щепка или соломинка в бушующем море.
И, только утвердившись на своем месте за партой, словно на крохотном, но хоть твердом островке, защищенная сзади ее спинкой, а спереди довольно просторной крышкой, уперев ноги в надежно неподвижную перекладину, а локти в столь же надежную столешницу, я как бы вернулась сама к себе: «Чур меня, чур! Я вне игры!» — зачуралась на время урока. Магический круг безопасности очертил вкруг меня звонок. Наконец-то все эти текучие, изменчивые, переливчатые лица, мелькавшие у меня перед глазами до звонка, теперь устоялись над партами, перестали дробиться и можно было их рассмотреть и запомнить, хотя бы те, которые я видела со своего места,— оборачиваться я не решалась.
Но только мой взгляд скользнул вдоль голов, чтоб произвести разведку: кто — что, кто — какой, какие все,— как мгновенно его перехватили. Над классом витал глаз нашего учителя. Это было так ужасно, что сердце на миг во мне остановилось! Учитель русского языка, он же директор школы, смотрел в журнал — он только начал читать список фамилий: один его глаз был опущен к столу — он же читал! — а второй — смотрел прямо на меня! Смотрел на класс!
Мало того, что учителя звали необычно — Мелентий Фомич, он еще имел, как в сказке, недреманное око!
4
Я так и сидела — застыв, не увидев ни одного лица,— пока он не назвал моей фамилии. И она так страшно отчужденно прозвучала в чужой комнате, для чужих ушей, произнесенная чужим человеком с неслыханным именем и с невиданным глазом. Я встала за партой, внутренне окоченев.
Так Хома Брут в «Вии» окоченел предсмертно, обнаружив себя для всех под указующим пальцем Вия: «Вот он!»
— Вот она, Плетнева! — грохотало у меня в ушах, хотя я уже давно сидела в своем убежище и ничьи когти и зубы не тянулись ко мне. А несколько круглых белых пятен — лиц, обернувшихся на мое вставание,— оборачивались уже к другим, кто подымался на голос учителя. Я просто физически сейчас ощущала, видела глазами других свое круглое, голое лицо. Так мне казалось оттого, что сегодня впервые мои отросшие за лето волосы заплели в две косички. «Нехорошо,— сказали мне,— все здесь с косичками, а ты придешь в локонах».
* * *
Так погибла моя красота, которая только в это последнее лето начала было меня утешать. Обычно меня стригли коротко. Волосы росли прямые и жестковатые, папа говорил: как лошадиный хвост.
Я никак не могла понять, что у меня за лицо — ничего себе или совсем отвратительное. Когда дома никого не было, я простаивала перед зеркалом, забывая о времени, о делах, о книгах. Я рассматривала свое лицо, пытаясь обнаружить в нем хотя бы следы красоты, описанной в моих любимых книгах. Нет! Ни огромных, как лесные озера, глаз Ревекки из «Айвенго», ни прекрасно-бледных щек синьоры Боллы из «Овода», ни золотистых, как свежая стружка, и длинных, как водопад, волос Золушки не было у меня. И нос мой был хоть и прямой, но какой-то толстоватый, а щеки и вовсе круглые, а глаза совсем светлые. Только и радости что длинные ресницы, загнутые вверх, как у всей папиной родни. А волосы — просто гладкая челка. Довольно темная.
«Да уж,— думала я, созерцая все это в зеркале,— чего уж тут и смотреть! Одного взгляда достаточно. Но почему же тогда я не могу оторваться от своего лица? Нет, я его не люблю. Это точно. Но почему, почему так притягивает меня зеркало? Почему это неказистое отражение, эти глаза, и лоб, и щеки — почему это я?» Смотрели на меня в упор светлые спрашивающие глаза. Глаза в глаза: это я? Это ты? Где я и где ты? И кто ты?
Плавало лицо в голубой глубине стекла, в бездонной, ловил взгляд: не появится ли там прекрасный образ незнакомки? Нет, все то же надоевшее и ненаглядное мое лицо.
И вот когда перед пятым классом впервые летом меня не
5
подстригли, как обычно, волосы отросли и изменили свойство. Вдруг пошла по волосам волнистость. Пряди надо лбом посветлели — выгорели, что ли? Чтоб они не лезли в глаза, бабушка собирала их с висков и надо лбом и заплетала в косичку. Она толстой колбаской лежала на затылке, а вдоль лица вились свободные, незаплетенные прядки. Они светлели и становились пушистыми. Над головой стоял светлый венчик. Щеки поэтому казались не такими уж круглыми. Конечно, лицо мое не изменилось, но хоть как-то украсилось.
Этим летом мы с девчонками, бегая на прополку в поле, пристрастились вить венки из выполотых васильков. Не пропадать же совсем без пользы такой красоте! Плели венки особенные, набирая в вязочку разом по пять-шесть цветков, и венок получался пышный, как шапочка. Он долго не вял. Ложась спать, я вешала его на стул, утром надевала. Одного венка хватало на три дня.
Наверное, из-за этого яркого венка произошел тот случай. Однажды несколько городских девушек (они приехали в совхоз на уборку), встретив меня на полевой дороге, вдруг прервали свой щебет, а когда мы разминулись, я услышала, как одна из них сказала:
— Вот красивая девчонка...
— Симпатичная,— отозвалась вторая задумчиво.
Сердце мое замерло. Я не смела поверить своим ушам. Никто и никогда не говорил так обо мне. Никто и никогда не говорил и мне таких слов. Ни мама, ни бабушка. И вот сказали чужие, сами прекрасные, как героини моих книг, городские таинственные девушки, к которым я не осмелилась бы и подойти, считая, что им, таким красивым, будет просто неприятно от моей невзрачности, а мне — стыдно от их презрения.
Дома я, конечно же, бросилась к зеркалу. Да, из глаз бил свет, щеки горели. Да, венок был синий и прекрасный. Но лицо осталось моим лицом. Ничего не изменилось. Свет в глазах померк: «И это все?»
Девушки просто были добрые. Я пошла на кухню к бабушке. Повертелась перед ней, посмотрела ей в лицо. Чтоб и она на меня взглянула. Может, тоже скажет? А она спросила:
— Что так разрумянилась? Нет ли жару? — и потрогала мой лоб.
Гордость не позволяла мне спросить ее прямо: «Скажи, может,
все-таки я не такая уж безобразная, как думаю?» Где-то в глубине души я знала, что бабушке и маме я нравлюсь сама по себе и им безразлично, какая я на вид, поэтому еще бесполезно было спрашивать. Только покажу им, что меня это задевает,— какой стыд и малодушие!
Единственное, что я могла,— это не обнаружить малодушия, не дать догадаться другим, что меня занимает.
А вот теперь, перед школой, все волосы мои стянули в некрасивые, короткие и толстые косички, торчащие из-за ушей. Вылезли на вид голые щеки. Ф-фу! А тут при всех — по фамилии.
6
Сидя теперь в чужом классе с новым своим лицом, я осваивалась с тем таинственным, непонятным и потому страшным обстоятельством, что твоя фамилия, произнесенная вслух при незнакомых людях, обнаруживая тебя, одновременно и уничтожает... Наверное, в это мгновение воспринимаешь свою фамилию так же, как все эти люди, для которых она пока не более чем звук пустой, оболочка, лишенная смысла, ничем не заполненная. И вот эти-то мгновения, когда ты вместе с другими и сама себя так ощущаешь — ничем, пустым местом,— и ударяют так больно по сердцу. До сих пор я была Дашей, Даней, Дашуткой. Это имя значило для меня любовь. Даже в нашей совхозной школе, даже в сочетании с фамилией — так иногда называла меня Анфиса Петровна, единственная до сих пор моя учительница,— оно было мною самою. Даша Плетнева. Но наверное, еще потому, что там все меня знали и я — всех. А теперь: «Плетнева!» Как удар. Плетью. И к этому нужно было привыкнуть. И привыкла. Но первый удар был таким сильным, что всякий раз на уроках — а сколько их было! — на собраниях — а их было сколько! — этот первый миг явления твоей фамилии для всех дергает: мгновенный ужас Хомы Брута, обнаруженного Вием: «Вот он!»
«Гляделыцик»
А урок тем временем шел своим чередом. Учитель с недреманным оком подошел к доске; наконец-то можно было перевести дух.
Я глянула вправо: там, вдоль безоконной стены, весь ряд парт занимали мальчишки. Я глянула туда и будто наткнулась на неподвижно нацеленные на меня глаза. Как на стену с разбегу налетела!
Мальчишка не отвел вежливо взгляд, когда встретился с моим, его глаза даже не дрогнули, как должны бы дрогнуть у любого живого человека, застигнутого врасплох. Нет, они не улыбнулись, не нахмурились, не рассердились, не растерялись, ни одна ресничка не шевельнулась. Ко мне было обращено неподвижное, спокойное, с неподвижным, немигающим взглядом лицо наблюдателя, которого никак не может ни взволновать, ни задеть поведение наблюдаемого. Это мне не понравилось. «Чего это он? — подумала я, отвернувшись.— Наверное, смотрит, какое у меня противное лицо. Подумаешь, сам-то какой! Еще смотрит! Больше в ту сторону и не гляну. Много чести».
Я стала смотреть на доску, где Мелентий Фомич выписывал очень красивыми буквами: «1 сентября 1943 года». Он велел написать это и нам в тетрадях.
И я написала. И снова, подняв голову, невольно глянула вправо. Мальчишка — он что, и не писал, что ли? — по-прежнему смотрел на меня. Он, видно, нисколечко не боялся недреманного ока: сидел, развалившись на парте, прислонясь спиной к стенке, подперев голову
7
правой рукой, левая же свободно брошена на следующую за ним парту. Он сидел в позе Пушкина-лицеиста на садовой скамье — есть такая скульптура. Только лицо у него было совсем не пушкинское: замкнутое, чужое, непонятное. Я попала словно в перекрестье этих взоров: учительское недреманное око мешало мне как-то ответить мальчишке, рожу ему, что ли, состроить. Чего ему надо? Наконец я догадалась: это он мне в гляделки играть предлагает! А я еще сержусь, отворачиваюсь! Вот подумает, что я не могу смотреть ему в глаза.
И я включилась в игру. Чуть-чуть повернула голову, чтоб не очень было заметно, и уставилась в глаза мальчишке. «А недреманное око, наверное, не видит,— наконец сообразила я,— наша бы Анфиса Петровна давно велела мальчишке сесть прямо». Я поняла, что учитель просто крив и не может смотреть, как все. И мне стало его ужасно жалко. Я даже смигнула. И опять рассердилась на мальчишку: развалился, как барин! Пользуется, что учитель несчастный.
Я стала смотреть на него с презрением и негодованием. Подумаешь, чемпион гляделок! Если б мне сидеть к нему лицом, прямо, ни за что бы не смигнула. Попробовал бы, как я, косить глазами вбок!
Странная все-таки эта новая школа. У нас бы так не побаловали!
Еще я думала, что, если б учитель не называл так громко мою фамилию, этот мальчишка не заметил бы меня и не стал бы на меня смотреть.
Теперь вот сиди и мучайся. Глазам было очень больно.
И до смерти наскучило лицо мальчишки, лицо, к которому я оказалась прикована поневоле, по долгу чести. Узкое, бледное, с маленьким ртом и тонким, длинноватым носом, это лицо казалось бы совсем белесым — волосы, ресницы, брови очень светлые,— если б не карие, удлиненные глаза. Будто нарисовали лицо, но еще не раскрасили, только глаза успели навести коричневой блестящей краской.
Когда зазвенел звонок и учитель стал собирать со стола свои пожитки, я показала язык мальчишке. Он ожил. Вскочив ногами на парту, заорал мне:
— Вот только выйди, я тте! — и потряс кулаком.
Ой, что же началось на перемене! Мальчишки здесь были какие-то бешеные: они носились друг за другом прямо по партам, кидались в проходе на пол, на живот и, поймав приятеля за ноги, дергали так, что человек хлопался навзничь и голова стукала об пол, как деревянная,— звонко. А больше всех бесился тот, глядельщик. Я так не встала со своей парты: выйти сейчас было все равно что сунуться в клетку ко львам и тиграм, которым сторожа забыли дать поесть. Глядя на беснующихся мальчишек, я ждала, что сейчас кого-нибудь убьют насмерть или кровь пустят. Но ничего такого не случилось. Видно, головы у ребят были крепкие. Девчонок, которые, как и я, в перемену не вышли из-за парт, не задевали.
8
Так я сделала свое первое открытие на этой планете: парта — твое убежище. Держись ее, если хочешь уцелеть.
Перемена кончилась, а жертв не оказалось. Только воздух в классе был теперь как на току в пору молотьбы: просвеченная солнцем пыль стояла волнистыми слоями, классная доска с моего места, с четвертой парты, еле-еле виднелась.
Мальчишки сидели красные, взъерошенные, шумно дышали. А того на месте не оказалось. Опоздал уже — вот тип! Когда он исчез из класса? Я и не заметила. Все здесь вертелся.
Учительница на следующий урок пришла милая, с лицом, похожим на лицо моей мамы. Вся такая чистая, свежая, с золотистыми волосами, уложенными на затылке в литой тяжелый узел.
Опять неожиданность! По тому, как меня удивило появление в классе красивого, чистого, здорового человека, я поняла, что уже ничего хорошего от своей новой школы, чужой планеты, и не ждала. Видно, так и думала, что учителя все будут под стать этому пыльному, враждебному классу, вроде Мелентия Фомича — маленького, сухо- ватенького, черного, с лицом как не у всех, с глазом, что смотрит, да не видит, и которого ничто происходящее в классе не тревожит и не касается.
«Вот дурочка»,— думала я, поймав себя на этих мыслях, с наслаждением наблюдая за красивыми крупными, добрыми руками учительницы, раскрывающими журнал, переставляющими на столе чернильницу, ручку, указку.
Всей кожей, всем своим существом я воспринимала какую-то теплую, умиляющую волну, исходившую от учительницы, ее широковатого лица, всей небольшой, чуть полной фигуры в белоснежной батистовой блузе, просвечивающей розовым на плечах.
А между тем мы встали и сели, а она нахмурилась и молчит.
Даже я почувствовала себя виноватой за ужасную пыльную бурю в классе. Стало очень тихо.
И негромко она сказала:
— Отпраздновали первое сентября? Обрадовались встрече? Знаете, если так будет после каждой перемены, мы все не доживем до конца года. Мы просто все погибнем. И виноватые,— она кивнула на мальчиков,— и безвинные,— глянула на девочек,— и мы — учителя.— И скомандовала: — Откройте окна!
Девчата, что сидели возле окон, грохнули шпингалетами, рамы хрустнули, звякнули стекла; золотой сентябрьский теплый воздух ринулся в класс — воздух, припахивающий горьковатым дымком, сыростью взрытой земли и едким запахом раздробленной картофельной ботвы: на огородах за школой копали картошку. Стал слышен и суховатый, уже легкий (не тяжело-влажный, как летом) шелест вянущей, желтеющей листвы. Школа стояла в глубине церковной ограды. Все пространство между высокой красно-кирпичной церковью, выходящей на улицу и двумя деревянными низкими домиками школы заполняли важные старые деревья — березы и вязы. Трава под ними
9
росла густая, муравчатая, а вдоль кирпичной ограды, примыкавшей справа и слева к церкви, будто церковь раскинула красные руки, обнимая зеленый двор вместе с нашими школами,— вдоль ограды кустилась крапива.
Я теперь видела все это в раскрытое окно. А утром, когда мы, кучка совхозных: шестиклассники Шура Омелина, Вера Зозуля и Энгельс Ахтямов, Лена Ахтямова — его сестра-семиклассница, я и Степка Садов — новенькие, пятиклассники,— когда все мы шли через этот же двор, я вроде ничего здесь не видела. Как в сказке: закрыла глаза — еще дома, а открыла — в новом царстве-государстве...
Сразу, как распахнули окна, класс наш похорошел и подобрел. Я почувствовала, что, кажется, смогу здесь учиться. Вот если б на перемене через окно сразу выпрыгнуть во двор, чтобы не проходить по классу и коридору, где буйствуют мальчишки, то и нагуляться можно. А не сидеть прикованной к парте. И учительница, словно одобряя меня за эти мысли, проговорила:
— Ну, вот и хорошо стало у нас. Начнем урок. Я буду вас учить биологии. Пока, в пятом классе,— ботанике. А зовут меня Мария Степановна...
— Ой-ай! — вдруг взвизгнула девочка, сидящая у самого окна, сзади меня, и, загрохотав крышкой парты, шарахнулась, сбивая с места свою соседку.
А в окне заплясал, размахивая пучком крапивы, тот мальчишка, «гл я дел ьщик»!
— Я положила руку на подоконник,— возмущенным голосом рассказывала девочка,— и так сижу! А меня ка-ак ожгет по руке! Ну, вот огнем! Огнем! Аж сердце занялось!
Мария Степановна не спеша шла по классу к выходу, бросив на ходу:
— Окна можно закрыть.
Даже мальчишки были в недоумении.
— Чё это он, сдурел? — спрашивал один.
— Белены объелся, ха-ха-ха! — басил сиплым голосом самый большой, похожий на Бармалея: лицо красное, черные волосы клочками надо лбом, губы толстые, почти как у негра, а когда смеется, вся верхняя десна наружу — так вздергивается губа.
— Ты, Карпэй, видать, с ним вместе белену-то жевал — так меня башкой об пол саданул! — пищал маленький парнишка с вострым носиком и здоровым лбом.
— Да не белены! Он, видать, волочьих ягод надрался, от волочьих, знаешь, буйство берет! Хуже белены! Я знаю! — солидно объяснял тоже черный, как Карпэй, но аккуратный лицом и одёжей мальчишка.
— Сид-ди ты! Волочьи — от них один понос, а буйство, оно, паря, от дури! — с презрением протянул еще там кто-то из них — наверно, самый умный, а кто, уж и не успела посмотреть: в класс вернулась Мария Степановна. Одна.
10
— Ничего,— объяснила она нам.— Это с ним пройдет. Он сейчас у директора, у Мелентия Фомича, посидит, подумает, успокоится. Разбаловался за лето. Хочет себя показать. Ну, хватит о нем. Начнем урок...
Я слушала успокаивающий, разумный голос учительницы: слова, которые она говорила, и то, как она говорила, все напоминало мне дом. Я слушала ее и забывала, что вокруг чужая планета. И с отрадой и утешением представляла себе, как сидят друг против друга Мелентий Фомич и тот мальчишка и глядят друг на друга. И мальчишке трудно, потому что ему приходится смотреть то в один глаз Мелентия, то в другой — в недреманное око, которое смотрит и в сторону и чуть вверх.
Так ему и надо. До чего же противный и вредный мальчишка!
Тетя Еня и бабушка
Я еще не знала, что дом, в котором мне придется жить в Пеньках, стоит совсем рядом с домом противного мальчишки. В одном переулке.
* * *
Все совхозные ребята жили в Пеньках на квартирах. За десять километров в школу из дома не набегаешься. Вот и терпели до субботы, а уж в субботу наступал праздник, мы бежали домой. А в понедельник, вместе с запасом продуктов на неделю, нас привозили обратно в Пеньки на лошади.
После уроков первого дня мы с Шурой Омелиной и Верой Зозулей шли домой, на свои квартиры. Веру поселили к Шуре, а Шура жила у какой-то своей тетки. Хотя здесь, в Пеньках, была у нее родная бабушка — мы к ней заходили во время своего путешествия, давно, еще до войны, и ночевали,— но почему-то сейчас Шура не стала жить у бабушки.
Папа еще летом привозил меня знакомиться к той женщине, у которой предстояло мне жить и где уже стояли на квартире директорские дети — Ахтямовы Лена и Энгельс.
Они до меня проучились в Пеньках целую зиму. Папа остановил свою Пчелку у крепких ворот дома, соседнего с домом Шуркиной бабушки.
— Узнаёшь? — коротко спросил меня папа.
Еще бы мне не узнать этот тихий зеленый переулок! От зелени здесь кажется более прохладно, чем на пыльной и широкой, заезженной и затоптанной главной улице деревни.
«Вот,— подумала я,— тем давним летом, до войны, с Шуркой и Аськой мы проходили мимо этих ворот, и я видела этот самый палисадник с тремя молодыми березками; наверное, заметила и окна
11
в голубых резных наличниках и совсем не догадывалась, что это мой дом. Что он ждет меня. И будет ждать три года».
Папа отворял ворота. И они ныли тягуче, как зубная боль. Я шевельнула вожжами, и Пчелка ступила на чисто выметенный двор.
Сердце у меня сжалось от предчувствия разлуки, которая наступит хоть и не сейчас, когда вслед за папой всходила я по пяти ступенькам до светлой желтизны выскобленного крыльца. Вторая снизу ступенька была перекошена, отходила от стенки, и черная кинжальная щель подчеркивала нетронутую чистоту дерева.
«Как же тут в грязь-то ходить?» — со страхом подумала я. А папа отворил дверь в сени, такую же яростно чистую, как и крыльцо, и на меня пахнуло этим острым запахом: ни на что не похожим, не деревенским, вроде бы и приятным, сладковатым и в то же время каким-то тоскливым; от него защемило сердце, запершило где-то в горле. Запах чужого, чистого, пустоватого дома, запах разлуки со всем привычным, домашним. Запах иной планеты.
Потом, когда ехали домой, я спросила папу, почувствовал ли и он, как пахло в сенях у тети Ени.
— Да,— сказал он,— какая-то горючая смесь. Вроде бы и авиационным бензином припахивает... Не думаю, что чистый: этой смесью тетя Еня, наверное, лампу заправляет. Нужно будет привезти ей керосину.
Вот это да! Авиационный! Я как несущественное и скучное обошла в папином объяснении какую-то смесь, какой-то керосин и занялась бензином. То, что здесь лампу заправляют авиационным бензином вместо обычного вонючего керосина, было для меня как сигнал, как знак какой-то совсем новой, необычной жизни, которая должна у меня начаться.
«Откуда же взяться авиационному бензину? — размышляла я. Аэродромов и близко нет в глуши-то нашей».
— Пап, а откуда он, бензин?
— Да кто ж его знает! Наверное, шофер заезжал переночевать — здесь дорога широкая,— ну и расплатился.
— А у шофера откуда?
— Так ведь заправился где-нибудь авиационным. Бывает, вместо обычного попадет на заправочную цистерна авиационного.
«Как все просто! — подумала я.— Лучше бы так: ехал шофер с военного аэродрома, раненный. Или вез летчиков, тоже раненных, долечиваться в глубокий тыл, то есть в наши края. И заехал в Пеньки переночевать. Попал к тете Ене, потому что у нее такая чистота, а раненым это необходимо. Места здесь много — целая комната, а тетя Еня одна с бабушкой. И весь вечер они, эти летчики, и шофер пили чай и вспоминали свои подвиги. А за чай и ночлег оставили ей немного бензина. Вот как должно было быть, а не простая заправка на простой бензоколонке или нефтебазе».
И все-таки я решила: когда получше познакомлюсь с тетей Еней, спрошу ее, не останавливались ли у нее летчики. Вдруг да и было...
И вот я иду из школы в этот дом, где сени сладко и чуждо пропахли авиационным бензином, как самолеты, летающие в синем небе, и где со мною будут не мои мама и папа, бабуся и Толик, а совсем почти незнакомые люди: тетя Еня, ее лежачая бабушка да Ахтямовы Лена с Энгельсом.
Вот бабушка...
Почему-то, когда мы с папой приезжали летом, я не заметила ее. Лежала ли она тогда на своей широкой, единственной в комнате кровати? Надо будет спросить.
Бабушка сама никуда уйти не могла бы. Ей восемьдесят три года, а пятьдесят из них она пролежала в постели.
Илья Муромец тоже тридцать три года сиднем просидел. Но Муромец после этого стал сильным, могучим богатырем, а тети Енина бабушка вся ссохлась, сморщилась, как прошлогодняя помятая маковка — маковая коробочка. Щеки ее, виски и глазницы ввалились, в сумерки в этих впадинах гнездились тени, и бабушкина голова напоминала череп.
Вечером, сидя за столом у окна, я долго смотрела издали на эту маленькую жутковатую голову (кровать бабушки стояла у задней стены дома, рядом с входной дверью). Не верилось рассказам тети Ени, что раньше, до того как бабушку разбил паралич, была она высокой и полной женщиной.
— Мне ее мыть тогда была одна мука — не приподыму, не поверну, а полежав сколько-то, она еще полнее стала, тяжестью налилась. Работа ее уже не сушила, а организм здоровый, только что ноги не владеют.
А ведь сама тетя Еня была статной, хоть и не толстой, довольно высокой — или, может, так только казалось из-за ее королевской важной осанки, неторопливой, плавной походки? В сильно бористой и длинной, до самых щиколоток, юбке она так незаметно переступала ногами, будто плыла.
И руки были у нее сильные — округлые загорелые запястья по ширине почти не уступали ладони. И полное ведро воды она ставила на скамью так легко, будто это чашка чая, а не ведро.
— Это теперь она стала легкая, словно малый ребенок,— кивнула тетя Еня на бабушку.
А маленькая бабушка лежала на высокой постели среди огромных подушек, как кукла, и все время перебирала четки (это такие крупные бусы) сведенными в щепоть, прямыми, даже и на взгляд негнущи- мися, темными пальцами. А вот ладони, которые она протянула мне, здороваясь, оказались неожиданно светлыми, розовато-сиреневыми и на ощупь нежными, как у ребенка. Это я почувствовала, когда она взяла мою руку в обе свои, к удивлению моему, теплые ладони и погладила ее, а не пожала, а потом задержала, осторожно прижав, как держат цыпленка или маленькую птичку. Тогда я близко увидела
13
глаза бабушки: темно-коричневые морщинистые веки, лишенные ресниц, уже не могли раскрыться до конца, так что даже краешек белков не виднелся. И наверное, поэтому глаза, неопределенно-темные, с неразличимым зрачком, напомнили мне глаза когда-то жившей у нас дома черепахи. Бабушка и смотрела так же грустно-загадочно, из мира, в который мне хода нет, где живут какие-то иные люди, дуют иные ветры и солнце иное, а скорей всего, в той стране не солнце, а просто сам по себе разлит тихий свет без теней, а может быть, там светит большая бледная луна. Наверное, и бабушка понимала, что я не из ее мира, взгляд ее ко мне шел издалека, как если б я стояла где-то там, через речку, на другом берегу, а не рядом с ней.
— Ах ты моя ласточка! — тихо прошелестел ее голос.— От мамушки-то как рано на дальнюю сторонушку! Звать-то как?
— Даша,— ответила я, чувствуя, как в горле встал и мешает комок от жалости то ли к ней, то ли к себе самой.
— Ташенька,— закивала головой бабушка и еще пожала мою руку.— Старинное имечко, крестьянское... Енюшка,— позвала она дочь,— зовут-то ее хорошо — Дарьюшкой.
Я смутилась. Так меня еще никогда не называли. Получалась я опять не такая, как есть на самом деле: будто уже взрослая. А тетя Еня еще добавила, отозвавшись из чулана (так здесь кухню называют) громким голосом:
— Как же, как же! Она у нас, матушка, Дарья Сергеевна.
Так и не поняла я: то ли меня она повеличала матушкой, то ли к матери так обратилась.
Эта тетя Еня такая: все вроде говорит серьезно, а где-то насмешка таится в ее словах или намек какой-то скрытый.
Показалось мне, она хотела сказать, что я не просто себе девочка, как бабушка меня приняла, а дочка начальника: главный зоотехник по важности сразу идет после директора совхоза, а директор — это уж выше и нет.
Зачем она так? Ведь Лена и Энгельс и вовсе уж директорские дети. А к ним она без всякой насмешки.
Вот и утром сегодня, когда я в школу собиралась, тетя Еня сказала, глядя, как я причесываюсь перед зеркалом:
— Знаешь что, Даша, волосы лучше заплести. Ты, оно правда, не деревенская девочка, и кудри тебе к лицу, но в школу надо поскромнее. Там все будут с косами, а ты на особицу. Вот и неладно получится. Осудят еще.
Я так и замерла с гребенкой в руках. Получалось по ее словам, что я нарочно хочу выделяться? Просто у меня для кос коротки еще волосы были. Да и вообще не думала я, какая у меня прическа — для школы или не для школы. У меня даже слезы на глаза навернулись. Тут Лена мне помогла.
— Правда,— говорит,— как это я не догадалась тебе сказать? Давай, живо заплету!
14
И заплела. И свои ленточки завязала.
У самой Лены косы длинные, черные, она их подвязывает, продевая ленты в самое верхнее звено кос, за ушами. Мои же коротковатые волосы еле заплелись, и нахально торчали косицы из-за ушей. Хорошо, конечно, что тетя Еня сказала про волосы, а то и правда бы стала я среди девчат как белая ворона. Только зачем она все меня подозревает?
Тоня Антипова
После уроков первого сентября я шла домой вместе с Шурой Омелиной и Верой Зозулей.
Звонок с последнего урока оказался волшебным: мальчишки уже не бесновались — спешили по домам. Многие жили в ближних деревнях — за три, четыре и за пять километров. Почти ни у кого из ребят не было портфелей. А как у пастухов — холщовая сумка на лямке через плечо. Лямка на правом плече, сумка под левой рукой. В дороге удобно, не мешает. А у меня был старый мамин портфельчик — совсем облезлый, рыхлый, рыжеватый, но с замком и с ручкой, как полагается.
И у Шурки был портфель, и у Веры.
Лена Ахтямова с нами не шла. У них было шесть уроков, а Энгельс отправился с мальчишками. Вообще я заметила, что здесь девочки и мальчики еще больше сторонились друг друга, чем в совхозе. Вот интересно: дома мы с Энгелькой, например, и разговариваем, и играем, а если в школе или на улице — то делаем вид, будто и знать не хотим друг друга.
Даже и шли так: девчата по правой стороне дороги, мальчишки — по левой. Я смотрела украдкой, не видно ли того «глядельщика». Он после истории с крапивой ничуть не стал тише, скакал по партам, гонял по коридору, сбивая встречных с ног, а на уроках по-прежнему глядел на меня. Я уж привыкла к этому и больше не обращала внимания. Звали его Лешкой Никоновым. Немного побаивалась я, что после уроков он пристанет ко мне и будет драться, но, кроме Шуры и Веры, в нашу сторону шло много девчат, бояться было нечего. Да нигде и не виднелась Лешкина белесая голова.
Последний раз я видела его на большой перемене — он мчался вдогонку за какой-то бойкой девчонкой. Я еще удивилась, какая бесстрашная девчонка: она часто оглядывалась на Лешку с довольным и веселым видом, и даже дразнилась: «Догони-ка!» Она здорово, легко бежала, обманно бросаясь в сторону и вдруг сворачивая за дерево. Кстати, она одна из девчат бегала с мальчишками по зеленому двору. И как мне хотелось тоже побегать! Такой широкий и зеленый двор! Огромные деревья, церковь, как древний рыцарский замок, и ограда широкая, по которой можно походить, как по крепостной стене. Но выбежать в этот двор — все разно что перейти линию фронта. Про¬
16
тивно мне было оттого, что боюсь. Загнали меня в какую-то клетку, и стала я сама не своя. Просто стыд. Если б не Тоня Антипова, и не решилась бы я. Так бы и глядела в окно всю большую перемену. Но Тоня вдруг встала со своего места и негромко сказала:
— Девчатки, пошли за мной.
Как только она ступила в узкий проход между партами, вокруг нее заплясали мальчишки — и Лешка, и Карпэй, и тот черненький, похожий на Карпэя, и еще какие-то не из нашего класса уже понабежали.
— Тетенька, тетенька, почем молоко?
А этот черненький кривлялся перед ней, дергался, как клоун. Вот Тоня его и схватила. Ловко как-то соединила его руки — ладонь к ладони, так ребенку делают «ладушки» — и спросила, пристально глядя ему в глаза:
— Ну, что с тобой сделать? На руках понести или сам пойдешь?
— Пусти, Тонька, пусти! — запросился мальчишка сразу жалобным голосом.
А Тоня обвела мальчишку вокруг себя, как в вальсе, не выпуская его рук, и оттолкнула на ребят, толпившихся в узком проходе между парт за ее спиной.
Они, разинув рот, наблюдали за расправой над чернявым и теперь с гоготом и восторгом приняли его к себе.
— Ай да девка! Вот так да!
— Зашибет мимоходом!
— Ей бы в кузню!
— Да чего там — пахать на ней!
— Ну, Голован, живой?
— Чай, с жизнью прощался!
Пока они восхищались Тоней, мы, все до одной, спокойно вышли за ней.
И лицом и фигурой Тоня уже походила на взрослую женщину. Лет ей, наверное, было много больше, чем любому в нашем классе. На первый взгляд вовсе некрасивая: все лицо — лоб, щеки, подбородок — необычного темного малиново-сизого цвета, будто она только что из жаркой бани. Загар такой, что ли? Тугое, набрякшее лицо, и губы так плотно сжаты, что кажется, Тоня все время терпит сильную боль. И выражение глаз, широко открытых, больших, усиливало это впечатление: взгляд был сосредоточен на чем-то своем, совсем не похожем на все, что происходит вокруг.
«Может, у нее что-то болит?» — подумала я, приглядевшись к Тониному лицу на перемене. А на следующем уроке раза два оглянулась, чтоб посмотреть, как она. Но она прилежно слушала и писала, сохраняя все то же выражение, сдерживаемой затаенной боли. Когда она встречалась с моим взглядом, ее глаза становились строгими, как у учительницы.
«Видно, такая она есть,— решила я для себя о Тоне,— не похожая на других».
17
После большой перемены я уже не замечала ее некрасивости. Достоинство и силу, которых мне так не хватало в этот первый день ученья,— вот что видела я в Тоне теперь. Я и сейчас шла рядом с нею, приноравливаясь к ее широкому шагу и поглядывая на нее сбоку: губы сжаты, глаза думают о своем, ее не смущает, что полноту ее женской груди подчеркивает холщовая лямка от сумки с книжками, перекинутая через плечо. Лямка перерезывает грудь наискось, упруго вдавливаясь при каждом Тонином шаге. Линялая синяя кофточка морщит под лямкой. Темная юбка ниже колен, самодельные тапочки...
Тоня мне не то что нравится, сказать так — ничего не сказать,— у меня просто сердце сжимается от какой-то непонятной мне самой жалости к ней. Откуда эта жалость? Ведь Тоня сильная...
Верка Зозуля, с веселым и довольным видом озиравшаяся вокруг, вдруг ни с того ни с сего спросила:
— Тонь, а почему ты, така велыка дивчына, тильки у пьятому класси?
— Так получилось,— спокойно отозвалась Тоня.
— А як получылось? А? — не унималась Верка.
Я дернула ее за руку: мол, что пристаешь, раз человек не хочет сказать?
— Да тебе на что знать? — Тоня отвечала без тени раздражения.
— А так! — захохотала эта дурочка Зозуля.
— А так только сеют мак...— Тоня усмехнулась чуть заметно.
— Подумаешь, яка горда! — обиделась наконец Вера.
— Подумаешь, да не скажешь! — радостным хором пропели мы с Шуркой. Как ловко Тоня отчитала любопытную Верку!
Когда мы поравнялись с домом, где поселились Шура и Вера, они стали звать нас зайти.
— Поглядите, как у нас!
И зачем я только зашла! Тоня ведь не согласилась. Если б я не зашла, не было бы той встречи. Но я зашла. И конечно, ничего особенного не было у них. Просто дом больше, чем у тети Ени, зато полы некрашеные, белые. Стол так же стоит в простенке между окнами, лавки струганые вдоль стен (у тети Ени лавок нет) да две кровати. Одна у стены, где выход в сени, другая вдоль чуланной перегородки. Как-то еще неприютней, чем у тети Ени. Ни цветов на окнах, ни белых занавесочек. Голая комната. Тоскливая.
Я потопталась у порога, да и пошла, даже не позвав девчат к себе в гости. Не дома ведь. Еще как посмотрит хозяйка.
Великий плач
От Шуриного дома до моего совсем близко. Пройти мимо двух усадеб вперед, и вот он, наш переулок,— налево. Второй дом — это уже тетя Еня.
18
Я брела теперь одна со своим рыжим портфелем, а солнце светило в лицо, мешая смотреть.
Вдруг меня хлестнул резкий, уже знакомый голос:
— Эй, девчонка!
Чуть впереди, только на другой стороне дороги, стояли Лешка Никонов — «гляделыцик» — и Карпэй.
Я остановилась. Солнце било мне в глаза, я щурилась, чтоб разглядеть их, но лица было видно плохо. Ребята стояли рядом — широкий, головастый Карпэй и узкий, тонкий Лешка — и молча смотрели на меня.
Я постояла и пошла дальше, чувствуя, что ноги у меня как ватные, а сердце будто звонкий мячик, даже в ушах его звон отдается. Солнце остановилось, его свет окаменел. Я шла как сквозь какое-то плотное вещество. Шаг — усилие. Шаг — усилие. Когда я проходила мимо них, Лешка пробормотал вполголоса:
— У-у, большетолая! Припухли толы-те!
Что еще за толы? Что припухло? Губы? A-а, наверное, он про мои щеки...
Открывая калитку, я оглянулась: они были все на том же месте. Теперь знают, где я живу. Как они здесь оказались? Навалилась спиной на калитку. Звякнула щеколда. Все. Спасена. Солнце ожило на небе, воздух теплый, живой.
«Ну почему, почему я так боюсь? Почему они как враги?!» Мне хотелось выкрикнуть это так громко, чтобы в горле стало больно, чтоб уши мои наполнились моим криком и не слышали больше ничего, трусости моей не слышали.
Но разве можно кричать такой большой девочке? Да еще на чужом дворе.
Вот опять на белом крылечке овеяло меня острым запахом чужбины, разлуки. Защекотало в носу, слезы сами полились из глаз. Я не хотела. Они сами. Я тут и села на скобленую ступеньку, уткнувшись в свой портфель, который когда-то был маминым. От него еще слабо пахло чем-то родным: духами не духами — мамой моей пахло. Слезы заливали рыжий портфель, делали его черным.
«Ко-о-ко-ко!» — пропела курица у моих ног. Я подняла голову. Куры собрались к крыльцу, оторвавшись от своих дел.
«Ко-о-ко-ко? — вопросительно выпевали они.— Вышла на крыльцо, а нас не кормишь? Ко-о-ко-ко?»
Склоняя голову то на один, то на другой бок, они рассматривали меня. Четкий, блестящий зрачок, оранжевый кружок радужки — бессмысленный, глупый куриный глаз.
Сегодня все только и делают, что рассматривают меня. Начиная с тети Ени. Недоброй. Не нравлюсь я ей. Все намекает, что я начальника дочь, что я особенная. Начальник... Посмотрела бы она. Я представила нашу длинную комнату, папу и маму, трущих картошку для хлеба. Надо стереть на терке ведро картошки, чтобы бабушка могла напечь хлеба. Папа садится за стол. Перед ним
19
миска, в которую он трет картошку, а прямо за миской он устраивает пюпитр — на нем книга или газета, чтоб читать, не отрываясь от дела. Папа увлекается и иной раз ширкнет по терке косточками пальцев, стирая их в кровь. Мама следит за ним и, когда видит, что в папиной руке маленький огрызок картошки, испуганно вскрикивает: «Сережа!» Иной раз терка у папы срывается, плюхается в миску, в картофельное месиво, и он чертыхается беззвучно, себе под нос, снова устанавливая терку. Но от чтения не отказывается. А бабушка очень сердится.
«Смотреть,— говорит,— на тебя не могу. Пытку себе настоящую устраиваешь. Сделал бы быстрее да читал».
«Но это же бессмысленно, Клавдия Петровна, бессмысленна эта терка! Я не могу так! У меня мозги вянут!» — объясняет папа.
Натертую картошку бабуся моя кладет в мешок — и под гнет, чтоб стекла лишняя влага. А отжимки утром замешивает с вареной толченой картошкой и заквашивает закваской от прежней стряпни. Каким-то образом у нее из всего этого подходит тесто, мама говорит — это просто чудеса. И из него печет она круглые булки, шлепая тесто большой ложкой на железный лист. Булки на вид словно настоящие, из муки, поджаристые, но внутри сероватые и мокроватые. Хлеб в совхозе получали по карточкам, но его было так мало, что без этих булок не проживешь.
А теперь, когда меня пришлось отправить в Пеньки, одну из двух рабочих карточек на хлеб отоваривали сразу на неделю вперед, чтоб дать мне с собой целый кирпичик хлеба. Они остались лишь с одной рабочей карточкой — значит, еще больше надо тереть картошки. И я залилась слезами еще горше — такой виноватой перед всеми ними почувствовала я себя.
Они мне и масла целый фунт дали, и ведро картошки, и молока три литра в большой бутыли-четверти, а мне здесь так плохо... Так плохо.
Я сейчас поняла ясно-ясно, что все лишения, на которые пошли ради меня в семье, зряшные, вовсе напрасные, раз я не могу здесь ничего с собой поделать, раз я такая беспомощная и трусливая. И вот ради меня, такой плохой, бабуся вязала носки, портя свои глаза, чинила чиненые-перечиненые чулки, мама отдала мне на платье кусок материи, который берегла себе на юбку. И мне сшили — опять же бабушка шила! — синее платье для школы. А я, а мне...
Тут загремела калитка, и вошли Лена с Энгельсом.
— Даша, ты что? — тревожно спросила меня Лена и, отобрав у меня портфель, заглянула в лицо.— Тебя мальчишки, что ли, обидели? Мы с Энгелькой видели тут двоих. Не они? Ты скажи! Ну скажи, Даша! — Лена села рядом со мной, обняла, прижала к себе.
Ну как ей все объяснишь? И про Мелентия Фомича с недреманным оком. И про Лешку. И про папу над теркой. И про новое платье. И про бабушкины глаза. И что бензином здесь пахнет...
20
И тетя Еня меня не любит!.. А что она, Лена, добрая, но лучше б она меня не жалела, потому что не остановиться мне теперь! Слезы текли ручьем, я уже не могла продохнуть носом, захлебывалась и только и сумела сказать Лене самое понятное и простое:
— До-мой хо-чу! До-мой!
— Во-он оно что-о! — протянула Лена. А потом заговорила торопясь, быстро-быстро: — Ну, это пройдет! Я тоже плакала — в пятом классе. Правда-правда! Вот Энгельке было хорошо, он уж со мной поехал. Но тебе-то и совсем хорошо! Ты же с нами!.. Ну, пойдем умываться, обедать будем! А ну, пошли!
И откуда только берутся эти слезы? Лена обтирала мое лицо платком, но оно тут же снова намокало. Будто в глазах моих открылся источник. А услужливая память все подставляла мне новые картины и сравнения.
Здесь умывальник в закутке за печкой над белым эмалированным тазом, а дома таз под умывальником — медный. Плачу. Дома нет такой большой русской печи, а здесь она пол-избы занимает. Плачу. Дома из окон видно на три разных стороны, и видно далеко, широкие окна высоко — второй этаж. И тополя вокруг шумят. А здесь три низких окошечка упираются в три тонкие березы, и видно лишь дорогу, малый ее кусочек, да дом напротив, а из бокового окна — только двор да поветь: крыша из соломы, бревенчатая стенка. Двор без травы. Земля убитая, утоптанная, чисто выметенная, кое-где щепочки по ней мелкие, сенинки-соломинки. Плачу. Полотенцем вытираю лицо, чувствую так остро, будто это моя собственная кожа, как изнашиваются, истончаются волокна полотенечной ткани, оттого что я тру свое лицо и руки. Изорвется полотенце — где возьмет новое моя мама? Плачу.
Села к столу: клеенка голубая, в клеточку синюю, а в каждой клеточке белый цветочек; а у нас клеенка желтая в коричневый узор — запутанные, кудрявые цветы и линии. Пала головой на чужую клеенку — плачу, плачу!
Лена не знает, что и делать. Энгельке все равно — сидит, книжку читает. Лена — вижу, как сквозь мокрое стекло, все размыто — ставит на стол горшок с супом. Тети Ени дома нет.
— Ну, хватит, может? — растерянно спрашивает Лена.— Попробуй есть — может, пройдет.
Я беру круглую деревянную ложку и ем. Горячо, а вкуса не чувствую. Но ем. Потому что горячо. И мне хочется ощущать горячее еще и еще. И вспухшим губам хорошо, и раздутому носу от горячего пара хорошо. Я съела все, и Лена пошла в чулан относить тарелки. Наверное, она там замешкалась — не знаю, надолго ли. Только я вздрогнула, когда рядом со мной раздался громкий голос Эн- гельки:
— Лена! Она спит!
Меня куда-то повели и куда-то уложили. Я не могла размежить век. Проснулась в теплоте и темноте. В уюте... В незнакомых запахах.
21
Они-то и дали мне знать, что все-таки я не дома. Сразу все вспомнила. И притихла. И теплота и темнота больше не означали уют. Стала, как разведчик, слушать голоса.
Вечерние разговоры
— Ну! Сидит, молчит не вскрикнет, не пискнет, а слезы так и льются. Вот так просто текут, через край переливаются! Мне аж страшно стало!
A-а, это Лена рассказывает тете Ене, как я плакала. Ну и пусть. Пусть. Все равно тетя Еня меня не любит.
— Видишь, как оно, на чужой-то стороне. Ей теперь у нас все постылым оборачивается. Что ни взвидит — все не то, все не как у мамы. Так ведь, Энгельс, а?
— А, не знаю! Плакса, да и все!
Тетя Еня посмеялась немного. Добрым таким смехом, легкими звуками и неторопливыми, как ее походка.
— Ну да! Ты ведь у нас мужчина, лыцарь. Слезы не обронишь. А она девочка. Нежная. Мамина-папина.
— Да нет, теть Ень! (Это опять Ленин голос.) Она у них дома все делает. Ее не балуют. Я знаю.
— Так ведь и я не про баловство! Горя она еще не хлебнула. Вот, слышала я, Антиповой Ольги дочка нынче в школу пошла. Знаешь, может, Лена? Из Камышлов они.
— Не! Не знаю. А что?
Я же в своем секретном углу так и замерла: про Тоню знает тетя Еня!
— Сколько ей сейчас? Война началась — она, видать, как раз четвертый кончила. А и пошла поздней своих одногодков зимы на две. А уж и война третий год. Стало быть, ей нынче семнадцатый идет. Ну, каково ей за партой вот с эдакими? Да и это, поди, для нее не горе — спасибо, учиться-то снова пошла!
Голос помедлил. Тетя Еня, видно, ждала, чтобы Лена спросила, отчего да почему дочка Ольги Антиповой не училась три года. И я ждала.
Но Лена, наверное, понимала, что уж начала свой рассказ тетя Еня и сама все расскажет. И правда, тетя Еня снова заговорила:
— Так вот, Еленочка. На старших в доме детей, ежели беда какая, все и приходится, коль старого человека нет на подмогу. А у Ольги никого. Сама да мужик. Да детки гужом шли. Антонина — старшая. Тоне в школу бы идти, а с малыми кому быть? Брату два годика, сестра и вовсе в зыбке, а матери надо в поле. За трудоднями.
— А ясли? — спросила Лена.
— Ясли... Это у вас в совхозе ясли, приезжих полно. А Камышлы что? Колхоз, все здешние, от корня, у всех, почитай, бабки; там,
22
может, и была одна изба антиповская вовсе без стариков. Для одних, что ли, ясли будут держать? Вот и сидела Антонина в няньках, пока малая на ножки не стала. Там уж можно и к соседям отводить, пока в школу сбегает. Ну и наладились. Старший братик подрастал на смену Тоне. Правда, за те годы еще двое народилось у Ольги. Однако справлялись. А тут война. Отец на фронт ушел. И Тоне пришлось работать. Как уж они сейчас Тоню отпустили, и не придумаю. Ольга совсем плохая стала. Видела ее на днях в сельсовете: щеки аж втянуло, почернела, как головешка; спина, говорит, замучила.
— А Тоня здоровая,— сказала Лена.
— Молодая. Да в работе смала. Молодым работа не во вред, только на пользу. Но а как со школой — это, конечно... Ведь Тоня давно в избе за хозяйку. Матери только б работу тянуть. Она на ферме. А вся управа — печь поутру, корова, постирушки — это все на Тоне... Так-то вот,— закончила тетя Еня назидательно и, как мне показалось, с упреком.
Я так поняла: что, мол, вам, живете на всем готовеньком, а люди вот как... А может, это не тетя Еня так хотела сказать, а самой мне было стыдно за то, что у меня дома и бабушка, и даже папа вскоре вернулся с фронта, получив рану, после которой уже нельзя воевать. За то, что мне не приходится, как Тоне, тащить весь дом на себе, и я вовремя пошла в школу, и сейчас мне лет столько, сколько и должно быть пятикласснице, и никогда мне не будут кричать: «Тетенька, почем молоко?»
Я так остро почувствовала себя Тоней в эту минуту — почувствовала свое (ее) громоздкое в тесной парте, полное, взрослое тело, эту всю дурацкую суетню мальчишек и девчонок вокруг себя (нее), брошенных где-то дома беспомощных братишек и сестренок, которые, может, упали с лавки или с крыльца или есть хотят, свою (ее) больную маму, у которой сил ровно столько, чтоб делать свою работу на ферме,— и спина у нее болит, а ведь нужно все носить своими руками: и воду, и корм, и чистить станки, и доить... Так все это стало мне внятно ощутимо — телом, кожей, памятью, руками, праздно сложенными на парте, далекими от них, от дома,— что я окаменела, будто сердце во мне остановилось...
Вот что с Тоней, поняла я, увидев перед собой ее глаза, пристально всматривающиеся во что-то, что не здесь, не рядом и вокруг нее. И поняла вдруг, какая она одинокая среди нас, такая же, как и я, только по-другому, только еще хуже. И стыдно стало мне за свое малодушие...
В темноте за печкой, в чужих запахах и голосах опять пришла на помощь мне Тоня Антипова. Надолго ли?
Я подумала, что, наверное, Энгельке надо ложиться спать, а я тут валяюсь, и выбралась из закутка. Смущалась я: ну, думала, сейчас станут все на меня смотреть: «Даша проснулась!.. А вот и Даша к нам идет!» Еще снова расплачусь. Но тетя Еня, сидящая за прялкой, коротко глянула:
23
— Давай-ка, Даша, выпей чайку, пока самовар не остыл.
Лена тут же стала наливать мне чашку, и чашка задребезжала о блюдечко под напором струи.
Энгельс по-прежнему читал, подвинув книжку к лампе, так, чтоб самый яркий круг света падал на страницы. Лампочка была не сильная, семилинейная. У нас дома — десятилинейная. Тени, густые и огромные, лежали по комнате — на стенах, на полу. Листья фикуса, развесистого, словно дерево,— он стоял в большой кадушке прямо под божницей в углу,— таинственно слабо поблескивали кое-где, а тень его, узорная, лапчатая, покрывала весь пол, падала и на бабушкину кровать, и на стену за нею, взбиралась на потолок. Эта тень словно держала в горсти всю комнату, предметы в ней, людей, сближала их, соединяла. Сейчас комната показалась мне уже не такой чужой и враждебной. А веретено в руке тети Ени издавало тихий трепещущий звук — ф-рр-р-р! — похожий на звук, с которым стрекоза проносится близко от вашего уха.
Я села к столу. Чай пили с молоком. Сладкого не было, как говорится, ни пылинки. Хорошо бы хоть хлеба досыта. Вот этого хлеба из совхозной пекарни — тяжелого, мокроватого, колючего от мякинных остей, как небритая папина щека. Но было заранее рассчитано, что буханочки хлеба хватит мне на шесть дней, если я буду съедать по кусочку к завтраку, обеду и ужину. И я вспомнила: ведь сегодня в обед я хлеба не отрезала! «Вот молодец,— сказала я себе,— можно съесть сразу два куска. Надо будет еще так делать: обедать без хлеба, тогда на ужин останется два куска». Это было приятное открытие. Хоть что-то хорошее за весь этот первый день. И я вздохнула.
— Хватит тебе вздыхать, как старушке,— ласково сказала тетя Еня.— Видишь, как у нас ладно. Народу-то сколько. А то сидим мы вдвоем с бабушкой, как кукушки, да кукуем. А теперь — вон оно, целое общество (тетя Еня сказала «опчество»).
И сразу, отметив про себя «опчество», я вспомнила «толы», услышала недобрый голос: «У-у болыпетолая! Припухли толы-те».
— Тетя Еня, а что такое толы? — Я спросила сразу, выпалила, не задумываясь, что, может, это что неприличное. Как вспомнила, так и спросила. И, уже отговорив, начала краснеть, почувствовала, как наливается горячим лицо.
— Ха! Толы — это по-здешнему глаза! — радостно заорал Эн- гелька.— Зенки, гляделки!
Тетя Еня даже со словами собраться не успела, как он влез, первый раз за вечер рот раскрыл. Обрадовался, что знает про здешнее.
И тетя Еня подтвердила:
— Ну да. Глаза так у нас называют — толы. Но это все же по-грубому. Грубо так-то. Нехорошо.
«Ах, нет, тетя Еня! Это хорошо, хорошо! Это в тысячу раз лучше, чем я думала!»
24
Почему лучше, и даже в тысячу раз, я не могла бы сказать. Просто снова увидела я себя, деревянно переставляющую ноги к спасительной калитке под злым пристальным взглядом Лешки, услышала мстительное: «У-у, большетолая!» Но теперь вместе с этим видением, перечеркивая его, взвилось во мне ликование: «Неправда это все!» Словно свет вспыхнул, словно радостная волна накатила и тут же отхлынула. Мне будто дали понять, что одержана победа. И только мне дали это понять.
В чем победа и почему, я не доискивалась. Но было, было: я прошла сегодня мимо Лешки и Карпэя в страхе, в ожидании оскорблений, прошла как пленница, не догадываясь, что это он, Лешка, терпит поражение. И он думал, что унижает меня, и не знал, что мимо прошел победитель.
А тихая лампа все так же кротко светила на голубоватую клеенку, на Энгелькину книгу, ее желтоватые страницы, и продолжало свое летнее «фр-р-р!» веретено, и теплая лапчатая тень фикуса держала нас всех вместе, всех разом в этой комнате. Радость моя, как мышка, показалась и скрылась до поры. Но после нее стало мне лучше. И только когда устраивались спать и принесли из сеней мой матрац из тика в широкую синюю полосу, набитый скользящей золотой соломой (вчера с папой набивали), когда я положила его на пол, под фикус, и, застелив простынкой, улеглась сама, опять сжала мне сердце боль. На полу чувствовала я себя как в глубокой яме, как Жилин1 в плену у кавказцев,— заброшенной и одинокой. И опять стало терзать меня ощущение вреда, который я приношу своей семье. Вот лежит на полу матрац. Такой чистый, выстиранный и отглаженный мамой, его чехол трется о пол, хоть и подостлала мне тетя Еня чистый половичок: острые соломинки впиваются в волокна ткани, разрывают их, я на нем лежу, ворочаюсь, изнашиваю его, и простыни, и одеяло... Опять слезы подступили к глазам, я старалась лежать неподвижно и долго из-за этого не могла уснуть.
Дорога домой
Эх, дорога, дорога! По полям, по лесам, через ложбины и овраги! Небо над головой да земля под ногами, а впереди — дом! Родной твой дом, где не только мама и бабушка, братик и папа, каждая курица на улице — родная; каждая щепка на дворе, и трава, и тропки, и дорожки, и поросенок в луже, и самый вид улицы, домов и встречных людей, и лес вдали за полем, видный от моего дома, и тополя, тополя мои — все мое, родное, доброе и безопасное...
Но все это еще впереди, мне еще предстоит заработать эту радость, прошагав десять километров, отделяющих меня от дома. И только когда эти километры останутся за спиной — работа моих ног, плеч
1 Жилин — герой рассказа Л. Толстого «Кавказский пленник».
25
и рук, моего сердца, спешащего больше, чем ноги, моих легких, вдыхающих прохладный сентябрьский воздух, чтоб билось сердце и шагали ноги,— тогда только эта работа превратится в радость возвращения домой. Если б было можно, если б был у нас самолет, машина, а еще лучше, если б, как в сказке: закрой глаза и открой глаза — и ты уже среди своих,— о, если б можно было так! Чтобы все время, отпущенное на десять километров, проглотить залпом! Одним глотком!
Но нам предстояло выпить всю дорогу маленькими глотками шагов. Время растворяло нетерпение. Как бы мы ни бежали, выйдя в субботу за околицу Пеньков, простор без края и конца, прятавший в себе и большой лес и маленький, два оврага и два поля — все, что предстояло нам пройти,— простор, наполненный голубым воздухом, чуть влажным, упругим, пахнущим горьковато палым листом и дымом, гасил наш бег и нетерпение, и мы — крохотные букашки под неоглядным небом, среди медленно подымающихся и плавно нисходящих увалов, то серовато-золотистых (жнивье), то вспаханных влажночерных или коричневатых, кое-где как ржавчиной-медянкой тронутых пятнами всходящей озими,— мы увязали в этом неторопливом мире и перенимали его ритм — ритм плывущих по небу облаков или бурьяна, колеблемого ветром. Но ведь и медленные облака, и чернобыльник, или полынь, покачивающиеся на неподвижном стебле, достигали каждый своей какой-то цели, известной им самим и больше никому. Достигали, конечно, иначе не плыли бы облака, не качалась бы бурьян-трава на обочине дороги. И наш шаг скоро становился размеренно-неторопливым. Мы уже не спорили с пространством, с дорогой, мы подчинялись им, и дорога несла нас, как река несет щепку: попробуйте угнаться за плывущей щепкой; вы можете ее перегнать, но скоро выбьетесь из сил, а она как ни в чем не бывало обгонит вас, неустанно и без спешки продолжая свой путь, путь реки.
И все нетерпение, с которым мы, уходя из Пеньков, ждали встречи с домом, по мере пути расходовалось на дорогу и тем самым причисляло саму ее к дому, превращало в одну из примет дома. В длинную, постепенно разматывающуюся примету.
Вера, Шура, Энгельс, Лена, Степка Садов и я... Котомки за плечами, у кого-то и в руке по узелку. Свободные, как птицы, только вот жаль — без крыльев.
— Мы такие страусы,— говорит Энгелька и начинает выкидывать длинными тонкими ногами и вытаращивать свои и без того большие выпуклые черные глаза.
— Ты не страус, а жираф,— назидательно поправляет его Шура с такой серьезностью, будто он и вправду нечаянно ошибся, не тем словом назвался, а на самом-то деле он и есть жираф.
Мне стало так смешно, что я прямо закатилась от смеха, даже присела. И все стали смеяться уже надо мной.
Но ребята шага не останавливали. И я догоняла их. В душе
26
поудивлялась над собой: как я могу сейчас смеяться? Ведь я больше всех хочу домой, я точно это знаю, просто потому, что невозможно хотеть больше, чем я,— и вот смеюсь, да еще и остановилась! А они идут... Мы идем. Я иду.
— Ты идешь? — толкаю я плечом Шурку. Она смотрит на меня, как на дурочку. Но я не даю ей слова сказать.— Она идет? — показываю глазами на Веру.— Он идет? — киваю на Энгельку.
— Ты чё, сдурела? — орет наконец Шурка.
Вера, улыбаясь, как всегда, таинственно оглядывается на нас.
Только Лена хохочет, она поняла меня.
— Это она спряжение повторяет! Глаголы!
— Эх, Шурочка-каурочка, пристежечка моя! — стала я приговаривать в такт шагам, подражая частушкам.— Ходили мы, гуляли мы в далекие края!
И Шура не рассердилась на «каурочку» и «пристежечку», потому что я напомнила ей, как мы давным-давно, до войны, когда были еще маленькие — я после второго класса, а Шура после третьего,— тайком ушли из дома, «в экспедицию», как мы говорили, за полезными ископаемыми. Решили уйти далеко, а дошли вот до этих самых Пеньков. Пришли мы туда просто потому, что не знали, в какую сторону податься, а в Пеньках жила Шуркина бабушка. Как идти, Шура и сама не знала, только помнила, в какой стороне. Дорога сама нас привела.
— Вот и Куриный овраг. Видишь? — спросила Шура.
— Ага, он, Куриный!
— Почему Куриный? Название, что ли? — спросил Энгелька.
— Это мы сами его так назвали. Вот погоди, его пройдем, покажем тебе другой, тогда поймешь, почему этот Куриный.
— Маленький он, вот и куриный,— догадался Энгельс.
— Ага! Мы тогда тот, большой, миновали, дошли до этого — «Ну,— говорим,— этот и курица вброд перейдет!» Вот и назвали — Куриный!
— Погодите, весна настанет,— пообещала Лена.— Начнется половодье, он вам покажет «куриный». Верхом на лошади не переберешься.
Мы примолкли, внимательней присматриваясь к месту. Совсем мелкая ложбинка этот Куриный. Словно великан приложил здесь палец к земле и слегка прижал. Осталась длинная вмятина от пальца. И поля перекосило этим великанским следом, наклонило к ложбинке с обеих ее сторон. Я оглянулась: поле от Пеньков до Куриного плавно круглилось, словно поверхность глобуса. Так что весной добрая половина снегов со всего поля водой стекала сюда. А было отсюда до Пеньков километра четыре. Да и с той стороны от близкого уже леса сюда шел уклон, сюда должны были сбегать снеговые ручьи.
— Вот тебе и Куриный! — съязвил Энгелька, перехватив мой взгляд.
27
— А вот и Куриный! Что, слоновий он тебе, что ли, или коровий?
Чувствовала я, что не то говорю. Не то ведь было главное, как
мы назвали овражек. Главное — то, что имя само по себе родилось, не искали мы его. А есть имя — есть память. Так ведь? Вот будешь ты, Энгелька, рассказывать нам: «Дошел я тогда до оврага... Ну, того, который на том последнем поле перед Пеньками». Вот сколько надо сказать. А только скажешь: «Дошел я до Куриного» — и все ясно. И все видно: и где поле, и какой вид во все стороны: вон лес впереди, а налево от него, за глубоким оврагом, на холме, березки растут — одна большенькая, прямая, а другая поменьше и покривей. Вот что сразу увидишь при одном только слове. А Шура еще, конечно, вспомнит тот жаркий довоенный июньский день, и какая была зелень, и какое небо, и какой настоящий хлеб несли мы с собой в узелках, когда она услышит это название — Куриный овраг. Потому что как раз в тот день безымянный овраг получил от нас свое имя.
Но я, чувствуя это все, не понимала, в чем же несправедливость Энгелькиной насмешки, и только сердилась и говорила не то.
— Вот что,— сказала Шура,— Куриный перешли — значит, считай, скоро полдороги останется до дому!
И этим успокоила всех. Куриный — хорошая примета. Я молча показала Энгельке язык, а он побежал за мной, крича:
— Кто дразнится, тому достанется!
Девчонки смеялись над нами. Они не побежали вдогонку, но мы скоро запыхались, и они, не убыстряя шага, догнали нас.
Подползая к лесу, дорога пробиралась по самому краю того глубокого оврага, о котором мы говорили. Овраг, хоть глубокий, не рос, землю не разрушал — склоны его сплошь были травяные, дернистые. И кустарника в нем не было, и дно совсем ровное, как поле, как лужайка. Странный такой овраг. Не подчиненный законам географии, по которым каждый овраг, если не порос деревьями или кустами, должен разрушаться, расти, оползать под действием текущих вод. Летом овраг был ровно зелен, а теперь он изжелта-серо-бурый (только что не малиновый) с зелеными подпалинами в глубине, у корней трав. Густая, короткая, как щетка, трава. Овраг раза два выкашивают за лето.
— Глубокий,— с одобрением сказал Энгелька, глянув вдоль оврага.— Вот и назовем его так, ладно, Даша? — Энгелька ко мне подлизывался.
— А чего его называть? И так уже зовут. Глубокий да глубокий! Какой же еще? — сварливым голосом сказала Шура, а мне стало Энгельса жалко.
— Ну, пусть уж! Все зовут просто так, а мы будем знать, что это его имя. Чтоб писать с большой буквы.
— Ага, Ленка? — попросил Энгелька разрешения у старшей сестры.
— Что и говорить! Все овраги окрестили! — согласилась мило- стливо Лена.
28
А уже и лес надвигался на нас: шуршащий, пахнущий сладко влажной древесиной — осиновой и еловой, грибами, тлеющим на земле листом. Палый лист, превращаясь в лесную землю, испускал дух — чистый, слабо горчащий, так слабо, чуть-чуть, что хотелось вдыхать воздух глубоко-глубоко, чтоб, наконец, явственнее — языком, нёбом — уловить эту горечь, понять, наконец, какая же она сладкая. Но вдох кончался, а ты оставалась ненасытной. И снова вдох — прохладный, дразнящий нёбо.
В поле было сухо, а в лесу оказалось сыро. Поэтому мы пошли опушкой, а не через лес, где путь чуть короче, прямее. Но и вдоль опушки идти трудней, чем в поле: глубокие, кочкастые колеи, а у самых деревьев кочки травяные — тоже, наверное, когда-то изъездили, изранили землю тележные кованые колеса. Травой-то затянуло, а шрамы остались. Неловко идти. Ноги подвертываются. А идти, как на грех, хочется быстрей: темновато стало в тени леса. Солнце за его макушки перевалило, сумеречнее здесь, будто туча нашла, будто вечер нас подстерег.
Замолчали все, ковыляем, с кочки на кочку поскакиваем, только сумки наши подпрыгивают.
Но вот ветерком в лицо потянуло свежим, полевым — земляным. И вдруг лес оборвался, отстал от нас! И направо, как и слева, открылась даль. Кромка леса резко вправо взяла, наша дорога отделилась от нее и — наискось, через поле. Впереди, пересекая дорогу, еще виднелись деревья, ставшие в линеечку, но мы знали: это уже последняя мета, за ней откроются нам совхозные первые постройки: ферма, силосная башня — справа, слева — дома. И первый двор — Вазыха Ибрагимова, с которым я училась до пятого класса. Дальше учиться он не стал, потому что пошел работать — помогать на тракторе своему брату: то прицепщиком, то на сеялке.
За теми деревьями, которые сейчас видны,— они на меже,— начинается совхозная земля, своя, известная. Оттуда уже без поворотов бросится дорога напрямик к дому Вазыха, а по бокам, на почтительном отдалении от нее, будут спешить узенькие перелески. Летом, да и сейчас еще, пока листва в силе, подумаешь, что это леса. А зимой уже не подумаешь: за стволами и голыми ветками — совсем близко — сквозит пустота следующего поля.
Так бежала впереди нас наша память, прокладывая дорогу ногам.
Дома и Пеньки нипочем
Последние десятки метров — по совхозной улице, мимо нашей школы, мимо конторы, к дому — мы с Шуркой бежали так, что в самом деле не чувствовали земли под ногами. Будто одним сильным порывом бури несло нас к высокому, двухэтажному, большеоконному дому, окруженному важными тополями. Они простерли свои могучие ветви над домом, над дорогой и тропками, со всех сторон спешащими
29
к нему. А теперь они тянулись к нам так же напряженно и страстно, как рвались навстречу им наши сердца.
Как только не сдвинулись с места эти деревья? Как не выскочило вон мое сердце? Вихрь по лестнице вверх! Рву дверь в темных сенях. Ничего не вижу в нашей темной, безоконной кухне. Но вот свет возник. Бабушка открывает дверь из комнаты. Я обхватываю ее обеими руками, зарываюсь лицом в нее и только чувствую родной запах, только слышу, как где-то между мною и ею колотится мое не выскочившее все-таки сердце: «Дома! Дома! Дома!!!» Я не помню, не знаю и знать не хочу, что только день быть мне здесь, только два вечера и две ночи. В это мгновение я дома. И навсегда. Я пришла, и все тут. Я вернулась к себе. Главное счастье даже не в том было, что здесь все родное, все насквозь знакомое, обжитое и свое: что хочешь бери, не думая, можно ли; что хочешь делай; беги куда вздумается, не опасаясь — вдруг встретишь недруга, злобу.
Главное счастье было в том, что здесь не надо было думать, что о тебе другие думают. Я здесь для всех и каждого — дома или на улице — была точно такой же, как и сама для себя. Даже и не догадывалась, что могло быть иначе, пока не попала в Пеньки — в школу и в дом к тете Ене. Это там дали мне почувствовать, что меня видят и понимают совсем не так, как надо, как есть на самом деле. И тетя Еня, и еще этот Лешка — «глядельщик»... Неизвестно, что он думает, известно только, что не так.
Сейчас, обнимая бабушку, скидывая пальто, приплясывая, подпрыгивая, вертясь по комнатам и кривляясь, хохоча и издавая радостные вопли, я понимала, ощущала, как слой за слоем сбрасываю с себя защитную броню. Будто были на мне тулуп, полушубок, ватные брюки, валенки выше колен, шаль, перехлестнутая крест-накрест через грудь и завязанная на спине,— наряд, в котором не шевельнешься, не согнешься.
И только сейчас, оставшись в одном тонком гибком платьице, в теплой безопасной комнате, поняла я, какую броню таскала на себе в Пеньках — и днем и ночью, изо дня в день!
Бабушка села на свою кровать и смотрела, как я беснуюсь, покачивая головой и улыбаясь,— я хоть и бесилась и вопила, но видела, что, несмотря на улыбку, лицо ее было грустным, а не веселым. Тогда я забралась к ней на кровать, прижалась к худенькому ее плечу щекой.
— Наскучилась? — спросила она.
— Ага!
— А мне без тебя плохо. То то надо, то другое. Послать бы Дашеньку, ан нет ее. Теперь уж мама старается все с утра сделать. Или в обед — бегом-бегом.
— А Манька как? — спросила я о корове.
— За Манькой сама хожу, встречаю, когда мама занята.
— Сегодня я пойду, ладно?
30
— А не устала?
— Я-то? Да ты что! Я сейчас сто дел могу сделать!
— Ух ты! Расхорохорилась наша Дарья, что твоя Марья! Давай сначала поешь. Вчера муки получили, чисто пшеничной, целых два кило. Я завариху сделала. На молоке, в честь твоего приезда.
— Ой, бабуся! Вот здорово!
Чистую муку обычно берегли для подмески в картофельное тесто, а тут завариха из муки, да еще на молоке!
Я старалась сначала только лизать ложку, обмакивая ее в сметанообразную массу, чтоб растянуть удовольствие, но скоро не выдержала — уж лучше как следует почувствовать сладкий ее вкус. Наверное, потому, что уже давно, целую вечность, с тех пор как началась война, сахар стал редкостью для нас — язык научился отмечать и самую маленькую малость сладкого. Завариха — пшеничная мука, заваренная в молоке,— казалась сладковатой, а сливочный привкус молока — сдобный, тающе-неуловимый, сытный — дразнил и радовал; кремообразную нежную массу хотелось и подольше задержать во рту, на языке, и в то же время жадно глотать — глотать ее так легко! — чтоб насытиться.
— Удивляюсь,— сказала я бабушке,— зачем до войны, когда муки было сколько хочешь — ведь да? (Бабушка кивнула, соглашаясь.) — зачем тогда ты варила какие-то супы да котлеты еще делала. Надо было варить одну завариху! Вот кончится война, буду есть только завариху! Из пшеничной муки на молоке! Целую кастрюлю — на завтрак, обед и ужин! И пусть всегда стоит кастрюля с теплой заварихой на плите; захотела — подбежала с ложкой: хвать- хвать! Здорово! Да ведь, бабуся?
Бабушка смеялась, будто она про меня что-то другое думала, чего еще я не знаю.
— Ой, посмотрю я на тебя после войны, как ты будешь одну завариху есть!
— И буду! Ты, наверное, думаешь, я про булочки, про пирожное забыла, да? Ничего я не забыла, а просто они в сравнении вот с такой заваришечкой — нца-нца! — никуда не годятся! Вот!
Я выскребла тарелку дочиста. Я бы съела еще три раза по столько да еще и четверть столько, но не просила добавки. Бабушка и сама знает, что я еще хочу; было б можно, сама бы налила, не спрашивая. Раз не дает, значит, больше нельзя.
— Спасибо, бабусь! Лучше торта!
И почему это так стало теперь? Только от обеда, а есть хочется почти так же — во всяком случае, еще раз пообедать можно. То есть, если уж правду сказать, в любое время дня можно бы пообедать.
Особенно хочется есть сразу как поешь. Немного времени пройдет — и лучше. Знаешь это, а все равно свой живот не уговоришь: ему бы, животу, еще тарелочку... У-уу, жадина! Наверное, знает про
31
это бабуся. Она ставит передо мной чашку с молоком и кладет свою знаменитую картофельную булочку. На вид она совсем настоящая, румяная, а внутри серовато-синеватая. Все равно вкусная, особенно с молоком.
Настоящий пир!
— Я сегодня все испекла,— говорит бабушка,— чтоб папа с мамой вечером свободны были от терки.
А я смотрю на нее — на темные ее глаза, седые пряди в темных волосах, гладко зачесанных надо лбом, запавшие смуглые щеки, такие нежные, если их погладить,— и думаю, что лучше, чем моя, нет на свете бабушки.
Я хватаю ее руку — узловатые, но все равно тонкие пальцы, голубые пухлые вены худощавых запястий — и прижимаюсь к ним лицом.
«Если бы не мама, мы бы, наверное, теперь и жить не смогли» — так говорит о бабушке моя мама.
Уж что касается меня, так это точно: с кем бы я дружила? Ведь маму я почти не видела, даже когда дома жила, а не в Пеньках. Всюду и везде с бабушкой. И по хозяйству — бабушка мой главный командир и учитель; и в лес — бабушкино тихое восхищение всем вокруг, ее внимание к каждому цветку и козявке и меня настраивало. Так самая ранняя пичуга настраивает на песню птичий хор. Это тоже мне бабушка объяснила: какая птица раньше встает, та и песню начинает, а остальные подхватывают, спросонья им кажется, что песню они сами придумали. Так говорила мне бабушка, когда рано будила.
Рассказать бы ей сейчас, вот прямо в ее руки, не подымая головы, не открывая глаз, про все, что свалилось на меня в Пеньках, про Лешку-«глядельщика», про страх перед ним, про недреманное око Мелентия Фомича, про тетю Еню и Тоню Антипову. Но я почему-то не могла. То есть я могла, и я рассказывала, что есть у нас учитель, у которого глаза смотрят в разные стороны; есть совсем взрослая девушка в классе; мальчишки ужасно бешеные, носятся, как угорелые кошки. Все, что я рассказывала, было так и не так. Совсем-совсем не так! Но по мере того как я говорила, то, что «не так» — мои собственные страхи, мое горе,— куда-то отступало, уходило. Я уже не помнила о нем! Будто его и не существовало. Все было так и только так! И было весело!
— А ребят-то много? — спрашивала бабушка.
— Да! Только, знаешь, почти у всех мальчишек, кроме троих, одинаковые фамилии, четверо Домоседовых! И двое из них еще Сашки, Александры! Их только по отчеству и различают. Сначала так было смешно! Учителя еще не знают! Вот и вызывают:
«Домоседов Александр!»
А мы все хором: «Который?»
«Как который? Стало быть, Александр! Домоседов!»
«Их же двое!»
32
«Действительно,— учитель скажет,— два Александра Домоседо ва».
А Мелентий Фомич еще и спросил:
«Может, и третий есть, сознавайтесь! Так уж сразу знаки различия придумаем!»
Вот и придумали: у всех в журнале фамилия и имя, а у Сашек Домоседовых еще и отчества!
Их теперь так только и зовем — «Николаич» да «Константиныч»... А знаешь, бабусь, еще один мальчишка — Карпэй, его зовут Костька,— так он Сашку Константиныча величает «Костькин сын».
— Что за фамилия такая — Карпэй? — бабушка спрашивает.— Не русский, что ли?
Я хохочу:
— Русский! Карпов он! Это у него прозвище такое — Карпэй.
— Ишь как, по-иностранному — Карпэй. Нет чтоб Карпей.
— Ну, бабусь, чего ж тут иностранного?
— Как чего? «Пэй»! — говорит бабушка.— По-русски же «пей»!
Мы хохочем, и Костька сейчас кажется мне смешным и добрым,
а не таким, как в классе; когда он хватал кого-нибудь из мальчишек своими красными ручищами с черной каймой под ногтями, у меня сердце каждый раз замирало: вдруг покалечит! Особенно страшно становилось, когда рядом с Карпэем не было Лешки. Лешка имел над ним какую-то странную власть: если Костька очень уж расходился, стоило Лешке крикнуть: «Да фиг с ним!» или просто: «Ну, будя, Карпэй!» — и тут же вся свирепость Карпэева кончалась. Будто его выключали. Правда, без Лешки Карпэй и в буйство не впадал. Он или как-то странно задумывался, или начинал оглядываться с тоской в глазах, будто не знал, что бы ему сделать, за что приняться. Вот тогда мне и становилось страшно: мало ли что придет в эту лохматую голову, а остановить некому.
Так они и ходили все время вместе. Был Карпэй при Лешке вроде дубинки, вроде собственных его кулаков. И тонкий, гибкий, бледнолицый Лешка, казавшийся рядом с Костькой особенно хрупким, вертел этой тяжелой дубинкой как хотел.
Сейчас с бабушкой я словно кино вспоминала, но в то же время с некоторым удивлением я призналась себе, что и в самом деле никому ничего плохого ни Костька, ни Лешка не сделали. Грохоту больше и возни. Тузят-тузят друг друга в свалке, а никто не плачет и не обижается.
А когда мы всем классом пилили и кололи дрова для школы — на зиму готовили,— так Карпэй брал себе самые сучковатые, толстые плашки и так лихо, всадив в них колун, кидал через плечо, обрушивая обухом о колоду, что с одного раза рассаживал!
Еще Тоня Антипова здорово колола. Она не через плечо и как-то вроде бы и неловко над головой своей замахивала колун и с одного раза не расшибала тюльку, но зато и второй и третий раз падал
2 Школьные годы. Выпуск 2
33
ее колун точно в первую насечку — и тюлька разваливалась, не брызнув ни одной щепкой.
Вспомнив про дрова, я сказала бабушке, что в понедельник после уроков у нас снова будет субботник — дрова — только для совхозных ребят, потому что пеньковские и из других деревень сегодня остались после уроков, а нас отпустили — нам ведь, дальше всех домой.
— Да как же вы одни-то? У вас ведь одни девчонки? А колоть?
— Подумаешь, колоть! Мы и колоть умеем! Уж кололи. А что не сможем, мальчишки в другой раз расколют. Вот пойдем, пойдем, я тебе покажу, как я могу!
— А ну пойдем! — загорелась и бабушка.
Мы вышли с нею на двор, под темнеющее уже небо, в суховатый шорох тополевых листьев — жалобный, покорный голос осени. Сейчас, в ранние сумерки, особенно явственно ощущается: нет возврата к теплу и лету; впереди — слякоть и мокрый холод осени и долгая зима. И листья, даже еще не успевшие пожелтеть, обречены. Срываются и широкими кругами, раскачиваясь* как бы на невидимых нитях, скользят с яруса на ярус — ниже и ниже. Вот лист, гордо трепетавший в вышине над нами, уже на земле. Из голубизны и свежести — в пыль, потом в грязь.
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу...
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
А я не топчу. Мне жалко их сейчас, когда вижу, как они падают. Мы постояли с бабушкой на нашей террасе, глядя на плачущий листьями тополь. На фоне тяжелого от туч, сизого, угрюмого неба желтизна листьев бледная, замученная. И мне захотелось, наперекор этой печали и угрюмству окружающей природы, двигаться резко, шуметь, чтобы доказать и себе, и этому тополю, и этому угрюмому небу, что я живу сама по себе, а им не подчиняюсь.
Я побежала вприскочку к сараю, где лежали наши дрова. Дрова были березовые.
— Вот, бабуся, смотри!
Я поставила круглую плашку, прислонив ее к толстому бревну, и, чувствуя себя сильной и ловкой, взметнула над головой легкий топор (жалко, не было у нас колуна) — острое лезвие впилось в белую плотную древесину не посередке полена, а ближе к краю. Нажав на топорище, я легко освободила лезвие, благо оно вошло неглубоко, и ударила снова. Удар пришелся почти в старый след, и от полена отскочила косая щепа. Ох уж эти березовые! Я не люблю, что они вот так колются — вкось. Сосна — та, где ее ни ударишь, раскалывается по прямой. Я присмотрелась к своей непокорной плашке, поставила ее так, как меня Тоня учила, чтоб удар пришелся вдоль сучков, а не поперек. Приладилась, прицелилась — и хряпнула прямо
34
по сердцевинке! Топор теперь поглубже засел в полене, но оно не поддалось. Я попробовала поднять топор вместе с поленом на плечо, чтоб сплеча ударить обухом о бревно, так сил не хватило. И тут же я догадалась: если не могу ударить обухом, буду бить по обуху! Другим поленом!
«Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!» — приговаривала я про себя, и на третье «вот тебе» распалось мое полено на две равные половинки.
Какая чистая — прямо светится! — древесина на расколе, словно сахарная, только с легкой желтизной!
— Правильно говорят,— сказала бабушка, будто прочитав мои мысли,— березовые дрова что сахарные: и белые, и звонкие.
...Половинки раскололись сразу, косой щепы больше у меня не было. Я еще рассадила две плашки — лоб у меня покрылся испариной, щеки горели, ладони тоже.
Весело мне стало, жарко! Особенно весело оттого, что придумала, как мне самой, без помощи других, колоть неподдающиеся тюльки: засадить топор — и другим поленом по обуху!
Теперь на субботнике мы сами все расколем!
И еще мне было весело оттого, что бабуся на меня смотрела, а у меня получалось! И наплевать мне было теперь, что небо хмурится, что осень!
— Ну, хватит тебе! — сказала бабушка, когда я прикончила третью плашку.— Ну, молодец! Вижу — можешь. Пойдем теперь!
Мы набрали с ней по охапке дров и пошли домой.
От угловатых, жестких поленьев с матовой, как бы меловой березовой корой источался чистый, свежий, крепкий, казалось мне, имеющий розоватый оттенок запах. Мне казалось, так пахнет в воздухе после первого снега.
По-русски, по-татарски, по-немецки
А уже совсем стемнело. Маленькая печка-подтопка в нашей комнате, сложенная так хитро, что дров брала немного, а жару отдавала щедро, уже прогорела. Бабушка затопила ее еще до моего прихода. И мы с ней и с моим пятилетним братиком Толиком сели перед ее раскрытой дверцей прямо на пол, согретый жаром, пышущим от углей. По их драгоценной зыбкой россыпи перебегали легкие огоньки, голубые и белые, но все реже; и сизая нежная поволока, реющая над грудой жара, то и дело прорываемая вспышками раскаленного добела даже и не огня, а как бы просто света, таящегося в сердцевине груды,— эта поволока все плотнее обволакивала жар, оседая на самых верхних, пока еще отдельных угольках холодноватым налетом пепла. Глаза трудно отвести от огненной красы. Малиновые, светящиеся, и мрачно темнеющие густой багровой краснотой, и золотые, и сизые, и совсем белые угли лежали неподвижно, но, как в медленно вра¬
36
щающемся калейдоскопе, непрерывно менялся общий вид огненной груды, и как ни ярились светящиеся белые и голубые — темно-красные и матово-сизые брали верх, в печи смеркалось, тускнело, как при заходе солнца. Сама яростная куча углей приседала, уменьшалась. Рассыпались, потрескивая, крупные угли. Было жалко, что зрелище кончалось. Я взяла кочергу и, как в пасть злого зверя, вонзила ее в угли. Брызнули, взвились золотые и белые искры, ожила печь, но и это было не надолго.
— Ну, кончен бал! — сказала бабушка. Взяв из моих рук кочергу, она сгребла все угли в кучу, чуть прикрыла трубу — подвинула заслонку — и велела нам с Толиком закрыть дверцу, чтоб угар не нашел.— Вот совсем побелеют угли, перестанут по ним бегать огоньки, тогда и трубу закроем,— объяснила бабушка.
Но Толик не хотел уходить от печки.
— Пусть огонек смотрит в маленькое окошко,— просил он меня.
И я чуть-чуть — узкой щелкой — приоткрыла дверцу.
Брат сидел, доверчиво прижавшись к моему боку головенкой, и я видела сверху сквозь его легкие белые волосики розово просвечивающую кожу, круглую, блестящую, как яблоко, щеку, разогретую печным жаром, маленький носишко и опущенное над щекой темное крылышко длинных ресниц.
«Ах ты мой братик, братец ты мой кролик! — говорила я про себя.— Наверное, тоже без меня скучает. Хоть и ходит в детский сад».
И подумала я со стыдом, что совсем мало играла раньше со своим братиком, почти ведь и не знаю его. О чем он думает? Вот огонь ему нравится. Смотрит пристально на огненную щелку.
— Мы завтра с тобой гулять пойдем, да? — спросила я брата.
— Ты же по-татарски не понимаешь,— сурово ответил он мне,— как ты будешь с нами гулять?
Бабушка засмеялась:
— Что, получила?
— А при чем тут татарский?
Я и в самом деле ничего не понимала. И заглянула братишке в лицо.
На меня смотрели ясные, светлые глазки, смотрели серьезно и немного грустно, будто жалели меня.
— Толичка, но ведь ты говоришь по-русски?
— Я-то говорю,— согласился снисходительно Толя,— да ребята не очень. Мы по-татарски...
— Ну да?! — удивилась я.— Ты прямо так и говоришь?! Ну-ка скажи что-нибудь!
В глазах Толика промелькнуло удивление.
— Ты же не понимаешь, зачем? — спросил он с упреком.
Я уж хотела рассердиться на его упрямство, но бабушка вступилась:
— Еще как говорит-то! Он теперь у меня переводчик: из татарских
37
деревень придут женщины что-нибудь продать-купить, так удивляются: это, говорят, наверное, татар-малай (татарский мальчик)!.. А что особенного! — Бабушка мне доказывает: — В детсаду больше татарские ребятишки, во дворе его ровесники тоже все татары. Это тебе не повезло — твои подружки-татарочки все по-русски говорят. А то бы и ты выучилась.
— Действительно! — протянула я.— Эх, Толька, повезло же тебе!
А Толька-то, Толик! Так важно, как взрослый, плечами только пожал.
Я вспомнила, что Толик наш вообще очень здорово приспосабливался к языку: не раз слышала, как, играя с мальчишками, он говорил точно как они, по-деревенски: «дожжык», «оттеда», «куриса», «ишо», а дома, ни разу не ошибившись, произносил те же слова правильно: «дождик», «оттуда», «курица», «еще»...
Это, видно, и помогло ему татарский так быстро выучить. И потому я до сих пор и не могла заметить, что он знает татарский.
Теперь я смотрела на маленького своего братика уже не сверху вниз, а как бы наоборот: он умел то, чего не умела я. Я только еще начала в школе учить немецкий язык и ничего не научилась говорить, кроме «Анна унд Марта баден» и «Вер ист хойте орднер?» (Кто сегодня дежурный?).
Еще мы все, конечно, знали слова «Хенде хох! (Руки вверх!), но это уже не из уроков, а из газет, где описывались подвиги наших разведчиков. Когда берешь в плен «языка», надо немцам скомандовать: «Хенде хох!»
Вообще многие мальчишки считали, что ничего другого, кроме этих слов, из немецкого знать не следует. Этого вполне достаточно. А я думала, что даже очень бы надо. Ведь как здорово в разведке: сидишь, например, где-нибудь в засаде и слышишь, как немцы говорят. Можно же все сведения узнать! А если в тылу работать у немцев под видом, что ты за них, так вообще цены нет тебе, если ты все понимаешь по-ихнему. Ясное дело, что самой мне разведчицей такой не быть и не бывать. Потому что, как говорит мама, у меня все на лице написано. А в разведку нужно непроницаемое и суровое лицо. Но вот в засаду — это бы можно...
Да-а, только когда начинаешь учить чужой язык, понимаешь, как много, какое бесконечное количество всяких слов придумано. Это ведь просто ужас! Даже если, например, дорогу объяснить: «Вот пройдите так, потом так, потом направо». Или, например, сказать, как Александр Невский: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Даже если слова будешь знать, а как их составить? Всякие времена, спряжение, склонение, ударение...
Будешь говорить, как наш Нурулла Исмагилов в классе. Он слова все знает, а ударения никак ему не даются. Даже в стихах. Когда он стихи читает, можно умереть от страдания: очень смешно, а
38
смеяться разве можно?! Нурулла тогда совсем замолчит! Да и жалко. Вот как он читает «Песнь о вещем Олеге»:
Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хозарам...
Бедный, как же ему трудно стихи учить, ведь у него совсем нескладно получается!
Я ему говорила один раз: «Нурулла, ты послушай, стихи же гладко идут, как речка течет, а ты скачешь, как по кочкам».
«Что такуй — кочка?» — спросил меня Нурулла, опустив свои небольшие, ярко-голубые, как эмаль, глаза, и ярко-рыжие реснички заморгали, ожидая, что я отвечу.
У Нуруллы были бледные, в бледных же веснушках, пухловатые щеки и толстые бледно-розовые губы. Из всех ребят самый тихий, робкий даже, несмелый, ростом он уступал, пожалуй, только Карпэю, и руки у него были как у взрослого — кисти крупные, запястья широкие. Но, словно мы, девочки, он в перемену не подымался со своего места в углу на задней парте, не баловался с мальчишками.
Однажды, в первые дни, ребята стали было его дергать и «заводить», так он прилег на парту, спрятав лицо в скрещенные руки, и только взглядывал иногда на обидчиков своими кроткими голубыми глазами да жалобно вскрикивал: «Уйди, шайтан! Уйди, шайтан!»
Ребята посмеялись и больше его не трогали, а потом прозвали Вещий Олег. И даже просто Олег. «Нурулла,— кричат,— Олег!» А звали его главным образом для того, чтоб он объяснил задачу, пример бы дал списать. Арифметику он здорово знал. Тут, наверное, ему слова не мешали. А вот что такое кочка, он не знал. Я ему, конечно, объяснила... А Толечка наш тихо-тихо уже в пять лет выучил другой язык.
Пока я думала про все про это, братик мой заснул возле меня. И нам с бабусей пришлось его будить, раздевать, вести в постель. Он был тихий и кроткий и даже не капризничал. Тут же котенком свернулся в своей кроватке и продолжал спать.
Воскресенье: дела и происшествия
А мама с папой так и не приходили.
И я увидела их только на следующий день.
Очнувшись после ночи в тепле и укрытости постели, еще не совсем понимая, что к чему, я, словно цыпленок в лапы коршуна, попала в плен ужасной мысли: «Надо собираться в Пеньки! Опять покидать дом!» Видно, эта мысль все время во мне таилась: пряталась днем, спала ночью, а проснулась, злая, раньше всех, чтобы подстеречь меня, беспомощную со сна.
39
Сердце противно зачастило, захотелось пропасть совсем, чтоб ничего не видеть и не знать больше. И я обреченно открыла глаза, чтоб прямо в глаза блеснуло нацеленное на меня стальное жало гильотины — необходимости.
Мутно светлели высокие окна. Темновато. Тепло. Просторно в комнате.
Я дома. Чьи-то шаги, удаляясь, звучали, хлопнула входная дверь, и все смолкло. Гильотины не было.
«Воскресенье! Ведь только вчера пришли! Значит, Пеньки только завтра! Урра!!!» — заорала я беззвучно и зарылась головой под подушку. Я взбрыкивала ногами, колотила кулаками подушку, оглушая себя. Какое счастье: Пеньки только завтра!! Будто завтра — через сто веков! Будто завтра — это никогда! И с этим удивительным блаженным сознанием я выпрыгнула из постели:
Ай-ля! Ай-ля-ля!
Фу-ты, ну-ты, тру-ля-ля!
Мы по бережку идем,
Песню солнышку поем!
Ой-ля! Тру-ля-ля!
Песню солнышку поем!
Выходи ко мне, коток,
Котик, серенький лобок!
Ай-ли, тру-л я-ли!
Котик, серенький лобок!
И тут, наверное, разбуженное моими легкомысленными выкриками, ожило радио: наш черный репродуктор захрипел, заурчал, и грянула непреклонная музыка! Требовательные мужские голоса обрушились на меня обвалом, лавиной:
Вставай, страна огромная,
Встава-ай на смертный бой С фашистской силой темною,
С прокля-а-атою ордой!
Я замерла, устыженная, прижав к подбородку руки с простынкой, которую складывала, заправляя кровать. И так стояла, а песня вымывала из меня всю легкомысленную радость (Господи! Воскресенью обрадовалась!), все мои смешные, маленькие страхи, словно это был легкий, пустой мусор. Я чувствовала, что становлюсь такой же суровой и строгой, как эта песня, как ее слова и напев. И вот я уже сама подпевала, включаясь в новый день, не просто мой, а общий со всеми:
Пусть ярость благородная Вскипа-а-ет, как волна!
Идет война народная,
Священная война!
40
Теперь я была готова ко всему, что принесет этот день и что настанет завтра. Я даже была готова хоть сейчас идти в Пеньки, так и не увидевшись с мамой и папой.
Но мама пришла к завтраку, успев наработаться, а папа, сказала она, поехал в дальнее отделение совхоза, там на ферме девчата-свинарки перессорились. Шаги, которые услышала я, проснувшись,— это папа уходил. Мама рассказала нам прекрасную новость: рабочий комитет совхоза решил тем ученикам, которые учатся вдали от дома, давать рабочие карточки на хлеб: то есть по шестьсот граммов на день, а не по триста, как полагалось иждивенцам.
«Вот здорово, теперь я буду брать с собой в школу только свой хлеб, и мне будет как раз на неделю! И семью не обделю!» Все это я сразу сообразила, но теперь не стала шуметь своей радостью.
А мама, видно думая о том же, сказала:
— Главное, за Садова, за Ивана Палыча, с души отлегло: они же Степану весь хлеб отдавали, сами на одной картошке сидели.
Я знала: родители у Степки были совсем уже пожилые, мать больная, не работала, только отец, плотник Иван Павлович, имел рабочую карточку — вот и все.
И цыганистый, черный Степка был длинный и худой, как жердина, а бледно-смуглые щеки его втянуты, запали. По одному его виду скажешь, что он все время есть хочет.
Знала я это все и видела, а порадовалась сначала за себя! И мне было стыдно теперь, будто мама, подумав о Садовых, уличила меня в эгоизме. Вот мама моя — не то что я!
Весь остаток этого дня мы выкапывали картошку на своем участке за оврагом, за тем самым, где врыты в его склон землянки-бани. Это сразу за нашим домом, позади сада. Обычно в деревнях садами называются участки с фруктовыми деревьями, а в нашем росли березы и несколько лип.
Тут, пока не училась в Пеньках, любила я играть, воображая этот сад и овраг то джунглями, то тайгой, где водятся уссурийские тигры и огромные питоны-удавы.
Копать картошку в сухой прохладный день просто здорово! Каждый картофельный куст — состарившиеся, сморщенно-дряблые коричневатые стебли с пожухлыми, будто изжеванными листьями — как загадка: вводишь под рыхлый холмик земли, из которого он торчит, свою лопату или вилы, осторожно вводишь, чтоб не задеть клубней, и не знаешь, что там тебя ждет — бодрые, самодовольные картошины-толстячки или дробная мелочь? Иной куст опрокинешь, а под ним словно клад, словно тайник картофельный: цельных полведра
наберешь!
И как же оглушительно-смертельно вдруг раздается хруст — это твоя лопата врубилась в живой клубень! Со стоном боли рвала я лопату на себя, но поздно: насаженная на ее лезвие, как на великанский ножик, сидела неосторожная картофелина, обычно самая
41
крупная, и земельная мелкая пыль, смоченная соком из пореза, чернела на лопате, будто темная кровь раненой картошки. Я снимала картофелину с лопаты и, если порез был глубок, совсем разламывала клубень, чтоб еще раз подивиться, какой чистейшей сахаристой кре- мовостью наливается картошка в глубине черной земли. А ведь только тоненькая пленка кожуры хранит ее от грязи и микробов.
Хотелось лизнуть влажный, сверкающий разлом картофельного тела, и я лизала. И долго сплевывала сырой, крахмалистый, чуть едкий привкус, остающийся на языке.
«А есть люди,— припоминала я чьи-то рассказы,— которым нравится есть сырую картошку — не потому, что голодные, а просто картошка им словно яблоки. Такому человеку работать на картошке — равно что пир пировать. Как если б мне в яблоневом саду. Хорошо бы, если б вдруг картошка — ну хоть под одним кустом! — превратилась в яблоки! Вот под этим! Ну, здесь нет, так под следующим! Ах, нет, тогда вот здесь!» Я поддевала лопатой куст за кустом, выбирала клубни в ведро, сносила в одну кучу.
Яблок не было, конечно. Я между тем думала, что если совсем нечего есть и костер нельзя развести — например, в партизанском отряде,— так и картошке сырой будешь рад.
Мы работали с мамой, а к вечеру должен был приехать отец, пригнать лошадь, чтоб свезти картошку.
Хорошо нам было, когда мы все выкопали, насыпали картошку в мешки и сели на них, чтоб подождать папу. Еще светло было, тихо.
Может, оттого, что сами мы устали, а теперь отдыхали, все вокруг казалось усталым и тихо отдыхающим. И кроткое осеннее небо с застывшими в неподвижности, вялыми какими-то облаками, и даль поля, и все растения вблизи нас — пушистые, все еще в цвете, заросли аптечной ромашки, сочный молочай и сухой голенастый осот, и проволочно-жесткие, встопорщенные кустики пастушьей сумки. Даже отжившая свое картофельная ботва, вырванная нами из земли, и та вроде прилегла отдохнуть, а не умереть на разрытых бороздах... Отдыхая, стояли деревья сада; шагала медленно лошадь, а рядом с ней женщина, держащая вожжи,— они приближались к совхозу от недальнего леса. И тесно припали к земле постройки — дома, особенно фермы; длинные, низкие, они, кажется мне, так и растянулись на земле, расправив каждый деревянный суставчик долгого своего тела.
Мы сидели, прижавшись друг к другу. Я положила голову к маме на плечо, и она держала мою руку у себя на коленях. И я видела с гордостью, что наши руки стали похожи — одинаково задубевшие от земли и картофельного сока, шершавые, горячие. Я глянула вверх, в лицо маме, и увидела ее глаза, кротко-голубые, как осеннее небо, большие на похудевшем, загорелом лице. Она смотрела на меня так ласково, что я от смущения стала бодать ее головой в бок, в плечо, приговаривая:
42
— Пришла коза рогатая, рогатая, бородатая...
— Ну, значит, отдохнула! — засмеялась мама.— Тогда поди-ка сбегай домой, не приехал ли папа. Поторопи его!
— Да он сейчас сам приедет!
Не хотелось мне уходить сейчас с поля. Да и подумалось: вдруг папы еще нет? Будет обидно: приду, а его нет. Но только подумала — и тут же мы увидели лошадь, вывернувшую из-за дома, и папу на телеге.
— Едет! — вскрикнула мама.
А я сорвалась с места, будто меня и не было на мешке возле нее. Я неслась навстречу папе, чувствуя, как повторяется миг, уже давно пережитый; как повторяется все во мне самой: будто я бегу спасать папу, будто от того, как быстро я достигну, достану до него руками, прижмусь к нему лицом и всем телом, зависит его спасение. Тогда он возвращался с войны, больной, после госпиталя. Больной, раненый, но живой. И возвращался к нам насовсем. И я бежала сейчас, как тогда: не дыша и ничего не ощущая, кроме жажды — добежать! Чтобы спастись возле папы. Да, теперь уже самой спастись от Пеньков, от чужого мира. Ведь только папу, придя домой, я еще и не видела. И значит, для него я как бы еще не возвращалась, и теперь, при виде его, я и сама так чувствовала — и бежала, бежала, возвращалась совсем!
Я налетела на папу вихрем, и он меня подхватил, теперь он мог это! А тогда, после госпиталя, был он так слаб и так бледен какой-то еще невиданной мною, тусклой, сероватой желтизной, что я невольно остановилась и побоялась обнять его крепко, лишь обхватила его руку, а забравшись к нему в тарантас, прижалась к плечу, а потом зарылась головой под руку, под мышку, но осторожно^ боясь резко толкнуть: я знала — у него была рана в живот и сложная операция...
Сейчас он меня подхватил и чуть приподнял, а потом отстранил, заглянул в лицо:
— Ну, как дела, студентка?
— Ой-е-ей! Студентка! Ха-ха-ха!
— Отчего же «ха-ха-ха»? Раз живешь ради ученья на стороне, значит, и есть студентка!
— А ты тогда кто? Где сам пропадаешь?
— М-м! Это целая история!
Мы уже подходили к маме, и она встала нам навстречу.
— Да, уж совсем заждались! — сказала она и приподнялась, маленькая, на цыпочках, чтоб поцеловать.— Ну, что там случилось на ферме?
— Такое случилось...— Папа даже руками развел: дескать, просто уму непостижимо! — Целая трагедия. В двух действиях. Первое действие называется: «И выросла свекла большая-пребольшая...» А второе: «Преступление и наказание».
— Ну, папка, ну не тяни!
43
Знаю я этот его обычай: нет чтобы сразу сказать, долго будет подбираться!
— А вот погрузим мешки — и расскажу!
И папа рассказал, что на свиноферме бригадир Гайша Сабирова побила молодую работницу за то, что та вырвала и искрошила на корм свиньям самую огромную свеклу с кормовой делянки при ферме. Эта свекла-гигант была гордостью свинарок, они хотели посмотреть, какой же она станет, если дать ей расти до самых заморозков. А новенькая этого не знала. И вырвала царь-свеклу. Такой пошел шум и крик на свинарнике, что работницы послали за папой: пусть он их рассудит.
— Ну и как ты их рассудил? — спросила я.
— А я спросил Гайшу: «Вот если б я, главный зоотехник, вырвал твою прекрасную свеклу, ты бы стала меня бить?» И все засмеялись, представив себе эту картину. Тогда Гайша опустила голову и сказала: «Ты, Сергей Григорьевич, никогда бы не вырвал эту свеклу, никогда. Потому что ты понимаешь красоту. Потому тебя не надо было бы бить». Сказала про красоту Гайша и заплакала. И сквозь слезы говорила, что только человек без души, человек-шайтан, которому дай солнце, он и солнце свиньям изрубит, мог вырвать такую свеклу. Их общий праздник.
— Ой, так про свеклу?! — удивилась я.
— Так про свеклу. Тебе не понятно? — посмотрел на меня папа.
— Ну, что они гордятся ею, это понятно. Просто слова для свеклы удивительные!
— Про свои чувства она хорошо сказала, да вот про Назиму, ту девушку, не подумала. Я об этом ей и напомнил.
Раз она, Гайша, умеет сказать, значит, очень многое уже понимает, не просто чувствует. Значит, с нее и спрос большой, недаром же она бригадир. Поэтому нельзя простить ей некрасивый поступок. Бить человека! Тем более подчиненного тебе человека... Да это позор!..
Вот что было на ферме! Потому и папу мы столько прождали. Долго еще они сидели в красном уголке, разговаривали уже обо всем другом, рассказывали разные случаи, потом вместе чай пили. Не мог папа просто так сразу уйти. Но в конце концов Гайша погладила Назиму по голове и сказала: «Бедная, глупая девочка»,— по-татарски сказала.
— Ах ты мой миротворец! — проговорила мама ласково-ласково, и он замолчал и стал смотреть на маму.
Он смотрел на нее сверху, а она — приподняв к нему лицо; они улыбались так, будто разговаривали оживленно, а не молчали, и не было на свете никого лучше их. Наконец папа сказал, все еще глядя на маму:
— А знаешь, я правда почувствовал себя счастливым, когда Гайша пожалела Назиму.
44
— Я рада за них,— отозвалась мама тихо.
И я поняла: она рада за них еще и потому, что с ними работает папа.
Наконец мы отправились домой. Медленно и торжественно шагали возле телеги, груженной мешками с картошкой.
И встречающиеся изредка женщины, ласково здороваясь с нами — с мамой и папой, непременно оглядывались, разминувшись, и смотрели нам вслед. Они смотрели нам вслед с каким-то совсем иным выражением, чем при встрече, с каким-то напряженным любопытством, будто хотели что-то понять или вспомнить. Так оглядывают чужака встречные на деревенской улице.
Я заметила это, случайно оглянувшись на одну из совхозных красавиц, Амину Садыкову, работавшую в конторе. У нее было лицо как у Земфиры в иллюстрациях к пушкинским поэмам. В черных спиральных кудрях, обрамлявших удивительно белое, со впалыми щеками лицо, и темные, огромные глаза без блеска,— сказочное, прекрасное лицо. Только фигура ее портила: спина у нее была очень длинная, а ноги коротковатые и кривоватые. Меня как-то болезненно задевало это несоответствие; каждый раз, встречаясь с ней, я надеялась, что это не так, что мне только кажется. И я оборачивалась, чтоб взглянуть на нее еще раз. А сейчас я увидела: она стоит и смотрит нам вслед с этим вот страшным напряжением в прекрасном лице.
И еще раз я оглянулась случайно, чтоб помахать рукой почтальону тетке Анне, которая разминулась с нами, возвращаясь домой с пустой уже, худой своей сумкой. Лицо у нее было ясное, покойное. Знать, сегодня не было похоронок. Но, оглянувшись на нее, я опять увидела на ее лице это же усилие — понять,— что и на лице Амины.
А после я уже на каждую смотрела. И возле дома, дернув папу за руку, чтоб он отстал от мамы, спросила все-таки его:
— Почему они все так смотрят?
Папа ни разу не оглядывался, но словно знал заранее, о чем я. И ответил, не глядя мне в лицо:
— Вспоминают, как было до войны...
Я поняла его сразу. И досадовала на себя за то, что спросила... Сама бы могла догадаться. И больно стало моему сердцу. И отчего-то стыдно, и папу жалко,— я вдруг остро поняла, что он чувствует себя виноватым. Он вернулся, а их мужья — нет. И может, не вернутся.
И что ж поделаешь, куда денешься, если все равно они одни, а мы идем втроем: мама, папа и дочка. Так было у всех до войны. Как просто. Прямо обыкновенно. А стало как чудо какое-то. Это ведь просто чудо, что наш папа с нами. И чудо, что он не погиб, когда был ранен. У папы и сейчас бывают страшные боли в желудке, тогда лицо его делается изжелта-серым, а губы вытягиваются в ниточку. Есть он может совсем помаленьку, а иногда его рвет. И все-таки он с нами!
45
Мама прямо из сил выбивалась, чтобы как-то получше кормить его. Да и нас всех. Время от времени она после работы хватала какую-нибудь вещь — платье свое, шаль или просто кусок ткани, пока не кончились эти довоенные ткани, и бежала в соседние деревни или к кому-нибудь в нашем же совхозе, кто держал много овец,— менять на мясо, на масло. Чтоб кормить всех нас.
И, как всегда, когда думала я, отчего это сделалось, к сердцу будто кипяток приливал от гнева и кулаки сами собой сжимались так, что ногти впивались в ладони и глазам становилось горячо.
— У... гады... фашисты.
Сон и явь
Ночью мне снилось, что я попала в плен к фашистам и меня будут пытать.
Гестапо походило на зубоврачебный кабинет: бело, чисто, блестит стекло и никель инструментов: щипцы, иглы, кусачки; электроплитка раскалена добела. Это чтобы пытать каленым железом.
Ужас сжимал мои внутренности в жесткий комок, было трудно дышать. А мысли метались: «Зачем фашист моет руки? Чтоб пытать чистыми руками? Что за глупость!»
Но фашист, пожилой и лысый, спокойно тер рыжеватые, с веснушками, руки щеткой, как это делают все врачи. На меня он и не смотрел. И кажется, меня никто не охранял. Во сне я не думала, о чем мне надо молчать, чего от меня будут допытываться и, вообще, какую тайну я знаю.
Все это было как будто и неважно, ведь ясно: я ничего не скажу. Одно было важно: не застонать и не закричать.
И вот что мучило меня: смогу ли не закричать? И еще: зачем фашист моет руки? Но я все же смалодушничала во сне, не дала себя пытать: пока фашист мыл свои веснушчатые руки, я, пятясь и пятясь потихоньку к двери, надавила на нее спиной и выскользнула в коридор! И по длинному пустому коридору мчалась бесшумно и невесомо, к далеко светлеющему окну. Прыжок в окно! По ржавым кочкам, сквозь осоку и камыши — к лесу! Погони за мной не было!
В лесу я проснулась. Меня будила мама.
Этот сон я видела в третий или в четвертый раз. Меня он мучил сомнением: выдержу ли я пытку? Но всякий раз я уходила от пытки. Так же как сегодня ночью. Бывало и чуть иначе: на эту жуткую белую пыточную комнату падала бомба — и меня отшвыривало на мягкое болото, поросшее ржавой осокой и камышом.
А мне оставалось по-прежнему спрашивать себя: закричу или не закричу? Другого сомнения — выдам тайну или не выдам? — не было.
Песенка испанских антифашистов, песенка, неизвестно откуда взявшаяся,— читала я где эти слова или слышала, не помню, просто
47
знаю ее и будто всегда знала, сколько живу,— эта песенка не позволяла мне сомневаться. Пелась она негромко, задумчиво. И в середине каждой строфы была пауза. Она словно давала время подумать самой: а что же будет дальше? И каждая строфа такая короткая, а словно отдельная история.
Жили три друга-товарища В маленьком городе Эл.
Были три друга-товарища Взяты фашистами в плен.
Стали допрашивать первого,
Долго пытали его...
Умер товарищ замученны“
И не сказал ничего.
Стали второго допрашивать,
Пыток не вынес второй —
Умер, ни слова не вымолвив,
Как настоящий герой.
Третий товарищ не вытерпел,
Третий язык развязал.
— Не о чем нам разговаривать! —
Он перед смертью сказал.
Их закопали за городом,
Возле разрушенных стен.
Вот как погибли товарищи В маленьком городе Эн.
Все было не просто так в этой песне, как, может, кому покажется: и то, что трое их, товарищей, как бывает обычно в сказках — три брата, три дороги, три девицы, три богатыря; и то, что каждому из них досталась одна судьба; и то, что повторили друг друга первых двое, а третий... Вот сколько раз твердила я про себя песню, сколько уж я ее знаю — всю жизнь! — а каждый раз, как дохожу до слов: «Третий язык развязал» — так, будто в первый раз, сердце у меня замирает в жутком, постыдном подозрении: «Скажет... Неужели пощады попросит?..» «Постыдном» говорю потому, что, боясь за третьего, боясь его слабости, я чувствовала, что его слабость — мне поблажка, что мне может проститься, если что, моя слабость... Но тут кончалась пауза, делящая строфу пополам, и, очищая мою совесть, говорил палачам третий: «Не о чем нам разговаривать...» Он устало это говорил, он умирал... Даже на презрение не оставалось у него сил. Но то, что он все-таки выговорил, было как месть за двух его товарищей. И за меня тоже. Вот так и будет. И больше никак. Мы с ним были заодно. И я была им. Третьим товарищем.
Ведь песня не называла имен. И город не называла. Эн — ведь не название, а вместо названия. И это тоже было — я знала — недаром.
48
Песня зазвучала в моей голове, как только меня разбудила мама и сказала, что пора собираться. Скоро подойдет лошадь. Мне хотелось заплакать, но я слышала негромкую песню и сдержалась. Надо — значит, надо. Пусть на сердце тяжко. И плакать хочется от предчувствия всяческих бед, которые, конечно же, свалятся на меня в Пеньках.
Одно пока хорошо с этими Пеньками: дорога. В совхоз идешь — приметы отмечаешь, а в Пеньки зато на лошади. Где поедешь, где побежишь, чтоб лошадка отдохнула. Девчата сразу песни завели. Поёшь — и все забывается: зачем, куда, на сколько собрались. Дрожки на кочках поскакивают, голоса подпрыгивают, прерываются.
Лена много песен знает, каких я раньше не слыхивала. Например: «Вздыхая розы аромат...» Прислушавшись, я поняла, что надо не «Вздыхаяро», а «Вдыхая розы аромат...».
Песня была очень красивая — грустная, напевная, даже не просто грустная, а жалобная.
Как человек вспоминает про свою любовь, вдыхая этой розы аромат. Особенно конец хороший — гордый:
Вам возвращая ваш портрет,
Я о любви вас не молю.
В моем письме упрека нет,
Я вас по-прежнему люблю.
Хорошо бы так кому-нибудь... И все, и конец. Я эту песню с одного раза запомнила.
А свою песню про трех товарищей я ни за что бы не запела при всех. Я ее только в голове своей пела или когда знала, что совсем- совсем одна и ни одна живая душа меня не слышит.
Из военных песен девчата тоже больше про любовь пели:
Ночь коротка,
Спят облака...
И «На позиции девушка провожала бойца...», и «Темную ночь...».
Так с песнями ехали, но в школу опоздали.
Вот так наказание!
— Ой, да не бойтесь! Мы каждый понедельник опаздываем! — учила нас Лена, когда подошли мы ко враждебно молчащей школе.— Поругают, конечно, а что делать?! Если б сразу с подводы в школу...
Да, правда, надо же было продукты развезти по домам и сгрузить. Да идти еще сколько опять до школы.
И пожалуйста вам — на перемене созывает Мелентий Фомич, всех
49
на построение и приказ читает с высокого крыльца: «За опоздание в школу целой группы учащихся из совхоза такого-то всех виновных наказать нарядом на распиловку и поколку дров: по одному кубометру на человека».
— И чтоб на этой неделе было сделано! — грозно закончил Ме- лентий Фомич и сверкнул своим недреманным оком.
— Ур-ра! — вдруг заорал длинный Степка Садов, правый фланг всей школы.
И какие-то девчонки, не разобравшись, подхватили тонкими голосами: «Урря-я!» — думали, так надо. Но вид у директора недовольный, кричавшие поняли: «ура» ему ни к чему, и примолкли.
Тогда в тишине Мелентий добавил зловеще:
— А Садову — два кубометра.
Степка больше не орал, но смолчать все-таки не смог и стал, как у нас говорят, «вяньгать» — жалобно канючить:
— Jla-ад-но, ла-адно, Мелентий Фомич! Пожалеете еще Садова... Вишь какие строгости...
— А строгости обычные, Степан, военные,— отрезал Мелентий каким-то не своим, отрывистым голосом, очень значительным. И добавил: — А вы, совхозные, завсегда распускаетесь.
— Так ведь впервой ныне-то! — не унимался Степка.
— А летось, Садов? Как оно было?
— Так ведь я-то у вас летось не учился! Вон оно! Садов за летошний год в ответчиках!
Мелентий Фомич, увлекшись диспутом, и еще бы чего-нибудь возразил, и уж было рот открыл, но тут из рядов вырвался звонкий и резкий голос Лешки Никонова.
— Держись, Сте-па! Еще малень-ко! — выкрикнул он, издевательски отчеканивая последние слоги, и тем дал понять директору, как неуместна затеянная с учеником перепалка на виду всей
школы.
— Ну, хватит, поговорили! — с сердцем сказал директор.— Разойдитесь!
И ряды смешались, окружая попавших в наряд совхозных.
— Эка! — басил Карпэй.— Что в наряде, что так, все равно дрова-то надо пилить!
— И правда! — обрадовалась я.— Уже ведь и пилили, но на субботнике, а теперь — наряд... А сколько это — кубометр? — спросила я Тоню Антипову.— На субботнике мы не считали же сколько, пилили — да и все.
— Пойдем прикинем.
Мы пошли с ней за школу, где у безоконной ее стенки были свалены дрова — осиновые, березовые и сосновые бревна.
— Ну вот, гляди. Сколько у этой кучи высота будет? Метр, да ведь? Да в глубине не меньше двух. Так? А длина...— Тоня широко зашагала вдоль лежащего на земле, откатившегося бревна.— Раз, два, три!
50
— Значит, здесь шесть кубометров! — сосчитала я.— А как увидеть из этого одну шестую? Чтоб знать, сколько мне одной пилить и колоть. Нас ведь шестеро!
— А чего ее видеть? — удивилась Тоня.— Что, ты отдельно, что ли, будешь, сама с собой пилить? Все равно всем вместе делать все шесть шестых.
И я вдруг поняла: мы же все вместе будем работать! И то обидное, что сказал директор: «На каждого по кубометру!» — потому и было обидно, что разделяло нас на отдельных людей со своим кубометром в охапке. Попробуй-ка потяни одна! Но дело-то в том, что мы не врозь, а вместе! Значит, никакой обиды и нет! И не выделишь тут отдельную работу на одного человека, как невозможно выложить из этой длинной и высокой кучи бревен ровненький куб: метр в длину, метр в вышину и метр в глубину. Вот какая интересная арифметика получалась, когда шесть не делилось никак на шесть, а одна целая работа шестерым поддавалась!
— И правда твоя, Тоня! — сказала я.— Что я, сама с собой, что ли, буду пилу тягать? Все тут мое — все шесть кубометров! Да еще где-то Степкин один завалялся, седьмой!
— И Степкин здесь! — ворчливо сказала Тоня. И я поняла, что она на Мелентия сердится.— Я же не точно вымеряла: тут и в высоту повыше метра, и в глубину побольше двух. Как дэаз и набежит Степкин второй кубометр!
Но прошло целых полторы недели, прежде чем нам удалось расплатиться за опоздание: школьную сараюшку под дрова занимала пока колхозная картошка — колотые дрова некуда было класть. Наконец мы получили команду: в среду после уро¬
ков!
Нам тетя Еня доверила свою пилу. Как и все в ее хозяйстве, была эта пила в лучшем виде — гибкая, отливающая у спинки вороненой синевой, светлеющая ближе к зубьям, жаляще-острым и словно раскаленным добела, словно нарочно начищенным.
— У-у! Щука, а не пила! — сказал Степка, со знанием дела выгибая пилу туда и сюда, и она правда казалась в его руках живым, гибким хищником.
И пошла работа!
Удобно пилить на хороших, устойчивых козлах! Когда бревно лежит не шелохнется, а отпиливаемый конец, свободно нависая, собственной тяжестью разводит щель распила, не зажимая пилы, а помогая пильщикам. И в конце — хрясь! — не выдерживают последние под пилой один-два сантиметра древесины, и, оставляя торчащую занозистую щепу, тюлька летит наземь.
И еще на метр продвигается бревно на козлах, чтоб свободно повис его конец. И снова визгливо-звонко начинается новый рез: вз-з-з — в одну сторону, зж-жж-а — в другую. Выскочит пила в неумелых руках из неглубокой первой бороздки, даст косой след рядом, вскудрявливая мелко бело-розовую кожицу березы, и работ¬
51
ники более твердо перехватывают ручки пилы, более мягко, без нажима посылают ее взад-вперед!
Вз-з-з — в одну сторону.
Зж-жжа — в другую.
Брызжет чистейшая крупа опилок.
— Вот бы кашу сварить! Белая будет! — мечтает кто-то.
— А давай! Тут каши, знаешь, все Пеньки накормим!
— Нам бы волшебный горшок. Насыпал опилок: «Горшочек, вари!» И варил бы горшок сладкую, белую кашу на все село!
— Эй, кончайте душу травить! — Это Степка распрямился, возмущается, сверкая яркими белками, как конь.— Жрать и так охота!
— Потерпи, Степочка! — Это Шурка поет тоненько.— Вот кончим, пойдем все к нам, картошек сварим.
— Ко-ончим! — Энгелька тоже спину распрямил.— Когда это нам кончить!
И словно только этих слов дожидались, вышли из-за угла школы Лешка Никонов со своим верным Карпэем. И с пилой на плече. А у Карпэя-то, как у заправского лесоруба, топор за поясом заткнут!
— У-рра! Второй фронт открылся!
— Союзникам — урра! — заорали все.
А я так обрадовалась и так удивилась, что не могла и рта раскрыть. Как здорово, что вот эти самые вредные ребята и пришли! Что из нашего класса ребята пришли! Не из Лениного, седьмого, не из Энгелькиного, шестого, а наши, из пятого!
Но когда все покричали, вдруг Вера Зозуля — и сама ведь радовалась — задумчиво так проговорила:
— А може, воны нам на горе?
— Как это на горе?!
— Ты что — того? — враз все зашумели.
— А так! — повысила голос Вера.— Директор скажет: «То не совхозные зробыли!» И еще добавит по кубометру!
— Да пусть попробует твой директор! — взметнулся резкий Лешкин голос, а сам он уже стоял на козлах, широко расставив ноги в разбитых башмаках — то ли сапоги с отрезанными голенищами, то ли ботинки без шнуровки.
Я уже заметила: когда Лешка злится, все норовит повыше забраться: в классе — так на парту, так же вот, расставив ноги, и нависает коршуном над врагом, того и гляди, вцепится, налетев сверху.
— «Твой!» — передразнила его Вера.—Це зовсим твий, а не мий директор! Пеньковский! А мий далече, тебе такого, як мий, не бачить! — Она сердилась и говорила свои украинские слова.
И не знаю, что бы тут началось, может, «союзники» превратились бы в свирепых врагов — «пеньковских», «совхозовских» да еще и «гор- ловских», пожалуй (Вера Зозуля была из Горловки), а может, и не
52
случилось бы прямого боя — теперь уж этого не узнать,— если б не вмешались в спор сверхъестественные силы. Мирно разговаривая, к нам подходили сам Мелентий Фомич и Мария Степановна.
Первым их увидел Лешка, стоявший на козлах.
— А он и тут как тут,— процедил Лешка сквозь зубы, ничуть не смутившись, спрыгнул и отошел в сторону: мол, я тут ни при чем, просто смотрю.
В общем, получилось как на сцене, когда все в разных позах застыли: мы с Леной за пилу держимся, рядком стоим; Энгелька на бревно присел; Вера, обиженная, губы, и без того толстые, надула и Энгельсу в плечи вцепилась, когда Мелентия увидела; Шурка топор в руках держит — и ногу вперед, как партизанка. А Степка, наоборот, голову в плечи вобрал, будто удара ждет. Карпэй и Лешка в сторонке. Ни при чем.
А Мелентий как ни в чем не бывало своим дребезжащим, вредным голоском приветствует:
— Ну, бог на помочь! Как дела-то идут? — И к Лешке повернулся: — И Никонов здесь! Ну, вот это молодец! И нас с Марией Степановной опередил. Мы с ней только собрались на помочь, а он уж тут с верным Карповым!
И как мы услышали про «верного Карпова», так не выдержали — прыснули от хохота. И уж посмеялись, дали себе волю.
Мелентий, наверное, сначала подумал, что ловко пошутил, потом, пожалуй, уж и засомневался: не над ним ли хохочут ребята?
А мы заодно надо всем: и над Лешкой, и над Вериной подозрительностью, и над собой, что почти ей поверили, а главное, от радости, что Мелентий Фомич не такой злодей оказался, еще и помогать пришел.
И как же мы быстро одолели эти дрова! И не устали.
А потом, когда все сложили в поленницы возле школьной стены и присели на козлы, увидели, что вокруг — ночь, а над нами — чистые звезды. Чистые, холодноватые, спокойные. И мы, запыхавшиеся, горячие, потные, радостные, увидев их, вдруг притихли.
Наверное, все, как и я, враз почувствовали это небо, его отдаленность от нас и его тишину, и глаза всех так и замерли там, в высоте. А мне было интересно посмотреть на лица.
Наша учительница Мария Степановна стала похожа на девочку тем задумчивым и кротким выражением, какое появилось сейчас в ее запрокинутом к небу лице. «Какая чудесная наша учительница! Вот как мне повезло!» — подумала я и увидела, как на лицо учительницы легла тень от облака. Нет, не от облака! Сегодня они легкие и прозрачные, как папиросный дым, сизые облачка на предночном, черно-синем — нет, все-таки больше синем — небе. И редко-редко они. Не тень, догадалась я, о войне она подумала. Ведь я и сама, еще не понимая этого, уже подумала про войну, как только увидела тихое небо, и звезды, и облака. Могу поклясться, что и другие ребята тоже. Ведь все смотрели на небо, а оно было и там, над войной. Это же
53
все время в тебе сидит: здесь тихо, а там — война. И чем прекраснее и тише вокруг, тем больнее душе, или сердцу, или чему там, что у человека в середине груди, что не спит, не дремлет, а все видит и замечает и не дает соврать или сделать несправедливость. А если соврешь или поступишь несправедливо, будет точить и мучить и не даст совсем покою.
Вот сейчас нам хорошо, мы вместе, мы свободны, в нас не стреляют. А там — стреляют, там кто-то сейчас умирает, и не один — много: кто-то кричит от ран, а кого-то пытают, казнят.
Как раз в эти дни пришла газета «Правда» за 15 сентября, где писатель Фадеев рассказывал о комсомольцах из Краснодона. Там были их фотографии. И когда я читала, как мучили ребят, а ведь Сережа Тюленин был совсем мальчишка — всего на четыре года старше меня,— я все смотрела на их лица, хотела понять, увидеть в них: они другие, чем мы, или такие же? И видела, что такие же, и все равно сомневалась, искала. Но только, пожалуй, Уля Громова была особенная. Чем? Может, это от не очень ясного снимка, но казалось мне: глаза ее словно бы видели только мечту, а не саму жизнь. Глаза как на иконе тети Ениной божницы. А может, так казалось оттого, что я прочитала про Улю в газете: она «не сыпала проклятий по адресу истязателей». Вот что меня поразило. И хоть Фадеев не объяснял почему, я поняла: настолько Уля чувствовала себя выше всех этих фашистов, которые терзали ее так, что только представишь — и тошнота подступает к горлу,— настолько она была выше, что и слов на них тратить не хотела. И она думала только, как помочь своим товарищам, чтобы укрепить их. И читала им стихи. Лермонтова читала. «Демона». Да, Уля была особенная, и это было видно даже на газетной фотографии. Все другие были совсем обыкновенные. А Сережа Тюленин и вовсе пацан, припухлое детское лицо. Люба же — такая озорная, лукавая девчонка! И они все, как Ульяна, никого не выдали. А Любка еще и пела.
Мы только сейчас про них читаем, а они уже погибли. В прошлом еще году. А ведь дышали, как и мы, думали, видели землю вокруг, на небо смотрели и удивлялись, какое всегда прекрасное небо!
И я стиснула зубы, и проглотила комок, вставший в горле, и сказала себе стихи, которые Уля читала стоим подругам в тюрьме, чтоб внушить им силу, когда к ним в камеру доносились крики истязуемых:
Сьшы снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..
Мне очень хотелось прочитать их вслух прямо сейчас, но я стеснялась просто так произносить слова, сказанные Улей.
54
— Ну вот,— сказала Мария Степановна, вздохнув, и провела рукой по лбу и глазам своим, будто освобождаясь от какой-то мысли или видения,— вот и сделали мы хорошее дело.
Наверное, и она, как и все, уже позабыла, что это мы, «совхо- зовские», наказание отбывали. Наказание за опоздание. Да и впрямь, какое ж наказание, если сам директор школы с нами работал?
Мы пошли по домам. Почти всем нам было по дороге. Только Мелентий Фомич и Степка жили в другом, противоположном конце села.
Мы тихо разговаривали, и я все время чувствовала, что рядом Лешка. Однако сейчас это не вызывало во мне того опасливого беспокойства, какое бывает, когда близко вьется и зудит оса — и ты поневоле напрягаешься, как бы не тяпнула в нос или глаз. Лешка, который шел сзади,— а ведь это особенно опасно, когда враг сзади,— был мирным и кротким. Не пойму, откуда я это знала, но знала. Как было бы хорошо, если б он все время оставался таким вот тихим. Не зудел осой.
Но Лешкиной тихости хватило не надолго. Когда мы все подходили уже к нашему дому, он заорал сзади:
— Эй, совхозники! Завтра чтоб не опаздывать! А то — по два кыбымы! — И захохотал издевательски.
Лена откликнулась добродушно:
— Тебе, Никонов, директором быть! Построже Мелентия.
— А как же! — хвастливо согласился Лешка таким противным, самодовольным голосом, что мне скучно стало.
Я понимала: он дурачится, но все равно обидно было, что так глупо. Мог бы что-нибудь поумнее придумать. Да куда ему!
Мелентий Фомич
После этой истории с дровами мне легче стало жить в школе. Быстрее побежали недели. Не так горько стало уезжать из дому. Директор Мелентий Фомич уже не пугал. Я перестала видеть его недреманное око. Конечно, оно было на месте и, как всегда, глядело на класс не мигая, но это было уже не страшно, а обыкновенно. Как полагается. Вроде ты его уж и не замечаешь. Не видишь.
И грозные речи Мелентия Фомича, и обещания жестоких кар не сбывались никогда, а если сбывались, то вот так, как было с дровами: сам пришел помогать. И потому никто его особо-то и не боялся — так, делали вид, что слушаемся, из уважения к директорскому его положению, а каждый с ним переругивался и пререкался, как тогда Степка Садов.
И мне даже казалось, что самое большое удовольствие получает при этом как раз сам Мелентий Фомич.
— Ты, Домоседов,— говорил, например, директор на своем уроке
56
Сашке Николаевичу,— того: не разбирался, видать, долго с правилом. Прочитал раз, да и того... ужинать, поди, поспешил. Верно я говорю? — вытягивал он к Сашке тонкую морщинистую шейку.— Покушать захотел. Чай, блины мать-то пекла?
— Картофельные,— покаянно соглашается наш Николаевич. И вдруг спохватывается: — А што? И ужинать, што ли, нельзя теперь?
— Ну-ну, как можно без ужина? — серьезно говорит директор.
И все в классе покатываются от хохота, а лицо Сашки Николаевича, и без того красное, принимает аж свекольный оттенок.
— Ну и вот! — говорит он с вызовом, почти грубо.
— Ия про то же.— Тонкий голос Мелентия успокоителен.— Я, Домоседов, про то же! Только, Домоседов, на свой ус, которого у тебя еще нет, но будет,— поднял вверх Мелентий Фомич темный пророческий палец,— на этот свой ус намотай: правила лучше учить на голодный желудок. Да с той же охоткой, как ужинаешь. Понял, нет? — уже резко, директорским голосом спрашивает он и смотрит поверх Сашкиной головы одним глазом — значит, это наставление не одному Сашке, а всему классу.
Мелентий Фомич проговаривал слова очень быстро, отрывисто, зато паузы были у него продолжительнее, чем у всех других людей. Где другой ставит запятую, наш учитель — многоточие. Он говорил, будто пристреливался короткими очередями. Я подумала что это от привычки диктовать диктанты, показывая голосом, где ставить знак препинания. А может, и просто так, такая его особенность. Вообще как-то не по-учительски разговаривал Мелентий Фомич, интереснее: над его словами можно было раздумывать. То ли он шутит, то ли всерьез; вроде бы и в шутку правду говорит, а в то же время и обидно.
Вот как с Сашкой Николаевичем: ну при чем тут ужин, если человек правило не выучил?
Вообще Мелентий Фомич, я замечала, очень любит поговорить про еду. Даже и не придумаешь, как незаметно с любой темы он перебирается на свою излюбленную.
Например, ставил за ответ Степке Садову пятерку и приговаривал:
— А совхозским по-другому и нельзя. Они, чай, не на одной картошке... Государственный хлеб едят...
Это правда. Настоящий рабочий хлеб, конечно, надо было как следует отрабатывать. Но все-таки и какая-то ужасная неправда задевала меня в словах учителя. Чего же нас хлебом попрекать? И потом, обидно за ребят из колхозов, у которых хлеба вообще не было. И почему-то стыдно перед ними. Будто это мы, совхозные, виноваты, что у них хлеба нет.
Мне было боязно взглянуть на Тоню при этих словах Мелентия Фомича. И за него стыдно — учитель же!
А Тоня, будто она понимала, про что я думаю, толкнула меня легонько локтем и шепнула, глянув на Мелентия:
57
— Воспитывает...
Дескать, не обращай внимания, это все слова одни, воспитание,— так поняла я Тоню.
* * *
В тот день, когда я узнала про нашего директора нечто очень важное для себя, он спрашивал у доски Душку Домушкину. Наверное, ее надо бы звать Дуся, но все пеньковские говорили «Душка», и она совсем не сердилась. Когда я поначалу назвала ее Дусей, так сама не рада была — такой подняли хохот мальчишки: «Дуся-медуся!.. Дуся- пуся!.. Дуся-бабуся!.. Да она у нас Ду-у-уся!..»
Тогда я объяснила себе, что Душка — это ласкательное от слова «душа», и стала тоже так ее называть.
Душка была длинненькая, вся вытянутая, с лицом серовато-бледным и усыпанным крупными веснушками. Глаза сидели глубоко, но были яркими, блестящими и из-за коротких черных ресничек казались подведенными.
Мелентий диктовал, и она, переступая у доски тонкими ногами в непомерно широких валенках, писала предложение из «Капитанской дочки»: «Лошади шли шагом и скоро стали». И пока она писала, стуча мелом, выводя слабой рукой тонкие, еле видные буквы, Мелентий заметил как бы про себя, себе под нос:
— Видать, не кормили. Не покормишь — не поедешь.
Сначала я удивилась: он прекрасно знал, почему стали лошади попавшего в буран Гринёва. Верно, директор наш думал о чем-то своем и, как говорится, прицепился к слову.
О чем он думал? О чем он думал, сидя ссутулившись, вполоборота к классу, поглядывая на Душку и ее писание? Я вдруг словно впервые увидела, какие впалые щеки у Мелентия Фомича, какая желтая, нездоровая кожа, как туго обтянут ею лоб. И впадины на висках. А губы темные, лиловатого оттенка, а руки зябко прячутся в рукава потертого, белесого во швах пальтишка. И весь-то он маленький, согнутый, ссохшийся. Трудно даже сказать, сколько ему лет. Может, много — например, семьдесят. А может, совсем мало — волосы-то у него черные, без седины.
58
И Душка, стоящая у доски, под стать ему: бледная, тощая, руки, как прутики, выглядывают из рукавов телогрейки. С началом зимних холодов у нас все сидят в верхней одежде: дров хоть и напасли и печки топят, но школьный дом такой старый и худой, что, топленные с утра, печи быстро остывают — и без пальто уроки не просидишь.
Глядя сейчас на Мелентия Фомича, я точно наяву увидела дощатый стол и черный чугунок с картошками на нем и поняла: это все, что ест Мелентий Фомич. Вот отчего и все его разговоры о еде... Не знаю, был ли на самом деле скобленый стол и черный чугунок. Но уже много времени спустя Мария Степановна рассказала мне, как трудно жил Мелентий Фомич. Кроме своих троих детей, он воспитывал еще четверых своего погибшего брата. У этих его племянников и матери не было, умерла вскоре, как отплакала по похоронке.
«Корову держать Мелентий Фомич не мог: сено трудно было запасти для коровы. Держал кур, коз да овечек. А зарплата директорская...— Мария Степановна на этом месте осеклась, посмотрела на меня, как бы примериваясь, пойму ли я, и договорила: — Да что сейчас стоят деньги?»
Меня тогда поразило само выражение «деньги стоят». Однако суть я поняла, вспомнив, как мама ходит в соседние деревни доставать продукты не на деньги, а в обмен на вещи.
О чем же думал Мелентий Фомич, когда сказал про Гриневских лошадей: «Не покормишь — не поедешь»? Может, про своих детей — чем их кормить. Может, про нас, учеников своих. Про что- нибудь такое думал. И видно, придумал. Потому что в конце этой недели произошло общее собрание всех старших классов — пятых, шестых и седьмых,— где сказал нам директор две новости: в школе у нас будут горячие обеды, готовить которые станем мы сами, дежуря по очереди на кухне. И еще: у нас начнутся уроки военного дела — наконец нашли военрука: вернулся один пеньковский воин в чине старшины, его роно признало годным вести у нас военные занятия.
Для горячих обедов дали продуктов пеньковский колхоз и отчасти наш совхоз: картошка, овощи и даже немного муки и крупы — пшенки. Но повара держать школа не могла, так что перед нами встала задача.
59
— «А»,— сказал директор.— Оперативно научиться варить похлебку. И «б»: оперативно заготовить в лесу сучков и хворосту и вывезти все своим ходом, на ручных санках. Пустить под котел дрова, предназначенные для отопления классов, мы не можем. Да ими и неловко топить под котлом: пока-а разгорятся! А как разгорятся, так не остановишь, навар сбежит,— пошутил директор и добавил: — Так что, любишь кататься — люби... что? — возвысил он голос.
— Саночки возить! — грянуло дружно собрание.
И Мелентий Фомич заёжил губами, стараясь сдержать довольную улыбку. А потом не выдержал и засмеялся мелко-мелко, козликом:
— Хе-хе-хе-хе!
И собрание радостно загоготало:
— Хо! Хо! Хо-хо-о!
Военрук
Его звали Силантий Михайлович. Он был ранен на фронте; говорят, очень тяжело, но с виду не было заметно. Руки-ноги целы, и даже пальцы все на месте. Ходил он в шинели чуть не до пят и туго подпоясывался широким желтым ремнем. Мальчишки говорили — немецким. Он, дескать, только пряжку нашу приделал, а была немецко-фашистская, со свастикой. Откуда они это взяли, раз никогда той пряжки не видели! Придумали, наверное. Но все равно, все теперь присматривались к ремню военрука, стараясь разглядеть следы перестановки. Но ничего не могли, конечно, увидеть. Пряжка как пряжка, с нашей звездой.
Первый урок военного дела начался как обычный урок — в классе. Силантий Михайлович всех отметил по журналу, но потом велел выйти во двор и построиться по росту перед крыльцом школы, лицом к крыльцу. А сам ушел в учительскую. Мы старательно выстроились, как могли. Ждем. А военрука все нет. Мы уж начали толкаться, перебегать с места на место, как вдруг школьная дверь резко распахнулась и на крыльцо стремительно вышел военрук. Пока он был в учительской, он переменился, будто переоделся, хотя остался все в той же шинели с желтым ремнем. Подтянутый, стройный, он как-то особенно нес теперь голову: горделиво — вверх и чуть в сторону, приподняв подбородок. Замерев на верхней ступеньке, военрук отрывисто скомандовал:
— Смир-рно! Слушай мою команду! Подравняйтесь! Ка-ак надо равняться?! Не знаем,— с удовольствием отметил военрук.— Послушаем! — предложил он бодро.— Значит, та-ак: выпрямили спину, животы подобрали. Теперь смотрим все направо! На-пра-во, не налево, понял? Направо, чтоб было видно грудь четвертого человека. Так, та-ак, так. Справились... Теперь носочки. Носки, говорю,
60
проверьте — на лапти поглядим, чтоб в одну ниточку шли носочки. От так. Ну, теперь по чистой: поод...— тянул он долго «о»
и рявкнул: — Ррявняйсь!.. Молодцы! — похвалил.— Теперь: сми-ир- но! — Военрук сделал паузу и крикнул: — Здравствуйте, товарищи бойцы!
Мы вразнобой — очень удивились: ведь уже здоровались! — ответили кто как:
— Здравствуйте...
— Да, не умеем приветствовать командира... Ну да научимся...
И Силантий Михайлович стал сбегать с крыльца, как-то удивительно картинно выбрасывая в стороны колени, расталкивая ими длинные полы шинели — они так красиво разлетались! И наш военрук, грациозно оттопырив локоть, правой рукой чуть попридерживал отлетающую левую полу.
Мы с восхищением и удивлением, замерев, смотрели на Силантия Михайловича: в этот момент он походил на артиста, изображавшего какого-то героя гражданской войны, какого-то кавалерийского командира. Здорово!
И вот он спустился к нам на землю и начал нас учить.
Резко вбивая каблуки в утоптанный снег, Силантий Михайлович, прохаживаясь перед строем, во-первых, научил нас здороваться. Оказывается, по-военному нужно так: на слова командира «Здравствуйте, товарищи бойцы!» просто отвечать: «3-дра!» Но только громко, дружно, враз и коротко. Этому мы быстро научились.
Но то, что он сказал во-вторых, нас озадачило. Он сказал, что военные люди должны быть подтянутыми, а мы выглядим как пугала огородные. Мы застыдились и потупились, глядя кто на свои валенки подшитые и неподшитые, а кто и на лапти. И одеты мы были не лучше, чем обуты,— кто во что: тут и телогрейки, и полушубки, и материны старые плюшевые жакеты, переделанные на скорую руку для дочки.
Только одна Галия Сабирова из той же татарской деревни Са- лагыш, что и наш Нурулла, была одета как красноармеец — в бушлат цвета хаки, ничего, что сильно выгоревший, зато с военными пуговицами. Но все вместе не походили мы на военных, хоть плачь! Прав был Силантий Михайлович, что обижался на нас.
— А может, нам форму дадут? — тоненько пропищала Вера Матвеева, самая маленькая ростом, самый наш левый фланг.
Мы насторожились: как всегда, не понять ее сразу — всерьез она или в насмешку. Я подозреваю, что в насмешку. Она была умная и тихо насмешливая, приметливая. Ты и мимо пройдешь, а она зацепит. Потом, она не очень-то стеснялась учителей — может, потому, что ее родная сестра, Анастасия Ивановна, нас учила немецкому и арифметике, а старших — еще и алгебре, геометрии и физике.
Но Силантий Михайлович ей в ответ только одну бровь приподнял. Зато кто-то из ребят догадался и радостно заорал:
61
— Эй! Верка! Мы будем как партизаны!
И все захохотали облегченно: ведь и партизаны бьют врага, да еще как!
— Отставить смех! — нахмурился военрук. Мы сразу же отставили.— Мы не партизаны, а регулярные войска, курсанты, ну, в общем учащиеся,— объяснил он.— У нас здесь своя страна, а не оккупированная временно территория. Ясно?
Мне показалось, что в его словах «оккупированная временно территория» просквозило какое-то легкое презрение, будто что-то неприличное было в этом понятии. Но, может, это мне показалось. Потому что для меня самое больное и горькое было думать об этой нашей родной территории, о том, каково там людям под фашистами. И люди, которые там боролись с ними, как вот в Краснодоне, по мне, были самыми героическими героями. Героями из героев. Потому-то меня и задели слова нашего военрука, и я не ответила вместе со всеми «Ясно!» на его «Ясно?».
А он продолжал:
— Однако форма нам не положена. Но мы выйдем из положения и заимеем подтянутый и опрятный вид. Как полагается бойцам.
Мы насторожились: интересно, как же?
— Ремни! — отрезал военрук. И пояснил: — Расхлябанность достигается распояской. Ежели человека подпоясать, взять живот под ремень, он уже имеет свой вид. Вы увидите. К следующему уроку воендела явиться под ремнем. Всем. Кто явится без ремня — ставлю двойку.
История с ремешком
Вот ужас-то! Следующий урок через день, а где мне взять ремень, пока не попаду домой? У тети Ени никогда никаких мужчин не велось, откуда быть ремню?
Да, попортили нам жизнь эти ремни! На следующий урок больше половины класса пришли без ремней. И военрук послал всех по соседним классам — попросить только на урок хоть тесемочку, хоть лычко.
— Да если б знать, что можно тесемку али веревочку, мы б сами принесли, а то велите «ремень, ремень», а сами за тесемкой шлете! — ныли наши девчонки.
Так под лычко да тесемочку собрав, как сноп под вязкой, свои разнокалиберные одежки, мы опять выстроились перед крыльцом. Ну и смешные же все были! Особенно кто ростом поменьше, Вера Матвеева например. Хоть и был у нее настоящий ремешок поперек пальтишка.
У меня тоже был ремешок. Мне дал надеть его Энгелька. Хороший ремешок. Светлая пряжка с такой хитроумной застежкой. Она запиралась зубчатой колодочкой. Сдвинешь колодку ко внешнему краю
62
пряжки — запрется ремень. Оттянешь ее назад — скользит ремень под зубчиками свободно. Ремень этими зубчиками был уже истерт: таким бархатистым, вроде замшевым, сделался один его конец, но держался еще хорошо.
На том уроке мы учились перестраиваться в шеренгу по два и в колонну по два и по четыре. Учились поворачиваться направо- налево и через левое плечо кругом. Незаметно урок прошел. И только мы выстроились в шеренгу по два, чтоб проститься с военруком, как меня сзади что-то сильно дернуло за ремень, я рванулась вперед и чуть не полетела носом в снег, потому что ремень лопнул! Нет, не расстегнулся! Когда дергаешь ремень с такой пряжкой, она только крепче затягивается. А я подхватила руками уже не ремень, а ни на что не годящуюся лямку. Лопнул он по тому замшевому потертому месту... Обернулась я в гневе и горе, а там Лешка зубы скалит, перебегает на свое место. Это он дернул меня! Воспользовался тем, что попал во вторую шеренгу, и прокрался, прячась от военрука за ребятами. Опять он, «глядельщик» ненавистный! Вот когда я позавидовала московским девчонкам: там, в Москве, с этого года девчат и мальчишек разделили по разным школам. Стали там, как в прежние времена, отдельно мужские школы, отдельно женские. Эх, спокой- но-то там девчонкам! А что я теперь Энгельке скажу? Стою как дурочка, придерживаю ремень — ни побежать, ни ударить Лешку, урок ведь! Но тут уж и звонок грянул. И я кинулась на Лешку с ремнем в руке. А он будто только этого и ждал: отбегает, за деревья прячется, и я только по дереву луплю, а Лешка рожи строит, бесом передо мной крутится, кривляется, хохочет, то за кого-нибудь из ребят кинется, то за угол школы метнется. Будто хочет, чтоб я за ним туда побежала, будто заманивает, напрашивается. Я так его поняла и не стала за ним бегать. Только сделала вид, что бросилась за ним, угрожая поднятым ремнем; он — раз! — в сторону за крыльцо, а я — рраз! — прямо в двери, в школу, в свой класс! Дожидайся, так я за тобой и побежала!
«Бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре закружились бесы разны, будто листья в ноябре...» — говорила я про себя.— Ишь какой умный! Не хватало, чтоб гонялась я за «гляделыциком».
«Там верстою небывалой он торчал передо мной; там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой...» Хоть бы пропал он малой искрой, исчез бы... Что я сейчас Энгельке скажу?» — думала я, разглядывая обрывки ремня.
— Лешка, да? — спросила меня Тоня и взяла из моих рук обрывки, помяла их.— Да он ветхий совсем в этом месте. Это все надо срезать, а по крепкому месту скрепить сыромятным тонким ремешком. Даже красиво будет. Только померить и отрезать так, чтоб это сшитое место под колодочку не попадало. А то не пролезет под нее, не запрется.
Меня поразило, что про Лешку спросила она так, мимоходом, словно бы он не человек был вредный и злой, испортивший хорошую
64
да еще и чужую вещь, а какой-то гвоздь, сучок, крючок или там град, снег, дождь — одним словом, что-то не живое, не одушевленное, что может нанести человеку урон как раз по неосмотрительности самого человека.
И правильно! Ведь и сама я только что думала про Лешку, как про беса. И не побежала за ним. Сначала-то побегала все-таки, чего уж там...
И правда, надо обходить его стороной, как злой гвоздь, чтоб не ободраться об него невзначай. А ремень починить — и все! Не жаловаться же учителям: «Он мне ремень порвал!» Это будет к тому же все равно что пожаловаться на крапиву, о которую ожегся. Крапива от этого не перестанет жечься. «Да! — возразила я себе же.— Зато крапива не побежит за тобой, чтоб хлестать по ногам... А дождик вот может. И ветер. И метель...»
Так и шла я домой с разорванным Энгелькиным ремешком и растрепанными мыслями.
Но больше, чем все, меня удивил Энгелька. Сначала, когда только увидел две половинки, спросил мирно: «Лопнул?» Но стоило мне сказать, что это Лешка дернул меня, как наш «тихий» Энгельс вскочил, будто ужаленный, весь покраснел и заорал, сжимая кулаки:
— Козел проклятый! Лешак недорезанный! Лезет и лезет, ко всем лезет, тарантул, морда! Да я его, только встреться он мне один на один, через коленку поломаю!
Энгелька кричал и грозил, а я и бабушка с удивлением на него смотрели. И мне было очень стыдно, будто это он меня честил-ко- стерил. А бабушка даже спросила:
— Это почто Ангелюшко-то воюет? — так бабушка выговаривала непонятное ей «бусурманское» имя Энгельки; мне ужасно нравилось, здорово она его переделала — Англей! — Уж не из-за тебя ли, Дашень- ка-дочушка?
И тут Энгельс замолчал и бросился вон из избы. Наверное, стыдно стало.
Я кинулась за ним: может, еще Лешку побежал бить? Но ведь он ни за что не справится с ним: Энгелька — длинный, да слабый, неловкий, а Лешка хоть тоже тощий, да зато быстрый, как вьюн!
Но с крыльца я увидела, что Энгелька-Англей пробежал под поветь и остатками ремня стал хлестать столб, поддерживающий кровлю. И по-моему, он матерился.
Я опрометью бросилась назад — стыд-то какой! — и с порога крикнула бабушке, тревожно вытянувшей мне навстречу свою сухонькую шейку:
— Бабушка, это он не меня, а одного мальчишку!
— А гдей-то он? Мальчишка тот? — забеспокоилась бабушка и, шире, чем всегда, раскрыв глаза, заозиралась.
— Да нигде, не здесь — дома у себя!
— Ишь какой горячий Англей-то наш! Ты погляди: супостат его дома, а он тут ярится. Ох ты, ох ты, грех-то какой!
3 Школьные годы. Выпуск 2
65
И бабушка прикрыла глаза, видно утомившись от своего волнения и столь длинного разговора. Покачивалась еле заметно ее голова, и вот зашевелились губы, дрогнули пальцы, двинулись четки — наверное, бабушка завела молитву против Энгелькиного гнева.
Я тоже не могла понять, что так взбесило Энгельса. Конечно, Лешка гад и ремень жалко... Но что-то такое было в Энгелькином гневе, что и меня делало виноватой, как-то оказывалась я заодно с Лешкой против Энгелькиного ремня и самого Энгельки. Хотя меня он ни единым словом не попрекнул и вообще так себя стал вести, лишь только услышал про Лешку, будто меня тут и не было. Вот это-то как раз его и выдавало, что он меня винит. Понимает, что я ни при чем, а все-таки сердится.
«Тут из-за этого Лешки со всеми перессоришься,— с досадой думала я.— Вот теперь Энгелька злится. Прямо хоть беги из этих Пеньков!»
Энгелькина тайна
Лена сразу увидела, что у нас что-то произошло.
— Дрались, что ли? Что щеки красные? — спросила она брата.
— Да не-е...— вяло протянул Энгелька, из которого уже вышел весь боевой дух.
— Это из-за меня,— сказала я и остановилась, растерявшись: с чего бы начать рассказывать — с решения военрука о ремнях, с самого ли ремня, с Лешки ли? Да чего там думать! — Вон,— кивнула на разорванный ремешок на лавке.— Я разорвала.
— Да не она! Не она! — опять заорал Энгелька — видно, передохнул и опять набрался боевого духа.— Это Никонов к ней лезет! Он разорвал!
— А-а-а, братишечка-а! — протянула вдруг Лена ехиднейшим голоском.— Во-он в чем дело! — И захохотала обидно для нас, как бы объединяя всех нас троих —* брата, меня и Лешку.
Я удивилась так, что не успела обидеться, а уже завопил боевой Энгелька:
— А! И ты, и ты! Замолчи лучше! Замолчи! — И он смешно замахал на сестру худыми руками, чем-то похожими на щенячьи нескладные лапы: кисти большие, разлапистые, а руки тоненькие, нежные.
Она его толкнула в грудь, он отлетел к порогу и, сев там, вдруг заплакал, уткнувшись головой в коленки.
— Только бы драться! А еще сестра...— приговаривал он, всхлипывая, как маленький.— Вот встану — как дам! Ленка-коленка!..
И на самом деле он свирепо вскочил и со свирепым лицом кинулся... к двери! Вон из избы! Лена растерялась, взглянула на меня, как может посмотреть виноватая маленькая девочка на строгую стар¬
66
шую сестру. Я и правда уже зло глядела: что за намеки, непонятные, но противные, она себе позволяет?! Что она Энгельку дразнит?!
И вдруг Лена прыснула от смеха, хотела сдержаться, но не смогла и вовсе расхохоталась, рассыпалась, залилась, упала черно-лаковой, туго стянутой косами головой на стол.
— Ой, не могу! Всех малышей распугала! Ой-е-ей! Все малыши перевлюблялись! Ты, Даша, просто ничего не понимаешь! Ну подожди, не сердись, я сейчас...— Она перевела дух, взглянула на меня и снова не могла сдержаться — прыснула, рассыпалась: — Ой! Дашка, у тебя лицо как в самоваре: то так...— Лена вытянула лицо, оттянув вниз подбородок и глупо вытаращив глаза,— то так...— И она надула щеки, глянув исподлобья.
— Ты бы, чем смеяться, объяснила...— хмуро сказала я.— А то Энгелька бесится, она хохочет, а я, как дурочка, ничего не понимаю.
— Да господи! Просто я знаю, что у нашего Энгельки Лешка Никонов какую-то девчонку отбил.
Я оторопела:
— Как отбил?
— Ну чего, не знаешь как? Она Энгельке нравится, а ей — Лешка. Вот и все.
— А ты откуда знаешь, кто Энгельке нравится?
— А я тебе не говорила — кто! — вдруг строго сказала Лена.
И я вспыхнула, поняв, что разговор наш постыдно некрасив. Так
же некрасив, как Ленины насмешки над бедным младшим братом. Я бы так никогда над Толей нашим не посмеялась. Да и спросила-то я у Лены совсем не про то, о чем она думала,— не об имени! Меня удивило, что Лена знает все. Неужели ей Энгелька говорит про такое? Вот о чем спросила я, а Лена как повернула! Будто я сплетни собираю.
— Вот как ты...— сказала я горько, и слезы невольно выжались из глаз, хотя я их изо всех сил не пускала.
— Ой, да что ты! Да я-то что наделала! — наконец опомнилась Лена.— Сама не знаю, что болтаю! Ах вы, мои малыши...— Она хотела обнять меня, но я вздернула плечо, отстраняя ее и отворачиваясь.— Даша, ну поверь! — опустила она руки, но не отходила от меня.— Не хотела я вас обижать! Просто мне смешно стало над Энгелькой. Он же такой длинный, а сам маленький и смешной, ты же сама видишь. А сердится как смешно!
И она замахала руками, как кошка лапами. Наконец-то мне стало смешно: так напомнила Лена неуклюжего Энгельку — и свирепо-обиженной гримаской, и движениями, при этом так от него отличаясь своим изяществом.
Мне еще хотелось пообижаться на Лену, и я фыркнула, как на уроке, когда смеяться нельзя, но очень хочется.
А потом Лена еще мне объяснила:
— Ты же сама хотела знать, почему Энгельс на Лешку из-за ремня озлился. Только поэтому я сказала тебе про девчонку.
67
Тогда мне стали понятны Энгелькины слова о Лешке: «Лезет и лезет! Ко всем лезет!» И от всей души я простила Лену.
Но теперь появилась загадка: кто же нравится Энгельсу? Я гнала от себя это недостойное любопытство. Но поневоле приглядывалась. Видимо, Энгельс потерял всякую надежду: время после школы он проводил с нами.
А что было у них в классе, я не знала — я в шестой не заглядывала.
...В тот злосчастный день он вернулся скоро. Проплакался на повети (тетя Еня слышала там его) и вернулся. Умываться и чай пить.
Мороженая картошка
Из-за этого ремня, из-за Энгелькиной злой вспышки всякая моя надежда на то, что и к Лешке я привыкну, как привыкла к Мелентию Фомичу и его недреманному оку,— вся моя надежда рухнула. А затеплилась было во время пилки дров. Теперь же я стала бояться не столько Лешкиных приставаний, сколько коварства. Боялась, что учинит он какой-нибудь мне подвох.
Поэтому, когда в школе стали создавать маленькие отряды для заготовки хвороста и Лешка вдруг заявил на весь класс, что в его отряде будут Карпэй и Плетнева, я аж подскочила на парте.
— А ты меня спрашивал?! — заорала я прямо неприлично, на весь класс, так что Мария Степановна мне замечание сделала:
— Плетнева, Плетнева, что с тобой? Почему так невежливо?
— Мария Степановна, мы же давно договорились с Антиповой и с Галией!
— Вообще-то лучше, если есть в отряде кто-то из мальчиков,— говорит Мария Степановна.— Никонов, если тебе перейти в отряд к Антиповой? А Г алия пойдет с Карповым, и еще к ним кого-ни- будь.
Я замерла: вот если Лешка согласится, значит, он ничего плохого не затевает.
— Ну уж не-ет, Мария Степановна! Я без Карпова ничего не могу. Друзей не разлучают!
Так я и знала! Хочет меня в лес заманить и там поколотить, поиздеваться. А я еще думала, что он похож чем-то на Сережу Тюленина. Одна только мысль, что я могу оказаться с Лешкой и Карпэем в лесу или даже просто в поле, внушала мне ужас.
— Ну, ладно,— сказала Мария Степановна,— договаривайтесь сами, а к концу уроков сдайте мне списки отрядов.
И в перемену Лешка стал меня осаждать. Подпрыгивая, приплясывая, отбегая и подбегая, все время перемещаясь перед моей партой, он канючил:
— Ну, Плетнева! Айда с нами! Коська знаешь какой сильный!
68
Хворосту на нем увезем целый воз! Больше всех! Айда! Мы тебя до лесу на санках повезем! — И Лешка хохотал, как леший, и глаза его были очень веселые.— Ну, Плетнева! Ну, айда!
— Не запряг, не понукай! — сказала я Лешке сердито.
— Да мы ж Карпэя запряжем! Скажи, Коська! — подскакивал Лешка к задней парте, где, привалясь к стенке, жмурился на редкое зимой солнышко Карпэй.
Но Коська лишь улыбался, показывая свои красные выпуклые десны над мелкими зубами, и ничего не отвечал.
— Во, видела, что он говорит! — ликовал Лешка, и все вокруг смеялись, и я смеялась, не могла удержаться, а Карпэй улыбался безмятежно.
И на следующей перемене, и после уроков, когда шли домой, Никонов все не отставал от меня со своим хворостом, хотя уже знал, что записалась я в тройку с Тоней и Душкой Домушкиной; Галия сказала, что им вдвоем с Тоней делать нечего. «Мы с тобой за мужиков сойдем, не то что за мальчиков»,— добродушно пояснила Галия.
Она, правда, была такая же высокая, как Тоня, только не полная, а очень крепкая, широкоплечая и резковатая. Она к нам пришла уже где-то после Октябрьских праздников, со второй четверти. Им бы с Нуруллой не мешало поменяться: ему стать девочкой, а Галие — парнем. Она так и говорила про него: «Моя подружка, кызым. Никому не дам в обиду!»
Мы шли домой как всегда: девчата по правой стороне дороги, а мальчишки — по левой. И Лешка время от времени выкрикивал:
— Не пойдешь с нами, да? С Тонькой пойдешь? Да что вы там нарубите, одни девчата!
— Никонов, сказано тебе, отстань. Знаешь ведь — с тобой не пойду. Никуда и никогда,— добавила я, и совсем напрасно.
— Боишься меня? — вдруг застыл Лешка в догадке. И тут же вытаращил глаза, как только мог, и зубы оскалил, и пошел на меня, растопырив пятерни возле лица и хищно скрючив пальцы.— Ар-р! Ур-р-р! — зарычал Лешка, а мы с девчатами стали кидать в него снегом, но снег был морозный, сухой, не слипался в снежки.
Небо стояло ясное, голубое, на редкость чистое. Погода не для снежков, а то бы завязалась баталия.
Никонов метался среди девчат и мальчишек и вдруг скинул валенки. Он подхватил их под мышку, прыгнул с дороги на снежную целину, и узкие хрупкие ступни замелькали передо мной, засверкали розовые с черной каемочкой грязи пятки.
Правда, что ли, сумасшедший? Было, как во сне, жутковато: в снежной морозной пыли, обнаженные, мелькают ступни, тянется по снегу цепочка узких, не человеческих и не звериных, следов. Такие не увидишь зимой.
А в ушах моих стоит высоким звоном резкий Лешкин голос:
— Плетнева-а! Смотри, как я могу-у-у!
69
Судя по длине оставленного следа, он не долго бежал. А мне казалось — целую вечность, сто километров.
Никонов впрыгнул в свои валенки на дороге, впереди нас, и понесся дальше, не оглядываясь, к своему дому в наш переулок, гогоча и выкрикивая победно.
Мы с девчатами постояли, поглядели ему вслед, и Галия покрутила пальцем у виска: мол, того парень, не в себе. И я пошла к своему дому налево, а Тоня и Галия — прямо, в свои деревни.
Если Лешка хотел, чтобы я пожалела, что не пошла с ним в лес, то он ничего не достиг. Но если хотел удивить меня, то это ему удалось. «Наверное, он бы мог быть храбрым разведчиком,— думала я.— Может притвориться кем хочет. И не боится босиком по снегу. А носков-то на нем нет,— вспомнила я,— валенки на босу ногу, вот пятки-то и с полоской. Эх, лучше б он не бегал по снегу и ко мне не приставал»,— с тоской подумала я. И здесь покривила душой: все-таки мне было приятно. Это ж он мне кричал: «Плетнева-а! Гляди...»
* * *
За хворостом нам, девчатам, так и не пришлось поехать. Учителя решили, что это дело чисто мужское. Ребята гордились и хвастались, как им было весело. Как они друг друга на санях возили по очереди, да на раскатах вываливались, в снегу валялись, топор в снегу утопили, искали его, вымокли все, потом костер запалили, сушились. Так что, выйдя в лес затемно, в семь утра, потемну и домой вернулись. Хворосту хорошего привезли — сухого и довольно-таки крупного.
Мы слушали и завидовали.
На зато нам, девчатам, достались дежурства на кухне — поварская доля.
Если б не холод... На школьном дворе стояла небольшая избушка. Как-то раньше мы ее и не замечали. И вдруг она обнаружилась! Может, поповская летняя кухня или каморка церковного сторожа. Там выложили плиту, вмазали в нее котел ведра на три. Под маленьким единственным оконцем сколотили широкую полку от стенки до стенки — разделывательный стол. Вот и кухня готова. Или, как говорил военрук, котлопункт. Но холодно здесь было как-то особенно. Даже когда плита топилась вовсю. Может, так было потому, что овощи, то есть картошка, были мороженые. Почему она была непременно мороженая? То ли хранить ее было негде, то ли по дороге с колхозного склада замораживали, но из мешка с картошкой, который стоял в холодной школьной кладовой, сыпали в ведро дежурного словно бы стальные, гремящие кругляшки, а не живые картофелины. И что было с ней делать? Она обжигала пальцы, нож с нее срывался. Придумали мы с Тоней так: дождались, пока вода в котле как следует согрелась, начерпали в ведро и обдали замороженную
70
картошку. Теперь шкурка с нее сползла, как с молодой, даже еще лучше.
Правда, руки сначала обжигало, в избушке пар ходил пластами, как в бане, картошка едко пахла, так что в носу свербило и мы чихали, но дело пошло.
Очищенную картошку мы промывали еще раз, а потом ее надо было резать, хотя бы пополам. И тут снова мученье: картофелины сверху были склизкие, как только что выуженный ерш. Сверху слизь, а под ней — ледяная твердость. Картошки выпрыгивали из-под пальцев, словно живые, нож выворачивался под рукой. Среди щепок и хвороста на грязном полу мы настигали беглянок, полоскали их опять в двух водах — жалко было терять картошку! Кончики пальцев уже онемели: хоть держи в кипятке — ничего не почувствуют, а вода в котле от мороженой картошки перестала кипеть. А время шло, уже кончался второй урок, и мы с ужасом видели, что не поспеем сварить суп к большой перемене.
Мы поглядели с Тоней друг на друга, на кучу еще не изрезанной картошки, и Тоня сказала:
— Ладно. Что ж делать. Ведь не сидели сложа руки. Пусть большую перемену перенесут за четвертый урок.
И я побежала в учительскую — сказать. Дежурил по школе в тот день военрук.
— Как так, Плетнева,— сказал он, подымаясь из-за стола и расправляя шинель под ремнем,— как так не успеваем?!
Я стояла перед ним несчастная и виноватая. В пальцах будто мелкие паучки ворошились, косточки мозжило. Глазами я упиралась прямо в знаменитую пряжку военрука, ярко блестевшую на желтом ремне, видела ворсинки его шинели — серые и белые, серебристые, ощущала крепкий запах махорочного перегара (от папы он приятный, а тут просто гадость!), и злость во мне подымалась на непонятливость этого человека.
— Как не успеваем? Вода не кипит! Не кипит, и все! Мороженая она,— сказала я, не подымая головы и не разжимая стиснутых зубов.
— Это вода-то? — усмехнулся военрук.— Ну пойдем,— сказал он и тронул меня за плечо.
Я резко повела плечом и побежала бегом к Тоне.
— Эй-э! Да тут и Антипова! — удивленно протянул Силантий Михайлович.— Что ж ты, Антипова, панику порешь? Добро бы Плетнева, она не хозяйка, а ты-то печь умеешь обряжать.
— Так у нас, Силантий Михайлович, мороженой картошки, слава богу, еще не бывало,— с достоинством ответила Тоня.— Не знаю, как она варится.
— Вот теперь знай. Мороженая, почитай, наполовину свареная. Мороз ее уже заварил. Долго не закипает, а закипит — так уже тут тебе и готова. Давайте счас побольше огня, чтоб гудело.
И военрук принялся сам ломать мелкий хворост. Да быстро, споро.
71
Большие руки его с прокуренными до темной желтизны ногтями так и мелькали.
И я тоже бросилась подбирать щепки потоньше и бросать в топку. А Тоня принялась промывать серое мелкое пшено для засыпки, чтоб сразу, как закипит вода, бросить его в котел. Силантий Михайлович так искусно заправил плиту мелким хворостом, что она и впрямь загудела, как огромная самоварная труба под хорошей тягой.
Я опустила руки, завороженно слушая это гуденье, ощущая, как все предметы вдруг стали на свое место, подчиненные человеку: картошка доспевает, огонь в плите гудит, вода в котле кипит. Кипит ли?
Я заглянула в котел, но плотный пар, словно туча, не давал увидеть, что там делается.
— А ты, Плетнева, лучше плиту подкармливай. А будешь долго на воду глядеть, она назло не закипит,— поймал меня на безделье военрук.
И я взялась за хворост. «Эх, зря мы напугались, что не успеем,— думала теперь я.— Получается, будто сами не смогли. А ведь сделали самое трудное — картошку такую начистили и нарезали, воду нагрели. А получилось, что нас военрук выручил».
Вода скоро закипела. И глядеть на нее не надо было, чтоб это понять: сквозь натужное сипенье пара все услышали ровное,. низкое бормотанье самой воды. Закипела, матушка! Заклокотала!
— Ну вот,— удовлетворенно сказал военрук.— Порядок. Я пошел.
И он ушел. А я запрыгала вокруг Тони и заорала:
— Котлы кипят кипучие! Пары парят паручие! Супы сипят си- пучие! Урра!
Тоня засмеялась, не растягивая губ. Потом она, отворачиваясь, уберегая лицо от пара, засыпала в котел пшено, бросила пригоршню соли. Вот и заправили суп. Теперь пятнадцать минут—и готово.
Когда зазвонили на большую перемену, мы начерпывали в два ведра суп большим черпаком на длинной палке. И вот уже, блестя глазами от любопытства и нетерпения, в дверь кухни заглядывают дежурные по классам. Наши — Нурулла и Галия.
— Давай обед! Нам сверху давай, пожирнее, раз свои повара!
— Ишь какие хитрые! — обижается девчонка из шестого, сразу попадая в Галиин капкан.
— Ой, а ты жирное любишь? — подняв высоко свои тонкие брови, искусно разыгрывая удивление, смотрит на нее Галия.— Ну тогда, конечно, первое ведро — тебе! Тебе, тебе, и не спорь теперь!
И, взяв девчонку за руку, подтаскивает ее к наполненному синеватой жидкостью ведру. А та застыдилась, не ожидая, что ей так сразу уступят, упирается:
— Да ладно уж! Я так!
72
Нет, нет, бери это, кызым, бери, дочка!
Но гут вмешивается пара из седьмого класса. На правах старших и главных в школе мальчишка, не разобравшись, в чем дело, грубо бросил:
— Что за шум, а драки нет?
И тут же схватился за дужку ведра, приказав девчонке:
— Давай, Лариска, взялись, а то остынет.
И они утаскивают первое ведро, не обращая внимания на нас. А мы с Тоней и Галией корчимся от смеха, и Галия говорит что-то складное по-татарски, а нам переводит:
— На дворе у соседа и курица кажется гусем, а гусь — индейкой. Это у нас поговорка есть такая. Ты что, не знаешь, что жир от картошки и сверху и снизу одинаковый? — подталкивает она локтем шестиклассницу, и они уносят ведра с нашим супом.
Мы спешим за ними следом, чтоб увидеть, как наши едят, что говорят. Да и нам есть уже хочется.
Как смешно в классе! На учительском столе дымится ведро с супом. Перед каждым на парте миска. Накануне всем велели приносить с собой миску и ложку. Все по очереди, начиная с последних парт, подходят к столу, и Галия, каждый раз аккуратно взболтнув черпаком со дна, чтоб гуща шла равномерно, наливает в подставленную миску. А суп — горячий! Уж чего-чего, а этого у нашего обеда не отнять.
Конечно, ни миски, ни ложки не принес один Никонов. Теперь он ждал, когда поест Карпэй, и издевался над ним:
— Ты, Кось, смотри ложку не проглоти — мне нечем будет хлебать! — И заглядывал ему в плошку.
— Эй, поварихи! А чегой-то там такое синенькое-голубенькое? Это, поди, Плетнева цветочков-василечков наготовила?
— Поглядим, что ты наготовишь,— мрачно пообещала я ему.
— Уж я вам наготовлю! Я вам курицу разварю, вот только бы ворону поймать!
Мы с Тоней тоже получили по порции, и я поняла, отчего Лешка Никонов плел про цветочки-василечки. Мороженая картошка выглядела грязно-голубоватой, стеклянистой, полупрозрачной. А уж вкус... Суп был сладковатый. Скрашивало дело пшено. Оно делало похлебку мучнистой, а потому вроде бы сытной.
— Ребята, а у меня молоко есть. Кому забелить? — сказал кто-то из Домоседовых.
И пошло!.. Ребята и раньше приносили с собой чего-нибудь по- есть-перекусить, особенно те, кто из других деревень приходил. Кто пару картофелин, кто лепешек из лебеды — черных, как вар. Молоко же многие прихватывали в небольших аптечных пузырьках или четвертинках.
С молоком и вовсе похлебка наладилась. Тут уж и лакомства пошли на всех: кто-то жареным горохом наделял, кто-то конопляное семя сыпал в подставленные горсти. Помаленьку, а все равно здорово.
73
Конопля жареная — это же прелесть: аромат густой, вкус сдобный, маслянистый, так и похрустывают на зубах прожаренные тонкие оболочки круглых коноплюшек.
Одним словом, такой пошел пир — на весь мир. Еле-еле в большую перемену уложились. Дружно стало в классе, хорошо, тепло. Все разрумянились, глаза блестят. То-то я радовалась, что мы с Тоней были первыми поварихами. А все тягости с коченеющими руками, скользкой, мокро-ледяной картошкой забылись, будто этого ничего и не было.
Гранаты
Да, в большую перемену мы походили на дружную семью, собравшуюся на обед, где все общее: каждая корочка хлеба, пузырек молока, горсть конопли. И много их минуло — больших перемен. Уже и весь наш класс отдежурил. Некоторые девчонки вместе с мальчишками работали на кухне, и никто никого не обижал. Но это только за работой да во время обеда. А так все равно незримая граница делила класс на девчат и мальчишек, и переменами (кроме большой) владели мальчишки. Мы были как два разных народа, говорящие на разных языках и не понимающие друг друга. Я иногда думала, что это только мне мешает, что только мне хочется, чтобы все играли вместе, без дерганья за косы, без озорства и насмешек. Думала так потому, что наши девчонки, казалось, презирали ребят глубоко и искренне.
«Ты что как мальчишка?» — это было самое оскорбительное, что могла одна девчонка сказать другой.
Так говорили, когда хотели упрекнуть друг друга в каком-либо неумении, неловкости, несообразительности. При этом девчонки нимало не горевали, если не умели что-то такое, что хорошо делали мальчишки. Например, ^идать гранату на военном деле. Правда, многие умели. Особенно здорово получалось у Галии. А вот у Тони — у Тони, которая все могла и умела,— не получалось! Замах у нее был такой неловкий, прямо-таки совсем уж девчачий. Как-то из-за спины, нелепо выворачивая локоть. И ее граната летела больше вверх, чем вперед, и падала чуть не перед носом у нее.
Военрук сердился, говорил, что, будь у Тони боевая граната, она, Тоня, давно была бы на том свете. Силантий Михайлович аж кричал, краснея лицом и шеей, показывая, как надо ставить ноги, как отводить плечо вместе с откинутой рукой, вместе со всей рукой, а не от локтя.
Но у Тони не получалось. Так же, как и у меня. Но я стыдилась и мучилась, что не могу, как надо. А Тоня с достоинством говорила:
— Не мальчишка же я, Силантий Михайлович!
— А Галия! — кричал военрук.— Она девушка тоже, не хуже тебя! А бросает как! Снайпер!
74
— Ну так что ж, что Галия. У нее, значит, такая способность,— отвечала Тоня. И по всему было видно, что мальчишеские ухватки Галии ей и даром не нужны.
А я мечтала о таких способностях страстно! Моя правая рука болела и в плече, и в локте, и в кисти. Больно было писать, а я все бросала разные предметы — училась. Бросала снежки, палки, осколки кирпича. Вроде уже и замах был у меня как надо, а граната все летела недалеко, не сильно.
Другие наши девочки — Душка, Вера, Нина Иванова,— как и Тоня, не переживали свое неумение. Правда, Верочка как-то вдруг обучилась. И сама над собой посмеивалась:
— А Матвеева-то — как мальчишка!
Силантий Михайлович ставил нам тройки за метание гранаты. При этом пояснял:
— Только за старание, а так вы и двойки не стоите.
И мы уж и не чаяли, когда минуем этот раздел нашего военного обучения. Тем более все говорило о том, что, может, идет последняя военная зима. Летом наши так наступали — что ни день, то город! Прямо привыкли к этому. Невидимая рука, которая сжимала тебе горло постоянно с тех пор, как началась война,— ослабила хватку. Как раз то обстоятельство, что дышать стало легче, вольнее, просторнее, и давало понять, как душила нас всех та невидимая, страшная рука. Но хоть война явно повернула к победе, кто ж его знает, вдруг да понадобится нам всем завтра идти на фронт! И вот где пригодится девчонкам умение метать гранаты. Вина моя — мое неумение мучило меня и во сне.
Однажды мне приснилось, будто я сижу одна в маленьком окопчике. А на мой окопчик идут шеренгой немцы. Все в сверкающих новых сапогах. Я именно это хорошо запомнила: при каждом дружном взмахе их ног на голенищах так же дружно, разом, вспыхивали ослепительные зайчики. Немцы не стреляли, шли прямо, во весь рост. Похоже, что я видела во сне психическую атаку из кинокартины «Чапаев». А на бруствере окопчика передо мной аккуратно, как банки на полке в магазине, стояли гранаты рукоятками вверх. Точно такие, как на наших военных уроках: гладко выточенные из сливочно-кремового липового дерева. Но во сне я знала, что это боевые гранаты. И я хватала их одну за другой и швыряла в немцев. С ужасом чувствовала при этом, какая вялая, бессильная моя рука: граната не летела во врагов, а просто падала сразу за окопчиком. И не рвалась! Ни одна! А немцы все ближе...
Ах, какое это было счастье — проснуться! Я поняла, что нет немцев, нет гранат, что все это — сон. А я лежу на своем соломенном матрасе под фикусом, лапчатым фикусом тети Ени. Вокруг тишина и мирная темнота, а за окном зима, снег чуть не до крыши. И даже близко нет никаких фашистов. И мало того, что близко нет,— гонят наши их там, на фронте. И гранаты не вырываются из крепких
75
рук бойцов, а все летят во врагов, и враги не шагают, нагло сверкая сапогами, а бегут, закутавшись кто во что, а на ногах у них не сапоги, а соломенные эрзац-боты, как рисуют на карикатурах в газете «Правда».
«А вот если б я,— думала я, пережив счастье пробуждения,— была там, на фронте, и если б все наши девчонки-неумехи были со мной в одном отряде, тогда бы что? Не удержали б мы свою позицию, перебили бы нас фрицы как хотели! И сами пошли бы вперед...»
Кое-как я заснула. Но прежний сон вернулся. Только теперь немцев не было видно. Однако я знала: они где-то здесь. Притаились. И надо их забросать гранатами. Я беру гранату, и снова рука моя бессильна. Но все равно летят какие-то гранаты далеко вперед, свистит воздух надо мной... Значит, кто-то кидает их из-за моей спины?! Я оглядываюсь и вижу, что сзади — то один, то другой —
подымаются наши мальчишки: и Костька, и оба Домоседовых, и Нурулла, и все-все! И они здорово — резко и сильно, с плеча — размахиваются, и, со свистом всверливаясь в воздух, граната несется! Летит низко, по-над землей, как учит Силантий Михайлович, вперед, во врага! Жалко только, что я не слышу и не вижу, рвутся ли они там среди ненавистных фрицев...
Потом утром, в подробностях вспоминая сон, никак не могла вспомнить, был ли среди ребят Лешка Никонов. Нет, не видела я его. А ведь он, пожалуй, лучше всех бросал гранату в цель. Наверное, решила я, оттого не увидела его, что он мне и так, в жизни, надоел хуже горькой редьки. Так сказала я себе, хоть стало мне жалко, что не видела я Лешки в таком хорошем сне. Вот какая я мстительная! А он еще босиком по снегу бегал, кричал мне: «Плетнева-а! Гляди, как я могу-у!»
И тут пришло мне в голову соображение: пожалуй, когда я жалею, что мы в классе не дружим с мальчишками, больше, чем о других, думаю я о Никонове. Так я себя подловила. Но в то же время это и понятно. Оц больше всех мне и досаждает. И не поймешь его: то, Плетнева, гляди> он подвиг совершает. То, Плетнева, берегись: он все мои учебники исцисал своими инициалами «АИН», что значило: Алексей Иванович Никонов. И не углядишь за ним: уж и звонок
76
прозвенит, все за парты сели, и Лешка тоже, но только вытащу я учебник, как — ф-р-р! — ястребом налетает Лешка откуда-то сзади и — р-раз! — его кривляющийся «АНН» красуется на моем учебнике.
Кривые, острые буквы, рвущие бумагу. Рвет бумагу, конечно, перо, которым Лешка ставит свое клеймо, но мне кажется, что это они сами — ехидные, остроугольные буквы. Ну вот как можно дружить с такими иродами?
— Каин ты! — кричу я Лешке после очередного его набега.— Каин, а не АИН, вражина!
А он доволен и хохочет.
— Я тебе все странички изрисую, Плетниха! — глумится он.
Хорошо еще, не липнут ко мне его словечки — «Плетниха»,
например.
Но вот большая перемена. Дежурные вносят ведро с дымящимся
синеватым супом. Звенят миски, глухо постукивают деревянные ложки. Идет по кругу чья-то бутылочка с молоком. Мир на военной тропе индейцев!
Больше всех радуют наши обеды, конечно, директора. Если его урок после большой перемены, он настроен особенно благодушно. Сразу начинает шутить, по своему обыкновению, что-нибудь насчет еды или нашего сытого, довольного вида.
— Да-а,— ехидничает он,— теперь вам разве до русского языка! Подремать бы теперь с часок, а?
И мы охотно его поддерживаем:
— Ой, Мелентий Фомич! Вот бы! — Это Нина Иванова.
— Да на печку б, а, Мелентий Фомич? — ввертывается резкий Лешкин голос.
— Это да-а! Поспать — оно хорошо! А ежели не спится — это не годится,— солидно басит Домоседов, Константинович.
Мелентий Фомич косится на него, морща губы, с таким насмешливым видом, что мы все заерзали, предвкушая очередной «диспут». И Мелентий Фомич начинает:
— Уж ты, Константинович, скажешь, как припечатаешь. И никуда тут не деться. Поди-ка к доске, парень, да напиши, что сказал: «Ежели не спится — это не годится».
77
— Всегда вы так: как Константиныч, так сразу и к доске,— ворчал Шурка, неспешно выгребаясь из тесной для его солидного полушубка парты; он выкидывал в проход сначала ноги в толстых и высоких, за колено, добротных валенках, а потом в несколько приемов дернувшись сначала одним, потом другим плечом, помогая себе руками, подтягиваясь и натужно отталкиваясь от парты, будто он был там приклеен, оказывался наконец на ногах.
— Полушубок-то надо потолще надеть на себя,— с интересом наблюдая за действиями Константиновича, говорил учитель.— Тогда и вовсе будем тебя домкратом из парты вызволять.
И опять все рады похохотать.
Наконец Александр у доски и, царапая ее мутную поверхность тощим, похожим скорее на камень-известняк мелом, выводит: «Ежели не спиться — это не годиться». И пишет оба глагола с мягким знаком.
— Ну-ну,— говорит одобрительно коварный Мелентий Фомич, и кое-кто из сообразительных учеников уже пофыркивает, догадываясь, как попался Шурка, как подорвется он сейчас на мягких знаках в глаголах.
— А что, Домоседов,— спрашивает Мелентий Фомич,— ты это определенно так думаешь или того... не очень?
— Ну! — четко отвечает Домоседов.
— Что «ну»? «Ну» — определенно или «ну» — неопределенно?
— Определенно!
— Так, так... Плохи твои дела: значит, определенно — сопьешься.
Домоседов таращит глаза, ничего не понимая. И за спиной Ме- лентия крутит пальцем у виска: дескать, того... А класс уже шумит, как кусты под набегающим вкрадчиво ветром. Но еще не все догадались, и нужен какой-то сигнал, подсказка, тогда догадка станет общей и смеху не миновать.
Сигнал дает Лешка. Ведь ничего не учит, а приметливый!
— Вона-а! — протянул Лешка во весь голос.— И правда фокус! Домоседушко, ты спиться наладился? Смотряй, по миру пойдешь!
Когда мы отсмеялись, Мелентий Фомич, очень довольный, пояснил:
— Вишь, что значит... Мягкий знак, всего знак один, а слово-то вышло совсем другое. И наклепал ученик на себя, чего и в уме-то не держал. Эхма! Думал про «спать», ан вышло про «пить». Вот оно что такое малограмотность... Что это у нас за форма глагола получилась на доске? — обратился он к Шурке.
Тот что-то промычал себе под нос и стал стирать мягкий знак.
— Да ты не стирай! С мягким знаком какая у нас форма? «Пить», «спать», «ехать», «умываться»... Ну?
Класс тянул руки. Шурка молчал.
— Иванова!
— Ставим вопрос к глаголу: «пить» — что делать? Раз можно
78
поставить такой вопрос, значит, это неопределенная форма глагола,— очень счастливая, что знает, ответила Нина.
— Видишь, что! — с укоризной сказал учитель Шурке.— Ты поставил мягкий знак и получил неопределенную форму: что сделать? «Спиться». Пить, пить — и спиться. А должен был написать: «спится», то есть от глагола «спать» — в безличной форме. «Ему спится». Им спится». Запомните: в глаголах безличной формы, когда обозначено одно действие и нет никакого действующего лица, мягкий знак не пишем! Поэтому в слове «хочется» этот знак не бывает никогда! «Мне хочется», «Ему хочется». Вот так. Или «смеркается». Видите, эта форма совпадает с формой третьего лица единственного числа в настоящем времени: «Он умывается», «На улице смеркается».
И Мелентий Фомич, ничего не поставив в журнал Домоседову, вызвал к доске Карпэя писать очень длинную фразу:
— «Спится мне, младешеньке, дремлется, клонит мою голову на подушечку».
Никонов, конечно же, зафыркал:
— Карпэй-то наш! Младешенька!
Ясное дело, что за Карпэем к доске вызвали Никонова.
— Пиши: «Не смеяться бы вам, сударь, а плакать горькими слезами». «Сударь» возьми запятыми. Это обращение, мы еще не проходили.
Лешка все это выслушал и стоял, не начиная писать. Стоял, по своему обычаю, слегка закинув голову, отчего вид у него был отважный и даже немного надменный.
Я подумала: если б надеть на него латы и шлем, получился бы стройный рыцарь. А если б гимнастерку и пилотку со звездой — тоже было б хорошо. Когда он не кривлялся, лицо у него было ничего себе, не противное.
Мелентий, не слыша стука мела за спиной, обернулся к доске:
— Чего не пишешь?
— А чё писать? Я и так знаю: «смеяться» — что делать? — с мягким знаком.
— Правильно. Вот и пиши.
— Не успею.
— Что не успеешь? — очень удивился директор.
— Сейчас звонок,— нагло ответил Лешка.
— А ну давай пиши! — вдруг рассердился Мелентий Фомич.— Ишь обнаглел ты как, Никонов! Пререкаешься!
— Мне-то что! — пожал узкими плечами Лешка и еще выше вздернул подбородок.— Все равно счас звонок. Ну да ладно...—- И, привстав на цыпочки в своих широких валенках (валенки при этом стоят, как стояли), вытянувшись как можно выше, Лешка принялся выводить от самого верхнего угла доски свои острые, злые буквы.
Он успел написать лишь «Не смеяться», как за дверью захохотал, залился поповский колокольчик. Не знаю уж, правду ли, но говорили,
79
что наш медный колокольчик остался еще от церковно-приходской школы.
Лешка все-таки до чего же вредный! Наверное, учителю все настроение испортил: поспорил и оказался прав. А Мелентий Фомич так увлекся уроком, не заметил, как время прошло. Просто замечательный человек Мелентий Фомич!
Сумерки
В зимний день сумерки скорые. Только из школы придешь, поешь, только сядешь за уроки — глядь, уж и плохо видно. Тем более, тетрадей настоящих, белых, у нас не было. Такие держали только для контрольных. А для домашних и классных работ шло что только ни попало, лишь бы можно было писать да потом буквы-цифры различать. У меня, например, старые мамины книги, разграфленные на клетки и линейки для учета племенных свиней (мама у меня зоотехник-животновод). В этих книгах листы заполнялись лишь с правой стороны, а на левой вполне можно писать. Только бумага была синеватая или сероватая, поэтому, чуть потемнее за окном — и писать становится трудно. Но я успевала почти все засветло. Иногда выходила на улицу, но что одной делать? У Лены в седьмом классе уроков было больше, идти к Шуре Омелиной не хотелось — что-то нам с ней становилось теперь скучно. Она больше с Верой Зозулей шепталась и хихикала. Я выходила за ворота. Сумерки...
Нет ничего печальнее, чем деревенская улица в зимние сумерки, когда еще не совсем темно — и потому огня не зажигают, экономя керосин. Темные избы нахохлились под снежными козырьками-нахлобучками, уткнулись в сугробные палисадники. Все неподвижно, застыло. И трубы не курятся — с утра протоплены все печи, разве кто разожжет печку-подтопку для тепла. И один или два сиротливых, слабеньких дымка, еле различимых на сизоватом угрюмом небе, только усугубляют мертвенную неподвижность села. Кажется, что в избах никто не живет, что там все выстыло и мороз такой же, как на улице. А еще хуже, если покажется, что под каждой крышей в угрюмом молчании сидят кругом стола люди, сцепив замком руки под подбородком, склонив головы и не глядя друг на друга. О чем они молчат? О ком? О своих убитых? О своих погибших?
Лиловые тени густели, хотя, собственно, теней не было: в эти часы не могло быть теней без луны и без солнца, без источника света. Но лиловым угрюмым цветом наливался снег, только чернели глазницы окон, пятна ворот, полосы заборов. И не было сил шевельнуться, шагнуть, пойти. Коченела возле ворот, заколдованная сумерками. Представляла себе, сколько снежного холодного пространства между мной и домом в совхозе.
Набегал ветер, лубенели под его дыханием щеки, губы. Березы, хрупкие от мороза, поднимали жалобный зябкий шумок, снег,
80
срываясь с верхушек сугробов, издавал слабый посвист, морозный шорох. Ветер — это все-таки движение, жизнь.
Я возвращалась в избу. Там Лена из последних сил вглядывается в учебник, держа его наклонно к окну, чтоб улавливать бледный отблеск, идущий то ли от снега, то ли от неба.
— Лена, ты что, даже смотреть на тебя страшно, еще ослепнешь,— говорю я ей.
— Да, ничего,— отзывается она безжизненно, равнодушно.
Я сажусь против нее, мы молчим, слушаем, как на дворе усиливается ветер. Мы смотрим в окно. Это самое светлое пятно в доме. Углы комнаты заполнила тьма.
Из тоски и молчания в голове моей складываются строчки. Они родятся сами собой, без моих усилий:
В комнате копятся сумерки,
Сверчок за печкой трещит.
Ветер злится на улице,
В трубе завывает, гудит.
Роем снежинки кружатся За темным нашим окном,
Жалуются березы Ветру все об одном.
Я совсем замерла у окна, боясь спугнуть слова, которые сами пришли ко мне. Мне хотелось, чтобы они не кончались,— так хоть что-то происходило, хоть что-то шло... Но больше слова сами не приходили. Пришлось мне придумывать. О чем жалуются ветру березы? Что им холодно, что им хочется тепла и весны? Что им надоела зима? Конечно, об этом. О чем же еще? Но стихи не складывались. Я твердила про себя: «Ветер. Ветер...» В конце концов вышло вот что:
Ветер! Когда перестанешь Нас до земли сгибать?
Скоро ли ты устанешь Веточки с нас ломать?
Ужасно жалкие, беспомощные слова! Глупость одна. Но надо же было чем-то кончать! И я сложила про себя все, что на самом деле произошло дальше:
Пришла со двора тетя Еня,
В лампе огонь зажгла.
На табуретку села,
Веретено взяла.
Тут я сама себя развеселила, подумав: «Знал бы папа об этих моих упражнениях, он бы сказал: «Ну, недаром же ты чуть-чуть не ро¬
82
дилась в Киргизии: ведь настоящий киргиз поет обо всем, что видит
вокруг!»
А дальше я сочинила тоже почти что правдиво:
«Что приуныли, девоньки? —
Тихо спросила нас,—
Или плохие вести Из дому пришли вчерась?»
«Почти что»,— говорю я, потому что тетя Еня никогда не сказала бы «вчерась». А потом, никаких вестей мы вообще из дому не получали. Сами же мы туда ездили и ходили каждую субботу. Но никому, кроме меня самой, не суждено было услышать эти сумеречные стихи, а тем более прочесть. Я не собиралась их записывать. Понимала, что стыдно рифмовать «сумерки» и «улице», хоть и получилось это помимо моей воли.
Но вот приходится о них говорить, потому что они оказались пророческими. Та самая неправда о плохих вестях сбылась на следующий же день.
Книга
Это случилось назавтра. А сейчас продолжался скучный вечер. Дальше ничего не сочинялось. Да и лампу зажгли.
Я, отвернувшись от света к темному холодному окну и чуть приоткрыв занавеску, смотрела, как отражается в черной полоске стекла красно-золотой зрачок лампы, и про себя повторяла стих, чтоб не забылся.
И вдруг каким-то странным голосом, будто сдавленным, глухим, заговорила тетя Еня, медленно, словно через силу произнося слова:
Воет ветер,
Светит месяц:
Девушка плачет —
Милый в чужбину скачет...
У меня мурашки побежали вдоль спины; думаю, если б на мне была шерсть, как на звере, то, наверное, сейчас она стала бы дыбом от ужаса: тетя Еня читает мои мысли! Вдруг заговорила про ветер! Я уставилась на тетю Еню, и Лена оторвалась от своей истории и тоже глядит на нее. И молчание нависло над нами. Я с ужасом, Лена с любопытством ждали: что это? Что дальше будет? А хозяйка, взглянув на нас, усмехнулась, довольная нашим вниманием, и наконец пояснила:
— На Дашу глянула, как она у окна тоскует да ветер слушает, и вспомнилось...
83
Значит, правда читает мои мысли! Оказывается, это может быть! Оказывается, это страшно...
— А что это? Песня? — Лена спрашивает, у меня же язык онемел.
— Песня...— многозначительно, важно кивнула тетя Еня.— Только ни разу не пришлось мне слышать, как ее поют...— Опять помолчала. И, понизив голос, поведала, как тайну: — Из книжки песня... Али не знаете? Да где ж... Книга редкая...
— А что за книга? — Это опять Лена.
А я чувствую себя, как во сне наяву. Будто они — Лена и тетя Еня — специально для меня завели разговор, чтобы дать мне знать о чем-то страшном, тайном и таком важном, что, узнав, я вдруг пойму неведомое, жуткое. (То-то Лена сразу встрепенулась, как тетя Еня заговорила, а то молчала.)
— Там и дальше есть слова,— не отвечая Лене, молвила тетя Еня и тем снова подтвердила мою догадку, что они сговорились и нарочно затеяли для меня этот разговор. Будто хозяйка подсказывает Лене, что не тот она вопрос задала. И намекает, про что теперь надо спрашивать. И Лена слушается.
— Какие еще?
— А вот какие,— опять понизив голос, говорит хозяйка и, помолчав, сказывает:
Ни дева, ни ветер Не замолкнут:
Месяц погаснет,
Милый изменит!
— Как наговор! — восклицает Лена звонко, ничуть не страшась страшного.
— Сказывают вам — песня! Никакой не наговор. В книге той так и написано: «Песня».
Опять подсказывает Лене: мол, вот теперь спрашивай про книгу! Мне так и кажется, что слово «Книга» у тети Ени прямо с большой буквы идет... Что для нее — это книга всем книгам... Но Лена уже задает нужный теперь хозяйке вопрос:
— Книга-то какая?
— Книга-то такая, каких больше нет. Не пишут таких-то больше...— И молчит.
Но, стиснув зубы, я терплю все, жду, хотя уже дрожь пронизывает меня, пробирается, кажется, в самые кости.
— Мне эту книгу-то вроде судьба послала. Ночевал как-то у меня проезжий человек. Стал расплачиваться — ан денег у него и нет! То ли, говорит, на прежней квартире где обронил, то ли что. Винится передо мной и говорит: «Оставлю я тебе книгу свою любимую. Не пожалеешь. Не заместо денег — из благодарности». Такой-то веж¬
84
ливый человек. Что ж с ним поделать! Проводила его с богом. Лежит его книжка, на вид немудрящая, месяц, второй. Читать-то больно некогда. Но как-то взялась. Да и поняла: не зря говорил тот человек. Не зря и ко мне без денег завернул. Чтобы, значит, книгу ко мне занесть.
Так говорила хозяйка, никогда при нас ни разу не перекрестившаяся, будто в вере своей признавалась, будто в этой книге для нее все и открылось...
Что же? Что, наконец?!
— Да-а-а... Читаю я, не вам чета, не шибко. Зато каждое слово так на душу и пало.
(Так все и не говорит, что же за книга.)
— Да вы, может, больше-то и не читали, других-то? — засомневалась Лена.
— Как же! Я и в ваши заглядываю книжки. Вот вы тут из рук друг у дружки тягали... эти мушки-терки! — засмеялась вдруг она легонько своей шутке.
— «Три мушкетера», что ли? Надо же — мушки-терки! — расхохоталась Лена.
— Она самая! Так и что? Сказки, придумки. Легкая книжка, хоть и толстая. И правду сказать, занятная.
— Тетя Ень! Да ваша-то что за книжка? — взмолилась уже замученная Лена. (А я-то, мне-то каково!) — Как называется?
— А нету ей названия. Только обозначено, про кого. И то в скобочках. Про Вадима,— произнесла наконец хозяйка, выговорив простое это имя с великой бережностью.— А написал Лер-мон- тов.— Как странно было слышать фамилию поэта, привычно обыкновенную, по-свойски школьную, от этой женщины за прялкой, произнесшей каждый ее слог с ударением, раздельно, будто неловка, невыговорима для ее губ и языка известная фамилия, как для иностранки.
Меня отпустил тайный ужас. Вставшая дыбом шерсть на загривке опустилась, улеглась. Лермонтов! Не какая-нибудь страшная, древняя книга. Правда, про Вадима я не читала. И не слышала, и даже сомневалась теперь — может, тетя Еня чего-то путает?
— А нам можно почитать? — разлепила я наконец губы, а голос получился хриплый. Оттого, что молчала долго.
— Даже интересно мне — дать вам почитать.
И опять сидит — ни с места! Прядет!
Я вскочила:
— Ну, тетя Еня! Скажите где, я сама возьму! Вы сидите, не вставайте.
— Что, не терпится? То-то же! — с какой-то даже угрозой сказала хозяйка, и глаза ее блеснули гордо.
Она встала, на верхней полке своего резного буфетика, где стояли разноцветные толстенькие рюмки, нашарила ключ и неторопливо прошла к сундуку. Двумя оборотами, медленно отомкнула и, при¬
85
подняв крышку, сунула руку внутрь. Постояла, согнувшись. Видно, искала, перебирала рукой. И — наконец-то! — извлекла завернутый в белый головной платок сверток — книжку. Я боялась, что сначала она даст ее Лене, как старшей. Но, видно, она все же читала мои мысли и положила небольшую темно-зеленую и будто выгоревшую, слегка порыжевшую книжку передо мной:
— Читай, Даша.
Правду сказала тетя Еня: на корочке были оттиснуты темные буквы: «М. Лермонтов». А на первом листе прямо над текстом стояло: «Вадим».
Я тут же принялась читать. Понятно, что начала как бы сразу за двоих — за себя и за тетю Еню. Потому что хотелось мне проникнуть в ее мысли и понятия. Но скоро увлеклась. И забыла про все. Это была книжка для меня. Потому что она рассказывала про красоту и любовь. Про волю. Про ненависть к угнетателям. Про страшную месть врагам. Про верность, которой не страшны ни муки, ни пытки.
Я читала в этой книге слова, будто сказанные сегодня, сказанные с мыслью о войне, которая идет, и обращенные ко мне, чтобы поддержать мою веру в себя:
«В важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства, неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он совершает дела, о которых до сего ему не случалось и грезить...»
Я не могла оторваться от книги, пока не прочла ее всю. И была потрясена ее концом; даже не страшной сценой пытки крестьянки-матери, а тем, что у книги не было конца! Обрывалась на полуслове, как раз когда все герои находились в самом неопределенном положении: что будет с красавицей Ольгой и с Вадимом? И казнят ли мерзкого помещика Палицына... Словно подвешено все на тонком волоске над пропастью — и что будет теперь?! Я сидела, бессмысленно глядя на белую, не занятую шрифтом половину страницы... На этот внезапный обрыв, за которым ничего нет и уже никогда не будет. «Но почему?! Почему?!» — кричала я безмолвно, глядя в белую пустоту и чувствуя себя страшно и несправедливо обманутой...
Подняв наконец голову, увидела, что, прислоненная к печи, стоит пустая прялка. И Лена уже в постели. И мой матрац приготовлен для меня под фикусом. Как побитая, измученная и без силы приплелась я к фикусу, не раздеваясь, бросилась на матрац. Хорошо, что хоть ничего не надо говорить про книжку, что все уже спят. Но пришлось еще встать, задуть лампу. И только тогда, в кромешной тьме и тишине, стала я думать, что значит эта книжка для тети Ени. Как она сказала про судьбу — вроде судьба послала ей эту книгу... Почему ей так нравится «Вадим»? Ведь все, про что там написано, совсем не похоже на здешнюю тихую жизнь... Там — борьба, страсти, страшные клятвы и месть... И измена... Ненависть Вадима... Любовь Ольги... Все
86
забыла Ольга: свое унижение у Палицыных, свою клятву мстить и ненавидеть, судьбу отца, горе брата... У меня сердце замирало, когда я пыталась хоть вообразить: какой же должна быть любовь, чтобы пересилить все это... Непонятно. И страшно, если это в самом деле так. Сердце замирало перед неизведанным. Но может, и для тети Ени так?! И она примеривалась к этой книге: ведь в ней все, чего не было в жизни тети Ени, но могло быть! Могло! Потому и пришелся ей по душе Вадим, как свой.
Вот даже песню наизусть выучила, вспомнила я. И будто увидела, лежа с закрытыми глазами, как ходит по избе и по двору тетя Еня, спокойная, чуть медлительная, горделивая. Никогда не засуетится, не уронит достоинства, что бы ни делала.
А что за дела ее? Кормит свою небольшую скотину — кур да овечек, ухаживает за бабушкой, топит печь. Прядет да вяжет. Дела простые. Но что-то знает она про себя... Что-то знает... Потому и носит так гордо свою голову. И смотрит так...
Подумала, что тетя Еня могла бы быть и Ольгой, и той крестьянкой, не изменившей своему слову. Только этого с ней не случилось.
Когда утром я сказала ей, что про нее подумала, шепотом, в чулане, у печи, чтоб никто больше не слышал, она, переставляя ухватом кипящий ключом чугун с картошкой подальше от жару, озаренная розовыми бликами огня из печи, сказала сердито, не отвечая прямо на мои слова:
— Эта-то! С сыном! У нас ить на Руси дураков не сеют, не жнут. Они сами растут. Экую муку принять за ирода-помещика! — И, опершись на ухват, как на копье, добавила, весело глядя на меня сверху вниз: — Нет, Даша, я за Вадима!
Я засмеялась: вышло у нее как в споре у ребят — я за того! А я за этого!
Но тетя Еня и еще сказала:
— Конечно, то была ее вера и ее слово, это ты правильно оценила. Это по-человечески она, по-крестьянски. Не ветродуем-пустословом. Другое дело, что вера ее глупая...
Я потом эту книгу сколько раз читала. В сундук ее больше не закладывали. А слова про волю выписала к себе в тетрадку:
«Что может противостоять твердой воле человека? Воля заключает в себе всю душу; хотеть — значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться,— жить, одним словом...»
Плохие вести
В школе обрушились на нас те самые плохие вести, которые я своими вчерашними стихами накликала.
Прямо в школу на уроки нам доставили из сельсовета телефонограмму о том, чтобы мы в эту субботу оставались на месте. Не
87
ждали бы лошадь. Не будет лошади. А продукты нам подкинут на неделе.
Само собой разумелось, что идти пешком после уроков нельзя. Строго воспрещается. В конце января, так же как и в декабре, день смеркается рано. В пять часов уже как ночью. А за время войны развелось много волков. Ружья-то у охотников отобрали. А кроме того, что своих прибавилось, появились волки пришлые. Звери ведь тоже спасались от войны. В нашей местности никогда не водились лоси. Никто их не видел, не слышал. А тут они даже в маленькие деревни стали заходить, к стожкам — покормиться сеном. Наверное, и другого зверья прибавилось. Лис, так это точно. Всякий раз в дороге мы видели на снежной целине играющую огненную лиску. «Лиса мышкует»,— говорил Степка Садов: играет над мышиной норкой, а то уже поймала и играет, как кошка.
Зайцев было много. Опушка леса просто истоптана зайцами. Ну, это все хорошо. А вот волки... Они наводили ужас на пастухов. Нападали на одиноких путников и даже на подводы. Заходили и в села.
Моя мама, возвращаясь как-то из конторы поздно ночью, пошла проведать корову. И, подходя к хлевушку, увидела, что на крыше его сидит на корточках человек. Мама окликнула: «Эй, кто это там? Что вы делаете?» Тогда человек поднял опущенную низко голову, и мама увидела, что это волк. Наверное, он хотел разгрести кровлю хлева, как это делал уже, по-видимому, и раньше. Но у нас крыша была не соломенная — дощатая. Волк не знал еще. Мама закричала на него: «Пошел вон! Уходи, волчище!» И стала кидать в него щепками, комьями снега. И только тогда, и то нехотя, помедлив и подумав, волк спрыгнул с крыши по ту сторону хлева. Волки не боялись теперь и взрослых людей.
Рассказывали страшные вещи: как пришло однажды стадо без пастуха, недосчитались и многих овец и нескольких телок. Это прошлой весной. Пошли искать пропавших. И нашли пастуха мертвого и совсем голого, растерзанные клочья одежды валялись тут же. На теле же человека не было ни одной царапины, ни укуса. И не задушен он был: умер от разрыва сердца, когда его одежу драли волки. А пропавших овец и телок не нашли. Потом только, летом уже, в лесу обнаружили возле покинутого логова обглоданные крупные кости.
Вот почему нам не велено было идти домой после уроков пешком. И почему мы не смели даже отпроситься из школы пораньше: нас все равно не отпустили бы.
Я с тоской смотрела в окно, улавливая в длинных холодных тенях на снегу примету близких сумерек. Еще было совсем светло, но тени ползли, удлинялись; тень нашей школы заползла уже дальше середины двора. Это значит, шел последний урок.
Вдруг меня резко толкнули в спину. Я вздрогнула, обернулась было, но тут достиг моих ушей сердитый оклик учительницы:
— Плетнева, а Плетнева!
88
На меня смотрели в упор красивые карие глаза Анастасии Ивановны, она, видно, не первый раз окликала меня и теперь сердилась: вздрагивали тяжелые стреловидные ресницы. Я поднялась, и на меня громом, лавиной обрушился учительский гнев:
— Плетнева, а Плетнева! Долго мне тебя звать? Десять минут невозможно ее докричаться!
Я медленно встала и, возвращаясь из забытья, сказала, о чем думала:
— Темнеет. Мы нынче без лошади...
И в ужасе, что теперь все погибло и нас не пустят, села, не дожидаясь позволения. Щеки мои наливались жаром. Я боялась оглянуться на своих и обреченно смотрела в красивое, злое лицо учительницы, невольно замечая, что ее портит гневный прищур,— лицо, искажаясь, делается старше, жестче.
Однако мои слова вызвали сочувствие в классе: в субботу каждому хочется попасть пораньше домой: бани же топят и вообще... Со всех сторон понеслись длинные вздохи. Но недаром в школе боялись красивой Анастасии.
— Обезлошадели, совхозные аристократы? — осведомилась она, светлея насмешливым взором из-под ресниц.— Ничего-о! Веселее побежите в сумерки. Они зимой длинные. А то разбаловались лошадьми... Небось вон Антипова да Галиева на своих двоих добираются каждый день.
Она будто и знать не хотела, что Тоне и Галии по три километра надо пройти, а нам — около двенадцати.
И я увидела, как сидящая впереди меня маленькая Вера опустила низко голову, сжала плечи: ей было стыдно за старшую сестру, за ее несправедливость.
Вот интересно, ругаются они дома из-за нас? Вряд ли с Анастасией долго поругаешься. Да и ростом она большая, а Вера — крошечная. Хорошенькая и маленькая, как Дюймовочка. Глаза у нее, как и у сестры, большие, прозрачно-карие, цвета крепкого чая, когда он налит в папин хрустальный стакан. И пухлые, капризные губки, и чистый, широкий и высокий лоб. Только сама маленькая. А Анастасия — высока, длиннонога. Смотрит на всех сверху вниз. Я еще не видела женщин красивее, чем она. И руки у нее были прекрасные, лучше, чем у Марии Степановны. Такие руки я видела лишь на старинных портретах у знатных дам в старинных бабушкиных журналах «Нива».
Не хрупкие и не маленькие, кисти ее рук были ей по росту, под стать. Удлиненные пальцы округлы, с продолговатыми нежно-розовыми ногтями, украшенными четкими белыми лунками.
Что бы ни делала Анастасия Ивановна, меня завораживали движения ее рук. Брала ли она ручку сложенными в щепоть пальцами, и тогда рука напоминала изящный и сильный хищный тропический цветок, виденный мною где-то на картинке. Опиралась ли пальцами о стол, рассказывая нам урок, и тогда кисти рук нежно прогибались,
89
обнаруживая мягкие ямочки у каждого сустава. Писала ли она что-нибудь в журнал, и левая рука праздно покоилась на грубо окрашенном столе, будто внезапно застигнутая сном, и в полусогнутой, притененной ладони тепло, розовато темнела таинственная глубина.
Я могла целый урок созерцать эти руки, удивляясь и восхищаясь ими, как совсем самостоятельными, отдельно от учительницы живущими существами. Теперь я знала, какими были те «барственные холеные руки», о которых читала в книгах. А ведь Анастасия и Вера были из обычной крестьянской семьи. Их было четверо сестер и трое братьев. Братья сейчас на фронте, две старшие сестры, замужние, жили своими домами. Со старыми родителями оставались только Вера и Анастасия. Я никогда не бывала у них, но наши девчата — рядом с Верой жила Душка — говорили, что у них в избе такая небывалая чистота, какую нельзя себе и представить. Что они-де и в коровнике моют полы. А уж в избе стены светло-желтые, скобленые, как из свежего дерева, и все ухватья, и кочерга начищены, а черенки их выскоблены. И кругом белые кружевные накидки и шторки, даже над печным зевом повешена шитая задергушка.
Я вспомнила эти рассказы, глядя на холеные руки Анастасии. Правда, ладошки ее были не мягкие, а, напротив, жестковатые. Однажды было такое: она шла между рядов в классе и дружелюбно похлопала меня по руке за хорошо написанное домашнее задание по арифметике. Загадочной была для меня Анастасия Ивановна. Я восхищалась ею, но не любила. Верку мы никогда не расспрашивали про сестру, неудобно же. Единственно, что мы говорили ей: «Ну и сестра у тебя, Верка, лютая!» А Верка в ответ только посмеивалась. Иногда лишь кричала очередному неудачнику, получившему двойку от безжалостной Анастасии: «А ты учись лучше!»
А сейчас вот Верке было стыдно. Но не Анастасии Ивановне. Она отпустила нас точно по звонку. И мы пошагали. На улице оказалось посветлей, чем виделось из класса, повеселей. И вообще, когда двигаешься, все иначе выглядит. А мы не просто двигались — шли домой. Как только там, дома, могли подумать, что мы останемся, послушаемся! Да одного вчерашнего вечера хватило, чтоб никакие волки, ни метели, ни морозы не могли меня остановить.
След в след
Ах, сердце билось радостно! Мороз был, день простоял яркий. Сейчас он угасал, но отблеск его еще держался в воздухе той особой прозрачностью, когда все предметы — ближние и дальние — видятся одинаково четко на фоне предвечернего, ставшего матовым снега и налитого белым, матовым же светом неба.
Какая-нибудь палка, торчащая над заснеженным коньком крыши
90
в дальнем конце деревни, охапка соломы, засунутая в верхнее звено лестницы, приставленной к сеновалу, и все ступеньки этой лестницы, и ворона на голой толстой ветке дерева, стоящего уже за околицей, и прясла, окружившие три стога за последней избой,— все будто выписано тонким и точным пером. А в охапке соломы можно даже сосчитать торчащие соломины.
И вот уже и три стога остались у нас за спиной. Ноздри при дыхании слегка слипались. Это признак, что мороз перевалил за двадцать градусов. Но, видать, перевалил немного, потому что скоро уже и дышалось нормально, и лицо согрелось и не чувствовало мороза. Казалось, что щек твоих касается не колючий воздух декабря, а мягкая ладошка апреля. Я скинула варежки, Степа и Энгельс развязали уши у своих шапок.
— Ну что,— говорил довольно Степа,— раз тепло, жить можно.
— А встретим, так нас много! Закричим, засвистим — небось не сунутся! — Энгелька обрадовался, что кто-то первым заговорил, и выдал свой тайный страх.
Все сразу поняли, про кого он. Переглянулись, засмеялись. Энгельс невольно выдал общую тайную мысль: «А если волки?»
И поняла я, что все мы сейчас как один человек: все одинаково видим и понимаем, одинаково чувствуем и об одном думаем. И тогда будто обострилось мое зрение в шесть раз, и насторожился в шесть раз сильнее слух, и дрогнули ноздри, глубже втягивая воздух, и, словно невидимые крылья, подняли меня шестикратно увеличившиеся силы, понесли над дорогой, и я увидела с высоты всех нас, всех шестерых, и удивилась, какие мы маленькие на распахнутой от неба до неба снежной скатерти. Скатерть поля не гладкая, смятая в складки ложков и логов и справа и слева. И впереди. Впереди наш Куриный. Он мелкий, но тянется издалека. Лога и ложки синели, углублялись сумерками, и дорога, чуть приподнятая в поле над общим снежным уровнем, выделялась на нем жестким рубцом. А снег уже стал совсем тусклый, а не просто матовый, как недавно, когда мы вышли. Снег к вечеру словно умерший — немой, незрячий.
Скорей бы лес пройти. Вон он щетинится впереди. Наша дорога, взрытая копытами лошадей, не очень-то позволяет спешить. Стараешься ступать на гладкую полосу, оставленную полозьями, но нога часто оскользается в раскопыченную рыхлость. Она гасит упругость шага. Гуськом идут ребята, стараются ступать шаг в шаг. И опять спохватываешься: «Ну как волки?!» И невольно взгляд отыскивает еще одну, похожую на нашу, темную цепочку, вытягивающуюся из какого-нибудь ложка. Морды опущены книзу, хвосты меж задних лап. Рыхлость снега им не помеха. Но чиста смятая в синие складки скатерть. Напряжение отпускает меня. Я больше не парю над дорогой.
Уже и лес перед нами. Зимой мы ходим не опушкой, а напрямик. В лесу всегда теплее. Ветер не любит сюда забираться. Нет ему тут
91
воли. Днем очень приятно идти по лесу — красиво! Особенно в молодых посадках, которыми он начинается. Молоденькие сосенки держат на каждой мутовке по белому шарику, насадив его на длинные иглы. Пестро вокруг от темных веток и этих белых «зайчиков». А междурядья — взбитые, чистейшей белизны пуховики. Снег здесь ложится так тихо и плавно, что узорчатые колесики снежинок не ломаются. Приглядишься к поверхности снега — и увидишь, разглядишь каждую снежинку в отдельности. Конечно, под силой собственной тяжести снег внизу уплотняется, лопаются копья и зубчики, шестеренки снежинок, превращаясь в мелкое, как манка, сухое от мороза зерно. Но сверху всегда воздушно-взвешенный пуховый покров, выстилающий, тщательно сглаживающий все неровности, бугры и ямы, сучки и колоды, старые пни и валежины. Мне казалось, что это зима плавно повела белой рукавичкой; не касаясь ни разу ни ветки, ни пня, ни кочки, обвела их мягким контуром, и так и лег снег,
повторяя послушно, выказывая всем невидимое, тайное скольжение над землей белой рукавички.
В старом лесу совсем иначе, чем в посадках. Там темнее, таинственнее. Сумрачными, нахохленными чудовищами выглядывают из чащи, из-за ближних стволов снеговики, вылепленные тихими лесными снегопадами из невысоких елок, пеньков и просто из сплетений кустов и низко опущенных лап старых елей. Лучше не всматриваться в чащу. «Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама собой... Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит... Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...»
Да, дорожек напутано по лесу видимо-невидимо! Легких, едва написанных по снегу крестиками птичьих воздушных лапок или тонкими мышиными цепочками, и тяжеловесно протоптанных то ли лошадью, то ли коровой. Но за лошадью тянулся бы санный след, а что корове понадобится в зимнем лесу?
Плутали по полянам, огибали стволы и кусты многочисленные заячьи — лихие, с росчерками от задних лап — петли и стежки, и прямыми, уверенными тропами записывали свой след волки. Наверное, волки. Кто же еще мог отпечатать эти широкие пятипалые оттиски — вроде бы собачьи, но крупные, лапа за лапой, в ниточку.
92
Следов много, но это еще не значит, что звери вот только что свернули в чащу и оттуда смотрят на нас. Снегу давно — так дня три — не выпадало. Вчера мело, но для леса такая метель — не метель. Стало быть, тут самое меньшее дня три записано.
Степка наклонился над обочиной, где выходил, пересекая дорогу, «собачий» след.
— Не-е, ребята! Это давнишний! — сообщил он.— Обмохрился уже по краям!
— Вот, Степа, молодец ты! — воскликнула Лена.— Догадался поглядеть.
И вдруг Энгелька, шедший впереди всех и чуть оторвавшийся уже от нас, остановился и махнул нам назад рукой, не оглядываясь, тревожно всматриваясь в глубину большой поляны справа от дороги. Мы остановились, тараща глаза в синеватую мглу поляны. И увидели...
— Лошадь! — с восторгом выдохнула Шурка Омелина.
— Фиг тебе лошадь,— прошептал Степка.
— Лось! — в один голос закончили все мы шепотным хором.
Заколдованные безмолвным лесным видением, никто из нас не
крикнул. И наше шепотное «Лось!» прошелестело в лесу, как один из его собственных голосов — шорох осыпавшегося с ели снега, не больше.
Горбоносая огромная голова, вынырнувшая из чащи за поляной, так же, как и мы, застыла, не шевелилась. Но мы оказались терпеливее. Или лось решил, что маленькие, черненькие комочки на человеческой тропе не опасны для его семейства. И вовсе без шума, словно призрак, он весь вымахнул из кустов на поляну, отделив себя от сумеречной, скрадывающей его темное тело лесной гущины. Движения длинных ног лося напоминали работу какого-то механизма — так четко складывались и разгибались рычаги его суставов. Какой же он был большой! Жалко, уже мало света, не различить цвета его шкуры, видно лишь светлую подкладку низа — брюха и ляжек. И сразу, только весь зверь стал нам виден, за его крупом показалась еще одна голова, поменьше. Лосиный теленок — наверное, легкий, как балерина! — выскочил за отцом. А за ним еще один, его брат или сестренка, и, наконец, снова великан, но по морде видно, что лосиха.
93
Не с таким страшным загибом носа, как у первого... Это я рассказываю долго, а прошли они перед нами хоть и не спеша, но за одно мгновение. Не потревожа тишины, не сбив с кустов ни одной снежной шапки. Были — и нет. Только глубоко пропахала поляну еще одна дорожка. Теперь-то ведомая нам. Вот вам и лошадь. И корова.
Мы перевели дух. С восхищением переглянулись: никто из нас до сих пор не видел лосей. Даже и не думали о них. Хотя слышали, что появились они в наших местах. В представлении каждого из нас этот зверь такой был нездешний, такой весь из книжек с картинками — все равно что слон или жираф.
— Видали? Вот это да!.. Ай да мы! Ай да лоси!.. Вот так увидели!.. Расскажем — еще и не поверят!..— такой мы устроили хор и перекличку.
Побежали сгоряча по лосиному следу, но где там! Ноги у нас раза в три короче, а снег глубок. Тогда мы понеслись по дороге, забыв про усталость, про страх, про волков. Скорей, скорей в совхоз, чтобы хоть кому-нибудь рассказать! Нас было шестеро, но это все равно как один человек. А известно, как хочется поделиться новостью, которую знаешь ты один, хоть с одним человеком! Мы так бегом и вывалились из лесу в поле. Наше, уже совхозное поле. И даже немного опешили: обычно выходишь из леса — и сразу свету больше. А тут будто и потемнее стало. Конечно, не было темнее, чем в лесу, просто не сбылось то, что ожидалось. И мы поняли: стемнело. Совсем стемнело. Небо и снег уже серые.
— Ребята, раз лоси так тихо шли, значит, волков близко нет,— сказала Шура.
— Точно! — обрадовалась я. Но тут же подумала о другом: раз лоси куда-то пошли, даже слыша, что на дороге люди,— может быть вполне, что их кто-то спугнул. Но я об этом не сказала.
Теперь дальние кусты и деревья на поле, на межах, казались тенями волков. Только то, что я знала здесь каждый куст и каждое дерево, выручало меня.
Но вот — о радость! — послышался явственный стук копыт, пофыркивание лошади. Кто-то едет нам навстречу! Ездок остановил лошадь довольно далеко от нас. Подождал чего-то, потом снова лошадь пошла.
— Э-э! Школьники! — воскликнул радостно путник.— Я издали, с поворота, вас увидал... Ну, думаю, стая! Другая, что ль? Одну-то я точно видал во-он там,— привстал он в санях, кнутовищем указывая на взгорок слева от нашего пути в совхоз.— Бежали по гребню — на небе-то их видно хорошо — семеро. Но туда бежали, к деревне, к Иванникам, прочь от дороги. А тут опять, гляжу, идут, теперь встречь! Однако, смотрю, лошадь моя ничего, спокойна. Ну, мол, порядок, не они... Ну, того, прощайте, боюсь, как бы не встретить. И вы поглядывайте!
И мужик ударил вожжами, прикрикнул на лошадь и нам вдогонку прокричал — видно, чтоб мы за него не волновались:
94
— А я недалеко! В лесничество! Доеду!
Мы еще посмеялись над разговорчивым мужиком: ишь успокоил нас: он доедет! А мы иди навстречу волкам? Но делать нечего: идти надо, хочешь не хочешь!
Хоть бы не было его, этого незнакомого мужика! Взялся на нашу голову! Он, видите ли, доедет!
Но пожалуй, ругайся теперь... «Хорошенько смотрите, о волки!» — пришел в голову клич Акелы, старого вожака волков из «Маугли», любимой моей книги. Да, то книга. А то жизнь. Здесь не те благородные, мудрые звери, что вскормили Маугли. Те ненавидели людоеда Шер-Хана — тигра, похожего на фашистов. А здешние-то волки сами как фашисты и порождение фашистов, наславших сюда этих зверей.
Может, там, на войне, они отведали человечины и теперь не боятся людей.
Где-то в ночи, среди снега таились они. Стая из семерых. Темень и время разделили их и нас. В складках снегов, в одной из лощин, за одним из кустов скользил легкий шаг гуськом, морда к хвосту впереди идущего,— созревала угроза и могла сбыться, если время наше и их совпадет в какой-то точке пространства. Если их тропа пересечет нашу дорогу в тот самый миг, когда и мы...
И мы увидели их. Гораздо дальше от того бугра, где они показались мужику на лошади. Гораздо ближе к совхозу. Уже замигал впереди темно-красный огонек в крайнем доме. И ночь от этого сразу сделалась своей — домашней, безопасной.
Как вдруг от более густой полоски тьмы, что слева от дороги (узкий перелесок, тянущийся вдоль дороги и справа, как и слева), отделилась столь же плотная тень. За ней обозначилась на фоне снега вторая... третья...
«Нет! Нет! — кричало все во мне.— Это кажется только! Это просто так!»
Но неумолимо, тень за тенью, как в связке, вытягивало за собой первое, отделившееся от леса пятно... Мы уже различали собачий профиль первой тени: морду, опущенную книзу; обрывисто резко кончавшийся круп: хвост прижат, опущен к ногам. Казалось, что стае не будет конца. Но семеро их вышло, как и говорил мужик.
Волки прошли впереди нас, пересекая нам путь слева направо. Прошли так, как представлялось: след в след, гуськом, морда к хвосту, впереди идущего. Они показались огромными — с доброго теленка. Ужас стоял над полем, пока они шли бесконечной цепью. Молчаливый, беззвучный ужас сковал тучи на небе, звезды за тучами, луну, снег на поле и озимь под снегом; скрутил руки деревьев узлами; сгустил воздух; остановил дыхание у шестерых на дороге. Все ждало: быть крови и крикам или уйдет мгновение и канет в прежней тишине. И ушло. Неслышным волчьим шагом. Мы даже не увидели волчьих огней, волчьих лунных глаз, которые, говорят, лишают воли их жертвы. Наверное, стая имела цель, а не просто рыскала в поисках
96
чего попадет. Там, за правым перелеском, была совхозная свиноферма. Видимо, туда волки правили свой бег. А может, они не осмелились напасть на нашу стаю. Тоже немало — шестеро, тоже гуськом, да тем более вблизи жилья и огня. Так, словно, возвращаясь из обморока, оживали наши мысли.
Как странно: когда появились волки, никто из нас не вскрикнул. Только впереди идущий Степа попятился назад, а те, кто был сзади, подались вперед, и все мы оказались сбитыми в тесную кучку. И все-таки я ощущала себя одной-одинешенькой в поле и — нагой.
Мы пришли домой в шесть часов вечера. А мне показалось, что прошла целая жизнь.
— Ну а если б вы знали, что все это вам предстоит пережить,— спросили меня дома, после того как отругали за самовольство,— пошли бы вы тогда?
— Еще бы! Если б знали, что все так кончится, тем более пошли бы! Самое-то страшное, когда не знаешь, что будет. Встретишь — не встретишь. Нападут — не нападут...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
На холме средь желтой нивы...
Я на той же дороге, что и год назад, что и в тот зимний вечер, когда мы встретили лосей, а потом волков. Та же дорога, да я уже не та. В том сентябре ехала со страхом и грустью, а сейчас, пожалуй, с нетерпением больше, чем с грустью.
А страха и вовсе нет. Только любопытство: как-то все будет?
Наша легкая телега с поклажей мягко постукивает, погромыхивает; мерно, как заведенная, перебирает ногами неутомимая Пчелка. Мы пятеро — четверо девчат и один мальчишка — обсели телегу по краям, свесив ноги. Лены и Энгельса с нами нет. Летом они переехали в другой совхоз, куда еще зимой отправился их отец. А к нам в совхоз прибыл новый директор, но у него детей не было. Зато с нами теперь едет Зульфия, моя старая подружка.
Завтра в школу. После лета, после каникул. Ребята наговорились, теперь все молчат. А я встречаю своих знакомых — две березы, что вдали от дороги. Они одни в чистом поле, на самом высоком холме окрест, за Глубоким оврагом.
— Ау-у! Березы! Прямая и кривая! Привет вам! Мы едем!
Березы тонкие, еще не застарелые. Одна — прямая, повыше, с нежно-струистыми ветвями-прядями. Вторая — кривая, изогнутая. Ствол ее дал петлю вбок, будто ринулась она в сторону, да передумала и потянулась обратно к сестре-соседке. И когда пошла березка снова вверх, то уже не прямо, а клонясь к сестре, будто ища у нее опоры.
4 Школьные годы. Выпуск 2
97
В прошлом году, когда заметила их впервые, они были просто березы, просто деревья.
Потом к ним привыкла. А теперь, спустя лето, в последний день августа, увидев их знакомые силуэты, поняла вдруг: они мне родные. И не то чтоб подумала, а, скорей, почувствовала, что, будь они обе прямоствольные, не такой показалась бы и вся картина вокруг: полого подымающиеся и плавно нисходящие увалы, то серовато-золотистые — жнивье, то вспаханные под зябь — влажно-черные или бурые, а больше зольно-серые в рыжеватых подпалинах, кое-где как ржав- чиной-медянкой тронутые пятнами всходящей озими.
Я как-то вдруг очень остро поняла, не будь здесь моих двух берез или будь они обыкновенными, эти места сделались бы неразличимыми, не моими; и небо осталось бы без того особенного выражения, которое есть у него только здесь, только над здешними полями. Что бы тут в этом небе ни творилось: громоздились ли башни кучевых облаков или тянулись длинные «кошачьи хвосты», позолоченные закатом; стояло ли лазурное вёдро или серыми плетьми хлестал поля дождь из низких распухших туч,— неизменным знаком родства метили небо мои березы.
Они были главной приметой над моей дорогой, как раз на полпути от дома до школы. От школы до дома.
Березы вдали от дороги. Далековато. Но кажется мне, что я вижу, как раскачиваются гибкие пряди, как поворачиваются на четырехгранных гибких черешках сердцевидные, зазубренные листочки; вижу крохотные почки, притаившиеся до будущей весны. Вот интересно: весь год они живут, листья лета, которого еще нет. Сидят за пазухой у нынешних листочков, в основании их черешков, почти что и не заметны. Как сжатые, спрессованные пружинки, они терпеливо ждут своего часа, набираясь сил, чтоб враз распрямиться, брызнуть зелеными каплями, превращая и саму березу-мать и все вокруг в зеленый праздник, в летнюю красу.
— Здравствуйте, березы! Мы едем!
Десять километров дороги от совхоза, где мой дом, до села Пеньки, где я учусь, как коромысло, соединяющее два полных, равных по тяжести ведра. И березы в вершине коромысла.
Если б кто мне сказал год назад, что я так буду говорить о Пеньках! Уравняю их по важности с домом! Я б хохотала над тем человеком, как над круглым балбесом.
А нынче — хороший начинается год! Все больше людей возвращается с войны (конечно, раненых). Вернулся и отец Зульфии, дядя Фаттых. У него одна нога стала покороче другой и совсем не сгибается в колене. Это оттого, что он вернулся, мы будем жить вместе с Зульфией. Прошлую зиму она училась далеко от дома, в поселке, где жили ее родственники. И даже на воскресенье не могла приезжать домой.
А дядя Фаттых захотел, чтоб теперь вся семья была в сборе, он един наскучился и очень любил Зульфию, хотел, чтоб она хоть по
98
воскресеньям бывала дома. И еще он знал, что нам вдвоем с Зульфией будет хорошо.
«Друг,— говорил он,— половина твоей души. А может, и больше».
Сейчас половина моей души сидела рядом со мной на телеге и болтала маленькими ножками, посматривала черненькими, умными глазками. Слушала, как девчата поют любимую песню Лены Ахтямовой:
Вдыхая розы аромат.
Тенистый вспоминаю сад И слово нежное «люблю»,
Что вы сказали мне тогда...
Лены нет, а ее песня осталась. Я вслушиваюсь в знакомые слова: это странное слово «любовь»... Я чувствую, оно стало больше моим, чем Ленкиным, и больше моим, чем несенным. Оно (наверное, вместе с мелодией) почему-то рождает тоску в моем сердце, тоску и сожаление неизвестно о чем. И это оно — или вся песня? — соединяет сейчас меня со всем, что только вижу я вокруг,— от высокого купола неба до мелькающих перед глазами копыт Пчелки и дорожной пыли, оседающей на бурьяне. И оттого, что так много обнимает глаз, и слышишь сразу так много — и песню рядом, и тишину вдали, и говор ребят, тележный стук и дыхание лошади, пофыркивание ее,— и чувствуешь запахи — от леса, от пыли, сена, колесной мази, и дегтя, и лошадиного пота, и осенний пресный запах поля: земли и словно бы раздавленной травы; оттого, что так много всего соединяется с песней и со словом «любовь», что и не вместишь в одно-то свое сердце, в одну себя,— оттого, кажется мне, так трудно сердцу терпеть нежность ко всему сразу. Ведь огромный простор вокруг! И одно есть средство как-то заглушить в себе это непонятное сожаление обо всем, и тоску, и нежность — запеть вместе со всеми и тем самым присоединить себя и к полю, и к небу, и к лесу, и к ребятам. Заглушить, но не избавить...
Вам возвращая ваш портрет,
Я о любви вас не молю,
В моем письме упрека нет,
Я вас по-прежнему люблю...
В том-то и дело, что я никого не люблю... Но это неправда! Я чувствую любовь!
Но она — ни к кому. Просто так. Ко всему... Это все нынешнее лето виновато.
Зинка и любовь
Мы приехали летом в Пеньки с Зульфией и ее отцом, чтоб попросить тетю Еню взять на квартиру Зульфию. Вошли в дом, а бабушкина кровать стоит пышно убранная, пустая. Дыбятся взбитые белые, с прошвами подушки. Страшно стало от этой пустынной кровати. Правда, в самый первый свой приезд к тете Ене я тоже сначала не заметила бабушку — так, мельком, подумала, что кто-то днем спит. Сейчас никто не спал. Пусто. И все-таки я попыталась еще отодвинуть страшную догадку и спросила:
— Тетя Ень, а бабушку вынесли на воздух?
Тетя Еня ответила:
— Умерла мама. Нет у нас больше бабушки. Будто дожидалась, когда разъедутся ученики, чтоб не побеспокоить кого своей смертью.
Тетя Еня не заплакала. Терпела, наверное, свое горе. И говорила сдержанно. Словно держит что-то про себя, что боится ненароком обронить, проговориться.
— Эхма! — сказал неловко дядя Фаттых и сдернул кепку.
А мы с Зульфией схватились за руки, словно бы нас кто-то мог растащить, разлучить. Я ничего не могла сказать тете Ене. И мучилась. У меня в голове стучало: «Бабушка! Бабушка! Я же тебя любила. И ты меня. Как же ты умерла!» Но не скажешь ведь этого. При чем тут моя любовь! И что жалко ее, тоже не скажешь. Понятно же, что жалко.
Тетя Еня сама нас выручила всех: сказала, чтоб нам не так было трудно молчать:
— Не мучилась мама. Нисколь. Пригасла. Как сухой лист с ветки отлётывает... Не стало, и все. Нам бы так-то.— И пошла в чулан, на ходу говоря о другом: — Самовар счас вздую.
И мы все хором вздохнули. Дух перевели. Так не стало бабушки...
Я хорошо запомнила тот день — солнечный, но не очень жаркий, с ветерком. Тихо, безлюдно, зелено в знакомом переулке.
Когда подъезжали к дому, он показался мне меньше, чем был зимой, и сердце сжалось, как бывает, когда видишь, что изменился, постарел дорогой тебе человек. Но, приглядевшись, я поняла: дом кажется меньше потому, что его отодвинула, заслонила буйная зелень палисадника. Через его заборчик перекипают, не умещаясь в нем, кусты сирени, бурьяна, мальвы. А березы качают ветки уже на уровне конька нашей избы, совсем занавесили ее — так загустели: не сквозные, как зимой, не прозрачно-нежные, как даже еще в конце мая, а полные темной крепкой листвы, шумливой, балованной ветром и солнцем. При виде всего этого немного странно я себя почувствовала: будто меня свои признать не хотят.
Мельком, бегло глянула я вверх по переулку, где стоят дома Лешки и Карпэя. И там было пустынно и зелено и березы шумели. Но стоило толкнуть знакомую калитку — встретил меня прежний двор, весь выбитый до земли, лишь по краям чуть кудрявится трава.
100
Двор не изменился с весны. Только обдал меня необычным для весны или осени душным, застоявшимся теплом, настоянным на запахе пыльного старого дерева, разогретого солнцем куриного пера, прошлогодней соломы, истомившейся под крышей в духоте повети. Этот запах не был неприятен: пахло летом, теплом, благополучием.
Тети Енины куры, разбежавшиеся с надрывными воплями при шуме и громе открывающихся ворот и въезжавшей во двор телеги с возом дров, при виде огромной, наверное, на их взгляд и страшной лошади, быстро обтерпелись, освоились с новыми предметами и начали собираться у крыльца со своим осторожно-вопросительным: «ко-о... ко-ко?» Все старые мои знакомцы! И петух с золотой кованой грудью, и пара старых белых кур, и несколько обычных пеструшек-молодок. Только прибавились цыплята, уже, видно, брошенные матерью, смешные голенастые подростки, с тонкими шеями и младенческим пухом, оставшимся кое-где на спинках между крыльями.
Все уже свое здесь во дворе, почти родное... Ага, крыльцо! Белое с черной кинжальной щелью... Оно самое! Сени... Стоп! Как невидимый страж стал на пути знакомый чужой запах: острый, сладковатый — запах разлуки и тоски. Он будто напомнил: «Свое-то, свое, да не забывайся!» Я посмотрела на Зульфию: она почувствовала запах? Поняла? Но Зульфия была такая сосредоточенная, собранная. На ее лице прямо-таки была написана непреклонность: «Ничего, я все стерплю». Я вспомнила, как плакала прошлой осенью.
— Нам с тобой хорошо будет, мы же вместе,— сказала я ей.
И мы вошли в избу. И увидели эту пустую, без бабушки, кровать...
Когда попили чаю с вкуснейшими пирогами из картофеля, с луком-яйцами, я вышла на улицу, чтоб не мешать дяде Фаттыху и Зульфии договариваться о квартирных делах.
Облокотившись о штакетник палисадника, рассматривала я такие разные травы и листья и думала о бабушке, о том, как же приходит смерть? С чего начинается? Бабушка старая была, но ведь сердце в ней билось, мозг работал. Она многое понимала. И никто ее не убивал, не бил, на работе она не надрывалась. А сердце все же остановилось. Почему? Как? И как это будет со мной? Трудно представить, что тебя нигде не будет. Но умирают все, кто родился. Умрешь и ты. Разве только придумают ученые какое-нибудь средство от смерти. Прививку, как от оспы.
Но если изобретут такую прививку, чтобы жить, просто жить, еще и не захочешь вот так, как наша бабушка, жить, лежа пятьдесят лет. Нет, уж лучше сразу умереть. А вот она жила. Привыкла, значит. А сначала, наверное, плакала.
Я пошла вдоль палисадника, к главной улице, с отрадой ощущая тепло солнца на лице, на руках, как вдруг кто-то сверху окликнул меня:
101
— Зайди к нам, Даша!
Я вздрогнула, глянула вверх. Из окна соседнего дома выглядывала Зина Косина, по прозвищу Коса. У них дом был как бы в два яруса: передняя часть, смотрящая на улицу, стояла на подклети и была выше дома тети Ени. А задняя часть — обычной высоты, с нашим домом вровень.
Вот и получалось, что Зинка смотрела на меня сверху, с высоты. Удивилась я: ни разу еще не была в соседнем доме, у Зинки были свои подружки. Мы с ней и говорили-то раза два, по пути из школы домой.
Зина меня прямо в сенях встретила, за руку взяла, потянула за собой как-то быстро, с порывом. Я и вокруг себя ничего не успела заметить. Поняла только, что дома никого нет. Привела она меня в маленькую чистую горенку в задней, низкой половине избы. Горенка выходила окном как раз на дом тети Ени, в узенький проулок, где вытянулись в ряд несколько больших уже берез. И видно из Зинкиной горенки глухую бревенчатую стену без окон да белый березовый ствол, пересекающий эту стену.
Лишь иногда заносило ветром к окну зеленую длинную плеть березы. Я потому так помню, что стояла лицом к окну, а Зинка — у окна, и то, что она мне говорила, так вместе с этим окном и впечаталось мне в память.
— Даша,— быстро-быстро, чуть задыхаясь, заговорила Зина,— зачем он тебе... Ты не наша, не здешняя... все равно в город уедешь, в институт... Оставь его... Лешку оставь... Мы всегда с ним играли... А теперь он и на улицу не выходит... лето идет... А он за тобой избегался... Скажи ему... Я никого не прошу... Тебя одну...
Что она говорит? О ком? Об этом Лешке? О Никонове? Обо мне? Я-то при чем? Я несколько раз открывала рот, воздуху набирала, чтоб крикнуть: «Ты что, Зинка, ты с ума сошла?!» Но Зинкино сумасшествие, видно, и на меня перекинулось. Ведь я понимала, как нелепо-смешно все, что шепотно выкрикивала Коса: как это можно избегаться за кем-то, когда этот человек за десять верст? Как можно кому-то кого-то оставить, если кто-то кого-то и не видит уже сто лет?! Да и вообще — и всегда и везде — избегал изо всех своих сил?! Смех один! Да, смеха одного стоили Зинкины безумные слова. А мне было вовсе не смешно. Зинкин шепот и весь ее вид кричали о том, как ей нестерпимо больно. Обычно горделиво расправленные пряменькие плечики Зинки сейчас сведены так, что выщелкнулись тонкие ключицы, запали под ними у шеи темные ямки, руки стиснуты на груди — кисть в кисть, даже пальцы побелели, и губы сжаты до белизны. Мне даже казалось, что она и говорит, не разжимая губ. И наконец до меня дошло, что это меня винит Зинка в своей боли! Из-за меня ей больно! Она об этом и говорит! Вот почему мне страшно, а не смешно... Но при чем тут я?! как она может так про меня и Лешку!
— Зинка! — наконец крикнула я.— Ты что, роль играешь? Ты
102
чего выдумала? Нужен мне он, твой Лешка! Хоть бы его не было совсем!
Зина остановилась. Перевела дух. Жарко в горенке. Стена напротив близко. Ветерок не попадает в открытое окно. Стоим мы друг против друга, дышим тяжело.
— Вот и отстань,— выговорила Зина.— Раз не нужен. Мы с ним всегда дружили. Поняла?
— Чего ты от меня хочешь, Зина? Я, что ли, сумасшедшая? Разве могу я от него отстать, если не пристала? Как еще мне отстать от него? Как?!
— Не знаю как,— горько сказала Зина. Так горько, что мне плакать захотелось.— Ладно, иди...
И я пошла, ничего не видя. Не помню, как вышла, не помню, как забралась к себе на поветь. Там солома старая. Села там. «Вот те и на!» — только и подумала. И никак не совладаю с мыслями. Вдруг мелькнуло в уме: «Ага! Вот кто нравится Энгельке! Зинка! Надо же...»
И тут же забыла про это. До Энгельки ли теперь... Какие-то картины мелькают перед глазами. Отрывки. Но так они вспоминаются, будто нанизываются на одну нить, выстраиваются. А эта нить — то, что я сейчас услышала. И пустячные сцены, слова, разговоры вдруг оказываются полными значения, тайны. Зинкиной тайны. А может, и Лешкиной.
Ведь Зинка и Лешка похожи чем-то. Очень даже похожи! Зина среди девчат такая же легкая, стремительная, как Лешка среди пацанов. У Зины небольшая головка на высокой шее, круглое задорное лицо, рот маленький, с надменно и весело приподнятыми уголками губ, короткий нос в мелких веснушках и отчаянные, дерзкие глаза, как лесные орешки. И стройная она, легонькая. Любое свое, хоть и ветхое, платьишко Зина всегда щегольски туго подхватывает в талии пояском. Я ее приметила в первый же день в Пеньках. Ведь это она бегала с Лешкой на школьном дворе тогда, первого сентября... И по-новому вспомнила я теперь, как она оглядывалась на него, как глядела, как смеялась... Вспомнила и другое: Зина меня спрашивала однажды по дороге из школы, пристает ли ко мне Лешка... Так участливо спрашивала...
А потом, когда все собирались по хворост, опять любопытствовала, как бы между прочим, с кем я пойду. И очень уж горячо принялась меня хвалить, когда я сказала, что с Тоней. Она слышала, говорила Зина, что меня Никонов звал, и боялась, вдруг я пойду с ним, потому что я еще, наверное, не знаю, какой он вредный.
А я, как дурочка, нет чтоб спросить, чем же он вредный,— сама стала ее уверять, что да, знаю я, он ужасно вредный, и я с ним ни за что не пойду.
Потом память приоткрыла мне еще одну страничку, которую я уж совсем было позабыла.
Это случилось, наверное, в первую или одну из первых недель
103
сентября — вместо уроков вся школа работала на колхозном току. Одни перелопачивали зерно, другие ведрами по цепочке подавали его на веялку, третьи подгребали, скучивали только что намолоченное и еще не веянное, укрывали эти кучи соломой — крыша была не над всем током. А мальчишки возили с поля солому.
Жарко было. Работали в одних ситцевых платьях. Я помню: откуда-то с поля от лошади бежит Лешка, и я боюсь, что он к нам. Но с противоположной от нас стороны тока на высокой куче зерна, вся в золотой соломе, показалась девчонка — линялое красное платье, лихие косички, дерзкое лицо — и закричала что-то удалое: то ли «о-го-го!», то ли «эй-ля-ля!». И я узнала в ней ту, бегавшую на школьном дворе... И Лешка вдруг остановился, будто споткнулся, потом дернулся бежать — все-таки в нашу сторону, потом опять скакнул к той куче, где плясала девчонка. Снова рванулся к нам. «Ой, неужели к нам?!» У меня прямо сердце от страха упало, но он все же с криком «Осса!» побежал туда, дернул девчонку за ноги, и она, хохоча, съехала в ворохе соломы вниз. Теперь я догадалась, что он кричал не «Осса!», а «Коса!». И этот забытый день словно воскрес в моей памяти: душная, пыльная жара, запахи свежего зерна, соломы, пота, от работавших вместе с нами колхозниц и это ощущение опасности от бегущего по полю мальчишки. А еще смутное понимание прельстительности, призыва красного пляшущего платья, задевшего чем-то и меня, а не только мальчишку.
Тогда, я помню, была страшно рада, что Никонов отвлекся и так и остался возле той кучи зерна. Они там все время то гонялись друг за другом с девчонкой в красном платье, то кидались зерном, и на них покрикивали женщины.
Как было б хорошо и справедливо, если б Никонов так и продолжал бы «бегать» за Косиной! Всем было б хорошо. И больше всего — мне. И почему так получилось, что он стал «бегать» за мной, как сказала Зина.
Я ненавидела то, что, знала, стоит за этими словами. Видела на деревенской улице и только нынче летом прочитала в «Тихом Доне» Шолохова. И для меня после этой книги многое непонятное раньше стало очевидным. Но не примирило с тем, что я поняла. «Бегает» — это когда парень пристает к девушке, задевает ее, хватает, а она вырывается и визжит, как поросенок, и тут же хохочет. Я думала сначала, что парни обижают девушек, ведь девчатам с парнями не сладить, силы не те. Но с чего бы тогда девчатам хохотать? И почему они не убегают?
Если я хочу от кого-то убежать, так будьте покойны: меня и на страусе верхом не догонишь! Если я не хотела, чтоб меня трогали, так я все перемены с парты не вставала. Меня и пальцем не задели. А это что? Зину тогда, на току, за ноги сдернули с соломенной кучи, а она рада! Да если б меня так, я бы умерла от презрения к самой себе. И это называется «он за ней бегает». Иначе говоря, он в нее влюблен. Ничего себе любовь! Прекрасная тайна. Я была глубоко
104
убеждена, что девушка, вызывающая такую влюбленность, тем самым уже оскорблена и унижена. И страдала от того, что и я была девочка,— значит, девушка скоро,— когда видела, как унижаются наши здоровые, крепкие, полногрудые совхозные девчата, стараясь своим визгом и хохотом завлечь парней. Парней — это только говорится так. А на самом-то деле — мальчишек, года на три постарше меня. Да и по виду вроде семиклассников.
Яркая женственность взрослых девушек вызывала во мне отвращение к самой себе, к изменениям, начавшимся в моей фигуре. Я горбилась и сутулила плечи, чтоб ничего не было заметно. Ходила в баню после всех, одна и мылась в полной темноте, не зажигая лампешку-коптилку, чтоб ненароком самой не увидеть, как набухают бугорки на месте, еще недавно отрадно плоском. Я боялась проводить мочалкой по своей груди, чтоб нечаянно не дотронуться рукой,— это было бы так же противно, как прикоснуться к живому мышонку. Грудь выдавала во мне существо такое же, как все эти девчата. Я же не хотела быть такой!
А теперь Лешкино «беганье»... Если правда то, что сказала Зина... Будто назло, насильно навязывают мне ненавидимую мною, общую для всех девиц участь.
Ну уж нет! Тут я могу сказать «нет»! Тут моя воля.
Я мечтала о любви. О влюбленности. О рыцаре. О тайне. О настоящей любви не должна догадываться ни одна живая душа. Только двое. Только Он и Она. Он должен быть прекрасен и с виду и душой. Благороден. Печален. И восхищен.
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Вот что такое любовь... И божество, и вдохновенье, и слезы... Я знала, что я могу лишь мечтать о такой любви. Потому что я совсем не гений, не чистой и не красоты. И вообще даже говорить о красоте нечего. Зина и та меня красивей. А любви без красоты не может быть. Значит, не будет у меня такой любви, какую я люблю... Я подумала, что даже Лешка не приставал бы ко мне так, не дразнился и не хохотал, если б я была красива. Только и видела от него хорошего, когда он по снегу босиком пробежал для меня. Да и то еще не известно, для меня ли. Может, просто от лихости. Зина пусть сколько угодно думает, что Никонов исстрадался по мне. Где оно — страдание? Где хоть один печальный взор? Хоть задумчивость?
105
Хоть один жест, который бы говорил, как он стремится мне на помощь? Ручка, например, упала с парты — бросился бы ручку подать. Весной лужа на пути — почтительно предложил бы позволить ему перенести меня через лужу: «Допустите, о повелительница моего сердца, послужить вам...» — и бац на одно колено прямо в лужу... Ах! И только я представила, как Лешка бросается подымать мою ручку и бацает в своих вытертых и выстиранных до белесости, непонятного цвета штанах и растоптанных валенках, как меня разобрал смех. Наверное, я правда с ума схожу! Разве нормальный человек рассмеется после таких объяснений, как у нас с Зиной? Конечно, если б на Лешку надеть камзол из коричневого с золотом бархата, в талию, да с пышными, собранными в крупные складки рукавами, да с белым жабо, к Лешкиной тонкой фигуре, и узкому лицу, и носу с горбинкой это бы очень подошло. Он бы, пожалуй, стал красивым. Но тогда уж ему не передо мной бы вставать на одно колено.
А перед надменной и тонкой красавицей в пышных фижмах, с прической-башней из пепельных волос, увитых ниткой жемчуга. Такой мне никогда не бывать.
И вдруг это меня рассердило: ведь сама же решила, что любви у меня не будет! Но тут вдруг возмутилась: все зависит от одежды, от обстановки? Если бархат и фижмы, так любовь красивая, а если валенки, то одни грубости? «Глупости, глупости!» — оборвала я себя. Любовь могла быть совсем не такой, как у Шолохова, хотя и не такой, как у Пушкина. И представила, как бы мы с Лешкой, например, гуляли лунными зимними вечерами и он бы брал мои варежки и согревал своим дыханием... Или бы мы с ним учили уроки. Он плохо пишет, и я бы ему диктовала из учебника что-нибудь полегче, ну, например: «Пятак упал к ногам, звеня и подпрыгивая». Или: «Она, осина, бывает хороша лишь в иные летние вечера». Или: «...Люблю отчизну я, но странною любовью!..»
Да, странною любовью... Конечно, конечно. Было б очень странно, если б Лешка, такой, какой он есть, любил бы меня. Ведь ничего из того, о чем сейчас я подумала, не возможно. Как фижмы и бархат. Любить — значит любить быть вместе, разговаривать и понимать друг друга. А тут ни он меня, ни я его не понимаем. Да я и не хочу понимать!
106
И эта Зина Косина настоящая дурочка, если ей нравится такая «любовь». Пожалуйста, любите. Я тут ни при чем. Что, мне теперь уезжать из Пеньковской школы, учиться, что ли, бросать из-за нее и Лешки?! Еще чего! Но тут на меня вдруг снова, как наяву, надвинулось отчаянное лицо Зинки, раскрытые широко глаза, исступление в словах и стиснутых на груди руках — и я осеклась. В Зинке была правда. В ней одной. Не во мне. Не в Лешке. А что значила эта Зинкина правда, я не знала. Сколько угодно могла я рассуждать о бархате и валенках*' о красоте и грубости, о Пушкине и Шолохове, об уроках вдвоем и прогулках — и знала, чего хочу для себя, а что ненавижу... Но перед Зиной, хоть и ругала ее и сердилась, чувствовала себя маленькой: не понимала, что испытывала она, говоря со мной. Будто прошла мимо меня, совсем близко, огневая туча, дохнула в лицо неизвестной еще, но грозной мукой... И так горячо пожелала я в этот миг оказаться не здесь! И в самом деле, уехать бы из Пеньков, чтоб
не мешать Зине. Как было бы хорошо пойти сейчас же и сказать: «Зина, ты не думай ничего, не мучайся, я уезжаю, и здесь меня больше никогда не будет!»
Я выглянула с повети: прогретый солнцем двор, курицы залегли в свои пыльные ванны под завалинкой, ярко светится белое крыльцо... Наша лошадь дремлет, сунув голову в тень повети. И никогда больше меня здесь не будет... А двор этот будет.
И вдруг с улицы долетел разбойный свист в два пальца. Сердце мое вздрогнуло, как жалкий трус и предатель. Так свистел Лешка. Как пароход, давал гудок всякий раз, когда шел мимо нашего дома. Я тихо соскользнула с повети прямо по столбу, подкралась к калитке и припала к щели посмотреть незаметно. По дороге, уже миновав наши ворота, двигался невысокий воз со свежей травой. Наверху, ногами к лошади, расположился Никонов, утопая в траве. Только виднелась его совсем выбеленная солнцем голова — он лежал на животе, подперев подбородок руками,— да взметывали над возом пятки. Время от времени Лешка взбрыкивал ногами — может, муху прогонял. Взгляд его прилип к нашим окнам.
Я подумала, что и Зинка слышала этот свист. Тоже, наверное, глядит на зеленый воз. И я подумала: «Она же всякий раз, как и я, слышит Лешкин свист. Вот и сейчас...»
107
Сейчас-то чего он свистит? Так, видно, по привычке. Не знает же он, в самом деле, что мы с Зульфией здесь.
Сердце-то у меня билось... «Да ни за что! — Я прислонилась спиной к калитке, успокаивая себя.— Это все от Зинкиной взбалмошности. Не хватало еще, чтоб я к этому грубияну чего-то чувствовала, кроме презрения. Свистун. «Глядельщик». И я решительно пошла к Зульфии, в дом пошла.
А она там с папой и тетей Еней сидела, им уж говорить-то было не о чем. Зульфия бросилась ко мне:
— Где ты была? Ушла — и нет.
А я так обрадовалась, что вот — Зульфия! Все такая же, из прежнего моего мира, где не было и нет ни Зинки с ее горем, ни Лешки с его наглостью, которым чего-то от меня надо. Чего я ведать не ведаю и знать не хочу. Как в сказке «Принеси то, не знаю что. Пойди туда, не знаю куда». А Зульфия — это я! Такая, как я! И мне с ней никто не нужен!
— Ой, Зульфия! Зульфия! — прыгала я, как маленькая, не отходя от порога.— Как здорово: я вошла, а ты здесь! И так теперь все время будет!
— Конечно,— как взрослая маленькой, ответила разумная Зульфия,— если ты сама убегать не станешь.
Дядя Фаттых засмеялся, довольный остроумием своей любимой дочки. А тетя Еня сказала:
— Вишь, как хорошо на подружек-то глядеть. Значит, ладно будем жить.
— Как им не ладить, тетя Еня,— закивал головой дядя Фаттых,— они с первого класса вместе, вот только в пятом судьба их разлучила. Ну, теперь снова вместе.
Меня поразило вдруг, как он сказал: «Судьба их разлучила». Судьба! Это такая взрослая хитрость. Считается, что судьба — это то, что должно произойти. Но об этом говорят, когда уже все произошло. Тогда легко считать — судьба! А вот попробуй отгадай, что будет, что случится. Никто не отгадает. Но все равно говорят — судьба.
«Судьба их разлучила», «судьба их разлучила», «судьба их разлучила» — эти красивые, грустные, хоть и обманные слова, сказанные так просто дядей Фаттыхом, стучали у меня в голове, как горошины в детской погремушке, всю дорогу назад, из Пеньков. Пустую телегу на жестком ходу встряхивало, поколачивало на каждом комочке, палке, на самой чуточной неровности дорожной колеи — а проселок, он и есть сплошная неровность,— и слова от этих толчков и поко- лачиваний растрескивались, как сухая глина, разваливались на куски, дребезжали на согласных, одни слоги взлетали вверх, другие кувыркались вниз: «С-у-дд-бба их р-р-р-аз-лу-у-у-чь-и-и-л-а!»
Замучилась я с этой судьбой! Мы и пели, и разговаривали, но стоило мне закрыть рот, как «судьба» тут как тут, вертится на языке.
* * *
Сегодня, когда мы ехали учиться и я опять должна была встретиться с Лешкой, уже никаких сомнений у меня не оставалось: я, конечно, не знаю, что будет в этом году, чему суждено случиться, но чего не будет — я знала точно. Я вообще не стану разговаривать с Никоновым. Только по школьным, классным делам. Все же неестественно вообще-то не разговаривать. А если он собирается по-прежнему «бегать» за мной, то по-прежнему придется ему бегать на большом от меня расстоянии. Эх, хорошо, когда все твердо решишь! Просто прекрасно!
И вообще жизнь была прекрасна и делалась прекрасней с каждым днем. Потому что под этим теплым сентябрьским небом почти уж и не оставалось земли, о которой наш военрук говорил чужими какими-то словами — «временно оккупированная территория». Вся наша земля снова собралась вместе! Мне казалось, именно поэтому небо исходило каким-то особенным светом — не жестким, слепящим, а добрым, утешающим. (Так мама смотрит, вглядывается в мое лицо, когда я возвращаюсь в субботу домой из Пеньков.)
В теплой глубине неба редеющие уже макушки берез таяли, испарялись. И глаза ненасытимо вбирали, впитывали ток красоты, который начинался как раз здесь, на этой неуловимой границе зыбкой древесной кроны и сияющей голубизны.
Теплыми, живыми были и убранные поля. Эти цветки цикория. Точно такого цвета, что и осеннее небо. Можно себе представить, что это лазурь неба превращается на поле в цветы цикория. А сами цветы пристально вглядываются в небо — они видят в нем свою родину. И снова хотят попасть туда, снова стать не отдельными цветками, а слитной безбрежной лазурью. Поэтому-то, думала я, такие грустные эти цветки, и потому они — нежные — кажутся совсем чужими, случайными на своих грубых, палкообразных стеблях.
* * *
В школе Мелентий Фомич произнес такую речь! Сказал: по всему видно, что нам нынче выпала честь начинать ученье в году, который останется в веках самой светлой вехой.
— Светочем! — добавил торжественно директор и поднял вверх указательный палец. Он помолчал торжественно и добавил по-свойски, будничным голосом: — Потому что, наверное, все-таки скоро наши войдут в Берлин. И тогда — безоговорочная капитуляция! — снова возвысился его голос.
Вот уж мы покричали «Ура!». Все кричали и кричали, как будто уже произошла безоговорочная капитуляция фашистов!
Учителя наши стали переглядываться, ну а мы все больше возбуждались от собственного крика. И тогда Силантий Михайлович, военрук, рявкнул своим военным голосом:
109
— Отставить!
Мы постепенно замолкли, видя, что учителя нахмурились. И тогда военрук, улыбнувшись как-то косо, сказал:
— Вы, ребята, того... извините, что прервал ваше веселье. Мы понимаем. Но... того... не сглазить бы лишним криком, еще не кончилась война. Будем считать, что вы кричали «ура» в честь новых занятий. Ведь... того... еще воюем. Еще есть и будут жертвы на войне...
Мне стало стыдно до слез. Вот тебе и военрук, над которым мы, бывало, и подсмеиваемся между собой: «Силантий, Силантий, я в городе была!» — «Бу-бу-бу! Была так была!»
А мы-то раскричались как грачи. Обрадовались, как малыши неразумные. Так наше бессмысленное веселье и легкомысленное настроение первого сентября было притушено.
Нужно было еще воевать, нужно было учиться. Но все равно что-то осталось от нашего крика, какое-то радостное эхо осталось звенеть в воздухе этого дня, какое-то радостное предчувствие! Мне еще предстояло Никонова увидеть. Летом сколько думала и старалась себе представить первую встречу. Очень опасалась, что мне станет жалко его, исстрадавшегося от любви, и будет очень неловко, буду себя чувствовать виноватой перед ним. После Зининых речей все должно было стать по-другому. Тихий, страдающий Никонов... Ведь говорила же Зинка, что он даже и на улицу не выходит...
Да, давненько не видела я Никонова, крепко успела забыть его нрав и обычаи, раз могла так о нем думать.
Лешка как ни в чем не бывало заорал, увидев после митинга нас с Зульфией и Садовым:
— Ага! Совхоз-обоз прибыл! С пополнением (это про Зульфию). Ну, здорово, Степан! И он за руку, как взрослый парень, поздоровался со Степой. На нас с Зульфией только раз глянул.
Ай да страдалец! Вот так Зина-молодец! Ну, фантазерка!
Очень хорошо, что Никонов сел на самую последнюю парту в своем ряду. Мне совсем его не было видно: мы с Зульфией выбрали в своем, девчачьем ряду самую первую.
Первые уроки мне даже было немного досадно: чего-то я
ждала, а ничего не изменилось. Все придумала Зинка! Лешка все такой же. Я приготовилась к борьбе, а и бороться-то не с чем. Гак бывает: думаешь, дверь не открывается, надавишь на нее что есть силы, а ее словно бы и нет — легко распахивается, и летишь вперед головой!
Никуда я, конечно, не полетела. Были у меня и другие переживания.
Бабушкина кровать
Вечером тетя Еня нам сказала:
— Девчатки, есть большая кровать, зачем вам на полу ежиться.
Мы переглянулись, посмотрели: разве есть еще одна кровать?
Другой не было, только бабушкина. Тетя Еня подтвердила:
— Другой нет. Эта.— И, помолчав, заговорила: — Знаю; думаете, как же после мертвой. А вы проще поглядите на это дело. Даша вот застала маму. Знаете, какой она была человек! Добрая, почитай, святая, потому что давно уж отошла от людских дел. Ни пахать, ни стирать, ни детей купать. Сама как малое дите. И чистенькая, как дите,— в пеленочках да простыночках. Мытая мною, перемытая... И мать она мне, знаю, что меня рожала в муках, а стала она сама дитем моим... И всю-то жизнь с рук моих не сходила. Я в поле — а мама как? Я в лес по дрова — а мама? Я корову обиходить, теленочка принять, а все одно — мысли мои над ней: не упала б, не надо ли ей чего. Сколько пролежней ей закупала, травами запарила. Летом хочешь не хочешь одну ее оставляешь: есть-пить надо — значит, в поле надо, на огород... Некому ее на бок повернуть, ни судно подать... Вот и шли пролежни, раны такие. Я возле нее, как только ее руке достать, ставила миску с водой да хлебушек. Так она и то не трогала, чтоб на двор без меня не захотеть. А приду — воду грею, в корыто ее сношу. Я уж сказывала, она первые-то годы лежки тяжела стала, так с тех пор меня спина и мает, что-то в спине моей стронулось...
Мы с Зульфией слушали, замерев и забыв о кровати, и впервые нам открывалась настоящая жизнь тети Ени. Мы не могли еще себе представить, что такое пятьдесят лет, нам было по тринадцати, но заботы каждого дня с таким беспомощным, как грудной ребенок, человеком, мы понимали. То есть вот именно: куда бы ты ни пошла, чем бы ни занялась, помни — без тебя пропадает мама.
— Тетя Еня! Но ведь у вас еще были сестра и брат! — вспомнила я.
— Были и есть,— помедлив, ответила она.— Но глядите, как получилось. Я младшая была. Мне тринадцать лет сравнялось, когда маму паралич разбил. Вот как вы сейчас. Да, так! — поглядев на нас с новым интересом — мол, какой я-то была! — сказала тетя Еня.— Ну, пока я росла, брат женился, сестра вышла замуж. А как мне войти в возраст — глядь, я при маме-то одна... Незамужняя, а с дитем. Не скажу, что не сватали. Сватали. И неплохие. Уговаривали: «Мы маманю не оставим». Но я не глупа родилась. Да и глупому понятно: своя семья — свое хозяйство: по дому, да со скотиной, да дети пойдут. Что матери-то от меня останется? Рожки да ножки. А мужнина родня, как ни будь хороша, за попреками не постоит... Как поняла я, что мы с мамой одне в избе остались, все это я твердо решила. Так что, девоньки,— вдруг неожиданно заключила она,— эта кровать — не ложе смертное, а живая моя жизнь, работа моя пожизненная. Вымыла я кроватку летом со щелоком, на солнце
ill
сколь недель продержала. Спите на ней и не сомневайтесь: сны у вас будут добрые. Мама моя ласковая была. А и ей будет хорошо знать, что наши девочки ею не побрезговали.
Нас не надо было уговаривать. Мы устроились на бывшей бабушкиной кровати с чувством, будто совершаем некий обряд, приятный ей, а более, мы знали, тете Ене. Великую силу имеют слова человеческие. Да и не слова были сказаны — дала нам увидеть иную жизнь наша квартирная хозяйка.
Долго не могла я уснуть. Вспоминала, как ласково всегда разговаривала бабушка: «Донюшка, Енюшка, Дашенька, Англеюшко...» Подумала, что тетя Еня, напротив, никогда почти не употребляла ласкательных слов. Только разве вот «девоньки». И то редко. И поняла я теперь еще одну муку самой бабушки, о которой как-то сначала не думала: ведь она могла ответить дочери на все ее заботы только ласковыми словами. Да молитвами — припомнила я ее четки. Вот ужас-то!
— Енюшка, доня моя,— попробовала я выговорить и зажала себе рот обеими руками.
—- Ты что? — зашептала мне Зульфия со своего конца кровати — мы лежали «валетом».
— Я про тетю Еню...
— Это был ее долг,— прошептала Зульфия. Она всегда все любила называть точно.
Но оттого, что теперь подружка моя тихонько шептала, получилось, будто она открывает мне страшную тайну. А я с удивлением думала, что мы все это поняли только после бабушкиной смерти. А знали же всегда про пятьдесят лет бабушкиного лежания.
Мы жили под одной крышей с тетей Еней и бабушкой, они с нами говорили, пили-ели за одним столом, а на самом деле — словно на двух разных планетах. Тетя Еня приоткрыла перед нами темный занавес — и такая открылась глубина! А ведь это только намек на то, что пережила и переборола в себе тетя Еня... А бабушка... И подумала я о своих. Я люблю их. И знаю многое из их жизни. И в то же время ну ничего не знаю! Даже не знаю, как папа и мама полюбили друг друга. Ведь и они сначала не были знакомы. Ну, знаю, что вместе учились в институте, а что чувствовал папа, когда увидел маму? Что она? Каким он ей показался? Что она подумала? Сейчас невозможно себе представить, как это папа и мама были разными людьми.
И мы все живем и ничего не знаем друг о друге. Вот и Зульфия сейчас со мной, я чувствую ее тепло. А она ведь не знает, что мучает меня. Не знает про Никонова. И я тоже не знаю — может, и у Зульфии есть свои тайны. Но я, например, ни за что не рассказала бы ей про свои.
«Ойся да ойся!»
У нас началась подготовка к Октябрьским праздникам. Вот интересно: в прошлом году, когда мы учились в пятом классе, ничего у нас не было. А в шестом все здорово переменилось.
Обеды теперь варили из хорошей картошки, а суп даже луком заправляли! И хворост возить на себе не было нужды — дров школе заготовили и завезли вволю.
А вот и о концерте, о самодеятельности заговорили!
Мария Степановна попросила всех подумать, кто что умеет делать, кто что предлагает в программу. И предупредила, что лучшие номера пойдут в сводный концерт — то есть вместе с седьмым классом — и, может быть, мы поедем на смотр в районный центр.
Это само по себе здорово — смотр! От Пеньков до центра тридцать километров. Ехать на лошадях, ночевать там!
Мария Степановна особо нас предупредила, чтобы мы выбирали стихи, и песни, и сценки не только на военную тему — хорошо бы что-то из жизни наших национальных республик, из русского фольклора.
Не знаю, кому как, а мне в самодеятельности больше всего нравится подготовка. С самого-самого начала, когда ищешь, выбираешь, пробуешь, что предложить в концерт. А потом начнутся поиски костюмов, шитье-перешивание, потом декорации придумывать, оформление, музыку искать... Все ужасно интересно, больше ни о чем не думаешь. А потом репетиции! Но это уж совсем потом!
Особенно здорово было, что мы живем вдвоем с Зульфией. Все время вместе!
Сначала мы с ней дома сели и записали, что можно спеть. Много же мы, оказалось, знали песен — все в дороге пели, от Лены я узнала немало. Конечно, прежде всего «Вьется в тесной печурке огонь...». Мы ее еще в совхозной школе пели, в четвертом классе. Потом, «Офицерский вальс»: «Ночь коротка, спят облака...». Очень кстати вспомнили и «Васю-Василька». Песня весело и дружно получается из-за громкого припева: «Эй, дружок!» — если только грянуть, особенно мальчишескими голосами: «Эй, Вася-Василек!» И за- частить-зачастить с издевочкой:
Не к лицу бойцу кручин
Места горю не давай.
Если даже есть причина,
Никогда не унывай!..
И потом опять врастяжку:
Места горю не дава-ай...
И снова резко, весело:
Никогда не унывай!
113
И повторяли:
Не унывай!
Это обязательно надо! Эх, хорошо бы спеть то, что по радио не поют, а мы поем по дороге:
Вдыхая розы аромат...
Или:
Эх, бирюзовые, золоты колечки...
Или:
Эх, загулял, загулял, загулял Парень молодой!..
Одним словом, все на «Эх!». Но мы понимали, что эти песни не для школы. Хотя взять песню «Ехали цыгане», где «парень молодой»... Она, пожалуй, и годится. Тем более что имеет национальные черты: про цыган.
Зульфия со мной согласилась и предложила вспомнить еще и про Шамиля.
— Можно б и «Хас-Булат удалой», тоже национальная,— задумчиво сказала Зульфия,— но там есть слова еще не для нас... Помнишь ведь?
Я кивнула.
— А так она хорошо у нас получается...— продолжала Зульфия. Мы с ней немного помурлыкали мелодию — хорошо! Широкая,
раздольная! Ну, да что время зря терять, ясно, что ее нельзя.
И мы стали вспоминать Шамиля. Ведь Шамиль — национальный герой, вождь восставших. Это будет кстати.
Но мы вспомнили только два куплета и припев. Это все знают:
На горе стоит Шамиль,
Молится он богу...
Хм, богу... Не очень-то хорошо, конечно... Но все-таки понятно. Ведь в то время восставшие мусульмане верили в своего бога и как раз объединялись на борьбу с царем на почве религии и своего бога.
Потом шло в песне так:
Вынимает свой кинжал,
Кладет на дорогу...
И тут меня осенило!
— Зульфия! — заорала я.— Это же можно все разыграть! Кто-
114
нибудь будет Шамилем и все, что поется, станет выполнять на сцене! Во, гляди!
Я встала в горделивую позу, выставив ногу вперед, и хмуро посмотрела вдаль. А потом медленно опустилась на колени и провела ладонями, сложив их в лодочку, по лицу, ото лба к подбородку. Затем настала очередь кинжала. Медленно подведя правую руку к поясу слева, я еще медленнее вытащила «кинжал», придерживая «ножны» левой, и, склонившись, положила его на дорогу.
Я вскочила.
И потом Зульфия:
«Ойся да ойся!
Ты меня не бойся!
Я тебя не укушу,
Ты не беспокойся!»
Это мы уж с ней вместе проорали, выкидывая друг перед другом руки то вправо, то влево и высоко вскидывая колени. Лезгинку мы с ней изобразили.
— И знаешь, когда пойдет «Ойся!», пусть он кинжал возьмет в зубы, вот так! — оскалилась яростно Зульфия, и ее черные глаза сверкнули страшно.
— Зульфия-а! Да ты знаешь, что ты готовый Шамиль! Посмотрись-ка в зеркало, вот так! — Ия оскалила зубы.
Зульфия посмотрелась, но долго не могла удержать свирепую гримасу — расхохоталась.
Потом мы быстро записали второй, всем известный куплет. Это когда к Шамилю приходит его невеста (очевидно, туда же на гору) и нежно его упрекает:
«Ах, зачем ты не пришел,
Когда я велела,
До двенадцати часов Лампочка горела!
И дальше снова яростный танец «Ойся!». Теперь уже вместе с невестой. Как танцуют горские невесты, мы не знали, и на всякий случай, пока, она танцевала, как Шамиль.
Тут мы решили, что для невесты я не гожусь, потому что почти на голову выше «Шамиля», и согласились: отличная невеста выйдет из Верки Матвеевой.
Но больше ничего мы не знали из «Шамиля», только две строки из самого конца, где он грозно говорит своей невесте:
«А затем я не пришел,
Чтоб тебя зарезать!» —
и закалывает ее кинжалом.
— И это непонятно,— вздохнула Зульфия.— Он не пришел, чтоб ее зарезать!
115
— Нет, понятно,— возразила я.— Это он так иронизирует. Дескать, вчера бы пришел, так вчера бы зарезал. А так сегодня сама, мол, напросилась.
Но тут я замолкла, так как все равно было неясно: за что Шамиль должен резать невесту?! Тем более будучи вождем восставшего народа, хоть пока и несознательным? Ответ подсказал Хас-Булат: там-то были все куплеты известны. Мы вспомнили Хас-Булата и догадались, за что: за измену!
Теперь оставалось лишь сочинить куплеты, чтоб и всем стало ясно. Естественно было начать ответ издалека, повторяя невестин же вопрос:
«Ах, затем я не пришел...»
Конечно, он к ней обращается: «Моя дорогая!»
Итак:
«Ах, затем я не пришел,
Моя дорогая...» —
написала я, проговаривая вслух, и Зульфия легко докончила одним духом:
«Что молился на горе,
Кинжалом сверкая!»
И мы дружно закрепили успех припевом!
А дальше должна она сообщать про свою измену, и тоже с издевкой и в открытую, как полагается гордой горянке.
«Ты меня не пожалел...» —
стала я писать. И пока моя рука выводила буквы, в голове сложилось остальное:
«Но и я молилась!
А теперь узнай, что я К тебе изменилась!»
И пошла «Ойся!», да такая, что чуть зеркало не сорвалось с крюка над столом.
— Слушай! — вдруг среди «Ойся!» остановилась Зульфия и в ужасе округлила глаза.— Слушай! Я ведь вспомнила настоящий куплет! Что же, теперь все пропадет?!
— Говори же! — топнула я ногой в азарте и бешенстве.
«Ах, затем я не пришел,
Кинжал затупился...
А теперь я наточил И к тебе явился...» —
падающим голосом, все ниже и тише, проговорила Зульфия.
116
Мы стояли друг против друга, как два боевых петуха, уже утратившие пыл боя, но еще не умеющие разойтись с честью.
— Ой, Зульфия! Как хорошо, что ты его не сразу вспомнила! — начала я что-то понимать.— Тогда б мы ни за что не стали сами сочинять... А больше ничего не помнишь?
Зульфия затрясла головой, что нет.
— Правда,— заговорила она уже веселей,— этот куплет вовсе не мешает! Пусть будет!
Мы закончили жуткую историю шамильской любви, сочинив и еще один куплет, который исполняется на два голоса. Невеста спрашивает:
«Ты зачем его точил?
Это что за дерзость?»
И он отвечает:
«Я затем его точил,
Чтоб тебя зарезать!»
Мы были очень довольны. И много раз подряд проделали «Ойся!». Устали и уселись к столу, чтоб все хорошо переписать в двух экземплярах. Но, дойдя до припева, я споткнулась: «Я тебя не укушу» совсем не подходит ко всей сцене! Какая-то ерунда. Словно бы в насмешку. Я сказала об этом Зульфии. У нас же трагедия! Шамиль же кинжалом ее зарезал!
— Ага! — нашлась Зульфия.— Вот так и напишем — про зарезать! Ого как!
«Ойся да ойся!
Ты меня не бойся,
Я тебя не буду резать,
Ты не беспокойся!»
Мы все переписали. Теперь «Шамиль» готов к первой встрече с Марией Степановной. А у меня было еще одно предложение. Я хотела прочитать отрывок из статьи, вырезанной мною в прошлом году из газеты «Правда». Я хранила его в тайной тетради, где у меня между страниц лежали вырезанные из газет фотографии и вот даже одна статья.
Но я приберегу ее для генеральной репетиции. А сначала только Марии Степановне покажу. Потому что много раз нельзя вслух читать то, о чем в ней рассказывалось. Я и Зульфии не могла ее показать: тетрадь хранилась дома.
И, переписав все и сложив в сумки учебники на завтра и принимаясь готовить свой завтрашний обед, мы не могли успокоиться
117
и все пели «Шамиля». Мы представляли себе, как Вера Матвеева запоет:
«Ах, зачем ты не пришел...»
И я жалела, что не придется самой участвовать в «Шамиле». А не придется! Тем более если читать тот отрывок из статьи.
Утром выпал первый снег. Тот самый, который зиму предвещает, но еще не начинает. И все равно первый снег — событие! Мы шли в школу и дышали свежим запахом огурцов. Очень люблю я, когда так пахнет. А то бывает в день первого снега в воздухе запах сырой тыквы. Такой запах иной раз стоит и в зимние оттепельные вечера.
Но сегодня чуть морозно, хоть и тучи. И пожалуйста — огурцы.
Снежок летел реденько, а неровный, порывами, ветерок не давал ему улечься спокойно. И вся улица — застывшие глубокие колеи разъезженной грязи, бурая трава по обочинам — кажется особенно неприветливой из-за сиротливо прячущейся в бороздах и рытвинах, под комками и кочками тонкой, серенькой рясочки снега. В траве его пороша побелее. А небо тоже грязно-серое, низкое. И все-таки первый снег — событие! В этом году он — первый. Это что-нибудь да значит.
— Ойся да ойся! — покрикиваем потихоньку мы с Зульфией, прыгая с одной мерзлой кочки на другую.
— Ойся да ойся! — сшибаемся плечами, убегаем друг от друга.
* * *
Почему-то Мария Степановна не пришла в восторг от нашего сочинения о Шамиле. Это она так сказала. А сначала смеялась.
Увидев, как мы опечалились после ее слов, посоветовала где-нибудь дома исполнить «эту оперу», как она выразилась.
Вот так всегда! Мы стараемся, нам хорошо и весело, а у взрослых какие-то свои соображения, и твоя работа и радость превращаются в одно недоумение. В какую-то глупость... Все настроение испортила нам на целый день!
В большую перемену, печальные, мы вышли с Зульфией за школу. День прояснился, а мороз остался и, может, еще и окреп. Мы сели на завалинку, обшитую тесом, под окна нашего класса. Шестой класс смотрит окнами не во двор, как пятый, а в противоположную сторону — за большой, будто пропасть, овраг, на зады и огороды одного из проулков села.
Мы сидели, щурясь от солнышка, смотрели, как последняя паутинка совсем запоздавшего и терпящего бедствие паука-путеше-
118
ственника дрожит и переливается, зацепившись за дрецесное волоконце на стене нашей школы, как прощально зеленеют травинки на южном склоне оврага, упрямо прорастающие, несмотря на позднюю осень, невзирая на пожелтевшие, побуревшие поколения своей родни, полегшей вокруг и над ними. А может, благодаря сухостою и зеленели травинки: их согревало солнечное тепло, удержанное над землей темными, бурыми стеблями бурьяна.
Небо в разрывах туч было сегодня таким по-летнему синим! Но серые, безобразные тучи с лохматыми, раздерганными краями не давали долго покрасоваться голубому теплому оконцу, стирали его, словно наша пропитанная, пропыленная мелом классная тряпка, которая делала доску не чистой, а мутной. Но как блестел бурьян на огородах за оврагом и в самом овраге в эти редкие солнечные минуты! Как блестели круглые стебли-соломины умерших трав! Неистово, ослепительно! Летом блестит и свежая трава на лугу, но она мягка, шелковиста, а сейчас ее блеск как сверкание сложенного, брошенного в бегстве оружия, доспехов.
Мы сидели, смотрели, прощались с землей перед снегом. Даже наша обида как-то утихла.
Но прозвенел звонок, и очарование исчезло.
— Эх! Обидно! — сказала Зульфия.— Скукота теперь будет, а не концерт.
— Говорит — придумайте, а придумали, так и смеется!.. Ну и пусть будет, как сами хотят.
А получилось так, что вовсе ничего не было. Пришел Мелентий Фомич и объявил, что раз всех нас распускают по домам в субботу четвертого, а в колхозе торжественное собрание будет шестого, то концерт готовят лишь пеньковские ребята. А деревенским и совхозным не стоит приходить — каникулы короткие.
Не будь истории с «Шамилем», мы бы расстроились. А так — позлорадствовали: «Вот и хорошо! Поделом!»
Карусели
Зима нынче выпала обильная снегом. Шел снегопад за снегопадом. Так что почти каждое утро к нашим воротам и калитке надо было расчищать дорожки. Образовались глубокие траншеи с крепкими вертикальными стенками.
Чистили старательно, чуть не до земли. И дорожки были ровные, присыпанные белой снежной крупкой.
Нам редко доставалось чистить. Только когда тетя Еня не успевала сделать это поутру сама.
Мы просили ее дожидаться нас после школы. А она удивлялась:
— Неужто полдня занесенной сидеть? Да в снегу вязнуть? Люди скажут: «Это что ж за ленивый двор? С утра не чищен!»
Но иной раз и стоял двор «ленивым». И уж тогда мы старались, придя с уроков! Приятно вонзать широкую и белую деревянную лопату в свежий пласт снега, Щ-ш-ш! — шуршит по лопате. Вырубишь кубик, подденешь снизу — как пышный кусок бисквита! А иной кусок распадется, рассыплется. Мы соревновались, у кого больше цельных кусков.
А Лешка работал у своего двора. Почти всегда как мы выходили, так и он. Залезет на свои ворота и свистит нам. Но не подходит. Только кричит:
— Эй, девчата! Кто скорей!
Нынче посмирнее стал Лешка.
А как-то мы увидели, что они с Карпэем что-то строят перед никоновскими воротами. Какие-то жерди у них лежат, снег они роют — только пыль столбом!
А на следующей неделе, когда мы все шли из школы домой, ребята, обогнав нас у поворота в проулок и отойдя порядочно, закричали:
— Эй, совхоз! Приходите после обеда к нашему двору! Чё-то покажем!
Мы остановились. Переглянулись.
— А драться не будете? — крикнула Зульфия.
— Вона! Чё, мы дрались ли когда? — обиделся Лешка.
— А мы еще девчат позовем! — прокричала я, думая, что если нас больше, так спокойней.
— Зовите хоть ребят! — ответили нам.
А у них правда было что-то интересное, мы и сейчас видели: тележное колесо, укрепленное горизонтально над землей, чернело у Лешкиных ворот. А на нем, перечеркивая его по диаметру, лежала длинная слега.
— Эй, придете? — еще позвали мальчишки.
— Придем! — переглянулись мы с Зульфией и прыснули от смеху.
Мы сбегали за Шуркой Омелиной, кликнули Зину Косину и, когда пришли к Лешкиному двору, увидели, что там и наш Степка Садов. Он, длинный, как столб, ходил вокруг колеса и, прицокивая, одобрял работу. А Лешка и Коська стояли рядком, как братья, руки в карманах, и принимали поздравления спокойно и с достоинством.
Увидев нас, Лешка подпрыгнул и хлопнул себя рукавицами по бокам:
— Сколько девчат, а санок двое! — и убежал во двор к себе.
Настала пора и нам удивляться. Колесо было насажено на крепкий кол, намертво вмороженный в снежный конус, хорошо утрамбованный и залитый водой. А вокруг колеса была проложена круговая дорожка, тоже ледяная. Получалась такая здоровая окружность с колесом в центре.
120
— А слега зачем? — спросила я, хоть могла спросить с тем же успехом: «Колесо зачем?»
— Счас увидишь! — радовался Карпэй.
— Это карусель! Каталка-ледянка! — сказала Зинка.— Мне мама рассказывала — им парни тоже устраивали, а я еще не видела такой!
Когда Лешка приволок санки и привязал их к концам слеги — одни санки на один, а другие на второй конец, все поняли, что за штука.
— Садитесь, девчонки, не бойтесь! — суетились ребята.— Эх, прокатим!
Но мы им не очень-то доверяли.
— Еще раскрутите да оборвете веревки! — сказала Шура.
Но Зина побежала к салазкам и уселась лицом вперед, поджав под себя одну ногу, а другую вытянув назад, чтобы тормозить и править.
— Во, Коса! За что люблю тебя — за смелость! — довольно сказал Лешка.
И я увидела, как вспыхнули глаза и щеки Зинки.
Во вторые санки плюхнулся Степка, загребая во все стороны ногами. А мы, оставшиеся, как научил нас Лешка, взялись за слегу и пошли по кругу. Натянулись веревки, и повело карусель! Полетели птицами санки по ледяной дорожке — только визг и свист из-под полозьев! Это была забава так забава!
Лешка, когда карусель раскрутилась, кинулся в санки к Степке, веревка не выдержала, лопнула, и они стремглав полетели прямо в никоновские ворота! Ворота загремели, ребята отскочили от них, как тряпочные мячи, в сугроб!
Мы их откапывали, увязывали веревку, подцепляли ее к слеге...
Удивительное чувство, когда летишь по кругу на санках: тебя рвет в сторону могучая сила, и ты изо всех сил впиваешься в хрупкие санки, понимая: оборвется веревка — и ты вместе с санями превратишься в дальнобойный снаряд.
А дыхание сжимает восторг скорости! Но девчат мальчишки вели осторожно — если сбрасывали петлю веревки со слеги, так уж не на большой скорости. И мы кувыркались в сугробы просто для веселья. Скоро все были мокрые и румяные, но не уходил никто, пока Лешку не крикнула мать.
Но Никонов все-таки попытался обнять меня, когда мы бежали рядом, толкая слегу. Мы бежали и кричали что-то, будто так всегда и было, будто мы всегда дружили и играли вместе... И, повернувшись к Лешке, я ему крикнула сквозь смех:
— Во здорово! Весело, да?!
И этот дурак Никонов сразу полез обниматься, да еще и заорал во все горло:
— Вот ты где мне попалась!
Я вывернулась и, отпрыгнув в сторону, крикнула ему:
— Только полезь еще! Меня здесь больше не увидишь!
А Никонов знай хохочет и, ничуть не смутившись, мне:
122
— Ишь Плетешок! Какой вредный! — И Степке: — Степан, как ты терпишь?! У вас в совхозе девчата эдакие непримиримые!
Но Степан в этот момент на санках по кругу вжикал и не слыхал Лешкиной подначки из-за свиста полозьев по льду, из-за ветра в ушах. Только я слышала и ответила:
— А вот такие!
Хотела я тут же уйти, да уж очень было весело! И, постояв немного, я взялась за слегу с другого конца, где бежали Шурка и Карпэй. Больше Лешка меня не задевал.
Уходя, Карпэй и Лешка нас звали:
— Завтра придете?
Еще бы не прийти!
Вечером, ложась спать, я посомневалась, не нарушаю ли я свою клятву против Никонова. Решила, что нет. Что ж мне, царевну-не- смеяну из себя строить?! Все-таки что-то мне досаждало, мешало. Пришлось честно сознаться, это были Лешкины слова: «За что я люблю тебя — за смелость!», сказанные Зинке. Он, наверное, думает, что я не смелая...
Тетя Еня слушала вечером наши рассказы, улыбалась и сказала:
— Что и говорить, постарались ребятки. Они накануне-то, поди, всю ночь возились, воды-то много потребно на заливку. Я ночью скотину проведать выходила, слышу, колодезь у Никоновых скрип да скрип. Выглянула — видать плохо, да слышу — водой плещут. Что, думаю, за плесканье середь ночи да зимы? Да вспомнила: днем-от у двора колесо торчало! Догадалась: карусель вмораживают ребятки. Вот как они вас уважили! Весной, поди, качели поставят... Растут парнишки. Вишь, летось никаких ледянок мы с вами не видывали, а нынче — вот...
Дежурства
А вскоре после открытия карусели произошло новое событие. Да какое! Никто его и не ждал. Началось все поздно вечером, когда уже ничего бы не должно начинаться. Сидели мы после ужина, рисовали вырезанным из бумаги куклам наряды — платья, и шапочки, и пальто. Такие фасоны придумывали, какие нам самим для себя хотелось, да не было, как вдруг...
Вдруг услышали — брякает щеколда калитки! И вот уже торопливый бег по крыльцу. Поздний гость в неурочный час!
— Можно ли? — тонкий голос за дверью.
— Входите! — разом крикнули мы с Зульфией.
И в комнату вошла Шура Омелина. Она почтительно поздоровалась с тетей Еней, а потом приказала нам:
— Живо собирайтесь — ив школу! Директор велел, всех по цепочке собираем. Я вот к вам, а вам надо зайти за Никоновым и Карповым.
123
Я уже шла к вешалке за пальто, когда меня настигли Шурки- ны слова, и я чуть не упала — так затормозила свой разгон.
— Ты чё спотыкаешься? — подозрительно смотрит на меня Шурка.
И тут меня просто осенило!
— Шур! Ты уж одета, обута, а у меня вон еще валенки в печке просушиваются. Тут два шага до Никоновых! Сбегай, а? Мы тем временем готовы будем, и ты как раз к нам подойдешь, не дожидаясь мальчишек, и мы все пойдем.
— Нну ладно...— нехотя согласилась Шурка.— Только вы тогда быстрей! Я-то в два счета...
Дверь за ней закрылась.
Мне показалось, что тетя Еня с интересом глянула на меня из-за прялки. Я вспыхнула. Она, конечно, не могла догадаться, почему мне не захотелось идти к Лешке. Да и мы уже выбежали из дома, некогда было думать, что там думает тетя Еня.
За калиткой, в крепко морозной тишине звездной ночи мы сразу услышали крахмалистый резкий скрип снега: вниз от дома Никоновых по склону пологого холма неслась Шурка.
— Айдате! — махнула она нам и пронеслась дальше.
— Шурка, пожар, что ли?! — возмутилась Зульфия.— Что несешься?
Шурка приостановилась, тяжело дыша.
— Да ну их, в самом деле! Подумаешь, испугали!
— Кого «их», Шура?
— Мальчишек ваших! Ведь не хотела я идти. И не надо было! — сказала она обиженно.
— Ну?
— Ну что «ну»? Я им говорю — они оба у Лешки сидели — в школу давайте! Сбор, мол, по цепочке! А тут Лешка как подпрыгнет, как козел! И на меня! Если, говорит, по цепочке, какого черта ты здесь? Наша, говорит цепочка — это Плетнева и Закирова! Они должны были прийти! Поняла, нет? Прямо орет! Даже его мать вышла и ему по лбу дала, вот! Ты, говорит, что разорался? За тобой, грит, девочка прибежала, а ты заместо спасиба на нее глотку дерешь! Я и за дверь! Думаю, еще драться начнет, Лешка-то! Фиг вам, чтоб я больше пошла вместо вас! — закончила Шурка торжественной клятвой.
— Подумайте, какой Никонов у нас гордый! — возмутилась Зульфия.— Цепочка ему не та!
Ну а я молчала. Затаилась.
* * *
Срочный сбор по цепочке созвал военрук. В наш класс набились шести- и семиклассники — конечно, только пеньковские. И вот что объявил нам военрук:
— Как мы есть военная часть, со своим оружием — имеем винтовки и гранаты,— и эта наша матчасть (материальная часть) есть военный объект, мы должны его охранять. То есть нужен пост с часовыми. Для охраны военного объекта, то есть нашего оружия — винтсвок и гранат. Конечно,— для справедливости добавил военрук,— винтовки и гранаты наши есть деревянные макеты, но и мы сами, ученики, еще не самые бойцы, а, можно сказать, тоже еще макеты бойцов. Значит, все и будет в самый раз. А теперь,— повысил он голос до командных нот,— сводный боевой отряд старших классов Пеньковской семилетней школы, на дворе построиться!
Как интересно ночью, в темноте, строиться на школьном дворе! Будто нам сейчас дадут настоящее боевое задание...
Мы построились за семиклассниками и рассчитались на первый- второй.
— Первый! — из темноты донесся тонкий голосок Веры Матвеевой.— Расчет закончен!
— Каждая пара — дежурные часовые,— объяснил военрук,— по очереди, одна за другой, несут наряд по охране боевого оружия с восемнадцати ноль-ноль каждого дня, окромя субботы и воскресенья, до шести ноль-ноль следующего дня. От уроков дежурные не освобождаются. Назначаю по двое человек, чтоб, сменяя друг друга, могли отдохнуть.
Проверяющими посты назначаю себя, директора школы и завуча школы. Дежурные часовые, застигнутые на посту во время сна, будут строго наказываться, вплоть до исключения из школы.
Вот так вот... Да, наряд по охране оружия несут только пеньковские. Деревенские освобождаются, поскольку далеко живут.
— А как дежурить-то? — весело спросил Никонов.
— Теперь снова в класс! Там поговорим!
Ну, оказалось ничего страшного: просто ходить с винтовкой (макетом) вокруг здания нашей начальной школы, где в одной из комнат, не занятой классом, размещался наш арсенал: стойки, в гнездах которых стояли пронумерованные макеты винтовок, а на полках, вдоль стен,— гранаты.
— Если дождь или буран,— разрешил военрук,— стоять на посту внутри школы, перед дверью, где оружие.
Начинал седьмой класс, как старший. Это хорошо! Они начнут, а мы посмотрим.
Когда уже все расходились по домам, военрук вспомнил:
— Да, Матвеева! Ты, как неполный пост, придаешься Плетневой и Закировой. Все понятно?
125
— Так точно, товарищ военрук! — бодро отозвалась Вера, отличный боец.
С хохотом бежали мы домой, с наигранным ужасом обсуждали новость.
— Ого! Ночь не спать, а потом на уроках!
— Ой, девчонки! Страшно-то как: одна спит, а ты ходи в темноте с деревянным штыком!
— Да бросьте вы, дурочки! — басит Карпэй,— Думаете, они придут проверять среди ночи? Как не так!
А для чего же тогда дежурства? — спрашиваю я его.— Чтобы их, что ли, обманывать? Они думают, мы дежурим, а мы будем спать?
— Вот скажи, скажи, ты умная,— зло спросил Лешка,— зачем эти дежурства? Деревяшки наши, что ли, в самом деле охранять? От кого? От крыс?..
Он ждал, что я отвечу, а я молчала.
— Ну? Чего молчишь? — вдруг ласково понукнул он меня.— И такой это был резкий переход от злого к ласковому голосу, будто в темноте было два Лешки с разными голосами.
Я ничего не могла придумать ему в ответ. Я понимала, что дежурства — это очень здорово придумано. И конечно, не для того, чтобы спать, обманывая военрука.
— Для того, чтоб интересней было,— сказала я, наконец, неуверенно. Глупость, конечно. Понимала, что не то говорю.
А надо бы сказать правильно, чтоб сразу все поверили. Ведь ждали моего ответа все ребята, а не один Лешка. Они сразу притихли, когда Никонов задал свой злой вопрос. И вот я порю чепуху. Как только я ответила, все зашумели опять.
В общем-то, все согласились, дежурить будет интересно, только Зульфия справедливо, конечно, заметила, что ради нашего интереса никто бы не стал хлопотать.
Опять стали смеяться, придумывая, как можно напугать дежурных: тогда и интерес, когда страшно!
Говорили, что надо выдолбить тыкву, прорезать в ней дырки для глаз и рта и подсвечивать изнутри из тыквы свечкой. Если в темное ночное окно заглянет такой страшила, да когда не ждут, тут можно с ума сойти, как жутко станет!
— Ну, Плетнева, мы вам с Веркой устроим интерес! Мы такой вам устр-р-роим р-р-разинтересный интер-р-рес! — радовался Лешка, раскатывая свое трескучее «р».— Коська, мы знаешь что сделаем!..
И он, повиснув на плече своего друга, отвел его от нас и что-то, видимо, ему шептал. Потому что вскоре из темноты грохнул их мерзкий хохот.
— Гиены! — не удержалась я от злости.
— Ш-то?! — надвинулся на меня Лешка.
— Она говорит: так, как вы, гиены хохочут,— как будто с иностранного, перевела Зульфия.
126
— Ладно, мы с вами там и за гиен рассчитаемся,— опять успокоился Лешка, вспомнив, видимо, о своем кровожадном плане.
Остальную дорогу они с Коськой шли впереди нас, и время от времени хохот гиен повторялся.
Тетя Еня только головой покачала, услышав, зачем нас темным
вечером собирали.
Хотят из вас храбрых бойцов воспитать,— проговорила
она.— Да только беды бы не вышло.
Вот он, ответ, который я не нашла вовремя! Как же это я! Ведь ясно же, и что-то такое мерещилось и мне, так нет, не нашлась...
Конечно, не деревяшки охранять, а воспитывать в нас смелость и ответственность. Скажи я так Никонову, тогда бы и весь разговор
по-другому пошел.
Но потом я подумала, что и тут ребята прицепились бы: смелость, мол, будем испытывать — пугать придем смелых-то!
Я сказала об этом Зульфии, и мы посмеялись на сон грядущий.
И уснули. Утро вечера всегда мудренее!
Пришли мы в школу, а там — как в разоренном муравейнике: ребята снуют из класса в класс. Галдят, шумят, покрикивают, хохот взрывается то и дело. Дым коромыслом! Всё про дежурства! Мы тоже немедленно включились. Стали Вере рассказывать, что Никонов и Карпов хотят нас на дежурстве напугать. Вокруг тут же собрались остальные девчонки. Стали ахать, охать, вспоминать разные истории, когда и где до смерти человека напугали. У нас так: чуть что, давай сразу смертные случаи в пример приводить. Хорошо хоть, звонок прозвенел наконец, и все разбежались по местам.
Пришла Анастасия Ивановна, красивая, свежая, чем-то раздосадованная. Встала над столом, опираясь о него дивными своими руками, бросила нам:
— С новостью вас, вояки!
— Спасибо,— нестройно ответил класс.
— Представляю, как вы будете дежурить. Проспите небось и царствие небесное! — продолжала она с полным к нам презрением. А сама между тем уже пробегала глазами журнал, выискивая жертву.
Однако Анастасия Ивановна не стала никого вызывать, а снова заговорила:
— Директор нас, учителей, просил не спрашивать дежурных на следующий день. Но я ему сказала: «Раз дежурства ввели для испытания и закалки учеников, а время сейчас военное, от всех требуется больше, чем обычно, то пусть они (значит, вы,— пояснила она) напрягут свои силы, я буду спрашивать и дежурных без скидки. Другие учителя, может, вас и помилуют, я — нет.— И добавила, покачав сокрушенно красивой головой: — И сколько слов, сколько хлопот из-за того, что раз в месяц наши здоровые ребята чуть меньше поспят! Просто удивительно! Начнем урок.
127
Наверное, не одна я в классе чувствовала себя пристыженной. Недаром все-таки Анастасия Ивановна красивая. Не просто так. Умела она поддержать в нас мужество, как и тогда, в прошлом году зимой, когда мы волков боялись. Молодец она, а не злая, решила я. Действительно, раз в месяц подежурить ночью! А мы уже разохались, как да что.
Вдруг раздался голос Лешки:
— Да, Анастасия Ивановна! Об чем разговор! Да мы хоть каждую ночь не будем спать, а всё физику учить!
Класс захохотал облегченно. Еще и потому, что Лешка ничего не учил. Только если урок не провертится, послушает, так ответит.
— Ты, Никонов, парень бравый. Будь моя воля, я б тебя сразу отправила к партизанам, разведчиком. Там бы ты пригодился. Да, глядишь, и в ум бы вошел. Понял бы, что ученье — свет.
— Ух, Анастасия Ивановна! — обрадовался Никонов, но не сдался.— А вы бы — генералом! Мы бы с вами...
Но Анастасия — не Мелентий Фомич, ее не заведешь на разговор.
— Все, Никонов,— сказала она негромко.— Поговорили.
Так вот все это началось.
Когда мы уходили в тот день домой, увидели: человек пять из седьмого класса возле здания начальной школы — главного штаба дежурств — пилили и кололи дрова.
— Зачем? — спросила Тоня Антипова.
— А для ночи! Печку топить! — ответила одна девчонка, набиравшая охапку дров.— Ночью холодно знаешь как!
Вечером на школьном дворе собрался народ: ребятам не терпелось поглядеть, как начнется дежурство. Крыльцо начальной школы, более широкое, чем наше,— вроде небольшой открытой веранды — походило на сцену, наверное, и потому еще, что его освещал фонарь «летучая мышь», стоящий на верхней ступеньке.
Актером был парень-семиклассник. Держа наперевес деревянную винтовку (все деревянное: затвор, искусно выпиленный, ствол,
штык), он стоял и, свирепо потрясая штыком, кричал под общий хохот:
— Бабы, цурюк! Цурюк! Девки, форвертс, форвертс!
Подражал фильмам про немцев. Ему кричали снизу, со двора:
— Федьк! Фриц! Устав нарушаешь! Тебе надо вокруг объекта ходить, а ты на крыльце торчишь! Заяц ты, а не часовой!
Федька опять свое «цурюк!» кричит и добавляет:
— Руссиш нихт ферштанде! — Потом обернулся назад и крикнул: — Валька! Давай гранаты! Мы их счас гранатами отгоним!
А ребята восхитились:
— Фриц! Федька! Ты по-немецки шпрекаешь будь здоров! Тебя бы Анастасия послушала — сразу б «пять»!
И тут на крыльцо вышла девчонка с гранатами в обеих руках.
Так вот кого видели мы в минувшую субботу, когда шли домой! Она нам повстречалась у самого леса. Очень понравилось мне тогда
128
ее лицо, сразу видно — не здешняя, не пеньков- ская. А Степка Садов пояснил: «Это нового лесничего дочка. С кордона».
Лесной кордон — лесничество, дома два-три — стоял на опушке того леса, через который мы ходили. Только наша дорога поворачивала резко влево вдоль леса, а на кордон — вправо.
Наверное, эта Валька первую неделю училась. Многие ее еще не знали, потому что стали спрашивать друг друга: «Чья это такая? Чья это?» И кто-то отвечал: «Наша это! Новенькая у нас! Валька Ибряева!»
А Валька передала гранаты этому Федьке-Фри- цу и стоит, чуть улыбаясь ямочками на щеках, миндалевидными карими глазами в таких китайско-японских припухлостях над веками. Красноватый свет фонаря еще больше смуглил ее и без того смугло-розовые щеки, золотил виднеющиеся из-под серой пуховой шали гладкие светлые волосы, зачесанные назад. Она всем своим обликом отличалась от наших девчат, даже от Верочки Матвеевой. Вспоминалась мне при виде ее хорошая еда: свежие сливки, масло в прозрачных каплях влаги, пышный белый хлеб с румяной корочкой, янтарный мед в сотах, земляника на белом фаянсовом блюде.
Раздались голоса мальчишек:
— Эй, Федька, уступи дежурство!
— И я б с такой подежурил!
И голоса девчат, немного обиженные:
— Ишь разбежались! Новенькую увидели!
И теперь казалось, что Федька со штыком и гранатами поставлен охранять эту девчонку-несме- яну: она все так же молчала, чуть улыбаясь уголками губ, невозмутимая и спокойная.
— Снег сухой, эх жалко! Снежки не лепятся! Мы б их счас вместе с гранатами! — вздохнул кто-то и швырнул пригоршню снега в Вальку. Но снег только осыпал легонько нижние ступеньки крыльца.
В это время от ворот показалась высокая фигура, послышались твердые шаги. Шел военрук. И ребята-зрители поспешили забежать за деревья, за угол школы — кто куда.
Мы с Зульфией отправились домой и слышали, как Федька докладывал: «За время дежурства происшествий не случилось!»
5 Школьные годы. Выпуск 2
129
И как военрук одобрил: «Молодцы! Продолжайте службу!»
— Значит, все-таки проверяет! — сказала Зульфия с торжеством.
— Еще бы! Первый-то раз, конечно, будет проверять! — ответила я рассеянно. Я думала о Вальке Ибряевой.
Красота человеческих лиц имеет надо мной какую-то таинственную власть. Она сбивает меня с толку. Мне кажется, красивый человек — не такой, как все. Особенный. Гораздо лучше, чем обыкновенный. Что у него не может быть слабостей, как у всех нас: он ничего и никогда не боится; он неподкупен; он ни за что и ни по какому поводу не соврет; не обидится из-за пустяка или глупости. И не обидит другого человека. Что главная его черта — великодушие. Я долго страдала, когда видела, что Анастасия Ивановна не такая, какой, по моему представлению, она должна бы быть при своей внешности. Чересчур уж много гордости, даже в презрении к другим — к нам — переплескивает. Мне казалось, что великая гордость, которая должна быть у красивых людей,— в невозмутимом спокойствии. А его Анастасии не хватало.
А Валя Ибряева оказалась сразу как раз такой, какой и должна быть: спокойной, невозмутимой и, конечно же, великодушной. Я все видела, как она стоит на крыльце перед целой толпой и — ни слова! Такая чудесная. Ее хочется видеть снова и снова.
Ведь красивых по-настоящему — мало. Однако я могла, если настроить себя как следует, отвлечься от всего и сосредоточиться,— могла найти красоту в лице любой нашей девчонки. Что-то найти такое, чем можно любоваться на уроке, когда скучно.
Сидишь и придумываешь, что если темно-рыжие Душкины волосы, увязанные кое-как в косицы, распустить и завить, чтоб от пробора шли волны,— как красиво тогда ляжет на них солнечный свет, который сейчас зря светит ей на макушку... Пойдет тогда по рыжим волнам красный отблеск. Тогда бы глубоко сидящие серые глаза Душки стали таинственными, как огоньки.
На лице Нины Ивановой — длинном и, в общем-то, унылом лице, бледном и худеньком,— меня удивляли нежные прозрачно-розовые губы. Может быть, они были такими от малокровия? Когда Нина отвечала урок, виднелись ее ослепительно белые — как ни у кого! — зубы. Такие розовые губки и влажно-блестящие белые зубки могли принадлежать прекрасной красавице, какой-нибудь французской маркизе, как на двух старинных фарфоровых чашках, сохранившихся у моей бабушки. Там были изображены молодые дамы в пышных юбках и кавалеры в узких камзолах. Они сидели и стояли на зеленой лужайке на фоне дымчато-туманного сада. И розовый цвет юбок на дамах и роз на кустах был такого тона, как Нинины губы, а сами чашки изнутри были белые, как ее зубы. Потому, наверное, мне и вспомнились маркизы, пока я, глядя на Нину, отвечающую у доски, размышляла, отчего все ее лицо так не соответствует рту, и наблюдала с отрадой, как она говорит.
130
— Тебе понравилась? — спросила я Зульфию. Я не заметила, что мы уже подошли к дому. Мне показалось, что мы еще где-то у школы.
— Что понравилось?
— Ну, эта, новенькая в седьмом.
— Ничего, чистенькая,— добросовестно подумав сначала, ответила Зульфия.
— Мне она кажется красивой...
— Тебя послушать, так у тебя все красивые.
— Ну уж нет! Очень редко встретишь красивых.
Зульфия не ответила. И правильно. Чего тут спорить.
Измена!
Все опасения, что ребята во время дежурства как-то особенно нас напугают, отпали сами собой. Казалось, Никонов забыл о своих угрозах и вообще обо всем, что причисляло его к ученикам шестого класса.
На другой же день после первого дежурства мы на переменах и не видели Лешки. Площадка перед нашей первой партой опустела. После первого урока Никонов пулей вылетел из класса и исчез за дверьми седьмого. Нам с Зульфией с нашего места хорошо видны двери в этот класс. В шестом парты стояли лицом к двери, а не спиной, как в пятом было. Если двери в седьмой класс и наш класс кто-нибудь оставлял открытыми, мы видели насквозь весь их класс — крайние к проходу парты, вплоть до учительского стола. Но Лешка захлопнул двери за собой.
Так было после каждого урока. Весь день. И следующий тоже. И всю неделю.
Лешка возвращался на уроки только после звонка, с невидящим взором, будто мимо пустого места, пробегал мимо нашей парты к себе на «Камчатку». Сбылась моя мечта: мне некого было больше опасаться. Теперь я выходила из-за парты, подходила к доске и карте, объясняя уроки девчонкам и даже мальчишкам, не опасаясь, что сейчас налетит мелким бесом Никонов, начнет передразнивать или крутиться, норовя задеть, трясти доску. А за ним побегут те, кому я объясняла, чтоб его отогнать, и пойдет кутерьма.
Несмотря на то что жить стало спокойнее, как сказала бы моя бабушка, тишь, да гладь, да божья благодать, меня одолевала грусть. С большим сопротивлением, с великой неохотой призналась я в этом себе. Даже не призналась, а просто не могла не почувствовать некую пустоту вокруг. Опустела не только «арена» перед нашей партой — сам воздух вокруг меня стал разреженней. Не было сомнений, почему Лешка все перемены проводил в седьмом классе. Он посвящал их Вале Ибряевой. Он даже вырос в моих глазах: если ему понравилась эта девочка, значит, не такой уж он простофиля, как могло показаться
131
сначала. А то, что он побежал в седьмой сразу после того, как я сама увидела Валю ка крыльце и восхитилась ею, тоже казалось мне значительным и важным. Это как-то по-новому связывало нас — не какими-нибудь дурацкими приставаниями, а уже чем-то от нас отвлеченным. Нам понравился один и тот же человек, и, наверное, одновременно. Хоть я не запомнила, был ли во дворе школы Лешка в тот вечер, когда Валя с гранатами в обеих руках показалась на высоком крыльце.
И, снова представив Валю на том крыльце (я ее, конечно, и в школе теперь видела каждый день, но представляла себе неизменно такой, как тогда), я одобряла Лешку. Будь я мальчишкой, сама бегала бы в класс напротив смотреть на нее. Почему же сейчас не бегала? Потому что вышло бы, что я за Лешкой. Но, встречаясь с ней, я смотрела во все глаза.
А пустоту вокруг все-таки ощущала. И это мне очень не нравилось.
* * *
Одиноко чернело колесо карусели перед избой Никоновых. Сами мы не пошли бы, а Лешка про нас забыл. Вальку он не мог позвать — она уходила после уроков на свой кордон.
Так пришли и ушли зимние каникулы. Дома я отогрелась и хотя про Лешку и Вальку не забывала, но думала отвлеченно от себя, как про кино.
А после каникул подошло и наше с Верой и Зульфией дежурство, и снова начались разговоры о самодеятельности, о весеннем смотре, о большом концерте...
«Часовым ты поставлен у ворот...»
Сразу после уроков в день дежурства мы не пошли домой: надо было засветло напасти дров для долгой ночи. Как всегда, вместе с дежурными вызвались поработать добровольцы. Хоть и бегал теперь Лешка в седьмой класс, а, увидев, что мы с Верой несем пилу и топор из школьной кладовой, остановился — уж домой было направился — и присвистнул:
— Ага! Вот кто сегодня в часовых! А ну, Карпэй, беремся!
И они с Карпэем, да еще Степа наш, нарубили нам такую гору дров, что, наверное, все четыре печки нашей школы можно было бы топить два дня.
— Да вы что! — ужасались мы.
— А вот то! — поучали нас пацаны.— Еще скажете — мало! Мы ж дежурили, знаем!
— Правда, девчата! — подтвердили какие-то две семиклассницы, проходившие мимо нас после своего шестого урока.
132
Ну, раз правда... Мы тоже старались. Бегом бегали с охапками дров. Еще домой нужно успеть, пообедать, что-то теплое захватить.
Но мальчишки научили нас перенести сначала из классов в де- журку (тоже класс) три стола, натаскать карт, пока светло и еще видно немного.
— А карты-то зачем?
— Чтоб помягче было!
— А из дому захватите старые пальтушки под голову и чем-нибудь укрыться.
— Смеетесь над нами, что ли? — возмутилась Вера.— Пойдем как табор! Еще перины и подушки, скажете, тащить!
— Оно б неплохо! — серьезно заметил наш длинный Степа Са- дов.
— Ой, с вами тут только время терять! Пошли домой! — сказала Зульфия.
Но и дорогой ребята продолжали нас наставлять:
— Трубу лучше совсем не закрывайте, а то еще угорите!
— Винтовки к печке не прислоняйте! У Федьки в первый же раз штык затлел, к печке была одна макетина прислонена.
— Ну и силен сочинять! Чтоб от печной стенки винтовка затлела!
— Увидишь, какая будет печка! — пообещал Карпэй.
— А это в нашей воле! — сказала я.— Как хотим, так и истопим.
— Поглядим...
— ...сказал слепой! Ты лучше скажи, Силантий к вам приходил?
— Не! Думаешь, ему охота на ночь глядя в школу тащиться!..
В начале шестого мы с Зульфией уже снова шагали в школу.
И кто бы поглядел, какие были мы гордые и счастливые! Но никто,
наверное, не видел, разве что из окошек. И то вряд ли! Т#мно уже, как ночью. Только, может, и увидишь — идут двое, узелки несут. Зульфия несла отслужившую свое телогрейку, а я — какой-то старый ватный спорок с тети Ениного пальто. Прихватили мы и картошки, и соли. Сами над собой посмеиваемся: часовые! Как в ночное собрались! Посмеивались, а все же гордились. Я гляну сбоку на Зульфию — прямо счастливая шагает! — и смех меня берет.
В школе стало не до смеха: на улице темно, здесь же, как в самую полночь, мрак, тишина-а! Свет бы зажечь!
— Зульфия, где же фонарь?
— Какой?
— Как какой, «летучая мышь»! Помнишь, мы у Федьки и Вальки видели!
— Так это Федькин и был!
— Вот тебе и на тебе! Я думала, школьный...
— А я знала, что в школе нет.
— Чего ж не сказала-то?! Мы б у тети Ени попросили.
133
— Я думала...— медленно тянет Зульфия,— да побоялась. Не даст еще...
Это правда. Ей самой нужен фонарь, она поздно вечером ходит скотину проведывать. А может, и дала бы... На одну-то ночь. Да что уж теперь! Не побежишь домой: дежурство началось.
Мы тем временем затопили печку. Хорошо, что все засветло припасли. Спасибо ребятам — научили. Тут и береста, и сухие щепочки... С одной спички занялось! И притерпелись мы, глядя в топку, к тому, что за спиной у нас холодные к ночи, пустые классы — целых четыре больших комнаты. Да еще огромные сени, где все половицы ходят, как клавиши на пианино. Малыши в перемены качаются на половицах, как на гибких мосточках. Доски широкие, толстые и обшарканные ногами так, что сучки выступают округлыми лоснистыми бугорками.
А сейчас, видно, половицы в себя приходят после дневных трудов, распрямляются, потягиваются: то будто выстрелит в сенях, легонько так; то застонет скрипуче, протяжно; то словно чей-то шаг отдается...
Мы разговором, возней с дровами заглушали эти звуки, но чуть притихнем — слышим, как маются половицы в сенях.
Когда же печка хорошо разгорелась, пошли в обход. Открыв дверь в сени и распахнув дверцу печки, дали ход свету в холодную их темноту. Пригляделись — нет никого. И вот — тресь... скрип... и тишина. Точно, никого нет, а потрескивает. Перевели дух, пошли по классам. Там и вовсе темно. Лишь окна мутно светлеют — чуть-чуть. И рисуются черные кресты переплетов. Самое страшное в темной комнате — это окно: неподвижно подсматривает. А какая тишина... Такая глубокая, полная, что, видимо от напряжения поймать хоть какой-то звук, в ушах будто шипение. Потому, когда раздастся звук — самый тихий — он как взрыв.
Мы были уже в третьей классной комнате, когда раздались шаги. На дворе. Торопливые. Мы замерли и догадались: Верка. Бросились в сени. Мы так и договорились, чтоб она пришла прямо к шести, а мы — раньше. Ведь одной страшнее!
Это была она. Стояла на крыльце и боялась открыть дверь в сени.
— Вижу, вы здесь, дым валит из трубы. А думаю, как дурочка: вдруг кто чужой! И стою!
Ой, как хорошо втроем! Не знаю, чем это объяснить: вдвоем почти так же страшно, как одной. А трое — ну словно целая толпа или будто днем!
Притащили Верку в дежурную комнату, а здесь печка, огонь пляшет, весело!
— Видишь, огонь! — сказала Зульфия Вере с таким видом, будто это она была первым человеком, добывшим огонь.
— Прометей! — в тон ей ответила Вера и ткнула пальцем в плечо, чтоб не было ошибки, кто здесь Прометей.
134
— Сейчас угли нагорят, картошку испечем! — деловито сообщил «Прометей».
Мы сидели на корточках перед печкой, как перед костром, а ходить вокруг школы никому не хотелось.
— Я так боялась, девчонки,— созналась Вера,— просила сестру проводить меня хоть маленько, да она ж разве проводит...
Мы сочувственно закивали головами, и я, представив мгновенно насмешливый прищур красивых глаз Анастасии, вздохнула обреченно: ничего не поделаешь, нельзя поддаваться лени, нельзя проспорить Анастасии наш с ней спор — спор, о котором она и не подозревает.
— Ладно, девчонки,— сказала я как могла беспечнее.— Вы тут глядите за печкой, а я пойду пройдусь: вдруг да военрук нагря- нет.
— Может, вместе? — встала и Зульфия, половина души моей.
— Нет, здесь страшней одной,— слукавила я: мне хотелось, мне надо было пойти одной.— И Силантий велел часовому одному ходить,— для верности добавила я.
И пошла в наш «арсенал», чтоб взять винтовку. Открыв дверь, я отшатнулась в ужасе: из темного угла светились чьи-то розовые зубы! Пасть светилась — узкая, хищно изогнутая.
— Девчата! — заорала я, уже понимая, что это не зверь, а трещина в печке, которую мы топили; задней стенкой она выходила сюда. Сейчас, когда печь разгорелась, щель светилась, налитая розовым огнем.
Девчата прибежали, заохали.
— Вон почему штык у винтовки затлел! — догадалась я.
Мы подбежали к длинной стойке, где в гнездах стояли наши стройные, белые винтовочки, я подержала руки у торца стойки, доходившего почти до печки: не сильно ли жарит? Но даже тепла не ощущалось.
— Ничего! Не прислонять бы только к печке никаких деревяшек.
Взяла я винтовку наперевес, как к штыковому бою, вышла на
волю. Постояла на крыльце, привыкая ко тьме, вдыхая пронзительно-острый воздух. Как вкусно пахнет мороз, приправленный дымком топящейся березовыми дровами печки... Лицо, раскаленное перед открытой топкой, сначала даже не почувствовало прохлады. Мне казалось, что щеки мои, лоб и нос светятся в темноте, как та розовая пасть — раскаленная трещина в печи,— и меня можно издали увидеть. Когда до меня дошло, чего я опасаюсь, стало смешно и не страшно.
А за школой верхушки высокого сухого бурьяна торчат из сугробов, и между стеной школы и стеной сугроба — узкий проулок. Тут хорошо сделать засаду, или красться за часовым, или на заборе с той стороны сугроба схорониться, а идет часовой мимо — прыг ему на плечи! И я подняла винтовку штыком вверх. Пусть-ка прыгнут на штык!
135
Как же громко шуршит и хрустит под ногами снег в узком коридорчике! Смотрят на меня загадочные глаза — школьные окна. Не видно, что за ними, а оттуда меня хорошо видно. Полно! Трусиха! Знаешь ведь — там никого нет. Вот и угол, а за углом уже окно нашей дежурки. Там печка топится, там друзья. И мне стало так тепло и уютно среди холода, тьмы и предательски скрипучего снега от одной только мысли о моих товарищах — о Вере и Зульфии. Ну-ка погляжу, что там у нас делается... Я уже завернула за угол, надо мной окно дежурки. Завалина, обшитая тесом, высока, но я вскарабкалась, опираясь на винтовку. Нижняя рама оказалась на уровне подбородка. Заранее улыбаясь, я прижалась носом к холодному стеклу. И тут же пригнулась: померещилось мне, что ли?! В комнате перед печкой сидели трое! Стоя пригнувшись, чтоб не торчала в окне голова, удерживаясь за наличник, а другой рукой опираясь о винтовку, я соображала: сидят мирно, глядят в огонь. Значит, свой! Но сердце мое скакало как бешеное, во рту было сухо, шершаво. От неожиданности. И я снова припала к краешку окна — понять, кто же там третий. В неясных, неровных отблесках огня из печки я узнала кудлатую голову Степки. Садов! Пришел проведать своих! И, не сдержавшись, я стукнула в окно. Они дружно вздрогнули и обернулись.
Когда я вбежала в дежурку, одним духом перелетев скрипучие сени, они уже все трое хохотали.
— Что, часовой? — заливалась Вера.— Враг-то не дремлет!
— Ты бы сама походила там, за школой! — начала я защищаться.— Знаешь, как снег трещит-шумит! Ничего больше не слышишь.
— Да уж! Хрустела ты там знатно! Я думал: да кто ж это? Теленок чей, что ли, остался да бродит? — рассказывал Степка.— А то еще собака! Я прямиком — шасть в двери! Девчонки голоса лишились со страху! Глядят на меня и ничего сказать не могут.
— Да-a, самому бы тебе! — всхлипывает Зульфия сквозь смех.— У нас часовой поставлен у ворот, а тут — топот, стук, человек ворвался!
— Запросто можно штаб немецкий захватить, если один часовой! — вдруг важно заявил Степан.— Прям тепленькими взять!
— Умный какой! Штаб — он тебе не сам по себе стоит! Рядом и казармы! Части стоят, солдат полно...— Это Вера Степана охлаждает.
— А то без тебя не знаю! — Степка прямо возмущен.— Я толкую про такой случай, как сегодня. Или — разведка. «Языка» нужно уволочь. Я про то, что одного часового на такой большой дом мало! Поняла?
Степка даже запыхался от возмущения, что Вера его в непонятливости заподозрила.
— Нашему бы теляти да волка съести! — не унималась Вера подзадоривать Степку, а он вдруг сам рассмеялся:
136
— И право: уж я тут и штаб захватил с тремя енералами! Один важнейше другого! Один другого больше!
А между тем печка все раскалялась. Не хотелось сидеть во тьме, и только начинал рассыпаться жар, теряя пламя, как новые полешки летели в топку и быстро занимались среди раскаленных россыпей золотых и алых угольев.
У самого края топки Степан нагреб кучку золы, смешанной с мелкими зернами жара, затолкал под золу штук семь картошек.
— Степ! А зачем ты пришел к нам? Ты ведь уже дежурил,— спросила я, глядя на его длинные темные пальцы, неловко, боязливо, короткими движениями подталкивающие картофелины поближе к жару — руки обжигало даже и на расстоянии от топки.
— Да так. Дома скучно. Дай-ка, думаю, попроведаю своих...
И я думала, что ведь правда, Степа, живущий на другом, чем мы, конце села, после уроков, наверное, совсем один. Раза два он приходил на карусель. А больше и не был. Мы и не звали.
— А ты приходи к нам когда после уроков, а?
— Не знаю... Может, когда и приду,— неопределенно, стеснительно ответил Степка. И добавил, усмехнувшись: — Опасаюсь! У вас там свои ухажеры, еще прибьют!
— Ты что! — закричали мы с Зульфией в один голос.— Как не стыдно тебе-то!
— Или ты не видишь, мы с ними и знаться не хотим! — гневно, слишком гневно заявила я. Сама почувствовала: слишком!
Но ребята не обратили внимания, и Вера нас поддержала:
— От таких ухажеров бегом побежишь! Двоечники. Только и знают кривляться.
И с покаянием в душе почувствовала я, насколько Вера правильней меня. Уж она бы не стала огорчаться, что один из «ухажеров»-дво- ечников стал пропадать в седьмом классе. Действительно, что в нем? Правильно она сказала — одно кривлянье. Правда, сегодня дров нам напилили и накололи. Да вот не пришли, как Степа...
Я встряхнула головой, чуть вслух не сказав: «И слава богу, что не пришли!» А Степа, будто продолжая мои мысли, и говорит:
— И того, правда, опасался, как бы к вам не пожаловали. Разговоров много было у нас на «Камчатке», пугать вас собирались.
— Ага-а! — злорадно протянула Зульфия.— А ты — ухажеры!
Мы стали просить Степу, чтоб он рассказал, как собирались они
пас пугать. Но он отмахнулся:
— А! Ерунда! Стучать да мяукать страшными голосами. Тыкву хотели достать, да ни у кого нет тыквы-то...
Посмеялись мы. Теперь нам никакие пугалыцики не страшны.
А картошка оказалась на диво вкусной! Будто с маслом, сдобная.
Но, как водится, после еды потянуло нас в сон. Вялыми голосами рассказали мы Вере и Степе, какую сочинили постановку с пением и танцами про Шамиля. Но как Степка ни просил, плясать не стали.
137
Казалось, от жары темнота в комнате стала гуще. Рассеянная светом огня перед самой печью, она густела под высоким потолком, наплывала из всех углов, из-под столов, составленных нами еще засветло. Мне казалось, что от этой темноты отделяются крупные теплые хлопья, мохнатые, щекотные, и оседают на ресницах. И веки тяжелеют — не поднять. Зульфия, сидя рядом со мной на полешках, прислонила к моему плечу голову, и я чувствовала, как изредка она вздрагивала всем телом. Так бывает, когда засыпаешь. И тишина, как и темнота, стала глуше, глубже. Все замерло, остановилось. Время стало черного цвета, как непроглядная темь. Черное время велело нам забыться, уйти, ничего не видеть, ничего не чувствовать.
— Эй, девчата! — окликнул негромко Степа.— Ложитесь маленько.— А я еще посижу, погляжу за печкой.
И мы покорно поплелись устраиваться. Карты под бок, старую ветошь под голову, сверху свое пальтишко. Только голова припала к изголовью, все вокруг перестало быть. Сон меня одолел. Наверное, и других. Проснулась я от холода. Долго не могла понять, где я, отчего так жестко, что больно ребрам. Крутилась, стараясь спиной прижаться к Зульфии. И она крутилась. Наконец я вспомнила. Сразу села. Смотрю, а Степка, как-то странно семеня, перебирая ногами и тихонько мыча, уткнулся лбом и обеими руками в посветлевшее уже слегка оконное стекло и тоже елозит по нему, передвигаясь то вправо, то влево, то выше, то ниже, будто хочет, как муха, по окну поползти. Мне стало страшно: чего это он?
— Степа! — окликнула.
Он вздрогнул, повернулся ко мне и немо проговорил сквозь зубы:
— Обжегся я...
Я подбежала к нему, чиркнула спичку. При недолгом ее свете успела разглядеть на смуглом лбу Степки слева багровую опухоль, широко расползшуюся красным,— его левое веко припухло, сжало глаз. Лицо искажено гримасой боли.
— Ой, Степа-а! — У меня даже зубы заломило, сердце зашлось.
— Задремал я...— сказал Степа.— Да и того... Тюкнулся головой вперед... Хорошо хоть, дверцу... раньше прикрыл... А то б в печку... И вон...— Он протянул ко мне свои длинные кисти, и я увидела волдыри на всей левой ладони и пальцах, и слитный длинный волдырь шел по большому пальцу правой.
— Аа-а... Ты руками уперся, когда упал,— догадалась я.— Ой, Степа, что ж делать... Что ж ты тут стоишь... Надо бежать, надо содой, марганцовкой!
— Где она, марганцовка! Сода! — мрачно отозвался Степа.
— Ой, у тети Ени есть сода, есть! Я знаю!
Девчата проснулись от наших голосов. Разглядев Степино лицо, Зульфия обеими руками зажала себе рот, только глаза ее, расширенные ужасом, кричали над стиснутыми ладошками.
138
— Девчонки! Мы со Степкой побежим к тете Ене, вы додежу- ривайте. Да не говорите ничего! Скажите, что, мол, я угорела...
И мы побежали по темной еще улице. Лишь кое-где окна были озарены, будто за ними бушевал пожар. Это топились русские печи, поставленные, как водится, челом против окна. Вот и кажется, что горит в окне. Ах, огонь, огонь! Милостив ты, пока за тобой глядишь. Чуть ослабь надзор, и ты мстишь.
Как мне было больно за Степку! Лихорадочно вспоминала я всякие средства от ожогов. Картофель — сырой, тертый. Ну, это когда только краснота. Мылом мылят — это тоже при небольшом ожоге... А Степка бежит, подняв руки, и помахивает кистями, словно в танце. Я знаю, хочется холодного на ожог, вот Степа и охлаждает свои горящие ладони.
Тетя Еня уже не спала, печь растапливала. Увидев нас, только руками всплеснула и крепче сжала губы. Пока я, захлебываясь словами, рассказывала, как и что, она из нижней тумбы своего узкого буфетика вынула стопку льняных полотенец, выбрала ветхое, в дырках, но белое как снег.
И вдруг велела мне:
— Воротись в школу, Даша. Додежуривай. Ты нам тут не нужна. Я помогу Степану. А ты помешаешь только. Ступай быстрей, не бойся. Хорошо ему сделаю. Приходи, как и должна, к завтраку, к полседьмому.
И она, повернув меня лицом к двери, подтолкнула легонько.
Побежала я. Тетя Еня так говорила, что и в голову бы не пришло ослушаться.
Убегая, успела заметить на наших ходиках — пять часов.
Девчата сидели в темном холодном классе, как два цыпленка, нахохлившись, зажав ладошки между колен, и дрожали ознобно. Винтовка — белый липовый макет — валялась у их ног. Они бросились ко мне:
— Чего прибегла? Где Степка?
Я сказала.
А Зульфия выразительно постучала себя кулачком по лбу, а потом по столу:
— Вот мы кто! Деревяшки!
Мы только головами покрутили.
— Надо было бы кому-то еще не спать. Разговаривать.— Это я такая догадливая стала — после драки кулаками махать.— И как раньше не подумала!
— Здоровы ж мы спать! Он летел, так, наверное, гремел — лбом об дверцу!
Никакое собрание, никакие выговоры не могли осудить нас строже, чем наша тройка. В дежурке было холодно, и следа не осталось от ночной жары, мирного разговора. Темно как ночью. Запах стоит, как на пожарище: жженым кирпичом, холодным дымом, известкой.
139
На столах, где мы преступно проспали Степкину беду, дыбятся карты, комками — старые пальтушки. А на совести нашей — и того противней. Мы бы и сказали в школе, повинились, да ведь, пожалуй, Степке только навредишь: он же своевольно пришел к нам.
— Да если хочешь знать, только Степка и виноват! — сказала Вера.— Если б я осталась у печки, так не беспокойся, не уснула бы сидя! Герой! Вызвался девчат караулить, а сам чуть в печку башкой не угодил! Тоже мне!
Понимала я умом, что права Вера, но просто корчило меня от мысли, как больно Степке, как горит его ожог, рвет ладони и лоб, и потому хочется и себе какую-то боль причинить.
— Никуда не денешься, Верочка: дежурные-то мы! Не он! А мы — спали...
— Ну ладно, девочки,— вздохнула Зульфия,— давайте приберемся.
И мы ощупью убирались. Развесили по классам оба земных полушария, Африку и обе Америки, Австралию и Азию с Европой, послужившие нам постелью; расставили столы, подмели пол. И только все успели — пришла тетя Глаша, уборщица и истопница начальной школы, очень тихая и молчаливая — наверное, добрая или несчастливая. Она никогда не кричала на ребят. А если балуются очень, просто за руки возьмет драчунов и разведет. Я видела на переменах.
Она пришла со своим фонарем и уже с охапкой дров. Мы взялись помочь ей — натаскали ко всем печкам и тогда уж только побрели по домам.
— Верка, молчи дома! — наказали мы еще раз Вере.
Как-то там Степа?
Но его у тети Ени уже не было.
На столе дымились наши чугунки с картошкой в мундире, уютно булькал-кипел самовар, затуманивая окна своим буйным паром.
Тетя Еня, сосредоточенная, строгая, с разрумяненным у печи лицом, толкла свою картошку, чтоб кормить кур. Нам совестно было взглянуть ей в глаза. Глядя в сторону, я спросила про Степку.
Она выпрямилась, став еще выше надо мной, и, вытирая руки фартуком, сказала:
— Услала его домой. Научила, что и как делать, чтоб быстрей прошло. Ничего! Через дни два-три и знатко не будет. А может, уже и послезавтра в школу пойдет.
Мы переглянулись с Зульфией: что же мы в классе-то скажем? Ведь нас, совхозных, спросят, где Садов. Придется врать: говорить, что заболел. Кашляет. Степка и так всегда кашляет. Ну, мол, очень кашляет, прямо сил нет, как.
— Давайте живей за стол, часовые! — усмехнулась тетя Еня.— Вон картошки стынут.
Сели мы. Стали лупить обжигающие горячие картошки. И, как
140
всегда, я подавила желание попросить тетю Еню обменяться картошками: ее курам ведь все равно, какую клевать. И отчего это наш картофель был такой невкусный по сравнению с тети Ениным? Даже на вид ее был вкуснее! У нас — у Зульфии тоже — какие-то неправильно круглые, корявые картофелины, в глубоких глазках, шишках, ямках. И цвет у сваренных клубней часто желтоватый. А у тети Ени даже отобранная для кур и овечек мелкая картошка была как на подбор: ровненькая, гладенькая. Овальные, удлиненные клубни, даже самые мелкие, все такой же формы, розоватого цвета, а под кожурой — бледно-сливочная мякоть, она и без масла вкусная. Как-то раз у нас кончилась картошка, и два последних дня тетя Еня варила нам свою. И вот с тех пор каждое утро я испытываю муки зависти, глядя, как толкушка в руках тети Ени дробит и мнет чудесную картошку для куриного пропитания, а я давлюсь невкусной, порой даже с едким привкусом, и не смею попросить ее обменяться. Почему-то стыдно. Мне кажется, что тем самым я каким-то образом изменю совхозу, его земле и своей семье.
Я только спросила в тот раз, когда нам перепало от ее картошки, отчего она такая ровная и вкусная.
И тетя Еня ответила:
— А оттого, что землицы немного, да она от порога.— И, глянув с улыбкой на мое недоумевающее лицо, объяснила: — Непонятно? А вот погляди весной на огород, какая земля.
— Видела уж! Черная, мягкая.
— Вот! А почему? Ни одна навозинка не пропадает. Все, что в хлевах, идет на огород. А сколько двор наш стоит? То-то и оно! Землица-то сдобная, вот и у картошки вкус. Ну, и семя чистое, непорченое. Картошка от картошки и родится.
Да, видно так и есть, как говорит тетя Еня. У нас в совхозе участки под картошку выделяются то на одном поле, то на другом. Чаще за оврагом, но там земля тяжелая, глинистая. Чтоб ее удобрить, ого сколько лет надо с наземом перемешивать!.. Я промолчала, только про себя это все подумала. Почувствовала явное превосходство тети Ениного старого двора и земли. И не хотелось, чтоб она поняла мои чувства. Вот и промолчала. И ни разу не попросила поменять свою на ее картошку.
А сегодня завтрак мне и вовсе показался постылым. Или есть не хотелось. Еле-еле проглотила две маленькие картошины. Лучше напиться чаю с молоком. Чай был из сушеной моркови, желтенький. А с молоком — ничего, вкусно.
Пощечина
По дороге в школу мы договорились, как соврем про Степку. Скажем — заболел. Скажем, что будем к нему ходить, уроки объяснять, и он не отстанет.
141
Мы сидели весь день как на иголках. Но никто ничего не заподозрил. Верка — человек надежный — молчала, видать, и дома.
Когда Мария Степановна — ее урок был первым — спросила, где Садов, я представила себе Степкино лицо, искаженное ожогом и мукой, и мой голос прозвучал очень убедительно:
— Он заболел!
Я ведь говорила правду! Но все-таки и ложь, и потому покраснела я ужасно. Учительница склонилась над журналом, ставила против Степкиной фамилии «н/б» — значит «не был» — и не заметила. Но заметил кое-кто другой. Я услышала Лешкин голос: негромко, с растяжечкой он произнес:
— Оччень интерресно! Заболел...
К Лешкиным ехидным высказываниям, однако, уже все привыкли: и ребята и учителя. Никто внимания не обратил. Только моя щека, попадающая под Лешкин взгляд, рдела до боли, до жжения. Я оперлась на руку, прикрыв эту предательскую щеку. Теперь получалось, будто я отвернулась от всех к стенке. И Мария Степановна сделала мне замечание. Вот мука-то какая эта ложь! Я словно в крапивной чаще сижу: каждое движение вызывает новый ожог. Рванешься вправо — справа; влево — так слева! Подожмешь ногу — обстрекает, жгучая, руку. Каждое шевеление причиняет боль и новый вред.
Нет, так нельзя жить! Надо учиться так врать, чтоб было легко и незаметно!
На перемене Никонов, по новому своему обычаю, метнулся в седьмой класс. А я, уже потерявшая бдительность за время Лешкиной измены, достала учебник для следующего урока, оставила на парте ручку — раньше все дочиста убирала! И вдруг Лешка вернулся! Подлетел ко мне, схватил мою ручку, отпрыгнул и зашипел змеем:
— А ты чего покраснела, а? Я заметил! Никонов все видит!
— Положи ручку на место!
— Ах, на место! — И совсем обнаглевший Никонов стал моей ручкой делать выпады, как в штыковом бою, один раз даже ткнул перышком мне в плечо. И тут же схватил учебник и стал на нем писать свои «АНН».
Я выдернула у него из рук учебник, перо прорвало страницу; Лешка бросил ручку и ускакал опять в седьмой класс.
Это все было так унизительно, так безобразно, что я чуть не задохнулась от гнева. Зульфия, сидевшая рядом, взяла меня за руку и сказала удивленно:
— Дашка! Да ты что? Это ж Никонов...
И в этот момент Никонов опять возник перед нами.
— Покраснела, покраснела! — опять завел он свое, как гусак вытянув ко мне свою узкую голову на тонкой шее.
Такой ненависти я еще никогда не испытывала. Тут все смешалось: и боль за Степку, и унижение от собственной лжи, и отвращение
142
к этому Лешке: «Ты бегаешь в седьмой, ну и бегай, какое твое дело, отчего я краснею! Да еще кричит при всех! И хватает и портит мои книги!» Тут и старый мой страх перед Лешкой обернулся ненавистью, и бессонная почти, тревожная ночь тоже сказалась, во мне будто молния вспыхнула, но не белая, а красная; красная мгла заволокла все вокруг, и, перегнувшись через парту, я изо всей силы влепила пощечину Никонову раз и два — по одной и по другой щеке. Молча, без слова и крика, потому что горло мне перехватило, а то бы, наверное, я завизжала, как свирепый янычар.
Никогда и никого в жизни я еще не била. Тем более по лицу. Ах, как прекрасно, что рука моя достала до физиономии «глядельщика»! Как отрадно звонко отдался в моих ушах звук пощечины!
Теперь все. Пусть он теперь хоть до смерти меня изобьет. Я отомстила за все. И я буду драться!
Такое у меня было тогда состояние, что я не видела никого вокруг. Словно мы с Лешкой были один на один в пустоте и безлюдии. Я видела его ошеломленное бледное лицо с красным следом четырех моих пальцев на левой щеке, расширенные, без блеска, глаза. Но вот он опомнился и с задыхающимся криком, но и удивлением тоже: «Да ведь я ж тебя убью сейчас!» — вспрыгнул прямо с пола, без разбега на нашу парту. Поднял кулаки над моей головой. Я прижалась к стене и смотрела на него, не пряча лица. И он не ударил меня. Опустил руки, переступил ногами и опять с огромным удивлением проговорил:
— Да я не знаю даже, что я с тобой сделаю!
Так и осталось неизвестным, что бы он со мной сделал, потому что от дверей раздался удивленный голос Марии Степановны — она пришла и на следующий урок:
— Это что за цирк?! Никонов, как не стыдно стоять на парте ногами, да еще у девочек перед носом!
При первых же звуках ее голоса Никонова будто сдуло, он дослушивал нотацию, уже сидя на своем месте. А может, стоя, я не смотрела.
Все-таки какой замечательный у нас класс! Никто ни звука о том, что было на перемене. Прямо не ребята, а мудрецы какие-то. Ведь учителям только скажи «а», они будут вымучивать из тебя весь алфавит — до самого «я»: отчего, да почему, да как. Ребята, те видели все, как Никонов мне надоедал, хватал ручку, рвал учебник, дразнился.
Им объяснять ничего не нужно. И я правильно догадывалась: на уроке, выбрав минутку, Вера шепнула мне сзади:
— Ты молодец! Давно бы... Чтоб не лез... Не бойся...
Она не успела больше нашептать, но я поняла: мол, не бойся, мы тебе поможем. Все-таки я боялась. Я не хотела драки. И понимала, что Лешка оскорблен и должен мстить. Может быть, всю жизнь. Ну ничего. По крайней мере, все очень определенно: враг есть враг. Это лучше, чем не поймешь что: ведет себя, как враг, а понимай, что
143
за тобой «бегают», то есть ухаживают, то есть влюблены. Да при этом еще и Валя Ибряева... Нет, нет, все очень правильно, все как надо.
Я окрепла духом и ждала перемены, готовая ко всему с бледным (надеюсь) бесстрастным лицом.
А Зульфия... Она, наверное, была напугана, ничего не спрашивала у меня. Правда, ей-то спрашивать было нечего, она знала, отчего я покраснела, говоря про Степку.
Вдруг она мне шепчет:
— В стенку носом уткнулся!
Значит, поглядела на Никонова. Я только плечами пожала: мол, мне-то что!
На перемене начались необычайные вещи: Никонов не встал со своего места. Думая, что он подстерегает, когда выйду я, мы с Зульфией тоже не встали с парты. А Верка с Тоней прикрывали нас от нападения сзади. А другие, видимо, ожидали зрелища и тоже никуда не выходили. Так шестой класс в полном составе, кроме Степки Садова, просидел всю перемену. К нам заглядывали семиклассники, орали в дверь: «Что сидите? Наказали, что ли?! Во дураки! Сидят!» Но в класс к нам зайти боялись — непривычно же, чтоб шестой целую перемену сиднем сидел! Только в большую перемену, когда дежурные сходили за супом, все поели и нормальная жизнь возобновилась. Только не для меня. Я сидела пленницей весь день.
После уроков Никонов, никого не задевая и не ожидая даже Карпэя, раньше всех вышел из класса. И Карпэй с диким, ревущим криком: «Лешка, погоди!» — протопал за ним.
Мы с Зульфией решили, что они устроят засаду. И пошли вместе с Тоней, Галией, Нуруллой и Домоседовыми — нам было по пути с ними до самого нашего проулка. Засады не было.
Что-то случится...
Но ведь надо было жить дальше! Уже сегодня просто необходимо сходить к Садову: как он? Может, его в больницу надо?
Зульфия сказала, что пойдет к нему одна. Одну ее не тронут. А поймают со мной, так и ей заодно наподдадут. Мне было стыдно, что я боюсь. Но Зульфия права.
Я решила сделать для Зульфии работу, заданную нам по рисованию. Мария Степановна велела скопировать старинные вышивки крестом на полотенцах или скатертях. Поискать в сундуках у бабушек. Это работа долгая, Зульфии просто не успеть. Ведь прежде надо простую бумагу разлиновать в мелкую клеточку, наподобие канвы. У меня хранился старый, довоенный альбом для рисования. Там как раз оставалось три чистых листа. С одной стороны чистых. Вообще-то он уже весь был изрисован.
С клеточками я провозилась долго. В глазах даже зарябило. Но
144
я была довольна: ровненько вышло! Я спросила тетю Еню, нет ли у нее старых вышивок.
— Как не быть! — охотно отозвалась она. И отперла кованый сундук, стоящий под боковым окном, сняла верхнюю пелену сурового полотна.
Я заглянула в сундук — и про все забыла!
Сверху лежало что-то сказочное: малиново-сизое, переливчатое, шелковисто-лоснистое. Тетя Еня подняла эту жар-птицыну мантию, и она оказалась старинным сарафаном, собранным в густую сборку на тканной золотыми и серебряными нитями широкой тесьме и с плечиками из той же тесьмы. Каждое движение рук тети Ени вызывало живую дрожь ткани, волну переливчатых бликов, как на вечернем озере, отражающем заревое малиновое небо. Я такой ткани еще не видывала.
— Ой, тетя Еня... Прямо царское! — выдохнула я наконец.
— «Царское»! Скажешь тоже! — засмеялась она.— Это приданое мне мама собирала. Знаешь песню «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»? Вот он самый и есть. Сшитый.— Тетя Еня бросила сказочный сарафан на нашу кровать, и он, вздрогнув всеми складками, моргнув всеми красками, замер.
Я несмело тронула его кончиками пальцев: такая тающая, мягкая нежность... Ой, да как же и носить такой!
— Ну ладно, бог с ним. Давай твои вышивки искать,— легонько вздохнула тетя Еня.
Но прежде чем мы дошли до вышивок, на белый свет вылетели еще юбки и сарафаны. Темно-синий — «кубовый», сказала тетя Еня,— в красных и желтых розочках, черная юбка в белый мелкий горох; сарафаны домотканые — желтые с синей каймой и синими плечиками; ситцевые юбки, одна особенно нарядная, темно-розовая в белый цветок, и всякие, всякие.
— Тетя Еня! А почему не носите?!
— Куда же мне, старухе! Вот черную еще сношу.
— Ой, как жалко, что они лежат и никто их не видит!
— Что ж, Даша, их жалеть! Не живые...
И так прозвучал ее голос, что разом оторвалась я от сундука, оглянулась на тетю Еню: на лице ее застыло странное выражение — горестная и вместе с тем удивленная полуулыбка. Будто она и сама до сих пор не знала, что все это яркое, пестрое лежит тут, и что все это ее, и она могла б носить эти юбки, сарафаны, полушалки, да вот опоздала. Состарилась...
А руки ее продолжали вынимать все новые вещи.
Наконец пошли скатерти и полотенца. Скатерти клетчатые, тканые — черно-красно-желто-белые, красно-сине-черные; в мелкую клетку, и в крупную, и в какую-то словно бы мраморную, когда каждая клетка заключала в себе другую, меньшую, а эта в себе еще меньшую — и так почти до точки в центре. От этих клеток голова кружилась.
145
Будь моя воля, я б этими скатертями все стенки завесила, и стол, и лавки! Вот стало б весело!
А полотенца тоже были на диво хороши! Длинные-длинные! А концы широко расшиты узорами, но все до одного только в два цвета — красный и черный, и украшены широким кружевом. Я присмотрелась: нет, не кружево, просто конец ниже узора превращен белой сквозной тончайшей вышивкой в подобие кружев.
У меня глаза разбежались: которое выбирать для срисовывания? Некоторые узоры были очень сложны — такая путаница линий, переходов; другие — слишком плотно расшиты. Я наконец отложила два. На одном — ветки калины, резные, лапчатые ее листья и плоские кисти ягод; все расположено удивительно изящно, стройно и перевито какими-то тонкими усиками с завитком на конце. А на другом — петушки, стоящие попарно, грудка к грудке; один петушок — черный с красным гребнем, бородкой и лапками, а второй наоборот -— красный с черным.
Эти полотенца понравились мне потому, что изображалось на них живое, знакомое, а не просто ромбики, и кубики, и линии, хоть и красиво, изобретательно сплетенные.
Себе я стала переводить калину, Зульфии — смешных петушков. А тетю Еню упросила не запирать сундук, чтоб и Зульфия посмотрела сказочный сарафан и веселые скатерти.
Эх, жалко, что все тети Енины одежды такие большие, длинные! А то бы я попросила у нее для нашего концерта. Вот только полушалки могут пригодиться.
Придет Зульфия, мы их все перемеряем. Одна я как-то стеснялась.
Я сидела за столом, из последних сил вглядываясь в не очень ровные клеточки, начерченные мной, считала промежутки от крестика до крестика. Оказывается, какая долгая работа! Глаза уставали, и, отрываясь от тетради, тешила я себя, глядя на цветной ворох тети Ениного приданого, вздымающийся на нашей кровати, и на малиново-сизый сарафан, лежащий рядом, на особицу. Несправедливо, что сундук скрывает в своей темноте такие живые, яркие, чистые краски!
Что за обычай — носить все темное, дом убирать ну в крайнем случае белым, а в сундуке настоящая радуга! А Зульфии все не было...
Надо будет спросить тетю Еню про песню «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Я ее слышала, только не все слова знаю. Вот взять да и выучить ее. Для концерта. И тетя Еня сарафан даст надеть... Жалко, не мне придется. Этот сарафан можно у меня над головой связать, да еще и под ногами хватит тесемкой прихватить. Такая будет бочка... «В бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в Окиян...»
А Зульфия все не идет!
Я отбросила карандаши, прильнула к окну, к не замерзшему
146
краешку стекла. Еще не совсем стемнело на улице. Синевато, ли- ловато, беловато... Сижу как узник. Замурована в собственном доме! Носа высунуть не смею! Зульфию встретить! Я возмутилась и, набросив пальто, выскочила во двор, выглянула из калитки: вправо — пусто; влево — никого. Побежала до угла, до главной улицы, поминутно оглядываясь, не крадутся ли враги,— и вот она, вся широкая улица, насквозь до самой церкви у меня перед глазами. Почти пустынная...
Вон соседка к соседке перебежала, прихватив клетчатую шаль под подбородком. Вон девочка по воду пошла, ведрами на всю улицу бренчит... Я чувствовала, что мерзну, уши ломило без платка. Но не уходила: вдруг да вот сейчас покажется из-за поворота чуть подпрыгивающая фигурка — Зульфия? «Может, Лешка с Карпэем ее захватили в плен и держат как заложницу, пока я не пойду ее искать?» — мелькнуло в голове. Глупости, конечно! Чего им возиться, да и где держать Зульфию? На их месте я б лучше вела наблюдения за нашим домом... И тут мне послышалось — брякнула калитка с той самой, опасной стороны... Точно! Кто-то вышел с Лешкиного двора. На темном фоне забора и дома было не разглядеть кто. На всякий случай я прижалась к углу косинской избы. Вдруг над калиткой Никоновых выросла, словно вынырнула из темной воды, фигура человека. Лешка, конечно! Кто, кроме него! Узнаю его до отвращения знакомую позу: ноги врозь, руки в карманах, локти оттопырены...
«A-а, голубчик, вот ты где!» — сказала я про себя, успокоившись сразу,— значит Зульфия в безопасности. Меня Лешка не смог бы настичь. Дом был рядом. При всем желании, при всей своей ястребиной стремительности мальчишка не успел бы раньше меня очутиться у наших ворот. Подождав немного — Лешка не шевелился, прямо статуя! — я медленно пошла к дому. Хотя побежать мне очень даже хотелось, просто от холода.
Видно, Никонов поначалу не видел меня. Потому что стоило мне двинуться и отойти от дома Косиных, как он встрепенулся: вырвал руки из карманов и весь подался вперед, но не спрыгнул с калитки. Может, еще не узнал.
Дойдя до своей калитки, я остановилась: хотелось посмотреть, что будет. И так мы стояли, каждый при своих воротах. Смотрели друц на друга, не видя ни лица, ни глаз. Лешка — один черный плоский силуэт. А меня у темных ворот он, наверное, вообще не видел. Просто знал: раз калитка наша не открылась, не закрылась — значит, я здесь.
А небо хмурилось, слоистые седые тучи волоклись над проулком, дышали холодом, снегом. Земля же была темной, вовсе лишенной подробностей, красок.
Избы Никоновых и Карповых плоско чернели на взгорке, и о том, что крыши их сейчас мягкие и пухлые от снега, говорила только легкая волнистость той линии, которая четко отграничивала их от седого, тоже пухлого неба. Изящная путаница ветвей голых
147
березовых макушек, тонким пером черной тушью наведенная над крышами, смягчала картину и странно сливалась с ней, хоть была непривычно чуждой здесь, над калиткой, на фоне неба, фигурка мальчишки — черный силуэт, будто вырезанный из картона.
Сказать, что я что-то думала, пока мы так стояли, будет неверно. Чувствовала? Тоже нет. Я ждала: вот сейчас что-то случится. Что-то должно было произойти. Это вверху тучи шли, а здесь, у земли, все цепенело, стыло в ожидании, все уже потемнело от неподвижности ожидания.
Но ничего не случилось... Я услышала шаги тети Ени во дворе и ступила за калитку, неизбежно грохнув щеколдой.
Лешка получил знак, что меня у ворот больше нет. Как все-таки резко в холодном воздухе, в молчании сумерек, как грубо брякает железо о железо!
Нас разоблачили
Только войдя в избу, я поняла, что застыла до самых печенок в одном накинутом на плечи пальто. Что бы мне вдеть руки в рукава да застегнуться — так нет! Я полезла на печь, теплую еще, пахнущую нагретым кирпичом, пылью. Тети Енина постель была скатана, лежала в углу. Я ничком растянулась прямо на широких гладких кирпичах, прикрыв спину пальто. Меня била дрожь.
Нет, я нисколько не раскаиваюсь, что дала пощечину Лешке. Поделом ему. И все-таки... все-таки его жалко. Но выхода теперь не могло быть.
Просить прощения — ни за что. От одной мысли меня подбросило на кирпичах — так я возмутилась. Да пустись я в объяснения, он бы ни за что не понял. Куда уж ему! Мальчишка... Значит, предстояла длинная, затяжная вражда.
Конечно, он не успокоится, пока меня не излупит или еще как- нибудь не отомстит. Стало быть, надо все время держаться настороже, прятаться, убегать... Тьфу! Что это за жизнь такая! Я волчком закрутилась на жестких кирпичах — так стало нестерпимо неловко не то что жить, а и просто лежать...
Сейчас вот для чего он влез на ворота? Конечно, чтоб в наш двор заглянуть!
Я села на печке, обхватив колени руками, пытаясь унять дрожь, и тут раздались наконец долгожданные шаги, топоток Зульфии.
— Лезь скорей ко мне! Я на печке! — почему-то шепотом сказала я ей.
Она и рада была: тоже замерзла. Да и секретней на печке.
То, что рассказала Зульфия, враз отодвинуло все мои лешкинские переживания. Оказывается...
— Прихожу я к Степке,— рассказывала Зульфия,— а у него Мария Степановна! Ты понимаешь?! Она сразу из школы к нему!
149
Я прихожу, а они сидят разговаривают. На лбу у Степки такая корочка, воспаление сошло, глаз открылся, кругом красноты даже нет. А на руках волдыри спали.— И Зульфия большими пальцами обеих рук потерла подушечки остальных пальцев.— Это уж потом я разглядела. А как только шагнула в избу, так и стала столбом у порога, не могу вздохнуть. А Мария Степановна зовет меня: «Что ж ты стала? Проходи, присядь с нами». А я говорю: мол, ноги грязные. А она: ну, мол, разуйся.
Ну, я разулась. А сама соображаю: чего говорить? Чего уже Степка сказал? А он молчит как деревяшка! Тогда я: как, мол, Степа, себя чувствуешь?
А он: «Спасибо, заживает, как на собаке!» И хохочет. Весело ему!
Мария Степановна так внимательно на меня смотрит и говорит: «Какие вы молодцы, что заботитесь о товарище. Это приятно видеть». А мне нет чтобы догадаться: не знает она правды, наплел ей Садов! Нет, я ей так и выкладываю: «Он нас пришел выручить, а мы что же?» — «Да-а? А он вас где выручал?» — она удивленно так.
И вот тут Степка мне заморгал! Понимаешь, Даша, вижу — моргает, уже соображаю — надо мне молчать. А меня несет, как во сне, не могу остановиться и объясняю: «Да на дежурстве, где опалился».
Вот тебе и все...— торжественно заключила Зульфия.— И тогда Мария Степановна как посмотрит на Садова! Как только посмотрит! И тихо так спрашивает: «Значит, ты мне неправду рассказал?»
Степка-то наш, бедный, теперь и вруном оказался! Забормотал: «Чё это неправду? Чё неправду?! На дежурство на ихое я пришел маленько помочь. Печку раздувал, вот волосы-то чуть опалил. А уж потом утром здесь вот на квартире — как вам говорил, так и было! Хозяйке помогал чугун тяжелый из печки вытащить, мне под ногу попал кругляк, кусок жерди, нога поскользнулась, покачнулся чугун, меня перетянуло. И я ткнулся вперед носом, лбом о печное чело, а руками на угли».
Вот что он сочинил! Да мне откуда было знать!
Но Мария Степановна, конечно, все сразу поняла по моим словам. Говорит: «Складно сочиняешь, Садов. Быть тебе непременно великим писателем, если ложь твое сочинительство не разъест. Ведь я было поверила твоему рассказу. Только вот думала: чтоб о печное чело такой ожог получить... Не похоже... Но, считай, обвел ты меня, свою учительницу, вокруг пальца. Молодцом, Садов!»
Мы со Степой сидим, и смотрю я — у него из глаз закапало: кап, кап на клеенку, на стол. Как я увидела, так тоже в горле комок встал. А плакать я не умею, сама знаешь, и потому, наверное, этот комок меня душит.
Но только я выдавила из себя: «Мы боялись...» — и комок прошел. Задышала я нормально.
Ну и тогда рассказала все, как было. А она стала ходить взад-
150
вперед по избе, руки за спину, нахмурилась. А нам уж все равно! Мне то есть. Я только за Степу боюсь. И сказала ей, Марии Степановне: «Это во всем мы виноваты, вовсе не Садов. Он помогать пришел, а мы его бросили у печки. Мы были дежурные, часовые, мы нарушили приказ. Нам нельзя было никого к себе пускать. Вот».
А она знаешь что на это?! «Вы,— говорит,— очень виноваты». И погладила меня по голове! Вот здесь.— Зульфия наклонила голову и показала мне свое темечко — блестящие темно-каштановые полукружия, разделенные тонкой ниткой пробора.
Я слушала ее проглотив язык, и по ходу рассказа сердце мое то падало куда-то вниз, то взмывало в надежде, что пронесет — вывернется Зульфия...
И наконец, растаяло теплом, пошло этим теплом по всем жилочкам.
И тоже, как у Степки, выжало слезы. То ли от стыда, то ли от благодарности к учительнице, то ли от жалости к Степе и Зульфии, которым пришлось пережить такое.
— А что она еще-то сказала? Что теперь будет?
— Мария Степановна сказала: «Живите спокойно. Хорошо, что у Садова все подживает быстро. Учитесь нормально. Разобраться в этом — дело взрослых. Вы поняли свою вину, а это самое главное».
— Все-таки...— тоскливо протянула я.— Ойё-ёй, Зульфия, как стыдно перед учительницей, хоть беги отсюда!
А Зульфия вдруг и говорит:
— Дашка, что было, то прошло. Степка живой и с глазами. Поговорят и забудут. А мы все-таки виноваты.
Вот какая мудрая и справедливая Зульфия, половинка моей души!
Когда она сказала «и с глазами», я содрогнулась, впервые подумав, что правда мог Садов и глаз припечь о раскаленную дверцу...
— Правда, Зульфия! И пусть все кончится скорей! А то бы всё врали, врали...
Вспомнила я, как покраснела сегодня и что из этого вышло. Сгинь, сгинь, провались всякая беда!
— Ой, Зульфия! А что я тебе покажу!
Я потащила ее к груде тети Ениного приданого, и при свете лампы малиновый сарафан оказался еще волшебнее.
Весь вечер мы мерили перед зеркалом и друг перед другом тонкие шерстяные шали и полушалки — нежно-кремовые, кубовые, темно- темно-бордовые, черные, и все с огнистыми цветами, розовыми розами и бутонами, небесными незабудками, с яркой зеленью. Тетя Еня глядела на нас, улыбалась, подзадоривала:
— А ну так повернись! А ну эдак! — И пообещала нам дать полушалки, если надо будет, для выступления на сцене.
После уроков оказалось...
Как говорит моя бабушка, в большой беде тонет малая. Так и я, отправляясь назавтра в школу, думала лишь о том, как мне теперь на Марию Степановну смотреть. Я и не заметила, что всю дорогу за нами шел Лешка, один, без Карпэя. Об этом сказала мне Зульфия.
Мне очень хотелось вызвать Марию Степановну из учительской и попросить прощения за ложь. Но я не посмела.
Она пришла на второй урок. И сразу же лицо мое заполыхало. Что за несчастное у меня свойство — краснеть?! А Мария Стеановна заговорила:
— Ну что ж, у Садова мы были вчера с Закировой. Он еще болен, но поправляется. Скоро будет здоров. Больше никто не заболел? — И тут она поглядела на меня.
Я опустила голову и прошептала, что нет...
Поняла я, что она и прощает меня и делает мне выговор. И перевела дух. Я еще не знала, что главная моя казнь впереди.
В перемену Вера мне сказала шепотом:
— Дашка, что было вчера! Мария сказала нашей (так она звала сестру), она на меня как вызвереет! «Я,— говорит,— знала, что этим кончится! Все вы,— говорит,— собрались там маменькины дочки да неженки!»
— Вера,— зашептала я, чувствуя, что губы мои мертвеют от позора, ясного только мне,— ведь все другие тоже спали, Вера!
Говоря так, я понимала, что еще больше унижаюсь, совсем позорюсь, цепляясь за чужую вину, как за свое оправдание. И все-таки я говорила!
— У нас-то хоть Степа не спал, потому мы и легли... Другие же подряд спали...
— Да-а, это мне ты говоришь! А ей бы сказала?!
— Нет, конечно! Что мы — ябеды?
*— Ну вот,— успокоилась Вера,— оправдаться-то нельзя.
А тут перемена кончилась, и пришла на урок Анастасия Ивановна. И я сжалась в комок и горячо пожелала стать невидимкой. Вовсе -пропасть.
У Анастасии на лице казнь и презрение. Если б это все произошло во Франции в эпоху буржуазной революции — нас бы гильотинировали. Как в книге «Девяносто третий» Виктора Гюго. И Анастасия была бы Маратом или Робеспьером.
Сейчас Анастасия Ивановна не обращала на наши парты никакого внимания. И, глядя на ее лицо, я понимала справедливость того, что высказала она своей сестренке. Ой как было мне нехорошо!.. Тошнота подкатывала, когда я вспомнила свои разглагольствования в вечер сбора по цепочке, что все это нам для испытания воли и моральных качеств...
Только маленькая надежда слабым огоньком маячила передо
152
мной: будь у нас настоящее дело — настоящий арсенал или там госпиталь с ранеными,— ни за что бы мы не уснули!..
Но крутись не крутись, правдашное дело, не правдашное — а все получалось так, что мы перед Анастасией опозорились и заврались. Досидеть бы урок, а то правда тошно.
«Нет-нет! Воля есть у меня, есть,— уверяла я себя, стиснув зубы.— И меня не стошнит. Кончится урок, и я выбегу на улицу. Подышу».
Звонок! Звонок! Анастасия Ивановна выходит из класса. Чуть выждав, иду за ней следом. И вот я среди снега и деревьев. И небо над головой. И мороз. И вороны на старых липах. Дышу глубоко... Холодный ток воздуха омывает, кажется, самое сердце. Иду по чьему-то следу между деревьями к церкви. Широко кто-то шагал — я еле дошагиваю от следа к следу.
Ходить лучше, чем стоять или сидеть. «Уйду я в поле, в снег и ночь, забьюсь под куст ракитовый! Там воля всех вольнее воль не приневолит вольного. И болей всех больнее боль вернет с пути окольного!» Эти слова я слышала от папы, все стихотворение не запомнила, а эти — про волю — сразу. Знаю, что это поэт Александр Блок. Папа из него многое читает. Сейчас понимаю — даже остановилась я! — вот что мне нужно, чтоб избавиться от этой тошноты и мучений совести! Уйду я в поле, в снег и ночь, забьюсь под куст ракитовый... Но я не знаю здешних мест. Где есть хороший ракитовый куст? На поле, через которое мы ходим, нет. Березы вдали. Но это не куст. И потом, все здешние места какие-то не свои, неуютно здесь. Это не дома.
В нашем совхозе есть как раз такой, какой нужно, круглый ракитовый, на поле неподалеку от околицы. Под него очень уютно забиться. Он тонет сейчас в таких снежных перинах. А на нем — целая папаха снега. Там, пожалуй, даже не замерзнешь насовсем. В теплом снегу под кустом. «Домой надо уйти,— подумала я.— Сегодня же и уйти». Я повернулась, приняв это решение, и отправилась назад, в класс.
Первая репетиция
Но не суждено мне было попасть в этот день домой, а дома — под куст ракитовый. Перед последним уроком заглянула к нам снова Мария Степановна и велела после звонка не расходиться.
Весной в райцентре будет смотр художественной самодеятельности. И мы примем участие. Сегодня поговорим, что нам делать к смотру.
Наконец хоть что-то приятное! После уроков все остались за партами. И Мария Степановна сказала, что в концерте все будут заняты. Те, кто ходит в Пеньки из деревень, тоже. Пусть они пока учат песни, стихи, танцы — ведь могут же Нурулла и Галия приготовить татар¬
153
ский танец сами? А потом мы раза два прорепетируем все номера — и порядок! Так ведь? А то вот к Октябрьской годовщине не вышло у нас ничего. А жаль... Ответственной за подготовку деревенских ребят назначили Тоню. И я видела, что Тоня была рада. И я обрадовалась, когда Тоня, чуть улыбнувшись, сказала коротко:
— Ну что ж, постараемся.
Вот как хорошо! А то все вроде в стороне деревенские.
Мария Степановна пока велела им учить русскую песню «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», песню «Принесли мне в землянку посылку» и «Вася-Василек» и отпустила их. А мы остались выяснять, кто что умеет и что нам понадобится из оформления и костюмов.
И оказалось... Чего только не оказалось! Что Карпэй играет на гармошке, а Лешка у него учится. Нина Иванова поет очень тоненьким, как серебряная ниточка, голоском; у Марии Степановны припасены две пьески, и в одной надо петь, как в опере. Для «Не шей ты мне, матушка...» надо достать прялку покрасивее, льняную кудель, чтобы сделать косу девушке, которая будет сидеть за прялкой. И еще кудель для этой прялки. И надо, чтоб артистка на роль этой девушки умела бы прясть. Прясть умела только Тоня. Но Тоня была слишком взрослой. Значит, научиться прясть должна была Нинка со своим серебряным голоском.
Нинка обещала хоть завтра научиться. Правда, для невесты Нинка была бледновата, но Карпэй сказал, что можно свеклой накраситься. А Душка сказала, что она знает, у кого есть лен. А мы сказали, что у нас есть сарафан и прялки есть.
Но тут Мария Степановна всех огорошила: не нужен красный-то сарафан! Ведь она, девица-то, просит: «Не шей!» Не шили еще, значит!
— Так ведь, может, уже шьют!
— А вот это верно! Посадим на сцену и матушку с шитьем в руках. Дочка будет за прялкой, а матушка — с иголкой, хор же за ними,— сказала Мария Степановна.
— А хор надо в цветные полушалки!
— Найдете? — усомнилась Мария Степановна.
Я рассказала про сундук тети Ени.
— Ой, да у всех старух есть! Хоть один, да есть! — убежденно отозвалась и Вера.
Мария Степановна пропела нам тихонько «Сарафан», и я поразилась, как легко запомнился мотив, будто мы уже знали его давно, а сейчас лишь вспоминали. И слова тоже... Что-то меня задело в словах — скучным очень показался ответ матушки: мол, нечего, все замуж выходят, и тебе надо. А то состаришься, «поблекнут на щеченьках маковы цветы». «Ну и что?» — возразила я про себя. Однако что спорить со старой дореволюционной песней? Красивый мотив! Нежный, вкрадчивый... Пусть его.
154
Мария Степановна вдруг озабоченно так Карпэя спрашивает:
— Костя, а ты сможешь это нам сыграть?
Коська покраснел, в пол уперся глазами, засопел и пробасил:
— Смочь-то смогу, чай... Да гармони у меня нету. На муку сменяли, еще летось...
— Надо поискать, мальчики,— строго сказала Мария Степановна.— Как же без музыки? Поспрашивайте в селе, и я тоже буду узнавать...
Мы разучивали песню, а мальчишки пока переписывали ту пьеску из книжки, которую дала им учительница. Потом она нам ее прочитала.
В партизанский лагерь приходит старенькая бабушка и просит принять ее в отряд — она хочет стряпать бойцам, стирать им. А часовой ее спрашивает:
«Здорово, бабуся! Каким тебя ветром В отряд к нам сюда занесло?»
Она ему отвечает, что это жестокий ветер войны, разоривший ее село и спаливший избу.
«А где же старик твой?
Куда он девался
С родимой отцовской земли?» —
«Над дедом немецкий снаряд разорвался,
Сыны в партизаны ушли...» —
отвечает она.
Тогда часовой ведет бабушку к командиру.
Очень хорошая песня-пьеска. Так хотелось, чтобы бабушку приняли в отряд.
Я представила сразу мою бабусю и тетю Еню, хоть она еще и не старая. Разве плохо было бы с ними партизанам? Придут с операции промокшие, уставшие, а у них в отряде уже горячее сварено, постираны портянки, белье. И за ранеными есть кому приглянуть. И самой бабушке хорошо — не одна.
Часового поручили играть Лешке. А бабушку — Душке Домуш- киной. Но когда они вышли и стали друг перед другом, оказалось, что Душка выше ростом. Все, кроме меня, засмеялись: ай да бабушка! И тогда предложили мне.
— Нет, Мария Степановна, я лучше другое буду. У меня есть один рассказ, про летчика. Я его буду лучше читать! — взмолилась я, стараясь не глядеть на Лешку. И все-таки я видела, как он стоит, круто повернув голову к окну, и притопывает носком отставленной в сторону ноги.
— Ты мне не говорила про рассказ,— упрекнула меня Мария Степановна,— но одно другому не мешает: сыграешь и здесь.
155
— Дайте мне бабушку! — вдруг вмешалась Зульфия.— Я маленькая, в самый раз для Лешки!
И все захохотали, что Зульфия сама напрашивается. Только не я. Я смотрела на Зульфию во все глаза: как она все понимает! Вот друг настоящий! И никаких насмешек не боится. А ребята, хоть смеялись, одобрили:
— Правда! Правда! Ей лучше!
И Зульфия вышла на середину класса, на ходу повязывая платок под подбородком, по-старушечьи, и стала рядом с Лешкой.
— Ах ты моя ба-бу-сень-ка! — вдруг впервые за эти дни оживился Лешка и, схватив концы платка на Зульфии, развел их в стороны, поворачивая голову ее то влево, то вправо.
Зульфия ударила его по рукам, а Мария Степановна погрозила пальцем:
— Не баловать! Некогда нам.
Зульфия запела звонко. А Лешка и не пел, а просто врастяжку говорил. Когда он начал, обращаясь к румяной Зульфии: «Бабуся, бабуся!» — все так и легли от хохота. Тут уж и мне стало весело, я тоже рассмеялась.
А Лешка — подумать только! — и не улыбнулся! Подождал, пока все отсмеются, и снова свое завел: «Бабуся! Бабуся!»
Опять все грохнули! Еще раза три пришлось ему возглашать «бабусю», прежде чем зрители успокоились. И то после строгого внушения Марии Степановны.
— Один Никонов среди всех вас молодец! — сказала она.— Видите, он держит себя в руках, не распускается, а ведь, наверное, и ему смешно.
Лешка слушал похвалу себе с видом безучастным. Мол, да, я вот такой — волевой и собранный. И тут уж ничего не поделаешь!
И в самом деле, попробуй-ка не рассмеяться, когда все хохочут! А Зульфия — такая уморительная черноглазая бабуся!
И вспомнила я, как Анастасия Ивановна говорила, что Лешке бы разведчиком к партизанам...
А потом мне пришлось читать рассказ про летчика Александра Боева. Я вырезала его из газеты «Правда» еще позапрошлым летом, перед пятым классом, потому что он меня поразил и просто потряс.
Сначала там говорилось, как Александр Боев еще мальчишкой хотел стать летчиком, как выучился. И воевал здорово. Был ранен в кисти рук, но все силы приложил, чтобы вернуться в эскадрилью. Подробнее всего в статье рассказывалось о его последнем бое. И это было самое главное.
«Он взялся за штурвал, едва кисть руки могла снова двигаться, и снова умчался в ночь, чтобы бить врага...» — так начинался отрывок, который я выучила наизусть. Дальше описывалась бомбежка вражеского эшелона. Наших летчиков фашисты обстреливали разрывными пулями. Это страшные пули. Попадая в тело, они разры¬
156
ваются, словно маленькие снаряды. Пуля, попавшая в Боева, своими осколками смертельно ранила его сердце. Однако такая была у человека воля и такое терпение, что он еще сумел сказать штурману: «Я ранен... Бери управление...» Штурман Смирнов повел машину, а пилот Александр Боев умер.
— «И было так,— читала я, немного задыхаясь от волнения и чувствуя, как холодок ужаса, торжества и победы приподымает волосы на моей голове,— и было так, как будто вел грозную машину сам мертвый пилот. Мертвый и бессмертный парил Боев над пылающим эшелоном врага.
Он умер в полете и, мертвый, продолжал полет. Он умер за родную землю, и, мертвый, он продолжал жить. Жизнь его была прекрасна. И смерть прекрасна.
Так живут и так умирают герои».
Я кончила. И все молчали. А у меня по коже бежали мурашки. Оказывается, когда читаешь вслух и при людях, все получается по-другому, и чувствуется иначе — острее, больнее и торжественнее. И давно известный и любимый рассказ понимаешь как совсем новый и неизвестный... Я поняла и почувствовала, что вот сейчас сама могла бы умереть с восторгом и легкостью здесь, на глазах у своих товарищей и за них за всех: Зульфию и Веру, Душку и Нину, Карпэя и Лешку. И за Марию Степановну, и за Боева, и за нашу школу, и за все Пеньки, и за наш совхоз, где мой дом, и за дорогу, на которую смотрят издали две березы.
Мария Степановна сказала, что это очень хороший рассказ, им-то мы и начнем концерт.
Ее спокойный голос вернул меня к жизни, снял напряжение и озноб. Я почувствовала, что очень устала и что мне больше не хочется репетировать.
Мария Степановна велела всем расходиться.
На узеньком и высоком крылечке школы стоял Лешка — руки в карманы, ноги врозь,— будто ждал кого-то. Карпэй маячил внизу у крыльца. Никонову сейчас удобно было столкнуть меня вниз: крыльцо-то совсем голое, без перильцев,— но в эту минуту мне было все равно, я спокойно прошла мимо. Лешка не посторонился, так что я задела его плечом; но и тогда он не толкнул. Странно все это!
Я шла домой и думала: почему мы не можем поступать так, как нам хочется? Почему вот идешь скованная, как рыцарь в латах, и забрало скрывает твое лицо? Почему не смеешь протянуть руку и сказать: «Лешка, мне хочется рассказать тебе, что я думаю про Боева, про его смерть...» И я бы прочитала ему стих Лермонтова:
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
157
Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.
И мы бы поговорили с ним о Летучем голландце, об океанском мраке, у которого нет берегов, только клубящиеся косматые облака и блестки звезд в их разрывах — сверху, а снизу — космы океанских валов.
А теперь есть и у неба своя легенда. Правда же, Лешка? Ведь можно представить: вот среди ночной тишины, когда на какие-то часы, может, замерли бои, бесшумной тенью из туч или облаков выносится самолет, и это самое страшное — видеть беззвучный его полет! Враги тогда мечутся в панике, если случается им заметить его, прежде чем бледный и тоже бесшумный огонь — вроде молнии без грома,— вырвавшийся из бомбовых люков, поразит их всех! И может, он не один, такой самолет, может, их много — вечных странников неба, мстящих врагу!
Я рассказала бы это Лешке, и он бы понял, как глупо то, что мы ссоримся, деремся, не разговариваем и боимся друг друга...
Вот что было под латами в моем сердце и под шлемом в моей голове, когда по темной улице мимо пригревшихся под снежными шапками домов шли мы, неслышно ступая валенками по каменно- укатанной дороге, и морозная пороша Млечного Пути да редкие звезды одни светили нам с черного неба. Но воздух уже чуть отдавал сырой тыквой. Где-то во рту оставался этот тыквенный привкус. Я не любила его. Сырую тыкву терпеть не могла. Но дело в том, что привкус ее в морозном воздухе означал близкую оттепель. Это была моя собственная примета. Сколько раз я пыталась поделиться этим своим наблюдением с девчатами или с родными, спрашивала: «Чувствуешь, будто тыквой отдает?» От меня отмахивались: «Ну тебя! Просто мороз, морозом и пахнет!»
Г де-то шел Лешка. Или за нами, или в другую сторону направился. Я больше не боялась его. Я поняла почему-то, что он мне мстить не будет. Мне показалось, что и ему было неловко, когда Мария Степановна предложила нам выступать с ним вдвоем.
Как напряженно смотрел он в сторону, чуть шею не свернул.
— Зульфия,— сказала я,— как хорошо, что ты стала бабушкой!
— А чего она к тебе привязалась? — с необычной для себя грубостью спросила Зульфия.— Будешь да будешь, будто других нету! А Лешка-то молодец! Я и не думала! Думала, что только баловаться мастер!
А у меня сердце замерло: так было странно услышать имя Лешки как раз в тот миг, когда я одна про него думала.
«Зульфия! Может, ты колдунья? — спросила я ее, только не вслух, а про себя. И еще добавила: — А если колдунья, то добрая».
Пять овечек
— Что невеселы, нос повесили? — встретила нас тетя Еня.— Что поздно так? За Степана, что ли, наказаны были?
Мы переглянулись с Зульфией, рассмеялись:
— Еще очередь не дошла! У нас репетиция была. К смотру готовимся. Ох и есть охота!
Раздеваясь, поглядывала я на самовар, бушующий на столе. Видно, только-только из-под трубы. Живой!
— Это дело у нас, слава богу, поправимое! — отозвалась хозяйка.— Давайте побыстрей. Я уж отужинала без вас.
Как всегда после вечернего чая, тетя Еня налаживалась прясть. Она ни минуты просто так не сидела. Если все дела у ней во дворе и по избе переделаны, вяжет или прядет. Она вязала носки бойцам на фронт. И большую их часть отправляла как подарки, бесплатно. «Сколько же она всего напряла!» — думала я, глядя на бесконечное кружение веретена.
Наверное, потому, что «Красный сарафан» на репетиции вызвал разговоры о прялке, о льняной кудели, сейчас, лишь только увидела я тетю Еню за пряжей, мотив песни проснулся в мозгу, потек, вбирая в себя и сиплый шумок самовара, и звяканье чашек, и голос тети Ени, и тишину за окном...
Рано мою ко-о-осыньку На две расплета-ать...
И под этот напев та стесненность, тяжесть, давившая мне сердце (или эту самую душу!), словно стронулась, стала таять, как ледок в теплой воде, и потекла, потекла, освобождая дыхание, но до конца не исчезая. Привязался же этот «Сарафан»! Вкрадчивый обман слов, вкрадчивая покорность матушки, тоска красной девицы, которую все равно уговорят. Тоска и несогласие все еще донимали меня. Текли, не кончаясь. Я поставила на блюдце чашку с морковным чаем так крепко, что сплеснула. И спросила угрюмо, просто чтобы сказать что-нибудь:
— А зачем косу на две расплетать, а, теть Ень?
— Это ты о чем?
— Так мы же «Не шей ты мне, матушка...» репетируем!
— Во-он что! Такую старинную? Смотри-ка! Ну-ну...— одобрительно кивнула тетя Еня.— А косу-то, одну косу, носили девушки. Замужние плели волосы в две. Вот, значит, и не хочет она замуж — рано, говорит, на две-то расплетать.
— А мы всегда две плетем, с детства! — задорно сказала Зульфия, и они засмеялись.
— Вам и горя мало — не переживать, замуж-то выходить, косу
159
не делить, уж разделенная,— проговорила тетя Еня, смеясь.— Все и горе-то было, поди-ка, в косе.
— Несправедливая песня! — сказала я громко, чтоб заглушить их смех, и невпопад — шутливый же шел разговор!
— Зато красивая,— тихо произнесла тетя Еня, взглянув на меня с удивлением.
— Вот и плохо, что несправедливая, а красивая! Так не должно быть!
— Деваться-то некуда было девушкам... Вот и пелось про то покрасивей. Как-то оно не так обидно. Вишь: «И я молодешенька была такова. И мне те же в девушках пелися слова...» И напев под стать уговору — протяжный...
— Вот-вот, тетя Еня! Для обману все! Для обману!
Я и раньше чувствовала, что есть тут что-то! Да вот объяснить не могла!
— Не для обману, а для уговору! — смеется тетя Еня.
А Зульфия, которая молча слушала наш разговор, вдруг сказала, глубоко вздохнув:
— Нам песня строить и жить помогает...
От неожиданности я поперхнулась чаем. Глянула на Зульфию — она мне так лукаво подмигнула,— и, с радостью включаясь в игру, я охотно с ней согласилась:
— Она, как друг, и зовет и ведет.
И уже вместе с ней мы негромко допели:
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!
Урра! Вот это песня!!!
— Ну, слава богу, развеселились! — проговорила тетя Еня.— А то киснут и киснут. Одна молчит, другая к старине придирается. Вот, девчата, разгадайте лучше загадку:
Пять овечек стог подъедают,
Пять овечек прочь отбегают.
Мы смеемся: разгадка-то перед нашими глазами: это сама тетя Еня, пряха, ее работа!
Пальцы левой ее руки (пять-то овечек!), вытягивая волокно, подщипывают и подщипывают непрерывно кудель, привязанную к головке прялки. И пухлый комок кудели словно подтаивает снизу. Но ведь так и овечки: не могут высоко достать, кормясь у целого стога. И подъедают его снизу.
А другие пять овечек — на правой руке,— будто юлу, запуская веретено, убегают прочь вместе с ним. Ведь, раскрутившись, веретено, как живое, само бежит от прялки, натягивая и скручивая в нить волокно, выщипнутое пряхой. А ее ладонь только чуть придерживает,
160
направляет его бег. Веретену не убежать дальше вольно откинутой руки пряхи. Вновь подтолкнутое пальцами, оно возвращается, теперь наматывая спряденную нить на свое толстенькое и все полнеющее брюшко.
И опять сучат сильные пальцы тонкое жало веретена, и опять смело отпускают его пробежаться, разлететься. И снова, и опять... Снова и опять... Рука с веретеном снует, как челнок: ближе к прялке — прочь от нее, ближе — и прочь... Подъедают овечки стог. А другие пять — убегают.
Какая удивительная работа! Такая однообразная, она завораживает, как движение волн, как длинные строфы стихов.
Вглядываясь сейчас с особым вниманием в фигуру нашей хозяйки, отрешенную и сосредоточенную, я подумала... Подумала, сколько уже веков сидит вот так пряха...
Одетые по-разному, не понявшие бы языка друг друга, древние гречанки и египтянки, славянки и древние германки и француженки, увидев друг друга за прялкой, успокоенно бы закивали головами, понимающе улыбнулись и продолжали бы свое вечное дело.
А поэты, с тайным страхом глядя на бесконечно текущую из-под их пальцев нить, сочиняли красивые и страшные легенды. Эти легенды и выдавали их страх перед женщиной с веретеном: Спящая красавица укололась о веретено. Мойры, богини судьбы у древних греков, были пряхами. Для каждого человека они пряли нить судьбы. Обрывалась нить — и умирал человек. А когда богиня-пряха брала в руки еще пустое веретено и заводила новую нить, кто-то рождался. Начиналась новая судьба.
А что, похоже: из разных тончайших волокон скручивается нить. Из белых — белая. Из черных — черная. А смешай, сбей вместе белое и черное — будет серая. Если длинное, прочное волокно — и нить прочная. Короткое, ветхое — и нить никудышная.
И можно понять поэтов, глядя на нашу тетю Еню: и строго, и бесстрастно ее красивое лицо; спокойны темные глаза под всегда белоснежным платком; горделиво выпрямлены спина и шея. Широкая, прямая кофта, бористая юбка до пят лишают фигуру подробностей; она как живая скульптура и почти так же неподвижна. Только плавно — к себе, от себя — ходит рука с веретеном.
Я рассказываю ей о мойрах. Она слушает так внимательно, даже несколько раз бросает на меня быстрый взгляд, восклицая:
— Вот что!..
А когда я кончила, помолчав, промолвила:
— Гляди ты... У теплого, говоришь», моря... А так же пряли. И богинь таких себе выбрали. Видать, народ был трудовой, понимающий работу. Интересно...— опять покачала она головой, и довольная улыбка поморщила ее губы, будто эти древние греки ее похвалили за труд, как и она их только что. И тут же она похвалила меня.— Вишь, Даня, как хорошо много-то знать,— сказала она тоном наставления, но никак не зависти.— Ты понимаешь не только то, что
6 Школьные годы. Выпуск 2
161
твои глаза видят. Дальше можешь понять. И меня вот сейчас утешила. А то прядешь и прядешь всеё-то жизнь. Экое дело! А кто-то вот, гляди, про твою работу еще когда подумал! До рождества Христова, говоришь? Это надо! Конечно, и сам сидишь за прялкой да думаешь про свое. Ежели теперь всеё-то мою пряжу назад размотать, и правда что выйдет моя судьба... Как есть.
И мы замолчали, и я подумала про бабушку, которой не было с нами.
— Тетя Еня, а не устает рука? — спросила находчивая моя подружка.
И наша хозяйка охотно отозвалась:
— Не-ет! Даже отдыхаешь, сидючи, не цельный же день.
— Ой, тетя Ень! Дайте попробовать! — взмолилась Зульфия.
И сердце мое ревниво вздрогнуло оттого, что я сама не смела попросить об этом тетю Еню. Я думала: что ее зря отвлекать от дела? Теперь видела — нашей хозяйке была приятна просьба.
И Зульфия примостилась, уселась на хвост прялки, как полагается. Ее маленькие, цепкие и будто всегда растопыренные пальчики взялись за веретено, потянулись к кудели, но волокно из кудели вырвалось толстым клоком — не полупрозрачной прядкой, а веретено тюкнулось толстым концом в пол.
Ой, как же мне захотелось попробовать!
И тетя Еня заметила:
— Тебе, Даша, охота? Ну, давай,— пригласила она, еще чуть помучившись с Зульфией.
С бьющимся сердцем села я за прялку, потянула мягкую, шелковистую шерсть. Вон оно что! Почему не получается у нас! И правая, и левая рука стремились к одинаковым жестам. Правая заводила веретено движением довольно резким, и то же самое стремились повторить пальцы левой! А ведь им надо бы потихонечку тянуть кудель, плавно! Вот почему нить у нас сразу рвалась, а веретено недостаточно сильно раскручивалось и падало бескрыло.
— Ну, будет, пряхи, напрялись! Не получается с одного-то разу. А вам и ни к чему. Тому скоро обучаешься, что в жизни необходимо...
Тетя Еня присучила оборванную нить, и запело живое и крылатое в ее руках веретено.
Вот интересно: научится наша Нинка или нет? Ей-то необходимо!
Нам не пригодится, наверное, так.
И тетя Еня уже не ткет, например. Хоть умеет. И ткацкое устройство — кросна — пылится у нее в задней, холодной избе, где лежат и стоят разные хозяйственные вещи, лари, короба. А все, что видели мы в сундуке — скатерти, полотенца, холсты,— все соткано на этих кроснах тетей Еней или еще бабушкой.
А теперь зачем ткать, когда до войны вон было сколько разной красивой материи! И простой, и шелковой. Это сейчас мы только мечтаем о красивых платьях и рисуем разные наряды нашим ма¬
163
леньким бумажным куклам. Больше-то мы в эти куклы никак не играем — только придумываем узоры для ткани и фасоны.
Этот вечер кончился тем, что тетя Еня снова открыла сундук и подобрала нам с Зульфией полушалки для концерта: Зульфии — густо-малиновый в розово-желтых и белых розах, а мне — кубовый в алых розах и голубых незабудках. И дала еще и юбки под цвет полушалков. Их нужно было, конечно, подшивать чуть ли не вдвое.
Мы уснули совсем счастливые. И наверное, видели во сне лето, как до войны, жаркий и ветреный день с крутыми белыми облаками, с бегущей под ветром пестрой, перемешанной с цветами травой. Но спали так крепко, что не запомнили сон.
Когда я проснулась, осталось лишь ощущение — или предчувствие? — счастья, вроде привкуса меда на губах, когда идешь мимо поля цветущей гречихи. Меда-то нет никакого!
Я села в постели, взглянула на Зульфию. Ее черные глаза блеснули мне с белой подушки.
— Встаем?
— Встаем!
О счастье
Счастливый поворот в моей жизни начался, пожалуй, как раз с этого утра. Хотя еще много случалось и после всякого неприятного, терзающего меня, мучающего, потому главным образом, что далеко мне было до совершенного владения собой и своей волей. Ведь счастливой чувствуешь себя в двух случаях. Бывает, что-то хорошее совершается для тебя само по себе, помимо твоего желания или нежелания. Например, вдруг прекрасное солнечное утро, и воробьи веселятся на березах под окном. Или приходишь однажды из школы, а во дворе две верховые лошади! И одна из них — папина Пчелка! Это счастье просто как подарок, счастье-подарок.
А бывает счастье, когда что-то происходит от того, что ты сама придумала, устроила и сделала. Когда оно по твоей воле случается. Вот оттого и Лермонтов так говорил о воле что она заключает в себе все... Очень теперь стала я понимать, как это верно. Ты поступаешь так, как считаешь необходимым и справедливым,— и получается по твоей воле, иногда даже неожиданно. Например, когда я вплепила Лешке пощечину. Справедливо было наказать его. Но сделать так мне захотелось внезапно. И я, не раздумывая, так и сделала.
Счастье было очень большим. Только очень уж коротким... А потом даже и вовсе стало плохо. Но это уже про другое...
Или вот боишься с крутой горы на лыжах. А надо! Иначе себя запрезираешь. Съедешь — вот оно, счастье! Потом целый день весело, легко, со всеми хочется шутить и смеяться. Однако тоже такое
164
счастье ненадолго. Так же — когда трудную задачу решишь. Вообще с разной работой — это все понятно: чем труднее и тяжелее делать, тем радостнее, когда получается. Тут нечего и рассуждать.
Но есть другие вещи: когда ты сама кому-то приятное делаешь. То есть становишься для другого человека причиной его счастья- подарка. Он не ждет — а случается приятное. И этот случай — вот ты сама и есть. Самое-то интересное, что ты испытываешь, наверное, еще большее счастье, чем тот человек! Даже если в этот момент ты была просто последним разнесчастным человеком на свете! Это я неожиданно для себя открыла. В тот самый день счастливого пробуждения.
* * *
Правда, поначалу все мое счастье испарилось без следа, стоило мне увидеть пустое Степкино место в классе. А потом и учительниц. И дальше вяло, без всякого интереса тянулся день. Никонов все время уходил на переменах. Не приставал, не грозился. Я больше не сомневалась: драться он не будет.
Вяло и без интереса плелась я домой после уроков. Как всегда, вместе с Тоней и всеми другими, кому по пути. Знала: где-то сзади идет и Лешка.
Не помню уж как, с чего пошел разговор о младших сестрах- братьях. Тоня про свою трехлетнюю Машеньку рассказала. Как жалко ее оставлять: она плачет всегда, просится с Тоней. И ее приходится уговаривать, обещать: мол, что-то принесу! А что принесешь? Какой-нибудь прутик, камешек, чурбачок найдешь по дороге. И то пока зимы нет...
Вот тут и пришла мне в голову счастливая мысль! Пусть Тоня отнесет сегодня Маше мою бумажную барышню с двумя-тремя платьями. А потом каждый день будет носить ей обновки: то платьишко, то шубку. Тоня-то как обрадовалась! Но спросила все-таки:
— А ты разве играешь еще в куклы?
— Да не играю,— говорю,— просто платья придумываю! И Зульфия — тоже!
Тут же на дороге открыла портфель, вытащила свою красотку из учебника арифметики, отдала Тоне. Тоня говорит:
— Ой, будет Машке-то радости!
А я прямо тут, сейчас, рада до смерти! Словно одним мигом, как в волшебной сказке: закрой глаза, добрый молодец, и открой глаза — и ты уже в другом царстве-государстве, и все напасти остались позади! Так я открыла для себя это счастье. Даже и не думала, что так может быть. Наперед скажу — каждый день теперь мы с Зульфией ждали Тониных рассказов про Машеньку, что она говорила, как радовалась кукольным обновкам. И рисовали кукол и платья теперь для нее. Оказалось в сто раз интереснее.
165
Тогда, на дороге, я, видно, от радости заспешила, засуетилась и, закрывая портфель, обронила варежки. И похолодела: сзади где-то Никонов шел. Пока с куклами копались, наверняка он нагнал нас. «Ну,— думаю,— сейчас как раз и настигнет и варежки подопнет». И скорей сама на варежки наступила. Как и думала, Лешка тут как тут, подскакивает и рукой к варежкам моим тянется.
— Эй, Дашка, свои варежки топчешь! — И — хвать! — вырвал их из-под ног.
Я чуть не упала. А он мне же и протятивает! Мои варежки!
— Это ты мне? — говорю я тупо, не веря своим глазам, и все еще не беру варежки, опасаясь какого-нибудь подвоха. А потом опомнилась — и хвать! Чуть ли не вырвала их у него из рук. Отвернулась и пошла.
— Эй! Хоть бы спасибо сказала! — раздалось за моей спиной.
А я ничего сказать еще не могу. Иду и думаю: «Он же меня по имени первый раз назвал. А то все «Плетнева» да «Плетниха». И варежки отдал! Что же это такое будет?!»
Зато Лешку Тоня похвалила:
— Вот так Леша — молодец!
А Лешка и не спорит.
— Конечно,— говорит,— не хуже других, а ишо и получче!
— Каких других, Леш?
— Ну, там... Всяких! — Очень понятно объяснил.
Тоня засмеялась, но и он тоже. Шутка, мол, это такая. Однако будто с натугой смеялся Лешка. Будто не очень ему весело.
А когда мы поравнялись с нашим двором, Никонов опять меня окликнул:
— Дашка!
Мы с Зульфией остановились.
— Приходите на карусель... к вечеру.
Но я совсем еще не была готова к таким переменам в Лешке. Не могла ему так сразу поверить, хоть и жалела его после всех последних событий. А дружелюбия его не ожидала никак.
— Нет,— сказала я.— Не придем, спасибо.
— Нну, как знаете...— протянул медленно Лешка.
И я постаралась как-то оправдаться, сказала, что дела есть.
И, придумывая, что у меня за дела,— и Зульфия ведь глянула удивленно: она-то знала все мои дела,— я посмотрела вдаль, за Лешкину спину, вокруг и на небо, слепящее синим расплавленным светом, и остановила взгляд на нашей крыше с таким могучим вихревым загибом снежного козырька, что удивительно было, как еще он держался. И меня осенило!
— Да, видишь, день какой стоит. Того гляди, закапает. А тетя Еня все горюет, как бы крышу почистить. Таять начнет, тёс сразу набухнет, старый уж. Мы сегодня снег должны скинуть с крыши.
Зульфия слушала меня с большим вниманием. Правда, разговор
166
такой был когда-то: если не давать тёсу под тающим снегом киснуть, он долго держится, не гниет.
А Лешка вдруг обрадовался:
— Як вам приду! Чё вы, одне-то девчата! До конька не доползете? — и захохотал обидно. Стал похож на себя всегдашнего.
— Не бойся, доползем получше тебя! — сказали мы с Зульфией в один голос.
— Так приду после обеда, ближе к вечеру!
Тетя Еня нас похвалила за намерение почистить крышу.
— Самую-то толщу скинем, так остальные снегопады не страшны будут! Они полегче.
Оказывается, как весело чистить крышу! В проулочке между нашей и косинской избой снегу почти вровень с венцом избы. Когда мы соскребли снег с полкрыши — а тёс выходил из-под снега скользким, промороженным и присыпанным льдистой мельчайшей крупкой,— то стали съезжать с крыши на снежных пластах; Зульфия станет или сядет на край снегового одеяла, а я широкой деревянной лопатой обколю квадрат вокруг нее и сверху подтолкну, подсажу пласт, как хлеб в печь — понеслась подружка в снежном вихре вниз, в пухлый сугроб! Над местом ее падения вспыхивала искристая радуга — такая мелкая, морозная снежная пыль взлетала!
А потом Зульфия меня снаряжала вниз на снежной сковородке. В сугробе угрязали по подмышки; удерживались, раскидывая руки в стороны, а то бы, может, и с головкой было.
Мы сбросили снег уже со всего ската, а Лешка все не шел. Поговорил, и на том спасибо!
Вдруг раздался его свист. Мы как раз стояли верхом на коньке: одна нога здесь, другая — там. Видим, Лешка на санях куда- то направился. Попридержал свою лохматенькую лошадку, кричит:
— Погодите меня! Я только соломы на двор привезу! Я скоро! Матери вон лошадь дали!
Что ж тут делать! Мы знаем, что заполучить лошадь на двор для какой хозяйственной нужды — случай не частый. Прокричали Лешке:
— Не торопись! Мы сами!
И я поняла, как сильно ждала я Лешку, а он, видно, не спешил ко мне.
Скидывать снег с дворового ската крыши оказалось не так просто. Двор-то был расчищен, падать высоко и жестко. Тетя Еня велела подождать, пока она к нам заберется. Она захватила с собой вожжи. Обвязала вокруг пояса меня вожжами и, укрепившись за коньком, страховала меня, как альпиниста. Зульфия, конечно, не могла от меня отстать. Пока я работала, прыгала надо мной и кричала:
— Оставь половину! Не меньше!
Но даже это альпинистское приключение показалось мне теперь скучноватым. Теперь, когда я знала, что, конечно, мы все успеем еще до Лешкиного возвращения с соломой.
167
Я поклялась себе, что никто на свете не узнает об этой моей недопустимой слабости. Тем более сам Лешка.
Уже поздно вечером — лампы зажгли — услышали мы разбойный свист за окном: Никонов давал знать, что возвращается. Ждали бы мы его!
Я насмешничала и смеялась вместе с Зульфией, но свист отозвался в сердце, оставил там какое-то тихое дрожание. Бедный Лешка! Видно, намучился с соломой: на конном не оказалось или не дали, послали самого в поле, к ометам. Вот и поздно. Выйти бы сейчас к Лешке, пойти вместе с ним за возом... Мы бы разговаривали, а перед глазами покачивалась бы соломенная путаница... А под ногами на твердой дороге похрустывали бы только комочки снега...
Но было это так же несбыточно, как подержать под уздцы коня рыцаря Айвенго...
— Ишь кавалер-то! Все посвистывает! — сказала тетя Еня.— Чего ж не бежите?
— Еще бы мы к нему бегали! — так сказали мы с Зульфией.
Грусть-тоска
Почему так несправедливо получается? Когда Лешка звал нас на карусель, я не могла пойти. А когда я уже настроилась и поверила, когда я поняла, что самой мне нужен Лешка и его внимание, то он вдруг непонятно начинает себя вести, сам отдаляется.
На другой день после чистки крыши был Никонов тих и скромен. На нас с Зульфией — никакого внимания. Будто это и не он подавал мне варежки, звал на карусель и хотел- прийти с крышей подсобить. Обиделся, что ли, на нас? Да за что же? На свист его мы, что ли, должны были выбегать, в самом-то деле? Дуется, ну и пусть, сердилась я. А все-таки чувствовала вину перед Никоновым. И потому еще сильнее сердилась и на него, и на себя и старалась веселиться изо всех сил. И назло же себе стала в перемену громко спрашивать:
— Девчонки! А кто у нас в эти дни дежурит? Что-то не слышно никаких историй!
И вдруг узнаю, что никто после нас не дежурил, что Силантия Михайловича послали в район на курсы.
— Ну и врете! — презрительно, как ее сестра, скривив пухлые губки, бросила Верка.— Курсы у них бывают только в каникулы.
Видно, Верка что-то знает про военрука.
— Вер, а знаешь, так чё не скажешь? — миролюбиво попросила Тоня.
— Ничего я не знаю! Знаю только по нашей Анастасии: их, учителей, по каникулам всегда собирают. Вот и все. Ну ладно, поглядим. У нас воендело завтра? Завтра и узнаем: либо будет, либо объяснят, что и как.
168
Я даже про Лешку позабыла думать. Подтолкнула локтем Зульфию, переглянулись мы с ней: не из-за нас ли, мол, сняли дежурства... Не из-за нас ли военрука в район вызвали...
Но в пятницу пришел на свой урок Силантий Михайлович как ни в чем не бывало. Принес настоящую винтовку, и тут уж было не до разговора, не до наблюдений за его настроением. (Он за винтовками, мелкокалиберками, и ездил в район. Привез три штуки.)
Мы разбирали и собирали затвор. Все очень просто. У меня сразу получилось. Не то что с гранатами.
Но в самом конце урока Силантий Михайлович, глядя не на класс, а куда-то в сторону, в окно, сказал, как бы случайно, ни к тому ни к сему:
— Я думал, вы, ребята и девчата, серьезные, самостоятельные. Ну, с пониманием. Уж раз военное дело вам доверяют... А мне говорят: они еще дети... Н-да-а... Хочешь-то как лучше...
У военрука на шее жалостно так ходил острый кадык: вверх- вниз...
Ворот шинели казался грубым, жестким. Он походил сейчас на обиженного взрослыми мальчишку, не знающего, в чем его вина. Даже губы его искривились и чуть дрожали. Мне-то с первой парты хорошо видно...
Наверное, ребята ничего не поняли. А мне хотелось под парту нырнуть от стыда: как человека подвели! И еще радовалась только что: мол, ага, военруку тоже попало за дежурство! Не одни мы виноваты!
Когда же она кончится, эта казнь! Думаешь: ну, все! И опять кто-то страдает из-за нас...
И ничего не скажешь Силантию Михайловичу, а жалко его и себя тоже — нестерпимо.
А военрук вздохнул и сказал:
— Ну да ладно... Видно, и впрямь век учись...— И стал собираться: закрыл журнал, взял ручку, затвор, который услужливо подала ему Зульфия, вложил в винтовку,— и как раз звонок...
— Дежурства отменяются,— сказал военрук,— поскольку вы, бойцы, оказались дети...
Конечно, все стали смеяться и выкрикивать:
— Дети! Ой, детка! Дедка-дедушка!
Но с Силантием хоть все объяснилось. И он выговорил тем, кто понимает. И мы поняли. И дежурства отменили. С Силантием обошлось.
А Никонов с каждым днем становился все задумчивее и грустнее. Это было удивительно. Так на него не похоже. Казалось, он заболел. Он не звал больше никого на свою карусель. И однажды мы увидели, что колеса перед домом Никоновых больше нет.
Мною владело какое-то странное, очень сложное чувство. Было и удовлетворение: так, так, голубчик! Не бегаешь больше в седьмой класс! Не пачкаешь мои учебники! Была жалость к нему: наверное
169
же, для Никонова быть печальным нелегко; плохо, наверное, ему. И был еще какой-то тайный, ликующий страх: что же это такое происходит с тобой, Лешка? Значит, правда? И это я? Потому что каким-то образом я знала, что печаль и грусть Никонова из- за меня. Хоть и не понимала, почему бы ему со мной не разговаривать.
Отсюда при всем моем ликовании и страх: страшно, когда человек так меняется из-за тебя; будто вина на тебе, будто должна ты ему непомерный долг. Меня эта собственная моя виноватость возмущала: с какой же стати — должна? Что я, просила его меняться? Вспоминала, однако, что хоть не просила, но хотела видеть его другим — грустным и влюбленным... Коленопреклоненный шляхтич... При шпаге и в камзоле... Да ведь он-то не знал, чего я хотела! Мало ли кто что себе представляет!
Выходило, что и не «бегал» Лешка за мной и грустил,— по-моему выходило! И должна была я испытывать то самое главное счастье — одержанной победы, а не испытывала я его.
Концерт
Очень все ждали поездки на смотр: десять километров до совхоза и еще двенадцать до райцентра! В тулупах, на санях. Со снаряжением для сцены и едой для себя.
Я по-особому ждала. Дорога длинная, общий вечер, концерт. Думала: увидит Леша, что я не обижаюсь на него, просто к нему отношусь, и подружимся снова, как было — правда, совсем недолго — до Вальки Ибряевой, до дежурств. Когда они с Костей Карповым карусель сделали.
В дороге будет весело, думала я. И там, в райцентре. А вышло — сплошная печаль. Кажется, девчонки веселились. Но не я. И не Лешка.
Смотр был в воскресенье. Мы, совхозные, как всегда, в субботу уезжали домой и должны были утром в воскресенье встретить пень- ковских, напоить, накормить и ехать с ними дальше, но на своей подводе. Так договорились. И решили: мальчишки пойдут обедать к Степке Садову, а мы разберем девчат.
Когда утром прибыли пеньковцы — их уже ждали возле конторы,— Лешка, кажется, даже и не глянул в нашу сторону. Он, конечно, был за кучера и сразу принялся обихаживать лошадь — повел ее на конный; говорят, Степка потом прибежал за Лешкой туда и Лешка даже не хотел идти к Садовым, сидел в дежурке с конюхами и ел свои лепешки, запивая кипятком.
И в дороге держался взрослым мужиком: соскакивал при раскатах с саней, удерживал их, чтоб не больно лошадь мотали, всю дорогу был, как говорится, на легкой ноге. Девчата, да и мальчишки — Домосе- довы, Карпэй,— под тулупами, а Лешка так и проскакал двенадцать
170
километров в своем бушлатике «на вырост», оголявшем его тонкую шею.
Мы следовали своим экипажем — ехали впереди, и к нам в сани пересела только Мария Степановна.
В райцентре Никонов не стал веселее. Он по-прежнему всем помогал, устраивал все, прилаживал, заранее, до концерта, внес в класс, который нам отвели под ночевку в средней школе, сена, чтоб согрелось, разложил тулупы и полушубки. Так что Мария Степановна удивленно заметила:
— Ну, Никонов, ты прямо как отец родной!
— Ну, так...— только и ответил «отец», пожав узкими плечами: мол, и так ясно, чего говорить.
А в Доме культуры стал он и вовсе каким-то рассеянным.
После своего выступления стоял в стороне, не шутил, не смеялся, издали на все смотрел. И ладно еще, никому из девчонок не оказывал особого внимания. А ведь с нами ездила и Валя Ибряева, она исполняла татарский танец с ведрами: будто шла по воду к ключу. И хороша была — не оторвешь глаз! Ее на «бис» вызывали, хлопали долго. А Лешка не оживился и при ней.
А концерт как удался! Пеньковская семилетняя школа, то есть мы, заняла второе место по району «за содержательность программы и красочность оформления». Это, конечно, наш «Красный сарафан» — красочность. Хор в настоящих старинных нарядах, невеста с прялкой и куделью. Нина-то научилась прясть! А когда мы «Васю-Василька» грянули, особенно Домоседовы рявкали, натренированные Тоней Антиповой по дороге в свои Камышлы, так весь зал зашевелился, заходил — тоже, наверное, петь захотелось. По себе знаю: когда на сцене весело поют или пляшут, у меня сердце заходится и все жилочки-поджилочки дрожат — так самой хочется заплясать. А вот на сцене плясать ни за что бы не согласилась: очень страшно. Вообще страшно на сцене, даже и не плясать: зал в темноте как пропасть. Лица смутно белеются, чувствуешь: только глянь в чье-нибудь лицо — и пропадешь, онемеешь. Но оттого что больше все-таки забота, как бы не забыть свои слова,— отвлекаешься от страшного зала.
Все же, когда вышла читать про Боева, поначалу во рту у меня стало сухо — язык не ворочался. Тихо-тихо получились первые слова. Зато и в зале затихло. И я осмелела. И досказала уже в полный голос. Мне тоже хлопали, но не так, как Вале.
В школе, где мы ночевали, свету не было. И сторож нам не дал даже своей коптилки. «Еще,— сказал,— пожар сделаете». Хорошо, что Никонов все устроил заранее. Мы пришли, уселись на сено, прикрытое тулупами, другими — накрылись: холодно в классе! Не на дежурстве у себя, печку не накалишь. Ощупью достали припасы — лепешки картофельные, бутылки с молоком,— и был пир на весь мир. А потом улеглись — по левую руку Марии Степановны девчонки, по правую мальчишки — и тихонько пели песни. И Мария Степановна
171
сказала, что, если б мы так пели на сцене, первое место в смотре было б наше.
Устроились мы у стены против окон. И заиндевевшие доверху окна казались во тьме странными картинами — они слабо и неподвижно светились, еле-еле угадывался рисунок мороза: просто как жидкие водяные знаки на листе старинной почтовой бумаги. Видела такую однажды у моей городской тети. Больше не на что было смотреть во тьме пустой комнаты. Наверное, все, кто еще не закрыл глаза, разглядывали таинственные знаки на окнах. Может быть, они что-то означают? Говорят о том, что будет с нами? Например, про меня и Никонова... Как хорошо, что никто не прочтет их. И не может услышать мои мысли. Хорошо, что Лешка здесь, недалеко, хоть и не хочет говорить со мной. Вот бы прочитать его мысли! Если они есть, усмехнулась я. Как-то все же спокойней, что он здесь. И Мария Степановна. А между тем я пела вместе со всеми:
Ничто в по-о-о-олю-шке Не ко-лы-ы-ы-шется...
Только гру-у-устный напев Где-то слы-ы-шится...
Пахло в зимнем холодном чужом классе сеном. Летним лугом. Не так, конечно, яро, как пахнет только что подсохшая трава. Но все равно внятно, чисто. Сено-то вот, под самым носом. Странно: запах лета и зимние таинственные окна... А песня про пастушка оказалась колыбельной. Кажется, мы ее и не допели.
Когда ехали назад, Лешка даже не сел в наши сани, хотя девчата звали его: «Эй, Никонов, иди к нам кучером!» И кидали в него снегом. Он как-то вяло отмахивался.
* * *
Ужасно длинная эта третья четверть! Тянется, тянется... Особенно нынче. Такое было ощущение: чем скорее придет весна, тем скорее наступит наша победа — и войне конец.
К каждому воскресенью, к моему приходу домой, накапливалась целая груда газет. В каждом номере сводка о продвижении наших войск. К Берлину! К победе! Я садилась за газеты с предвкушением увлекательной игры: старалась расшифровать для себя названия немецких городов и населенных пунктов, которые оставались за нашими армиями. По-немецки названия звучнее, длиннее, а переведешь, и получается, что какой-нибудь Шперлингсдорф — обыкновенная Воробьиная деревня. А уж если сказать совсем по-русски, так просто Воробьево. Ну, может, Воробьинка или Воробьихино. Я еще мало знала немецких слов, а в словаре искать было трудно, потому что ведь в газетах написано русскими буквами, и приходилось искать все
172
варианты немецкого написания звука «ш», например, или «ай». Но когда находила, ужасно радовалась.
Однажды разгадывала слово «Шарфендорф». Вовсе не Шарфово! Оказалось, «шарф» — по-немецки «острый, резкий». Что же? Значит, «Острая деревня»? Просто «Острое»? Но потом увидела в словаре новое слово «шарфенрихтер» — то есть «палач»! Ого, вот так деревня: деревня палачей! Палачевка, Палачево! Очень подходящее для фашистов название! Просто находка! Я поиграла немного с этим словом — все же понимала, что если б впрямь про палача, то было бы «Шарфенрихтерсдорф». Поискала слово «рихтер». В словаре был лишь глагол «рихтен» — «направлять». Все равно интересно! У них, у немцев, «палач» — значит, тот, кто направляет острие. Не слово, а целое описание. А у нас «палач» откуда? Непонятно! Не видно. Может от слова «падать»? Голова пала с плеч... Может, отсюда?
Задумывалась я над этими газетами: таким далеким-далеким казалось теперь то время, когда в сводках поминались одни-то русские, родные деревни и города. Далеким и будто бы темным...
Недаром больше всего я люблю весну!
Превращения
У нас весенние каникулы приурочивают к половодью. Но не всегда весна укладывается в наши каникулы. Так было и на этот раз. Взялось таять куда как споро. Дороги стали проваливаться. Мы, когда шли в совхоз уже на каникулы, только и глядели, как бы ноги не окунуть. Хорошо хоть, к вечеру ближе морозец помогал, дорогу поддерживал.
Опасны дороги, коварна подснежная вода в эту пору, но нет для меня времени радостней, чем это! Правда, радоваться я начинаю гораздо раньше. Пожалуй, где-то в январе. Когда солнце заметно поворачивает на лето, хоть зима на мороз. Тогда, если в солнечный день попадешь в лес, уже увидишь веселый взгляд весны! Это под ее взглядом растаяли блеклые, зимние краски, безразличный, холодный, ровняющий налет на всем, что имеет свой цвет. Да, прежде всего в природе, еще в зимней, оживает цвет. И ты видишь, как темным багрянцем налились молодые побеги на липах, а осины посветлели, стали нежного желтовато-зеленого, как грудка синицы, цвета. Не говорю уж о зелени елок и сосенок: сверкают на солнце драгоценным зеленым бутылочным стеклом! То темным, то более светлым. А кроме того, ты видишь, как напряга::;:л, потягиваются, пробуждаясь, деревья. И от этого живой шумок идет по лесу. Вон, согнутая снежным грузом в дугу, распрямилась молодая липка. Тяжесть почувствовала и встряхнулась. А зимой бесчувственно терпела. Встряхнулась, хрустнула суставчиками, и прошумел, пролился сухой пока еще снег. Вы думаете, это оттого, что солнце его притопило, оттого
173
он соскользнул со своего зимнего места на развилке липовых веток? Конечно, солнце и его задело. Но главным-то образом солнце саму липку разбудило, вот что!
А птицы что делают! Дятел в конце января такую дает барабанную дробь, как на параде! Он не так постукивает, как летом, когда просто корм добывает, нет, он играет на каком-то облюбованном им стволе, как яростный барабанщик весны.
А воздух тоже потерял бесцветие: снегом стал пахнуть. Снегом пахнет с осени, пока он только собирается лечь, и вот к весне, когда он задумывается: не пора ли? Пресный, свежий запах, чуть аромат подснежника напоминает. Воздух холодный, еще морозный, а солнце уже достает до твоего лица! Оглянешься на своих и видишь на лицах этот весенний, горячий румянец. Он гораздо нежнее зимнего. Такие все идут красивые — и девчонки, и мальчишки! Даже смуглое лицо Садова и то посветлело.
Так бывает уже в январе. Потом, конечно, и морозы пройдут, и снегопады грянут, и бури февральские, и злые поземки поцарствуют, но все это уже вперемешку вот с такими днями, и чем дальше, тем они смелее, тем звонче!
А уж сейчас, в начале апреля,— тут что и говорить! Тут весна уже не вкрадчивая, а грозная. Накопила воды под снегами — того и гляди, хлынут по всем низинам и оврагам, пойдут победным валом. Накопила соку в древесных стволах и ветках — напружились ветки, как взведенные луки, того и гляди, брызнут зелеными наконечниками пока зачехленные почки.
Накопила нежности в воздухе и в ветре: когда еще бывает таким ласковым прикосновение его к разгоряченному ходьбой лицу, таким бархатным, насыщающим кожу и влагой, и свежестью, и теплом — не явным, летним, а как бы скрытым, обещающим. И никогда больше ветер не бывает таким широким, и радостным, и сильным. Сильным не порывом, не скоростью, а массой, плотностью своей; он заполняет весь мир: от горизонта до леса, от неба в сырых шальных серо-белых облаках до тускло-белого снега.
Вот в такой день пошли мы на каникулы. И думали, что возвращаться в Пеньки будем уже по первой грязи, по бесснежью. А не вышло по-нашему. Заморозило. Приостановило что-то весну. И хотя воды, видимо, тихонько сходили под снегом, сочились, но по-настоящему развезло уже на следующей неделе.
* * *
В понедельник утром мы еле добрались. В Курином овраге лошадь провалилась по грудь и еле выдралась из снежно-водяной каши. Она болезненно-натужно вытягивала шею, всем телом наваливаясь на хомут, в глазах ее, темных, страдальческих, застыла напряженная сосредоточенность, обращенная внутрь, в себя: вытяну ли? Не сорвусь ли? А подойти к саням, помочь — нам, в лаптях и калошах, не было
174
никакой возможности. Мы обегали далеко стороной, по более высокому месту, по полю. Хорошо, что снежно-водяная каша в овраге была поутру довольно густой — сани не провалились. Но наш возчик Вася Мазин, или Вася-Мазя (два года назад он окончил ту же Пеньковскую семилетку), начерпал полные сапоги, пока переводил лошадь через овражек. И когда сани выехали на взгорок, мы принялись доставать сухие носки, переобувать Васю. Хорошо, этот Куриный овраг был последним препятствием,— Васе-Мазе не надо было больше вылезать из саней, и мокрые сапоги он не обул. Ехал в трех носках. «Тепло,— говорил.— Даже,— говорил,— горят ноги».
Мы, конечно, опоздали на первый урок. Но в этот раз нас не ругали. Понимали же: половодье.
Когда я вошла в класс, что-то меня как бы ослепило. Я глянула еще раз на мальчишечью «Камчатку»: да, Никонов стал неузнаваемо прекрасен. На нем было надето что-то снежно-белое. И белобрысые волосы то ли подстрижены, то ли причесаны. Лицо показалось мне печально-вдохновенным. Что-то случилось! Как жалко, что я смогла лишь коротко глянуть на него. Не успела рассмотреть. С нетерпением ждала я перемены.
А на перемене все заговорили, кто что на каникулах делал. Оказалось, что многие ходили в гости к родне, в соседние деревни. Главным образом по случаю возвращения фронтовиков. Уже стали они возвращаться. Правда, отцы у наших еще ни у кого не вернулись. Даже на побывку. А вот у Душки пришел дядя — старший брат отца. Он уже пожилой и больной, вот его пораньше отпустили. Еще до победы.
У Домоседова Николаевича тоже кто-то вернулся из родни. У Нины Ивановой, кажется, племянник ее бабушки. Кто уж он ей, трудно сказать. У них она и гостила все каникулы.
Вот так все говорили, рассказывали, чем угощали, про Германию рассказывали, что услышали от родственников. Оказывается, немцы под перинами спят! Мы удивлялись: жарко ведь, наверное. Говорят, у них, у немцев, везде порядок, даже, говорят, навоз на особом месте складывают пластами ровными и аккуратно с боков ровняют.
Странно было слышать и представлять себе, что эти фашисты вроде бы как и все остальные люди — и спали в нормальных домах, и хозяйством занимались, скотину обихаживали. Конечно, и раньше никто не мог думать, что они только маршируют там у себя в Германии да кричат: «Хайль Гитлер!», бегают с автоматами, и стреляют, и мучают своих антифашистов и наших пленных. Но вот в голову не приходило подумать об их просто людской жизни. А теперь фронтовики своими увидели глазами. И нам приходится думать: как же могли вроде бы обычные люди, которые и спят, пусть хоть и под перинами, и убираются на своих дворах, делать то, что они сделали с комсомольцами из города Краснодона? С усадьбой Александра Сергеевича Пушкина? С его могилой? С нашими пленными?
175
Сейчас, когда мне пришлось думать об этом, и перины, и аккуратный навоз представились мне как раз тем отличием, отвратительной приметой, которая выдает именно немцев-фашистов. Наверное, их Эрнст Тельман или Роза Люксембург, да и Генрих Гейне не спали под перинами. Это пристало лишь толстым, розовым, потным эсэсовцам и гестаповцам.
— Значит,— сказала я ребятам,— ваши родственники видели самых что ни на есть фашистов. Их под перинами-то и высиживали, как в инкубаторе.
Ребята расхохотались, представив, наверное, как из-под перин вылупляются фашистики. Да, теперь уже смешно!
— Точно, Дашка! — одобрил важно Николаевич.— Наш дядя Матвей сказывал, там на ферме у немцев они застали наших русских работников. Ну, угнанных с нашей земли. И бабы, и мужики. И все увечные. И все заморенные, как скелеты.
— А чё они рассказывали, а? — спросил кто-то.
— Да ведь больно-то с ними некогда было беседовать. Освободили — и дальше. Совсем, говорит, спешно двигались,— солидно, будто он сам и есть дядя Матвей, освободивший пленников, пояснил Николаевич.
— А я,— сказал Карпэй,— все ходил к дяде Антону — знаете, на тот конец Пеньков, как в Камышлы-то идти. У них сын Володька пришел раненный. Аккордеон привез. Такая гармония — кра-а-си- ва-а! А вместо ладов — клавиши, как на пианине! Во музыка! Я пробовал.— Карпэй счастливо зажмурился.
Тут прозвенел звонок, все задвигались, зашумели, усаживаясь, и в этом легком шуме, перед тишиной урока, вдруг высказался Лешка.
— А я все думал, думал...— сказал он с непривычной серьезностью.— Сяду на подоконник и думаю, думаю...
— Напрасны, паря, ваши думы,— небрежно откликнулся Степка Садов,— ничё не выйдет, брат.
В класс вошла Анастасия Ивановна.
Слова Никонова будто ураганом вымели из моей головы все остальные мысли, всяких немцев вместе с их перинами. Стало чисто и пустынно, даже сердце притаилось; знало сердце про себя: это Лешка про меня... И обдало меня волной нежности и радости...
Вслух. И при всех. Господи, на подоконнике... Конечно, никому и в голову не придет догадаться, про что думал Никонов. Только, кажется, Степка понимает.
Откуда я знала, что Лешка думал про меня? Знала, и все. А вот что про меня... Как... Этого я не знала. Может, это он на подоконнике и надумал надеть белый свитер и причесать волосы чуть набок. С осени Лешка был стрижен наголо, к весне отрос ежик, а теперь он его набок положил. Примачивал, наверное, водой.
На перемене я ‘сидела, прислонясь к стенке, так что «Камчатку»
176
видела хорошо и нагляделась на нового Лешку. Белый свитер, подпиравший узкий Лешкин подбородок, напоминал брыжжи, придавая Никонову при его горбоносом лице сходство с каким-то старинным испанцем; карие удлиненные глаза казались ярче и больше. Здорово шел ему свитер! Ладной стала и вся тонкая, подвижная фигура Лешки. Когда, оставаясь сидеть на месте, верхом на парте, он повертывался резко к Карпэю, разворачиваясь к нему всем корпусом, плечами,— будто узкая полоска белой бумаги, срез газетного края, перекручивалась.
У нас в классе, да, наверное, во всей школе, не было заведено обращать внимание на одежду. Без уговору считалось неприличным выяснять, откуда обновка, просто высказываться по поводу — идет, не идет, даже смотреть, давая понять, что заметил на ком-то новое. Будто так всегда и было. И ничего особенного. Поэтому еще я разглядывала Никонова исподволь, понемножку, чтобы никому не было заметно.
А после звонка, отвернувшись к окну, я больше и не оборачивалась. Но почему-то Анастасии Ивановне не понравилось, как я сижу. И она сказала самым добродушным голосом, какой когда-либо от нее слышали:
— Что так пристально смотришь туда, Плетнева? Вроде и Никонова там не видать... На месте он.
Я окаменела... И медленно, недоумевая, повернулась лицом к учительнице: невзначай? Нарочно? По мне видно? По Лешке? Зачем она так? За что? Почему догадалась? Увидела из дверей, что я сидела лицом к «Камчатке»?.. И сразу... Значит, я так веду себя, что заметно... А что заметно? Что? И при всех... Все же слышат... Как будто котенка за шкирку двумя пальцами, брезгливо подняла меня Анастасия перед всем классом и поворачивала из стороны в сторону... Вот сейчас грянет хохот всех, и я умру... И как у поднятого за шкирку котенка поджимаются лапки и хвост, так у меня поджались пальцы ног, до боли поджался, втянулся живот... Надо что-то сказать, надо уничтожить слова Анастасии... А в классе уже кто-то хихикнул, а в классе что-то задвигалось... Но одновременно с этим ехидным шумком раздался по-прежнему настырный, резкий и в то же время с этакой небрежной ленцой голос Лешки:
— Уж вам бы все Никонова казнить, Анастасия Ивановна! Чай, все пятый класс забыть не можете! Что ж Никонов, не человек — в мороз под окошками скакать!
«В мороз под окошками скакать» почему-то всем показалось очень смешным. И класс захохотал! Но уже обернувшись к Лешке... Взял Никонов огонь на себя. И мне подсказал: не в тебе, мол, дело, меня она поддевает. А она и правда поясняет, что да, его, Лешку, и говорит, нарушая весь наш этикет:
— Ты у нас такой сегодня красивый и нарядный, что не грех на тебя и засмотреться!
И опять все заозирались на Лешку. Он стал оправдываться:
177
— Прямо! Мамка надоела: надевай да надевай! Скоро, грит, малой станет, так и пролежит.
— Ладно, ладно! Надел — и молодец! — похвалила Анастасия.— И нам приятно.
Но что бы она теперь ни говорила, ее было уже не спасти. Будто в черную пропасть канула Анастасия Ивановна. Ни ее красота, ни ее высшая справедливость, которую я с трудом поняла в свое время, не могли больше ее защитить. Отрезало. А сзади нам с Зульфией зашептала Верка Матвеева:
— Врет Леха, что мамка надоела! Только на днях в сельпо на шерсть тетка Настя (Лешкина мать) выменяла. Завезли туда кой-что... С нашей Анастасией они там и были. Наша-то и присоветовала для Лешки... Мать ему рубаху хотела...
— Матвеева! — ледяным голосом оборвала Веркин шепот учительница.
Нет, видно, так просто с Анастасией было не разделаться. Не желала она лететь в черную пропасть. Наверное, гордится, что Лешке свитер идет, что она его выбрала, вот и не удержалась... Похвалилась...
Ладно. Класс ничего не заметил. Но Никонов... Неужели догадался?
* * *
— Эй, совхоз! Вы же в воскресенье вечером обещались приехать...
Мы остановились, переглянулись. Я не хотела с ним говорить, да еще здесь, возле школы. Но Зульфия ойкнула:
— Ой, правда... Даш, мы же правда собирались в воскресенье! Помнишь?
Я-то помнила. Да, такой был разговор. Но дома ведь каждую лишнюю минутку хочется побыть. И потом решили, что утренний мороз крепче, дорога легче.
Я глянула мельком на Лешку и отвернулась. Знала, что он хотел сказать, но промолчала. И тут догадалась Зульфия:
— Ты нас встречал?!
— Ну. Сказано же было.
Да, было сказано: «Эй, совхоз, если в воскресенье вечером приедете — встречать буду! Верхом на коне!»
«При-е-дем!» — счастливый, что уезжает на каникулы, проорал «совхоз» из саней.
Только кто же всерьез про это думал?! Обычно: Лешка крикнул для веселья и радости и в насмешку над нашими понедельничными опозданиями. И мы тоже для веселья откликнулись, для доброго ответа-привета.
— Я старался коня заработать. Два дня воду на ферме возил, чтобы на вечер коника дали под седло. Доехал до леса. Нету вас.
178
Тогда до двух берез добрался — там выше, подальше видно,— к совхозу. Нету вас. Ну, вернулся.
Мы стояли на школьном дворе, прямо на дороге; нас обходили и обегали ребята, уроки кончились. Стояли на виду у всех и глядели мимо друг друга. А Зульфия была рядом со мной и разговаривала с Лешкой.
Я смотрела мимо Никонова, но все-таки видела его лицо и то, что ом на меня не смотрит, но и не на Зульфию, а куда-то за меня, на крыльцо школы, вроде ждет кого. И видела белый высокий ошейник свитера над видавшим виды красноармейским бушлатом с широким, не по Лешкиной шее, воротом, свисшими плечами и с подвернутыми чуть не на полдлины рукавами. Походило, что Лешка, как змей, выпрастывается из старой, заношенной, цвета хаки, кожи — она уже отстала от него, уже показались сверкающие, новенькие голова и шея...
«Вот если б поехали вечером,— думала я тупо и с ощущением какой-то непоправимой потери,— увидела б под моими березами всадника на коне. И это был Лешка... А теперь не увижу никогда под моими березами всадника на коне...»
Но все равно я была и счастлива. И каким-то непонятным образом унижение и стыд, пережитые на уроке, испарились, исчезли оттого, что Лешка стоял здесь и говорил, как встречал нас. Оттого, что он остановил нас здесь, у школы. Оттого, что у него новое лицо. А Зульфия спрашивала:
— Тебе и седло дали?
— Ага...
— С седлом хорошо! На стременах пружинишь, да ведь?
— Конешно...
— Даша,— повернулась ко мне Зульфия,— помнишь, мы с тобой тот раз в одном седле ехали?
Я кивнула молча. И Зульфия еще больше оживилась:
— Ага! По очереди: одна в седле, другая впереди, бочком.
В седле-то здорово!
— Ну? — удивился Лешка.— Двое? Тогда лучше б без седла!
— Да-а! Десять-то километров! Все-таки по очереди в стременах... Полдороги...
— Я думал — встречу...
Зульфия замолчала. Я была счастлива. Мы шли уже по улице в шуме и гаме солнечного, вовсю весеннего дня.
Лешка говорил это «встречу» как-то неоконченно. Словно бы что-то еще хотел сказать, но не говорил. Словно должно было что-то произойти от этой встречи. А что могло произойти? Встретились бы, поорали радостно: «Эгей! Огой! Совхоз! Пеньки!» — и поехали бы себе. И все равно я была счастлива. Наверное, он думал: встречу — и тогда все увидят, каков Никонов верхом на коне, да еще и в седле... Но разве узнаешь, о чем он думал или хотел сказать на самом-то деле? А спросить — невозможно. И от этого жалость к Лешке! Еще
179
оттого жалость, что я ни слова ему не сказала. Мы шли уже по нашему проулку.
— Леш, погоди у двора. Я тебе книжку вынесу. Интересная! Почитаешь.
Побежала бегом, принесла ему «Трех мушкетеров». Я боялась глядеть на него прямо, боялась, что он увидит счастье в моих глазах.
День рождения
Никак не ожидала, что соберусь домой на этой неделе, тем более половодье неслось во всю силу. Мы договорились дома, что день моего рождения перенесем на воскресенье. Не день, а празднование. Но я была подавлена открытием своего счастья — его силой и слабостью своей: я его еле сдерживала! Еще и Степка... Он явно что-то понимал! И Анастасия. Ужас сжимал меня при мысли, что так и сам Лешка может догадаться. Ужас был сродни тому, какой я испытывала в раннем детстве перед фотографированием. Мне объясняли, что меня только снимут на карточку, что я сама никуда не денусь, но буду видеть, какая я, на фотографии. Что всех фотографируют — и никто же не боится! И ничего же плохого не случается! И я верила взрослым, верила, что они меня не обманывают. Просто они не знают того, что знаю я: если меня снимут на карточку — вот именно: снимут на карточку! — сама я или исчезну, или стану кем-то другим. С ними со всеми ничего не случается, их можно снимать, а меня — нельзя. Помню, я однажды весь день просидела спрятавшись внутри деревянной горки для катанья, потому что в детсад пришел фотограф. Вылезла, когда группу вывели на участок гулять, и я услышала из разговоров детей, что «дядя фотограф» ушел. Помню, как меня ужасно ругала воспитательница, кричала, что я ее убиваю... Она думала, я потерялась или одна ушла домой.
Сейчас было почти то же самое: узнай Лешка, что я чувствую к нему,— и я буду уже не я. Умом понимала: так не может быть! Никуда же я не денусь, ничего не случится... Но этот страх был сильнее моего понимания. Изменюсь. Изменю себе. Своей клятве, подкрепленной «Вадимом».
Но почему я изменюсь?! Ведь первым изменился сам Никонов. Он теперь не тот, против которого я давала клятву! И опять выходило, что все же он заставлял меня изменяться!
Мне было так трудно, так смутно, так хотелось убежать, спрятаться от этих сомнений, от преступного счастья чувствовать печальный взгляд длинных Лешкиных глаз, от стремления хоть на минутку, хоть из окна еще раз увидеть его после уроков и от презрения к себе за это; мне так хотелось хоть на время почувствовать себя прежней и свободной, что день рождения пришелся очень кстати.
180
Меня ждали в субботу. Но я приду сегодня, в среду, а утром уйду. Четырнадцать лет бывает один раз в жизни. Четырнадцать — это огромная цифра. Позади длинная жизнь. Еще два года — и мне дадут паспорт. То есть через два года я уже взрослый человек. Гражданин Советского Союза.
И как же можно в день четырнадцатилетия быть вдали от своих — от папы, мамы, бабуси и братика?!
Еще утром у меня не было таких мыслей, но, придя из школы вместе с Зульфией, представив, как еще долго сиять солнцу над двором и какое это будет пустое время — а идти мне до совхоза самое большее два с половиной часа,— я до дрожи сердца ощутила нетерпение: скорей, скорей домой] Мне хотелось быть счастливой в свой день рождения!
— Зульфия, я ухожу домой.
— ?
— Надо! Очень-очень! Это будет подарок маме в мой день рождения.
Все было правдой. И это — тоже. Как все обрадуются! Тот самый подарок-счастье!
— А обратно? Пропустишь день?
— Ты что? Сейчас рано светает, успею к урокам.
И я побежала. До чего же длинное село Пеньки! Сколько бежишь до церкви, а еще и от церкви целая улица вниз до моста и еще столько же вверх и чуть влево. И из каждого двора может кто-то выскочить, кто-то знакомый, и закричать: «Даша! Далеко ли?» И надо отвечать: «Да вот, понадобилось!»
Наконец околица. Поле пестрое, как корова-пеструха, черное с белыми неровными пятнами «ли, наоборот, белое с черными, не поймешь, чего больше — снега или земли. И еще есть пятна — зеркально сверкающие и просто голубые озерца воды.
У меня на ногах так называемые литые калоши. Цельнолитые: нет подметки в рубчик. Нет ранта. Нет теплой малиново-пушистой подкладки. Голая резина. Зато они глубже фабричных калош. Но скользкие до ужаса. И подвязаны к ноге бечевками, крест-накрест по подъему, чтоб в грязи не оставить. Я выбираю места посуше. Но везде вязко, сыро. Еле-еле доплелась до Глубокого оврага и пошла вдоль него, по дернистому краю. По дерну хорошо — не скользко, не грязно. Внизу по дну идет вода, шумит, но уже не грозно — спокойно, весело. Наконец могла я оглянуться, оторваться от лихорадочного рысканья глазами — где место понадежнее, куда ногу ставить.
О-о, как здорово кругом! Как хорошо наконец-то очутиться одной — только с полем, и лесом, и небом!
Вон жаворонки! Наверное, все время были, а я только заметила. И не видно их. Лишь песня прихотливо, как быстрый ручей, булькающий, звенящий, сверкающий, льется с неба на землю. Как хорошо, что я ушла! Только ради этих минут и то прекрасно!
Но уже пора мне покидать гостеприимный овражий борт — он
182
уводит в сторону. И снова я маюсь на грязной, раскисшей дороге. Может, надо было лучше лесом идти? Там, наверное, лед еще не сошел с дороги. Хоть потверже. Но лесом не пошла. Только смотрела с опушки, как там: в лесу каждое дерево вроде на белом блюде стоит, в белом кольце снега. Это так говорится, конечно, «в белом», раз о снеге. На самом деле снег вычернен разным мелким лесным оттаявшим мусором: семенами, иголками, чешуйками коры. А между стволом и снежным кольцом вода стоит. Впрямь блюдце. А муравьи еще не работают...
Докарабкавшись с кочки на кочку вдоль опушки, а потом полем до первой межи, по травянистой дернистой меже я побежала вихрем, прочь от дороги, к тому сенокосному логу, которого мы так боялись зимой из-за волков. Он шел к совхозу почти параллельно дороге, лишь в порядочном отдалении, за полем. Но я неслась межой как ветер! И была вознаграждена. И идти хорошо вдоль оврага, и красиво! Ложок-то пологий, вода близко, кусты в ней по пояс, кое-где ледяные забереги, мыски, пещерки, подмытые водой,— такой звон, дрожание теней, на бугристой, бурунчатой воде солнечные блики, плеск, хруст ломающихся ледовых бережков... Я бежала навстречу воде, и солнце светило мне навстречу, в глазах прыгали красные блики, я полуос- лепла от света и блеска и перестала ощущать себя отдельно от всего этого переливчатого, перезвончатого мира, свежего, жаркого, прохладного, веющего и плещущего! Не было больше ничего! Только это!
Ой-ля! Ой-ля-ля!
Струек пенье, лепетанье,
Зайцев солнечных скаканье,
Колыханье, расплетанье,
Распадепье, восставапье,
Дребезжанье, замиранье
И опять, опять скаканье!
Дальше слов не хватило, и я заорала:
Все четыре колеса-а-а-а!
Все четыре! Все четыре!
Все че-ты-ре! ко-ле-ее-с-а-а-ааа!
Все четыре колеса-а-а-а-а!
Так я выпевала и выкрикивала вместе с водой и всеми остальными, кто не молчал в этот весенний день.
Никто не слышит нас!
Никто не видит нас!
Лишь солнце — желтый глаз!
Лишь солнца светлый глаз!
183
А солнце ведь за нас!
А солнце лишь за нас!
И мы всегда за солнце!
За солнечное солнце!
За жарящее солнце!
За тающее солнце!
За солнце из оконца!
А-а-а! Ааа! А-а-а-а!
Веселый ложок вывел меня прямо к тем лесным нешироким кулискам вдоль дороги, из-за которых прошлой зимой вышли нам наперерез волки.
Не забыть это место! Но сейчас все страхи растоплены весенним солнцем. Кажется, что и тени не осталось...
Дома, как обычно, была одна бабуся. Пока я, ослепшая после солнца, в темной, безоконной кухне нашаривала дверь в комнаты, бабушка тревожно окликнула:
— Кто это там?
— А вот кто! — ввалилась я через порожек.
— Господи! — Бабушка вскочила из-за стола — чего-то там шила — и ко мне: — Дашутка! Вот так сюрприз!
Мы обнялись с ней. И я замерла, оттаивая душой. Или сердцем? Чем-то, что называют то так, то эдак. Мне кажется, что душа, что сердце — это все равно.
— Ну, с днем рождения тебя! С че-тыр-над-ца-ти-ле-ти- ем! — протянула бабушка длинно-предлинно.
И все было так, как я хотела, в этот день и вечер.
Мы сидели за столом вокруг лампы и самовара. Лампа светила, соединяя нас, а самовар пел и сипел и вдруг начинал урчать, как кот, поймавший мышь.
А когда он печально умолкал, папа или бабушка тонкой лучинкой прочищали его решетку, давая воздуху ход в трубу, остаток углей разогревался, и снова запевал самовар.
Я рассказывала, как здорово догадалась идти вдоль оврагов, и сколько воды кругом, и какие реки бегут даже и по малым ложкам. И папа вдруг заговорил о том, что жалко терять эту зря уходящую весной воду. Оказывается, у него есть план, он обдумывает его с тех пор, как приехали мы в эти безводные места. И если б не война, наверное, уже кое-что сделали. Оказывается, он мечтал об искусственных озерах или прудах, где бы совхоз разводил замечательную рыбу — зеркального карпа. Но можно было бы и всякую другую: сазана, линя. Им нужна, конечно, проточная вода. Но можно бы сделать цепь прудов, где вода двигалась бы.
Папа сказал, что это и очень выгодное дело — рыба. Не говоря уж о пользе для земли, для нашей-то макушки — водораздельной высотки. Вот, оказывается, что! Мы по географии учили про водоразделы и не знали, что сами живем в таком месте. От нас на запад
184
бегут воды к притокам реки Мёши, а на юг — к притокам Вятки, а значит, и Камы.
— Папа, пап! А что нужно, чтобы были пруды?
— Проекты нужны, расчеты. Надо строить так, чтоб вода не уходила, а держалась. Машины нужны, строительные материалы... Для начала — деньги, тут важно начать!
Я с восхищением смотрела на папу: он думал почти о том же что и я! Но я считала, что голубые озера в наших местах можно строить лишь после того, как найдут у нас полезные руды или каменный уголь. Когда понаедет народ на шахты и рудники. А оказывается, можно и так, в совхозе, как он есть. Только, кроме свиней, будут у нас расти еще и зеркальные карпы!
— Папа, и рыбалка будет?
— Обязательно! Одни пруды будут промышленные, а другие — для купанья, для рыбалки.
— Мама, бабуся! Вот это да! — звала я повосхищаться вместе со мной.— Представляете — вместо оврагов голубые озера. И не надо нам будет уезжать к реке!
У нас до войны велись разговоры — переехать в другой совхоз, куда-нибудь к реке. Папа наш был родом с Камы и мечтал о реке, о рыбалке. Вот откуда его мечты!
— Я так и решил, Дашутка: зачем уезжать к реке, к воде? Давайте здесь устроим! Сюда приведем воду!
— Я буду рыбку ловить на лодке,— важно сообщил Толя.— Буду плавать все время на лодке.
— Конечно! И так будешь плавать, и на лодке! — смеялся папа.
— Ой, пока это будет, Толик уж вырастет! — вздохнула мама.
— Мам! Ну все равно же будет! (А бабуся пила чай из блюдечка и лукаво посмеивалась.) Пусть даже я уже выучусь и приеду сюда пруды строить! Это, конечно, очень долго, но все равно! Надо, чтобы было, как папа придумал... Пап, а учат где-нибудь строить пруды и озера?
— Учат. Есть специалисты-гидростроители. В строительных институтах есть, видимо, отделения или факультеты.
— Вот опять теперь думай! Или в геологи, или в гидростроители!
Все засмеялись. А мама сказала, что мне еще следует подумать над профессией овцевода на горных пастбищах Тянь-Шаня.
— Горы должны тебя звать — ведь четырнадцать лет тому назад ты чуть-чуть не родилась там, в Киргизии.
— Я еще их не видела, гор. Но наверное, когда увижу, сразу пойму, что они — мои. Тогда уж и думать буду.
Мама и папа были посланы в Киргизию из института раньше своего выпуска — нужно было организовывать овцеводческие совхозы в далекой горной Киргизии. Тогда там еще попадались басмаческие отряды. И мама очень боялась встретить басмачей, объезжая на коне горные пастбища. Однажды ехала она по ущелью и заметила впереди
185
у тропы притаившихся за камнями людей в мохнатых папахах. «Ну,— думает,— пропала: басмачи!» Однако решила попытаться проскочить: «Авось промахнутся! Да еще пока они сядут на коней...» (Где их кони, не успела подумать.) Нахлестала свою лошадку, понеслась мимо папах — и вдруг они со страшным шумом взмыли вверх! Это были птицы — огромные беркуты. Очень мне нравилась эта история про маму.
Там, в горах, и бабуся ездила верном на коне. Была еще молодая. И я бы родилась в горах, в юрте, если б через год папу не призвали в армию. И мама побоялась остаться в незнакомом краю без него. И они с бабусей поехали родить меня на свою родину. Я думаю, правильно: человек должен родиться на своей родине. Хотя в горах Киргизии тоже бы хорошо. Но может, я еще попаду туда.
Я пошла спать, наказав себя не будить. Хотела, как взрослая, сама проснуться в четыре часа утра, собраться и уйти. И, уже расстилая постель, вдруг вспомнила (наверное, из-за басмачей) наш разговор в классе о фашистах. «Вот посмеются, когда скажу, что я придумала о перинах!» — обрадовалась я, снова выскакивая в столовую.
Я быстро выпалила, про что слышала от ребят и что придумала сама. Но почему-то никто не смеялся. А даже наоборт, как-то отводили глаза друг от друга. Будто я что-то стыдное сказала.
— Поди сюда, дочка,— позвал меня папа и усадил рядом, обняв за плечи.— Вот ведь какая штука. Все эти перины — это вовсе не особая примета фашистов. Как и аккуратность. Это приметы национального немецкого быта. Понимаешь? Я думаю, что и Фридриха Энгельса укрывали периной. Может, и Карла Либкнехта. И абсолютно уверен, что каких-нибудь отвратительных эсэсовцев воспитывали по-спартански и приучали спать в холодных казармах под тонким одеялом.
Ты, Дашутка, сейчас попалась на самом примитивном чувстве и рассуждении. Но чем примитивней, тем и опасней. Как раз на такое сознание людей и рассчитывали фашисты, когда создавали и внедряли свою расовую теорию. В самом общем виде что это за «мудрая» теория? «Раз они (другие народы) не похожи на нас, арийцев,— значит, они плохие, и тем хуже для них. Мы будем их покорять и уничтожать».
Не правда ли, просто и наглядно? Негр черный? Это ужасно! Бей его! Славяне хоть и белокуры, но носами не вышли, да и язык другой! Бей их! У евреев тоже носы подгуляли, волосы курчавятся — это не годится... Бей их, ариец!
А Дашутка вон перины разглядела и тут же решила: мы же не под перинами, а на перинах! «У-у, этого простить нельзя, это фашистский признак»,— догадалась умная Дашутка...
Я уже давно все поняла, и мне было неловко за свою перинную теорию, и, чтоб скрыть свой стыд, я старалась смеяться, когда папа говорил, как славяне носами не вышли и что мы не под перинами,
186
а на перинах, но папа, наверное, догадался, что мне стыдно, и добавил, чтоб меня поддержать:
— Это хорошо, что ты смеешься. Сразу поняла. И правда же легко понять, что смешно ненавидеть народ за какие-то приметы его быта. А главная-то примета фашистов, чем бы они ни укрывались,— это ненависть к другим народам, презрение к нам. Удобно грабить под этим знаменем: удобно и простому солдату, и генералу. И не стыдно! Вроде бы не простые грабители, а с идеей: у нас расовое превосходство!
— Зато у нас — интернационал,— сказала я,— и справедливость! Все вместе против фашистов!
И подумала, что теперь мне предстоит все это объяснить ребятам. А то будут считать, как я раньше.
— Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел! Помните пословицу? Это правда старинная,— напомнила нам мама.
И я даже подпрыгнула от восхищения: какой же замечательный антифашистский смысл, оказывается, в старой русской пословице! И сколько раз я ее слышала! А вот так она мне впервые открылась.
Лесные сказки
Чудо, конечно, но проснулась я вовремя. Было начало пятого часа. Сумеречно. Чувствуя себя ответственной и взрослой, я тихо-тихо собралась, чтоб не будить никого. Мне с вечера припасли немного продуктов, две пары шерстяных носков и лапти, чтобы обуть их поверх литых калош: будет теплее и не скользко.
Ранним утром морозило сильно, мне посоветовали идти лесом: там еще лед держится на дороге, нет грязи.
Я напилась молока с хлебом и ушла. Правда, чуть-чуть было мне обидно, что никто и в самом деле не встал, не проводил меня.
Но на воздухе, как всегда, все неприятное мигом отлетело, я чувствовала только независимость, только легкость и немного гордость. Приду одна и не опоздаю на уроки.
Идти в лаптях было превосходно! Легко! Не скользишь ничуть. Шаг упругий, крепкий. Одним духом дошла до леса. И правда дорога твердая — такой спрессованный заледенелый снег, не скользкий, шершавый, как асфальт. Конечно, есть и рытвины, и бугры, и провалы от копыт, наполненные темной водой,— сейчас они задернуты белым матовым ледком. Порушишь ледок палкой — вода под ним как табачный настой.
Торжественно в лесу. Важные деревья присматривают за мной с одобрением: ничего, мол, идет!
Возле деревьев всегда чувствуешь себя маленькой, но как бы под защитой — дружелюбие их чувствуешь. Поэтому не обидно быть маленькой. И не страшно.
В эту пору в лесу — как в комнате, где хозяева начали гене-
187
ральную уборку, да на время ушли куда-то: все сорвано, брошено, замочено и недомыто-недо- стирано, и хлам весь на виду. Особенно сейчас, в серенькое утро. Только одно есть главное отличие — запах лесной весенней сырости: подснежниками пахнет, горькой осиновой корой, сладким тающим снегом, водой, настоянной на палом листе,— даже /теперь, под крепеньким утренником, дышит этот нежный запах.
Хорошо, ходко шагалось. И вдруг на подходе к лосиной поляне меня остановило препятствие. Совсем незаметная в сухое время года низинка разлилась по лесу широким озером. Правда, его покрывал лед. Но что это за лед — чуть потолще газетного листа! Видно, что не глубоко, по колено, а то и меньше. Я палкой потыкала, убедилась. Были б сапоги — и вперед! Но где они, сапоги?!
Посмотрела я влево, вправо — везде, насколько было видно, деревья, ровненько подрезанные белым ледком, все в воде.
Если и есть обход, то далекий. Не хотелось идти, не зная наверняка, что есть. А напрямик — вон он, тот берег! И тут вспомнила я Васю-Мазю. Как мы его переобували, выливали воду из сапог... Прекрасно! Мне выливать воду не придется, потому что ее и не будет. Я разулась, надев на голые ноги лишь одни шерстяные носки и, подхватив свои лаптишки-ка- лошки,— пошла вброд. На середине озерка ноги перестали что-либо ощущать... Раза два чуть не шлепнулась: дно-то обледенелое, а ноги бесчувственные. Хорошо хоть, палка в руках! Но все равно здорово так идти: ледок чистый, матовый, ломается под ногой неровно, выбрызгивает темная вода, а тебе хоть бы что! Но вот и берег. Все-таки здорово придумала! Теперь, растерев ноги шерстяным платком, натянув сухие чулки и носки и в сухое обувшись, я ощутила, как словно бы кипяток побежал струйками, струйками по сосудам к ступням, к кончикам пальцев...
Только голени оказались все исчерчены тонкими длинными порезами, видно, об лед, но они лишь чуть саднили, не болели.
Когда я уже кончала подвязывать лапти, надо мной вдруг раздался голос:
188
— Здравствуй, дочка!
От неожиданности я так и вскинулась*
— Ой!
Как лесной дух я не слышала ни шагов, ни треска веток — возник возле меня этот дед* старый, сгорбленный, с длинной реденькой бородой и худым, смятым, морщинистым лицом. Глаза из-под сивых бровей — будто две мутные льдинки. И, как льдинки, мокрые, слезятся. А на мягком и каком-то мятом носу растет один седой и длинный волос.
— Не бойся меня, дочка, я старый,— сказал он мне.
— Я не боюсь, дедушка! Здравствуйте! — поздоровалась наконец и я.
— А что ты, разумшись шла через воду?
— Ага! — сказала я, гордая своей придумкой.
— А почто? Аль обхода не нашла?
Я затрясла головой: мол, нет.
— А ить есть обход-то! Есть! Вот гляди, я счас пойду! Прощай!
И он пошел вдоль озера вправо, углубляясь в лес, переходя от дерева к дереву — возле корней всегда повыше и снег. Еще не пропав совсем за чащей, он остановился и прокричал мне слабым голосом:
— Дочка, там не испужайся, впереди лосей, мож быть, встретишь! Я встретил. Ничё, смирные...
И он махнул мне рукой. Побрел, старенький, сгорбленный, от дерева к дереву. Исчез. Шуму от него никакого не было.
В самом деле, дальше, уже за поляной, я увидела их. Наверное, это были те самые телята, которых мы встретили зимой. Два молодых лося стояли у края дороги под старой дуплистой липой. Ах, какие же красавцы! Темно-шоколадная лоснистая шерсть спины незаметно переходит в светло-палевую и пушистую на брюхе. Ноги сухие, легкие, с длинными бабками. Огромные головы, еще безрогие, круто повернуты назад, ко мне. И один брат положил свою голову на спину второму. Так ладно, дружно, красиво стояли и смотрели большими темными глазами прямо на меня, мне в лицо.
Одно дело — когда встречаешь зверей в лесу
189
вместе с товарищами, в кучке; совсем другое — когда один на один. Нет, не страшно, а будто бы волшебно: вот-вот и заговорят лоси человеческим голосом. И чувство такое, что заговори они — и я ничуть не удивлюсь. Потому что сейчас в лесу сумеречно-светло без теней, молчаливо, таинственно — никто не слышит, иикто ничего не видит. И старичок тот говорил... Тот старичок... Не сбавляя хода, шла я к лосям. И нехотя, подпустив меня совсем близко — шагов пять до них осталось,— не сказав ни слова, лоси, капризно тряхнув головами и подняв их высоко, медленно, с царственным достоинством удалились.
Опустел лес. Кончилась сказка...
Прикоснулась я ладонью к липе, возле которой стояли звери: теплой еще была кора, нагретая лосиным боком.
Спасибо тебе, лес, за сказку!
Пошла быстро, посматривая по сторонам. Однако никто больше не показался. Хватит, мол, и того...
Все-таки, правда, самое малоинтересное место нашей дороги — это последние километры от леса до Пеньков. Голое какое-то, выпуклое. Идешь и для отвлечения столбы метишь — взглядом, конечно: вот дойду до того столба. И бежишь. А теперь — вот до этого... Бежишь. Тут, заметив, что тороплюсь, что нетерпение меня подгоняет, поняла: соскучилась уже. Как там без меня Зульфия? Да и... Лешка... Что он скажет сегодня? Что он еще скажет или сделает, как даст знать, что думает обо мне... И вдруг испугалась: ничего не скажет! Ничего не сделает!.. И уже давно и думать забыл!
И сразу я будто замерзла от мгновенного и остро охватившего меня отчаяния. А сама виновата! Сама убежала домой, чтоб не думать о нем в свой день... Мне казалось, что я не видела Никонова целую вечность. И я припустила бегом.
Вон уже уходят из поля моего зрения, остаются одни две березы вдали. Там, под ними, стоял некогда маленький всадник. Я не видела. Но вижу! Вижу! И всегда буду видеть их вместе. Пусть на самом деле они были вместе без меня. Тогда он думал обо мне, встречал. А если сейчас не думает — только я виновата. Догадывается ли он, как много я думаю о нем? Как мне будет плохо, если он перестанет смотреть на меня... А если и правда догадается?!
Я уже забыла, как нужно мне было сбегать домой...
Открытки
Потом оказалось — хорошо, что я сбегала домой одна.
Так обрадовалась Зульфие! Она еще не ушла в школу, мы побежали вместе. И по дороге я рассказала ей, что объяснил мне папа про немцев, про фашистов и перины.
— Конечно,— согласилась Зульфия,— если посчитать, что у нас, татар, не похоже на ваше, русское, так мы с тобой должны бы друг
190
друга рраззоррватть! — И она, страшно оскалившись, скрючив пальчики на свободной от портфеля руке, нацелилась мне в лицо. Как во время танца «Ойся да ойся!».
— Я тебя не буду резать, ты не беспокойся! — ответила я, оттолкнув ее легонько плечом.
Уж мы и посмеялись, вспомнив нашего незадачливого «Шамиля».
— А зря не дали нам его сплясать. Такие слова сочинили! — вздохнула Зульфия.
В классе мы застали странную картину: над партой Душки и Нины громоздилась пирамида из спин и склоненных голов. Даже не разберешь, где кто. Веркино румяное личико выглянуло из этой свалки — она, видно, ждала нас и закивала:
— Айдате-ка! Чё у нас!
Оказывается, они рассматривали немецкие открытки. Душка До- мушкина притащила все, что им слал за последнее время отец. Те, у кого дома тоже были открытки, сокрушались, что не захватили. Мы с Зульфией протиснулись поближе к Душке. А тут и звонок! Все перемены занимались рассматриванием, и я заметила, что ребята, у кого отцов уже не было,— это как раз Карпэй, Сашка Николаевич, Нурулла, Нина Иванова (в самом первом году войны пришли на их отцов похоронки),— смотрели эти открытки как бы со стороны, как что-то, что им не только не принадлежит — они и так принадлежали одной Душке,— но и не может принадлежать никогда. Ну, как жизнь в кино, что ли... Я так понимала этот жест, которым Карпэй брал открытку, близко не поднося к себе, и смотрел грустно, будто на открытке была не нарядная рождественская еловая ветка в нездешних витых свечах и золотых шишках, а что-то горестное, и золотым готическим шрифтом сообщала она о горе и печали, а не приветствовала: «С Новым годом!», что и Карпэю, конечно, было понятно. И Нурулла, и Нина так же брали и смотрели все эти замки в лесистых горах, и пасхальные роскошные яйца, и ангелочков, и румяных дедов-морозов. Морозы были вроде наших, но ослепительно яркие, блестящие и самоуверенные...
Вдруг Лешка оживился, увидев изображение девочки — одна головка — в каштановых кудрях, с писанными пухлыми губками и карими глазками.
— О, глядите! На наших похожа! Правда, Коська? На Плетневу! Да ведь?
Я даже запрезирала Лешку, хоть и была польщена его щедростью — девочка-то красивенькая,— и закричала:
— Ты с ума сошел! Чего ж тут похожего! Кудрявая, глаза карие!
— Ну, значит, на Верку! — охотно согласился Никонов.— Ее глаза! Глядите, глядите! Губочки... Пра, ребята?
— Пра! — передразнила его Верка, вспыхнув.— Нечего меня с немкой равнять! Губочки увидал! А ну, давай! — Верка попыталась вырвать у него открытку, но Лешка увернулся:
191
— Это Душкина! Не твоя! — и передал мальчишкам.
— А чё? Похожа на Матвееву! Правда, Верка, не злись! Тебя бы
так одеть да завить — и годишься на немецкую фотку.
— Да их бы одеть да завить — оне у нас все хоть куда! — про¬
басил Домоседов Константиныч.
Такие добродушные стали наши ребята — не узнать!
Мы с девчатами хохотали, представив себе, как завиваемся щипцами, нагретыми на свечке. Была и такая открытка: златокудрое голубоглазое существо отражено в зеркале в витой золоченой оправе, отражена в нем и свеча, на ней-то существо в белой рубашке, спущенной с одного розового плечика, и греет щипцы для завивки.
Мы прямо умирали, бились на партах, показывая друг на друга и всхлипывая:
— Это Душка!
— В рубахе-то — Галия... Ой, не могу!
— Нет, это Тоня,— отказывается Галия.— Тоня, Тоня!
И так далее.
Ладно, хоть развеселились ребята. И Нина смеялась, и Нурулла тихонько, и Карпэй гоготал. И почему-то я не смогла сказать им то, что сказала по дороге в школу Зульфии. Решила: в другой раз объясню.
Лапта
Как немного пообсохло на пологом бугре, перед избами Никоновых и Карповых, там скорей всего проветривает, высоко,— сюда на лужок, начинающий явственно зеленеть, собирались вечерами все, кому не лень. Лапта всех примирила и утешила, заставила забыть все сложности и оттенки отношений.
Лапта! Звенящий мяч с полнеба! Лапта! Свистит в руках досочка, а то и просто палка вместо ломающихся лопаточек-бит. Да ну их, лопаточки! Как лестно палкой засветить точно по мячу, подкинутому перед тобой подающим! Снизу, с вольного размаха от плеча! Лап-та! Пошел мяч свечой! И бежишь стремглав через поле, во «вражий» стан, за их черту, и маешься, перескакивая от нетерпения с ноги на ногу, пока новая подача не позволит вернуться к своим. Несешься через поле, а навстречу, бывает, летит в «плен» твой однополчанин... Бывает, и столкнешься или попадешь под «огонь», если водящий перехватит лапту — мяч — и, ударив в тебя, попадет! Тогда ты выходишь из игры. Чувство обновления, очищения «от грехов» переполняет всю тебя, когда, перебежав поле и благополучно увернувшись от удара мячом, ты становишься в хвост игроков своей команды, ожидая, когда снова подойдет твоя очередь бить по мячу и бежать «под огнем» через поле.
А еще прекрасней, будучи водящим на поле, поймать лапту, то есть
192
перехватить мяч прямо с подачи, когда он аж звенит от мощного удара! Лапта в руках водящего — это мгновенная победа его команды. Все кричат: «Урра! Победа!» — и, бывает, начнут качать водящего, если это не девчонка.
Лапта — это свежий, влажный воздух, холодящий гортань при беге, нетерпение во всех мышцах тела, пружинистость ног, когда кажется, всю игру и не опустишься на полную ступню, а все на носочках, на носочках! Это свист ветра в ушах и рвущаяся, летящая юбка где-то сзади! Лапта — это азарт, это вольный бег и риск и чувство своей команды, когда ты видишь, что там, за твоей чертой, скоро уже некому будет бить, и под угрозой «расстрела» водящим, петляя и увертываясь, несешься к своим, уже не выжидая далекой подачи — чтоб без риска,— а под такую, какая есть! Так даже лучше: какой интерес бежать, когда и опасности нет!
Лапта! JIan-та!! Лап-та!!!
Черное, бархатное небо над головой! Весна! Близкая победа наших! Блестящие прямо в мои глаза глаза Лешки, хотя он там, у своих, на подаче, а я за полем, за чертой. Его еле заметный кивок — мол, беги, не ошибусь... И наш тройной полет: мяч — куда-то к звездам и за горизонт, и мы с Лешкой навстречу друг другу...
— Привет!
— Привет!
И — мимо! Иногда бывает такая подача, что успеваешь сбегать «в плен» и вернуться, пока водящий отыщет мячик.
Поле победы
Сразу после Первого мая Мелентий Фомич собрал все три старших класса и объявил, что мы должны помочь колхозу. После уроков всю неделю будем вскапывать лопатами поле на бугре, слева от дороги на Камышлы. Там посадят картошку. Сейчас нехватка плугов и лошадей. Да и сыро еще очень, запаздываем с пахотой.
— Нас пятьдесят шесть человек, ну пусть выйдут пятьдесят, взять гон по метру на брата, метров по десять — пятнадцать в день подымем? Да шесть дней гнать — вот тебе и сорок пять соток! Шутка? А мы — шутя!
— Да навряд ли, Мелентий Фомич,— покраснев, сказал Кар- пэй.— Деревенским домой надобно все ж... Это ежели б заместо уроков... Чтоб смена так смена...
— Нет,— погрозил пальцем директор,— не туда ты клонишь! Учиться мы будем. Но один-два урока последних... снимем. Это можно... ну, часа-то три поработаем али как? — вытянул он шею к стоящим впереди Тоне и Галии.
— Это хорошо,— ответила Тоня.— Можно. И домой успеем.
На том и порешили.
7 Школьи
* * *
Весна в этом году стояла солнечная, но не теплая. Примораживало долго, а там и дожди перепадали. К Первому мая еще и почки не наклюнулись. Зима же была обильная снегом. Даже наше поле на бугре и то оказалось сырым. Бугор этот был залежью, еще не старой, года два его не пахали. И копать оказалось не просто, хоть это и не целина.
Карпэй и Степка Садов взяли с собой бруски и подтачивали лопаты кому нужно.
Острой лопатой одно удовольствие копать; особенно приятно чувствовать, как легко она рассекает корешки, старые стебли, всю эту травяную путаницу, которая обычно тормозит, не пускает вглубь тупое лезвие. Но это поначалу. А дальше будто и лопата тупится. Да и острая лопата не могла справиться с липнущей к ней глинистой, даже красноватой от глины землей. На первом же метре мы уже запарились, сбросили пальтишки и телогрейки. А развязать платки нам не позволили — ветер дул холодный.
Мы шли линейкой, шеренгой. Вернее, начали так, но скоро наша линейка стала извилистой змейкой, «тетивой из жил оленя, разорвавшейся на луке».
Я старалась изо всех сил, чтобы не отстать далеко от верхних точек изгиба нашей змейки: Тони, Галии, Нуруллы, Карпэя и еще нескольких ребят и девчат из седьмого класса.
Лешка, Садов, Зульфия, Душка шли на одном уровне со мной. Но мне казалось, я работаю быстрее, чем они.
Каково же было мое горькое изумление, когда Мария Степановна похвалила меня такими словами:
— Интересно как смотреть на Плетневу: вроде так неторопливо работает, а получается споро — не отстает ни на шаг от всех! Я наблюдаю. Посмотрите-ка, Мелентий Фомич: она как взялась, так и не разогнулась!
Я от досады остановилась, встала, опираясь на лопату,— поглядеть, как же те, которые «торопясь», если уж я не торопясь. Прямо фокус какой-то! По-прежнему кажется мне, что ребята работают более медленно, чем я. Но ведь учительнице со стороны виднее. И потом, она же меня похвалила... И что тут скажешь! Лишь бы не отстать...
Принялась опять за дело: метр влево идешь, метр вправо. В метре пять раз укладывается лопата по ширине. Берешь шесть, чтоб не ошибиться. Глину с лопатой лаптем сдавливаешь. Наступишь на целый глиняный бруствер, наросший аж до черенка, и давишь всей силой вниз. Упорная глина...
— Ничего, ребята! — бодрит нас директор.— Сегодня денек простоит, дак завтра еще получше будет!
— Надо бы, да нельзя еще получше! — откликается Галия со своей ударной сотки.
— Я говорю, земля получше станет!
— Дак и я про землю! — не отстает Галия.
— Ты, Галия, у нас молодцом, ударник! — успокаивает ее директор похвалой.
— Чай, ударница, Мелентий Фомич! — разгибается маленькая Вера и хохочет. И хохот у нее получается с мучительным постаныванием. Это, я знаю, спина дает себя знать. В первые мгновения, как разогнешься, ломит ужасно. Но потом быстро проходит.
— Не-ет, Матвеева,— не сдается директор,— ударник — оно крепче!
Теперь уже все почти распрямились и смеются со стоном, опираясь на черенки лопат обеими руками и прогибая спину. А от боли и чувства усталости еще больше смех разбирает, над собой смеемся. Только Галия, Тоня, Нурулла не бросили копать. Знай пашут, как тракторы.
Я смотрю, какими все маленькими на поле кажутся, не то что в школе! Это оттого, что простор вокруг, широко и в поле и в небе. Ветер дует ровный и сильный, без порывов, так что кажется, это он туго, без морщинок надул синий купол неба и поддерживает его высоту своей ровной силой.
В подножии бугра уже пролегла поднятая нами чистая полоска земли. А выше нас неряшливая, тусклая залежь, притоптанная снегом и дождями. И нам надо ее вскопать, сделать чистой и красивой.
Оказалось, мы работали всего час. А ладони уже горят, и лопата кажется пудовой. Пригляделась, многие в варежках копают. Надела и я, да поздновато. Болят ладошки. Ну ничего!
— Давайте, давайте, ребятки,— приговаривает Мелентий Фомич,— на этом поле будет уже победный урожай, это уж наверняка! '
— Урра! Поле победы! — закричал кто-то из мальчишек.
— Ур-р-ра-а-а! — подхватили все.
— Урра-ра! Поле победы!
Опять, значит, разогнулись и отдохнули чуток.
И снова — шесть лопат влево, шесть — вправо. Значит, два шага вверх, к вершине.
За три часа наши передовые подняли полосы длиной двенадцать метров. А мы только по шесть. Другие и того меньше. Устали здорово, а огорчились еще больше. Но директор нас утешил:
— Работали хорошо, рук-ног не жалели. Сколько сделали, за то и спасибо.— И поклонился всем в пояс.
— Мелентию Фомичу! — полушутя-полусерьезно нашелся Лешка и, выступив на два шага вперед, шапкой своей повел у земли, низко склонившись. Прямо как боярин!
— Мелентию Фомичу — урра! — заорали в рядах.— Урра! — опять понеслось дружное.
Домой пошли уже гурьбой, без строя. И Мария Степановна
195
сказала, что камышловцы теперь будут работать по два часа. Сегодня они показали, как могут трудиться. А дома у них много дел.
Все-таки молодцы какие наши учителя, все понимают!
Тоня сказала за всех:
— Мы завтра сделаем столько же и за два часа.
— Точно! — весело подмигнула мне Галия.
На следующий день Мелентий Фомич сказал, что в колхозе нами не очень довольны: во многих местах мелко вскопали.
— Ребята, лучше не торопитесь, зато старайтесь! Берите землю на полный штык лопаты, понятно? Вгоняйте ее в землю до черенка. Поглубже надо, поглубже!
Ну, я вчера так и копала. На полный штык.
Теперь Мелентий ходил, смотрел, кто как копает. Пятиклассникам помогал. Второй день оказался тяжелей. Плечи и спина болели еще с утра. Но вечером все равно всех собрала лапта. И удивительно: силы будто возвращались! Так и пошло у нас: уроки в школе, работа, домашние уроки, лапта!
Третий день — суббота была — пошел уже легче: мы окрепли, приноровились. Да и земля, что ни день, легчала, сохла. Земля не ждала, она не знала ни суббот, ни воскресений. Мы постановили всей школой — работать и в эти дни. Ну, а деревенским только субботу.
Во вторник восьмого мая нам сказали, что мы работаем последний день. Значит, шел шестой день наших трудов. Мы таки сделали, что хотели: дошли до вершины бугра!
«Не высок бугорок», как говорили мы, выходя против него с лопатами. Не высок бугорок, да в наших краях и нет высоких — полого, мягко идут волны земли. Только овраги ее режут, да вот здесь, у Пеньков, есть небольшая речка, над ней местами берег крут.
Не высок бугорок, нечего сказать, а и у него своя вершинка. И вот мы на ней. А под ногами у нас ручная наша пашня.
Красноватый, дышащий освобожденно, чуть курясь под низким солнцем и местами тускло поблескивая (следы лопат), лежал перед нами кусок земли — пусть бедной, глинистой, но совсем нашей! Обихоженной, как сказала бы тетя Еня, своими руками.
И влево, и вправо, и во все-то стороны тянулась наша земля до горизонта, до самого неба, и знали мы: дальше и дальше — все была она, своя земля. И везде над ней шла, курилась весна, везде была пашня, по пашне ходили грачи.
А здесь, на близком к нам поле, в сторону Камышлов, тоже на возвышенном месте, трактор, как игрушка ползает, попыхивает дымком из трубы-карандашика. А за дорогой, по-над речкой две плужных упряжки, и за ними женщины, как куклы. На одной кофта красная. А вторая как все, что-то темное на ней. И мы тут со всеми вместе. Свои среди своих.
Нас было немало — около пятидесяти человек. Но сейчас мы не
196
кричали «ура», не шумели. Наработались. И смотрели, примечали... Как оно все вокруг нашего труда. Поле победы, думала я.
Наш труд и впрямь был как знамя — красноватое полотнище поднятой залежи раскинулось по всему южному склону бугра. Даже не верится, что это все лопатами сделали, и с нами вот даже пятиклассники.
Мы-то уже большие... Мы стояли с Зульфией обнявшись, опершись вдвоем на одну мою лопату. И я чувствовала, что сзади и чуть сбоку от нас стоит Никонов. В мире был полный порядок. И наши войска уже в Берлине.
Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета,
Ты не спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне...
Тонкий, вибрирующий мальчишеский голос показался нежной былинкой, проросшей первой на огромном пространстве земли. Не поддержи ее, и поникнет одна, пропадет, загасит ее ветер! Поэтому каждый из нас постарался поддержать запевшего первым, и взошла, поднялась вокруг него целая веселая полянка перепутанных голосов и голосков:
Одержим победу,
К тебе я приеду На горячем вороном коне.
Приеду весною,
Ворота открою.
Я с тобой, ты со мною Неразлучны вовек.
Эх, как бы дожить бы До свадьбы-женитьбы И обнять любимую свою!
Мы допели эту странную песню до конца. Странную, потому что она была совсем не школьная, совсем и к смыслу нашего дела и труда не подходила... А может, подходила? Потому что была в ней такая напряженная тоска ожидания, да и не просто тоска, а с отчаянной надеждой на то, что все сбудется! Будет встреча, вернусь я! И победа будет — уж точно!
Но ведь и мы ждем победу! И мы копали свое поле и с отчаянием от усталости, от бесконечной работы и с надеждой: одолеем! И полю теперь ждать, когда его засеют или засадят, и надеяться: зазеленеть...
198
Нет, песня была самая подходящая, потому что такое было кругом настроение. И это понимали наши учителя и не только не остановили нас, но сами пели с веселой отчаянной тоской сбывающегося долгого ожидания.
И песня была спета до конца. Мелентий Фомич, отвернув лицо от ветра, сказал негромко:
Мы, все учителя, рады, как хорошо вы работали. Вы молодцы.
Мо-лод-цы!
Уж если не хорошо, так лучше не работать! — ответила за всех
наша бойкая Галия.
Вот правильные слова! — поднял к небу свой вещий палец
директор.— А теперь пойдем да проводим камышлинских!
— Урра! — закричали мы обрадованно.
И наконец-то тронулись, побежали к дороге.
Но я заметила — не все пошли с нами. Отдельные фигурки потянулись к близким дворам Пеньков. Мне их стало жалко: наверное, дома дела есть и они не могли еще немного побыть со всеми.
«Лешка, до завтра!»
Все понимали, что не сегодня завтра это произойдет: победа! Полная капитуляция фашистов.
Со второго мая в Берлине не стреляли. Все знали: вот-вот... И все-таки это произошло неожиданно. Ведь так ждали...
Утром очень рано я услышала медленную и мягкую поступь тети Ени, входящей с полными ведрами в избу. Может, от этого и пробудилась. Еще совсем во сне слушала, как звонко упала дужка ведра, сброшенная с крючка коромысла, как звучно всплеснулась вода, и я словно бы сама увидела ломкую, хрустальную глубину ключевой воды в ведре, глубину, промерянную светлым зайчиком, метнувшимся на дно от всплеска. И вместе с этими звуками и сонным видением воды, всплеснувшейся в ведре, возник голос тети Ени. Негромко, прерывисто от усилия — ставила второе ведро на скамью — она выговорила:
— Счас... сказывают... война кончилась.
— Правда?! — Мы уже сидели в постели.— Тетя Еня-а! Правда?!
— Говорят... Вроде бы из района звонили...
(В Пеньках не было радио, все особой важности новости передавали из района в сельсовет по телефону. А простые новости даже и не передавали.)
...Мы мчались к школе не чуя ног. Мы неслись по замуравевшей уже улице Пеньков, и темная теневая сторона улицы была широкой, а светлая жалась лишь по завалинкам — такое низкое еще было солнце. А может, оно и не встало.
Хлопали калитки, раздавались редкие и какие-то болезненные
199
вскрики. Мы видели нескольких ребят, двух-трех женщин, спешащих к школе, но не узнавали их. И нас никто не окликнул.
А ближе к церковной ограде услышали голоса, крики, плач.
За оградой было пестро от народа. И взрослых, я изумилась, не меньше, чем школьников. Хотя чего изумляться? Куда еще-то идти, как не к школе? Тут празднично от деревьев, от красной кирпичной кладки церкви и ограды. Тут дети... Носятся, снуют юркими мальками: «Победа!.. Победа!..»
Я ничего не ждала заранее, но, видно, так уж было задано всей жизнью: если праздник, торжество, то все собираются и есть какой-то порядок — или строятся, или садятся и кто-то что-то говорит,— митинг делается, собрание. Поздравит кто-то всех.
А здесь мы растерялись. Мы ворвались на школьный двор с криком: «Победа! Победа! Победили!» — но присоединиться было не к кому, хотя, повторяю, народу было много.
Все ходили один к другому — и расходились. И снова образовывалась неустойчивая группа, и другая, и третья. Будто все внезапно ослепли и ощупью искали своих.
Я тоже плохо видела. То ли слезы стояли в глазах, то ли какое-то предельное возбуждение не давало взгляду сосредоточиться. Чей-то красный платок машет в воздухе под припев: «Ой-ля-люшеньки! Люшеньки, ле-люшеньки!»
Платок машет? Сам собой? Но я не всматриваюсь, мне почему-то важнее узнать, кто там в ярко-белой шелковой кофте. Атласная, блестящая кофта... Но ведь холодно как! Хочу узнать, а сама бегу к группе ребят — может, наши? Нет, совсем незнакомые, не знаю я их! А глаза этих мальчишек и девчонок смотрят на меня безлично-радостно, они просто кричат: «Урра! Победа!..» Не мне, вообще — всему вокруг!
Да-да, вот откуда это ощущение, что все вокруг как внезапно ослепшие: эти невнятно счастливые, расширенные — от счастья, от боли? — глаза, у взрослых еще и полные слез...
Я боюсь потерять Зульфию. Наверное, и она меня. Мы держимся за руки. Она меня дергает:
— Гляди, Нинка Иванова! Ага!
Но тут же мы остановились: Нинка была не одна. Ее притиснула, прижала к стволу старой березы мать. Уткнувшись в шею дочки, она рыдала.
Нинины тонкие руки лежали у нее на спине — мать была ниже ростом,— а невидящее лицо, совсем мокрое от слез, неподвижное, обращено к нам. А рядом стояли малыши — мальчик и девочка лет пяти-шести. Они дергали мать за юбку и ныли:
— Ну, мамка!
И мы поняли, что еще для них значит День Победы: те, кто погиб, погибли для своих еще раз. Погибли навсегда.
Ах, больше никого не убивали! Кто жив сегодня — вернется! А эти — нет.
200
Вон еще женщина: руки на плечах двух мальчишек маленьких — наверное, лет семь — девять. Идет, лицо закинула вверх, а глаза крепко зажмурены. Видно, не хочет плакать, а терпеть нет сил. И видно, как тяжело опирается она на ребятишек: они
гнутся, пошатываются и обеими ручонками держат материны руки на своих плечах. Вдруг она прислонилась к красной кирпичной стене, осела, сгребла мальчишек в охапку и заговорила глухо:
— Сироты вы мои! Нет у нас папки!..
Но там, за деревьями, в глубине, у самой церкви, и плясали: женщины подпрыгивали и кружились, а у одной блестела в руке бутылка-поллитровка и стакан, и она постукивала стаканом о бутылку, будто чокалась сама с собой, и вскрикивала:
— Ох, бабы! Ох, бедные! Ох, дождалися!..
И другие тоже что-то приговаривали, и подпрыгивали, и обнимались.
Это слепое блуждание по двору, и слезы, и пляски, и вскрики — будто это сон, не реальность. Возникли и исчезли знакомые лица: вон вроде Душка... Нет, не она! Кажется, девчонка из седьмого класса, но глаза ее не узнают нас...
Наконец мы столкнулись с нашими, совхозными: прибежали Шурка и Вера Зозуля:
— Мы спали! Мы не знали! Нам в окно стучат! Нам орут!
Потом увидели Садова.
— Девчатки! — заорал он, будто он, потерянный, нашелся и наконец поверил в свое спасение.— Девчата! Победа! Победа!
Мы все пятеро обнялись, взялись за руки, как в хороводе, но не кружились, а сошлись тесно-тесно, лицом к лицу, щека к щеке. Мы наконец обрели почву под ногами и сразу поняли, что нам делать.
— Домой! Прямо отсюда — домой!
И побежали. Как вдруг крики, которые то и дело раздавались на школьном дворе и были слышны все слабее, по мере того, как мы бежали,— эти крики вдруг приблизились, стали громче, и я наконец поняла слова и узнала голос:
— Да-а-ашка! Стойте же вы! Садов! Плетнева!
Мы остановились. К нам бежал Лешка со своим братишкой-вто- роклассником, Лешка держал его за руку. Они остановились тоже, когда увидели, что мы не бежим.
Мы стояли так недолгое мгновение, пока я в каком-то сумасшедшем озарении не осознала вдруг очень ясно, что мне незачем бежать куда-то! Что вот же он, Лешка, которого одного я и искала на школьном дворе. И куда ж теперь мне бежать!
Я шагнула к Лешке. И еще шагнула. Но меня схватили за рукав:
— Дашка! Некогда! Айда же! Ведь мы только до завтра!
201
Я было вырвала свою руку из рук Зульфии и в ту же секунду
поняла: в самом деле — только до завтра!
— Леша! Лешенька! — закричала я отчаянно радостно, уже уходя, убегая за своими.— Ведь мы до завтра! До завтра-а, Леш-ка-а-а!
— До за-втра-а-а! — неслось и нам вслед.
Ю. Сотник
ЭЛИКСИР
КУПРУМАЭСА
Глава первая
В белокафельной кухне Маршевых было светло и шумно. Там громко говорили за чаем и чему-то смеялись четверо взрослых. А в дальней от кухни комнате, освещенной настольной лампой, царила тишина. Впрочем, не совсем полная тишина: здесь говорили вполголоса или шепотом.
— Пить хочется. Прямо кишки горят,— прохрипел Веня.
— Ну так иди попей,— сказал Родя.
— Ну их!.. Покажусь им на глаза — они спать пошлют. Черт меня
дернул селедки наесться...
— Давай тогда я принесу.
— И ты не ходи: вспомнят о нас и домой соберутся.
Помолчали. Веня тяжко вздохнул и зачмокал. Тут в Родиной
голове появилась идея.
— Из таза будешь пить?
— Да хоть из чего! Я же сейчас как в Сахаре... или в Гоби этой
самой...
— Тогда я в ванную тихонько проберусь и тебе в тазу принесу.
— Во! Валяй! Побольше только!
Родя на цыпочках вышел из комнаты, а Веня остался в темноте.
Апрель выдался на редкость теплый, и окно было распахнуто настежь. У самого подоконника на деревянной треноге стояла самодельная подзорная труба, описание которой Родя вычитал в старой книжке без начала и конца. Он сделал ее из двух картонных трубок — тубусов, которые вдвигались друг в друга. Объективом служило очковое стекло для дальнозорких, а окуляром — окуляр от театрального бинокля, разбитого Вениной мамой. Треногу соорудил Веня. И вот теперь друзья собирались испытать свое детище, посмотреть на Луну и своими глазами разглядеть «моря», «океаны», а может быть, и кратеры, которые они видели на карте.
Друзья не учли одного: прямо от их дома тянулась широкая, но короткая Логовая улица, вдоль которой елочкой стояли многоэтажные здания. Небо было ясное, но луна пряталась за крышей дальней двенадцатиэтажной башни и скоро должна была выползти из-за нее.
Приятели были научены горьким опытом: если Веня задерживался у Роди после девяти часов, раздавался звонок, Веню звали к телефону, и он слышал голос своей мамы:
«Вениамин! Тебе известно, который час? Немедленно домой!»
Сейчас стрелка часов приближалась к половине десятого, но у друзей еще была надежда. Венины папа с мамой пришли поболтать с супругами Маршевыми, а когда взрослые Маршевы и Рудаковы сойдутся вместе, у них всегда найдется о чем поговорить. Только бы
204
их не побеспокоить! Только бы им случайно не напомнить, что у них есть сыновья, которым пора ложиться спать!
В комнату неслышно вошел Родя с большим белым тазом.
— Я его сполоснул, конечно,— тихо сказал он и поставил таз на письменный стол.
Веня подошел к тазу, сунул в него голову, но дотянуться до воды не смог: Родя принес ее не так уж много, края у таза были высокие, а Веня был маленького роста.
— Тут нужно шею как у журавля,— проворчал он.— Или клюв такой.
Он поставил таз на пол, опустился на четвереньки и стал пить. Родя в это время говорил:
— Там у нас еще стакан есть с зубными щетками... но ведь ты побольше просил, а циркулировать туда-сюда — это дело рискованное.
— Бу, и правильно бделал, пто таз прибес,— пробулькал Веня.
Напившись, он водрузил таз обратно на стол, и приятели стали по очереди смотреть в трубу. Перед ними были сотни окон, и каждое светилось своим светом — желтым, красным, оранжевым, зеленым, голубым... Но эти окна друзей не интересовали. Их внимание привлекал лишь один дом — трехэтажный. Он стоял в самом конце Логовой, перпендикулярно к ней,— значит, прямо напротив мальчишек. Его окна на первом этаже закрывали полупрозрачные занавеси, а окна второго этажа и третьего были только обрамлены цветными портьерами. Вот на них-то и была нацелена труба, которую друзья предпочитали называть не подзорной, а астрономической.
Дело в том, что в трехэтажном доме помещался районный Дворец пионеров и школьников, и дворец не простой. Там, конечно, был и драматический коллектив, и танцевальный, и хоровой, и кружок художественной лепки и рисования, кружок «Умелые руки» и юных авиамоделистов... Но, помимо всего этого, при Дворце пионеров было научно-конструкторское общество «Разведчик». Некоторые члены этого общества выполняли исследования по заданию настоящих ученых из настоящих научно-исследовательских институтов и конструировали приборы по поручению настоящих заводов и фабрик. Дворец был построен сравнительно недавно; шефы не поскупились на оборудование, и таких мастерских и лабораторий, как у этого районного дворца, не было даже в городском Дворце пионеров.
От старшеклассников Родя и Веня слышали, что в общество «Разведчик» принимают лишь тех, кто уже создал какую-нибудь собственную конструкцию или провел самостоятельное исследование. Оба надеялись, что, если астрономическая труба у них получится, их в общество примут. Поле зрения у трубы было очень маленькое. Приятели заглядывали поочередно то в одно незашторенное окно, то в другое. Они видели движущиеся фигурки ребят и взрослых, но ни
205
лиц, ни подробностей обстановки в помещениях разглядеть не могли. Может быть, стекла на окнах были запыленные, может, дело было в трубе.
Постепенно свет в окнах стал гаснуть. Потухали сразу два окна, три, а то и четыре. Как видно, это зависело от размера помещения, которое находилось за ними. Скоро погасло последнее окно.
— Все ушли,— прошептал Веня.
А луна еще не появлялась. Мальчики сели на кушетку и в который раз принялись разглядывать журнал с картой лунной поверхности.
Прошло минут десять, а может быть, и пятнадцать. Из кухни продолжали доноситься веселые голоса, и непохоже было, что Рудаковы собирались уходить.
— Родька! — вдруг сказал Веня.— Да ведь сегодня пятница!
— Ну и что?
— У взрослых завтра выходной, а они забыли, что нам-то в школу идти, и сидят себе!
Эта мысль развеселила ребят, и они некоторое время дурачились, тихонько смеясь и толкая друг друга кулаками. Потом Родя встал, подошел к трубе и прильнул глазом к окуляру. Вдруг он замер на несколько секунд, потом выпрямился.
— Венька! А ну-ка посмотри! Ты ничего не замечаешь?
Труба оставалась наведенной на Дворец пионеров. Веня долго смотрел в нее, слегка передвигая трубочку окуляра, наконец проговорил неуверенно:
— Похоже... похоже, окошко чем-то черным занавесили, а сверху свет пробивается. Э!.. Смотри! И в другом окне тоже светится, только чуть поменьше.
Место у трубы снова занял Родя. Теперь он уже не сомневался, что оба окна занавешены черными шторами. Похоже было, что эти шторы висели на гвоздях, прибитых к углам оконной рамы, и наверху немного провисали. Друзья помолчали, глядя друг на друга.
— Интересное дело! — сказал Родя.
— Интересное дело! — повторил Веня.
— Ты ведь точно помнишь, что оба окна не были занавешены?
— Да я, как сейчас, их перед глазами вижу.
— Выходит, после того как дворец закрыли, в той комнате снова свет зажгли, а окна занавесили.
— Выходит, что так.
Родя вернулся к трубе. Он слегка передвинул ее вправо и опять увидел узкую полоску света, уже в третьем окне. После этого он дважды провел трубой вдоль всего второго этажа, но в других окнах нигде света не было. Родя снова повернулся к Вене:
— Значит, так: это четвертое, пятое и шестое окна от правого
угла. Ты занимался там в кружке «Умелые руки». Может, вспомнишь,
206
что там за помещение... ну, с этими окнами — четвертое, пятое и шестое от угла?
— Так... «Умелые руки» находятся на третьем этаже, а на втором... общество это, «Разведчик».
— А может, все-таки припомнишь?
Родя сел и теперь смотрел на маленького Веню снизу вверх. Тот некоторое время молчал, почесывая нос, потом заговорил:
— Погоди! Значит, на втором этаже крайняя дверь по коридору — это лаборатория электроники.
— Точно помнишь?
— Точно. На двери табличка висит.— Веня снова помолчал.— А вот рядом дверь... наверное, она самая и есть. Вроде... вроде бы химическая лаборатория. Если химическая — тогда дело ясное: там Купрум Эс порядок наводит. Он сам знаешь, как вкалывать любит.
Купрум Эс — так за глаза школьники звали учителя химии Ку- прияна Семеновича, который по совместительству руководил во Дворце пионеров химической лабораторией. Он был стар, чудаковат, но старшеклассники его за что-то и любили и уважали.
— Хорошо,— сказал Родя.— Предположим, что там Купрум Эс порядок наводит. Но во-первых, как он туда попал, если Дворец пионеров заперт, а во-вторых, зачем ему занавешиваться?
Веня пожал плечами.
— Ну, насчет как туда попал — у него ключ свой может быть. Все-таки это тебе не кто-нибудь, а Купрум Эс. А насчет занавешивания... Мою маму, например, раздражает, если окна вечером не занавешены.
Родю такой ответ не удовлетворил.
— Значит, по-твоему, так получается: пока в лаборатории занятия шли, голые окна Купрума Эса не беспокоили, а когда он один остался — раздражать начали. Нет, тут что-то...
Родя не договорил. Веня случайно взглянул в окно и вскрикнул почти во весь голос:
— Э!.. Луна!
Большая, чуть кособокая луна висела рядом с крышей дальнего двенадцатиэтажного дома. Родя бросился к трубе и стал наводить ее на луну, а Веня схватил журнал и стал рядом с ним, торопливо говоря:
— На! Смотри на карту и ищи. Чего-нибудь крупное для начала ищи. Во! Океан Бурь ищи!
И в эту минуту голоса взрослых послышались из передней.
— Родька! — почти закричал Веня.— Наши домой собираются. Смотри скорее и дай мне! Океан Бурь...
На пороге появилась Венина мама:
Венька, ты знаешь, который час? Половина одиннадцатого!
Мам!.. Сейчас! Ну сейчас!
207
Венина мама повысила голос:
— Вениамин, никаких «сейчас»!
— Все! Пока! — со вздохом сказал Веня и направился к двери.
Родя проводил друга, потом быстро постелил постель, разделся, вышел в одних трусах сказать родителям «спокойной ночи», вернулся в комнату и, погасив свет, продолжал свои астрономические наблюдения. Он хорошо запомнил, как выглядят самые большие темные пятна на карте Луны, однако ему пришлось попыхтеть, прежде чем он обнаружил с помощью трубы сливающиеся друг с другом Океан Бурь, Море Дождей и Море Ясности.
И все же Родя был доволен. Как ни была несовершенна его труба, а все-таки с ее помощью «океан» и два «моря» были видны яснее, чем невооруженным глазом. Ложась спать, Родя решил: на днях они с Веней пойдут и запишутся в научное общество. В секцию астрономии.
Глава вторая
В каждом классе есть свой силач, своя красавица и свой мыслитель. Бесспорным силачом в пятом «Б» был Лешка Павлов: он справлялся с любым мальчишкой в классе одной рукой. Мыслителем можно было назвать Родю, который постоянно «генерировал», как теперь выражаются, всякие увлекательные идеи. Красавицей была Зоя Ладошина. И не только красавицей: она еще была председателем совета отряда, и это свое положение Зоя ценила больше, чем положение первой красавицы в классе.
На следующее утро, когда Родя и Веня шли в школу, по другой улице шла туда и Зоя, шла не одна, а в сопровождении своего «актива» — так она называла шестерых ребят, окружавших ее. Время было раннее, и Зоя шла неторопливо, красиво вытягивая ноги в красных туфельках, чуть поводя при каждом шаге плечами, на которые спадали черные локоны. Неторопливо шагала и так же неторопливо говорила:
— Не знаю... Если меня даже и выдвинут снова председателем, я, наверное, все-таки откажусь.
Эта фраза вызвала у «активистов» негодование.
— Зойка! Ой!..— пискнула Нюся Касаткина.— Ты с ума сошла!
— Зо-о-о-я! — протянула Соня Барбари- сова.— Как тебе только не стыдно такое говорить!
— Не выдумывай, Зойка, давай лучше не выдумывай, не выдумывай! — забубнил толстый редактор стенгазеты Шурик Лопухов.
Зоя передернула плечами.
— Ну, граждане, почему все я да я? Надо же немножко отдохнуть! Как будто, кроме меня, никого не найдется, чтобы председателем быть!
— Ну, кто найдется? Ну, кто найдется? — снова запищала маленькая Нюся.— Думаешь, я? Так меня в собственном звене никто не слушается, вот!
Соня Барбарисова старалась говорить как можно убедительней.
— Зоя, ты вот подумай и пойми: из нас из всех никто таким авторитетом в отряде не пользуется, как ты. А остальные ребята в классе — так ты сама знаешь, какие они пассивные: ничего не хотят делать по общественной работе.— Соня угрожающе подняла палец.— Зоя! Вот увидишь: если ты не будешь председателем, вся работа замрет!
— Развалится вся работа, развалится работа, развалится! — загудел редактор.
Будь «активисты» чуть посмекалистей, они бы сообразили, что Зоя не собирается расставаться с постом председателя, что, наоборот, она весьма обеспокоена предстоящими на днях перевыборами совета отряда. Весь этот разговор она завела не для того, чтобы просто поломаться перед своими приверженцами, а чтобы узнать, сколь твердо они собираются отстаивать ее кандидатуру. Но Зою окружал народ простодушный, и, покосившись на ребят, она убедилась, что все они серьезно озадачены и огорчены. Маленькая Нюся шла опустив голову со связанными под затылком косичками, держась двумя руками за ручку портфеля, который при каждом шаге бил ее по коленкам. Продолговатое лицо Сони Барбарисовой вроде бы еще боль-
209
ше вытянулось, а маленькие глазки редактора стали совсем круглыми.
Помимо Нюси, Шурика и Сони, Зою сопровождали еще трое: долговязый Жора Банкин и две беловолосые, почти безбровые сестры-двойняшки Настя и Катя Мухины. Они, по своему обыкновению, молчали, но вид у них тоже был огорченный. Ведь до сих пор эти ребята были очень довольны «мудрым» руководством Зои Ладо- шиной.
Школа номер двадцать восемь была новая, ребята учились в ней только первый год, поэтому выборы в пионерской организации проводили не прошлой весной, а в начале учебного года. Со старшей пионервожатой школе не повезло: она все время болела. Зато вожатая отряда появилась в пятом «Б» с первых дней сентября. Это была маленькая и очень энергичная девятиклассница, с быстрыми движениями и узким строгим лицом. Звали ее Дина Коваль. В то время она твердо решила посвятить свою жизнь педагогической деятельности. (До этого Дина так же твердо решила стать сначала юристом, потом врачом, потом художником-модельером.) Работа у нее на первых порах закипела. Дина сразу заметила в классе бойкую, властолюбивую Зою и предложила ребятам избрать ее председателем совета отряда. Зою избрали. Та в свою очередь предложила выбрать редактором стенгазеты Шурика Лопухова, потому что он неплохо рисовал, и Шурика выбрали. Остальных членов совета выбрали почти наобум, так как ребята еще мало знали друг друга.
Дина не стала заглядывать в журнал «Вожатый», чтобы узнать, какими делами можно увлечь пионеров. Она имела свои соображения на этот счет. У нее был брат-семиклассник, который грубил матери и ничего не хотел делать по дому, поэтому она первым делом решила воспитать в своих пионерах уважение к родителям и стремление во всем им помогать. Началась подготовка к сбору на тему «Моя семья». На заседании совета отряда Дина сказала, что в начале сбора должны будут выступить два человека: один на тему «За что я люблю своих родителей», а другой на тему «Как я помогаю маме». Вожатая считала, что после такого вступления ребята разговорятся, и каждый поведает о том, за что он любит папу и маму и как он помогает по хозяйству.
— А если покритиковать еще кого-нибудь? — предложила Зоя.— Вот Генка Добровольский... он у нас в подъезде живет... так он ничего дома не делает, даже за хлебом его послать не могут.
Дина серьезно посмотрела на Зою:
— А тебя не зря выдвинули председателем. Очень дельное предложение. Кто еще хочет сказать?
Среди членов совета была маленькая, робкая Нюся Касаткина. Ей захотелось, чтобы вожатая похвалила и ее. Она подняла руку.
— А мо... а можно...— пропищала она, запинаясь от волнения,—
210
можно я выступлю на тему, как я помогаю маме. Я картошку чищу, па хлебом хожу, пол подметаю...
— Прекрасно! Вот и запишем это выступление за Нюсей. У кого еще будут предложения?
Среди членов совета был Веня.
— По-моему, скукота получится,— пробормотал он.
Дина выпрямилась на стуле:
— Как? Что ты сказал?
— Скукота получится. Ну, что мы — октябрята? «За что я люблю маму... Как я помогаю родителям...»
— Пожалуйста! Предложи что-нибудь интересней. Ну?
— Подумать надо,— сказал Веня.
— Ну что ж! Ты думай, а мы будем работать, правда, ребята? Критиковать да раздумывать всегда легче, чем действовать. Вера, а что ты скажешь?
— А? — спросила Вера Полозова. Она пыталась изобразить в тетрадке волка из мультфильма «Ну, погоди!» и ничего не слышала.
С тех пор Дина перестала называть Веру и Веню пионерскими активистами, хотя они и продолжали числиться в совете отряда.
Завербовать второго выступающего оказалось не так-то просто. К кому бы ни обращалась Зоя — все отказывались. Один говорил, что у него других дел по горло, другие называли тему выступления глупой, но почему они так считали — объяснить не могли. Наконец, дошла очередь до очень прилежной отличницы Сони Барбарисовой, которой ее пятерки доставались с большим трудом. Тут уж Зоя решила не отступать. На перемене она подошла к Соне сдвинув брови.
— Барбарисова, у меня к тебе такой вопрос: ты своих родителей любишь?
— Люблю. А что? — тихо спросила Барбарисова.
— Вот двенадцатого ты выступишь на сборе и расскажешь, за что ты любишь своих родителей.
— Зо-о-о-я! — протянула Соня.— Зо-о-о-я, но я же никогда не выступа-а-а-а-ла!
— Не выступала, а теперь выступишь. Надо ведь когда-нибудь привыкать.
Соня немного подумала, потом замотала головой.
— Нет, Зоя, я просто не смогу... Я даже не знаю, как начать это выступление.
— А ты заранее все обдумай и выступи.
Соня снова подумала.
— Зоя, понимаешь, если я даже что-нибудь придумаю, я... как начну выступать, так сразу растеряюсь и все перезабуду.
— А ты на бумажке напиши. Возьми тетрадку и напиши. Вроде доклада получится.
В тот день Соня Барбарисова не вышла гулять ни на минуту. Сразу
211
после школы она засела за уроки, а потом весь вечер промучилась, пытаясь сочинить выступление. Попросить помощи у родителей она не решалась: было как-то неловко спрашивать папу с мамой, за что она их любит* Бледная, похудевшая за одни сутки, она на следующий день сказала Зое, что у нее ничего не получается, и та ответила:
— Придешь вечерком ко мне, я тебе помогу.
Вечером Соня явилась, и дело у них пошло.
— Кем твой папа работает? — спросила Зоя.
— Бригадиром... на стройке...
— Что он строит?
— Дом... жилой...
— У него эти... как их? Показатели хорошие?
— Не... не знаю.
— Пойди к телефону и спроси.
Соня пошла к телефону. Ее папу заинтересовало, почему дочке требуются сведения о его производственных показателях, Соня отказывалась говорить.
— Ну, папа...— тянула она плачущим голосом.— Ну, мне нужно! Ну, я потом скажу...
Но отец настаивал, и Соня призналась наконец, что она пишет «доклад». После этого она вернулась к Зое и доложила:
— План прошлого полугодия папина бригада выполнила на сто одиннадцать процентов, а план в этом месяце они думают выполнить на сто пятнадцать.
Зоя тут же усадила Соню за стол, сама стала одной коленкой на стул и, держась за спинку, принялась диктовать:
— Пиши: «Я люблю своих родителей за то, что они очень хорошие и трудолюбивые люди. Мой папа... этот... производственный отличник...» Нет! «Отличный производственник. Он строит жилые дома. Его цех...» Что? Не цех? Бригада? «В прошлом полугодии выполнили план...» На сколько? «...на сто одиннадцать процентов, а в этом месяце они дали слово выполнить план на сто пятнадцать процентов. Папа очень любит свой благородный труд, болеет за него душой, поэтому его бригада выполняет такой хороший план».— Зоя помолчала, отдыхая.— Так! Ну, а теперь... кто твоя мама?
— Хозяйка... домашняя...
Зоя так же быстро управилась с Сониной мамой, рассказав, как она создает хорошие бытовые условия для своего мужа, для Сони, для двух ее старших братьев и для старенькой бабушки.
Известие, что их тихоня дочка собирается выступить на сборе отряда, приятно взволновало Сонину маму, папу и бабушку. Даже братья отнеслись к этому с некоторым интересом. Сонино выступление называли не иначе как докладом и читали его соседям...
С выступлением, критикующим Генку Добровольского, который не помогает маме, у Зои все получилось неожиданно легко и просто. Зоя
212
вспомнила, что на одной площадке с Генкой живет Жора Банкин. Он был такой же тихий и незаметный, как Соня, и даже внешне походил на нее: такой же худенький и долговязый. С хулиганистым Генкой он не дружил, но Зое было известно, что их мамы общаются между собой. Знала Зоя и то, что она нравится Жоре: всякий раз, когда она на него смотрела, он расправлял узенькие плечи и делал равнодушное лицо. И вот однажды она подошла к Жоре и сказала голосом мягким, почти нежным:
— Жора, можно тебя на минуточку? Мне надо с тобой поговорить.
— Пожалуйста,— прошептал Жора, и они вышли на площадку школьной лестницы, где не было толкотни. Жорино лицо было бледное, а оттопыренные уши его горели.
— Ты знаешь, что Генка Добровольский ничего не делает по дому, нисколечко не помогает матери?
Жора смотрел на Зою очень пристально, даже слегка испуганно. Впервые за все время в школе первая красавица класса обращалась именно к нему. Он проглотил слюну и ответил торопливо:
— Знаю. Его мама говорила... моей маме...
Зоя склонила голову набок и посмотрела на Жору серьезными темными глазами.
— Жора, у меня к тебе просьба. Двенадцатого мы проводим сбор... Выступи, пожалуйста, и покритикуй Гену за то, что он не помогает матери.
Жора закачался, переступая с ноги на ногу.
— Но я... Понимаешь, я... Все-таки как-то... в семейные дела... все-таки неудобно как-то...
Зоя сделала каменное лицо, и голос ее зазвучал сухо.
— Какие же это семейные дела, если у нас в классе растет тунеядец? По-моему, это общественные дела.— Она передернула плечами и сделала вид, что собирается уйти.— А вообще я тебя понимаю: ты просто боишься, что Генка тебе по шее надает.
Тут у Жоры покраснели не только уши, но и все лицо.
— А я... я разве отказываюсь? Я просто так сказал, что немножко неудобно как-то... А вообще... пожалуйста, я... я не отказываюсь.
Одиннадцать человек со сбора сбежали, но двадцать пять все-таки присутствовали. Соня Барбарисова хоть и читала по бумажке, но то и дело запиналась. Нюся Касаткина довольно бойко рассказала, как она чистит картошку, моет посуду, ходит за хлебом и за молоком. Затем Жора в очень деликатной форме покритиковал тунеядца Г енку.
— Мне кажется, Гена... ты... ты ведешь себя не совсем... не совсем по... порядочно,— закончил он.
— Кто еще хочет выступить? — спросила Зоя, но в ответ последовало молчание.
— Ну, ребята!.. Какие вы все пассивные! — проговорила Дина.—
213
Неужели ни у кого не найдется что сказать о своих родителях?
Пока вожатая призывала ребят к активности, сестры Мухины ерзали за своим столиком, о чем-то шептались и толкали друг друга локтями. Их поразило то обстоятельство, что застенчивые Нюся, Жора и Соня вдруг набрались храбрости и выступили на сборе. Сестры долго спорили шепотом между собой, наконец Настя подняла руку, и ее пригласили к учительскому столу. Красная, словно из кипятка вытащенная, Настя сообщила отряду, что они с Катей не только чистят картошку, моют посуду и ходят в магазины, но научились обращаться с пылесосом и помогают маме убирать квартиру. После этого еще минуты три Зоя спрашивала, кто желает выступить, а Дина упрекала ребят в пассивности.
Получилось, что весь сбор отряда длился какие-нибудь двадцать минут, но по окончании его вожатая сказала Зое.
— Ничего! По крайней мере сегодня выявился настоящий актив. Как фамилии ребят, которые выступали?
Зоя назвала имена и фамилии.
— Ну вот! В дальнейшей работе ты на них и опирайся. Они, правда, немножко стеснялись, но у них есть вкус к общественной работе.
Когда участники сбора выходили из школы, Гена обратился к Жоре:
— Ну-ка ты, порядочный! Поди сюда!
Жора подошел.
— Чего это ты, порядочный, лезешь в мои личные дела?
Ответить Жора не успел, потому что Гена дал ему кулаком по
скуле. И тут оказалось, что бледный, узкогрудый Жора очень неплохо дерется. Никто даже разглядеть не успел, как он сбил коренастого Генку с ног, как сел на него верхом (Гена лежал на животе). Все увидели только, что Жора вцепился в Генкины волосы и бьет его носом об асфальт. Их растащили старшеклассники. Нос у Генки был разбит, но он родителям не пожаловался: самолюбие не позволило. На другой день Зоя предложила Дине устроить экстренный сбор и обсудить поведение Жоры и Генки, но вожатая заколебалась. С одной стороны, Генка поступил нехорошо, ответив кулаками на справедливую критику, но с другой стороны, и Жоре не следовало разбивать Генкин нос об асфальт. Дина так и не смогла определить, кто из двоих подравшихся больше виноват, и в конце концов предпочла совсем не обсуждать этого вопроса.
Как бы там ни было, а самые незаметные ребята в классе вдруг сделались «активистами», в то время как члены совета отряда, за исключением Нюси и Шурика, стали увиливать от заседаний.
Глава третья
А еще недели через две Дина твердо решила, что ее настоящее призвание не педагогическая деятельность, а работа гидом в «Интуристе». Она засела за английский язык и потеряла всякий интерес к обязанностям пионервожатой. На сборах и заседаниях совета отряда она, правда, бывала, но всякий раз минут через пятнадцать говорила, что ей необходимо куда-то уйти, и оставляла все на Зою, чем та была очень довольна.
Почти весь учебный год у Зои и ее «активистов» кипела бурная деятельность.
Стенгазета «За отличную учебу» выходила очень регулярно. Шурик, правда, не умел редактировать заметки, а тем более их писать, зато у него получались очень красивые заголовки. Писали заметки все те же Соня, Жора, Нюся и сестры Мухины под наблюдением Зои. Разнообразием заметки не отличались. Предположим, первого числа в одной из них критиковался Юра Дергачев за то, что стал отставать по математике, а в другой хвалили Петю Короткова за то, что он учится только на четверки и на пятерки. Пятнадцатого числа критиковали Костю Переверзева за то, что он разговаривает на уроках, и хвалили Машу Салтыкову за то, что она учится на одни пятерки. Была в каждом номере еще и третья заметка. Она называлась «Наши задачи» или еще как-нибудь в этом роде. В таких заметках говорилось о том, что классу нужно повысить борьбу за успеваемость или усилить борьбу с нарушителями дисциплины.
Были в газете и карикатуры. Шурик рисовал их неплохо, но разнообразием они тоже не отличались. На них изображался или ученик спящий, положив голову на учебник, или ученик, ковыряющий в носу, глядя в потолок, или ученик-верзила, колотящий малыша или девочку. Какая ни была газета, но выходила она очень регулярно, за что Дина хвалила и редактора и Зою.
В своей кипучей деятельности Зоя не удовлетворялась планом работы, намеченным вместе с Диной. Она пошла дальше. Она составила список самых матерых двоечников и к каждому из них прикрепила одного из своих «активистов», чтобы те помогали им в учебе.
Жора, изрядно намучившись, все-таки помог Дергачеву исправить двойку, но остальные оказались плохими педагогами. Объяснить что- нибудь толком они не умели и каждое занятие кончали тем, что решали за двоечников задачи и подсказывали им, как писать упражнения. Лодыри-двоечники были очень довольны, но все это не помешало им остаться двоечниками до конца учебного года.
«Активисты», повторяю, были счастливы. До этого их почти никто не замечал, да и многие из них часто не умели занять себя чем-нибудь помимо уроков, а теперь их жизнь была насыщена всякими неотложными делами, они почти каждый день устраивали совещания, о них с похвалой отзывалась вожатая, их имена часто появлялись в
215
стенной газете, и домашние с гордостью говорили о том, какая у них огромная общественная нагрузка.
Но больше всех наслаждалась своим положением Зоя. Приходя из школы домой, она жаловалась бабушке на усталость, после обеда ложилась на диван, читала какой-нибудь журнал, а полежав с полчаса, отправлялась в папин кабинет. Папа был директором станкостроительного завода. По вечерам он звонил на завод, справлялся, как работает вечерняя смена, отдавал всякие распоряжения. Теперь Зоя тоже садилась за папин письменный стол и брала телефонную трубку.
— Барбарисова? Это Ладошина. Как дела с заметкой про Паукова? Смотри, пятнадцатое число на носу...
Жору, пожалуйста! Банкин? Привет! Завтра тебе придется немножко задержаться после школы: сестры Мухины пойдут к Валерки Иванова родителям говорить насчет его успеваемости, а Валерка обещал их на улице за косы оттаскать. Так что ты с ними пойдешь. Чтобы он их не оттаскал...
Так она обзванивала всех своих помощников и для каждого находила какое-нибудь новое поручение или деловое указание.
И вот теперь Зоя пребывала в отличном настроении: она убедилась, что «активисты» будут стоять за нее горой на предстоящих выборах, а об остальных ребятах можно было не беспокоиться. Дина Коваль не зря назвала их в свое время «пассивной массой». Каждый из них занимался какими-то своими делами, и кто будет председателем, их не интересовало.
Подходя к школе, Зоя еще издали увидела Родину шевелюру. У него были особые волосы: в помещении их нельзя было назвать рыжими, скорее — только рыжеватыми, но на солнце они горели как огонь. Вот и сейчас под легким весенним ветерком на голове у Маршева колыхалось что-то вроде маленького костра. Рядом с Родей шел Веня. Друзья приближались к воротам школьного двора, идя от противоположного конца улицы.
При виде Роди Зоя ускорила шаги.
— Маршев! Подожди минутку! — сказала она, потом обернулась к своим спутникам: — А вы идите! Мне надо поговорить.
Те, немного обиженные, двинулись на школьный двор, оглядываясь на Зою и двух мальчишек, которые остановились у ворот.
— Ну... слушаю,— сдержанно сказал Родя, и довольно яркие веснушки на его лице побледнели, потому что сам он покраснел.
Маршев давно нравился Зое, но в начале года она чувствовала, что Родя не склонен обращать особого внимания на первую красавицу в классе. Однако где-то в конце марта Зоя догадалась, что положение изменилось. Однажды, случайно оглянувшись, она заметила такую картину: Маршев застыл неподвижно, приоткрыв рот, и смотрит на нее, как будто впервые увидел. И это повторялось не раз. Вот
216
и теперь: едва она заговорила с ним, как он покраснел, и это Зое очень понравилось. Она кокетливо поболтала портфелем.
— Маршев! Вот про тебя все говорят, что ты очень умный, что у тебя в голове всякие там идеи...— Зоя помолчала. Склонив голову набок, она смотрела на Родю, а тот приподнял плечи и смотрел неподвижно на нее.
— Ну, ты давай ближе к делу,— поторопил Веня.
Зоя не удостоила его даже взглядом. Она продолжала смотреть на Родю.
— Маршев! Сегодня в три начинается сбор макулатуры. Вот придумай что-нибудь такое, чтобы наш отряд вышел на первое место в школе. Вот подай какую-нибудь такую идею! А, Маршев?
— Надо подумать,— тихо сказал Родя.
— Легко сказать «подумать»! — снова вмешался Веня.— Ты знаешь, какое теперь трудное положение с макулатурой?
— А если было бы легкое, я бы не просила,— отрезала Зоя.
В городе, по примеру Москвы, стали выдавать специальные талоны тем, кто сдаст двадцать килограммов бумаги, и по этим талонам в магазинах продавали такие книги, которые за простые деньги трудно купить. Теперь старую макулатуру несли на приемные пункты многие взрослые. Рассчитывать на то, что юные сборщики позвонят в квартиру и им тут же отвалят пачку старых журналов, теперь не приходилось.
— Ну как, Маршев? Подумаешь?
— Подумаю... Только я не уверен, что... ну... что-нибудь получится.
— Одним словом, Маршев, я жду,— сказала Зоя и направилась было во двор, но тут ее окликнул Веня:
— Зойка, погоди!
— Ну, жду. В чем дело? — С Веней Зоя предпочитала разговаривать суховато, даже чуть-чуть надменно.
— Ты ведь, кажется, во Дворце пионеров занимаешься?
Зоя посмотрела на дворец. Он находился в сотне метров от школы по другую сторону улицы.
— Занимаюсь. В кружке художественного чтения.
Тут уже с Роди слетела вся его застенчивость. Он шагнул к Зое:
— Понимаешь, Ладошина... У нас такое дело: нам очень нужно узнать, что за помещение находится вон за теми окнами. Вон на втором этаже — четвертое, пятое и шестое от того угла. Только точно.
Зоя опять посмотрела на дворец.
— Так. Значит, первая с того конца по коридору будет лаборатория электроники. А рядом... Знаю! А зачем это вам?
Мальчишки переглянулись. Им не хотелось сообщать Зое о сделанном вчера наблюдении. Вдруг за окнами творится что-то неладное! Вдруг там какая-то тайна, которую они могут раскрыть! Каждый из
218
них не то чтобы подумал об этом, а скорее это почувствовал, и оба теперь растерянно молчали.
Настроение у Зои было прекрасное, и она опять поболтала портфелем.
— Ох, Маршев, Маршев! И всегда ты что-нибудь выдумаешь! Скажите, зачем это вам нужно, тогда я скажу, что там за помещение.
Ну-ну... понимаешь,— с запинкой ответил Родя,— мы пока не
можем тебе этого сказать.
— Можете, но не хотите, а не хотите — тогда как хотите! — Зоя повернулась.и уже деловым шагом пошла к подъезду школы.
— Зойка! Ты человек или кто!..— крикнул Веня.
— Вот придумайте сегодня с макулатурой — тогда скажу,— не оборачиваясь, весело ответила Зоя.
Веня молча погрозил ей вслед кулаком, а Родя сказал ему:
— Ну чего ты волнуешься? Завтра пойдем записываться в «Разведчик» и сами всё узнаем.
Глава четвертая
До сих пор Зоины «активисты» делали все только по ее указанию. Но сегодня они отступили от этого неписаного правила. Пока Зоя разговаривала с Родей и Веней, они, встревоженные, стояли у двери в школу и совещались.
— Нет, мы ее уговорим, уговорим ее, уговорим,— бормотал редактор.— А то вся работа развалится, развалится вся работа.
— Това-арищи! — вдруг протянула Соня Барбарисова.— А вдруг Зою другие ребята не переизберут! Возьмут и откажутся переизбрать. Вы знаете, как некоторые наши девчонки ее ненавидят!
— Ага,— подхватила Катя Мухина.— Они почти все ей завидуют.
А ее сестра добавила:
— Они только и знают, что ее «воображалой» называют. И другие всякие гадости.
— Гадости? Девчонки про Зою гадости? — вдруг запищала Нюся Касаткина.— А мы тоже молчать не будем, мы тоже будем действовать!
— Это как действовать? — не понял редактор.
— А вот пойдемте, я вам скажу как!
И уже через несколько минут все шестеро начали «действовать».
Едва только Веня и Родя вошли в школьный коридор, как перед ними предстала торжественная, вся какая-то вытянутая Соня Барбарисова.
— Рудаков и Маршев! Мне надо с вами очень серьезно поговорить.
— Пожалуйста,— сказал Родя.
219
— Скоро в нашей пионерской организации начнутся перевыборы. Вот, Рудаков, Маршев, скажите мне откровенно: за кого вы собираетесь голосовать?
— Почем я знаю! — ответил Веня.
— Не думал еще,— сказал Родя.
— Вот многие ребята собираются голосовать за Зою Ладошину, и я тоже так думаю, что она самая достойная. Рудаков и Маршев, давайте все вместе проголосуем за Ладошину! А?
— Я не против,— сказал Родя.
— За Ладошину так за Ладошину,— добавил Веня.
Когда приятели подходили к кабинету биологии, за спиной у них послышалось какое-то гудение:
— Маршев и Рудаков! Маршев и Рудаков! Погодите минутку, погодите минутку, погодите минутку!
Маршев и Рудаков узнали голос редактора. Они остановились, обернулись, а тот продолжал гудеть:
— Давайте проголосуем дружно на выборах за Ладошину! Проголосуем дружно за Ладошину! Проголосуем, проголосуем, проголосуем!
— Да ладно тебе, проголосуем! — с нетерпением ответил Веня и добавил: — Вот далась им эта Ладошина!
А войдя в кабинет, друзья увидели, как перед столом силача Лешки Павлова стоит Соня Барбарисова и тянет:
— Па-а-авлов! Мне надо с тобой очень серьезно поговорить.
После первого урока произошел случай, сильно настороживший
обоих друзей. Едва они вышли из кабинета на перемену, Родя вдруг стал как вкопанный, глядя куда-то вдоль коридора. Посмотрел в ту же сторону и Веня и ничего особенного не увидел, кроме какого-то незнакомого старика, приближавшегося к ним. Секундой позже Родя толкнул Веню локтем и прошептал:
— Смотри! Это же Купрум Эс!
Даже теперь Веня не сразу узнал учителя химии — так он вдруг изменился. Обычно Куприян Семенович, несмотря на свои семьдесят лет, держался по-военному прямо, всегда на нем был белоснежный воротничок и темный галстук, всегда его усики, почти такие же белые, как воротничок, были аккуратно подстрижены. Теперь к ним навстречу шел ссутулившийся и довольно неопрятный старик. Воротничок его был измят, словно он спал не раздеваясь, галстук съехал сантиметра на два вниз, щеки ввалились, и на них поблескивала седая щетина. Но хуже всего были у него глаза: какие-то выцветшие и вроде ничего не видящие перед собой.
— Что это с ним? Заболел? — тихо спросил Веня, когда Купрум Эс прошел.
— А что, если не заболел? — тоже вполголоса проговорил Родя.— Что, если ему... ну... не по себе!
— В каком смысле не по себе?
— Ну, в таком смысле, что его что-то мучает. Вот давай сопоставь
220
фактики: по ночам свет горит в химической лаборатории, а теперь Купрум Эс... сам видишь какой. А что, если он знает, что у него в лаборатории что-то неладно! Что, если он знает, что там по ночам творится, и это его мучает!
Веня замотал головой.
— Нет, Родька! Ты уж в самом деле, как начнешь фантазировать!.. Во-первых, мы даже не знаем точно, химическая там лаборатория или нет. Во-вторых... ну, ты все-таки конкретно скажи, что его может мучить. Ну, что?
Родя помолчал, подумал.
— А давай предположим так: у Купрума Эса в лаборатории пропадают какие-нибудь приборы, и он от этого переживает. А приборы эти ворует тот, кто по ночам занавешивает окна.
Теперь помолчал и подумал Веня. Вдруг он резко повернулся к Роде:
— В общем, знаешь что? Давай подойдем к Купруму Эсу и скажем ему насчет окошек. Если он не знает про ночной свет — значит, там действительно воры, и мы, выходит, поможем их разоблачить, а если знает — тогда получается, что все в порядке.
— Ну что ж... Это мысль...— Родя хотел еще что-то сказать, но тут к ним подошла Нюся Касаткина.
— Мальчики, мальчики! — запищала она.— Вы знаете, что приближаются перевыборы в совет отряда?
— Ну, знаем,— раздраженно ответил Веня.— Скажешь, что надо за Ладо шину голосовать?
— Мальчики, только за Ладоши ну, только за Ладошину и ни за кого больше! Мальчики, вы поймите, что она у нас самая достойная, что она у нас самая...
— Ладно! Вали отсюда! — сказал Веня и, взяв Родю за локоть, повел его прочь от Касаткиной. Но Родя не захотел обижать Нюсю и объяснил ей через плечо:
— Мы уже сказали, что будем голосовать за Ладошину.
Во время большой перемены они снова увидели химика в коридоре. Некоторое время приятели шли за ним, не решаясь заговорить, потом все-таки набрались храбрости, забежали вперед и остановились перед Купрумом Эсом.
— Куприян Семенович, извините, пожалуйста! — очень вежливо начал Родя.— Можно с вами поговорить?
Куприян Семенович резко остановился и странно дернулся, словно его ударило током.
— А? Да-да!..— быстро сказал он, глядя мимо мальчишек своими невидящими глазами. Потом он взглянул на Родю более внимательно и повторил: — Да-да!.. Пожалуйста!
Родя определенно не знал, с чего начать разговор, поэтому тянул:
— Вы нас не знаете, Куприян Семенович, но разрешите вас все-таки спросить.
221
— Пожалуйста! — коротко повторил Купрум Эс.
— Вы ведь, кажется, ведете во дворце химический кружок?
— Не химический. Я руковожу секцией биохимии. Да. Вот
так!
Теперь учитель очень внимательно, даже чересчур внимательно, как показалось Роде, смотрел на него. И Родя вдруг решил не мудрить, а говорить напрямик.
— Понимаете, Куприян Семенович... Мы просто хотели вас предупредить. Ведь ваша лаборатория... она находится рядом с... этой самой... с лабораторией электроники?
— Да. Электроники и автоматики. Только позвольте, о чем... о чем вы, собственно, хотели меня предупредить?
В разговор наконец вступил Веня:
— Понимаете, Куприян Семенович... мы заметили, что там ночью у вас свет горит. Кто-то зажигает. А мы знаем, что по ночам Дворец пионеров заперт.
— Это глу... это г-глупости! — тихим подрагивающим голосом проговорил Купрум Эс.— Там не может быть никакого света, и вы... и вы его видеть не могли. Вот так! Да! И это... и это очень непорядочно распускать такие глупые и панические слухи. Да! Извините, я тороплюсь. Меня ждут... Меня в учительской ждут...
И Купрум Эс быстро зашагал прочь от мальчишек, ссутулившись и сжав костлявые опущенные кулаки. Друзья молча смотрели ему вслед, как вдруг перед ними возникли сестры Мухины.
— Ребята, послушайте, за кого вы будете голосовать на выборах? — спросила Настя.
Веня замахнулся на сестер кулаком, а Родя быстро сказал:
— За Ладошину, за Ладошину, успо...— Он не договорил, потому что увидел, что к ним возвращается Купрум Эс.
Учитель химии остановился шагах в пяти от них.
— Мальчики! Прошу вас... прошу вас на два слова ко мне!
Сестры Мухины испарились, а ребята подошли к учителю.
— Вы... вы меня простите... Я был не прав. Да. Не прав,— заговорил Купрум Эс, понизив голос и озираясь.— Если вы не ошибаетесь, то это... это действительно очень странно и... и очень подозрительно. Вот так! И теперь... и теперь я прошу, скажите
222
мне, где и каким образом вы видели свет. И когда? Вот именно:
когда?
Ребята не стали говорить об астрономической трубе, а просто рассказали учителю, в каких окнах они заметили свет, и добавили, что свет этот пробивается в щели над черными шторами. Приблизительно назвали время, когда они наблюдали это явление.
Купрум Эс слушал их, тиская перед грудью тонкие пальцы одной руки пальцами другой. Светло-голубые глаза его то снова становились невидящими, то вдруг впивались в Родю и Веню. После того как ребята закончили свой рассказ, он долго молчал и вдруг словно опомнился:
— Да! Все это очень странно и... и очень подозрительно. Да! Вот так! Тебя как зовут?
— Родя Маршев.
— Родя Маршев. Очень хорошо! А... а тебя?
— Рудаков Веня.
— Да... Значит, Веня Рудаков. Родя Маршев и Веня Рудаков. Очень хорошо! Да! — Он помолчал, озираясь по сторонам, потом снова заговорил: — Значит, тебя — Родя, а тебя... тебя — Веня? Значит, так, Родя и Веня. Мы — таким образом: мы будем молчать. Вот именно: молчать. И мы расследуем. Мы расследуем это дело. Я... я сегодня же этим займусь, сегодня же. Да! Но если мы расскажем кому-нибудь, мы можем спу... спугнуть этих... которые забираются. Вы согласны со мной, что надо молчать? Что надо... ничего и никому? Согласны?
Ребята кивнули, пробормотали, что согласны.
— И вы даете слово, что никому? Не расскажете никому? По крайней мере три дня. Вот так! Да. Три дня?
— Даем,— почти одновременно сказали Родя и Веня.
— Благодарю!.. Благодарю!..— Купрум Эс пожал им по очереди руки.— И мы этим займемся. Я сегодня же... сегодня же займусь... Вот так! Да! Мы их найдем, этих зло... злоумышленников. Мы их найдем! Да! Всего хорошего!
Купрум Эс быстро удалился. u Родь!..— сказал Веня.— А тебе не кажется, что он сам какой-то... ну, подозрительный, что ли?
223
— Кажется,— тихо ответил Родя.
За спиной у ребят раздался свирепый голос Лешки Павлова:
— Да отстаньте вы от меня с вашей Ладошиной! Сказал, что проголосую!
Обернувшись, они увидели, как от силача брызнули в разные стороны сестры Мухины.
Глава пятая
После пятого урока в кабинет вошла Дина Коваль. Она произнесла маленькую речь о значении сбора макулатуры для нашей страны. Затем она предложила ребятам разойтись по домам, пообедать, а к трем часам собраться в школьном дворе.
Как только речь зашла о сборе макулатуры, Родя вспомнил разговор с Зоей у ворот школьного двора. Он вспомнил, как Зоя назвала его человеком умным, «со всякими идеями в голове», что было, конечно, очень лестно; вспомнил, как она попросила его придумать что-нибудь такое, что помогло бы отряду выйти на первое место. Вспомнил Родя и устремленные на него Зоины глаза, большие, черные, с длиннющими ресницами. Вспомнил и стал думать.
Как всегда, Маршев и Рудаков шли домой вместе. Веня говорил все о тех же зашторенных окнах, о странном поведении Купрума Эса. Родя машинально поддакивал ему, а сам ломал себе голову над тем, где еще, кроме жилых квартир, можно раздобыть старую бумагу. Потом Веня заговорил о том, как они пойдут завтра во Дворец пионеров записываться в общество «Разведчик». Родя по-прежнему поддакивал ему, а сам продолжал думать все о той же макулатуре, все о той же бумтаре.
Стоп! Почему у него в голове возникло это странное слово «бум- тара»? И что оно означает? «Бумтара... Бумтара...» Ведь это похоже на сокращенное «бумажная тара»! Где, когда, каким образом это слово попало в его, Родину, память?
Приятели вошли в подъезд. Веня поднялся в лифте на пятый этаж, Родя поехал к себе на девятый. Отца дома не было. Он пошел к Рудаковым играть в шахматы с Вениным папой. Мать принялась кормить Родю обедом. Временами она хлопала себя ладонями по бедрам и говорила примерно так:
«Ну! Опять застыл! Опять на стенку уставился! Опять изобретаешь что-нибудь, горе ты мое!»
А Родя действительно временами застывал с непрожеванной котлетой во рту, глядя на кафельную стену. Если бы он мог взглянуть на себя со стороны, он бы убедился, что глаза его в подобные минуты чем-то напоминают глаза Купрума Эса — такие же широко открытые и такие же невидящие.
Итак, «бумажная тара». Неожиданно Родя обнаружил, что в голове у него звучит не одно только существительное — «бумтара»,
224
к нему откуда-то прибавилось и прилагательное: «проклятая бумтара». Где он слышал это выражение? Стоп, стоп!.. Теперь откуда-то выплыли еще и другие слова: «Мы пропадаем от этой проклятой бумтары».
— Вот что, товарищ Маршев! — сказала в этот момент мама.— Будешь ты есть, наконец, или мне убрать тарелку?
И едва только мама сказала «товарищ Маршев», как Родя полностью вспомнил фразу, услышанную им вчера: «Товарищ Ершов! Мы пропадаем от этой проклятой бумтары!»
— Все, мам! — сказал Родя. Он показал матери большой палец и с невероятной быстротой стал набивать рот кусками котлет и жареной картошки.
— Изобрел что-нибудь? — спросила мама.
Родя только помотал головой и снова поднял большой палец. Теперь он помнил все до малейших подробностей. Вчера после школы он зашел в магазин «Хозтовары» купить клей для своей трубы и, стоя у прилавка, услышал сердитый женский голос, доносившийся из служебного помещения. Кто-то говорил там по телефону.
«Товарищ Ершов! Мы же погибаем от этой проклятой бумтары! У нас килограммов двести ее скопилось, нам повернуться негде из-за нее, а вы — машина в ремонте да машина в ремонте! Как до вторника?! Да не можем мы ждать до вторника! Товарищ Ершов! Алло! Товарищ Ершов!..»
Чем окончился этот разговор, Родя, конечно, ждать не стал: ведь тогда это его нисколько не интересовало. Теперь он, чуть не подавившись, проглотил второе, выпил стакан киселя и, не отвечая на вопросы матери, бросился к двери. Было без двадцати пяти два. Через десять минут магазин, который находился недалеко от школы, должен был закрыться на обеденный перерыв.
Почти всю дорогу Родя мчался бегом, а метров за пятьдесят до магазина перешел на шаг. Он понимал, что будет несолидно вести деловые разговоры, пыхтя как паровоз.
Магазин был небольшой. В нем работали только две продавщицы да кассирша. Родя обратился к одной из продавщиц:
— Скажите, можно видеть заведующего?
— А зачем она тебе?
— По одному вопросу. Меня из школы прислали. Из двадцать восьмой,— соврал Родя.
Продавщица указала ему на дверь за прилавком, и он очутился в небольшом коридоре. Ему сразу бросились в глаза картонные коробки, громоздившиеся вдоль одной из стен. Нетрудно было догадаться, что это и есть бумажная тара: полуразвалившиеся коробки стояли друг на друге в несколько рядов, и из всех щелей между рядами и в углах коробок торчали куски плотной бумаги — белой, коричневой, голубой...
Родя легко нашел маленький кабинет завмага и увидел за столом
8 Школьные годы. Выпуск 2
225
полную женщину с розовым лицом и очень высокой ярко-желтой прической.
— Зачем пожаловал, мальчик? — довольно строго спросила она, перебрасывая кружочки на счетах.
Волнуясь, Родя пролопотал заранее отрепетированную фразу. Мол, у них сегодня в школе сбор макулатуры, и не может ли магазин отдать ребятам бумажную тару.
Заведующая сразу забыла про счеты. Она откинулась на спинку стула и секунды две смотрела на Родю широко открытыми глазами.
— Ах ты солнышко мое! — сказала она ласково, вскочила, взяла Родю за руку и вывела его в помещение магазина.
— Тоня! Валя! — сказала она громко.— Глядите, какой спаситель у нас явился! Школьники тару заберут!
И заведующая провела Родю по всем местам, где у нее хранилась
бумажная тара. Кипы бумаги и картонные коробки, набитые ею, лежали у нее в подвале на складе, там же, где на стеллажах хранились коробки еще не распечатанные, с товарами. Кучу «бумтары» Родя увидел во дворе возле задней двери магазина... Показывая Роде все это богатство, заведующая говорила о том, как ей грозит штрафом пожарная охрана, какие неприятности у нее с домоуправлением из-за того, что она загромождает своей тарой двор.
— Даешь слово, что все сегодня заберете? — спросила она Родю на прощание.
— Даю! — ответил он и помчался домой.
Вбежав в квартиру, он позвонил Вене, сказал, чтобы тот немедленно явился к нему. Веня пришел и сразу оценил значение сделанного Родей открытия.
— Только тут надо с умом действовать,— сказал он.— А то другие классы узнают и нагрянут в магазин.
— А я о чем говорю? Эту операцию надо молниеносно провести. Во-первых, нужно мобилизовать других ребят, а во-вторых, нужно о транспорте подумать. Старыми методами тут ничего не сделаешь.
Под старыми методами Родя подразумевал авоськи, в которых ребята обычно таскали собранную макулатуру, да шпагат, которым они перевязывали пачки старых газет и журналов.
226
Николаевы детскую коляску выкидывать собирались,— сказал
Веня.— Старомодную. Может, не выкинули еще.
Он отправился за коляской, а Родя позвонил Лешке Павлову. Тот в свою очередь обещал позвонить другим ребятам и как-нибудь решить проблему транспорта.
Так уж получилось, что в первый же год существования двадцать восьмой школы сбор старой бумаги и металлического лома стал здесь занятием увлекательным, тогда как в иных школах он являлся довольно скучной повинностью. Пожалуй, в этом заслуга Надежды Сергеевны — заместителя директора школы по воспитательной работе, которой часто приходилось заменять больную старшую вожатую. С самого начала она внесла дух соревнования в такие дела и всячески поддерживала его.
Вот и сегодня во дворе школы, словно первого сентября, собрались несколько сот ребят. Их уже поджидали вожатые, с тем чтобы
построить свой отряд, подсчитать, сколько человек пришло, и рапортовать об этом Надежде Сергеевне. Все знали, что она появится на каменном крыльце школы ровно в три часа, а сейчас перед крыльцом толпились специально выделенные учетчики. Каждому завхоз выдавал безмен, чтобы взвешивать принесенную макулатуру, и каждый прикалывал себе на грудь тетрадочный листок с обозначением класса, достижения которого ему предстояло учитывать.
Когда почти все были в сборе, во двор гуськом втянулась кучка мальчишек из пятого «Б». Первым шел Веня с допотопной детской коляской на высоких железных колесах, с кузовом, сплетенным из потемневших ивовых прутьев. За Веней шел Родя со старым отцовским рюкзаком за плечами. Рюкзак был так велик, что низ его болтался у Роди где-то под коленками. За Веней следовал Валерка Иванов. У него тоже был рюкзак, но уже поменьше, зато на плече, как лассо у ковбоя, висела свернутая кольцом бельевая веревка. Предпоследним был силач Леша Павлов, который толкал перед собой деревянную тачку. Шествие замыкал Леня Марков. Он шагал налегке.
Это шествие очень развеселило собравшихся ребят.
— Во дают! Во комики! — закричали в хохочущей толпе, а Дина Коваль нахмурилась. Все знали, как трудно стало теперь собирать
227
бумагу, и все были уверены, что мальчишки из пятого «Б» просто хотят подурачиться. Одна только Зоя догадалась, что это неспроста.
— Придумал что-нибудь? — тихо спросила она Родю.
— Похоже,— так же тихо ответил тот.— Лишь бы только не сорвалось.
Появилась Надежда Сергеевна — маленькая круглолицая женщина лет тридцати пяти. Ребята обратили ее внимание на коляску, тачку и рюкзаки. Голос у маленькой Надежды Сергеевны был удивительно чистый и звонкий, и она сказала без всякого усилия на весь двор:
— Ну что ж, родненькие мои, шутка вещь хорошая. Теперь посмотрим, как шутники умеют работать.
Она зачитала список, и тут выяснилось, что пятому «Б» предстоит идти на Логовую, а не на улицу Нинели Калачевой, где находится магазин «Хозтовары».
— Ну, это дудки! — сказал Веня.
— Придется орудовать на чужой территории,— проворчал Павлов.
— Победителей не судят,— закончил Родя.
Наша пятерка прибегла к обманному маневру. Сначала они вместе с другими ребятами пошли на Логовую, а когда сборщики рассосались по жилым домам, быстро повернули назад.
Через полчаса они явились на школьный двор в том же порядке, в каком вошли первый раз. Только у Вени коляска была наполнена бумагой и кусками картона, а сверху еще стояли две коробки, наполненные тем же добром. Рюкзак у Роди был так набит бумагой, что самого Родю даже трудно было заметить: казалось, что это идет сам рюкзак на ножках в джинсах, шатаясь от собственной тяжести. Валерка Иванов, помимо рюкзака, тащил в обнимку еще одну коробку, а тачку везли вдвоем Леша Павлов и Леня Марков. Сама тачка, как и детская коляска, была наполнена бумагой, а сверху, привязанные к тачке веревкой, возвышались уже не две, а пять коробок.
Нечего и говорить, какое впечатление произвело все это на окружающих. Даже Дина Коваль, давно утратившая интерес к своим пионерам, просияла и побежала в школу звать Надежду Сергеевну. Нашу пятерку обступила изрядная толпа: тут были вожатые, свободные от работы учетчики, были ребята уже притащившие макулатуру. Все смотрели, как учетчик пятого «Б», восьмиклассник Митя Борин, взвешивает доставленное мальчишками богатство. А тот совсем запарился: его безмен мог взвешивать только до десяти килограммов, но почти каждая коробка и каждый рюкзак весили больше. Пришлось делить «бумтару» на мелкие порции, перевязывать их веревкой и каждую порцию взвешивать отдельно.
— Пятьдесят два килограмма! — объявил Борин, кончив взвешивать содержимое тачки. Он вытер пот со лба рукавом, извлек из
228
кармана список пятого «Б» и устало взглянул на Павлова с Марковым.— Это вы привезли? Говорите фамилии! По двадцать шесть килограммов на каждого.
Но тут Лешка с Леней благородно запротестовали: они сказали, что основная идея принадлежит Маршеву, поэтому большая часть добычи должна быть записана на его имя. Родя в свою очередь благородно запротестовал, и в конце концов было решено разделить всю доставленную макулатуру на пять равных частей.
— Всего, значит, сто одиннадцать килограммов,— объявил учетчик, закончив взвешивание.
И тут все услышали голос Надежды Сергеевны:
— Родненькие мои! Как же вы это умудрились?
Она стояла, склонив голову набок, прижав сложенные ладони к пухлой щеке, и во все глаза смотрела на груду бумаги и картона.
Веня ухмыльнулся:
— Военная тайна, Надежда Сергеевна.
— Голубчики! Да я ведь спать сегодня не буду! Я ведь заболеть могу от любопытства!
Тут «голубчики» не выдержали, рассказали всю правду, и вожатая шестого «А» вознегодовала:
— Надежда Сергеевна! Это же... это же вроде браконьерства получается! На улице Калачевой наш отряд собирает, а они... Нет, это настоящее браконьерство!
Надежда Сергеевна подняла голову. Она была меньше ростом, чем вожатая.
— А твой отряд, лапушка, додумался заглянуть в «Хозтовары»?
Ответа не последовало.
Ребята снова пустились в магазин, где осталась примерно половина того, что они уже притащили. Когда мальчишки сгружали очередную добычу, во двор уже вернулось много других сборщиков. Каждый принес килограмма четыре бумаги, самое большее — шесть. Пришла и Зоя вместе с сестрами Мухиными.
— Что, Ладошина, неплохие у Родьки появляются идейки? — весело спросил Веня. Он подвел Зою к учетчику и показал цифры, записанные у того на листке.
Ладошина была потрясена, но ничем этого не выдала.
— А я и так знала, что Маршев что-нибудь придумает,— сказала она и с удовольствием заметила, что веснушки на лице у Роди побледнели, потому что он покраснел.
Глава шестая
К вечеру небо затянуло тучами, наблюдать луну было нельзя. Перед тем как улечься спать, Родя осмотрел три подозрительных окна на фасаде Дворца пионеров. Все окна были темны. Впрочем, нет!
230
Что-то похожее на тонюсенькую и очень бледную полоску света пробивалось в верхней части одного из окон. Родя долго, до ломоты в глазах, приглядывался к ней, но так и не смог понять: показалось
ему это или нет.
Утром (это ведь было воскресенье), сразу после завтрака явился Веня, и приятели решили придать астрономической трубе более достойный вид. Они выкрасили ее черной краской для кожи, которую Родя нашел в хозяйстве отца. Краска была блестящая, на ацетоне. Она быстро высохла, и картонную трубу стало трудно отличить от металлической или пластмассовой. Громоздкую треногу друзья оставили дома.
Часов около двенадцати они вошли во дворец. Несмотря на воскресный день, в вестибюле было тихо. Только откуда-то сверху доносились звуки аккордеона и пение. Напротив входной двери за столиком с телефоном сидела женщина в черном халате. Она спросила:
— Вы в какой кружок, молодые люди?
Родя немного растерялся, но Веня быстро ответил:
— А мы еще ни в какой. Мы только записываться.
— Тогда к дежурному педагогу ступайте. Вон в ту дверь.
Ребята направились было к двери в конце вестибюля, но вдруг
Веня свернул к стене направо.
— Давай-ка посмотрим,— сказал он.
На специальной доске висело два больших разграфленных листа бумаги. На одном сверху было написано: «Расписание занятий кружков и коллективов». Тут значился и театральный коллектив, и хореографический, и струнный, были здесь кружки лепки и рисования, кройки и шитья, и «Умелые руки»... Ребята не дочитали расписание до конца. Оно их не интересовало. Но рядом висел другой лист, над которым красовался заголовок: «Расписание занятий секций общества «Разведчик».
— Во! Гляди! — сказал Веня и стал читать вслух: — «Секция кибернетики»! «Электроники и автоматики»! «Бионики»! Что такое бионика?
Прежде чем ответить, Родя почесал макушку:
— Ну, это примерно так... Вот, например, летучая мышь... Она летает в полной темноте и ни на что не натыкается.
—■ А! Знаю! У них там что-то вроде радиолокатора. Только не радио, а этим... как его... ультразвуком.
— Ну да. А птицы во время перелета еще как-то ориентируются. Вот люди и стараются узнать, как это у них получается, чтобы использовать это дело в технике.
— Так! Едем дальше. «Секция математики». Что же, они сидят да задачки решают? Мало я с ними в школе мучаюсь! «Энтомология», «Геология»... Во! «Секция биохимии. Ведет К. С. Дрогин». «Ка Эс» — Это Куприян Семенович, Купрум Эс, одним словом. Гляди! у него две группы занимаются: одна по воскресеньям и четвергам,
231
а другая по вторникам и субботам. С шести тридцати. А когда кончаются занятия, не указано.
— Значит, он и сегодня вечером будет заниматься.— Родя про- бежал глазами все расписание до конца и сказал: — Слушай- ка! А ведь тут секции астрономии нет. Куда же нам записы- ваться?
Веня некоторое время молчал, глядя на расписание.
Вот это да! — наконец проговорил он.— На Луну летают, на Марс, на Венеру, всякие там автоматические станции... а тут даже астрономии нет.— Он помолчал и повернулся к Роде: — Что будем делать?
Может, давай запишемся к Купруму Эсу, на биохимию? Заодно разведаем, что там у него с этими окнами.
А ты знаешь, с чем ее едят, эту биохимию?
— Н-ну... это, наверное, химия пополам с биологией.
— А точнее?
Химию Родя с Веней еще не проходили, но химическими экспериментами занимались еще в прошлом году, когда учились в четвертом классе в старой школе. Родя нашел учебник химии, по которому учился еще его папа. Веня стащил у отца граммов пятьдесят аккумуляторной кислоты, и они развели ее по всем правилам, как было указано в учебнике: наливали кислоту в воду, а не наоборот. Затем они выковыряли цинк из старых батареек, нарезали его на мелкие кусочки и смешали все это в бутылке с разбавленной кислотой. На горлышко бутылки они нацепили оболочку воздушного шарика, купленного в игрушечном отделе универмага. Цинк очень хорошо реагировал с кислотой, даже слышно было, как шипят пузырьки водорода в бутылке, но шарик надувался медленно. Экспериментаторам надоело ждать, и они решили посмотреть, как водород горит. Пока Родя зажимал ладонью горлышко бутылки, Веня сбегал в кухню и принес спички. Бутылка, к счастью, не разорвалась, но водород так хлопнул, что прибежала Венина мама и тут же выбросила «лабораторию» в мусоропровод.
— А точнее? — повторил вопрос Веня.
— Ну, понимаешь, это смесь биологии и химии.
— Что «химия пополам с биологией», что «смесь биологии и химии» — это же один черт! В общем, ты в этом деле понимаешь не больше меня.
— Ага,— согласился Родя.
— Ну, вот придем мы сейчас к дежурному педагогу, а он спросит: «А что вас, собственно, интересует в этой самой биохимии?» Тогда что?
— Конечно, глупо получается...— Родя подумал.— Слушай! А давай придем и откровенно скажем: «Мы хотим не только мастерить что-нибудь, как в кружке «Умелые руки», а заниматься чем-нибудь более серьезным — что-нибудь исследовать, изобретать... Вот чем вы нам посоветуете заняться?»
232
— Ладно! Давай так. Только на черта мы трубу тогда притащили?
— Ну, пусть видит, что мы не игрушки какие-нибудь умеем делать.
Приятели подошли к указанной им двери и постучали.
— Да! — послышался низкий голос.
Ребята вошли в маленький кабинетик и увидели сидящую за столом пожилую женщину, сухую, со впалыми щеками и с черными, с яркой проседью, волосами.
— Чем могу служить, ребята? — спросила она басом.
Друзья помолчали, оробев. Потом Веня тронул Родю локтем, и тот заговорил, держа трубу двумя руками перед грудью:
— Здравствуйте! Мы хотим записаться в общество «Разведчик».
— Ничего не выйдет, дорогие. В «Разведчик» мы записываем начиная с седьмого класса, а вы, судя по вашему виду, этого возраста еще не достигли.— Она помолчала, глядя на трубу.— Что это v тебя?
— Труба... астрономическая.
— Самодельная,— добавил Веня.— Мы думали, у вас астрономическая секция есть, и хотели в нее записаться, а теперь...— Веня запнулся.
— А теперь? — спросила женщина.
— А теперь мы думали, что вы нам посоветуете, чем бы заняться.
— Ну чем именно?
— Ну, что-нибудь исследовать... или сконструировать что-нибудь... Полезное что-нибудь такое.
— Увы, друзья,— твердо сказала женщина.— В общество «Разведчик» принимаются ребята с более основательными знаниями. Это во-первых. А во-вторых, вот вы даже сами еще не знаете, что хотите исследовать, что конструировать. А ведь к нам идет молодежь с уже определившимися интересами. Так что милости просим годика через два.
Ребята двинулись было к двери, но Родя вдруг остановился.
— Странно! — сказал он, вдруг осмелев.— Дворец пионеров, а занимаются тут все больше комсомольцы.
— Ошибаешься, дорогой: не Дворец пионеров, а Дворец пионеров и школьников. А среди школьников могут быть и десятиклассники. Кроме того, для ребят вашего возраста у нас двадцать два кружка и коллектива. На выбор!
Ребята невнятно пробормотали «До свидания» и ушли. На душе у обоих было кисло.
— По-дурацки все получилось,— сказал Родя.— Надо было сначала придумать что-нибудь определенное — чем хотим заниматься, а тогда уж разговаривать.
— Ага. А то пришли как идиотики,— согласился Веня. Вдруг он
233
повертел головой, оглядываясь, схватил Родю за руку и шепнул: — Ну-ка... пошли!
Родя сразу понял своего друга. Слева от двери вела наверх лестница; техничка, сидевшая в вестибюле, смотрела в сторону, противоположную от ребят, а там, наверху, находилась лаборатория биохимии, которая так их интересовала. Вдруг дверь ее открыта? Вдруг в эту лабораторию можно заглянуть? Ни Родя, ни Веня не думали, зачем им, собственно, туда заглядывать и что они в результате этого заглядывания смогут узнать. Оба шмыгнули к лестнице, на цыпочках поднялись по ней и очутились в широком, уходившем вправо коридоре. Здесь было так же пусто и тихо, как в вестибюле, только сверху по-прежнему доносилась музыка и пение. Прямо напротив лестницы находилась дверь с табличкой: «Лаборатория электроники и автоматики».
— Видал? — тихо сказал Веня.— Это самая крайняя комната. Тут, считай, три окна. А теперь пошли сюда!
Он повел Родю направо и остановился перед следующей дверью, на которой висела табличка: «Лаборатория биохимии». Все точно! Там первое, второе и третье окно, а здесь — четвертое, пятое и шестое.
Родя попробовал открыть дверь, но она была заперта. Больше тут делать было нечего, и друзья направились обратно к лестнице, но, прежде чем свернуть на площадку, Родя остановился. К глухой торцовой стене коридора были прислонены большие щиты. Самый крупный из них был шириной метра в два, а высотой — все два с половиной. Наверху его Родя прочел надпись: «Периодическая
система Менделеева».
Друзья вышли на площадку лестницы. Тут Родя опять остановился и стал смотреть на щиты сбоку. Остановился и Веня. Щиты были прислонены к стене с большим наклоном. Подумав немного, Родя вдруг опустился на четвереньки и уполз в темное пространство между щитами и стеной. Держась ладонями за коленки, Веня с недоумением смотрел вслед своему другу. Секунд через пятнадцать Родя вернулся.
— Видал? — сказал он, отряхивая ладони и брюки.— Там даже сидеть можно, только голова немного упирается.
— Па-а-анятно,— протянул Веня.
— А что именно тебе понятно?
— Ну, те, кто в лабораторию пробирается, могут сначала тут спрятаться, а потом, когда все уйдут...
— Я не об этом думал. Я думал о том, что мы сами здесь можем засаду устроить.
— Гм! Засаду? Так ведь это же на всю ночь! А что родители скажут?
— Что-нибудь придумать для них придется, чтобы не волновались. А может, и вообще не надо будет никакой засады. Понаблю¬
234
даем еще разок за окнами, посмотрим, что скажет завтра Купрум Эс... Может, он уже в милицию заявил, и она сама засаду устроит.
— А ну-ка дай я погляжу,— сказал Веня и, став на карачки, тоже уполз за щиты.
— Ну как? — спросил его Родя, когда он вернулся.
— Нормально. Лишь бы кто-нибудь заглянуть не догадался, когда мы тут будем сидеть. Пошли!
Приятели повернулись, шагнули на площадку да так и застыли. Перед ними на лестнице, несколькими ступеньками ниже, стояла Зойка Ладошина и серьезно смотрела на них своими черными глазами.
Очень долго длилось молчание. У Вени даже челюсть свело от удивления и досады. Наконец, он выдавил с трудом:
— Ты... ты что тут?
— Я подымалась по лестнице, увидела, как Маршев вылезает из-за этих штук, ну... и я пошла уже потише. И я все слышала.
— А ты... ты почему во дворце? — снова спросил Веня, хотя этот вопрос его нисколько не интересовал.
— Я тут в кружке занимаюсь. Художественного слова. У нас сегодня репетиция внеочередная. К Майским праздникам.— Зоя помолчала, посмотрела в упор на Родю, на Веню.— Мальчики, ну а теперь говорите: кто забирается в лабораторию и при чем тут Купрум Эс?
— Мы не имеем права этого сказать,— как можно тверже ответил Родя, а Веня добавил:
— Мы дали слово никому не говорить.
Снизу на лестнице появились сразу три девочки. Они поздоровались с Зоей и прошли на третий этаж. Только они исчезли из виду, как внизу появились еще две девочки. Члены кружка художественного слова начали собираться.
— Ну-ка пойдемте! — сказала Зоя и, взяв ребят за рукава, увела их в коридор второго этажа, где по-прежнему никого не было.— Мальчишки, слушайте! — решительно заговорила она, сдвинув брови.— Куприян Семенович — наш знакомый. Он даже какой-то дальний родственник моей бабушки. И если вы мне ничего не скажете, я ему сама расскажу, как вас тут увидела, как вы ползали вон там, как вы говорили, что к нему в лабораторию кто-то забирается. Понятно теперь?
— Но... Ну, мы же слово дали! — сказал Родя.
— А теперь еще слушайте! Если вы мне расскажете, я вам сама кое-что расскажу. Его родные замечают, что с ним неладное творится. Да и я замечаю, какой он странный стал. Ну?
И ребята не выдержали. Они рассказали Зое про светящиеся щели на окнах и про разговор с Купрумом Эсом.
— Ну, теперь что ты скажешь? — спросил Веня Зою.
235
Зоя подумала, опустив голову, прикусив нижнюю губу. Потом обратилась к Роде:
— Значит, он сначала сказал, что все это глупости и что нехорошо распускать такие слухи. Так?
— Так,— подтвердил Родя.
— А потом он вернулся и стал просить, чтобы вы ничего не говорили?
— Ну да. Чтобы не спугнуть этих... кто в лабораторию забирается.
Зоя снова потупилась, прикусила губу. На этот раз она пребывала в раздумье что-то очень уж долго. Наконец она подняла голову.
— А теперь вы дайте мне слово, что никому не разболтаете про то, что я вам скажу.
— Даю честное слово, что никому не разболтаю,— сказал Родя, и Веня повторил эту фразу.
— Очень может быть...— медленно проговорила Зоя.— Очень может быть, что он сам туда забирается.
Тут Родя посмотрел на Веню, Веня посмотрел на Родю, и каждый невольно отметил, что вид у его друга очень глупый.
— Вот это да-а-а-а!..— протянул Веня.
— А почему... а почему ты так думаешь? — спросил Родя.
— К нам недавно приходила его жена — бабушкина приятельница,— и она говорила, что Купрум Эс как-то странно стал себя вести.
— В каком смысле странно?
— Стал по ночам пропадать. То скажет, что в кино пойдет на последний сеанс, а раньше его в кино было не затащить... То скажет, что у него совещание в районе и вернется в час ночи... А то просто уйдет прогуляться — и опять до часу... И весь дерганый какой-то... и до утра часто не спит...
— Да, Родька! Тут, похоже, что-то есть,— сказал Веня и обратился к Зое: — А что, он всегда был такой... немножко с приветом?
— Бабушка говорит, что он раньше настоящим ученым был. Он в каком-то очень важном институте работал, и у него эти... научные труды есть. Он даже бабушке одну свою книжку когда-то подарил. «Химия человеческого мозга» называется. С надписью.
— А почему он простым учителем стал? — спросил Родя.
— Ну, какие-то неприятности у него в институте получились. Он ушел и стал учителем. Ой, товарищи, мне пора, я на репетицию опаздываю,— сказала Зоя другим тоном и пошла к лестнице.— Мы с вами еще об этом поговорим, только не разболтайте никому,— добавила она, обернувшись.
Друзья тоже направились к выходу. Шли они очень медленно, останавливаясь через каждые два-три шага. Идя по коридору и спускаясь по лестнице, они обсудили такие вопросы.
236
Если в лабораторию в самом деле проникает Купрум Эс, тогда, возможно, он вернулся к научной работе и производит какие-нибудь опыты. Но почему он это делает тайно? На этот вопрос могло быть только два ответа. Первый: опыты Купрума Эса имеют оборонное значение. Второй: Купрум Эс свихнулся и сам затевает что-нибудь недоброе — например, готовит взрывчатку или яд.
Было еще одно предположение, которое высказал Родя: может быть, Зоя ошибается, и в лаборатории орудуют посторонние.
Друзья так обалдели от всех этих предположений, что с удо¬
вольствием выскочили на свежий воздух.
Глава седьмая
Выбежав из дворца, они тут же встретили свою одноклассницу Лялю Данилову, которую в шутку звали Круглой Отличницей, хотя среди ее отметок имелись и четверки. У Ляли была круглая физиономия, круглые очки на курносом носу и волосы все в круглых
завитушках. Только фигурка у нее была тоненькая, стройная. Она
шла во дворец с красной картонной папкой в руке.
Ребята поздоровались с. ней.
— Ты что, занимаешься здесь?
— Нет, я записываться...
— В какой кружок?
— Я не в кружок, я в научное общество.
— Куда-куда? — хором спросили мальчишки.
— В научное общество «Разведчик».
Ребята захохотали.
— Во, Родька, не только мы дураки! — воскликнул Веня и тут же рассказал Ляле, как им предложили явиться «годика через два».
— Я знаю, что записывают с седьмого класса,— спокойно ответила Ляля,— но меня, может быть, примут. В порядке исключения.
Она поднялась по ступенькам дворца и скрылась за дверью, а ребята уставились ей вслед.
— Видал? — сказал Веня.— «В порядке исключения»!
А Родя предложил:
— Давай походим тут, подождем, что у нее получится.
Приятели походили в небольшом парке перед дворцом минут пять
или семь и снова увидели Лялю с ее красной папкой. Губы ее были сильно втянуты в рот.
— Что, не приняли? — догадался Веня.
— Нет,— коротко ответила Круглая Отличница и прошла мимо ребят. Но те двинулись за ней.
— Слушай,— сказал Родя,— а почему ты решила, что тебе сделают исключение?
237
— Мне старший брат сказал, что, может быть, сделают. Он говорит, что моя работа очень серьезная. Он сам член общества, только в другой секции.
— А что у тебя за работа? — спросил Веня.
— Я пустельгу прошлым летом изучала.
— Кого?
— Пустельгу. Это маленький сокол такой.
— Постой! А как ты его изучала? Расскажи подробней,— попросил Родя.
— Я летом жила у дяди в охотничьем хозяйстве, и он мне сказал, что пустельгу многие считают вредным хищником потому, что она уничтожает мелких полезных птиц. Охотники ее за это стреляют. А дядя много лет в лесу живет и ни разу не видел, чтобы пустельга охотилась на птиц. Вот он и посоветовал мне понаблюдать за пустельгой.
Ребят все это заинтересовало, и Круглая Отличница рассказала, как она вела свои наблюдения.
Дядя показал ей несколько сосен, на которых были гнезда пустельги. Самки в это время сидели на яйцах, а самцы занимались охотой. Дядя же научил Лялю самой простой маскировке: подобравшись поближе к сосне с гнездом, она связывала верхушки двух молодых деревец, росших друг возле друга, и получалось что-то вроде шалашика. Здесь Ляля затаивалась и смотрела в бинокль на птиц.
— Подолгу сидела? — спросил Веня.
— Больше двух часов не выдерживала. Комары ели. У дяди от них мази не было, так что я вся распухшая ходила.
— Все-таки здорово! — сказал Родя.— Ну, и что же ты установила?
— Что пустельга, наоборот, даже полезная птица: она мышей уничтожает и крупных насекомых, жуков всяких... Правда, ящерицы ей тоже попадаются, но мышей в три раза больше.
— Ты, значит, наблюдала в бинокль, какую самец приносит добычу?
— Не только в бинокль. Я еще погадки изучала.
— Погадки? А это что такое?
— Ну, то, что желудок пустельги не переваривает: шкурки мышей, кости, всякие жесткие остатки насекомых... Пустельга их отрыгивает, и они падают на землю.
— Бе-е-е-е! — брезгливо проблеял Веня.— И ты в этом копалась! И тебе не противно было?
— Сначала противно... Но ведь люди и в трупах копаются для изучения медицины. Так вот, я ни разу не видела, чтобы пустельга какую-нибудь птичку принесла, и в погадках никаких остатков птиц не нашла.
— Вень! — сказал Родя.— Ну, может быть, мы с тобой недостойны того, чтобы нас приняли: построили трубу, а что делать дальше
238
не знаем. Но ведь Круглая настоящее исследование провела, да еще когда была в четвертом классе.
— Между прочим, мою заметку о пустельге по областному радио передавали,— вставила Ляля.— В детской передаче. Я ее еще осенью написала.
— Венька, слышал?.. Ляля, так что же тебе та тетка сказала? Ну,
дежурный педагог?
— Сказала, что у меня образование недостаточное, что мне еще
рано.
— По-моему, это безобразие,— сказал Родя.— Ты чем в «Разведчике» хотела заниматься?
— Продолжать птиц изучать. В «Разведчике» секция орнитологов
есть.
— А теперь что будешь делать?
— Не знаю. К дяде мы в этом году не поедем, а брат мой не может руководить: он орнитологией не интересуется.
— Ну вот! У тебя призвание, а ты больше года теряй!
— И я не одна такая,— заметила Круглая Отличница. Она рассказала, что к ее брату, который занимается в технике электроники и автоматики, часто приходят за советом мальчишки и даже девчонки, увлеченные техникой. Ляля назвала имена этих ребят, и среди них друзья услышали имя Валерки Иванова, того самого, с которым они собирали бумажную тару.
— Во, Родька! — удивился Веня.— Год проучились и не знаем, что он тоже такими делами занимается. А что он делает, этот Валерка?
— Он прибор такой построил, чтобы свои телефонные разговоры на магнитофон записывать.
И у Маршевых, и у Рудаковых магнитофоны были, поэтому друзья спросили почти одновременно:
— А как он его сделал?
— Я не могу объяснить. Хотите, пойдемте к нам, и Валерка покажет свое приспособление. Он в нашем доме живет.
Ребята согласились, и скоро они стояли перед дверью Лялиной квартиры. Круглая Отличница открыла ее своим ключом.
— Гена, ты где? — спросила она.
— В кухне,— послышался ответ.
В этот момент раздался негромкий треск, лампочка в передней погасла. Тут же из кухни выскочил Лялин брат и, не обращая внимания на ребят, пробежал в комнату. Оттуда донесся его сердитый голос:
— Ты что наделал? Ты зачем пробки пережег? Ты зачем пинцет в розетку засунул?
— Пойдемте! — спокойно пригласила Ляля, и все трое тоже вошли в комнату.
Там, расставив ноги, стоял невысокого роста коренастый парень в пестром свитере и потрепанных черных брюках. Родя и Веня видели
239
его в школе. Скуластый, с волосами всклокоченными, но не курчавыми, как у Ляли, он мало походил на сестру. Перед ним, сунув указательный палец в рот, застыл мальчонка лет восьми.
— Я тебе что всегда говорю? — продолжал Гена.— Смотреть смотри, а трогать ничего не смей! Зачем сунул в розетку пинцет? Отвечай, ну!
— Так,— ответил мальчишка, не вынимая пальца изо рта.
— А вот за зто иди теперь домой! Иди, иди! Уматывай! И вообще тебе обедать пора.
Взяв малыша за плечи, Гена выпроводил его из квартиры, затем вернулся в комнату.
— Привет! Садитесь,— хмуро сказал он ребятам и обратился к сестре: — Ну как?
— Никак. До седьмого класса.
— Бюрократы! Что она тебе сказала?
Ляля передала брату разговор с дежурным педагогом.
— Она хоть работу посмотрела?
— Так... полистала...
— Еще лучше! Пожалуй, надо было сразу к руководителю секции идти, а не к дежурному педагогу.
— Я спросила ее об этом, а она говорит — безнадежно: у них правила строгие.
Приятели слушали этот разговор и оглядывались.
Как видно, брат и сестра жили в этой комнате вместе. Тут были два дивана-кровати, стоящие углом друг к другу, шкаф и два стола с висящими над ними книжными полками. Один стол был маленький — новый, полированный, а другой побольше — обшарпанный, покрытый сверху листом пластмассы. На нем лежали инструменты и куски разноцветной проволоки, а сбоку были прикреплены небольшие тиски.
Ляля представила Веню и Родю и объяснила, зачем она их привела.
— Так ты позвони Валерке, и валите к нему. Зачем ему таскать магнитофон туда-сюда!
Ляля ушла звонить в другую комнату. Гена посмотрел на Родю:
— Это ты вчера придумал насчет макулатуры?
— Ага! Это он! — с гордостью ответил Веня.
— Башка работает.— Гена взял у Вени астрономическую трубу.— Что это у тебя? — Получив ответ, он навел трубу на окно: — Резкость неважная.
— А надо покрутить окуляр в одну сторону или в другую,— сказал Веня.
Гена покрутил.
— Теперь лучше. Только поле зрения маленькое.— Он стал разглядывать трубочку окуляра.— Резьба остроумно сделана.
На маленькую трубочку окуляра Родя намотал виток к витку
240
голую проволоку, а на краю большого тубуса укрепил два зубчика из жести. Когда маленький тубус поворачивали, зубчики скользили между витками проволоки, и окуляр вдвигался в трубу или выдвигался из нее.
Вернулась Ляля и сообщила:
— Валерка сам придет. Он хочет свое усовершенствование тебе показать.
Пока ждали Валерку, разговор снова зашел о «Разведчике», Ляля сказала Гене, что Родю с Веней не приняли туда.
— Ну, нас-то, может быть, правильно не приняли,— скромно заметил Родя.— Мы еще не знаем, что хотим исследовать.
Сунув руки в карманы брюк, Гена ходил по комнате мелкими неслышными шажками. Вдруг он остановился.
— Вы бы, знаете, какое исследование провели? Социологическое!
— Социологическое?
— Ага. Проведите опрос четвертых, пятых, шестых классов и выясните, кто чем увлекается... Сколько среди вас конструкторов да изобретателей, сколько исследованиями всякими занимаются, вроде Ляльки...
В этот момент раздался звонок, Ляля побежала в переднюю и вернулась с Валеркой. Валерка был наполовину казах, но по виду его можно было принять за казаха чистокровного. Сейчас его смуглое лицо сияло улыбкой, а раскосые глаза так сузились, что их почти не было видно. В левой руке он нес маленький кассетный магнитофон, на пальце правой руки у него был наперсток, а на этом наперстке лежал короткий цилиндрик сантиметра два с половиной в диаметре. От цилиндрика свисал провод в пластмассовой оболочке, а на конце провода болтался какой-то блестящий наконечник.
— Здрасте! — сказал Валерка всем и обратился к Гене, покачивая цилиндриком на указательном пальце: — Ну как, товарищ Данилов?
Гена подошел, осмотрел наперсток и цилиндрик.
— Во!.. Это дело! Все гениальные идеи просты,— сказал он и добавил, кивнув на ребят: — Объясни вот людям назначение прибора.
Оказывается, Валеркин отец был журналист. Ему часто приходилось получать всякие сведения по телефону, а записывать все от руки было делом нелегким и долгим, поэтому он постарался приспособить для этого магнитофон.
— Папа и так микрофон к трубке приложит, и эдак,— улыбаясь, рассказывал Валерка,— ничего не получалось: или магнитофон еле- еле записывает, или он сам ничего не слышит. Ну вот, значит, отец уехал в командировку, а я к Гене... И он мне посоветовал.
— А что посоветовал? — спросил Родя.
— Электромагнитную индукцию использовать,— сказал Гена.— Я где-то читал, что на этом принципе такие приборы строятся, а как
241
именно их делать, не знал, так что Валерке пришлось поэкспериментировать.
Родя и Веня слышали выражение «электромагнитная индукция», но что это такое, толком не знали, а спрашивать им не хотелось. Все прошли в другую комнату, и Валерка стал демонстрировать свой прибор. Он сел возле круглого столика, на котором стоял телефон, поставил на него свой магнитофон и взял левой рукой блестящий наконечник на конце провода.
— Итак, уважаемые граждане, начинаем испытания. В левой руке у меня штекер, и я его тыкаю в гнездо для микрофона.
— Вставляю, а не тыкаю,— поправил Гена.
— Ага. Вставляю. Теперь снимаю трубку, а эту штучку прикладываю вот так.— Валерка взял правой рукой трубку, а цилиндрик на указательном пальце прижал к ее верхней части с тыльной стороны.— Теперь, значит, набираем номер и ведем разговор.
Трубка тихонько загудела, потом невнятно вякнула.
— Бабушка? Алло, бабушка! — заговорил Валерка.— Знаешь, что я тебе хотел сказать? Я тебе вот что хочу сказать...
Как видно, Валерка еще не придумал, о чем говорить с бабушкой, зато у бабушки тема для разговора сразу нашлась. Трубка завякала быстро и довольно энергично, и у конструктора лицо стало серьезным.
— А что такое? — спросил он.
На этот раз трубка звучала секунд пятнадцать, после чего Валерка пробормотал:
— Не знаю... Вчера у Соколовых чай с вареньем пили... Может быть...
Бабушка снова что-то заговорила, и говорила она долго, а Валеркино лицо все больше вытягивалось.
— Ладно, бабушка... Учту, бабушка,— наконец сказал он и повесил трубку.
— Попало за что-то? — спросил Гена.
— Ага. Бранится.
— Ну, все-таки дай прослушать.
Валерка сел на диван, поставив магнитофон на колени, нажал клавиш обратной перемотки, потом — воспроизведения, и все услышали разговор:
«Бабушка? Алло, бабушка! Знаешь, что я хотел тебе сказать? Я тебе вот что хочу сказать...»
«Погоди-ка, вот! Сначала я тебе кое-что скажу: где это изгваздал так новый костюм? Пакостный ты мальчишка!»
«Не знаю... Вчера у Соколовых чай- с вареньем пили... Может быть...»
«Весь пиджак, все брюки этим проклятым вареньем заляпаны! Не умеешь есть культурно за столом, так тебя и в гости не надо брать. Ведь только месяц, как купили костюм, а он его уже весь изгадил! А бабушка в чистку его таскай! Как будто у нее других дел мало!
242
Нет, миленок мой, пусть твоя мама его в чистку таскает да в очереди стоит. Не умеет воспитывать сына, вот пусть и таскает, пусть сама и мучается! Чего ж бабушка за нее будет му...»
Разговор, конечно, был малоприятный, но запись получилась такой отчетливой и громкой, что Валерка с каждой секундой веселел, и к концу его он по-прежнему улыбался, и узкие глаза его превратились в темные черточки.
— Ну, все! — сказал Гена.— Что и требовалось доказать! А с наперстком гениально придумано.
Роде и Вене, конечно, захотелось подробнее узнать, как работает прибор, и Гена попытался им объяснить. Оказалось, что цилиндрик на указательном пальце Валерки представлял собой электромагнит, вынутый из старого реле. Обмотка магнита в телефонной трубке, который заставляет колебаться мембрану, излучает слабые электромагнитные волны, а те наводят ток звуковой частоты в проволочных витках на пальце Валерки. Гена дал Иванову несколько электромагнитов от разных реле с разными количествами витков проволоки — от двухсот до нескольких тысяч, и Валерка долго возился, испытывая, при каком из них запись получается громче и чище. А потом возникла проблема, которая оказалась не менее сложной, чем возня с магнитами: как закрепить прибор на телефонной трубке?
Сначала Валерка хотел приделать к телефонной трубке крючок, чтобы вешать на него свой прибор, но домашние не разрешили портить трубку. Он придумывал всякие зажимы да ручки особой формы, но все это было громоздко и неудобно. Вдруг Валерка увидел, как мама шьет, надев на палец наперсток, и задача была решена.
Опять раздался звонок, и в комнате появился высоченный парень. Это был Юра Новожилов, капитан баскетбольной команды школы.
— Привет! — бросил он и, взглянув на Родю с Веней, спросил: — Новые подшефные?
— Пока нет, слава богу,— ответил Гена и обратился к мальчишкам: — Ну, а теперь уматывайте: мы заниматься будем.
Ребята двинулись было к двери, но тут Родя приостановился и спросил:
— Ген!.. Вот ты говорил про социологическое обследование... Зачем оно нужно?
— Какое обследование? — переспросил Юра.
— Социологическое. Садись! Сейчас объясню.
Юра сел, а Гена обратился к ребятам:
— Ну, кто знает: какая разница между творческим трудом и обыкновенным?
— Творческий — это когда что-то новое придумывают,— сказал Веня.
— Ну, правильно. Или исследуют новое.— Гена повернулся к Юре: — Теперь давай посмотрим, где таким, как они, применять свою
243
творческую энергию? Дворец пионеров возьмем... Кружок рисования и лепки — творчество?
— Творчество,— ответил Юра.— Театральный кружок — тоже творчество, хореографический — тоже творчество...
— Ну, а я про что? — перебил его Гена.— В области искусства тут порядок, а в области науки и техники что для них во дворце? Кружок «Умелые руки»? Там столярничать учат да лобзиком пилить. Кружок юных авиамоделистов? Там самые простенькие схемки собирают по готовым чертежам... И все! Что-то маловато для века научно-технической революции.
— Так ведь они и сами того... Маловаты еще,— усмехнулся Юра.
— Маловаты? А ты смотри, что получается. Оптику в самых старших классах проходят, а вот эти двое уже подзорную трубу построили. Валерка электричества не проходил, а со своим прибором управился. А ведь, кроме них, ко мне еще человек пять ходят... Юрка Николаев из шестого «А» электронную черепаху делает, Ира Малышева — с транзисторным приемником... А сколько еще таких, о которых мы не знаем! Каждый у себя дома ковыряется... Ну, помогают им отцы, братья... а организованно... «Жди до седьмого класса» — и дело с концом! Нет, здесь что-то не так!
— Тут это... ну... вроде дискриминации получается,— сказал Родя.
Оба старшеклассника рассмеялись.
— А что! Правильно, дискриминация! — сказал Гена.— Вот вы, значит, давайте так: заведите на каждый класс тетрадку и выясните, кто из ребят чем увлекается. Кто — техническим творчеством, а кто — научно-исследовательской деятельностью. Понятно?
— А дальше что? — спросил Юра.
— А дальше, с конкретными цифрами, можно будет разговор подымать.
— Чтобы их в «Разведчик» приняли?
— Н-ну... чтобы для них филиал при «Разведчике» организовали.
— Думаешь, получится?
— Спорим, что получится, если цифры будут убедительные!
— А как ты этого добьешься?
— А там уж посмотрим.
Капитан баскетбольной команды улыбнулся, глядя на Гену:
— Слушай! Почему тебе в пионервожатые не пойти? Ты же прирожденный вожатый! К тебе вот такие так и липнут, и ты с ними с удовольствием возишься...
— А мне вчера на комитете это самое и предложили. И как раз вот к ним,— Гена кивнул на ребят.— Вместо Дины Коваль. Надежда Сергеевна предложила.
— Ну, а ты?
244
— Сказал, что подумаю. Ведь это же на будущий год, а в десятом классе знаешь какая нагрузочка! — Гена повернулся к мальчишкам: — Значит, понятна задача? А теперь — привет!
Глава восьмая
На следующий день Зоя и ее «активисты» шли в школу в прекрасном настроении: ведь отряд вышел на первое место по сбору макулатуры! На радостях ребята сообщили Зое, что они позавчера говорили с одноклассниками о предстоящих перевыборах и что многие согласны вновь избрать ее председателем. Зое захотелось немножко поломаться.
— Вот увидите, меня все равно не изберут. Это они только так говорят...— сказала она.— Вы даже не знаете, как меня многие ненавидят!
Это привело к тому, что Зоины друзья еще раз посовещались тайком от нее и решили усилить агитационную работу. Один только молчаливый Жора Банкин подумал, что они, пожалуй, уже в субботу успели надоесть ребятам, но вслух он этого не сказал.
Совещались и наши «социологи»: Ляля, Родя, Веня и Валерка. Было решено, что мальчики сегодня же займутся опросом пятого «Б», а Круглая Отличница обойдет знакомых ей конструкторов в параллельных классах и в шестых и привлечет их к «социологическому исследованию».
Едва Леша Павлов вышел после урока в коридор, как перед ним предстал Шурик Лопухов:
— Павлов, Павлов! Так, значит, ты будешь голосовать за Ладо- шину? Значит, проголосуем дружно за Ладошину, проголосуем?
— Отойди, а то как ляпну сейчас!..
Толстый редактор заморгал и попятился. Он не понял, почему вдруг рассвирепел силач.
Затем к Павлову подошел Родя. У него в руках была чистая тетрадка и шариковая ручка.
— Так, Лешка, с тебя начнем. Чем ты увлекаешься дома?
— А тебе зачем?
— Социологическое исследование проводим.
— Что?
— Ну, опрос населения. Не населения, а учеников пятых классов.
— А кто вам поручил?
— Никто. Просто один человек посоветовал.
— А зачем?
— Ну, ты сначала ответь на мой вопрос, а потом я все объясню. Значит, чем ты занимаешься дома?
— Ну, летом — футбол во дворе, зимой — хоккей... Книжки читаю.
245
— А тебе никогда не хотелось что-нибудь такое исследовать или изобрести?
Павлов подумал.
— Да вроде... вроде нет. Ну, а теперь говори: зачем тебе это нужно?
— Сейчас.
Родя положил тетрадь на подоконник. Наверху страницы он написал: «5-й кл. «Б», а пониже: «Алексей Павлов. Летом — футбол, зимой — хоккей. Чтение».
Разговор с Павловым занял всю перемену. Роде пришлось объяснить, зачем они ищут исследователей да изобретателей, сказать, что такие имеются даже в их классе, но о них мало кто знает, привести в качестве примеров Лялю и Валерку. Услышав о пустельге, силач тут же стал расспрашивать, как Ляля изучала эту птицу. Стоило Роде упомянуть о приборе Валеры Иванова, и Леша пожелал узнать подробней, как он устроен.
Леше повезло, что его не вызвала математичка: на втором уроке он был рассеян. Он вспоминал запись в тетрадке у Роди: «Летом — футбол, зимой — хоккей. Чтение». И ему было как-то досадно, что запись такая куцая.
А Родя скоро понял, что социологический опрос — дело трудоемкое. Каждый опрашиваемый, подобно Павлову* хотел знать, зачем это делается и кто из ребят чем занимается. Чтобы получить ответ на один вопрос, приходилось отвечать на десять, так что в течение дня Родя, кроме Павлова, успел опросить только четверых.
Две девочки, к которым он подошел после Леши, ни наукой, ни техникой не увлекались. Одна занималась в танцевальном коллективе Дворца пионеров, а другая — художественной вышивкой под руководством тети. Зато после них Роде попались сразу два биолога. Первой была Маша Салтыкова — полная, розовощекая девочка с очень толстой русой косой.
— Я провожу опыты с нашим котом Фомой. Я хочу установить, есть ли у кошек внутренние часы,— сказала она.
— Что? — не понял Родя.
— Внутренние часы. Может ли кошка чувствовать время.
— Ну-ка расскажи подробней!
— Ну, если подробней, так все это началось с петуха. Я жила в деревне у бабушки, а у нее был петух... И вот мне захотелось узнать, правда ли что петухи кричат в определенное время — например, в полночь. Я спала одна в маленькой комнатушке, и там стоял будильник. Я, значит, решила не спать, пока петух не закукарекает... Трудно, конечно, было: свет не зажжешь — бабушка заругается... Стрелки часов еще разглядеть можно, а читать нельзя. Я первую ночь выдержала, он в пять минут первого закричал, а на другую ночь
246
заснула. Бабушка рано утром входит, а я положила голову на стол, сижу и сплю.
— А дальше что?
— А дальше бабушка стала расспрашивать, я сдуру объяснила ей, в чем дело, и она забрала будильник.
— Ас котом?
— Ас котом, значит, так: я решила узнать, как он чувствует, который час. Я сказала маме, что буду кормить его сама, а блюдце с едой начала ставить не на пол, а на свой столик, чтобы его с пола не было видно. Значит, чтобы поесть, Фома должен вспрыгнуть сначала на стул, а потом на стол. Еду я накладываю ровно д восемь утра, в три часа дня и в восемь вечера. Он несколько раз вспрыгнул зря на стол, а потом перестал.
— Стал прыгать вовремя?
— Да нет, просто стал наблюдать за мной. Только я встану утром — он за мной повсюду ходит да ждет, когда я положу еду... Только приду из школы — он опять начинает следить. У меня что-то не продумано еще в этой... в методике.
— Я бы занялся одним исследованием,— сказал Маршеву Дима Тарусов,— да не знаю, как к нему приступить.
— А что за исследование?
— Летом я сделал такое наблюдение: насекомые, которые залетают в комнату, тычутся в потолок.
— Как это?
— Ну вот, положим, залетает ко мне в комнату шмель (мы рядом с парком живем), ему, конечно, хочется выбраться из комнаты, и он начинает летать туда-сюда. На стены он не натыкается: подлетит к ней и сворачивает. На оконные стекла натыкается, но это понятно: стекла прозрачные. Но почему потолка они не могут разглядеть, никак не пойму. Наткнется на потолок, жужжит и елозит по нему спиной или головой... Как они не обдерутся только!
— Я что-то этого не замечал,— сказал Родя.
— А я наблюдал шмеля, стрекозу и муху, вот такую здоровенную. И что интересно: простые, комнатные мухи — они видят потолок: подлетят и ходят по нему кверху лапами. А те насекомые, которые на свежем воздухе живут, никак не могут понять, что наверху камень, а не чистое небо. А что же у них глаза? Ведь я читал, что у них глаза чуть ли не во все стороны видят.
Валерка за этот день выявил двух конструкторов, а у Вени произошел интересный разговор с Жорой Банкиным. Тут, как и в случае с Валеркой, тоже оказался замешан магнитофон. Жора подошел к Вене и тихо заговорил, переминаясь с ноги на ногу:
— Рудаков, ты извини меня, может быть, тебя уже спрашивали... Тут вот какое дело: ты будешь за Ладошину голосовать?
— Буду,— ответил Веня и в свою очередь спросил, чем Жора занимается помимо учебы.
— Вообще... я вообще фольклор собираю.
247
Веня сначала не понял, но потом разобрался, в чем дело. Как и Маша Салтыкова, Жора ездит отдыхать к родственникам в деревню. Там живут старик и старуха, каждому под девяносто лет, которые знают множество старинных сказок, песен и частушек. Когда Банкин поехал в деревню на зимние каникулы, папа дал ему дешевый батарейный магнитофон, и Жора записал на пленку, что рассказывали или напевали старик со старухой, а по возвращении домой он в течение нескольких недель слово в слово переписывал все это на бумагу.
Так трудились наши «социологи» почти весь учебный день, а в конце этого дня произошло следущее.
...Последним уроком была история — любимый предмет Лешки Павлова. Леша с увлечением слушал рассказ учительницы о водопроводе, сооруженном рабами Древнего Рима, о построенных ими дорогах, которыми можно пользоваться и в наши дни. Вдруг что-то
слегка царапнуло Лешу под затылок. Он пошарил за воротником и извлек оттуда сложенную в несколько раз маленькую бумажку.
— Хи-хи! — тоненько послышалось сзади.
Силач обернулся. За его спиной сидела Нюся Касаткина. Прикрыв ладошкой нос и рот, она улыбалась прищуренными глазами. Леша развернул записку и прочитал:
«Павлов! Голосуй за Зою Ладошину!!!»
Павлов показал Касаткиной кулак и снова стал слушать учительницу. Еще через несколько минут что-то задело его за ухо, и вторая записка шлепнулась к нему на стол. В ней было написано то же самое, что и в первой, только восклицательных знаков было не три, а пять. Павлов снова обернулся и прошептал:
— Не мешай слушать! Убью!
Но Нюся знала, что силач никогда не трогает не только девчонок, но даже мальчишек, если они явно слабее его. Записки продолжали падать то на стол, то на пол рядом с ним, причем Нюся бросала их так, что каждая задевала его голову.
Но вот кончился урок. Учительница вышла из кабинета. Ребята стали укладывать учебники, застегивать портфели. И тут вдруг Павлов вскочил, вырвал у Нюси «Историю древнего мира» и принялся
248
шлепать ею Касаткину по темени, по макушке, по затылку, по плечам...
— Павлов! Как не стыдно! — закричала Зоя.
— Лешка, брось! Лешка, ты чокнулся, да? — послышались голоса мальчишек.
Но Лешка не слышал. Ухватив Нюсю за перевязанную лентой метелочку волос, он вытащил ее из-за стола, поставил на четвереньки и закричал:
— Собирай, дура паршивая! Собирай, что насорила! Собирай, ну! К Лешке бросились Родя, Веня и другие ребята. Они уцепились
за Павлова, попытались оттащить его от Нюси:
— Лешка, брось!
— Лешка, отпусти ее!
Павлов сделал резкое движение, и мальчишки отлетели в стороны.
— Собирай, гада! Собирай, говорю!
Заливаясь слезами, Нюся собрала с пола записки, и Павлов за ту же метелочку поднял ее на ноги.
— Лешка, что с тобой? — спросил Родя.
— С кем связался, Павлов! С кем связался! С кем связался! — повторяла одна из девочек.
— Довели, вот и связался,— сказал, тяжело дыша, Павлов. Он быстро прошел к учительскому столу. Лицо его было красное, маленькие голубые глаза сверкали.— Они мне все уши прожужжали, чтобы я голосовал за Ладошину. Сначала Барбарисова жужжала, потом этот, потом вон тот, потом эти две, а эта вот... эта... она мне урок истории сорвала, весь урок записочки кидала... агитационные.
Павлов на некоторое время умолк, чтобы перевести дух, и тут Круглая Отличница вставила:
— Между прочим, они мне тоже надоели. Все время пристают с этой Ладошиной.
— И мне! И ко мне приставали,— послышались голоса.
— Подождите, я еще не кончил! — сказал Леша.— И вот я думаю: а на фига нам эта Ладошина? Сборы у нас — со скуки умрешь... И вообще, какая у нас пионерская работа? Вожатая носа не кажет,
249
все Зойке доверила, а Зойка... ну, как это? Ну, как это говорят? — Павлов стал щелкать пальцами, подыскивая нужное выражение.
— Мероприятия проводит,— подсказала Маша Салтыкова.
— Для галочки,— добавила Круглая Отличница.
— Во? — подхватил Павлов.— Для галочки! Только вид показывают, что работа кипит.
Несколько человек одобрительно загалдели, а щуплый Оська Грибов вдруг закричал:
— Доло-о-ой! — Умом он не отличался, а пошуметь любил.
— Да тише вы! Ну, дайте договорить! — крикнул Павлов.— Смотрите, что получается. Благодаря кому мы на первом месте по макулатуре? Благодаря Родьке Маршеву! А кому от этого слава? Зойке, председательнице! Так почему же нам Родьку председателем не выбрать?
Снова послышался одобрительный гул.
— Ура-а-а! Дае-е-ешь! — закричал теперь Оська.
И тут заговорила Зоя Ладошина. Заговорила, бледная, вертя во все стороны головой. Вернее, не заговорила, а почти закричала:
— Слушайте! Ну, слушайте! Ну, дайте же сказать! (Класс немножко утих.) Спросите Мухиных, спросите Барбарисову, Касаткину вот спросите... Я еще вчера говорила, что не хочу больше быть председателем. И я... я очень согласна, что нужно выбрать Маршева. Я сама за него буду голосовать. Двумя руками! Вот!.. А мне... мне это председательство вот так надоело! Вот так! Вот так! — Зоя провела ребром ладони по горлу и бросилась к выходу.
— Я не могу быть председателем,— быстро сказал Родя.— У меня другая работа есть.
Он сказал это больше для Зои, ему было неловко перед ней, но та уже хлопнула дверью.
— Верно! — согласился Дима Тарусов.— Он социологический опрос проводит.
— Какой опрос? Что за опрос? — послышались голоса, но тут вернулась учительница и попросила освободить кабинет.
Глава девятая
Весь день Роде было не по себе. Он понимал, как оскорблена Зойка, и чувствовал себя виноватым перед ней, словно это не Павлов, а он сам предложил отстранить Ладошину от председательства. Однако вечером настроение у него исправилось. К Вениным родителям нагрянуло целое семейство родственников из другого города. Они остались ночевать, а так как места в квартире не хватало, Веню «подкинули» на ночь к Маршевым. Он должен был спать в Родиной комнате на раскладушке.
250
В четверть одиннадцатого вечера Родина мама тихонько приоткрыла дверь в комнату сына. Свет был потушен. Ребята лежали под одеялом и тихонько посапывали. Татьяна Игнатьевна закрыла дверь и подумала: как хорошо, что ее сын так привык вовремя ложиться спать, и как хорошо, что Родин друг похож в этом отношении на него. Она не знала, что полчаса тому назад Родя предупредил Веню:
— Мама всегда заглядывает ко мне минут через пятнадцать после того, как я лягу. Посмотрит, увидит, что все в порядке, и уже больше не заходит.
Когда Татьяна Игнатьевна закрыла дверь, друзья вылезли из-под одеял и оделись. Родя бесшумно открыл окно. Подзорная труба была заранее установлена на треноге, а луна уже выползла из-за большого дома.
Друзья принялись за наблюдения. Они смотрели в трубу по очереди, сверялись с картой, называли «моря» и «океаны»... А минут через десять Родя тихо, но с сердцем сказал:
— Ну, а что дальше? Что мы с этой штуковиной нового откроем? Даже больших кратеров не видно, которые на этой карте есть.
— Конечно, был бы настоящий телескоп, может, чего-нибудь и открыли бы,— неуверенно пробормотал Веня.
— Да брось ты, пожалуйста! Что мы можем открыть, если мы даже не знаем, что уже открыто, а что — нет! А потом, автоматические станции: они ведь лучше всякого астронома обследовали Луну. Даже противоположную сторону засняли.
На этом наблюдения и кончились. Родя закрыл окно, приятели снова улеглись. Помолчав, Родя заговорил вполголоса:
— Все-таки знаешь, о чем я думаю? Мне кажется, у нас нет задатков, чтобы стать учеными. Ну ладно: Круглую Отличницу дядя надоумил пустельгой заняться, Валерку с его прибором — Гена... Но ведь Салтыкова-то сама придумала внутренние часы у животных исследовать! А Тарусов сам заинтересовался, почему насекомые потолка не видят. Вот у них, по-моему, есть самое главное качество, чтобы стать исследователями. А у нас... сомневаюсь!
— Ну что ты волнуешься! Тебе сколько лет? Двенадцать! Ну, Салтыкова да Тарусов чуть пораньше нашли, чем заниматься. А ты что думаешь, все настоящие ученые с пеленок исследованиями занимаются?
Помолчали. Минуты через две Родя громко прошептал:
— Не спишь?
— Нет.
— Интересно все-таки, почему Купрум Эс был ученым, а стал обыкновенным преподавателем?
— Чего-нибудь не получилось у него с наукой.
— Как же не получилось, если он даже книжки писал? Помнишь? «Химия человеческого мозга»!
251
Веня не ответил. Он вдруг сбросил одеяло и сел на своей раскладушке.
— Ты что? — спросил Родя.
— Мы про окна-то забыли во дворце. Не мешает все-таки взглянуть.
Веня подошел к трубе, навел ее сквозь оконное стекло на Дворец пионеров и стал смотреть.
— В этом темно,— прошептал он.— В этом тоже ничего... Тут... Родька! Ой!!! — вскрикнул он почти полным голосом, отскочил от трубы, словно это была не труба, а гадюка, но тут же снова приник к окуляру и секунды через две снова отскочил.— Родька! Скорее! Человек! Там человек! Человек!
В следующее мгновение Родя был у трубы. Он еще не вооруженным глазом заметил, как на темном фасаде дворца ярко светится одно окно, а прильнув к окуляру, увидел, как в этом окне, очевидно стоя на подоконнике, балансируя, раскачиваясь, судорожно дергается темная человеческая фигура, держа край черного занавеса в руке. Прошло несколько секунд... Человек подтянул угол занавеса к верхнему углу окна, и оно снова стало черным. Только с правой стороны осталась светлая щель. А еще через несколько секунд и эта щель исчезла.
Некоторое время приятели молчали, глядя в лунном свете друг на друга.
— Вот это да-а!..— прошептал Веня.
— Ты видел, как он суетился? Видел, как он спешил?
— Ага. Перепугался.— Веня подошел к трубе и тщательно осмотрел все три окна.— Нигде ни щелочки! — сказал он, выпрямляясь.
— Теперь тебе ясно, кто там орудует? — спросил Родя.
— Ясно. Я не дурее тебя.
— Ну, кто?
— Купрум Эс, конечно. Зойка права. Пока мы с ним не поговорили, у него почти во всех окнах щели светились. А как поговорили — все стал законопачивать.
Друзья заснули только в третьем часу. Утром Родина мама с трудом разбудила их, но как только они вспомнили о человеке в окне, им сразу расхотелось спать.
Долго не спала в ту ночь и Зоя.
Выбежав из школы, она свернула не направо, как обычно, а налево и пошла домой, делая крюк, чтобы «активисты» не нагнали ее да не стали выражать свое сочувствие. Как ни старалась Зоя казаться спокойной, бабушка, открывая ей дверь, сразу догадалась, что что-то неладно.
— Неприятности какие-нибудь?
253
— Никаких неприятностей,— буркнула Зоя.— Устала просто.
С отвращением она кое-как одолела обед, потом легла на диван
с книжкой. Когда бабушка входила в комнату, Зоя делала вид, что читает.
Зазвонил телефон.
— Бабушка, меня нет дома! — крикнула Зоя.— Скажи, что не знаешь, куда я ушла.
Бабушка поговорила по телефону и заглянула к Зое:
— Соня Барбарисова звонила.
— Ну ее!
Вернулась с работы мама. Как видно, бабушка сказала ей, что Зоя чем-то огорчена, и она пришла к дочке, села рядом на край дивана.
— Ну что с тобой, мое солнышко? Ну поделись со своей мамой.
— Ой, да ничего со мной! Устала просто!
Когда приехал с завода папа, Зоя уже сидела за уроками. Она знала, что мама с бабушкой обязательно расскажут папе о Зоином плохом настроении, и ждала, что он тоже придет. Он пришел, уже переодевшись в тренировочный костюм, который всегда носил дома. Когда-то папа много занимался спортом, а потом бросил. Трикотажный костюм плотно облегал его широкие плечи, еще сохранившиеся бицепсы, и уже изрядно выросшее брюшко.
— Говорят, мы не в духе,— пробасил он шутливо.— А в чем дело, позвольте спросить?
Зоя не отвечала и смотрела в учебник.
— Так, значит... Разговаривать не расположены. Но ведь Митрофан Петрович не зря любит детективные романы читать. Сейчас разберемся. Позвольте ваш дневничок!
— Бери, пожалуйста,— буркнула Зоя и снова уставилась в учебник.
Ее портфель лежал на углу стола. Папа вынул оттуда дневник, просмотрел. Все отметки были хорошие.
— Н-нда! Детектив в данном случае ошибся. Стало быть, какой-то конфликт. Ну что ж, привыкай! У меня на работе что ни день, то конфликт.
И он вышел.
Домашних заданий было много, но Зоя в тот день не сделала ни одного. Она машинально листала да перекладывала с места на место учебники и тетради, а в голове ее слышался одобрительный гул ребячьих голосов и выкрики Лешки Павлова: «Да на фига нам эта Ладошина!.. И вообще, какая у нас пионерская работа!.. Мероприятия проводит! Для галочки! Благодаря кому мы на первом месте по макулатуре? Благодаря Маршеву! А кому от этого слава? Зойке, председательнице!»
И Зоя снова и снова возвращалась к мысли, что весь этот учебный год она, в сущности, руководила не отрядом, а лишь кучкой робких
254
и недалеких ребят, из которых молчаливый Жора Банкин был самым умным. Ей вспомнились сборы, с которых часть пионеров убегала, а те, что оставались, сидели зевая. И вспомнилась Зойке глупая «агитация», которую проводили ее поклонники. «Идиоты! Кретины несчастные!» — шептала она.
Позднее, лежа в постели, Зоя стала думать: как бы ей сделать что-нибудь такое, чтобы ребята поняли, какого человека они сегодня отвергли и унизили. Но ничего реального Зойка придумать не могла, и тогда она стала мечтать. Много волнующих сцен нарисовала она в своем воображении, но больше всех ей понравилась такая.
Родя и Венька построили какой-нибудь мотор, работающий на бензине, и принесли его в школу, чтобы перед началом урока продемонстрировать классу. Но почему-то (почему именно, Зоя не придумала) бензин разливается по полу перед самой дверью и вспыхивает. Пламя преграждает всем выход из кабинета. Класс забился в дальний угол, все кричат, все плачут от страха, и только одна Зоя Ладошина сохраняет самообладание. Бесстрашно она бросается в огонь, пробегает сквозь него, выскакивает в коридор, а оттуда на площадку лестницы, где висит огнетушитель. Проходит минута, и вот пламя погашено пенной струей. У Зои обгорело платье, обожжены руки (лицо и волосы, конечно, не пострадали: она по-прежнему прекрасна). Исполненная величавого спокойствия, она подходит к Родьке Маршеву, которого так недавно прочили в председатели, и презрительно бросает ему: «Ну, что ты дрожишь как осиновый лист? Ведь все уже кончилось!»
...Утром, идя по школьному коридору, Родя и Веня встретили Купрума Эса. Увидев ребят, он приостановился с испуганным видом, а потом быстро прошел мимо них. Прошел бочком, почти касаясь спиной стены. При этом он выставил в сторону мальчишек левую ладонь, а два пальца правой руки прижал к губам: мол, не подходите ко мне и никому ни слова!
А Зоя утром снова сделала крюк, чтобы избежать своих «активистов», которые имели обыкновение встречаться на одном из перекрестков. Но в школе к ней сразу подошли Соня Барбарисова, сестры Мухины и Шурик Лопухов. Нюся Касаткина не решилась подойти. Она остановилась поодаль, виновато и жалобно поглядывая на Зою.
— Зо-о-я! — заговорила Барбарисова.— Мы вчера тебе весь вечер звонили. Мы вчера так переживали, так переживали!..
— Да отстаньте вы! — сказала Зоя, и, чтобы все поняли, как ей безразлично то, что произошло вчера, она, увидев издали Родю и Веню, закричала: — Маршев, Родя! Подожди минуточку, мне хочется спросить тебя насчет того дела.
Обиженные «активисты» с удивлением наблюдали, как Ладошина подошла к своему сопернику и его другу и удалилась с ними в дальний конец коридора, о чем-то мирно беседуя.
255
Родя втайне очень обрадовался, что Зоя первая окликнула его и даже назвала по имени, что она, как видно, нисколько не обижена. Он тоже решил назвать ее по имени:
— Зоя! Ты знаешь, что мы вчера вечером видели?!
И приятели рассказали ей о человеке, метавшемся в освещенном окне. Рассказали и о том, как встретили Купрума Эса две минуты тому назад. Все это заставило Зою на время забыть про вчерашнее.
— Мы почти уверены, что ты права,— сказал Родя.— Там именно он орудует.
А Веня спросил:
— Вот скажи: не мог он свихнуться и начать какую-ни¬
будь взрывчатку в лаборатории готовить? В преступных целях. А?
— Н-не знаю,— с запинкой ответила Зоя.— А что вы сами думаете делать?
— Тут, значит, два варианта,— заговорил Родя.— Мы сначала хотели сказать директору Дворца пионеров или просто в милицию заявить, но потом решили, что интересней самостоятельно это дело расследовать.
— А как?
— Ну, засаду устроить.
— На втором этаже? За теми штуками?
— Ну да.
Зоя помолчала, неподвижно глядя на Родю большими красивыми глазами. Веня объяснил:
— Понимаешь, там внизу у технички есть телефон... Мы, значит, посмотрим, кто в лаборатории орудует и что они вообще там делают, а в случае чего спускаемся к телефону — ив милицию! Чтобы их накрыли.
А Родя добавил:
— Еще, может быть, там не Купрум Эс, а может, там целая банда орудует.
Зоя не стала задумываться над тем, как смогут мальчишки, не будучи сами замеченными, разглядеть, кто орудует в лаборатории и что он (или они) там делает. В голове ее сверкнула такая мысль: это не Родька с Венькой, а она сама спускается по темной лестнице Дворца пионеров со второго этажа в вестибюль. И это не Маршев и Рудаков, а она, Зоя Ладошина, звонит по телефону в милицию и встречает милиционеров у входа во дворец.
— А... а когда вы собираетесь? — тихо спросила Зоя.
На это ответил Веня:
— Мы, значит, так: сегодня после школы сходим и запишемся в какой-нибудь кружок, который занимается по вечерам. Позанимаемся разок, изучим обстановку и...
Зазвенел звонок, и все трое двинулись к кабинету математики.
256
— Тут еще такой вопрос надо решить,— проговорил на ходу Родя,— что сказать родителям, чтобы они не беспокоились.
— Ага,— сказал Веня.— Ведь их инфаркт может хватить, если мы пропадем до утра.
Глава десятая
Но получилось так, что друзьям пришлось на какое-то время забыть о таинственных окнах. Слух о проводившемся вчера «социологическом опросе» широко распространился в пятых, четвертых и даже шестых классах. Он взбудоражил исследователей, рационализаторов и изобретателей, которых, как и предсказывал Гена, оказалось гораздо больше, чем это было заметно на глаз. На первой перемене Веню схватил за локоть незнакомый мальчишка. Он был маленького роста, тощий, но жилистый. Он походил на цыганенка. У него был длинный грачиный нос, большие черные глаза и черные жесткие, торчащие волосы.
— Эй! — сказал он резким голосом.— Ты записываешь в общество?
— В какое общество?
— В пионерское. В научное.
Веня объяснил ему, что никакого пионерского общества еще нет, что они просто спрашивают у ребят, кто чем занимается.
— Давай записывай меня! — приказал мальчишка.— Алька Порт- нов, Александр то есть. Пятый «А».
— А ты что исследуешь?
— Я ничего не исследую. Я двигатель изобрел. На самом дешевом топливе. Записывай!
— А что за топливо? — немного опешив, спросил Веня.
— Вода! Самая обыкновенная! Ты знаешь, что получается, если разлагать воду электрическим током?
— Знаю. Гремучий газ получается,— ответил Веня.
— Ну вот! Теперь смотри: нажимаем на стартер, заставляем крутиться генератор. Генератор вырабатывает ток, ток вырабатывает этот... гремучий газ... А тут — двигатель, самый простой, автомобильный... Гремучий газ попал в цилиндр, а тут искра, понимаешь... и пошло! Двигатель крутит генератор, генератор вырабатывает ток, ток разлагает воду, получается гремучий газ...
— Погоди! Постой! — сказал Веня и потер ладонью макушку.— А гремучий газ-то, взорвавшись, превращается обратно в воду!
— Ну правильно, в воду!
— Так какое же это изобретение? Это перпетуум-мобиле!
Мальчишка засверкал глазами и полез на Веню грудью.
— Какая там тебе перпетуум-мобиля! Это двигатель! Самый экономичный!
— Ну погоди. Ты же сам сказал, что гремучий газ £нова пре-
9 Школьные годы. Выпуск 2
257
вращается в воду... А эту воду снова можно разложить... Значит, что же получается? Вечный двигатель!
Мальчишка перестал налезать на Веню и просиял. У него были крупные, с голубоватым отливом зубы.
— Вот это ты правильно! Именно вечный! Я даже сам не допер до этого, а теперь понимаю: вечный! Заправил литром воды и газуй хоть вокруг света: вввжи!.. Записывай!
— А ты знаешь, что вечный двигатель невозможен? — спросил Веня.
Алька опять сжал маленькие, но, как видно, крепкие кулаки.
— Почему невозможно? Докажи!
— Н-ну... По науке невозможен, я где-то читал...
— «Где-то читал, где-то читал»! — все больше кипятился изобретатель.— Ты докажи, почему невозможен! Докажи!
Веня пятился от изобретателя, ожидая, что вот-вот придется драться, но тут он увидел Маршева, который разговаривал с Круглой Отличницей.
— Родь! Родь! — позвал Веня.
Родя подошел, выслушал своего друга и пожал плечами.
— Ну и запиши: «Изобретает перпетуум-мобиле». Нам ведь главное — записать, а прав он или нет, потом разберутся.
Вообще изобретателей вечного двигателя набралось порядочно: ровно двадцать пять человек. Это было установлено, когда Валерка Иванов, Круглая Отличница, Родя и Веня собрались вместе и перечитали свои записи. Шестеро таких изобретателей приходилось на пятые классы, и девятнадцать — на четвертые.
Вскоре обследователи перестали расспрашивать каждого о подробностях его исследования или изобретения: некогда было. На всех переменах конструкторы и исследователи сами разыскивали «социологов», и возле каждого из них образовывалась небольшая очередь. Были тут изобретатели усовершенствованных удочек, вроде удочки с лампочкой возле крючка для подманивания рыбы светом, был изобретатель миниатюрной электрической зажигалки, ради которой нужно было таскать с собой батарею для карманного фонаря. Находились и такие, кто хотел попасть в списки обследователей просто так, из тщеславия, лишь бы на него обратили внимание. Тогда происходили разговоры вроде следующего:
— Запиши меня!
— А чем ты занимаешься?
— Я? Я этим... Ну, как его? Ну... археологией.
— А что ты делаешь?
— Ну, это... копаю.
— Что копаешь?
— Ну... яму, конечно.
— Где?
— Ну, у нас... во дворе.
— Зачем копаешь?
258
— Ну, чтобы эти найти.
— Что «эти»?
— Полезные ископаемые.
— Отойди, гад! — Валерка Иванов переложил шариковую ручку из правой руки в левую и плюнул в правую ладонь. «Археолог» испарился.
В конце большой перемены Ляле принес тетрадку с результатами опроса Петя Клюквин из пятого «А» (Круглая Отличница с ним вчера говорила). За ним явился Юра Николаев из шестого «А», тот самый, который строил «электронную черепаху». А на предпоследней перемене к толпе выбежавших из кабинета пятиклассников подошел здоровенный угрюмый малый с широким лицом и с челкой над самыми глазами.
— Э!..— сказал он низким голосом.— Позовите Данилову!
Лялю стали звать, но та уже куда-то убежала.
— А кто тут еще опросом занимается? — спросил малый.
— Я занимаюсь,— ответил Родя.
— На! Передай Даниловой! Скажешь — от Столбова из шестого «Б».— Парень сунул в руки Маршеву тетрадь и пошел было прочь, ко вдруг приостановился и оглянулся на Родю: — Ну-ка пойдем.
Родя прошелся с ним до окна в торцовой стене коридора. Тут Столбов остановился, положил локоть на подоконник.
— Что Генкина сестра вам говорила? Нас пустят в «Разведчик» до каникул? Хотя бы тех, которые в шестом?
— Она ничего такого не говорила,— ответил Родя и добавил, что, по его мнению, этот вопрос решится не скоро.
— Плохо дело,— проворчал Столбов.
— Тебе-то что! Ты осенью в седьмом уже будешь, а вот нам...
— А мне осенью не нужно. Мне сейчас...
— А что у тебя за работа?
Столбов расстегнул портфель.
— Ты про биологическую борьбу с вредителями растений слыхал?
— Слышал такое выражение, но что это — не знаю.
— Есть химическая борьба, когда их ядами травят,— заговорил Столбов, роясь в портфеле,— только это дело вредное: людей можно потравить, домашних животных... А есть, значит, биологический метод. Это когда на вредителей всяких паразитов напускают, а эти паразиты вредных гусениц губят... А есть еще способ, когда этих гусениц всякими ихними болезнями заражают.— Столбов извлек из портфеля закупоренную стеклянную баночку, на две трети заполненную каким-то желто-бурым порошком.— Видал?
— Что это?
— Гусеницы. Толченые.
?
259
— У нас огородный участок за городом, и на капусту прошлым летом вредитель напал — капустная совка. Мы давай гусениц вручную собирать. Только поздно хватились: треть капусты пропала. А потом я заметил, что много гусениц больных или вовсе дохлых. Я их, значит, насобирал...
— Дохлых?
— И дохлых и больных. Больным дал подохнуть от болезни, а потом высушил всех на солнце и истолок.
— Ну и что?
Столбов прищурил один глаз, разглядывая содержимое банки.
— А то! Может, тут, у меня бактерии или микробы, от которых гусеницы погибли. В сушеном виде, значит. Если гусеницы летом снова появятся, я это дело в воде размешаю, капусту опрыскаю и здоровых гусениц, может, всех перезаражу.— Столбов спрятал банку обратно в портфель и еще больше помрачнел.— Только я ведь наобум работаю... Мне бы хоть микроскоп... Хоть бы посмотреть, живые они или нет, эти микробы! Я бы на них водой капнул — и под микроскоп!
— А ты у биологички попроси!
— Просил. В три шеи выгнала. Грозилась директору сказать, что я заразу в школу таскаю.
Родя живо представил себе сцену между Столбовым и преподавательницей биологии. Это была женщина довольно молодая, но очень неприятная, которая и ребят не любила, и свой предмет.
— Пока! — сказал Столбов.— Гене привет передай.
И уже на самой последней перемене Ляля подвела к Маршеву и Рудакову маленького русоволосого мальчонку. Друзья подумали, что он второклашка, но это оказалось не так.
— Вот, знакомьтесь! — сказала Круглая Отличница.— Сам опрос в четвертом «Б» провел, по своей инициативе. Толя Козырьков зовут.
Веня взял у мальчишки тетрадку. Отдав ее, тот опустил голову и начал краснеть.
На первой странице ребята прочли:
«Козырьков Толя. Четвертый кл. «Б»
Ленейка для разризания пластмассы».
День выдался утомительный. И Веня был не в духе.
— Козырьков Толя. Это ты, значит? — спросил он.
— Я,— ответил Толя, глядя в пол.
— У тебя что — двойки по русскому?
— Тройки,— ответил Толя и еще сильней покраснел.
— Ведь «линейка» от слова «линия» происходит, а ты пишешь «ленейка»!
260
— Хватит тебе придираться! — сказал Родя и обратился к мальчишке: — Что это за линейка?
Толя еще ниже опустил голову и заговорил тихим прерывающимся голосом, словно отвечая трудный урок:
— Мой папа любит мастерить, и он режет пластмассу... Он пластмассу режет... Он положит на пластмассу линейку, и по этой линейке режет... такой железкой с зазубринкой... Он проведет по линейке железкой, и получается царапина на пластмассе... Потом он еще раз проведет, и... глубже станет... царапина. А потом... потом совсем разрежет. Только пластмасса скользкая, и линейка скользит... Соскользнет, и царапина — не туда... Папа очень много пластмассы испортил...— Толя умолк и стоял не подымая головы, словно ожидая получить двойку.
— А что ты придумал? — спросил Родя.
— А я придумал, чтобы к линейке наждачную бумагу приклеивать... Нарезать полосочками и приклеивать... Клеем «БФ»... И тогда она не скользит...
— Гм! Это дело! — сказал Веня.
— А почему обязательно «БФ»? — спросил Родя.
Тут впервые Толя осмелел и поднял голову.
— Потому что у папы линейка стальная. Другим клеем она не приклеится...
И каждую перемену друзей разыскивал Портнов, которого Веня теперь иначе не звал, как Перпетуум-мобиле. И каждый раз он докладывал о новом кандидате в пионерское научно-конструкторское общество. Чистой тетрадкой Алька не запасся, поэтому он вел свои записи на промокашках, на выдранных из старых тетрадей листочках.
— Во! — говорил он возбужденно.— Димка Грибов! У него аквариум, и он хочет золотую рыбку с пескарем скрещивать.
— А это зачем? — спрашивали его.
— Ну как зачем! — кипятился Перпетуум-мобиле.— Для науки!
И ни Родя, ни Веня, ни Круглая Отличница не замечали, что
к разговорам о «социологическом опросе» внимательно прислушивается Надежда Сергеевна. Не замечали, пока она сама к Ляле не подошла.
— Слушай, голуба моя, объясни, пожалуйста, кто придумал этот «социологический опрос» и с какой целью он проводится?
— Мой брат придумал,— ответила Ляля и рассказала все, что хотела узнать замдиректора.
— Вот оно как! Ну спасибо,— сказала Надежда Сергеевна и ушла.
К концу учебного дня у наших обследователей скопилось пять тетрадок и куча записок на отдельных листочках, принесенных Аль- кой Портновым. v
261
Ляля собрала все это и побежала разыскивать Гену. Вернувшись, она доложила:
— Он сказал, чтобы вы к нам пришли часа в четыре.
Как всегда, по дороге домой друзья проходили мимо Дворца пионеров, и здесь только им вспомнилось освещенное окно и черная фигура, метавшаяся в нем. Оба остановились перед воротами дворца.
— Запишемся,— предложил Родя.
— А в какой кружок?
Родя задумался, и тут его осенило.
— Слушай! Запишемся в такой кружок, который занимается в пятницу вечером.
Веня сразу понял своего друга. Вы уже знаете, что к Рудаковым приехали родственники — дядя Миша с женой. Дяде Мише исполнилось пятьдесят лет, и он собирался отметить это событие в пятницу ужином в ресторане. Были приглашены и супруги Маршевы.
— Правильно! — сказал Веня.— Раньше, чем в полпервого ночи они домой не вернутся. Может, и успеем провести эту операцию.
Друзья вошли во дворец и записались в фотокружок, который занимался в пятницу вечером. На этот раз дежурил другой педагог — мужчина.
В четыре часа Веня и Родя явились к Гене. Они застали его и Лялю во дворе. Надо сказать, что двор этот больше походил на парк. Тут росли старые тополя и липы, тут были ярко раскрашенные скамейки, беседки и песочницы для малышей. И было тут маленькое футбольное поле, огражденное сеткой, какой обычно ограждаются теннисные корты. По этому полю, сражаясь за мяч, метались восемь полевых игроков примерно Родиного возраста, а в воротах из планочек прыгали два вратаря. Кроме того, по площадке со свистком в зубах бегал взъерошенный коренастый парень, в котором ребята узнали самого Гену. Он временами свистел и командовал:
— Угловой у ворот «Синицы»!.. Стоп! Рукой сыграл. Штрафной от ворот «Чижа»!..
А снаружи, вцепившись в решетку и прильнув к ней носами, стояли еще человек десять мальчишек. Вид у них был такой, словно они узники в тюремной камере, а крошечное футбольное поле для них целый мир, где царят свобода и счастье.
Недалеко от футбольного поля была другая площадка, с клумбой посредине. Здесь приятели увидели Круглую Отличницу и Валерку, тут же было много старшеклассников. Один бренчал на гитаре, двое других играли в бадминтон, перебрасываясь воланом через клумбу, остальные просто сидели на скамейках, и Родя с Веней заметили, что в руках у некоторых тетради с результатами их неоконченного опроса.
— Гена, иди! — позвала Ляля, увидев Рудакова и Маршева.
262
— Ге-е-на-аа! Соци-о-о-ологи пришли-и-и! — дурачась, закричала одна из девушек.
— Ас линейкой — это надо на заметку взять,— сказал какой-то парень, листая тетрадку.
— С какой линейкой? — спросили его.
— Для резки пластмассы.
Это было единственное серьезное замечание, которое ребята услышали по поводу опроса. Старшеклассники были явно заинтересованы этим мероприятием, но относились к нему, как к чему-то очень забавному.
Пришел Гена и грубовато сказал старшеклассникам:
— А ну давайте сюда! — Он забрал у них тетрадки и Алькины листочки и кивнул «социологам»: — Пошли! Тут не дадут поговорить: зубы скалить будут.— Отойдя с ребятами в сторонку, он продолжал: — Значит, я проанализировал материал. У вас один шестой еще не охвачен и два четвертых, но, в общем, что-то около тридцати процентов получается.
— Исследователей и конструкторов,— пояснила Ляля.
— Да. Правда, вечных двигателей что-то многовато... Но это ведь о чем говорит? Тяга у людей к изобретательству имеется, а направить их — никто не направляет.
Пока Гена говорил, игра у футболистов прервалась.
— Гена! Ну, Ген!.. Ну, иди, суди! — кричали они.
— Играйте! — крикнул Гена.— Пусть Димка судит пока!
— Ген!.. Ну мы закончим опрос, а что дальше? — спросил Валера.
— А дальше... для начала вот что сделаем: напишите статью в стеыгазету. Не в отрядную, а в большую, общешкольную.
— А что написать? — спросила Ляля.
— Ну, ты помнишь, о чем я дома у нас говорил? Об этом и напишите. Приведите цифры, только сначала закончите опрос...
— Ген!..— снова закричали футболисты.— Ну, не умеет Димка судить! Он только под ногами путается!
— Да отстаньте вы!.. Сейчас, говорю! — огрызнулся Гена и снова обратился к ребятам: — Про научно-техническую революцию не забудьте упомянуть.
«Социологи» помолчали, озадаченно поглядывая друг на друга. Потом Родя пробормотал:
— Ген!.. Гена! А может, лучше тебе статью написать... Все-таки общешкольная газета... Там старшеклассники все-таки, а мы... Мы что-нибудь не так напишем.
Глаза у Гены вдруг сузились и стали злыми.
— А вот такие разговорчики ты лучше оставь,— процедил он сквозь зубы и спросил Лялю: — Ты им сказала?
— Нет, не успела еще.
— Ну так я скажу. Я сегодня дал согласие быть у вас пионервожатым.
263
— Вот.., Да-а-а! — обрадовался Веня.
— Подожди, не дакай! У нас учебная программа напряженная, затем я из «Разведчика» уходить не собираюсь, значит, со временем у меня будет туго. Значит, если с вами придется нянчиться и все за вас делать, я — пас. Понимаете? Я только общее руководство могу осуществлять, а работать должны вы сами. Так что пусть вот это дело,— Гена постучал ногтями по тетрадям,— будет для нас проверкой. Пробным камнем, как говорят. Всем понятно?
— Всем! Понятно! Всем! — торопливо ответили мальчишки.
Гена сунул в руки Маршева материал опроса.
— Считайте себя инициативной группой и действуйте, а я пошел, а то они себе глотки сорвут,— проговорил он и отправился к футболистам.
«Инициативная группа» решила сделать уроки, а часов в шесть собраться у Маршева и засесть за статью.
Глава одиннадцатая
А вот как провела этот день Зоя.
На первом уроке она сидела рядом с Соней Барбарисовой, подперев подбородок кулаком, делала вид, что внимательно слушает объяснение преподавательницы, но сердце у нее колотилось и мысли в голове налезали одна на другую.
«Тоже мне герои!» — думала она про Маршева и Рудакова. Забраться на ночь в пустой и темный Дворец пионеров они не боятся, возможность попасть в руки неизвестных злоумышленников их тоже не страшит, а вот что скажут наутро папа с мамой, это их беспокоит. Чего доброго, они даже откажутся от своего предприятия, лишь бы только родителей не тревожить! Кет, она — человек иной закваски, ее не остановит такой пустяк. Она попросту оставит родителям записку: «Не беспокойтесь, вернусь только утром».
В этот день председатель совета отряда Ладошина получила несколько замечаний от педагогов за то, что ничего не слушает на уроках. Во время перемен ей не хотелось встречаться ни с Маршевым и Рудаковым, ни со своими друзьями. Она уходила куда-нибудь на другой этаж, чтобы оставаться со своими мыслями одной. Теперь ей рисовались сцены куда более волнующие, чем простенькая история с пожаром, о котором мечтала Зоя ночью.
Вот она пробирается по темной лестнице в темный вестибюль, вот набирает телефон милиции, сообщает что нужно и ждет. Проходит две минуты, может быть, три... Ко дворцу подкатывает машина, и с десяток милиционеров врываются в вестибюль. (Заперты будут двери дворца или распахнуты настежь, Зоя об этом не думала.) А утром и родители Зои и вся школа узнают о ее подвиге, а еще через несколько дней всей стране становится известно, что пионерку Зою
264
Ладошину наградили медалью за разоблачение шайки опасных преступников.
Однако чем подробнее разрабатывала Зоя план своих действий, тем больше ей становилось не по себе. Зоя была почти уверена, что никто не заглянет за щит с таблицей Менделеева, где она будет прятаться. Даже мысль о появлении сумасшедшего Купрума Эса или неизвестных злоумышленников ее не очень пугала. Но при мысли о том, что она останется совсем одна в огромном пустом и темном здании, у Зои от страха холодело под ложечкой. Встреча с самыми свирепыми бандитами казалась ей не столь ужасной, как это одиночество в темноте. А ведь может и так случиться, что никто в лабораторию не придет, и тогда ей придется терпеть этот ужас до самого утра! Нет, такого она не выдержит, этак она сама спятит не хуже, чем Купрум Эс.
Зоя решила, что ей не обойтись без сообщника, и стала перебирать в уме возможных кандидатов. Было бы глупо думать, что Соня, сестры Мухины или Шурик Лопухов согласятся идти выслеживать сумасшедшего или бандитов. Чего доброго, они еще предупредят взрослых о Зоиных планах, чтобы спасти ее от этого опасного предприятия. Влюбленный в Зою Жора Банкин, возможно, не побоится бандитов, зато, как Маршев, побоится беспокоить родителей. Но вот у Нюси Касаткиной с родителями дело обстоит проще: Нюсин отец в командировке, а мама работает кассиршей в аэропорту и нередко дежурит там ночами. К тому же Нюська понимает, что это она — виновница вчерашнего скандала, и, наверно, будет рада искупить свою вину.
Когда прозвенел последний звонок, Ладошина подошла к Нюсе. (Та в течение всего дня не решалась с ней заговорить.)
— Твоя мать когда будет ночью дежурить? — спросила Зоя. Спросила сухо, как бы нехотя, сурово сдвинув брови.
Нюся очень обрадовалась, что ее наконец удостоили разговором.
— Сегодня,— просияв, ответила она.— А что?
— Мне нужно, чтобы ты помогла в одном деле. Сегодня вечером. Можешь?
— Могу! Пожалуйста, конечно, могу! А как?
И тут Зоя подумала: а зачем Нюське все объяснять? Ведь она может испугаться и на попятный пойти...
— Сегодня пойдем во Дворец пионеров и побудем там... часов... часов до десяти, до половины одиннадцатого.
— Зоя, а меня туда пустят? Я ведь там никуда не записана.
— Пустят. Со мной.
— Зоя, а что мы будем там делать?
— Я за тобой зайду. Без четверти восемь. Не подведешь?
— Не подведу. Только, Зоя, что мы там...
— Потом узнаешь. Сейчас мне некогда.
Зоя повернулась и быстро побежала от Нюси к лестнице.
265
Этот день был, пожалуй, самый томительный в Зоиной жизни. Читать она ничего не могла. На месте ей не сиделось, и она принялась слоняться по квартире, что-то весело напевая, чтобы бабушка не догадалась, как она взволнована. Но Зоину бабушку Веру Федоровну трудно провести. Когда Зоя в какой-то раз сунулась в кухню, бабушка, как всегда прямая, подтянутая, стояла перед мойкой с сигаретой в зубах и мыла посуду. Она даже не обернулась, даже не вынула сигареты изо рта, прежде чем спросить:
— Так, чем же мы озабочены, позвольте узнать?
— Ничем,— со вздохом ответила Зоя и, чтобы не попадаться бабушке на глаза, отправилась во двор. Там она с кем-то играла в мяч, с кем-то болтала, но с кем играла \i о чем разговаривала, она так и не запомнила. Запомнила Зоя лишь то, как она спрашивала чуть ли не у всех прохожих, который час.
Наконец она увидела возвращающуюся с работы маму и пошла вместе с ней домой. Теперь Зое надо было делать вид, что она готовит уроки. Сегодня она даже не пыталась понять, что написано з учебниках, даже не заглянула в дневник. Она сидела за столом и думала о том, что вот уже второй день не выполняет домашних заданий, что ей, наверное, впервые в жизни предстоит получить так много двоек. Но тут Зою обдавала волна радости. Ну кто придаст значение каким-то там двойкам, да и кто из педагогов осмелится поставить эти двойки, если скоро весь город будет знать о совершенном ею подвиге! А через минуту эта мысль сменялась другой: ну кто вспомнит про какие-то там двойки, когда вся школа, а может быть, и весь город будет идти за гробом юной героини, убитой злоумышленниками в коридоре Дворца пионеров! (Какая судьба постигнет Нюську Касаткину, Зоя об этом не думала.)
Наконец в восьмом часу Зою позвали ужинать. Перед тем как идти в кухню, она вырвала листок из тетради и написала:
Дорогие мама, бабушка и папа!
Пожалуйста, не беспокойтесь, но я сегодя дома ночевать не буду. Не волнуйтесь и не ищите меня, завтра все
узнаете.
Ваша Зоя.
В семь часов ужинала только одна Зоя, а все взрослые в этой семье ужинали поздно, в девятом часу. Покончив с едой, Зоя выбрала подходящий момент, открыла холодильник и положила записку в кастрюлю, где хранились котлеты. Как только бабушка выпет кастрюлю, чтобы их разогреть, она тут же найдет послание. После этого Зоя сказала домашним, что хочет прогуляться перед сном, и вышла.
Минут через пятнадцать они с Нюсей шагали к Дворцу пионеров. Маленькая Нюся то семенила рядом с Зоей, то забегала вперед, чтобы заглянуть в глаза, и все спрашивала, зачем Зое нужна ее помощь
266
и в чем эта помощь должна выражаться. А Зоя, проволновавшись целый день, так и не придумала, как все это Нюське объяснить, и теперь плела, что на ум взбредет.
— Понимаешь, мне нужно одного человека разоблачить...
— Человека? Взрослого?
— Ну, взро... не взрослого, конечно, а этого... мальчишку.
— Зоя! А что он делает, Зоя?
— Ну-ну... не очень красивыми делами занимается,— цедила сквозь зубы Зоя, напряженно стараясь придумать, что это за «некрасивые дела».
— Зоя, а в каком смысле некрасивыми делами? Зоя, и потом... что мне надо будет делать?
К счастью для Зои, они вошли в это время в ворота Дворца пионеров и двинулись по короткой аллее к его входу. Тут Зоя нашла предлог, чтобы сменить тему разговора.
— Значит, так,— сказала она.— Если тебя будут спрашивать, куда идешь да зачем — ты молчи и ничего не говори. Я за тебя буду говорить. Понятно?
Нюся молча кивнула и притихла. Она не сказала ни слова, пока девчонки не оказались на третьем этаже.
Разговаривать им много не пришлось. Женщина в черном халате, сидевшая рядом с телефоном, спросила Зою, как старую знакомую:
— Зойка, а ты куда это так поздно?
— Мне Александр Павлович велел прийти в восемь часов. У нас особая репетиция. А эта девочка,— Зоя кивнула на Нюсю,— она у нас новенькая. Ей тоже Александр Павлович велел прийти.
— Идите, раздевайтесь,— сказала женщина, и тут Зоя поняла, что она не все до конца продумала.
На ней и на Нюсе были плащи. Но ведь их в гардеробе на всю ночь не оставишь! Если они не явятся за плащами до закрытия дворца, их наверняка примутся всюду искать.
Нюся спокойно направилась к гардеробу. Зоя нагнала ее и схватила повыше локтя.
— Стой! Подожди! — прошептала она.
Нюся остановилась и в недоумении завертела головой, помахивая своей метелочкой на затылке. Тут на лестнице послышался гомон, топот, и через несколько секунд в вестибюль ввалилось десятка два мальчишек в тренировочных костюмах. Зоя увидела, что гардеробщица занялась мальчишками, а женщина у столика не смотрит в ее сторону. Она еще сильней вцепилась в локоть Нюси и очень быстро подтащила ее к лестнице.
— Снимай плащ! — прошептала она, когда они были уже на третьей ступеньке. (Сделав рот сковородником, обалдело глядя на Зою, Нюся повиновалась.) Зоя тоже сняла плащ, сложила его и скрутила в рулон.— Сверни его так! Слышишь? Сворачивай так! Быстро!
267
Нюся страдальчески смотрела на Зою. Один уголок рта полез у нее куда-то вниз, а другой — вверх, так что губы ее приняли форму знака, который в математике обозначает бесконечность. В полном молчании она кое-как скомкала плащ.
— Пошли! Быстро! — шепотом скомандовала Зоя, и они бегом пустились вверх по лестнице.
На площадке второго этажа они остановились. Щиты, за которыми Зоя собиралась спрятаться, стояли на прежнем месте. Где-то справа из коридора доносились голоса старшеклассников.
— Бросай плащ! Вот как я, бросай! — тихо сказала Зоя и швырнула свернутый плащ в черное треугольное пространство между щитами и стеной.
Нюся тоже бросила свой плащ, но так близко, что его мог бы увидеть каждый, подымающийся по лестнице.
— У, дура! — прошептала Зоя. Она стала на колени и толчком засунула Нюсин плащ поглубже.— Пошли!
Девчонки поднялись на третий этаж. Здесь было людно и шумно. Недавно окончил занятия струнный оркестр, но музыканты не расходились, а стояли в коридоре, тренькая своими балалайками и домрами и о чем-то болтая. Тут же болтались ребята из других кружков, окончивших занятия, а из помещений, где занятия еще продолжались, слышались стук молотков, звуки рояля и чья-то взволнованная декламация.
Осмотревшись, Нюся опять начала расспрашивать Зою, что они тут будут делать и в чем должна заключаться ее, Нюсина, помощь. Зоя так и не придумала толком, что ей соврать, поэтому она накинулась на «помощницу»:
— Ой, Нюська, ну не приставай ты ко мне с вопросами! Мне это дело сам директор поручил!
— Как... какой директор?
— Ну вот этого... Дворца пионеров. Ты что, не понимаешь?
— Зоя! Зоя, я все-таки... он что тебе поручил?
— Вот это дело расследовать.
— Зоя, ты все-таки извини, пожалуйста... но все-таки какое
дело?
Зоя в нетерпении крутнула головой.
— Ой, ну какая ты!.. Понимаешь, тут... тут один мальчишка... ну, воровством занимается. А я, значит... а я, значит, это заметила. А директор, значит... он, значит, попросил меня его разоблачить.
— Зоя, а я? Я зачем тебе нужна?
— Ой, какая ты!.. Ну, как свидетельница.
— Зоя, ну а все-таки... Почему ты именно меня выбрала?
— Фу-ты!.. Ну, потому, что ты самая боевая. И еще потому, что я больше всех тебе доверяю. И вообще молчи, пожалуйста! И не мешай мне наблюдения вести!
Зоя умолкла и стала делать вид, что пристально и подозрительно
268
приглядывается к каждому, проходившему мимо, а у Нюси рот снова принял форму знака бесконечности. Она умолкла, пораженная двумя только что сделанными открытиями: во-первых, она, оказывается, «боевая», а во-вторых, Зоя Ладошина, сама Зоя Ладошина считает ее, Нюсю Касаткину, наиболее достойной своего доверия. Она так усиленно старалась понять, в чем выражается ее «боевитость», что даже не заметила, как прошло довольно много времени.
Глава двенадцатая
Коридор постепенно пустел.
Закончил работу кружок «Умелые руки», потом — хореографический, окончились репетиции и в кружке художественного слова. Руководитель Александр Павлович вышел в коридор вместе со своими чтецами и декламаторами, а Зоя, чтобы не встретиться с ними, поспешно отвела Нюсю в сторону.
Скоро кружковцы тоже ушли, и в коридоре, помимо Нюси и Зои, осталось человека три или четыре.
— Пошли! — сказала Зоя, и они спустились в коридор второго этажа, где было еще довольно оживленно: членам научного общества «Разведчик» позволялось заканчивать работу в половине десятого. Зоя подошла к двери лаборатории биохимии и потрогала ее. Дверь была заперта: или занятия в лаборатории уже кончились, или их вообще в этот день не было.
Зоя подвела Нюсю к щитам.
— Теперь так, значит,— тихо заговорила она.— Я тебя загорожу, а ты лезь вот сюда, куда мы плащи забросили.
Нюсе все меньше нравилось это предприятие. И вообще какое-то тяжелое предчувствие охватило ее.
— Зоя,— сказала она тихонько и очень жалобно,— ну зачем все же это?
— Лезь, говорю, пока никто не видит! — яростно прошипела Зоя, и Нюся уползла за щиты, часто шмыгая носом.
Зоя постояла несколько секунд, убедилась, что никто не смотрит в ее сторону, что никто не идет по лестнице, и присоединилась к Нюсе. Теперь они сидели рядом, прислонившись спиной и затылком к стене и поджав коленки к самой груди. Несколько минут прошли в полном молчании.
— Зоя, а где директор? — прошептала вдруг Нюся.
— Какой директор? — не поняла Зоя.
— Дворца пионеров.
— Внизу сидит. С педагогами. Мы, когда увидим того мальчишку, дадим ему пройти, а сами спустимся к директору и скажем. И вообще молчи, пожалуйста! А то ведь услышат — и все пропало!
Наверное, минут пятнадцать Нюся не произносила ни слова.
269
Сидеть с поджатыми к груди коленками было очень неудобно, ноги стали болеть.
— Повернись! — прошептала Зоя.— Спиной ко мне повернись!
Обе повернулись спиной друг к другу, боком к стене и вытянули
ноги. Теперь Зоя, не поворачивая головы, могла видеть часть лестничной площадки, а Нюся ничего увидеть не могла: перед ней была лишь темная боковая стена коридора.
То и дело перед глазами Зои возникали ноги выходивших на площадку старшеклассников, а потом, когда они сбегали вниз по лестнице, Зоя видела их спины и, наконец, затылки. Шаги в коридоре звучали все реже... И вот наступила минута, когда они совсем перестали звучать. За спиной у Зои послышался жалобный шепоток:
— Зоя! Мне кажется, что ты... что ты от меня что-то скрываешь.
— Ну что я от тебя скрываю? Ну что? Ну...— Зоя не договорила, и обе разом затихли.
Внизу послышались шаги и голоса. Скоро Зоя увидела, как по лестнице подымаются две женщины и мужчина. Женщины говорили о какой-то стиральной машине, их спутник молчал. Все трое миновали площадку и пошли дальше, на третий этаж.
— Зоя, кто это? — прошептала Нюся.
— Одна — техничка, мужчина — дежурный педагог, а третья — не знаю кто. Должно быть, из этих... администраторов.
— Зоя, а почему ты им не сказала, что мы тут сидим?
— Это зачем еще? — изнемогая от злости, спросила Зоя.
— Ну чтобы они знали, что мы тут... дежурим.
Зоя была в отчаянии. И черт ее дернул связаться с этой дотошной Нюськой! Ну что ей еще можно наврать?
— А потому... а потому, что директор не велел им говорить,— прохрипела она сердито.— Потому, что эта... которая про стиральную машину... она как раз мать того самого мальчишки! Понятно тебе?
— Понятно. Только, Зоя, мне кажется, что ты меня обманываешь.
— Ну и пусть тебе кажется! Скоро сама поймешь, как я тебя обманываю. Сиди и молчи только!
Нюся опять притихла. Сверху приглушенно доносились голоса, временами там негромко хлопали двери. Так прошло еще несколько минут. Потом трое взрослых спустились на второй этаж и прошли в дальний конец коридора. Судя по звукам, доносившимся до нее, Зоя поняла, что взрослые отпирают ключом дверь каждого помещения, осматривают его и снова запирают дверь. Голоса, потрескивание ключей в замках, стук дверей слышались все ближе, и Зоя забеспокоилась: а что, если взрослым вздумается заглянуть за
щиты?
270
— Биохимию можно не открывать,— уже совсем близко сказал мужчина.— Они сегодня не занимались.
И уже совсем рядом брякнул ключ в замке, скрипнула дверь, щелкнул выключатель.
— У электроников тоже порядок,— проговорила женщина.
Еще через несколько секунд дверь лаборатории электроники была заперта, свет в коридоре второго этажа погас, и трое взрослых стали спускаться по лестнице, слабо освещенной снизу.
— Зоя! — слабо пискнула Нюся.
И тут сердце у Зои как-то по-нехорошему забилось, и ее охватила тоска и сомнение. Вот совсем скоро трое взрослых уйдут, и они с Нюськой останутся тут одни. Да, конечно, когда рядом Нюська, сидеть в пустом и темном здании не страшно. Ну, а что будет, когда здесь появится тот самый «кто-то», кого Зоя так легкомысленно вздумала «разоблачить»? Теперь она была бы рада-радехонька, если бы им оказался Купрум Эс, пусть даже и сумасшедший: все-таки от старенького учителя всегда можно увернуться, всегда можно убежать. Но сейчас Зоя была почти уверена, что это не Купрум Эс. Тот, кто не боится пробираться сюда каждую ночь, должен быть сильным, смелым, ловким и, конечно, безжалостным, готовым на все! Теперь Зое было ясно: как только она увидит этого страшного «кого-то», она и думать забудет о том, чтобы пробраться в вестибюль да еще вести там телефонные разговоры. От ужаса она шевельнуться не сможет, даже вздохнуть глубоко не посмеет! А ведь мямля Нюська может зареветь с перепугу, и тогда этот «кто-то» хладнокровно их пристукнет.
Зоя подумала о том, что она могла бы сейчас спокойно лежать в постели, слушая, как в соседней комнате негромко разговаривают родители. Вспомнилась Зое записка, оставленная ею в холодильнике, и она ясно себе представила, как взволнованы сейчас домашние, подумала, что ее уже ищут, хотя она и просила этого не делать. И ей стало горько от мысли, что никто не догадается поискать ее во Дворце пионеров. И Зое очень захотелось оказаться дома, успокоить родителей и успокоиться самой. А тут еще эта Нюська все чаще и все жалобнее попискивала шепотком:
— Зоя!.. Ну, Зоя!.. Зоя!..
— Сиди тихо! Я сейчас...— шепнула вдруг Зоя. Она выползла на площадку, тихонько, держась за перила, спустилась на несколько ступенек и стала прислушиваться к тому, что делается внизу.
Вестибюль был по-прежнему освещен, но голосов там не было слышно. Зоя знала, что внизу расположены фойе, зрительный зал со сценой и примыкающая к ней гримерная. Как видно, взрослые проверяли теперь, все ли в порядке в этих помещениях. А может быть, входная дверь еще не заперта? А если и заперта — может, ключ торчит в двери? Может, сказать Нюське, чтобы "она вылезала из
271
убежища, быстренько спуститься вниз, а там... Ох, как хорошо было бы оказаться теперь на улице, на свободе!
Но тут Зое представилось, как она появляется домой, как рассерженные родители допрашивают ее, где она пропадала и что означает эта дурацкая записка. А что будет завтра в школе? Ведь Нюська же растреплет всем, как они просидели весь вечер за щитами и затем сбежали, так ничего и ке совершив. И, конечно, Маршев с Рудаковым поймут, что Ладошина решила их опередить в поимке злоумышленника, но в последнюю минуту струсила. Маршев, может быть, и промолчит, но Рудаков уж не постесняется выставить ее на посмешище.
И Зоя, собравшаяся было позвать за собой Нюсю, вцепилась в перила и не двинулась.
В вестибюле послышались шаги и голоса. Зоя услышала, как одна из женщин сказала:
— Вырубайте свет, Виталий Филиппович!
Вестибюль погрузился во мрак.
— Идемте, товарищи,— произнес мужской голос.
Стукнула внутренняя дверь застекленного тамбура у входа, щелкнул ключ в замке. Через несколько секунд стукнула дверь наружная.
— Зо-о-оя!.. Ну, Зо-о-оя!..— тихо послышалось наверху.
Зоя не ответила. Она на цыпочках добралась до нижнего пролета лестницы, свернула на него и спустилась по нему до конца. Свет от луны да от фонарей в саду просачивался сквозь полупрозрачные занавеси на больших, как витрины, окнах. Зоя смогла разглядеть почти весь пустынный вестибюль. Теперь, когда путь к отступлению был отрезан, у нее даже стало легче на душе: не надо было мучиться, колебаться. Зоя вернулась на второй этаж и, стоя на площадке, сказала хотя и не громко, но уже не шепотом:
— Нюська! Вылезай! Разомнись немного.
Послышался шорох, шмыганье носом, и Нюся выползла из черного треугольника за щитами.
— Зоя, а где директор? — снова спросила она, едва поднявшись на ноги.
— Нету здесь никакого директора,—мрачным голосом ответила Зоя.— И вообще мы одни теперь. Во всем доме! Во всем дворце!
— Ка... как одни? — со слезами в голосе пропищала Нюся.
— Садись! Я тебе расскажу всю правду.
Зоя села на верхнюю ступеньку, Нюся машинально опустилась рядом с ней и в отчаянии замотала головой.
— Каку-у-у-ю пра-а-авду? — проплакала она уже в голос.
И тут Зоя выложила ей все. И про светящиеся щели, обнаруженные мальчишками, и про темную фигуру в освещенном окне, и о странном поведении Купрума Эса, и про то, что таинственный «кто-то», может быть, вовсе не Купрум Эс, а какой-нибудь очень
272
опасный злодей или даже несколько злодеев. Разговор этот продолжался довольно долго потому, что каждая фраза, сказанная Зоей, вызывала у Нюси новый взрыв отчаяния и новые потоки
слез.
Ой, Зоя, ну что ты со мной сделала! Ой, ну... ну как... ну как
тебе только не стыдно! Ой, что ты со мной сделала!
— Да тише ты! — то и дело повторяла Зоя.— Будешь реветь, так мы даже не услышим, когда они войдут.
И она несколько раз вставала, спускалась по освещенной луной лестнице, прислушивалась к тишине в вестибюле и возвращалась. Потом Зоя так и не могла даже приблизительно определить, сколько времени все это длилось, она помнила только, что Нюся наконец стала спокойней: она теперь не плакала, а только всхлипывала. А Зою все больше тревожило, что Нюська может выдать их, когда наступит самый страшный момент, когда «он» придет. И она принялась подбадривать подругу, а заодно и себя.
— Нюська! Ну ты только пойми,— заговорила она горячим полушепотом,— ты только пойми, какая нас ожидает слава, если нам все это удастся!
Однако Нюся принялась всхлипывать еще чаще.
— Зоя! Ну, Зоя! Ну не нужна мне никакая слава! Ну ты сама пойми, что у меня нервная система для такого не приспособлена! Ну я просто не выдержу и...
И вот тут-то обе услышали, как внизу негромко, но отчетливо стукнула внутренняя дверь. Взглянув на подругу, Зоя увидела в лунном свете, что та сидит с дико вытаращенными глазами, прижав растопыренную пятерню к разинутому рту. В следующий момент Нюська исчезла. Без единого шороха, совсем как ящерица, она скользнула за щиты. Еще через две секунды там же очутилась и Зоя.
Они забились в самую глубину своего убежища. Нюся стояла на коленях, прильнув всем туловищем, щекой и ладонями к прохладной стене коридора, а Зоя стояла на четвереньках, уткнувшись макушкой в дрожащую Нюськину спину. В таком положении Зоя даже не могла видеть, что творится у нее за спиной, и это было особенно страшно. Однако она не смела не то чтобы повернуться, но даже пальцем шевельнуть.
А на лестнице уже слышались шаги. Это были неторопливые шаркающие шаги. Похоже было, что там идет всего один человек и идет не таясь, не крадучись, но довольно часто останавливаясь. Во время таких остановок он как-то странно топтался на одном месте и временами что-то бормотал. Что именно он бормотал, перепуганная Зоя не пыталась понять. Но вот шаркающие шаги стали ближе, еще ближе... Зоя напрасно опасалась, что Нюська от страха выдаст ее и себя. Та не только дышать, даже дрожать перестала. Замерло дыхание и у Зои. Сейчас решится их судьба: сейчас пришелец или заглянет к ним за щиты, или мимо пройдет. *
273
А тот уже топтался на площадке перед самым входом в их убежище. Топтался, бормотал, и Зоя наконец расслышала его бормотание:
— Да!.. Так что же ты забыл? Так что же ты, старый маразматик, забыл? Да! Вот именно: старый маразматик!
«Купрум Эс! — сообразила Зоя и сразу почувствовала, как ей стало легче дышать.— Купрум Эс, и, как видно, даже не сумасшедший, если он сам себя обзывает «старым маразматиком».
Купрум Эс двинулся дальше в коридор, и девчонки услышали, как он сунул ключ в замок, как открыл дверь. Несомненно, это была дверь в лабораторию биохимии. Зоя прислушалась к этим звукам, а сама думала, что ей делать дальше. Хорошо, пусть Купрум Эс не сумасшедший, но ведь может же и нормальный человек затевать что- нибудь недоброе. Значит, надо быть поосторожней.
Шаги Купрума Эса слышались теперь очень негромко. Как видно, он уже был в лаборатории, но дверь за собой не закрыл.
— Это Купрум Эс. Не бойся, но сиди тихо,— шепнула Зоя и выползла из-за щитов. Подумав, она, сидя на полу, сняла туфли и только после этого вошла в коридор.
Там было совершенно темно, и только открытая створка двери в лабораторию была слабо освещена. Зоя набралась храбрости и приблизилась к двери, прижимаясь к противоположной стене коридора. Сначала она ничего не разглядела, кроме светившегося напротив двери окна. Но вдруг на фоне этого окна, откуда-то слева, появился черный силуэт Купрума Эса. Учитель подтащил к окну стул, забрался на него, оттуда на подоконник, поднял руки, и тут Зоя увидела, что в руках у него болтается черный занавес. Купрум Эс растянул его перед рамой окна, и в лаборатории стало совершенно темно. Зоя поняла, что это было последнее окно, которое учителю надо было занавесить.
Она на цыпочках шмыгнула обратно на площадку и стала смотреть в коридор из-за угла.
Вот слабо щелкнул выключатель, и из открытой двери хлынул свет. Теперь Зоя не решалась приблизиться к лаборатории, она только слушала. Похоже было, что Купрум Эс хозяйничает там, никого не опасаясь. Он громко покашливал, звенел ключами, что-то отпирал и запирал, что-то передвигал... И у Зои вдруг мелькнула такая мысль, что ей захотелось обругать себя дурой. Она подошла к входу за щиты и шепнула:
— Нюська, вылезай!
Из темноты слабо послышалось:
— Зоя, я боюсь.
— Ну, вылезь на минуту, я тебе несколько слов скажу!
Нюся выползла, пятясь, а Зоя продолжала:
— Ну что ты трусишь? Ведь это же Купрум Эс, от него трехлетний ребенок удерет!
— Зоя, но я все-таки боюсь.
274
А если боишься, спускайся вниз и сиди. Там ты где угодно
можешь спрятаться.
— Зоя, а ты?
— А я буду наблюдать за ним. Я знаешь о чем сейчас подумала? Зго Маршев с Рудаковым мне голову задурили, наплели про всякие там взрывчатки да яды... А Купрум Эс, может, наоборот, что-нибудь полезное придумывает. Очень ему нужно взрывы устраивать да людей травить!
— Зоя, ты, может быть, права, но только как ты отличишь, отраву он делает или что-нибудь полезное?
— Ну и пусть не отличу! Зато я твоему Маршеву смогу завтра сказать, что лично следила за Купрумом и не струсила, как некоторые. Вот!
Нюся знала, что Зою не переспорить. Она только заявила, что никуда отсюда не уйдет, что сидеть в темном вестибюле ей будет страшней, чем здесь за щитами, сравнительно недалеко от Зои.
— Ладно! Тогда устраивайся удобней и сиди. Только тихо сиди.
Нюся уползла за щиты и шепнула оттуда:
— Зоя, только ты не очень долго?
— Как придется,— ответила Зоя и удалилась в одних чулках в коридор.
Глава тринадцатая
Дверь в лабораторию была по-прежнему открыта. За дверью, у перпендикулярной к ней стены, Зоя увидела большую мойку для посуды. Дальше до самого окна тянулся покрытый пластиком стол, над ним висели застекленные шкафы, а на столе стояли какие-то громоздкие приборы и металлические штативы. Вдоль окон тянулся такой же стол, только подлиннее.
Услышав, что Куприян Семенович покашливает и бормочет где-то в середине комнаты, Зоя набралась храбрости и шмыгнула мимо открытой двери, чтобы разглядеть другую часть лаборатории. И тут она сделала очень приятное для себя открытие: между стеной и распахнутой створкой двери была щель сантиметра в два шириной. Если спрятаться за створкой и приникнуть глазом к щели, можно было видеть добрые две трети помещения, а самой оставаться незамеченной. Зоя так и сделала.
В центре комнаты был еще один стол, длиной метра в два, и примерно треть его занимал диковинный аппарат. Он состоял из стеклянных шаров, стеклянных цилиндров с металлическими змеевиками внутри, стеклянных и металлических трубок и путаницы разноцветных толстых и тонких проводов. У самого основания аппарата чернела доска с какими-то рычажками и измерительными приборами. 1
215
Куприян Семенович стоял перед аппаратом по ту сторону стола, так что Зоя хорошо разглядела его лицо. Ничего безумного она в нем не подметила. Учитель был сосредоточен и выглядел даже свежее и подтянутее, чем последнее время в школе.
Он отмеривал мензуркой какие-то разноцветные жидкости из широких бутылок и выливал эти жидкости в шары. Только теперь Зоя заметила, что сверху у каждого шара есть что-то вроде металлического горлышка с завинчивающейся пробкой. Некоторые шары Купрум Эс наполнял доверху, другие — только наполовину, а в иные наливал жидкость не из мензурки, а из пипетки, по каплям. Завинтив пробку очередного шара, он делал какие-то записи в тетради и бормотал:
— Эн-Це-Эл — восемьдесят кубиков. Зет — два с половиной кубика.
Иногда он прерывал свое занятие, прохаживался по лаборатории, тер ладонью лоб и говорил:
— И все-таки что же я забыл? Ну что я забыл? Ужасная глупость!
Да!
Но чем дальше шла его работа, тем Купрум Эс становился сосредоточеннее и беспокойнее. Завинтив пробку на последнем шаре, он уже не старался припомнить, что он забыл. Он раза два прошелся вокруг стола, нервно тиская руки и, как показалось Зое, с какой-то тревогой, с каким-то боязливым отвращением поглядывая на свой аппарат. Но вот Купрум Эс взял подключенный к аппарату электрический шнур со штепсельной вилкой.
— Ну что ж!.. Начнем,— сказал он очень тихо, вертя перед носом вилку.— Последний раз начнем. Вот так, последний раз!
Он подошел к стене, сунул вилку в штепсель и, вернувшись к аппарату, сел перед доской с приборами. Теперь Зоя могла видеть лишь его спину, правое ухо да правую руку.
Прикусив язык, забыв о Нюське, забыв про все страхи, смотрела Зойка, как работает Купрум Эс. Почему-то в памяти всплыло название книги, которую он подарил ее бабушке: «Химия человеческого мозга».
Купрум Эс щелкал переключателями, и на доске перед ним вспыхивали и гасли маленькие лампочки, колебались стрелки приборов. Потом послышалось какое-то жужжание, оно становилось все громче, и вдруг Зоя увидела, что разноцветные жидкости в стеклянных шарах бурлят, а в трех шарах, куда учитель только капнул из пипеток, теперь проскакивают искры и клубятся светящиеся пары — бледно-голубой, ярко-малиновый и темно-фиолетовый.
— Сто двадцать... Сто тридцать пять... Сто тридцать восемь...— отсчитывал Купрум Эс, глядя на какой-то прибор.— Двести один... Двести сорок... Двести сорок два... Стоп! — Он щелкнул выключателем, жужжание прекратилось, жидкости в шарах перестали бурлить, и цветные пары исчезли.
Учитель встал, подставил химический стаканчи^ под стеклянный
277
краник на концб аппарата и открыл его. Из крана тонкой струйкой потекла совершенно черная и, как видно, маслянистая жидкость. Когда стакан был почти наполнен, струйка сама собой иссякла, и Купрум Эс закрыл краник.
Несколько секунд он тискал кисть одной руки кистью другой, со страхом глядя теперь уже не на аппарат, а на стаканчик. Лицо его подергивалось.
Возьмем себя в руки! Да! Возьмем себя в руки! — произнес он наконец и снова принялся за дело.
На углу стола стоял пузатый портфель. Купрум Эс извлек из него нераспечатанную банку с каким-то вареньем и ключ для открывания консервов, которым он тут же снял с банки металлическую крышку. После этого он вынул из портфеля столовую ложку, зачерпнул ею варенья и, взяв в левую руку стаканчик, снова застыл, с ужасом глядя в пространство.
— Ну!..— сказал он глухо и часто задышал.— Ну! — повторил он громче, явно подбадривая себя, но и теперь не двинулся, а только дышал.— Ну!!! — воскликнул он с отчаянием, отхлебнул из стаканчика, быстро поставил его на стол, сунул в рот ложку с вареньем и тут же бросился к мойке.
Теперь Зоя не могла его видеть, но, судя по звукам, которые до нее доносились, учителя стошнило. Потом она услышала, как Купрум Эс тихонько стонет и полощет рот. Еле волоча ноги, он доплелся до стула, сел, подперев голову рукой, и застыл совершенно неподвижно. Это длилось так долго, и тело учителя так поникло, что Зоя встревожилась, не потерял ли он сознания, а может быть, и вовсе умер. Не думая о том, что делает, она выбралась из-за створки и почти вошла в лабораторию. При этом она машинально схватилась за дверную ручку, дверь слегка скрипнула, и Купрум Эс медленно поднял голову.
Теперь застыла Зоя. Несколько секунд Купрум Эс смотрел на нее совершенно равнодушно, потом так же равнодушно спросил:
— Ты... Ты Зоя? Ладошина Зоя?
— Да,— тихо ответила Зоя.
— А почему ты... почему ты здесь? И в такой час? — Купрум Эс шевельнулся, выпрямился.— Да, вот именно: в такой час?
278
Я... Мы с подругой... мы тут заговорились, а когда пошли
домой, все уже заперто...
Н-нда. Заговорились,— по-прежнему безразличным тоном, не
глядя на Зою, повторил Купрум Эс.— И не заметили, как погасили свет. Во всем здании. Вот так.
Зоя молчала. Она понимала, что сморозила глупость.
— Обманывать нехорошо,— вяло сказал Купрум Эс.— И подглядывать тоже. Это безнравственно — подглядывать. Вот так. Да!
— Я... я не подглядывала.
Учитель не слушал ее. Он продолжал, глядя куда-то в угол:
— Тебя мальчишки научили. Эти... Родя и Веня. Они тебе сказали про свет. И что подозревают. Меня подозревают. Да.— Купрум Эс помолчал.— Ну что ж! Садись, присаживайся. Вот так!
Учитель кивнул на один из стульев, стоявших у стола перед стеной, и Зоя покорно села. Теперь она была уверена, что Куприян
Семенович никакой не сумасшедший и уж вовсе не преступник, и ей было неловко.
Купрум Эс уже смотрел на Зою, а не мимо нее.
— Ты сейчас присутствовала при крушении мечты,— медленно проговорил он.— Да! Большой человеческой мечты.
— Какой мечты, Куприян Семенович? — тихо спросила Зоя.
Купрум Эс встал. Заложив руки за спину, сутулясь, он прошелся
раза два по лаборатории и остановился перед своим аппаратом.
— Вот в этой штуке изготовлена жидкость, которая могла бы принести большую пользу человечеству. Если бы ее можно было пить.
— Пить?
— Вот именно. Я не рассчитал одного: человеческий организм не воспринимает ее.— Учитель покосился на стаканчик и передернул плечами.— Ф-фантастическая гадость! Да!
— А если бы ее можно было пить, тогда что? — спросила Зоя.
— Н-ну... грубо говоря... тогда я приобрел бы способность повелевать. До некоторой степени. Вот так!
Зоя вцепилась руками в края стула и широко раскрыла свои глазищи.
— Повелевать? Куприян Семенович... а... а в.жаком смысле?
279
Я бы мог управлять поступками людей. В какой-то мере...— Купрум Эс опять прошелся взад-вперед.— Я боюсь, что ты меня не поймешь, но попытаюсь объяснить.— Он сел на стул, повернувшись к Зое, опираясь ладонями о колени.— Видишь ли... эта жидкость действует ка структуру некоторых участков нашего головного мозга и резко повышает его способность к излучению. А это излучение может воздействовать на мозг другого человека. Ты понимаешь меня?
— Н-не совсем,— призналась Зоя.
— Гм! Да! — Купрум Эс помолчал, пожевал губами.— Ну, скажем, вот так: я мог бы воздействовать на мозг другого человека и заставить его выполнить мое указание. То или иное. Да!
— Значит, это вроде гипноза?
— Не совсем так, но близко к этому. Да, близко.
— И вы... вы могли бы только подумать: «Сделай то-то!» — и человек сделал бы?
— Не так! Да, не так! Внушение делается только через слово. При этом я должен сосредоточиться. А если человек заткнет себе уши — ничего не выйдет, тут я буду бессилен. Вот так!
Зоя поглядывала то на стаканчик с замечательной жидкостью, то на старого учителя, такого с виду обыкновенного, и ее снова взяло сомнение: а в своем ли Купрум Эс уме? Она осторожно спросила:
Значит... значит, вы могли бы крикнуть: «Люди! Будьте все моими рабами!» — и люди стали бы?
Купрум Эс снова заходил, заложив руки за спину и почему-то склонив голову набок. Подбородок у него задрожал.
— Ты меня оскорбляешь, Зоя! Вот именно! Оскорбляешь, подозревая в таких отвратительных замыслах. Оскорбляешь!
— Почему оскорбляю, Куприян Семенович? Вы меня извините, конечно, только...
— Потому что это — фашизм, да! Это — тирания! Это безнравственно и жестоко, вот так! А ты меня подозреваешь...
Зоя встала. Она никак не могла понять, почему так рассердился старый учитель.
— Куприян Семенович, я ии в чем вас не подозреваю, я просто так сказала, а...
Купрум Эс остановился перед ней. Он держал руки за спиной, но уже не сутулился.
— У моего эликсира куда более скромное предназначение. И куда более гуманное. Вот именно! Я должен был бы обратиться к каждому человеку индивидуально, да! И притом с совершенно конкретным, физически выполнимым для него указанием. А если бы мне потребовалось, чтобы он выполнил другое мое указание, то я должен был бы обратиться к нему вторично, тем же повелительным тоном и также сосредоточившись. Вот так, моя уважаемая, да!
Купрум Эс сел, закинув ногу на ногу, обхватив руками колени. Села и Зоя. Некоторое время длилось молчание.
280
— Куприян Семенович, а почему вы уверены, что жидкость получилась? Ведь вы же ее не испытали!
Купрум Эс снова смотрел куда-то мимо Зои, но говорил на этот ргч не вяло, а твердо, даже немного торжественно.
— Никто не видел атома, но на основании расчетов и косвенных наблюдений люди расщепили атомное ядро, построили атомные электростанции, создали бомбы...
— Значит, и вы на основании расчетов?
— Вот именно! Да! — Купрум Эс вдруг ссутулился, и голос его зазвучал мягче.— Я все, детка моя, рассчитал, кроме «сущего пустяка»: человеческий желудок эту мерзость не воспринимает.
Наступила тишина. Молчал Купрум Эс, молчала и Зоя. Только слышалось, как падают капли из крана в мойку. И вдруг Зою осенила идея:
— Куприян Семенович! А что, если не в желудок, а в кровь? Укол сделать!
Куприян Семенович посмотрел на нее очень внимательно, глаза его сузились, и впервые Зоя увидела, как он улыбнулся тонкими бледными губами.
— У тебя неплохо голова работает, да! Я и сам об этом думал, но это невозможно. Только через пищеварительный тракт. Именно! А в кровь — мгновенно образуется тромб — и смерть. Вот так! Да!
Опять помолчали.
— Куприян Семенович... А что бы вы сделали, если бы смогли это... ну, проглотить?
и опять Зоя увидела, как старый учитель улыбнулся.
— Очень много хорошего, детка, да! — Теперь Купрум Эс мечтательно смотрел поверх Зоиной головы.— Очень много хорошего! Вот, например, у нас на этаже живет художник... Талант изумительный, неповторимый! Но пьет. Неделями пьет. Губит себя. Жена уходить собирается, никакие врачи не помогают. А я бы помог, да! Вот именно! Я бы приходил к нему каждое утро и говорил: «Аркадий Иванович, сегодня ни грамма!» Или, например, Игорь Смирнов из девятого «Б»: умнейший парень, светлая голова, но лодырь неимоверный! Ничего не делает дома. Только шпаргалки изобретает... Остроумнейшие шпаргалки, да! Я бы и его выправил, вот так! Подходил бы каждый день и приказывал: «Приготовь все уроки!»
— Куприян Семенович! А почему вам каждый день нужно приходить и приказывать, чтобы художник не пил, чтобы лодырь делал уроки? Разве нельзя прийти и сказать художнику: «Не смей больше пить! Никогда!»
Прежде чем ответить, Купрум Эс немного помолчал.
— Видишь ли, детка... По моим расчетам, такое внушение не может действовать долго. Максимум — сутки. А потом нужно повторять. Да. Повторять.— Обхватив колено руками, Купрум Эс откинулся на спинку стула, снова заулыбался и стал мечтать: — А потом можно было бы повлиять на шефов, чтобы они помогли оборудова¬
281
нием... Во дворце, например, очень нужны станки — токарный и фрезерный. Ну, а потом, окончательно освоив методику, можно было бы перейти и к более крупным делам... Поехать в какую-нибудь диктаторскую страну и сказать диктатору: «Убирайся вон!» А? Неплохо было бы? Вот так! — И Купрум Эс засмеялся тоненьким детским смешком.
Зоя пожала плечами.
— Так вам же пришлось бы сидеть там все время и повторять каждые сутки: «Убирайся вон!»
— А вот и не так! Да! — живо ответил учитель.— За сутки пришли бы прогрессивные деятели и не пустили бы его обратно. А кроме того, я бы там был и... ну...помогал бы. Вот так! — Купрум Эс внезапно сбросил ногу с колена, взялся рукой за подбородок и снова поник.— И вот все это оказалось мечтами. Пустяка не учел, да! Семь вечеров подряд пытаюсь проглотить. Вот сегодня с вареньем пробовал... Результат один.— Куприян Семенович покосился на стаканчик, где еще осталось довольно много черной жидкости. Бррр! — Он потупился, помолчал.— Вот так, детка! Вот так! Да! — И снова замолчал.
Зоя поглядывала то на стаканчик, то на Купрума Эса. Сердце у нее колотилось. Купрум Эс на помешанного не похож, но говорит такое, что... Ну, а вдруг это правда и все его расчеты верны? А вдруг... вдруг это только он не в состоянии проглотить свой эликсир? Ведь бывают же разные люди: одни, например, любят яйца всмятку, а другие их не переносят.
— Куприян Семенович... а можно, я попробую? — тихо спросила Зоя.
— Бесполезно, дорогая моя. Должен тебе сказать, что один только растворитель для моего эликсира представляет собой смесь профессора Стрельчука — одного из наших крупнейших психиатров. Смесь эта состоит из спирта, касторки, рыбьего жира и небольшого количества медного купороса. А то, что я туда добавляю, в десять раз более отвратительно. Да!
Зоя прикинула в уме: в детстве, когда ей было года четыре, она без особого отвращения глотала рыбий жир... Вспомнилось ей и то, как однажды похвалил ее папа, когда она принимала касторку. Он тогда сказал матери: «Ну и мужественная у нас девчонка!»
— Куприян Семенович, а все-таки можно, я попробую? — повторила она.
Глава четырнадцатая
Купрум Эс только поднял плечи, глядя на носки ботинок.
— Да пробуй, коли себя не жалко. Только подойди к мойке — вырвет.
282
Зоя встала, тихонько, словно боясь нашуметь, приблизилась к столу и взяла стаканчик. Купрум Эс искоса взглянул на нее и тут же отвернулся.
— Боже, какая гадость! — громко прошептал он.
Зоя поднесла стаканчик к губам, понюхала. Вроде ничем не пахло. Зоя вылила жидкость в рот, быстро проглотила и тут же бросилась к мойке. Отвратительный смрад вдруг заполнил ее, рот обволокло чем-то масляным, и Зое показалось, что она хватила по крайней мере пол-литра касторки пополам с рыбьим жиром, приправленным какой-то еще большей мерзостью.
Сжав кулаки, сжав и оскалив зубы, вытаращив глаза, Зоя стояла перед мойкой, уверенная, что ее вот-вот вырвет. И чем дольше она гак стояла, тем больше выпрямлялся на своем стуле Купрум Эс, тем шимательней он смотрел на нее.
Но вот ощущение тошноты стало быстро проходить... Куда-то исчез отвратительный запах, пропала маслянистость во рту... Зоиной голове стало вдруг нестерпимо жарко, так жарко, что слезы побежали из глаз. Но и эта жаркая волна скоро схлынула, осталась лишь холодная испарина на лбу да легкий звон в ушах, довольно приятный.
— Ты... ты, кажется, проглотила? — почти шепотом спросил Купрум Эс.
— Про... проглотила,— так же тихо ответила Зоя.
Купрум Эс встал. Он тискал пальцы и поглядывал то на Зою, то куда-то мимо нее. Он молчал. Он что-то обдумывал.
— Да! — тихо сказал он.— Значит, это строго индивидуально. Я этого не учел. Вот именно: не учел...
— Куприян Семенович...— несмело спросила Зоя,— а когда это начнет действовать?
Куприян Семенович заложил руки за спину и заходил взад-вперед, заходил взволнованно, торопливо.
— По моим расчетам, уже сейчас... Да, сейчас! Это быстро действует... Вот именно! — Он вдруг остановился перед Зоей и, пристально глядя на нее, понизил голос: — Может быть... может быть, давай займемся? А? Вот так!
— Чем займемся? — почему-то со страхом спросила Зоя, хотя и так понимала, чем предлагает заняться Купрум Эс.
— Экспериментом. Да! Проведем эксперимент. Ты мне прикажи что-нибудь... физически выполнимое, но... но заведомо для меня очень неприятное. Только прошу тебя: сосредоточься и властным тоном прикажи. Именно властным тоном, вот так!
— Сейчас? — растерянно спросила Зоя.
— Да! Вот именно... сейчас! Я жду.
Сердце у Зои часто билось, а в голове было пусто. Ну что она может приказать старому учителю, да еще такое, чтобы ему это было наверняка неприятно? В молчании прошла минута, другая.
— Зоя... я жду. Да! — тихо напомнил Купрум Эс.
283
Зоин взгляд упал на стол, где стоял аппарат для изготовления эликсира. Стол этот, как вы уже знаете, был длиною метра в два, и стоял он на шести ножках, скрепленных внизу деревянными планками. И, чувствуя, что Купрум Эс ее ждет, что она ничего умнее придумать не может, Зоя набрала в легкие воздуха и, глядя на учителя, сказала громко и властно:
— Куприян Семенович, проползите сейчас под этим столом! Вы слышите? Приказываю!
Все лицо Купрума Эса обиженно задергалось.
— Как... как тебе не совестно в такой торжественный для меня момент говорить такие глу... глупости, говорить такие пошлости! — дрожащим от негодования голосом проговорил старый учитель и, на глазах у оцепеневшей Зои, опустился на четвереньки.— Неужели тебе доставляет удовольствие так унижать мое человеческое достоинство! — произнес он, глядя снизу вверх на Зою.— Ведь я тебе в дедушки гожусь, если не в прадедушки! Вот так! Да!
Последнюю фразу Зоя услышала уже из-под стола, потом она увидела, как Купрум Эс поднялся по ту сторону его. Он встал, приложил два пальца к нижней губе и оглянулся по сторонам.
— Гм! Да!.. Однако я прополз под столом! Прополз, вот именно! — Он сел на стул и замолчал, нагнувшись, глядя под стол, где только что ползал.
— Куприян Семенович... значит, действует? — сказала Зоя.
Купрум Эс быстро выпрямился.
— А? Действует? Нет, я в этом не уверен. Это... это может быть нечистый опыт.
— Какой опыт?
— Нечистый, да! Я мог поддаться самовнушению. Я ведь столько лет думал об этом!.. Нет, мы должны проверить на ком-нибудь другом. Вот именно: на ком-нибудь другом! Мы сейчас пойдем домой, а завтра проверим. Вот так!
— Куприян Семенович, а почему завтра? Может, сегодня на ком-нибудь?
— Может быть... может быть... Но только что-нибудь очень безобидное. Если то, что со мной произошло, не результат самовнушения, ты, Зоя, обладаешь страшной силой, да! Ужасной силой! И тебе... и нам нужно быть предельно осторожными. Вот так!
Купрум Эс занялся уборкой. Возле одной из стен стоял глухой незастекленный шкаф, дверцы которого были распахнуты. Учитель отключил от сети и поставил в этот шкаф свой аппарат. Затем он принялся убирать склянки. Работая, он то и дело с тревожным любопытством поглядывал на Зою.
— Куприян Семенович, вам помочь? — спросила она.
— Ничего не надо. Садись, отдохни пока, да!
Зоя села, посидела с минуту молча, наконец решилась задать такой вопрос:
284
— Куприян Семенович, а как вы попадаете сюда, во дворец?
Купрум Эс вытирал влажной тряпкой стол, под которым недавно
прополз.
— Не будем говорить об этом, детка, да! Скажу откровенно: незаконно проникаю. Незаконно. Вот так! Ты сама знаешь, что у меня в квартире условий для работы нет.
Он вдруг прервал уборку и потер ладонью лоб.
— Ты знаешь... Меня весь вечер не покидает ощущение, что я забыл сделать что-то очень важное. Да! А что именно — припомнить не могу. Это... это уже старческое, да! Склеротическое нечто... Вот так!
Купрум Эс сполоснул тряпку под краном, выжал ее и повесил на специальный крючок над мойкой. После этого он вымыл руки и запер шкаф со своим аппаратом.
Тут Зоя вспомнила о Нюсе.
— Куприян Семенович, там в коридоре еще одна девочка... Может, ей все-таки приказать, чтобы она не болтала?
Купрум Эс подумал несколько секунд.
— Это очень неприятно, что там девочка. Да, придется приказать. Ничего не поделаешь, очевидно, придется приказать.
И он объяснил Зое, что им необходимо соблюдать строжайшую тайну. Ведь, узнав о приобретенной Зоей силе, люди могут испугаться, залепить себе чем-нибудь уши и изолировать Зою, пока действие эликсира не кончится.
— А разве он не всегда будет действовать? — разочарованно спросила Зоя.
— Не всегда. В зависимости от употребления, да.
— Это как — в зависимости?
— В зависимости от того, как часто ты будешь его употреблять. Вот так.
— А если я им долго не буду пользоваться?
— Тогда он все равно испарится. Он как бензин в открытом сосуде: если ты подожжешь его, он вспыхнет и сразу выделит огромное количество энергии, а если оставишь стоять, он постепенно испарится. Вот так, да.
— Значит, мне потом опять эту гадость принимать?
— Да. Вот именно.
Купрум Эс велел Зое выйти в коридор, сказав, что ему надо выключить свет и снять занавески с окон. Зоя вышла и тут же увидела Нюсю, которая стояла недалеко от двери у противоположной стены коридора.
— Ты чего вылезла? — зашипела Зоя.
— Зоя, я услышала, что вы спокойно разговариваете, и вылезла.
В этот момент свет погас. Зоя отвела Нюсю к щитам, а оттуда на освещенную луной площадку.
— Ты что-нибудь видела?
286
— Видела,— чуть слышно прошептала Нюся.— Как он ползал... под столом.
Зоя хотела было тут же приказать Нюсе никому об этом не говорить, но она как-то не решилась громким приказанием нарушать тишину, царящую во дворце. К тому же она вспомнила слово, данное Куприяну Семеновичу: ничего без него не предпринимать.
Из темного коридора послышался приглушенный голос Купрума Эса:
— Зоя, ты здесь?
— Я здесь, Куприян Семенович.
Учитель появился на площадке и молча остановился, увидев, что Зоя не одна.
— Куприян Семенович... это вот... Нюся Касаткина. Познакомьтесь, пожалуйста!
— Очень приятно, да! — сухо сказал Купрум Эс, не подавая Нюсе руки.— Пойдемте, девочки!
Зоя и Нюся достали из-за щитов свои плащи, и все двинулись вниз по лестнице.
Что же я забыл? Боже ты мой! Что же я забыл? — бормотал по дороге учитель.
Они миновали вестибюль, подошли к застекленному тамбуру, и тут Купрум Эс приостановился и воскликнул почти радостно:
— Вспомнил! Теперь вспомнил! Я забыл ключ в замке наружной двери, а внутреннюю преспокойно запер другим ключом. Вот так!
Он порылся в кармане, достал нужный ключ, открыл внутреннюю дверь... Все вошли в тамбур и только тут увидели: перед наружной застекленной дверью, слегка приоткрыв ее, стоит человек. Никто не мог разглядеть его лица, но все поняли по темному силуэту, что на нем фуражка, что на нем плащ, что на плаще погоны... И все догадались, что это милиционер.
— Гм! Да!.. Вот так!..— тихо пробормотал Купрум Эс.
Милиционер пошире открыл дверь, и первой вышла Нюся, затем
Зоя и учитель.
Теперь Зоя разглядела мужественное, с горбинкой на носу, лицо милиционера. Он поднял руку, в которой держал ключ, и показал его Купруму Эсу.
— Это вы ключи в дверях оставляете? — спросил он строго.
— Да? Да-да! Я. Спасибо большое! — пробормотал Купрум Эс. Он взял у милиционера ключ, запер им дверь и положил его в карман.— Возмутительная рассеянность. Да! Благодарю! Пойдемте, девочки!
Он хотел было идти, но милиционер загородил ему дорогу.
— Минутку! А зачем вы ходили во дворец после его закрытия? Я присутствовал, когда его запирали. И вообще откуда у вас этот ключ?
— Но, видите ли... я сотрудник... да, я сотрудник...— все больше
287
теряясь, заговорил Купрум Эс.— Я кое-что забыл и вот зашел... По делу зашел, да.
— А у девочек какие тут дела в двенадцатом часу ночи?
— А они... они со мной... Помогали... Да, помогали.
— Документы ваши, прошу!
Купрум Эс сунул руку в левый нагрудный карман пиджака, потом в правый.
— Документы у меня в другом кармане... Они у меня в другом пиджаке, я хотел сказать... Они дома, да.
Милиционер немного помолчал.
— В таком случае, пройдемте со мной!
— Ку... куда пройдемте? — с запинкой переспросил Купрум Эс.
— Пройдемте! — повторил милиционер.— А вы, девочки, идите домой. Идите!
Купрум Эс не двинулся. Он только переминался с ноги на ногу и озирался в страшной растерянности. И тут блестящая мысль мелькнула в голове у Зои. Она подняла голову и уставилась в лицо милиционера.
— А ну-ка, слушайте меня! — сказала она громко и властно.
Теперь милиционер уставился в ее глазищи.
— Уходите отсюда немедленно! Немедленно уходите! Слышите?
Ну!
— Следуйте за мной, гражданин! — сказал милиционер и спустился с крыльца.
Купрум Эс, конечно, не двинулся. Он схватился рукой за подбородок.
— Так, так, Зоенька! — сказал он тихо, но очень взволнованно.— Так-так!
Милиционер вошел в аллею, ведущую к воротам, и обернулся.
— Гражданин! Пройдемте, говорю! — сказал он строго и, продолжая шагать, исчез в глубине аллеи.— Гражданин! — прокричал он из темноты.— Вас не касается?!
Больше милиционер ничего не сказал: как видно, понял, что с ним творится неладное. Затарахтел мотор мотоцикла, и звук этот скоро удалился. А трое на крыльце некоторое время стояли молча.
— Вот так, значит! Вот так! Да! — пробормотал Купрум Эс. Слова были пустяковые, но Зоя понимала, какой за ними кроется огромный смысл. Эликсир Купрума Эса удался! Расчеты старого учителя оказались верны! И она... она, Зоя Ладошина, может теперь повелевать!
Зоя взглянула на Нюсю, которая смотрела вслед милиционеру. Брови у Нюси были перекошены, а рот опять походил на знак бесконечности.
Зоя стала напротив Нюси и вытаращила на нее глаза.
— Нюська, не смей никому рассказывать о том, что мы были во дворце и что ты здесь видела и слышала! Приказываю! Понимаешь?
288
— Понимаю,— тихо и покорно ответила Нюся.
— Так-так! Пойдемте, девочки,—сказал Купрум Эс.
До самого Нюсиного дома они почти ни о чем не говорили, только один раз учитель заметил, что ночь сегодня прохладнее, чем вчера, на что Зоя сказала, что она вчера вечером из дома не выходила. Нюся всю дорогу не произнесла ни слова, а перед своим подъездом слабо пискнула:
— Спокойной ночи!
И ушла, шмыгая носом.
Теперь Купрум Эс пошел провожать Зою. Он был по-прежнему молчалив и даже как-то подавлен. Молчала и Зоя. Она видела, как подействовали ее приказания на учителя, на милиционера, но ей все еще не верилось, что она обладает такой чудесной силой.
— Значит, так, Зоенька,— сказал Купрум Эс, остановившись перед ее подъездом.— На большой перемене ты приди завтра ко мне в химический кабинет, и мы поговорим. Мы обсудим, как нам дальше... Вот так! План действий обсудим. Дальнейших... да!
— Хорошо,— сказала Зоя. Она попрощалась с учителем и открыла дверь подъезда, но Купрум Эс остановил ее:
— И... и, Зоя, заклинаю тебя: ничего никому не приказывай до встречи со мной. Ты мне это обещай. Вот именно: обещай! Зоя, ты обещаешь?
— Обещаю,— сказала Зоя.— Спокойной ночи, Куприян Семенович.
В передней Зою встретила бабушка.
— Ну, слава тебе господи! — вырвалось у нее, когда она увидела внучку. Потом она сильно затянулась сигаретой, выпустила дым и накинулась на Зою: — Где ты пропадала, дрянная девчонка? И что это за дурацкая записка? Ты что, не знаешь, что у матери сердце слабое, что ее нельзя так волновать?!
— А где папа с мамой? — спросила Зоя.
— Тебя ищут, по улицам бегают, вот где!
— Так они же все равно не знают, где меня искать!
— Совершенно верно, не знают, но мама сказала, что не может спокойно дома сидеть. Ну говори, где ты была!
— Я не могу сказать, это тайна,— ответила Зоя.
После этого бабушка умолкла на несколько секунд, а потом заговорила негромко, с подчеркнутым спокойствием:
— Ах вот как! У нас уже появились тайны от близких! Ну хорошо! Вернутся родители, и мы обсудим, как нам с этих пор вести себя по отношению к тебе. А теперь умывайся и ложись спать!
Зоя чистила зубы, когда бабушка появилась на пороге ванной.
— Между прочим, я просмотрела твой дневник и тетради и убедилась, что ни один урок на завтра не приготовлен. Что с тобой делается, Зоя, ты не объяснишь?
И тут Зоей овладело искушение нарушить слово, данное Купруму
10 Школьные годы. Выпуск 2
289
Эсу. С ней, которая наделена теперь таким могуществом, которой предстоит совершить так много удивительных добрых дел, с ней обращаются, как с самой обыкновенной девчонкой, она обязана готовить уроки, словно какая-нибудь Нюська Касаткина! Зоя прополоскала рот и резко повернулась к бабушке.
— Бабушка! — сказала она отчетливо и громко.— К завтрашнему дню приготовь мне все задачки, которые в дневнике записаны. А я утром их перепишу. Вот так!
— Очень мило! — холодно сказала бабушка.— Вместо того чтобы извиниться и объяснить свое поведение, мы еще изволим так глупо шутить! — Она повысила голос: — Ложись спать! Слышишь?
Зоя спала в одной комнате с бабушкой. Здесь же стоял ее столик с учебниками и тетрадями. Забравшись под одеяло, Зоя стала ждать, когда на бабушку подействует ее приказание. Бабушка в комнату не входила, но Зоя слышала, как та беспокойно бродит по квартире: то удалится в кухню, то зайдет в комнату родителей, то пройдет в папин кабинет...
Зазвонил телефон, и Зоя услышала, как бабушка сказала:
— Явилась. Ничего не хочет говорить.
Зоя не дождалась возвращения родителей. Она заснула.
А утром бабушка еле растолкала ее:
— Зоя, в школу опоздаешь! Зоя, проснись!
Зоя с трудом выползла из-под одеяла. Рот ее раздирался от зевоты. Когда она умывалась, ей вспомнился глупый сон, увиденный ночью: Купрум Эс, ползущий под столом, милиционер, покрикивающий из темноты: «Гражданин, пройдемте!» Но чем яснее становилось у Зои в голове, тем все больше ей вспоминались все детали этого «сна». Вспомнила Зоя и то, как она велела бабушке приготовить за нее математику. Вспомнила она это во время завтрака.
Папа и мама уже уехали на работу, они были с бабушкой одни. Зое очень хотелось спросить бабушку насчет математики, но она все как-то не решалась.
Бабушка с сигаретой в зубах хозяйничала тут же на кухне. Как всегда, она была прямая, подтянутая, невозмутимая; как всегда, двигалась неторопливо, но точно. Однако под черными глазами ее Зоя заметила синевато-коричневые круги.
Бабушка ткнула сигарету в пепельницу, где было полно окурков, тут же взяла из пачки новую сигарету и, закуривая, не глядя на внучку, проговорила:
— Зоя, вот что я хочу тебе сказать: я тебя на этот раз пожалела и задачки за тебя решила, но, Зоя, чтобы это было между нами! Чтобы папа с мамой не знали, как я тебя балую!
Зоя поперхнулась яйцом всмятку и долго кашляла.
— Хорошо, бабушка. Спасибо! — наконец сказала она.
Зоя, конечно, не выспалась, но по дороге в школу она чувствовала такую бодрость, такую легкость, словно проспала все девять часов. Она шла очень быстро, но старалась шагать бесшумно. Она все время
290
прислушивалась: что же происходит там, внутри нее? Теперь она была уже не прежней Зоей Ладошиной, а каким-то другим человеком. Почти другим: вроде бы все еще та, но вместе с тем уже совсем не та.
А потом Зое вдруг очень захотелось еще разок проверить свою чудесную силу. Вот можно было бы, например, сказать идущей навстречу толстой тетеньке: «А ну, отдайте мне вашу сумку с продуктами!» Зоя, конечно, не собиралась заниматься грабежом, она бы тут же вернула сумку, но все-таки очень интересно было посмотреть, с каким видом гражданка выполнит ее приказание.
Но Зоя сдержалась. Глупо было растрачивать свою силу на такие пустяки, когда она может совершить множество важных дел, благородных, даже великих.
Глава пятнадцатая
Войдя в школьный двор, Зоя увидела в углу кучку ребят из пятого «Б». Кучка росла на глазах, потому что к ней подходили другие ребята даже из других классов. Зоя тоже подошла.
В центре стояла Круглая Отличница с пачкой исписанных тетрадочных листков в руках, рядом с ней Лешка Павлов, тут же был и Родя, который за эти сутки почему-то побледнел и осунулся.
— Что тут? Чего тут? — спрашивали вновь подошедшие.
— Тихо! — сказал Павлов.— Родькину статью читают. В стенгазету. Общешкольную! Круглая, давай с самого начала читай, а то вон они еще не слышали.
И Ляля начала громко читать:
— «Открытое письмо в стенгазету «Алый парус».
В наш грандиозный век научно-технической революции происходит бурный рост интереса к науке и технике в рядах современных пионеров и школьников. Миллионы юных пионеров и школьников во всех концах нашей необъятной 'страны стремятся стать изобретателями или научными исследователями. Но что же делается для того, чтобы помочь им в этом благородном деле? Кому не известно, что в районном Дворце пионеров и школьников имеется научно-конструкторское общество «Разведчик». Но кто же имеет право быть членом этого общества? Увы, туда принимаются не младше седьмого класса, а перед пионерским возрастом там поставлен железный заслон. Справедливо ли это? Вот что показал социологический опрос, проведенный среди учащихся четвертых, пятых и шестых классов двадцать восьмой школы...»
Тут Ляля сделала паузу, потому что перепутала листки и не сразу нашла нужный. Во время этой паузы Лешка увидел Зою.
— Во, Ладошина! — сказал он.— Это тебе не двоечников в стенгазете протаскивать!
291
Кое-кто из ребят засмеялся. Зоя вспыхнула и хотела было уйти, но тут снова вспомнила про эликсир Купрума Эса, и ей даже стало приятно, что Павлов говорит колкости по ее адресу, что ребята посмеиваются над ней. Ведь захоти она, и этот самый Павлов побежит сейчас на четвереньках по двору, захоти она, и он укусит за ногу директора школы Клавдию Мироновну, которая стоит недалеко и разговаривает с одним из педагогов. И Зое стало еще приятней, когда она поняла, что не хочет размениваться на подобные пустяки.
Ляля пояснила, что социологический опрос еще не закончен, поэтому вместо цифр в статье оставлены пропуски. Затем она продолжала читать, но скоро замолкла, потому что зазвенел звонок. Все двинулись в школу. Многие восхваляли Маршева, говорили, что статья получилась «совсем как во взрослой газете».
Надо объяснить, почему Родя вдруг стал единственным автором статьи. Когда «инициативная группа» собралась, Валерка признался, что от его присутствия никакой пользы не будет: ведь по сочинениям он еле-еле на тройки вытягивает. Круглая Отличница сказала, что она короткую заметку о пустельге писала целую неделю, да и то с помощью дяди. Что касается Вени, то он мог ничего не говорить: Родя весь год помогал ему писать сочинения.
Приступив к работе, все на несколько минут погрузились в молчание, затем Родя придумал начало первой фразы: «В наш грандиозный век научно-технической революции...» Ее с восторгом одобрили, и немного погодя Родя закончил предложение. А еще минут через двадцать Веня сказал:
— Ну, Родька, ты же видишь, что мы все трое сидим как попки! Только тебе мешаем да сами себя мучаем. Давай пиши ты один, а мы пойдем.
Родя не возражал. Ему легче было думать в одиночестве. Три члена «инициативной группы» ушли, а он продолжал трудиться. Он работал, с перерывом на ужин, до тех пор, пока мама не отправила его спать. Он лег в постель, но заснуть не мог, потому что замечательная, боевая, как ему казалось, статья продолжала писаться в его голове. Наконец он начал задремывать, но тут ему вспомнилось, что он не посмотрел на окна Дворца пионеров. Он вылез из-под одеяла, прильнул к трубе. Два окна были совершенно темны, но в третьем чуть светился верхний угол. Родя, конечно, не знал, что там, за черными занавесками, стоит взволнованная, только что проглотившая эликсир Зойка и смотрит, как Купрум Эс убирает в шкаф свой аппарат.
В шесть часов утра Родя проснулся, вспомнил про статью, тут же оделся и сел за стол. К тому времени, когда мама позвала его завтракать, статья была готова. Родя показал ее маме, чтобы та исправила грамматические ошибки (орфография у него хромала), и мама сказала, улыбаясь:
— Лихо написано!
На школьном дворе Родя ознакомил со статьей членов «ини¬
292
циативной группы», и их одобрение выразилось в одном слове, которое произнес Валерка:
— Блеск!
Родя сказал, что не мешает показать статью Гене, чтобы тот ее отредактировал, но Веня закричал:
— Ну да еще! А он скажет, что мы опять заставляем его с нами нянчиться. Нет уж, фигушки! Давайте действовать самостоятельно!
К ребятам подошел Павлов, услышал разговор о статье, попросил показать ее, тоже удивился, что Родя такой блестящий журналист, и стал подзывать других ребят. Так образовалась толпа, к которой присоединилась и Зоя.
Когда она подымалась с другими ребятами по лестнице, она слышала такие слова, как «дискриминация пионерского возраста» (их повторял Веня), такие фразы, как «надо бороться за свои права» (их выкрикивал Перпетуум-мобиле). И слышала Зоя, как, подымаясь по ступенькам, к Маршеву негромко обратился Лешка Павлов:
— Родь!.. Подскажи мне, чем бы мне заняться таким... научным!
— Вот если организуем филиал «Разведчика», там тебе и подскажут,— ответил Родя.
Зоя догадалась, что она что-то пропустила за вчерашний день, когда, удаляясь от всех, строила планы засады во дворце. Она догадалась, что в школе происходят какие-то события, в центре которых находится Родя Маршев, и она стала прислушиваться и приглядываться.
Своих друзей Зоя по-прежнему сторонилась, а когда они заговаривали с ней, обрывала коротким «отстань». То же было сказано и Нюсе Касаткиной. Нюсю нисколько не удивляло, что ей совсем не хочется рассказать кому-нибудь о ночных приключениях: ведь она и так привыкла во всем слушаться Зою. Но ей очень хотелось спросить Зою, почему Купрум Эс очутился во дворце. Теперь, услышав Зоино «отстань», она только издали смотрела на Ладошину жалобными, озадаченными глазами.
Скоро Зоя поняла, что происходит. Оказывается, в школе многих ребят привлекает идея создания пионерского научного общества. Среди них есть такие, кто увлекается изобретательством да всякими исследованиями, но немало и таких, которые подобными делами никогда не занимались, однако в научное общество все равно хотят вступить. Были, наконец, и своего рода болельщики, которые просто интересовались, чем кончится эта затея.
Зоя прислушивалась ко всем этим разговорам и усмехалась про себя. Так взрослые и станут по первому требованию организовывать пионерское научное общество! Прочтут Родькину статью — и давай организовывать! И вдруг (это было уже на третьем уроке) у нее появилась такая мысль: а что, если за это возьмется она? Что, если это и станет ее первым добрым делом?
Нет, она, конечно, не станет открыто раздавать приказания на¬
293
право и налево. Ей вовсе не нужно, чтобы люди догадались о ее замечательной способности: чего доброго, начнут себе уши затыкать. Нет, она будет действовать умнее и тоньше, она будет действовать так, что все увидят, чего стоит их хваленый Родечка и что такое она, над которой многие сейчас только посмеиваются.
Зазвенел звонок на большую перемену, и Зоя отправилась в химический кабинет, где была назначена встреча с Купрумом Эсом. По дороге она обдумывала, стоит ли говорить о своем замысле старому учителю, да так ничего и не решила.
Купрум Эс был один. Он ходил между столами, на которых стояли металлические штативы и газовые горелки. Как всегда в минуты волнения, он тискал одну руку другой.
— Здравствуй, Зоя! — сказал он, продолжая ходить.— Ты спала?
— Здравствуйте, Куприян Семенович! Спала.
— А я не спал... Ни минуты не спал. И ведь что удивительно: я наперед знал, как будет действовать мой эликсир, но, увидев, что ты сделала с милиционером, я был потрясен. Вот именно: потрясен! — Купрум Эс помолчал.— Зоя, надеюсь, ты сдержала слово, ты больше никому ничего не приказывала?
— Н-никому,— с запинкой соврала Зоя.
— Это хорошо, это очень хорошо! А то, знаешь, я всю ночь размышлял, и я понял, какая, в сущности, это опасная штука мой эликсир, какая, в сущности, это страшная вещь! С ней можно сделать много добрых дел, но еще больше можно зла принести, можно бед натворить. Да! Вот так!
Зоя с некоторой обидой подумала: Купрум Эс, пожалуй, не говорил бы всего этого, если бы эликсир оказался не у нее в желудке, а в его собственном. А учитель остановился и, пристально глядя на Зою, спросил:
— Зоя, ведь ты не будешь злоупотреблять вот этой... обретенной тобой способностью? Ведь ты не будешь злоупотреблять?
Зоя обиделась еще больше. Так обиделась, что в голосе ее послышались слезы.
— Куприян Семенович! Между прочим, если бы я хотела злоупотреблять, то я, между прочим, не в школу пошла бы, а по магазинам. И я, между прочим, приказала бы там выдать мне что угодно, чего только моя душа пожелает... А я, кажется, никуда не пошла, а стою вот тут, между прочим...
— Да-да! — быстро сказал Купрум Эс и снова заходил.— Ты извини меня! Я понимаю, что сказал нечто... нечто оскорбительное... Вот так!.. Извини, пожалуйста! — Он подошел к своему учительскому столу и сел боком к нему.— Давай присядем и спокойно все обсудим, да.
— Спасибо, Куприян Семенович. Я уже насиделась на уроках,—
294
угрюмо ответила Зоя и продолжала стоять.— Так, значит, когда же мы делами займемся? Добрыми.
Подождем немного, Зоя. Мне надо все как следует взвесить.
Ну давайте, как вы говорили: начнем с самого простенького...
Давайте я вашего соседа от пьянства вылечу.
К сожалению, мы опоздали, Зоенька. Вот так! Он уже в
больнице: вчера увезли.
Ну, тогда... тогда давайте я вашего лодыря заставлю уроки
делать...
Купрум Эс положил ногу на ногу и обхватил руками колено.
— Об Игоре Смирнове я думал. Да, я думал. Но, видишь ли, какая тут сложность получается. Если бы к нему каждый день подходил я, преподаватель, и приказывал готовить уроки, он воспринял бы это как нечто вполне естественное. Но если ему будет отдавать приказания такая маленькая девочка, как ты, и он каждый раз будет ей подчиняться, сам не зная почему, это, Зоя, может привести его к большой психической травме... И к тому же он может в конце концов догадаться о твоей поразительной силе, и... и совершенно неизвестно, чем для нас это может кончиться.
— Как-то странно получается, Куприян Семенович! По-моему, волков бояться, так в лес не ходить.
Купрум Эс слегка сдвинул брови.
— Зоя, со старшими таким тоном не разговаривают. Позволь тебе это заметить, да!
Но это еще больше рассердило Зою. Она скрестила руки на груди.
— А как же мне говорить, Куприян Семенович? Эликсир из меня потихоньку испаряется, а вы все «дай подумать» да «дай подумать»! Может, я зря эту гадость пила?
— Зоя, кажется, я объяснил тебе: я не могу в подобных делах принимать скороспелые решения, да! И еще раз повторяю, оставь, пожалуйста, этот наглый тон! Именно наглый, вот так!
— У меня, Куприян Семенович, тон никакой не наглый, а самый обыкновенный, вот! А если вы не можете принимать решения, тогда я могу принимать решения. Вот!
Купрум Эс вскочил.
— Что-что? — тихо переспросил он.
— А вот то, что это очень несправедливо: почему это я должна мучиться, всякую гадость глотать, а вы будете только решения принимать да мной командовать?
— Потому... потому, что ты еще мала, Зоя! — дрожащим голосом почти закричал Купрум Эс.— Вот так! Мала!
Зоя уперлась кулаками в бока.
— Ах, если я мала, значит, у меня в голове мозгов совсем нет! А я вот, между прочим, такое доброе дело придумала, что с вашими пьяницами да лодырями не сравнить! Мне за него человек... человек двести спасибо скажут. Вот!
295
Купрум Эс сжал костлявые, опущенные к бедрам кулаки.
А я... я запрещаю тебе что-либо предпринимать! Категорически запрещаю! Категорически, да!
И тут Зоя совсем перестала сдерживаться.
— А между прочим, вы мне ничего не можете запретить! — в свою очередь почти закричала она.— Это, наоборот, я вам могу запретить! И я вам запрещаю мне что-нибудь запрещать! Слышите? И я... я вам приказываю не спорить со мной! Вот!
И в кабинете химии наступила тишина. Только гомон ребят в коридоре доносился из-за двери. Бледная Зоя смотрела на Куприяна Семеновича, а бледный учитель смотрел на нее. Светлые глаза его стали почти круглыми. Вот он открыл рот, словно собираясь что-то сказать, вдруг как-то судорожно скривил его и, не сказав ни слова, снова закрыл. Потом опять открыл и, опять не издав ни звука, закрыл. Так повторилось несколько раз. Зое стало немножко жутко, и она вдруг выкрикнула из последних сил:
— И вообще... и вообще... уходите и не показывайтесь мне сегодня на глаза!
Так Купрум Эс вторично испытал на себе действие своего эликсира. Ноги его сами собой пошли к двери, и одновременно он почувствовал, как невыносимо для него сознание, что Зоя смотрит на него. Но стоило ему выйти в коридор, как тут же наступило облегчение. Он мог теперь рассуждать спокойно и действовать хладнокровно. Гомонившие в коридоре третьего этажа ребята давно не видели старого учителя таким бодрым, таким подтянутым. Он прошел мимо них твердым размеренным шагом, подняв голову, слегка выпятив грудь. Он знал, что сегодня уроков у него больше нет, поэтому, выйдя из школы, направился во Дворец пионеров.
— Добрый день, Сильвия Михайловна! — сказал он женщине, сидевшей в вестибюле.— Ключ мой, пожалуйста!
Сильвия Михайловна выдвинула ящик стола, достала ключ.
— Что так рано сегодня, Куприян Семенович? — спросила она.
— Навести порядок надо. Вот так! Вы не знаете, Николай Николаевич у себя?
— У себя. Тоже порядок наводит.
Николаем Николаевичем звали руководителя кружка «Умелые руки». Куприян Семенович поднялся к нему на третий этаж.
— Добрый день, Николай Николаевич! — сказал Купрум Эс.— Вы не одолжите мне молоток? Побольше.
— С возвратом,— ответил сорокалетний лысый крепыш в синем халате.
— Разумеется. Благодарю вас! Да!
С молотком в руке учитель спустился на второй этаж, отпер дверь своей лаборатории и вошел в нее. Здесь он постоял, подумал, приложив указательный палец к нижней губе, затем достал из кармана пиджака другой ключ, поменьше, и открыл им шкаф, где хранился
296
его аппарат. В этом же шкафу, свернутые, лежали черные полотнища, которыми Купрум Эс занавешивал окна. Он вынул их, постелил одно полотнище на стол посреди лаборатории, на это полотнище постелил другое, на них он поставил вынутый из шкафа аппарат и закрыл его третьим занавесом.
После этого Куприян Семенович взял в руки молоток и в молчании постоял с минуту перед возвышающейся на столе черной угловатой горой.
— Н-да!.. Вот так! — сказал он и, держа ручку молотка вертикально, стукнул его стальной головкой по горе. Послышался негромкий звон стекла, и гора в одном месте осела. Купрум Эс ударил еще, еще, еще... Он орудовал молотком, как пестиком, и неторопливо толок им свой хрупкий аппарат. Скоро от горы ничего не осталось, кроме мелких бугорков под черной материей. Теперь при каждом ударе молотка слышался не звон, а лишь негромкий хруст.
Купрум Эс перестал стучать. Хотя работа была не тяжелая, сильная испарина выступила у него на лбу. Покончив с аппаратом, он вылил в мойку содержимое своих бутылок и под струей воды соскреб с них бумажные ярлыки. Затем он снова подошел к шкафу, где в тайнике, за фальшивой стенкой, хранилась толстая тетрадь с расчетами и формулами. Вынув ее оттуда, учитель отправился в туалет. Там, стоя перед унитазом, он порвал свои записи на мелкие клочки и несколько раз спустил воду.
Разделавшись с тетрадью, Купрум Эс свернул занавеси вместе с осколками аппарата в один узел, сошел по узкой запасной лестнице во двор и бросил черный узел в большой железный бак для мусора. После этого он вернулся в лабораторию, чтобы взять молоток, снова вышел, запер за собой дверь и поднялся на третий этаж.
— Благодарю вас, Николай Николаевич! — сказал он, возвращая молоток.
— Не за что!
— Всего доброго, Сильвия Михайловна! — сказал Купрум Эс в вестибюле, отдавая ключ.
— До свидания, Куприян Семенович!
Твердыми шагами, расправив плечи, с поднятой головой Куприян Семенович пошел к выходу.
Глава шестнадцатая
А Зоя постояла несколько секунд и вышла из кабинета, захлопнув за собой дверь. Ей было не по себе, ей было неловко, что она так поступила со старым учителем, но скоро она утешилась такой мыслью: вот она совершит несколько добрых дел самостоятельно, докажет Купруму Эсу, что все его опасения напрасны, и они помирятся.
298
До конца большой перемены оставалось еще много времени, и Зоя спустилась в буфет перекусить.
Взяв у буфетчицы сардельку с капустой и стакан компота, Зоя увидела, что за одним из столиков сидит редактор стенгазеты «Алый парус» Лева Трубкин, а с ним еще трое старшеклассников. Лева был очень заметной фигурой в школе. Его стихи уже несколько раз печатались в областной молодежной газете, да и внешне он выглядел, как, по мнению школьниц, подобает выглядеть настоящему поэту: высокий лоб, брови вразлет, римский нос и густая волнистая шевелюра.
Только Зоя принялась за еду, как в буфет заглянул Веня и, обернувшись через плечо, громко сказал:
— Родь!.. Здесь он, Трубкин.
После этого Маршев и Рудаков вошли и приблизились к редактору.
-- Здравствуй, Трубкин! — сказал Родя.— «Алый парус» скоро выходит?
— В смысле очередного номера,— уточнил Веня.
— Завтра выходит. А в чем дело?
— Вот тут статья...— немного смущенно сказал Родя.— Значит, ее нельзя будет завтра... а только через месяц? (Общешкольная газета выходила раз в месяц.)
— Да уж не раньше,— ответил Трубкин.— А что за статья? Покажи!
Родя передал Трубкину пачку тетрадочных листков.
— Ого! — с усмешкой сказал редактор.— Солидно звучит: «Открытое письмо в стенгазету «Алый парус».
Улыбаясь, а иногда и фыркая от смеха, он пробежал глазами первый листок и передал его соседу. Тот, едва взглянув на листок, расплылся в улыбке и стал приговаривать:
— Ух ты! Во дают!
Дочитав, он в свою очередь передал начало Родиной статьи третьему старшекласснику, к тому придвинулся четвертый. Читая, они ничего не говорили, а только похохатывали:
— Ха!.. Ха-ха!.. Ха-ха-ха!..
А Лева за это время подсунул следующий листок, который вызвал еще большее веселье.
Зоя видела, как постепенно краснеет и все чаще помаргивает Родя, как Венька тревожно взглядывает то на него, то на смеющихся старшеклассников, и никак не могла понять, над чем же эти старшеклассники смеются.
Когда статья была прочитана, Лева аккуратно собрал листочки и передал их Роде.
— Увы, сэр! — сказал он.
— Не пойдет? — тихо спросил Родя.
— Увы! — повторил редактор.— Ни в этом номере, ни через месяц.
299
— А почему не пойдет? — спросил Веня.
Редактор отодвинул от себя стакан с остатками кефира и откинулся на спинку стула.
Не пойдет по двум причинам. Во-первых, такое открытое письмо займет у нас полгазеты. А во-вторых, прежде чем заниматься наукой, следует овладеть элементарной грамотностью. Я, конечно, не инспектор Мегрэ, но все-таки могу утверждать, что тут некоторые орфографические ошибки исправлены почерком не самого автора, а кого-то из взрослых.— Лева обернулся через плечо к Роде.— Итак, сэр, увы! — еще раз повторил он.
Родя больше ничего не сказал и вышел. Веня, конечно, последовал за ним.
Минуты через две, быстро покончив с завтраком, вышла из буфета и Зоя. В коридоре второго этажа она увидела толпу даже побольше той, что слушала во дворе Родину статью. В центре ее стоял притихший и, как видно, смущенный Маршев. Рядом с ним — Веня.
— Ну ты скажи конкретно: что они вам говорили? — спрашивал Лешка Павлов.
— Да ничего не говорили! — сердито отвечал Веня.— «Хи-хи-хи» да «ха-ха-ха» — вот что говорили!
— Н-ну, правда, на орфографические ошибки указали,— неохотно добавил Родя.
— Во бюрократы, во бюрократы! — закричал Перпетуум-мобиле.— А кто их не делает — орфографических ошибок?! Кто?! Надо на содержание смотреть, а не на ошибки!
Все одобрительно загудели, а Круглая Отличница вставила:
— Интересно, как бы стенгазеты стали выходить, если бы все заметки не принимали за грамматические ошибки!
— Говорят, Лев Толстой и то с ошибками писал,— заметил еще кто-то.
— Да вообще безобразие! — сказал Павлов.— Трубкин не один газетой командует, на это редколлегия есть! Вам надо в комсомольскую организацию пожаловаться или Надежде Сергеевне.
И тут Зою осенила такая мысль, что она даже побледнела. Она протиснулась сквозь толпу поближе к Роде.
— Товарищи! Граждане! Разрешите мне сказать!
— Ну говори,— пробасил Павлов.
— Понимаете,— нарочито мягко, даже застенчиво заговорила Зоя,— я вот была в столовой, когда Трубкин читал статью, и слышала весь разговор... И по-моему... Маршев, конечно, очень умный человек... и Рудаков тоже, но по-моему... Ты извини меня, Маршев... но, по-моему, ты как-то не умеешь разговаривать со старшими ребятами. Ты как-то застеснялся, стушевался... и Рудаков тоже... А нужно было с ними в спор вступить и... и логически доказать...
Зазвенел звонок, и под этот звон Павлов прокричал:
— Ты учить умеешь! А вот ты сама пойди и докажи! Логически!
300
Зоя подождала, пока умолкнет звонок, чтобы ее все услышали.
— Я ничего не обещаю, конечно, но... попытаюсь. Может, мне и удастся Трубкина уговорить. На следующей перемене.
— Во фасон! — воскликнул Валерка, и ребята двинулись в кабинет.
Разумеется, Зоя не знала, в каком кабинете занимается Трубкин, и на следующей перемене ей пришлось его долго искать.
В самом конце перемены перед пятым уроком редактор стенгазеты «Алый парус», стоявший в кругу одноклассников, увидел, что к нему подошла хорошенькая черноглазая девочка.
— Трубкин,— проговорила она,— можно тебя на минуту? Мне нужно тебе что-то сказать.
— Откуда ты, прелестное дитя? — продекламировал одноклассник редактора.
— Пожалуйста! Я слушаю,— сказал Трубкин.
— Мне... мне надо наедине поговорить.
— Лева, я ревную! — сказала одна из девушек.
Трубкин улыбнулся и раскланялся перед Зоей.
— Мадемуазель, я к вашим услугам! — Он поднялся вместе с Зоей на площадку между этажами.— Ну... мне кажется, мы достаточно уединились...
И тут, глядя снизу вверх на редактора, Зоя сдвинула брови и отчеканила:
— Трубкин! На следующей перемене ты возьмешь у Роди Мар- шева его статью и поместишь ее в завтрашнем номере газеты. Слышал? Вот!
— И это все? — улыбаясь, спросил Трубкин.
— Все. Родя Маршев учится в пятом «Б».
Редактор шутливо погладил Зою по голове.
— Успокойся, детка, приди в себя! — сказал он, сбежал по ступенькам и вернулся к своим одноклассникам.
Те его спросили:
— Как! Свидание уже кончилось?
— Что она тебе сказала?
— Редакционная тайна,— в тон им шутливо ответил Трубкин.— По поводу одной статьи, одной гениальной статьи.
Он говорил это шутя, но почему-то в нем крепла уверенность, что он обязательно должен поместить эту глупую, по его мнению, статью.
Зоя чуть не опоздала на урок: когда она вернулась к своим, ребята уже входили в кабинет. Усаживаясь за стол, Павлов громко спросил:
— Ну что, Ладошина? Говорила с редактором?
Зоя скромно опустила ресницы, но ответила тоже громко:
— Говорила.
— Ну и что?
301
— Он сказал, что подумает.
— А не врешь?
— Не хочешь — не верь! — ответила Зоя.
На уроке географии Зоя была немного рассеянна. Она не совсем была уверена, что ее приказание подействовало на Трубкина: уж больно небрежно тот проговорил: «Успокойся, детка, приди в себя!»
Но еще более рассеян был в это же время редактор газеты «Алый парус». Он провел очень тяжелые пятьдесят минут. Он по-прежнему считал Родину статью нелепой, он был уверен, что его засмеют, если он поместит статью в газете, что ему, возможно, даже крепко попадет за подобную глупость. И вместе с тем он ощущал, что не найдет себе пскоя, если статья не будет помещена, что это просто для него невозможно. Временами Трубкин думал, уж не поддался ли он влиянию этой черноглазой девчонки, но тут же отгонял от себя эту мысль. Такого быть не может! Это у него что-то с психикой, скорее всего, он просто переутомился: ведь нагрузочка у него — дай бог!
Даже взрослые не могут заниматься одним и тем же делом непрерывно. Временами и Родя с Веней, не говоря уже о других ребятах, забывали о статье, о социологическом обследовании, о научном обществе. Так было и сегодня. Накануне, вечером, по телевидению показывали скачки. На первой перемене второклашки затеяли ^ игру в ипподром. К середине дня в эту игру играли уже и четвертые классы, а к концу дня ею увлеклись пятые и даже шестые.
«Лошадьми» были мальчишки покрепче, а «жокеями» — те, что полегче. Разумеется «жокеи» скакали у «лошадей» на закорках. Дистанция была от одного конца коридора до другого. Девочки в скачках участия не принимали, но были ярыми болельщицами. Ими же становились и «лошади» с «жокеями», если не их очередь была скакать. Некоторые даже заключали пари на карандаши, ластики и шариковые ручки.
В том «заезде» участвовали три «лошади»: Валерка Иванов под кличкой «Янтарь» с «жокеем» Венькой Рудаковым. Лешка Павлов (кличка «Шайтан», «жокей» — Маршев) и шестиклассник Столбов («Алмаз», с «жокеем» Кукушкиным).
Если второклашки просто бегали рысцой, то ученики более старших классов усложнили правила игры: «лошади» должны были со своей ношей скакать «галопом» — то есть вприпрыжку, и та, которая сбивалась на «рысь», снималась с дистанции.
Крик в коридоре третьего этажа стоял такой, что в учительской на втором этаже поговаривали, не пора ли прекратить это безобразие. «Лошади», малиновые от натуги, с выпученными глазами, не то чтобы вприпрыжку, а скорей вприхромку стремились к финишу мимо стоящих вдоль стен и голосящих зрителей. Уже на середине дистанции
302
Янтарь стал заметно отставать, но Шайтан с Алмазом шли ноздря в ноздрю.
— Шайтан, жми! Алмаз, Алмаз, наддай! Лешка, давай! — вопили болельщики.
И вот когда до финиша оставались какие-нибудь пять метров, Шайтану преградила путь высокая фигура редактора общешкольной стенгазеты. Лицо у редактора было недоброе.
— А ну-ка стой! — сказал он резко.
Болельщики зароптали:
— Ну чего мешаешь! Не мог подождать три секунды!
Но Шайтан и его «жокей» сразу поняли, что к чему. Леша остановился, Родя спрыгнул с него.
— Где твоя статья? Давай ее сюда! — сурово приказал редактор.
— Сейчас,— отозвался Родя и подошел к подоконнику, на котором лежал его портфель.
Увидев редактора, Веня сам спрыгнул со своего «коня», и они вместе с Валеркой приблизились к Трубкину. Пока Родя копался в портфеле, к редактору подошла Круглая Отличница и еще человек восемь ребят, так что Лева оказался в кольце «этой мелочи», как он мысленно именовал пятиклассников.
Зоя стояла в стороне. Она делала вид, что разглядывает носок красной туфельки на правой ноге, и лишь изредка подымала ресницы, чтобы взглянуть на Трубкина, который ее не замечал.
Родя подошел к редактору со своей статьей и отдал ее, сказав:
— Вот! Пожалуйста!
Редактор взял статью, не глядя на ее автора, и стал расстегивать свой портфель. Пальцы его почему-то соскальзывали с замка, и он долго не мог его открыть.
— Значит, все-таки решил поместить? — осторожно спросил Веня.
— Да. Решил,— отрывисто сказал Трубкин.
— Ты что, поговорил с кем-нибудь? — спросил Павлов.
— А тебе что за дело? — сердито отозвался редактор.
— Да так... Я ведь тоже интересуюсь...
— А зачем мне было с кем-то говорить? Я обдумал и пришел к выводу, что статья по существу дельная, только ее надо немного поправить.— Тут редактор впервые взглянул на Родю, и, как показалось некоторым, взглянул с ненавистью.— Только ты имей в виду: я вычеркну все эти твои «увы», все эти твои «в наш грандиозный век». Понятно тебе?
— Понятно. Пожалуйста! — тихо ответил Родя.
Редактор ушел, а Павлов посмотрел на Зою:
-- Так ты что, говорила с ним или не говорила?
— Говорила,— коротко ответила Зоя, продолжая разглядывать туфельку.
303
— А почему же он сказал, что сам передумал?
Зоя пожала плечами.
— Откуда я знаю!.. Может... из самолюбия.
— А что ты ему сказала?
Зоя снова пожала плечами.
— Н-ну... это долго рассказывать,— лениво ответила она и тихо удалилась, держа портфель за спиной.
Ребята не знали, верить Зое или нет. Во всяком случае, они теперь поглядывали ей вслед без прежних усмешечек, и Зоя отметила это. И еще она отметила весьма интересное для нее обстоятельство: бабушка не решилась признаться Зое, что просто выполнила приказание внучки. Бабушка ведь сказала, что она «так и быть, пожалела» Зою. Не решился и Трубкин признаться в том, что он послушался какой-то пятиклашки. Что ж! Если все, к кому Зоя обратится с приказаниями, станут и дальше вести себя так, это
будет неплохо: люди не скоро догадаются, что Зоя обладает какой-то удивительной силой и что при встрече с ней не мешает затыкать себе уши.
А Трубкин весь последний урок просидел злой-презлой. Не слушая преподавательницу английского языка, он правил Родину статью, вычеркивая из нее слишком уж пышные фразы. К концу урока учительница подошла к нему и сказала по-английски:
— Трубкин, повторите, пожалуйста, что я сейчас говорила.
Трубкин встал, но повторить не смог и скоро увидел, как преподавательница сделала какую-то пометку в журнале.
Когда уроки кончились, редактора встретил в коридоре его младший брат, шестиклассник Боря.
— Лёв, ты домой? — спросил он.
Трубкин очень бы хотел оказаться сейчас дома, но ему еще надо было пойти к замдиректора по воспитательной части Надежде Сергеевне, показать ей статью, и не только показать, но еще и убедить ее, что в статье высказываются действительно ценные мысли.
— Я задержусь. У меня дела тут,— отрывисто сказал он брату и вдруг спросил: — Слушай! Кто такой этот Родька Маршев из пятого «Б»? Ты его знаешь?
— Ну, немножко знаю. Человек как человек.
304
Глядя в сторону, редактор процедил сквозь зубы:
— Вот кому бы я с удовольствием шею намылил или уши надрал.
— Бу сделано! — с готовностью ответил Боря, который очень любил такого рода занятия.— Я на это Семку Калашникова мобилизую.
Левин братец направился к выходу. Трубкин хотел было крикнуть Боре, что он не просил его расправляться с Маршевым, что это он просто так сказал, но редактор представил себе, как автору этой проклятой статьи действительно «мылят шею», и у него сделалось так сладко на душе, что он промолчал.
Все уроки в школе кончились, и учительская была полна педагогов. Лишь немногие из них сидели, а остальные разговаривали стоя, так что Лева не сразу отыскал глазами маленькую Надежду Сергеевну.
— Что тебе, милый мой? — спросила она, глядя на него снизу вверх.
И, злясь на себя, еле выдавливая слова, Трубкин проговорил:
— Вот, Надежда Сергеевна... Мы... мы думаем, что это можно будет поместить в порядке дискуссии.
Лева сказал «мы», имея в виду членов редколлегии, но, как вы знаете, никто из них статьи не читал.
Надежда Сергеевна пробежала глазами страницу за страницей, и редактор с досадой отметил, что она особенно приглядывается к тем словам и выражениям, которые он зачеркнул, но не вымарал так, чтобы их нельзя было прочесть. Приглядывается и при этом улыбается.
Прочитав статью про себя, она подняла голову и, как всегда без всякого напряжения, сказала на всю учительскую своим чистым, звонким голосом:
— Люди добрые! Вы только послушайте, какой теперь умный пятиклассник пошел! Вот вы послушайте! — Педагоги замолкли, а Надежда Сергеевна стала читать: — «В наш грандиозный век научно-технической революции...»
— Надежда Сергеевна! Но я же слова «наш грандиозный» вычеркнул! — с отчаянием вскричал редактор.
305
— Знаю, родименький! Но меня именно оригинал своим стилем подкупает,— ответила замдиректора и продолжала читать.
Она огласила цифры «социологического опроса», из которых явствовало, что около ста учеников четвертого, пятого и шестого классов уже занимаются изобретательством и всякими исследованиями и что еще столько же хотят заняться подобными делами, но не знают, с чего начать. Далее в качестве примеров упоминались Валерка с его прибором и даже Толя Козырьков с его линейкой для резания пластмассы. Заканчивалась статья такими словами: «Итак, не пора ли покончить с этой нездоровой атмосферой и открыть дорогу пионерскому возрасту на широкий научно-технический простор?»
Педагоги и без того много смеялись во время чтения статьи, но, услышав последнюю фразу, они все дружно расхохотались.
— Надежда Сергеевна, я это еще не выправил,— нервно сказал Трубкин.
— Вижу, вижу, дорогой,— ответила Надежда Сергеевна, продолжая смеяться.
— Но... но, Надежда Сергеевна, ведь по существу-то все это правильно,— выдавил через силу редактор.— Мне кажется... мне кажется, что можно это помещать.— Он с отвращением щелкнул пальцем по листочкам, которые держала Надежда Сергеевна.
— Не можно, а должно, мой хороший. Я думаю, это очень отрадно, когда ребята действуют не по указке взрослых, а проявляют собственную инициативу.
— Можно идти? — быстро спросил редактор.
— Иди, родненький. Очень интересная статья!
Глава семнадцатая
Трубкин ушел, не понимая, чем понравилась эта дурацкая статья Надежде Сергеевне, а между педагогами разгорелся спор. Его начала преподавательница биологии Фаина Дмитриевна — желтоволосая женщина с красивым, но сердитым лицом. Она сидела за столом, заталкивая в портфель ученические тетради.
— Ко мне уже заявлялся один такой юный гений. Некий Столбов из шестого класса.— И она рассказала, как Столбов приносил толченых гусениц и просил микроскоп, чтобы посмотреть, живы ли микробы, от которых гусеницы погибли.
К ней подошел толстый, грузный Иван Лукич, преподаватель физики.
— А к чему вы все это говорите? — спросил он.
— А к тому, что пример Столбова может послужить хорошей иллюстрацией для ответа на подобного рода статью.
— А какой, по-вашему, должен быть ответ?
— А вот таков: сначала овладей знаниями, а потом уж и лезь в исследователи. Ведь совершенно неизвестно: может быть, бакте¬
306
рии или микробы, от которых погибли гусеницы, и для человека опасны.
— А по-моему, пример со Столбовым говорит как раз об обратном: заниматься так называемой исследовательской деятельностью вы ему не запретите, значит, остается одно: дать Столбову и ему подобным руководителя. В этом смысле я вполне согласен с автором статьи. Как его зовут? Родион Маршев? Я вполне согласен с уважаемым Родионом Маршевым.
Спор разгорался. Одни поддерживали Фаину Дмитриевну, другие Ивана Лукича. Про статью Маршева скоро все забыли, стали говорить о том, как вообще надо вести обучение в условиях научно-технической революции. Когда директор школы Клавдия Мироновна вошла в учительскую, Иван Лукич гремел:
— Посмотрите, как у нас построена программа по физике! С чем чаще всего сталкивается в жизни современный ребенок? С гидравликой? Нет! С законом Бойля — Мариотта? С тепловым расширением тел? Нет! Куда он ни сунется — везде он сталкивается с электричеством, с проводниками и изоляторами, с силой тока и напряжением... Так почему же я в первую очередь должен рассказывать о шарах-мангольфьерах, на которых теперь никто не летает, и только в седьмом классе могу завести разговор о явлениях, с которыми они сталкиваются повседневно?
— О чем речь, товарищи? Что за споры? — спросила Клавдия Мироновна.
Надежда Сергеевна начала было рассказывать ей про статью, но тут в учительскую вошел Куприян Семенович. Прямой, подтянутый, внешне спокойный, он подошел к директору и негромко сказал:
— Клавдия Мироновна, мне надо с вами поговорить по очень серьезному делу.
— Пожалуйста! Я вас слушаю.
— Нет, с глазу на глаз, и притом очень срочный разговор.
Клавдия Мироновна извинилась перед педагогами и ушла с Ку-
прияном Семеновичем в свой небольшой кабинет. Тут она села за письменный стол, а учитель поместился в кресле перед ней.
— Так. Я вас слушаю, Куприян Семенович.
— Клавдия Мироновна, нам предстоит очень трудный разговор. Вполне возможно, что вы сочтете меня за сумасшедшего. Да!
— Ну, этого уж вы можете не опасаться,— улыбнулась Клавдия Мироновна.
— И тем не менее я боюсь, что это будет именно так.
— Ну в чем же все-таки дело, Куприян Семенович?
— А дело чрезвычайно серьезное. Буду говорить без обиняков: необходимо срочно изолировать ученицу пятого класса Ладошину Зою. Вот именно!
Клавдия Мироновна положила руки на стол, сцепила пальцы перед собой и уставилась на Куприяна Семеновича.
307
— Простите... А почему вы так считаете?
— Потому что она социально опасна. Да! — твердо ответил Купрум Эс и умолк в ожидании следующего вопроса.
— А... а почему вы находите, что эта девочка социально опасна?
— Я понимаю, что вы сразу поверить мне не сможете, но опять- таки скажу напрямик: эта девочка приобрела способность управлять поступками других людей.
Клавдия Мироновна потупилась, и массивное, с крупными чертами лицо ее стало покрываться красными пятнами.
— Да... Гм... Это... это действительно нечто... нечто экстраординарное. А... а какие у вас есть основания делать подобные заявления?
— Если говорить коротко, то я сам разработал эликсир, который многократно повышает способность человека внушать другим свою волю. Да!.. Но я допустил непростительную оплошность, позволил девочке выпить его, и теперь она обрела способность, о которой я вам говорил. И должен вам сказать, что Ладошина — ребенок своенравный, безответственный, и она может натворить много бед, пока эликсир из нее не выветрится. Да! Вот именно! Вот так!
— Позвольте! А как вы убедились, что девочка обладает такой способностью?
— На собственном опыте, Клавдия Мироновна, да!
— А... например?
Купрум Эс поднял правую руку на уровень лица и потыкал указательным пальцем куда-то вниз.
— Вот именно здесь, Клавдия Мироновна... именно, когда я приведу вам этот пример, вы, пожалуй, и сочтете меня сумасшедшим.
— Ну, а все-таки, Куприян Семенович...
— Хорошо. Я скажу. По приказанию Зои я ползал под столом. Помимо собственной воли. Вот так!
На несколько секунд Клавдия Мироновна оцепенела. Потом она осторожно придвинула к себе тяжелый четырехгранный стакан из уральского камня, который стоял слишком близко к учителю. Делая вид, что ищет что-то среди стоящих в стакане карандашей и ручек, она с трудом выдавила:
— А... а еще какой-нибудь пример...
— Пожалуйста! Другой пример: с милиционером. Он требовал от меня документы, но тут Зоя приказала ему уйти, и он ушел.
Впоследствии директор школы жалела, что не расспросила учителя подробней, где Зоя пила этот невероятный эликсир, где и когда они встречались с милиционером, но в тот момент ей было не до расспросов: слишком большое смятение охватило ее, когда она поняла, что старый учитель свихнулся. Крупная, с мужскими чертами лица, Клавдия Мироновна была вместе с тем женщиной отнюдь не храброй. Она продолжала копаться в карандашах и ручках, не смея глаз поднять на Купрума Эса, чтобы он не догадался, что
308
у нее душа находится в пятках. Все свои силы она сосредоточила на том, чтобы только не раздражить сидящего перед ней сумасшедшего.
— Да... все это очень интересно... очень интересно... очень интересно...— пробормотала она слабым голосом.— Так что же... что вы предлагаете, Куприян Семенович?
— Мой план очень прост. Да! Видите ли, у меня плохой сон, я просыпаюсь от малейшего шороха, поэтому мой зять привез мне из заграничной командировки новейшее патентованное средство. Оно называется «Слип камли», что в переводе с английского означает «Спите спокойно». Это такие комочки ваты, пропитанные воскообразным веществом, состав которого засекречен фирмой. Вещество это резко снижает чувствительность слухового нерва. Практически человек становится совсем глухим, пока «Слип камли» находится у него в ушах.
Купрум Эс передохнул, а Клавдия Мироновна вынула из стакана шариковую ручку и стала делать вид, что машинально разглядывает ее.
— Я вас слушаю, Куприян Семенович... я слушаю вас,— промямлила она.
— Итак, воспользовавшись «Слип камли», можно безопасно подойти к девочке и изолировать ее от окружающих. Разумеется, это должны будут сделать ее родители.
Клавдия Мироновна судорожно глотнула слюну.
— Так, может быть... может быть... вам лучше обратиться к ее родителям... Непосредственно, так сказать...
— Я бы так и сделал, да,— ответил Купрум Эс.— Но здесь такое осложнение: Зоя приказала мне не показываться ей сегодня на глаза, так что сегодня я не могу появиться в доме Ладошиных. Вот именно! А дело, Клавдия Мироновна, срочное. Девочка и за сегодняшний день может что-нибудь натворить.
— Так-так... Вы, значит, хотите... хотите, чтобы я...
— Да. Вот именно.— Куприян Семенович достал из кармана
пластмассовую коробочку с яркой этикеткой.— Вот тут «Слип камли». Вы объясните Ладошиным, что употребление очень простое: надо помять комочек в руке до размягчения и плотно вставить в ухо. Вот так! Да!
Клавдия Мироновна взяла коробочку и сунула ее в ящик стола. Она заставила себя наконец поднять голову, но так и не осмелилась посмотреть на учителя: взгляд ее блуждал по стене за спиной Ку- прума Эса.
— Хорошо, дорогой... Вы... вы не волнуйтесь, все-все будет сде¬
лано... Все-все будет, как вы сказали, все-все будет...
И тут Купрум Эс увидел потное, в красных пятнах лицо директора, увидел ее затравленный, бегающий взгляд. Он поднялся.
— Мне все понятно, Клавдия Мироновна: мои опасения сбылись, вы меня принимаете за помешанного.
309
— Ну что вы, что вы, дорогой! — прошептала Клавдия Мироновна.
— Я достаточно наблюдателен, да! Ну что ж!.. Придется действовать иными путями.— Купрум Эс подошел к двери и взялся за ручку.— «Слип камли» я оставляю у вас. У меня есть еще. Возможно, вы им воспользуетесь, когда сами убедитесь, что девочка опасна. Вот так! Всего доброго!
Примерно через час Купрум Эс нанес еще один визит: начальнику четвертого отделения милиции, майору Вартаняну. Прождав минут сорок своей очереди в приемной, он вошел в кабинет.
— Здравствуйте, товарищ майор! Я к вам по срочному и весьма необычному делу.
— Так! Прошу садиться! — сказал плечистый брюнет за большим столом.
— Позвольте сначала представиться, да: Дрогин Куприян Семенович, преподаватель химии в двадцать восьмой школе и руководитель лаборатории биохимии во Дворце пионеров.
Майор поднялся, пожал учителю руку над столом.
— Очень приятно! Прошу! — И он снова указал на кресло.
Куприян Семенович сел.
— Разговор наш покажется вам довольно странным, товарищ майор. Я полагаю, что вы сначала сочтете меня за помешанного, но все же прошу выслушать меня до конца.
— Так! Слушаю вас...
Минут через десять майор Вартанян сидел весь красный, но не испуганный, как Клавдия Мироновна, а сердитый. Куприян Семенович, следивший за выражением его лица, грустно улыбнулся.
— Как видите, я был прав, и вы приняли меня за психически больного, да. Но дело в том, что один из ваших сотрудников тоже подвергся воздействию этой девочки, и он, надеюсь, это подтвердит. Вот так!
— Кто именно? — сурово спросил майор.
— Сейчас я вам объясню. Вчера поздно вечером, когда я вышел с девочкой из Дворца пионеров, ко мне подошел милиционер, если не ошибаюсь, сержант, и спросил у меня документы. Таковых при мне не оказалось, и сержант потребовал, чтобы я отправился вместе с ним. Но тут девочка приказала ему немедленно удалиться, и он удалился. Вот именно: немедленно! Да! Я полагаю, что он сотрудник вашего отделения и его нетрудно будет найти.
Несколько секунд майор исподлобья смотрел на Купрума Эса, потом взял телефонную трубку и набрал номер.
— Алло! Пахомов? Кто этой ночью патрулировал в районе Дворца пионеров?.. Старшина Крутилин и сержант Сивков? А где сейчас Сивков?.. Так. А дома телефон у него есть?.. Ну-ка найдите! — Майор подождал немного и записал на календаре номер.
В это время сержант Сивков лежал на кровати под одеялом и смотрел в потолок. Как всегда, вернувшись утром с дежурства, он
310
позавтракал, разделся и лег, но спал он плохо и мало. Задремлет, но тут же очнется, и перед глазами встанет освещенная редкими фонарями аллея, идущая от подъезда Дворца пионеров к воротам. И сразу вспомнится сержанту, как он шел по этой аллее: шел, сознавая, что надо вернуться и забрать с собой этого подозрительного старика, и вместе с тем чувствуя, что он вернуться не может, не может даже остановиться, а может только уйти... Шел, оглядывался через плечо, покрикивал старику «Гражданин, пройдемте!», а в ушах его продолжал звенеть голос черноглазой девчонки: «Уходите отсюда немедленно! Немедленно уходите! Слышите? Ну!»
На улице Сивкова ждал мотоцикл со старшиной Крутилиным за рулем.
«Ну, что там?» — спросил старшина.
«Да ничего!» — негромко, сдавленным голосом ответил Сивков. Он сел позади старшины и стал думать, что с ним произошло.
«А кому ты говорил «пройдемте»?» — спросил через плечо Крутилин.
«Да... там пьяненький один...» — пробормотал Сивков. Не мог же он сказать, что хотел проверить документы у подозрительного старика, но послушался приказания маленькой девчонки и ушел.
«Задержать не нужно было?» — спросил Крутилин, запуская мотор.
«Да он не шибко... И смирный такой... пенсионер. Я ему сказал «пройдите», и он ушел в те ворота».
А потом старшина всю ночь удивлялся, почему сержант так молчалив и так ко всему равнодушен.
И вот теперь Сивков лежал, смотрел в потолок и тихонько бормотал:
— Нет, товарищ Сивков: тебе из милиции уходить! Такая работенка не по твоим нервам. Ночью, можно сказать, было первое предупреждение, а если дальше останешься, совсем с катушек сойдешь.
Зазвонил телефон. Сивков медленно выполз из-под одеяла, подошел к телефону, неохотно сказал:
— Да-да!
— Сержант Сивков? Майор Вартанян говорит.
Сержант сразу подтянулся:
— Слушаю, товарищ майор!
— Извините, что беспокою в неслужебное время.
— Ничего, товарищ майор... Слушаю вас.
— Вы ночью ко Дворцу пионеров подъезжали?
— Подъезжал, товарищ майор,— быстро ответил Сивков и очень встревожился.
— А к подъезду подходили?
Сердце у сержанта упало. Неужели во дворце что-нибудь произошло? И неужели в этом замешан старик, которого он упустил?
311
И Сивков решил говорить только то, что сказал старшине.
— Так точно, подходил, товарищ майор,— ответил он как можно бодрей.
— Вы кого-нибудь видели там?
«Так и есть! Старик!» — с ужасом подумал сержант, а сам ответил беспечным тоном:
— Да был там старичок один... чуть-чуть выпимши.
— Какой он из себя?
— Высокий такой... худощавый. Я его не стал задерживать, товарищ капитан, потому что он... чуть-чуть, говорю.
— С ним был кто-нибудь еще?
— Никого, товарищ майор.
— Точно помните?
— Совершенно точно, товарищ майор.
— О чем вы с ним говорили?
— Да я ему сказал, чтобы он шел домой, он и пошел.— Сивков помолчал секунду, набираясь храбрости, и спросил: — Что-нибудь случилось, товарищ майор?
— Ничего не случилось. Отдыхайте спокойно!
Майор положил трубку и в упор посмотрел на Куприяна Семеновича.
— Сержант говорит, что никого с вами не было, а сами вы находились в нетрезвом состоянии.
Купрум Эс поднялся, пораженный и оскорбленный.
— Да!.. Вот так! Ну что ж... Извините за беспокойство! — сказал он и вышел.
Начальник отделения посидел, подумал. Все-таки старый учитель не походил на пьяницу. Он больше смахивал на помешанного. Майор взял алфавитную книжку, открыл ее на букве «Ш» и набрал номер телефона двадцать восьмой средней школы.
А Куприян Семенович спустился по лестнице со второго этажа на первый, но на улицу не вышел. Он вдруг остановился и прижал ладонь к груди. Слева от него был коротенький коридорчик, в конце которого сквозь распахнутую дверь была видна какая-то комната. Нетвердо ступая, учитель добрался до этой комнаты, увидел дежурного по отделению, сидящего за деревянным барьером, и опустился на стул возле стены.
— У меня сердце...— негромко сказал он.— Боль... Очень сильная боль...— Он приоткрыл рот, и голова его откинулась затылком к стене.
Молодой дежурный соображал быстро. Он не стал задавать вопросов. Он придвинул к себе телефон и набрал 03.
Глава восемнадцатая
В тот день Зое пришлось еще раз пустить в ход свою чудесную силу. После истории с редактором Веня проникся некоторым уважением к Зое и, когда уроки окончились, предложил Роде:
— Давай проводим Ладошину, расспросим ее подробнее, как она уговорила Трубкина.
Маршев, конечно, согласился. Зоя немного задержалась в школе. Как ни холодна она была в эти дни со своими «активистами», но те и сегодня поджидали ее у школьных ворот. Это не очень обрадовало Родю и Веню, однако они присоединились к Зоиным поклонникам и тоже стали ждать.
Нечего и говорить, как возликовала про себя Зоя, увидев, что се ждет сам Маршев, а с ним и Рудаков, который всегда старался выразить Зое свое пренебрежение.
Все двинулись в направлении Зоиного дома, и Веня спросил:
— Зойка, ну ты скажи все-таки: как ты уломала Трубкина? Что ты ему говорила?
Зоя выступала не спеша, склонив голову набок, красиво вытягивая ноги в красных туфельках.
— Ну разве такие пустяки запомнишь!..— лениво протянула она.— Ну, просто доказала ему логически, что статью поместить надо, и он понял, что я права.
Тут Ладошиной захотелось позабавиться. Она сказала «активистам», чтобы они шли вперед, что ей нужно кое о чем поговорить с Маршевым и Рудаковым, а сама замедлила шаги и, сдерживая ехидную улыбочку, спросила:
— Ну, так как же ваша засада? Вы ее все-таки будете устраивать во Дворце пионеров или передумали?
— Ничего не передумали. Мы в пятницу вечером засаду устроим,— ответил Веня и объяснил, почему именно в пятницу.
Зоя надолго замолчала. Венин ответ ее встревожил. Она собиралась завтра же извиниться перед Купрумом Эсом, она была уверена, что добрый учитель простит ее и у них снова наладятся отношения. И она, конечно, рассчитывала еще не раз проглотить эликсир, при одной мысли о котором ее всю передергивало.
Словом, это было совсем ни к чему, чтобы мальчишки вели наблюдение за учителем. Зоя вдруг остановилась и властно сказала:
— Ну-ка, слушайте! Никаких засад вы больше устраивать не будете! — Тут она вспомнила, что ей надо обращаться с приказаниями к каждому человеку в отдельности, и повернулась к Роде: — Маршев, слышишь? Никаких засад во дворце ты не устраивай! — Она посмотрела на Рудакова: — И ты никаких засад не устраивай, вот!
В тот же миг каждый из друзей почувствовал, что ему совсем не хочется пробираться во дворец да прятаться за щитами.
— Ну чего ты раскричалась! — спокойно сказал Веня.— Я сам
313
только сейчас подумал, что никакой засады устраивать не надо: еще влипнем в какую-нибудь историю, а дела не сделаем. Правда, Родя?
— Засада, конечно, вещь интересная,— медленно проговорил Маршев,— романтика все-таки... Но конечно, мы больше пользы принесем, если просто пойдем к директору и скажем: так, мол, и так, по ночам в лаборатории биохимии свет и кто-то там занавешивает окна...
Зоя оторопела. Только этого ей не хватало, чтобы сам директор Дворца пионеров установил наблюдение за лабораторией! Зоя вспомнила слова Купрума Эса, что проглоченный ею эликсир с каждым новым приказанием «выгорает», ей захотелось поэкономить свое «горючее», но было ясно, что теперь придется расстаться еще с некоторым количеством его. Она в упор уставилась на Родю.
— В общем, ты, Маршев, ни к какому директору Дворца пионеров не пойдешь и ничего ему не скажешь. Ясно? — Она повернулась к Вене: — И ты, Рудаков, к директору не ходи и ничего ему не говори!
Она замолчала, поглядывая на приятелей и ожидая, что они ответят. Те тоже помолчали.
— Может, ты права, конечно,— глядя себе под ноги, негромко сказал Родя.
— Ну, а в самом деле,— отозвался Веня,— если это Купрум Эс и если он что-нибудь полезное изобретает, зачем мы ему будем мешать?
Дальнейший разговор не клеился. Зоя почувствовала, что мальчишкам как-то не по себе. Она распрощалась с ними, и они отправились в обратную сторону.
— Все-таки чудно! — со вздохом сказал Родя.
— Что чудно?
— Ну прямо три минуты тому назад я был уверен, что или засаду надо устроить, или директору сообщить, а теперь почему-то уверен, что ничего делать не нужно.
— Ну, это Зойка нас уговорила. Она это... она умеет логически рассуждать.
— Да какие там рассуждения? Ну чем она доказала, что там никакие преступники не орудуют? А вот не хочется почему-то заниматься этой историей — и все! А почему — не знаю.
— Да-а! Умеет эта Зойка уговаривать! — снова пробормотал Веня.
К Зоиному удивлению, дверь ей открыла мама.
— А ты почему не на работе? — спросила Зоя.
— Тихо! — вполголоса ответила мама.— Меня вызвали с работы: бабушка серьезно заболела.
— А что с ней? — шепотом спросила Зоя.
— Гипертонический криз.
314
— А что это?
— У нее резко повысилось давление. И может быть, в этом виновата ты: бабушка очень волновалась, когда ты пропадала ночью. Где ты шаталась так поздно?
— Просто гуляла. С Нюсей Касаткиной,— ответила Зоя и спокойно выслушала наставления, которые давала ей мама. Зое предлагалось не шуметь, готовить уроки в кабинете у папы, в комнату к бабушке не входить.
Глава девятнадцатая
На следующий день в кабинете у Клавдии Мироновны, помимо ее самой, находились трое. В кресле, стоящем боком к директорскому столу, выпрямившись в струнку, держась за сумочку, поставленную на колени, сидела худенькая старушка с большими встревоженными глазами на маленьком лице. Это была жена Куприяна Семеновича Мария Павловна. Напротив нее, на диване, расположились Надежда Сергеевна и директор Дворца пионеров Яков Дмитриевич Сысоев. На столе перед Клавдией Мироновной лежала коробочка со «Слип камли».
Только сейчас директор школы рассказала Марии Павловне и Якову Дмитриевичу о вчерашнем визите Куприяна Семеновича, о звонке начальника отделения милиции и о странных речах, которые вел Купрум Эс. Надежде Сергеевне она сообщила обо всем еще вчера, попросив никому ничего не говорить. А минуту назад она распорядилась, чтобы к ней вызвали Зою: взрослым надо было кое о чем ее порасспросить.
Некоторое время все молчали, потом Клавдия Мироновна обратилась к Марии Павловне:
— Я вам вчера несколько раз звонила, но никто не подходил.
— Да... Меня вызывали в больницу, но к нему не допустили,— тихим, дрожащим голосом проговорила Мария Павловна.— А потом я поехала к дочери: я не могла оставаться дома одна.— Она судорожно вздохнула.— Но понимаете... врач мне ничего такого не сказал... ни о какой Зое... Сказал, что муж в полном сознании, просто острый приступ стенокардии... А о Зое ни слова не сказал, ни о какой Зое...
Директор Дворца пионеров снял очки с прямоугольными стеклами и стал их протирать носовым платком.
— Ничего не замечал. Ничего такого за ним не замечал,— медленно пробасил он.— Ну, правда, осунулся Куприян Семенович за последнее время, а так... ни одного занятия не пропустил, всегда вовремя... Ничего не замечал.— Яков Дмитриевич надел свои очки, и от этого его лицо с широким подбородком стало выглядеть очень внушительным.
3)5
Дверь открылась, и вошла Зоя. Она была немножко бледна, глазищи ее смотрели настороженно: ведь вызов к директору обычно не предвещает ничего хорошего, а тут за ней прислали нянечку и вызвали прямо с урока.
— Здравствуйте! Клавдия Мироновна, можно? — тихо спросила она.
— Входи, Зоя!
Зоя увидела Марию Павловну, увидела директора дворца и побледнела еще больше. «Это из-за Купрума Эса!» — мелькнуло у нее в голове. Неужели узнали про его эликсир?! А вдруг узнали, что она его выпила! А может, только что-нибудь смутно подозревают, может быть, заметили что-то странное, но толком-то ничего не знают? За какие-нибудь две или три секунды Зоя сообразила, как ей надо себя вести, и сразу стала спокойней.
— Вы меня вызывали, Клавдия Мироновна?
— Да, Зоя. Только не беспокойся: за тобой никакой провинности не числится... Зоя, возможно, мой вопрос тебя удивит, но припомни, пожалуйста: когда ты последний раз видела Куприяна Семеновича?
— Вчера,— быстро и коротко ответила Зоя.
— Вы о чем-нибудь говорили с ним?
— Ну, я сказала ему: «Здравствуйте, Куприян Семенович!», а он ответил: «Здравствуй, Зоя!»
— И больше ничего?
— Больше ничего, Клавдия Мироновна.
— Зоя, скажи, лапушка,— заговорила Надежда Сергеевна,— бывало так, чтобы Куприян Семенович сам подходил к тебе, заводил какой-нибудь разговор?
Зоя приподняла плечи, растопырила опущенные пятерни и сделала вид, что даже удивлена таким вопросом.
— Бывало, конечно,— ответила она.
— О чем же он с тобой говорил? — спросила Клавдия Мироновна.
— Ну, спрашивал, как поживает бабушка, один раз спросил: «Ну как, твоя бабушка бросила курить?» А иногда просто говорит: «Передай бабушке привет». И все.
Зоя умолкла и заметила, что взрослые переглянулись между собой, переглянулись очень значительно. В это время зазвенел звонок на большую перемену.
— Ну спасибо, Зоя. Можешь идти.
Зоя попрощалась и направилась было к двери, но вдруг остановилась:
— Клавдия Мироновна, а можно узнать, зачем вы все это спрашивали? Что-нибудь случилось?
— Ничего серьезного, Зоя. Иди!
— Так я вам и поверила, что ничего серьезного! — прошептала Зоя, выйдя в коридор. На душе у нее было тревожно. Что же все-та¬
316
ки хотели узнать эти взрослые? И вообще что они знают и чего не знают?
А взрослые после ее ухода опять помолчали.
— Ну, что вы скажете, товарищи? — спросила наконец Клавдия Мироновна.
Надежда Сергеевна, которая интересовалась медициной, высказала свое предположение:
— Товарищи дорогие, а не могло получиться так: у Куприяна Семеновича был спазм одного из сосудов головного мозга и это привело к временному нарушению его психики? А потом этот спазм прошел, и...
Собеседники Надежды Сергеевны сказали, что не разбираются в таких вопросах.Как бы то ни было, все четверо решили никому не говорить о странном поведении старого учителя. Пусть в школе знают лишь о том, что у него плохо с сердцем.
Глава двадцатая
Яков Дмитриевич простился с Клавдией Мироновной и Марией Павловной, а Надежда Сергеевна пошла его проводить. В коридоре они увидели большую толпу, стоявшую перед школьной стенгазетой. Тут были старшеклассники, тут еще больше было ребят из четвертых, пятых и шестых классов, тут путались под ногами даже второклашки. Статью вслух читал Гена Данилов. В ней уже не было слишком высокопарных выражений, всех этих «в наш грандиозный век» и «увы». Лева Трубкин поправил статью так, что старшеклассники, слушая ее, не смеялись.
Проходя мимо толпы, Надежда Сергеевна вдруг остановилась.
— Яков Дмитриевич! А ведь это вас касается. Непосредственно! — И, взяв директора за локоть, она стала протискиваться с ним к газете, приговаривая: — Ребятки, ребятки, родненькие, дайте дорогу, ведь это знаете кто? Это сам директор Дворца пионеров, Яков Дмитриевич Сысоев, ведь ему эта статья как раз и адресована.
Ребята расступились, замдиректора подвела Якова Дмитриевича к стенгазете и указала ему на статью.
Якову Дмитриевичу было не до статьи. Он думал о беде, постигшей Куприяна Семеновича, о том, что, возможно, теперь придется искать нового руководителя для лаборатории биохимии. Но тут в толпе установилась такая мертвая тишина, что директору дворца стало ясно: он должен прочитать статью и высказать свое мнение. В полной тишине он прочитал ее, потом сказал, протискиваясь обратно:
— Ну что ж, дельно написано. Только вот как практически осуществить, не имею понятия.
317
Последнюю его фразу ребята как-то пропустили мимо ушей и, когда он ушел, стали повторять:
— Слышали, что он сказал? «Дельно написано»!
— Ага! «Дельно написано»!
— Ну вы же слышали, как он сказал: «Дельно написано»!
А к концу большой перемены слова «дельно написано» уже повторялись во всех уголках школы, где были юные конструкторы и исследователи.
Еще через один урок Гена разыскал Надежду Сергеевну и обратился к ней:
— Надежда Сергеевна, вам не кажется, что нужно ковать железо, пока горячо?
— В каком смысле, дорогой?
— Яков Дмитриевич назвал статью Маршева дельной. Может быть, стоит направить к нему делегацию из ребят пионерского возраста?
— Поговорить насчет «Разведчика»?
— Ну да, чтобы они попросили открыть им доступ в «Разведчик» или хоть какой-нибудь филиал для них организовать...
Надежда Сергеевна призадумалась.
— Ну что ж! Пусть попробуют поговорят, хотя я не уверена, что из этого что-нибудь получится.— Она опять помолчала.— Только если уж пускаться на такое предприятие, ты возглавь эту делегацию сам, а то твои пионеры могут растеряться и разговора не получится.
Через минуту Гена поймал Родю в коридоре и приказал:
— Живо! Собирай инициативную группу! Срочное дело!
Эти слова уловила Зоя, и она подошла поближе, чтобы подслушать дальнейший разговор.
Скоро Маршев вернулся с Лялей, Валеркой и Веней.
— После уроков отправляемся к директору Дворца пионеров,— объявил Данилов.
— Зачем? — спросил Веня.
— Для разговора о создании пионерского научно-конструкторского общества. Сама Надежда Сергеевна сказала, что надо ковать железо, пока горячо.
Как вы знаете, Надежда Сергеевна таких слов не говорила, но Гене очень уж хотелось, чтобы это было именно так.
— С самим директором...— пробормотал Веня.— А что мы будем ему говорить? Я, например, обалдею просто и ничего не скажу.
— Вам, може?, и не придется говорить. Этим я сам займусь. Вы будете только присутствовать как члены делегации.
Валерка сказал, что он и присутствовать не может, потому что у него больна мама и ему надо бежать в аптеку за лекарством. Тут Зоя скромно проговорила:
— Гена, я, конечно, никакими исследованиями не занимаюсь, но все-таки можно мне с вами пойти вместо Валеры?
318
Гена согласился. Он знал, что завод, которым руководит Зоин папа, шефствует над Дворцом пионеров, и поэтому Зоино участие в делегации может оказаться полезным.
Около двух часов дня самозваные делегаты вошли в вестибюль Дворца пионеров и узнали от дежурной технички, что Яков Дмитриевич у себя. Тут даже Гена малость оробел. Он подошел к зеркалу и что-то слишком долго водил расческой по волосам. У мальчишек расчесок не было, и они, поплевав на ладони, прихлопнули ими вихры, а Лялины жесткие кудряшки находились в полном порядке. Наконец все двинулись к кабинету, который находился на первом этаже. Вход туда был через комнатку секретарши, но той на месте не оказалось. Гена постучал в обитую пластиком дверь, потом слегка приоткрыл ее:
— Яков Дмитриевич, разрешите войти?
— Войдите! — послышался басок директора, и все по очереди протиснулись в кабинет. Именно протиснулись, бочком, почему-то не решаясь открыть дверь пошире.
Несколько секунд длилось молчание. Сидевший за столом директор с некоторым удивлением смотрел на посетителей через свои четырехугольные очки. Родя провел пальцем по вспотевшему носу, а Веня не то крякнул, не то кашлянул.
— Так вы по какому делу? — спросил наконец директор.
— Яков Дмитриевич! Мы к вам в качестве делегации от двадцать восьмой школы. Нас направила замдиректора по внеклассной работе Надежда Сергеевна Муравьева,— вдруг громко и быстро проговорил Гена, сам не замечая, что сильно привирает. Затем он представил членов делегации: Родю и Веню он назвал талантливыми юными конструкторами, о Ляле сказал, что результаты ее изучения пустельги передавались по областному радио, а Зою отрекомендовал как представительницу актива пионерской дружины.
— Ну так в чем же все-таки дело? — негромко спросил директор.
— Понимаете, Яков Дмитриевич...— продолжал Данилов, все оольше увлекаясь,— многие педагоги нашей школы считают, например, так: что талант исследователя, изобретателя надо открывать и развивать с самого юного возраста. Это, понимаете, как талант танцора или, положим, как талант музыканта... Понимаете?
— Хорошо! Ну, а конкретно: что ты от меня все-таки хочешь?
— Яков Дмитриевич! Вы сегодня читали статью в нашей стенгазете... Вот автор как раз перед вами! — Гена указал ладонью на Родю.
— Ну, читал,— слегка набычившись, ответил директор.
— И вы, как я слышал, одобрили ее.
319
Ну... в принципе...— Директор еще больше набычился, а Гена,
не замечая этого, бодро продолжал:
— Вот мы, значит, и пришли к вам, Яков Дмитриевич, чтобы поговорить о том, как осуществить на практике эту идею, которую вы одобрили.
— Какую идею? — уже совсем мрачно прогудел директор.
— Ну, вот идею о том, чтобы открыть доступ в «Разведчик» ребятам пионерского возраста.
И тут Яков Дмитриевич поднялся и наклонился над столом, опираясь на него широко расставленными руками.
— Ты говоришь, вас Надежда Сергеевна прислала? — спросил он, глядя в упор на Гену.
— Д-да,— с запинкой ответил тот.
Гена сразу скис: он вдруг понял, что нечаянно слишком много наврал. А Яков Дмитриевич между тем раскраснелся и загремел:
— Так вот ты пойди к Надежде Сергеевне и скажи ей, что она не маленькая, что она должна понимать самые элементарные вещи, а именно: для того чтобы открыть доступ в «Разведчик» ученикам пятых и шестых классов, нужны дополнительные помещения, нужно дополнительное оборудование, нужны дополнительные руководители, а для всего этого необходимы дополнительные и весьма большие средства, а Яков Дмитриевич не маг и волшебник и вытащить эти средства из рукава он не может.— Директор вдруг выпрямился, помолчал немного и сказал уже спокойно: — Фу! Довели меня до крика. Так все понятно? Ну, значит, окончен разговор!
У Гены горели уши, но он постарался держаться с достоинством.
— Извините, Яков Дмитриевич,— сказал он вежливо, но сухо.— Всего хорошего!
Делегаты двинулись к двери, но директор их остановил.
— Погодите-ка! — Он посмотрел на Зою: — Ты ведь дочка товарища Ладошина? Митрофана Петровича? — Зоя кивнула, и Яков Дмитриевич опять начал краснеть.— Так вот, передай своему папе, что над Дворцом пионеров надо шефствовать не на словах, а на деле. Нам бедная авторемонтная мастерская подарила хоть плохонький, но станок; нам даже комбинат бытового обслуживания кое-что выделил для слесарно-механической мастерской... А твой папа — директор станкостроительного завода — только обещаниями кормит. Вот ты напомни ему!
Зоя покосилась на Родю, на Гену, потом сказала нарочно неторопливо и очень отчетливо:
— Хорошо. Я поговорю с папой, чтобы он прислал станок.
Однако никто не заметил ее значительного тона, все как-то пропустили это ее заявление мимо ушей.
— Вот так-то! Всего хорошего! — сказал директор.
Когда делегаты вышли из дворца, Гена остановился, сунул руки в карманы брюк.
320
— Вы думаете, это правда, все, что он говорил? Будто того не хватает, другого не хватает... Ерунда все это! Отговорочки одни. Ему так спокойней — в кабинете посиживать, чем инициативу проявлять.
Все это Гена сказал, сам себе не веря, просто для того, чтобы как-то поднять себя в глазах делегатов, но Родя с Веней поверили ему. Поверила ему и Зоя. Последнее обстоятельство и привело к тем событиям, которыми закончится эта правдивая, но маловероятная повесть.
Но перед тем произошло много других событий, и вот одно из них.
В тот же день, под вечер, Родя был послан в местный универсам за кое-какими продуктами. Послали туда же и Зою. В магазине им встретиться не довелось: Родя ушел оттуда несколько раньше Jla- дошиной. На углу тихой улицы, по которой он шел, стояли и разговаривали Боря Трубкин, брат редактора школьной стенгазеты, и его друг Сема Калашников.
— Привет! — сказал Родя Трубкину, которого немножко знал.
— Привет! — машинально отозвался Боря, а потом, глядя на удаляющегося Маршева, процедил сквозь зубы: — Черт! Совсем забыл!
— Что забыл? — спросил Калашников.
— Я обещал брату, что этому типу уши надеру.
— Ну так чего? Пошли и надерем!
Приятели нагнали Маршева и несколько шагов прошли рядом, по обе стороны от него. Затем Трубкин сказал:
— Ну-ка стой, писатель!.. Сема, берем!..— И он взял Родю за левое ухо, а Калашников — за правое.— Давай так сначала: ко мне — к тебе, ко мне — к тебе, ко мне — к тебе!
И они стали поочередно таскать к себе Родину голову за уши так, словно пилили двуручной пилой.
— Пустите, что вы делаете! Ну, больно же!.. Пустите! — закричал Родя, но ничего не помогло. В правой руке у него болталась прозрачная пластиковая сумка с двумя бутылками подсолнечного масла и пакетом сахарного песка, и он мог только вцепиться левой рукой в правую Борькину руку, отчего ему не стало лучше.
— А теперь так давай,— сказал Трубкин.— Вперед — назад, вперед — назад, вперед — назад!
И голова Роди стала мотаться в другой плоскости.
Тут к этой троице сзади подошла Зоя с двумя сумками в руках и остановилась метрах в пяти. Что-то знакомое показалось ей в фигуре мальчишки, которого драли за уши, но голос ей не был знаком, потому что Родя уже почти плакал:
— Борька! Ну что ты делаешь!.. Ну пусти!.. Ну... ну, я прохожих позову!..
11 Школьные годы. Выпуск 2
321
— Теперь покрутим его! — скомандовал Трубкин и запел: — Как на Роди именины испекли мы каравай, вот такой вышины, вот такой нижины...
Увидев, что перед ней человек, к которому она так неравнодушна, увидев, что этого человека так унижают и мучают, Зоя вскипела яростью. В три прыжка очутилась она возле мальчишек.
— Что вы делаете! Хулиганье проклятое! А ну отпустите его!
— Тихо, тихо, малышка! — сказал Боря, и оба продолжали держать Родю за уши.
Только тут вспомнила Зоя про эликсир и вспомнила, что она должна приказывать каждому в отдельности. Она взглянула на Трубкина, потом на Калашникова.
— А ну отпусти его! И ты отпусти!
И красные Родины уши оказались на свободе.
— Ну что ты орешь, чего орешь! — проговорил Семка.
— Пошел к черту отсюда! — выкрикнула Зоя, и тут Калашников сошел с тротуара на мостовую и заходил по ней как-то неуверенно, сворачивая то в одну сторону, то в другую, то в третью. Зоя удивленно посмотрела на него, потом смекнула: хулиган просто не знает, куда ему идти, потому что чертей на свете нет. И она исправила свое приказание.— Домой иди! Убирайся домой, слышишь! — крикнула она и вытаращила глаза на Трубкина: — И ты — марш домой! Живо! И не вылезать у меня до завтра!
И тут наступил полный порядок: Семка вернулся на тротуар и уверенно зашагал по нему в одну сторону, а Борис пошел в другую. Пройдя несколько шагов, Трубкин, не останавливаясь, обернулся:
— Сем! Пошли ко мне! В шахматы сыграем!
— Не, Борь,— продолжая шагать, отозвался Семка.— Лучше ты ко мне, ты нашего телека нового еще не видел. Цветной!
— Сема! Ну, иди! — уже издали прокричал Трубкин.— У нас дома никого нет, посидим, поиграем!..
— Борь! Ну, ты человек или нет? Ну, хоть на пять минут загляни!
Так они звали друг друга в гости, пока Трубкин не скрылся за поворотом, а голос Калашникова не замер вдали.
У Роди болели уши, побаливала даже голова, но он не обращал на это внимания. Он смотрел то на спину Трубкина, то на спину Калашникова, а когда их перекличка кончилась, он ошалелыми глазами уставился на Зою:
— Ты что, их знаешь?
Зоя чуть пожала плечами.
— Ну... как и ты.
Родя взял у нее одну из сумок:
— Давай помогу нести. Ты где живешь?
— А я уже почти пришла. Вон мой дом!
До самого Зоиного дома Родя молчал, а Зоя
краешком глаза следила, как он то и дело поглядывает на нее, и ей очень хотелось поведать ему, именно ему, Родиону Маршеву, о том, какая удивительная сила заключается в ней, какая власть над людьми ей дана. Но Зоя понимала, что этого делать нельзя.
Они свернули во двор и пошли вдоль длинного двенадцатиэтажного корпуса к предпоследнему подъезду.
— Ну почему они так быстро послушались тебя? — сказал наконец Родя.— Ничего не понимаю!
— Ты много не понимаешь, Маршев,— загадочно и грустно сказала Зоя,— ты еще очень- очень много не понимаешь.— Тут ей захотелось показаться Роде еще более значительной, и она проговорила уже другим тоном, деловым: — Не знаю... Может, мне сказать папе, чтобы он прислал завтра во дворец какой-нибудь станок получше? Может, мы тогда этого Якова Дмитриевича уломаем?
— Думаешь, папа так сразу тебя и послушается?
Зоя пожала плечами.
— Вообще... он считается с моим мнением. Ну, спасибо! Пока!
И, забрав у Роди сумку, она ушла.
После этого Родя несколько минут шел очень медленно. Что же это получается? Вчера Ладошина сказала, что попробует уговорить Леву Трубкина поместить статью, и вот статья сегодня в газете. Вчера Зоя сказала ему и Вене,
323
чтобы они не устраивали никаких засад во дворце, и теперь им обоим не хочется устраивать засаду... И, наконец, только сейчас... Зойка крикнула двум мальчишкам, с которыми едва знакома, чтобы они отпустили Родины уши, и они тут же отпустили; она приказала мальчишкам идти домой, и они тут же пошли, и ясно было, что каждый идет не куда-нибудь, а именно к себе домой. Так что же все-таки получается? А вдруг у этой самой Зойки есть способности гипнотизировать людей?! Способность, о которой она сама не подозревает!
Тут Родя остановился и замотал головой. Нет! Такого не бывает, такого не может быть! Ну, а фактики-то налицо! Родя снова двинулся вперед и снова стал перебирать эти «фактики»: Лева Трубкин и статья, разговор о засаде, ну, а главное — поведение Борьки и Семки... И снова тот же вывод: Зойка обладает даром внушения! И снова Родя остановился, и снова замотал головой. Нет! Не может такого быть!
Вечером, когда пришел Веня, Родю так и подмывало рассказать ему о своих предположениях, но он не рискнул это сделать. Родя знал, что уравновешенный, практичный Венька просто обзовет его фантазером, тем дело и кончится.
А позднее, когда Родя уже лежал в постели, ему вспомнилась такая подробность: подойдя к нему, Борька Трубкин почему-то назвал его «писателем». Выходит, что ему драли уши за его статью! Но почему же Борька так невзлюбил его за эту статью, которая его, Борьки, совсем не касается? Нет, тут что-то не так! Ну, а если предположить, что Борька действовал по наущению своего старшего братца? Тогда все сходится! Но тогда получается, что Левка Трубкин против воли поместил статью и теперь злится за это на Родю. А почему он поместил против воли? На это ответ был один: так ему приказала Зойка!
Додумавшись до этого, Родя покрылся испариной и помахал над собой одеялом, чтобы немного остыть. После этого он повернулся со спины на бок и постарался заснуть, и тут ему вспомнилось название телепередачи, которую вел профессор Капица: «Очевидное — невероятное». Десятки раз Родя смотрел эту передачу, но никогда не задумывался, почему она так называется. И вот теперь задумался. Он пришел к выводу, что такое название очень подходит ко всей этой истории с Зойкой: «очевидное» — это факты, которые он наблюдает своими глазами, но факты эти невероятные, такие, в которые трудно поверить.
Родя закрыл глаза, а в мозгу его всплывали то Семка с Борькой, то Зоя, то Веня, то Трубкин... И в том же мозгу, словно невидимый маятник, все время качались слова: «Очевидное — невероятное, очевидное — невероятное, очевидное — невероятное...»
Так Родя и уснул.
Глава двадцать первая
Зое пора было укладываться спать, но мама ее ушла ненадолго к соседям, бабушка лежала больная, а Зоин папа, Митрофан Петрович, любил в свободную минуту поболтать с дочкой.
Они сидели в кухне. Митрофан Петрович курил, расспрашивал Зою о школьных делах, а Зоя отвечала вяло и как-то очень уж внимательно смотрела на отца.
Митрофан Петрович был высок и широкоплеч, у него было мужественное лицо с высоким лбом, и этот лоб делала еще выше начинающаяся лысина. И Зоя думала о том, что вот сейчас этот крупный мужественный человек, которому на заводе подчиняются так много людей, вынужден будет подчиниться ее, Зоиному, приказанию. И от этой мысли Зое стало как-то неловко, ей стало немножко жалко отца, и она все медлила заводить разговор о станке.
Митрофан Петрович погасил окурок в пепельнице и вдруг поднялся.
— Слушай, дочура, давай устроим маме сюрприз: она придет, а вся посуда перемыта. А то ведь, понимаешь, бабушка больна, и маме приходится везде поспевать: и за бабушкой ухаживать, и обед готовить...
Он надел поверх тренировочного костюма мамин пестренький фартук, а Зоя взяла кухонное полотенце. Она долго придумывала, с чего бы начать разговор, и наконец спросила:
— Папа, ведь твой завод, кажется, шефствует над Дворцом пионеров?
— Ну, мы взяли в свое время шефство. А что?
— Пап!.. А в чем заключается ваше шефство?
— Да ведь как тебе сказать... Я ведь лично не занимаюсь. Этим
местком, должно быть, занимается... а скорей всего, комсомольская организация...
Зоя помолчала.
— Папа, а вот говорят, что твой завод шефствует только на словах, а не на деле.
Тут впервые Митрофан Петрович приостановил работу и посмотрел на Зою, держа в левой руке тарелку, а в правой — щетку.
— А кто же это говорит? Ну, давай конкретно!
— Между прочим, сам директор дворца Яков Дмитриевич.
И между прочим, он сказал, что даже самая бедная мастерская подарила Дворцу пионеров станок, а такой большой завод, как у тебя, только обещаниями кормит.
Митрофан Петрович снова принялся за работу.
— Да-а... Тут, возможно, он и прав. Ты мне как-нибудь об этом напомни. А, доченька?
Зою такой ответ, конечно, не удовлетворил: ведь она сказала Маршеву, что попросит отца завтра же прислать станок.
Она попыталась сначала уговорить отца:
325
— Папа! Ну что тебе стоит завтра взять и прислать во дворец какой-нибудь станок! Ведь они ждут все-таки!
Митрофан Петрович снова оглянулся на
Зою.
— Ишь ты, какой адвокат у Дворца пионеров нашелся! Ладно! Обещаю тебе над этим подумать... А вот насчет того, чтобы завтра... ты уж извини. У папы завтра дел выше головы, а тут надо давать распоряжения, чтобы подобрали подходящий станок да чтобы выделили такелажников для его погрузки, не говоря уж о транспорте. Нет, дочура, давай уж до будущей недельки подождем, а там посмотрим, что получится. На-ка, вытирай вилку!
Зое стало ясно, что папа не принимает разговор всерьез, что раздумывать да смотреть, «что получится», он может и неделю, и месяц, и три. И Зоя поняла, что придется пустить в ход эликсир. Она помолчала, вытирая вилку, потом спросила:
— Папа, а что такое координатно-роскошный станок?
Митрофан Петрович засмеялся:
— Координатно-роскошный? Это что еще за чудо? Может быть, координатно-расточный? Или, точнее, координатно-расточной?
— Ну, координатно-расточной. Недавно по радио передавали, что твой завод наладил выпуск таких станков. С каким-то там управлением.
— С программным управлением. Впрочем, это и в самом деле роскошный станок: задал ему программу, и он сам проделывает все операции по расточке до нужных параметров.
Зоя не понимала, что такое программное управление, что такое расточка, что такое параметры, но она поняла одно: станок этот хороший и Яков Дмитриевич, пожалуй, будет рад получить его.
— Папа, слушай меня! — сказала она, повысив голос.
— Ну, слушаю, слушаю,— благодушно отозвался Митрофан Петрович, передавая Зое две ложки и вилку.
И тут Зоя отчеканила:
326
— Папа! Завтра утром отправь координатно-расточный станок в подарок Дворцу пионеров. Вот! Все-таки нужно шефствовать не на словах, а на деле.
— Глупышка ты у меня! — рассмеялся Митрофан Петрович.
Если бы он объяснил дочке, что такой станок стоит несколько тысяч, что за подобное разбазаривание ценностей его могут и под суд отдать, что, наконец, такой станок совсем ни к чему Дворцу пионеров, Зоя, конечно, отменила бы свое приказание. Но Митрофан Петрович ей ничего такого не сказал, он опять не принял всерьез дочкины слова. Однако минуты через две Зоя поняла, что ее приказание подействовало: оставшиеся ножи, ложки и вилки Зоин папа домыл молча, потом он, не снимая маминого фартука, сел боком к столу и стал курить, глядя в одну точку.
Вернулась мама и отправила Зою спать. Из-за болезни бабушки Зоя спала теперь в одной комнате с родителями. Она быстро уснула и не слышала, как отец все ходил и ходил за стеной у себя в кабинете, и не слышала, как мама несколько раз в течение ночи вставала, заходила к папе в кабинет, спрашивала его, почему он не ложится спать, а тот раздраженно отвечал:
— Оставь меня, Риточка, дай подумать!..
Зоя еще спала, когда ее мама кормила мужа
завтраком. Он почти ничего не ел, все молчал, а лицо у него было желтое и под глазами повисли темные морщинистые мешки.
— Троша! Мне твой вид что-то очень не нравится. Ты как себя чувствуешь?
Митрофан Петрович потер кулаком лоб.
— Да неважно, по правде сказать.
— А что именно у тебя?
— Да с головой что-то.
— Может, дома останешься? Вызвать врача?
— Не надо, обойдется.— Он встал, подошел к окну, выглянул во двор.— Машина уже пришла. Пока, Риточка!
И в этот день Митрофан Петрович домой уже не вернулся.
Часа через три после того, как директор
327
станкостроительного завода уехал к себе на работу, другой директор — Дворца пионеров сидел у себя в кабинете, положив локти на стол, смотрел на сцепленные пальцы рук и думал.
Минут тридцать тому назад закончился какой-то странный эпизод. Дверь распахнулась, и, минуя молоденькую секретаршу Таню, в кабинет без стука вошел маленький толстый человек в плаще и фетровой шляпе.
— Товарищ Сысоев? — сказал он хмуро.— Я из отдела сбыта завода «Факел».
— Так! Очень приятно!
— Тут вашим пионерам шефы подарок прислали.— Он раскрыл пластмассовую папку и вынул из нее две бумаги.— Вот это вам сопроводиловка, а вот здесь распишитесь в получении.
В «сопроводиловке» директор прочел, что, в порядке шефской помощи, завод направляет дворцу координатно-расточный станок марки «Программа-75».
— А что это за станок?
— Последнее слово техники. Автоматики, точнее сказать. Станок с программным управлением.
Яков Дмитриевич был по образованию историк, но он интересовался техникой и примерно знал, что такое станок с программным управлением.
— Так ведь... должно быть... должно быть, очень дорого...
— Не дешево. Много тысяч стоит.
— Сколько?
— Много тысяч,— почему-то с недоброй усмешкой процедил человек из отдела сбыта.— Так что, будете принимать? — Последний вопрос он задал таким тоном, будто сомневался, что директор дворца примет станок, и Яков Дмитриевич совсем оторопел.
— Не знаю, право... Ведь... с программным управлением... он требует квалифицированного обслуживания, а у нас дети как-никак... А с другой стороны, странно: такая огромная ценность и вдруг...
— Ну об этом вы нашего директора спрашивайте, товарища Ла- дошина,— совсем уже сердито сказал человек.— Его письменное распоряжение у нас в отделе есть, а я человек маленький. Где будем сгружать?
На это директор дворца ответить не успел. В дверь просунулась секретарша Танечка.
— Яков Дмитриевич, к вам с завода «Факел».— И она впустила двух новых посетителей, которые, в противоположность первому, были очень рослые и худощавые, только один был брюнет, а другой — блондин.
— Хорошо, что не разгрузились, товарищ Панков,— заметил брюнет человеку из отдела сбыта и обратился к Якову Дмитриевичу: — Здравствуйте, товарищ Сысоев! Заместитель директора завода по коммерческой части Туганаев Василий Батырбекович.
328
— Зарубин Иван Максимович,— отрекомендовался блондин.— Секретарь парткома завода.
Обменялись рукопожатиями. Яков Дмитриевич пригласил всех сесть. Тут замдиректора снова заговорил:
— Видите ли, какое дело, товарищ Сысоев. Произошло недоразумение. Вам ошибочно прислали станок.
— Да я вот сам немножко удивился...— начал было Яков Дмитриевич, но секретарь парткома торопливо перебил его:
— А мы, товарищ Сысоев, сегодня же пришлем вам другой станок, более для вас подходящий. Сегодня же пришлем.
— Да-да! — также торопливо подхватил замдиректора.— Я лично уже выписал документы, дал распоряжение на отгрузку, так что, возможно, он уже в пути. Через час, может быть, через два часа получите.
— Спасибо! — пробормотал Яков Дмитриевич.— Только я вот чего не понимаю: тут передо мной лежит письмо за личной подписью товарища Ладошина.
— Вот это уже вопрос деликатный, товарищ Сысоев,— сказал замдиректора и посмотрел на секретаря парткома: — Иван Максимович, может быть, вы обрисуете положение?
— Хорошо. Гм! Положение, стало быть, такое: вот эту бумагу, что у вас на столе, и распоряжение об отправке станка Митрофан Петрович Ладошин написал, находясь... ну, как бы вам сказать... находясь в болезненном состоянии. Сразу вслед за этим нелепым распоряжением с ним случился инфаркт. На «скорой» увезли. Вот такое дело... И еще, товарищ Сысоев... было бы очень желательно, чтобы эта глупая история не получила огласки. Все-таки авторитет руководителя. Словом, вы сами понимаете...
— Вполне понимаю! — с готовностью согласился Яков Дмитриевич.— Обещаю вам — никому ни слова. А эту бумагу мы порвем.
И он порвал «сопроводиловку», а товарищ Панков — не подписанную еще расписку, которую держал в руках. Затем посетители распрощались, и директор, не столько из вежливости, сколько из любопытства, проводил их до самых ворот дворца.
Там он увидел, что на улице стоит автокран с прицепом, а на прицепе возвышается здоровенный контейнер, который, пожалуй, не пролез бы ни в одну из дверей Дворца пионеров. За прицепом стояла «Волга». Возле машин курили шоферы и рабочие.
Секретарь парткома еще раз напомнил Якову Дмитривичу о своей просьбе не предавать огласке всю эту историю, замдиректора дал команду всем садиться по машинам и двигаться обратно, и колонна удалилась.
А еще часа через полтора пришла другая машина, уже не в сопровождении крана и всего лишь с тремя рабочими. Небольшой станок, который они привезли, был помещен не в контейнер, а просто накрыт брезентом. Его сгрузили на заднем дворе и с помощью ваг и катков приволокли в слесарно-механическую мастерскую. При¬
329
сутствовавший при этой операции завхоз дворца пробормотал:
— Н-нда! Поработал станочек! Небось и в ремонте побывал.
После отъезда машины с первым станком и во время получения
второго какое-то неосознанное чувство томило Якова Дмитриевича: все время ему казалось, что он обязательно должен что-то вспомнить. И вот теперь он удалился в свой кабинет и стал думать: а что же именно он хочет припомнить?
Занятия различных кружков во дворце в будние дни начинались не раньше трех часов, а занятия секций общества «Разведчик» — между шестью и семью. Ведь инженеры и молодые ученые руководили этими секциями на общественных началах, после своей основной работы, и исключение представлял только Альфред Павлович Ти- гровский, руководитель «Разведчика».
Сейчас было только начало второго, и во дворце стояла почти полная тишина. Ничто не мешало Якову Дмитриевичу думать.
— Да-а... Как видно, заработался товарищ Ладошин,— сказал он почему-то вслух, и тут вдруг у него в голове завертелось: «Ладошин... Ладошин...» А ведь, кажется, есть еще какой-то Ладошин. Кто же он такой? Стоп! Да ведь это не «он», а «она», Ладошина, дочка директора завода! Та самая, что приходила вчера с так называемой «делегацией», та самая, которая обещала ему поговорить с отцом насчет станка! Да ведь эту же Зою он видел еще вчера утром у директора школы. Ну да! Ее вызвали с урока потому, что старый учитель химии помешался и утверждал, что она, Зойка, приобрела способность повелевать. И ведь какое занятное совпадение: бред старого учителя о своем эликсире и такая быстрая доставка ценнейшего станка после того, как эта Зойка обещала поговорить с отцом!
Тут Яков Дмитриевич вдруг снял очки, достал платок и вытер им лицо. Черт!.. А вдруг это не совпадение! Ведь тогда очень легко объяснить историю с первым станком: Зоя велела отцу подарить станок именно с программным управлением потому, что где-то слышала о нем, но даже понятия не имеет о его ценности, и вот вам результат!
Но Яков Дмитриевич тут же мотнул головой, как это в свое время сделал Родя, сунул платок в карман, надел очки и, придвинув к себе папку с делами, даже слегка улыбнулся.
— Занятное совпадение! Очень занятное совпадение! — пробормотал он, отгоняя от себя столь нелепые мысли.
И в этот момент послышался тихий коротенький стук в дверь.
— Войдите! — сказал Яков Дмитриевич.
И в кабинет вошла Зоя. Прикрыв за собой дверь, она скромно остановилась у косяка. В руке у нее был портфель.
— Здравствуйте, Яков Дмитриевич! — негромко сказала она.— Ну как, папа прислал станок?
— При... прислал,— хрипловато ответил директор, и на душе у него вдруг стало тревожно, и мысли о каких-то совпадениях отошли на задний план.
ззо
Некоторое Бремя оба молчали. Зоя смотрела на Якова Дмитриевича, а тот — на нее. Он невольно вспомнил про «Слип камли», о котором ему рассказывала директор школы, и ему захотелось заткнуть себе пальцами уши, но он сдержался. Что подумает о нем эта девчонка, если он станет вести себя на ее глазах таким странным образом! Однако его не покидало чувство, что вот-вот что-то должно произойти.
— Яков Дмитриевич, между прочим, когда завтра начинаются занятия в обществе «Разведчик»?
— А тебе что за дело? — с нарочитой грубостью спросил в свою очередь директор.
— Яков Дмитриевич, отвечайте! — отчеканила Зоя.
— Ну, в шестнадцать тридцать по субботам. Только что это за тон! «Отвечайте»! Тебя что, дома не учат, как со старшими говорить? — Последнюю фразу Яков Дмитриевич проговорил уже совсем гневно, но все же у него осталось такое ощущение, что ответил-то он против своей воли. И снова ему захотелось заткнуть себе уши, и снова он сдержался. На свою беду.
А Зоя, не мигая, смотрела на него.
— Между прочим, Яков Дмитриевич, мне сказали, что это все только отговорочки, будто вы не можете записать в «Разведчик» ребят пионерского возраста.
Директор приподнялся.
— Что-что? — начал было он, но Зоя опять отчеканила:
— А теперь, Яков Дмитриевич, садитесь и слушайте меня! Вот!
Директор сел и теперь уже совершенно отчетливо понял, что сделал это не по своей воле. Он замер от ужаса, а Зоя продолжала:
— Значит, так: вы завтра всякие там занятия у старшеклассников отмените, а вместо них к вам придут пионеры, вот! Которые в «Разведчик» записаться хотят, вот! И вы им покажете всякие там лаборатории, оборудование и всякое там такое, вот! А сегодня пойдите к Надежде Сергеевне и скажите, что приглашаете на завтра всех желающих ребят. Вот! Всего хорошего! — Зоя повернулась и вышла, но через секунду появилась снова.— И еще вы скажите Надежде Сергеевне, что это я вас уговорила, а не кто-нибудь, вот!
Теперь она ушла совсем. Директор сидел неподвижно. Все предметы вокруг он видел как бы в тумане, потому что очки его запотели. Теперь он знал, что ОБЯЗАТЕЛЬНО пойдет сегодня к Надежде Сергеевне и скажет все, что приказала Зойка. Он знал, что просто НЕ МОЖЕТ не сказать.
Неизвестно, сколько времени Яков Дмитриевич осваивался с этой ужасной мыслью, а когда освоился, стал думать, как же ему быть. Сначала он захотел объявить в школе, что Куприян Семенович вовсе не сумасшедший, что Зойку действительно надо изолировать. Но ведь ему тоже могут не поверить, как и Куприяну Семеновичу! А если поверят? Тогда поймут, что он тоже действует под влиянием Зойки, и не позволят провести мероприятие, которое она заказала. А это
331
для него было просто немыслимо, невыносимо! Нет, лучше помолчать!..
Яков Дмитриевич взглянул на часы. Было ровно два. С минуты на минуту должен был прийти руководитель «Разведчика» Альфред Павлович Тигровский. Директор встал и принялся ходить по кабинету. Что же он скажет этому Тигровскому? Что он скажет завтра руководителям всевозможных секций «Разведчика»? Ведь завтра суббота, работают почти все секции, да еще два известных профессора согласились провести беседу со старшеклассниками. Чем же он объяснит отмену занятий, отмену встречи с учеными и чем он объяснит нашествие всякой мелкоты? Спасительная мысль явилась директору в тот самый момент, когда открылась дверь и вошел Тигровский.
Это был маленький худощавый человек с острыми серыми глазами.
— Извините, Яков Дмитриевич, на три минуты опоздал.
— Ничего, дорогой. Присаживайтесь! — Яков Дмитриевич сел на свое место. Тигровский опустился в кресло по другую сторону стола.— Неприятные новости, Альфред Павлович. Придется завтра отменить занятия в «Разведчике».
— Это почему?
— Предлагают провести день открытых дверей для детей пионерского возраста. И... и провести... как бы вам сказать? Провести регистрацию желающих вступить в «Разведчик».
— Кто предлагает?
— Сам... Сам товарищ Карпов, заведующий районо,— с трудом выдавил из себя Яков Дмитриевич эту чудовищную ложь.
— Ну хорошо, день открытых дверей для пионеров — это полезно. Но почему срывать намеченные занятия, почему не предупредить заранее руководителей? И почему, наконец, не продумать все это дело как следует?
Яков Дмитриевич постарался как можно тяжелее вздохнуть.
— Я очень долго спорил по этому вопросу с товарищем Карповым, но тот стоит на своем, говорит, что имеет какое-то указание из центра, говорит, что поручил какому-то сотруднику предупредить нас заблаговременно, а тот заболел... Словом, настаивает, чтобы только завтра.
— Безобразие! — медленно процедил Тигровский.
— Сам понимаю, что безобразие, сам все вижу. Альфред Павлович, дорогой, но... надо как-то выкручиваться. Надеюсь, вы меня не подведете.
— Разумеется, не подведу, но это все-таки безобразие.
У Якова Дмитриевича стало легче на душе. Директор чувствовал, что как только завтрашнее мероприятие окончится, он снова станет нормальным человеком, а послезавтра он всем во дворце объяснит, что кто-то его разыграл, позвонив по телефону и подражая голосу заведующего районо. А может быть... может быть, он расскажет все об эликсире Куприяна Семеновича Дрогина.
332
Глава двадцать вторая
Теперь посмотрим, как обстояли дела у ребят.
Зоя не могла забыть того впечатления, которое она произвела на одноклассников, заставив Трубкина поместить Родину статью. Еще сильней запомнились ей ошеломленные глаза Маршева, какими он смотрел на нее после истории с Борькой и Семкой. Зоя была слишком юна, поэтому не догадывалась, что у тщеславия аппетит ненасытный. Чем больше она возвышала себя в глазах ребят, чем больше удивлялся ей Родя, тем больше ей хотелось еще и еще раз дать всем понять, какой она особенный, какой исключительный она человек.
Придя в школу, она стала ждать момента, когда сможет сказать: «Ну что, Маршев? Я тебе вчера говорила, что попрошу отца прислать Дворцу пионеров станок, и вот он прислал!» Она понимала, конечно, что станок привезут на грузовике, и она всю первую половину дня пользовалась любой возможностью, чтобы открыть окно в каком- нибудь кабинете, если оно выходило на улицу, и посмотреть вдоль этой улицы вправо: не стоит ли у ворот Дворца пионеров грузовая машина.
Волновала Зою и другая забота. Ей очень хотелось скорее помириться с Купромом Эсом. На переменах она заглядывала в химический кабинет, приоткрывала дверь в учительскую, но Куприяна Семеновича нигде не было видно.
День был солнечный, теплый, и ребят на большую перемену выпустили побегать во двор. Вот тут-то Зоя, выйдя на улицу, увидела то, чего ждала: у ворот дворца стоял автокран, а на прицепе возвышался контейнер.
Не сходя с тротуара, Зоя заглянула во двор, поискала глазами Родю.
— Маршев! Маршев! Поди-ка сюда!
Родя подбежал к ней. С ним, конечно, и Веня.
— Маршев, помнишь, я тебе обещала сказать отцу, чтобы он прислал во дворец станок? Вот он, кажется, прислал,— проговорила она, глядя в сторону машин.
— А если это не станок и вовсе не от твоего отца? — сказал Веня.
— Ну сходите и спросите, станок это с завода «Факел» или нет...
Приятели добежали до машин, и Веня задал этот вопрос вылезавшему из кабины шоферу.
— Ну, с «Факела»,— ответил тот.— А ты откуда знаешь?
Веня бегом пустился обратно, не замечая, что Родя вместе с ним не бежит. А тот шел шагом, и шел очень медленно, и глаза у него были такие же пустые, словно ничего не видящие, какими они бывали подчас у Купрума Эса.
Итак, станок с «Факела». Значит, прислан Зоиным отцом. Значит, лишь вчера вечером Зоя сказала отцу, чтобы он прислал станок, а сегодня, в первой половине дня, он уже тут! Что же это? Опять
333
совпадение? И снова сердце у Роди забилось, а в голове застучало: «Очевидное — невероятное, очевидное — невероятное, очевидное — невероятное...»
— Ага, с «Факела»,— на бегу сказал Веня Зое и пустился во двор, чтобы сообщить о прибытии станка другим членам вчерашней делегации.
Зоя даже не шевельнулась, услышав Венины слова. Неподвижная, как статуя, со скрещенными руками и непроницаемым лицом, она ждала приближения Маршева и сама себе казалась удивительно загадочной и красивой.
— Ну что? — спросила она, когда Родя подошел.
— Станок... с «Факела»,— тихо ответил Родя, глядя на красавицу напряженно, даже с каким-то страхом.— А как... как ты уговорила отца?
— Я же тебе сказала, что он считается с моим мнением,— очень лениво, растягивая слова, ответила Зоя.— Он по многим вопросам советуется со мной.
Она сняла руки с груди, заложила их за спину и, не прибавив больше ни слова, пошла от Маршева прочь. А тот еще секунд тридцать смотрел ей вслед.
После этого Веня отметил, что Родька слоняется по двору «словно пыльным мешком трахнутый», не бегает, не дурачится, как все нормальные люди. Но Веня знал, что его друг умеет внезапно впадать в задумчивость, и не стал ни о чем расспрашивать.
Зазвонил звонок, ребята начали уходить в школу. Когда двор наполовину опустел, Родя вдруг увидел Борьку Трубкина, лениво шагавшего к подъезду, и тут неплохая мысль осенила его. Он подбежал к своему вчерашнему мучителю:
— Трубкин, подожди минуточку! Можно тебя кое о чем спросить?
Трубкин остановился.
— Ну спрашивай.
— Помнишь, вчера, когда вы меня трепали за уши, к нам подошла Зоя Ладошина и крикнула вам, чтобы вы меня отпустили. Вот скажи: почему ты меня сразу отпустил?
Некоторое время Трубкин молча смотрел на Родю. Наконец он сказал:
— А что ты думал, мы с тобой до вечера будем чикаться? Подурили, и хватит!
Такой ответ Родю, конечно, не удовлетворил.
— Боря! — сказал он как можно мягче.— Еще минутку подожди! А вот когда Ладошина сказала вам, чтобы вы шли домой, и вы пошли... Вот скажи, что ты, например, в этот момент чувствовал? И только честно скажи! И о чем думал?
Борька снова молчал, и Родя на этот раз заметил, что лицо у Трубкина изменилось, а глаза беспокойно метнулись из стороны в сторону. Но он быстро овладел собой.
334
— О чем думал? — процедил он сквозь зубы.— О том, что тебе надо по носу дать!
Тут он влепил такой щелчок в кончик Родиного носа, что у того сразу слезы потекли. Забыв о научной цели своего разговора, Маршев ударил Трубкина по скуле, в следующую секунду сел на землю с разбитой губой, еще через секунду снова бросился на Борьку, но тут их растащили. Подтверждения своей гипотезе Родя так и не получил, но он запомнил, как метнулись у Борьки глаза.
Теперь Родя не мог не думать о Зое. И во время урока, и на следующей перемене он то и дело поглядывал на нее, а она замечала ото и млела от удовольствия. Зоя не подозревала, что Маршев даже о красоте ее позабыл, что пристальные взгляды его — это взгляды исследователя, изучающего загадочный объект, ей казалось, что они выражают восхищение, а быть может, и затаенную любовь. И Зое с новой силой захотелось возвеличить себя в глазах Маршева, и не только Маршева, но и всего пятого «Б».
А тут как раз случилось такое. В пятом «Б» кончились уроки, и Зоя шла по коридору, направляясь к лестнице, как вдруг вверх по ступенькам взлетел Гена Данилов и закричал:
— Восьмой «А», по домам! Химии не будет, Купрум Эс заболел.
— А что с ним? — спросил кто-то.
— Сердечный приступ. В больницу свезли.
Зоя оторопела. Сердечный приступ! В больницу увезли! Так ведь это, должно быть, надолго! А как же эликсир? Как же все эти великолепные добрые дела? Зоя вспомнила слова учителя о том, что эликсир потихоньку выветривается, даже если ничего никому не приказывать. А что значит это «потихоньку»? Полгода? Месяц? А может быть, и всего какую-нибудь неделю? И может быть, она совсем скоро превратится в обыкновенную Зойку Ладошину, которая пользуется уважением только у своих «активистов» да влюбленных мальчишек.
Зое стало ясно: она должна немедленно, сегодня же совершить что-нибудь такое, чтобы имя ее прогремело на всю школу. Словом, она должна сегодня же, вот сейчас пойти к директору Дворца пионеров и приказать ему записать всех желающих в «Разведчик».
О разговоре ее с директором вы уже знаете.
Когда Зоя вернулась домой, ее встретила расстроенная мама. Она сказала, что ей позвонили с папиной работы, сообщили, что папа серьезно заболел и его прямо с завода увезли в больницу.
—* А что с ним?
— Как видно, переутомление.
— Он что, сознание потерял?
— Почти что...
Зоя, конечно, огорчилась, но потом вспомнила о своем эликсире, и в ней закипела энергия.
— Мама! А какая в городе самая-самая лучшая больница?
335
И какой есть в городе самый лучший врач, который бы папу сразу вылечить мог?
Но мама ответила, что больница, куда поместили папу, и есть лучшая в городе, а о врачах она ничего не знает.
Наступил вечер, вечер пятницы. Взрослые Рудаковы и Маршевы уехали праздновать день рождения дяди Миши, а младший Рудаков пришел к младшему Маршеву. Стали играть в шахматы. Родя играл плохо: в голове его вертелось все то же «очевидное — невероятное». Проиграв несколько партий, он сказал:
— Венька, а ведь сегодня пятница, сегодня мы засаду собирались устроить.
— Ага,— равнодушно согласился Веня.
— Нет, ты по-честному скажи: ведь тебе ни капельки не хочется идти на такое дело?
— Ни капельки. Давай еще партию?
И тут Родя не выдержал:
— Венька! Хочешь я расскажу, о чем эти два дня думаю? Только, пока я не кончу, ты не перебивай! Не будешь?
— Не буду. Валяй!
И Родя рассказал Вене о своих удивительных предположениях. Тот не перебивал его, но когда он кончил, Веня смотрел на него с досадой, даже с какой-то жалостью.
— Родька! Ну, ты что, совсем как маленький! Или, наоборот, как деревенская старуха дореволюционная! Ведь ты же в чудеса начинаешь верить! Ну, хочешь, я сейчас разберу все эти твои «фактики», и ты увидишь, что они самые обыкновенные?
— Ну давай разбирай! Ну пожалуйста, разбирай! — вскричал Родя.
— Ну, вот с Трубкиным. Он сначала смеялся над статьей, а ты молчал как рыба... А потом он раскинул мозгами и решил, что статья дельная. А тут Зойка к нему со своими уговорами!
— А со станком?
— Тю-у! Со станком! Зойкин отец давно обещал подарить дворцу станок, а тут Зойка напомнила ему, и он подумал: «Э!.. Дай-ка завтра отделаюсь, чтобы не висело это на моей шее».
Родя почувствовал себя немножко обескураженным. Против этих Венькиных доводов трудно было что-нибудь возразить.
— Ну, а с Борькой и Семкой?
— Ас этими еще проще: на фига им нужно при свидетелях хулиганством заниматься! Чтобы потом в школе попало? Вот они плюнули и разошлись.
— Так ведь именно по домам разошлись, как им Зойка приказала!
— А откуда ты знаешь, что именно по домам?
— Да ведь один кричал: «Идем ко мне!»/а другой — «Идем ко мне!».
336
— Ну, а чем ты докажешь, что Трубкин после этого пошел домой, а не еще куда-нибудь, не к какому-нибудь другому знакомому?
Родя опять промолчал, но у него осталась еще одна зацепочка.
— Ну ладно! Но вот теперь скажи, почему нам расхотелось устраивать засаду?
— Да потому, что мы узнали от Зойки, что там работает Купрум
Эс.
— А чем ты докажешь, что он не яд готовит или не взрывчатку какую-нибудь?
— А тем, что он не похож на диверсанта или вообще на преступника.
Родя ехидно улыбнулся:
— Вот ты и попался, голубчик миленький! По-твоему, выходит так: у каждого диверсанта должно быть на лице написано, что он диверсант, а не честный человек. В таком случае, почему же их всех давно не переловили?
На этот раз призадумался Веня.
— Ну ладно, ну тут я, может быть, чего-то не усек. Но в остальном-то я прав! Значит, что получается? Три — один в мою пользу! А самое главное, Родька, я тебе вот что скажу: ты в какой-нибудь книжке, в каком-нибудь журнале, в какой-нибудь газете читал, чтобы двенадцатилетняя девчонка могла гипнотизировать?
Тут Родя вскочил и уставил указательный палец на Веню:
— Слушай, а как, по-твоему, Попов в какой-нибудь книжке про радиоволны читал, перед тем как эти волны открыть? А? Скажи! Вот скажи!
Здесь Родин оппонент впервые растерянно захлопал глазами, но тем не менее Родя как-то скис. Он понимал, что ведь только историю с засадой его друг не смог объяснить более или менее вразумительно. А в остальном все случаи — с Трубкиным, с Борькой и Семкой и со станком — можно было толковать и так и этак, даже скорее «этак» — в Венину пользу.
...В тот же день, только намного раньше, вели разговор еще два знакомых нам человека. Это были Куприян Семенович Дрогин и Митрофан Петрович Ладошин.
Куприян Семенович уже сутки лежал в клинике имени Снегирева. Вчера врачи «скорой помощи» еще в отделении милиции сделали ему какой-то укол, второй укол ему сделали в клинике, и боль в груди совсем прошла, осталась только сильная слабость.
Куприян Семенович был человеком порывистым, увлекающимся, но отнюдь не глупым. После того как боль перестала его мучить, он стал думать о событиях вчерашнего дня, и ему стало ясно, что доказать он никому ничего не сможет: ведь аппарат для изготовления эликсира уничтожен, сержант Сивков отрицает, что он подчинился приказанию Зойки, а сама Зоя будет помалкивать о таящейся в ней чудесной силе. Словом, Куприян Семенович понял, что всякий затеянный им на эту тему разговор люди примут лишь за бред су¬
337
масшедшего. И он не сказал уже больше ни слова о Зойке и об эликсире врачам и даже жене своей Марии Павловне решил ничего о них не говорить, когда той позволят его навещать.
Куприян Семенович был помещен в двухместную палату, но находился в ней один: койка у противоположной стены пустовала. Учитель сложил руки на груди, да так и пролежал до вечера, уставившись в потолок, стараясь представить себе, какие это «добрые дела» творит сейчас Зойка и к чему это все может привести.
На следующий день ему встать не разрешили, и он завтракал лежа в постели. После завтрака учитель задремал, потому что ночью спал плохо, несмотря на принятые таблетки. Сквозь дрему он слышал, как в палату вроде бы внесли еще кого-то, и уложили на соседнюю кровать, и что-то делали с ним, вполголоса переговариваясь. Но Куприян Семенович глаз не открыл, продолжал дремать. Лишь часа через два с половиной он покосился на своего соседа и вдруг увидел,
что перед ним зять его старой приятельницы, да еще и отец самой Зойки Ладошиной. Тот лежал, как и учитель, сложив руки на груди, и смотрел в потолок, временами помаргивая. Куприян Семенович повернул к нему голову.
— Если не ошибаюсь, Митрофан Петрович? — сказал он тихо.
Ладошин в свою очередь повернул голову.
— Куприян Семенович?
— Вот именно. Тоже сердце?
— Оно.
— Сильная боль?
— Да сейчас прошло. Но подозревают инфаркт.
— Модная болезнь. Да.
Оба отвернулись друг от друга, и вдруг Митрофан Петрович сказал громко, энергично, хотя ему запретили не только говорить, но даже шевелиться:
— Вы счастливый человек, Куприян Семенович!
— А именно?
— У вас только сердце, а у меня еще что-то с мозгом.
— То есть?
И, не оборачиваясь, по-прежнему глядя в потолок, Митрофан Петрович опять заговорил:
338
— Сижу я вчера вечером, болтаю с дочкой. Вдруг она говорит: «Папа, подари завтра Дворцу пионеров станок с программным управлением». А это... а это тысячи и тысячи... Ну, подумал, дочка сама не знает, о чем говорит, пошутил по этому поводу...
Тут Митрофан Петрович надолго замолчал, а Куприян Семенович повернулся на правый бок, поджал под себя колени, подложил под голову ладонь.
— Так-так! Я вас слушаю.
— А ночью, понимаете, начинает меня забирать: вот, мол, должен я завтра отправить этот проклятый станок Дворцу пионеров, и все тут! Так до утра и не уснул. Сам не понимаю, что со мной сделалось...
Митрофан Петрович опять помолчал. Ему, как видно, трудно было говорить. А учитель весь съежился.
— Да-да! Слушаю вас.
— Приезжаю на работу — не отпускает... эта идея. Вызываю
начальника отдела сбыта, понимаю, что даю явно нелепое, явно преступное распоряжение, но ничего с собой сделать не могу.
И снова наступила пауза, и снова Куприян Семенович сказал на этот раз чуть слышно:
— Да-да!
— Уж не помню, как я добился, чтобы они при мне отправили этот проклятый станок. А как только отправили, сразу чувствую: ну, отпустило.
— Гм! Да! — сказал Купрум Эс.
— Думаю: что же это я натворил?! Вызываю к себе заместителя... и только успел сказал: «Выручайте станок!» Тут меня прихватило: сердце.
После этого оба собеседника долго молчали, а затем Ладошин опять заговорил, на этот раз уже тихо.
— Понимаете, Куприян Семенович... сердце — что! Сердце подлечат, и я опять на работе. Но ведь станок-то! Это значит, что мозг поражен. Сегодня я нормальный, а завтра снова что-нибудь выкину.
Куприяну Семеновичу стало знобко, и он натянул себе на ухо одеяло.
339
— Н-да. Гм!.. Митрофан Петрович, относительно этого вы можете не беспокоиться. Мне... мне подобные заболевания хорошо знакомы, и... смею вас уверить, что ничего подобного с вами не повторится. Вот так! Да!
Куприян Семенович не лгал. Он просто знал, что, когда Ладошина выпустят из клиники, эликсир у Зойки испарится.
— Дай бог! — сказал Митрофан Петрович.
Куприян Семенович снова лег на спину, вытянул ноги, и оба собеседника надолго умолкли.
Оба сложили руки на груди, оба смотрели в потолок, и каждый думал о своем.
Глава двадцать третья
И вот наступила суббота — день великого Зоиного торжества (по крайней мере так она предполагала). Она очень рано проснулась, рано позавтракала и рано вышла из дома, так рано, что никто не ждал ее на обычном перекрестке. Но по дороге в школу Зою неожиданно встревожила такая мысль: вдруг эликсир из нее выветрился! Вдруг он выветрился уже вчера, и она совершенно зря отдавала приказания директору дворца, а тот слушал и думал, что дочка Митрофана Петровича просто свихнулась. И Зоя стала соображать, кому бы отдать какое-нибудь безобидное приказание, чтобы проверить, не исчезла ли ее способность повелевать.
Двери школы были еще заперты, а во дворе околачивалось всего три или четыре десятка ребят. Из пятого «Б» тут был один только Павлов. Он подошел к Зое.
— Привет, Ладошина! А чего же это ты сегодня без «активистов» своих? Все разбежались?
И тут Зоя подумала, что перед ней стоит самый злейший ее враг. Ведь это Павлов поносил ее всячески после скандала с Нюськой, он предлагал не переизбирать Зою председателем; ведь это он донимал ее оскорбительными шуточками, когда читал Родину статью, и это он, Павлов, вслух усомнился в том, что не Зоя уговорила Трубкина поместить статью, а тот сам себя убедил! Вот за все это она и проверит сейчас на силаче, остался ли в ней еще эликсир. И как тогда, во время эксперимента с Купрумом Эсом, она не стала долго раздумывать. Она сказала негромко, но властно:
— А ну-ка, Павлов, становись на четвереньки!
— Ты что, чокнулась? — спросил Павлов и опустился на карачки.
— Вот теперь поползай вокруг меня. Пять кругов сделай. И тогда можешь встать.
— Дура ненормальная! — сказал Павлов и пополз вокруг Зои.
Такое поведение силача обратило на себя внимание ребят, и
те подошли узнать, что это за новая игра.
340
— Павлов! Ты чего? — спросил кто-то.
— Сейчас,— прохрипел силач, красный как рак. Делая третий круг, он краем глаза заметил, что недалеко от ворот остановились Рудаков и Маршев и смотрят на него: Рудаков — с любопытством, но спокойно, а Маршев — разинув рот и вытаращив глаза.
К концу пятого круга Леша почувствовал, что может подняться. Он так и сделал.
— Поваляли дурака, и хватит! — сказал он, отряхивая ладони, и поспешил отойти.
— Видел? Видел? — тихо спросил Родя своего друга.
Тот пожал плечами.
— Ну, а чего тут особенного? Чего особенного?
— А ну-ка пойдем спросим его! — Родя схватил Веню за рукав и подтащил его к силачу. Тот до сих пор был красен и вообще выглядел ошалело. Маршев обратился к нему: — Павлов, скажи откровенно: это Зойка заставила тебя ползать, да?
Павлов покраснел еще гуще и накинулся на Родю:
— Да ты... ну, ты что, сдурел, да? По-твоему, и пошутить нельзя, да?! Юмора не понимаешь, да? Вот идиотик-то! — Силач повернулся и быстро зашагал прочь.
А Зоя была довольна тем, что расплатилась с ненавистным Павловым, но главное, она теперь была уверена, что ее вчерашнее приказание подействовало, что директор дворца вчера, конечно, ходил в школу и что сегодня всех желающих записаться в «Разведчик» запишут туда. Зоя хотела подождать, когда об этом объявит ребятам сама Надежда Сергеевна или еще кто-нибудь из педагогов, но потом не утерпела...
Учительница русского языка впустила ребят в кабинет, сказала, что должна ненадолго уйти, и попросила сидеть тихо. Когда она удалилась, Зоя встала за своим столиком и обратилась к Роде:
— Маршев! Ну давай расскажи от нечего делать про нашу делегацию. Как мы третьего дня ходили. А то мы всё молчим да молчим, а людям ведь, наверно, интересно.
— Про какую делегацию? Куда ходили? — послышались голоса.
Родя тоже встал. Он немножко растерялся. Члены делегации не
сговаривались между собой, но вчера каждый из них предпочел молчать о неудавшемся походе, и вот сегодня этой Ладошиной почему-то вздумалось заговорить о нем.
— А чего рассказывать? — неохотно ответил Родя.— Ну, директор дворца нам ответил, что ничего не получится, и всё...
До сих пор Павлов пребывал в мрачном раздумье: он никак не мог понять, зачем он послушался Зойку и пополз вокруг нее как дурак. Теперь, услышав про делегацию, он поднял голову.
— Ну, ты выйди к доске и расскажи толком, что вы сами говорили, что директор вам отвечал...
341
Силача поддержали:
— Правда, Маршев, расскажи!
— Давай рассказывай, Родька!
Родя подошел к учительскому столу и постарался как можно точнее передать разговор с Яковом Дмитриевичем. Когда он сел, Зоя сорвалась со своего места и стала рядом с учительским столом.
— А теперь дайте я скажу! — проговорила она, поблескивая глазами.— Мартев все очень правильно изложил, только надо было не уходить, поджавши хвост, а спорить с директором. Вот!
— Ну, взяла бы и поспорила! — буркнул Павлов.
Кто-то фыркнул, а Зоя только этого и ждала. Она скрестила на груди руки, устремила взгляд на Павлова и произнесла громко, тщательно выговаривая каждое слово:
— А я, Павлов, между прочим, так и сделала.— Зоя умолкла, ожидая, что ее засыплют вопросами, но никто ни о чем не спрашивал — класс оцепенел. И тогда она продолжала: — Да-да, Павлов, не пяль на меня глаза! Эта дура Ладошина вчера пошла к Якову Дмитриевичу и доказала ему, что можно и средства найти, и руководителей, и помещения, если, конечно, не сидеть сложа руки и понять, что пионерский возраст — это тоже люди. Вот так-то, Павлов миленький!
— А он что? — спросил Валерка.
Но тут вошла учительница.
— А он что? Скоро узнаете,— сказала Зоя и вернулась на свое место.
В классе царила такая тишина, что учительница сказала:
— Ну и молодец у меня пятый «Б»! Вот это я понимаю — дисциплина!
Но уже через минуту она была другого мнения об этой дисциплине. По всему классу слышался тихий, но непрерывный гул: за каждым столом — где шепотом, а где вполголоса — обсуждали выступление Ладошиной.
А вскоре после того, как зазвенел звонок, дверь открылась и в класс вошла улыбающаяся Надежда Сергеевна.
— Нина Евгеньевна, вы закончили? — спросила она.
— Да,— ответила учительница.
— В таком случае я задержу ребят минуты на две для объявления.— Она подошла к столу, и необыкновенный голос ее зазвучал как-то особенно чисто и звонко. Она объявила, что сегодня в научно-конструкторском обществе «Разведчик» будет проведен День открытых дверей для ребят пионерского возраста и что всех желающих записаться в общество туда запишут.
Класс молчал, а Соня Барбарисова подняла руку.
— Надежда Сергеевна!.. Значит... всех-всех записывают?
— Да. По крайней мере так нам вчера сказал директор Дворца пионеров, Яков Дмитриевич.
342
Теперь поднял руку Павлов.
— А если кто не занимался всякими там исследованиями?
— Не знаю, дружочек. Мне, повторяю, сказали, что будут записывать всех. Да! И должна прибавить, что этим мы обязаны не только статье Роди Маршева, но и отваге, если можно так выразиться, Зои Ладошиной.— Теперь Надежда Сергеевна смотрела на Зою, смотрела не улыбаясь, как-то слишком уж пристально, и голос ее звучал поглуше.— Это она, она одна отправилась вчера к Якову Дмитриевичу и убедила его пойти навстречу пионерам.
Весь класс, конечно, тоже уставился на Зою. Кое-кто даже приподнялся. Зоя сидела выпрямившись, опустив ресницы.
Затем Надежда Сергеевна отпустила класс на перемену, попросив остаться членов «инициативной группы». Им она сказала, чтобы они разыскали Гену Данилова, который еще ничего не знал, и уговорились с ним, как оповестить всю школу о предстоящем мероприятии. После этого она ушла. Снова она чувствовала легкое беспокойство. Такие приливы беспокойства то приходили к ней, то покидали ее уже несколько раз со вчерашнего дня.
Вчера, по окончании уроков в школе, она сидела в кабинете у Клавдии Мироновны, когда секретарша сказала о приходе Якова Дмитриевича. Он вошел бодрый, улыбающийся и сразу заговорил каким-то очень уж приподнятым, этаким развеселым тоном:
— Здравствуйте, уважаемая Клавдия Мироновна! Приветствую вас, дорогая Надежда Сергеевна! Разрешите? — Он сел в кресло и закинул ногу на ногу.— Так я, значит, вот по какому делу. Мы вчера посовещались с руководителем «Разведчика» и пришли, стало быть, к такому решению...
К какому решению они пришли, вы уже знаете. Минут пять Яков Дмитриевич с подчеркнутым увлечением говорил о том, что тягу к поискам и творчеству надо развивать в детях с самого младшего возраста, что одной лишь косностью взрослых можно объяснить такое положение, когда в научно-конструкторское общество привлекаются только старшеклассники. Надежда Сергеевна смотрела на директора дворца; ей казалось, что веселость его не очень естественна и что глаза его, за четырехугольными стеклами очков, временами как-то странно бегают. Вдруг Яков Дмитриевич, без всякого перехода, проговорил:
— Да! Между прочим! А ведь эта... как ее? Зоя Ладошина... Насчет которой Куприян Семенович околесицу нес... Она ведь оказалась очень занятной девчушкой, очень занятной девчушкой! Понимаете, приходит вчера ко мне и начинает меня уговаривать, что надо допустить пионерский возраст... И... и так убедительно, знаете ли, так логично... У меня в голове, конечно, уже созрела эта идея насчет сегодняшнего, но все-таки ее визит послужил, так сказать, толчком. Вы это ей так и передайте!
Вот тут у Надежды Сергеевны впервые слегка сжалось сердце и у нее мелькнула очень смутная догадка: а не прав ли был Купрум
343
Эс? Но замдиректора тут же отмахнулась от этой «глупости».
— Ну что ж, очень приятно! — сказала Клавдия Мироновна.— Только я не понимаю, зачем такой спех? Лучше бы недельку подождать, как-то подготовить детей, отобрать наиболее достойных...
Тут Яков Дмитриевич вскочил:
— Нет-нет! Ни в коем случае! Только сегодня! Как же так? Все уже решено, все подготовлено... Нет уж, только сегодня! Ковать железо, пока горячо! — Он поклонился обеим женщинам.— Ну, вы извините, я спешу. Значит, сегодня в шестнадцать тридцать.— Попрощавшись, директор дворца вышел.
— Энергичный человек,— заметила Клавдия Мироновна.— Быстрый!
В этот момент Яков Дмитриевич вернулся.
— Клавдия Мироновна, совсем забыл... Наши химики интересуются, что это за средство для ушей... которое вам дал Куприян Семенович?
— «Слип камли»?
— Вот-вот! «Слип камли». Вы не могли бы дать нам пару кусочков? Наши химики хотели бы произвести анализ, разгадать, так сказать, секрет...
— Да возьмите хоть все! — сказала Клавдия Мироновна. Она достала из ящика коробочку и отдала ее директору дворца.
— Благодарю вас! Всего хорошего! Спешу!
И снова Надежда Сергеевна подумала о Куприяне Семеновиче и снова отогнала от себя эту мысль.
Когда всполошенные члены «инициативной группы» отыскали Гену и сообщили ему удивительную новость, он вцепился пятерней в подбородок и некоторое время молчал.
— Не понимаю, почему так с бухты-барахты? Зачем такую горячку пороть? Ведь можно было бы выставку работ организовать... Все! Побегу во дворец, скажу, чтобы отложили.
Гена отсутствовал всю большую перемену, даже остался без завтрака, и вернулся довольно мрачный:
— Ни черта! Как я его ни уламывал (он имел в виду директора дворца) — уперся на своем: сегодня и ни на день позже! «У нас, говорит, есть какие-то особые соображения». Ладно! Попробуем и сегодня выставку организовать. Оповестите всех на следующей перемене: у кого есть готовые работы, пусть обязательно приносят.
Зоя слышала этот разговор и умехнулась про себя. Она-то знала, что это за особые соображения, которые мешают директору дворца отложить мероприятие хотя бы на день. Ведь это она приказала Якову Дмитриевичу устроить все именно сегодня.
Между тем вся школа узнала, что сегодня будет во дворце, и уже во время большой перемены только и слышалось: «Ты пойдешь записываться в «Разведчик»? Ты пойдешь записываться в «Развед¬
344
чик»?» Об этом спрашивали друг друга не только ребята пионерского возраста, но и третьеклассники, и даже второклашки, которые почему-то решили, что в научно-конструкторское общество будут записывать кого угодно. К концу учебного дня стало ясно, что записываться в «Разведчик» собираются почти все. Записаться в «Разведчик» стало делом вроде бы модным, стало признаком того, что ты человек очень современный и высококультурный. На предпоследней перемене мимо Зои прошли под руку две шестиклассницы. Они прогуливались неторопливо, чуть покачиваясь, надменно косясь на проходивших мальчишек.
— Ты пойдешь записываться в «Разведчик»? — спросила одна.
— Пойду, конечно, только я не знаю, что надеть: у меня есть брючный костюм — желтые брюки и лиловый жакет,— и еще мама привезла платье из Польши. Только платье уж слишком какое-то такое... Брючный, пожалуй, скромнее будет.
Зоя наблюдала все это, и ее распирало от гордости. Ведь причиной всему была она!
Но не только внутреннее сознание своей значимости радовало Зою. Ей особенно приятны были знаки признания и уважения, которые так и сыпались на нее со стороны одноклассников. В полном восторге были, конечно, и ее поклонники.
— Зо-о-о-я! Как ты только на это реши-и-илась! — тянула Соня Барбарисова.— Ну как у тебя только сме-е-е-лости хватило!
— Гениально сделано! Просто гениально сделано! Гениально сделано! — гудел редактор Шурик Лопухов.
Их комплименты Зою не так уж радовали, но на каждой перемене ее хвалили и другие ребята.
— Да, Ладошина,— сказала Круглая Отличница,— ты просто молодец! Ты просто молодец, Ладошина!
И наконец, проходя мимо, перед ней остановился Павлов:
— Ну, Ладошина, признаю: у тебя башка на плечах! Дай руку!
Зоя подала ему руку с равнодушным лицом, Павлов пожал ее
и отошел. Теперь ему не казалось смешным и унизительным, что он ползал на карачках вокруг Ладошиной.
Провожали Зою домой уже не только Соня, Жора, Нюся, редактор и сестры Мухины. Кроме них, было еще человек двенадцать из пятого «Б» и даже из других классов. Были тут и Рудаков с Маршевым. Все хотели узнать подробности ее разговора с директором дворца, все спрашивали, какие доводы она привела, чтобы заставить директора так круто изменить свое отношение к делу. Тут Зое пришлось туго.
— Ну как какие? — тянула она.— Я сказала ему, что это просто несправедливо, чтобы в «Разведчике» были одни старшеклассники, сказала, что и в пионерском возрасте тоже много всяких исследователей, сказала, что... Ну, мало ли о чем я говорила... Всего не упомнишь.
Словом, Родя заметил, что Зойка попросту излагает содержание
345
его статьи да еще то, что говорил директору Гена. Никаких новых доводов, как видно, она не привела, а директор вдруг взял да послушался ее.
Родя шел в толпе ребят, а глаза его стали неподвижными и рот приоткрылся, потому что в голове опять закачались слова: «Очевидное — невероятное, очевидное — невероятное...»
Глава двадцать четвертая
Зоя пришла во дворец с некоторым опозданием. Дело в том, что мама ее уехала в больницу проведать папу, а Зое хотелось узнать подробнее, что с ним и каково его состояние. Но мама задержалась, и она ее не дождалась.
Ладошина вошла в вестибюль, и сердце ее сразу наполнилось гордостью. Если бы только видел Купрум Эс, какую массу людей она привела в движение и осчастливила! Если бы он только узнал, как она за две минуты уладила огромной важности дело, которое оказалось не по плечу всяким там Родькам Маршевым, Генкам Дани-' ловым и Круглым Отличницам!
Входная дверь почти непрерывно открывалась и закрывалась, в нее то и дело входили школьники. Входили ученики шестых, пятых и четвертых классов, пыталась прошмыгнуть и мелкота из третьих и вторых. Против нее у двери был поставлен кордон в лице технички Сильвии Михайловны, но кордон этот действовал неточно: случалось так, что какой-нибудь дылда третьеклассник проходил беспрепятственно, а пятикласснику, если он был щуплый и маленький, давался поворот от ворот. Отметила Зоя и то, что во дворец входили ребята, которых она никогда не видела в школе. Ей стало ясно, что и в других школах уже проведали о том, что сегодня будет во дворце.
На стекле наружной двери было приклеено объявление:
Сегодня все занятия в обществе «Разведчик» отменяются
Однако старшеклассники тоже входили. Одни — потому что занимались в кружках, не имеющих отношения к научному обществу, другие — чтобы узнать, почему отменили занятия. Последним давал разъяснения какой-то очень нервный Альфред Павлович, тоже стоявший возле двери. Некоторых старшеклассников он просил остаться.
— Инсаров! — услышала Зоя голос Тигровского.— Ты ведь староста секции бионики. Будь другом, задержись на часок. Тут черт знает что творится!
Эта фраза удивила и слегка встревожила Зою. Она сдала плащ в гардероб и пошла на второй этаж.
346
Там было полно народу. Одни слонялись, как видно, безо всякого дела, другие то входили, то выходили в распахнутые двери лабораторий. У некоторых мальчишек и девчонок в руках были какие-то приборы, папки, свернутые в трубку чертежи... Среди толпы прохаживались педагоги дворца с настороженными и сердитыми лицами, да и у многих ребят лица были растерянные, а то и злые.
— Ну, пошли домой, тут ничего толкового не добьешься! — услышала Зоя чей-то голос и с возмущением обернулась. Эта фраза сильно задела ее. Почему это «здесь ничего толкового не добьешься»? Она, Ладошина, для них старалась, она для них все это устраивала, и вот теперь какие-то типы еще изволят выражать недовольство!
Скоро она увидела стол, поставленный боком к стене коридора. Над ним была приклеена надпись:
Здесь производится запись в общество «Разведчик».
За столом сидели два старшеклассника: один — ярко-рыжий, другой — шатен. Вдоль стены к ним тянулись две очереди. В конце их стояли сестры Мухины, а самыми первыми были Столбов с банкой в руке и девчонка в желтых брюках и лиловом жакете.
— В какую секцию? — спросил рыжий парень Столбова.
— Мне... чтобы с вредителями бороться. С огородными.
— Что это у тебя в банке?
— Гусеницы. Толченые.
— В секцию энтомологии запишем,— сказал парень и склонился над тетрадью.
— А когда заниматься приходить? — спросил Столбов.
— А это покрыто мраком неизвестности. Следующий!
В это время другой старшеклассник сердито допрашивал девчонку в брюках:
— Ну ты говори толком, в какую секцию хочешь записаться?
Та пожиМала плечами.
— Ну конечно, в ту, которая поинтересней.
— Ну, а что тебя больше интересует: электроника? Ботаника? История?
— Ну... ну, меня вообще наука интересует.
Старшеклассник приподнялся:
— Ты что, совсем дурочка, да?
Тут рыжий парень обернулся к нему:
— Ну чего ты волынишься с ней! Ведь сказал тебе Яков Дмитриевич — записывай всех подряд, вот и записывай! Это же мероприятие для галочки проводится.
У Зои запершило в горле, даже глазам стало горячо. Ей вспомнился скандал, который устроил Павлов из-за Нюськи, вспомнилось,
347
как ее упрекали тогда, что она «проводит мероприятия для галочки», и вот теперь она снова услышала это противное выражение.
Закусив от досады нижнюю губу, Зоя двинулась дальше. Навстречу ей шел Яков Дмитриевич с очень красным лицом, рядом с ним — Надежда Сергеевна.
— Безобразная затея, родненький мой!..— говорила замдиректора.— Бюрократическое мероприятие! И как только в гороно додумались до такого!
— Совершенно с вами согласен,— пыхтел Яков Дмитриевич.— Целиком и полностью сог...— Увидев Зою, он не договорил. Он вдруг поднес обе руки к ушам и что-то быстро затолкал в них двумя большими пальцами.
— Здравствуйте, Яков Дмитриевич! — сказала Зоя и прошла мимо.
Она, конечно, не поняла, что сделал Яков Дмитриевич, зато Надежда Сергеевна догадалась. Прижав руки к сердцу, она в страшном изумлении уставилась снизу вверх на директора:
— Яков Дмитриевич!.. Родненький! Что это? «Слип камли»?
Яков Дмитриевич ничего не слышал, он смотрел вслед Ладошиной. Лишь когда она отошла далеко, он вынул из ушей розовые комочки.
— Яков Дмитриевич...— слабым голосом повторила Надежда Сергеевна,— это... это ведь «Слип камли»!
Директор помолчал, подумал.
— Да, Надежда Сергеевна, «Слип камли». И... когда кончится эта заваруха, я вам все объясню.
И вот Зоя увидела Гену Данилова, а с ним всех членов «инициативной группы» да еще Лешку Павлова. Они стояли тесной кучкой у стены. Веня держал подзорную трубу, у Валерки в одной руке был портативный кассетный магнитофон, а на указательном пальце другой руки торчала какая-то нашлепка, от которой к магнитофону тянулся провод. Круглая Отличница держала свернутую в трубку тетрадь — это была ее работа о пустельге. На глазах у Зои к Гене подошел небольшого роста парнишка, держа перед грудью здоровенный ящик с наклонной передней стенкой. На этой стенке были укреплены цветные изображения различных дорожных знаков, под каждым знаком была карточка с какими-то надписями, а рядом с каждой карточкой торчало несколько кнопок.
— Данилов,— сказал мальчишка,— куда мне ее поставить? Где будет выставка?
— Что это у тебя? — спросил в свою очередь Гена.
— Машина. Экзаменующая. Проверяет знание дорожных знаков. А если ей другую программу задать, может по другим предметам экзаменовать. Где будет выставка? Куда ее поставить? Я с ней хожу, хожу, и никто ничего не говорит.
— Выставка отменяется,— мрачно сказал Гена.— Умники руководители не предусмотрели, как ее организовать.
348
— Ну так что же, мне с ней так и таскаться?
— Видишь, другие тоже таскаются.— И Гена указал на Лялю, Веню и Валерку.
Конструктор ушел обиженный. Тут Павлов увидел Зою и усмехнулся.
— Ну, Ладошина, твой директор дает!
— Какой это «мой директор»? — спросила она, а сама как-то поджалась.
- Ну директор Дворца пионеров.
— Не понимаю. Ты говори ясней: в чем дело?
Павлов постукал себя кулаком по лбу.
— Ведь это нужно быть идиотом круглым, чтобы устроить такую фигню.
— Какую фигню?
— Да ты пойми,— сказал Валерка,— он же ни одного дня не дал для подготовки!
Зоя промолчала. Ей было ясно, что это не Яков Дмитриевич, а она не дала времени на подготовку, приказав ему все устроить «завтра».
— А ты знаешь, какие штучки он еще выделывает? — сказала Ляля.— Он дал распоряжение записывать «всех желающих», без разбора...
Веня добавил:
— ...Будь ты изобретатель великий или будь ты болван круглый.
Зоя снова промолчала. Она понимала, что и эти слова относятся к ней: ведь это она приказала записывать именно всех желающих!
— Отсюда вывод,— закончил Гена.— В «Разведчике» не будет заниматься никто из пионерского возраста. Всем,— он кивнул на толпу в коридоре,— тут не уместиться.
И Зоя почувствовала, что она краснеет, краснеет от носа до ушей, краснеет так, словно ребята понимают, что виновницей всей этой глупости является она. И тут еще она увидела, что Родька Маршев, единственный, кто не принимал участия в разговоре, очень пристально смотрит на нее. Смотрит и, несомненно, видит, как она краснеет. Ей захотелось как можно скорее убраться подальше от этого пристального взгляда. Зоя повернулась и, ничего не сказав, ушла в ближайшую комнату. Она очутилась в секции бионики.
Здесь, окруженная группой мальчишек и девчонок, стояла молодая женщина в черных брюках и в черном свитере. В руках она держала светло-желтый предмет, похожий на череп фантастической гигантской птицы. Женщина раздраженно говорила:
— Ну, ребята, вы будете слушать или нет? Если вам не интересно — пожалуйста, уйдите! Итак, вы видите череп дельфина. Нам привез его с берега Черного моря Саша Мельник. О том, как Саша добыл этот череп и почему он заинтересовался именно дельфинами, я вам расскажу как-нибудь позднее. Но сейчас давайте обратим
349
внимание на вот это углубление во лбу черепа... Ребята, еще раз повторяю: тем, кому не интересно,— уйдите и не мешайте слушать остальным!
И в самом деле, вокруг молодой женщины с черепом дельфина в руках стояло человек тринадцать, но только треть из них слушали внимательно. Остальные вертели головами, шмыгали носами, толкали друг друга локтями, кивая на диковинные предметы, стоящие на полках.
— Так вот, это углубление в черепе ученые связывают с так называемой звуколокацией — со способностью дельфина генерировать волны ультразвуковой частоты и с их помощью...
— Черт! Кто тебя трогать просил!..— раздался крик в дальнем углу.
Зоя обернулась. Там тоже стояла небольшая толпа, и над этой толпой с треском взлетело в воздух что-то похожее на птицу. Не на авиамодель, а именно на птицу, потому что крылья этой штуки были эластичные и подвижные. Сделав ими несколько взмахов, «птица» ткнулась в голову одного из зрителей и упала.
— Вера Алексеевна, ну что тут делается! — закричал Инсаров, тот самый, которого Тигровский просил поддерживать порядок.— Я им говорю — ничего не трогать, я сам махолет покажу, а этот дурак... А ну, отваливай отсюда! Вали! — Инсаров схватил за шировот Перпетуум-мобиле и вытолкал его из комнаты. Зоя вышла за ним.
Гены, Валерки, Ляли и Вени уже не было, ушел и Павлов, но Родя стоял на прежнем месте. Когда Зоя пошла по коридору и оглянулась назад, она заметила, что Маршев следует в том же направлении «Что он за мной, что ли, ходит? — подумала Зоя и, чтобы проверить это, зашла в лабораторию электроники и автоматики.
— Ребята, чего тут? Ребята, ребята, чего тут?
— Становись в очередь — узнаешь.
Тут Зоя обратила внимание, что вся толпа представляет собой две беспорядочные очереди, теснившиеся к двум, стоявшим поодаль друг от друга, столам. За каждым столом орудовал старшеклассник. Один из них был весел и говорлив, а другой, наоборот, угрюм и немногословен. Забыв на минуту о Роде, Зоя обогнула очередь и стала сбоку от столов, чтобы посмотреть, что там делается. Веселый парень держал на уровне лица небольшой ящичек, от которого свисал провод с болтавшимся на нем наконечником, похожим на шариковую ручку. Парень кричал:
— Итак, уважаемые дамы и господа, перед вами темпокинесте- зиометр. Давайте повторим хором и по складам! Итак, темпо... три-четыре!
•— Темпо! — довольно дружно откликнулась очередь.
— Кине!.. Три-четыре!
— Кине! — еще дружнее крикнуло три десятка голосов.
— Сте-зи-о-метр! Три-четыре!
— Сте-зи-о-метр!
350
В стороне стоял мрачный мужчина с темной шевелюрой и в очках с толстой оправой. Это был, как видно, руководитель секции.
— Федор! — сказал он.— Хоть бы ты балагана не устраивал. \\ так тошно!
— А я могу уйти, Марк Соломонович,— дерзко ответил парень.— Я пришел сюда над аппаратом работать, а не этих развлекать. Итак, продолжаю: прибор создан по просьбе болгарских ученых. Предназначен для определения глазомера и точности движения руки. Видите на этой панели три кнопочки? Испытуемый должен быстро, с размаху ударять наконечником поочередно по каждой из кнопочек. Попал в кнопочку — срабатывает счетчик точных ударов, попал в панель — срабатывает счетчик промахов. Мадам, прошу вас! Я начну считать, а вы с каждым моим счетом поочередно ударяйте по кнопкам. Итак, приготовились!.. Раз, два, три, четыре, пять...— Досчитав до десяти, парень скомандовал «стоп!» и объявил: — Неважная точность: всего четыре попадания. Следующий, прошу!
За соседним столом проверялась координация движений. Здесь стояла вертикальная пластмассовая панель с наклеенными на нее большими, вырезанными из фольги цифрами: пятеркой и нулем. Держа в каждой руке по наконечнику с проводом, испытуемый должен был одновременно обвести левым наконечником ноль, а правым — пятерку. Если один из наконечников соскальзывал с цифры, раздавался резкий сигнал, похожий на автомобильную сирену.
— Иди! Следующий! — тут же говорил сердитый парень.
Зоя направилась к выходу. В толпе ребят Маршева не было, однако стоило ей выйти в коридор, как она увидела его недалеко от двери. На Зою он не смотрел. Она двинулась в противоложный конец коридора и, сделав несколько шагов, оглянулась — Родион Маршев следовал за ней.
В другой раз такое преследование польстило бы Зое, ей бы показалось, что оно вызвано немым преклонением перед ее красотой и богатством души, но сейчас она почувствовала, что Маршев следует за ней, пожалуй, не оттого, что его сердце в огне. «Чего он таскается за мной, дурак с веснушками?» — подумала она сердито и тут же решила пройти в дальний конец коридора, зайти в фотолабораторию и, если Родька сунется туда за ней, напрямик задать ему этот вопрос.
Фотолаборатория занимала две комнаты. Первая, очень большая, представляла собой ателье, где производились различного рода съемки. Тут же на столах и на полках вдоль стен разместилась выставка аппаратуры, изготовленной конструкторами «Разведчика». Здесь было несколько видов машин для автоматического проявления фото- и кинопленки, были портативные и удобные осветительные приборы и даже кинопроектор оригинальной конструкции. Эта лаборатория была сейчас, пожалуй, единственным местом, где царил порядок. Сюда никто не забегал с вопросами: «Чего тут? Чего тут такое?» Здесь собрались человек двадцать молчаливых фотолюбителей. Высокий
351
светлобородый Иван Иванович, руководитель лаборатории, объяснял им, как пользоваться экспонометром «Ленинград».
Он говорил о каком-то замере яркости и освещенности (Зоя ровно ничего не поняла); он то вставлял в экспонометр какую-то белую пластиночку, то вынимал ее... Потом Иван Иванович положил «Ленинград» на стол, рядом с которым стоял, и достал с полки за своей спиной другой прибор, побольше.
— А такого экспонометра вы в продаже не найдете,— сказал он.— Его сконструировали в нашей лаборатории. С его помощью вы можете не только определить выдержку при печати, но и правильно подобрать фотобумагу по степени контрастности.
Дальше опять пошли объяснения, в которых Зоя ничего не понимала, да она и не старалась понять. Оглянувшись назад, она увидела, что за ее спиной, шагах в трех, стоит Родька Маршев! Заметив, что она смотрит на него, он тут же принялся старательно разглядывать полки с аппаратурой, как будто только ради них он и пришел.
Зоя отвернулась и стала думать, как начать с Маршевым объяснение.
— А теперь пройдемте в лабораторию, и я вам покажу экспонометр в действии,— сказал Иван Иванович, и все фотолюбители ушли за ним в другую комнату, полутемную, лишь тускло освещенную желто-зелеными фонарями. Экспонометр «Ленинград» остался лежать на столе.
Зоя оперлась об этот стол спиной и скрестила на груди руки.
— Ну-ка, Маршев, подойди сюда! — тихо сказала она.
Маршев подошел и, чуть улыбаясь, тоже скрестил на груди руки.
— Так! Я слушаю.
— Скажи, Маршев: чего ты все ходишь за мной? Чего ты выслеживаешь?
Маршев продолжал чуть улыбаться. Его физиономия в веснушках показалась Зое какой-то очень самодовольной.
— Я не выслеживаю, я просто наблюдаю.
— Чего наблюдаешь?
— Тебя.
— А... а с какой стати ты меня наблюдаешь?
Маршев подумал, подумал и наконец придумал такую фразу:
— Потому что ты очень интересный объект ддя наблюдения.
Зоя оторопела и вместе с тем еще больше разозлилась. Разозлилась неизвестно на кого, скорее всего — на себя. Еще вчера она воображала, что Маршев пялит на нее глаза потому, что влюблен, а вот сегодня... Она прищурилась и медленно спросила:
— А это еще почему я интересный объект?
Маршев шагнул поближе и оперся левой ладонью о стол так, что пальцы его почти касались экспонометра.
— Слушай, Ладошина: давай говорить начистоту. Хочешь?
— Да, хочу!
352
— Ну вот скажи мне, пожалуйста, почему ты так покраснела, когда Павлов назвал это мероприятие фигней?
— Я... я вовсе не покраснела... С чего мне краснеть?
— Нет, покраснела, и еще как! И теперь пойми, Ладошина: я за тобой давно слежу и давно кое-что понимаю.
— Что понимаешь?
— А хотя бы вот что: директор Дворца пионеров не такой уж дурак, чтобы устраивать этот базар, если бы на него кто-нибудь не повлиял. А?
Если бы Родя начал разговор иначе, если бы, положим, он припомнил сначала случай с Левой Трубкиным или с Борькой и Семкой, возможно, все кончилось бы по-другому. Но сейчас в уме и без того огорченной Зойки мелькнули одна за другой две мысли: во-первых, Маршев догадался каким-то образом о ее замечальной силе, а во-вторых, он понимает, что она смогла использовать эту замечательную силу только для организации «базара». Снова Зойке захотелось заплакать от злости на себя, а заодно и на всех, и тут же ей очень захотелось, чтобы Маршев поменьше воображал о себе и чтобы у него стало так же скверно на душе, как сейчас у нее. Она тоже разняла скрещенные на груди руки и, указав на экспонометр, проговорила негромко, но повелительно:
— А ну возьми эту штучку и сунь себе в карман!
Родя взял экспонометр и сунул его в карман брюк. Тут Зоя понизила голос почти до шепота:
— Ты, может, очень умный человек, а я — просто дура... Ты, может, очень знаменитый общественник, тебя председателем собираются выбрать... а вот посмотри, что ты сделал! Посмотри! Посмотри! — Она ткнула указательным пальцем в Родин карман, где лежал экспонометр, потом бросилась к двери и там, обернувшись, добавила уже сквозь слезы: — Не бойся, не выдам! Только ты не воображай о себе! Не воображай!
Зоя не учла одного: она приказала Роде сунуть экспонометр в карман, но забыла добавить: «И держи его у себя». Теперь, когда Родя выполнил ее приказание, ему ничего не стоило положить экспонометр на прежнее место. И однако, он этого не сделал, он даже не подумал, что надо это сделать. Секунд десять, наверное, он простоял неподвижно, пораженный одной мыслью: он выполнил Зойкино приказание! Он знает теперь, что его такая фантастическая, такая невероятная догадка верна!
Он выбежал из комнаты. Ладошина была уже где-то в середине коридора. Расталкивая ребят, она быстро шла к выходу. Родя бросился вслед за ней и догнал ее уже возле самой лестницы.
— Ладошина! Ну постой! Ладошина, ну давай поговорим!
— Отстань! — крикнула Ладошина.— Она двинула Маршева локтем в грудь и, спускаясь по лестнице, сказала уже тихо: Целуйся со своей Круглой Отличницей! Со своей Лялечкой!
Похоже, что слово «отстань» прозвучало как приказание, потому
12 Школьные годы. Выпуск 2
353
что Родя сразу остановился, но потребности целоваться с Круглой Отличницей он не почувствовал.
Он поплелся назад по коридору и вдруг услышал, как один мальчишка кому-то сказал:
— Слыхал? В фотолаборатории какую-то штуковину сперли.
Родя вздрогнул и сразу покрылся испариной. Да ведь это же... Это
же говорят о нем! Это же он «спер штуковину»! Он быстро зашагал в сторону лаборатории и снова услышал обрывок разговора:
— Там у них экспонометр украли...
— Какой спонометр?
— Не спонометр, а экспонометр.
Подойдя к лаборатории, Родя увидел перед ее дверью возбужденную толпу. Тут были фотолюбители, были и просто любопытные. Над толпой возвышался Иван Иванович. Он говорил:
— Ну вы же помните, как было дело: я положил «Ленинград» на стол и взял с полки экспонометр для печати, затем мы ушли в лабораторию. Может, вы вспомните, остался кто-нибудь в это время в ателье или кет?
Фотолюбители молчали.
— Никто не помнит? Возможен, конечно, и другой вариант: кто-то зашел сюда, когда мы были в лаборатории, и взял прибор.
— А чего стесняться! — пробасил Столбов. (Он по-прежнему держал свою банку с толчеными гусеницами.) — Поставить у выхода несколько человек и обыскать каждого!
— Ха! — отозвался еще кто-то из толпы.— Так он и станет дожидаться обыска! Его небось и во дворце давно нет.
Родя повернулся и очень медленно, стараясь ступать абсолютно бесшумно, прошел прочь от толпы. Никогда еще он себя не чувствовал в таком идиотском, таком ужасном положении.
Глава двадцать пятая
Теперь надо вернуться к тому, что произошло несколько минут назад у взрослых.
Расставшись с Надеждой Сергеевной, по-прежнему держа комочки «Слип камли» в руках, Яков Дмитриевич торопливо спускался по лестнице. Лицо у него было испуганное. Снизу поднимался Тигровский. Они встретились на площадке между этажами.
— Альфред Павлович, я вас ищу,— быстро сказал директор.— А вы предупредили ученых, что встреча отменяется?
Теперь у Тигровского сделалось испуганное лицо.
— Не... не предупредил,— ответил он очень тихо.
Оба долго молча смотрели друг на друга. На сетдня в «Разведчике» была назначена встреча учеников девятых и десятых классов с двумя крупными учеными — доктором исторических наук Кукушкиным и профессором психологии Троеградовым.
354
Яков Дмитриевич взглянул на часы.
— Альфред Павлович! Ведь они же с минуты на минуту... Альфред Павлович, ну как же это так — взять и не предупредить!
— Моя вина. Ничего не говорю. Замотался с этой суматохой...
— Альфред Павлович, но вы поймите, что это для них оскорбление! Они отложили другие дела, собирались, тратили время на дорогу, а мы им что скажем? «Встреча отменяется, только вас забыли предупредить. Поворачивайте оглобли назад!» Это же... это же скандал, это же хуже пощечины!
Маленький Тигровский молчал, опустив голову, поджав губы. Вдруг он резко вскинул голову.
— Выход один,— сказал он коротко.
— Какой выход? Ну какой еще выход?
— Объяснить им, что встречу не отменили сознательно, что мы просим их побеседовать с детьми более младшего возраста, но с детьми очень развитыми и одаренными.
— Да они нас пошлют к черту с нашими «развитыми и одаренными»!
— Пусть посылают, это будет для них не так оскорбительно, чем если мы скажем, что просто забыли их предупредить.
Яков Дмитриевич подумал и понял, что это и правда единственный выход. В этот момент сквозь окно на лестничной клетке он увидел, как к воротам дворца подкатила черная машина.
— Пойдемте! Это, кажется, они. Пойдемте их встретим! — быстро проговорил он.
Оба спустились в вестибюль и остановились напротив входной двери.
В вестибюле было пусто. Только возле раздевалки стояла Круглая Отличница, ожидая, когда гардеробщица даст ей пальто. Яков Дмитриевич машинально сунул комочки «Слип камли» в карман пиджака. И тут в вестибюль спустилась Зоя. Она спустилась, громко стуча туфлями по ступенькам лестницы, спустилась, громко сопя от возбуждения и злости, но ни директор, ни Тигровский не заметили ее появления, потому что в этот момент дверь открылась и вошли два профессора.
Увидев Лялю, надевавшую пальто, Зоя подошла к ней.
— Слушай, Круглая,— сказала она негромко, но властно,— вернись наверх, отыщи своего Родечку и дай ему кулаком по носу!
— Ладошина, ты что с ума сходишь? — спокойно спросила Ляля, но та уже отвернулась от нее.
Круглая Отличница постояла, подумала и, не сняв пальто, пошла наверх. А Зоя, одеваясь, стала прислушиваться к разговору взрослых.
Троеградов был рослый, представительный мужчина с черными, зачесанными назад волосами, с черными усиками, в хорошо сшитом черном пальто. Кукушкин выглядел намного старше. У него под" синим плащом выпирало брюшко, он был курнос, и седые волосы его походили на пух, сквозь который просвечивала розовая лысина. Уви¬
356
дев их, директор и руководитель «Разведчика» заулыбались изо всех сил.
— Здравствуйте, Виктор Евгеньевич, уважаемый! — заговорили они быстро и одновременно.— Здравствуйте, Пантелей Карпович, дорогой! Здравствуйте, уважаемый Пантелей Карпович! Здравствуйте, дорогой Виктор Евгеньевич! Мы чрезвычайно вам благодарны за приезд! Да-да! Очень признательны!..
Затем долго и крепко пожимали руки, а потом наступила некоторая пауза, после которой Яков Дмитриевич сказал:
— Только... вот какое дело, товарищи уважаемые... гм! Не удивляйтесь, что возрастной состав сегодняшней аудитории будет несколько иным, чем вы предполагали.
— Это в каком смысле иным? — спросил Кукушкин.
— Видите ли, Пантелей Карпович... сегодня здесь собрались юные, так сказать, исследователи, изобретатели, но не из старших классов, а... а более младшего возраста.
— Позвольте! — пробасил Троеградов.— А что вы подразумеваете под более младшим возрастом?
— Н-ну... шестые классы... кое-кто из пятых..
На некоторое время воцарилось молчание. Потом Кукушкин развел руками.
— Товарищи! Ну... ну, а почему же вы не предупредили?
Директор посмотрел на Тигровского.
— Альфред Павлович, может, вы объясните..
Альфред Павлович покашлял и заговорил о том, что маститых ученых будут слушать дети исключительно одаренные, способные разобраться в очень сложных вопросах современной науки.
— И поверьте, товарищи,— добавил Яков Дмитриевич,— они будут очень огорчены, если вы откажетесь. Чрезвычайно огорчены!
— Короче говоря, вы хотите сказать, чтобы я выступал перед вот такими клопами! — сказал на весь вестибюль Троеградов и указал на Зою, стоявшую возле гардероба.— По-моему, это издевательство! Идемте, Пантелей Карпович! — И он направился к двери.
— Ну, Виктор Евгеньевич, зачем уж так резко! — пробормотал Кукушкин и обратился к директору с Тигровским: — И вместе с тем я тоже... я не смогу выступать перед детьми такого возраста. Я просто не найду с ними общего языка. Так что извините, но... Всего хорошего!
И он вышел вслед за Троеградовым, а за ним бесшумными шагами проследовала Зоя. Альфред Павлович и Яков Дмитриевич продолжали стоять неподвижно. Директор был так огорчен, что даже, увидев Зою, не вспомнил о «Слип камли».
Оба ученых были соседями по дому, и Троеградов привез Пантелея Карповича на своей «Волге». Выйдя с Кукушкиным на тротуар перед дворцом, он достал из кармана ключи от машины, и в это момент перед ним возникла Зоя.
357
— Это я клоп, да? — спросила она с расстановкой.— Это, значит, я клоп?
Троеградов сдвинул брови.
— В чем дело? Что тебе надо?
Зоя уперлась кулаками в бока и повысила голос:
— А вот мне то надо, чтобы вы сейчас пошли и выступили перед ребятами. Идите и выступайте! — Она повернулась к Кукушкину: — И вы идите выступайте! Всё! — И, заложив руки за спину, даже не оглянувшись на ученых, она зашагала прочь.
Троеградов и Кукушкин помолчали, посмотрели ей вслед.
— Пантелей Карпович! А ведь в самом деле,— вдруг проговорил Троеградов.— Ну чего ради мы с вами в бутылку полезли? Почему бы нам с вами действительно не выступить?
— Н-нда... можно... можно и выступить,— как-то очень уж вяло ответил Кукушкин.
— Нет, вы что, не согласны со мной?
— Ну почему же... Согласен... Вполне согласен...
— Ну так пойдемте, дорогой! — Троеградов бодро зашагал назад к подъезду, а Кукушкин, растерянно озираясь, поплелся за ним.
Директор дворца и руководитель научного общества все еще стояли в вестибюле на прежнем месте. Троеградов хлопнул Якова Дмитриевича по плечу:
— Извините, старина! Мы погорячились, а в общем-то, вы правы, конечно.
Тигровский просиял:
— Вот и прекрасно! Большое вам спасибо, товарищи! Яков Дмитриевич, давайте проводим наших гостей к вам в кабинет, пусть они отдохнут с дороги, а сами пойдем подготовим аудиторию.
— Конечно, конечно! Виктор Евгеньевич, Пантелей Карпович, прошу! — Директор провел ученых в свой кабинет, который находился на первом этаже.— Располагайтесь, товарищи, отдыхайте, мы буквально через несколько минут...
Яков Дмитриевич вышел. Троеградов сел в кресло и закурил, а Кукушкин стал ходить из угла в угол, сцепив пальцы на выпирающем брюшке. Помолчав с минуту, он спросил:
— Виктор Евгеньевич, а вы не замечаете ничего странного в нашем с вами поведении?
Троеградов слегка выпрямился в кресле.
— Не понимаю, что вы находите странного?
— Ну вот... мы были настроены против выступления перед маленькими детишками, а тут подошла к нам эта молодая особа, сказала несколько слов, и мы так круто изменили свое решение.
— Так что ж, по-вашему: вы изменили свое решение под влиянием той девчонки?
— Я лично да. А вы разве нет?
— Конечно, нет. Ни в какой мере.
— А тогда, простите, что вас заставило согласиться выступать?
358
— Да то, что я... что я просто понял, что мы ведем себя слишком уж надменно, чванливо, и еще я подумал, что мы живем в век акселерации, в век, когда дети так рано развиваются... и мы, ученые, просто не имеем права отказываться от серьезного разговора с ними.
Кукушкин продолжал ходить, сцепив пальцы на животе и глядя на них.
— Мне кажется, Виктор Евгеньевич, все эти мысли не могли так быстро прийти вам в голову. Мне кажется, что мы оба действовали под влиянием этой молодой особы, а вам, как психологу, следовало бы особенно заинтересоваться этим феноменом.
— Извините меня, Пантелей Карпович, но... но вы просто какую-то чепуху городите,— сердито сказал Троеградов, и ученые продолжали спорить.
Яков Дмитриевич ходил очень сердитый. Все желающие записаться в «Разведчик» были уже записаны, лаборатории ребятам показаны, и директор чувствовал, что его как бы «отпустило». Теперь он мог спокойно объявить День открытых дверей оконченным и попросить всю публику, собравшуюся на втором этаже, удалиться. Так нет же! Ему приходилось устраивать еще одно дурацкое мероприятие, чтобы не обидеть двух ученых!
Тигровский стал обходить лаборатории и упрашивать немногочисленных старшеклассников спуститься в малый зал на встречу с учеными, а Яков Дмитриевич, отыскав в коридоре Надежду Сергеевну, попросил ее отобрать наиболее толковых ребят и тоже направить их в малый зал.
— Яков Дмитриевич... а как же насчет «Слип камли»? — спросила та.— Я сгораю от любопытства.
— Потом, потом! — ответил директор и двинулся в самый конец коридора, где находился радиоузел.
По дороге ему встретился расстроенный Иван Иванович.
— Яков Дмитриевич, знаете, какая неприятность? У нас в лаборатории экспонометр украли.
— Надо было лучше следить, Иван Иванович. Сами видели, что творится. Извините, мне сейчас не до этого.
Пробиваясь в толпе по коридору, Веня уже со всех сторон слышал, что в фотолаборатории украли экспонометр. Навстречу ему попалась Круглая Огличница. Глаза у нее были какие-то странные.
— Ты Маршева не видел? — спросила она отрывисто.
— Я сам его ищу,— ответил Веня и прошел мимо.
Он отыскал Родю в лаборатории электроники.
— Родька! Где ты пропадал? Я тебя ищу, ищу... Ты слышал, что в фотолаборатории экспонометр свистнули? — Он пригляделся к своему другу повнимательней: — Что это ты какой-то... словно из бани вынутый?
И действительно, вид у Маршева был очень странный. Он стоял
в углу рядом с дверью, прислонившись спиной к стене и прижав к ней ладони. Не только лицо его было мокрое от пота, влажные были и волосы, которые он, как видно, взъерошил и которые слиплись теперь длинными прямыми вихрами.
— Родька, ну что с тобой? — с нарастающей тревогой спросил Веня.
Родя посмотрел на него мутными глазами и сказал:
— Пойдем куда-нибудь.
Он провел своего друга на площадку между вторым и первым этажами, на ту самую, где стояли недавно директор дворца с Тигровским, помолчал несколько секунд и проговорил:
— Экспонометр из фотолаборатории свистнул я.
На некоторое время Рудаков лишился дара речи. Потом он прошептал:
— Зачем?
— По приказанию Зойки Ладошиной,— прохрипел Маршев.
Челюсть у Рудакова слегка отвисла, а глаза остекленели.
— Родька... Родька!.. Да ты что?..— после долгого молчания произнес он.
Мало-помалу Маршев приобрел способность говорить связно. Увидев беспорядок, царивший на Дне открытых дверей, узнав, что в «Разведчик» записывают всех и каждого, он еще больше укрепился в сзоей догадке о фантастической Зойкиной силе.
— Ну, и вот, понимаешь, я решил следить за ней. Думаю, она на моих глазах еще что-нибудь выкинет, а я увижу, как все это происходит.
И дальше он рассказал о своем разговоре с Зойкой и о том, как сунул экспонометр в карман, как не сообразил вовремя положить его на место.
— Ну, а потом, сам понимаешь, было уже поздно: все уже «гу-гу-гу, гу-гу-гу...» — попробуй докажи им, что я не по своей воле его взял!
— Ну, это конечно,— мрачно согласился Рудаков.— Если теперь вернешь — подумают, что испугался или просто раскаяние взяло.
На этаже, усиленный громкоговорителями, разнесся голос Якова Дмитриевича. Он приглашал шестиклассников в малый зал на встречу с известными учеными, говорил, что профессор Троеградов познакомит ребят с основами такой науки, как психология, а профессор Кукушкин расскажет об удивительных открытиях, сделанных им во время археологических раскопок. Друзья молча прослушали это объявление, и вдруг Родя улыбнулся:
— Венька! А все-таки получается, что я ведь тоже сделал открытие! Научное! Ведь доказательство-то у меня в кармане!
— Какое доказательство?
— А вот... экспонометр!
360
Веня помолчал, покусал сначала верхнюю губу, потом нижнюю и наконец сказал:
— Родька! А ты о таком не подумал? Ты, может, втемяшил себе в голову, что Зойка гипнозом действует, и, когда Зойка сказала тебе: «Возьми эту штучку», ты и вообразил, что не можешь не взять. У тебя вроде этого получилось... ну, как его? Как это называется?
— Самовнушение?
— Ага! Во! У тебя самовнушение получилось, вот ты и взял!
Прежде чем ответить, Родя от удовольствия потер ладони и даже причмокнул.
— Веньк!.. А ты о такой штуке не подумал? Неужели Ладошина полная дура? Неужели она станет приказывать мне: «Возьми эту штучку», если она знает, что она самая обыкновенная девчонка и я могу преспокойно послать ее куда-нибудь подальше?
И тут Веня впервые заколебался.
— Да...— пробормотал он.— Да, тут, конечно, что-то есть. Только вот как ты другим докажешь, что свистнул экспонометр, потому что Зойка тебя загипнотизировала?
На лестнице началось движение. Один за другим стали спускаться ребята, чтобы пройти в малый зал. Прошел Тигровский в окружении старшеклассников, помогавшх проводить «мероприятие». Прошла Надежда Сергеевна с группой мальчиков и девочек из шестых классов. Веня все время хотел что-то сказать, но ему то и дело мешали проходившие мимо. Едва открыв рот, он тут же закрывал его. А Родя и не пытался заговорить: он о чем-то думал. Но вот в потоке ребят прошел по лестнице и Яков Дмитриевич. Родя проводил его глазами и вдруг сказал:
— Пойдем вниз. Там найдем местечко, чтобы поговорить.
Друзья спустились в вестибюль и остановились в сторонке, недалеко от директорского кабинета. Тут Маршев в упор посмотрел на Рудакова.
— Венька! Я принял решение! — сказал он негромко, но очень торжественно.
— Какое решение?
— Я подойду к директору Дворца пионеров, отдам экспонометр и расскажу все, как было.
— Родька! Ты... ты что?! — еле выдавил Рудаков.
— Венька, ты только послушай, о чем я сейчас подумал! Послушай и вникни!
— Ну давай!.. Давай, слушаю.
— Так вот, я знаешь, что заметил? Все, на кого Зойка подействовала, отказываются признаться, что она на них подействовала. Я Борьку спрашивал — он мне по носу дал... Я Павлова спрашивал, он тоже обиделся, Трубкин тоже не признается... Каждый, наверное, боится, что его за сумасшедшего примут.
— Ну и что?
— А вот слушай. Я уверен, что на директора дворца Зойка тоже
361
подействовала. Но очень может быть, что он тоже побоится об этом сказать.
— Ну ладно! Ну и что?
— А то, что если я к нему подойду да расскажу, как я свистнул экспонометр, тогда, может, и он признается. Ведь тут главное, чтобы кто-то первый об этом заговорил. А тут ведь еще у нас профессор психологии находится. Я точно не знаю, что это за наука такая, но ведь с этой самой... с психикой-то она, наверно, связана... Он тоже может заинтересоваться. Ну, и начнут Зойку исследовать да изучать и, может, выяснят, что в ней такое сидит.
— А если не начнут изучать да исследовать? А если директор откажется? Если он просто скажет: «А ну брось заливать! Ты просто украл экспонометр, а потом испугался». Вот ты и будешь опозорен, пойдет по всей школе славушка!
— Ну и что? Мало, что ли, людей ради науки страдало! Джордано Бруно на костре сожгли — и то ничего.
— Не фига себе «ничего»: живьем на костре!
— Ну, я, может, неудачно выразился.
Из малого зала прошел Тигровский, за ним директор и Надежда Сергеевна.
— Яков Дмитриевич, родненький... так когда же все-таки про «Слип камли»? — негромко говорила она.
— Потом, потом! — отвечал директор.
— Так... так ты все-таки идешь? — полушепотом спросил Веня.
— Пойду.
— Когда?
— Вот сейчас.
— Родька, а может, мне с тобой?
— Иди.
Друзья замолчали. У каждого сильно билось сердце. Ни тот, ни другой не заметили, как на нижнем пролете лестницы сверху появилась Круглая Отличница. Она застыла на середине пролета, изо
всех сил вцепилась в перила двумя руками, глядя на Родю. Из-под круглых очков ее текли слезы.
Глава двадцать шестая
За минуту до прихода директора, Троеградова и Надежды Сергеевны два профессора продолжали спорить. Теперь уже Троеградов не сидел, теперь уже ходили из угла в угол оба.
— Я ученый, уважаемый Пантелей Карпович,— громко говорил Троеградов.— Я привык оперировать фактами, а не мистическими домыслами.
— Я тоже ученый, уважаемый Виктор Евгеньевич,— отвечал Кукушкин, уже весь красный.— Но я считаю, что мы, ученые, встретившись с каким-либо непонятным явлением, не должны отмахи¬
362
ваться от него, не должны называть его мистическим домыслом, а обязаны исследовать его. А вы, уважаемый Виктор Евгеньевич, просто струсили, просто испугались непонятного факта...
В кабинет вошли Тигровский, Яков Дмитриевич и Надежда Сергеевна.
— Аудитория готова, товарищи, ребята вас ждут,— сказал Тигровский.— Кто выступит первый?
Ученые вежливо поторговались друг с другом, наконец решено было, что первым выступит Троеградов. Альфред Павлович вышел вместе с ним, чтобы проводить его в малый зал.
— Надежда Сергеевна! — сказал Яков Дмитриевич.— Разрешите вас познакомить с нашим замечательным археологом Пантелеем Карповичем Ку...— Он не договорил, потому что в дверь без стука вошли двое мальчишек.
Это были Родя и Веня.
— Так! — строго обратился к ним Яков Дмитриевич.— Зачем пожаловали?
— Яков Дмитриевич, я хотел сказать...— начал было Родя, но тут в кабинет вошла Круглая Отличница.
Она ударила Родю кулаком в нос, потом привалилась плечом к стене и разревелась.
— Родька! Прости меня! Я... я просто не знаю, что со мной творится.
Над верхней губой Маршева показалась капелька крови. Он стер ее тыльной стороной руки.
— А я знаю, что с тобой творится,— проговорил он спокойно.— Тебе приказала ударить меня Зойка Ладошина.
Услышав это, Надежда Сергеевна молча опустилась в кресло и прижала ладони к щекам. Яков Дмитриевич шагнул к Роде и уставился на него сквозь свои четырехугольные очки.
— Так, так! Ну-ка, ну-ка! — только и выговорил он.
И тут у Роди отлегло от сердца. Он понял, что директор сам знаком с изумительной способностью Зойки и не станет этого отрицать.
— А меня эта Ладошина заставила сунуть в карман экспонометр. Вот, пожалуйста! — Родя вынул экспонометр и положил его директору на стол.
— Так-так-так-так!.. Ну-ну-ну-ну!..— только и смог повторить Яков Дмитриевич, почесывая подбородок. И вдруг он резко повернулся к Кукушкину: — Пантелей Карпович! Позвольте вам задать несколько странный вопрос.
— Пожалуйста. Слушаю.
— Вы ведь были очень настроены против беседы с детьми среднего возраста?
— Да. Мы оба категорически были против,— быстро ответил профессор.— Категорически!
— А потом вы как-то очень уж вдруг изменили свое решение?
363
— Совершенно верно! С поразительной быстротой! — еще энергичнее подтвердил профессор.
Директор значительно взглянул на Надежду Сергеевну, застывшую в кресле, затем он снова обратился к ученому:
— Скажите, Пантелей Карпович, перед тем как вы изменили свое решение... к вам не обращалась девочка лет двенадцати? Довольно хорошенькая, брюнеточка...
Тут Пантелей Карпович вскинул указательный палец, и небольшие бесцветные глазки его расширились.
— Вот! Вот именно, что обращалась! — провозгласил он.— И знаете, что она нам сказала? Она сказала: «Идите и выступайте!» У нас только сейчас был крупный спор с Виктором Евгеньевичем.
Родя взглянул на Веню, как бы спрашивая его: «Ну, что?!»
— Да-а-а-а! — не то чтобы прошептал, а скорее выдохнул тот.
Глотая слезы, подходила Зоя к своему дому. Злость ее прошла, теперь ее мучило раскаяние. Ну зачем она заставила Маршева сунуть в карман экспонометр?! Ну зачем она приказала Круглой Отличнице ударить Родьку по носу?
Ей вспомнился Купрум Эс и его мечтательная улыбка, с которой он говорил о своем эликсире, о том, сколько хорошего он может принести. А что сделала она? Из доброго дела, затеянного ею, получилась какая-то глупость, а потом... потом вот что она наделала!
— Дура подлая! — шептала она, поднимаясь в лифте и вытирая слезы платком.— Кретинка идиотская!
А дома ее ждала еще большая неприятность. Мама встретила ее хмурая, чем-то явно расстроенная.
— Чай будешь пить? Иди! — коротко сказала она и ушла в кухню.
Чаю Зое не хотелось, но она прошла вслед за матерью и села
за стол.
— Мама, ну а как папа? — спросила она.
— Ничего,— ответила мама, бесцельно помешивая на блюдечке варенье.
— Ну, а что врачи говорят?
— Ничего не говорят.
— Мама, ну что ты меня за дурочку принимаешь! — воскликнула Зоя и добавила властно: — А ну-ка скажи мне подробно, в чем заключается папина болезнь и как она выражается. Рассказывай!
Зоина мама подняла на нее такие же большие, как у дочки, глаза и заговорила с досадой на себя, сознавая, что этого не следует дочери говорить:
— Так вот! У папы была вспышка острого психического заболевания. Ты попросила его в порядке шефства подарить Дворцу пионеров станок, и он отправил во дворец станок ценнейший, уникальный, который тысячи стоит. Не удивительно, что, когда он опом-
ЗС4
пился, с ним случился инфаркт. Ведь он теперь считает себя психически неполноценным.
Зоя застыла над чашкой с чаем. Так вот оно как обернулось еще одно ее «доброе дело»! Нет, довольно с нее «добрых дел». Через несколько минут она сказала:
— Мама, я пойду прогуляюсь. Голова что-то тяжелая.
Надев плащ, она вышла. Все-таки еще одно доброе дело она совершит, самое последнее: с помощью эликсира она заставит, чтобы ее пропустили к папе в больницу, а там расскажет отцу про эликсир и объяснит ему, что он никакой не сумасшедший. Чтобы он не мучился.
А в кабинете директора Дворца пионеров продолжался негромкий взволнованный разговор. Решено было пока ничего не говорить о чудесах, связанных с Зойкой, ни Троеградову, ни Тигровскому даже — словом, никому. Затем профессор Кукушкин сказал, что прежде всего ему необходимо выступить перед детьми, что, только освободившись от этой, навязанной ему Зойкой идеи, он сможет вновь чувствовать себя нормальным человеком. Между тем Надежда Сергеевна узнала по справочной телефон Ладошиных и стала звонить Зоиной маме. Было решено пригласить ее во дворец и растолковать, каким фантастическим даром обладает ее дочка. Однако телефон у Ладошиных все время был занят.
Профессор Троеградов выступал перед ребятами не больше десяти минут. Он даже не пытался говорить так, чтобы слушатели могли его понять. Сердитым голосом он просто-напросто прочел отрывок из лекции, которую обычно читал студентам. Ребята вертелись, довольно громко разговаривали и то и дело со звоном роняли на пол номерки от пальто. Когда он кончил, Кукушкин попросил не ждать его, сказал, что задержится, и Троеградов уехал. Уехал и Тигровский, потому что День открытых дверей в «Разведчике» закончился.
Пантелей Карпович выступал еще хуже, чем Виктор Евгеньевич, Он экал, мекал, запинался, путал слова, потому что думал совсем о другом. Потом он вернулся в директорский кабинет. Там Надежда Сергеевна все еще пыталась дозвониться Ладошиным, но в трубке по-прежнему раздавались короткие гудки.
— Может быть, у них телефон испорчен? — проговорил Яков Дмитриевич.
— Скорее всего, она разговаривает с какой-нибудь подругой о состоянии своего мужа,— сказала Надежда Сергеевна.
Пантелей Карпович сидел в это время откинувшись на спинку дивана, сцепив, по своему обыкновению руки на животе, и вертел одним большим пальцем вокруг другого.
— А знаете, что я предлагаю, товарищи? — воскликнул он неожиданно громко.— Пойдемте сейчас к ним, к Ладошиным!
Тут все почти хором, даже ребята, заговорили о том, что из этого
365
ничего не получится. Ведь Зойка почти наверняка окажется дома, и тогда всем придется залепить уши «Слип камли» и разговаривать с Зойкиной мамой будет невозможно.
Слегка улыбаясь, профессор продолжал вертеть большими пальцами.
— Я все это прекрасно понимаю,— спокойно сказал он.— Но, видите ли, мне на этот раз хочется стать кроликом.
— Кем? — не понял Яков Дмитриевич,
— Стать подопытным кроликом. Если мы узнаем, что Зоя дома, вы залепите себе уши «Слип камли», а я этого не сделаю и попытаюсь поговорить с ее мамой.
Все помолчали, ошеломленные предложением профессора, потом Родя пробормотал:
— Так она... она прикажет вам уйти, и дело с концом!
— А вот мне как раз интересно узнать, как долго я смогу сопротивляться ее приказанию, если соберу всю свою волю.
Яков Дмитриевич поднялся со своего места:
— Но, Пантелей Карпович, уважаемый, послушайте меня! Девчонка взбалмошная, самолюбивая... Она вам не только уйти прикажет, она вам может приказать выкинуть что-нибудь такое, что...
— Я это предвижу,— прервал его Кукушкин.— В таком случае, вы силой удержите меня, и посмотрим, что со мной после этого получится.— Пантелей Карпович встал. Теперь он не держал руки на животе, он опустил их по швам, а живот слегка подтянул.— В общем, так, товарищи,— сказал он, уже не улыбаясь,— этот случай слишком необычен, слишком серьезен. Просто непростительно будет не исследовать его с начала и до конца.
Больше профессору не возражали. Через некоторое время все шестеро приближались к дому Ладошиных. Пятеро несли в каждой руке по комочку «Слип камли», зажав их между большим и указательным пальцами, Кукушкин шел несколько впереди, заложив руки за спину.
— А вообще, товарищи родненькие, мне эта затея кажется довольно глупой,— сказала вдруг Надежда Сергеевна.— Ну, представьте себе: входим мы в квартиру, видим, что там Зоя, затыкаем себе уши, и остается у нас один беззащитный Пантелей Карпович. Зоя что- нибудь скажет ему, а мы даже не узнаем, что между ними произошло, и даже не осмелимся вынуть из ушей эти кусочки.
— А ведь Надежда Сергеевна, пожалуй, права,— согласился Яков Дмитриевич.— Может быть, нам вернуться да попытаться все-таки по телефону?..
Он не договорил. Веня вдруг резко остановился.
— Она! — сказал он.
Все тоже остановились. Навстречу шла Зойка. Шла торопливо, с очень деловым видом, энергично размахивая руками. Надежда Сергеевна, директор и трое ребят тут же затолкали себе «Слип камли»
366
в уши. Профессор остался стоять, заложив руки за спину. Он только втянул голову в плечи.
Приблизившись, Зоя остановилась.
— Маршев, прости меня! Я потом тебе все объясню,— проговорила она быстро.— И ты, Круглая, прости!
Родя изобразил на своем лице насмешливую улыбку и молча показал Ладошиной сначала одно свое ухо, потом другое. Но Зоя не обратила на это никакого внимания. Она увидела приближающееся такси с зеленым огоньком, шагнула к краю тротуара и вскинула руку. Машина остановилась. Зоя открыла дверцу, села на заднее сиденье, и профессор услышал такой разговор:
— В больницу имени Снегирева. На Черноморскую.
Шофер обернулся к Зое.
— А деньги есть у тебя?
— Нету денег, везите бесплатно! — приказала Зойка.— Бесплатно везите! Ну!
— Ты что? Глупенькая? А ну вылазь отсюда!
Пантелей Карпович с огромным интересом прислушивался к этому разговору, да и все остальные придвинулись к машине поближе, увидев, что шофер препирается с Зоей. Она вытаращила на водителя глаза и закричала почти на всю улицу:
— Везите меня в клинику имени Снегирева! Приказываю! Слышите?
Шофер вылез из машины, обошел ее кругом и выволок на улицу Зойку.
— Видали дурную? — сказал он Кукушкину и дал Зое такого шлепка, что она отлетела к стене дома.
После этого таксист уехал. Зоя стояла и беззвучно плакала. Родя с Веней переглянулись и вынули из ушей ♦Слип камли». Их примеру последовали остальные. Родя шагнул к Зое:
— Ладошина, а ведь похоже, что шофер тебе не подчинился!
— Эликсир выдохся...— всхлипнула Зойка.
Эпилог
Через несколько дней Куприяна Семеновича и Митрофана Петровича навестили в больнице два посетителя. Это были профессор Кукушкин и Яков Дмитриевич.
Куприян Семенович подтвердил все то, что он тщетно пытался втолковать директору школы и начальнику милиции.
— Ну и доченька у меня! Ну, доченька!..— цедил при этом сквозь зубы директор завода.
Потом стали думать: а что же делать дальше? И профессор Кукушкин предложил: самое лучшее, если все, кто знает эту историю, о ней забудут. Ведь эликсира больше нет, аппарат для его изготов¬
367
ления и рецептура уничтожены, и Куприян Семенович твердо решил не возвращаться к этой своей работе. Таким образом, всякое упоминание об эликсире будет воспринято как вранье. На том и порешили.
Однако в эту историю было посвящено слишком много людей, в том числе и ребят, которые плохо умеют держать язык за зубами. Слухи об этой странной истории и легли в основу данной книги. Где тут правда, а где выдумка — разбирайтесь сами.
Автор слышал, что борьба пятиклассников за свои права еще продолжается. А вот кого выбрали председателем совета отряда в пятом «Б», ему не известно: увлеченный другими событиями, он позабыл об этом спросить.
КОНЕЦ
И.Стрелкова
ЧЕТ И НЕЧЕТ
ЛЕТО
Глава первая
Начальник станции в выгоревшей добела, в бывшей красной шапке показал, где остановится пятый вагон.
— Что же вы, товарищ полковник, никого на подмогу не взяли? Стоянка всего минуту.
— Справимся своими силами.
Степанов знал: сколько бы ни набралось в дорогу вещей, Наталья Петровна четко проведет высадку десанта. Она с ребятами уже стоит в тамбуре, двери открыты, навстречу стелется серо-желтая потрескавшаяся земля. Нехорошо впервые попадать в такие места, как Чупчи, на исходе лета, в безоблачный, но серый от зноя день: к полудню жара переваливает за тридцать, нигде ни клочка тени, ветер как из адова пекла.
Сам-то он приехал в Чупчи ранней весной. На русском севере, откуда Степанова перевели на новое место службы, громоздились городские сугробы, почернелые и ощетинившиеся, солнце шало окуналось в ледяные лужи. А тут, в Чупчи, степь цвела: по чистой зелени разлились озера алого степного мака, в небе высокая синь, горы на горизонте то рыжие, то лиловые. И прибегал в городок ветер, всласть вывалявшись в степных травах. Но уже к маю, к лучшему месяцу русской весны, степные краски стали быстро угасать. Небо вылиняло, трава превратилась в бурьян, степь с белыми солонцовыми проплешинами сделалась похожей на старую, вытертую шубу. Казалось с непривычки: накатывается всеобщее бедствие.
— Человек тоже не всю жизнь молодой,— сказал полковнику чабан Садвакасов.— Молодой — глаза горят, кожа как шелк. Состарился — глаза плачут, кожа высохла, сморщилась,— Мусекё провел ладонями по лицу.— Старый стал, но не хочет помирать, еще долго старый по земле ходит. Дети растут — ему радость.
К чабану Садвакасову полковника возили для знакомства с местным населением майор Коротун и лейтенант Рябов. Майор дольше всех других офицеров служит в Чупчи — да и вообще в армии, а Рябов, как оказалось, неплохо объясняется на казахском языке: он родился и вырос в станице под Алма-Атой.
Впрочем, толмач не понадобился. Старый Мусеке сразу заговорил с гостем по-русски.
Сидели они в юрте. Толстая кошма не пропускала зноя, понизу край был приподнят: сквозь решетчатые стенки потягивало ветерком. Чабан угощал гостей кумысом, взбалтывал черпаком в большом эмалированном тазу, налитом до половины. Пришел хмурый, диковатый на вид подросток, помогавший Садвакасову пасти отару. Рябов ему обрадовался:
— Еркйн! Давай в шахматы, а потом в тогыз-кумалак. Идет?
370
Подросток вытащил откуда-то из-под одеял шахматную доску, высыпал на кошму фигуры, взял белую и черную пешки, отвел руки за спину.
— Сколько тебе лет? — спросил Степанов.
— Пятнадцать будет,— ответил за подростка Мусеке.
Степанов подумал: «Ровесник моей Маши. Красивое имя — Еркин.
Но мальчишка какой-то чудной».
Еркин протянул Рябову оба кулака, лейтенант поколебался и показал на правый; подросток раскрыл кулак — черная пешка. Рябов с досады крякнул. Степанов удивился: играя с чабанским подпаском, лейтенант мог бы без жребия взять себе черные, а то и дать вперед фигуру.
Разговаривая с Мусеке, полковник поглядывал: что там шахматисты? Черным приходилось туго. Рябов морщился, беспрестанно снимал и протирал очки. Диковатый подросток оставался безразличным.
— Интеллигентные люди в таких ситуациях признают себя побежденными,— советовал не без злорадства Коротун.
Рябов потянул еще несколько ходов и сдался.
— Давай тогыз-кумалак! — приказал помощнику Мусеке.— Гость шахматы для тебя спросил, он кумалаки ждет...
Еркин перевернул шахматную доску — на обратной стороне были выдолблены продолговатые лунки.
— «Тогыз-кумалак» означает в переводе «девять катышков»,— пояснил полковнику Рябов, беря от Еркина горсть черных шариков и раскладывая их по лункам.— Игра идет в чет-нечет. Вся хитрость в математическом расчете.
Лейтенант и подросток сражались азартно, загребали друг у друга шарики из лунок. Наконец Мусеке объявил:
— Выиграл Геннадий Васильевич.
На обратном пути Степанов спросил:
— Этот парнишка, Еркин,— он внук Садвакасова?
— Нет,— сказал Рябов,— сын, самый младший, последышек. А старший сын в Алма-Ате живет. Геолог знаменитый, академик Садвакасов. В степи говорят: он давно зовет отца в город, но Мусеке ни в какую, и Еркин целиком на его стороне.
— Садвакасов себе цену знает,— заметил Коротун,— поглядишь, чабан как чабан, а все начальство к нему ездит.
Летом Мусеке со своей отарой и с юртой откочевал на юг,
к горам. Теперь уже не вдвоем с Еркином. Просторная юрта набилась мальчишками всех возрастов. Городские внучата чабана типом лица — скуластое, но узкое и нос с горбинкой — походили на Еркина,
однако всем обликом несхожи: очень городские, из большого города, из интеллигентных семей, уверенные в себе, не стесняющиеся перед старшими. Скучавший по своим, по Вите и Маше, Степанов приглядывался к шумной и деятельной садвакасовской ребятне. Отдать бы Витю на все лето в их компанию — вот бы славно!
371
Он знал: Витя-то не будет в обиде на Чупчи.
В тот день, когда Степанов наконец послал жене телеграмму «Выезжайте», в Чупчи прибыл капитан из округа. Расстегнул объемистый портфель, отдал пакет с печатями и начал торопливо выставлять на стол прозрачные кульки, наполненные водой. В кульках суетились мелкие, с ноготок, рыбешки.
— Поручено передать живность вам, товарищ полковник. Тут меченосцы, скалярии, гуппи и эти... как их... Простите, всех не запомнил. Вот список. И инструкция вашему сыну от генерала.
— Виктору от Карпенко?
— Генерал большой любитель по части аквариумов,— ухмыльнулся порученец.— У него дома одна стена в кабинете сплошь стекло-вода. Ей-богу, сам видел!..
Степанов с тоской оглядывал прозрачные кульки, расставленные по столу.
— Что же мне теперь с ними делать? Жена писала — Витя раздарил приятелям все свое хозяйство. И ежа, и черепаху, и ак- салотлей. И рыбок всех раздал, и аквариумы оставил другу своему. Увидел на карте, что рядом с Чупчи показаны пески, и везет с собой только кактусы.
— Да-а...— посочувствовал капитан.— Ситуация.
— И обратно не отправишь.
— Придется зажарить рыбешку! — хохотнул капитан.
Но тут, на счастье Степанова, появился лейтенант Рябов.
— О-о-о!..Красотища-то какая! Да это скалярии... И вуалехвосты... И меченосцы, конечно... И гуппи. Неплохой подбор. И водоросли не забыты.
— Геннадий Васильевич! — взмолился Степанов.— Я вижу, вы в этом деле разбираетесь. Можно рыбешек как-то пристроить?
— Отчего же нет! — Рябов один за другим брал со стола кульки и разглядывал на свет.— У Коротуна есть оргстекло, сварим отличный аквариум, лучше покупного.
— Тогда, пожалуйста, делайте сразу два аквариума. Как это мы раньше сами не сообразили! При здешнем климате и здешних пейзажах солдату в радость посидеть у воды, у зелени.
— Акватерапия,— с удовольствием выговорил Рябов,— очень успокаивает — научно доказано. Мы аквариум в солдатском кафе поставим.
— Вот и отлично. Действуйте.
На другой день в квартире Степанова стоял аквариум, наполненный водой. Разноцветными огоньками посверкивали рыбешки. Дно устилал тонкий песочек. Уж чего-чего, а песочка в Чупчи хватало.
Мимо Степанова катили горячие пыльные стенки вагонов. Он искал глазами своих, не находил, и делалось тревожно на душе, хотя давно бы пора привыкнуть к разлукам и встречам с семьей.
372
Поезд загремел — вагоны стукнулись буферами. Напротив Степанова повисли узорные ступени, стертые до блеска. Сверху прыгнула ему на шею девчонка в узких джинсах, с рюкзаком за спиной, с тяжеленной сумкой в руке.
— Машка! — выдохнул он, словно бы и не ожидал ее появления.
— Как хорошо, что ты сам за нами приехал! — Родной голос прозвенел радостью и слезами.— Пап, ты такой черный, не узнать!..
Следом за Машей из пятого вагона поплыли на платформу чемоданы, коробки. Пассажиры всех возрастов, одетые по-вагонному, в спортивном трико и пижамах, в шлепанцах на босу ногу, складывали на бетон знакомую Степанову поклажу, подбадривали приятельскими репликами:
— Полный порядок.
— Держи, браток, тут что-то бьющееся...
— Бывай, полковник! Счастливо оставаться!
И вот по ступенькам спускается Наталья Петровна: светлый немятый костюм, лакированные туфли именно на том, вошедшем в моду, каблуке, по которому сходят с ума все офицерские жены в Чупчи. За ней — невозмутимый Витя с клеткой: в клетке мечется мелкий рыжий зверек.
— С приездом! — Степанов притиснул Витю к себе: все косточки прощупываются. Осторожно поцеловал жену в напудренную щеку. Даже неловко стало: явился на станцию вовсе незначительно и без цветов.
Поезд уходил за семафор.
— Пап, а пап! — Витя потянул отца за рукав.— Мы с Машкой в вагоне поспорили. Здесь настоящая пустыня?
— Полупустыня.— Степанов порадовался: Витя вырос на целый вершок.
— Полу...— Витя предпочел бы поселиться в полной пустыне, с миражами, барханами, каракуртами.— Пап, а что во-он там?.. Древнее жилище? — Витя показал на глинобитный домик с круглым куполом.
— Не древнее. Недавняя могила. Мазар.— Степанов поглядел на разочарованную физиономию сына, поманил рукой: — Пойдем-ка. Я тебе сейчас что-то покажу.
Там, где кончался бетон платформы, вдоль железной дороги, метров на двести, выстроились деревянные щиты.
— Видишь?
— Вижу. Щиты от снежных заносов. Они всюду стоят.
— Эх ты! Невнимательный какой... Приглядись получше.
Витя спрыгнул с платформы.
Щиты накренились под тяжестью навалившегося песка. Казалось, невысокий песчаный гребень приполз сюда откуда-то из степной дали, и щиты еле-еле придержали песок перед рельсами.
373
— Обычное явление,— сказал отец с нарочитым равнодушием.^- Движущийся песок.
— Бархан? Как же он движется, если даже ноги в нем не вязнут? — Витя присел, копнул песок рукой.— Плотный! — Сквозь корку пробивался неказистый кустарник: кривые ветки, узкие серые листики.— Тут что-то растет!
— Саксаул. Песок только саксаулом и остановишь.
— Сак...— у Вити дрогнул голос.— Саксаул?! — Он с величайшим почтением уставился на знаменитое дерево пустыни, невзрачными побегами поднимающееся у его ног.
— Что вы там нашли? — нетерпеливо окликнула Наталья Петровна.
Степь, пески, саксаул... Все это казалось ей не таким уж интересным и что-то значащим для нее, мужа и детей. Конечно, не Россия. Не старинный город на Волге. Но чего уж там вспоминать, какие бывают на свете благодатные края! Есть и похуже Чупчи! Скажем, не полупустыня, а пустыня окончательная и бесповоротная. Или голая тундра, непроходимые горы... Иной раз кажется: военное начальство нарочно выбирает для своих городков забытые богом места.
— Пошли к машине! — Наталье Петровне хотелось поскорее увидеть военный городок: какой он! Жить-то она собиралась не среди природы, а в городке.
Степанов внимательно поглядел на дочь: что с Машей7 Стоит безучастно, будто не только что впервые сюда приехала, а, напротив, наконец-то собралась уезжать из надоевшего Чупчи неизвестно куда.
* * *
Вскоре после приезда семьи полковник встретил старого Мусеке на районном активе и завез к себе в гости. В квартире Степановых чабан обдернул полы дорогого костюма, звякнула кольчуга орденов и медалей, гость мелкими чинными шажками прошел впереди хозяина в столовую и с радостной, словно детской улыбкой заспешил к освещенному аквариуму:
— Волшебная рыба! Пошкин! Золотая рыба!
— Пушкин? — догадался Степанов.
— Пошкин! — повторил старик.
Маша заметила: гость выговаривает «о» не кругло, а вроде бы сжато с боков. Сухонький, с богатыми наградами, он показался ей в великоватом костюме похожим на мальчика. Гость внимательно слушал Витины пояснения: чем кормятся рыбы, как отсаживать мальков.
— Кто рыбу в стекле разводит, не знает, зачем казах овцу по степи гонит,— непонятно для Маши сказал Мусеке отцу, и оба засмеялись.
Полковник перед тем по дороге говорил старику о несовремен-
374
ности степного отгонного животноводства, когда овцы, а с ними и чабан круглый год под открытым небом.
Витю Мусеке погладил по голове:
— Ученый человек.
— Возьмете этого ученого на лето в помощники?
— Можно.
— И кониной будете кормить? — полюбопытствовал Витя.
— Кониной? — Мусеке призадумался.— Можно не кониной. Барана резать будем. Консервы куплю: мясо с вермишелью, золотая рыба — бычок в томате. По рукам, помощник?
— Не-е-ет,— заволновался Витя,— я не против конины.
Вмешался Степанов:
— Я ему рассказывал, что ел у вас в гостях конину, а он читал про воинов Чингисхана — вот и охота попробовать вяленую, из-под
седла...
— Попробует,— обещал Мусеке.
— А что надо знать помощнику чабана? — наседал Витя.
— Зоологию надо. Еще больше ботанику надо. В школе плохо учат ботанику. Мои ребята учились — я знаю, мало трав в школе учат. Чабан все травы должен знать. Казах раньше землю пахать не умел, какая земля, не разбирался. Овец пасли, каждый отец сына ботанике учил, главная наука у казахов. Арифметика наука вторая — овцам счет нужен. Землю пашешь — один раз в год урожай считаешь. Чабан каждый день считает. Звезды тоже учить нужно — дорогу показывают...— Мусеке примечал: уши у сына полковника внимательные, оттопыренные, чуть заостренные кверху — признак наблюдательности и надежной памяти.
Услышав про ботанику, Витя повел гостя к окошку смотреть кактусы. Мусеке потрогал колючки:
— Овца есть не захочет.
— Опыты делаются по выведению кормового кактуса без колючек. Но можно ли приспособить мексиканцев к нашим пустыням? У кактусов корни совсем короткие, они пьют влагу, выступающую на поверхность почвы. А веблюжья колючка, я читал, свои корни запускает на глубину в пятнадцать метров, там берет «оду.
— Правильно. В степи трава малая — корень большой. В степи человеку тоже большой корень требуется.— Мусеке оглянулся на полковника: — Ботанику понимает, ученый будет помощник.
— Из книжек знает,— заметил Степанов,— а с вами, Мусеке, на практике изучит...
За столом Наталья Петровна, незнакомая с казахскими обычаями, угощала Мусеке по-русски, щедро накладывала в тарелку со всех блюд. Маша заметила: ему нравится русское гостеприимство. Не для того он пришел к Степановым в городок, чтобы для него, как в театре, изобразили казахский обычай. Такое притворство даже обидело бы старика.
375
За столом — застольный разговор.
— Как здоровье генерала Карпенко? — чинно выспрашивает Му- секе.— Говорили, болеет генерал.
— Кто говорил? — удивился Степанов.
— Народ говорил. Знают Карпенко, известный человек. Я тоже у Карпенко служил, с фашистами воевали. Карпенко полком командовал, я тоже большой чин имел — ездовой. До Риги дошли. В полку Карпенко много нашего народа было. В медсанбате Казимир Людвигович работал, наш, чупчинский. Карпенко вылечил, самого ранило — некому спасти, пропал Казимир Людвигович, хороший был человек. Народ хорошего человека помнит, интересуется. Карпенко с весны долго в больнице лежал.
— Сейчас он здоров.— Полковник отвечал, взвешивая каждое слозо: не одному Мусеке давал сведения, а всей степи, проявляющей, значит, внимание к здоровью Карпенко.
— Добрые вести,— наклонил голову Мусеке.
Он ел медленно, с достоинством. Руки тонкие, будто не знающие сельского труда, мороза и ветра, забывали про вилку, аккуратно брали куски с тарелки: по-своему, как привык, не стесняясь. Маша думала: он уважает разных людей, разные обычаи, но сам не хочет подлаживаться, он всюду остается таким, какой есть, для всех одинаковый.
Она замечала: старик взглядывает на нее улыбчиво и остро. Отец сказал ему: дочь зовут Маша, Мария. Старик переиначил: Марьям.
— Ты, Марьям, тоже — будет лето — приезжай. Работать не заставлю,— посмеивался Мусеке.— Будешь отдыхать, кумыс пить. Жениха тебе найдем. Приезжай...
Глава вторая
Салман притащился в военный городок спозаранку. Летом он дома не ночует. Мало, что ли, в степи мазаров? Конечно, в самый ближний мазар Садыка он не ходит, другие есть, удобнее; туда никто не заглядывает, спишь спокойнее, чем дома, и не жестче — на ватном одеяле. Без одеяла в мазаре никак не обойтись: холодно по ночам. Унес он его не из дома, снял с чужого забора. Невелика ценность — старое ватное одеяло. Люди могут купить себе в универмаге новое — побогаче, крытое зеленым или малиновым шелком. Салман знал: Кудайбергёновы, у которых он взял нужное ему одеяло, могут купить все, что хотят, и себе и своим детям. А он, Салман, давно не просит, чтобы ему хоть чего купили. В универмаге продают школьную форму, но и ее Салману не купят. Мать сказала: «Пойдешь в школу — там дадут. У школы денег много. Хотят, чтобы ты ходил на уроки, пускай покупают форму». И в прошлом году она так сказала, потом хвасталась: поберегла деньги; форму шерстяную, ботинки, пальто, шапку Салману выдали — не зажулили. В школе бо¬
376
ятся, как бы он не бросил учиться. Их всех будут ругать, если они потеряют ученика Салмана Мазитова. Отчего этим не попользоваться? Салман пойдет первого сентября в рваной прошлогодней форме-— опять школа купит все новое. Отец учит Салмана: глупые люди для того и существуют, чтобы умные их обманывали. Себя отец считает самым умным в Чупчи, хотя работает всего-навсего сторожем в больнице. Главный врач Доспаев ругает за беспорядок, отец презрительно сплевывает: «Зачем кричишь? Что можно требовать за такую зарплату?»
Про зарплату отец рассуждает смело, потому что Мазитовы не бедные. У них нет хорошей одежды и в доме нет дорогих вещей, но они не нищие, слава аллаху, говорит отец. У нищих денег ни копейки, а у Мазитовых деньги есть, много денег; Салман знает, где они спрятаны. Но это не такие деньги, как у всех. Все носят деньги в магазины, покупают одежду, еду. У Мазитовых только отцова зарплата уходит из дома, большие деньги остаются, живут тайно, шуршат, как мыши. Оттого Салман не любит бывать у себя в доме. Зимой приходится — зимой никуда не денешься, а летом он живет на воле.
Вчера Салман соображал, как прошмыгнуть в ларек военторга, сидел на ступеньках, приглядывался. Машина подошла, стали чемоданы выгружать. Мальчишка вылез с клеткой. В клетке рыжая крыса; Салман поглядел и сплюнул: «Зачем крысу привез?» Мальчишка ответил: «Это тебе не крыса, а хомяк». Старшая сестра на него закричала: «Витя! Помоги чемодан дотащить!» Мальчишка с сестрой чемодан в дом понес, Салману клетку оставил. Выскочил как полоумный: «Эй, ты! Пойдем, я тебе что покажу!» Привел в дом, показал рыбок в воде — красота. Вместе сели есть. Полковник Салману тихо подсказал: «Колбаса свиная. Может, тебе дома не разрешают свинину? Тогда ешь котлеты, они из баранины». Салман в ответ покрутил головой — пускай свинина, лишь бы пожирней.
Витькина сестра все время поглядывала на Салмана, улыбалась. Он насторожился, стал за ней исподтишка следить и понял: эта большая девчонка очень опасный для него человек. Чем опасный, Салман еще не знал, но захочет — узнает, а пока будет остерегаться Витькиной сестры.
Салман сидел на камешках под Витькиным балконом, выкликал по-птичьи: «Вить! Вить!» Вчера они сговорились податься в степь за сусликом. Салман сам сдуру проболтался: в Чупчи ребята
промышляют шкурки сусликов очень просто — льют воду в нору, пока полную не нальют: тогда суслик вылезает, весь мокрый. Полную нору налить не просто, намаешься таскать воду. Прежде Салман никогда шкурками сусликов не интересовался. Подумаешь, деньги — копейки.
Витя, обжигаясь, дохлебывал чай.
377
— Ты по-казахски пей. С молоком.— Отец долил ему в чашку холодного молока.— В степь пойдете — для первого раза старайся не терять из виду городок. И помни, что я тебе говорил про каракуртов и про змею-стрелку.
— Тут и степные удавчики должны водиться.
— Удавчиков тоже лучше не трогай. Флягу с водой возьми. И чего-нибудь поесть.
Витя вскочил* дожевывая бутерброд:
— Мам, я пошел. Дай мне ведро. Нет, мне два ведра нужны.
— Это еще зачем?
— Сусликов выливать. Здешний способ лова.
— Дай ему мусорное и канистру,— посоветовал полковник.— И мешок.
— Я думаю, не стоит поощрять Витину дружбу с этим мальчиком,— вполголоса сказала Наталья Петровна.— Ты заметил, какие у него цыпки на руках? Мария Семеновна меня предупредила, он из очень плохой семьи.
— Что за ерунда! — полковник нахмурился.— Сплошная ерунда! Что значит плохая семья? У нас хорошая? Если мы, Степановы, такие хорошие, нам нечего бояться, что кто-то испортит нашего Витю. Ты согласна?
— Да, конечно.— Наталья Петровна пошла на кухню собирать Витю в поход.
Полковник пошел за ней:
— Если ты боишься, что Витя может испортиться от неподходящего знакомства, значит, мы не такие уж хорошие, не сумели его воспитать. Ты согласна?
— Конечно, ты прав. Я просто так сказала, чтобы ты знал. Если у Саши дома плохие условия, надо, чтобы он бывал у нас... Я ему смажу руки глицерином.
Салман чуял: за него там сейчас решали — быть ему Витиным другом или нет. Не спросили: он-то собирается дружить с ихним сыном? Ну, пришел сегодня. Ну, поведет Витьку в степь за сусликами. Все равно никаких других дел сегодня не предвидится. А что потом? Потом и узнается.
Не поднимаясь с земли, он исподлобья глядел: Витька бежит к нему, гладкий, сытый, в новеньких кедах, военная фляга на ремешке колотит по нелатаным коленкам. Не пара Салману офицерский сынок с чистенькой светлой челочкой на лбу. На Алика похож. Жил здесь в городке Алик толстый, мать ему в школу завтраки возила, чашки-ложечки. Все они тут Алики! Салмана затошнило от злости, а Витька, с утра развеселый, хоть бы заметил зло у Салмана. Нет, улыбается всей рожей. Эх ты, суслик рыжий! А что у тебя в ведре? Мешок. А под мешком? Сквозь газету пятнами лезет жир.
— Отец велел взять еду! — Суслик все же заметил, что Салман поглядывает на просаленную газету.— Не съедим, так возле нор
378
оставим. А сейчас на! — Витька вытащил из кармана горсть конфет в бумажках.— Пососи — кисленькие. Должны помогать от жажды, хотя я читал, что в пустыне перед походом соленого надо наесться, а не сладкого.
— Зачем соленого? — Салман сунул конфету в рот.— Сладкое сытнее...— Он гонял конфету языком, думал про Витю: какой-то непонятный или, может, глупый?
В степи видно далеко, но арба появилась неожиданно, словно из-под земли. Твоя вина, Салман,— прозевал!
Старик в рваном пиджаке вел ишака. Лошадь, даже самая ленивая, понимает, что везет, уважает хозяина. У ишака — другой характер. На суконной морде написано: плевать мне на все! Ишак волок арбу, груженную с верхом, издалека волок и без дороги, прямиком по степи. Мельчил шаги, в упряжке не налегал. Увидел как два дурака льют воду в сусличью нору. Остановился, зубы оскалил. Старик царапнул взглядом по Салману, по Витьке, прикрикнул на ишака, вытянул палкой по пыльному хребту, заскрипел дальше без дороги — куда ему надо.
Не вредно бы Салману знать, откуда и куда правится с груженой арбой не чужой ему человек — родной отец. Прошел мимо, старый черт, и виду не подал, что с сыном повстречался.
За арбой — не близко, а нарочно приотстав — плелся Ржавый Гвоздь в штанах с заклепками, рубашка навыпуск: расписная, как стенка в детсаде,— пальмы и обезьяны.
Витька простодушно загляделся на расписную рубашку, на вздыбленные рыжие патлы, из-за которых и получил свое прозвище Нурлан Акатов из восьмого «Б». Салман изготовился: Ржавый Гвоздь сейчас Витьку языком ткнет как шилом — вредный у Ржавого язык. Но зря Салман изготовился огрызнуться — Нурлан молча прошел, словно и не видел. Ну дела...
А у Витьки своя забота:
— Я теперь понял, почему у древних колесниц были такие высоченные колеса. Когда приходится ездить без дороги, то нужны либо гусеницы, как у танка, либо всего два, а не четыре колеса — и чем больше колеса в диаметре, тем лучше... Улавливаешь? Проходимость
повышается...
Салман на Витькины пустые слова ничего не ответил. «Проходимость!» Ничего не понимает Витька, не видит у себя под носом. Колеса разглядел, а на тех, кто с арбой не по дороге — по степи — шляется, никакого внимания. Куда они ездили? Зачем? Наверняка нечисто. Но с чего отец сегодня потянул с собой в степь Ржавого Гвоздя? К чему приспосабливает? Ржавый у отца кругом в долгу. Ну и хитер, старый черт. Салману при Витьке ни словечка. И правильно, что молчком проехал. С зимы Салман конец положил всем делам с отцом. Воли своей захотел — и добился.
379
Салман теперь никому не подчиняется: сам по себе живет. Как ему нравится, так и живет. И если уж на то пошло, надоело ему детской дурью маяться, суслика водой выливать. Ведро перевернул кверху дном, на ведро сел.
— Ты отдохни,— разрешил Витька.— Я один потаскаю.
Салман обозлился, встал, ведро пнул; оно покатилось, он догнал — больше пинать не хотелось, попер к озеру за водой. Нет, не мог он понять, что за человек Витька из городка и зачем Витька ему-то, Салману, понадобился.
Суслика они наконец выжили из норы. Не счесть, сколько воды перетаскали из озера. Вода поднялась по край норы, но суслик, наверное, еще тужился ее выхлебать, не показывался. И вдруг — полез: крупнее и страшнее, чем он есть, как старается показать всякий зверь и даже человек в минуту опасности. Витька с неожиданным для Салмана проворством накрыл суслика мешком,
засадил в ведро. Суслик визгливо заругался на своем зверином языке. Салман запустил руку под мешок, вытащил из ведра сверток в газете.
— Он сейчас есть не будет.— Витька обвязывал покрепче мешок поверх ведра.
— Сами съедим.— Салман развернул газету: толково! Пирожки с мясом!
Когда шли обратно в городок, встретили подползавшую к Чупчи отару. Еркин верхом на лошади, с палкой в руках подскакал к ним: услышал, как суслик орет в ведре под мешком.
— Зачем? — Еркин кивком показал на ведро. Вопрос был обращен к Вите. Будто Салмана тут и не было.
Салман смолчал, скривил губы: ладно, это мы запомним.
Витя начал обстоятельно рассказывать: будет держать суслика дома, в клетке, изучать повадки.
— Зачем дома? Суслика в степи смотреть надо.— Еркин толкнул коленями лошадь, потрусил к своей отаре.
— Эй, пастух! — крикнул Витя.— Дай на лошади покататься!
Еркин оглянулся:
— На лошади не катаются. Не велосипед.
— Ты его знаешь? — спросил Витя Салмана.
380
— Еркина? Он у отца своего помощником работает,— еще больше скривил губы Салман.— Хорошие деньги получает. Отец много получает. Еркин тоже много. Садвакасовы богато живут. Да вон ихняя юрта!
Юрта виднелась в степи меж военным городком и поселком. Такая же цветом, как сама степь на исходе лета.
Глава третья
К Мусеке приехал из Алма-Аты старший сын, известный в Казахстане геолог, академик Кенжегали Мусабаевич Садвакасов. Самые уважаемые в районе люди поспешили увидеть знатного земляка. Мусеке зарезал двух баранов, позвал женщин варить бешбармак. Затрещал курай под казаном, забурлила вода. Пока мясо варилось,
на призывный дымок подъезжали родичи и соседи.
Прислуживал гостям Еркин.
Академик Садвакасов сидел на кошме поджав ноги, брал мясо руками с общего блюда, рассказывал с удовольствием, как в детстве пас овец.
Еркин видел: отцу не нравится разговор, затеянный Кенжегали. Ну, пас и пас. Все пасли. И сидящий тут председатель райисполкома, и директор школы Канапия Ахметович Ахметов. Наверное, из всех гостей только приглашенный отцом полковник не пас в детстве овец.
Кенжегали, подбадриваемый общим почтительным вниманием, продолжал вспоминать, что в войну, когда отец был на фронте, он оставался с отарой и носил драный тулуп на голом теле. Если в тулупе заводились насекомые, Кенжегали сбрасывал его на муравейник. Муравьи уничтожали всех паразитов.
— Вам знаком такой древний способ дезинсекции? — спросил Кенжегали сидящего рядом председателя райисполкома.
— Нет! — засмеялся председатель.— Я этого способа уже не застал. Думаю, что и старики о нем забыли. У вас, Кенжеке, замечательная память.
— Я-то помню, помню...— продолжал Кенжегали.— Зимой мне случалось бегать босиком по снегу. Ноги в коросте, и руки тоже.
381
И вот в таком-то диком образе я имел смелость влюбиться в девочку, которая приходила на уроки в кружевном воротничке, в кружевных манжетках. Она была красива, умна... А что я?
— Вы, Кенжеке, были все годы первым учеником,— вставил директор школы Ахметов по прозвищу Голова. Крупную и круглую, как шар, голову Ахметов брил по казахскому обычаю.— Наш завуч Серафима Гавриловна вас помнит, часто приводит в пример.
— Серафима Гавриловна! — академик заулыбался: — Она приехала в Чупчи, когда я кончал десятый класс. Молодая, но ужасно строгая. Так крепко за меня взялась... Только и слышишь: «Садва- касов, не отвлекайся! Садвакасов, ты опять загляделся на свою соседку, иди-ка лучше к доске!»
Все засмеялись, и Еркин тоже. Очень смешно и похоже изображал Кенжегали всем в Чупчи знакомую Серафиму Гавриловну. Она и сейчас любит намекнуть в классе, кто на кого заглядывается. Но с кем же тогда сидел Кенжегали? Кто та девочка в кружевном воротничке?
От внезапной догадки Еркин покраснел. Да это же Софья Казимировна, мать Саулёшки. Конечно, она. Дочь Казимира Людвиговича, про которого часто вспоминают старики. Конечно, только дочь врача ходила нарядная, в кружевном воротничке. Значит, в нее был влюблен Кенжегали.
Еркин вспомнил: однажды Саулешкина мать сказала ему: «Ты похож на старшего брата. У всех Садвакасовых способности к математике». Кенжегали был первый ученик, но дочери врача он мог вовсе не нравиться. И не потому, что она светловолосая, зеленоглазая, а он — казах. Просто он ей не нравился. И она вышла замуж за Доспаева. Он не здешний, не чупчинский, он западный казах, астраханский. Софья Казимировна и Доспаев вместе учились в Москве, в медицинском институте. Но она не поехала к нему на Волгу, а привезла Доспаева в Чупчи. Отец говорит, у нее в роду все привязаны к Чупчи чуть ли не крепче самих казахов. Может быть, ей все-таки нравился Кенжегали, но он уехал отсюда, он выбрал профессию, которая никогда не приведет его домой. А Доспаев замечательный врач. Его в степи уважают, как уважали отца Софьи Казимировны...
Обнося гостей чашкой для мытья рук и полотенцем, Еркин поймал пристальный, оценивающий взгляд старшего брата. Ему показалось, что Кенжегали угадал его мысли.
Академик Садвакасов давно не бывал в родных краях и давно не видел младшего брата. У городских Садвакасовых считалось, что Еркин закончит школу в Чупчи и приедет учиться дальше в Алма-Ату, а то, глядишь, попадет и в Москву. Но гостившая летом У деда садвакасовская ребятня привезла весть: Еркин собрался пойти в чабаны. Ребятня утверждала: это не просто разговоры, а самое
383
серьезное решение Еркина. Городские Садвакасовы забеспокоились. Брат академика Мажйт, приезжавший из Караганды, где он работает начальником шахты, точнее всех выразил садвакасовскую точку зрения на слух об Еркине: время назад не поворачивает, уголь обратно в пласты не укладывают. Было решено: за Еркина пора взяться всерьез.
Садвакасов вышел с гостями из юрты. В степь далеко разбежались пыльные следы автомобильных колес. На прощанье председатель райисполкома сказал:
— Мусеке, почему вы не подаете заявку на «Волгу»? Передовым чабанам выделяем автомашины в первую очередь.
— «Волга» мне не нужна. «Москвич» тоже не хочу.— Кенжегали услышал в отцовском голосе знакомое упрямство.— «Газик» везде пройдет, правильная машина. Ты мне «газик» продашь?
— Чего не могу — того не могу. «Газик» продаем колхозам. Частным лицам запрещено.
— Я в Москву напишу, в правительство. Пусть вынесут постановление: чабанам продавать козел-машины!
— Опять ты, старый умный человек, за свое озорство взялся!
— Не хочешь, чтобы я в Москву писал? А я буду писать! Время подойдет — напишу. Рано пока. Нет у государства — зачем просить зря. Себе обида. Государству перед чабаном стыдно. Работает старик, а не продают старику за деньги, что ему надо. Мой мальчишка мне русскую сказку читал. Одному старику служила волшебная рыба.— Мусеке насмешливо покосился на Степанова: послушай про золотую рыбку! — Старик у нее ничего не просил, ему надо — он заработает. Старуха дом просила — рыба дала дом. Шубу просила — бери шубу. Нахальная старуха. Совесть потеряла, приказывает: молодой меня сделай, дочерью хана. Сказала нахальные слова — все у нее пропало! Дом развалился, шуба развалилась, ковры, машина швейная — ничего не осталось у старухи.
— Значит, и швейная машина развалилась? — переспросил председатель райисполкома.— Значит, так и написано в сказке Александра Сергеевича Пушкина?
Мусеке прикрыл хитрые глаза:
— Пошкин? Правильно. Сказка Пошкина. Мой мальчишка читал. Не Еркин, нет...— трясясь от смеха, он показал на академика,— вот мальчишка... Я помню сказку, не забыл...
— С вами не соскучишься, Мусеке! — ворчал председатель, залезая в машину.
Садвакасов тихо смеялся: да, с отцом не соскучишься.
В знакомых алма-атинских семьях он видел неслышных, как тени, стариков и старух, взятых детьми из аула в город, чтобы дожили свои годы ухоженными и присмотренными. Хотел бы он для отца той же участи?
Садвакасов не мог считать себя плохим сыном. Он — казах, а у казахов нет плохих сыновей, как нет и брошенных стариков, хло¬
384
почущих по судам насчет алиментов с родных детей. Кенжегали знал: его отец, давший жизнь стольким удачливым и обеспеченным Сад- вакасовым, живущим в современных комфортабельных квартирах, будет до конца своих дней гонять отару по степи с летних пастбищ на зимние, с зимних на летние. Но кто же заменит при отце Еркина, которому надо учиться дальше?
Он перебирал в памяти аульную родню: кто?
...Еркин слез с отцовской приземистой лошаденки, подошел к старшему брату. С ним приехал на дорогом породистом коне широкий в плечах табунщик.
— Агай,— Еркин обратился к старшему брату, как положено у казахов,— агай, это Исабёк.
Исабек казался на вид взрослым семейным мужчиной, но ему было только восемнадцать лет; он работал помощником у своего отца, дальнего родича Садвакасовых. Кенжегали вспомнил, как много лет назад приезжал в Чупчи и видел у юрты родича туповатого малыша, почти не умеющего говорить в свои три года. Позднее развитие речи, а значит, и ума случалось у детишек, растущих в юрте чабана без игр с ровесниками и общения с людьми. Поговорив теперь с Иса- беком, Садвакасов пришел к выводу: очень неразвит, очень... Он все с большим практическим интересом приглядывался к плечистому парню: вот и помощник отцу взамен Еркина.
Обласканный знаменитым родичем, Исабек ускакал, не помня себя от радости.
В степи темнело, резче потянуло запахами сгрудившейся на ночь огары. Мусеке в длинном тулупе вышел из юрты, легко вскочил в седло, потрусил в степь: вечный всадник с сойлом1 в руках, полы тулупа прикрывают лошадиный круп.
— В Нью-Йорке к нам подходил несчастный человек. Русский. Эмигрант. Спрашивал, нет ли у нас с собой горстки земли с родины. Он хотел отнести русскую землю на могилу матери. Я подумал, что наш кочевой народ не придавал земле такого символического значения. Священной считали землю аллаха. По старинной легенде, чтобы напомнить казаху о родине, ему послали емшан — степную полынь. Сейчас люди всё больше интересуются древними обычаями, жизнью предков. Один мой институтский товарищ — он теперь большое начальство — ездил к себе в аул, привез дедово седло, повесил в кабинете. Финская мебель, африканские маски, чешский хрусталь, дедово седло... Это уже не обычай. Это — другое. Интерьер.— Кенжегали говорил медленно, словно и не с Еркином — с самим собой. И сам себя перебил: — Мы с тобой давно не виделись. Ты вырос...— Это были верные, но пустые слова.— Как отец? Не болеет?
— Шишка весной распухла на ноге. Сакёп Мамутович вырезал.
— Почему не повезли отца в Алма-Ату?
1 Пастушья палка.
13 Школьные годы. Выпуск 2
385
— Доспаев сказал, что никого беспокоить не надо.
— Ты тоже упрямый? Как и отец?
— Не знаю.
— А как вон та звезда называется, знаешь?
— Пастуший кол! — с вызовом ответил младший.— Другое название есть: Полярная звезда. Пастуший кол верней. Все звезды ходят по кругу. Кол всегда на месте, две лошади к нему привязаны.
В небе вызвездило по-степному: негусто, неярко.
— Смотрите, агай! — обрадовался Еркин.— Вон спутник летит! Меж россыпи звезд торопилась одна, ничем не отличимая, кроме
движения.
— Агай, вы бывали в Байконуре?
— Я знаю тот Байконур, где шахты. Старый — там до революции англичане хозяйничали. А космодром только так называется. Он от старого Байконура далеко, и туда никого не пускают.
— А-а...— протянул Еркин.
— Я вижу, отец водит дружбу с этими, из военного городка.
— Полковник Степанов часто приезжает. Интересуется, какая юрта у чабана, какая работа. Сказал отцу: дороги надо строить в степи. Первое условие цивилизации.
— Еще что советовал? — Кенжегали чувствовал: Еркин заговорил о чем-то для него важном.
— Не понимает, зачем нужен в животноводстве зимний отгон. Несовременный метод хозяйствования. Запасти кормов на всю зиму — не понадобится чабану гонять овец по снегу, мерзнуть на ветру.
— Что ему отец ответил? — Кенжегали неожиданно ощутил: его задевает за живое.
— Спасибо сказал за добрый совет. Как будем выполнять, сказал, не знаю. Ученые зоотехники норму придумали такую — одна овца на двадцать гектаров. Кто скажет — много, кто скажет — мало. Трава бывает густая, бывает совсем плешивая.— В голосе Еркина старший брат слышал отцовские интонации.— Овца ходит, траву щиплет. Густую, плешивую — какая есть. Другой работы овца не делает. Утром щиплет, днем щиплет, вечером щиплет — целый день. Отпуска у председателя не просит, зубы на ремонт не ставит, запасных
386
частей овце не надо. Сама не заметила — двадцать гектаров :*а год выщипала. Кто за нее так сделает? Кто двадцать гектаров плешивой травы машиной ощиплет? Кто в кошару принесет?.. Так отец Степанову объяснил. Полковник смеялся: век живи — век учись...
— Я вижу, ты и сам много думаешь о том, как дальше жить чабанам? — осторожно спросил Кенжегали.
— Все чабаны думают дальше жить. Встречаются на зимовке, на джайляу. Ребят много — все с отцами работают. Ночью соберемся, разговариваем. Сказки старые вспоминаем... Отчего на луну долго глядеть нельзя? Если луна успеет сосчитать твои ресницы — ты умрешь. Сидим, рассуждаем. Спутник увидим — начнем про космос говорить, тоже интересно. Однако сколько о небе ни говори — все равно на землю вернешься. Спорим, красиво ли станет на земле, если всюду поля распашут, сады вырастят? Или, может быть, разная
А*
*
природа нужна: степи, пески, озера горькие. Волк тоже нужен, гюрза, каракурт... Сайгак нужен, а он здесь живет, где пески и озера горькие... Заяц... Песчаный или русак... Раньше у нас в степи только песчаный водился. Теперь русак пришел. Кудайбергенов-старик увидел — не поверил. Я тоже русака видел. Он сюда с запада идет. Ученые подсчитали: за год продвигается на сто километров. Нравится русаку наша степь.
— Интересуешься экологией? Перспективная наука. Будешь первым Садвакасовым, который поступит на биофак.
Еркин упрямо мотнул головой:
— Я хочу остаться здесь.
— Несерьезный разговор! Зачем человеку с твоими способностями идти дедовой дорогой? Выбрось из головы традиции рода, преемственность и все прочее из старого сгнившего сундука. Твое поколение должно выбирать свой путь. Думать о будущем, а не о прошлом. Видеть весь мир, а не только свой аул.— Кенжегали чувствовал, что младший брат весь сжался.
— Скажите, агай, отчего так получается? — тоскливо спросил Еркин.— Если говоришь — пойду в чабаны, то думают, что ты идешь в прошлое, где бедность и темнота. Или хвалят бесстыдно, будто ты уже герой и совершаешь разные суровые подвиги, выводишь отару из
387
бурана или еще что. Я читал — сейчас пишут про комсомольцев-це- линников: какие смелые — не побоялись поехать в Казахстан. Если они смелые, то кто же тогда мы, казахстанские? Родились в степи и считали, что живем как люди. А нам говорят: у вас одни трудности. Я читал про героев-целинников и думал: неправда, будто человеку нужна трудная жизнь, холод нужен и бураны, чтобы совершать подвиги.
— Я тебя не понимаю, чего же ты хочешь?
— Я хочу хорошей жизни.
— Ты? Хорошей жизни?
— Да. Для себя. Для Исабека. Для всех. Хочу жить хорошо! — повторил Еркин.— А чего не хочу — тоже скажу. Вот вы говорили с Исабеком и решили, что он совсем неумный. Но разве вы не знаете, отчего он такой? Над ним сейчас смеется девушка: ты тугодум, с тобой скучно. Вы знаете его девушку, я видел, как вы сегодня посмотрели ей вслед. Амина тоже аульная, но ей уже не годится Исабек, хотя он у нас первый силач и табун у него всегда будет самый лучший...— Еркин помолчал и заговорил резко: — Не хочу жить в древней юрте, какой бы красивой ее ни сделали. Не хочу жить в одиночестве, без людей.
— Я тебя не понимаю! Чего ты хочешь?
— Я хочу жить в Чупчи. Я хочу, чтобы у нас в степи было много людей, много света, много тепла, чтобы все хорошо жили.
— И что ты предполагаешь тут делать? — серьезно спросил старший брат.
— Я вот о чем думал, агай...— Еркин запнулся.— Вы только не смейтесь. Сайгаки у нас в степи обходятся без чабанов. Считалось, они вымирают и скоро вовсе исчезнут, а взяли под охрану — сайгаки расплодились, теперь даже требуется отстреливать. Вот я и думал... Человек может вернуть овце ее приспособленность жить в степи. Все, что было у овцы, пока она не стала домашним животным. Когда-то у человека никакого орудия не было, кроме палки. Вот он и стал пастухом. Я читал: в Австралии сторожат овец автоматы. Но зачем улучшать с помощью новой техники все ту же палку? Человек должен отпустить некоторых домашних животных на свободу. И брать в степи сколько нужно мяса, шерсти...
— Брать в степи. А что ей давать — об этом ты думал?
— Мы будем улучшать пастбища. Возродим саксауловые заросли. Создадим оазисы. Будет много колодцев, появятся новые озера...
— Ты много читаешь научной фантастики?
— Этот вопрос мне уже задавали! — строптиво ответил младший брат.
Кенжегали пожал плечами:
— И все-таки не обошлось без тяги к прошлому, но уже на ином, я бы сказал, современном уровне. Ты вдумайся! Сколько веков человек одомашнивал животных! А теперь выставит их за ворота? На
388
современной скорости ринется в давно прошедшие времена, к каким-нибудь неандертальцам?
Сказал, и всего передернуло от стыда. Эх ты, ученый муж, сладил с мальчишкой!
— Прости, Еркин. Я не хотел тебя обидеть. Но век первых силачей, век батыров прошел. Мы живем в век науки. Все, о чем ты мечтаешь... ты и твои товарищи, когда вам не спится ночью. Об этом сейчас думают многие ученые. Как человеку сохранить естественные отношения с окружающей средой, как уберечь окружающую среду...
Не то он говорил младшему брату, не так. Кенжегали подумал о своей голодной диковатой юности: с годами он ее все больше ценил и чаще вспоминал. Старшие дети Мусеке упрямо рвались из старой тесной кожи, из однообразия аульной будущности. Они пробивались наверх, как должное принимали все скидки, которые делались молодым национальным кадрам в науке, в промышленности. А Еркин с той же силой бьется в противоположном направлении. Не отец уговорил его идти в чабаны. Еркин сам. И таким вот — идущим в противоположном направлении — младший брат стал ближе Кенжегали, чем собственные дети. Как ни говори, они выросли баловнями в доме обеспеченном и интеллигентном, а Кенжегали и Еркин — в юрте чабана.
— Я рад, что ты мне откровенно рассказал о своих планах на будущее,— говорил Садвакасов младшему брату, зеленой ветке могучего садвакасовского дерева.— Но чтобы их осуществить, надо стать не чабаном, а биологом или другое — партийным работником. Что может сделать чабан для изменения природы овцы?
— Сделает, что может,— нехотя ответил Еркин.— Чего не может, того не сделает. Чабан, ученый — все равно.
Старший брат снисходительно хмыкнул: детский максимализм, мальчишка еще.
Откуда-то послышались металлические трубные звуки. Кенжегали не сразу понял, что это. Гудит военный городок? Поднял голову и увидел: весь высветлился Млечный Путь, по-казахски Птичья дорога. Трубы пели там, наверху, на Птичьей дороге. Осень. Журавли летят на чужбину. Ему опять вспомнился русский в Нью-Йорхе с просьбой о горсти земли. А казах о чем бы мог просить? Ведь есть и казахи, заброшенные судьбой на чужбину. Тоже горсть земли с дорогих могил, соленой степной земли. Черных заветренных камешков с холма. Глиняную корку такыра. Ломкий пучок степной полыни. Серый колобок курта1 со следами слепивших его женских пальцев, с прилипшими волосками овечьей шерсти...
Он слишком давно не бывал дома, в Чупчи. Он слишком часто ездил с представительными делегациями в те места под Алма-Атой, где в юртах по высшему разряду угощают кониной, кумысом,
1 Овечий сыр.
389
бесбармаком, не забывая и о коньяке, лимонах, боржоми. Но даже отец — из тружеников труженик! — не знал в своей жизни такой непрерывной, сжигающей года работы, которой занят его старший сын, самый удачливый из Садвакасовых. И младшего брата он увезет отсюда не для беспечной городской жизни, где вода сама бежит из крана и огонь кормится не кизяком, не саксаулом, а газом. Еркину предстоит труд более напряженный, чем тот, который из века в век знали тут, в степи. Еркину по силам современные перегрузки умственного труда. Он еще поймет, что можно испытывать наслаждение от яростной работы мозга, как испытываешь наслаждение своей физической силой. Вот о чем надо будет с ним говорить, будоражить самолюбие, садвакасовскую гордость, родовое упрямство. Скоро ему пятнадцать. По степному счету — возраст совершеннолетия. По-городскому... Кенжегали вспомнил своих ребят, их английскую школу: по городскому пятнадцать лет — трудный возраст.
Самое время подоспело заговорить о чем-нибудь другом, а к будущему Еркина вернуться после — и не раз! Пока Еркин не уступит здравому смыслу.
— Ты, наверное, спать хочешь?
— Нет, я люблю вот так сидеть по ночам, думать, разговаривать. Мы с ребятами до света досиживаем.
— Все казахи — полуночники. У нас это в крови. Слушай, Еркин...— Кенжегали тихо засмеялся,— по ночам вы с ребятами не только про будущее думаете. Про девчонок тоже. Я-то помню. В городах мальчишки теряют голову весной, а в аулах — летом, на джайляу. Ваше поколение не забыло ак-суёк?1
— Играем иногда. Но больше в футбол.
— Чудак ты. Футбол — это спорт. Ак-суек — мудрость жизни. Кто-то ищет ак-суек, а кто-то ищет девчонку. Мне бы сейчас твои годы...— Кенжегали помолчал, что-то вспоминая.— Слушай, Еркин, ты ведь знаешь Софью Казимировну. У нее должна быть дочка твоих примерно лет. Как девчонку зовут?
— Сауле.
— Ну-у...— Кенжегали удивился.— Почему не дали русского имени?
— Не знтю,— сказал Еркин.— Разве плохое имя Сауле?
— Хорошее имя. Но врачи нашей больницы сто лет называли детей христианскими именами. Чупчи к этому привык. Слушай, Еркин, а она красивая?
— Красивая,— серьезно ответил Еркин.
— Самая красивая в поселке?
Еркин промолчал.
— Первая любовь очень много значит в жизни человека.— Старший опять говорил как бы самому себе.— Кого полюбил первой
1 Национальная игра. Ак-суёк в переводе значит «белая кость».
390
любовью — после всю жизнь сказывается. Ты мне поверь. Я-то знаю. Рвешься в высоту — за ней. Хорошо! Впрочем, ты еще мал. Когда-нибудь поймешь... Пойду-ка я спать. Я ведь рано ложусь, рано встаю. Не по-казахскому обычаю — по-европейскому.— Он ушел в юрту.
Еркин слышал: льется вода в стакан, брат запивает таблетки, помогающие сну, укладывается поудобнее на кошме. Поворочался, встал, выходит из юрты:
— Ты напрасно думаешь, Еркин, что, уходя из Чупчи, мы оставляли здесь все без перемен. Наш уход тоже сказывался на жизни степи. Электричество, радио — все новое, что появлялось в Чупчи, было частью общих перемен во всей стране и у нас в Казахской республике. А к этим переменам приложили руку и мы, ушедшие из аулов.
— Я понимаю, агай,— сказал Еркин.— Только отец наш такую шутку любит. Казах в самом дальнем ауле живет — разный хороший обычай другого народа ему покажи, он переймет. Казах в город уедет — боится свое лицо потерять, старые аульные привычки с собой везет.
Глава четвертая
С субботы на воскресенье из военного городка отправились двумя машинами за сто километров на Соленые озера: Степановы всей семьей, председательница женсовета Мария Семеновна с мужем, Рябов.
Хозяйственней всех собирался на рыбалку муж Марии Семеновны, майор Коротун — невысокого росточка, краснолицый. В городке его все так и звали, без имени-отчества: Коротун. И первой сама
Мария Семеновна: «Коротун, горе ты мое, долго еще тебя
ждать!»
Когда добрались до озер, Коротун принялся хлопотать насчет очага. Саксаулины он привез: не старые рыхлые коряги — молодые и гладкие, с прозеленью, крепкие и ветвистые, как олений рог. Надел брезентовые рукавицы, ухватил саксаулину, лихо размахнулся и со зверским лицом обрушил на камень. Толстая ветка лопнула посередке. Коротун ее доломал, придавив ногой.
Рябов и Витя в сторонке разложили снасти и что-то соображали по раскрытой книжке «Рыболов-спортсмен».
— Маша, а ты что сидишь? — спросила Наталья Петровна.— Тебя не продуло в машине? Я ведь говорила — застегни окошко.
Маша встала и пошла к Вите и Рябову. Отец, как всегда, успел исчезнуть со своими старыми бамбуковыми удочками.
— Тебе, Маша, какой поплавок привязать? — спросил Витя.— Красный или зеленый?
392
— Красный заметней.— Рябов привязал к леске гусиное перышко: снизу белое, сверху красное.
Возле машин и палаток остались с Коротуном хозяйничать Наталья Петровна и Мария Семеновна. Для того и затеяна рыбалка, чтобы им ближе сойтись.
Наталья Петровна берет из машины канистру с водой, и уже есть о чем поговорить:
— В Мусабе, помню, мы жили... Приедет солдат с цистерной, а мы — делить: каждой хозяйке по два ведра. Раз в месяц бочка воды полагалась — постираешь, детей помоешь... Как праздник!
— А мы сразу после фронта да в Якутск,— согласно вступает Мария Семеновна, бывшая фронтовая медсестра.— Чаю попить — снега в котелок наберешь и на примус. А молоко-то я какое покупала! Несешь с рынка замороженный кругляк...
— На Чукотке один год яиц было не достать,— вспоминает Наталья Петровна.— Дети уж и забыли, какие яйца бывают. Потом привезли, я сотню взяла. Приношу домой, а Маша спрашивает: «Почему мячики не круглые?»
— Теперь-то там, говорят, апельсины круглый год.
— Теперь не сравнишь — везде стало лучше. Квартиры со всеми удобствами. А мы с мужем еще в бараках начинали. Да что там бараки! — Наталья Петровна глядит победно, уперев руки в бока.— И не то бывало! Дочка-то моя... в поезде родилась. Скорый «Мо- сква-Хабаровск».
— В поезде? Маша?! — восхищенно ужасается Мария Семеновна.
— Муж меня одну готовился встретить, а мы — здравствуйте! — выходим вдвоем.
— Господи! — Мария Семеновна вздыхает слышно.— Могу себе представить, каково ездить по городкам с малыми-то детьми... А у нас с Коротуном детей нет и не было. Так вот и живем...— На ее круглом властном, даже вздорном лице проскальзывает давняя, незаживающая боль,— Маша-то у вас совсем уже взрослая. В каком классе?
— В восьмой перешла.
— Учится хорошо?
— Средненько,— признается Наталья Петровна председательнице женсовета.— Троек, конечно, нет, но при ее способностях могла бы стать круглой отличницей. Да и то сказать, чуть не каждые два года — новая школа. Господи, была бы у нас бабушка! Я бы ребят на все школьные годы к ней. Росли бы, учились, как все нормальные дети. Вы себе представить не можете, до чего я завидую тем, у кого бабушки. А у нас... Я в детдоме выросла. Папа на фронте погиб, мама при бомбежке — мы от самой границы эвакуировались. У мужа тоже родители на войне погибли. У него и отец и мать были учителями, их немцы расстреляли за связь с партизанами. И Колю вместе с ними поставили, две пули попало, да не насмерть — живым закопали. На его счастье, наши село отбили, Колю один офицер вытащил живого
393
из ямы с мертвыми. После войны отвез в суворовское. А что суворовское? Тоже детский дом. Сами выросли без родителей — детей теперь растим без всякого опыта семейного воспитания. Очень трудно семье, когда нет стариков.
— Представляю себе,— сочувствует Мария Семеновна.
Обе понимают: разговор пока что идет больше дипломатический, чем откровенный и задушевный. Но уже проясняется: сойтись подружнее они сумеют. Да ведь и надо сойтись — без этого никак не прожить в военном городке.
Рябов с Витей наконец-то наладили удочки себе и Маше. Рыбалку решили начать там, где в густых камышах светлели чистые заливчики. Рядом, в чаще ржавых стеблей, что-то хлюпало и чавкало. Рябов ежеминутно поправлял очки, соскальзывавшие по вспотевшему носу, и шепотом рассказывал Вите: еще совсем недавно, всего сто лет назад, известный путешественник Семенов-Тян-Шанский проходил здесь неподалеку со своим караваном, и казаки из конвоя шашками рубили сазанов, копошившихся в камышах.
Лейтенант снарядился на рыбалку в синем тренировочном костюме, в солдатской панаме с дырочками, но эту ковбойскую панаму Геннадий Васильевич успел подарить Вите; а у самого еле держался на макушке Витин детский картузик с прозрачным козырьком. Маша поглядела на дурацкий картузик, на очки со слепым отражением воды, на тонкий нос в капельках пота и пожалела: «Почему он такой некрасивый? Симпатичный, но некрасивый».
Не клевало ни у нее, ни у Вити, ни у Геннадия Васильевича. Маша прекрасно знала, почему не клюет. Рыбаки-теоретики! Очень уж много Рябов и Витя знают про рыб, про все их хитрые повадки. Нечего тут с ними делать.
Она смотала свою удочку и пошла вдоль берега. С невысокого пригорка открылись все три озера в низких плоских берегах. Где нет камыша — белая кайма, как морская пена, но это не пена, а соль. Море тоже соленое, но там не бывает по берегу белой крепкой корки, на море вода неспокойная. На Черном море прибой, и на Тихом океане прибой. С самолета поглядишь вниз — берег в белом кружеве.
Маша вспомнила, как простилась с Чукоткой и оказалась в древнем городе на Волге.
Она шла набережной, читала таблички на домах: «Памятник архитектуры. XVII век. Охраняется государством». В некоторых памятниках жили обыкновенные жильцы. Маша приехала из городка, где самому старому дому десять лет. Засмотрелась и опоздала в школу.
В классе на доске было написано: «Природа тундры». Висели картины: на скучной земле паслись олени, похожие на коров. Маша отвернулась от картин, нарисованных художником, никогда не бывавшим за Полярным кругом, и стала глядеть в окно: по синему небу встречь облакам плыли золотые купола с крестами.
394
— Степанова! — донеслось до нее издалека.— Новенькая, я к тебе обращаюсь! — Географичка подошла к ней поближе: — Тебе неин- тересно то, о чем я рассказываю?
Полагалось ответить: «Нет, мне очень интересно». И тебя тут же поймают на слове: «Тогда повтори, о чем я рассказывала». А ты не раскроешь рта. И для всего класса на вечные времена останешься дурой. Положение было безвыходным. Маша вдруг ощутила полное спокойствие:
— Да, мне неинтересно.
— Вот как? — Географичка присела от неожиданности.
— Мы позавчера приехали с Чукотки,— вежливо разъяснила Маша,— тундру я видела каждый день. Она не такая.
Класс завыл от восторга. На перемене Машу расспрашивали про белых медведей. А папа устроил Маше выволочку за то, что она будто бы ищет дешевой популярности.
С той популярностью теперь все кончено. Она осталась за тысячи километров отсюда — в другом поясе времени, где утро начинается позже на три часа. В Чупчи нет памятников старины. Здесь только очень состарившаяся земля.
На пригорке, где стоит Маша, вылезли из земли каменные ребра. Вовсе ветхие ребра показались наружу, когда протерлась до дыр степная облезлая шуба. По ним шмыгают ящерицы, проворно гоняются на кривых ногах по камням, рассыпающимся в мелкие обугленные щепочки, словно побывавшие в кострах.
Маша поглядела во все стороны, проверила весь берег и еле высмотрела рыбака-одиночку в наброшенной на плечи плащ-палатке. Вот, оказывается, куда отец забрался. Она побежала к нему.
Отец сидел сосредоточенный: правая нога подвернута, левая выставлена вперед, локтем оперся о колено. Как-то по-новому отец сидел, раньше он всегда находил на берегу приступочку. И в лице появилось что-то новое: брови порыжели, глаза сузились, коричневая кожа крепко натянулась на скулах, у глаз морщины, белые как соль.
Услышал ее шаги, хруст камешков и, не оглядываясь, бросил:
— Молодец. Догадалась меня найти. Тут стая подошла. Гляди, как поклевывают. Сейчас начнем таскать.
Маша села рядом с отцом на край плащ-палатки. Когда-то плащ- палатка была ярче, зеленей. Маша отлично помнила: зеленая плащ- палатка на лесной поляне. Защитный цвет. Здесь она стала рыжей, как все вокруг. А зеленела на камешках — глянцево, ядовито! — консервная банка с нарисованным на ней кукурузным початком: город Тирасполь Молдавской ССР. Вот где Степановы почему-то не бывали, не живали — в Молдавии.
Сазаны как ждали Машиного прихода.
— Оп! — Отец подался вперед, подсек, потянул из мутной воды короткую плотную рыбешку. Вырвал крючок из оттопыренной рыбьей
395
губы, подбросил сазанчика Маше.— Неплох! Граммов на триста!
Толстобокий, с черной полосой по хребту хозяин Соленых озер вскидывался на горячих камешках.
— А мы его в ведро!
Ведерко с глинистой озерной водой стояло подле отца. Маша услышала плеск, а потом сильные шлепки изнутри по жестяным бокам.
— Оп! — еще одного сазана отец вытащил и запустил в ведерко.— Я же тебе говорил — стая подошла. Все на один образец... Покажи-ка свое снаряжение. Крючок у тебя правильный. Поплавок повыше передвинь. Тут надо ловить на глубине примерно метра полтора.
Маша сунула пальцы в консервную банку, одну кукурузину сладкую кинула в рот, другую насадила на крючок и подбросила свой поплавок неподалеку от отцовского, похожего на мыльный пузырек.
Сидя рядом, она ощущала: блаженное счастье пришло сейчас к отцу, не забыла его рыбацкая удача. Всюду за ним ходит, ездит, летает — на Тихий океан, на Волгу и сюда, на Соленые берега, не припоздала явиться.
Зато у Маши не клевало: хоть плачь!
— Ну-ка, поменяемся удочками.— Отец отдал ей свою, с поплавком-пузырьком и взял Машину, с гусиным перышком.
Минуты не прошло — красный кончик перышка унырнул в воду.
— Оп! Еще один!
Непонятное дело рыбацкая удача. Сидят люди рядом, ловят на одну наживку, поставили поплавки на одну глубину. У одного рыба берет, у другого — нет. И ничем тут не поможешь. Хоть удочками меняйся, хоть шапками. У одного по-прежнему будет клевать, а другой будет маяться без толку.
Маша сидела рядом с отцом на низком берегу соленого мутного озера и отчаянно, постыдно завидовала простому и легкому отцовскому везенью.
— Ты только не унывай,*— благодушно приговаривал отец.— И у тебя начнут брать... Оп! Еще один!.. Я тебе говорю: не унывай. Мы еще
396
завтра целый день тут пробудем. Здесь по утрам самый клев. Я тебя пораньше подниму...
— И завтра тоже...— При этих словах пузырек, заснувший на воде, задрожал и расплылся.— У тебя всегда и везде клюет. Везде. А я уж такая неумеха.
— Не ожидал! — Отец глянул на Машу и понял: слезы не из-за плохого клева.— Я понимаю, Маша, тебе трудно. Ты не думай, что мы с мамой уж такие бестолковые и не понимаем, как трудно тебе и Вите менять школу, товарищей.
— Угу...— согласилась Маша.— Другие люди теряют друзей, когда ссорятся. Я ни с кем не ссорюсь, я просто уезжаю. Отсюда мы ведь тоже уедем?
— Когда-нибудь придется...— Отец заговорил жестко: — Мы будем ездить и ездить, пока я не выйду в отставку. Но ты тогда уже станешь взрослой, у тебя будет своя семья. И у Вити. А мы с мамой поедем в какой-нибудь город среднерусской полосы и там осядем. Навсегда.
— Пап, не надо...— попросила она.— Ты прости. Я правду сказала про себя: неумеха... Понимаешь, я как-то неправильно живу. Два года занималась фигурным катанием, греблей, плаванием, грамоты получала на городских спартакиадах. И думала, что все это... мои личные достоинства, что ли... Степанова — разрядница, чемпионка. В общем, не серое что-то, а личность. Современная. Но вот теперь я вижу — не личность. Мои достоинства, моя современность — все очень легко отделилось от меня, осталось где-то там — на катке, на водном стадионе. Значит, всегда было только напоказ. Вот у Витьки — биология. У него там была биология и здесь биология. В общем, не внешнее все у Витьки, а глубоко.
— Это ты верно.
— А у меня все мои спортивные успехи — как скорлупа. Удобная, современная, блестящая. А что под ней? Пусто. Чем я могу быть интересна, нужна другим людям, если нет катка и негде показать, как я умею кружиться волчком, нет бассейна, чтобы блеснуть стилем?
397
— Крепко ты себя разделала. Если по-твоему продолжать — тревога-то твоя изнутри? Или забота о внешнем: как перед другими показаться?
Отец резко рванул удочку. Запоздал: сазанчик пролетел над водой и плюхнулся у самого берега:
— Ушел!
Отцовские пальцы нашли банку с кукурузой, ухватили скользкое зернышко. Короткие пальцы, с грубыми ногтями, а до чего умелы. Зернышко аккуратненько наделось на крючок.
— Я вот о чем хотел тебя предупредить,— сказал отец, закидывая удочку.— Чупчи — поселок маленький. В интернат при школе приезжают дети чабанов. Они ничего не видели, не знают, кроме своей степи. Я не хотел бы, чтобы моя дочь считала себя лучше и умнее других только потому, что другие прожили всю жизнь в степи, а она объехала всю страну, летала на самолете, плавала на океанском теплоходе...
— ...отдыхала в Крыму и на Кавказе, ела трепанги в ресторане «Пекин»... Ты боишься, как бы я опять чего-нибудь не выкинула? Как тогда с тундрой? Я уже не маленькая.
— Ладно. Будем считать — договорились.
— И давай, пап, теперь о другом. Тебе совсем никогда не хочется побывать в Брянске?
*— У меня ведь там никого не осталось. Ты же знаешь.
— Но ведь Брянск твоя родина, а значит, и наша. Давай съездим в Брянск. На тот год дадут тебе отпуск — и поедем.
— А что?..— медленно говорит отец.— Возьмем и съездим. Но твердо не обещаю. Этим летом собирались на Карпаты, а видишь как получилось...
— Да,— соглашается Маша.— Неважно получилось...
Плеск воды в ведерке, шлепки изнутри по жестяным бокам. А у Маши — ничего, пусто.
Но, наверное, не она одна на свете такая невезучая. Вот, например, Коротун. Ему, наверное, никогда не везет на рыбалке, и он даже не берется теперь за удочку. Очень просто обманывает свое невезенье. Колет саксаул, разжигает костер. Невезенье ходит вокруг — не знает, как подступиться к такому предусмотрительному, занятому человеку.
— О чем задумалась? — мягко спрашивает отец.
— Я думаю, почему Коротун старше тебя, уже лысый и старый, а только майор?
— Этого мы с тобой обсуждать не будем. И вообще мы, кажется, говорили совсем о другом. Мысли твои как-то странно скачут. Не вижу логики в вопросах.
— О Коротуне? Я потому спросила, что мы бездельничаем, рыбу ловим, а он работает на нас на всех.
— Машка ты, Машка...— Отец покрутил головой.— Если хочешь знать, наш майор у костра, у котла и царь и бог. Он как-то
398
рассказывал — рос в семье одиннадцатым. А теперь у него у самого он да Мария Семеновна. Впрочем, ты этого еще понять не можешь. Ты еще очень многого в жизни не понимаешь. Мы, когда росли, знали меньше вашего, а понимали больше.
Он еще что-то говорил, но Маша как оглохла. Кто-то там, в мутной воде, прицелился стянуть кукурузину. Кто-то хитрый и опасливый. Потянет — отпустит. Тронет — поведет вбок. У Маши душа взлетела над водой, опустилась на поплавок: не упустить! Не прозевать! Не спугнуть! Маша замерла, закостенела, онемела... И — дернула удилище.
Сорвалось?
Что-то тяжелое и живое натянуло леску — не пускает. Маша потянула изо всех сил, удилище спружинило, выдернуло из воды сазанчика. Он сорвался с крючка, да поздно, над берегом. Маша дрожащими руками схватила с камешков живое, склизкое.
— Отлично! — крикнул отец.— Чуть-чуть поторопилась!
— С моим уже девять! Пап, уже девять с моим!
— По казахскому счету — полное число. Мне Мусеке объяснял. Девять — полнота возмездия или дара. И сорок один у казахов особое число. Когда на кумалаках гадают, берут сорок один кума- лак.
— А это что — кумалак? — Маша спросила без особого интереса, занялась насадкой кукурузины.
— Шарик, что ли, по-ихнему. Или катышек. Гадальщики были раньше — кумалакчи. Разбрасывали сорок один кумалак в три ряда. Какое, значит выпадет сочетание чисел. Чет-нечет. Между прочим, отчего-то нечетные цифры считаются счастливыми. В русской деревне хозяйка подкладывает курице нечетное число яиц.
— Он тебе гадал?
— Нет! — отец засмеялся.— Я не просил. Да Мусеке, наверное, и не умеет гадать. Зачем ему? — Он нашарил подле себя камешки, отсчитал пяток покруглее. Знаешь, когда я еще в школу не ходил, мы во дворе в камешки играли. На ступеньках. У нас ступеньки были широкие, деревянные. Старинный барский дом. Играли мы, значит, в пять камешков. Подбросить — поймать. Сначала один, потом два. Или наоборот — сначала пять. Маша, а я ведь забыл, оказывается, правила. Простые были, а позабылись.— Он подбросил на ладони камешек покрупнее, и пальцы шустро сгребли с земли остальные. Отец засмеялся, очень довольный: — Голова забыла — рука вспомнила! Вспомнила! Руки у человека памятливые.— Отец подкидывал и ловил камешки, но вдруг отшвырнул: — Оп! — вытянул из воды сазанчика. Значит, разговаривал, камешки бросал, но был начеку — не прозевал поклевку.
Отец забросил удочку и сел, по-степному подвернув ногу.
— Человек сам, только сам может по-настоящему себе помочь, построить свою жизнь. День за днем.
— По плану?
400
Ты думаешь: жизнь меняется и планы меняются? А я верю в
главный, который составляешь в юности.
— С юных лет и навсегда? Без перемен?
— Мне один полярный летчик рассказывал. Да ты его знаешь: Воскобойников.
— Который тебя и капитана Коваленко со льдины снял?
— Да, Ваня Воскобойников. Так вот он рассказывал: когда готовят дальний арктический перелет, составляют подробный план, а в полете иной раз приходят новые решения, вроде более целесообразные. Как по-твоему: надо отойти от плана, действовать согласно соображениям, пришедшим в полете?
— Конечно.
— Ошибаешься. Воскобойников объяснил: новая идея может быть самообманом, попыткой облегчить задачу. Она может погубить заранее обдуманное дело. Нет, Маша, надо в таких случаях действовать по плану, сто раз выверенному в спокойной обстановке.
— Но если авария?
— Обычно рассчитывают наперед и возможность аварии. Или уж действуют по ситуации, не забывая о главной задаче. Она — прежде всего. Так и в жизни человеческой.
— Пап, а какой план ты посоветуешь мне?
— Вопро-ос... Готового плана не предложу ни тебе, ни Вите. Это ваше дело. Я бы очень хотел, чтобы вы всегда стремились быть нужными другим людям, не жили только для себя.
Маша протянула разочарованно:
— Я-то думала — ты чего-нибудь особенное скажешь.
— А отец, значит, к тебе с простыми истинами. Маша ты, Машка!.. Так называемые общие места и расхожие истины каждому все равно приходится добывать на своем опыте и с великим трудом...
К вечеру клев пошел веселей, Маша вытащила еще трех сазанов. Много ли человеку надо для полного счастья?
— Давай искупаемся, пока светло,— сказал отец, сложив удочки.— Здесь ведь раньше ночь приходит, чем на севере. Оглянуться не успеешь.
На груди у него Маша увидела знакомый синеватый рубец. На пляжах отца непременно кто-нибудь да спросит: «Воевал?» —
«Нет»,— отвечает он, хотя шрам от фашистской пули. К концу отпуска рубец бывает особенно заметен на загорелой дочерна отцовской груди. А сейчас у отца только лицо, шея да кисти рук покрыты загаром. В этом году он не был в отпуске. В Чупчи солнца хоть отбавляй, но здесь не загорают: служба.
Пока они шли к палаткам, уже стемнело. В темноте варили уху и ели старательно, долго, много.
Витя не отходил от Рябова.
— Чем с чужими заниматься, не пора ли своих народить...— завела Мария Семеновна.
401
Она и Рябов друг друга недолюбливают. Мария Семеновна шпы- пяла лейтенанта какой-то докторшей: несчастная девушка все-таки сбежала из местной больницы, теперь там нет глазника — и все из-за безынициативности Рябова. Ну, чем девушка ему не пара?
Лейтенант просил:
Послушайте, оставим этот никому не интересный разговор...
Мария Семеновна не унималась. Маша видит: Рябов стеснительный, деликатный, а она громкая, бесцеремонная. Хлебом не корми дай влезть в чужие дела. В каждом военном городке сыщется такая Мария Семеновна. И никуда от нее не денешься: все городки как острова, посреди ли города большого, посреди ли тундры, пустыни, степи. Все военные городки похожи друг на друга: что-то всегда остается постоянным при всех прочих переменах в жизни Степановых.
Маша вспомнила: вот сходят с теплохода приехавшие в городок на Чукотке капитан с черными усиками, его белобрысая жена и мальчишка, такой же белобрысый. Жена торжественно несет в руках горшок с разлапистой пальмой. В тот же день все жены офицеров и все ребята в городке знали: эту пальму семья капитана Коваленко повсюду возит с собой. Через год капитана Коваленко перевели в Ташкент, и все увидели: пальма уплывает вверх по трапу. Но цветочный горшок был уже другой, побольше. Откуда только взяли для него на Чукотке новую землицу! И сколько разных земель смешалось под разлапистой пальмой! А ведь могла бы весь свой век простоять на одном окошке. В Машиной памяти осталось: что-то было мудрое в той пальме — что-то объясняющее жизнь военных городков.
ОСЕНЬ
Глава первая
На школьном крыльце стоит женщина в строгом синем костюме. Седеющие волосы туго зачесаны назад. Лоб выпуклый: люди с такими лбами никогда никому ничего не забывают.
Можно уехать на север, на запад, на юг, на восток, но все равно в конце концов придешь и подашь папку с табелем и характеристикой вот такой суровой женщине в синем костюме.
Завучи всюду одинаковые. Директора бывают разные.
Рядом с ней — высокий, грузный человек, голова огромная, круглая, как шар, пегие волосы ежиком, лицо плоское, в грубых насечках, как на заветренном степном камне. Глянул на Машу, глянул на Витю — зарубки вдоль щек раздвинулись, складки на лбу пошли вверх: что-то человек сказал сам себе про двоих новеньких, пришедших утром первого сентября на школьный двор, огороженный низким глинобитным забором, отрезавшим от пустыни вытянутый
402
прямоугольник. Есть места, где можно не тратиться на асфальт для двора: все гладко и каменно от природы.
Не у кого спросить, кто этот головастый человек, но он стоял там, где рядом с завучами всегда стоят директора, и он, конечно, был директором школы.
— Степанова Маша — восьмой «Б»,— протрубила завуч густым женским басом.— Степанов Витя —■ пятый «Б».
Отойдя, Маша оглянулась на директора. С широкого лица ей подмигнул хитрый, глубоко запрятанный глаз: трусишь?
«Трушу! Все опять с самого начала!» Она положила руку на плечо Вити и ощутила невозмутимое спокойствие брата. Бочком сквозь галдящую, толкающуюся ребятню к ним подобрался Салман. Он не постригся и не принарядился по случаю первого школьного дня, только пришил несколько самых разных пуговиц к старой школьной куртке.
— Где твой портфель? — спросил Витя.
— Дадут портфель! — ухмыльнулся Салман.— Книжки дадут. Тетради. В школе все есть. Ты в какой класс?
— Пятый «Б». А ты в каком?
— И я в пятый «Б». У нас Вася будет.
— Вместе сядем? — обрадовался Витя. Про Васю — кто это? — пропустил мимо ушей.
— Давай,— равнодушно сплюнул Салман.— Вася скажет: «Иди к Мазитову, он один сидит», а ты не чикайся. Понял? Но сам не просись. Он скажет — сядешь.
— А если не скажет?
— Скажет,— уверенно обещал Салман.— Я один сижу. Место есть — Вася скажет.
И опять Витька не спросил, злой учитель или ничего. Мало Витьку жизнь колотила — потому и беззаботный, неприметливый. Пришел в школу, а ведь наверняка не знает: новенькому из городка полагается от ребят в первый день по шее, чтобы не зазнавался. Новеньких из городка обязательно испытывают, далеко ли слезу держат. Салман поглядел на белый чубчик, на чистенькие Витькины руки и подумал снисходительно: «Ладно, сядешь с Мазитовым, не будет тебе по шее — это уж точно». И на Машу перевел острый взгляд: «А тебе что будет? Знаешь?»
Пустых мыслей у Салмана сроду не водилось, но тут с чего- то заворочались: ну, а если бы не Витька в пятый «Б», а Витькина сестра? Нет, лучше от нее подальше! Опасный для Салмана человек!
Маша не торопилась. В длинном коридоре, как во всех школах, пахло непросохшей масляной краской. И еще какой-то пробивался сквозь ремонт извечный тяжеловатый дух. Маша еще не знала: так пахнет в домах, построенных из самана. На неровных, досиня забеленных стенах висели плакаты и монтажи, вроде бы все на русском языке, русскими буквами, но не каждый поймешь. Однако если слева
403
на кумаче написано; «Кош кельдыныз», а справа «Добро пожаловать» кое-что можно понять. Отец объяснил ей и Вите; здесь в одних классах преподают на казахском языке, а в других — на русском. Во всех «А» — на казахском, во всех «Б» — на русском. Но и в русских классах учатся ребята-казахи и есть уроки казахского языка. Для детей военнослужащих они не обязательны, но отец советует Маше и Вите ходить на эти уроки; никакое знание не бывает лишним.
Маша шла долгим коридором и замечала; вот учительская, вот пионерская, вот канцелярия, вот кабинет физики. Прежний опыт подсказывал; новичку первым делом надо изучить школьную географию — где и что размещается, начиная от учительской и кончая уборной.
— Ты, оказывается, не из бойких.— Маша ощутила у себя на плече тяжелую, властную руку, увидела синий рукав костюма.— Пой¬
дем со мной, у меня первый урок в твоем классе.— Светлые, будто выгоревшие глаза с красными прожилками смотрели испытующе.— Тебе понравилась наша школа?
— Да.— Сколько раз ей уже приходилось врать, отвечая на такой вопрос.
Рыжий мальчишка обогнал их; «Здрасссте, Серафима Гаврил- ллна!» — и скрылся за дверью. Витя мог бы в нем узнать Ржавого Гвоздя, что встретился ему и Салману в степи, за арбой старика.
Входя в класс, Серафима Гавриловна подтолкнула Машу на лобное место меж дверью и доской:
— Я привела к вам новую ученицу Степанову Машу. Она приехала издалека...
— ...и живет в военном городке! — выскочила девочка с первой парты в правом ряду. Что это у нее на лице? Веснушки? Нет, мелкие черные родинки.
— Маша Степанова — дочь офицера и живет в городке,— подтвердила Серафима Гавриловна.
— В той квартире, где жил Алик! — добавила всезнайка с пестрым лицом.
— Фарида-а-а... Когда говорят старшие...
404
— ...то дети должны молчать! — тонким голоском подлизы пропел рыжий.
Он сидел позади Фариды. Рыжий, с голубыми глазами, но скуластый — неужели казах? А рядом — смоляной чуб свесился на пол- лица, зато глаза как плошки и нос картошкой — наверное, русский.
За третьей партой сидела девочка. Коротко стриженная, с густой блестящей челкой по самые брови — тонкие, стрелками разлетающиеся к вискам. Откуда взялась здесь такая — столичная! И почему эта замечательная девочка сидит одна? Неужели Машу сейчас посадят к ней?
Серафима Гавриловна словно угадала Машины мысли:
— Доспаева, рядом с тобой место свободно?
— Нет! Нет! — Доспаева, как курица, растопырилась над партой.— Со мной сидит Шолпан.
— Но где она?
— Приедет.
— Почему опоздала? Это не похоже на Байжанову. Сауле, ты не знаешь, что с ней могло случиться?
— Не знаю.
— Шолпашка приданое шьет! Шолпашку мать не отпустила. Шолпашкина сестра замуж выходит! — Большое удовольствие для Фариды — сообщать новости.
— Фарида, как всегда, в курсе,— заметила с досадой Серафима Гавриловна.
Старшая сестра Шолпан тоже училась в здешней школе, но после шестого класса родители оставили ее дома. Люди, живущие по старым степным обычаям, считают шестой класс пределом девичьего образования. Но Шолпан, слава богу, уже в восьмом. Серафима Гавриловна знала: если на шестом не остановили — значит, школьница чего-то добилась, настояла на своем. Но мало ли какие бывают неожиданности.
В классе понимали, отчего хмурится завуч. Одна только новенькая не понимала.
— Но ты отвлекла нас от дела,— сказала Серафима Гавриловна Фариде.— Где мы посадим новенькую?
— Со мной! — крикнул рыжий с голубыми глазами.
405
— Акатов, ты лучше помолчи. У тебя есть сосед — Кудай- бергёнов.
Да я его сейчас вышвырну! — Рыжий уперся руками в соседа, тот двинул плечом, и Акатов плюхнулся на пол.— Ах, ты так!
— Нурлан Акатов! — повысила голос Серафима Гавриловна.— Смотри, как бы я тебя не выгнала из класса.
За тремя рядами парт люди веселились в полное свое удовольствие. Им-то хорошо смеяться. Маша поняла: ей пора действовать решительно.
Если вы не возражаете, я сяду за последнюю парту. Она свободна?
— Правильно! — одобрила Серафима Гавриловна.— Сама выбрала. Садись.
Маша пошла на место. Мимо Сауле Доспаевой, надменно опустившей глаза, мимо рыжего Нурлана, улыбающегося ей от уха до уха.
— Ну, восьмой «Б»,— принялась распекать Серафима Гавриловна,- неважно вы подготовились к новому учебному году. Настроение, я вижу, нерабочее. Не все явились к началу занятий. Допустим, у Байжановой семейные обстоятельства. А где Садвакасов?
— Во-о-он бежит Садвакасов,— спокойно сообщил чернявый Ку- дайбергенов, показывая рукой в окно.
Все повернулись туда.
— Ух и жмет!
Маше с последней парты видно: в трех окнах одинаковая плоская степь, к осени вовсе облезшая и облинявшая, по степи кто-то бежит в школьной серой форме, в школьной фуражке. И даже красивая Сауле загляделась на бегущего с какой-то неловкой улыбкой.
— У Еркина секундомер! — оповестила восьмой «Б» Фарида.— В универмаге заказывал. Специальные часы. Нажимаешь кнопку — стрелка останавливается.
— Значит, он бежит и думает, что время остановилось? — развеселился Нурлан Акатов.— Пока Садвакасов бежит, уроков не будет?
— Человек тренируется,— объяснил Кудайбергенов.— У Еркина вся дорога от садвакасовской зимовки до школы размечена. Сто метров — камень. Всего пятьдесят три камня. Пять тысяч триста метров.
— Весь год будет бегать? — удивились в классе.— И зимой тоже? С Васей советовались?
— С каким это Васей?! — пригрозила Серафима Гавриловна.
— Мы у Василия Петровича рулетку брали, когда мерили. Как пульс считать, он Еркину показал,— объяснял классу Кудайбергенов.
Маша подумала: он, наверное, очень положительный, на вид русский, но фамилия...
406
— Да кончится ли когда-нибудь это безобразие! — вскипела Серафима Гавриловна.— Пора уже себя взрослыми почувствовать! Восьмой класс!
— А в клуб нас теперь будут пускать по вечерам? — пропищал Акатов. Для Маши он уже совсем понятный: во всех прежних классах тоже были такие клоуны.
В раскрытой двери показался запаренный бегун:
— Разрешите войти?
— Явился, не запылился! — добродушно приветствовала Серафима Гавриловна.— Садись, коли пожаловал.
Он, тяжело дыша, пошел меж рядов. Мимо первой, второй, третьей парты... Сюда он шел, к Маше. На ходу он бросил Кудайбергенову: «Семнадцать и три». Взглянул недоуменно на Машу: откуда здесь взялась? Сел рядом, достал из-за пазухи тетрадку, из кармана шикарную заграничную ручку:
— Расписание сказали?
— Нет,— ответила Маша.
От его куртки шел еле слышный запах дыма, горький, знакомый запах. Маше вспомнился Мусаб, где жили давным-давно, и пестрый удод над очагом. Такой же был горьковатый щекочущий дым.
Сосед оперся спиной о беленую стенку, отдыхал. Тетрадка лежала перед ним. На обложке свою шикарную ручку пробовал — ярко пишет ручка,— с удовольствием выводил свое имя и фамилию: Еркин Садвакасов.
Серафима Гавриловна объясняла, какие разделы будут проходить в восьмом классе по алгебре и по геометрии. Сосед пошмыгал носом.
— Ты Степанова. Твой отец полковник.— Не спросил, а ей втолковал — будто она сама не знает.
Тут его и засекла Серафима Гавриловна:
— Садвакасов! Что-то ты там разговорился с интересной соседкой. Иди-ка к доске. Есть хитрая задачка — все лето тебя дожидалась.
Еркин вскочил словно ошпаренный.
Из школы за Машей увязался рыжий Акатов. Сама виновата: могла уехать на автобусе, как все ученики из городка, но вздумала пройтись пешком. С Садвакасова, что ли, собезьянничала? Теперь вот отдувайся.
— Понимаешь, тебе одной гулять опасно! — посмеивался Акатов.— Пустыня! Муюн-кум! Тут хищные верблюды водятся. Могут напасть на беззащитную иностранку.
— Отстань,— просит Маша, но безуспешно.
— Польщен вашему вниманию! — кривляется Акатов.— Нет, не так... Польщен вашего внимания... Скажи, пожалуйста, какой тут нужен падеж? Родительный или творительный?
Маша не отвечает. Рыжий не хуже ее знает русский язык.
407
Хочешь, я тебе свою тайну открою? У нас в степи говорят: тайну можно многим доверить, но сохранит ее только один. Вдруг ты и есть этот человек?
У Нурлана Акатова в самом деле завелась одна скверная тайна, про нее он не сказал даже Кольке. Тем более не расскажет этой девчонке из городка. Просто захотелось под смешок безопасно разболтать, распылить свою тяжесть.
Они миновали переезд. Полосатый столб, на нем приколочены дощечки: «Берегись поезда» — «Поездан сактан».
Показался крайний дом военного городка. В городках окна глазастые. Кто-то уже видит: восьмиклассница возвращается из школы в первый же день! — не одна, с провожатым. С мальчишкой! Вот они, нынешние детки. Что скажет Мария Семеновна? «Берегись, Маша» — «Маша, сактан».
За спиной визгнули тормоза: зеленый военный «газик», дверцу распахивает лейтенант Рябов.
— Маша, вы домой?
Возмутительный вопрос! Куда еще она может идти в этот час со школьным портфелем?
— Здравия желаем! — нахально откозырнул Рябову непрошеный провожатый.— Разрешите доложить? Назначен сопровождать иностранную леди. Несу, так сказать, конвойную службу. Замечания будут?
— Вольно! — засмеялся Рябов.
— Иными словами, можете убираться? — прищурился Акатов.— Что прикажете, леди, передать Коле Кудайбергенову, моему лучшему другу? Я вернусь, а он меня взволнованно спросит: «Маша что-нибудь велела передать?»
— Не смущайтесь,— сказал Рябов.— Это же Акатов. Человек известный. Артист.
— Я не смущаюсь! — буркнула она.
— Что ж, поехали.— Рябов пропустил Машу на заднее сиденье «газика».— На Акатова не обижайтесь. Он любит дразнить, разыгрывать. Ребята прозвали его Ржавым Гвоздем. Наверное, не только за цвет волос, за характер тоже.
Рябов довез Машу до въезда в жилой городок, а сам покатил дальше — в километре видны зеленые ворота с красными звездами на обеих створках.
Дома Витя разгуливал в мамином, до пят, байковом халате.
— Ты чего так вырядился?
— Удобная одежда.— Витя подобрал полы, повернулся перед ней.— Свободная. Не жарко в халате, если жара. Если холод — греет. Традиционный наряд жителя пустыни. Проверено веками.
— Тебе все игрушки! Играешь, играешь... Когда ты начнешь серьезно относиться к жизни? — голосом старшей говорит Маша.
408
Здешних ребят Рябов знает хорошо. В части он считается вроде ответственного за шефство над школой. Под его начальством приезжают солдаты на школьные вечера, на матчи со старшеклассниками. По пути, в автобусе, Рябов напоминает Муромцеву: «Только без драк. Понятно?» Володя Муромцев — москвич, из интеллигентной семьи — слушает наставления с корректной улыбкой, отвечает туманно: «Наши первыми не полезут, но навряд ли
обойдется...» Рябов и сам понимает: навряд ли... Часть многое делает для школы, стадион помогли оборудовать; Лева Кочарян, мастер на все руки, печи переложил. Недавно в городке аквариумы появились — школе рыбок дали на развод. Но все налаженные шефские отношения летят к чертям, стоит на школьном вечере кому-то на кого-то неосторожно поглядеть: тому же Кочаряну на Амину из десятого «А», пышную девушку монгольского типа с крепким румянцем на скулах. У Амины поклонник — здоровенный десятиклассник Исабек. Майор Коротун возмущается: «Ненормальные отношения с местным населением». Зато директор школы Ахметов посмеивается: «Какие ненормальные? Молодость!»
Рябову симпатичен грузный, медлительный директор.
Канапия Ахметович родился и вырос здесь, в Чупчи. За год до войны он закончил десять классов и поехал в Ленинград, в педагогический институт. Оттуда ушел на фронт.
Однажды он рассказывал Рябову, как его часть отступала с боями через южные области России — по степи, почти такой же, как казахская степь, только покороче под Воронежем степной простор. Там, в степи, колонну солдат нагнала «эмка», и сидевший рядом с шофером дивизионный комиссар приказал Ахметову: «Садитесь, покажете, как ехать». Он сел позади, рядом с молчаливым адъютантом. Дивизионный комиссар, полуобернувшись, расспрашивал Ахметова, кто он и откуда родом. Ахметов рассказывал про казахскую степь, про то, как в детстве пас овец, как закончил в поселке школу и поступил в институт.
«Пасли с отцом овец, а после поступили в институт?» — не поверил комиссар.
И тут Ахметов понял: никакой это не комиссар! Это немец-диверсант! Чего бы комиссару удивляться, что сын пастуха учился в институте.
Удивиться мог только чужой. Русский язык знает, а этого не знает — не жил в нашей стране. А двое с ним наверняка и русского не знают, вот отчего молчат.
Как только он понял все, тут же и диверсант почуял, что раскрыт. Счет пошел на секунды: кто опередит. А шофер гнал «эмку», ни о чем не догадываясь. На счастье Ахметова, машина влетела в пыльный городишко, запруженный повозками. Ахметов рванул дверцу и вывалился из машины. Но пока очухался — диверсантов и след простыл. Только приметы их записали — там, где полагается. Этот случай и привел Ахметова в отчаянные десантные войска. Он при¬
409
землялся с парашютом в Польше и Словакии, видел разную жизнь. Вспоминая чужого, который так чисто говорил по-русски, Ахметов думал: почему же, посылая на опасное дело, диверсанта не предупредили, что он может на советской земле встречать людей, которые родились в юрте, в курной избе и стали учеными, артистами, директорами. Всему нашему чужого научили, а такого знания не дали, не захотели открыть.
В тот день директор школы пригласил шефа из городка по делу малоприятному.
— Наша родная милиция недавно посетила школу,— отпыхиваясь, выкладывал Канапия Ахметович.— Участковый Букашев, вы его знаете. Поступили сигналы, что появился перекупщик смушек. С ним видели какого-то мальчишку. Букашев считает, что, возможно, из нашей школы.
— Каракуль? — Рябов покрутил головой.— Дело серьезное. Букашев про кого-нибудь из ребят у вас особо спрашивал?
— Как всегда, про Мазитова из пятого «Б». Про Акатова из восьмого «Б»...
— Насчет Акатова — чепуха. Талантливый мальчишка. На прошлом вечере пел что-то свое. Прирожденный артист.
— Я помню его деда, акына Садыка. Не первой руки акын, но, случалось, выступал на больших айтысах, вместе с Джамбулом, с Нурпейсом Байганиным... Они — орлы, а он — крикливая лягушка. По-нынешнему сказать: не стеснялся подхалтурить. По пирам с домброй таскался...— Директор говорил все медленнее, неохотнее.— Вы, наверное, осудите меня, но я, вопреки своим учительским обязанностям, не беспристрастен к своим ученикам, не даю каждому в своем сердце места поровну. В уме — да, но в сердце — нет. Вы знаете младшего сына Мусеке?
— Еркина? Я с ним не раз в шахматы сражался, в тогыз-кумалак. Умный парень.
— У казахов есть такая похвала человеку: «журекты». Это значит «львиное сердце». Львиное сердце мы противопоставляем волчьему, ненасытному. Журекты! Такой человек не идет как собака за чужим караваном. Он сам поворачивает коня на истинный путь. Он бывает послушен, но только тому, что справедливо, хотя нелегка ему такая покорность. И он не покоряется ничему, что не выдерживает испытания разумом.— Директор шумно отдышался.— А ваш любимец Акатов — легкий человек. Все, что он делает, не серьезно. Если добивается успеха — легкий успех. Проступок совершит — легко отделается.
Во время этого разговора пришла Серафима Гавриловна. Она относится к лейтенанту как к вчерашнему школьнику. Не раз по просьбе солдат Рябов уговаривал Серафиму Гавриловну отменить контрольные в десятых классах наутро после бала, но она стоит на
410
своем: «Всю жизнь назначаю после школьных вечеров контрольные. Мосле вечеров нельзя давать новый материал — мысли не тем заняты». Лейтенант возмущался: «Это живодерство»,— но безуспешно. С Серафимой Гавриловной ему никогда не договориться.
— Я сказал лейтенанту насчет каракуля,— сообщил ей директор.— Из разговора с Геннадием Васильевичем кое-что прояснилось.
— Мазитов? — спросила она, очень желая подтверждения.
— Возможно. Однако Геннадий Васильевич считает, что надо поискать кого-нибудь потрусливей, помягче...
Рябов удивился: разве он это говорил?
Глава вторая
По машине видно, если она издалека: тащит на себе что-нибудь диковинное. Грузовик Паши Колесникова нес на переднем бампере черно-синий комок перьев — подбитую птицу.
Прогремел пустым кузовом через весь Чупчи, пронес хвост пыли ;чмо универмага, чайной, почты, обогнул школу и остановился у даревянной арки с надписью: «Интернат чупчинской средней школы». Арка стоит триумфально: без ограды, сама по себе. За ней два одинаковых дома под шифером.
Открылась дверца, на подножку выбралась девочка в старушечьем пальтеце из черного плюша, в большом цветастом платке. Это о ней — о Шолпан Байжановой — расспрашивала Серафима Гавриловна в первый день занятий ребят из восьмого «Б».
С другой стороны спрыгнул на землю белобрысый Паша, снял бампера убитую птицу с маленькой свернувшейся набок головой.
— Шалпан, гляди-ка! Помнишь, через перевал ехали — синие галки над дорогой гонялись.
Шолпан издали боязливо глядела на мертвую галку.
— Красивая. Возьми.
— Жалко птицу,— Шолпан отступила на шаг.
— Да ты не из храбрых! — он удивленно присвистнул.— А я-то думал, храбрую везу. Сидишь на дороге с чемоданчиком, одна-оди- нешенька, кругом степь безлюдная. На твое счастье, я в ту сторону заехал по ошибке. А если бы не заехал?
— Сидела бы. Еще ждала. Немного ждала, немного шла. Я дорогу знаю.
Родители не торопились отправлять Шолпан в школу, старшая сестра была занята своим счастьем, приездами жениха. Шолпан дошила все, что велела мать, взяла давно приготовленный чемодан и пошла.
Паша Колесников был родом из Вологды. В Чупчи его занесла солдатская служба. Он рассказывал Шолпан: на первом году службы
411
заплутал в степи, хотя вроде все видно насквозь. Ориентир получил — ехать, чтобы курган с черной макушкой оставался справа. Он и ехал — курган справа. Жилья впереди никакого.
Наконец крыши увидел. Подъезжает ближе — военный городок. Полный круг сделал с курганом справа. За это его прозвали Магелланом. Еще раз доказал, что земля круглая.
Служа в Чупчи, Паша ездил с другими солдатами в подшефный колхоз на комсомольско-молодежную ферму. К солдатам еще встречается неправильное отношение со стороны некоторых граждан. Девчат стращают: не ходите с солдатами, они послужат и уедут, а вы останетесь брошенными. Ну да ничего! Уговорил он свою Тоню, поженились, поехали к старикам в Вологду. Тоне там понравилось: красиво, зелено. Но пожили и вернулись: в Чупчи простору больше насчет работы.
Колесников рассказывал аульной девчонке свою жизнь, потому что она молчала, а он боялся заснуть от ровности степной дороги. Чуть придремлешь — сыграешь кверху колесами.
Шолпан про такую шоферскую беду не знала. Всю дорогу удивлялась: зачем дядя Паша так откровенничает? Она про себя не умела рассказывать. Даже Саулешке.
Паша размахнулся, забросил птицу в кусты чия. В сухом высоком чие что-то заворочалось.
— Вылезай — хуже будет! — потребовал Колесников.
— Ну и вылезу! — Из чия поднялся мальчишка в новом форменном костюме. Не обманули Салмана и в этом году — костюм выдали в школе, пальто, ботинки.
— Мазитов! — У Шолпан откуда-то взялся строгий учительский голос.— Ты почему не на уроках?
— А ты почему? — огрызнулся Салман.
— Иди-ка сюда! — постращал Колесников.
— Накось! — Салман сделал неприличный жест.
— Я тебя! — Паша притопнул — будто вдогонку.
Салман сорвался бежать, но почуял —■ не гонятся. Пошел обратно — сторожко, крадучись. Кинулся в куст чия, вытащил синюю галку, со всех ног припустил в степь.
— Вовсе дикий,— определил Паша.— Ладно, бывай, Шолпана, я поехал. Ты живи — не робей.— Он догадывался: чего-то неладно у девчонки в старушечьем плюшевом пальтишке. Ведь так, за здорово живешь, не сядет человек посреди дороги.
Один из двух интернатских домов курился прозрачным дымком. Здесь интернатская кухня, столовая, и здесь живут девочки — их всегда меньше, чем мальчишек, занимающих весь другой дом.
На крыльце Шолпан старательно зашоркала ичигами по распластанной мокрой мешковине. Выскочила из дома распаренная тетя
412
Наскет, обхватила Шолпан горячими влажными руками, притиснула к большому рыхлому телу, обцеловала.
— А я смотрю, кто же приехал? — Тетя Наскет поворачивала Шолпан, выпутывала из платка.— А это Шолпана моя приехала! Умница моя! — Тетя Наскет встряхнула платок, осудила молчком: стар и дыряв — аккуратно сложила.— Подружка твоя прибегала. Беспокоится.
Шолпан стаскивает ичиги, в одних носках идет по крашеному полу спальню. Восемь кроватей, восемь тумбочек, один большой стол. Шолпан открывает дверцу тумбочки. Старые книжки на месте, кто-то новые положил — для восьмого класса. Заглянула в шкаф — на плечиках висит новое форменное платье, два фартука: черный и белый. Уже, значит, выдали форму всем интернатским.
Присев на корточки, она проворно перекладывает из чемодана в тумбочку небогатый запас белья и кое-какие мелочи: шерсти некрашеной клубок, счастливый камешек с дыркой, привезенный Саулешкой из Крыма, пучок фазаньих перышек. Потом бежит в умывалку — и вот уже сидит на кухне, напротив тети Наскет, запускает ложку в густое варево из свеклы, капусты, фасоли, сала и перца.
— Новеньких много? — любопытствует Шолпан.
— В первый класс шестерых привезли...— Тетя Наскет тяжко вздыхает.
— Борща не едят? — сразу догадывается Шолпан, из-за чего печаль.
— Двое-то сразу стали. Сарсекеёв Аскарка из Тельмана и Назарова Куляш из Байсеркё. А другие ни в какую. Ни борща, ни котлет, ни голубцов. Я к Канапие Ахметовичу: разрешите в первой четверти лапшу подавать. Он ни в какую: на лапше весной посидите, в первой четверти надо овощей побольше.
— Правильно! — Шолпан расправилась с борщом, тетя Наскет придвинула ей сковороду жареной картошки.— В прошлом году всю четвертую четверть лапшу ели.
— Так картошка на исходе была,— мрачнеет тетя Наскет.— В этом году я умная стала, вдвое больше засыпала.
— Люблю картошку! — Шолпан вилкой соскребает хрустящие корочки.
— Теперь-то любишь! — Тетя Наскет ставит перед ней стакан киселя.
Она работает в интернате столько лет, сколько самому интернату. Директор Канапия Ахметович любит пофилософствовать с ней о сложностях воспитания: на прозорливость интернатской поварихи, живущей тут же, при ребятах, директор полагается не меньше, чем на опыт своего завуча. Хотя тетя Наскет не все выкладывает директору. С Серафимой Гавриловной у поварихи ладу не бывает. Из-за витаминов. Повариха верит: лук и чеснок берегут от всех болезней. Поэтому все интернатские — кроме старших девочек — приносят с
413
собою в классы острый витаминных дух, изгнать который Серафима Гавриловна не в силах — даже при ее энергии и умении доводить свои педагогические замыслы до победного конца.
В первые осенние дни, когда дети чабанов из дальних аулов, еще нигде не бывавшие, ничего не видавшие, отказываются от еды, недоверчиво отодвигают тарелки, тетя Наскет и кричит на новеньких и плачет. А что поделаешь! Не едали малыши дома ни капусты, ни свеклы, ни киселей. И Шолпан когда-то испугалась «зеленых тряпок», плавающих в тарелке. Щей испугалась.
— Спасибо! Наелась! — Она привычно бежит к мойке, трет мочалкой тарелку, споласкивает стакан.
— Сегодня еще разок пообедаешь,— распоряжается тетя Наскет.— С тобой за компанию они все съедят. Ты к Сарсекееву Аскарке присмотрись. Ему в шефы Нурлана дали. Какой из Нурлана шеф? — тетя Наскет осуждающе поджимает губы.— На деньги стал поигрывать. Сама видела: играл за базаром.
— Может, он просто так, не на деньги? В школе запретили асыки1, но ведь все играют потихоньку.
— Или я не разбираюсь, когда на так, а когда на деньги? Он с деньгами из дома приехал. Сам заработал, отец от себя дал. Не шибко умный у него отец. На что ученику деньги? Живет на всем готовом.
— С кем же он из ребят играет? Мы поговорим на совете интерната.
— То-то и есть — не с интернатскими. Я его за базаром видела. Знаешь с кем? С Мазитовым.
— С Сашкой?
— С ним бы еще ничего. Нурлан со стариком играл.
Шолпан знает: если альчик катают ногой — игра на деньги, если за базаром со старым Мазитовым — вовсе плохо для Акатова Нурлана из восьмого «Б». Шолпан летом видела: Мазитов приехал к отцу, совсем мало говорили, отец прогнал Мазитова.
Прибегают из школы первоклассники, Шолпан садится с ними за стол. Аскарка ей нравится: с уроками сам справляться будет — сразу видно по Аскарке; а воротничок пришить, брюки погладить — разве трудно?
Больничные ворота уже заперты, и сторож Мазитов долго не открывает. А ведь сам Доспаев его предупредил: Шолпан пропускать через проходную. И вместе с Сауле, и если Шолпан одна.
— Тебе чего? — Сторож вышел, неприятно позевывает. Каждый раз он прикидывается, что не узнал девчонку.
Съежившись, Шолпан шмыгает мимо него в приоткрытые ворота и уже совсем другим человеком идет по просторному больничному двору.
1 Игра вроде русских бабок.
414
Семь лет назад отец все же привез ее в Чупчи. Женщина в белом халате ощупывала Шолпан, прикладывала к груди и спине холодные железки. Русская женщина по-казахски спросила отца: «Вашей дочери уже девятый год — почему так поздно привезли?» — «Болеет, здоровье слабое». Отец обманывал: Шолпан не болела и не слабая. Весной мороз ударил, снегом все позанесло, а она помогала матери принимать ягнят, теплых, мокреньких. Зачем отец обманывает? Боится? Она тоже напугалась. Но тут пришел в белом халате казах, поглядел на Шолпан и крикнул кому-то: «Сауле, иди сюда!».
Главный врач Доспаев не похож ни на кого в Чупчи. Люди всегда делают так, как велит Доспаев. Он не председатель колхоза, не начальник из района — наказать не может. Его слушаются потому, что он главный врач. Доспаев сказал директору: «Шолпан Бай- жанову записать в первый класс «Б». Она тогда еще ни слова не знала по-русски, но Канапия Ахметович согласился: «Ладно. Байжанова пойдет в первый «Б», но ты, Сауле Доспаева, отвечаешь за нее». И девочка, меньше ростом, чем Шолпан, важно сказала: «Да, я за нее отвечаю».
...Шолпан подошла к дому в дальнем углу двора, к самому старому дому на больничном дворе и во всем Чупчи. Резные наличники, тяжелые ставни, деревянная галерея вокруг. Дом поставил прапрадед Саулешки, ссыльный польский повстанец. В голой степи дом и рядом больничка. Лекарь удивлял всех знанием степных трав, как истинный «чупчи». Возле его дома и больнички пристроился аул и стал называться Чупчи.
— Шолпашка! Наконец-то! Приехала! — На галерею вылетает Са- улешка, теряет и подхватывает на бегу домашние тапочки.
В прихожей, на старинной вешалке из оленьих рогов, Шолпан с огорчением замечает солдатскую шинель. Володя здесь. Шолпан стыдно: почему недобро подумала о Володе? Его у Доспаевых ласково встречают, Софья Казимировна Володю зовет: «Приходите, не
забывайте».
Столовая ярко освещена. Пыхтит, посвистывает серебряный самовар. На крахмальной скатерти вазочки с вареньем, сахарница, фарфоровая дощечка для сыра, Софья Казимировна вносит с кухни на деревянном резном блюде горячие, подрумяненные сухарики.
— По-вашему, Володя, совету я держала их в духовке меньше, чем обычно. Они на мой вкус чуть-чуть мягковаты.
— И очень хорошо.— Володя берет сухарик, надкусывает.— В самый раз... Тосты...— он медлит после этого слова: все ли знают? — мамина специальность. Мы из Англии привезли отличный тостер. А сейчас и наша промышленность выпускает неплохие.— Он с незастенчивым смущением берет еще сухарик.— Но тонкости кулинарии не для солдатского аппетита.
— Ешьте, ешьте! — говорит Софья Казимировна.— Шолпана, вот тебе самый румяный. Ты нынче задержалась у своих. Мы уже волновались.
416
— Чепуха! — резко бросает Сакен Мамутович.— Что могло с ней случиться? Ничего.
Лицо у него сегодня усталое и голос надтреснутый. Была операция? Какая? Очень трудная и опасная? Шолпан знает: спрашивать не полагается.
— Я позавчера был в районе на пленуме. Среди лучших чабанов назвали и твоего отца. Сдал двести девяносто три смушки, из них девяносто шесть процентов высшим сортом.
— Двести девяносто четыре!
— У Садвакасова триста. Не такой уж большой разрыв.
— Отец говорит — зима будет плохая в этом году.
— А когда она была хорошая? Бураны — худо, оттепели — худо.— Он поворачивается к Сауле: — Кстати, на пленуме я видел новое начальство из городка, полковника Степанова. Он сказал, что у него дочь и сын, оба школьники. Дочь, кажется, в восьмом.
— В нашем,— нехотя говорит Сауле.
— Вы уже подружились?
— Пап, ну разве можно так вот сразу и подружиться!
— Можно. Я лично верю в дружбу с первого взгляда,— неторопливо прихлебывает чай Сакен Мамутович.— А вы, коллега?
Коллега — это Шолпан.
— Я тоже верю... в дружбу...— Колючий сухарь с сыром застревает у нее в горле.
— Мы с вами, коллега, единомышленники,— заключает Доспаев.
— Она, видите ли, сделала такое одолжение и стала ходить на уроки казахского языка,— говорит Сауле, и Шолпан понимает, кто «она»,— Алик не ходил, а она ходит. Канапия Ахметович спрашивает ее легче легкого и ставит пятерки.
— Но она же раньше казахским не занималась. Нельзя спрашивать с нее, как с вас,— заступилась за новенькую Софья Казимировна.
— С кем она сидит? — спросила Шолпан.
— С Еркином. Он в первый день опоздал, а она сама уселась на последнюю парту. Ты же знаешь, какой Еркин! Подошел и сел рядом. Ну а теперь Гавриловна прокатывается по их адресу. Для потехи. Ничего, конечно, нет, а то Фарида бы уже разнесла на весь Чупчи... Да, вот тебе новая сплетня, на этот раз про саму Фариду. Кто-то написал на баскетбольном щите: «Ф+Н=Л».
— Про Фариду? И еще про кого?
— Нурлан грозится, что поймает, кто пишет, и голову оторвет!— смеется Сауле.
Софья Казимировна не оставляет без внимания гостя в солдатской гимнастерке. Даже в военной форме — воротник хомутом — Володя Муромцев держится раскованно, с этакой утонченностью. Что дается человеку с детства — дается на всю жизнь. Володя Муромцев родился в Индии, его отец там работал в советском консульстве. Володя лет до четырех не говорил по-русски, только по-английски — с родите-
14 Школьные годы. Выпуск 2
417
лями, няней, поваром, садовником. Потом Муромцевы переехали в Англию, однако Володин отец навсегда сохранил в душе привязанность к Индии. В эту страну многие влюбляются, например художник Николай Рерих.
— Отец был с ним близко знаком,— рассказывал Володя.— Рерих прекрасно писал горы, а я потрясен здешними просторами. Удивительное ощущение вольности дает человеку степь.
— Очень рада, что вам здесь нравится! — Для Софьи Казимировны самый дорогой подарок — похвала степи и Чупчи. Академик Садвакасов очень верно сказал: у нее в роду все были привязаны к этой земле едва ли не больше самих казахов.
— Сауле мне разрешила порыться в книгах у нее в комнате. Должен вам сказать: книги у нас из тумбочек не пропадают. Вообще ничего не пропадает — и книги тоже.
— Конечно,— разрешает она.— А что вас интересует?
— Шеллер-Михайлов, Боборыкин и Данилевский! — насмешливо отвечает за Володю Сауле.
— Почему эти? — Доспаев, устало чертивший ложечкой по скатерти, поднял голову, настороженно поглядел на солдата.
— Данилевского я и раньше читал. Исторические романы. И, по правде сказать, не думал, что этого писателя когда-то издавали многотомными собраниями сочинений. О Шеллере и Боборыкине только слышал. А тут — сочинения. Если издавали, значит, авторы пользовались популярностью. Читали, спорили о них. И вдруг все исчезло, ушло...
— Если вас интересуют исчезнувшие авторы,— оживилась Софья Казимировна,— то на чердаке вы найдете комплекты старых журналов. Что за чепуха иной раз печаталась рядом с Толстым, Чеховым!..
Володя восхищенно крутил головой:
— Как я вам завидую, Сауле! В вашем доме столько книг! И сам дом такой старинный.
— Ее не интересует старина. Только будущее,— говорит Доспаев.— Она у нас астроном и увлекается фантастикой.— Он коснулся больного места Софьи Казимировны: она хотела видеть дочь врачом, а Сауле то в геологи собиралась, то теперь в астрономы.
Доспаев встал, резко отодвинул стул:
— Прошу меня извинить... Соня, я загляну ненадолго в послеоперационную.
Шолпан поняла: Сакен Мамутович все время помнил о ком-то, лежащем в послеоперационной палате,— помнил и ложечкой чертил по столу, вспоминал в руках какой-то хирургический инструмент. Неужели Сакен Мамутович что-то сделал сегодня неправильно? Нет, не может быть. Он никогда не ошибается.
— Коллега, я буду рад, если вы составите мне компанию.
— Я? — Шолпан растерялась: ее зовут в больницу? В самую главную палату?
418
— Шолпаша,— мягко вмешалась Софья Казимировна,— в спальне за дверью возьми мой халат.
Шолпан вприпрыжку поспешала по двору за Доспаевым. В детском отделении огни уже погасли, а в других корпусах жил в окнах слабый свет и на койках люди в пижамах лежали и сидели, занятые своими делами.
— Послушай, Шолпан, почему тебе не нравится этот москвич из городка?
— Да я...
— Впрочем, какое нам с тобой до него дело! Правда?
— Правда! — честно сказала Шолпан.
В коридоре хирургического корпуса при появлении Доспаева возникло беспокойство: куда он идет в неурочный час? По обе стороны приоткрывались двери, хотя никто не пробежал в обгонку, всех оповещая. Из-за столика, отсекающего конец коридора, поднялась женщина в белой чалме, скрученной из накрахмаленной марли. Медсестра Роза Хасановна. Ее племянница Фарида учится с Шолпан в одном классе.
— Добрый вечер, Сакен Мамутович! Ах, вот кто с вами! Мне показалось — Сауле. Здравствуй, Шолпана! Вы напрасно беспокоитесь, Сакен Мамутович. Больная только что уснула.
— Прошу вас не регламентировать мои обязанности.
— Виновата! — Она обиженно поджала губы.
Там дальше дверь была — сразу за столиком. Доспаев распахнул ее резко, бесшумно. В просторной, слабо освещенной палате стояла посередке всего одна кровать, на кровати лежал кто-то, очень маленький. Шолпан подумала: девочка. А разглядела — желтолицая старушка. Лежит навзничь, слышно прихрапывает. Сакен Мамутович сел на табурет у кровати, Роза Хасановна встала за его спиной. Доспаев отрывисто спрашивал ее о чем-то, Шолпан непонятном, она почтительно отвечала: «Да», «Нет», «Сколько?»
И тут Шолпан поняла: старушка не спит. Старухи чуткие. Они от слабого шороха просыпаются. А эта прихрапывает и прихрапывает. Она не спит. Ее лекарства успокоили. В палате живет не ее сон, а что-то чужое. И страшное. На это нельзя глазеть только из любопытства. Приходя сюда, надо что-то знать и делать здесь, в послеоперационной палате. И надо иметь право здесь хоть до чего-нибудь дотронуться. У Шолпан такого права не было.
Доспаев поднялся и вышел. За ним — будто на веревочке — Роза Хасановна и Шолпан.
— Пойдем, Шолпан, посмотришь операционную.
— Сакен Мамутович, на минутку,— остановила его Роза Хасановна.— Уж раз вы пришли... Я собиралась утром сказать, но, наверное, можно и сейчас?
— Можно,— кивнул Доспаев.— Все можно. Что там у вас?
— Полчаса назад муж мне прямо сюда позвонил из Алма-Аты,
419
из управления дороги. Ему предлагают хорошее место с повышением. В Аягузе. И я...
— Одним словом,— перебил ее Доспаев,— вы собираетесь уезжать. Когда?
— Муж сказал: две недели — крайний срок. Конечно, медсестру сразу не подыщешь. Но ведь ничего не поделаешь. Жена за мужем, как нитка за иголкой.
— Напишите завтра заявление.
— Завтра?
— Сейчас напишите и оставьте, чтобы мне передали.— Никогда не видела Шолпан у Сакена Мамутовича такого недовольного лица.
— Прошу, коллега! — Он открыл дверь с табличкой «операционная», щелкнул выключателем. Сразу же Доспаев и Шолпан оказались в темноте, вовсе невидимки, а свет огромной лампы со многими отростками весь устремился на узкий стол, зачехленный больничной простыней.
— Здесь мы оперируем...— Доспаев пощелкал выключателем.
Резкий свет исчез, горели матовые шары под потолком, ровно
освещали всю комнату: стеклянные шкафы по стенам, блестящие инструменты на стеклянных полках.
— Типичная операционная сельской больницы. В больших городах сейчас такого не увидишь. Каменный век. Впрочем, ту больную не спасли бы нигде. Ни в Москве, ни в Ленинграде. Она верила, что я ее спасу. Но я ничего не смог сделать. Разрезал, посмотрел и зашил. Сыну ее сказал всю правду, а ей — ничего. Когда я ее выпишу, она будет уверять меня, что чувствует себя гораздо лучше. Но я знаю: ей осталось жить не больше года. И ты, Шолпан, теперь все знаешь, но — я уверен! — никому не скажешь. Твоя первая врачебная тайна.
— Да,— почти неслышно ответила Шолпан.
— Ты не спрашиваешь, какая операция, какая у бабушки болезнь?..
•— А можно спросить?
— Спрашивай.
— Почему она в больницу пришла? У нее что-нибудь болело?
— Ей уже восемьдесят лет, и у нее никогда ничего не болело. Она вырастила девятерых детей, и теперь у нее семнадцать внуков и четыре правнука. Детишки подглядели, что бабушка боится есть мясо. Только чай пьет с лепешкой. Старший из сыновей привез ее в больницу. Она никогда прежде не лечилась. Осмотры, анализы, рентген. Старых людей все это пугает, отталкивает. А бабушке все казалось интересным. Как будто тут театр, и она смотрит, что происходит на сцене. Глаза молодые, блестят от любопытства... У нее рак. В печени, в почках... всюду. Страшно? Да?
— И ничего не болело?
420
— В том-то вся подлость рака. В молодом организме он действует стремительно. У старого человека болезнь нередко течет замедленно. Старые люди могут дольше протянуть, чем молодые. Вот так-то... Хочешь обойти операционную, поглядеть, что в шкафах?
Он остался у двери, стоял, тяжело опустив руки в карманы халата. Шолпан пошла мимо стеклянных шкафов, не спрашивала, сама пыталась угадать; для чего берут вон те ножницы с загнутыми концами? Вон ту блестящую трубку, соединенную со стеклянной колбой?
Она глядела и запоминала на будущее и в стекле всюду видела себя. И всюду за ней, в близкой памяти, неотступно следовало: палата с одной — посередке — кроватью и на белом, почти не смятом, с желтым лицом маленькая, как ребенок, старушка спит не своим сном.
Третья линия стеклянных шкафов возвращала Шолпан к Доспа- еву, терпеливо ее дожидающемуся.
— Мне нельзя дольше оставаться в Чупчи, иначе я кончусь как хирург,— говорил Доспаев.— Буду топтаться на месте, приучусь повторять: «Медицина в данном случае бессильна», хотя бессилие будет только мое собственное. Знаешь ли ты, Шолпан, что существует огромный разрыв между тем, что делают боги медицины, и как лечим мы, рядовые врачи в рядовых больницах?.. Конечно, я могу отправить своего больного туда, на вершины. Но для этого я должен вовремя поставить диагноз. В состоянии ли я ставить диагнозы здесь, в этих примитивных условиях? Мне надо, пока не поздно, поработать в хорошей клинике, с сильным руководителем. Только тогда...
Шолпан подошла ближе, и Доспаев замолчал на полуслове. С ней ли сейчас говорил?
— Я все посмотрела. Спасибо.
— Нравится тебе здесь?
— Очень.
— Тогда слушай меня внимательно. Будет разговор очень для нас с тобой важный.
Шолпан заметила, что руки Доспаева в карманах халата еще потяжелели, напряглись.
— Хочешь ли ты когда-нибудь стать здесь главным врачом? — Он глядел на нее испытующе.
— Я? — Она почти испугалась.
— Хочешь,— уверенно кивнул он.— Хочешь лечить, хочешь строить здесь, в Чупчи, новые корпуса, хочешь ездить по аулам в машине с красным крестом. Вот и добивайся. Будешь здесь главным врачом. Договорились, коллега?
— Договорились.
— Вот и прекрасно.— Доспаев достал сигареты, спички и не спеша закурил.
...В столовой по-прежнему оживленно разговаривали о чем-то
421
интересном. За час отсутствия — или это лишь кажется Шолпан? — Саулешка стала еще красивей.
— Не мог себе позволить уйти, Шолпаша, без вас! — Володя вскочил, прищелкнул каблуками кирзовых сапог.— Нельзя ли нам поторопиться? У нас в части построже, чем в школьном интернате.
— Я одна дойду! — Шолпан покраснела.
Она понимала: Володя так делает нарочно, не по-настоящему. Но Саулешке все нравится: как он разговаривает, как себя держит. Володя не похож на здешних ребят. Он гораздо уверенней их и в то же время умеет вести себя проще. Даже со сторожем Володя здоровается с приветливой улыбкой, угощает сигаретой, проходная перед ним распахивается сразу. Володя говорит: надо уметь со всеми находить общий язык. Почему же он тогда не понравился Сакену Мамутовичу?
— В самом деле, Шолпашка! — командует Сауле.— Зачем идти одной? Володя тебя проводит!
Володя идет рядом с диковатой подругой Сауле и улыбается своим умным мыслям. В той среде, где он вырос, молодые люди не часто и не охотно идут служить в армию. Володя, несомненно, мог после десятого класса поступить в институт, но не захотел. Сын дипломата и сам будущий дипломат видел себя в будущем не на посольских приемах в Лондоне или Нью-Йорке. Азия — вот самый перспективный регион! Муромцев решил: он поступит в институт востоковедения, а до этого непременно отслужит в армии. Военная служба — лучшая школа для будущего дипломата! Уметь приказывать, уметь подчиняться, в любой обстановке быть коммуникабельным — на этом стоит вся система воспитания в английских закрытых школах для отпрысков лучших семейств. Володя нашел для себя такую школу в степном военном городке. Ему повезло — он попал служить в Азию. Еще повезло — нашел в богом забытой пустыне старинный интеллигентный дом. Таких домов не много сыщется и в Москве: дворянские предки, великолепная библиотека... И Сауле! Ей скоро пятнадцать, через два года она закончит школу, приедет в Москву, в университет. Непременно приедет. Во-первых, умная, во-вторых, волевой характер, в-третьих, выпускники здешних школ держат вступительные экзамены, оказывается, не в МГУ, а у себя в республике. Игольные уши, через которые в Москве так трудно протиснуться, для здешних все- таки пошире.
Он шел и улыбался своим славным планам на будущее. Двадцать четыре красоты дал аллах женщине, но первая красота — ум. В Москве прохожие будут оглядываться: какая пара! Известный английский писатель женился на египтянке — вот что современно!
Он простился с Шолпан у ворот интерната. Не полагалось в Чупчи, чтобы солдат из городка показывался так близко у ворот. Но Муромцеву на чужие правила плевать, есть его собственные: «Всегда провожаю знакомых девушек до самого дома». А тут — как назло! —
422
навстречу Шолпан выкатился одноклассник: Нурлан ее искал-дожи- дался — дырку заштопать на новом плаще.
И Аскарка еще не спал: в столовой, заткнув уши, зубрил стихи из букваря. Уши заткнуты — а Шолиашу свою не прозевал: далеко пойдет Сарсекеев Аскар. За Шолпашей и за Нурланом, несущим пострадавший — где же это? — плащ, Аскарка шустро прошмыгнул в комнату старших девочек:
— Моей бабушке сегодня операцию делали! Дядя Уразбёк приехал, казы1 привез, курт. Хочешь, принесу? — и умчался за гостинцами.
Бабушка Аскарки! Вот кого Шолпан видела сегодня в послеоперационной.
— Что с тобой, Шолпан? *— спросила Амина, девятиклассница.— Ты как стенка белая! — И выставила Нурлана за дверь:— Завтра придешь. Видишь — человек устал.
Аскарка влетел в комнату, прижимая к животу в обеих руках домашнее угощение:
— Вот! Ешь, Шолпан! Все ешьте! Мне дядя Уразбек много привез. Я всех угощаю. Бабушке операцию сделали! Я к ней завтра в гости пойду. Она скоро поправится. Дядя сказал: до ста лет проживет!
Страшно стало Шолпан — страшней, чем в больнице. Аскарка здесь радуется, а бабушка там спит не своим сном. Он говорит: «До ста лет проживет», а ей только один год остался. Шолпан услышала — где-то далеко? Нет, в самой себе! — громкий плач: так в ауле отпевают покойника, славя его земные дела. Плач слышен только ей, остальным досталось ее молчание.
Девять детей, семнадцать внуков. Все приедут хоронить бабушку. Место выберут открытое, вольное, могилу выроют, чтобы лежала бабушка головой на запад. Каждый горсть земли бросит: «Да сопутствует тебе добрый дух». После все уйдут, а старики отсчитают сорок шагов и повернут обратно, громко заговорят: бабушка добрая была, ласковая, заботливая... Старики верят: пока люди отошли на сорок шагов, в могилу опустился архангел Жебрайл, спрашивать стал покойницу: праведно ли жила? Но кто себя хвалить станет! Потому и должны родичи вовремя вернуться к могиле и погромче — меж собой — потолковать, чтобы услышал их Жебрайл... А после весь год будут в семье горевать, и со всей степи люди поедут к Аскаркиному отцу со словами утешения: «Да произрастают ее ветви».
Можно ли такое наперед знать и видеть? Нет! Но Шолпан перешагнула какую-то черту, за которой можно: она видела смерть на год вперед, как видят то, что уже случилось прежде. Зачем она позволила себе узнать такое, что слабые люди не могут, не должны, не хотят знать?
Шолпан уняла свой не слышный никому крик, сказала Аскарке голосом старшей сестры:
1 Колбаса из конины.
423
— Спасибо за угощение. Завтра, если пустят в больницу, покажи бабушке тетрадки, альбом по рисованию.
— Салфетку тоже показать? Я ромашку вышил на уроке труда!
— Ромашку!
Сакен Мамутович говорил: больная любопытная, ей все интересно. Может, посмеется: будущих мужчин в школе учат вышивать!
— Покажи обязательно. А теперь иди спать.
Аскарка мигом выкатился за дверь.
— Никакой на ночь зубрежки! — Амина скользнула рукой по пуговицам тесного халата, полуголая побежала к выключателю.— Гашу свет!
В комнате она осталась с этого года старшей. Амина встречается с солдатом из городка и не стесняется выкладывать про себя и про своего солдата все, что меж ними было. После ее ночных — в темноте — признаний девочки стыдятся своих мыслей. Тетя Наскет знает о ночных разговорах и жалеет девчонок, но куда денешься: надо им кое-что знать для жизни, а у кого спросишь, сладко ли целоваться,— у Гавриловны, что ли?
Кто-то из девочек говорит озабоченно:
— Шолпашка еще не спит. Вы при ней не очень-то... Шолпашка? Ты спишь?
— Нашли маленькую. Она уже в восьмом. Я вот после седьмого. Мы в ак-суек играли, мне один говорит: «Пойдем».
— И ты с ним пошла?
— А ты, Жамал, как бы поступила?
— Я бы не пошла,— тянет толстуха Жамал.
— Много ты понимаешь! Мне тетя Хадиша объяснила, что можно позволять, а что нельзя.
— Тетя Хадиша? Ей завтра сто лет. Нашла советчицу. Сейчас все
по-другому. У нас летом городская сестренка гостила. Встречалась с
нашим мальчишкой. А когда она уезжала... Мы стоим — и он стоит. Как ей с ним у всех на глазах попрощаться? Она давай всех подряд целовать — мальчишек, девчонок. Последним его поцеловала.
— Я бы на его месте обиделась. Зачем она всех?
— Дура! Целуются-то по-разному... Спроси Амину. Амина! Ты что? Спишь?
— С вами заснешь...— ворчит Амина.
Интернатская хлипкая койка скрипит под ней, Амина воюет с провисшей сеткой, ей хочется раскинуться пошире — хоть стаскивай тощий тюфяк на пол. Вся комната ждет — прислушивается к ее возне, к тому, как она ворочается с богу на бок, оглаживает себя.
Шолпан свертывается в клубок, натягивает одеяло на голову.
В ту ночь Шолпан приснилось: едет она по степной дороге, рядом за рулем не шофер Колесников, а Сауле. «Когда же Сауле выучилась водить машину?» — удивляется Шолпан. Она не спрашивает, куда они едут. Сауле знает куда. Сауле спешит, спешит, спешит... У дороги
424
стоит Еркин, в руке давешняя синяя птица; он машет птицей Сауле и Шолпан: «Остановитесь!», но они пролетают мимо. Шолпан кричит Сауле: «Подожди! Подожди!» — и просыпается.
Странный сон забылся бы скоро, как забываются все сны. Но через несколько дней в школе Шолпашке попадается на глаза синяя птица. Не комок блестящих перьев, а как живая красуется синяя птица на шкафу в кабинете биологии и белый ярлычок: «Работа учеников 5-го «Б» Мазитова Саши и Степанова Вити».
Доспаев сделал операцию тяжелую и ненужную, уступил просьбам Уразбека. Операцией он не причинил вреда, но и не помог. У ее сыновей теперь совесть чиста — испробованы все средства спасения. Свою совесть Доспаев отпустить на покой не мог.
В ноющую рану совсем некстати в тот вечер добавлял соли будущий дипломат Володя Муромцев, этакий красавец и говорун. Черт бы его побрал! К нему жену приревнуешь, не только дочь. И ведь не врет — на самом деле в Индии родился, в Англии рос... Каково с ним девочке четырнадцати лет из степного поселка?
Не хотел Доспаев слишком часто видеть у себя в доме эти синие глаза, этот прозрачный искушенный взгляд.
Неприязнь к чужаку в доме вовсе лишила Сакена Мамутовича душевного равновесия в тот вечер, когда он — не рано ли? — заговорил с Шолпан о ее праве стать здесь главным врачом.
В тот вечер, оставшись вдвоем с женой, Оакен Мамутович сказал:
— Не нравится мне, что у нас стал бывать этот самоуверенный москвич.
— Почему?
— Неужели надо объяснять?
— Пожалуй, не надо,— мягко улыбнулась она.— Я ведь понимаю, чем он тебе не нравится. Распустил все перышки, как фазан...
— И наша Сауле глядит ему в рот.
— Да, ей с ним интересно. Володя не такой, как здешние ребята. Мне тоже было интересно, когда он рассказывал про Индию, про Рериха. Дедушка в студенческие годы бывал на художественных выставках. Я помню его рассказы о Рерихе. И знаешь, с кем он вместе был как-то на вернисаже в Петербурге? С Мишей Фрунзе. Они же одноклассники, вместе учились в гимназии.
— Что же ты при госте об этом не вспомнила?
— Слишком хорошо помшо деда! — засмеялась она.— Я спросила его однажды, почему он не пишет воспоминания о Мише Фрунзе. А дед знаешь что ответил? «Меня к ним в дом не за тем приглашали, чтобы я там подглядывал да записывал». У дедушки характер был кремень. Саулешка, между прочим, не только в тебя, но и в него.
425
— И все-таки ей уже четырнадцать, а этот тип...
— Старается держать себя с ней, как с младшей, с подростком. А она... Вот что я тебе скажу, Сакен. Она властная, гордая — мы же с тобой знаем. И сейчас не такой у нее возраст, когда можно расспрашивать. Да и нехорошо, если девочка слишком откровенна с матерью. Будто две женщины. Не люблю таких отношений. Мне кажется, мнение матери дочь может понимать и не советуясь. И мы с тобой, не спрашивая, чувствуем всегда, что с ней. А ее собственный взгляд на жизнь должен быть ее собственным, чем-то непохожим на наш...
— Так что же с ней?
— Не знаю, но догадываюсь. У них с Шолпашкой всегда считалось, что Еркин Садвакасов — Шолпашкина любовь. Шолпаша очень цельный человечек, и детская любовь к Еркину тоже у нее цельная, строгая. Думаю, что даже с Сауле она не говорит об этом. А там, в школе, появилась другая девочка. То ли она в Еркина влюбилась, то ли он в нее. Что ты хочешь — восьмой класс! Я вижу: Саулешка очень близко принимает к сердцу происходящее. Очень близко. Та девочка ей неприятна. А что если ей самой тоже нравится младший сын Мусеке?
— Саулешке?
— Он для нее не такой, как другие. Каждое слово его что-то особое значит, каждый поступок. Он ведь действительно неглупый и самостоятельный. Ищет в жизни чего-то своего. В прошлом году они все поступили в комсомол, и Еркин сказал, что в школе поступать не хочет — после подаст, когда начнет работать. С ним долго спорили, пока, наконец, убедили. Садвакасовы все с характером...
— Да что ты мне объясняешь! — вспылил Доспаев.— Что я, никогда не видал этого мальчишку? Имея старшего брата-академика, можно пойти в чабаны и делать вид, что собираешься искупить вину всех Садвакасовых, оставивших Чупчи. Проболтается года два в чабанах, а после брат пристроит в любой институт.
— Ты сейчас раздражен и потому несправедлив. А раньше, я видела, тебе нравился Еркин.
— Не обо мне речь. О Саулешке. О том, что ей он — может быть! — нравится.
— Если есть у Саулешки тайна, то для всех так и останется тайной. И для нас с тобой. И для Шолпаши. У нашей Сауле сильный характер. Для девочки ее лет иметь сильный характер нелегко. Иной раз это может стать самым слабым, уязвимым местом. Сильная воля. Привычка быть первой. Обязанность помогать тем, кто нуждается в защите. И при этом какой-то наивный деспотизм.
— Деспотизм? Пускай так. Она деспотична, как маленькая ханша, но зато не переменчива в дружбе. Она многое дала Шолпаше и многому сама у нее научилась.
— Шолпаша какая-то странная вернулась из хирургического. Она
426
очень впечатлительная. Зря ты ей разрешил войти в послеоперационную.
— А мне обидно! — Доспаев заговорил как бы в шутку: верный способ выразить иной раз самые трудные свои мысли.— Мне обидно, что садвакасовский щенок смеет не обращать внимания на нашу Сауле... Впрочем, что это мы на ночь разболтались? Спать, спать...— Он задремывал и вдруг совершенно ясным голосом спросил: — В хирургию кого можно перевести?
— A-а... Вот еще что случилось сегодня...— Она все поняла.— Возьми на место Розы Мануру из терапии. Умница и руки быстрые.
За стенкой, в детской, полуночница Сауле сидит за столом, где следы ножичков и ожоги от увеличительных стекол за целый век. Не решается задачка из отпечатанного на стеклографе сборника конкурсных задач; неслыханная новинка для Чупчи этот сборник, выписанный Володей из Москвы, от приятеля, специально для Сауле. Она не ляжет спать, пока не решит простую на вид, но со скрытым подвохом задачу про треугольник.
Еркину показать задачу — он решит какой-то необъяснимой догадкой. Сауле не догадчица, ее метод — последовательность мысли.
Самая прочная фигура в геометрии — треугольник. Три крепко связанных точки... Шолпашка, я... Кто же третий? Новенькая? Придет же в голову такая нелепая, непоследовательная мысль. Или догадка?
Глава третья
На новом месте будущие отношения могут зависеть от первого дня, а в первый день новичок все делает словно впотьмах, вслепую — то есть он действует, сообразуясь только со своими обычаями, а обычаи других ему неизвестны. Все другие приладились к сложившимся общим правилам, а он один — не в ногу. И потому весь на виду: каков есть, без прикрас.
Маша это чувствовала очень остро. Оторвавшись от прежней школьной среды, она оставила где-то там всю свою внешнюю современность, обретенную в спортивных победах и во многом другом, что там ценилось, а здесь еще неизвестно, ценится или нет. Ее внешняя современность была как скорлупа, она защищала ее слабости и прятала недостатки. И раскололась, как скорлупа, открыв мягкое, незащищенное.
Маша понимала: вся она в этой школе на виду — со всеми своими недостатками. А сама-то про других ничего не знает — разве что немного про Фариду, про Акатова и Колю Кудайбергенова. Эти двое, как плюс и минус, притянулись друг к другу. Маша догадывалась: с пустяка у нее могут начаться плохие отношения
427
с Сауле Доспаевой, а Сауле — не Фарида, Сауле в классе уважают. Непонятный отказ девочки, которая Маше сразу понравилась, тоже был обидой.
Многое бывает обидой в первый день — и после сказывается.
Дня через два комсорг класса Доспаева спросила Машу, какая ее интересует общественная работа?
— Тренером по плаванию!
Маша не заявила бы так ни Кольке, ни Акатову, ни Фариде, помня отцовские слова: не дери нос перед ребятами из аулов. Но Сауле не аульная, она постоличней Маши. Сауле спросила снисходительно:
— А еще?
— Зимой — по конькам!
Сауле обещала подумать насчет поручения и через неделю спросила: не пойдет ли Маша вожатой к третьеклассникам? Сауле спросила: «Не пойдешь ли?»
И Маша потому ответила: «Не пойду», хотя могла бы сказать, как подумала: «Ой, что ты! Вожатой?! Я не справлюсь!»
Сауле тоже могла заметить ее растерянность и подлинную причину отказа, но не пожелала.
Они не поссорились — ссорятся друзья. Они поговорили вежливо и официально. Никто и внимания не обратил на их короткий разговор, даже сосед по парте Еркин. У него своя жизнь — Маше непонятная.
Она стала учить казахский язык, и Голова поручил Еркину помочь новенькой правильно произносить казахские слова.
В учебнике «Казак тили» к букве «к» привязан снизу хлыстик. Это особенное «к». В нем звучит клекот степной птицы: «ккказаккк». Буква «о» перепоясана ремешком, она выкатывается из горла не круглая, ее надо в горле как бы сжать с боков, сделать чуть похожей на «е» и на «у» — сразу на оба эти звука. Маша помнит, как старый Мусеке произнес «Пошкин».
Ей не привыкать сидеть за одной партой с мальчишкой. Два года у нее был сосед Вовка Огуренков. Руки в цыпках, уши лопухами, на кончике носа капля. От куртки пахнет табаком, голубятней, мальчишечьей уборной. В портфеле — проволока, гайки. И не ищи там линейку с циркулем. На что же тогда соседка по парте? Все школьное она принесет. Выручит, подскажет, даст списать, не бросит на произвол судьбы. Быть нянькой при несмышленом — вот что значит сидеть с мальчишкой за одной партой. И он же тебе напишет: «Маша, давай дружить». На темной улице догонит, толкнется мокрыми губами в щеку. Первый поцелуй — от какого-то Огуренкова. А пришел провожать — полез на фонарный столб: все смотрел, не идет ли поезд.
У Еркина руки в красных заусенцах, космы жесткие торчат, от куртки пахнет дымом, как в Мусабе, где живет пестрый удод. Но нянька ему не требуется, нет...
428
— Тридцать семь и восемь! — жалуется на дочь Наталья Петровна.— Ничего удивительного. Здесь такой жуткий ветер — насквозь пронизывает. Прошлое воскресенье мы с Машей еле дошли домой с базара. Меня до костей пробрало. Думала, слягу. И тут еще старика встретили какого-то зловещего. На шпиона похож, но, конечно, самый натуральный спекулянт. Останавливает своего ишака и спрашивает, не купим ли мы кофты китайские, чистая шерсть. Я бы купила, но с таким жуликом опасно связываться.
— Еще бы! — заметил Степанов.
— Я с ним вообще не стала разговаривать. Тогда он на Машу поглядел ехидно и сказал: «Девчонка твоя вовсе никуда. Возраст непригодный. Однако вырастет — большой заплатят калым...» Отвратительный старик. От одного его взгляда мороз дерет, а тут еще ветер невозможный. Я Маше тысячу раз говорила: кончай ходить в куртке на рыбьем меху, есть зимнее пальто, совсем новое, в прошлом году брали, есть шапка из песца, очень красивая... Так нет! «Без снега не надену!» И вот результат — простуда. Витя ходит в шубе, в шапке и здоров. А она?.. В школу со всеми на автобусе, зато из школы одна, пешком, пять с лишком километров по открытой степи... Разве это прогулка? Гуляют на свежем воздухе. А здесь нет воздуха, здесь один только ветер. Вот и простудилась.
— Что же ты оплошала? — отец кладет Маше на лоб холодную, пахнущую перчаткой ладонь.— Я думал, ты у нас закаленная. Как в песенке — ни мороз не страшен, ни жара, удивляются даже доктора.
— Доктор сегодня будет,— сообщает мама.— Из здешней больницы детский врач. Воображаю, какие тут у них врачи. Мария Семеновна говорит, что тут вообще насчет культуры уровень самый низкий.
— Не знаю, откуда у нее эти сведения! — Отец недоволен.— Чепуха на постном масле. Незачем тогда обращаться в больницу. Есть своя медсанчасть.
— Да, но Мария Семеновна опасается — вдруг дифтерит. Перезаразим всех малышей.
— Дифтерит? Откуда ему здесь взяться? Сама говоришь — только ветер, даже воздуха нет.
Из поселка привезли детского врача.
— Меня зовут Софья Казимировна. А тебя как? Покажи, Маша язык. Рубашку сними — послушаю... Раньше она у вас бронхитом болела? Страшного ничего не вижу. На дифтерит никаких подозрений. На скарлатину, корь — тоже. Все дело в перемене климата. Поживешь — привыкнешь. Ты ведь с моей Сауле в одном классе? Я скажу сегодня девочкам... Да, дней десять посидишь дома. У вас еще есть дети?.. Разденься, Витя, до пояса. Дыши... Не дыши... У тебя, Витя, все в порядке.
429
Наталье Петровне очень понравилась врачиха из поселка: кто бы мог подумать, что в этой дыре живет такая милая интеллигентная женщина! Без лишних церемоний Наталья Петровна собирает на стол, крупно и щедро режет сыр, колбасу, зовет Софью Казимировну на кухню согреться чайком.
— Вы в Чупчи уже давно? — Наталья Петровна готова от души посочувствовать: мы с вами товарищи по несчастью.
— Всю жизнь,— просто отвечает врачиха.— Я здесь родилась. Здесь и умру.
Наталья Петровна неопределенно качает головой.
— А мы всю жизнь кочуем...— Она привычно рассказывает о себе все, что — по ее убеждению — положено рассказать для доброго знакомства, и Марии Семеновне рассказывала и многим другим людям: ездит всю жизнь, ребят растит без бабушек и опыта семейного воспитания. Маша в поезде родилась, а Витя в Мусабе, где жара сорок градусов...
Наталье Петровне никогда не мешает, если собеседница не умеет ответить той же откровенностью. У каждого свой характер, у нее — такой, какой вынесла из детского дома.
Дверь Машиной комнаты открыта, все слышно.
— Из детского дома нас, девчонок, отправили в ремесленное. На ткачих учились. Закончили — и всем на фабрику, а мне, круглой отличнице — путевка в техникум...— с удовольствием вспоминает Наталья Петровна.— И совестно, и гордость заиграла: я из всех особенная! В общем, много воображать о себе стала. Наметила к тридцати годам стать директором фабрики — не меньше. Или уж секретарем райкома партии. Откуда только бойкость взялась! Стала на собраниях, на активах слово брать. К третьему курсу — секретарь комитета комсомола техникума, член райкома. На комсомольской работе и познакомилась с мужем своим будущим. Техникум у нас девчачий — вот и дружили с воинской частью. Комиссия по распределению каждый год за голову хваталась: некого распределять, все замужем за военными... А тридцать лет мне исполнилось, когда на Чукотке жили. Ни фабрики, ни райкома. Счастье еще, что курсы медсестер открыли для жен офицеров...
— Так вы медсестра? У нас в больнице скоро появится вакансия.
Софья Казимировна знает: Доспаев не любит принимать на работу женщин из городка. Они уезжают так же внезапно,, как и появляются. Но для них. самих, какое мучение от вечной временности и неопределенности! Простоватая> говорливая полковничиха вряд, ли, справится с обязанностями операционной сестры, но в терапии или в детском отделении ей вполне по силам. А дети у нее славные. И девочка, одноклассница Сауле, и особенно Витя... Как часто бывает с женщинами, не имеющими в доме мальчишек, Софья Казимировна испытывает особую симпатию к разным мальчишеским увлечениям, и Витя со своими рыбками, кактусами, чучелами привел ее в восторг:
430
она пообещала непременно прислать ему скальпель, очень нужный, когда обдираешь шкурку на чучело.
Кто бы знал, сколько выйдет неприятностей из-за этого скальпеля!
Наталья Петровна провожает Доспаеву до машины:
— Я так рада с вами познакомиться. Надеюсь, мы еще будем встречаться.
Для нее это не пустые слова. Наталья Петровна в любом новом месте заводит широкие знакомства. Она уверена: для здешней врачихи возможность бывать в военном городке у жены полковника — большое удовольствие.
При всем опыте жизни и усердном чтении книг о хорошем тоне Наталья Петровна не понимает разницы в воспитании между собой и Софьей Казимировной — тем более не понимает, что гостья никак этого не показала, садясь на кухне за щедрый, но неприглядный стол. Софью Казимировну не коробит ничто в степной юрте и в любом здешнем доме, где ее угощают по-простому, от души. Она выросла в уважении к обычаям степи. Однако в квартире вполне современной, где хозяйка одета по моде, неприятно видеть этакую развязную простоту. Полковница вполне симпатична Софье Казимировне, но нет желания затевать «мы к вам — вы к нам» во вкусе женщин из городка.
Проводив Доспаеву, оживленная Наталья Петровна заходит к Маше:
— Когда поправишься, непременно пригласи в гости дочку здешних врачей. Я и не думала, что здесь может найтись девочка из вполне приличной семьи.
— Ладно,— вяло отвечает Маша,— я все сделаю.
Наталье Петровне ответ не нравится:
— У тебя странная появилась привычка. Если ты мне говоришь: «Ладно, все сделаю», то непременно после поступаешь по-своему и, наоборот, ничего не делаешь.
Маша молчит. Трудно объяснить маме то, в чем сама еще не можешь разобраться: как ко мне относится Сауле Доспаева?
Мама любит во всем ясность: «Давай разберемся». Но в жизни, наверное, не всегда надо спешить разбираться. А то развинтишь жизнь по частям, как Витька развинтил будильник, потом составишь все по своим местам, все, как было, но... тикать уже не будет. Перестанет стучать: тик-так. Витька теперь крутит в руках какую- то медную загогулину: «Вот эта деталь лишняя, некуда приставить».
За окном ветер скребется: к утру тронешь подоконник — пальцы ознобишь в снежной пыли. Снег здесь сухой и легкий — как песок пустыни. Снег проходит сквозь самую малую щель...
Утром — звонок в дверь, нетерпеливый стук. Степановым привезли из степи пару сайгаков. Коротун уже давно выхлопотал разрешение на отстрел.
431
Маша выбегает в коридор, с ужасом глядит на стылые туши в пятнах запекшейся крови. Отца звали ехать на отстрел, отец отказался — не нравится ему гонять на «газике» за вспугнутым стадом. Но все равно Степановым принесли, положили на пол окровавленных сайгаков. Всем так всем. Во всех кухнях городка сегодня будут варить консервы из сайгачатины, в городках все делают коллективно. У Овчинниковых молодой и неопытной хозяйке не до запасов, у нее на руках грудной ребенок. Консервы варит Овчинников с помощью своего друга Рябова, а Витя у них за научного руководителя. Без него лейтенанты сварганили бы консервы кое-как, а Витя, оказывается, и до знакомства с Марией Семеновной знал: в небрежно законсервированном мясе может образоваться смертельный яд.
Маша глядит в окно. Дым из всех труб городка: стандартные дома разводят пары, сейчас поплывут неизвестно куда.
Витька уже давно пришел из школы. Допустим, у него было пять уроков, а в восьмом «Б» шесть. И еще, допустим, собрание.
Все равно пора. Но кто же придет? Сауле Доспаева? А вдруг Гавриловна съехидничала: «Садвакасов, твоя соседка по парте! Тебе и идти!»
Однако звонок застал ее почему-то врасплох. Маша спешит затолкать под матрац валявшиеся на стуле трусики, сбросить в ящик скукоженные горчичники, взбить волосы расческой, застегнуть воротничок ночной байковой рубашки, расправить одеяло... Как все просто было, когда в той школе к ней прибегали свои девчонки, Наташа со Светкой, а тут... Кто же пришел? Только бы не Еркин!
Маша слышит обрадованный мамин голос:
— Проходите, проходите! Она будет очень рада.— И для Маши, погромче: — К тебе из школы!
Входит мама, и за ней — не Сауле, не Еркин! — сияющая родинками Фарида. Всего лишь Фарида.
— Ты только подумай,— говорит мама,— Фарида мне сказала, что я буду работать в терапии. Уже решено.
Фарида без стеснения разглядывала Машину комнату. Еще никто из ребят тут не был. Только Сашка, но он не считается. Первая у Маши гостья — Фарида. Это даже обидно.
432
— Я тебе уроки принесла. Доспаева говорит: «Кто хочет пойти к новенькой?» Все молчат. А я и раньше тут бывала. Алику носила новогодний подарок, он отказывался, ему сладкое вредно, ты, говорит, сама съешь, а я ему сказала: «Чего я, пряников не видала? У меня тетя Бикё работает в продмаге, московские конфеты достает...» — Фарида выкладывает все без передышки.— Мы с Аликом сели вместе чай пить, весь кулек съели, это давно было — в четвертом классе, с Аликом тоже никто не дружил, он чуть что — сразу ревет... Я и сама презираю, если мальчишка не храбрый. У нас самый смелый в классе, по-твоему, кто? Акатов! В прошлом году на спор с крыши прыгнул, я Еркину сказала, чтобы он тоже, а Еркин прыгать не захотел. Конечно, ему-то зачем, его и так все уважают, у него на отару волки напали, а отца не было. Еркин ружье взял, на коня сел, как раз туман был, а он все не возвращается. Шолпашка, говорят,
очень переживала, их отары летом рядом всегда и юрты тоже, племянник Еркина к ней прибежал, он городской, не привык, панику поднял. Шолпан к Исабеку кинулась, а Еркин уже вернулся. За волка премия полагается — пятьдесят рублей. Еркин на все деньги хронометр купил — бегать. Он сегодня по истории пятерку получил, а по химии тройку, по физике никого не спрашивали, по английскому сочинение задали: «Мой друг», пятнадцатого у нас шахматный турнир с городком. Ты к пятнадцатому поправишься?
Лицо Фариды сияет, кончик носа подрагивает, как у кролика.
— Вчера утром машина приехала с отгона. Там, в песках, сейчас все чабаны на зимних пастбищах, а летние в горах. Дядя Паша Колесников приехал на станцию, доски грузил, цемент. Наши ребята ходили посылки получать из дома. Нурлану ничего не прислали, он очень разозлился, он за модой следит, а старики у него отсталые: то брюки в полоску ему купят, то рубашку вместо крупной клетки — в мелкую. Он им в прошлый раз посылку вернул и передал, чтобы деньги посылали, он сам все купит. Они обиделись, ничего не прислали, а Нурлан последние потратил: в универмаге брюки купил, чешские, двадцать два сантиметра ширины, последняя мода; у него не хватало сорок восемь копеек, ему моя тетя Рая в долг поверила. Он теперь переживает, как отдавать, а старики подвели... Зато Еркину
433
отец много прислал. Дядя Паша у Еркина всегда ночует. Привез «му сапоги хромовые, тулуп болгарский, мяса на всю зиму хватит. Я давно знала: Еркину отец мяса пришлет. Люди рассказывали, Мусеке жеребеночка забил, Жумабикё-апай казы делала, все другое делала, лучше нее никто у нас в Чупчи казы не приготовит, даже моя тетя Гуля: она там в автолавке торгует — не понимаешь?— разъездной магазин! Летом по джайляу разъезжает, а зимой куда поедешь? Торгует на месте, только называется — разъездная лавка. У тети Гули финский домик, такой же, как у радистов, как медпункт, там на зимовье раньше одни лишь саманухи стояли, а теперь знаешь какой поселок построили. Во всех домах паровое отопление, даже баня есть... И еще дома строят, дядя Паша за досками приехал, он сам нездешний, он солдат, а жена у него здешняя, из Тельмана. У Нурлана в Тельмане дядя живет, тоже очень талантливый, у него в роду все талантливые, дед Нурлана с самим Джамбулом вместе выступал, у Нурлана домбра есть, от деда осталась, ценный инструмент...— Фарида переводит дух. Если уж рассказывать — так рассказывать все, и про себя тоже.— Мне Акатов просто жуть как нравится! Он самый остроумный в классе. Я замечаю, он на меня иногда та-а-ак глядит!.. А тебе уже кто-нибудь понравился из наших мальчишек?
— Ни... никто.
— Садвакасов, конечно, умный, брат у него академик, все Сад- вакасовы в ученые вышли. Ты у Еркина ручку американскую видела? Ему старший брат все заграничное присылает, но Еркин никем из девчонок не интересуется. Я в пятом классе в него влю- би-и-лась! — Фарида выразительно округляет глаза.— Но тебе не советую. Намучаешься, намучаешься. Шолпашка в него по уши, а он ей на вечерах ни одной записки; я Нурлану каждый вечер пишу, но, конечно, не подписываю себя, пусть поволнуется... Мы теперь подруги с тобой? Ты в Нурлана не влюбляйся. Ладно? Ты в Кольку! У них дом новый, в прошлом году достроили. Колька, конечно, по Саулешке страдает, но ведь не обязательно ему и в этом году по Саулешке. Колька русский — ты не знала? Его дед еще давно, когда с басмачами воевал, фамилией поменялся с одним узбеком; он этого узбека от смерти спас, вот и поменялись. Такая замечательная героическая история, мы Колькиного деда на пионерский сбор хотели пригласить, Гавриловна отсоветовала: у Кольки дед старый, ветеран, но выпить любит. Нет, ты не думай, Колька сам не такой, у него брат кузнец самый лучший в Чупчи, а про узбека я точно не знаю, ты сама Кольку спроси, я завтра к тебе приду, Кольку с собой позову и Нурлана... Ладно? Мы все трое придем, можем в домино сыграть, Колька любит играть в «морского козла», а ты умеешь?
Маша еле успела вставить: «Умею», и Фарида во весь опор мчится дальше. Колька Кудайбергенов называет ее сорокой, но сам-то он не догадался к Маше прийти. И Доспаева сама не пошла. И никто другой не сказал коротко: «Я пойду».
434
— Обязательно приходи завтра! — просит Маша на прощание.— И Нурлану скажи, и Кольке.
— Мы теперь подруги! Конечно, приду!
Маша за два месяца столько не узнала о Чупчи, сколько от Фариды за два часа. Кто бы мог подумать, у совсем обыкновенного Кольки Кудайбергенова в роду такая удивительная, приключенческая история. И Еркин... Все мальчишки хвастуны. А он хоть бы разок сказанул небрежно про волка!..
Под вечер никого, кроме Маши, в квартире нет. Мама спустилась к Марии Семеновне. Витька — у Овчинниковых: приглядывает за лейтенантами. Папа сегодня поздно вернется — с утра предупредил. Тихо в квартире — слышишь, как в батареях переливается вода. Кто-то ключом поскребся в замочную скважину, отворил дверь, топает в прихожей... Витька? Маша — босиком через комнату — выглядывает в коридор. Сашка сидит на полу, разувается, оглянулся волчонком:
— Меня Витька послал... Рыбок кормить.
Странный он какой-то, Сашка, Витькин приятель. У Витьки всегда приятели странные. Где раньше жили — Толик ходил, никто от него слова не добился, кроме: «Витя дома?» — и то шепотом. Но кто сообразил клетку с Хомкой в купе потихоньку пронести? Толик! У Витьки с ним сейчас научная переписка. Витька умудрился пойманного суслика приятелю переправить, а сам будет в природных условиях наблюдать. Болтаются с Сашкой по степи, градусник в норы опускают.
— Сашка!— зовет она.
Он нехотя является:
— Ну!
— Возьми там на сковородке для вас с Витькой котлеты.
— Не! Мы у лейтенанта печенку сайгачью жарили,— шмыгает носом Витькин приятель.
— У меня сейчас девочка из нашего класса была.
— Знаю Фариду.— Сашка ухмыляется.
— Что ты в ней нашел смешного? — строго осаживает Маша.
— Сама на стенках пишет: «Фы плюс Ны».
— Ты видел?
Сашка мотает головой.
— Не видел — зачем наговаривать?
Сашка в упор глядит на Машу и молчит. Не то сказал — теперь будет молчать. Лоб вспотел, будто жарко, а на самом деле — Маша уверена — только от упрямства. Она Сашке как-то сказала: «Что к нам один ходишь? У тебя брат, сестра есть? Привел бы...» Сашка после этого неделю не показывался. Теперь вот стоит, потеет от
435
упрямства, молчит. И тут он — и нет его. Странный человек, чудак какой-то, совсем несовременный.
Спасибо, кто-то пришел к Степановым, легонечко в звонок тычет: не Витька, не мама, скорее всего солдат из части...
— Не слышишь, что ли? — говорит Маша странному человеку.— Звонят! Иди открой!
Сашка усмехнулся, взглядом кольнул, пошел. С кем-то там у двери — бу-бу-бу, не разобрать. Коридором протащил в кухню тяжелый мешок. Спросить, что ли, кто приходил? Нет уж, не надо. Пускай маме докладывает.
Маша устраивается поудобнее, лампу придвигает поближе, открывает «Мушкетеров». Рябов узнал, что она больна, принес все пять томов.
Сколько времени прошло? Уже отец дома, Витя шлепает по квартире в мамином халате; Сашки нет — домой потопал. Мама вернулась от Марии Семеновны.
— Как дела? — Отец берет у нее из рук, захлопывает «Мушкетеров».— Температуру мерила? Забыла... Ну и ладно, кому она нужна. Давай-ка упросим маму. Теплые носки надень, кофту, с нами посидишь, чаю попьешь.
В кавказских колючих носках Маша с удовольствием выбирается на кухню. Под всеми широтами у Степановых была и будет привычка вечерами сходиться на кухне: тут всегда у них уютней, домовитей, чем в других комнатах.
— Тебе с молоком или без молока? — спрашивает мама.
— Ей с молоком и с медом,— советует отец.
— Ма-а-ам...— тянет Витя,— а конины кусочек дашь?
— Но ты же сам слышал. При тебе Саша передавал. Казы полагается два часа варить, целиком, не резать. Я для гостей приберегу, тогда и попробуешь.
— На Ноябрьские?
— Подождешь и до Ноябрьских! — непреклонно заявляет мама.
Маша не может понять: о чем они говорят?
Витя продолжает бунтовать — не всерьез, для потехи:
— Не хочу котлет из сайгачатины! Хочу древней пищи воинов Чингисхана!
— Ничего, потерпишь...—упорствует мама.
Маша замечает в углу возле холодильника аккуратно сложенный черно-пестрый мешок. Тот самый мешок. Сашка, сгибаясь, волок его сегодня по коридору, а перед тем у двери — бу-бу-бу неизвестно с кем.
Витя сразу подхватывается:
— Ты погляди, чем он перевязан! Думаешь, веревка? Аркан! Понимаешь, он свит не из пеньки, не из джута, а из шерсти животных, то есть не из шерсти, ну например, из конского хвоста...— Кучу сведений выложил Витька, вместо того чтобы толком сказать, откуда взялся черно-пестрый мешок.
436
— Ты что, спала днем?— зачем-то спрашивает мама.
— Она зачиталась,— смеется отец.—«Мушкетерами».
— Мне все-таки скажут, откуда мешок? — ворчит Маша.
— Помнишь, старичок у нас был? Здешний чабан, очень симпатичный. Он прислал папе казы. Полуфабрикат конской колбасы.
— «Полуфабрикат»! — ученый младший братец фыркает.— Ну ты, мам, скажешь!
— Но ведь тот мальчик велел передать: в сыром виде есть нельзя, два часа варить. Конечно, полуфабрикат.
Сашка! И «тот мальчик»? Кто?
— Еркин приходил, младший сын Мусеке,— говорит Маше отец.— Он, кажется, в твоем классе?
— Ну! — Маша слышит в собственном голосе Сашкину манеру, дурацкое «ну!», означающее «да».
Ну Сашка, ну вредный тип! Значит, открыл Еркину, но нет, чтобы Машу позвать, хотя бы крикнуть ей, кто пришел. «Бу-бу-бу...» Взял мешок, будто он в доме хозяин, и выпроводил Еркина, а она, Маша, рядом была, ни о чем не догадывалась, хотя знала от Фариды: Еркин из дому посылку получил, значит, могла бы предположение сделать, не прислал ли Мусеке что-нибудь и полковнику Степанову? Он ведь деликатный очень... Папа ему чаю привозил... Непременно надо было ждать от Мусеке подарка, а Маша не сообразила, хотя Фарида ей вовремя все новости принесла.
— Что же ты к Еркину не вышла? — упрекает отец.— Тем более, вы в одном классе. Выздоровеешь — непременно исправь свою оплошку. Он славный парень, собирается стать чабаном, как и отец.
— Совсем слабо учится? — Мамина реакция на известие, что кто-то в Машином классе решил пойти в чабаны, а не в институт.
— Вовсе не слабо,— обижается за Еркина Маша,— по математике самый способный.
— Алгебру арабы придумали, я читал,— встревает Витя,— а геометрию греки... Пап, это правда, что геометрия — наука земледельцев, строителей? А вот алгебра и астрономия на Востоке больше развивались, где пастухи со скотом кочевали и караваны ходили торговые...
— Что ж ты думаешь, здесь земледелия не знали? Тут, брат, существовало земледелие высокой культуры — поливное. Километрах в двухстах от Чупчи ученые раскопали стариннейший город, сеть арыков. Ты расспроси Рябова, он ездил на раскопки.
Маша вылезает из-за стола, идет к себе.
— Не засыпай! — наказывает мама.— Я вот приду, горчичники поставлю.
Это не называется — плачет. Это называется — ревет в три ручья.
437
— Господи, да что с тобой? — Мама сует Маше градусник.— Я так и знала. Тридцать девять!
Приходит папа, гасит свет:
— Спи, Машка! Утро вечера мудренее.
* * *
Ночью городок снялся с якоря, отправился в дальнее плавание по стране. Знают ли в поселке, что городок уплывает из Чупчи каждую ночь — до зыбкого утра? Есть в городке карта его долгого ночного путешествия. На трансформаторной будке, на глухой беленой стене солдаты пишут свои города: Кострома, Тула, Горький, Юхнов, Ба- лаково... Москву не пишут, из Москвы ребята не такие, чтобы писать, да и город не такой, не Юхнов. Уж не москвич ли, остроумец, однажды рядом с Балаково приписал: «Рио-де-Жанейро». Коротун увидел, приказал забелить: «Острить будете в другом месте!» Коротун знает: писать свои города — традиция, а традиции в армии — святое дело.
Городок плывет сквозь ночь на снах и бессонницах, на памяти и надеждах, на прошлом и грядущем, на радостях и печалях. С великой скоростью городок каждую ночь поспевает облететь немерен- ные расстояния и к зыбкому утру тихо причаливает, встает на якорь рядом с прижавшимся к земле степным поселком.
С первым сухим, как песок, снежком тут все окрест стало черно-белым, словно не на Земле — на другой планете. У человека нездешнего, если долго ехать по черно-белой ровной степи, сдают с непривычки нервы — особенно у молодых солдат.
Как-то полковник подвез из райцентра директора школы, по дороге осторожно говорил о резкой контрастности: о черно-белой земле, о том, что радиосвязь с чабанами современная, а дорог нет, что до сих пор держатся за архаичное кочевое скотоводство, а корма подвозит вертолет.
— Прибавьте еще одно степное противоречие,— запыхтел директор,— такое достижение НТР, как ваша техника, и такой поселок, как наш Чупчи, такая — из самана! — школа.— Морщины на огромном лице раздвинулись в усмешке.— А насчет техники, конечно, военная тайна. Но в поселке ее каждый мальчишка знает, каждая старуха тоже. Старухи у нас самые любопытные — больше, чем дети. Тоже противоречие? — Канапия Ахметович закашлялся как засмеялся.— У нашего великого поэта Абая есть восьмистишие-загадка. Я вам сейчас скажу...
Их восемь доблестных богатырей,
Что меряются силою своей,
Верх то один берет, а то другой,
Но кто из них окажется сильней?..
438
Такая вот загадка, Николай Сергеевич. Скажу сразу ответ, потому что загадка-то не в загадке, а в ответе...
Раздумье нас к разгадке привело:
То лето и зима, добро и зло.
Сверх этих четырех — то день и ночь,
Нечетное и четное число.
Полковник задумался:
— Странный список богатырей. Неравные соединены понятия. Добро и зло, день и ночь, чет и нечет...
— Узор мысли! Восток любит символику. Мы первые в человечестве абстракционисты — поглядите на орнамент казахской кошмы!
— Орнамент? Да-а-а...— медленно говорил Степанов.— Я видел у Мусеке великолепную кошму. Узор черно-белый, причудливый, а приглядишься — симметрия полная, белое поле точнехонькое такое же, как черное...
— Жена Садвакасова даровитая была художница,— с печалью отозвался директор.— Я надеялся, что кто-нибудь из ее детей станет поэтом. Но вслед за Кенжегали все занялись точными науками. Какой-то из великих математиков сказал о своем ученике, увлекшемся стихотворством: «Ему для математики не хватило воображения». Может, бывает и наоборот? Кому-то не хватает точности представления о мире, а то стал бы поэтом. Ведь в поэзии наивысшая точность слова — не так ли? Ученый или художник? Тоже два богатыря, два противоположных пути познания.
Некоторое время они ехали молча, потом Канапия Ахметович заговорил:
— Из русских поэтов я люблю особой любовью Кольцова — он степняк, простор понимал. Я в кольцовских местах воевал, под Воронежем...— Ахметов шумно отдышался.— Вы, Николай Сергеевич, откуда родом?
— Брянский.
— Лесной человек. В эту войну самый большой подвиг мой степной народ совершил, однако-, под Москвой, а там леса. Вам Мусеке рассказывал, где воевал?
— Да, с Карпенко, под Москвой.
— Он жаловался как-то: до сих пор часто снится, как в лесу заплутал. Торная дорога, видите ли, Мусеке не понравилась: чего петляет? Решил: напрямик двину. Пословицу русскую ему откуда знать: «Только вороны прямо летают». Пошел напрямик. Полсуток ходил. Выбрался наконец на колею. Совсем извилистая: петля на петле. По ней быстро дошел. Так тоже бывает?
— Ваша речь — очень извилистая дорога! — смеясь, заметил Степанов»— Оттого, что едем по прямой?
— Такой уж я хитрый! — простовато признался директор.— Вы
439
ведь меня собирались по пути о дочери спросить — как она учится. Да? О сыне. Однако мы уже в поселок въезжаем, а педагогический разговор не начали. Я только успею сказать: у вашего сына опасный товарищ.
— Витя своих друзей выбирает сам.
— Меня радует ваш резкий ответ,— запыхтел Ахметов.— Наш завуч Серафима Гавриловна очень надеется на Витю — он хорошо влияет на Салмана Мазитова. Весьма вам благодарен за то, что подвезли.
Выбираясь из «газика», директор школы изрядно накренил своей тяжестью машину.
В последний момент он решил: «Не скажу полковнику о подозрениях Серафимы Гавриловны насчет Мазитова — что он непременно причастен к истории с каракулем».
Отчего-то именно сейчас, подъезжая к Чупчи в армейском «газике», директор школы вдруг уверился совершенно: нет, не Мазитов. Мысль эта каким-то образом следовала из отвлеченной беседы со Степановым, отцом Маши, девочки с беспокойной душой, и такого мягкого по характеру Вити, который дружит с самым крепким кремешком в Чупчи — с Сашкой Мазитовым.
Ахметов давно пришел к убеждению: истина — самая неожиданная находка; чаще всего ее найдешь не там, где ожидал.
Глава четвертая
Салманова голова только на уроках работает туго и лениво. Во всей остальной своей жизни он человек быстрый, сообразительный и очень усердный. Учителя и не догадываются, какие у него замечательные способности, хотя можно бы догадаться: дурак и лодырь давно бы пропал при такой жизни, а Салману ничего не делается.
Знание, приведенное в систему, делает человека сильным. Салман знает: сколько баранов привезли на воскресный базар; кто своим товаром торгует, кто перекупщик; в бане в пивном ларьке из-под прилавка торгуют водкой; в универмаге у продавщицы Райки есть черный ход, отец Салмана этим черным ходом тоже ходит; Амина встречается с черным Левкой из городка, они встречаются в мазаре Садыка и запирают железную дверь; «Ф+Н=Л» пишет на стенках сама Фарида, про Кольку тоже написала она...
Много знает Салман, о чем другие проведают не скоро. В окно поглядел и своими ушами подслушал, какие умные речи говорили на педсовете учителя: дружба с Витей Степановым очень полезна для Салмана Мазитова.
Витя учится без двоек, даже без троек, по ботанике знает в сто раз больше, чем учительница, но Мазитов для него первый человек. За это можно Витьке простить слабость характера. Ящериц, птиц
440
и мышей убивает для чучел Салман, Витька закрывает глаза, затыкает уши. Но что правда, то правда: снять скальпелем мышиную шкуру или птичьи перья с кожей — тут Витька мастак. Скальпель Доспаева подарила. Чтобы Витька его не потерял, Салман эту замечательную вещь прячет к себе в карман.
Чучел они за осень наделали много. Салману мало радости тащить в школу чучело на лакированной доске. Если умеючи взяться, продать можно. В школе покупные чучела стоят, Салман цены прикинул: и по пять рублей есть, и по десять, и по двадцать. А Витька свои отдает задаром. За почет, за надпись на доске: «Работа учеников 5-го «В» Мазитова С. и Степанова В.». Обошлись бы и без почета. Даже если три рубля взять за синюю галку — сколько всего можно купить. Витьке такое полезное знание в башку не приходит. Неоткуда прийти: у Витьки в доме полно еды, одежда есть, все есть.
Не случалось прежде, чтобы Салмана звали в городок, а теперь зовут. Отец у Витьки добрый, и мать не жадная, и сестра понимает: Салман ее младшему брату верный и надежный друг. Она Салмана по голове гладила: «Очень жесткие у тебя волосы. Разве ты злой?» После обиделась: зачем Садвакасова к ней не пустил? Салман ее ооится немножко. Никого не боится, ни Головы, ни Гавриловны, ни Букашева, а перед Витькиной старшей сестрой потеет, как трус. Друг брата обязан быть заступником сестры, потому что брат — слабый человек: он делается умным только на уроках, а в жизни ничего не понимает — в этом Салман убеждался не раз.
Недавно вечером сидели у аквариума. Люстру погасили, зажгли в зеленой воде свет, рыбки медленно плавали — красиво! Пришла Вить- кина сестра, села рядом на диване, стала рассказывать. Она, когда маленькая была, птицу руками поймала. Кипел казан с бельем, птица села на деревянную крышку — чуть не свалилась в огонь. Они тогда в Мусабе жили... Потом Витька вспомнил. Он, когда маленький был, заблудился в высокой траве, выше его роста,— шел, ничего не видел. Маша сказала: «Я помню, ты не в траве, ты в кукурузе заблудился, тебя полдня искали...» Потом стали вспоминать, как отца и с ним какого-то капитана на льдине унесло в море. О дяде Леше вспомнили. Битькин отец в войну мальчишкой был, двенадцати лет. Фашисты его расстреляли вместе с родителями; дядя Леша вытащил живого из ямы мертвыми. Сыном полка оставил, а после отвез в суворовское чилище, сам демобилизовался, агрономом работал. Осколок в нем остался еще с войны. В бою не убил — в поле убил. Давно — Витя маленький еще был, он дядю Лешу плохо помнит, сестра помнит ,;учше. Она рассказывала: дядя Леша услышал поговорку «Когда на сербе груши вырастут», что выходит никогда, и назло поговорке привил у себя под окошком на вербу ветку с груши. Витькина сестра груши с вербы пробовала — кислые...
Хорошо сидели, вспоминали Витька и сестра, а после поссорились: какое море синей — Берингово или Черное. Витька ей сказал: «Ну и дура». Он не злой, он добрый, только слабый. Такого отца сын
441
может во всем офицерском ходить, а ходит дома в халате: «Живу в пустыне». Такой брат сестре не защитник. Салман еще не знал, от кого и от чего будет защищать Витькину сестру,— незнание простилось бы кому другому, но только не Салману. Его дело глядеть и соображать. Иначе какой он Витьке друг? Не пустил Садвакасова — правильно сделал. Салман знает: не надо пускать Еркина — он опасный, сердце твердое.
По соображениям Салмана выходило: еще враг у Витькиной сестры Сауле Доспаева. Здесь Салман немного хотел перехитрить самого себя. Он знал: бывает и так, что сначала люди чувствуют друг к другу неприязнь, как он сам к Витьке, а потом могут стать истинными друзьями. Салман не хотел, чтобы Витькина сестра подружилась с Сауле. В доме у Мазитовых не любили всю доспаевскую семью. «Я бы на месте Доспаева...» — презрительно сплевывает отец. Был бы он не сторожем, а главным врачом, другие, умные порядки завел бы в больнице. И у матери Салмана свои счеты с больницей.
Год назад в детской палате умерла одна из Салмановых сестренок, У Доспаевой в палате лежала. «По ее вине умерла»,— клялась мать.
Салман, конечно, помнил: тоненько попискивала сестренка, а матери все не было — базарничала. Он хлеба принес, но девчонка не ела, выплевывала. Все он помнил, как было. Но он-то ничем не мог помочь. А в больнице и молоко есть и лекарства. Почему не вылечили? Ну ладно, сторож Мазитов для вас плохой работник. Но разве маленькая виновата? Других спасали, а ее не спасли. Такие уж вы люди, Доспаевы.
Салман не ленился, когда видел: есть возможность напакостничать Сауле. Ее характер он знал: для Саулешки мелочи не существуют, она выше всяких пустяков. Что ж, поглядим! Он был изобретателен на самые дурацкие мелочи и с мальчишеской мстительностью гаотаивмал, как может унизить Сауле, заставив ее думать о копеечных неприятностях. Как-то раз он заметил: она внимательно на него поглядела, и был рад, словно нашел на земле десятку: прежде Сауле Доспаева будто и не знала, что живет в поселке Салман Мазитов.
Голова увидел его во дворе, остановил:
— Как живешь, Мазитов? Какие новости? — Морщины на большом лице выразили живейшее ожидание: будто Мазитов только и делал, что снабжал директора школы интересными новостями.
Салман — зубы на замок.
Морщины собрались в печальное выражение.
— Ты умный человек, Мазитов, даже слишком умный. А что у тебя получается? Горе от ума. Разве не так?
Салман не поддался на хитрость Головы. Прикинулся дураком и молчал.
442
— Я уезжаю, Мазитов, на неделю. Надеюсь, за это время ничего не случится? Можешь обещать?
— Могу,— Салман разжал зубы. Обещать все можно. Такое место школа: больше обещай, меньше делай.
Салман знал: Гавриловна завела синюю папку, собирает документы, чтобы упечь Салмана в колонию. Папка сделалась очень толстая, но Г олова к себе на стол не принял — у Г авриловны пока хранится. Салман много думал: чего ждет Голова? Так и не понял. Иногда пугался: что-то видит Голова, а Салман не видит, может крепко промахнуться.
* * *
Фарида привела в городок Кольку и Нурлана. Колька держался неловко, а Нурлан — в белом плаще, хотя и грязноватом, зато модном — с чувством пожал руку Наталье Петровне:
— Наконец-то я имею удовольствие с вами познакомиться. Оч-чень приятно!
Наталья Петровна пришла в себя только на кухне; рассудила спокойно: каких манер требовать с восьмиклассника, выросшего в поселке?
Нурлан принес с собой гитару. Как он ею обзавелся — целая история.
Владелец его души, старый черт Мазитов, настойчиво подталкивал: знакомься с солдатами. В универмаге Нурлан приметил уверенного парня из городка, купившего китайскую вазочку на подставке черного дерева. Продавщица Рая, Фаридкина молодая тетка, хихикала и глазами стреляла; другой бы сомлел, а солдат взялся научно втолковывать — Райке! — какое древнее искусство перегородчатая эмаль, какую эмаль делали в Византии, какую в Китае. Рассказывал, а сам па Нурлана косился: «Погоди, парень, ты мне кажется, пригодишься». Вышли вместе, и Нурлан показал солдату из-за пазухи золотистую шкурку. «Оч-чень интересно! — усмехнулся солдат, и к Нурлану тут же перешло-прилипло это шикарное «оч-чень».— Но этот товар,— солдат затолкал шкурку назад, под плащ Нурлана,— не по нынешней моде. Про дубленки слыхал? Вот и переходи на дубленки. Для ваших мест — перспективный бизнес... Ты, я вижу, человек деловой,— продолжал солдат в тоне доброго покровительства, ставящем Нурлана в положение услужливое: он это чувствовал, внутренне протестовал, но отделаться уже не мог.— Не поможешь ли мне раздобыть что-нибудь из старинных вещиц, из творений здешних умельцев?.. Ширпотреб, даже иноземный, меня мало интересует...»
Нурлан вспомнил, домбра деда Сады ка висит без дела на стенке у дяди Отарбека в Тельмане.
«Продай! — предложил Володя.— А то, может, махнем? У меня гитара есть, самый модный сейчас инструмент».
Гитару Володя купил в Москве у одного «жучка» за два червонца
443
и уже после, дома, обнаружил внутри бумажный ярлык фабрики имени Луначарского: цена семь двадцать. Ярлык Володя, конечно, отскоблил. Песенкам под гитару, закружившим вдруг всю Москву от школьников до людей весьма почтенных, та же полагалась цена — Володя прекрасно знал! — но они вошли в некий неписанный перечень вещей, какими полагалось владеть умному человеку. Володя тайком потрудился, попотел у магнитофона, освоил и хрипотцу доверительную, и манеру пригнусавливать для задушевности.
Уходя в армию, он не забыл прихватить с собой гитару; она ему сослужила верную службу, помогла утвердиться в положении своего парня, а потом и вывела в лидеры. Но теперь, когда вся рота забренчала и захрипела, Володя без сожалений расстался с гитарой.
Нурлану за дедову домбру Володя — в придачу к гитаре — напел весь модный репертуар. Рыжий мальчишка на удивление оказался переимчив: суть схватил, саму манеру московско-переулочного исполнения. Хотя под казахскую домбру — рыжий Володе показывал — поют совсем по-другому: высоко-пронзительно, в долгий крик. Но всего удивительнее вот что оказалось для Володи: мальчишка пел дешевку, ширпотреб, а слушаешь — за сердце берет.
В городке, у Степановых, Нурлан распелся, показал себя во всей красе. Отец Маши и с ним лысый майор пришли послушать. Нурлан примечал: полковнику нравится, а уж майор так и млеет от восторга. Потом отец Маши тихонечко вышел, а майор остался с ребятами. Нурлан еще поддал жару, майор не вытерпел — протянул руку к гитаре:
— Дай-ка теперь я.
Коротун долго настраивал гитару, пощипывал струны, прислушивался, склонив голову. Потом брови страдальчески вскинул и начал:
Синенький скромный платочек...
Голоса у Коротуна не было, но ему казалось, он недурственно поет и главное — с душой. От прилива чувств он побагровел, лысина заблестела капельками, но Коротун ничего не замечал. Песенка фронтовых лет увела его далеко — туда, где он был лейтенантом с задорными усиками, в щегольской бекеше, в сапогах со шпорами.
Маше стало жаль Коротуна: почему он не замечает, как смешон?
Зато Нурлан — вот артист, умеет притворяться! — сидел будто завороженный райским пением.
Коротун домучил «Синий платочек» и, кажется, собирался еще что-то спеть, но бойкая Фарида выставила красный сапожок, повертела, полюбовалась и невинным голоском спросила:
— Маш, а Маш... Ты же хотела Кольку спросить про его деда. Коль, а Коль... Расскажи!
444
— Да чего там...— забубнил смущенно Колька.
— Не буду вас стеснять! — Коротун догадался, что ему намекнули: не пора ли уйти?
Нурлан — к досаде Фариды — вроде бы даже обиделся на нее за безголосого майора. Она мигом застрадала: какой Нурлан впечатлительный! Вслух предложила:
— А может, и нам пора? Надоели больному человеку.
— Ничего не надоели,— сказала Маша.— Скучно целый день одной.
— Я бы пожил один,— позавидовал Колька.— Мне дома и минуты покоя нет. Малышня лезет... Вчера только отвернулся — уволокли паяльник и комод разрисовали. А от бабки кому попало? Мне! — Он сидит за Машиным письменным столом, разбирается в будильнике: куда приладить оставленную Витей «лишнюю» детальку? — А зимой прошлой они Курбана обрили. Я машинку для стрижки чинил, а они уволокли. Морозы начинаются, а у нас пес с одного бока голый. Что делать?! — пришлось жилетку шить из овчины.
Нурлан побренчал струнами:
— Не крути, рассказывай про фамилию.
— Всегда эта Фаридка заскочит! Ну сорока! — проворчал Колька, навинчивая рычажок завода.— Сейчас посмотрим, ходит или не хо- лит.— Он накрутил рычажок до отказа, поднес будильник к уху, счастливо заулыбался.— Тикает! Ей-богу! Тикает! Сейчас звон проверим.— Он еще покрутил рычажки: — Без звона будильнику грош i!,eна! — Прислушался озабоченно, перевел стрелки, и будильник в Колькиных руках залился оглушительным звоном.— Голосистый! — похвалил Колька.— Орет, как бабкин кочет! — Он поставил будильник Маше на тумбочку: принимай работу.
— Ты мастер!
Будильник стучал деловито, по-Колькиному.
— Да там был-то пустяк! — отмахнулся мастер.
— А я что говорила? — вставила Фарида.— Я всегда говорила: у Кольки технический талант. У Нурлана музыкальный, а у Кольки .схнический.
Колька сразу заскучал. Собирал будильник — интересно, а разные там спасибо и комплименты, какой он мастер, Колька не любит. Ему бы еще чего сейчас в руки — он бы занялся с удовольствием, но Нурлан — ни словечка из губ не выпуская — струнами явственно ытренькивал: «Ра-а-аскажи про де-е-еда-а-а, ра-а-аскажи про
ю-е-еда...» Научил чертов Ржавый Гвоздь свою гитару разговаривать '■еловечьим голосом.
— Ты сам расскажи! Ты от деда слышал столько раз.
— И расскажу! — загорелся Нурлан.— Если хочешь знать... Если очешь... я песню сочиню!
Нурлан с маху бросил пальцы на струны — и нет Ржавого Гвоздя, есть другой человек, красный кавалерист в шлеме островерхом.
445
В любой роли Нурлану легко и просто. Всё он знает: как глядеть, как ходить, какие найти слова. Но кто подскажет, как сыграть ему себя самого, Нурлана Акатова? Фаридка? Она вся тает от восторга, таращит влюбленные глаза. «Фы плюс Ны». Он еще доберется, кто по всему поселку такую дурость пишет.
Через неделю чья-то рука написала на небеленой стене одноэтажного поселкового клуба: «Коля К., люби не по красоте, а по сердцу». Колька самолично замазал жидким саманом первый признак девчачьего интереса к его особе, а также выпад против Сауле. Заодно Колька проштукатурил и все трещины: не пропадать же задаром ведру самана.
Приходя к Степановым вместе с Нурланом, Колька вовсе не интересовался аквариумом, хотя однажды помог Вите исправить подводное освещение. Колька с малолетства не признавал игрушек — любил настоящее дело.
Нурлан — на почве любви к гитаре и песне — подружился с Ко- ротуном.
Маша, когда пришла в школу после болезни, уже была подругой Фариды, а это — за две недели отсутствия — поставило ее в классе на определенное место, соответственно сложившимся там за школьные годы отношениям. Она поняла: испытательный срок кончился, шарик вкатился в лунку. Что тут стало теперь? Чет или нечет?
...У казахов пятнадцать лет — возраст совершеннолетия. А у нас?
Тебе уже четырнадцать — не маленькая! Тебе еще только четырнадцать — что ты стала о себе воображать? Тебе четырнадцать — пора быть самостоятельной... Тебе четырнадцать? Кому нужны твои рассуждения!..
В четырнадцать лет человек оказывается на ничейной земле. На вспаханной полосе, где отпечатывается каждый твой шаг. Отец рассказывал Маше — давно, еще маленькой. На границе есть контрольно-следовая полоса — рыхлая, взбитая в пух земля. Один нарушитель пытался обмануть пограничников — привязал к ботинкам коровьи копыта, но пограничники сразу заметили, корова перешла границу какой-то очень странной походкой.
Когда папа рассказывал про> нарушителя на коровьих копытах? Очень давно. Еще в Мусабе. Маша помнит: тесный дворик с глиняными стенами, посередке, на очаге, котел* с кипящим бельем. Маша тянется к огню, выкатывает из-под котла дымящиеся комочки, у дыма щекочущий в носу, звериный запах. Откуда ни возьмись — птица. Перышки пестрые, коричневые с белым, пестрый хохолок, нос длинный. Птица сидит на деревянной крышке котла. Ее одурманило едким мыльным паром, а то она не далась бы в руки маленькой девочке. И Маша — будь она постарше — разве потянулась бы ловить птицу голыми руками? Птицу не возьмешь голыми руками. Только сетью, ловушкой. Но Маша тогда ничего не знала. Она просто дотянулась
446
через едкий дым и взяла удода за бока. Может быть, не окажись рядом несмышленой малолетней девчонки, удод, ошалев от мыльного пара, свалился бы в кипящую воду или дымные угли... Да, очень дымный горел огонь под котлом и пахнул дым незабыто — такой особый, щекочущий в носу запах. Когда Еркин сел рядом за парту, от его суконной куртки чуть слышно донесся тот — из Мусаба — дымок очага. Маша помнит: с удодом в руках побежала к терассе, огибавшей весь дом. Споткнулась на повороте — носом в потрескавшуюся глину, а удод вырвался, посидел на перилах, отдышался и взлетел — поминай как звали. На Машин рев прибежал отец. Он-то и назвал — по ее слезному, взахлеб описанию — пеструю длинноносую птицу удодом. И чтобы утешить, стал рассказывать случай про нарушителя на коровьих ногах.
Очень давно это было. Еще в Мусабе. Почему какие-то случаи, обрывки разговоров человеку запоминаются, а многое другое уходит бесследно? Что случается с человеком в тот миг, который врезался в память со всеми незначительными подробностями? Произошла какая-то вспышка? Но чем она могла быть вызвана? Главная причина, по которой вдруг так четко сработала память, потом забывается, а остаются самые простые подробности. Почему же люди что-то главное забывают, а мелочи помнят?
Тогда, в Мусабе, Маша была еще маленькая. А теперь ей четырнадцать лет, и она не потянется взять птицу голыми руками, глупым незнанием своим не спасет попавшего в беду.
Маше уже четырнадцать, и ей еще только четырнадцать. Она идет по вспаханной полосе: с одной стороны детство, с другой — взрослая жизнь. Из одной ушла, а в другую ей еще идти: не поперек, а вдоль полосы, глубоко отпечатывая каждый свой шаг. Что же такое привязать к ногам? Какой хитростью всех перехитрить?
В четырнадцать лет человеку неохота, но приходится обманывать. Он врет, как ему кажется, легко и свободно, потому что уже привык скрывать свои мысли, прятать подальше чувства. Ему ничего не стоит лишний раз соврать, однако перед ложью и после нее во рту появляется привкус горечи — у самого корня языка, там, где обычно начинается ангина, где врач давит чайной ложкой: «А ну скажи: а-а-а!» Горечь неправды возникает там, где рождается первый звук речи.
Зачем же тогда говорить, что юность открыта и непосредственна? Эту ложь не могли придумать четырнадцатилетние. Ее придумали другие про них.
Четырнадцатилетние знают: скованы все их движения и самолюбие настороже. В четырнадцать лет человек не понимает сам себя: таким, каков он есть и — всего вероятней — будет. Он начинает придумывать себя заново. Совершенно заново. И за то, каким он себя придумывает, никто не в ответе — только он сам.
Чем больше человек придумывает, тем меньше он сам про себя после помнит. Оттого все люди очень ясно и чисто помнят раннее свое
448
детство, но редко кто помнит, каким был в четырнадцать лет. Многое, что бывает перед шестнадцатью, исчезает, пропадает, рассеивается, как горьковатый дым.
Шолпан проснулась среди ночи: кто-то плакал в спальне старших девочек.
Она сама вот так же, бывало, плакала в мокрую подушку. Ночь в интернате — для невидимых слез: от обид, от тоски по дому — мало ли от чего! Темно — не видно, не стыдно. Такой одинокой нигде не бываешь, как ночью на плоской интернатской подушке. В доме столько ребят, а ты одна-одинешенька. В степь от всех уйдешь — это не одиночество, просто ты сама с собой. Иногда хочется побыть только с собой, подумать без помех. А одиночество — это другое. Когда люди рядом, близко, но не с тобой.
Плачет Амина. Но не встанешь, не подойдешь к ней. Ведь Амина надеется — никто не слышит, все спят.
Весь интернат уже знает: Амина перестала встречаться со своим солдатом, с Левкой Кочаряном. Левке мать написала, что не хочет знать никакой другой невесты, кроме той девушки, которая ждет Левку на родине.
Исабек обрадовался: прибежал, вызвал Амину в коридор. Но она сразу же вернулась — сердитая. Не нужен Амине силач Исабек. А кто нужен? Левка!
Шолпан прислушивается к всхлипываниям, вспоминает недавние бесстыдные рассказы по ночам Амины о встречах с солдатом. Левка всплывает перед глазами Шолпан, и ее трясет дрожью отвращения.
Она приказывает себе: спать! Ложится ничком, натягивает на затылок одеяло.
Нет, не заснуть Шолпашке под сдавленные всхлипы. Встает, бежит босиком через комнату в другой угол, к Амине. Все молчком.
Амина словно ждала: распахнула одеяло, обняла Шолпашку, так и трясется от рыданий.
Летом, на джайляу, веселые старухи кричали Амине вслед: «Славная кобылка! Кто ее взнуздает?» Старухам аульным только дай поозорничать. Им все можно — они свое прожили.
Не скажешь, что у Амины красивые глаза, нос, губы. Разглядываешь ее лицо — ничего особенного. И не надо разглядывать. Любоваться надо. Все в Амине жило, рвалось на волю, под синее небо, на зелень травы. Не обидно шутили старухи: «Молодая гладкая кобылка играет в своем табуне». А теперь куда пропала вся радость? Амина ходит как потерянная.
Шолпан залезла под одеяло, прижалась своими птичьими ребрышками и чувствует: тяжелой тоской налито крупное, сильное, жаркое тело Амины. Ухо щекочут мягкие губы, шепчут бессвязно:
15 Школьные годы. Выпуск 2
449
— Глупая ты моя, никому верить нельзя, ты бойся, ты саму себя бойся... Вот узнаешь, тощенькая ты, тихая, все узнаешь... Ты не уйдешь, серьезная, я давно замечаю, ты без оглядки кинешься, себя не пожалеешь... Меня вот жалеешь, себя забудешь...
Запах жаркого тела, мокрой наволочки, цветочного мыла, духов... Шолпан* водит ладошкой по вздрагивающему от плача, горячему сквозь ситец плечу. Откуда-то она догадалась: у Амины будет ребенок. Как догадалась? Сама не знает. Есть в жизни Шолпан что-то ей самой неясное, чем она никогда не сможет поделиться с Сауле: не плакала никогда Сауле ночью в интернатской кровати.
Амина всхлипывает все реже, сквозь сон. Шолпан перебежала к себе, забралась под остывшее одеяло: колени к подбородку, руками притянула голяшки, дышит часто, согревается... Может ли человек желать мучений самому себе? Холодные ладони скользят по птичьим ребрышкам, кожа покрывается гусиными пупырышками... Пусть впереди, в жизни, которая придет, будут у нее и мучения — все будет, все...
Днем о таком не вспомнишь — днем все по-другому. А ночные мысли, хотя и бессонные, сродни сну. Какой ты увидишь сон, человеку не дано выбирать, как бы ни была сильна воля и холоден рассудок. Сон свершается сам по себе. Так отчасти приходят и ночные мысли. Днем на мысли есть управа, она в тех делах, которыми ты занят. Эти дела — даже независимо от твоего желания, но согласно твоим действиям, работе рук — правят всеми мыслями, как бы далеко они ни залетали. Ночные мысли бродят бездеятельно, однако без них человек многое не мог бы постичь. Так же и без снов не все нам в жизни понятно. Они бывают вещими, потому что во сне, пока мозг отдыхает, какие-то клетки действуют самостоятельно, бесконтрольно и потому превышают возможности мышления.
Глава пятая
Родившись на свет, человек живет-поживает и понемногу начинает соображать головенкой, что к чему и для чего, зачем день сменяется ночью, а лето — зимой. Он научается разным словам, понемногу усваивает их назначение и познает на своем опыте: слова требуют действий, действия — слов. Но человеку еще долго остается неизве^ стным, на каком из сотен человеческих языков он говорит, на каком понимает близких людей и они понимают его радости или обиды. Иногда он общается с миром сразу на двух языках: одни слова для бабушки в белом кимешеке, другие дтя бабушки в платочке с черными горошинами, но не находит в своем двуязычии ничего странного — привык с рождения.
Шолпан до восьми лет знала только свой дом и свой аул. Все заложенное в те годы жило в Шолпан на родном казахском языке: по-казахски назывались движения рук, расчесывавших гребнем во¬
450
лосы, лепивших тесто; на казахском языке говорило упрямство, с каким она каждый год уезжает из дома в интернат, с каким усаживает себя за книги, когда вся комната спит. На родном языке думает Шолпан о Еркине. Она встречает его в дальней, будущей своей жизни, приехавшего издалека, усталого, с красным от ветра лицом. Она принимает у него из рук косматый обмерзший тулуп, опускается на кошму помочь ему, окоченевшему с дороги и потому неловкому, стащить с ног задубелые сапоги. В этом поступке, совершенном на родном языке, не может быть ничего унизительного для ее человеческого женского достоинства. Напротив, она знает: правильно и прекрасно так делать... даже если тебе трудно пояснить то, что ты делаешь, русскими словами, тоже теперь для Шолпан необходимыми, живущими в лад со многими привычными движениями и поступками.
Когда она шила себе платье или меняла белый крахмальный воротничок на форменной куртке Аскара, своего подшефного, Шолпан не «приметывала», а «пристебывала». В школе несколько лет девочек учила домоводству женщина из городка, жена старшины- сверхсрочника, родом сибирячка. Поэтому движения рук бравших иголку, снимавших ножом с картофелины тонкую кожуру, пробовавших, послюнив палец, накалился ли утюг, Шолпан осознавала на том русско-деревенском, сибирско-украинском языке, на котором их показала учительница домоводства.
Учась в доме у Сауле русскому языку, Шолпан узнала и польские обозначения простых вещей и действий, но откуда-то ей сразу стало понятно: эти слова — для дома Сауле, их незачем выносить в школу или в интернат.
В старинном доме, построенном польским революционером, жили в шкафах книги, привезенные прапрадедом с родины или выписанные прадедом из Варшавы и Кракова, но польская речь отмирала, для нее не было в Чупчи живительной почвы. Она стала домашней, комнатной — как цветы на подоконнике, птица в клетке. На польском языке говорили о самых простых вещах, но для подрастающей Сауле в доставшихся ей от матери польских словах жила не только особая, родная домашность. В них хранилась семейная память о прекрасных людях, которые прожили свою жизнь честно и по справедливости. Простые комнатные слова, как домашние боги, остерегали от всего мелочного, недостойного, чего не простили бы люди, когда-то жившие в старинном доме, первом доме Чупчи. Наверняка здесь никогда прежде не переходили на польский, чтобы скрыть от других что-либо хитрое и недостойное. Хотя иногда люди, живя среди чужих, так поступают со своим родным языком, радуясь этой возможности и не понимая, насколько это оскорбительно для родного языка: служить обману.
На каникулах Сауле и Шолпан ездили с классом на экскурсию в Алма-Ату. По картинной галерее ребят водила строгая женщина- экскурсовод. Полированной указкой она словно нанизывала картину
451
за картиной. Шолпан растерялась: не запомнить всего, не записать.
— Шолпашка! Гляди! — Фарида подскочила, чем-то обрадованная.— Девятый вал! Художник Айвазовский! У нас в чайной такая же висит, даже побольше.
— Девочка, у вас в чайной висит копия, и, полагаю, неважная,— высокомерно глянула на Фариду женщина-экскурсовод.— А здесь подлинник.
Но ребята уже радостно гомонили перед картиной Айвазовского, словно после долгих странствий по чужим краям встретили земляка, одноаульца.
— Всегда так! — Женщина с указкой отошла к Серафиме Гавриловне.— Со всеми экскурсиями из сельских школ. Дойдут до Айвазовского и рады: знакомого встретили! У нас есть бронза Лансере: казах на лошади. Великолепный местный колорит. Казалось бы, вот где надо ожидать бурных эмоций. Но нет! Поглядят — и дальше. То же самое и с Хлудовым. Не бог весть какой талант, но кисть добросовестная, отличное знание казахского быта. Должно сегодняшних школьников интересовать прошлое народа? Нет! Проходят и мимо Хлудова. В залах современной живописи у нас есть великолепные работы современных казахских художников: Тансыкбаев, Урманче... Но они не будут иметь такого успеха у ваших ребят, как Айвазовский. Я уже привыкла. Увидят мои экскурсанты «Девятый вал» — и к нему. Общий эмоциональный взрыв. Я бы еще назвала знаете кого? Шишкина, его лес с медведями. В Третьяковке вам скажет любой экскурсовод... Популярность. Тысячи или даже миллионы копий повсюду, во всех широтах, в пустынях и где-нибудь в Атлантике на траулерах...
— Да, конечно...— льстиво поддакивала Серафима Гавриловна, тушуясь перед женщиной с полированной указкой.
— Скажите, пожалуйста,— подошла к ним Сауле,— в здешней галерее есть работы Рокуэлла Кента? — Голос Саулешки звучал резко, вызывающе.
— К сожалению, нет,— живо и как-то уважительно отозвалась женщина-экскурсовод.— Вас интересует Кент?
— Да. Мне очень понравились его иллюстрации к «Моби Дику».
— Мне посчастливилось быть на выставке Рокуэлла Кента в Москве!
Женщина покраснела от гордости, заговорила с Сауле какими-то птичьими словами, Шолпан непонятными, хотя разговор шел на русском, втором ее родном языке. После, на улице, она спросила Саулешку:
— Ты спрашивала про художника... Он великий?
— Кент? — Сауле сердито усмехнулась: — Знаменитый! Не в нем дело. Просто имя вспомнилось, первое попавшееся из новых.— Я на ребят разозлилась. Охота показывать себя дикарями. Получили, называется, художественное воспитание в чайной.
452
Шолпан на это ничего не сказала. В большом городе множество нового и интересного пролетало мимо нее, стороной, не подпуская близко к себе, даже отталкивая сердито: куда ты лезешь, дуреха! Но Шолпан не обиделась на город. Она во всем обвинила себя, свою аульную неразвитость.
Она не знала, что сама к себе несправедлива. Очень часто смятение человека перед новым и неизвестным выказывает не ограниченность, а напротив, большую, чем у других, способность что-то постичь во всей возможной полноте познания.
После поездки Шолпан стало по-новому удивлять многое привычное. В годы юности такие перемены нередко совершаются после долгой болезни: встаешь и заново учишься видеть знакомый до песчинки мир. Впрочем, долгая болезнь — тоже путешествие в другую жизнь.
Шолпан стала думать: надо уже теперь определить наперед самое главное, без чего в большом мире можно потеряться, как в степи, когда не видно ни солнца, ни звезд.
В мыслях о главном она не могла пока определить, где оно и как его искать. Предстояло найти не потерянное и потому уже известное, а что-то неведомое: можешь его с первого взгляда по неопытности не узнать, не узнав — легко пройти мимо своего, самого главного в жизни. Какое оно?
Шолпан часто думала о чем-то неизвестном ей. Оно тоже имеет свое слово, и его предстоит услышать, понять, ввести в свои мысли и поступки.
Когда она со всеми ребятами ехала поездом из Алма-Аты домой, Шолпан увидела на одной маленькой станции саму себя. В плюшевом пальтишке, в шали с кистями, она стояла у переезда с ведерком, прикрытым пестрой тряпицей. Что несла она в ведерке? Айран? Странным показалось Шолпан: она строит догадки, стоя за пыльным окошком вагона, о том, что сама же несет в жестяном ведерке со скрипучей дужкой, не очень-то тяжелом — она явственно почувствовала вес своей рукой.
Девочка в плюшевом пальтишке осталась на переезде, а Шолпан покатила дальше. Рядом с ней стояла у окошка Сауле — обняла Шолпан, потерлась щекой о щеку:
— Хорошо!
По-казахски сказала Сауле или по-русски? Шолпан не заметила. Какая разница? Просто — хорошо.
Колька вертелся у соседнего окошка, тайком косил в их сторону.
В тот год, когда Колька поступал в первый класс, начала работать в Чупчи молодая учительница, никого в поселке не знавшая. Колька рос самостоятельным человеком. Сам купил в универмаге папку с хитрой железкой внутри, сам разобрался, как устроен скоросшива¬
453
тель, наколол свою метрику, медицинскую справку и поволок «личное дело» в школу.
— Кудайбергенов, ты в какой класс должен записаться — в казахский или в русский? Что тебе дома велели? — спросила новая учительница.
Самостоятельный человек не нашелся как ответить. И тут в канцелярию вошла знакомая Кольке по страшным рассказам старших ребят Гавриловна:
— Этого запишите в первый «Б»! — И Гавриловна при Кольке объяснила приезжей учительнице: под фамилией Кудайбергеновых в Чупчи живет русская семья; еще в гражданскую войну семиреченский казак Фетисов поменялся фамилией с узбеком Кудайбергено- вым.
Колька и прежде слыхал старую семейную историю: как его дед спас товарища своего, узбека, и как они решили поменяться фамилиями. «Сапогами трудно меняться,— рассказывал дед,— потому что ноги у людей бывают разные. Шинелями тоже — рост неодинаковый. Именами не сменяешься — их нам матери дают. А фамилиями можно. Решили — и сменялись. Он за меня на поверке ответил, я — за него. В полку не сразу привыкли, путали. Но перекличка каждый день — привыкли. А список полка как был, так и остался. Никаких перемен, все бойцы на месте...»
Вернувшись из школы учеником русского первого «Б», Колька стал наново выспрашивать деда: не поменялась ли заодно жизнь от такого обмена фамилиями? При этом Колька проявил природную консервативность: ему не хотелось, чтобы случились перемены. Он добивался от деда надежных заверений: от перемены фамилии ничего не переменилось и не могло перемениться.
Дед Колькину тактику мигом раскусил:
— Ишь ты... Чтобы тебе все без перемен. Да как же это мыслимо — без перемен. Ежели мы с другом моим боевым фамилиями разменялись — значит, и судьба на судьбу. Так оно и вышло. Убили Фетисова. Басмачи, гады... Убили.
Тут дед мрачно умолк, и Колька полдня бился: упрашивал деда рассказать, где и как погиб тот, который с дедовой фамилией заполучил деду назначенную гибель. Наконец дед сжалился:
— Я уже, значит, демобилизовался, а он в кавбригаде служил, у Карпенки. В тридцатом году опять басмачи объявились. Карпенко их загнал за Чу, в киргизские горы. В тех горах и попал в плен к басмачам боец Фетисов. Ему допрос со зверствами, как водится у басмачей. Курбаши спрашивает: «Кто такой? Как зовут? Какие планы у командования?» Известно, чего им, басмачам, надо. А друг мой язык на замок — молчит. Курбаши ему с подходом: «Ты же наш. Ты мусульманин». А дружок ему в ответ: «Я боец красной конницы Фетисов». Уже после один пленный басмач показывал, как все было. Курбаши налетает: «Врешь! Ты не русский! Ты мусульманин!» А он на своем стоит: «У тебя, бандит, мой документ в руках! Разуй глаза!
454
Написано: «Фетисов!» Басмачи его ножами пырять, а он им: «Нет и не будет у меня другого имени. Фетисов я, и точка».— Дед поник головой, смахнул слезу со щеки.— Так и погиб Фетисов-герой. Нашли его конники истерзанного: грудь ножами истыкана, глаза выколоты, язык отрезан. Там, в киргизских горах, и похоронили. Написали на камне: «Красноармеец Фетисов. Зверски убит басмачами. Спи спокойно, товарищ, мы за тебя отомстили». До сих пор, сказывают, камень при дороге лежит. Люди читают и думают: «Эк, занесло тебя, русского мужика, помирать в такую даль...» Как же ты хотел, чтобы без перемен? Нет, так не бывает. Иной раз ночью не спишь — камень могильный на грудь давит...
По-дедову выходило: и Колька живет судьбу не свою, а того внучонка красного бойца, что мог родиться в узбекском дому. Бабушка осерчала: «Ты чего блажишь? Ты чем малому голову забиваешь?» Но у Кольки голова отличалась устройством не бог весть каким мудреным, зато в работе прочным и надежным. Кольку не запутаешь. Поразмыслив степенно, он определился жить, как живется: хоть Кудайбергенов, хоть Фетисов — фамилия вполне
ладная. А то привели в первый «Б» пацануху из городка — Тамару Бублик. Учительница вызывает — все хихикают. Две четверти хихикали. После зимних каникул как рукой сняло: привыкли. В третьем классе Тамару Бублик без всякого смеха выбрали звеньевой. Из четвертого она уехала с отцом куда-то под Берлин. Там, наверное, тоже: две четверти хихикали, потом выбрали старостой или председателем отряда. Колька думал: все девчонки в офицерских
семьях такие — инициативные, но Маша Степанова совсем другая, совсем...
Когда в городок на Чукотке приехали Коваленко со своим Ванькой, Маша училась уже во втором классе.
На арифметике решали примеры; учительница что-то свое выводила в классном журнале на последней странице.
— Коваленко! — Учительница подняла голову.— Коваленко Ваня, ты кто по национальности?
— Не знаю! — вскочил Ванька.— Честное слово.
— Спроси у родителей, а завтра подойдешь ко мне.
Еще несколько ребят учительница спросила, какой они национальности, а Машу не спросила. Почему?
Папа объяснил:
— У тебя простая русская фамилия. Можно и не спрашивать. А Коваленко — фамилия украинская. Но есть и русские с такой фамилией. Потому в школе и спросили.
У Маши с того времени отложилось в памяти без всяких стараний с ее стороны: Степановы — русская фамилия, очень простая. Если бы где-нибудь спросили, кто она по национальности, Маша знала, как ответить: русская. Но ее нигде и никогда не спрашивали, потому что
455
она Степанова да еще Маша — чего проще. Может быть, где-то на земле таких простых и понятных вещей не знали и потому могли бы спросить Машу: кто она? Но до таких далей Степановы еще не доехали.
Ты много ездила по свету,— сказал ей Канапия Ахметович.— Ты наш человек. Кочевого племени.
Директор преподает и русский и казахский. Нурлану он ставит по казахскому языку тройку. Маше — пятерку. Она догнала его в коридоре:
— Канапия Ахметович, не ставьте мне пятерок.
Он недовольно подвигал морщинами:
— Ты думаешь, я ставлю тебе пятерки за то, что ты дочь полковника? Я ставлю отметки за успехи. Для человека, который не знал ни одного казахского слова, у тебя очень большие успехи. Например, сегодня ответила все падежные окончания. Наверное, сосед тебе хорошо помогает.— Морщины мягко расплылись.— Я заметил: писали русский диктант, ты держала тетрадь, чтобы Садвакасов глядел. Он не стал списывать. Характер. У него по русскому четверка. У тебя за первый диктант тоже четверка. Я, наверное, диктую для тебя непривычно?
— У меня и в той школе была четверка.
— Очень уважаемая отметка. Пятерка по русскому — редкая птица даже в России. В десятых классах пятерка только у Люды Власенко. В девятых нет чистых пятерок. У вас в восьмом «Б» сестра Люды — Валя Власенко тройки получает. Такие вот дела... Пятерка только у Сауле Доспаевой. У Акатова тройки по казахскому, по русскому — без всякого различия. Болтает бойко, понимания нет. У Кудайбергенова честная тройка — по казахскому, по русскому. У твоего соседа четверка. У наших учеников соседствуют в дневниках тройки по истории с пятерками по геометрии, но по русскому языку и по казахскому всегда отметка одна.— Директор шел по коридору, Маша за ним.— У меня, Степанова, с детства два родных языка. Два — равновесие моей жизни. Я учился в Ленинграде, на факультете русского языка и литературы. Всюду бы удивлялись — казах чисто говорит по-русски. Всюду, но не в Ленинграде. У нас, у казахов, к этому городу особая любовь. Там принял славу Чокан Валиханов, наш первый ученый, там учился наш лучший писатель Мухтар Ауэзов. Ты еще про них узнаешь. Ты еще много узнаешь про нас, казахов...— Директор остановился перед фотографией старой женщины: темное скуластое лицо, белый головной убор, как у казахских старух.— Вот погляди. Знаменитая Марьям Жагор кыз. На фотографии она уже старая. Когда была молодая, ее не так звали. Она русская — Мария, дочь Егора, тезка твоя — Маша. Полюбила парня- казаха, сложила о своей любви песню «Дударай». Вся степь теперь поет... В нашей степи, Марьям, издавна живут в тесном соседстве казахи, русские, украинцы. Такую нам судьбу подарила история. Люди, выросшие здесь, не пили воду из разных колодцев. Кто здесь
456
вырос — казах, русский или украинец,— особые качества характера приобрел, какие, наверное, в других местах не встречаются.
Старая песельница глядела с фотографии мудрыми далекими глазами: «Ну что, Марьям?» Та же у глаз степная зоркость, как у старого Мусеке.
На вечере Акатов играл на домбре, пел «Ду- дарай-дудар...», глядел на Машу, смеялся голубыми глазами — рыжий Акатов, артист...
Нурлану года четыре было, когда брат отца, дядя Отарбёк, взялся ему втолковывать про славный род Бугучй, давший степи великого акына Садыка. Нурлан усвоил: есть люди из рода Бугучи и есть другие люди, не такие как бугучинцы, а всегда хуже. Отец Нурлана происходил из рода Бугучи, а мать принадлежала к другому роду — Мингитай. О мингитаевцах Отарбек говорил с кривой усмешкой, и Нурлан обрадовался, что лицом он никак не мингита- евец, а истинный бугучинец.
Дядя Отарбек заставил его выучить родословную до седьмого колена, и Нурлан знал: он сын Кумара, а Кумар — сын великого Садыка, а Садык — сын Аката, а Акат — сын Нургали, а Нургали — сын Амантая... Дядя Отарбек втолковывал ему: вся земля вокруг Чупчи испокон веков принадлежала бугучинцам. Однако в школе учительница истории рассказывала: владел всей здешней землей Ержан Акпаев — султан, выхлопотавший себе русское дворянство.
Лет в пять Нурлан узнал: он рыжий!
И раньше, когда отец брил ему голову, Нурлан видел на лезвии ржавые волосики, но такие же, ржавые, росли на отцовской голове. Как все, что привычно с первых дней жизни, цвет волос не бросался в глаза, ничего не значил. Но вот в один из первых весенних дней Нурлан забегался с ребятами, сдернул шапчонку со взмокшей головы, кинул в небо. И тут ему крикнули: «Рыжий! Рыжий!» Испугался, на¬
хлобучил шапчонку, убежал домой. Спросил мать: «Разве я рыжий?» — «Ты не рыжий, ты казах со светлыми волосами». Так он узнал: и бугучинцы, и мингитаевцы, и люди из многих
457
других степных родов все вместе — казахи. И он, Нурлан Акатов, сын Кумара, тоже казах. Казах со светлыми волосами. В тот год отец поссорился с колхозом, и они из аула перебрались в Чупчи. Отец поступил работать на станцию, купил недорого развалюху на Железнодорожной улице. Все одноаульцы — бугучинцы и не бу- гучинцы — повадились, приезжая в Чупчи, гостевать у Кумара. Хочешь не хочешь, а всех привечай — таков казахский обиход. Мать Нурлана варила для гостей, ребятишки без присмотра бегали по улице. Нурлан сдружился с чернявым Колькой, жившим по соседству.
Год с небольшим продержался Кумар в разнорабочих. Тем временем чабанам намного повысили заработок. Кумар вернулся в аул. Как сын чабана, Нурлан с первого класса имел право на интернат, на полное государственное обеспечение. После чупчинского житья он бойко болтал по-русски и потому попал в русский первый «Б». Так уж сложилось в степи: дети председателей, директоров, агрономов, зоотехников поступали всегда в русский класс, а ребята из семей рядовых колхозников — в казахский. Кумар торжествовал: его сын устроен, как сыновья начальников.
Нурлан жил, беззаботно пользуясь двумя языками. В пятом классе, когда стали учить английский, он спросил учительницу: «Американцы тоже по-английски говорят? А как же они этот язык между собой называют?» Учительница не поняла: «Что значит называют?» Нурлан продолжал допытываться: «Французы говорят по-французски, итальянцы — по-итальянски. А американцы? Выходит, что не по-американски, а по-английски? На букваре у них «инглиш» написано? Или, например, у нас Гавриловна, когда злится, говорит: «Тебе русским языком сказано!» А как же у американцев? Завучи, когда злятся, что говорят? «Тебе английским языком сказано!» «Да?»
Учительница, конечно, сразу же придралась: «Какая такая Гавриловна, ты что себе позволяешь!» Нурлану не удалось выяснить, как называют свой язык американцы. По английскому он получал тройки, как и по всем предметам, но перед комиссиями блистал произношением кратких фраз. Ребята-казахи, с малых лет овладевшие вторым языком, проявляют большие способности к изучению иностранных языков, а Нурлан к тому же по натуре очень переимчив.
Надо задобрить выведенную из терпения Колькину бабку? Нурлан разведет мехи дедовой гармошки и затянет протяжную: «Моя подружка бессердечная мою любовь подстерегла...» Или другую: «Отец мой был природный пахарь...» Бабка все простит и Нурлану и Кольке. И клеенку чернилами залитую, и дыру на Колькиных штанах.
Майор из городка тоже слезу утирает, слушая, как поет Нурлан. Сыну Кумара, внуку Садыка, понравилось ходить в городок. Все думают: он кадрится к Степановой. А Нурлан ходит к лысому майору. Жена майора откроет дверь, крикнет в глубину квартиры: «Коротун!
453
Твой кунак пришел!» Сколько раз ей говорил Нурлан: нет кунаков в степи, тамыры есть, но жену майора не переучишь.
Нурлан с нрй не пререкается, идет к майору, садится рядышком на диван — и пошло...
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смер-р-ти — четыре шага...
Нурлан знает: солдаты Коротуна не любят, прозвали Уставчиком, но ему плевать на прозвища, если человек плачет от хорошей песни. Нурлан еще придет, посидит с майором на диване, споет ему: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...»
В субботу тетя Наскет велела Акатову сводить в баню Аскарку и еще троих первоклассников. Нурлан в предбаннике раздал своим подшефным по куску мыла, по мочалке, втолкнул мальчишек в моечную и пропал. А там шайки гремят, вода хлещет, пар столбом, голые бесстыдно расхаживают, вениками друг друга лупят; кто крякает, кто блаженно орет во все горло...
Еркину тоже когда-то жуткой казалась битком набитая парная, а теперь он во вкус вошел, любит похлестаться веником. Напарившись, он, ошалелый, выбрался из белого жаркого облака и натолкнулся на четверых голых мальчишек, тесно прижавшихся друг к другу посреди банной кутерьмы: испуганные, немытые, с зажатыми в кулаках кусками мыла и мочалками, без единой шайки на всех. Видно было, что они стоят так неизвестно сколько времени. Еркин сразу признал в них интернатских. По глазам признал. Поселковая мелюзга бойко глядит на мир знающими глазами, а у этих четверых глаза вовсе незнающие — открытые до самого донышка ребячьей души.
Как они на него поглядели! Как на батыра-освободителя! И не такими уж оказались бестолковыми неумехами, когда он каждому раздобыл по шайке, каждого для начала окатил теплой водой, каждому взбил на башке пышную мыльную пену. Они у него потом разыгрались, как жеребята на траве, спины друг другу терли, обливались, под душ бегали. Даже уходить не хотели, до скрипа отмытые, крепкие, гладкие. В предбаннике Еркин разыскал приметные интернатские пальтишки, всех четверых одел, воротники туго застегнул, фуражки прихлопнул, напоил в буфете лимонадом и вывел на улицу... И тут нос к носу столкнулся с обеспокоенной Шолпашкой.
— А где Акатов?
— Я откуда знаю!
— Мы ему покажем на совете интерната!
459
Непонятно отчего Еркин стоял перед Шолпан в чем-то виноватый. Хотя кругом виноват Нурлан Акатов, Ржавый Гвоздь, пустой и ненадежный человек.
Мать Еркина часто болела, и он — последний сын — родился хилым. Отец объяснил: Еркин станет сильным, только если сам постарается. Отец рассказывал про богатыря Хаджй-Мукана, непобедимого борца, объездившего весь мир. Юношей отец Еркина гонял овец на ярмарку в Куянды и видел: Хаджи-Мукан боролся с китайским богатырем, припечатал его обеими лопатками к ковру. Еркин вызывал соседских мальчишек на поединок и, если одолевал, кричал, сидя на противнике: «Я казахский богатырь Хаджи-Мукан!» А когда Еркин оказывался на спине, то оседлавший его победитель — рыжий Нурлан или Колька Кудайбергенов — орал во все петушиное горло: «Я казахский богатырь Хаджи-Мукан!»
Мать уже не вставала. Однажды Еркин, надувшись с вечера кумыса, проснулся ночью по нужде, вышел полусонный из юрты и отвернул в сторонку — да не в ту. За юртой дядя отца, вскоре умерший Абикё, и еще кто-то беседовали с отцом разгневанными голосами. «Ты разве не казах?» — выкрикнул в досаде Абике. Никем не замеченный, Еркин заполз в юрту, укрылся одеялом и сразу заснул. Утром память принялась возвращать ему ночное: влажный вкус тумана, кашель сгрудившихся овец, запах остывшего дыма, конский храп... Еркин вспомнил: ночью, за юртой, Абике уговаривал отца взять в дом вторую жену, чтобы помогала первой, которая уже стара и больна. В этих уговорах и взорвался вопрос: «Ты разве не казах?» Еркин заторопился найти отца, удержал его, уже вскочившего на лошадь: «У меня одна мать. Я не хочу другой матери. Ты не казах». Отец сверху ответил, как ножом обрубил натянутый аркан: «Я твоих глупых слов не слышал!» И ускакал.
Отец не привел в дом вторую жену ни тогда, ни после смерти матери. Хозяйничать пришла старшая сестра отца, вдовая Жумаби- кё-апай. Мать была росточка небольшого — в одиннадцать лет Еркин дорос до ее сапожек, до овчинной шубы. Стал надевать и сносил, затерял все, что оставалось от матери из будничных вещей, а праздничные одежды и серебряные украшения отец хранил в сундуке — для будущей жены Еркина.
В другом сундуке хранились книги, оставшиеся в доме от старших братьев и сестер Еркина. Он до школы выучился читать; буквы — одни и те же — удивили его своим умением складываться и в казахские и в русские слова. Еркин узнал: слова растут, как растет трава, как растет в степи ягненок, становясь овцой. Кенжегали приезжал, когда Еркин был еще маленьким. Сказал младшему брату: «Э, да ты уже совсем джигит». Еркин быстро спросил: «А ты джигит?» Старший брат оглядел себя и решил, что все дело в стрижке, в одежде: «Я тоже немного джигит». После Еркин спросил отца: джигит ли Кенжеке? «Джигит»,— спокойно сказал отец. «А ты?» — «И я когда-то был». Слово «джигит» наполнялось смыслом. Он читал
460
у Абая: казах тоже дитя человека,.. Он совершает зло не оттого, что у него нет разума, а оттого, что в сердце его нет твердости. И люди, которых называют «ловкими джигитами», ведут друг друга к беде, возбуждая возгласами: «Ай да батыр!» Но человек, который отступил от пути истины, от пути чести, предался темным делам, хвастовству и не проверяет себя,— это не богатырь, не джигит и даже не человек.
Еркин учил свое сердце твердости. Он прочел про знаменитых абиссинских бегунов и стал бегать, вырабатывать выносливость. Отец пешком ходить не любит, даже полкилометра сделает в седле. Он сказал Еркину: «Раньше в степи не бывало знаменитых бегунов, бывали знаменитые скакуны, но степь и многого другого раньше не знала. Мы, казахи, любим перенимать все хорошее у других народов. Почему бы тебе не научиться древнему искусству абиссинских джигитов?» И Еркин стал бегать каждый день. После отмеренных пяти километров дыхание постепенно выравнивается и пульс — Вася научил считать! — возвращается к норме, зато в крови долго держится жар, как угли под теплом. Сидишь на уроках уже будто спокойный, а кровь внутри бежит горячая. Оттого ты и спокоен, что внутри горячо. В степи костер еще и землей присыпают — чтобы дольше не остыл.
Разглядывая издалека уже решенное свое будущее, Еркин видел там степь с вольными стадами овец и в этой степи свой дом. Он подъезжал к своему дому будущего то верхом, то на сильном вездеходе, каких еще нет в Чупчи, но они нужны чабанам и потому будут. В доме Еркин видел простор высоких комнат, книги и ружья, ковры на стенах и на полу. Он понимал: заслышав стук копыт или рев мотора, из дома выбежит навстречу та, которая стала хозяйкой, но кто она, Еркин разглядеть не мог. Легче всего ему было увидеть в своем будущем доме Шолпашку. Она войдет туда, зная наперед, что там есть, и что должно быть, и как устроить всю жизнь. Но во всей ее назначенности войти в его дом Еркину представлялся вроде бы не им самим выбранный путь жизни, а кем-то для него заранее определенный. Его садвакасовское упрямство восставало против чужой воли. Он не знал еще того, что дается не умом, а годами опыта: человеку смолоду труднее всего соглашаться с тем, что всего вероятней потом сбывается.
Летом, на джайляу, он как-то увидел: всадник скакал по утренней земле с той стороны, откуда поднялось солнце.
Еркин лежал ничком в прохладе травы. Солнце было низко. Человек на коне, скача во весь опор, был охвачен огненным сиянием и потому неузнаваем. Так уж получилось, что между Еркином, всадником и солнцем пролег один прямой луч: редкий случай расположения трех произвольных точек. Человек на коне скакал во весь опор, все время оставаясь для Еркина на одной прямой с солнцем и все время неузнаваемый, а ведь наверняка кто-то из местных, знакомый Еркину.
461
Еркин помял тогда: свет не только открывает взгляду каждую былинку на земле, каждое движение малой ящерки или змеи-стрелки. Свет — когда он обильный и нестерпимо яркий — может прятать в себе. Значит, яркое тоже затемняет. Еркин проверил свои мысли лунной ночью и убедился: при лунном свете, белом и слабом, обнаруживаешь многое из того, чего не замечал днем при солнце.
Теперь случилось что-то похожее: Еркин видел Машу каждый день, сидел за одной партой, изучил все ее привычки: грызет ручку, чертит на промокашке кошачьи морды,— а лица ее не помнил, оно скрывалось светом, нестерпимо ярким.
Ее младший брат заявился к Еркину в дом с коробкой, крест- накрест перевязанной белым шнуром.
— Мама велела тебе передать. Сама пекла.
Ее младший брат глядел на Еркина русскими глазами — светлыми, но такими же незнающими, как у аульных ребят.
— Чего это у вас на стенке? Плетка? A-а, камча... А это что? А это? Правда или нет, что чабаны приколачивали к дому овечьи берцовые кости, чтобы духи отару охраняли.
Еркин ходил за дотошным гостем по своему дому, ставшему вдруг вроде музея, и думал: «Он, наверное, не плохой, не как Салман-ворюга, но какой он — не придумаешь правильного слова, совсем другой, чем я...» Далеко еще было до лета, когда Витя Степанов собрался прийти заправским помощником к отцу Еркина. Ее брат всерьез готовился к будущему лету, раздобыл учебник по овцеводству для зоотехникумов и многое уже выучил, что положено знать человеку в степи, но все им сказанное представлялось Еркину невзаправдашним: не видел он Витю будущим летом в садвакасовской юрте.
Еркин снял со стены, протянул ее брату старую камчу с сайгачьим копытцем на рукояти:
— Если нравится — возьми.
Витя смутился:
— Я не хотел выпрашивать. Я читал: по вашему обычаю хозяин отдает вещь, если она понравилась гостю.
Еркин подумал: «Много чего знаешь, но для знающего слишком нерасчетливо сыплешь словами».
Уходя, Витя бережно сунул камчу за пазуху, будто не прожила она свой век у седла, на морозе, на ветру, а только красовалась на стене точеным копытцем в серебряном ободке. Но уж теперь ей такая судьба: праздно висеть в доме у Степановых, как седло кочевника праздно висит в городской квартире кого-то из друзей Кенжегали.
Еркин принес полковнику казы, а дверь ему Салман открыл, глянул свысока, точно он тут хозяин: «Тебе, копченый, чего?»
Еркин всегда сторонился Салмана, как заразного. Отец приучил Еркина с малых лет: не привередничай в еде, умей спать где придется,
462
но будь разборчив в друзьях, если не хочешь оказаться забрызганным грязью.
Почему же ее брат из всех здешних ребят никого не нашел, чтобы привести в дом,— только Салмана?
Старый Мусеке зимовал с отарой за двести километров от Чупчи, в песках. Еркин жил в мазанке один, каждый день бегал свои пять километров, не гнался за секундами, искал в беге уверенности, долгого запаса сил. Вернувшись из школы, затапливал печку, переложенную по-новому мастеровитым Колькой. Когда саксаул занимался ровно и пламя рвалось горизонтально, показывая установившуюся тягу, Еркин сталкивал с чугунной крышки обе конфорки, вываливал на огонь с пол ведра мелкого, сбрызгнутого водой угля. Через час чугунная плита накалялась докрасна. Еркин кочергой разбивал корку угля, выпуская сине-малиновый свет земных недр. Предусмотрительный Колька поставил дверцу на винте, закрывающуюся герметически,— и вьюшки не надо. Еркин не боялся угореть. Чайник на чугунной плите оставался горячим до утра.
У Еркина есть будильник, но ему неинтересно вскакивать по звонку, он решил потренироваться на подъем в назначенное с вечера самому себе время и стал просыпаться за секунду до того, как будильник начнет звонить-колотиться на столе. Все в его жизни шло назначенным правильным порядком. Будущую жизнь степи он видел построенной разумно, чтобы все люди хорошо жили: и казахи, и русские, и украинцы — все, кому дорога эта земля.
Глава шестая
Салман притащился к школе затемно. Еще ни следа на ледяной изморози, устлавшей за ночь весь двор. Окна классов подряд черные, не горит свет в учительской, директор не приходил. Только в коридоре тетя Дуся — она в школе живет — домывала пол шваброй, и от мокрого пола воняло едучим порошком, которым всегда присыпана мальчишечья уборная. Туда, в мальчишечью заповедную, Салман и собирался незаметно прошмыгнуть мимо тети Дуси, мимо мокрой швабры, которая так и целит по нетерпеливым ногам.
В уборной он напился из-под крана, поплескал холодной водой в глаза, слипшиеся после бессонной ночи. Салман еще не решил, пойдет он сегодня на уроки или нет. Ему не хотелось после всего виденного ночью слоняться по Чупчи и не хотелось сидеть в классе, рядом с Витей, быть непременно вызванным с занятий к Гавриловне... Ничего в жизни ему не хотелось, но утро оказалось злым, морозным, и некуда Салману пойти в тепло, кроме как в школу. Вот он и стоял теперь в мальчишечьей уборной, свежеприсыпанной зловонным порошком, и ему с тоски пришла мстительная мысль написать на стенке про Ржавого Гвоздя: пускай все узнают правду... Салман вытащил из
463
портфеля толстьа* красный карандаш-великан, Витькин подарок, и вывел печатными буквами: «Акатов — предатель».
Выглянул из уборной и увидел: тетя Дуся покончила с мытьем. Прогулялся не спеша по коридору, оставляя на полу белесые следы хлорки — даже занятно их видеть после своих же черных следов на утренней хрусткой изморози. Поднялся по железной лесенке на чердак и надежно припрятал свой школьный портфель, удивляясь меж делом: зачем сегодня прихватил из дома книжки-тетрадки, такую обузу? Или не хотелось ему их оставлять в переворошенном чужими руками домашнем хламе?
Из чердачного оконца Салман увидел: прошагала через школьный двор Гавриловна, не заметила Салмановых заячьих петель на белой, как чистая тетрадь, земле. Гавриловне еще не полагалось знать о происходившем ночью. Не раньше третьего урока ей станет все известно, прикинул Салман, прислушиваясь к доносившимся снизу, из школьного коридора, громким — как у всех женщин — голосам Гавриловны и тети Дуси, поминавшим того, кто наследил спозаранку. Голоса захлопнулись в какой-то комнате, наверное в учительской, и тут Салман услышал у дверей школы скрип притормозившей легковушки. Выстрелила закрытая сгоряча недовольной рукой дверца. Салман поспешил к люку, ведущему в коридор, и увидел: коридором идет главный врач Доспаев.
Салман подумал: «Уже знает! Сказали. Отец-то у него работал». Он неслышно слез по железным ступенькам, подкрался к учительской, куда вошел Доспаев. Из комнаты в темный тупик коридора падала узкая полоса света.
— Сауле скрывала от нас, что в школе какие-то негодяи преследуют ее мелко и пакостно. Но в конце концов мы с женой догадались. И там, где недавно кто-то швырял в нее мокрой известкой, я нашел хирургический скальпель, кстати, мой собственный...
— Скальпель? — охнула Гавриловна.— Какой ужас!
— Ишак безмозглый! — выругался шепотом себе в кулак притаившийся за дверью Салман. Он понял: сегодняшнее ночное дело до главного врача еще не дошло. Ему доложат только в десять. Но то, с чем Доспаев спозаранку примчался к Гавриловне, оказалось тяжеленным довеском к ночной беде — не зря отец говорил: когда враг берет за ворот, собака хватает за полы.
— Нет, я не собирался за спиной у школьных учителей учинять следствие. Все получилось чисто случайно. Вчера в больницу привели на рентген ваших пятиклассников. Я спросил Витю Степанова: «Ты потерял скальпель?» Понимаете, ему жена как-то подарила скальпель. Он покраснел и признался, что обронил где-то.
— Степанов Витя? Он очень тихий, дисциплинированный мальчик, он никогда...
— Не знаю! Не знаю, кто у вас тихий, кто не тихий.
464
— Конечно, нам надо было посерьезней взглянуть на не совсем правильные отношения между Сауле и Машей Степановой,— сказала Гавриловна,— Я бы не назвала это враждой, но...
— Мешок дерьма! Свиной ублюдок! — обозвал себя Салман, но душа его, не облегчилась бранью, заныла и затосковала.— Дурак я! Дурак! — Салман двинул себя кулаком в зубы.
И опять вспомнился ему — в который раз за утро — уверенный стук в дверь, отцовские босые прыжки — от двери к окну, от окна к печи,— истошные крики матери, когда вошли четверо: два казаха, русский и татарин, все не местные, но откуда-то они знали, что и где им искать в бедном жилье больничного сторожа. Они отыскивали и выкладывали на стол пачки денег, пересчитывали, записывали... Даже Салман, знавший, что у них в доме тайно живут деньги, поразился огромному богатству, которое пряталось в хибаре. Он раньше отца догадался: милицию навел на их дом Ржавый Гвоздь. Зря отец доверил Акатову рисковое дело. Старый способ пересылки товара был верней. Но зачем-то понадобилось старому черту связаться с Ржавым Гвоздем, поехавшим с классом на экскурсию в Алма-Ату. Видно, хотел покрепче запутать Акатова, а вышло наоборот. Влип, значит, Акатов в Алма-Ате. Трус Акатов. Трус и предатель...
...Голая лампочка под провисшим прокопченным потолком светила все ярче. Вечером она горит вполнакала, потому что весь Чупчи жжет электричество, а тут поселковая трансформаторная будка работала на один мазитовский дом, где чужие люди при неза- вешенных окнах считают деньги, много денег. Салман заметил: не отец стыдится, что при таком богатстве жил как нищий, а чужие чувствуют себя неловко, считая деньги в мазитовском голом доме, где с ломаных кроватей поднялись и глядят на них разбуженные ребятишки, у которых сейчас, посреди ночи уведут в тюрьму отца. Салман уже понимал: отца уведут. Понял сразу, едва милицейские вошли — четверо, друг за другом. А младшие догадались, заревели на все голоса, когда за отцом захлопнулась низкая набухшая дверь. Мать выбежала следом, сыпала проклятиями в спины тем, кто увел из дома хозяина, унес кровные денежки, слала каждому из четырех «Проклятие твоему отцу и матери!»— и обоим казахам, и русскому, и татарину. Вернувшись в дом, повалилась на постель и начала кататься по ней, хватая зубами то руки свои, то в блин умятую, сальную подушку. Салман спрыгнул со своей лежанки, погасил свет. У него в кулаке размякла плитка шоколада, из жалости подсунутая милицейским. Салман в темноте нашаривал зареванные рты малышей, вталкивал сладкие обломки. Малышня зачмокала, стала утихать, а он наскоро собрался, выкатился на улицу. Сухой заморозок ожег воспаленные от ночного яркого света глаза. Салман подумал: явись милиция летом, он в час прихода нежданных гостей спал бы себе спокойно в мазаре, ничего бы не знал, не ведал. Ни страха, ни злобы — ничего.
465
Он стоял в школьном коридоре за печью и чувствовал себя жалким сусликом. Некуда деваться: нора залита ледяной водой, вода подымается все выше, выталкивает суслика в руки врагов. Даже самый трусливый зверь — суслик, заяц — кусается, пускает в ход когти, когда приходит безвыходный час. Салману хотелось царапаться, драться. Не оброни он, растяпа, тот скальпель, Салман мог бы сейчас броситься с острием в кулаке на ненавистного Доспаева. Все равно теперь колонии не миновать: заведенная Гавриловной папка полна до краев, и уж Газриловна-то разберется, кто мстил Саулешке за Вить- кину старшую сестру, за себя ли — все одно...
Он упустил время, когда мог незаметно уйти из школы. Необдуманно, глупо упустил или неосознанно удержал здесь сам себя, чтобы напоследок повидаться с Витей. И вот — получилось: Салман, хотя и без книжек-тетрадок, запрятанных на чердаке, сидит за своей партой в пятом «Б», рядом с ничего не знающим Витей. Измученный бессонной ночью, он угрелся и вздремнул. Учителя не тронули Салмана ни одним вопросом, ни одним замечанием: пришел, сидит — и на том спасибо. Так прошли два урока; третьим была физкультура, но Василий Петрович не повел пятый «Б» в зал — объявил классный час.
Салман вздрогнул и проснулся: «Конец! Попался! И Витьку не успел предупредить!»
Василий Петрович грозно хмурился, оглядывал притихший от любопытства класс и примечал всех заерзавших, в чем-то перед ним грешных. Хитрые учительницы всегда сплавляли Васе — мужчине, фронтовику, офицеру — самые озорные классы, хотя, по правде сказать, у них, у женщин, куда больше имелось сноровки управляться со школьной вольницей. Они проникали с женской зоркостью во все школьные дела и делишки, держали в своих руках все нити классных симпатий и антипатий, тонко выслушивали сплетни, действовали намеком и подсказкой, в то время как Василий Петрович предпочитал по доброте своей: уж рубить — так рубить
сплеча.
Горячность его и отходчивость не остались для ребят секретом, и они умели пользоваться слабостями учителя. Возможно, как раз поэтому доверенные Василию Петровичу разболтанные классы благополучно преодолевали трудные полосы своей жизни и мало-помалу оказывались на ровном пути. В этом, возможно, скрывалась главнейшая педагогическая тайна, обнаруживать которую не входило ни в интересы ребят, ни в интересы начальства, потому что — объясненная — она утратила бы всю силу.
Василий Петрович отыскал взглядом закадычных приятелей — Степанова и Мазитова. В который раз подумал: «Чего у них общего?» — и приступил к делу, вынудившему заменить урок физкультуры классным часом. Ни он, ни завуч еще не были оповещены об аресте отца Салмана Мазитова. Сделать это обязан был участковый Букашев, а он повез алма-атинского следователя по аулам, к сообщникам
466
Мазитова. Директора тоже не было в поселке, он уехал на совещание в область.
— Позор всему пятому «Б»! — гремел над классом голос, при- выкший подавать команды.— Совершен отвратительный поступок!
Салман Василия Петровича никогда не боялся и Вите с первого дня растолковал: любая учительница в школе строже, чем классный руководитель пятого «Б». Любой учительницы больше надо бояться. А Вася пускай сам боится, как бы Мазитов его не подвел.
Заскучал Салман, пока Вася раскочегаривался, но слушал в оба уха. Он знал: Витька умно соображает только на ботанике и на догадку скор только на арифметике, а сейчас до Витьки до последнего дойдет... Ну вот... Ну наконец-то... Салман краем глаза повел на соседа по парте, увидел испуг на чистеньком лице с аккуратной светлой челочкой.
— Сашка? Разве ты?!
Еще никто из самых трусливых подлиз не ткнул пальцем в Салмана Мазитова, а единственный друг Витя Степанов испугался. Вот когда ударила Салмана предательски в спину Витькина слабость, которую раньше всегда прощал. Слепой дурак Салман Мазитов! Купили тебя сладким чаем, хлебом с колбасой, золотыми рыбками...
Салман бросил в чистенькое испуганное лицо: «Суслик! Предатель!» — и пошел из класса. От злости он будто оглох. Не слышал, кричат ему вслед или нет. Он уходил пустым коридором, не унижаясь трусливым бегством, но и не медля, а то подумают: он еще надеется на прощение. У входных дверей тетя Дуся преградила ему путь шваброй. Салман отшвырнул универсальное оружие тети Дуси, и вот он уже во дворе школы — виден из всех окон. Виден учителям — они любят глазеть во двор, пока кто-то вызванный к доске царапает решение. Виден всем лодырям — они-то не смотрят на доску, смотрят на волю. Многие сейчас видят: навсегда уходит из этой проклятой школы самый ненавидимый ею ученик — бывший ученик. И пускай книжки-тетрадки, купленные не за его — за школьные деньги, сгниют на чердаке: Салман Мазитов никогда не вернется сюда.
— Сашка! Погоди! — услышал Салман.
Витя бежал через двор, натягивая пальтишко.
— Сашка! Постой!
Салман нагнулся, схватил с земли промерзлый кизяк.
— Ну ты, суслик! Не лезь. Пришибу!
— Да ты что?! — Витя остановился.
— Не лезь! — Салман угрожающе покачал рукой с промерзлым увесистым комком, повернулся и пошел. Сначала куда глаза глядят — подальше от поселка, от школы. Потом сообразил: пешком далеко не уйдешь. Повернул на гудок поезда — к станции.
Оглянувшись, Салман увидел: Витя упрямо идет за ним.
Витя откуда-то знал: его дело теперь идти за Сашкой, не отставать. Он слушался сейчас только своего мальчишеского инстинкта,
467
близкого инстинкту зверей и птиц, но выражающего все лучшее, что есть в человеке.
Книжник и в практических вопросах неумеха, Витя не только успел выскочить из класса за Салманом, но — словно подтолкнутый под руку чем-то, ему неведомым,— догадался сдернуть с вешалки у дверей свое пальтишко и шапку. Будто с самого начала предвидел: очень долгий им предстоит путь.
Они сделали круг по степи, теперь Витя видел впереди станцию: Салман шел прямиком к ней, не оглядываясь, не отвечая своему преследователю. За семафором, в километре от станционных построек, пережидал длинный товарный состав. Салман нырнул под платформу — Витя за ним, весь дрожа от страха: вот поезд тронет, огромные тяжелые колеса наедут, раздавят. Но состав терпеливо стоял. Вынырнув по другую сторону, Витя увидел быстро убегавшего Салмана. Он тоже побежал, жалобно выкрикивая:
— Сашка! Постой!
Салман заметил: чуть отодвинута дверь товарного вагона — сантиметров на сорок, не больше. Он подпрыгнул, цепко повис и протиснулся в щель. Вскочил на ноги и приналег изо всех сил — закрыть щель. Но тяжелая дверь не поддавалась.
Витя с первого раза сорвался, но со второго подтянулся на руках и лег животом на пазы, по которым ходят такие двери; ноги его болтались в воздухе, лицом он уткнулся в замусоренный чем-то едким пол вагона... И тут состав дернулся, резкий толчок стронул тяжелую пластину двери, не поддававшуюся мальчишеским усилиям. Салман еле успел схватить Витю за шиворот, втащить в вагон — дверь задвинулась и стало темно.
Прогремели под колесами стрелки, поезд убыстрял ход.
— Попались! — сказал Витя.— Теперь нам не спрыгнуть.
— А мне и не надо спрыгивать! — Салман сплюнул набежавшую кислую слюну.— Я вовсе решил уехать из дома. Понимаешь? Убежать. Зря ты за мной, суслик, увязался. Я далеко еду.
— Куда далеко?
— Во Владивосток! — с ходу придумал Салман и сам тут же накрепко поверил в первую выдумку, выводившую его из отчаянного тупика.— Во Владивосток...
— Далеко... Давай лучше слезем на следующей станции.
— Ты слезай! Я не хочу. Я во Владивосток.
— Да все равно поезд не в ту сторону идет.— Витя тоже сплюнул, чувствуя кислоту на губах.— Во Владивосток надо ехать от нас через Новосибирск. А этот поезд на юг идет, в Ташкент.
— Ты откуда знаешь? На юг, на север... Сам в кукурузе заблудился.
— Я тогда маленький был. Чудак ты, Сашка. Сейчас часов одиннадцать. Солнце было от нас слева. Значит, едем на юго-запад... Слушай, что за порошок тут в вагоне рассыпан? Все время плеваться хочется. Химия какая-то! Выбираться надо отсюда. И вообще еще
468
неизвестно, исключат тебя из школы или нет... Хочешь, я с моим отцом поговорю?..
— А этого не хочешь? — Салман сложил кукиш, повертел у Вити перед носом.— Сегодня ночью моего отца в тюрьму забрали.
— В тюрьму! За что?
— За хорошие дела! — Салман подошел к двери, налег плечом.— Сейчас я тебе, Витька, открою, сейчас открою. Ты спрыгнешь.— Он тужился изо всех сил, но впустую.— Открою, и катись отсюда на первой же станции! Я тебе больше не друг. Мой отец вор, хуже вора. Ну, чего стоишь? Помоги, суслик несчастный! Столько лет живешь на свете, ничего в жизни не понимаешь. Сын вора я! Понял?
— Понял... Отца посадили, но ты же не виноват... Я же тебя знаю. Ты честный!
— Ничего ты не знаешь! — заорал Салман.— Я тоже вор! На базаре воровал? Воровал! Одеяло украл? Украл! Что? Испугался? Не бойся, у вас дома я ничего не украл. Хватит разговаривать — толкай дверь!
— Вместе слезем! — упрямо повторял Витя.— Вместе!
Сколько они ни толкали — дверь не поддалась. Поезд получил
«зеленую улицу» и все дальше увозил их от Чупчи.
А там уже поднялась тревога, уже стало известно: ночью арестовали больничного сторожа Мазитова, его сын Сашка бежал из поселка и с ним Степанов Витя. Не такой уж тихоня этот Степанов. Кое-что знал про делишки Мазитовых. В мальчишеской уборной написано: «Акатов — предатель». Чьим написано карандашом? Степанова. Почему про Акатова? Он милиции, оказывается, сообщил про Мазитова.
Множество глаз видело: оба хулигана припустили из школы куда-то в степь. Из расспросов стало известно: они еще с лета шастают вдвоем по степи — значит, есть у них там укромные местечки...
...— Сдохнем мы тут от дуста, как клопы! — сплюнул Салман.
— Нет, не дуст. На фосфор похоже.— Витя облизнул палец, макнул в порошок.— Жжется немного,— посопел нерешительно и все же спросил: — Ты зачем камнями в ту девчонку бросал?
«Ничего не понимает! — горестно удивился про себя Салман.— Откуда только берутся такие беспонятные люди?»
Глава седьмая
Вечером Колькин братишка-третьеклассник пошел в интернат на кино про Тарзана. Заграничный фильм при каких-то загадочных обстоятельствах зажился у школьных киномехаников, стал считаться интернатской собственностью. Новые поколения умельцев, крутившие кино в интернате, очень удивились бы, если бы районный кинопрокат
460
заявил свои права на географический фильм со слонами и обезьянами.
Притопав домой после кино, братишка шепнул Кольке: «Ржавый Гвоздь вовсе смылся из интерната. Воспитатели еще не знают, но среди ребят ходит такой разговор». Колька забеспокоился: если уж мелочь пузатая болтает про Нурлана, значит, случилось.
Не теряя времени, Колька подался в интернат. В учебной комнате подремывал на клеенчатом диване дежурный воспитатель Дюсупбёк Жунусович, по-школьному Дюк. Спальня старших ребят пустовала. Колька полез в Нурланову тумбочку и понял: Ржавый Гвоздь на самом деле смылся. Дюку Колька, конечно, ничего говорить не стал, а Дюк — лодырь: перед сном поверок не устраивает, ночью спален не обходит — дрыхнет в учебной комнате. Значит, есть время разобраться без паники, что случилось с Нурланом.
В темном коридоре кто-то дернул Кольку за штаны, жарко шепнул: «Держи записку». Выйдя на крыльцо, на слабый свет лампы в металлической сетке, Колька с оглядкой прочел из горсти: «Прощай, Кудайбергеныч! Когда устроюсь, напишу. Твой несчастный друг Н. Акатов».
— Ты что? Сразу не мог принести? Брату моему не мог передать? Он же был у вас тут в кино! — напустился Колька на выскочившего за ним Аскарку.
Этого шустрого первоклассника уже вся школа знала. Учитель пения у него голос обнаружил и абсолютный слух. Аскарка на вечере выступал, пел-заливался: «И мой сурок со мно-о-о-ю... И мо-о-ой всегда и мо-о-ой везде...»
— Ты чего же такой несообразительный! — отчитывал Колька юную школьную знаменитость.— Важное дело, а ты записку в кармане солишь!
— Нурлан сказал: только самому Кудайбергенову передать, завтра в школе передать, никому не показывать, никому ничего не говорить...— Аскарка работал под заправского подпольщика, партизанского связного.
Справедливый Колька сменил гнев на милость: первоклассник-то ничего, кремень-человек, неплохая смена растет старшему поколению.
Из интерната Кудайбергенов припустил не домой, а на садвака- совскую зимовку. Дома ему сейчас делать нечего. Если деду сказать: «Нурлан попал в беду» — дед протянет ехидненько: «А-а-а... Внук старого Садыка? Помню я Садыка. Тоже был артист. За рубль заставишь, за тысячу не остановишь». Послушать деда — так от Садыка никакого доброго семени пойти не могло: и отец Нурлана не работник и отцов брат, Отарбек из Тельмана, вовсе балалаечка без струн — ни к какому делу не пристал и теперь определили его заведовать клубом. А какой там клуб на отделении? Клуб с колоннами на главной усадьбе, а на отделении мазанка небеленая, раз в неделю заезжает кинопередвижка. Но Отарбек и веника в руки не возьмет:
470
«Я заведующий. Руковожу культурно-массовой программой. Для подметания прошу выделить штатную единицу...»
Так уж выходило: встревожившись за друга, Колька сразу же вспомнил про Отарбека. И прежде, при всех передрягах, Нурлан имел обыкновение подаваться за помощью и советом не к толковым людям, а к балаболке Отарбеку.
Что с Нурланом теперь-то? Не из-за двоек же...
Кольке и в голову не пришло, что побег Нурлана мог быть связан с передрягой, приключившейся летом в Алма-Ате. Мазитов дал Нурлану увесистый чемодан и сказал адрес, куда отнести. Нурлан понес и налетел на милицию, арестовавшую спекулянтов и караулившую, кто еще придет с товаром. Нурлана допросили и отпустили. Мазитова он настолько боялся, что даже Кольке ничего не рассказал. Поэтому Колька начисто забыл, как в Алма-Ате притопал Нурлан откуда-то очень поздно и клацал зубами...
Еркин лежал на кровати, глядел в потолок.
— Ты чего? Заболел?
— Нет. Так просто лежу.— Еркин встал, аккуратно прибрал постель. Один зимует, а дом держит не хуже любой поселковой хозяйки. Только отчего-то смурной стал в последнее время.
Весть о Нурлановом побеге Еркина не шибко удивила. Он рассказал Кольке: с неделю назад Ржавый Гвоздь приходил на садва- касовскую зимовку с разговором ни о чем.
«Хорошо тебе живется, Садвакасов».
«Я думал, ты лучше живешь, веселее».
«А ты в моей шкуре был? У меня, может, сейчас ни минуты покоя нет...— Нурлан полез в карман, вытащил папиросы.— Да что ты понимаешь, лошадиные нервы...»
Нурлан не первый раз пробовал прилепить ему какое-нибудь лошадиное прозвище — Скакуна или Тулпара,— но понапрасну: к Еркину прозвища не прилипали, потому что он их сам не замечал.
«Курнуть хочешь?» — Нурлан колупнул ногтем пачку.
«Зачем?»
«Да ладно тебе придуриваться. Все курят, а ты — «зачем»...»
Нурлан задымил:
«Ты не знаешь, кто про меня примеры на стенках решает: «Ны плюс Фы?»
«Не знаю».
«Найду — убью. На что она мне, Фаридка? Про тебя вот ничего не пишут, хотя можно, я знаю... Ты мне объясни. У тебя отец чабан, у меня отец чабан. Я веселый — надо мною смеются. Ты молчишь — тебя уважают, за умного считают. Почему? Объясни, если умный. Мне Фаридку пишут, лучше не нашли. Тебе не пишут, хотя есть кого.— Нурлан засмеялся, как американец в кино: ха-ха-ха, все зубы напоказ.— Домбра-то у тебя чего висит? Играешь для себя? А чего на вечерах не выступаешь?»
471
«Зачем мне на вечерах?»
«Зачем, зачем... Заладил одно слово. Скучный ты человек, Садвакасов».
«Зачем пришел к скучному?» — равнодушно спросил Еркин.
Он видел: Нурлан пришел с каким-то важным разговором, но по характеру своему пустому размелочился, распетушился — пух по ветру пускает. Так и не узнал Еркин, зачем к нему приходил Нурлан. Иное дело — Колька Кудайбергенов. С Колькой все сразу можно понять. Понял — соображай, что делать.
Пока соображали, Исабек пришел, послушал их и удивился: чего сидят — не едут в Тельман за Ржавым Гвоздем?
— Завтра с утра поедем,— согласился Еркин.— Колька у деда Серка возьмет. А мне лошадь достанешь?
— Хоп! — кивнул Исабек.
...Они выехали спозаранку и потому ничего не знали о побеге двоих пятиклассников.
Название аула — Тельман — произносится с ударением на последнем слоге — словно по-местному, по-казахски. Здесь когда-то организовался один из первых в степи колхозов, взявший имя немецкого героя-коммуниста Эрнста Тельмана. По новости говорили прилежно: «Имени Эрнста Тельмана», потом упростили: «Мы из Тельмана...», а с годами укатали на степной лад: «Где живешь?» — «В Тельмане».
У крайних домов аула Еркин придержал коня, перевел на медленный шаг. Не любят в степи дуралеев, скачущих к жилью во весь опор, будто с вестью о вражеском нашествии или еще какой беде.
Они ехали куцей улочкой. В Тельмане казахи, украинцы и немцы жили в тесном соседстве, но на отличку. Украинец белил хату и расписывал наличники. Немец не тратил деньги на излишества, весь хозяйственный пыл вкладывал в надворные крепчайшие постройки. Казах мазанку не белил, двор держал голым, как ладонь: пускай степь с разбега докатывается до самого порога.
Из всех казахских дворов самым открытым, проезжим вдоль и поперек стоял двор Отарбека. Еркин огляделся: негде и лошадей привязать. Выручила посыпавшаяся из дверей мелюзга — приняла поводья. Вместе с ней вырвался на улицу звон струн и высокий рыдающий голос.
— Здесь наш друг-приятель! — Еркин толкнул покосившуюся на одной петле дверь.
В единственной комнате духота, не прибрано. Посередке, на кошме, лист газеты, миска с вареным мясом, зеленая бутылка, два захватанных стакана. Колька онемел от такого пьяного безобразия, а Еркин чинным гостем пошел к газетине-дастархану, сел и сказал певцу:
— Ты пой, пой... Извини, если помешали.
Нурлан откинулся на кошме, ударил по струнам:
472
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в земля-а-а-нке гармонь Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой...
Я хочу, чтобы слы-ы-ышала ты,
Как тоскует мой голос живой...
Отарбек всхлипнул, выкатил откуда-то еще два грязных стакана. Бритая голова Нурланова родича белела пролысинами. Он тазша — плешивый после болезни, перенесенной в детстве. Такую аульную напасть сейчас уже не встретишь.
Еркин будто не замечал, что ему наливают из зеленой бутылки.
— Еще спой.
— Русскую? — Нурлан держался задирчиво.— Оч-чень сильная песня. Романс старинный. Тебе посвящаю! «Гори, гори, моя звезда...»
Колька начал злиться: «Ладно! Ори, ори, моя звезда! Покажу после, как всякие штучки выкомаривать...»
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда...
Нурлан пел без пижонства, по правде пел, нараспашку — с казахской и с русской удалью. Старинный романс он перенял у Ко- ротуна, но майор, когда пел, изламывался весь от грустных чувств, глаза подкатывал, а Нурлан откуда-то знал: это поется со строгим лицом и не в тоске, а светло, счастливо.
У Еркина — против воли — горячо стало в груди, тревожные токи побежали по крови. Думал про Нурлана: «Бесстыдный он, что ли? Сам открылся напоказ». Думал про себя: «Я так никогда не смогу, не вывернусь наружу — сдержусь, поводья не отпущу. Я как Сауле — разумом живу, не сердцем. Неверно живу. Надо по-другому жить».
Еркин знал: Нурлан вовсе не сердцем живет — болтовней. Но позавидовал Нурлановой безоглядной открытости, осудил свою неизменную выдержку. Всегда Еркин словно перепоясан тугим ремнем, всегда словно с удилами в зубах: грызи — не перегрызешь за всю жизнь, не выплеснешь горя, не разбросаешься радостью, как бросаются сластями на аульных свадьбах. А зачем? Отпустил бы поводья, поглядел, куда занесет. Испытал бы, каково голову терять.
Нурлан последний раз ударил по струнам:
— Че-го при-е-ха-ли? — спросила гитара.
Колька выпалил:
— Тебя, дурака, проведать!
— Совет держать,— сказал Еркин.— Один ум хорошо, два лучше...
Отарбек тут же придрался:
473
— Ты, выходит, умный? А я, по-твоему, не советчик сыну моего любимого брата'?
— Простите, агай! Мы ждем вашего совета.
Отарбек важно отклячил нижнюю губу, цыкнул темной от насвая1 слюной на выщербленный пол, закатил торжественную речь. Нурлан талант. Нурлану не нужна вонючая чупчинская школа. Вы хотите, чтобы он пас овец или в конторе щелкал на счетах? Никогда! Таланту необходима вольная жизнь. Нурлан из рода ^угучи, внук Садыка. В любом доме ждет Нурлана заслуженный почет, еда и ночлег. Пора вернуть в степь добрые традиции, когда певца кормила домбра и он не ломал шапку ни перед кем.
Сколько бы старший ни болтал, младшим слушать и помалкивать. Отарбек всласть наговорился о талантах любимого племянника и завел долгую речь о самом себе. Он, Отарбек, выдающийся сын народа, загубленный злодейкой-жизнью и завистниками-одноаульца- ми. Если бы не жена — ей каждый день давай еду! — если бы не председатель — ему каждый день выходи на работу! — разве стал бы Отарбек в других условиях заведующим каким-то клубом? Он бы высоко вознесся!..
Еркин насмешливо посапывал. В народе считается: все тазша большие хитрецы и ловкачи. А этот? Мешок дырявый, вся глупость сыплется наружу.
Колька взорвался наконец:
— Нурлан! Какого лешего ты молчишь!
Нурлан словно ждал, чтобы ему подали в спектакле нужную реплику: голову, скорбно уронил на грудь, пятерней вцепился в рыжие патлы:
— Мне, Колян, теперь все равно... Саданут под сердце финский нож — и точка, отпел свою песню Акатов!
— Ты что? Сдурел?
— Нет! — Нурлан искусно дрогнул голосом.— Нет, Колька, друг ты мой единственный! Мне теперь не найти спасения. Сам видишь: вынужден от них скрываться. Но они меня под землей достанут, под водой отыщут.
— Кто «они»?
— Тебе знать не надо.— Нурлан вздохнул тяжело.— Тебе, Колян, жить да жить, а я человек конченый.
— Иди ты к лешему! — обозлился Колька и демонстративно встал: ты, мол, Еркин, как хочешь, а я уйду.
— Прощай...—Глаза Нурлана наполнились слезами.— Ты меня не знаешь — я тебя не знаю. Месть банды не только мне грозит, но и всем моим друзьям.
— Какая банда? — насторожился Отарбек.
Тут Нурлан развернулся! В красках расписал. Однажды он помог милиции напасть на след крупной банды, окружить тайную квартиру
1 Жвачка.
474
в Алма-Ате. Бандиты яростно сопротивлялись. Двое из них перескочили дувал, оглушили милиционера и скрылись в неизвестном направлении. Полковник, весь седой, много раз тяжело раненный в таких схватках, мужественно сказал Нурлану: «Не буду от тебя скрывать — тебе теперь надо остерегаться их мести». Полковник предложил Нурлану: «Под чужим именем устроим тебя жить где-нибудь подальше, в Сибири или на Кавказе», но Нурлан решил: не буду трусом — и вернулся в поселок...
— Однако здесь...— На этих словах голос Нурлана трагически оборвался: пусть поработает фантазия слушателей!
— Не ожидал от тебя такой подлости! — Отарбек вскочил, заметался. Ты хочешь навести беду на мой дом? — Он кинул племяннику плащ, шарф.— Я не трус, но у меня жена, дети!
Еркин встал, подмигнул Кольке: «Готово, спекся!» Нурлану сказал озабоченно:
— Твой дядя прав. Ты не должен прятаться у него в доме. Поедем.
— Поедем,— мрачно согласился Нурлан, берясь за чемоданишко.
— По стаканчику! На дорогу! — захлопотал Отарбек.
— Спасибо, агай! — отказался Еркин.— Нам нельзя туманить голову. Думать будем, как Нурлану помочь. До свидания.
— Не поминайте лихом! — подыграл Еркину Колька. Он давился от смеха, чуть не лопнул: до чего все лихо получилось! Другого бы пришлось уговаривать, спорить до хрипоты, а Нурлан сам себя выставил из дома Отарбека. Сам! Собственной бессовестной брехней!
Во дворе Отарбекова мелюзга слегка передралась — кому выполнить почетную службу — и подвела нерасседланных лошадей.
— Ко мне за спину сядешь! — сказал Колька Нурлану.
— Счастливой дороги! — Отарбек вышел побыстрее спровадить мальчишек и убедиться, что соседи не очень-то любопытничают.— Лишнего не болтайте. Где были, у кого... Длинный подол ноги опутывает, длинный язык — шею.
Нурлан глянул на дядю изумленно: от него ли слышит?
Колька клятвенно стукнул кулаком в грудь:
— Могила!
Со двора взяли вскачь. Лошади, видно, ошалели от надоедливой детворы. Трясли головами, скалили желтые зубы, словно переговаривались на скаку: «Ну дела... И не говори!»
Жалостливый Колька никак не мог забыть неухоженную мелюзгу Отарбека:
— Где же твоего дяди жена? Заболела, что ли?
— Чего ей сделается! — буркнул Нурлан.— На ферме. Коров доит.
— Так что же он? — удивился Колька.— Жалуется — детей кормить надо. Жена-доярка раза в два больше него получает. Какая у завклубом зарплата?
475
— Не знаю!
Только сейчас, сидя за спиной Кольки, Нурлан понял: дикую чушь нес Отарбек. Нурлан подался к нему сразу же, как побывал у чупчинского участкового Букашева. Участковый спросил: «Проведал или нет Мазитов, что тех, в Алма-Ате, взяли?» Нурлан сказал: «Не знаю». Он и вправду не знал. От Букашева шел — только' бы не встретить старого черта. И скорее в Тельман. Отарбеку темнил: надоела школа. Дядя обрадовался: «Иди ко мне в клуб заместителем»; Какой заместитель? Отарбека давно надо гнать из клуба, назначить вместо него женщину, будет подметать — другой работы там нет. Разве Нурлан не знал? Отлично знал! Но притворялся: всерьез принимал уговоры. Эх ты, Нурлан Акатов, знаменитый артист!
Крыши Тельмана остались далеко, приплюснулись к земле. Нурлан завозился у Кольки за спиной, забарабанил кулаками по ватнику:
— Стой! Дальше не поеду!
Еркин, скакавший чуть впереди, остановился:
— Что там у вас?
— Думаете, связали, как барана, и повезли? — Нурлан скатился на землю, глядел на ребят снизу вверх.— Думаете, и разговаривать с Акатовым нечего? Хитрецы нашлись — выманили от дяди Отарбека. Я бы и сам от него ушел!
— Куда? — Колька возмущенно завертелся в седле.— Куда ушел? Под чужим именем на Кавказ?
Еркин высвободил ногу из стремени.
— Нурлан прав. Поговорим.
Неподалеку увидели развалины зимовки, отпустили лошадей, сели в затишке, по-степному, на корточках. Нурлан охлопал карманы: закурить бы. Поглядел на Кольку. Тот сроду не дымил, у Кудай- бергеновых на этот счет следили строго, но вытащил из-за пазухи пачку «Севера». У Нурлана нос благодарно взмок: что ни говори, а есть на свете верная дружба.
— Поговорим! — Нурлан, старый курильщик, затянулся жадно.— Врал я вам. Нет никакой банды, но все равно я кругом в дерьме. Гаду Мазитову служил. Люди пальцами показывать будут: «Акатов — ма- зитовский хвост», «С Акатовым не связывайся — продаст». Некуда мне деваться.
Не знал еще Нурлан: сегодня спозаранку красный карандаш вывел жирно на стенке мальчишеской уборной: «Акатов — предатель». Не знал Нурлан и того, что мстительную надпись мало кто в школе успеет увидеть: даже Гавриловна услышит про нее с чужих слов, а сама, наведавшись после уроков в мальчишечью заповедную, обнаружит сквозь клубы дыма лишь расплывшееся на стенке розовое пятно. Красные буквы исчезли после большой перемены — так полагал Вася, то есть Василий Петрович: он-то видел их своими глазами. Кто стер? Серафима Гавриловна терялась в догадках, но розовое
476
пятно осталось тайной, каких в школе бывает не так уж много. Только годы спустя, когда Аскар Сарсекеев закончит десятый класс с золотой медалью, он расскажет Серафиме Гавриловне на выпускном вечере: будучи робким первоклассником, увидел в уборной позорные слова и решил: это непорядок, Акатов интернатский, а интернатские своих не выдают. Поразмыслив деловито, небрезгливый Аскарка сгреб с пола мокрую горсть едучей хлорки и размазал ладошкой по красным буквам. Кожу обожгло нестерпимо, но он водил и водил рукой по стенке, пока буквы не утонули в розовой каше. Впоследствии, когда проходили древнюю историю, Аскарка узнал про юношу, сжегшего правую руку на огне, и кое-что припомнил из своего опыта; от хлорки у него слезла кожа с ладони, но он стойко помалкивал до конца уроков, а в интернате тетя Наскет смазала ожог подсолнечным маслом, забинтовала стираной тряпицей: до свадьбы заживет! — и Аскарка сел писать упражнение. Ладошка-то у него не правая сгорела — левая... Не так прост был Аскарка в молодые еще лета, в первом классе.
— На кого хочешь я тогда думала, только не на тебя, несмышленыша...— скажет ему много лет спустя на выпускном вечере Серафима Гавриловна.— Я же помню, каким тебя в интернат привезли. Маленький, испуганный, гололобый. Время-то как летит. Не успеешь оглянуться...
...Если о времени призадуматься, о годах, пролетающих чередой, то самое для таких дум колдовское место — чтобы степь открытая лежала перед тобой, а за спиною шептала, осыпаясь, древняя глина. Случается с человеком внезапное и необъяснимое озарение; будто все, что с ним сейчас происходит, что он видит, чувствует, говорит, все уже было с ним когда-то, а сейчас вернулось, повторилось, припомнилось: ветер шарит в окаменевшем бурьяне, лошади фыркают и прядают ушами, трое сидят по-степному, держат совет.
Одному из троих это почудилось или всем троим одновременно открылось что-то из будущего? Будущее часто вмешивается в людские сегодняшние мысли и дела, всегда и всюду вмешивается — и сейчас тоже бродило неподалеку от развалин, приглядывалось к троим, усевшимся в затишке.
— Ну ладно, вернете вы сбежавшего Акатова в родную школу. А дальше что? Вы подумали? — кипятился Нурлан.— Собрание созовете. Доспаева скажет: «Акатов, встань и отвечай!»
— А что собрание? — пробурчал Колька.— Найдется кому за тебя заступиться на собрании.
— Сам я, значит, за себя не заступлюсь? Струшу? В штаны навалю?
— Я тебе не говорил: трус. Ты сам сказал.
Еркин вытянул камчой по сапогу:
— Если долго преследовать труса, он храбрецом станет!
— Тебе, Садвакасов, не чабаном быть! Тебе зубы дергать в боль¬
477
нице. Или хирургом оч-чень тебе подходит. Возьмешь ножик и — чик! — отхватишь у человека полсердца. Вы, Садвакасовы, жалости не знаете.
— Уйми ты свой язык! — одернул Колька.— Тебе Отарбек сказал про лишнюю болтовню? Сказал. Повеситься можно на твоем длинном языке.
Еркин занялся рукоятью камчи:
— Вернешься в Чупчи — заставишь всех себя уважать. Много сил уйдет, много времени. Но постараешься — заставишь. А убежишь...— Еркин поцокал языком.— Убежишь — дурная слава твоя еще долго проживет в степи, по всем аулам разлетится. Столько человеку не прожить на земле, сколько у нас в степи помнят нечестные дела.
Колька кивнул солидно:
— Он прав. Вернешься — снимешь с себя. Не сразу. Однако снимешь.
— Что снимешь? Всю шкуру снимешь...— заныл Нурлан.— И девчонки задразнят. У них не языки, а жала каракуртов! — Рыжий артист картинно схватился за голову и повалился на землю.
— Больно много ты о девчонках стал думать! — рассудительно заметил Колька.— И вообще кончай свои спектакли. Думай, что будем в школе говорить.
Нурлан, лежа, приоткрыл хитрый глаз:
— Что ни придумай — Голову не обдуришь.
— А его и нет в школе. Через неделю вернется.
— Значит, для Гавриловны придумать! — обрадованно поднялся Нурлан.— Так бы и сказал, а то тянешь. Для Гавриловны проще простого.
— Много придумаешь — много вопросов задавать будут. Мало придумаешь — мало спросят. Скажешь, как было,— вовсе никакого разговора,— рассуждал неспешно Еркин.— У тебя была причина в Тельман податься? Была. У нас с Колькой была причина за тобой поехать? Была. О чем говорить? Вовсе не о чем.
— Слушай, а он здорово придумал! — обрадовался Колька,— Коротко и ясно. Поехали — приехали.
— Ладно! — Нурлан встал.— Темные вы люди. Не знаете: чем проще роль, тем артисту труднее. И вообще вы ни фига не понимаете,
478
как артистам живется! Прошлой зимой у нас в клубе артист выступал. Со сказками про Алдар-Косё. Чапан драный, шапка облезлая — живой Алдар-Косе. Он серьезно говорит — все в клубе смеются. Он смеется а ты плачь. Вот кто такой настоящий артист! Рваную шапку снял, чапан сбросил — вот он я! Черный костюм, рубашка с галстуком. Люди хлопают, он им кланяется: спасибо. Понимаете? Не ему люди кланяются, а артист — людям. Но все видят: талант, знает свое дело. Людям — отдых, ему — работа, оч-чень трудная. Я читал про дирижера: за один концерт он столько физических сил расходует, сколько шахтер за две смены. Шахтер! А вы...— Нурлан махнул рукой.
Что-то возникло вдали, где небо, сгустившись серо, сходилось со степью.
— Летит,— Колька вскочил.— Вертолет.
Вертолет тянул низко над степью, покачивал округлым брюхом.
Еркин вспомнил: летом на джайляу, неподалеку от садвакасовской юрты, садился такой же винтокрылый, только поменьше. Овцы повалили на его стрекот, окружили небесного гостя. Привычка .у них кидаться к вертолету, потому что зимой, когда буран погуляет или когда вся степь в ледяной непробиваемой корке, на отгон везут сено и тракторами и вертолетами: рев мотора для современной овцы — зазывная песня.
— Ищут кого-то,— определил Колька, когда винтокрылый на миг завис над мазаром.
— Меня? — трухнул Нурлан.
— Ну, с чего, дурья башка, стали бы тебя с таким форсом искать? Может, из солдат кто заплутал. Вроде Паши Колесникова. Помнишь, как он Магелланом стал...
Вертолет удалился в сторону зимних пастбищ.
— К чабанам полетел.
Оттуда, где скрылся вертолет, вскоре вынырнула машина — «газик».
Колька присвистнул:
— А «газик-то»... к нам!
«Газик» не рыскал, бежал нацеленно — словно собака, учуявшая след.
479
— Солдат за рулем,— разглядел глазастый Колька.— Сейчас узнаем, что fyT армия ищет. Их на нас вертолет навел. Ей- богу!
— Искусственный спутник ищут... Здесь у нас упал! А что? Вполне возможно! — Нурлан стянул с шеи красный шарф, замахал, как флагом: — Сюда! Спасите наши души! Идем ко дну! Последние минуты героического дрейфа через Северный полюс! Привет из космоса! От Белки и Стрелки.
— Ори, ори,— ворчал Колька, зная, что в «газике» за ветром и шумом мотора все равно крика не слышат.— Выкричишься — полегчает.
Метров за десять до мазара, «газик» развернулся полукругом, подкатил правым боком. В переднем оконце — знакомый майор. Спрыгнул на землю:
— Послушайте, ребята, вы сегодня не встречали в степи двоих из вашей школы? Степанова и Мазитова.
— Они так далеко не ходят,— сказал Еркин.
— Сегодня могли и дальше забраться.
— Случилось что-нибудь?
— Да так... Ничего особенного.— Коротун ни с кем посторонним не собирался вдаваться в подробности.— Вы что? В школе сегодня не были?
— Мы в Тельман ездили...— заспешил оправдаться Колька.
Еркин дернул его за рукав.
— Сашка Мазитов плохо знает степь, далеко не пойдет, зря будете искать. У Сашки в поселке места есть: развалюхи, кошары пустые... Там смотрели?
Коротун оглядел всех троих, словно на выбор, и остановил взгляд на Нурлане.
— Вот что, парень... Поедешь со мной. Довезем до Чупчи, по дороге покажешь, где еще можно пошарить.— Майор откинул переднее сиденье, подтолкнул своего «кунака» вглубь.
«Газик» по-собачьи рванул песок задними колесами, умчал в сторону поселка.
— Найдутся, никуда не денутся,— говорил солдат-шофер.— Я пацаном сколько раз из дому бегал. Батя мой умер — он с войны инвалидом пришел, на пять мирных лет только и хватило. Ну, а мать больно скоро замуж вышла... Отчим что?.. Неплохой мужик, я с ним сейчас вполне... а пацаном в двенадцать лет злился: на чердаке ночую, на поезде укачу... Милиция поймает, вернет — я опять в бега... Три месяца в психичке пролежал, с такими же бегунами. Оказывается, заболевание есть психическое детское: из дому бегать... Обследовали меня, расспрашивали, я чуть вправду умом не тронулся. Спасибо, отчим приехал, забрал меня из дурдома под свою ответственность, а я еще разок его подвел, до Одессы добрался. После как отрезало — не тянет... Вроде переболел и выздоровел... Может, и с ребятами в таком роде случилось. Как вы считаете, товарищ майор?
480
— Разговорчики...— У майора, роняющего слезу над песней, имелся для подчиненных другой, заскорузлый голос.— Не забывайте, произошло неприятнейшее чепе в семье офицера. Лишняя болтовня дает пищу обывательским слухам.
Нурлан обозлился: так, так... Значит, беспокоимся о чести мундира?.. Боимся лишней болтовни... Сашку заложим, офицерского сынка вытащим...
— Слушай, парень...— Коротун, кажется, забыл, что у Нурлана есть имя.— Слушай, парень, что за тип у вас в поселке — Мазитов?
— Мазитов? — дурашливо переспросил Нурлан.— Отрицательный тип. Могу охарактеризовать. Хотите? Устное сочинение на тему «Образ Мазитова».
— Можешь не сочинять,— разрешил майор.— Вашего Мазитова сегодня ночью арестовали. Мы получим о нем достаточные сведения из официальных источников. Меня сейчас больше интересует его сын. Я к нему уже давно присматривался.
— К Сашке? Думали, иностранный шпион? Оч-чень похож!
Солдат за рулем фыркнул.
— Острить будешь в другом месте! — отрезал Коротун.— Сейчас отвечай на вопросы. Давно ли сын Мазитова занимается темными делами? Какими конкретно? А также в частности — про каракуль...
— Вас понял! — Нурлан как бы со стороны удивился совершенному своему спокойствию.— Ученик пятого класса Салман Мазитов... Запишите: его настоящее имя Салман. Так вот, Салман Мазитов уже давно никакими темными делами не занимается. Салман Мазитов послал ко всем чертям своего дорогого папашу. Начисто отвязался от старого жулика. И между прочим — запишите, а то забудете! — Салман отошел от своего папаши задолго до приезда примерного мальчика Витеньки, которого вы ищете с помощью вертолета. Прошу занести мои показания в протокол. А также ответить на мой вопрос. Послал бы кто-нибудь вертолет персонально за Сашкой Мазитовым? За ним одним?
— Ты брось выламываться! — прикрикнул Коротун.— Говори нормальным языком.
— Есть говорить нормально! — отчеканил Нурлан.— Мой нормальный язык — казахский. А вы по-казахски понимэ? Сколько лет здесь служите? Почему до сих пор не изучили?
— Меня, парень, на такой крючок не поймаешь. Понял?
— Оч-чень вас прекрасно понял! — ухмыльнулся Нурлан.— Так вот насчет темных делишек... Мазитову помогал я.
— Врешь! — сказал Коротун.— Болтаешь.
Нурлан набрал побольше воздуха и захохотал, как хохочут негодяи в американских фильмах: ха-ха-ха!
— Да брось ты выламываться! — попросил Коротун обыкновенным голосом.— Дело-то ведь серьезное. Уголовное дело. Ты мне, Нурлан, все толком объясни.
16 Школьные годы. Выпуск 2
481
Нурлана заело: вспомнили наконец, как его зовут.
Коротун разволновался, заговорил вроде бы даже ласково:
— Давай, Нурлан, выкладывай все по правде. Я ж тебе друг. Нурлан ожесточенно подумал: «Почему вы раньше доброго слова
сказать не могли? Теперь что? Какая может быть теперь правда?» Скучно стало, как барану, которому горло перерезали.
— По правде, товарищ майор, ничего не получится.
— Ну смотри,— Коротун обиделся,— тебе же хуже.
— Вы меня не пугайте! — взорвался Нурлан.— Я пуганый.
— Вот ты как заговорил?
Нурлана понесло, как легкое семечко степным ветром. Он выложил Коротуну про все свои делишки с Мазитовым.
Майор слушал и все больше мрачнел. Обманулся он, оказывается, в этом мальчишке. Думал, душа у него светлая, сердце отзывчивое. А на поверку — дрянной человечишка, мозгляк и трус.
Коротун так и выложил Нурлану:
— За все за это не могу я тебя уважать. Трус ты и предатель. Человек, не имеющий понятия о чести и совести.
У Нурлана враз заныли все зубы: «Скука зеленая! Чего я с ним в откровенность залез? Какая мне нужда Сашку защищать?»
— С таким, как ты, на фронте,— пилил майор,— с таким пропадешь. Да я тебе никогда руки не подам.
Нурлан подскочил, ударился башкой в брезент:
— Надоело! Выпустите меня!
Но из «газика» с заднего сиденья сам не уйдешь — надо, чтобы вылез сидящий впереди.
— Ты старшего выслушай. Для пользы твоей говорится. Можешь не беспокоиться, в городок к нам не увезу. Высадим в поселке.
— Да плевал я!..
Он в самом деле дурак с длинным языком: нашел у кого искать поддержки, сочувствия, хотя бы желания выслушать, понять!
На краю поселка шофер притормозил. Майор не шевельнулся на переднем сиденье. Шофер вылез:
— Давай, парень, вытряхивайся!
— Мерси вас! Гуд бай! Чао! — Нурлан решительно пошагал в интернат. Ух и расскажет он сейчас там такие ужасы, что у всех глаза на лоб повылазят!
Издали Еркин увидел: в окне горит свет, из трубы курится дымок. Наверное, Исабек хозяйничает. Чайник сообразил вскипятить, лепешек напек по-казахски на сухой сковородке. Еркин почувствовал: зверски жрать хочется. В доме Отарбека кусок в горло не шел, а утро, когда с Колькой наскоро пожевали холодной баранины, отошло в дальнюю даль.
Ну и день... Пролетел быстро, а оглянись — сколько в него вместилось!
482
Дурацкая догадка стукнула: а что, если там отогреваются ее брат и Салман? Вспомнил: дарил ее брату камчу. Вспомнил светлые, русские, незнающие, как у аульных ребят, глаза: «Мы с тобой та- мыры?» Ее брат мог прийти сюда, Салман не мог, а Витя мог. Он обычаи знает. И доверчивый. Еркин наконец понял, какой Витя: доверчивый.
Еркин теперь ясно видел Витю в своей будущей жизни. Ехал на вездеходе по степи к горам, встретил очкарика, ставящего мудреные приборы у сусличьих нор, и сразу узнал Витю, хотя не виделись столько лет. Ее брат оглянулся и сказал: «Слушай, Еркин, синяя птица уже прилетела из Индии. Пора сеять в степи кормовые кактусы».
Еркин толкнул дверь и вошел.
Глянули доверчивые глаза, но не Витькины. За столом сидела Шолпан. Как сюда попала? Еркин знал: просто пришла, как все делает и говорит — просто.
Он сел у порога, стянул сапоги:
— Не нашли.
Она прошла к порогу, взяла сапоги, поставила к печке:
— Тетя Наскет гуляш с макаронами дала для тебя. Есть хочешь?
— Хочу.
Он ел со сковородки жадно, давился. Шолпан поставила на стол горячий чайник, села напротив. Он тянул чай, шумно отдувался.
— Мазитова теперь из школы исключат,— рассказывала Шолпан.— У него отца посадили — теперь Мазитова примут в колонию. Гавриловна говорит, ему в колонии будет лучше.
— Всем будет лучше.— Еркин подпер кулаками сонную тяжелую голову.
— Сауле к ней ходила. Чтобы Мазитова не исключали. А то получилось — из-за Саулешки.
Еркин не понял: почему Саулешка ходила к Гавриловне просить за Мазитова — почему Саулешка, а не Маша?
Ему казалось: сегодняшний день переполнился, пошел расплескивать — побежало из переполненного дня, как из казана в огонь, задымило мокрыми угольками.
Он не видел: Шолпан натянула плюшевое пальтишко, накрылась большим платком. Дверь в холодную ночь приотворилась чуть-чуть — и не пройти человеку. Может, не Шолпан выскользнула из старой садвакасовской землянки, а дух прежней здешней хозяйки: ее платья лежат в кованом сундуке, ее камзол, пряжки, браслеты... Все впору Шолпан, и она не ушла — она здесь?
Глава восьмая
Салман осторожно приподнял край матраца, в уши ворвался грохот. Грузовик ехал по городской улице. Тут не соскочишь — людей табун.
С грузовика он изловчился смыться в тихом месте. Шофер зашел в дом, а позади, в проулке, никого. Салман успел выползти из-под матрацев, перевалился через борт — мотор взревел, за грузовиком захлопнулись глухие ворота.
Салман пошел на шум большой улицы. Впервые увидел не в кино трамваи, троллейбусы, но не жадничал глазами: еще насмотрится разных городов, а теперь нельзя терять времени.
Выбрал старуху на вид подобрее:
— Бабушка, помогите больницу найти.
— Тебе какую? Детскую?
— Ну! — Салман мотнул головой. Не ошибся он в старухе. Сам не догадался бы про детскую спросить.
— Три квартала пройдешь, повернешь налево...
Больничная проходная для Салмана не загадка. Она для того поставлена, чтобы не впускать и не выпускать. Но кто умеет — пройдет. Или сторожа перехитрит, или «подмажет», чтобы ворота не скрипели.
У проходной толклись женщины с узелками, банками, бутылочками. Неумехи. Салман мимо них шустро сунулся в дверь — будто он свой, здешний. Уже во двор проскочил, но вдруг цапнули за ворот:
— Ты куда? Сегодня день неприемный,— и вытолкали на улицу.
— Кто у тебя в больнице? — Женщины с узелками сочувственно обступили Салмана.
Он потер глаза кулаком:
— Брат...
— В каком отделении лежит?
— А я откуда знаю!
— Желтухой болеет или дизентерией?
— Ничем не болеет. Здоровый.
— Так если здоровый, чего же ты...— завела одна из теток, но другая ласково к себе потянула:
— Ты, может, устал, проголодался? Я дочке передачу несла — не берут. Ты поешь...— расстелила на лавочке салфетку белей снега.
Вспомнился в приемнике разговор насчет людской жалости: «Главное, чтобы сразу тебя пожалели. Скажи: папка нас бросил, мамка замуж вышла, я к бабушке еду. Тебя и кормить будут и от контролера спрячут». Не врали пацаны в приемнике: кормят Салмана, пожалели. Но отчего-то еда в горло не идет. Тетка чужая, а жалко. Дочке передачу несла — не взяли.
Накормленный в приемнике досыта, он теперь наелся взапас, высосал молока всю бутылку. В приемнике Салман и куревом раз¬
484
жился и поднабрался кое-чего полезного. Там разные ребята околачивались и даже девчонки — из дому беглые. На окнах решетки, у ворот — милиционер. Воспитатель нудил: «Когда вспомнишь, как тебя зовут, откуда прибыл,— приди и скажи». После снова заглянул, напомнил: «Ну как? Думаешь?» Салман сказал правду: «Думаю». Он очень сильно думал: как из приемника убежать?
Один пацан постарше Салмана года на три: «В седьмом классе учусь. Надо бы в восьмом, да на второй год оставался. И все из-за того, что к отцу бегаю»,— спросил Салмана:
— Ты тайны хранить умеешь?
— Умею.
— Отец у меня морской адмирал во Владивостоке. Я к нему бегаю.
Салман не поверил; зачем много раз бегать, надо один раз. Пацан улыбнулся печально:
— Это кажется — просто. Ты сам попробуй — узнаешь.
Салман свою тайну про отца-вора не сказал, только про Витю: что
в вагоне случилось.
— Хана твоему корешу. В прошлом году на Алма-Ате Первой распечатали вагон, а там покойники. Пацаны местные. И уехать никуда не уехали. На одну ночь закрылись от милиции — и кранты...
У Салмана чуть не отнялись руки-ноги, но он свой подлый страх усмирил: «Я-то живой. Отчего же Витьке кранты? Ну, слабже он меня. В котельной не ночевал, в мазарах змеиных не жил. Непривычный к плохому. Понятное дело — сомлел. Но ведь теплый был. Я-то живой, не сдох...»
Ночью снилось ему: синяя птица взлетела со шкафа в биологическом кабинете, сбросила с лап полированную подставку — так, нога об ногу, скидывают сапоги — и забила крыльями в окошко. Стукается о стекло — не может вырваться на волю. Надо бы окошко открыть, а Салман не может с места стронуться: ноги к полу прикручены — как лапы птичьи к дощечке. Рвется Салман птицу выпустить, а ни с места. Кто-то догадался, широко распахнул окно. Но не видит Салман против света, кто окно распахнул, кто птицу выпустил. Свет все резче — глаза болят. Он ладонями закрылся и понял: в комнате посреди ночи зажгли электричество. Воспитатель по кроватям пересчитал: все на месте? — погасил свет. Салман подумал успокоенно: синяя птица зато на воле. И с тем уснул.
Утром ели за длинным столом котлеты с кашей. Салман шепнул сыну адмирала:
— Давай вместе убегать.
— Отсюда не убежишь. Милиционер у ворот. И нельзя мне сейчас во Владивосток ехать. Отцовская эскадра вчера ушла в плавание. Придет через полгода. У меня самые точные сведения. А откуда — объяснить не могу. Военная тайна.
— Полгода...— Салман от души посочувствовал.— Чего же ты полгода делать будешь?
485
— Подожду. Мать за мной приедет. Ей телеграмму дали. Поживу дома. А через полгода сбегу непременно, доберусь до Владивостока, и отец меня возьмет юнгой на боевой корабль.
— Лучше сразу во Владивосток,— сказал Салман.— Чего тянуть! Там подождем.
— Мать жалко...— Сын адмирала отвернулся, завозил носом.— Плачет, когда убегаю...
Милиционер открыл ворота грузовику. Воспитатель вышел на крыльцо:
— Не надоело вам, голуби, лодырничать? Все дети учатся, а вы от школы бегаете. Идите потрудитесь немного. Ваши же матрасы на дезинфекцию пора свозить.
И вот тут-то Салман все шустро сообразил, но виду не подал, даже с лавочки не стронулся.
— Адмирал, иди матрасы таскать! — орали из кладовки.— Адмирал, поднимай паруса, плыви сюда! — Беглый народ волок матрасы, кидал в кузов, плясал на мягком.
— Тебе, Иван Непомнящий, особое приглашение требуется? — ехидно спросил воспитатель.
Салман встал с лавочки будто нехотя, но все жилки в нем натянулись: помоги, птица, не упустить случай! Сын адмирала
Салмана в кузове матрасом прихлопнул — никто и не заметил. Верный парень. Только откуда он знает, ушла или не ушла из военного порта отцовская эскадра? Чего лишнего сообразить на этот счет Салман не хотел. Мог, но не хотел. Ему сначала до Владивостока доехать, а там он решит, что к чему. Владивосток •не Чупчи: жить можно. Но сначала Витьку найти, Витьку домой вернуть. Ему-то ни к чему в юнги.
— Что же с братом твоим случилось? — спрашивает тетка, сворачивая салфетку.
Салман уже прикинул: ближе к правде надо.
— Отравился нечаянно. Надышался. В сарае мешки с порошком лежали. Яд какой-то.
— Так чего же ты сюда пришел? — заохала тетка.— С отравлением не в детскую возят. Ты на Пастера иди. Погоди, я тебя в троллейбус посажу, а то заедешь не туда.
...Табличка на заборе: «Улица Пастера». Проходная. Тетки с узелками. Салман остерегся лезть в проходную — к теткам пристроился разузнать. Они его надежд не обманули. У них как раз беседа шла — ах! ах! — про мальчика из седьмой палаты. Там у одной из теток сын лежит: рыбой отравился. Так вот в ту самую седьмую палату, где теткин сын после промывания желудка вполне поправляется, вчера привезли со станции мальчика беспамятного. Лежит, в себя не приходит, а кто такой и откуда — неизвестно.
Тетки пригорюнились понимающе:
486
— Медицина бессильна... Помрет мальчик. И мать, бедняжка, знать не знает.
— Ну! Раскаркались! — прикрикнул на теток Салман.
Там Витька — в седьмой палате!
Скрип, скрип — открылась больничная проходная. Почудилось Салману или на самом деле похож на отца здешний больничный сторож. Барыга, сразу видно.
— Вы бы, девушки, шли по домам. Нечего тут дожидаться.
Салману ворота подмазать нечем. Его дело — собачонкой скулить:
— Дяденька! Мне в седьмую палату. Мальчик там отравленный. Вчера со станции привезли...
— А ты ему кто?
— Брат!
— Интересно...— оглядел его сторож.— Значит, брат?..— Синий халат раздулся от смеха.— Я, что ли, его не видел — мальчика отравленного? А ты меня обмануть хочешь. Нехорошо, нехорошо. Тоже еще брат нашелся. Блондинчик он, а ты копченый. Разная у вас нация. Никак не спутаешь. Так что уходи отсюдова, чтобы я тебя больше не видел. Ну, скажи по совести, какая ты ему родня?
Салман зубы оскалил:
— Брат!
— Ты, я гляжу, вредный! Чего тут крутишься? Воровать пришел?
Из проходной вышел пижон с чемоданчиком, в белом плаще, как у Ржавого Гвоздя.
— Можно на минуточку? — окликнул его сторож.— Как там у вас, доктор, мальчик отравленный? Помер? — и глазом поводит на Салмана.
— Мальчик? Пока в тяжелом состоянии.— Доктор посмотрел на Салмана: — Ты что, к нему?
— Крутится у ворот и брешет, будто мальчик отравленный ему брат родной. Так я ему и поверил. Нация совсем другая...
— Но почему так уж сразу и не верить? — засомневался доктор.— Ты говоришь — брат? — серьезно спросил Салмана, без подковырки.
— Папка нас бросил, мамка замуж вышла,— радостно зачастил Салман,— мы к бабушке едем...
— Вместе ехали? Это хорошо. Что ж, пойдем к брату.— Он взял Салмана некрепко за плечо, подтолкнул в проходную, повел больничным двором.— Плохо твоему брату. Надо бы мать телеграммой вызвать. Если мать не хочешь — бабушку. Адрес скажешь?
— Не скажу. Брата вылечишь — он скажет.
— Такой, значит, выдвигаешь ультиматум?
Салман вопроса не понял, промолчал.
— Так это ты сегодня из приемника утек?
— Ну, я! — буркнул Салман.
487
— Если не возражаешь, я в приемник позвоню, скажу им, чтобы тебя не искали, ты у нас переночуешь...
В тесной белой комнатушке молодой врач надел халат, нарядил Салмана в больничную пижаму. На белой тумбочке — белый телефон. Салман слышит, как наговаривают из приемника.
— Вы этот народ не знаете, а мы знаем. Все он врет. И убежит он от вас. Знаем мы этих бегунов не первый год. Все они говорят, что папка бросил, мамка замуж вышла. Да, поголовно. Да, все едут к добрым бабушкам. Есть у нас один, к отцу адмиралу бегает, но он, поверьте, исключение...
На эти наговоры молодой врач возражает твердо:
— Я за него отвечаю! Никуда он от своего брата не уйдет! Адрес? Нет, адреса он пока не дал. Как зовут? — прикрыл ладонью трубку, вопросительно поглядел на Салмана.
— Сашка,— выдавил Салман.
— Его зовут Саша. Он мне сейчас очень нужен... С тем, с другим? Плохо пока. Его фамилия? — Он опять прикрыл ладонью трубку: — Фамилию брата скажешь?
— Вылечи — он скажет! — уперся Салман.
Он рассчитал наверняка: Витю в больнице пусть вылечат, Витя сам все расскажет. Салмана хоть бей, хоть пытай — не дознаетесь. Витин отец — полковник, командир части. Его фамилию, адрес нельзя говорить. Салману-вору вовсе нельзя фамилию полковника в плохое дело записать. У Витькиного отца на груди шрам от фашистской пули, ему плохие вести опасны. Уже было у Степановых с дядей Лешей: осколок на войне не убил — в поле убил. Салманово
дело — молчать. Витю пускай лечат. Витя скажет. Люди разберутся: Витя не вор. Мазитов пускай вор, фамилия испорченная, можно сказать, если случится одному влипнуть, а сейчас он с Витькой, как брат с братом,— не Мазитов, неизвестно кто. Сашкой зовут — на том и хватит.
Витя лежал за стеклянной загородкой, лицо на подушке далекое, синее. Салман руками в спинку кровати впаялся — никуда он отсюда не уйдет. Его и не гнали. Табурет под колени двинули: сиди. Он сидел, смотрел, течет кровь: по стеклянным трубкам, длинная игла входит в Витькину руку, светлая жидкость мелеет в стеклянном пузырьке.
Ночью Салман вышел в коридор, разбудил дежурную сестру, задремавшую за столиком:
— Адрес пиши! Матери телеграмму!
— Какой адрес? — отмахнулась она.— Спят все. Иди ложись. Тебе постелили вон там на диване.
Утром, заглянув за стеклянную ширму, молодой врач увидел: Салман сидит на табуретке, не спит.
«Характер у стервеца!»
488
Салман не пропустил той минуты, как начало теплеть лицо на подушке, щелочкой проглянул Витькин беспонятный взгляд и тихо, радостно прояснился:
— Сашка... живой...
По щекам Салмана побежали слезы, и он засмеялся.
— Дайте ему валерьянки! — приказал врач.
Степановы всю ночь не спали. У Натальи Петровны начался сердечный приступ, прибегала Мария Семеновна, делала уколы, ругательски ругала этого мерзавца Сашку Мазитова. Пунктуально каждый час звонил Коротун: ничего нового.
Витин портфель Маша спрятала у себя в комнате, чтобы никому не попадался на глаза, не расстраивал. Маша вынула из портфеля книжки, тетради — все аккуратное, чистенькое. Ничего не нашлось в Витином потфеле такого, что могло бы объяснить, почему он вместе Сашкой удрал из Чупчи. И тем понятней стала Маше ее собственная вина во всем случившемся. Она больше всех виновата: сестра, а не знала, не догадывалась.
Ночью пошел снег. Он летал над степью и словно боялся касаться земли.
Утром у школьных ворот Машу ждал Еркин в длинном косматом тулупе. Было еще темно.
— Если бы ты не приехала,— сказал Еркин,— я бы не пошел в школу, я бы пошел к тебе.
Про брата он ее не спросил. Он понял не спрашивая: Витю еще не разыскали. Еркин и Маша вместе вошли в класс. Маше показалось, ребята встретили их настороженно. Сауле поднялась со своего места, пошла навстречу.
— Маша! — Сауле говорила не ей одной, а громко, для всех.— Моя мама и...— она чуть запнулась,— и мой отец просили передать извинения твоим родителям. Это ужасная ошибка. Твой брат ни при чем...
Ребята обрадованно повскакивали с мест, обступили со всех сторон Машу, Еркина и Сауле.
— Ты молодец, Саулешка!
Один только Еркин глянул неодобрительно.
— Покрасовалась? Ну и хватит! — Не понравилось ему, с какой жестокой прямотой просит прощения гордая Саулешка. Больше всего на свете хотелось Еркину взять Машу за руку, увести отсюда.
Но Фарида в красных сапожках уже взлетела на парту:
— Маша! Сауле! Вот здорово! Пожмите друг другу руки!
— Разве они ссорились? — услышал Еркин удивленный вопрос Кольки.
Колька полез через спины стащить «сороку» с командного поста, но опоздал. Маша протянула Сауле открытую ладошку. Под за-
489
острившимися взглядами ребят девочки строго совершили рукопожатие и, помедлив, разняли руки. Будто все необходимое теперь исполнено, и больше обеим ничего не надо.
Не понравилось Еркину их рукопожатие. Прав Колька: Маша и Сауле не ссорились, вообще ничего меж ними не было — Сашкины пакости не в счет, его злоба, больше ничья, даже Витька вовсе ни при чем... Еркин знал: что-то неправильное произошло, в таком серьезном деле и вдруг послушались Фариду.
Он не хотел даже думать о том, как трудно сейчас гордой Саулешке. Он не размышлял ни минутки, кто прав, кто неправ. Он чувствовал только одно: надо защитить Машу.
За окнами медленно высветлялся новый день. Электрический свет, при котором начался первый урок, все больше желтел, мутнел — вершилось каждодневное противоборство: ночной свет отступает под напором дня, прячется внутрь стеклянных шаров под потолком. О нем все забывают, но приходит всевидящая Серафима Гавриловна.
— Опять днем с огнем? — Она протягивает руку к выключателю, щелчок — и день окончательно торжествует.— Степанова! Только что звонили из городка. Нашлись путешественники.
Еркину казалось: из одной жизни он переместился в другую. Сам остался тот же, но вокруг все стало другое, непривычное. И степь, куда он после уроков брел вместе с Машей, стала другая; они шли без дороги по черно-белой земле, как по другой, неизвестной Еркину планете. Далеко отсюда до весны, до зеленой степи, до озер алого мака, в которые кидаешься с седла... И Маша там никогда не бывала — в степной весне.
— Знаешь, мама говорит: «Все дети как дети, а ты с Витей как кошка с собакой». Я больше всех виновата: сестра, а не знала, не догадывалась...— Знаешь, я тогда звонок слышала, но не подумала... На Сашку разозлилась, а он ведь не нарочно... Знаешь, я в поезде родилась, это всегда со мной, в характере осталось...— Она рассказывала ему обо всем своем, самом
490
обычном, чего и не скрывают никогда, но и не рассказывают беспричинно: о Мусабе, где жил пестрый удод и где дым очага похож на чуп- чинский, о дяде Леше, которому отец обязан жизнью и которого в мирном поле убил осколок войны.— Папа себе простить не может: почему не уговорил лечь на операцию... Теперь у нас на всем свете никого. Тебе, наверное, трудно понять. Садвакасовы — большое сильное дерево. Хорошо быть веткой сильного дерева.
Еркин тоже рассказывал свое, отдавал все, что само всплывало в памяти: как играл с мальчишками в казахского богатыря Хаджи- Мукана, как спутники над степью летают, синяя автолавка заворачивает к юрте отца, отец весело тратит деньги, ночная орава мальчишек скачет за двадцать километров к чабанам-киргизам в кино...
Никого нет, они вдвоем в степи, но Еркин все время чувствовал чей-то настороженный взгляд: переменившаяся сегодня степь глядела на них во все глаза. Кто вы такие? Зачем складываете вместе свою память? В какую дальнюю дорогу снаряжаетесь?
Еркин видел раньше не раз перемены, которые совершают в степи зима, весна, лето. Видел перемены, совершаемые трудом людей. Впервые понял: есть другие перемены, совершающиеся необъяснимо.
На пути из поселка в городок стоит мазар, сложенный — как и в старину — из саманного необожженного кирпича, но с дверцей из железного прута,— заказ райисполкома, выполненный искусно местным кузнецом братом Кольки Кудайбергенова. Здесь похоронен член Союза писателей акын Садык, Нурланов дед.
— Я внутрь уже заглядывала,— сказала Маша.— А войти можно? Не запрещается?
— Можно.
Железная дверца, крашенная голубой краской, скрипнула сварливо. Они вдохнули мерзлую глиняную пыль, перемешанную с сухим снегом. На стенке низко — слишком низко! — нацарапано: «Амина».
Разве Еркин не знал, кого частенько прячут разбросанные в широкой степи полуразваленные и новые мазары? Знал. Он отвел
491
глаза от имени, нацарапанного слишком близко к земле.
Амина... Этим летом на джайляу он ее возненавидел. Идет, бедрами качает — мужчины, отцы взрослых сыновей, поворачивают бороды ей вслед. Кенжегали — городской человек, ученый! — тоже закосил глазами. Наверное, и раньше такое происходило при Еркине, но он умел понимающе отворачиваться. Натыкался ночью в траве на парня с девушкой и молча уматывал куда подальше, держал язык на привязи: чего он, маленький, что ли? Но прошлым летом возмущался: проходит Амина, и отцы взрослых сыновей теряют достоинство. А она тут с солдатом.
— Ты о чем задумался? — спросила Маша.— Тут холоднее, чем на ветру. Пошли?
Еркин заслонил спиной голубую железную дверцу, совсем близко притянулись светлые доверчивые глаза.
ЗИМА
Глава первая
У Степановых спрашивают Машу: «Чего же ты не пригласишь в гости сына Мусеке? Фарида ходит, Коля и Нурлан ходят, а сын Мусеке нет».
Еркин не ходит в гости к Степановым потому, что каждый почти вечер бродит по степи около городка и ждет: вот Маша зажгла-по- гасила зеленую лампу у себя на столе с тетрадками — значит, она сейчас выбежит к нему.
Еркин и Маша складывали вместе свою память и впервые оба поняли: четырнадцать лет — очень много. Они прожили по четырнадцать лет, не зная ничего друг о друге. Если сложить, получается расстояние в двадцать восемь лет. Половину пройти степью — путем, знакомым Еркину. Половину поездить-полетать от Чукотки до Волги — путем, знакомым Маше.
В степи он знал все. А Маша спросила: «Нурлан тоже пасет овец?» Он сказал: «Нет, у них теперь валухи». Маша подумала: он говорит про какую-то особую породу. Краснея, Еркин стал объяснять, для какой хозяйственной пользы баранчиков делают валухами.
Когда Маша не понимала самых простых вещей, ему казалось: он возвращается на уже пройденный путь и она опять от него далеко.
На школьные вечера Маша приезжала в военном автобусе; лейтенант Рябов подавал ей руку, помогая сойти по ступенькам. Лейтенанту двадцать пять лет. Маша говорит: жаль, что Геннадий Васильевич такой некрасивый. Еркину не жаль лейтенанта. Ему не нравится, когда после вечера она уезжает с Рябовым — не так уж далеко, но в другую жизнь. Еркину иногда кажется: «Между Рябовым
492
и Машей разница в годах меньше, всего одиннадцать лет, а со мной — все двадцать восемь».
У Степановых все по-старому, никаких перемен. Только появился н доме тревожный сквознячок. Его не слышно, не видно, однако придешь с улицы и непонятно каким путем догадаешься: только что он, сквознячок, тут прогулялся.
Раньше люди в приметы верили: если воет в печной трубе — к переезду. Печных труб теперь нет. Можно ли верить в ночные всхлипы батарей парового отопления?
Еще нет никакого приказа. Даже приказа подготовить приказ. Может быть, всего лишь где-то и кто-то сказал генералу Карпенко: «А что, если поедет Степанов?»
Еще неизвестно, как, с какой интонацией прозвучала фамилия, простая, русская — Степанов. Раздумчиво, утвердительно, как отказ?..
Сказал, что ли, кто: у него там какие-то осложнения были с сыном, помните, вертолет посылали на поиски? Сказал, что ли, кто: у Степанова дочь кончает восьмой, конечно, он рад будет, чтобы она последние два года доучилась в большом городе. И вообще Чупчи не такое место, с которым трудно расставаться. Не так ли? Да уж, Чупчи — это Чупчи. Не подарок судьбы.
Такой, значит, поселился в доме тревожный сквознячок.
Когда отца переводят на новое место службы, они не едут сразу с ним. Иногда они ждут вызова полгода. По разным причинам. Чаще всего потому, что кто-то там, на новом месте, еще не выехал и выехать не может из-за того, что еще кто-то и где-то не освободил жилье.
Спрашивать не полагается — военная тайна.
* * *
Полковник приезжал к директору, просил за Салмана.
— В нем будущее его семьи — я так считаю. Младших ему выводить в жизнь. Очень плохо, если с самых ранних лет ребенку вбили в голову, что он не такой, как все, хуже других уже с рождения...
— Но вы подумали, что будет с Мазитовым, когда ваша семья уедет отсюда? Вы ведь уедете? Его с собой не возьмете?
— Что ж... Мы можем уехать неожиданно. Возьмем ли мы с собой Сашу? Я уверен, что он сам этого не захочет. Он здесь родился, Чупчи его родина. Я уверен: родина не там, где тебе очень сладко. Ты можешь нещадно клясть это место на земле, но только сам ты, а не кто-нибудь другой.
— Вы не первый за него просите. Первая приходила Сауле Доспаева.
— Не знал. У девочки добрая душа.
493
— Душа — христианское понятие. На Востоке говорят: зоркое сердце. Человек с отличным зрением, но со слепым сердцем непременно собьется с пути, а с зорким сердцем и слепец знает правильную дорогу.— Директор попыхтел и закончил официально: — Я буду просить педагогический совет еще раз поверить в исправление Мазитова. Салман Мазитов, насколько я его знаю, ни о чем просить не станет. Он еще никогда и ничего у школы не просил. Он считает, что все пять лет школа дает ему причитающееся по закону.
Возвращаясь из школы, Степанов думал: почему я так уверенно сказал, что Саша не захочет оставить свою родину? Я ведь с ним никогда не говорил об этом. Я сказал про Сашу так уверенно потому, что Машка моя тоскует о родном малом месте на большой земле, где наши корешки — всех Степановых...
В дом к Мазитовым вела с улицы дверь, обитая клочьями кошмы. Ни крыльца, ни сеней, ни коридорчика с шаг длины-ширины. В этом доме прямо с улицы входят в комнату, и когда откроешь дверь, замечаешь: она изнутри украшена чем-то белым и блестящим — по железным двум петлям, по шляпкам всех насквозь прошедших гвоздей нарос толстый иней.
Маша захлопнула за собой дверь, и сразу же что-то несправедливое и никогда прежде не известное ударило ее больно и обидно: не могут в наше время люди так несчастно жить!
Возле самой двери печка приготовилась развалиться по кирпичику. На печке всего-то утвари: скособоченный чайник с проволочной ручкой и сковорода с чем-то засохшим. Дальше по стенке кровать продавленная, и на ней ребятишки полураздетые. Нет у Маши сил глядеть на этих ребятишек — какие они. Замечала смутно: они притихли. И слышно стало в недоброй тишине: на улице заработали дружно лопаты, захрустели, зашаркали по днищу грузовика, зашуршало что-то под стенкой дома. Солдаты сгружали уголь, выхлопотанный женсоветом городка.
Мазитиха взглянуть не пожелала, что там делается во дворе. Встала перед Марией Семеновной: руки в бока, кофта не сходится на животе.
Мария Семеновна без жалости, без стеснения разглядывает ма- зитовское бесприютное жилье — в первый-то раз сюда попав! — по-хозяйски разглядывает: что хочу, то с вами сейчас и сделаю. Узел с вещами, собранными женсоветом, кладет на стол.
Хорошо, что Сашка не видит: он гордый.
Маша не знала: сообразительный Салман с утра почуял угрозу. Витя, конечно, его о решении женсовета предупредить не мог. Витя в таких делах не разбирался и не относящихся к нему разговоров в городке не слушал. Салман своим умом дошел: в воскресенье с утра надо по-быстрому смыться из дома. Причина потом прояснится, а
494
удирать надо немедля. Салман привык по-деловому относиться к своим предчувствиям: манит что-то неведомое смыться или, напротив, срочно оказаться там-то и там-то — слушайся своей охотки, не промахнешься.
В ту минуту, когда Мария Семеновна и Маша усаживались в «газик», Салман топал ближней дорогой в одно укромное место — в котельную поселковой бани. Там он теперь и сидел в тепле, думал сразу две важные думы. Первую — про Витю: как Вите дальше быть, если после побега с Мазитовым вся школа теперь над ним смеется. Над Мазитовым никто не смеется: чего с Мазитова взять?.. Над Витей Степановым и в пятом «Б» и в других классах рады позубоскалить: ему-то, отличнику, зачем из дома бегать? Витя краснеет, смущается. Хотя ни в чем не виноват. Ржавый Гвоздь с отцом плохие дела делал, Ржавый Гвоздь отца выдал, а ходит — не смущается. Даже хуже на себя наговаривает, чем по правде было: такой испорченный, такой пропащий, даже жизнь не мила. Чем хуже про себя наговаривает, тем больше к нему внимания: ах, бедный Нурлан! Как он переживает! Какие с ним ужасы приключились!.. Даже Гавриловна с ним обращается, будто Акатов вот-вот у нее на глазах разлетится вдребезги от своих несчастий. А Вите сказала: «Поменьше хвастайтесь своими похождениями». Витя честный, он ответил: «Не было похождений. Сели в вагон — и все». Такой уж человек Витя, надо Салману за него думать: как быть? А вторая забота о самом себе: как дальше жить?
Салман знал: Витькин отец ездил к Голове, просил не исключать Мазитова из школы. Витькин отец сказал Салману: «Не будешь плохо думать о себе — других людей станешь лучше понимать, больше уважать». Еще сказал: «Характер свой ставить пора».
Салман понимает: умные слова сказал Витькин отец, сын вора свой путь может найти. Но от исправления характера не шло в мазитовский дом никакого заработка, а жрать что-то надо: и Салману, и младшим, и матери. Солдат записку дал для Амины, пачку сигарет за работу; Салман сигареты обратно сунул: гони пятьдесят копеек! Около интерната его поймал Исабек: куда идешь и зачем? Салман лишнего болтать не любит: схлопотал пинок в зад, запустил Исабеку в спину мерзлым конским дерьмом и пошел своей дорогой. Хлеба купил буханку, на остальное — сахарного песку.
Салман знал: попрятанные деньги не все разысканы милицейскими, но мать не пустит их в расход, не истратит на еду ни деньги уцелевшие, ни золотишко зарытое — Салман подглядел — во дворе под стенкой дома. Не тронет мать отцовских богатств до самого возвращения отца из тюрьмы. И Салман ими брезговал. А других бумажек, на какие можно купить хлеба, сахара, бараньего сала, муки, костей мясных — тех расхожих денег, из казенной зарплаты отца, а не своего заработка, в доме сейчас не водилось. Салман понимал: самое время ему обо всем об этом тяжко думать, посиживая в
495
котельной бани. Ну ладно, сегодня бабка кудайбергеновская казан каши пшенной принесла от старушечьей своей доброты, а завтра что будет?
Мазитиха знала: Салман догадливый. Только он за собою
дверью — бух! — Мазитиха схватилась прибирать к приходу кого-то чужого и приглядчивого. Чего было в доме целого, неизношенного — побросала в сундук, казан с пшенной кашей, уже ополовиненный, запихнула в топку.
Она того лейтенанта ждала, который к ней заявлялся с дочкой полковника, когда Салман и полковничий сын находились в бегах. Мазитиха обходительного лейтенанта сразу раскусила: на такого много хитрости не требуется — молодой, жизни не знает, в добре вырос. В первый приезд Мазитиха его встретила оглашенным криком, припугивала на всякий случай: баба я психоватая, за Салмановы делишки никакого с меня спросу. И сразу почуяла тертым нюхом базарным: не на крик — на жалость лейтенант купится, сердце у него глупое, слабое! Бабья слеза — ей копейка цена, а с умом выгодный сделаешь оборот. Сам Мазитов так жену учил, а он пустому, безвыгодному не научит.
Однако вместо лейтенанта, молодого и сердцем глупого, из военного городка на военной машине прикатила хитрющая баба в самом зловредном возрасте: много чего в жизни повидавшая, ей глаза ни на каком базаре не задурят, не обвесят, не обсчитают — она всему свою цену назовет и не отступится, где хочешь наведет свой порядок. Даже растерялась Мазитиха, когда хитрая баба к ней в дом вошла: такую голыми руками не возьмешь, сообразить еще надо, что к чему. И опять же девчонка полковничья здесь зачем во второй раз? Сомнение на Мазитиху наводила девчонка, с виду беспонятливая, но нравная: ей-то какой интерес?
Так они и стояли друг против друга: Мазитиха и Мария Семеновна, по-хозяйски оглядывавшая запущенное жилье. Маша никак не решалась от порога шагнуть — хоть вперед, хоть в сторону.
Мария Семеновна завершила осмотр:
— Грязно живете, голубушка!
— Вам-то что за дело до нашей жизни?
— Приехала — значит, есть дело! — Мария Семеновна каждое слово веско припечатывала.
Мазитиха смолчала, свела губы в жесткий узелок. Мария Семеновна скинула военную меховую куртку и огляделась: куда повесить? Видно, на ее вкус во всем доме не сыскалось для куртки достойного места; и гвоздем побрезгуешь на стенке — до того обсижен насекомыми, и табуреткой — до того черна от грязи.
— Ну-ка, подержи! — Мария Семеновна наконец сыскала чистую и надежную вешалку — Машины руки.
Маша ухватилась за куртку, как за спасательный круг.
Постыдную — Маша понимала — гадливость вызывали в ней де¬
496
тишки, сидящие в тряпье непонятного цвета: с бритой синей головенкой — Сашкин братишка, с тряпочками в кое-как разобранных косицах — сестренки. Нет, не могла Маша подойти к Сашкиным младшим, дотронуться до их рук в заразных болячках и коросте, до лиц, неумытых, с обметанными ртами, с носами от веку не сморканными, забитыми зеленой слизью...
А ведь говорила ему: «Ты мне брат». Хороша, значит, старшая сестра. Вон еще один твой брат сидит, две твои сестренки с ним. Чего-то девчонки понимают о себе — косички заплели. Но даже когда стоишь у самой двери, чувствуешь: от детишек пахнет мочой. Младшая девочка, может быть, еще делает под себя, а двое других так и живут в ее сырости. Нет, не хватит у Маши сил подойти к Сашкиным младшим, погладить по головам, слово ласковое сказать. Трусиха она, предательница — вот кто!
Мария Семеновна развязывала на столе узел. Мазитиха наблюдала вроде бы непричастно, однако в глазах вспыхнула жадность: много ли принесли и какая всему цена.
Узел развалился по столу ворохами собранных в городке детских кофточек, штанишек, чулок, ботинок, шапчонок. Все не новое, ношеное, но выстирано, выглажено: не стыдно дарить. Во всем жизнь материнских рук — и ласкающих ребятишек и непрестанно окунающихся в горячую мыльную воду, что-то трущих, выскакивающих из пены, чтобы шлепнуть кого надо и куда надо, снова погружающихся в воду и мыло: распаренных, мягких, с набухшими синими жилками.
Машины глаза невольно примечали в разноцветных ворохах что-то знакомое — Витькино или ее,— пока Мария Семеновна все добро раскладывала и перетряхивала. Вынула вафельное полотенце — кинула через плечо. Мыла пачку нашарила — распечатала. Баночку с какой-то мазью открыла. К печке подошла, взялась за чайник, покачнула — есть ли вода? Пошла к рукомойнику у порога — вылила туда весь чайник.
Маша слышала: на улице кончили сбрасывать с машины уголь, бибикнули и укатили, громыхнув на колдобине так, что весь дом затрясся. Ребятишки перепугались и заревели с великим для себя облегчением — им, видно, требовалось выреветься.
— Гулиньки, гулиньки...— Мария Семеновна раскинула руки, зыбким шагом подплыла к ребятишкам. Вся она размякла, голос потончал, напитался медовой сладостью, губы сложились умильным бантиком, толстые пальцы мягонько поманивали ревущих детишек.— Гулиньки, гулиньки... А кто хочет умыться теплой водичкой? Мы хотим умыться! — Присюсюкивая, она вытащила из троицы младшую, самую замурзанную.— А кому тетя новое платьице привезла? Нам тетя новое платьице привезла! — Она притиснула к груди еле прикрытое тощее тельце — то ли смуглое, то ли уж такое грязное до невозможности,— прибаюкивая, понесла захлебывающуюся в слезах и соплях девочку к умывальнику.
497
Толстые наманикюренные пальцы с неожиданной ловкостью и нежностью мыли-полоскали ручонки затихшей от удивления девочки. Нос, забитый зеленью, вычистили-высморкали, личико зареванное сполоснули, вытерли полотенцем до розовой чистоты. С веселой сноровкой Мария Семеновна перекинула девочку с руки на руку и плеснула из-под рукомойника на обгаженный верткий задок.
— А теперь мы старое платьице снимем. Фу, какое платьице... Бяка платьице! Мы его на пол, на пол! А новое наденем, наденем... Эту ручку сюда. Эту сюда... Ах, какие мы красивые! А тут у нас что? Тут у нас бобо... Мы губки смажем, чтобы не болели. Вот так... И на ушке бобо смажем...
Маше казалось: огромная толстая девочка возится с куклой — с пупсом, какого для того и дарят, чтобы сколько хочешь можно мыть и переодевать. Сашкина сестренка и впрямь словно кукла двигала послушно ручонками и ножонками. Девочка сомлела в непривычных, но добрых — дети-то все чуют — женских руках, стосковавшихся по самой дорогой женской заботе. Двое других следили зверовато: что там делают с нашей самой маленькой? В их настороженном любопытстве уже проглядывало смелое нетерпение: хоть и страшно, да охота всего попробовать — и мытья, и новеньких одежек, и уж пусть даже мази из банки.
Дошел черед и до них обоих, одного за другим. Растерянная Мазитиха сходила за водой, подтопила печку.
Маша только поворачивалась в сторонку, давая дорогу то Мази- тихе, то Марии Семеновне с дитенком на руках, и держалась изо всех сил за кожаную куртку, за единственную свою работу-заботу в этом доме.
Если бы ей, Маше, кто сейчас приказал: «Землю копай! Камни таскай голыми руками! В колодец глубокий на веревке спустись!» — что угодно она бы с радостью сделала, любую работу, самую трудную, грязную, опасную. И сил хватило бы и упорства на что угодно. Только не на это. Ребятишек на руки брать, высмаркивать своими пальцами забитые зеленью носы. Касаться тряпья на постели, пропахшего мочой, заношенных штанишек, просоленных накрепко — коробом стоят. На все у Маши хватит сил — только не на это: возьмись — и захлебнешься неудержимой рвотой, она и сейчас подкатывает кисло к самому горлу, хотя Маша в сторонке стоит, ни до чего не дотрагивается: спасибо, Мария Семеновна с первых минут особое дело нашла — вешалкой для куртки побыть.
Возможно, что Мария Семеновна — командирша предусмотрительная — Маше с умыслом куртку вручила. Но после — в возне с детишками — она забыла собственную предусмотрительность и скомандовала, двигая ногой по полу кучу всего снятого с малышей:
— Маша, выкинь куда подальше эти ремкй!..
И глянула выразительно: по-даль-ше! Опасалась: как бы после
498
ее отъезда Мазитиха не запрятала в сундуки все дареное и не вырядила снова свою малышню в рванье.
Маша первый раз слышала слово р е м к и. Деревенское слово — его и Мария Семеновна столько лет не говаривала, а теперь соскочило с языка,— доставшееся от матери или от бабки, выросших в своей беде и нужде. И Маша — будто ее осенило — узнала прежде незнакомое слово. Р е м к и — значит, рванье. Ремки валялись на полу, и ничего ей больше не оставалось — нагнись и подними. Держа куртку в левой руке, а ремки в правой, она плечом толкнула дверь и вспомнила: так открывается-то внутрь, на себя. Дура дурой завязла Маша у порога: ни вперед, ни назад.
И тут подскочил к ней мальчишечка с синей бритой головенкой — Сашкин братишка, на Сашку похожий. Обеими руками-палочками цапнул за ручку двери, пузо выкатил, ногой в косяк, поднатужился — дверь отворилась.
Маша как ослепла и задохнулась от морозного воздуха — дневного, яркого, резкого. До чего же хорошо на всем белом свете! Небо ясное, разметенное — лишь по закраинам остатки облаков. Земля просторная, ничем не заслоненная из конца в конец. Ветер гонится по ней сильный и чистый, продувает насквозь: на таком ветру побыть — как водой ключевой умыться.
Маша подставила ветру ремки, быстро пошла от мазитовского дома через выбитый, загаженный двор. Она завернула за невысокий осыпающийся дувал и натолкнулась на Кольку Кудайбергенова.
Колька сидел на корточках, разжигал паяльную лампу. Обернулся на хруст Машиных шагов:
— Тебе чего?
Маша показала тряпье.
— Мазитовское? Давай.— Колька полил из бутылки, чиркнул спичкой.
В сильно взлетевшем огне остро возник и тут же сгорел дотла стыдный запах детских одежонок.
Рядом с Колькой валялась ветошь, выпачканная в чем-то машинном. Маша отложила куртку в сторону, на чистую землю, подняла ветошь, смочила из бутылки, накрепко вытерла правую руку, с удовольствием втянула носом: прекрасно пахнет ветошь.
— Колька! — послышался откуда-то неподалеку мужской нетерпеливый голос.— Колька! Где тебя черти носят?!
— Иду! — подхватился Колька с клокочущей паяльной лампой и оглянулся на Машу: — Я сейчас.
Что сейчас? — она не поняла.
Не хотелось Маше возвращаться в мазитовский дом. Но что-то в спину толкает: надо, иди! Хоть оглядывайся — кто же так сильно, упрямо толкает: если не пойдешь, не схватишься за все своими руками, то зачем там была, зачем глядела на беду пустыми глазами?
Перед домом в проулке «газик» ждет, пофыркивает. Она быстро
499
подошла к «газику», положила кожан Коротуна на переднее сиденье, пальто свое туда же и — не думая ни о чем, даже дыхание придержала — толкнулась в низкую дверь.
Мария Семеновна домывала старшего.
— А я уж беспокоюсь, куда девка сбежала! Принимай готовенького. Нет, прежде ихнюю постель разбери.
Маша разобрала сырую вонючую постель, вынесла на улицу, постелила чистое. Помыла чашки, тряпкой протерла стол, вынесла из-под рукомойника ушат со склизкой водой, налила в ушат горячую, из ведра на плите.
Когда начала мыть пол, заявился на подмогу Колька. Он лил воду и шоркал веником, Маша мешочной тряпкой собирала жижу. Раз пять воду меняли. Пальцы у Маши разбухли, ладони саднит от грубой тряпки, спина взмокла. Зато горячо и весело стало.
Сашкин запущенный дом отмывался, рождался заново.
Сели в «газик», поехали. Мария Семеновна тяжело повернулась на малом для нее сиденье:
— Я в твои годы в госпитале раненым горшки подавала. Другой работы мне по возрасту не полагалось. А подросла, взяли в санитарный поезд. Под бомбежками побывала! Вот когда страшно-то было. И не убежишь — полон вагон лежачих. Я своего Коротуна, если хочешь знать, встретила не на танцах в офицерском собрании. Я его своими руками...— она повертела перед Машей растопыренными пальчиками-сосисками,— своими руками в вагон на носилках втаскивала. Боялась — не довезем. В живот его ранило осколком. Можно сказать, чудом в живых остался.— Она колыхнула сиденьем, уселась попрямей.
Маша теперь не видела ее лица, только слышала: Мария Семеновна продолжает говорить, глядя на набегавшую дорогу,— не то для Маши, не то уже для самой себя.
— Иной раз живет человек и счастья своего не видит. Возьми хоть женщину эту. Говорят, у нее дети с богом пополам: который выживет, который помрет. А детишки-то какие славные, ласковые, глаза- стенькие.
Показалось Маше или на самом деле Мария Семеновна всхлипывает? Разве разберешь! Мотор подвывает, разбитая дорога барабанит камешками по дну машины.
Глава вторая
Никогда он раньше не мерз, ни в какой буран. Сегодня тихий вечер, а Салмана знобит. Со спины знобит. На спине у человека есть сигнал опасности. Даже если встречаешь опасность лицом — спина раньше почует.
500
Салман поглядывал на разметенное дочиста небо, па зимние слабые звезды, на тонкий месяц: не к добру!
Витька объяснял по науке астрономии: если месяц повернут похоже на букву «с» — то он старый, убывает, а если повернут наоборот — молодой, наливаться будет. Но по астрономии не учат: если месяц на спину завалился, рожками играет — что случится? А Салман откуда-то знал: месяц валится на спину не к добру. Салманова примета обещала не буран, не зимнюю мутную оттепель, после которой всю степь схватит льдом — скоту не пробиться копытами до подножного корма. О степных приметах чабаны печалятся, а Салману на буран, ка джут плевать. Салмановы приметы только его самого и касались — за ними он один и поглядывал.
Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана — не к добру.
В школе желто светятся окна зала, директорский кабинет налит зеленым светом, как аквариум, тени плавают, а все классы полны густой тьмы. Около крыльца — автобус из городка: солдаты-отличники приехали на школьный вечер.
Салман постоял у забора, послушал музыку. Витькина сестра тоже там. Лейтенант везет солдат в школу — всегда за ней заезжает. И обратно она с ним едет в автобусе. Но за весь вечер лейтенант к Витькиной сестре ни разу не подойдет. Салман не знает: хорошо, что не подходит, или плохо. Он теперь не хочет ничего знать про нее и думать не станет. Солдаты с десятиклассницами танцуют, Володя-москвич Сауле приглашает и Шолпашку — для вежливости. Лейтенант или с Головой сидит-посиживает, или для примера вальс покрутит с Гавриловной; смех глядеть, как на цыпочках она скачет, платочком обмахивается, красная, будто из бани. Гавриловна не хуже Салмана все видит, все слышит. Гавриловне охота женить лейтенанта на новой учительнице английского языка. Если учительница не выйдет замуж за лейтенанта — смоется через год из Чупчи. Но не получится у Гавриловны ничего — это уж точно. Спроси, Гавриловна, Салмана — он бы тебе все растолковал. Только ты не спросишь. Хотя надо поспешить: скоро Салман ничего не будет знать. Время такое подходит ему — беспонятливым стать.
Подходя к своему дому, он увидел: в оконце цветастый, сквозь тряпицу, свет. Толкнулся в дверь и сразу понял, зачем свет, почему на оконце материна кофта. За столом сидел и жадно жрал чужой человек. Недавно заявился — на полу под сапогами черная лужа. Вот, значит, отчего месяц кверху рогами валялся и озноб отчего: гость пришел не случаем, не от кого-нибудь — пришел от старого черта, от Салманова отца.
Салман у порога стянул с ног сапоги, скинул пальто, боком протерся по беленой стене к кровати, влез к младшим под одеяло. Тут тепло подкопилось: нагрела мелюзга птичьими перышками и пахло под ватным одеялом детсадовской сладкой кашей. Салман почувствовал: замокрели у него щеки. Провел рукой, лизнул ладошку — солоно.
501
«Ну, жизнь проклятая! Пускай меня ты не жалеешь! Но маленькие-то могут расти в покое?»
Не шевелясь, будто сразу уснувший крепким детским сном, он чуть приподнял край одеяла и следил: кадык ходит, чужой жует, ворочает челюстями. Такому человека прирезать — как барана. Оттуда заявился, где теперь отец. И адрес родного дома с детишками сам отец ему дал. Не задаром — плату взял хоть какую тамошнюю. Салман отца знает. Если не деньгами взял, то еще чем. И можно догадаться, зачем понадобился чужому чупчинский адрес, а не какое-нибудь другое место — почище, повеселее. Отсидеться надо, спрятаться — вот зачем!
— Убью! — в злой тоске плакал Салман.
Ночной гость покончил с едой, хмурый сидел за столом, оглядывал доставшееся прибежище, проклинал спутника по вагону с решетками.
Не взял бы и задаром проклятого адресочка, да случай выпал редкий уйти из вагона здесь, неподалеку. Отсидеться надо, пока идет ближний розыск, а там видно будет.
Ночной гость чуял, что ли, взгляд Салмана? Дергался все время, оборачивался.
Салман вылез из-под одеяла, протопал к ведру с водой, зачерпнул тыквиной сушеной, напился. Все сделал медленно, с расчетом.
— А ну кыш! — приказал чужой.— Спать!
Салман оскалился:
— Не хочу.
— Я два раза повторять не привык!
— Ложись, сынок! — попросила мать из своего угла жалко и трусливо.
— Сейчас лягу,— прикинулся послушным Салман.— Он уйдет — лягу...
— Тетка, уйми своего щенка!
Мать захныкала:
— Салман, гость пришел от отца...
Салман не сводил глаз с чужого.
— Не надо нам ничего от отца.
Салман чувствовал: струйки пота потекли по спине, по ребрам.
У человека есть три пота. Пот от слабости, пот от боли, пот от работы.
Салман не чувствовал себя сейчас слабым, не слышал боли. То, чего он сейчас хотел, чего добивался, требовало столько же сил, как гору камней перекидать. Он в мыслях кидал, кидал, кидал... Еще один камень — и чужой отступит.
— А если не уйду? — спросил отцовский посланный.— В милицию донесешь?
■— Боишься? — скривился Салман.
Чужой встал, сунул руку в карман. Салман увидел острый рог месяца. Весь от пота мокрый, кидал и кидал камни, делал самую
502
тяжелую работу, какая есть на земле: оборонял дом, малышей, мать. Чужой дернул кадыком, всадил нож в буханку на столе, отвалил половину, сунул за пазуху. С порога пригрозил:
— Вернусь скоро. Погуляю на свежем воздухе.
Дверь бухнула, мать захныкала тихонечко в подушку. Салман потер ладонью губы: пусть рот перестанет кривиться! — пошел погасить свет. Выключатель чернел у двери справа. Салман щелкнул, в темной тишине прислушался — ухо к доскам: чужой стоял в тамбуре, пристроенном солдатами, не ушел, дышал, скреб ногами. Кому охота, на ночь глядя, из теплого жилья в голую степь? Не отрывая уха от мерзлых, чутких на все звуки досок, Салман толкал задвижку в гнездо. Затолкал до отказа — отскочил. Теперь в дом без шума не попадешь! Чужому шуметь не захочется. Собак по всей улице будоражить.
Босые ноги застыли, Салман влез в сапоги. Стоит чужой за дверью? Стоит. Нет, пошел. Хрустнула щепка, отлетел камень.
— Куда же он? — Салман чуть не завыл с досады: дурак, упустил чужого без присмотра ходить по поселку!
Салман сгреб пальто, шапку — задвижку долой! — выскочил на улицу. Спина чужого покачивалась за низким дувалом. Свету от молодого месяца шло мало. Салман ждал: что будет дальше?..
Чужой не то чтобы сильно испугался мазитовского сопляка. Он знал: не мешает побродить часок по Чупчи, приглядеться, что тут у них есть, чего нету,— вернуться, когда сопляк будет дрыхнуть. Но не очень-то ему хотелось возвращаться. Надул старик. Не такое уж верное место его развалюха, да и поселок головат. И нет пользы, что при железной дороге. По всем станциям добрые дяди только и ждут, когда появится человек с протелеграфированными приметами. Глядят за пассажирскими, глядят за товарными. Задача нехитрая, не магистраль крупная — рельсы всего в одну колею. Зато других дорожек тут в степи понакатано — дай боже! На авто за ночь полтыщи сделаешь, в другую республику заскочешь — есть шанс. Дело только за машиной — где ее взять? Хорошо бы тепленькую перехватить, с ключиком; шофера на дороге не кидать, в кузов его — и поехал. Да, тепленькая нужна. От дома не взять без шума...
Чужой откачнулся от дувала, пошел. Салман — за ним. На улицах ни души. Но Салман-то знал, а чужой нет: Чупчи не спит, на эту ночь Гавриловна назначила быть в поселке Новому году.
* * *
У кого в руках находится власть, тот и командует календарем: где будни— черные числа, где праздники — красные...
В чупчинской школе календарем владела Серафима Гавриловна, и она своей властью назначила Новый год не в ночь с тридцать первого декабря на первое января, а на двадцать девятое, часиков
504
на десять, не позже — часы тоже, она полагала, находятся в ее власти.
У дверей школы Колька Кудайбергенов отражал все попытки педоростков-семиклассников прошмыгнуть в зал. Колька — человек исключительно надежный: его не обманут, не припугнут.
Вовсе не надежный Нурлан прикалывал входящим бумажные номерки. Другой бы на его месте от стыда в уголок забился, а ему всё трын-трава.
Накануне молодая, современно мыслящая учительница английского языка пыталась втолковать Гавриловне: уже давно нигде на школьных вечерах не играют в воздушную почту, это провинциально и старомодно... пошло, наконец! Но Гавриловну не переубедишь: «Разумеется, нам с вами некому и не о чем писать. Ну, о чем бы я стала вам записки строчить? Чтобы вы сдали вовремя поурочные планы? А вы бы в ответ просили еще недельку? Кстати, планы все-таки жду от вас после бала, то есть завтра. А ребятам не мешайте играть в их любимую игру. Поймите: в их годы очень интересно переписываться. Да еще солдаты на вечер придут. Пусть пишут! Главное, чтобы всё у нас на глазах!»
Англичанка не разрешила нахальному Акатову приколоть к ее платью бумажный номерок. Однако, едва она вошла в зал, к ней подлетела Фарида в синей картонной фуражке, с синей картонной сумкой на боку: «Вам письмо!» Учительница развернула пакетик, сложенный по-аптечному: «Вы сегодня очень интересны». На какую-то секунду, которую она после будет вспоминать со стыдом, англичанка оглядела зал, кого-то ища глазами.
В другом углу зала Фарида совала аптечный пакетик Геннадию Васильевичу: «Почему вы не танцуете?»
Из парадного угла Гавриловна мысленно одобрила действия Фариды. Кроме лейтенанта, не видела она в Чупчи подходящего жениха для молодой англичанки, а молодые незамужние учительницы тут не удерживались.
Воздушная почта попала в верные руки. Каждому по способностям: Кольке стоять на страже, Фариде разносить записки. Фарида воздушную почту без дела не оставит. Она запаслась из дому записками на все случаи жизни, несколько вечеров сочиняла с привлечением художественной литературы и без литературы, попроще: «Вы сегодня очень интересны», «Почему вы не танцуете?», «О ком вы грустите?», «Кто-то здесь следит за вами» и еще разное, позагадочней. Свою почтовую тайну она не выдала даже лучшей подруге — отвернувшись, сунула Маше записку: про кого-то, кто следит.
Маша прочла и покраснела.
Оч-чень интересно Фариде жить на свете! Все она знает и все может. Тем более может спасти Нурлана. Он такой талантливый, с таким замечательным будущим, но по слабости характера пропадет, если Фарида за ним не углядит, поэтому она — уж будьте увере¬
505
ны! — углядит, выведет Нурлана к сияющим вершинам славы. Это теперь ее ответственный долг, цель жизни.
Шолпашке она по-дружески вручила «Вы сегодня прекрасны», но Шолпашке, конечно, некогда и подумать: от кого? В закутке за сценой она — не спеша и потому быстро — пристебывает ленты, оборки, тесьму, фазаньи перышки. Шесть девочек из интерната сначала спляшут молдавский танец, потом казахский. Только Шолпан управится, чтобы они сначала выскочили на сцену в шапочках с перышками, в бархатных камзолах, а через минуту — в венках с лентами, в расшитых кофтах. И ее подшефный — Аскарка сегодня выступает перед старшеклассниками. Шолпан отутюжила солисту форменный костюм, накрахмалила рубашку — Аскарка как черепа- шонок в надежном панцире.
Школьные кулисы — биологический кабинет. Со шкафа глядит холодно на всю суматоху синяя птица Вити и Салмана. Под ней Серафима Гавриловна наставляет Сауле, как вести концерт. Сауле сегодня очень весела, но от коварной Фариды ей загодя припасено «О ком вы грустите?».
Домашний запас почты иссяк, однако сумка не пустует, полна записок; в каждом деле главное — энергично начать, а там пойдет.
Раздвинулся занавес, на сцене Сауле в синем платье с белым кружевным воротничком.
— Выступает ученик восьмого класса «Б» Акатов Нурлан!
Жидкие хлопки, ехидный смешок...
Нурлан заносчиво откинул рыжую бесславную голову:
— Я спою вам песню собственного сочинения. Посвящается моему другу Николаю Кудайбергенову.
Колька покраснел до ушей, заерзал.
— Песня о двух красных бойцах! — Нурлан вскинул гитару, грифом нацелился в зал, ударил горстью по струнам, бросил в зал домбровую россыпь, домбровый скач по степи, перебор копыт.
Рядом мчатся два бойца — русский и казах,— ведут разговор. Шинелями бы сменяться — да рост разный. Сапогами бы — да одному малы станут, другому велики. Чем сменяться? Именами нельзя — матери дали. Чем сменяться? — такой разговор... Копыта звенят по родной земле. Фамилиями сменяемся? Тебе — мою, мне — твою, одна другой не хуже. Судьбой сменяемся? Тебе — мою, мне — твою, обе равны и пока неизвестны. Но час пришел — и убит один, скачет дальше другой. Кто скачет? Ты знаешь? Я не знаю, не разглядел лица. Скачет красный боец по степи, по родной земле. Смолкает вдали перебор копыт...
Нурлан опустил гитару, рыжие лохмы уронил на глаза — все!
Пушечно грохнули аплодисментами первые — солдатские — ряды. Володя Муромцев с места подмигнул: «Растешь, старик!» Лейтенант наклонился к Голове: «Что скажете? Талантливый мальчишка!»
506
Ахметов всеми морщинами изобразил (Нурлану издалека, со сцены видно): ошибка природы — вложила талант не туда, ненадежно.
Зануды майора в зале нет. Не слышал Коротун, какую душевную песню сложил его бывший кунак Нурлан Акатов. Обидно, что не слышал,— единственный в Чупчи человек, который Акатова всерьез осудил, Акатову никогда руки не подаст. Для остальных, что ни случись с Акатовым,— пустяк, легкий жанр. Даже для Кольки, брата родного. И Голова не удостоил выволочки, выговорешника в приказе, разве что четверку за поведение отвалит — на большее не рассчитывай!.. Да-а-а... Только Уставчик к Акатову всерьез, с обидой, с возмущением: «Руки не подам!» Вот для кого бы спеть про двух бойцов. Майор поймет, слезу уронит...
Кто бы подумал: Нурлан Акатов, Ржавый Гвоздь, вдруг затоскует: Уставчика нет в школьном зале, где Акатов поет песню собственного сочинения.
Об этом не догадывается даже Фарида. Она сидит в зале рядом с Машей и сторожит минуту, чтобы поменяться местом с Еркином, сидящим позади. Мальчишки знают: у девчонок есть обычай — куда одна, туда и другая, всюду вместе. Но мальчишки не знают: вдвоем ходят, чтобы одна догадалась, когда надо исчезнуть, пропасть, раствориться в воздухе, провалиться сквозь землю... Или в зале с одной скамейки ни с того ни с сего захотеть переместиться на другую: «Еркин, пересядь! Что тебе, трудно?»
Еркину не по душе, что Маша дружит с Фаридкой, но не спорил — пересел.
Нурлан со сцены поглядел на него, оскалил зубы. Еркин подумал: только бы не запел Акатов сейчас «Гори, гори, моя звезда...». Голова шалеет от этой песни, сердце слабеет от печали.
Из-за кулис к певцу идет Сауле в синем платье с кружевным воротничком — сейчас объявит следующий номер, но Нурлан ее не дождался, пальцами набрал щемящий мотив, сам объявил:
— Старинный русский романс, музыка Булахова! — фамилию выговорил как казахскую: не через «у», через перепоясанное арканом «о».
Сауле не захотела повернуться и уйти ни с чем. Осталась рядом с певцом. А он — артист бесстыдный! — запел будто не залу, а ей одной: светло, счастливо. Сауле в кружеве старинном стала прекрасной и гордой, как никогда, самой близкой из всех в Чупчи к музыке щемящей, к словам нездешним, из старой жизни, где прапрадед Саулешкин в черном фраке или в мундире офицерском склонился перед девушкой — бальное платье, обнаженные плечи, кружева...
Эх, жаль, нет в зале лысого майора!
Ведь не для Володи-дипломата поет Нурлан, чтобы Володя умную голову терял.
Глава третья
Паша Колесников гнал машину со скоростью, какую только допускали: во-первых, добитая по зиме дорога, во-вторых, наступившая серая мгла, в-третьих, сосед и приятель Ажанбергён, кулаками молотивший из кузова по кабине. Вовсе ошалел Катин мужик: то ему гони, то езжай тише. Паша сам, что ли, не понимает: Катя рядом в кабине, согнулась над высоким животом, охает.
— Терпи, Катерина! — просит Колесников соседку. Катерина — это по-русски, а по-казахски ее кличут Хадича, но и Ажанбергену привычней — Катя, Катюша.
Чупчи уже близко: дрожит слабыми огонечками. Фары выхватили из толпы обнявшуюся на дороге парочку: солдат с девчонкой. Если на дороге встретишь солдата с девчонкой, значит, в школе сегодня вечер. Паше ли не знать, Пашке-Магеллану?
Девчонка от света уткнулась солдату в шинель — надежнее места нет, а он оглянулся: кого дьявол несет с фонарями? Сверкнул белками — Паша мигом узнал знакомого ему Левку, приятельски потушил фары, в темноте бибикнул: совет да любовь!
Паша подумал: а ведь слух был, что Левка замыслил отвязаться. Чего не набрешут люди...
Еще один человек на дороге. Бушлат, сапоги, шапка-ушанка. Нет, друг, ты не со школьного бала. Голоснуть собирался, но раздумал? Так, что ли? С пьяного какой спрос!
В другое время — не жалко — Паша бы остановился, довез мужика до поселка, но сейчас прогремел мимо, не сбавил хода: извини, друг, не до тебя! Бабу, то есть женщину, везу рожать, такое дело, спешить надо, ты уж сам как-нибудь дотопаешь, до поселка рукой подать.
Салмана Колесников не приметил: Салман залег в тень от куста чия.
Задал Салману задачу чужой. То крался тайком, а то вышел открыто — даже выбежал — навстречу машине. Зачем? С какой такой целью?
В прогремевшем мимо грузовике Салман разглядел за рулем дядю Пашу из Тельмана. С ним в кабине женщина укутанная. Из кузова, из фанерной будки кто-то стучит-кричит: «Тише! Не гони!»
Теперь понятно, почему дядя Паша — всегда подвозит — сейчас не остановился. В больницу везет укутанную тетку.
Дальше догадаться бы: с чего чужой то шел осторожно, обходил свет, голоса, а то рванул навстречу машине, но в последний момент засомневался, сробел, передумал?.. Да уж, сробеет такой гад! Дожидайся! Чего-то понадобилось чужому, да вдруг осечка. То рванул, то засомневался. Ну, а если бы дядя Паша один ехал? Без тетки в платке? Без стука из фанерной будки — кто знает, сколько там людей в будке?
508
По огням видно: машина дяди Паши правится к больнице. Чужой худа же двинул — наперерез, степью,— Салман за ним.
У больничной проходной на кругу стоит грузовик дяди Паши, мотор постукивает — не выключен. Чужой на свет не вышел — остановился за углом. Ударила дверь проходной, вышел кто-то. Салман ближе подобрался, узнал Ажанбергена — тельмановского чабана.
— Не пустили! — Ажанберген закинул в будку мягкий узел.
Паша прыгнул из кабины:
— Ну и чего? Скоро?
— Ты бы сам с ней поговорил!
— С кем? С Катей?
— С акушеркой. Она Катю при мне выспросила: как мать зовут? Как бабку? Обнадежила: у Кати в семье, оказывается, все женщины легко рожали. На Катю при мне напустилась: терпеть будешь или орать? Русские бабы орут — им легче. Казашки — молчат, им так привычней. Спрашивает Катьку: ты кто? Екатерина или Хадича? Такой грубый разговор. И меня за дверь.
— Ну и что будем делать?
— Посижу, подожду. Может, скоро?
Салман видит: Ажанберген сигареты достал, Паше предложил, закурили оба.
— Рассказывают,— продолжал Ажанберген,— будто в старину муж вокруг юрты обязан был ходить, когда жена рожала. Вот ведь пережиток!
— Давай покатаю вокруг больницы! — засмеялся Паша.
— Ладно уж. Езжай спать. Ты где ночуешь?
— У Садвакасова. Неловко приехать, пока хозяина нет. В школе у них вечер, значит и Еркин в школе.— Паша обошел грузовик, попинал колеса сапогом.— Давай прокатимся в школу, поглядим, что там у них.
— Нет, я уж здесь свое отдежурю.— Ажанберген отшвырнул сигарету, красная точка разбилась на дороге в мелкие искры.
— А я, пожалуй, скатаю в школу. Погляжу, как веселится молодое поколение. Ребят знакомых встречу, потреплемся. Я, конечно, по солдатской лямке не печалюсь, но техника в армии — высший класс, это тебе не колхоз Тельмана. Мне бы прокладочкой у ребят разжиться.— Паша полез в кабину, дал газ.— Счастливо оставаться! Катя родит — поздравь от меня.— Дверца хлопнула, машина рванула с места.
Салман откуда-то знал: чужой пойдет за машиной — значит, к школе пойдет. Ну, гад! Вот как нацелился смыться из Чупчи. На машине. Но кто же его добром повезет — чужого в ночь, неизвестно куда. Выходит, он не добром машину возьмет. Ну гад...
Крепкая ниточка привязала Салмана к гостю от старого черта. Умеют, сволочи, вязать. Хоть как увертывайся — повяжут. Салман тащился по степи за неясной тенью, в глазах всплывало: жуют
509
крепкие челюсти, ходит острый кадык. Салман себе самому орал неслышно: «Теперь, Сашка, не упусти! Не упусти! Не прозевай! Недолго теперь осталось...»
Чужой забирал от дороги в степь, скрадывался. Двое близко прошли — не заметили. Амина со своим солдатом — гуляет — друг на дружку не наглядятся. «Привет Исабеку!» — скривился Салман: не забыл, как схлопотал от него по шее, за то, что носил Амине записки от Левки.
* * *
Чужой до сих пор не чуял Салмана за собой: ходил — не оглядывался. Так вдвоем на одной нитке они прошивали улицы и пустыри поселка. То дверь отворится, бросит полосу света. То послышатся шаги в потемках на кривой ухабистой улице. То радио откуда-то вырвется и грянет... Салман и чужой шли сквозь вечернюю, хотя и стихающую, но все же полную забот жизнь поселка — и ни разу ни с кем не столкнулись, не попались ни на чьи глаза. Даже вырывающиеся вдруг полосы света как бы избегали их обоих. Одна жизнь у поселка и совсем другая — у двоих, невидимо прошивающих Чупчи вдоль и поперек.
Салман вспомнил пересказанный Витькой фантастический рассказ. Встретились обитатели разных планет, и оказалось: они могут проходить друг дружку насквозь, один для другого как пустое место. Писатель придумал, будто обитатели разных миров сделаны из разных материалов. Не таких разных, как воздух и камень, а вовсе ничего общего. Путаница, придуманная писателем и очень занимавшая Витьку, Салману тогда не понравилась: дурость какая-то, от безделья. Но теперь он шел, связанный одной ниткой с чужим, и понял: разная жизнь, при которой один проходит сквозь другого, не придумана, а существует — и не где-нибудь в дальних мирах, а здесь, на земле, в Чупчи. Салман оказался сделанным из того материала, из которого сделан чужой, поэтому и проходит сквозь людей и сквозь дома, где жизнь совсем другая.
За школой, в затишке, вспыхнула спичка, пошли по рукам сигареты. Но не для того собрались старшеклассники, чтобы подымить без опаски — ожидалось важное дело.
Какое дело, Еркин догадывался: за школу его позвал с собой Исабек.
Исабек считается в Чупчи чемпионом по казахской национальной борьбе казахша-курёс. Его не оторвать от земли, не свалить. По всему сложению — потомок кочевников, наездников. Туловище длинное, а ноги короткие, колесом. Сидит на коне — картина. Пеший — низко¬
510
зад, но тем упористей стоит на земле. И рукастый: далеко достает, хватает крепко.
Не раз видел Еркин: Исабек легко кидал соперников. Летом кидал на мягкую траву, зимой на пыльные маты спортивного зала. Еркин учился у родича всем хитростям казахша-курес, но самолюбивый Исабек ни разу не поддался младшему, всегда прижимал победно к земле. Исабеку нет выше радости, как показать свою силищу. Сила есть — ума не надо! Но в борьбе бывает минута — нет, доля минуты! — когда видишь, каков человек. Одержал верх, а дальше что? Придержит ли победитель противника поверженным, продлит ли свое торжество — чье-то унижение — или сразу же закончит схватку, отпустит лежачего: не враги мы — силами померялись, и точка.
Еркин знает: Исабек ни разу не затянул свое торжество, не придержал поверженного в унижении, сразу же отпускал. Отойдет, улыбнется стеснительно: сам удивляюсь своей силе.
Исабек добрый. Он горяч, но медлителен — пока не распалится. С малых лет при отцовском табуне, объезжает самых строптивых лошадей. Возвращается к табуну на присмиревшем, в белых хлопьях скакуне, пыжится от гордости: сам удивляюсь своей ловкости. Сила есть — ума не надо! Спроси Исабека: что вчера видел в кино? Уже забыл — не вспомнит. Спроси: как кобылица первый раз выводит в табун своего жеребенка? Исабек слов не отыщет рассказать, он покажет: вот кобылица идет гордо, сторожко, идет как воплощение нежности; а вот жеребенок поспешает, путаясь в счете своих четырех ног. Исабек приглядчив и чуток ко всему живому. Но кто его таким знает? Уж во всяком случае не Амина. Еркин ее крепко невзлюбил за то, что мужчины летом на джайляу ей вслед бороды поворачивали. И еще за глупость овечью: не разглядела чистого сердца Исабека.
Первый в поселке силач топтался за школой в кругу одноклассников, чабанских сыновей из казахского десятого «А».
— Солдат-то не идет. Струсил,— хорохорился Кабйш, самый малый ростом, самый хилый, потому охочий до чужих драк. Кабиш вертелся на углу, посматривал на школьное крыльцо. Наконец затрепыхался азартно: — Идет, идет! Один идет! Сейчас ты ему врежешь! — Кабиш вытянул шею, вглядываясь в темноту, и разочарованно протянул: — Не Левка! Другой идет. Струсил, Долгоносый!
В солдате, пришедшем к десятиклассникам за школу, Еркин узнал белобрысого самоуверенного москвича, старшего по команде, приехавшей на вечер.
Зачем пришел? Непонятно. К москвичу ни у кого счетов нет, хотя он и ходит к Саулешке. Левку звали. Исабек звал, отправил письменное приглашение с быстрой Фаридой по летучей почте.
Муромцев оглядел собравшихся, насколько позволяла зимняя серая темнота:
511
— Рад всех приветствовать. И вынужден тут же огорчить. Кто-то пригласил для серьезного разговора моего товарища Левона. К сожалению, он не может прийти...
Несколько дней назад, вызванный Рябовым, Володя в обычной своей дипломатической манере доложил обо всем, что полагал необходимым лейтенанту знать, а все, что, на взгляд Муромцева, деликатному лейтенанту лучше не знать, дипломат оставил при себе.
— Ребята кипят! — свободно излагал Муромцев, усевшись напротив Рябова: не вразвалку, но и не по-деревянному, как только что сидел Кочарян.— Общее мнение такое: Левкина мать — женщина старая, ей положено иметь соответствующие предрассудки. Но он сам обязан, конечно, жить по-новому. Ребята считают, у Кочаряна такая задача: дождаться демобилизации, расписаться с девчонкой и ехать к матери — пусть поглядит...— Здесь Муромцев мог продолжить: «на невестку и внука», поскольку солдаты разбирались, как далеко зашли дела у Левки с Аминой. Но такими лишними сведениями он обременять лейтенанта не намеревался.— Пусть поглядит на молодую семью. Не сойдутся со стариками — уедут. У нас есть для них надежные адреса: жилье будет, работа будет.— Здесь Муромцев мог добавить, что и бабки намечены: приглядеть за новорожденным, пока родители на работе, но удержался.— Одним словом, мнение у ребят сложилось единое, но Кочарян колеблется.
— Двухэтажный дом? — спросил Рябов.— Своими руками строил? — О доме ему откровенно рассказал сам Левон: столько труда вложил, столько денег, а теперь бросать?
— Дом,— подтвердил Муромцев.— Однако я не спешил бы Левку судить за собственнические мысли о доме. До армии он работал в бригаде шабашников. Вы про такие бригады в «Литературке» читали? Одни пишут: грабеж колхозной кассы. Другие: благо для колхоза, потому что в деревне еще нет своей строительной базы. Такая вот дискуссия в печати. А по Левкиным рассказам — старинный промысел, народная традиция. Работают от зари до зари, на полную катушку. Лодырь у армян-шабашников и дня не продержится — вышвырнут. И профсоюз не заступится. Любопытная ситуация, не правда ли? Свои плюсы и свои минусы. Вам ведь нравится, что Левка такой умелец и безотказный работяга?
Рябов подумал: «Ну трепач...»
— По Левкиным рассказам,— с удовольствием развивал свои соображения Володя,— он за сезон тысячи греб. И все деньги вкладывал в дом: один раз его строишь, на всю жизнь, чтобы и детям остался... Не отсуживать же Левке свою долю у отца с матерью, этого он не сделает, а ведь есть прохиндеи, что и судятся с родителями... Так ведь?
— Все-то вы, Муромцев, понимаете, все-то вы можете разложить
512
по порядку,— нехотя сказал Рябов.— И товарищи вас за это, кажется, уважают. Но я бы на вашем месте попридержал свою рассудительность.
— Почему? — Муромцев покраснел самолюбиво.
— Логически, как это вы умеете, не объясню. Посмотрите у Пушкина в заметках. Пушкин считал, что тонкость не доказывает еще ума. Что глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. И даже больше: тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным.— Рябов почти услышал, как слаженно заработал новехонький механизм молодого быстрого ума, и почти увидел как в сосредоточенных зрачках замигали контрольные лампочки.— Я это говорю не в обиду вам...
— Понимаю! И хотел бы почаще слышать такие замечания. Мне это необходимо. Я ради этого в армию пошел. Скажите, считаете ли вы меня самодовольным человеком?
— Нет,— ответил Рябов.— Самодовольным — нет. Вы скорее человек прагматичный, здраво оцениваете свои возможности. Но по части логических построений частенько перехватываете, переигрываете. Сказали бы иногда словечко в простоте.
— В простоте так в простоте! — охотно согласился Муромцев.— Дело в том, что уже не Кочарян артачится, а она. Левка ей записку посылал. Мальчишка тут есть для таких поручений — Сашкой зовут. Услужливый, но не задаром. Он с Левкиным посланием обратно притопал — не приняла. Обиделась, что ли... Кому-то из ребят все же придется вмешаться, я так думаю...— Он встал.— Можно идти?
— Еще один вопрос. Синяк Кочаряну под глазом кто поставил?
— Никаких стычек с представителями местного населения не было,— успокоил Муромцев начальство.— Синяк получен на территории части.
После дипломатических переговоров с лейтенантом Муромцев решил: позиция его, в общем, была правильной. Синяком дело не кончится, ребята непременно припрут Левку к стенке: женись — и точка, не позорь Советскую Армию. Требование несколько примитивное, но в чем-то совпадающее с убеждениями Муромцева: допуская в иных прочих случаях какие-то отклонения от истины и нравственных правил, человек в отношениях с женщиной всегда обязан оставаться порядочным — это инстинкт самосохранения личности, а не только голос совести.
Надо все это Левке попроще растолковать, вколотить в бычью башку неотвязную мысль: родная мать — хотя она сейчас и шлет ему свои восточные проклятья — сама же первая не простит сыну, если он смалодушничает, уронит мужскую честь. Такой довод на Левку подействует сильнее кулаков. И начальство будет довольно, если история с Левкой и его девчонкой не перерастет в ЧП, подрывающее дружбу воинской части с местным населением.
17 Ш кольные годы. Выпуск 2
513
Возвращаясь от лейтенанта, Муромцев думал: что можно извлеч^ для себя полезного на будущее из такого забавного эпизода сол«| датской службы? Можно извлечь важное правило: если все врем^ показывать людям ум и проницательность — становишься неинтерес-1 ным. Необходимы время от времени неожиданные вспышки. Но надЬ взорваться и тут же самому себя остановить. Показать, что и вспышки твои управляемы.
Окрик Коротуна вернул его из будущей интеллектуальной жизни на каменистую землю военного городка.
— Почему не приветствуете? Уставчик подучить, подучить! — отечески рекомендует краснолицый майор, весь внутри кипя от Володиной манеры глядеть на высшего по званию со всей длинц молодого роста — свысока. «По какому такому праву свысока? Да что у него есть, у щенка? Только рост длинный. Современная молодежь! Образованные, с десятилеткой! Амбиции хоть отбавляй, а простых вещей усвоить не могут. Прежние, с четырьмя классами, за месяц овладевали. С этими год бейся — службу не понимают».
Эту сцену наблюдал из окна полковник Степанов, и ему она чрезвычайно не понравилась.
— Ваше мнение о Муромцеве? — спросил он лейтенанта Рябова, явившегося, чтобы — кратко и сухо — выложить начальству «сплетню», как он сам выразился, про солдата Кочаряна.
— Умен, быстр, деловит...— перечисляет Рябов.
— Вы не назвали очень важные качества: честность, отвага.
— Трусости он себе не позволит никогда.
— Какие-то новые обороты речи. Что значит — он себе не позволит?
— Честолюбие.— Рябов смотрит в окно. На плацу Коротун продолжает воспитывать Муромцева. У будущего дипломата на лице ретивая готовность: немедленно пойду, сяду зубрить устав.— Несмотря на все вопли о грехах цивилизации, я верю, что образование делает человека лучше, то есть образует и его нравственный мир...
— Допустим. А как вы считаете, этот, по вашему наблюдению, деловитый честолюбец вас, своего командира, уважает?
— Трудный вопрос.— Рябов замялся.— Современному солдату мало почтения внушает должность и чин. Ему еще надо доказать, что ты знаешь и умеешь больше, чем он. Что ты в военном деле настоящий специалист. Муромцев признает мой авторитет военного специалиста. Признает необходимость беспрекословного выполнения приказа. К военной службе относится сознательно, ищет в ней пользы для своего развития.
— Допустим. А случись настоящие боевые действия? Как может повернуться такой человек?
— Я думаю, что война всех поворачивает неожиданной стороной — каждого человека. Нельзя идти воевать таким же, каким жил
514
в мирной жизни. Я, конечно, на войне не был. Помню, мальчишкой хотел понять по лицам вернувшихся фронтовиков, какая она — война. Но не увидел. Кончилась для человека война, и он опять переменился, стал другой...
— Очень хорошо, что вы сами об этом заговорили,— сказал Степанов.— Мы с вами оба не были на войне, а вот майор Коротун — он там был.
* * *
Идя за Левку на драчливый вызов Исабека, Володя Муромцев в точности знал: рискует, но не слишком.
— К сожалению, Кочарян не сможет прийти.— Володя подмешивал в вежливость гомеопатическую дозу пренебрежения.— У него есть более важное дело, чем то, для которого кто-то из вас, аксакалы, пригласил его сюда. Левон пошел провожать одну девушку из вашей школы.— Володе нравилась собственная речь и то, как он ловко переиначил на местный лад принятое в Москве среди юнцов обращение: старик, старики.
Исабек тяжело переминался с ноги на ногу:
— Слушай, ты! Сам-то зачем пришел?
Володя снисходительно усмехнулся:
— Я, видите ли, пришел засвидетельствовать, что мой друг не струсил. Можно сказать, он рвался посчитаться с кем-то из вас, аксакалы, но я, как старший, ему запретил. Понятно? — Он задрал рукав, поглядел на светящиеся часы.
— Обманули они тебя! — бросил Исабеку раздосадованный Кабиш.
Еркин подумал: когда чужой входит в аул, ему надо остерегаться не матерых псов, а самой никчемной собачонки. Пока она не зальется — свора не вскочит.
— Не-е-е, ты погоди-и-и...— медленно тянул Исабек.— Не пойму я, ты-то зачем пришел?
— У меня в распоряжении минут десять! — Володя демонстративно взглянул еще раз на светящийся циферблат.— Если у кого-то чешутся кулаки, могу предложить свои услуги. Так сказать, заменить в программе вечера моего товарища Левона.
Кабиш подскочил к Исабеку:
— Да всыпь ты ему! Чего он над нами издевается! — Кабиш говорил по-казахски, но смысл сказанного дошел до Володи по азартной жестикуляции.
Еркин сказал по-русски — не одному Исабеку, но и пижону московскому:
— Не валяйте дурака! Пошли!
— Нет, ты погоди...— мучился тугодум.
— Аксакал, у нас десять минут! — напомнил москвич.
515
Парни из десятого «А» заговорили недовольно: «Чего тут... хваЛ тит... пошли...» I
— Нет, ты погоди.— Туго до Исабека доходило, что ему говорят] как говорят, кто говорит,— Не пойму я, кто тебя-то звал сюда? )
— Никто не звал! А почему я пришел, я, кажется, аксакал, уже объяснил, на мой взгляд, вполне логично. Неужели надо все повторят^ еще раз?
Москвич не производил на чабанских сыновей впечатления противника сильного и ловкого. Левка — тот да, здоров как зверь, вся грудь в густом волосе. А москвич? Слабак он, городской стиляга. Исабек — не сравнить, куда сильней. Да и земля родная под ногами у Исабека. На своей земле бороться — силы больше. Только смысл какой — первому в Чупчи силачу взять верх над тщедушным солдатом? Разве что для порядка. Чтобы эти, из городка, нос не задирали, здешним девчонкам головы не морочили.
— Зачем стоим? Пошли,— сказал Еркин Исабеку, опять по-русски, чтобы солдат понял.
Парни из десятого «А» не возражали, вид имели самый мирный, но, вопреки мирному виду, расступались всё шире, очищали место. Еркин видел: Исабек не хочет драки, солдату-москвичу она ни к чему, но теперь от нее не уйдешь. Люди не хотят — драка иной раз сама свое дело правит. И самый трусливый выходит тогда в судьи над храбрецами.
— Уж не испугался ли здесь кто? — подстрекал Кабиш.
Еркин понял: нет, не остановишь. Затосковал от внезапной догадки: слабак и пижон возьмет верх над первым силачом Чупчи. Иначе зачем бы шел сюда так легко, беспечно?
— Драться по-честному! — предупредил Еркин москвича.
Тот показал пустые руки — ни кастета, ни свинчатки.
— Один на один. Иначе... сами знаете наших ребяг!—Володя обращался не к Исабеку — к Еркину.
Исабек растолкал подальше своих:
— Не подходите! — тяжело пошел на противника.
Еркину отчего-то влезло в голову: вся его жизнь может зависеть от того, победит сейчас или нет Исабек — родная кровь. Напрягшись, Еркин повторял про себя: «Победи, Исабек! Ты на родной земле! Победи! Победи! Если победишь, то... Если нет, то...»
Что он, Еркин поставил сейчас на Исабека, родича неповоротливого? Он и сам не знал, как это назвать. Исабек должен взять верх, хотя и не вернет победой в драке Амину. Все равно должен! Что-то жаркое поднялось в Еркине, не такое, как при беге. То чистое, а это — липкое. К горлу подкатило: «Победи, Исабек, родич мой!»
Кабиш противно захлебывался:
— Врежь ему! Врежь!..
Что случилось, никто не понял, не разглядел. Исабек нелепо подпрыгнул, рухнул на утоптанную глину школьного двора. Вско¬
516
чил, бросился на солдата — опять тяжелым мешком брякнулся оземь.
Москвич весело покрикивал:
— Осторожней, аксакал!
Вот почему смело пришел, разговаривал вызывающе: знает какие-то тайные приемы. Сильную ручищу Исабека вывернул, встал над ним:
— Ну как? Поиграли? Хватит?
Исабек взревел:
— Пусти!
— Нет, ты скажи: хватит?
Все притихли и услышали снизу, от земли:
— Хватит...
Еркин чувствовал — будто он сам прижат к земле с вывороченной больно — зверски больно! — рукой: медлит солдат дольше, чем надо, наслаждается победой, тянет унижение противника.
— Пусти! — Еркин с красными кольцами в глазах подскочил к солдату.
Тот сразу отпустил вывернутую руку Исабека, похлопал по плечу Еркина:
— Старик, порядок!
Исабек поднялся, пошел прочь, не разбирая дороги.
Еркин с трудом вспоминал: что-то очень дорогое он поставил на родича своего Исабека. Поставил и, значит, потерял. Зачем он допустил родича своего до неравной схватки? Ведь угадывал: проиграет Исабек. Пускай не шибко умен — Исабек всегда верил в свою силу. Но теперь и его сила перечеркнута, высмеяна, уничтожена. Ты слабейший из слабых, Исабек!
Еркин про себя уже знал: «Я спокоен, я больше не сорвусь». Но оставалась, как осадок, злость.
Парни из десятого «А» восторженно выспрашивали москвича насчет хитрых приемов.
— Нет, не самбо. Я пользовался приемами японцев. Про каратэ слыхали? Нет, в Японии мы не жили — в Англии, но тренер был настоящий японец. Показал много жестоких болевых приемов. У нас в Советском Союзе — вы правильно назвали — учат самбо. Вооб- ще-то, аксакалы, я бы мог с вами позаниматься. Но только с разрешения вашего учителя физкультуры. Учить буду не каждого. Каратист не имеет права передавать свое умение ненадежным ребятам. Короче говоря, ставьте вопрос перед своим начальством, а оно пусть топает к моему. Понятно, аксакалы?
Чабанские сыновья почтительно гудели: пойдем, договоримся...
Володя был доволен: и не думал прежде о кружке в школе, а ведь это прекрасная идея — возможность уйти из части вечером или в воскресенье!
Еркин практических размышлений Володи знать не мог. Он видел: победитель держится достойно, без похвальбы. Ловкий парень и умен.
517
Куда против него Исабеку! Вот только как назвать, как объясните те минуты, когда москвич затянул унижение побежденного? Ведь не счеты из-за девчонки сводил! Пришел драться за другого, не рисковал, заранее знал: с любым один на один справится хитрым японским способом. Тогда зачем тянул позор Исабека, если Исабек не обидчик, не соперник, не враг — никто? \
Еркин повернулся, пошел — не искать Исабека, сейчас это ни к чему. Просто пошел сам с собой.
Сыновья чабанов сначала отправили в школу солдата. Потом и они потянулись. Еркин один остался во дворе, никого не хотел видеть.
Из окон зала падали во двор полосы света. У крыльца чернел автобус, привезший солдат, лейтенанта, Машу. От автобуса потягивало запахом остывающего мотора: маслом, металлом. На крыльце
показался лейтенант, поглядел по сторонам: что-то дошло до него, вышел проверить.
Ушел лейтенант — Вася выглянул, повел носом: Гавриловна выслала в дозор.
Еркин забыл, сколько уже стоит здесь. Недолго, пожалуй: он без шапки, а не замерз.
Он задумался только сейчас, хотя мог бы над этим думать гораздо раньше: будет ли счастлив каждый человек в той будущей хорошей жизни, какую он видел в степи, когда сильным, взрослым ехал на своем послушном вездеходе, входил усталый в теплый просторный дом?
Еркин привык к простому, разумному порядку своей будущей жизни. Нет, она не виделась ему беспечной. Она шла с зимними буранами, с летними обжигающими ветрами, с упорным трудом, с борьбой. Но в ней еще никогда не случалось того, что случилось с Исабском.
Еркин уважал в людях ум. Уважал смелость, доброту, справедливость. Но разве только умные, сильные и красивые имеют право на счастье, а остальные пускай живут средненько, потому что они и сами не высший сорт — средненькие? Нет, он так не думал. Он думал о равной справедливости для всех у себя в степи. Однако сам, родившись слабым, все же постарался нарастить силу
518
достаточную и твердо знал про себя: я неглуп, я умнее других, я — Садвакасов.
Выходит, что и он признавал: одна — получше! — жизнь для умных, красивых, талантливых, и для Еркина тоже — он ее сам дтя себя, умного, выбрал. А для таких, как Исабек,— другая жизнь, попроще. Хватит с него, тугодума. Проживет и не заметит, что прожил вторым сортом.
«А Шолпашка? — вдруг вспомнил Еркин.— Ей какая достанется жизнь?» Он вспомнил то, что знал всегда: его дело защищать Шол- пашку от любой обиды, а значит, и от всех будущих обид.
Он стоял и думал: что же теперь делать со своим будущим, как ему честно разместить вечные несправедливости жизни там, где будет много света, много тепла, много хороших людей...
Еркин наконец-то замерз — потянуло в школу. Но Машу он ви¬
деть сейчас не хотел. Заберет с вешалки тулуп, малахай и потопает домой. А завтра прикатит машина с отгона, увезет интернатских на зимние каникулы. Целых две недели у Еркина есть в запасе.
В школьном коридоре покуривал Рябов. Скоро даст солдатам команду собираться.
С той стороны, где зал, шла по коридору Сауле, очень красивая. За ней солдат-москвич, тот, что победил Исабека. Еркин разозлился на Сауле: пусть бы кто другой! Но зачем именно этот, продливший унижение Исабека?
— Ты где пропадал? — спросила Еркина Сауле.
Ему стало смешно: какой снисходительно-небрежный, фальшивый тон. Но собственный ответ прозвучал еще фальшивей:
— Все время здесь. Ты меня просто не замечала.
Еркин подумал: «С чего это я стал прибедняться?»
— Странно!
Она стояла перед узким высоким зеркалом, солдат принес ее пальто из класса, ловко одел Саулешку, слегка задержал руки на ее плечах — как бы полуобнял сзади и глядит в зеркало на нее, на себя: «Хороши ведь оба! Ты! А я?..»
Еркин понял: вот как делается. Подать пальто, задержать руки у девчонки на плечах, встретиться глазами в зеркале. Он понял и запомнил: вот как можно.
519
Глядя вслед уходящим, Еркин с облегчением заметил: у эти^ двоих ничего настоящего нет, они идут рядом, но настоящего у ни^ не было. Он с недавних пор откуда-то научился различать, каковь^ отношения между двумя. Очень удивился: самые тихие в классу Сережа Ли и Валя Власенко, а у них настоящее есть. Он понял всё про них, когда Сережа Ли словно ожегся, коснувшись при всех Валиной руки. А ведь даже Фарида не догадывалась.
Рябов взглянул на него сочувственно:
— Ты, Еркин, учись танцевать, пока молод. А то будешь как я... Есть такой закон: если не танцуешь, непременно начнешь грустить. Закон бала.— Лейтенант на самом деле был невеселый.
— Геннадий Васильевич, вы знаете какое-нибудь очень точное определение — в чем счастье человека? — Вопрос вырвался у Еркина вроде бы не к месту, но лейтенант словно ждал, что будет именно такой вопрос.
В тот день Рябов получил письмо от друга с горьким сообщением, что общий их товарищ погиб на испытаниях. «Случайность, но случайность неизбежная в нашем деле»,— писал друг, и, возможно, Рябов отвечал больше ему, чем мальчику-восьмикласснику.
— О счастье написано очень много. Счастье всего человечества. Счастье одного человека. Маленькое счастье. Большое. Наверное, Еркин, невозможно счастье в одиночку или даже вдвоем, когда кругом горе. Тогда уже не счастье, а так... счастьице, вернее — благополучие...— Рябов задумался.— Лев Толстой составил пять условий человеческого счастья. Первое: жизнь под открытым небом, при свете солнца, на свежем воздухе, общение с землей, растениями, животными. Второе: труд, приносящий удовлетворение. Третье: семья. Четвертое: общение с людьми свободное, любовное. Ну и пятое... Оно для старших понятней, в твоем возрасте рано думать. Пятое: здоровье и безболезненная смерть.
— И это все?
— Ты считаешь, мало?
— Не мало. Как-то... обыкновенно, что ли. Это есть у всех людей. Жизнь, солнце, труд, семья, общение с людьми. У всех есть, кто не лежит в больнице, не сидит в тюрьме, как Сашкин отец. Выходит, просто жить на свете, существовать — уже счастье?
— Но если подумать о первом хотя бы условии из пяти. Жизнь под открытым небом, на свежем воздухе. Не о том же сказано, что полезно гулять почаще с тросточкой. Жизнь под открытым небом — кажется, и ты в будущем строишь такую жизнь. Ты мне сам как-то рассказывал о своих планах, какой хочешь видеть свою степь. Что-то будет меняться в ней, что-то повторяться за годом год: одна и та же дорога, одни и те же люди... Хорошо это или плохо? Вот твоя одноклассница Маша Степанова поездила по свету: и Тихий океан видела, и Волгу-матушку, а теперь твою степь. И все эти годы здесь жил ты. Или, допустим, не ты, старушка жила. Однообразно жила или нет? Я думаю — нет. Сегодня солнце, завтра дождь. Я как-то
520
наблюдал. Старуха казашка вытащила из дома на весеннее солнце одеяла, кошмы, тулупы — все дувалы позавесила. Ну, думаю, кому пробуждение природы, а кому практический интерес. Старуха кончила таскать — и мелким, мелким шагом со двора в степь. Ладошку приставила к глазам и глядит, бормочет что-то себе под нос — чудит, одним словом. Молодость ей, что ли, вспомнилась? Самой уже лет семьдесят. Сколько раз видела, как весна в степь приходит, все заранее известно... Ну и что с того, если известно? Бабхе от опыта своего не скучней на весну любоваться, чем мне. Ей, может, радостней, чем мне. Во столько раз, сколько она здешней весне радовалась.
— Я вас понял, да, и про солнце, и про общение,— сбивчиво заговорил Еркин.— Землю, природу понимать не только, как Витька, с научными целями... или там с практическими задачами. Надо жить наполненно! Человеку все в жизни нужно испытать — и радость, и горе. Ведь если счастливы станут все и всегда — люди разучатся понимать, в чем же счастье. Жить разучатся. Замечать перемены. Стремиться к чему-то новому.
— То, о чем ты сейчас сказал, очень верно. Жить полной жизнью. Мой дед был садовод. Помню, летом вывел меня в сад и показал: все яблоки зеленые, а одно густо закраснелось, как в осень. Дед мне велел: «Гляди на сей плод и мысли, что к чему и зачем». Я глядел и не мог уразуметь, чего дед от меня хочет? Он мне: «Мыслишь?» Я ему: «Мыслю, но еще не придумал». Дед рассердился: «Я не выдумки жду от хитрости ума! Ты суть явления прочувствуй!» Стояли, стояли — я ничего не прочувствовал. Тогда дед сказал: «Запомни, что раньше времени закраснелось порченое яблоко, ему теперь уже не расти, не наливаться, а морщиться на ветке, усыхать. Так и человек: не торопись принять зрелый цвет до срока...»
В коридор выплыла Серафима Гавриловна:
— Геннадий Васильевич! Мы вас ищем! — Она собиралась твердой рукой завершить вечер к назначенным ею десяти часам. На Еркина поглядела изучающе и объявила ему: — Что-то ты мне сегодня не нравишься!
— Я пошел,— сказал Еркин.— До свидания.
Нашаривая на вешалке в темном классе свой тулуп, он услышал: спорят Нурлан и Колька.
— Если хочешь, как настоящий мужчина, залить свое горе — давай! — Пропащий человек сидел на подоконнике с бутылкой «Алма шарабы».
— Не-е-е... У меня дома сразу унюхают.
— Чаем зажуешь. Вот пачка цейлонского.
— У меня и сквозь чай разберутся.
— Что-то я тебя не пойму! Или ты переживаешь из-за Саулешки, или думаешь о встрече с бабкой.
Нурлан как истинный друг хотел помочь Кольке поэффектней сыграть свою несчастную любовь к Саулешке, которая ушла с Во¬
521
лодей-солдатом, Колька, напротив, хотел, чтобы никто не догадывался про его переживания. Ему казалось: Саулешке не может всерьез нравиться Володя. Не может — и все. Кого-то она дразнит этим Володей. Колька и не надеялся, что Сауле дразнит его.
— Я переживаю! — отбивался он от Нурланового бурного сочувствия.— Но и дома неохота выволочку заработать. Ты мою бабку знаешь!
— Бабка или Сауле? Выбирай!
Еркин, натягивая тулуп, подошел ближе:
— Эй, как бы вас тут Гавриловна не застукала!
— Глотнуть хочешь? — Нурлан показал на бутылку.
— Зачем?
— Пьют с горя,— снисходительно сообщил Нурлан.— Или для храбрости. Девчонки любят храбрецов. Ты, Садвакасов, сегодня храбрый?
— Здесь, в темном углу, хватит и двух храбрецов. С Новым годом! Я пошел.
После ему вспомнится Нурланова болтовня про храбрость. Отчего многое серьезное сначала встречаешь в пустяковом виде?
Еркин направился к выходу и — так ведь не хотел! — увидел встревоженную Машу.
— Ты уже уходишь? — удивилась она.
— Нет, не ухожу.— Маша показалась Еркину сейчас чем-то похожей на Сауле. Не внешностью, а чем-то другим, неуловимым.— Я тебя ждал.— Ему совралось легко, только опять погорчало во рту.— Твой автобус скоро? Давай выйдем пока. Я тебе должен сказать...
— Подожди, я сейчас! — Маша надела пальто. (Еркин не успел подать!) Надела длинноухую чукотскую шапку. (Еркин и не замечал прежде, какая милая ушастая шапка! Отчего не казахи придумали такую?)
— Ты что хотела бы переменить здесь, у нас? Что наколдовать под Новый год? — Они вышли на крыльцо.
— Я бы сюда речку привела,— сказала она.— Ласковую речку, зеленый берег. И чтобы ветлы над водой. Но ведь это неправда: взяла и привела речку. Здесь речку неоткуда взять, ветлы не из чего сделать. Нельзя даже на Новый год желать не по правде. Если даже придумываешь, все равно надо по правде: что на самом деле возможно...
Еркин взял обеими руками мягкие чукотские уши, завязал узлом у нее под подбородком:
— Ты хорошо сказала, ты молодец. Нельзя желать неправду.
— Гляди, Еркин, как вызвездило сегодня!
— Ты запомнила наши имена звезд?
— Вон та — Железный кол... Да? И Семь воров на месте. Гляди, Еркин, Птичья дорога зимой еле видна.
— Тебе не холодно?
522
Они вышли из ворот. Показалось Еркину или на самом деле в степи промелькнула черная фигура? Исабек бродит. Еркин не окликнул — не хотел встречи с Исабеком. Ветер давил все сильней. От поселка к школе катил грузовик с фанерной будкой в кузове.
— Дядя Паша приехал. Повезет завтра интернатских по домам.
— Это далеко?
— Не очень. Километров двести.
— А мы, может быть, скоро уедем насовсем.
— Я знаю.
— Ничего ты не знаешь. Ни-че-го!
— Не знаю,— согласился Еркин.
— Ну и что же будет?
— Все будет. Много людей, много света. А ты будешь? Ты?
Давешний чудак в бушлате вышел из тьмы на свет фар, заслонил глаза ладонью. Ручища как кувалда — пол-лица прикрыла, не узнать.
Паша притормозил, открыл дверцу.
— Тебе чего? Выпил? Иди проспись! — привычно приговаривал он. Но отчего-то засомневался: не пьяный, нет, стоит не колышется.
Чудак в бушлате пропал из лучей фар, но куда? Паша не слышал его шагов по разбитой дороге. В таких-то корявых сапожищах и трезвый в темноте запинается, а этого не слышно. Где он там застрял, чудак?
— Браток, подвези! — услышал Паша чудака вовсе рядом. Когда подскочил, успел?
— Тебе далеко? — Пашу смех взял: посадить чудака, прокатить двести метров до школы.— Ладно, садись! — Не мерзнуть же мужику на ветру, тем более, похоже, не здешний, степи не знает, уйдет — заблудится.
Паша потянул дверцу — захлопнуть, но чокнутый не отпустил.
— Не дури! Зайди с той стороны! Кругом обойди! Кому говорю? — Дверца рывком ушла у Паши из-под локтя, железная ручища хватила за горло.— Ты вот как! — Паша уперся, сколько хватило сил, но тело его, бессильное, вялое, поползло с гладкого — не за что придержаться! — сиденья, валилось наружу.
«Ключ!» — вспомнил Паша. Слабеющей рукой нашарил плоский ключ зажигания, выдернул и тут же выронил из пальцев.
Салман легко подумал: «Ну, теперь мне!»
Он уже подкрался близко, стоял за спиной чужого, чуял над головой саперную лопатку, прикрученную проволокой у борта грузовика, успел прикинуть: «Лопатку? Долго откручивать! А надо бы! Нет, не успею!»
523
Салман схватился рукой за что-то в машине — за скобу,— изо всех сил врезал сапогами-каблуками чужому под колено, перегнулся, перекинулся — и всеми когтями в горло, в ненавистный кадык.
Все успел, только весу в Салмане, как в синей птице.
Месяц в небе кувырнулся — острым рогом ударил в бок...
После Салман очутился на теплом, на горячем. Лежал спокойно, отдыхал. Все слышал — говорить не хотел.
Витькина сестра целовала в лоб, в щеки:
— Сашка! Ты живой? Сашка, скажи! Сашка, откуда кровь? Ну пожалуйста, скажи хоть что-нибудь, не молчи. Я тебя очень люблю, Сашка! Ты только не молчи, скажи...
Что-то теплое капнуло на щеку Салману, потекло к губам — он тихонечко в рот впустил: не своя слеза, а тоже соленая.
Рядом застонал дядя Паша. Очухался, сел, шарит по земле:
— Ключик я обронил. Девонька, поищи...
Все Салман слышал — глядеть и говорить не хотел. Лежал спокойно и думал свое: жизнь у меня будет долгая, я еще много чего увижу, не пропущу, потому что сегодня не пропустил, не прозевал, вовремя подоспел.
Еркин бежал за бандитом от слабых огней Чупчи в бескрайнюю темноту степи. Припоминал: что есть при себе нужного в карманах? Авторучка, блокнотец пустячный, платок, зажигалка американская — подарок Кенжегали... Да, зажигалка — дело. Не упуская из виду черную убегавшую фигуру, Еркин присел, нашарил ворох курая, чиркнул зажигалкой. Курай легко вспыхнул, но тут же — искры на ветер — перегорел. Еркин поднялся, припустил вдогонку за черным человеком.
«О чем только что я говорил с Машей? О реке. О чем хотел сказать?» Все трудные мысли рассыпались там, где он и Маша, прибежав на крик, увидели дядю Пашу и Сашку.
Еркин опять чиркнул зажигалкой, не сразу придавил фитиль. Откуда-то взялся солдат-москвич:
— Ты что с огнем балуешь?
— Бандита ловить надо. Он дядю Пашу убил.
— Пашку-Магеллана? — Солдат бежал рядом.— Здешний убил?
— Нет, чужой...
■— Ты чем поджигал траву?
— Зажигалка у меня.
— Еще разок полыхни.
Еркин поджег сухой курай, догнал солдата.
Чужой выдохся, остановился, повернулся к ним лицом, крепко расставил ноги: кому жить надоело, подходи!
Володя слышал близко сбоку детское пошмыгивание: мальчишка-слабак не в счет, не поддержка.
Володя угадывал в приготовившемся к схватке бандите силу, опыт
524
и жестокость бесчеловечную. Не спортивный зал, не переулок московский — дикая степь кругом, тьма, ветер воет.
«Но почему именно я должен сейчас? Это же зверь!..— Володе казалось, что ледяной ветер добрался до сердца.— Какого черта?! Какого черта я сорвался в погоню, вместо того чтобы бежать в школу, поднять по тревоге солдат? Никогда не надо поддаваться минутному порыву, ничего полезного из порывов, самых прекрасных, не получается — это аксиома. Дважды два четыре, сила вся в кефире. У бандита, между прочим, ножичек. Имеем дело с профессионалом пера. Смешно? Нож — перо, профессионал пера. Но Владимир Муромцев, если хотите знать, не готовится работать на Петровке, тридцать восемь. Он метит в высотный дом на Смоленской площади... Благодарю вас за внимание, дамы и господа! — Володя попытался иронически усмехнуться, но пересохшие губы склеились крепко.— И не поминайте лихом!»
Еркин опередил солдата на короткие секунды — бросился на бандита, на руку, выставленную с ножом. Тот не успел ничего: Муромцев воспользовался единственным мгновением, сработал молниеносно, как по команде японца,— раз, хруст, истошный вопль, а теперь мордой в снег, в камешки!..
«Спасибо вам, Симамура-сан, ваш усердный ученик, кажется, совершил то, что называется героическим поступком,— ни минуты не раздумывал! Солдат Муромцев кинулся и... черта с два — не раздумывая! Я столько передумал — теперь и не вспомнишь, не соберешь! Да и надо ли?»
— Парень, у тебя ремень есть? Обыкновенный, брючный! — Володя помог Еркину намертво стянуть тяжелые кулачищи.— Ну, а теперь отдохнем, подождем публику, перекурим... Не куришь? Хвалю. Где-то я тебя видел. A-а... Ты был, когда дрались. Тебя как зовут? Давай, Еркин, устроим небольшую иллюминацию. Собери травки побольше. Понял? Тогда действуй...
Еркин торопливо ломал курай, складывал в кучу:
— Столько хватит?
— Хватит! Пали! — Володя с наслаждением прикурил от зажигалки Еркина.— Откуда у тебя такая шикарная?
— Брат подарил.
— А кто он?
— Научный работник.
— Хороша, но разовая. Прогорит газ — выбросишь.
— На бензиновую переделаю.
— Можно! — Володя курил, блаженствовал.— Приятно было с тобой познакомиться. Ты молоток! — Почему-то Володя не сказал Еркину про ту секунду, когда Еркин опередил его, бросился на руку с ножом, отвлек бандита. Нарочно не сказал? Или на радостях забыл, как забыл все быстрые мысли, промчавшиеся в голове перед броском?
Еркин никогда не узнает про свой верх в то мгновение, от которого
526
многое зависит в жизни человека: все прошлое в него вмещается, чтобы после — чудом превращения — в ином уже качестве вылепиться в жизни будущей. Но разве так уж важно: знал, не знал? Важно: сделал.
— Здорово ты его! — У Еркина никакой нет охоты ближе подойти к сваленному бандиту, разглядеть, насколько рисковал.
— Матерый! — похвастал Володя.— Наколочки на руках. Любопытные уголовные сюжеты. Не удивлюсь, если выяснится, что этот тип бежал из-под стражи. Я слышал, они, если бегут, уголовники из колонии, машину на дороге захватят — и по-о-о-шел степью до Каспия... Кто случаем встретится — покойник! — Володя напоследок крепко затянулся, бросил окурок в костер.— Что-то наши не торопятся. А я-то еще сомневался: зачем сдуру за ним кинулся, не сообразил ребят поднять. Пока подымались бы, он далеко мог уйти. Ты как полагаешь?
— Вполне! — Еркин представил себе: идет по ночной степи за черной тенью, поджигает сухой курай. Да, повезло ему, что вывернулся откуда-то москвич Володя. И не откуда-то, а возвращался, проводив Сауле до больничной проходной. Целовался с ней или нет? Ладно, это мимо. Повезло Еркину, что Володя сегодня пошел проводить Саулешку. Исабек тоже где-то сейчас по степи бродит. Но Исабек не смог бы взять бандита. Это уж точно — не смог бы. Повезло Еркину, что Володя с ним, а не родич медлительный.
Еркин пошел наломать еще курая. Вернулся с большой охапкой, накрыл слабый, кончающийся костерок. Пламя прогрызлось, выметнуло высоко вверх, раскидало красные искры. Чужой перекатился на спину, лежал с открытыми глазами — в глубине зрачков блеснули тусклые медяшки. Еркину вспомнился давнишний волк: тот же блеск в глубине узких волчьих зрачков.
— Прочухался? — бросил Володя.
Чужой равнодушно проехал взглядом по солдату — может, принял за конвойного? — уперся ненавистно в мальчишку, скуластого, высвеченного диким степным огнем: нет, не тот, не мазитовский ублюдок.
— Ублюдку передай: с того света приду — сквитаюсь.
— Не передам! — Скуластый усмехнулся.— Зачем его пугать? Но не забуду! С того света придешь — меня здесь встретишь.
На свет костра мчал по степи солдатский автобус.
— Показывай, Муромцев, кого взял. Пашка в порядке. Повез пацана в больницу.
Еркину теперь казалось: разговор с Машей был очень, очень давно. Он теперь понимал: незачем ему было разговор затевать — обидные мысли, трудные слова. Где-то он их рассыпал и не вернется собрать. Зачем? Я тебя люблю, Маша! Ничего выдумывать не нужно. Просто нужно жить под открытым небом.
К нему подошел лейтенант:
— У тебя все в порядке? Маша напугалась — плачет.
527
— Еркин у нас молоток! — похвалил Володя и стал рассказывать Рябову в подробностях, каким приемом свалил бандита.
Еркин думал: много солдат рассказывает — это бывает, когда перепугаешься. Он сам про волка много рассказывал, и отец объяснил, по какой причине язык развязывается. Еркин тогда себе приказал: про волка не болтать. Но Володю-москвича он не осуждал. Конечно, хватили страху. Еркин достал из кармана американскую зажигалку, протянул Володе:
— На, возьми на добрую память!
— И тебе от меня! — Москвич снял с руки часы.
* * *
Что-то сделали с Салманом слезы Витькиной сестры. От ее слез Салман становился все старше и слабее.
Ехала, хрустела по мерзлой земле машина. Теплые руки трогали лоб Салмана. Хотелось глаза приоткрыть, но Салман себе не разрешил: еще успею, погляжу; не убили, долго проживу...
Машину трясло, кидало. Мысли его путались. Не Салман он вовсе, а другой мальчишка тех же лет, фашистами расстрелянный, да не до смерти. Боевой комбат нашел его среди убитых, поднял на руки, понес: ты теперь долго будешь жить, парень... Салман потерся щекой о колючую шинель: он знал, кто его несет. Полковник — Витькин отец...
В больнице Салман открыл глаза — от Доспаева прятаться не станет.
Доспаев больно ковырял где-то под ребрами:
— Ты везучий. Три сантиметра влево — было бы, брат, очень худо.
Салман — против лампы раскаленной — глядел не моргая, ухмылялся.
Доспаев спросил:
— Ты не думал, что у бандита может оказаться нож?
— Про нож-то? Знал! — хвастливо сказал Салман.— Он мне показывал. Большой нож.
— Вот как? Ты знал?
Доспаеву был непонятен этот мальчишка, преследовавший Сауле мелкими злыми пакостями. Дурная трава, но здешняя. Не только сын своего отца, но и сын степи. Что ему надо? Не скажешь... Чего не надо? Жалостливости! Крепкий орешек.
Только тут Салман заметил: по другую сторону стоит Витькина мать в белом халате. Откуда взялась? Оттуда. Она здесь работает. Потерпи, Салман! Тебе еще рано ум-память терять...
— Вы, Наталья Петровна, мне пока не нужны,— распорядился Доспаев.— Пусть пришлют Мануру из хирургического.
— Она уже домой ушла.
528
— Не Манура — пусть кто-то еще. Поопытней!
Салман тужился голову поднять, но не оторвал от чего-то липкого — клеенка, что ли?
— Нет! Она не уйдет. Пусть она.— Он требовательно глядел Доспаеву в глаза.— Пусть она!
Доспаев уступил:
— Оставайтесь, Наталья Петровна.— Отошел, чем-то занялся, издали спросил Салмана: — А ты не загордился сгоряча? Уже командуешь в больнице. Разве ты тут хозяин?
— Нет,— угрюмо сказал Салман.
— Не хозяин и не гость. Больной. Шуметь и требовать в твоем состоянии нельзя — опасно. Тебе тихо надо лежать, даже если ты очень храбрый.
Салман понял: уважительно заговорил с ним гордый Доспаев, признал верх за Салманом Мазитовым. Но радости от победы не было. Откуда-то стыд пролез: кому мстил? Девчонке! Салман прежде не знал этого едкого чувства — стыда. Незачем был ему в прежней жизни стыд. А тут подловил, взялся щипать. Салман глаза спрятал: «Ладно, буду тихо, я не гордый, я везучий, не опоздал...»
Над самым ухом Витькина мать шепнула:
— Спит, ослаб. Бедный малыш! Пойду Вите скажу. Он прибежал. Маша там, сын Мусеке, все ребята. Я им сейчас скажу. Что им сказать, Сакен Мамутович? Девчонки просятся по очереди дежурить.
— Очень похвально, однако нет необходимости. Дежурства, Наталья Петровна, допускаются тогда, когда они нужны больному, а не тем, кто рвется дежурить. Скажите им, чтобы шли по домам.
— Хорошо, я скажу. Там и Сауле.
— Тем более, что там и Сауле.
Салману думать стало трудно, больно. «Не о чем мне больше думать, тихо полежу, отдохну, думать не буду; пора беспамятливым стать, такое мне время пришло — не боязно, я не маленький, мне время пришло — беспонятливым стану, все, что знал, забуду, из больницы выйду — живи без оглядки...»
Доспаев сказал:
— Вот теперь он на самом деле спит. Спокойной ночи, Наталья Петровна.
Глава четвертая
Еркин проснулся от запаха яичницы с салом. За столом, завесив лампочку газетой, сидели дядя Паша и Ажанберген.
— Уже ехать? Я проспал?
— Какой там! Два часа ночи. Ты погляди, Еркин, вот сидит счастливый человек, он только что стал отцом.— Дядя Паша еще что-то говорил, а человек, который стал отцом, знакомый Еркину Ажанбер-
529
ген из Тельмана, улыбался от уха до уха: успокоенно, блаженно.— Если тебе, Еркин, не спится, давай сюда за стол. Поговорим про жизнь, обменяемся опытом. Ажанберген у нас самый старший, отцом стал, сыну два часа от роду, вес три восемьсот. За Ажанбергеном по званию следующий я. В армии отслужил — раз, женатый — два. А ты у нас самый молодой и пока что холостой. Ночь нынче у нас, мужики, святая. Во-первых, выпивки нет и не надо: мне завтра пацанов везти в Жинишкё-Кум. Во-вторых, человек новый на свет явился и выбирает, как говорится, свой жизненный путь: в чабаны ему идти, в шоферы или — попроще — в академики. А в-третьих, у меня лично свой праздник — чудотворное спасение Паши Колесникова... Между прочим, когда у меня сын родится — хотя Тоня дочку хочет! — так вот сына я непременно Сашкой назову, в честь своего спасителя.
Еркин вылез из-под одеяла, пересел к гостям за стол, ковырнул яичницу.
— Что в жизни самое главное? — философствовал Паша.— В жизни как на незнакомой дороге. Ты сумей каждый ухаб вовремя вблизи увидеть, чтобы, значит, вовремя вправо-влево взять. В тот же момент успевай замечать, что у тебя по сторонам. И главное — далеко вперед гляди. По ближним кочкам дорогу не определяют, вперед глядеть надо — сколько глаз достает... Ты туда через час доберешься, а глаз уже побывал, примерился... Ближнее, значит, нужно в жизни зрение, боковой обзор и дальнее...
Ажанберген молча слушал или не слушал — улыбался блаженно. Из второй комнаты, где Еркин не топил, вывалился заспанный Исабек.
— Чай есть? В кошму закатался — и то закоченел! — Он сгреб ручищами налитую пиалушку, прихлебывал с оттяжкой, отдувался, отмякал, ни о чем не спрашивал, потому что все проспал, забравшись с горя в садвакасовскую зимовку.
— Едешь завтра? — спросил Исабека Паша.
— Не... Голова оставил на дополнительные. А то завалю на экзаменах и казахский и русский. Гавриловна по алгебре сто задачек задала.— Исабек не врал, не хитрил. Директор на самом деле не отпустил его на зимовье, где родичи, где лишние расспросы, где Амина, где в придачу ко всему — этого директор не мог заранее знать, но мог предвидеть — появятся вести: первого в поселке силача положил солдат из городка.
— Ты, Исабек, правильно держишь,— философствовал Паша.— Аттестат любой ценой добыть надо. А после куда? На курсы чаба- нов-механизаторов?
— Не, в военное училище. На каникулах съезжу в военкомат, договорюсь...
— Ты? В училище? — не поверил Еркин.
Ажанберген слушал — не слушал, улыбался блаженно: четвертый час идет его сыну, малой зеленой почке сильного дерева, глубоко ушедшего корнями в здешнюю землю.
530
— В пограничное хочу. В Алма-Ату. Мы для них лошадей поставляем. У нас в горах буду служить или на Кавказе.— Исабек хотел показать себя не побежденным, а напротив — что он уже забыл о чем-то случившемся сегодня и весь в думах о своем будущем. Он всегда отличался недогадливостью, сегодня в особенности. О том, что случилось с Пашей, с Еркином и отчего так сияет Ажанберген, Исабек узнает когда-нибудь после, а может, и вовсе не узнает.
Исабек принес из холодной комнаты кошму: то ли по белому полю черный узор, то ли по черному — белый. Еркин помнит: когда мать делала последнюю свою кошму, одинаковый кроила узор — что черный, что белый,— после точно влился завиток в завиток. Жизнь людей тоже бывает совсем разная, а встретятся — и непохожее сошлось.
Он водил ладонью по гладко укатанной кошме, нащупывал: вот извилисто течет белая река, вот — черная река. Казахский орнамент, наверное, можно рассчитать математически, и это будет не просто сделать, а ведь придумали его вовсе неграмотные люди. Кто-то вдруг проснулся среди ночи, словно от яркой вспышки: теперь знаю, как сделать!
Еркин снял гору одеял с сундука, гору подушек, разбросал по кошме и лег со всеми. Уже засыпая, вспомнил удивленно: Маша сегодня показалась похожей на Сауле.
Опять он ехал на своем вездеходе по степи мимо отар, табунов, красивых поселков. Видел: поднялся в степи саксауловый лес. Видел: русла забытых высохших рек наполнила вода. Видел: ученый-биолог Витя ставит какие-то электронные приборы у сусличьих нор. Синяя птица уже прилетела из Индии? Нет еще, но скоро прилетит. А где же твоя сестра?
Исабек в фуражке с зеленым околышем скачет Еркину навстречу на рыжем огнехвостом жеребце. Ты куда, родич мой Исабек? В свой дом вошел Еркин — там его ждал, сидя на полу, на кошме, старший брат Кенжегали: ты думаешь, что те, кто уехал из Чупчи, не сделали ничего, чтобы изменить степь? Наш Чупчи — часть великого целого, живущего единой жизнью, не забывай, Еркин...
* * *
От поселка до зимовья летом домчишь за пять часов. Зимой, отправляясь в дорогу, время не загадывают.
Темно еще было, когда Паша Колесников засигналил у интернатской арки. Но тетя Наскет уже успела всех, кому в дорогу, разбудить и накормила их не быстрым завтраком, а основательным обедом. В дороге еда как запасная шуба. Несколько лет назад в соседнем районе проглядели: с олимпиады отправили ребят по школам, не покормив. Самые дальние уехали на тракторных санях, трактор по дороге встал, а тут налетел буран. Были бы сыты, а
531
то с утра не евши... Померзли! Тетя Наскет тот жуткий случай каждый раз вспоминает, когда своих отправлять: обед досыта да в придачу еще на всех — в руки самому старшему — мясо, хлеб, чеснок.
Нурлан, разбуженный со всеми, спросонок дочиста подмел обед из трех блюд, а ехать передумал: чего он там не видал, на зимовье? Культурного обслуживания? Кинопередвижки? Лектора по международному положению? Нурлан останется здесь дожидаться от Гавриловны Нового года. Вчера ей не дали поприветствовать и пожелать. Влетел Левка, все сорвались по тревоге. А он, Нурлан, не привык Новый год встречать кое-как, он привык его встречать по школьному расписанию. Нурлан вернулся в спальню, завалился в кровать. Аскарке — малыши на зимние каникулы не ездят — приказал: спальню снаружи запереть! Разбудить к часу! А там можно к Кольке смотаться, в городок к Маше Степановой, рискнуть постучаться к майору...
Фарида ничего такого и предположить не могла. Она выпросилась погостить к тете Гуле в Жинишке-Кум. Из-за кого она затеяла поездку к тетке? Из-за Нурлана! Все уже сидят в фанерной будке, а Нурлан не идет. Дядя Паша в будку заглянул, Шолпашку в кабину позвал, она отказалась, а Нурлан все не идет. За ним бегали — не нашли, спальня заперта. Так и уехали без Нурлана. Не выпрыгивать же Фариде из машины, себя на смех выставлять. Хоть догадалась в кабину перебраться — там теплее. Паша еще поймет, как ему повезло. Эта сорока не даст задремать.
В будке надышали, нагрели, но фанерная стенка мерзло поскрипывает за спиной Еркина. На лавке напротив сидит Шолпан в плюшевом пальтеце, в теплой шали, какую только старуха наденет.
Старшие ребята изо рта в рот передают сигарету, младшие догрызают выданные напоследок леденцы. Все едут по домам без поклажи. Только к весне интернатские повезут валенки, шубы, меховые шапки — на укладку в домашние сундуки. Если у кого двойки расплодились за первое беззаботное полугодие, то и это добро никто с собой не берет: в школе полежит до третьей четверти, до марта. Когда в колхозах по весне точнее начнут вести счет овцам и кормам, тогда и в школах все лентяи возьмутся за ум,— нет в степи месяца, больше располагающего к раскаянию, прилежанию и святым клятвам, чем март, когда приходит восточный Новый год.
— Дударай-дудар, дударай-дудар...— Девочки затянули тонехонь- ко, вплетали в песню голос за голосом, как шерстинки в пряжу, и песня не грубела, все более тонкая, она крепла, словно нить в умелых руках. Еркин не заметил, как и сам вплел свой голос в общую песню.
Кто ее сложил? Мария, Марьям, Маша.
Дверца фанерной будки распахнута, и Еркин видит убегающую вспять черно-белую дорогу. Сидеть спиной к движению — все равно что видеть мир в зеркале: все наоборот. Еркин встал и захлопнул дверцу.
В степи поземный ветер свивал тощий снег в белые жгуты.
Салман еще спал — один в палате, в той самой, где Шолпан увидела на койке бабушку Аскарки.
Он проснулся, открыл глаза: против света стоит кто-то. От догадки в жар кинуло: Витькина сестра. Она повернулась и стала Саулешкой Доспаевой. Салман понял: пропало у него прежнее острое чутье, другим стал, бестолковым. И не знал теперь, что Саулешке надо, зачем пришла, что тут забыла.
— Ты чего? — настороженно спросил Салман.
—■ Проснулся! — Она подошла ближе.
Сауле обычно не ходила в палаты — помнила свою вину перед теми, кто здесь врачевал целый век. А теперь пришла. Может быть, она не станет астрономом, вернется в Чупчи врачом? Еще ничего не известно.
Салман глядел на нее исподлобья. Мог бы, конечно, что-то сказать, но не сказал — не признавал за словами никакой цены.
Дверь отворилась, и в белых халатах вошли Витька и его сестра. Салман разозлился: Витька мне друг, он пускай остается, а девчонки пускай уходят!
После, кривясь от боли, сел в кровати, поглядел в окно: вон они обе, идут к воротам.
Голова вышел на школьное крыльцо, поглядел в степь, зарисованную снегом, как школьная доска мелом. Двое шли по степи, а он никак не мог разглядеть или угадать: кто эти двое?
— Дряхлеешь, дряхлеешь ты, старый школьный козел! — недовольный собою, ворчал директор.
Ученикам он говорил:
— Когда чего-то добьешься, не забудь обругать себя. Ведь до этого ты все время обиженно думал: «Ну почему у других все получается, а у меня — такого умного, хорошего, талантливого! — ничегошеньки не выходит».
Но то ученики — а то он, старый школьный... Ну ладно, ладно, обойдемся без грубых слов, не будем огорчать Серафиму Гавриловну... старый школьный директор по прозвищу Голова.
Морщины на лице изобразили такое, что и Серафима Гавриловна не взялась бы разгадать: двое шли по степи, двое из русского восьмого «Б» — Доспаева Сауле и Степанова Маша.
Тем часом в городке перед строем читали приказ о мужественном поступке рядового Муромцева, задержавшего опасного преступника. Володя вышел вперед — подтянутый и молодцеватый.
В степи поземный ветер бросил вить тугие снежные жгуты, все растрепал, развихрил — не иначе как собрался забуранить.
533
Грузовик с фанерной будкой в кузове разматывал за собой тонкую нитку песни, катил все дальше в открытую степь. И еще многие километры будет кругом ровная плоская степь — большая неласковая земля, научившая людей привечать любого незнакомого, кто придет к порогу, понимать друг друга и жить разным народам в добром соседстве.
На лавке напротив Еркина покачивается в лад песне Шолпан, закутанная по самые глаза в ветхий старушечий платок. Еркин ус- покоенно думал: она-то всеми мыслями уже дома, что-то там делает неутомимыми руками. Но он ошибся: мысли Шолпан кружили близко, рядом.
Еркин плотнее запахнул полы тулупа, откинулся назад. Слышнее стало: скрипит промерзшая фанера, летят из-под колес верткие камешки, ровно тянет двигатель. Нет на свете ничего лучше, как встать поутру и ехать, ехать навстречу новому дню.
Н.Соломко
БЕЛАЯ ЛОШАДЬ- ГОРЕ НЕ МОЕ
Владиславу Крапивину, первому учителю, другу детства
Нынче утром учитель географии лез в школу через окно в туалете. Хорошо, никто не видел. Положение было совершенно безвыходное: он опаздывал на урок, а в дверях школы стояла новенькая техничка и без сменной обуви никого не пускала.
— Здравствуйте,— кивнул ей Александр Арсеньевич, мчась мимо (надо ведь еще было успеть в учительскую за журналом), а она ухватила его за рукав и закричала:
— Куда без обуви?!
К счастью, все порядочные ученики (не говоря уже об учителях) в этот момент находились в классах, никто не слышал, как учитель географии пытался доказать, что он учитель...
— Ишь ты — «учитель»! — кричала техничка.— Видала я вас, таких учителей, перевидала! Вот сведу тебя, хулигана, к директору, он тебе покажет, как над старшими смеяться!.. Шпендрик!
Александр Арсеньевич действительно выглядел несолидно: маленький, легкий, узкоплечий, уши торчат, торчит хохол на затылке... Мальчик. Школяр. Ученик девятого класса — и это в лучшем случае! Сигареты, правда, продают, но на фильм «детям до шестнадцати» нечего и думать пройти без паспорта...
А тут еще из переулка выбежали Петухова Юля из десятого «А» и Петухов Женя из шестого «Б», и Александр Арсеньевич позорно отступил. То есть просто убежал. Вовсе не обязательно Петухову Жене знать, что классного руководителя принимают за мальчишку. А уж Петуховой Юле знать такие унизительные подробности его жизни тем более ни к чему!
Александр Арсеньевич лез через окно в туалете и клял судьбу: это же надо уродиться таким, когда кругом акселерат на акселерате сидит и акселератом погоняет... Летом вот усы пробовал отрастить. Стало еще смешнее: мальчик с усами. И усы какие-то... Черт знает какие! Отец хохотал. А мама сказала, что ей нравится (и на отца посмотрела строго: не смей травмировать ребенка). В общем, ясно было: лучше усы эти сбрить и не смешить народ...
Александр Арсеньевич пугливо выглянул из туалета в коридор. Звонок уже прозвенел, в коридоре было пусто.
По лесенке он несся через две ступеньки. Завуч Лола Игнатьевна, поджидавшая опоздавших на площадке меж первым и вторым этажом, выговорила ему суровым басом:
— Скверно, уважаемый Александр Арсеньевич, скверно!
«Белая лошадь — горе не мое!» — пробормотал про себя Александр Арсеньевич магическое заклинание, с детства отводившее от него несчастья большие и малые.
Его один замечательный человек научил: «Плохо тебе, а ты возьми и скажи быстренько (но так, чтоб никто не слыхал): «Белая ло¬
536
шадь — горе не мое!» — и все пройдет!» И проходило. Но нынче заклинание не сработало: несчастья не кончились. То есть с уверенностью можно сказать, что они только начинались.
И не то чтобы это был рок, недремлющая злая судьба, когда живет себе человек тихо, никого не трогает, а несчастья на него валятся и валятся... В случае с Александром Арсеньевичем все было иначе: несчастья валились на других, а Александр Арсеньевич добросовестно под них подставлялся. А когда человек сам подставляется, его никакие заклинания не спасут.
Нынче утром несчастье свалилось на девятый «В». К Александру Арсеньевичу оно не имело ни малейшего отношения, ведь это не Александр Арсеньевич сбежал вчера с биологии, это девятый «В» сбежал и теперь пребывал в угрюмстве, чуя миг расплаты. Но Александр Арсеньевич и тут вмешался... Короче говоря, произошло следующее...
— Бессовестные! — с порога выкрикнула Бедная Лиза. Прекрасные серые глаза молоденькой классной руководительницы были за- реваны, потому что за проделки учеников попадает сначала их наставникам.— Бессовестные! Бессовестные!
— Так, Елизавета Георгиевна...— загудел девятый «В».
— Молчите лучше, бессовестные! Слушать ничего не хочу! — Она жалобно взглянула на Александра Арсеньевича.— Саня, ты знаешь, что они творят?!
Но что они творят, сообщить не успела, потому что в дверь властно постучали. Это прибыла сама Лола Игнатьевна.
— Извините, Александр Арсеньевич,— произнесла она, карающе оглядывая бессовестный девятый «В»,— но у нас произошло ЧП, и я бы сказала попросту — неслыханное безобразие!
Лола Игнатьевна была заместителем директора по воспитательной работе, то есть как раз специалистом по «неслыханным безобразиям» и ЧП, специалистом крупным и виртуозным. Александр Арсеньевич понял, что урока не будет (Лола Игнатьевна занималась воспитанием, не жалея времени), вздохнул и отошел к окну.
— Итак, кто был организатором вчерашнего безобразия? — сурово спросила Лола Игнатьевна.
Девятый «В», естественно, хранил гордое молчание. Только Боря Исаков пробормотал довольно внятно:
— Фуэнте Овехуна...
— Исаков, меня сейчас не интересует степень твоей образованности. О пьесе великого испанского драматурга Лопе де Вега мы с тобой побеседуем в другой раз. Ситуация, описанная им, не может иметь места в средней школе. Инициаторов придется назвать. Ну?
Но девятый «В» инициаторов не называл, молчал, и все тут.
— Бессовестные! Бессовестные! — с отчаянием сказала Бедная Лиза.— Натворили — ив кусты! Я бы с вами в разведку не пошла!
537
— Может, хватит оскорблять? — возмутились с задней парты.
— Семенов! Слушать правду, по-твоему, оскорбительно? — грозно удивилась Лола Игнатьевна.
Семенов стоял у парты, сунув руки в карманы, и дерзко молчал.
— Семенов, я с кем разговариваю? Быстро вынь руки из карманов!
Семенов вынул руки из карманов и снова надерзил:
— А может, я бы тоже с Елизаветой Георгиевной в разведку не пошел, ну и что?
— Семенов, я гляжу, ты разговорился.
— Сами спрашивали.
— Семенов, я не об этом спрашивала. Я спрашивала...
— Простите, Лола Игнатьевна,— вмешался Боря Исаков.— Но может быть, имеет смысл спросить у нас не о том, кто это сделал, а о том почему мы это сделали?
Исаков Боря был страстным борцом за справедливость. Поэтому Бедная Лиза поспешно сказала:
— Боря, объяснишь, когда спросят! — Она знала, что если дать Боре заговорить, то это чрезвычайно все усложнит.
Боре не скажешь: «А ну прекрати грубить и дай дневник!» — чем обычно и кончается в школе борьба за справедливость.
Боря был интеллигентнейший, начитаннейший юноша. Он все знал. Он был не просто круглый отличник — он был вундеркинд, вежливо скучающий на уроках. Победитель всех мыслимых олимпиад, гордость школы — вот кто был Боря Исаков.
Ни один конфликт между учеником и учителем в девятом «В» не обходился без Бориного участия. Боря всегда был готов объяснить учителям, что они в данном случае не правы (что учителям, разумеется, не всегда нравилось). Но спорить с Борей было трудновато: он имел скверную привычку ссылаться на авторитеты. «Вы полагаете? — спросит он, выслушав.— А вот Макаренко в этом вопросе с вами бы не согласился. Он по этому поводу говорил следующее...» (И можно не сомневаться, что Макаренко это действительно говорил.)
А то еще процитирует Декларацию прав человека. Или устав средней школы. И бог с ней, с Декларацией, но уж с уставом-то хочешь не хочешь приходится считаться! Поэтому побаивались Борю учителя. Но не Лола Игнатьевна, которая вообще никого и ничего не боялась.
— Хорошо, Исаков,— согласилась она.— Если ты настаиваешь, начнем с вопроса, почему вы устроили это безобразие. Я слушаю.
— Прежде всего не надо спешить с определениями,— сказал Боря.— Безобразия, на наш взгляд, не было. Вернее, было, но не с нашей стороны...— Тут Боря замолк, ожидая возражений.
По всему было видно, что Бедной Лизе возразить очень хочется:
538
мол, а с чьей же это стороны они были, Боря? Но она не решается, потому что вот ведь Лола Игнатьевна молчит, не возражает...
— Продолжай, Исаков,— величественно кивнула та,— я слушаю тебя с неослабевающим интересом.
— Безобразие было со стороны Ляли Эдуардовны...
— Боря, не заговаривайся! — не выдержала все-таки Бедная Лиза. По молодости она была склонна к мгновенным и бурным реакциям.
— Ляля Эдуардовна оскорбила класс. Она обозвала Соколова придурком.
— Не может быть! — ахнула Бедная Лиза.
— Что, вот так, ни с того ни с сего, взяла и обозвала? — деловито поинтересовалась Лола Игнатьевна, которая не обладала наивностью молодой учительницы и знала, что в жизни всякое бывает.
— То, что человек не выучил урока, не дает никому права оскорблять его,— вежливо разъяснил Боря.
— А Соколов имел право прийти на урок, не подготовившись? А, Соколов?
— Ну, не имел...— вздохнул Соколов.
— Без «ну», Соколов.
— Ну без «ну» не имел...
— Соколов, не паясничай!
— Ну, не буду...
Девятый «В» неуверенно засмеялся.
— Пороть вас надо,— улыбнулась и Лола Игнатьевна.— Ведь если бы сами вы были во всем безупречны, тогда другое дело. А то рыльце в пушку, а они бьют себя кулаком в грудь: «Ах, нас оскорбили!» Не вынуждайте! Занимайтесь своим делом — учитесь, не так уж много от вас требуется... В общем, так решим: завтра извинитесь перед Лялей Эдуардовной, и будем считать...
— Простите,— твердо сказал Боря,— но это не выход. Пусть Ляля Эдуардовна извинится перед Соколовым. Иначе мы не будем посещать ее уроки. Мы так решили и просим передать наше решение директору.
Стало очень тихо. Слышно было, как в соседнем классе стучат мелом по доске, торопливо пишут...
— Кто это «мы»? — спросила Лола Игнатьевна раздраженно.— Не слишком ли много ты на себя берешь, Исаков? Выйди из класса и без родителей не появляйся.
Лола Игнатьевна подождала, когда за изгнанником закроется дверь, и повернулась к оставшимся:
— Бунтовать будем?
Девятый «В» подавленно молчал.
— На что рассчитываете, Фуэнте Овехуна? Или никто в институт поступать не собирается? А? Или вы полагаете, что вас туда возьмут с плохими характеристиками?
— А чего вы сразу характеристиками запугиваете? — возмутился
539
дерзкий Семенов. Он в институт не собирался и потому мог себе это позволить.
— Я не запугиваю, Семенов. Я объясняю. Вот закончите школу — делайте что хотите. А пока вы ученики — будьте добры подчиняться и делать то, что вам велят!
Вот до этого самого момента Александр Арсеньевич вел себя правильно: сидел на подоконнике, хмурился и молчал. Хмурость его девятый «В» мог истолковать себе так: действительно, распоясались совершенно! Слова им не скажи. Ну ничего, сейчас мы поглядим, как они мне отвечать будут. А завуч так: интересно, почему подобные вопросы надо выяснять у меня на уроке?! И так кот часов наплакал, дай бог с программой справиться... Неужели нельзя было сделать это после занятий?
Но Александр Арсеньевич, как выяснилось, хмурился по другой причине.
А выяснилось это, когда он вдруг поднялся с подоконника и сказал:
— Лола Игнатьевна, а стоит ли так? Ведь класс, в сущности, прав...
Лола Игнатьевна окаменела. Бедная Лиза охнула и зажала рот ладошкой. Девятый «В», затаив дыхание, стоял у парт и глядел во все глаза...
— Я устала от ваших диких выходок,— сказала ему Лола Игнатьевна.— Вот в понедельник выйдет с больничного директор, пусть он сам с вами разбирается...
На душе у молодого учителя стало нехорошо, тревожно как-то, и после уроков он пошел бродить по городу.
В городе была осень. Уже темнело рано, и с сумраком становилось зябко. И листья падали все чаще. Скоро, скоро опадут они совсем, и дворники вздохнут и примутся за работу... И все-таки осень еще была похожа на лето: славная, теплая, зеленая, с птицами на ветках. Вот и потянуло Саню (а за пределами школы Александр Арсеньевич был не Александр Арсеньевич, а просто Саня, может быть, он и в пределах был Саня, но — положение обязывало) в улочки и переулки, бродить, думать о непутевой своей жизни и несерьезной науке, преподаванию которой он себя посвятил...
540
Уроки в школе бывают серьезные и несерьезные — это все знают. Серьезные это по которым задают домашнее задание письменно и все время проверяют. А когда домашнее задание задают устно и проверяют не всегда, то это — несерьезные... Хорошо быть учителем по серьезному предмету, по алгебре, химии, физике!.. Сколько опасного и непостижимого таят в себе эти науки! Например, кроме параграфов в учебнике, надо еще решать всякие ужасные задачи и уравнения. Тетради, конечно, собирают редко, но зато в любой момент могут вызвать к доске. Поэтому, чтобы избежать двойки, необходимо если не выполнить задание дома, то хотя бы списать на перемене. А это, сами понимаете, дисциплинирует характер и воспитывает ум в уважении к науке... Куда там несерьезным предметам! Истории, например. Тут главное — успеть заглянуть в учебник, что там у них происходило в стародавние времена... Так, отрубили королю голову! Правильно сделали, так ему и надо, не будет угнетать! А в
каком году это случилось, кто-нибудь подскажет... Ну а уж с географией и вовсе все просто, чего там учить! На карте все нарисовано и написано. Это во-первых! А во-вторых, нужна нам эта география, честно говоря! Зачем ее учить, когда мы по телевизору и так все видали? Разве это наука?! Ведь все давным-давно открыто, описано, занесено на карты... Вот попробуй ответь им, этим ехидным и упрямым существам, именуемым учениками средней школы...
Уже стемнело, когда он подошел к дому. На углу, как всегда, торчал трудный подросток Шамин с гитарой и сигаретой.
— Заработались,— глумливо сказал Шамин.— Поздненько возвращаетесь...
Саня не счел нужным ответить.
В подъезде, на подоконнике, были горой свалены пакеты с крупой и консервные банки, рядом сидели Санины ученики: Исупов Лешка, похожий на большого плюшевого медведя, и маленький Женька Петухов, прозванный Кукарекой.
— А мы вас ждем-ждем...— сообщил Кукарека с укоризной.— Уже все купили.
Исупов молчал и болтал ногами. Он молчал и хмурился с первого сентября, что было на него, известного шкоду и пересмешника, совсем не похоже.
541
— Пошли,— скомандовал Саня ученикам и достал ключ.— Только тихо, на цыпочках.
Но предосторожности были напрасны: дома уже ждали.
Скрестив руки на груди, стоял в коридоре суровый мужчина. И хоть роста он был небольшого и вышел по-домашнему, в шлепанцах, вид имел величественный.
— Добрый вечер, папа,— сказал Саня.
— Здравствуйте, Арсений Александрович,— очень поспешно проговорили Лешка и Кукарека.
— Здравствуйте, Исупов и Петухов,— грозовым голосом отвечал Арсений Александрович.— Проходите. Александр, можно тебя на минуту?
Леша и Кукарека юркнули в комнату классного руководителя и там вздохнули облегченно. Арсения Александровича они боялись. И на то были причины...
— Сейчас опять ругать будут...— вздохнул Кукарека. Он свалил продукты на письменный стол и оглядел комнату.
Все тут было знакомое, родное: вполовину собранный огромный оранжевый рюкзак в углу, рядом со сломанным корабельным компасом, который, если постучать по нему как следует, почти точно показывает на север; стены, вместо обоев оклеенные картами с решительно прочерченными через материки и океаны маршрутами, а у двери, на гвоздике, старенькая штормовка, пахнущая лесом и костром...
Меж тем в коридоре происходил бурный разговор. Говорили вполголоса, но слышно было хорошо. Особенно если прислушаться.
— Александр! У тебя три часа назад кончились занятия! Где ты был, Александр?
— Г улял.
— Александр! У меня нет слов!
— Арсений, оставь мальчика в покое...
— Мама, тише, услышат. Я не мальчик!
— Нормально,— успокоился Кукарека.— Елена Николаевна дома, заступится.
Он снял башмаки, полез на диван, к карте Атлантики.
— Леш, в Бермудском треугольнике опять самолет пропал, говорят...
— Отстань...
Исупов Леша устроился на подоконнике, рядом с горой книг, тетрадей и атласов, и уставился в небо. Там носились какие-то птицы — голуби, что ли? — отсюда было не разобрать, а Леша смотрел на них и думал: «Как им там, в небе? Хорошо? Не страшно?» Исупов Леша и сам летал во сне, но с некоторых пор сны эти кончались плохо: небо вдруг переставало держать, земля стремительно и страшно мчалась в лицо, Исупов кричал и будил брата Виталю... А потом они лежали в темноте и слушали, о чем говорят папа и мама в соседней комнате.
542
— Леш, а говорят, это пришельцы из космоса их воруют...
— Отстань...
Кукарека отстал. Потому что наконец-то вернулся классный руководитель.
— Сильно попало? — с сочувствием спросил Кукарека.
— Сейчас чай пить будем,— сказал Саня и вздохнул.
Было ясно, что попало ему в самый раз, но распространяться на эту тему он не желает.
Нужно было идти на кухню — ставить чайник. В настоящий момент это было делом большого гражданского мужества: на кухне шел очередной семейный совет.
Повестка дня: непутевая жизнь Александра.
Присутствовали: Арсений Александрович — отец Александра, Елена Николаевна — мать Александра, дядя Вася и тетя Таня — близкие родственники, пришедшие в гости нарочно для того, чтобы наставить Александра на путь истинный.
Отсутствовал только сам Александр: гулял по городу. Гулял, вместо того чтобы готовиться к поступлению в аспирантуру. Гулял, вместо того чтобы прийти и выслушать, что думают о нем родители и родственники!..
Когда Саня вошел, воцарилась осуждающая тишина.
— И вот так ежедневно! — произнес Арсений Александрович, сына будто не замечая.— Реферат пылью оброс. После работы бродит. Читает черт знает что, только не то, что имеет отношение к его теме. Завтра суббота. Можете быть уверены — он с вечера уйдет в лес и не вернется до следующей ночи! Не знаю, как он мыслит свое поступление в аспирантуру! Не знаю, не знаю...
— Ну и ну! — Дядя Вася, щурясь, оглядел с головы до ног непутевого племянника.— Вырастили, что называется... Воспитывали, надеялись — а они в леса подались, а?! Что ты там делаешь в лесу, оболтус?
Саня взял чайник, открыл кран. «Белая лошадь — горе не мое!» — сказал он несколько раз про себя. Он дал себе слово молчать. Потому что в последнее время все его разговоры с дядей Васей кончались ссорой. А мама потом переживала.
— Как же так, Санечка,— вздохнула тетя Таня,— ведь ты уже взрослый...
— Это точно — дурная голова ногам покою не дает! — решительно заявил дядя Вася. Он всегда говорил решительно. Будто гвозди заколачивал.— Двадцать два года мужику, а он дурью мается, по лесу бродит!
— Это моя работа! — не выдержал Саня, а дядя Вася будто этого и ждал.
■— «Ра-бо-та»! — грохнул он кулаком по столу.— Видали? Работа должна быть на работе, понял меня?
544
Васька, прекрати! — рассердилась Елена Николаевна.— Не
смей на него кулаком стучать!
Заступайся, заступайся! — не прекратил дядя Вася.— Распустила недоросля!
— Я — недоросль?! — взвился Саня.
— Ты, ты!
— А вы!..— сказал Саня и задохнулся от полноты чувств, потому что надо ведь еще было найти слово, чтоб полноту эту выразить, не расплескав.— Вы — унтер Пришибеев! Вас забором надо обнести! Вам надо не в школе работать, а овощебазой заведовать!
— Сопляк! — взревел дядя Вася.
— Александр! Немедленно извинись! — приказал отец.
Но Саня не извинился.
— Хватит мной командовать! — решительно ответил он.— Хватит решать за меня, как мне жить и что делать. Я уже вырос, вы не обратили внимания?..
Свет в комнате они не включали, сидели в сумраке и молчали. Гудение троллейбусов на улице, шелест облетающего тополя, звон гитары во дворе — осенний, прощальный вечер. А кто прощается? И с кем? Непонятно, непонятно... Лешка Исупов по-прежнему торчал на подоконнике (а птиц уже совсем не было видно в стемневшем небе), глядел в синюю темень за окном и молчал о чем-то, о чем-то грустил в этот вечер шумный, смешливый ученик шестого «Б» Исупов Алексей. А о чем, кто знает? И Кукарека притих отчего-то, забыл, что ему надо задать классному руководителю несколько волнующих душу вопросов о Бермудском треугольнике и пришельцах из космоса. А в глубине квартиры было «бу-бу-бу, бу-бу-бу». Это старшее поколение обсуждало Александра Арсеньевича. «Ругают они его... Все время ругают...» — думал Кукарека и никак не мог понять, за что можно ругать такого замечательного человека.
В коридоре зазвонил телефон, Саня вздохнул и поднялся.
— Алло,— сказал он.
В трубке молчали, и по молчанию этому Саня как-то сразу догадался, кто это.
— Санечка, если меня, то я сейчас! — крикнула из кухни Елена Николаевна.
— Да это меня, меня,— торопливо отозвался Саня, прикрыв трубку ладонью.
— Александра Арсеньевича можно? — наконец спросили там.
— Можно,— сказал Саня.— Это я.
— Здравствуйте... Это говорит Юля Петухова из десятого «А» Скажите, пожалуйста, а Женя у вас?
— У нас...
— А его мама потеряла...
18 Школьные годы. Выпуск 2
545
— Он у нас,— зачем-то повторил Саня, после чего снова помолчали.
— А мама говорит, если он у вас, то пусть идет домой, а то он, наверно, вам надоел совсем уже...
— Нет, еще не совсем...
— А мама говорит, что уже поздно...
— Я провожу...
Молчание. Потом:
— А мама говорит, что это неловко...
— Почему?
— Потому! — отчаянным голосом сказала Петухова Юля.— Мама говорит, чтоб я сама за ним шла, чтоб вас не затруднять!
И тут, вместо того чтобы сказать Петуховой Юле, что его это вовсе не затруднит, Саня принялся подробно объяснять, как до него удобней добраться...
— Сейчас за тобой сестра придет,— сказал он Кукареке, поспешно запихивая рюкзак под стол.
— У, зараза! — рассердился младший брат.— Нигде житья от нее нету.
— Мама тебя потеряла, при чем тут Юля?
— Ага, мама! Мама сегодня на дежурстве! Это Юлинская привередничает...
Леша спрыгнул с подоконника.
— Я пойду. Завтра — как всегда?
— Да, на вокзале,— кивнул Саня, лихорадочно оглядывая свою комнату: надо бы успеть прибрать.
И он почти успел, когда снова позвонила Петухова Юля и виноватым голосом сообщила, что она заблудилась. Трамвая долго не было, и она решила идти пешком, напрямик.
— Как вы шли, вспоминайте!
— От кинотеатра дворами...
— Какими? Приметы назовите!
— Ну... Там белье висело на веревке... Синяя такая рубашка. А в соседнем дворе в футбол играли. Один — Валера...
— Какой Валера?
— Малыш... В футбол играл, в шапке с помпоном. А его мама домой все звала...
— А еще?
— Еще — гаражи, а на них две кошки... За гаражами пустырь какой-то, а посередине телефонная будка зачем-то стоит... Я из нее звоню...
— Ясно,— сказал Саня.— Сейчас мы за вами придем... Собирайся живо,— велел он Кукареке.— Юлю пойдем искать.
— Очень надо! — недовольно засопел тот.— Звали ее?
Они вышли в ясный осенний мрак. Во дворе, под тополем, пе¬
546
чально звенели струны, там, под тополем, пели горестно и страстно:
Уходит капитан в далекий путь,
Целуя девушку из Нагасаки...
В толпе голосов сразу слышен был один, сильный, красивый,— голос трудного подростка Шамина. Голос этот, легко и медленно летящий в темноте над двором, будто не замечал надсадных, дурацких слов песни, он пел о чем-то другом — и слушать хотелось... Но все вдруг смолкло разом, смешалось — это Шамин заметил Саню, и над двором разнеслось:
Фраер ходит в галстучке зеленом,
Ждет тебя, тоскуя у ворот,
Только он надеется напрасно,
Это ясно...
Это Сане посвящалось, сомневаться не приходилось: трудный подросток терпеть не мог учителя географии.
Они бродили в темноте по дворам, но в конце концов им повезло.
— А я тебе говорю — домой! — кричали из форточки.
— Еще рано! — упрямился в темноте мальчишеский голос.
— Валера, ты слышал, что я тебе сказала?!
— Ну, мам!
— Нечего мамкать, домой!
— Ну мамочка!
— А уроки сделал?
— Сделал!
— Не ври!
— Ну мамусенька!
— Чтоб через десять минут был дома,— сдался взрослый голос.
— Через пятнадцать! — ответил невидимый во тьме Валера и умчался в глубину двора, где неистово лупили по мячу и вопили гневно:
— Толик, пас!
— Вон гаражи,— сказал Кукарека.— Только кошек уже нет... Что они, дуры, что ли, сидеть и ждать...
За гаражами действительно был пустырь, заросший высокой полынью, а в центре полынного пространства странно светилась новенькая телефонная будка, светилась не электричеством будто, а оттого, что внутри ее был огонек: Петухова Юля в алой ветровке. Петухова из десятого «А» была тихая, серьезная девочка, смуглая.
547
темноглазая, совсем не похожая на своего белобрысого, конопатого брата.
— Замерзли? — почему-то сердито спросил Саня. Впрочем, он был сейчас не Саня, а Александр Арсеньевич.
Юля помотала головой.
— Ну, пойдемте. Я вас провожу...
Они шли сквозь сухие, пыльные заросли полыни. Молчали. Кукарека унесся куда-то вперед, Александр Арсеньевич шел рядом с Юлей и понимал, что необходимо немедленно заговорить. Сказать что-нибудь такое... Взрослое, серьезное, что положено говорить учителю при встрече с ученицей. Например: «Н-да, вот скоро вы и кончите школу... Этот год у вас решающий, Юля». Или: «Вы уже решили, Юля, куда будете поступать?» Но Александр Арсеньевич упорно молчал, и лицо у него было очень сердитое, будто он собирался поставить Петуховой единицу. Так дошли до дома и остановились у подъезда. Нужно было сказать: «До свидания» — и идти домой. Но Александр Арсеньевич стоял и продолжал молчать. И Петухова молчала тоже. А Кукарека носился где-то.
— Ну, я пошел...— произнес наконец Александр Арсеньевич.
— До свидания...— ответила Юля.
Постояли еще. Лицо Александра Арсеньевича приняло вдруг отчаянное выражение. Он сказал:
— Мы завтра в лес идем... Пойдете с нами?
Назавтра было ветрено и хмуро. На переменах за Александром Арсеньевичем ходили и канючили:
— Ну пойдем все равно, а?
Географический кружок всю неделю жил в ожидании субботы, когда можно будет схватить рюкзаки и — прощай, мама, прощай, школа, прощайте, дома и улицы...
А Александр Арсеньевич и не думал отменять выход: в лесу было много дел. Надо было устраивать зимнюю стоянку, надо было расчистить исток речки Ути, основательно загаженный за лето «дикими» туристами. Надо было готовиться к соревнованиям по ориентированию. Ну и просто хотелось в лес...
Из электрички они вышли прямо в пасмурный, темный вечер. Звезд в ночи не было. Лес впереди стоял сгустком холодной, пугающей тьмы и молчал настороженно. Лес никого не ждал сегодня. Но через пустое, продутое ветром поле двигалась к нему цепочка путешественников. Впереди Александр Арсеньевич — учитель географии, а за ним — ученики, упрямые, непослушные дети, которым в этот унылый вечер не сиделось дома, тянуло в леса...
Дались же им эти леса!.. Это пустое, неприветливое небо. Эти тучи. Эти звезды за тучами. Какое все это имеет отношение к географии?
548
География — это красиво! Дальние страны, лежащие где-то там, за горизонтом, за тридевять земель, «ревущие» сороковые широты, горы и водопады!.. А здесь что? Лес да поле с оврагом, дорога в выбоинах...
А Саня шел да шел по дороге, глубоко вдыхая ночной влажный ветер. Иногда приходилось зажигать фонарь. В резком желтом свете блестели рядом напряженные темные глаза Кукареки, ночь окружала его страхами, он жался к учителю. От этих лесных страхов отвлекало Кукареку только то, что сразу за ним шел вундеркинд Боря и постоянно наступал ему на пятки.
Они сошли с дороги, вошли в лес. Сразу потянуло речной свежестью. Маленькая речка Утя чуть слышно бежала рядом с ними среди травы и деревьев, и Саня даже засмеялся тихонько — так ему вдруг стало легко и счастливо. Отчего? Кто его разберет... Вот шагают они все вместе по ночному лесу, и земля пружинит под ногами, а город, каменный, замкнутый со всех сторон своими стенами и крышами, остался где-то вдали, и там уже ложатся спать... А в середине цепочки легко ступает по траве Петухова Юля из десятого «А», и это почему-то неуловимо, непонятно меняет все в мире, делает его еще прекрасней, и хочется идти, идти, хочется, чтоб не кончалась тропа, и этот лес, и ночь эта...
А Исупов Леша шагал в самом конце цепочки, думал о своем и не замечал ни леса, ни осени... «Что же делать? — отчаянно думал Исупов.— Что мне делать?.. Виталя маленький, глупый, он не поможет, я один...»
Ночь была, никто не видел несчастное Лешкино лицо, а утром оно стало уже обычным: он придумал.
Он бегал со всеми на тренировку, чистил речку, заготавливал дрова. Никто не знал, что с завтрашнего дня ученик шестого «Б» Леша Исупов начинает новую жизнь...
День прошел быстро, как все хорошее. И, как все хорошее, кончился он плохо: опоздали на электричку. Перед самым отходом дежурный Толик Адыев отправился мыть посуду и непостижимым для себя образом вместе с котелками и кружками ушел в соседний лес.
Искали долго, а следующая электричка шла только через полтора часа... Дома всем попало. А больше всех, конечно, Сане.
Даже мама сказала ему:
— Ты меня в гроб вгоняешь!
А уж про Арсения Александровича и говорить нечего.
— Александр! Ты поднял на ноги всю школу! Мне оборвали телефон: где ты? Где дети? Что случилось? И я не знал, что отвечать, Александр! Александр! Это возмутительно!
Кончилось тем, что Арсений Александрович проклял сына и его педагогическую деятельность.
Саня обиделся и ушел спать — ему с утра надо было на уроки,
549
а кроме того, завтра ведь предстоял малоприятный разговор с ди¬
ректором школы, надо было копить силы...
— Что показывает барометр? — поинтересовался он, входя в родной шестой «Б».
— Штормит! — жизнерадостно отозвался шестой «Б».
— Дома сильно попало?
— Сан Сенич, а я на стоянке одеяло забыл!
— Молодец! — похвалил Александр Арсеньевич рассеянного.— К уроку готовы?
— Сан Сенич,— сразу зашумел шестой «Б»,— а куда сегодня поплывем?
— Тихо! Сегодня будем открывать Америку.
— Ур-ра!
— Тихо, я сказал! Сдвигайте парты к стене, Атлантический оке- пан — на пол... Кто будет держать небо?
На этот вопрос шестой «Б» реагировал без восторга: скучное это было занятие — держать над океаном карту звездного неба...
— Нет добровольцев? Назначаю по списку: Васильев, Козаченко, Кравченко, Пименов...
— Я в прошлый раз держал! — возмутился Васильев.
— Извини, забыл. Вовик Смирнов, значит, твоя очередь страдать. Быстренько.
«Атланты» нехотя побрели за картой.
— Девочки почему-то никогда не держат! — попенял один из них.
— Не почему-то, а потому, что они девочки,— объяснил Александр Арсеньевич.— А тяжелой работой должны заниматься мужчины.
Шестой «Б», толкаясь и споря, устраивался на полу, вокруг «океана».
— Выходим из Лиссабона,— сказал Александр Арсеньевич, оглядывая свою юную команду.— Дежурный штурман, где астролябия? Компасы спрячьте, их еще не изобрели... Экипаж, по местам!
550
— Стойте! — с отчаянием закричал штурман.— Они опять небо не так держат!
— Всем четверым сейчас двойки поставлю! — грозно пообещал Александр Арсеньевич.— Шутники!
«Атланты», ухмыляясь, развернули небо на сто восемьдесят градусов...
И сразу где-то рядом тяжело и зовуще загремел прибой, загудел ветер. Капитан взбежал на мостик и отдал приказ поднять паруса. Команда бросилась на реи, парусина захлопала под ветром, засвистели снасти... Шестой «Б» ушел в океан. Туда, туда, вдаль, в синь, в ветер, где лежали среди зыбей еще не открытые материки...
Поэтому, когда на перемене вошел в класс маленький величественный человек, он увидел только сгроможденные парты, за ними, в пустом пространстве, четырех учеников, держащих над головой
небесный свод, а откуда-то снизу, из-за парт, неслось сосредоточенное сопение...
— Так... А остальные где изволят быть? — грозно спросил он.
— Да здесь мы,— донесся откуда-то снизу голос учителя географии.
— Александр Арсеньевич, отпустите учеников, уже давно был звонок на перемену,— сурово сказал Арсений Александрович, а это был именно он.— И после уроков зайдите ко мне...
— Хорошо,— отозвался Александр Арсеньевич без особой, надо сказать, радости.
Если кто-то решил, что Арсения Александровича вызвали в школу из-за плохого поведения Александра Арсеньевича, то это неверно. Тут придется кое-что разъяснить, чтоб не возникало путаницы.
Всем известно о существовании многочисленных трудовых династий. Есть у нас в стране потомственные хлеборобы, и потомственные сталевары есть. А Саня (Александр Арсеньевич то есть) был потомственным учителем...
Вообще-то в детстве он мечтал стать путешественником, но отец (учитель истории) и мама (учитель литературы и русского языка)
считали эту Санину мечту совершенно несерьезной. Они считали, что сын должен пойти по их стопам.
Когда Саня закончил школу, его несерьезная мечта, естественно, пришла в столкновение с серьезной и выношенной мечтой родителей. Саня упрямился и твердил, что в учителя не хочет. Родители тоже упрямились. По этому поводу был созван семейный совет, который уместнее будет назвать просто педсоветом, ибо, кроме отца и мамы, на нем присутствовали: дядя Вася (учитель химии), тетя Таня (учитель младших классов) и Аристотель (так во все времена, из поколения в поколение, звали Матвея Ивановича ученики; Аристотель был старинным, еще со студенческой скамьи, другом отца и соратником).
Отец разъяснил Сане, что в наше время, когда на карте совсем не осталось белых пятен, быть путешественником просто глупо. Мама сообщила Сане, что труд учителя самый благородный. (Она и представить себе не могла, как это ее единственный, ненаглядный сын, такой слабенький, такой домашний, будет бродить где-то там, от нее далеко, голодный, холодный, неухоженный!.. Заблудится, свалится в пропасть или дикие звери его задерут! Нет уж! Никаких этих ужасных путешествий! Сын должен быть дома, с мамой.)
— На геодезический он пойдет! — со свойственной ему прямотой сказал дядя Вася.— А в армию так не хочешь?
— Василий! — грозно оборвала брата Елена Николаевна.— Перестань говорить глупости. У мальчика месяц назад было сотрясение мозга!
— Вот в армии ему его мозги и вправили бы! — тонко пошутил дядя Вася.
— А может, и правда не надо...— жалостно сказала тетя Таня.— За что мальчику мучиться?..
Тетя Таня знала, что говорила: сама она мучилась в школе вот уже двадцать лет.
— Дети — они ведь такие...— со вздохом продолжала она.— Непослушные... А Санечка — мальчик тихий, домашний. Разве он справится?..
— Не хочу учителем! — с отчаянием повторял Саня.
Это был его первый в жизни спор с родителями, он действительно был мальчик тихий и послушный. Даже в сложный период переходного возраста не проявлял агрессивности и на авторитеты не посягал: ни тебе драк с ровесниками, ни битых стекол, ни поздних приходов домой... Чудо-мальчик, образцово-показательный ребенок, каких теперь и в кино не увидишь...
И тогда в разговор вмешался Аристотель. Он все сидел и молчал, а тут вдруг заговорил... То есть попросту устроил ужасный скандал: решительно поставил на место дядю Васю, отрекся от друга юности, а Елене Николаевне сказал гневно:
— А уж от тебя, Лена, я такого не ожидал!..
552
И ушел, не прощаясь.
— Мотька, Мотька, ну подожди! — несся за ним по лесенке растерявший обычную величественность Арсений Александрович.— Ты с ума сошел, подожди, давай поговорим!..
— Я не могу тебе помешать искалечить сыну жизнь, Арсений,— загремел на лестнице Аристотель.— Но уж уволь меня от трогательных объяснений, почему ты хочешь это сделать! И поищи себе другого историка — я с тобой работать не желаю!
— Лена, собирайся,— велел Арсений Александрович, вернувшись из подъезда,— пойдем к этому дураку...
— Уж это точно,— хмыкнул дядя Вася,— дурак! Да не дурак — сумасшедший он! Как ты его терпишь, Сеня?
— Вася,— ответил Арсений Александрович близкому родственнику,— если ты не хочешь, чтоб я тебя спустил с лестницы, замолчи! Танюша, извини, мы ушли, ужинайте с Александром...
Так решилась Санина судьба: он поступил в горный.
Самое же странное во всей этой истории было то, что, закончив первый курс, Саня вдруг забрал документы и перешел в педагогический...
В заключение надо сказать, что год назад, с отличием закончив институт, Саня пришел работать в школу, где учился и где работали его отец и мама.
Отец, между прочим, работал директором...
Исупов Леша опоздал на первый урок, прогулял второй, а на пятом сидел и пел песни. Естественно, что с урока его выгнали и отправили к Лоле Игнатьевне. Естественно и то, что, вместо того чтобы пойти, как было велено, к директору, Александр Арсеньевич отправился к завучу — спасать своего ученика. Ему удалось смягчить Лолу Игнатьевну, и для Лешки все обошлось благополучно.
— Я надеюсь, Исупов, такого больше не повторится,— миролюбиво закончила она беседу.— Я надеюсь, что все это — нелепая случайность. Ты всегда был хорошим учеником, поэтому мы прощаем тебе этот срыв...
Исупов хмуро глядел в угол и молчал.
— Ты чего это творишь? — сердито спросил его Саня, когда вышли из кабинета, но тут на него испуганным ветром налетела секретарша Верочка и зашептала:
— Кошка скребет на свой хребет! Иди скорей, он ждет!
«Белая лошадь — горе не мое...» — пробормотал про себя учитель
географии и пошел к разгневанному директору.
Скажем честно — Саня трусил...
Вчера опоздал на электричку... Позавчера поддержал бунт в девятом «В»... Ничего хорошего от разговора с отцом ждать не приходилось. Только и надежды было на магическое заклинание, с детства отводившее от Сани несчастья.
553
и помогло: в кабинете директора, помимо сумрачного Арсения Александровича, присутствовал еще и Аристотель. Это было уже полегче.
— А-а! — радостно приветствовал он Саню.— Явился, герой!
Саня вошел в кабинет и стал у порога.
— Проходите, присаживайтесь,— официально предложил ему отец.
Саня прошел, присел.
— Я слушаю вас, Арсений Александрович,— не менее официально сказал он.
Директор школы грозно смотрел за окно, на воробья, который скакал по ветке. Воробей, заметив это, замер и с интересом уставился на директора. Взгяды их скрестились. Воробей не выдержал первым, чирикнул и перелетел на другое дерево. Директор перевел взгляд на сына.
— Я вас уволю, Александр Арсеньевич,— неприязненно пообещал
он.
— А я на вас жалобу напишу,— склочно заметил сын.— На вас и на порядки, которые вы завели в руководимой вами школе...
— Павлик Морозов! — восхитился Аристотель. Разговор отца и сына доставлял ему большое удовольствие.
Директор печально покачал головой.
— Слушай, Александр,— задушевно спросил он сына,— ты картину такую видел — «Иван Грозный и сын его Иван»?
— Видел,— хмуро согласился Саня.— И «Тараса Бульбу» я читал...
— Молодец,— кивнул Арсений Александрович.— Грамотный. А что такое педагогическая этика — знаешь? Объясняли тебе в институте?
— Ну, допустим...
— Так какого ж ты черта?! — взорвался Арсений Александрович.
— Сеня и Саня, я в восторге от вашей лексики,— усмехнулся Аристотель.— Не молчите, миленькие. Продолжайте, продолжайте...
— Матвей, не устраивай балаган, я тебя не за этим позвал,— сердито сказал директор другу юности.— Александр, ты соображаешь, что творишь?
— Я-то соображаю! — запальчиво ответил Александр Арсеньевич.— А вот некоторые...
— Некоторые ничего не соображают! — кивнул понятливо Арсений Александрович.— Интересно, кто же эти некоторые?
— Мы, Сеня,— пояснил Аристотель, потягиваясь в кресле.— Разве ты не понял?
— Матвей Иванович, к вам это не относится.
— Благодарю, мой юный друг,— хмыкнул Аристотель.— Сеня,
554
я тут, оказывается, ни при чем. Это ты ничего не соображаешь.— Он с любопытством взглянул на Саню.— Интересно жить на свете, Сеня!
— Полагаешь?
— Всего несколько лет назад твой сын был милейшим, тишайшим существом — и вот полюбуйтесь! Откуда что взялось!
Арсений Александрович горестно махнул рукой:
— Я проклял тот день, когда этот человек пришел работать к нам в школу!
— Як тебе не просился,— огрызнулся Саня.— Ты сам настоял.
— Если б я знал... Если б я мог предположить... Александр, ну что с тобой происходит?..
Этот роковой вопрос в последнее время мучил многих. В школе ведь все помнили Саню тихим, вежливым мальчиком, с которым все десять лет никто горя не знал. Да и когда он учился в институте, все было так славно, безоблачно. Кто бы предположил тогда, в какого бунтаря и мятежника превратится этот мечтательный, замкнутый юноша, все свободное время проводивший за книгами.
Несчастья начались ровно год назад, когда Саня наотрез отказался идти в аспирантуру. Семейный педсовет впервые оказался бессильным. С неизвестно откуда взявшейся (и потому пугающей) решительностью Саня заявил родителям, что теория ему изрядно надоела, пора заняться практикой.
«Я не для того учился, чтобы всю жизнь заниматься бумажками»,— сказал он. На вопрос: «А для чего?» — ответить вразумительно он не сумел, но твердо стоял на том, что пойдет работать в школу, причем в сельскую. Трудно описать, что тут было с Еленой Николаевной. Она плакала, твердила, что Саня ее совсем не любит, и обещала умереть... С превеликими трудностями удалось ей добиться от сына следующего: в аспирантуру он все-таки поступит (ну хоть через год, хоть заочно!) и ни в какое село не поедет — он отличник, он имеет право выбирать, и нельзя, нельзя ему: у него же было сотрясение мозга, он же находится под наблюдением врача!.. И оказался Саня в родной школе, под мудрым присмотром родителей. Знали бы родители, что из этого выйдет... Впрочем, в первой четверти на него нарадоваться не могли: такой милый, такой славный!
И уроки у него интересные! И с детьми он ладит! До чего же прекрасный сын у Арсения Александровича! И вдруг на одном из педсоветов этот славный юноша ни с того ни с сего процитировал Гоголя Николая Васильевича, великого русского писателя: «Ленность и непонятливость воспитанника обращаются в вину педагога и суть только вывески его собственного нерадения: он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих юных слушателей...»
Педсовет озадаченно промолчал. Только у окна кто-то пробормотал с обидой, что пусть бы этот Гоголь пришел бы к нам в школу
556
да поработал маленько — хоть литературу бы почитал бы седьмым классам, а там бы мы на него поглядели... Присутствующие бодро рассмеялись, давая тем самым понять, что не заметили бестактной выходки юного коллеги: ох уж эта молодая уверенность в том, что все умеешь и понимаешь лучше всех!.. Ничего, это пройдет, с кем не бывало!
Увы, дальше было хуже: молодой учитель перешел от слов к действиям.
Первым его деянием был скандал из-за пятиклассника Толика Адыева.
«Это слабоумный ребенок,— сказала классная.— Надо хлопотать о переводе в спецшколу». Арсений Александрович поморщился и взглянул на Аристотеля. Аристотель стукал по столу карандашиком и медленно краснел. Он не умел говорить сразу, но никто из присутствующих не сомневался, что он все-таки заговорит. Однако Аристотель и рта не успел раскрыть, как вскочил Александр Арсеньевич. Чего греха таить — он нагрубил. Адыева ни в какую спецшколу не перевели, а с классной руководительницей была истерика, она плакала и кричала:
«Пусть он его себе возьмет и попробует! На чужом-то горбу хорошо в рай!.. Если он директорский сын, так ему все позволено?..»
«Дурак,— обругал после педсовета Александра Арсеньевича отец,— орать-то зачем так было? Спокойно нельзя?»
«Нельзя»,— буркнул сын.
«Адыева в свой класс возьмешь?»
«Возьму».
Но и на этом подвиги Александра Арсеньевича не кончились. Причем раз от разу становились все ужаснее. В середине года ему пришло в голову сцепиться с учителем труда, человеком простым и незатейливым, в качестве педагогического воздействия применявшим иногда легкое рукоприкладство. Александр Арсеньевич дважды разговаривал с ним, но трудовик продолжал воспитывать, как умел. Тогда произошло нечто совершенно недопустимое. Официальной огласки история эта, к счастью, не получила. Но неофициально весь педагогический коллектив знал, что учитель географии вызвал в коридор учителя труда и, вежливо поинтересовавшись, за что он ударил пятиклассника Васильева, в ответ на «За дело, а тебе-то что?» — дал ему по1цечину.
«Ты можешь ударить человека?! — с ужасом спрашивала потом Елена Николаевна.— Ты, учитель, интеллигентный человек!»
На что Александр Арсеньевич, по слухам, ответил:
«Если интеллигентный человек это тот, кто спокойно смотрит, как унижают, то я неинтеллигентный...»
Именно в этот период Арсений Александрович понял, что лучше бы, ох, лучше сын стал путешественником...
И только Аристотель глядел на Александра Арсеньевича влюб¬
557
ленно и твердил: «Оставьте его в покое, он педагог от бога!» — чем, надо сказать, только укреплял антирелигиозные настроения окружающих.
Надеялись, что за лето молодой учитель одумается, повзрослеет. Но вот и новый учебный год начинается как-то скверно: класс бунтует, а учитель географии его поддерживает. И ведь считает, что прав!
— Слушай,— сердито сказал Саня директору школы,— вы кого воспитать хотите?
— Мы! А вы, значит, тут ни при чем!
— Нет, скажи, ты когда-нибудь задумывался над этим?
— Нет! — с сарказмом ответил Арсений Александрович.— Будь уверен, что за двадцать лет работы в школе я ни разу ни о чем подобном и не думал. Устраивает тебя такой ответ? Дальше что?
Саня вскочил:
— Нет, ты понимаешь или нет, что это ужасно?.. Ну кого, кого мы воспитываем?! Учитель назвал ученика придурком, класс решил, что оскорблен не один, оскорблены все, и правильно решил! А мы их ломаем, мы твердим: «Сами виноваты, извинитесь!» А за что? Почему? Гордость, чувство собственного достоинства ученикам не положены, так, да?
— Красиво говоришь,— покачал головой Арсений Александрович.— Да больно любите вы все о собственном-то достоинстве. Собственное у них есть, не волнуйся. А вот есть ли у них чувство чужого достоинства?.. Сдается мне, они про такое и не слыхали...
— Да откуда ж, если вы, взрослые...
— Стоп! — сказал Арсений Александрович.— А себя-то ты куда относишь, Александр?
— Никуда! — запальчиво ответил Саня.— Я просто человек!
— Та-ак...— даже растерялся директор школы.— А мы, по-твоему, кто?
Саня вызывающе молчал.
— Слышь, Матвей, мы и не люди, оказывается... Мы — так... Взрослые...— Арсений Александрович грустно посмотрел на сына: — Погляжу я, Александр, что ты об этом лет через десять будешь говорить...
— Если я когда-нибудь почувствую, что мне хочется сказать ученику: «Придурок, выйди вон из класса!» — я сразу застрелюсь! — хмуро ответил сын.
— Ну ,— удивился Аристотель,— зачем же так сразу?.. Лучше просто сменить работу...
— Может быть, да только никто не меняет.
— Послушай, Александр, а что, у учителя не бывает оснований выйти из себя? — рассердился Арсений Александрович.— Он ведь не железка, он живой, ему обидно бывает, больно...
Саня убежденно сказал:
558
— Основания бывают. Только права у него такого нет. Во всяком случае, если он действительно учитель. Он учить должен — работа у него такая. А из себя пусть выходит в свободное от работы время.
— Браво! — пробасил Аристотель.
— Матвей! — сморщился Арсений Александрович.— Уймись!
Можно подумать, что он сказал что-то новое и оригинальное!
— Ну, миленький Сеня, все основательно забытое приходится открывать снова и с большими муками. А эта простая мысль забыта настолько основательно, что в ней действительно есть прелесть новизны... Пусть этот славный юноша продолжит!
— Интересно, в Царскосельском лицее,— продолжил Саня,— мог учитель позволить себе обратиться к ученику, к князю Горчакову например, так: «Выйди из класса, бестолочь, и без родителей не появляйся»?
Арсений Александрович с интересом взглянул на сына.
— А ты демагог высокого класса,— похвалил он.— Но только эта твоя сногсшибательная, но, извини меня, совершенно дурацкая аналогия не убеждает.
— Почему это?
— А потому! Лицей был закрытым дворянским пансионом. Братьев царя, если помнишь, там планировалось обучать. Так что это было нетипичное учебное заведение...
— А если у нас не закрытый дворянский пансион и учим мы не братьев царя, а просто детей, то давайте будем хамить друг другу?! — закричал Саня.— Уважение, понимание, обыкновенная вежливость — это необходимо, когда воспитываешь братьев царя, значит? А нам — что? Нам не надо — у нас типичное учебное заведение!..
— Хорош, ох, хорош сынок вырос! — хлопнул в ладоши Аристотель.— Ты смотри, Сенька!
— Матвей, не лей масло в огонь! Повторяю, у меня тут не Царскосельский лицей...
— Чем хвалишься, безумец! — вздохнул Аристотель.
— Ты мне лучше скажи, что теперь делать! Лола их почти утихомирила, а этот поборник справедливости, этот великий педагог, вмешался и все испортил! Так что я совершенно официально поставлен в известность, что, пока перед Соколовым не извинятся, они посещать биологию не будут.
— Так, значит, надо извиниться,— пожал плечами Аристотель.— Сеня, каковы ж мы будем, ежели черное назовем белым? Нам верить не будут.
— Легко сказать — извиниться! Ты что, Лялю не знаешь?
— Знаю я Лялю,— осерчал вдруг Аристотель.— И знаю, что это с ней не в первый раз. Ты вот что... Не вмешивайся, я сам с ней поговорю. А то ведь самолюбие какое!
— Свое бережет! — зло сказал Саня.— А других унижает.
559
— Ох, замолчи! — сморщился, как от зубной боли, Арсений Александрович.— Глаза бы мои на тебя...
На столе зазвонил телефон.
— ...не глядели,— договорил директор уже в трубку.— Нет, это я не вам, здравствуйте! Да, это я. Слушаю...— Судя по выражению лица, ничего приятного ему не говорили.— Знаете что,— вдруг сказал он, явно не желая больше это неприятное слушать,— я им занимаюсь. Но, кроме него, у меня еще три тысячи учеников! И не пытайтесь переложить свою работу на школу. Нет, именно ваша! А я говорю — ваша! Не волнуйтесь, я свои обязанности знаю, чего и вам желаю. Семнадцать. А я вам говорю — семнадцать у меня трудных подростков! Опомнились: Яцкевич и Анисимов весной школу закончили. Вот именно! Нет, уж пусть их теперь по месту жительства учитывают, до свидания...— Поздравляю тебя! — повернулся Арсений Александрович к другу.— Вчера твой Шамин опять побывал в милиции. Учинил в парке драку. Сделал ты мне подарок. Не хотел, не хотел я его в десятый брать, а ты!.. Собрал шпану!
— Он не шпана! — нахмурился Аристотель.— Он — талант, и мы еще гордиться будем, что он у нас учился!
— Полагаешь? — директор задумался.— Вот молчу,— проговорил он,— скрываю, что у меня в школе этих трудных подростков, черт бы йх взял, на самом деле не семнадцать...
— А сколько? — удивился Аристотель.
— Восемнадцать.— И директор школы искоса взглянул на сына.
— Ты домой, надеюсь? — спросил Арсений Александрович сына.
— Домой.
— «Мамину каторгу» захвати, если нетрудно. Я-то, верно, поздно вернусь...
«Маминой каторги» — тетрадей по литературе (тоненьких — малышовых — и толстых) накопилось много. Аристотель взялся помочь своему юному другу.
— Матвей, останешься на ужин! — решительно заявила Елена Николаевна.— А пока займись воспитанием Сашки...
Саня против этого ничего не имел и утащил Аристотеля к себе. Но не прошло и пятнадцати минут, как Елена Николаевна появилась на пороге, расстроенная, сердитая, и протянула Аристотелю оранжевую общую тетрадь:
— Полюбуйся!
Тетрадь принадлежала Шамину.
— Что опять? — насторожился Аристотель.
— Я тебе прочитаю... Я просила их написать, что они думают о гибели Пушкина...— И она прочитала: — «23 сентября. Самостоятельная работа. Дуэль и смерть Пушкина. Дуэль происходила
560
у Черной речки на окраине Петербурга. Утром 27 января 1837 года. На месте дуэли прочистили дорожку на расстоянии 20 м. Секундантом Пушкина был Данзас. Дантес стрелял первым. Он попал А. С. Пушкину в живот. После дуэли Пушкина привезли домой и положили на диван. Александр Сергеевич Пушкин умер 29 января 1837 г.». Все...— сказала Елена Николаевна и закрыла тетрадь.— Матвей, как же так?..
Аристотель молчал и мрачнел.
— Да ладно вам! — пожал плечами Саня.— Нашли из-за чего расстраиваться... Это же Шамин, чего от него ждать.
Сам Саня от Шамина не ждал ничего хорошего. Они недолюбливали друг друга — учитель и ученик. То есть, пока Саня не был учителем, отношения их складывались вполне доброжелательно: в детстве Шамин Юра был толстым беззащитным мальчиком. Во дворе его почему-то постоянно били. А Саня за него заступался. Ну, не то чтобы лез в драку — он никогда не дрался,— а просто разгонял малышню, кричал: «А ну отстаньте от него!» — уводил к себе домой... Потом, когда Шамин принялся бегать из дома, Саня часто прятал его у себя (дома Шамина тоже били), подкармливал...
И вдруг в одно лето Шамин вытянулся, раздался в плечах, и его вечно пьяный отец стал жаловаться во дворе: «На родителя, щенок, руку поднимает!» Саня в эту пору кончал институт, а Шамин — восьмой класс, каждый был занят своим, но, встретившись во дворе, оба в ту пору еще улыбались друг другу: «Привет, Саня!» — «Привет, Юрик!..»
Отношения испортились в прошлом году. Испортились беспричинно, вдруг, когда Саня пришел вести географию в девятый «А». Поначалу Шамин не доставлял Сане хлопот, на уроке сидел тихо, слушал внимательно (чем не многие учителя могли похвалиться) и даже не отказывался отвечать, когда его спрашивали (что тоже, в общем, было редкостью). Но потом вдруг почувствовал Саня на себе его внимательный, наблюдающий взгляд. Пристально, недобро смотрел Шамин и даже предпринял попытку сорвать у Сани урок. Девятый «А» трудного подростка не поддержал — к новому учителю относились с симпатией.
Вечером они поговорили в подъезде. Разговор получился короткий и скверный.
«Юрик, ты чего?» — спросил Саня.
Шамин взглянул на него исподлобья, сплюнул и сказал: «А пошел ты!..» — и больше на уроках географии не появлялся. А во дворе пел вслед Сане песню про фраера, который ходит в галстучке зеленом... Обидно это было и непонятно.
«Ну и черт с тобой, дурак деревянный! — решил Саня.— Мне-то что?..»
— Дай-ка мне, Лена, эту тетрадочку,— сумрачно попросил Аристотель.— И другие дай почитать...
561
Вечер был испорчен: Аристотель сидел и читал работы своего десятого «А», молчал, мрачнел и в конце концов ушел, отказавшись ужинать.
Тихий ангел, что ли, пролетел над школой поутру — так спокойно, так чинно начались уроки...
Не было скандалов из-за сменной обуви. Не было свалки в раздевалке. Опоздавших почти не было. Даже старшеклассники в то утро не дымили в туалетах, а дисциплинированно выходили курить на улицу, за угол...
В то утро Ляля Эдуардовна пришла в девятый «В», вздохнула и сказала:
— Соколов Паша, ты извини меня, пожалуйста...
Девятый «В» остолбенел, будто играл в «замри».
Первым признаки жизни обнаружил маленький, взъерошенный Соколов.
— Ой...— произнес он, внезапно съехав с юного баритона на фальцет.— Что вы... Да я... Это!
— Знаешь, так устаю к концу уроков, что уж и сама не знаю, что говорю...— виновато развела руками Ляля Эдуардовна.
— Да что вы!..— испуганно закричал Соколов.— Да правильно вы про меня сказали! Да я выучу, Ляля Эдуардовна, честно!
— Это вы нас извините,— приходя в себя, загудел класс.
Только Боря Исаков сидел и молчал с отрешенным видом: в
субботу и в понедельник он в школу не ходил. Родители были в командировке, а без них появляться в школе ему было не велено. Он и не появлялся. Зато вчера вечером Исаков-старший нанес визит завучу, и нынче Исаков-младший на законных основаниях пришел на уроки. Но как-то непривычно молчал и сосредоточенно думал о чем-то...
Урок биологии в девятом «В» прошел в идеальной тишине, все слушали внимательно.
— Боже мой,— сказала потом в учительской Ляля Эдуардовна,— какие дети у нас славные... Умные, добрые...
— Какие? — переспросила старенькая химичка, не расслышав.
— Славные! — горячо повторила биологичка. — Замечательные дети!
— A-а, да... Добром это не кончится...— как-то не к месту отозвалась старушка.
— Ася Павловна, к чему такой пессимизм! — хохотнул физкультурник Дмитрий Иванович.— Все будет о’кэй!..
В этот миг странно тенькнуло стекло в окне, прощально позванивая, обрушились на паркет осколки... Футбольный мяч, протаранивший стекло, красиво и мощно ударил по стойке для журналов,
562
отлетел к столу, сшиб чернильный прибор и врезался в стену чернильным боком...
— Как вы, Дима, сказали? — переспросила Ася Павловна, за звоном стекла последних слов опять недослышав.
Тихий ангел в это мгновение, прощально махая крылами, отлетел в небесную высь, и школьная жизнь вошла в свою привычную, ухабистую колею... Например, буквально через десять минут выяснилось, что восьмой «Д» поголовно не готов к химии. Старенькая Ася Павловна, хоть и проработала в школе всю жизнь, привыкнуть к таким катаклизмам не сумела и ушла с урока в учительскую плакать... Она еще не успела вытереть слезы, как туда же прибежала, стуча каблучками и звонко рыдая, Бедная Лиза и крикнула:
— Ах, нет! Я этого не вынесу! Зачем я пошла в пединститут?!
— Лизавета, деточка, кто тебя? — забыв о своей обиде, бросилась к ней Ася Павловна.
— Котенко! — прорыдала Бедная Лиза.
На листе из тетради в клеточку десятиклассник Котенко Владимир застенчиво, но решительно объяснялся Елизавете Георгиевне в любви. И это был не первый случай. Солидные и мужественные ученики старших классов постоянно влюблялись в юную литераторшу и принимались срывать уроки физкультуры: физкультурник Дмитрий Иванович имел нахальство обожаемую старшеклассниками женщину провожать домой...
— А реветь-то чего ж? — удивилась Ася Павловна.— Ты вот что... Скажи ему: раз любит, пусть бороду свою ужасную сбреет. Это где видано — ученик с бородой!..
На большой перемене пятый «А» подрался с пятым «Г» из-за металлолома. Пятый «Г» будто бы утащил у пятого «А» кровать, кто-то из пятого «А» видел это собственными глазами. Разумеется, пятый «А» пожелал возвратить свое кровное, а пятый «Г» не захотел отдать...
Потом была неприятность с Исуповым из шестого «Б»: он на уроке поджег расческу.
Александр Арсеньевич своего ученика опять спас, но настроение у него испортилось: Леша ему надерзил и вообще смотрел на классного руководителя, как на врага... Злыми, чужими глазами смотрел. Будто это не он, не Леша Исупов, всего несколько дней назад сидел у Сани в комнате, пил чай и болтал ногами...
Пятый «Д», куда пошел Александр Арсеньевич после неудачного разговора с Исуповым, сразу почуял его скверное состояние духа и торопливо зашелестел учебниками.
Александр Арсеньевич класс этот отчего-то недолюбливал, несмотря на то что пятый «Д» был отличный, дисциплинированный коллектив. Самый, между прочим, успевающий в школе.
У пятого «Д» было только одно несчастье: второгодник Вахрушев, которого все звали Хрюшкиным.
563
Классная руководительница пятого «Д» очень обижалась, что второгодника подсунули именно ей. Разве нет других пятых классов?
Сердился и сам пятый «Д»: пионерские отряды школы яростно соревновались (Арсений Александрович обещал, что победители в зимние каникулы поедут в Москву). Ах, как пятый «Д» хотел в Москву, а отвратительный второгодник Вахрушев, по прозвищу Хрюшкин, превращал эту желанную поездку в несбыточную мечту. Год только начался, а он уже умудрился получить семь двоек!
Конечно, с Вахрушевым боролись: и совет отряда с ним толковал, и «буксир» к нему прикрепили, и родителей классная вызывала. Но все напрасно, все как об стенку горох... Родители в школу не явились, от «буксира» Вахрушев бегал, а после того, как мальчики пятого «Д»,
движимые чувством справедливого негодования, отлупили его за школой и пригрозили, что еще и не так дадут, если будет тянуть доблестный пятый «Д» в отстающие, Вахрушев будто осатанел: теперь он не просто получал двойки — теперь он получал их с наслаждением! И никто ничего не мог с ним поделать. И Александр Арсеньевич не мог: Вахрушев смотрел на него исподлобья напряженными кошачьими глазами и все-все делал наоборот...
Сегодня, например, он даже не счел нужным подняться из-за парты, когда учитель вошел в класс.
«Ну, я тебе!» — рассердился Саня, у которого настроение и без того было скверное. И хотя с детства Елена Николаевна наставляла сына, что никогда ничего не надо делать под горячую руку, Саня не сдержался...
— Садитесь,— кивнул он.— Вахрушев, к доске.
Второгодник нехотя вылез из-за парты и побрел между рядов.
Он выслушал вопрос, взял указку и высокомерно взглянул на учителя...
— Ну? Я слушаю...
Вахрушев молчал.
Молчал и учитель географии. Молчал и все больше заводился. А Вахрушев и не замечал этого его опасного настроения.
— Говорить, что ли? — с ухмылкой спросил он.
564
— Говори.
Вахрушев ткнул указкой в Африку и сказал, что это Антарктида.
— Хрюшка, кончай придуриваться! — негодующе возроптали одноклассники в предчувствии новой двойки, а может, даже и единицы.
Но Вахрушев, конечно, не послушался и придуриваться продолжал: показал на Атлантический океан, заявив при этом, что
Антарктиду омывает Аральское море...
— Правильно,— кивнул Александр Арсеньевич.— Молодец. Неожиданно эта похвала Вахрушева озадачила: он сбился и
замолчал.
— А дальше? — заинтересованно спросил Александр Арсеньевич. Внутри у него все кипело.
— Да не знаю я...— буркнул Вахрушев.— Вы мне лучше сразу пару ставьте.
— Доскребешься, Хрюкодав! — с угрозой пробормотали в среднем ряду.
— Дай дневник,— велел Александр Арсеньевич и с мстительным удовольствием поставил второгоднику «пять».
— Чего это?..— заморгал Вахрушев редкими рыжими ресницами.
— А ничего! — отвечал Александр Арсеньевич грозно.— Я тоже вредничать умею, запомни! — И на глазах у замершего от изумления пятого «Д» занес неправедную пятерку в журнал.
— Санечка, к телефону,— позвала Елена Николаевна.
— Это вы?..— неуверенно спросили в трубке.
— Это я...— подтвердил Саня, и они, как всегда, принялись молчать...
Наконец Юля отважилась и спросила:
— Простите, пожалуйста, а вы не знаете, откуда эта строчка: «Паситесь, мирные народы»?..
Саня знал: ведь мама ему с детства прививала любовь к русской литературе.
565
— А что там дальше? — как-то напряженно поинтересовалась Юля.
— А вам зачем?
— Очень надо.
Саня сбегал за огромным старинным томом Пушкина:
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды,
Рукою чистой и безвинной В порабощенные бразды Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич...
— Спасибо! — трагическим голосом поблагодарила его Юля. И, помолчав, добавила: — Мы так и знали!.. Он опять нас оскорбил!
Кто эти «мы», которых опять оскорбил «он», сомневаться не приходилось. Оскорблен был, конечно же, десятый «А». А оскорбитель был Матвей Иванович, Аристотель,— кто же еще!.. Все другие учителя предпочитали с десятым «А» не ссориться — себе дороже. Десятый «А» был дружен, своеволен и злопамятен. Давным-давно, когда десятый «А» был еще пятым «А», кто-то из учителей пожаловался на педсовете:
«Это не дети, а сплошные древние греки какие-то! Работать с ними невозможно!»
Жалоба не лишена была оснований. Классным руководителем в пятом «А» был Аристотель, историк, влюбленный в Древнюю Грецию. О ней он мог говорить часами (и, без сомнения, это делал), а пятый «А», конечно же, слушал развесив уши... Последствиями этого сверх- программного изучения античной истории были многочисленные и разнообразные хулиганские действия Аристотелевых учеников. Как-то само собой произошло, что пятый «А» разделился. На первом ряду собрались поклонники Спарты. На втором — приверженцы Афинской демократии. А на третьем утвердились скифы. Хитрые персы отсиживались на «Камчатке». Ряды воевали. Греко-персидские войны переходили в первую Пелопоннесскую войну, которая, естественно, приводила ко второй. Военные действия успешно развивались на переменах, захватывая порой и часть уроков. Главное сражение чаще всего происходило после занятий, в раздевалке. В результате Дария и Перикла влекли к директору, а второстепенные исторические
566
лица отделывались замечанием в дневнике. Время от времени племена и народы объединялись для восстания против Аристотеля, тирана и деспота. Аристотель был могуч, Аристотель был несокрушим! Разгневавшись и разгромив Афинский морской союз, он твердой рукой наводил порядок на Пелопоннесе, а хитрые персы сдавались добровольно, лицемерно утверждая, что они больше так не будут. Пятый и шестой класс прошли в непрестанных войнах и бунтах. В седьмом ряды смешались: юная цивилизация взрослела, набиралась опыта, менялись ее представления о мире, о себе, рушились верные мужские дружбы до гроба, начиналось что-то непонятное... Дарий неизвестно за что поставил синяк Киру и пересел к Андромахе. Сократ забросил философию, отставил в сторону чашу с цикутой и стал носить портфель Оли Ивановой из седьмого «В». Унылый маленький толстячок, которого дразнили Гекатомбой, вдруг вытянулся, научился играть на гитаре и превратился в грозного трудновоспитуемого подростка Шамина...
После восьмого ряды поредели: хитрые персы ушли в ПТУ, Дарий поступил в суворовское, Кир — в художественное... Однако воинственный дух остался: десятый «А» решительно боролся за свои права и терпеть не мог, чтоб его поучали. Педагогический коллектив с этим смирился. Только Аристотель не желал по достоинству оценить своих воспитанников — говорил им колкости, делал всякие неуместные замечания... В общем, совершенно не считался с тем, что они уже взрослые, и продолжал угнетать.
— Мы сегодня сразу поняли, что он нам что-то очень унизительное сказал,— нажаловалась Сане Юля.— Даже поняли, что это из Пушкина, искали-искали... Но никто не нашел — мы по первым строчкам искали... Но это ему так не пройдет!
— Да что случилось-то? — с интересом спросил Саня.
Юля помолчала, размышляя: сказать или нет?
— А вам правда интересно?
Сане было правда интересно. И тогда Юля с горечью поведала ему об очередной возмутительной и оскорбительной выходке Аристотеля...
— Варвары! — заявил он им.— Бездарности!
Они молчали, не понимая, в чем дело.
— Серые, жалкие люди! — продолжал оскорблять Аристотель и при этом потрясал перед носом недоумевающего десятого «А» какой-то оранжевой общей тетрадью...— Для вас, для вас он писал! Верил, что услышите. Для тебя, Шамин!..
— Очень надо,— хмуро отозвался Шамин, который сразу понял, из-за чего весь этот сыр-бор пылает.— Про меня этот Пушкин знать не знал, и я его зубрить не желаю. «Я помню чудное мгновенье...» Подумаешь! А я не помню. Нудно же это, сознайтесь! Кто сейчас так чувствует? Все изменилось, жизнь совсем другая — какой еще «гений чистой красоты», кому это нужно? Сейчас люди совсем другие, им смешно это! А мы наизусть должны учить, да еще делать вид, что
567
балдеем! Да в гробу я видел это чудное мгновенье в белых тапочках!
Тут одноклассники на Шамина зашикали. Отчасти из-за того, что не все придерживались столь крайних взглядов, отчасти из-за Аристотеля, который слушал все это молча, но как-то настораживающе молча...
— То, что ты во дворе поешь под гитару, полагаю, более выражает чувства современников? — багрово краснея, поинтересовался Аристотель.
Десятый «А» знал, что, когда классный руководитель краснеет вот этак, признак это очень дурной и сейчас он скажет что-нибудь ужасное. Знал это и Шамин, но упрямо ответил:
— А что — нет? Не так красиво, зато правда, как в жизни.
Аристотель долго и пристально смотрел на Шамина, будто видел
его в последний раз и хотел запомнить, а Шамин в ответ независимо ухмылялся.
— Смейся, смейся,— пробормотал Аристотель с сердцем.— Придет твое время — поплачешь, помяни мое слово, современник...
— Вы мне что, угрожаете? — осведомился Шамин.
— Нужен ты мне...— махнул рукой Аристотель.— Идите. Не желаю с вами разговаривать, классный час окончен...— И добавил непонятное: — Паситесь, мирные народы...
Десятый «А» выбрался из-за парт (десятый «А» был удивлен, что на сей раз отделался так легко) и пошел «пастись», унося в душе смутное, мучительное подозрение, что все-таки что-то ужасное было сказано, а они не заметили...
Теперь-то все стало ясно: он, значит, о них вон как думал! Он, значит, думал, что наследство десятого «А» из рода в роды — ярмо с гремушками да бич... Значит, пять лет они жили вместе, любили его, верили в него, а он... Он, оказывается, считает, что потерял он только время, благие мысли и труды...
— Юля, но ведь Шамин...— хотел заступиться за Аристотеля Саня, но Юля сразу рассердилась:
— Да при чем тут Юрка? Не в нем дело совсем! Я знаю, он вам не нравится, а он хороший! А ваш Аристотель, между прочим, самый настоящий предатель!..
Шамин в это время в окружении ровесников стоял на углу. Пел:
Натопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык...
Ровесники подпевали трагическими голосами. Сане хорошо было слышно.
568
Саня уже спал, когда позвонила мать Исакова Бори. Трубку поднял Арсений Александрович, который еще не спал, но уже собирался.
— Алло,— сказал он, а потом сразу закричал: — Что? Когда?! Александр, проснись! Исаков пропал!..
Саня проснулся и, еще не понимая, кто пропал, куда пропал и зачем, шлепая босыми ногами, побрел к телефону. Выяснилось следующеее: Исаков-младший, по всей видимости, пропал еще вчера вечером, но вчера вечером этого никто не заметил. Заметили нынче утром, когда пришли его будить. А его нет...
— Я подумала, у вас сбор какой-нибудь утренний, вот он и ушел потихоньку. Днем из театра отец звонил в школу, выяснял, там ли он...
— Он был на занятиях,— подтвердил Саня.
— А дома не был...— сказала мама и заплакала.— Первый час уже, а его все нет и нет... Где он?..
— Успокойтесь,— попросил Саня, хотя ему и самому стало неспокойно.— Вспомните, может быть, был у вас какой-нибудь конфликт?
— Не было никаких конфликтов... Встретились так хорошо... Мы ведь только вчера с гастролей вернулись... Время школьное, а Боря дома. Отец спрашивает: «Ты отчего не в школе?» А Боря сказал, что ему без родителей в школу велели не приходить, он, мол, и не ходит, нас ждет. Вечером сходили они с отцом в школу...
— Вы его наказали? — сердито спросил Саня.
— Мы его вообще никогда не наказываем! — всхлипнув, отозвалась Борина мама.— Он сам все понимает... Где его искать теперь? Я уже все больницы обзвонила...
— Одноклассникам звонили?
— Да нет его нигде...
— Я сейчас позвоню ребятам из географического кружка,— сказал Саня,— может, они что-нибудь знают. А потом сразу вам...
— Ну?! — хмуро глянул Александр Арсеньевич на Арсения Александровича.— Вот твоя педагогика! Вот твоя Лола! Ведь все решено было, а она родителям наговорила бог знает чего! Зачем это было делать, можешь ты мне объяснить?
— Перестань сверкать на меня глазами! — возмутился Арсений Александрович.— Я впервые об этом слышу!
— Хорош директор,— сказал сын.— Не знает, что у него в школе делается!
— Вот станешь сам директором, я на тебя посмотрю! — ответил отец.— Ты за неделю всю работу развалишь!
— Да?
— Да!
Меж тем уже шел первый час ночи, и Саня сказал:
С родителями будешь ты разговаривать.
569
Он набирал телефоны, а директор школы извинялся за поздний звонок, представлялся во всем грозном величии своей должности и просил разбудить ученика... Но никто из разбуженных о Боре ничего не знал.
— Этого только не хватало,— нервничал Арсений Александрович.
Саня позвонил Исаковым и, не сообщая печальных результатов поиска, велел:
— Посмотрите, рюкзак его на месте?
Рюкзака на месте не было.
— Так! — забегал по комнате Арсений Александрович.— Удрал, негодяй! Дожили! Александр, скажи, чтоб немедленно звонили в милицию.
— Не надо никуда звонить,— вздохнул Саня и пошел одеваться.
— Сашенька, ты куда? — тревожно спросила Елена Николаевна.
— За Исаковым,— отозвался Саня.— Только, мам, не волнуйся, мы утром вернемся...
— Да куда же так поздно?..— начала было Елена Николаевна, но замолчала: с тех пор как ее послушный сын стал учителем, спорить с ним было бесполезно, он все равно все делал по-своему.— Шарфик хоть надень...— только попросила Елена Николаевна.
Он успел на последнюю электричку и через час уже шагал по лесу. Ночной лес стоял тихо, в нем пахло травой и листьями, прекрасно было в лесу, вольно и спокойно. Но где-то тут, в прекрасном этом лесу, сидел со своей обидой Борька Исаков (а что он тут, Саня почему-то не сомневался, некуда ему больше деваться). Все-таки странно устроена жизнь. Почему люди не понимают друг друга? Раньше Саня этого не замечал. Или нет: замечал, но у него была белая лошадь, спасительница от бед. Это Аристотель его научил заклинанию из деревенского своего детства: «Белая лошадь — горе не мое! Уходи, горе, за сине море, за темный лес, за светлый огонь, меня не тронь!» Саня маленький был, поверил. Понятно, конечно, что все это ерунда. Но выручало. Долго выручало (главное, зажмуриться
570
покрепче), да вдруг перестало... Год назад это случилось, когда пришел Саня работать в школу, и вдруг показалось ему, что большинство его коллег живет зажмурившись и все, что вокруг,— не их горе... А чье?.. Шел Саня с уроков и увидел за школой плачущего Адыева Толика, скверного ученика.
— Ты чего, Адыев?
— Ничего,— сказал Адыев, размазывая грязной рукой слезы.— Не ваше дело! — И снова завыл.
Саня на грубость рассердился и закричал на Адыева:
— Ты почему со мной так разговариваешь? И почему это не мое
дело?!
— Потому что меня в умственно отсталую школу переводят... Он и объяснить-то больше ничего не мог, только стоял да выл
тихо. Он уже давно стоял тут и выл, и на громко у него сил не было...
— Не справляется мальчик с программой,— вздохнув, объяснила Сане Лола Игнатьевна.— Да это и понятно, вы знаете, какая у него семья? Глухонемые оба... Трудно ему у нас учиться...
Вот как, оказывается, в жизни бывает, а Саня, домашнее, любимое чадо, вечный отличник, и знать ничего не знал о таком... Саня попытался представить себе жизнь Адыева дома, в тишине и молчании, и что-то темное, безнадежное шевельнулось вдруг в душе, он испугался этого впервые пришедшего чувства — чужого горя, которое, оказывается, чужое только условно, только пока ты хочешь считать его чужим... «Уходи, горе, за сине море, за темный лес, за светлый огонь, меня не тронь!..»
И началась вдруг у учителя географии новая жизнь, как-то сама собой началась... И чем дальше, тем все больше жил Саня поперек детского спасительного своего заклинания — грустная белая лошадь все время брела рядом с ним, цокая копытами... Куда же ее девать?.. Не получалось у Сани гнать ее, только привычка осталась бормотать заклинание.
Вдали, за деревьями, чуть засветило — это был костер, и Боря Исаков, длинный, нескладный, одетый вовсе не для выхода в лес, сидел у огня, обхватив руками колени.
571
— Добрый вечер,— сказал Саня, бесшумно выходя из темноты, и сел рядом.— А спишь где?
— Здесь, у костра... Тут одеяло кто-то забыл...
— Не мерзнешь?
— В землянке еще холоднее. Вчера там лег, но не вытерпел...— Боря поежился.— Я тут продукты маленько подъел... А вы им сказали, где я?
— Я сказал, что утром мы вернемся...
Исаков искоса взглянул на Саню.
— А если я не вернусь? — поинтересовался он вежливо.— Тогда что? Силой повезете?
Саня засмеялся.
— Мне с тобой силой не справиться. Да и ни к чему — силой.
Боря сидел пригорюнившись, смотрел в огонь.
— Я вам тогда сейчас все расскажу... Только вы не перебивайте, вы до конца выслушайте.
— Хорошо,— кивнул Саня.
— Дело в том, что я не могу вернуться...— почти шепотом произнес Боря.— Потому что... В общем, мой отец совсем не тот человек, за которого я его принимал...
Исаков надолго замолчал. Саня молчал тоже — не перебивал.
— Он сказал, что хватит донкихотствовать...
— Хватит донкихотствовать! — сказал Исаков-старший Исакову- младшему.— На рожон лезут глупцы и психи. А умные и сильные имеют выдержку. Они молчат и делают свое дело. Ты понимаешь меня, Борис? Они живут без болтовни, без криков о справедливости. И без высоких слов. Высокие слова — это для публики, запомни.
Они шли по вечереющей улице. Шли из школы, где Лола Игнатьевна коротко и отчетливо проинформировала Якова Львовича о том, что сын его склонен к дерзости и высокомерию и оказывает на одноклассников дурное влияние, а это, несмотря на блестящие способности сына, кончится плохо. «Я не буду вам говорить, что я об этом думаю,— сказала Лола Игнатьевна, я просто в деталях расскажу несколько его выходок, и вы сами поймете, что мальчик ваш — на опасном пути». Яков Львович внимательно выслушал все, что ему рассказали, поблагодарил, печально качая красивой седой головой, и теперь они гуляли по улицам — высокий, статный мужчина и длинный, на голову выше отца, юноша...
— Зачем тебе это нужно? — с неодобрением спросил Исаков- старший.
— Но ведь ты сам всегда говорил, что человек должен быть порядочным...
572
— Во-первых, до определенного предела,— нахмурился Иса- ков-старший,— за которым порядочность больше похожа на глупость...
— Ты мне раньше этого не говорил...— удивленно перебил Иса- ков-младший.
— Раньше ты был ребенком, и из-за этих твоих дурацких разговоров у тебя не было неприятностей. Не было именно в силу того, что ты ребенок и никто к твоим словам всерьез не относился. А теперь ты вырос, и это надо учитывать.
— Значит, говорить то, что думаешь, можно только тогда, когда к твоим словам всерьез не относятся?
— Не иронизируй,— поморщился Исаков-старший.— Дело серьезное. Честно говоря, я давно уже не одобряю твое пристрастие к ораторской деятельности. К чему это? Что это может изменить? Чего ты хочешь?
— Справедливости!
Исаков-старший хмыкнул:
— Ты ведь неглупый человек, Боря. Пора бы уже понять, что жизнь штука сложная, и движут ею вовсе не законы добра и справедливости. Есть законы посерьезней...
— Ты мне раньше этого не говорил...— упрямо повторил Иса- ков-младший уже с отчаянием.
Ему хотелось, чтобы отец и теперь не говорил ему этого, потому что ему стало вдруг тоскливо и неуютно: изменилось все как-то вокруг... Дома, что ли, скособочились на родной улице или небо стало ниже в мире, где, оказывается, не в добре и справедливости было дело...
И это отец ему говорил, самый главный человек, самый умный, все на свете знающий и понимающий...
— Как ты можешь? — растерянно сказал Исаков-младший.— Что ты говоришь?! Ты — человек искусства!.. Ты что, меня разыгрываешь?
Ах, как славно было бы, если бы отец вдруг рассмеялся и сказал: «Конечно! А ты что, поверил?»
— Искусство! — усмехнулся Исаков-старший.— Ты книжек начитался, Боря. Искусство — это искусство, а жизнь — это жизнь, их ни в коем случае не надо путать, ты что, еще не понял?
— Но ты же всегда...
— Оставь! — сморщился, как от зубной боли, Исаков-старший.— Да, говорил! Потому что всему свое время. Моральные законы надо усвоить, чтобы потом через них перешагивать. Я надеялся, что, усвоив, ты сам поймешь, что к чему... А ты еще не дорос, оказывается! Поверь, мне больно разбивать твои иллюзии, но пора уже. Донкихотство твое нелепо и опасно. И слава богу, что у вас есть такой умный завуч! Подумай о характеристике, тебе через два года поступать. Или ты хочешь стать неудачником?
— Плевал я! — крикнул Исаков-младшии.
573
— Это что-то новенькое...— насторожился Исаков-стар- ший.— Ты, кажется, собирался стать кинорежиссером. Что, передумал?
— А для этого обязательно сначала стать подлецом? — запальчиво спросил Исаков-младший.
Ему хотелось, чтоб отец обиделся, опомнился, закричал, что не надо гипербол, он совсем не то имел в виду...
— Если тебя интересует мое мнение,— сухо сказал Исаков-стар- ший,— то лучше уж быть подлецом, чем неудачником. Запомни: подлец — понятие относительное, а неудачник — всегда неудачник...
— А ты?..— с отчаянием спросил Исаков-младший, начиная кого-то ненавидеть.— Ты... удачлив?
Исаков-старший остановился посреди улицы, будто на стену наткнулся, и взглянул сыну в лицо.
— Да...— медленно сказал он.— И от моих удач тебе тоже кое- что перепадает... Ты не замечал?
Исакову-младшему в мгновение стало жарко. «Вот он какой!..— со стыдом подумал он, слушая про джинсы, кожаный пиджак, замшевую куртку, два магнитофона, транзистор и часы «Сейко».— Вот он какой, все подсчитал...» И сказал:
— Мне от тебя ничего не надо!
— На два тона ниже,— посоветовал Исаков-старший.— Соседям вовсе не обязательно вникать в суть наших разногласий...
Они уже входили в подъезд.
— Романтик! Давай-давай, попробуй пожить в соответствии со своими высокими идеалами! Кончишь школу, поступишь в какой-нибудь затрапезный институт! Или сразу — в ПТУ! Это даже сейчас модно, давай! В армию сходи, кстати! Поживи, как все, идеалист паршивый!
— И поживу!
— Поживи-поживи! Я думал, ты умнее!
— Значит, ошибался,— огрызнулся Исаков-младший.
— Бывает,— зло кивнул Исаков-старший.— Только надолго ли тебя хватит?
— Не волнуйся,— не глядя на отца, пробормотал Исаков-младший.— Меня на всю жизнь хватит!
Вот что произошло вчера вечером...
— В ПТУ я вчера был...— тихо сказал Боря.— Там набор уже кончен... А домой все равно не вернусь...
— Знаешь что,— отозвался Саня,— а ты живи у нас...
Сразу после первого урока к Александру Арсеньевичу подошла англичанка, преподававшая в его классе. Он улыбнулся ей как можно, обаятельней, потому что догадался: жаловаться будет. Англичанка^ на улыбку, однако, не смягчилась и посмотрела на Александра
574
Арсеньевича так, будто подозревала, что он заодно со своими учениками.
— Ваш класс совершенно распоясался!
Саня уже постиг, что в таких случаях лучше не перебивать, а внимательно слушать все, что скажут, и при этом выражать на лице полнейшее согласие и даже некоторое возмущение своими учениками. Этому его научил Аристотель, хотя сам данной тактики не придерживался и за учеников своих заступался.
— Урок невозможно вести! — жаловалась англичанка.— Мяукают, гавкают! Не класс, а зверинец. Исупов как с цепи сорвался, это же отпетый хулиган какой-то! Вы разберитесь, этого так оставлять нельзя!
Александр Арсеньевич выразил на лице своем все, что положено, и пошел разбираться.
Родной шестой «Б», вместо того чтобы гулять, как положено, по коридору, толпился в классе.
— Доброе утро! — сурово сказал Александр Арсеньевич нарушителям.— Кто мяукал?
— Вот он...— Вова Васильев с готовностью вытащил из парты худого рыжего котенка.
Рыжий взглянул на учителя желтыми глазами и в подтверждение Вовкиных слов горестно мяукнул.
— Я его у школы нашел...
— Миленький, правда? — зашумели девочки, потянувшись к рыжему.— Сан Сенич, глядите, какой хорошенький!
— Ну не хапайтесь, не хапайтесь! — загородил рыжего Ады- ев.— И так всего затискали!
— Он есть хочет! — жалостливо сказала толстая и добрая Курбатова.
— Вот и отдай ему свою колбасу!
— Я уже отдала, а он все равно хочет... Он на уроке всего два раза и мяукнул-то, а она сразу раскричалась!
— Не сразу,— уточнил Адыев.— В первый раз она только спро¬
сила, кто хулиганит. А Вовка говорит: «Я».
— А что мне было делать?
— Она Вовку выгнала, а он снова мяукнул! Ну, котенок, а не
Вовка, Вовка уже за дверью был... Тут и началось...
— Ясно,— вздохнул Александр Арсеньевич.— А гавкал кто?
— Я! — уныло отозвался Исупов Леша.
— Зачем?
— Просто так! — ответил Лешка, стараясь, чтоб вышло грубо.
— Просто так делает один дурак! — наставительно объяснил ему Александр Арсеньевич.— Позавчера ты пел на уроке, вчера жег расческу, сегодня гавкал... Может быть, уже хватит?
Исупов Леша глубоко задумался.
— Нет, еще не хватит...— тоскливо отозвался он наконец.
После этого ответа Саня на Лешку обиделся с новой силой
576
и решил больше с ним не разговаривать. И вообще не обращать внимания.
— Ч^о с кошаком делать будете? — спросил он, не обращая больше на Исупова Лешу внимания.— Или все уроки мяукать намерены?
— Можно, я его домой отнесу?.. Мама сиамского хочет завести, да достать не может, я ее уговорю, что не надо сиамского, сиамские — они дураки такие...
— Сам дурак! — обиделся за сиамских кто-то из девочек.
— Они злющие! — пояснил Вова.— Я злых не люблю. Лучше мы этого заведем... Ну можно, Сан Сенич?..
— Иди. Но чтоб одна нога здесь, другая там...
Васильева Вову с котом словно ветром сдуло.
У Бедной Лизы разболелся зуб, и потому сочинение на волнующую тему «Кем я хочу стать?» в пятом «Д» пришлось проводить Александру Арсеньевичу, у него как раз «окно» было.
Александр Арсеньевич сидел на подоконнике и думал, что скоро зима, а пятый «Д» прилежно делился планами на будущее, время от времени незаконно справляясь у него, как пишется то или иное слово. Только у второгодника Вахрушева планов на будущее не было.
— Ты почему не пишешь, Вахрушев? — строго спросил Александр Арсеньевич.
— Да он никогда не пишет! — зашумел пятый «Д», отрываясь от работы.— Все равно пару получит, зачем ему!..
— Да о чем писать-то? — ехидно крикнул кто-то.— Он же дворником будет!..
Вахрушев в разговор о своем будущем не вмешивался. Сидел и молчал, как всегда.
— Между прочим,— нахмурившись, сказал Александр Арсеньевич,— многие великие люди учились в школе плохо.
Будущие капитаны, летчики, космонавты и артистки захохотали, у них было здоро^е чувство юмора: второгодник Хрюшкин — великий человек! Разве не смешно?
— Не отвлекайтесь,— велел он, пошел и сел рядом с Вахрушевым.
Тот сидел один на последней парте, у окна.
— Не обращай на них внимания,— сказал он шепотом.— Пиши! Назло пиши...
Вахрушев смотрел в сторону, молчал.
— Слышишь? Пиши, чтоб самому интересно было... Пиши, что хочется!
— Как это? — сквозь зубы спросил Вахрушев.
— А так! Есть же у тебя самое главное, тайное желание...
Вахрушев пожал плечами, ответил угрюмо:
19 Школьные годы. Выпуск 2
577
— Про то писать нельзя.
— Почему? i
— Не положено.
— Ерунда! — сказал Саня.— На то и сочинение, чтоб писать не то, что положено, а то, что хочется. Ты представь, что было 6bij если б все писали то, что положено!.. Со скуки умереть можно было бы! И книг хороших не было бы, если бы писатели писали, что положено...
— Я не писатель...
— Это еще не известно. Кто тебя знает — кто ты... Пиши!
На первой парте решительно подняли руку.
— А это только Вахрушеву можно писать, что хочется? — с обидой спросила голубоглазая девочка.— Или всем остальным тоже?
— Всем! — сказал Александр Арсеньевич решительно.
Глаза у Сани слипались — ведь ночью он почти не спал. Но пришел из школы Арсений Александрович, озабоченно взглянул на сонно ужинающего Борю и увлек сына в ванную.
У Арсения Александровича только что был Исаков-старший. Директор успокоил его: все в порядке, Боря жив-здоров, но дома жить не хочет... Исакова-старшего, надо сказать, это успокоило не очень.
— Что ты, как педагог, в этой ситуации должен и обязан был сделать?! — возмущенным шепотом выговаривал в ванной Арсений Александрович.
— Что? — сонно спросил Саня.
— Снять конфликт, объяснить мальчику, что он не прав!
— А если он прав?
Арсений Александрович тяжело вздохнул:
— Даже если он прав, ты, ради мира в семье, должен был...
— Зачем?! — вскочил Саня. Сон его прошел, он готов был спорить.
А директор школы спорить не хотел: чего уж теперь спорить, после драки кулаками махать... Он только посмотрел на сына долгим отчаявшимся взглядом.
Отчаяние его проистекало из того, что сын-учитель не понимает самых простых истин.
Перво е: есть дети и есть взрослые. Взрослые — это взрослые. А дети — это всего лишь дети, неужели не понятно?
Второе: дети ни за что не отвечают и живут себе припеваючи. Взрослые отвечают за все. И за детей, между прочим, тоже!
Третье: поэтому, даже если взрослые и бывают неправы в отдельных (редких) случаях, то они все равно правы. Потому что они взрослые, они — хозяева мира!
Четвертое: а дети пока растут и ничего в мире не понимают.
578
Что они знают о жизни? Да ничего они не знают, кроме того, что написано в учебниках. Да и то, что написано в учебниках, будем откровенны, они знают не то чтобы очень! А туда же — в судьи: то им не так, это им не так, умникам! Судить-то легко, а попробовали бы сами...
— Попробуют, не волнуйся! — пообещал Саня директору школы.
Нет, сын был решительно неисправим. Арсений Александрович
вздохнул и отправился спать. Он ведь тоже провел нынче бессонную ночь.
— Жареный петух тебя еще не клевал в это самое место...— с грустью пробормотал он.— Вот будет у тебя самого сын, я погляжу, что ты тогда скажешь...
На следующий день Саня впервые в жизни поссорился с Аристотелем.
— Бросьте вы! — покачал головой историк, посвященный в суть Бориной истории.— Он сын своего отца. Только он этого еще не понял.
— Неправда! — горячо возразил Саня.— Вы не понимаете!..
— Кабы...— вздохнул Аристотель.
— Ну почему, почему вы так говорите?! Борька — замечательный человек, он всегда за всех...
— Это у него от хорошей жизни,— махнул рукой историк.— Сытый, ухоженный, беды не нюхавший...
— Ну да! — взъелся Саня.— Жареный петух его не клевал, да? Это мы уже слышали!
Аристотель прищурился, внимательно посмотрел на Саню:
— Нехорошо, конечно, но хочешь пари?
— Какое?
— Я утверждаю, что гордому, мятежному юноше Исакову двух недель вполне хватит, чтоб осознать свою ошибку и вернуться в лоно родной семьи...
— Матвей! — укоризненно вмешался Арсений Александрович.
— Спорим! — яростно согласился Саня.— Кто проиграл — ухо¬
дит из школы заведовать овощебазой!
— Ну уж нет! — усмехнулся Аристотель.— Это уволь...
— Боитесь? — торжествовал Саня.
— Тебя, дурака, жалко...— вздохнул Аристотель, и Саня вдруг подумал, что Матвей Иванович стал старым, а ведь раньше все понимал... Печально стало Сане.— Сегодня тридцатое сентября, запоминайте, Матвей Иванович,— сказал он.
И опять пришла долгожданная суббота.
В полночь небо над лесом вызвездило. Ясное, большое, оно стояло над головой...
579
— Сан Сенич...— позвал в тишине Толик Адыев.— А ведь правда, там кто-то есть?..— Он лежал навзничь посреди поляны и пристально смотрел в небо, будто хотел разглядеть этого «кого-то» немедленно.— Может, сейчас тоже смотрит на нас и мучается, есть мы или нет...
Это начинались лесные разговоры: ночь, огонь — можно говорить, не боясь, что посмеются, покрутят пальцем у виска...
— Бог, что ли? — настороженно спросил Кукарека.
— Люди... Братья по разуму...
— Наверное, есть,— отозвался Саня.
— А как это — Вселенная бесконечна? — задумалась вдруг толстая девочка Мила и перестала жевать.
— Да очень просто! — решительно ответил Вовка Васильев.— Нет конца — и все!
— Все звезды, звезды?
— Ну.
— А за ними что?
— Тоже звезды, чего тут непонятного?
— Да ведь все равно они где-то кончаются, а там что будет?
— Они не кончаются, вот и все, поняла?
Мила помотала головой.
— А тебе не все равно? — скучно спросил Лешка.
— Нет,— испуганно ответила Мила.— Мне не все равно, мне страшно...
— Ну и дура! — пробормотал Лешка.— Нашла чего бояться.
— Чего бояться? — удивился Васильев.— Вот скоро уже совсем все откроют, и мы узнаем, как тут все устроено!
— А я люблю из форточки ночью смотреть...— сказала Юля.— Ночью встанешь потихоньку, высунешься, а до самого горизонта окна светят... Так странно — люди кругом живут... Рядом, а никогда не узнаешь, какие они, как им там... А на звезды лучше долго не смотреть: им все все равно. И тебе все все равно делается, смотришь на них, смотришь и забываешь: где ты, кто ты, зачем ты?..
— А из форточки дует, между прочим,— перебил сестру Кукарека.— И прямо на меня! Понятно теперь, почему я всегда простуженный!
— Хоть бы они прилетели! — вздохнул Адыев.
— Сан Сенич! А про летающие тарелки — это правда? — раздалось сразу несколько голосов.
— Да вранье! — закричал сердито Кукарека.
— Почему это вранье?! — возмутились девочки.
— А вы их видали?
— А может, и видали! — заводным голосом сказал Вова Васильев.
— Интересно, где это ты видал?
580
— Где надо!
— А не видал, так и не говори!
Не приходилось сомневаться, что к представителям иных цивилизаций Кукарека относится крайне недоброжелательно.
— По его — не видел, так этого, значит, и нет! — заступился за пришельцев Адыев.
— А и хотя бы!
— А магнитное поле ты видел? Что ж, его тоже нет, по-твоему? — поинтересовался Боря, который снисходительно прислушивался к этому разговору, но не вмешивался.
— Магнитное поле — это ладно! — сердито сообщил Кукарека.— Оно наше, а не чужое какое-нибудь... А этим чего надо? Приперлись на своих тарелках и поглядывают? Кто их звал?
— Зато они войны не допустят! — вмешался Адыев.
— Ой, хорошо как! — обрадовалась Мила.— Кукарека, слышишь? А ты на них злишься!
— А по-моему, стыдно...— тихо сказала Юля.— Будто мы дети, а они поставлены глядеть, чтоб мы чего не натворили... Мудрые дяди с другой планеты!
— Так у них же цивилизация выше нашей! Вот они и хотят помочь!
— Больно надо! — завелся Кукарека.— Если б они как люди — прилетели, представились! А то засекретились!
— Темный ты! — закричал Васильев.— Не понимаешь, да? Им же сперва разобраться во всем надо!
— Пусть у себя разбираются!
— А они у себя уже разобрались!
— И мы разберемся! — уверенно сказал Кукарека.
— Детское время кончилось,— скомандовал Саня.
У костра остались только Юля и Боря, они были «взрослые», к ним это не относилось.
Боря был молчалив и сосредоточен на своем несчастье. Вчера он опять ездил по городу, искал ПТУ, где еще принимают желающих получить рабочую профессию. И нашел, а Арсений Александрович решительно отказался выдать Боре документы: никаких ПТУ, надо кончать школу, а не дурака валять... Боря сообщил ему, что у нас в стране любой труд почетен, что сейчас большая нехватка рабочих рук, и даже объяснил, что рабочий класс — авангард мирового революционного движения, но Арсений Александрович остался неумолим. А ведь все так хорошо складывалось: и кормили бы три раза в день, и одевали, и общежитие обещали дать, несмотря на то что Боря не иногородний. А через два года стал бы Боря высококвалифицированным маляром-штукатуром...
Боря сидел, глядел в огонь и мечтал, как идет он по городу, в спецовке идет — такой синей, грубой, заляпанной краской (он
581
видел таких людей на улицах), на ногах у него тяжелые, грязный ботинки, а навстречу — отец... В своем любимом светлом костюме^ с бабочкой, в руках цветы (с премьеры идет)... И вот они случайно встречаются на улице — главный режиссер театра и маляр-штукатур, Боря с сожалением смотрит на отца (взрослый, сильный, всего сам достигший, не сломленный жизненными испытаниями человек), а отец прячет глаза, отец приходит домой, отец курит сигарету за сигаретой, не спит, бродит по квартире... Ночью у Бори раздается звонок... Или нет, Боря ведь живет в общежитии, там нет телефонов... Ночью кто-то стучит в дверь. Боря открывает. Это отец. Он говорит глухим, растерянным голосом: «Я пришел сказать, что я все понял. Ты прав, я прожил жизнь напрасно...» А Боря ему отвечает: «Извини, но я ничем не могу тебе помочь, ты сам во всем виноват»...
— Да хватит тебе переживать...— вздохнул Саня.
— Александр Арсеньевич, ну как вы не понимаете,— сердито отозвался Боря,— не могу же я жить на вашем иждивении.
— Перестань,— поморщился Саня.— Прокормим.— И подмигнул безутешному Боре: —- Зато, когда станешь великим режиссером кино, мы же гордиться будем, а?
— Я считать все буду, а потом отдам...
— Тьфу! — Саня даже рассердился.— Счетовод!
— Да нет, Борька прав,— покачала головой Юля.— Неловко это как-то... Надо что-то придумать... Слушай, Боря, а ты на почту иди, телеграммы носить!
— А возьмут?
— Да бросьте вы, зачем это нужно! — не согласился Саня, а из палатки вышел Кукарека в обнимку с рыжим котом Вовы Васильева (Вова расставался с ним только на время занятий в школе) и заявил:
— А чего? Конечно, иди, Боря! Ты же мужчина, а мужчина сам за себя отвечает!
— Живо в палатку, мужчина! — нахмурился Саня.— Завтра не поднять будет, да?
— А если мне надо?
— Коту тоже надо?
582
— А там темно, я один боюсь! — И Кукарека, прижимая к груди рыжего, ушел в лес.— У нас Юлька каждое лето работает! — прокричал он из тьмы,— потому что маминой зарплаты не хватает, а на мне к тому же и горит все как на огне, что ж делать? Я, как в восьмой перейду, тоже буду летом работать. А Борька что — хуже?
— Вот именно,— подтвердил Боря.
— Борьке даже полезно, раз он в кинорежиссеры собирается,— сказала Сане Юля.— Ему жизнь надо очень хорошо знать, а не только книжки читать...
— А книги разве не жизнь? — спросил Саня.
Юля взглянула на него темными своими строгими глазами, улыбнулась и сказала:
— Вы очень хороший... И добрый... Только вы еще совсем ребенок...
От этих слов обидно стало Сане и счастливо, и, чтоб Юля, Боря и Кукарека этого не заметили, он иронически улыбнулся и сообщил Юле, что она сама еще очень юная и глупая особа. А Юля ему ответила, что женщина внутренне взрослеет раньше мужчины, и поэтому внутренне она значительно старше...
— Ну да,— сказал остроумный Саня,— вы мне внутренне в бабушки годитесь, да?
А потом Боря уснул прямо у костра, лес стоял тихо-тихо.
— Я вас помню, когда вы еще в школе учились... Вы с нами на концерт ходили. Зимой, в пятом классе... Тогда снег шел такой пушистый, мы его ртом ловили, пока Аристотеля на остановке ждали. Мы на конечной договорились встретиться и ехать вместе, а он опаздывал. Мы уже хотели за ним бежать, а тут вы вместе пришли... Помните?
Саня помотал головой.
— Вы были без шапки, весь в снегу, а Аристотель сказал: «Это мой друг Саня, прошу любить и жаловать», а мы сразу стали вас разглядывать... Так интересно было!
— Почему это? — насторожился Саня.
— Ну, вы ведь были сын Арсения Александровича, мы так близко в первый раз вас видели, вы на другом этаже учились. Я все пыталась
583
себе представить, как вы приходите домой, а там — Сень Саныч.л Думаю, как же вы с ним разговариваете — и не боитесь?.. Еще думала, «ты» или «вы» вы ему говорите?.. А на концерте вы сидели рядом с Машкой Матвеевой, она тогда в вас сразу втрескалась, а мы дразнились...
— А эта Матвеева, видно, прозорливая девушка,— серьезно отозвался Саня.— Сразу поняла, какой прекрасный молодой человек сидит с ней рядом. Это такая черненькая, в очках, да? На втором ряду в прошлом году сидела?.. Очень славная девушка...
— А вы совсем не помните про концерт?
— Совсем... Ну, а дальше что было?
— В антракте вы побежали за мороженкой, а мы...
И Саня все вспомнил!.. Это в филармонии было, зима, десятый класс. Он даже вспомнил, как залихватски подмигивал в зал старенький балалаечник... А в зале, в девятнадцатом ряду (и ряд помнил!), сидела Кондратьева из десятого «Г», и Сане все время хотелось оглянуться, поглядеть туда, но он не смел... Вот как это было. А потом они встретились в антракте. «Как, и ты здесь?..» — неискренне удивился Саня (он и с Аристотелевыми пятиклассни- ками-то напросился только потому, что услышал случайно на перемене: Кондратьева сегодня идет в филармонию), и они встали в очередь за мороженым. Нужно было говорить что-то; остроумное, непринужденное, а Саня смотрел в сторону и молчал как дурак... И все, все — и Кондратьева, и тетка, продающая мороженое,
и вся длинная очередь,— наверно, понимали, что Саня влюблен в
Кондратьеву по уши...
— Вы в нее были влюблены? — спросила проницательная и бестактная Юля.
— В кого?
— Ну, в девочку, с которой вы стояли за мороженым...
А Саня ответил:
— Много будете знать — скоро состаритесь.
— Вы ее тогда спасали?
— А как же! — хмыкнул Саня.— Я всех девочек, в которых влюб¬
лен, обязательно спасаю...
— Нет, правда...
— Она не из нашего класса была.— Он вздохнул.— А я спасаю девочек исключительно из своего класса, Юля...
Саня не очень любил вспоминать этот случай... Глупый, нелепый случай, имевший место наутро после выпускного. Потом в газетной заметке Саня именовался не иначе как «герой», который, «рискуя жизнью, спас своих товарищей»...
Не любил же Саня об этом вспоминать по целому ряду причин. Во-первых, потому, что героическому Сане было сначала очень страшно, а потом — очень больно; вспоминать об этом не очень-то приятно. А во-вторых, потому, что если сказать кому, в чем заключается «героический поступок», так ведь это один смех... Даже в газете
584
постарались обойтись возвышенной лексикой, конкретно ничего не называя. Потому что, ну, как тут сказать?.. Бросился под велосипед?.. Это же просто обхохочешься!..
Было так: бродили до рассвета, не хотели расходиться. Да признаться, и боязно было расходиться: вот мы еще вместе, мы еще класс, но это уже в последний раз... Сегодня утром они разойдутся навсегда. Где-то совсем рядом каждого караулит уже своя судьба, какая-то новая, неведомая жизнь... Школа кончилась. Долго они ждали этого, мечтая о свободе, но вот сбылось, и теперь каждому было не по себе: а что там, впереди?..
Хохотали, пели, что-то кричали весело, бродя по пустынным светлеющим улицам, а тревожно было, потому и цеплялись друг за друга, не хотели расходиться. И когда Тюля сказал, что дома у родителей припрятана бутылка шампанского, все шумно обрадовались, появилась причина еще побыть вместе: как же можно разойтись, не выпив Тюлино шампанское?! И пошли, гомоня, по улицам.
Тюля жил в узком, крутом переулке, в деревянном одноэтажном доме. Кто-то вошел во двор, кто-то остался у ворот, и, пока Тюля на цыпочках крался к холодильнику, бывшие одноклассники развлекались, как могли. В частности, выкачен был со двора старенький Тюлин велик «Орленок» без цепи и без педалей. В младые лета Тюля ездил на нем в школу, а на переменах мальчишки лихо гоняли на нем по школьному двору... Теперь-то уж не погоняешь: коленки в руль упираются.
Ветерана приветствовали радостными криками. Костик Зубов посадил на раму Оленьку Клевако, сел сам и, неуклюже загребая длиннющими ногами, выкатил на дорогу. Велик облепили со всех сторон, и Костю с Оленькой покатили с жизнерадостными воплями по улочке вверх, а там развернули и толкнули под горку. Костя и Оленька, хохоча, летели вниз, за ними, тоже хохоча, бежало полкласса, еще полкласса с интересом наблюдало, стоя у Тюлиных ворот, а внизу, из переулка, выезжала поливальная машина... И все еще хохотали и кричали что-то, но произошло уже некое общее замирание, некое тягостное замедление, как во сне или в кино, когда бегущего героя сейчас убьют выстрелом в спину и режиссер дает зрителю возможность наглядеться и проститься... Замерли те, что бежали за велосипедом, замерли те, что стояли и наблюдали, замер в воротах своего дома Тюля с поднятой над головой бутылкой шампанского, и только медленно-медленно катили друг другу навстречу старенький велик без педалей и поливальная машина.
Саня видел все это очень отчетливо, ярко и, будто его толкнули, вдруг стал продираться сквозь пространство, ставшее плотным и тягучим. Он продирался не прямо к накатывающему велосипеду, а к некоей точке перед ним, потому что ясно осознавал, что он, Саня, слишком легок, не удержать ему разогнанный велосипед с двумя
585
седоками и, значит, надо оказаться чуть впереди, чтобы столкнуться] и так погасить скорость.
...Какой-то бес напал вдруг на Саню: дурачась, он описал Юле свое< «попадание под велосипед», и можно было понять по его рассказу, что все это было очень смешно и занимательно...
— Ощущаете, Юля, трепет? — спрашивал.— Чувствуете, какой человек рядом с вами сидит? Всем героям герой!..
А Юля сидела у костра, молчала, не улыбалась и глядела так, будто знала, как все было на самом деле: как сгрудились над Саней испуганные одноклассники, как хлопали его по щекам, пытаясь привести в себя, как поливали Тюлиным шампанским, а потом тащили на руках в больницу, так и не поняв, живой он еще или уже нет...
— Очень больно было?..— с жалостью спросила она.— Глупый, а если б насмерть?..— И она, как маленького, погладила учителя географии по голове...
Во вторник утром пришла телеграмма: «Родили сына Ваську будем вторник ждем крестины Михо».
Солнечно, тихо было в квартире: Арсений Александрович уже ушел руководить вверенной ему школой, Елена Николаевна — учить мальчиков и девочек прекрасному и могучему русскому языку, а у Сани во вторник уроков не было, и он валялся в постели и пытался понять, отчего это проснулся он нынче такой счастливый? Сон, что ли, хороший был? И вдруг припомнилась зеленая далеко внизу земля, ветер, бьющий в лицо... Несмотря на свой солидный возраст, учитель географии все еще летал во сне...
Тут как раз принесли телеграмму, и жить стало совсем радостно, Саня сразу стал звонить (ведь был именно вторник) счастливому отцу, бывшему доблестному студиозу, а ныне учителю географии Мишке Морчиладзе (а вернее — Михаилу Нодаровичу).
— Санечка! — закричала Мишкина мама.— Они еще не приехали, Мишка только что звонил: у них учитель заболел, а Мишка заменяет... Послезавтра приедут...
Саня ясно представил себе друга Мишку — огромного, усатого, шалопаистого — и затосковал по былым вольным и безвозвратно ушедшим временам, по братьям-студентам...
— Васенька, говорят, вылитый Мишка! — сообщила с гордостью Мишкина мама.— Санечка, а ты-то как? Пропал совсем. Еще не женился?
— Нет еще.
— А собираешься?
— Собираюсь,— сказал Саня, а Мишкина мама отнеслась к этому его несерьезному заявлению очень даже серьезно и заинтересованно, поздравила Саню и велела, чтоб он непременно приходил с невестой,
586
а Сане как-то неловко было уточнить после всего этого, что невесты у него, собственно, пока нет...
— Санечка, ты обзвони тех, кто в городе,— на прощанье попросила мама,— скажи, что не сегодня, а в четверг, а то я-то сейчас на работу убегу...
Саня обзвонил, но никого не застал. Что ж, это было естественно: в разных точках большого города братья по курсу рассказывали своим ученикам о том, как тут все на земле устроено,— работали, преподавали географию...
И тогда, совершенно для себя неожиданно, Саня набрал еще один номер. Четыре года назад проклятый и якобы забытый.
— Лё? — знакомо спросили в трубке.
— Лё,— отозвался Саня.— Ты меня узнаешь?
— Ой! — сказали там и засмеялись.— Санечка... Как же можно тебя не узнать!.. А ты что, меня уже простил?..
...Ах, какой сумасшедший роман был у Сани когда-то. На первом курсе. Девочку звали Света. Саня ходил за ней по пятам и молчал. Целый год. Весной Света не выдержала и спросила:
— Ты чего за мной ходишь? Влюбился, что ли?
— Ну...— признался Саня. Вздохнул и добавил: — Выходи за меня замуж...
— Я подумаю,— кивнула Света и засмеялась.
— Долго? — спросил Саня, он был настроен решительно.
— Ну, Санечка, сейчас же сессия, некогда... А потом я в стройотряд еду. А ты?
Саня помотал головой.
— Ну, вот видишь,— сказала Света и снова засмеялась.— Судьба против нашей любви...
— Значит, до осени? — упрямо спросил Саня.— Думай пока.
— Буду! — пообещала Света и убежала, а летом вышла замуж за студента-медика (стройотряд медицинского института работал в соседней деревне).
Все последующие годы студенческой жизни Саня с ней не разговаривал и даже не глядел в ее сторону. Он думал: она еще раскается! Разве может кто-нибудь любить ее так, как он, Саня? И разве это справедливо?! Нет, конечно же, все еще станет на свои места, и она поймет... Она придет к нему, а он ни единым словом не напомнит, а просто скажет все то же: «Я люблю тебя и ждал...»
— Я думала, ты будешь дуться всю жизнь,— сказала Света.— Ты ведь такой дурак был...
— Спасибо тебе на добром слове,— засмеялся Саня.— Ты, без сомнения, права, но не забывай — ведь ты разбила мое глупое
сердце!
И они снова захохотали. Было совершенно очевидно, что Света и не думает раскаиваться, а Саня и правда был «такой дурак»!..
587
Мальчик, выдумавший себе вечную любовь и обидевшийся на то, что глупую эту выдумку не поддержали...
— Санька, а ты изменился...— с интересом сообщила Света.— У тебя голос такой стал...
— Какой?
— Ну, такой... Что вот говоришь с тобой по телефону и думаешь; и почему я уже замужем?.. Ты вырос, что ли?
— Никак нет! — доложил Саня.— Я все то же прелестное дитя...
— Точно — вырос! — одобрительно сказала Света.— Надо на тебя посмотреть!
— К Мишке пойдешь? — вспомнил Саня.— У него сын родился.
— Знаю, телеграмму прислал. Срочную. Ведь всю зарплату наверняка на телеграммы ухлопал, балбес!
— Сын все-таки! — солидно отозвался Саня.— Такое раз в жизни бывает.
— Почему это только раз? У меня уже два!
— Ну, ты даешь...
И Сане, непонятно отчего, стало обидно: у всех, у всех уже были дети, даже у несерьезного Мишки!.. А у Сани не было...
— Следующего назови Александром,— вздохнул он.— В память обо мне, загубленном тобой во цвете юности.
— Своих пора иметь,— наставительно произнесла Света.
А обиженный Саня отозвался:
— Не волнуйся. Будут.
— Ага...— понятливо сказала Света.— Жениться собрался?
И тут давешний феномен повторился... То есть Саня, с детства твердо знавший, что врать некрасиво, вдруг принялся врать... Он подтвердил, что да, скоро женится, что невеста его юна и прекрасна...
— Умная? — спросила Света.
— И добрая!
— Так не бывает! — не поверила мудрая Света.
— Бывает!
— Так...— озаботилась она.— То, что ты влюблен дальше некуда, это ясно. Ну, а она-то тебя любит?
— А ты как думала! — ответил завравшийся Саня.
— С ума сойти!.. А как зовут это чудо?
И Саня сообщил, что это чудо зовут Юлькой...
Наврав с три короба, учитель географии некоторое время стоял у телефона и с ужасом размышлял, зачем он это сделал. Так ни до чего и не додумавшись, он вдруг почувствовал, что ему просто необходимо Юле позвонить и узнать, не помирился ли уже десятый «А» со своим наставником. Шестой урок кончался через тринадцать ми¬
588
нут. Двадцать минут на дорогу, прикинул он, и через полчаса можно позвонить... Полчаса прослонявшись по квартире, потому что ни о чем другом думать он не мог, Саня набрал номер.
— Юлю можно? — сказал он, отчего-то даже забыв поздороваться.
— А она к тебе пошла, Юра...— ответили в трубке.
— Это не Юра...— уныло доложил Саня.— Это Александр Арсеньевич... Здравствуйте, Серафима Константиновна...
— Ох, простите, не узнала...— засмеялась мама Юли и Жени Петуховых.— Вы ведь всегда Женьку спрашиваете. А Юльку Шамин постоянно вызывает, вот и перепутала. Нет Юли, она к Шамину пошла, занимаются они вместе. Раньше все он к нам ходил, а теперь вот она к нему — недели уже две ходит...
— Спасибо,— вежливо сказал Саня.— Извините за беспокойство.
— Да что вы, это вам спасибо, что возитесь с ними, Александр Арсеньевич...— Голос у мамы стал напряженным, растянутым, будто она решалась сказать нечто, но не была уверена в том, можно ли говорить.— Вы бы... поговорили с Юлькой...
— А что случилось? — испугался Саня.
— Пока ничего...— значительно произнесла мама.— Но ведь выпускной класс... А она такая безалаберная стала... Уроки совершенно не учит, придет домой, сядет, будто учебник читает, а сама смотрит мимо и улыбается... И зачем ее к этому Шамину прикрепили!.. Что это за комсомольские поручения такие?
— Обычные,— ровным голосом отвечал Александр Арсеньевич.— Так всегда делали...
— А почему она к нему ходит? Чем им тут не занятия?! И чем они там занимаются? «У него,— говорит,— днем дома никого нет, и никто нам не мешает...» А здесь им кто мешал?!
Александр Арсеньевич сказал мрачно:
— Мне не нравится то, что вы говорите о своей дочери.
— А мне нравится? — жалобно спросила мама.— Он шпана, кто его знает, что у него на уме? А она влюблена в него, я же вижу! А Лола Игнатьевна про эту любовь в старших классах нам таких страстей на родительском собрании порассказала!.. Боюсь я, Александр Арсеньевич, ну вот что мне делать?..
Но этого Александр Арсеньевич не знал...
Хлопнула входная дверь, это вернулся из школы Боря.
Он пообедал в одиночестве (Александр Арсеньевич обедать не пожелал) и ушел на работу — носить телеграммы. Александр Арсеньевич лежал у себя в комнате и смотрел в потолок. За окном была осень — тоскливое, гадкое время года, когда и жить-то не хочется... Александру Арсеньевичу, во всяком случае, не хотелось...
589
Наступил вечер, вернулись из школы родители. Сначала Елена Николаевна, потом Арсений Александрович. Они ходили по квартире на цыпочках, потому что сын лежал и делал вид, что спит... Вернулся с работы и Боря, а Александр Арсеньевич все «спал».
«Завтра начну новую, правильную жизнь,— думал он.— Это даже к лучшему. Давным-давно надо было прекратить это недопустимое безобразие...»
Александр Арсеньевич был зол и несчастен. Его и раньше мучило его неправильное отношение к Петуховой Юле из десятого «А», он ведь понимал, что это неуместно, предосудительно. Ведь если все учителя примутся влюбляться в учениц (а он отдавал себе отчет в том, что он именно влюблен, и никак иначе это чувство определить нельзя), то это что же будет?! Недопустимое безобразие — вот что будет. И это тоже иными словами не назовешь!
Безобразие, которое, уткнувшись лицом в подушку, Александр Арсеньевич считал нужным прекратить, началось прошлой осенью. Теперь трудно проследить, как и в какой из дней оно началось. Саня и сам не раз пытался отыскать его — тот роковой первый миг, который можно назвать началом недопустимого безобразия. Так уж устроена жизнь — не уследишь за душой: неуловимое, незамеченное, пронеслось мгновение, ты и не знаешь о напасти, а что-то в тебе уже потихоньку стронулось — тайком, на цыпочках, с легкостью солнечного зайца... А когда узнаешь — уже поздно, поздно...
В общем, ходил Александр Арсеньевич в школу, преподавал, как положено, свою географию — в пятых, шестых и седьмых классах с удовольствием, а в навязанном ему девятом «А» — без. Потому что у девятиклассников география была экономическая, а экономическую географию Саня, скажем прямо, недолюбливал. Да и атмосфера в девятом «А» томила Саню: его ведь помнили тут еще учеником (других, может быть, и не запомнили бы, а он был «сын директора», то есть не простой ученик, а как бы «приближенный к особе императора»), и выглядел он несолидно — поди отличи его от ученика в толпе старшеклассников... Поэтому девятый «А» отнесся к новому учителю с нездоровым интересом и вел себя каверзно. Осложняло учительскую деятельность Александра Арсеньевича и то, что девочки сразу принялись в него влюбляться.
«Ох уж эти мне старшие классы! — неодобрительным басом говаривала Лола Игнатьевна.— Одна любовь на уме!» Лола Игнатьевна с этим явлением решительно боролась, но безрезультатно: любовь бушевала! Любили физкультурника Дмитрия Ивановича, любили угрюмого, молчаливого химика, любили обоих физиков. Чего уж говорить о такой ослепительной личности, как Аристотель, холостяцкий образ жизни которого порождал великое множество легенд о роковой верности историка некоей женщине, неписаной красавице, умершей у него на руках, разумеется, и, разумеется же — от чахотки... Только грозный и ужасный директор школы,
590
величественный и холодный, как айсберг, любви не подвергался. Зато уж Александр Арсеньевич в прошлом году был самым любимым... В сущности, всеобщая склонность старшеклассников к влюбленности в учителей естественна, но как, скажите, вести себя, получив на уроке записку: «Я все время думаю о вас, вы мне снитесь, и я полюбила географию. В «Урале» идет фильм про Бангладеш, жду в 7.40, если не придете, брошу школу»? А как мрачно ухмылялись юноши девятого «А», заметив на лице учителя некоторую растерянность... С Александром Арсеньевичем кокетничали, его провожали домой, прячась за углами, на него дулись и время от времени, впав в отчаяние от безответности, демонстративно не учили географию... И вот в этих невыносимо тяжелых условиях Александр Арсеньевич вдруг почувствовал в себе горячий интерес к преподаванию именно экономической географии... Наука эта современная, и, готовясь к урокам, пришлось Сане заняться чтением газет. Много, ох, много пришлось вдруг узнать Сане. С детства прокладывая свои маршруты через океаны и материки, он привык чувствовать себя хозяином земных пространств. Что читал он раньше? Описания путешествий, дневники морских капитанов, отчеты давних экспедиций... Газеты? Нет, газеты он не читал. К чему отважному путешественнику газеты? Там, в придуманных прекрасных путешествиях, газеты к нему не доходили. Вот и вышло, что ничего он не знал, оказывается, о сегодняшних делах и тревогах своей Земли... Где-то там, в лазоревой дали, где Миклухо-Маклай подружился с папуасами,— там сейчас военная база! Проснись, Саня, на Огненной Земле — концлагерь... Остров Гаити, прекрасный, зеленый, наивные аборигены выходят на берег... А про тонтон- макутов слыхал ты? А что такое геноцид, знаешь?.. Саня не знал. Он читал газеты в тоске и отчаянии. «Что же делать?» — думал он, потому что все, что узнал он, имело самое непосредственное отношение к географии. И вместе с ним мучительно решал, что делать, девятый «А», изучающий истово Санину науку... Куда там Шамину было сорвать урок! Кто помнил, что это урок всего лишь? Ни ученики этого не помнили, ни сам Саня. Разве что Лола Игнатьевна, которая сказала, что Александр Арсеньевич нашел очень интересную форму урока: дети в игре знакомятся с политической обстановкой в мире... А уж какая тут игра, уважаемая Лола Игнатьевна...
Ну вот... А за первой партой первого ряда сидела ученица Петухова Юля, смотрела темными своими, строгими глазами и все понимала... Вот как оно началось, недопустимое безобразие...
Елена Николаевна тихо вошла в комнату, присела рядом.
— Санечка, что случилось?..
Саня продолжал «спать».
— Саня, не пугай меня...
— Ничего не случилось,— сказал он.— Устал просто.
— Неправда, я же вижу.
591
В коридоре зазвонил телефон, вслед за этим явился Боря, жующий бутерброд, и сообщил с набитым ртом:
— Уам Уля анит...
— Меня нет дома! — решительно отвечал Саня.
Борино лицо выразило недоумение. Так, с недоумением на лице, он поспешно прожевал и сказал:
— Так я, видите ли, уже ответил, что сейчас позову... Я же не знал...
— Ну, скажи, что я только что ушел...
— Это что за новость? — возмутилась Елена Николаевна.— Немедленно подойди к телефону! Что бы с тобой ни происходило, на детях это отражаться не должно!
— Слушаюсь и повинуюсь! — надерзил Александр Арсеньевич матери и отправился говорить с «детьми».
— Слушаю вас,— произнес он надменно.
Юля, как всегда, сначала помолчала.
— Ну смелее, смелее. Я весь внимание.
— А почему у вас голос такой?..— испуганно спросила Юля.—- Случилось что-нибудь?
— Не случилось абсолютно ничего,— деревянно отвечал Александр Арсеньевич.— А кроме того, вас это все равно не касается.
— Мне мама сказала, что вы мне звонили...
— Я звонил не вам,— холодно сказал Александр Арсеньевич.— Я звонил вашему брату. Я всегда звоню вашему брату, вы разве не знаете? А вам звонят другие люди... С которыми меня не следует путать!
Юля снова долго молчала, а потом спросила неуверенно:
— Вы на меня за что-нибудь сердитесь?..
— Бог с вами, Юля,— отозвался Александр Арсеньевич ледяным голосом, показывая всю неуместность такого предположения.— За что я могу на вас сердиться? Я вообще не имею привычки сердиться на посторонних. Всего доброго.
...Ну вот. Теперь можно было идти и спать спокойно: недопустимое безобразие было прекращено решительно и бесповоротно.
Утром он для начала повздорил с Бедной Лизой.
И так жизнь была тошна и беспросветна, а тут еще молодая литераторша, вбежав в учительскую, принялась жаловаться:
— Это же какое терпение надо иметь! С ума они посходили, распоясались совершенно! Такие сочинения понаписали, читать страшно!
Саня сразу догадался, что речь идет о сочинениях «Кем я хочу стать?», и раздраженно поинтересовался:
— Ну чем ты опять недовольна?
592
— Ты бы почитал!..— На красивом, румяном лице Бедной Лизы возникло и утвердилось трагическое выражение...— А этот ужасный Вахрушев... Он же просто издевается! Полюбуйся...
Сочинение Вахрушева было коротким — три строки кривым почерком:
Я хотел бы стать неведимкой бродить по улецам и улыбатся тем кто меня увидил.
Саня прочитал и сумрачно поинтересовался:
— И чего тебя в пед понесло, Лизавета.
— А это, между прочим, не твое дело! — сразу обиделась Бедная Лиза.— Тебя забыли спросить!
— Человек тебе по-человечески написал, а ты лаешься...
— Это ты называешь «по-человечески»?! — охнула Бедная Лиза.— Куча ошибок! Ни одной запятой! И почему так мало? Ну вот что я должна за это поставить?
— Единицу! — хмуро отозвался Саня.— Чтоб в следующий раз не вздумал писать искренне. Только имей в виду, это я велел им писать, что хочется.
— Санечка, обрати внимание на Исупова Лешу,— не дала им доругаться старенькая Ася Павловна.— Вторую двойку ему ставлю, совсем перестал заниматься...
— Обращу...— уныло пообещал Саня.
Уроки прошли скучно. Собираясь уходить, он обнаружил на подоконнике возле учительской Борю.
— Я тут пока посижу,— напряженно сказал Боря.— Вон, видите, караулит...
Во дворе школы стоял Исаков-старший. Белый плащ, длинный черный шарф картинно брошен за плечо и мотается на ветру...
— Домой зовет,— усмехнулся Боря.— Вчера звонил... Который час?
Было четверть третьего. Боря недовольно дернул плечом:
— Придется через спортзал вылезать... У него худсовет только в три, минут двадцать еще простоит, а мне на работу пора...
Саня представил, что сейчас придется двадцать минут разговаривать с Исаковым-старшим, и вернулся в учительскую. Не хотелось ему ни с кем разговаривать.
В учительской был только Аристотель. Он проверял самостоятельные работы и с досадой прислушивался к звукам, несущимся с пятого этажа,— там репетировал школьный ансамбль.
— Упражняются! — гневно бормотал Аристотель.— Музыканты самодельные, бездари! Как не вспомнить Спарту!..
И он с угрюмым наслаждением принялся вспоминать Спарту. Было ясно, что десятый «А» твердо стоит на своем и мириться с классным руководителем не желает.
593
— Спарта была серьезным и малосимпатичным государством,— вспоминал Аристотель.— Во всяком случае, так мне казалось в молодости... Я этих спартиатов очень не любил. Ненавидел, можно сказать...
— А царь Леонид? — скучно возразил Саня. («Путник, честно исполнив закон, здесь мы в могиле лежим» — так написано на могиле трехсот спартанцев и царя Леонида в Фермопилах... Как Саня плакал над этой могилой, а персы шли в обход, нашелся предатель! Ох, как Саня плакал, ему пять лет было, что ли, и он знал прекрасно, что тот, кто останется в Фермопильском ущелье прикрывать отход греков, домой никогда не вернется, Аристотель не в первый раз эту историю рассказывал, а Елена Николаевна кричала: «Мотька, замолчи немедленно, не травмируй ребенка!» Аристотель же не слушался и ребенка травмировать продолжал...)
— И все-таки это была казарма,— сердито отозвался на Санино возражение Аристотель.— Вся страна — казарма, ты представляешь? А у меня в молодости, милый мой, были другие идеалы...
— А сейчас? — уныло спросил Саня, выглянув в окно.
Исаков-старший все стоял там на ветру.
— Сейчас! Сейчас я старый, умный. Надо тебе сказать, что сейчас я начинаю склоняться к тому, что спартанцы были великие педагоги. А почему? Потому что у них были Апофеты! О! — мечтательно вздохнул Аристотель.— О Апофеты!.. Вот чего нам не хватает!
Поскольку Аристотель был явно не в духе, Саня, который тоже добрым расположением духа не отличался, сразу догадался, что Апофеты — это нечто весьма скверное.
— Апофеты, мой юный друг,— величественно и грозно произнес Аристотель,— это глубочайшая расщелина в горном массиве, именуемом Тайгетом... Вам, поди, не то что в методиках, но и в курсе истории педагогики об этом не рассказывали, а зря! Суть в том, славный юноша, что ежели юный спартанец был, скажем, с некоторым изъяном — ну, трудновоспитуемый, по-нашему,— так вот с таким юным спартанцем педагоги не маялись, не тащили его за уши из класса в класс, не уговаривали, не завышали ему оценки, нет, Александр! Его просто сбрасывали в Апофеты!
— Хотите, я подыщу вам что-нибудь подобное в окрестностях города? — деловито предложил Саня.
— А! — Аристотель безнадежно махнул рукой.— Что ни говори, а в мире был только один великий педагог... Царь Ирод его звали! — Он хотел еще что-то сказать, может быть, даже проклясть педагогику хотел он, но не успел, потому что в учительскую — как всегда, вихрем и, как всегда, зареванная — вбежала Бедная Лиза...
— Матвей Иванович! Санечка! Ой, мамочки! Там!..— И она заревела в голос.
— Прекрати реветь и быстро говори! — приказал Аристотель.
594
— Я...— быстро сказала Бедная Лиза, но тут снова начались всхлипывания, шмыгание носом, из-за которых понимание того, что произошло, чрезвычайно затруднялось.— А он... Не захотел переписывать!..
— Кто?
— Ва-а-ахрушев! Кто больше... А я... посадила его под арест, а он...
— Под какой такой арест?! — гневно загрохотал поборник спартанской педагогики.— Вам здесь что, а?! Кадетский корпус?!
— Я...— с новой силой залилась Бедная Лиза слезами.— Я хотела, как Макаренко!.. Чтоб потом по душам, а он... Он всегда все назло!.. Макаренко сажал... А он из окна...
— Какой этаж? — остолбенело спросил Аристотель.
— Второ-ой... И висит...
— Почему висит?
— Зацепился-а-а...
— Ах ты! — топнул Аристотель, и они побежали на второй этаж, туда, где висел второгодник Хрюшкин...
— Ой, мамочки! — на бегу причитала Бедная Лиза.— Ой, мамочки!..
За спиной у нее зловеще пыхтел Аристотель.
В пятом «Д» окна были настежь. Под одним из них, зацепившись курточкой за стальную скобу, висел, слегка качаясь на ветру, упрямый второгодник Вахрушев с равнодушным, весь мир презирающим лицом, а внизу стояли его одноклассники и от души веселились.
— Как тебе там, Хрюк? Далеко видно?
— Созрел, падай!
Вахрушев будто не слышал, он вообще не обращал ни на кого внимания. Висел и смотрел вдаль.
Аристотель решительно влез на подоконник.
— Позвольте мне,— сказал Саня, запрыгивая.— Вдвоем будет тесно.— И, высунувшись из окна, хмуро посоветовал веселящимся пятиклассникам: — Шли бы вы домой...
Пятиклассники не послушались, стояли и наблюдали, что будет дальше. Возглас Аристотеля: «Держись, друг!» — был воспринят ими с недоумением: они полагали, что сейчас ужасному Хрюшкину попадет. И притом сильно. Еще больше удивились они, услышав жалобный, просящий голос Бедной Лизы:
— Митенька, только, пожалуйста, не падай!..
Кроме того, они впервые слышали имя второгодника.
Александр Арсеньевич свесился вниз, но до Вахрушева не дотянулся. Он сказал:
— Матвей Иванович, будьте так добры, слезьте с подоконника и подержите меня за ноги...
Пятиклассники стояли, раскрыв рты; было захватывающе интересно.
595
Учитель географии завис вниз головой над раскачивающимся Вахрушевым и скомандовал:
— Руку давай!
— Не дам! — буркнул отвратительный Хрюшкин.
Внизу возмущенно зашумели:
— Совсем с ума сошел этот Хрюк, сейчас из-за него и Александр Арсеньевич грохнется...
— Так и будешь висеть? — растерянно поинтересовался Александр Арсеньевич.
Вахрушев молчал.
— Мить...
— Отвяжитесь вы все от меня! — закричал Вахрушев с отчаянием.— Отстаньте!..
— Ясно...— сказал Саня.— Будем, значит, висеть вместе...
Вахрушев взглянул на него исподлобья, отозвался с сердитым недоумением:
— Я вас не звал...
— Мало ли кто меня не звал! — строго ответил Саня.— Это ведь я виноват, верно? Тем более что мы с тобой единомышленники, мне сочинение твое нравится...
Вахрушев скривился.
— Санька, вы скоро? — натужно спросил Аристотель.— Дер- жать-то тебя сколько еще?..
— У него руки устанут, он вас не вытащит...— не глядя на Саню, пробурчал Вахрушев.— А я туда все равно не пойду...
— Почему?
— Не пойду, и все!
— Сан Сенич, у вас лицо сильно красное стало...— предупредили пятиклассники.
Саня и сам чувствовал, что в голове у него шумит, и видел он все будто сквозь розовый туман.
— Митенька, ну прости меня! — закричала из окна Бедная Лиза.— Я больше так не буду!
— Будете...— не поверил Вахрушев.
— Ну вот честное слово, не буду!
Толпа внизу оцепенела: такое она слышала впервые.
596
— У меня ремень есть,— сказал Сане Вахрушев.— Я его вам дам, вы подержите... А я по нему...
— Расшибешься.
— Да там невысоко будет.
— А если сорвешься?
— Что я — дурак? — резонно ответил Вахрушев.— Вы только с крюка этого меня снимите...
Он благополучно съехал вниз и разжал пальцы. До земли было метра полтора, но на ногах Вахрушев не удержался, упал ничком и остался лежать...
Саня вцепился в крюк, на котором мгновение назад висел упрямый второгодник, рванулся (Аристотель, охнув, разжал пальцы) и прыгнул вниз.
— Митька! — позвал он, поднимаясь.— Ты живой?..
Пятиклассники стояли вокруг, молчали и смотрели круглыми испуганными глазами.
— Вроде бы...— просипел Вахрушев.
— Больно? Где, скажи...
— Не больно...— сказал упрямый Вахрушев и перевернулся на спину. Лежал и смотрел на Саню растерянно.— А это вы... из-за меня прыгнули?
А на втором этаже, в классе, сидела за партой Бедная Лиза и хлюпала носом. Аристотель, злой, не отошедший от испуга, попытался втиснуться рядом, но не влез.
— Учителя! — уничтожающе произнес он.— Нервотрепы вы, а не учителя! Вас бы к врагам забросить под видом простых граждан... Вы бы там живо до основания разрушили психику противника...
— Макаренко ведь...— огрызнулась Бедная Лиза,— сажал под арест...
Аристотель махнул рукой и пошел к двери.
— Да,— произнес он, оттаскивая от двери огромный школьный фикус, гордость юннатов-младшеклассников.— Но он не подпирал при этом дверь школьным фикусом! Вы, Елизавета Георгиевна, не обратили внимания?.. Насколько мне известно,— непримиримо пророкотал он,— Макаренко Антон Семенович в таких случаях дверь вообще не запирал... Рекомендую задуматься!
597
Вечером в гости пришел Кукарека, и Саня вдруг заметил, как он похож на сестру, а заметив, затосковал... Кукарека тоже был невесел, глядел на Саню искоса.
— А чего Лешка не пришел? — спросил Боря.
Да ну его! — отвечал Кукарека, надувшись.— Психованный он
какой-то! Я за ним зашел, а он выскочил в подъезд, стоит, злой такой, говорит: «Никуда я не пойду, чего приперся, отстань!» А я и не приставал, больно надо!
— У него начался переходный возраст,— авторитетно разъяснил Боря и уткнулся в учебник.
Саня и Кукарека стали играть в шахматы. Проиграв несколько раз, Кукарека собрался с духом и спросил:
— А вы что, с Юлинской поссорились?..
— Ни с кем я не ссорился! — решительно и угрюмо отвечал учитель географии.— Не говори глупости!
— А чего она ревет тогда?
Боря, будучи юношей воспитанным, как бы между прочим поднялся и ушел в большую комнату смотреть телевизор.
Учитель же географии на вопрос, отчего Юля ревет, ответить затруднился и молчал, пытаясь осознать этот странный факт. Наконец он сосредоточенно спросил:
— Как ревет?..
— Обыкновенно,— уточнил Кукарека,— слезами.
— Из-за меня?..— растерянно спросил Александр Арсеньевич.
— А из-за кого же еще? Если не из-за вас, то чего она тогда говорит: «Дурак твой Сан Сенич»?..
Лицо Александра Арсеньевича в эту минуту действительно стало немножко глупым, и он переспросил радостно:
— Как она говорит?..
Но Кукарека смутился и повторить крамольную фразу сестры отказался наотрез...
А на следующий день Саня вдруг решил немедленно начать готовиться в аспирантуру. Потому что утром, когда он подошел к Юле и сказал: «Здравствуйте, Юля!» — она кивнула ему так вежливо и равнодушно, будто и знать его не знала... «Ну, все! — подумал Александр Арсеньевич, смертельно обидевшись.— Ну и ладно, ну и не надо! Подумаешь... Поступлю в аспирантуру, уйду из школы...»
А тут еще Лешу Исупова застигли в туалете на месте преступления: он курил.
— Если ты уже сейчас куришь, то чего же можно ожидать от тебя в будущем? — допытывалась у Исупова Лола Игнатьевна.
— Ничего хорошего! — дерзко соглашался Леша.
— Вот видишь!
— Вижу.
— Исупов, ты добьешься! — вздохнула Лола Игнатьевна.— Ты
598
очень плохо кончишь, Исупов! — И она высказала свою заветную мысль: — Делай что хочешь, хоть на голове стой! Но не раньше, чем кончишь школу. А в школе тебе никто делать что хочешь не позволит, потому что ты пока никто...
Александр Арсеньевич при этой беседе, естественно, присутствовал, тосковал, злился на Лешу, злился на завуча и думал: «Кой черт понес меня в школу?! Все, сегодня же сажусь за реферат, хватит, надоело все!» — но Лешу по привычке спас.
— Сашенька, отнеси домой тетради,— попросила Елена Николаевна, когда он собрался домой.
Александр Арсеньевич взял под мышку кипу общих тетрадей и отправился домой — готовиться в аспирантуру.
Выйдя из школы с благими намерениями, будущий аспирант вдруг увидел Юлю. Она шла чуть впереди. И как-то так вышло, что он пошел за ней. Поступок этот был нелеп и Александра Арсеньевича не украшал ни в малейшей степени. Он и сам это понимал, но идти продолжал. «На перекрестке сверну,— подумал он, прижимая покрепче тетради.— Зачем я иду за ней? Мальчик ли я?..» Но перекресток миновал за перекрестком, а Александр Арсеньевич все шел как привязанный. Наконец, в сотый раз спросив себя: «Мальчик ли я?» — ив сотый раз ответив решительно: «Нет!» — он догнал ученицу и молча, с независимым выражением лица зашагал рядом. Молчали довольно долго. Потом Александр Арсеньевич сказал:
— Юля...
А Юля ответила:
— Я с вами не разговариваю!
После этого содержательного диалога снова пошли молча, потому что Александр Арсеньевич был гордый, и раз с ним не желали разговаривать, то тоже показывал характер. Это скорбное шествие было прервано жизнерадостным криком:
— Сандро!
Кричали с той стороны улицы.
Учитель и ученица остановились. Через дорогу, не обращая внимания на красный свет, бежали к ним люди, впереди всех — огромный усатый молодой человек, он смеялся и простирал к Сане свои пугающе мощные объятия.
— Михо! — закричал Саня.— Приехал!..
— Здравствуй, дорогой! — с укором сказал Михо, обнимая Саню.— Друзья ждут, друзья тоскуют, обрывают телефон, а он с невестой гуляет!.. Нехорошо, дорогой! Здравствуй, Юля, меня зовут Михо...
А ведь говорила, говорила Сане мама: «Не ври никогда, это всегда плохо кончается!..» Сане захотелось провалиться сквозь землю, вынырнуть на другой стороне земного шара — где-нибудь в пустынном районе Тихого океана... Там бы и доживать свой век...
— Здравствуй, Юля! — здоровались братья по курсу.— Меня зовут Славик... Это Андрей... Света...
599
— Между прочим, Санчо, это свинство! — сурово сказала Эля.— Мы тебе телеграмму прислали, и с мамой ты говорил... Знал, что сегодня встречаемся!
— Он забыл...— со значением произнес Андрей и взглянул на Юлю.— И я его понимаю...
— Юля,— сказал Михо,— сейчас мы пойдем ко мне.
— Только не надо говорить, что вам срочно необходимо домой, мы вас не отпустим! — взял Юлю под руку Андрей.
Юля растерянно молчала. Саня тоже молчал, прижимая к животу тетради.
— У этого усатого обормота родился сын, Юленька...
— Юля, посмотри на меня, разве я похож на обормота?! — возмутился Михо и отнял у Юли портфель.— Пошли!
Шумно и весело было у Михо. Сын Васька лежал в новенькой коляске и принимал в торжестве по случаю своего рождения посильное участие: пищал и мочил пеленки. Это всех восхищало, а Михо — больше всех. Он подтащил Саню и Юлю к коляске, обнял их и принялся восторженно рассказывать о сложном и ярком характере Василия Михайловича.
— Замечательный, правда?
— Ага,— сказала Юля.
— Завидуете? — спросил Михо и великодушно утешил: — И у вас такой будет!
Саня окаменел, но Михо был занят своим отцовским счастьем и совершенно не замечал, что «жених» и «невеста» не разговаривают друг с другом...
— Когда свадьба? — поинтересовался он.
«Жених» и «невеста» напряженно молчали и глядели в разные стороны, но тут подошел Андрей и пригласил Юлю танцевать, а Саню увела Света... Саня отвечал ей что-то, но видел только одно: Андрей что-то шепчет Юле на ухо, а она улыбается...
— Да не ревнуй,— засмеялась Света.— Оторвись, совсем помешался!..
Саня видел, что Андрей Юле нравится и она все танцует и танцует с ним... А Саня сидит в углу — сирота сиротой, рядом со стопкой общих тетрадей... А Юля за все время на него на взглянула ни разу...
В девять Саня взял свои тетради, потихоньку выбрался в прихожую и ушел... Никто и не заметил.
На улице было темно и ветрено. Саня вдохнул сырой осенний воздух и побрел от дома.
— Эй, закурить не найдется? — спросили у него. На лавочке у подъезда сидели двое молодых людей и, кажется, скучали.
600
— У меня нет.,.— ответил Саня.
— Правда? — не поверили молодые люди.
Режиссура таких ситуаций, как правило, проста и незатейлива. Может быть, все и обошлось бы, потому что молодым людям, просящим закурить, необходимо, чтобы их боялись и ждали с испугом, что же будет дальше, а Саня, занятый своими горестными мыслями, не понял, что намерения у них явно скверные, и спокойно пошел себе дальше. Но из подъезда выбежала Юля...
Тут все и началось.
— Девушка,— всколыхнулись те двое,— куда вы спешите? Побудьте с нами.— И Юлю схватили за руку.
Естественно, что Саня вернулся.
— Ну-ка, отстаньте! — скомандовал он и невежливо толкнул одного из молодых людей плечом (руки-то у него были заняты).
— Толик, смотри-ка, мальчик толкается...
— Давно по рогам не получал? — обиделся Толик.
— Разве можно так с дядями, детка?
Саня не ответил, перехватил тетради и взял Юлю за руку с явным намерением увести.
— Чего цапаешься? — возмутился Толик.— Твоя, что ли?
— Юля, пойдемте,— сердито произнес Саня, продолжая не обращать внимания на молодых людей.
— Наша Юля никуда с тобой не пойдет,— сказал второй и обнял Юлю.— Правда, Юлечка?
Разумеется, дальше произошло все очень быстро: Юля сказала: «Кретин!» — и влепила ему пощечину, а он, хмыкнув, наотмашь ударил Юлю по лицу. Сделав это, он тут же, широко всплеснул руками, опрокинулся навзничь — прямо на груду рассыпавшихся тетрадей.
— Вова,— удивленно сказал Толик,— а малыш тебя сделал...
Вова вскочил и красиво ударил Саню ногой в живот.
— Ну-ну,— сказал Вове Толик, пока Саня разгибался,— не горячись, увидят! В подъезд давай зайдем...
— А вы, Юлечка, тут постойте,— ухмыльнулся Вова, беря Саню под руку.— Негуманно, чтоб вы видели, как мы будем учить вашего мальчика вести себя.— И он втолкнул Саню в подъезд.
— Не смейте! — крикнула Юля.— Не трогайте! Его нельзя, у него сотрясение!..
Но никто ее не слушал. Вова и Толик затащили Саню в подъезд и сразу принялись за дело... Саня дрался впервые в жизни, и его первоначальный триумф носил, конечно, совершенно случайный характер. Ведь в любом деле, кроме желания, необходим навык, а навыка у Сани не было... Хорошо еще, что какой-то рослый парень вдруг ворвался в подъезд и молчаливо вмешался в драку. А Юля бросалась от одного к другому, твердила:
— Не троньте его! Не смейте! — пыталась оттащить, но ее
601
толкали (она упала два раза) и, не обращая внимания, продолжали...
— Юля, немедленно идите домой!
Но она не уходила, и Саня в отчаянии крикнул снова:
— Юлька, уходи, я кому сказал?!
— Уходи! — повторил кто-то эхом.
И Юля вдруг пропала.
Били Саню умело. Он в меру сил старался отвечать, пока не почувствовал вдруг, что перед глазами у него все плывет и ноги не держат. В голове гудело, он собрал последние силы и ударил кого-то, стремительно на него надвигающегося...
— Спасибо, дорогой! — сказал голос Михо.
Саня мотнул головой, чтоб стряхнуть туман и шум.
— Этого держи! — кричал Андрей Славику.
Славик «этого» задержал, но налетела Юля:
— Это Юрка, он наш!..
Саня оттолкнул Михо, обернулся и смутно различил в тяжелом розовом тумане знакомую фигуру. Трудный подросток Шамин стоял, сунув руки в карманы.
— Выручил, брат! — обнял Шамина Михо.— Затоптали б они его без тебя.
Шамин выдрался из объятий, не ответил.
— Сам-то как?
— Нормально,— ответил трудный подросток, сплевывая, и мрачно взглянул на Саню.
— Санчо, голова в порядке? — спрашивала Светка, тряся Саню за плечи.
— Все нормально...— едва выговорил Саня разбитыми губами. Чтобы не упасть, он привалился к стене.
— Горе луковое, больно?.. Мальчики, возьмите его, отнесите наверх... Он упадет сейчас...
— Сам! — выговорил Саня, мотая головой.— Юлька где?..
— Да здесь твоя Юлька,— успокоил Михо.— Давай-ка я тебя дотащу.
— Не троньте его! — сердито крикнула Юля и подскочила к Сане с явным намерением защитить его от друзей.— Его нельзя так...— И повернула к Сане светлое свое, все понимающее лицо.— Больно?..
Сане вдруг стало совсем не больно, он шагнул от стены, а Юлька уткнулась ему в плечо и заревела в голос, как маленькая...
Во тьме пустого двора, на скамейке под тополем, сидел, скорчившись, Шамин. Шамину было больно, и он изо всех сил сжимал зубы, чтобы эту непонятную боль сдержать. Он совсем не пострадал в драке, имевшей место несколько часов назад,— он умел драться. Но все-таки было больно, так больно, что хоть в голос вой: «Я люблю
603
тебя, я люблю!.. Я утром просыпаюсь — и сразу о тебе, о том, что увижу тебя, я днем за тобой по пятам, прячась за углами, я вечером: пусть ты мне приснишься, ты, ты, мне никто больше... а ты меня — нет...
Что с ней делать, с этой любовью, лишней, бездомной, ненужной тебе, куда девать?..»
Лолу бы Игнатьевну сюда, чтоб объяснила... Но Лола Игнатьевна спала, а трудный подросток, гроза окрестностей, сидел и плакал во тьме под тополем...
— Интересно узнать, как ты в таком виде в школу пойдешь? — с некоторой долей сарказма поинтересовался наутро директор.
Учитель географии заглянул в зеркало. Вид у него действительно был мужественный. И даже слишком: распухшие губы, отчетливая ссадина на лбу, яростно-фиолетовый синяк под левым глазом...
— Болит? — сочувственно спросил Боря, наблюдая, как Елена Николаевна замазывает крем-пудрой Санин «фонарь».
Конечно, болело! Левый бок болел и правая коленка, но разве это имело сейчас хоть какое-нибудь значение! Настроение у Сани было удивительно славное, то есть он с утра пребывал в каком-то счастливом тумане, что Елену Николаевну очень беспокоило.
— Может, полежать тебе сегодня, Санечка?..— сказала она.
Но сын рвался в школу.
Коллеги в учительской, увидев его, охнули.
— Сколько хулиганов развелось...— возмутилась Ася Павловна.— И откуда они только берутся?
— И вы, что ж, с ними дрались?..— не одобрила Саню Лола Игнатьевна.
Саня кивнул, но в подробности не вдавался. Учителя его жалели и вздыхали. Зато за пределами учительской, в коридорах и классах, о сочувствии не было и речи: там ожидали Саню слава, восхищение, почет! Самое же странное было то, что ученики каким-то образом уже знали, что вчера вечером учитель географии спас Петухову из десятого «А». Как эти сведения просочились в среду учащихся, было в высшей степени неясно, но последствия проявились немедленно: в Александра Арсеньевича с новой силой влюбились ученицы седьмых — десятых классов. На переменах они спускались на второй этаж, где у Александра Арсеньевича были уроки, и гуляли по коридору, глядя на него туманными, нездешними глазами. Александр же Арсеньевич ничего этого не замечал и, протолкавшись сквозь строй почитательниц, с неестественно равнодушным лицом направлялся по лестнице вверх. И где-нибудь между вторым и четвертым этажом непременно встречал Юлю, которая направлялась вниз, и лицо у нее было тоже неестественное... Они проходили, будто не замечая друг друга, но глаза их при этом сияли.
604
Последний урок был у Сани в родном шестом «Б». Начать его удалось не сразу, так как доблестные матросы встретили своего капитана вопросами, к изучаемой науке не имеющими ни малейшего отношения.
— Сильно больно?
— А сколько их было — семь или восемь?
— А вы нас каратэ научите?
Саня понял, что становится легендой, и попытался этому воспрепятствовать.
— Что за глупости? — решительно сказал он.— Вы о чем? Я просто упал.
— Ага! — понимающе согласился Васильев Вова.— И ударились глазом о тротуар, мы же понимаем!
— Кто помнит, что я вам задавал? — стал строг учитель географии — он не желал поддерживать разговор на эту волнующую тему.
— Ну вот,— заныл шестой «Б».— Чуть что, так сразу — что задавал! Ну, Сан Сенич, ну расскажите, ну все равно же мы все уже знаем!
Это заявление Александра Арсеньевича сильно заинтриговало.
— Что именно?
— Всё!— зашумел класс и принялся наперебой выкрикивать:
— Как вы шли, а там к нашей Юльке приставали...
— А вы им говорите: «Считаю до трех...»
— Занимательно,— хмыкнул Александр Арсеньевич.
— Нет, не так! Вы им сказали: «Кто не успеет скрыться, пусть немедленно начинает копить деньги на гроб!»
— Так, а они что?
— А они не поверили, их же много было!
— А я?
— А вы тут их и раскидали в разные стороны! — восторженно сообщил шестой «Б».— Одного аж через забор!..
— Неужели?
— Да не отпирайтесь, Сан Сенич! А вы где каратэ научились?
— Понятно,— вздохнул Александр Арсеньевич.— И откуда такая информация?
— От верблюда! — сказал Васильев Вова.
Имя этого таинственного верблюда выяснилось сразу после уроков: на улице догнал Александра Арсеньевича Кукарека и, преданно заглянув в глаза, спросил:
— А когда вы на Юлинской женитесь, я вам кем буду?..
— Слушай,— растерянно сказал Александр Арсеньевич будущему шурину,— я тебе уши сейчас оборву...
Но Кукарека не испугался и всю дорогу жаловался Сане на сестру:
605
— Она такая безответственная! Ей сегодня в университет, там у них это... Не помню, как называется, в общем, историей они там занимаются раз в неделю. Она туда сейчас уйдет, а дома есть нечего...
— Так возьми и приготовь.
— Не мужское это дело! — не согласился Кукарека.— И вообще, я до вечера буду сидеть некормленый, а у нее душа не болит! Я бы на ней ни за что не женился!
— Зануда ты! — вздохнув, отозвался Саня.— Пошли, я тебя покормлю.
Кукарека на мгновение задумался, но, решив, вероятно, что меж родственниками это вполне допустимо, пошел.
Дверь им открыл Боря. Он был уныл и задумчив.
— Ты чего? — удивился Саня.
— Да так...
— Мальчики, живо руки мойте — и за стол! — скомандовала Елена Николаевна.— Санечка, как ты себя чувствуешь?
— Отлично! — доложил Саня.
— Может быть, ты все-таки скажешь мне, что с тобой вчера произошло?..
— Ну, мама!
Кукарека преданно молчал, но вид имел таинственный, заговорщический. Саня показал ему кулак.
Сели за стол.
— И как это Юлька там работает?..— ни к кому особенно не обращаясь, произнес Боря.
— Где? — с полным ртом спросил Кукарека.
— На почте, естественно.
— А чего, даже интересно! Ходишь везде, людей видишь!
Саня осторожно жевал правой стороной и слушал.
— Надоело? — сочувственно спросила Елена Николаевна.— Устал?
— Да нет,— вздохнул Боря.— Видите ли, дело не в этом, а в том, что я, кажется, начинаю презирать людей...
— Это за что же? — удивилась Елена Николаевна, а Кукарека замер, не донеся ложку до рта, и уставился на Борю непонимающе.
— Как можно так жить! — пожал плечами Боря.— Вы представляете, Елена Николаевна, эти женщины с почты... Они же совершенно бездуховные личности! И каждый день разговоры! Все одно и то же: о детях, о болезнях, о продуктах, о деньгах!
— Ох, Боренька, не презирай... Ты еще не понимаешь...
— Чего я не понимаю? — усмехнулся Боря.— Знаете, как они живут? Утром — на работу. Вечером — по магазинам. Потом готовят поесть. Потом просиживают перед телевизором — некоторые. А некоторые даже телевизор не смотрят, но, понимаете, не потому, что им эти примитивные программы скучны, нет, они бы хотели
606
посмотреть, но им стирать надо, гладить и все такое... Потом — спят. Ложатся рано на том основании, что завтра рано вставать. Утром кормят мужа и детей и идут на работу. На работе опять разговоры эти... Им ведь и говорить-то не о чем больше, понимаете? А после работы опять все снова. Это — жизнь?! Зачем они живут?!
— Они детей растят, Боря...
— А зачем, Елена Николаевна? — с отчаянием спросил Боря.—- Они не читают, не думают ни о чем, кроме мелочей своей жизни! И дети у них будут такие же ничтожные и жить будут так же! Им же ничего в жизни не надо, только поесть и выспаться! Быдло какое-то!
— А ты — дурак! — сказал вдруг Кукарека.
— Женя! — укоризненно взглянула на него Елена Николаевна, а потом повернулась к Боре: — Не торопись судить, приглядись... Людей надо любить и жалеть...
— Любить я таких не могу и не хочу,— ответил Боря.— А жалеть их, на мой взгляд, не стоит, они сами во всем виноваты. Кто им мешал читать? Почему они не стали поступать в институт?
Саня сидел, слушал, молчал. То, что говорил Боря, было ему понятно, то есть он был вполне согласен, что такая жизнь, темная, серая, идущая по какому-то заведенному кругу, ужасна... Он, Саня, так жить не смог бы... Но странно неприятны были ему Борины слова. Слова, которые он, если разобраться, считал справедливыми. Или нет?..
— У нас мама тоже книжки не читает,— с вызовом сказал вдруг Кукарека.— А я ее все равно люблю!
Боря смутился, опустил глаза.
— Извини, я не имел в виду никого конкретно...
Но Кукарека не успокоился:
— Она медсестра и, если хочешь знать, работает по две смены, потому что папка умер, а нас двое... А в институт она не пошла потому, что Юлинская родилась, понял?
— Видишь ли,— вздохнул Боря,— с этим можно было не торопиться. Ведь можно было сначала закончить институт, а уж тогда...
— А это не твое собачье дело! — взвился Кукарека.
— Женя!
— А чего он говорит!
— Боря, ты действительно...
— Я же теоретически,— пожал плечами Боря, а Кукарека вылез из-за стола и пошел одеваться.
— Женька! — выскочил вслед Саня.
Боря сидел, опустив глаза, и чертил вилкой по клеенке.
— Извините, Елена Николаевна,— виновато произнес он.— Мне очень неприятно, но он просто неверно меня понял...
607
Хлопнула входная дверь.
— Ну вот, ушел,— уныло сказал Боря.
Но это пришел обедать Арсений Александрович.
— Борис, письмо тебе от родителя! — крикнул он из коридора.
Боря поморщился.
На следующий день был дождь, и Елена Николаевна, конечно же, спросила, увидев, что сын натягивает куртку:
— Ты куда?
— Гулять,— сказал Саня. Не мог же он сообщить маме, что идет звонить Юле из телефона-автомата...
— Это ты?.. А пошли гулять...
— Мама не пустит,— вздохнула Юля.— Дождь...
— А завтра?
— Конечно. А у тебя синяк все равно просвечивает...
— Сильно?
— Ага... А больно?
— Нисколько!
— А я по тебе скучаю...
— А мама точно не пустит?
— Точно.
— А ты на каком этаже живешь?
— На третьем.
— Хочешь, я залезу? — сказал Саня, который сейчас все мог. Более того: у него просто земля уходила из-под ног, и, чтобы не взлететь и не удариться макушкой о потолок будки телефона-автомата, он держался за крючок на стене, сделанный, видимо, в расчете на такие случаи.
— С ума сошел? — рассердилась Юля.— Убьешься!
— Нет, правда, ты окно открой...
Но Юля была неумолима.
Да и Юлина мама, надо думать, была бы несколько удивлена, если бы обнаружила, что в комнату дочери влетает учитель географии...
В конце концов Саню из автомата прогнали, он пошел искать другой, и они болтали снова, говоря друг другу «ты» и замирая от ужасной этой вольности. Потом он бродил по улицам, промок до нитки, а домой не хотелось. Он отправился на почту, проведать Борю.
У Бори уже гостил Васильев Вова с котом, Боря и Вова беседовали о летающих тарелках, а Рыжий деловито гонял по комнате бумажный шарик.
— Не попадет тебе за гостей? — спросил Саня, оглядывая пустую служебную комнату: круглый стол, залитый чернилами, стопки телеграфных бланков, вкусно пахнет сургучом и клеем.
608
— Ну что вы! — удивился Боря.— Они меня любят... Заботятся...
— Боренька, забери телеграммы! — крикнули из соседней комнаты.— Разнесешь — и беги домой. Да сейчас-то не ходи, погоди, на улке так и хлещет...
Но Боря не послушался: он с трудом высиживал на работе положенные часы и радовался, когда можно было уйти раньше.
Вова Васильев запихал под куртку Рыжего, и они вышли под дождь.
— Во ненормальный! — толкнул Борю Васильев.— Нашел время гулять!
Под тусклым уличным фонарем дождь лил, казалось, особенно сильно, он блестел, перечеркивая темнеющее вечернее пространство, а за его четкими полосами маячила сутулая мальчишеская фигура. Мальчишка стоял, сунув руки в карманы, дождя будто не замечал.
— Эй! — крикнул ему Васильев.— Гуляешь?
Мальчишка не ответил — метнулся в сырую тьму и пропал.
— Пугливый! — засмеялся Вова и вдруг зашипел; — У я! Да сиди ты! Промокнешь, балда!..
Это Рыжему надоело под курткой, и он рванулся на свободу.
Телеграммы разнесли быстро. Только из-за одной пришлось идти довольно далеко, а когда они вручили ее и вышли на улицу, опять метнулась в соседний проулок мокрая тень.
— Стоп! — тихо сказал Боря.— А ведь он за нами следит!
— Кто? У я, да не царапайся ты, собака!
— Этот, под дождем.
— Гуляет человек, не выдумывай,— отозвался Саня.
— Я вам серьезно говорю! — настаивал Боря.— Давайте проверим...
Они свернули за угол и затаились в черной тени мокрого, полу- облетевшего тополя. И через мгновение в шуршании дождя послышались торопливые, хлюпающие шаги. Давешний мальчик вышел из-за угла и остановился, вглядываясь...
— Я же говорил! — прошептал Боря.
— Эй, человек, иди сюда! — позвал Саня.— Мы тут, под тополем...
Но темная фигурка дрогнула, отпрянула назад и побежала.
— Вот это да! — удивился Васильев Вова.— Интересно, кто это?
— И чего ему надо?— пробормотал Боря.
А ведь всего несколько дней назад они и смотреть-то друг на друга боялись. Не разговаривали. Не бродили вместе по городу. Делали вид, что проживут друг без друга. Как это у них получалось — непонятно!
20 Ш кольиые годы. Выпуск 2
609
— А когда ты ко мне обращался, у тебя лицо было сердитое- сердитое!
— Это чтоб ты не догадалась.
— Ну и глупо! Мужчина должен быть решителен.
— Я тебе тогда не мужчина был, между прочим, а учитель. И потом — ты же не обращала на меня внимания...
— Это ты на меня не обращал! Все девчонки по тебе с ума сходили: ах, Санечка, ах, какой он милый, ах, он замечательный, ах, у него уроки интересные!.. А ты был такой...
— Какой?
— Глаза горят, брови нахмурены, и ясно, что ничто, кроме экономической географии, тебя не интересует...
— Я, между прочим, для тебя все рассказывал!
— Ой, мама! — сказала вдруг Юля.
Навстречу шла Лола Игнатьевна и смотрела на них пристально и недоумевающе.
— Свернем! — зашептала Юля.
— Ни за что! — восстал Саня.— Что я, мальчик, прятаться!
— Здравствуйте,— сказали они чинно, поравнявшись с завучем.
— Здравствуйте, Александр Арсеньевич... Здравствуй, Петухова... Гуляете?..— растерянно поинтересовалась Лола Игнатьевна.
— Гуляем,— хором ответили Саня и Юля.
Недоумение на лице завуча медленно, но верно сменялось неодобрением. Было заметно, что Лоле Игнатьевне есть что сказать гуляющим учителю и ученице, но что-то (педагогическая этика, видимо) ее сдерживает. Зато можно было не сомневаться, что в другое время и в другом месте каждому будет сказано все, что положено.
— До свидания,— вежливо сказал Саня.— Мы пойдем.
— До свидания,— отозвалась Лола Игнатьевна и твердо сжала губы.
— Она стоит, нам вслед смотрит,— оглянулась Юля.— Что теперь будет?
— Ничего! — нахмурился Саня.— В конце концов, это ее не касается.
— Наверно, она так не думает,— предположила Юля.
Саня и сам об этом догадывался, но сказал беззаботно:
— Да ну ее!
Исупов Леша был доставлен в школу пожилой толстой лейте- нантшей детской комнаты милиции. Исупов Леша бил стекла. И не где-нибудь, а именно в детской комнате милиции.
— Подошел, взял камень,— расстроенно повествовала лейтенан- тша,— и запустил в окно... И стоит, нахал, смотрит. Даже не убегает!
610
— Выйди пока в коридор,— велел Исупову Арсений Александро- вич — Слушай, Александр, а что это с ним в последнее время творится?
Саня пожал плечами.
— Может, врачам его показать?
— Не выгораживайте, не выгораживайте! — осерчала лейтенант- ша.— Чуть что — они сразу у вас больные делаются!
— Погодите! — поморщился Арсений Александрович.— Не надо так решительно возмущаться, с мальчиком явно что-то происходит...
— То-то он стекла бьет, болезный!
— Скажите,— грозно взглянул на лейтенантшу директор,— если бы вы были хулиганкой, стали бы вы бить стекла среди бела дня, да еще в детской комнате милиции?
— Запросто! — ответила лейтенантша, без труда представив то, о чем ее просили.— У нас знаете какие отчаянные экземпляры попадаются! Это ж одно удовольствие — высадить стекло именно в детской комнате милиции, после этого и уважать себя можно...
— А эти отчаянные экземпляры предпочитают уважать себя на воле или в милиции?
— Чего? — не поняла лейтенантша.
— Я спрашиваю, выбив стекло, вы бы что, стояли и ждали, когда вас заберут?
— Ну вот еще, убежала бы! — Сказав эти слова, она задумалась.— Действительно, чего ж это он?.. Ведь стоял, долго стоял... Мы-то сначала растерялись.
— Кабы я знал, чего он...— вздохнул Арсений Александрович.
А Исупов Леша понуро стоял в коридоре, и лицо его не выражало
ни раскаяния, ни страха, а только отчужденность. Будто не он час назад высадил стекло, не его привели к директору и не ему грозят теперь серьезные неприятности...
— Александр, дома у него как?
— Да нормально, кажется...
— Брат, что ли? — спросила лейтенантша, взглянув на Саню.— Похожи... Ты в каком классе?
— Это классный руководитель,— разъяснил директор, стараясь не улыбнуться.
— Ну-у? — женщина вздохнула.— Учителя нынче... Такие молоденькие, господи...
— Давайте о деле говорить,— нахмурился Саня, которому слова эти не очень понравились.
— А чего говорить-то? — вздохнула женщина.— Разбирайтесь, а я пошла... Дел-то у нас невпроворот...
— Исупов! — позвал Арсений Александрович.— Заходи. И рассказывай...
— Чего? — дернул Леша плечом.
611
— Зачем ты все это устраивал?.. Говори, говори. Ведь была же у тебя какая-то цель, верно?
— Не было...— ответил ученик, взглянув исподлобья.
— Не ври.
Исупов замкнуто молчал.
— Ладно, Исупов,— хмыкнул директор,— чтоб ты не думал, что директора школ беспросветно глупые люди, я тебе помогу. Слушай меня. Уроки ты срывал нарочно...
«Как это нарочно? — удивленно подумал Саня.— Зачем? Чепуха какая!»
— При этом ты всеми силами стремился получать двойки. Тоже нарочно, потому что ученик ты хороший. Способный. И учиться тебе легко. Но и этого показалось тебе мало: ты закурил в туалете... И именно в тот момент, когда туда вошел дежурный учитель. Обрати внимание на то, что дозорный в коридоре успел всех предупредить и все благополучно выбросили сигареты. Только ты стоял и курил. И чуть в обморок не упал, кстати, потому что курить не умеешь...
Исупов Леша подавленно молчал.
— И что же из всего этого следует? — задумчиво спросил директор.— В течение двух недель ты совершал хулиганские действия не по велению сердца, не от души, если так можно выразиться, а с какой-то загадочной целью, стараясь зарекомендовать себя отпетым хулиганом. Ты лез на рожон...
«А ведь верно...— ахнул Саня.— Почему же я этого не заметил?!»
— Но тебе крупно не везло,— со вздохом продолжал Арсений Александрович.— Потому что классный руководитель все время покрывал тебя, спасал, в общем, сводил твои старания на нет, да еще и глядел на тебя с обидой. Тебе и так было плохо, потому что делать все, что ты делал, тебе было совестно, а он смотрел на тебя с укором и ждал, когда же ты одумаешься. Я все правильно говорю?
Исупов Леша горестно кивнул.
— А одуматься ты не мог...
— Да!
— Ну, а теперь объясни — зачем?
Исупов Леша сказал стеклянным голосом:
— Чтоб их вызвали...
— Кого их? Куда вызвали? По порядку, а то не совсем понятно.
— Родителей,— по порядку ответил Исупов.— В школу...
— Угу,— пробормотал Арсений Александрович и искоса взглянул на сына.
— Я не дам им разойтись,— звонко и зло произнес Леша.— Не дам, и все!
Родители ссорились давно. Вечером, когда Леша и Виталька «спали». Они ссорились, а бессонные братья лежали во тьме и слушали.
612
Виталька засыпал первым. Он был маленький. А Леша лежал, слушал его ровное сопение и думал, думал... Потому что вон она — полоска света под дверью, и там тоже не спят. Разговаривают...
«Надо иметь мужество,— говорят там,— и смотреть правде в лицо. Мы уже не любим друг друга...»
«Да, надо исправлять ошибку, пока ее еще можно исправить, ведь жизнь проходит...»
Они каждый вечер так говорят.
Это мама так говорит папе. Это папа так говорит маме.
«Раз все ушло, зачем мучиться, кому это надо?» — говорят они, а Леша Исупов лежит в темной комнате, слушает и думает: «Мне. Мне это надо, у меня ничего не ушло, я люблю вас...»
— Сан Сенич,— сказал Лешка, вдруг решившись,— пойдемте к нам, я вас очень прошу! — И он заговорил торопливо и сбивчиво: — Я не так хотел, я хотел, чтоб по-настоящему... Правда! Только так не получилось... Я хотел, чтоб Лола Игнатьевна их вызвала, так лучше было бы! А вы... Сан Сенич, я так старался, а вы все, все мне портили... Пойдемте, Сан Сенич, я все придумал, слушайте! — Лешка забыл про директора и обращался только к Сане, говорил так, будто все уже было решено: — Вы придете, будто ничего про это не знаете, про это не надо говорить, они только рассердятся, да и не послушаются они — у них уже все решено... Вы придете к нам и скажете про меня... Скажете им, что я стал отвратительно учиться. Срываю уроки, распоясался совсем... Ну все, что в таких случаях обычно говорят! Ну там, что школа со мной замучилась, что по мне колония плачет... Что я в детской комнате милиции на учете... Скажите им это, Сан Сенич!
Саня растерянно молчал.
— Ты считаешь, что это поможет? — не глядя на Исупова Лешу, спросил Арсений Александрович.
— Да! Да! Им тогда не до того станет, понимаете? У них же сын гибнет, его спасать надо!
— Во сколько родители будут дома?
— В шесть.
— Хорошо,— сказал Арсений Александрович.— Он придет.
Проглядел Саня Лешку, сердился, обижался и ничего не понимал... А ведь должен был насторожиться давно: в тот вечер, когда Исупов сидел у него дома на подоконнике, молчал и болтал ногами... «А он откуда все знает?..— думал Саня об отце.— Ему и не положено... А он знает и сразу догадался, а я тупой, самовлюбленный болван!..»
— В шесть, Александр,— повторил отец.
Саня кивнул уныло:
— Только знаешь, мне кажется, что это бесполезно...
— Возможно,— отозвался Арсений Александрович.— И даже вероятнее всего.
613
— Тогда зачем мы это делаем?
— Я сказал: ты пойдешь туда и скажешь все, что нужно,— отчетливо выговорил Арсений Александрович. Будто приказал.
И странно стало у Сани на душе: отец, которого он с детства выучил наизусть, показался вдруг каким-то иным, совсем незнакомым человеком... И будто бы человек этот знал что-то такое, что от Сани таилось за семью печатями, какая-то тайна жизни, которую отец ведал, а Саня только впервые заподозрил ее существование... Он приказал сыну, не спрашивая, согласен тот или нет, и Саня почувствовал, что должен подчиниться. А что это за тайна? И почему она давала отцу несомненное право приказывать?.. Неужели дело в том, что он старше? Или там она, эта тайна, в грядущих годах, и надо жить и жить, чтобы она тебе открылась?..
«А может, и правда,— совершенно неожиданно для себя подумал Саня — они (взрослые) понимают в жизни больше, чем мы?..»
— Я в шесть не могу,— виновато сообщил Саня Юле из телефона-автомата.
— Случилось что-нибудь?..
— Ну! — И он рассказал ей про Лешку.
— Ты только не бойся,— строго сказала Юля, как-то сразу почуяв, что идти к Лешке Сане страшно.— Ты притворись...
— У меня может не получиться...
— Ну представь, что ты Лола Игнатьевна!
— Попробую...— подавленно отозвался Саня.— Жди меня в восемь там же...
Легко сказать «попробую», а какая из Сани Лола Игнатьевна?! На душе у Сани было тошно. То есть так скверно, что хоть иди в пустой, облетающий лес и вой там волком... Жизнь казалась ему несправедливой и злой. Неправильно, жестоко все в ней было устроено и он, Саня, учитель, ничего не мог изменить, никого не мог спасти...
Саня шагает по улице. Он идет к ученику Исупову Леше, рассказывать родителям, что по сыну колония плачет... Он идет и думает о Лешке, о его папе и маме. О своем отце думает, которого, как выяснилось, он совсем не знает... О себе он думает, и о Юле, и о своем сыне... У сына ямочки на щеках, темные глаза... Ни за что, никогда Саня его не бросит!..
В общем, совершеннейшая каша в голове у Александра Арсень- ег.ича, учителя географии!.. Какой сын, что за глупости? Нет у него никакого сына, и думать ему об этом рано еще!..
Исупов Леша жил в новом доме-башне, на одиннадцатом этаже. Саня пришел без пяти шесть, но сразу стало ясно, что он все-таки опоздал: из-за двери отчетливо доносился срывающийся Лешкин голос:
614
— Вы не одни, нас четверо, поняли?
Там, по всей вероятности, шел скандал, и было совершенно непонятно, почему Лешка решил затеять его, ведь договорились же!..
— Вы забыли про нас! — это Лешка.
— Прекрати истерику! — мать.
— Никто вас не забывал...— отец.
Слышимость была превосходная, и Саня торопливо позвонил, чтобы не слушать. В квартире все смолкло, будто вымерло, долго не отпирали. Деваться Сане было некуда, он позвонил снова, хотя было совершенно непонятно, что же теперь он должен делать...
Дверь открыл отец. Молодой, высокий, похожий на Лешку.
— Здравствуйте,— сказал он.— А Леши нет дома...
— Не ври! — отозвался из глубины квартиры Исупов.
— Извините, Александр Арсеньевич,— неловко сказал отец.— У нас тут...
— Проходите! — сказала мать, появляясь в коридоре.— Не обращайте внимания.— И уже сыну:— Я надеюсь, при гостях ты не будешь выяснять отношения?
Саня прошел и увидел Исупова, он стоял посреди комнаты, сунув руки в карманы, и качался с носков на пятки.
— Они уже развелись, оказывается,— скучно сказал Исупов Сане.— Так что все это лишнее...
— Алешка! — просительно сказал отец.
— Не надо было жениться,— злобно посоветовал ему Исупов.— Или, по крайней мере, не стоило заводить нас с Виталькой.
— Я рекомендую тебе успокоиться и помолчать,— решительно сказала мать.— Что случилось, Александр Арсеньевич?..
— Да так, мелочи,— хмыкнул Исупов.— Не стоит об этом говорить, у вас свои проблемы... Вам же квартиру надо разменивать, и побыстрее, с этим теперь такая морока!.. Пойдемте, Сан Сенич, не будем им мешать, им еще столько нужно обсудить. Нас с Виталькой они уже разделили, а вещи еще нет...
Он выскочил в коридор, сорвал с гвоздика штормовку и хлопнул дверью.
— Извините...— неловко пробормотал Саня.— Я пойду, до свидания...
Осень была в городе, прекрасная светлая осень, на углу Киров- градской и Симбирского ждала Саню Юля. Лешка уже наревелся и успокаивался потихоньку. Саня дал ему носовой платок, а когда Лешка привел себя в порядок, взял его за руку и пошел на свидание...
— Тут вам послание,— сказала Лола Игнатьевна, пригласив Александра Арсеньевича к себе в кабинет. Она подала ему самодельный конверт, на котором неровными печатными буквами значилось: «Александру Арсеничу лично в руки».
615
— Стихи какие-то, без подписи,— пожала плечами Лола Игнатьевна.— Не очень умело, но для начала неплохо.
— А вы что, читали?
— Разумеется! Конверт сунули под дверь учительской, надо же было разобраться...
— Да ведь тут написано — лично! — раздраженно произнес Саня.— И адресовано не вам.
— А если бы это какое-нибудь хулиганство было? Не понимаете? И вообще, Саша, я вас позвала по серьезному делу, спрячьте свое письмо в карман, садитесь.
Лола Игнатьевна некоторое время молчала, собираясь с мыслями, а Саня сидел и ждал, не сомневаясь, в общем, о чем пойдет разговор.
— Не подумайте, что я ханжа...— деликатно начала завуч.— Я не вижу ничего скверного в том, что учитель и ученица гуляют вместе...
— А что тут можно увидеть скверного? — дерзко поинтересовался Саня.
— Вот вы опять не хотите меня понять! — вздохнула Лола Игнатьевна.— Я вам, собственно, ничего еще не сказала, а вы уже упрямитесь. Между тем, если уж говорить прямо, такие прогулки не совсем типичны... Я высказываю не свое частное мнение, а общепринятую точку зрения!
— Будьте добры,— воинственно отозвался Саня,— покажите мне, где в уставе средней школы это записано.
— При чем тут устав? — удивилась Лола Игнатьевна.— Неужели вы сами не понимаете?.. Если бы Петухова училась в младших классах — гуляйте на здоровье, никому в голову ничего не придет, а тут... Петухова — уже взрослая девушка, об этом не надо забывать, а вы — молодой человек...
— И что же тут нетипичного? — заинтересованно спросил Саня.— По-моему, как раз все очень даже типично.
— Вы все шутите, а какое у окружающих может сложиться мнение, вы подумали?
Быть бы учителю географии поразумнее, не спорить, не упрямиться, а кивнуть и перенести свои прогулки в другой район, так нет же!
— С кем я гуляю по улице — мое личное дело,— решительно ответил он завучу.— Прошу вас более этого вопроса не касаться!
И ушел. Конечно, Лола Игнатьевна вызвала и Юлю, но всегда вежливая ученица вдруг надерзила завучу и ушла, хлопнув дверью.
Таким образом, прогулки учителя и ученицы не прекратились. Ужасное, нетипичное явление продолжало иметь место...
616
— А он не разговаривает с нами — и все! *— горестно рассказывала Юля.— Подумаешь, гордый! Мы ему звоним, а он трубку бросает... И на уроках ведет себя, знаешь... Официально... Что нам, на колени перед ним теперь вставать?!
— Вы первые начали,— вздохнул Саня.— А Матвей Иванович — он обидчивый...
— Мы первые?! — возмутилась Юля.— А кто сказал: «Паситесь, мирные народы»?!
Конфликт Аристотеля с десятым «А» затянулся. Поначалу десятый «А» дружно бойкотировал своего наставника и ждал, когда он раскается.
Аристотель не раскаивался, и это было так странно, что ученики, отменив бойкот, попытались объяснить ему всю недопустимость его поведения. Тут-то выяснилось, что это не десятый «А» с Аристотелем, это Аристотель с десятым «А» не разговаривает!.. И тогда гордые, своевольные древние греки вдруг ощутили себя сиротами. Хоть храбрились, хоть и твердили: «подумаешь», но было им не по себе. Шамина подвергли остракизму. «Все из-за тебя!» — говорили трудному подростку. Шамин отмалчивался и смотрел мимо одноклассников...
Юля сказала:
— Вот давай к нему сходим, а?
— Здорово живешь, я-то тут при чем? — удивился Саня.
— Если я с тобой приду, может, он не прогонит...
— Он и так не прогонит.
— Ага, уже троих прогнал, думаешь, мы не ходили?
Саня вздохнул и согласился.
— Давай только зайдем ко мне, я книги возьму...
Дома был Боря, он собирал вещи.
— Ты чего это? — удивилась Юля.— Что случилось?
— Ничего,— ответил Боря.— Все в порядке, просто я решил вернуться домой.
— А-а...— понятливо кивнул Саня и отвернулся.
— Вы поймите меня правильно,— поспешно сказал Боря, глаза у
него были ясные, уверенные.— Не могу же я жить у вас всю
жизнь!
— Да-да,— кивнул Саня, не глядя, потому что деловито перекладывал конспекты у себя на столе и делал вид, что ничего не случилось. А ведь случилось...
— И потом, мама переживает, она ведь ни в чем не виновата. А с почты я уволился вчера, потому что не могу там... Так что у меня другого выхода нет...
— Да-да,— согласился Саня.
— Отец, в сущности, прав. Я не виноват, что жизнь так плохо устроена. Можно, конечно, не замечать этого и делать вид, что все в ней прекрасно и удивительно, но это просто неумно! Я думаю, оттого что я испорчу себе жизнь, никому лучше не станет. Я нрав?
617
Вопрос был чисто риторический. Саня не ответил, посмотрел на Борю и спросил меланхолически:
— Какое сегодня число?
— Двенадцатое,— ответил Боря, взглянув на часы.— А что?
Аристотель Сане и Юле не удивился, сказал только:
— Имей в виду, Петухова, что тебя пускаю только из вежливости. Ишь чего придумала! А разговаривать с тобой все равно не буду, и передай своим одноклассникам, что я ваши подметные письма выбрасываю, не читая...
— Матвей Иванович, а откуда вы это знали?..— хмуро спросил Саня.
— Что?
— Про Борю. Что через две недели...
— А-а...— понял Аристотель и поглядел на Саню с жалостью.— Вон что... Уже?
Саня кивнул.
— Ну как он ушел?
Поскольку Саня горестно молчал, ответила Юля:
— Поблагодарил за гостеприимство, а напоследок сообщил, что не сможет больше быть старостой географического кружка, потому что по воскресеньям у него тренировки, его папа в секцию каратэ устроил... Так что в походы он ходить не сможет...
— Замечательно! — одобрил Аристотель.— Спорт — это отлично, развивает физически, дает бодрость, здоровье. Не понимаю, Саня, почему это правильное решение Исакова заняться спортом вызывает у тебя отрицательные эмоции...
— Он же предатель! Понимаете? — сказала Юля.
— У вас все предатели! — сердито пробормотал Аристотель.— Глупости это все!
— Вы считаете, что если ему только шестнадцать...
— Я считаю,— морщась, перебил Аристотель,— что предать можно только то, что ты любишь, во что веришь. А Исаков ничего не предавал, он просто выбрал то, что ему выгоднее, всего-то!
— Но он же с нами был! — потерянно сказал Саня.
Худо было ему и не очень понятно, как же все это случилось...
«Дети — маленькие мудрецы!» «Устами младенца глаголет истина!» Как же так? Ведь в походы вместе ходили... Сидели рядом у костра, сколько всего было сказано... Ведь так хорошо все было!
— Он же все понимал, он наш был!
— Никогда он не был «наш»...— вздохнул Аристотель.— Он «свой» был, вежливый, начитанный мальчик. Очень благополучный, у которого всегда и все в жизни было замечательно...
— Но он же за всех заступался!
618
— А! — махнул рукой Аристотель.— Это, знаешь ли, очень приятно, когда тебе ничего за это не грозит. А теперь он сообразил, что жизнь вовсе не праздник и, в общем, ему крупно повезло в ней, надо дорожить... И пропади она пропадом, справедливость эта, коли из-за нее надо поступиться своими удобствами...
— Значит, Исаков-старший был прав? — тоскливо спросил Саня.— Жизнь проста: лучше быть подлецом, чем неудачником?
— Жизнь прекрасна! — грозно краснея, отвечал Аристотель.— И не говори пошлости! А Исаков-старший прав быть не может — он знать не знает, что такое жизнь! Для него она — полная кормушка, а остальное его не касается. Он ни за что не отвечает, у него нет святынь, он не живет, он мародерствует!..
Аристотель грузно опустился на стул, посидел, успокаиваясь, спросил:
— Котлеты вам греть?
— Не надо нам котлет,— горестно отозвался Саня.— Матвей Иванович, кому же верить?..
— Людям, миленький.
— Ну почему жизнь такая?.. Несправедливо это, не хочу я так!
— Да где же я тебе другую возьму? — развел руками Аристотель.
— Даже жить не хочется...
— Веревочку дать? — заботливо предложил Аристотель.— Я-то еще поживу, сколько можно, мне нравится. Есть в ней, в жизни, что-то такое — обнадеживающее...
— Что?
За окном стоял темный осенний вечер, начинался дождь. Саня сидел на подоконнике, на своем привычном, законном месте... Подоконник этот был обжит им с детства, тут было уютно, тепло, весело — прекрасные, летящие часы жизни провел Саня на подоконнике у Аристотеля. Разве могло ему хоть когда-нибудь прийти в голову, что он будет сицеть здесь в тоске, не зная, как жить дальше?..
— А подумай-ка... От сотворения мира зло покушается на добро. Обрати внимание: для того, чтобы победить, злу необходимо искоренить добро под корень, дотла, а это, надо сказать, позиция очень слабая и проигрышная...
— У добра еще слабее и проигрышней...— печально отозвался Саня.
— Не скажи! Добро не нуждается в уничтожении зла, оно, видишь ли, вообще несовместимо с уничтожением. Это ведь только нынче додумались, что добро должно быть с кулаками...
— А вы разве не согласны? — удивилась Юля.
— Да какое же это добро, ежели оно с кулаками? — пожал плечами Аристотель.— И почему бы уж тогда не с пулеметом? Вот, допустим, взять бы да и уничтожить просто-напросто всех злых, нехороших людей... Добро бы восторжествовало?
619
— Разве их уничтожишь? — вздохнула Юля.
— Восторжествовало бы или нет, я вас спрашиваю?!
— Теоретически...— ответила Юля.
— Не надо теоретически! — рассердился Аристотель.— Подумай еще... Только не забудь представить горы трупов... Люди эти были, конечно, злые и нехорошие, но оставшиеся добрые и хорошие встретят в этом случае торжество добра по колено в крови...
— Что же делать? Сидеть сложа руки?
— Нет, милые, руки складывать не надо. Просто у добра другие законы. Вспомните историю человечества: война на войне, кровь рекой. Древняя и древнейшая история написана ею, а наша эра с чего началась? Пришел некто, утверждавший, что он — сын бога, и стал учить людей добру, справедливости, любви. Его распяли, а потом стали убивать во имя его: во имя добра, справедливости, любви... Средние века — кровь, новая история — кровь, я уж не говорю о новейшей... И что же? Истребили? Одолели? Зло торжествует? Нет, милые мои! Люди-то живут, любят, жалеют! Сколько зла — а добро неистребимо! Все стоит оно, держится, не отступает. А раз держится, не сдается — жизнь прекрасна! И не надо выдумывать другую — привыкайте к этой...
В субботу, собираясь в лес, Саня обнаружил в кармане пиджака мятый самодельный конверт. Тот самый, что отдала ему Лола Игнатьевна. А он положил в карман и забыл.
Это действительно были стихи:
Весна теперь на улеце В траве босиком
дружные и добрые бежым мы со щенком.
Не крышь, не стен не надо весна — хорошый дом,
там дружные и добрые мы со щенком жывсм.
Мы с ним еще не вырасли и дружым, а потом я стану злобным дяденькой а он бездомным псом.
Больше ничего на листке в клеточку не было, но Саня сразу понял, кто это писал. Не по количеству ошибок, не по косому отвратительному почерку... Он просто вспомнил другое стихотворение, про которое никто не понял, что оно — именно стихотворение:
Я хотел бы быть невидимкой, бродить по улицам и улыбаться тем, кто меня увидел...
620
Но Саня спешил, а телефона у Вахрушева не было. Приходилось отложить встречу до понедельника. Саня взглянул на часы — нет, сегодня уже не успеть...
И опять — вечер, лес, небо над головой... Мальчики и девочки у лесного огня, притихшие, задумавшиеся... Любил Саня эти часы в лесу, у огня, с разговорами...
— Да если б не космос, то жить-то совсем бы скучно было! — вздохнул Васильев, гладя кота.— У нас тут все давным-давно открыто, никаких интересных тайн не осталось... И смотреть-то не на что!
— Ой уж! — не согласился кто-то.— Ты в Африке был хотя бы?
— Да ее по телеку сто раз показывали!
— Нет... Вот бы самим бы там побывать... Попутешествовать...
Саня слушал, смотрел в огонь. Легкое, порывистое пламя металось
над прогорающими ветками, превращалось в искры, и они уносились вверх, где начинался ветер, и под ним забормотали живые, темные лапы сосен, вверх, вверх, вверх неслись искры, туда, где загадочно и пугающе молчало небо, все в гроздьях звезд...
— Да здесь-то, конечно, все привычно...— вздохнул Васильев.
Во тьме вдруг тонко и страшно крикнула ночная птица, и все
вздрогнули, затихли.
— Какая это птица? — спросил вдруг Саня.— Кто знает?
Не знал никто.
— А это какое дерево?
— Сосна.
— А вон то?
Опять никто не знал.
Саня выдернул из темноты сухой стебель мятлика:
— Как называется?
— Ну, Сан Сенич, ну откуда мы знаем? — удивился Васильев.
— Самое время в Африку ехать! — покачал головой Саня.— Чужестранцы...
Ах, дальние страны, уж больно вы далеко...
А ведь как манили в детстве, какие сладкие сны дарили, какие бессонницы... Что рядом с ними были серые поля, начинавшиеся сразу за городом, и леса по краям разъезженной грязной дороги?.. Семнадцать Сане было, что ли, когда Аристотель грохнул кулаком по столу и сказал: «Поехали!..» Нет, шестнадцать... Сентябрь, десятый класс, какой-то смутно помнящийся разговор о Трансваале (Саня как раз начитался о героических бурах и бредил Южной Африкой: Калахари, Драконовы горы, мыс Доброй Надежды)... Что-то он сказал такое — ну, глупость несусветную, вроде: «вот бы где родиться и жить», а Аристотель рассвирепел: «Поехали!.. Я тебе покажу!» — «Куда поехали, зачем поехали? — всполошилась Елена Николаевна.— Матвей, ты с ума сошел, у него десятый класс!..» Однако поехали: как-то расписание у Аристотеля удачно подошло, а Сане, хоть и без особой радости, позволено было прогулять понедельник...
621
На Аристотелеву родину поехали, в деревню. Полтора часа самолетом до Москвы, потом — три часа скорым, да еще пять местным, стареньким, грязным поездом... На рассвете были «дома» — в полузаброшенной деревне, где Аристотеля не помнила ни одна живая душа и сам он лишь с трудом нашел место, где стоял когда-то их дом. Тоскливо отчего-то стало юному Сане, и смотреть было не на что — темные избы да поле какое-то... А Аристотель, все злой, все взбудораженный, тащил его на автобус, и опять ехали, ехали куда-то.Л Саня в автобусе уснул, и такого, сонного, усталого, десять раз пожалевшего о том, что поехал, вытащил его Аристотель из автобуса и сказал:
— Смотри...
И опять они стояли на раздолбленной, пыльной дороге, опять поле какое-то поднималось вверх, к горизонту, пер откуда-то речной ветер — и смотреть было совершенно не на что опять же...
— Русские стояли там,— шепотом сказал Аристотель.— Неприятель — вон... Смотри внимательно... Дон стал красным от крови...
Но тихо было кругом, поднималось из-за бугра солнце, и все поле да поле... Куликово поле — ни одного кулика, тишина. И Саня, отважный путешественник, избороздивший все моря и океаны, водивший свои корабли через «ревущие» сороковые, вдруг испугался. Так велик, так пустынен и тих был этот открытый простор, так распахнут, и не спрятаться от него никуда: земля под ногами, небо над головой, а меж ними — даль да ветер...
И снова Саня сидел над картами. Неведомая страна — родная, незнакомая, открывалась ему, завораживая странными именами: Нерль, Ловать, Олым, Мета — так звались здесь реки; Вселуг, Ильмень, Плещеево, Пено, Волго — такие были озера. А города, тихие эти, старые города, с именами, знакомыми по учебникам истории... Они были, стояли, и история оказалась вовсе не школьной наукой, за которую можно получить двойку, а живой, продолжающейся жизнью, землей, на которой жили, которую берегли поколение за поколением... А теперь в этот ряд встал и Саня — чтобы жить и беречь... А мальчики и девочки сидели у костра и смотрели в огонь.
Кукарека бродил один во тьме — воспитывал себя. Потому что мужчина не должен быть трусом, верно? Но все равно было страшно. Тем более что в лесу бродил еще кто-то. Кукарека, замерев, слушал, как он трещит ветками... Или кажется?
— Там кто-то есть...— тихо сказал он, выходя к костру.
— Привидения! — жизнерадостно отозвался Адыев.
— Замолчи, дурак, не пугай! — взвизгнул кто-то из девочек.
Но Адыев не замолчал.
— Внимание, внимание! — завыл он загробным голосом.— Закройте все окна и двери, сейчас по улицам поедет гроб на семи колесиках!..
622
— Сан Сенич, а чего Адыев пугает! — закричали девочки.
— Сан Сенич, а жалко, что чудес нету, да? — вздохнул Вова Васильев.— Ну, не привидений, а вообще...
— Ну, слышите, слышите? — зашептал Кукарека, схватив Саню за руку.
В лесу треснула ветка, и все затихли, вслушиваясь. Снова тихо треснуло, будто кто-то шагнул неосторожно и замер, испугавшись. И тогда опять наступила тишина, живая, лесная, с шорохом огня, лопотанием сосновых лап под ветром и далеким, из-за горизонта, криком электрички...
— Тут и тыщу лет назад, наверно, так же было...— зачарованно сказал кто-то.— Тихо, темно, и звезды светят... Только нас не было.
— Сан Сенич, неужели мы умрем когда-нибудь?..— Это Адыев спросил.— Ну почему чуда нету?!
— А может, есть...— отозвался Саня и вздохнул, вспомнив одну старую историю.
— Сан Сенич, вы про что? — сразу насторожились у костра.— Расскажите!
Саня прикрыл глаза, вспоминая... Ему было девять лет. Он мечтал о чуде.
Ничто, кроме чуда, не могло помочь ему. И он знал: оно есть, есть! Только прячется, потому что в него уже никто не верит. Обиделось и прячется от людей. А к тому, кто верит и ждет, оно придет и поможет.
Саня верил и ждал. По вечерам, лежа в постели, уговаривал: «Ну случись, пожалуйста! Мне очень, очень надо, понимаешь?»
Саня хотел летать... То есть просто до тоски, до горячих слез хотелось разбежаться, оттолкнуться от земли и взмыть в вышину, раскинув руки... Это из снов было. Но и потом, наяву, оно помнилось, не забывалось — счастливое, с ветром, чувство...
Однажды утром, когда дома никого не было, он через чердачный люк вылез па крышу, он знал, что сделает: прыгнет...
Они тогда в старом доме жили, в деревянном, трехэтажном. Саня стоял на крыше, а внутри его колотилось и бухало сердце. Не от страха — он знал, что полетит. Уж тут-то придется случиться упрямому, спрятавшемуся чуду, разве может оно допустить, чтоб человек, который в него верит и давно ждет, разбился! Он полетит, полетит... Над двором, над старым тополем! Над тополем — обязательно. Саня из окна на него глядел, когда уроки делал, а на ветках суетились птицы, будто дразнили: попрыгают-попрыгают и улетят... Потом надо подняться выше, чтоб всю улицу с высоты увидеть,— он любил свою улицу, зеленую, тополиную,— только разбежаться надо обязательно против ветра — он за птицами подглядел...
— Ну? — напряженно спросил Адыев, потому что Саня замолчал.
623
— Все...— развел руками Саня.— Отец шел из школы и увидел меня. Чердак после этого заколотили наглухо, а пожарной лестницы у нас не было.
— А потом? С другого дома?!
Саня усмехнулся:
— Пока собирался — вырос...
— Быстрей надо было собираться,— разочарованно буркнул Васильев.
— Вот сам бы взял да и прыгнул! — накинулись на него девочки.— А Сан Сенича нечего подучивать! Ой, Сан Сенич, хорошо, что Сень Саныч вовремя пришел, а то бы вы убились!
— А может, и полетел бы...— задумчиво сказал Лешка.
Юля же осторожно, так, чтобы никто не увидел, показала Сане кулак, что означало: я тебе полетаю!
И вдруг совсем рядом снова треснула ветка...
— Точно, кто-то там есть...— прошептал Адыев.— Вов!
— Пошли,— кивнул Васильев, стряхивая с плеча Рыжего.
— Ой, мальчики, не ходите!
— Тихо, спугнете! — зашипел Васильев.
Кукарека тоже поднялся, а вслед за ним и остальные мальчишки. Но только они шагнули от костра, в лесу, во тьме, кто-то побежал, шурша листьями.
— Стой! — завопил Васильев.— Держи!
И все понеслись следом.
Саня вскочил, настороженно слушая, как ученики яростно гонятся за кем-то по темному лесу. Догнали, произошла свалка, и того, кто убегал, потащили к палаткам. Пойманный упирался изо всех сил, старался вырваться.
— Еще и кусается, гад! — возмутился Васильев, и к костру был выволочен растерзанный, взъерошенный второгодник Вахрушев. Он угрюмо сверкал желтыми глазами.
— Сан Сенич, ясно теперь, кто тогда за нами следил под дождем! — торжествующе крикнул Васильев.
— Отпустите его,— вмешалась Юля,— медведя, что ли, поймали?
— Митька, ты чего прячешься? — засмеялся Саня.— Медведь- шатун, садись чай пить... Дома-то потеряют?..
— Не потеряют...— едва слышно ответил Вахрушев.
— А чего это ты, Хрюкало, за нами таскаешься? — недовольно спросил Васильев.— Следишь?
— Нужны вы мне!
— Ну и иди отсюда!
— Конечно! — рассердились девочки.— Приперся, да еще грубит!
— А пошли вы! — сказал Хрюшкин, развернулся и снова ушел в
лес.
625
— Митька! — позвал Саня.— Не уходи!
Но Вахрушев уже ушел, только шелестели чуть слышно его шаги во тьме.
— Катись, катись, Наф-Наф! — сердито кричал в лес Адыев.
— А ну-ка замолчи! — сказал Саня резко, и все удивленно уставились на него: никогда он так не разговаривал.— Вот, значит, как?!— оглядывая мальчиков и девочек, спросил Саня, и голос у него был чужой, незнакомый.— Вот вы какие! Хорошие, вам никого не надо, да?
— А зачем он нам? — единодушно зашумели мальчики и девочки.— Он не в кружке.
— Сан Сенич, он плохой, чего он к нам привязался?!
— Живо! — приказал Саня.— Идите, найдите и позовите обратно!
Но мальчики и девочки стояли, упрямились.
— Нужно нам это Хрюкало...
А Юля вдруг поднялась и пошла в лес.
— Подожди,— сказал Саня,— я с тобой пойду.— Он смотрел на Васильева: — Хрюкало, Хрюшка, Хрюк, Наф-Наф... Как еще?
— А чего? Его все так зовут!
— Я спрашиваю, как еще? Вспоминайте.
— Хрюзантема! — стали вспоминать.- Хрюкадав, Хаврон...
— Все?
— Не, еще Хрюк — бряк!
— Хрюшкин!
— Все теперь?
— Вроде все...
— Так вот,— тихо сказал Саня,— если я еще раз... Если хоть один-единственный раз я еще это услышу...
И опять где-то рядом затрещало — там опять побежали прочь, дальше, дальше по темному пустому лесу.
— Видите, видите! — сердито крикнул Васильев.— Опять он подслушивал!
Саня не ответил, ушел в темноту.
— Дай руку,— сказал он Юле,— упадешь...
Они нашли второгодника Вахрушева в светлеющем березняке, он
626
ничком лежал на сухой траве и плакал взахлеб. Юля опустилась рядом с ним на колени, погладила безутешного гордого Митьку по рыжим вихрам.
— Не плачь, рыжик, терпи... Они не злые, они просто глупые еще... Это, может, пройдет...
— Как же...— не поверил он.
— Белая лошадь — горе не мое...— сказал Саня.— Слышишь? Повторяй: «Белая лошадь — горе не мое! Уходи горе, за сине море, за темный лес, за светлый огонь, меня не тронь!»
— А чье? — затихнув, шепотом спросил Вахрушев Митька.
К костру они не вернулись. Саня собрал ветки и запалил маленький огонь рядом с затихшим Хрюшкиным. Так они и сидели втроем. Потом пришел Кукарека, хмурый, виноватый, и молча сел рядом.
А потом во тьме зашуршали листья под ногами остальных.
— И не проси! — мотнул головой Аристотель.— Переживают они, видите ли!.. Ишь заступник какой! Это Петухова с тобой работу провела. Думаешь, я не понимаю?..
Был вечер, Аристотель пришел в гости, они сидели за столом, и разговор, который, как всегда, начинался так: «Все, сегодня ни слова о школе», как всегда, свернул все-таки к школе, к работе, которая и не думала кончаться по звонку с последнего урока.
— А сколько ты с ними не говоришь? — заинтересованно спросил Арсений Александрович.
— Две недели.
— Ого! А я-то тебе деньгу плачу за то, что ты их воспитываешь... Хорошо устроился!
— Я и воспитываю...— вздохнул Аристотель.— Я ведь, Сеня, не за себя, меня-то не больно обидишь. Но Александра Сергеевича не дам! Не позволю! «Сейчас так не пишут, кому это нужно»! — припомнил он и рассердился с новой силой.
— Больно строг! — усмехнулся директор.— Они юные, глупые еще. Погоди, потом поймут...
— Нет, пусть они сейчас поймут! Потом-то как раз поздно будет. «В гробу я видел это чудное мгновенье в белых тапочках»! — передразнил он Шамина.— И как я его тогда не убил, не понимаю.
627
А нынче-то к вам шел, а он стоит у подъезда. С гитарой, как всегда... Сигаретку спрятал, уважил... А глаза тоскливые — дома, видно, опять худо... Но я не подошел, выдержал характер. Кивнул ему только так, очень холодно... Соскучился я по ним, мерзавцам... Концерты по ночам часто устраивает?
— Притих,— ответила Елена Николаевна.— Тихо поет...
— Открой-ка, Саня, форточку, я послушаю, чего он там тихо поет,— попросил Аристотель, а прислушавшись, ахнул и устремился на балкон.
Там, внизу, в темном дворе, под тополем, трудный подросток Шамин, современнейший юноша в джинсах и с гитарой, пел тихо:
Слыхали ль вы за рощей глас ночной Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой...
— «Слыхали ль вы?..»— печально подпевали ему другие современные юноши.
— Юрка! — позвал Аристотель, когда песня смолкла, и его мощный голос отчетливо прозвучал над притихшим двором.
— Чего? — отозвались из-под тополя.
— Поешь?
— Пою.
— А что я тебе говорил?!
— Чего?
— Печалься, милый, пой. Пусть душа растет...
— В гробу я видел эту душу! — тоскливо отозвался из темноты трудный подросток.— В белых тапочках!
По ночам приходили Сане в голову новые странные мысли. Мир, казавшийся прежде таким простым и ясным, вдруг затуманился, четкие, незыблемые его границы дрогнули и растаяли, и в бликах света и тьмы различал уже Саня какие-то новые очертания другого мира... Может быть, не так ярки в нем были краски, не так ясно и безоблачно небо, а добро и зло существовали, так крепко переплетясь, что не просто их было отличить друг от друга, но что-то уже тянуло Саню туда, заставляло без печали проститься с прежней ясностью, с четко обозначенными «хорошо» и «плохо»... И уже не казалось Сане, Александру Арсеньевичу, что быть взрослым — постыдно и скучно... Он уже догадывался, что взрослые — как дети. Разные. И так же, как дети, беззащитны. И так же мечтают, обижаются, плачут... Ведь взрослые — это выросшие дети. А дети — будущие взрослые. И жить им надо, взявшись за руки. Так думал по ночам взрослеющий учитель географии, а утром его долго будила
628
Елена Николаевна, но Александр Арсеньевич прятал голову под подушку, вставать не хотел. В конце концов вынужден был вмешаться Арсений Александрович: он стащил с географа одеяло и грозно осведомился, собирается ли Александр Арсеньевич идти сегодня на работу. Позавтракать Саня не успел, всю дорогу бежал бегом и появился в классе за секунду до звонка. Но урок начать не успел: в коридоре затопали, кто-то спешил, мчался что было духу, рванул дверь.
— Митька убился! — крикнул Кукарека, встав на пороге.
У Александра Арсеньевича как-то скверно дрогнули коленки и голос сел.
— Какой Митька?..— сипло спросил он.
В классе наступила гробовая тишина.
— Хрюшкин...— прошелестел Кукарека.— Вы же сами... не велели...
Вахрушев Митька прыгнул с третьего этажа. Сегодня, рано утром. Его увезли в больницу. ‘Больше Кукарека ничего не знал.
— Он жив? — спрашивал Саня.
Они мчались по улице — впереди Саня, а за ним шестой «Б».
Кукарека не знал.
— А откуда ты вообще это знаешь?
— Колян сказал...
— Какой Колян?..— ревя и шмыгая на бегу носом, крикнула толстая Мила.
— Обыкновенный, в одном доме с ним живет... Из седьмого «В»...
— Сан Сенич, это мы, это из-за нас он...— выкрикнул кто-то, и после этого все замолкли и побежали в молчании.
— Только родственников пущу! — заявила им санитарка.
— А мы родственники! — яростно закричал шестой «Б».
«Жив!..» — понял Саня и решительно сказал санитарке:
— Халат, быстро!
— Вы родственник?
— Разумеется! — рассердился Саня.— Халат!..
Митька лежал в коридоре, на кушетке, глаза закрыты, лицо серое.
— Ваш? — спросила у Сани пожилая женщина-врач и оглядела его неодобрительно.
— Мой.
— Чего ж не смотрите?
Митька открыл глаза.
— Мить, ты как?..
— Все в порядке,— сердито сообщила женщина,— ушибами отделался. Это раз в жизни так везет.
— Что же ты делаешь, дурень, а?.. Ты зачем это?..
— Сами говорили...— прошептал Митька.— Я проверить хотел...
— Что? — спросил Саня и вдруг все понял.— Митька!..— едва выговорил он.— Ты с ума сошел!..
629
— Мить-ка! Мить-ка! — дружно закричали под окнами.
Вахрушев дернулся туда, но тут же охнул, зажмурился от
боли.
— А не дергайся! — прикрикнула женщина. — Где больно,
ну?
— Нигде,— упрямо прошептал Митька.
— Да глаза-то открой, прошло уж все... Будешь знать теперь, как из окон сигать, журавль!
— Митька! — грянули внизу, и почти сразу в окне появился Толик Адыев.
— Митька, ты живой? — закричал он.
Вахрушев кивнул, и лицо у него стало растерянное.
— Это что?..— ахнула женщина-врач.
Саня не ответил, потому что и сам испугался.
— А тут лестница, Сан Сенич, не бойтесь! — продолжал Ады¬
ев.— Я не упаду. Мить, а ты надолго?.. Сейчас тебе Вова кота притащит, вон уже бежит...
— Слезай немедленно! — закричала женщина.
— Сейчас,— пообещал Адыев,— еще только минуточку... Ну, ты, не толкайся...— Это он уже Васильеву говорил.
— А ты подвинься! — закричал в ответ Васильев.
— Куда?
— Ну чуть-чуть, я его выпущу...
— Это тоже ваши? — гневно взглянула врач на Саню.
Саня сознался, что его.
— Немедленно, вы слышите!.. Прекратите это безобразие!
— Слезьте,— беспомощно сказал Саня,— я вас очень прошу.
— Да щас! — отозвался Васильев.— Он вылезать, паразит, не хочет...
— Я проверить хотел...— торопливо зашептал Митька.— Вы рассказывали, помните?.. Про чудо, есть оно или нету... Я из лесу слышал...
— Проверил? — спросил Саня, проклиная себя.— Теперь знаешь, что нет... Дурень, ну, дурень!
— Да я же живой, видите?! — сказал Вахрушев.— Вам же говорят: такое раз в жизни бывает!.. Понимаете?!
630
— Я надеюсь, вы не оставите животное на карнизе,— строго сказала врач, когда Саня поднялся: пора было в школу.— Если это больному, то откройте окно и давайте его сюда. Но вечером чтоб забрали!
Странные, непонятные люди учились в шестом «Б». То не надо им было Вахрушева, то вдруг выяснилось, что именно без него шестой «Б» жить не может... Они, эти люди, будут бродить допоздна под окнами больницы, сэкономив на завтраках, покупать Вахрушеву компот и конфеты, писать записки: «Возвращайся скорей!» — и строить фантастические планы (что значит — второгодник?! Подтянуть по всем предметам. Срочно, немедленно! Они будут с ним заниматься! Он все сдаст! И пусть его сразу переведут в шестой, а именно в шестой «Б»!).
А классный руководитель, конечно, был с ними и в обсуждении Митькиного будущего принимал активное участие. Поэтому домой он вернулся поздно. А вернувшись, по напряженному лицу Арсения Александровича и растерянному Елены Николаевны сразу понял: случилось еще что-то...
— Тебя ждут...— не глядя на сына, произнес Арсений Александрович.
— Кто? — удивленно спросил Александр Арсеньевич, и опять стало тревожно, нехорошо.
В комнате у окна стояла Петухова Юля из десятого «А». Она глядела на улицу, и плечи ее вздрагивали.
Александр Арсеньевич вошел, спиной чуя напряженные взгляды родителей, и плотно прикрыл дверь.
— Юлька, что?.. Кто тебя?!
Юля повернула к нему горестное, заплаканное лицо.
— Я из дому ушла...
— Сумасшедшая...— сказал Александр Арсеньевич, целуя зареванные глаза ученицы.— А я бог знает что подумал... Что случилось?..
Случилось следующее: Лола Игнатьевна вызвала Юлькину маму в школу, и у них состоялась беседа при закрытых дверях, после чего
631
мама не пошла на работу, а побежала прямо домой — принимать меры...
— Я сказала ей, что люблю тебя... Теперь тебя из школы уволят?.. Я тогда тоже уйду!
— Дурочка, горе мое луковое,— сказал Саня,— перестань реветь... Ты ведь ни в чем не виновата — вот и веди себя достойно... А реветь потом будешь...
Юля перестала плакать и испуганно взглянула на него.
— Вот выйдешь замуж за учителя — наплачешься...
— За какого... учителя?..— шепотом спросила Юля.
— Ну...— ответил Саня тоже шепотом.— За какого-нибудь... Есть тут один...
— Ты мне предложение делаешь?..
Саня вздохнул:
— Нет... Да не реви же... Я тебе его потом сделаю... На выпускном...
Арсений Александрович и Елена Николаевна сидели у телевизора и делали вид, что все их внимание поглощает программа «Время». Саня вышел в большую комнату и полез в шкаф за чистыми простынками: будущую жену пора было укладывать спать. Родители оторвались от телевизора и теперь наблюдали за действиями сына. Оба потрясенно молчали. Наконец Арсений Александрович произнес напряженно:
— Александр! Может быть, ты объяснишься?!
— Юля останется у нас,— объяснился Александр.
— Та-ак...
Вид у директора школы был потерянный. И мысли в голове роились самые ужасные... Да и как же им не роиться: к сыну пришла девушка, сидит, плачет, остается ночевать... Права, ах, права была Лола Игнатьевна, задав роковой вопрос: «А вы подумали, какое мнение может сложиться у окружающих?»
— Александр, я кого спрашиваю?! — возвысил голос Арсений Александрович.— Немедленно объясни...
— Тише ты! — замахал руками Саня.— Там же все слышно!
Директор школы испуганно замолк и оглянулся на дверь.
— Лена, оставь нас,— сказал он шепотом, но грозно.— Нам надо поговорить.
— Не оставлю! Санечка, что случилось?..
— Ничего не случилось, просто мне подушку надо.
— Александр,— забормотал Арсений Александрович,— если ты...— Он беспомощно взглянул на Елену Николаевну.— Если ты виноват... Я тебя вот этими руками... Слышишь ты меня?..
— Дадите подушку? — упрямо сказал Саня. А что он мог еще сказать? «Дорогой папа, тебе не стыдно?» Уж лучше молчать...
— Арсений! — ахнула Елена Николаевна, потому что Арсений Александрович шагнул к сыну, но расправиться с негодяем помешал телефонный звонок. И Саня и родители замерли и долго слушали, как
632
надрывается в коридоре телефон. Первой опомнилась Елена Николаевна.
— Алло! Алло!.. Молчат...— сообщила она вышедшим в коридор отцу и сыну.
Трубку водрузили на место, но от телефона не отошли, стояли, ждали. Телефон действительно затрезвонил вновь.
— Я сам,— сказал Саня.— Алло...
— Это вы?...— испуганно спросил Кукарека.
— Я.
— А Юлька у вас?..
— У нас.
Кукарека помолчал. Это, видно, была у них с Юлей фамильная черта — молчать в телефон.
— А она вам рассказала?..
— Да.
— Ну вот...— сказал Кукарека.— Почему все злые такие?..
Саня не ответил, потому что не знал.
— А что теперь будет?..
Но этого Саня не знал тоже.
— Юлька так ревела... А мама ее по щекам била...
— А ты смотрел?! — завелся Саня.— Тоже мне, родственник!
Кукарека засопел обиженно.
— Ничего я не смотрел, а защищал... Мне тоже досталось... А мама сидит и плачет... Ее тоже жалко...
— Слушай,— сказал вдруг Саня,— а я к вам сейчас приду...
— Лучше не надо! — отозвался Кукарека.
— Надо!
Кукарека подумал и вздохнул:
— Ну ладно, я тогда домой пока не пойду, я вам из автомата звоню... Я вас во дворе дождусь и дверь сам открою, а то она прямо в подъезде на вас кричать будет...
— Мама,— сказал Саня,— пойди туда и никуда ее не отпускай... Я тебя очень прошу! А ты не ходи! — Это уже отцу.
Арсений Александрович обиделся:
— Почему это? Что я — зверь?
Саня хотел объяснить отцу, что не зверь он, но директор школы и потому лучше ему пока не вмешиваться, но было некогда, и он только сказал умоляюще:
— Мама!
— Он не пойдет, будь спокоен,— пообещала Елена Николаевна так решительно, что ни Саня, ни Арсений Александрович в сказанном не усомнились.
Кукарека же оказался провидцем: встреча учителя географии с мамой Юли и Жени Петуховых кончилась скверно.
Кукарека открыл дверь своим ключом, впустил его в квартиру. Серафима Константиновна сидела на кухне, устало сложив руки на коленях. Лицо у нее было заплаканное.
633
— Здравствуйте! — громко сказал Александр Арсеньевич и замолчал: все слова, которые он хотел сказать, торопясь сюда, куда-то пропали. Молчала и мама Петуховых, потрясенная тем, что он еще и посмел явиться.
— Что вам здесь нужно?! — наконец гневно спросила она. И как-то очень логично добавила: — А ее нет дома... Ушла куда-то и все нет и нет...
На что Александр Арсеньевич тоже очень уместно ответил:
— Я люблю вашу дочь...
— Мерзавец! — ахнула Серафима Константиновна и ударила его по щеке.
Александр Арсеньевич побелел, резко развернулся и пошел прочь.
— Юлю не теряйте,— сказал он, выходя,— она у меня...
В первом часу в дверь решительно позвонили.
— Где она?! — сказали.— Верните мне дочь! Немедленно!..
— Тише...— ответила Елена Николаевна.— Она спит. Успокойтесь, пожалуйста...
— Где она?! — не успокоилась Серафима Константиновна.
Елена Николаевна приоткрыла дверь Саниной комнаты, где, наволновавшись и наревевшись, безмятежно спала Юля.
— А он?
Саня спал в кухне на раскладушке. То есть не спал, конечно, а лежал, плотно зажмурившись.
— Господи,— сказала Юлина мама.— Это что ж такое творится?..— И заплакала.
— А что, собственно, творится? — вздохнул Арсений Александрович.
— Безобразие какое, они же любят друг друга! — всхлипнула Серафима Константиновна.— А вы куда глядели?
— Успокойтесь,— повторила Елена Николаевна.
— Мне Лола Игнатьевна такого наговорила... Что теперь будет?..
— А ничего не будет,— спокойно ответил Арсений Александрович.— Просто уволю я его, вот и все...
Юлина мама перестала плакать, подняла глаза на Арсения Александровича и некоторое время смотрела непонимающе и рассерженно.
— Да разве я за этим к вам пришла?! Я к вам как к отцу...
Арсений Александрович нахмурился и пожал плечами.
— Как отец я могу вам сказать, что мой сын — порядочный человек и по отношению к женщине никогда не позволит себе ничего низкого, вот так. А как директор я тем не менее обязан пресечь это, как вы выразились, безобразие. Я пресеку.
634
Серафима Константиновна молча смотрела на Арсения Александровича, смотрела с удивлением и неодобрением.
— Как это у вас просто! «Уволю»! А о них вы подумали? Юльку ославите, ему жизнь испортите!.. А за что?
Тут Елена Николаевна тоже заплакала. Арсений Александрович сморщился, принялся искать сигареты.
— Вы поговорите с ними, вы же директор! Я Юльке сказала — куда там! Слушать ничего не хочет! Ушла, хлопнула дверью: «Люблю, и все тут!»
— У вас неверные представления о возможностях директора школы...— с грустной усмешкой отвечал директор школы.— Запретить им любить не в моей компетенции... Уволить — пожалуйста.
— Но — как отец...
— И как отец — не могу. Мне как отцу радоваться бы... И не послушает он меня точно так же, как дочь не послушала вас. А послушал бы, я бы его уважать перестал... да перестаньте же вы, наконец! — стукнул он кулаком.— Слезами делу не поможешь.
— Легко вам говорить «перестаньте»!
— Да...— сказал Арсений Александрович.— Мне, конечно, легко. Легче всех.
И тут Елена Николаевна перестала плакать, гневно взглянула на мужа и сказала:
— Есть же люди такие! Во все вмешиваются! Влезут с ногами, натопчут, испачкают все! А что случилось? Гуляли вместе...
— Вы только его не увольняйте! — умоляюще взглянула на директора Юлина мама.— Юлька ведь сразу из школы уйдет, вы ее не знаете! И Женька мне этого никогда не простит... Так плакал, кричал: «Мамочка, почему ты такая злая?»
А Саня лежал, слушал и вдруг уснул...
Ему приснилась осень — большая, желтая, с грядущими холодами. Родной шестой «Б» приснился ему: он летал в небе над школой... Осень, осень... И все птицы стремились в теплые края: кто собирался, кто улетел уже. Только эти — из шестого «Б» — весело и упрямо носились среди туч и улетать никуда не собирались. Саня разбежался, оттолкнулся от земли и тоже оказался там, в большом ветреном небе, а внизу, возле школы, печально бродила белая лошадь...
«Смотрите, смотрите, лошадь! — кричали ученики, носясь под облаками.— Сан Сенич, откуда она тут?»
«Моя»,— объяснил Саня.
«Ой, а можно на ней покататься?»
«Можно,— разрешил он,— только на урок не опоздайте...» — И проснулся.
Молча поднялись. Молча умылись и прибрали постели.
Молчала Юля. Молчал Саня. Даже Елена Николаевна молчала.
За завтраком Арсений Александрович заговорил.
— Вот что, мальчики-девочки,—- хмуро начал он,— слушайте меня внимательно, потому что повторять я не буду...
635
Мальчики-девочки и Елена Николаевна опустили головы и приготовились слушать.
— Александр, ты учитель. Юля, ты ученица. Я правильно говорю?..
— Правильно,— едва слышно отозвалась Юля.
Саня надменно промолчал.
— Я директор школы. Я твердо знаю, что учителя существуют для того, чтобы учить. А ученики — чтобы учиться. Остальное мейй сейчас не интересует, потому что ты учитель и должен быть чист перед людьми...— Арсений Александрович замолчал. Он сосредоточенно мешал чай, а потом долго и пристально рассматривал ложку.— Короче говоря... Если кто-нибудь скажет мне, что вас видели вместе...
— Я тебе сразу говорю,— перебил Саня,— нас будут видеть вместе.
Арсений Александрович, выслушав эти слова, снова помолчал, потом спросил и спокойно и устало:
— Александр, ты хочешь работать в школе?
Саня тоже долго молчал, угрюмо глядя перед собой.
— Хорошо...— сказал он тихо, повернув к отцу вдруг побелевшее лицо.— Я уйду.
— Ладно...— тяжело выговорил Арсений Александрович.— Раз ты такой вольный и гордый, уходи...— И поднялся из-за стола.— Только помни, что ты предатель...
— Кого я предал, кого?! — вскочил Саня.
— Дело,— сказал Арсений Александрович и ушел.
— Ты сам!..— крикнул Саня в спину отцу.— Это вы...
Но тот не ответил.
— Ну и глупо...— сердито сказала вдруг Юля.— И не имеешь ты права уходить. Ты из-за меня, я понимаю. Думаешь, что иначе меня предашь, ведь да?
Саня молчал, но по выражению его злого, несчастного лица было ясно, что думает он именно так.
— Ну и дурак! А как они без тебя будут, ты подумал? Ты учитель, ты не один...— И вдруг Юля улыбнулась и шепотом, на ухо сказала: — А я скоро не буду ученицей!..
Саня молчал.
— Ты не думай, что я испугалась, я с тобой ничего не боюсь, правда! Но раз тебе нельзя... А прятаться... Да ну их всех! Мы с тобой уедем...
Саня непонимающе взглянул на нее.
— Ну как будто, понимаешь? Ты в одно полушарие, а я в другое, чтоб они нас не трогали.
Саня печально хмыкнул.
— Мы письма будем друг другу писать... Слышишь?
— Слышу,— мрачно отозвался он.— Только на школу не пиши, а то Лола Игнатьевна вскроет...
636
Они вместе дошли до перекрестка. За поворотом была школа, там их не должны были видеть вместе.
— А ты меня не разлюбишь? — спросил Саня.
— Какой ты глупый...— Юлька поцеловала учителя географии и вздохнула.— Иди, сейчас звонок будет... Иди вперед, тебе нельзя опаздывать...
И Александр Арсеньевич пошел в школу. Ему нельзя было опаздывать: его ждали ученики.
В газоне у школы щипала траву грустная белая лошадь. Увидев хозяина, она тихонечко заржала.
СОДЕРЖАНИЕ
Т. Поликарпова. ДВЕ БЕРЕЗЫ НА ХОЛМЕ
© Издательство «Детская литература», 1979
Ю. Сотник. ЭЛИКСИР КУПРУМА ЭСА
© Издательство «Детская литература», 1978
И. Стрелкова. ЧЕТ И НЕЧЕТ
© Издательство «Детская литература», 1983
Н. Соломко. БЕЛАЯ ЛОШАДЬ — ГОРЕ НЕ МОЕ
© Издательство «Детская литература», 1984
3
203
369
535
Литературно-художественное
издание
Для среднего и старшего возраста
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ В ы п у с к 2
Повести
Ответственный редактор Ю. II. СПАССКАЯ Художественный редактор Г. Ф. ОРДЫНСКИЙ Технический редактор Г. Г. СЕДОВА
Корректоры И. В. КОЗЛОВА, Л. А. РОГОВА
ИБ № 10782
Сдано в набор 20.01.88. Подписано к печати 20.10.88. Формат 60X90l/i6- Бум. типогр. № 1. Шрифт тайме. Печать высокая. Уел. печ. л. 40,0. Уел. кр.-отт.40,0. Уч.-изд л. 42,84. Тираж 200 000 экэ. (1-й завод 1 — 100 000 экз.) Заказ № 7879. Цена 2 р. 20 к.
Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Отпечатано с фотополимерных фор «Целлофот»
К читателям
Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги
Ш67 Школьные годы: Повести. Выпуск 2./Худ. В. Нагаев; Оформл. А. Савельев.—М.: Дет. лит., 1988.— 638 с.: ил.
ISBN 5—08—001161—О
В сборник вошли ранее издававшиеся повести Т. Поликарповой «Две березы на холме», Ю. Сотника «Эликсир Купрума Эса», И. Стрелковой «Чет и нечет», Н. С'оломко «Белая лошадь — горе не мое». Все они о школе (современной и времен войны), о подростках, их духовном возмужании.
m48030.0.02-5i5_377 88 M10I (03)-88
ББК 84.3Р7