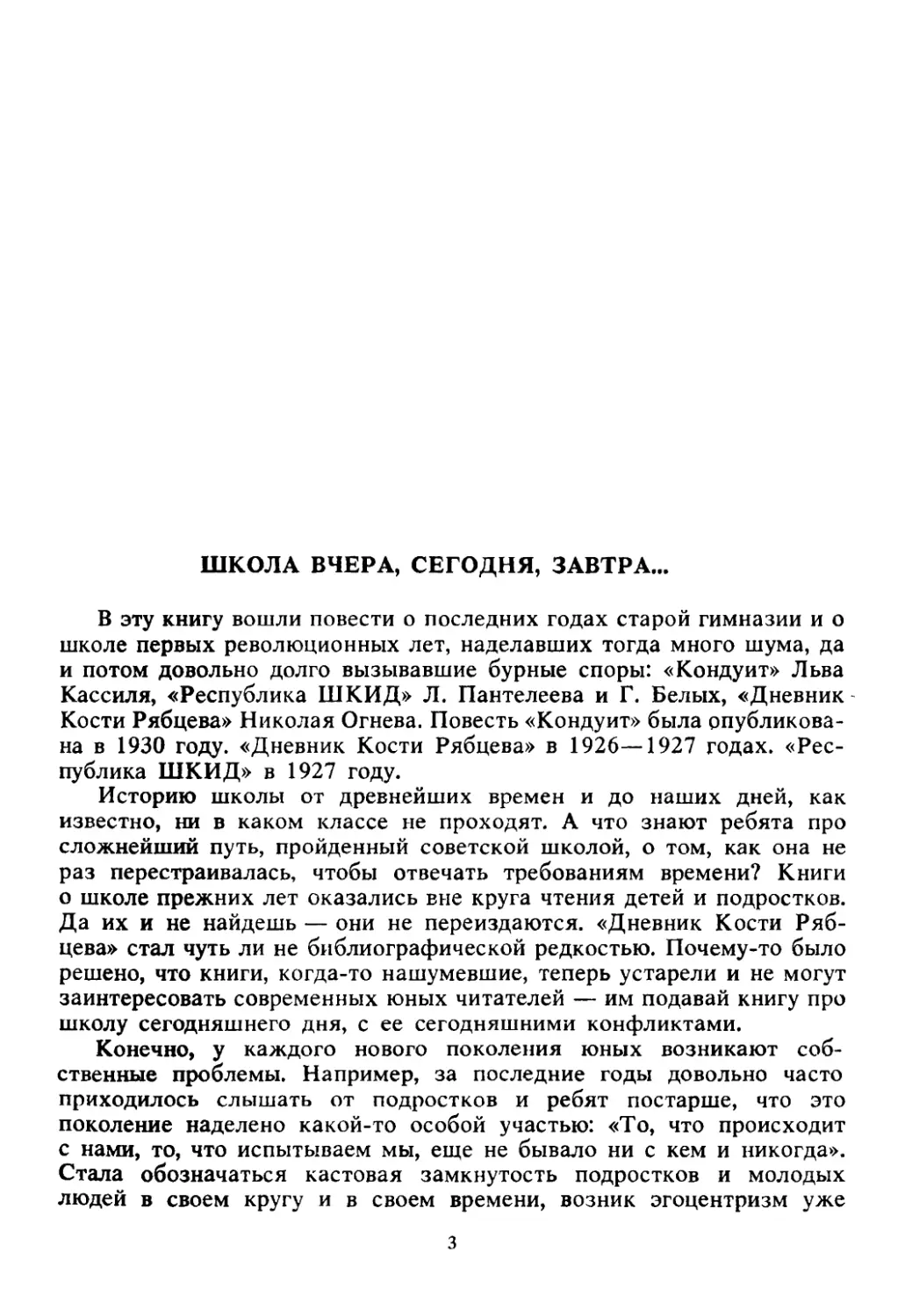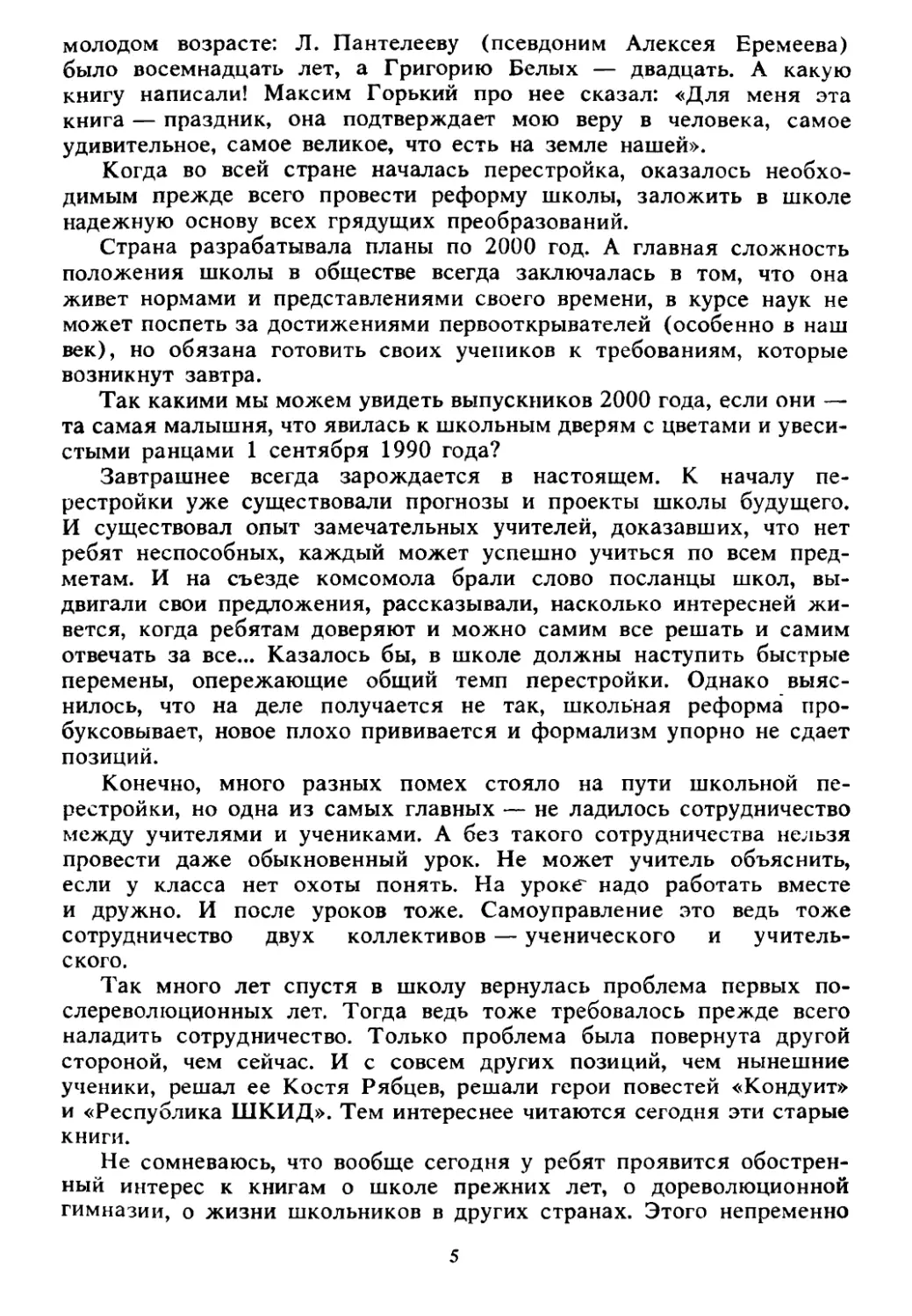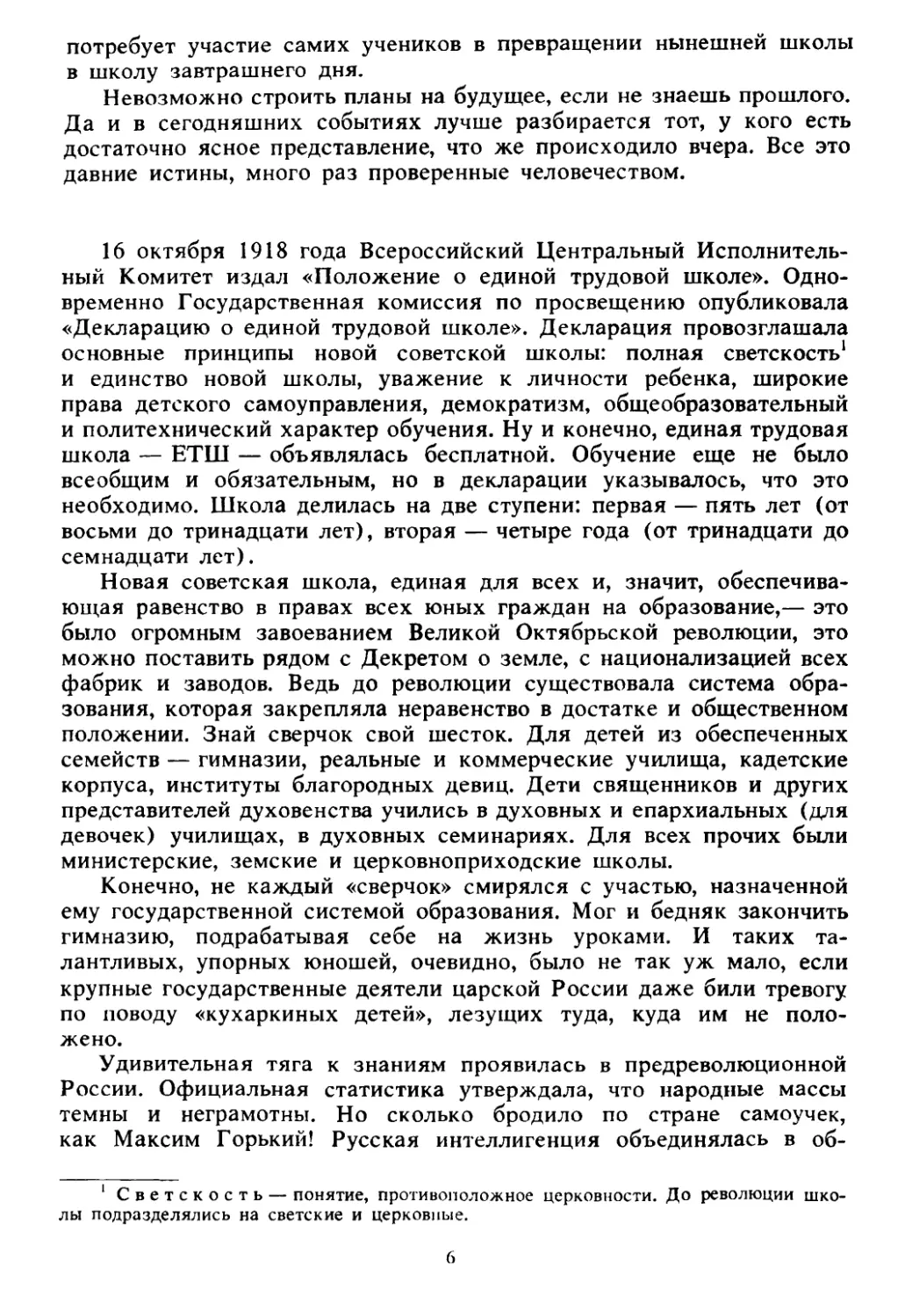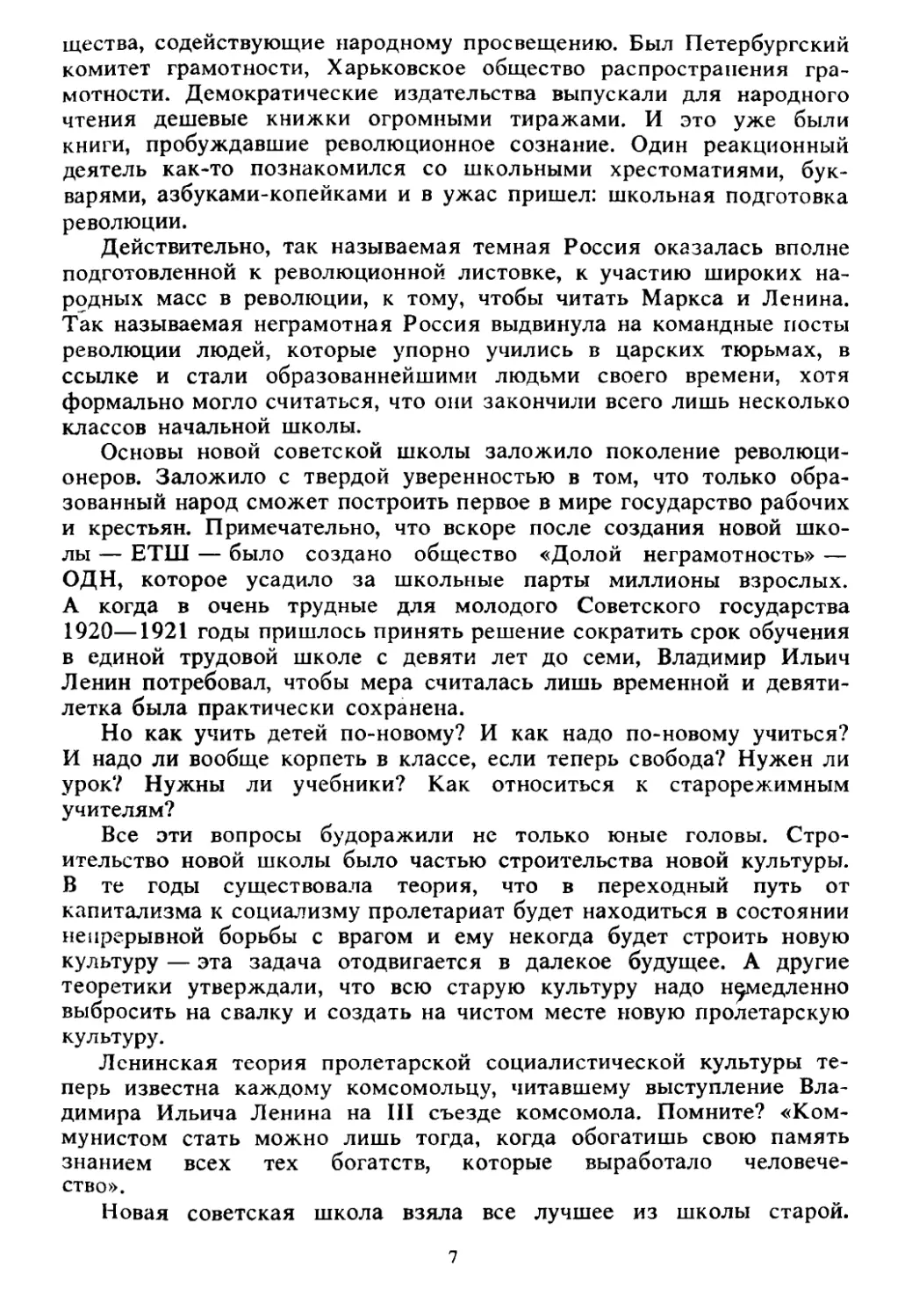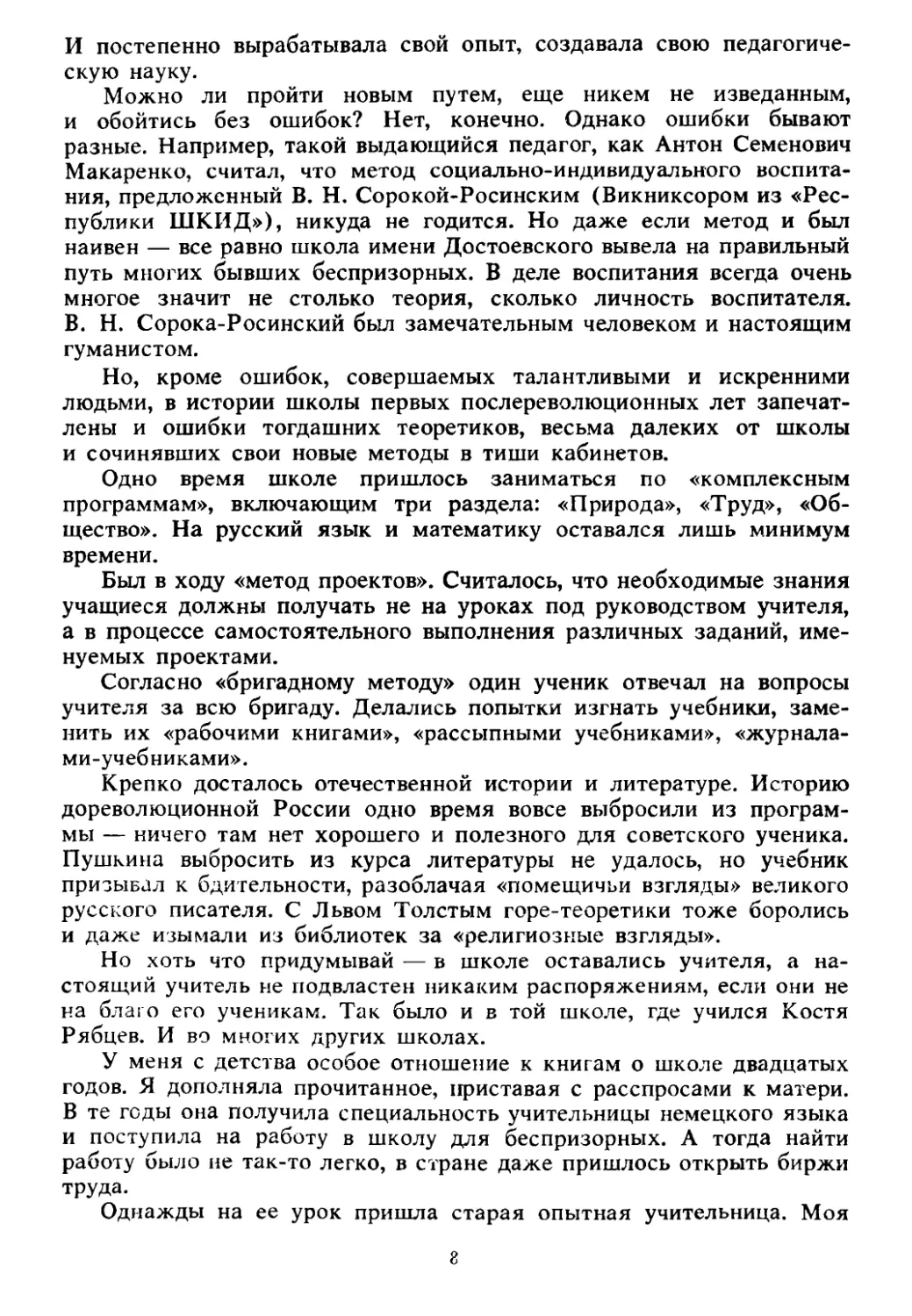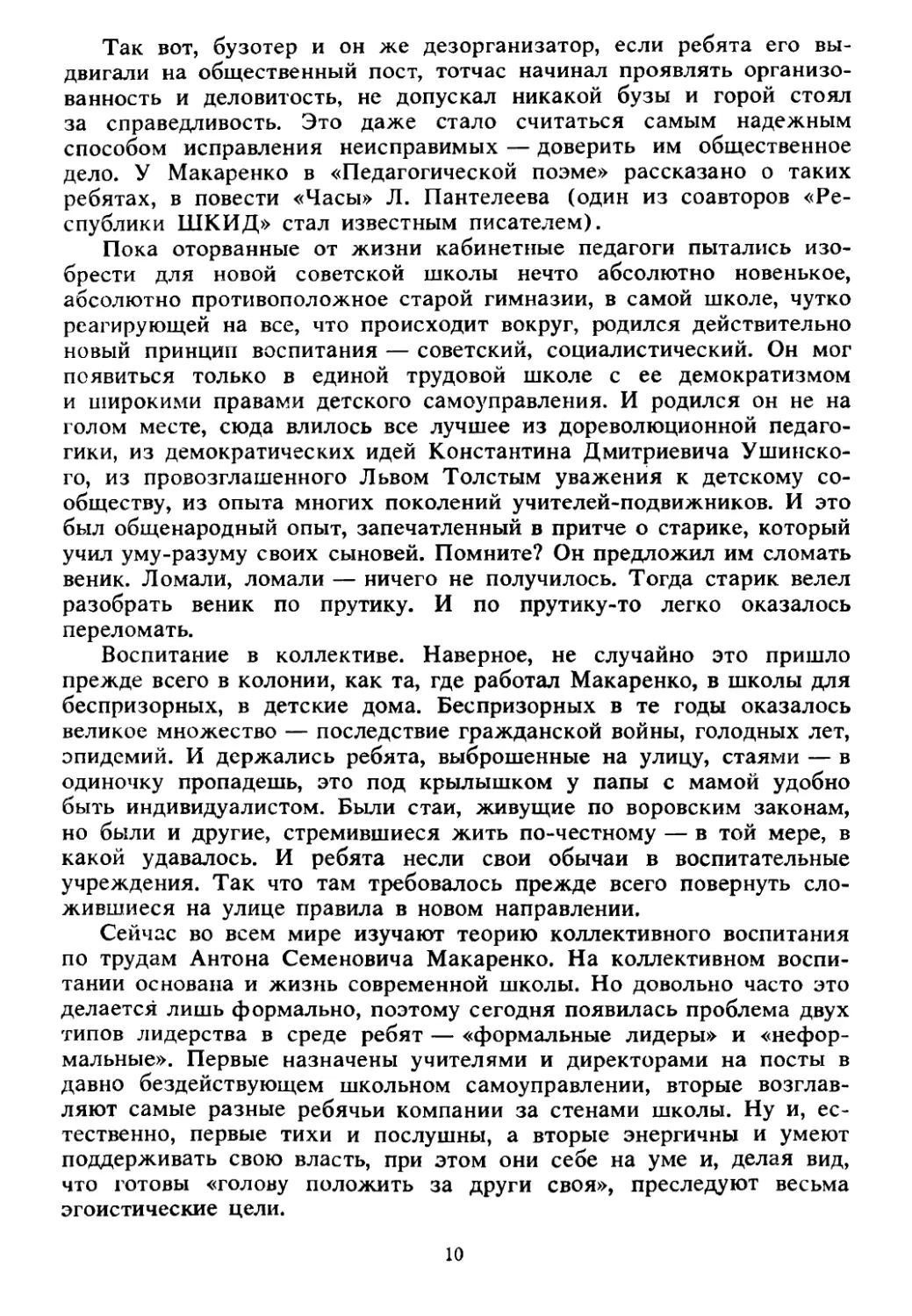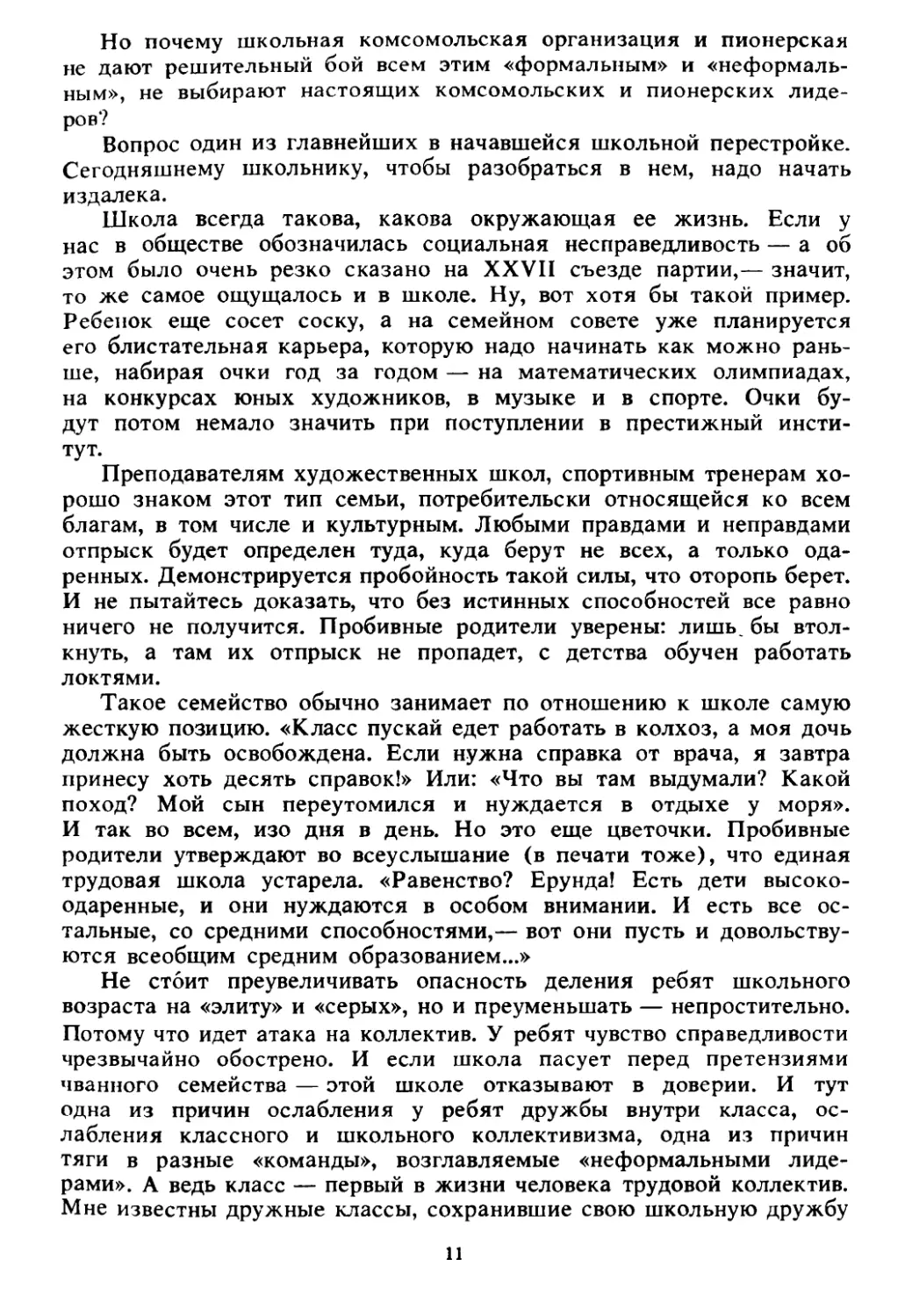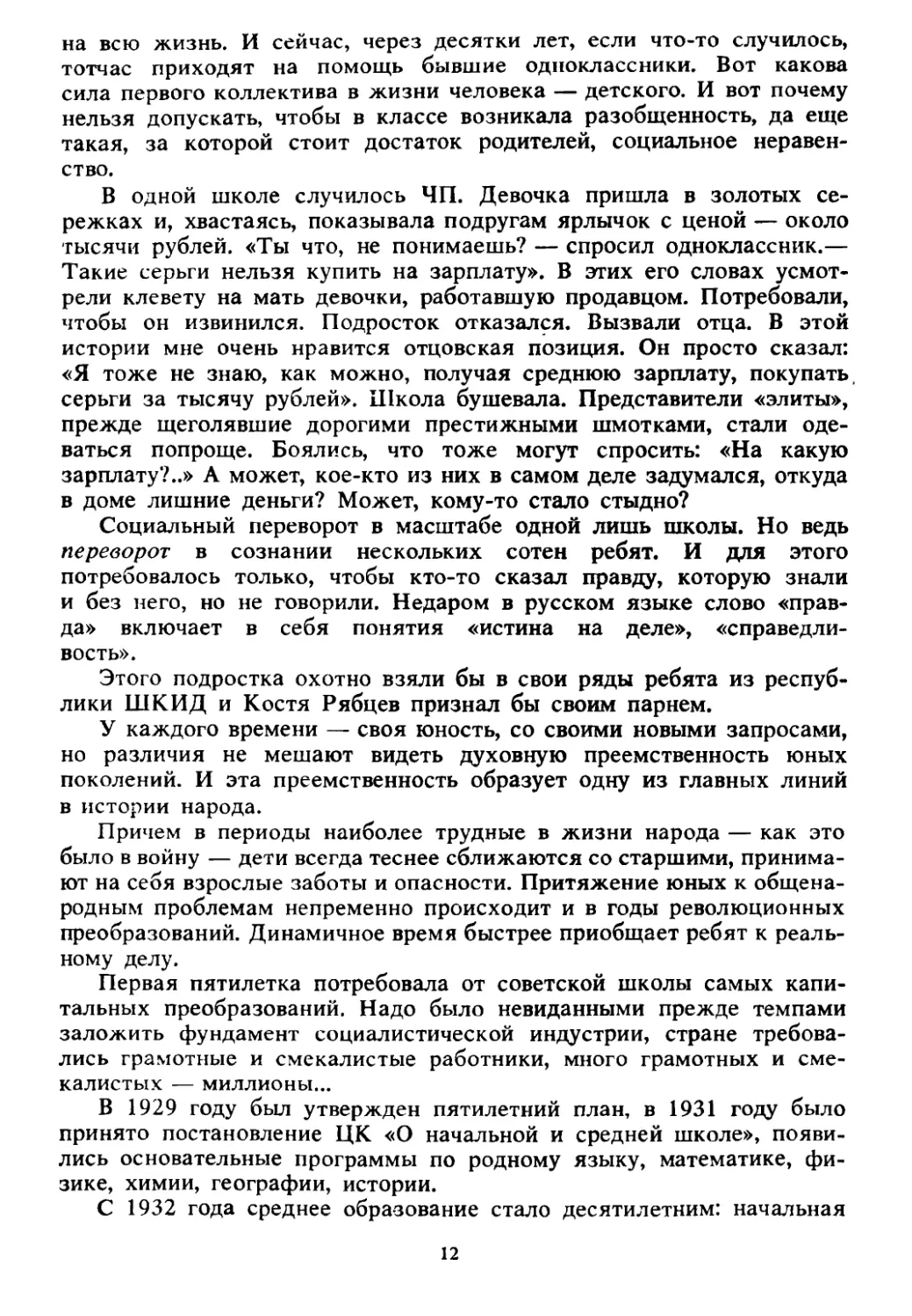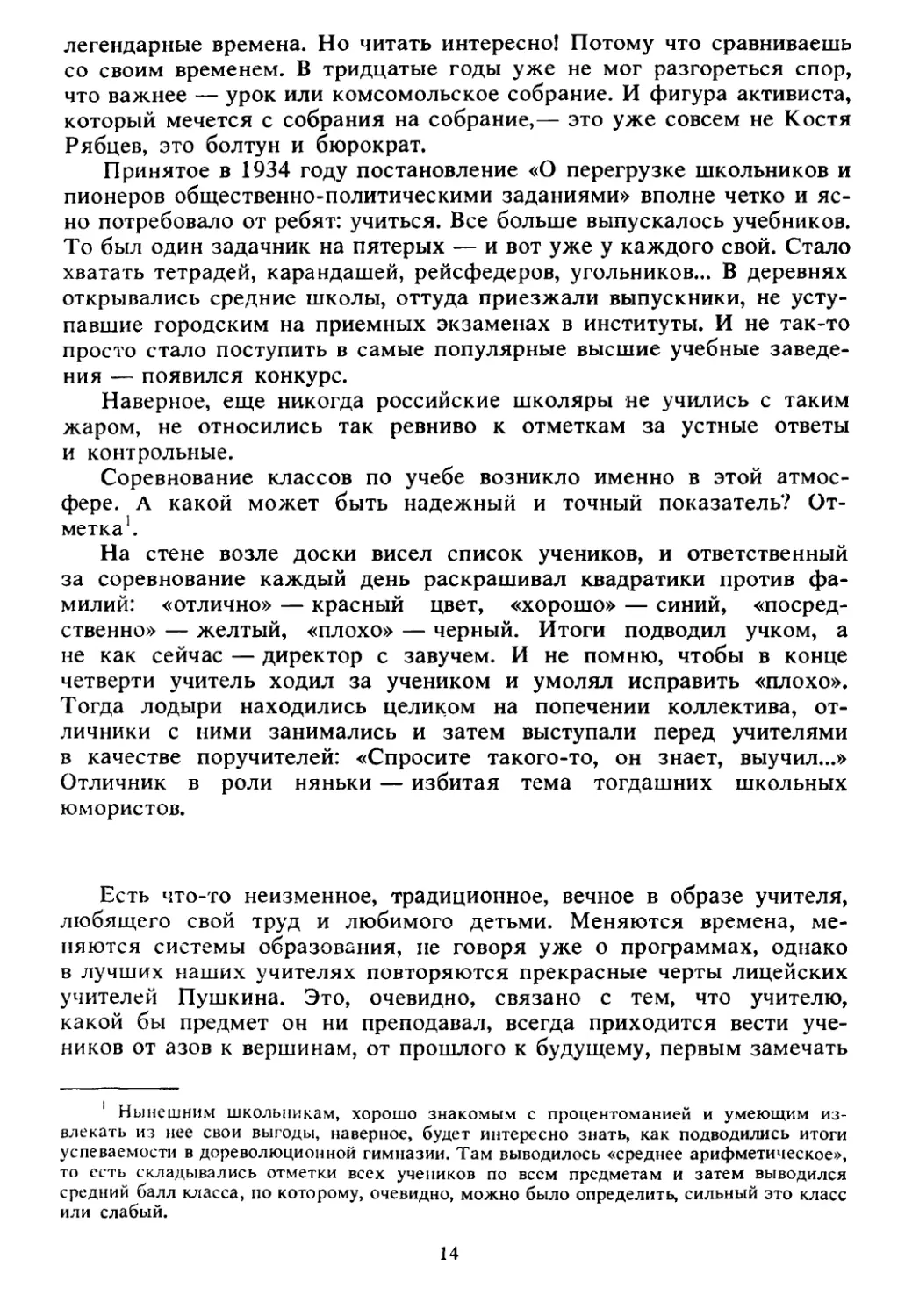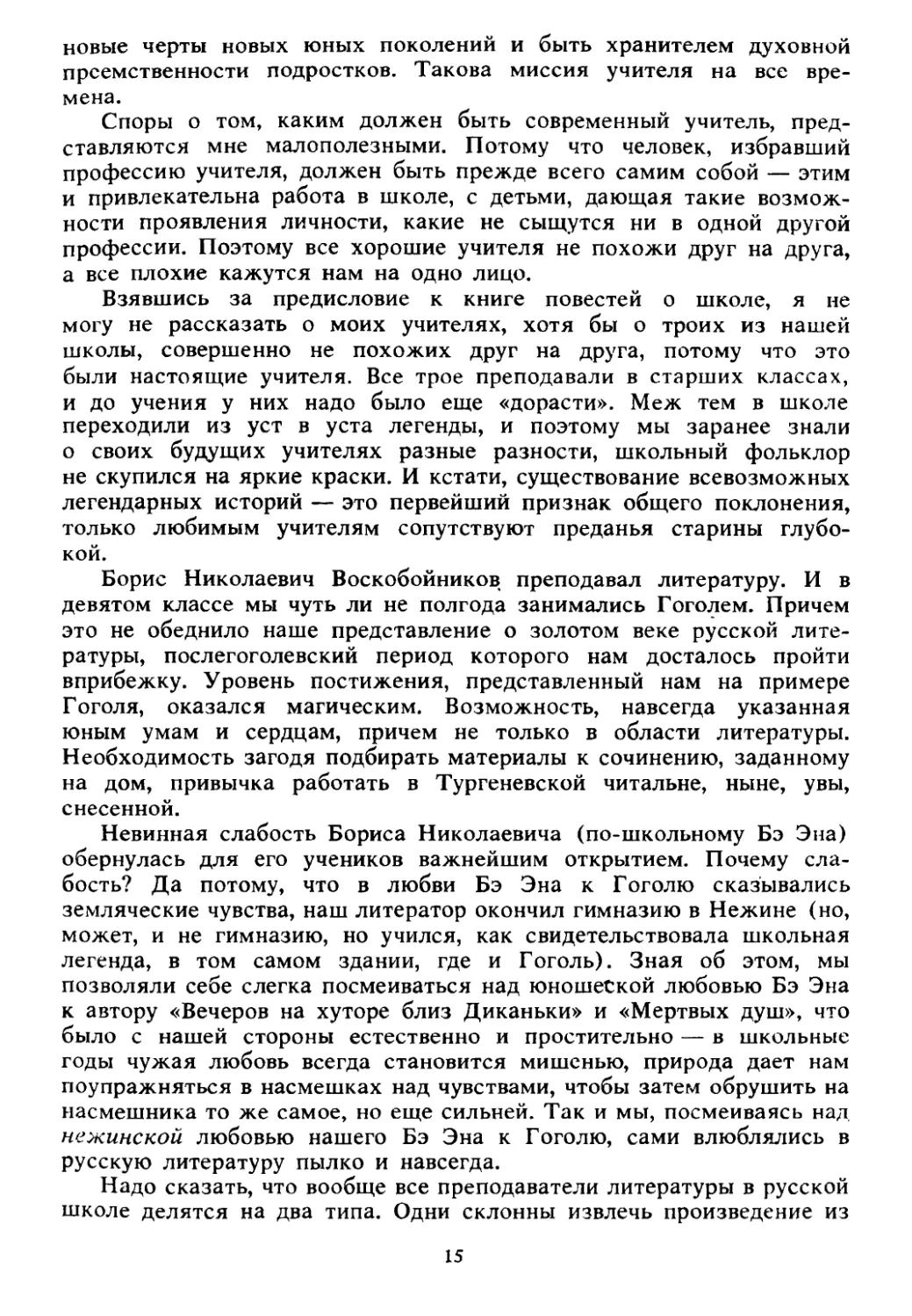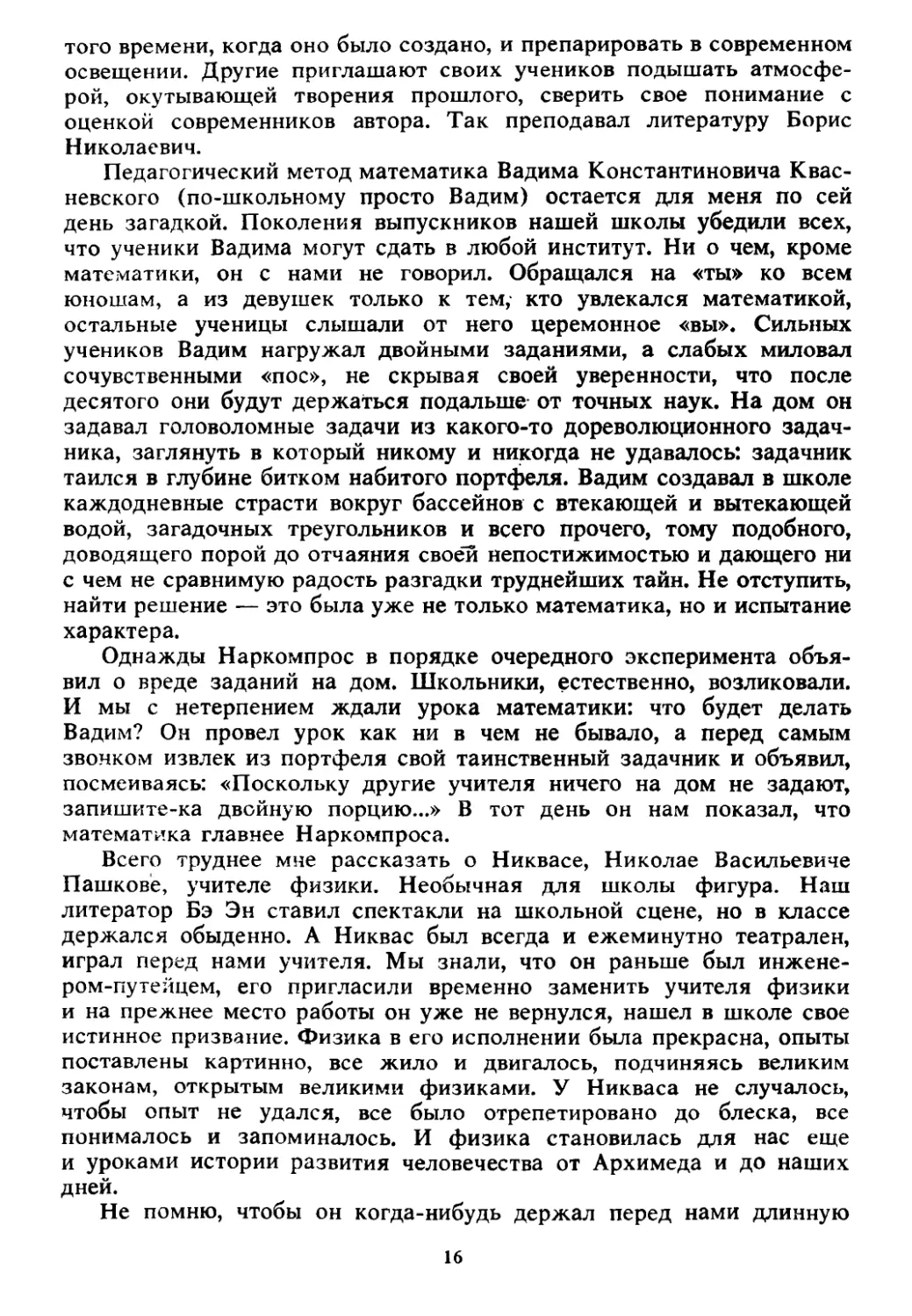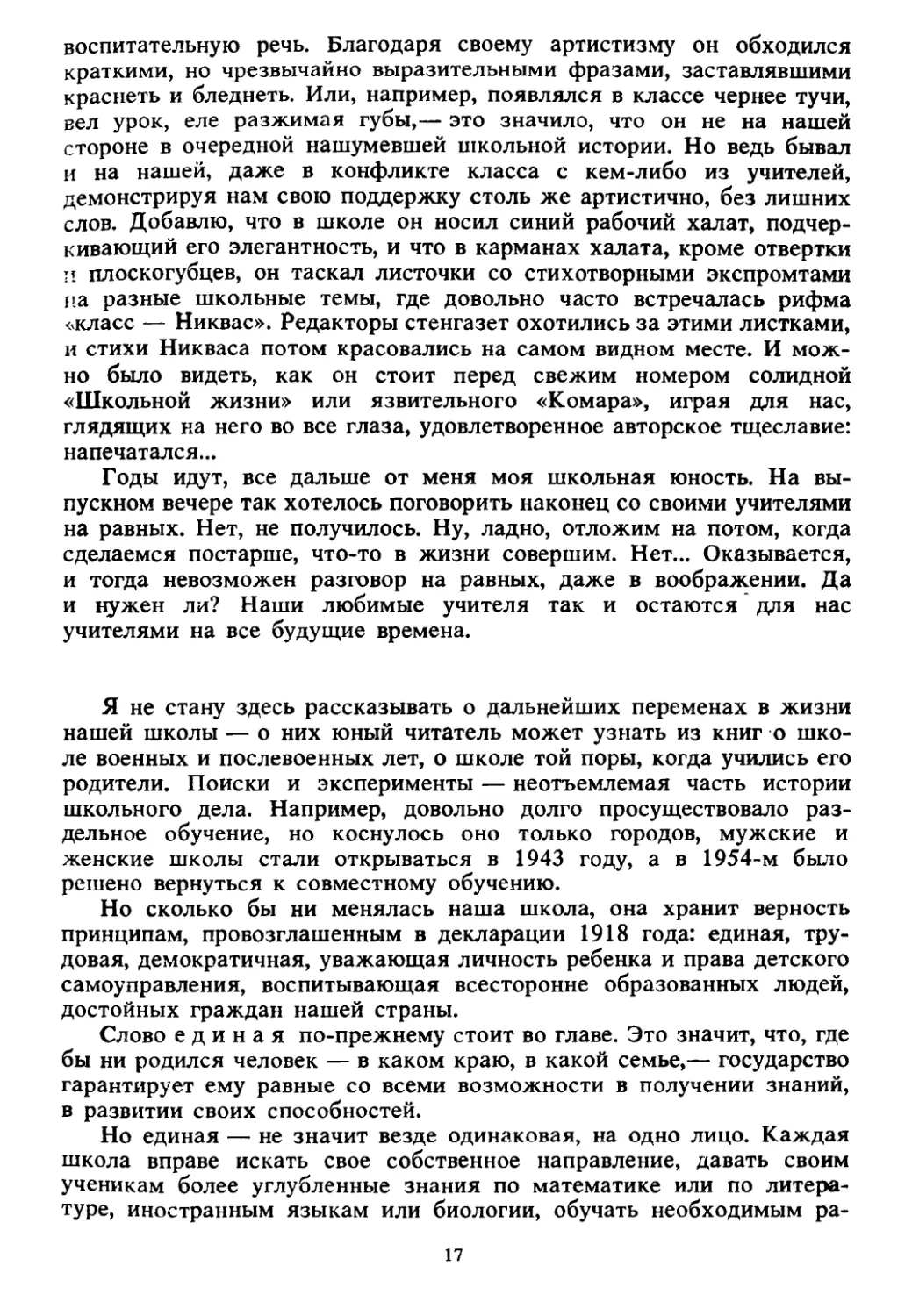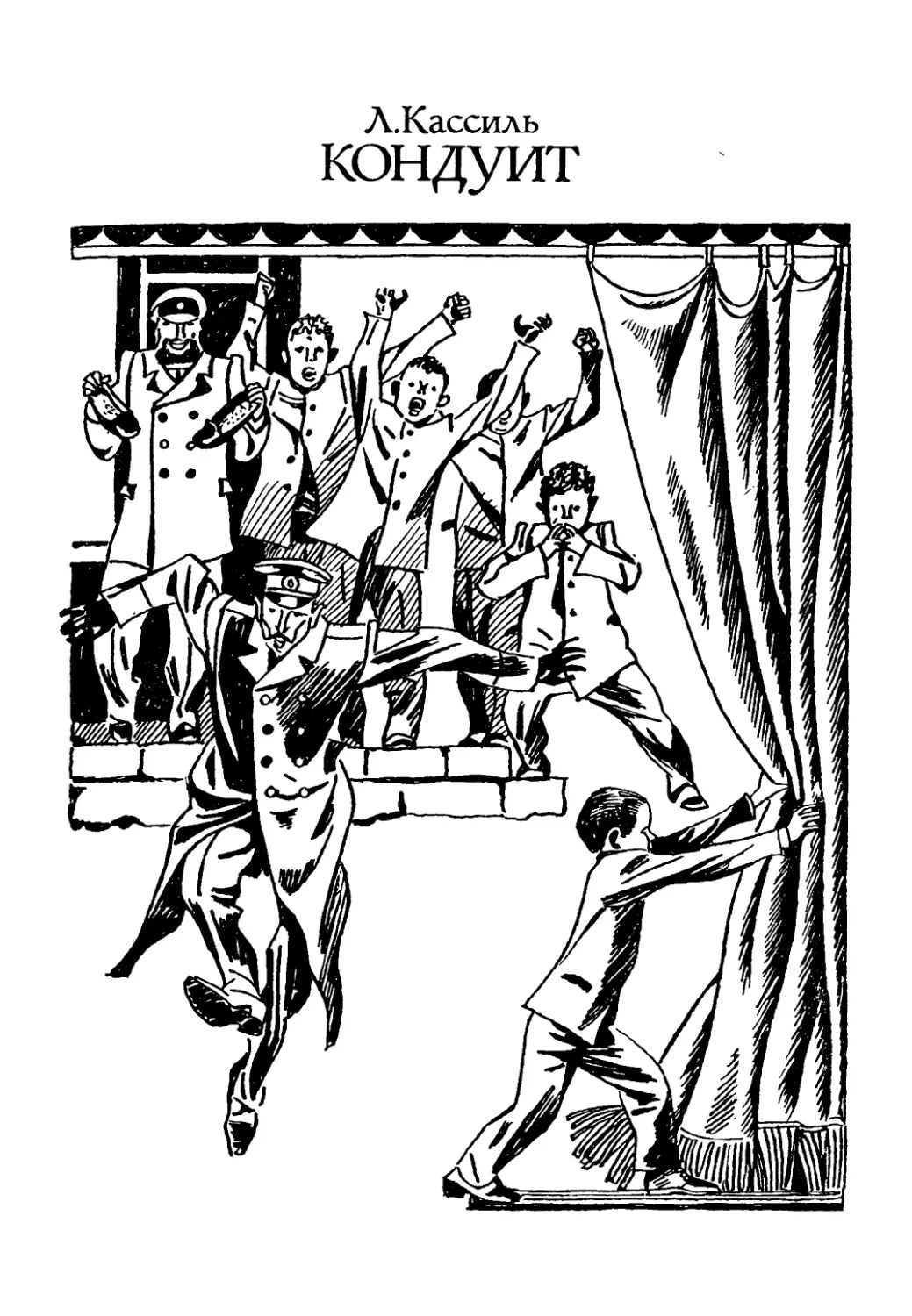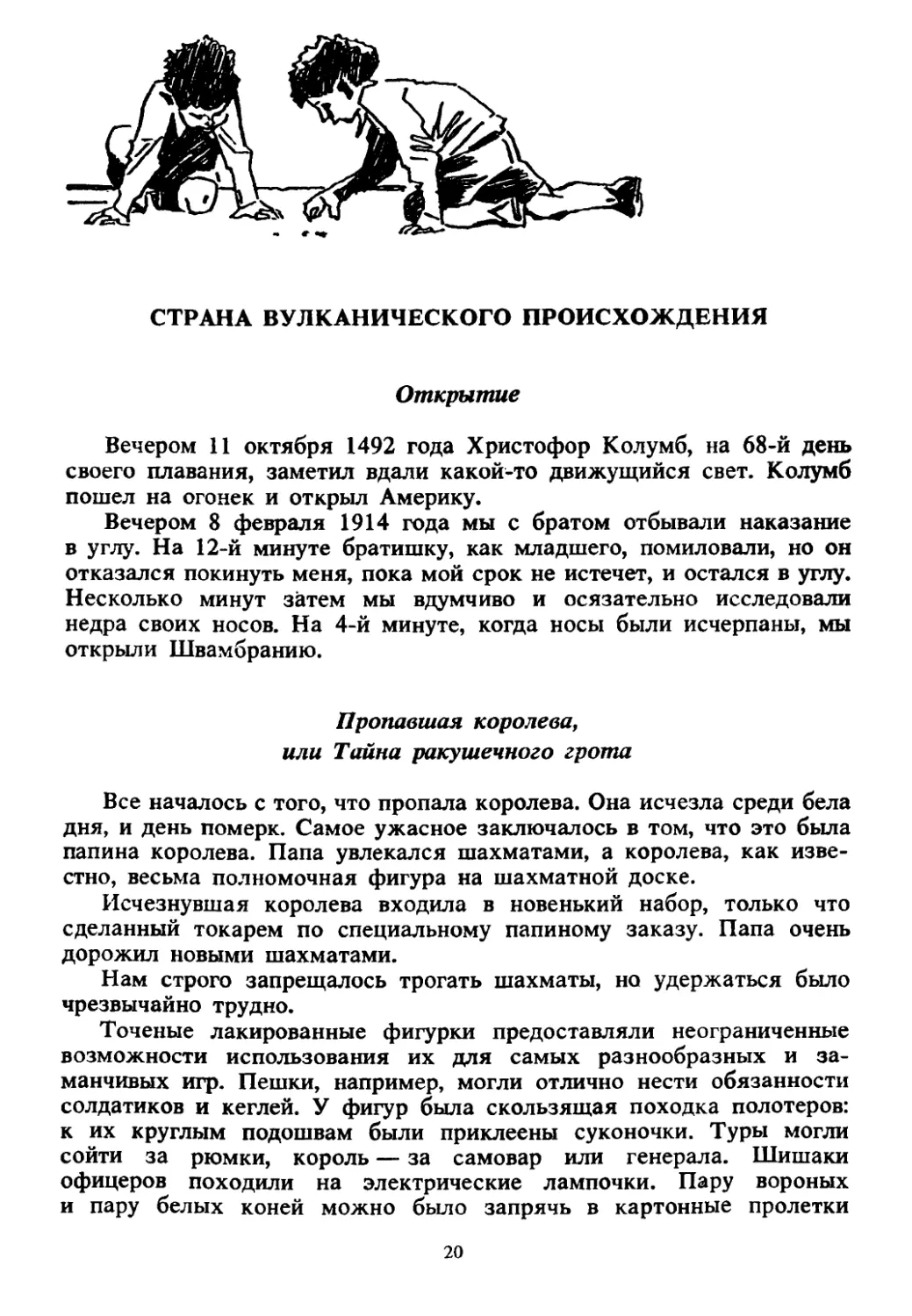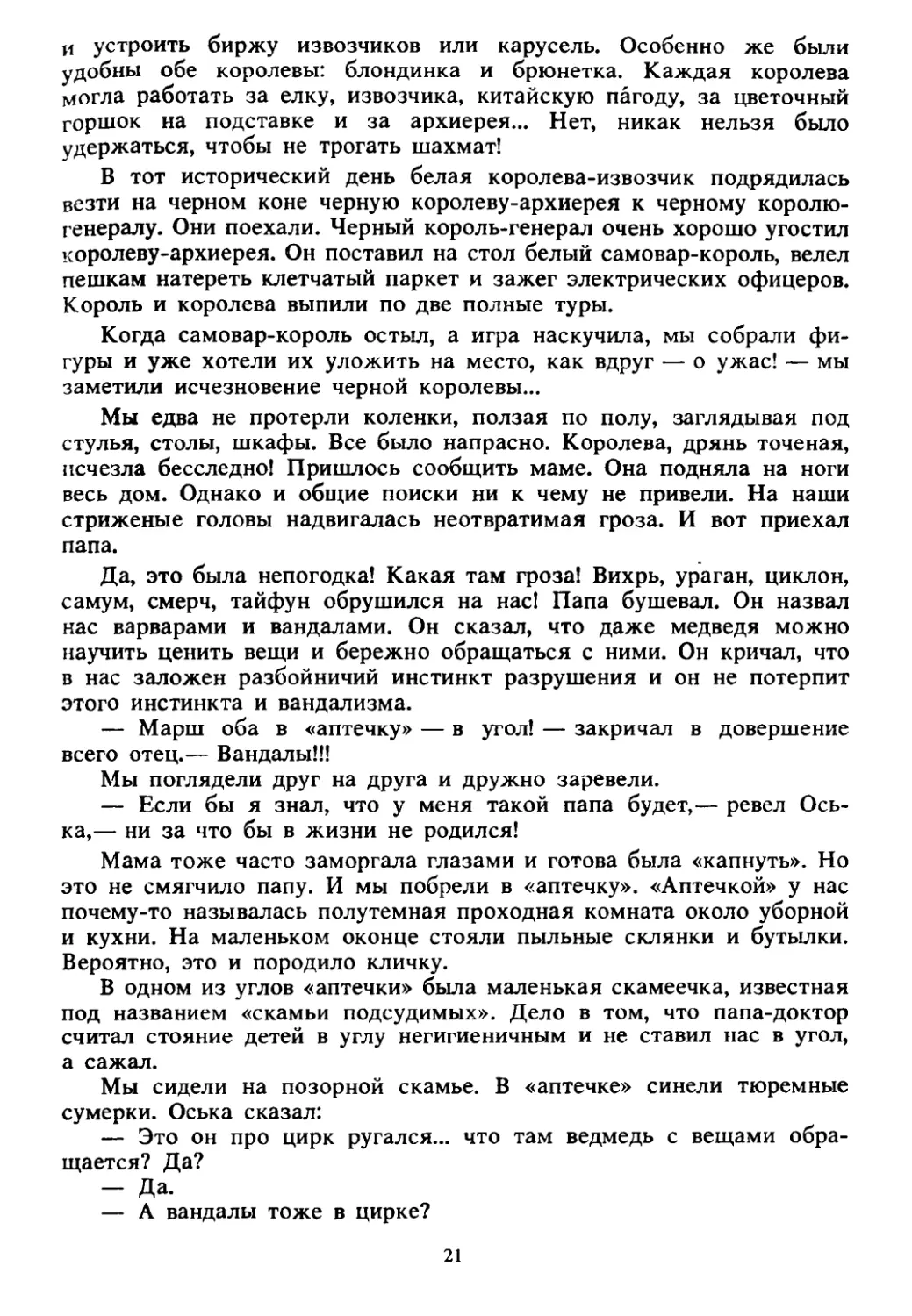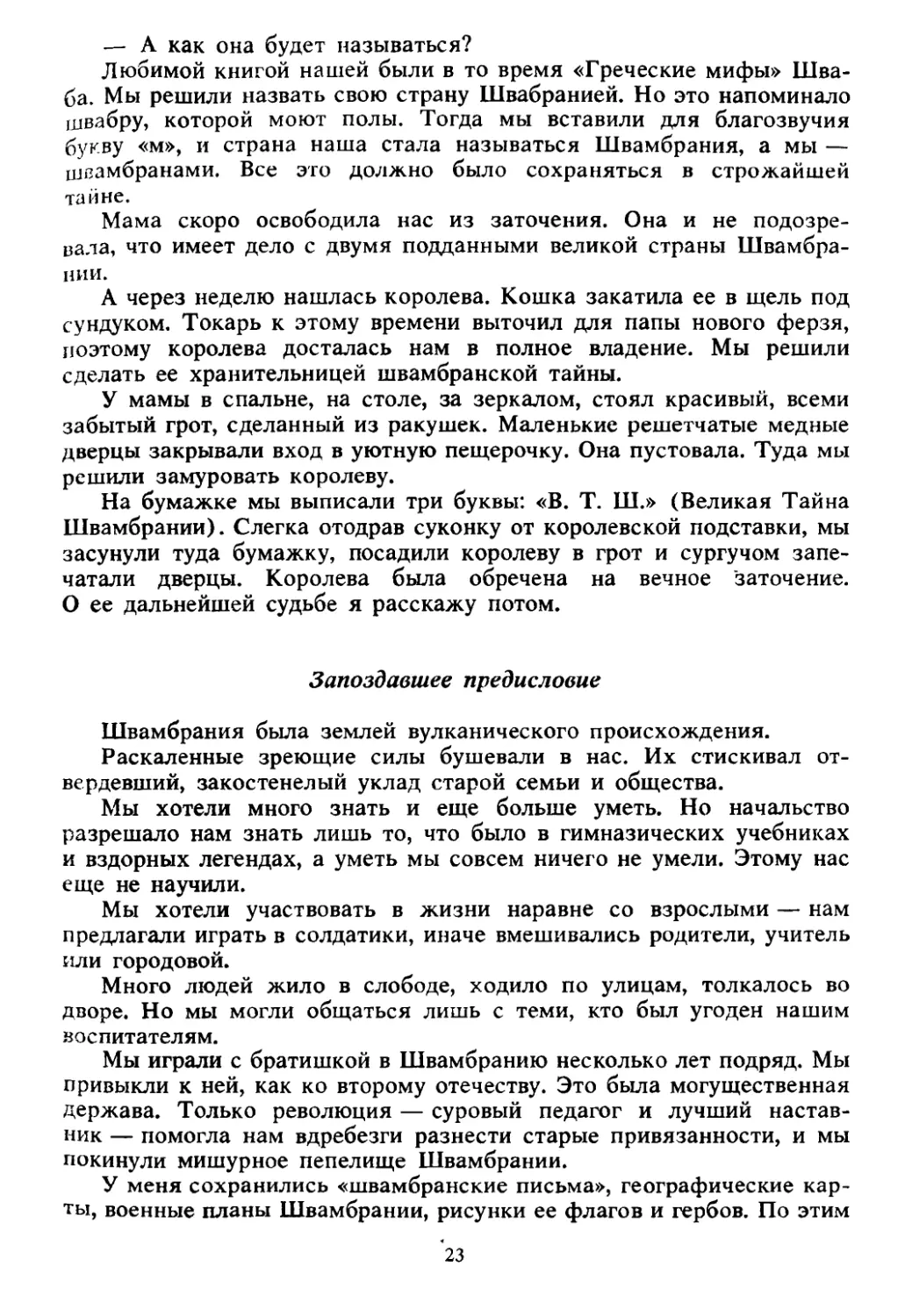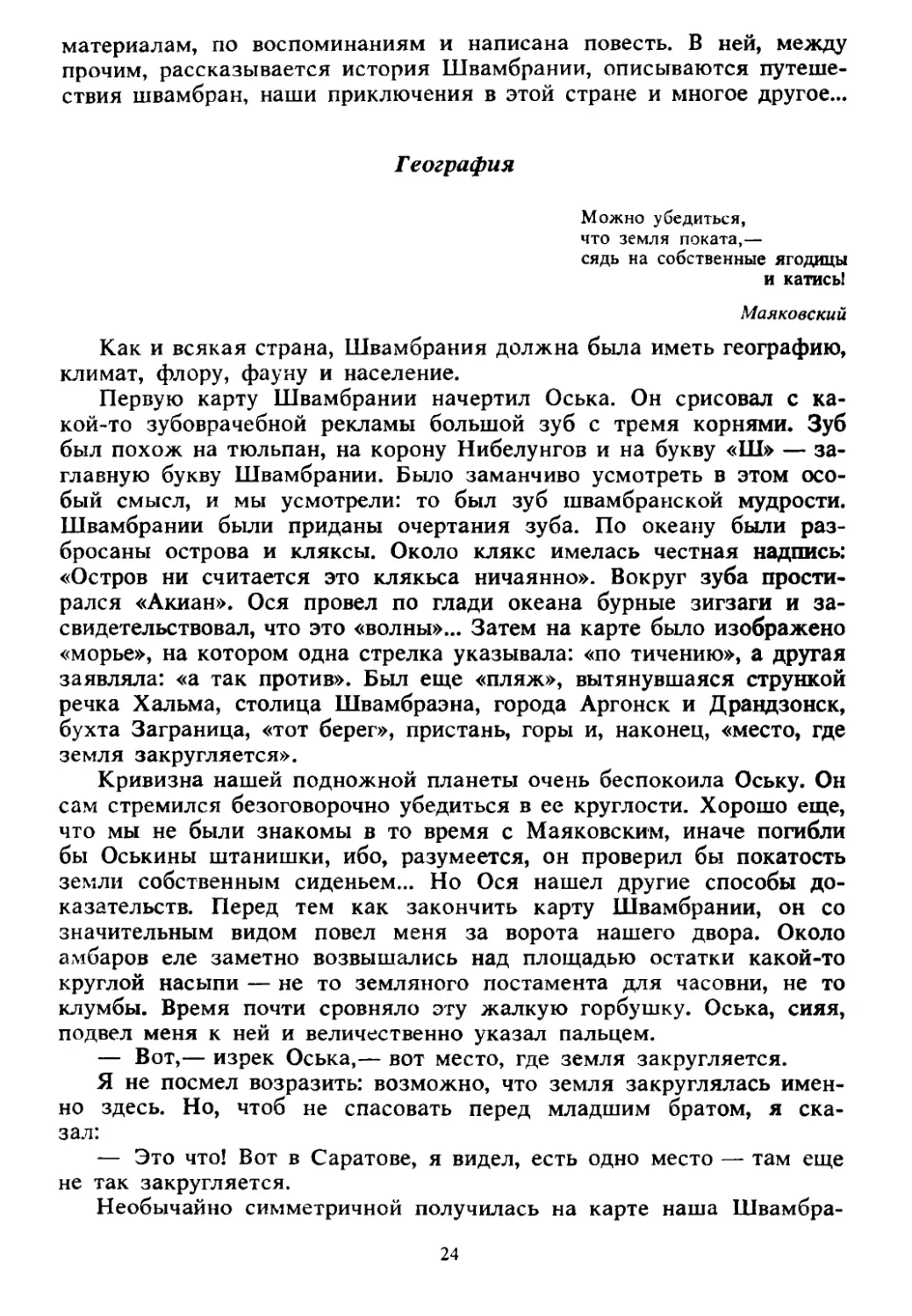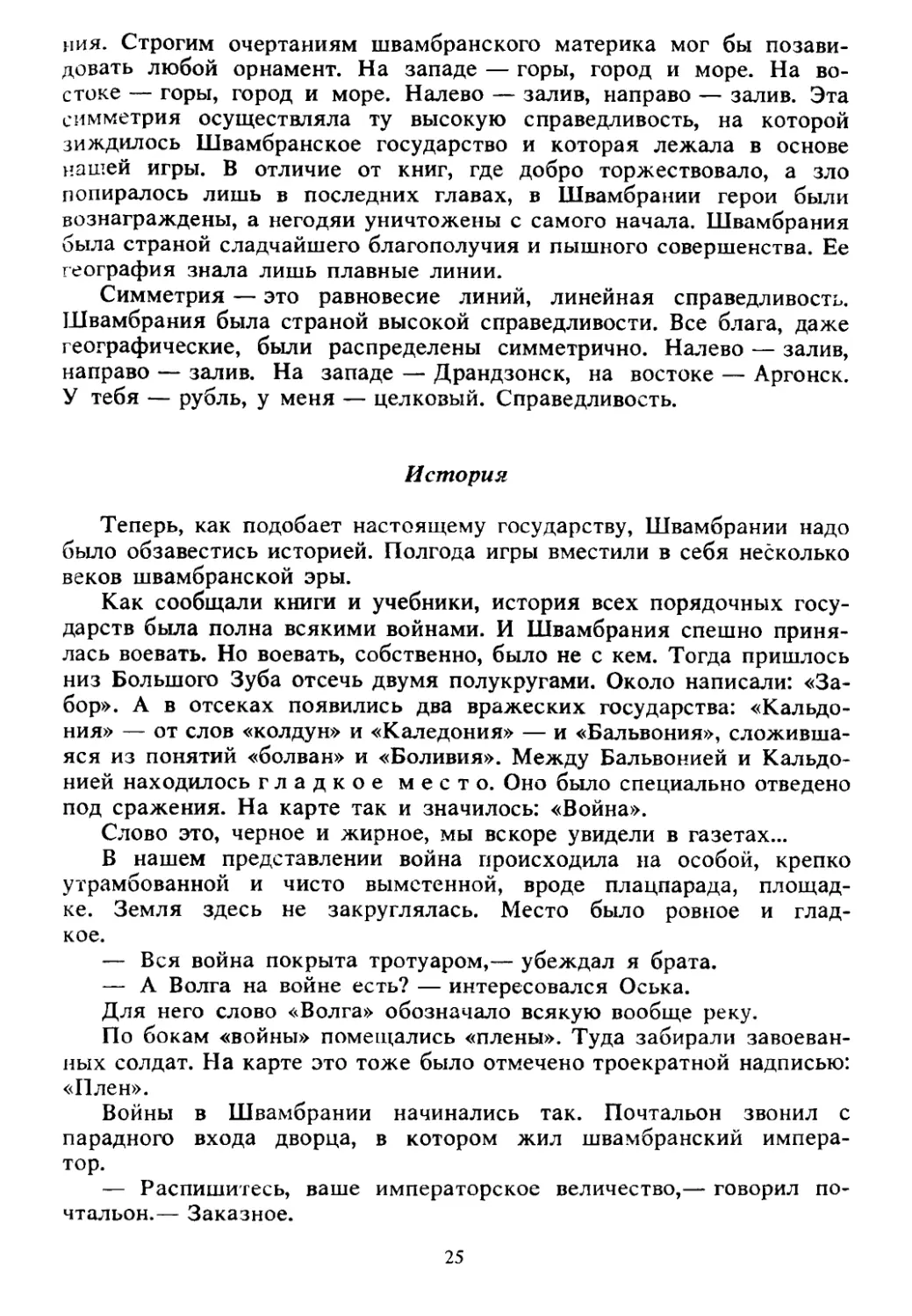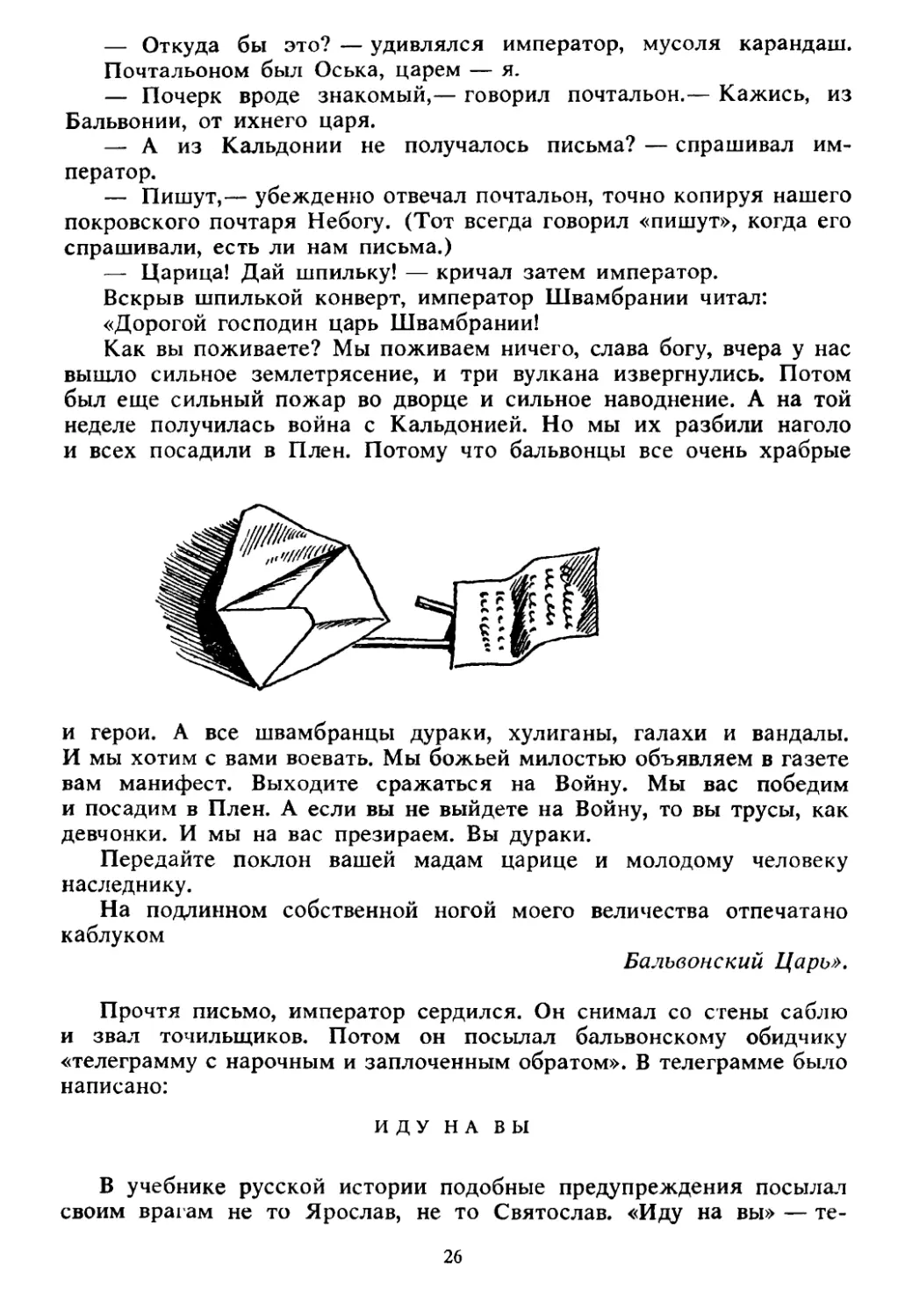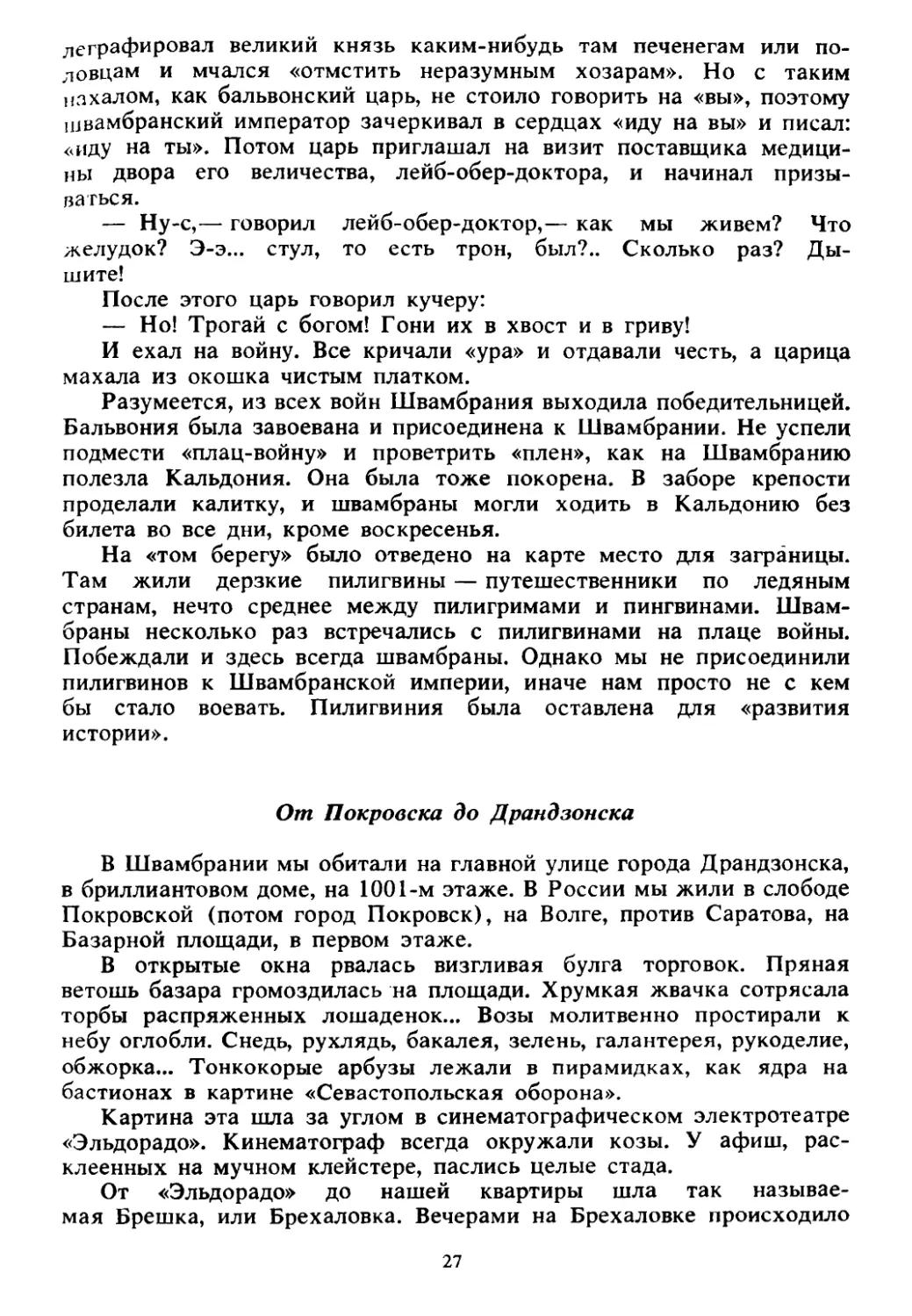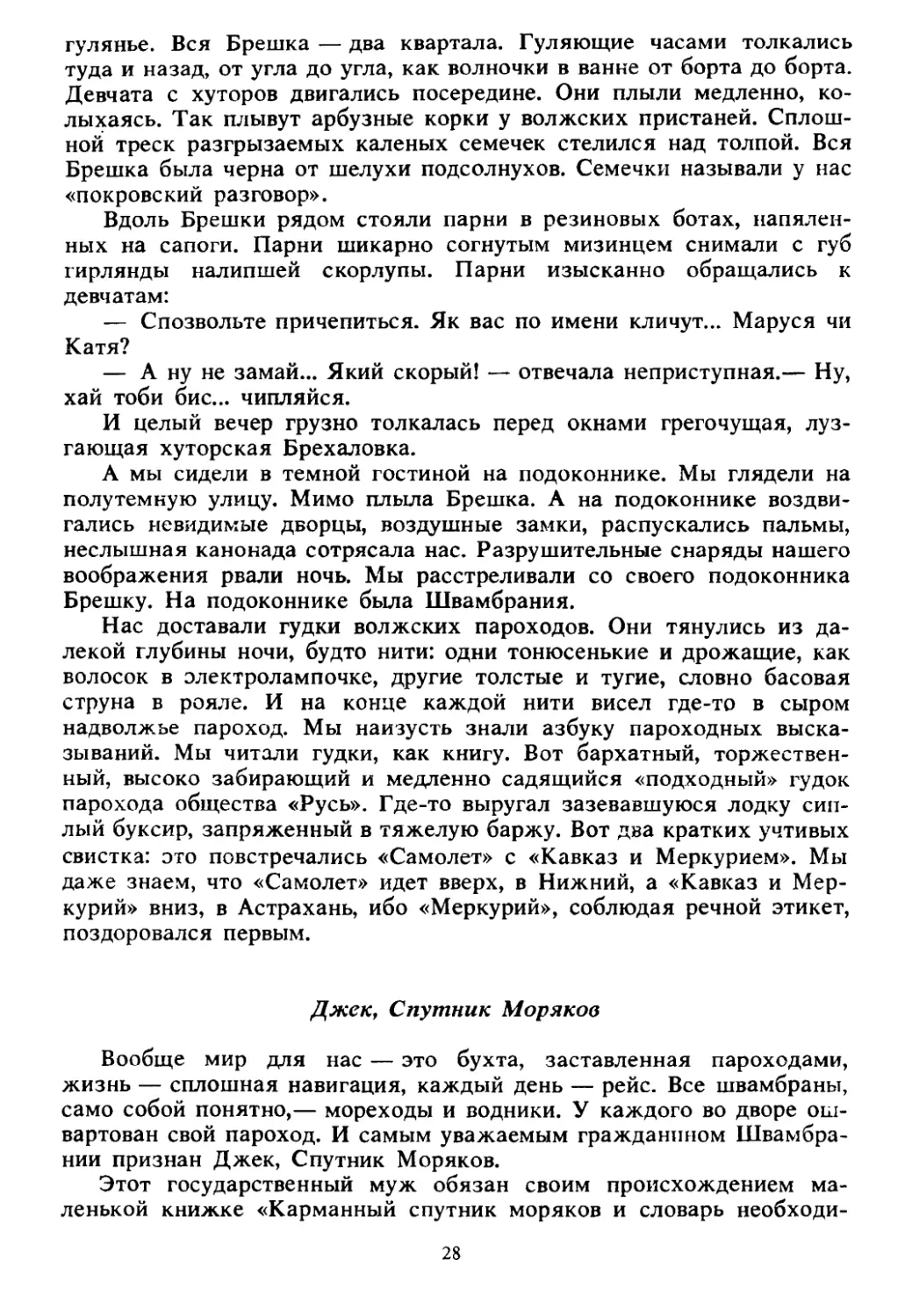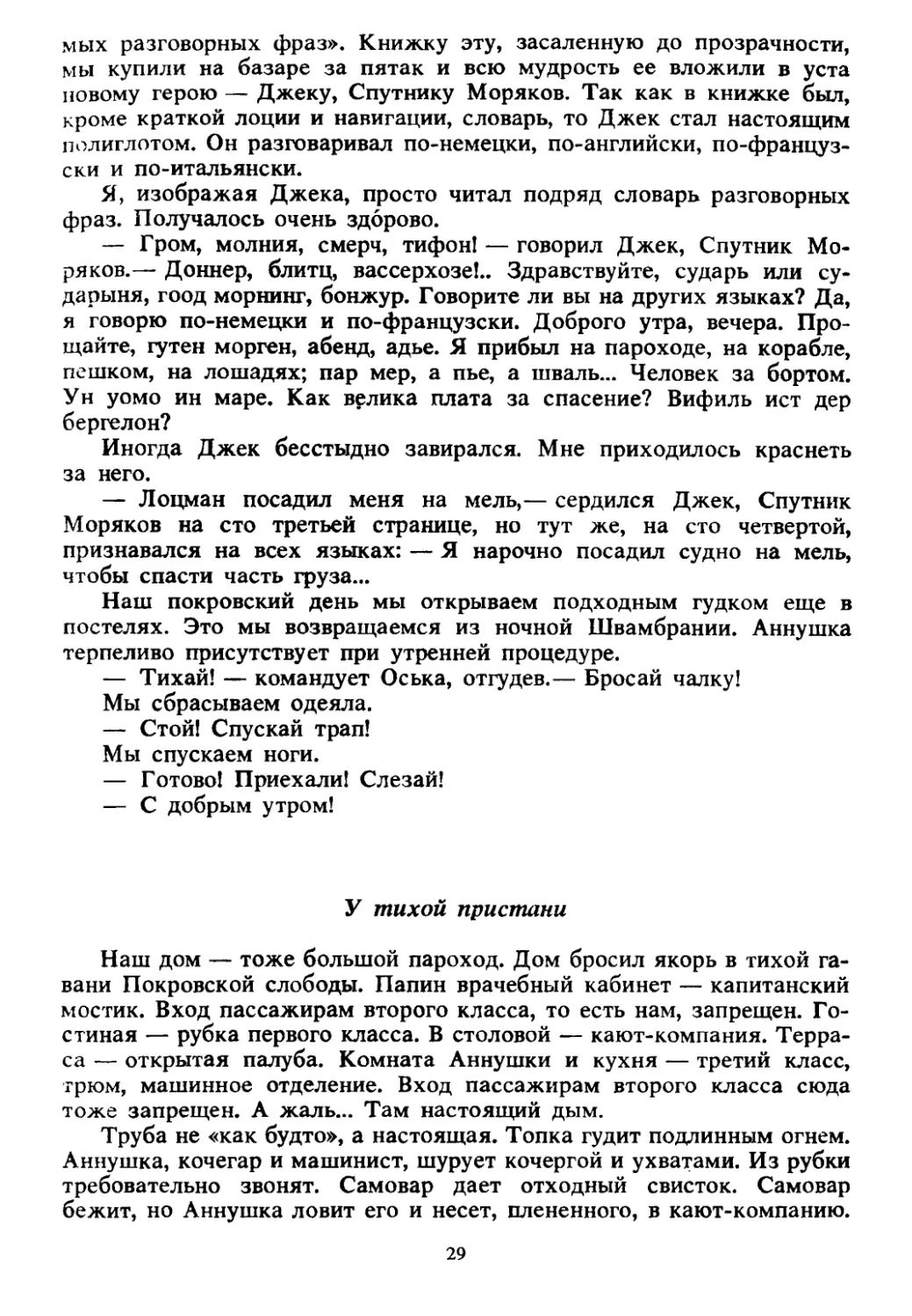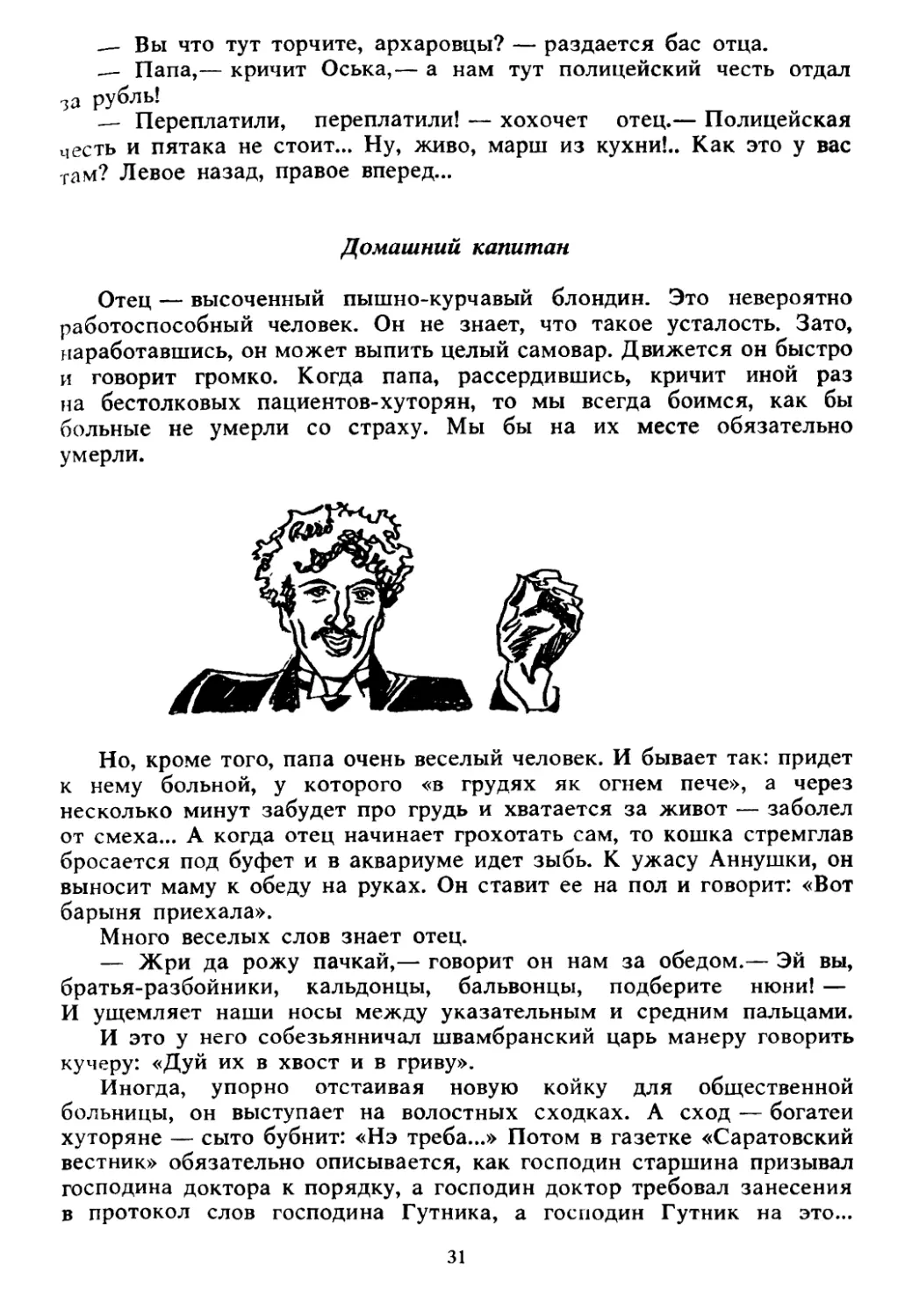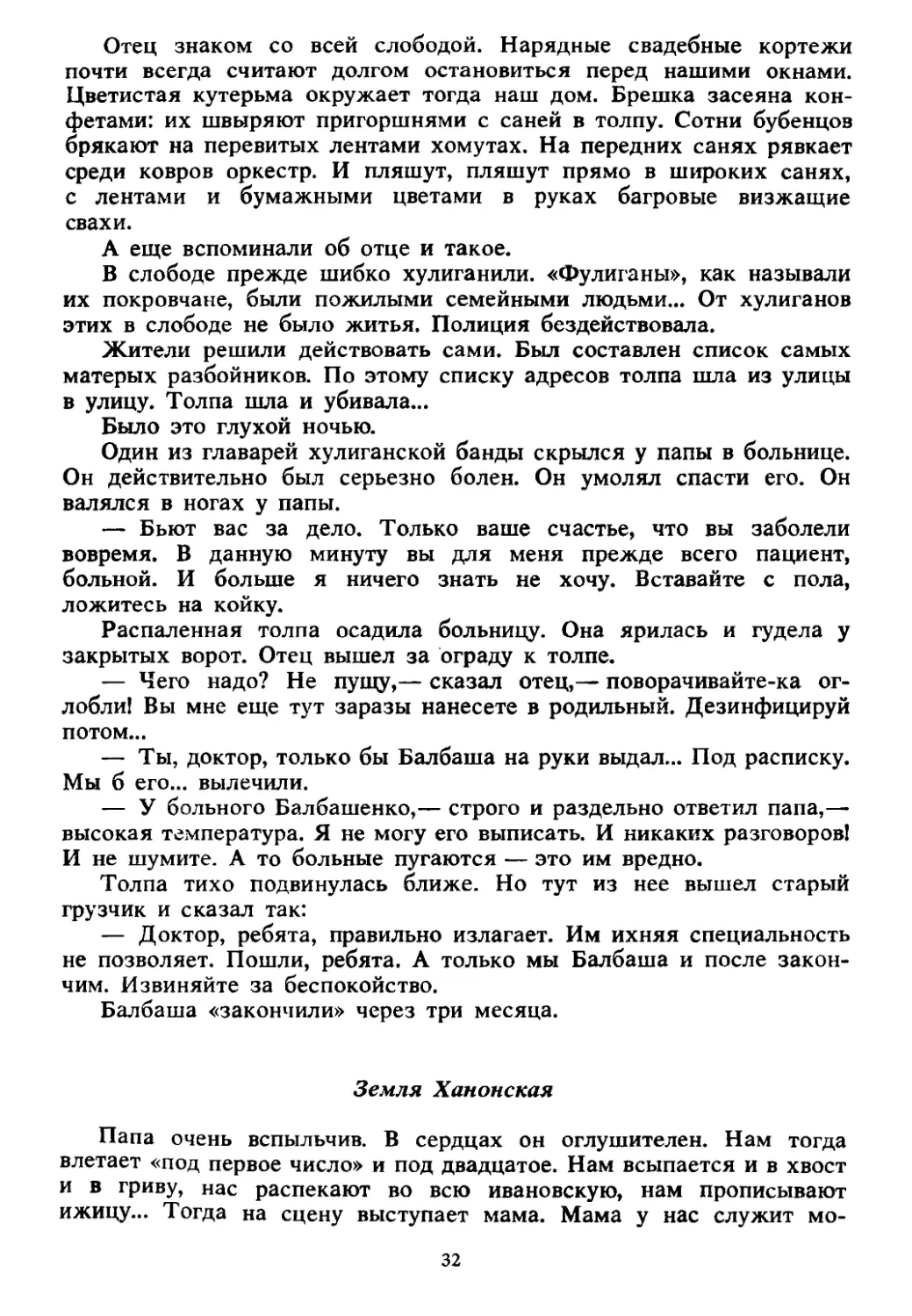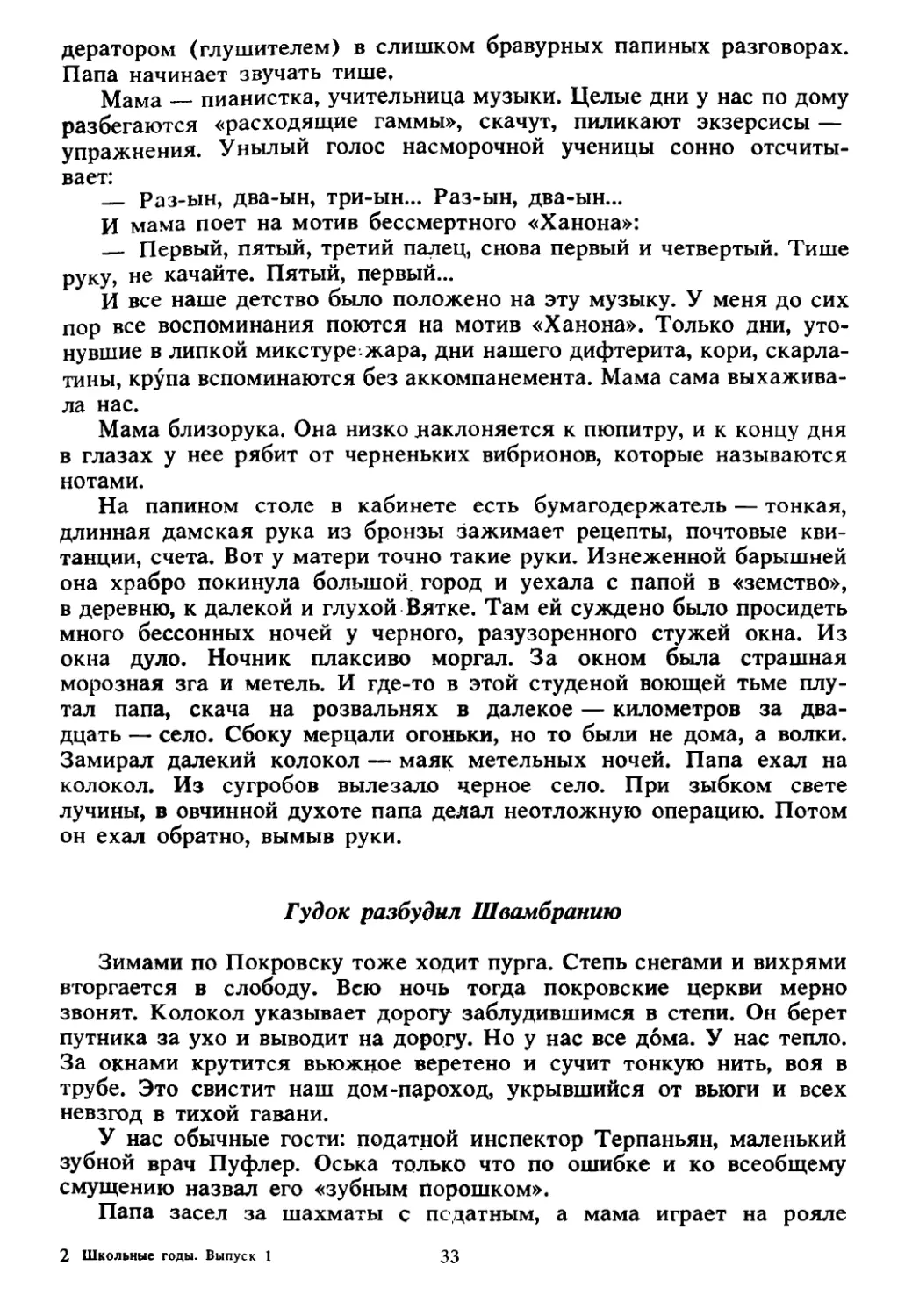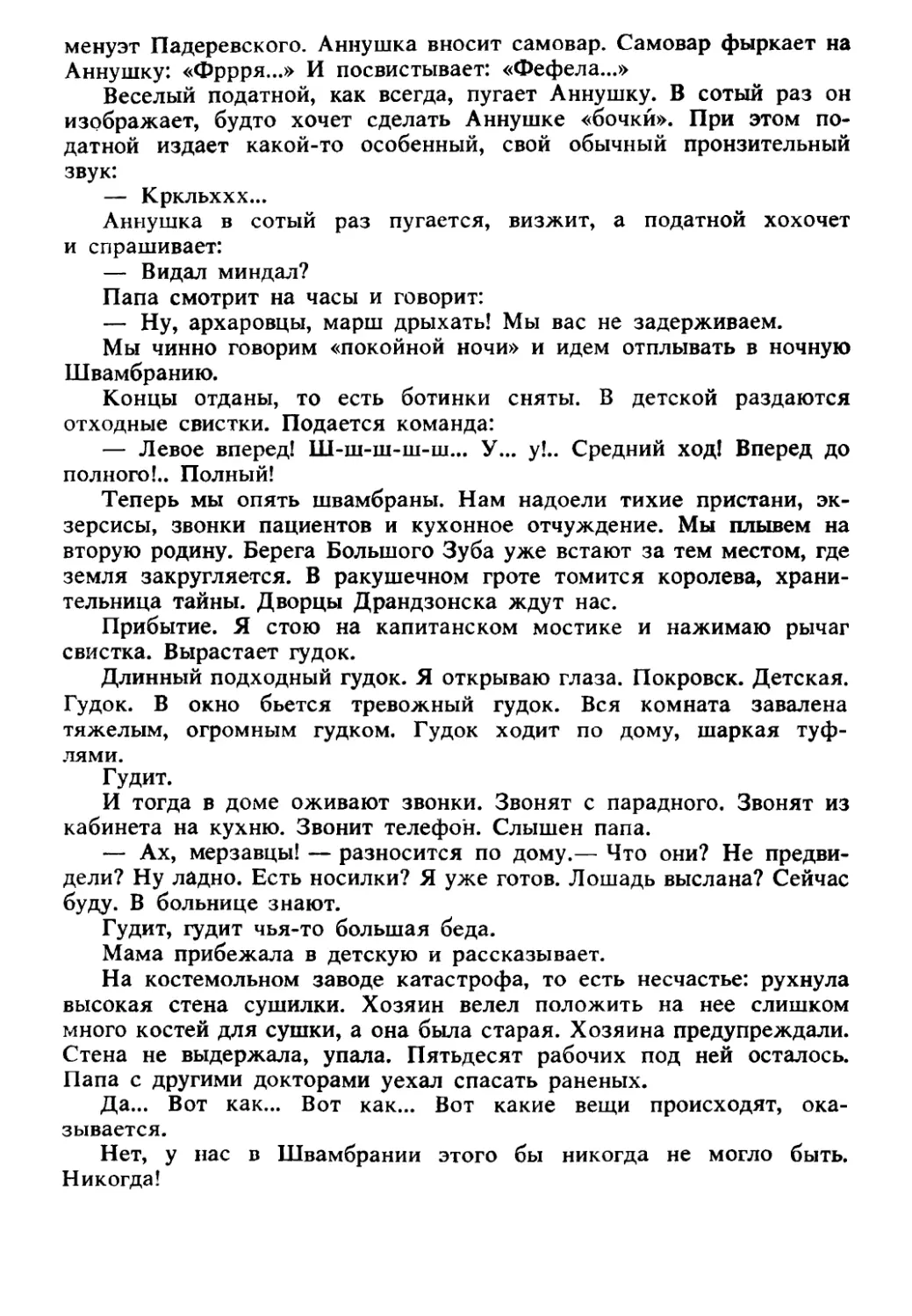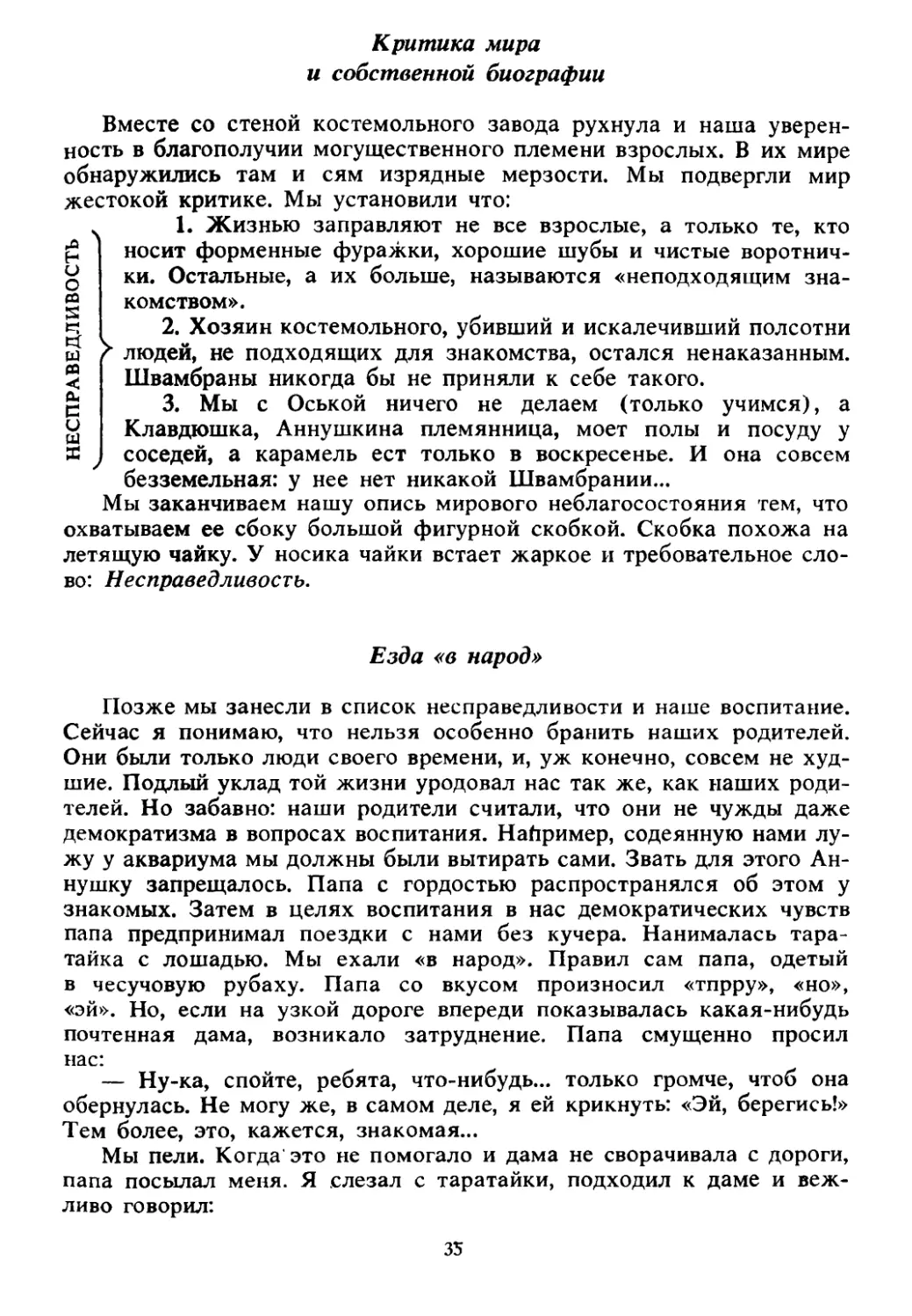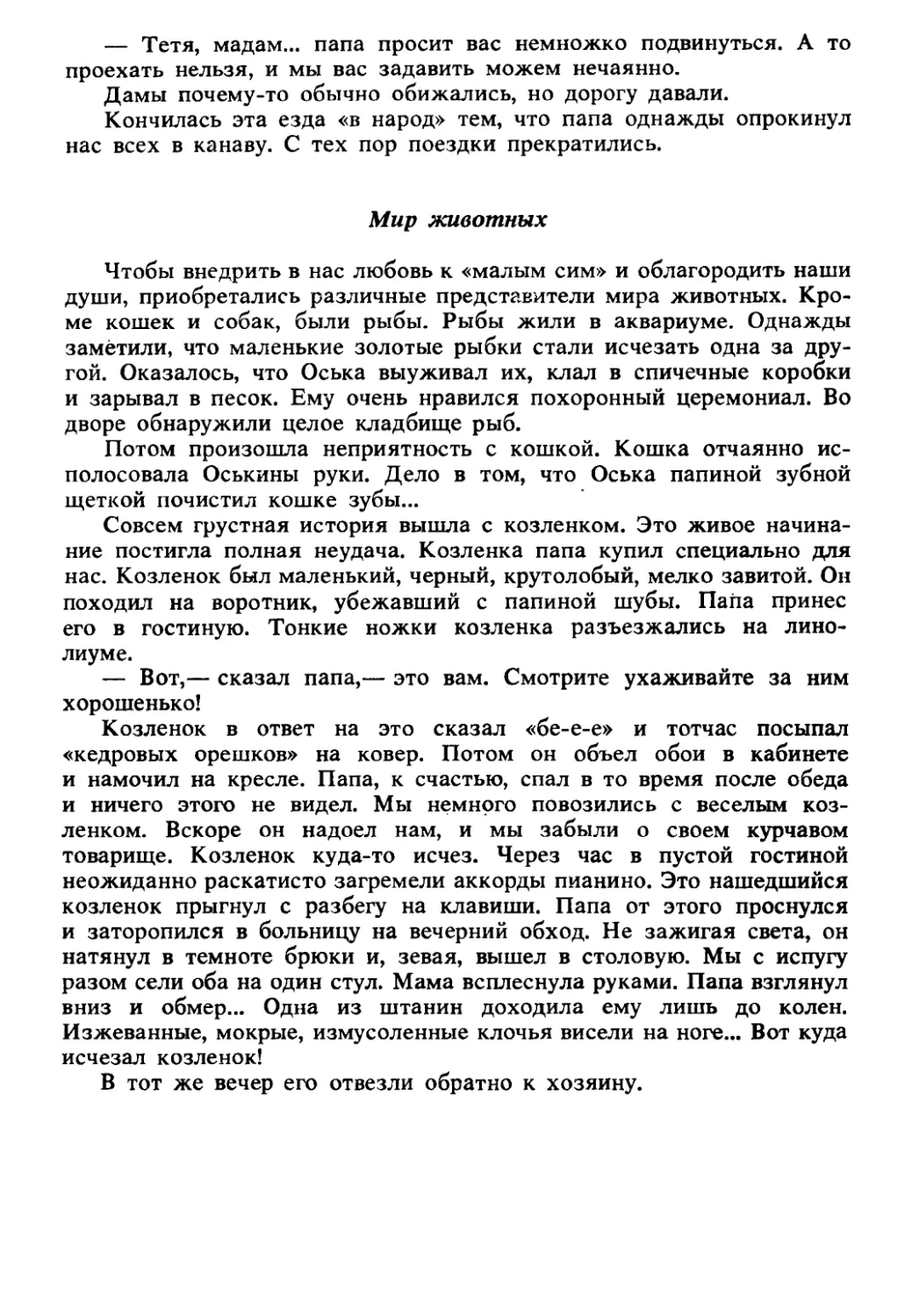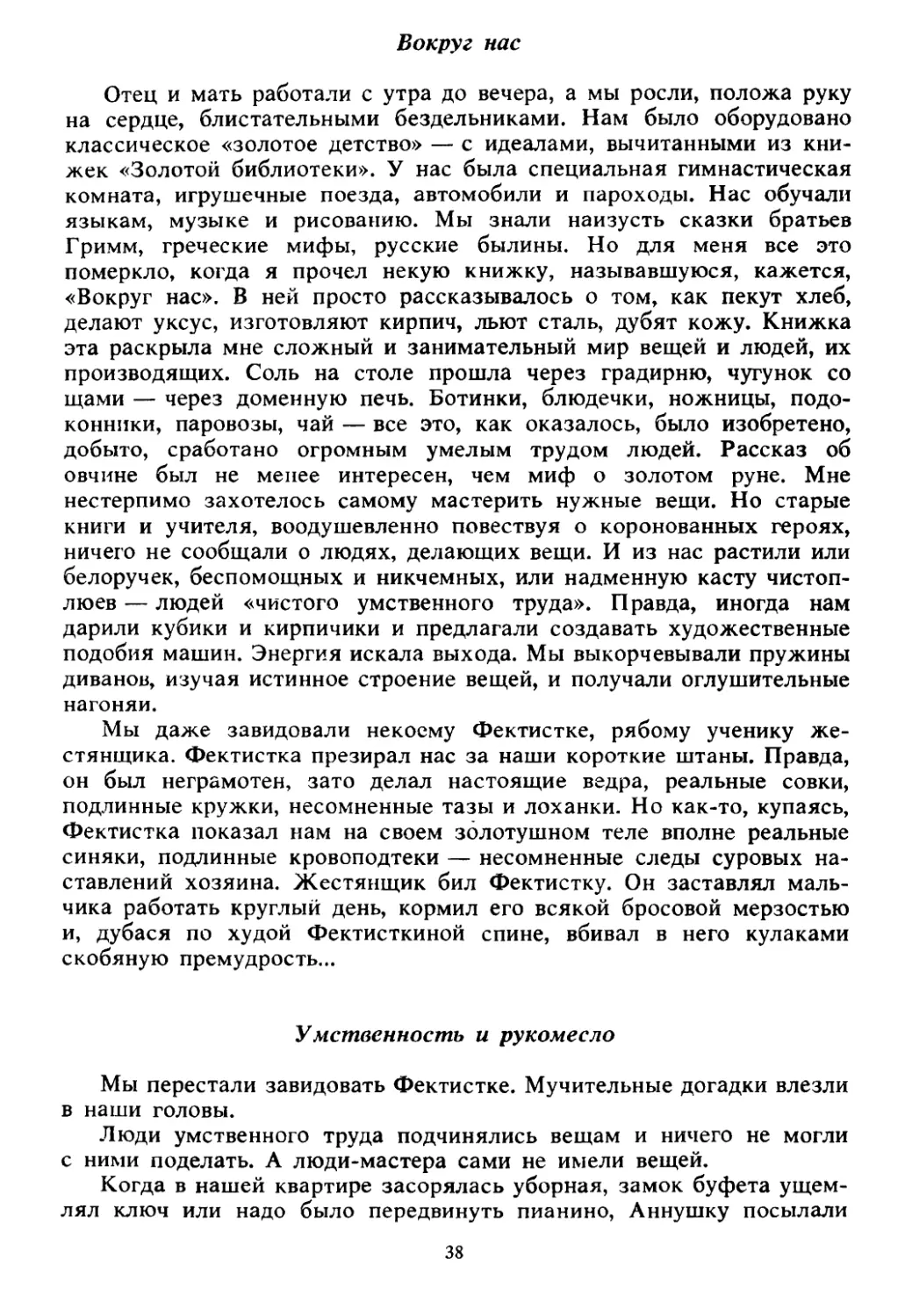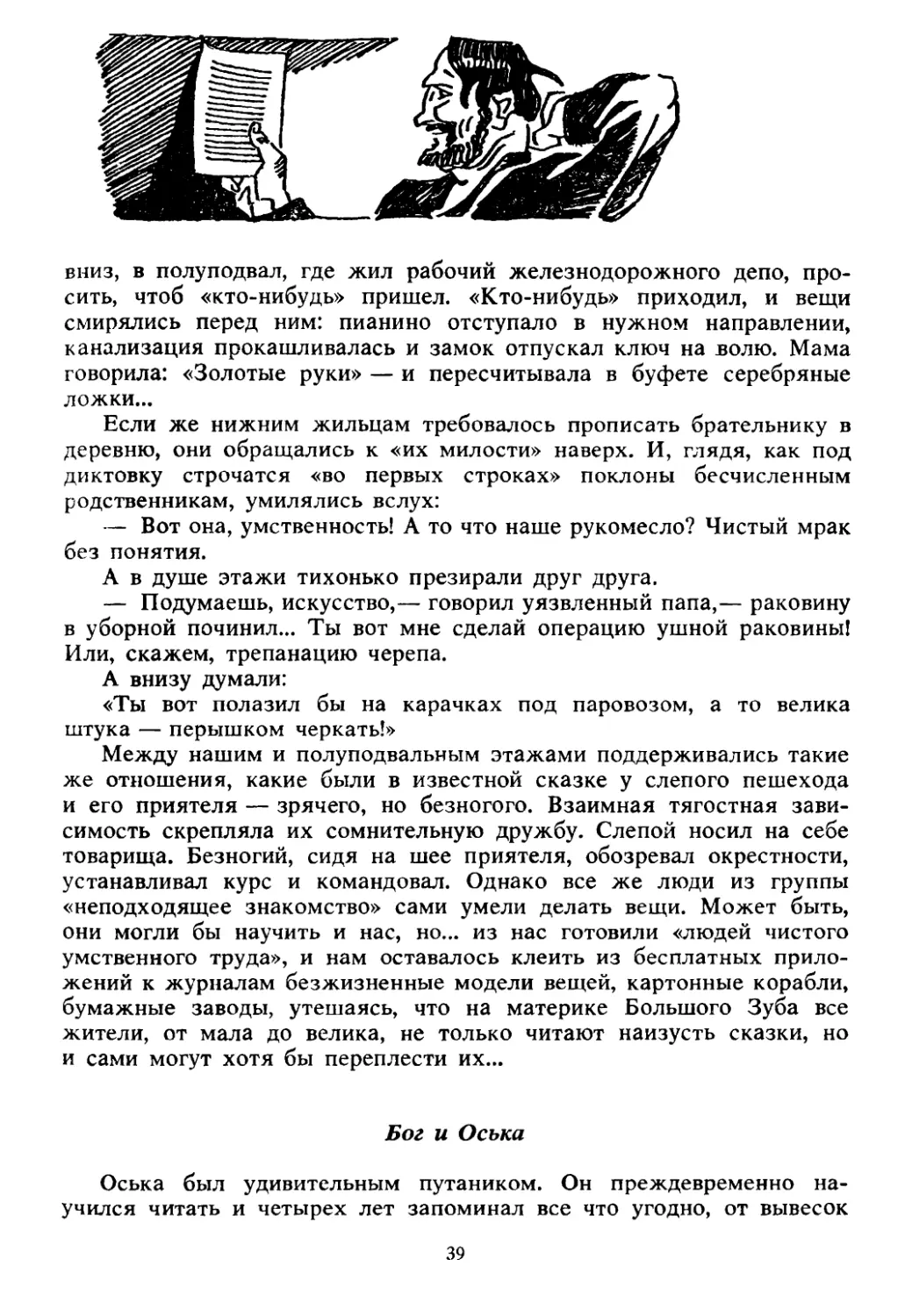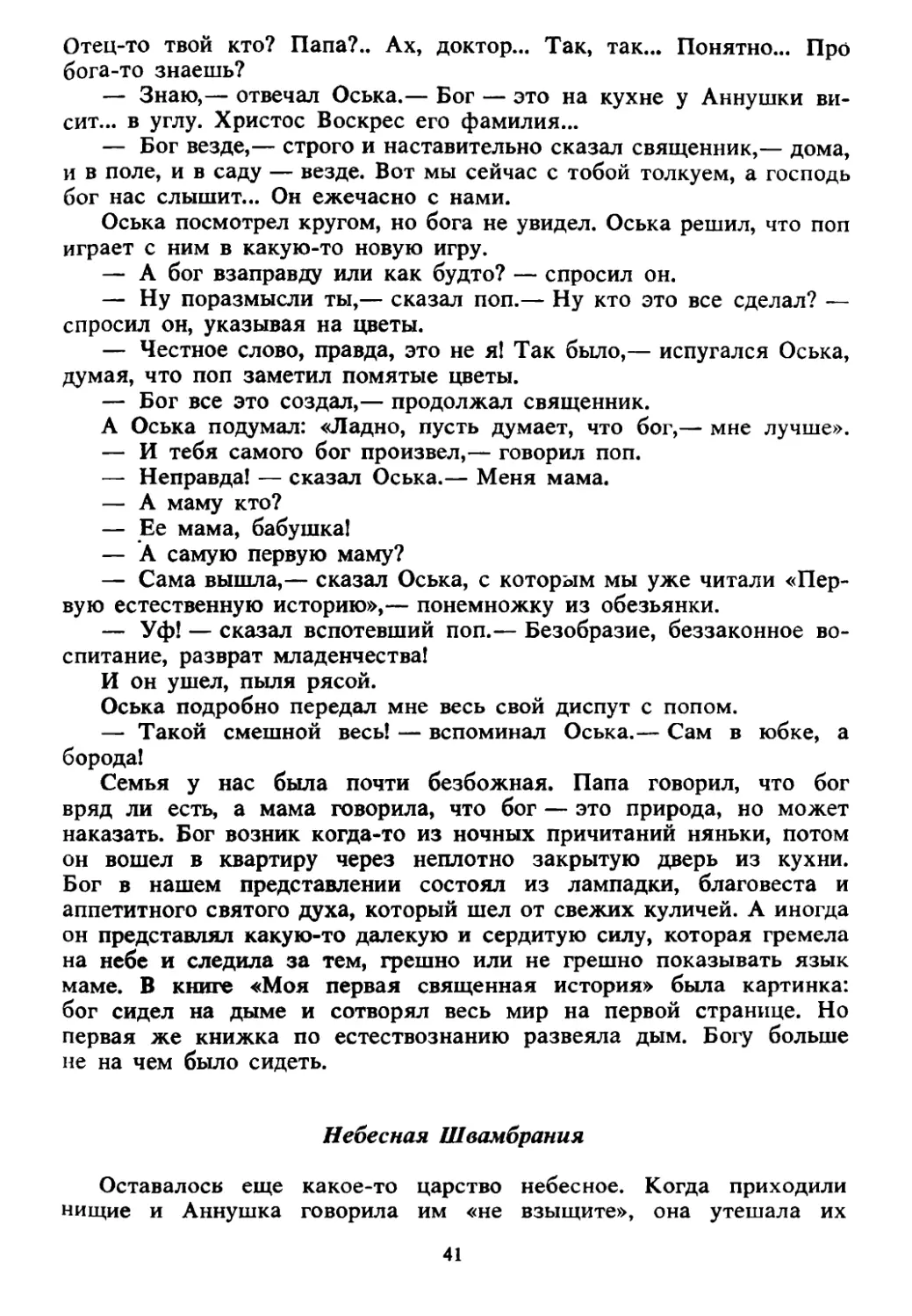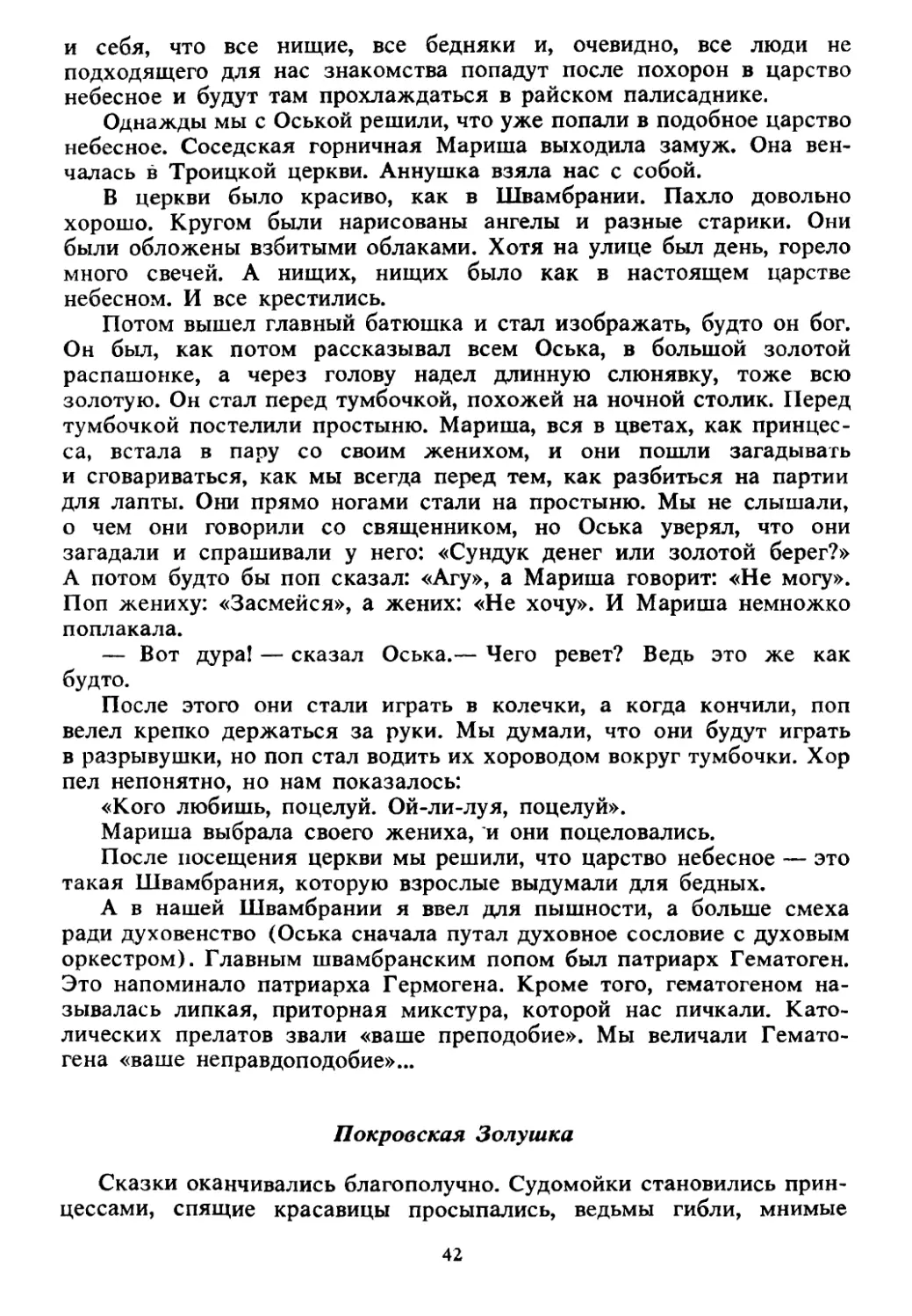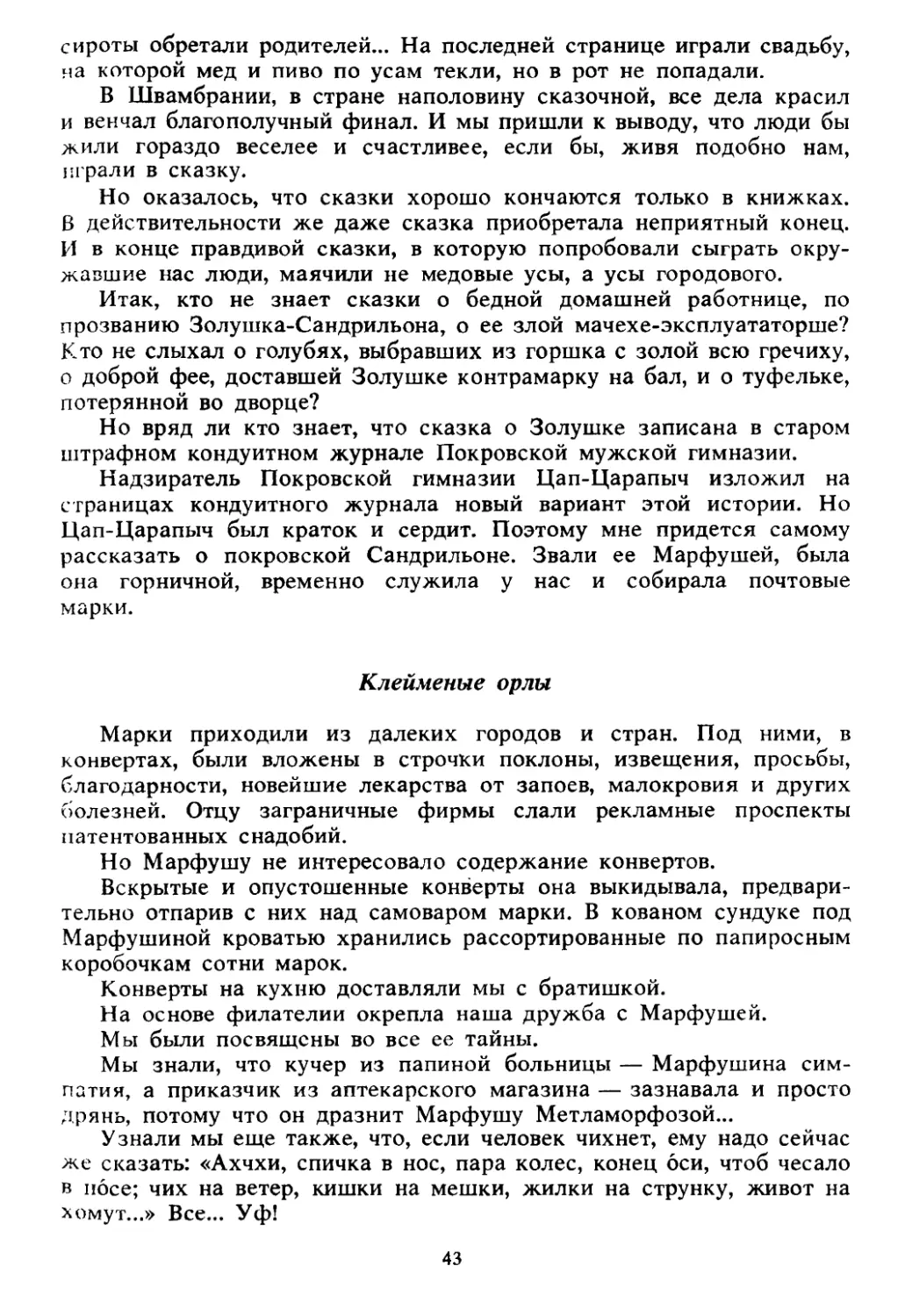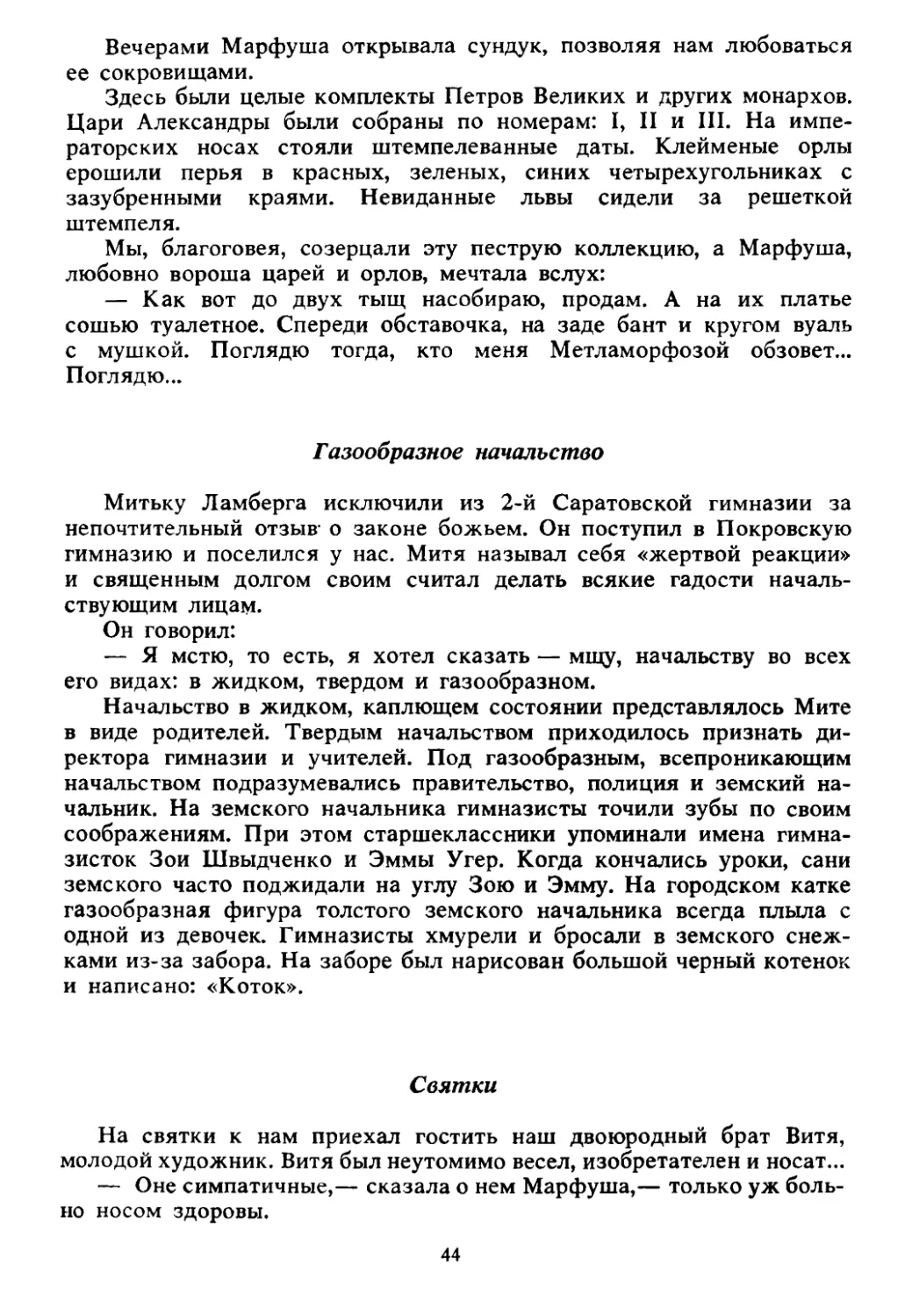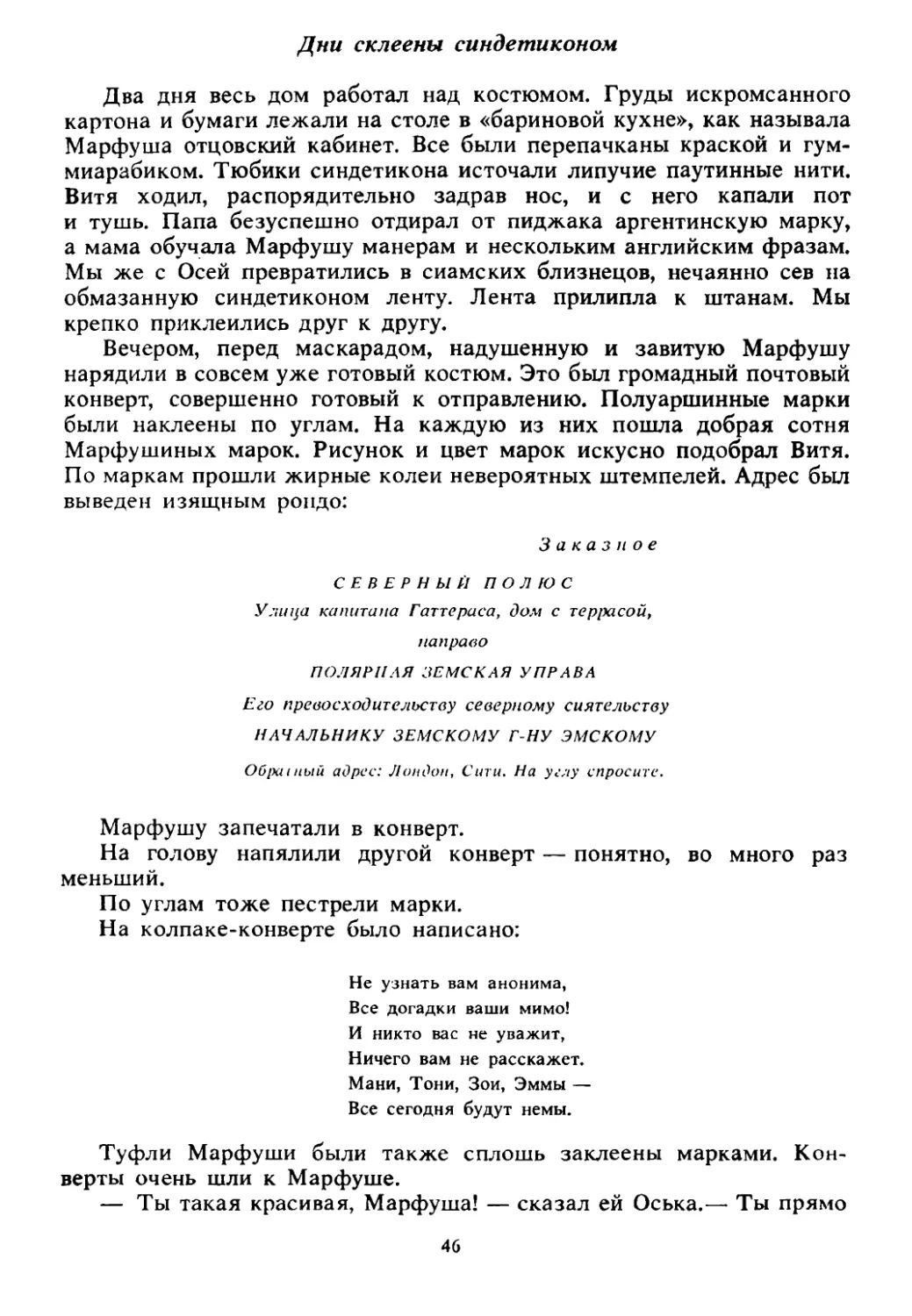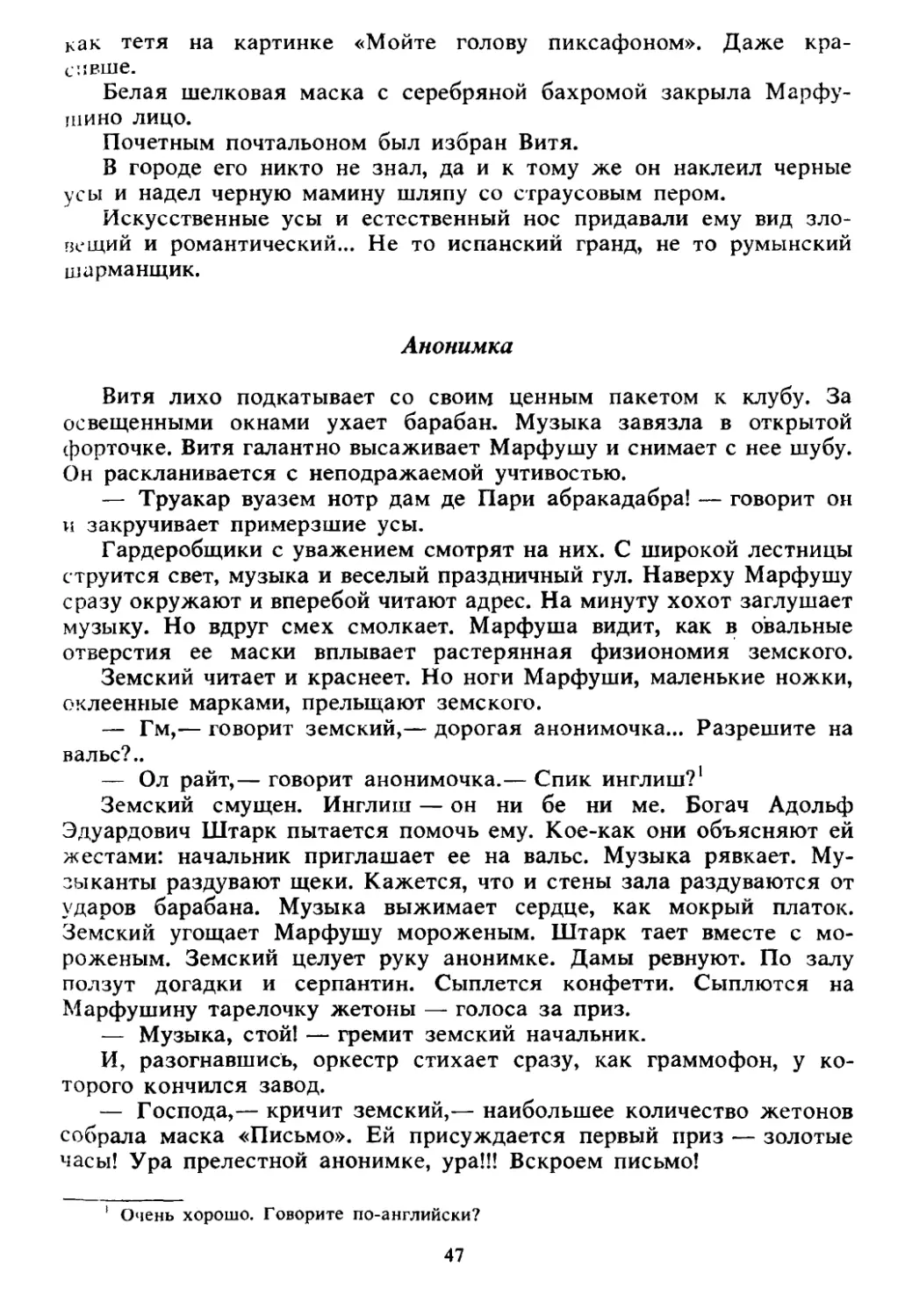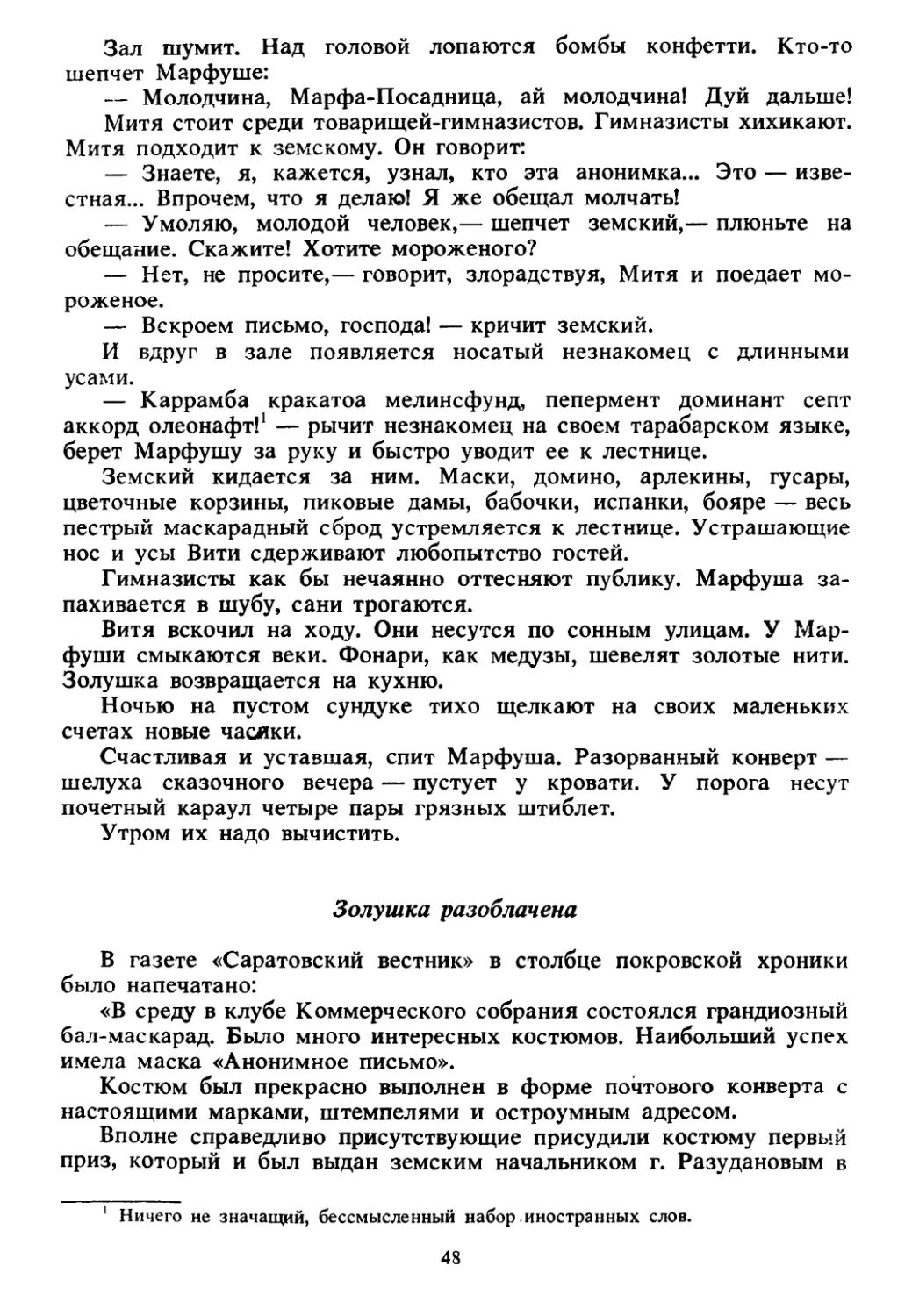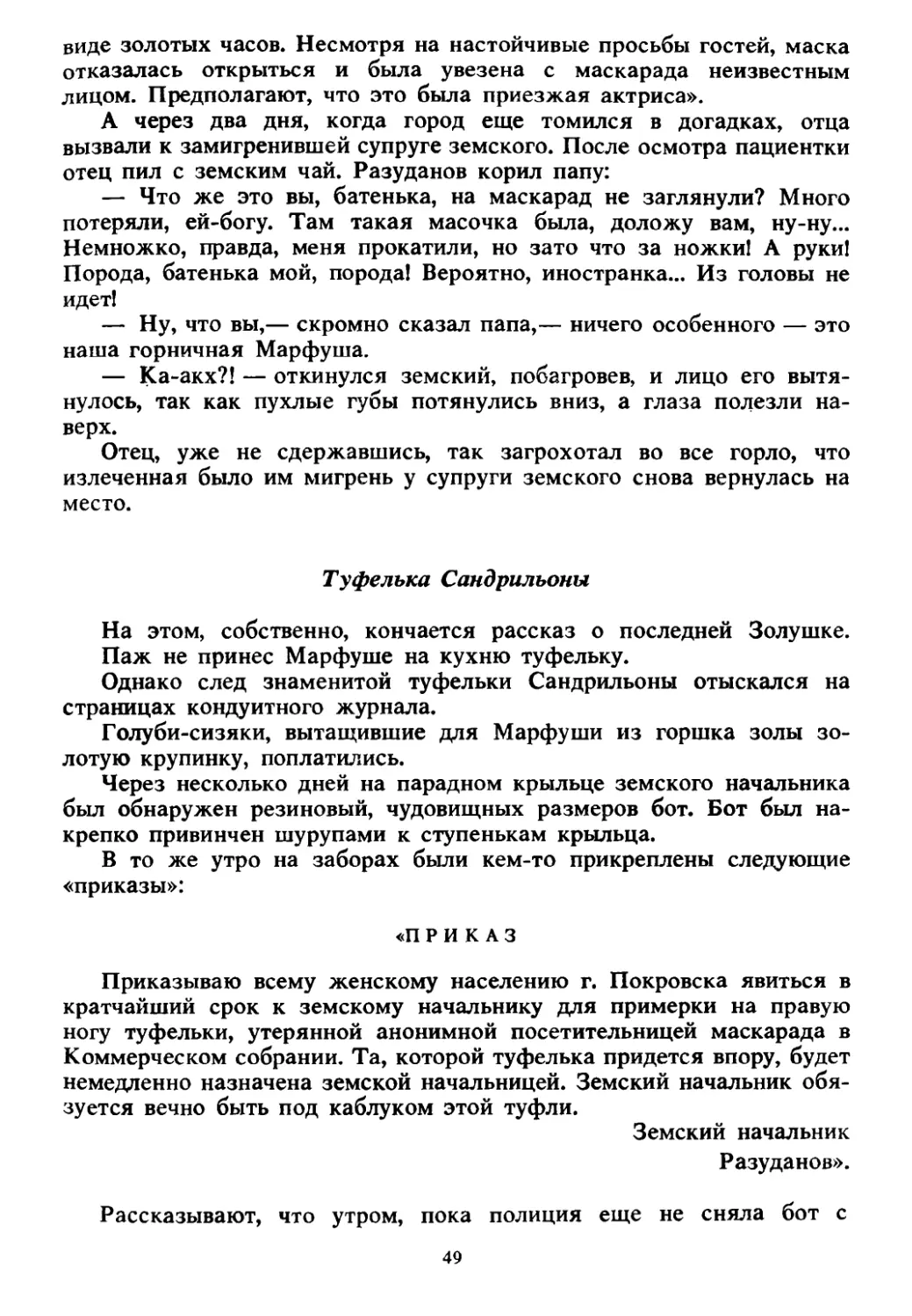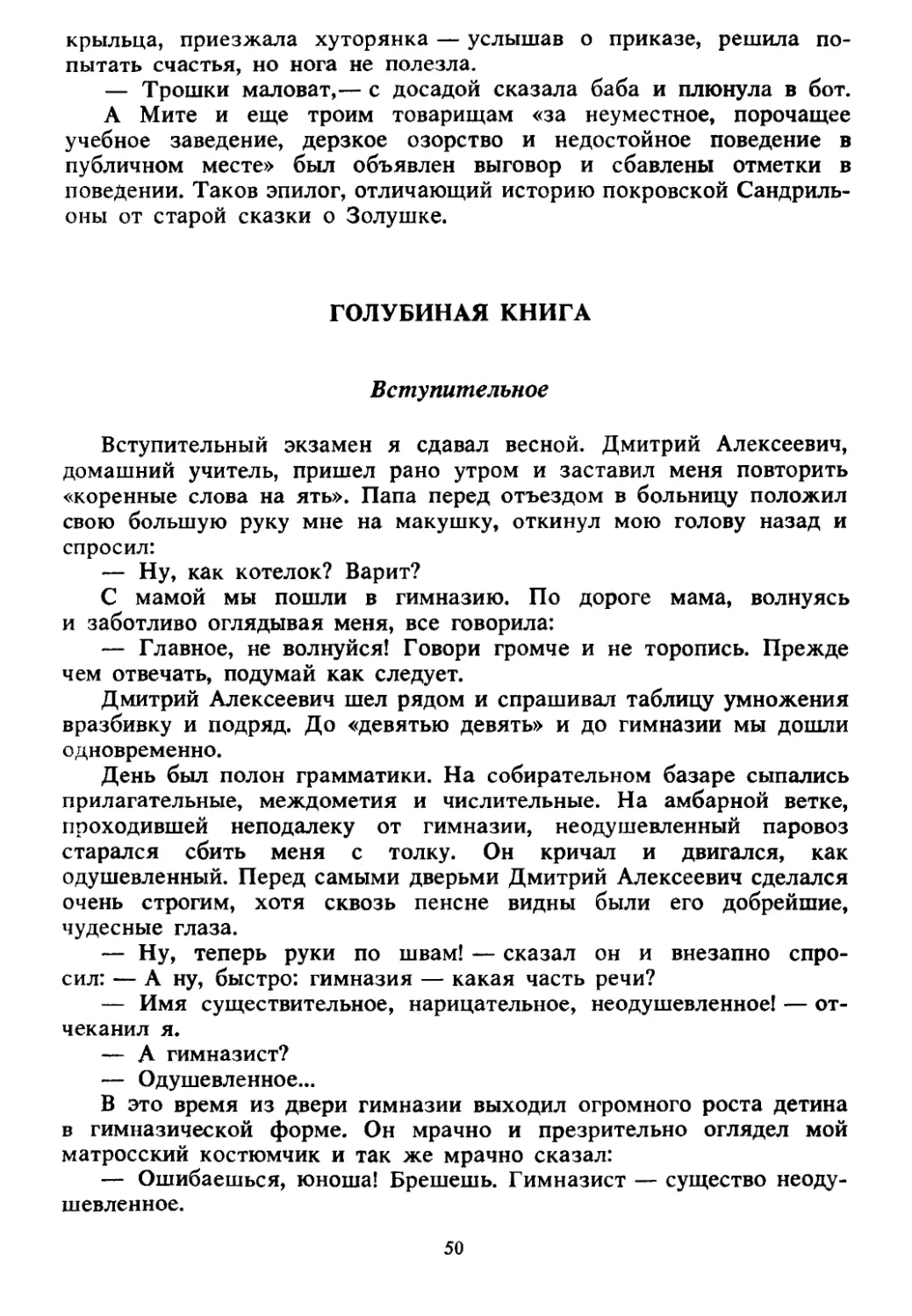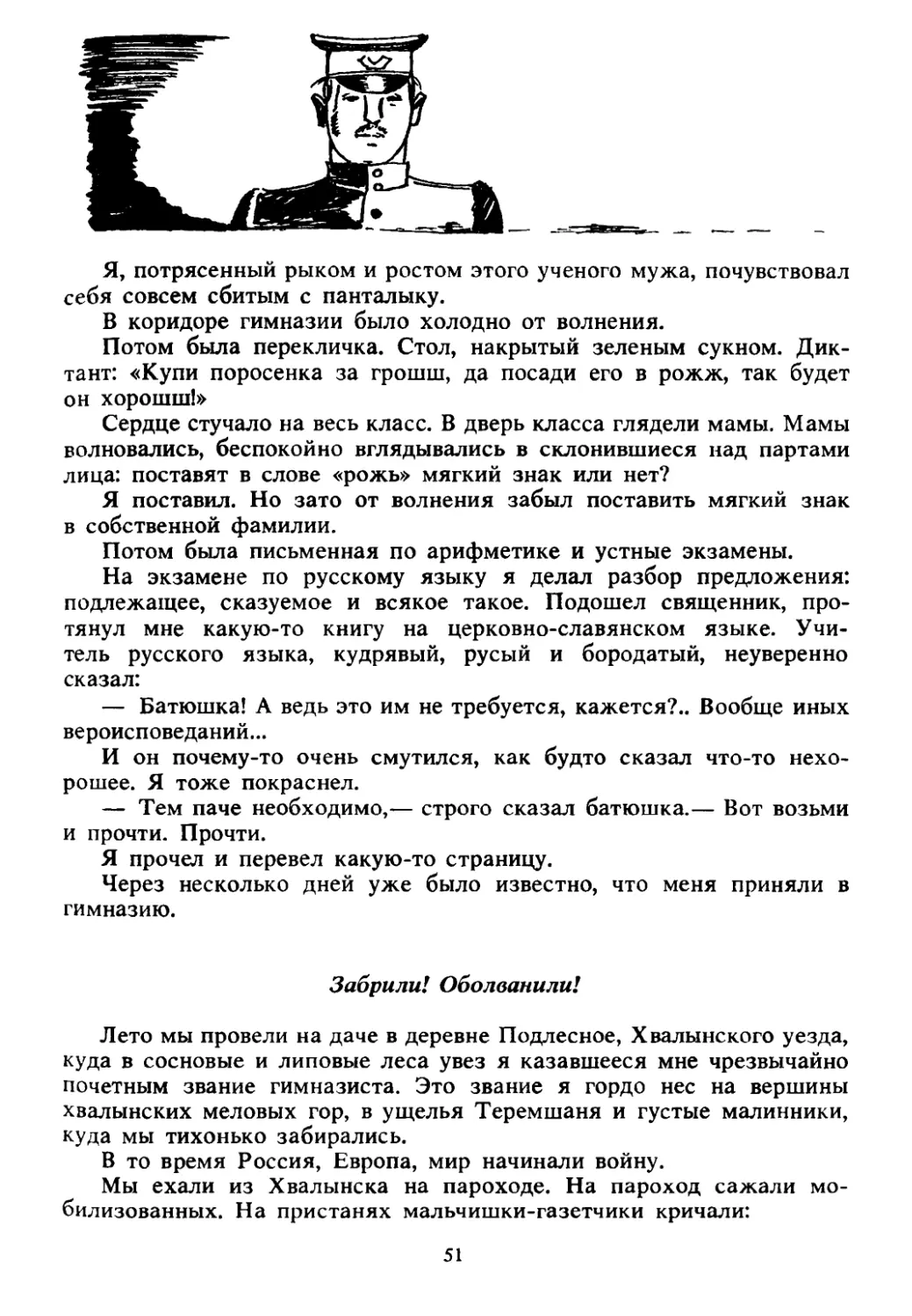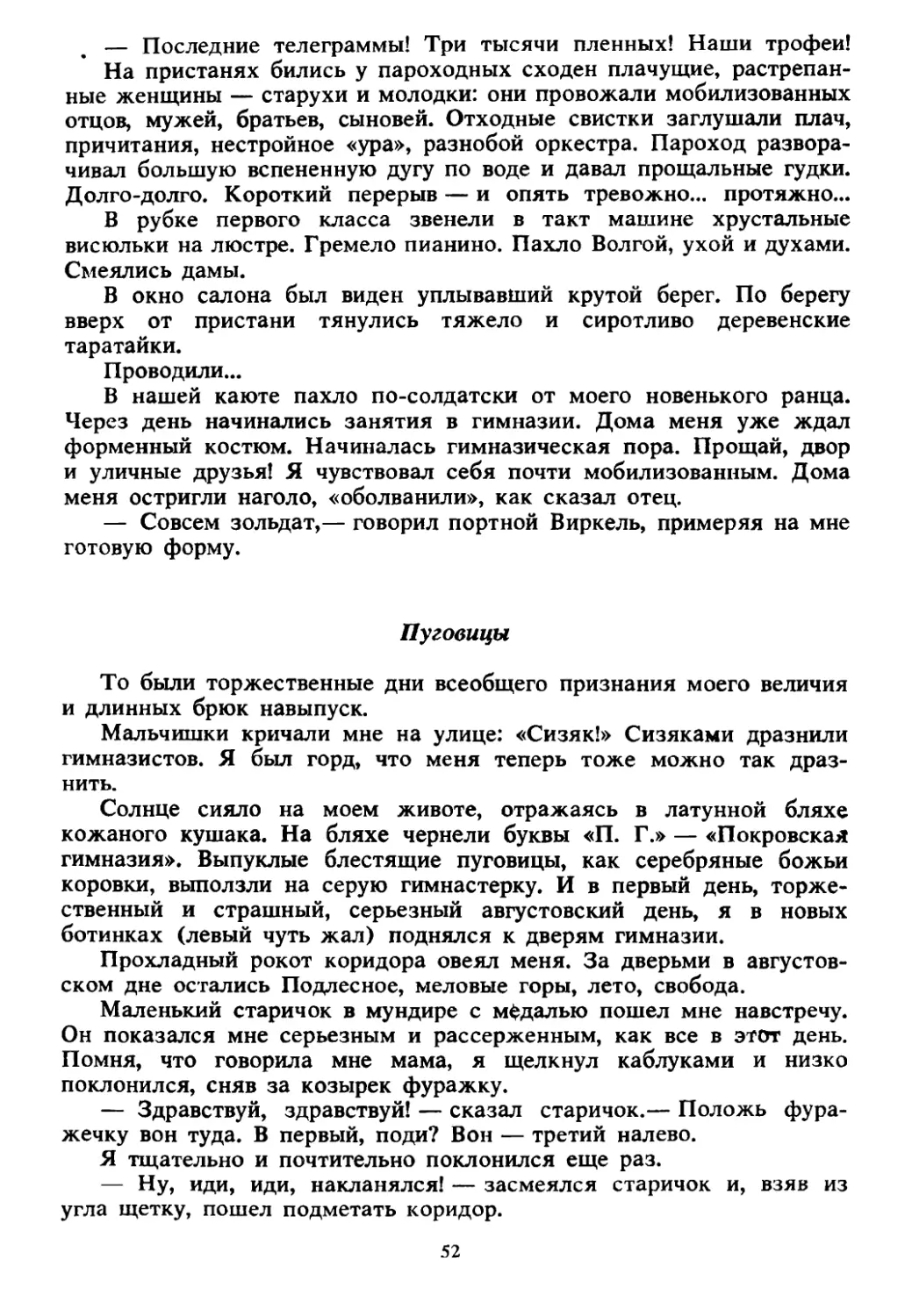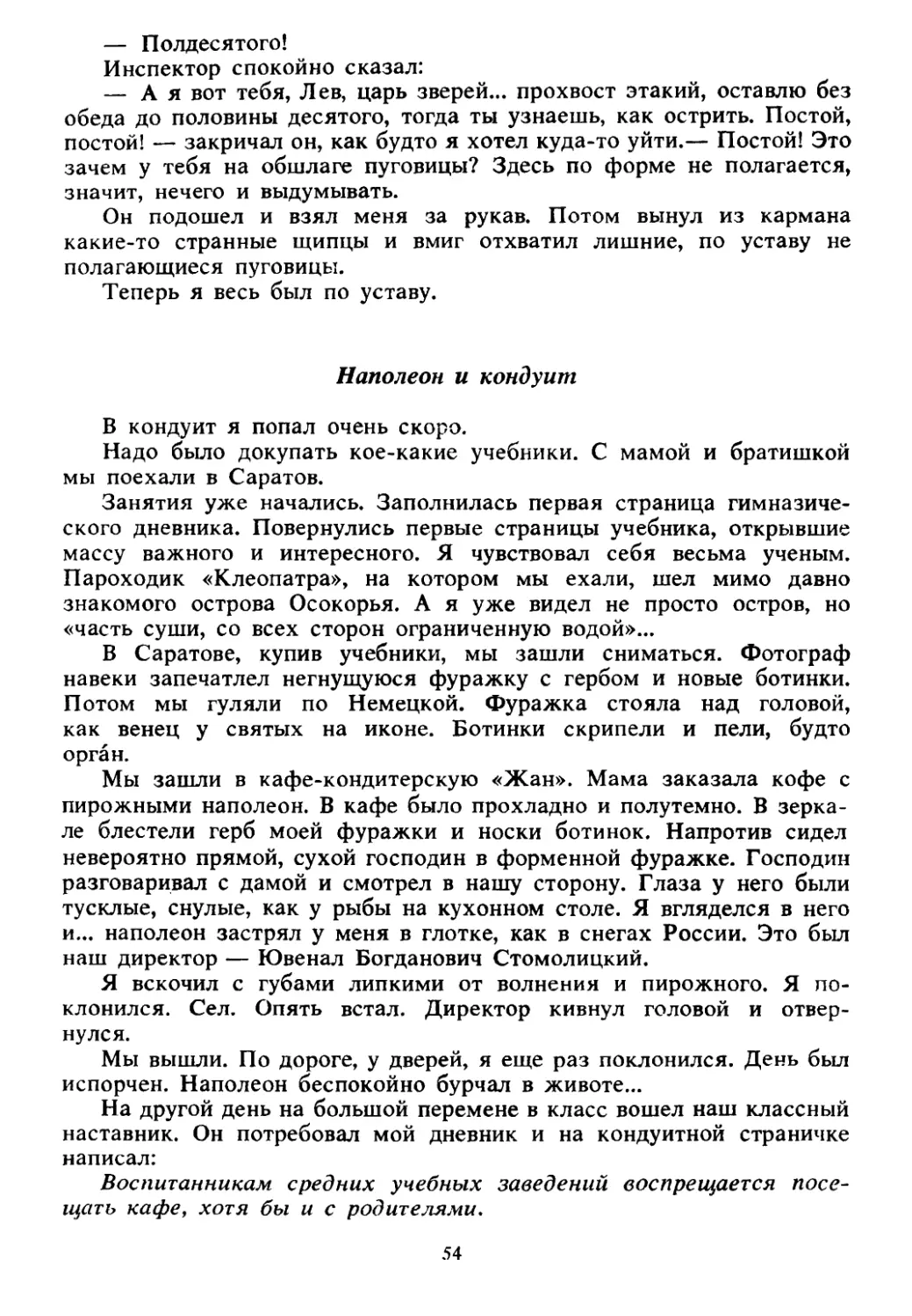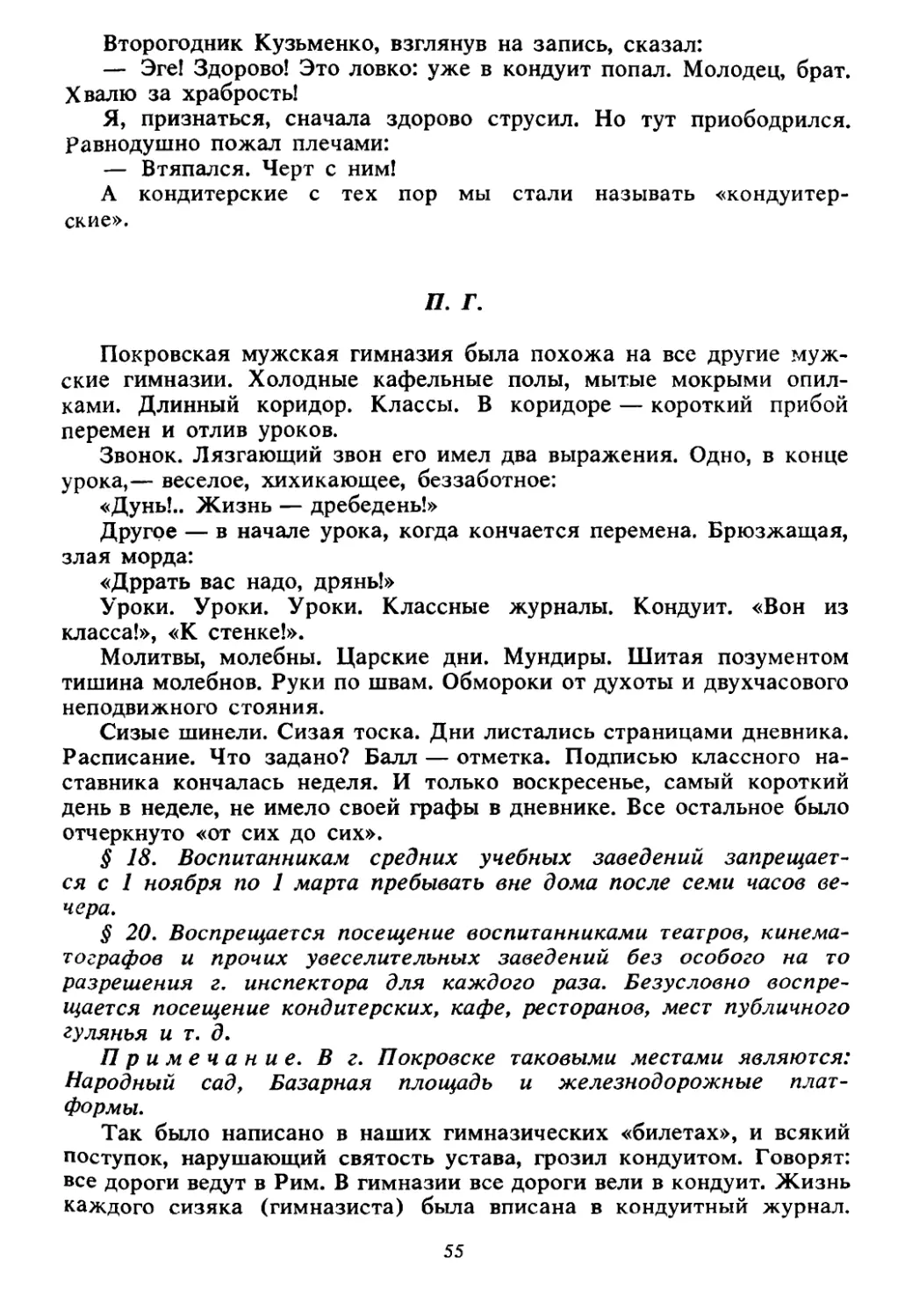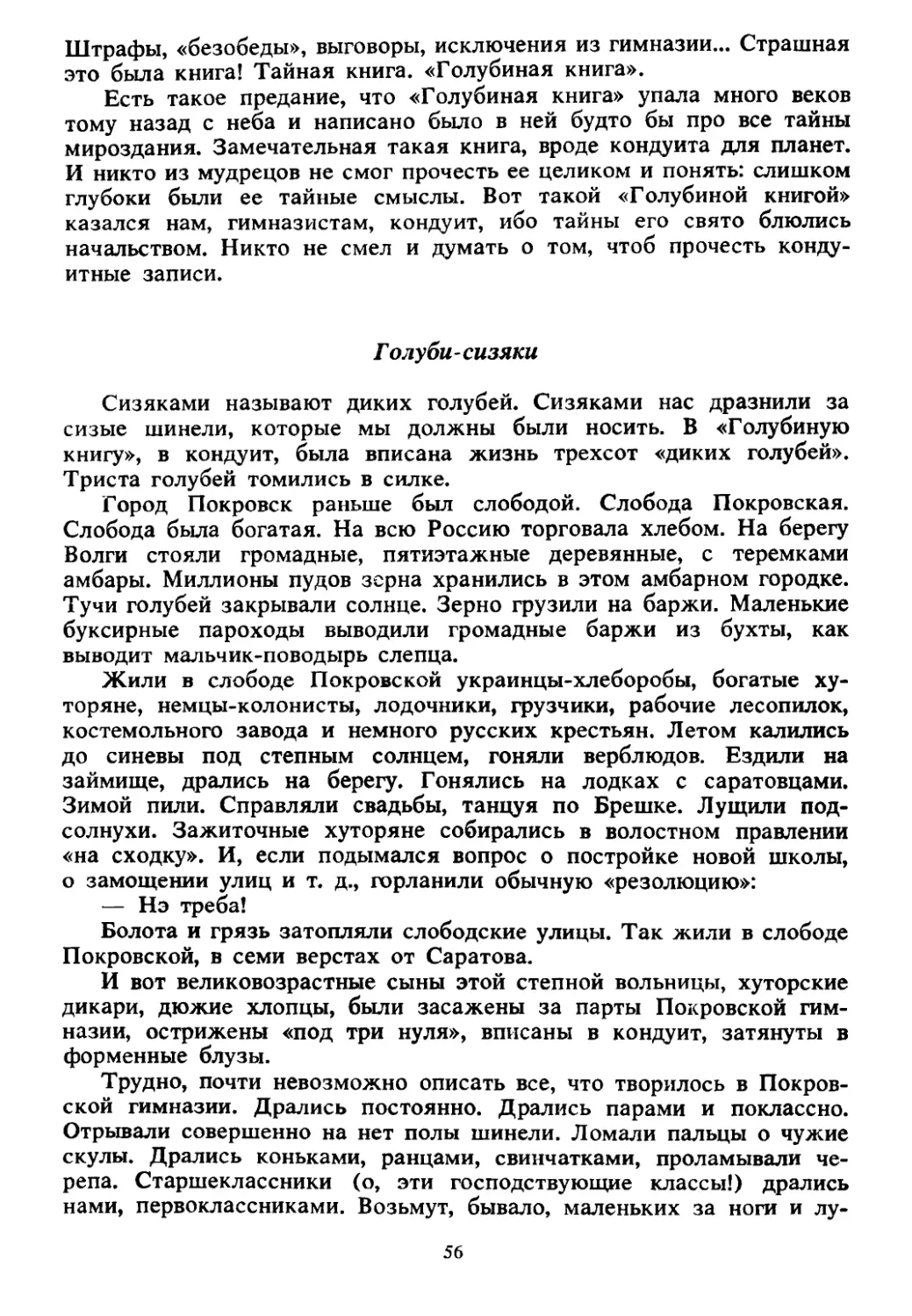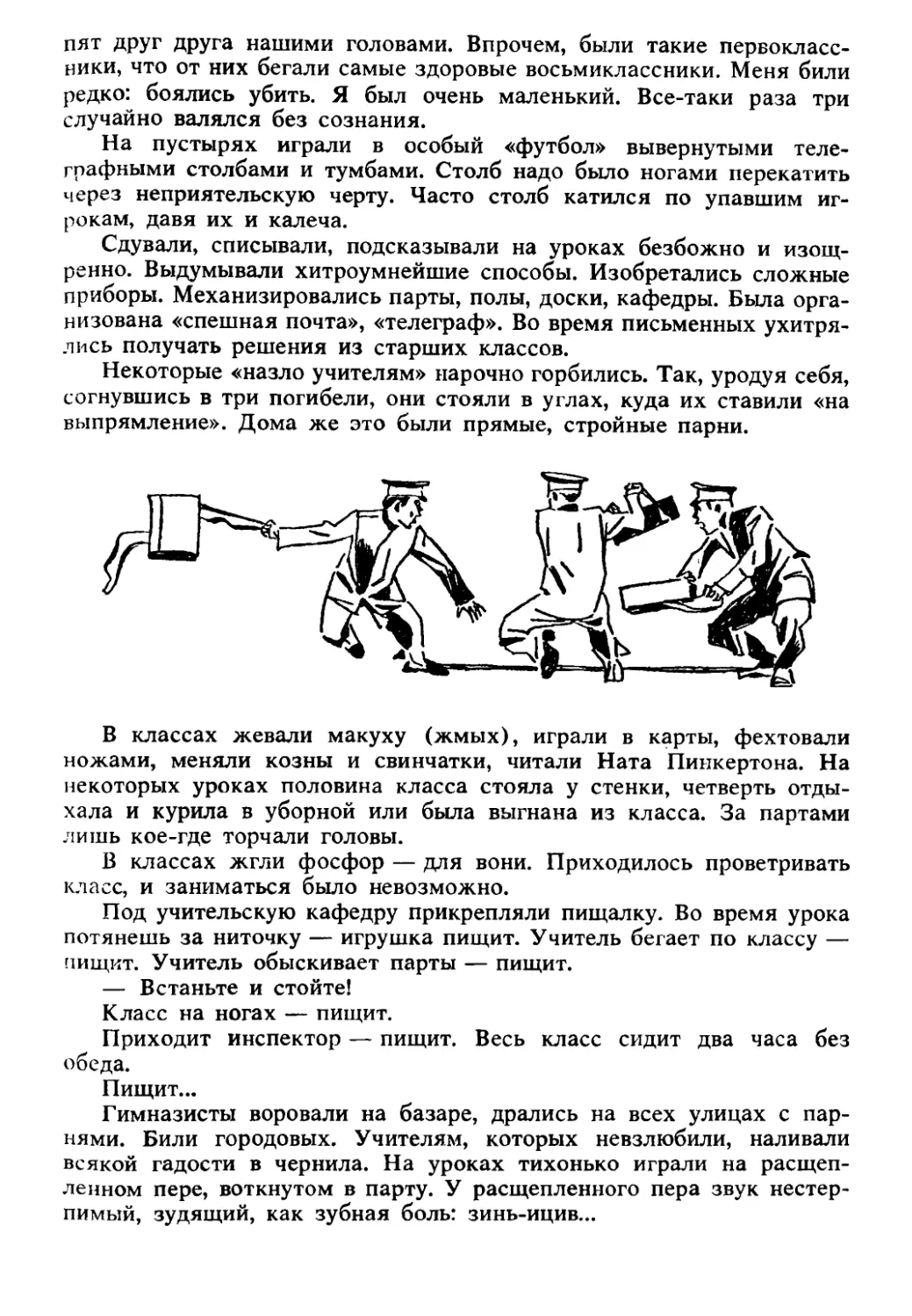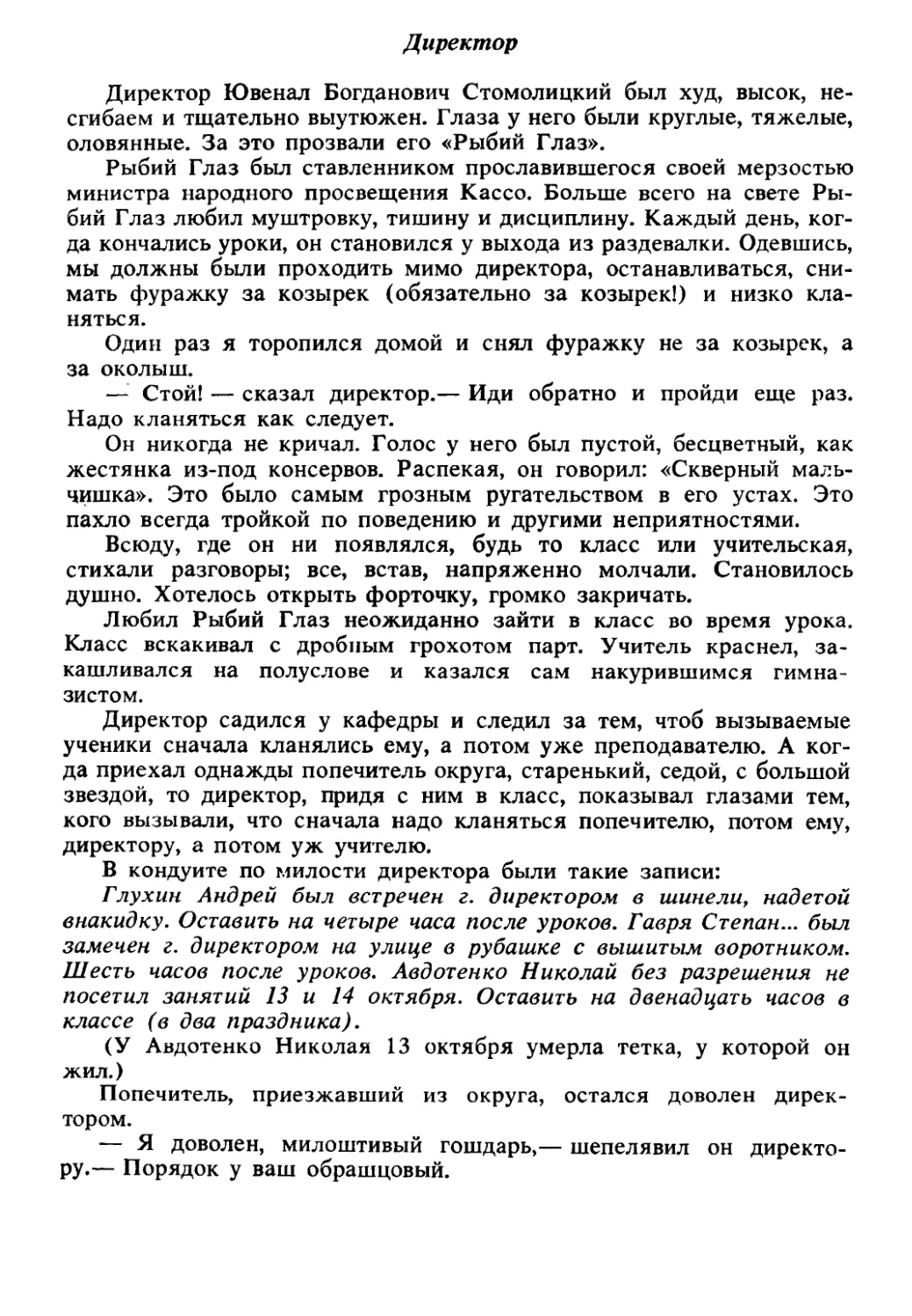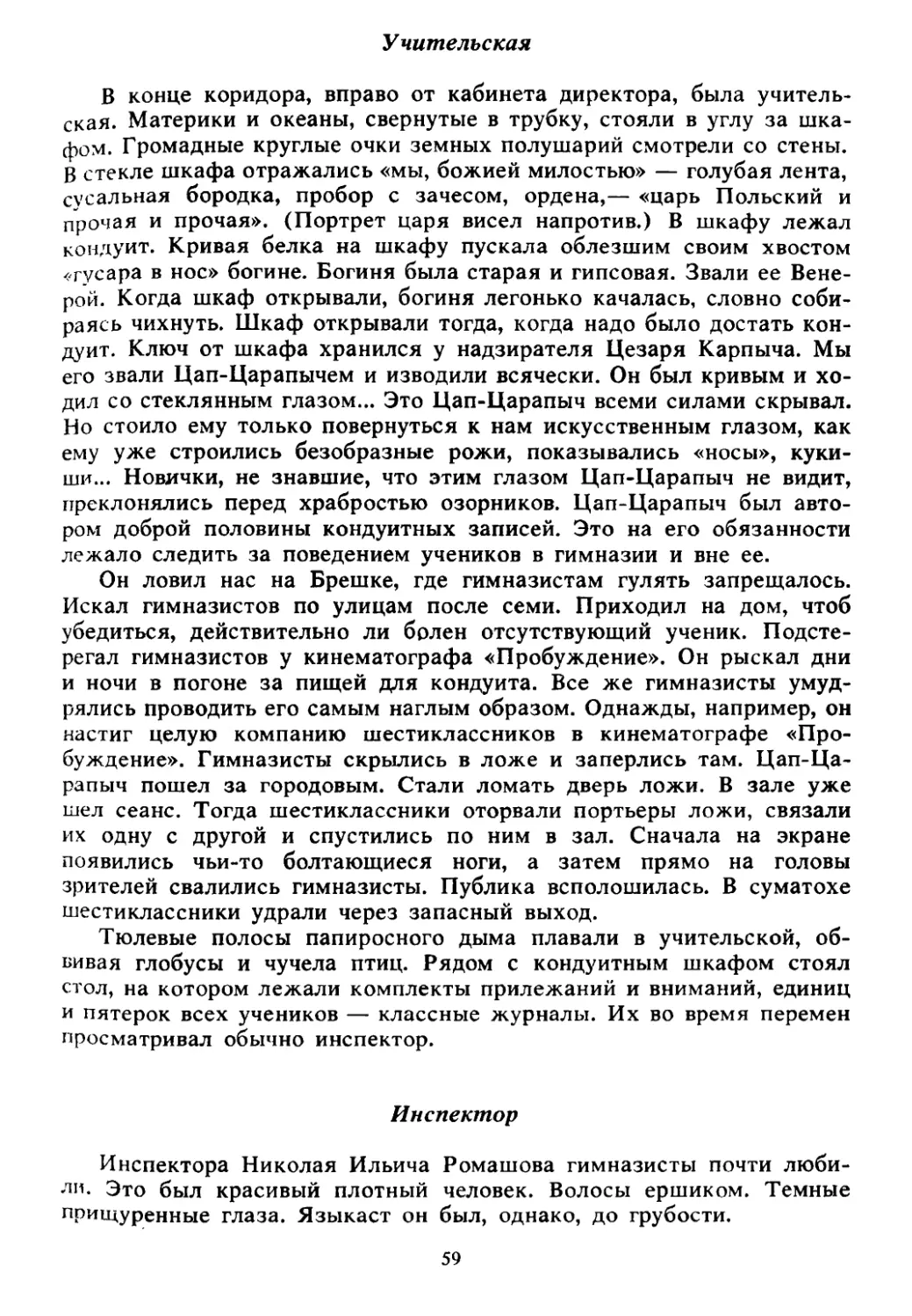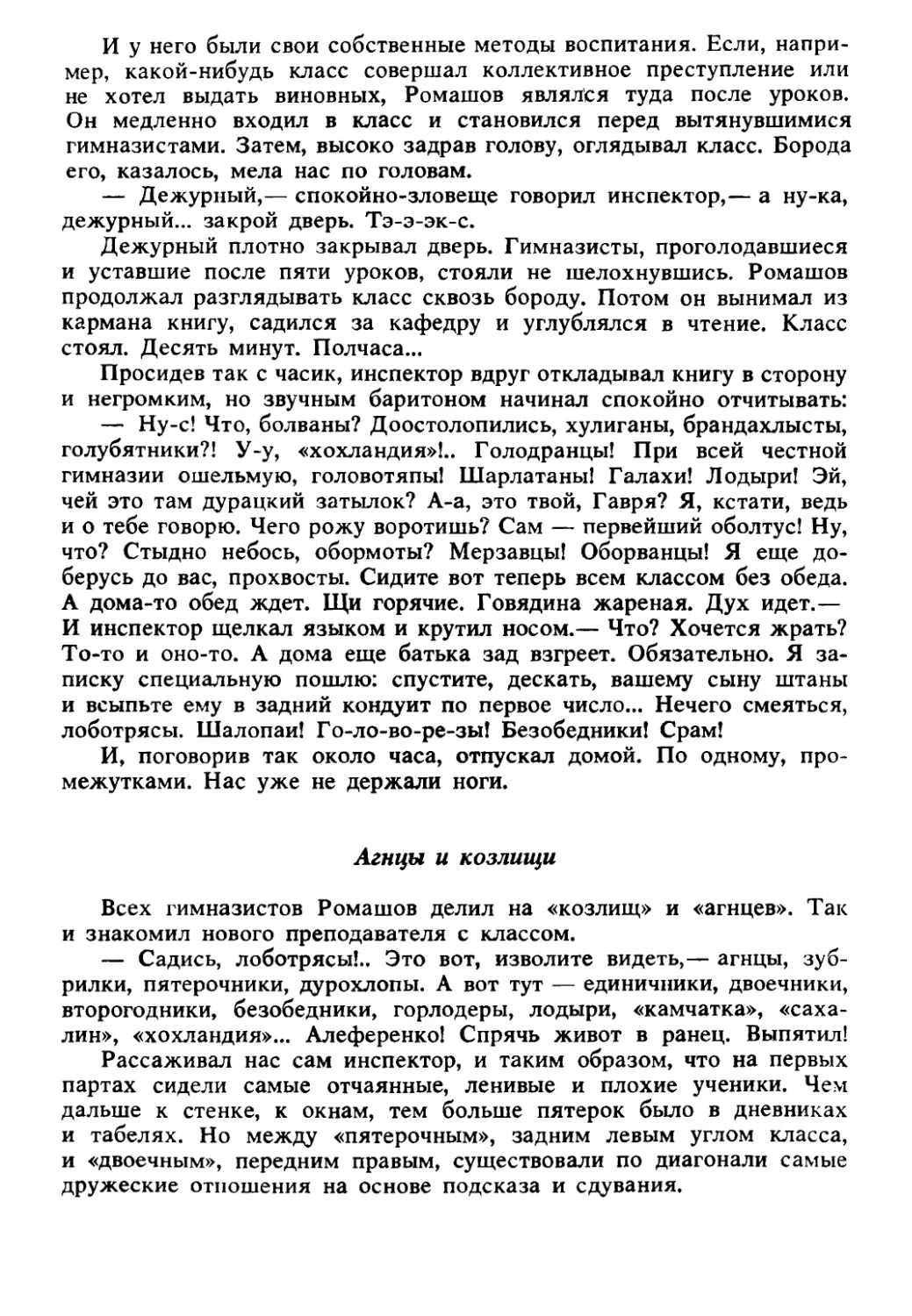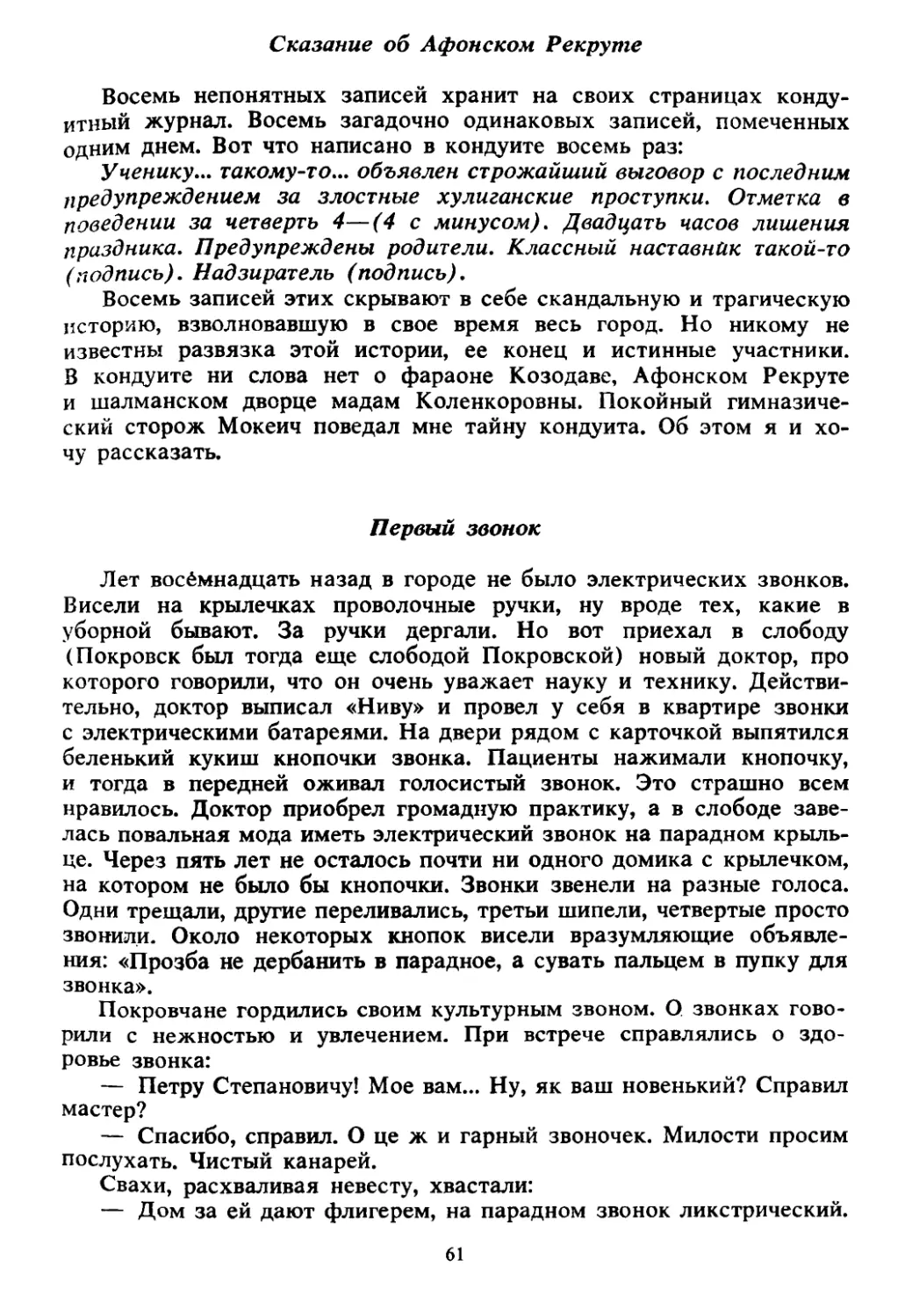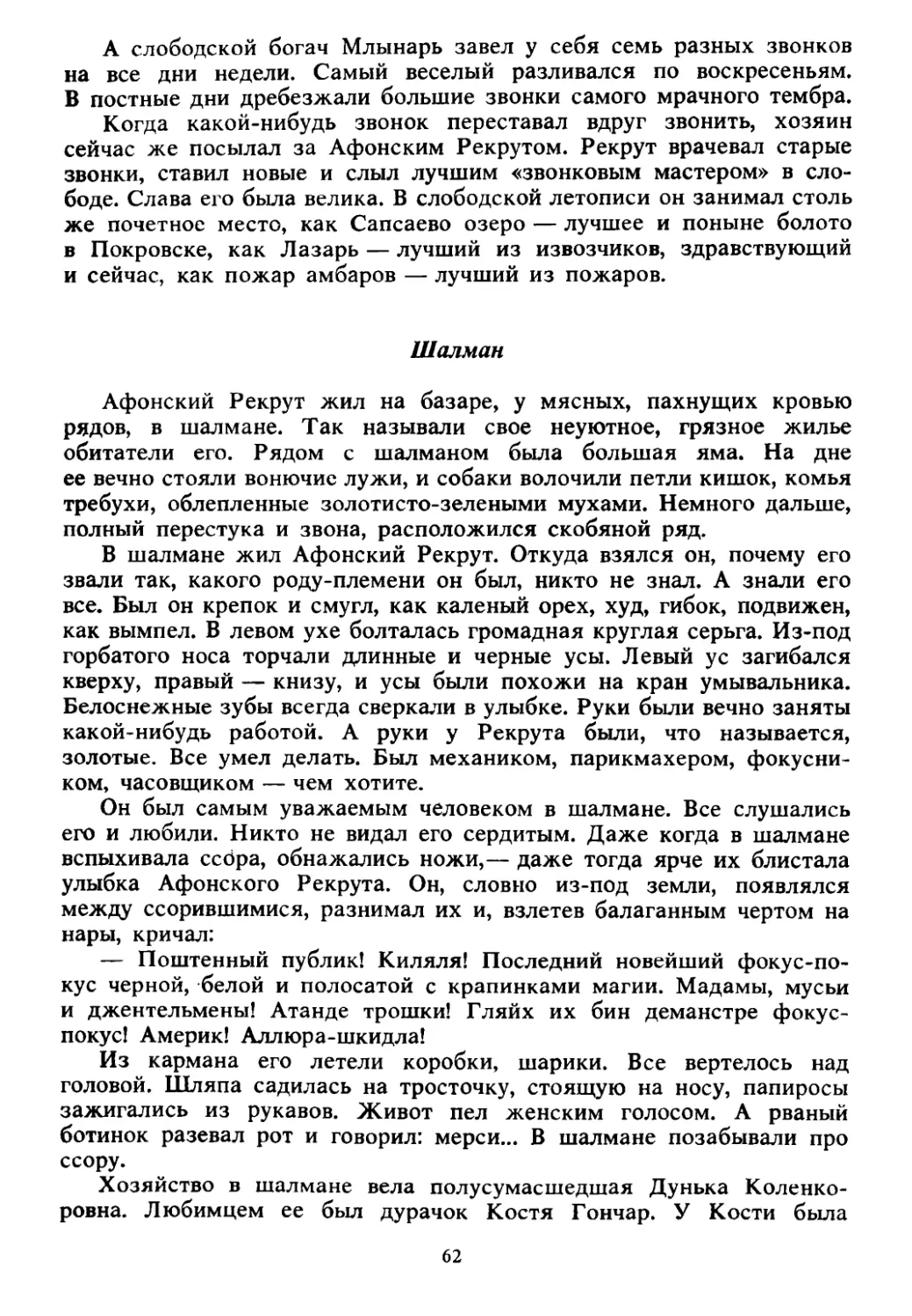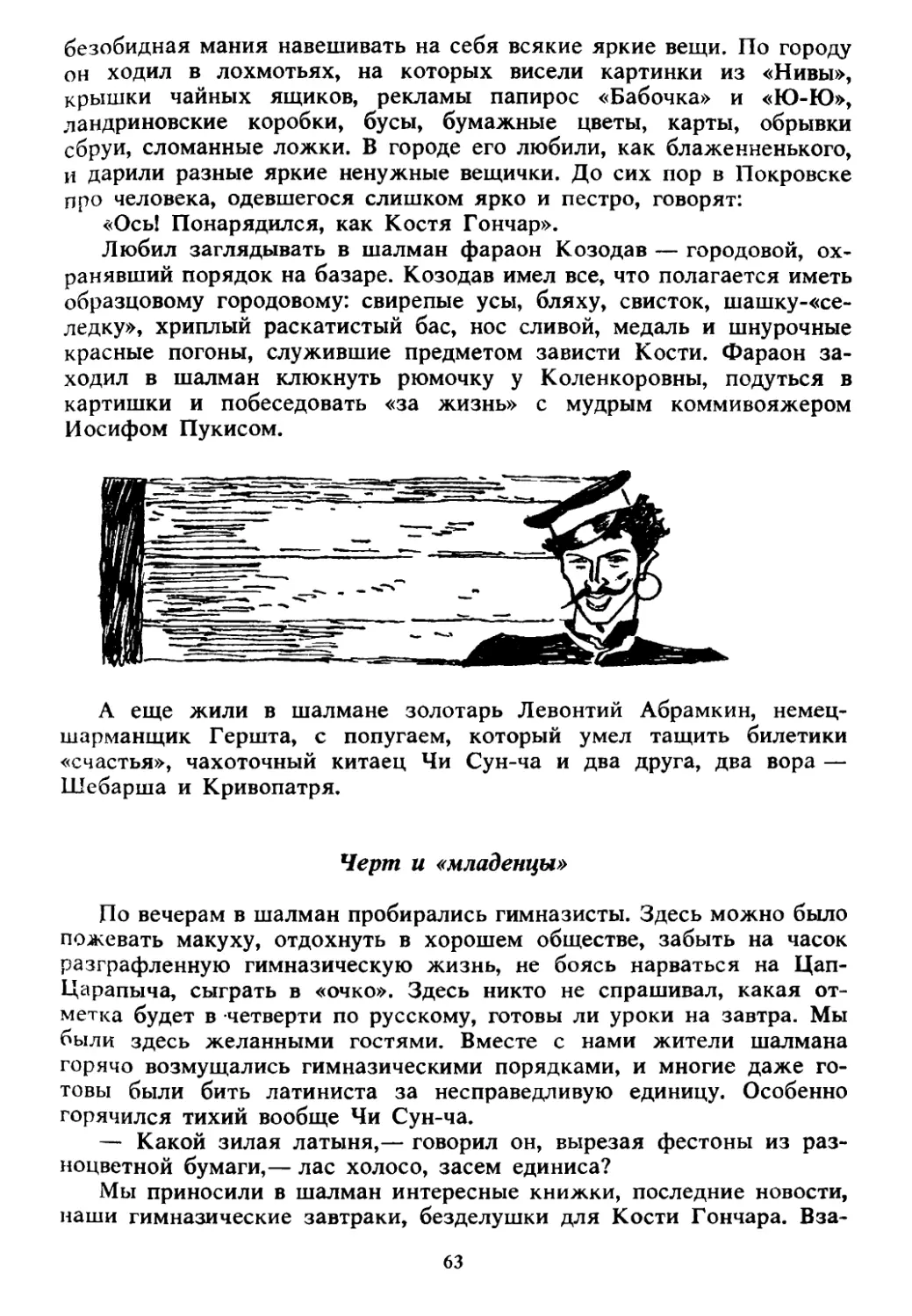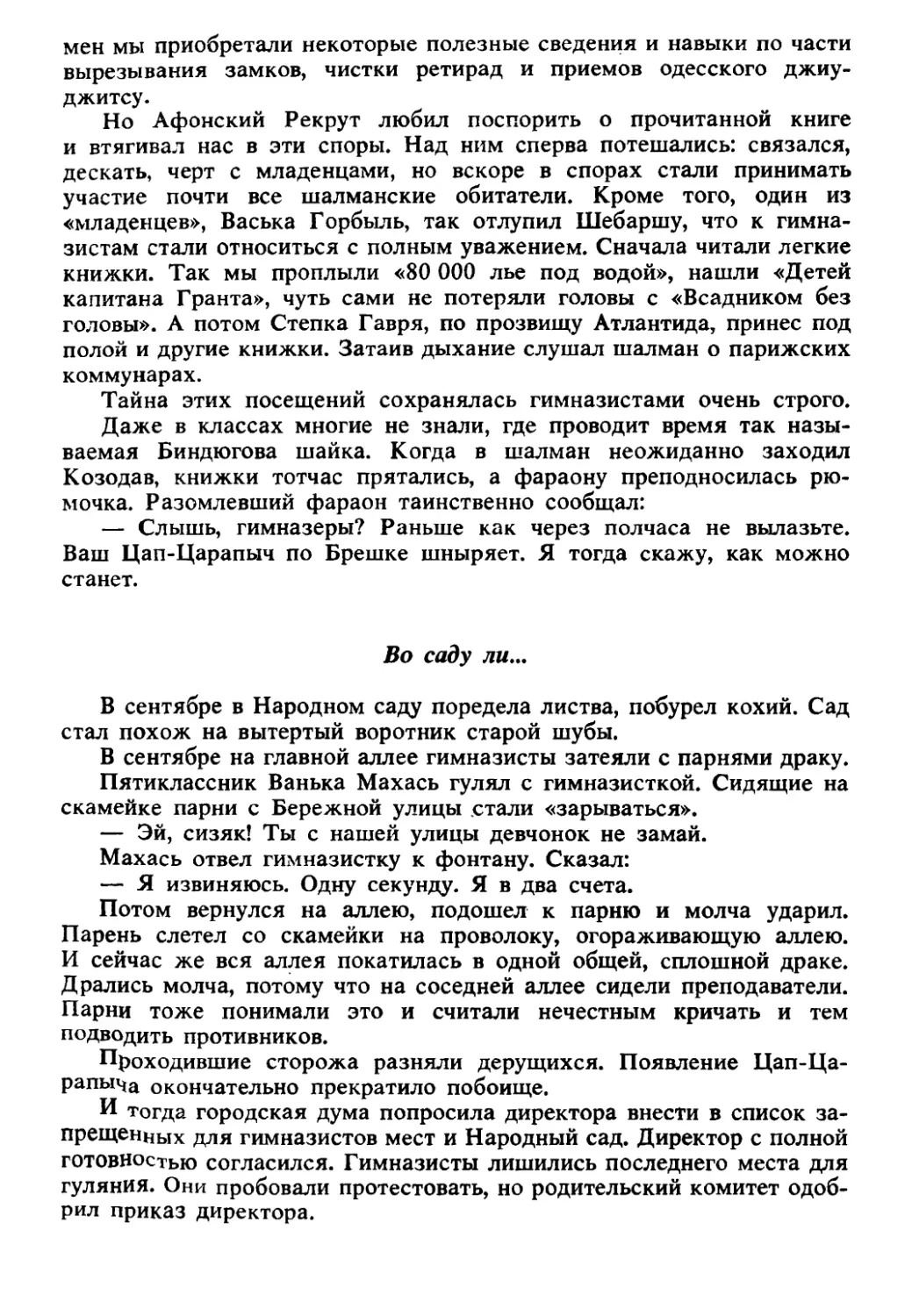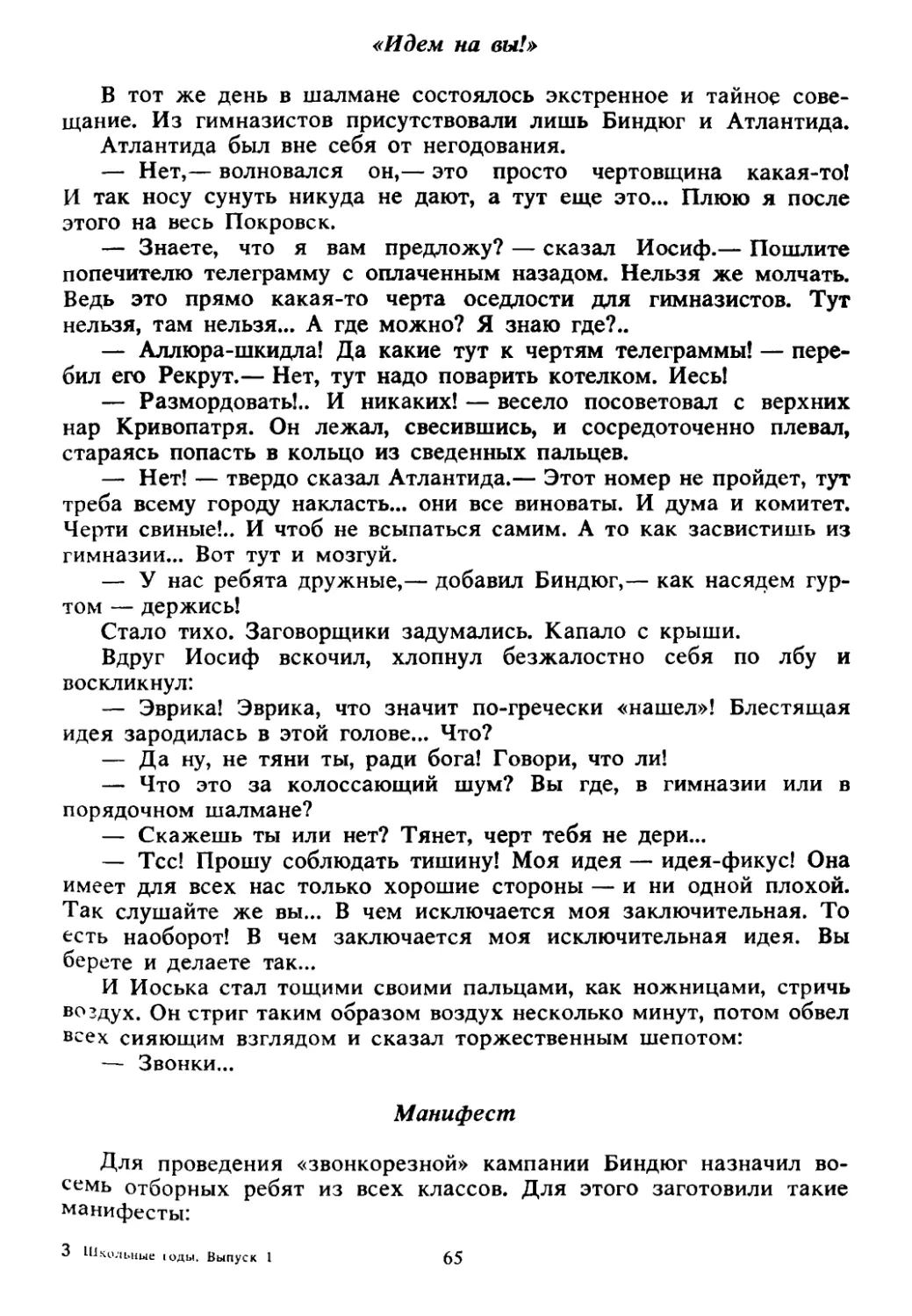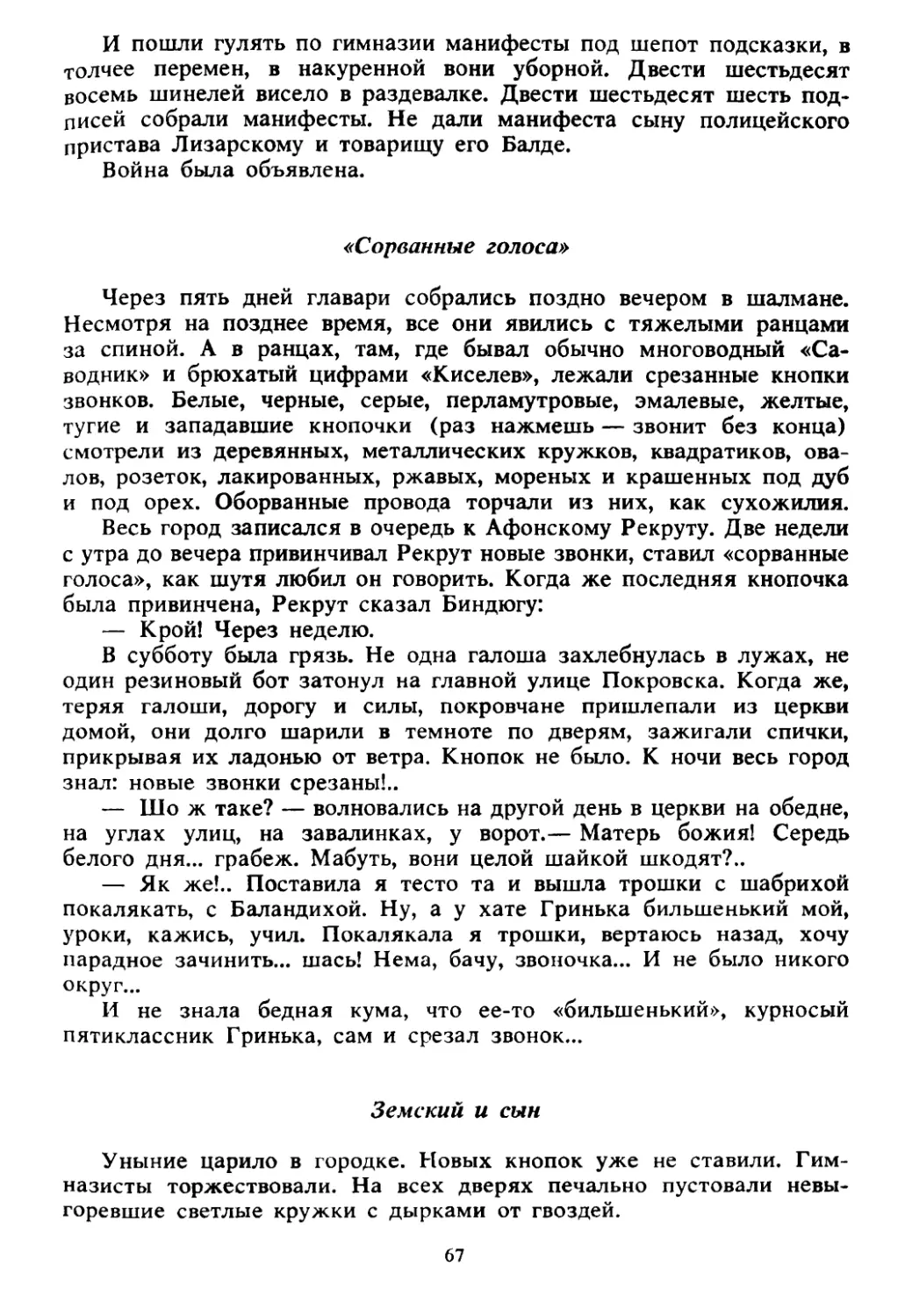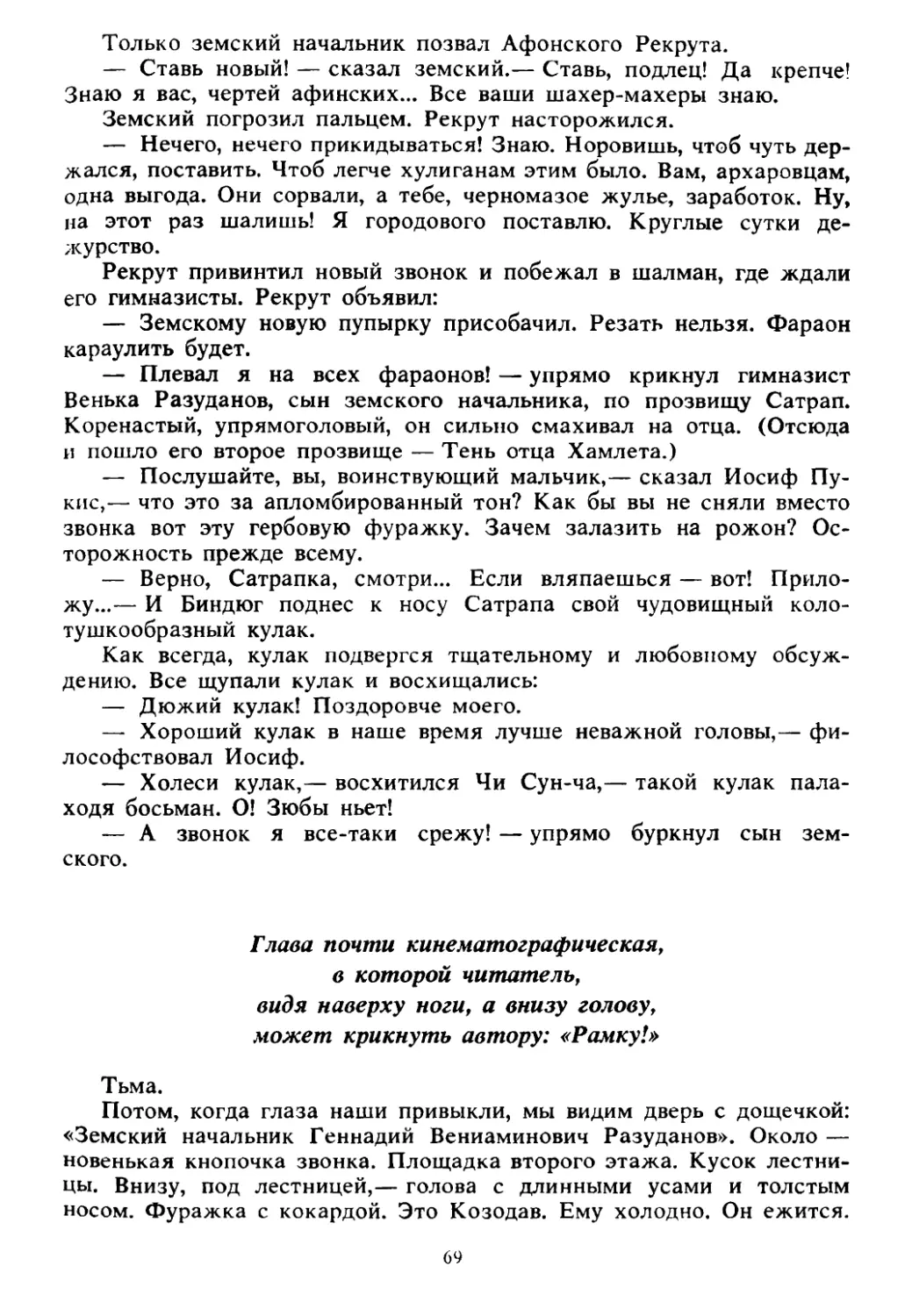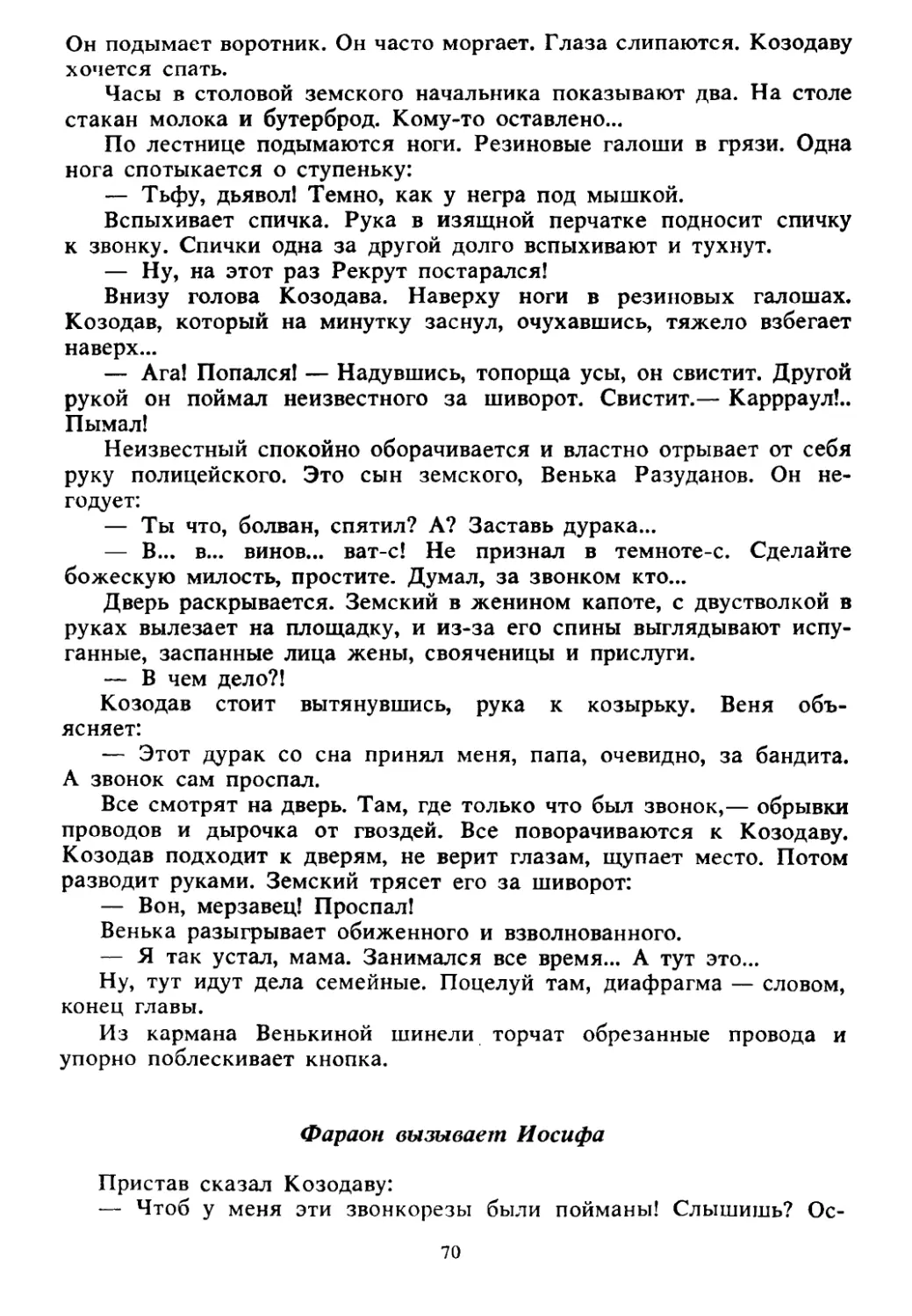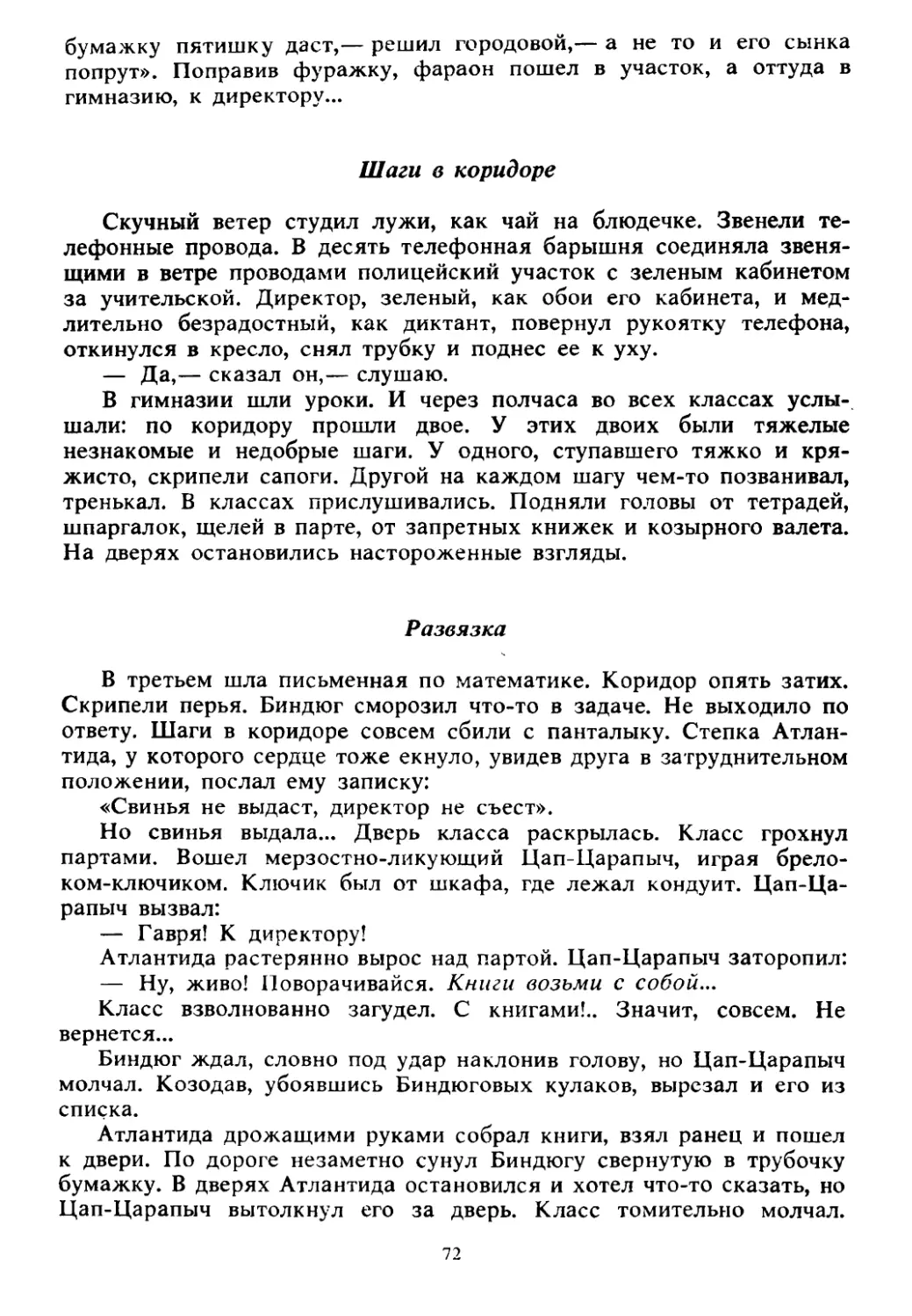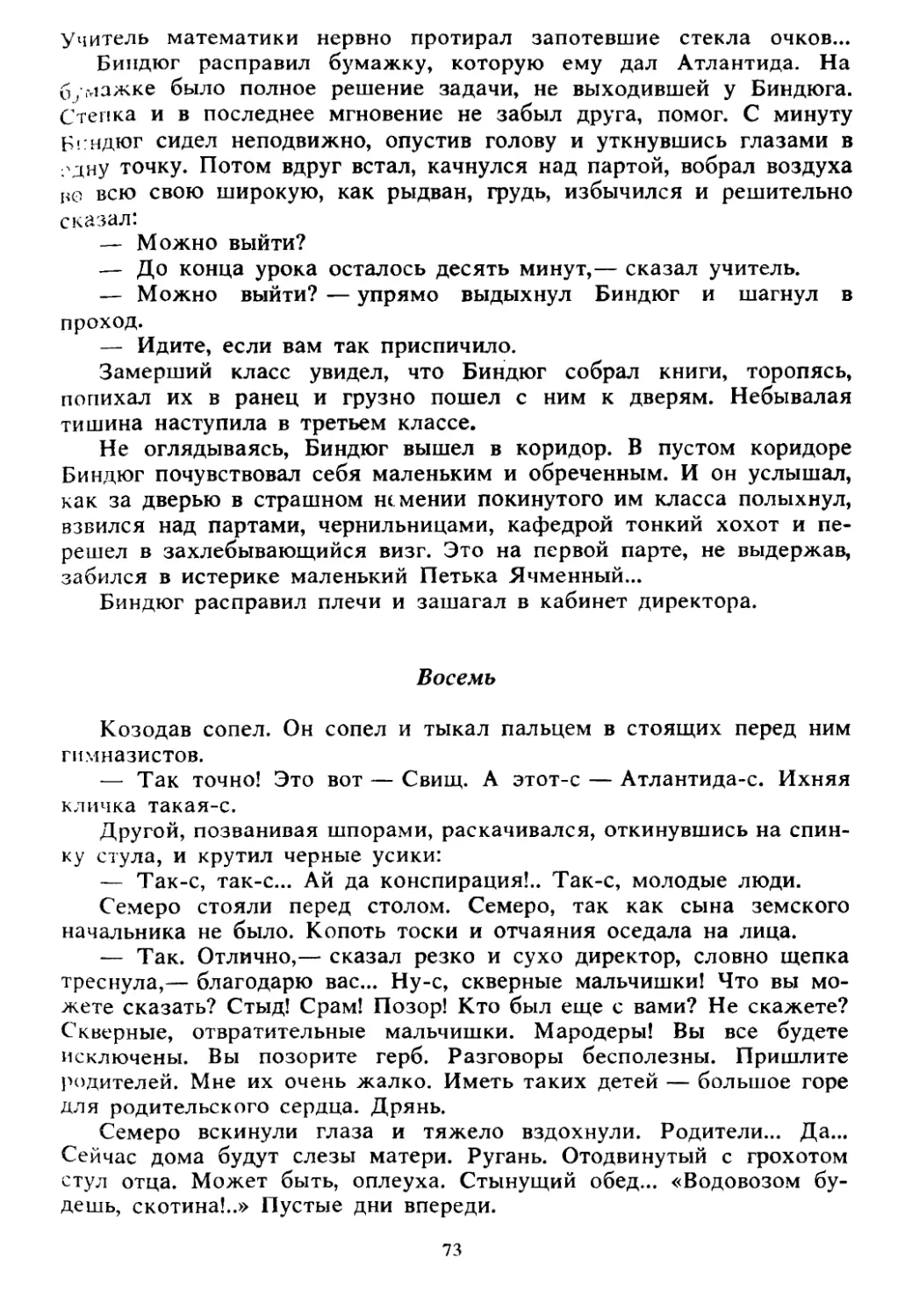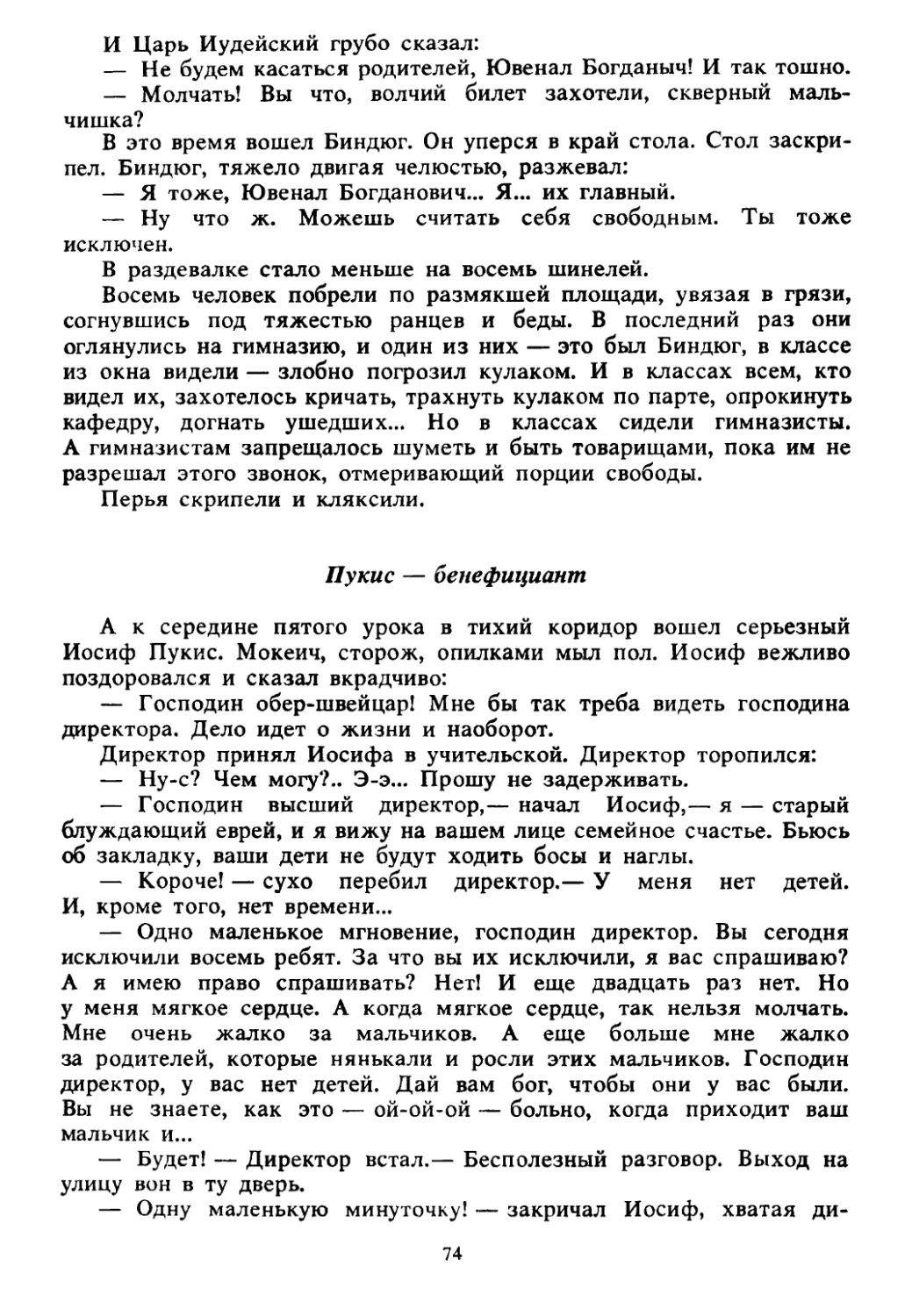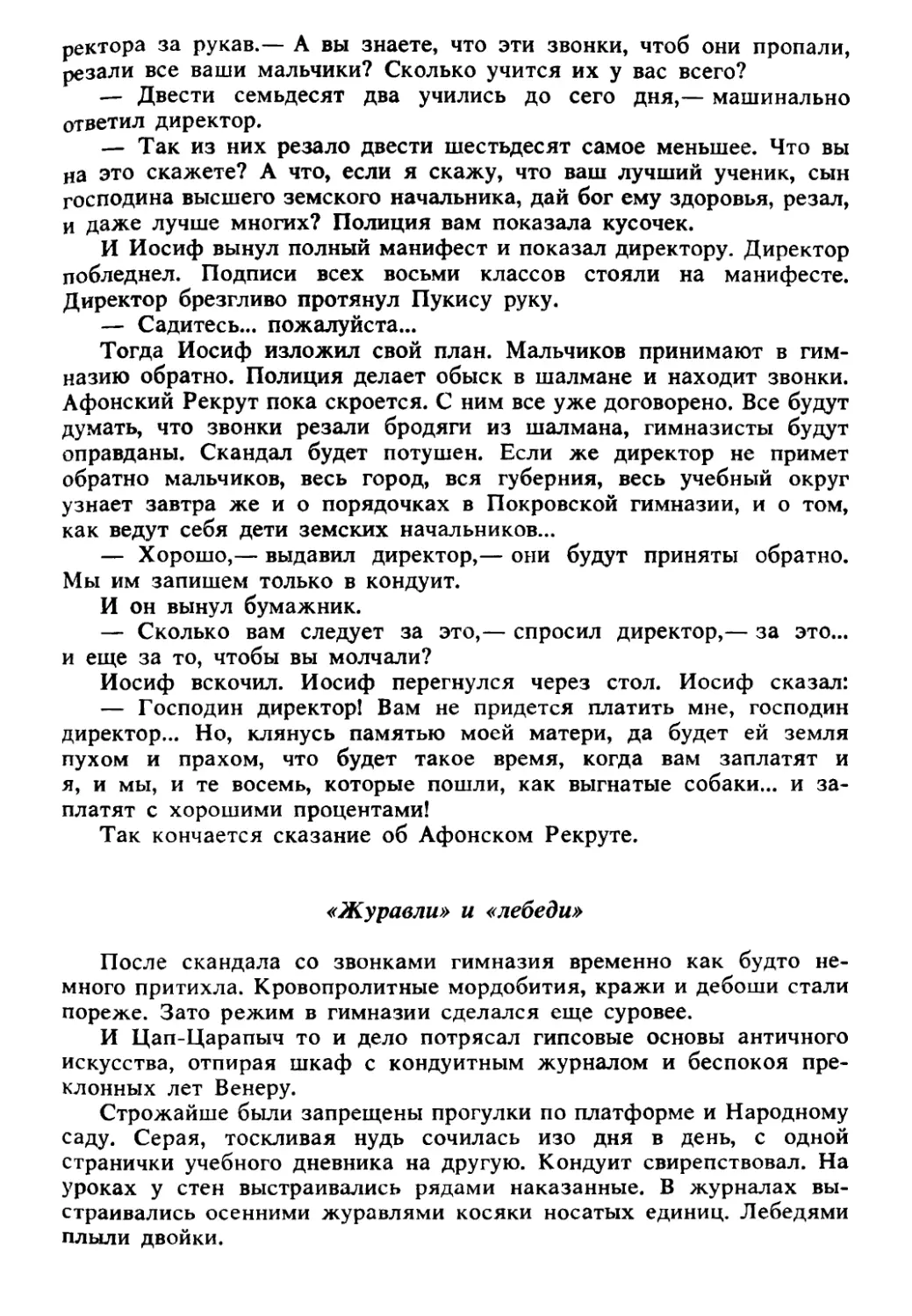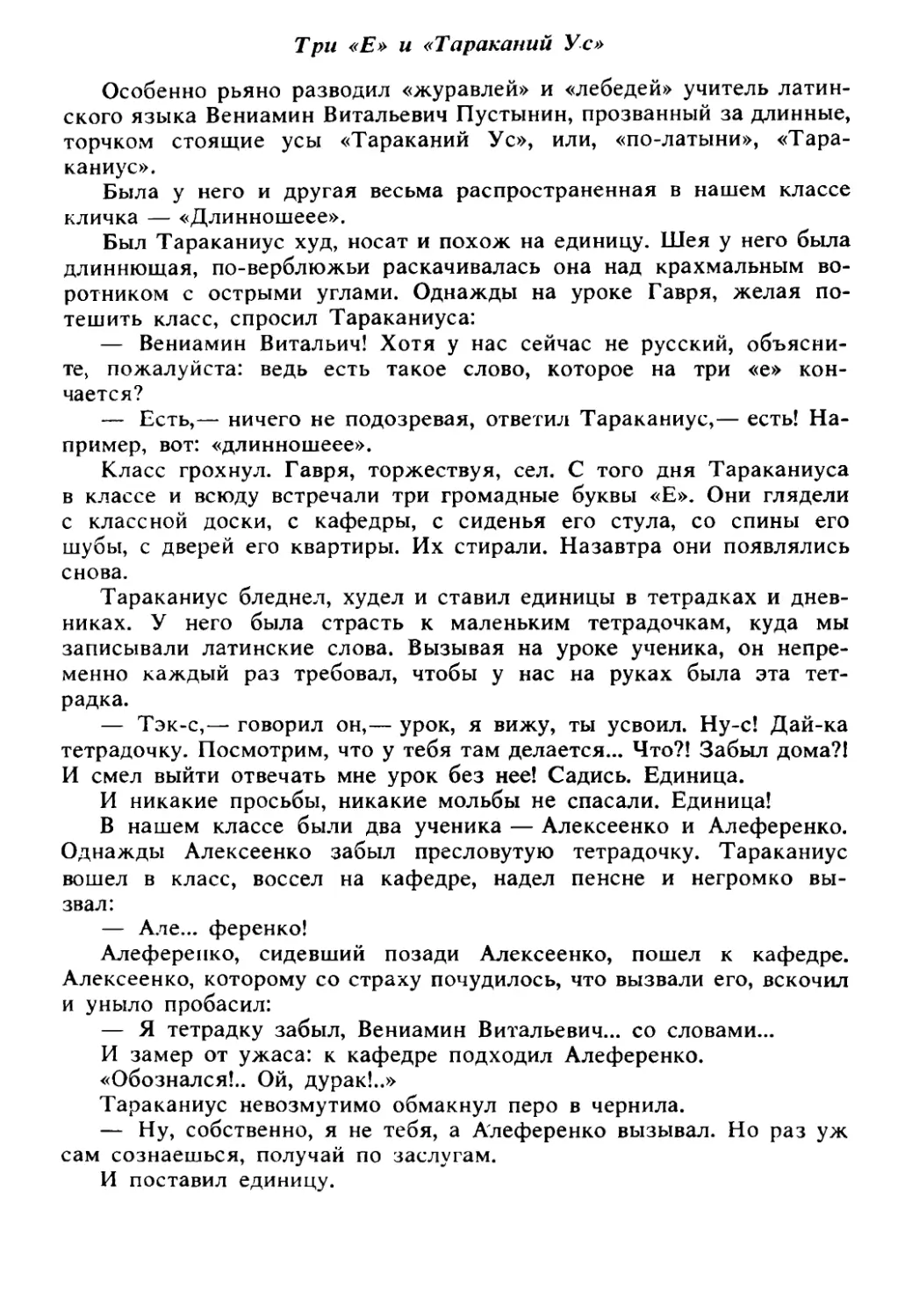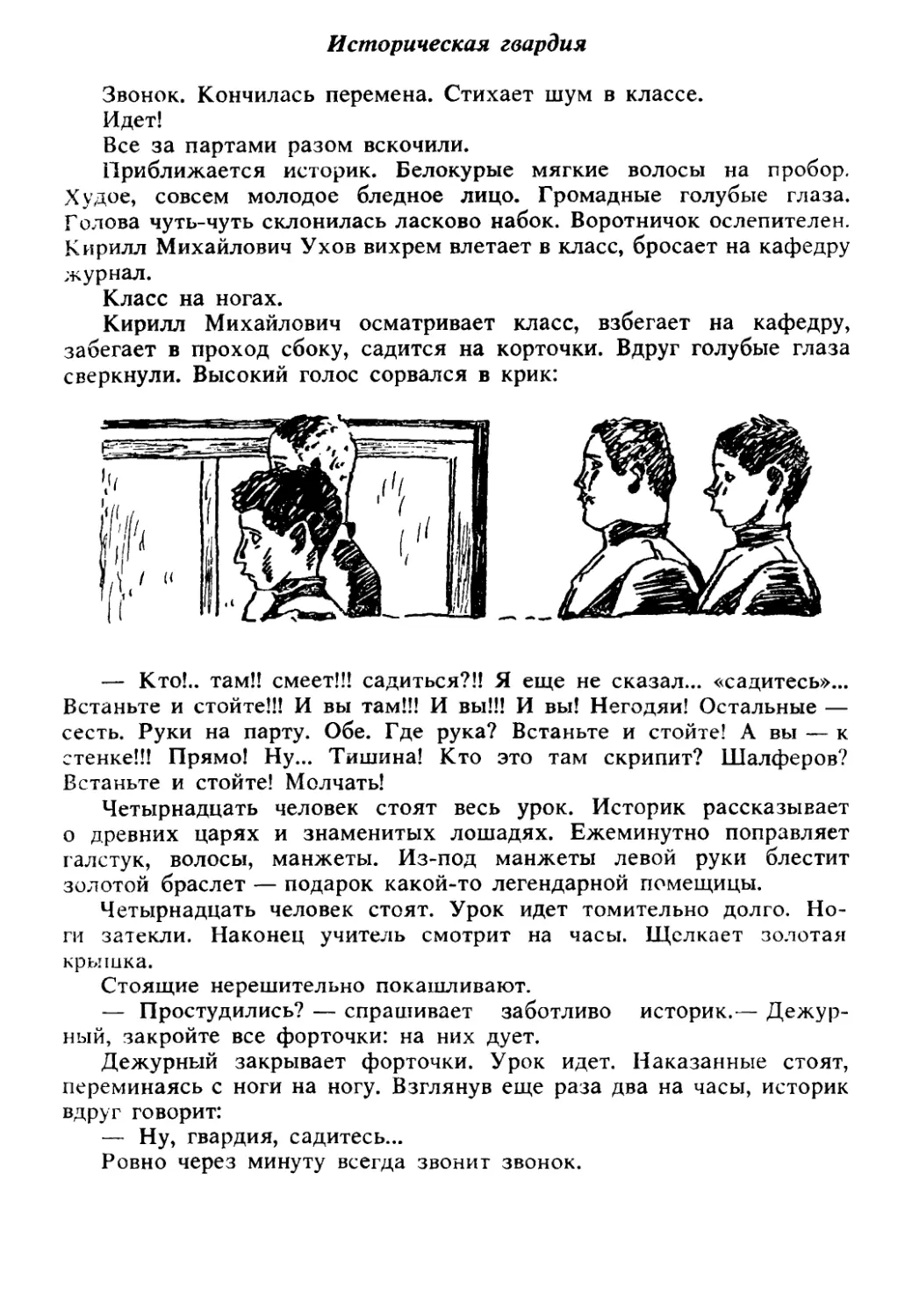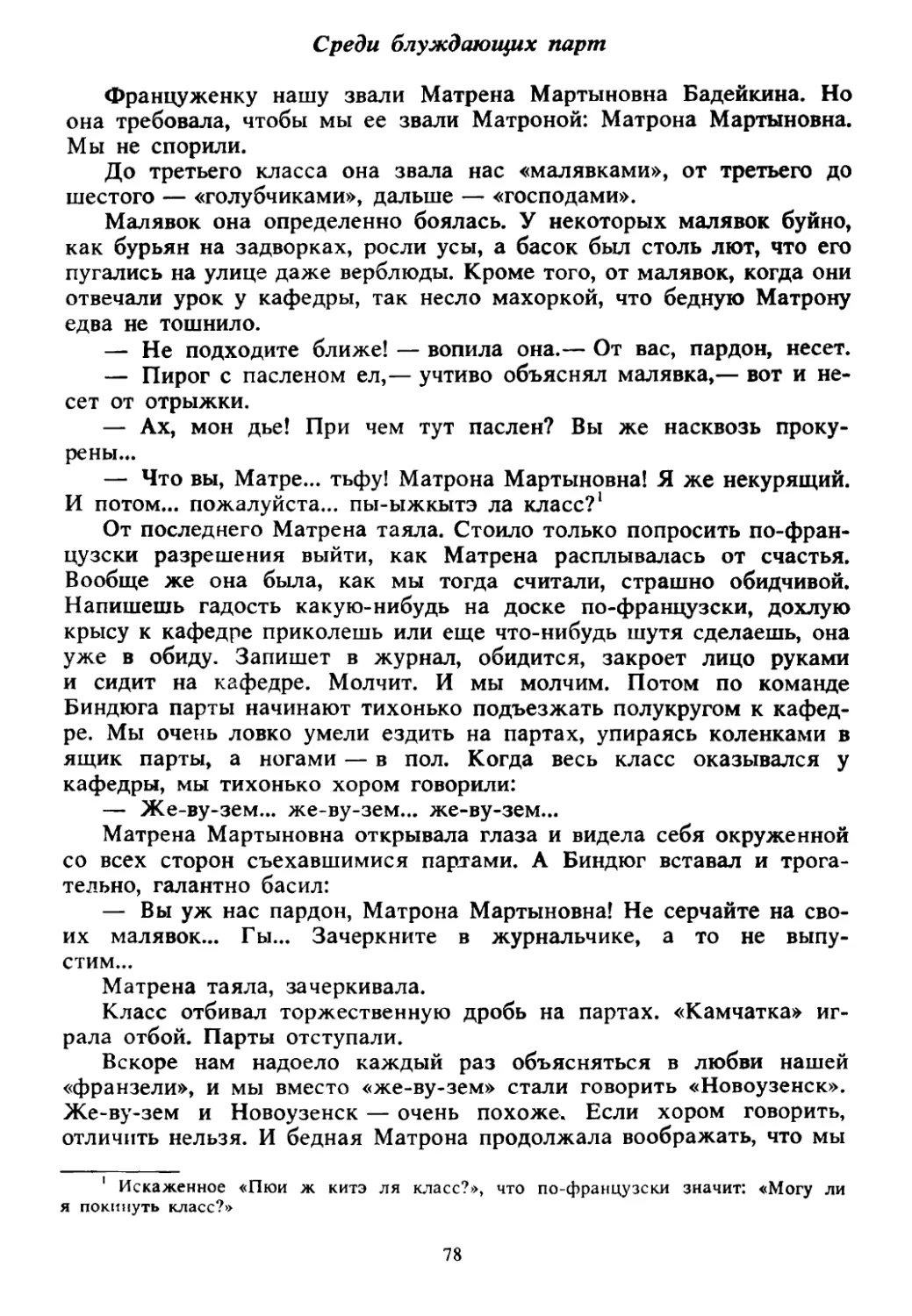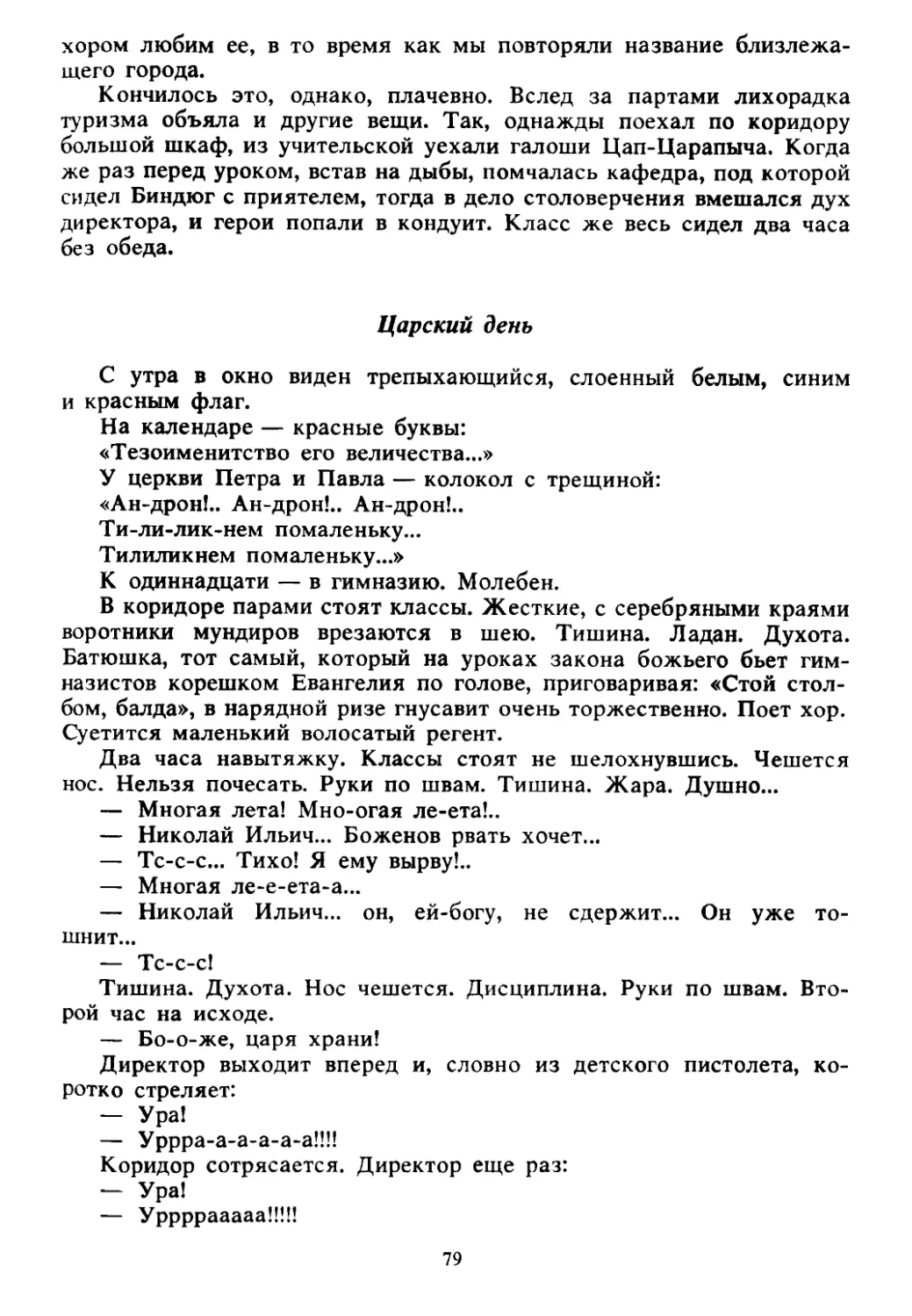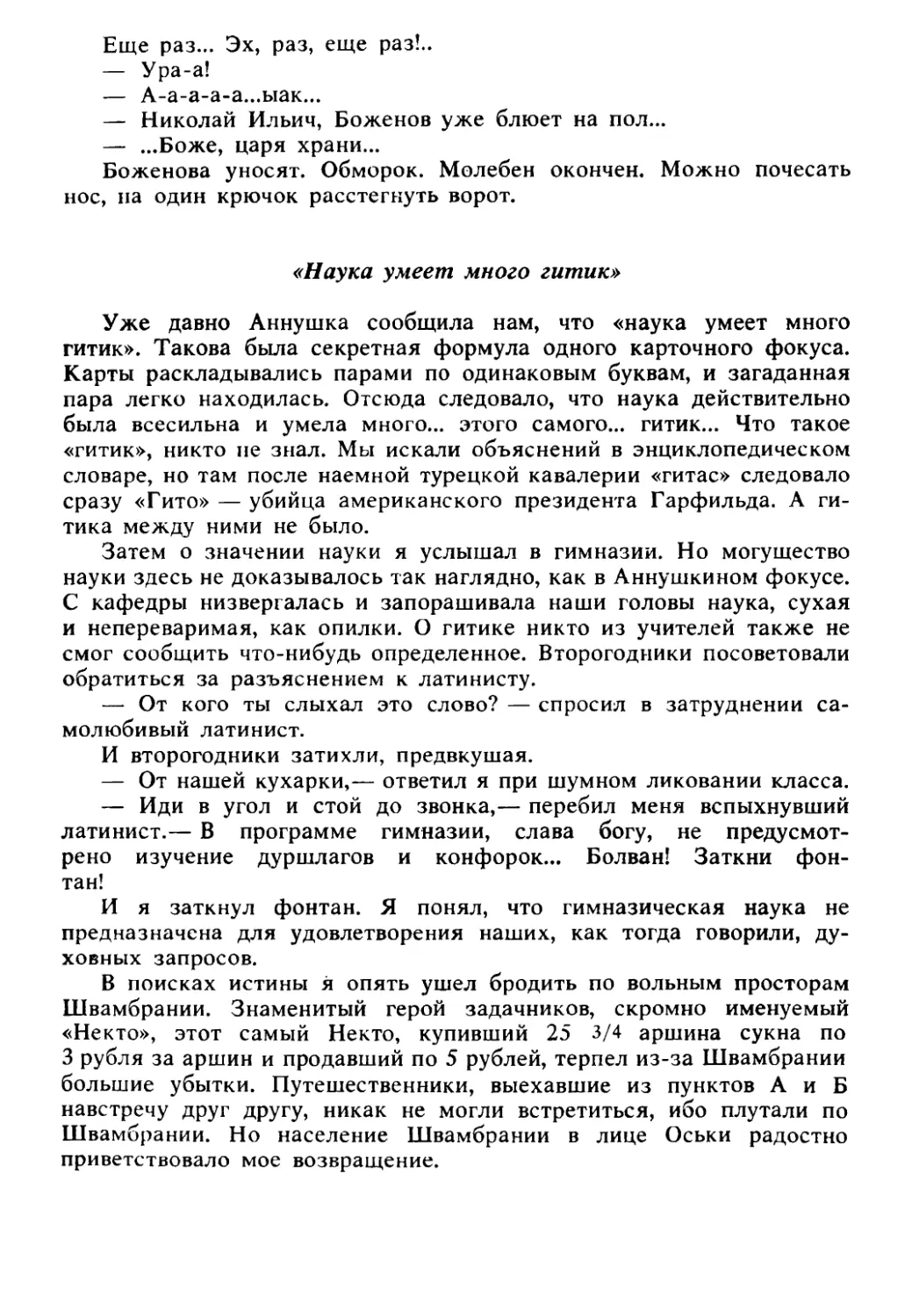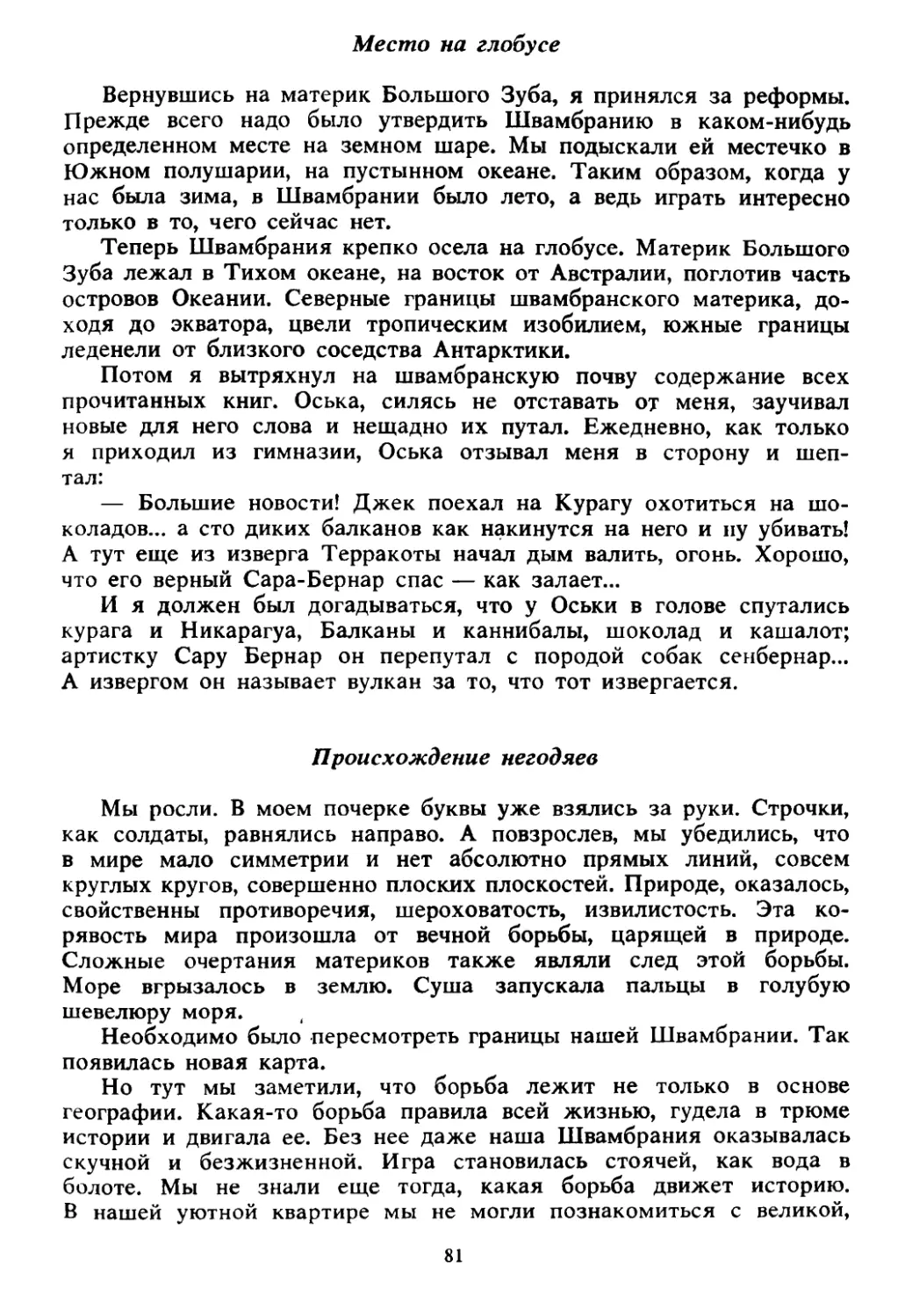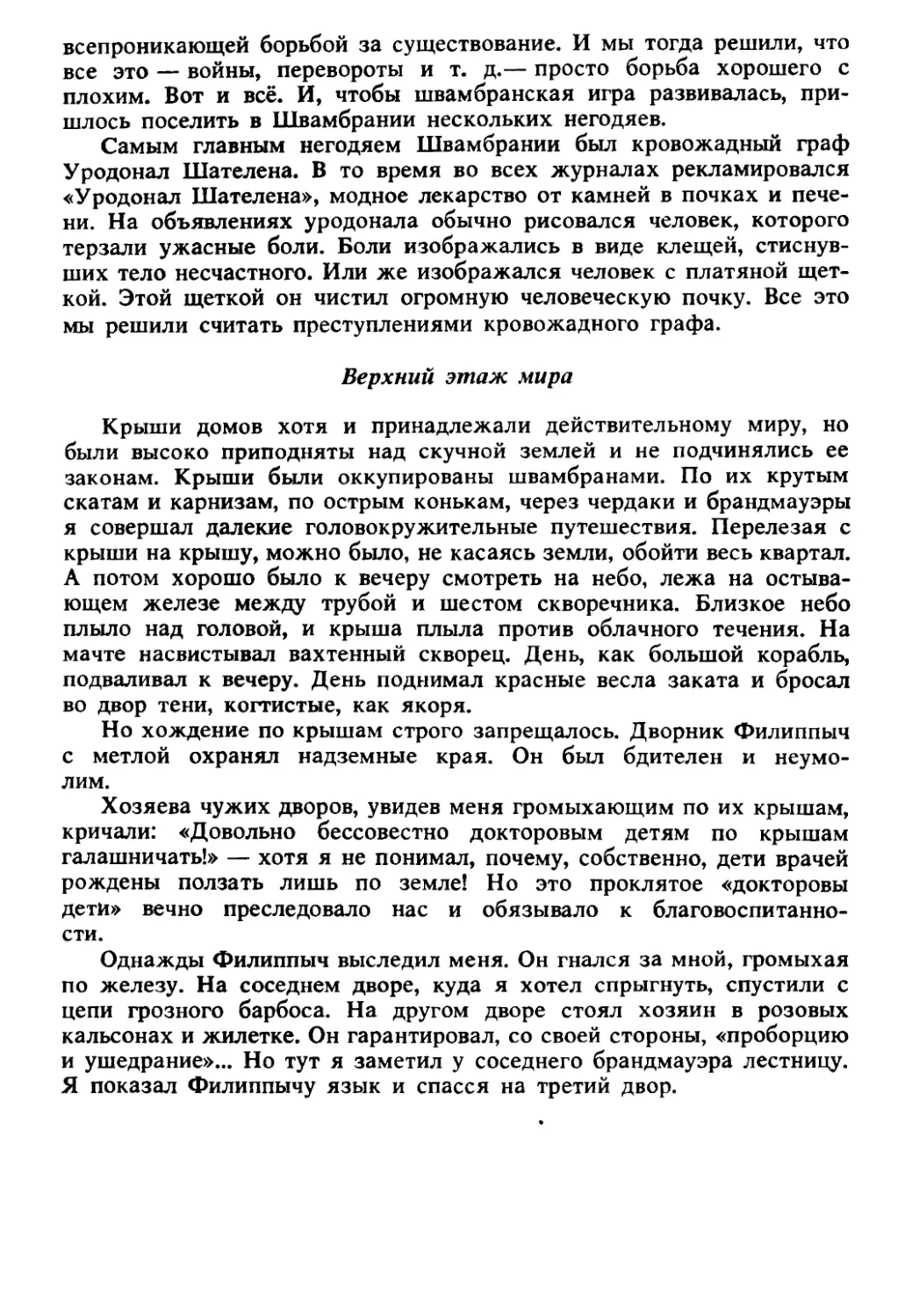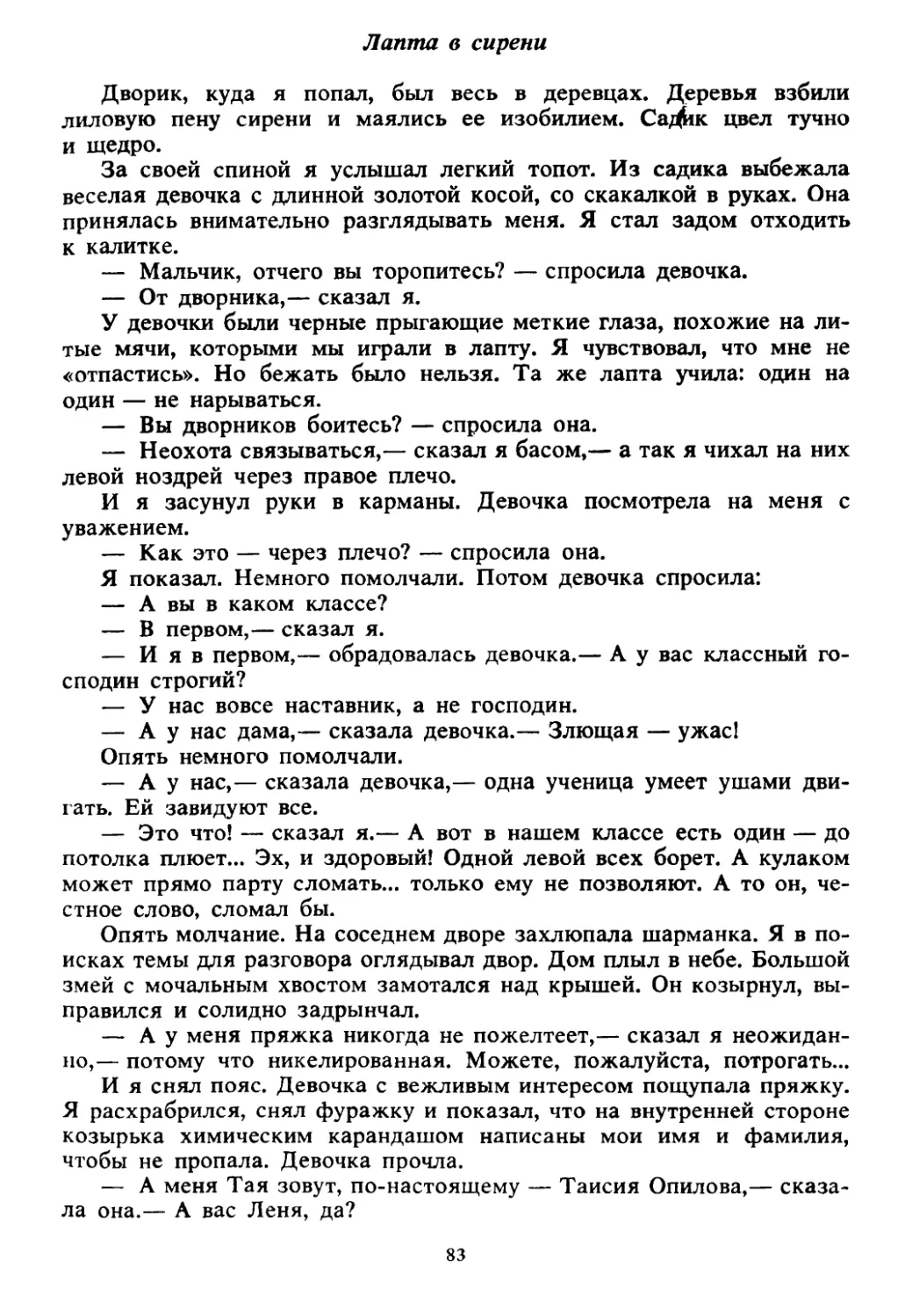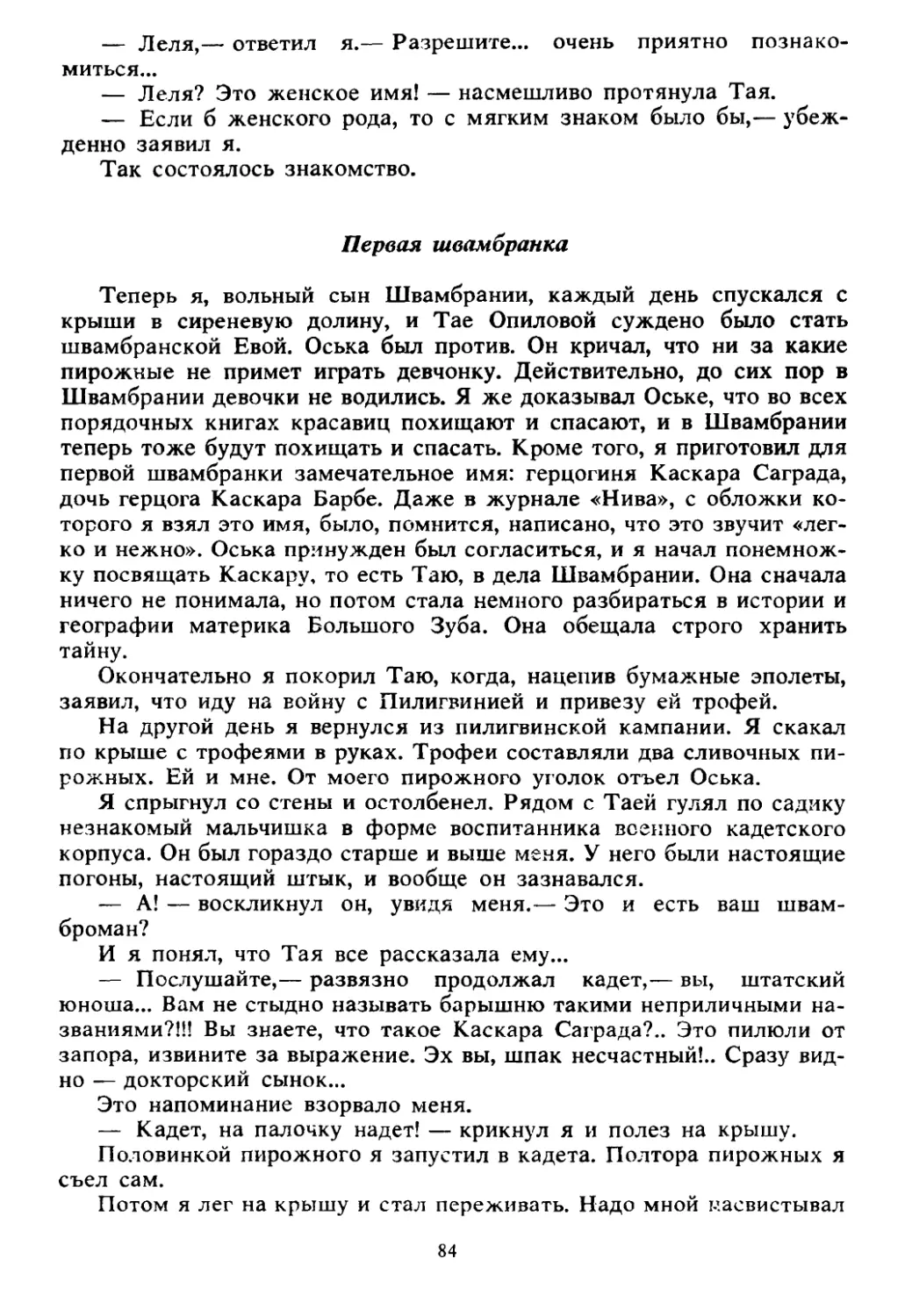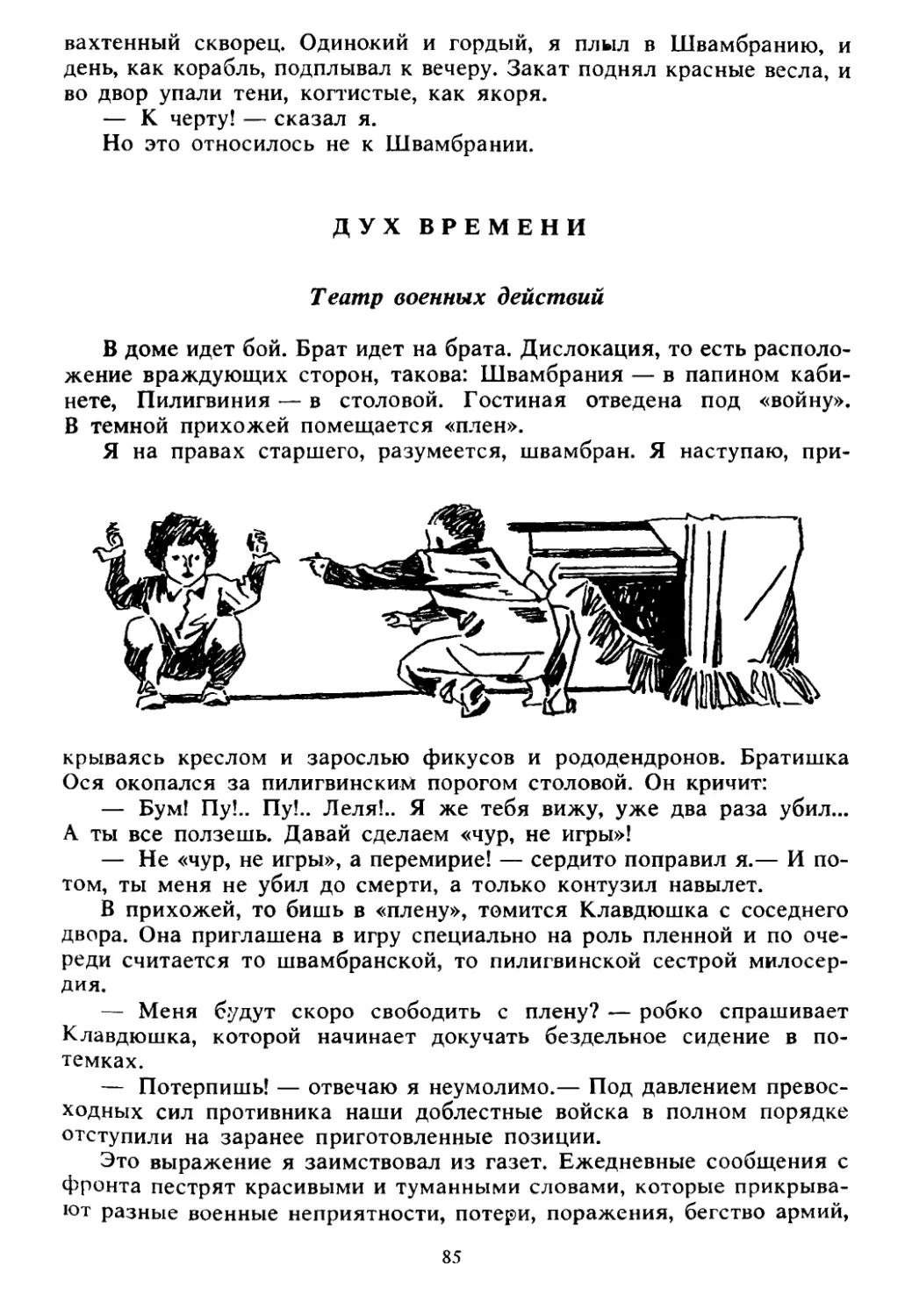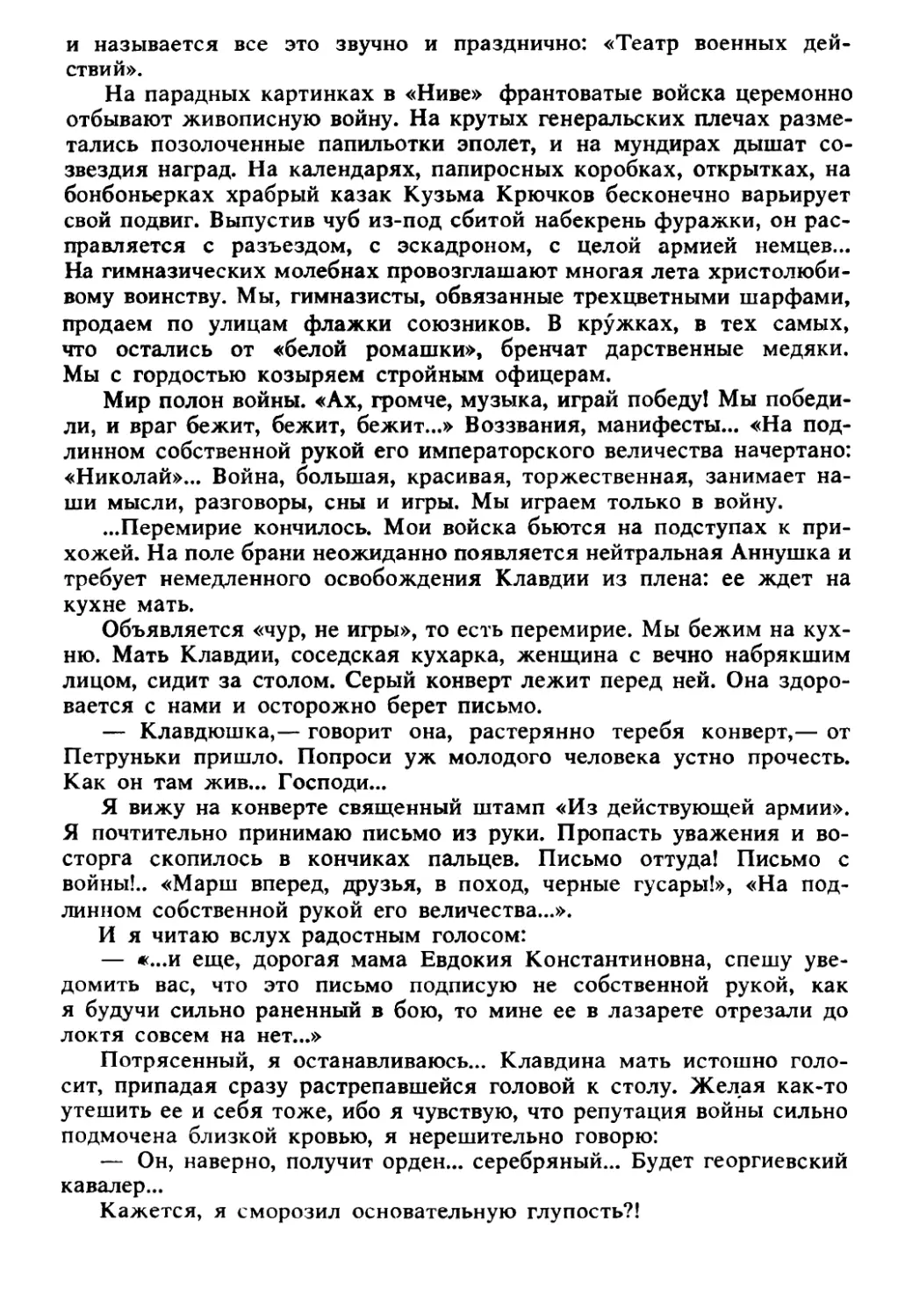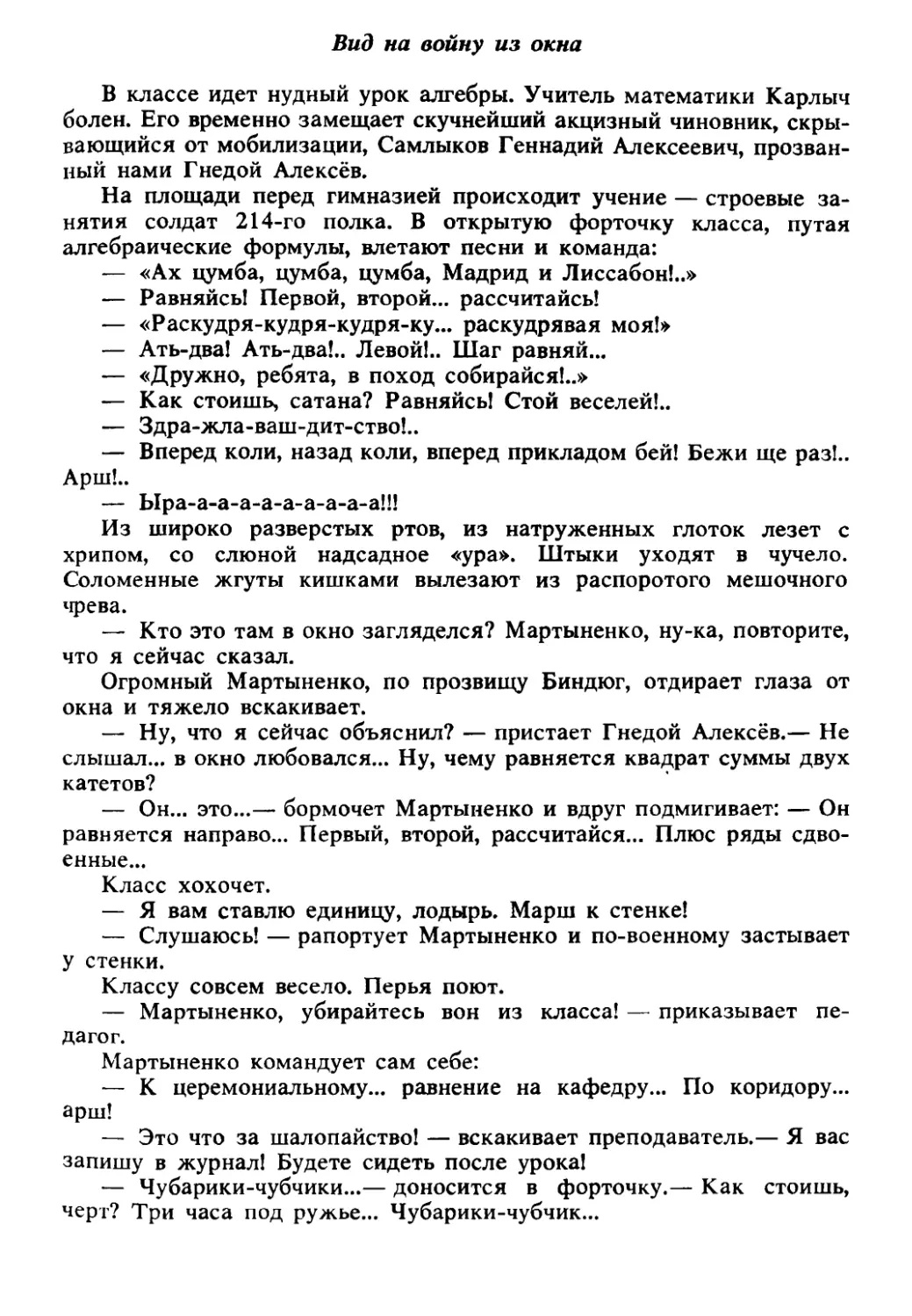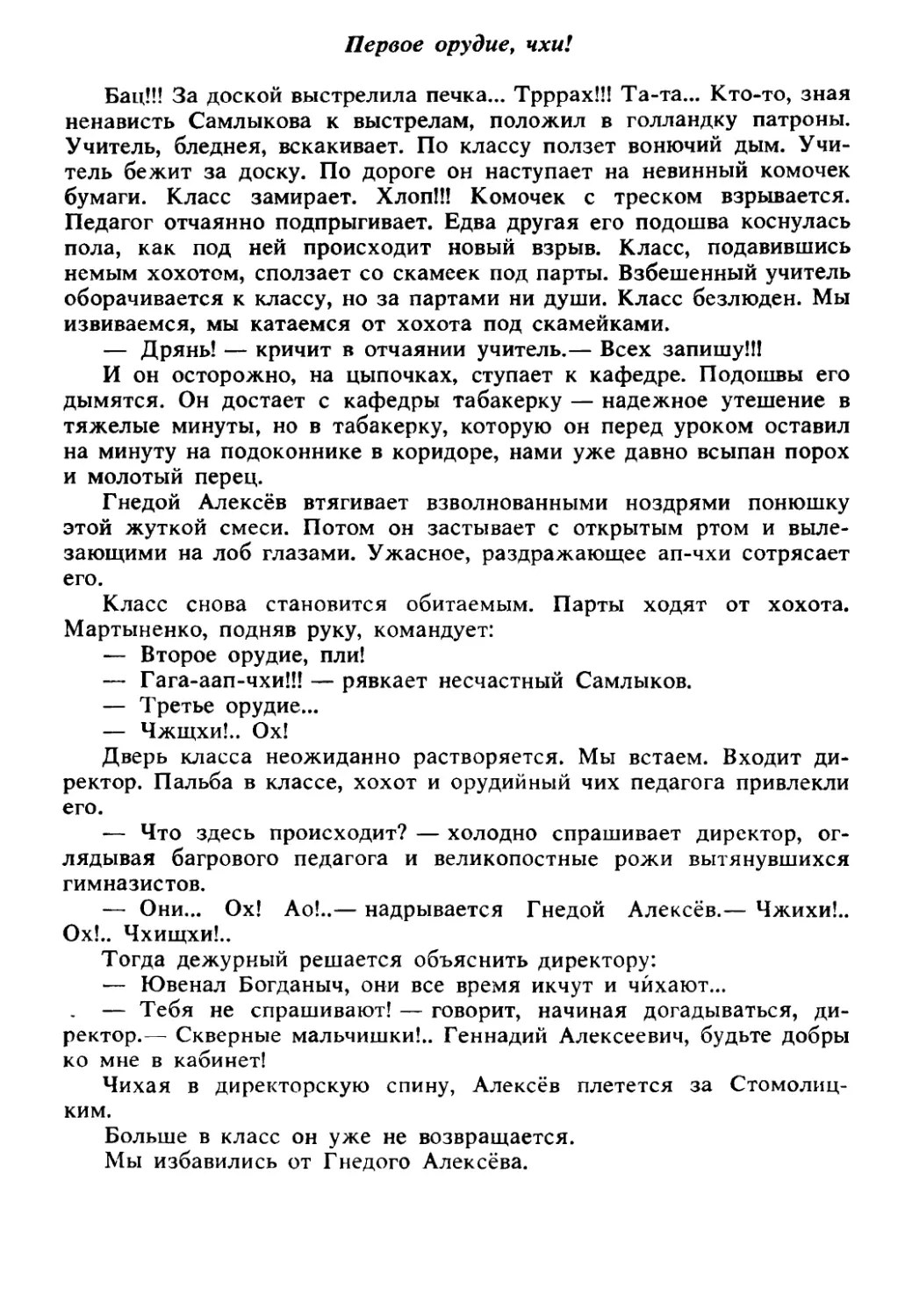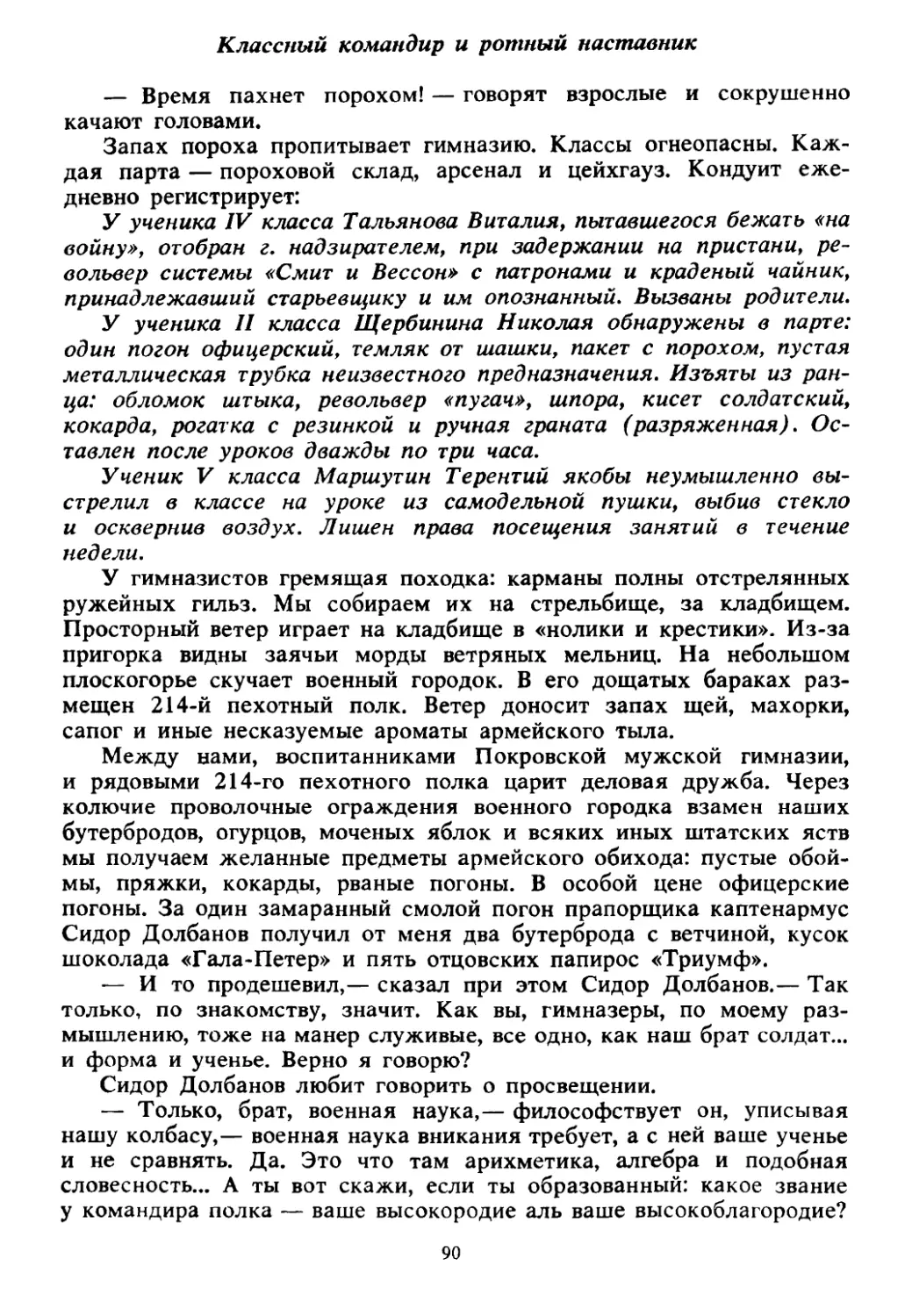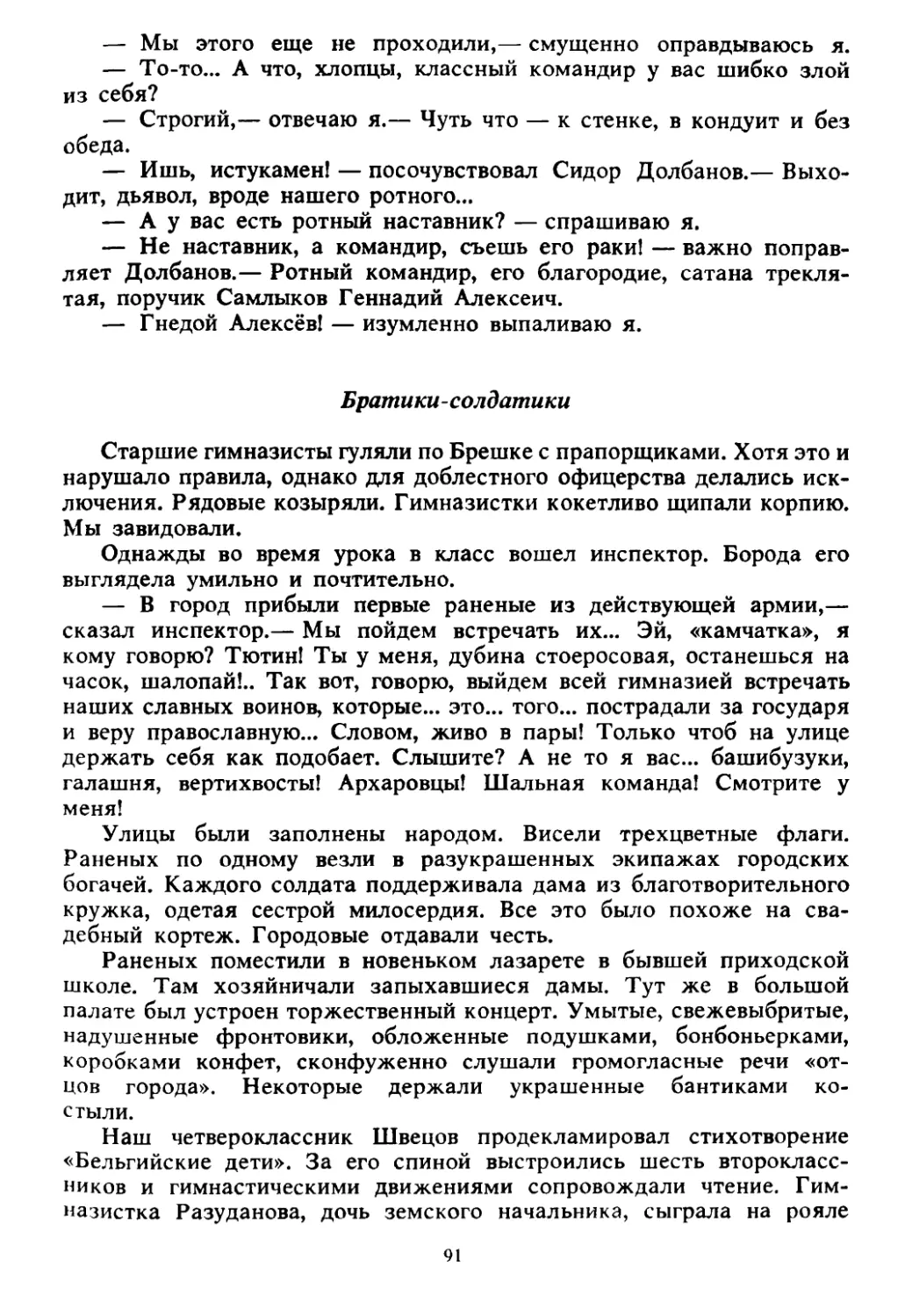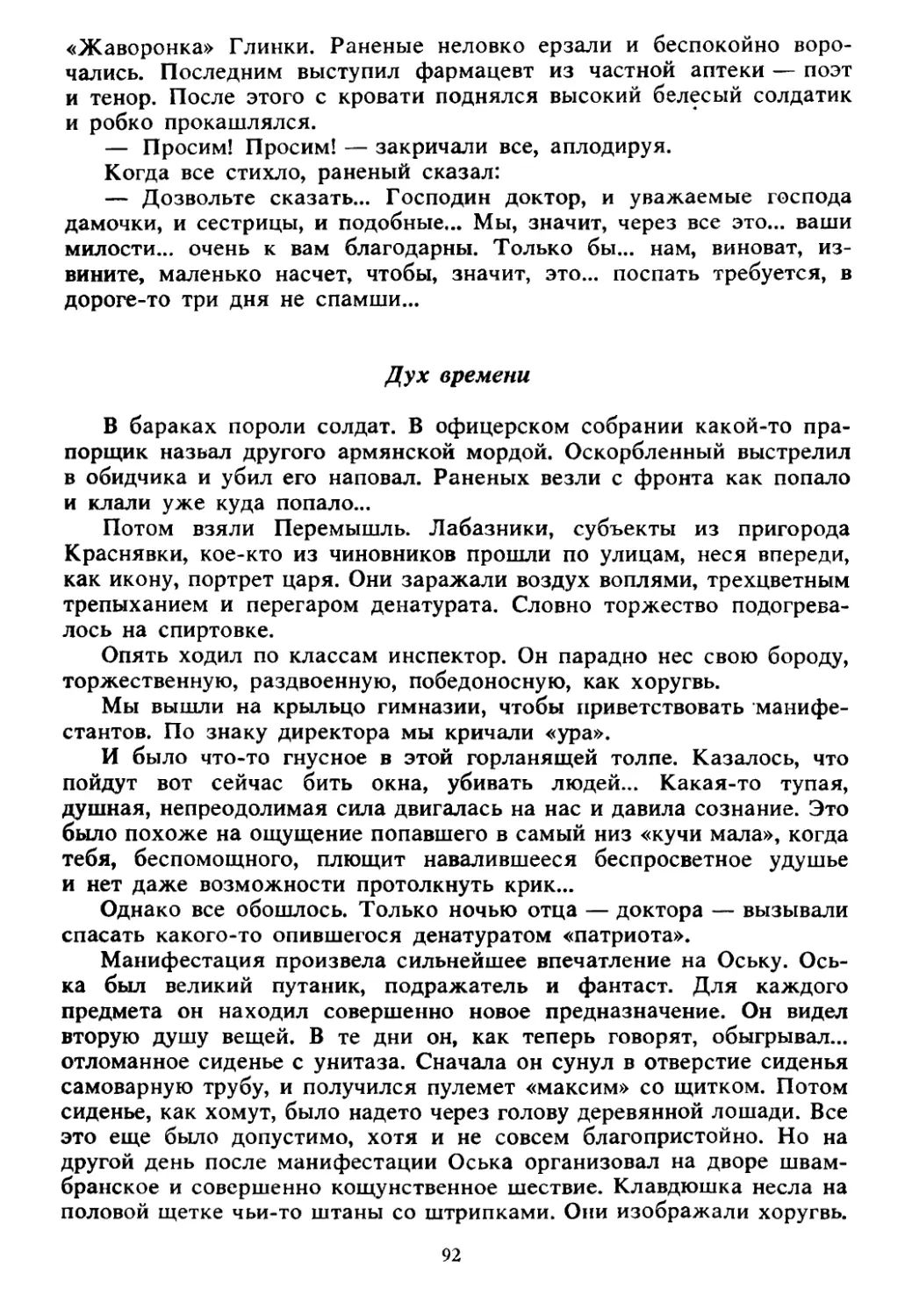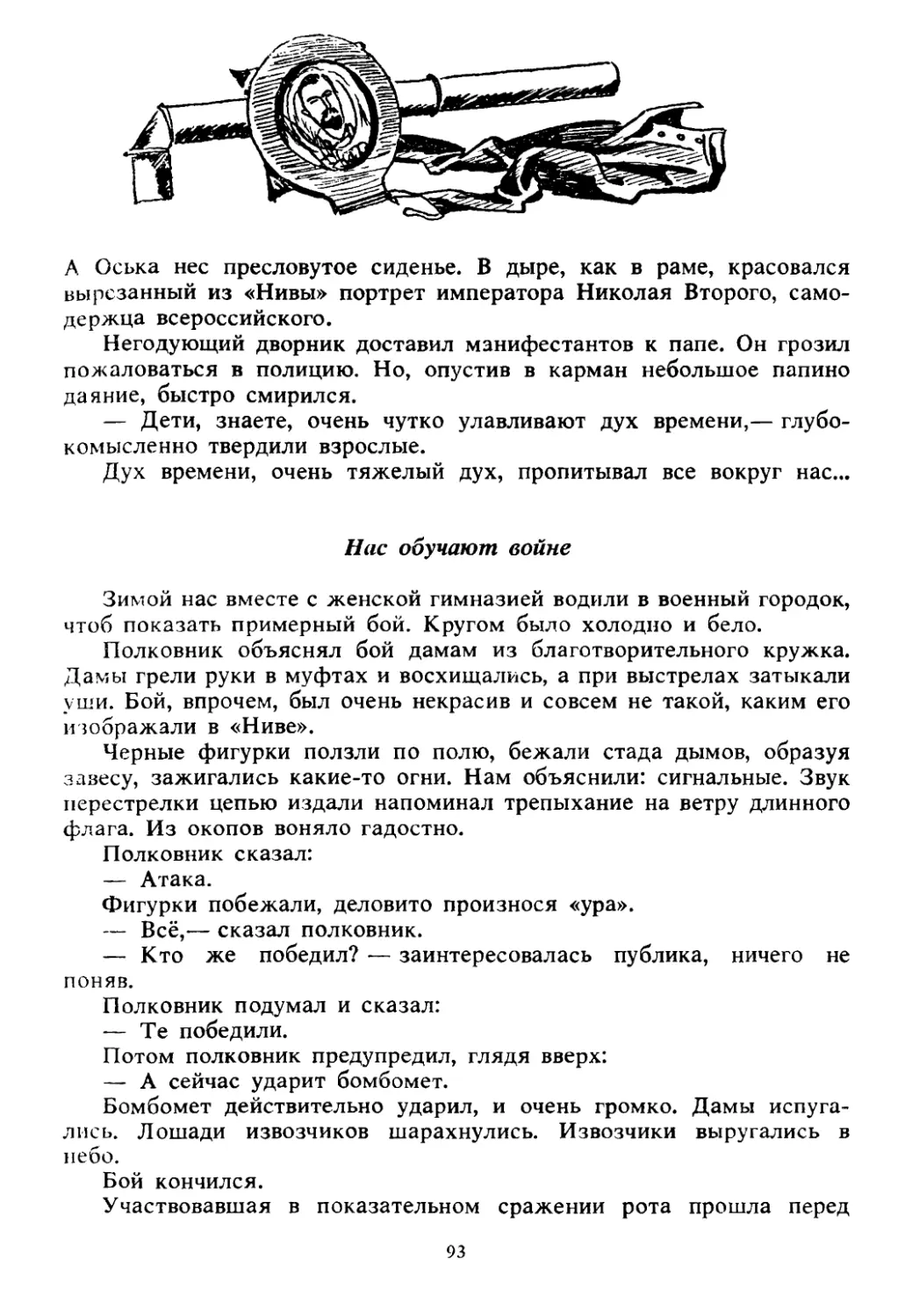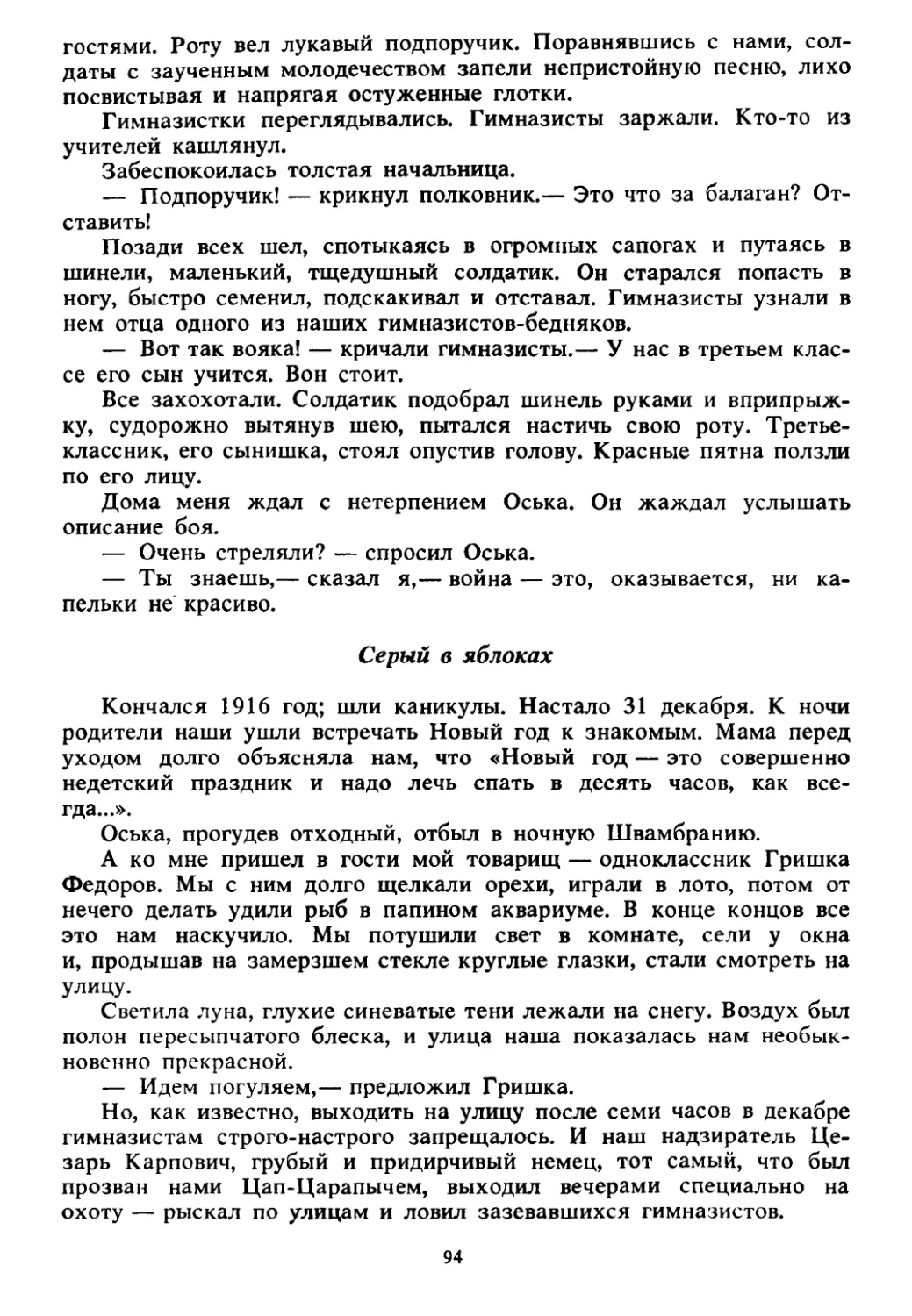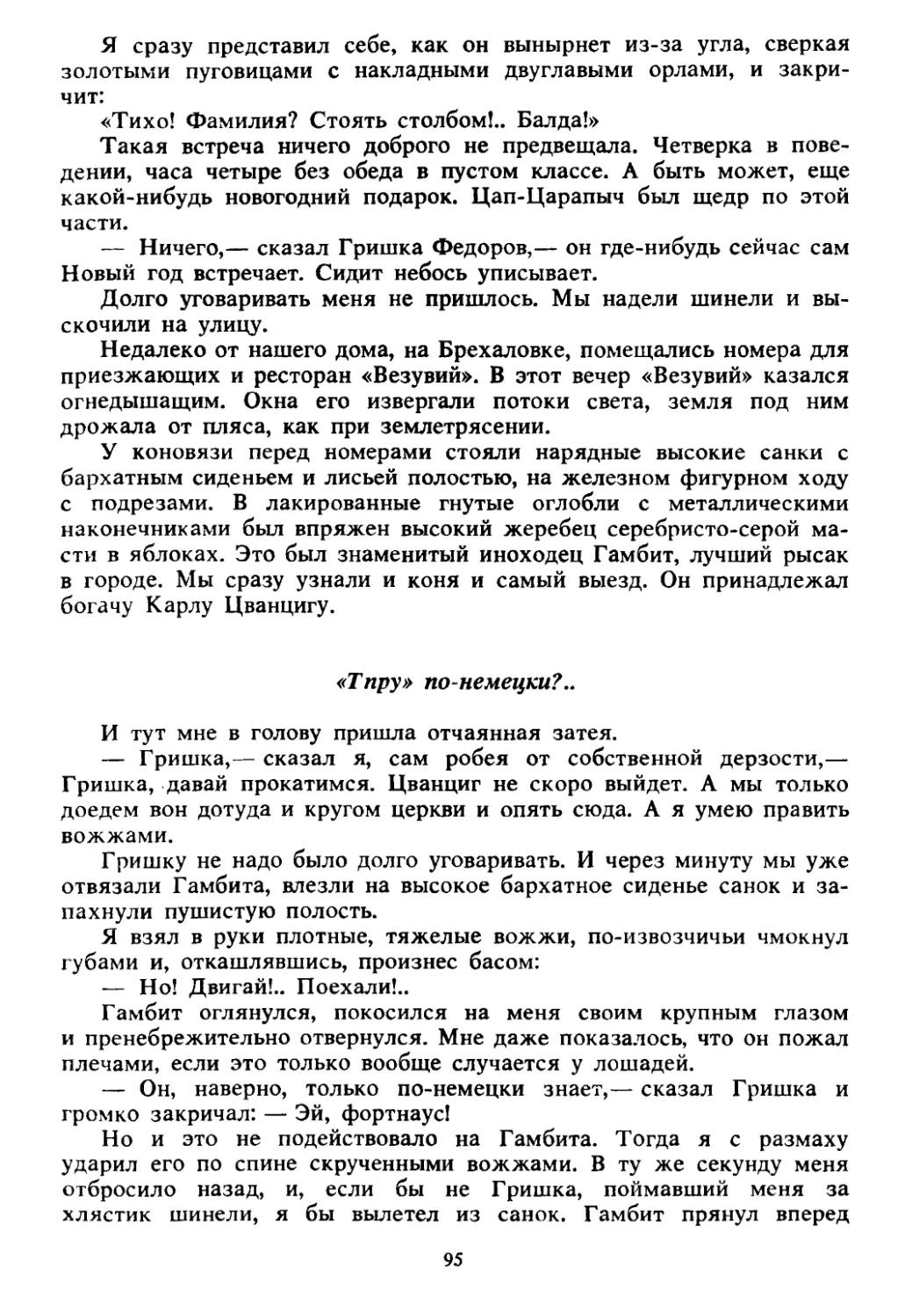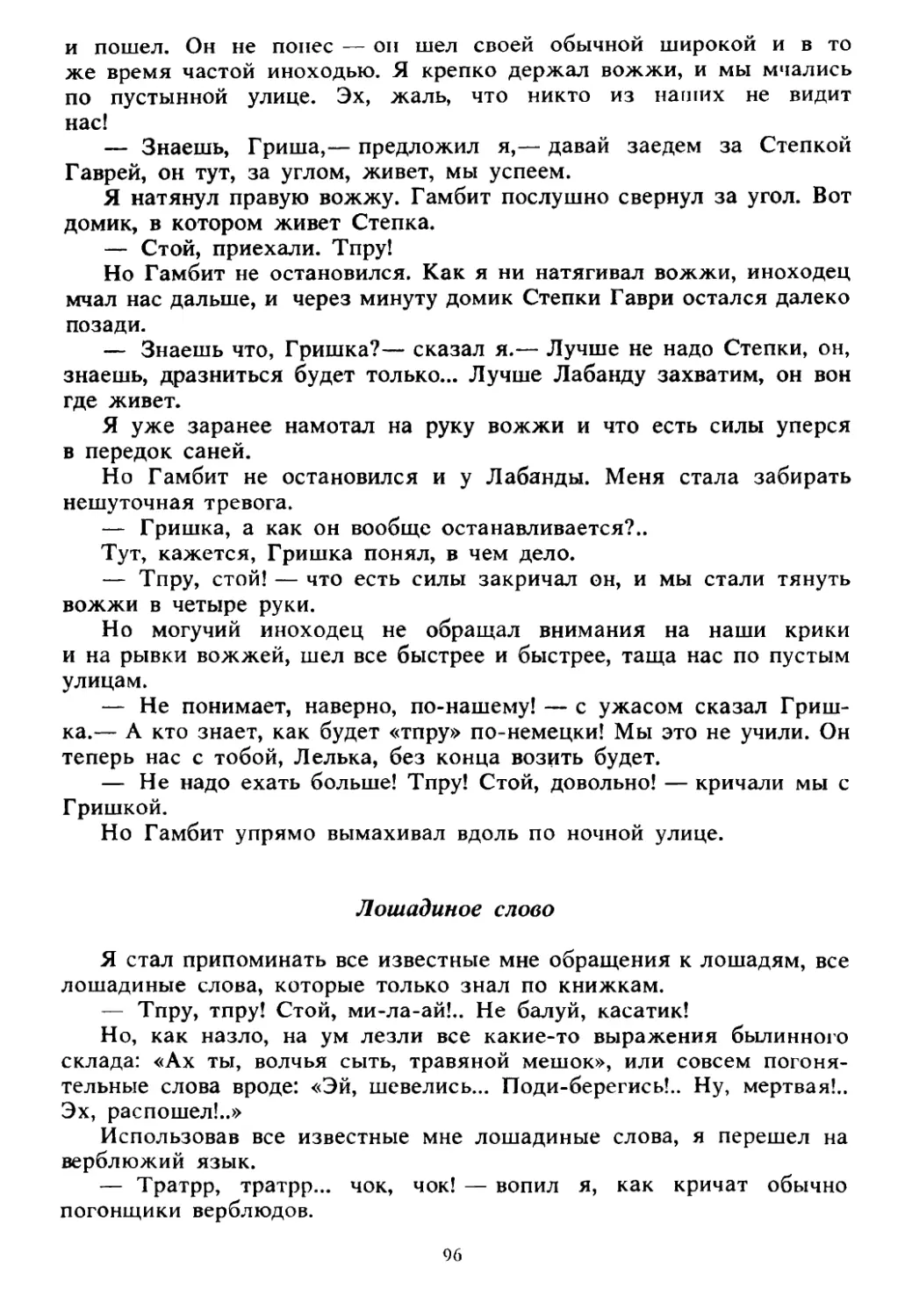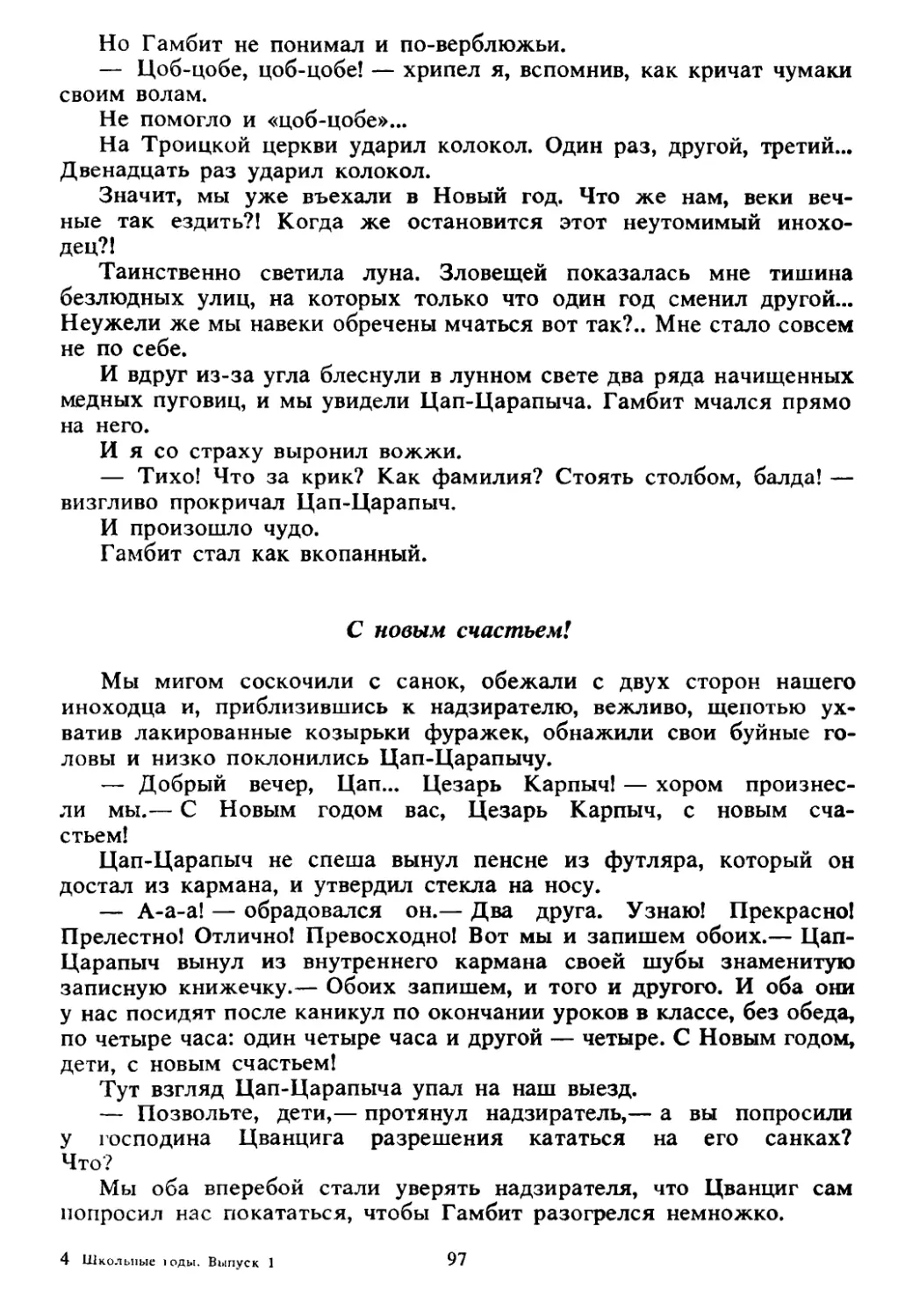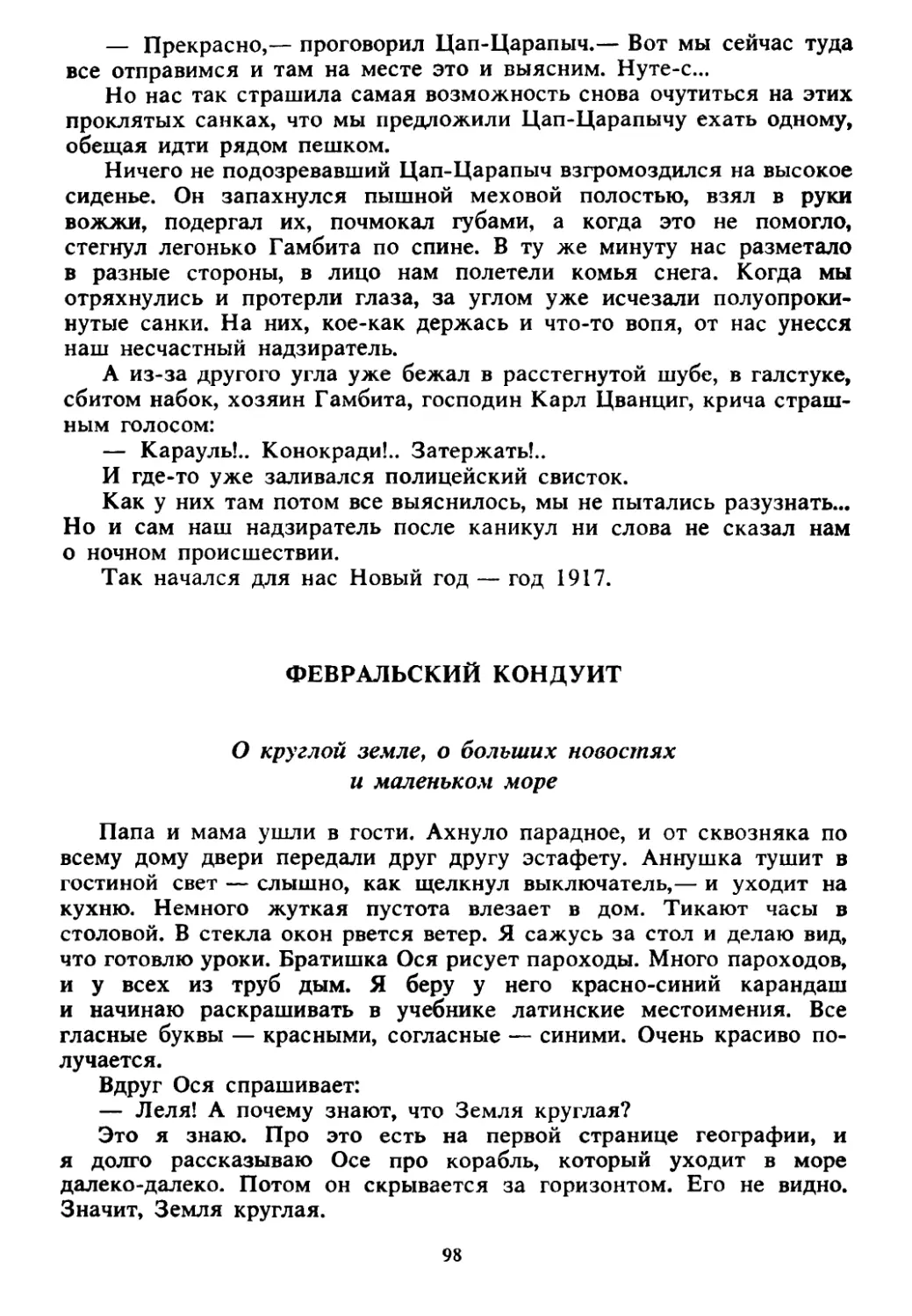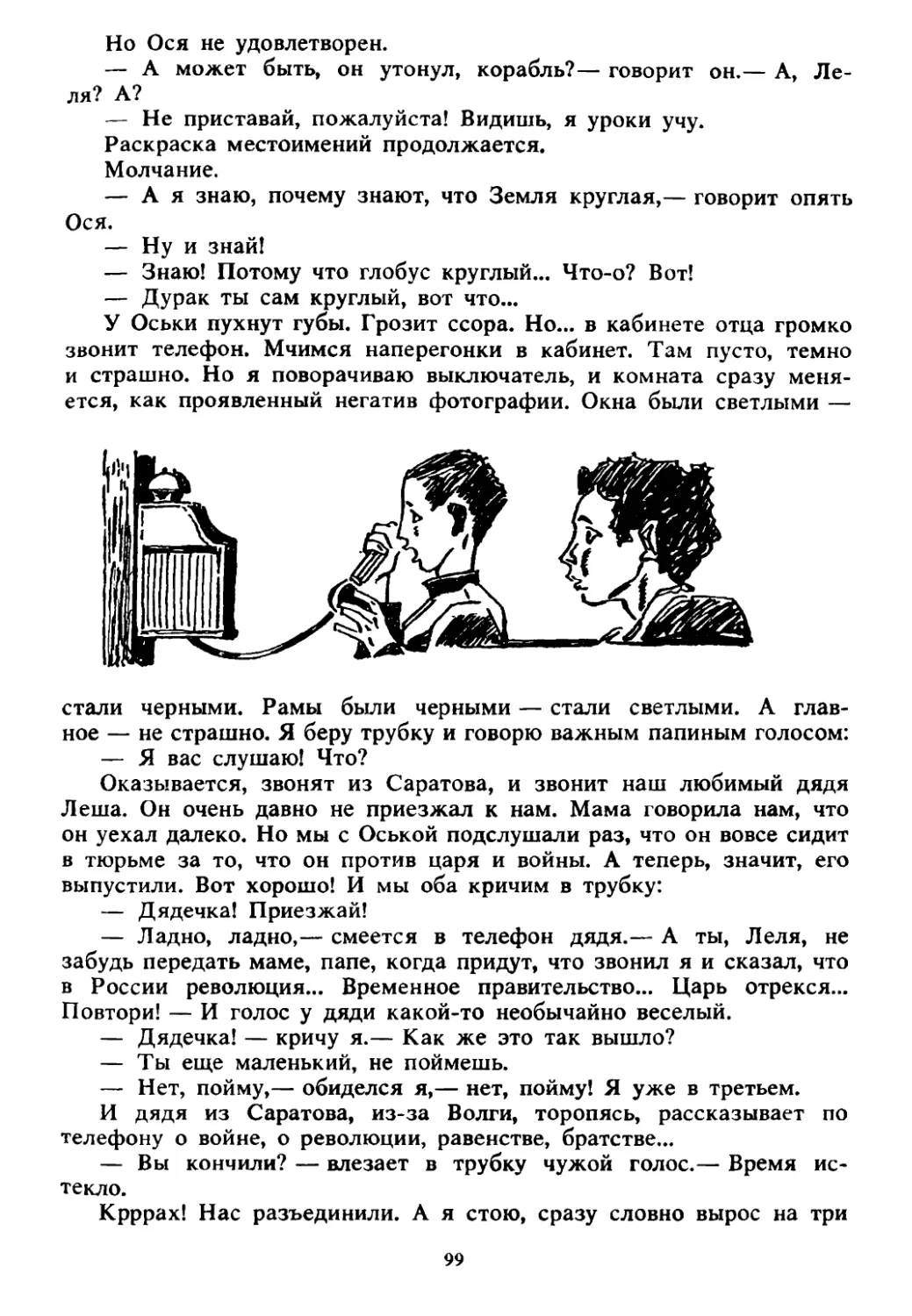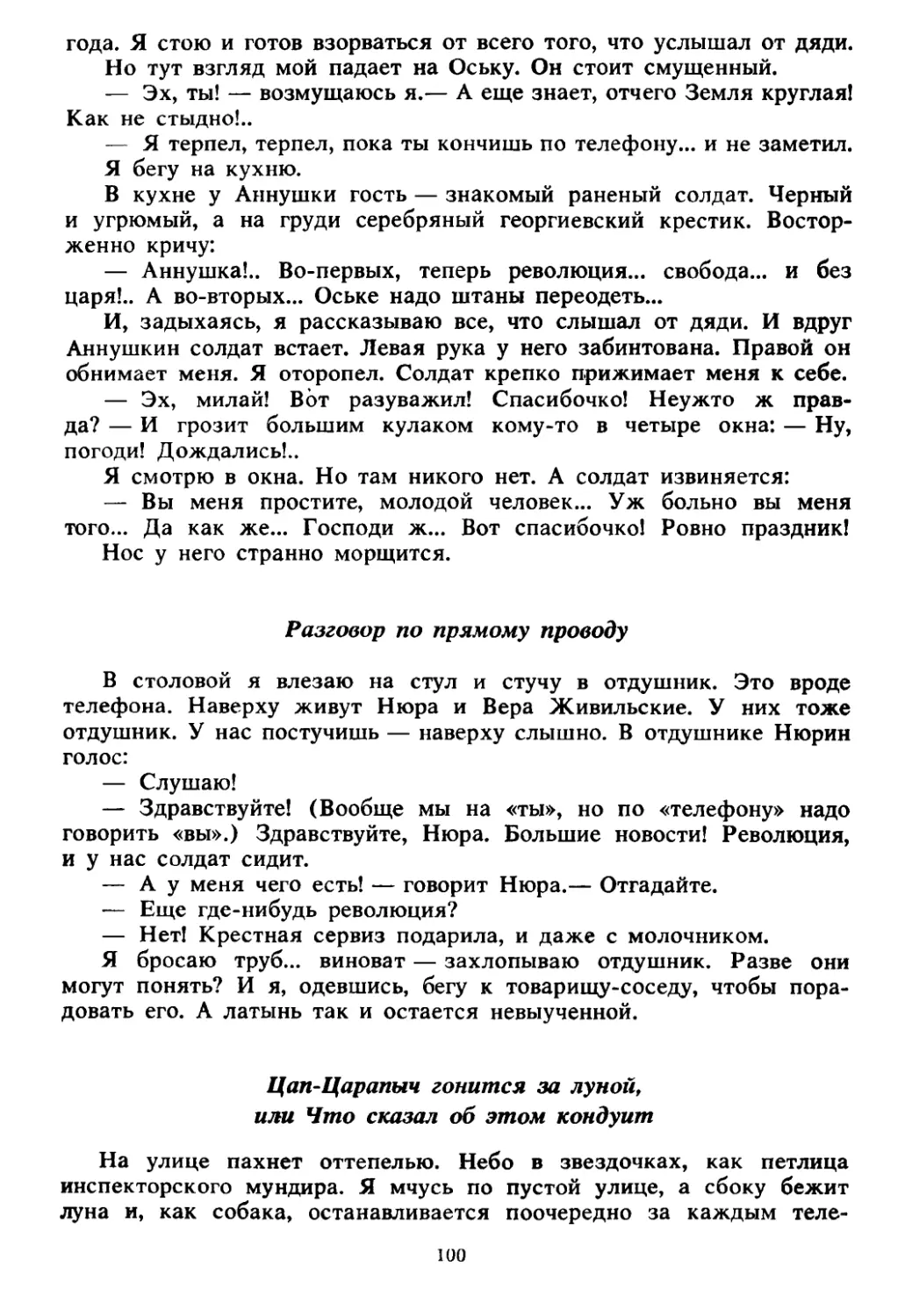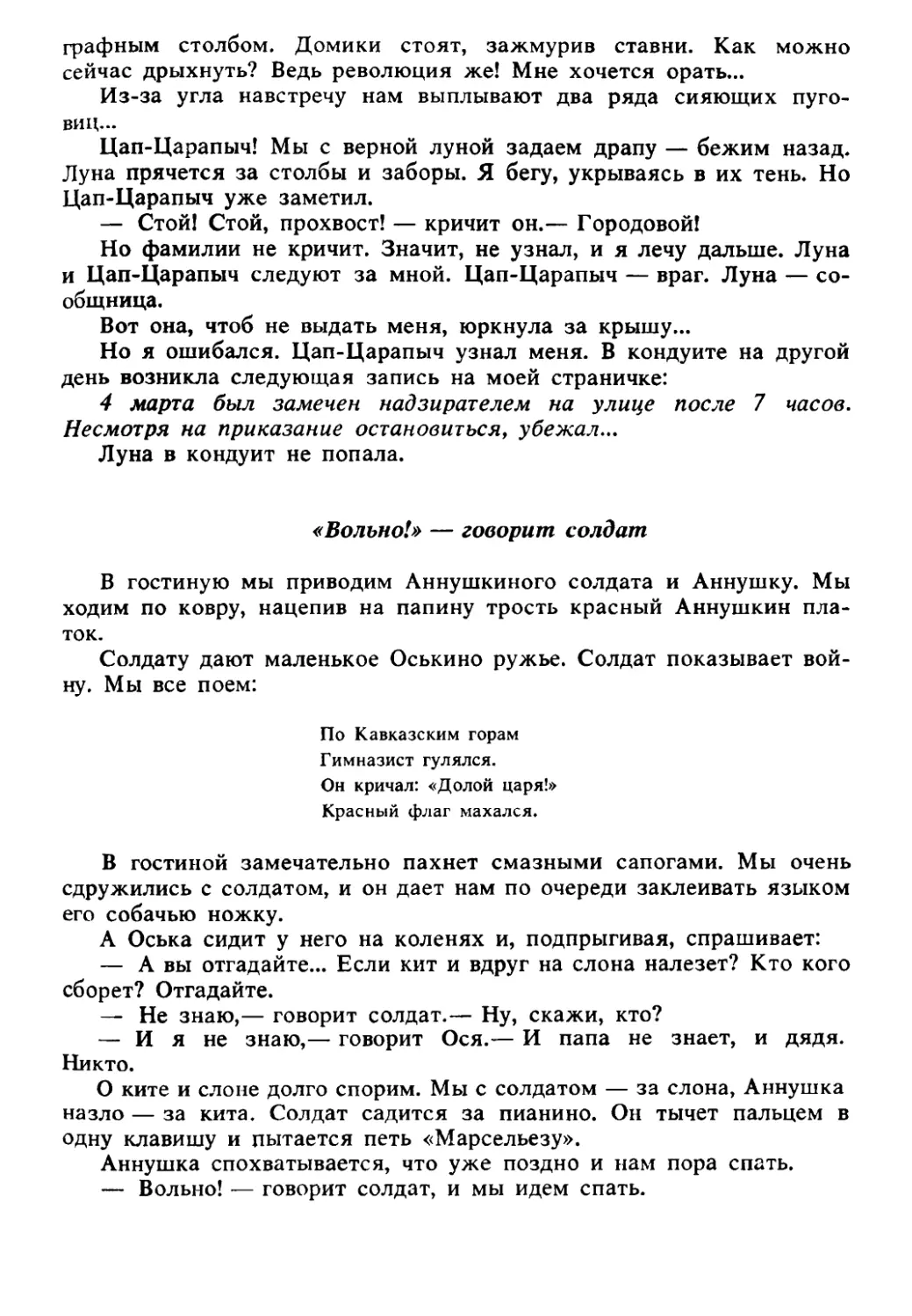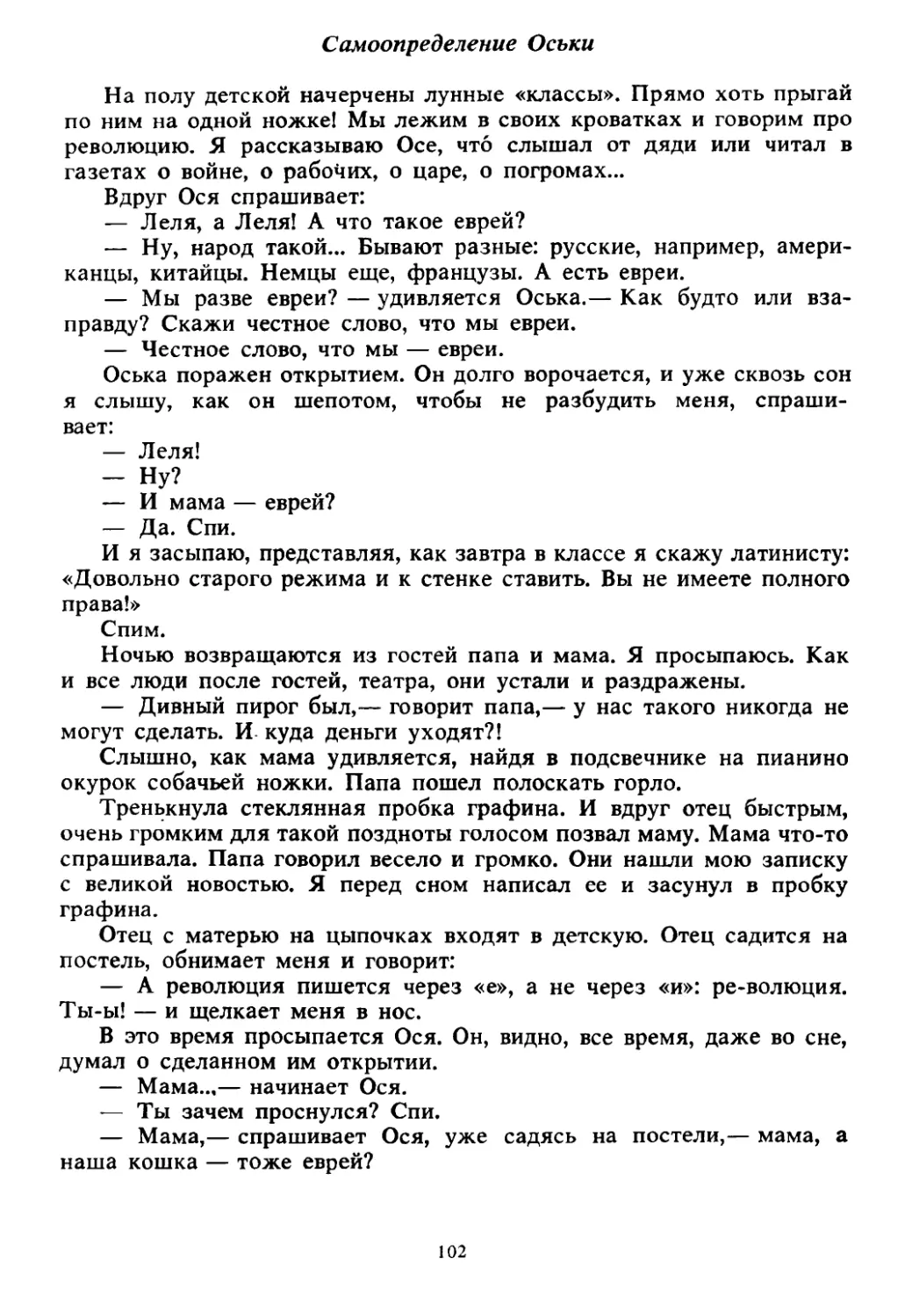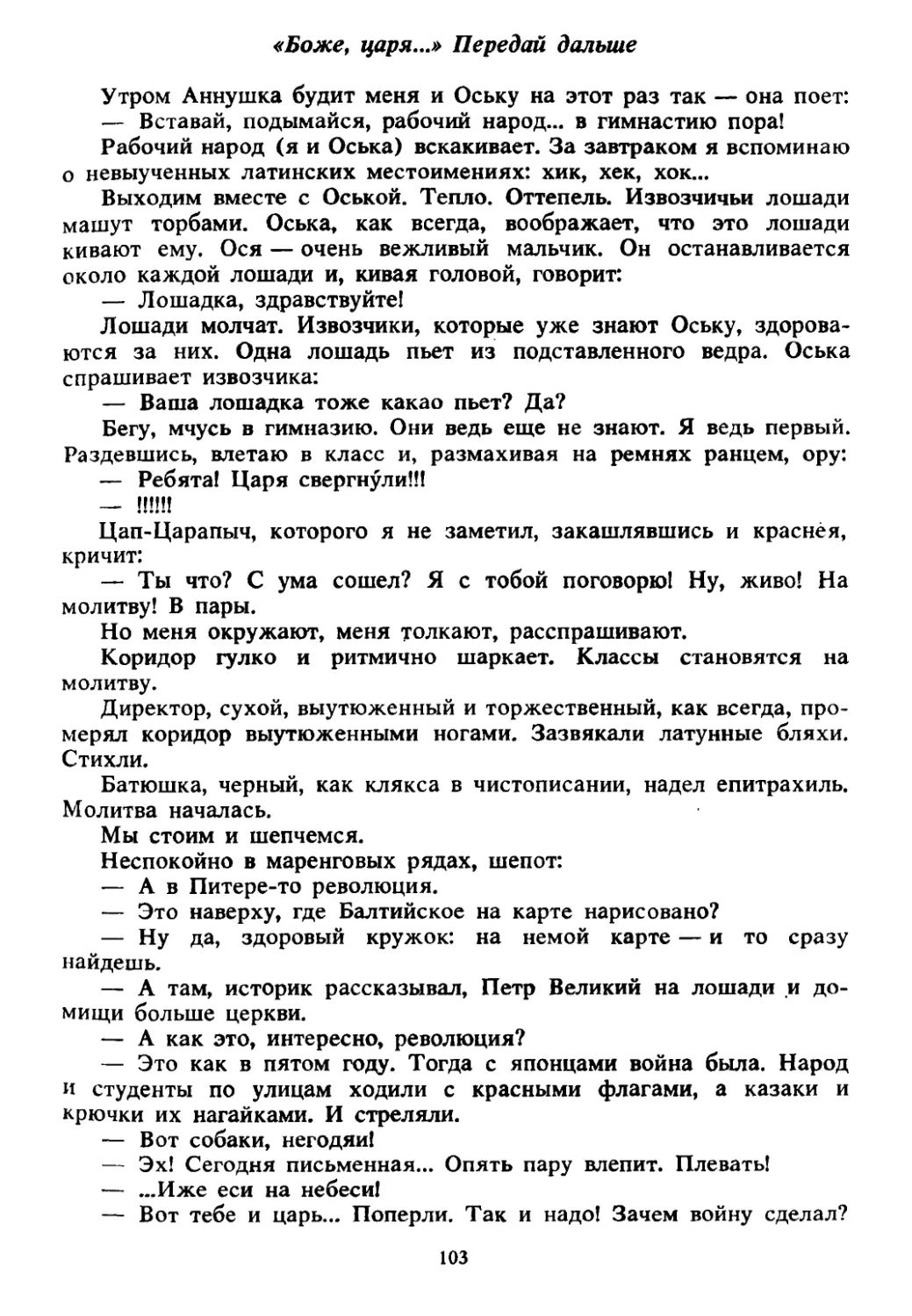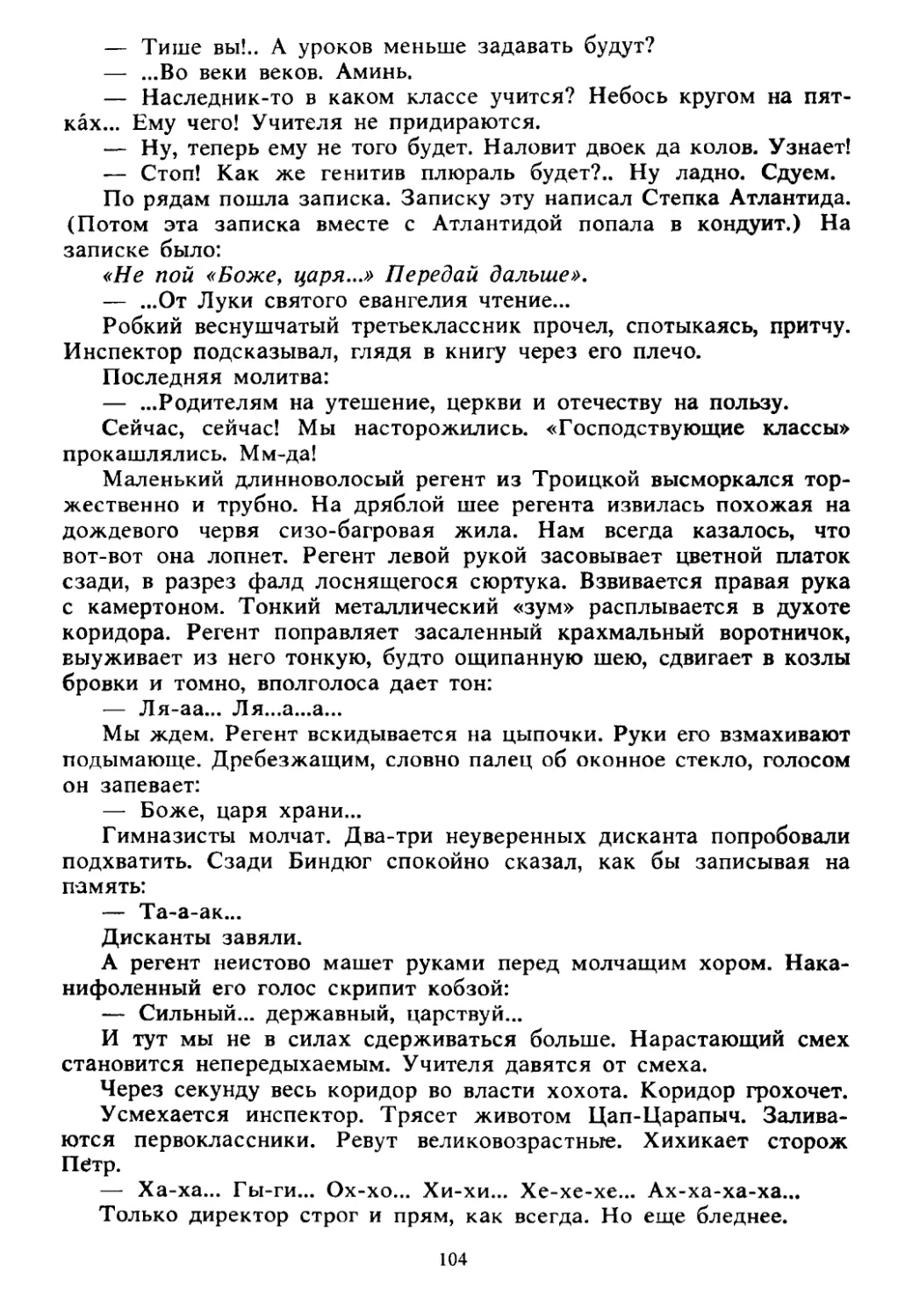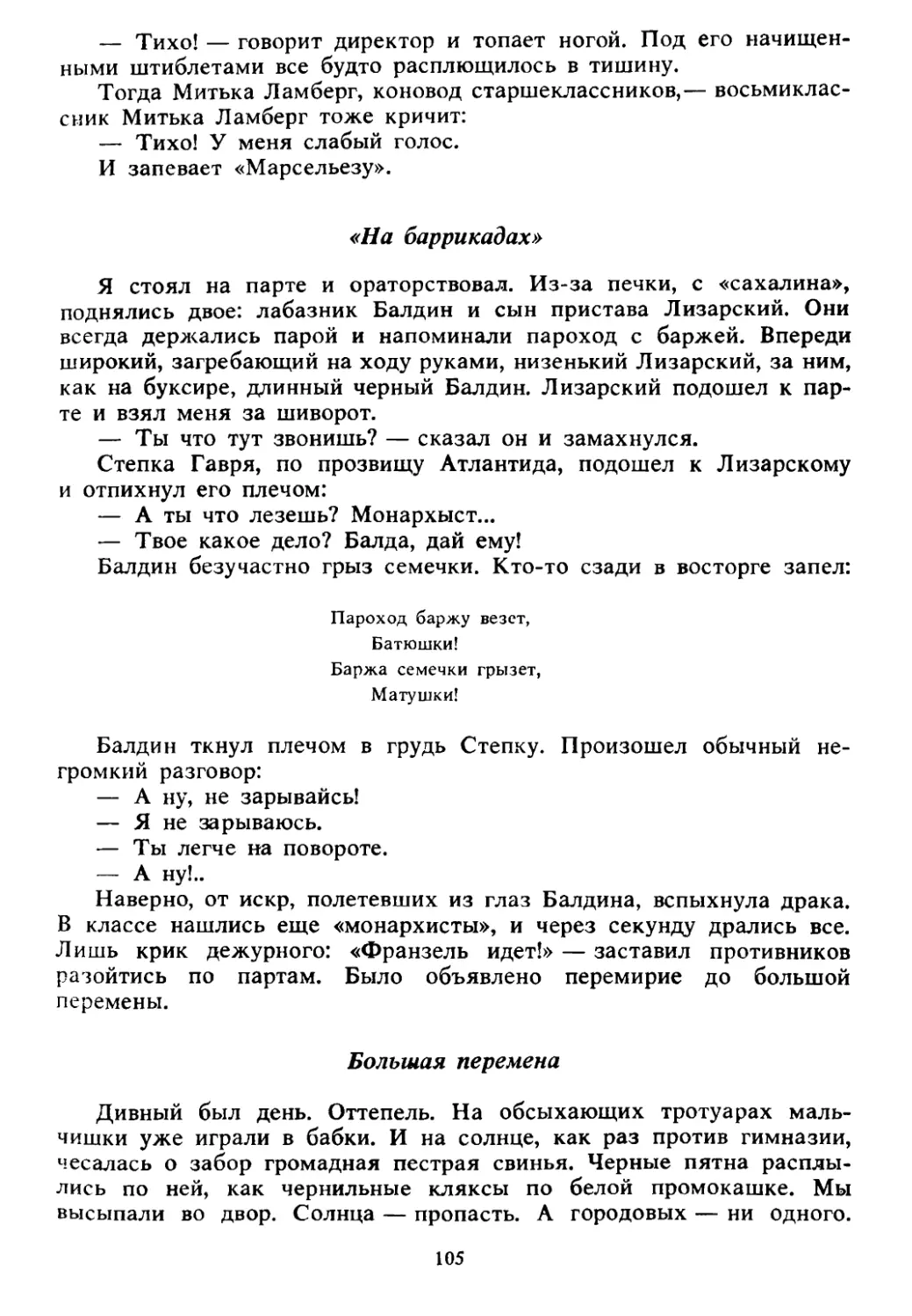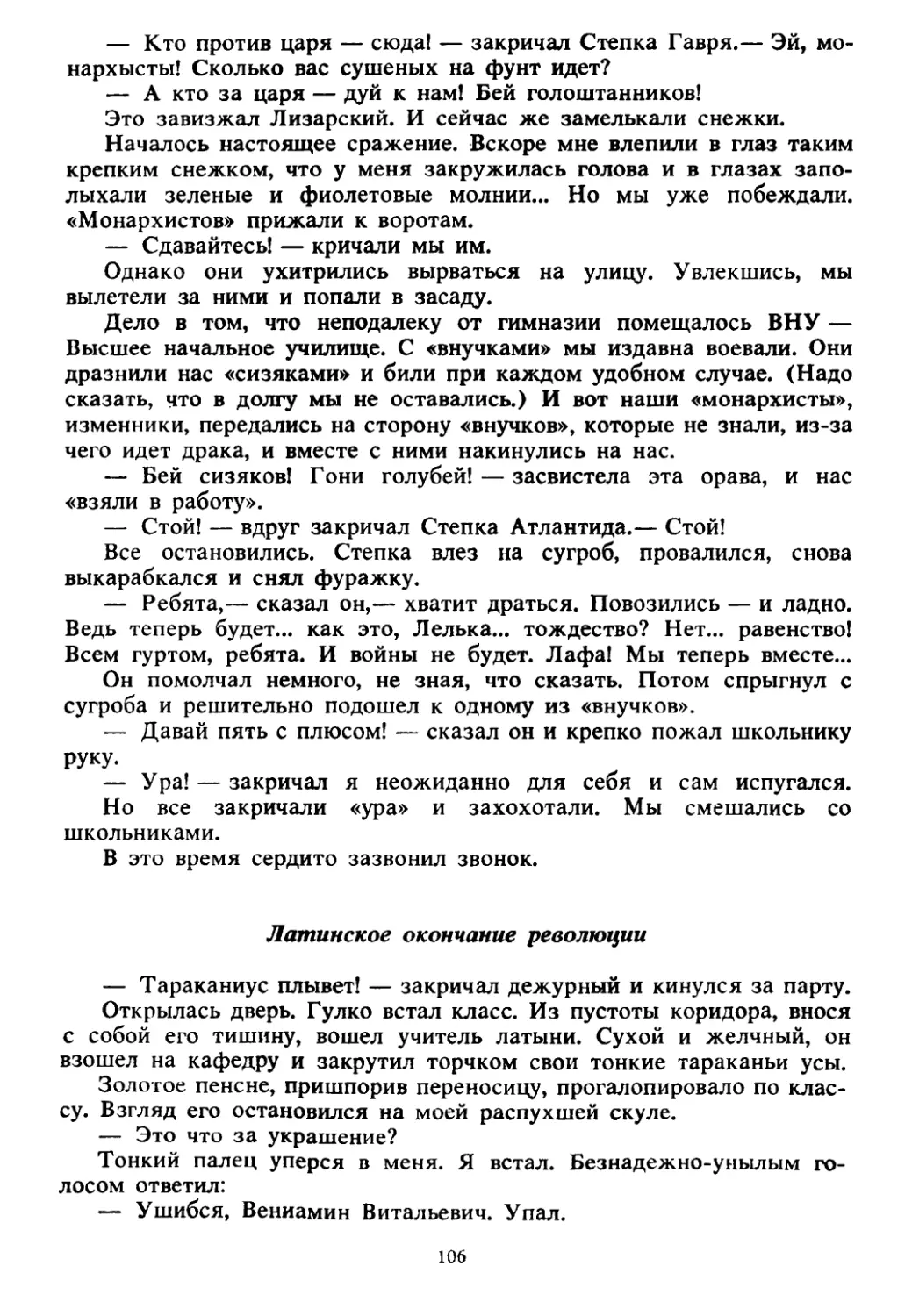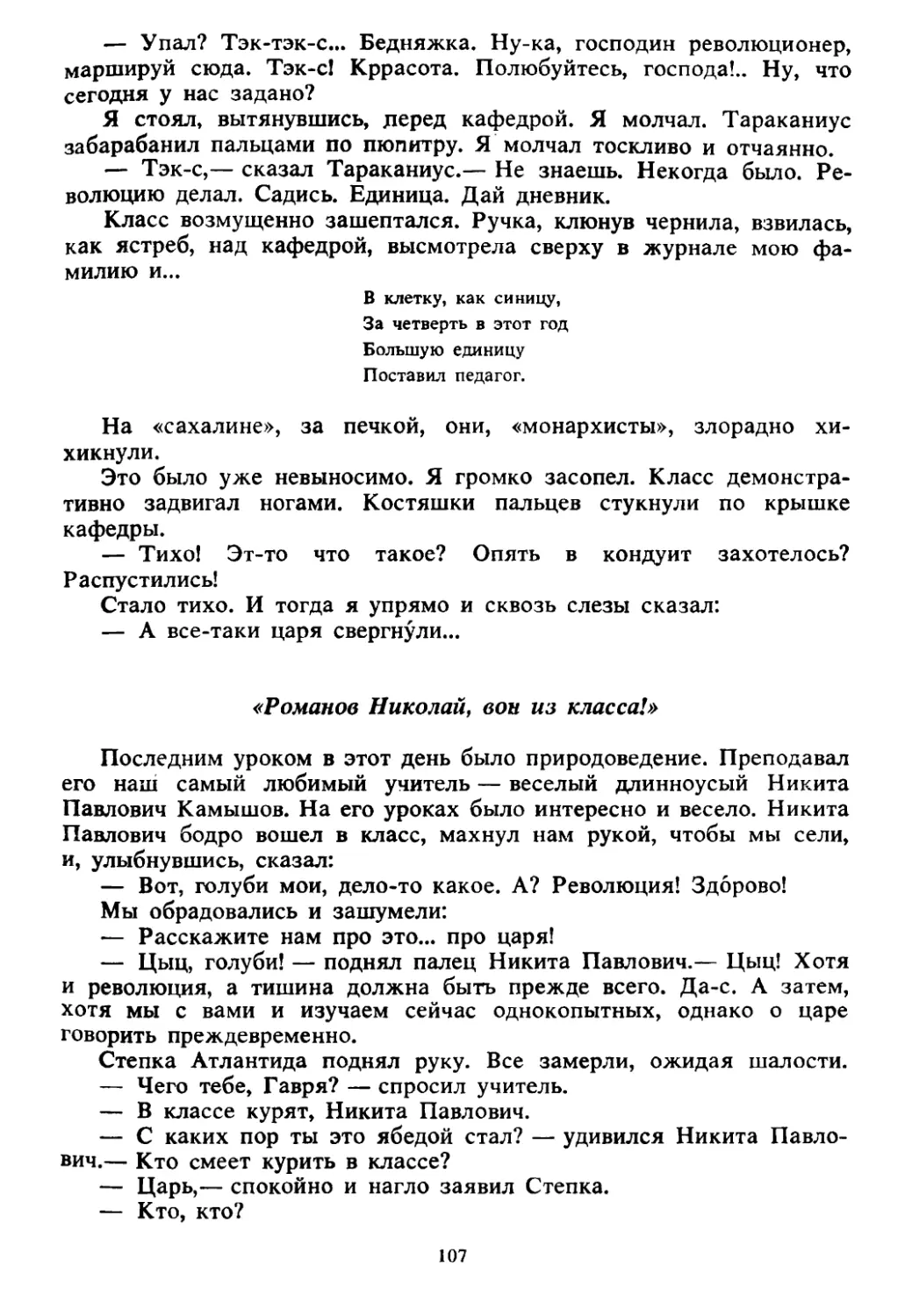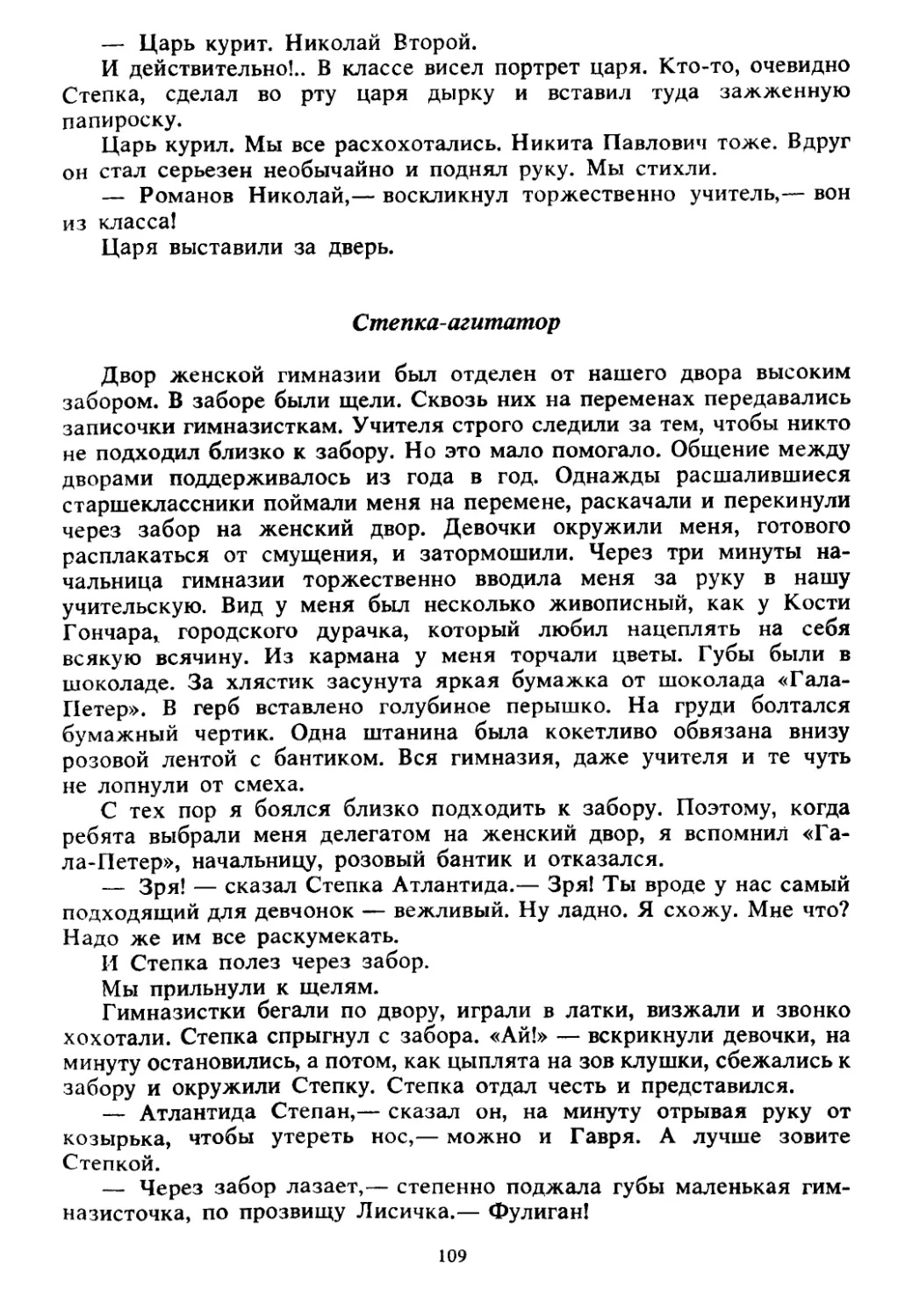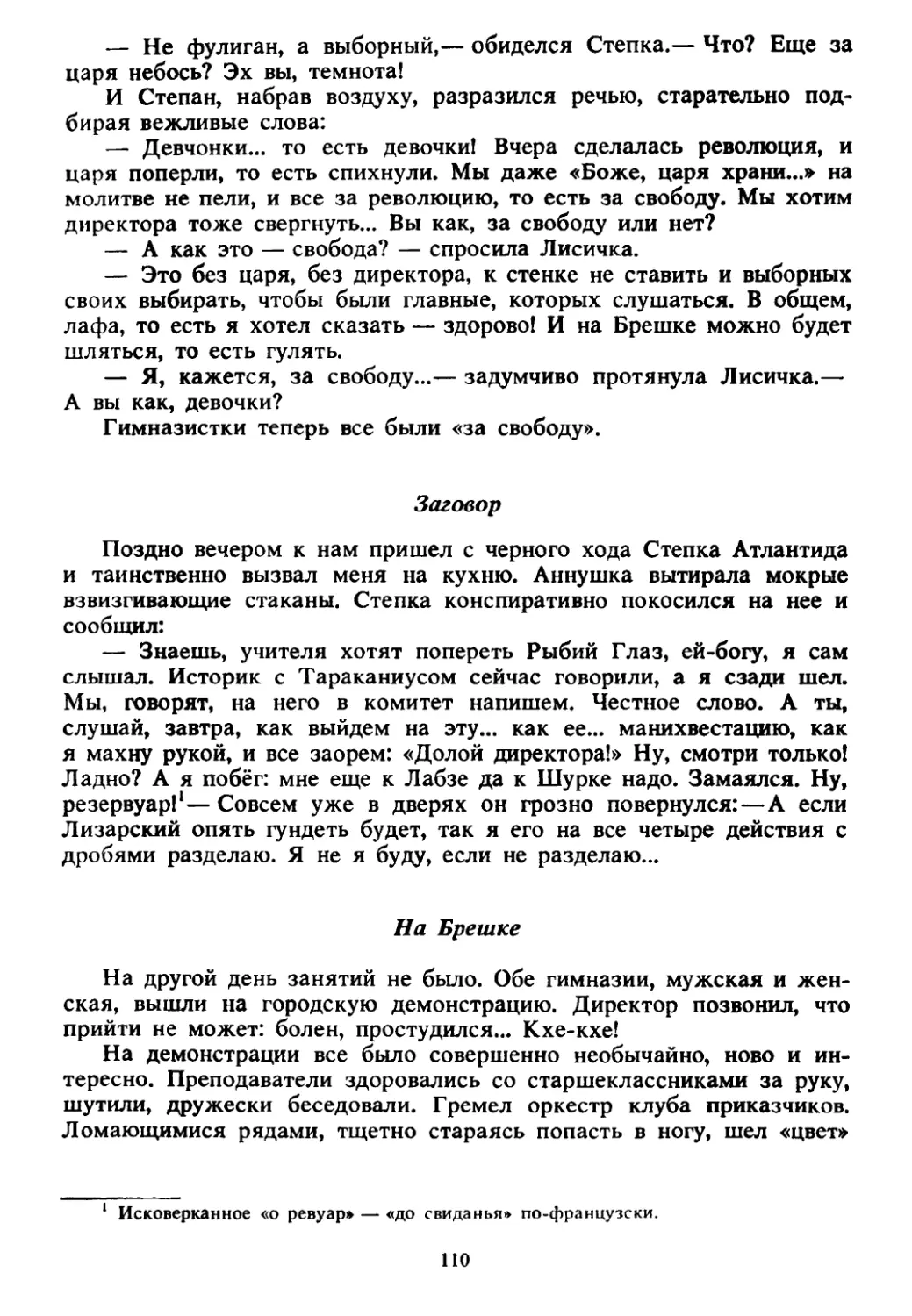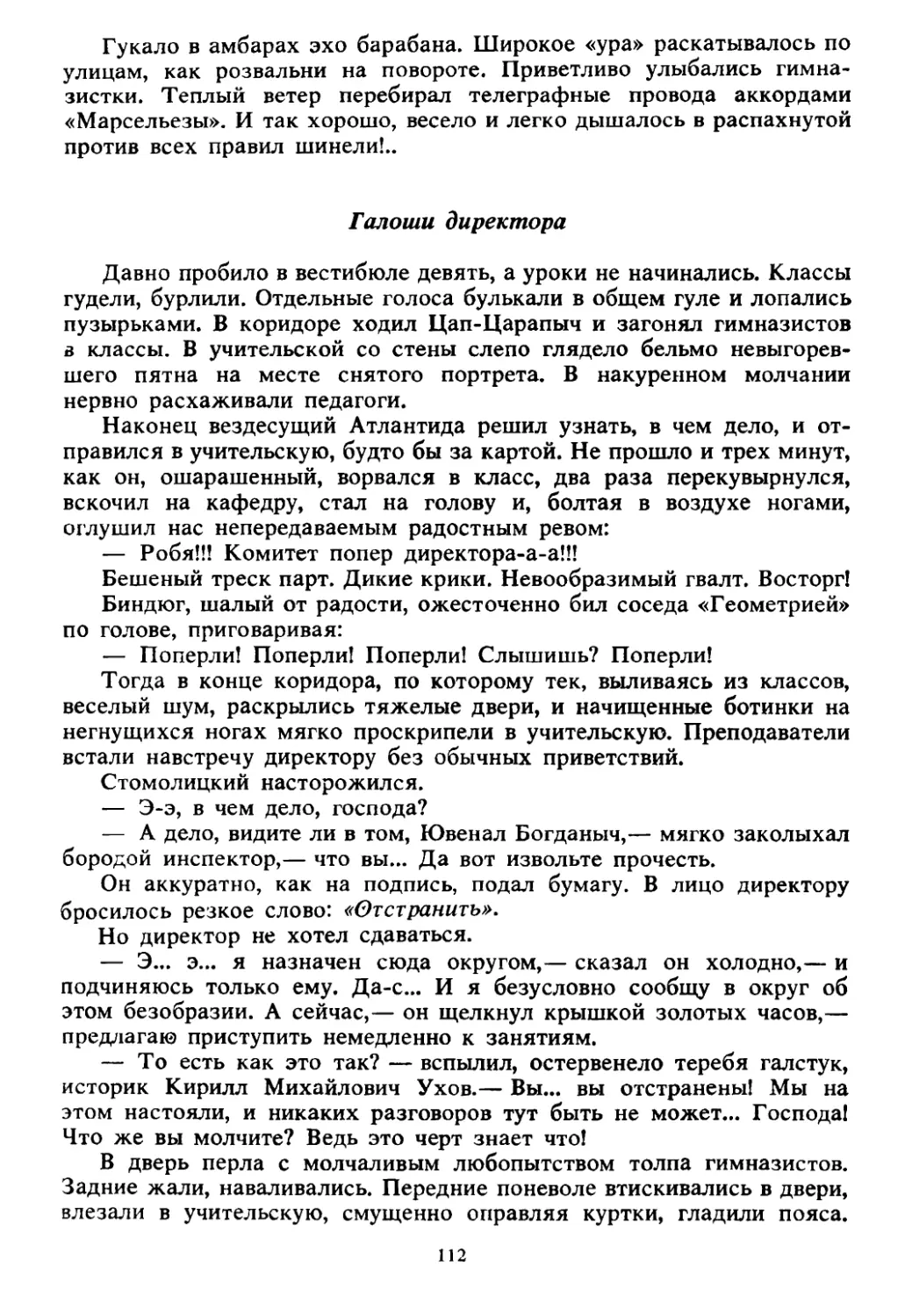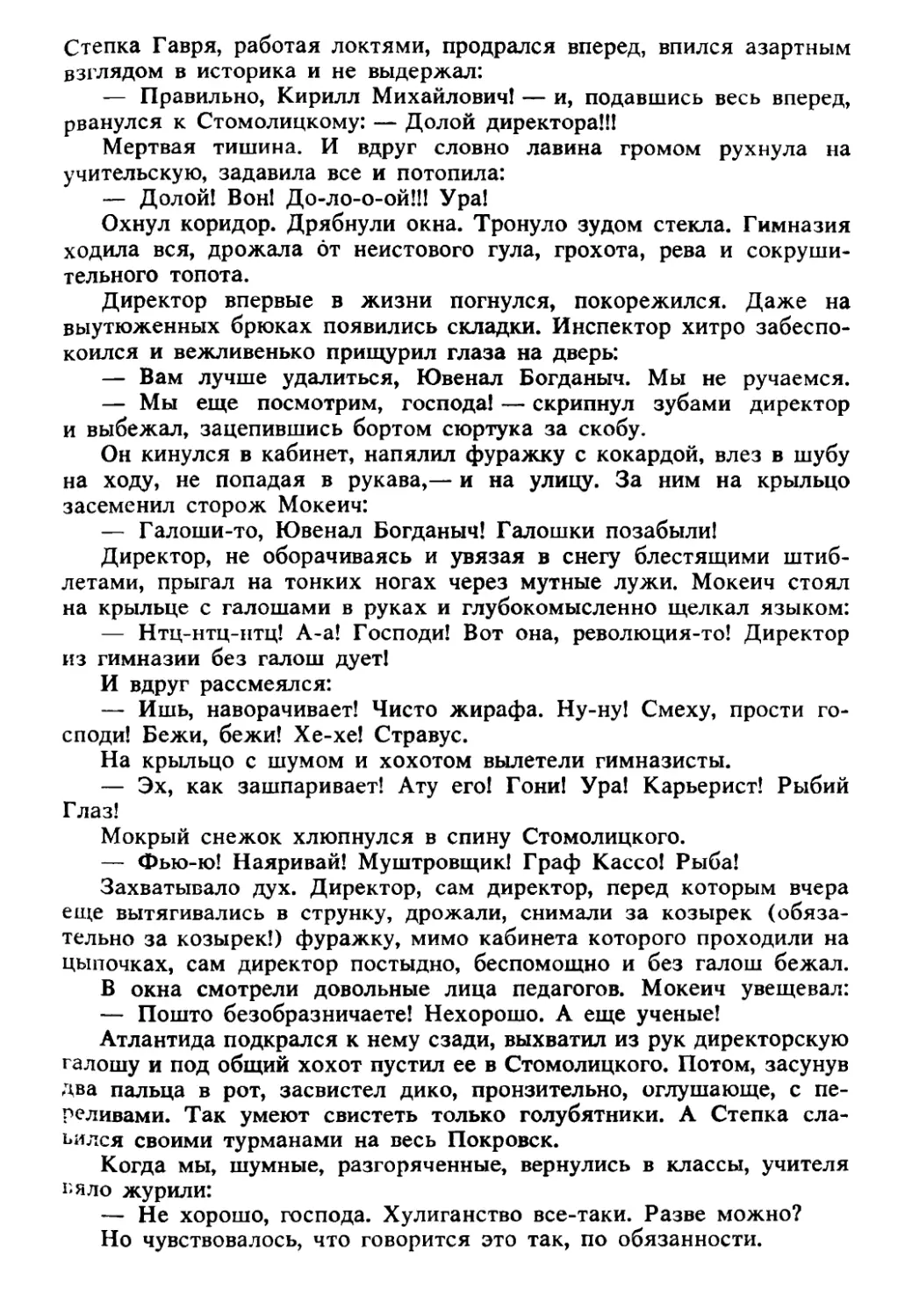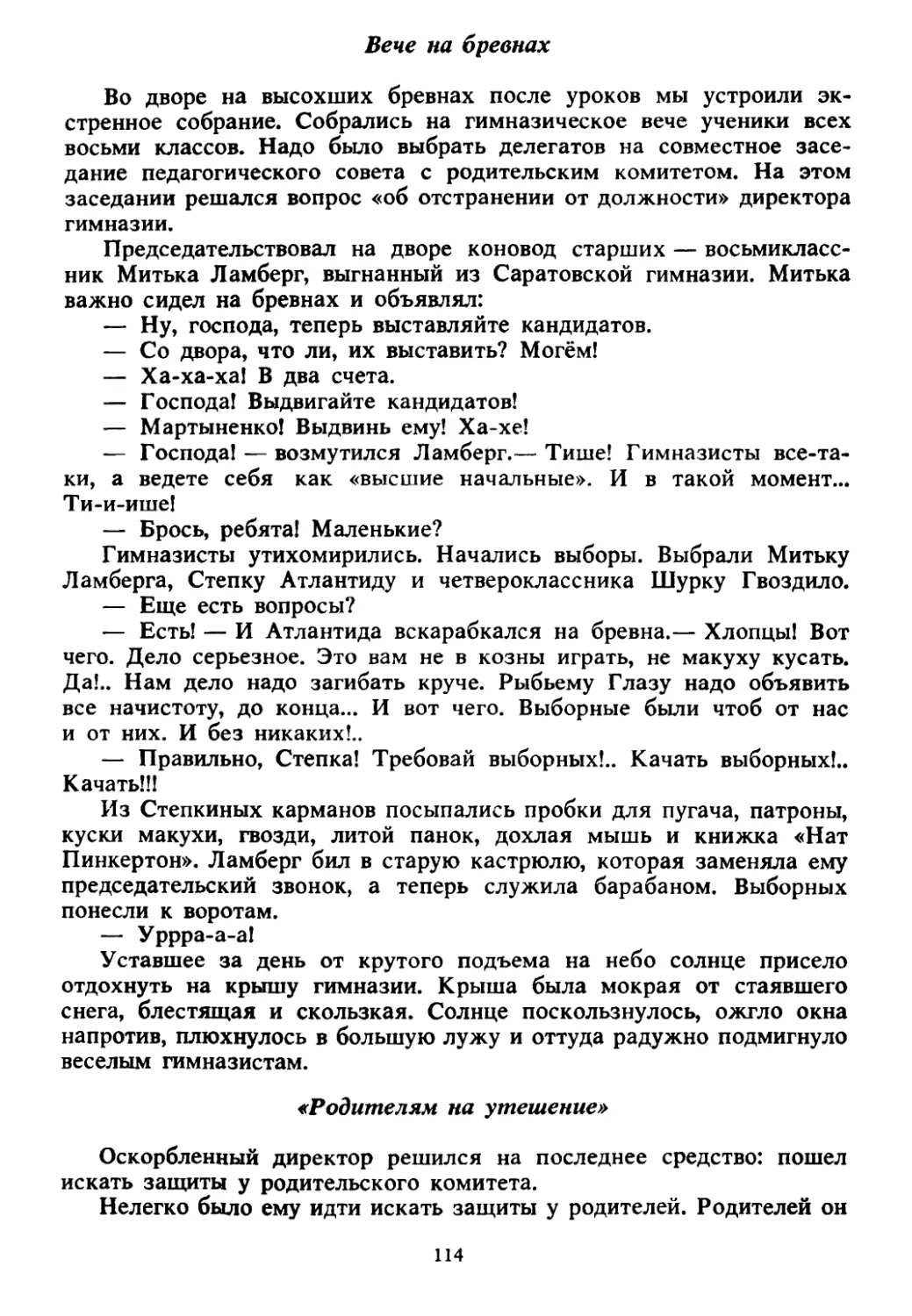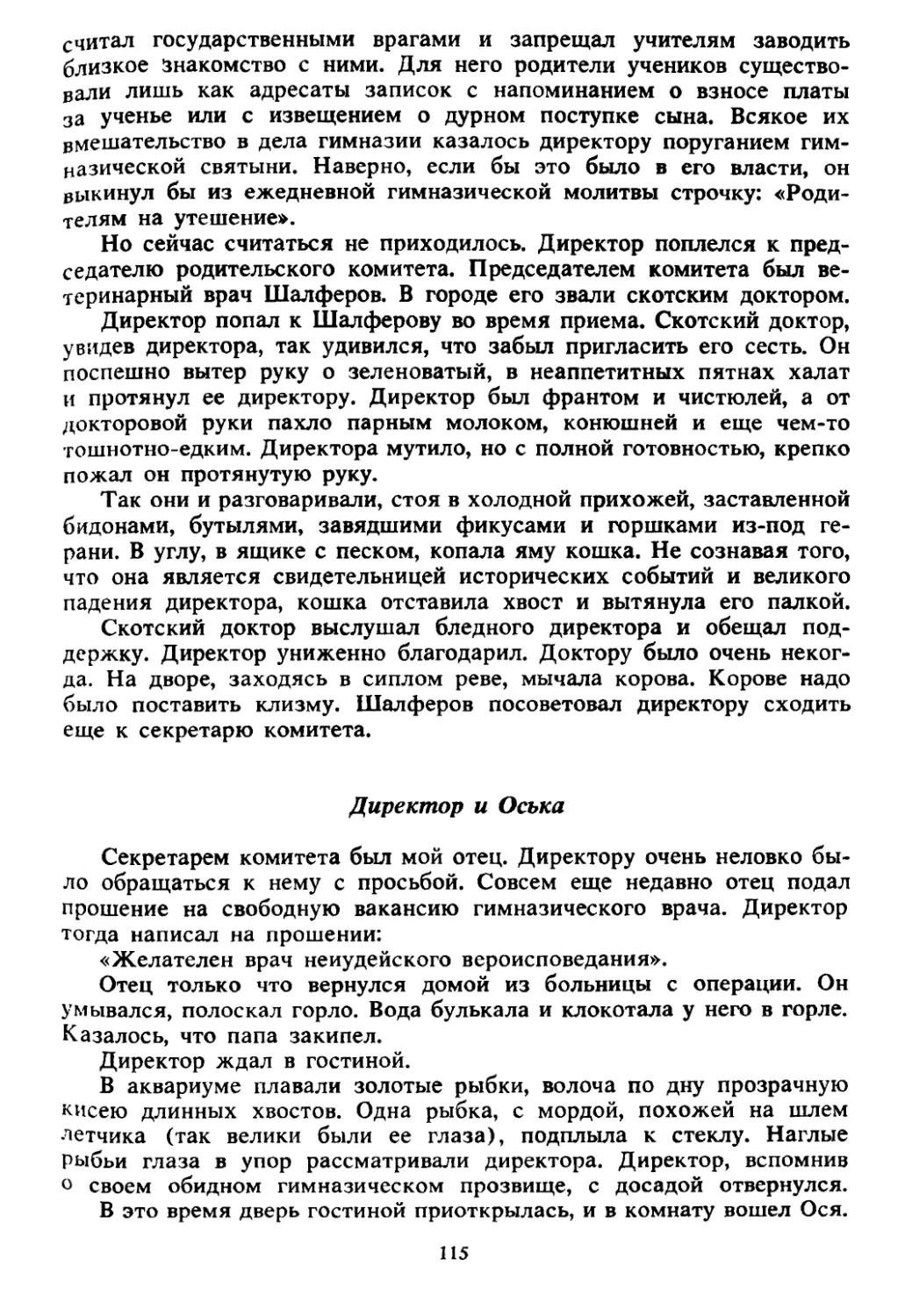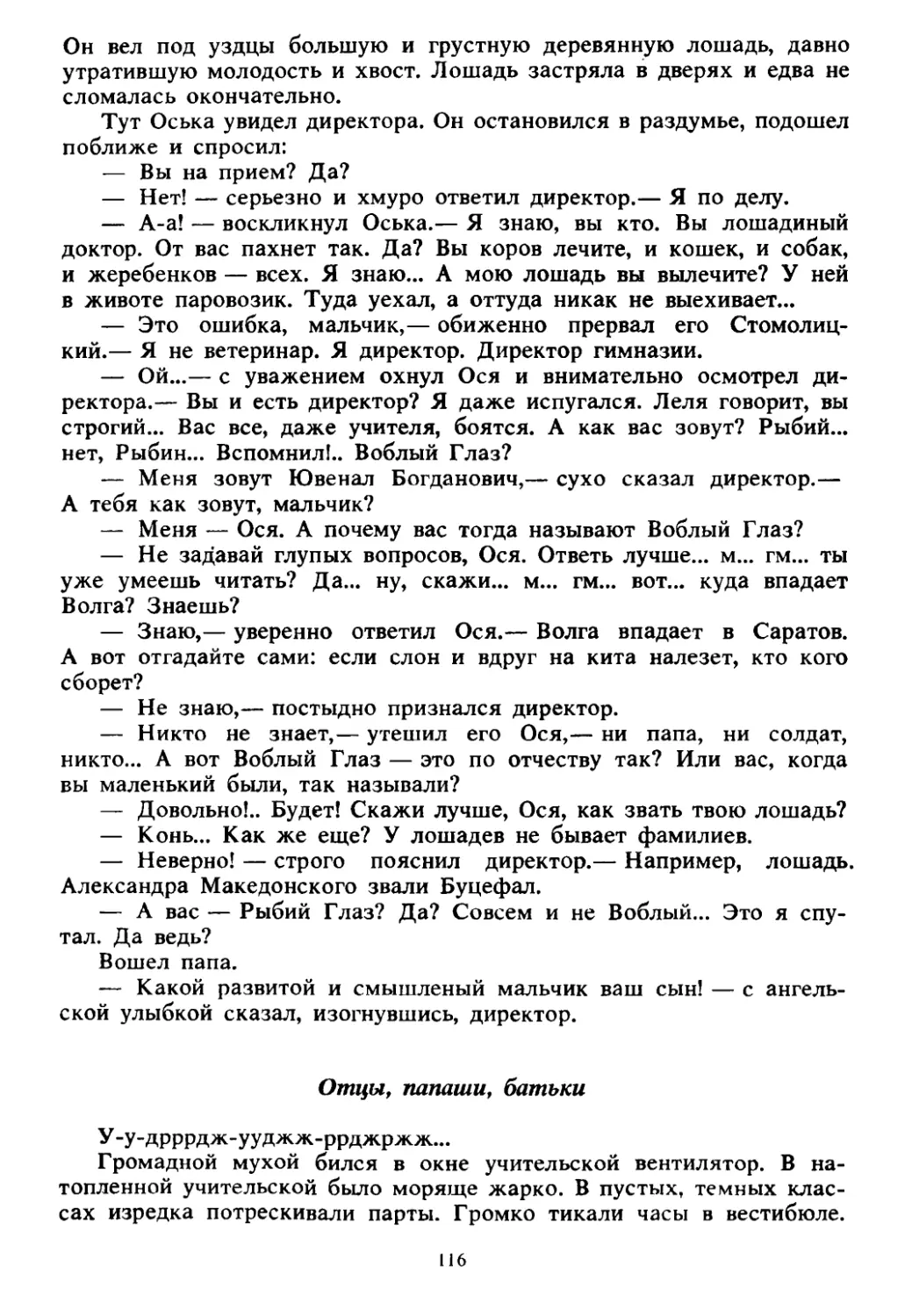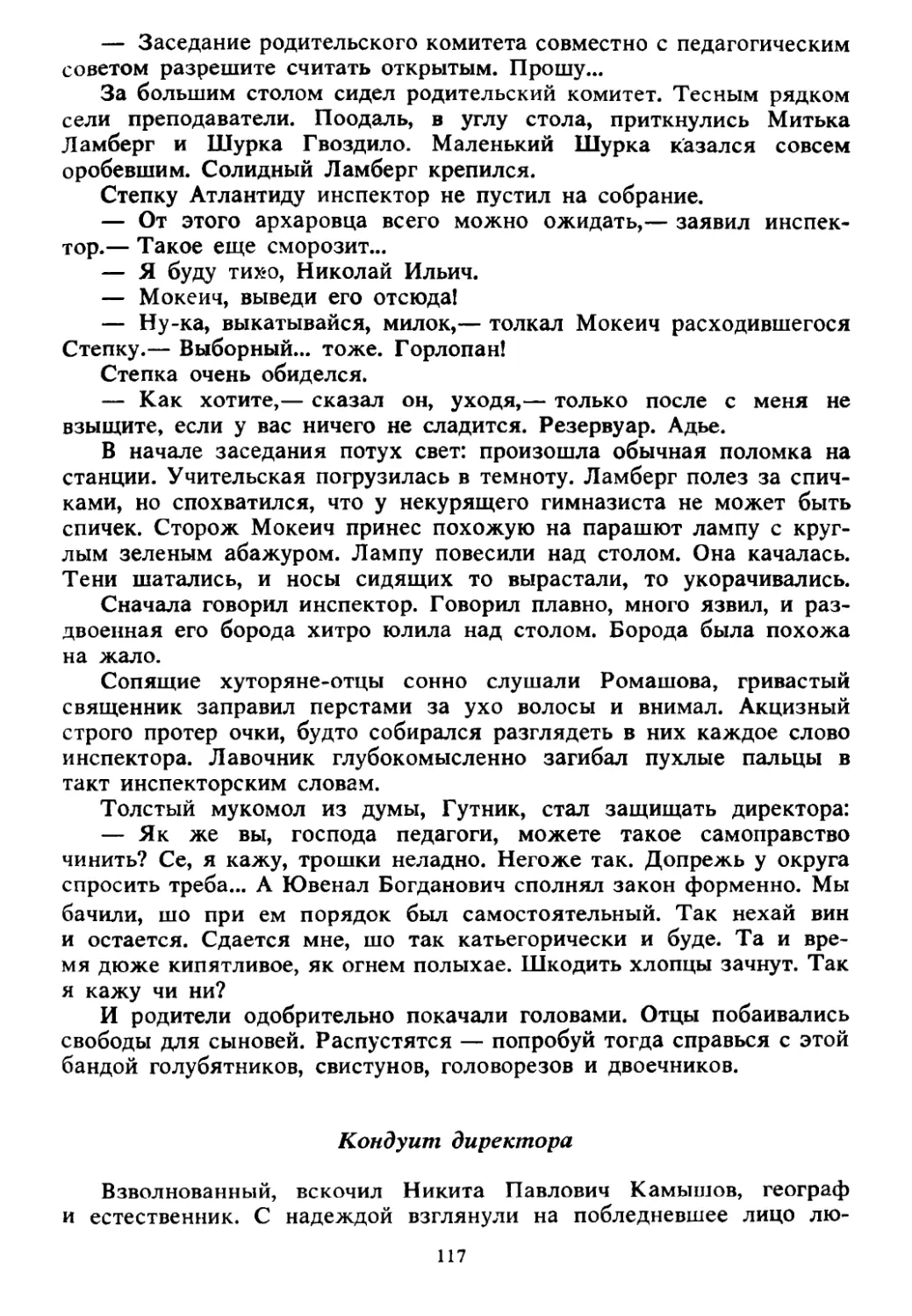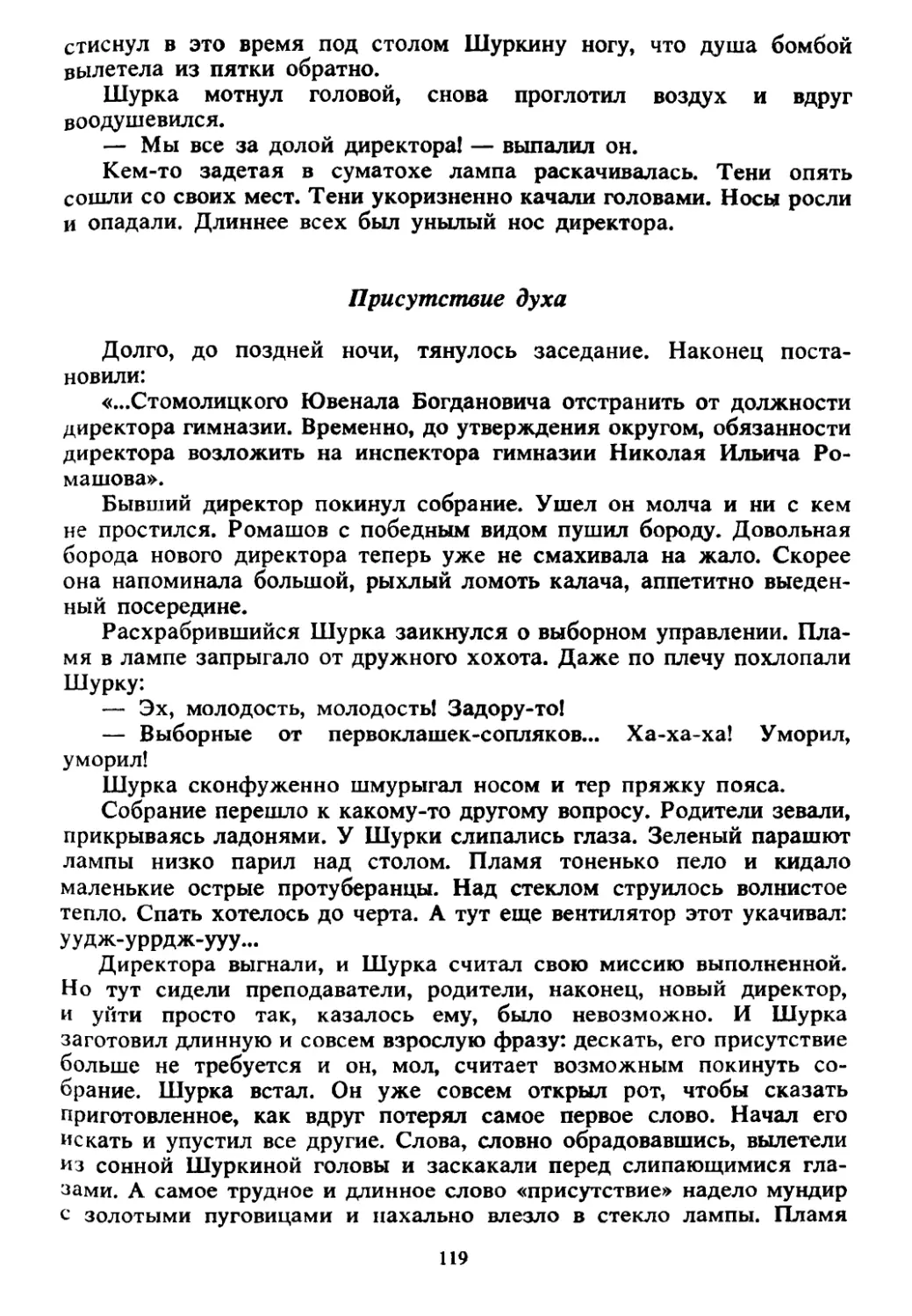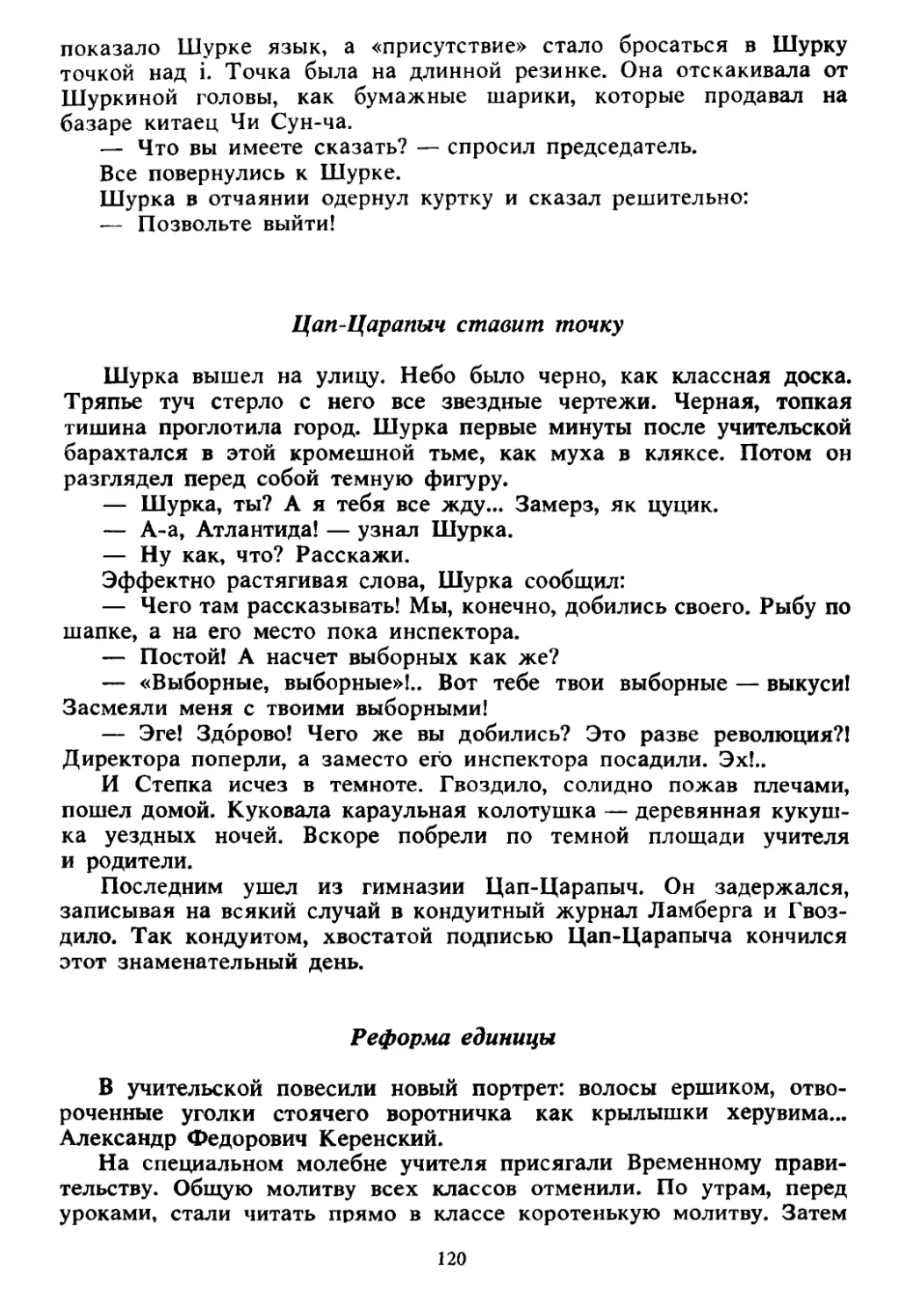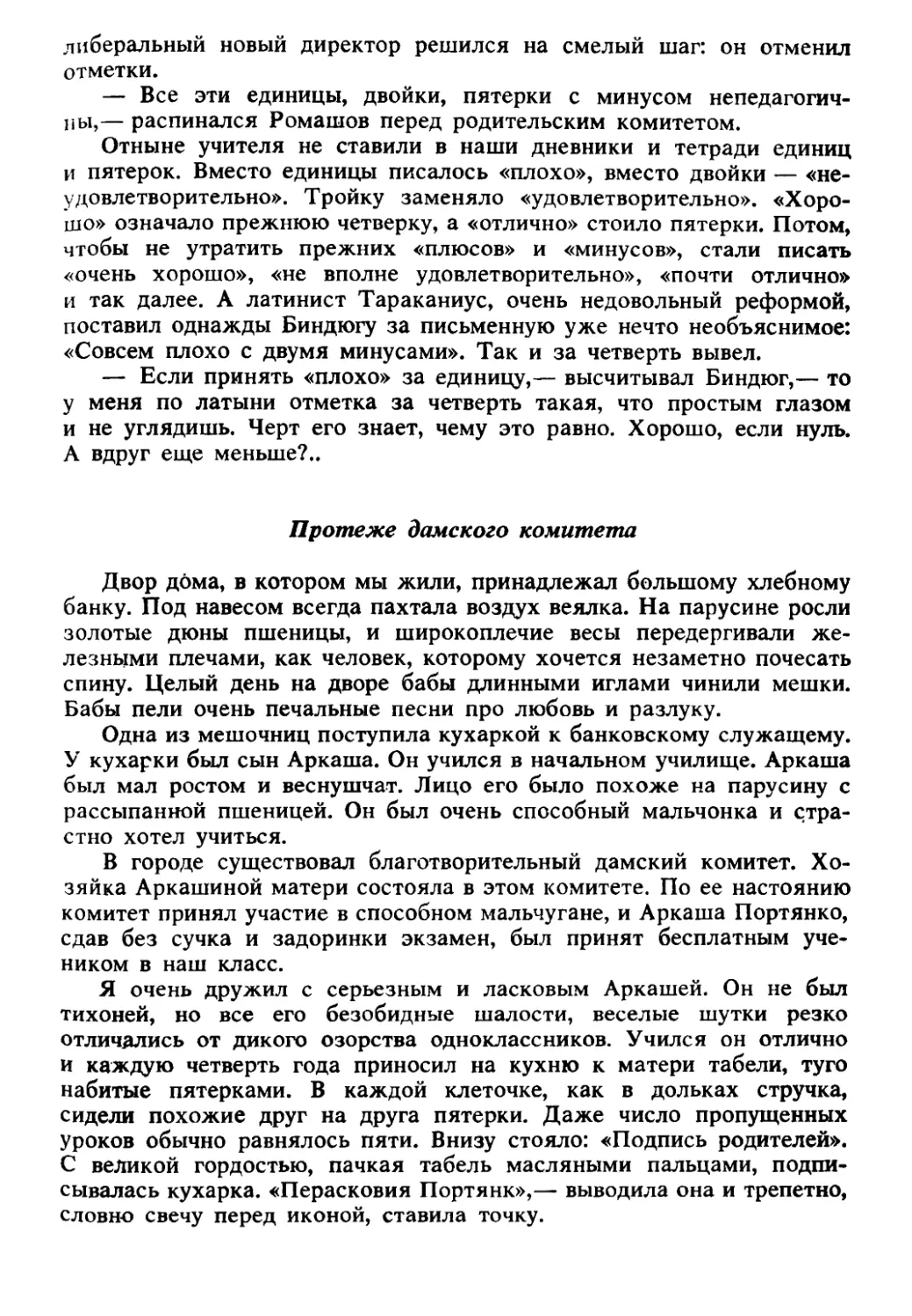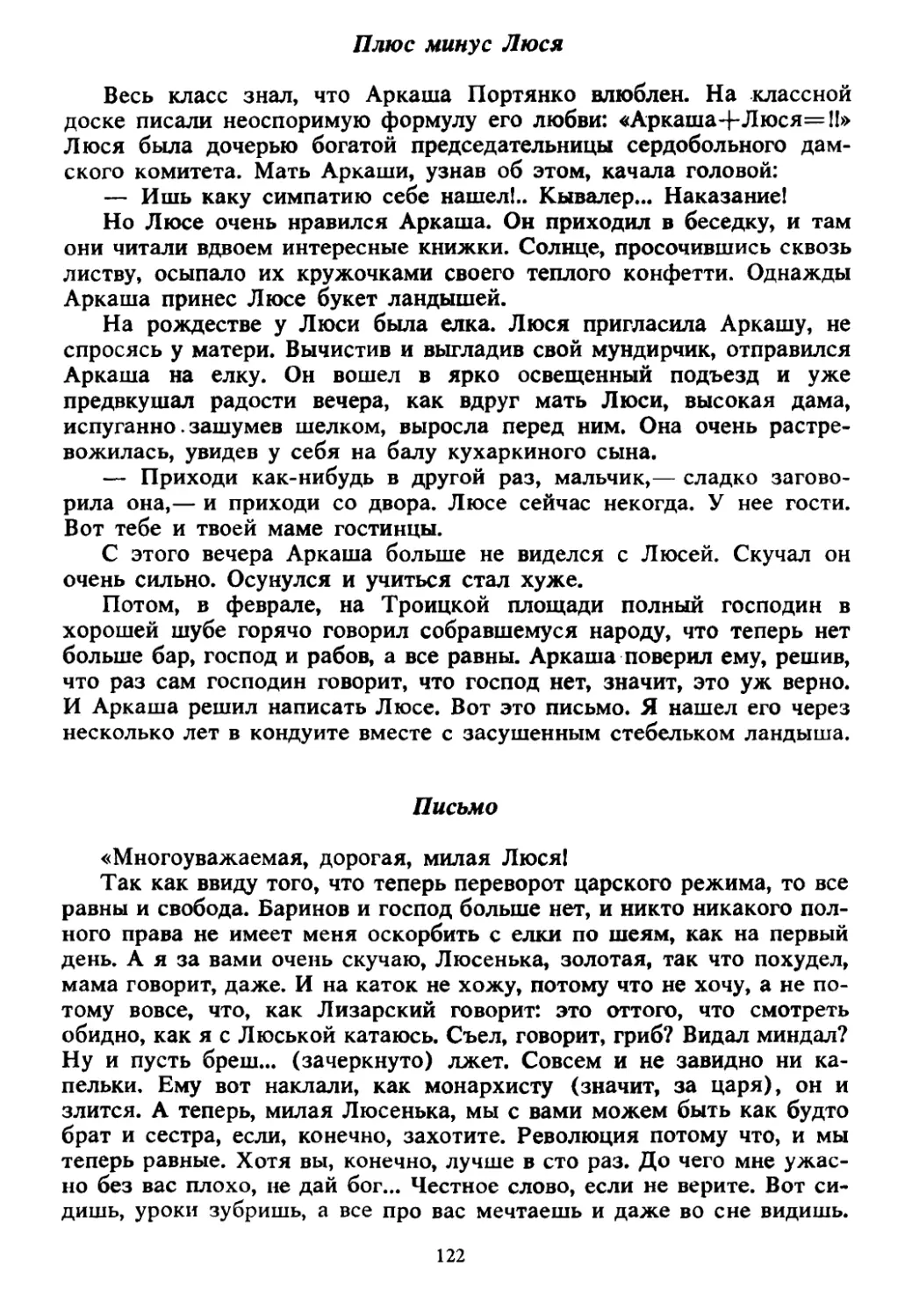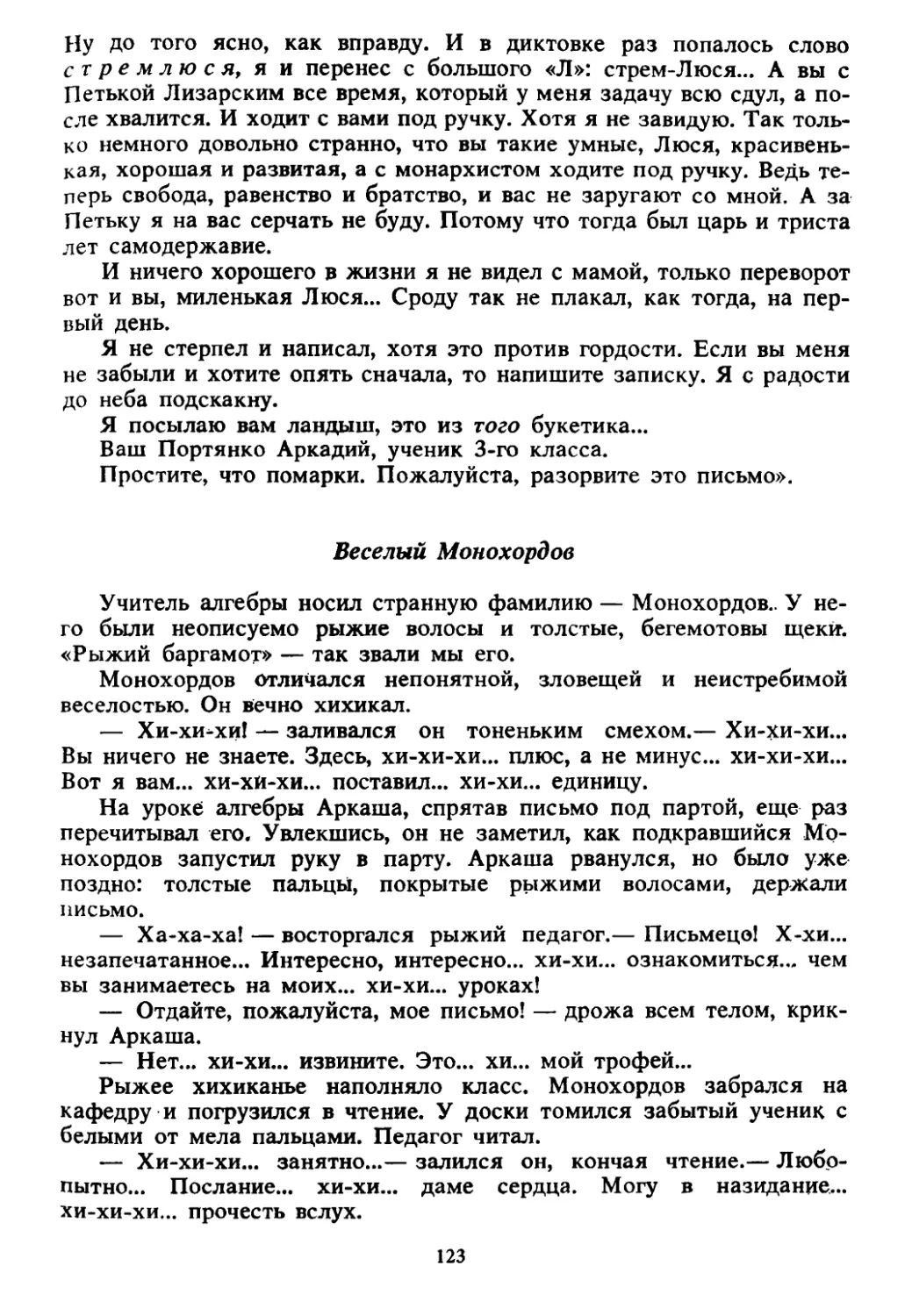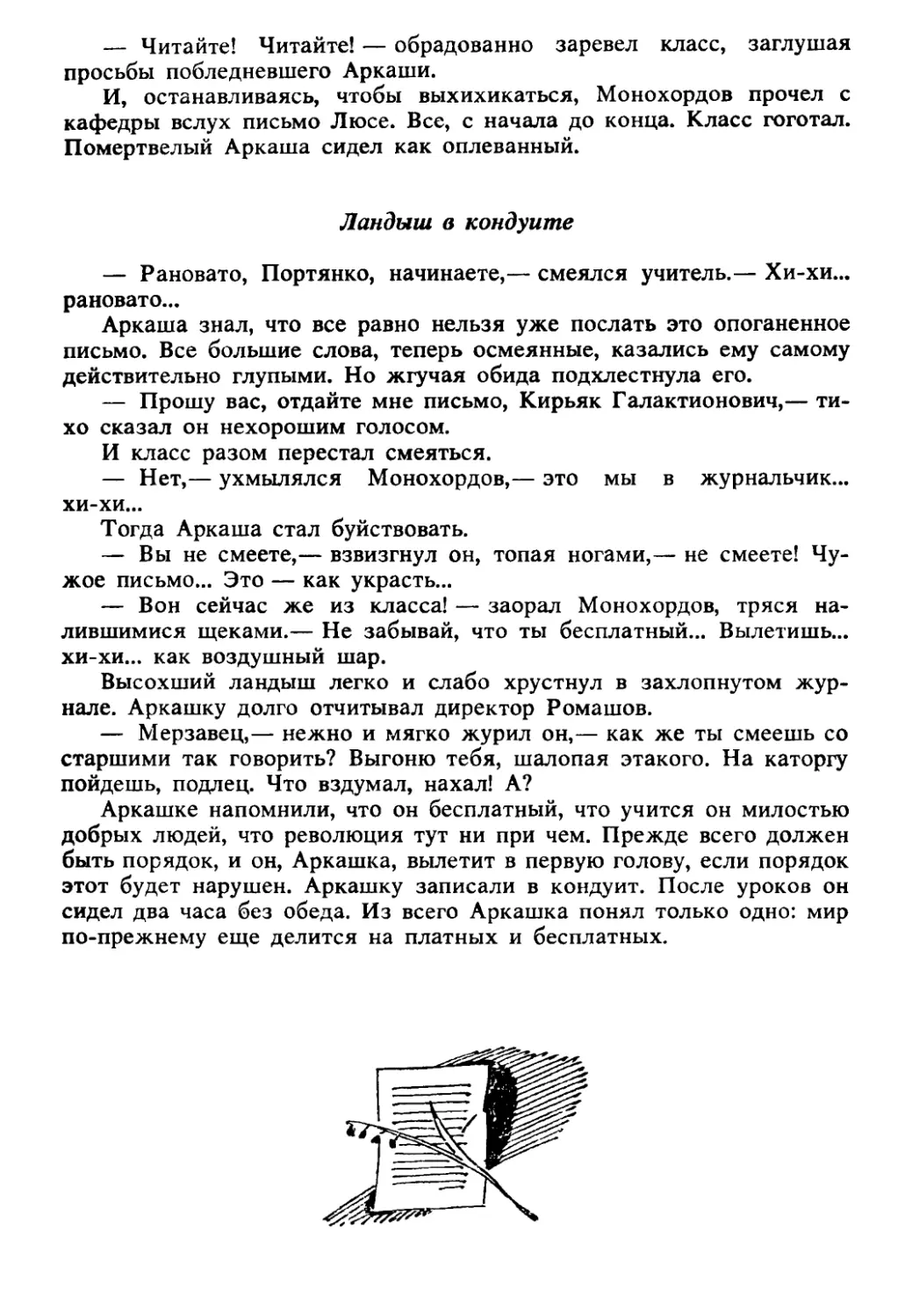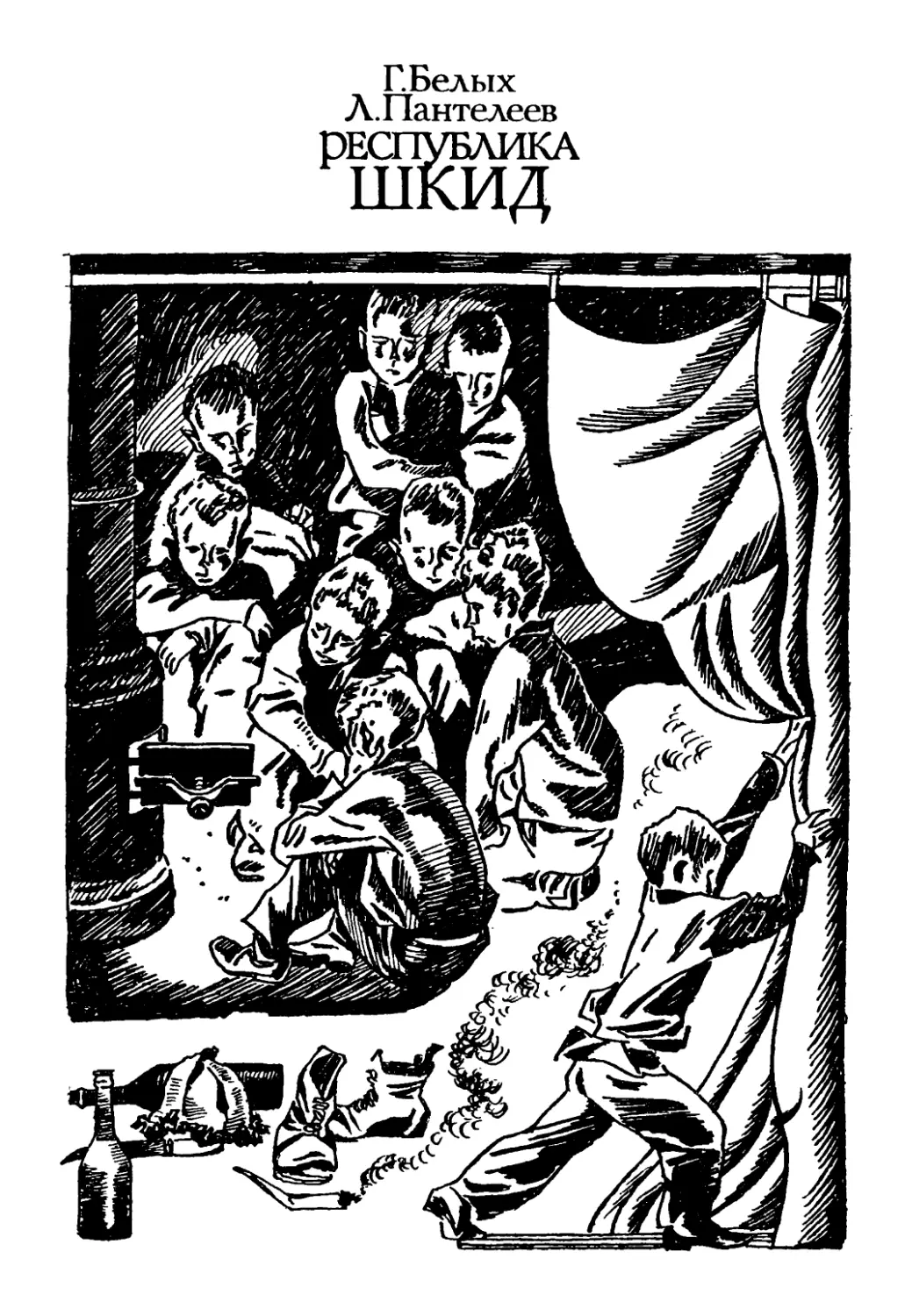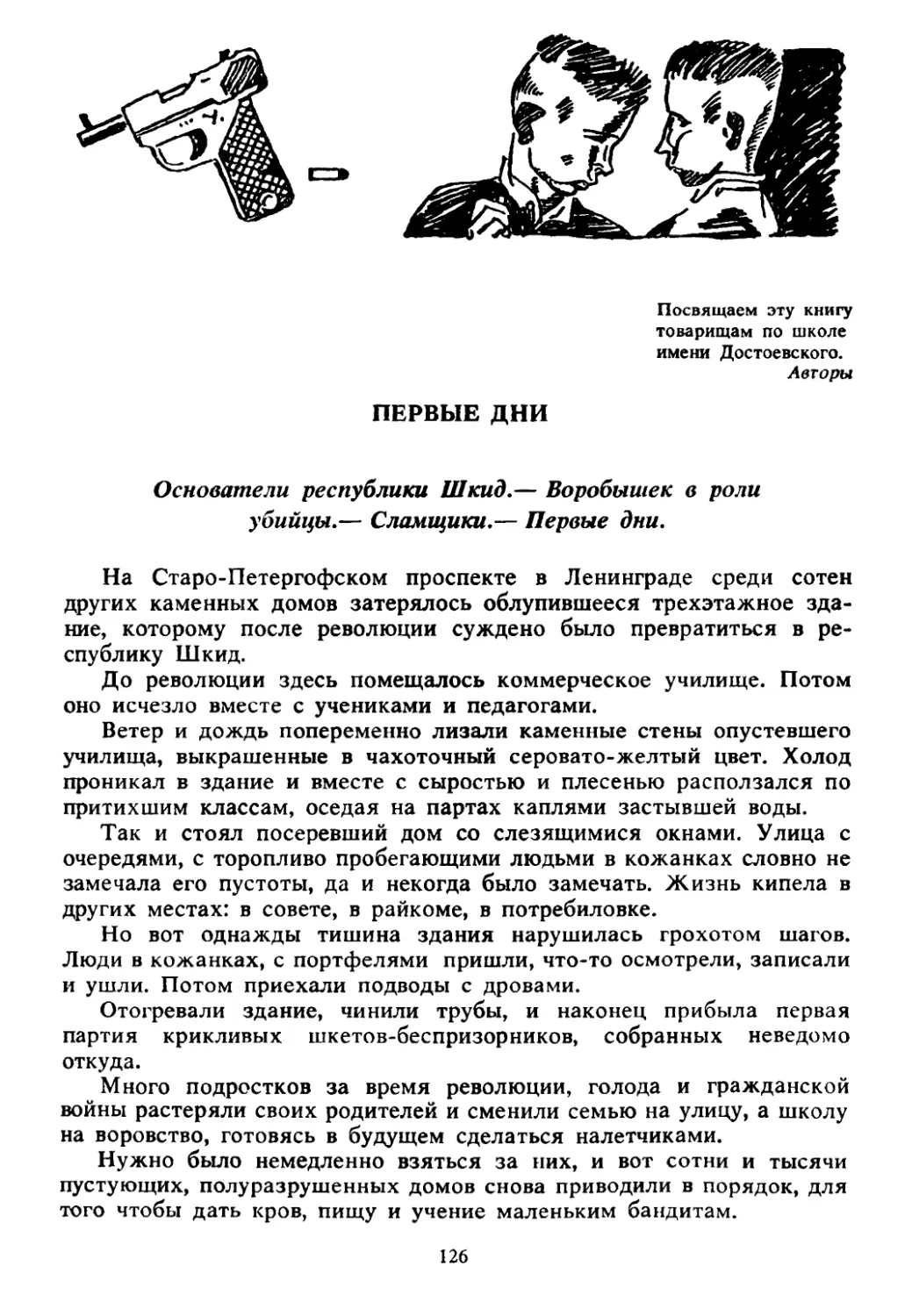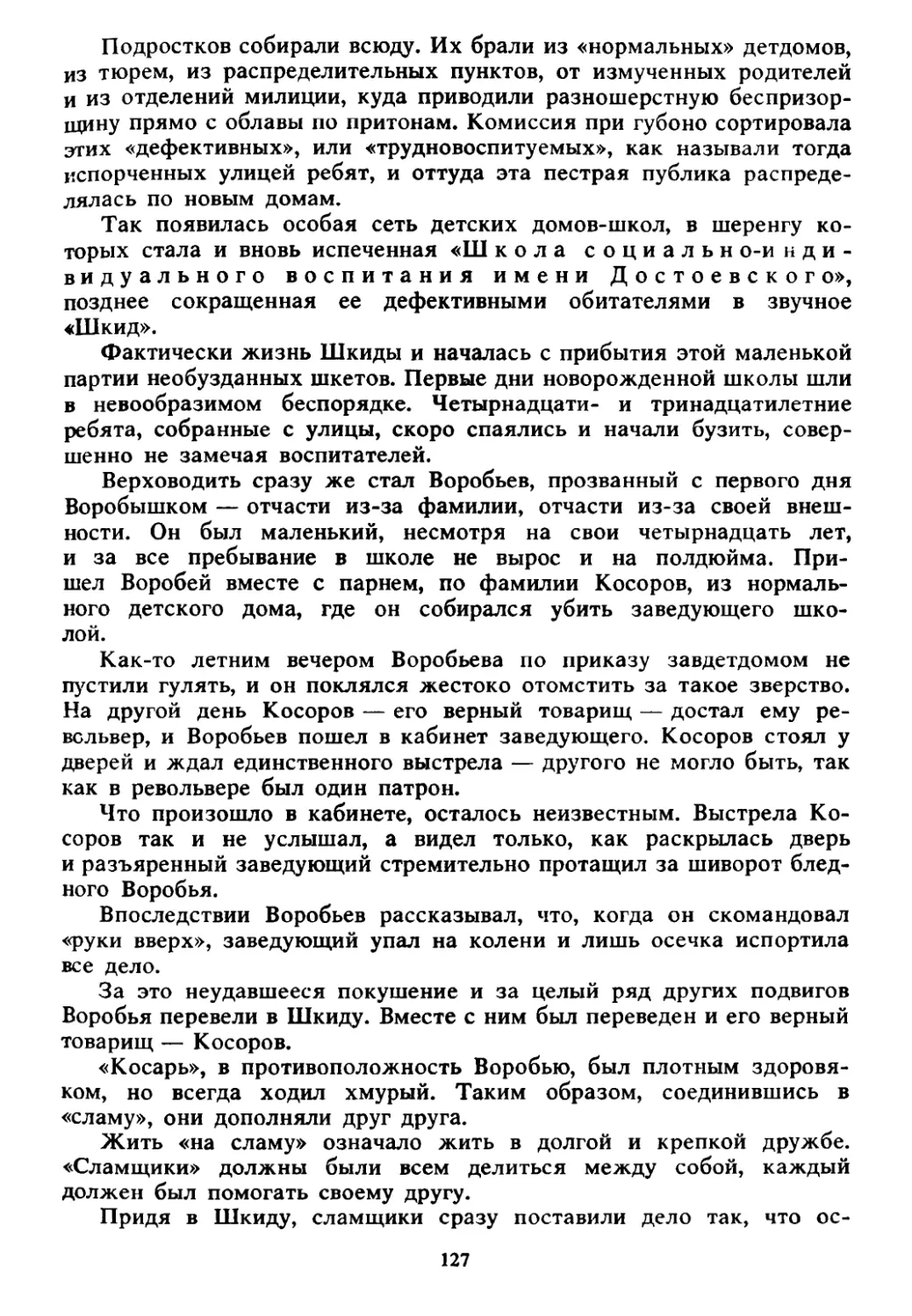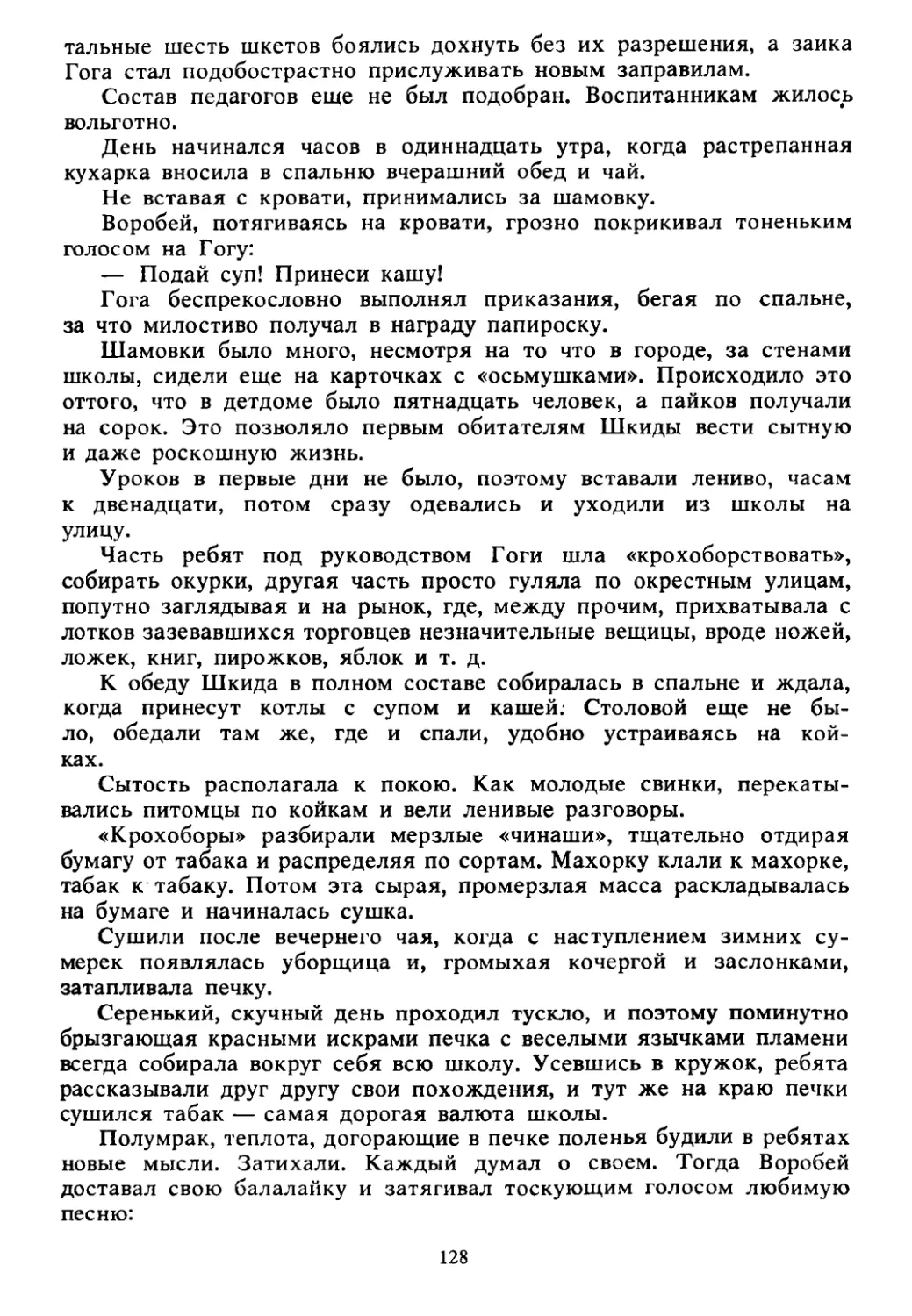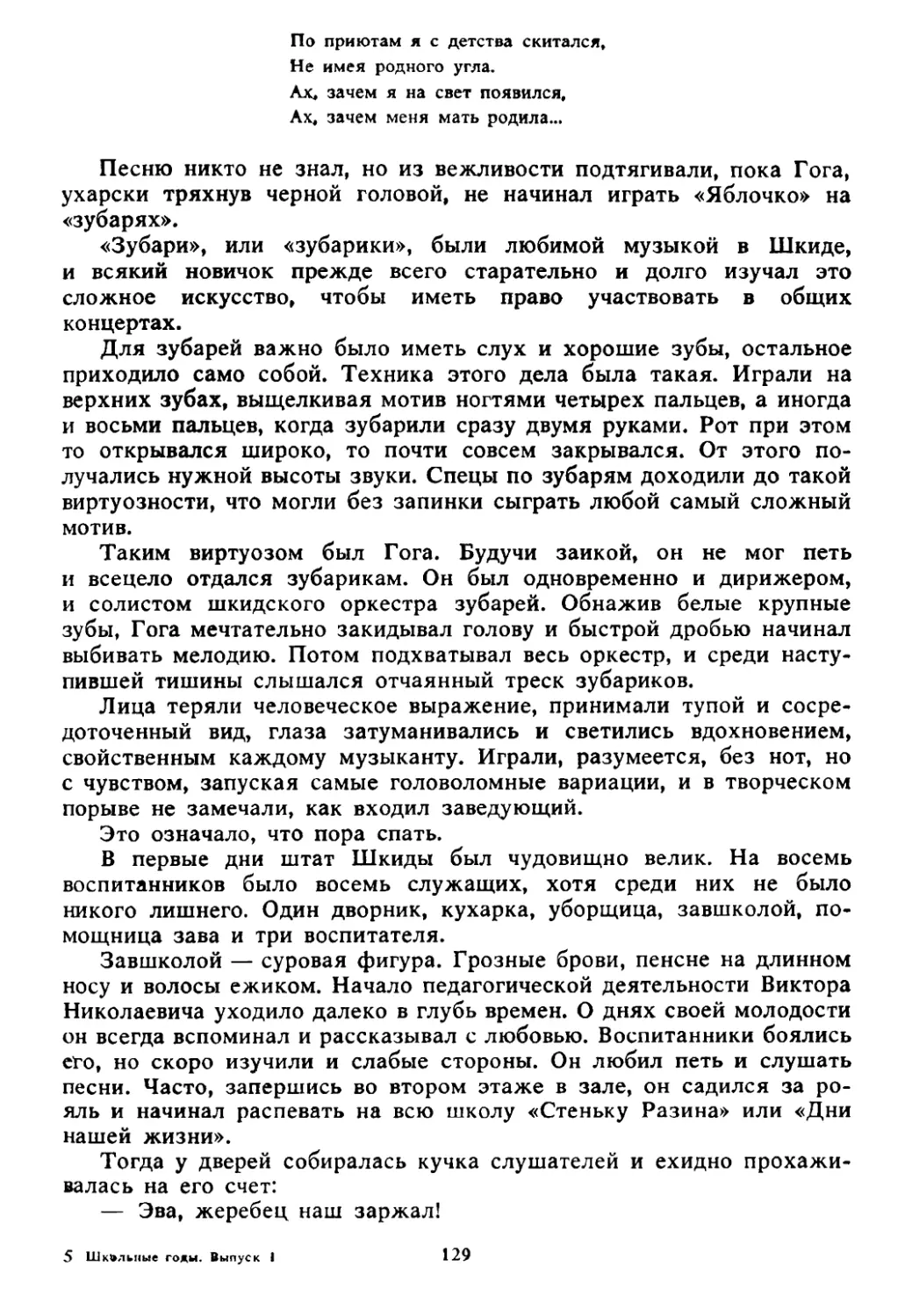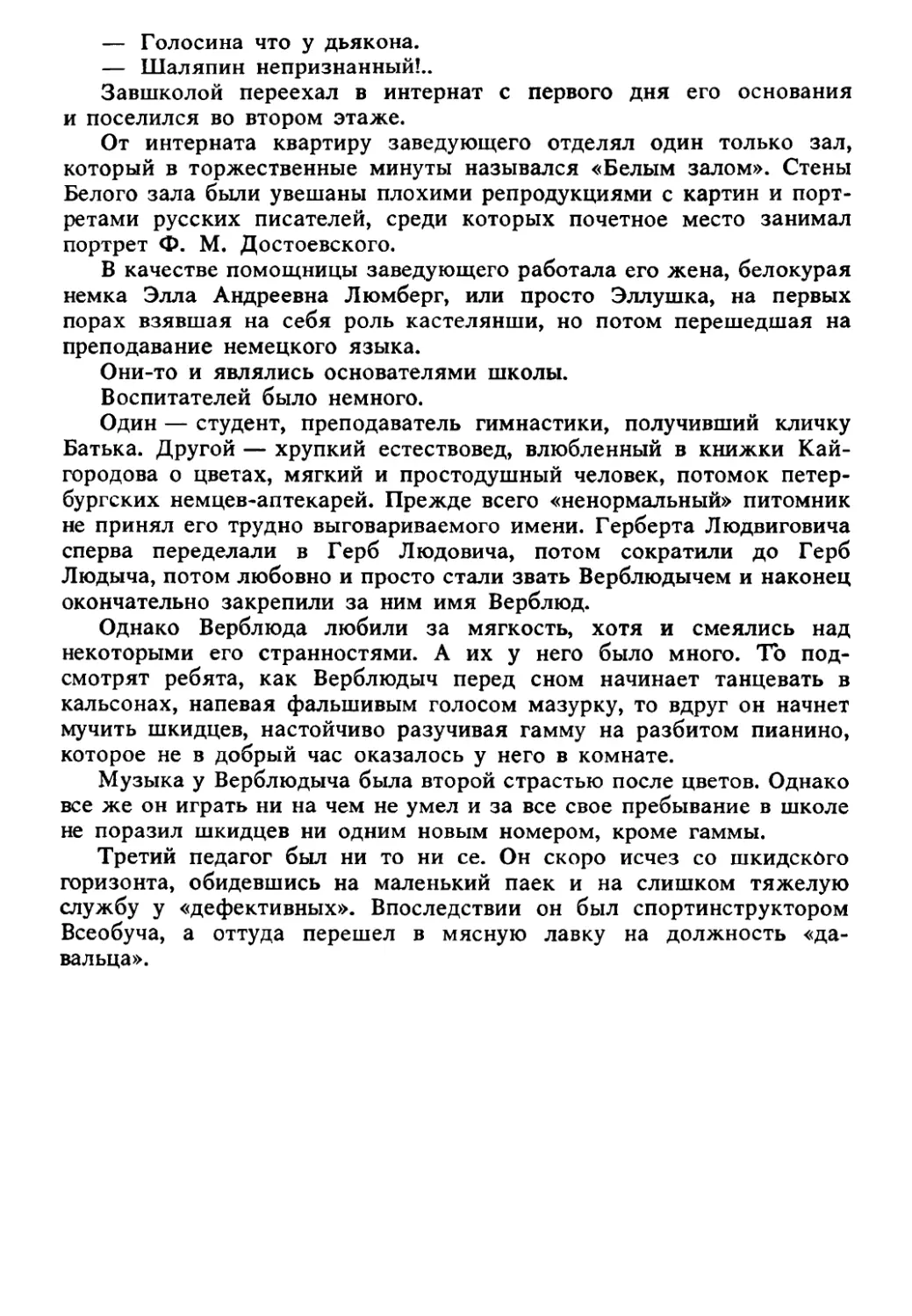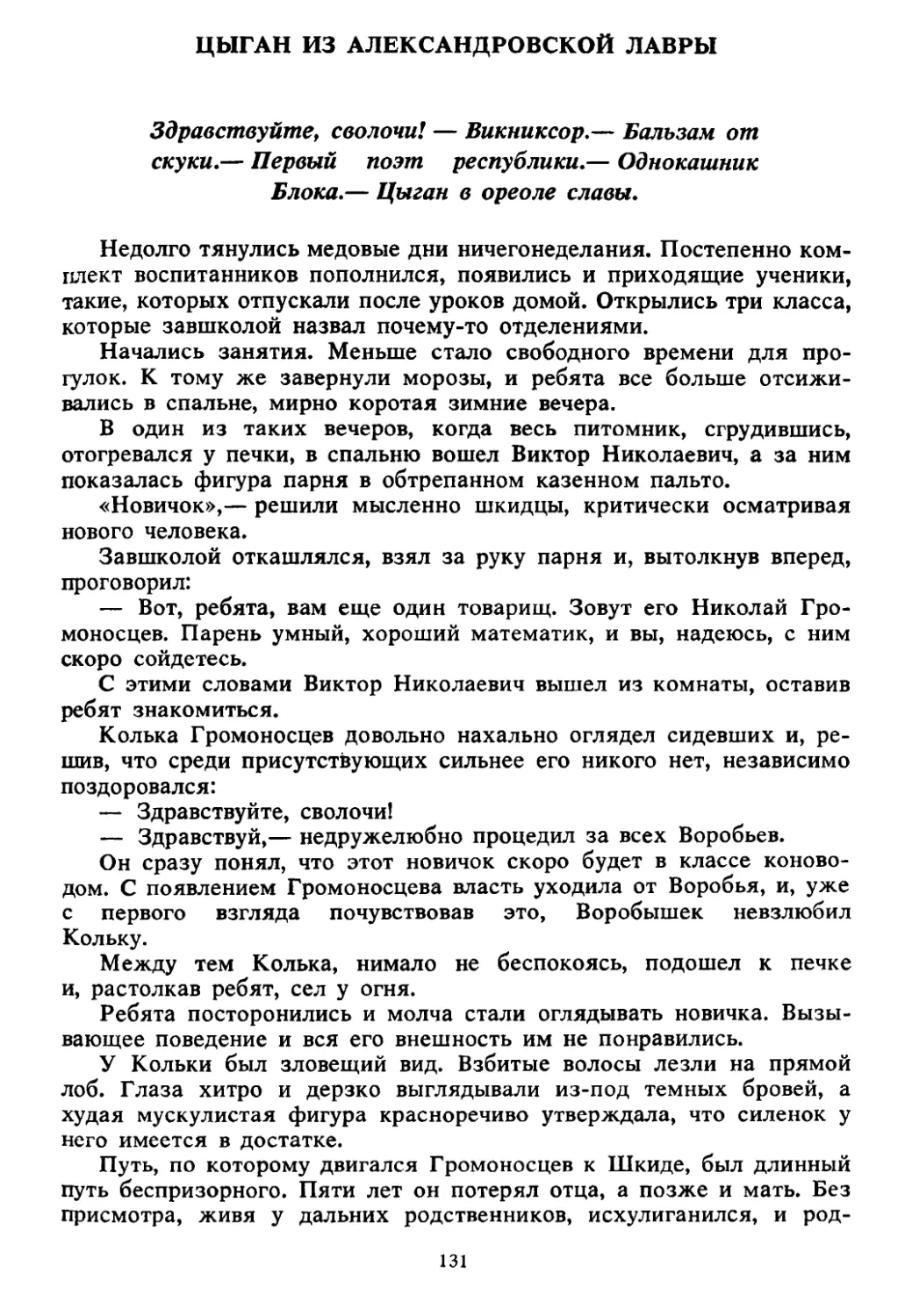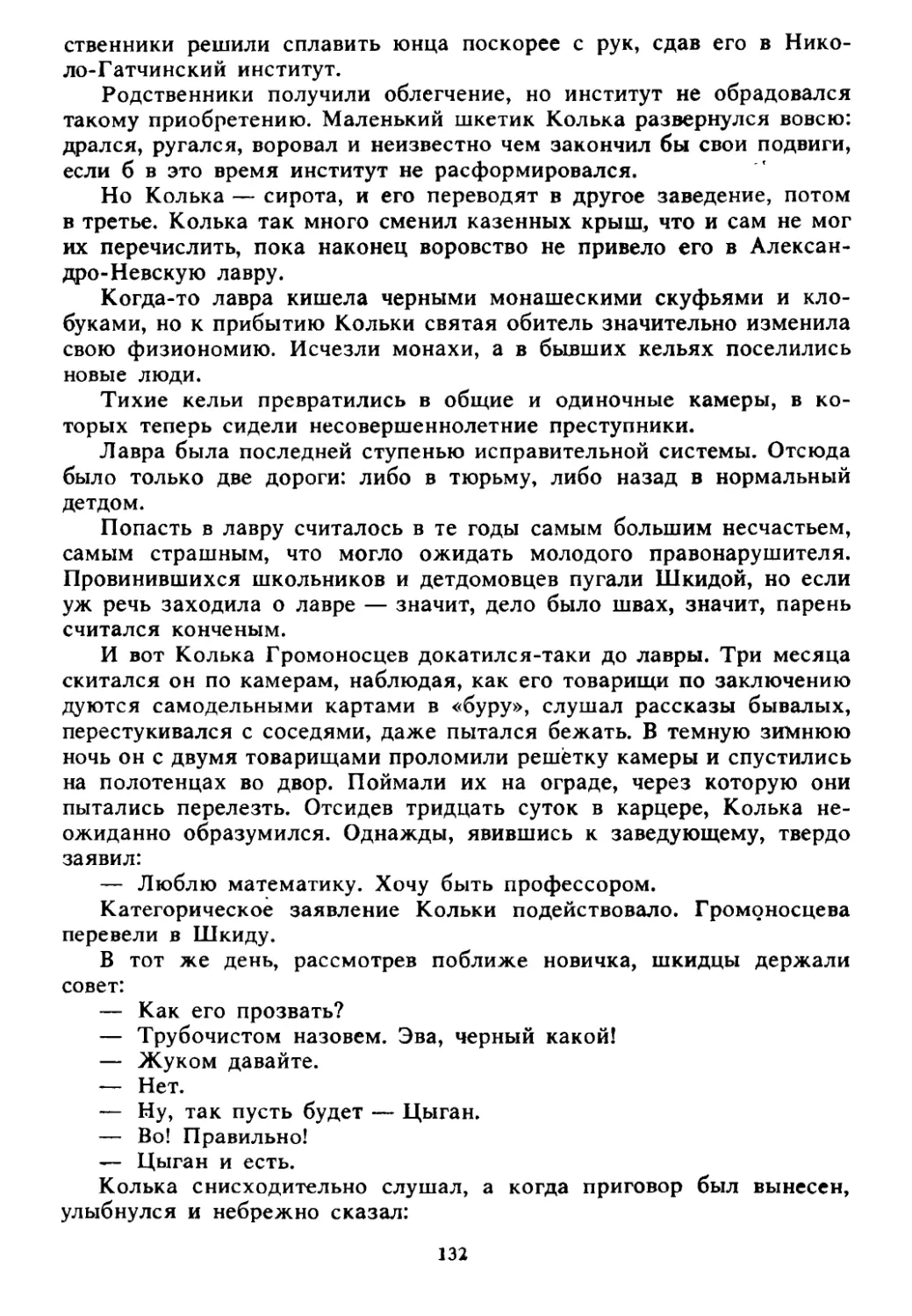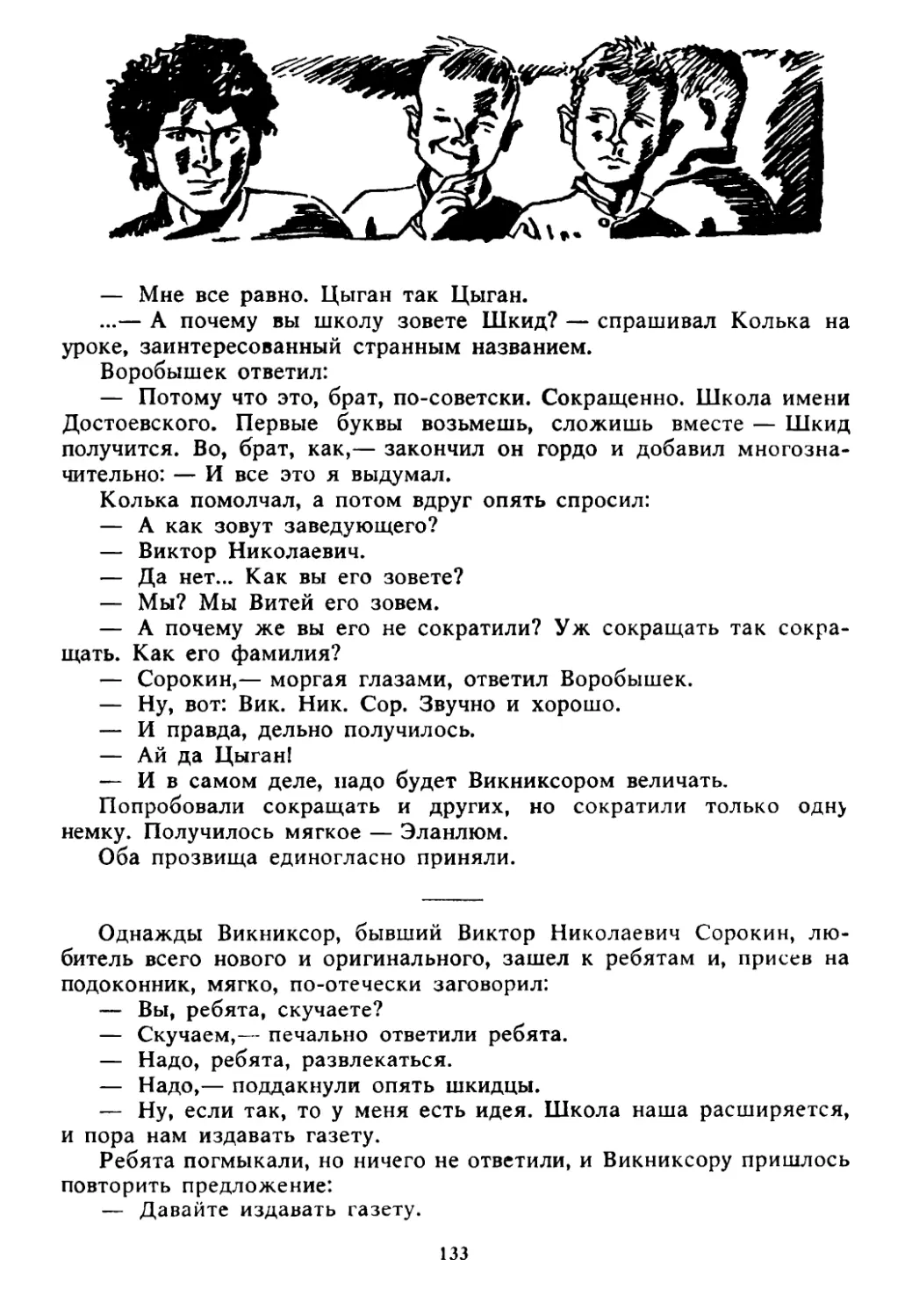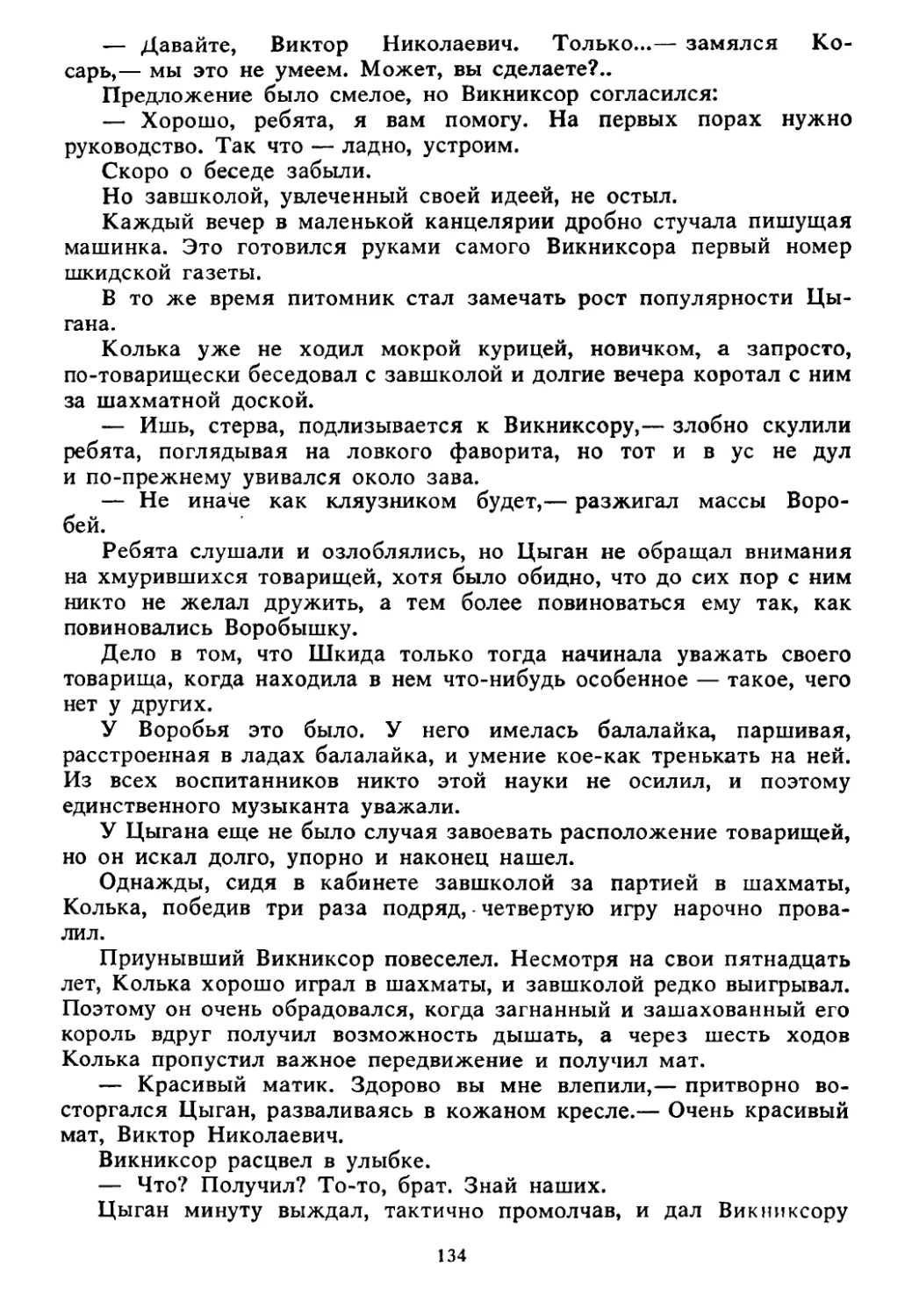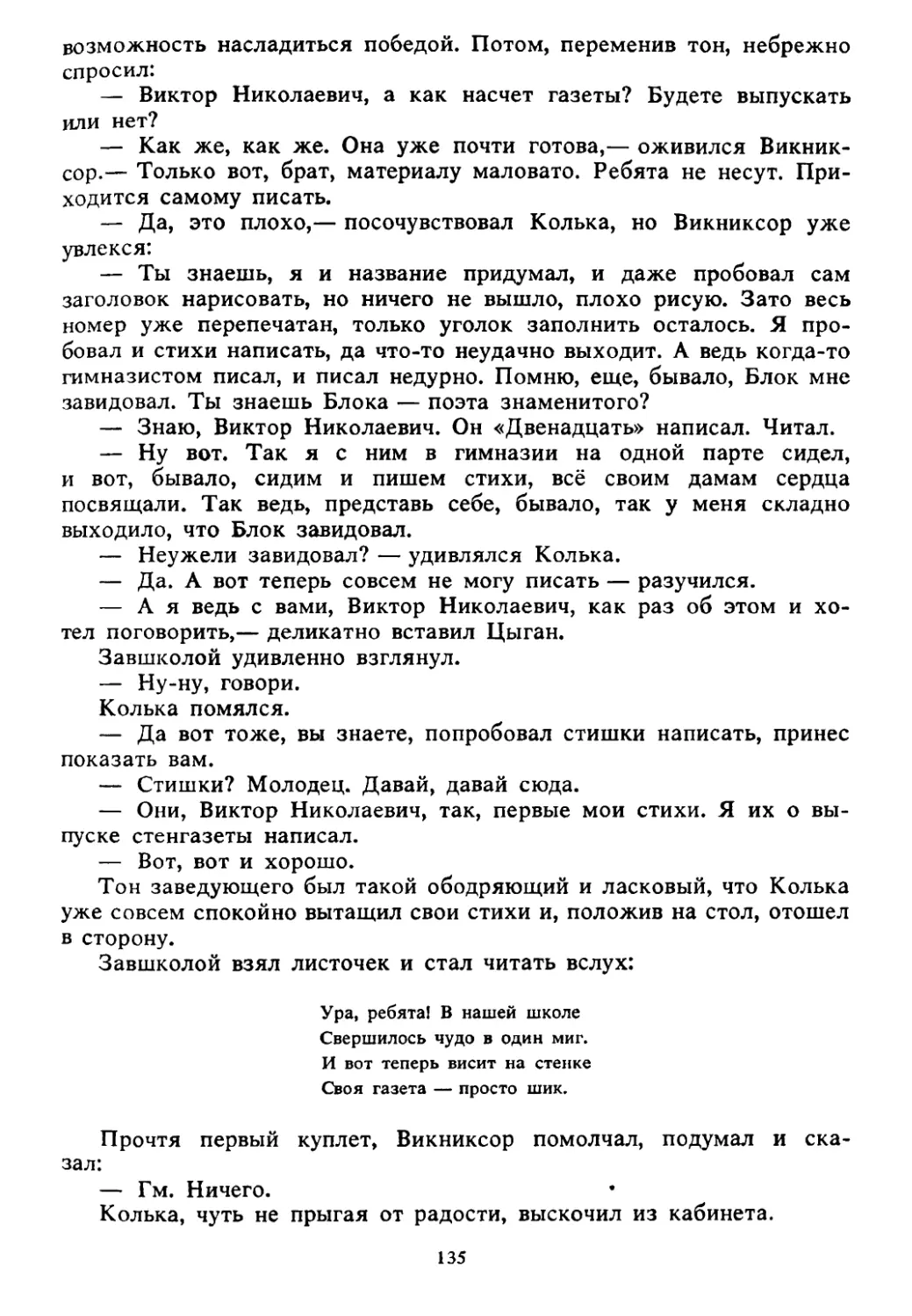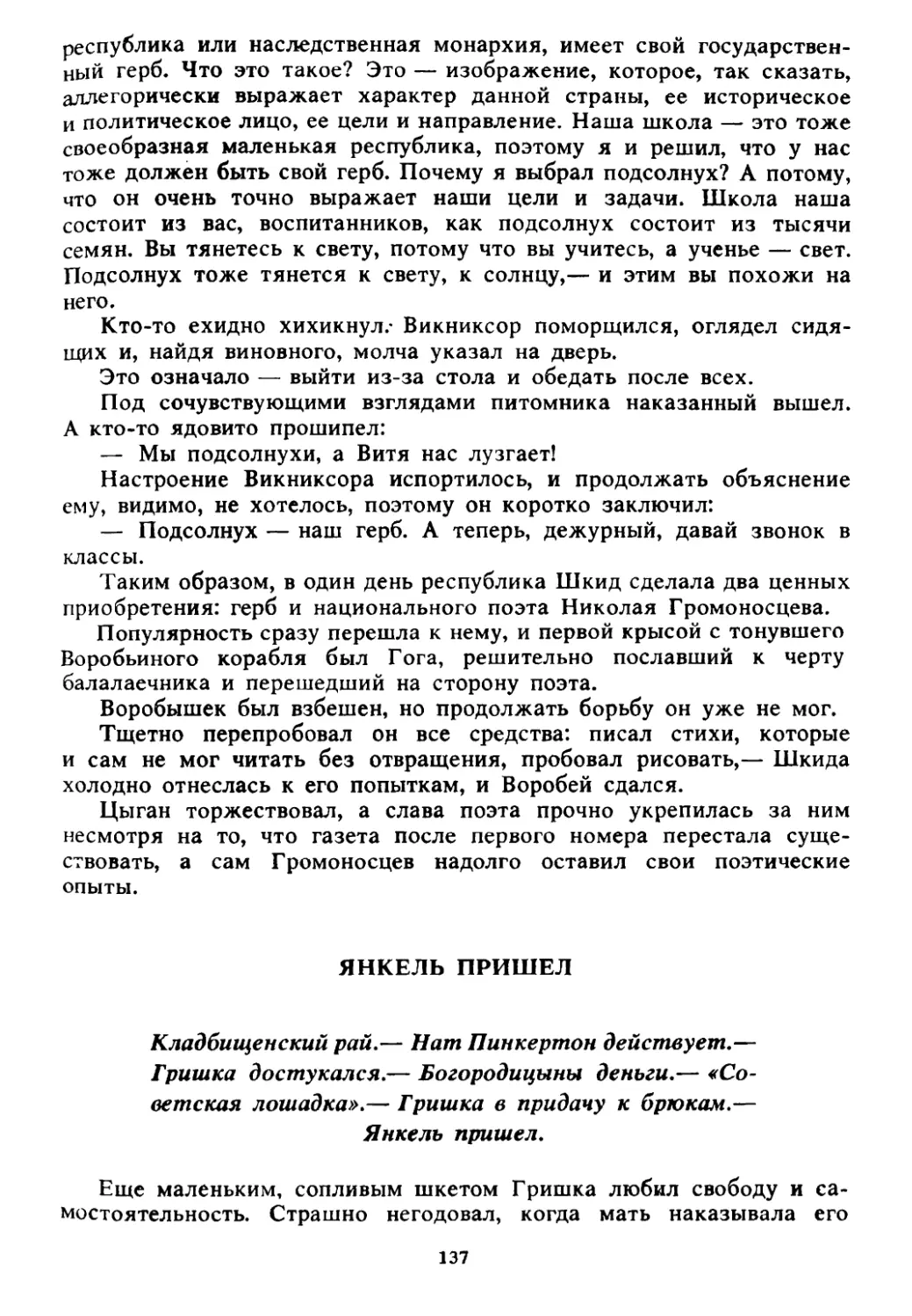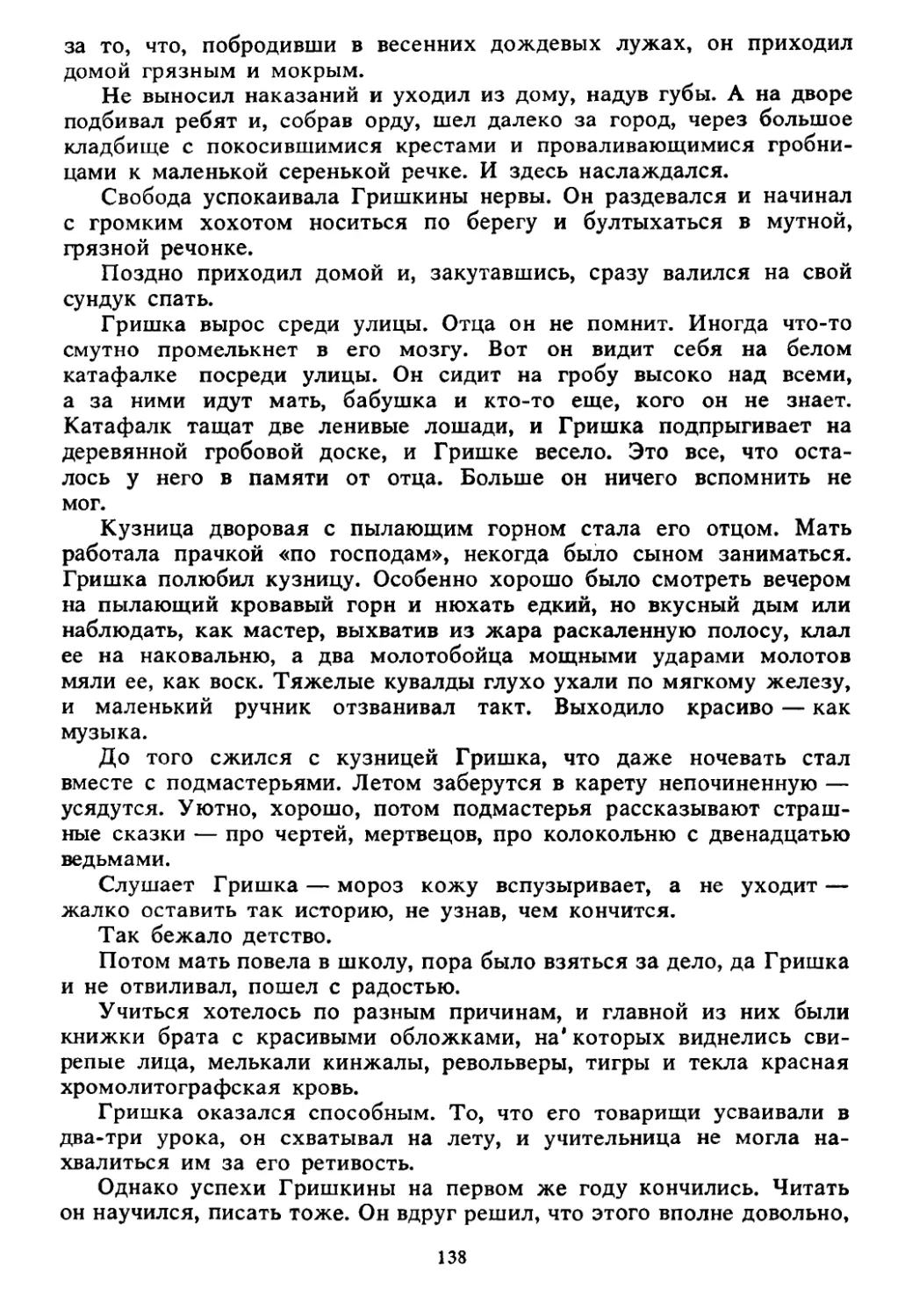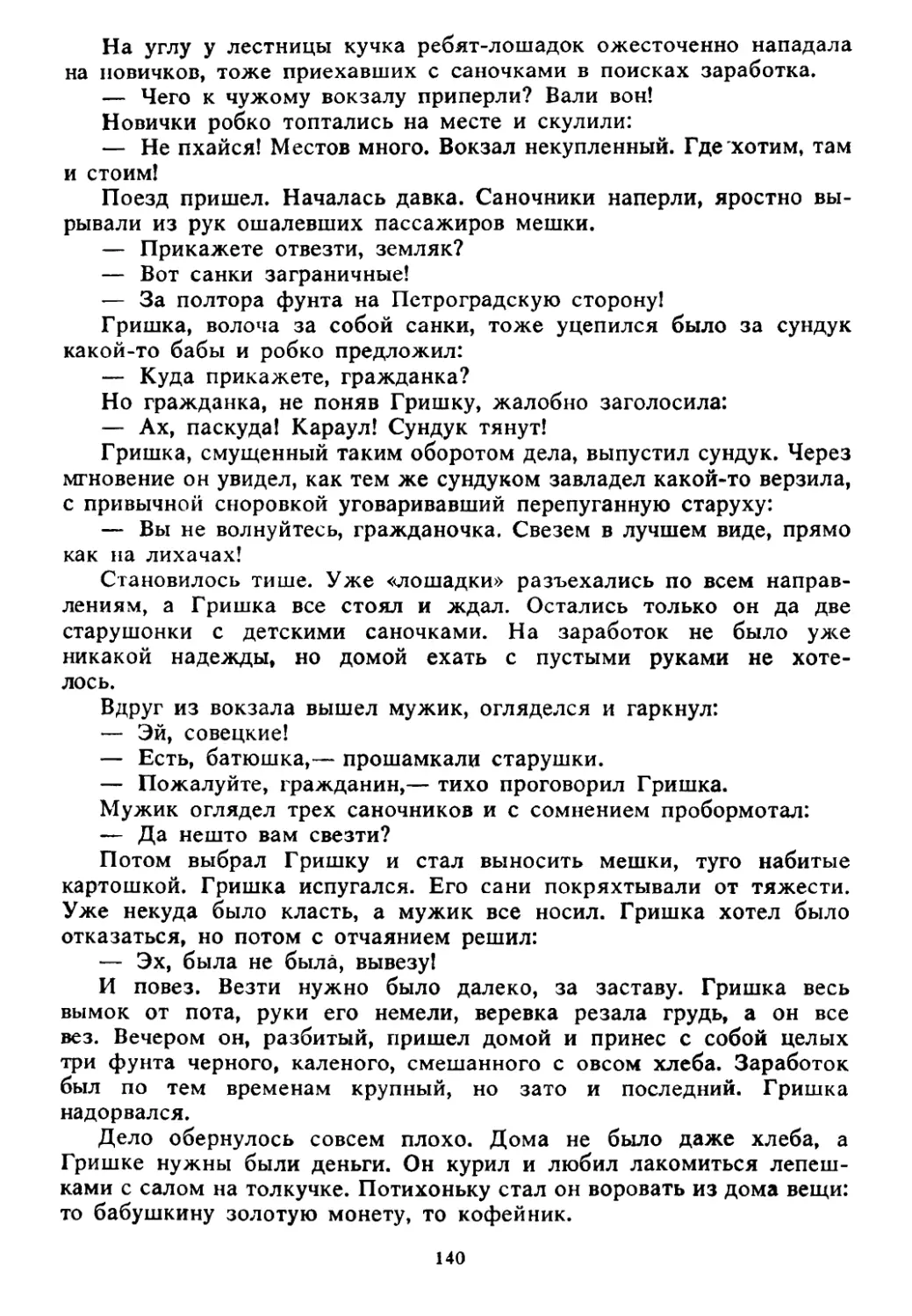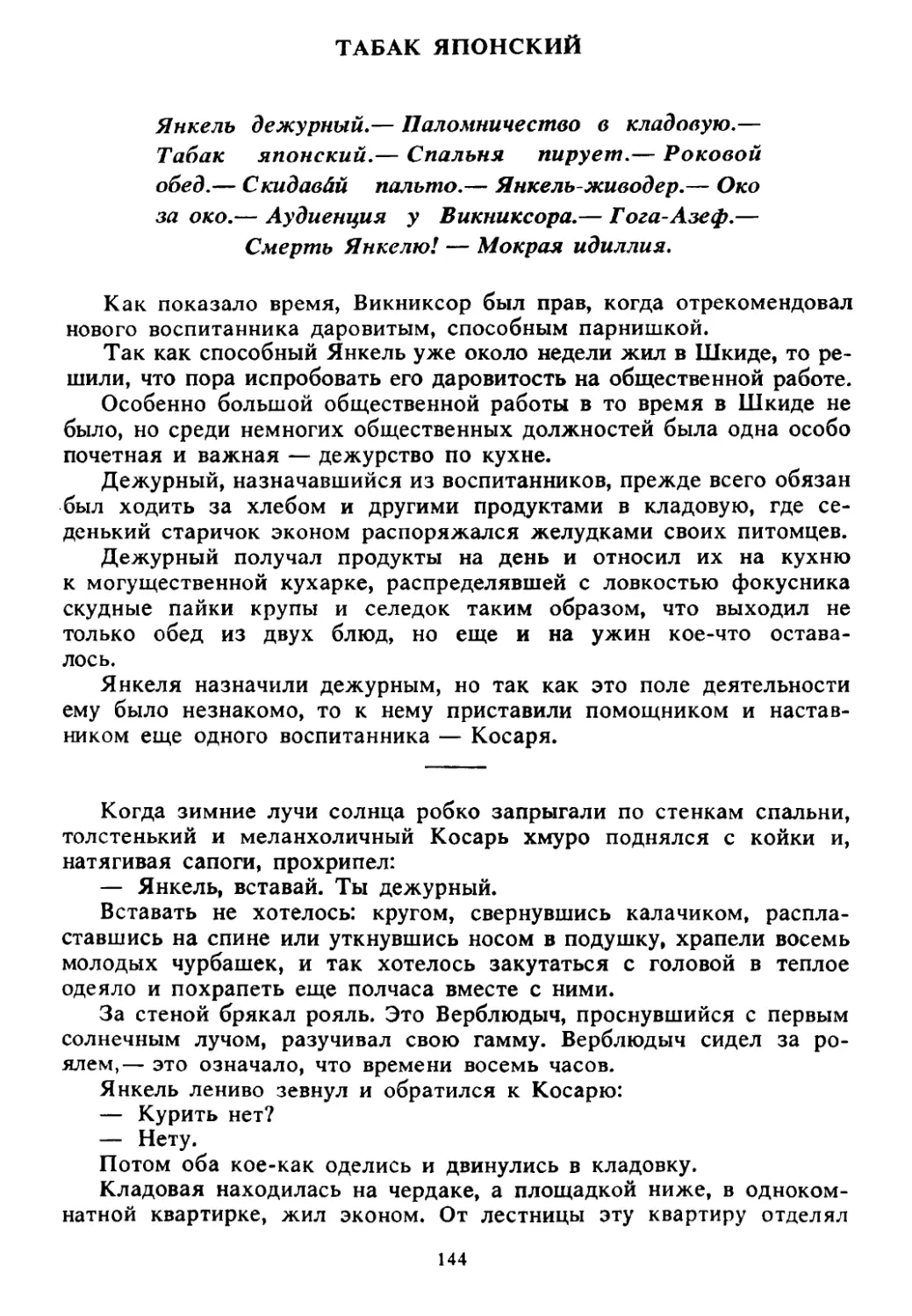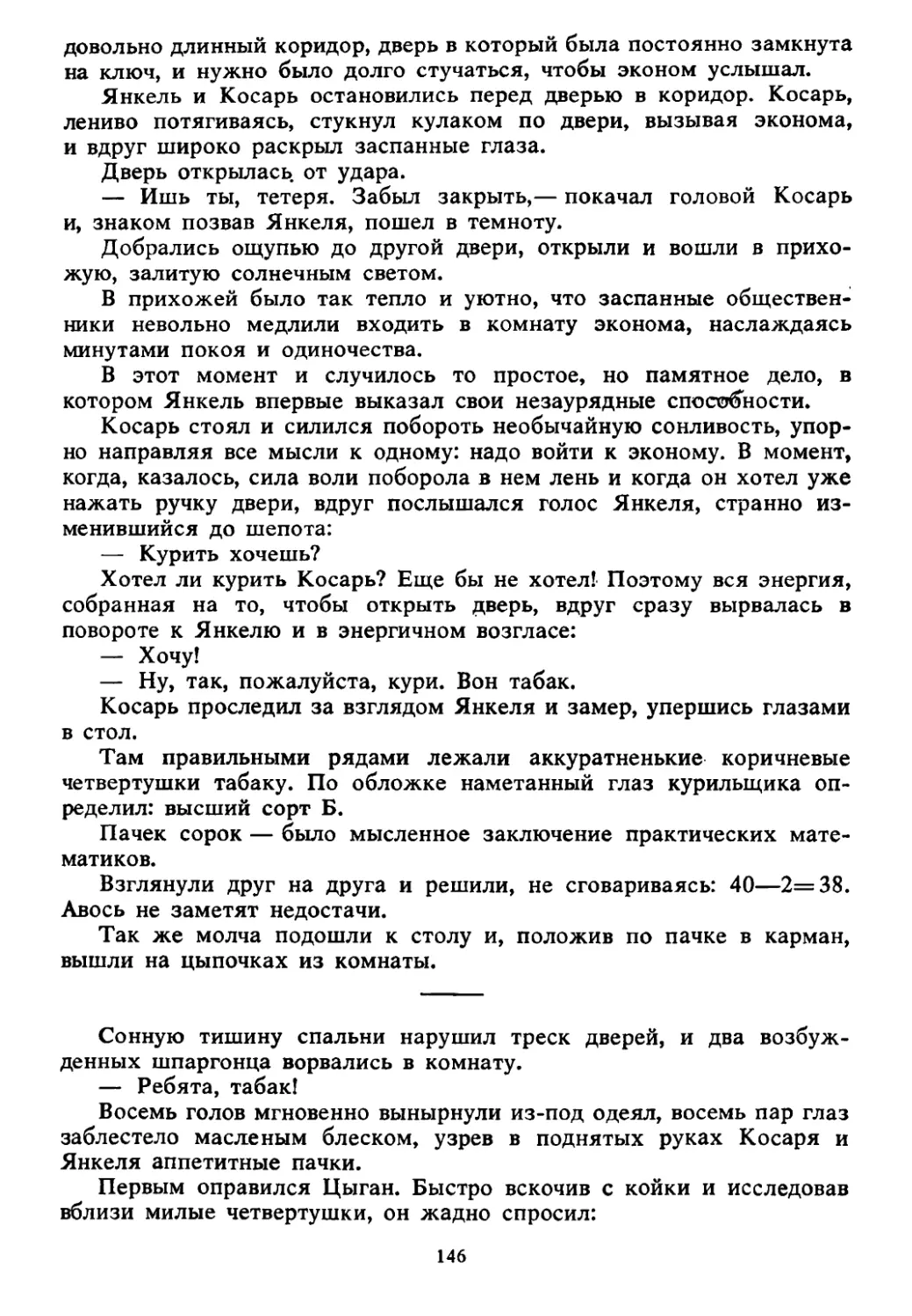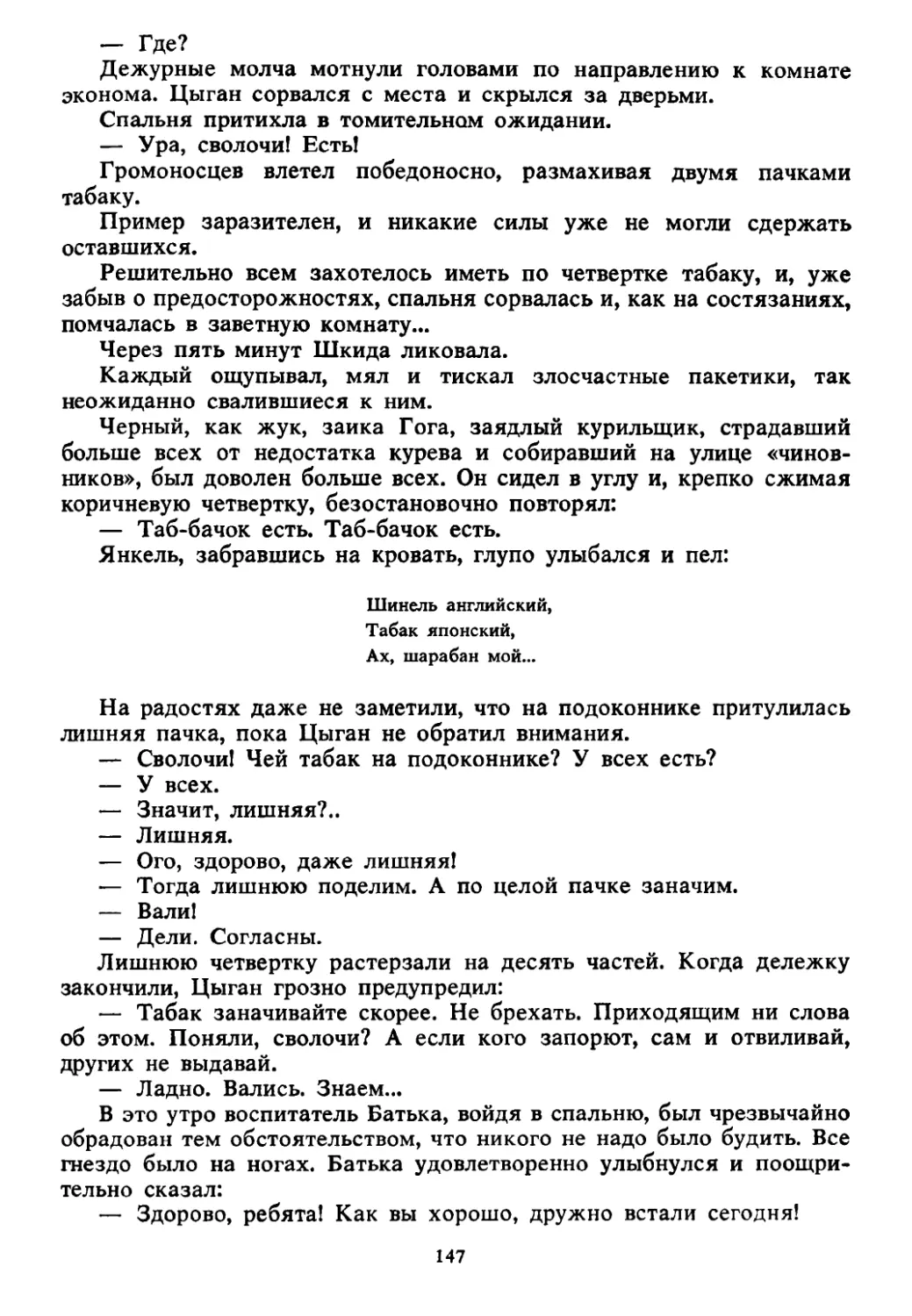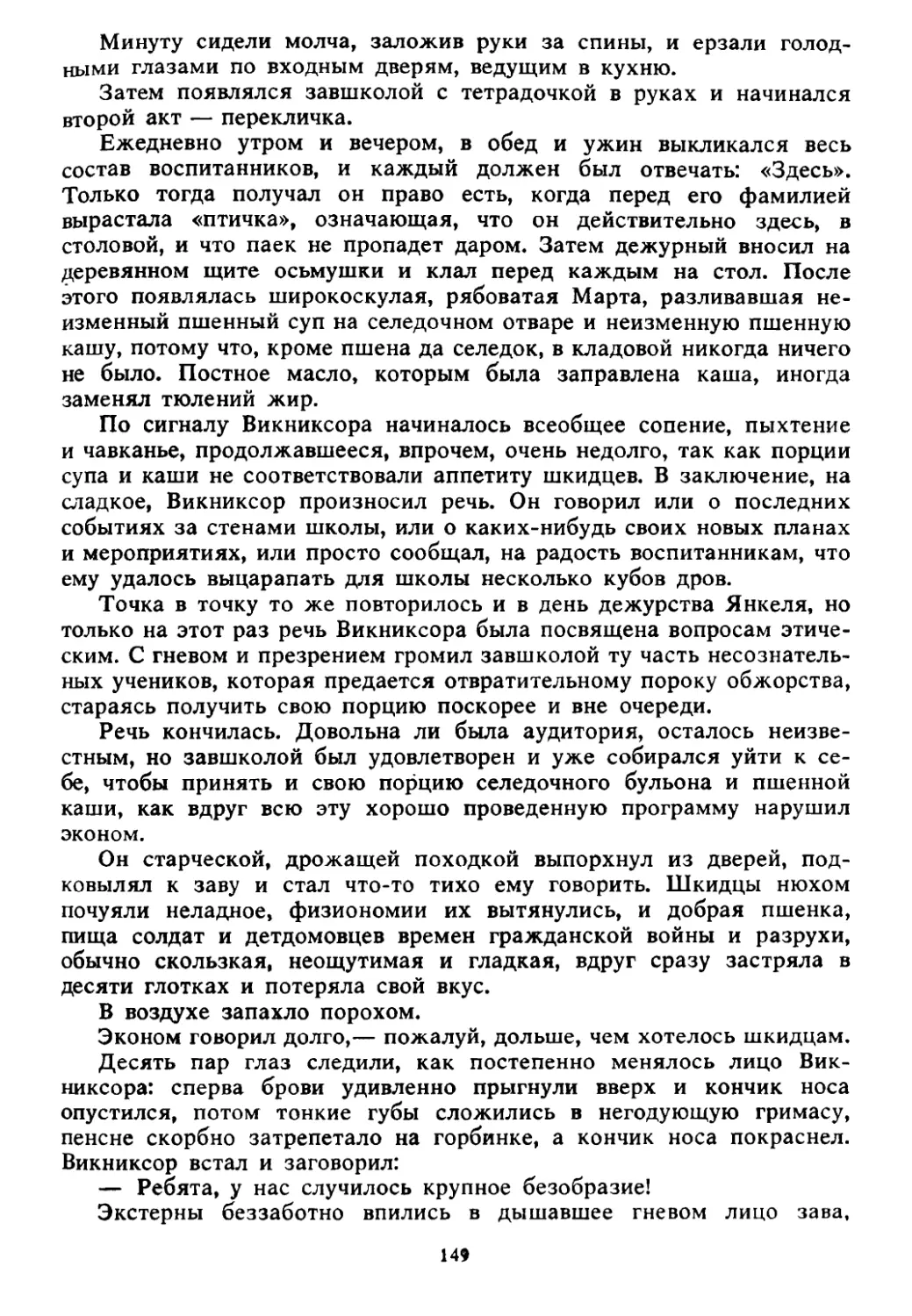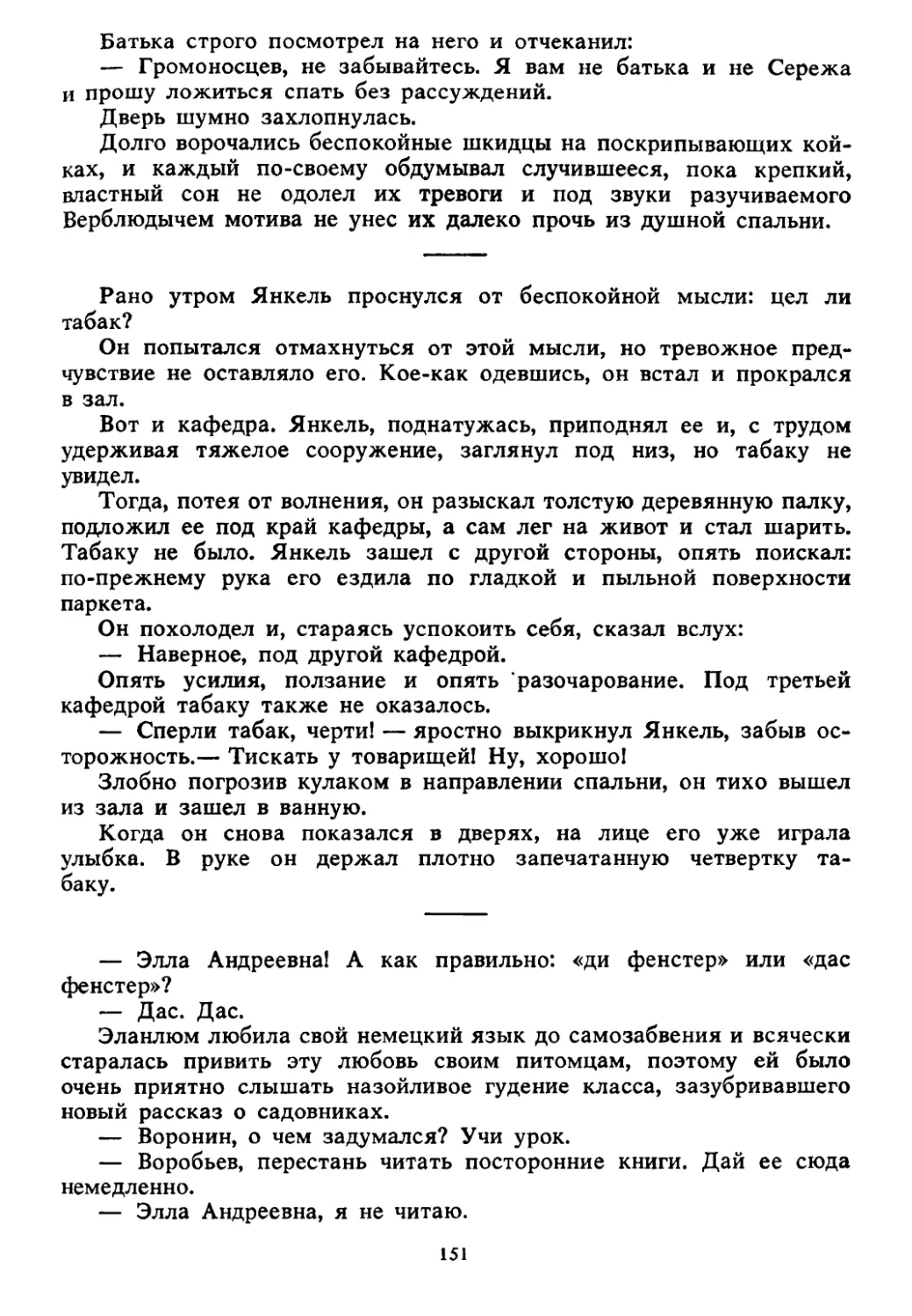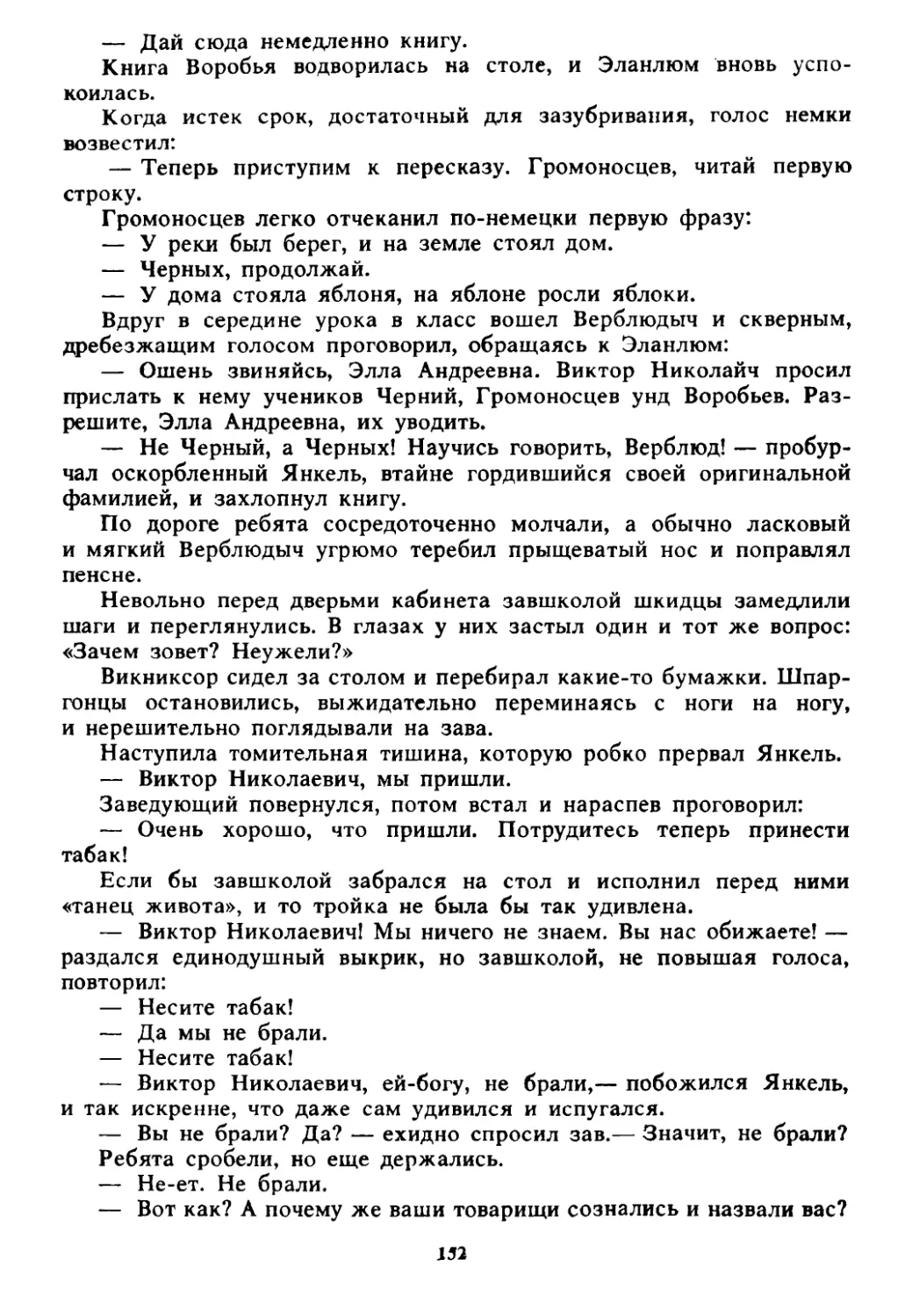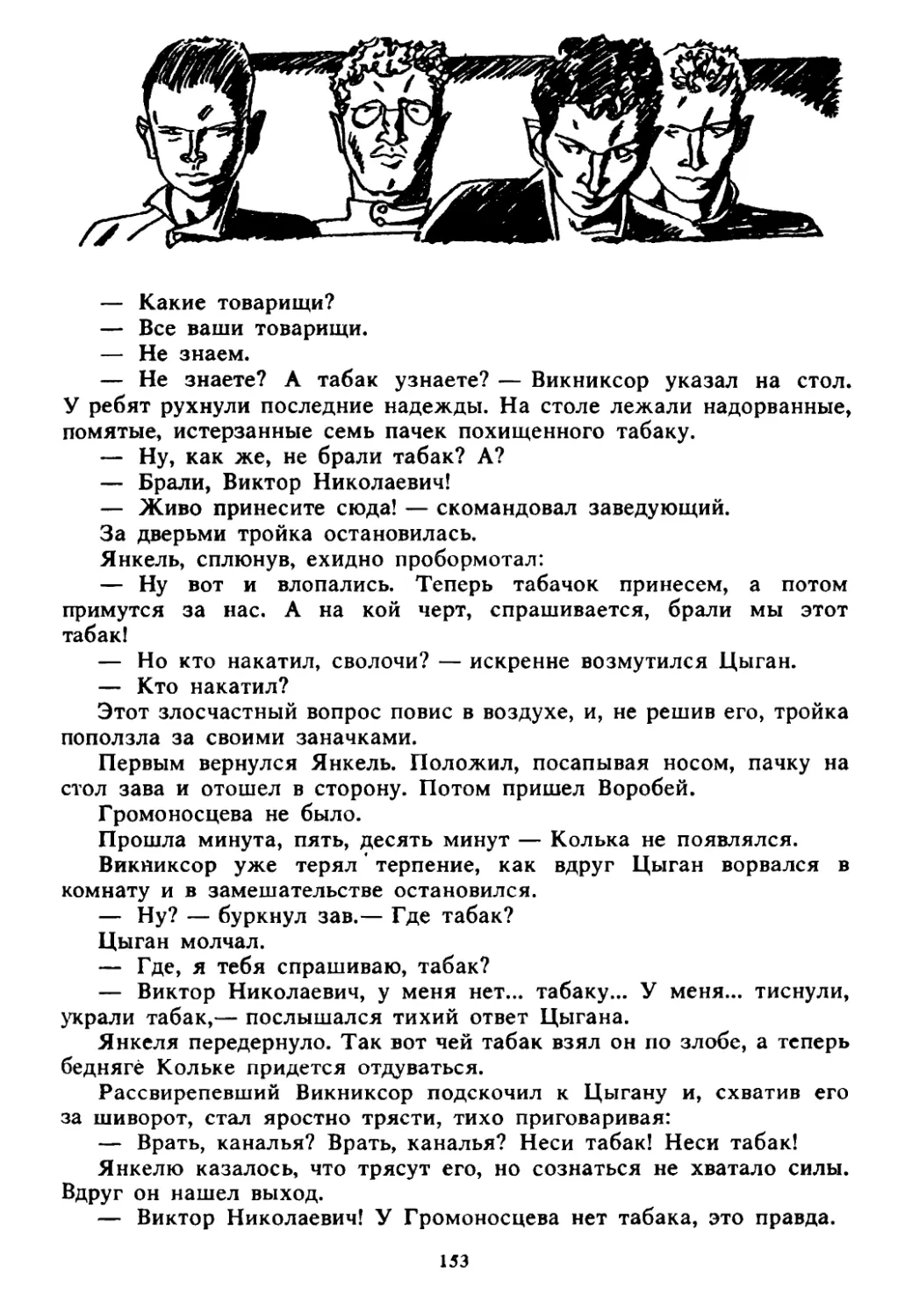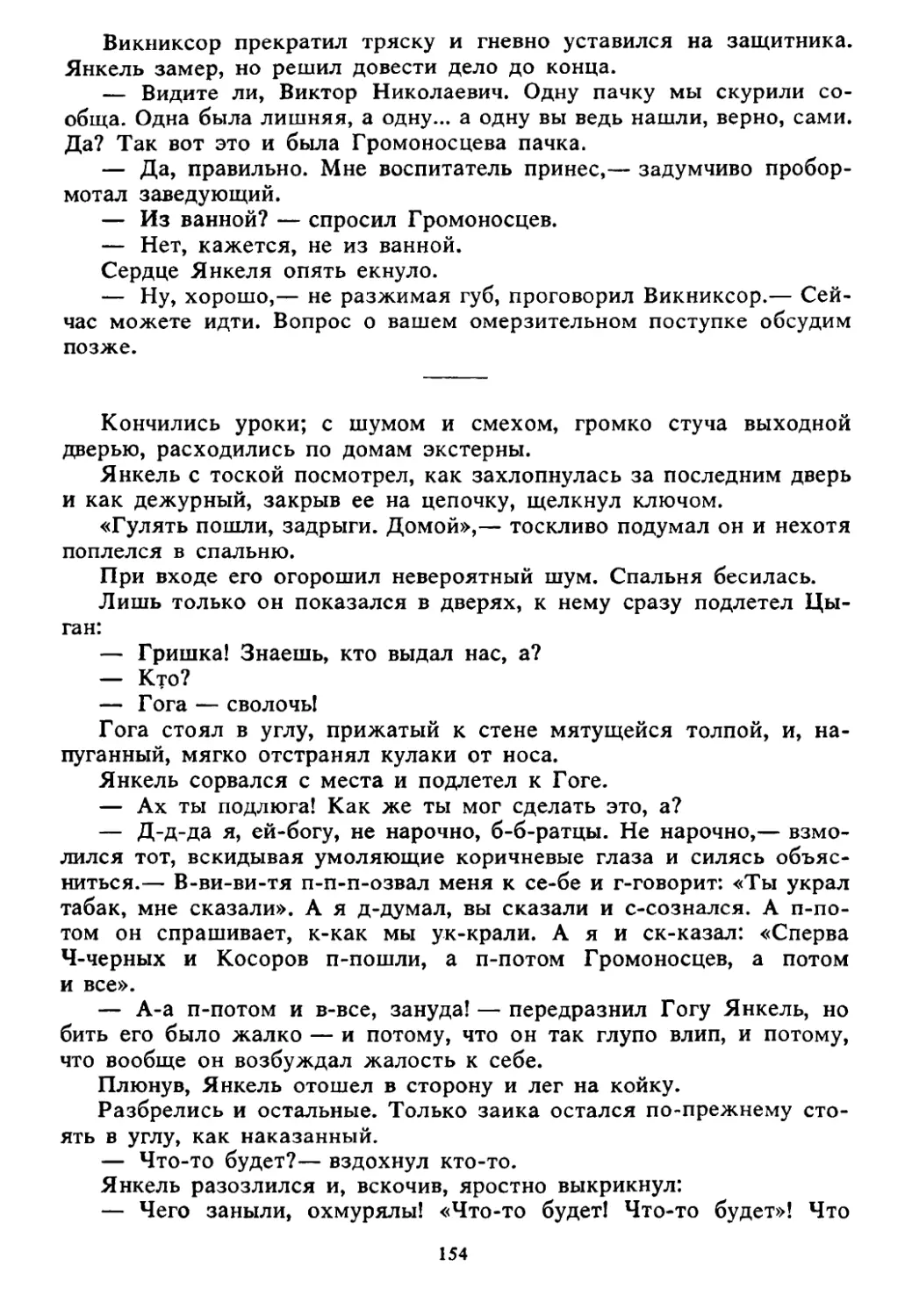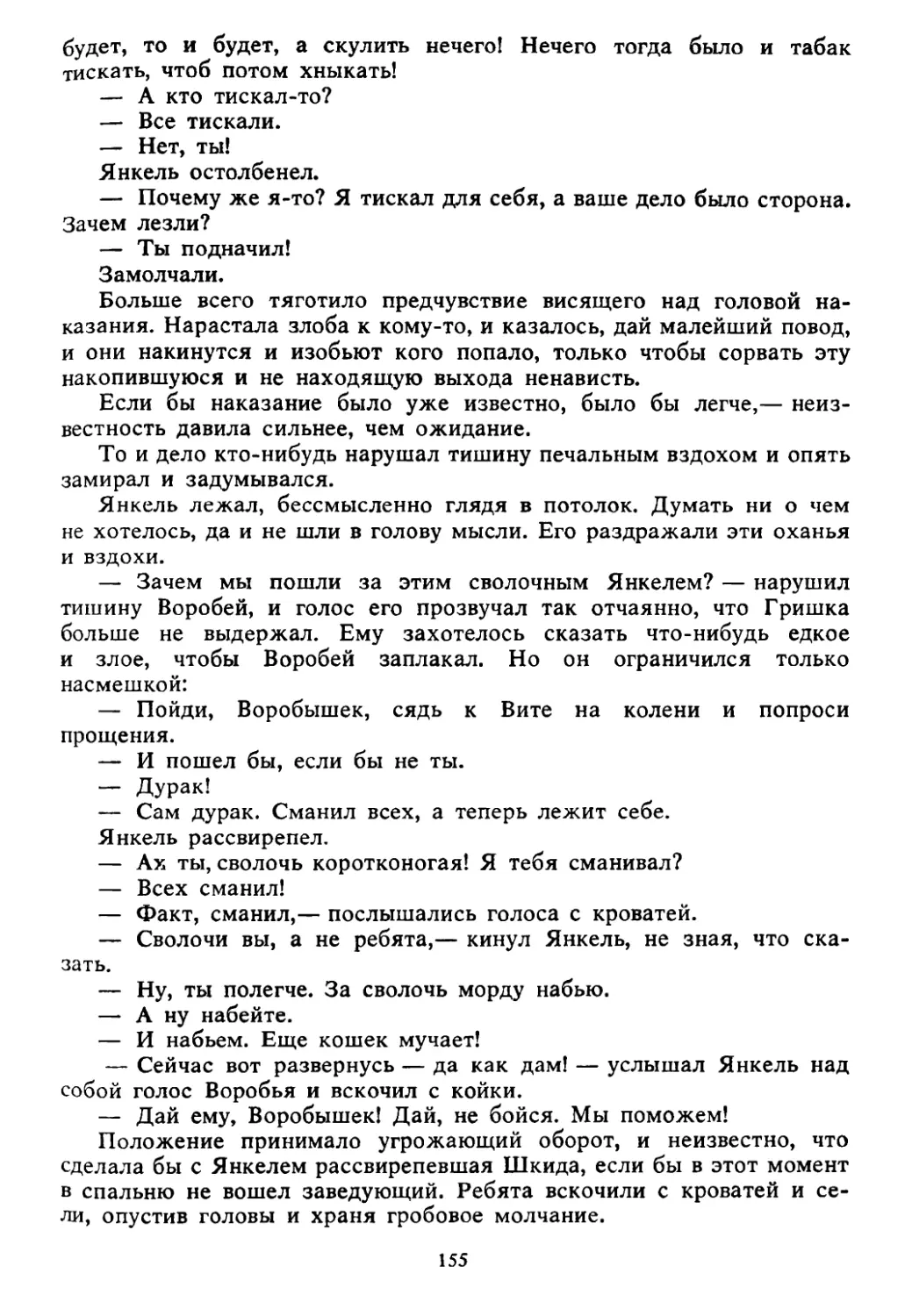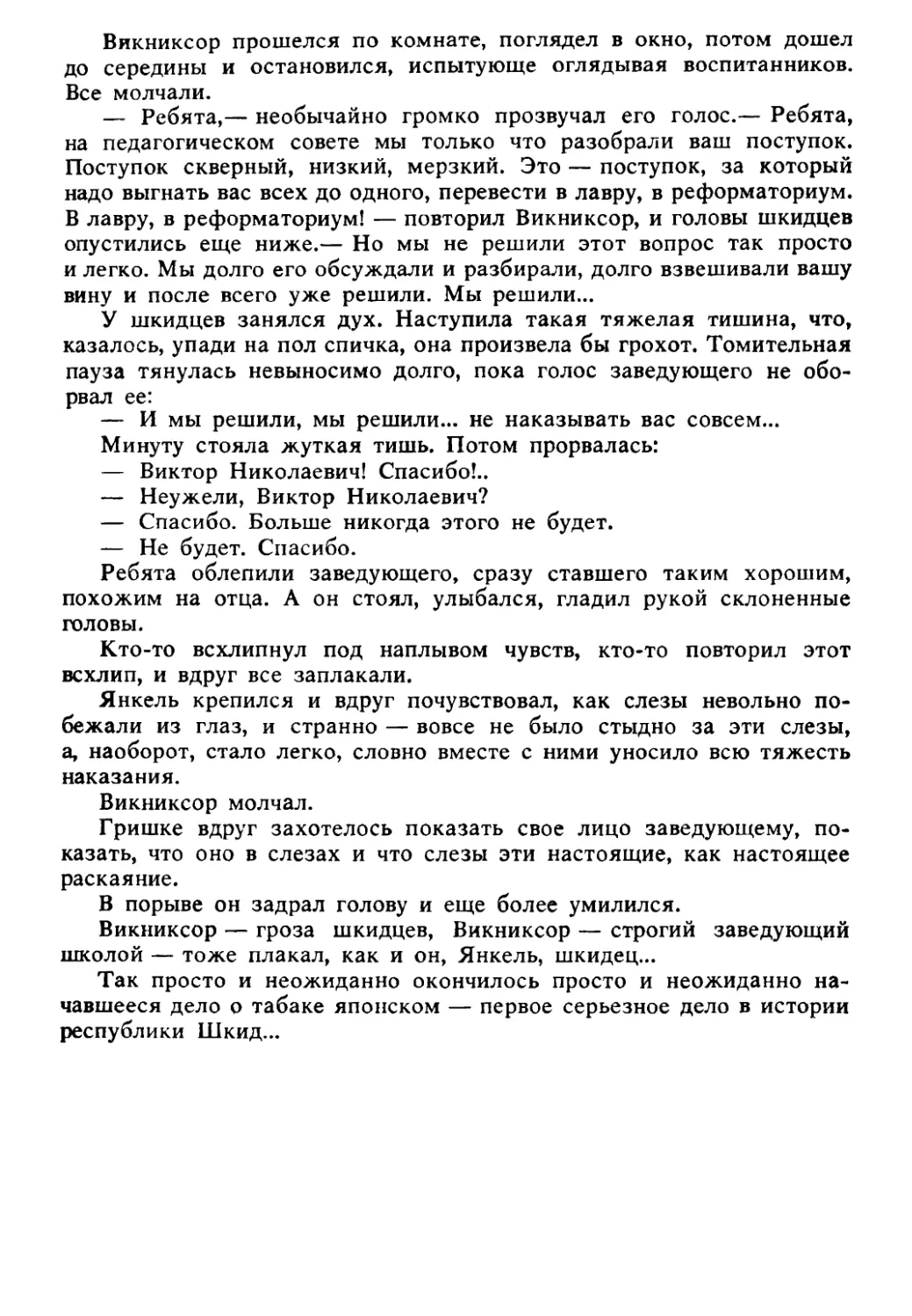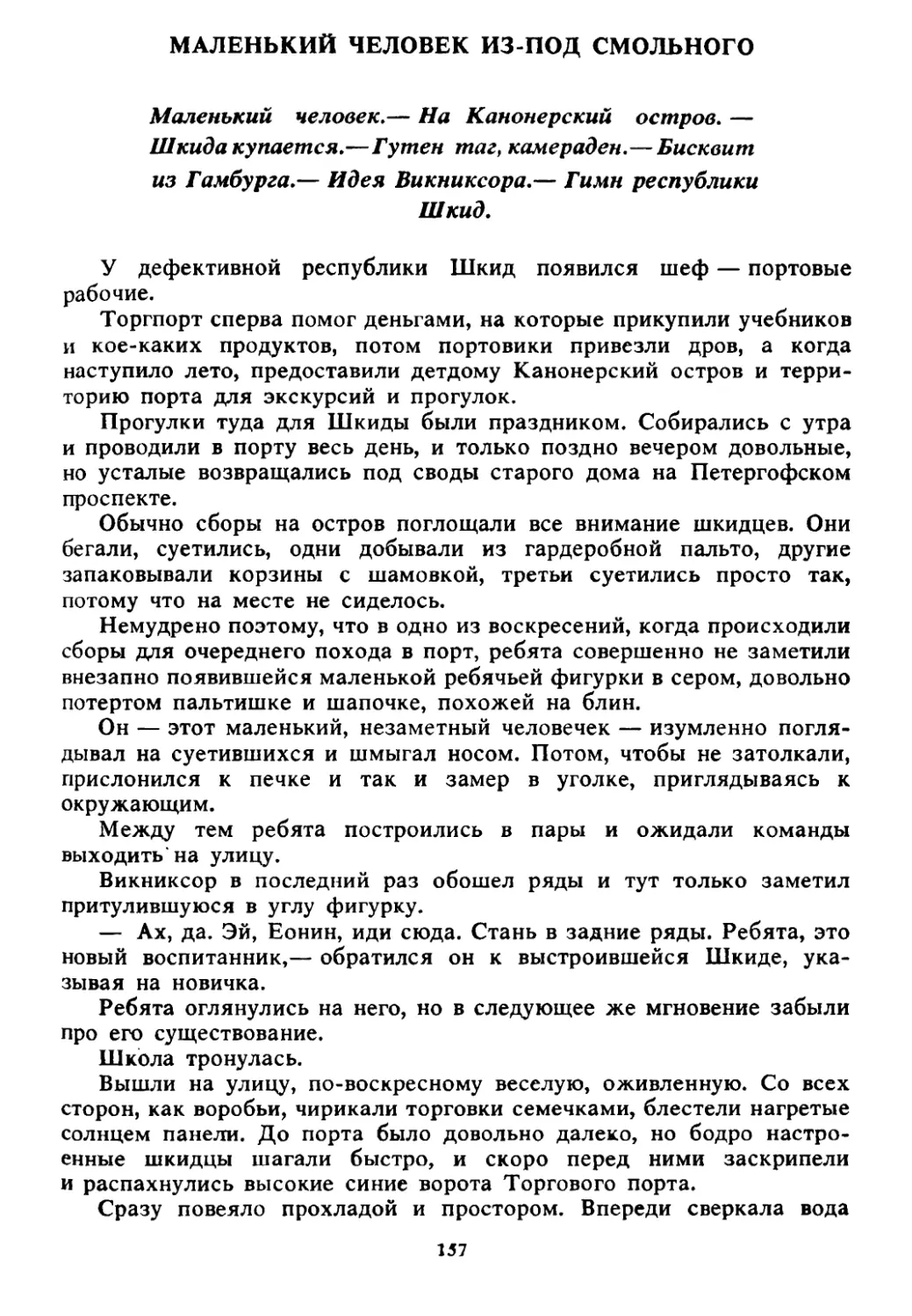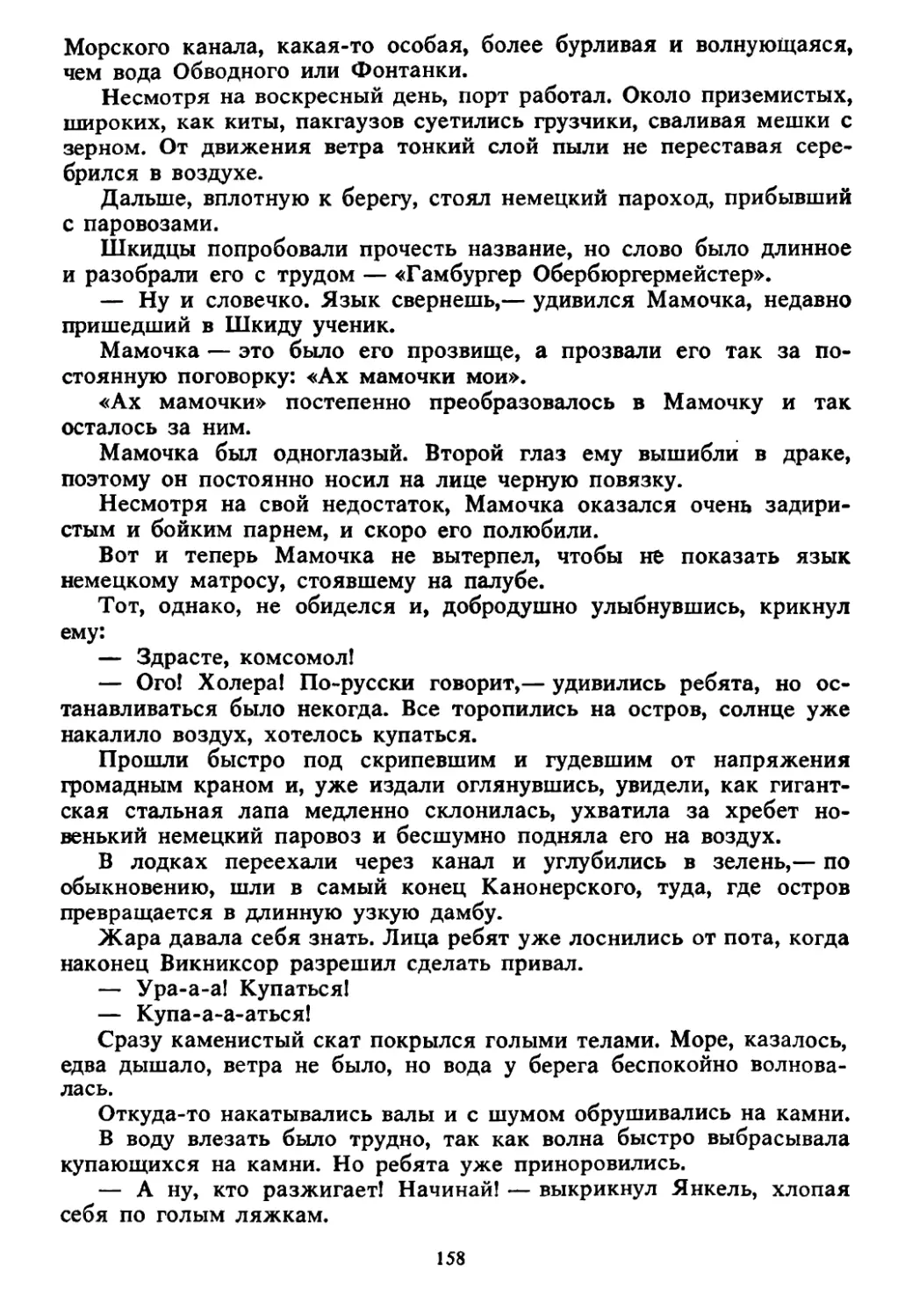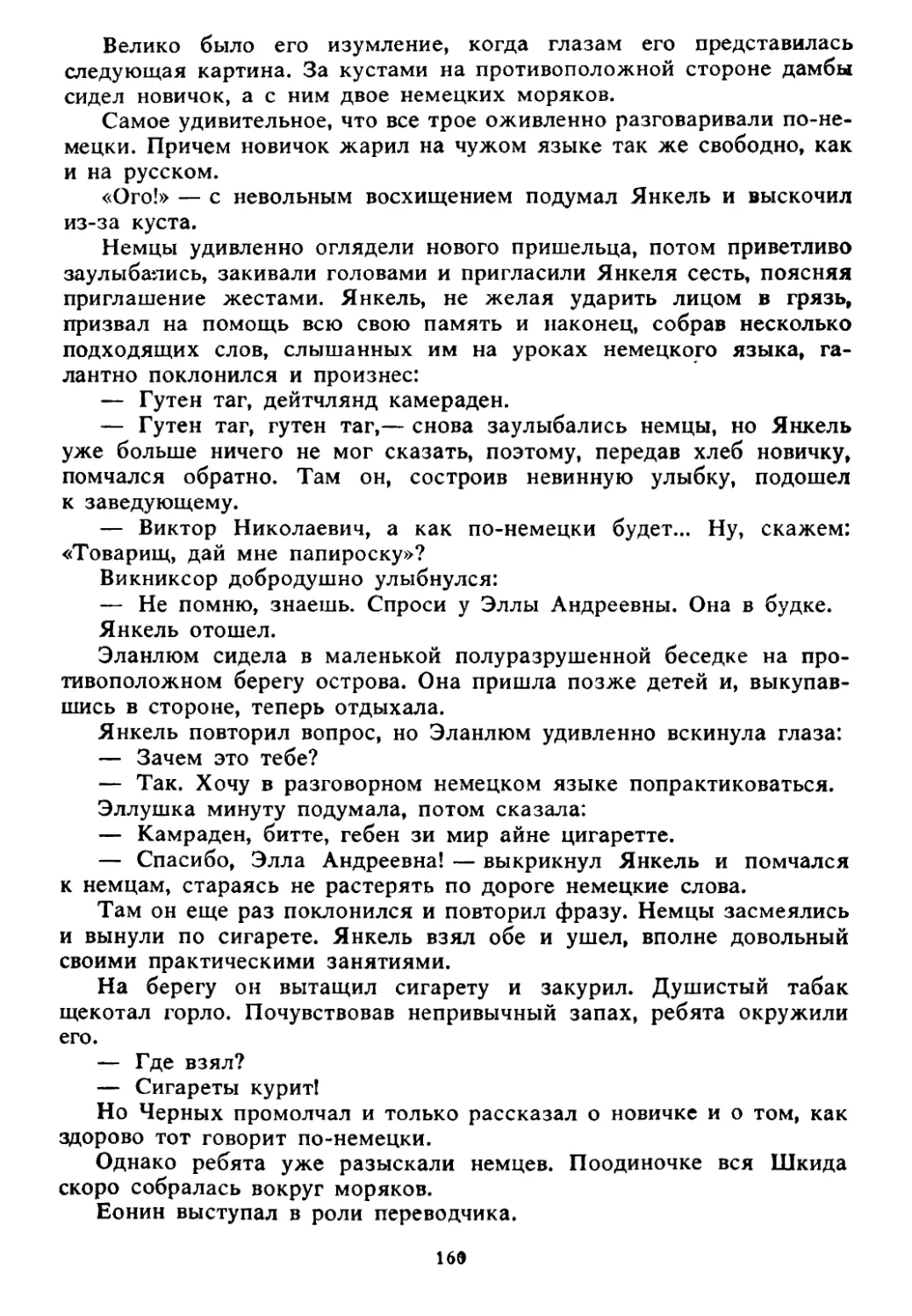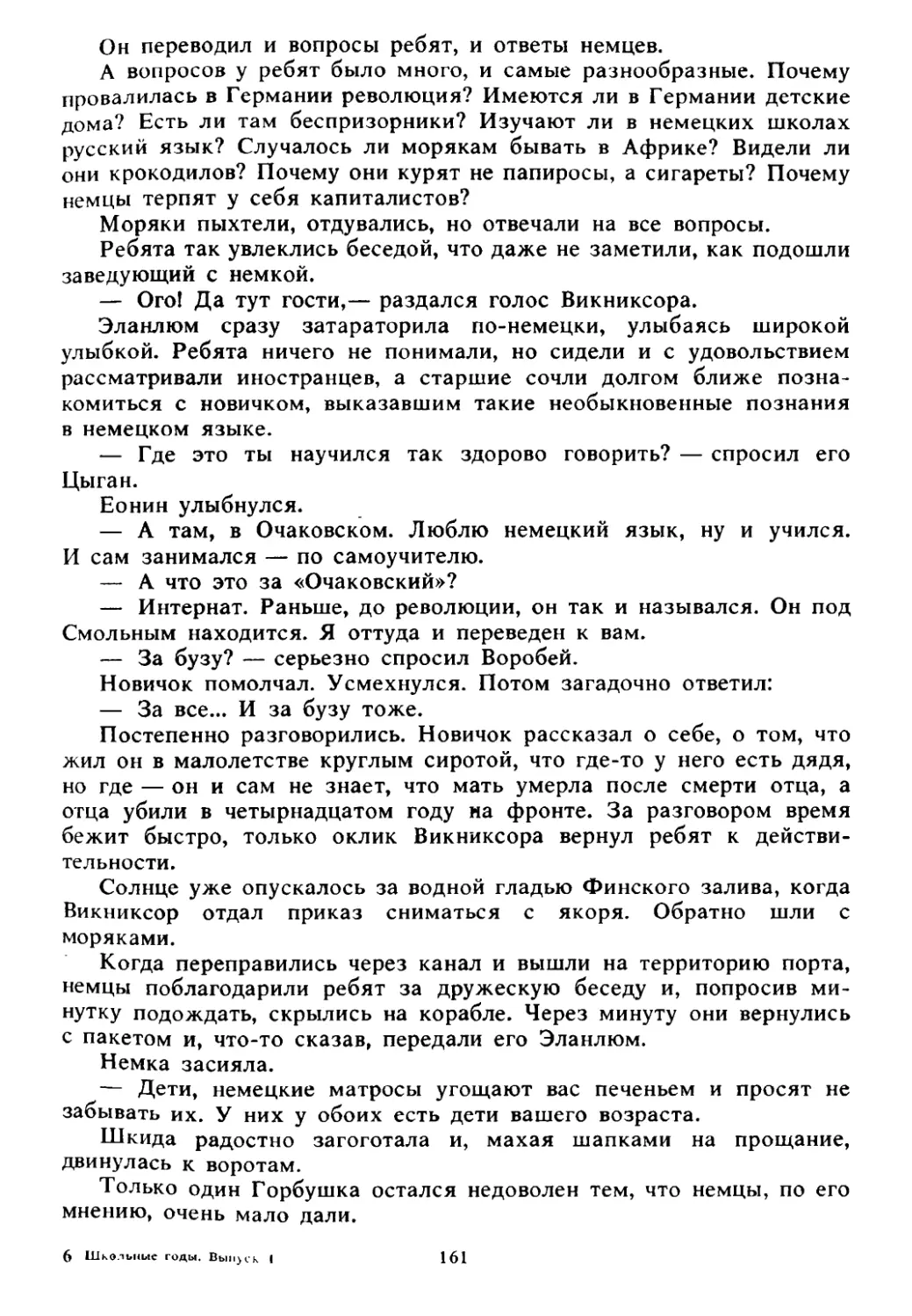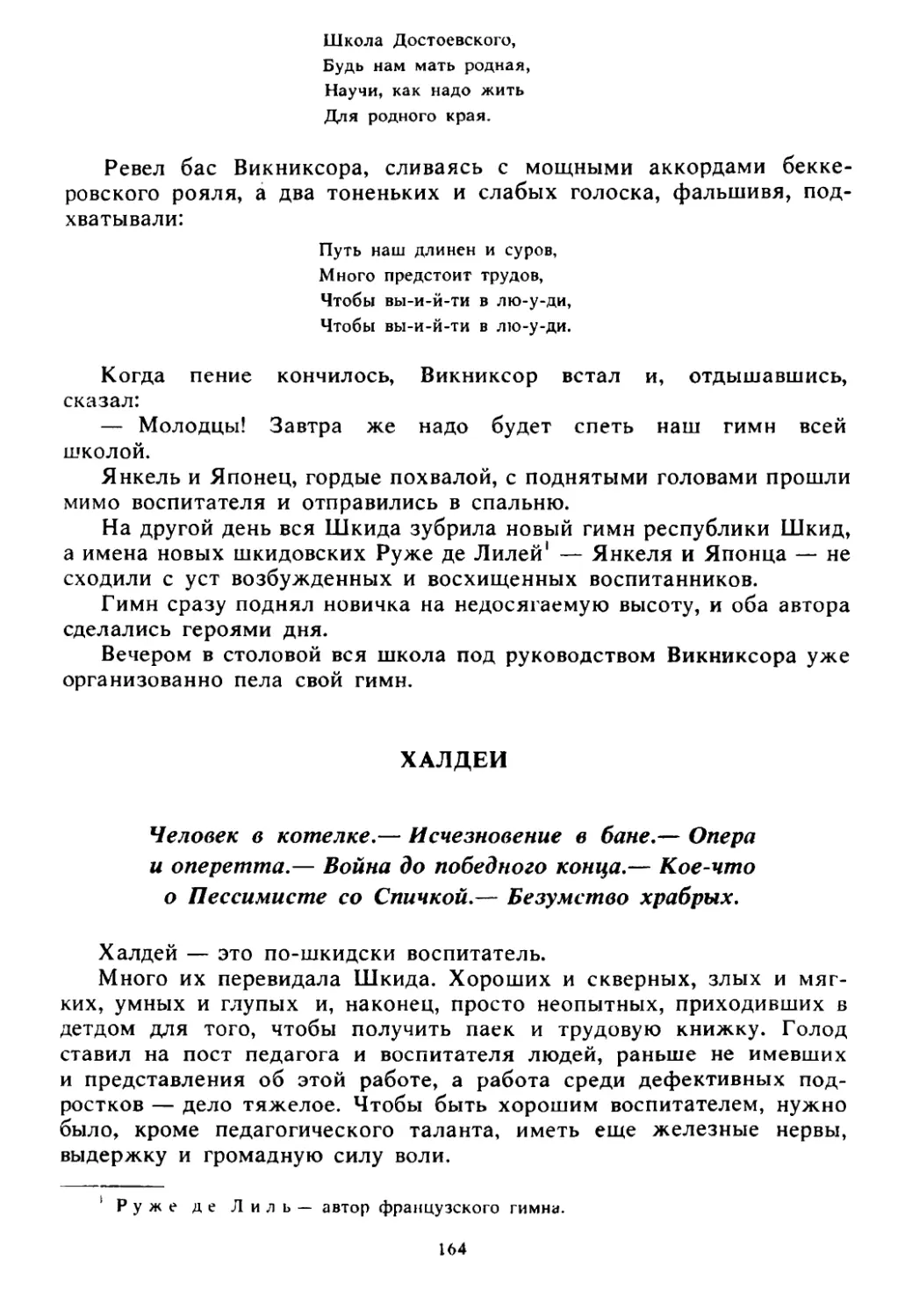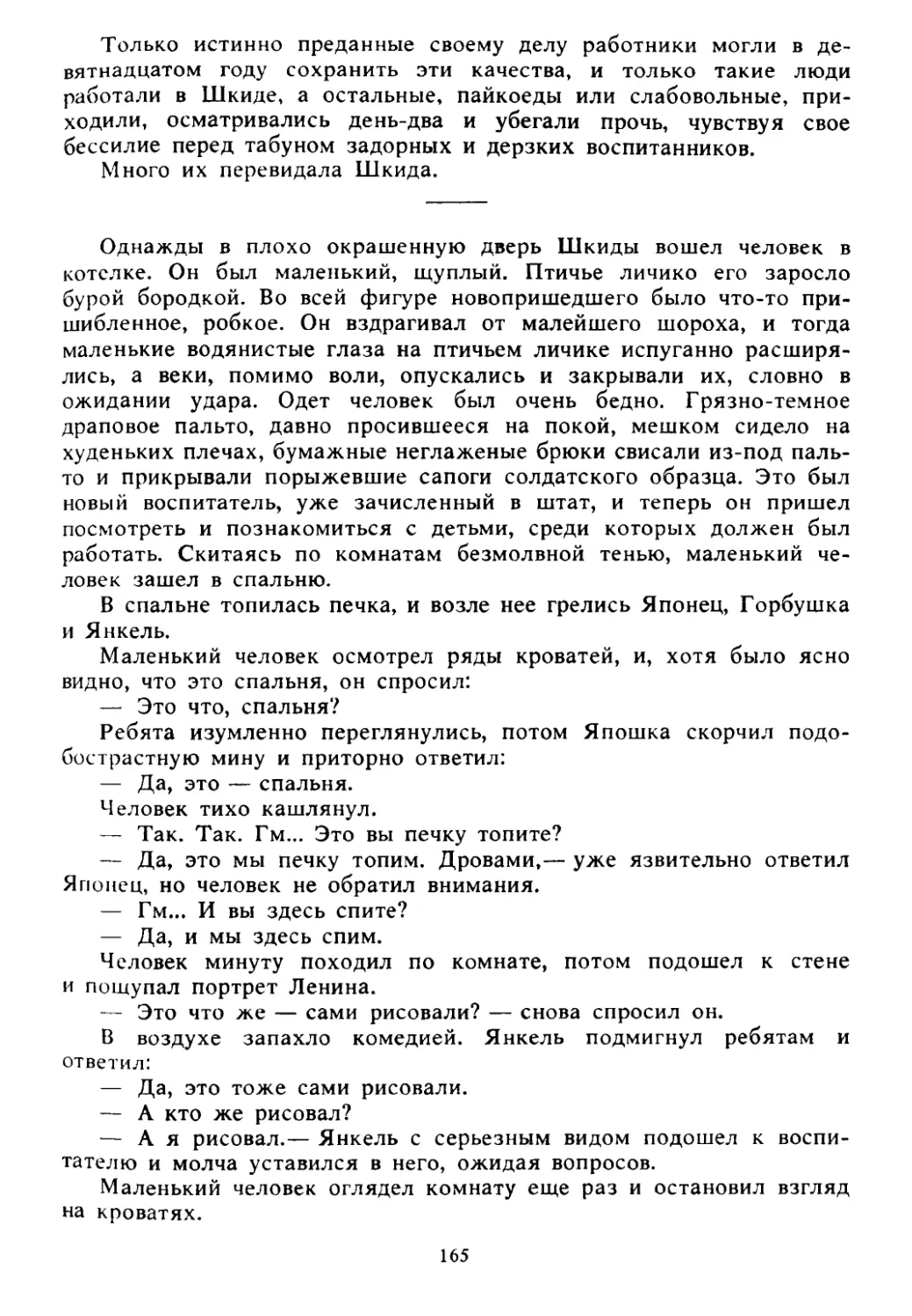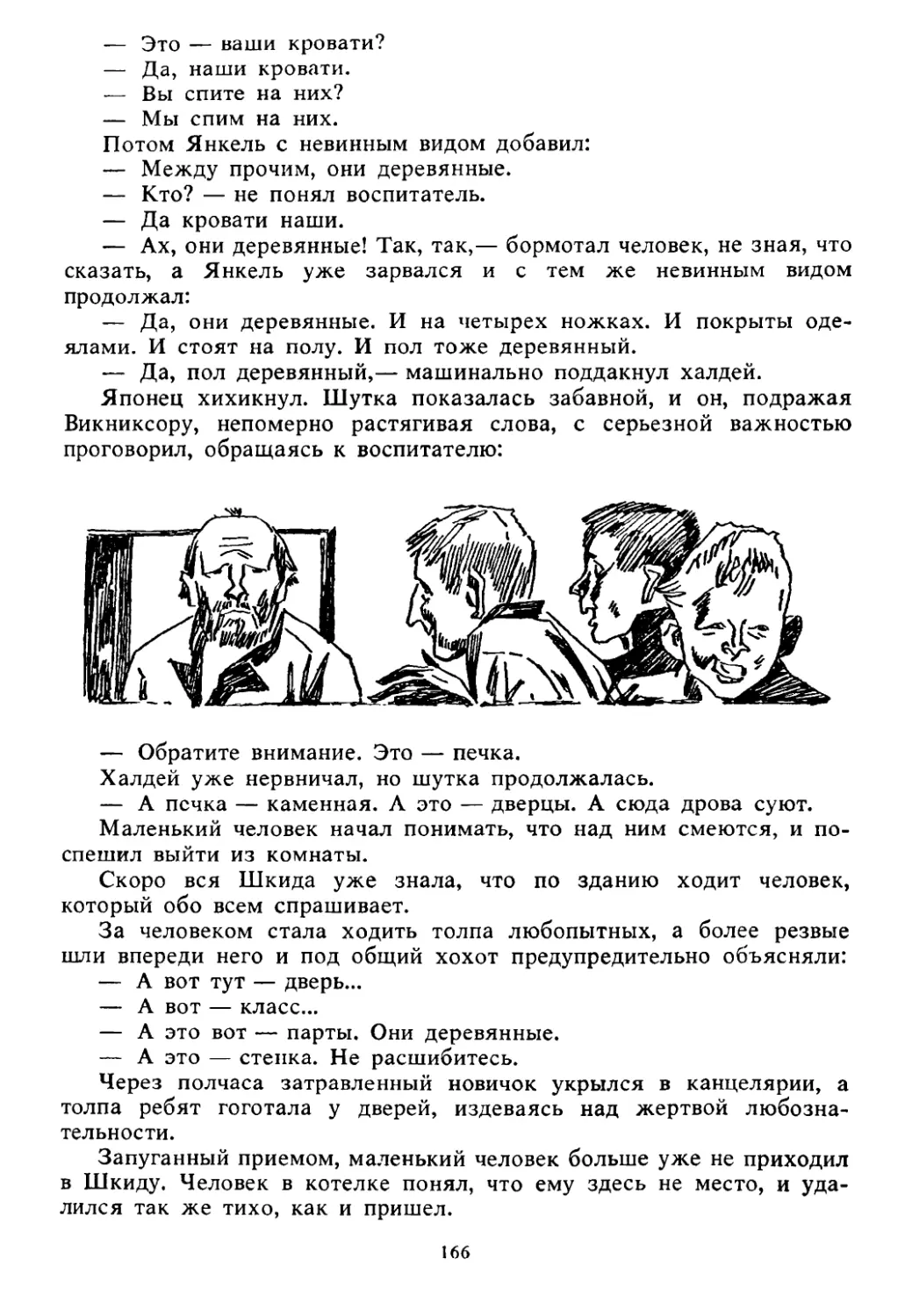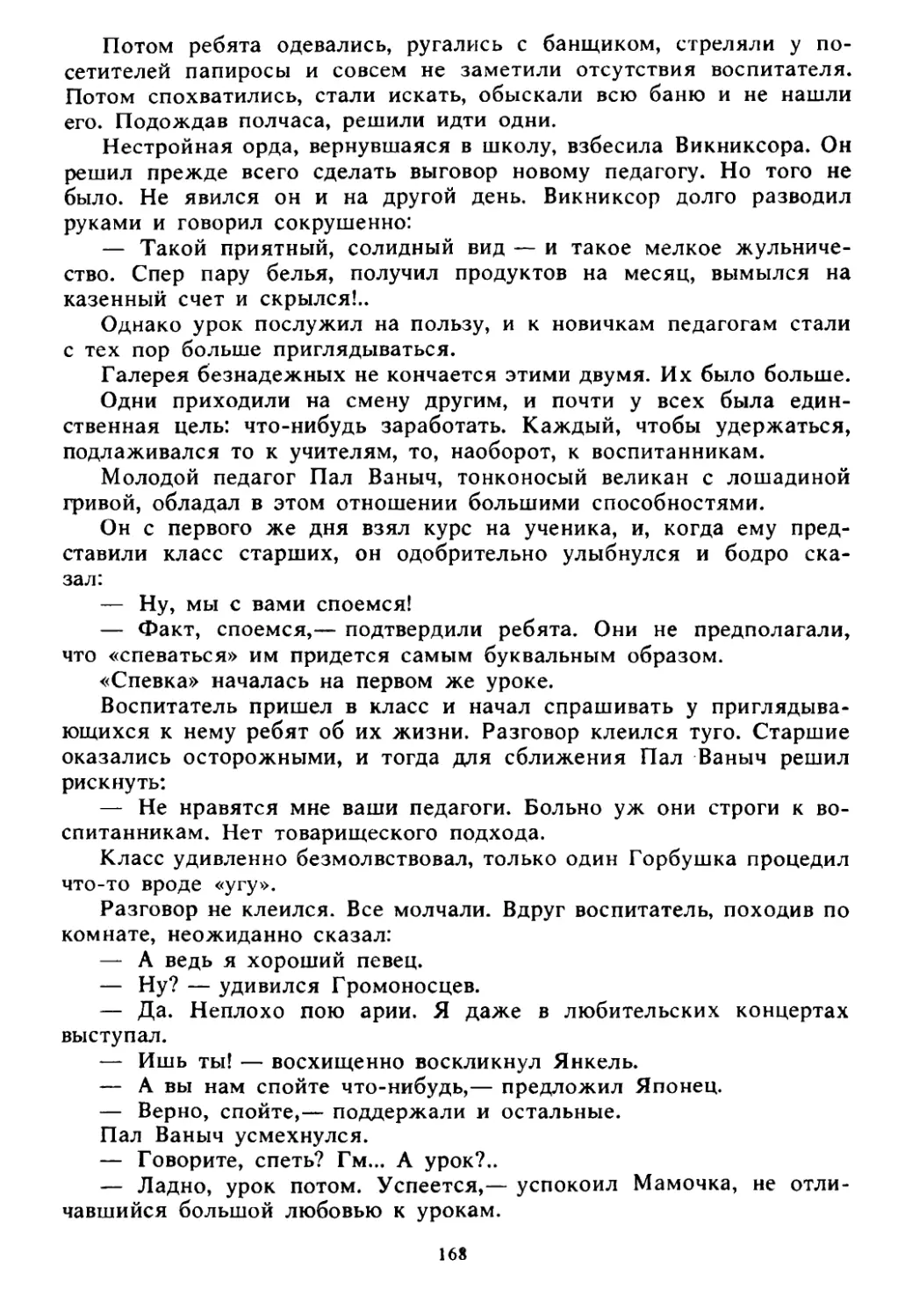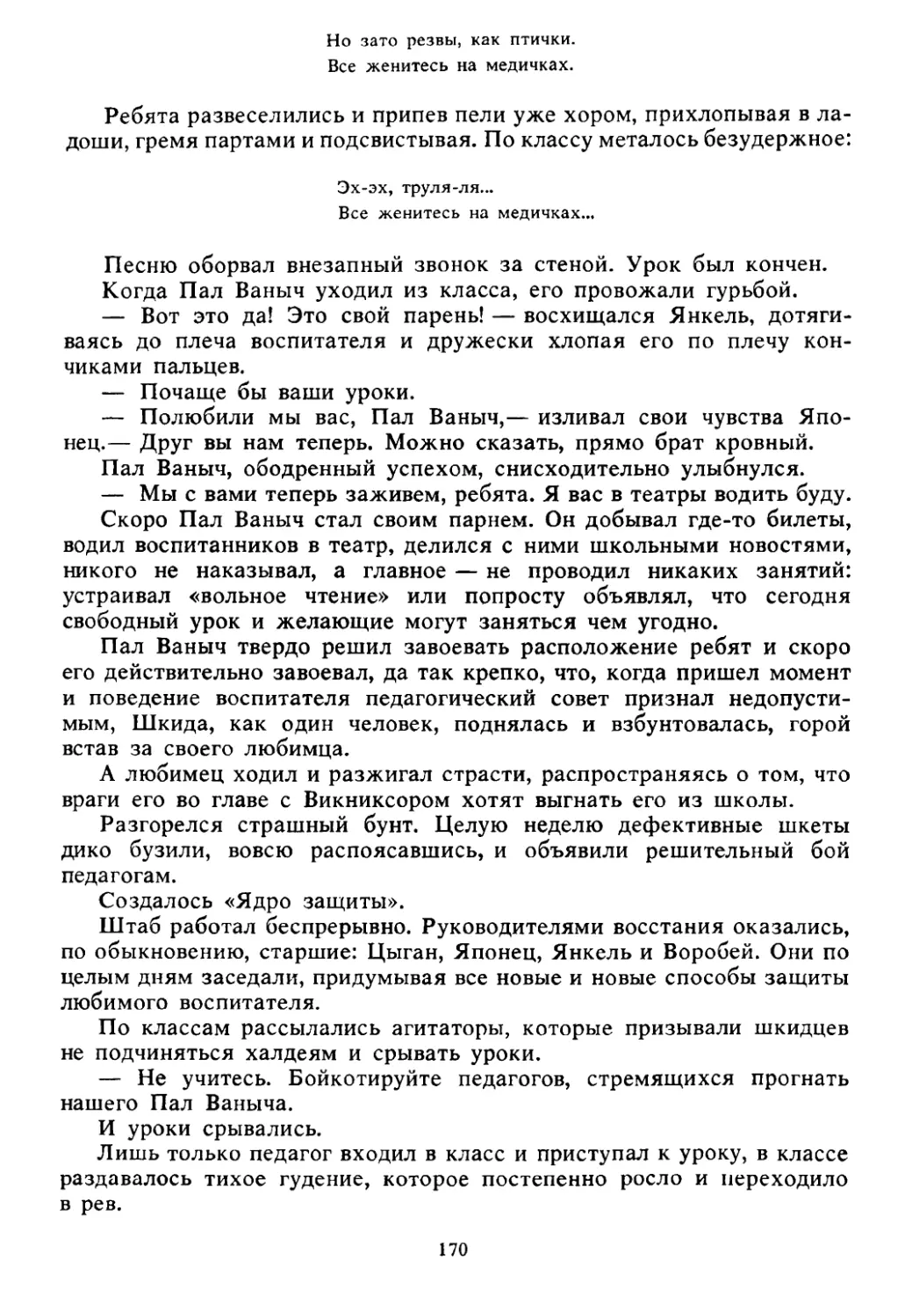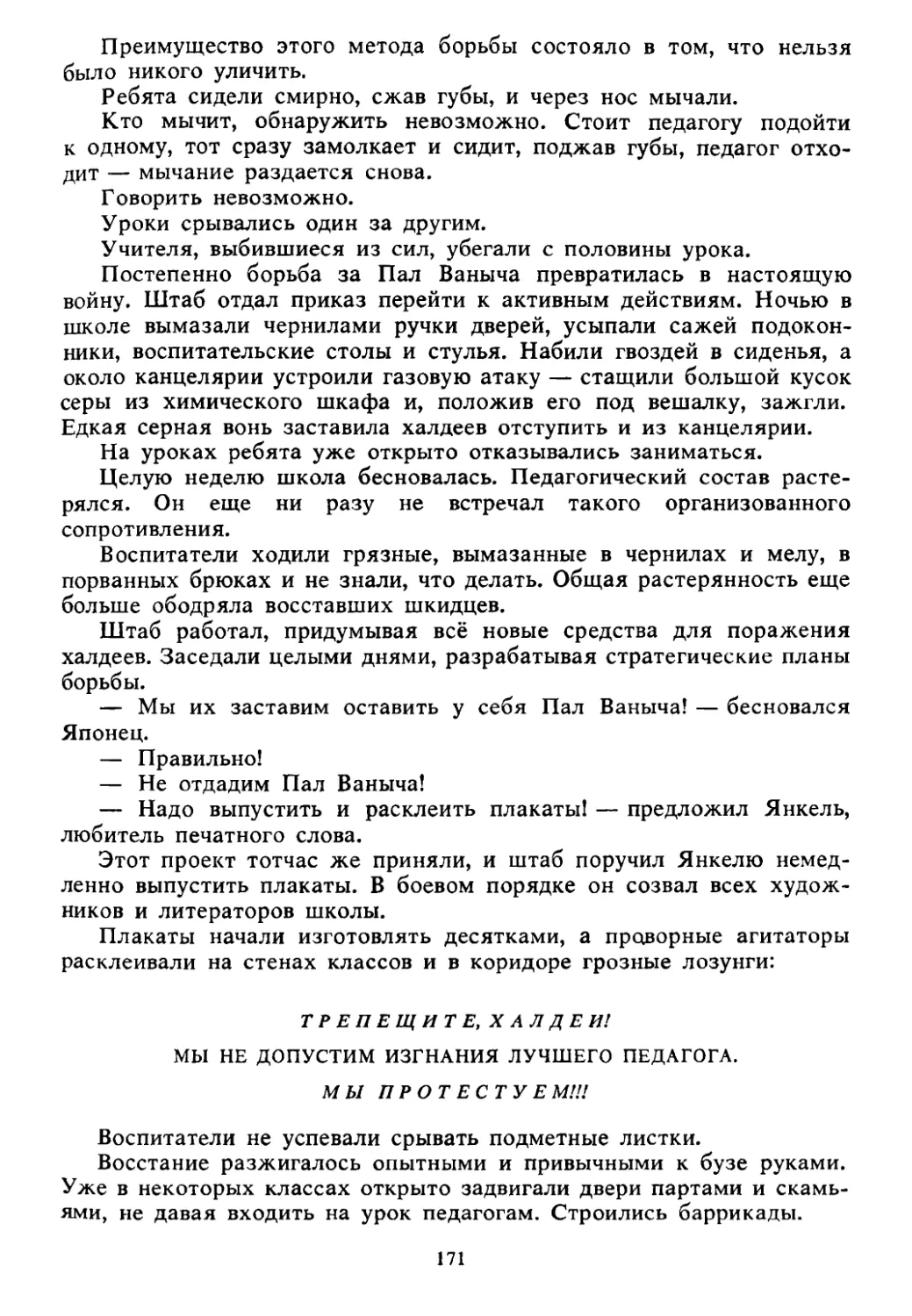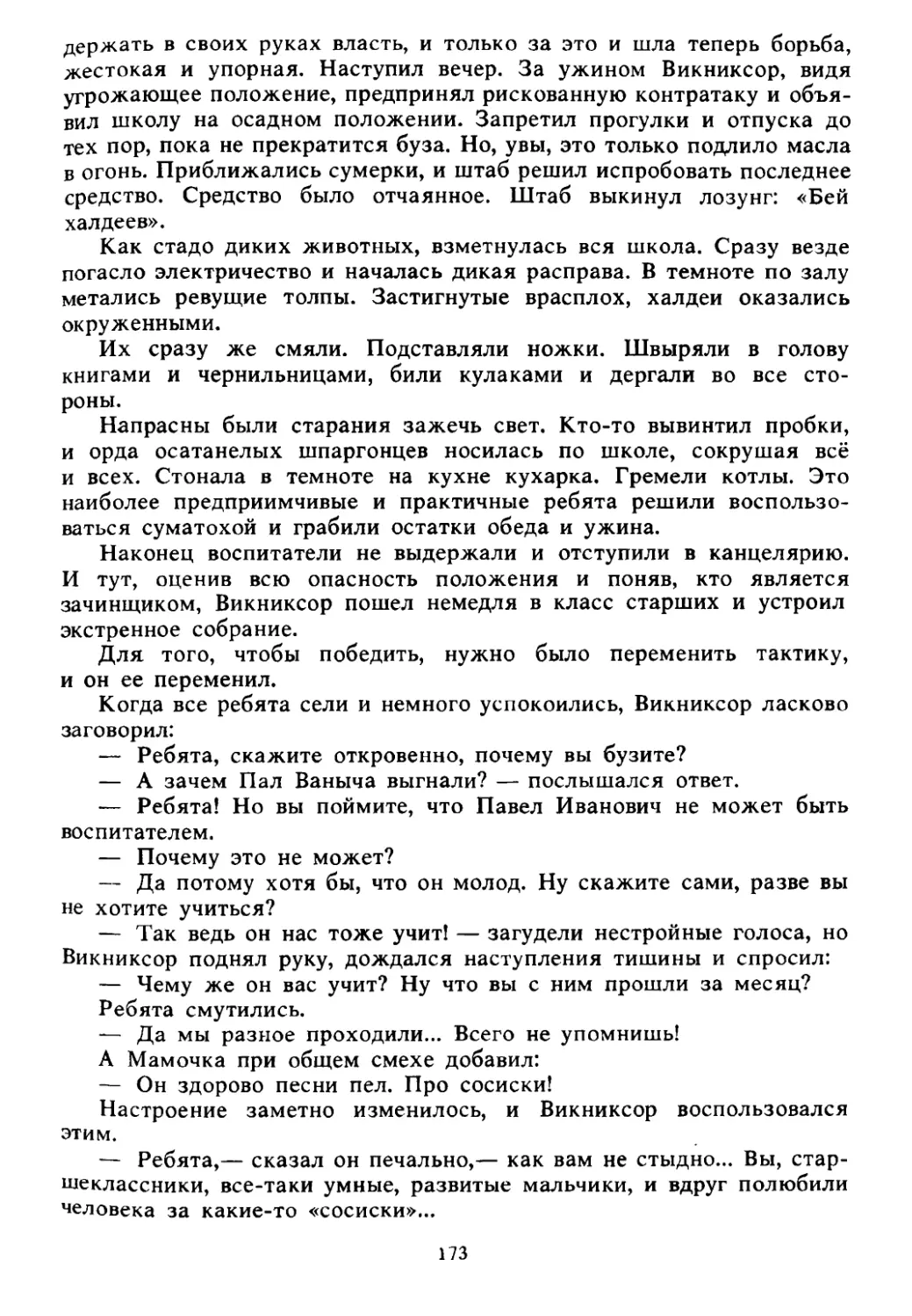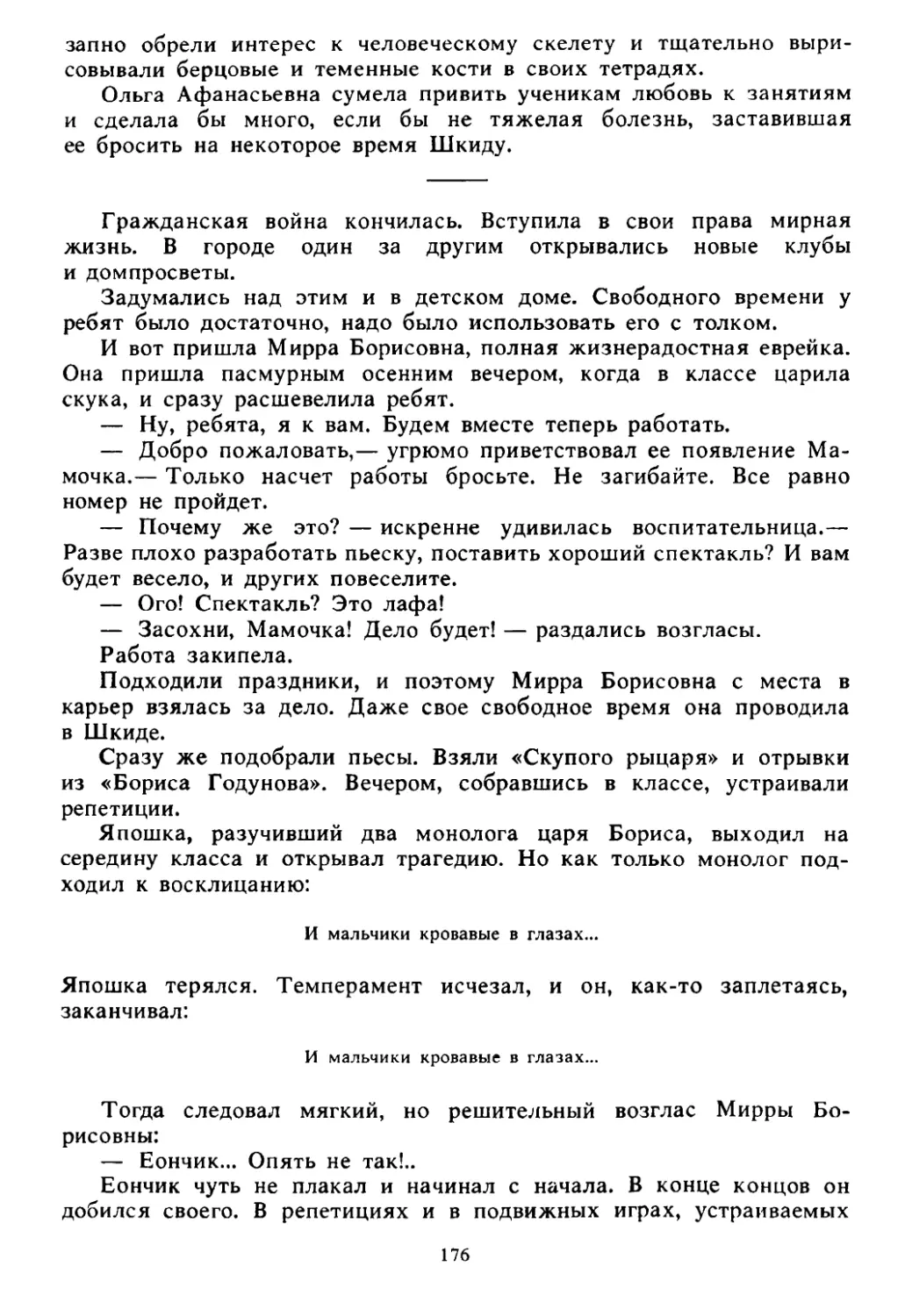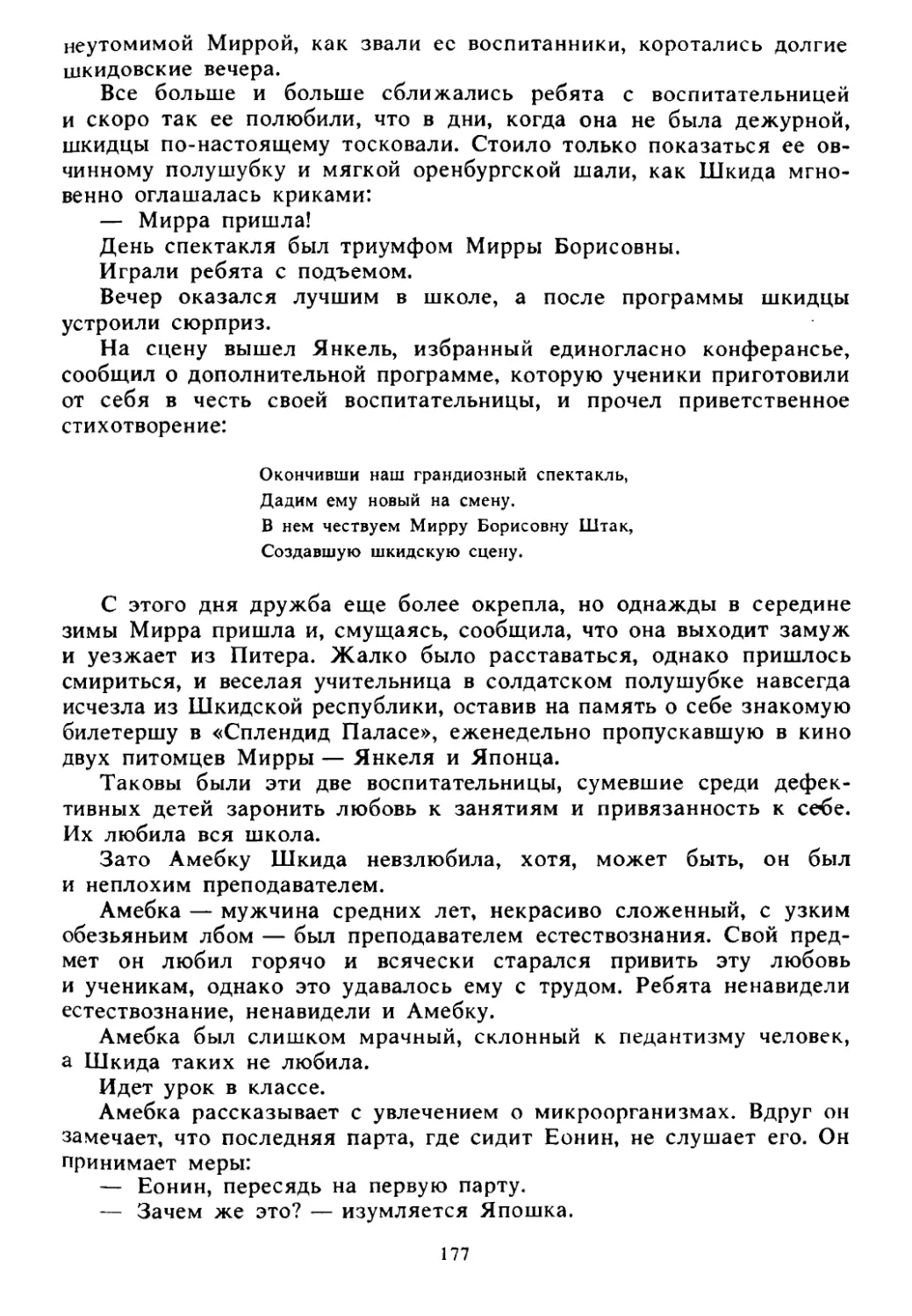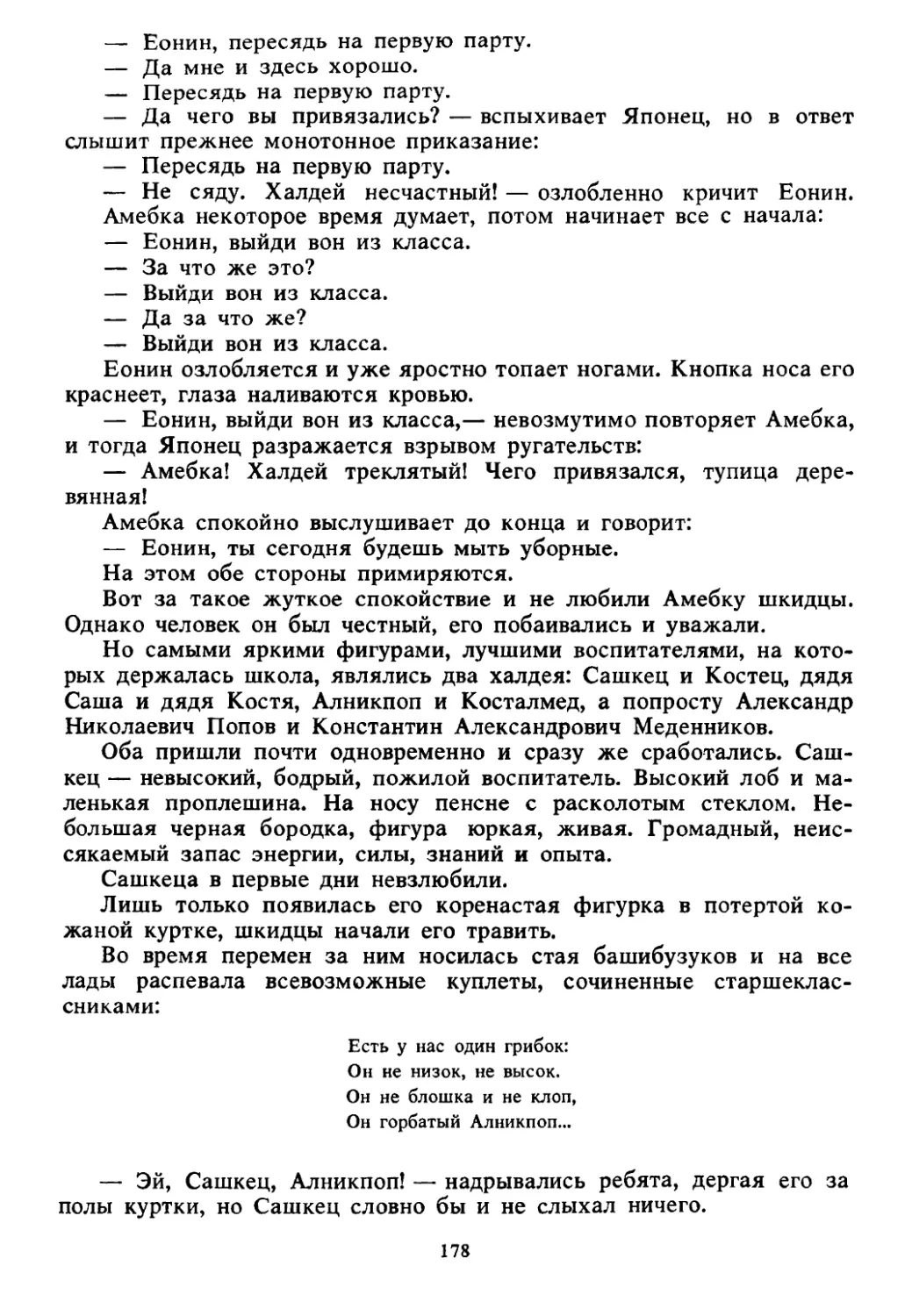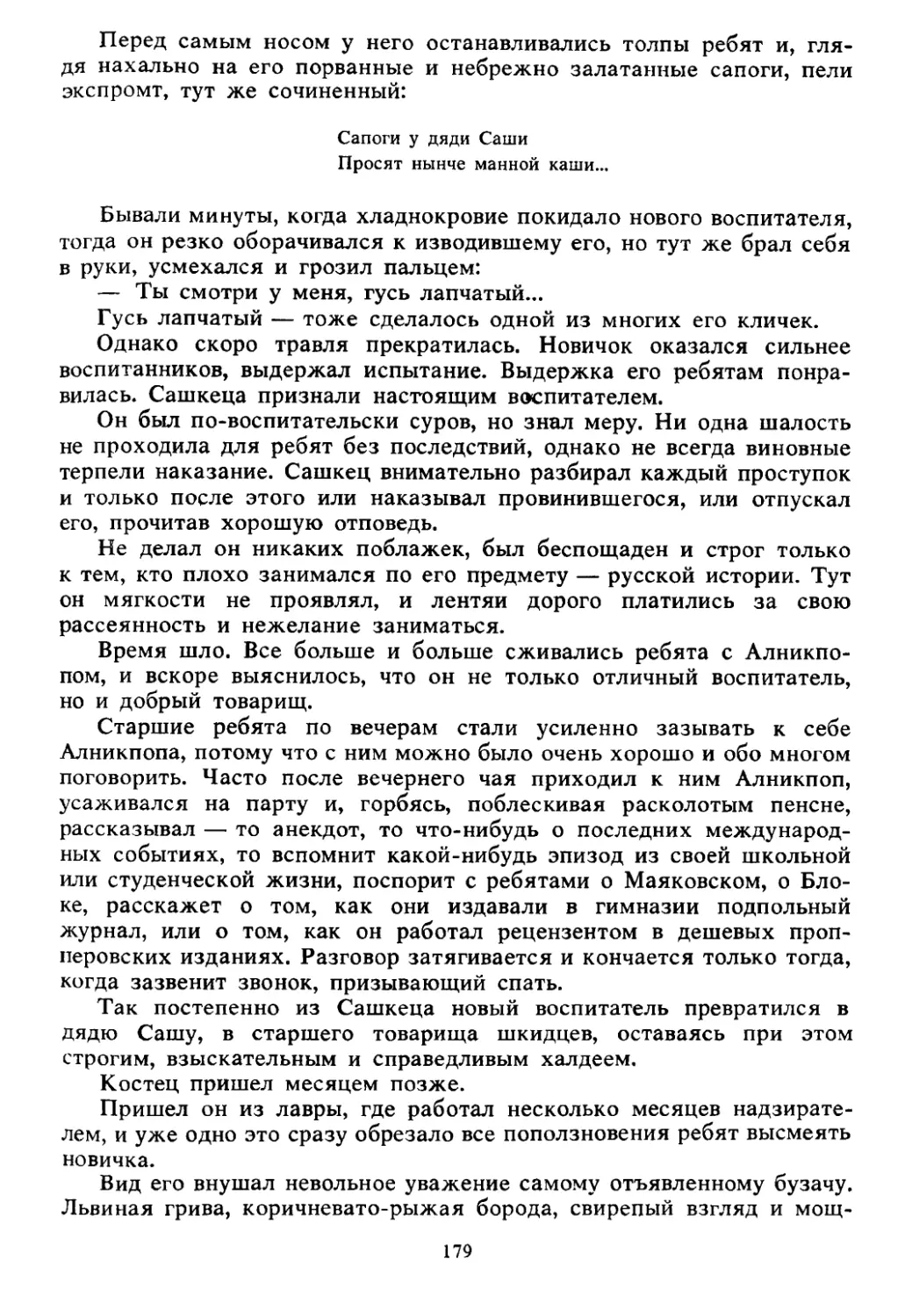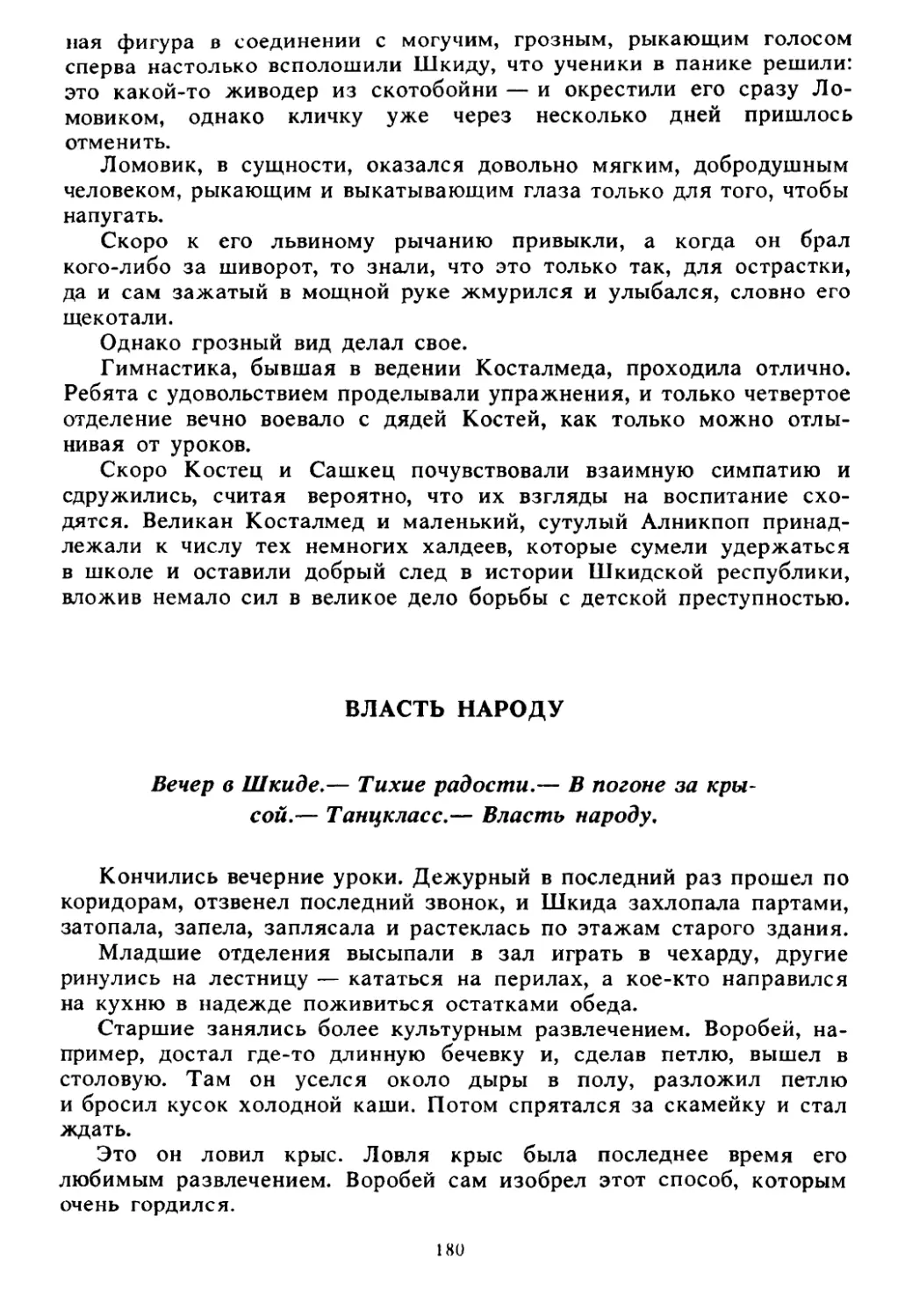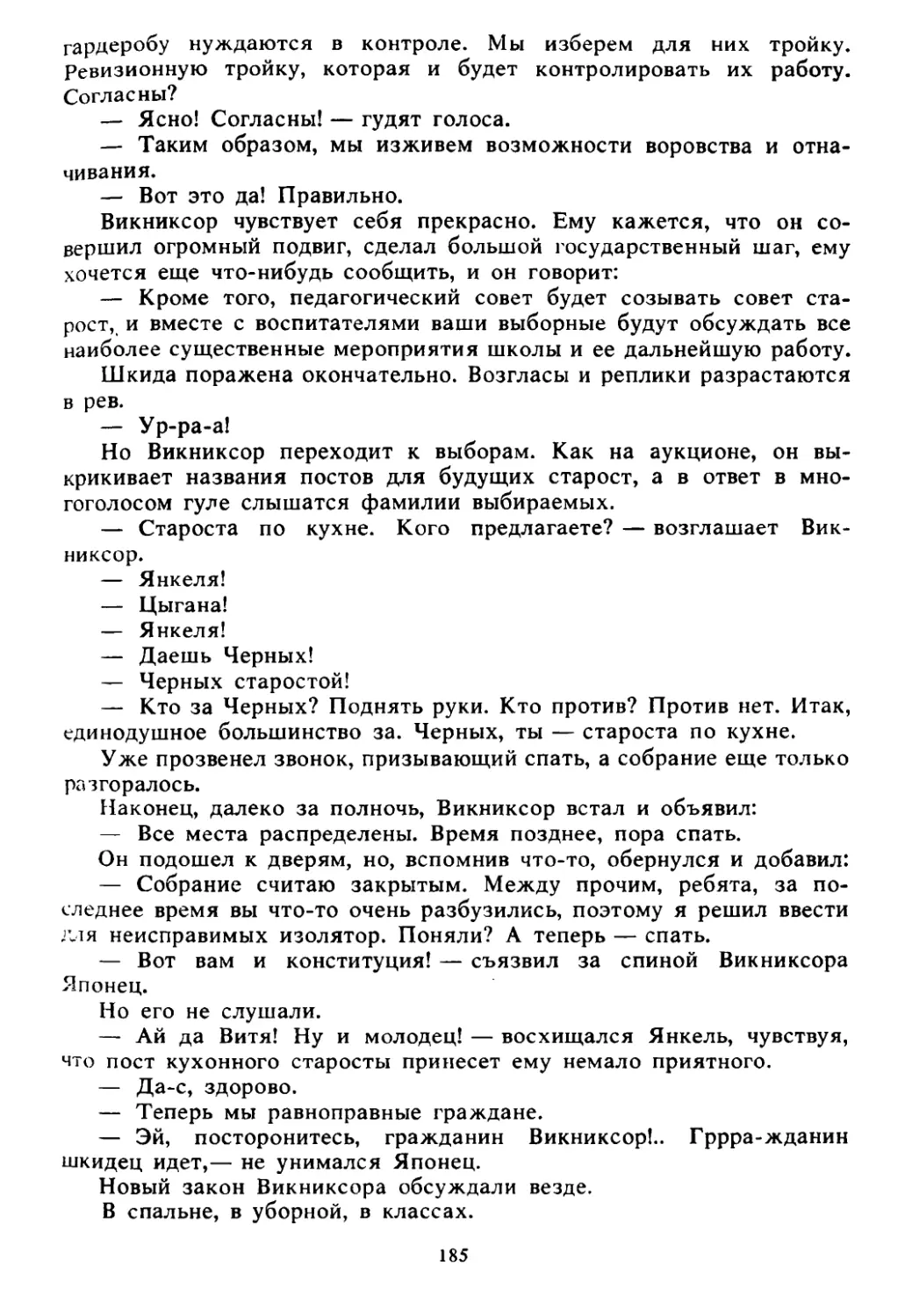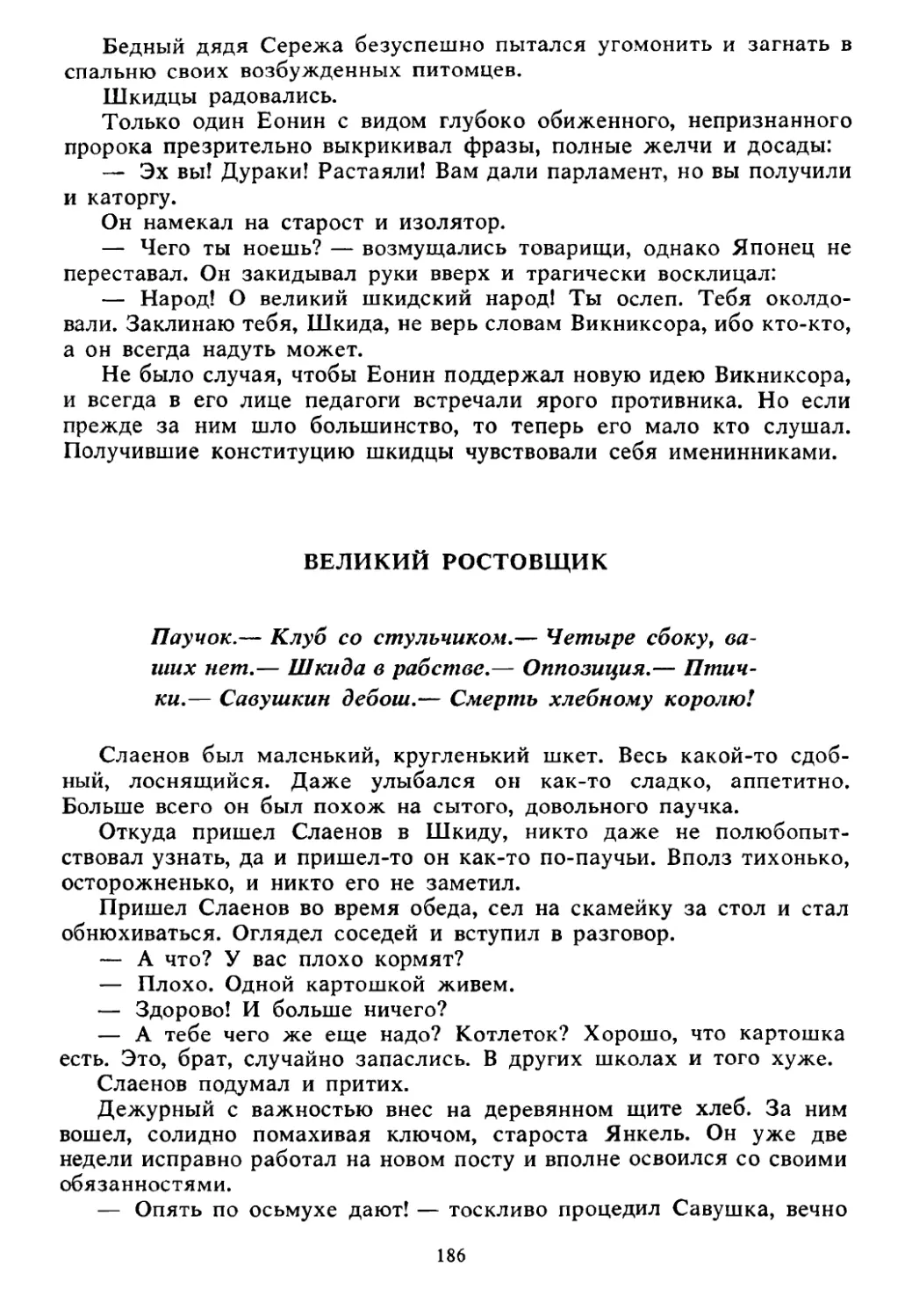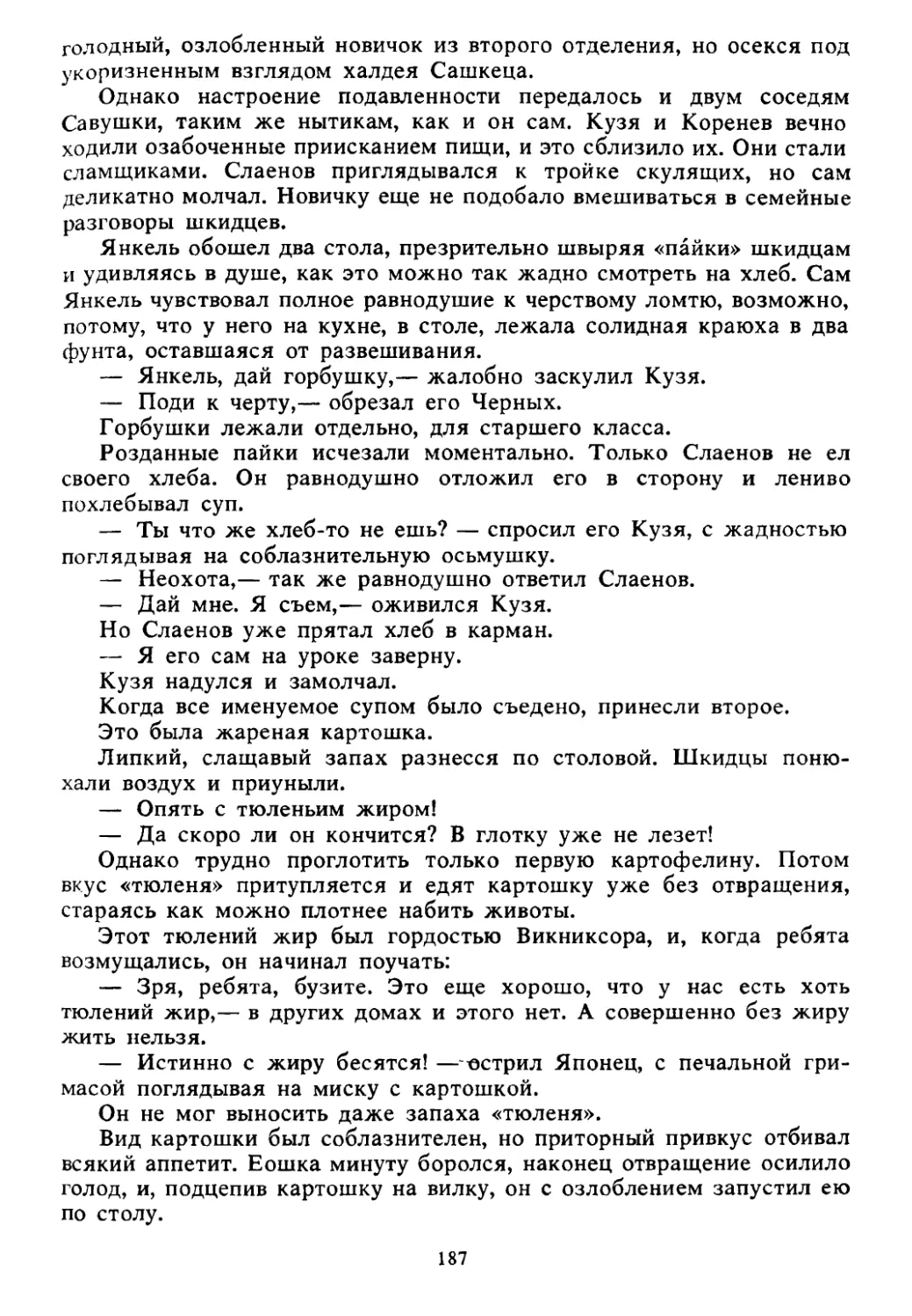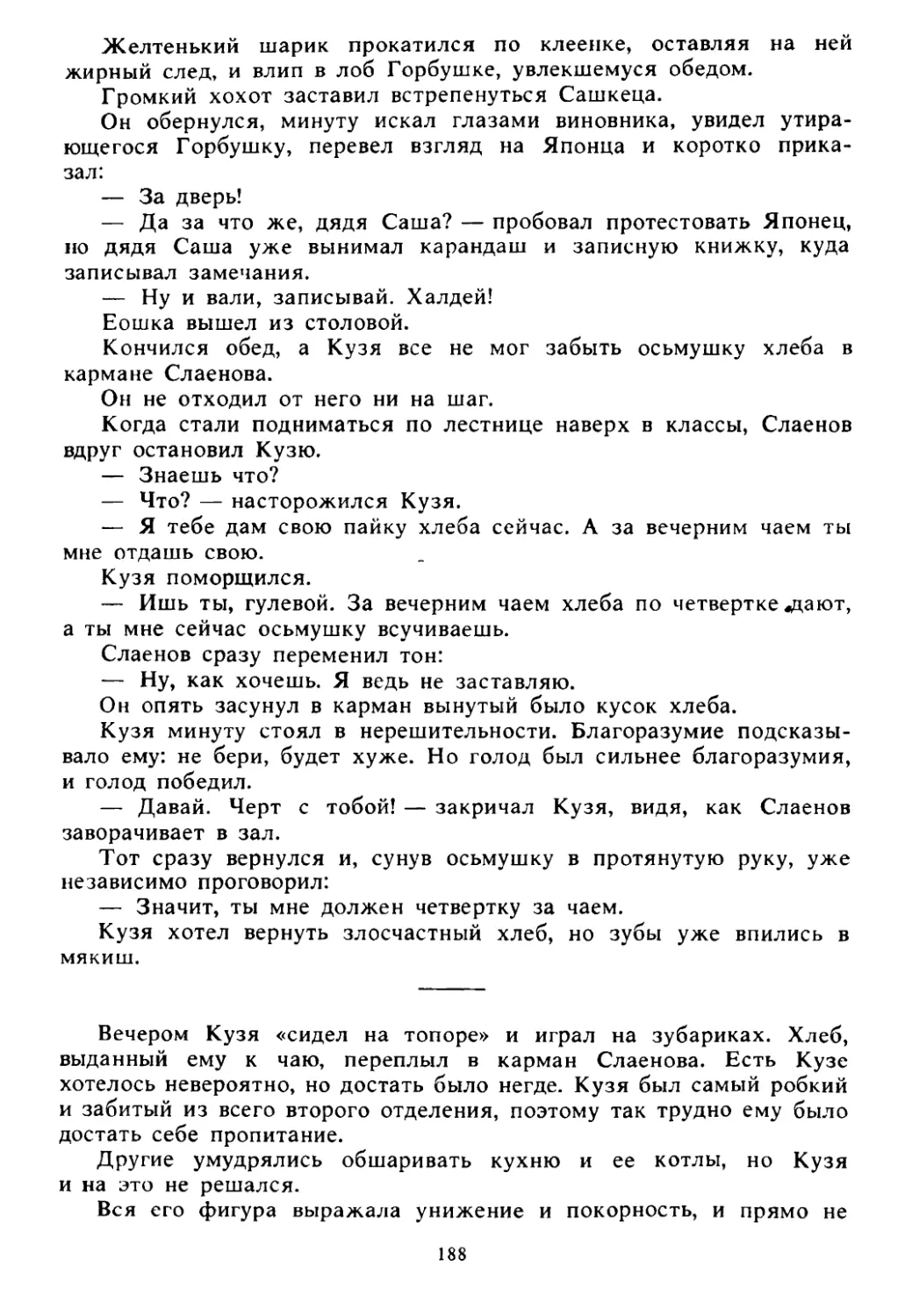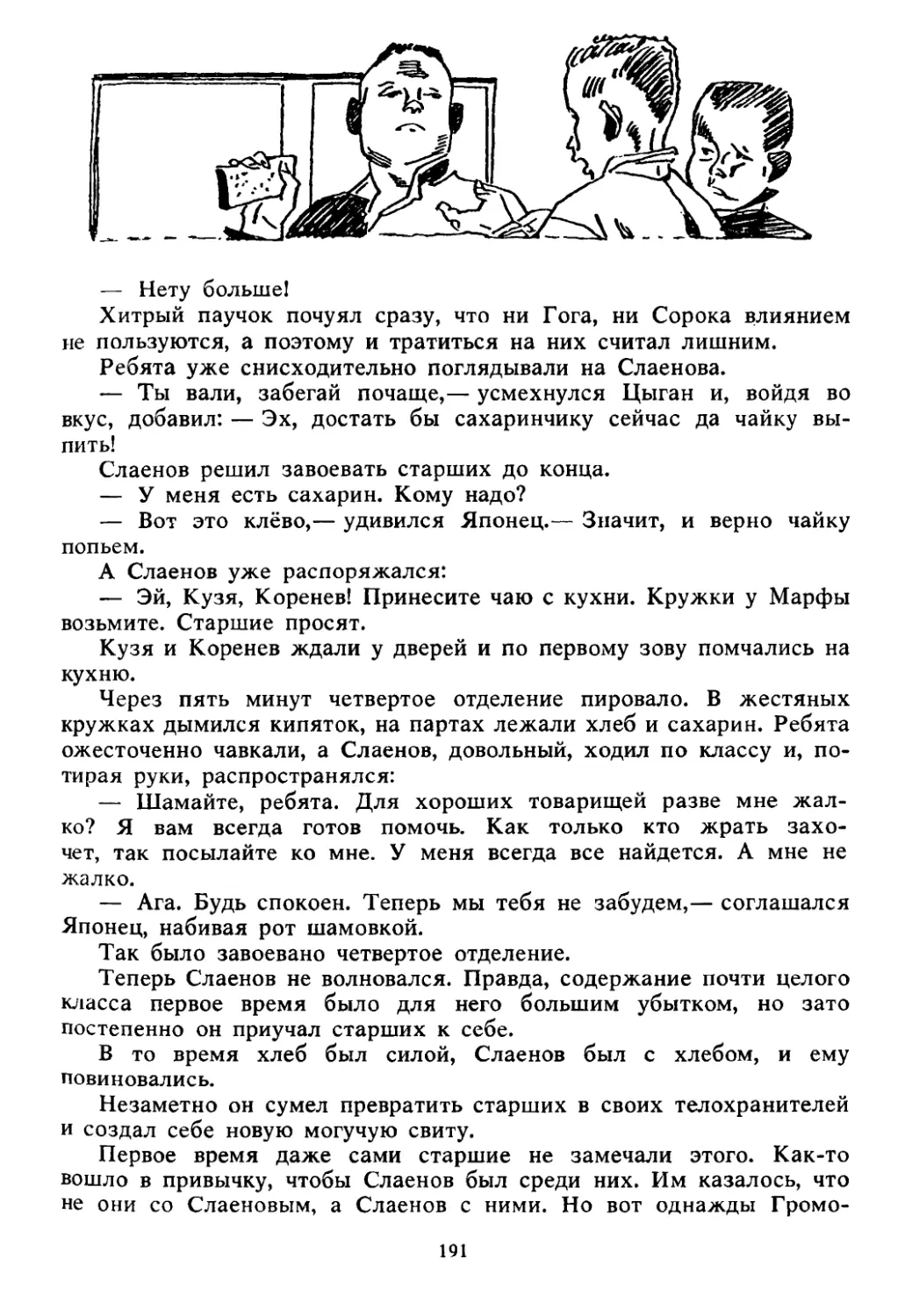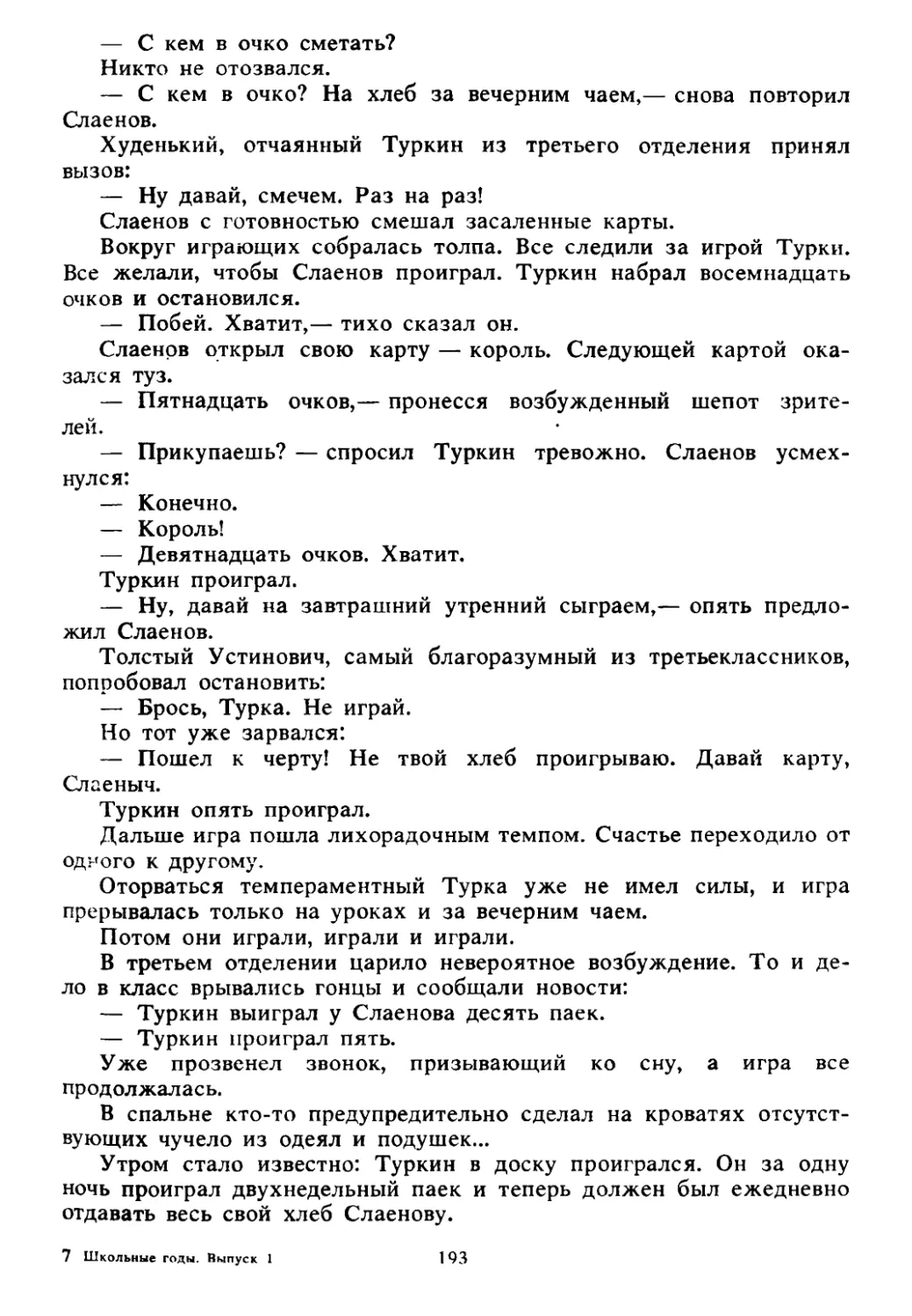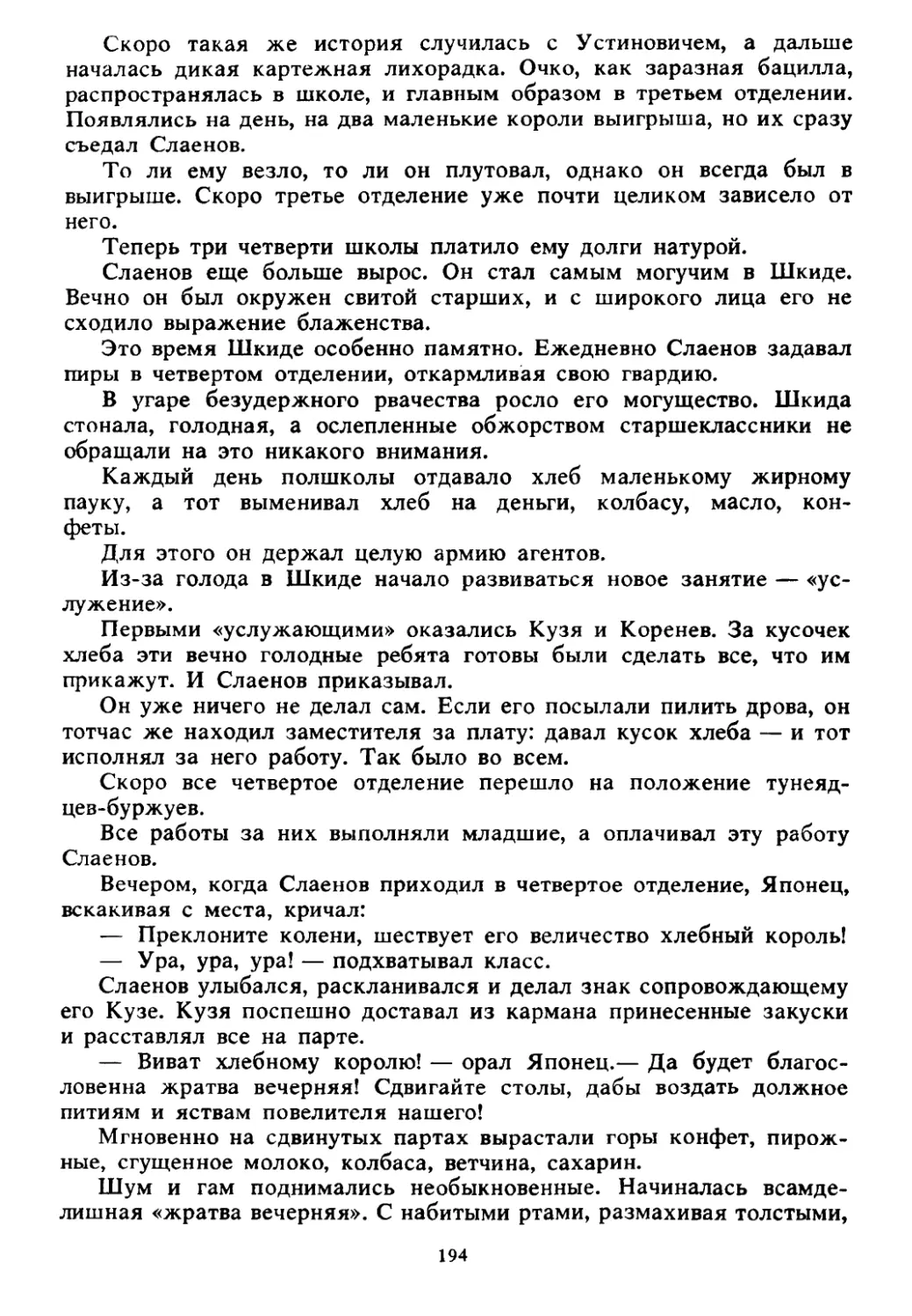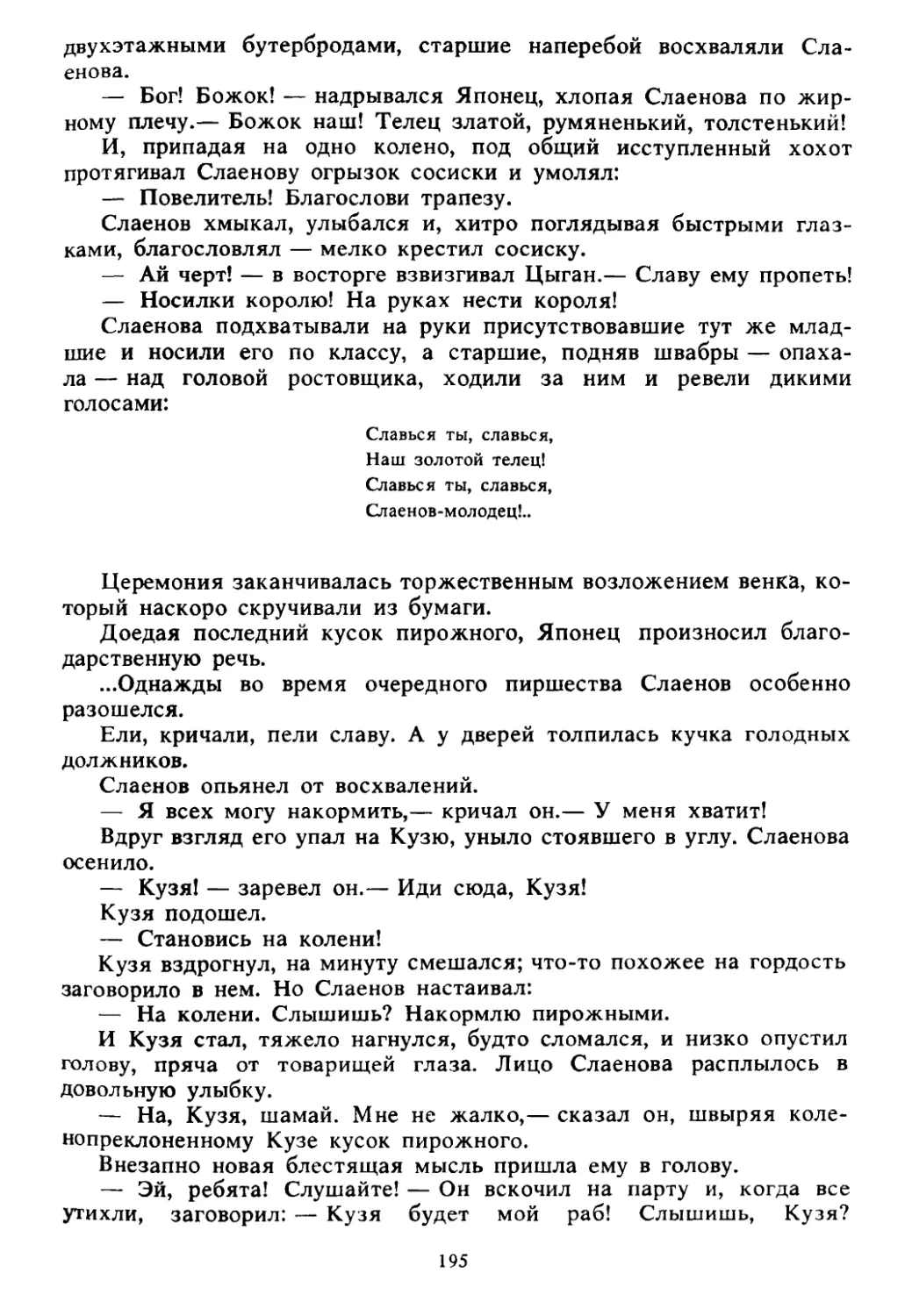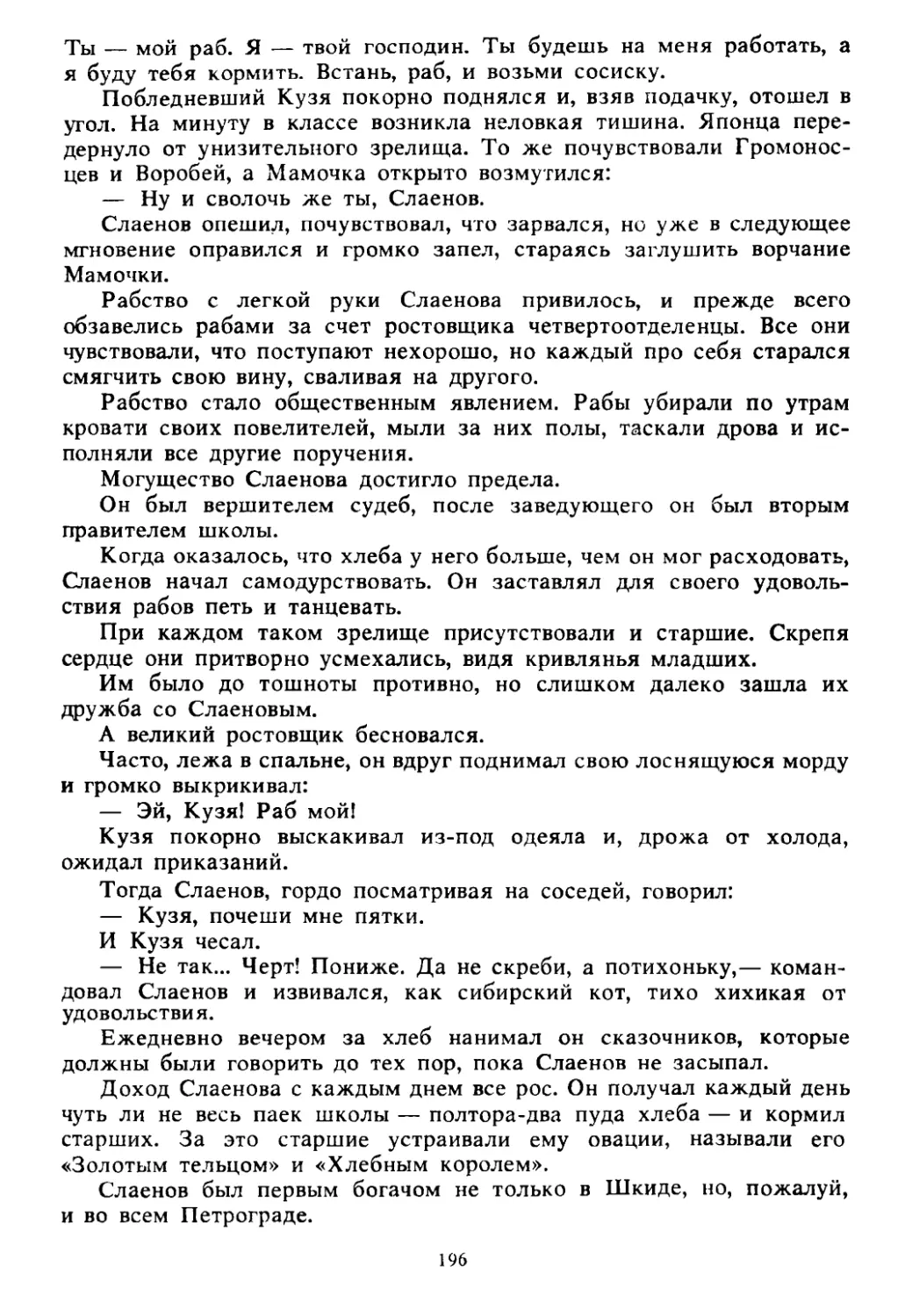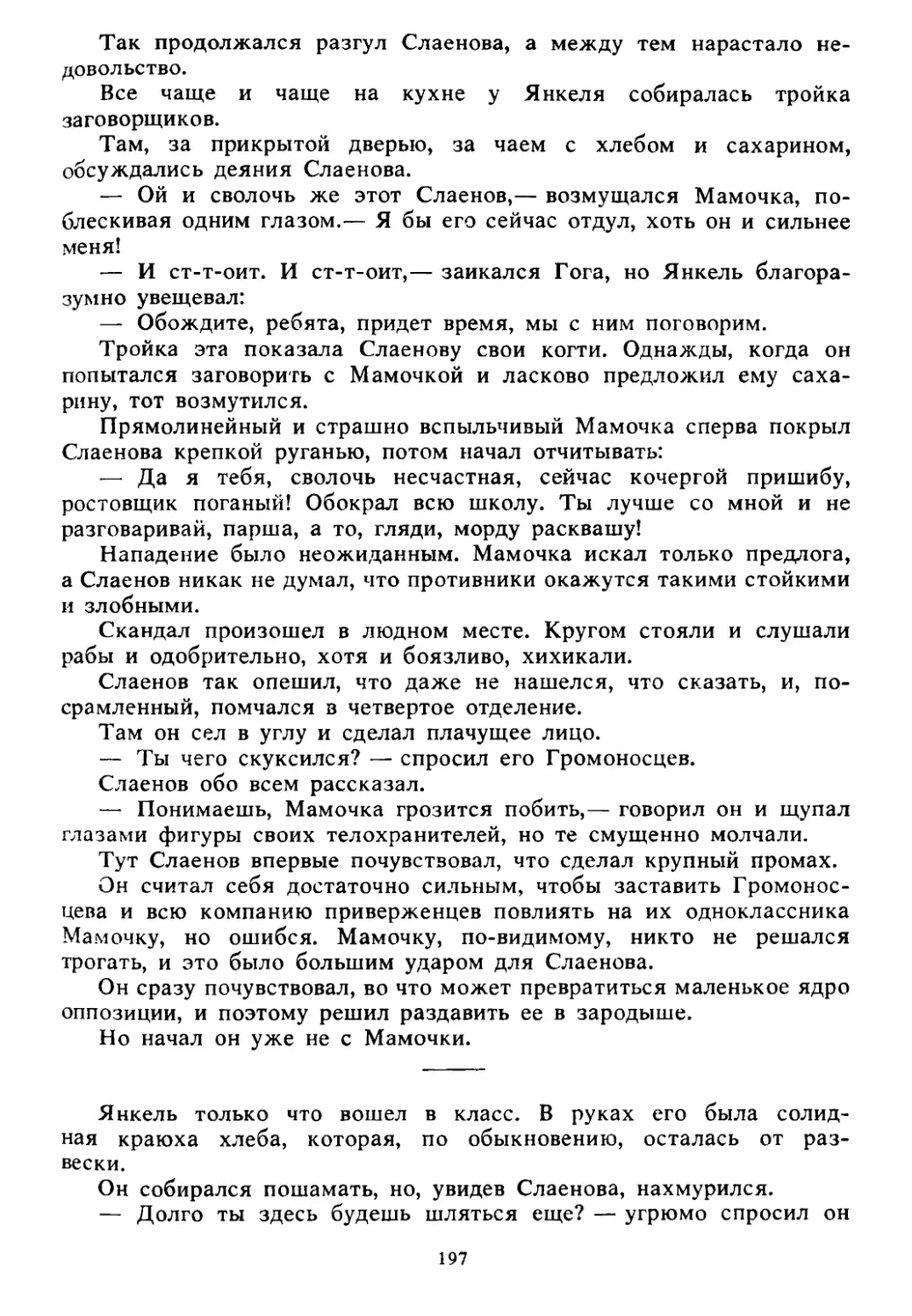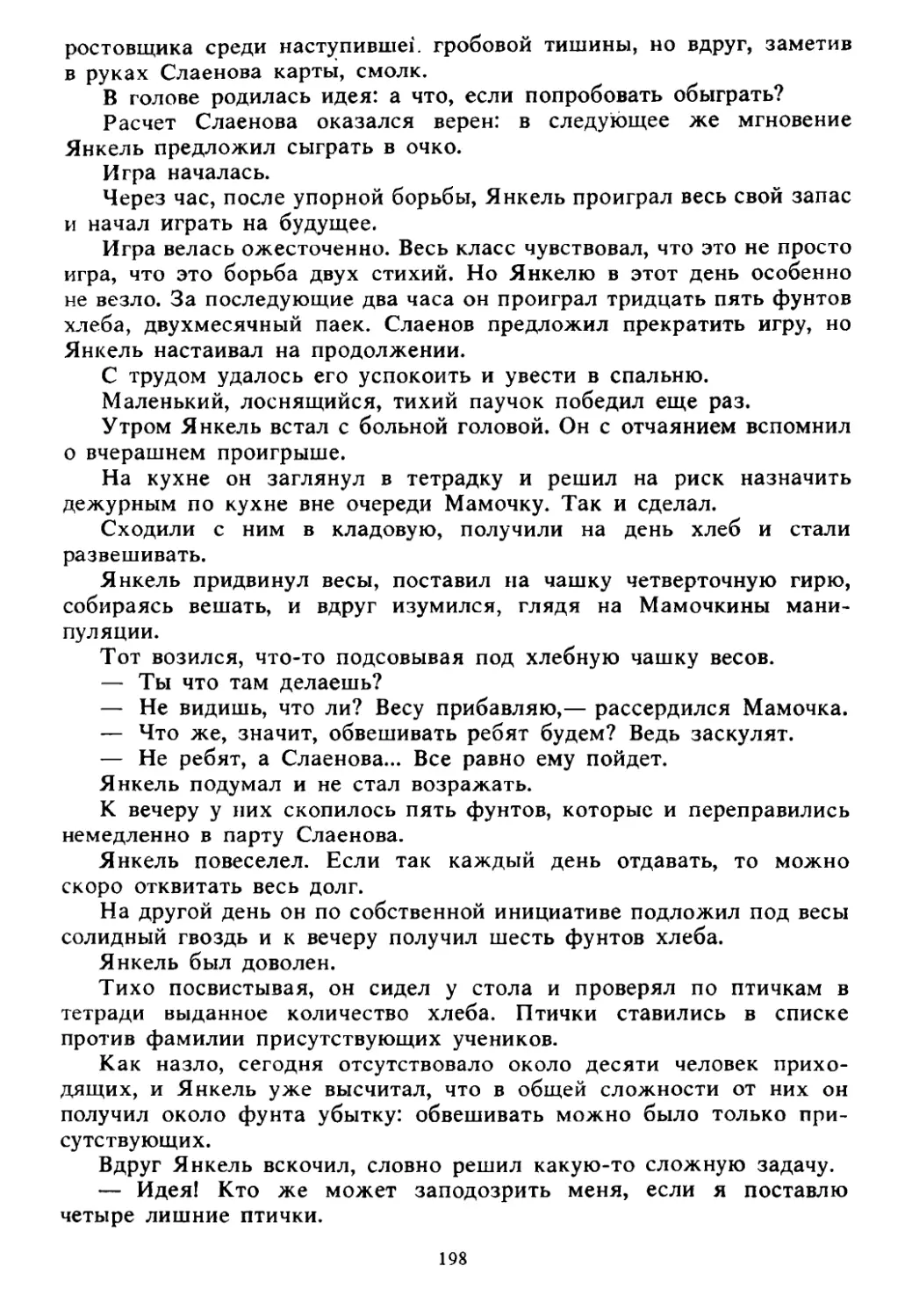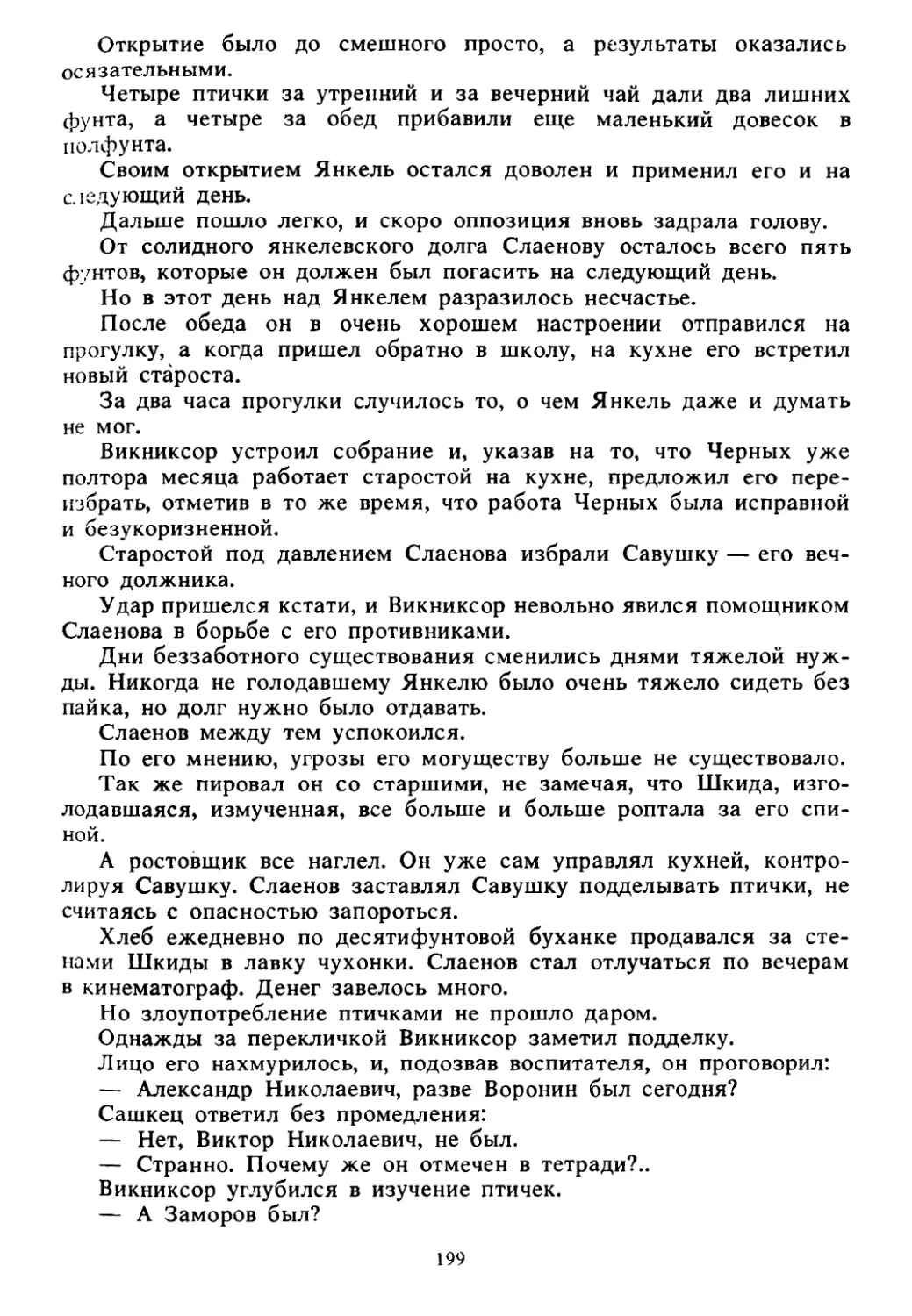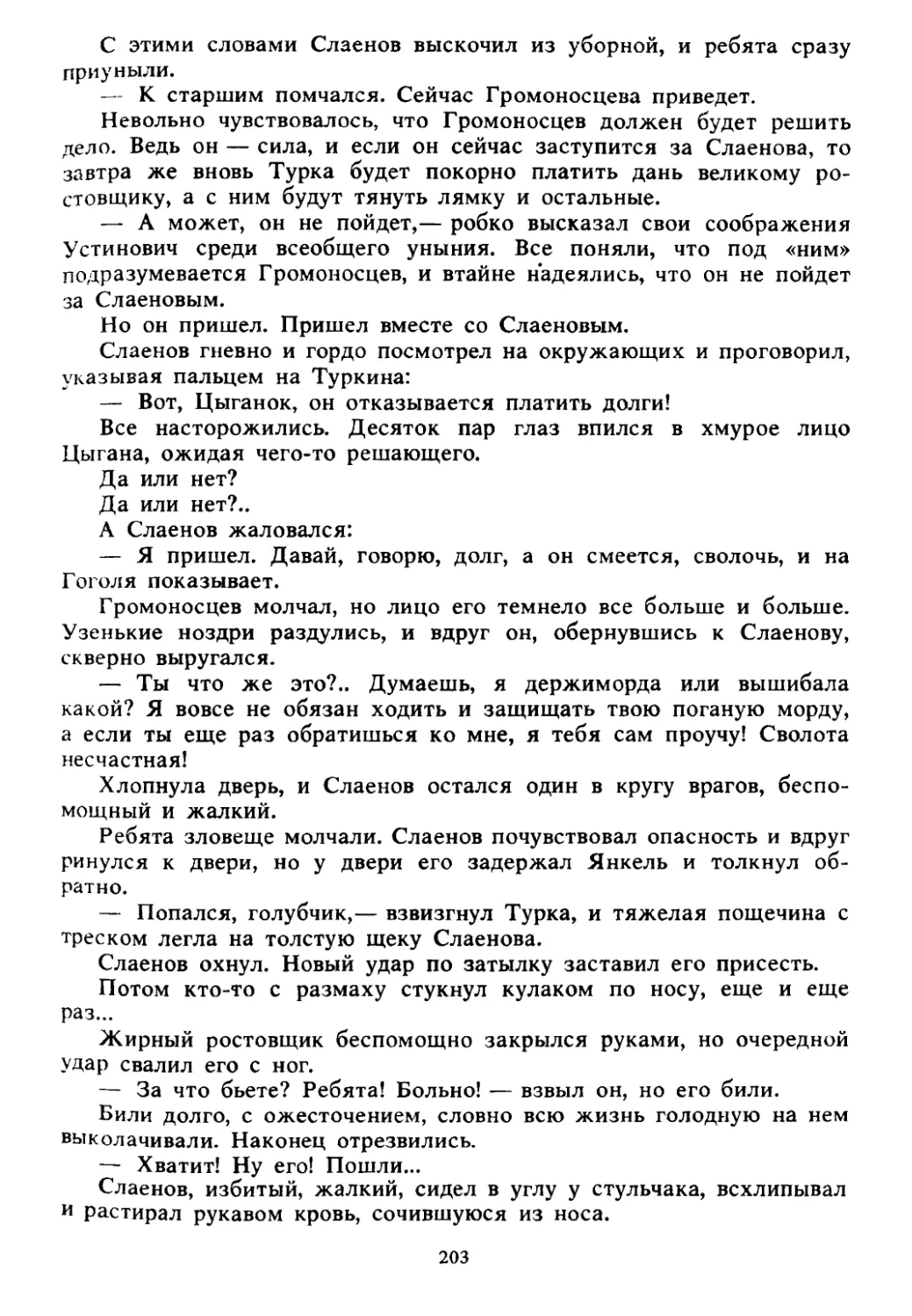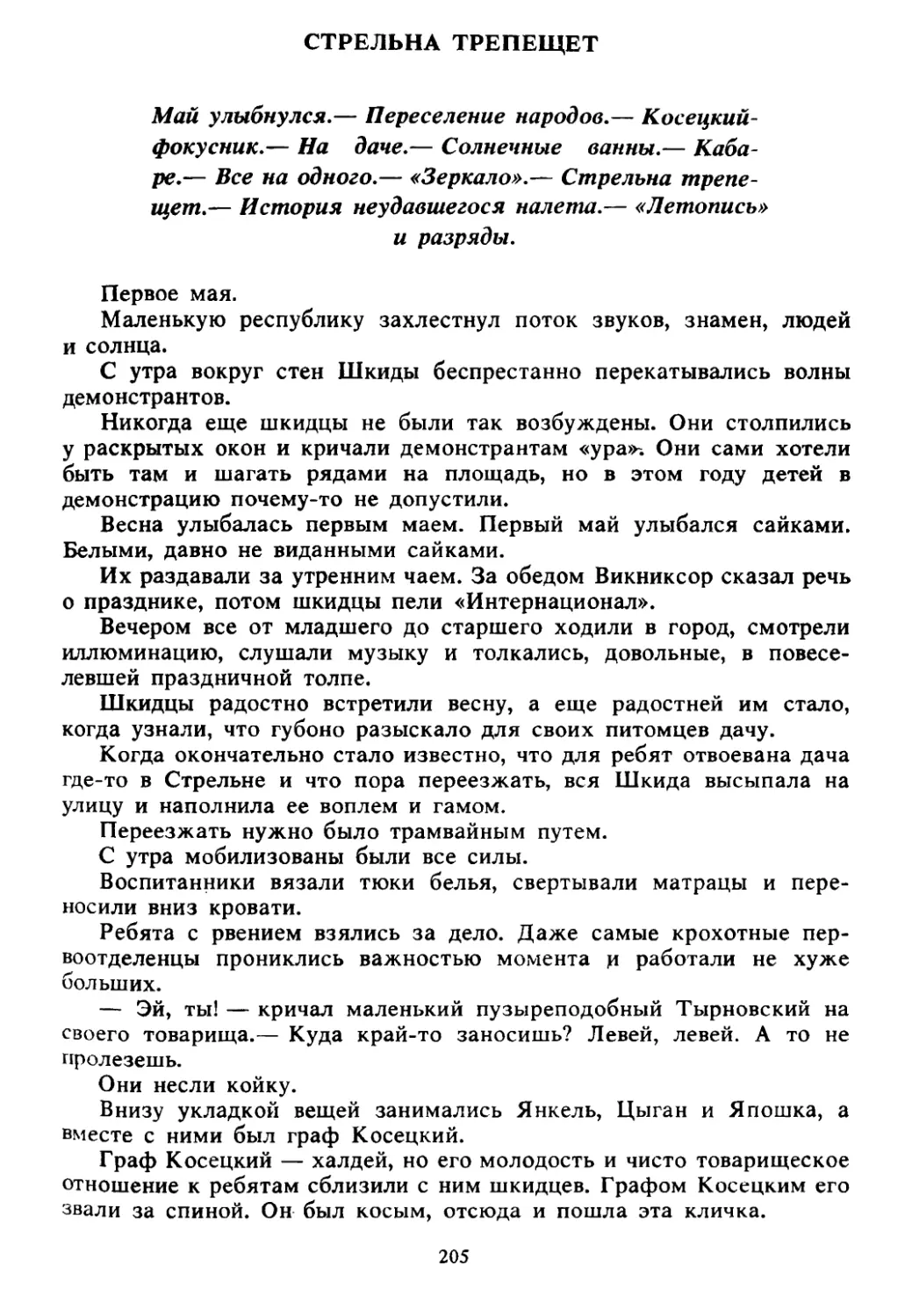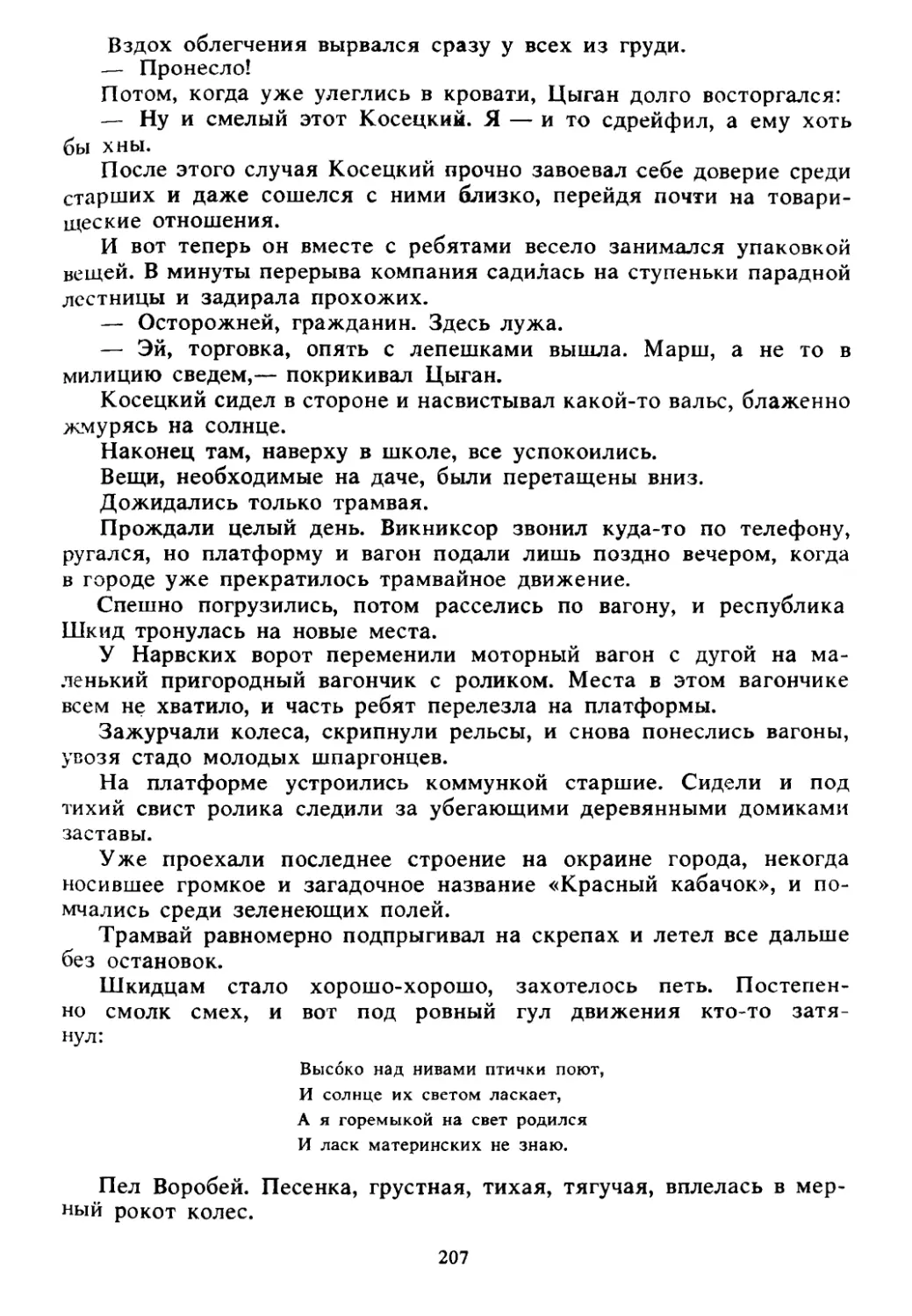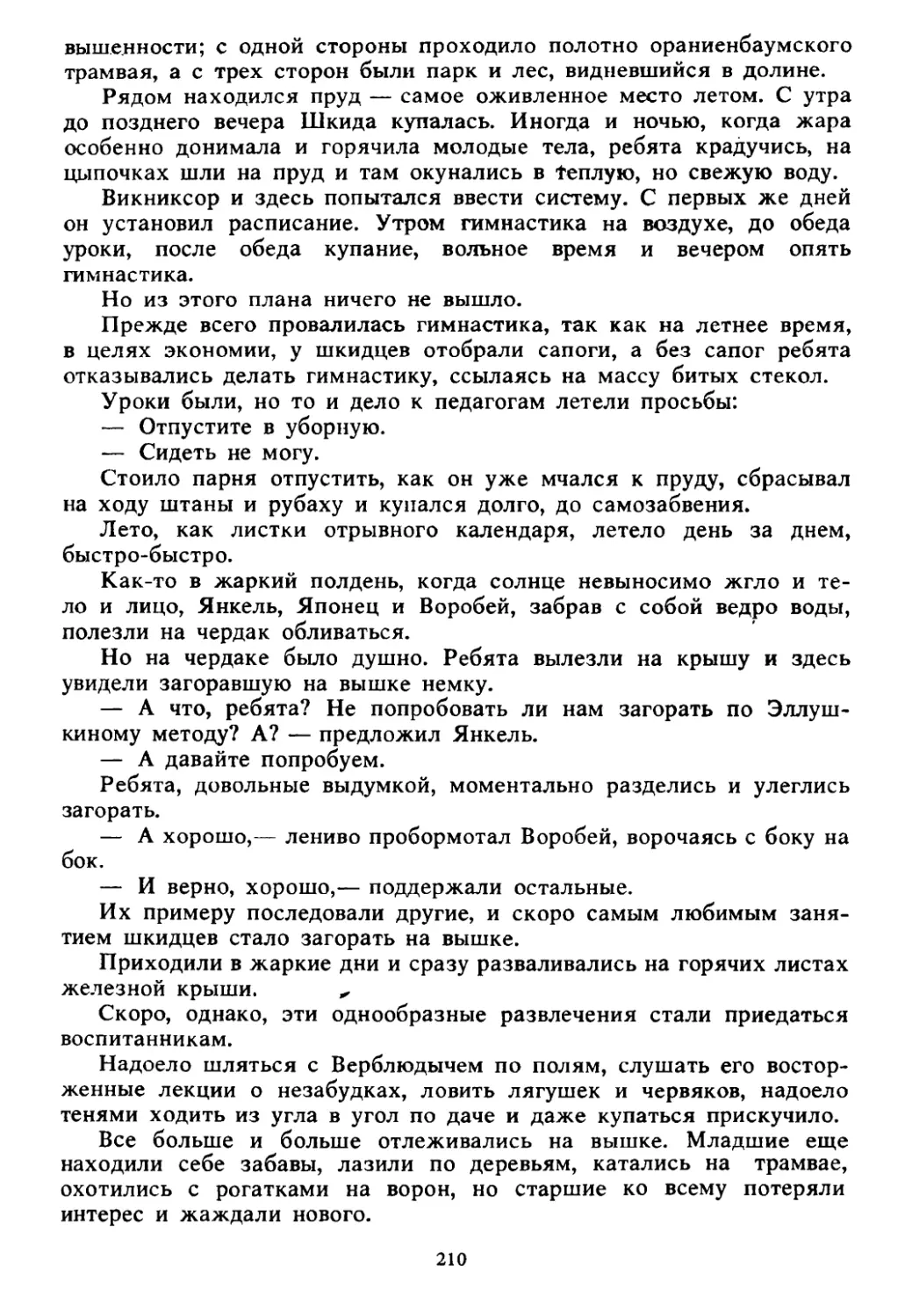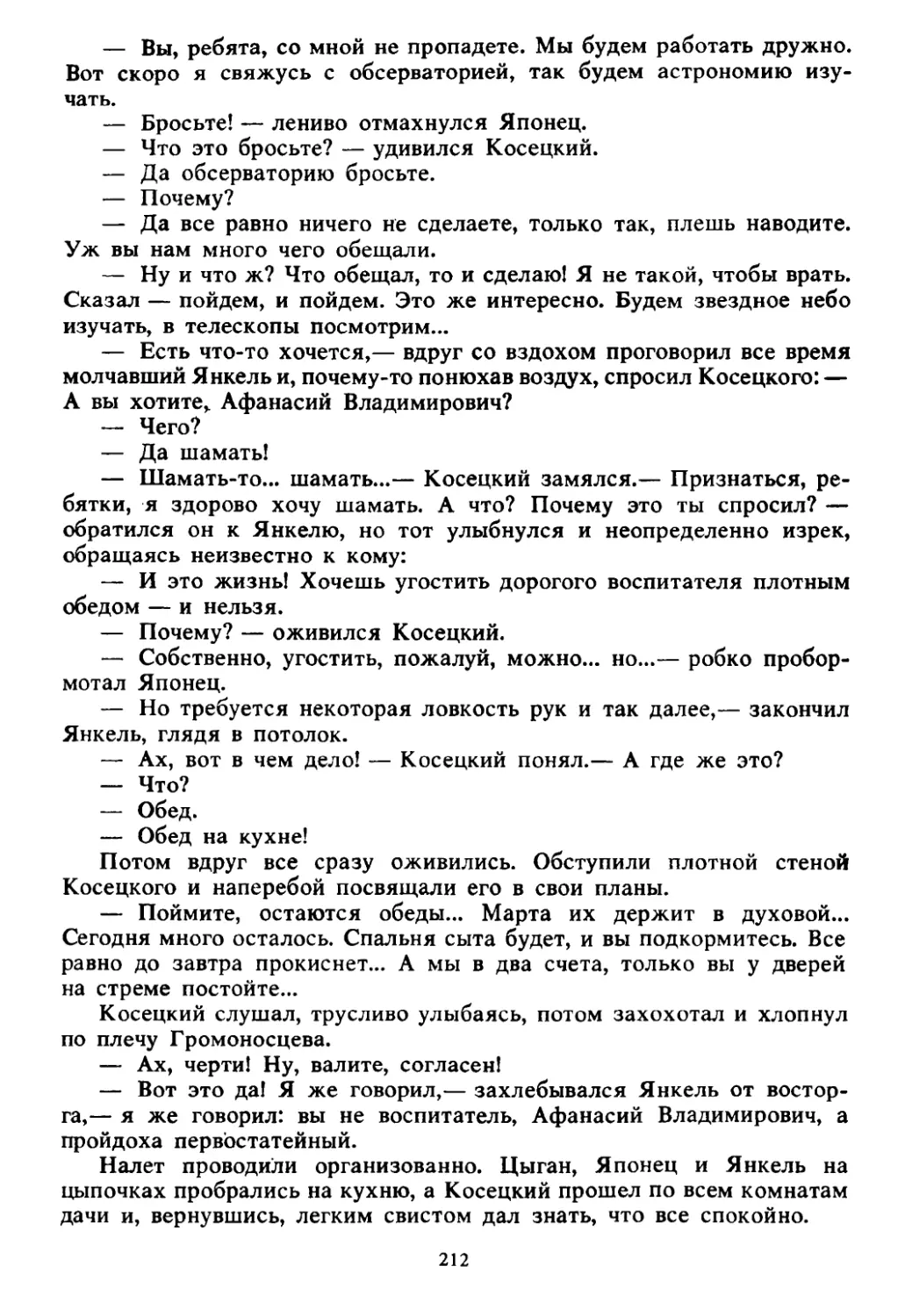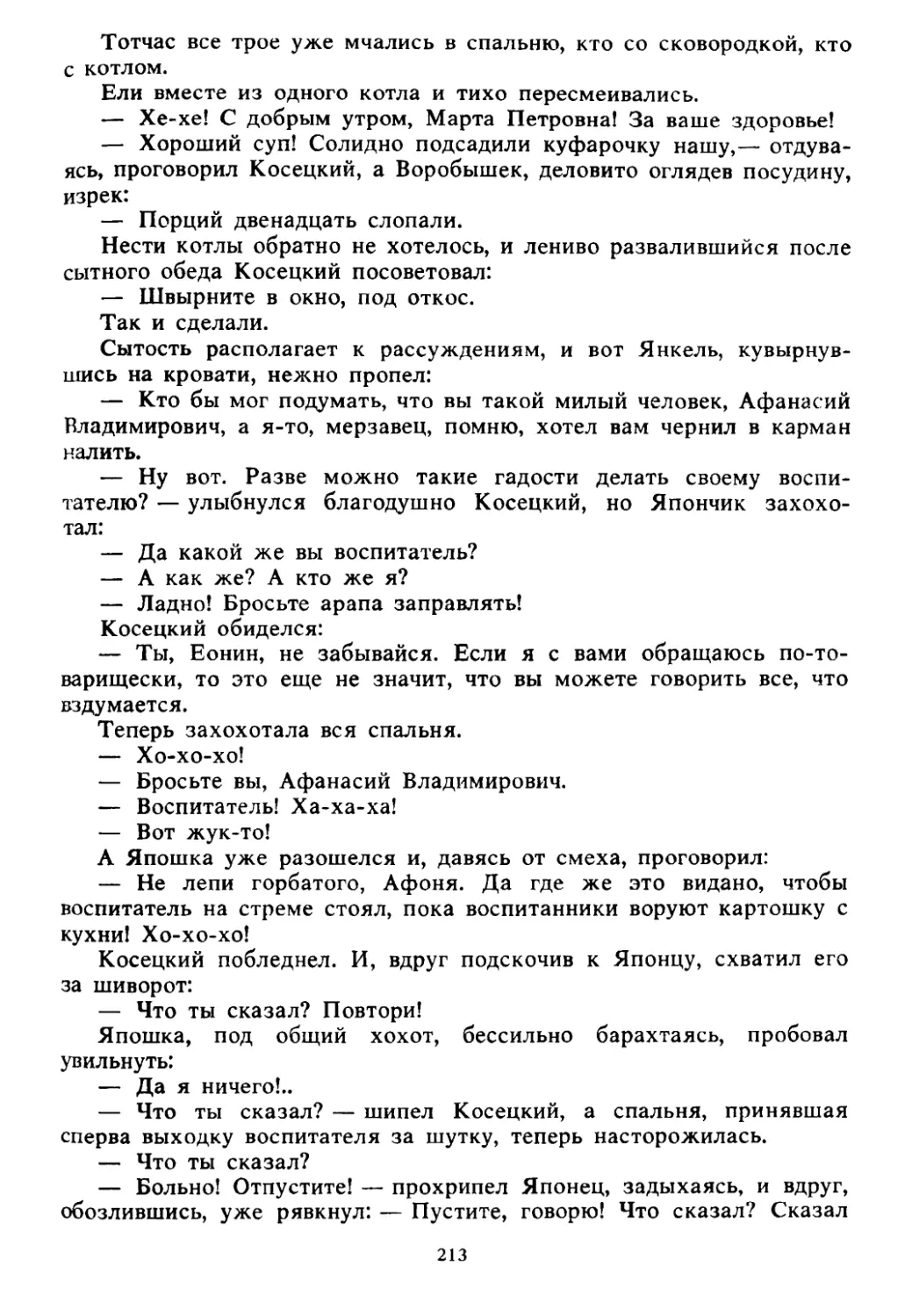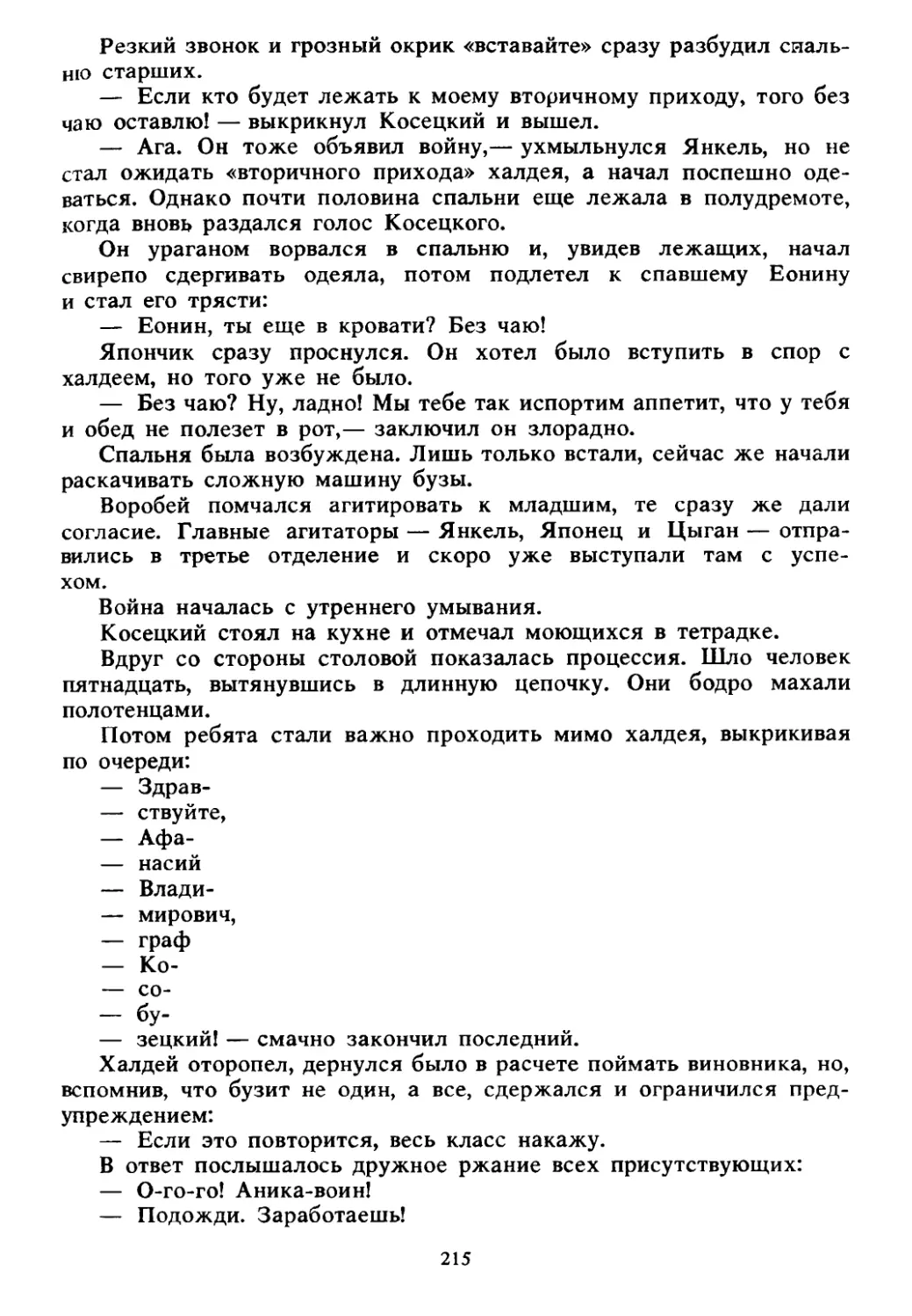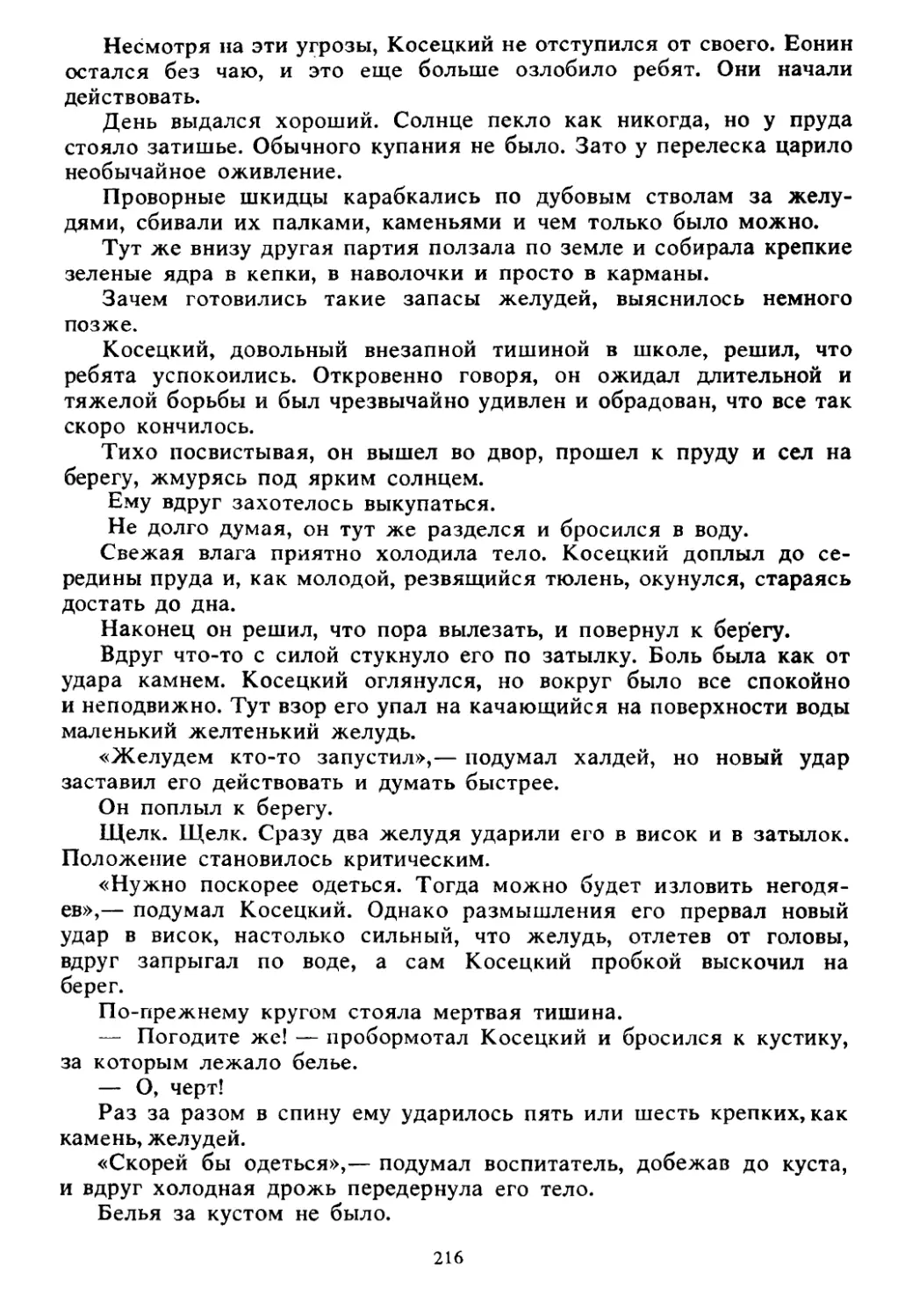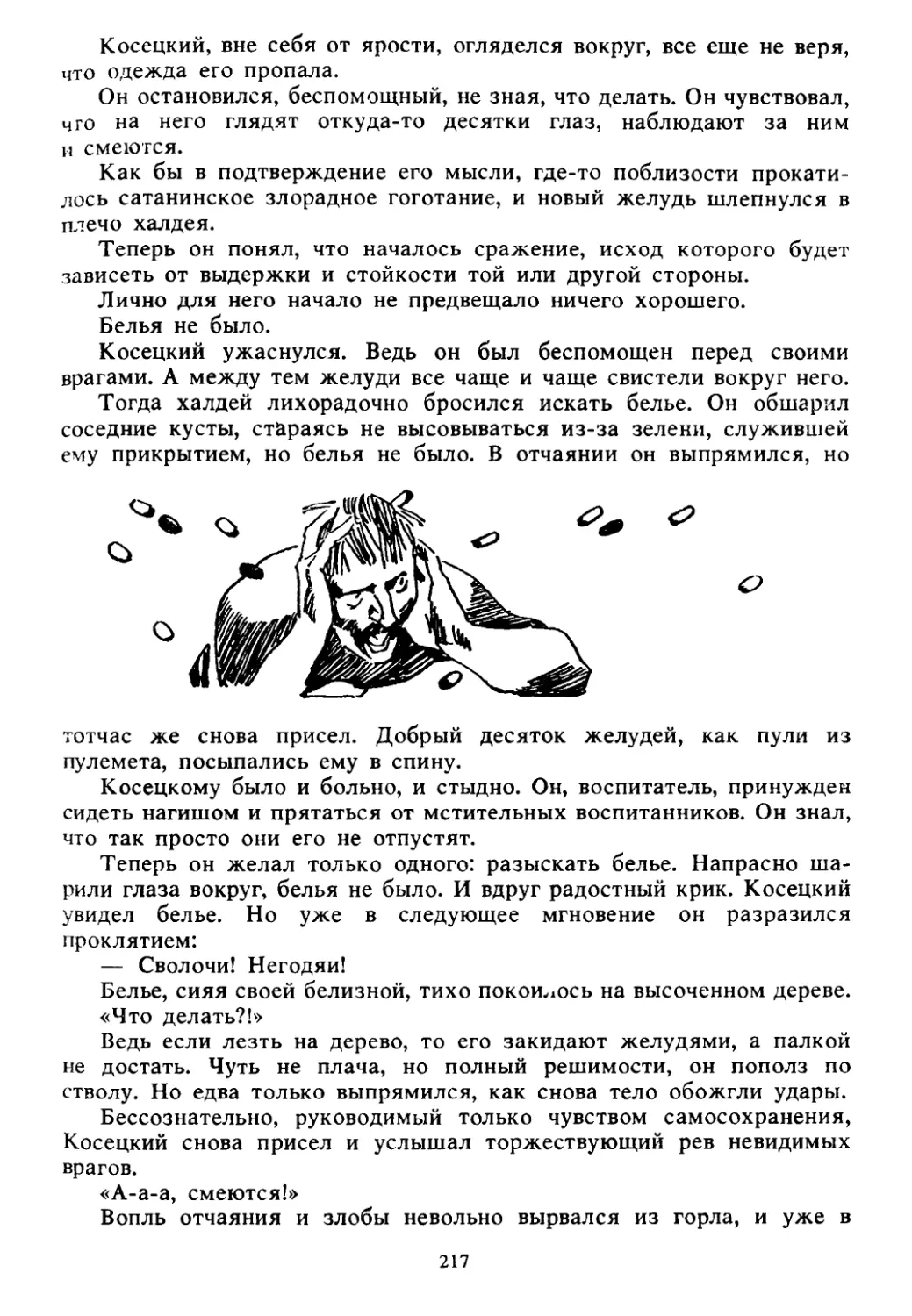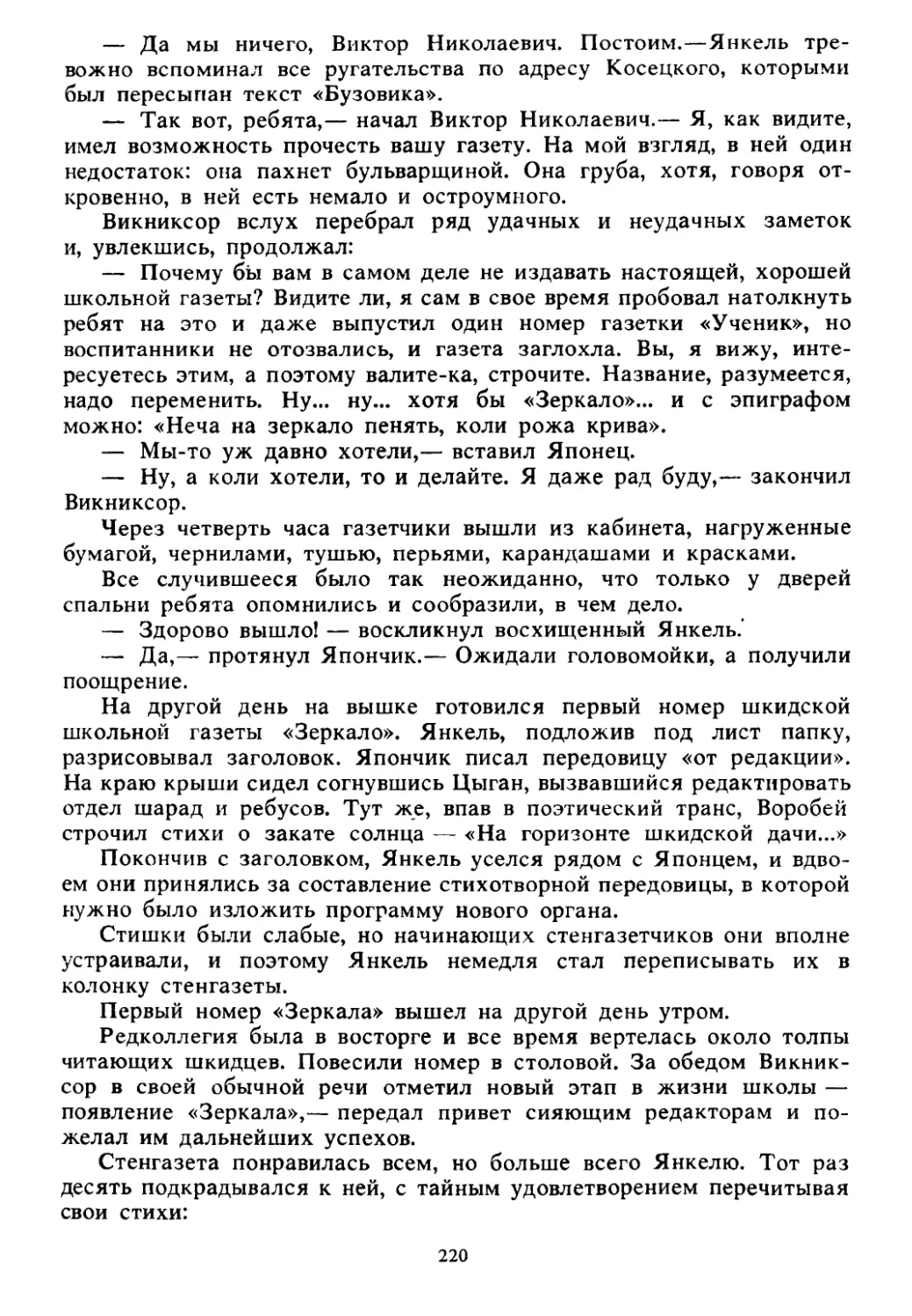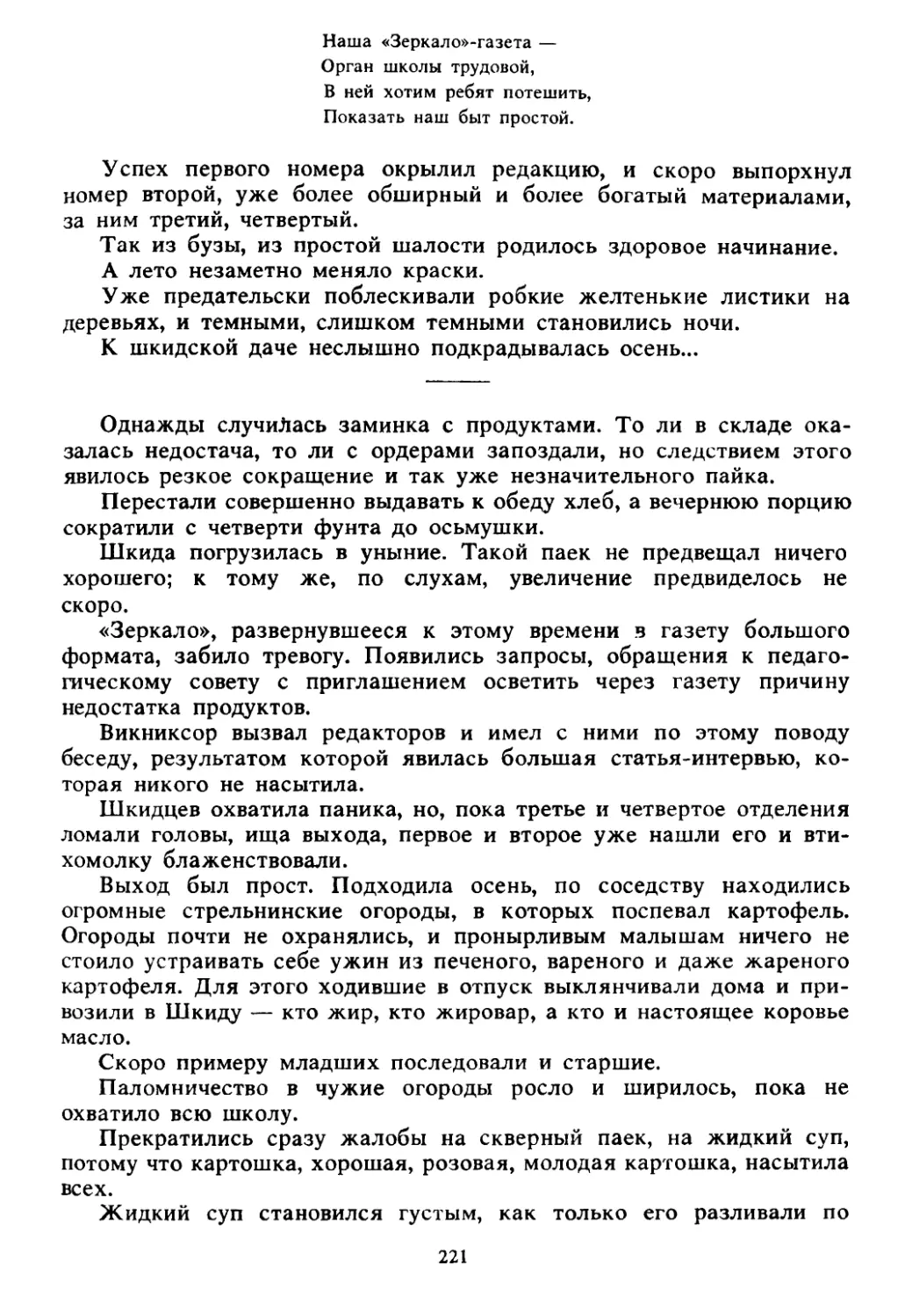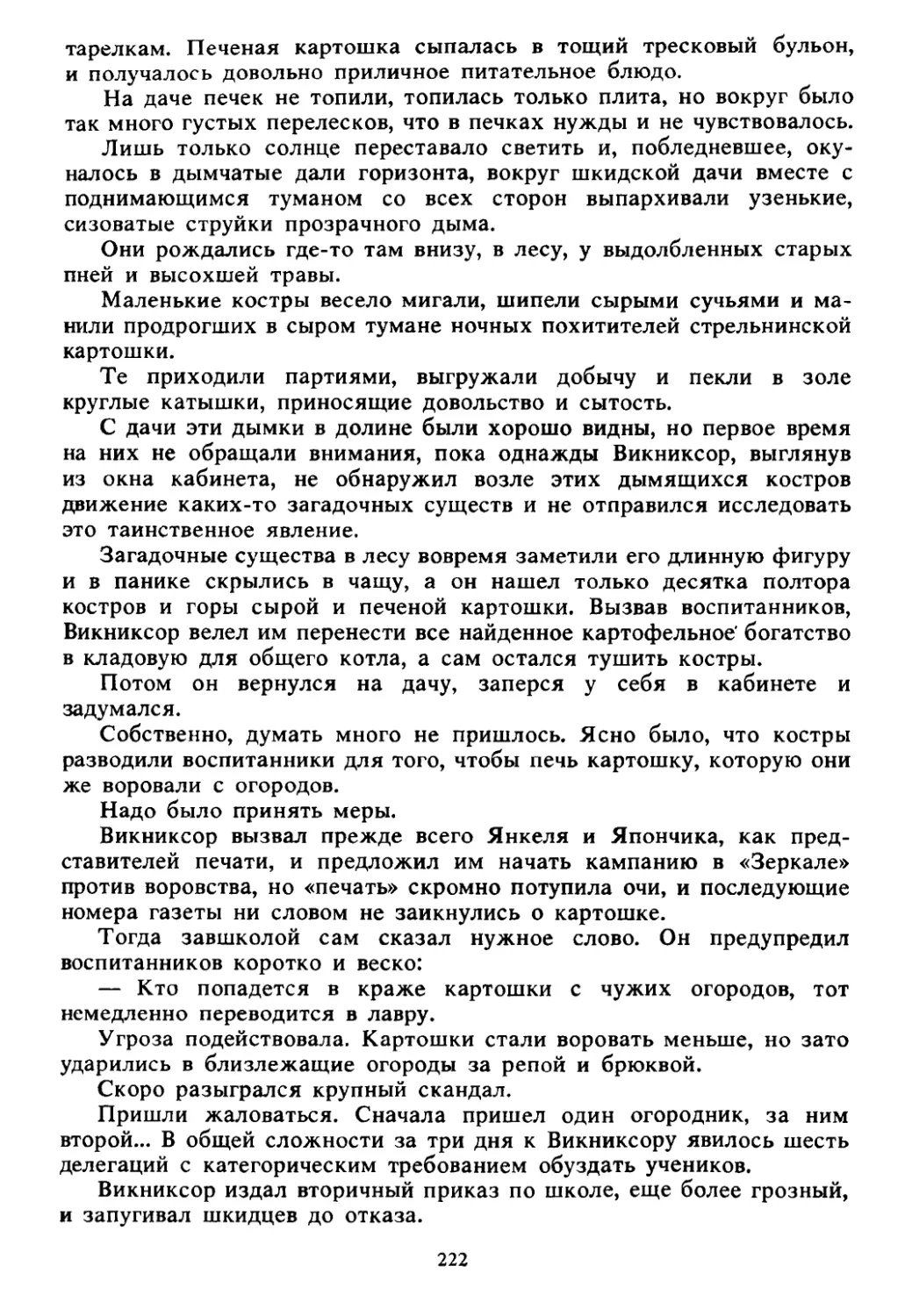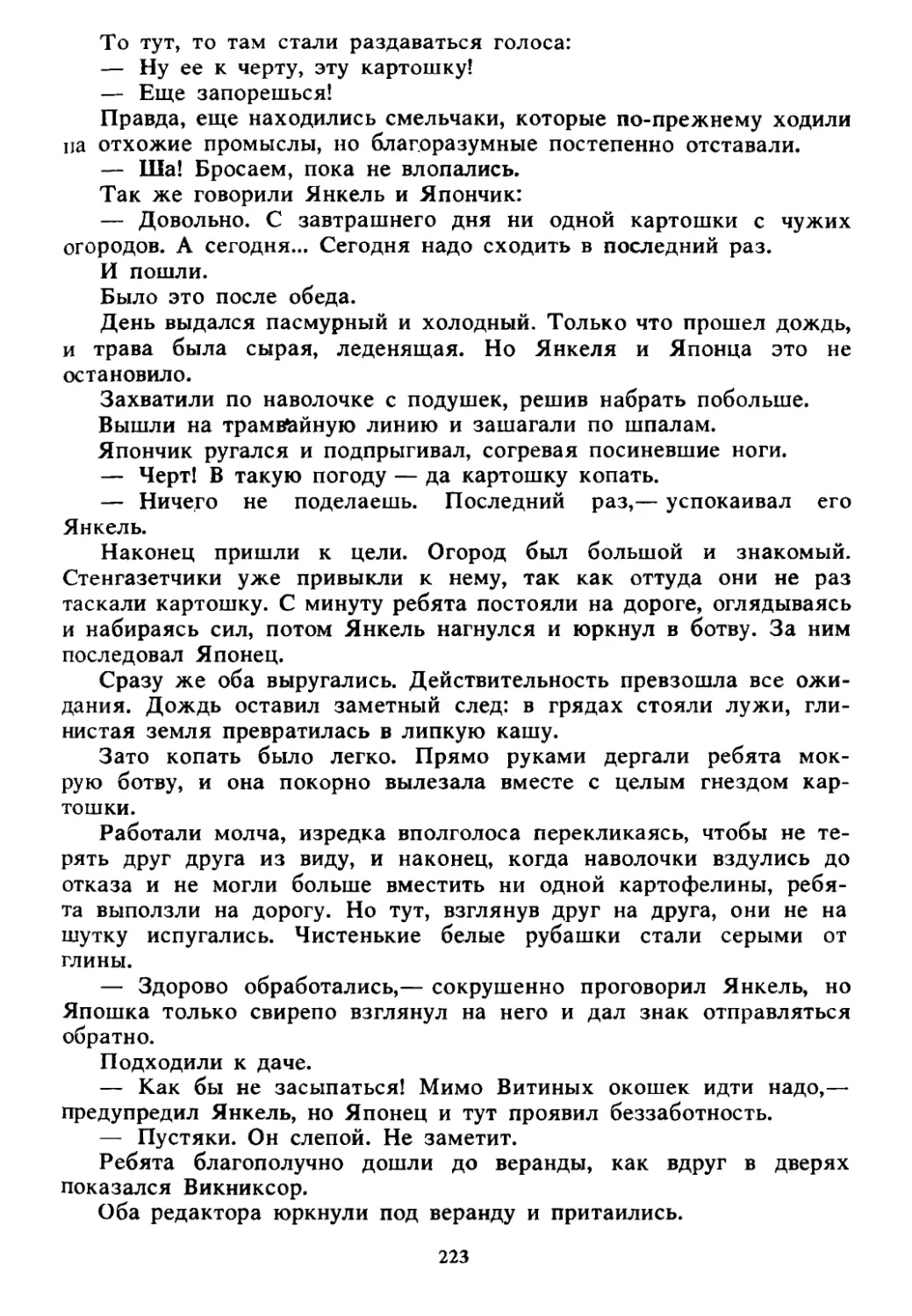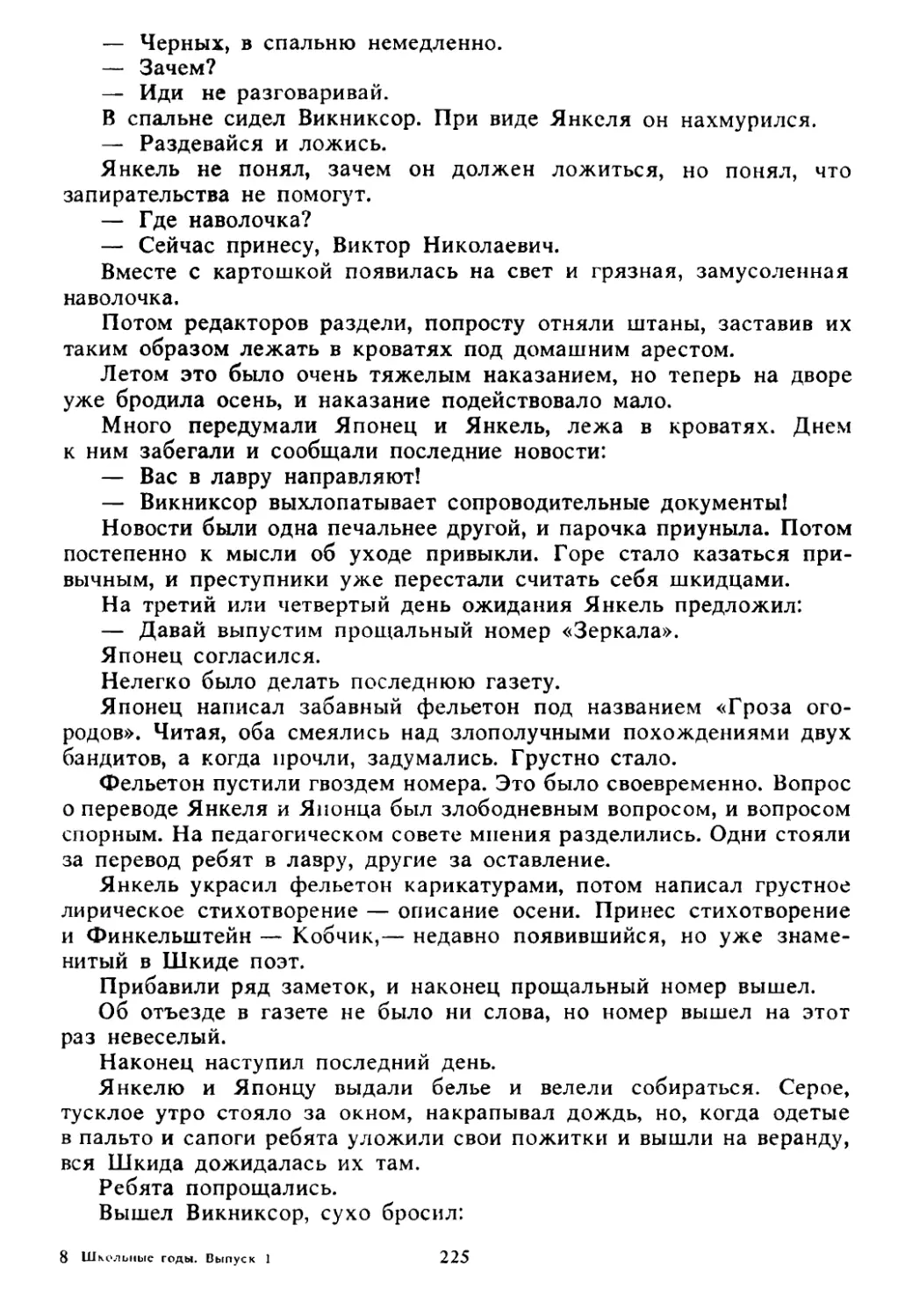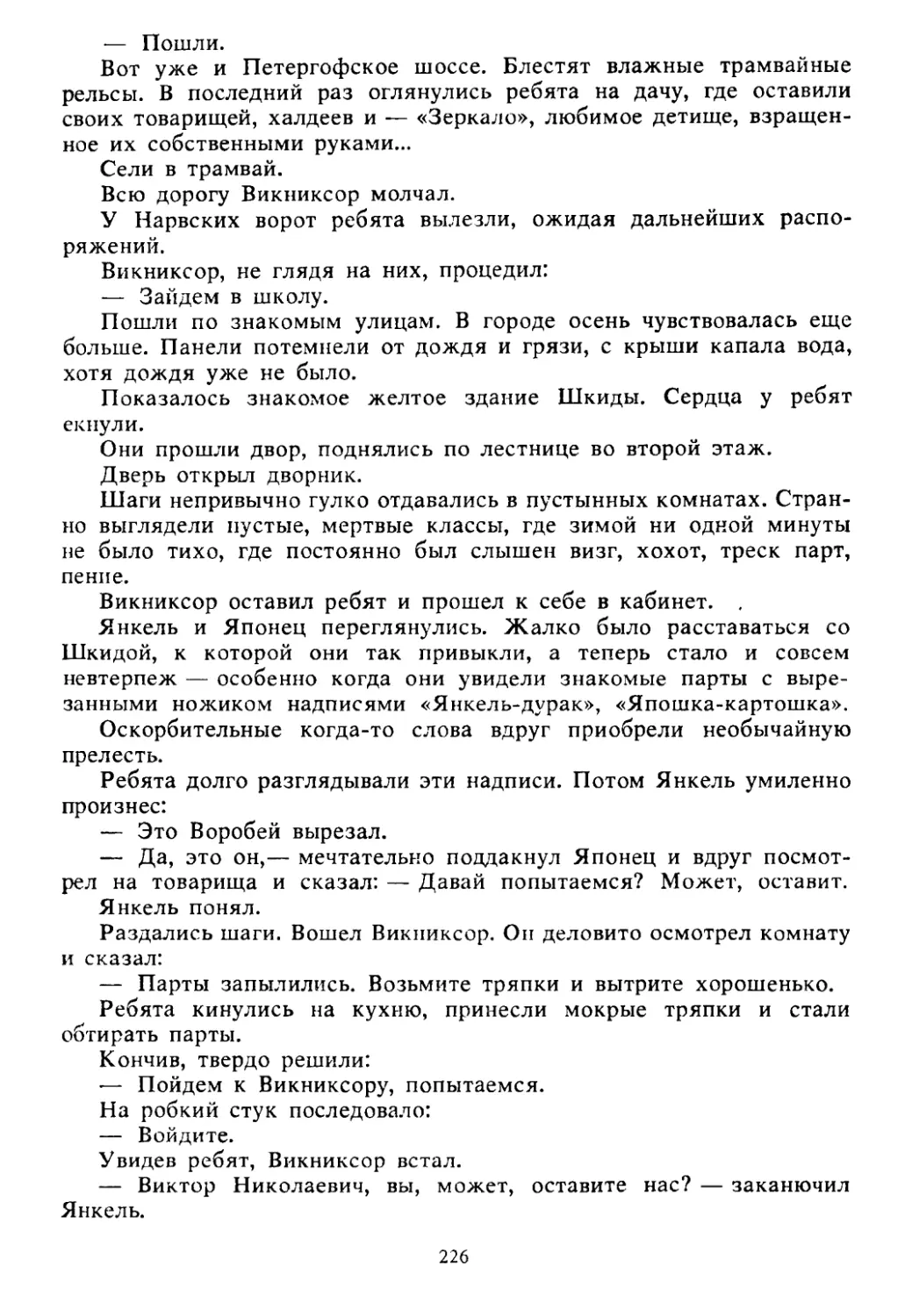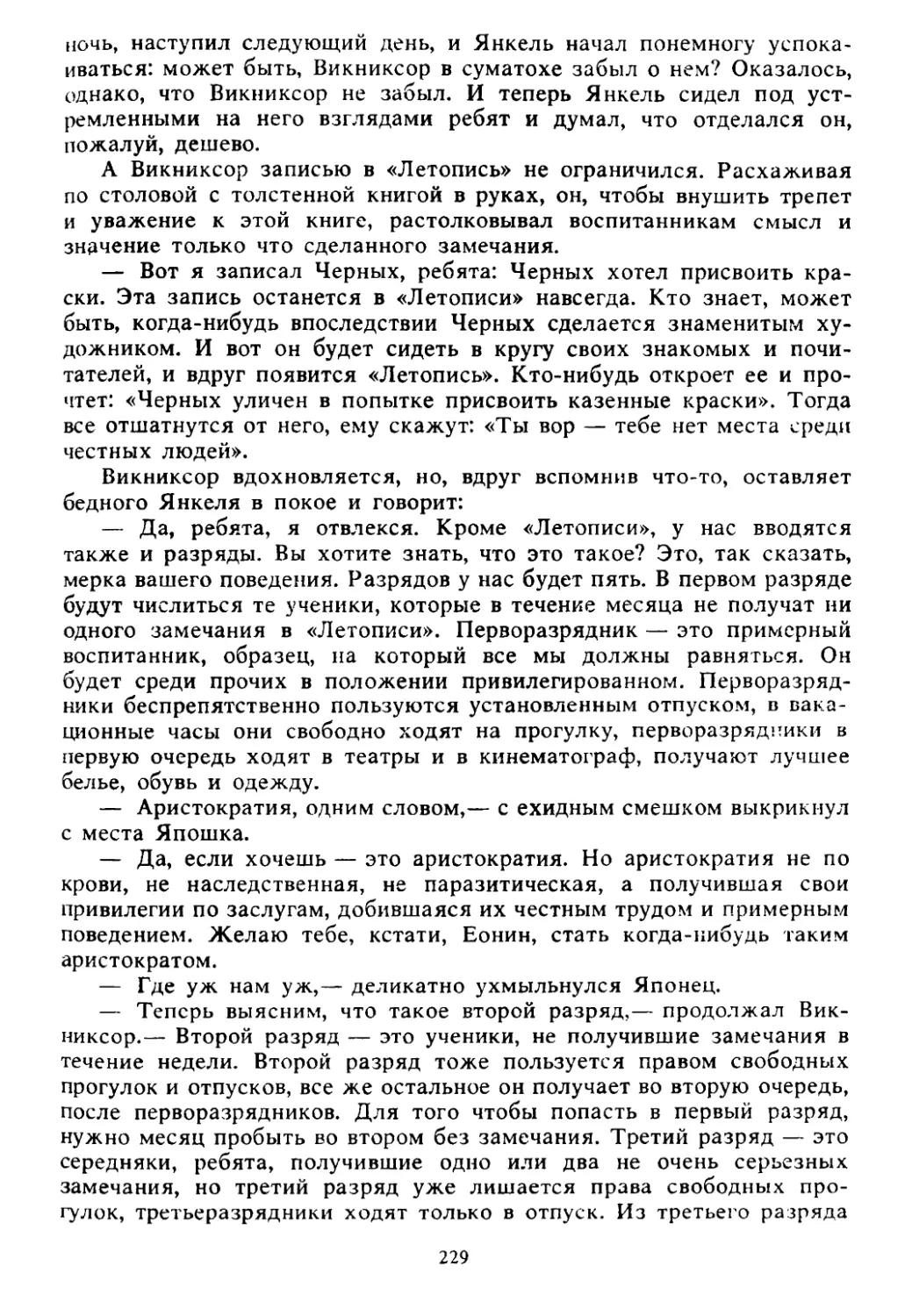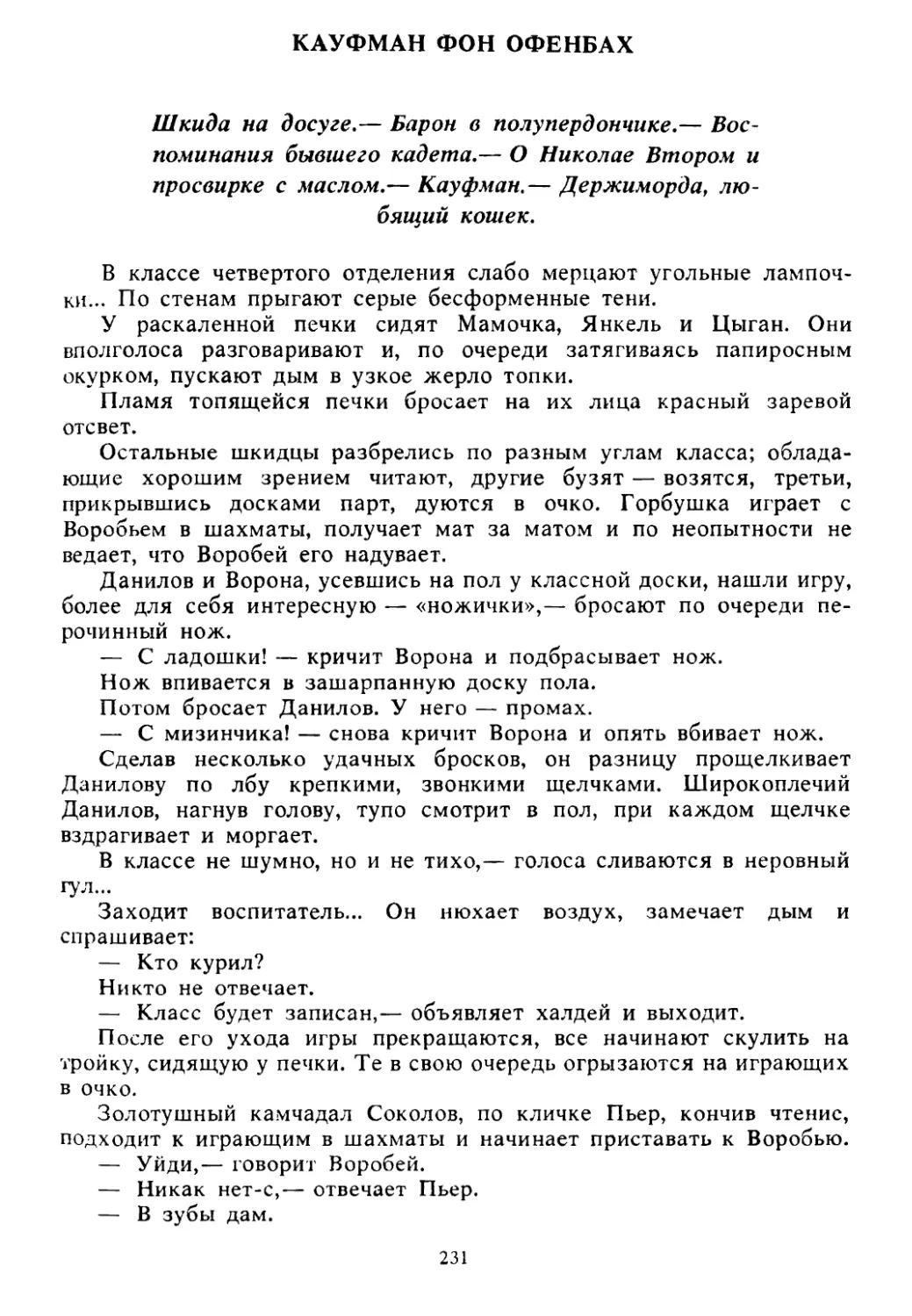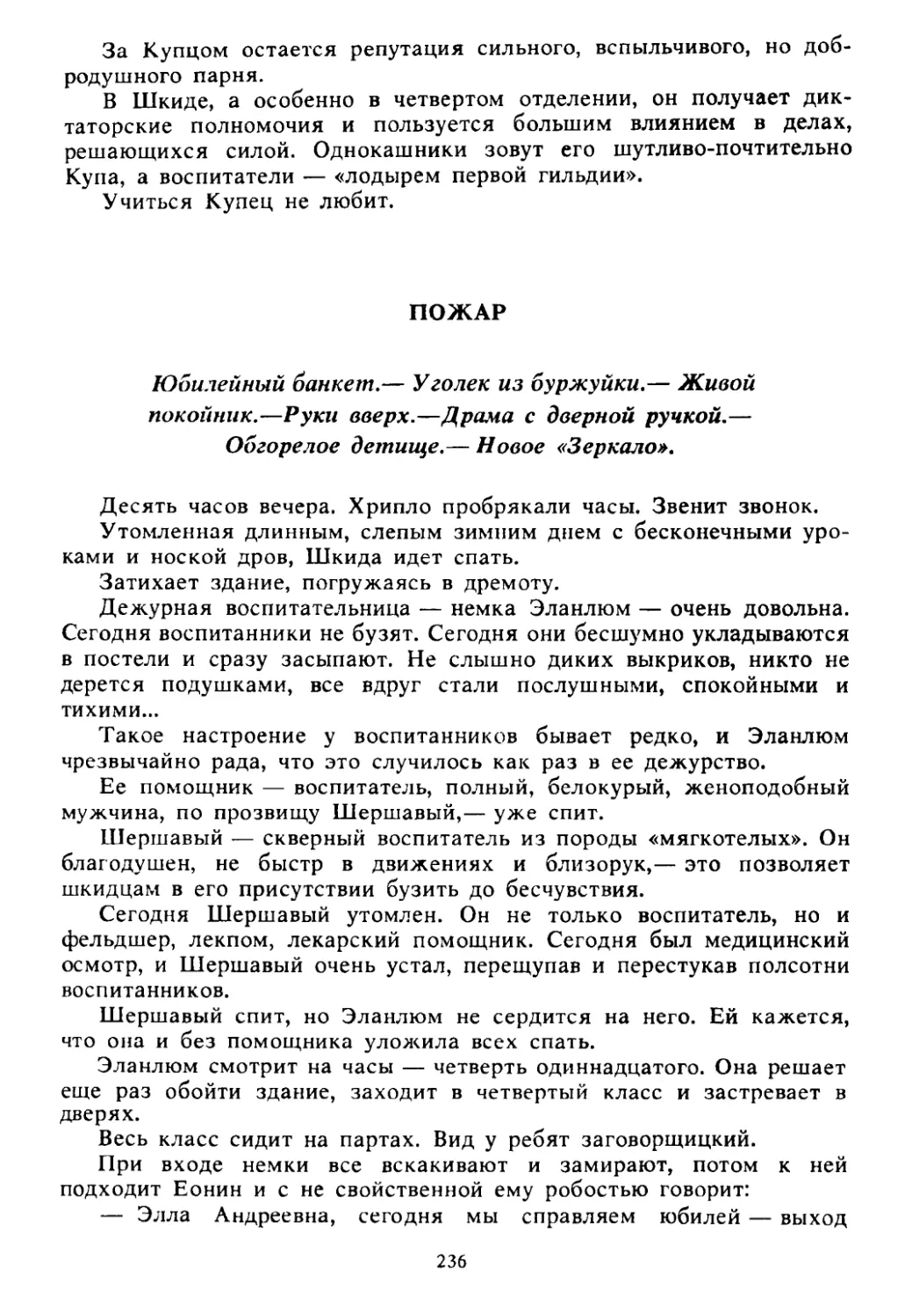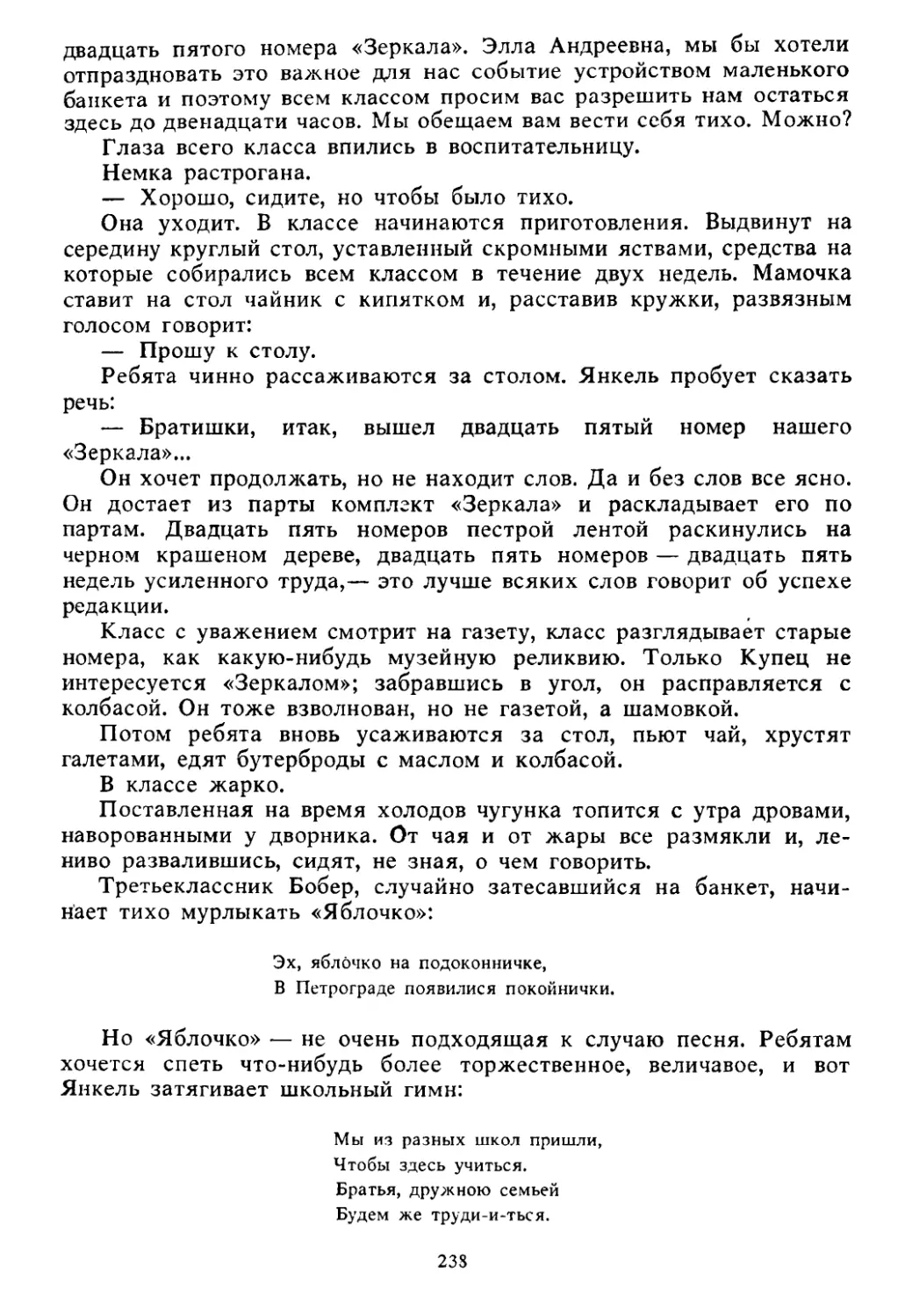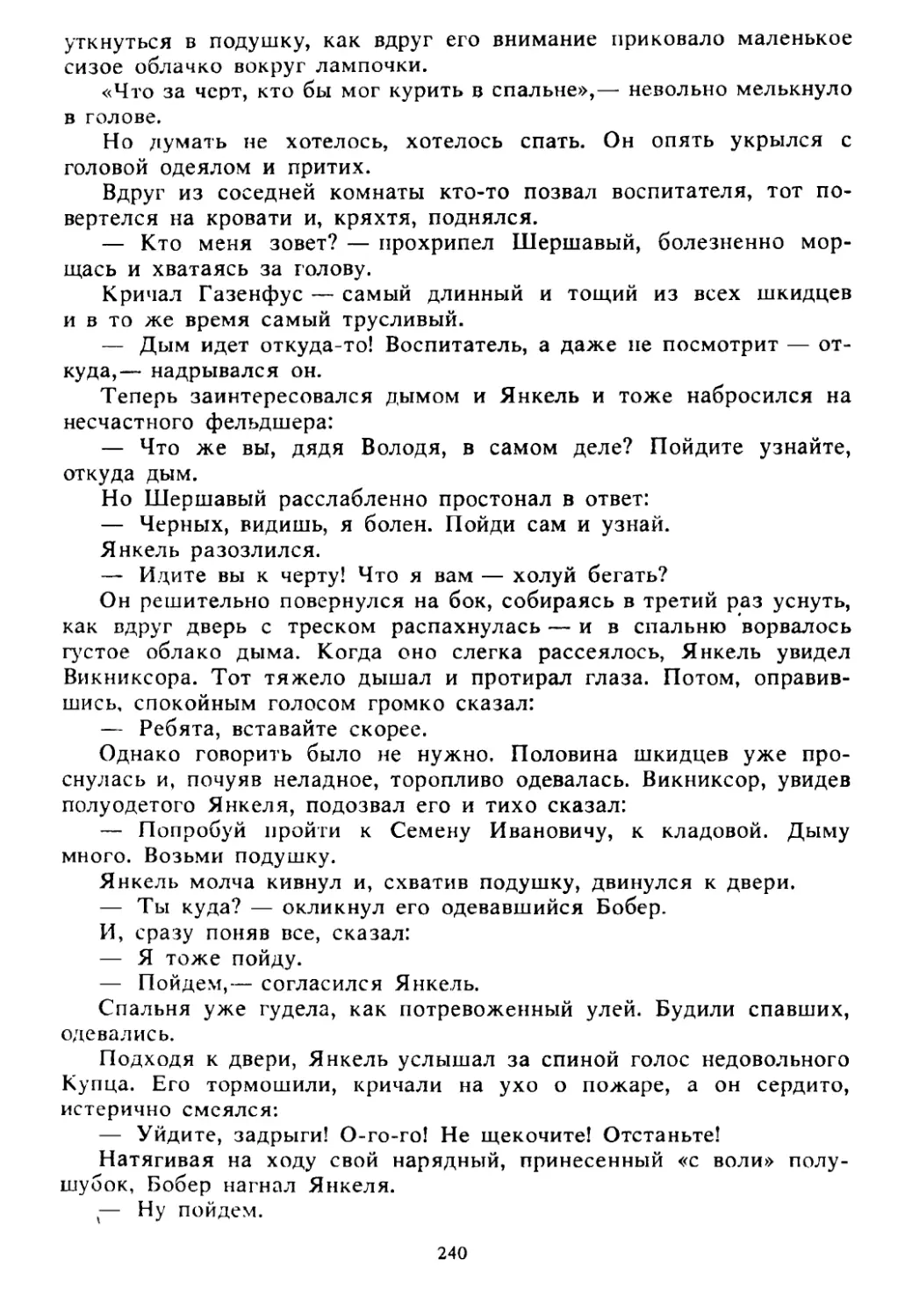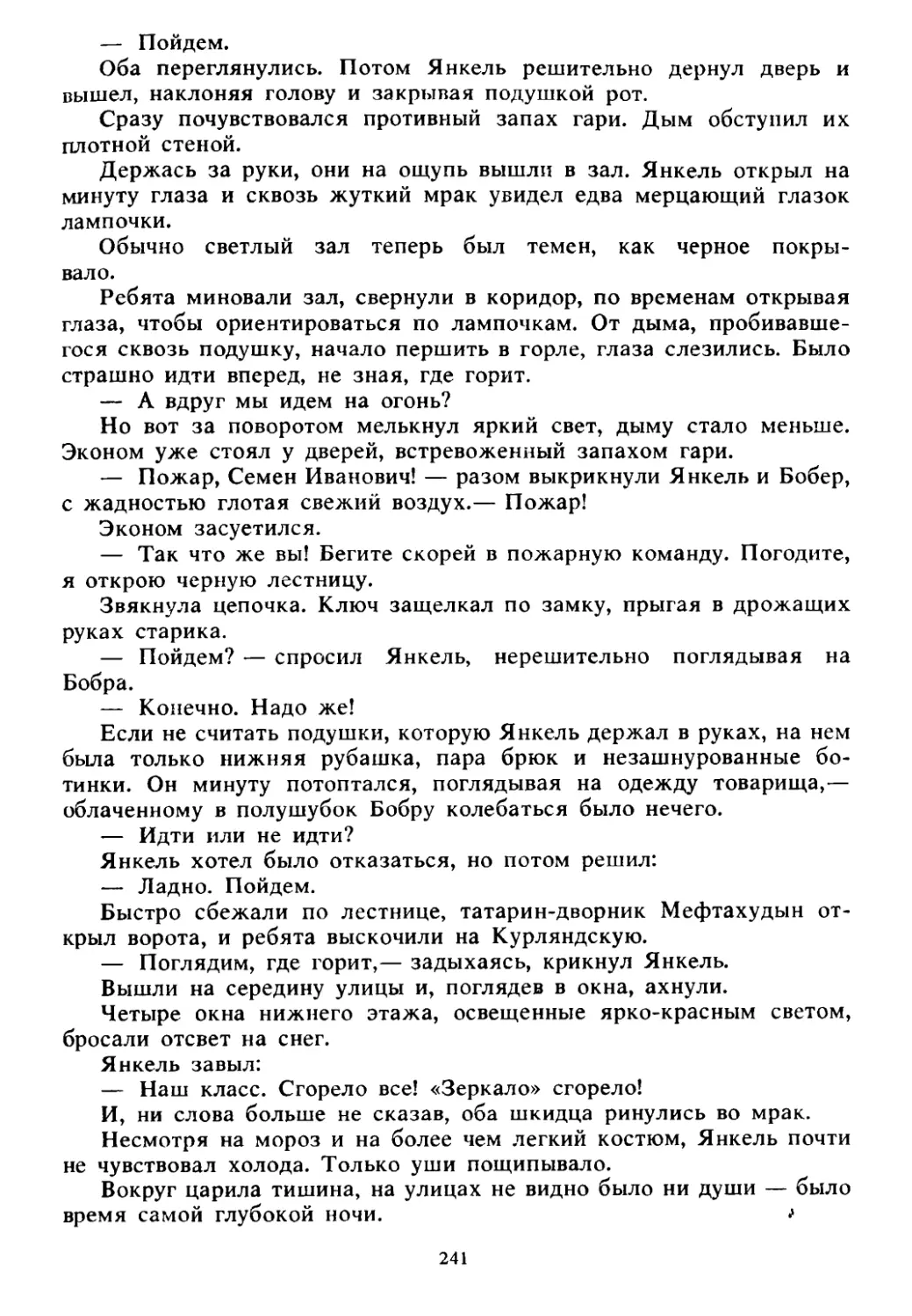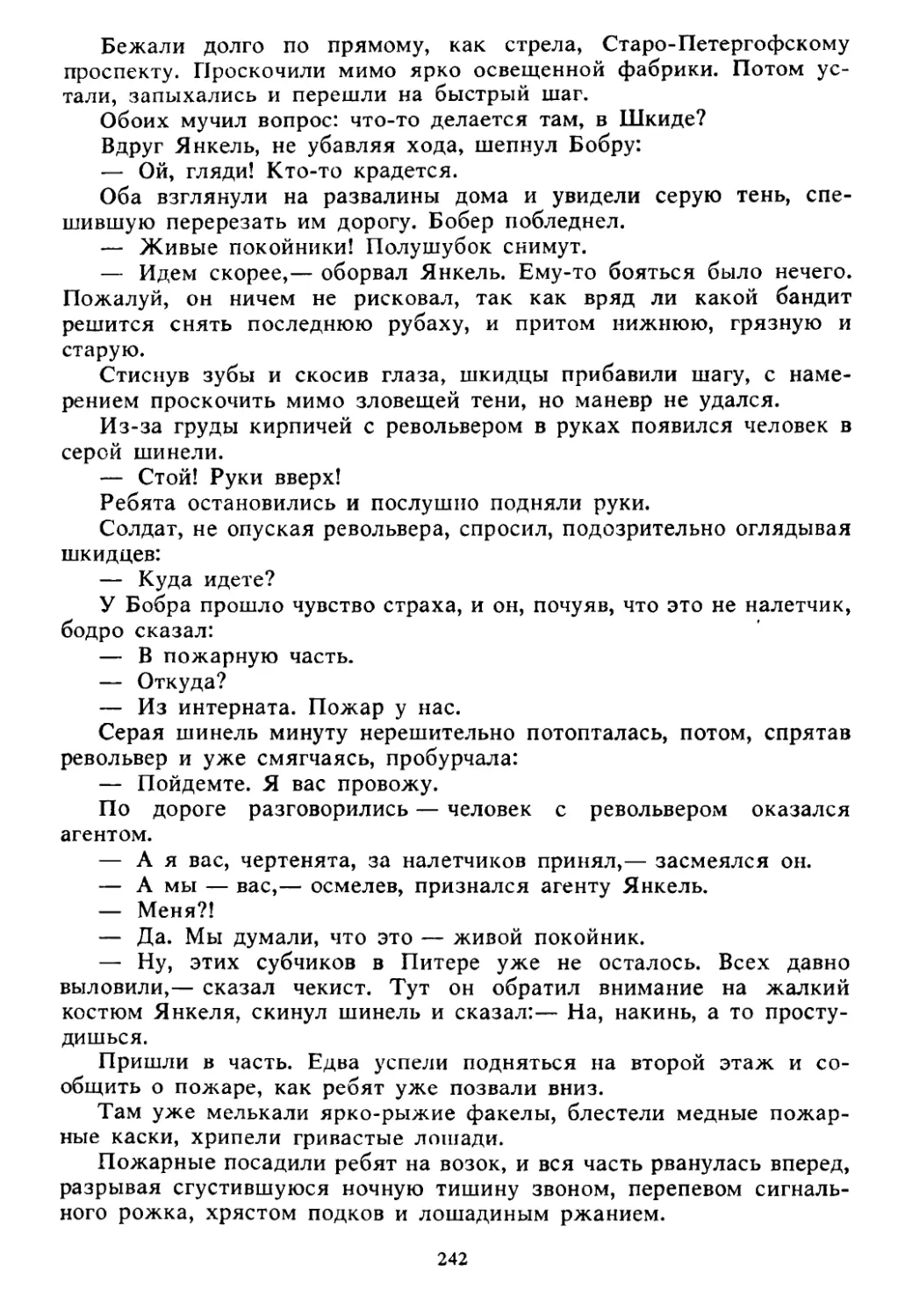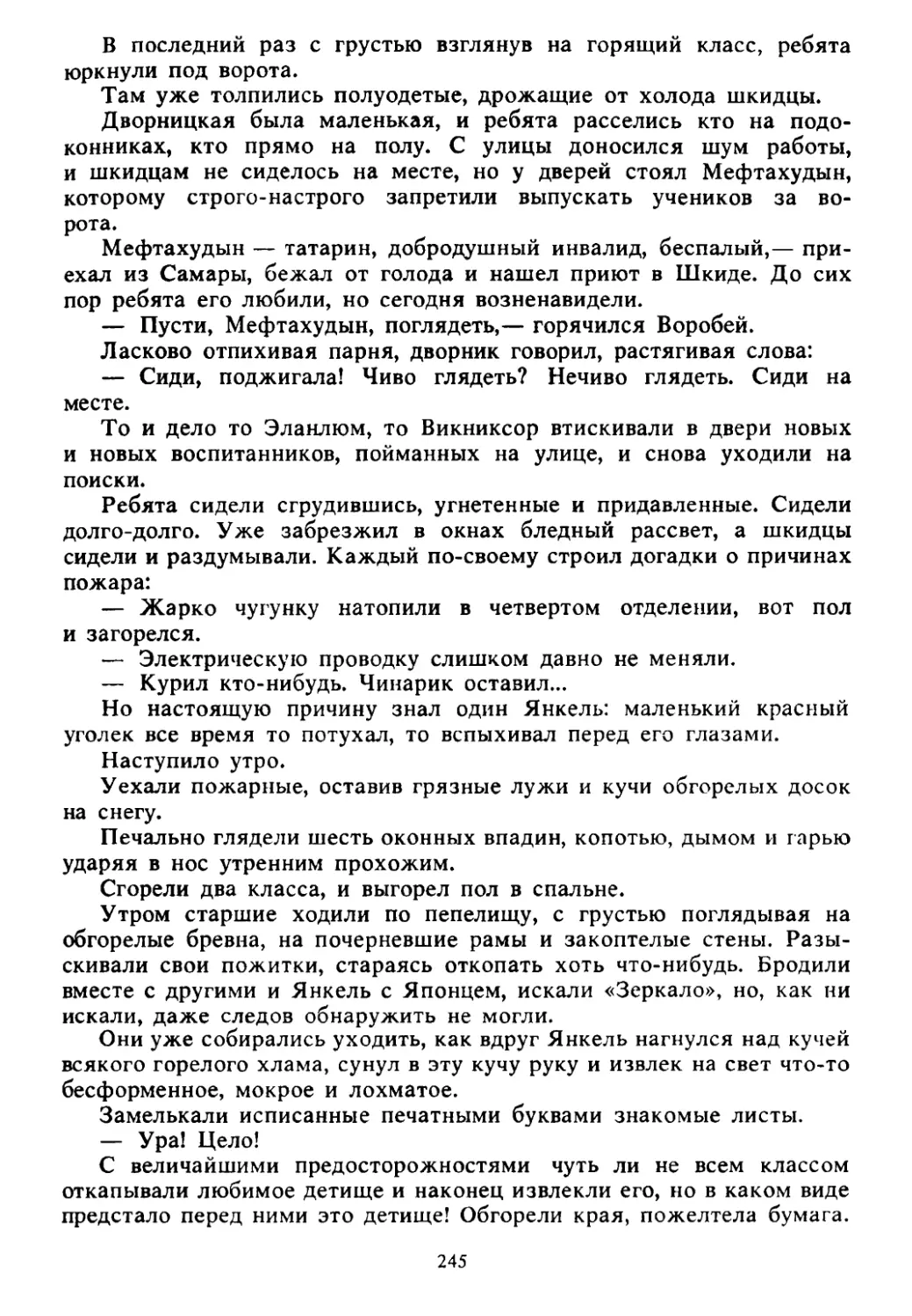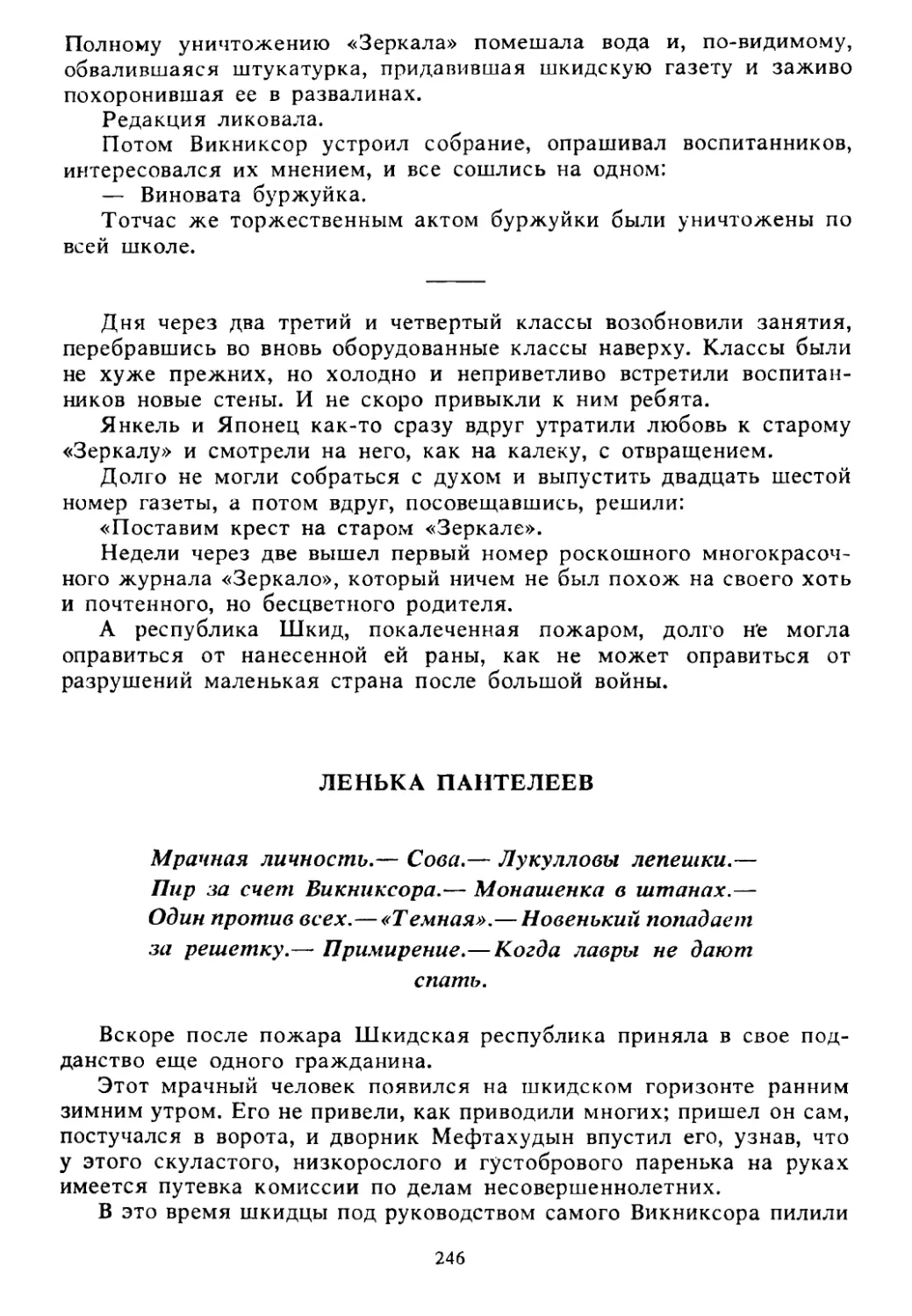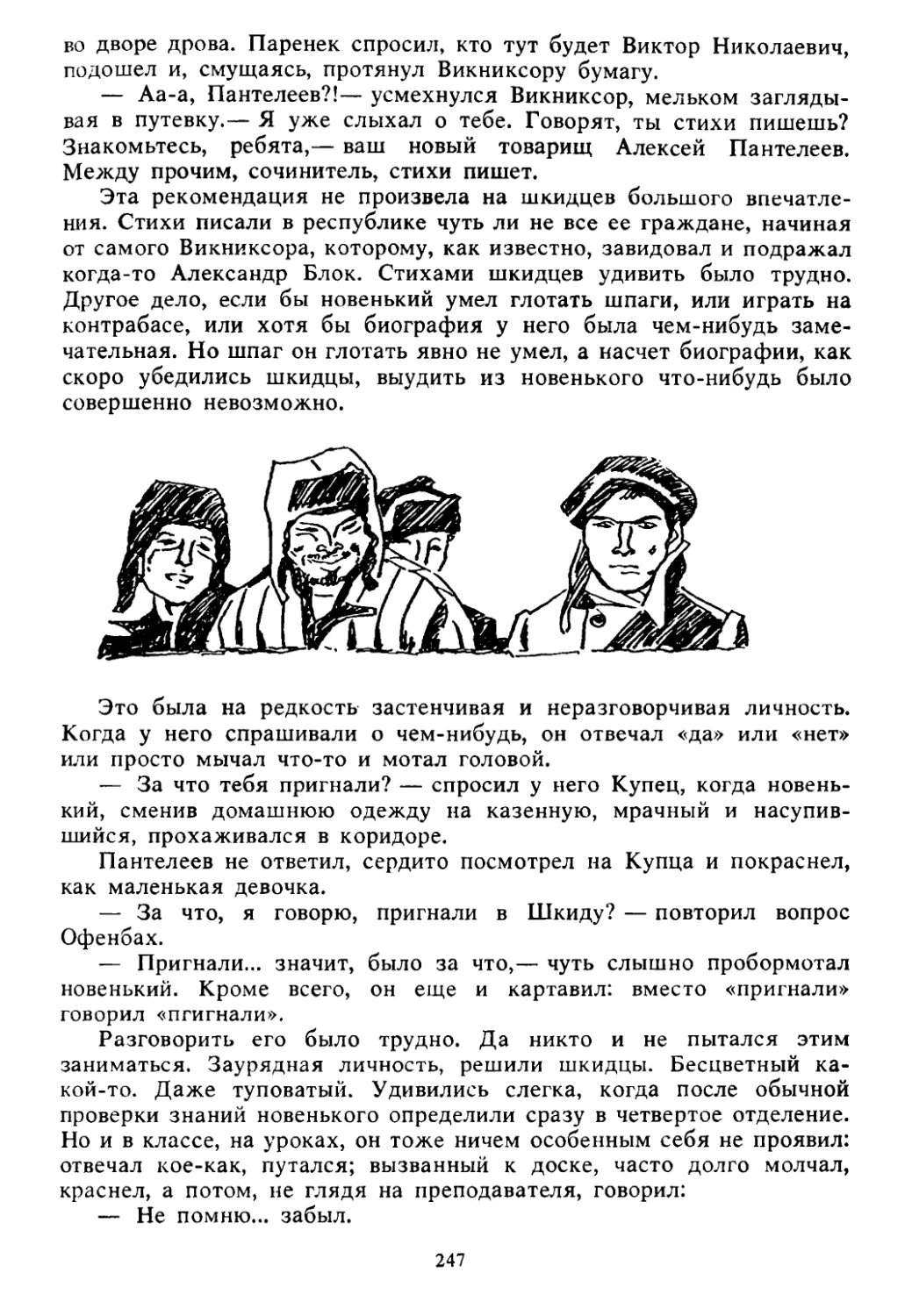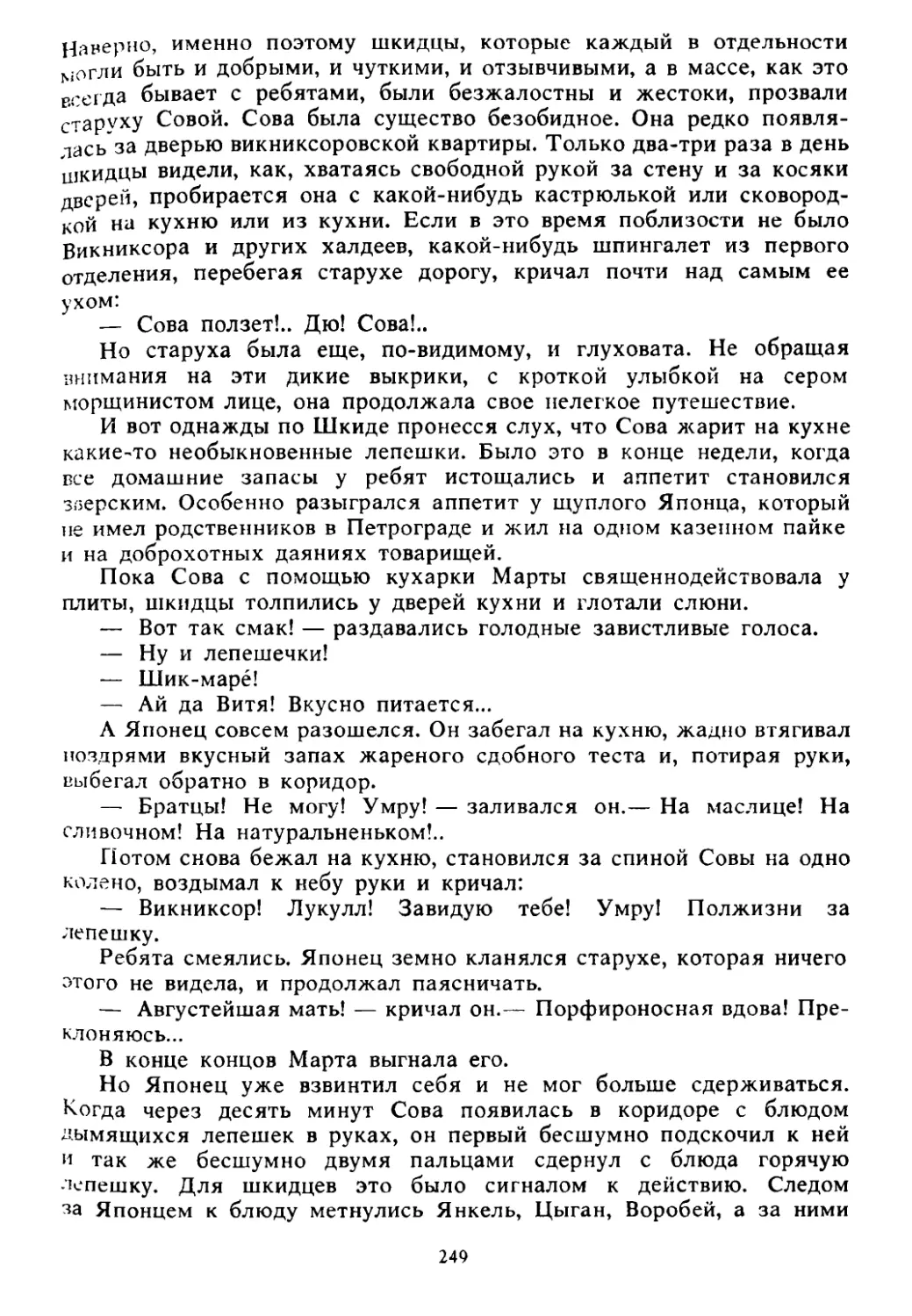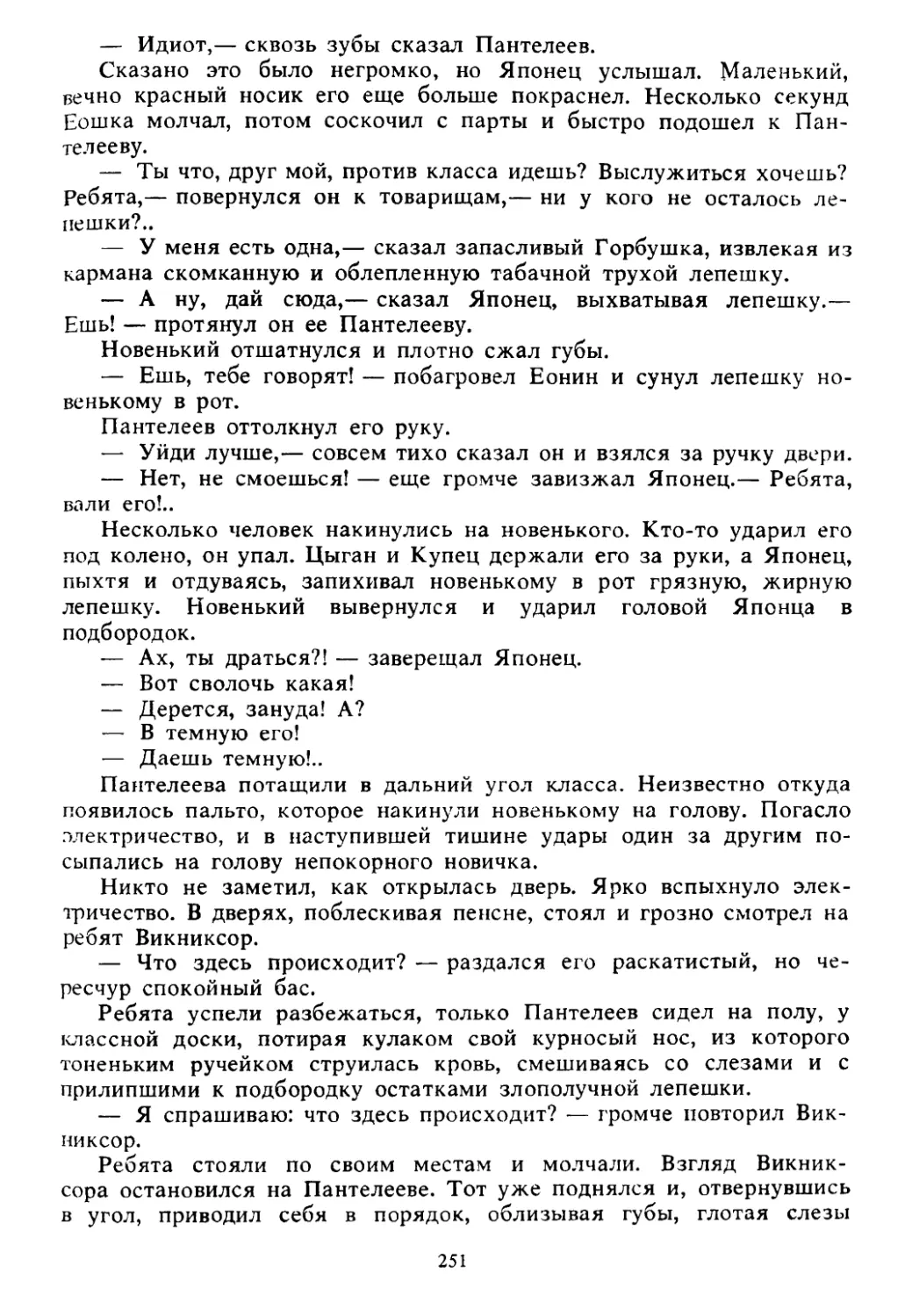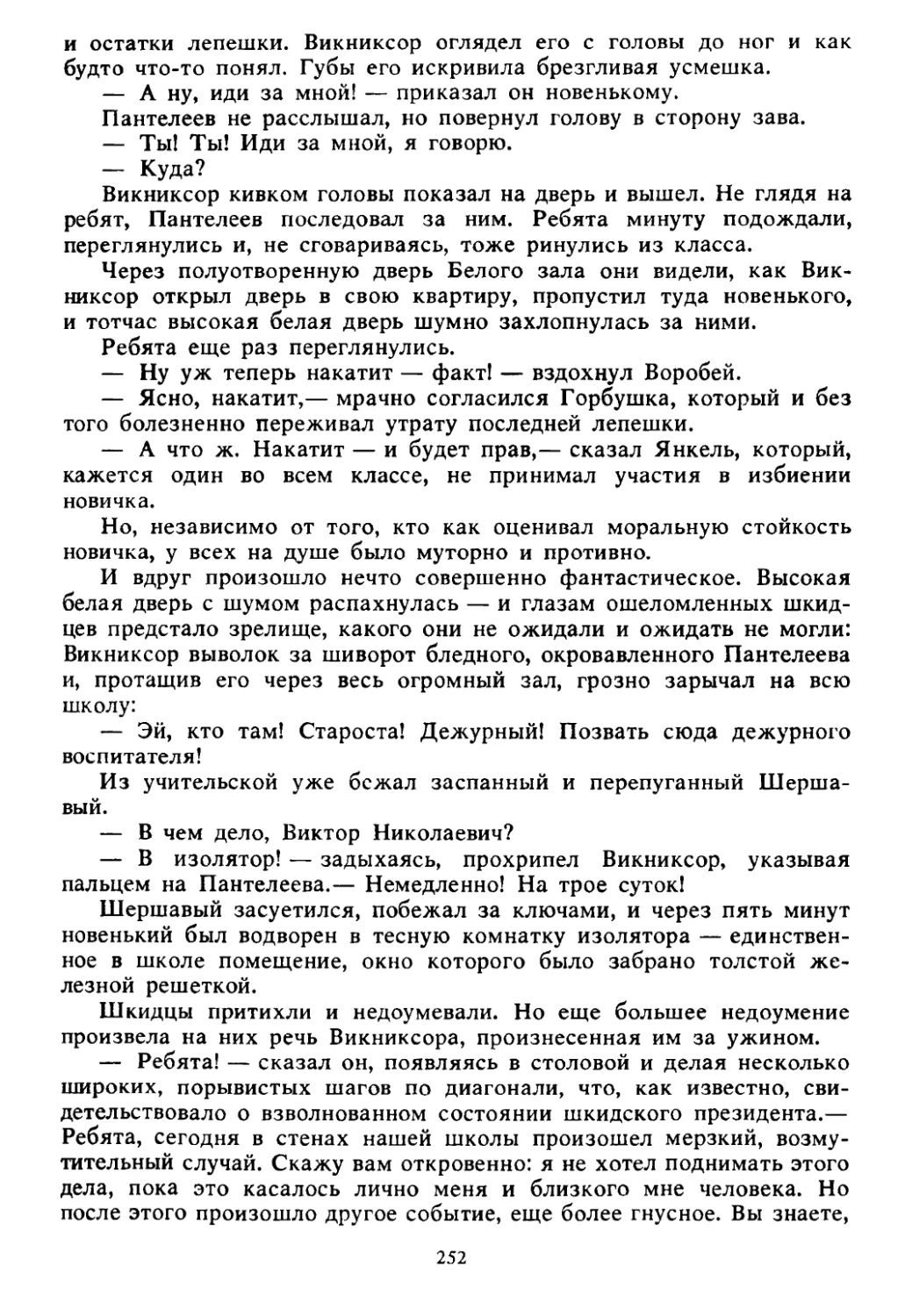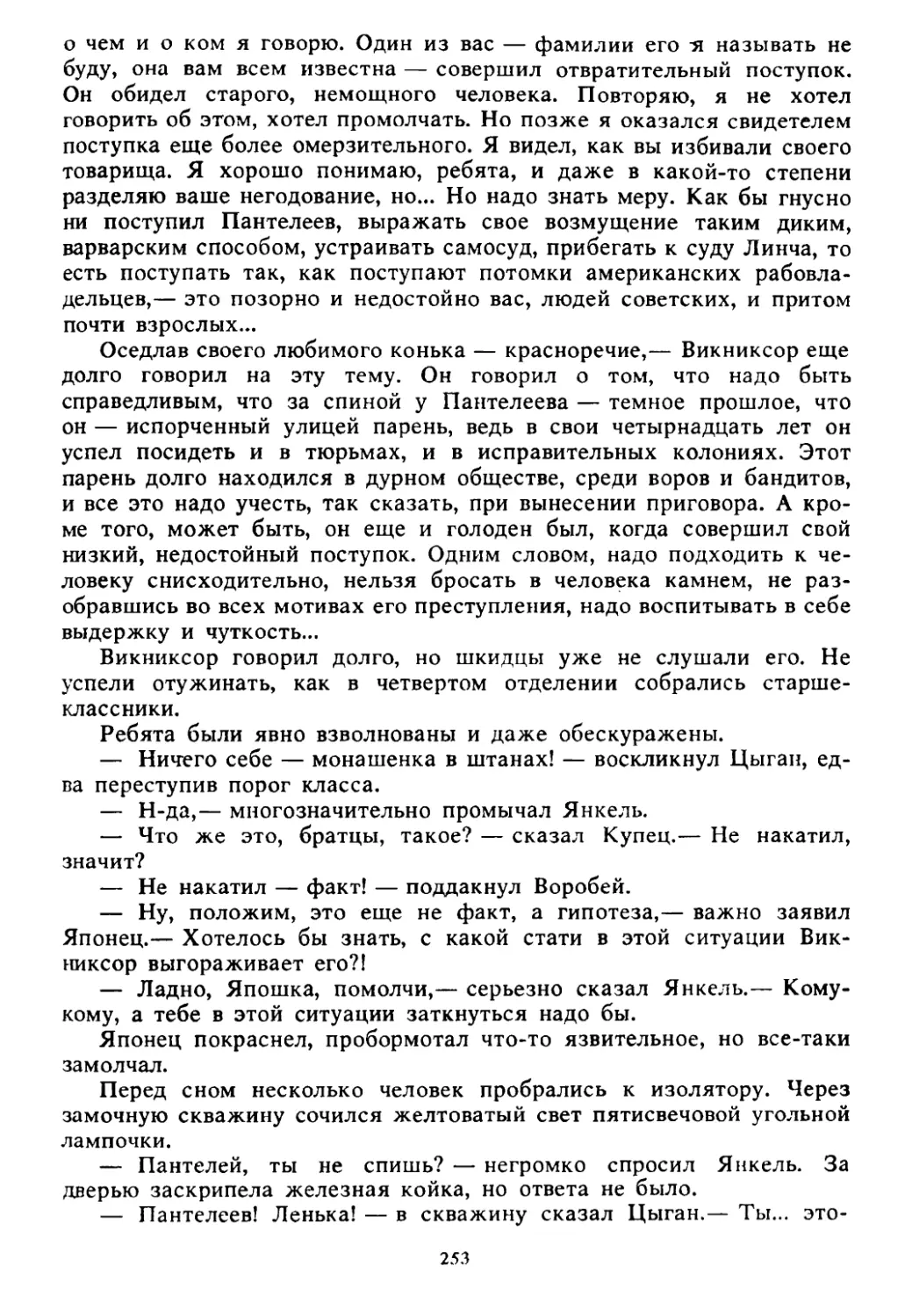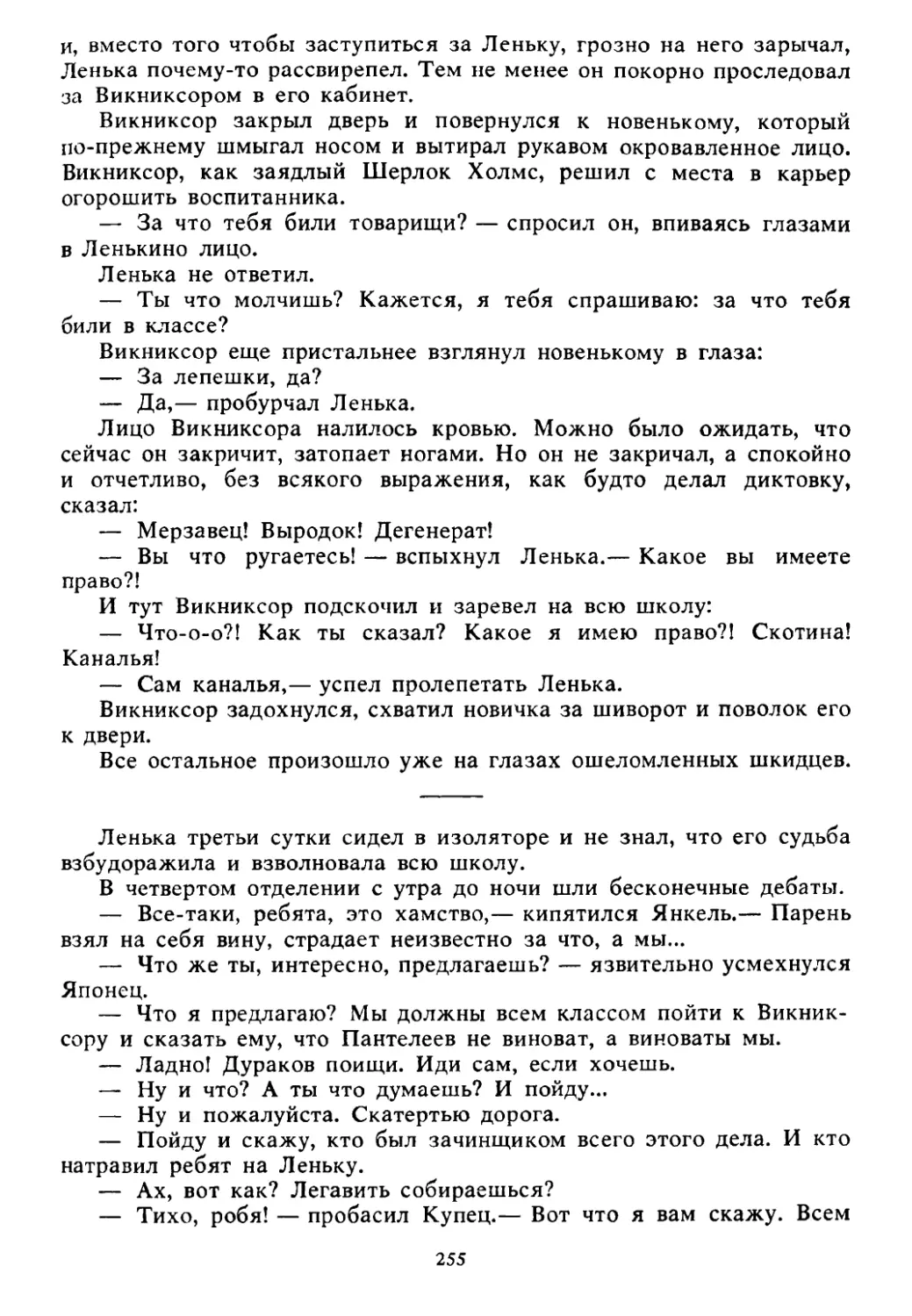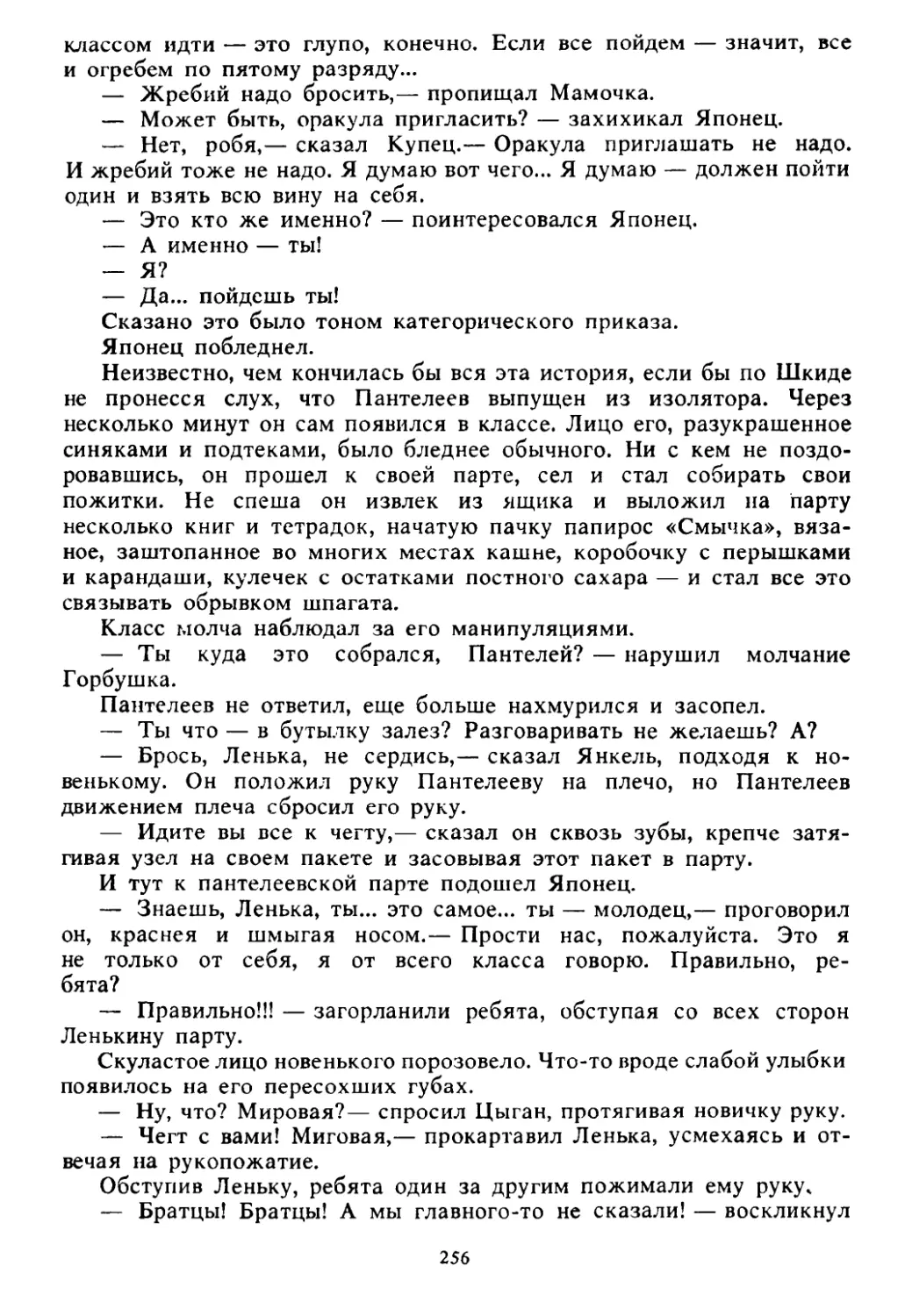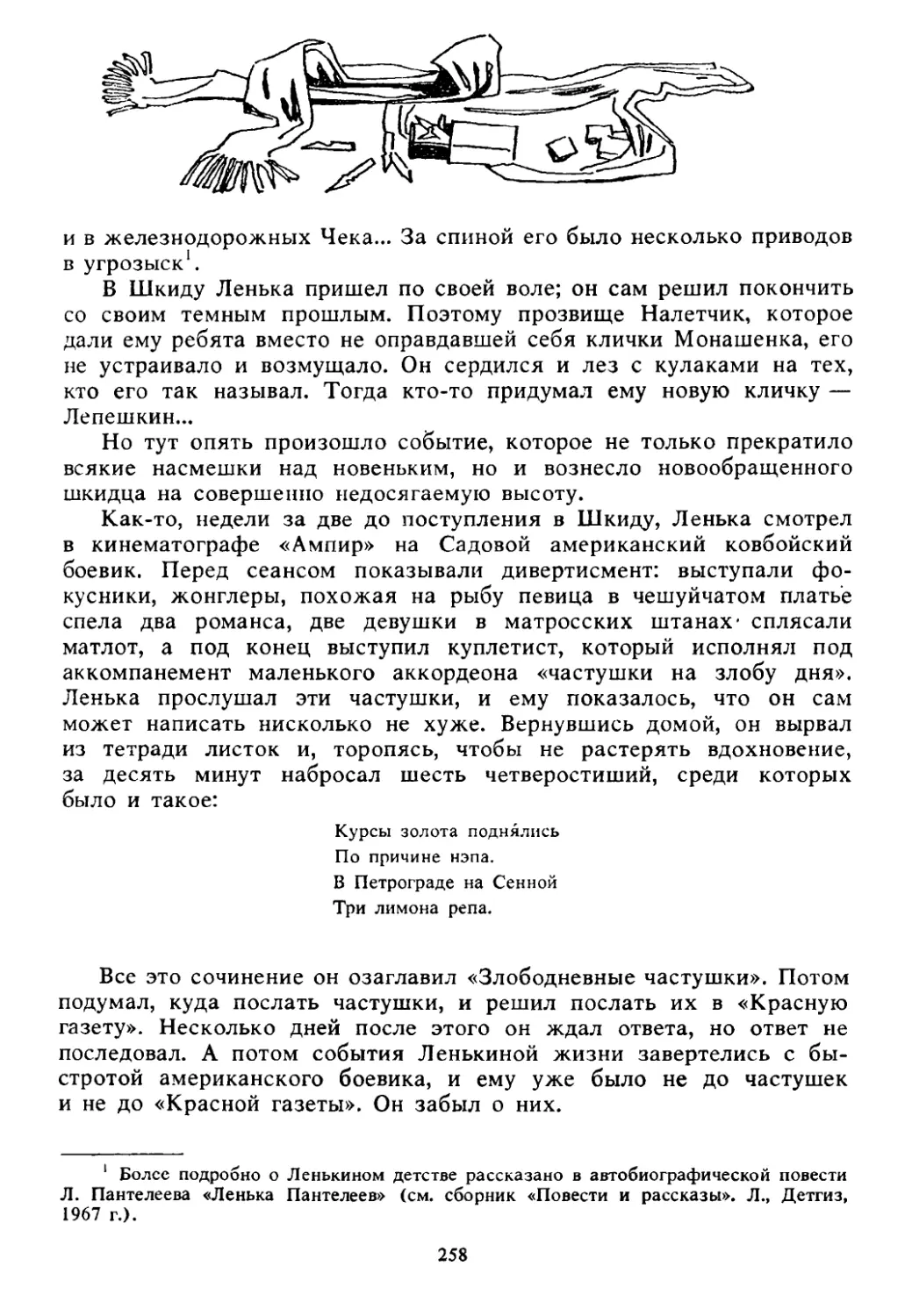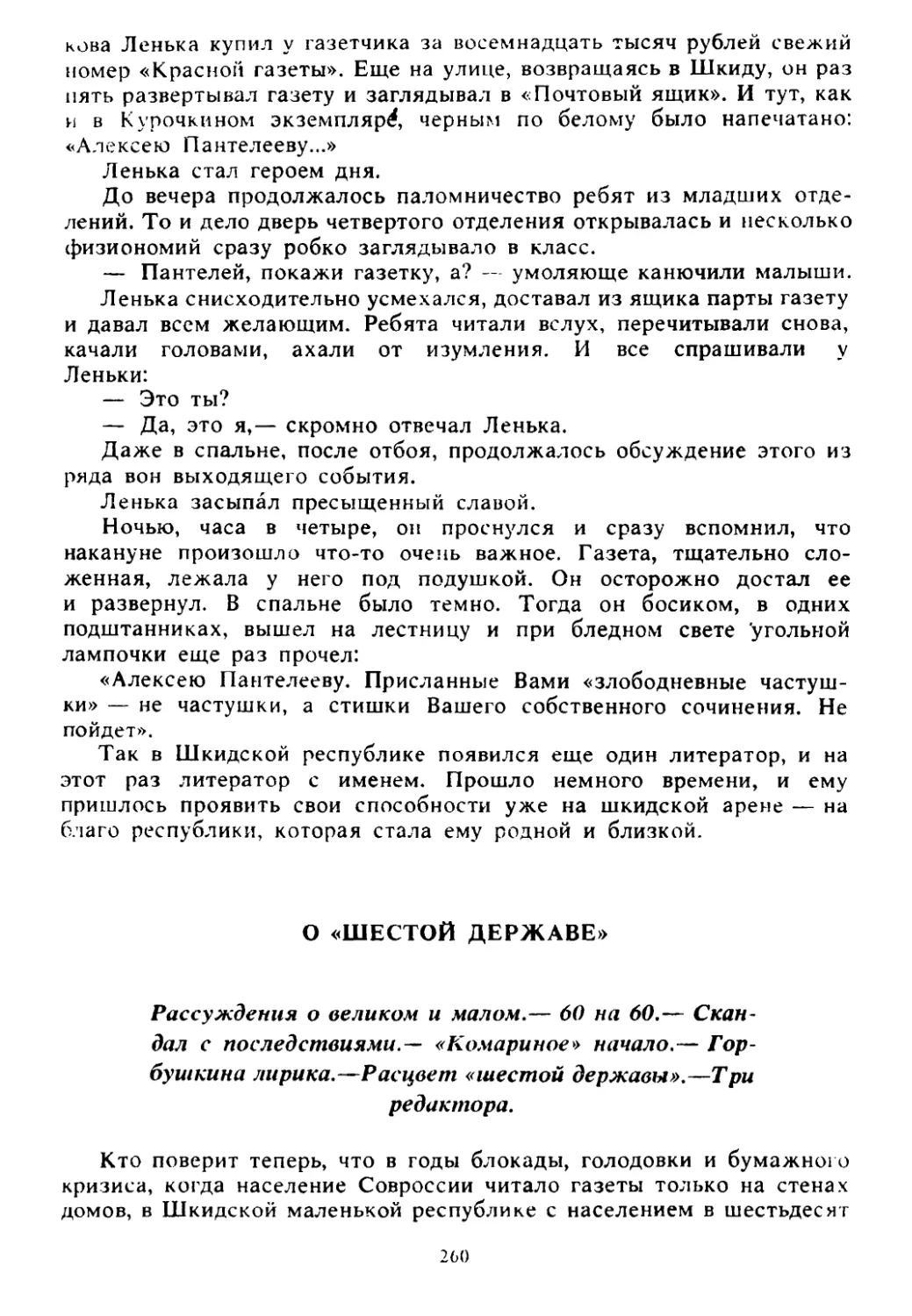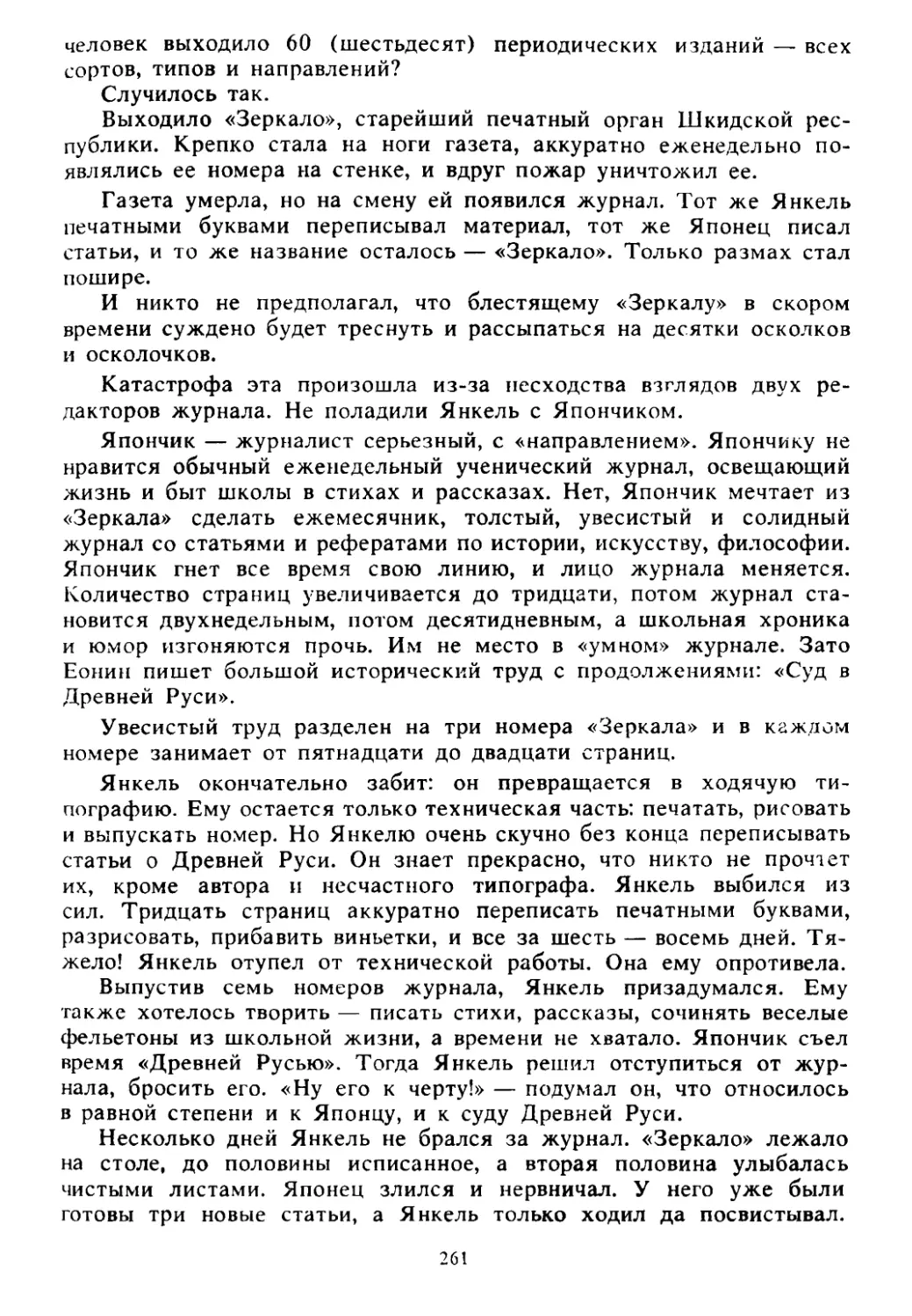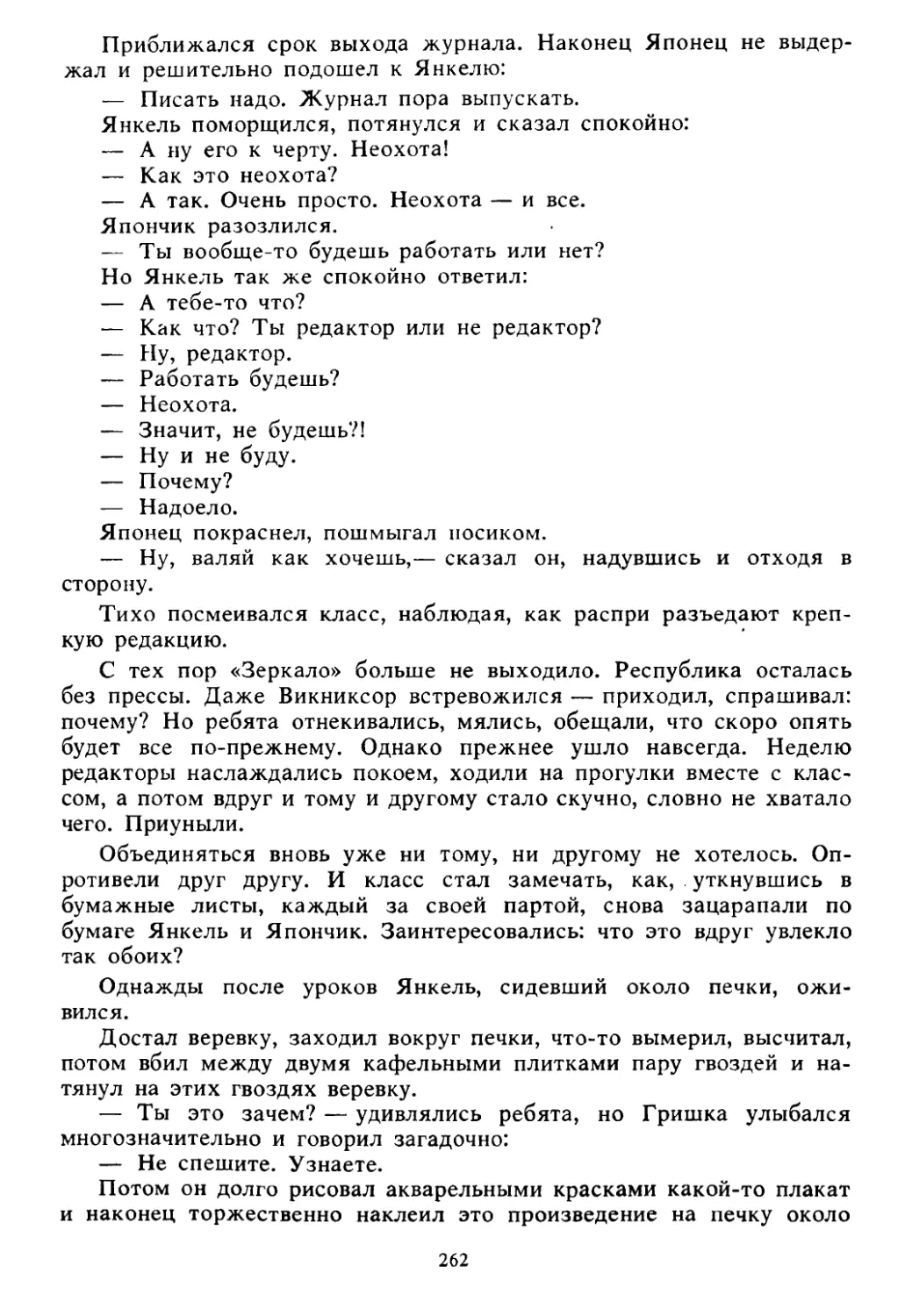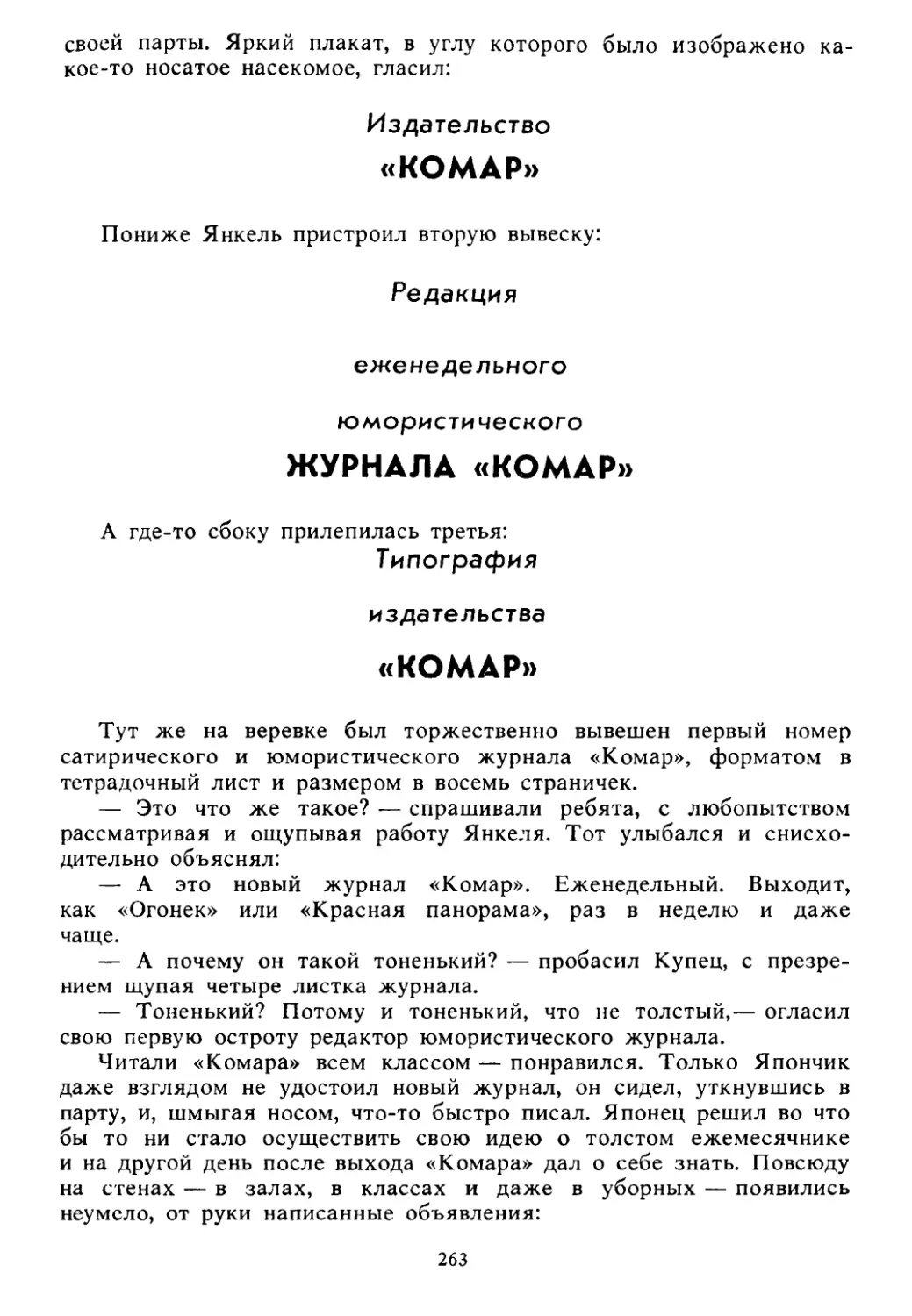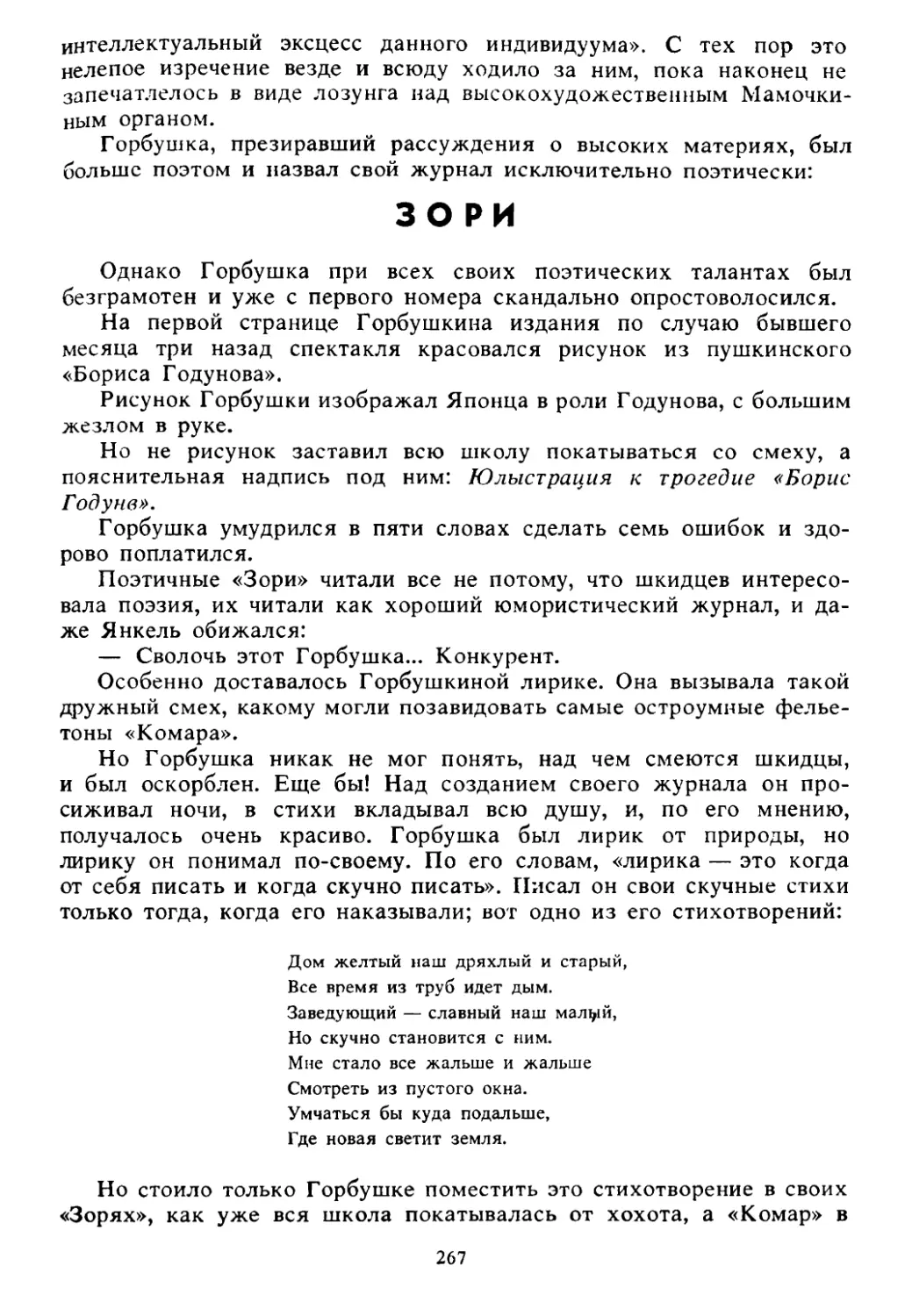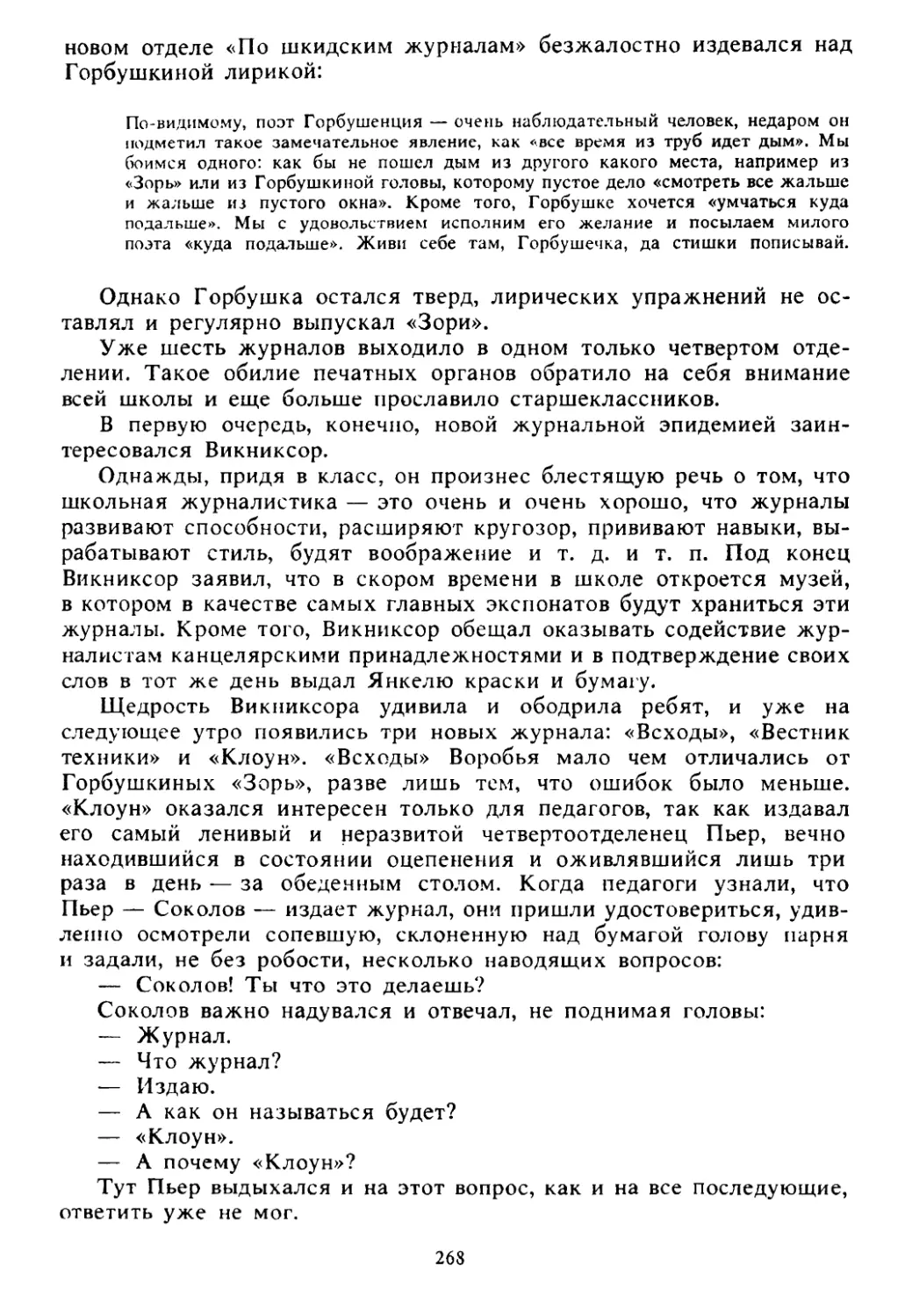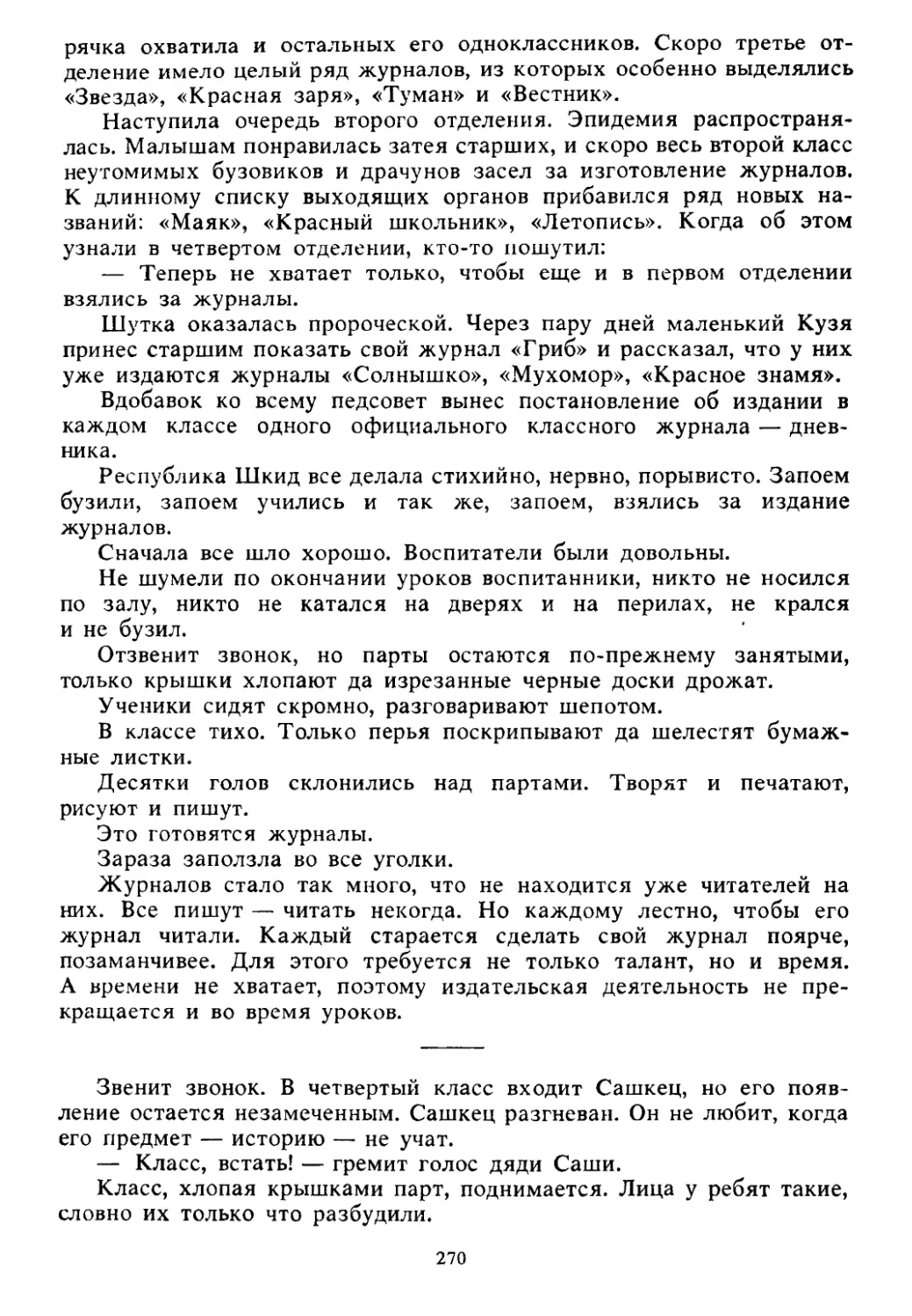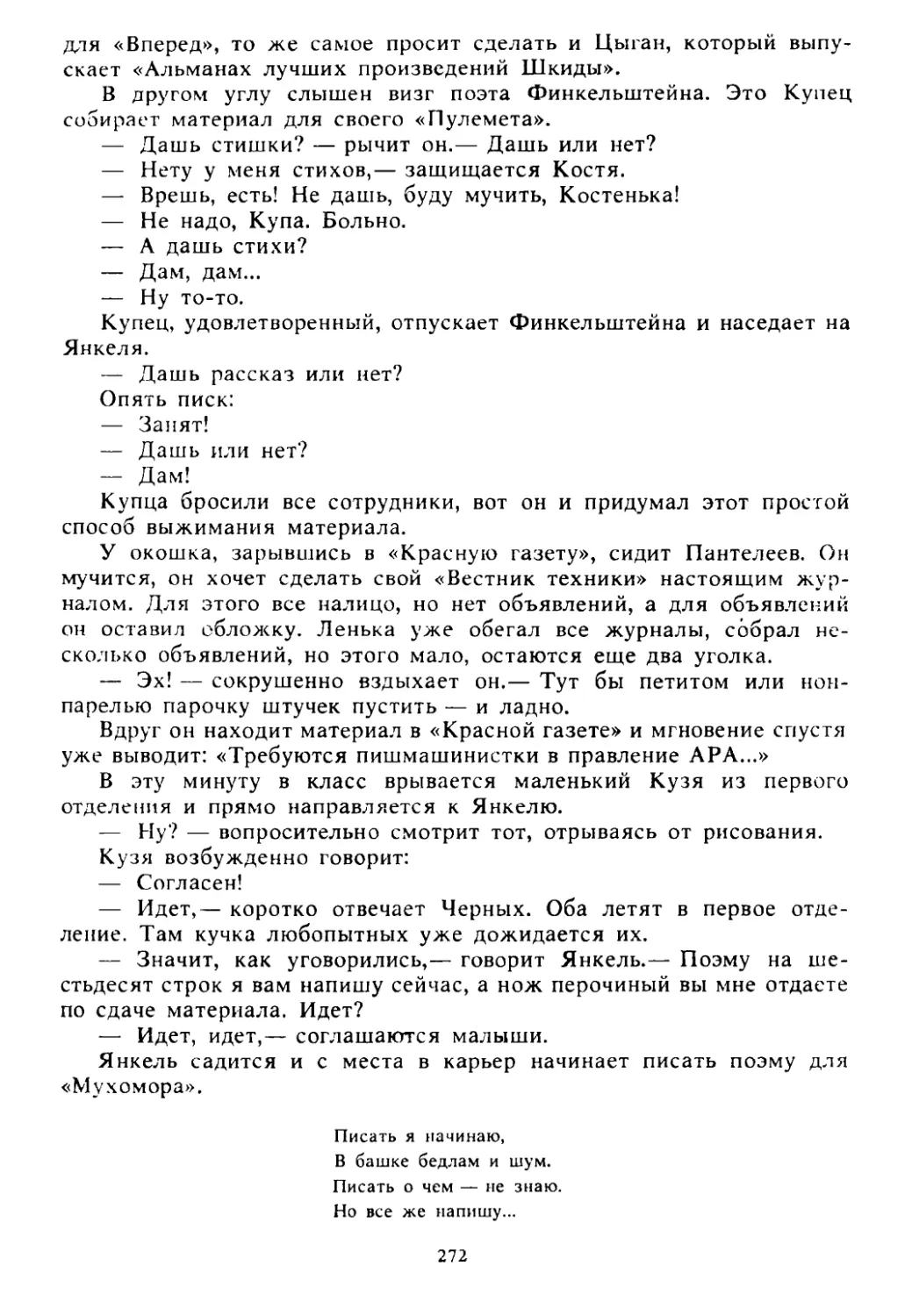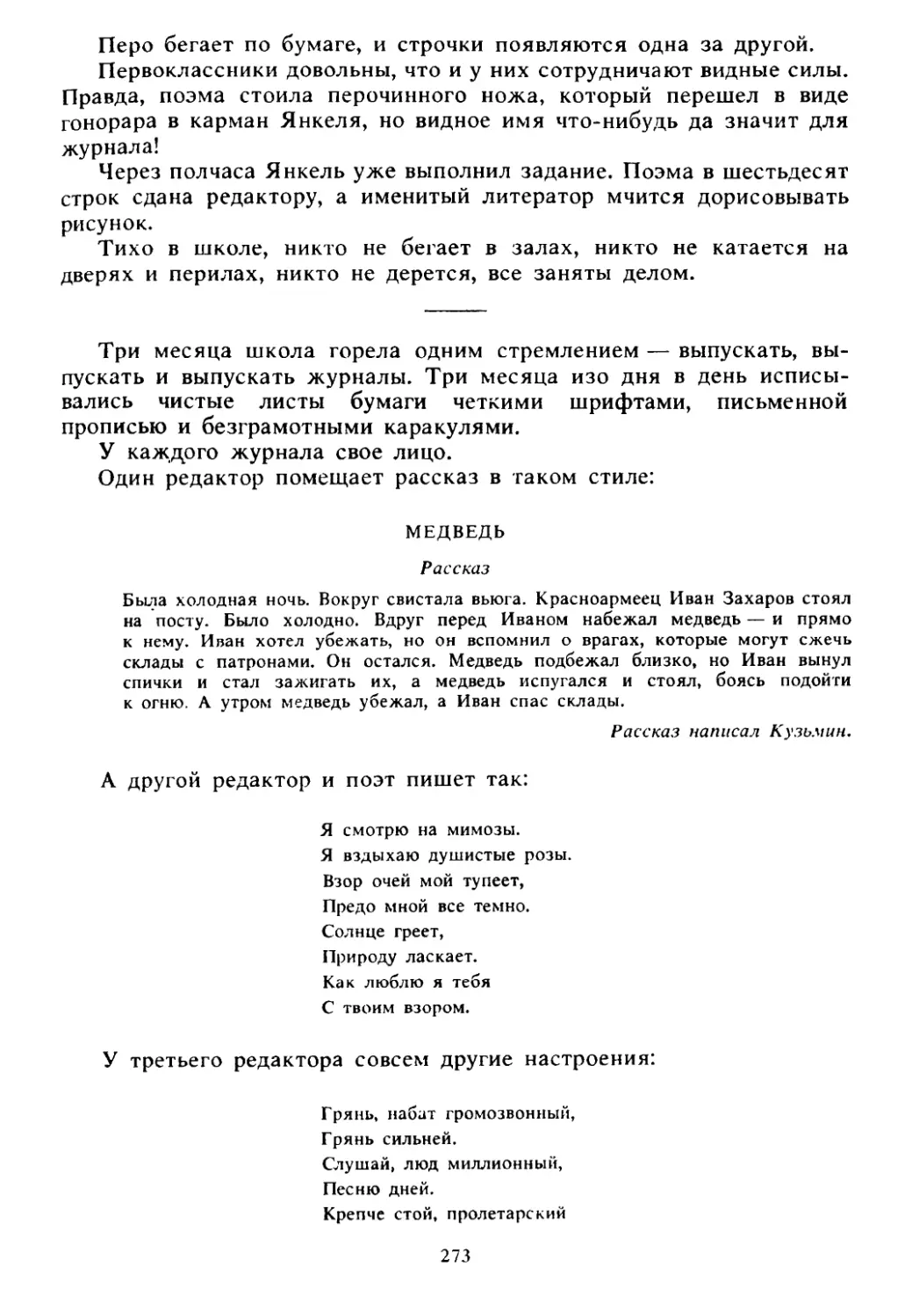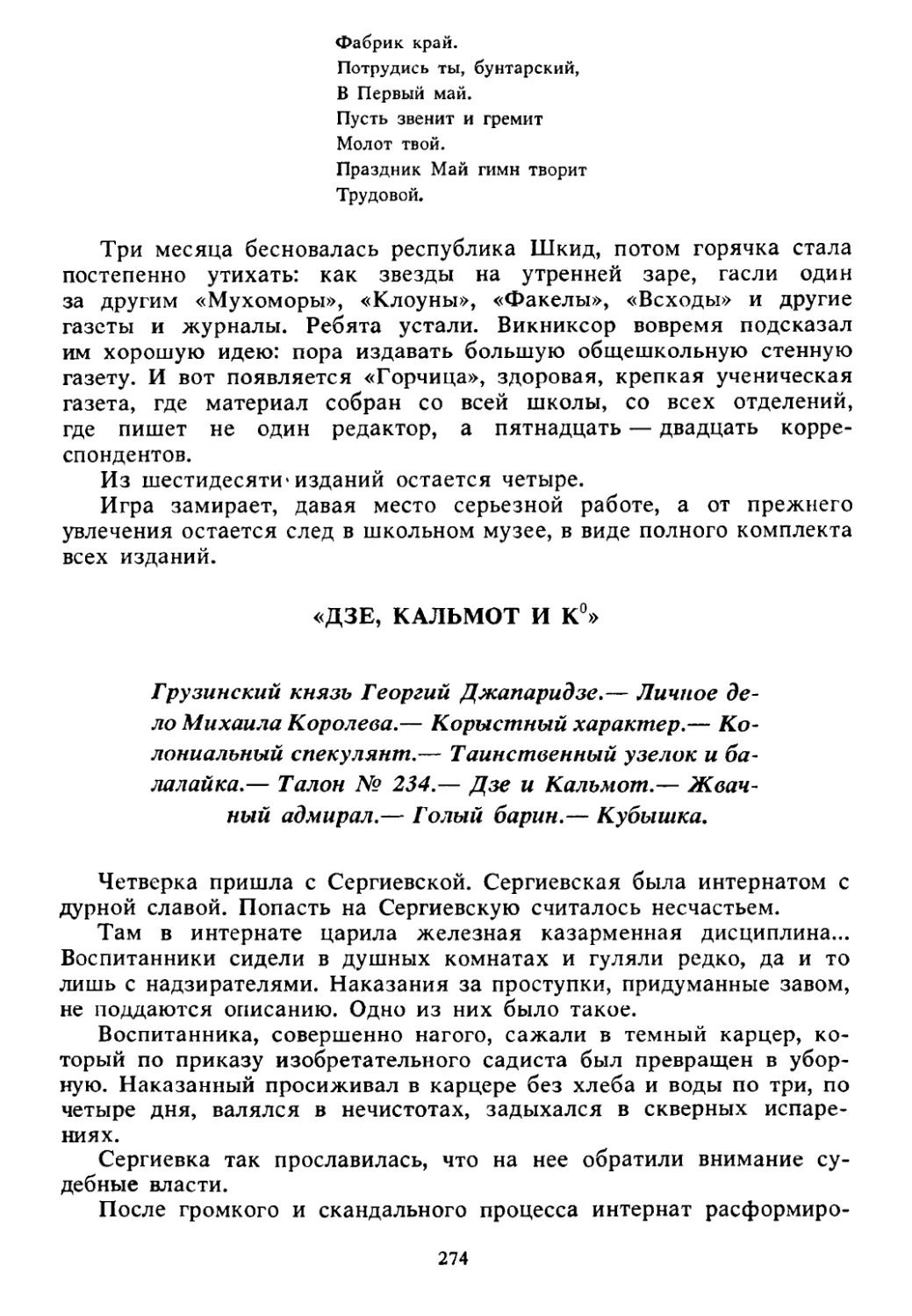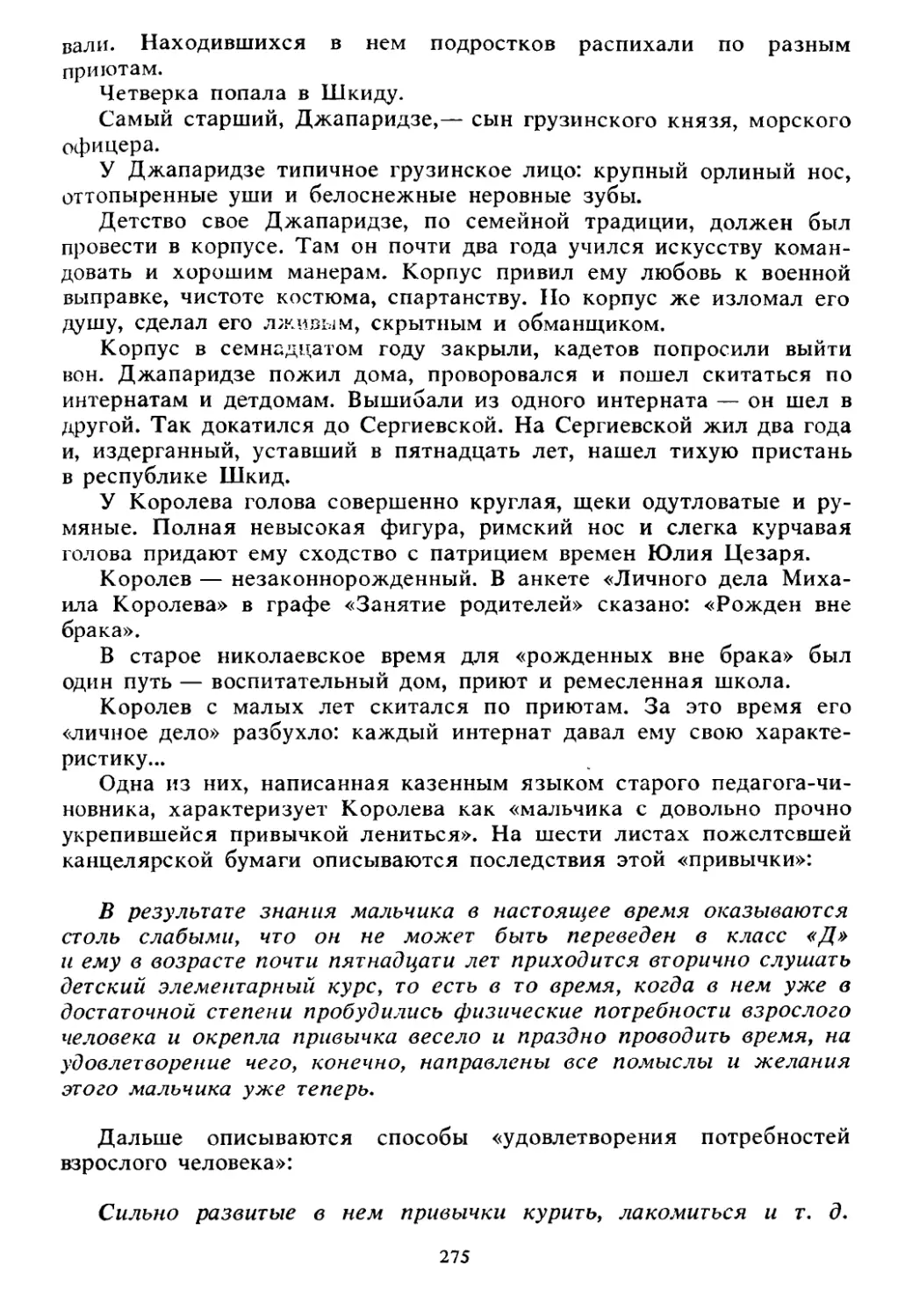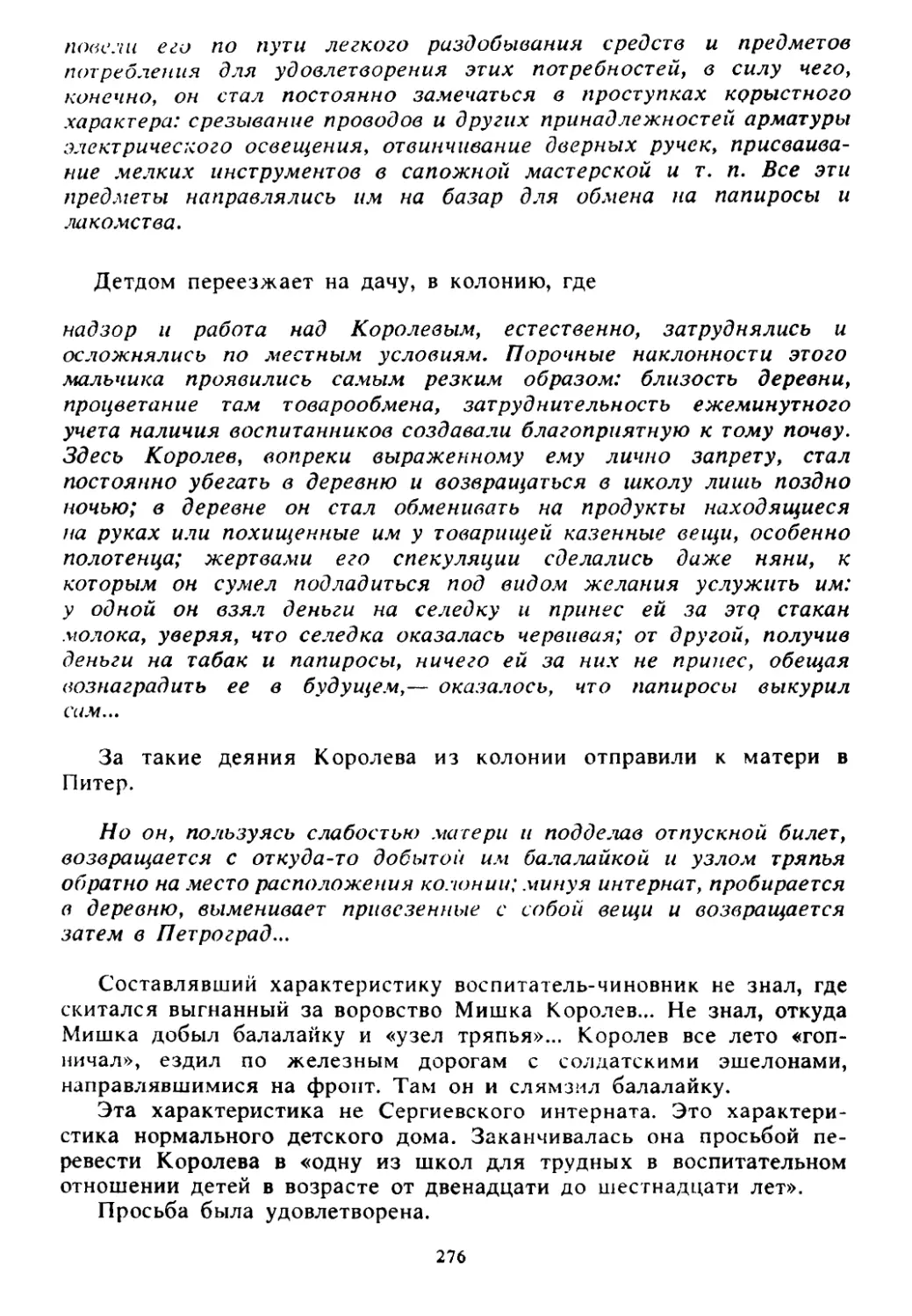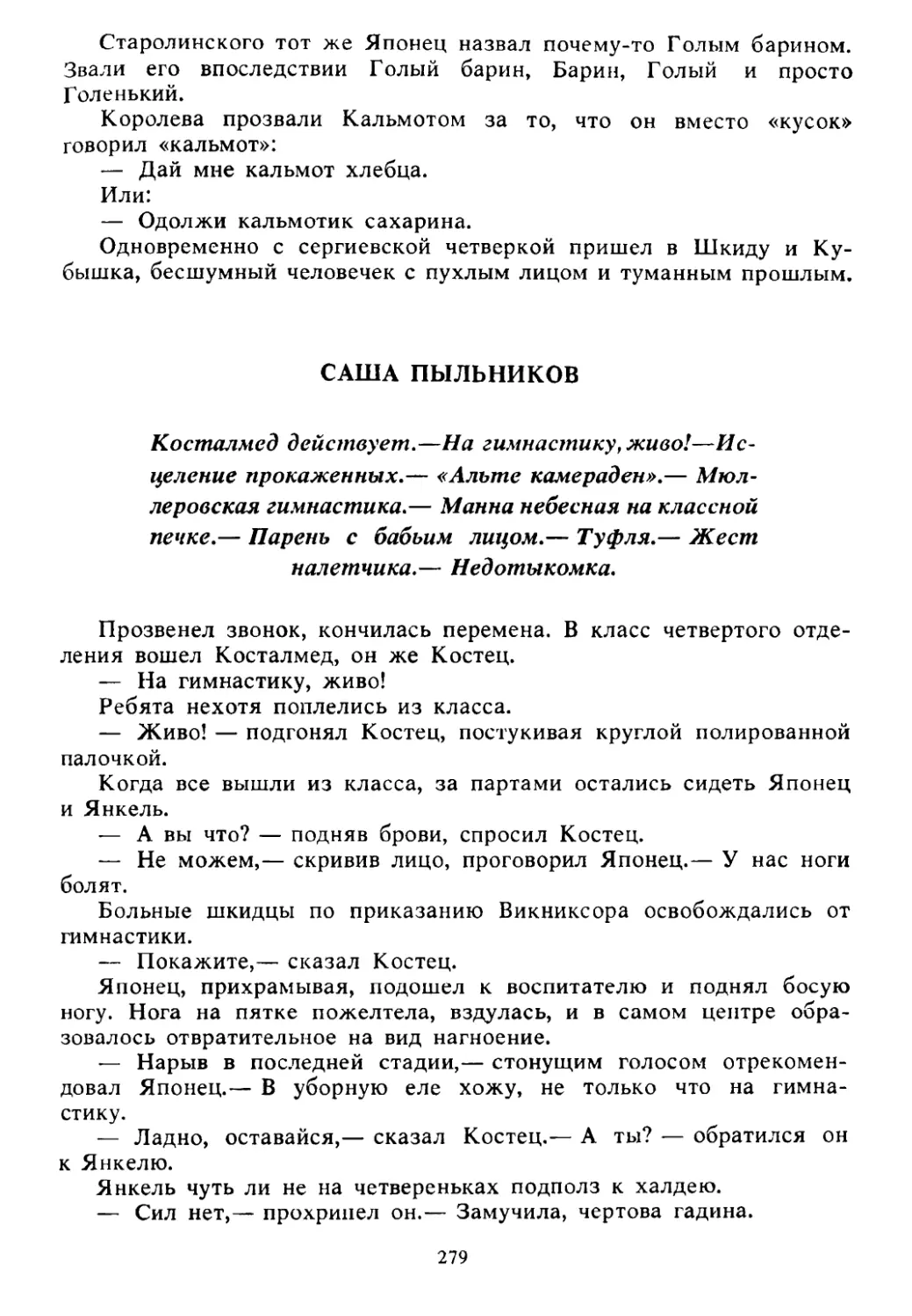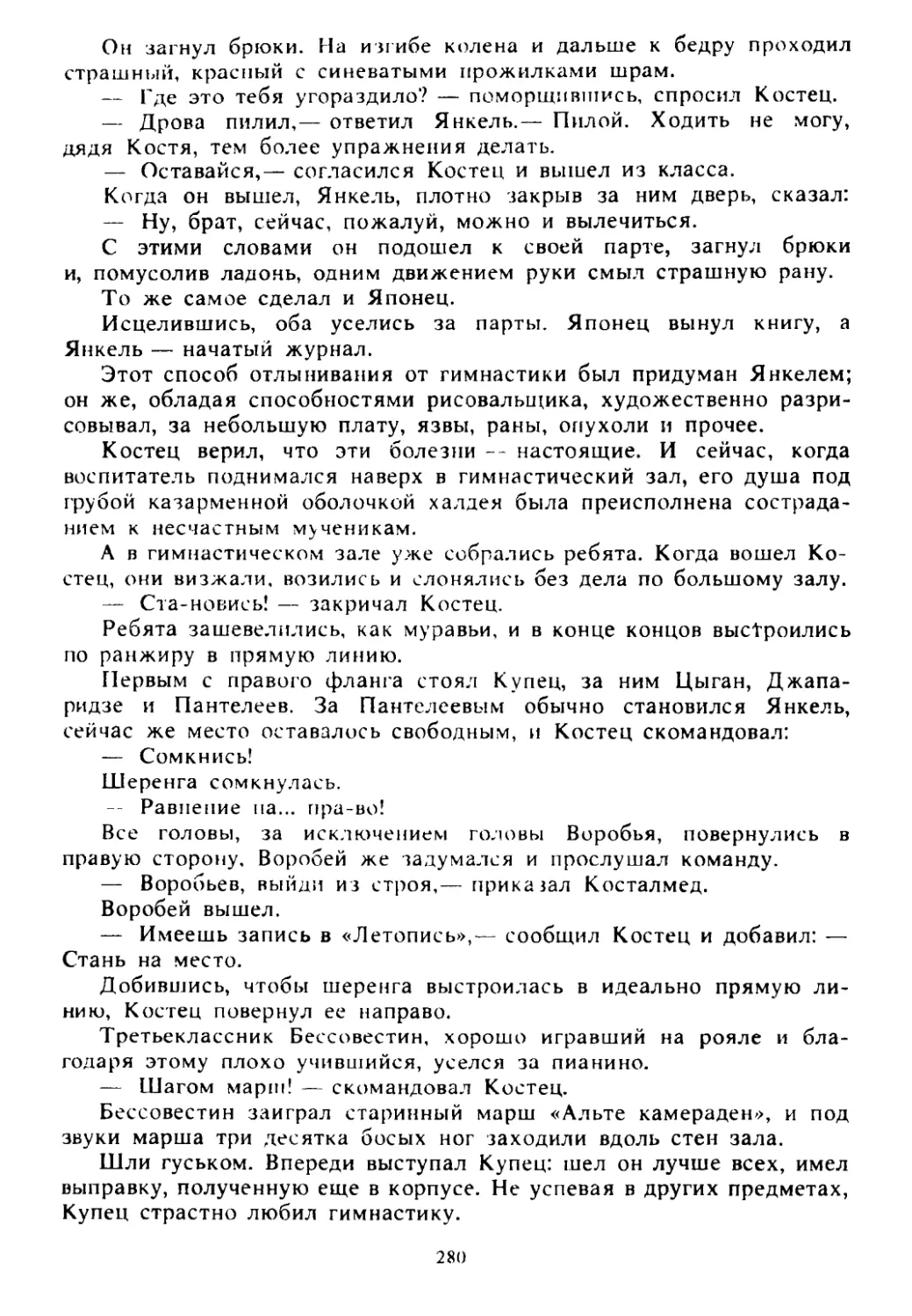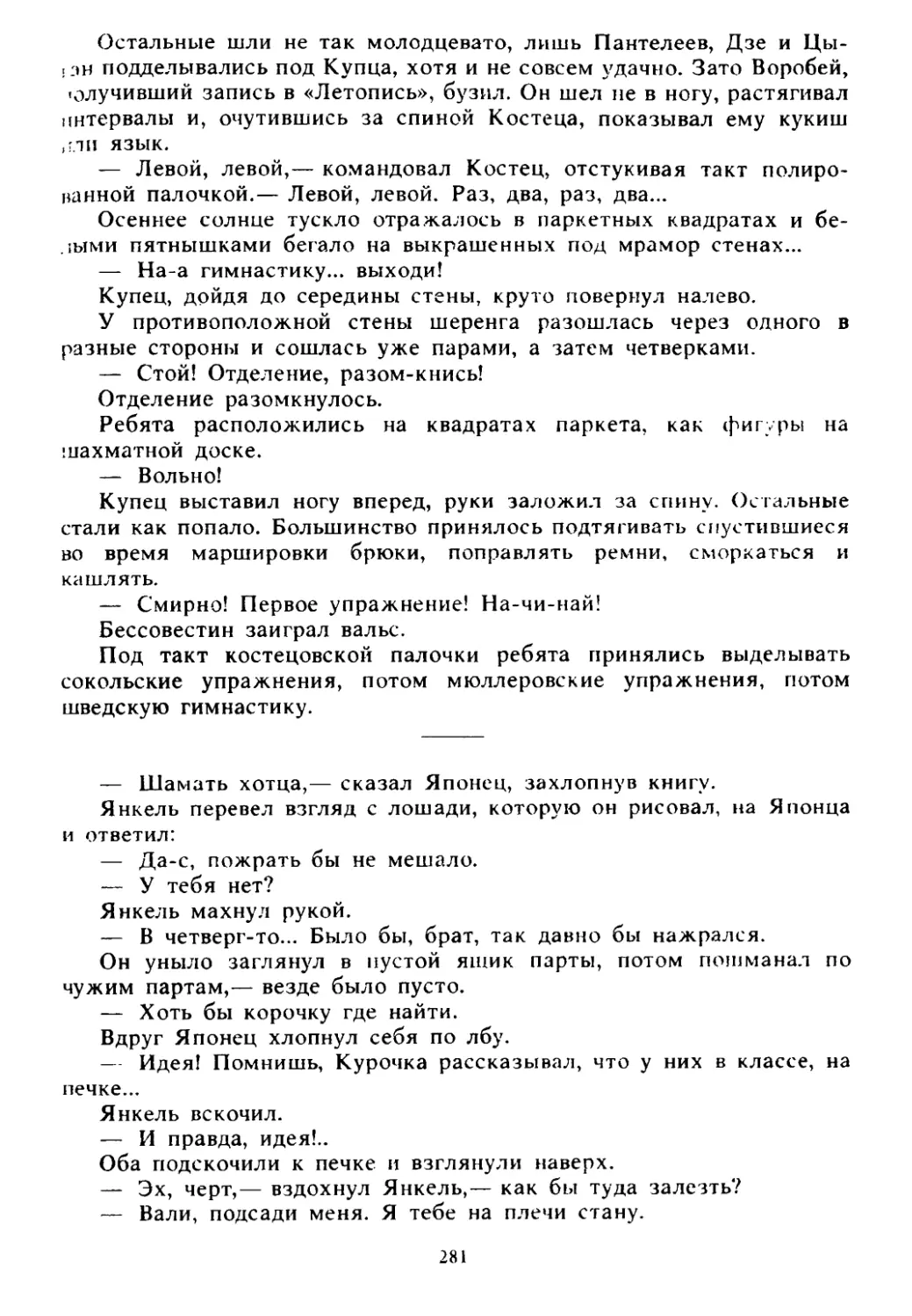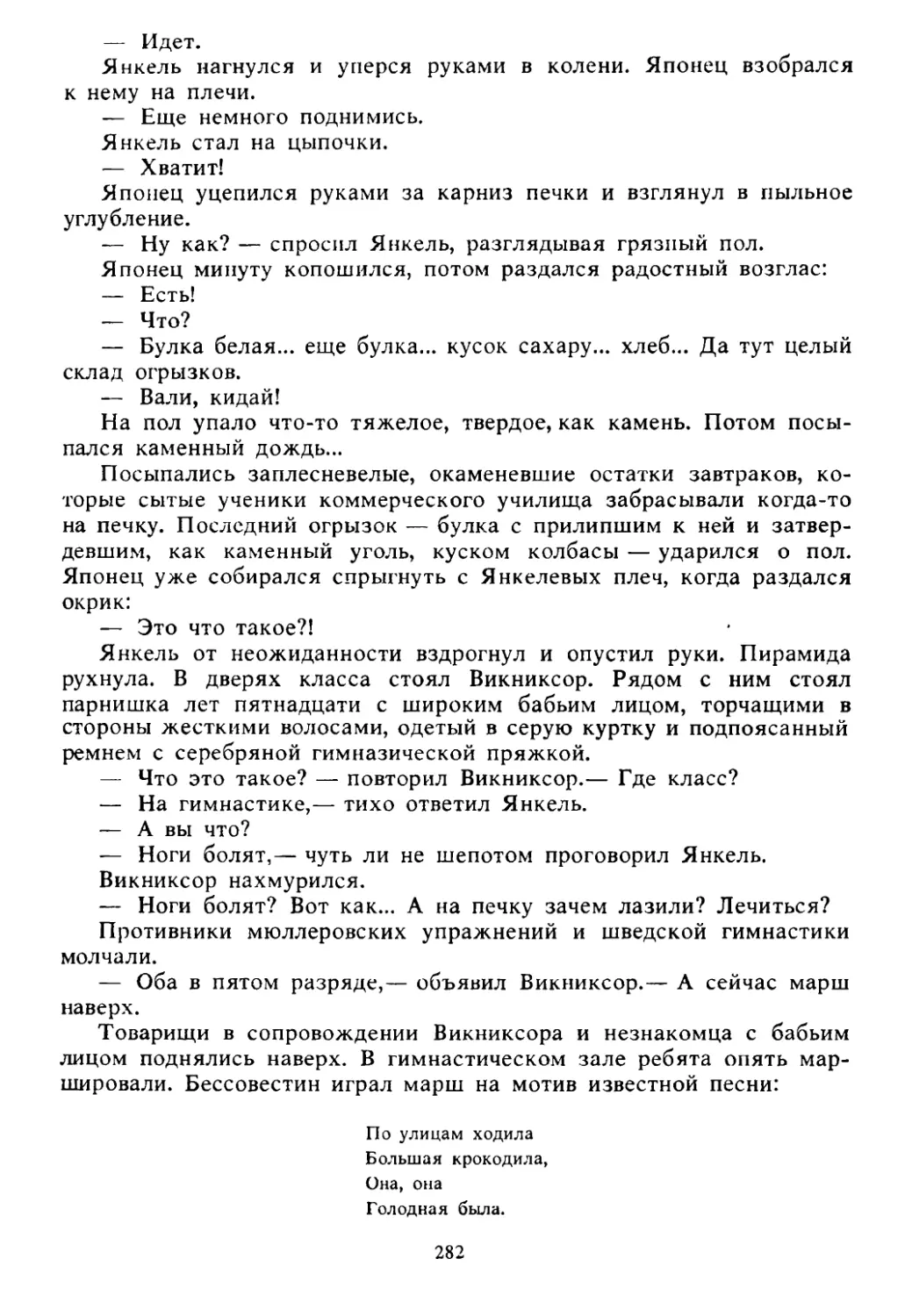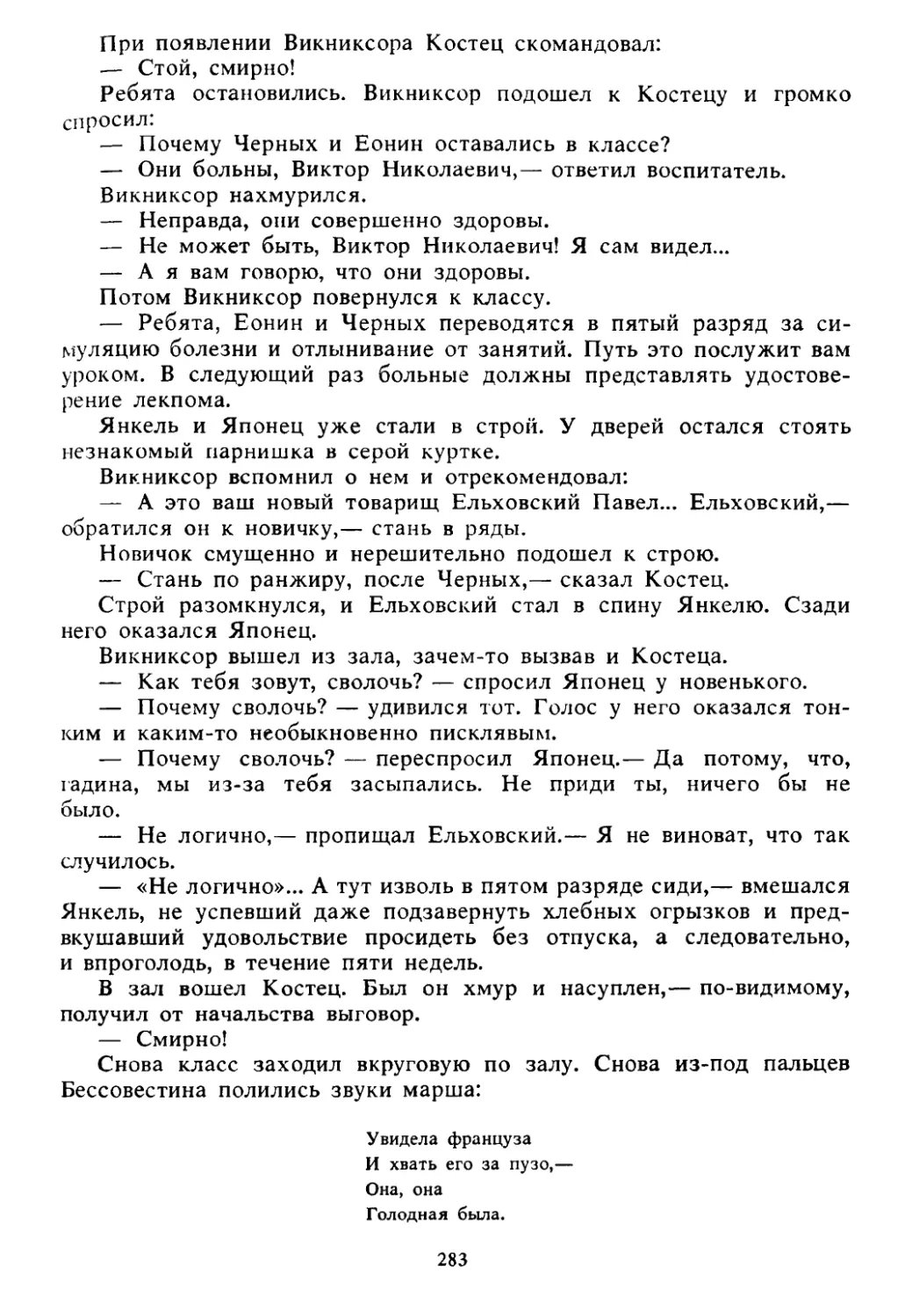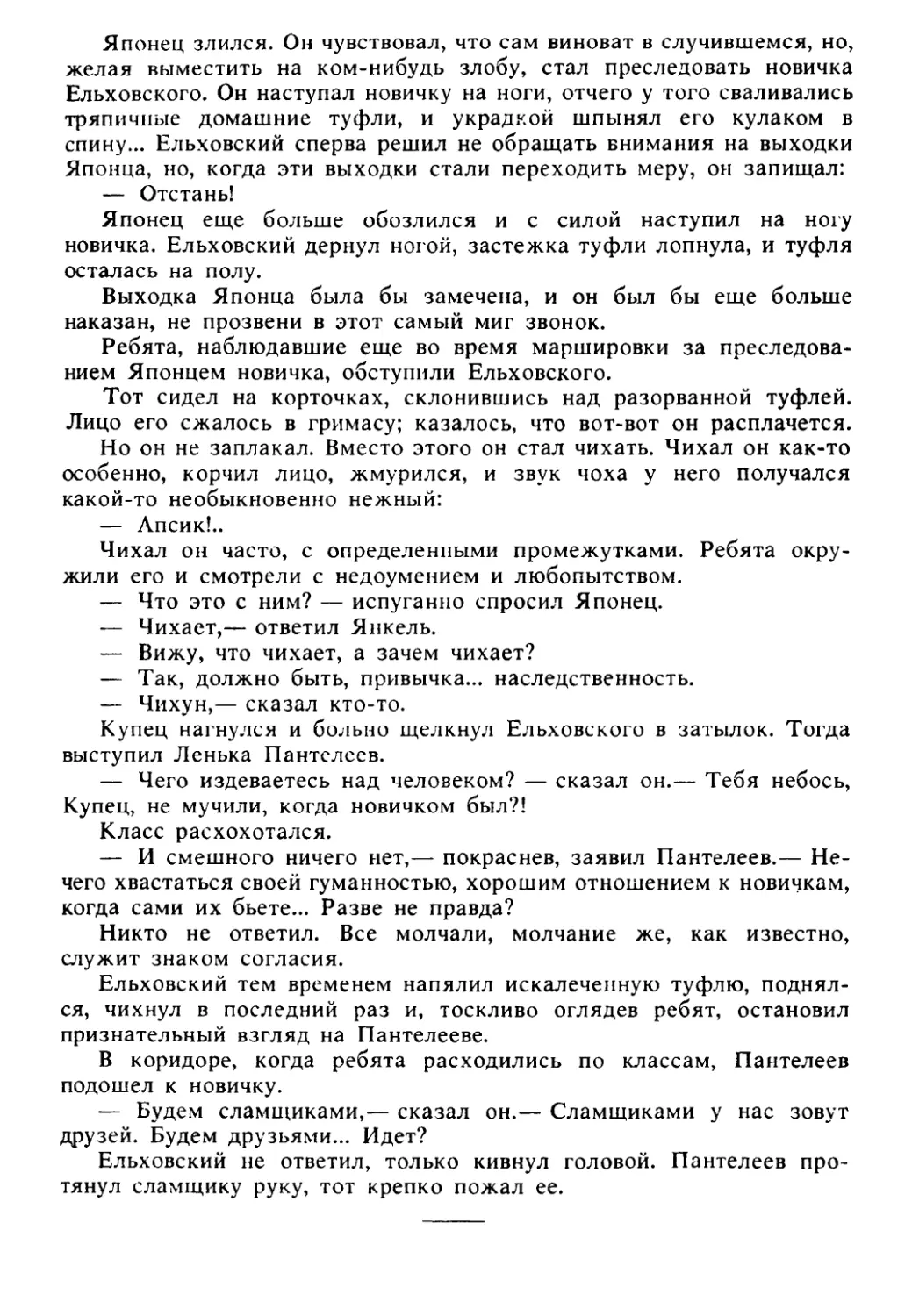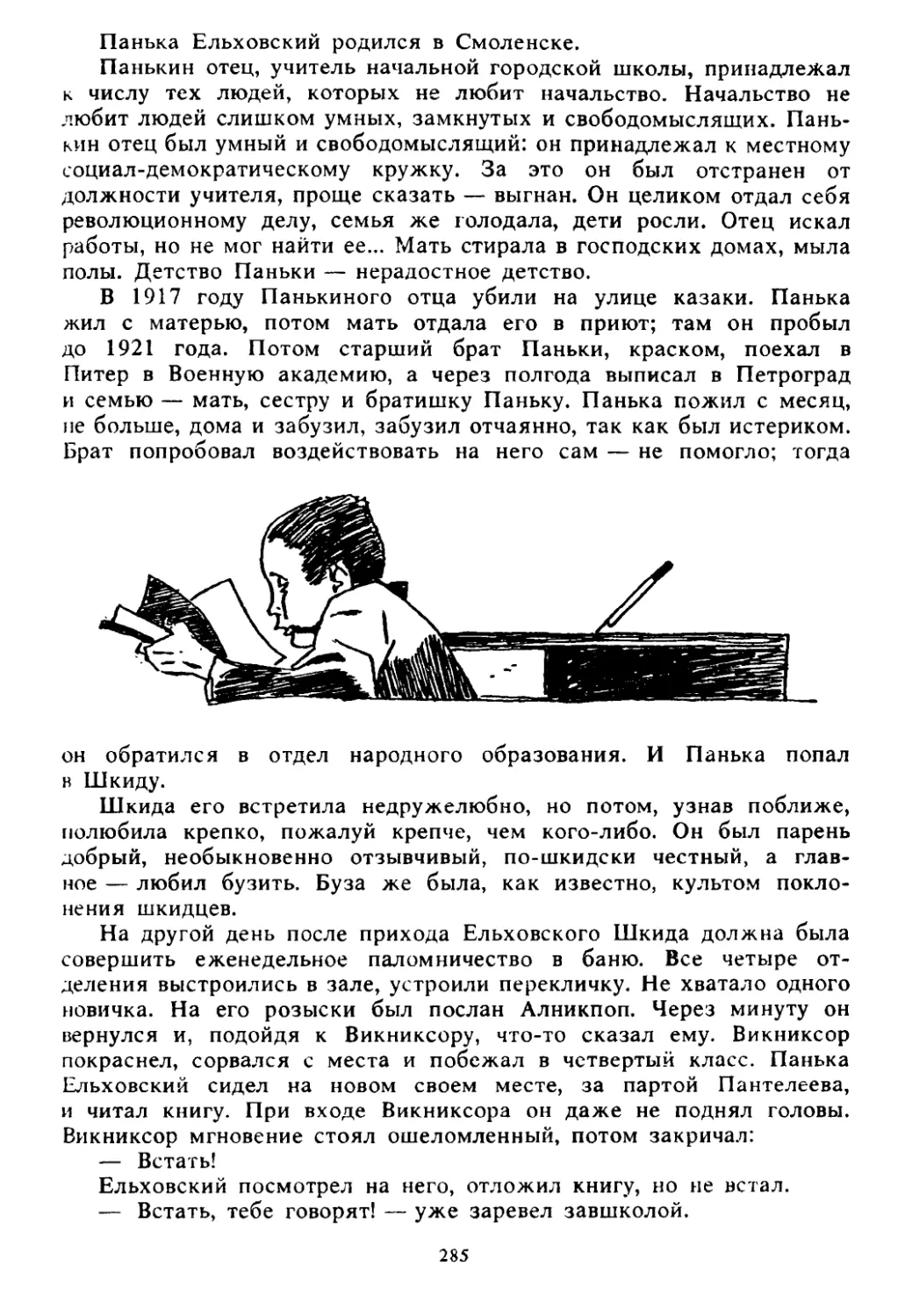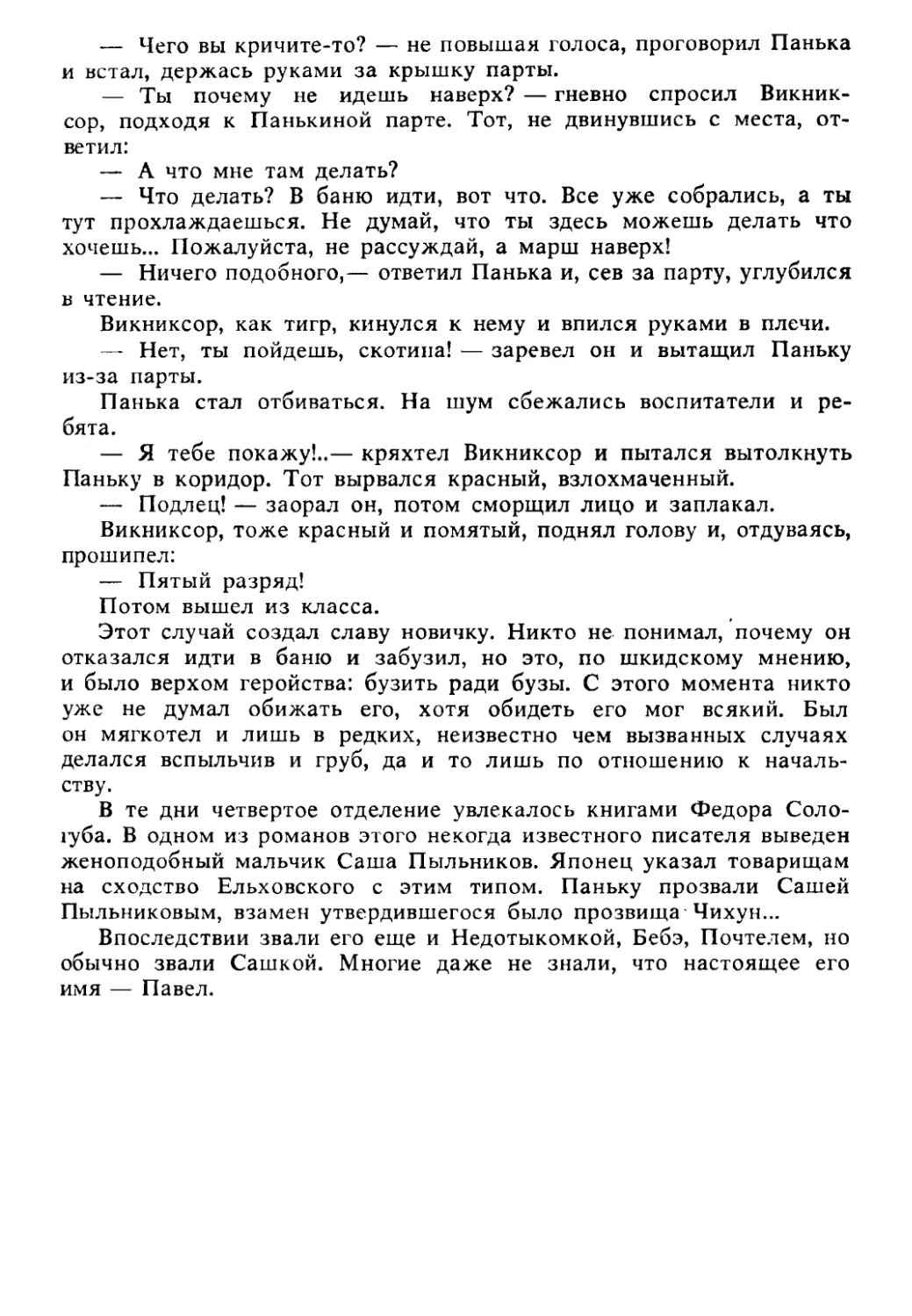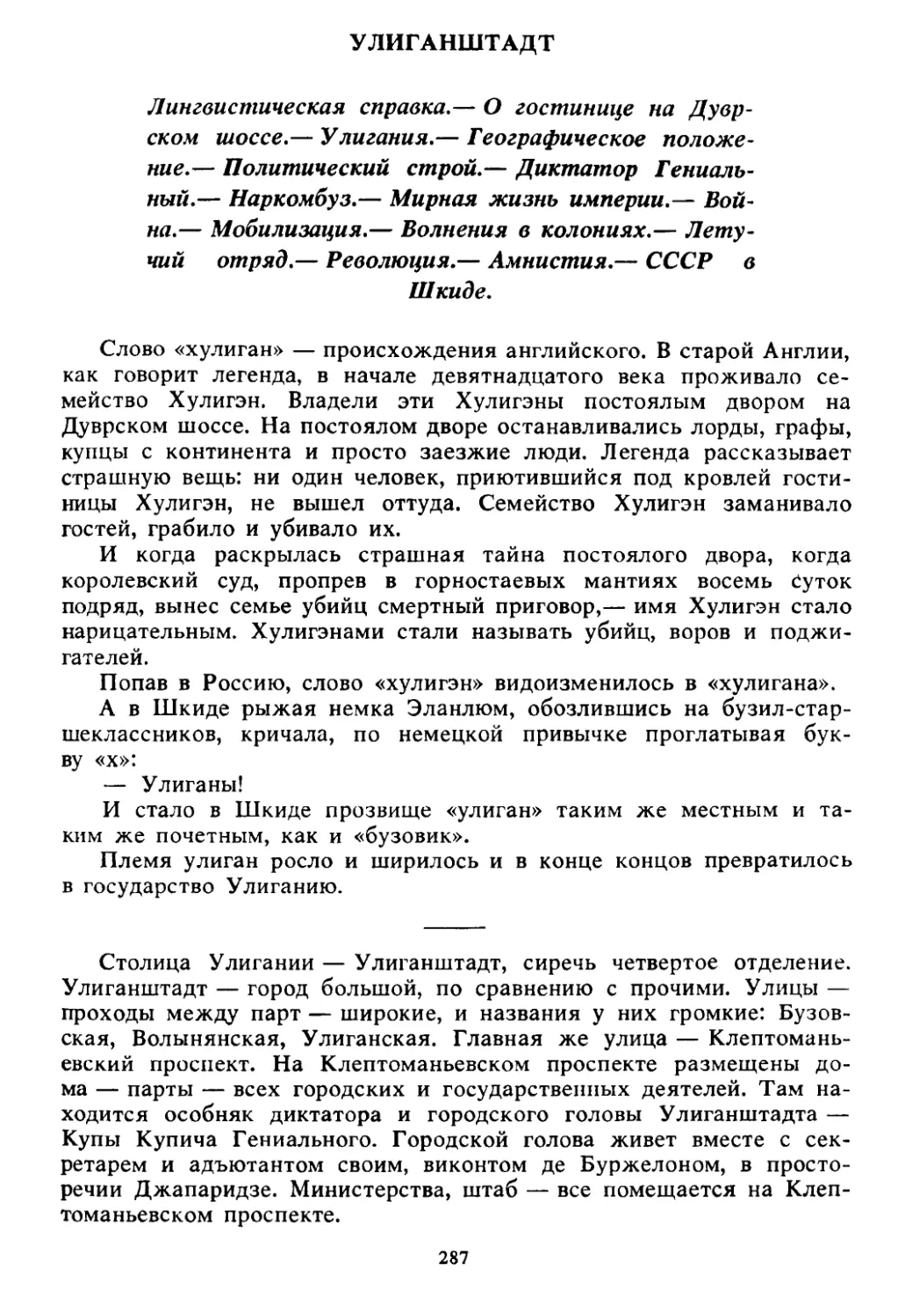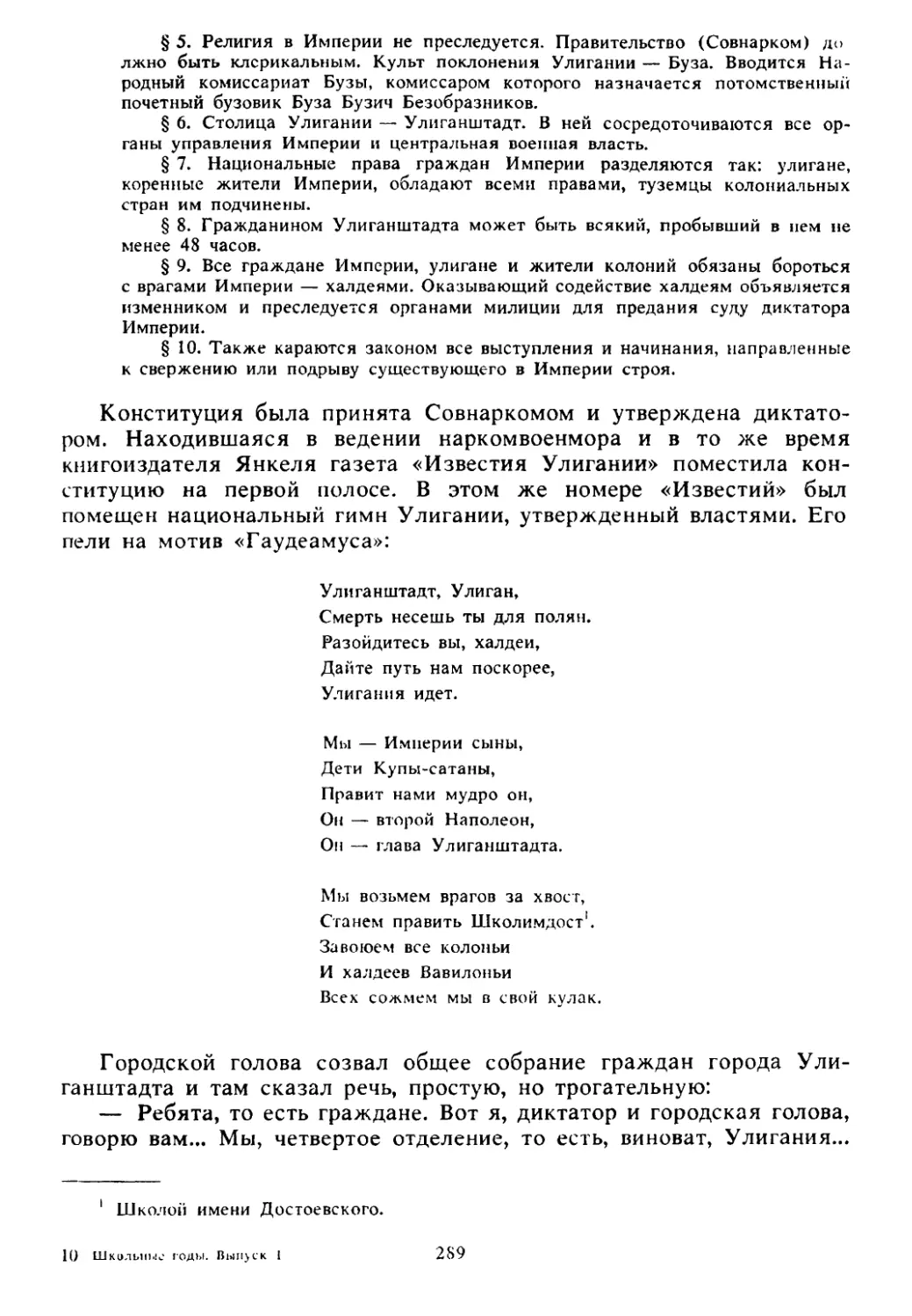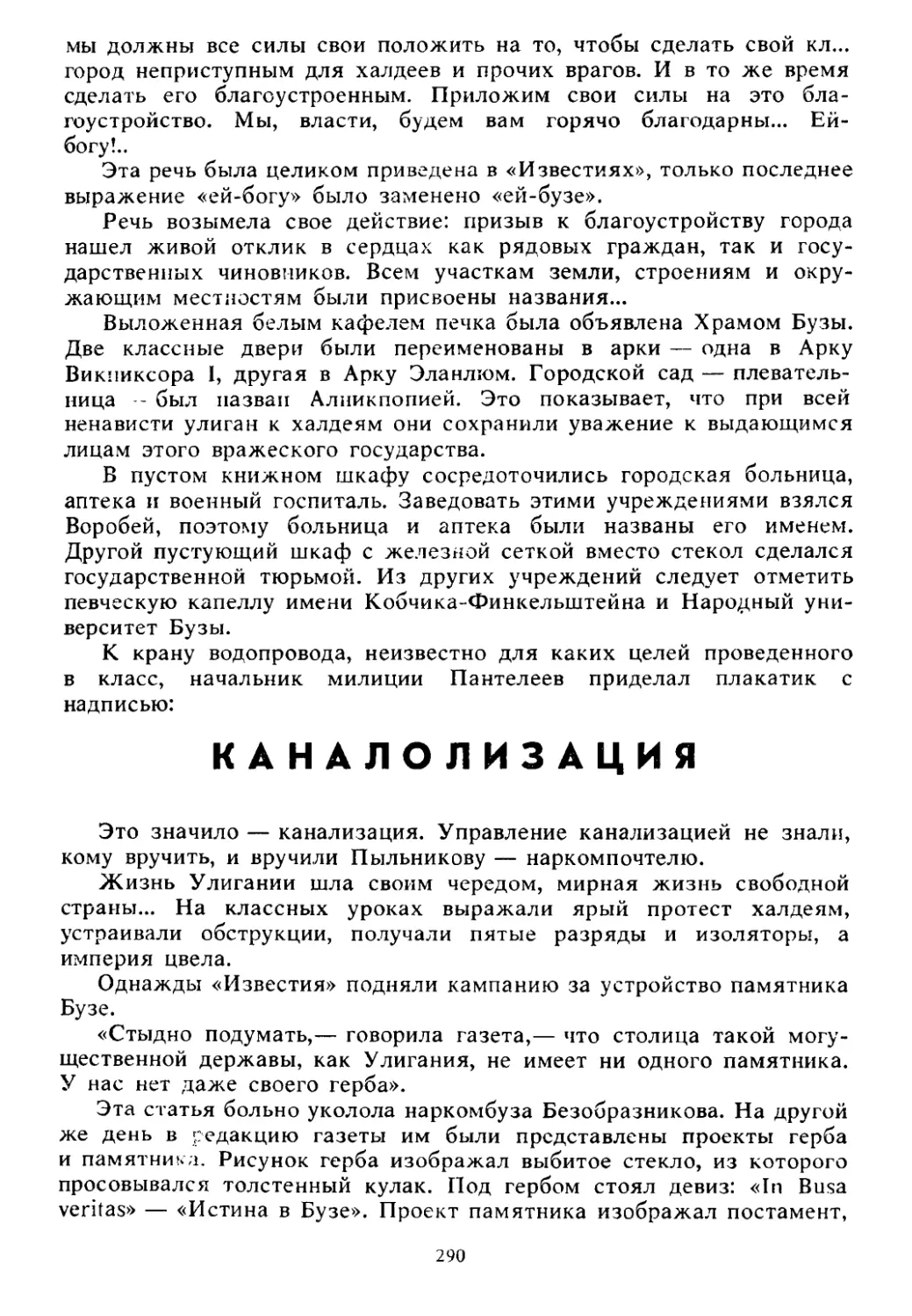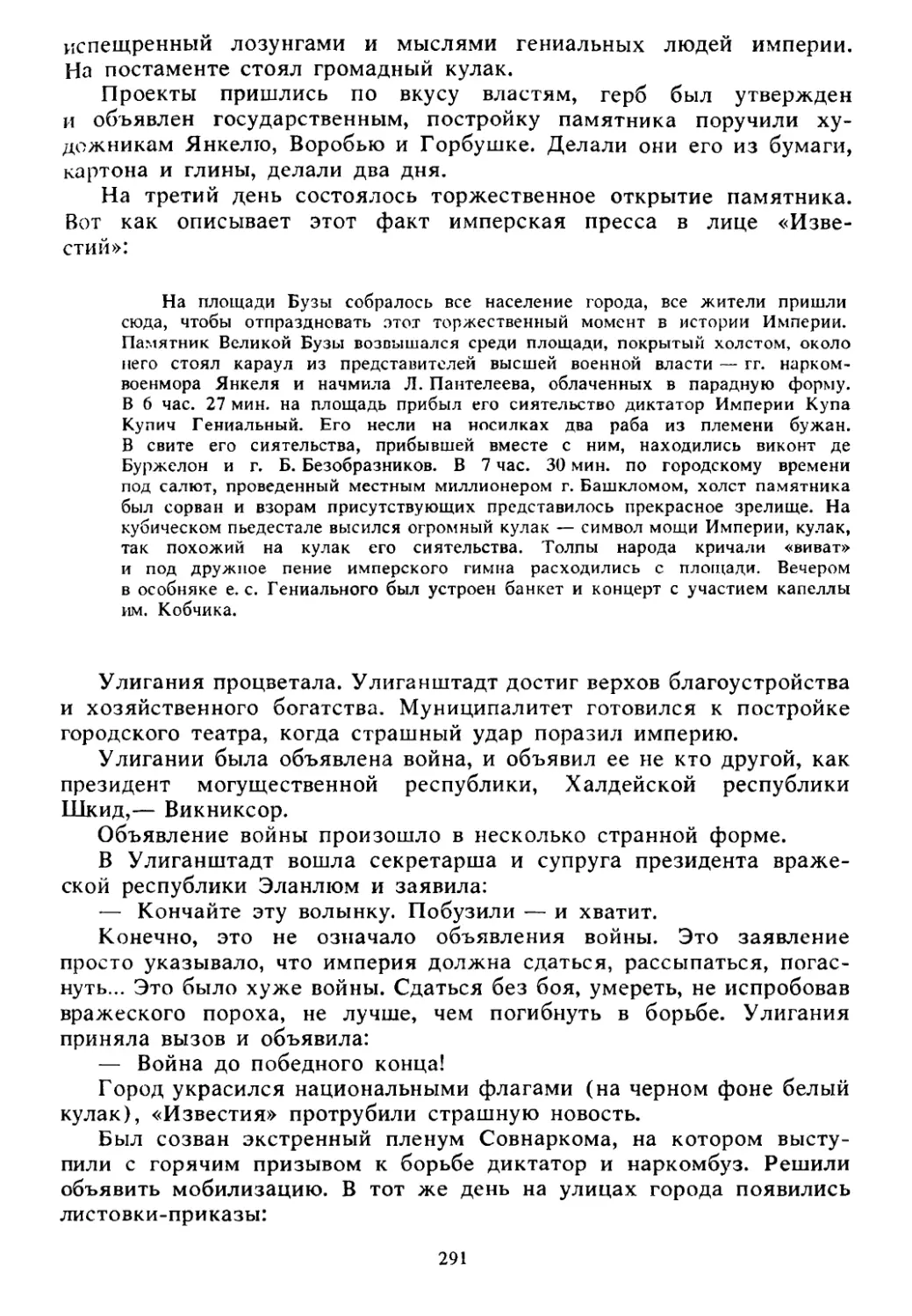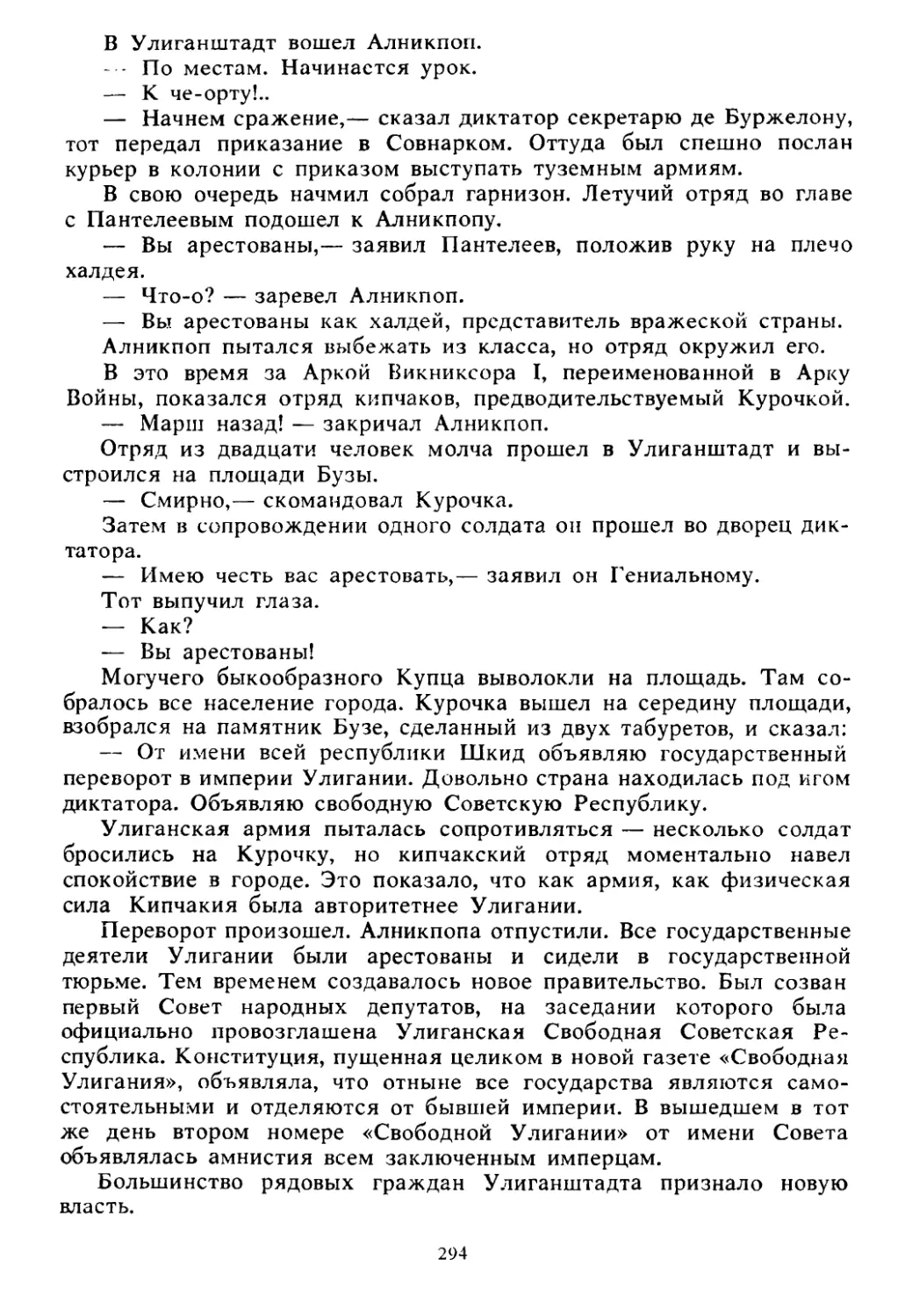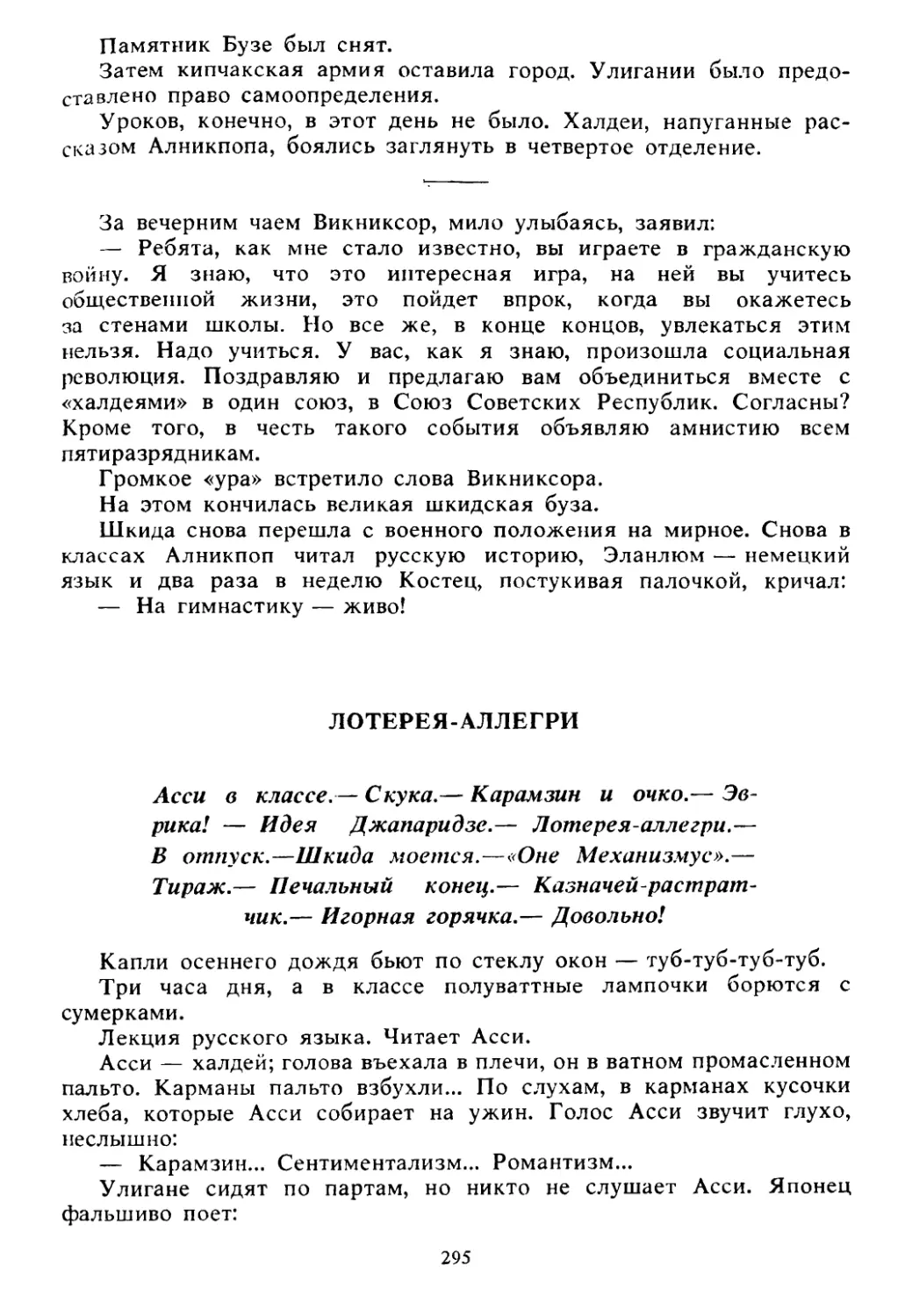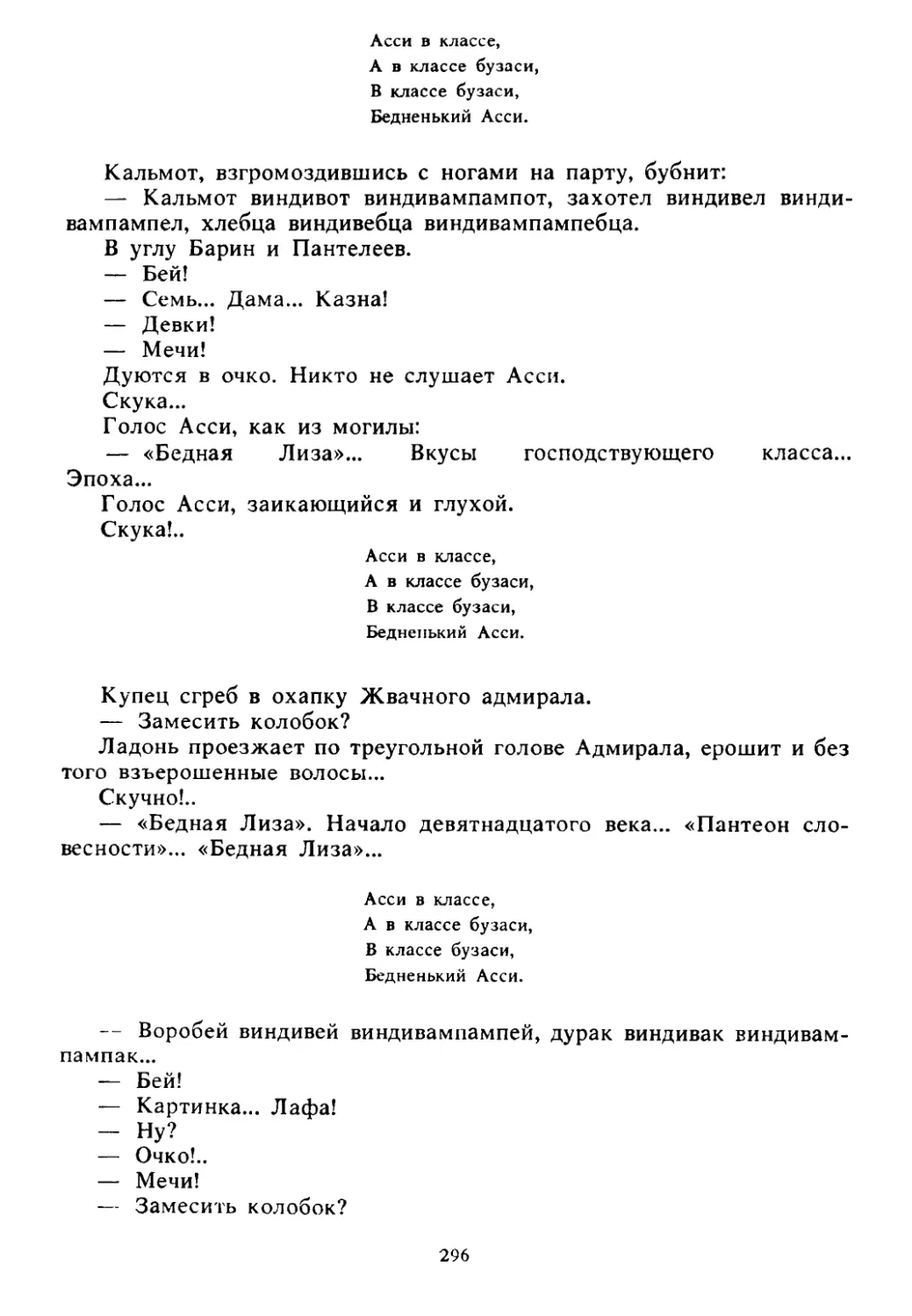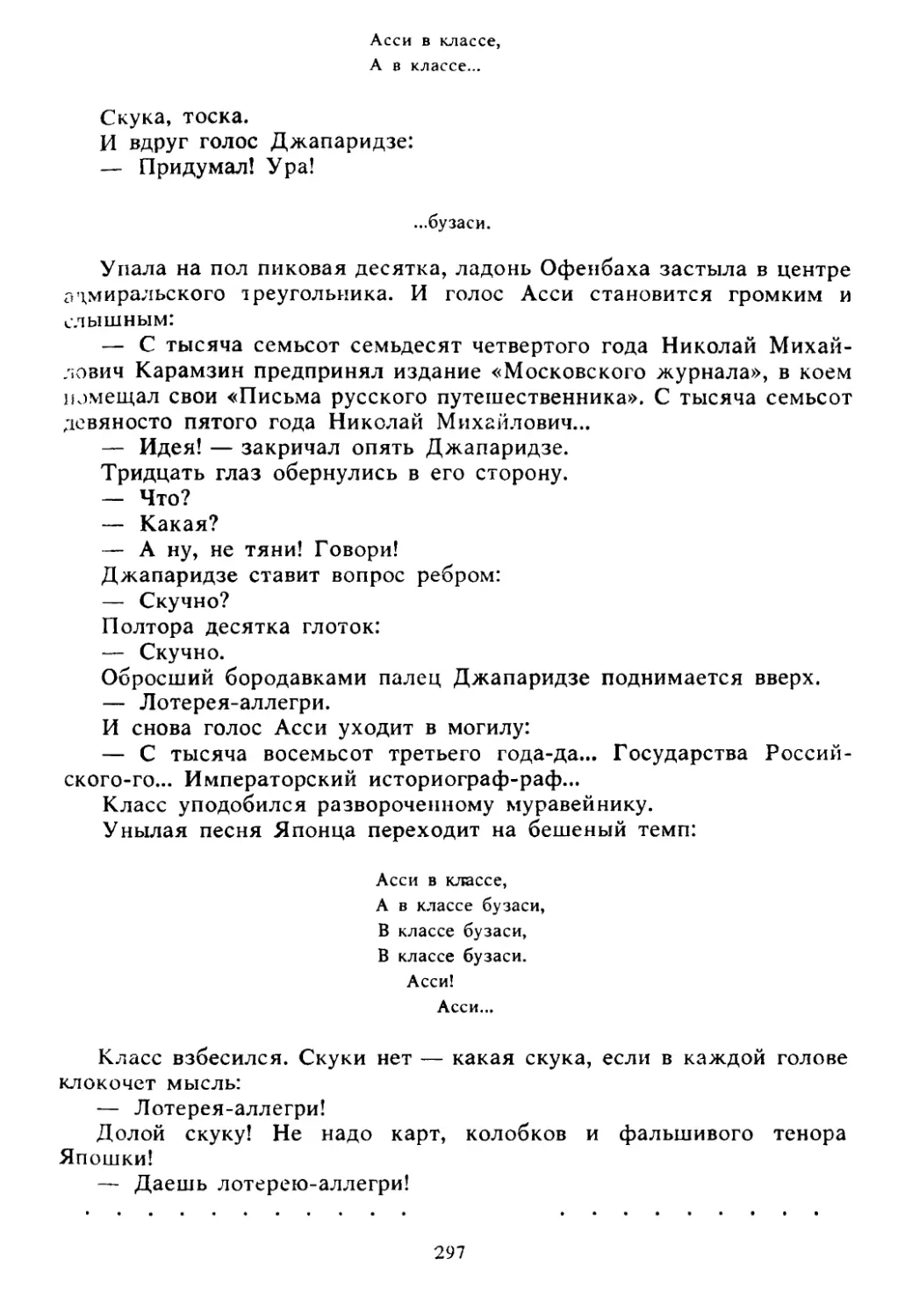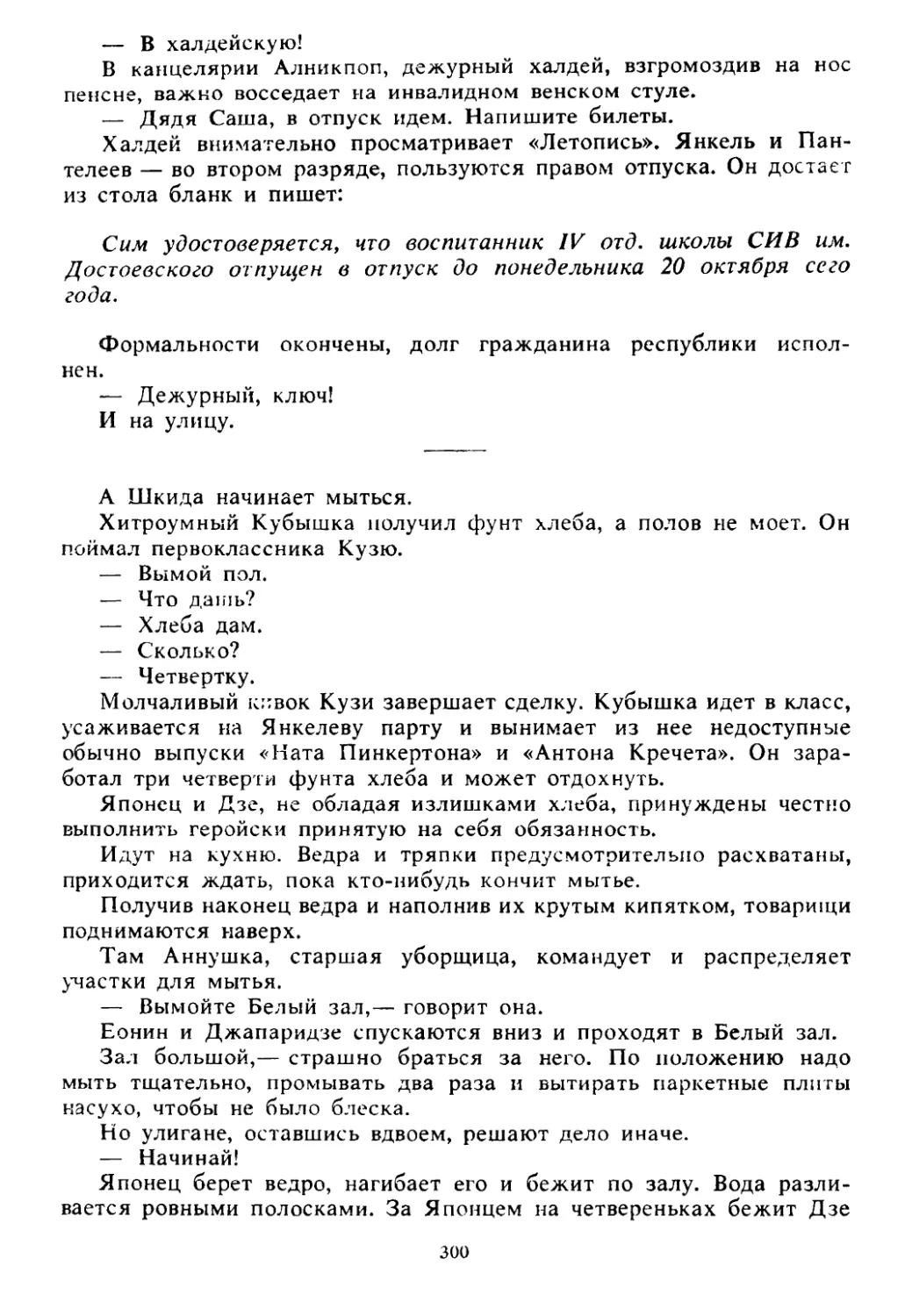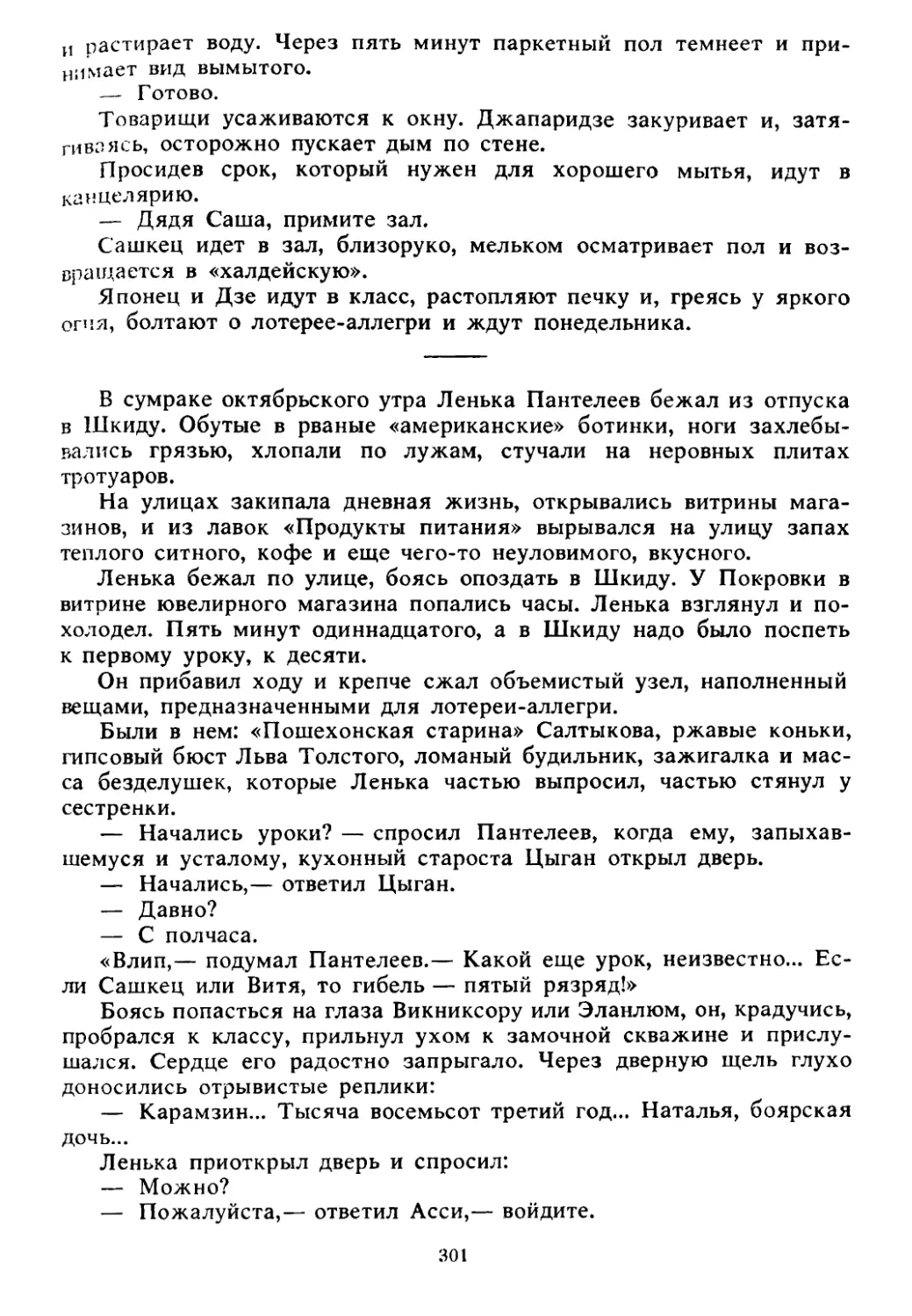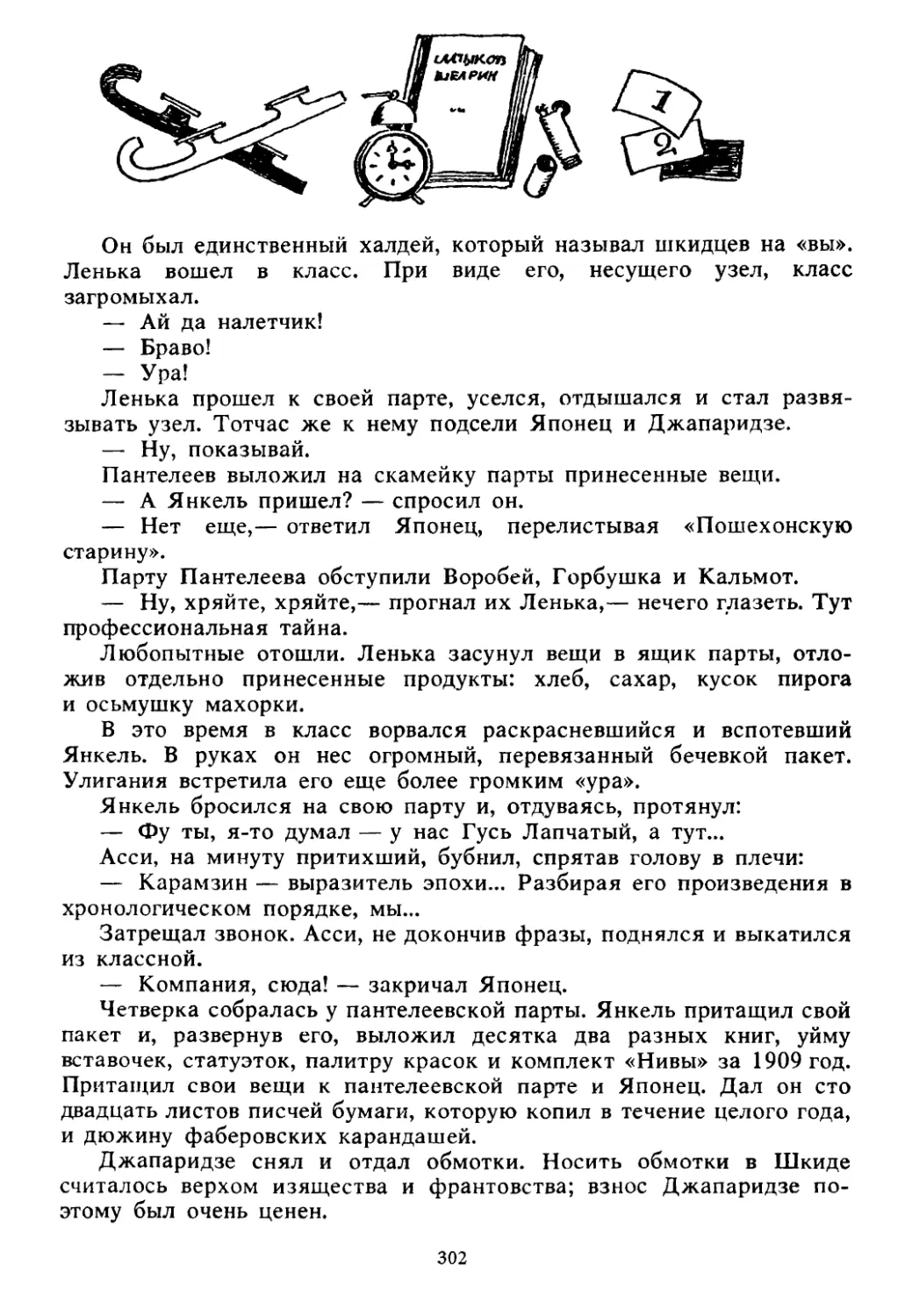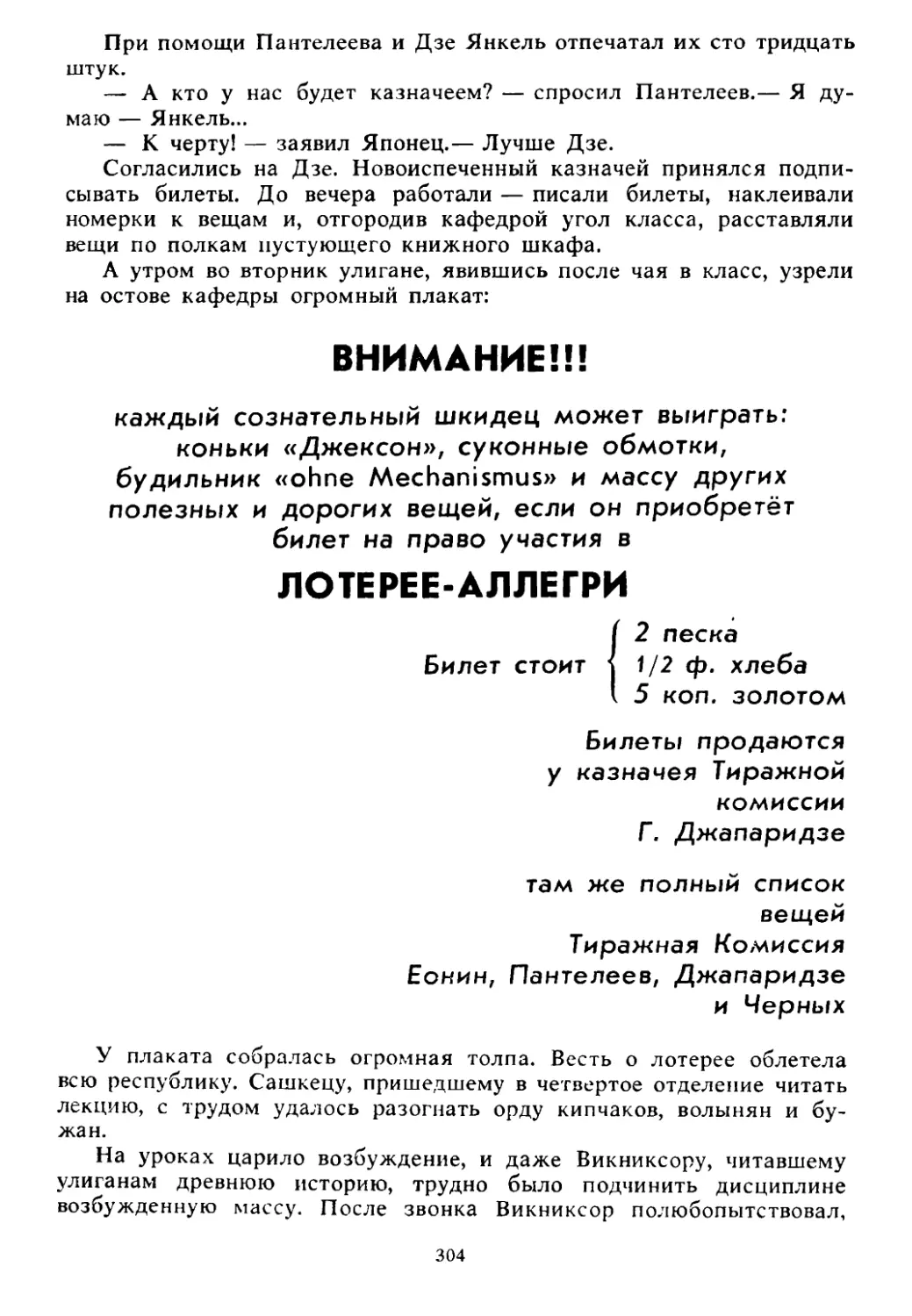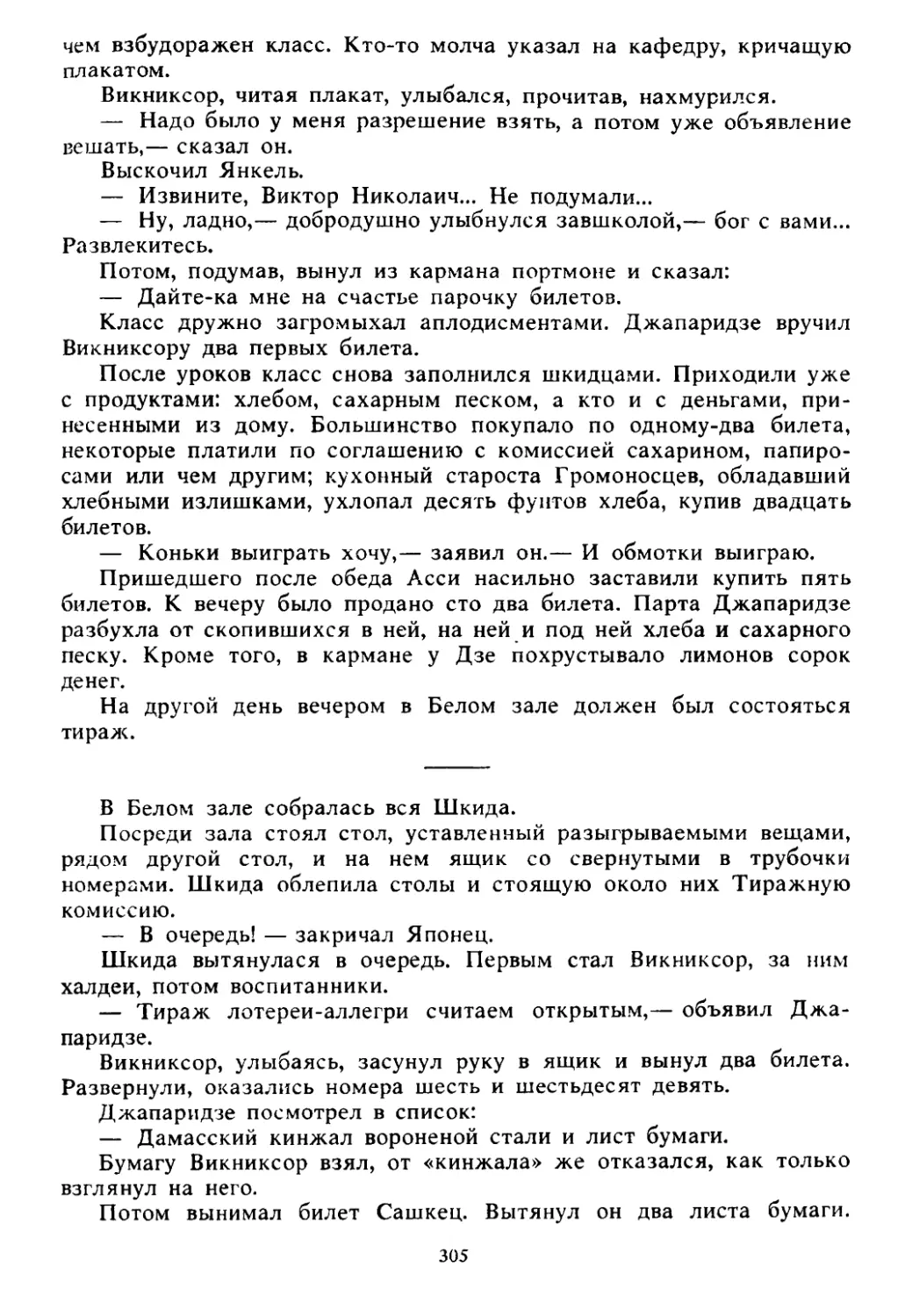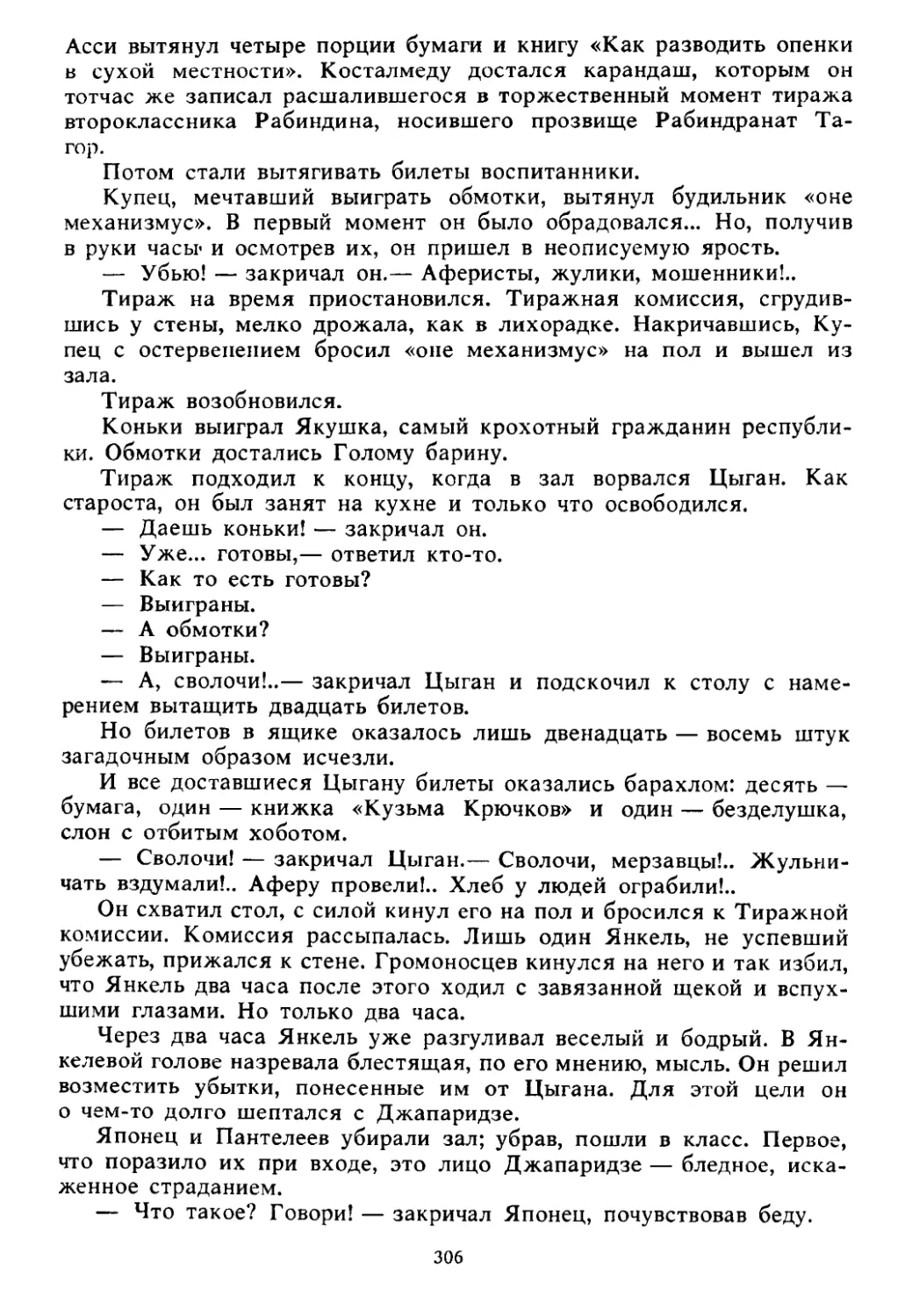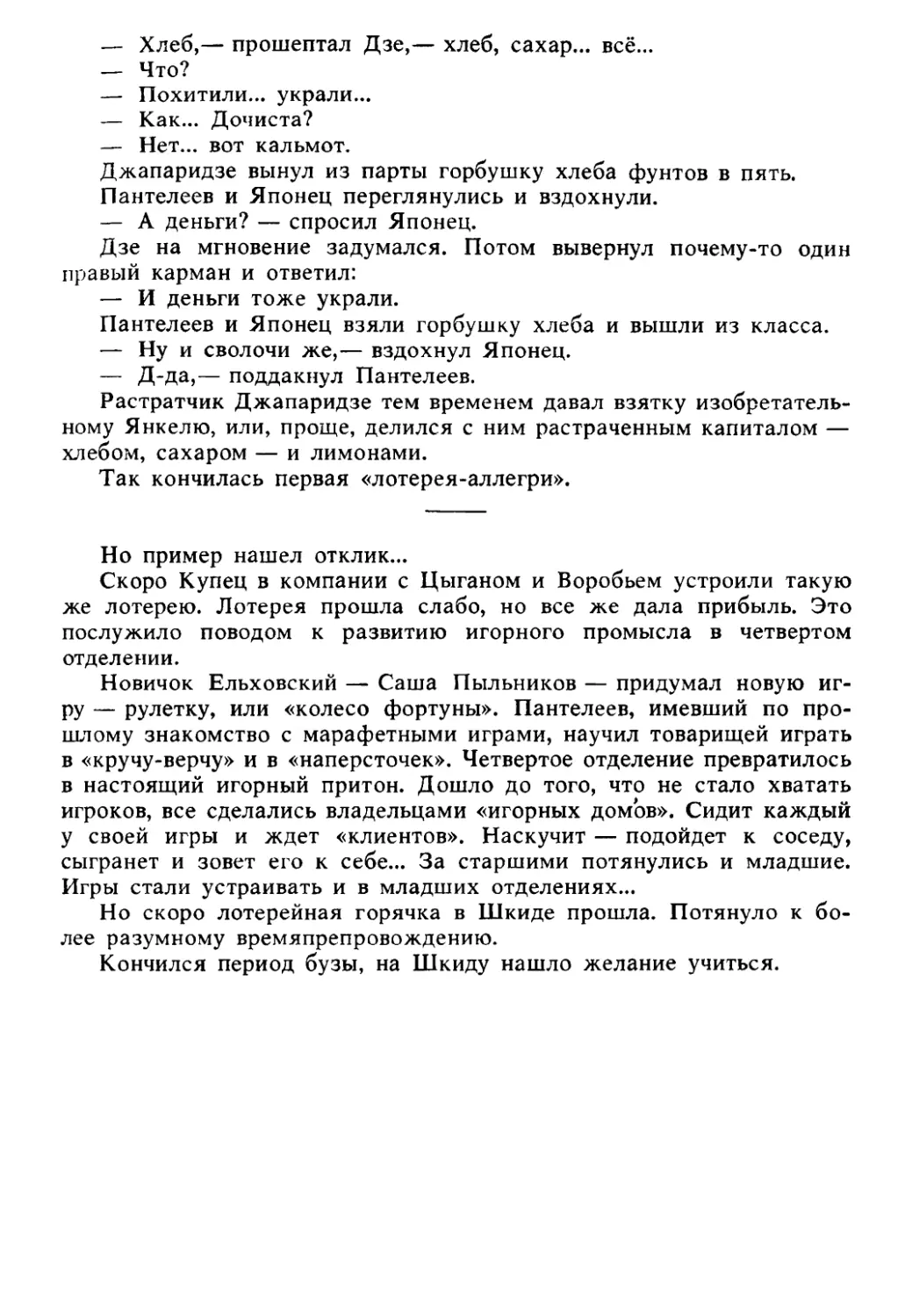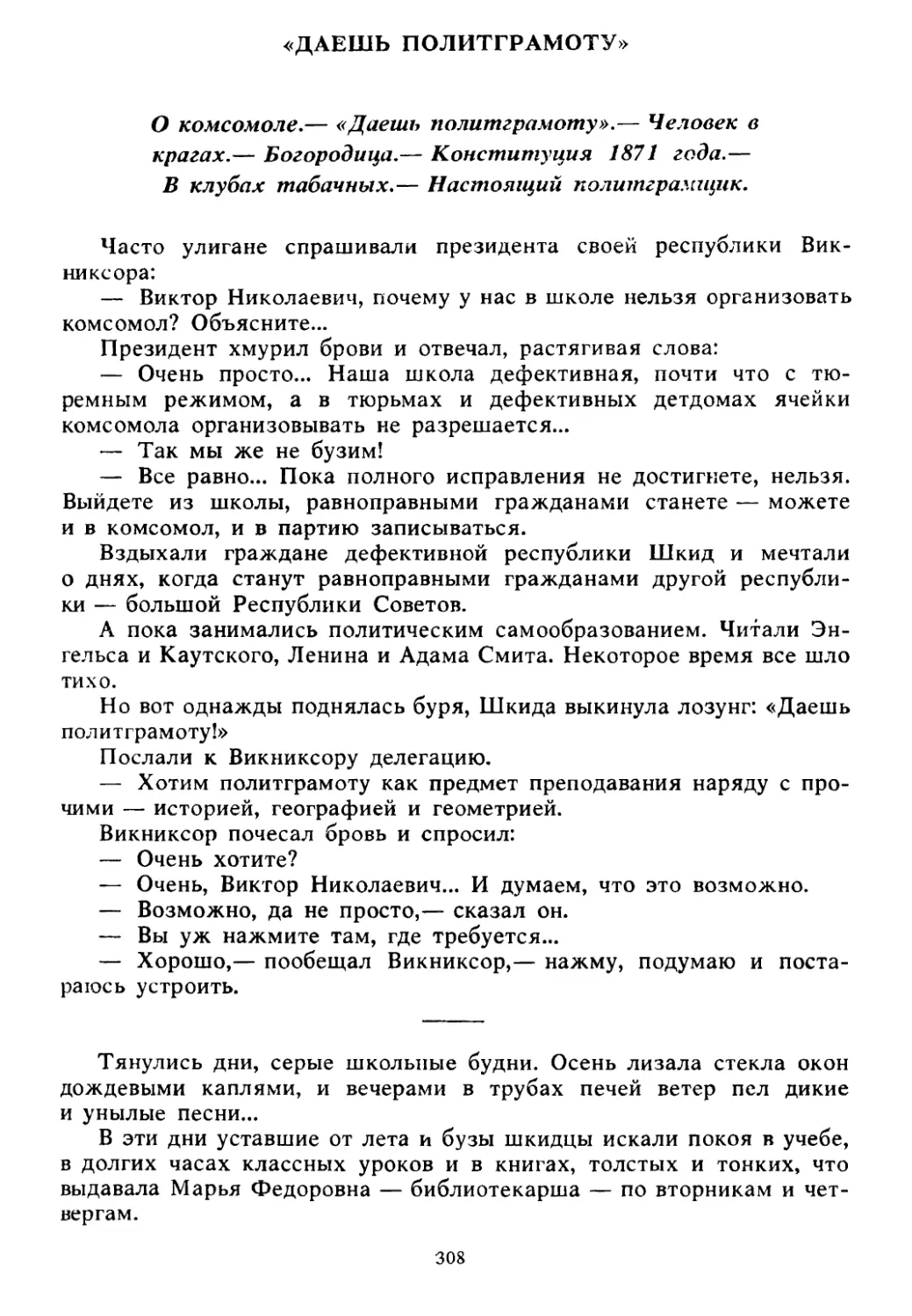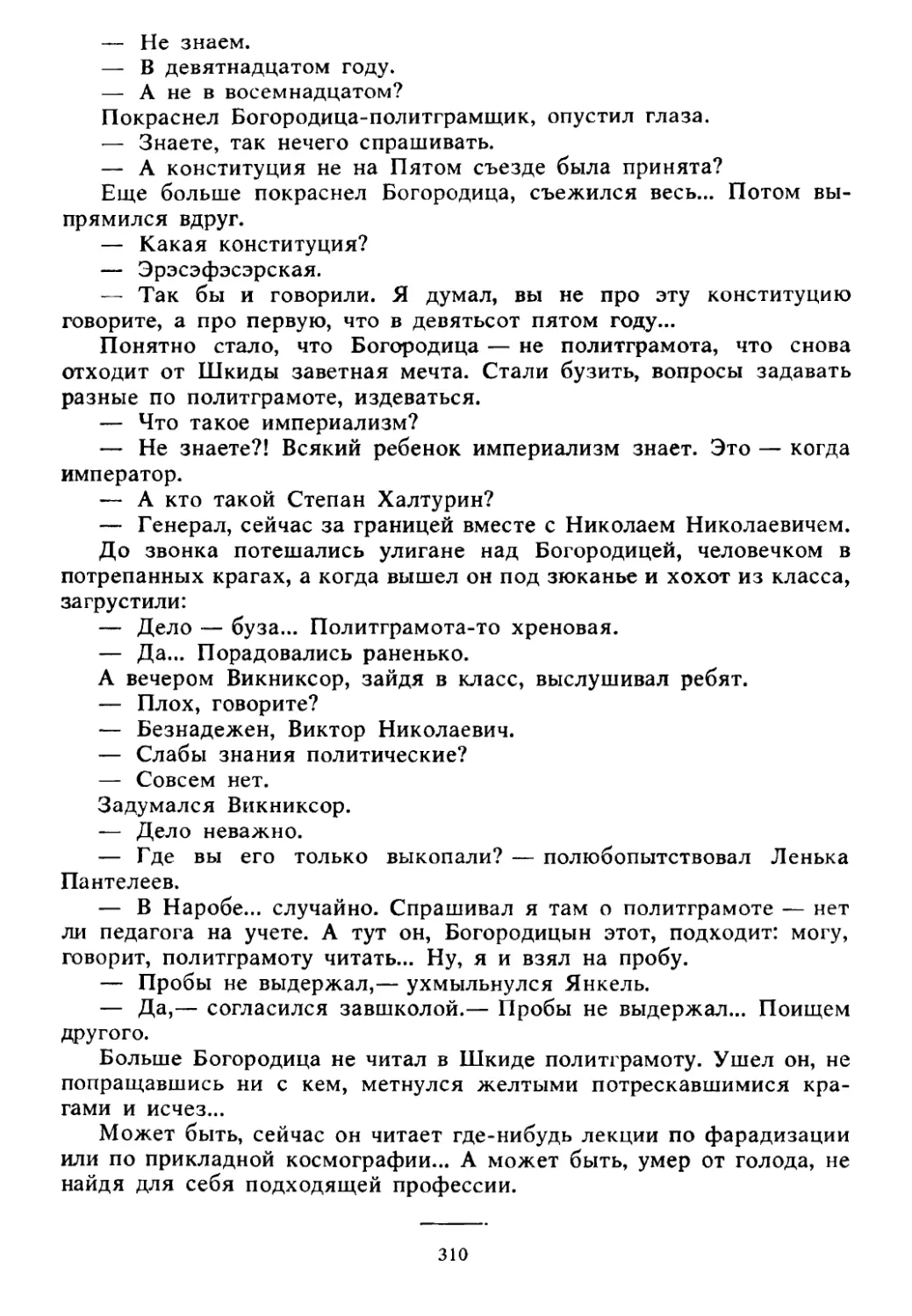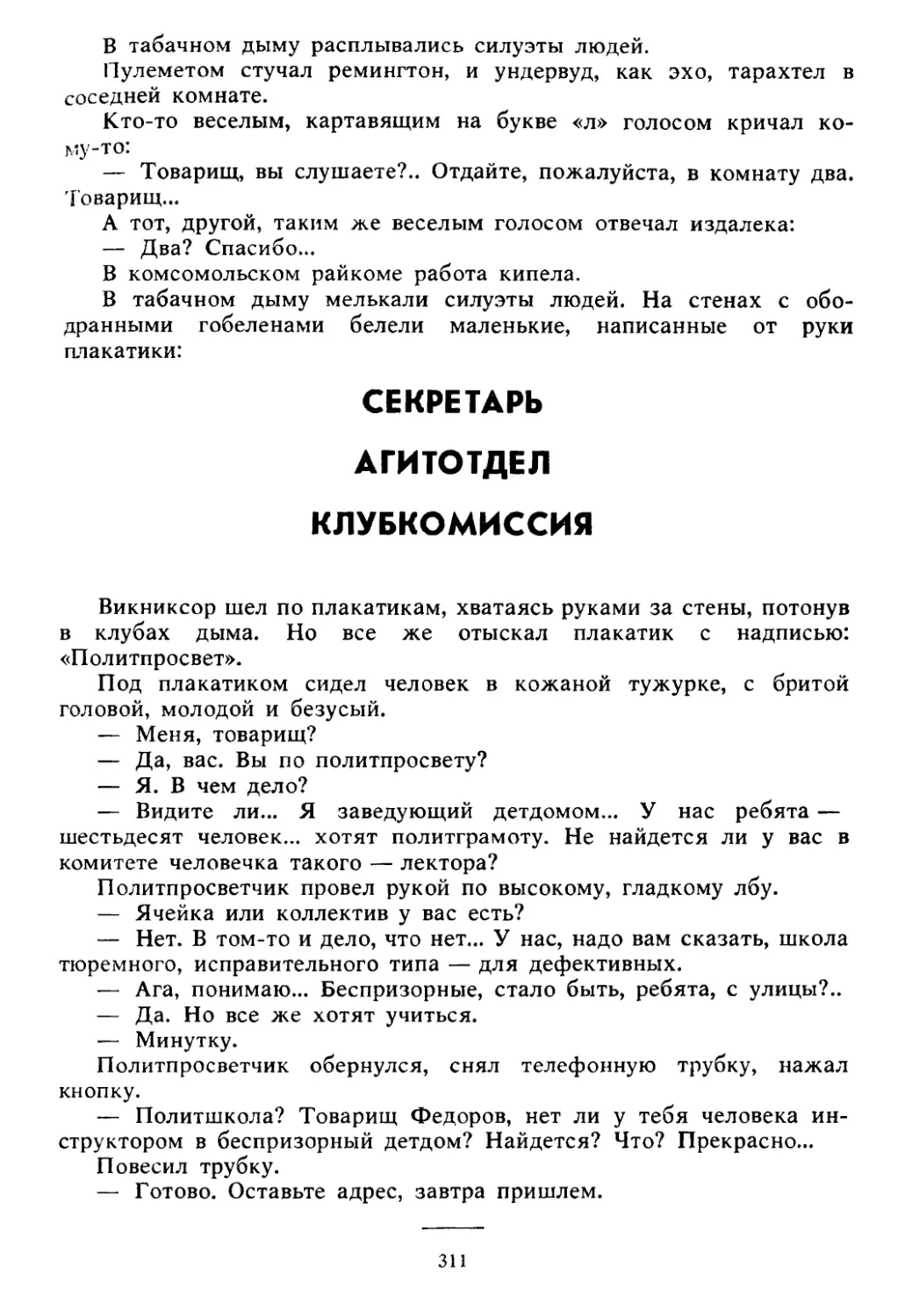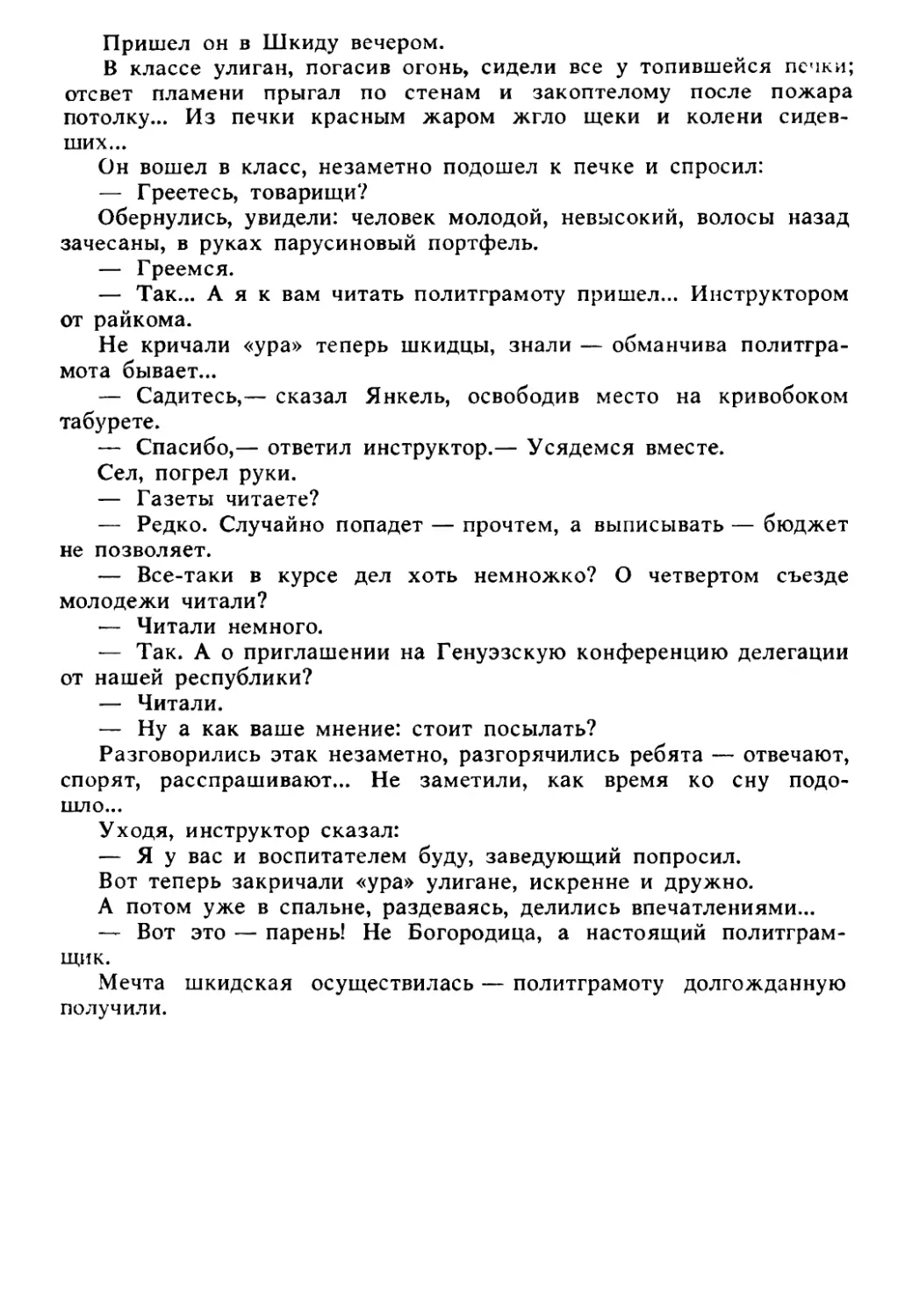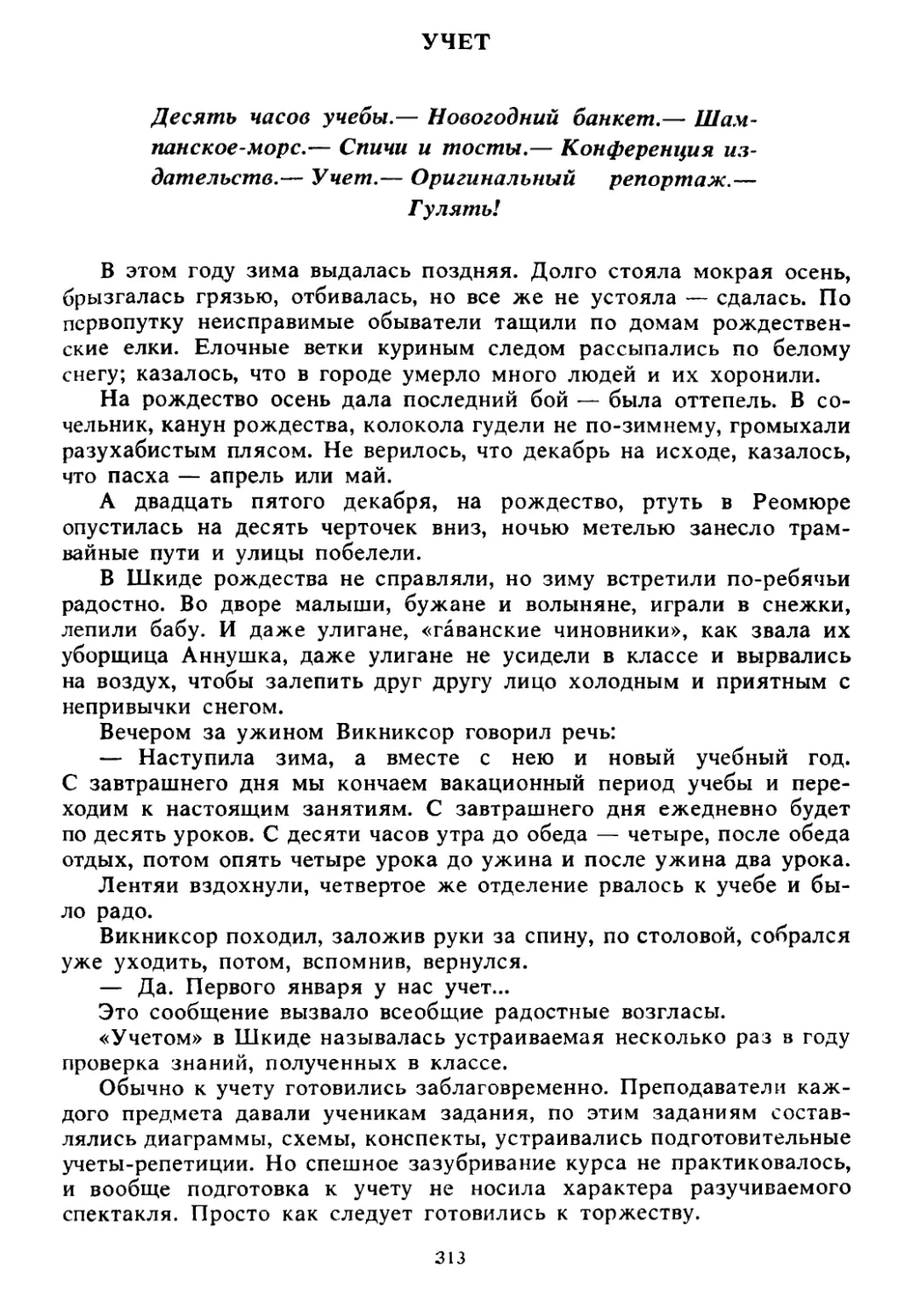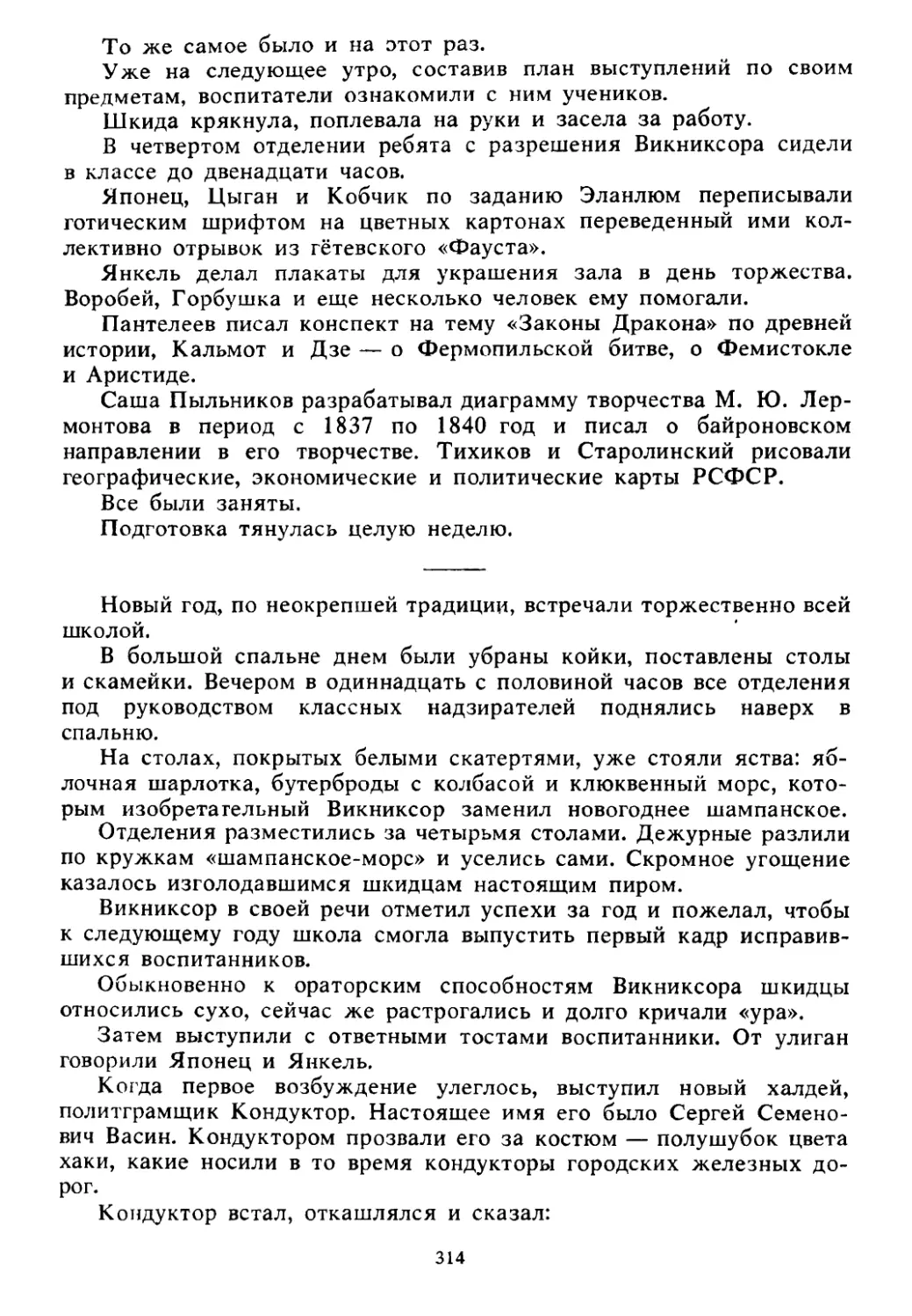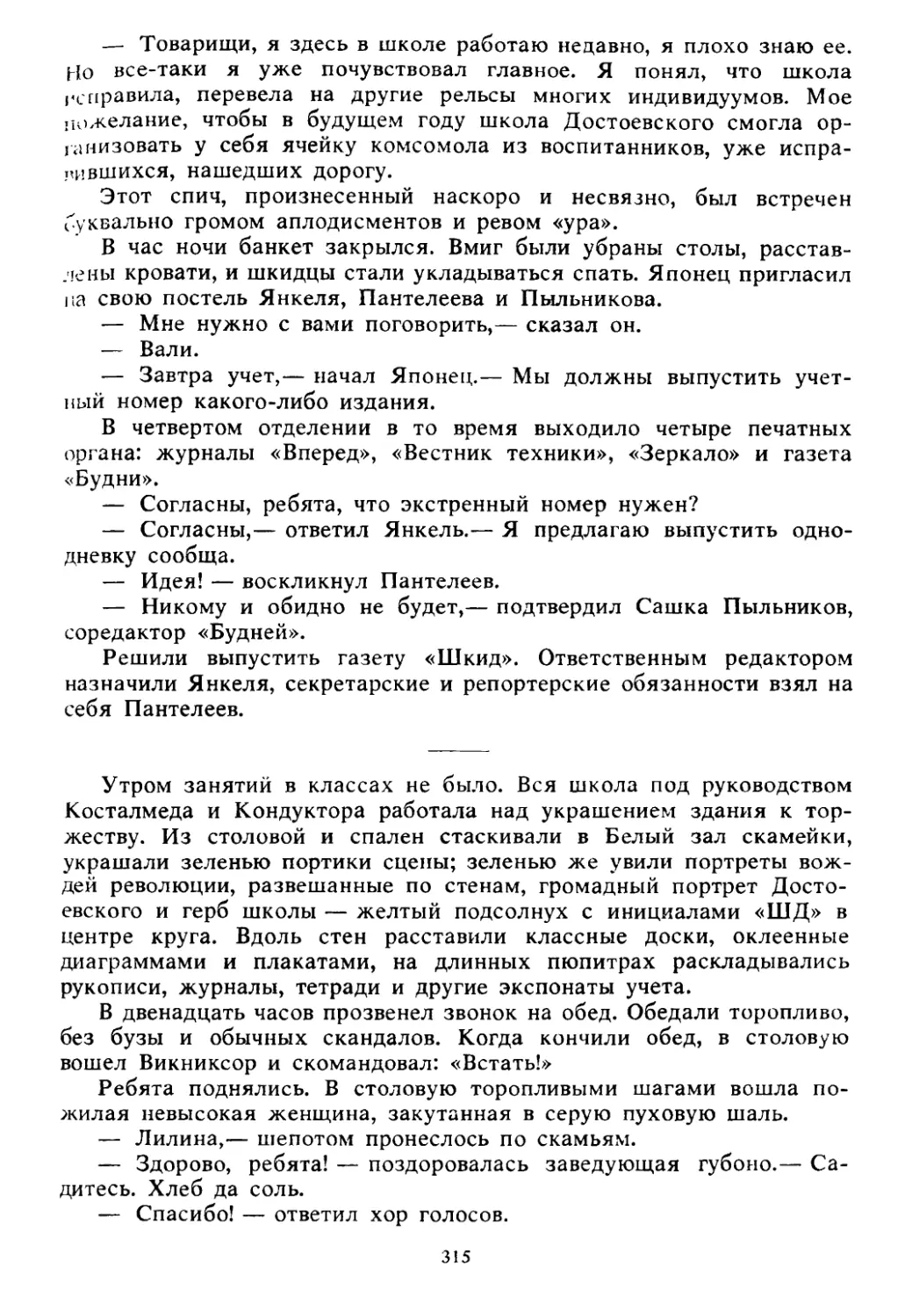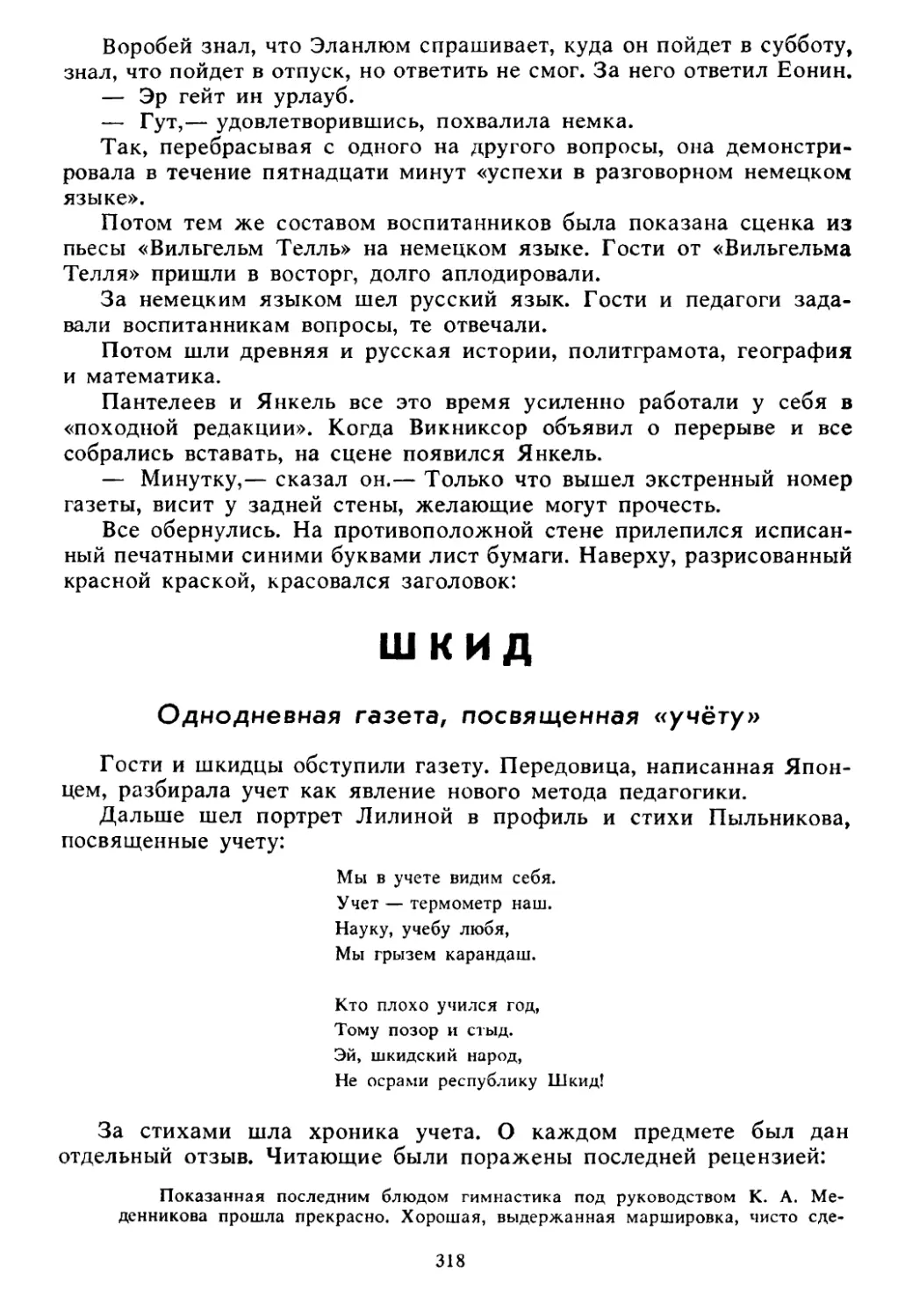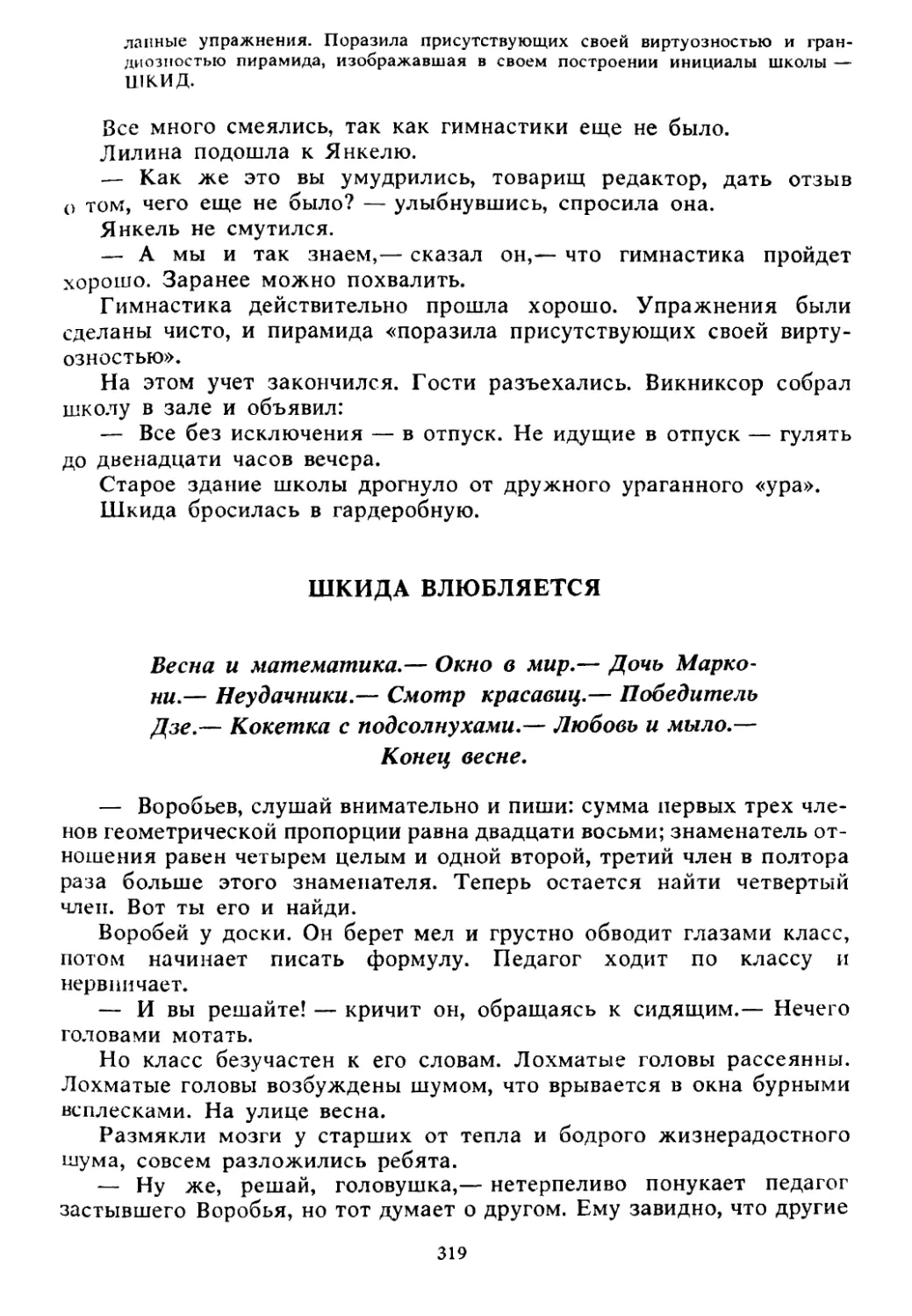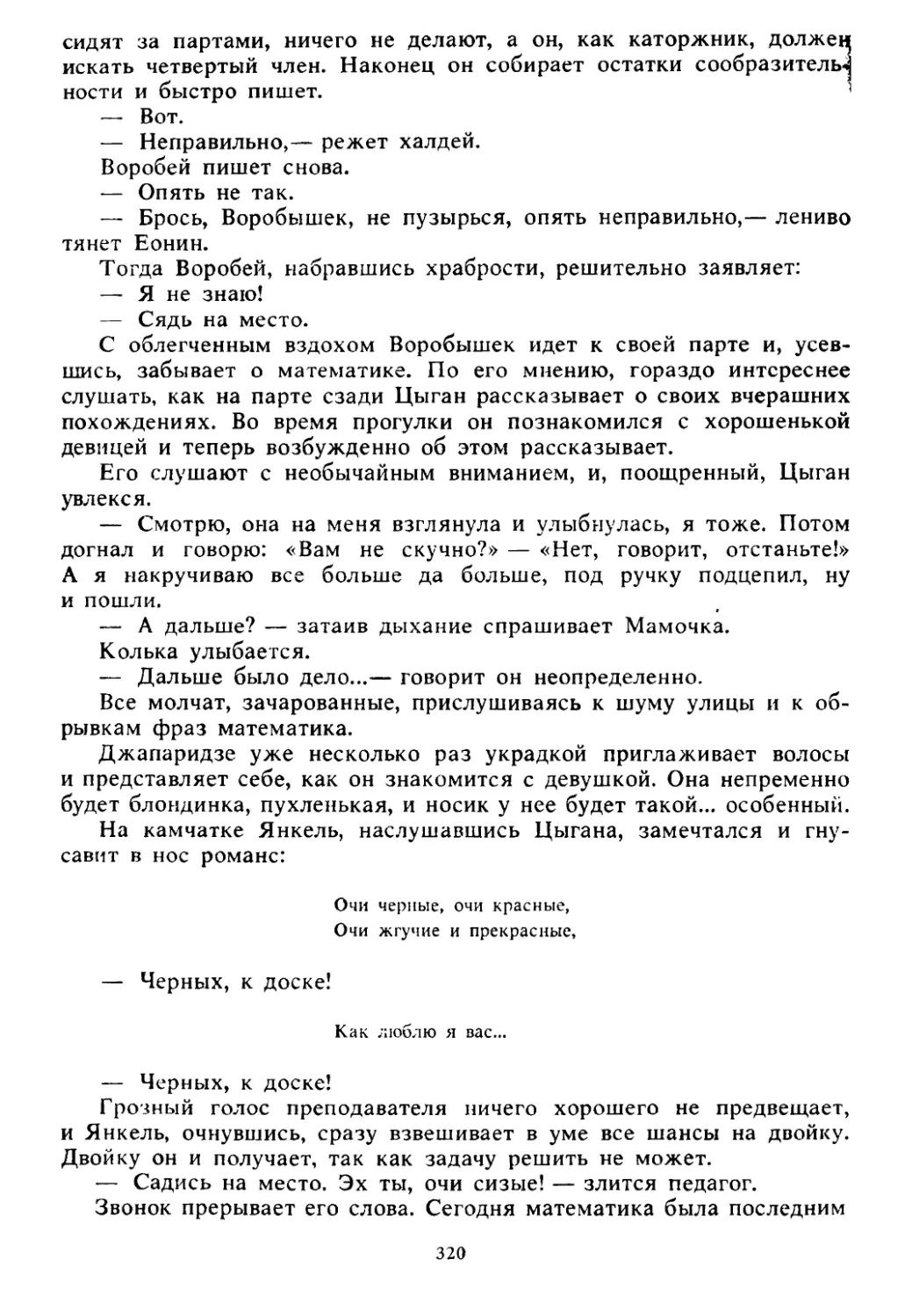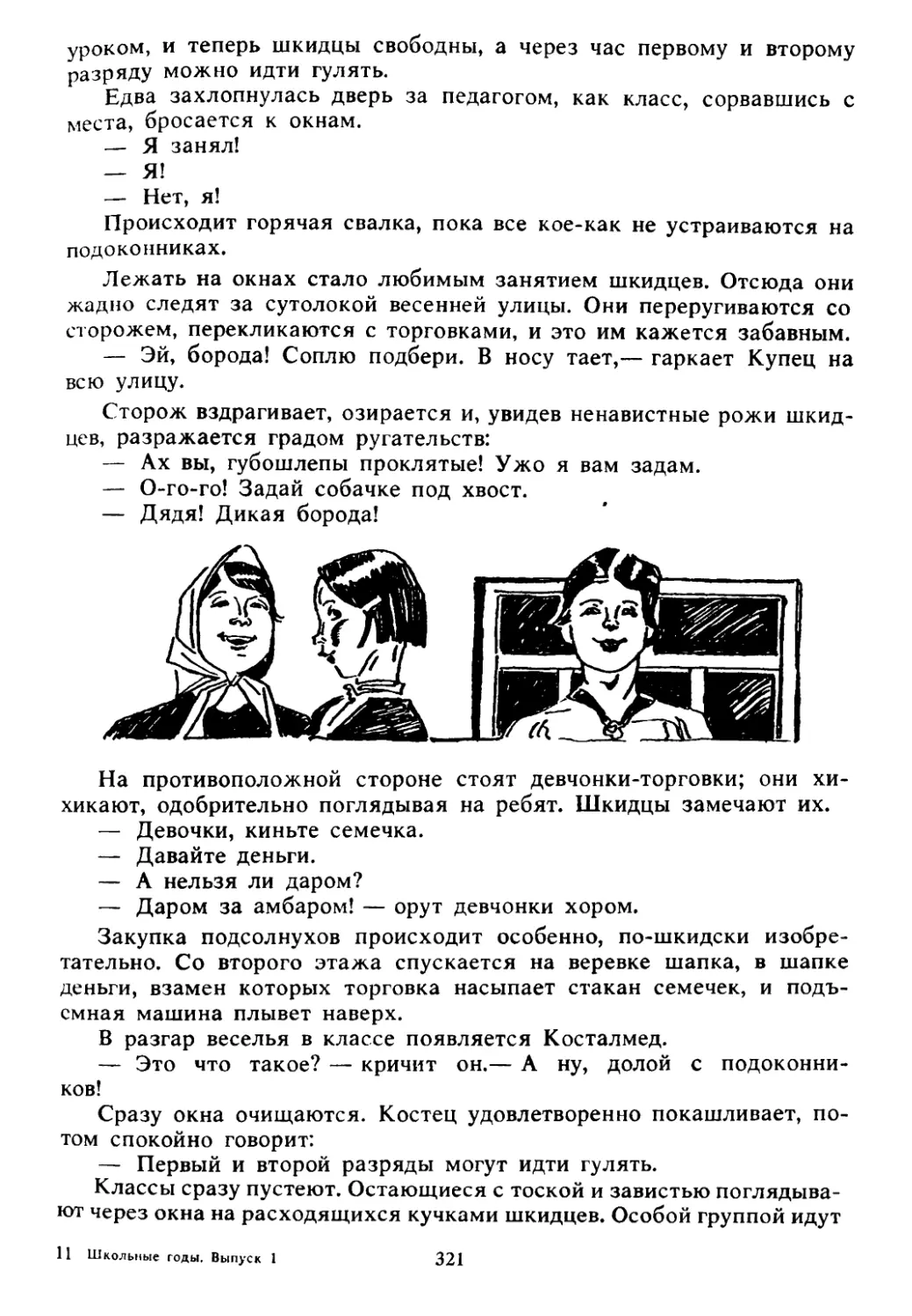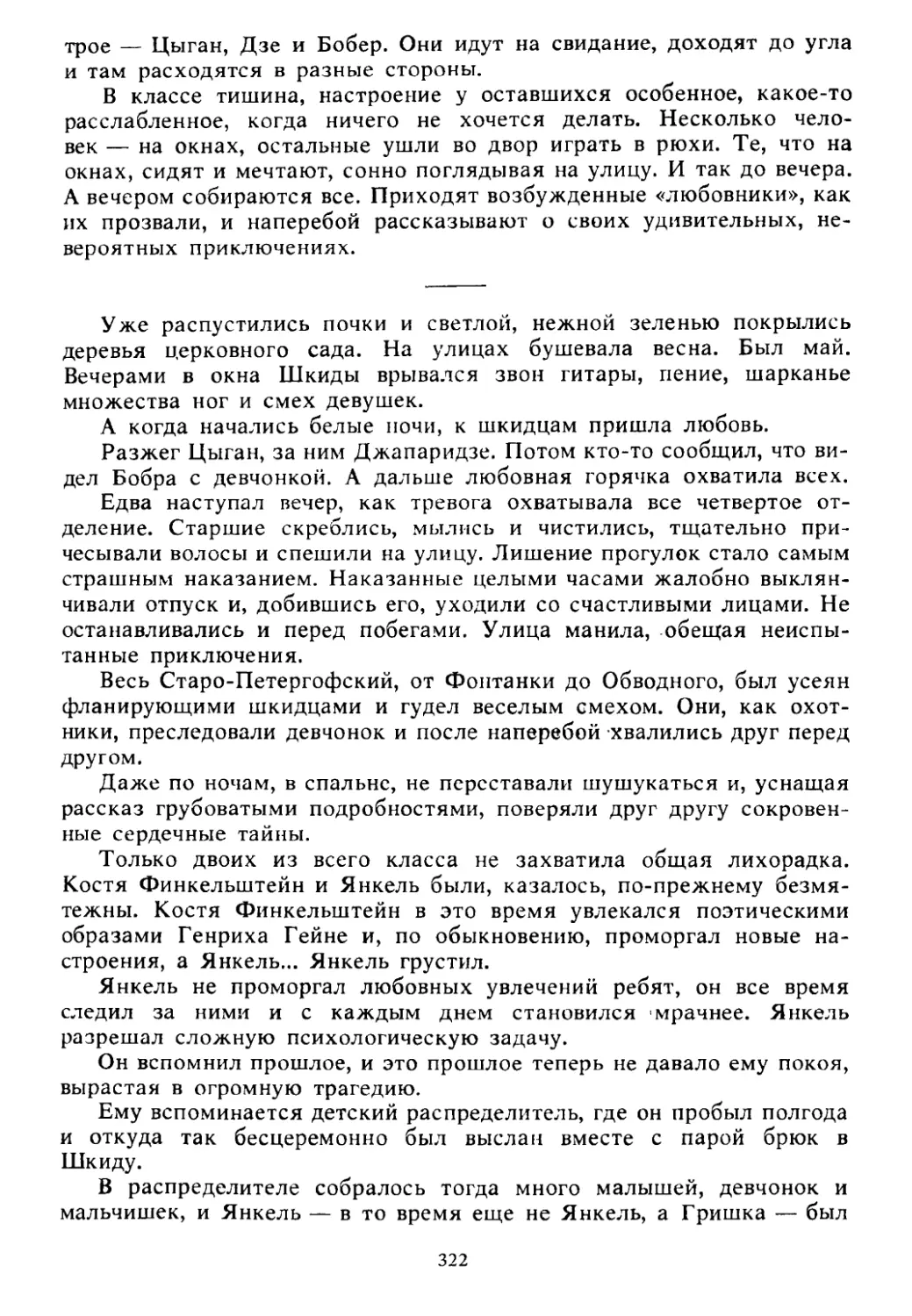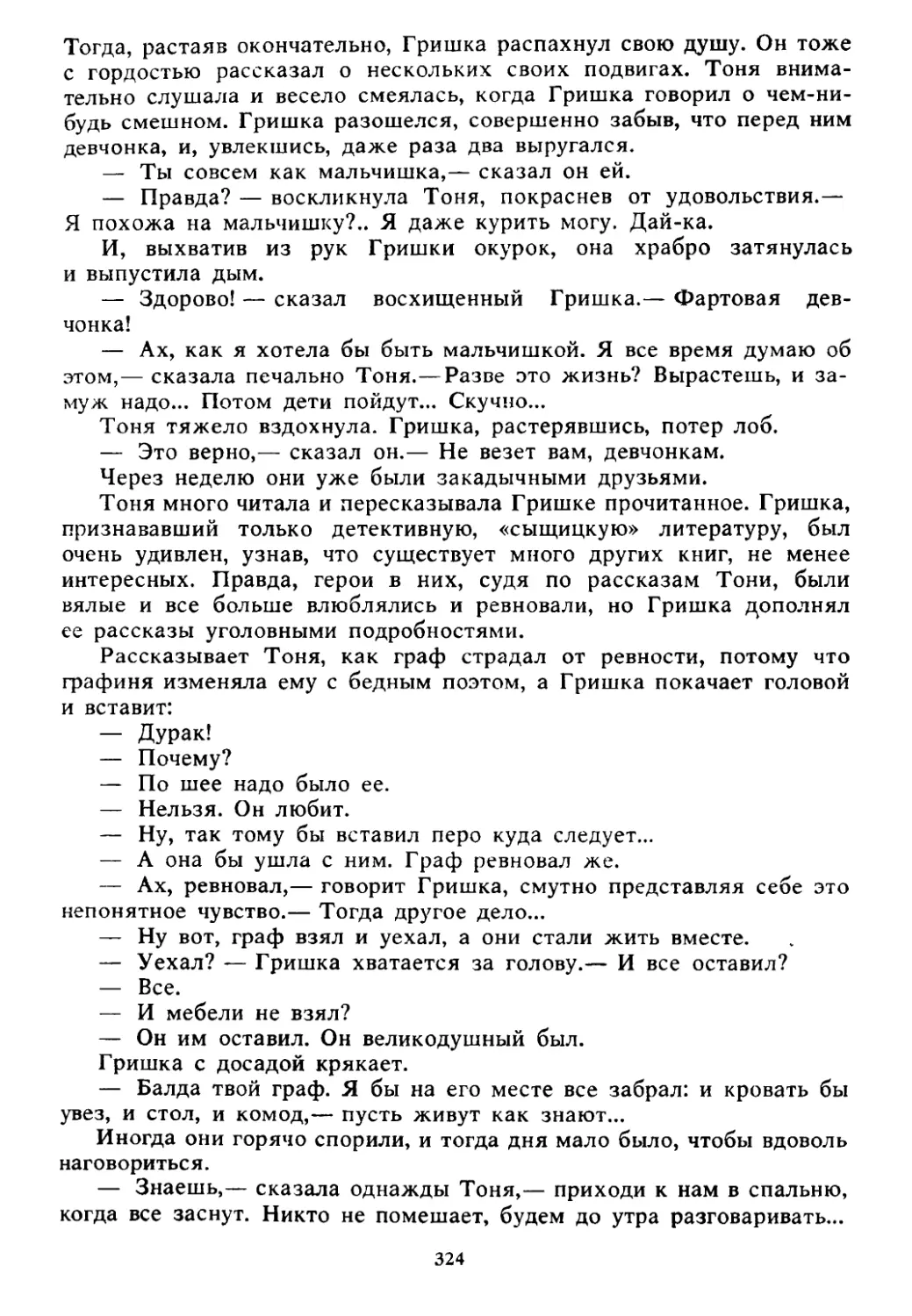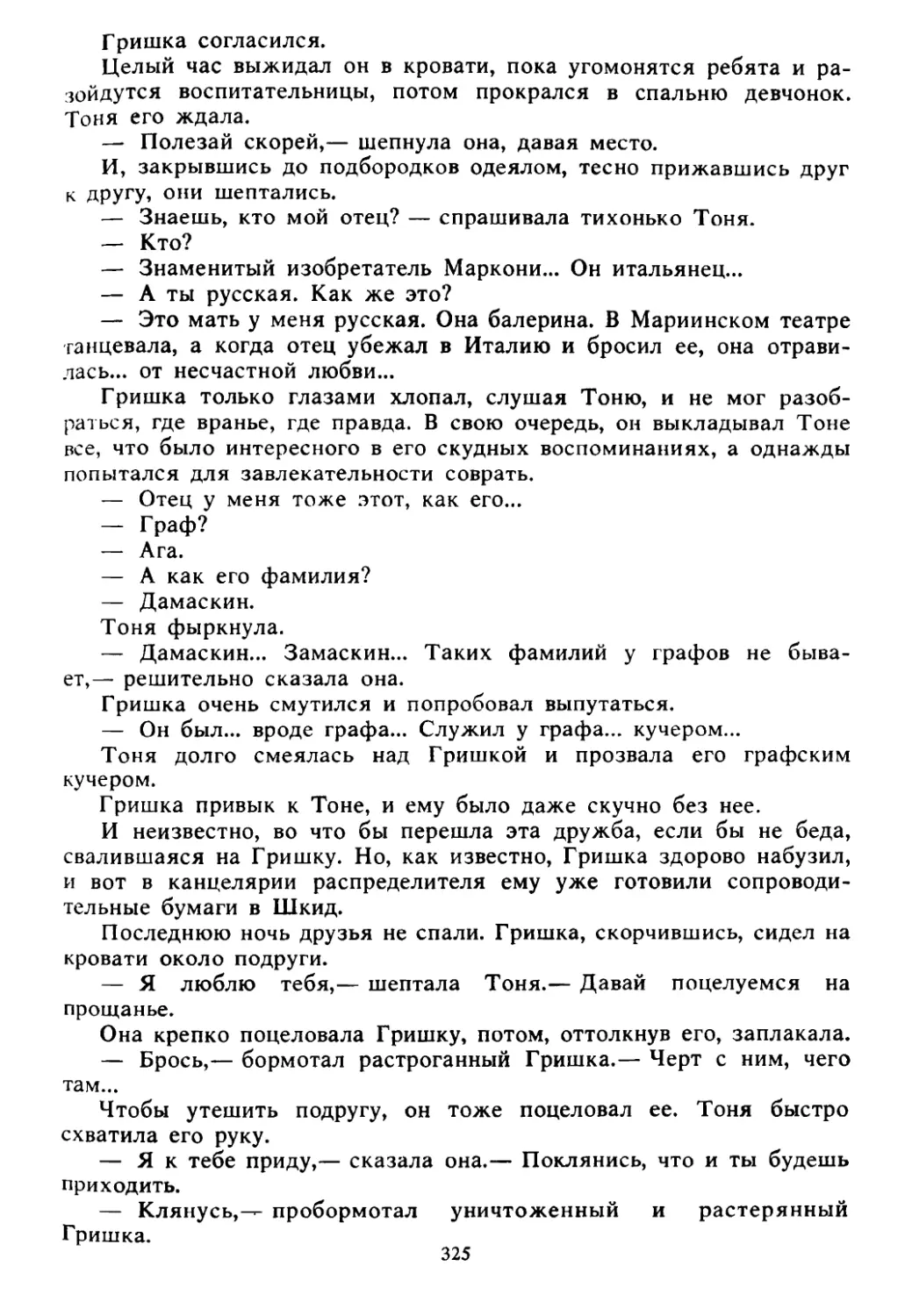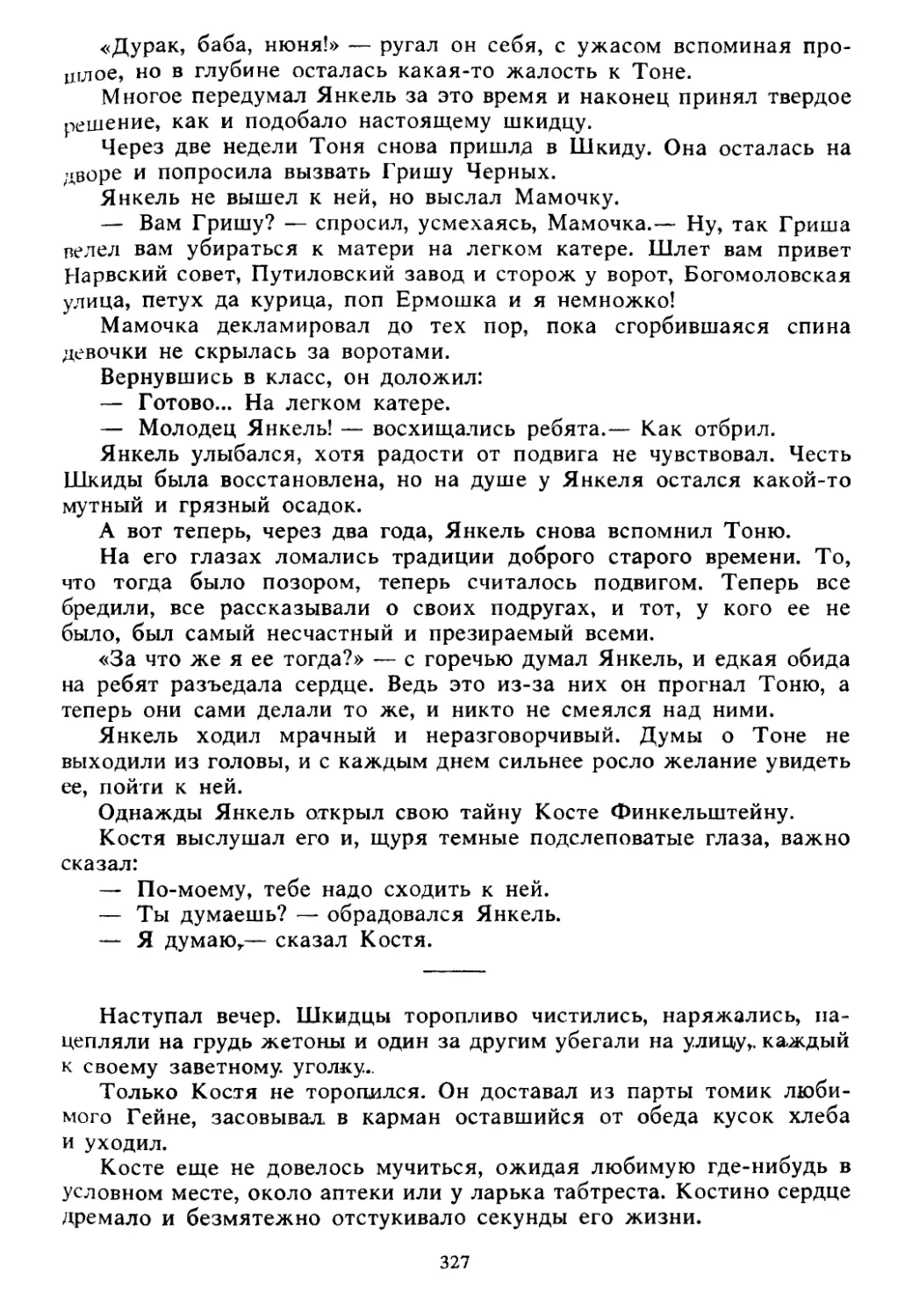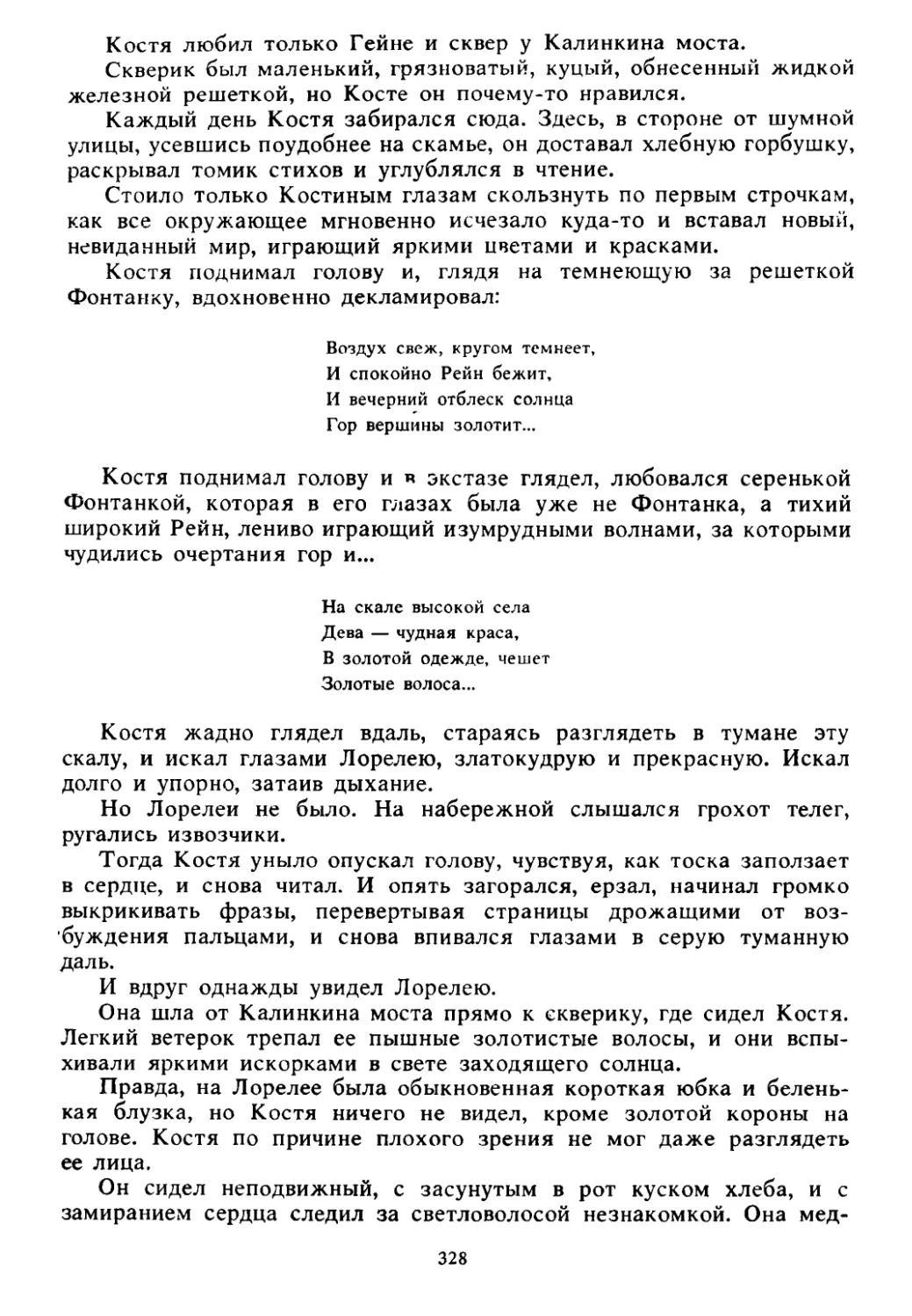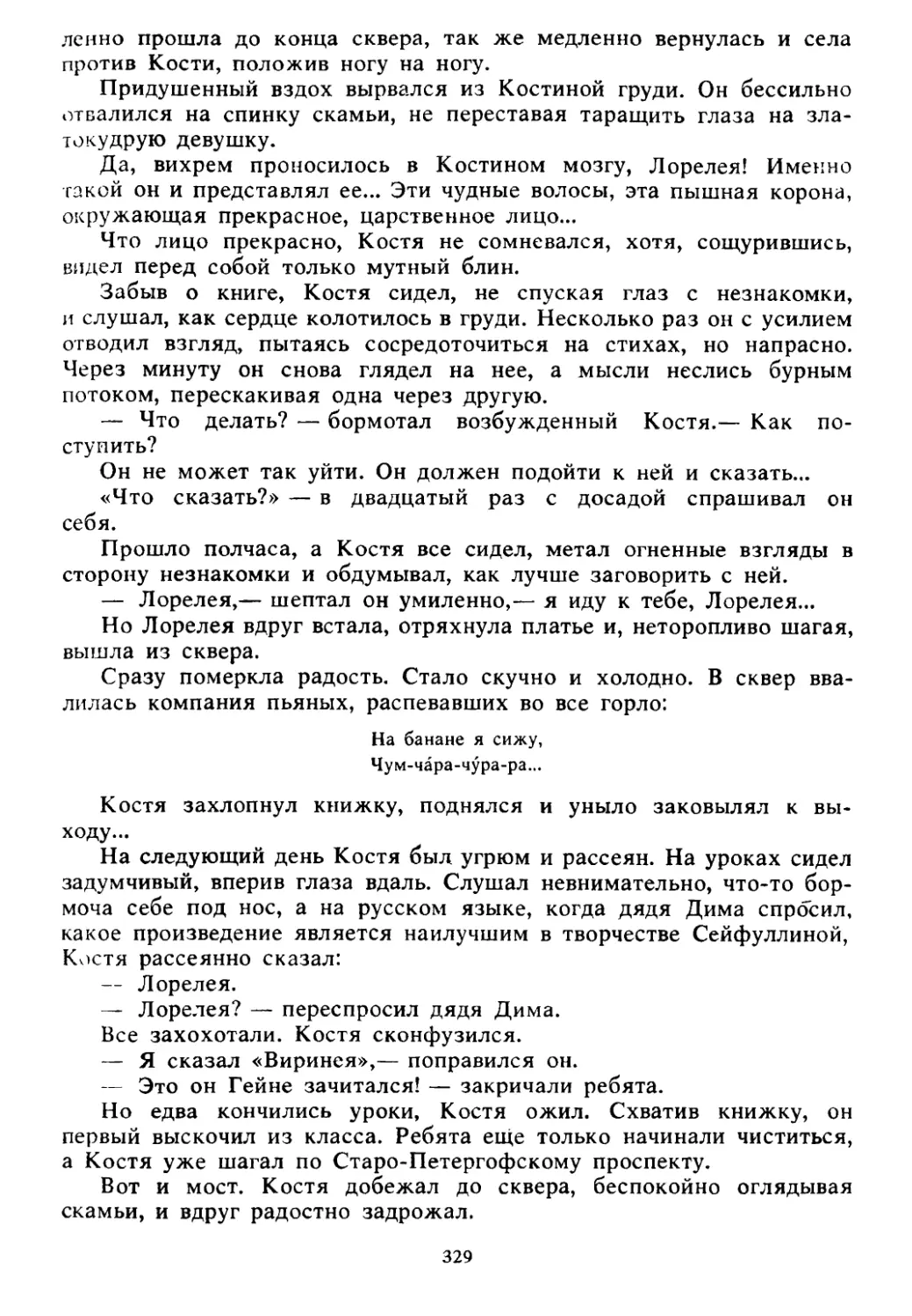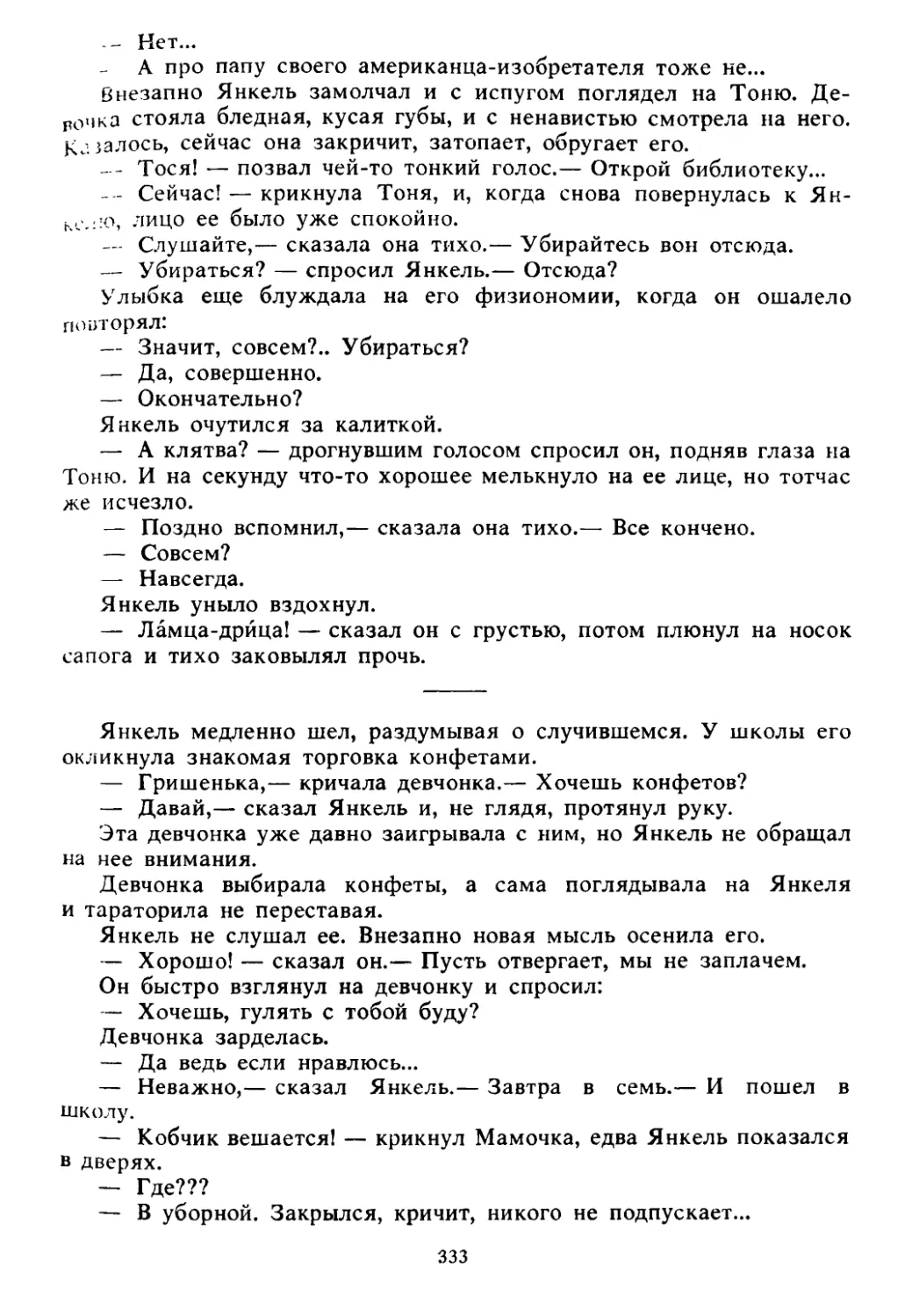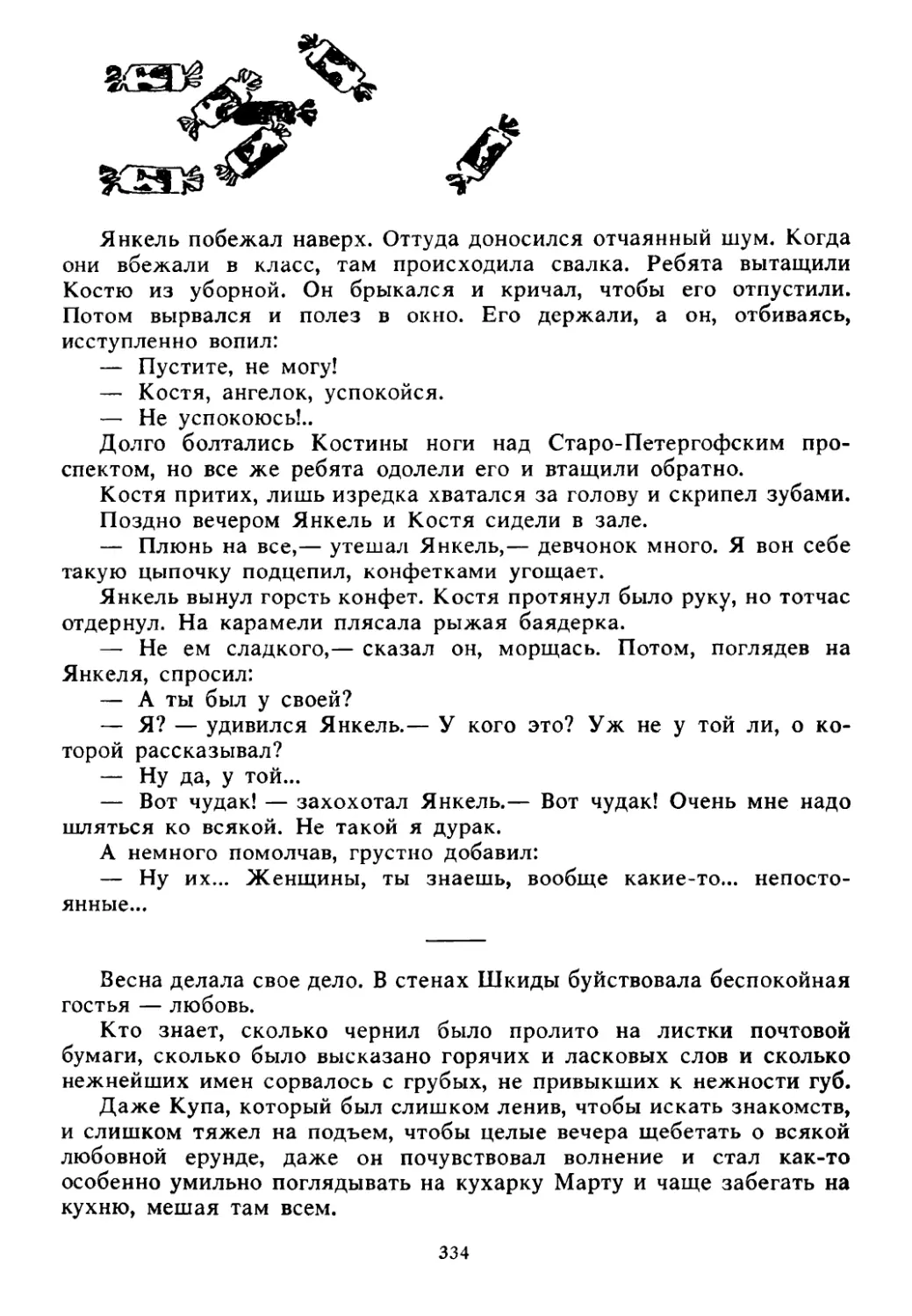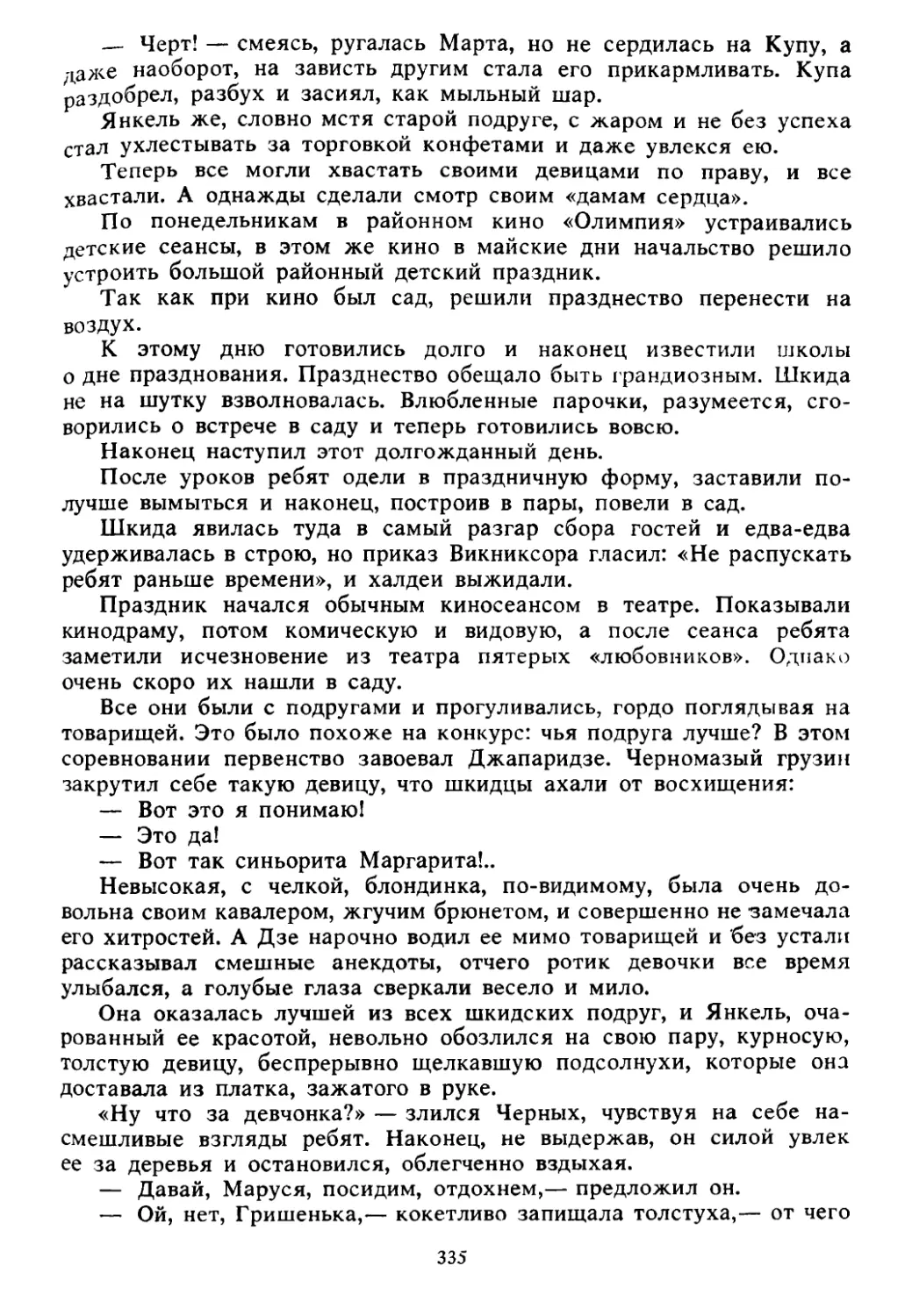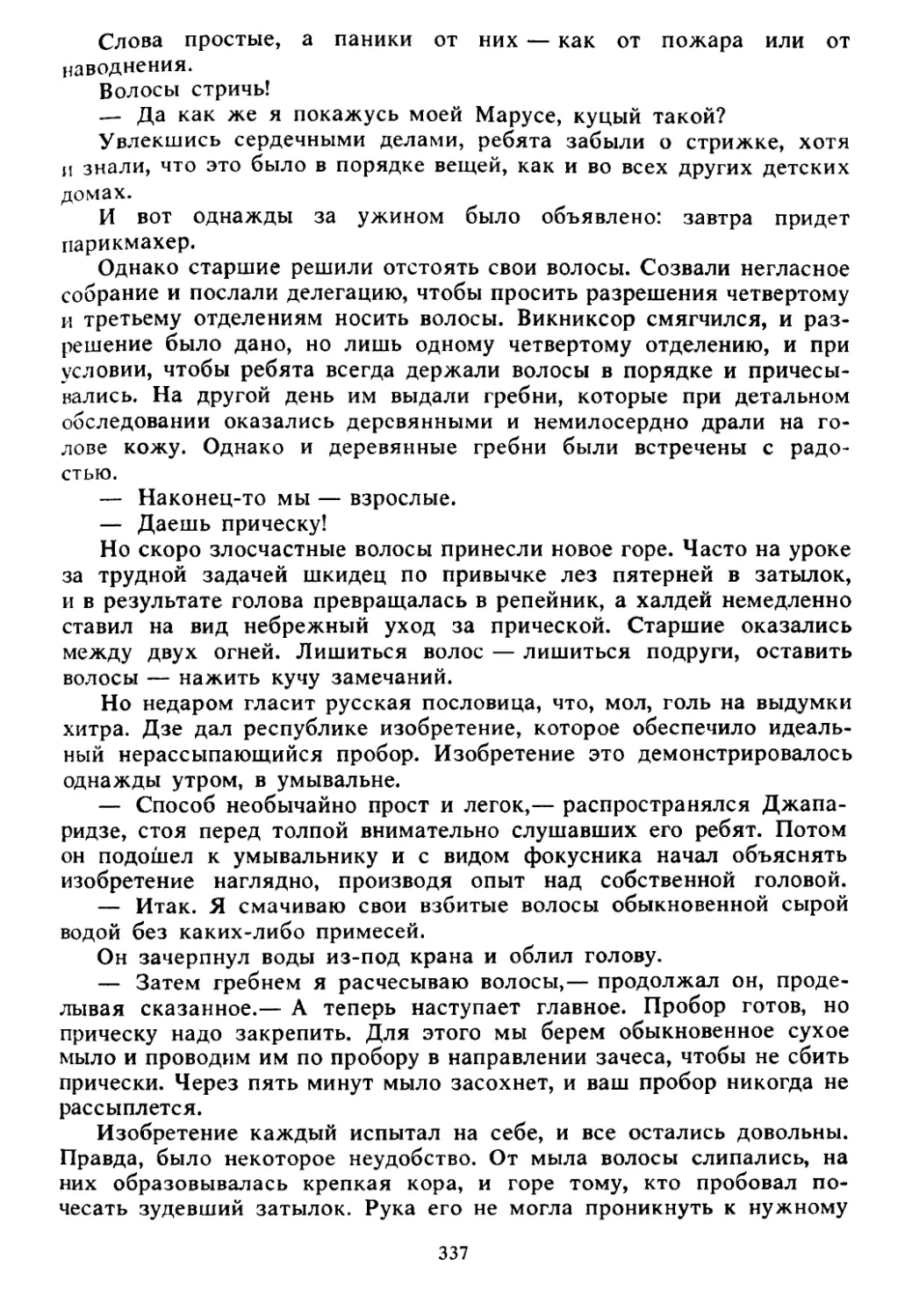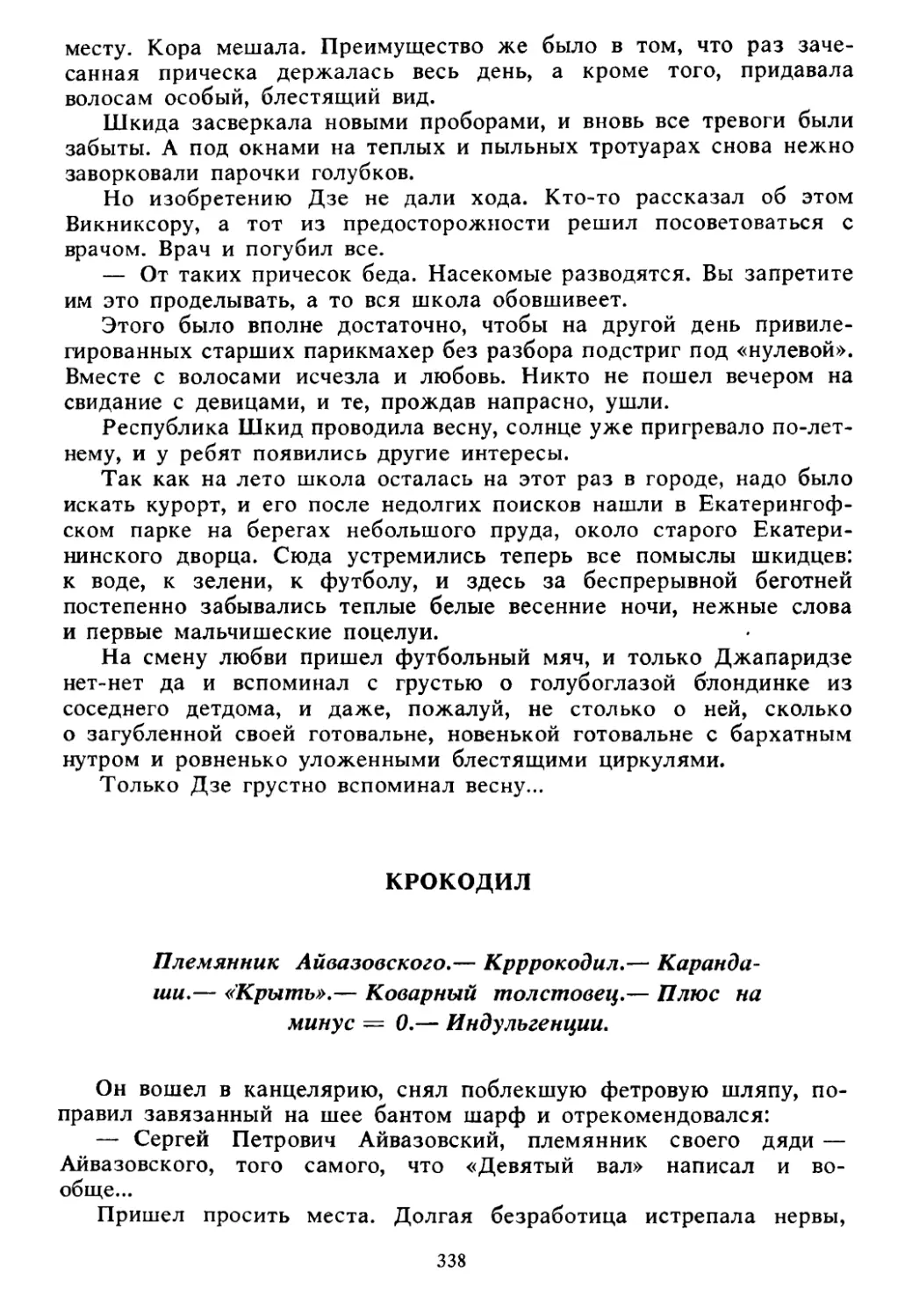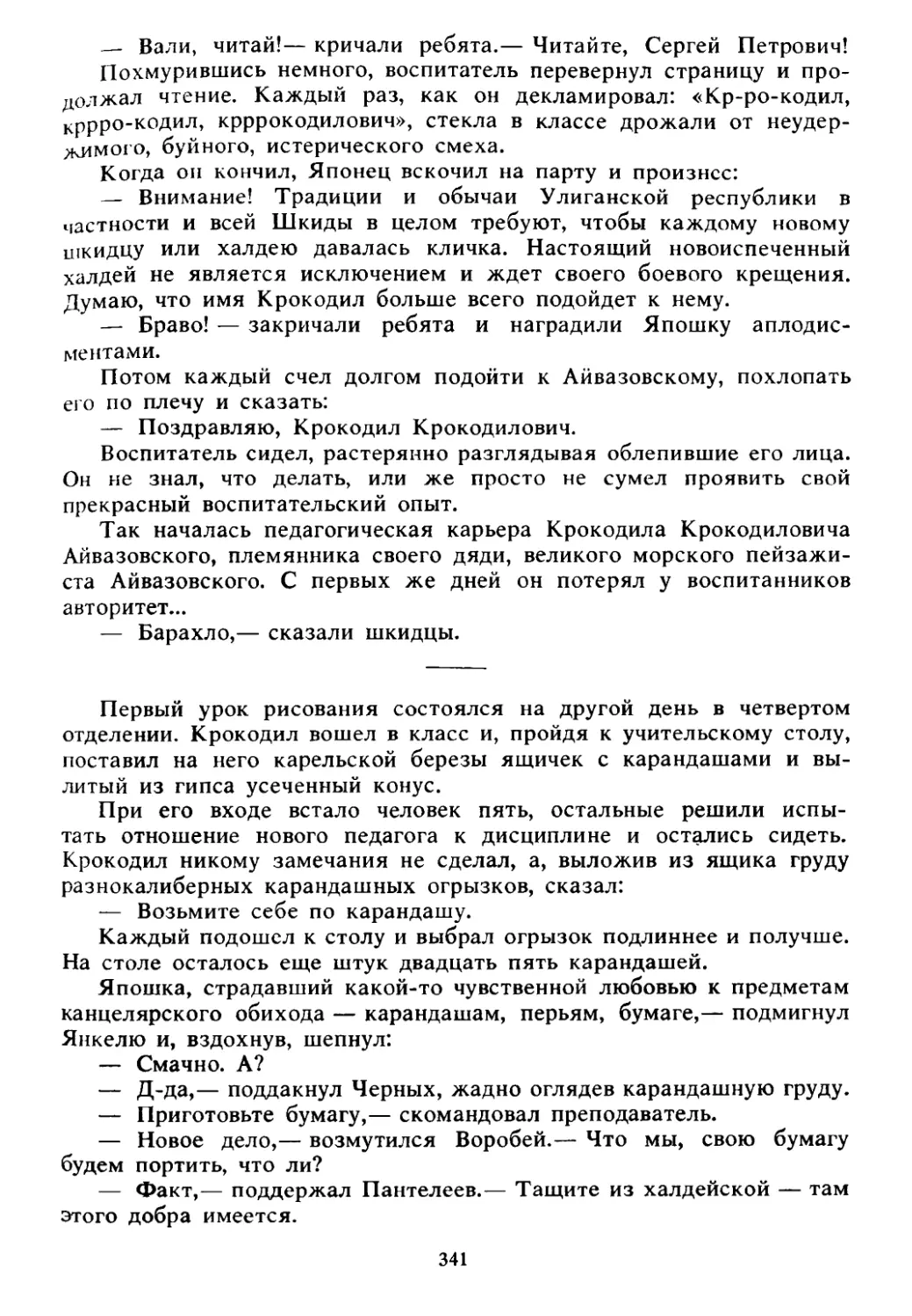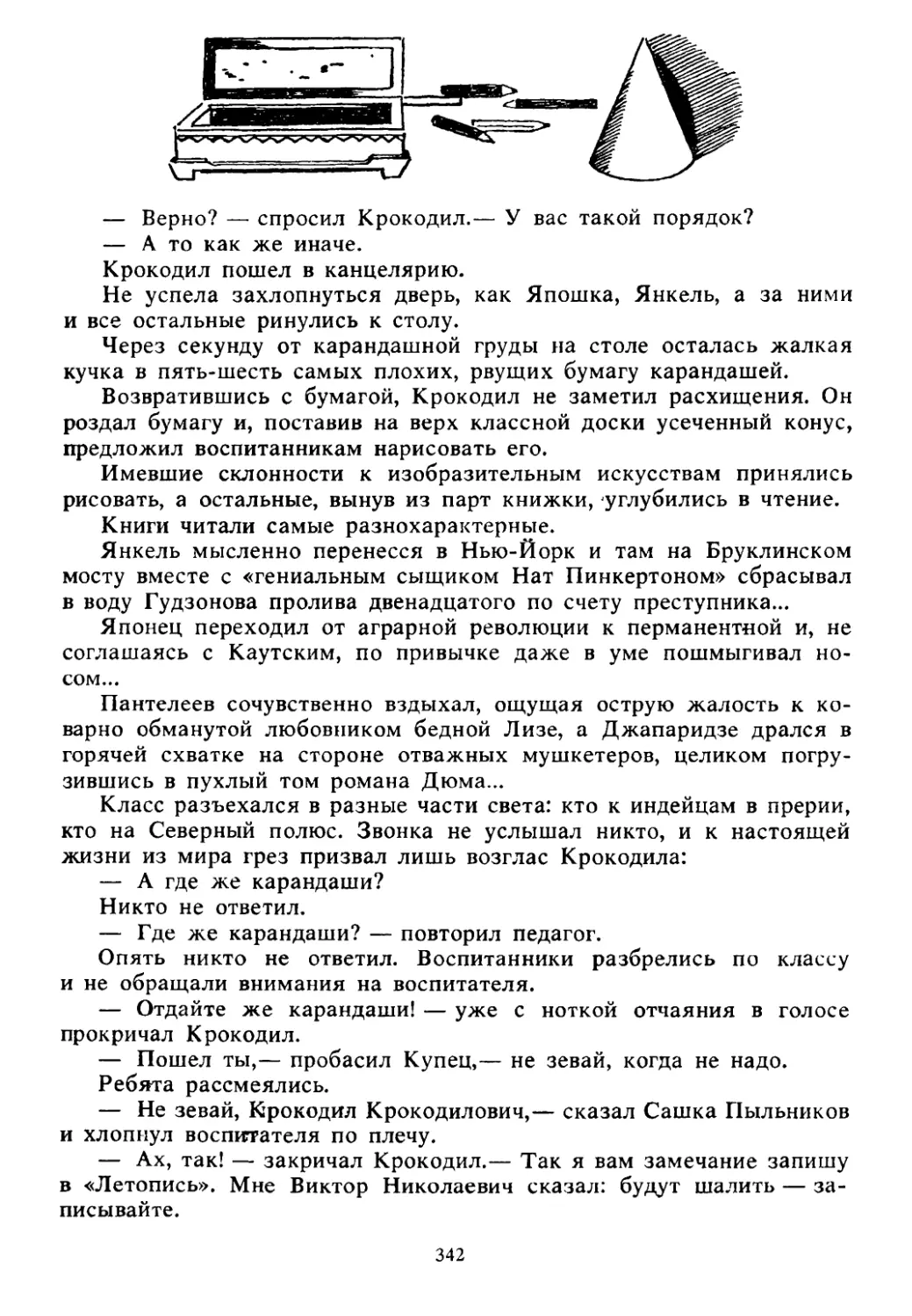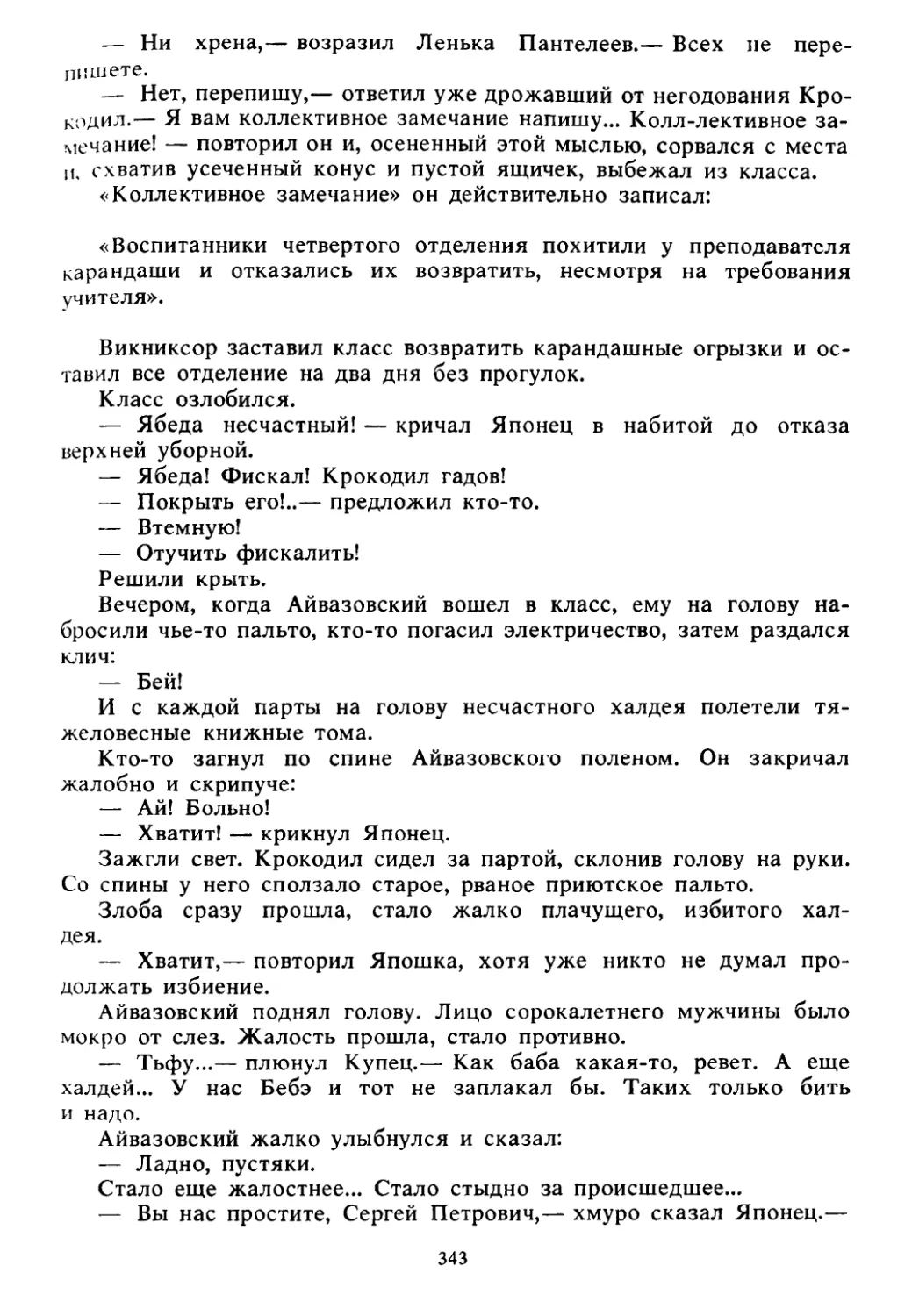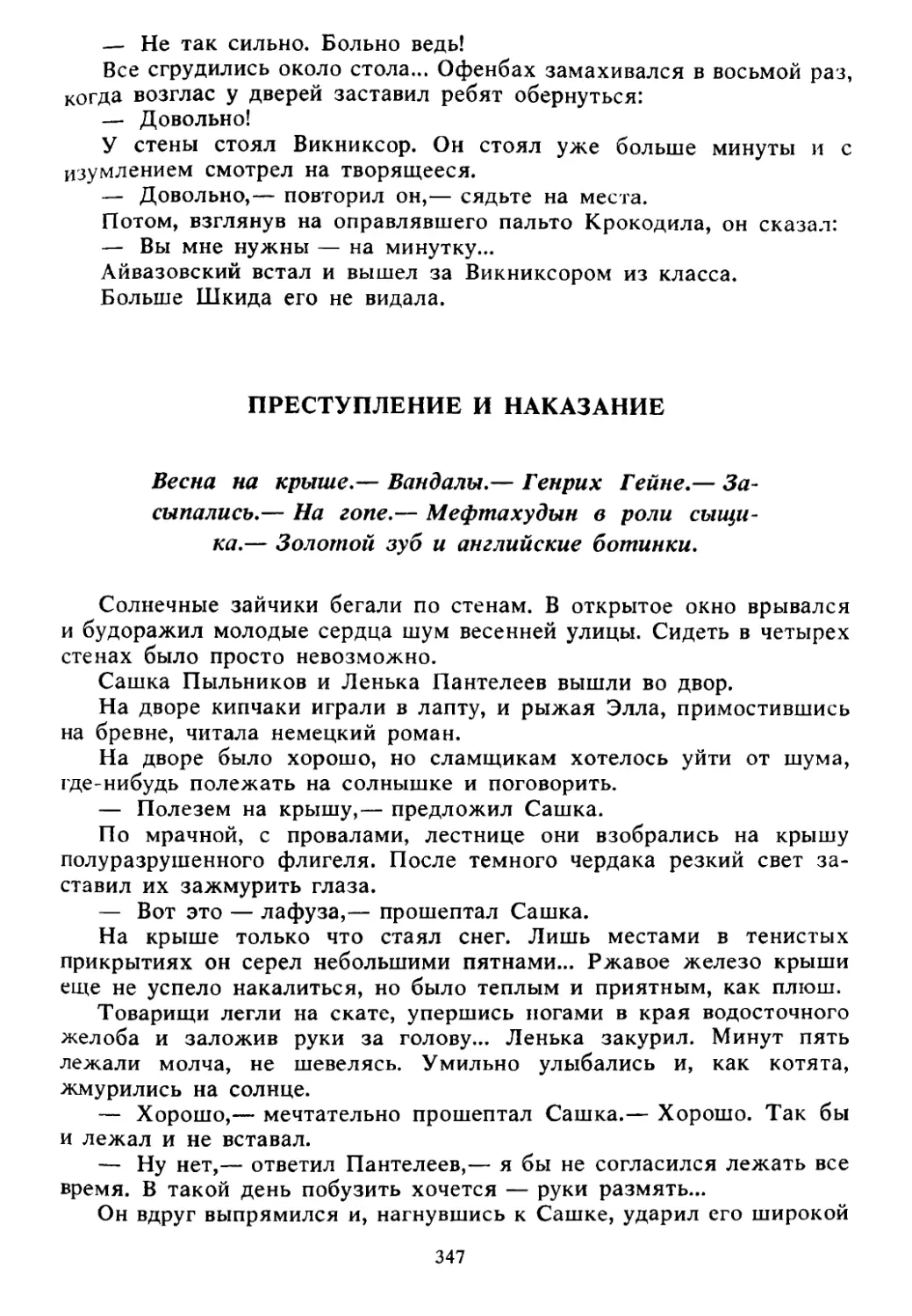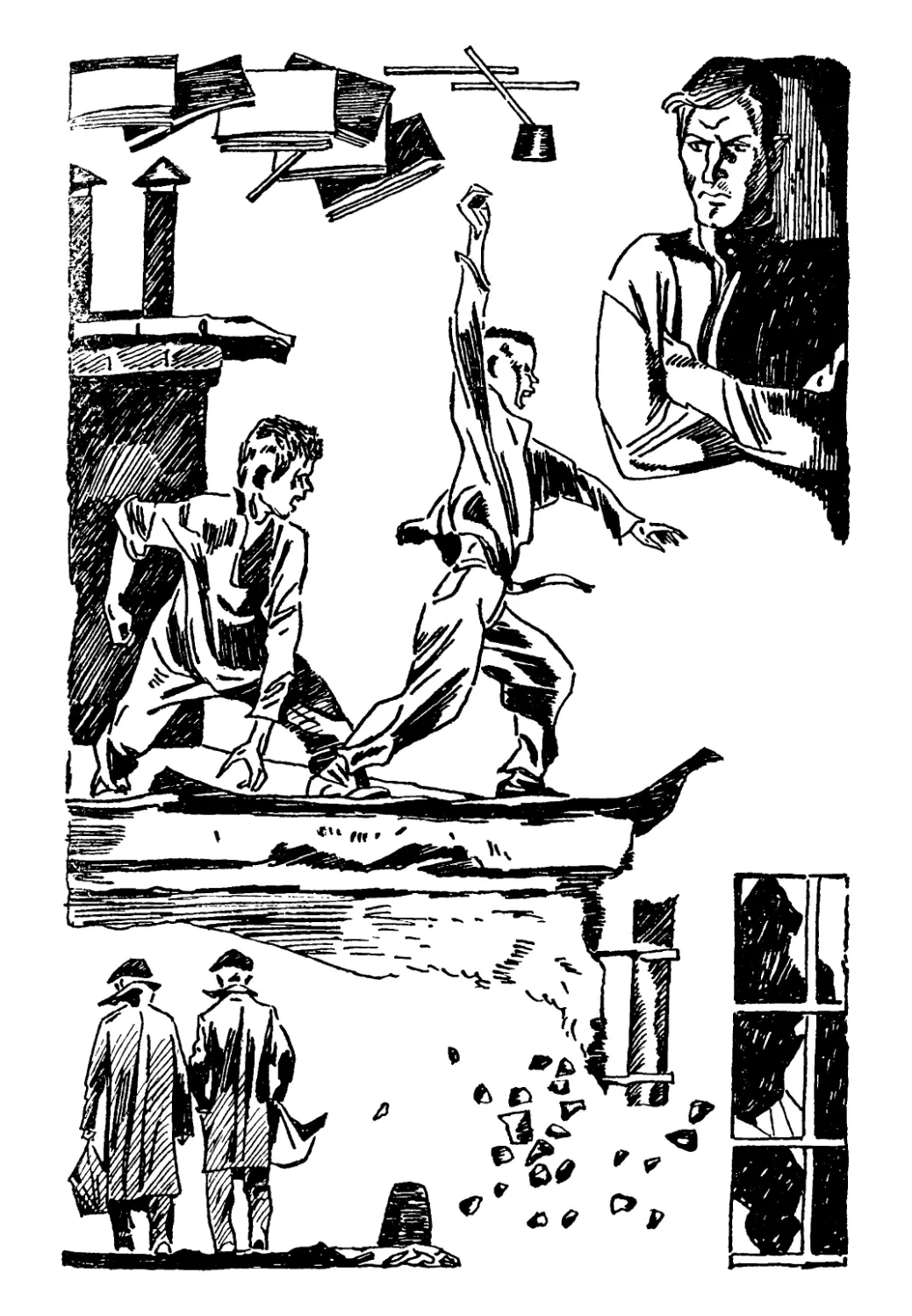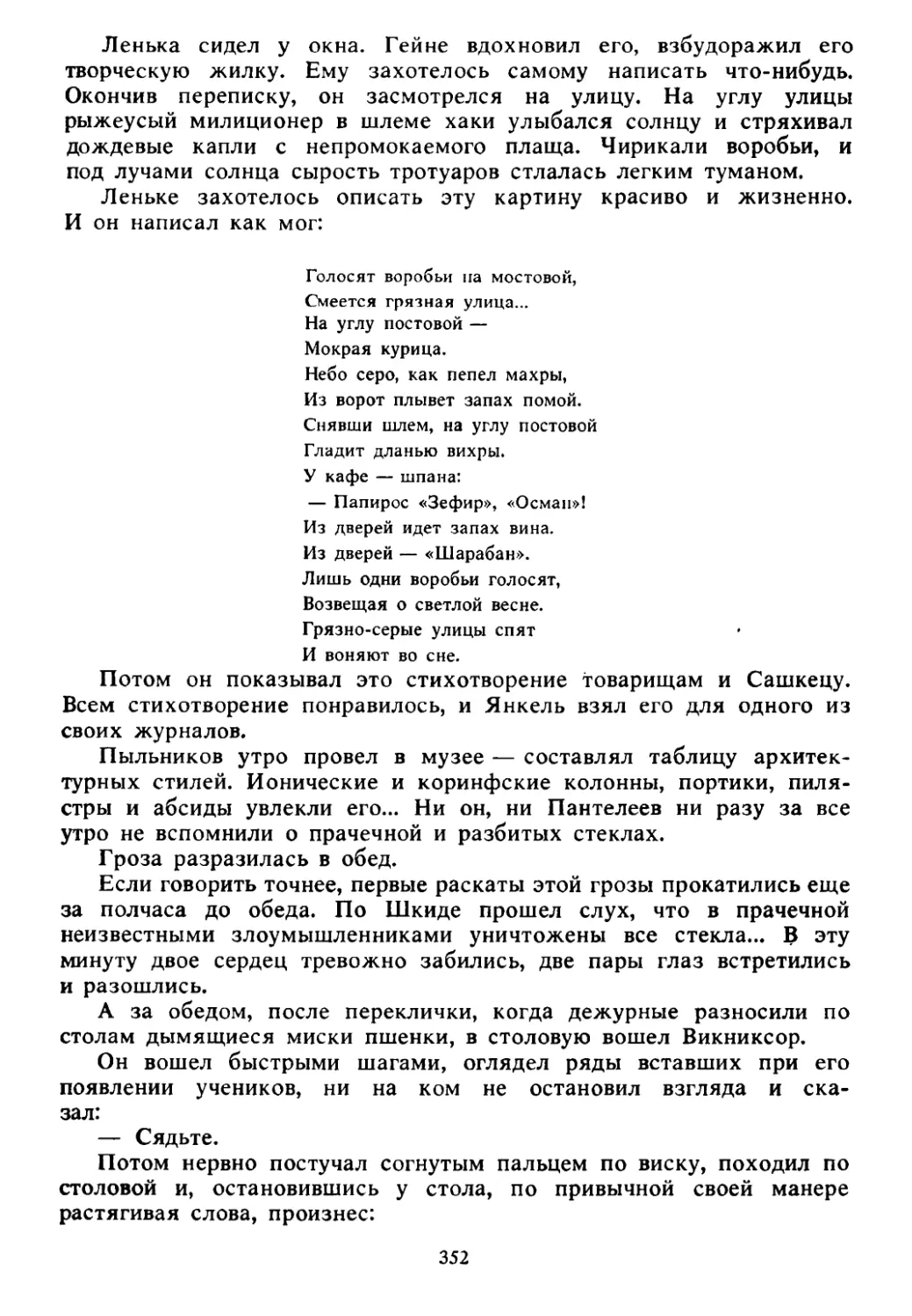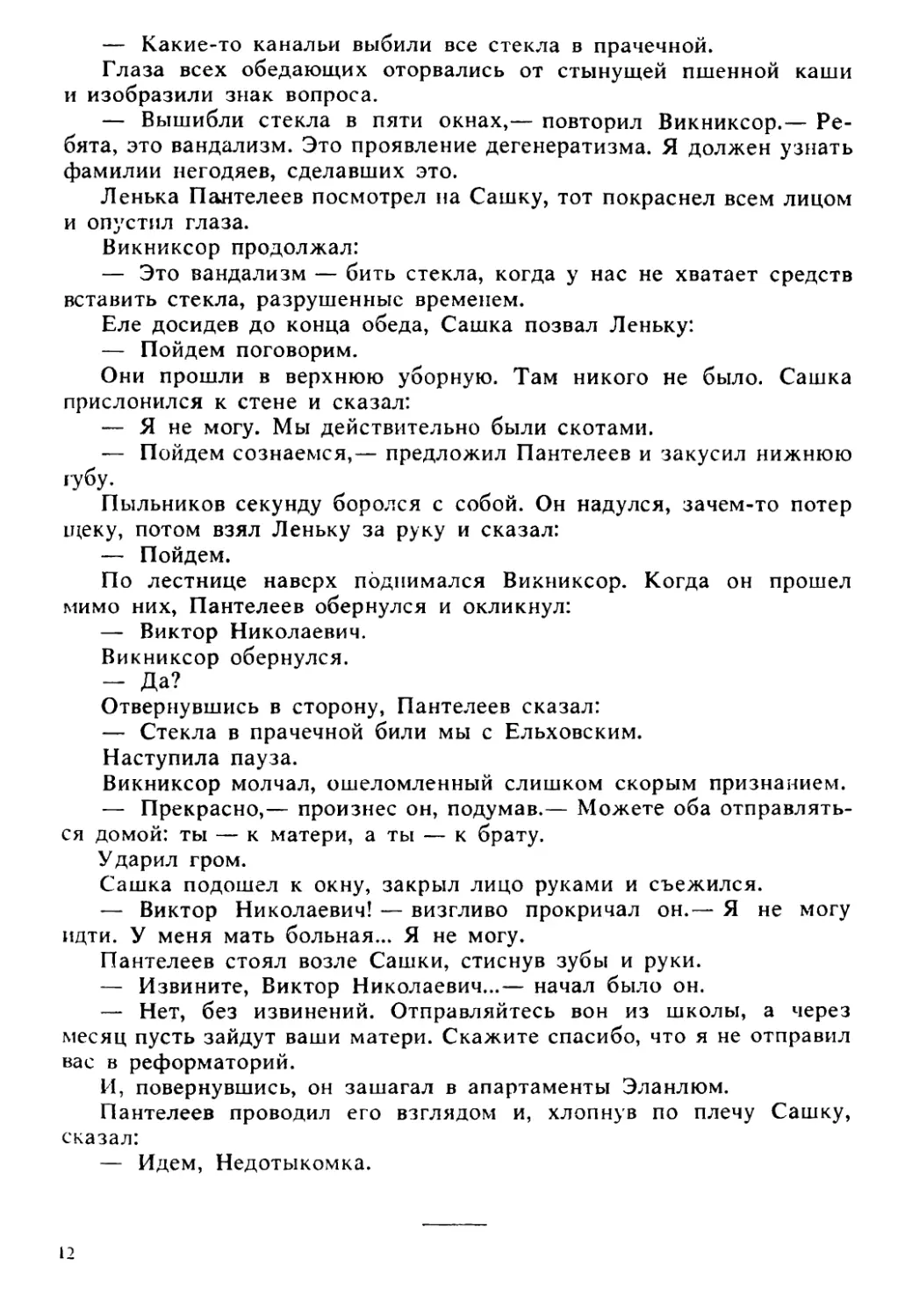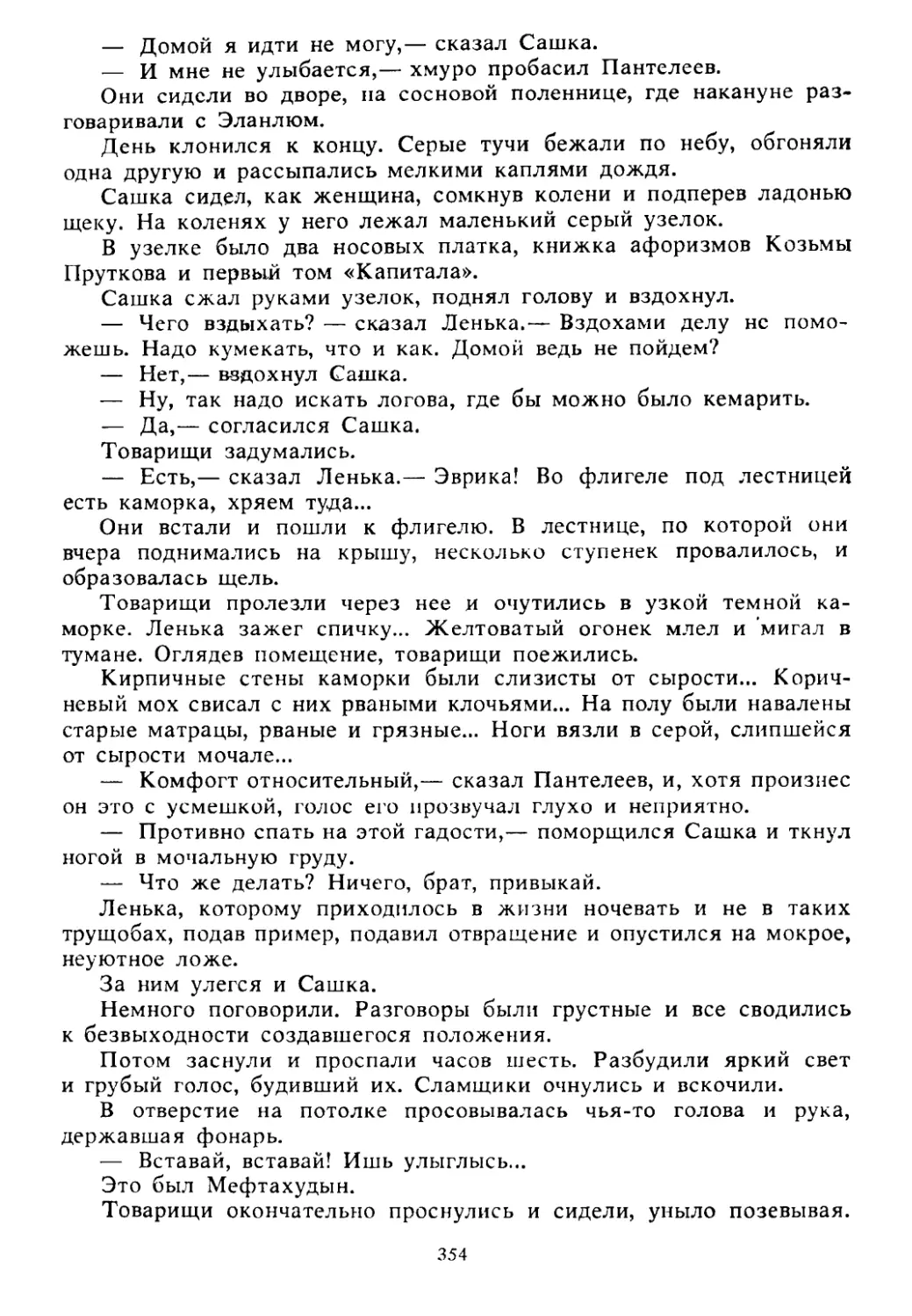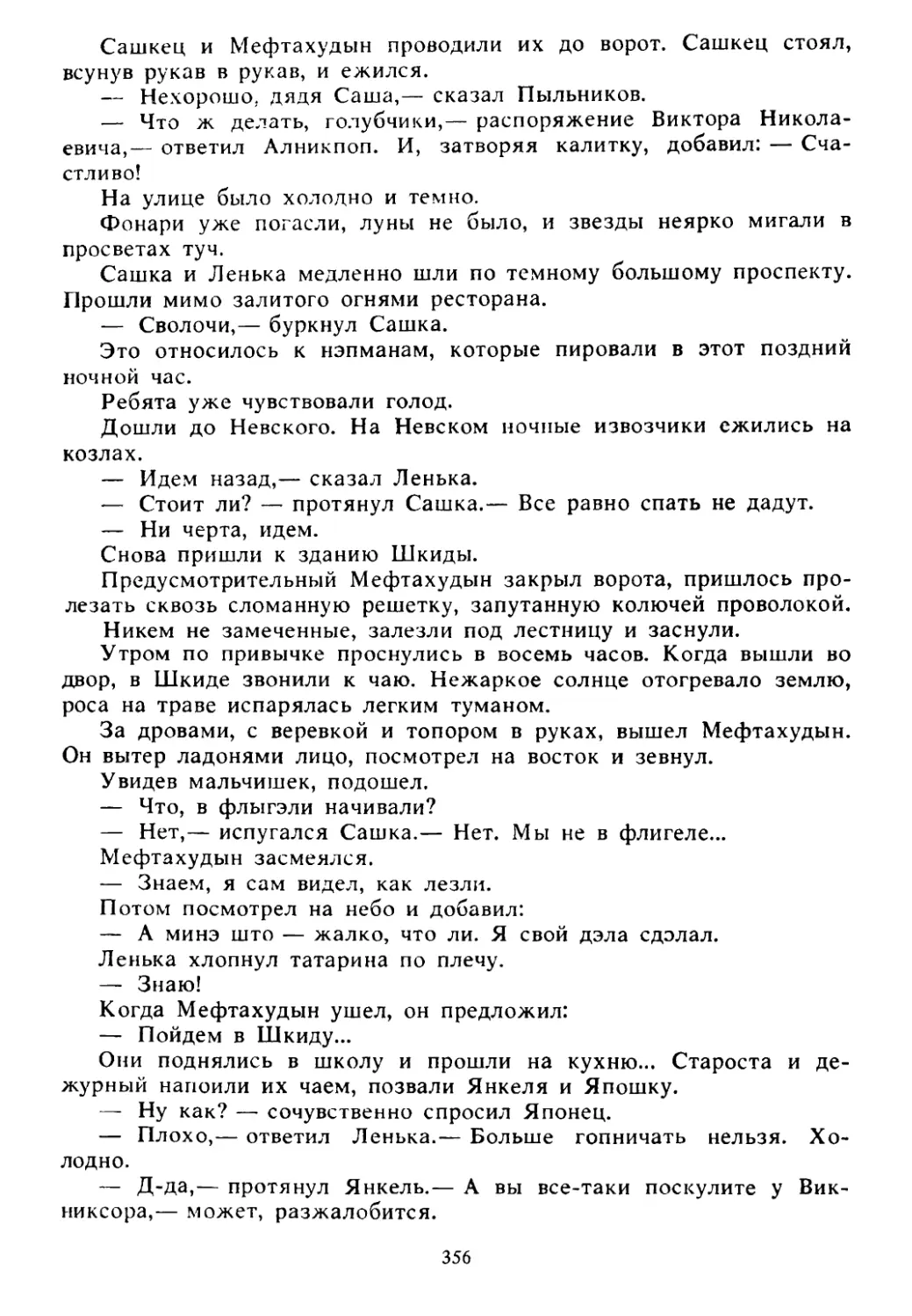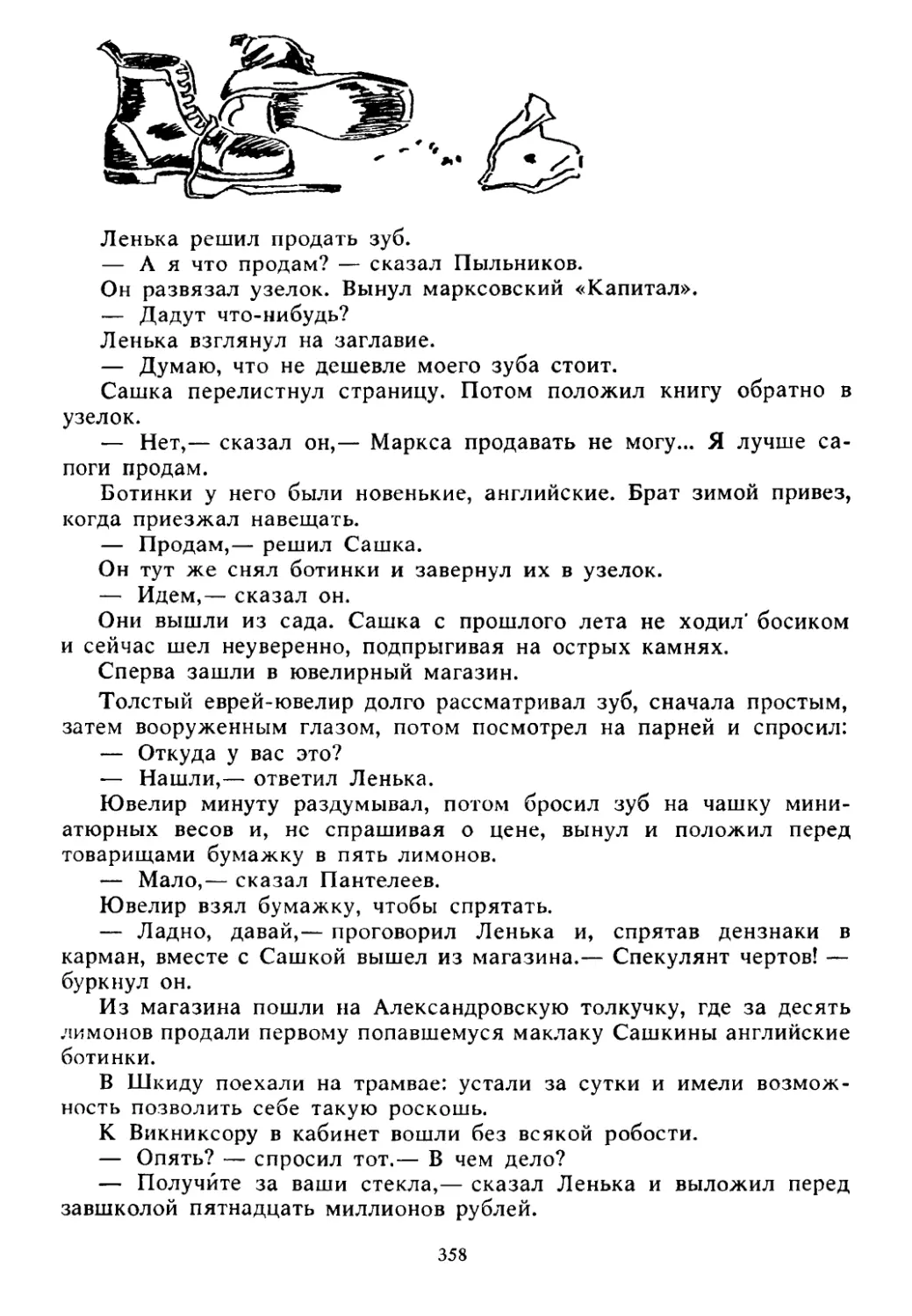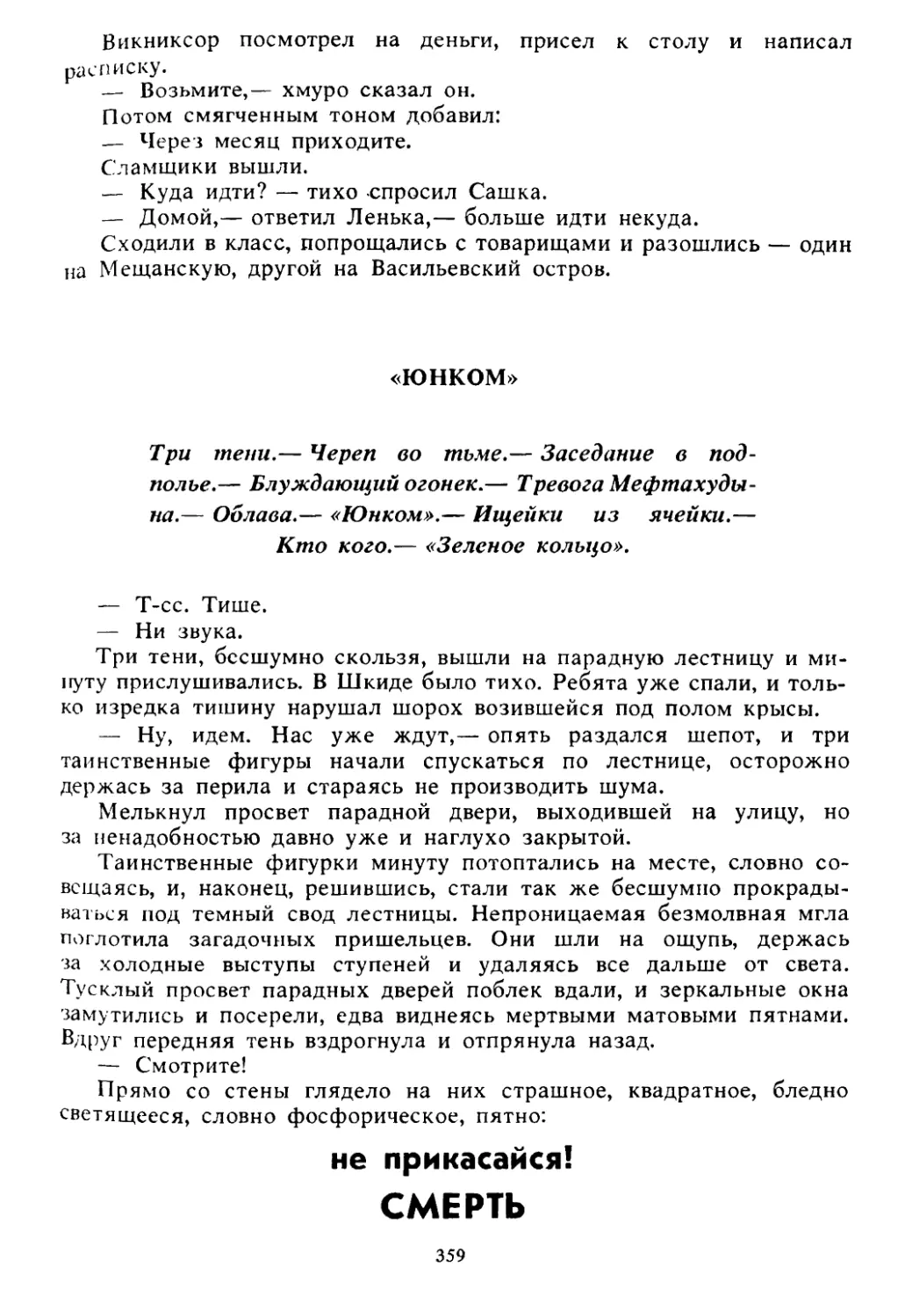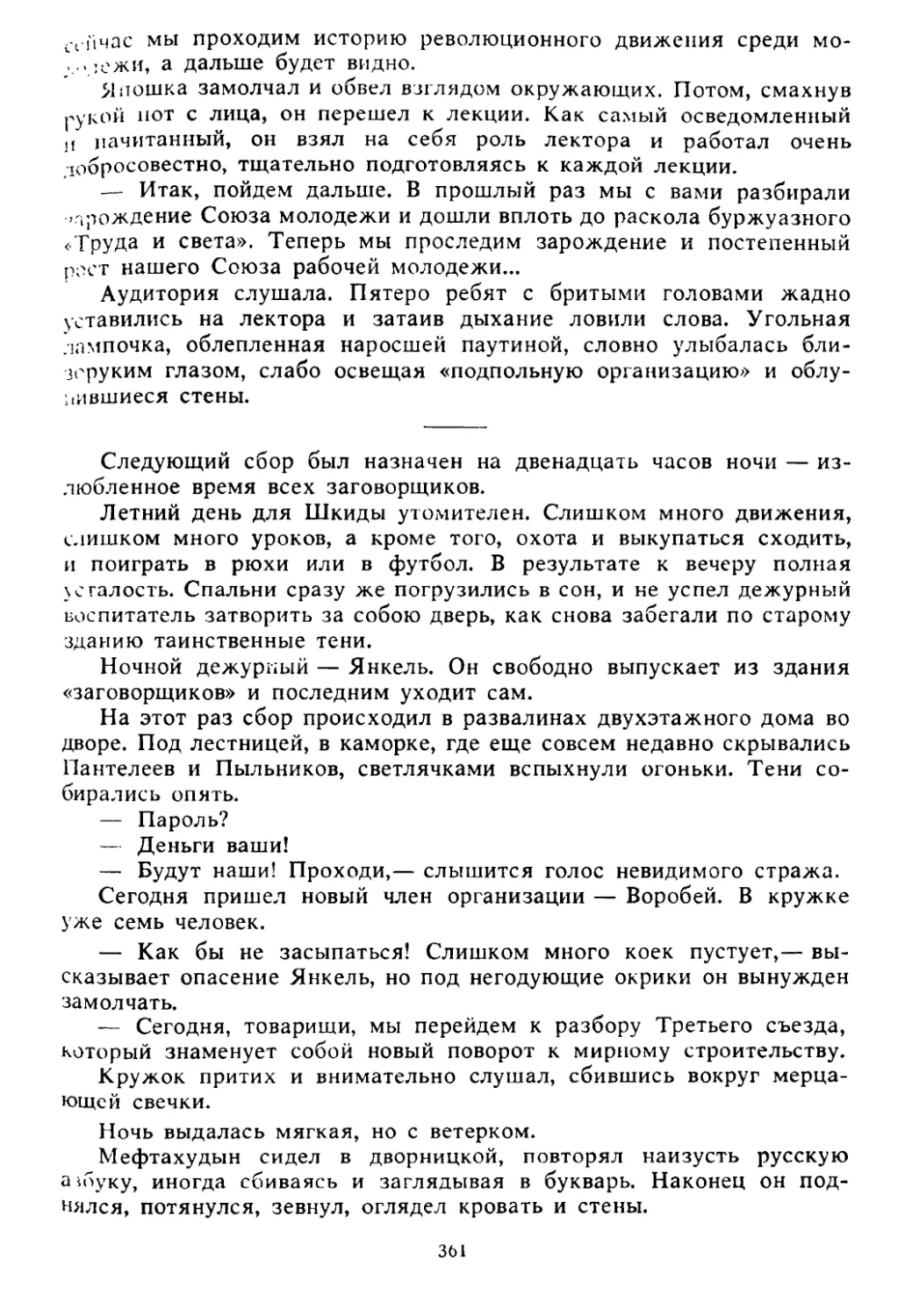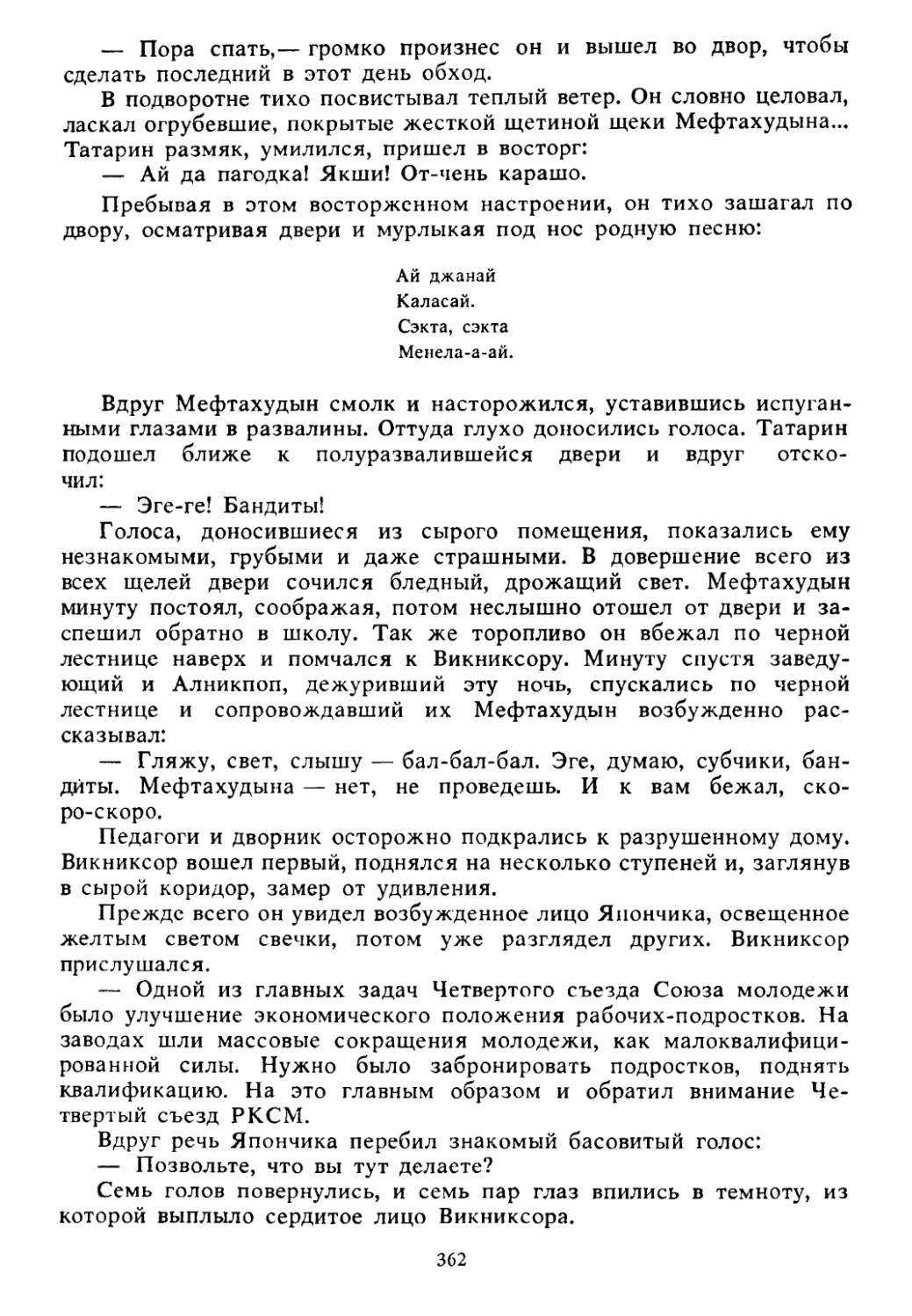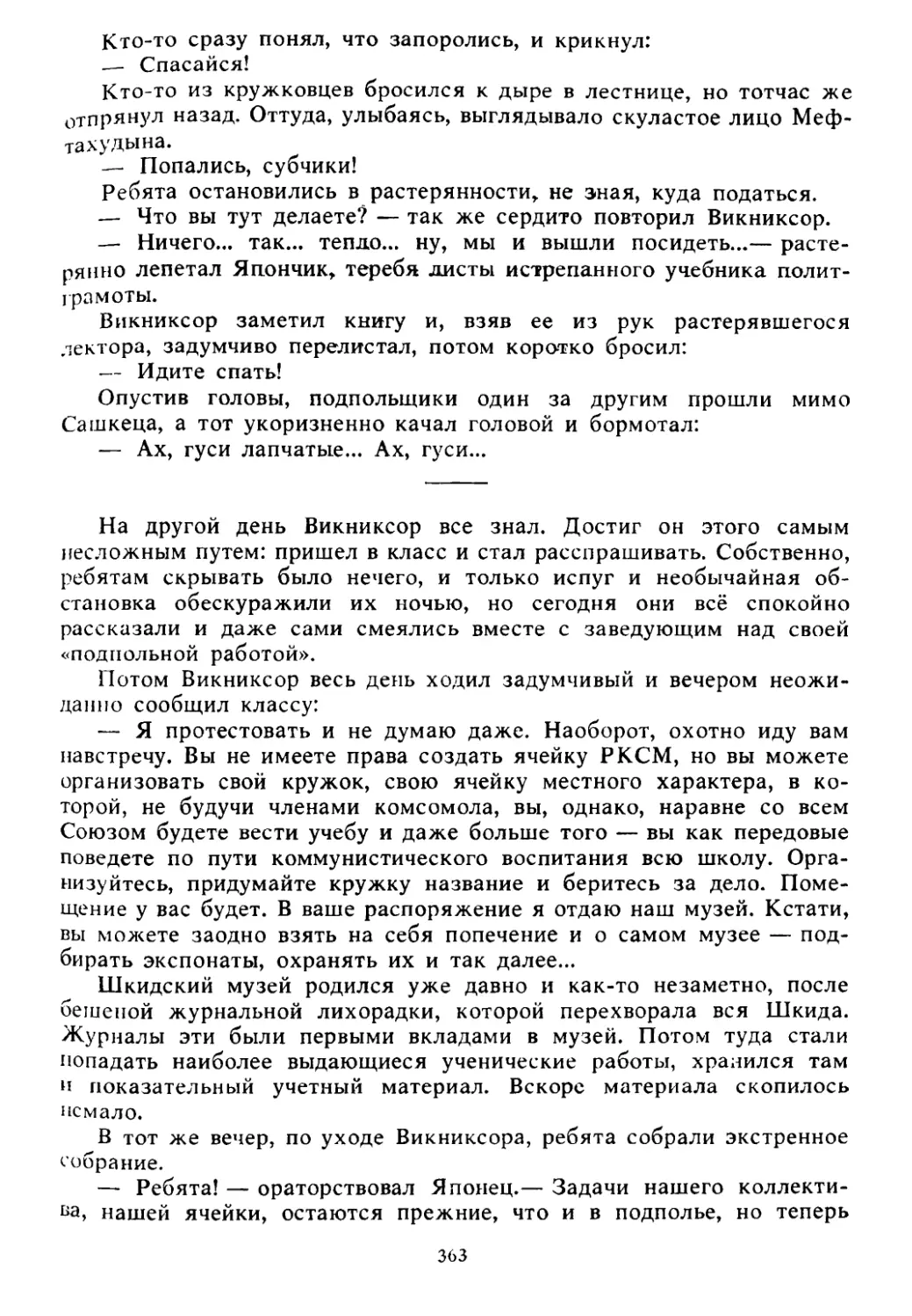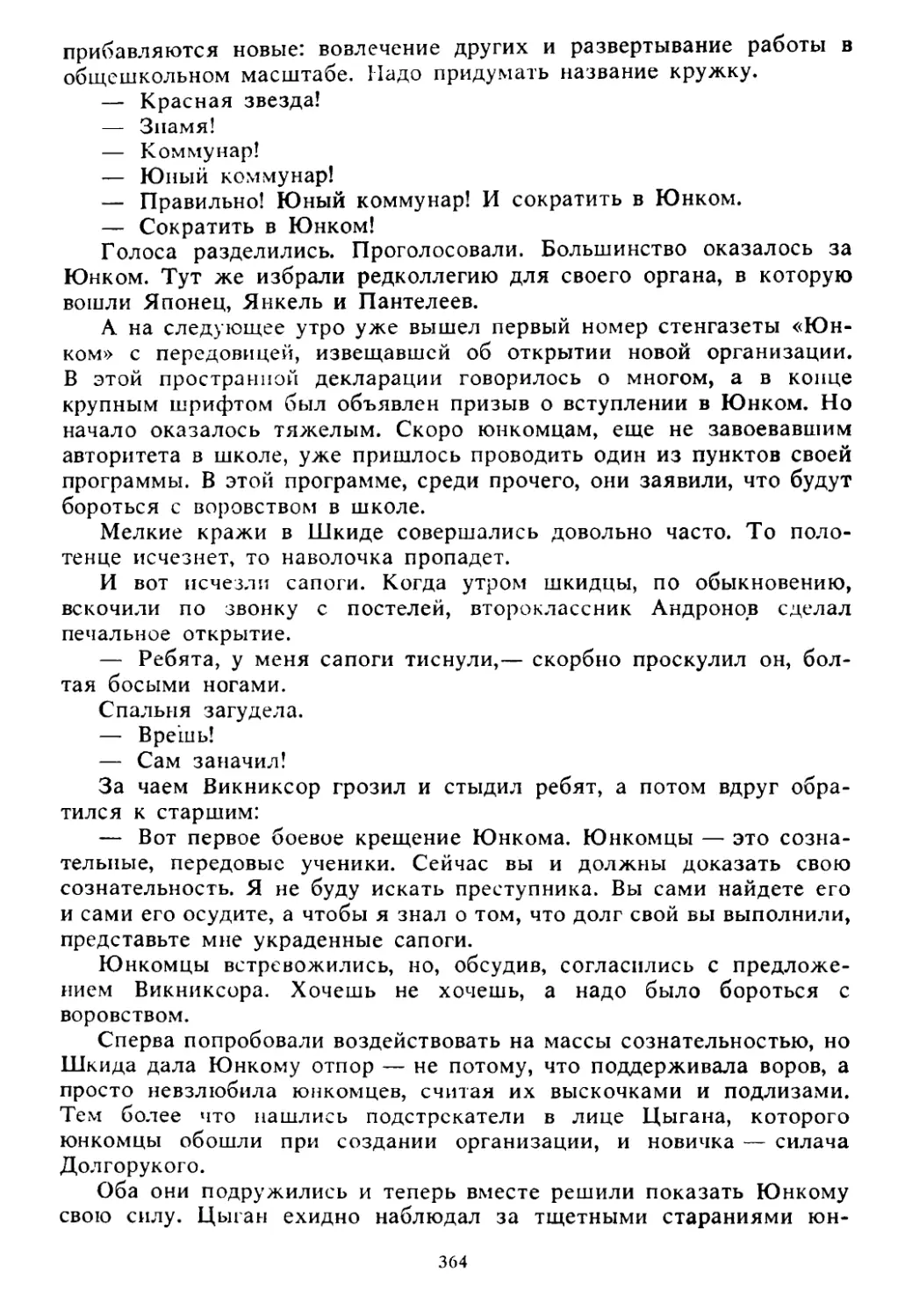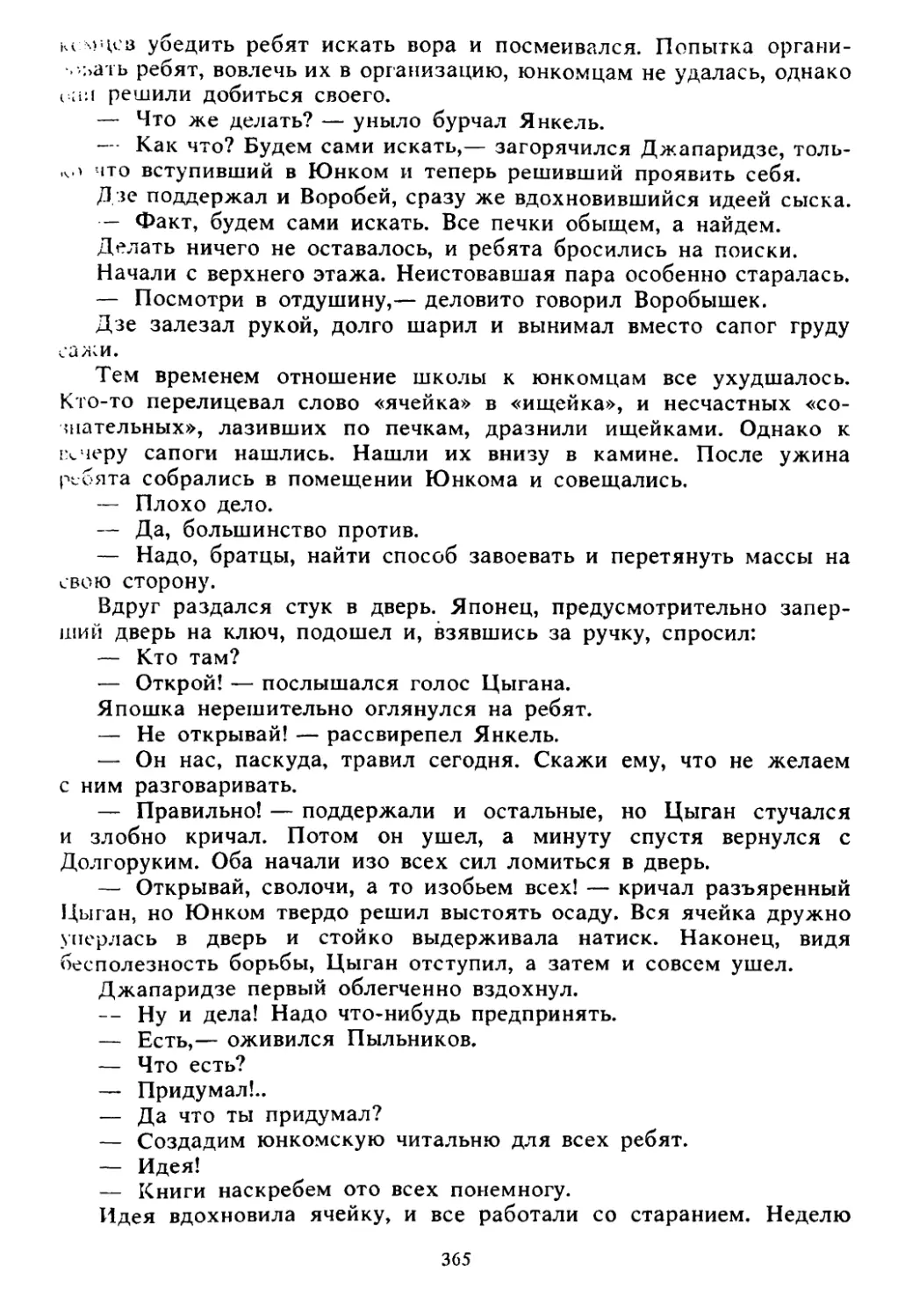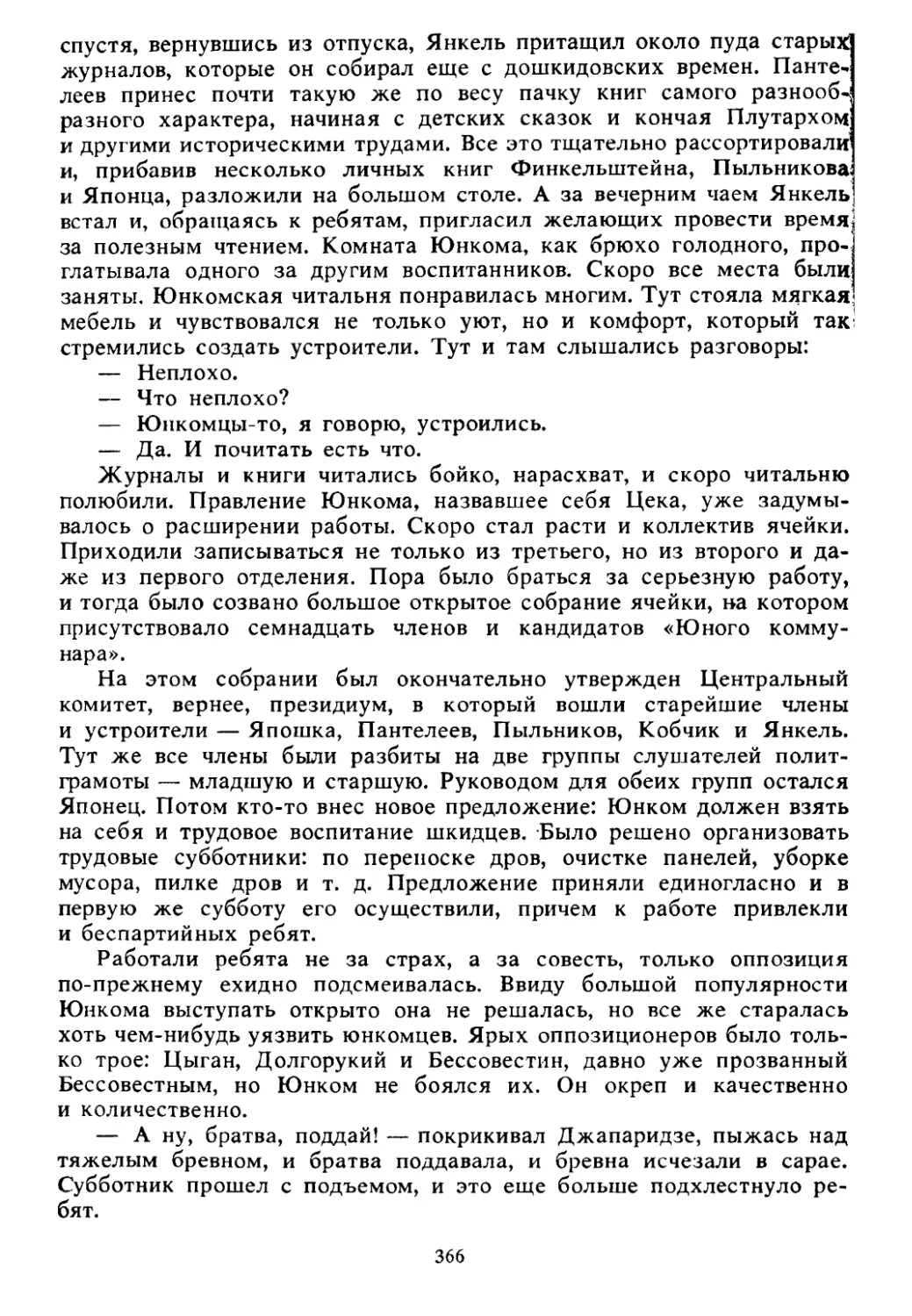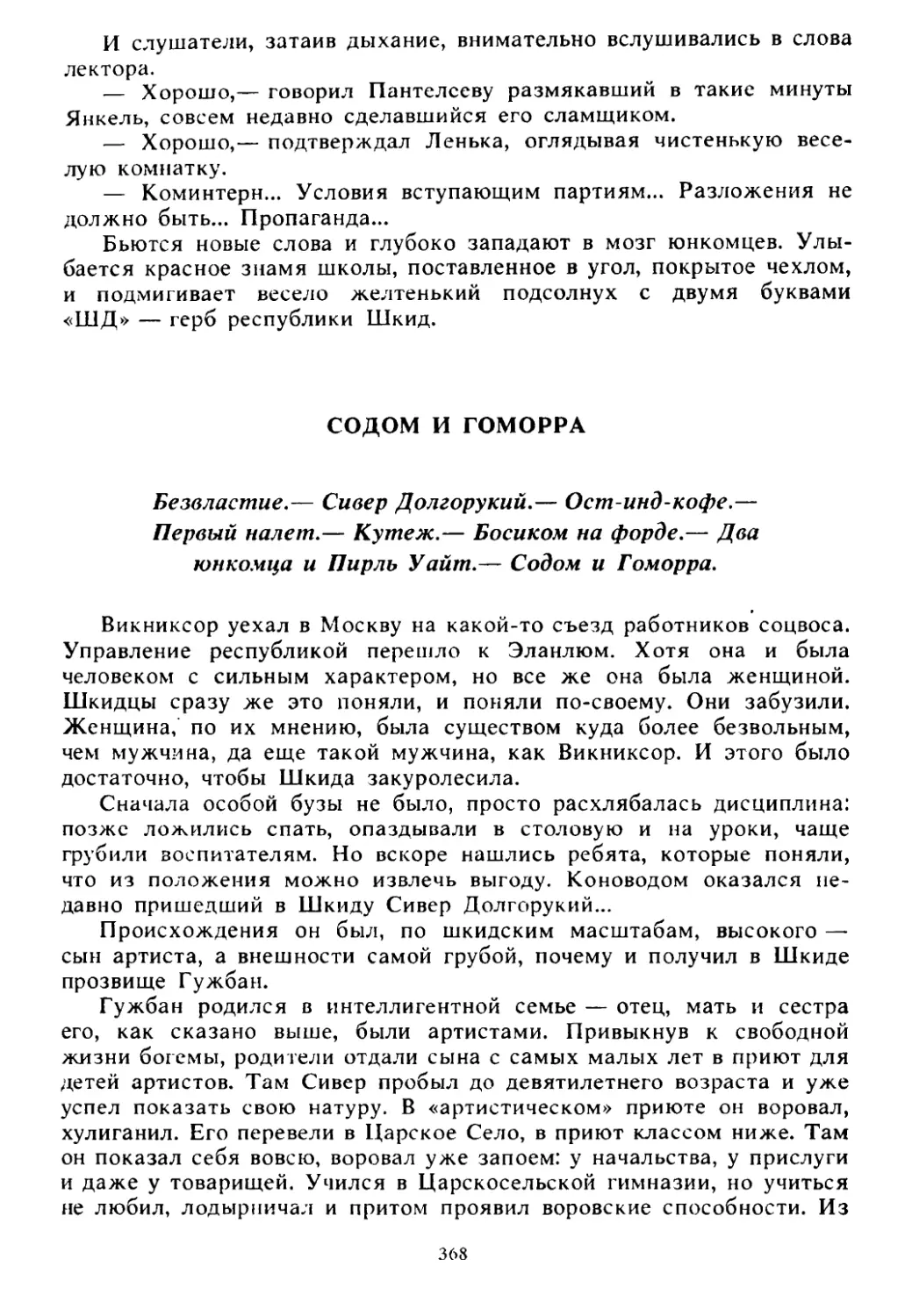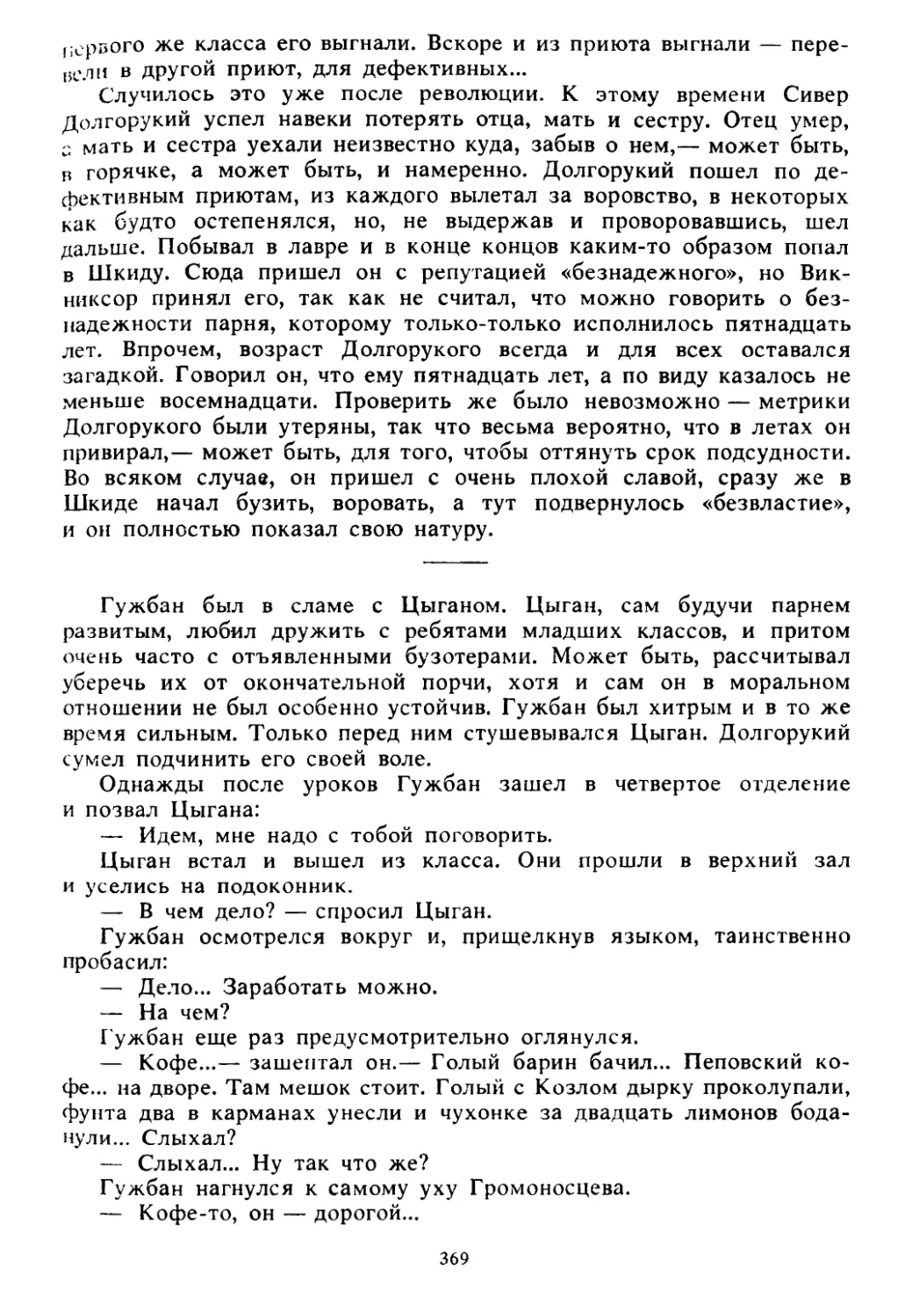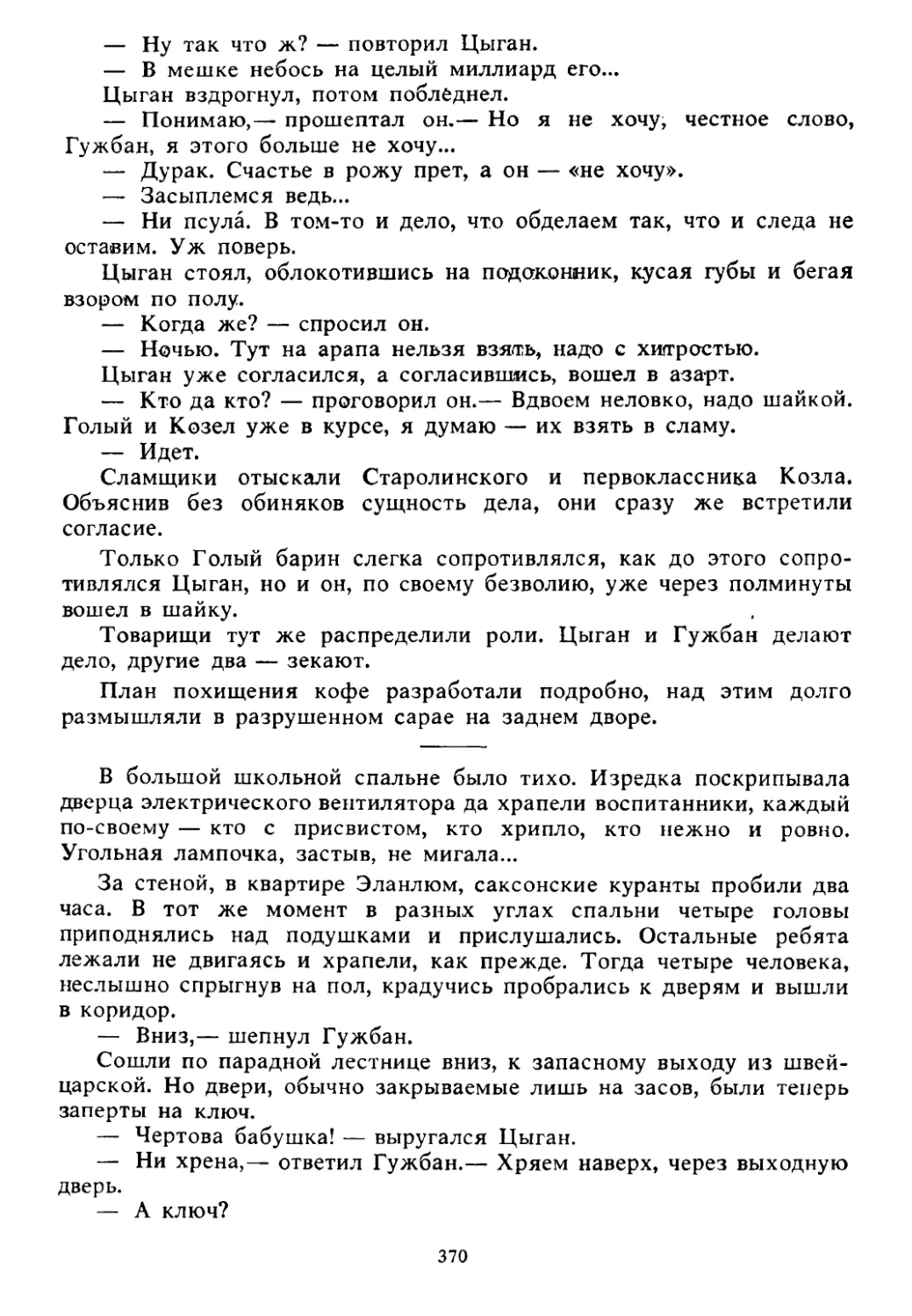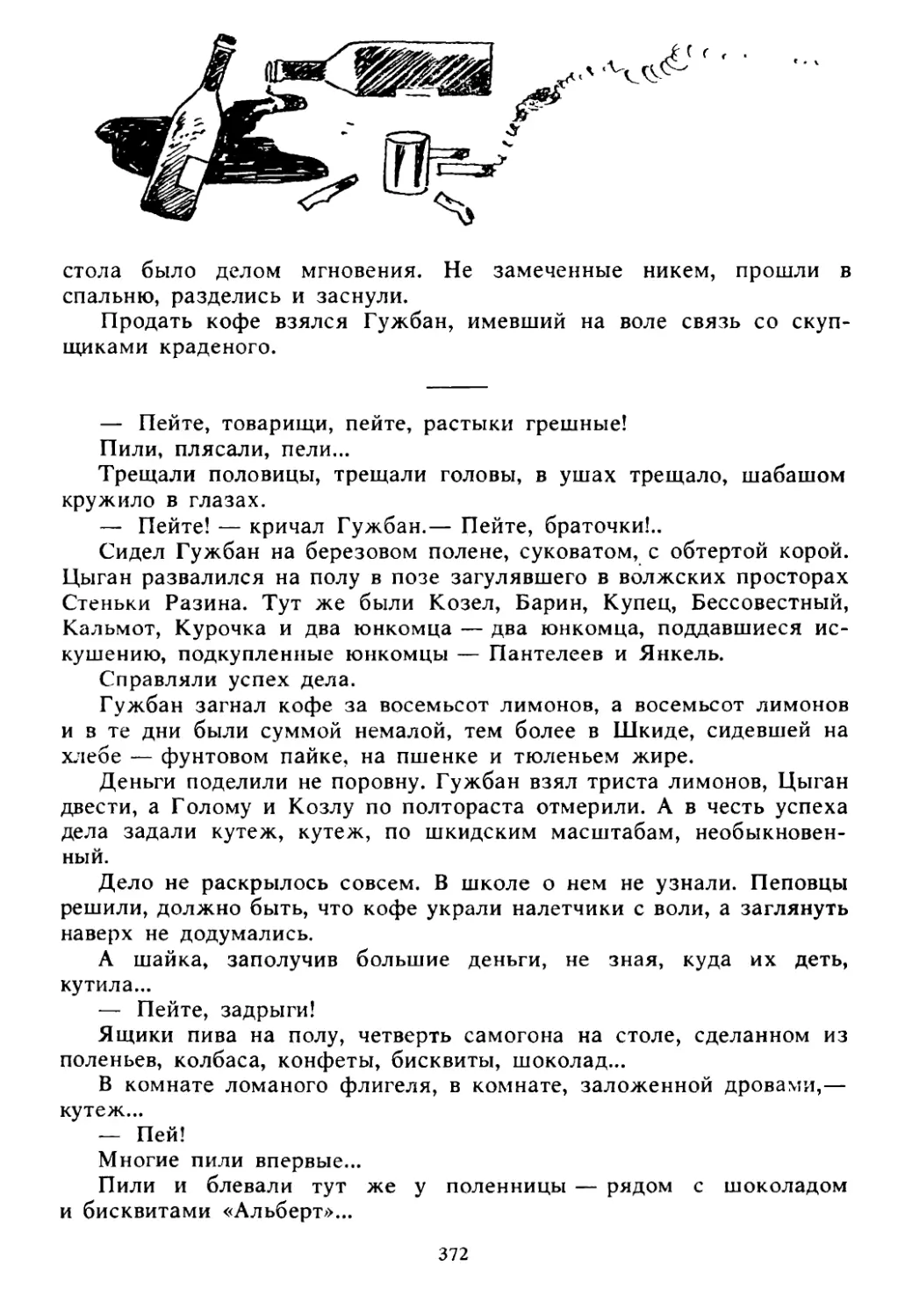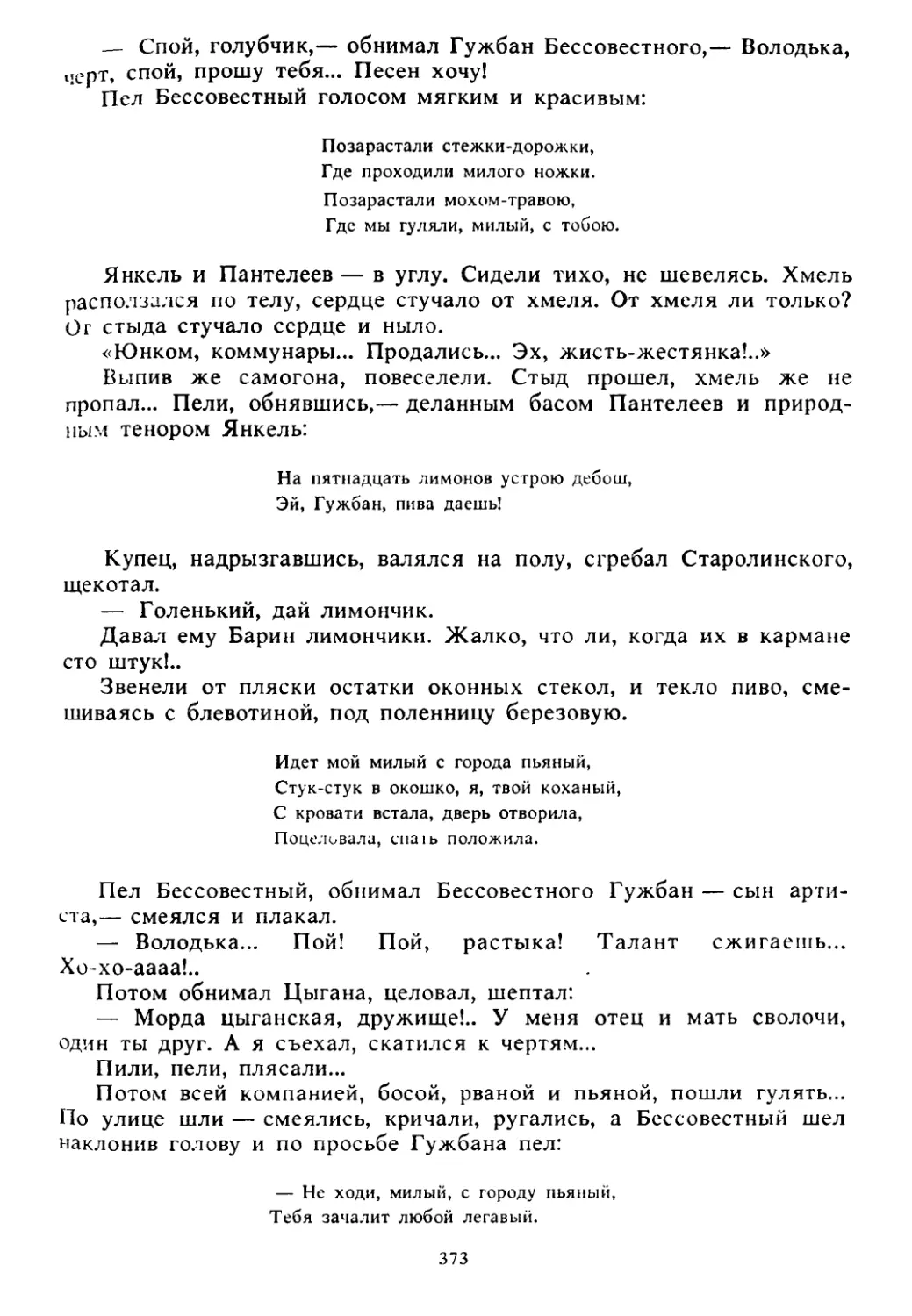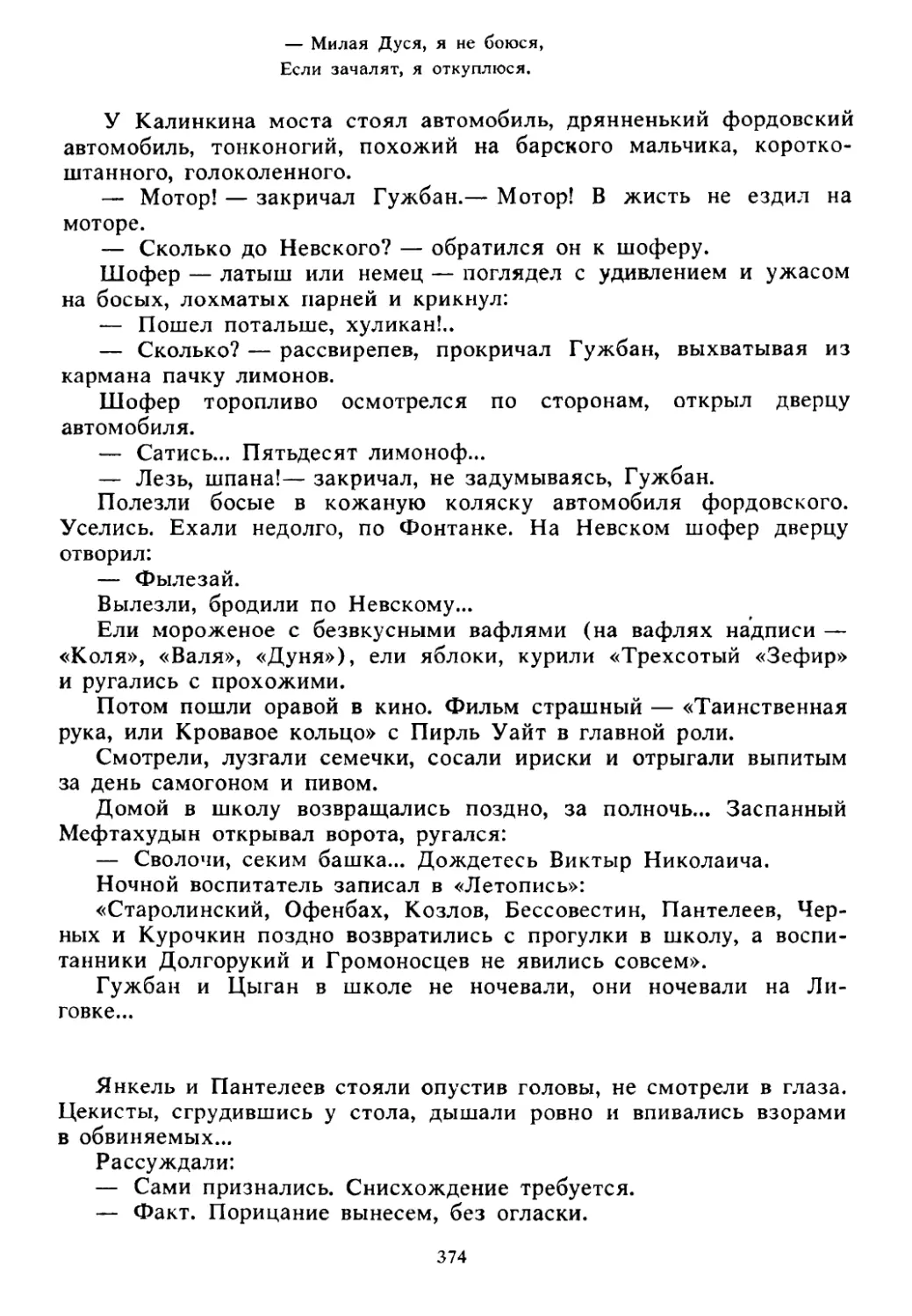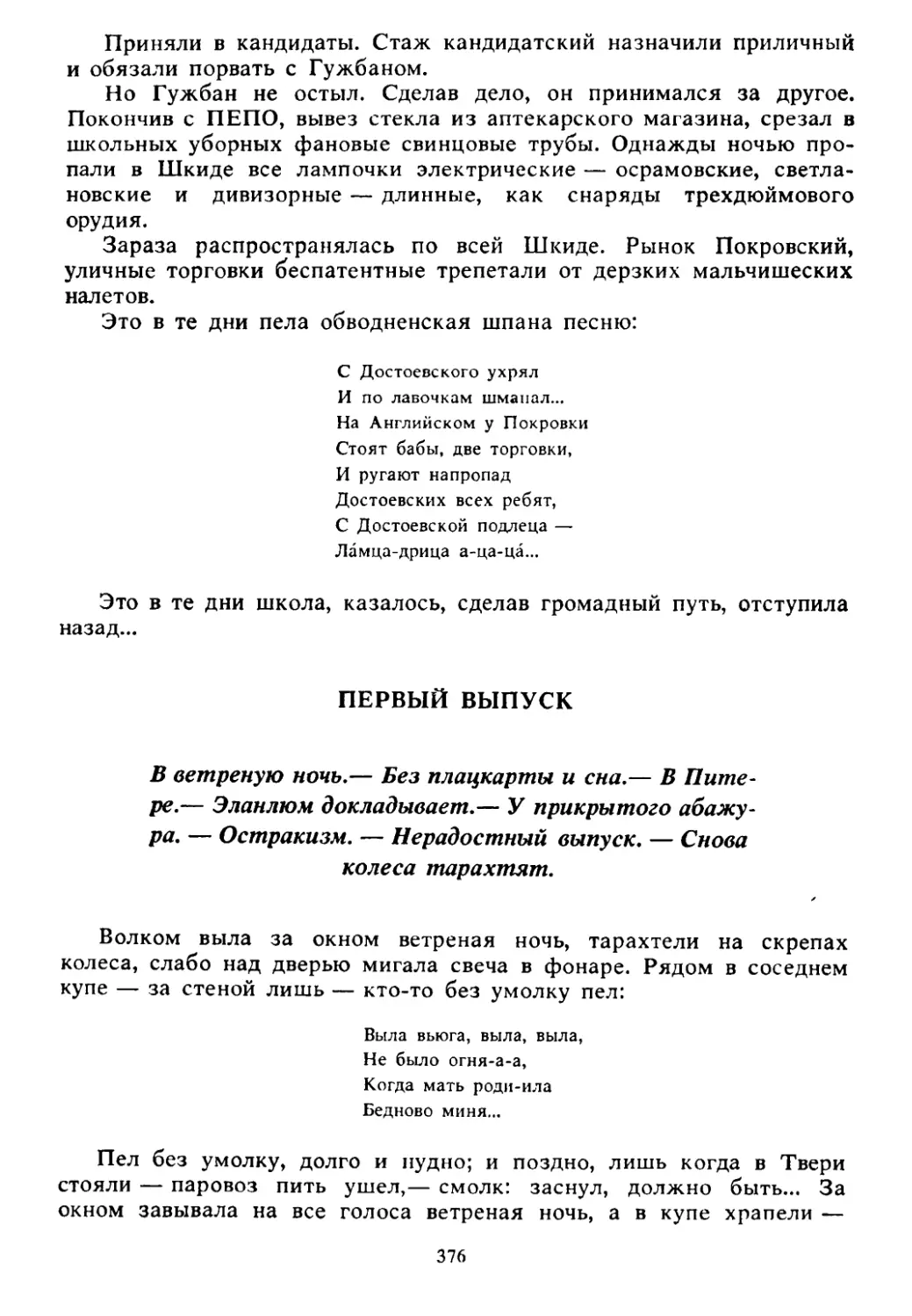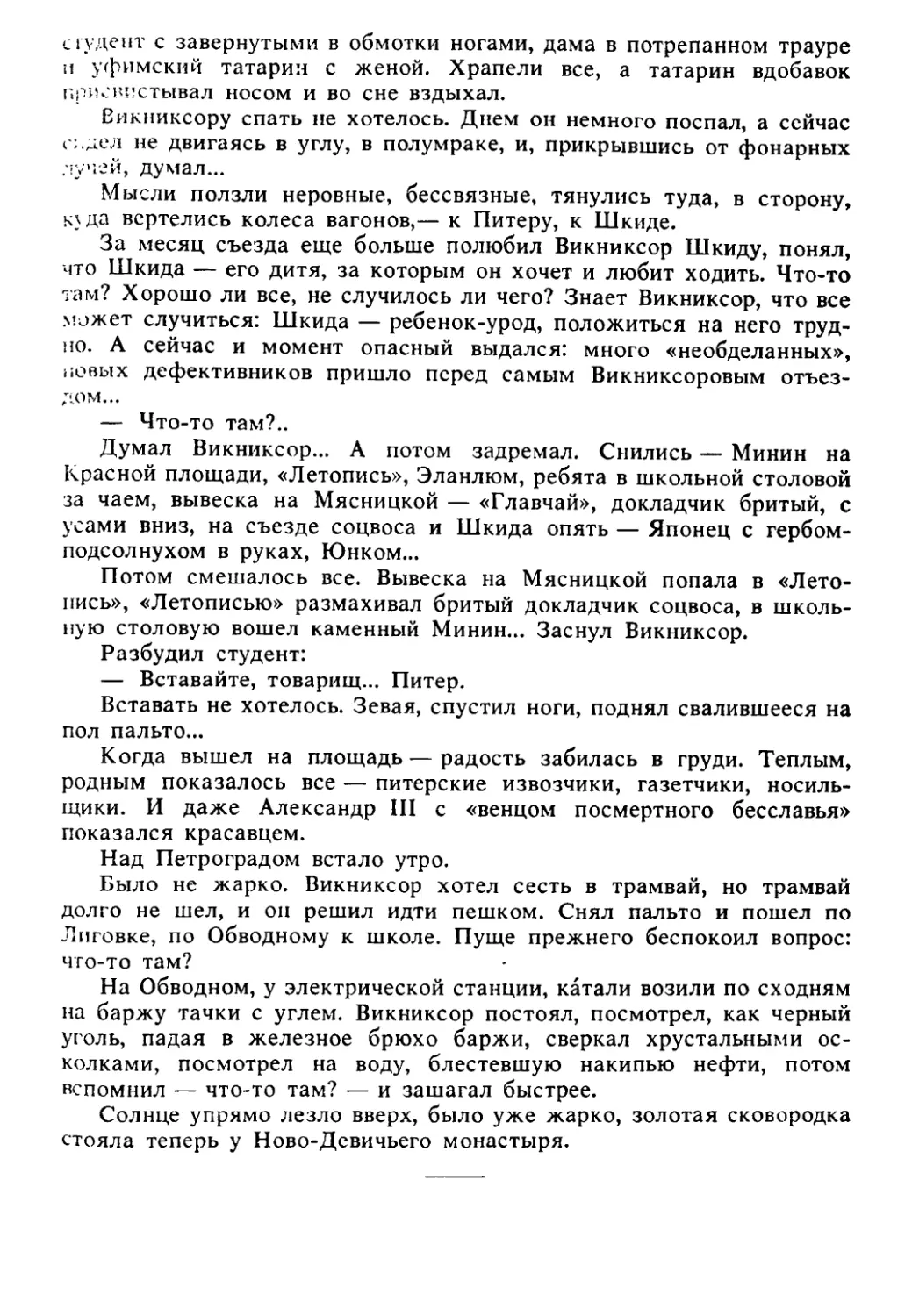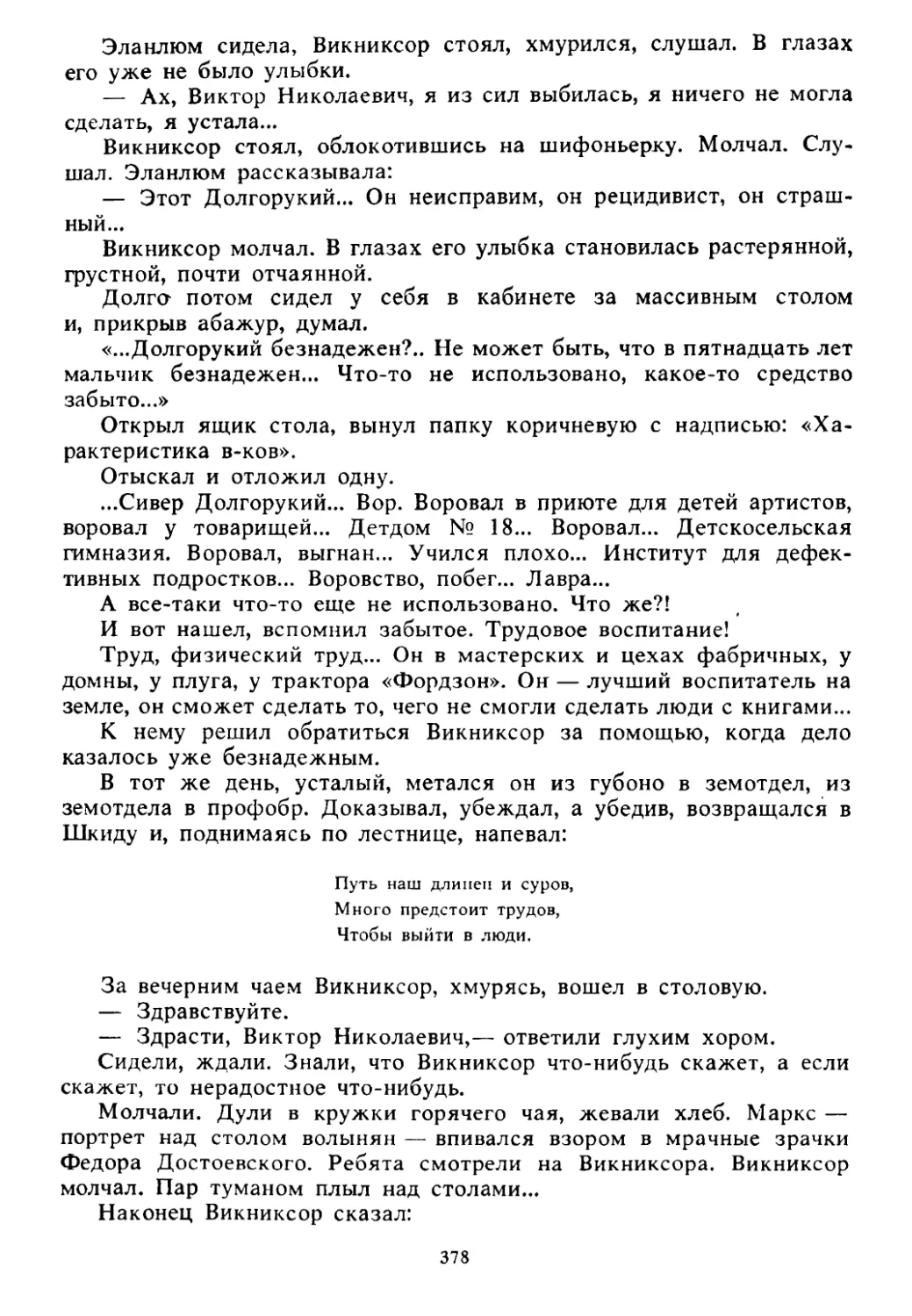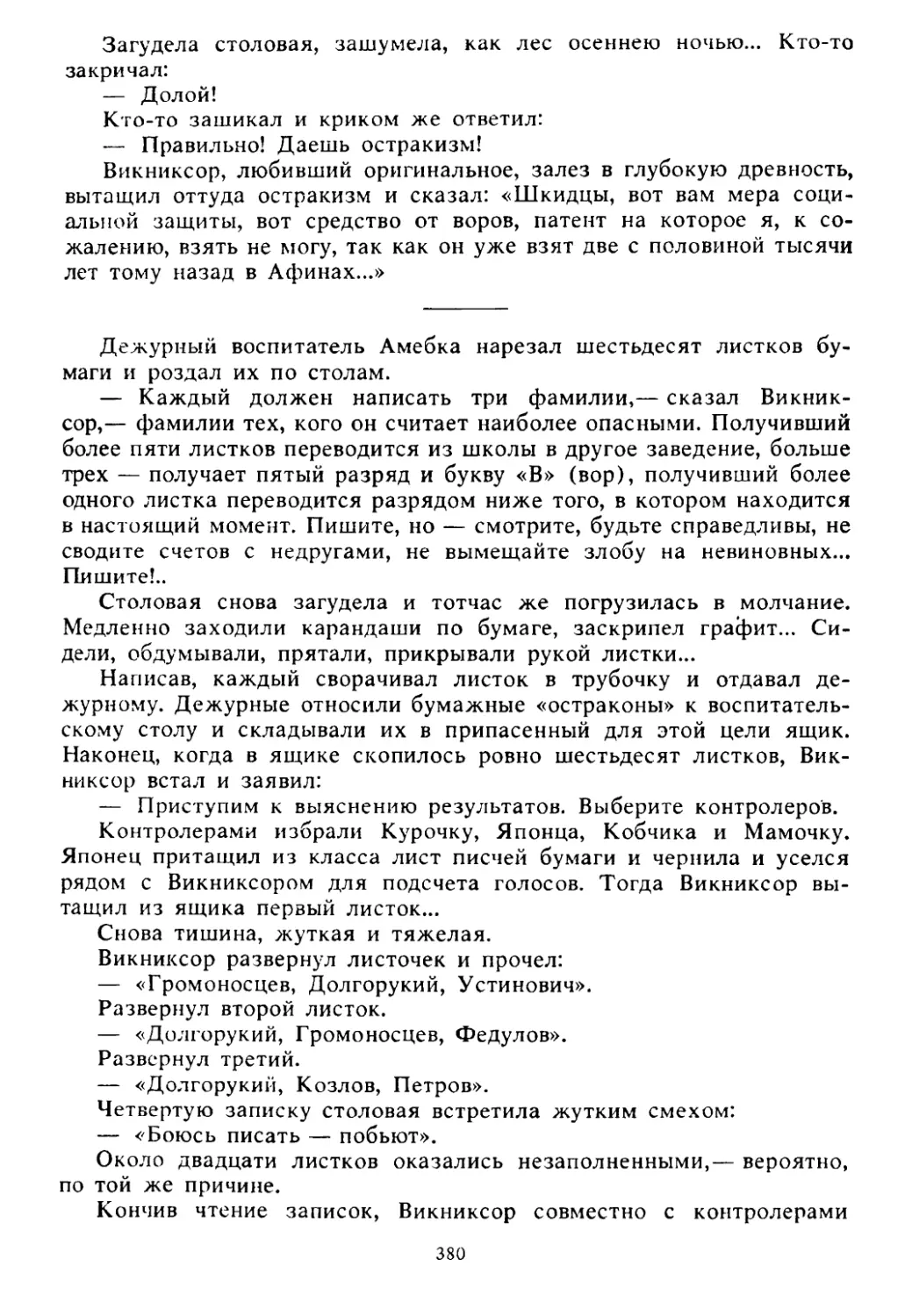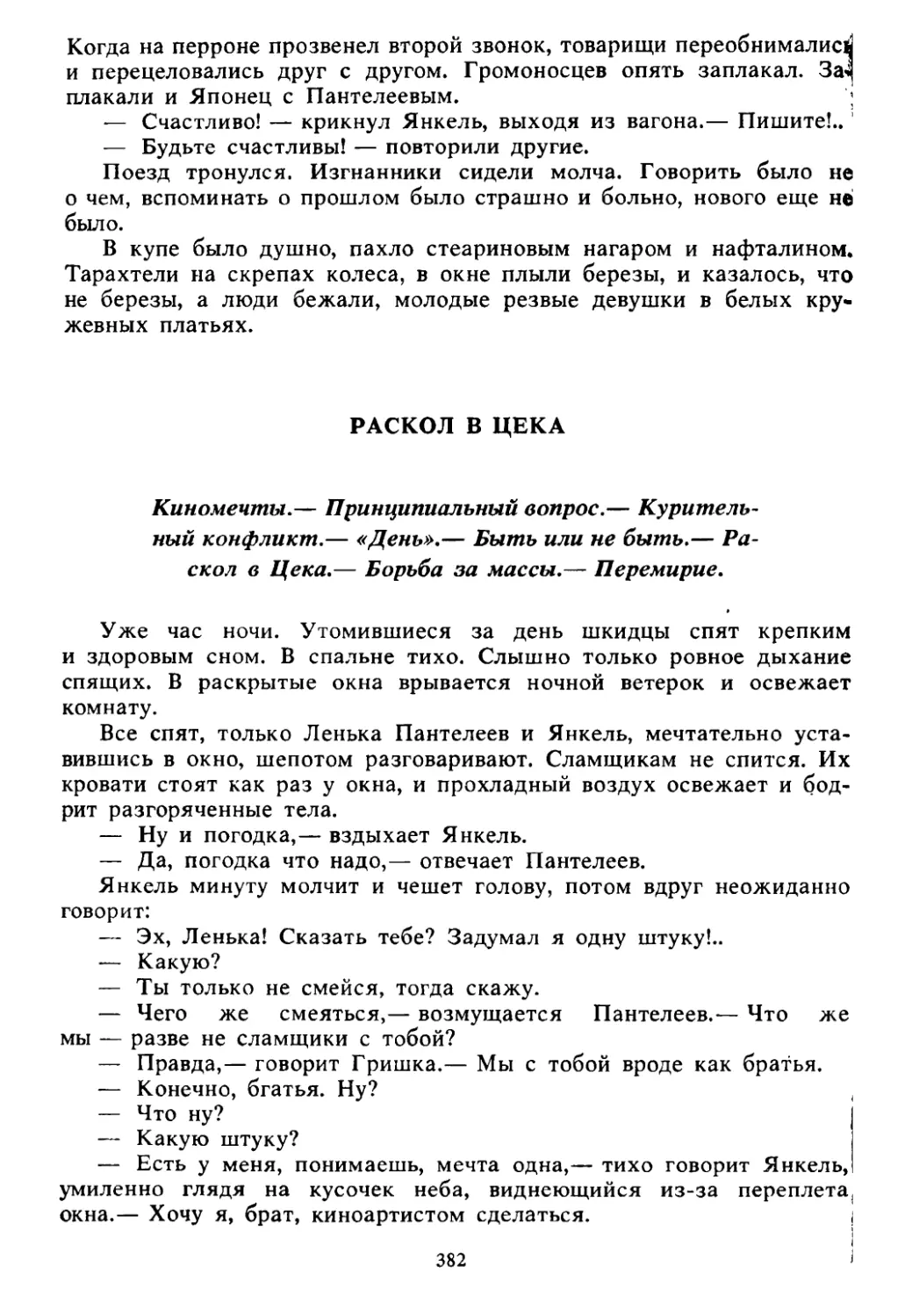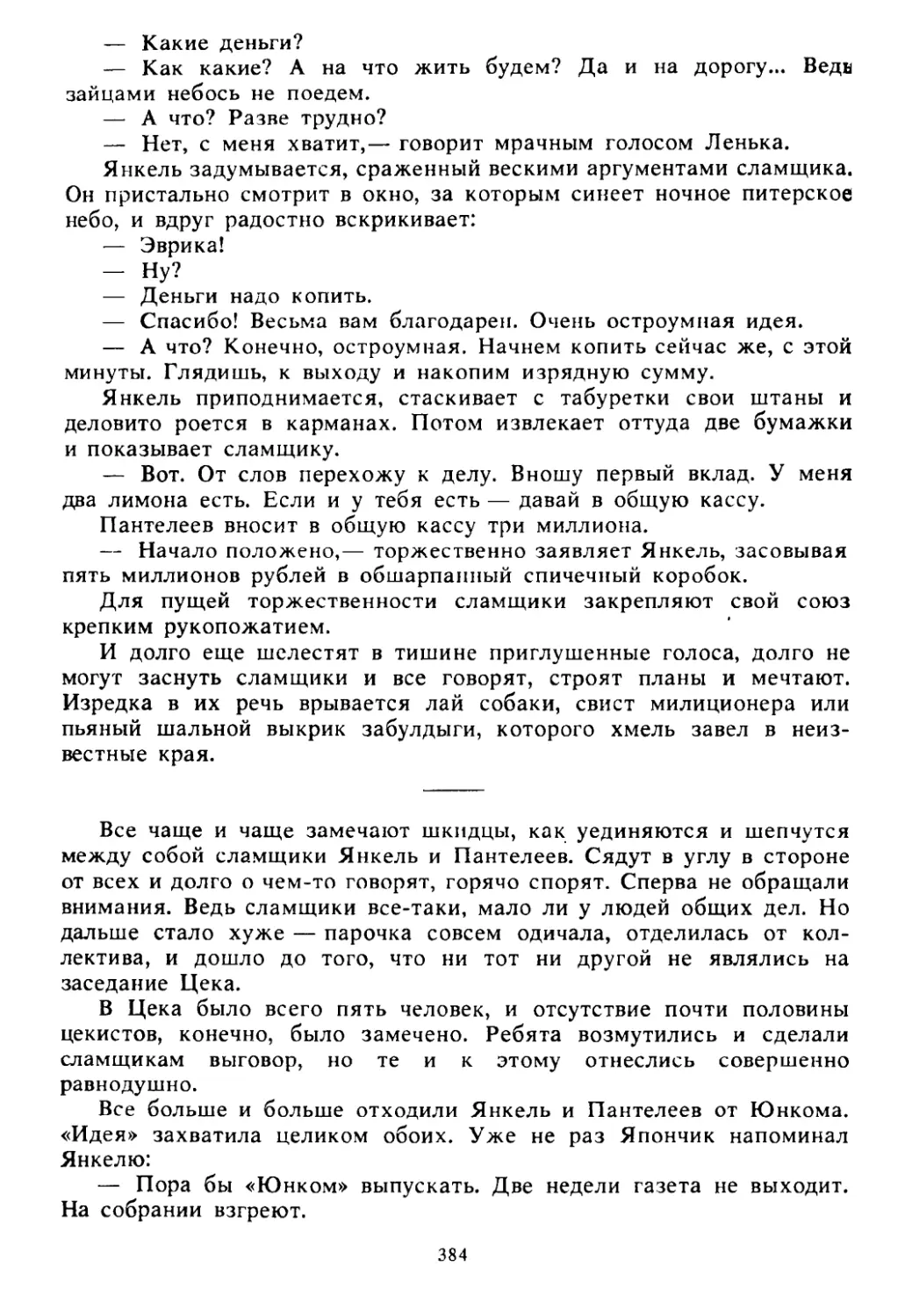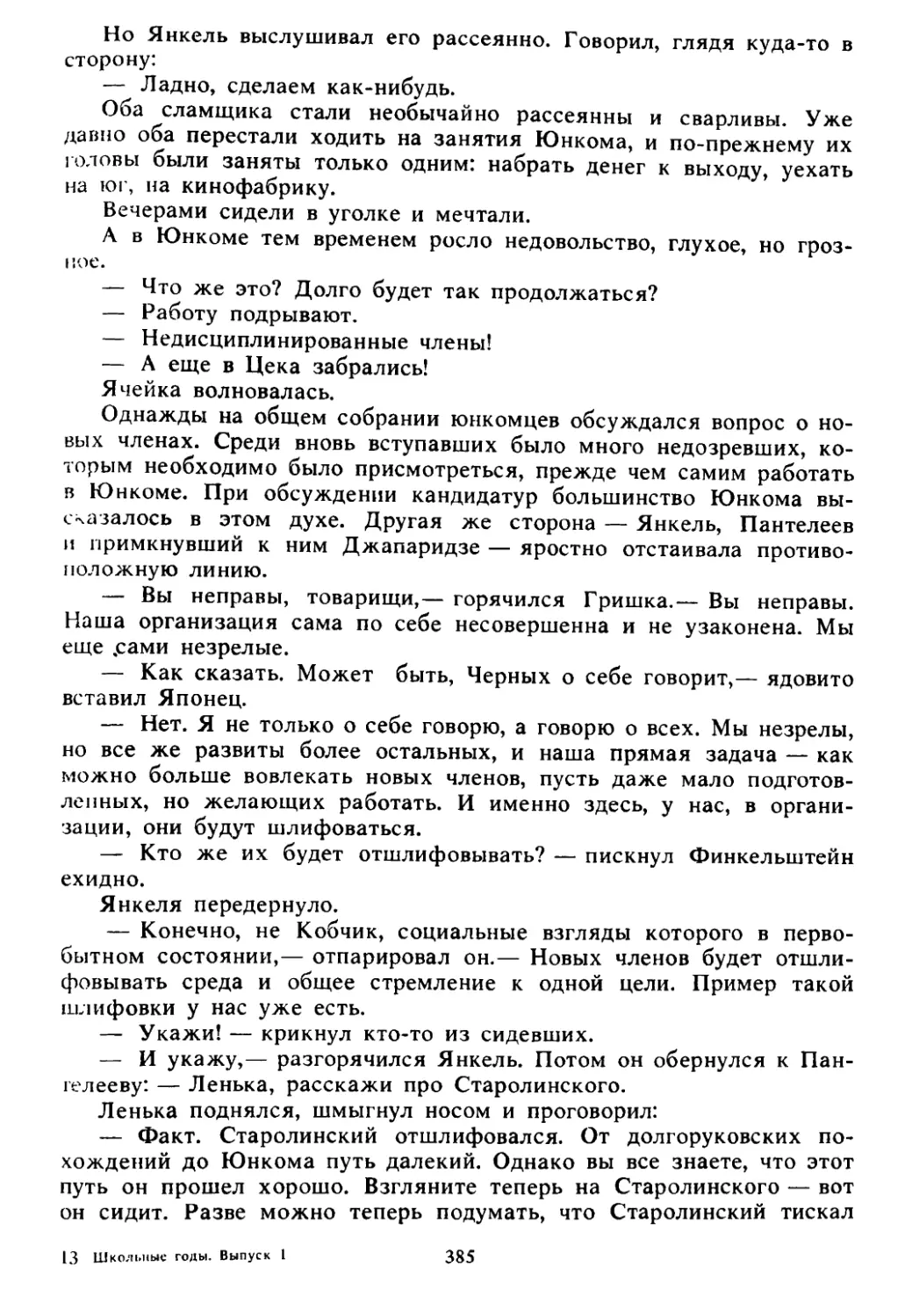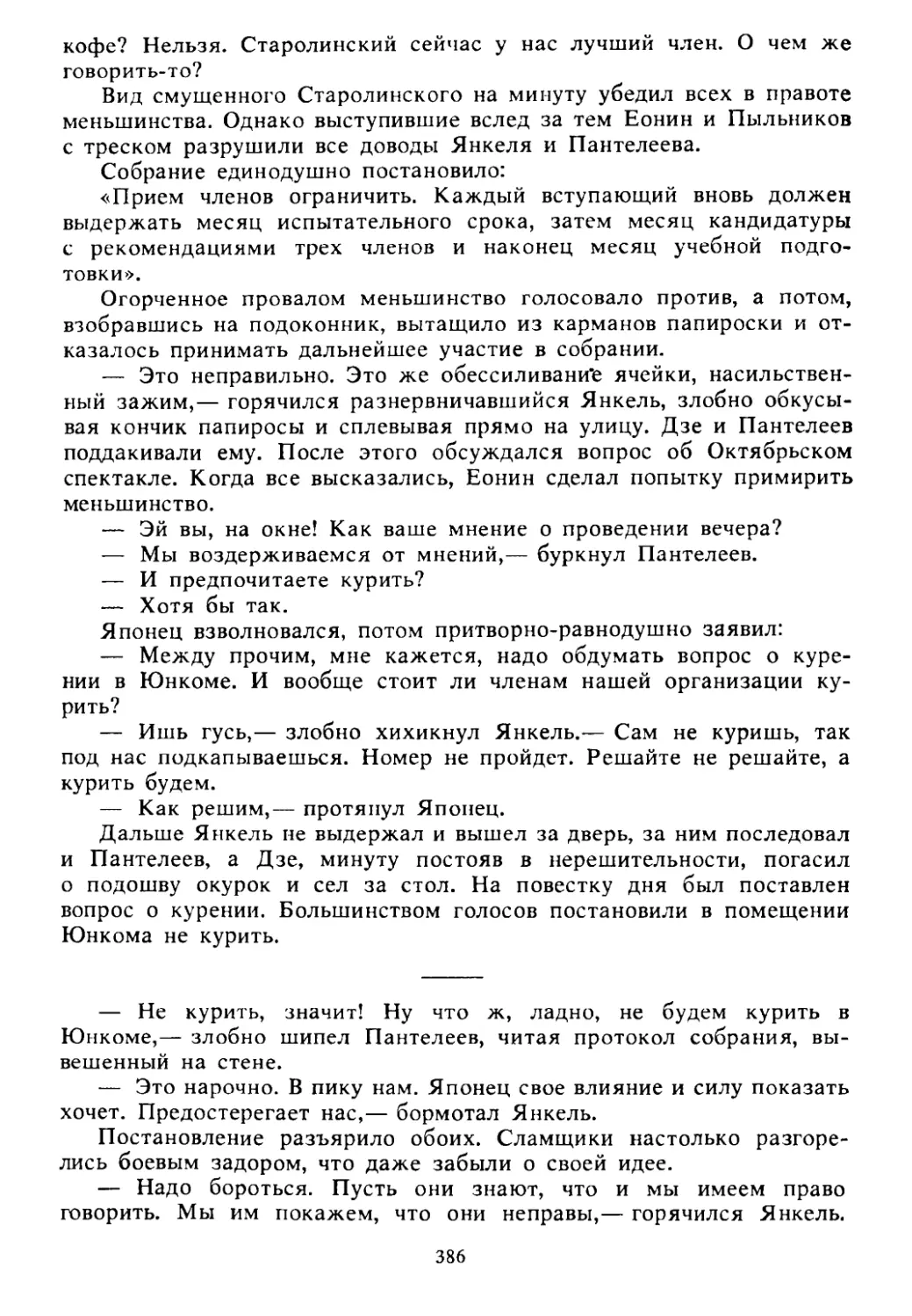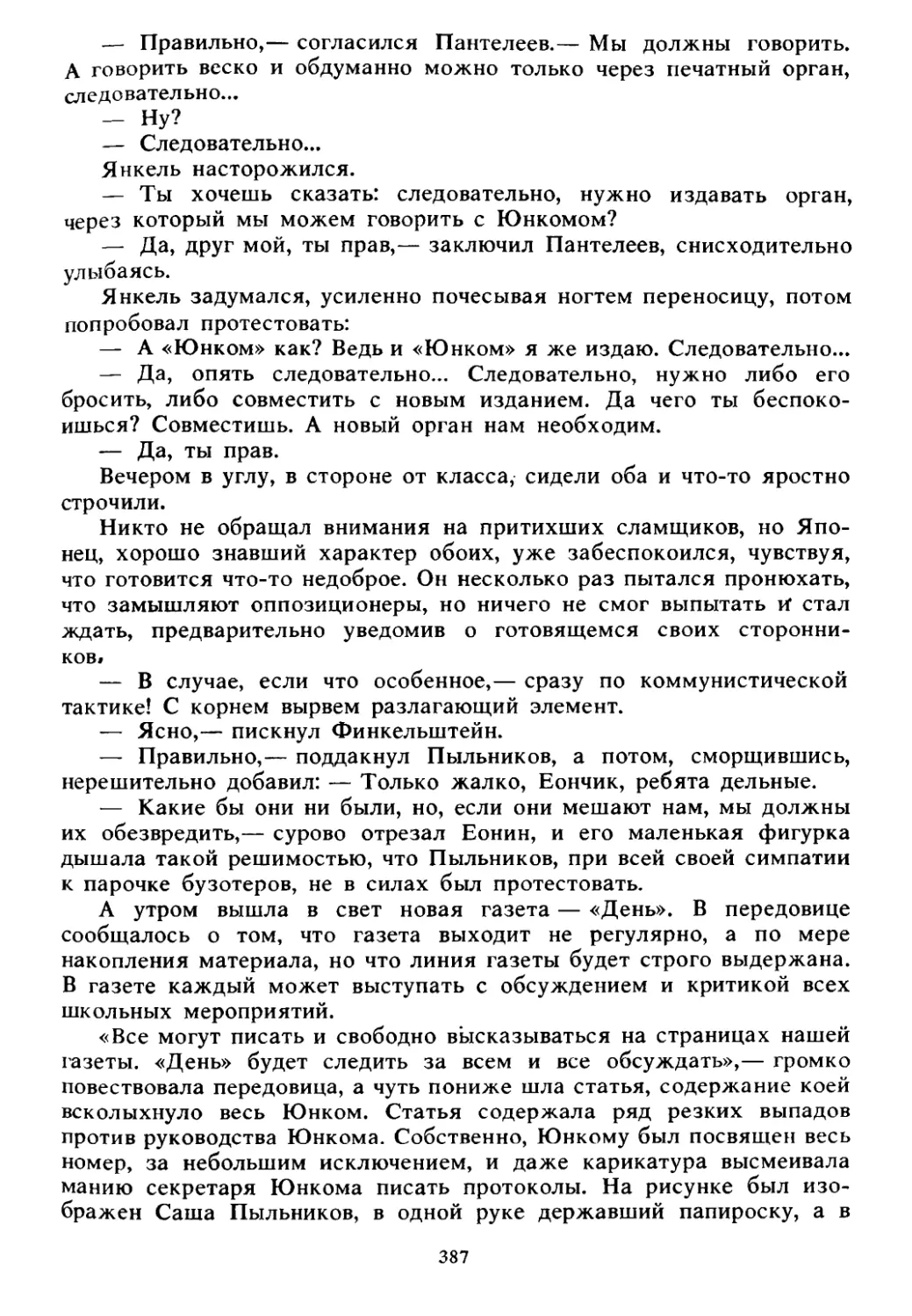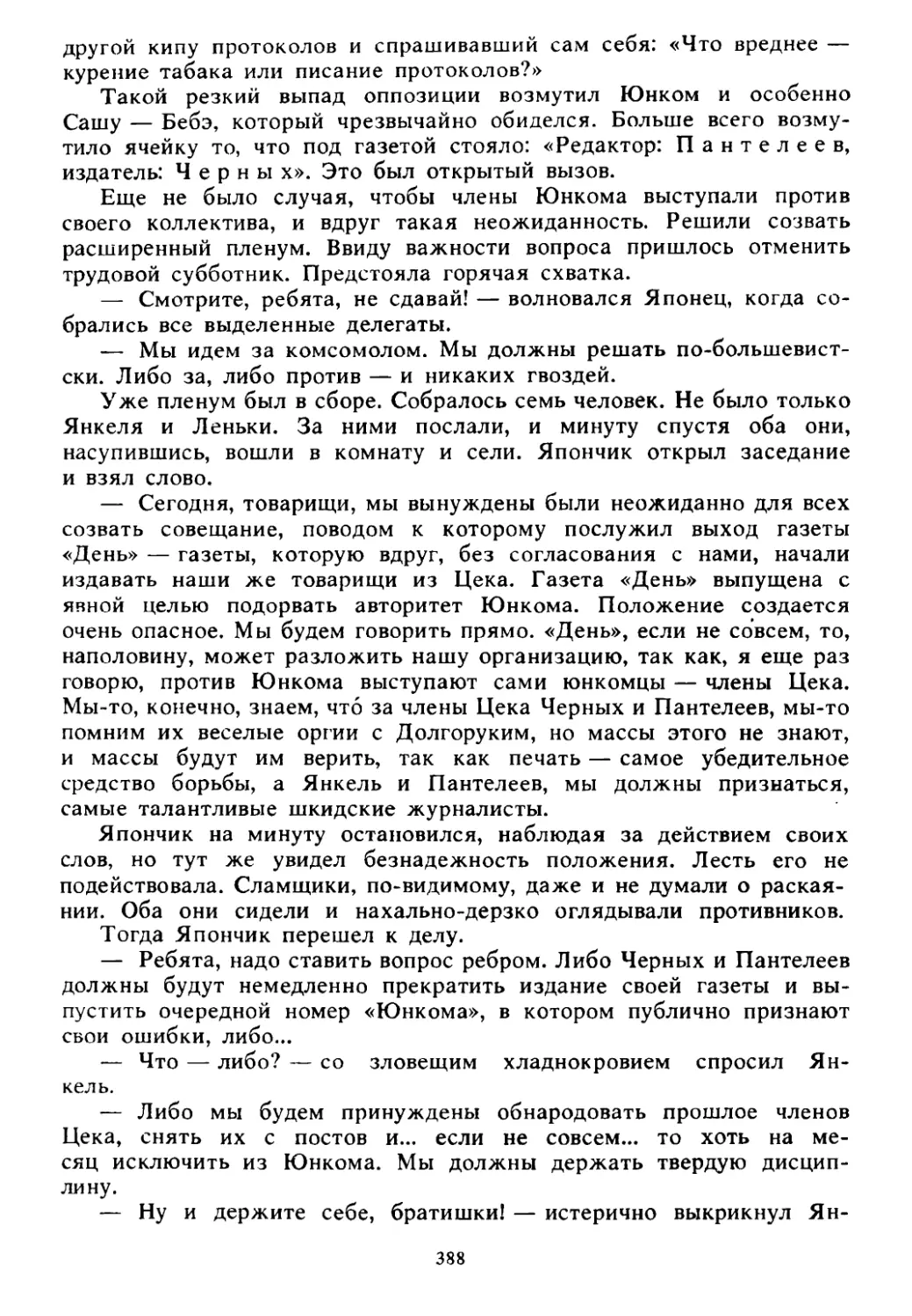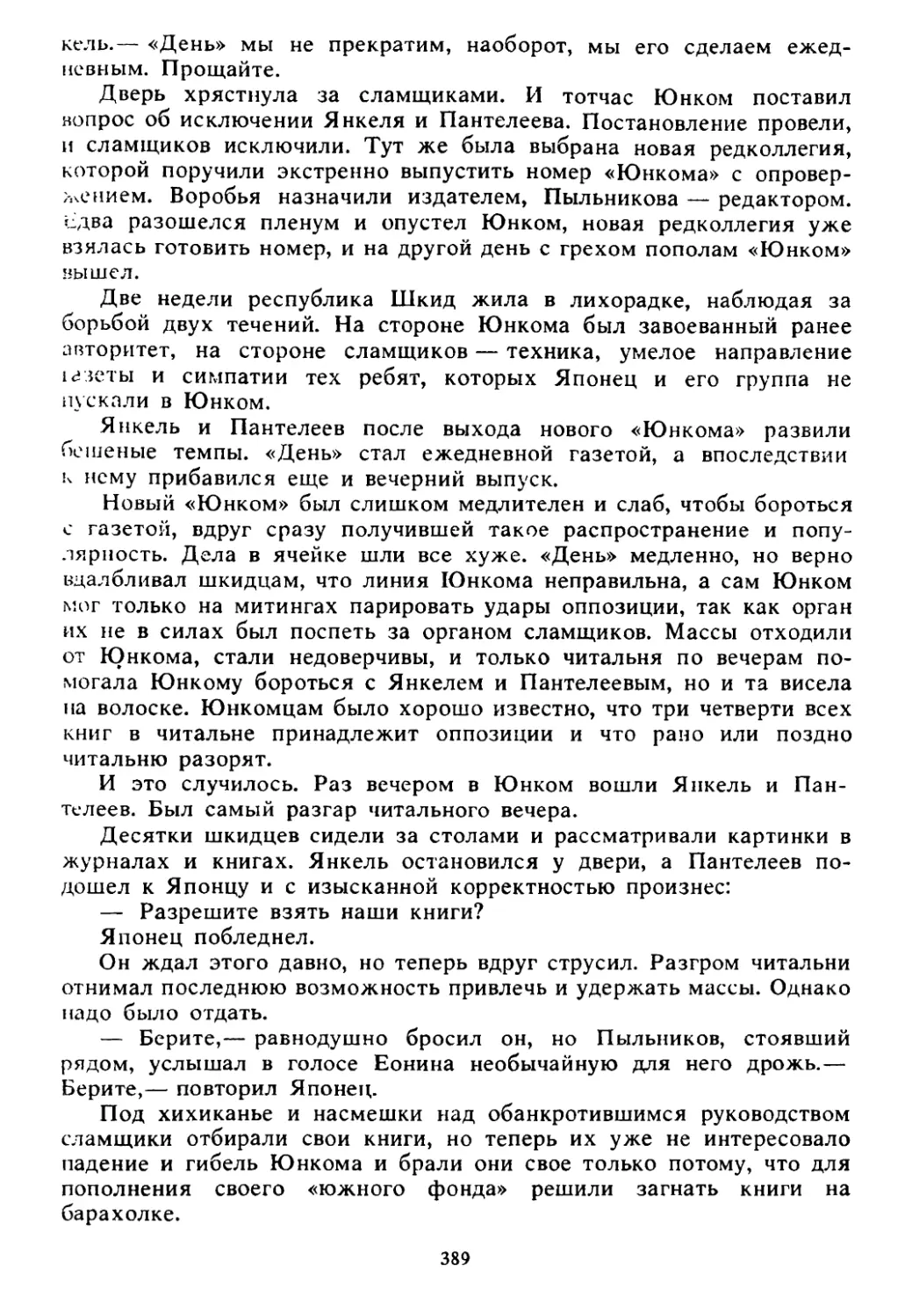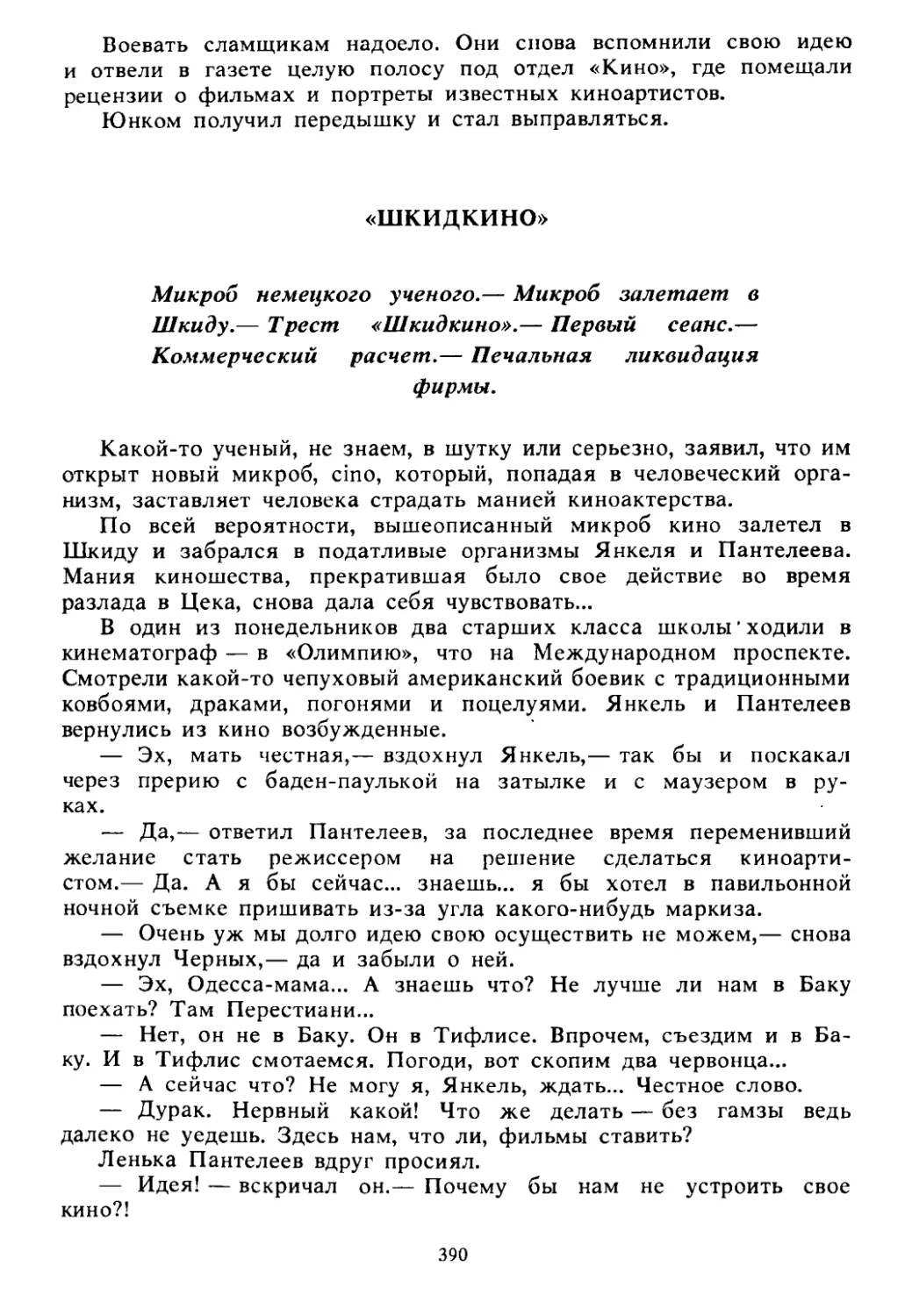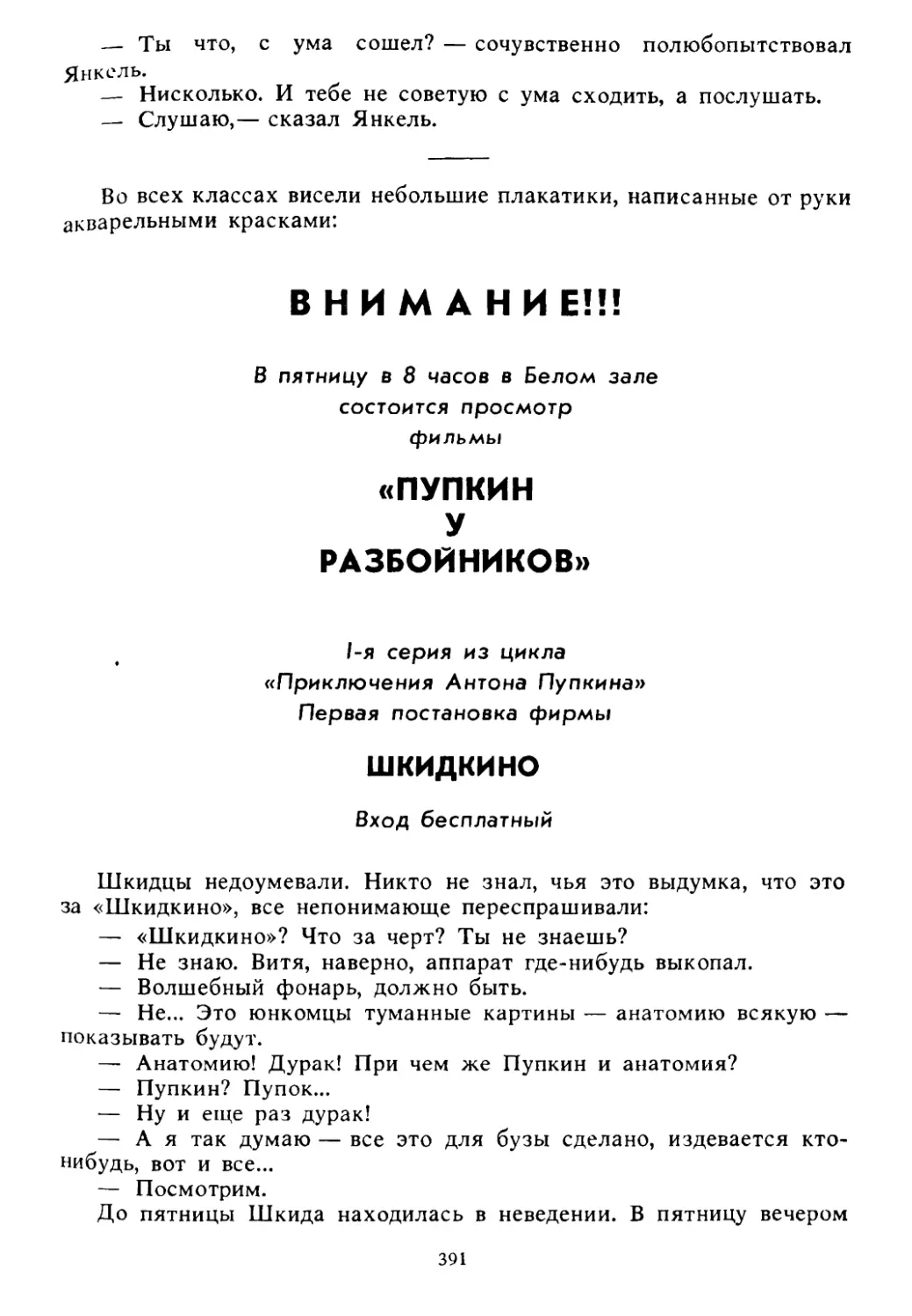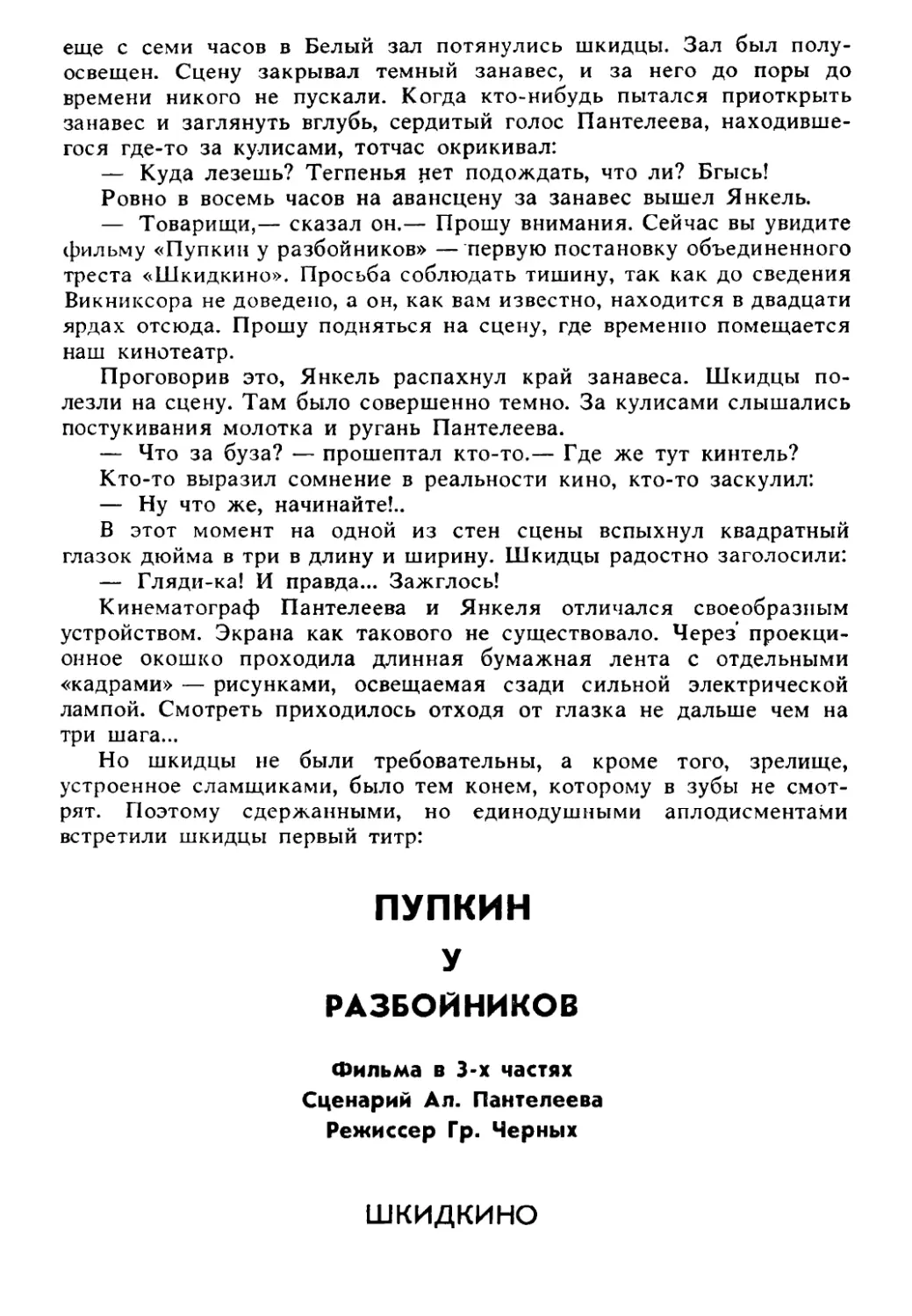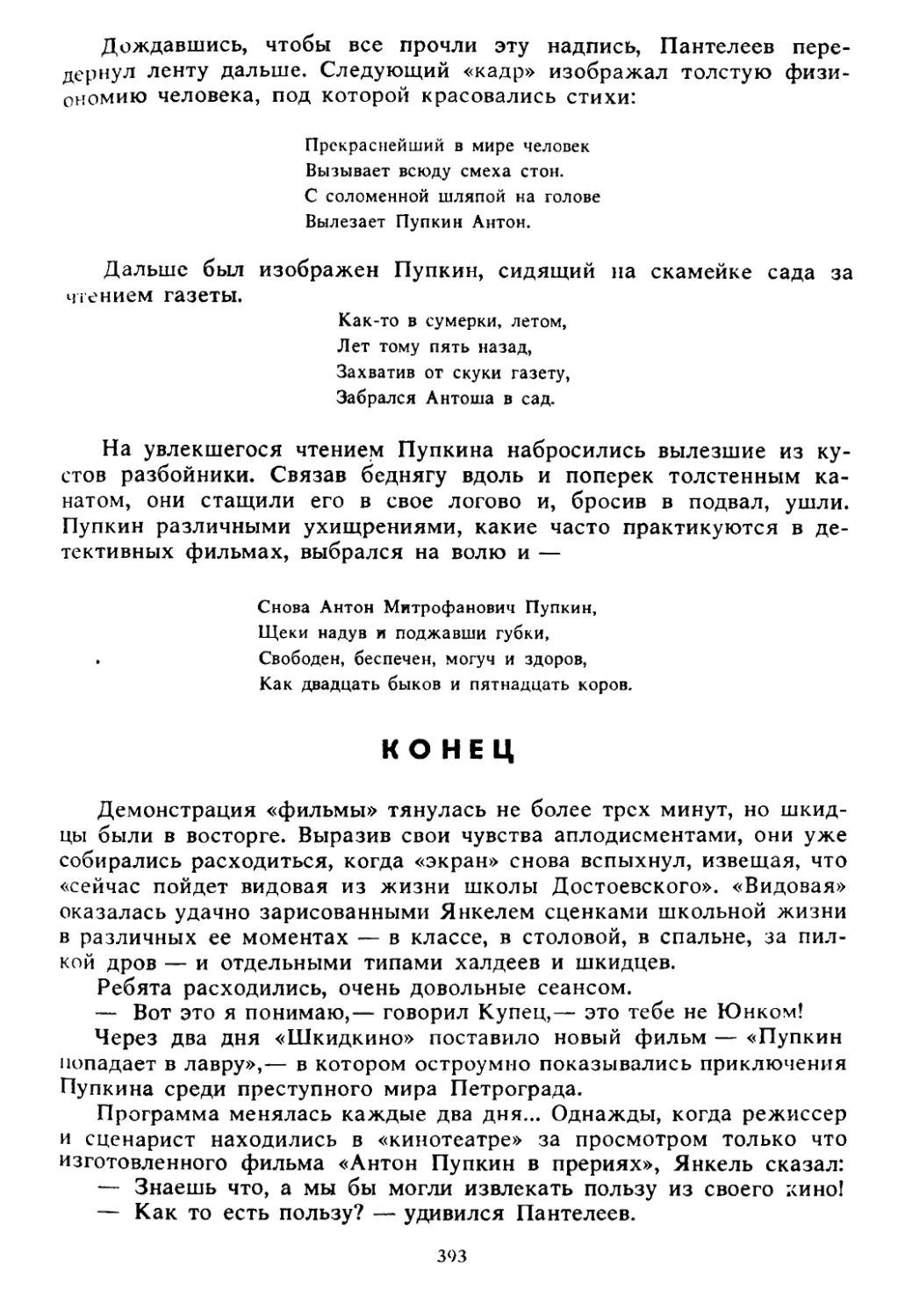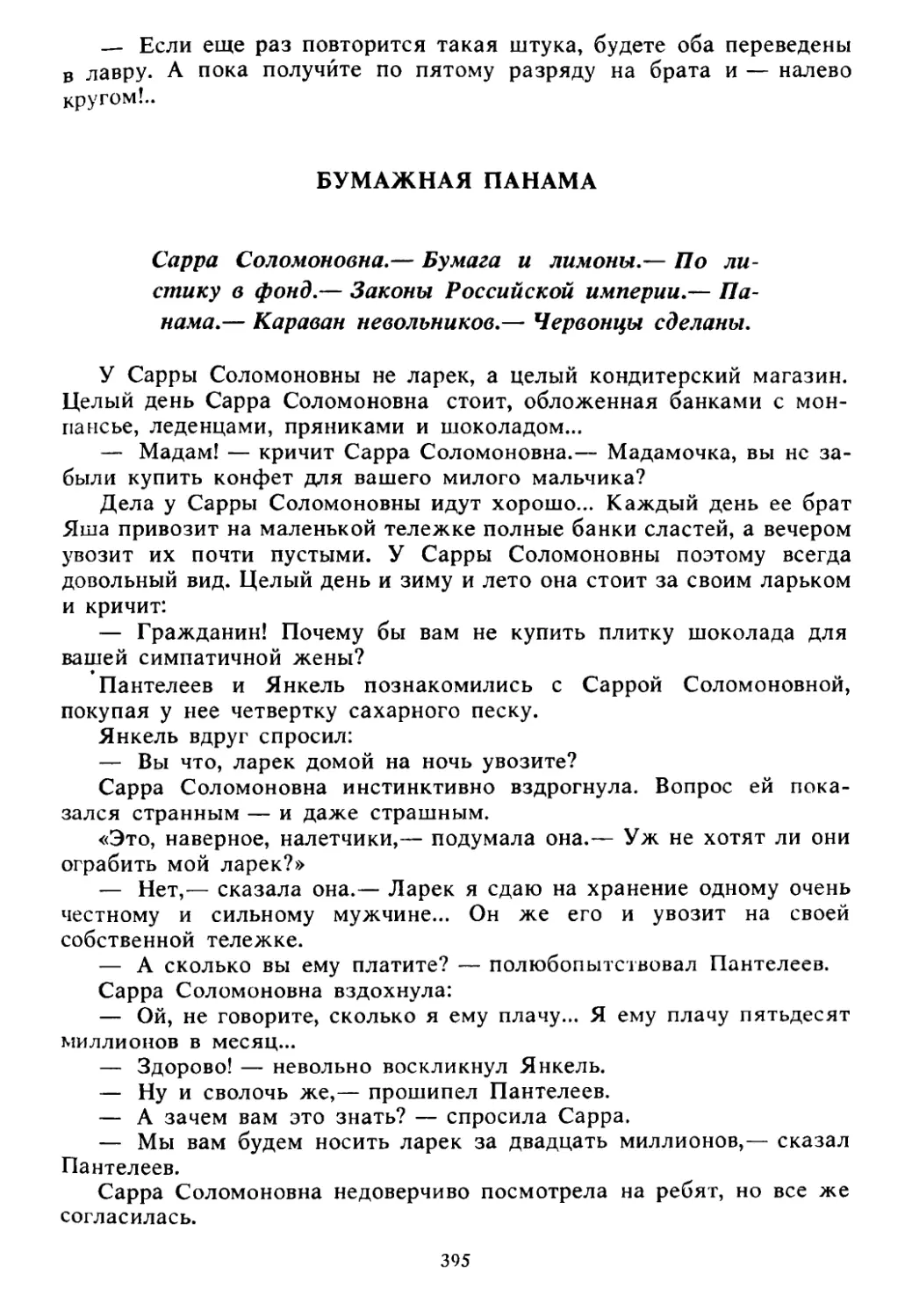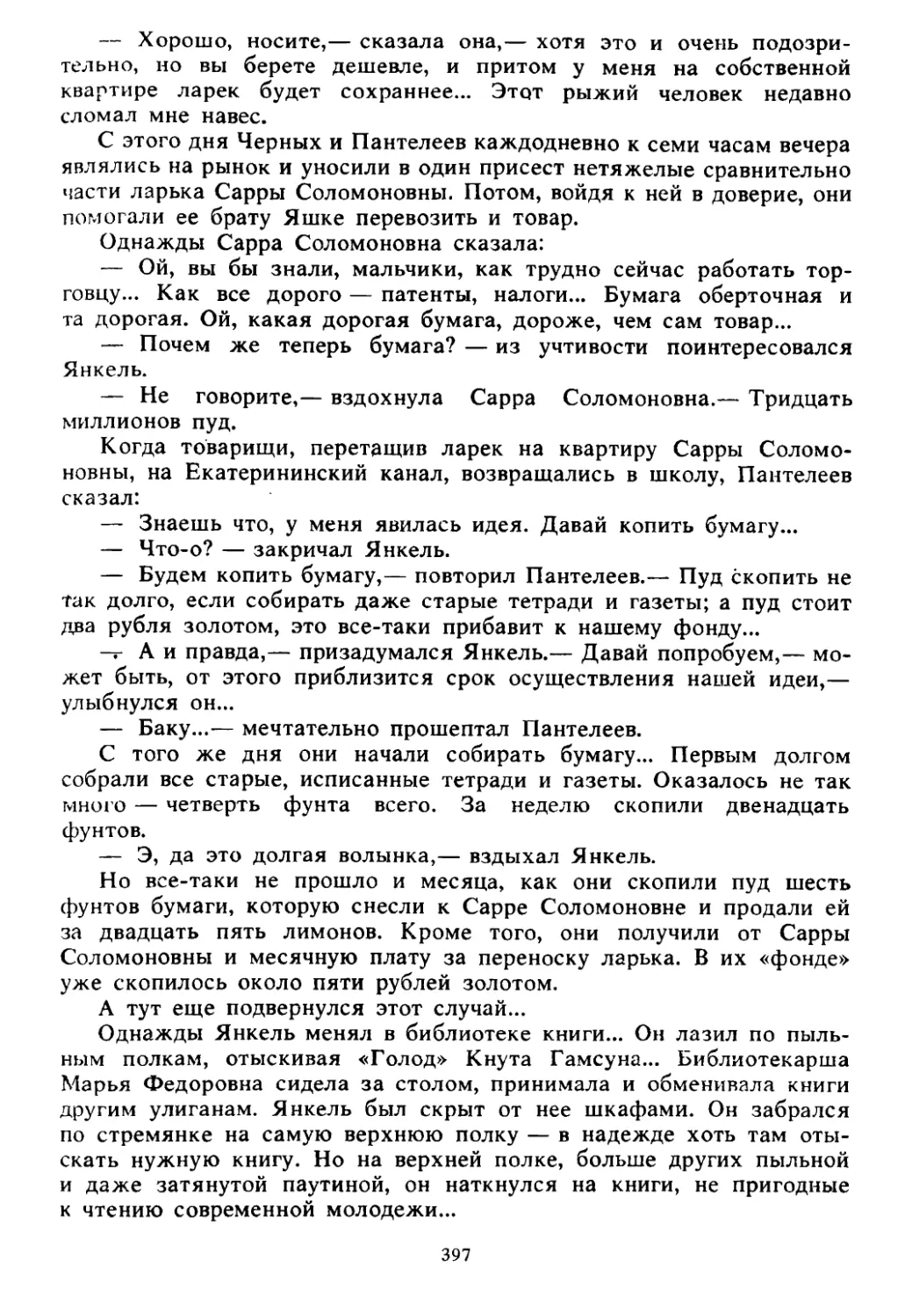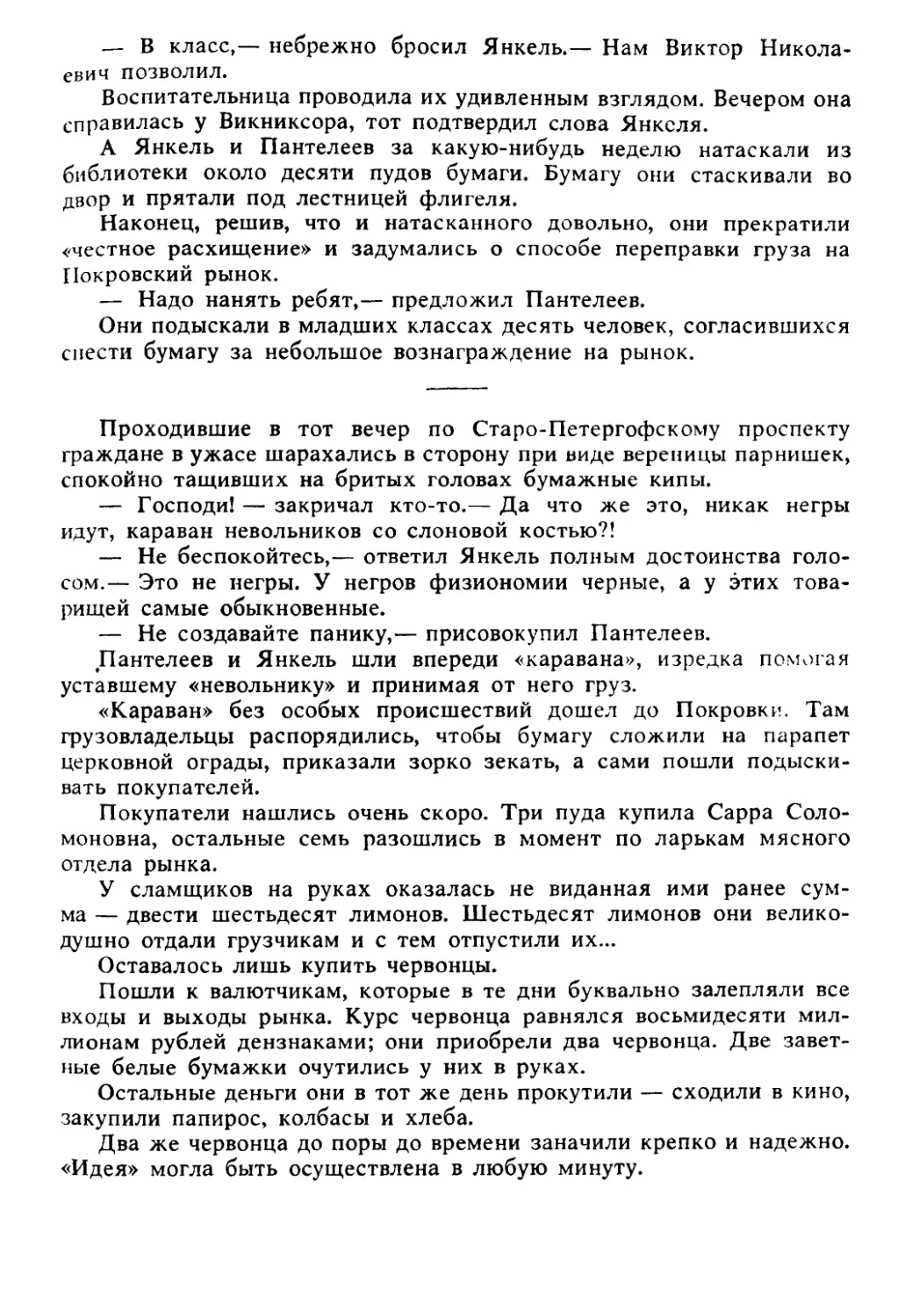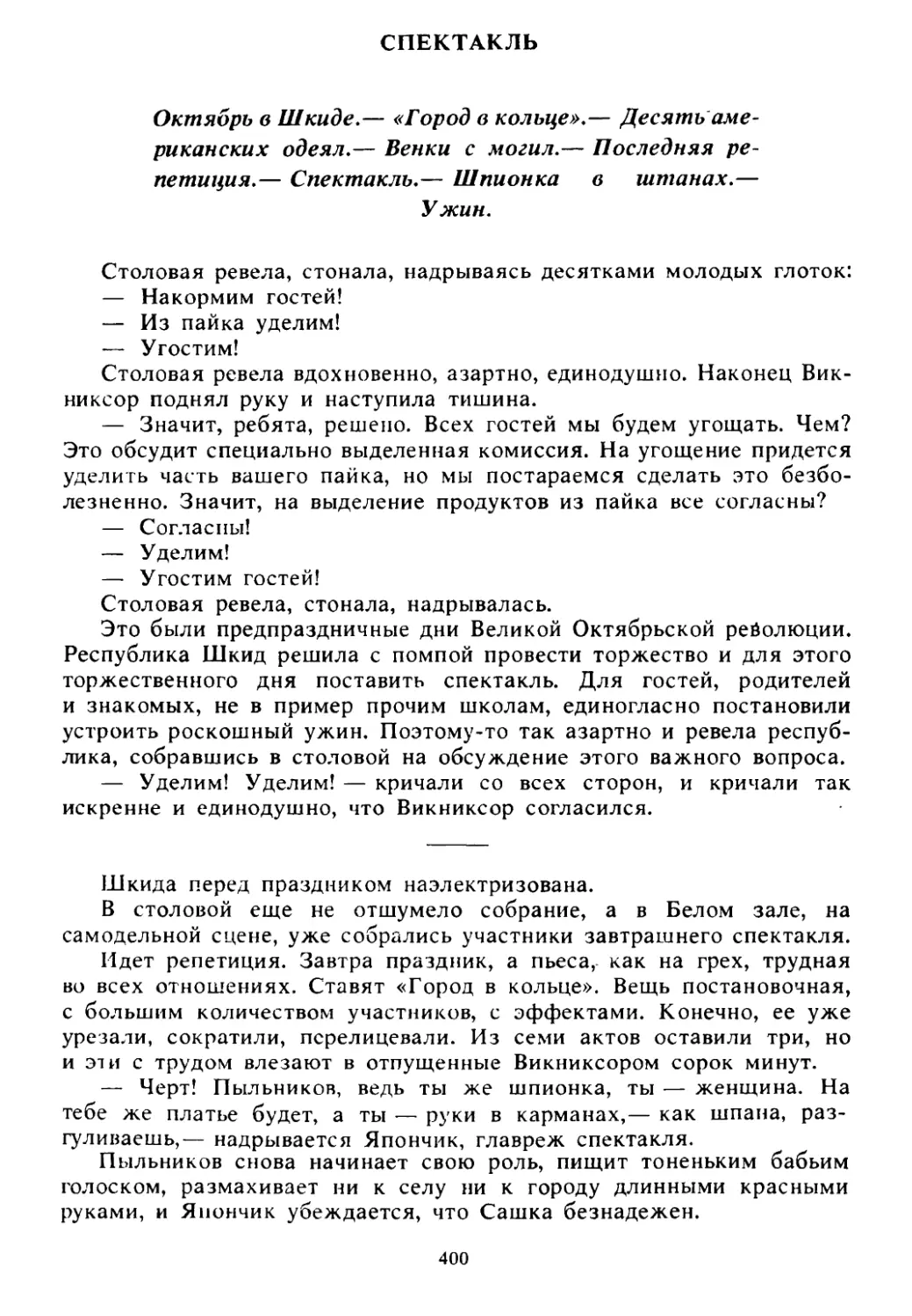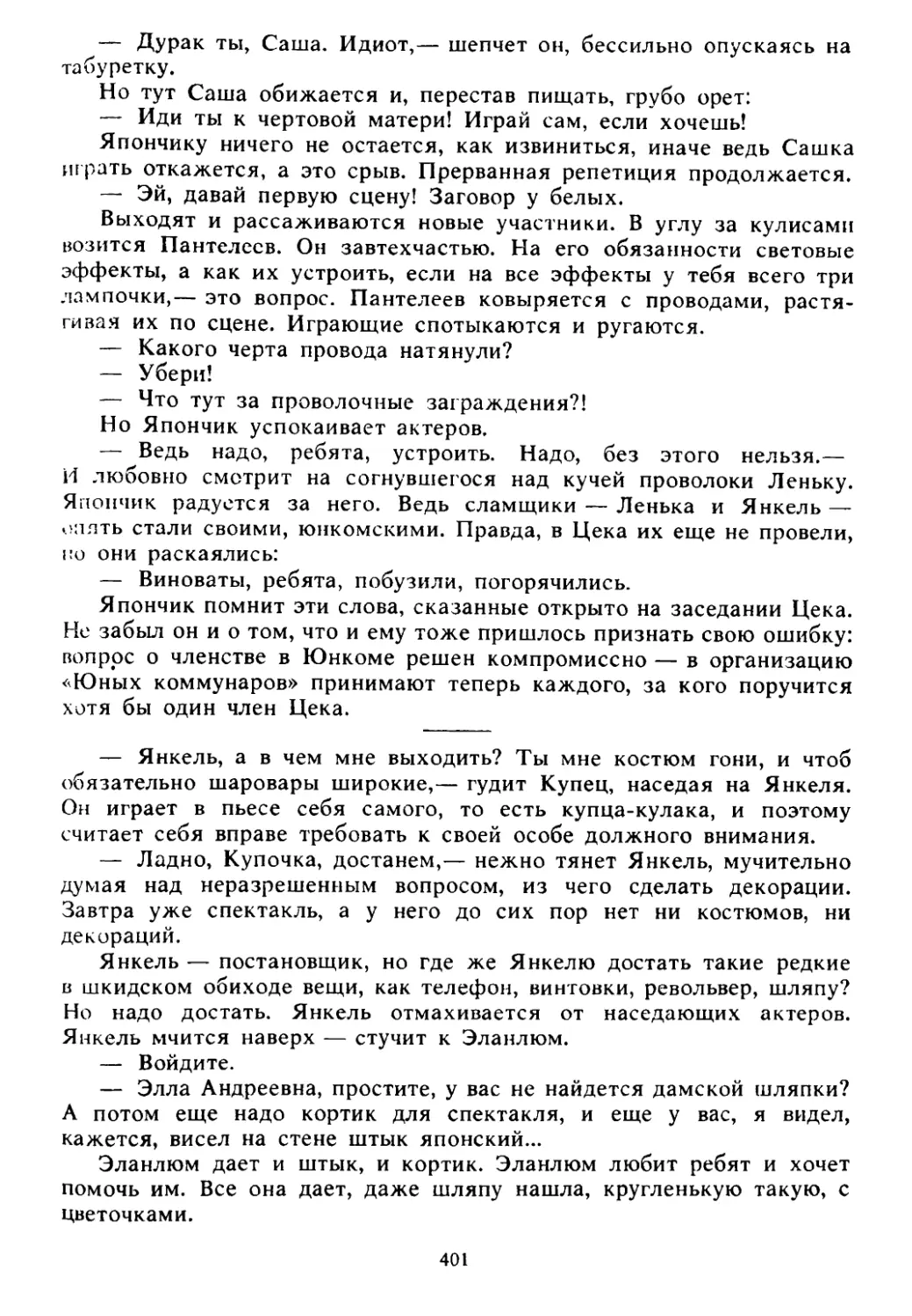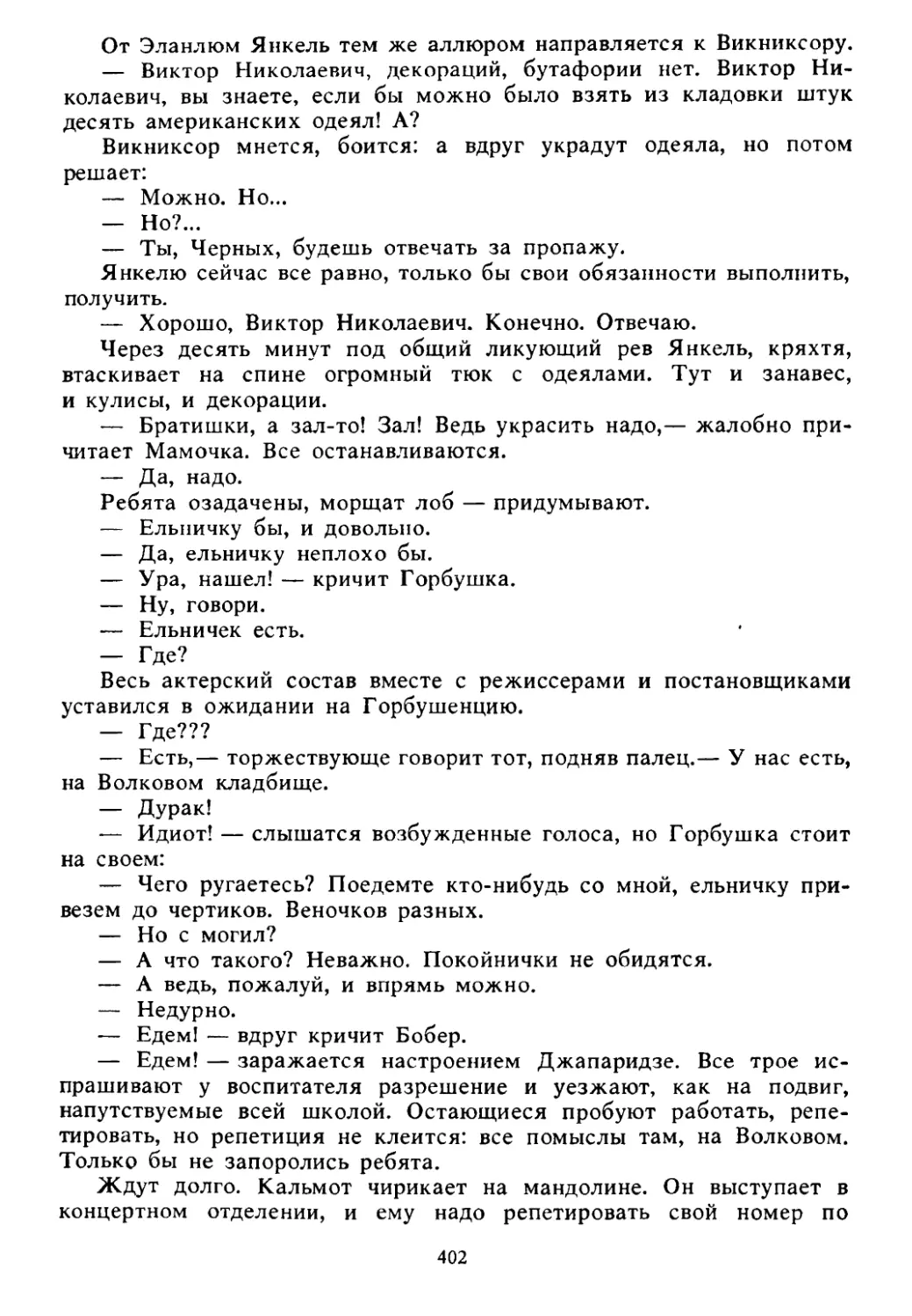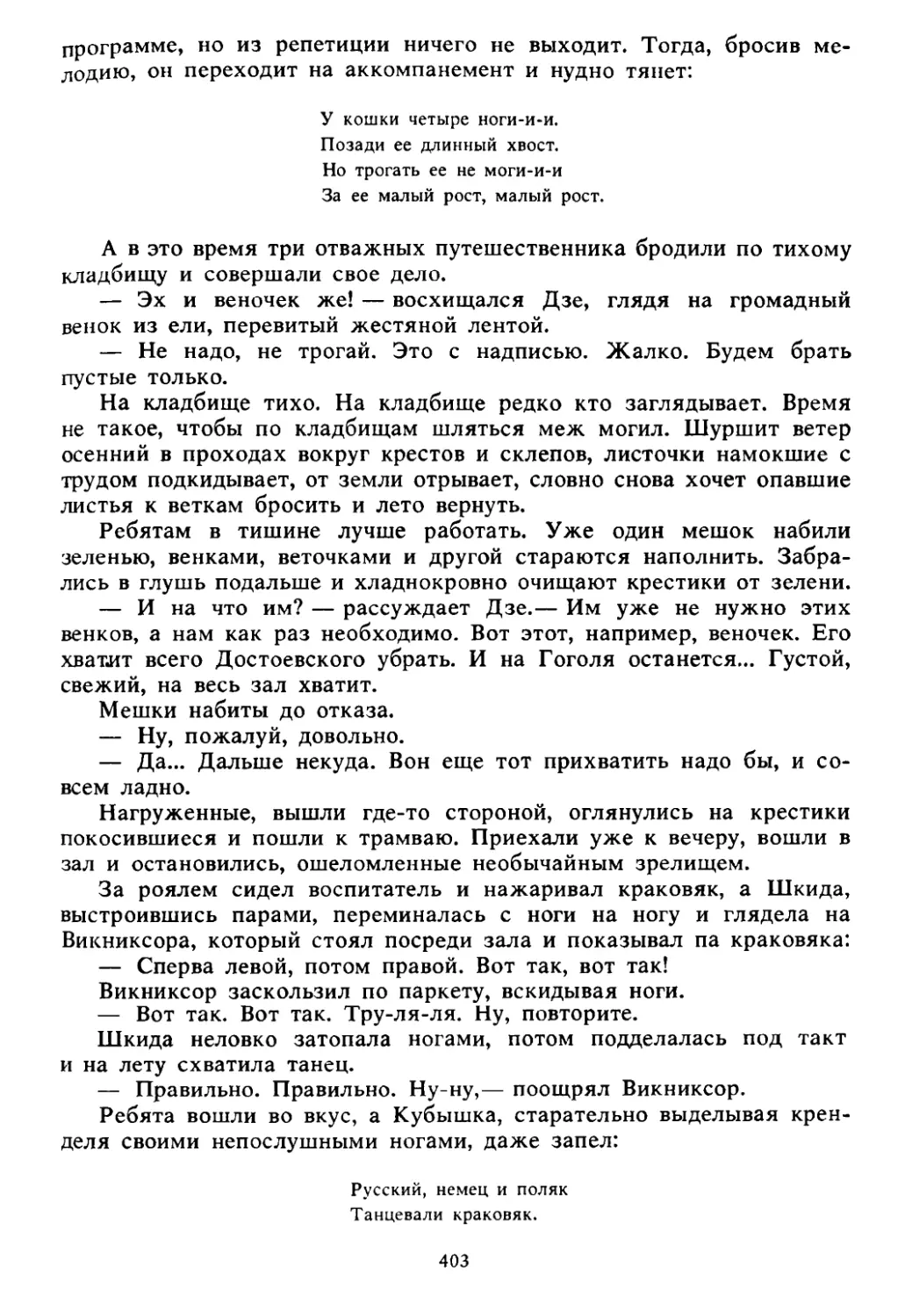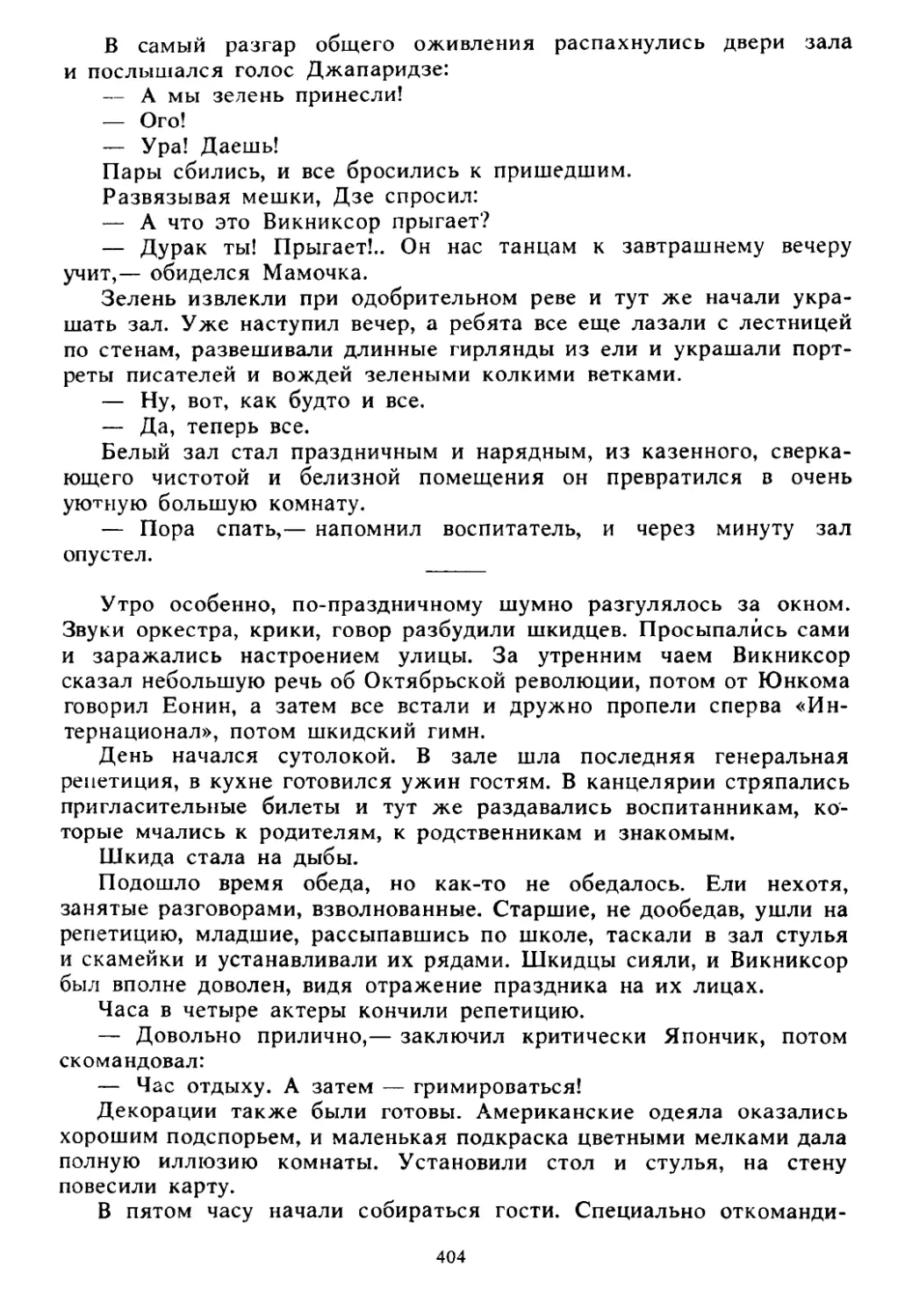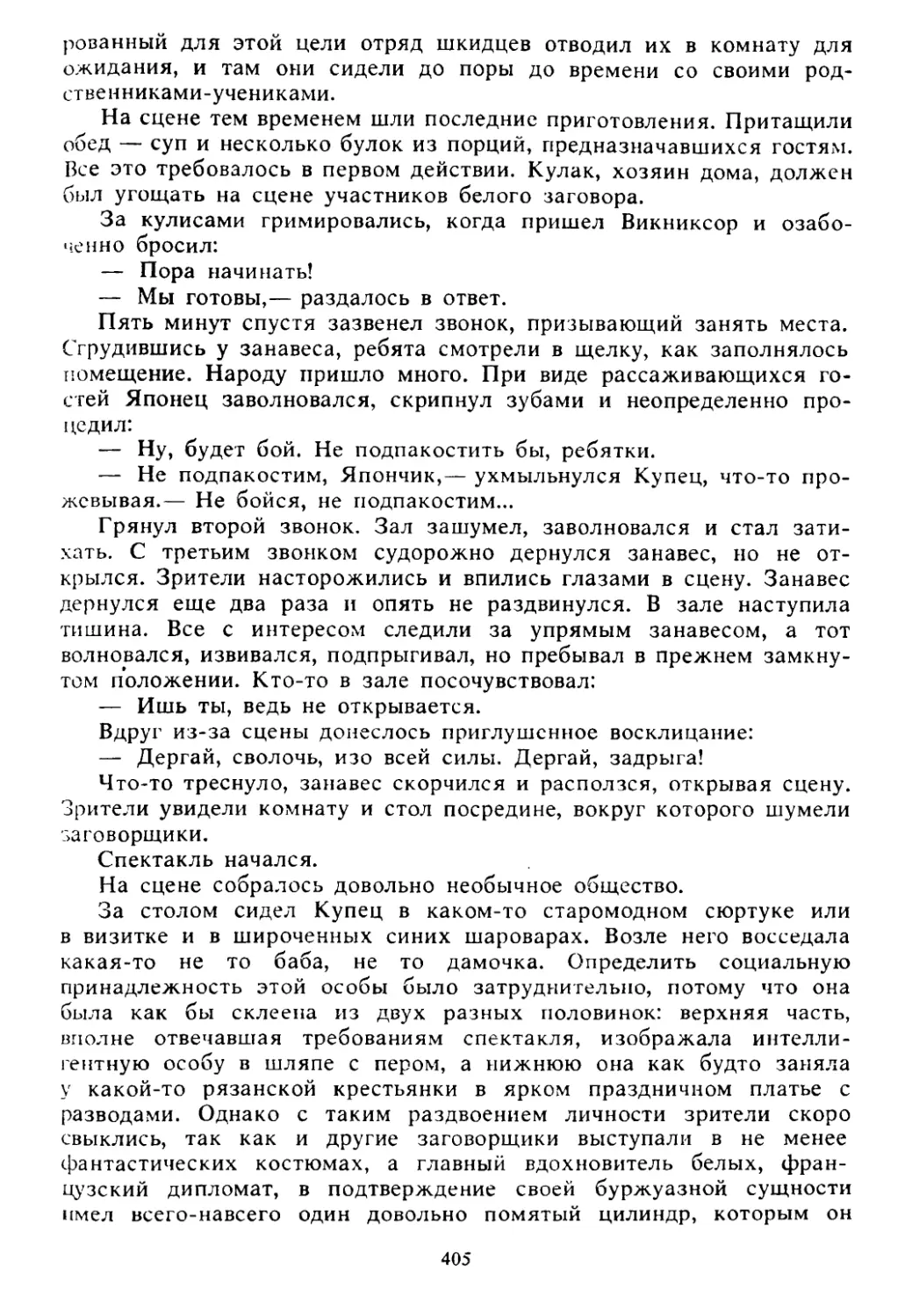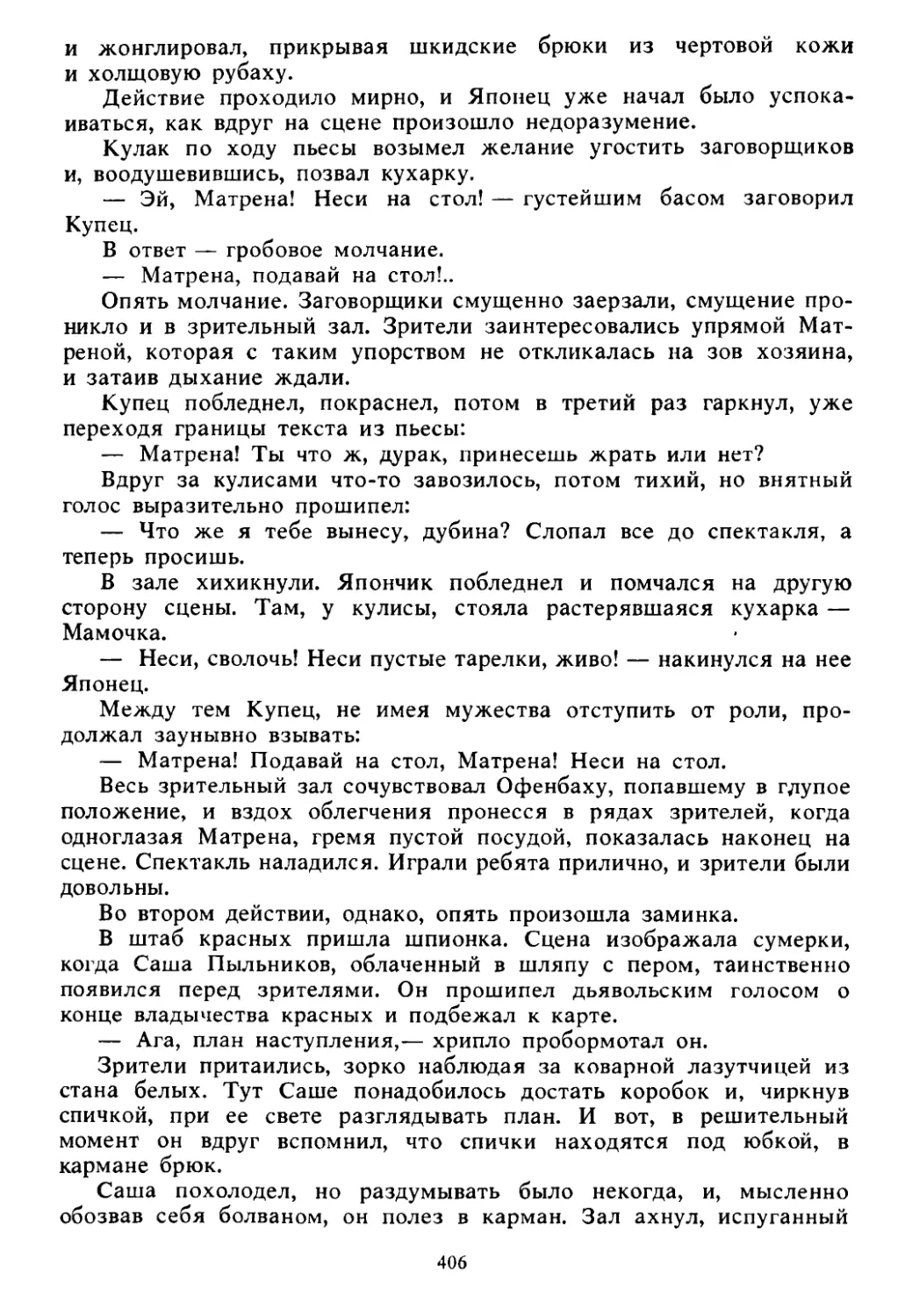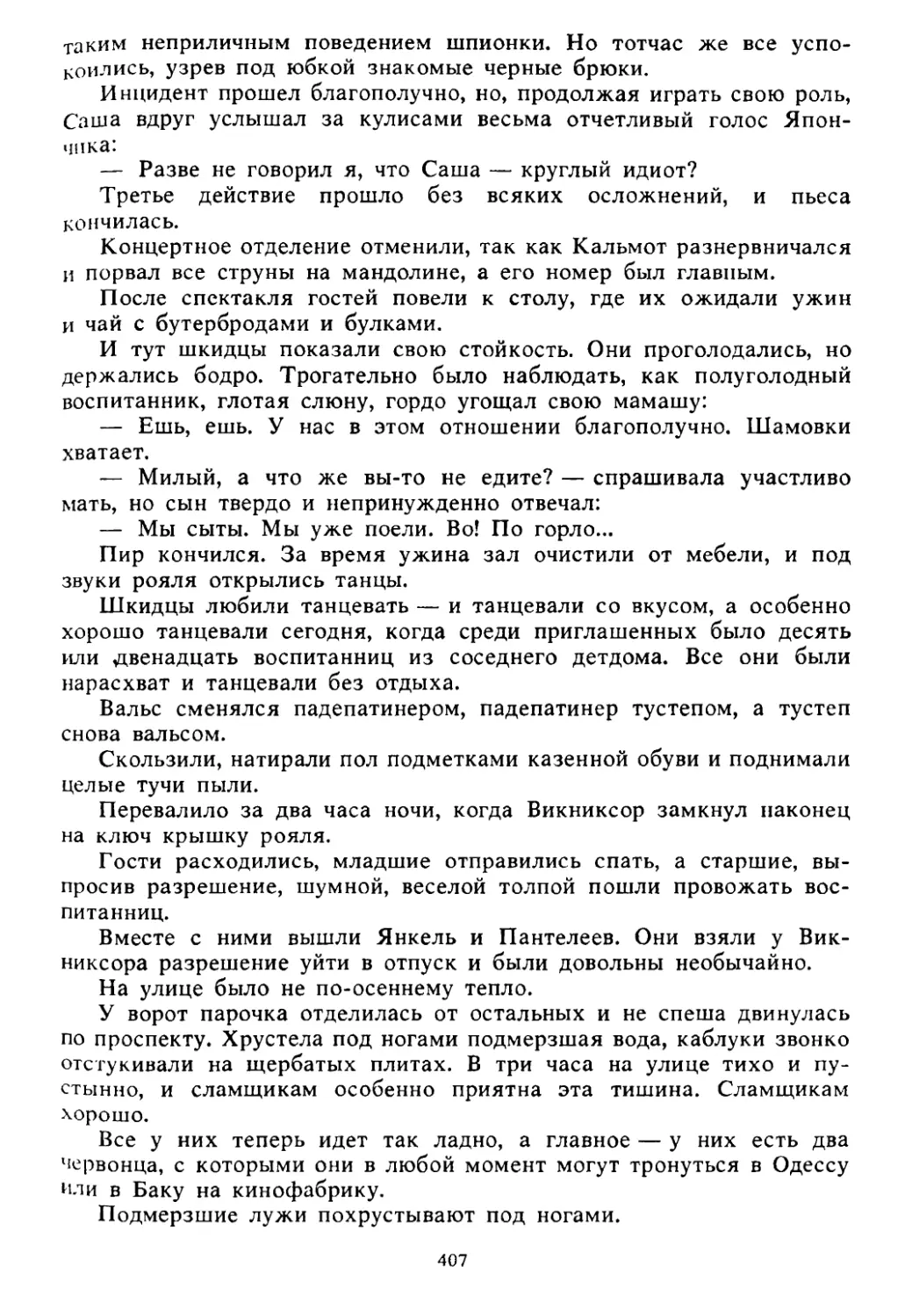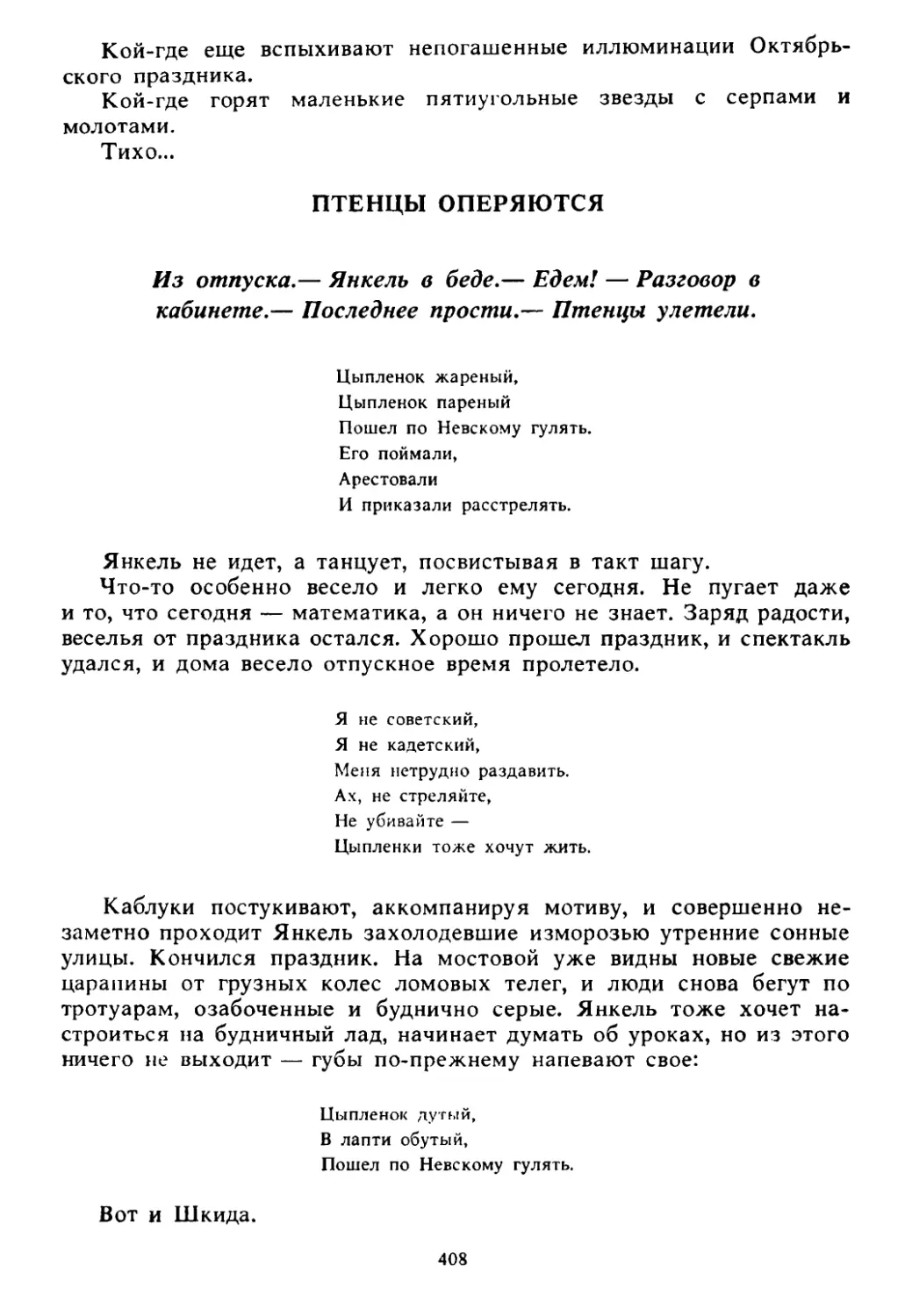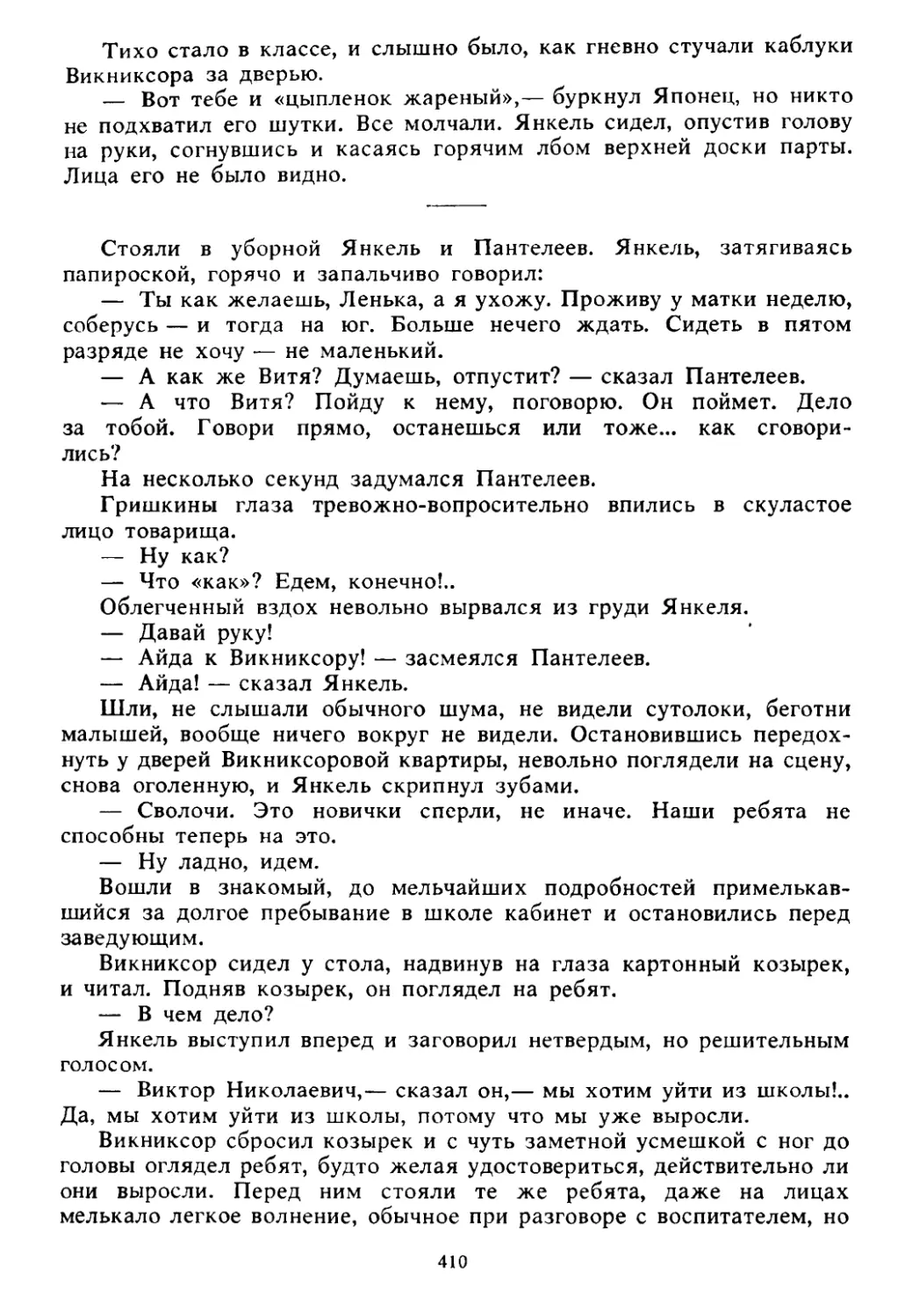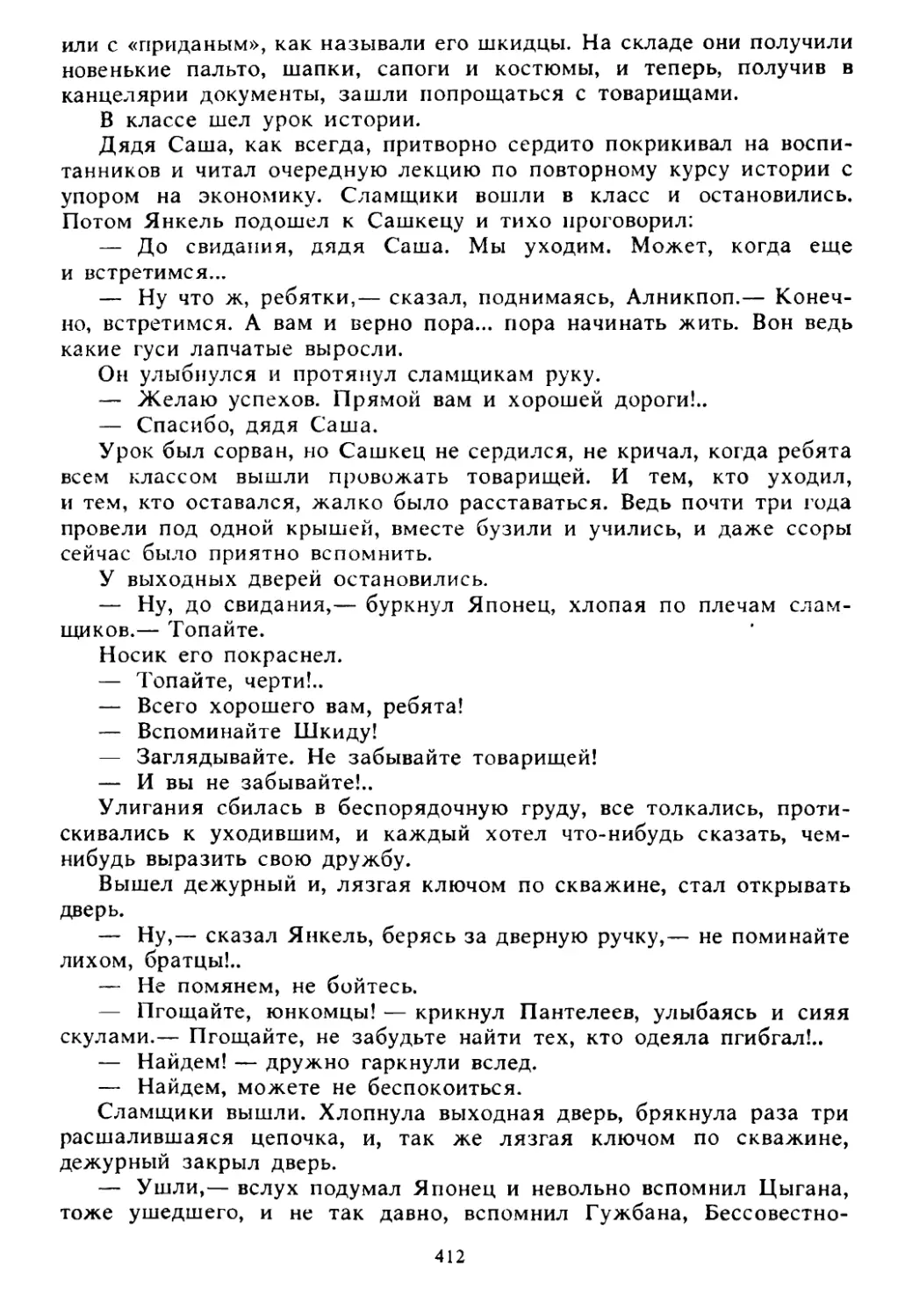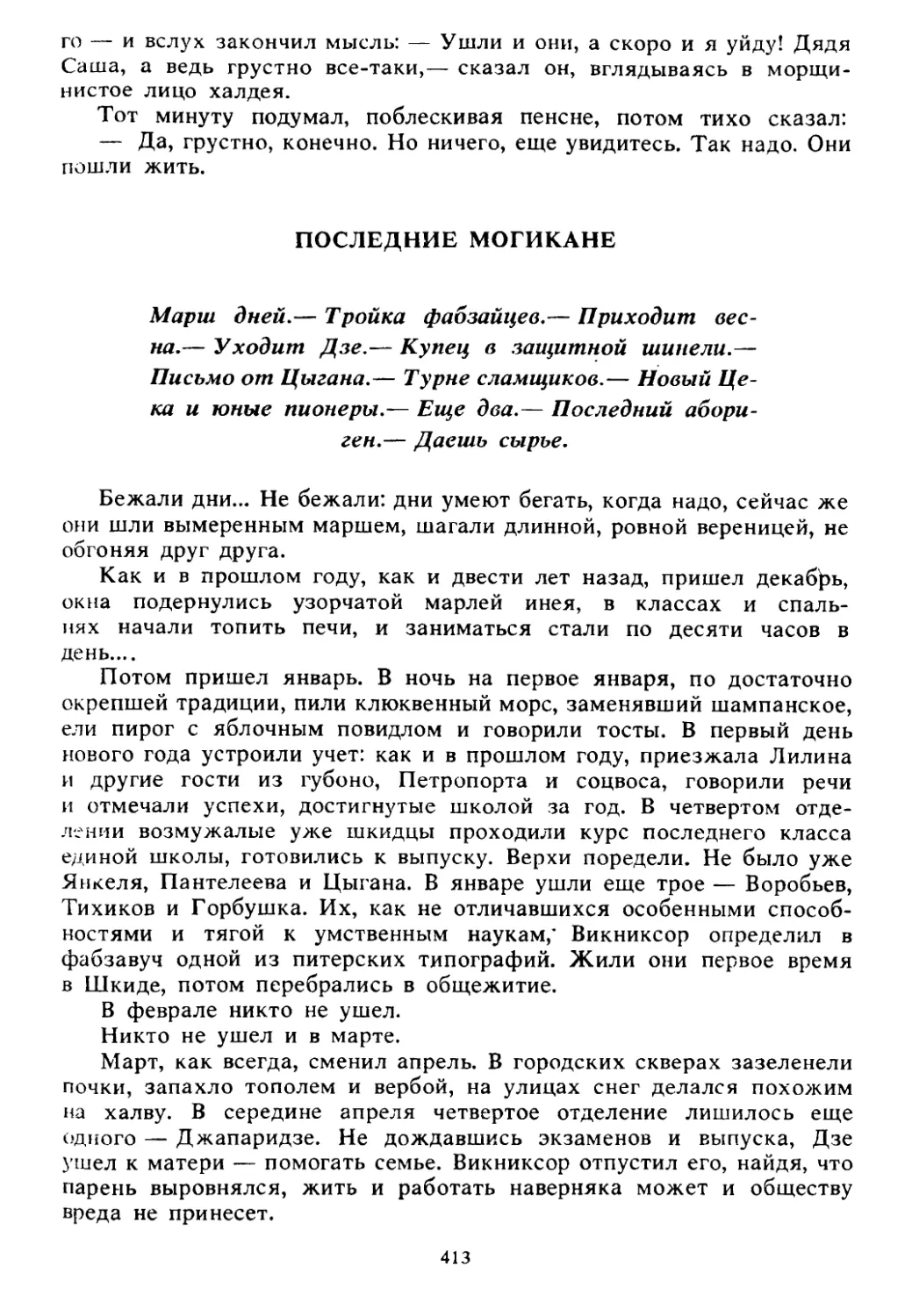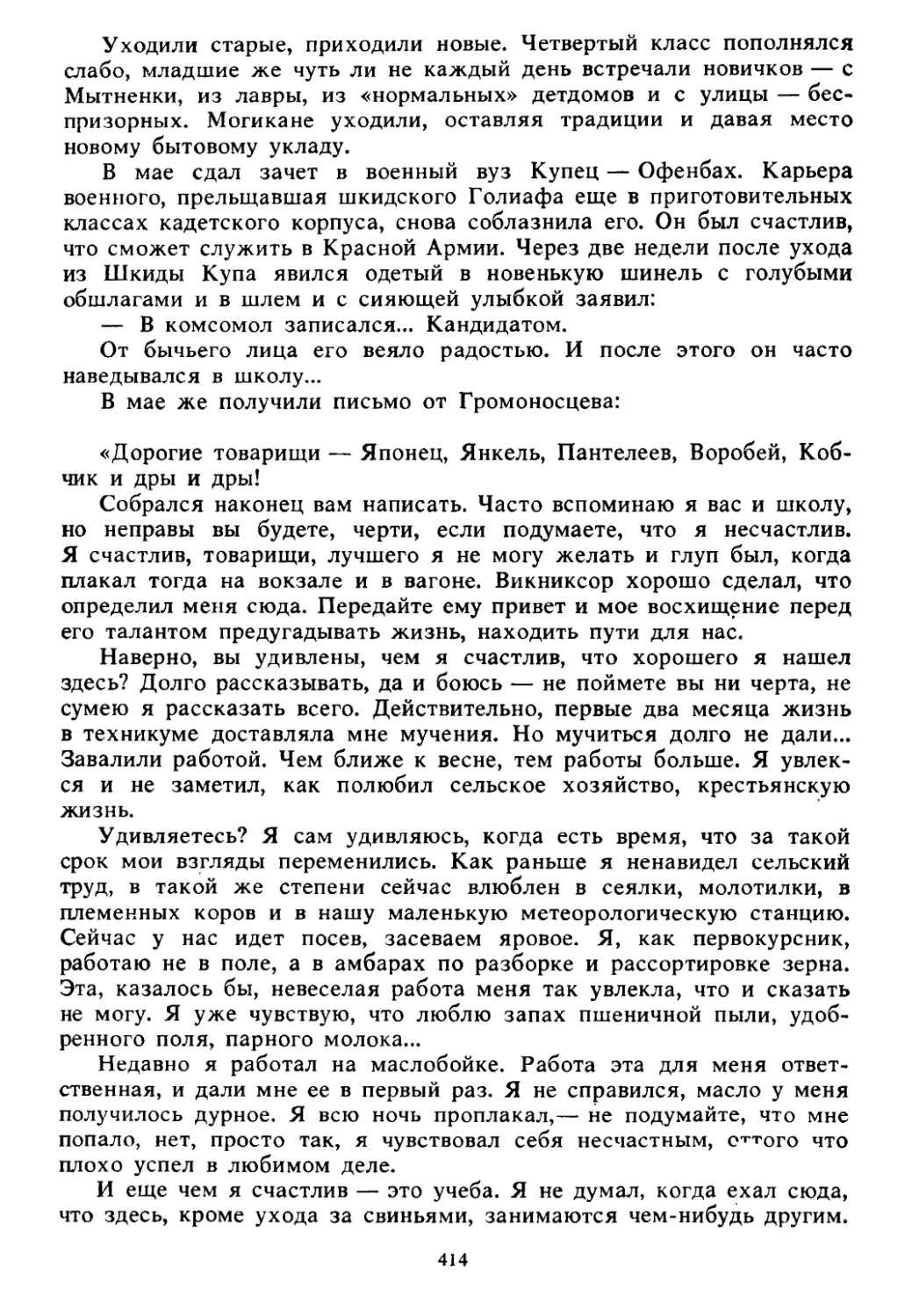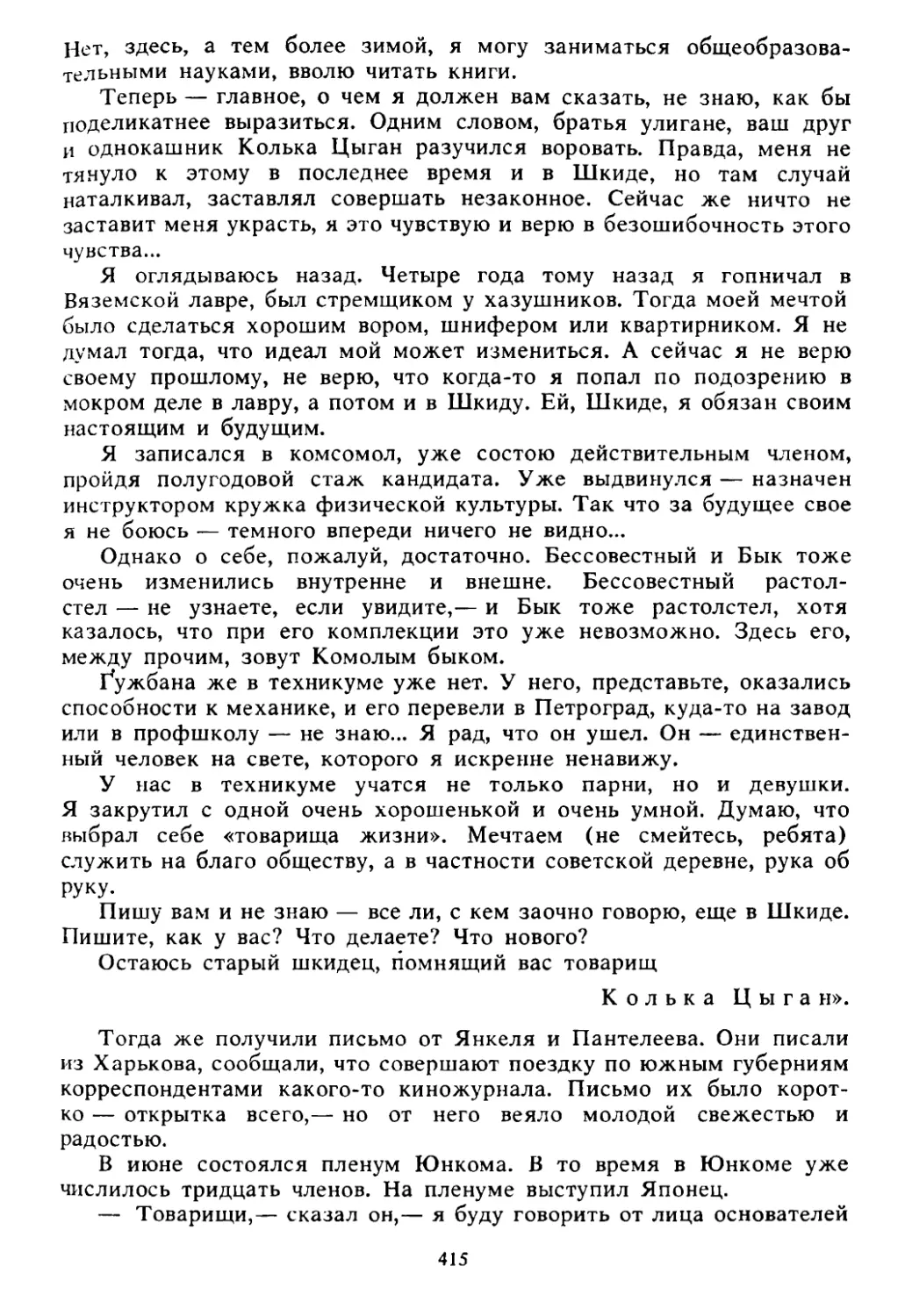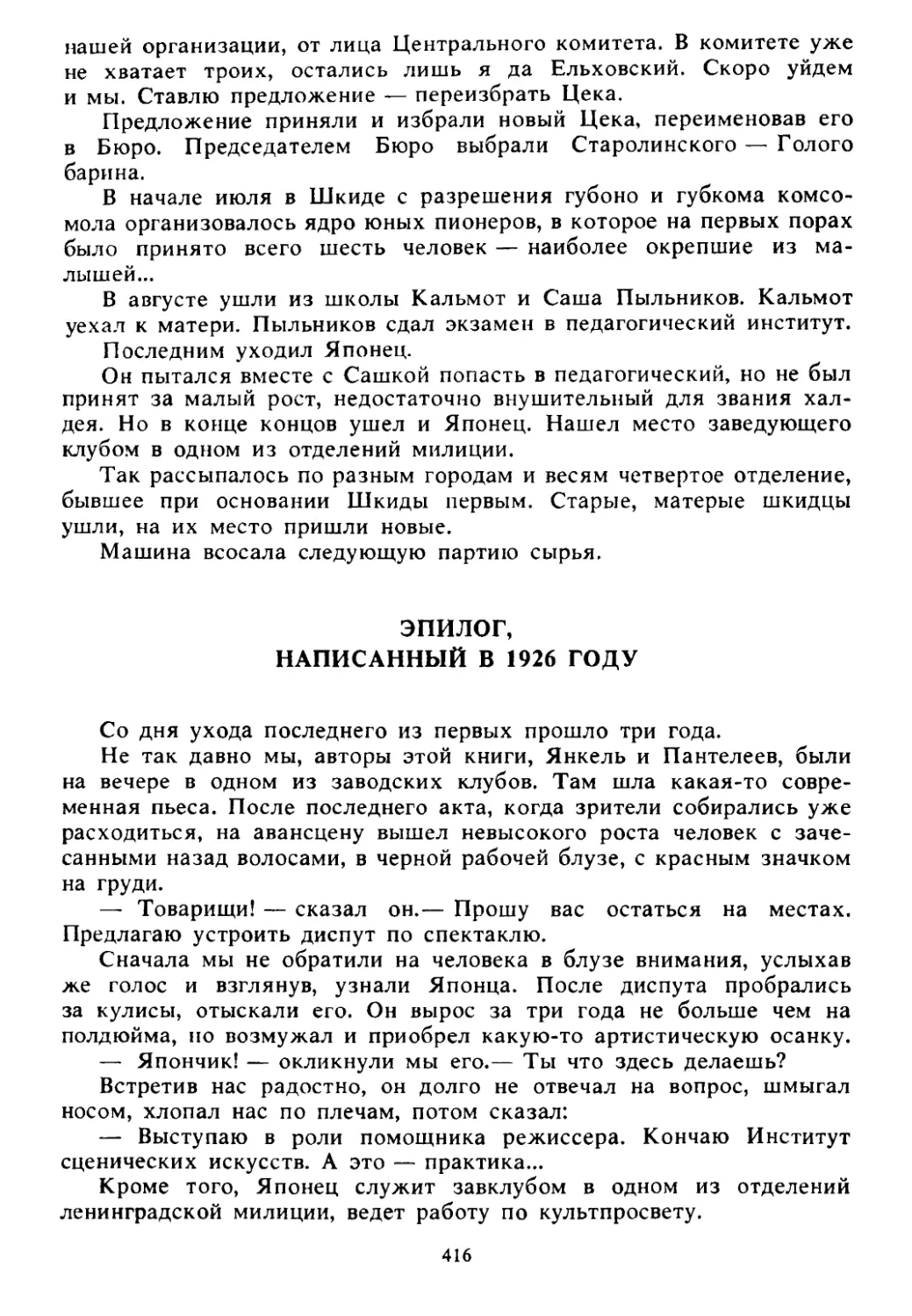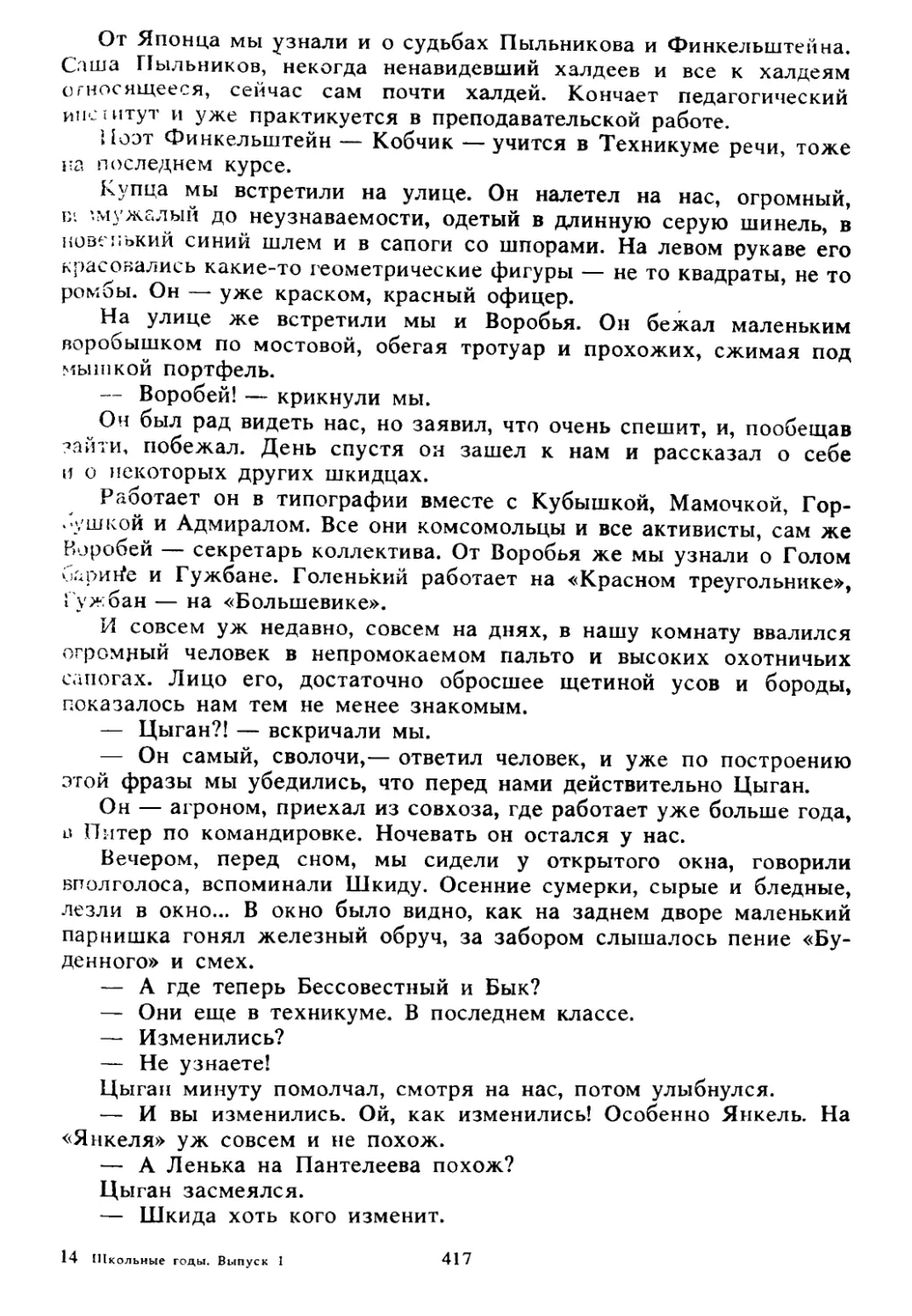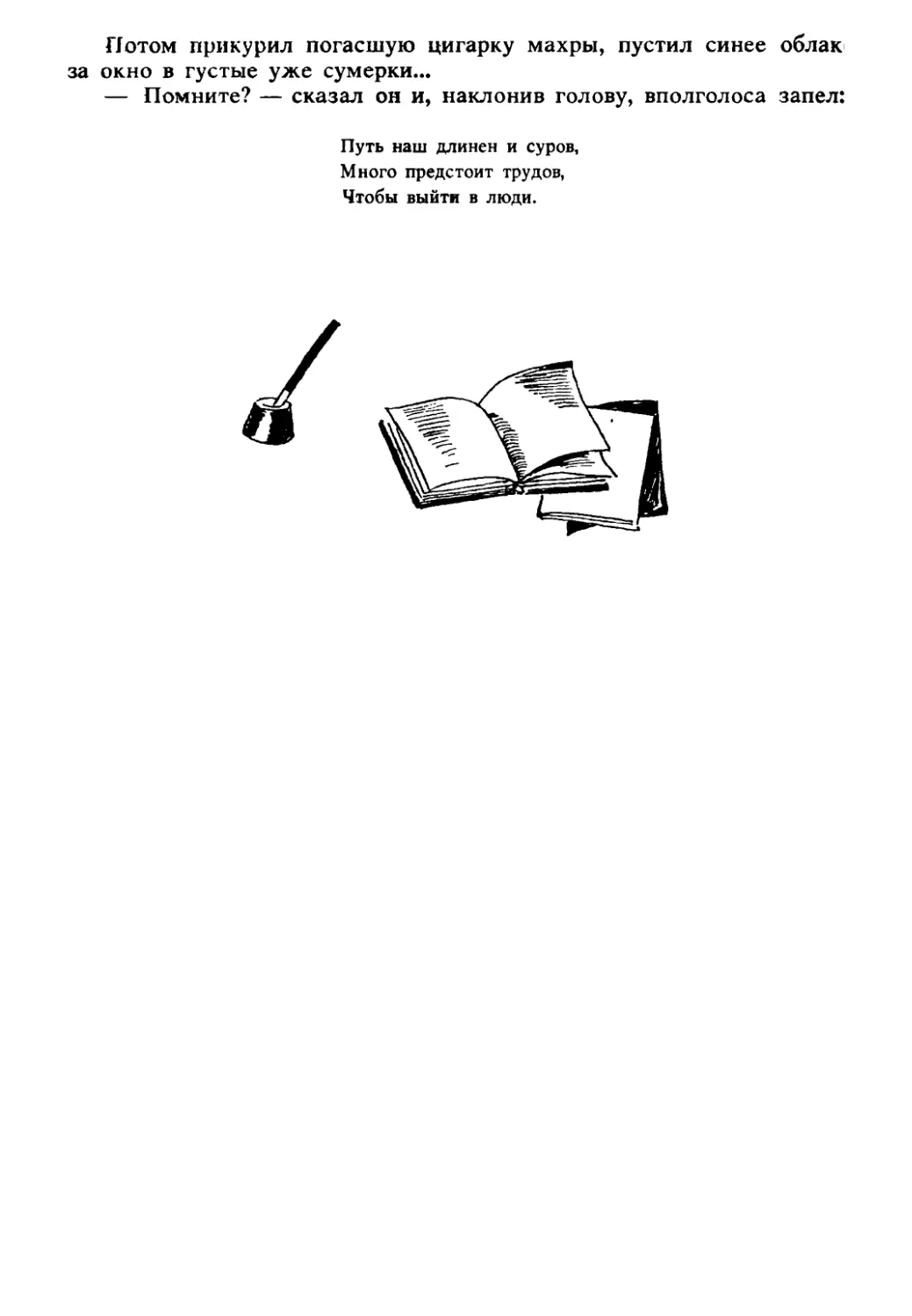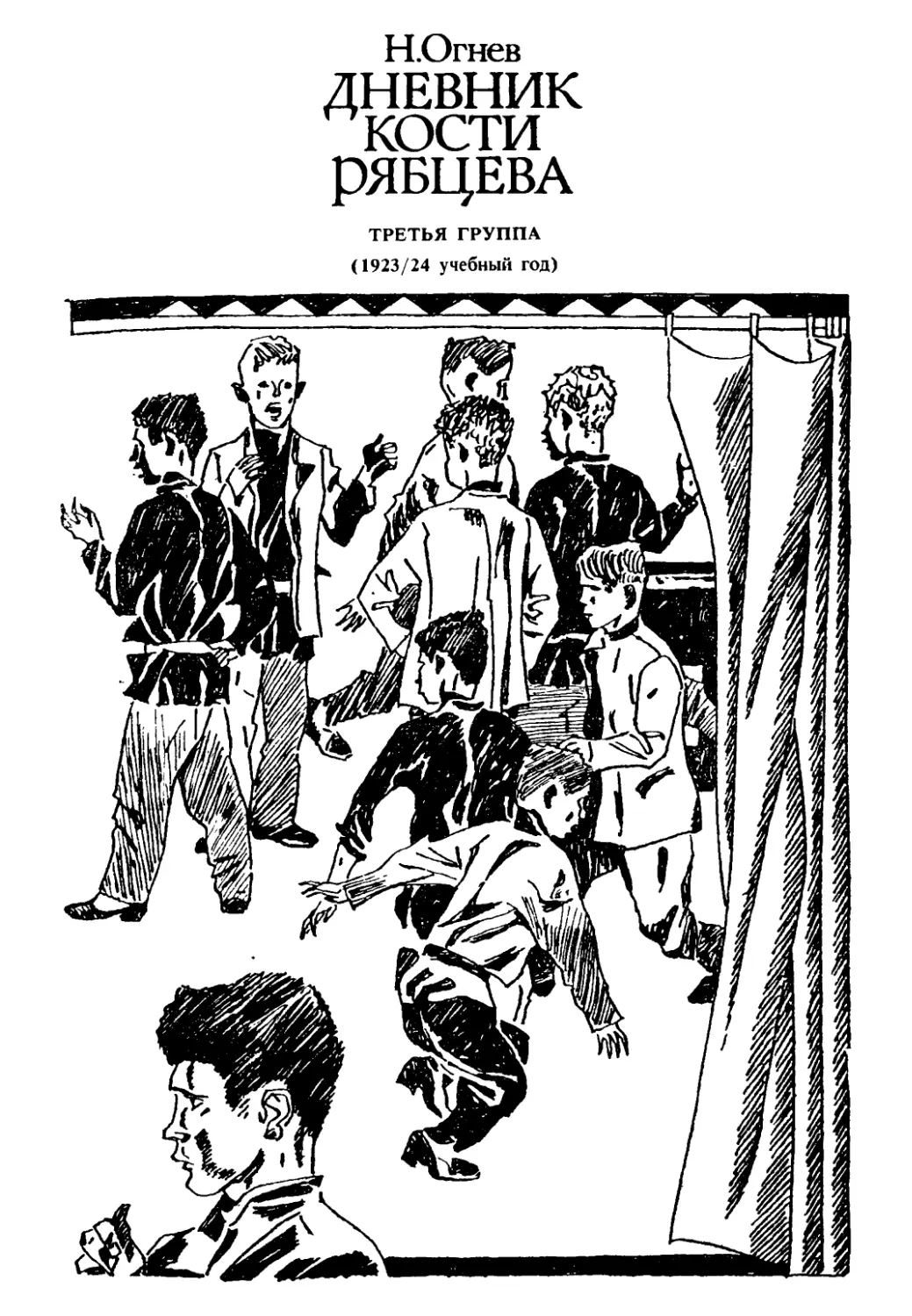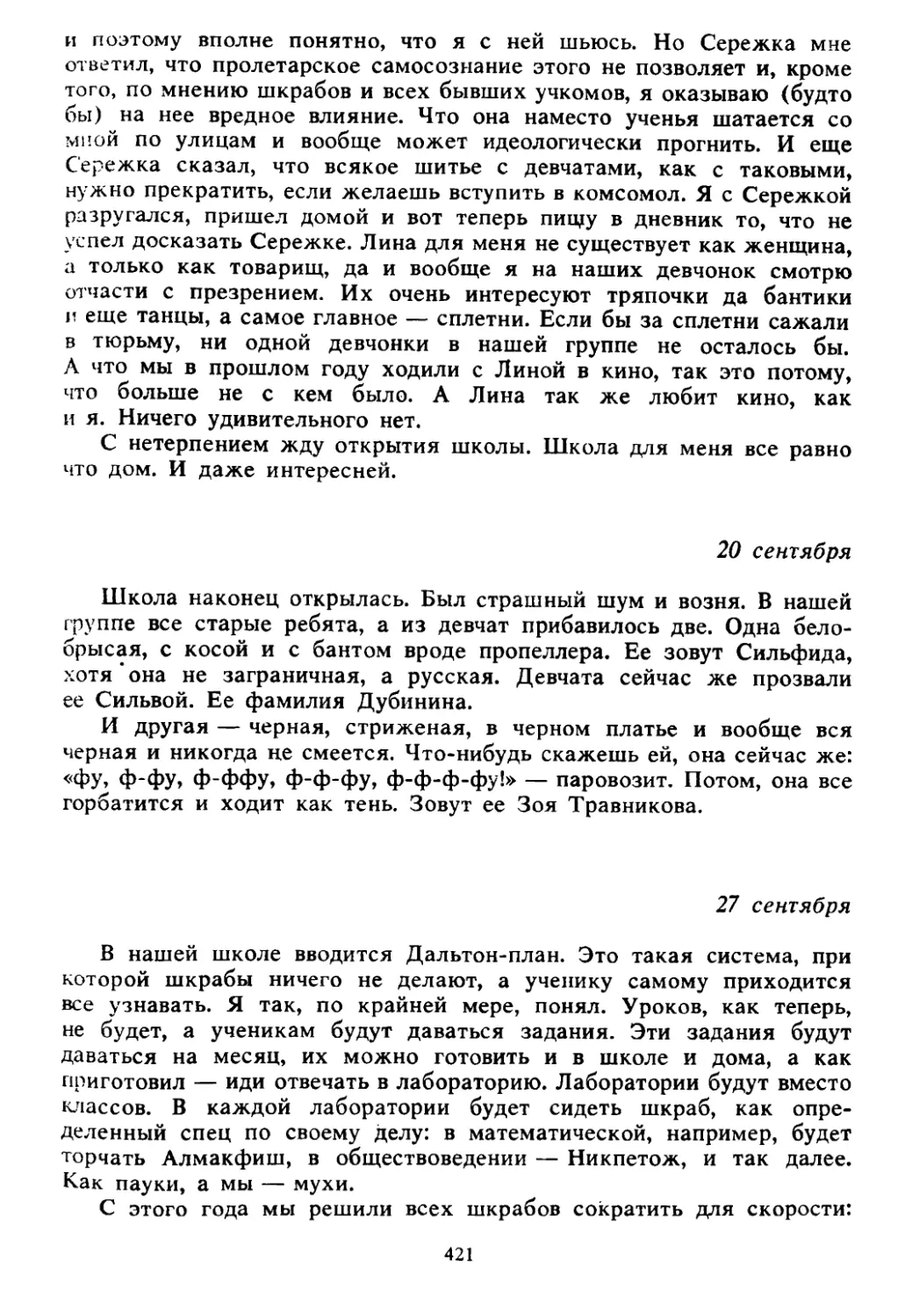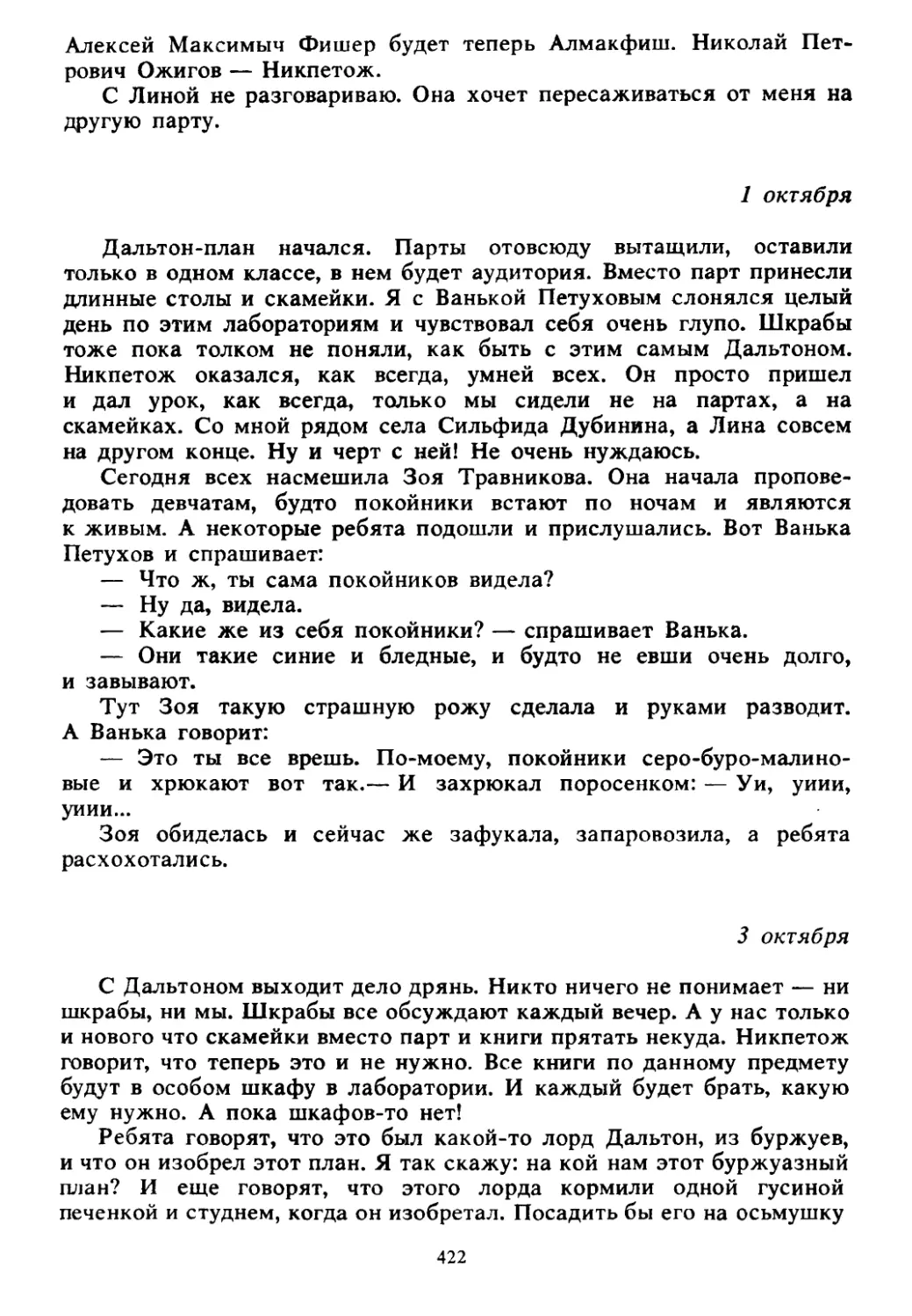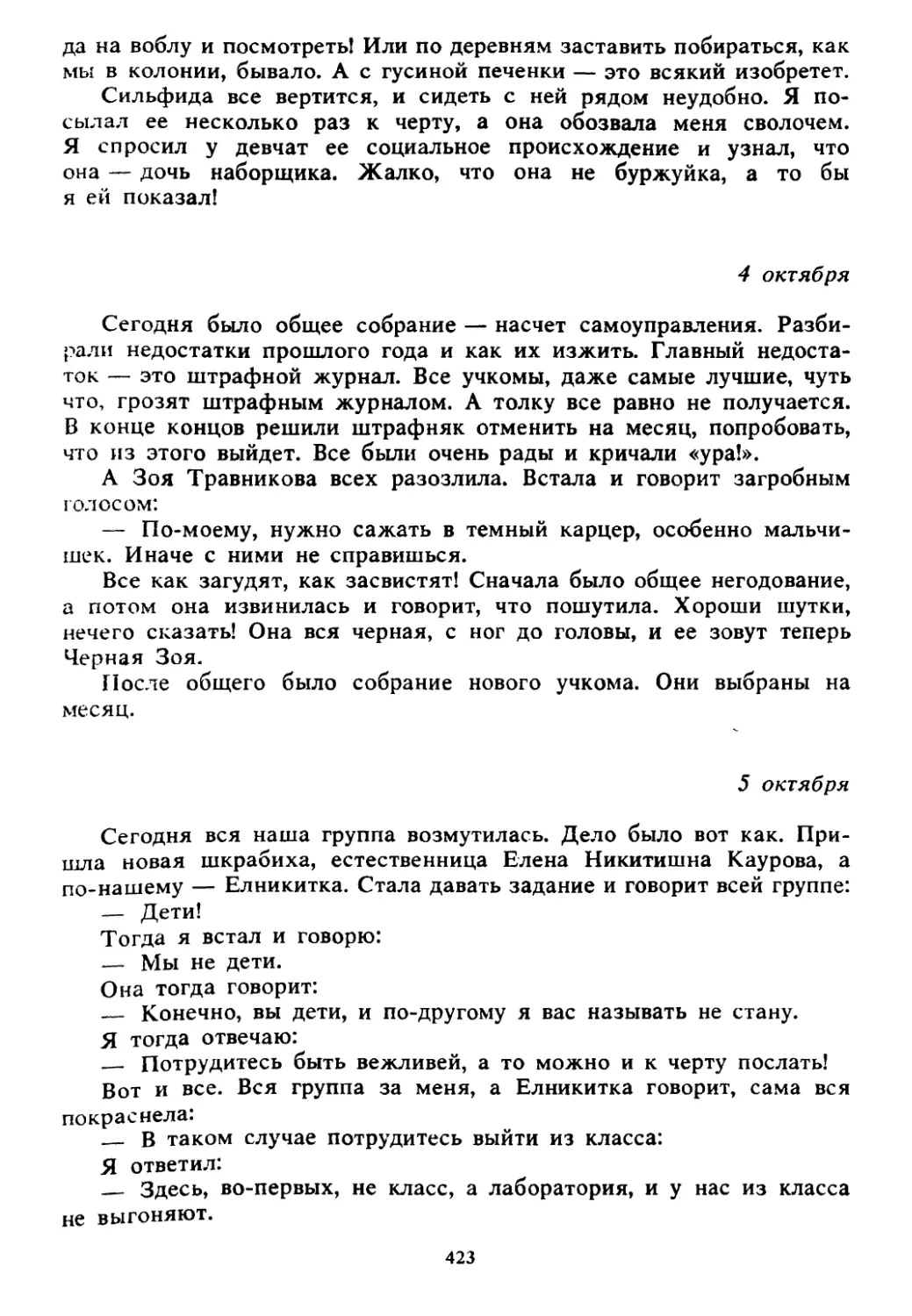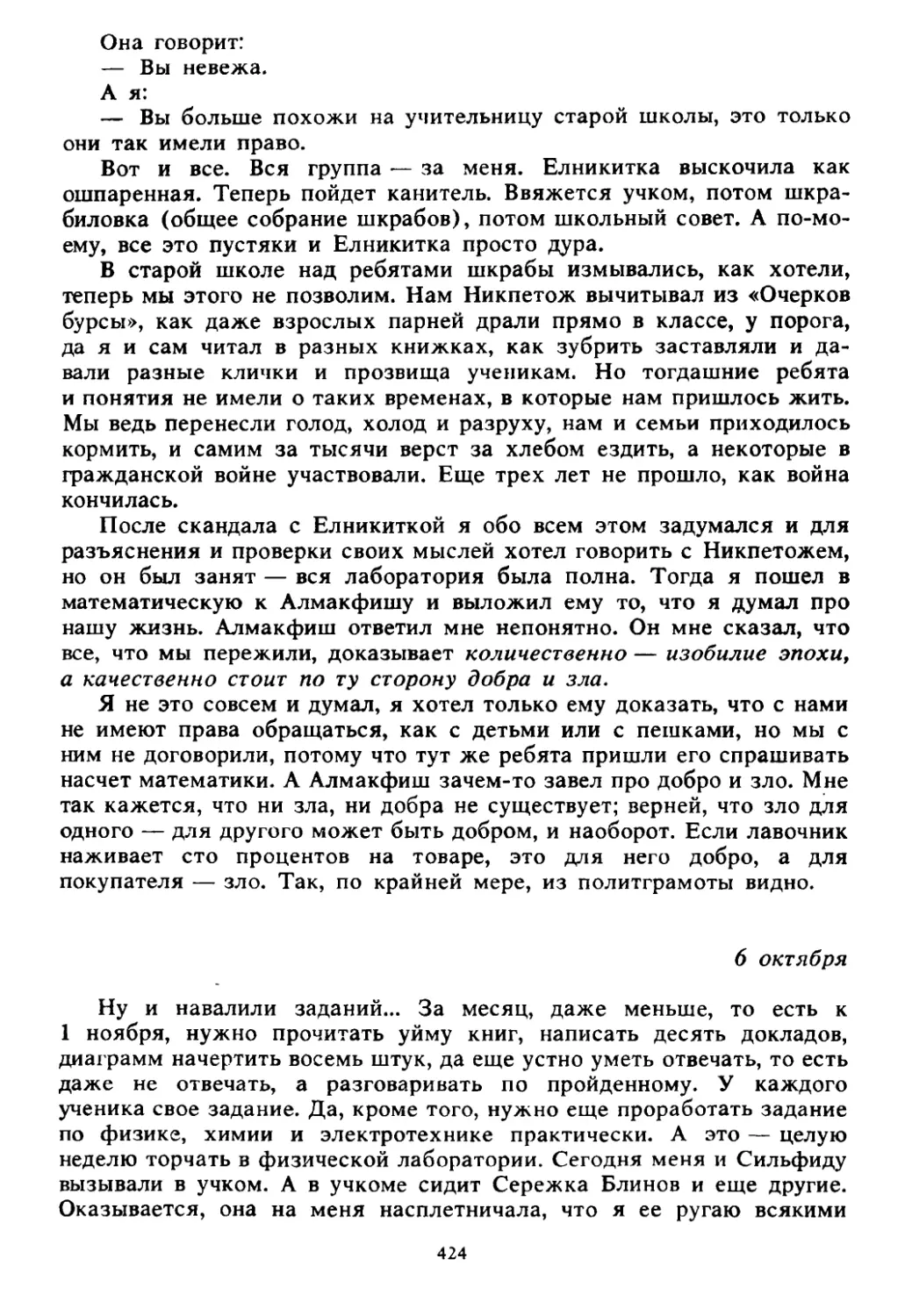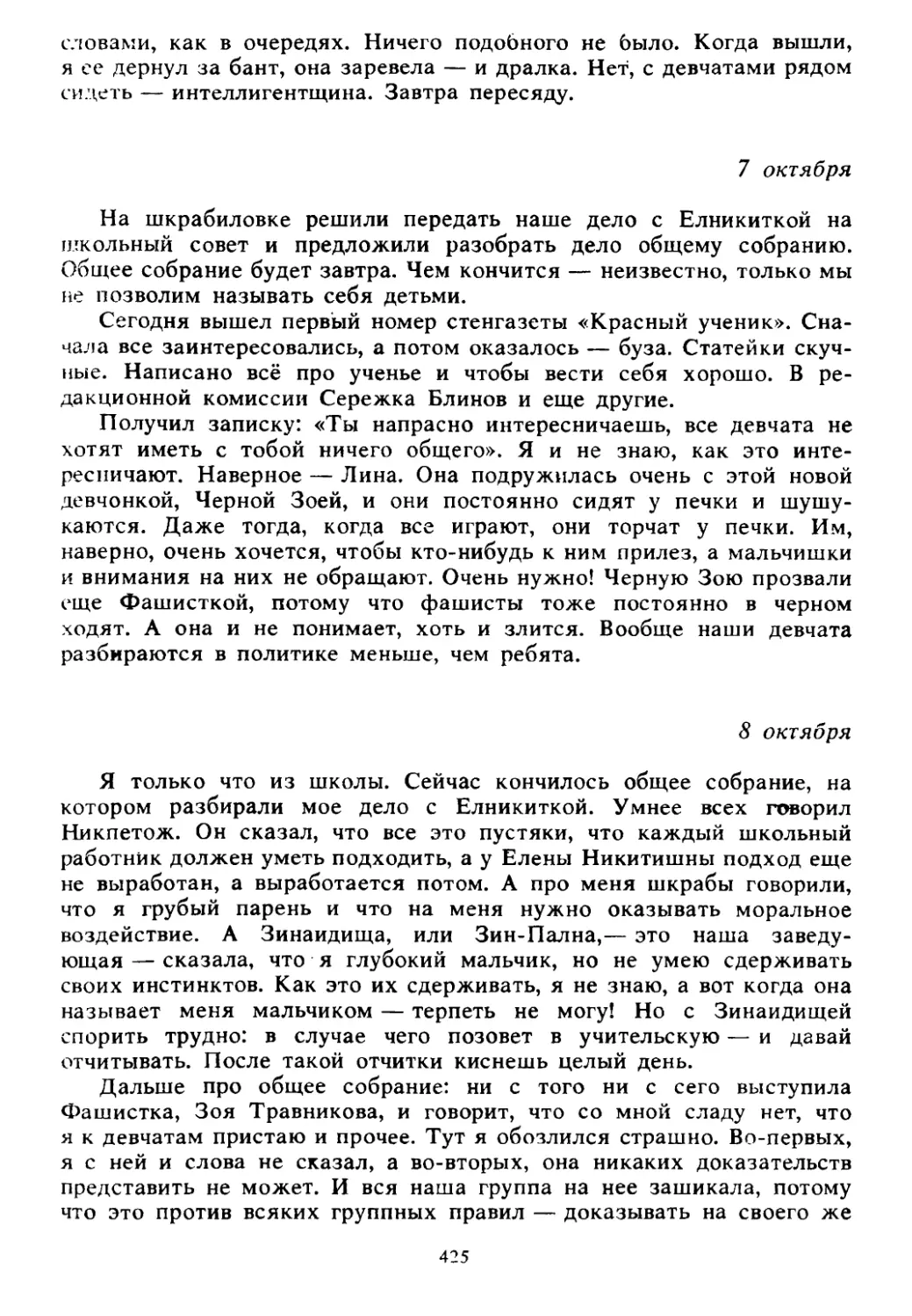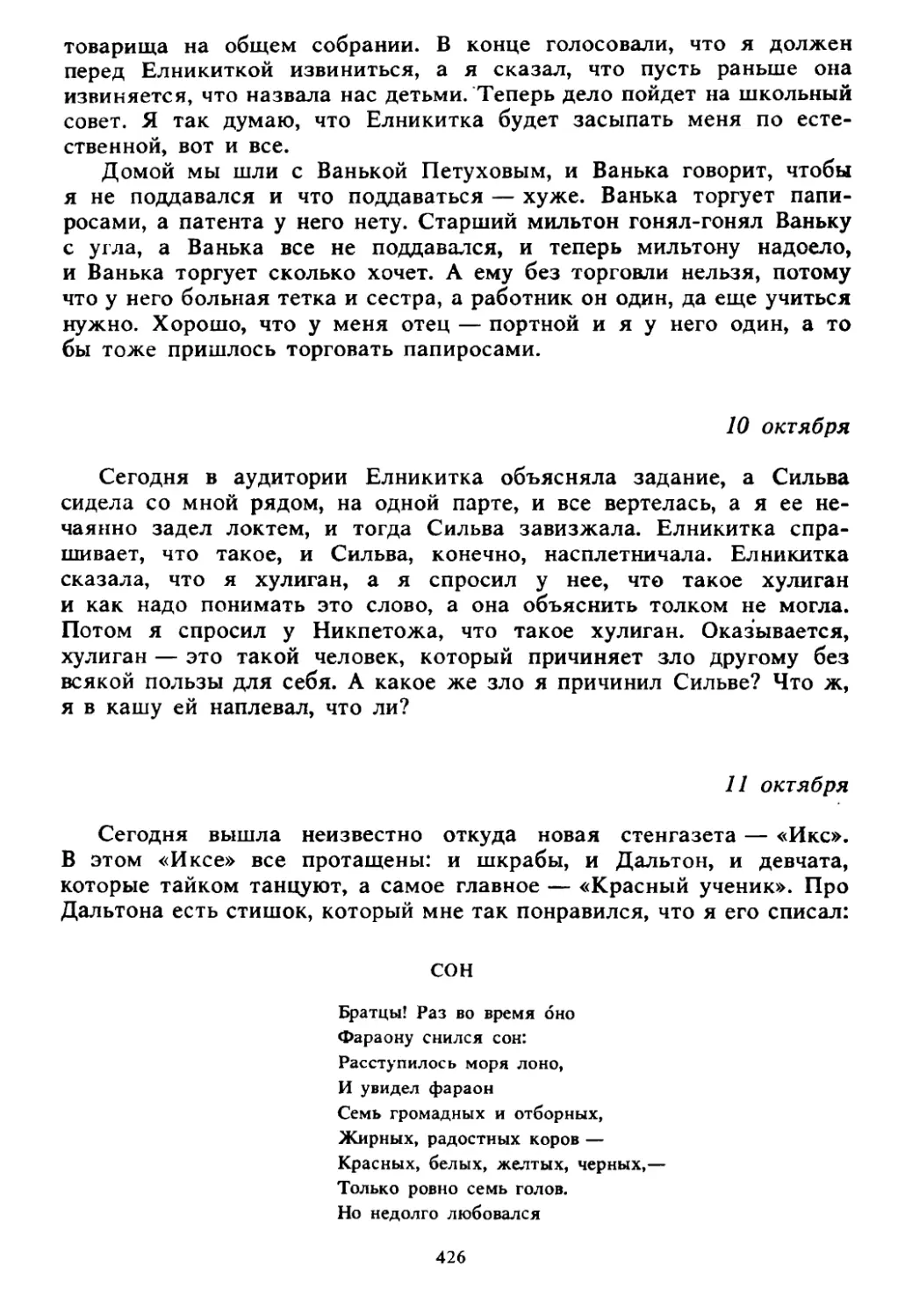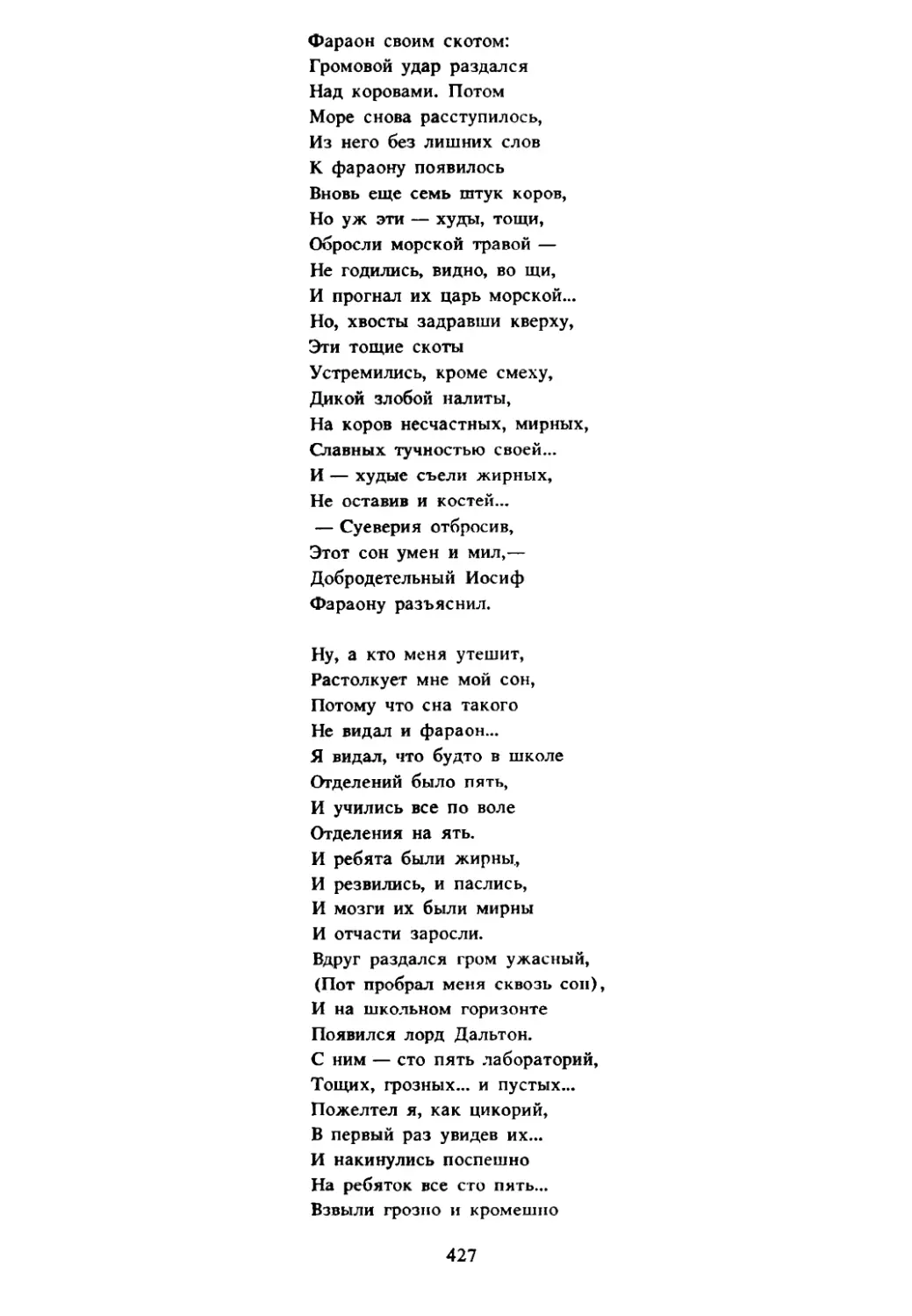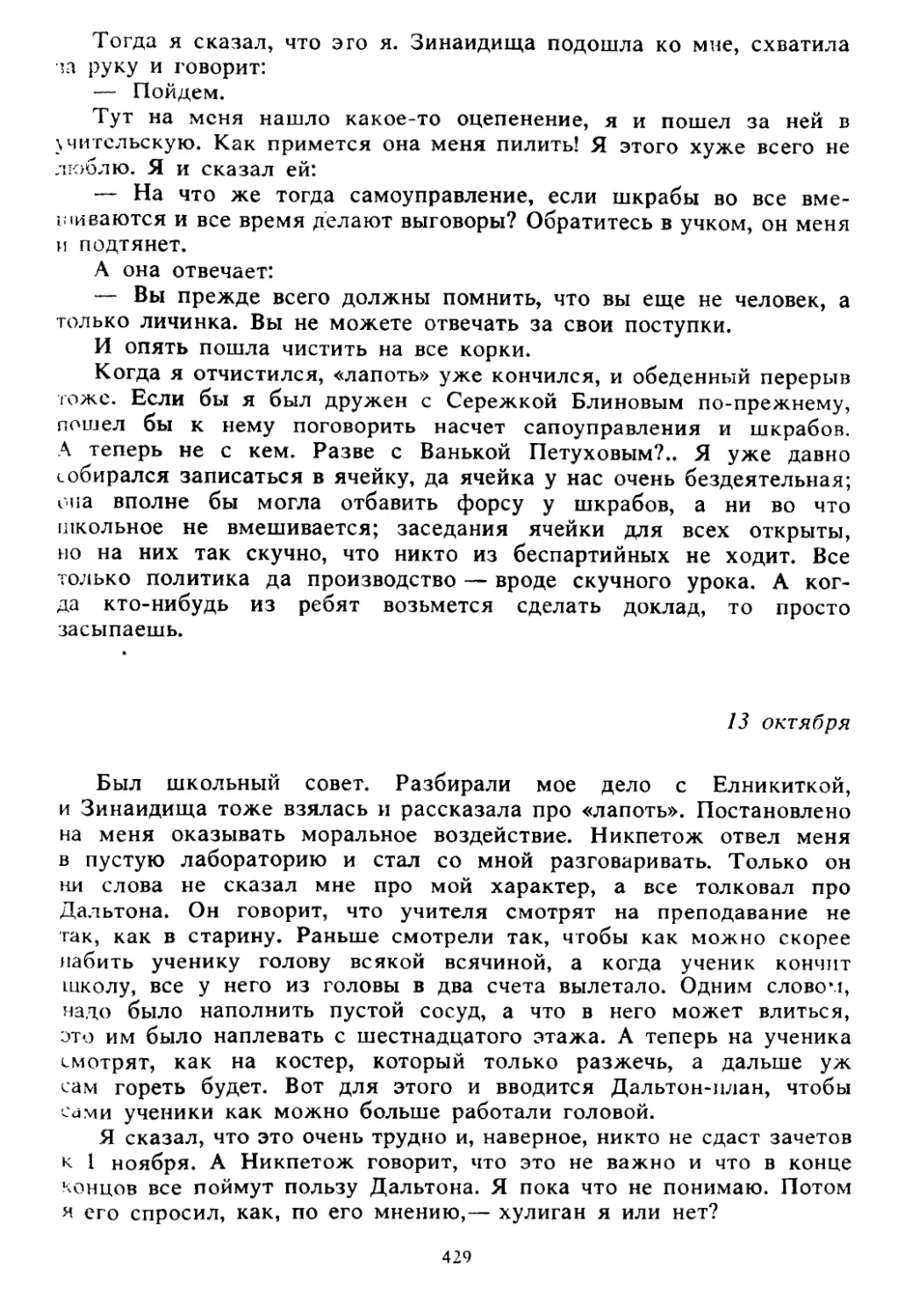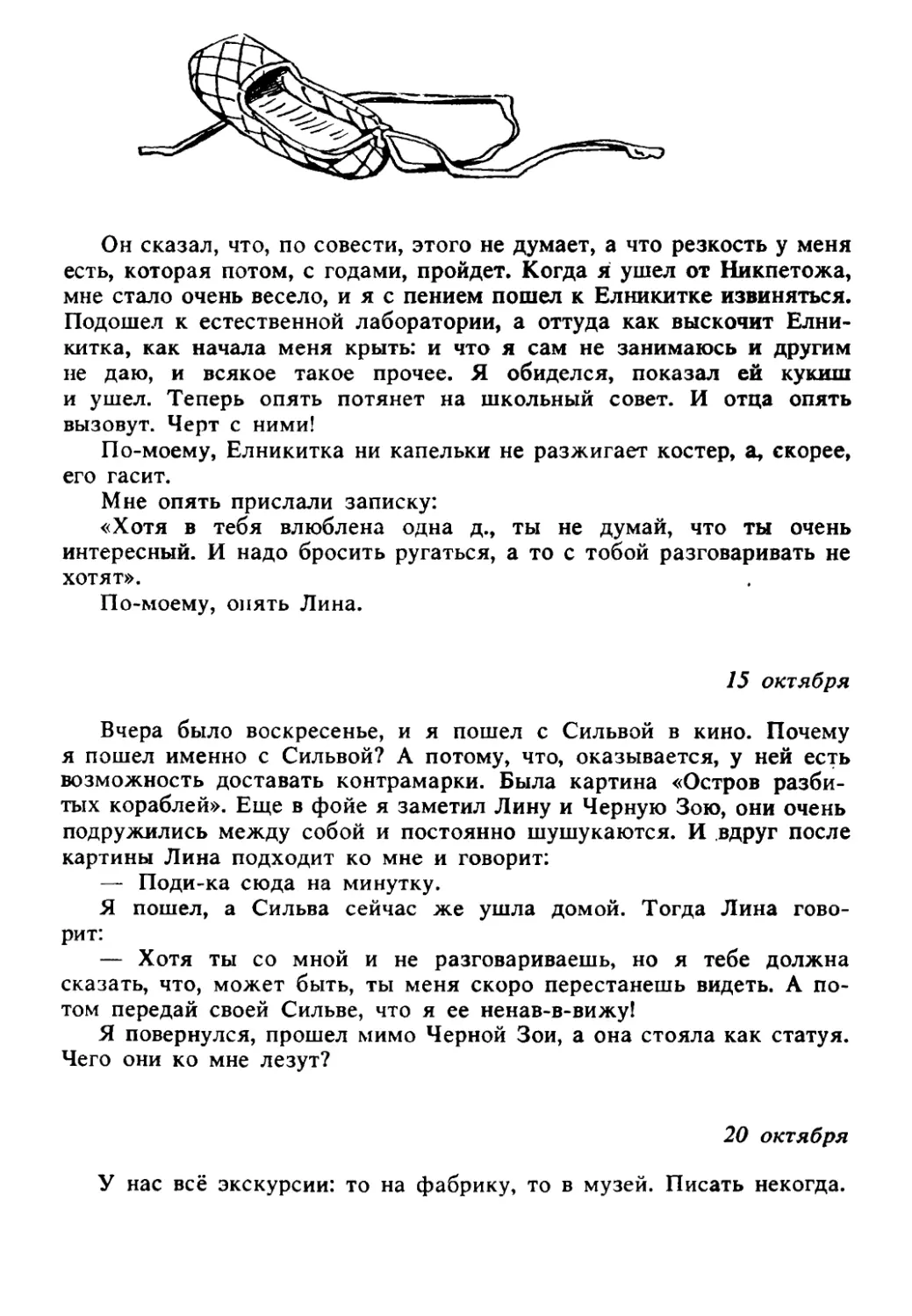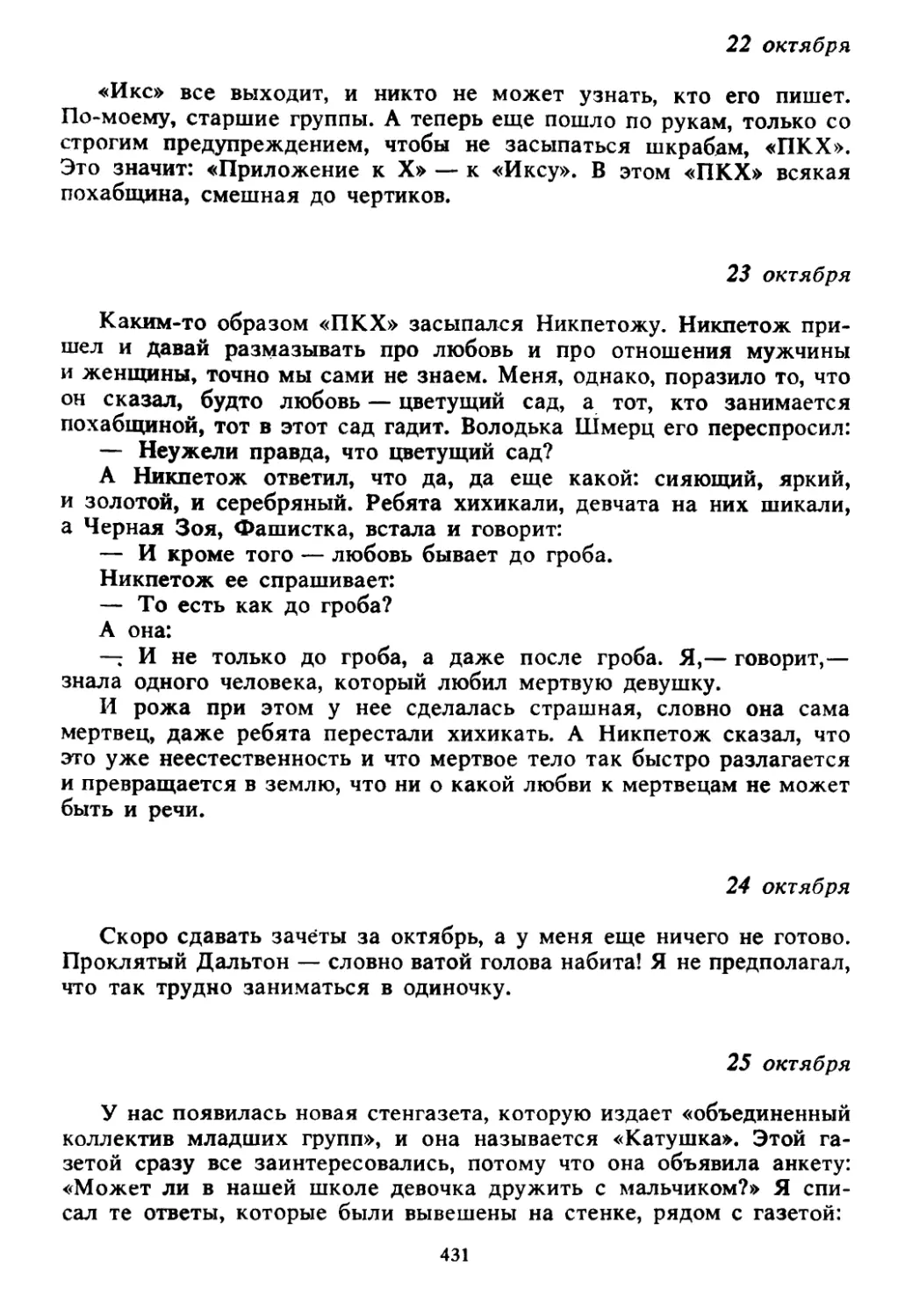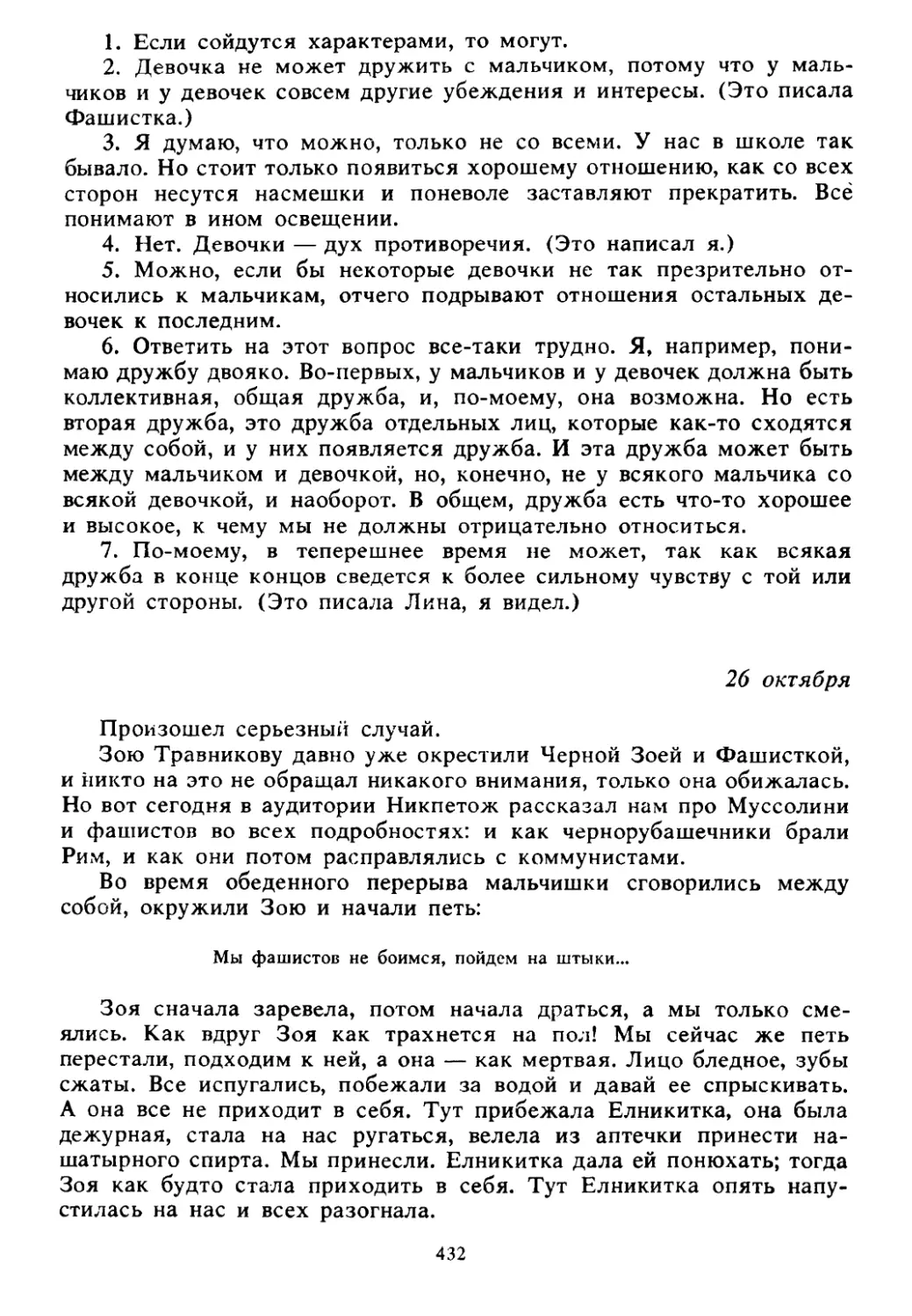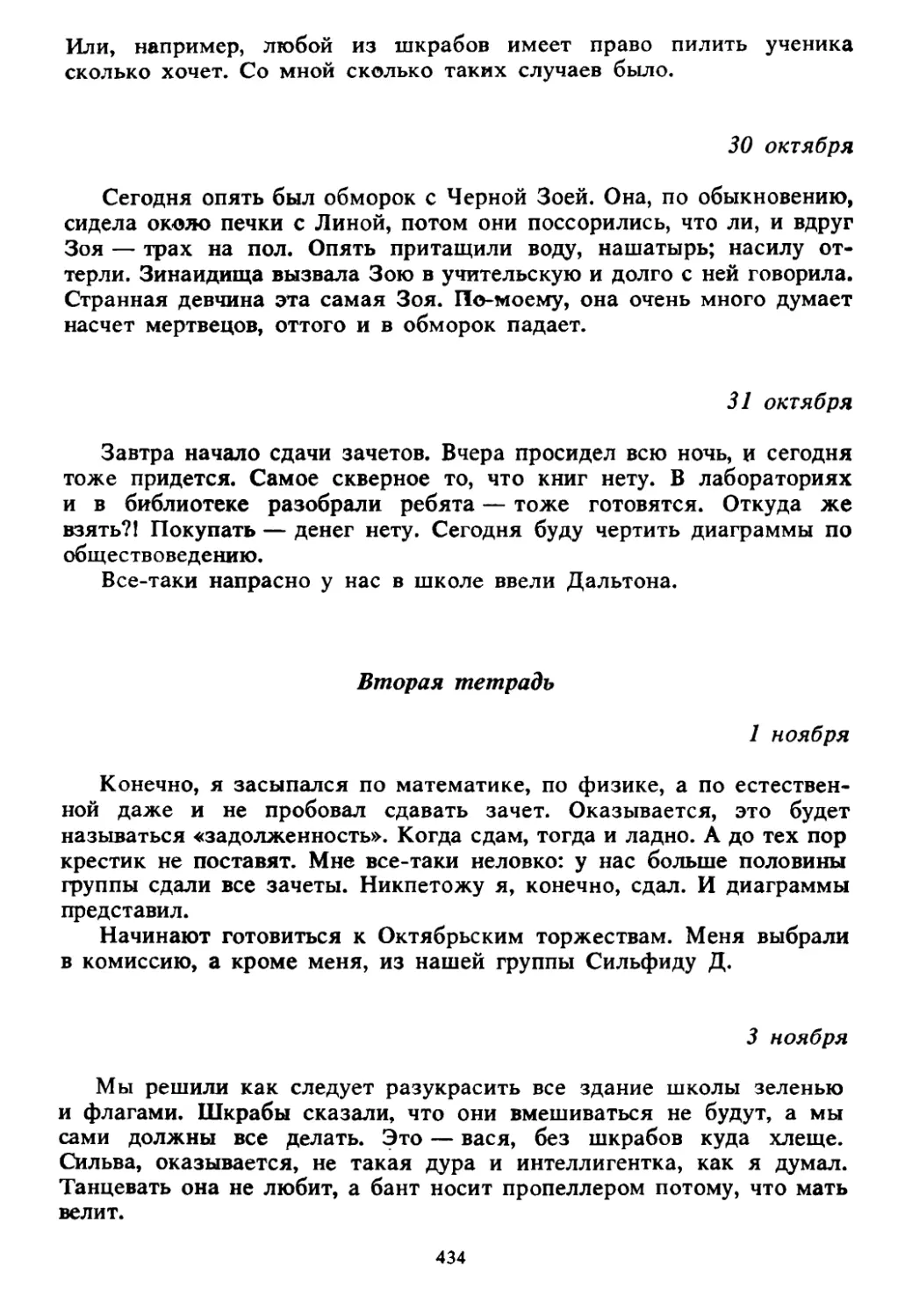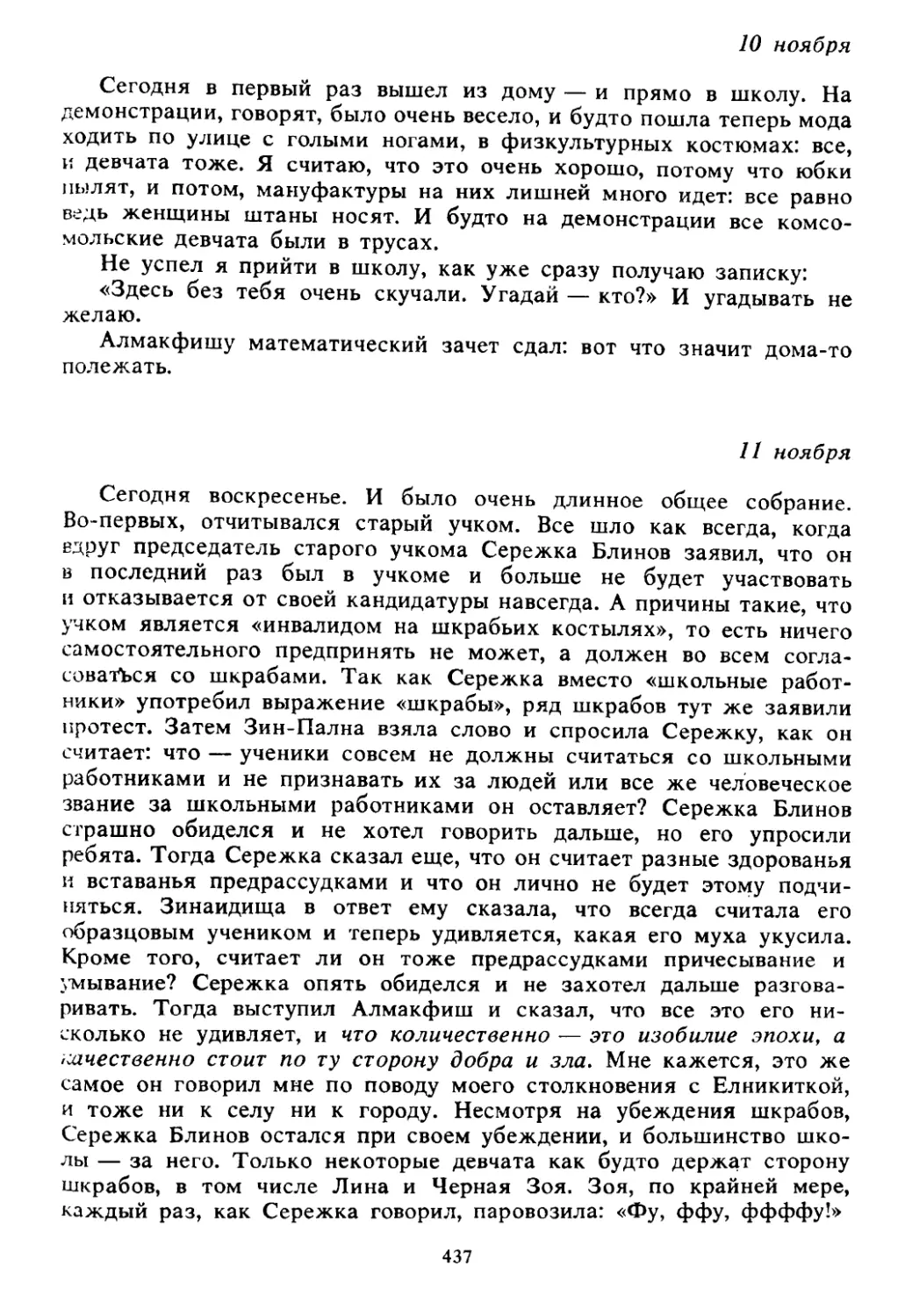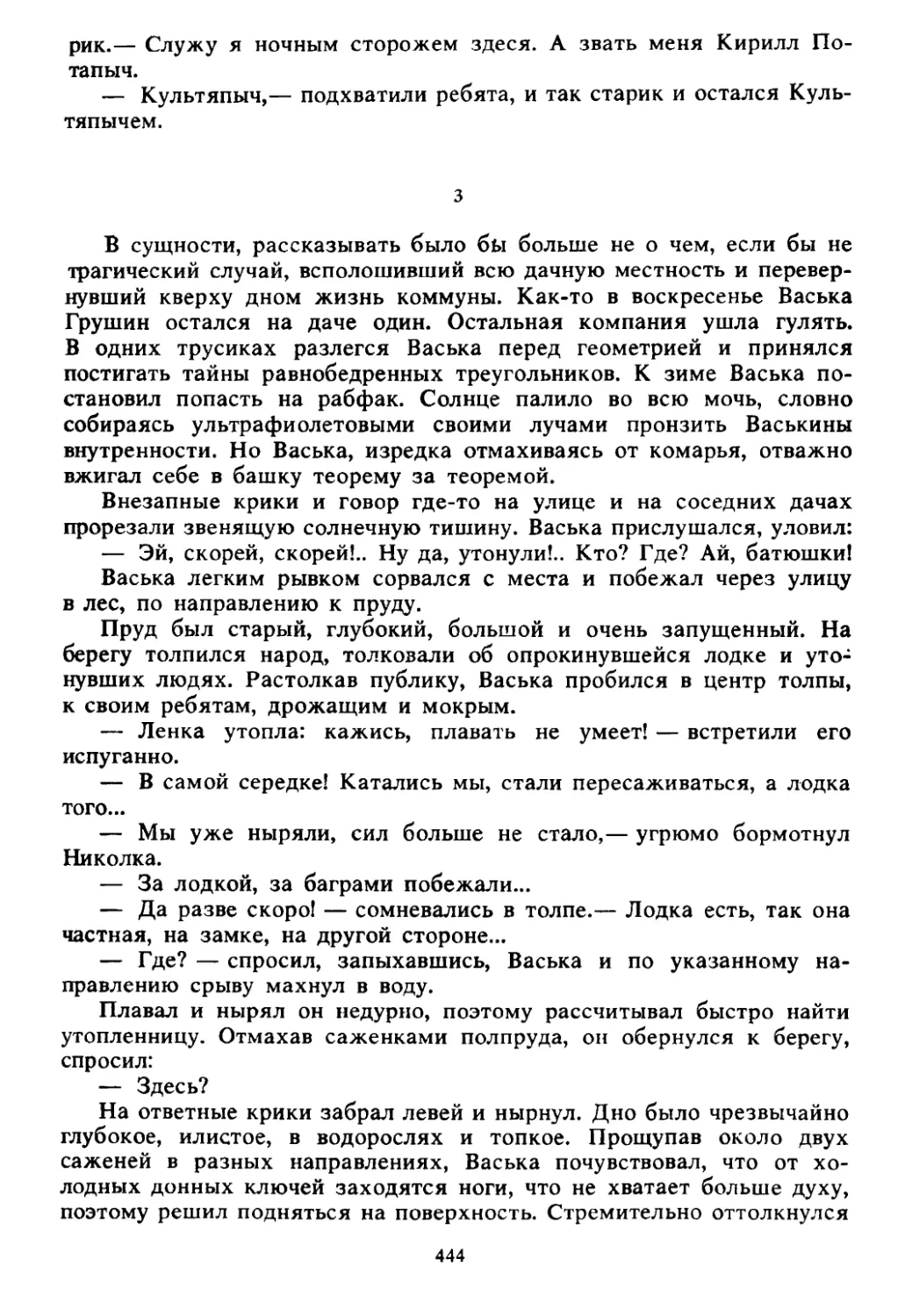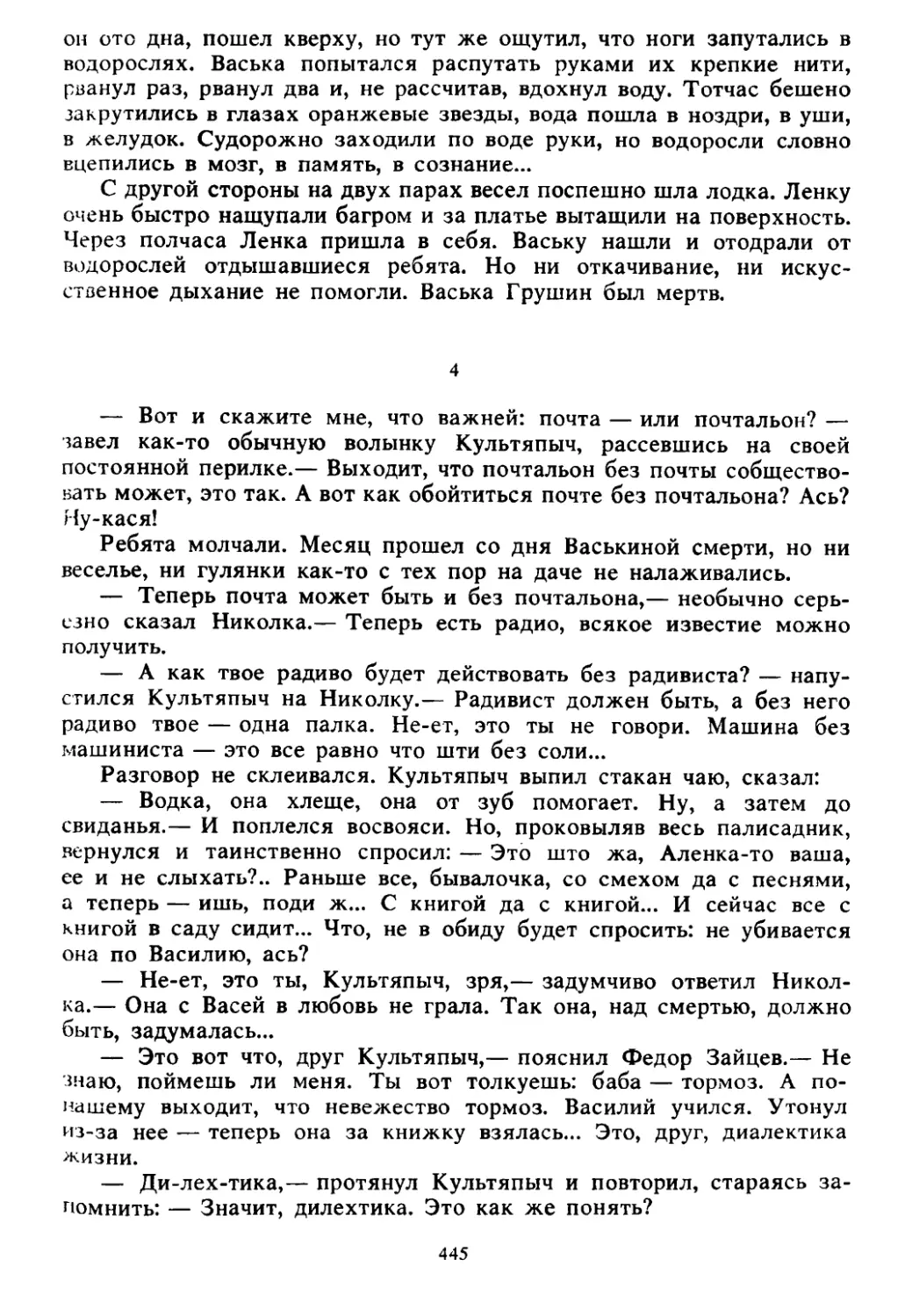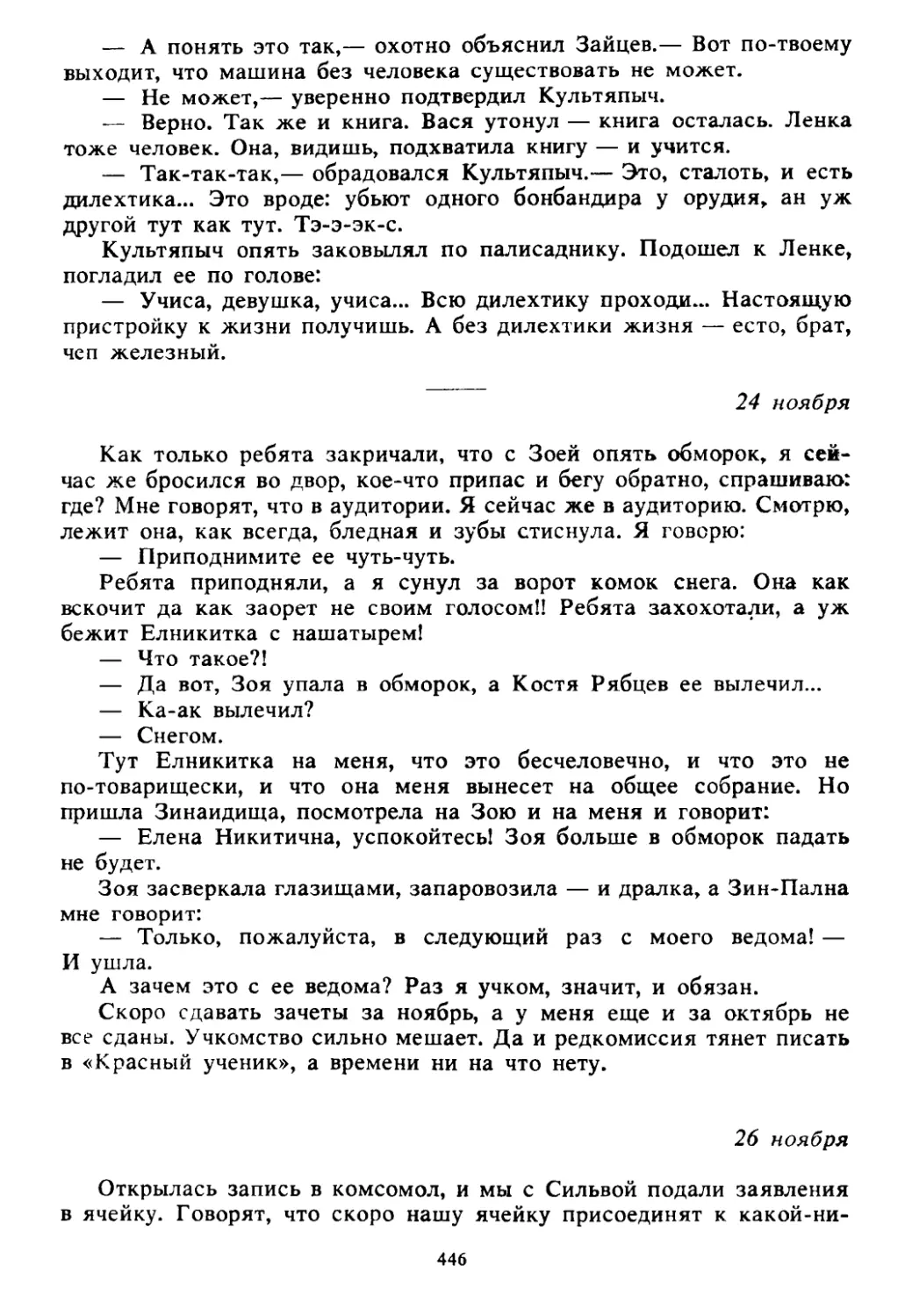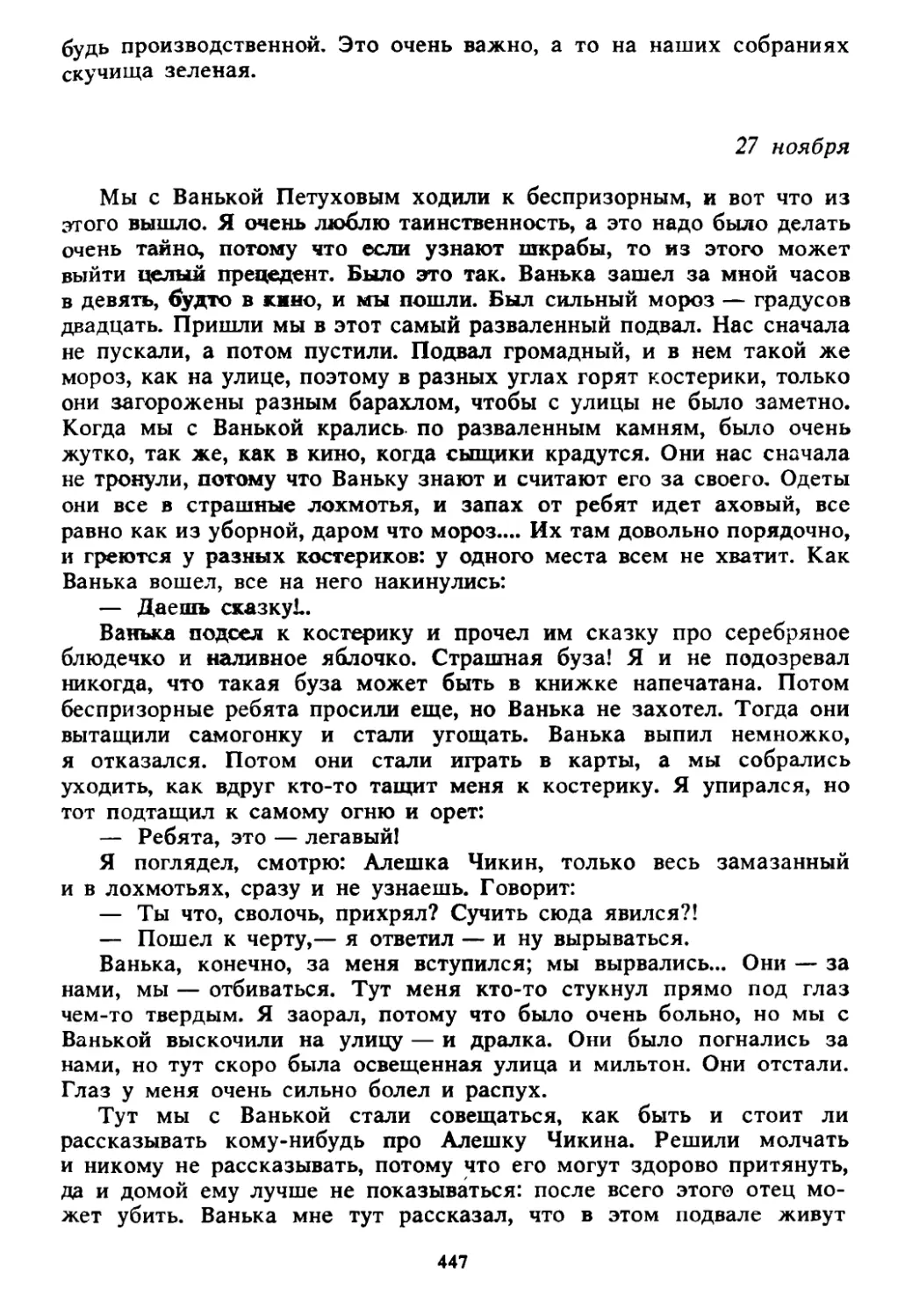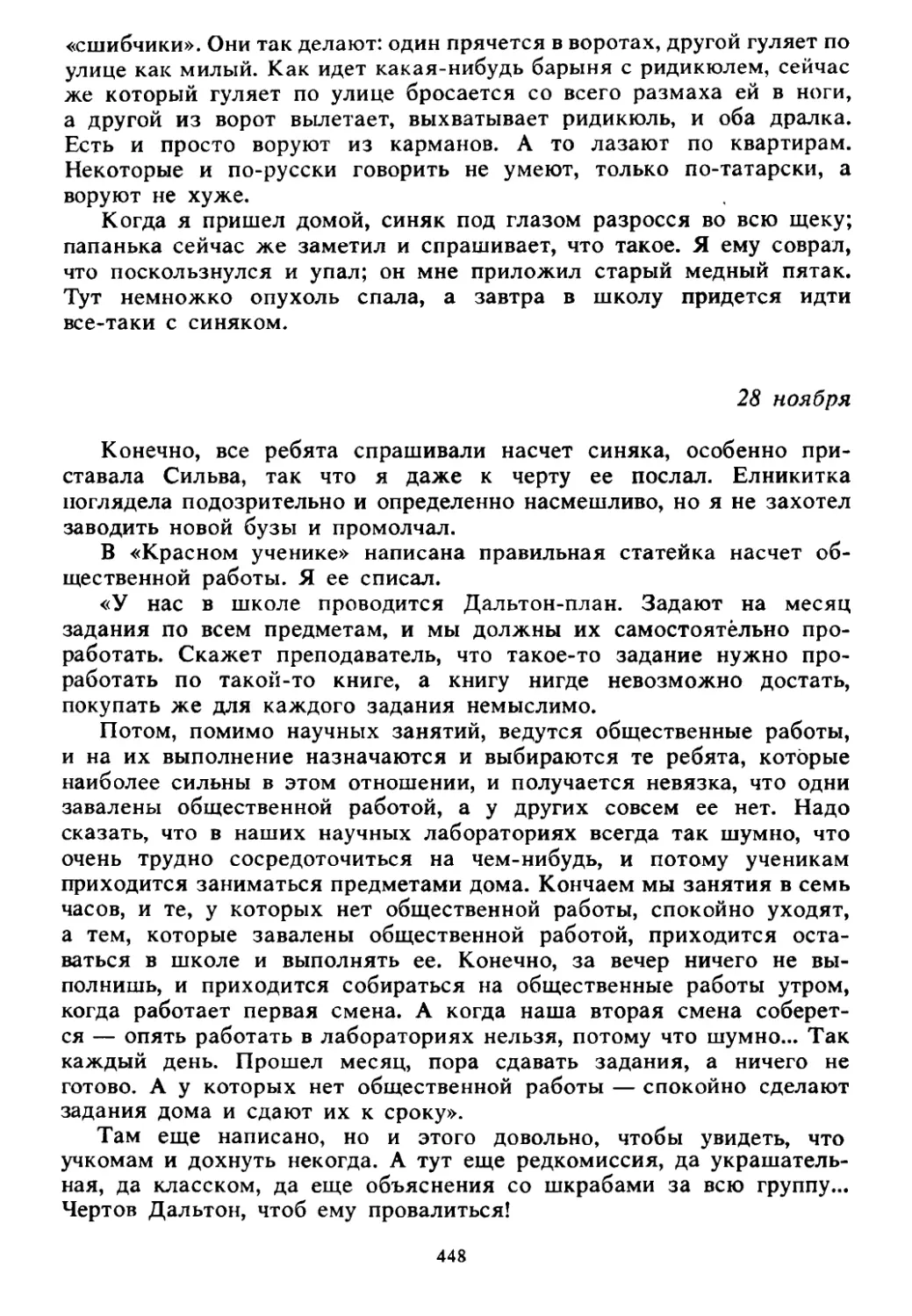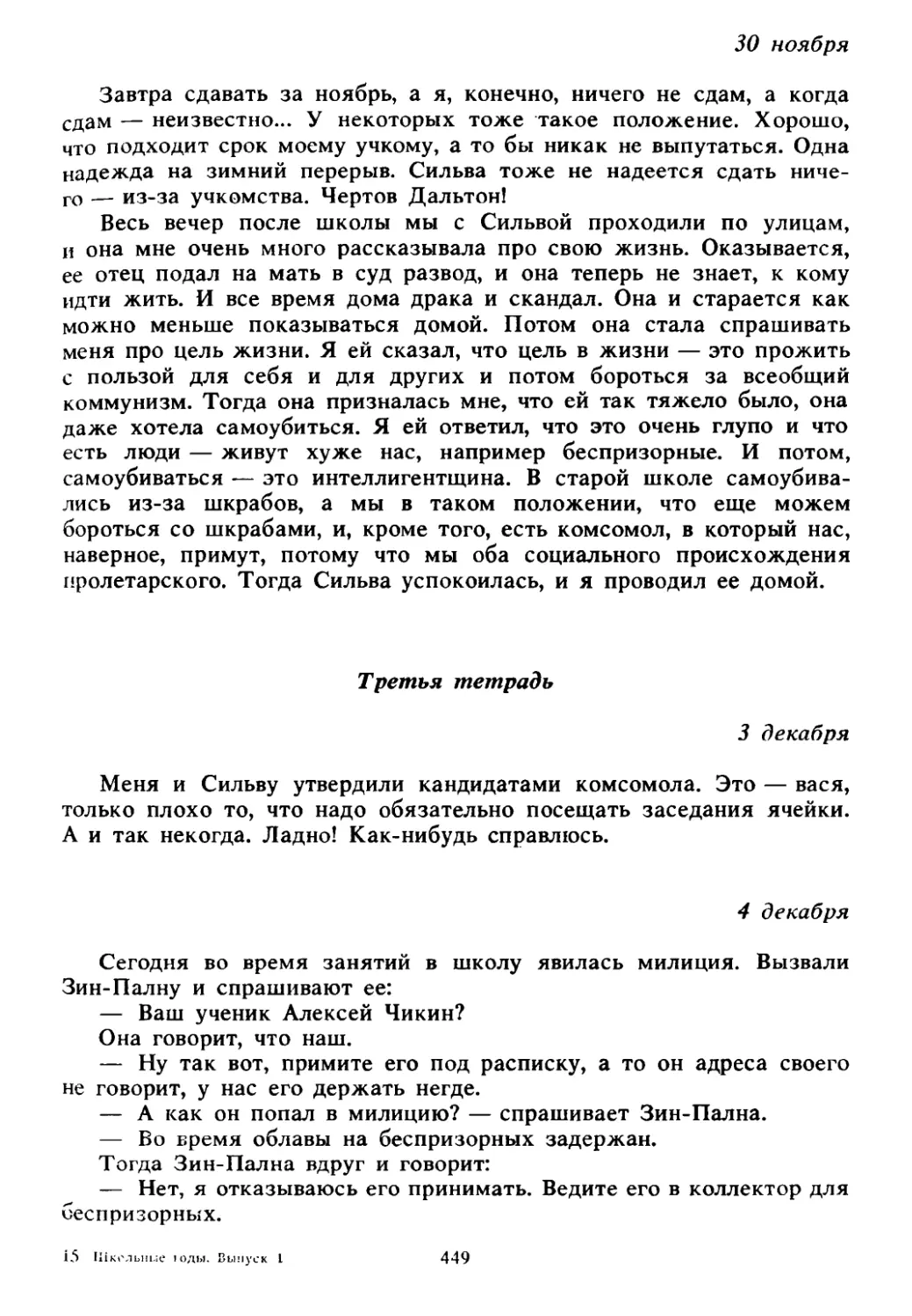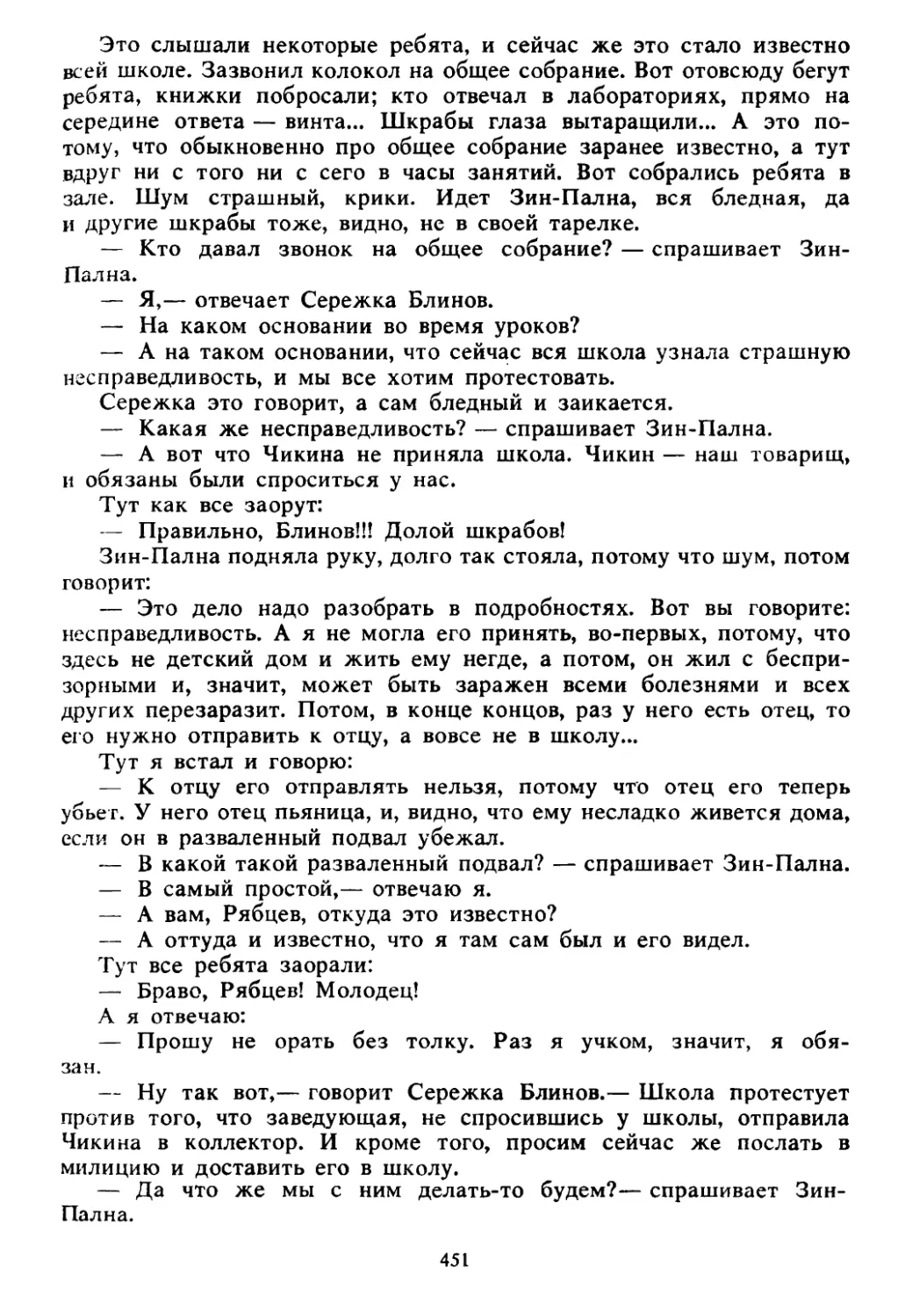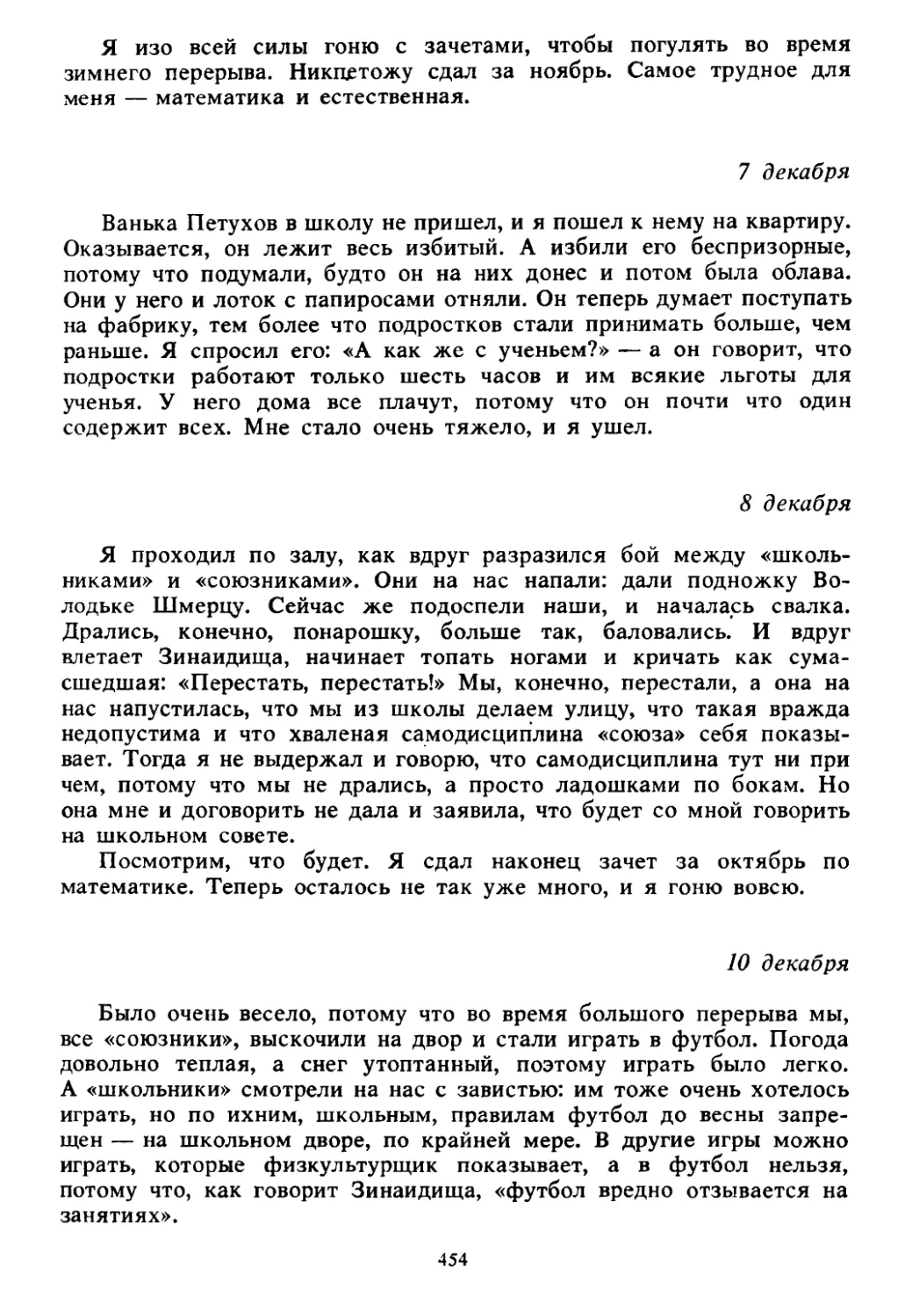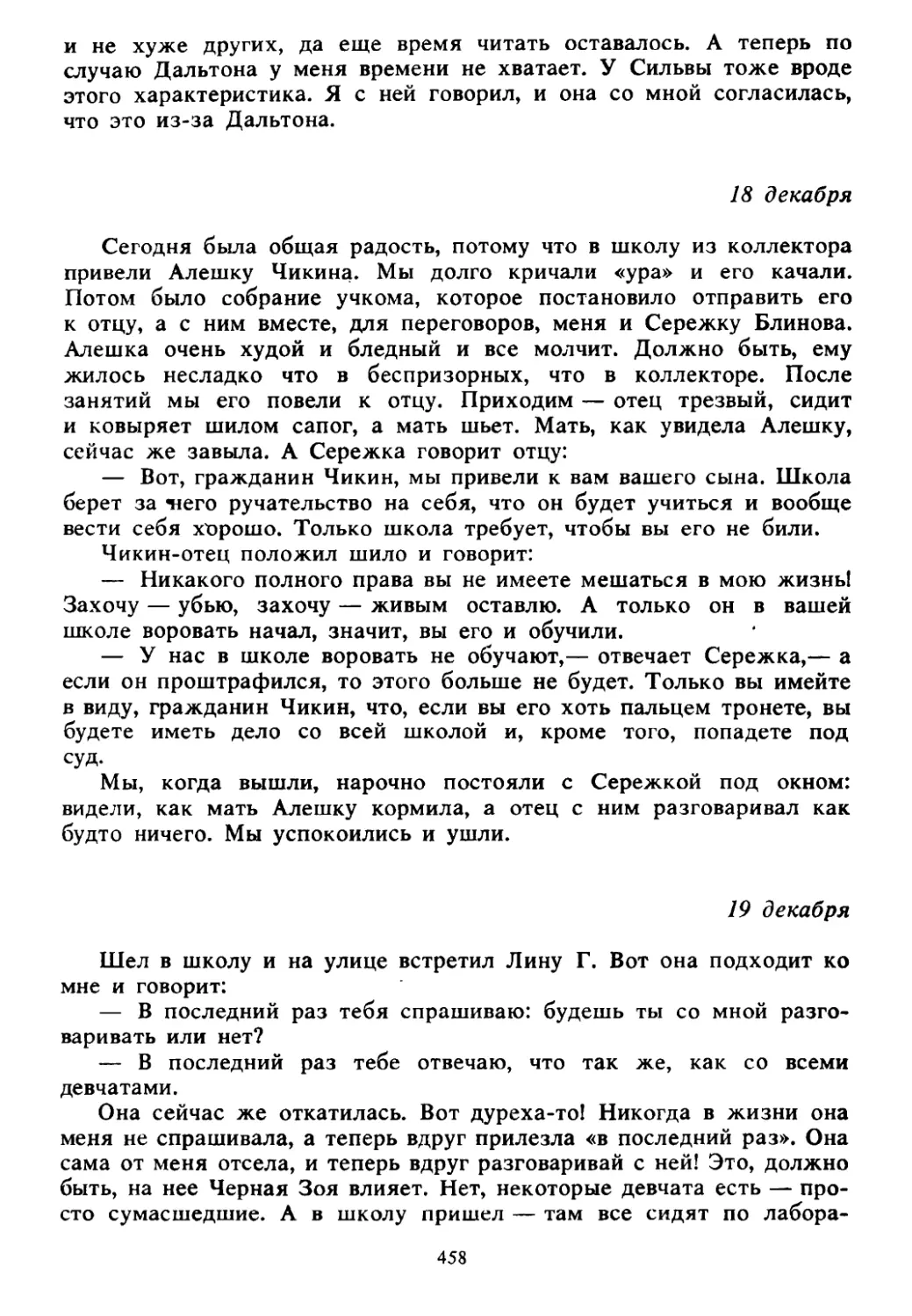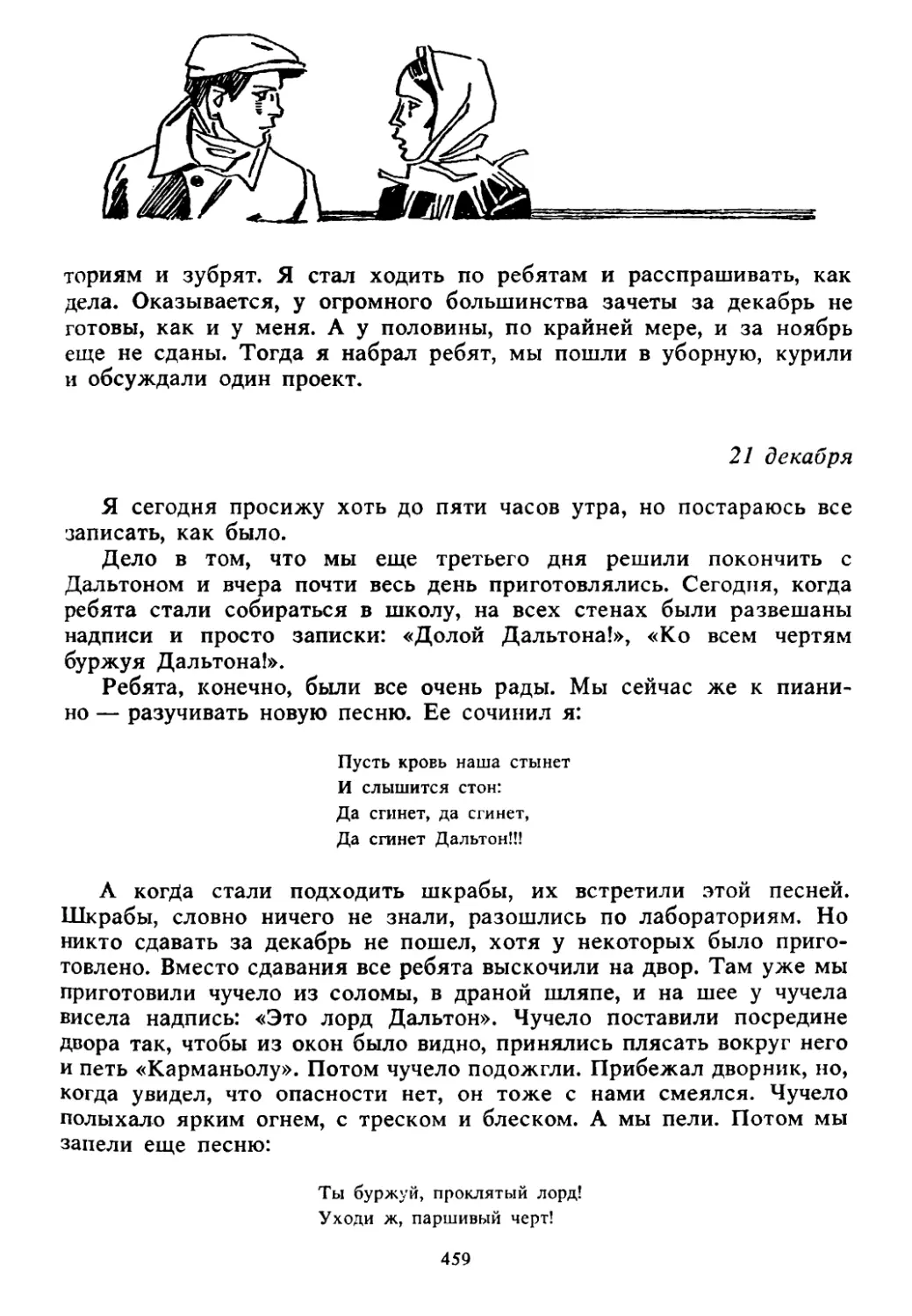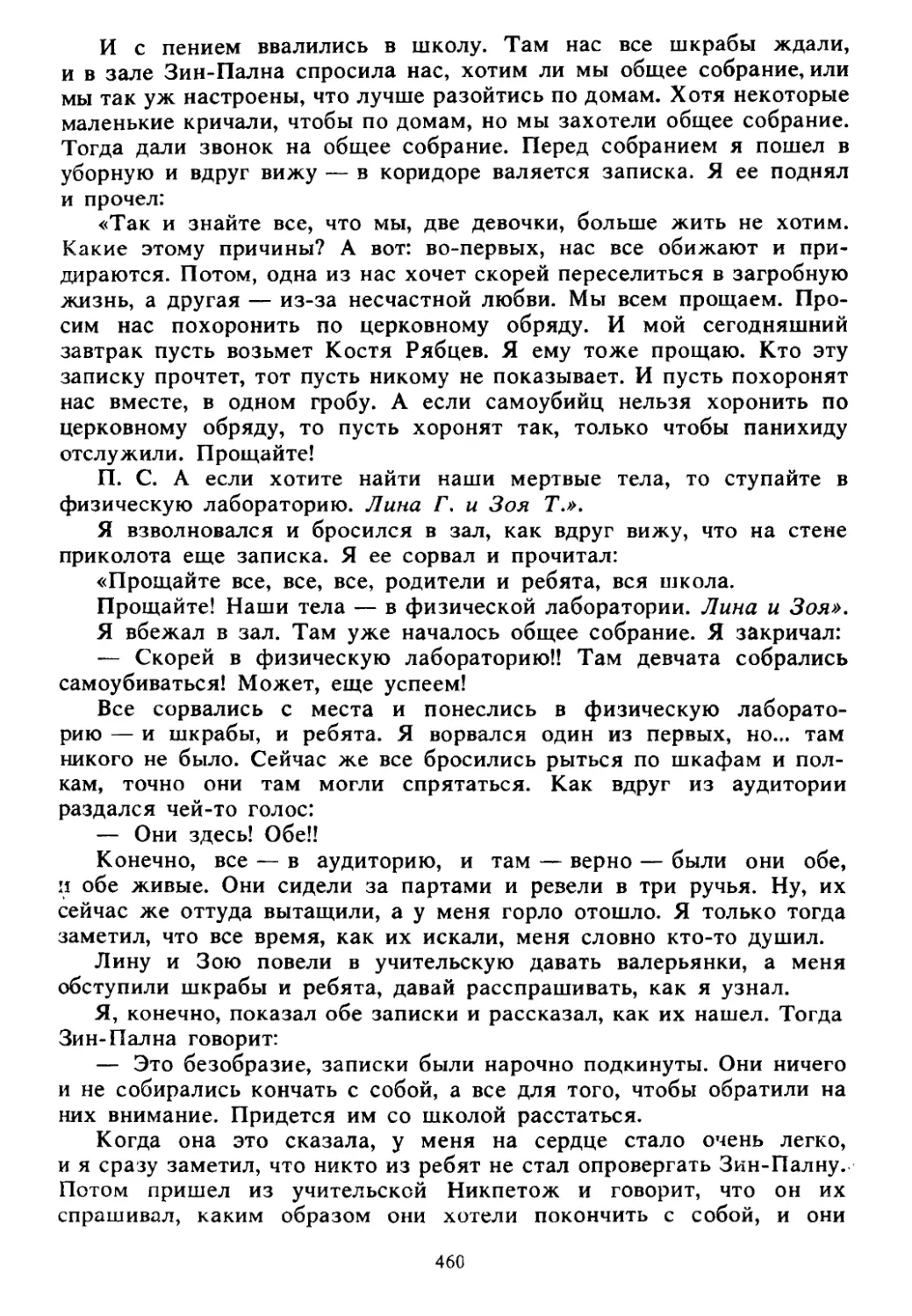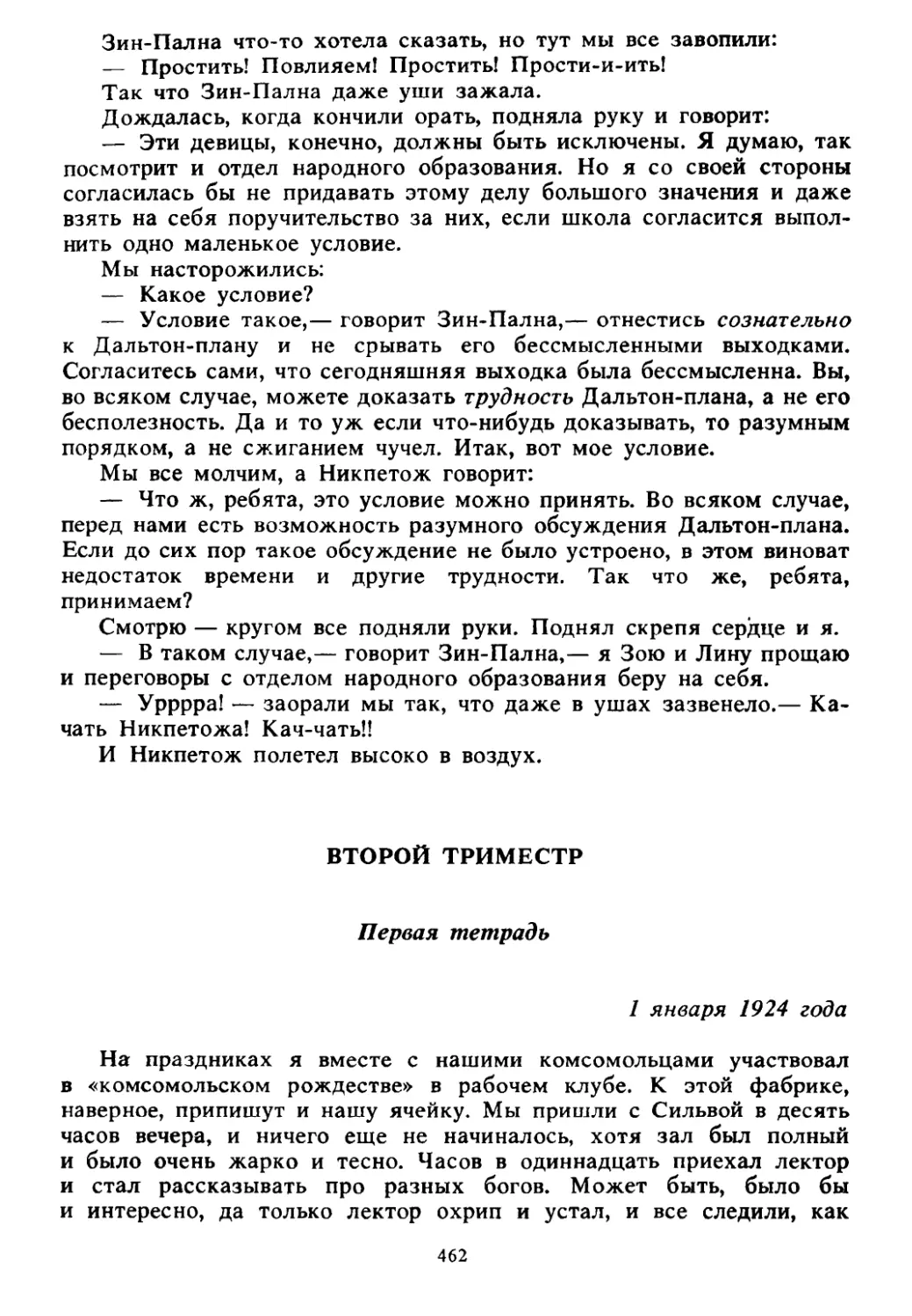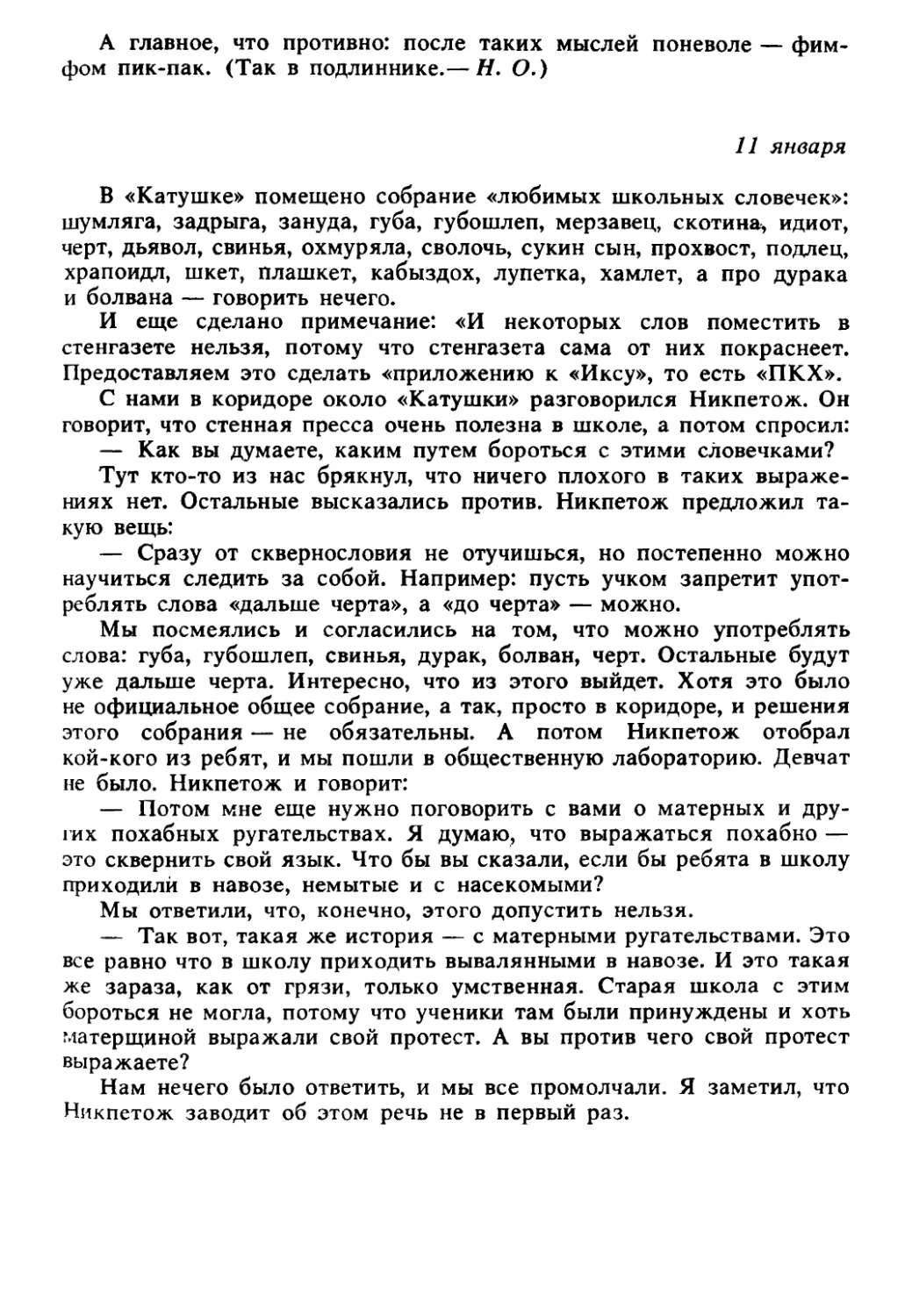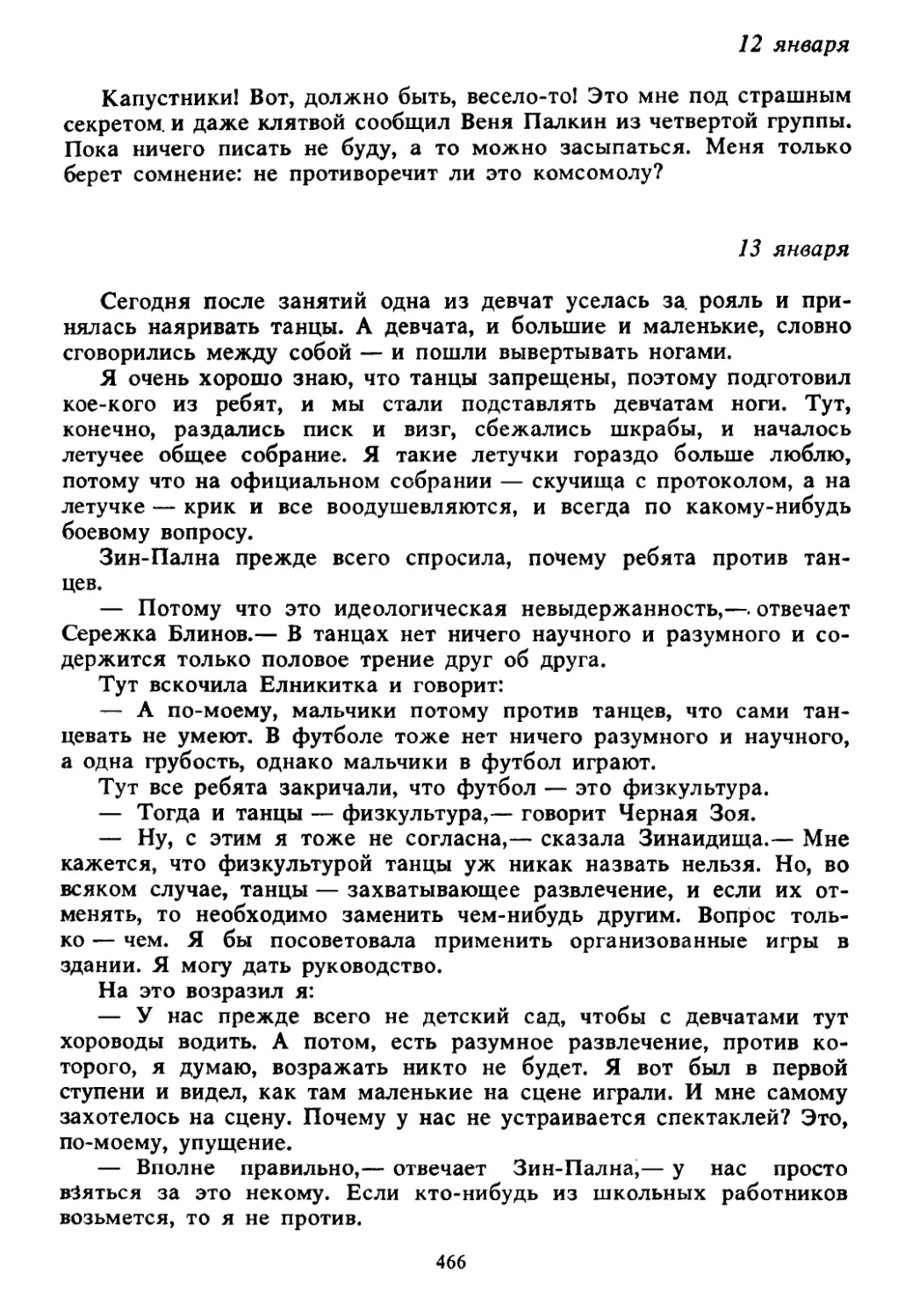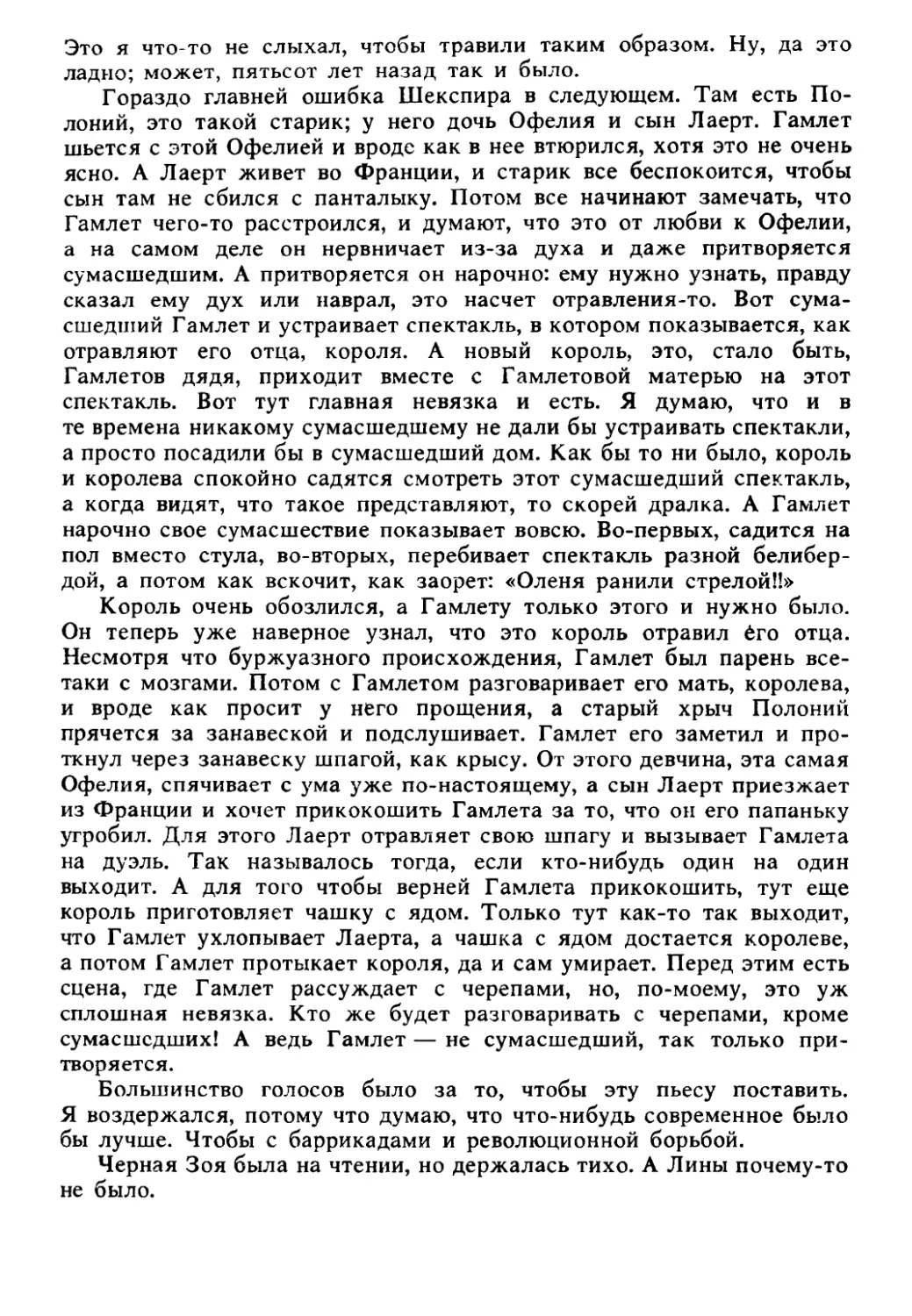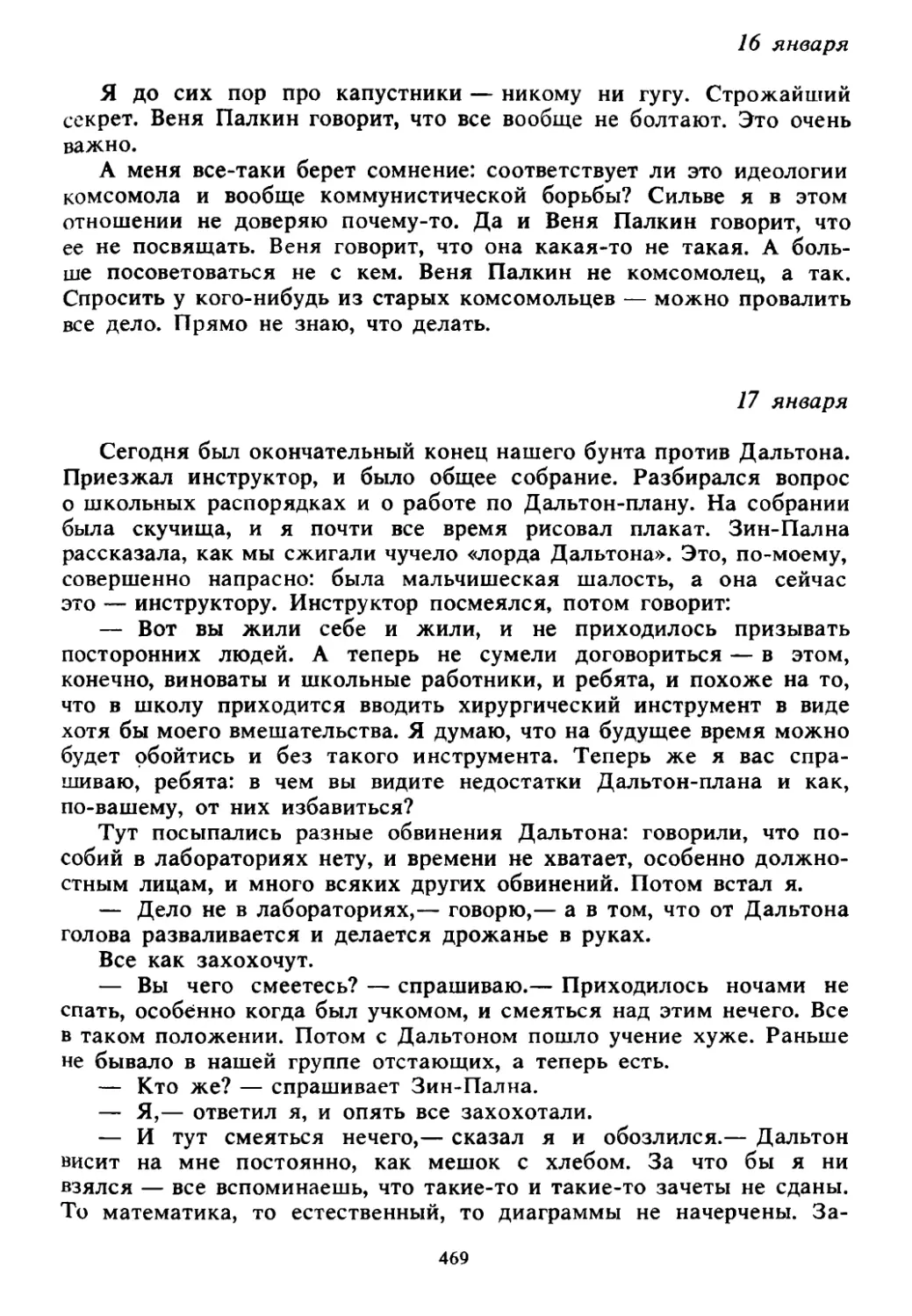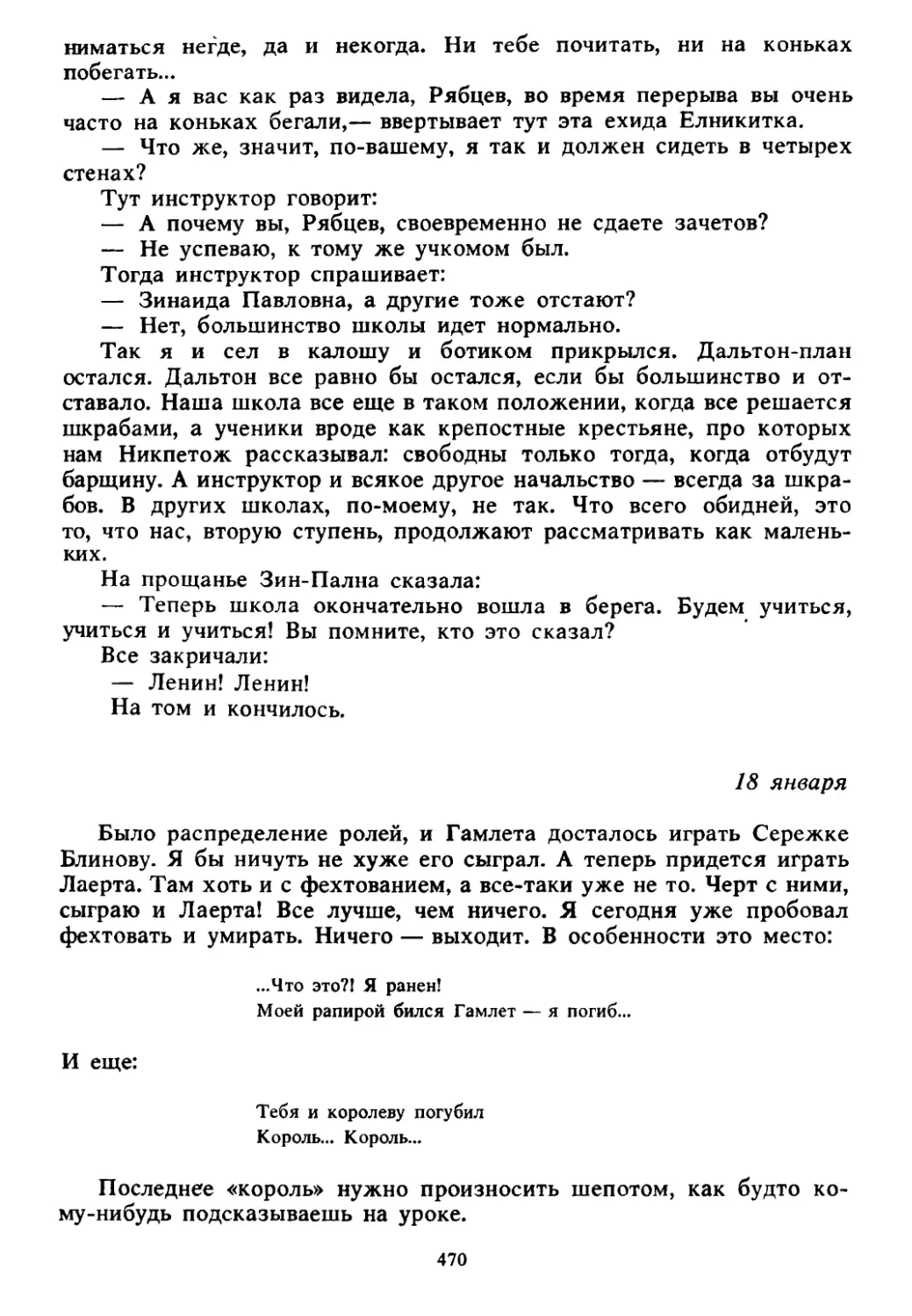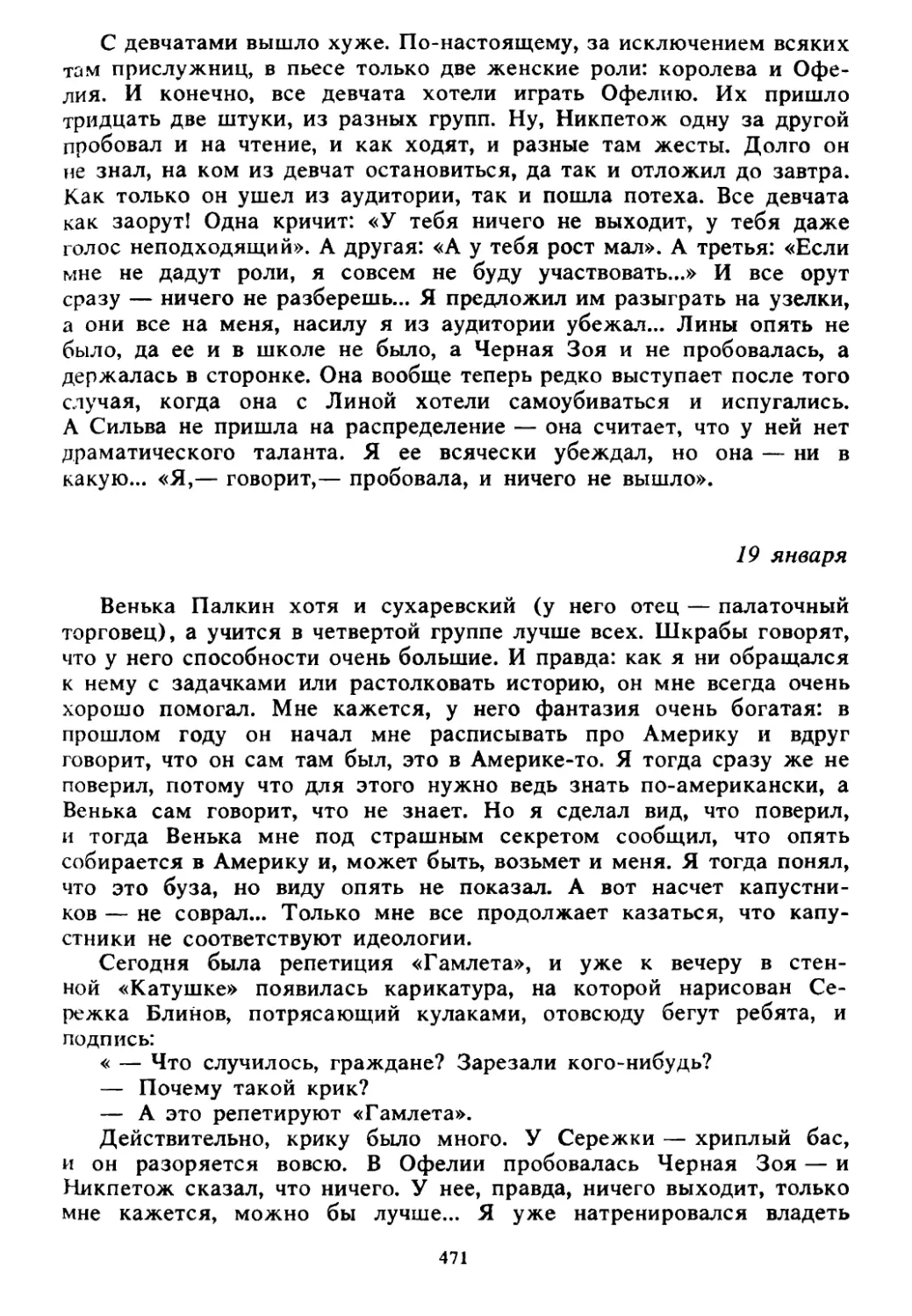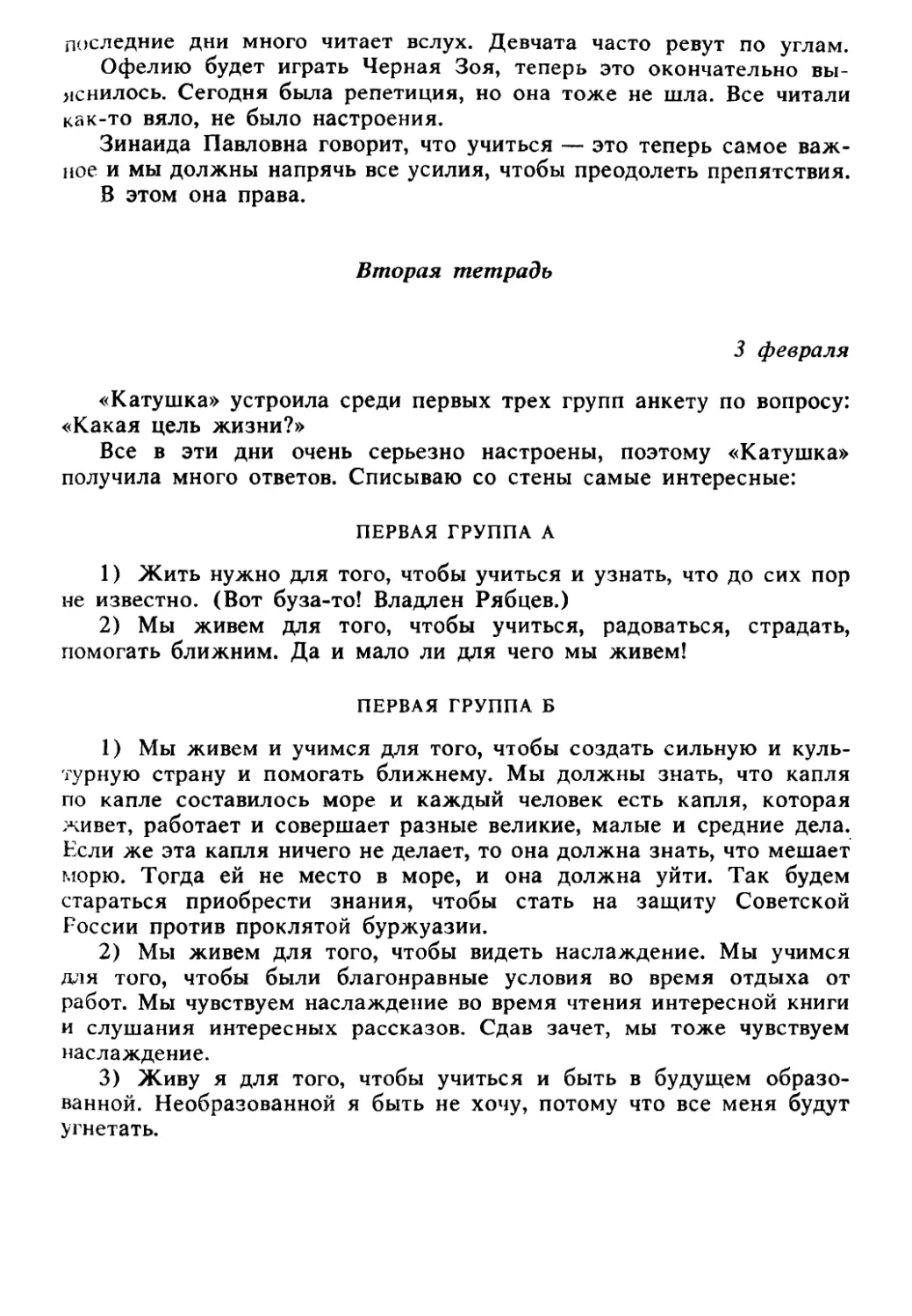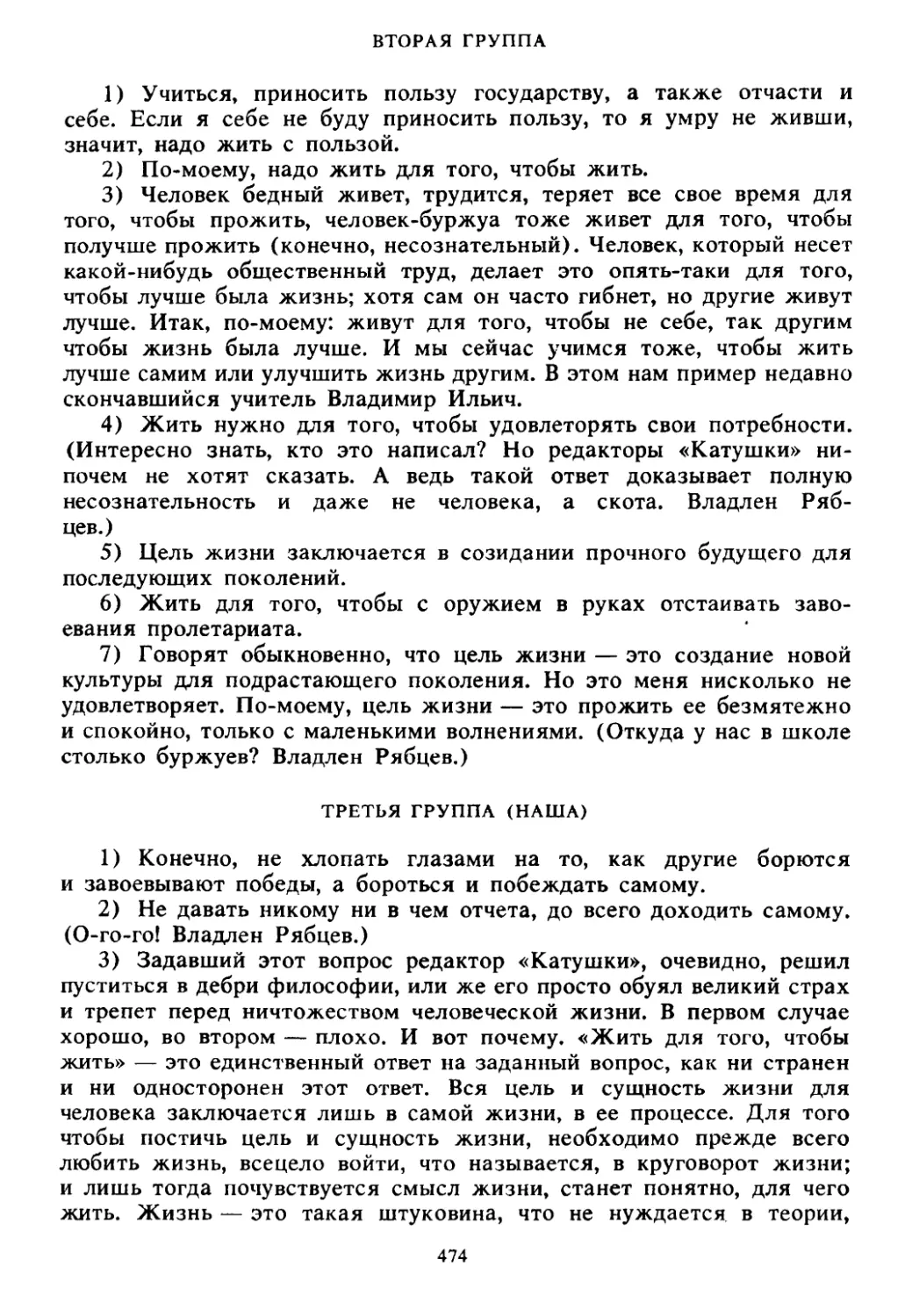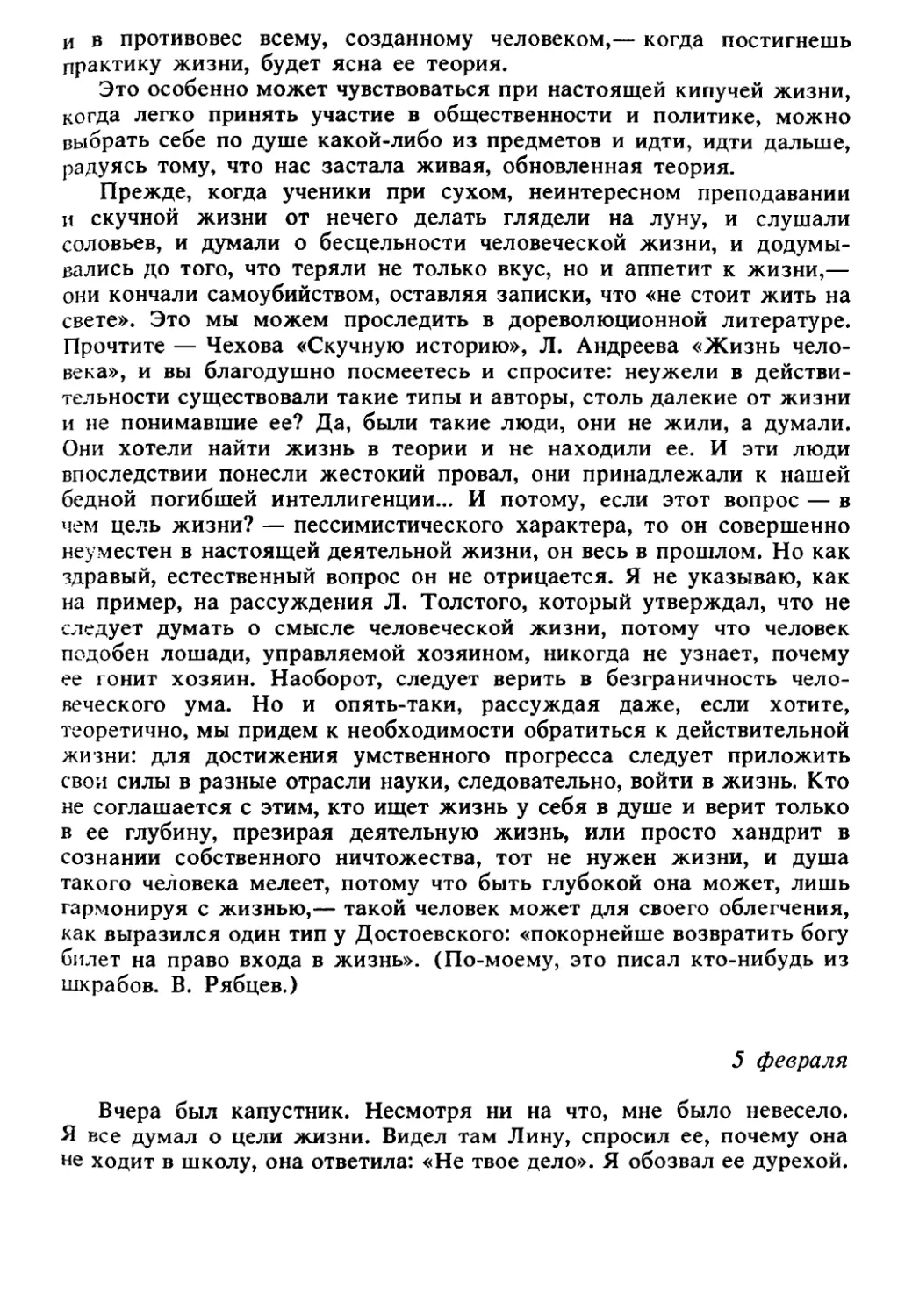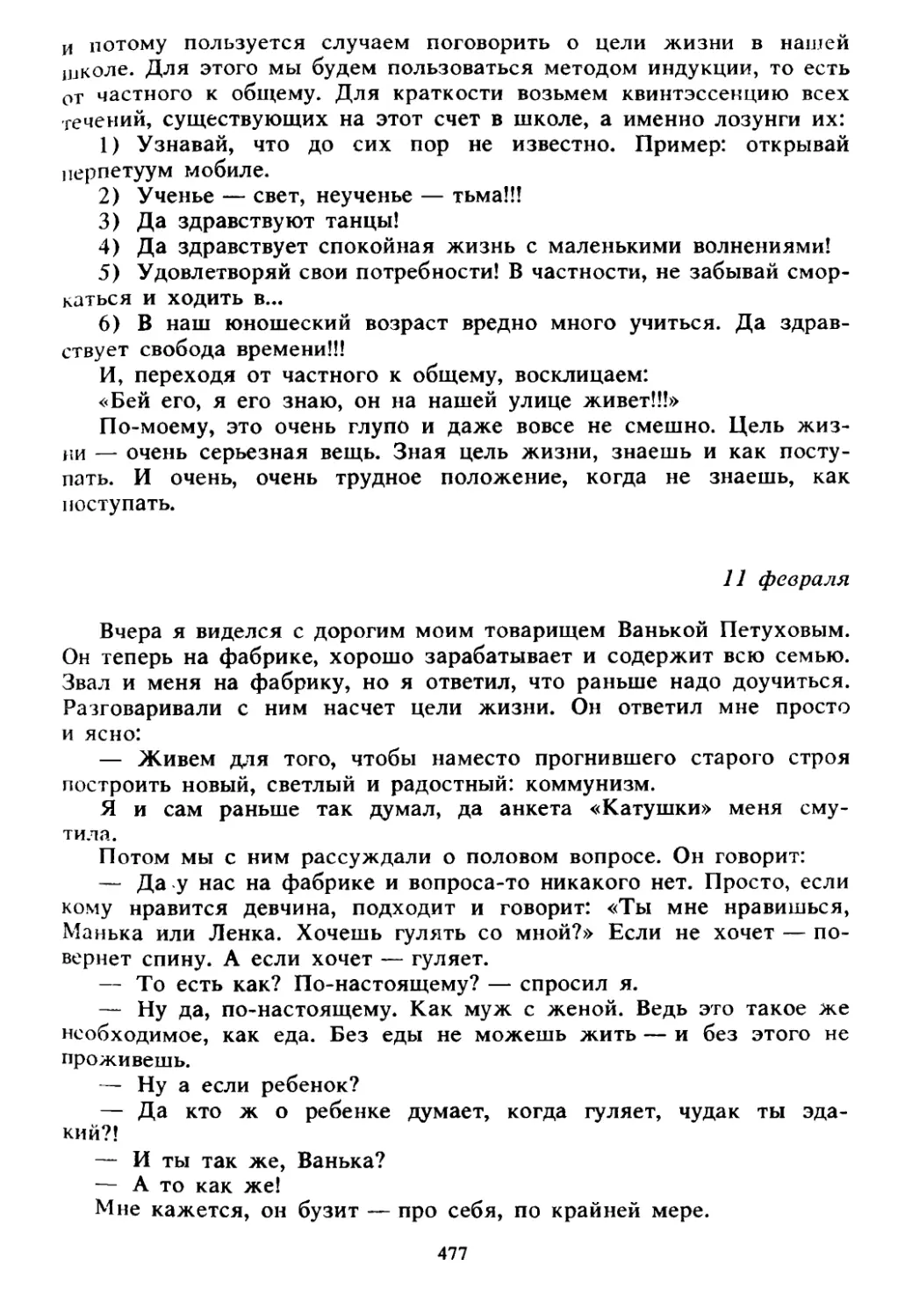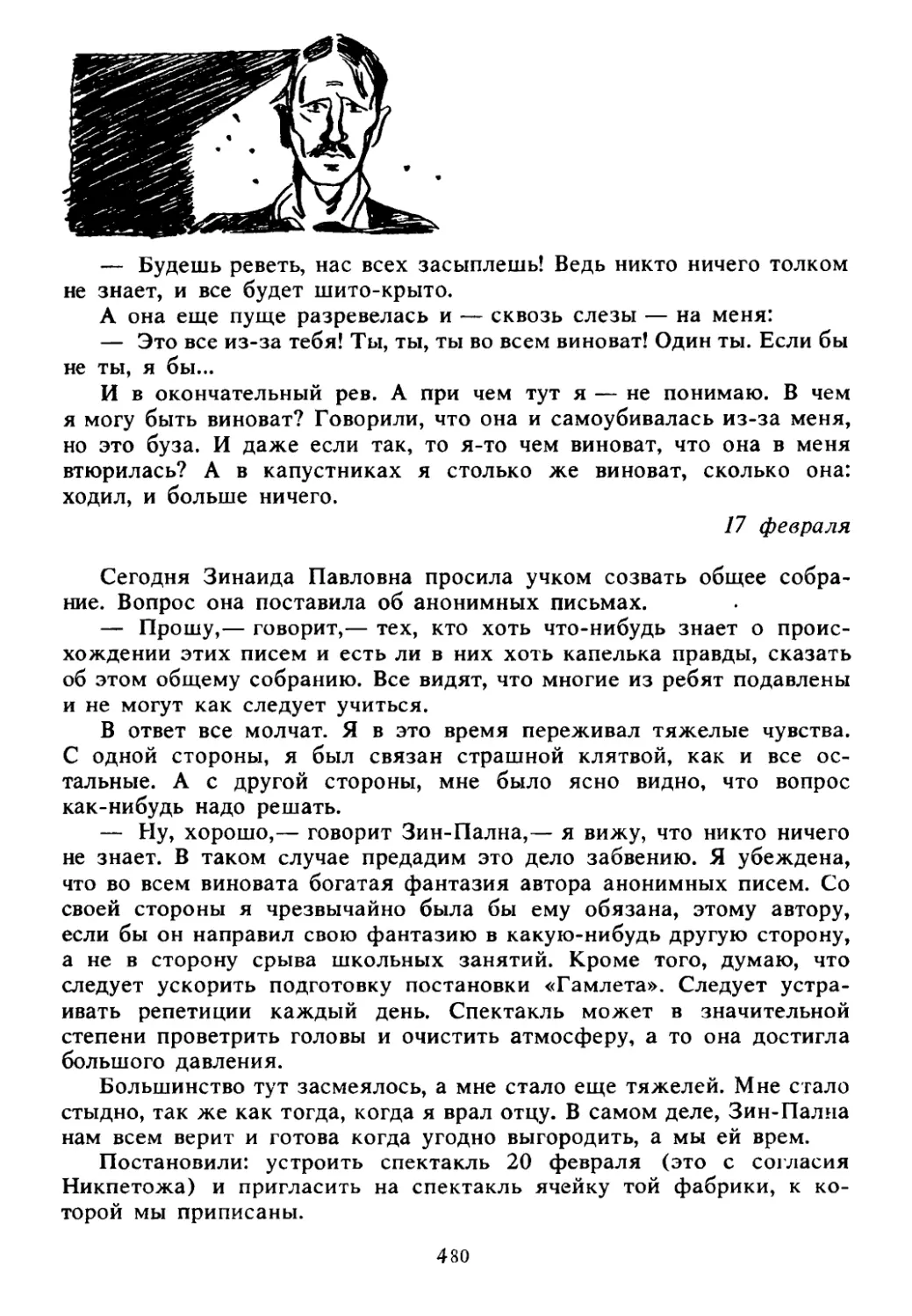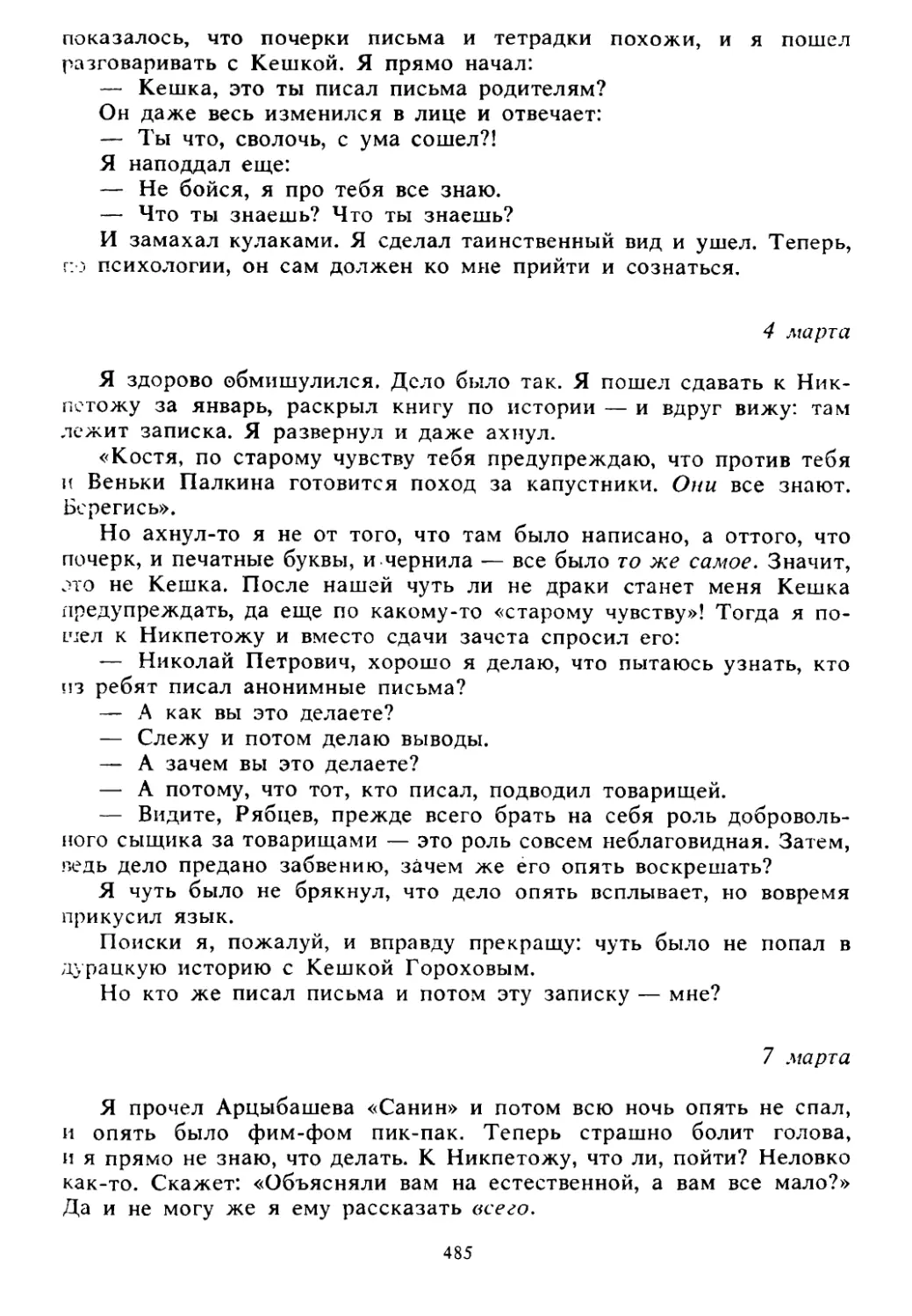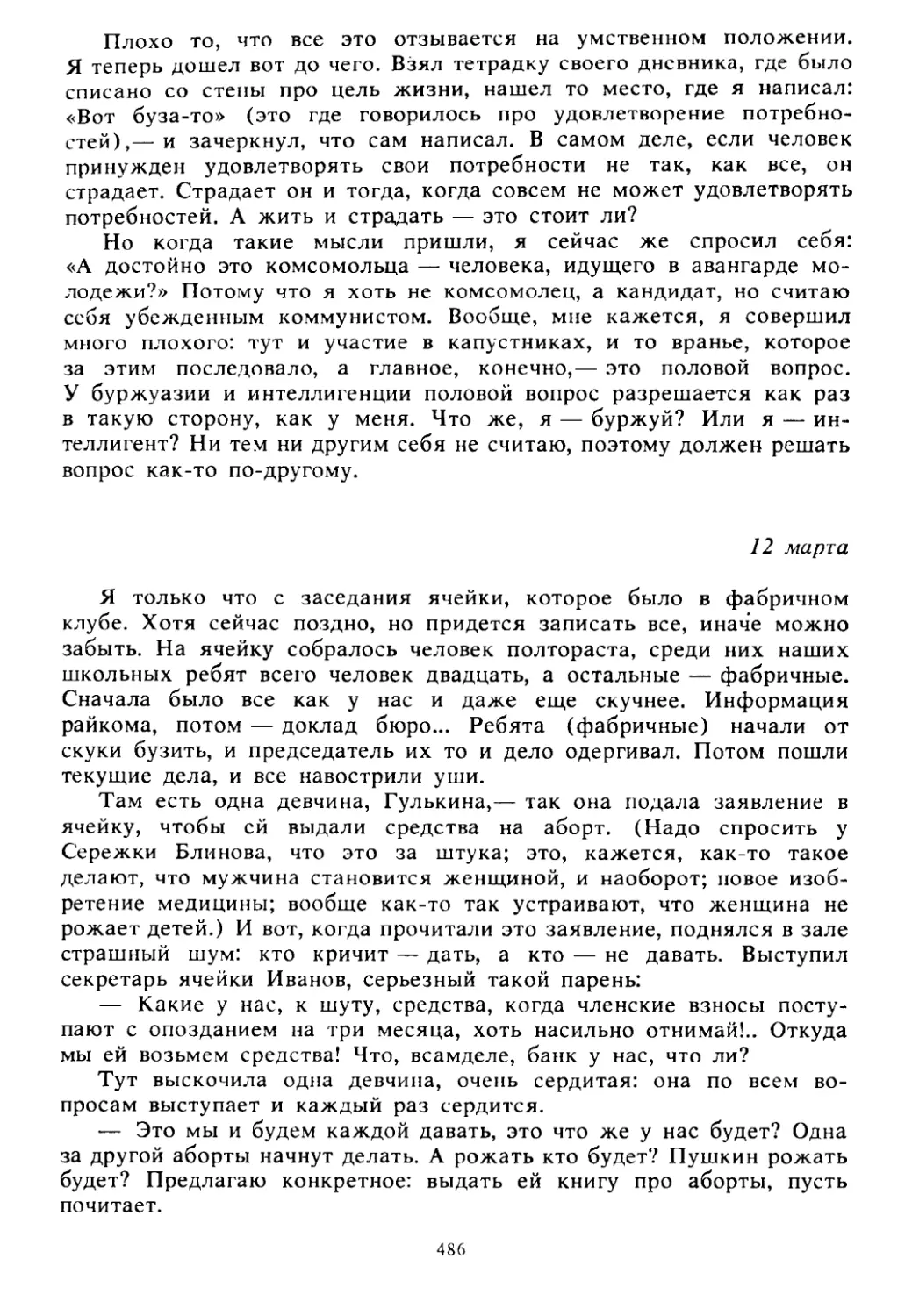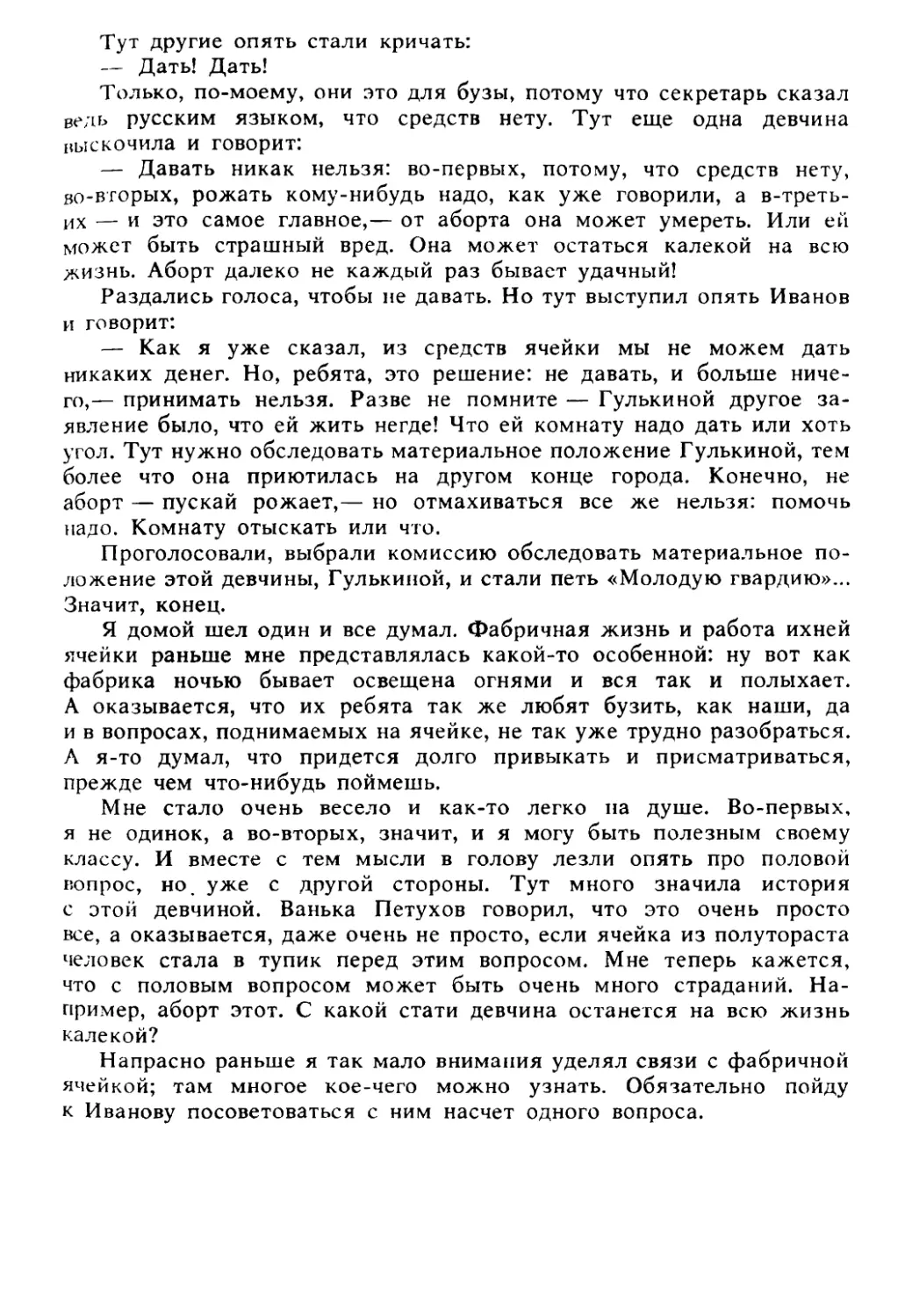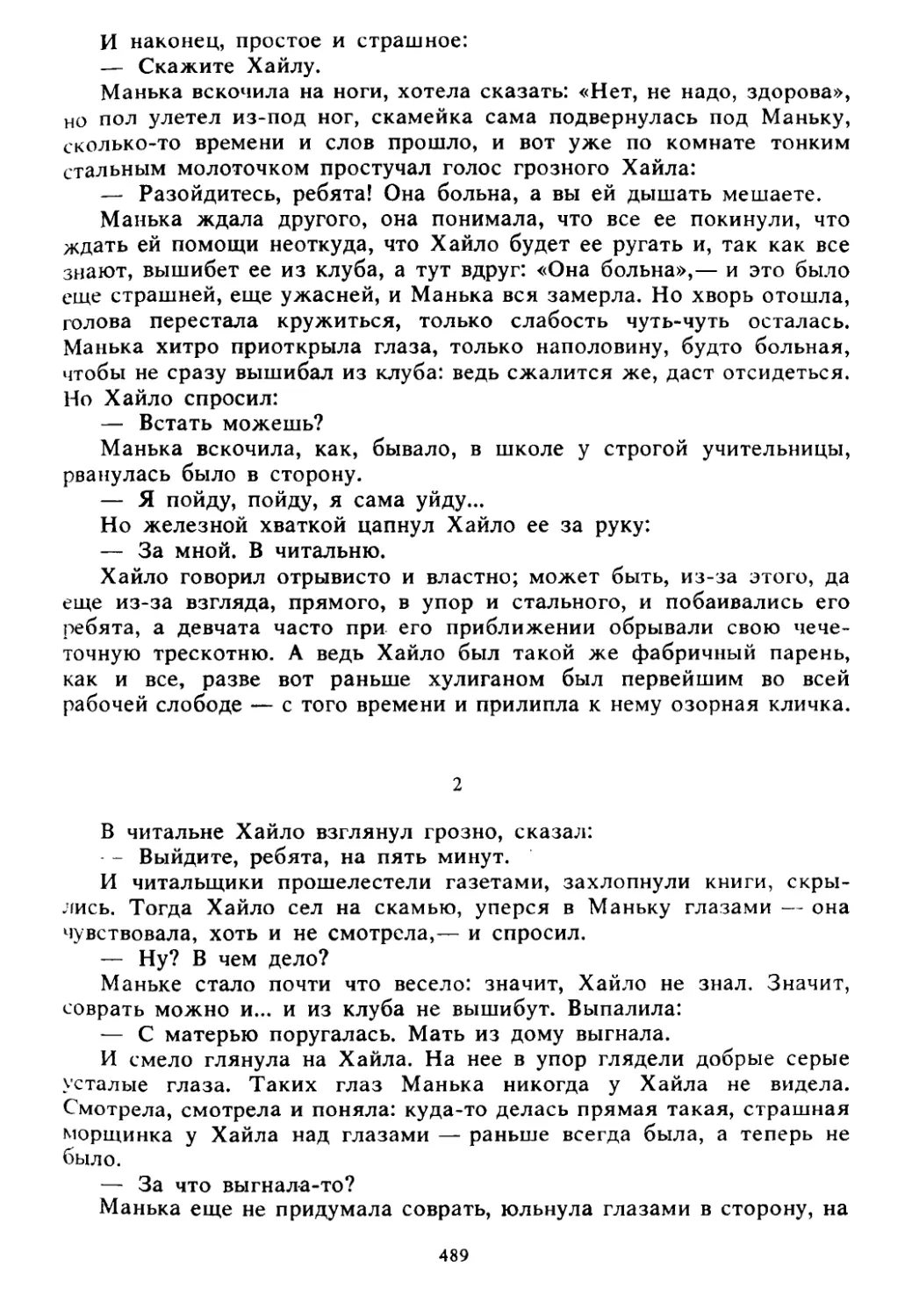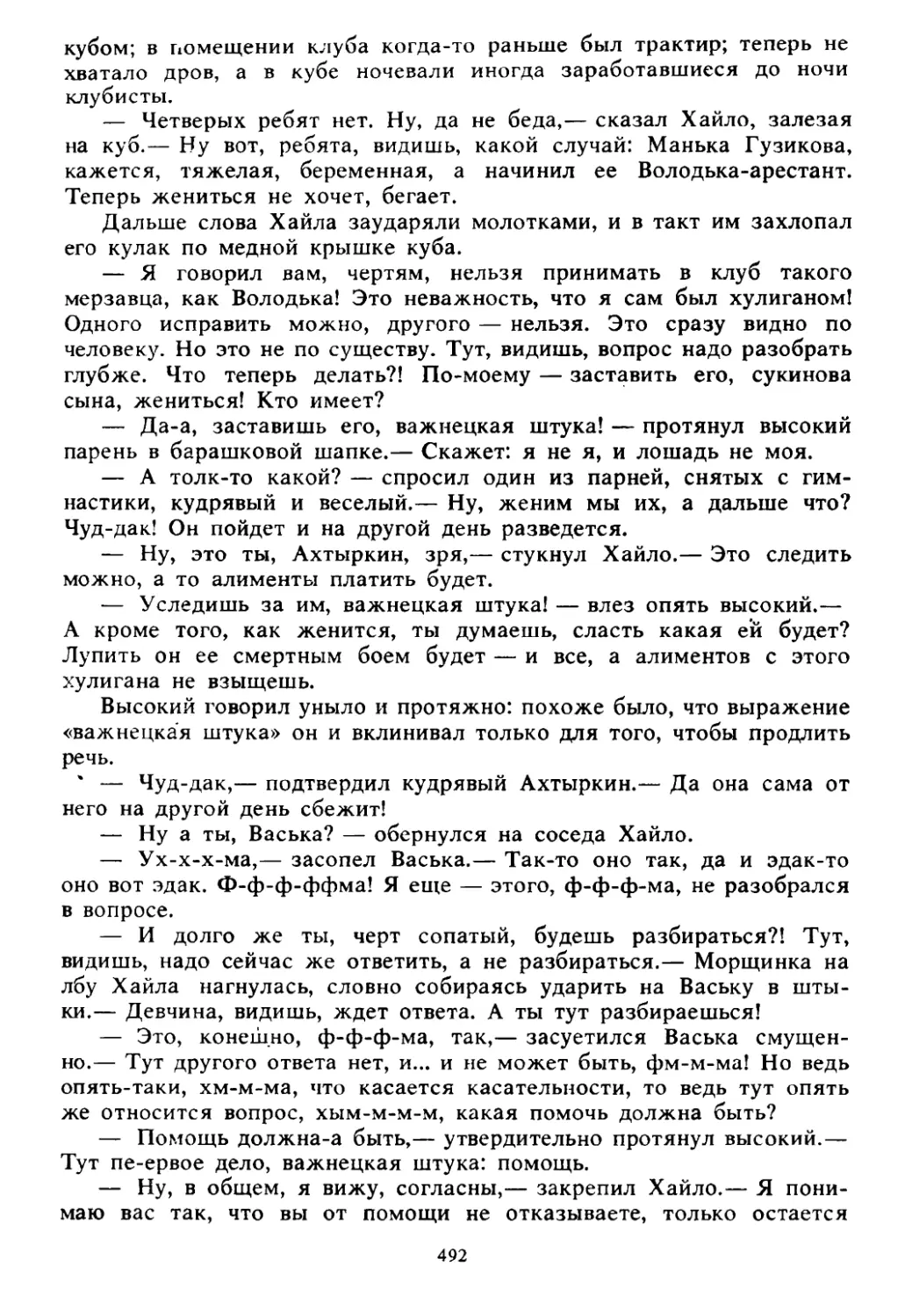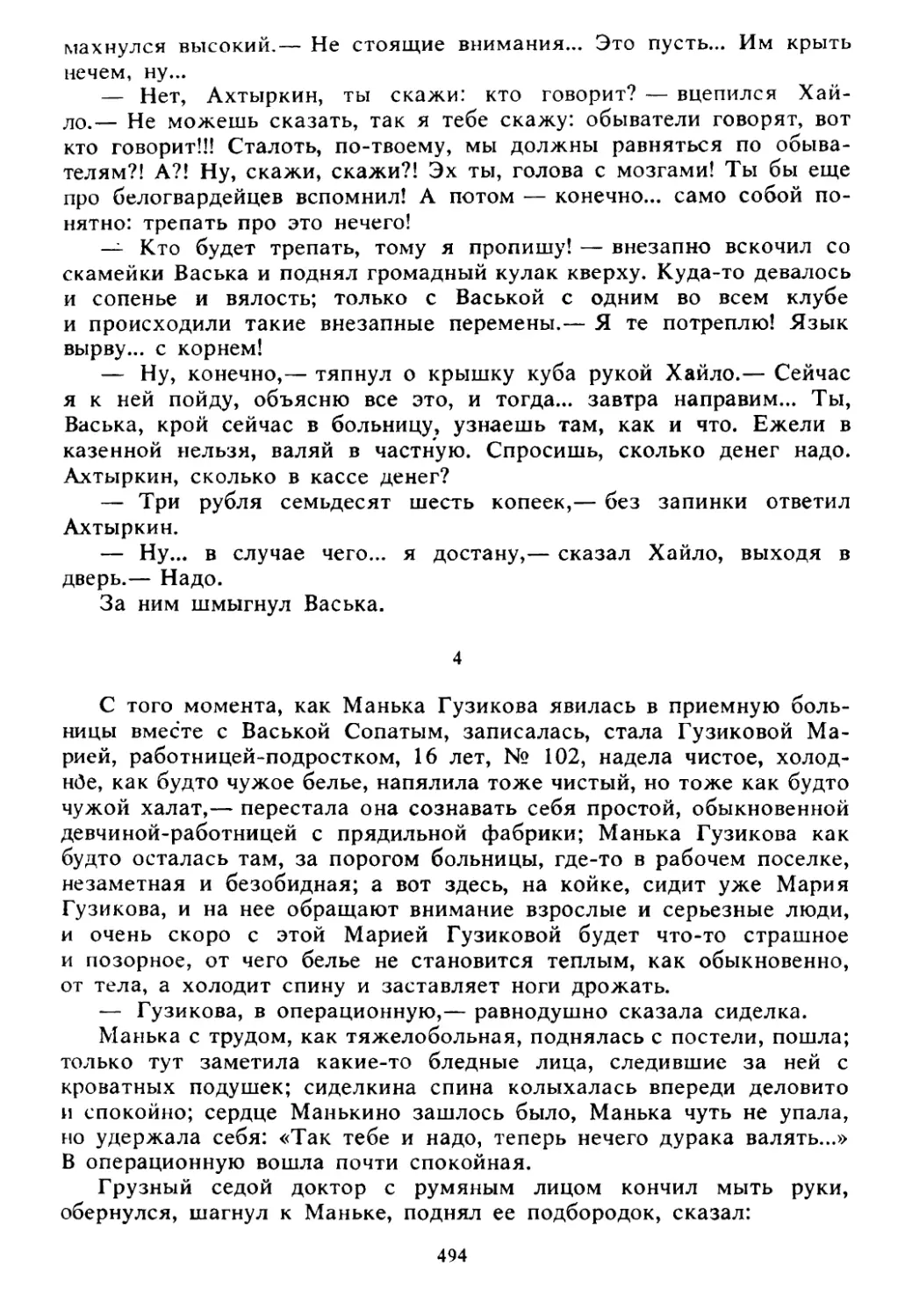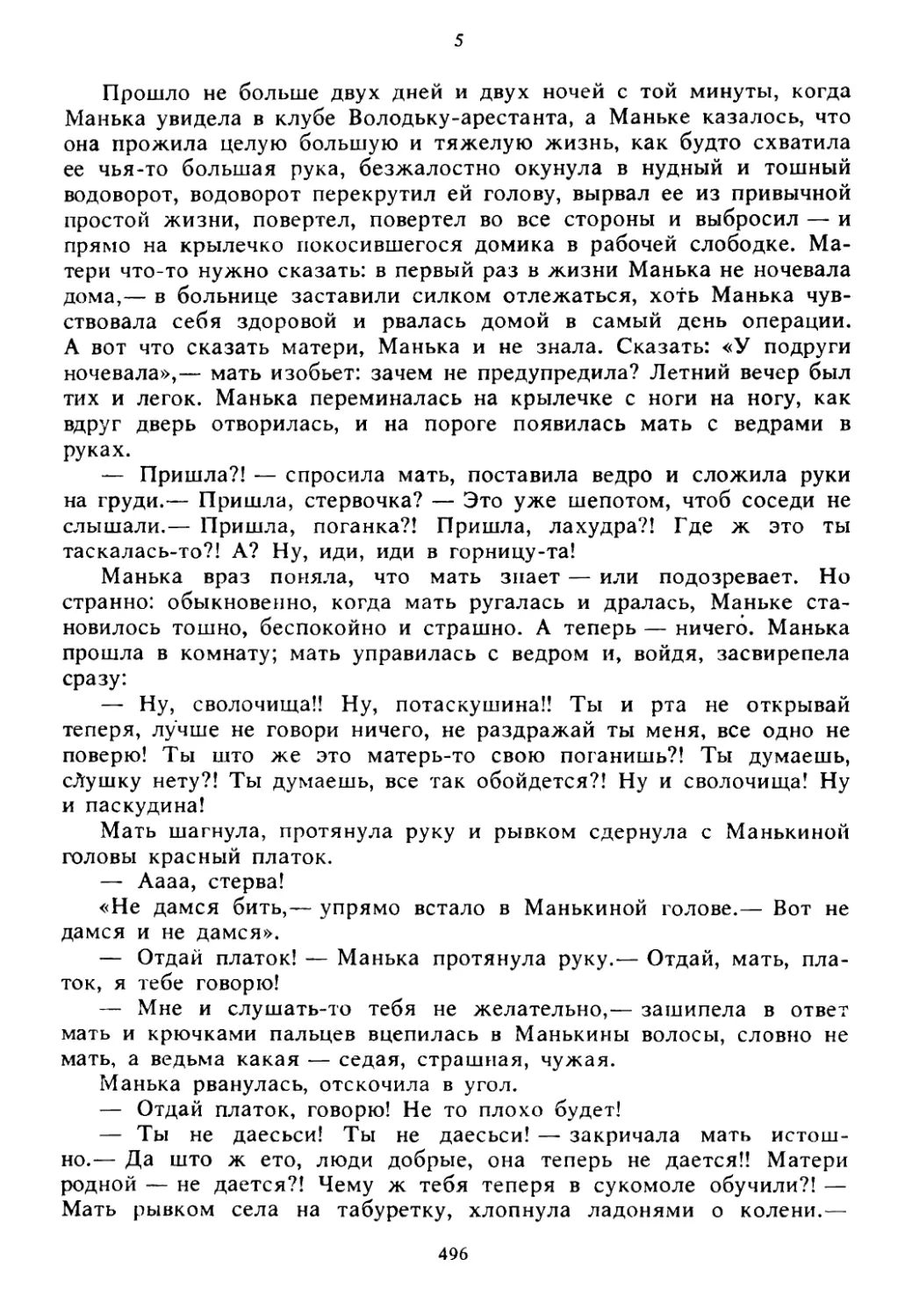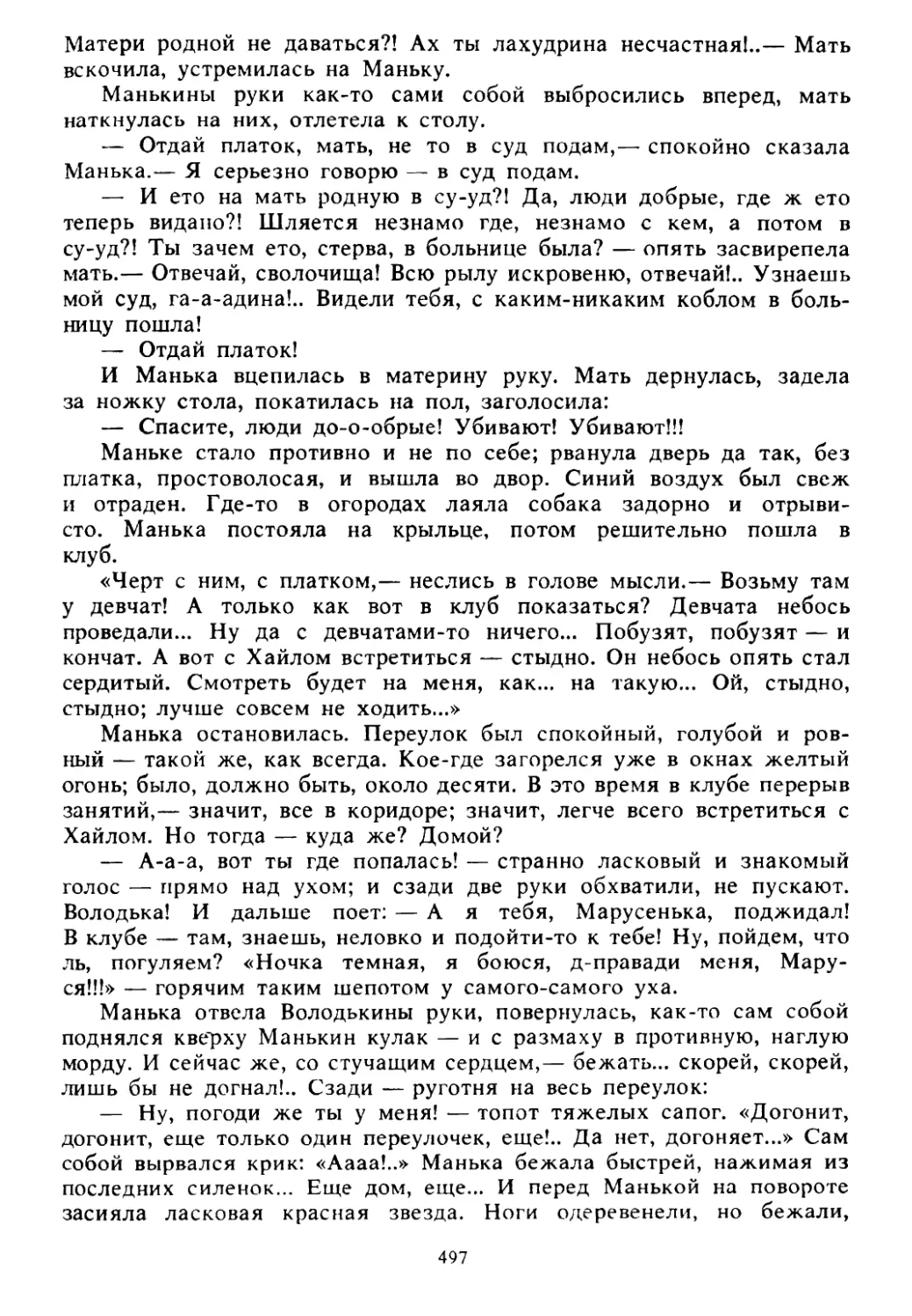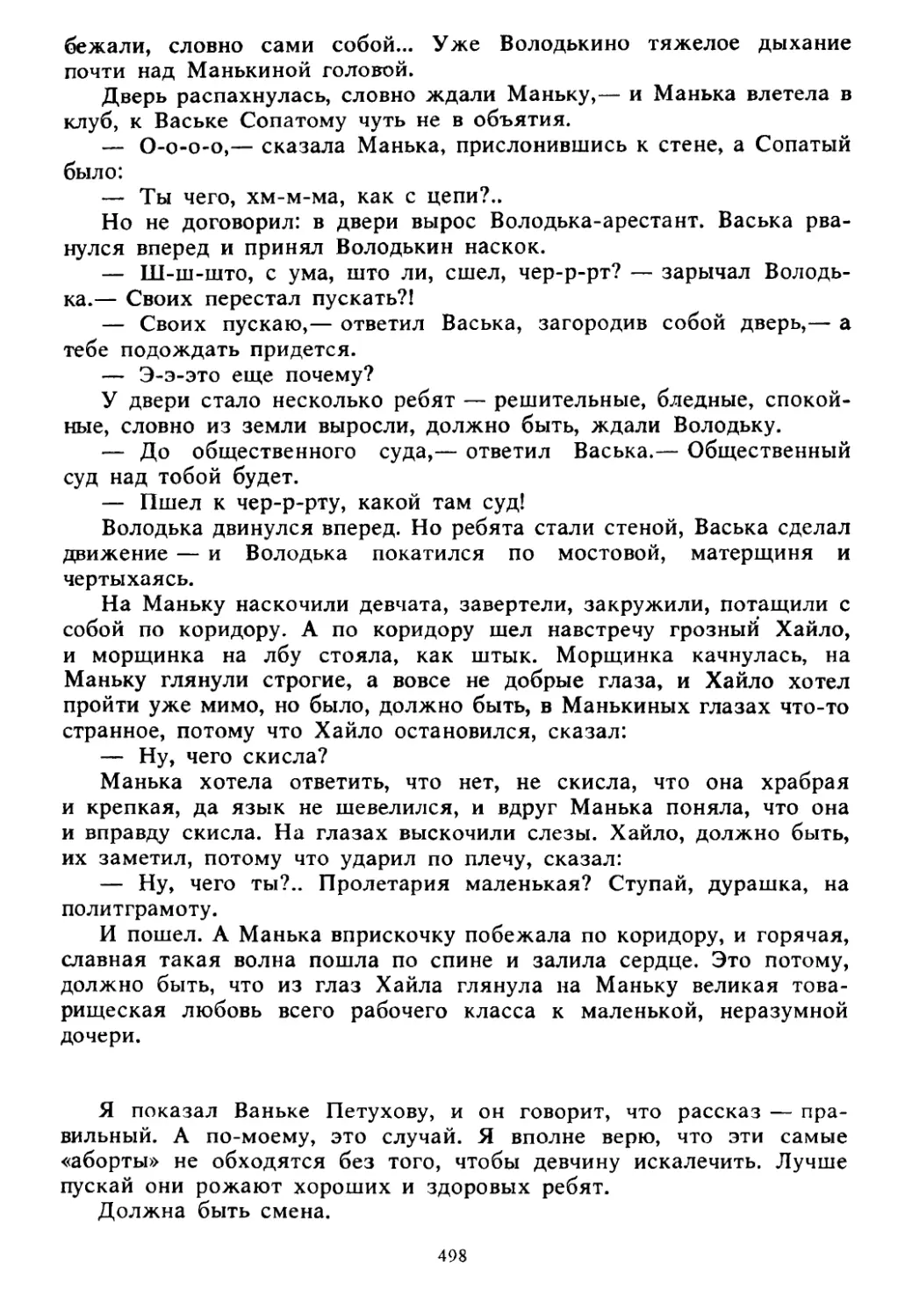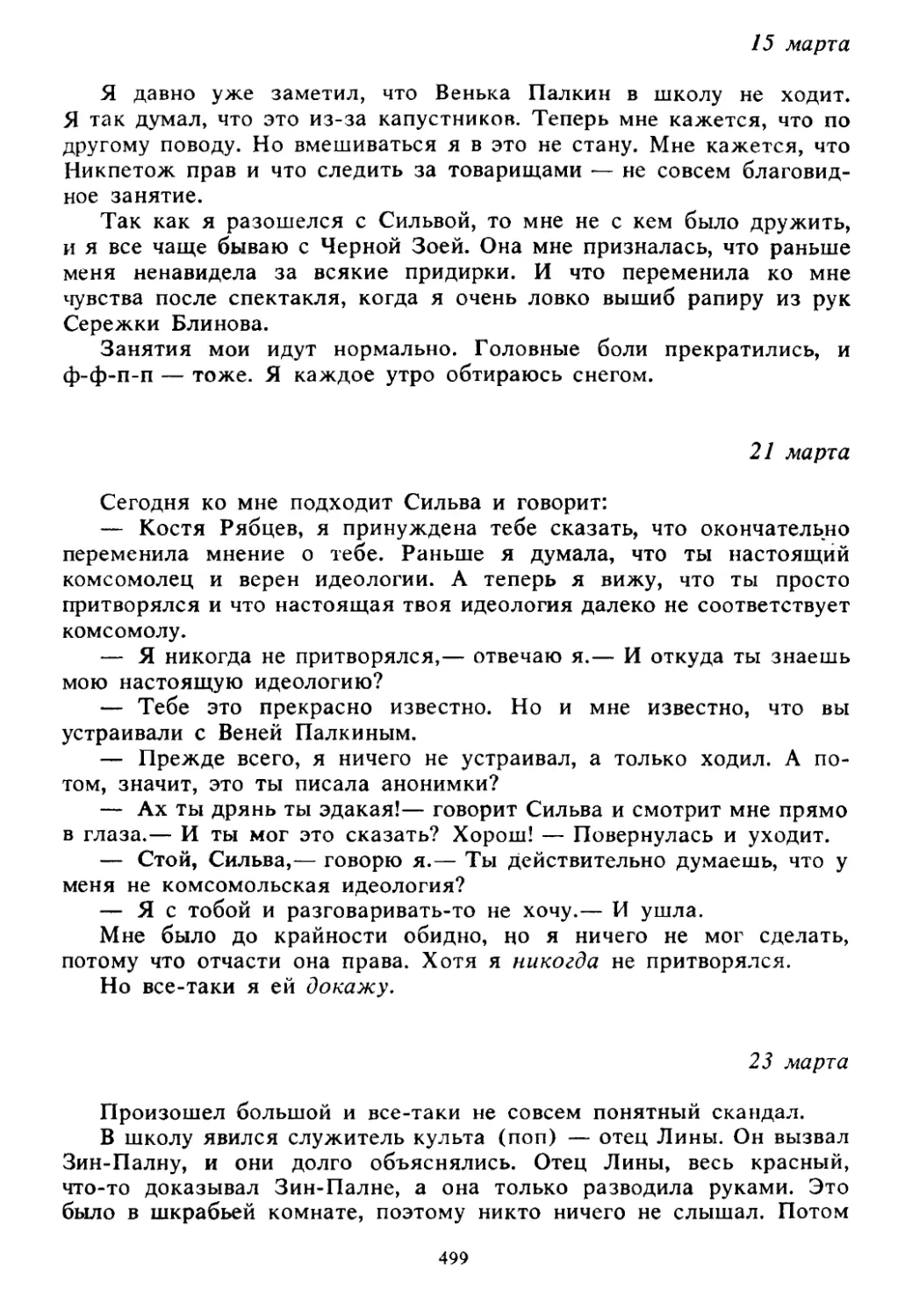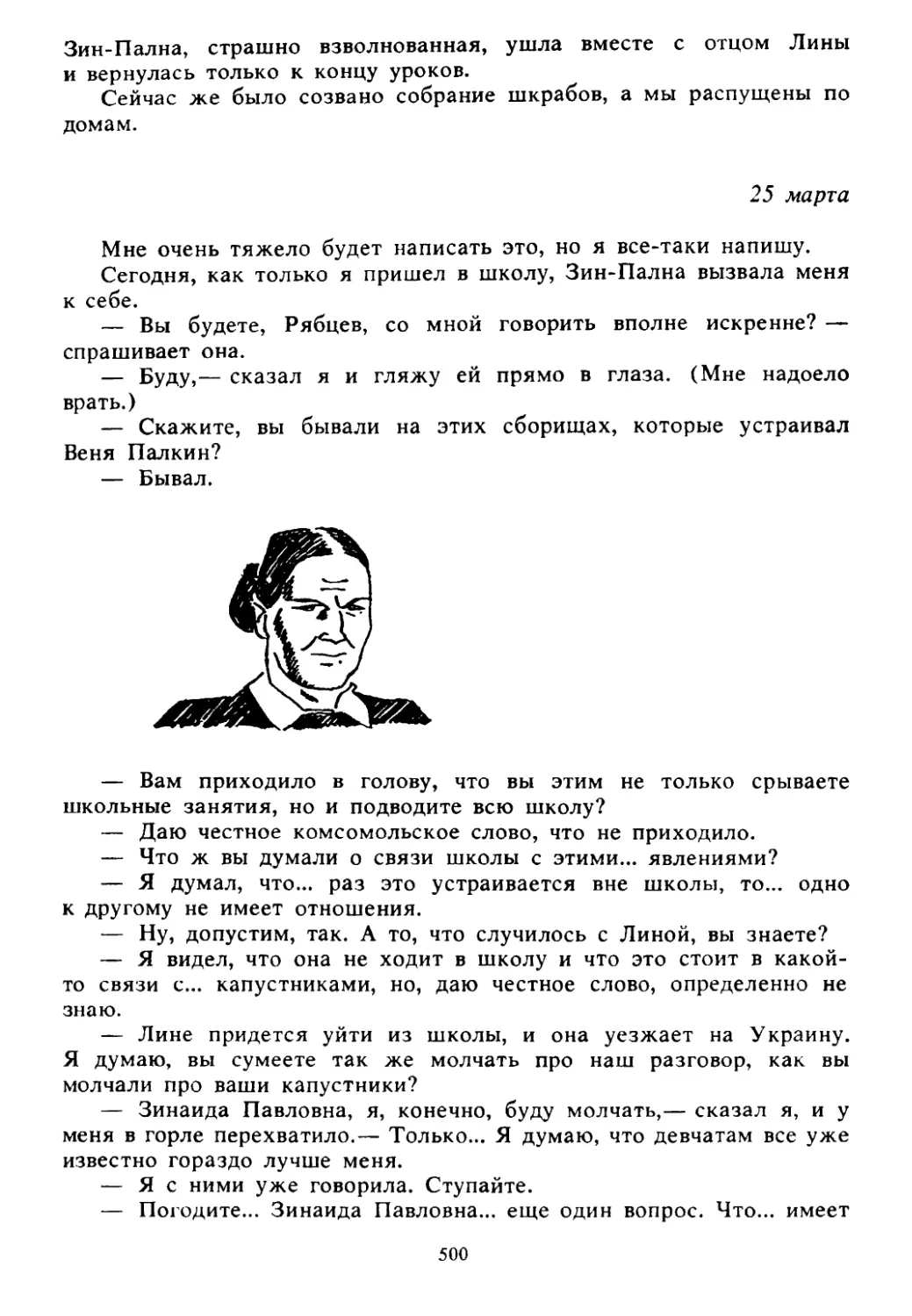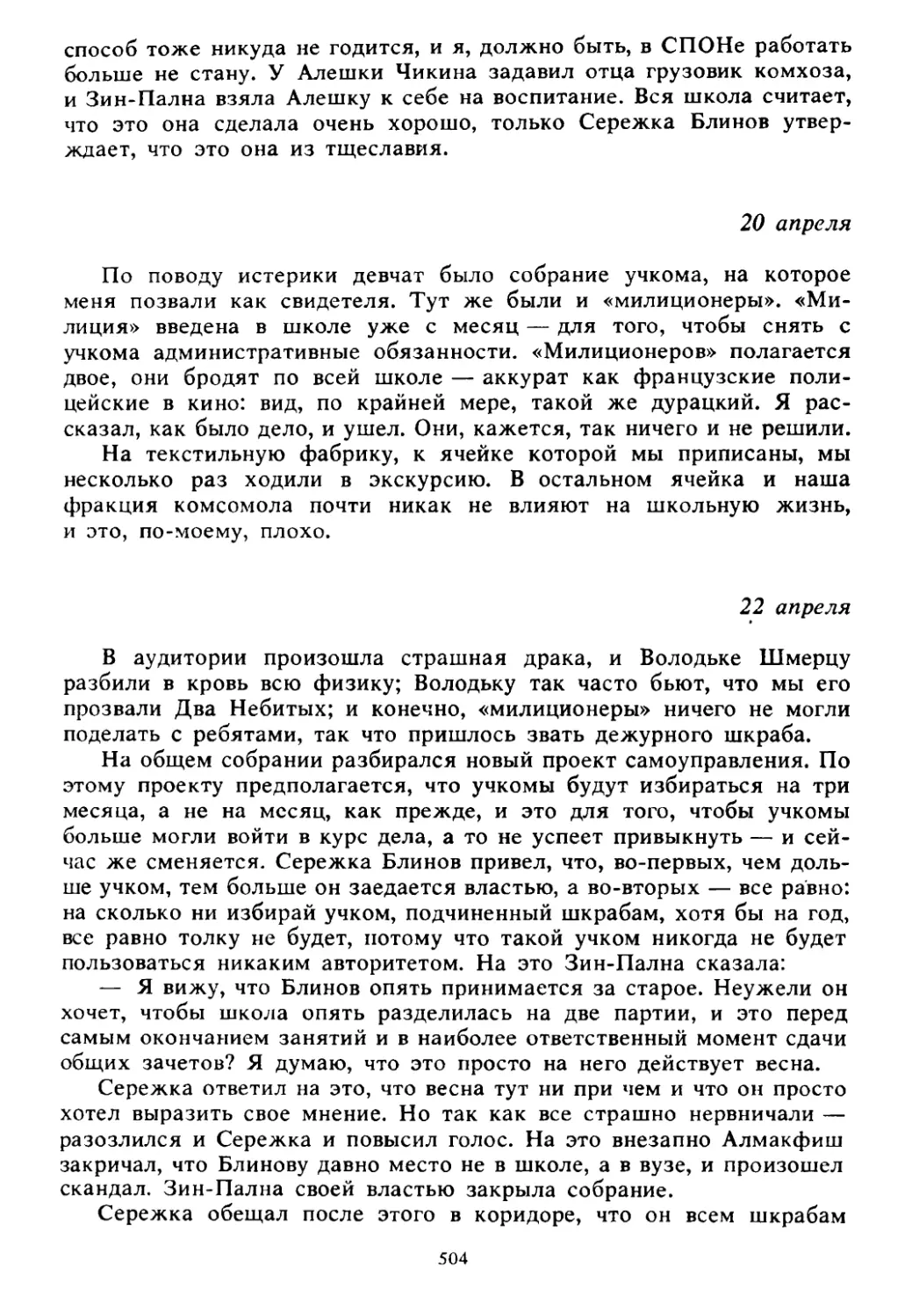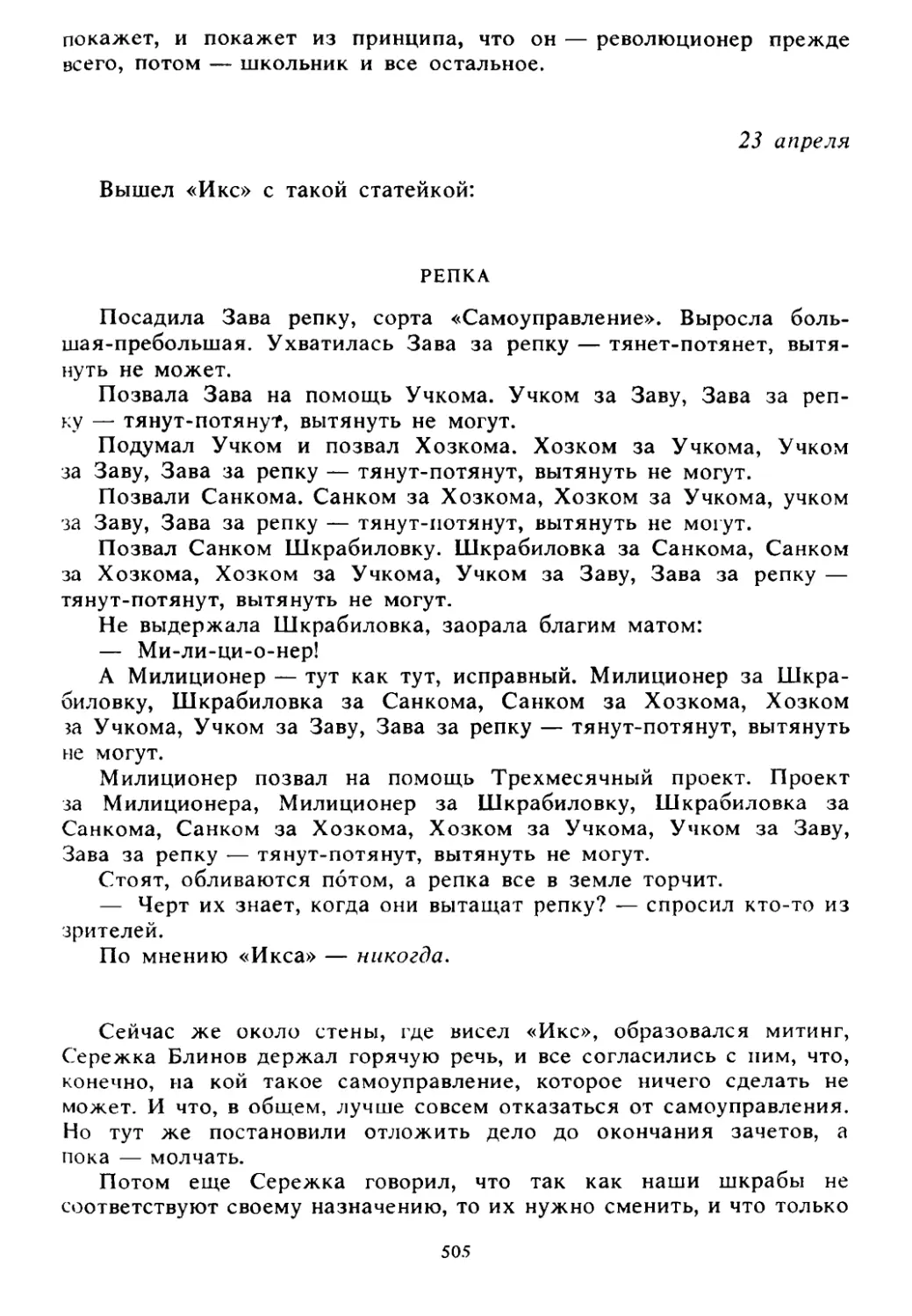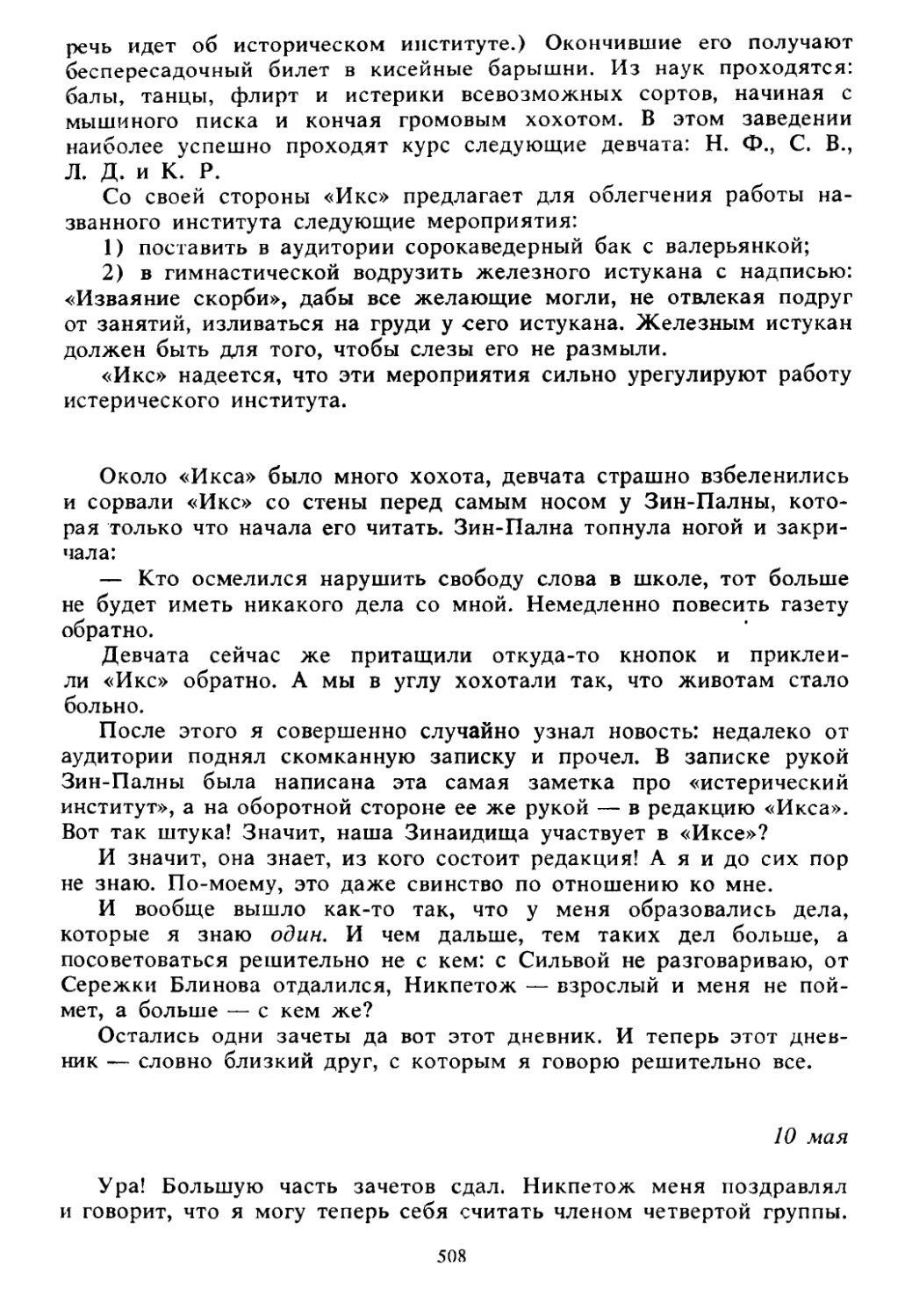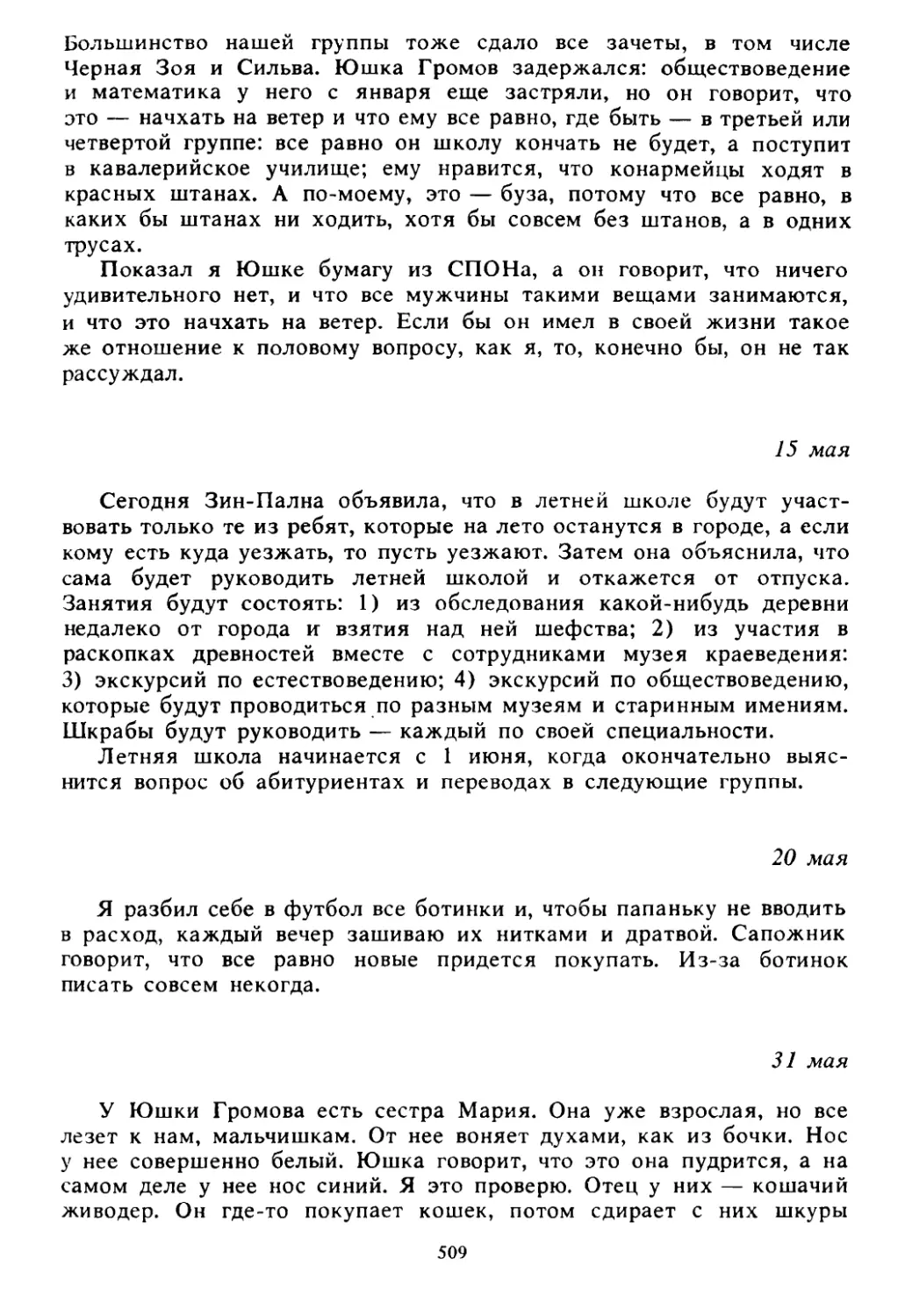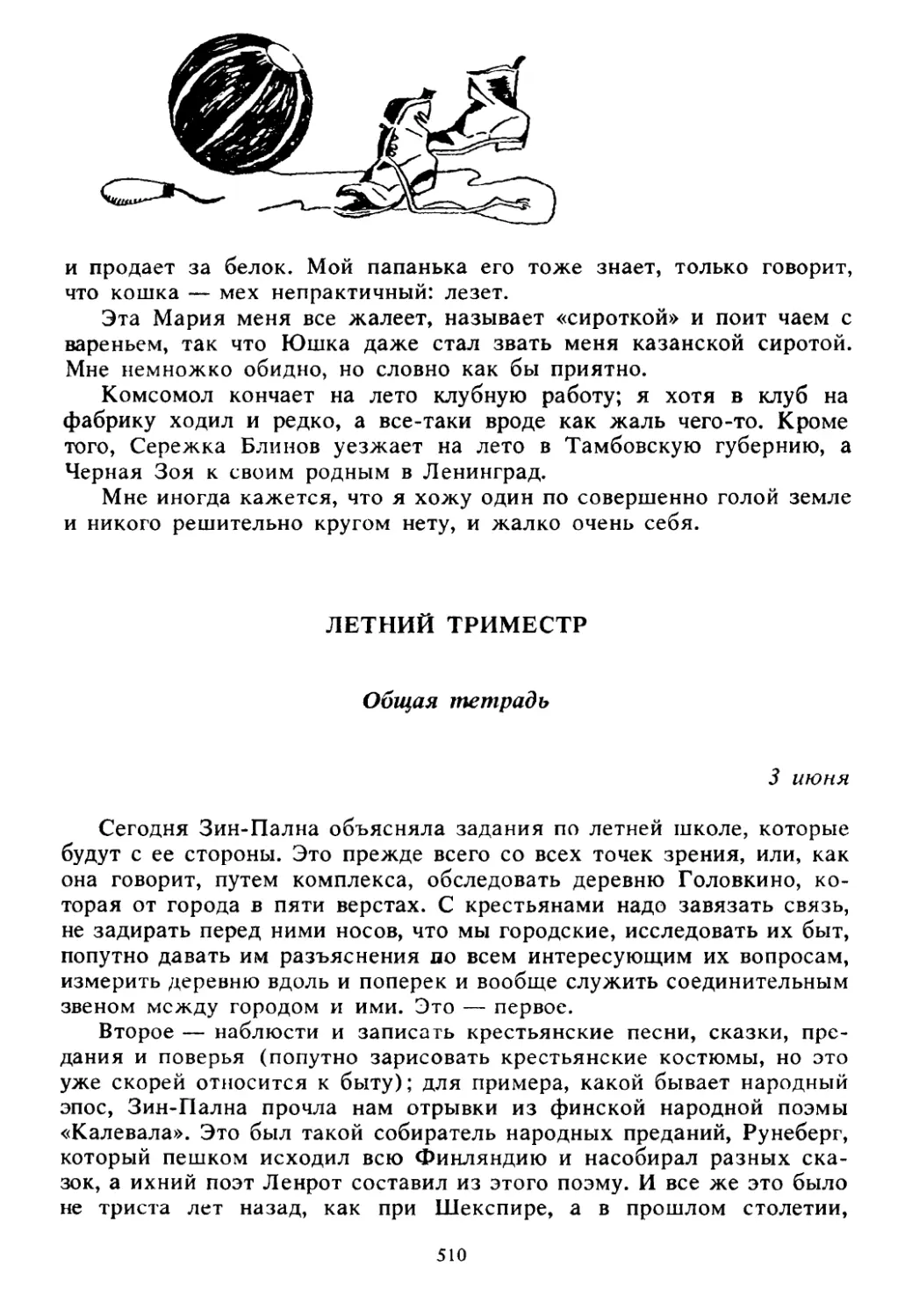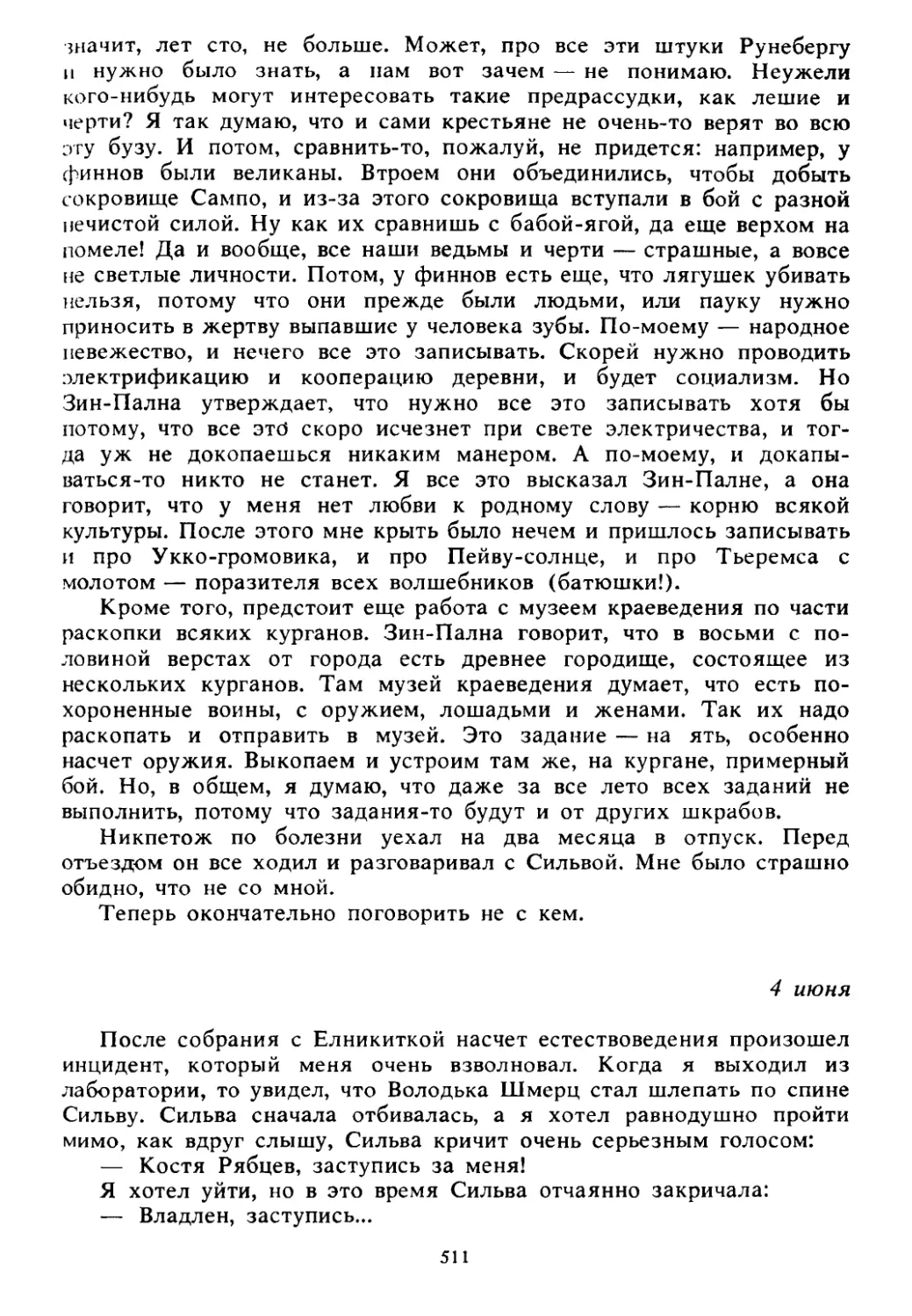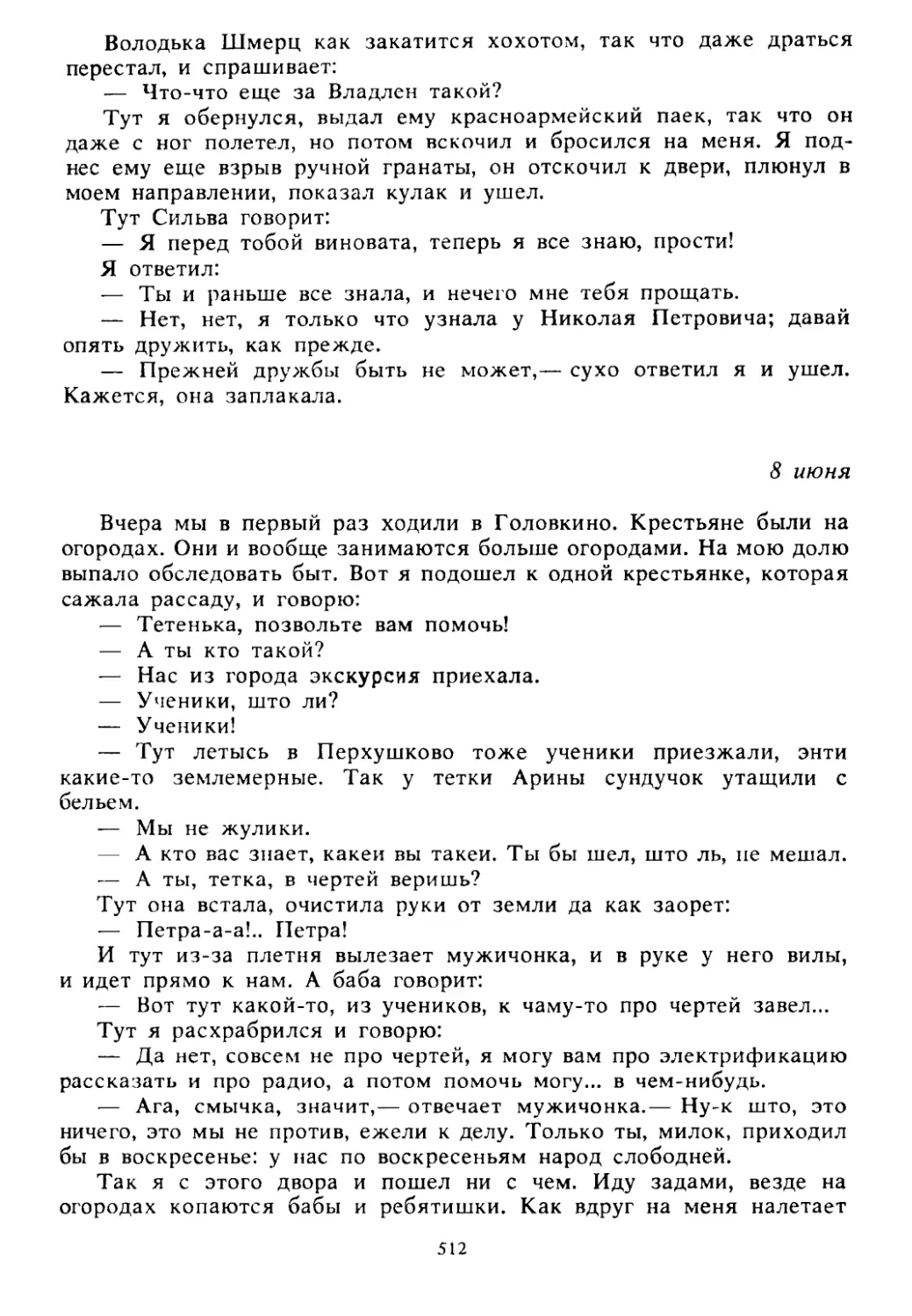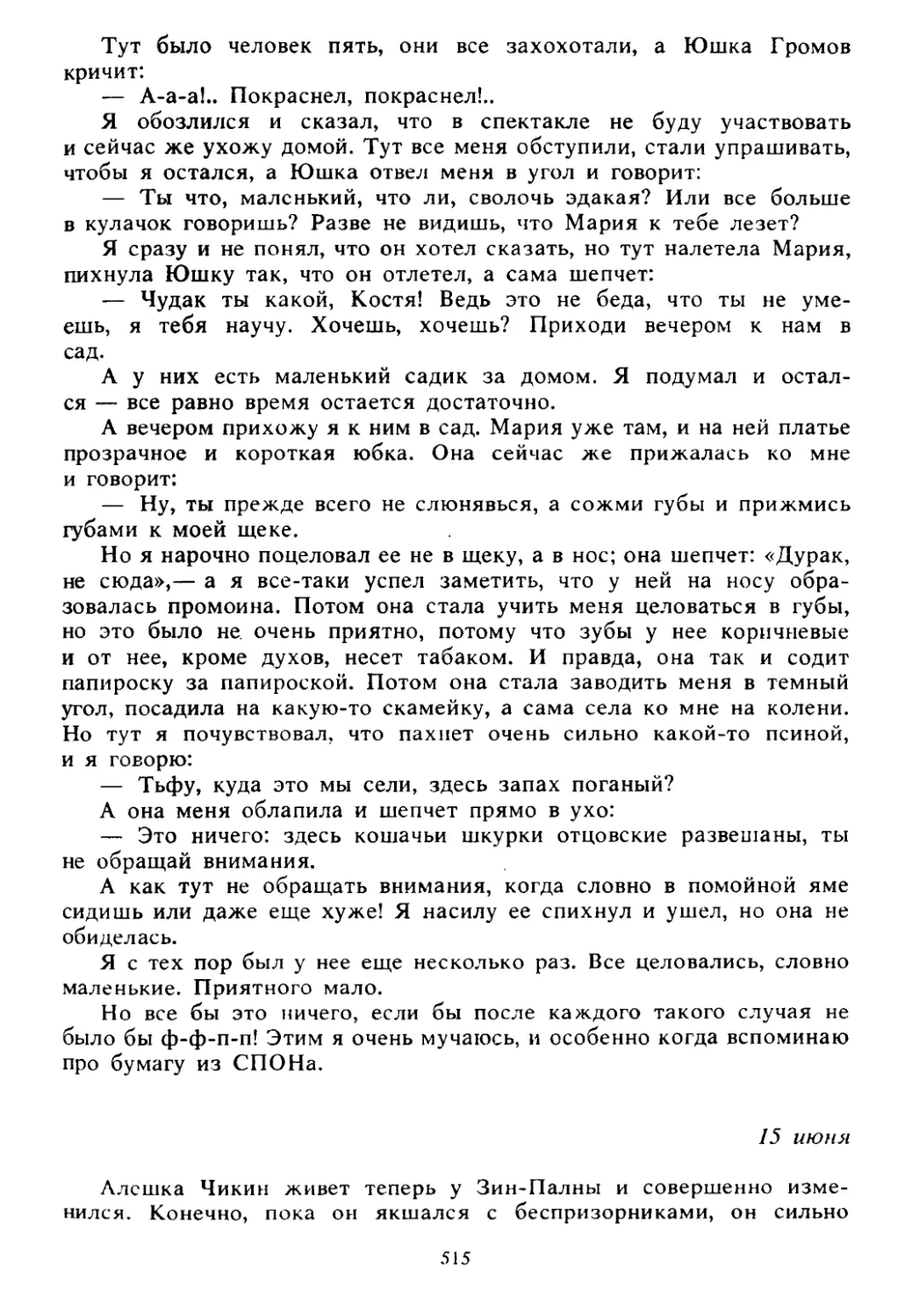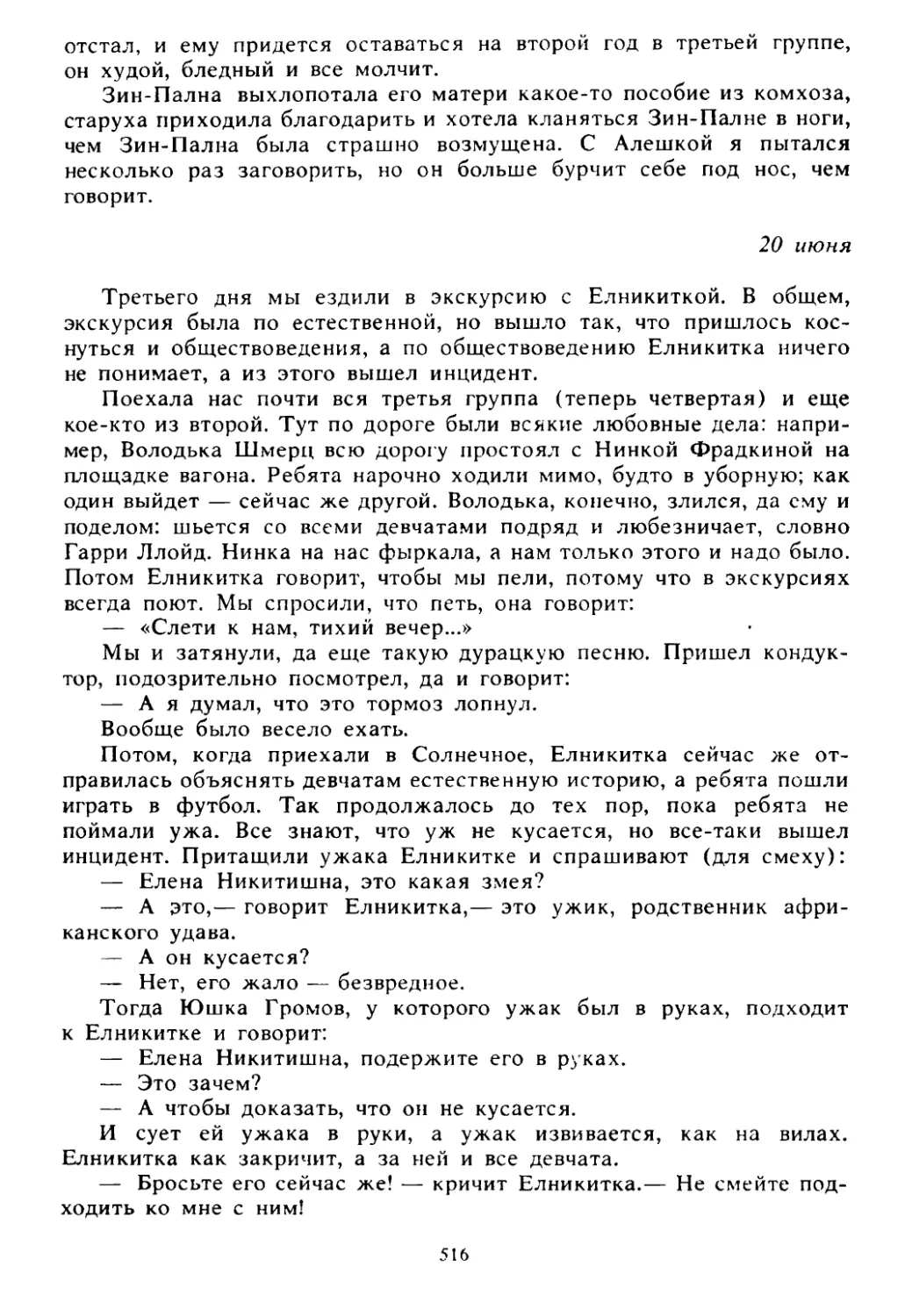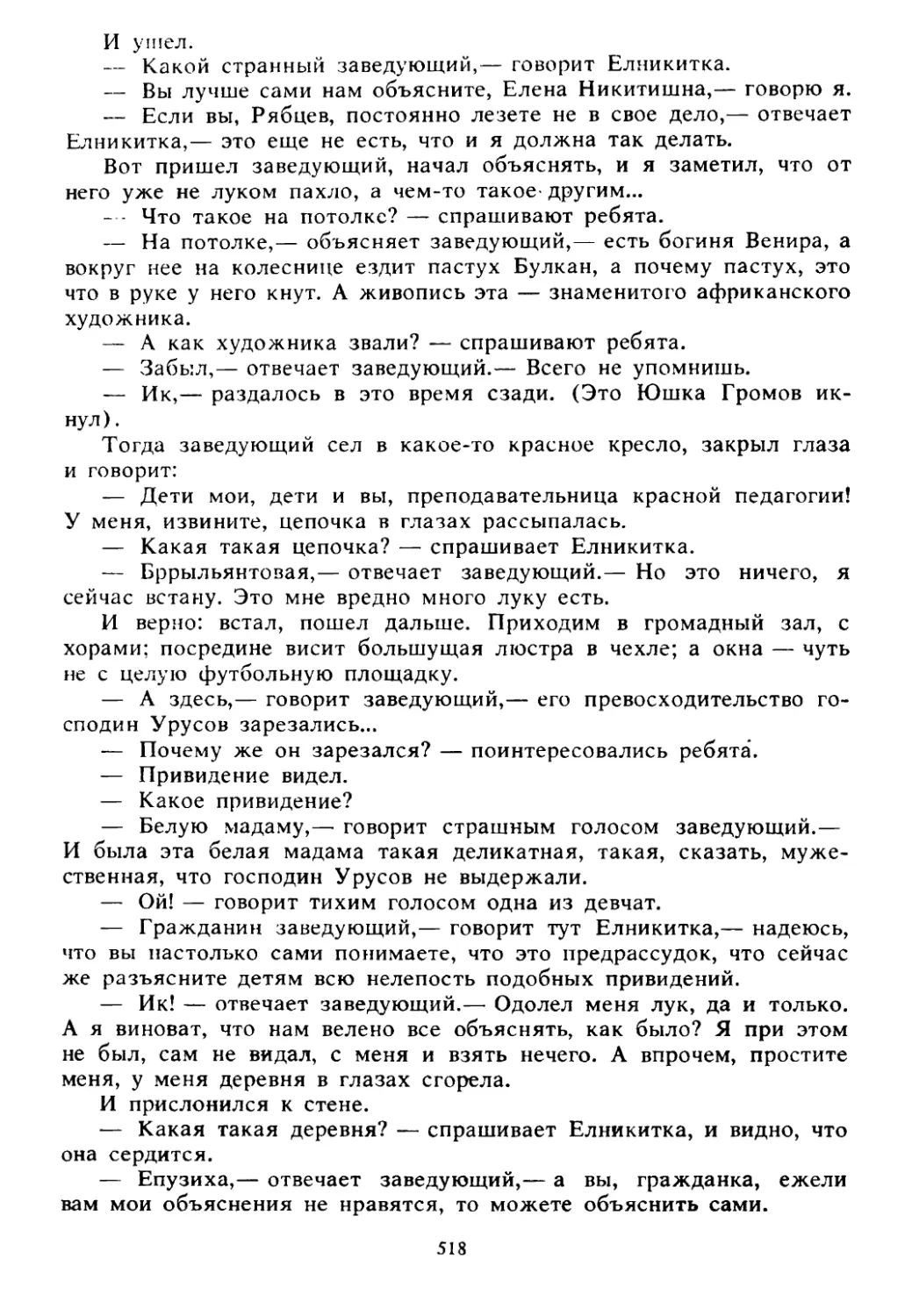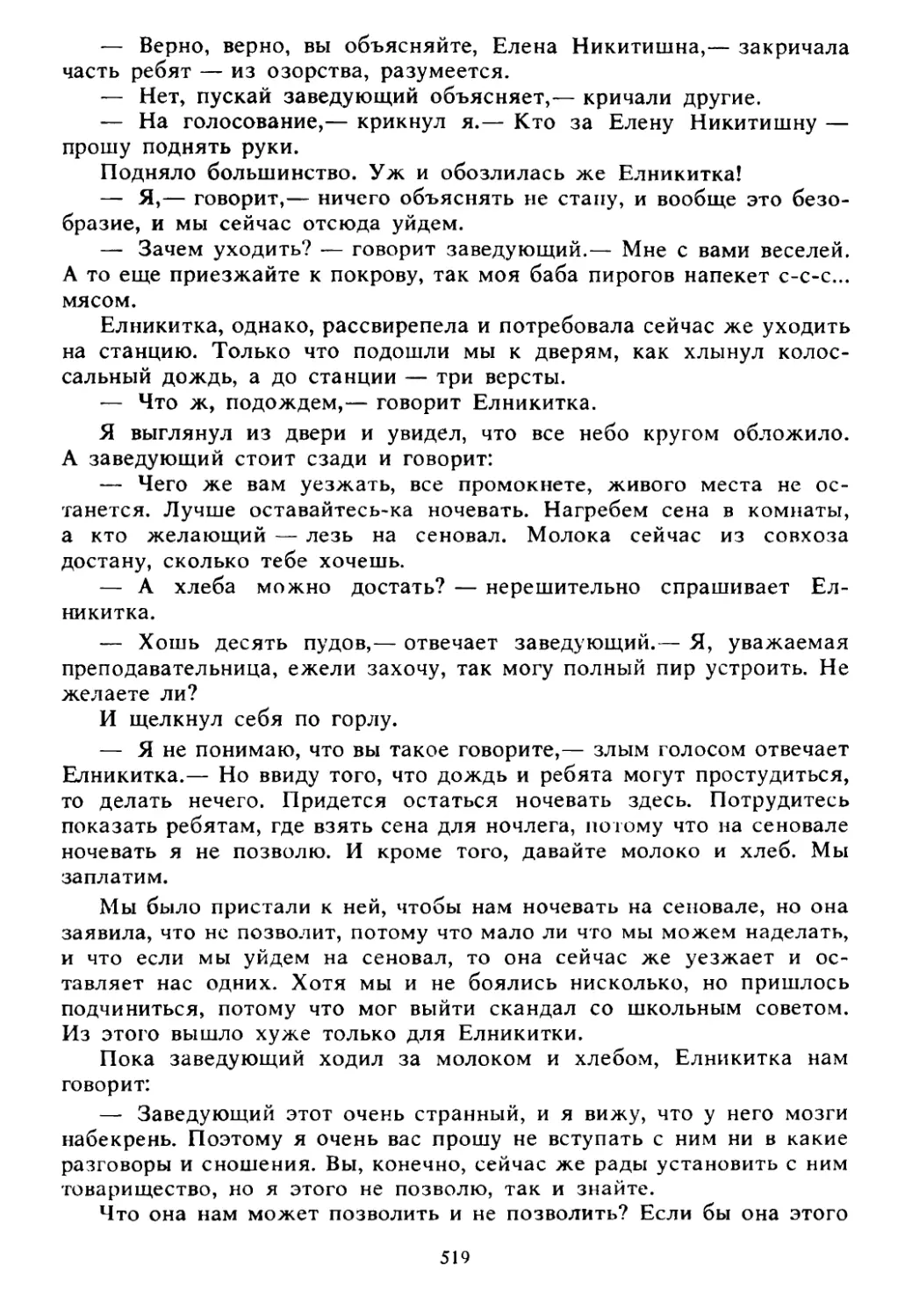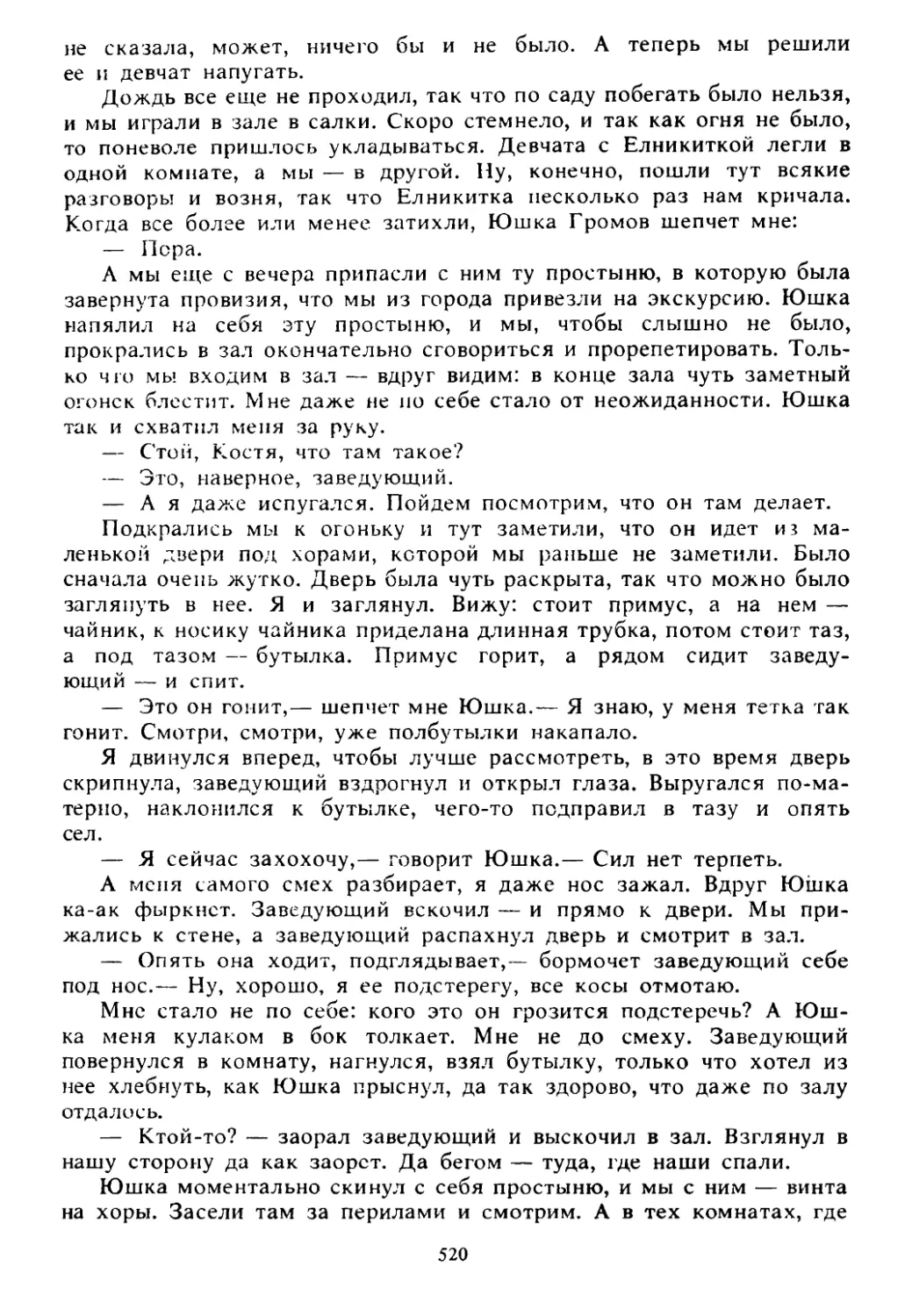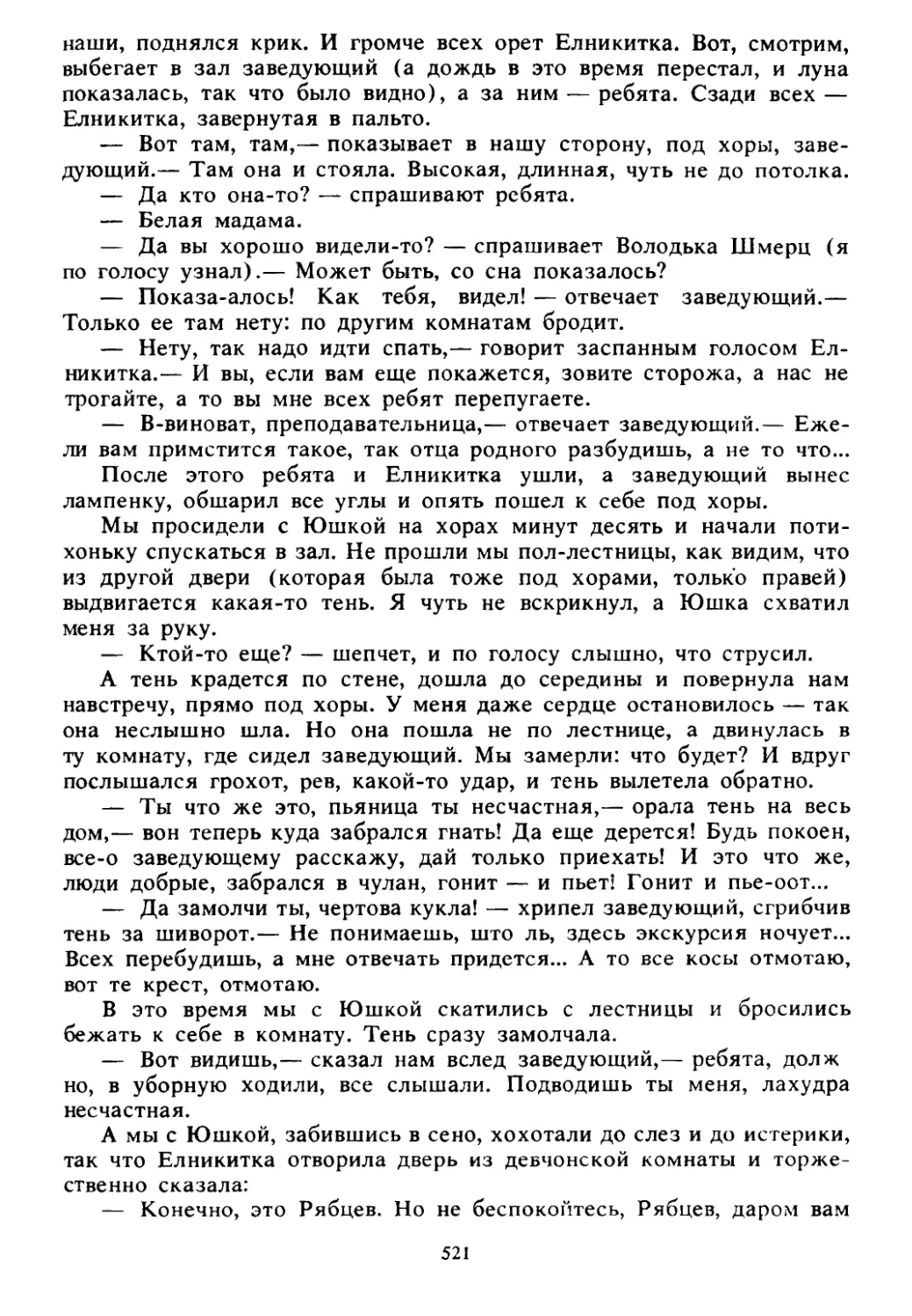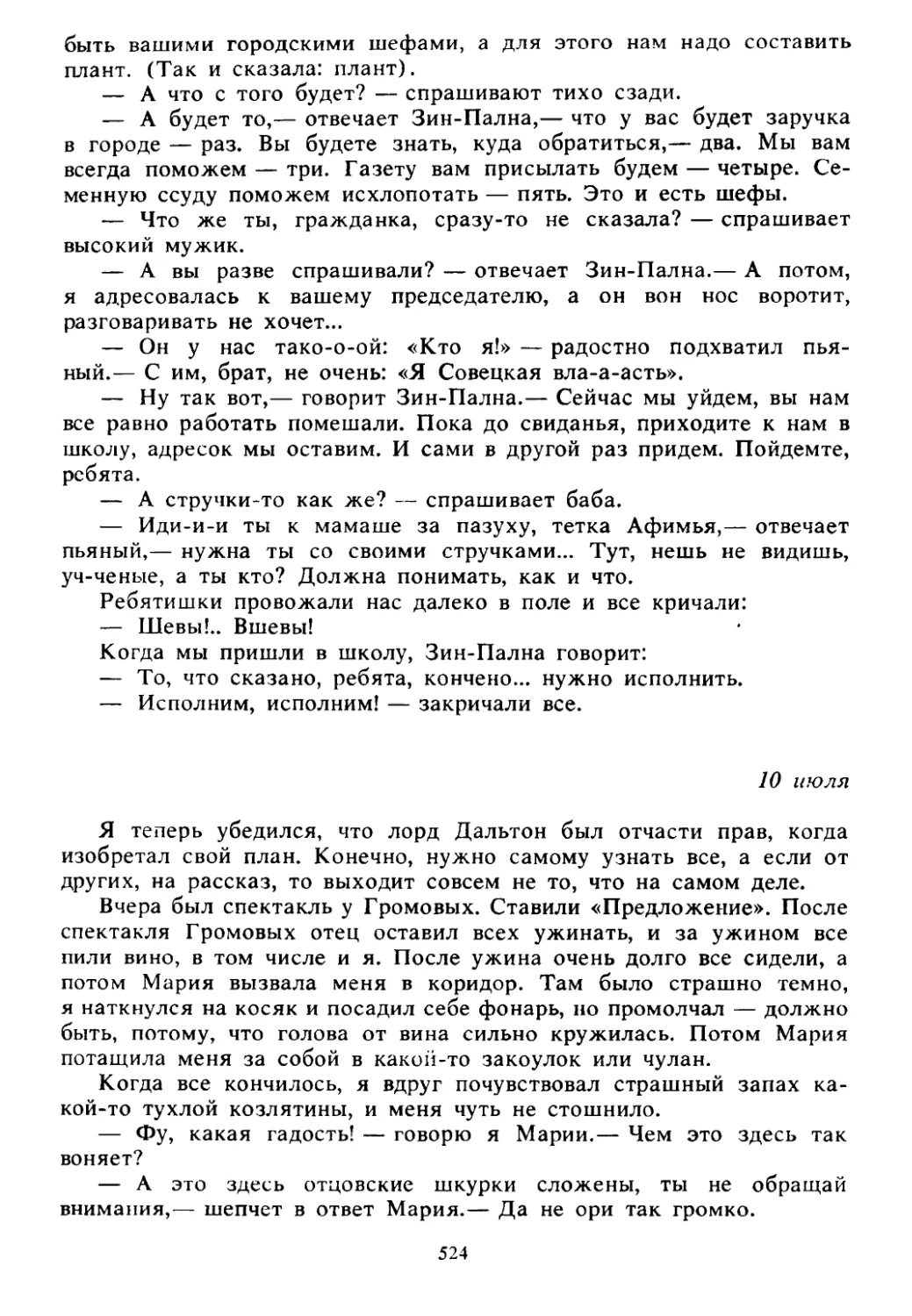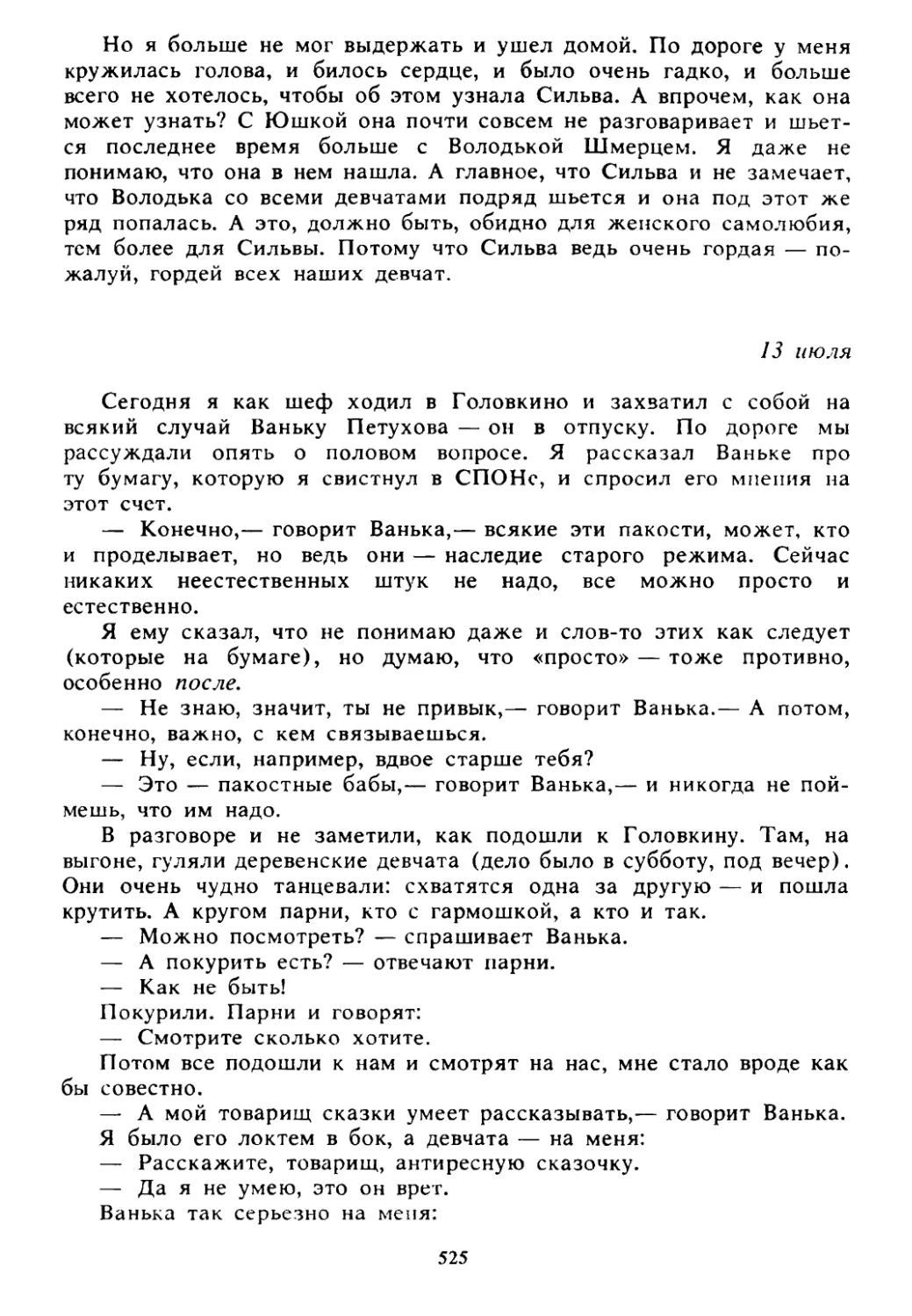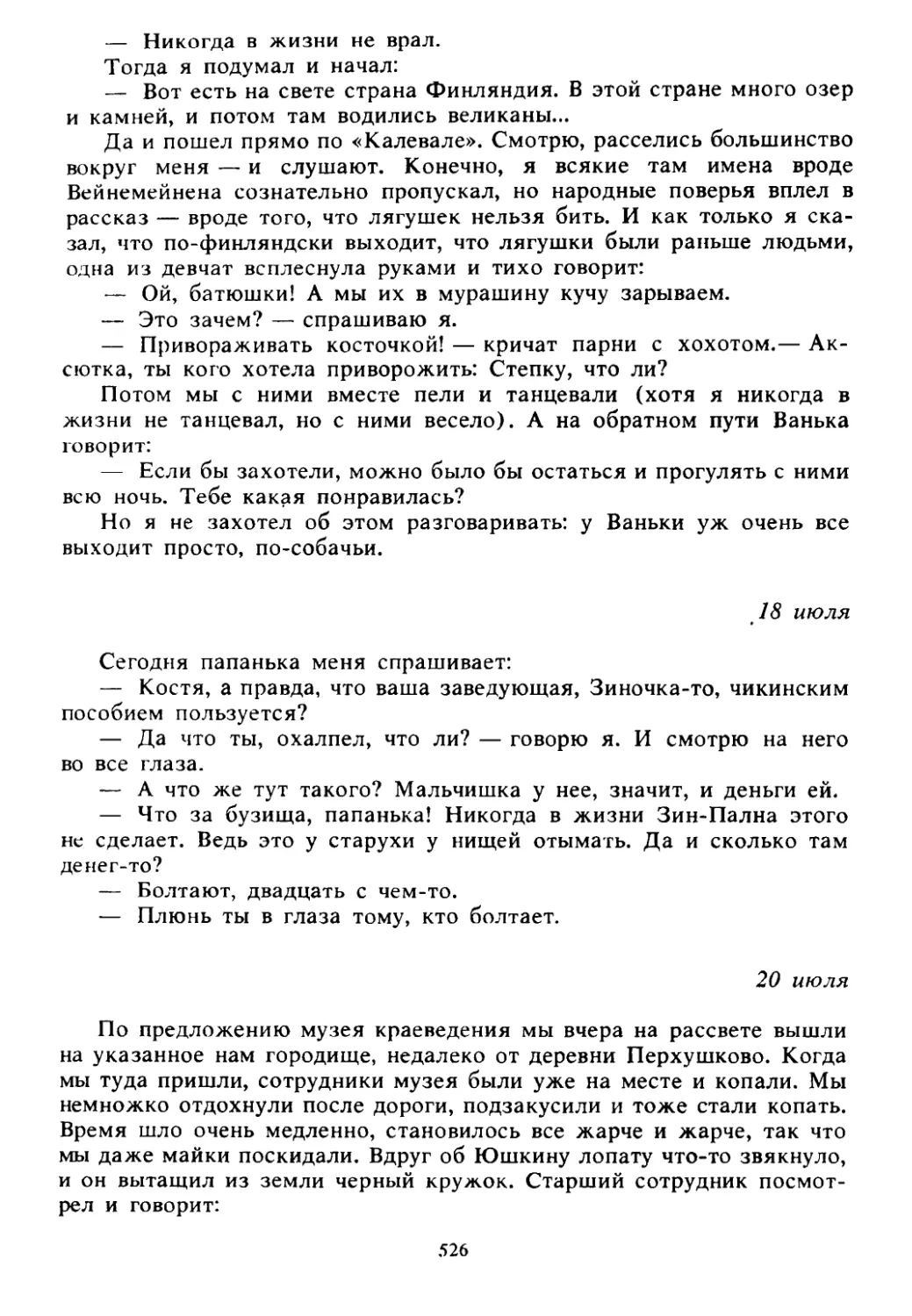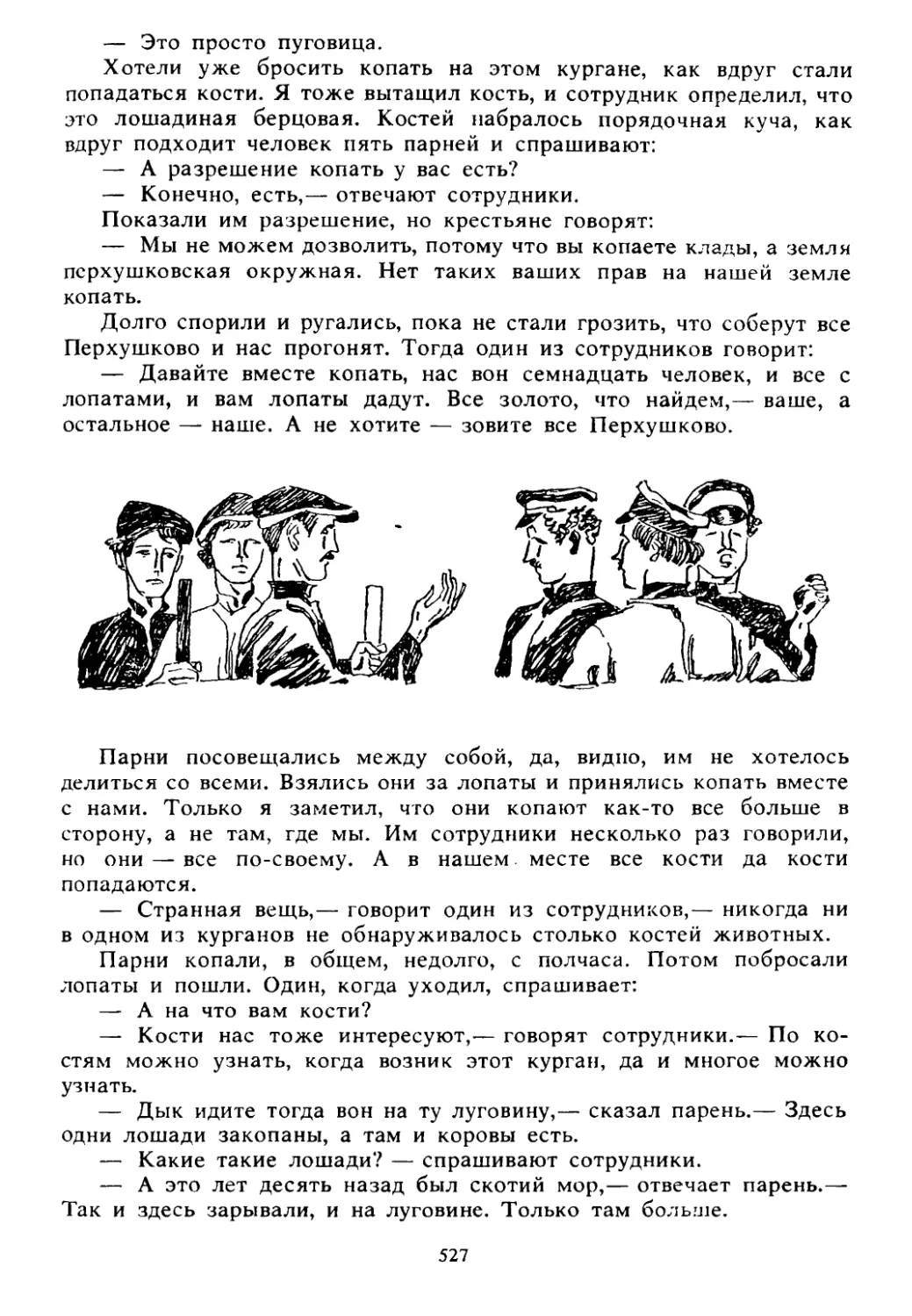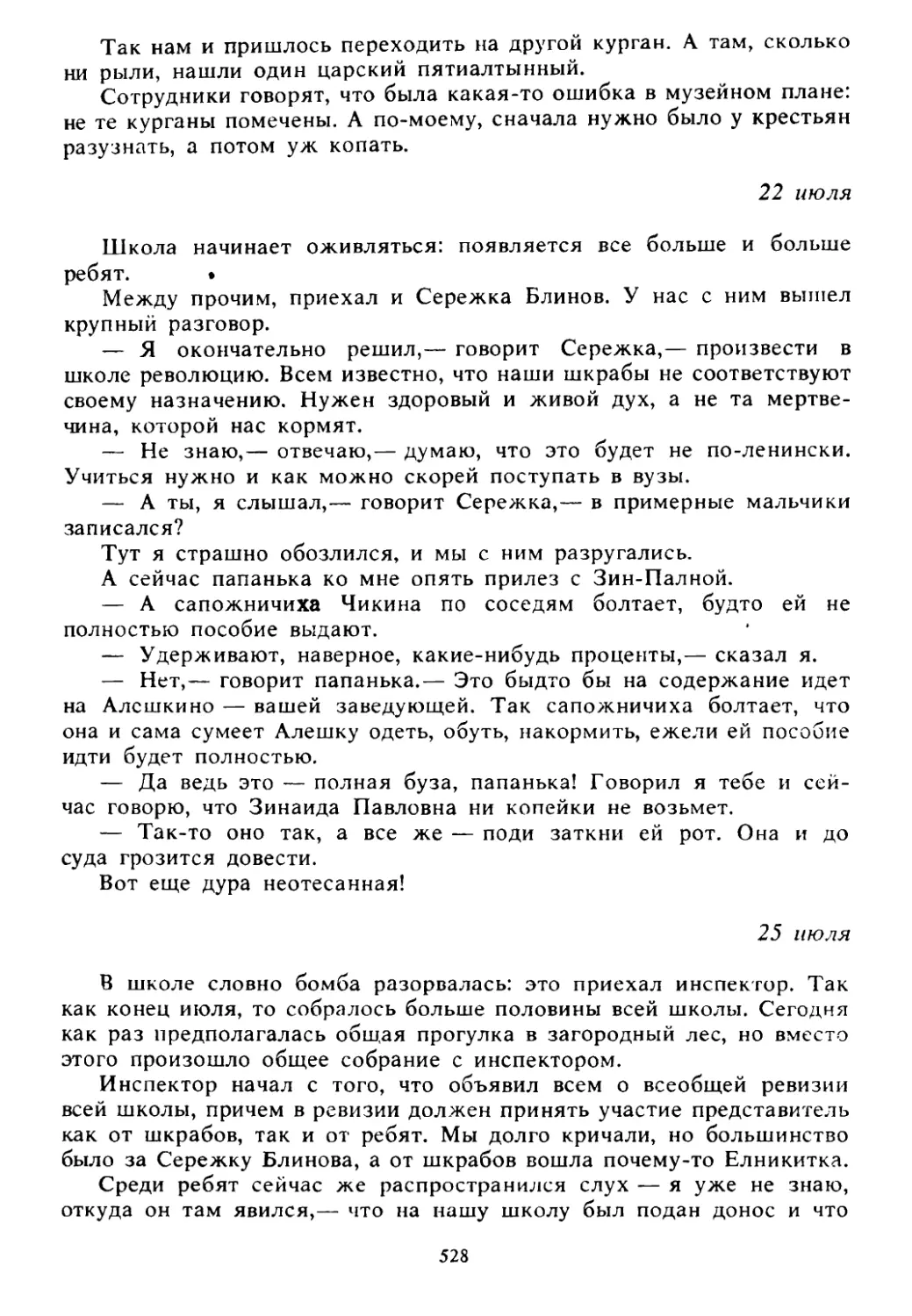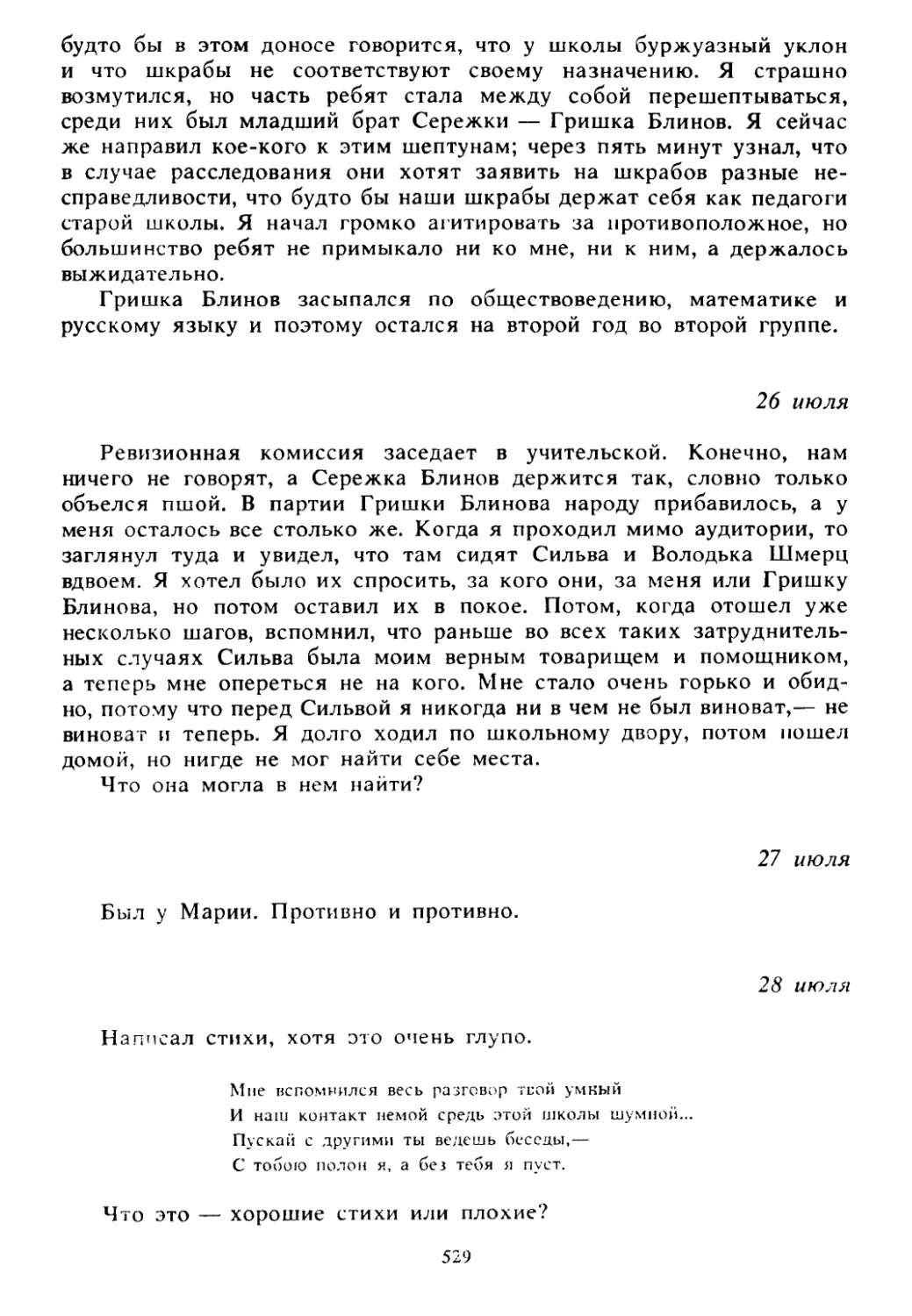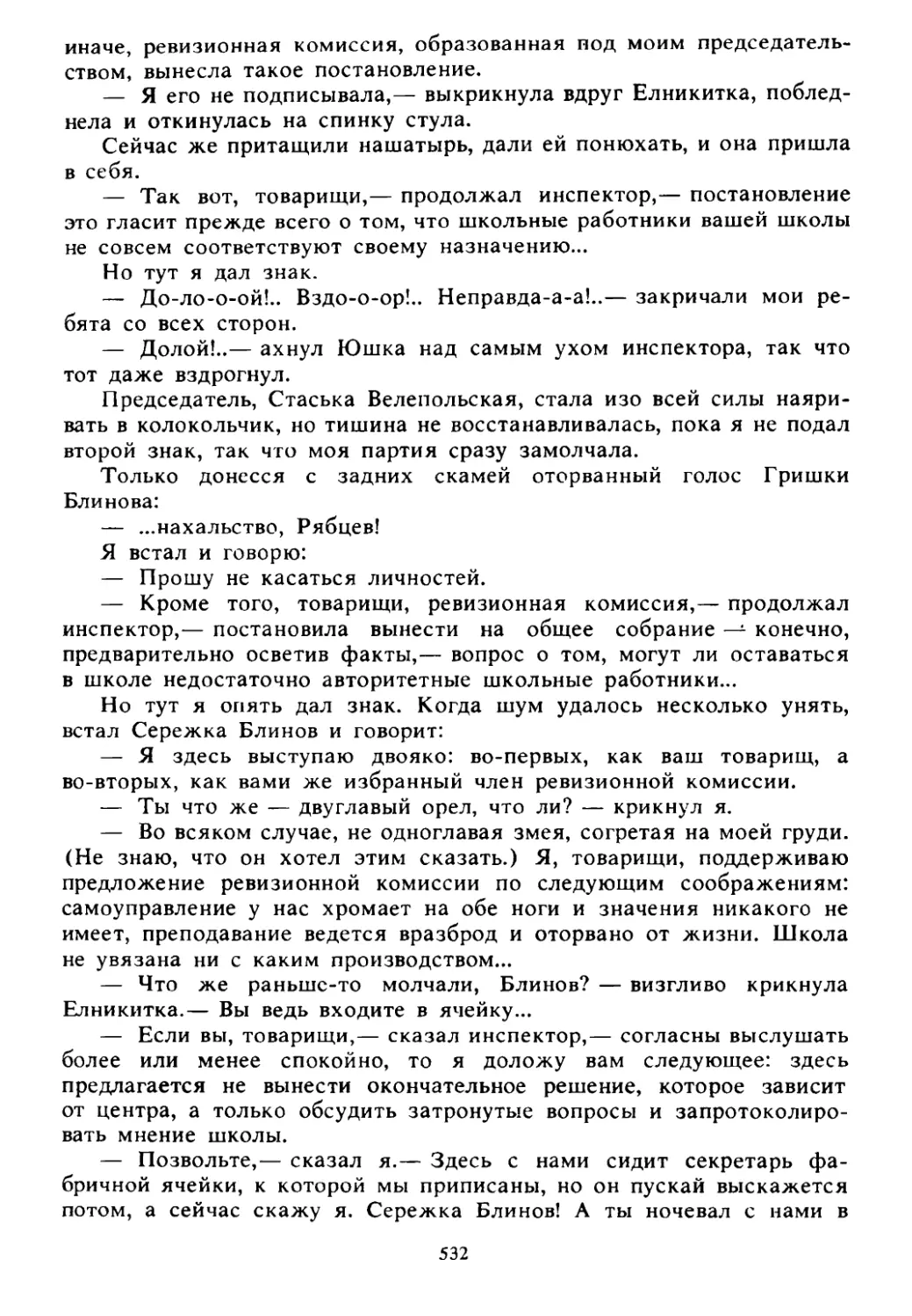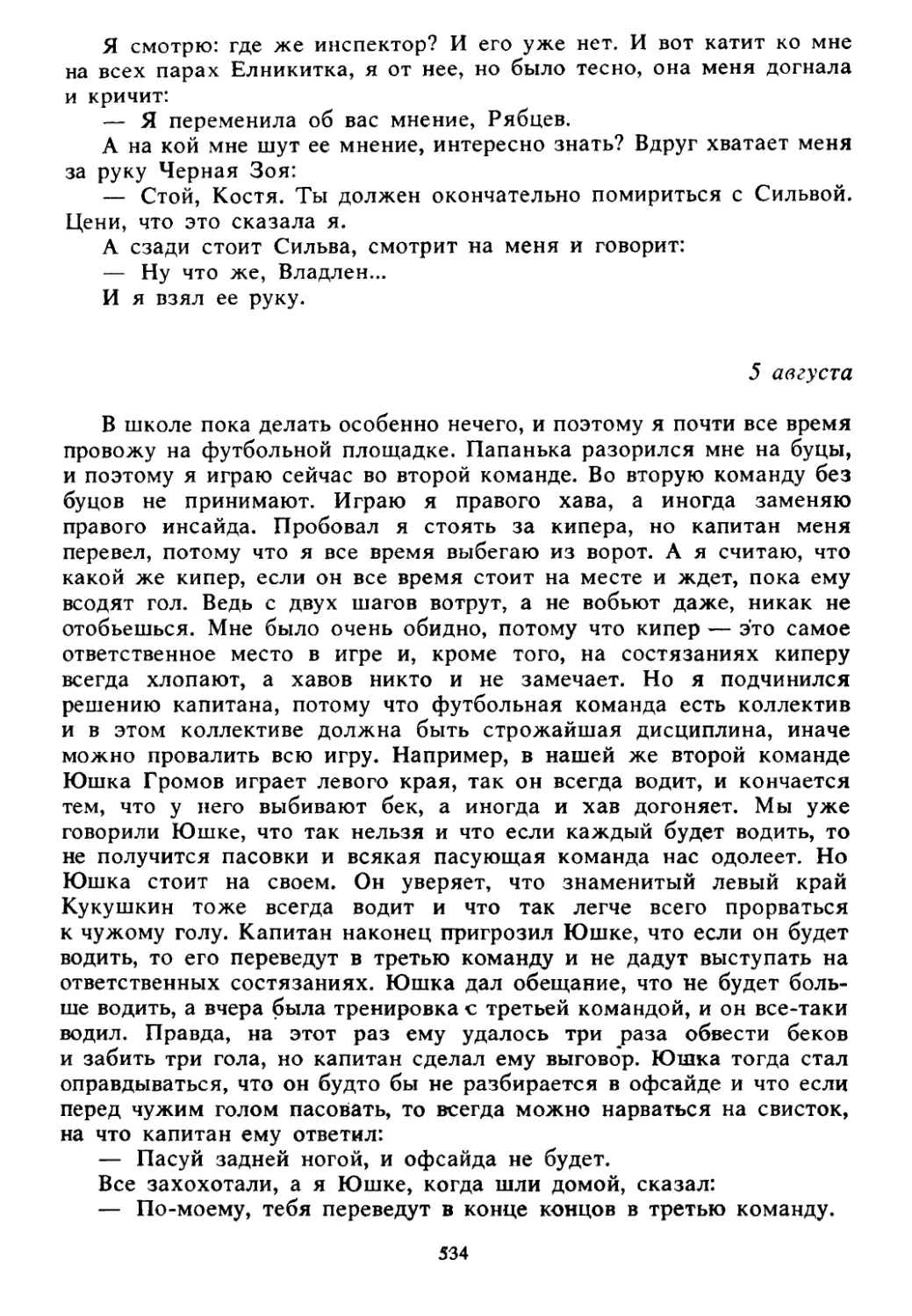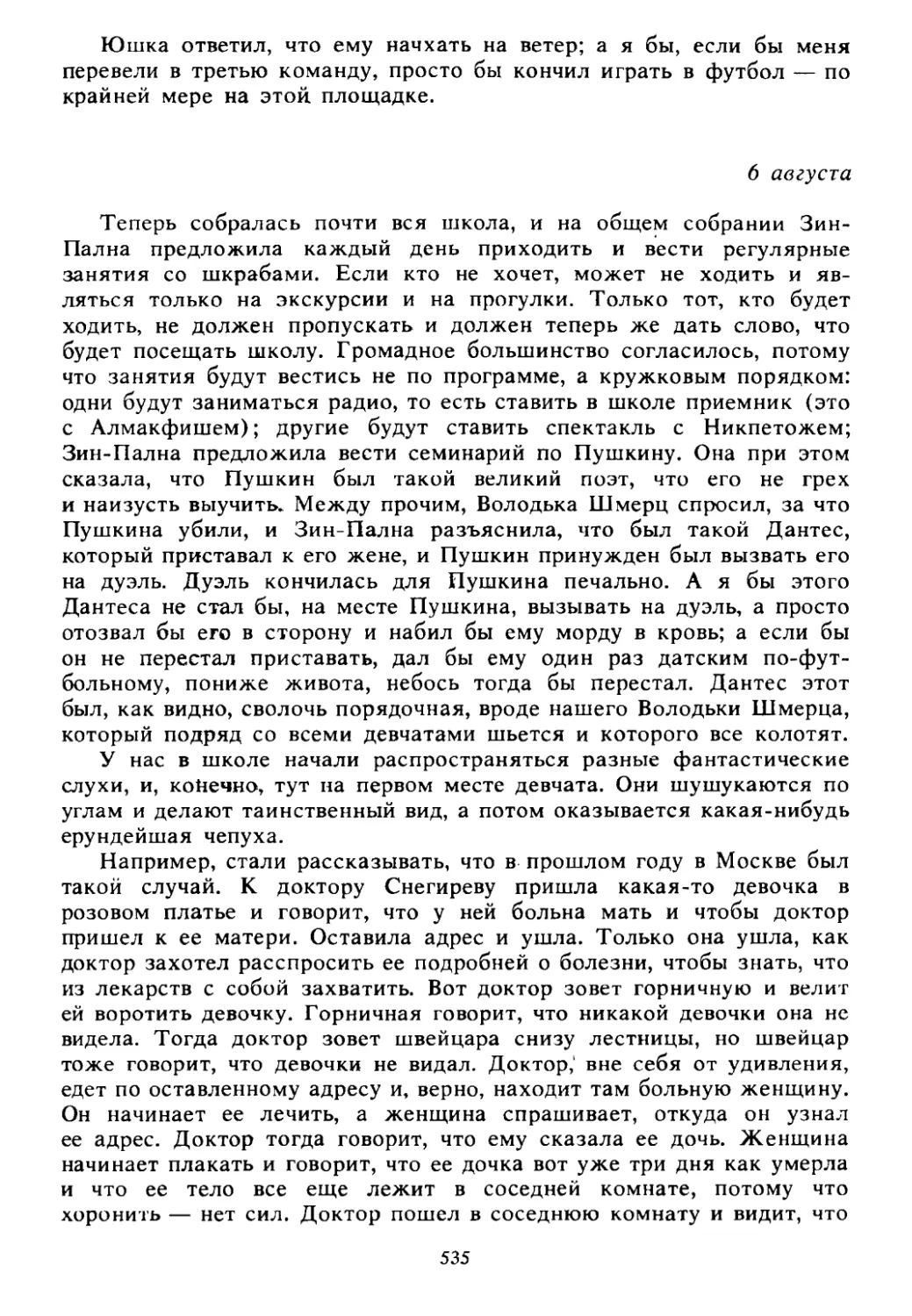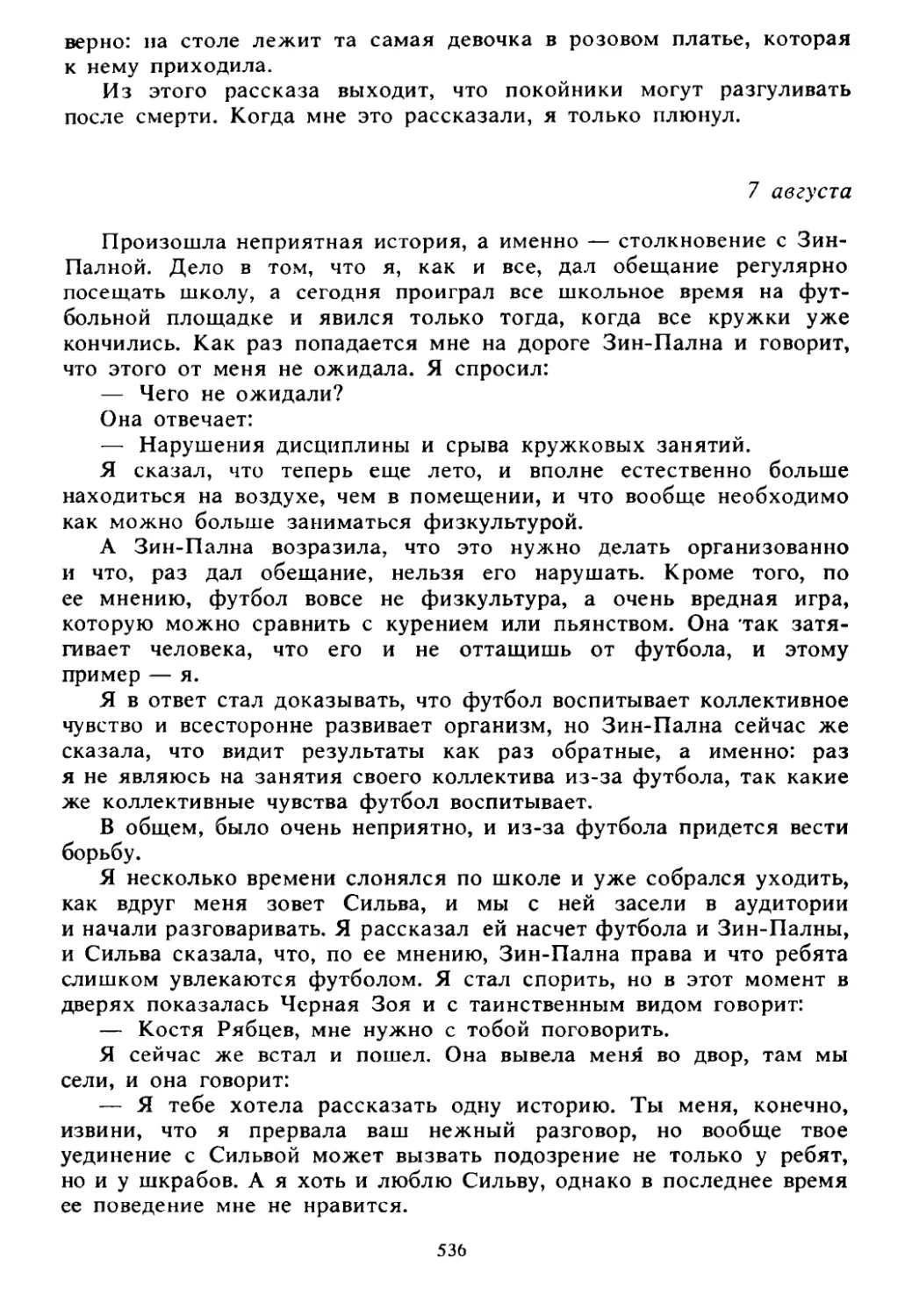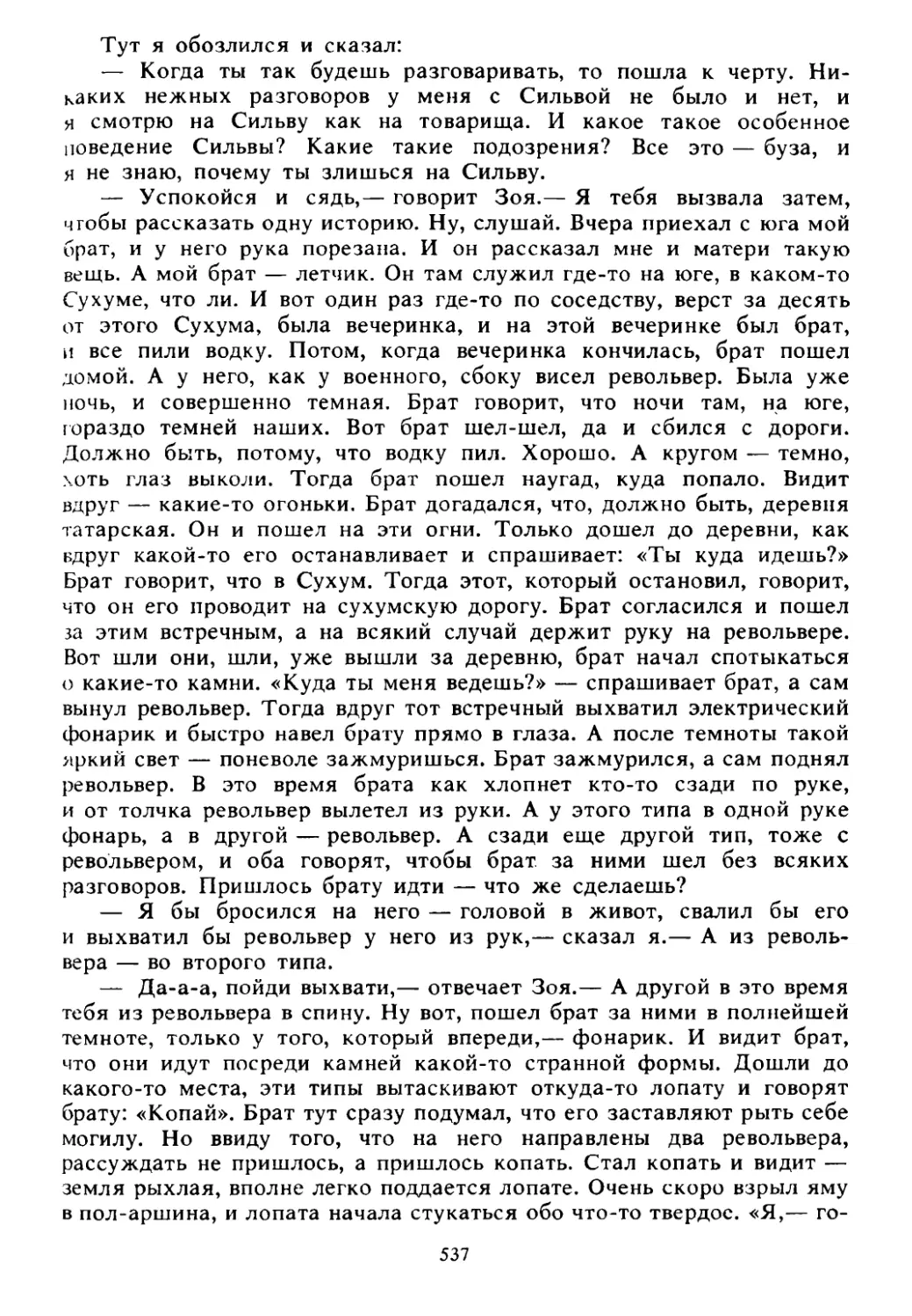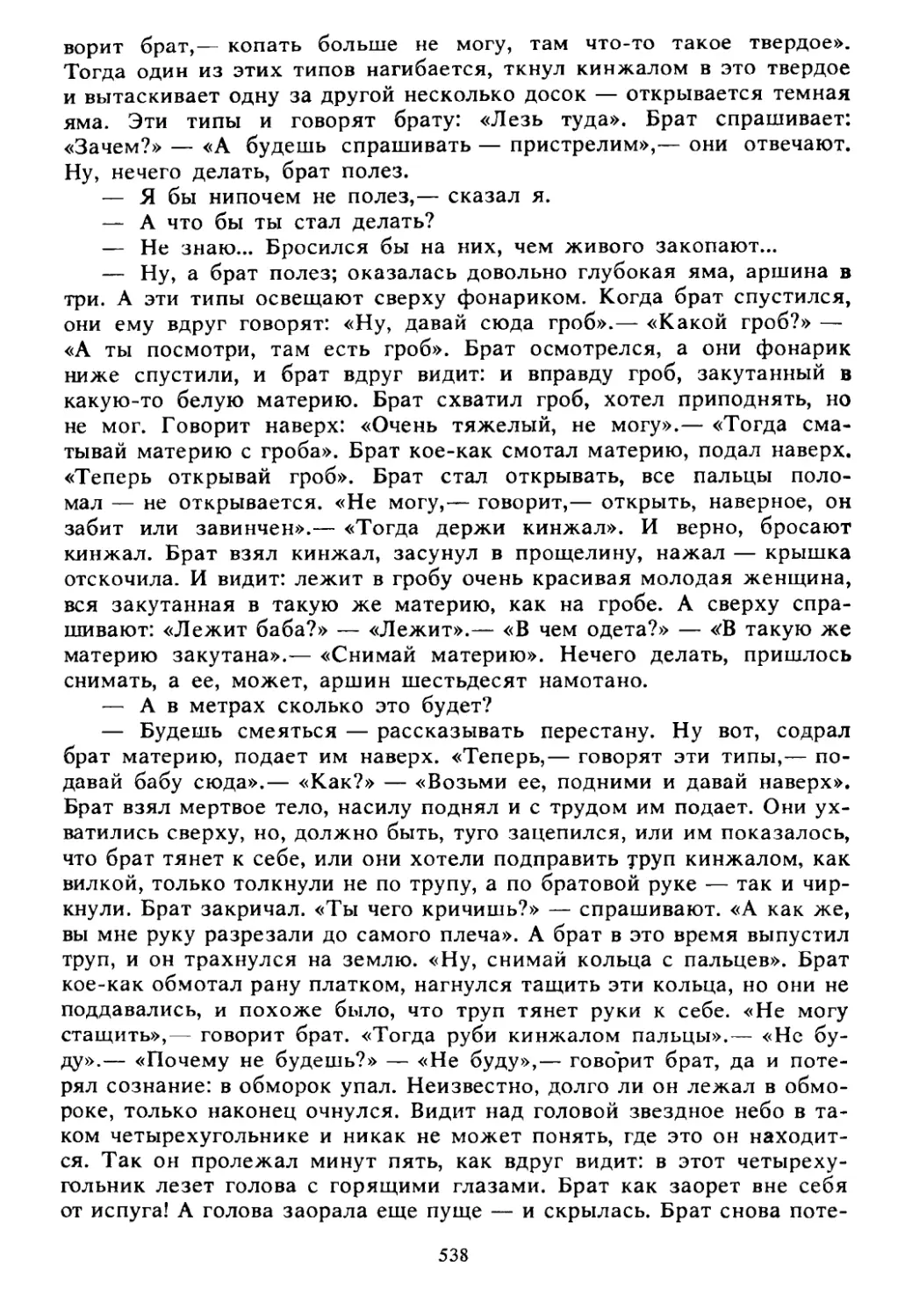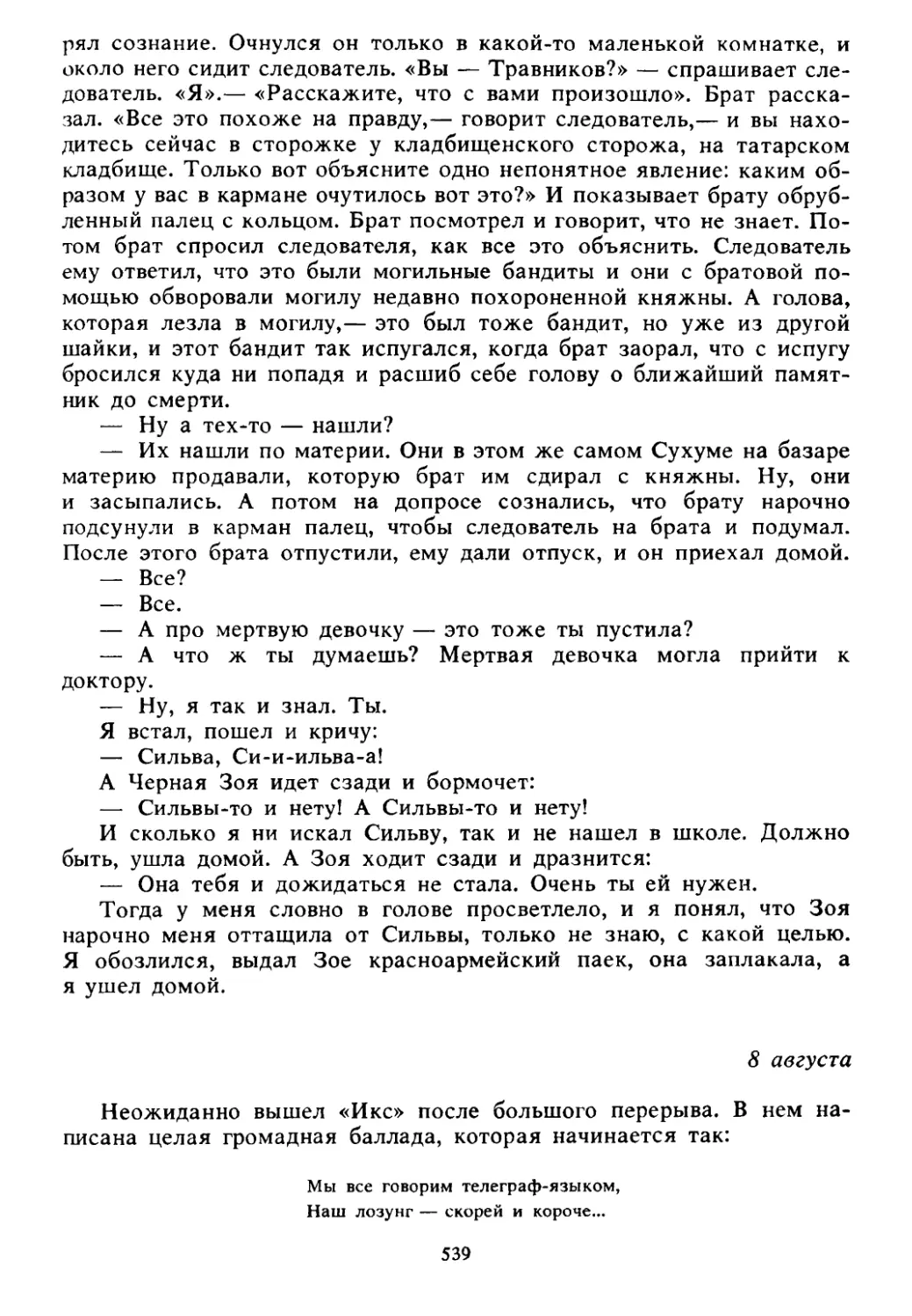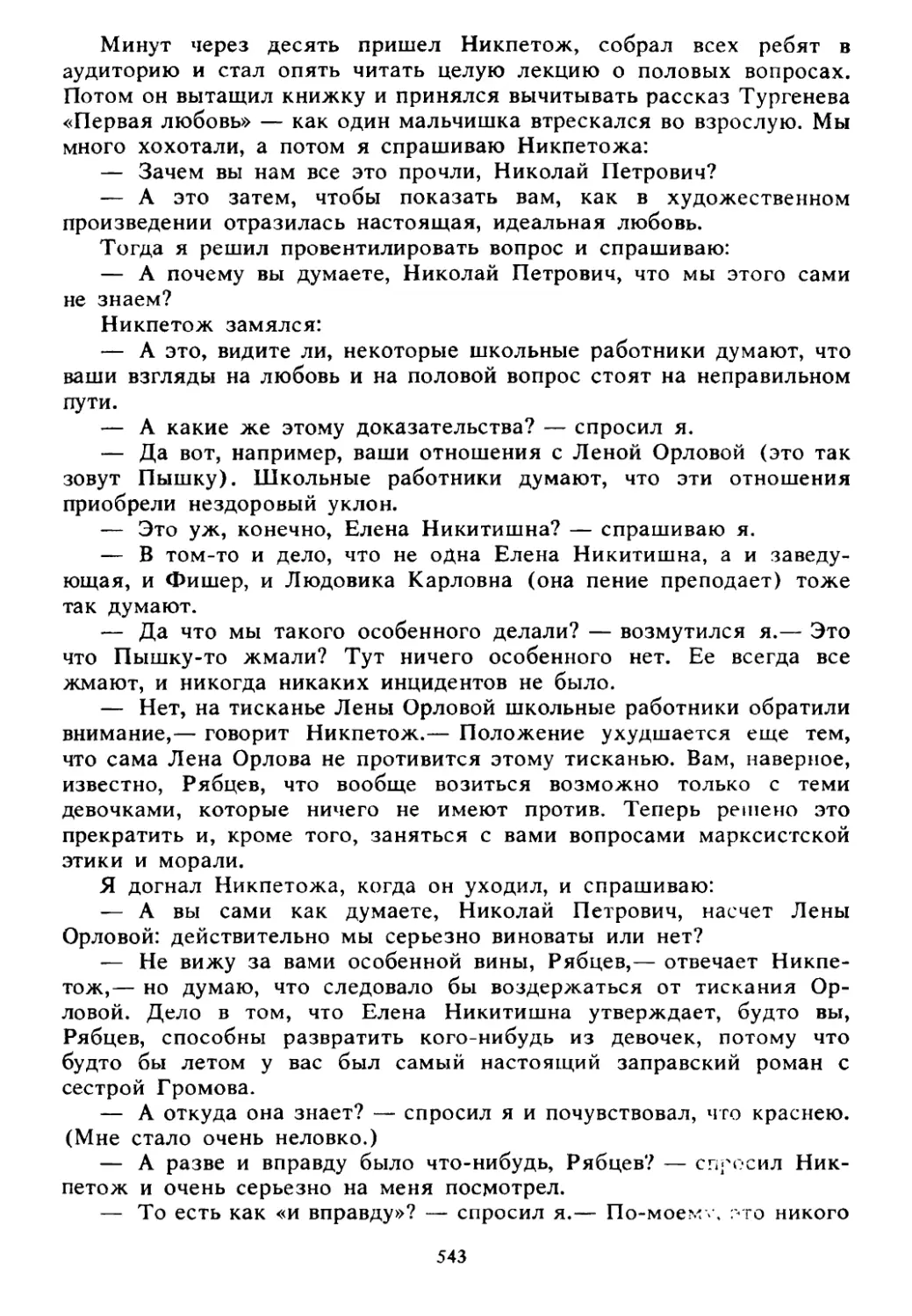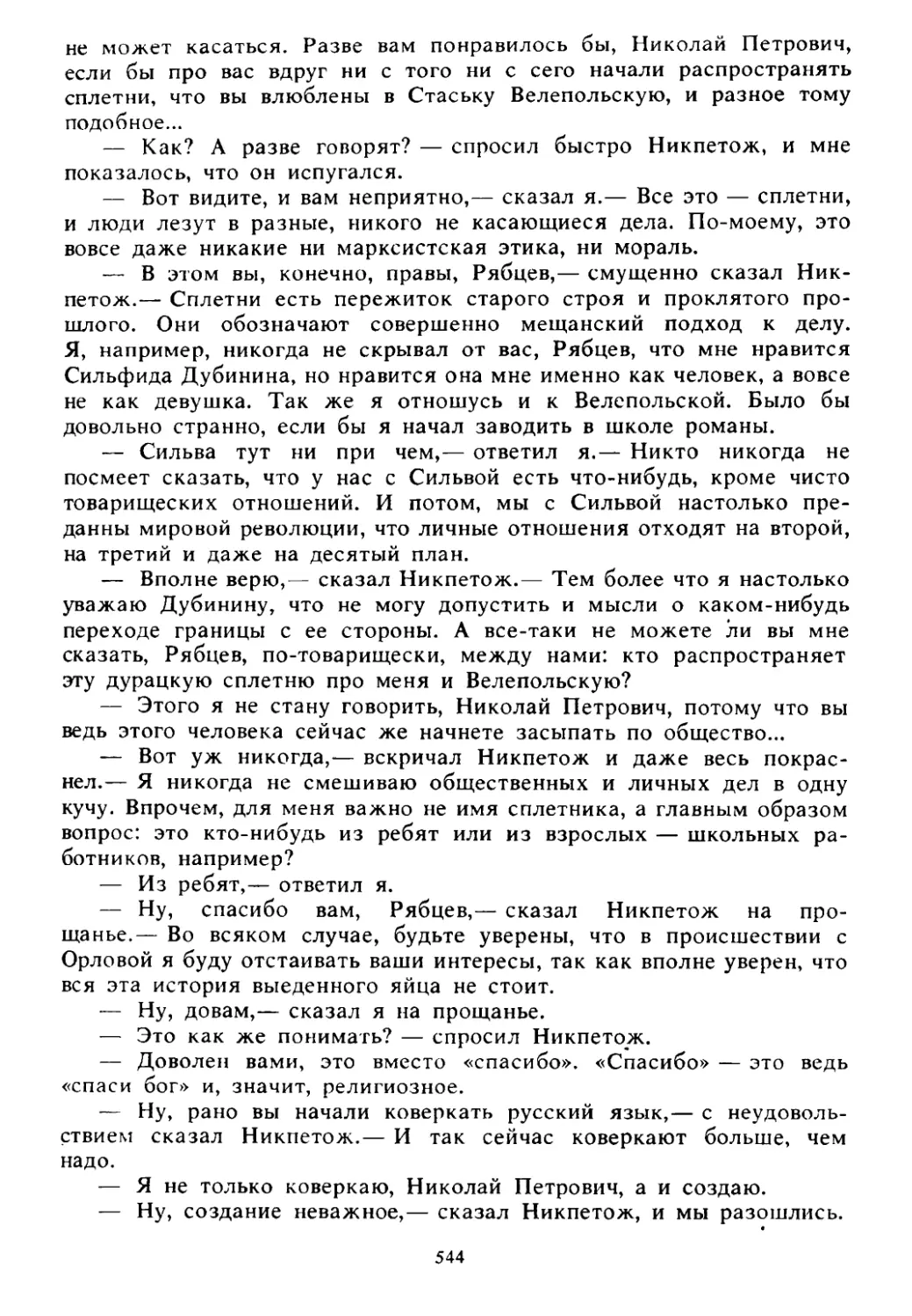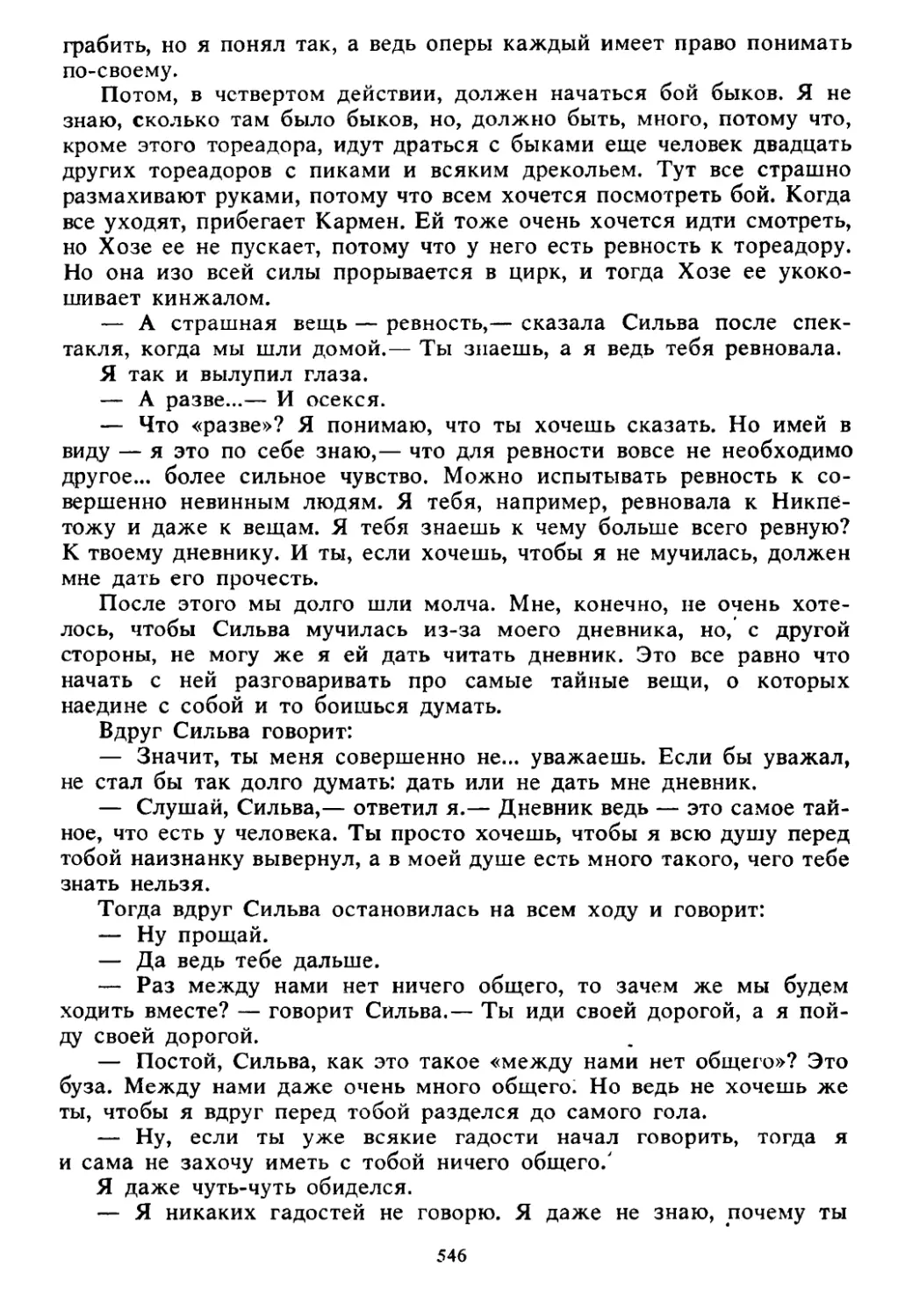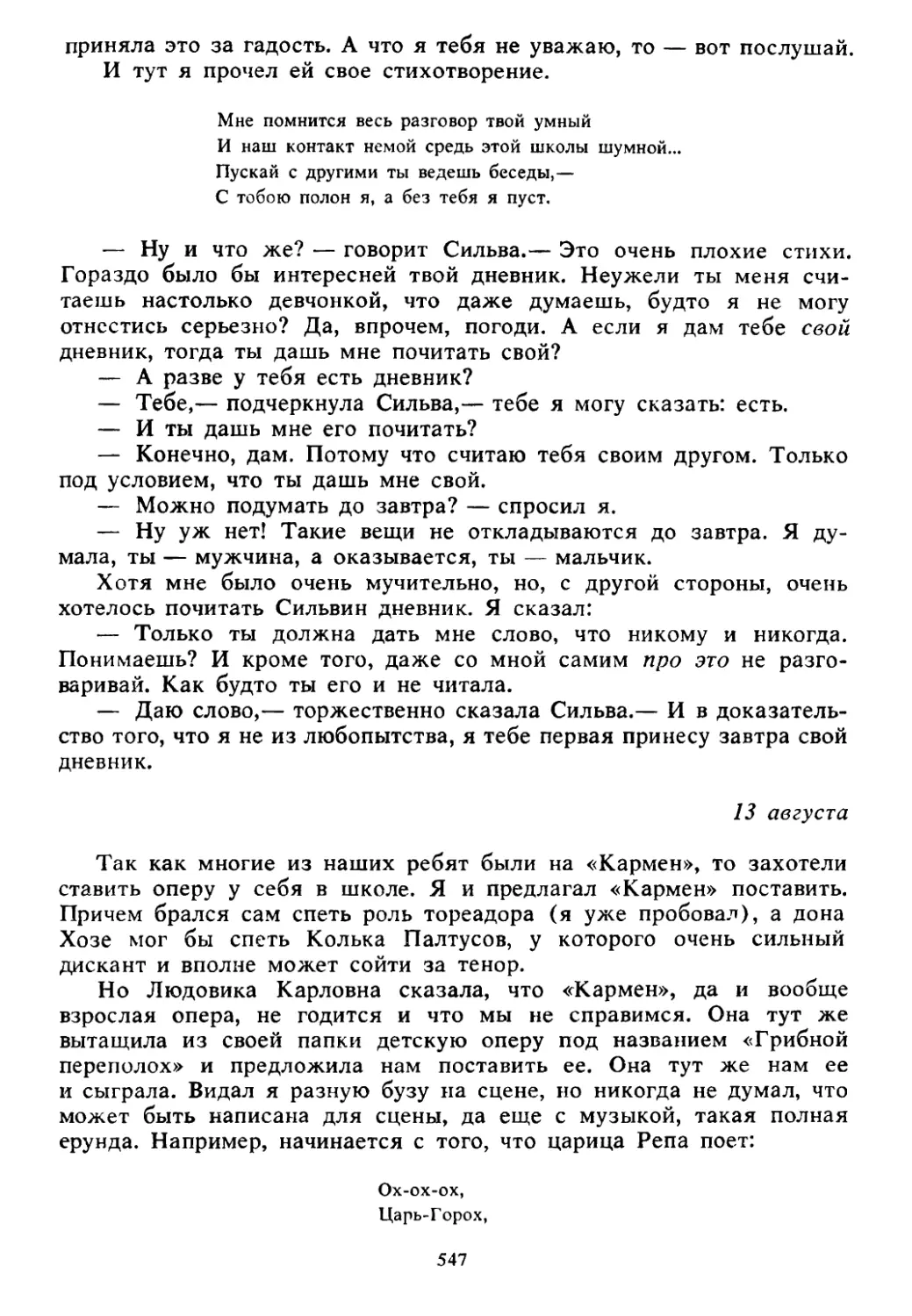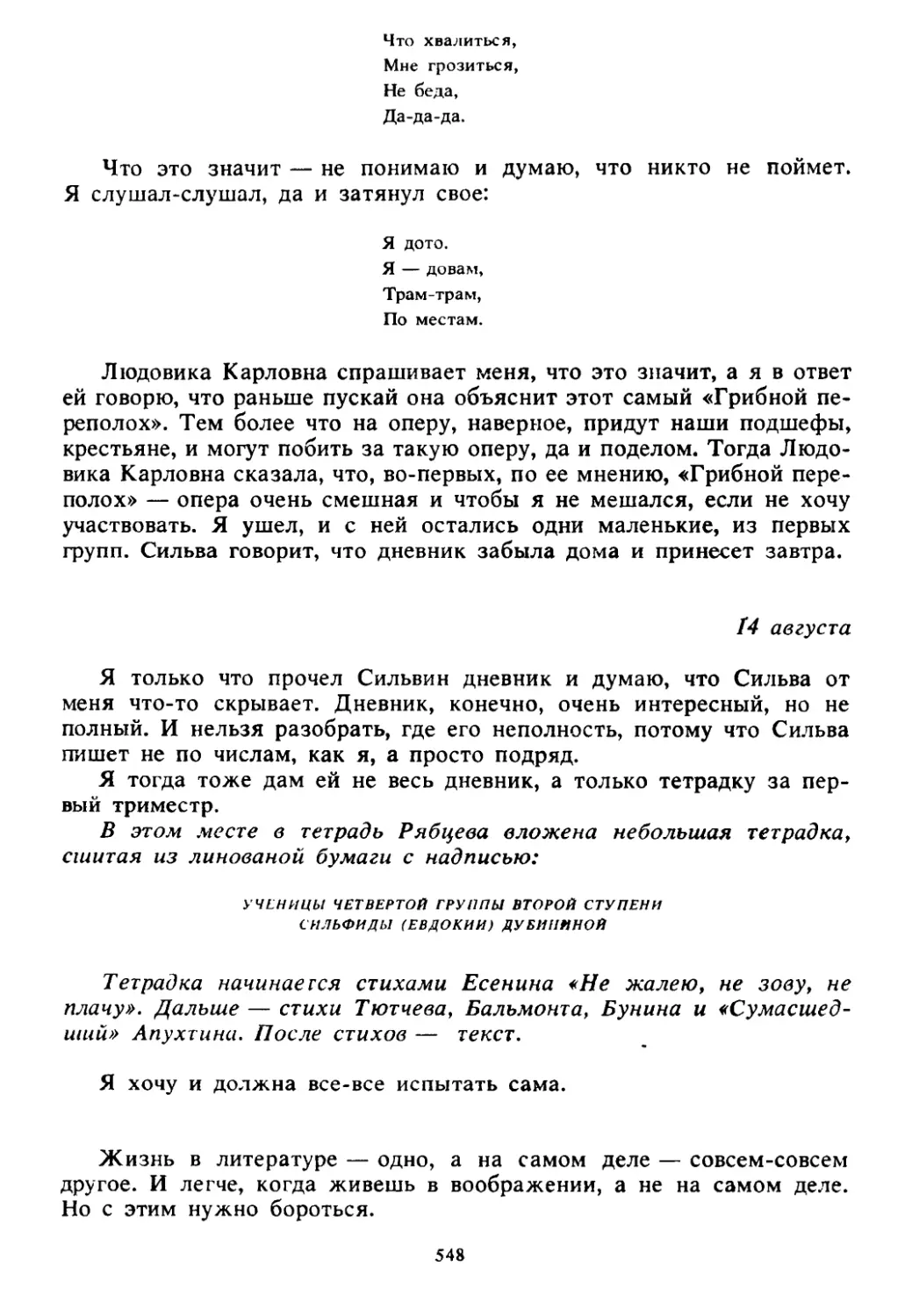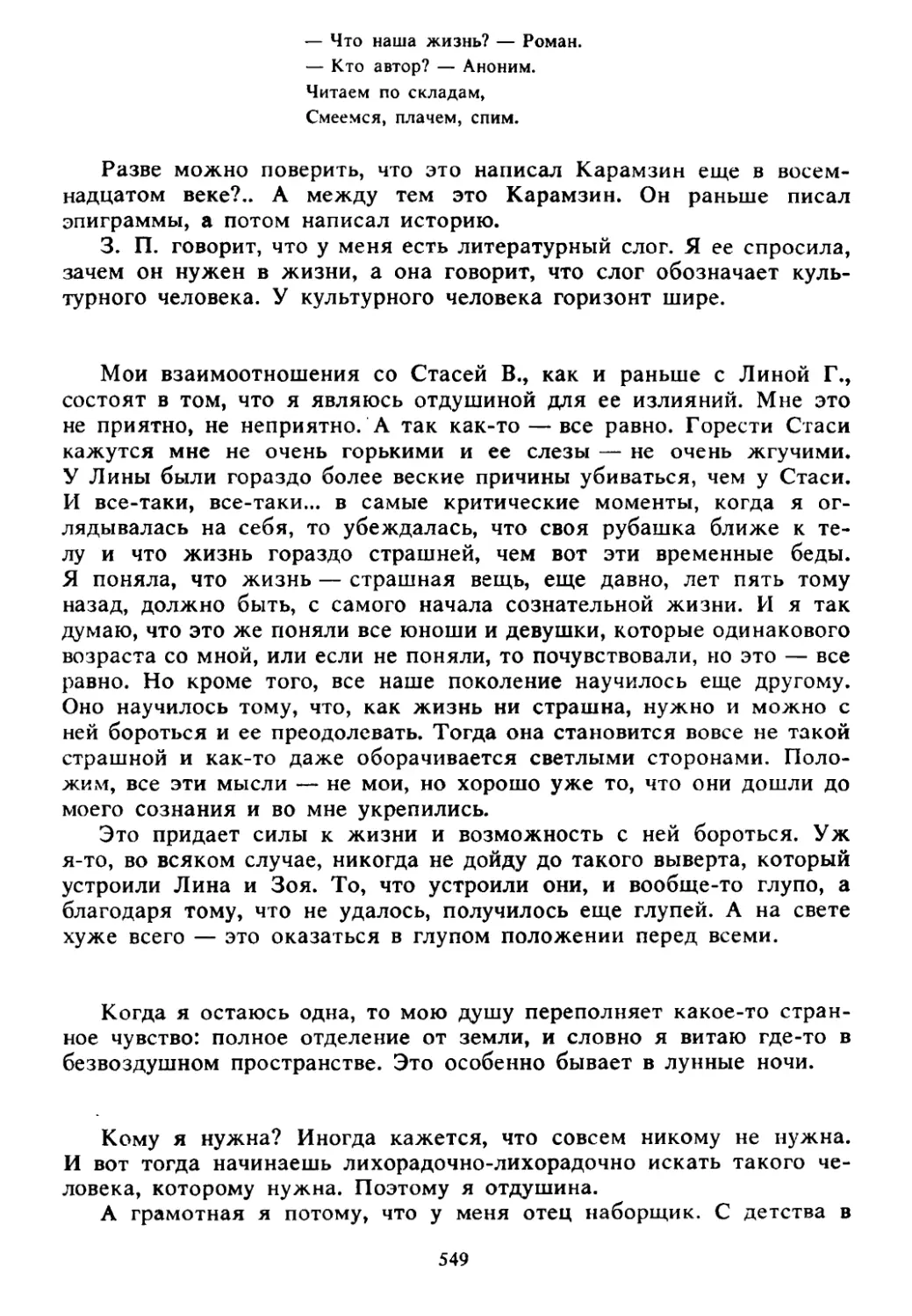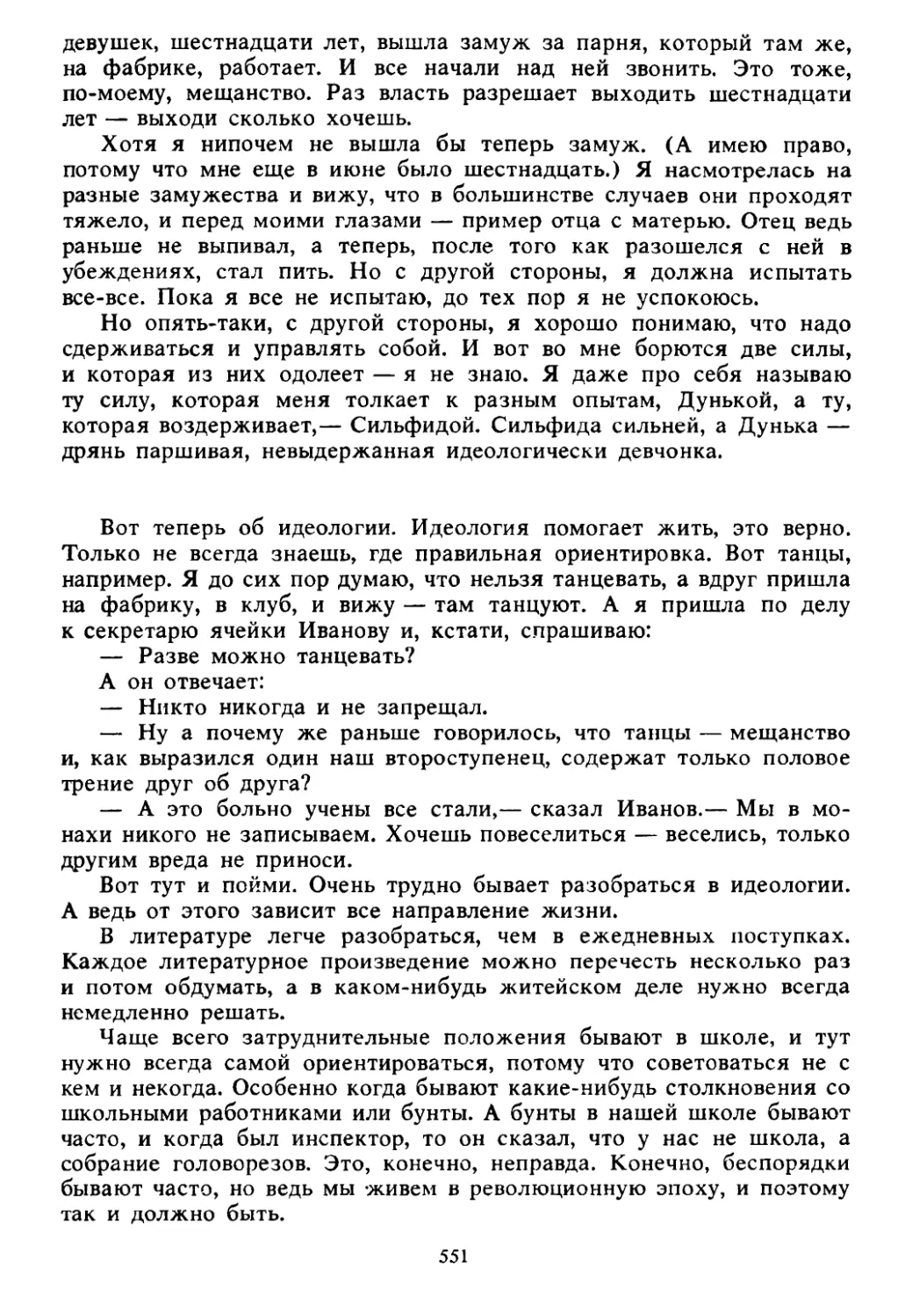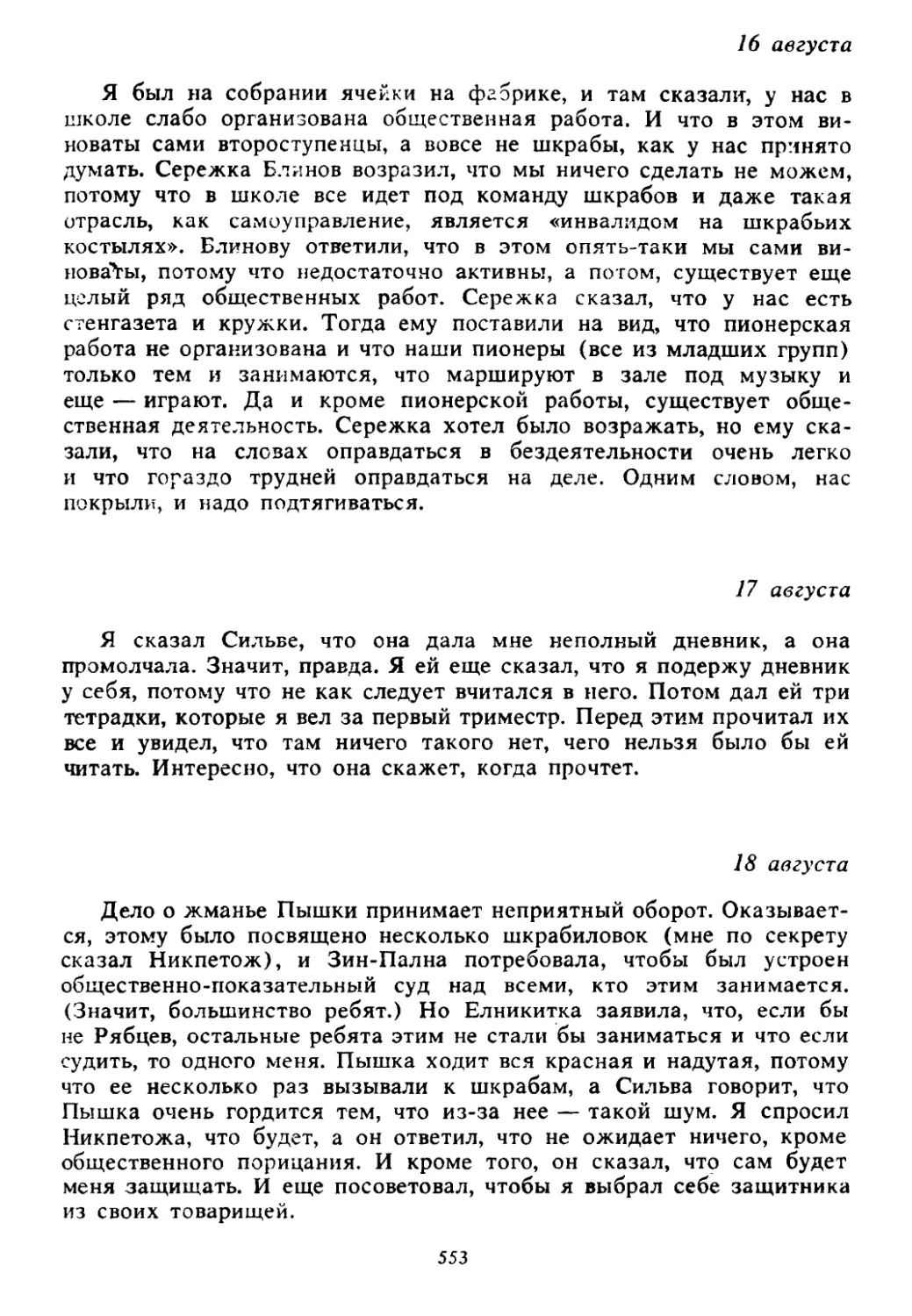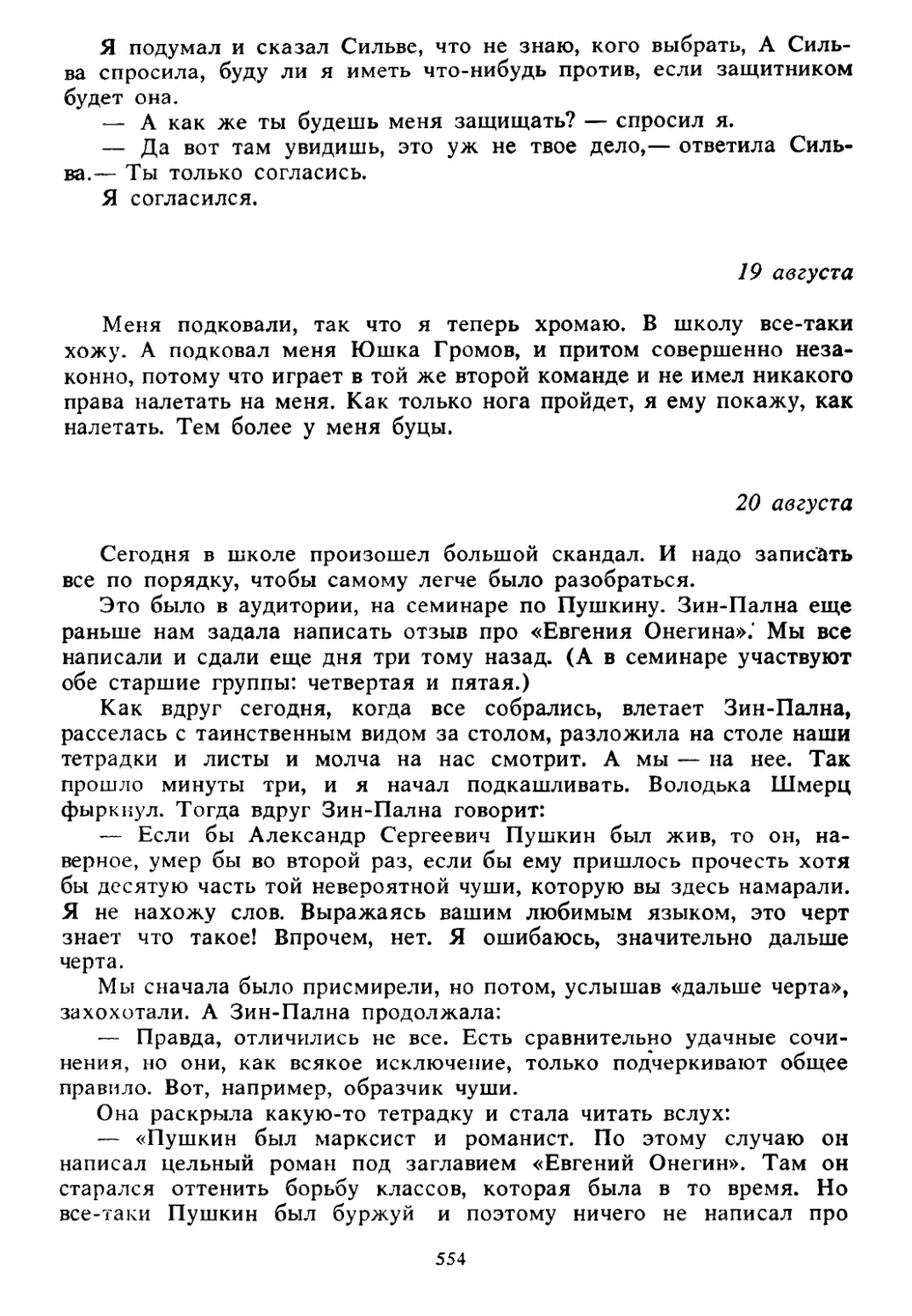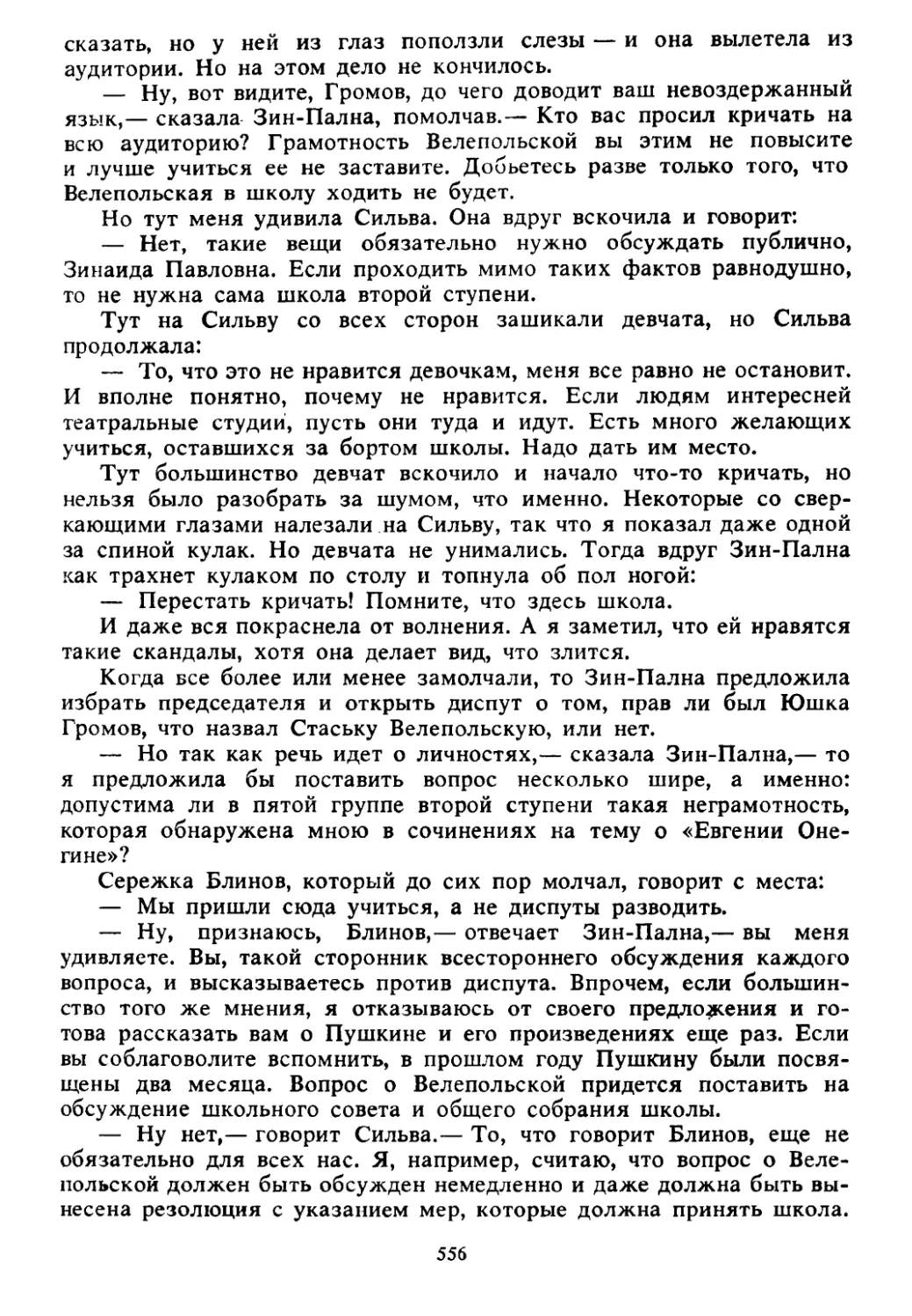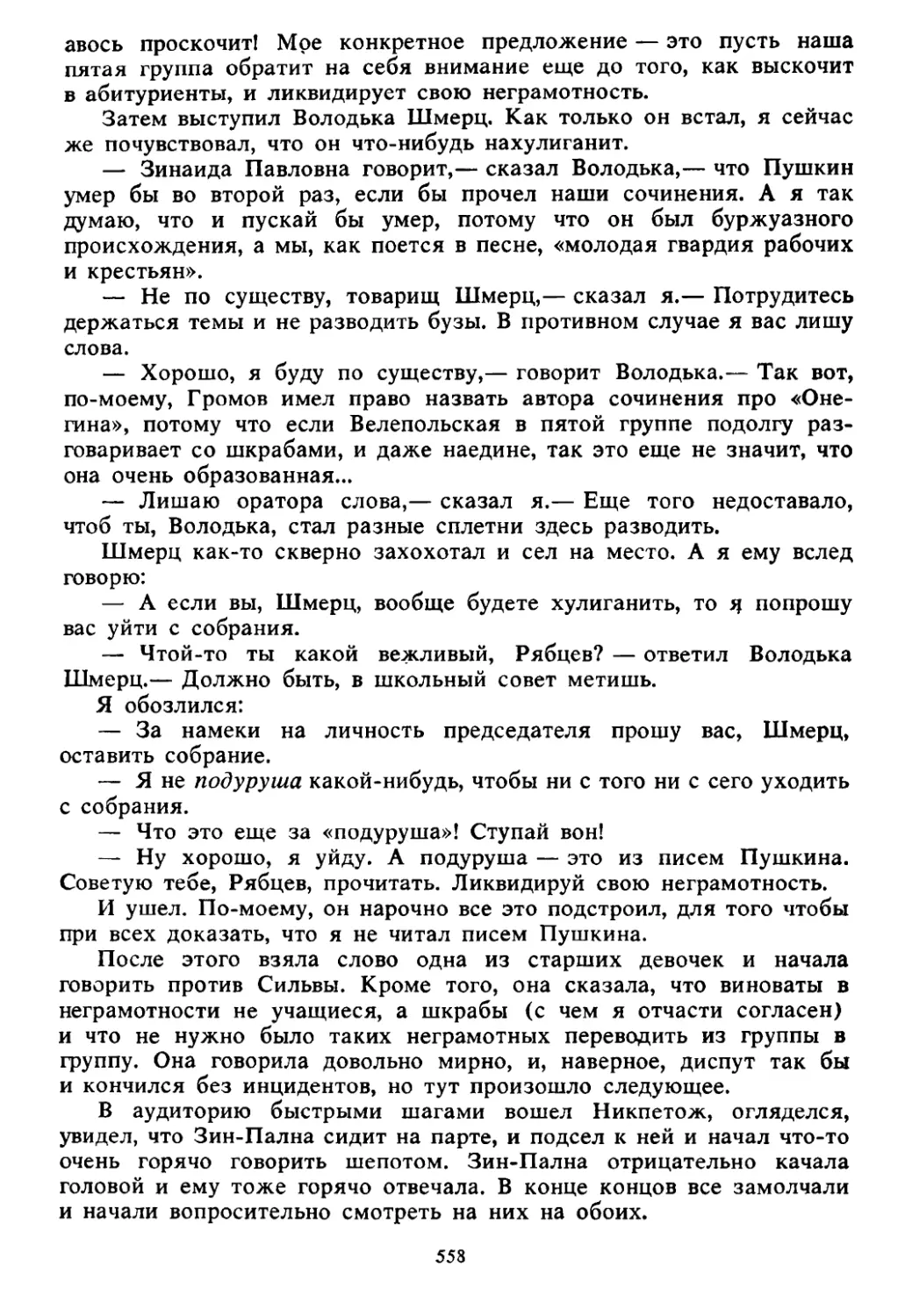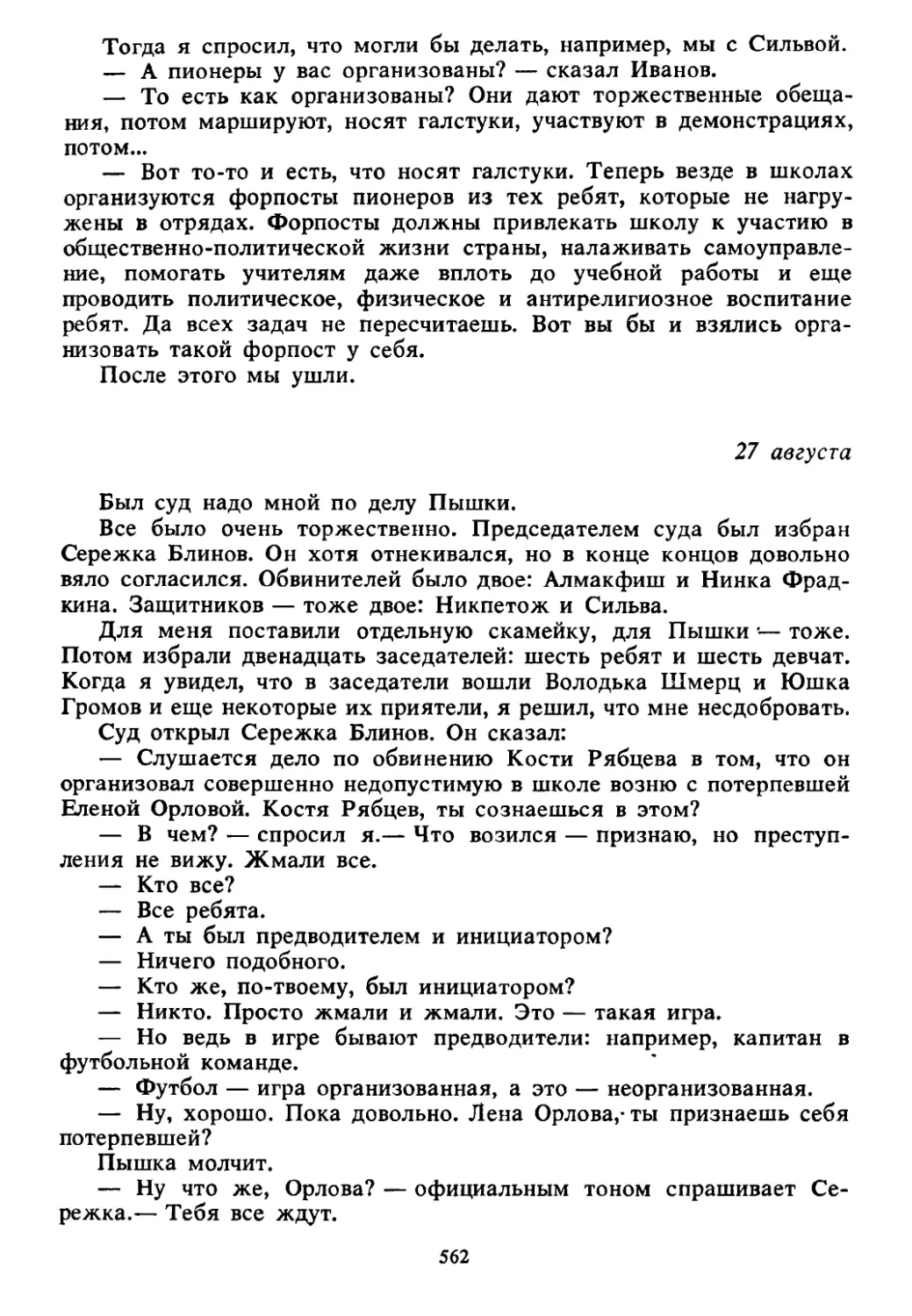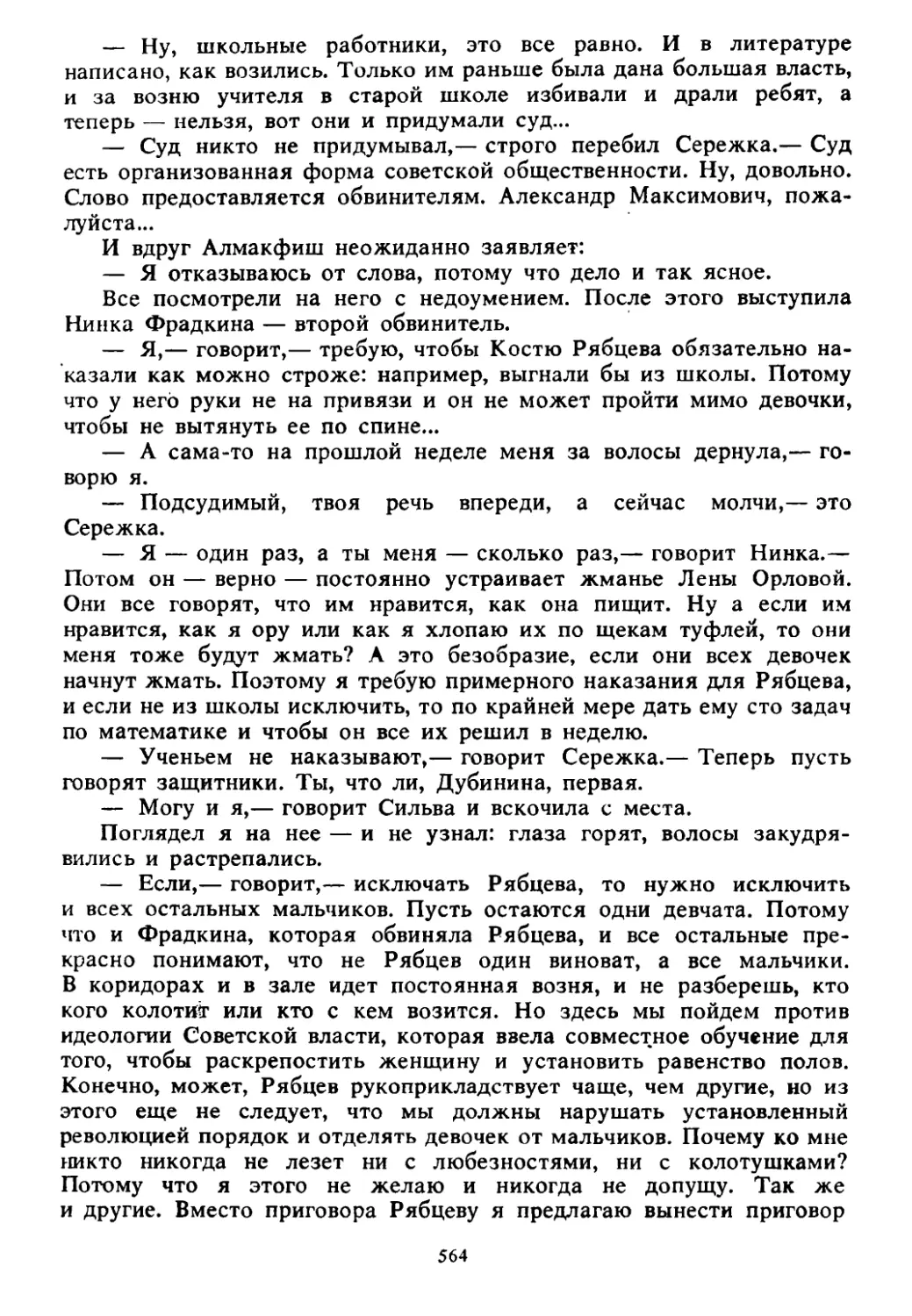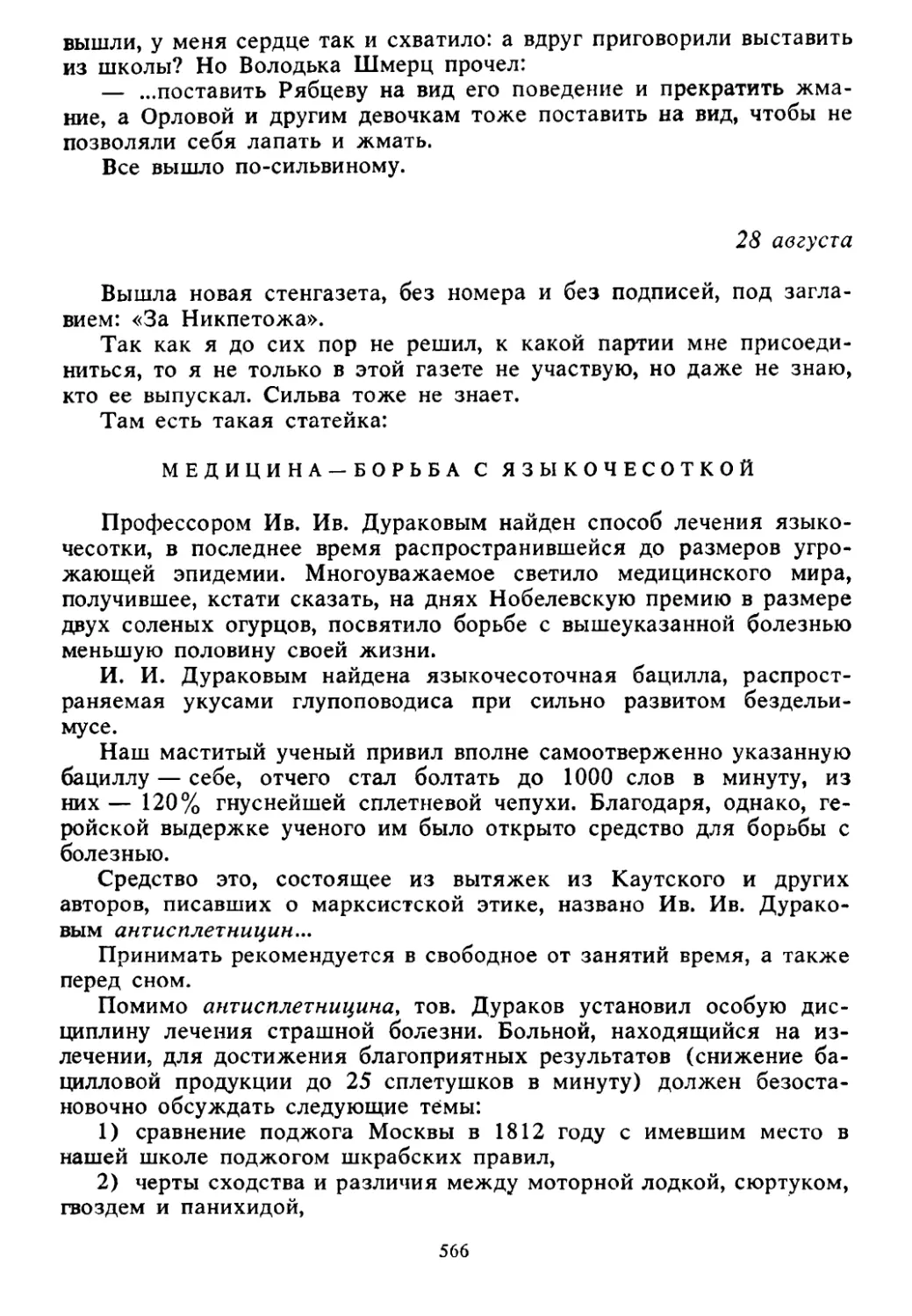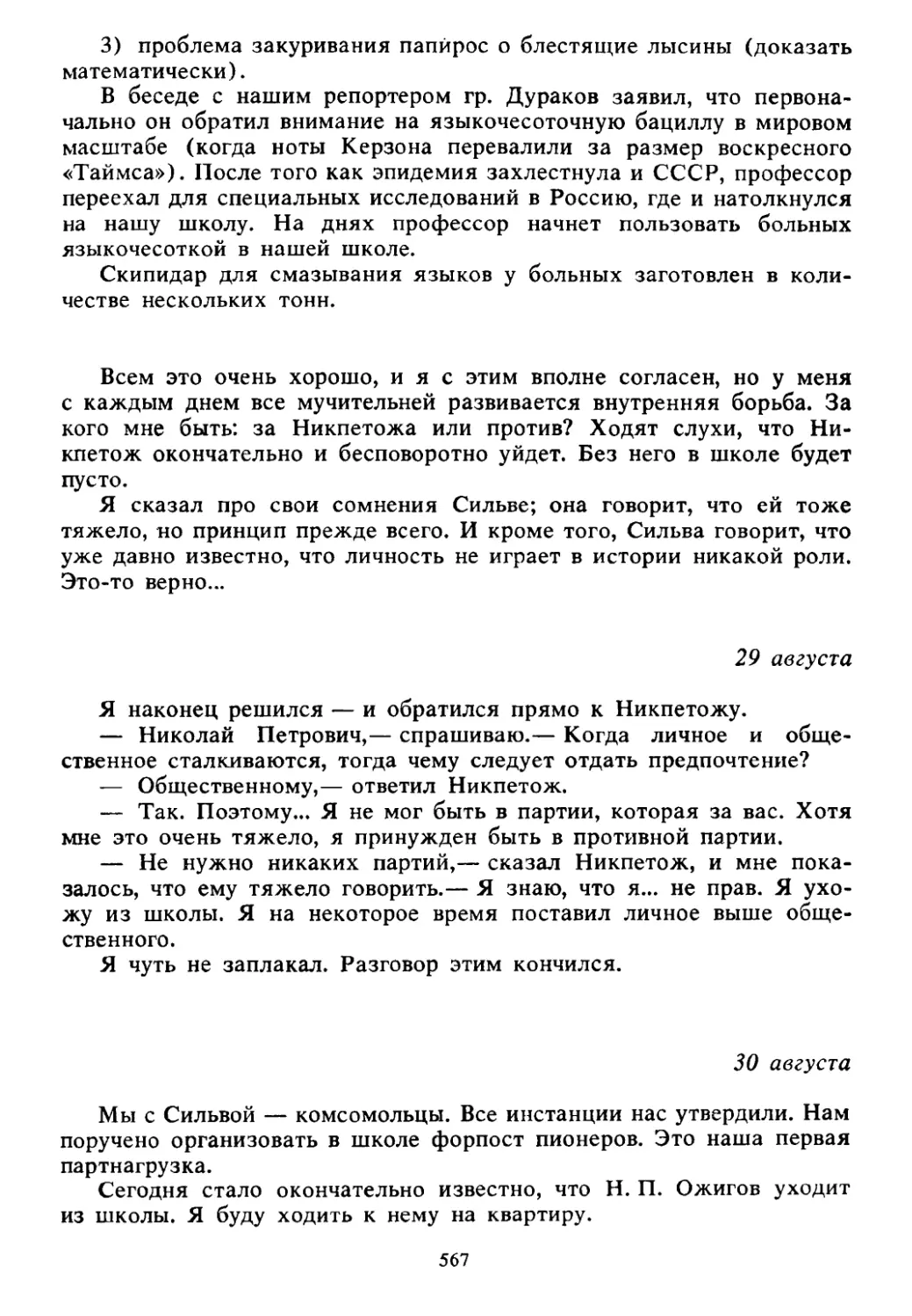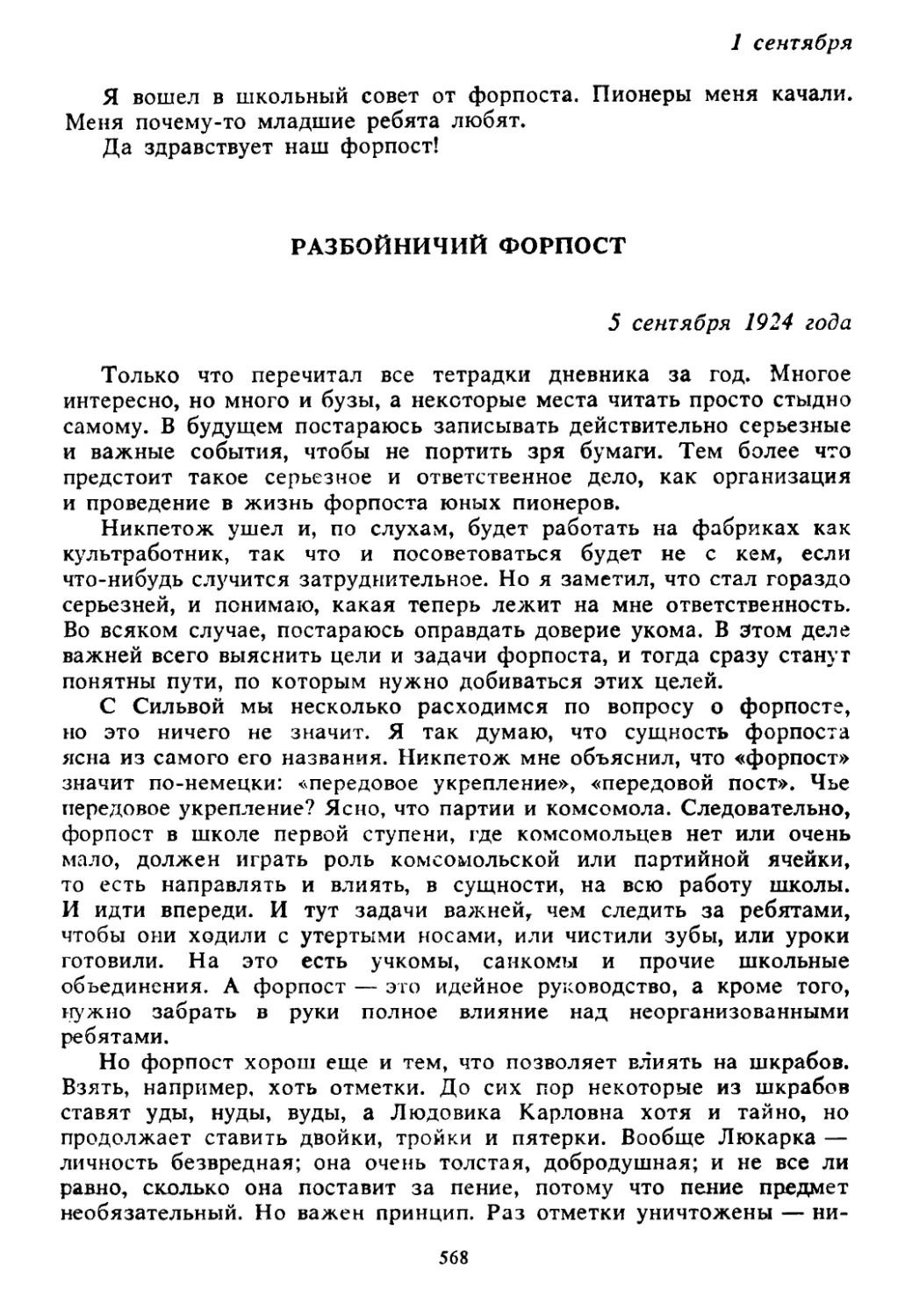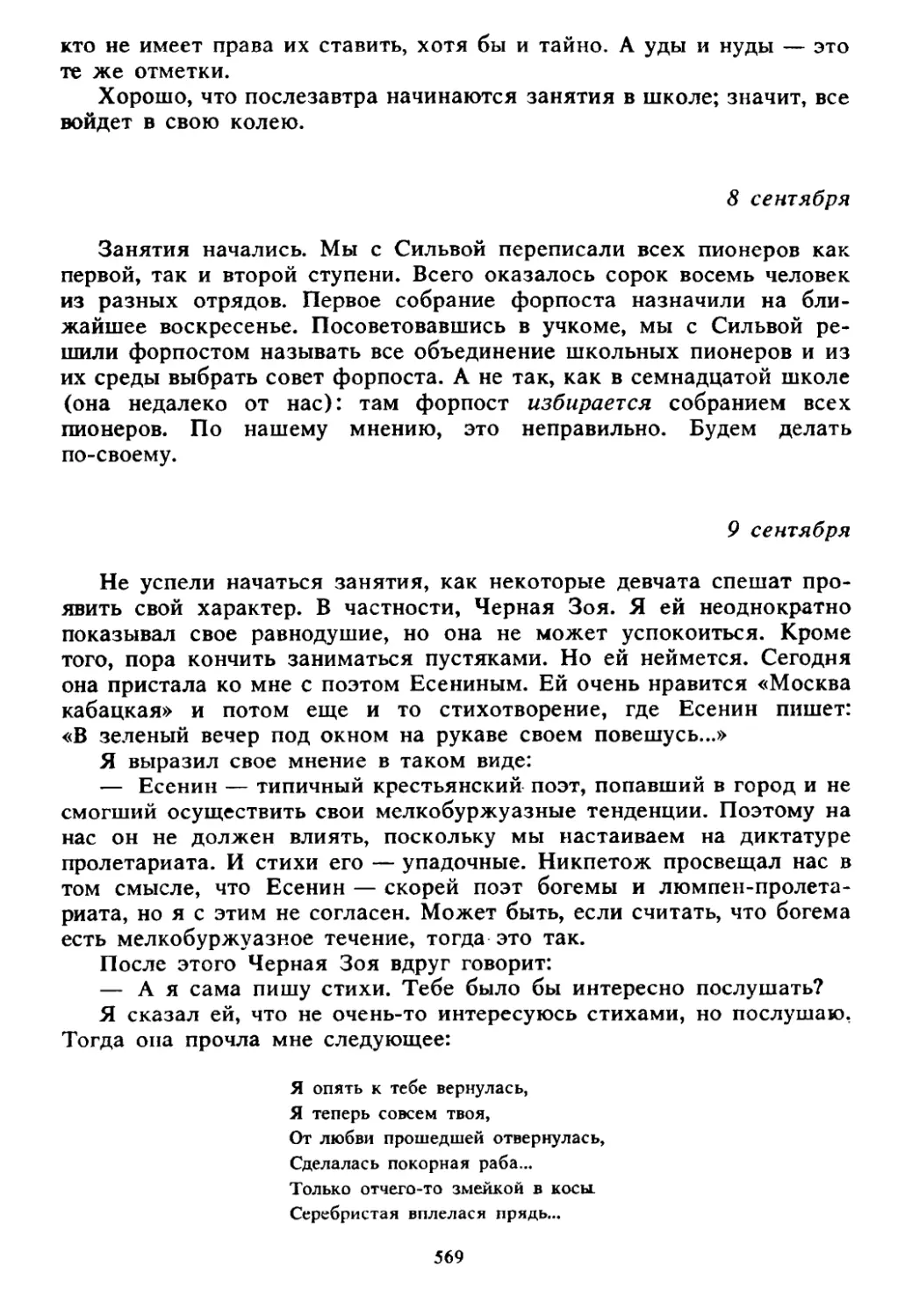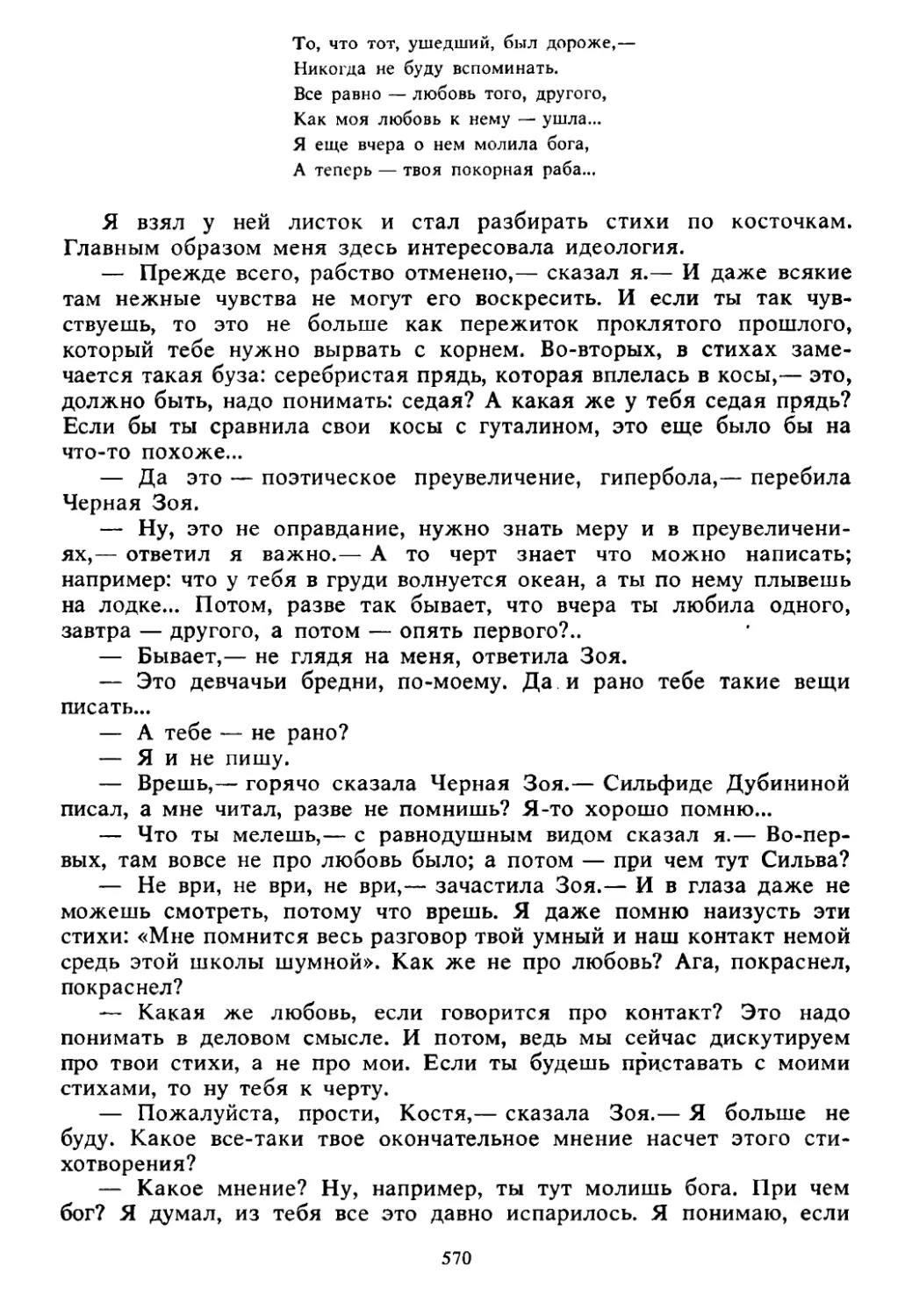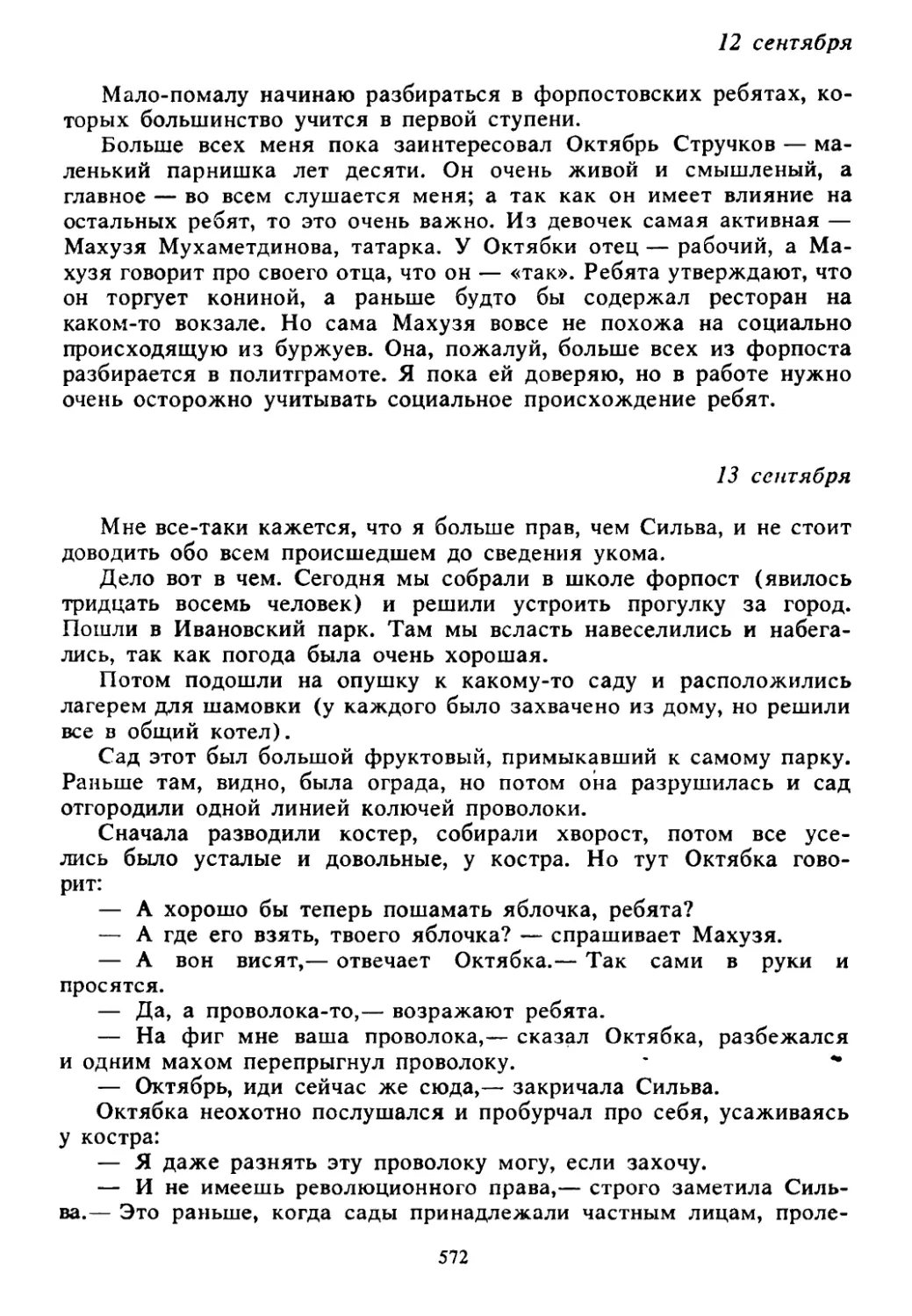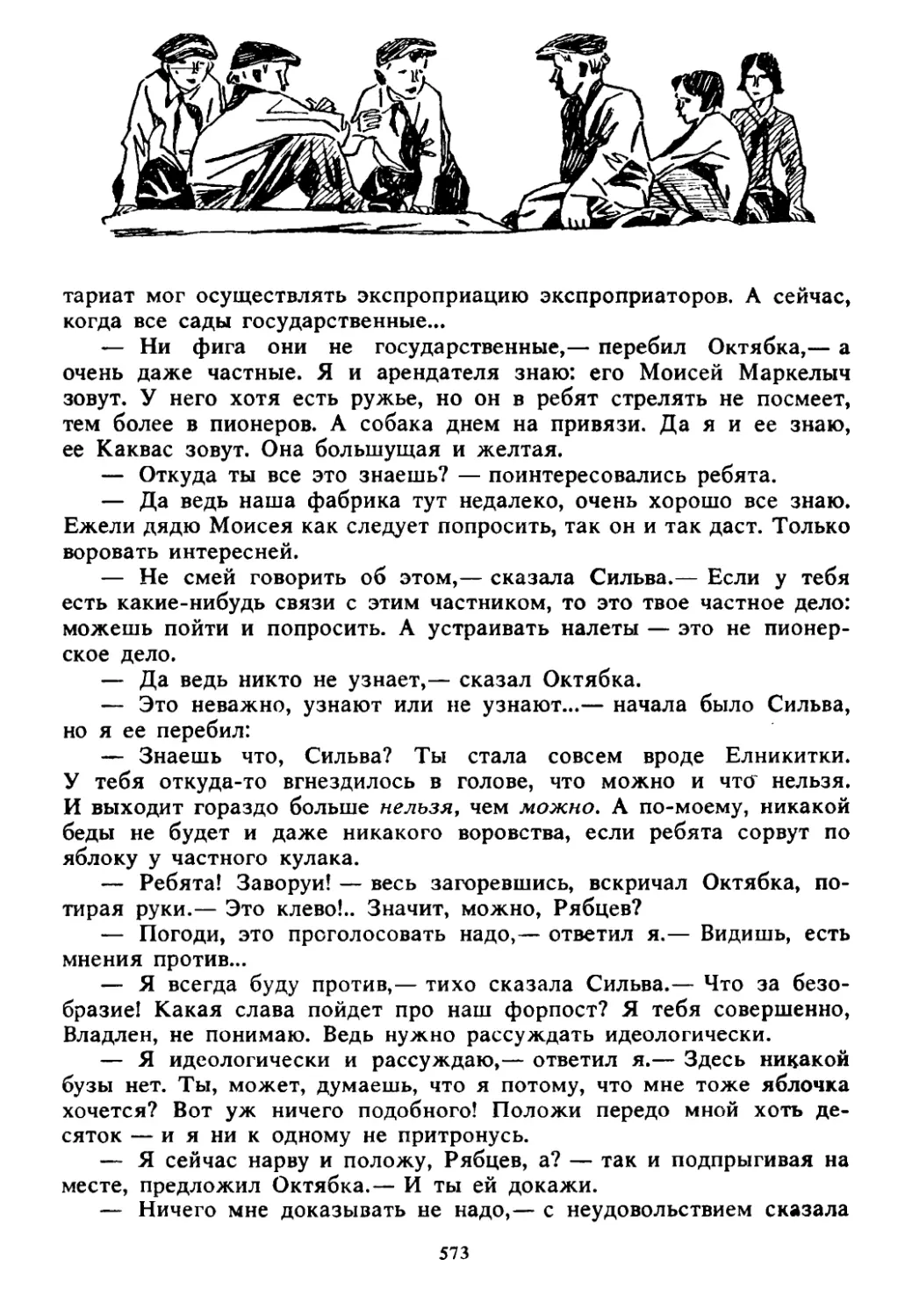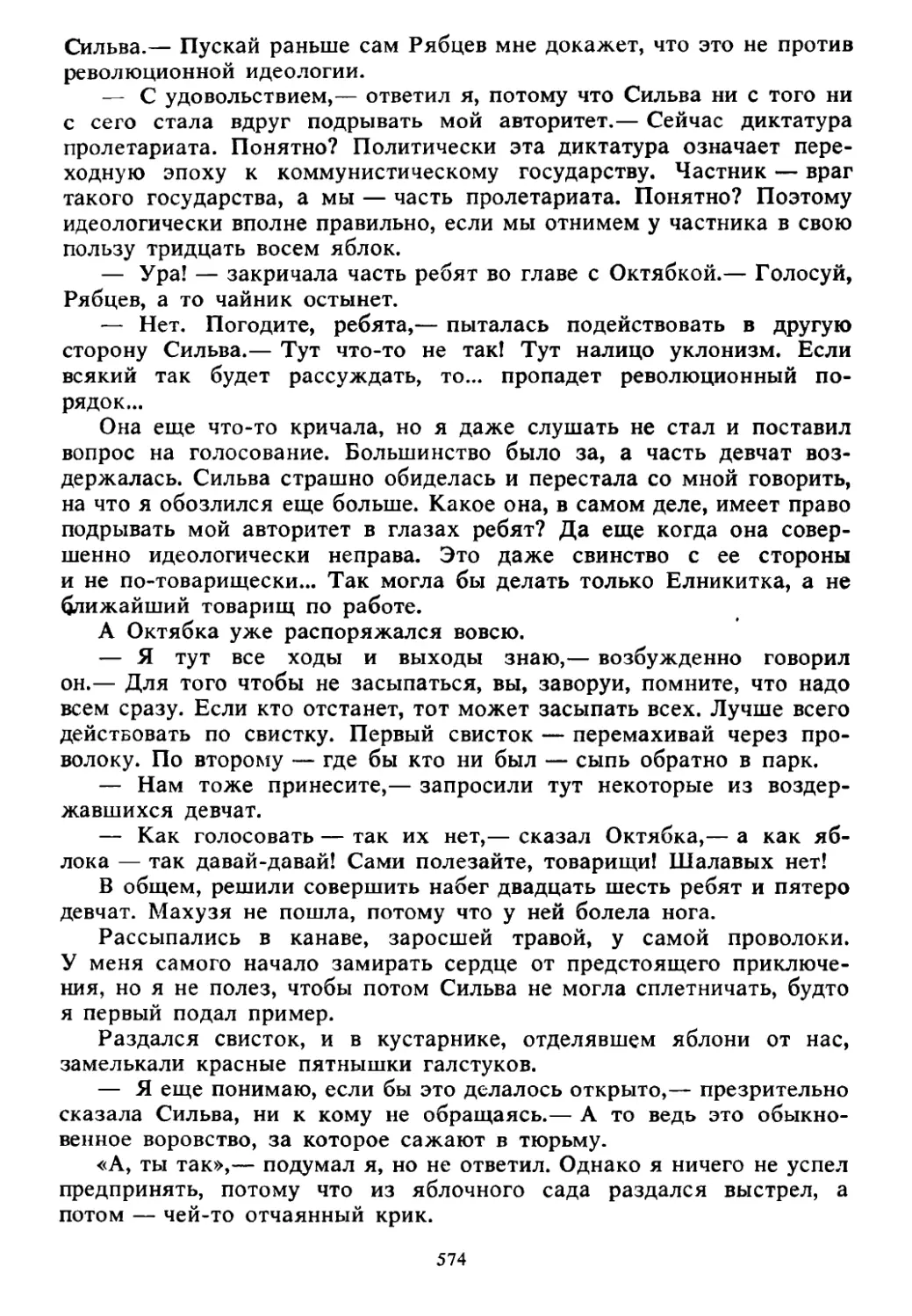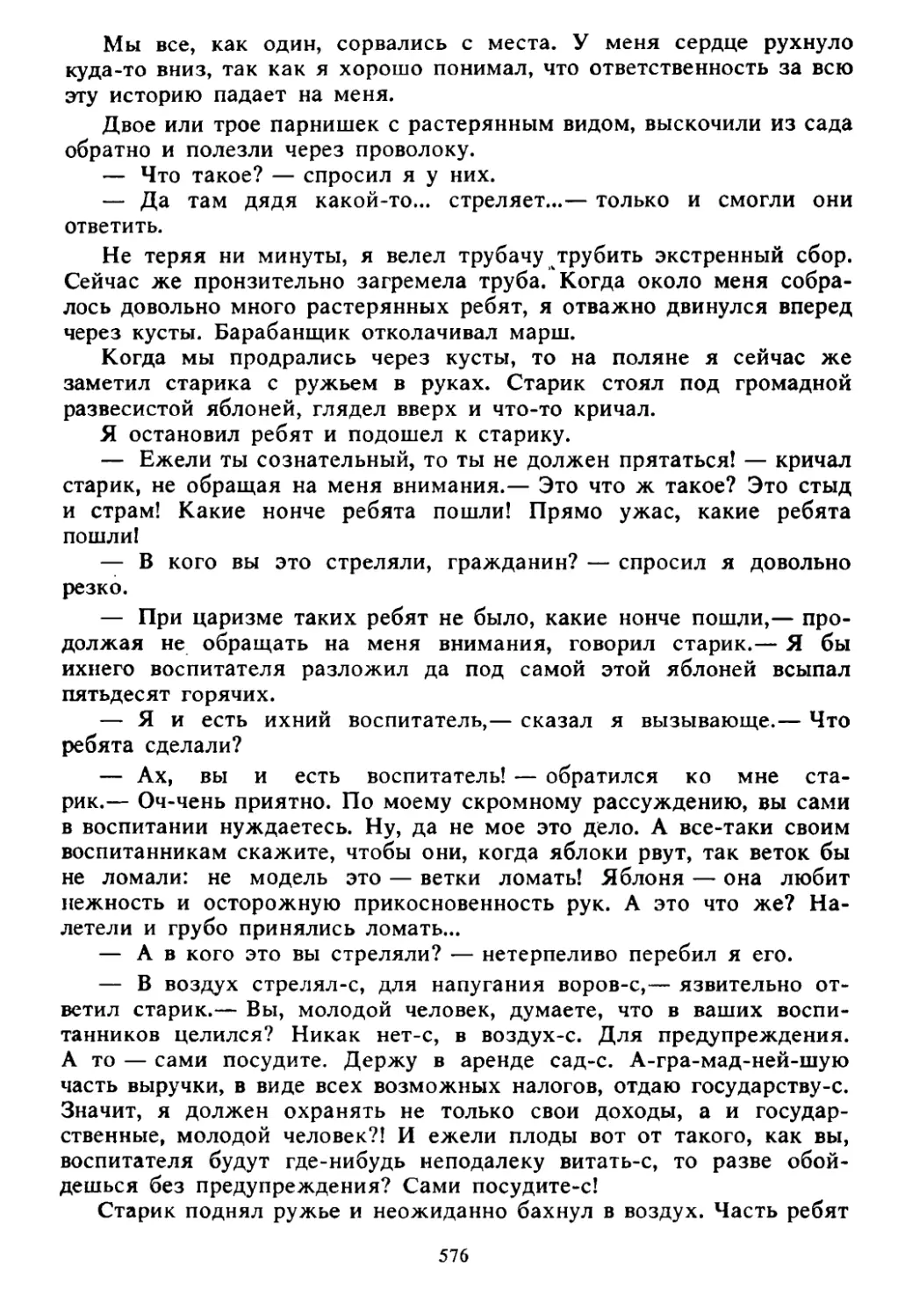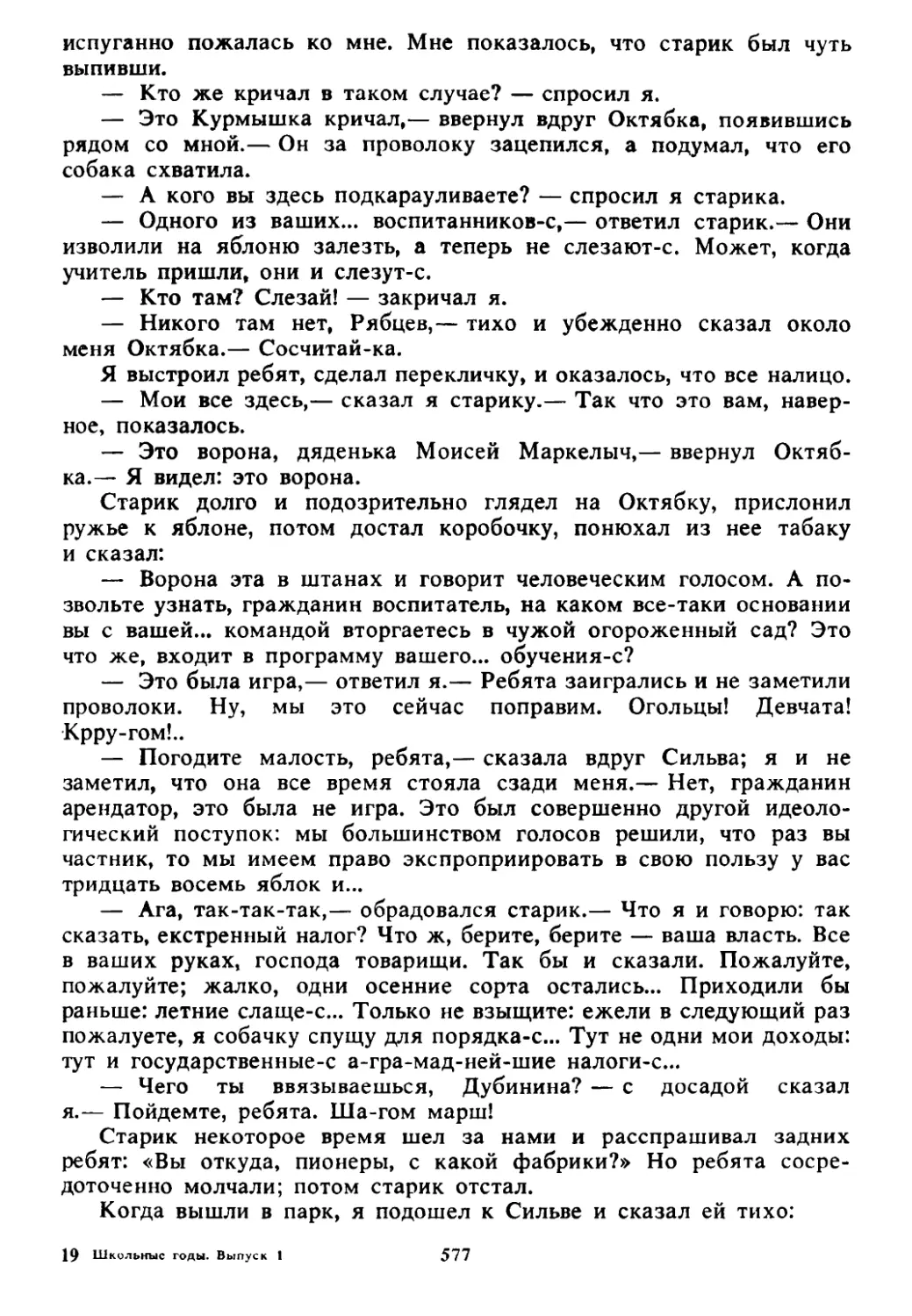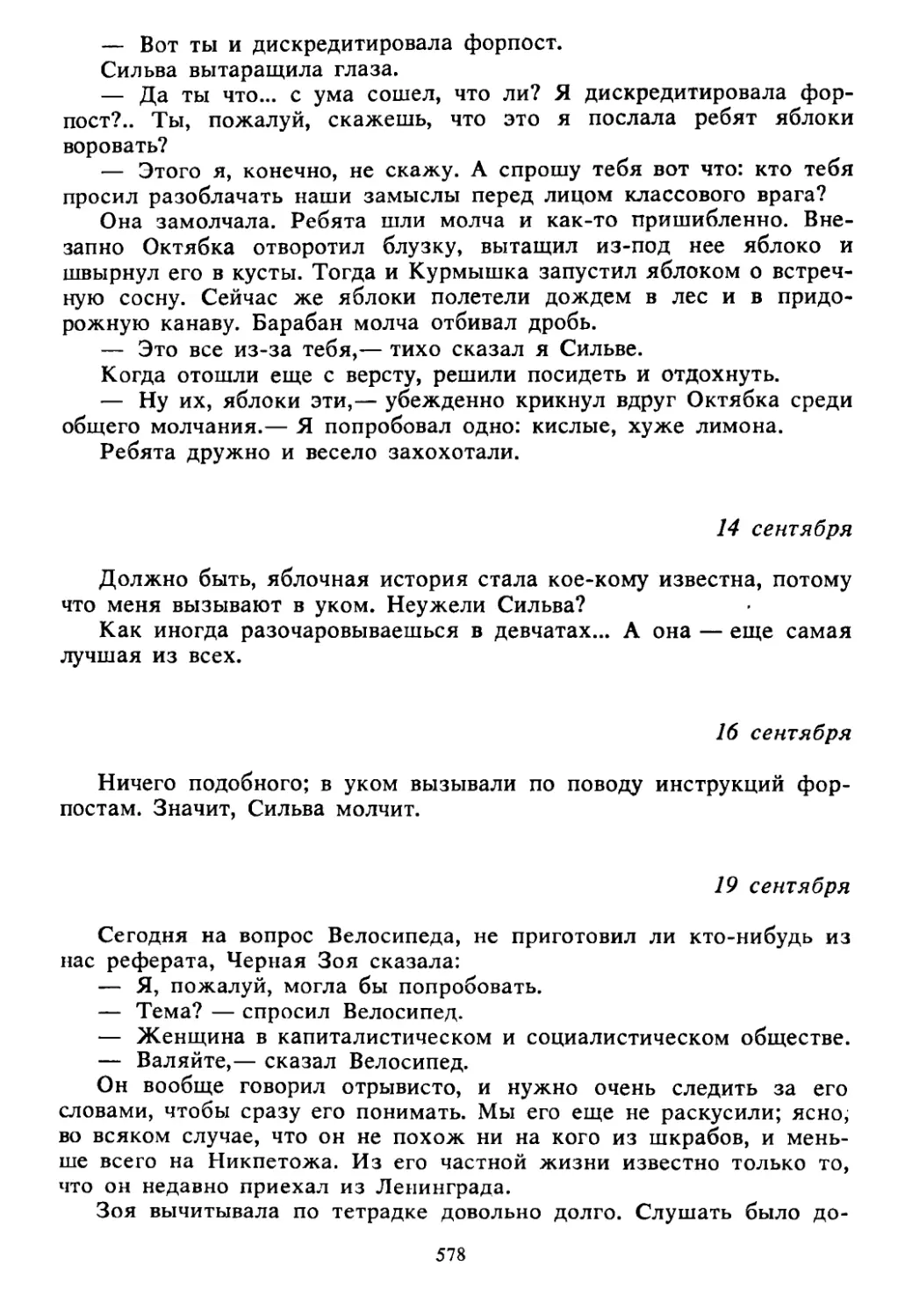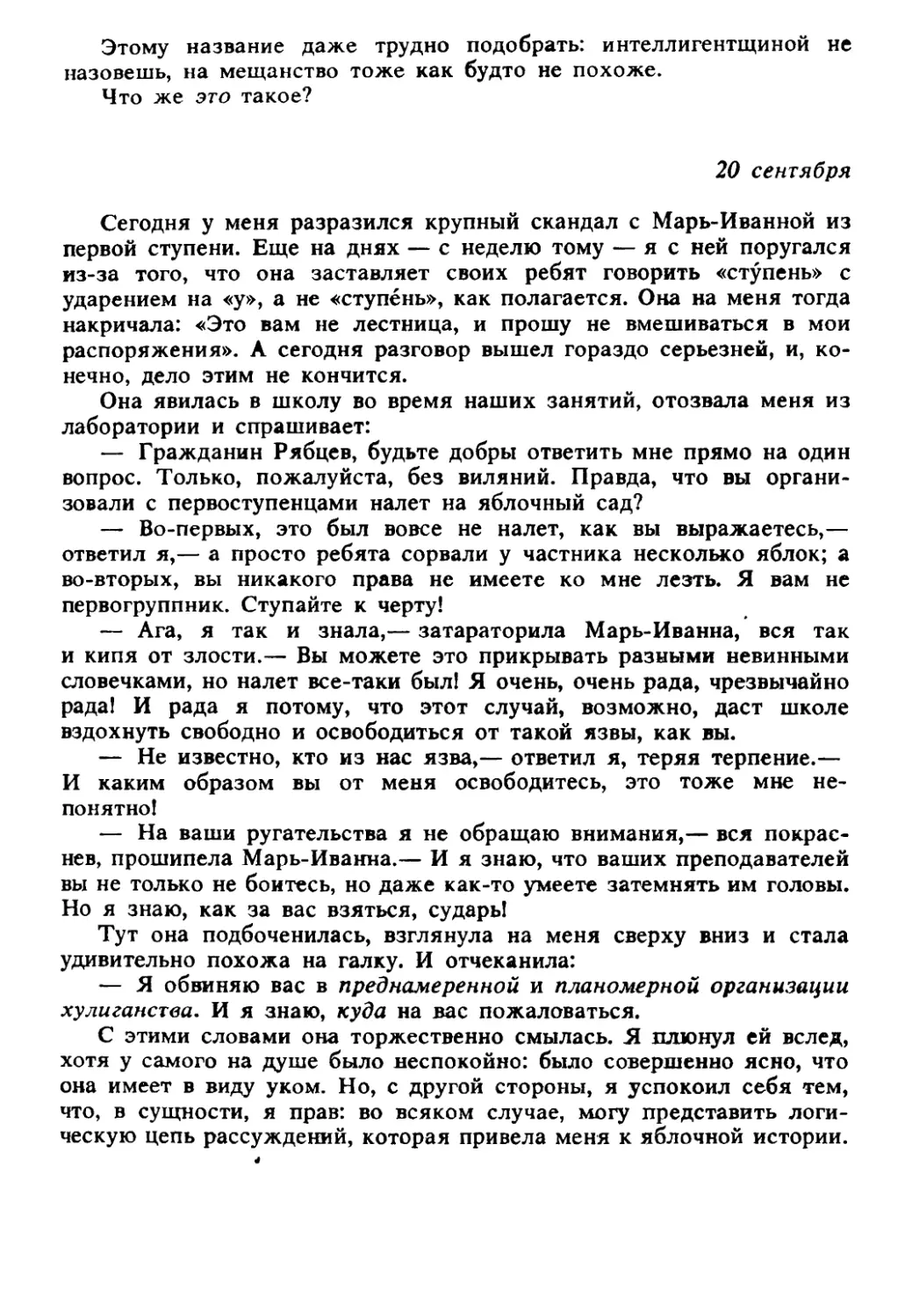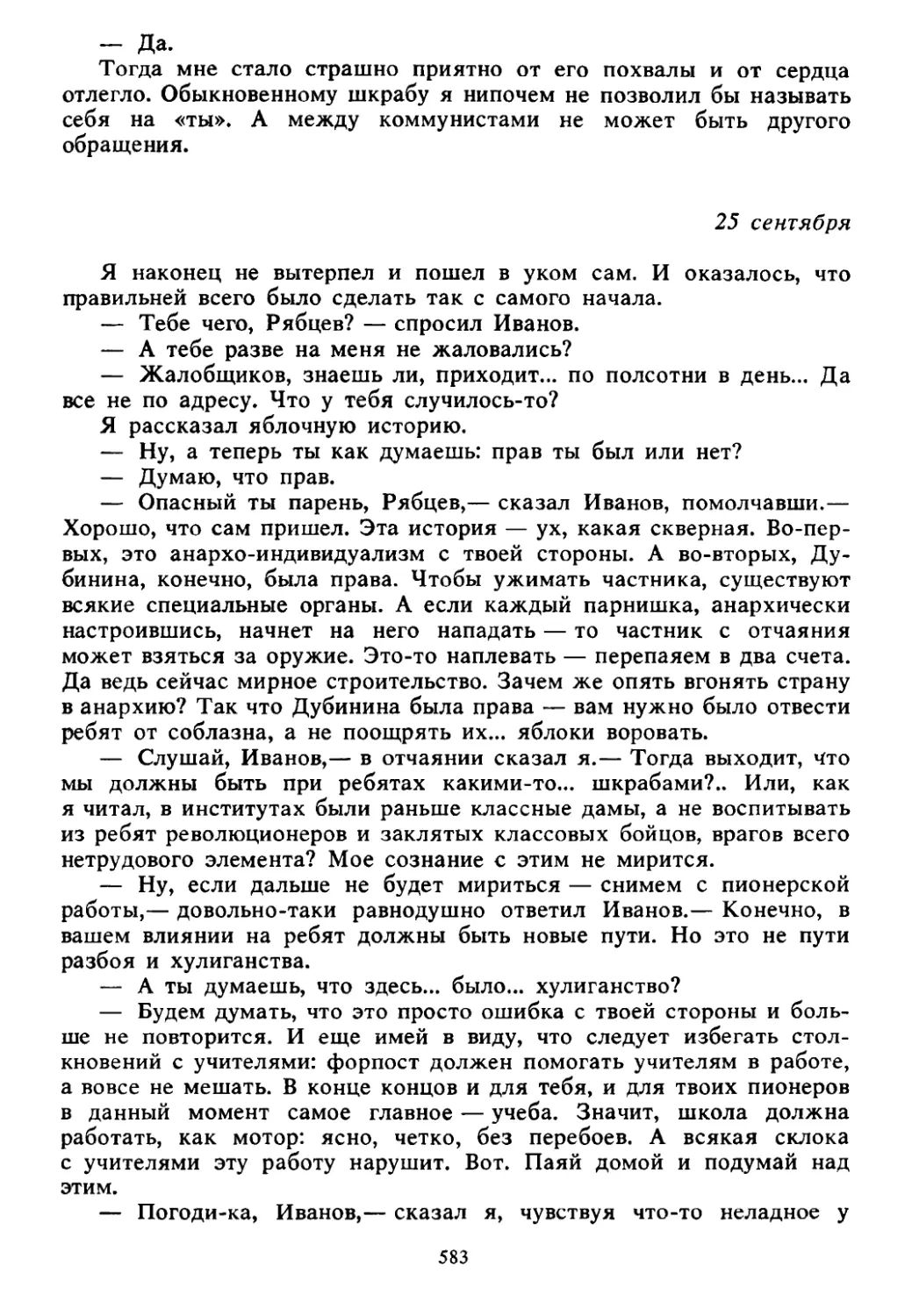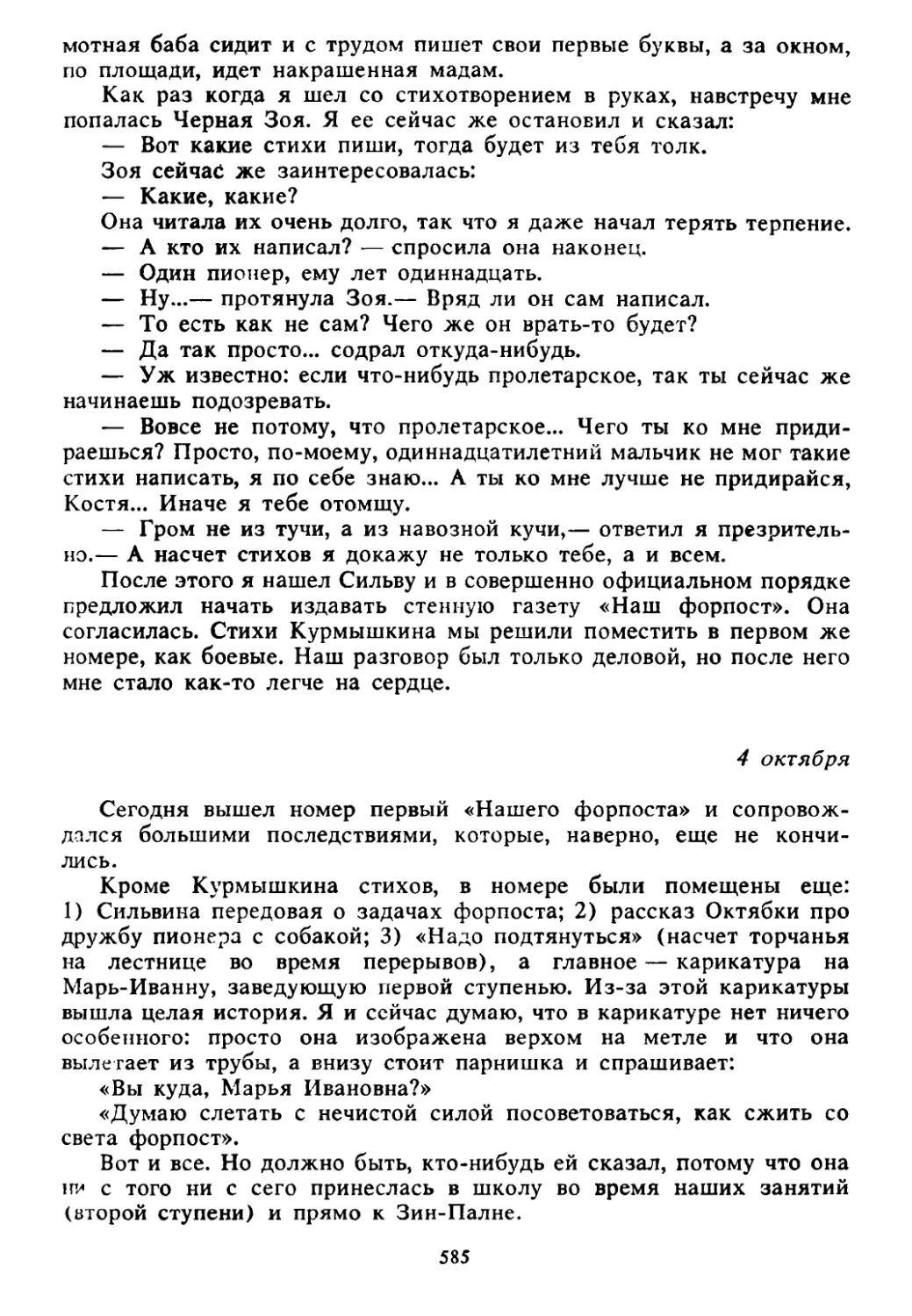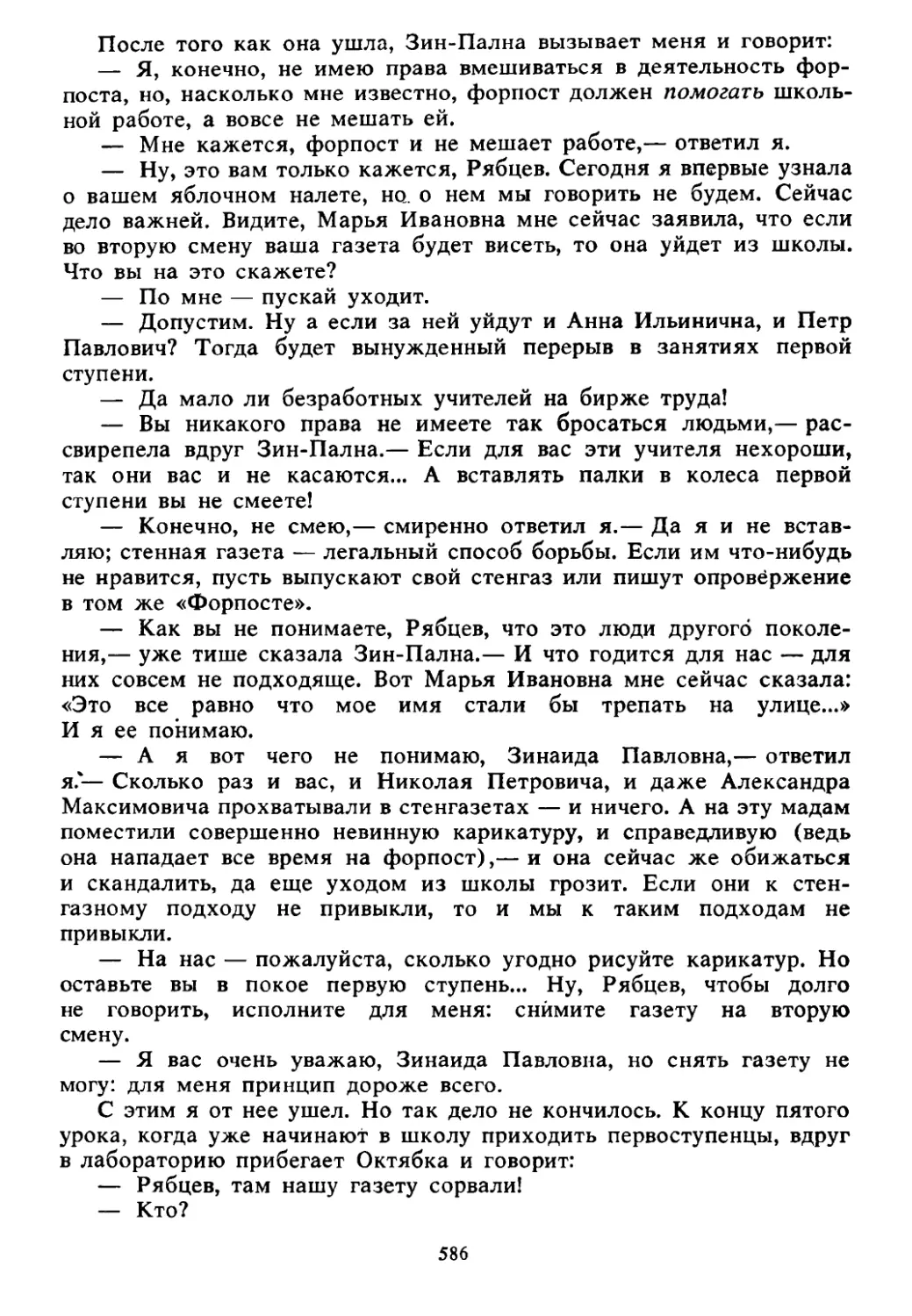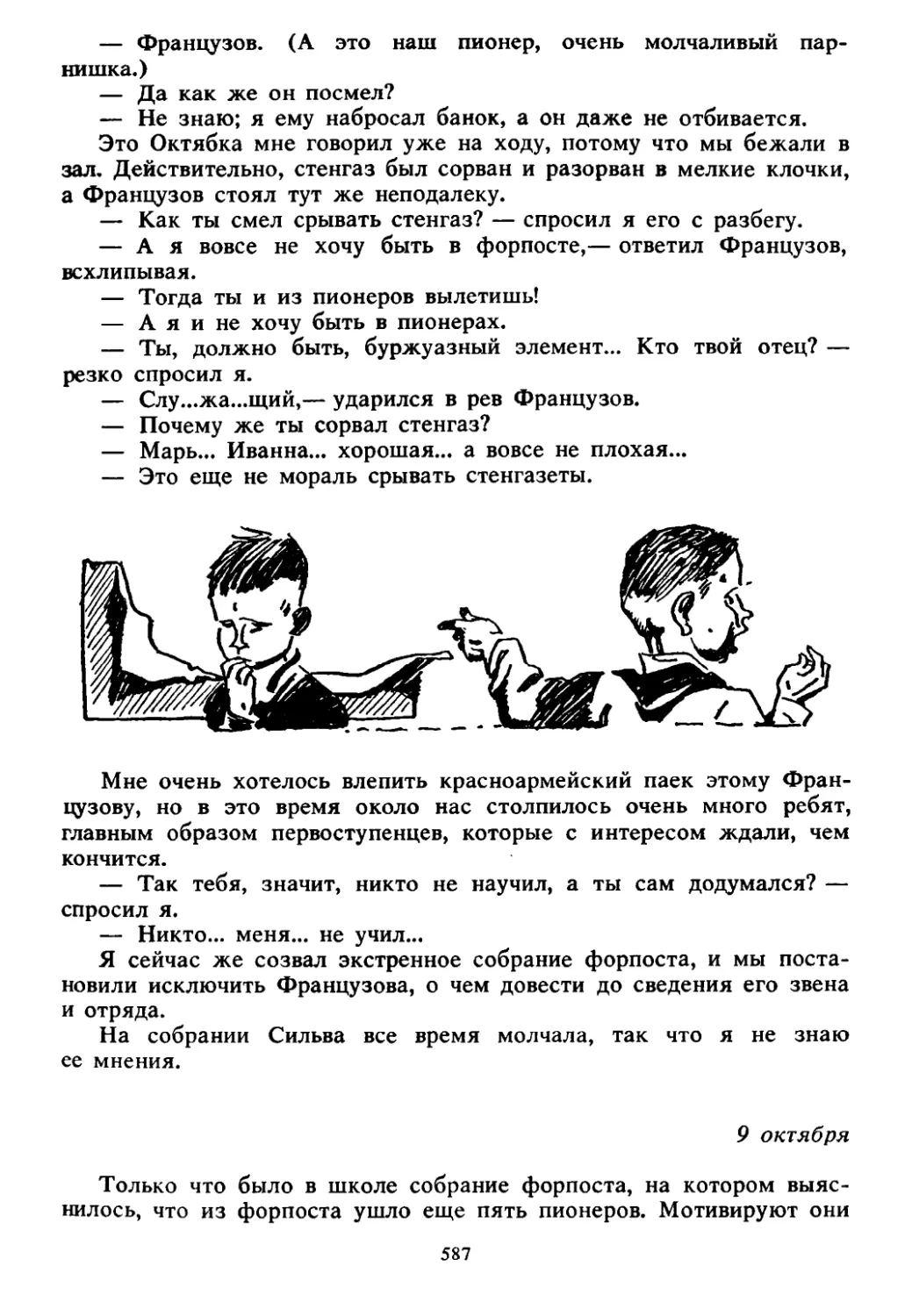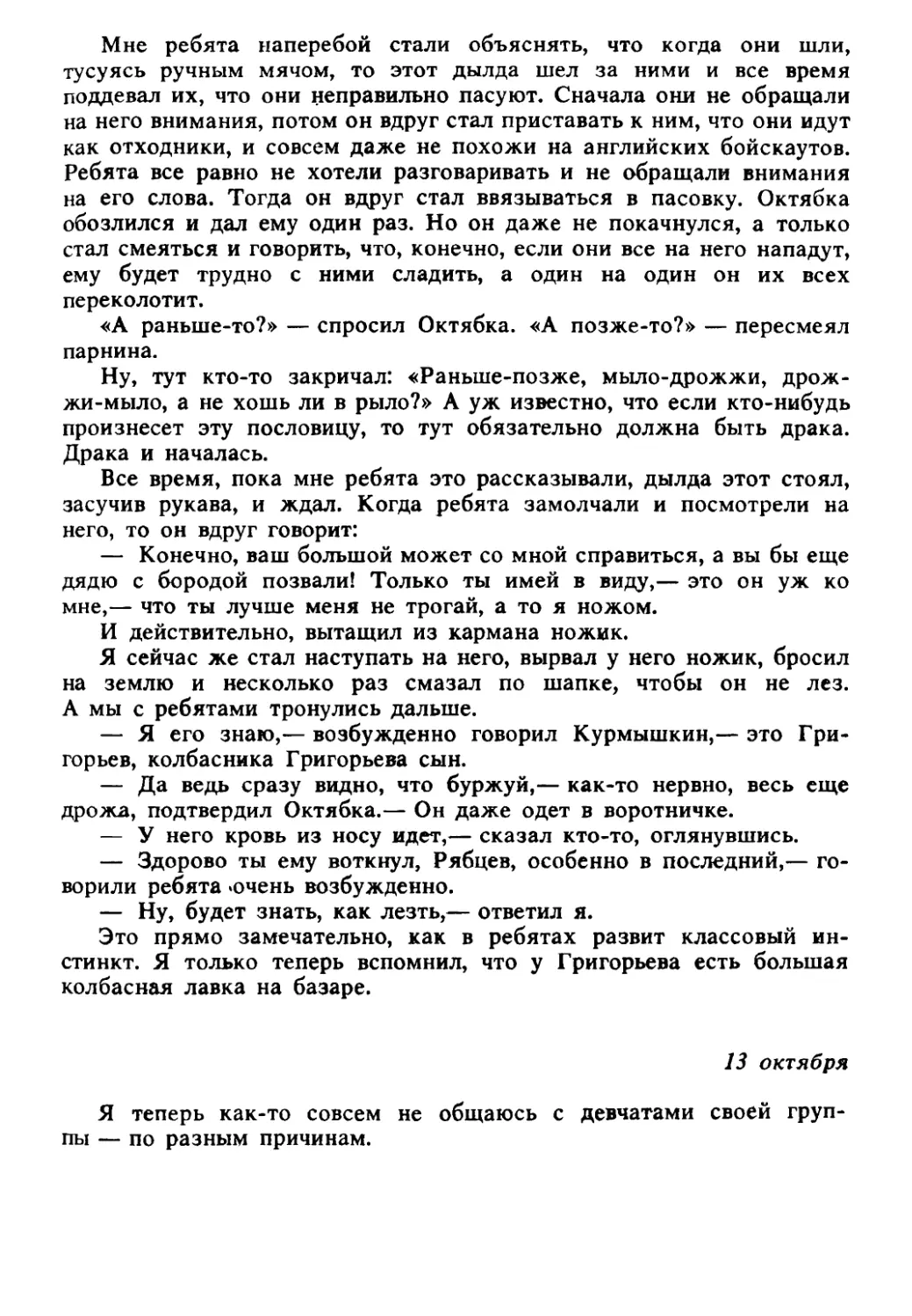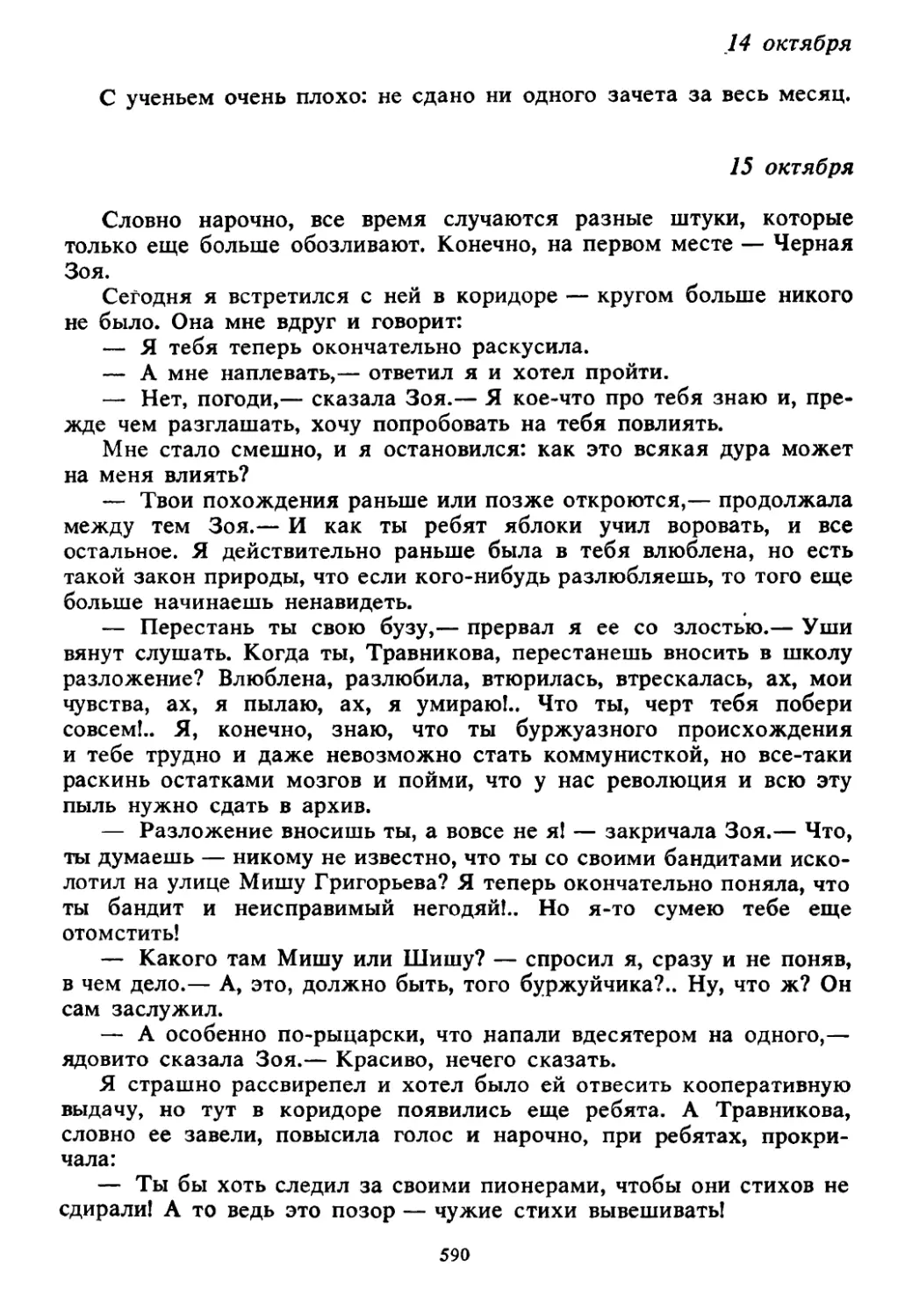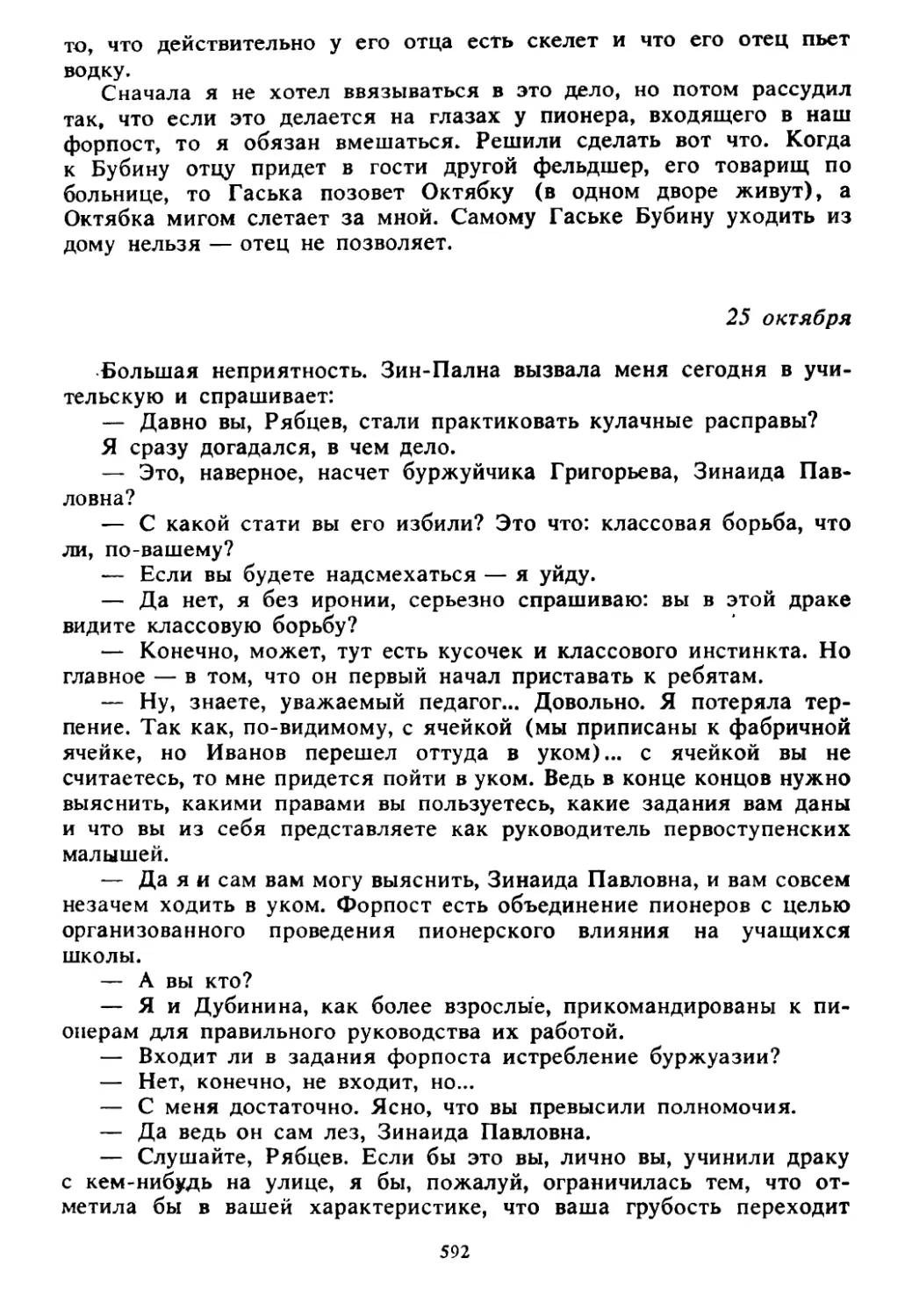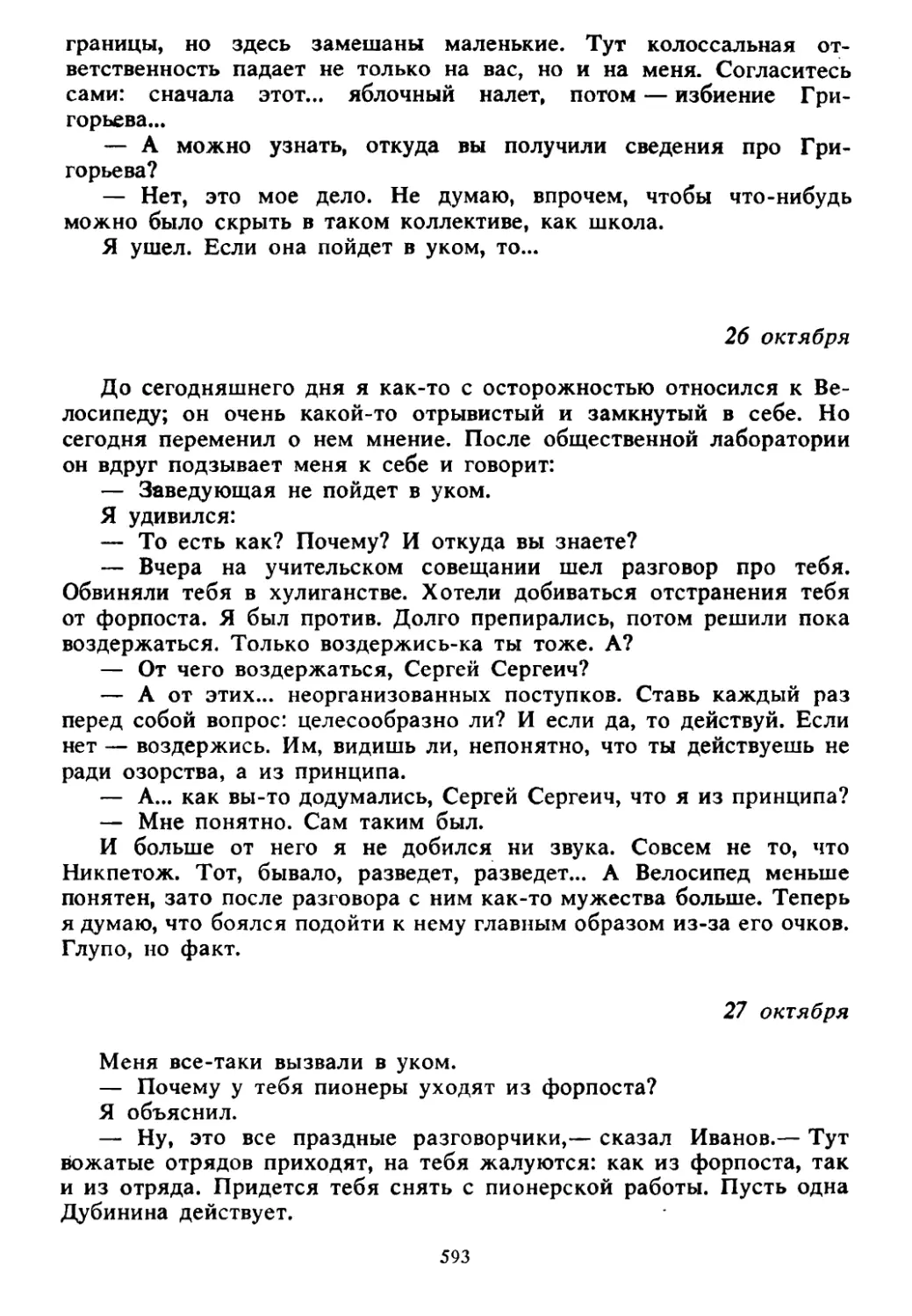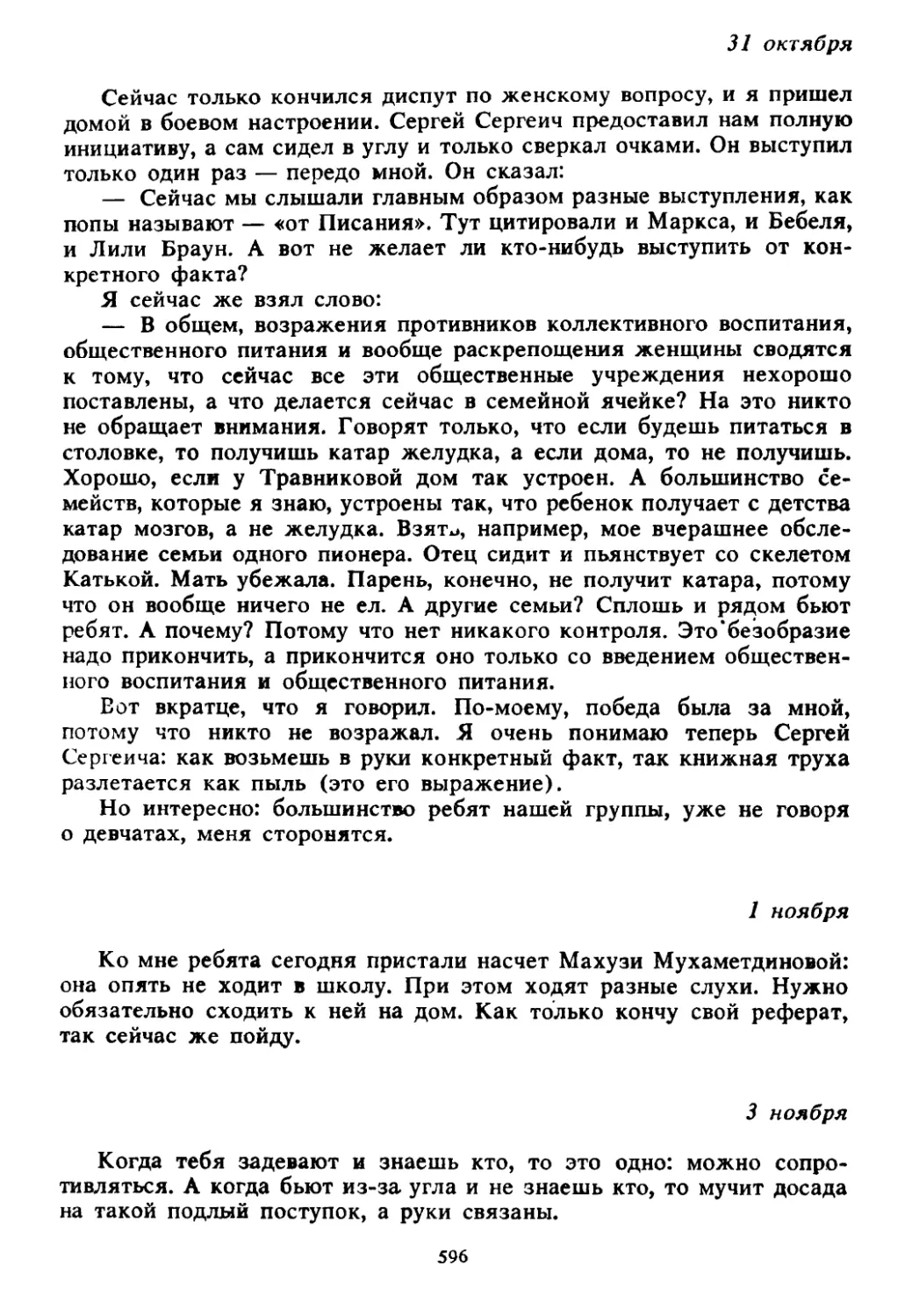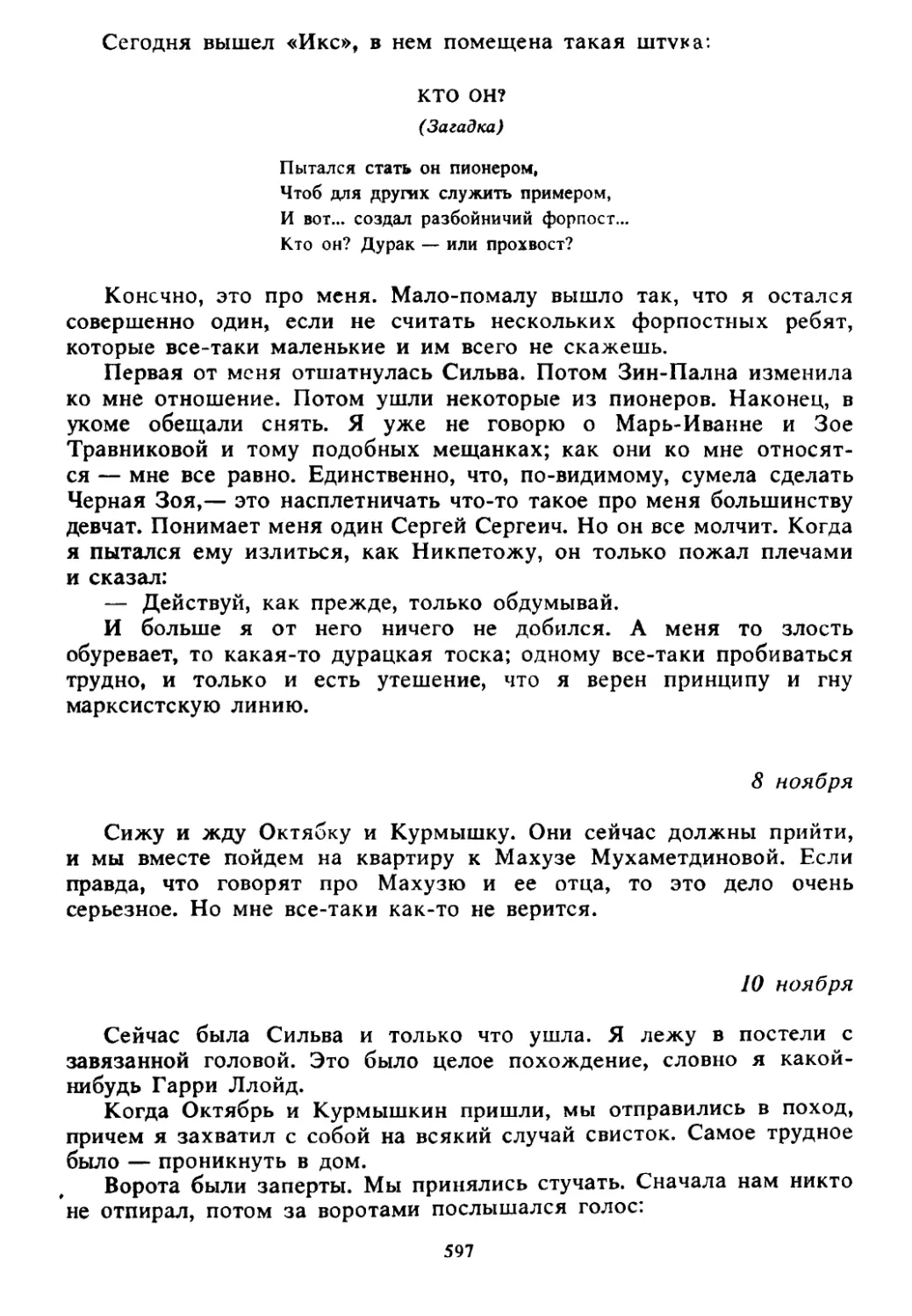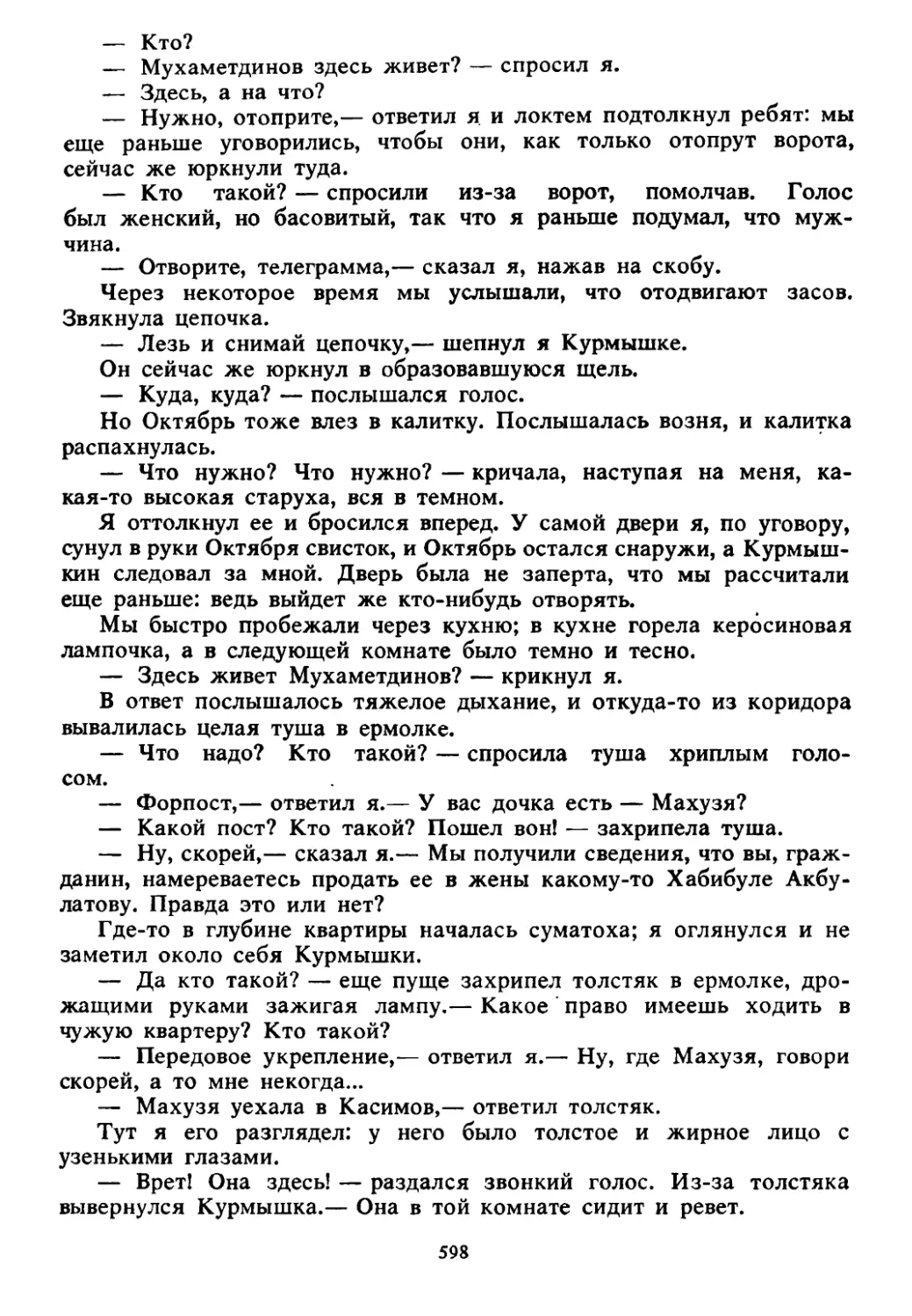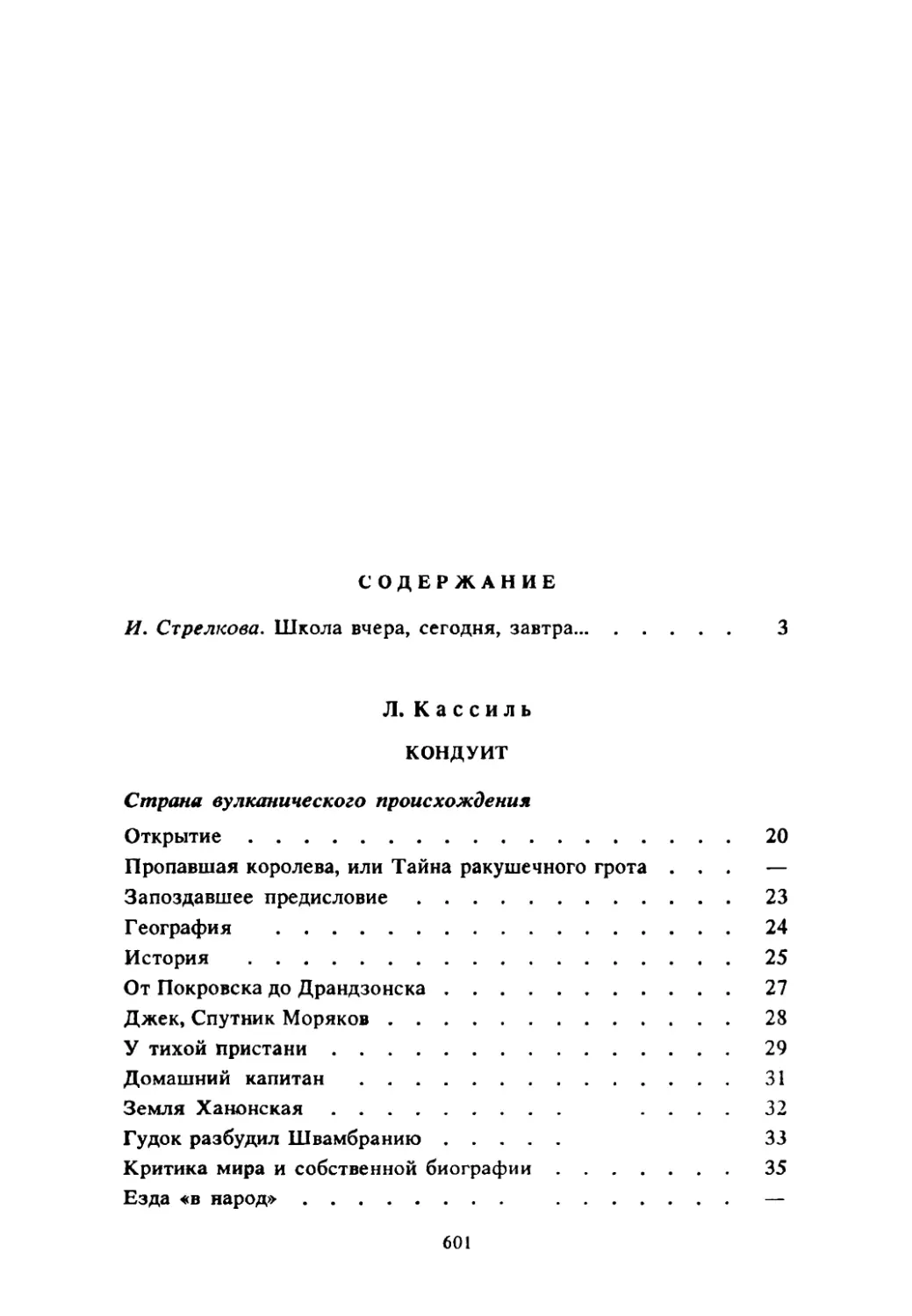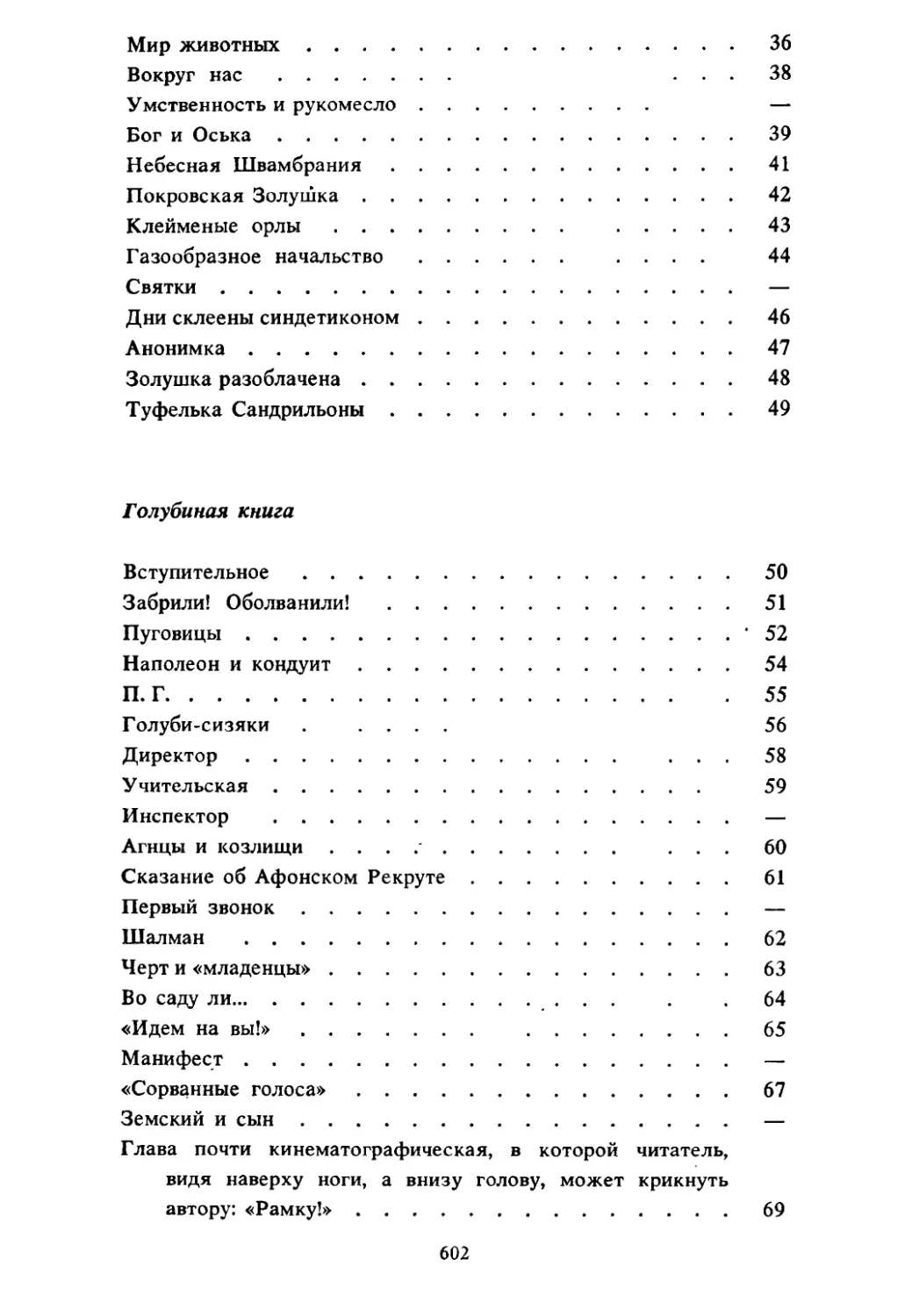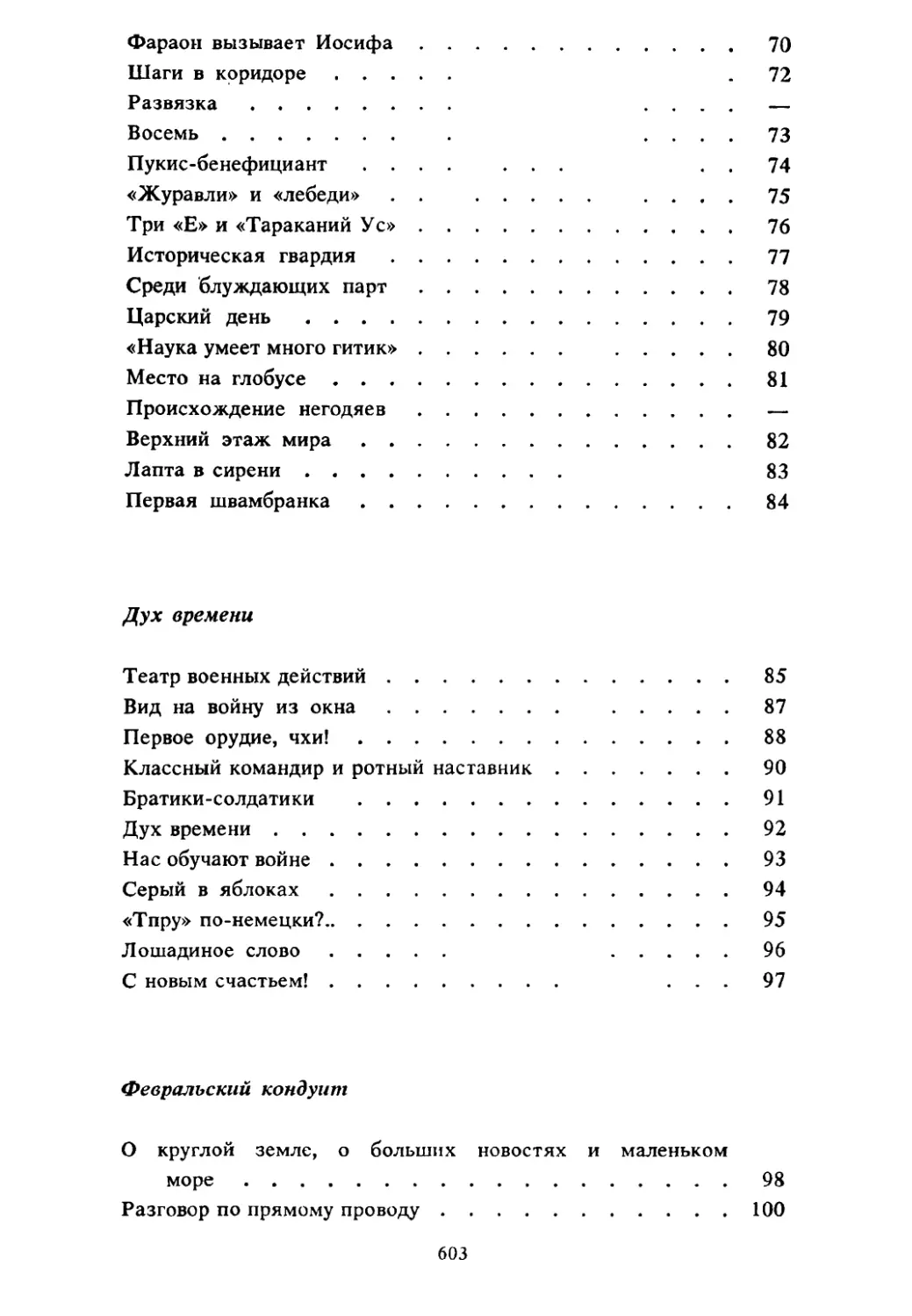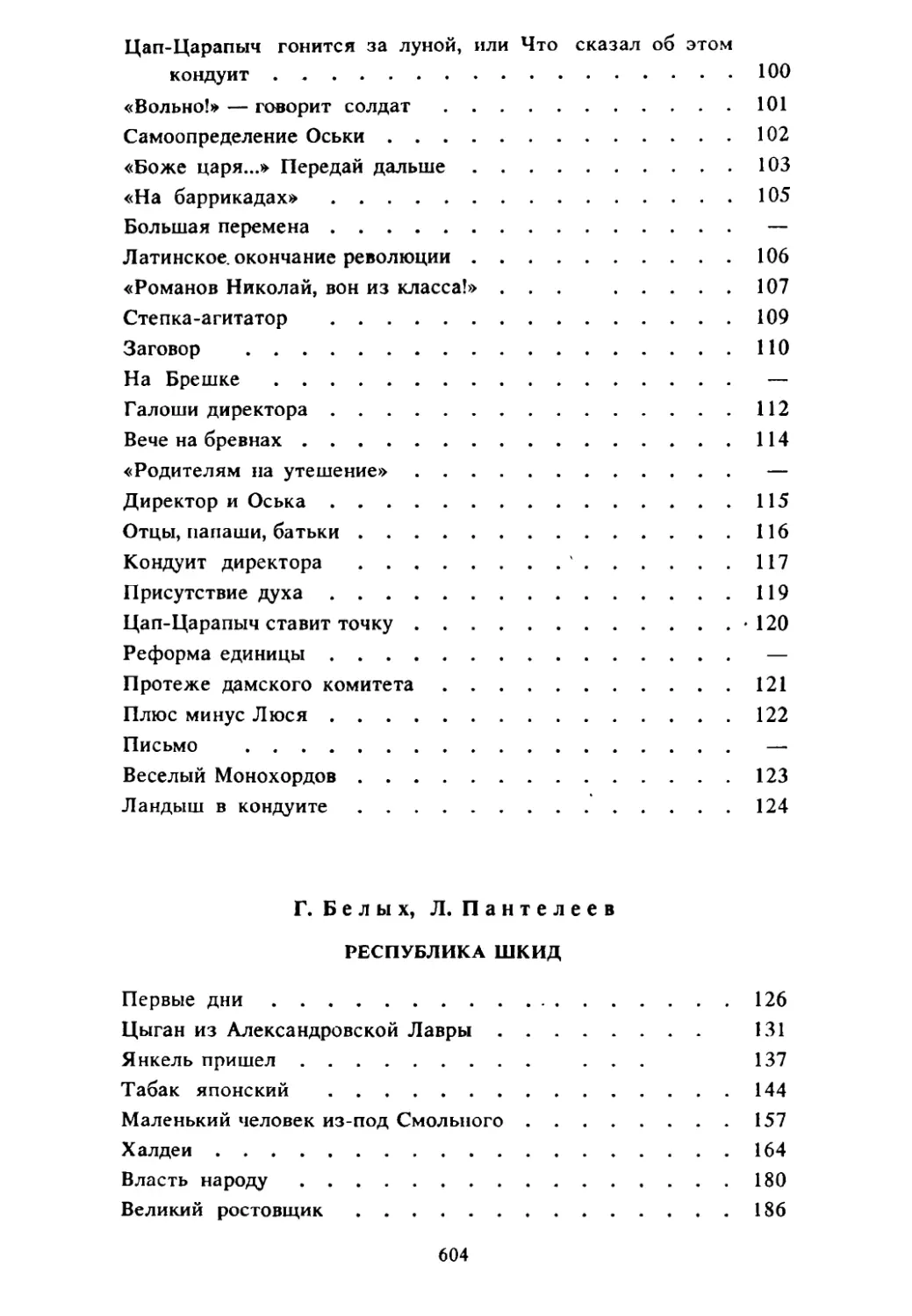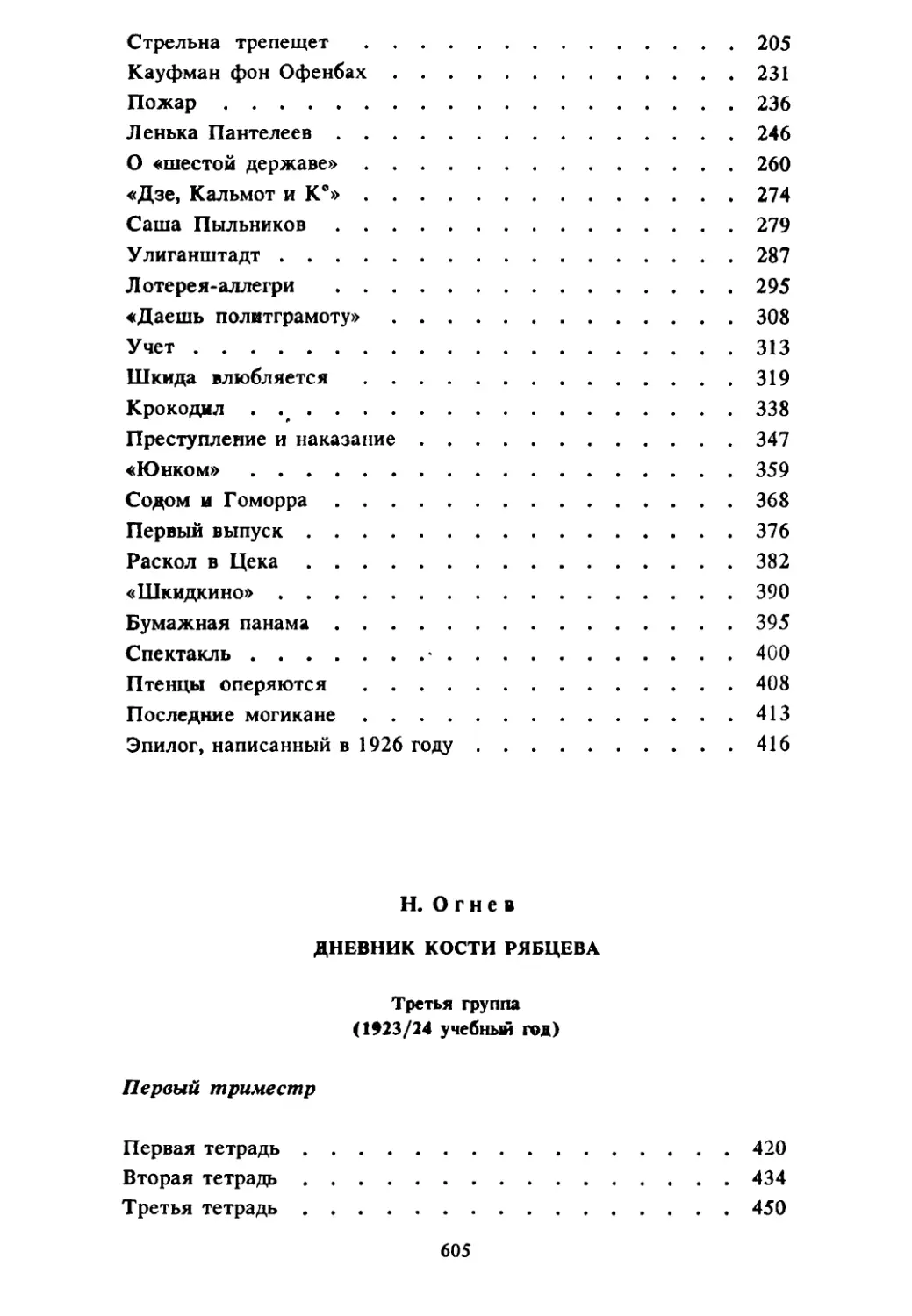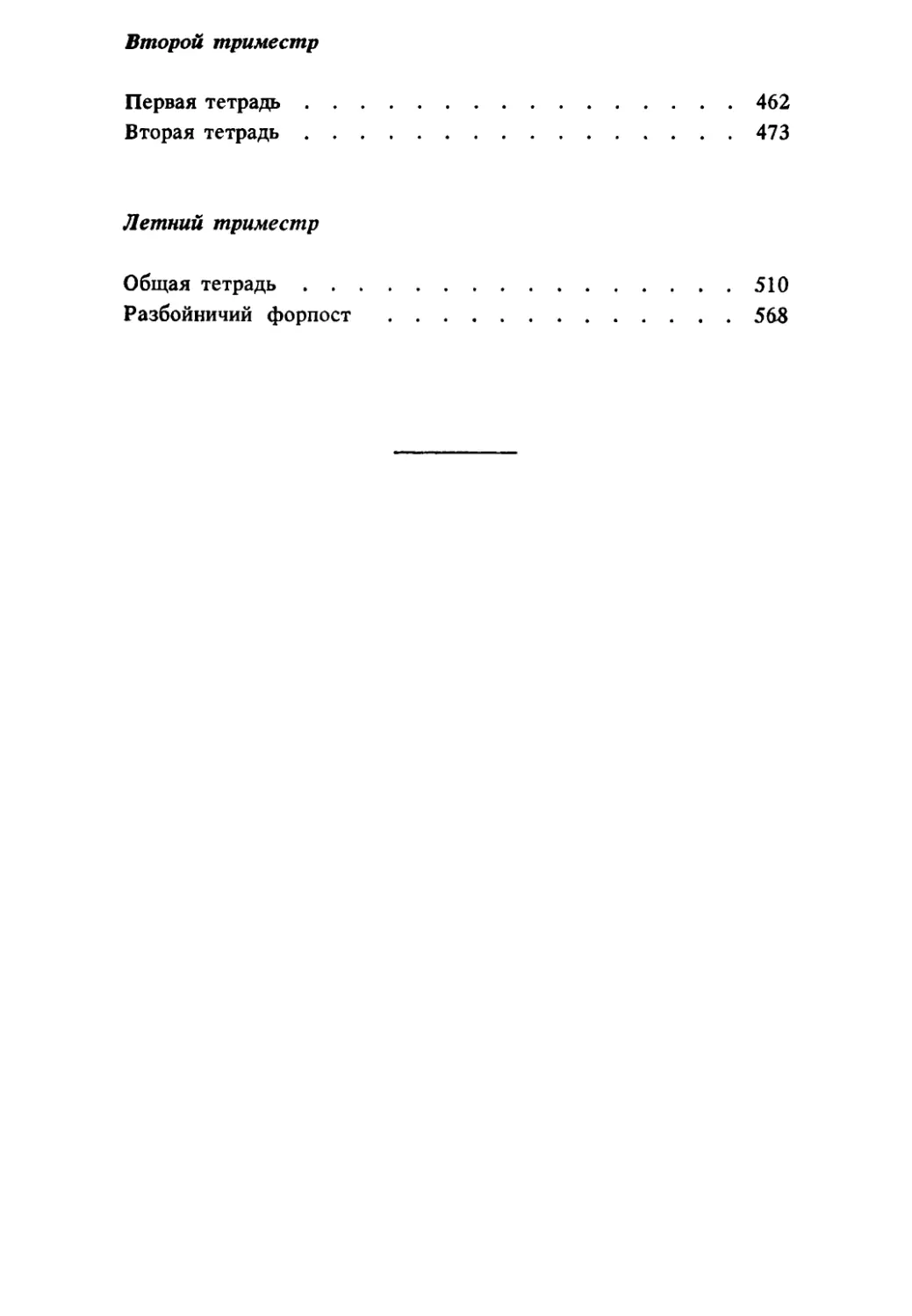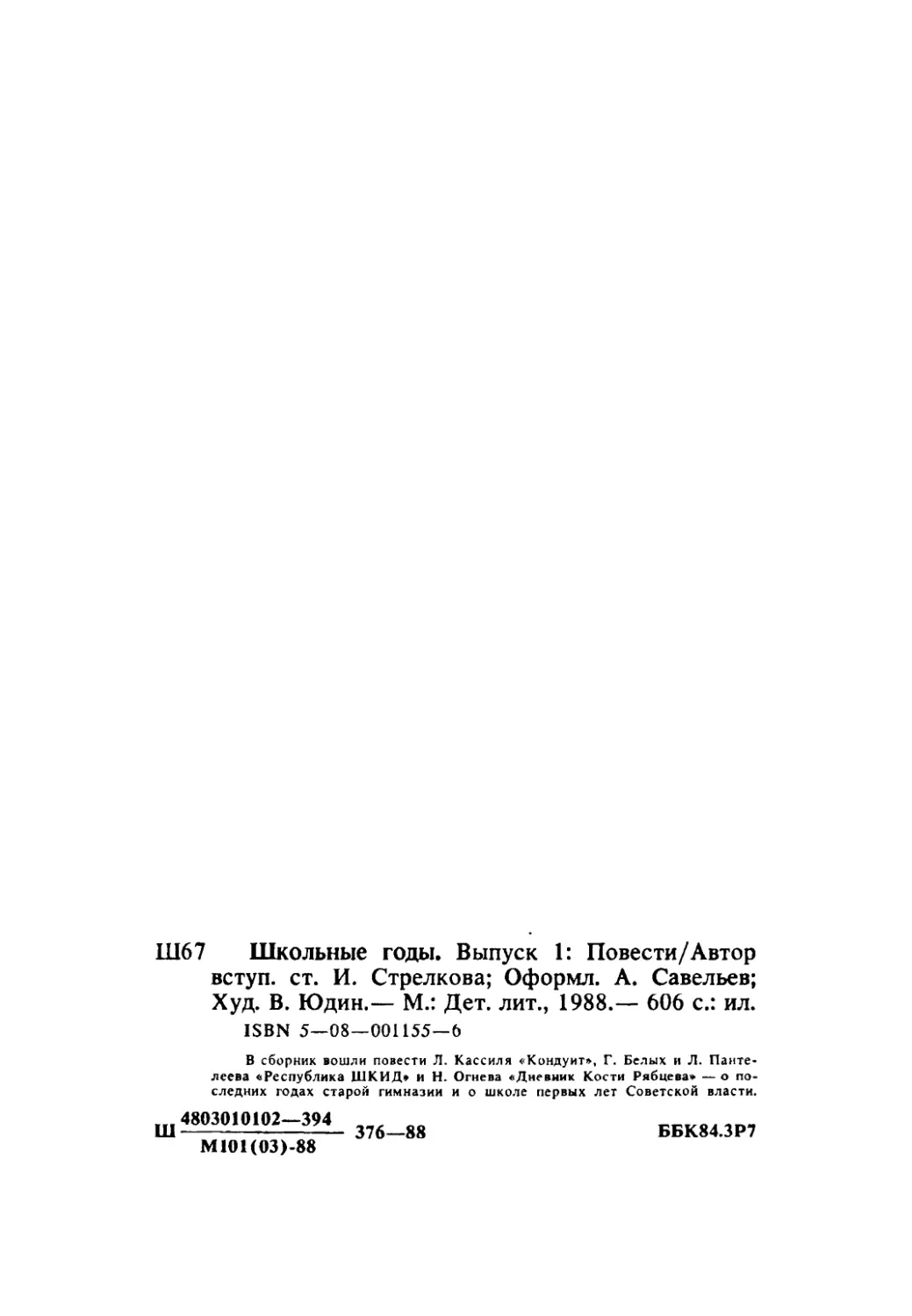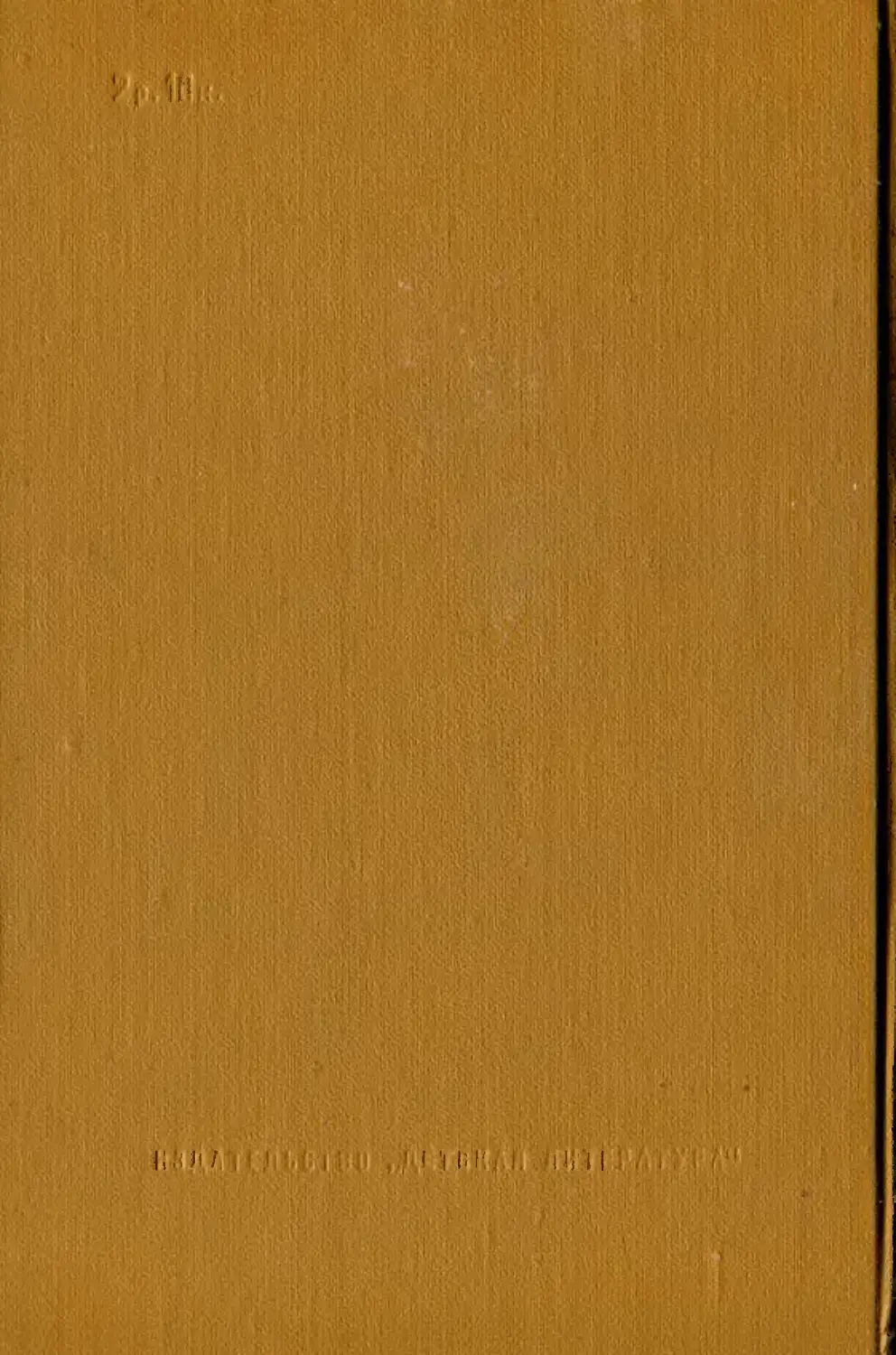Автор: Пантелеев Л. Кассиль Л. Белых Г. Огнев Н.
Теги: художественная литература повести
ISBN: 5-08-001155-6
Год: 1988
Текст
школьные годы
Л.Кассиль
кондуит
Г. Белых Л. Пантелеев
РЕСПУБЛИКА
шкид
Н.Огнев
ДНЕВНИК КОСТИ РЯБЦЕВА
повести
МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1988
ББК84.3Р7
1СГ67
4803010102—394 М101(03)-88
ISBN 5—08—001155
Автор вступительной статьи И. Стрелкова
Оформитель А. Савельев
Художник В. Юдин
376—88
© Состав. Вступительная статья. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1988
ШКОЛА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...
В эту книгу вошли повести о последних годах старой гимназии и о школе первых революционных лет, наделавших тогда много шума, да и потом довольно долго вызывавшие бурные споры: «Кондуит» Льва Кассиля, «Республика ШКИД» Л. Пантелеева и Г. Белых, «Дневник Кости Рябцева» Николая Огнева. Повесть «Кондуит» была опубликована в 1930 году. «Дневник Кости Рябцева» в 1926—1927 годах. «Республика ШКИД» в 1927 году.
Историю школы от древнейших времен и до наших дней, как известно, ни в каком классе не проходят. А что знают ребята про сложнейший путь, пройденный советской школой, о том, как она не раз перестраивалась, чтобы отвечать требованиям времени? Книги о школе прежних лет оказались вне круга чтения детей и подростков. Да их и не найдешь — они не переиздаются. «Дневник Кости Рябцева» стал чуть ли не библиографической редкостью. Почему-то было решено, что книги, когда-то нашумевшие, теперь устарели и не могут заинтересовать современных юных читателей — им подавай книгу про школу сегодняшнего дня, с ее сегодняшними конфликтами.
Конечно, у каждого нового поколения юных возникают собственные проблемы. Например, за последние годы довольно часто приходилось слышать от подростков и ребят постарше, что это поколение наделено какой-то особой участью: «То, что происходит с нами, то, что испытываем мы, еще не бывало ни с кем и никогда». Стала обозначаться кастовая замкнутость подростков и молодых людей в своем кругу и в своем времени, возник эгоцентризм уже
з
не столько личностный, сколько поколенческий: «Вот тут находимся мы, а кругом пустота». Для подобного рода утверждений, конечно, потребовалось и обосновать свое невежество: «Мы хотим знать только то, что нужно нам, а что нам не нужно, то устарело и сделалось лишним, балластом». Таким образом в категорию лишнего, балласта попали для всевозможных молодых компаний и культурные ценности, и нравственные правила. А на роль новейших ценностей, понятных только молодым, стало пробоваться все сиюминутное.
Речь тут идет, конечно, не обо всем юном поколении, а о той его части, которая бросалась в глаза уже своим внешним видом. Внешние приметы сразу были перенесены на киноэкран, где подростки-актеры закрепляли для подражателей определенную манеру поведения и определенный сленг, что и создавало видимость самой настоящей правды, однако суть явлений оставалась непознанной.
Сейчас эти ребята стали взрослыми, у них семьи, дети, заботы о воспитании своих малышей. Кто-нибудь из этого поколения непременно станет писателем и напишет книгу, из которой можно будет наконец узнать не поверхностную правду, а искреннюю и глубокую оценку пережитого. Но это уже прочтут другие поколения, живущие в других временах.
У каждого времени своя юность, со своими проблемами, и они возникают не внутри возрастной среды. Проблемы юных — всегда преломление или отражение тех процессов, которые происходят в жизни народа и государства. Поэтому и появление компаний с претензией на исключительность именно их поколения было, несомненно, связано со всем тем, что на XXVII съезде партии получило определение как период застоя и в экономике и в общественной жизни, отсутствия гласности, отступления от принципов демократизма. Дело подменялось видимостью, требовательность — болтовней, работа — очковтирательством. Так было, конечно, не везде, но застой распространился широко. И все удобней жилось тем, кто ни за что не собирался нести ответственность. С завода не спросишь за качество продукции, с железной дороги — за сохранность грузов.
В школе, может быть, сильнее чем где бы то ни было сказались последствия застоя, боязнь правды, бюрократическое мышление. Ребята из республики ШКИД были бы потрясены, если бы смогли заглянуть в школу семидесятых и начала восьмидесятых годов.' Во что превратилось ученическое самоуправление! Учитель решает, кого выбрать в совет отряда, составляет план пионерской работы. Комитет комсомола ни шагу не может сделать самостоятельно, без подсказки директора. А чего стоят так называемые дни дублеров, когда старшеклассники изображают кто директора, кто завуча, кто завхоза и сами дают уроки? Да это же игрушки для маленьких! Мнимая власть — всего лишь на один день. Вот шкидовцы действительно управляли своей республикой сами. Потому и смогли двое из них написать книгу про школу имени Достоевского в очень
4
молодом возрасте: Л. Пантелееву (псевдоним Алексея Еремеева) было восемнадцать лет, а Григорию Белых — двадцать. А какую книгу написали! Максим Горький про нее сказал: «Для меня эта книга — праздник, она подтверждает мою веру в человека, самое удивительное, самое великое, что есть на земле нашей».
Когда во всей стране началась перестройка, оказалось необходимым прежде всего провести реформу школы, заложить в школе надежную основу всех грядущих преобразований.
Страна разрабатывала планы по 2000 год. А главная сложность положения школы в обществе всегда заключалась в том, что она живет нормами и представлениями своего времени, в курсе наук не может поспеть за достижениями первооткрывателей (особенно в наш век), но обязана готовить своих учеников к требованиям, которые возникнут завтра.
Так какими мы можем увидеть выпускников 2000 года, если они — та самая малышня, что явилась к школьным дверям с цветами и увесистыми ранцами 1 сентября 1990 года?
Завтрашнее всегда зарождается в настоящем. К началу перестройки уже существовали прогнозы и проекты школы будущего. И существовал опыт замечательных учителей, доказавших, что нет ребят неспособных, каждый может успешно учиться по всем предметам. И на съезде комсомола брали слово посланцы школ, выдвигали свои предложения, рассказывали, насколько интересней живется, когда ребятам доверяют и можно самим все решать и самим отвечать за все... Казалось бы, в школе должны наступить быстрые перемены, опережающие общий темп перестройки. Однако выяснилось, что на деле получается не так, школьная реформа пробуксовывает, новое плохо прививается и формализм упорно не сдает позиций.
Конечно, много разных помех стояло на пути школьной перестройки, но одна из самых главных — не ладилось сотрудничество между учителями и учениками. А без такого сотрудничества нельзя провести даже обыкновенный урок. Не может учитель объяснить, если у класса нет охоты понять. На уроке надо работать вместе и дружно. И после уроков тоже. Самоуправление это ведь тоже сотрудничество двух коллективов — ученического и учительского.
Так много лет спустя в школу вернулась проблема первых послереволюционных лет. Тогда ведь тоже требовалось прежде всего наладить сотрудничество. Только проблема была повернута другой стороной, чем сейчас. И с совсем других позиций, чем нынешние ученики, решал ее Костя Рябцев, решали герои повестей «Кондуит» и «Республика ШКИД». Тем интереснее читаются сегодня эти старые книги.
Не сомневаюсь, что вообще сегодня у ребят проявится обостренный интерес к книгам о школе прежних лет, о дореволюционной гимназии, о жизни школьников в других странах. Этого непременно
5
потребует участие самих учеников в превращении нынешней школы в школу завтрашнего дня.
Невозможно строить планы на будущее, если не знаешь прошлого. Да и в сегодняшних событиях лучше разбирается тот, у кого есть достаточно ясное представление, что же происходило вчера. Все это давние истины, много раз проверенные человечеством.
16 октября 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет издал «Положение о единой трудовой школе». Одновременно Государственная комиссия по просвещению опубликовала «Декларацию о единой трудовой школе». Декларация провозглашала основные принципы новой советской школы: полная светскость1 и единство новой школы, уважение к личности ребенка, широкие права детского самоуправления, демократизм, общеобразовательный и политехнический характер обучения. Ну и конечно, единая трудовая школа — ЕТШ — объявлялась бесплатной. Обучение еще не было всеобщим и обязательным, но в декларации указывалось, что это необходимо. Школа делилась на две ступени: первая — пять лет (от восьми до тринадцати лет), вторая — четыре года (от тринадцати до семнадцати лет).
Новая советская школа, единая для всех и, значит, обеспечивающая равенство в правах всех юных граждан на образование,— это было огромным завоеванием Великой Октябрьской революции, это можно поставить рядом с Декретом о земле, с национализацией всех фабрик и заводов. Ведь до революции существовала система образования, которая закрепляла неравенство в достатке и общественном положении. Знай сверчок свой шесток. Для детей из обеспеченных семейств — гимназии, реальные и коммерческие училища, кадетские корпуса, институты благородных девиц. Дети священников и других представителей духовенства учились в духовных и епархиальных (для девочек) училищах, в духовных семинариях. Для всех прочих были министерские, земские и церковноприходские школы.
Конечно, не каждый «сверчок» смирялся с участью, назначенной ему государственной системой образования. Мог и бедняк закончить гимназию, подрабатывая себе на жизнь уроками. И таких талантливых, упорных юношей, очевидно, было не так уж мало, если крупные государственные деятели царской России даже били тревогу по поводу «кухаркиных детей», лезущих туда, куда им не положено.
Удивительная тяга к знаниям проявилась в предреволюционной России. Официальная статистика утверждала, что народные массы темны и неграмотны. Но сколько бродило по стране самоучек, как Максим Горький! Русская интеллигенция объединялась в об-
1 Светскость — понятие, противоположное церковности. До революции школы подразделялись на светские и церковные.
6
щества, содействующие народному просвещению. Был Петербургский комитет грамотности, Харьковское общество распространения грамотности. Демократические издательства выпускали для народного чтения дешевые книжки огромными тиражами. И это уже были книги, пробуждавшие революционное сознание. Один реакционный деятель как-то познакомился со школьными хрестоматиями, букварями, азбуками-копейками и в ужас пришел: школьная подготовка революции.
Действительно, так называемая темная Россия оказалась вполне подготовленной к революционной листовке, к участию широких народных масс в революции, к тому, чтобы читать Маркса и Ленина. Так называемая неграмотная Россия выдвинула на командные посты революции людей, которые упорно учились в царских тюрьмах, в ссылке и стали образованнейшими людьми своего времени, хотя формально могло считаться, что они закончили всего лишь несколько классов начальной школы.
Основы новой советской школы заложило поколение революционеров. Заложило с твердой уверенностью в том, что только образованный народ сможет построить первое в мире государство рабочих и крестьян. Примечательно, что вскоре после создания новой школы — ЕТШ — было создано общество «Долой неграмотность» — ОДН, которое усадило за школьные парты миллионы взрослых. А когда в очень трудные для молодого Советского государства 1920—1921 годы пришлось принять решение сократить срок обучения в единой трудовой школе с девяти лет до семи, Владимир Ильич Ленин потребовал, чтобы мера считалась лишь временной и девятилетка была практически сохранена.
Но как учить детей по-новому? И как надо по-новому учиться? И надо ли вообще корпеть в классе, если теперь свобода? Нужен ли урок? Нужны ли учебники? Как относиться к старорежимным учителям?
Все эти вопросы будоражили не только юные головы. Строительство новой школы было частью строительства новой культуры. В те годы существовала теория, что в переходный путь от капитализма к социализму пролетариат будет находиться в состоянии непрерывной борьбы с врагом и ему некогда будет строить новую культуру — эта задача отодвигается в далекое будущее. А другие теоретики утверждали, что всю старую культуру надо немедленно выбросить на свалку и создать на чистом месте новую пролетарскую культуру.
Ленинская теория пролетарской социалистической культуры теперь известна каждому комсомольцу, читавшему выступление Владимира Ильича Ленина на III съезде комсомола. Помните? «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».
Новая советская школа взяла все лучшее из школы старой.
7
И постепенно вырабатывала свой опыт, создавала свою педагогическую науку.
Можно ли пройти новым путем, еще никем не изведанным, и обойтись без ошибок? Нет, конечно. Однако ошибки бывают разные. Например, такой выдающийся педагог, как Антон Семенович Макаренко, считал, что метод социально-индивидуального воспитания, предложенный В. Н. Сорокой-Росинским (Викниксором из «Республики ШКИД»), никуда не годится. Но даже если метод и был наивен — все равно школа имени Достоевского вывела на правильный путь многих бывших беспризорных. В деле воспитания всегда очень многое значит не столько теория, сколько личность воспитателя. В. Н. Сорока-Росинский был замечательным человеком и настоящим гуманистом.
Но, кроме ошибок, совершаемых талантливыми и искренними людьми, в истории школы первых послереволюционных лет запечатлены и ошибки тогдашних теоретиков, весьма далеких от школы и сочинявших свои новые методы в тиши кабинетов.
Одно время школе пришлось заниматься по «комплексным программам», включающим три раздела: «Природа», «Труд», «Общество». На русский язык и математику оставался лишь минимум времени.
Был в ходу «метод проектов». Считалось, что необходимые знания учащиеся должны получать не на уроках под руководством учителя, а в процессе самостоятельного выполнения различных заданий, именуемых проектами.
Согласно «бригадному методу» один ученик отвечал на вопросы учителя за всю бригаду. Делались попытки изгнать учебники, заменить их «рабочими книгами», «рассыпными учебниками», «журналами-учебниками».
Крепко досталось отечественной истории и литературе. Историю дореволюционной России одно время вовсе выбросили из программы — ничего там нет хорошего и полезного для советского ученика. Пушкина выбросить из курса литературы не удалось, но учебник призывал к бдительности, разоблачая «помещичьи взгляды» великого русского писателя. С Львом Толстым горе-теоретики тоже боролись и даже изымали из библиотек за «религиозные взгляды».
Но хоть что придумывай — в школе оставались учителя, а настоящий учитель не подвластен никаким распоряжениям, если они не на благо его ученикам. Так было и в той школе, где учился Костя Рябцев. И во многих других школах.
У меня с детства особое отношение к книгам о школе двадцатых годов. Я дополняла прочитанное, приставая с расспросами к матери. В те годы она получила специальность учительницы немецкого языка и поступила на работу в школу для беспризорных. А тогда найти работу было не так-то легко, в стране даже пришлось открыть биржи труда.
Однажды на ее урок пришла старая опытная учительница. Моя
г
мама, конечно, старалась изо всех сил показать, что вполне владеет самой новейшей методикой. Старая учительница невозмутимо выси- дела до звонка, потом проэкзаменовала мою маму по немецкому и сказала в сердцах:
Деточка, вы, оказывается, знаете язык. Почему же на уроке
вы несли чушь?
Да, но так указано в методике...— оправдывалась мама.— И с
меня спросят...
— Чепуха! — категорически объявила старая учительница.— Все чепуха. Главное, чтобы ваши ученики знали язык.
Это было главное, что следовало помнить каждому учителю. Ты не для кого-то работаешь, кто с тебя спросит. Для детей. Есть у них знания — значит, ничто тебе не страшно.
Маме казалось, что ребятам ее уроки интересны. Но через год учком заявил:
— В Германию никто из нас ехать не собирается, так что немецкий долой, мы им больше заниматься не хотим. Выбирайте любой другой предмет.
— Что это значит? — спросила мама.
Учкомовцы ей пояснили, что как учительница она им подходит. А географичка не нравится. Поэтому они предлагают моей маме стать учительницей географии.
— Ничего. Сумеете. И мы поможем.
Она честно призналась, что преподавать географию не имеет права. И просто не справится.
Учком задумался, учком долго заседал... Я очень любила это место в маминых рассказах. Учком заседал, заседал и принял решение... что уроки немецкого остаются.
В сущности, это были выборы учителя. И конечно, учителю, которого выбрали (вместе с его предметом), было чем гордиться.
Но какими солидными деятелями оказались учкомовцы из бывших беспризорных! И до чего же здорово было все поставлено в школе тех лет, когда директор и учителя таким образом сотрудничали с учениками!
Лев Толстой, занимавшийся с деревенскими ребятами в созданной им школе, восхищался их здравыми рассуждениями и утверждал на собственном педагогическом опыте, что в кругу ребят непременно выдвигаются в руководители самые справедливые. Новая советская школа дала ход именно таким ребятам, их поставила во главе ученического самоуправления, дала возможность с юных лет принимать на себя ответственность.
Но оказалось, что и хулиганы... Впрочем, не стоит здесь пользоваться этим словом, тогда с ним боролись как с антипедагогичным. И существовали замены: «дезорганизатор» (слово целиком придуманное кабинетными педагогами), «бузотер» (самое тогда модное у ребят), ну и разные другие.
9
Так вот, бузотер и он же дезорганизатор, если ребята его выдвигали на общественный пост, тотчас начинал проявлять организованность и деловитость, не допускал никакой бузы и горой стоял за справедливость. Это даже стало считаться самым надежным способом исправления неисправимых — доверить им общественное дело. У Макаренко в «Педагогической поэме» рассказано о таких ребятах, в повести «Часы» Л. Пантелеева (один из соавторов «Республики ШКИД» стал известным писателем).
Пока оторванные от жизни кабинетные педагоги пытались изобрести для новой советской школы нечто абсолютно новенькое, абсолютно противоположное старой гимназии, в самой школе, чутко реагирующей на все, что происходит вокруг, родился действительно новый принцип воспитания — советский, социалистический. Он мог появиться только в единой трудовой школе с ее демократизмом и широкими правами детского самоуправления. И родился он не на голом месте, сюда влилось все лучшее из дореволюционной педагогики, из демократических идей Константина Дмитриевича Ушинско- го, из провозглашенного Львом Толстым уважения к детскому сообществу, из опыта многих поколений учителей-подвижников. И это был общенародный опыт, запечатленный в притче о старике, который учил уму-разуму своих сыновей. Помните? Он предложил им сломать веник. Ломали, ломали — ничего не получилось. Тогда старик велел разобрать веник по прутику. И по прутику-то легко оказалось переломать.
Воспитание в коллективе. Наверное, не случайно это пришло прежде всего в колонии, как та, где работал Макаренко, в школы для беспризорных, в детские дома. Беспризорных в те годы оказалось великое множество — последствие гражданской войны, голодных лет, эпидемий. И держались ребята, выброшенные на улицу, стаями — в одиночку пропадешь, это под крылышком у папы с мамой удобно быть индивидуалистом. Были стаи, живущие по воровским законам, но были и другие, стремившиеся жить по-честному — в той мере, в какой удавалось. И ребята несли свои обычаи в воспитательные учреждения. Так что там требовалось прежде всего повернуть сложившиеся на улице правила в новом направлении.
Сейчас во всем мире изучают теорию коллективного воспитания по трудам Антона Семеновича Макаренко. На коллективном воспитании основана и жизнь современной школы. Но довольно часто это делается лишь формально, поэтому сегодня появилась проблема двух типов лидерства в среде ребят — «формальные лидеры» и «неформальные». Первые назначены учителями и директорами на посты в давно бездействующем школьном самоуправлении, вторые возглавляют самые разные ребячьи компании за стенами школы. Ну и, естественно, первые тихи и послушны, а вторые энергичны и умеют поддерживать свою власть, при этом они себе на уме и, делая вид, что готовы «голову положить за други своя», преследуют весьма эгоистические цели.
10
Но почему школьная комсомольская организация и пионерская не дают решительный бой всем этим «формальным» и «неформальным», не выбирают настоящих комсомольских и пионерских лидеров?
Вопрос один из главнейших в начавшейся школьной перестройке. Сегодняшнему школьнику, чтобы разобраться в нем, надо начать издалека.
Школа всегда такова, какова окружающая ее жизнь. Если у нас в обществе обозначилась социальная несправедливость — а об этом было очень резко сказано на XXVII съезде партии,— значит, то же самое ощущалось и в школе. Ну, вот хотя бы такой пример. Ребенок еще сосет соску, а на семейном совете уже планируется его блистательная карьера, которую надо начинать как можно раньше, набирая очки год за годом — на математических олимпиадах, на конкурсах юных художников, в музыке и в спорте. Очки будут потом немало значить при поступлении в престижный институт.
Преподавателям художественных школ, спортивным тренерам хорошо знаком этот тип семьи, потребительски относящейся ко всем благам, в том числе и культурным. Любыми правдами и неправдами отпрыск будет определен туда, куда берут не всех, а только одаренных. Демонстрируется пробойность такой силы, что оторопь берет. И не пытайтесь доказать, что без истинных способностей все равно ничего не получится. Пробивные родители уверены: лишь, бы втолкнуть, а там их отпрыск не пропадет, с детства обучен работать локтями.
Такое семейство обычно занимает по отношению к школе самую жесткую позицию. «Класс пускай едет работать в колхоз, а моя дочь должна быть освобождена. Если нужна справка от врача, я завтра принесу хоть десять справок!» Или: «Что вы там выдумали? Какой поход? Мой сын переутомился и нуждается в отдыхе у моря». И так во всем, изо дня в день. Но это еще цветочки. Пробивные родители утверждают во всеуслышание (в печати тоже), что единая трудовая школа устарела. «Равенство? Ерунда! Есть дети высокоодаренные, и они нуждаются в особом внимании. И есть все остальные, со средними способностями,— вот они пусть и довольствуются всеобщим средним образованием...»
Не стоит преувеличивать опасность деления ребят школьного возраста на «элиту» и «серых», но и преуменьшать — непростительно. Потому что идет атака на коллектив. У ребят чувство справедливости чрезвычайно обострено. И если школа пасует перед претензиями чванного семейства — этой школе отказывают в доверии. И тут одна из причин ослабления у ребят дружбы внутри класса, ослабления классного и школьного коллективизма, одна из причин тяги в разные «команды», возглавляемые «неформальными лидерами». А ведь класс — первый в жизни человека трудовой коллектив. Мне известны дружные классы, сохранившие свою школьную дружбу
11
на всю жизнь. И сейчас, через десятки лет, если что-то случилось, тотчас приходят на помощь бывшие одноклассники. Вот какова сила первого коллектива в жизни человека — детского. И вот почему нельзя допускать, чтобы в классе возникала разобщенность, да еще такая, за которой стоит достаток родителей, социальное неравенство.
В одной школе случилось ЧП. Девочка пришла в золотых сережках и, хвастаясь, показывала подругам ярлычок с ценой — около тысячи рублей. «Ты что, не понимаешь? — спросил одноклассник.— Такие серьги нельзя купить на зарплату». В этих его словах усмотрели клевету на мать девочки, работавшую продавцом. Потребовали, чтобы он извинился. Подросток отказался. Вызвали отца. В этой истории мне очень нравится отцовская позиция. Он просто сказал: «Я тоже не знаю, как можно, получая среднюю зарплату, покупать, серьги за тысячу рублей». Школа бушевала. Представители «элиты», прежде щеголявшие дорогими престижными шмотками, стали одеваться попроще. Боялись, что тоже могут спросить: «На какую зарплату?..» А может, кое-кто из них в самом деле задумался, откуда в доме лишние деньги? Может, кому-то стало стыдно?
Социальный переворот в масштабе одной лишь школы. Но ведь переворот в сознании нескольких сотен ребят. И для этого потребовалось только, чтобы кто-то сказал правду, которую знали и без него, но не говорили. Недаром в русском языке слово «правда» включает в себя понятия «истина на деле», «справедливость».
Этого подростка охотно взяли бы в свои ряды ребята из республики ШКИД и Костя Рябцев признал бы своим парнем.
У каждого времени — своя юность, со своими новыми запросами, но различия не мешают видеть духовную преемственность юных поколений. И эта преемственность образует одну из главных линий в истории народа.
Причем в периоды наиболее трудные в жизни народа — как это было в войну — дети всегда теснее сближаются со старшими, принимают на себя взрослые заботы и опасности. Притяжение юных к общенародным проблемам непременно происходит и в годы революционных преобразований. Динамичное время быстрее приобщает ребят к реальному делу.
Первая пятилетка потребовала от советской школы самых капитальных преобразований. Надо было невиданными прежде темпами заложить фундамент социалистической индустрии, стране требовались грамотные и смекалистые работники, много грамотных и смекалистых — миллионы...
В 1929 году был утвержден пятилетний план, в 1931 году было принято постановление ЦК «О начальной и средней школе», появились основательные программы по родному языку, математике, физике, химии, географии, истории.
С 1932 года среднее образование стало десятилетним: начальная
12
школа (четыре класса), неполная средняя (семилетка) и средняя.
В 1932/33 учебном году вместо всего двух школьных отметок «удовлетворительно» («уд») и «неудовлетворительно» («неуд») было введено пять: «отлично», «хорошо», «посредственно», «плохо» и «очень плохо». Тем, кто тогда проводил школьную реформу, не хотелось возвращать в советскую школу бездушные дореволюционные единицы, двойки и т. д. Но ребята с первых парт, подглядывая, что ставит учитель в классном журнале, показывали классу «отлично» растопыренной пятерней, а «посредственно» — тремя пальцами.
Да, классные журналы вернулись в школу! А вслед за ними и дневники. И наш учитель математики Вадим Константинович Квасневский с удовлетворением говорил, что по «Алгебре» и «Геометрии» Киселева выучились многие поколения русских школяров.
А сам Андрей Петрович Киселев, создатель бессмертных учебников, был и нашим современником. Он прожил долгую жизнь: родился в середине прошлого века, в 1852 году, и умер в 1940-м, перед самой войной.
По Киселеву учили математику и ребята в появившихся незадолго до войны специальных школах, где готовили будущих командиров Красной Армии. «Спецы» носили военную форму и лето проводили в лагерях. Их еще называли «специальными войсками Нарком- проса».
Перед войной появились и ремесленные училища с серьезной программой подготовки квалифицированных рабочих. «Ремесленники» тоже надели форму. Но если в создании «специальных войск Нар- компроса» тогдашнему юному поколению была понятна задача подготовки образованных командиров, то своевременность создания РУ открылась позднее: ребята из ремесленных училищ — это рабочие кадры всех военных лет.
Предчувствие войны жило в сознании тогдашнего юного поколения. Для школьного комсомола военное дело стало одним из главных. По вечерам после уроков устраивались учебные тревоги. Если поход, то непременно в противогазах. Кроме существующих и сейчас спортивных норм ГТО («Готов к труду и обороне», а для ребят помладше был и значок БГТО — «Будь готов к труду и обороне»), тогда сдавали и на ГСО и БГСО (санитарная оборона, то есть первая помощь раненому). Занимались в кружках противохимической защиты, получали значки ПВХО и звание инструкторов.
По нескольку раз смотрели с восторгом фильм «Если завтра война», обещавший быструю и легкую победу над глупым противником. А настоящая война уже стояла у ворот...
Для юных читателей тех лет и «Кондуит», и «Республика ШКИД», и «Дневник Кости Рябцева» — это уже книги про давно прошедшие
13
легендарные времена. Но читать интересно! Потому что сравниваешь со своим временем. В тридцатые годы уже не мог разгореться спор, что важнее — урок или комсомольское собрание. И фигура активиста, который мечется с собрания на собрание,— это уже совсем не Костя Рябцев, это болтун и бюрократ.
Принятое в 1934 году постановление «О перегрузке школьников и пионеров общественно-политическими заданиями» вполне четко и ясно потребовало от ребят: учиться. Все больше выпускалось учебников. То был один задачник на пятерых — и вот уже у каждого свой. Стало хватать тетрадей, карандашей, рейсфедеров, угольников... В деревнях открывались средние школы, оттуда приезжали выпускники, не уступавшие городским на приемных экзаменах в институты. И не так-то просто стало поступить в самые популярные высшие учебные заведения — появился конкурс.
Наверное, еще никогда российские школяры не учились с таким жаром, не относились так ревниво к отметкам за устные ответы и контрольные.
Соревнование классов по учебе возникло именно в этой атмосфере. А какой может быть надежный и точный показатель? Отметка1.
На стене возле доски висел список учеников, и ответственный за соревнование каждый день раскрашивал квадратики против фамилий: «отлично» — красный цвет, «хорошо» — синий, «посред¬
ственно» — желтый, «плохо» — черный. Итоги подводил учком, а не как сейчас — директор с завучем. И не помню, чтобы в конце четверти учитель ходил за учеником и умолял исправить «плохо». Тогда лодыри находились целиком на попечении коллектива, отличники с ними занимались и затем выступали перед учителями в качестве поручителей: «Спросите такого-то, он знает, выучил...» Отличник в роли няньки — избитая тема тогдашних школьных юмористов.
Есть что-то неизменное, традиционное, вечное в образе учителя, любящего свой труд и любимого детьми. Меняются времена, меняются системы образования, не говоря уже о программах, однако в лучших наших учителях повторяются прекрасные черты лицейских учителей Пушкина. Это, очевидно, связано с тем, что учителю, какой бы предмет он ни преподавал, всегда приходится вести учеников от азов к вершинам, от прошлого к будущему, первым замечать
Нынешним школьникам, хорошо знакомым с процентоманией и умеющим извлекать из нее свои выгоды, наверное, будет интересно знать, как подводились итоги успеваемости в дореволюционной гимназии. Там выводилось «среднее арифметическое», то есть складывались отметки всех учеников по всем предметам и затем выводился средний балл класса, по которому, очевидно, можно было определить, сильный это класс или слабый.
14
новые черты новых юных поколений и быть хранителем духовной преемственности подростков. Такова миссия учителя на все времена.
Споры о том, каким должен быть современный учитель, представляются мне малополезными. Потому что человек, избравший профессию учителя, должен быть прежде всего самим собой — этим и привлекательна работа в школе, с детьми, дающая такие возможности проявления личности, какие не сыщутся ни в одной другой профессии. Поэтому все хорошие учителя не похожи друг на друга, а все плохие кажутся нам на одно лицо.
Взявшись за предисловие к книге повестей о школе, я не могу не рассказать о моих учителях, хотя бы о троих из нашей школы, совершенно не похожих друг на друга, потому что это были настоящие учителя. Все трое преподавали в старших классах, и до учения у них надо было еще «дорасти». Меж тем в школе переходили из уст в уста легенды, и поэтому мы заранее знали о своих будущих учителях разные разности, школьный фольклор не скупился на яркие краски. И кстати, существование всевозможных легендарных историй — это первейший признак общего поклонения, только любимым учителям сопутствуют преданья старины глубокой.
Борис Николаевич Воскобойников, преподавал литературу. И в девятом классе мы чуть ли не полгода занимались Гоголем. Причем это не обеднило наше представление о золотом веке русской литературы, послегоголевский период которого нам досталось пройти вприбежку. Уровень постижения, представленный нам на примере Гоголя, оказался магическим. Возможность, навсегда указанная юным умам и сердцам, причем не только в области литературы. Необходимость загодя подбирать материалы к сочинению, заданному на дом, привычка работать в Тургеневской читальне, ныне, увы, снесенной.
Невинная слабость Бориса Николаевича (по-школьному Бэ Эна) обернулась для его учеников важнейшим открытием. Почему слабость? Да потому, что в любви Бэ Эна к Гоголю сказывались земляческие чувства, наш литератор окончил гимназию в Нежине (но, может, и не гимназию, но учился, как свидетельствовала школьная легенда, в том самом здании, где и Гоголь). Зная об этом, мы позволяли себе слегка посмеиваться над юношеской любовью Бэ Эна к автору «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Мертвых душ», что было с нашей стороны естественно и простительно — в школьные годы чужая любовь всегда становится мишенью, природа дает нам поупражняться в насмешках над чувствами, чтобы затем обрушить на насмешника то же самое, но еще сильней. Так и мы, посмеиваясь над нежинской любовью нашего Бэ Эна к Гоголю, сами влюблялись в русскую литературу пылко и навсегда.
Надо сказать, что вообще все преподаватели литературы в русской школе делятся на два типа. Одни склонны извлечь произведение из
15
того времени, когда оно было создано, и препарировать в современном освещении. Другие приглашают своих учеников подышать атмосферой, окутывающей творения прошлого, сверить свое понимание с оценкой современников автора. Так преподавал литературу Борис Николаевич.
Педагогический метод математика Вадима Константиновича Квасневского (по-школьному просто Вадим) остается для меня по сей день загадкой. Поколения выпускников нашей школы убедили всех, что ученики Вадима могут сдать в любой институт. Ни о чем, кроме математики, он с нами не говорил. Обращался на «ты» ко всем юношам, а из девушек только к тем, кто увлекался математикой, остальные ученицы слышали от него церемонное «вы». Сильных учеников Вадим нагружал двойными заданиями, а слабых миловал сочувственными «пос», не скрывая своей уверенности, что после десятого они будут держаться подальше от точных наук. На дом он задавал головоломные задачи из какого-то дореволюционного задачника, заглянуть в который никому и никогда не удавалось: задачник таился в глубине битком набитого портфеля, Вадим создавал в школе каждодневные страсти вокруг бассейнов с втекающей и вытекающей водой, загадочных треугольников и всего прочего, тому подобного, доводящего порой до отчаяния своей непостижимостью и дающего ни с чем не сравнимую радость разгадки труднейших тайн. Не отступить, найти решение — это была уже не только математика, но и испытание характера.
Однажды Наркомпрос в порядке очередного эксперимента объявил о вреде заданий на дом. Школьники, естественно, возликовали. И мы с нетерпением ждали урока математики: что будет делать Вадим? Он провел урок как ни в чем не бывало, а перед самым звонком извлек из портфеля свой таинственный задачник и объявил, посмеиваясь: «Поскольку другие учителя ничего на дом не задают, запишите-ка двойную порцию...» В тот день он нам показал, что математика главнее Наркомпроса.
Всего труднее мне рассказать о Никвасе, Николае Васильевиче Пашкове, учителе физики. Необычная для школы фигура. Наш литератор Бэ Эн ставил спектакли на школьной сцене, но в классе держался обыденно. А Никвас был всегда и ежеминутно театрален, играл перед нами учителя. Мы знали, что он раньше был инжене- ром-путейцем, его пригласили временно заменить учителя физики и на прежнее место работы он уже не вернулся, нашел в школе свое истинное призвание. Физика в его исполнении была прекрасна, опыты поставлены картинно, все жило и двигалось, подчиняясь великим законам, открытым великими физиками. У Никваса не случалось, чтобы опыт не удался, все было отрепетировано до блеска, все понималось и запоминалось. И физика становилась для нас еще и уроками истории развития человечества от Архимеда и до наших дней.
Не помню, чтобы он когда-нибудь держал перед нами длинную
16
воспитательную речь. Благодаря своему артистизму он обходился краткими, но чрезвычайно выразительными фразами, заставлявшими краснеть и бледнеть. Или, например, появлялся в классе чернее тучи, вел урок, еле разжимая губы,— это значило, что он не на нашей стороне в очередной нашумевшей школьной истории. Но ведь бывал и на нашей, даже в конфликте класса с кем-либо из учителей, демонстрируя нам свою поддержку столь же артистично, без лишних слов. Добавлю, что в школе он носил синий рабочий халат, подчеркивающий его элегантность, и что в карманах халата, кроме отвертки п плоскогубцев, он таскал листочки со стихотворными экспромтами на разные школьные темы, где довольно часто встречалась рифма «класс — Никвас». Редакторы стенгазет охотились за этими листками, и стихи Никваса потом красовались на самом видном месте. И можно было видеть, как он стоит перед свежим номером солидной «Школьной жизни» или язвительного «Комара», играя для нас, глядящих ка него во все глаза, удовлетворенное авторское тщеславие: напечатался...
Годы идут, все дальше от меня моя школьная юность. На выпускном вечере так хотелось поговорить наконец со своими учителями на равных. Нет, не получилось. Ну, ладно, отложим на потом, когда сделаемся постарше, что-то в жизни совершим. Нет... Оказывается, и тогда невозможен разговор на равных, даже в воображении. Да и нужен ли? Наши любимые учителя так и остаются для нас учителями на все будущие времена.
Я не стану здесь рассказывать о дальнейших переменах в жизни нашей школы — о них юный читатель может узнать из книг о школе военных и послевоенных лет, о школе той поры, когда учились его родители. Поиски и эксперименты — неотъемлемая часть истории школьного дела. Например, довольно долго просуществовало раздельное обучение, но коснулось оно только городов, мужские и женские школы стали открываться в 1943 году, а в 1954-м было решено вернуться к совместному обучению.
Но сколько бы ни менялась наша школа, она хранит верность принципам, провозглашенным в декларации 1918 года: единая, трудовая, демократичная, уважающая личность ребенка и права детского самоуправления, воспитывающая всесторонне образованных людей, достойных граждан нашей страны.
Слово единая по-прежнему стоит во главе. Это значит, что, где бы ни родился человек — в каком краю, в какой семье,— государство гарантирует ему равные со всеми возможности в получении знаний, в развитии своих способностей.
Но единая — не значит везде одинаковая, на одно лицо. Каждая школа вправе искать свое собственное направление, давать своим ученикам более углубленные знания по математике или по литературе, иностранным языкам или биологии, обучать необходимым ра¬
17
бочим навыкам и самым нужным профессиям, строить свои заводы или сажать свои сады, засевать поля...
Сегодня в школу пришли компьютеры, завтра появится что-то другое, новое и самоновейшее. Но не уйдут из жизни ребят книги про школу прежних лет, помогающие разбираться в настоящем и заглядывать в будущее.
И. Стрелкова
Л.Кассиль
кондуит
СТРАНА ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Открытие
Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб, на 68-й день своего плавания, заметил вдали какой-то движущийся свет. Колумб пошел на огонек и открыл Америку.
Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку, как младшего, помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбранию.
Пропавшая королева, или Тайна ракушечного грота
Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске.
Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами.
Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно.
Точеные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая походка полотеров: к их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король — за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки
20
и устроить биржу извозчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея... Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат!
В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась везти на черном коне черную королеву-архиерея к черному королю- генералу. Они поехали. Черный король-генерал очень хорошо угостил королеву-архиерея. Он поставил на стол белый самовар-король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по две полные туры.
Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг — о ужас! — мы заметили исчезновение черной королевы...
Мы едва не протерли коленки, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно. Королева, дрянь точеная, исчезла бесследно! Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом. Однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженые головы надвигалась неотвратимая гроза. И вот приехал папа.
Да, это была непогодка! Какая там гроза! Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился на нас! Папа бушевал. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения и он не потерпит этого инстинкта и вандализма.
— Марш оба в «аптечку» — в угол! — закричал в довершение всего отец.— Вандалы!!!
Мы поглядели друг на друга и дружно заревели.
— Если бы я знал, что у меня такой папа будет,— ревел Оська,— ни за что бы в жизни не родился!
Мама тоже часто заморгала глазами и готова была «капнуть». Но это не смягчило папу. И мы побрели в «аптечку». «Аптечкой» у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку.
В одном из углов «аптечки» была маленькая скамеечка, известная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал.
Мы сидели на позорной скамье. В «аптечке» синели тюремные сумерки. Оська сказал:
— Это он про цирк ругался... что там ведмедь с вещами обращается? Да?
— Да.
— А вандалы тоже в цирке?
21
— Вандалы — это разбойники,— мрачно пояснил я.
— Я так и догадался,— обрадовался Оська,— на них набуты кандалы.
В кухонной двери показалась голова нашей кухарки Аннушки.
— Что же это такое? — негодующе всплеснула руками Аннушка.— Из-за бариновой бирюльки дитёв в угол содят... Ах вы, грешники мои! Принести, что ль, кошку поиграться?
— А ну ее, твою кошку! — буркнул я, и уже погасшая обида вспыхнула с новой силой.
Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к Солнцу, и мир тоже повернулся к нам самой обидной стороной. Из своего позорного угла мы обозревали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но места для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы... А дети стояли в углах. Взрослые забыли, наверно, свои детские игры и книжки, которыми они зачитывались, когда были маленькими. Должно быть, забыли! Иначе они бы позволяли нам дружить со всеми на улице, лазить по крышам, бултыхаться в лужах и видеть кипяток в шахматном короле...
Так думали мы оба, сидя в углу.
— Давай убегем! — предложил Оська.— Как припустимся!
— Беги, пожалуйста, кто тебя держит!.. Только куда? — резонно возразил я.— Все равно всюду большие, а ты маленький.
И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронизала сумрак «аптечки», как молния, и я не удивился, услышав последовавший вскоре гром (потом оказалось, что это Аннушка на кухне уронила противень).
Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать. Я уже видел ее в темноте. Вон там, где дверь в уборную,— пальмы, корабли, дворцы, горы...
— Оська, земля!— воскликнул я, задыхаясь.— Земля! Новая игра на всю жизнь!
Оська прежде всего обеспечил себе будущее.
— Чур, я буду дудеть... и машинистом! — сказал Оська.— А во что играть?
— В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране... в нашем государстве. Левое вперед! Даю подходный.
— Есть левое вперед! — отвечал Оська.— Ду-у-у-у-у!!!
— Тихай! — командовал я.— Трави носовую! Выпускай пары!
— Ш-ш-ш...— шипел Оська, давая тихий ход, травя носовую и выпуская пары.
И мы сошли со скамейки на берег новой страны.
22
— А как она будет называться?
Любимой книгой нашей были в то время «Греческие мифы» Шваба. Мы решили назвать свою страну Швабранией. Но это напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву «м», и страна наша стала называться Швамбрания, а мы — ошамбранами. Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне.
Мама скоро освободила нас из заточения. Она и не подозревала, что имеет дело с двумя подданными великой страны Швамбра- иии.
А через неделю нашлась королева. Кошка закатила ее в щель под сундуком. Токарь к этому времени выточил для папы нового ферзя, поэтому королева досталась нам в полное владение. Мы решили сделать ее хранительницей швамбранской тайны.
У мамы в спальне, на столе, за зеркалом, стоял красивый, всеми забытый грот, сделанный из ракушек. Маленькие решетчатые медные дверцы закрывали вход в уютную пещерочку. Она пустовала. Туда мы решили замуровать королеву.
На бумажке мы выписали три буквы: «В. Т. Ш.» (Великая Тайна Швамбрании). Слегка отодрав суконку от королевской подставки, мы засунули туда бумажку, посадили королеву в грот и сургучом запечатали дверцы. Королева была обречена на вечное заточение. О ее дальнейшей судьбе я расскажу потом.
Запоздавшее предисловие
Швамбрания была землей вулканического происхождения.
Раскаленные зреющие силы бушевали в нас. Их стискивал отвердевший, закостенелый уклад старой семьи и общества.
Мы хотели много знать и еще больше уметь. Но начальство разрешало нам знать лишь то, что было в гимназических учебниках и вздорных легендах, а уметь мы совсем ничего не умели. Этому нас еще не научили.
Мы хотели участвовать в жизни наравне со взрослыми — нам предлагали играть в солдатики, иначе вмешивались родители, учитель или городовой.
Много людей жило в слободе, ходило по улицам, толкалось во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям.
Мы играли с братишкой в Швамбранию несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция — суровый педагог и лучший наставник — помогла нам вдребезги разнести старые привязанности, и мы покинули мишурное пепелище Швамбрании.
У меня сохранились «швамбранские письма», географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов. По этим
23
материалам, по воспоминаниям и написана повесть. В ней, между прочим, рассказывается история Швамбрании, описываются путешествия швамбран, наши приключения в этой стране и многое другое...
География
Можно убедиться, что земля поката,— сядь на собственные ягодицы и катись!
Маяковский
Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, флору, фауну и население.
Первую карту Швамбрании начертил Оська. Он срисовал с какой-то зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Зуб был похож на тюльпан, на корону Нибелунгов и на букву «Ш» — заглавную букву Швамбрании. Было заманчиво усмотреть в этом особый смысл, и мы усмотрели: то был зуб швамбранской мудрости. Швамбрании были приданы очертания зуба. По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась честная надпись: «Остров ни считается это клякьса ничаянно». Вокруг зуба простирался «Акиан». Ося провел по глади океана бурные зигзаги и засвидетельствовал, что это «волны»... Затем на карте было изображено «морье», на котором одна стрелка указывала: «по тичению», а другая заявляла: «а так против». Был еще «пляж», вытянувшаяся стрункой речка Хальма, столица Швамбраэна, города Аргонск и Драндзонск, бухта Заграница, «тот берег», пристань, горы и, наконец, «место, где земля закругляется».
Кривизна нашей подножной планеты очень беспокоила Оську. Он сам стремился безоговорочно убедиться в ее кругл ости. Хорошо еще, что мы не были знакомы в то время с Маяковским, иначе погибли бы Оськины штанишки, ибо, разумеется, он проверил бы покатость земли собственным сиденьем... Но Ося нашел другие способы доказательств. Перед тем как закончить карту Швамбрании, он со значительным видом повел меня за ворота нашего двора. Около амбаров еле заметно возвышались над площадью остатки какой-то круглой насыпи — не то земляного постамента для часовни, не то клумбы. Время почти сровняло эту жалкую горбушку. Оська, сияя, подвел меня к ней и величественно указал пальцем.
— Вот,— изрек Оська,— вот место, где земля закругляется.
Я не посмел возразить: возможно, что земля закруглялась именно здесь. Но, чтоб не спасовать перед младшим братом, я сказал:
— Это что! Вот в Саратове, я видел, есть одно место — там еще не так закругляется.
Необычайно симметричной получилась на карте наша Швамбра-
24
ни я. Строгим очертаниям швамбранского материка мог бы позавидовать любой орнамент. На западе — горы, город и море. На востоке — горы, город и море. Налево — залив, направо — залив. Эта симметрия осуществляла ту высокую справедливость, на которой зиждилось Швамбранское государство и которая лежала в основе нашей игры. В отличие от книг, где добро торжествовало, а зло попиралось лишь в последних главах, в Швамбрании герои были вознаграждены, а негодяи уничтожены с самого начала. Швамбрания была страной сладчайшего благополучия и пышного совершенства. Ее география знала лишь плавные линии.
Симметрия — это равновесие линий, линейная справедливость. Швамбрания была страной высокой справедливости. Все блага, даже географические, были распределены симметрично. Налево — залив, направо — залив. На западе — Драндзонск, на востоке — Аргонск. У тебя — рубль, у меня — целковый. Справедливость.
История
Теперь, как подобает настоящему государству, Швамбрании надо было обзавестись историей. Полгода игры вместили в себя несколько веков швамбранской эры.
Как сообщали книги и учебники, история всех порядочных государств была полна всякими войнами. И Швамбрания спешно принялась воевать. Но воевать, собственно, было не с кем. Тогда пришлось низ Большого Зуба отсечь двумя полукругами. Около написали: «Забор». А в отсеках появились два вражеских государства: «Кальдо- ния» — от слов «колдун» и «Каледония» — и «Бальвония», сложившаяся из понятий «болван» и «Боливия». Между Бальвонией и Кальдо- нией находилось гладкое место. Оно было специально отведено под сражения. На карте так и значилось: «Война».
Слово это, черное и жирное, мы вскоре увидели в газетах...
В нашем представлении война происходила на особой, крепко утрамбованной и чисто выметенной, вроде плацпарада, площадке. Земля здесь не закруглялась. Место было ровное и гладкое.
— Вся война покрыта тротуаром,— убеждал я брата.
— А Волга на войне есть? — интересовался Оська.
Для него слово «Волга» обозначало всякую вообще реку.
По бокам «войны» помещались «плены». Туда забирали завоеванных солдат. На карте это тоже было отмечено троекратной надписью: «Плен».
Войны в Швамбрании начинались так. Почтальон звонил с парадного входа дворца, в котором жил швамбранский император.
— Распишитесь, ваше императорское величество,— говорил почтальон.— Заказное.
25
— Откуда бы это? — удивлялся император, мусоля карандаш.
Почтальоном был Оська, царем — я.
— Почерк вроде знакомый,— говорил почтальон.— Кажись, из Бальвонии, от ихнего царя.
— А из Кальдонии не получалось письма? — спрашивал император.
— Пишут,— убежденно отвечал почтальон, точно копируя нашего Покровского почтаря Небогу. (Тот всегда говорил «пишут», когда его спрашивали, есть ли нам письма.)
— Царица! Дай шпильку! — кричал затем император.
Вскрыв шпилькой конверт, император Швамбрании читал:
«Дорогой господин царь Швамбрании!
Как вы поживаете? Мы поживаем ничего, слава богу, вчера у нас вышло сильное землетрясение, и три вулкана извергнулись. Потом был еще сильный пожар во дворце и сильное наводнение. А на той неделе получилась война с Кальдонией. Но мы их разбили наголо и всех посадили в Плен. Потому что бальвонцы все очень храбрые
и герои. А все швамбранцы дураки, хулиганы, галахи и вандалы. И мы хотим с вами воевать. Мы божьей милостью объявляем в газете вам манифест. Выходите сражаться на Войну. Мы вас победим и посадим в Плен. А если вы не выйдете на Войну, то вы трусы, как девчонки. И мы на вас презираем. Вы дураки.
Передайте поклон вашей мадам царице и молодому человеку наследнику.
На подлинном собственной ногой моего величества отпечатано каблуком
Балъвонский Царь».
Прочтя письмо, император сердился. Он снимал со стены саблю и звал точильщиков. Потом он посылал бальвонскому обидчику «телеграмму с нарочным и заплоченным обратом». В телеграмме было написано:
иду на вы
В учебнике русской истории подобные предупреждения посылал своим врагам не то Ярослав, не то Святослав. «Иду на вы» — те¬
26
леграфировал великий князь каким-нибудь там печенегам или половцам и мчался «отмстить неразумным хозарам». Но с таким нахалом, как бальвонский царь, не стоило говорить на «вы», поэтому швамбранский император зачеркивал в сердцах «иду на вы» и писал: «иду на ты». Потом царь приглашал на визит поставщика медицины двора его величества, лейб-обер-доктора, и начинал призываться.
- Ну-с ,— говорил лейб-обер-доктор,— как мы живем? Что желудок? Э-э... стул, то есть трон, был?.. Сколько раз? Дышите!
После этого царь говорил кучеру:
— Но! Трогай с богом! Гони их в хвост и в гриву!
И ехал на войну. Все кричали «ура» и отдавали честь, а царица махала из окошка чистым платком.
Разумеется, из всех войн Швамбрания выходила победительницей. Бальвония была завоевана и присоединена к Швамбрании. Не успели подмести «плац-войну» и проветрить «плен», как на Швамбранию полезла Кальдония. Она была тоже покорена. В заборе крепости проделали калитку, и швамбраны могли ходить в Кальдонию без билета во все дни, кроме воскресенья.
На «том берегу» было отведено на карте место для заграницы. Там жили дерзкие пилигвины — путешественники по ледяным странам, нечто среднее между пилигримами и пингвинами. Швамбраны несколько раз встречались с пилигвинами на плаце войны. Побеждали и здесь всегда швамбраны. Однако мы не присоединили пилигвинов к Швамбранской империи, иначе нам просто не с кем бы стало воевать. Пилигвиния была оставлена для «развития истории».
От Покровска до Драндзонска
В Швамбрании мы обитали на главной улице города Драндзонска, в бриллиантовом доме, на 1001-м этаже. В России мы жили в слободе Покровской (потом город Покровск), на Волге, против Саратова, на Базарной площади, в первом этаже.
В открытые окна рвалась визгливая булга торговок. Пряная ветошь базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряженных лошаденок... Возы молитвенно простирали к небу оглобли. Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделие, обжорка... Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра на бастионах в картине «Севастопольская оборона».
Картина эта шла за углом в синематографическом электротеатре «Эльдорадо». Кинематограф всегда окружали козы. У афиш, расклеенных на мучном клейстере, паслись целые стада.
От «Эльдорадо» до нашей квартиры шла так называемая Брешка, или Брехаловка. Вечерами на Брехаловке происходило
27
гулянье. Вся Брешка — два квартала. Гуляющие часами толкались туда и назад, от угла до угла, как волночки в ванне от борта до борта. Девчата с хуторов двигались посередине. Они плыли медленно, колыхаясь. Так плывут арбузные корки у волжских пристаней. Сплошной треск разгрызаемых каленых семечек стелился над толпой. Вся Брешка была черна от шелухи подсолнухов. Семечки называли у нас «покровский разговор».
Вдоль Брешки рядом стояли парни в резиновых ботах, напяленных на сапоги. Парни шикарно согнутым мизинцем снимали с губ гирлянды налипшей скорлупы. Парни изысканно обращались к девчатам:
— Спозвольте причепиться. Як вас по имени кличут... Маруся чи Катя?
— А ну не замай... Який скорый! — отвечала неприступная.— Ну, хай тоби бис... чипляйся.
И целый вечер грузно толкалась перед окнами грегочущая, лузгающая хуторская Брехаловка.
А мы сидели в темной гостиной на подоконнике. Мы глядели на полутемную улицу. Мимо плыла Брешка. А на подоконнике воздвигались невидимые дворцы, воздушные замки, распускались пальмы, неслышная канонада сотрясала нас. Разрушительные снаряды нашего воображения рвали ночь. Мы расстреливали со своего подоконника Брешку. На подоконнике была Швамбрания.
Нас доставали гудки волжских пароходов. Они тянулись из далекой глубины ночи, будто нити: одни тонюсенькие и дрожащие, как волосок в электролампочке, другие толстые и тугие, словно басовая струна в рояле. И на конце каждой нити висел где-то в сыром надволжье пароход. Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки, как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся «подходный» гудок парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка: это повстречались «Самолет» с «Кавказ и Меркурием». Мы даже знаем, что «Самолет» идет вверх, в Нижний, а «Кавказ и Меркурий» вниз, в Астрахань, ибо «Меркурий», соблюдая речной этикет, поздоровался первым.
Джек, Спутник Моряков
Вообще мир для нас — это бухта, заставленная пароходами, жизнь — сплошная навигация, каждый день — рейс. Все швамбраны, само собой понятно,— мореходы и водники. У каждого во дворе ошвартован свой пароход. И самым уважаемым гражданином Швамбрании признан Джек, Спутник Моряков.
Этот государственный муж обязан своим происхождением маленькой книжке «Карманный спутник моряков и словарь необходи¬
28
мых разговорных фраз». Книжку эту, засаленную до прозрачности, мы купили на базаре за пятак и всю мудрость ее вложили в уста новому герою — Джеку, Спутнику Моряков. Так как в книжке был, кроме краткой лоции и навигации, словарь, то Джек стал настоящим полиглотом. Он разговаривал по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски.
Я, изображая Джека, просто читал подряд словарь разговорных фраз. Получалось очень здорово.
— Гром, молния, смерч, тифон! — говорил Джек, Спутник Моряков.— Доннер, блитц, вассерхозе!.. Здравствуйте, сударь или сударыня, гоод морнинг, бонжур. Говорите ли вы на других языках? Да, я говорю по-немецки и по-французски. Доброго утра, вечера. Прощайте, гутен морген, абенд, адье. Я прибыл на пароходе, на корабле, пешком, на лошадях; пар мер, а пье, а шваль... Человек за бортом. Ун уомо ин маре. Как врлика плата за спасение? Вифиль ист дер бергелон?
Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него.
— Лоцман посадил меня на мель,— сердился Джек, Спутник Моряков на сто третьей странице, но тут же, на сто четвертой, признавался на всех языках: — Я нарочно посадил судно на мель, чтобы спасти часть груза...
Наш покровский день мы открываем подходным гудком еще в постелях. Это мы возвращаемся из ночной Швамбрании. Аннушка терпеливо присутствует при утренней процедуре.
— Тихай! — командует Оська, отгудев.— Бросай чалку!
Мы сбрасываем одеяла.
— Стой! Спускай трап!
Мы спускаем ноги.
— Готово! Приехали! Слезай!
— С добрым утром!
У тихой пристани
Наш дом — тоже большой пароход. Дом бросил якорь в тихой гавани Покровской слободы. Папин врачебный кабинет — капитанский мостик. Вход пассажирам второго класса, то есть нам, запрещен. Гостиная — рубка первого класса. В столовой — кают-компания. Терраса — открытая палуба. Комната Аннушки и кухня — третий класс, трюм, машинное отделение. Вход пассажирам второго класса сюда тоже запрещен. А жаль... Там настоящий дым.
Труба не «как будто», а настоящая. Топка гудит подлинным огнем. Аннушка, кочегар и машинист, шурует кочергой и ухватами. Из рубки требовательно звонят. Самовар дает отходный свисток. Самовар бежит, но Аннушка ловит его и несет, плененного, в кают-компанию.
29
Она несет самовар на вытянутых руках, немного на отлете. Так несут младенцев, когда они собираются неприлично вести себя.
Нас требуют «наверх», и мы покидаем машинное отделение дома.
Мы уходим нехотя. Кухня — главный иллюминатор нашего парохода. Как говорится, окошко в мир. Туда вечно заходят люди, про которых нам раз навсегда сказано, что это неподходящее знакомство. Неподходящим знакомством называются: старьевщики, точильщики, шарманщики, разносчики, черкесы-слесари, стекольщики, почтальоны, пожарные, нищие, трубочисты, дворники, соседские кухарки, угольщики, цыганки-гадалки, ломовые извозчики, бондари, кучера, дровоколы... Все это пассажиры третьего класса. Вероятно, они самые лучшие, самые интересные люди в мире. Но нас уверяют, что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бациллы.
Оська однажды спросил даже нищего золотаря, помойных дел мастера Левонтия Абрамкина:
— А правда, говорят, на вас киша-кишмят... нет... кимшат, ну, то есть лазают, скарлатинки?
— Ну,— обиделся Левонтий,— какие там скарлатинки?.. Это на мне просто так, обыкновенные воши... А скарлатины — такой животной и нет вовсе... Скарланпендря есть, так то засекомая, вроде змеи. В кишках существует.
— ‘А у вас, значит,— обрадовался Оська,— скарлапендра в кишках кишмит? Да?
Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил шапку и сердито захлопнул за собой дверь.
Очень поучительное место эта кухня. В Швамбрании у нас царь сам сидит в кухне и всем другим позволяет. В Покровске перед рождеством, например, приходят сюда колядовать ребята. Они поют:
Маланья ходыла,
Васыльку просыла:
— Васылько, батько мий...
На Новый год является «проздравить» сам городовой. Он стукает каблуками и говорит:
— Честь имею...
Ему выносят на блюдце рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье. Мы смотрим ему в рот. Крякнув, городовой замирает, предаваясь внутреннему созерцанию, словно прислушиваясь, как вливается водка в его полицейский желудок. Затем он опять щелкает каблуками и прикладывает руку к козырьку.
— Зачем это он? — шепотом интересуется Оська.
— Это он отдает нам честь,— поясняю я.— Помнишь, когда он вошел сначала, он сказал: «Имею честь»? А теперь он ее отдает нам.
— За рубль? — спрашивает Оська.
Городовой смущен.
30
— Вы что тут торчите, архаровцы? — раздается бас отца.
— Папа,— кричит Оська,— а нам тут полицейский честь отдал -за рубль!
— Переплатили, переплатили! — хохочет отец.— Полицейская честь и пятака не стоит... Ну, живо, марш из кухни!.. Как это у вас там? Левое назад, правое вперед...
Отец — высоченный пышно-курчавый блондин. Это невероятно работоспособный человек. Он не знает, что такое усталость. Зато, наработавшись, он может выпить целый самовар. Движется он быстро и говорит громко. Когда папа, рассердившись, кричит иной раз на бестолковых пациентов-хуторян, то мы всегда боимся, как бы больные не умерли со страху. Мы бы на их месте обязательно умерли.
Но, кроме того, папа очень веселый человек. И бывает так: придет к нему больной, у которого «в грудях як огнем пече», а через несколько минут забудет про грудь и хватается за живот — заболел от смеха... А когда отец начинает грохотать сам, то кошка стремглав бросается под буфет и в аквариуме идет зыбь. К ужасу Аннушки, он выносит маму к обеду на руках. Он ставит ее на пол и говорит: «Вот барыня приехала».
Много веселых слов знает отец.
— Жри да рожу пачкай,— говорит он нам за обедом.— Эй вы, братья-разбойники, кальдонцы, бальвонцы, подберите нюни! — И ущемляет наши носы между указательным и средним пальцами.
И это у него собезьянничал швамбранский царь манеру говорить кучеру: «Дуй их в хвост и в гриву».
Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волостных сходках. А сход — богатеи хуторяне — сыто бубнит: «Нэ треба...» Потом в газетке «Саратовский вестник» обязательно описывается, как господин старшина призывал господина доктора к порядку, а господин доктор требовал занесения в протокол слов господина Гутника, а господин Гутник на это...
Домашний капитан
31
Отец знаком со всей слободой. Нарядные свадебные кортежи почти всегда считают долгом остановиться перед нашими окнами. Цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брешка засеяна конфетами: их швыряют пригоршнями с саней в толпу. Сотни бубенцов брякают на перевитых лентами хомутах. На передних санях рявкает среди ковров оркестр. И пляшут, пляшут прямо в широких санях, с лентами и бумажными цветами в руках багровые визжащие свахи.
А еще вспоминали об отце и такое.
В слободе прежде шибко хулиганили. «Фулиганы», как называли их покровчане, были пожилыми семейными людьми... От хулиганов этих в слободе не было житья. Полиция бездействовала.
Жители решили действовать сами. Был составлен список самых матерых разбойников. По этому списку адресов толпа шла из улицы в улицу. Толпа шла и убивала...
Было это глухой ночью.
Один из главарей хулиганской банды скрылся у папы в больнице. Он действительно был серьезно болен. Он умолял спасти его. Он валялся в ногах у папы.
— Бьют вас за дело. Только ваше счастье, что вы заболели вовремя. В данную минуту вы для меня прежде всего пациент, больной. И больше я ничего знать не хочу. Вставайте с пола, ложитесь на койку.
Распаленная толпа осадила больницу. Она ярилась и гудела у закрытых ворот. Отец вышел за ограду к толпе.
— Чего надо? Не пущу,— сказал отец,— поворачивайте-ка оглобли! Вы мне еще тут заразы нанесете в родильный. Дезинфицируй потом...
— Ты, доктор, только бы Балбаша на руки выдал... Под расписку. Мы б его... вылечили.
— У больного Балбашенко,— строго и раздельно ответил папа,— высокая температура. Я не могу его выписать. И никаких разговоров! И не шумите. А то больные пугаются — это им вредно.
Толпа тихо подвинулась ближе. Но тут из нее вышел старый грузчик и сказал так:
— Доктор, ребята, правильно излагает. Им ихняя специальность не позволяет. Пошли, ребята. А только мы Балбаша и после закончим. Извиняйте за беспокойство.
Балбаша «закончили» через три месяца.
Земля Ханонская
Папа очень вспыльчив. В сердцах он оглушителен. Нам тогда влетает «под первое число» и под двадцатое. Нам всыпается и в хвост и в гриву, нас распекают во всю ивановскую, нам прописывают ижицу... Тогда на сцену выступает мама. Мама у нас служит мо¬
32
дератором (глушителем) в слишком бравурных папиных разговорах. Папа начинает звучать тише.
Мама — пианистка, учительница музыки. Целые дни у нас по дому разбегаются «расходящие гаммы», скачут, пиликают экзерсисы — упражнения. Унылый голос насморочной ученицы сонно отсчитывает:
Раз-ын, два-ын, три-ын... Раз-ын, два-ын...
И мама поет на мотив бессмертного «Ханона»:
— Первый, пятый, третий палец, снова первый и четвертый. Тише руку, не качайте. Пятый, первый...
И все наше детство было положено на эту музыку. У меня до сих пор все воспоминания поются на мотив «Ханона». Только дни, утонувшие в липкой микстуре.жара, дни нашего дифтерита, кори, скарлатины, крупа вспоминаются без аккомпанемента. Мама сама выхаживала нас.
Мама близорука. Она низко наклоняется к пюпитру, и к концу дня в глазах у нее рябит от черненьких вибрионов, которые называются нотами.
На папином столе в кабинете есть бумагодержатель — тонкая, длинная дамская рука из бронзы зажимает рецепты, почтовые квитанции, счета. Вот у матери точно такие руки. Изнеженной барышней она храбро покинула большой город и уехала с папой в «земство», в деревню, к далекой и глухой Вятке. Там ей суждено было просидеть много бессонных ночей у черного, разузоренного стужей окна. Из окна дуло. Ночник плаксиво моргал. За окном была страшная морозная зга и метель. И где-то в этой студеной воющей тьме плутал папа, скача на розвальнях в далекое — километров за двадцать — село. Сбоку мерцали огоньки, но то были не дома, а волки. Замирал далекий колокол — маяк метельных ночей. Папа ехал на колокол. Из сугробов вылезало черное село. При зыбком свете лучины, в овчинной духоте папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки.
Гудок разбудил Швамбранию
Зимами по Покровску тоже ходит пурга. Степь снегами и вихрями вторгается в слободу. Всю ночь тогда покровские церкви мерно звонят. Колокол указывает дорогу заблудившимся в степи. Он берет путника за ухо и выводит на дорогу. Но у нас все дома. У нас тепло. За окнами крутится вьюжное веретено и сучит тонкую нить, воя в трубе. Это свистит наш дом-пароход, укрывшийся от вьюги и всех невзгод в тихой гавани.
У нас обычные гости: податной инспектор Терпаньян, маленький зубной врач Пуфлер. Оська только что по ошибке и ко всеобщему смущению назвал его «зубным порошком».
Папа засел за шахматы с податным, а мама играет на рояле
2 Школьные годы. Выпуск 1
33
менуэт Падеревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку: «Фррря...» И посвистывает: «Фефела...»
Веселый податной, как всегда, пугает Аннушку. В сотый раз он изображает, будто хочет сделать Аннушке «бочки». При этом податной издает какой-то особенный, свой обычный пронзительный звук:
— Кркльххх...
Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а податной хохочет и спрашивает:
— Видал миндал?
Папа смотрит на часы и говорит:
— Ну, архаровцы, марш дрыхать! Мы вас не задерживаем.
Мы чинно говорим «покойной ночи» и идем отплывать в ночную Швамбранию.
Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки. Подается команда:
— Левое вперед! Ш-ш-ш-ш-ш... У... у!.. Средний ход! Вперед до полного!.. Полный!
Теперь мы опять швамбраны. Нам надоели тихие пристани, экзерсисы, звонки пациентов и кухонное отчуждение. Мы плывем на вторую родину. Берега Большого Зуба уже встают за тем местом, где земля закругляется. В ракушечном гроте томится королева, хранительница тайны. Дворцы Драндзонска ждут нас.
Прибытие. Я стою на капитанском мостике и нажимаю рычаг свистка. Вырастает гудок.
Длинный подходный гудок. Я открываю глаза. Покровск. Детская. Гудок. В окно бьется тревожный гудок. Вся комната завалена тяжелым, огромным гудком. Гудок ходит по дому, шаркая туфлями.
Гудит.
И тогда в доме оживают звонки. Звонят с парадного. Звонят из кабинета на кухню. Звонит телефон. Слышен папа.
— Ах, мерзавцы! — разносится по дому.— Что они? Не предвидели? Ну ладно. Есть носилки? Я уже готов. Лошадь выслана? Сейчас буду. В больнице знают.
Гудит, гудит чья-то большая беда.
Мама прибежала в детскую и рассказывает.
На костемольном заводе катастрофа, то есть несчастье: рухнула высокая стена сушилки. Хозяин велел положить на нее слишком много костей для сушки, а она была старая. Хозяина предупреждали. Стена не выдержала, упала. Пятьдесят рабочих под ней осталось. Папа с другими докторами уехал спасать раненых.
Да... Вот как... Вот как... Вот какие вещи происходят, оказывается.
Нет, у нас в Швамбрании этого бы никогда не могло быть. Никогда!
Критика мира и собственной биографии
Вместе со стеной костемольного завода рухнула и наша уверенность в благополучии могущественного племени взрослых. В их мире обнаружились там и сям изрядные мерзости. Мы подвергли мир жестокой критике. Мы установили что:
ч 1. Жизнью заправляют не все взрослые, а только те, кто
носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. Остальные, а их больше, называются «неподходящим знакомством».
2. Хозяин костемольного, убивший и искалечивший полсотни ^ людей, не подходящих для знакомства, остался ненаказанным.
Швамбраны никогда бы не приняли к себе такого.
3. Мы с Оськой ничего не делаем (только учимся), а Клавдюшка, Аннушкина племянница, моет полы и посуду у соседей, а карамель ест только в воскресенье. И она совсем безземельная: у нее нет никакой Швамбрании...
Мы заканчиваем нашу опись мирового неблагосостояния тем, что охватываем ее сбоку большой фигурной скобкой. Скобка похожа на летящую чайку. У носика чайки встает жаркое и требовательное слово: Несправедливость.
Езда «в народ»
Позже мы занесли в список несправедливости и наше воспитание. Сейчас я понимаю, что нельзя особенно бранить наших родителей. Они были только люди своего времени, и, уж конечно, совсем не худшие. Подлый уклад той жизни уродовал нас так же, как наших родителей. Но забавно: наши родители считали, что они не чужды даже демократизма в вопросах воспитания. Найример, содеянную нами лужу у аквариума мы должны были вытирать сами. Звать для этого Аннушку запрещалось. Папа с гордостью распространялся об этом у знакомых. Затем в целях воспитания в нас демократических чувств папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась таратайка с лошадью. Мы ехали «в народ». Правил сам папа, одетый в чесучовую рубаху. Папа со вкусом произносил «тпрру», «но», «эй». Но, если на узкой дороге впереди показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас:
— Ну-ка, спойте, ребята, что-нибудь... только громче, чтоб она обернулась. Не могу же, в самом деле, я ей крикнуть: «Эй, берегись!» Тем более, это, кажется, знакомая...
Мы пели. Когда это не помогало и дама не сворачивала с дороги, папа посылал меня. Я слезал с таратайки, подходил к даме и вежливо говорил:
35
— Тетя, мадам... папа просит вас немножко подвинуться. А то проехать нельзя, и мы вас задавить можем нечаянно.
Дамы почему-то обычно обижались, но дорогу давали.
Кончилась эта езда «в народ» тем, что папа однажды опрокинул нас всех в канаву. С тех пор поездки прекратились.
Мир животных
Чтобы внедрить в нас любовь к «малым сим» и облагородить наши души, приобретались различные представители мира животных. Кроме кошек и собак, были рыбы. Рыбы жили в аквариуме. Однажды заметили, что маленькие золотые рыбки стали исчезать одна за другой. Оказалось, что Оська выуживал их, клал в спичечные коробки и зарывал в песок. Ему очень нравился похоронный церемониал. Во дворе обнаружили целое кладбище рыб.
Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отчаянно исполосовала Оськины руки. Дело в том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошке зубы...
Совсем грустная история вышла с козленком. Это живое начинание постигла полная неудача. Козленка папа купил специально для нас. Козленок был маленький, черный, крутолобый, мелко завитой. Он походил на воротник, убежавший с папиной шубы. Папа принес его в гостиную. Тонкие ножки козленка разъезжались на лино- лиуме.
— Вот,— сказал папа,— это вам. Смотрите ухаживайте за ним хорошенько!
Козленок в ответ на это сказал «бе-е-е» и тотчас посыпал «кедровых орешков» на ковер. Потом он объел обои в кабинете и намочил на кресле. Папа, к счастью, спал в то время после обеда и ничего этого не видел. Мы немного повозились с веселым козленком. Вскоре он надоел нам, и мы забыли о своем курчавом товарище. Козленок куда-то исчез. Через час в пустой гостиной неожиданно раскатисто загремели аккорды пианино. Это нашедшийся козленок прыгнул с разбегу на клавиши. Папа от этого проснулся и заторопился в больницу на вечерний обход. Не зажигая света, он натянул в темноте брюки и, зевая, вышел в столовую. Мы с испугу разом сели оба на один стул. Мама всплеснула руками. Папа взглянул вниз и обмер... Одна из штанин доходила ему лишь до колен. Изжеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге... Вот куда исчезал козленок!
В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину.
Вокруг нас
Отец и мать работали с утра до вечера, а мы росли, положа руку на сердце, блистательными бездельниками. Нам было оборудовано классическое «золотое детство» — с идеалами, вычитанными из книжек «Золотой библиотеки». У нас была специальная гимнастическая комната, игрушечные поезда, автомобили и пароходы. Нас обучали языкам, музыке и рисованию. Мы знали наизусть сказки братьев Гримм, греческие мифы, русские былины. Но для меня все это померкло, когда я прочел некую книжку, называвшуюся, кажется, «Вокруг нас». В ней просто рассказывалось о том, как пекут хлеб, делают уксус, изготовляют кирпич, льют сталь, дубят кожу. Книжка эта раскрыла мне сложный и занимательный мир вещей и людей, их производящих. Соль на столе прошла через градирню, чугунок со щами — через доменную печь. Ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай — все это, как оказалось, было изобретено, добыто, сработано огромным умелым трудом людей. Рассказ об овчине был не менее интересен, чем миф о золотом руне. Мне нестерпимо захотелось самому мастерить нужные вещи. Но старые книги и учителя, воодушевленно повествуя о коронованных героях, ничего не сообщали о людях, делающих вещи. И из нас растили или белоручек, беспомощных и никчемных, или надменную касту чистоплюев — людей «чистого умственного труда». Правда, иногда нам дарили кубики и кирпичики и предлагали создавать художественные подобия машин. Энергия искала выхода. Мы выкорчевывали пружины диванов, изучая истинное строение вещей, и получали оглушительные нагоняи.
Мы даже завидовали некоему Фектистке, рябому ученику жестянщика. Фектистка презирал нас за наши короткие штаны. Правда, он был неграмотен, зато делал настоящие ведра, реальные совки, подлинные кружки, несомненные тазы и лоханки. Но как-то, купаясь, Фектистка показал нам на своем золотушном теле вполне реальные синяки, подлинные кровоподтеки — несомненные следы суровых наставлений хозяина. Жестянщик бил Фектистку. Он заставлял мальчика работать круглый день, кормил его всякой бросовой мерзостью и, дубася по худой Фектисткиной спине, вбивал в него кулаками скобяную премудрость...
Умственность и рукомесло
Мы перестали завидовать Фектистке. Мучительные догадки влезли в наши головы.
Люди умственного труда подчинялись вещам и ничего не могли с ними поделать. А люди-мастера сами не имели вещей.
Когда в нашей квартире засорялась уборная, замок буфета ущемлял ключ или надо было передвинуть пианино, Аннушку посылали
38
вниз, в полуподвал, где жил рабочий железнодорожного депо, просить, чтоб «кто-нибудь» пришел. «Кто-нибудь» приходил, и вещи смирялись перед ним: пианино отступало в нужном направлении, канализация прокашливалась и замок отпускал ключ на волю. Мама говорила: «Золотые руки» — и пересчитывала в буфете серебряные ложки...
Если же нижним жильцам требовалось прописать брательнику в деревню, они обращались к «их милости» наверх. И, глядя, как под диктовку строчатся «во первых строках» поклоны бесчисленным родственникам, умилялись вслух:
— Вот она, умственность! А то что наше рукомесло? Чистый мрак без понятия.
А в душе этажи тихонько презирали друг друга.
— Подумаешь, искусство,— говорил уязвленный папа,— раковину в уборной починил... Ты вот мне сделай операцию ушной раковины! Или, скажем, трепанацию черепа.
А внизу думали:
«Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука — перышком черкать!»
Между нашим и полуподвальным этажами поддерживались такие же отношения, какие были в известной сказке у слепого пешехода и его приятеля — зрячего, но безногого. Взаимная тягостная зависимость скрепляла их сомнительную дружбу. Слепой носил на себе товарища. Безногий, сидя на шее приятеля, обозревал окрестности, устанавливал курс и командовал. Однако все же люди из группы «неподходящее знакомство» сами умели делать вещи. Может быть, они могли бы научить и нас, но... из нас готовили «людей чистого умственного труда», и нам оставалось клеить из бесплатных приложений к журналам безжизненные модели вещей, картонные корабли, бумажные заводы, утешаясь, что на материке Большого Зуба все жители, от мала до велика, не только читают наизусть сказки, но и сами могут хотя бы переплести их...
Бог и Оська
Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и четырех лет запоминал все что угодно, от вывесок
39
до медицинской энциклопедии. Все прочитанное он запоминал, но от этого в голове его царил кавардак: непонятные и новые слова невероятно перекувыркивались. Когда Оська говорил, все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Вместо «летописцы» он говорил «пистолетцы». Под выражением «сиволапый мужик» он разумел велосипедиста и говорил не сиволапый, а «ве- лосипый мужчина». Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал:
— Мама, намажь мне брамапутер...
— Боже мой,— сказала мама,— это какой-то вундеркинд!
Через день Оська сказал:
— Мама! А в конторе тоже есть вундеркинд: на нем стукают и печатают.
Он перепутал «вундеркинд» и «ундервуд».
Но у него были и свои верные понятия и взгляды.
Как-то мама прочла ему знаменитый нравоучительный рассказ о юноше, который поленился нагнуться за подковой и должен был потом подбирать с дороги сливы, умышленно роняемые отцом.
— Понял, в чем тут дело? — спросила мама.
— Понял,— сказал Оська,— это про то, что нельзя из пыли ягоды немытые есть...
Всех людей Оська считал своими старыми знакомыми. Он вступал в разговоры со всеми на улице, сокрушая собеседников самыми непостижимыми вопросами.
Однажды я оставил его одного играть в Народном саду. Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он попробовал достать мячик, помял цветы и, увидя дощечку «Траву не мять», испугался.
Тогда он решил обратиться к посторонней помощи.
В глубине аллеи спиной к Оське сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы ниспадали на плечи длинные кудри.
— Мой мяч упрыгнул, где «Цветы не рвать»,— сказал Оська в спину даме.
Дама обернулась, и Оська с ужасом заметил, что у нее была густая борода. И Оська забыл про мяч.
— Тетя! — спросил он.— Тетя, а зачем на вас борода?
— Да разве я тетя? — ласковым баском сказала дама.— Да я ж священник.
— Освещенник? — недоверчиво сказал Оська.— А юбка зачем? — И он представил себе, как неудобно, должно быть, в такой длинной юбке лазить на фонари, чтобы освещать улицы.
— Сие не юбка,— отвечал поп,— а ряса зовется. Облачен согласно сану. Батюшка я, понял?
— Сейчас,— сказал Оська, вспоминая что-то.— Вы батюшка, а есть еще матушка. В граммофоне есть такая музыка. Батюшки-матушки...
— Ох ты, забавник! — засмеялся поп.— Некрещеный, что ли?
40
Отец-то твой кто? Папа?.. Ах, доктор... Так, так... Понятно... Про бога-то знаешь?
— Знаю,— отвечал Оська.— Бог — это на кухне у Аннушки висит... в углу. Христос Воскрес его фамилия...
— Бог везде,— строго и наставительно сказал священник,— дома, и в поле, и в саду — везде. Вот мы сейчас с тобой толкуем, а господь бог нас слышит... Он ежечасно с нами.
Оська посмотрел кругом, но бога не увидел. Оська решил, что поп играет с ним в какую-то новую игру.
— А бог взаправду или как будто? — спросил он.
— Ну поразмысли ты,— сказал поп.— Ну кто это все сделал? — спросил он, указывая на цветы.
— Честное слово, правда, это не я! Так было,— испугался Оська, думая, что поп заметил помятые цветы.
— Бог все это создал,— продолжал священник.
А Оська подумал: «Ладно, пусть думает, что бог,— мне лучше».
— И тебя самого бог произвел,— говорил поп.
— Неправда! — сказал Оська.— Меня мама.
— А маму кто?
— Ее мама, бабушка!
— А самую первую маму?
— Сама вышла,— сказал Оська, с которым мы уже читали «Первую естественную историю»,— понемножку из обезьянки.
— Уф! — сказал вспотевший поп.— Безобразие, беззаконное воспитание, разврат младенчества!
И он ушел, пыля рясой.
Оська подробно передал мне весь свой диспут с попом.
— Такой смешной весь! — вспоминал Оська.— Сам в юбке, а борода!
Семья у нас была почти безбожная. Папа говорил, что бог вряд ли есть, а мама говорила, что бог — это природа, но может наказать. Бог возник когда-то из ночных причитаний няньки, потом он вошел в квартиру через неплотно закрытую дверь из кухни. Бог в нашем представлении состоял из лампадки, благовеста и аппетитного святого духа, который шел от свежих куличей. А иногда он представлял какую-то далекую и сердитую силу, которая гремела на небе и следила за тем, грешно или не грешно показывать язык маме. В книге «Моя первая священная история» была картинка: бог сидел на дыме и сотворял весь мир на первой странице. Но первая же книжка по естествознанию развеяла дым. Богу больше не на чем было сидеть.
Небесная Швамбрания
Оставалось еще какое-то царство небесное. Когда приходили нищие и Аннушка говорила им «не взыщите», она утешала их
41
и себя, что все нищие, все бедняки и, очевидно, все люди не подходящего для нас знакомства попадут после похорон в царство небесное и будут там прохлаждаться в райском палисаднике.
Однажды мы с Оськой решили, что уже попали в подобное царство небесное. Соседская горничная Мариша выходила замуж. Она венчалась в Троицкой церкви. Аннушка взяла нас с собой.
В церкви было красиво, как в Швамбрании. Пахло довольно хорошо. Кругом были нарисованы ангелы и разные старики. Они были обложены взбитыми облаками. Хотя на улице был день, горело много свечей. А нищих, нищих было как в настоящем царстве небесном. И все крестились.
Потом вышел главный батюшка и стал изображать, будто он бог. Он был, как потом рассказывал всем Оська, в большой золотой распашонке, а через голову надел длинную слюнявку, тоже всю золотую. Он стал перед тумбочкой, похожей на ночной столик. Перед тумбочкой постелили простыню. Мариша, вся в цветах, как принцесса, встала в пару со своим женихом, и они пошли загадывать и сговариваться, как мы всегда перед тем, как разбиться на партии для лапты. Они прямо ногами стали на простыню. Мы не слышали, о чем они говорили со священником, но Оська уверял, что они загадали и спрашивали у него: «Сундук денег или золотой берег?» А потом будто бы поп сказал: «Агу», а Мариша говорит: «Не могу». Поп жениху: «Засмейся», а жених: «Не хочу». И Мариша немножко поплакала.
— Вот дура! — сказал Оська.— Чего ревет? Ведь это же как будто.
После этого они стали играть в колечки, а когда кончили, поп велел крепко держаться за руки. Мы думали, что они будут играть в разрывушки, но поп стал водить их хороводом вокруг тумбочки. Хор пел непонятно, но нам показалось:
«Кого любишь, поцелуй. Ой-ли-луя, поцелуй».
Мариша выбрала своего жениха, и они поцеловались.
После посещения церкви мы решили, что царство небесное — это такая Швамбрания, которую взрослые выдумали для бедных.
А в нашей Швамбрании я ввел для пышности, а больше смеха ради духовенство (Оська сначала путал духовное сословие с духовым оркестром). Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Это напоминало патриарха Гермогена. Кроме того, гематогеном называлась липкая, приторная микстура, которой нас пичкали. Католических прелатов звали «ваше преподобие». Мы величали Гематогена «ваше неправдоподобие»...
Покровская Золушка
Сказки оканчивались благополучно. Судомойки становились принцессами, спящие красавицы просыпались, ведьмы гибли, мнимые
42
сироты обретали родителей... На последней странице играли свадьбу, на которой мед и пиво по усам текли, но в рот не попадали.
В Швамбрании, в стране наполовину сказочной, все дела красил и венчал благополучный финал. И мы пришли к выводу, что люди бы жили гораздо веселее и счастливее, если бы, живя подобно нам, играли в сказку.
Но оказалось, что сказки хорошо кончаются только в книжках. В действительности же даже сказка приобретала неприятный конец. И в конце правдивой сказки, в которую попробовали сыграть окружавшие нас люди, маячили не медовые усы, а усы городового.
Итак, кто не знает сказки о бедной домашней работнице, по прозванию Золушка-Сандрильона, о ее злой мачехе-эксплуататорше? Кто не слыхал о голубях, выбравших из горшка с золой всю гречиху, о доброй фее, доставшей Золушке контрамарку на бал, и о туфельке, потерянной во дворце?
Но вряд ли кто знает, что сказка о Золушке записана в старом штрафном кондуитном журнале Покровской мужской гимназии.
Надзиратель Покровской гимназии Цап-Царапыч изложил на страницах кондуитного журнала новый вариант этой истории. Но Цап-Царапыч был краток и сердит. Поэтому мне придется самому рассказать о покровской Сандрильоне. Звали ее Марфушей, была она горничной, временно служила у нас и собирала почтовые марки.
Клейменые орлы
Марки приходили из далеких городов и стран. Под ними, в конвертах, были вложены в строчки поклоны, извещения, просьбы, благодарности, новейшие лекарства от запоев, малокровия и других болезней. Отцу заграничные фирмы слали рекламные проспекты патентованных снадобий.
Но Марфушу не интересовало содержание конвертов.
Вскрытые и опустошенные конверты она выкидывала, предварительно отпарив с них над самоваром марки. В кованом сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марок.
Конверты на кухню доставляли мы с братишкой.
На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей.
Мы были посвящены во все ее тайны.
Мы знали, что кучер из папиной больницы — Марфушина симпатия, а приказчик из аптекарского магазина — зазнавала и просто дрянь, потому что он дразнит Марфушу Метламорфозой...
Узнали мы еще также, что, если человек чихнет, ему надо сейчас же сказать: «Ахчхи, спичка в нос, пара колес, конец оси, чтоб чесало в носе;-чих на ветер, кишки на мешки, жилки на струнку, живот на хомут...» Все... Уф!
43
Вечерами Марфуша открывала сундук, позволяя нам любоваться ее сокровищами.
Здесь были целые комплекты Петров Великих и других монархов. Цари Александры были собраны по номерам: I, II и III. На императорских носах стояли штемпелеванные даты. Клейменые орлы ерошили перья в красных, зеленых, синих четырехугольниках с зазубренными краями. Невиданные львы сидели за решеткой штемпеля.
Мы, благоговея, созерцали эту пеструю коллекцию, а Марфуша, любовно вороша царей и орлов, мечтала вслух:
— Как вот до двух тыщ насобираю, продам. А на их платье сошью туалетное. Спереди обставочка, на заде бант и кругом вуаль с мушкой. Поглядю тогда, кто меня Метламорфозой обзовет... Поглядю...
Газообразное начальство
Митьку Ламберга исключили из 2-й Саратовской гимназии за непочтительный отзыв* о законе божьем. Он поступил в Покровскую гимназию и поселился у нас. Митя называл себя «жертвой реакции» и священным долгом своим считал делать всякие гадости начальствующим лицам.
Он говорил:
— Я мстю, то есть, я хотел сказать — мщу, начальству во всех его видах: в жидком, твердом и газообразном.
Начальство в жидком, каплющем состоянии представлялось Мите в виде родителей. Твердым начальством приходилось признать директора гимназии и учителей. Под газообразным, всепроникающим начальством подразумевались правительство, полиция и земский начальник. На земского начальника гимназисты точили зубы по своим соображениям. При этом старшеклассники упоминали имена гимназисток Зои Швыдченко и Эммы Угер. Когда кончались уроки, сани земского часто поджидали на углу Зою и Эмму. На городском катке газообразная фигура толстого земского начальника всегда плыла с одной из девочек. Гимназисты хмурели и бросали в земского снежками из-за забора. На заборе был нарисован большой черный котенок и написано: «Коток».
Святки
На святки к нам приехал гостить наш двоюродный брат Витя, молодой художник. Витя был неутомимо весел, изобретателен и носат...
— Оне симпатичные,— сказала о нем Марфуша,— только уж больно носом здоровы.
44
На святках в Коммерческом собрании устраивался большой бал- маскарад для избранного общества. Знакомые дамы готовили костюмы. Нам тоже прислали пригласительные билеты. И тут Мите пришла в голову блестящая идея — насолить земскому на маскараде. Папа принял эту идею восторженно. Витя предложил свои услуги в качестве художника. Стали выдумывать костюмы.
Целый день все ходили сосредоточенные и молчаливые. Изредка Митя с сияющим видом вбегал в столовую и кричал:
— Я придумал! Страшно смешное...
— Ну? — говорили все.
— Надо одеться самоубийцей... А на трупе, то есть на костюме, написать: «Прошу в моей смерти винить земского начальника»... Х-ха...
— А музыка при этом играет марш Шопена,— ехидно дополняла мама.— Страшно смешно!
— Да,— грустно говорил папа,— никогда в жизни я так не хохотал.
Сконфуженный Митя становился на голову и, болтая ногами, кричал:
— Вот так и буду назло стоять вверх ногами, пока идеи к голове не прильют!..
В двенадцать часов ночи папа придумал. Он выдумал действительно чудесный костюм.
Кроме того, план папин был вообще замечателен: на маскарад направлялась Марфуша и должна была смутить пылкого земского начальника.
Все отправились в кухню.
— Марфа-Посадница,— торжественно проговорил папа,— не хотите ли вы пойти на бал-маскарад в Коммерческое собрание?
— Да господи ж! — смутилась Марфуша.— Только ведь туды по пригласительным. Как же я?
— Мы вас сделаем королевой бала, Марфуша. Но для этого нужны... все ваши марки. Что? Жалеете?..
— Марфуша,— проникновенно сказал Митя,— подумайте! В ваших руках судьба земского. В ваших руках судьба... Вы будете королевой бала.
— Эх, уж ладно,— сказала после тяжкого раздумья Марфуша и полезла под кровать за сундуком.
Дни склеены синдетиконом
Два дня весь дом работал над костюмом. Груды искромсанного картона и бумаги лежали на столе в «бариновой кухне», как называла Марфуша отцовский кабинет. Все были перепачканы краской и гуммиарабиком. Тюбики синдетикона источали липучие паутинные нити. Витя ходил, распорядительно задрав нос, и с него капали пот и тушь. Папа безуспешно отдирал от пиджака аргентинскую марку, а мама обучала Марфушу манерам и нескольким английским фразам. Мы же с Осей превратились в сиамских близнецов, нечаянно сев на обмазанную синдетиконом ленту. Лента прилипла к штанам. Мы крепко приклеились друг к другу.
Вечером, перед маскарадом, надушенную и завитую Марфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. Полуаршинные марки были наклеены по углам. На каждую из них пошла добрая сотня Марфушиных марок. Рисунок и цвет марок искусно подобрал Витя. По маркам прошли жирные колеи невероятных штемпелей. Адрес был выведен изящным рондо:
Заказное
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС Улица капитана Гаттераса, дом с террасой, направо
ПОЛЯРНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА Его превосходительству северному сиятельству НАЧАЛЬНИКУ ЗЕМСКОМУ Г-НУ ЭМСКОМУ Обратный адрес: Лондон, Сиги. На углу спросите.
Марфушу запечатали в конверт.
На голову напялили другой конверт — понятно, во много раз меньший.
По углам тоже пестрели марки.
На колпаке-конверте было написано:
Не узнать вам анонима,
Все догадки ваши мимо!
И никто вас не уважит,
Ничего вам не расскажет.
Мани, Тони, Зои, Эммы —
Все сегодня будут немы.
Туфли Марфуши были также сплошь заклеены марками. Конверты очень шли к Марфуше.
— Ты такая красивая, Марфуша! — сказал ей Оська.— Ты прямо
46
как тетя на картинке «Мойте голову пиксафоном». Даже краем вше.
Белая шелковая маска с серебряной бахромой закрыла Марфушино лицо.
Почетным почтальоном был избран Витя.
В городе его никто не знал, да и к тому же он наклеил черные усы и надел черную мамину шляпу со страусовым пером.
Искусственные усы и естественный нос придавали ему вид зло- rje щий и романтический... Не то испанский гранд, не то румынский шарманщик.
Анонимка
Витя лихо подкатывает со своим ценным пакетом к клубу. За освещенными окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форточке. Витя галантно высаживает Марфушу и снимает с нее шубу. Он раскланивается с неподражаемой учтивостью.
— Труакар вуазем нотр дам де Пари абракадабра! — говорит он и закручивает примерзшие усы.
Гардеробщики с уважением смотрят на них. С широкой лестницы струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу сразу окружают и вперебой читают адрес. На минуту хохот заглушает музыку. Но вдруг смех смолкает. Марфуша видит, как в овальные отверстия ее маски вплывает растерянная физиономия земского.
Земский читает и краснеет. Но ноги Марфуши, маленькие ножки, оклеенные марками, прельщают земского.
— Гм,— говорит земский,— дорогая анонимочка... Разрешите на вальс?..
— Ол райт,— говорит анонимочка.— Спик инглиш?1
Земский смущен. Инглиш — он ни бе ни ме. Богач Адольф Эдуардович Штарк пытается помочь ему. Кое-как они объясняют ей жестами: начальник приглашает ее на вальс. Музыка рявкает. Музыканты раздувают щеки. Кажется, что и стены зала раздуваются от ударов барабана. Музыка выжимает сердце, как мокрый платок. Земский угощает Марфушу мороженым. Штарк тает вместе с мороженым. Земский целует руку анонимке. Дамы ревнуют. По залу ползут догадки и серпантин. Сыплется конфетти. Сыплются на Марфушину тарелочку жетоны — голоса за приз.
— Музыка, стой! — гремит земский начальник.
И, разогнавшись, оркестр стихает сразу, как граммофон, у которого кончился завод.
— Господа,— кричит земский,— наибольшее количество жетонов собрала маска «Письмо». Ей присуждается первый приз — золотые часы! Ура прелестной анонимке, ура!!! Вскроем письмо!
1 Очень хорошо. Говорите по-английски?
47
Зал шумит. Над головой лопаются бомбы конфетти. Кто-то шепчет Марфуше:
— Молодчина, Марфа-Посадница, ай молодчина! Дуй дальше!
Митя стоит среди товарищей-гимназистов. Гимназисты хихикают.
Митя подходит к земскому. Он говорит:
— Знаете, я, кажется, узнал, кто эта анонимка... Это — известная... Впрочем, что я делаю! Я же обещал молчать!
— Умоляю, молодой человек,— шепчет земский,— плюньте на обещание. Скажите! Хотите мороженого?
— Нет, не просите,— говорит, злорадствуя, Митя и поедает мороженое.
— Вскроем письмо, господа! — кричит земский.
И вдруг в зале появляется носатый незнакомец с длинными усами.
— Каррамба кракатоа мелинсфунд, пепермент доминант септ аккорд олеонафт!1 — рычит незнакомец на своем тарабарском языке, берет Марфушу за руку и быстро уводит ее к лестнице.
Земский кидается за ним. Маски, домино, арлекины, гусары, цветочные корзины, пиковые дамы, бабочки, испанки, бояре — весь пестрый маскарадный сброд устремляется к лестнице. Устрашающие нос и усы Вити сдерживают любопытство гостей.
Гимназисты как бы нечаянно оттесняют публику. Марфуша запахивается в шубу, сани трогаются.
Витя вскочил на ходу. Они несутся по сонным улицам. У Марфуши смыкаются веки. Фонари, как медузы, шевелят золотые нити. Золушка возвращается на кухню.
Ночью на пустом сундуке тихо щелкают на своих маленьких счетах новые часики.
Счастливая и уставшая, спит Марфуша. Разорванный конверт — шелуха сказочного вечера — пустует у кровати. У порога несут почетный караул четыре пары грязных штиблет.
Утром их надо вычистить.
Золушка разоблачена
В газете «Саратовский вестник» в столбце покровской хроники было напечатано:
«В среду в клубе Коммерческого собрания состоялся грандиозный бал-маскарад. Было много интересных костюмов. Наибольший успех имела маска «Анонимное письмо».
Костюм был прекрасно выполнен в форме почтового конверта с настоящими марками, штемпелями и остроумным адресом.
Вполне справедливо присутствующие присудили костюму первый приз, который и был выдан земским начальником г. Разудановым в
1 Ничего не значащий, бессмысленный набор иностранных слов.
48
виде золотых часов. Несмотря на настойчивые просьбы гостей, маска отказалась открыться и была увезена с маскарада неизвестным лицом. Предполагают, что это была приезжая актриса».
А через два дня, когда город еще томился в догадках, отца вызвали к замигренившей супруге земского. После осмотра пациентки отец пил с земским чай. Разуданов корил папу:
— Что же это вы, батенька, на маскарад не заглянули? Много потеряли, ей-богу. Там такая масочка была, доложу вам, ну-ну... Немножко, правда, меня прокатили, но зато что за ножки! А руки! Порода, батенька мой, порода! Вероятно, иностранка... Из головы не идет!
— Ну, что вы,— скромно сказал папа,— ничего особенного — это наша горничная Марфуша.
— Ка-акх?! — откинулся земский, побагровев, и лицо его вытянулось, так как пухлые губы потянулись вниз, а глаза полезли наверх.
Отец, уже не сдержавшись, так загрохотал во все горло, что излеченная было им мигрень у супруги земского снова вернулась на место.
Туфелька Сандрильоны
На этом, собственно, кончается рассказ о последней Золушке.
Паж не принес Марфуше на кухню туфельку.
Однако след знаменитой туфельки Сандрильоны отыскался на страницах кондуитного журнала.
Голуби-сизяки, вытащившие для Марфуши из горшка золы золотую крупинку, поплатились.
Через несколько дней на парадном крыльце земского начальника был обнаружен резиновый, чудовищных размеров бот. Бот был накрепко привинчен шурупами к ступенькам крыльца.
В то же утро на заборах были кем-то прикреплены следующие «приказы»:
«ПРИКАЗ
Приказываю всему женскому населению г. Покровска явиться в кратчайший срок к земскому начальнику для примерки на правую ногу туфельки, утерянной анонимной посетительницей маскарада в Коммерческом собрании. Та, которой туфелька придется впору, будет немедленно назначена земской начальницей. Земский начальник обязуется вечно быть под каблуком этой туфли.
Земский начальник Разуданов».
Рассказывают, что утром, пока полиция еще не сняла бот с
49
крыльца, приезжала хуторянка — услышав о приказе, решила попытать счастья, но нога не полезла.
— Трошки маловат,— с досадой сказала баба и плюнула в бот.
А Мите и еще троим товарищам «за неуместное, порочащее учебное заведение, дерзкое озорство и недостойное поведение в публичном месте» был объявлен выговор и сбавлены отметки в поведении. Таков эпилог, отличающий историю покровской Сандрильоны от старой сказки о Золушке.
ГОЛУБИНАЯ КНИГА
Вступительное
Вступительный экзамен я сдавал весной. Дмитрий Алексеевич, домашний учитель, пришел рано утром и заставил меня повторить «коренные слова на ять». Папа перед отъездом в больницу положил свою большую руку мне на макушку, откинул мою голову назад и спросил:
— Ну, как котелок? Варит?
С мамой мы пошли в гимназию. По дороге мама, волнуясь и заботливо оглядывая меня, все говорила:
— Главное, не волнуйся! Говори громче и не торопись. Прежде чем отвечать, подумай как следует.
Дмитрий Алексеевич шел рядом и спрашивал таблицу умножения вразбивку и подряд. До «девятью девять» и до гимназии мы дошли одновременно.
День был полон грамматики. На собирательном базаре сыпались прилагательные, междометия и числительные. На амбарной ветке, проходившей неподалеку от гимназии, неодушевленный паровоз старался сбить меня с толку. Он кричал и двигался, как одушевленный. Перед самыми дверьми Дмитрий Алексеевич сделался очень строгим, хотя сквозь пенсне видны были его добрейшие, чудесные глаза.
— Ну, теперь руки по швам! — сказал он и внезапно спросил: — А ну, быстро: гимназия — какая часть речи?
— Имя существительное, нарицательное, неодушевленное! — отчеканил я.
— А гимназист?
— Одушевленное...
В это время из двери гимназии выходил огромного роста детина в гимназической форме. Он мрачно и презрительно оглядел мой матросский костюмчик и так же мрачно сказал:
— Ошибаешься, юноша! Брешешь. Гимназист — существо неодушевленное.
50
Я, потрясенный рыком и ростом этого ученого мужа, почувствовал себя совсем сбитым с панталыку.
В коридоре гимназии было холодно от волнения.
Потом была перекличка. Стол, накрытый зеленым сукном. Диктант: «Купи поросенка за грошш, да посади его в рожж, так будет он хорошш!»
Сердце стучало на весь класс. В дверь класса глядели мамы. Мамы волновались, беспокойно вглядывались в склонившиеся над партами лица: поставят в слове «рожь» мягкий знак или нет?
Я поставил. Но зато от волнения забыл поставить мягкий знак в собственной фамилии.
Потом была письменная по арифметике и устные экзамены.
На экзамене по русскому языку я делал разбор предложения: подлежащее, сказуемое и всякое такое. Подошел священник, протянул мне какую-то книгу на церковно-славянском языке. Учитель русского языка, кудрявый, русый и бородатый, неуверенно сказал:
— Батюшка! А ведь это им не требуется, кажется?.. Вообще иных вероисповеданий...
И он почему-то очень смутился, как будто сказал что-то нехорошее. Я тоже покраснел.
— Тем паче необходимо,— строго сказал батюшка.— Вот возьми и прочти. Прочти.
Я прочел и перевел какую-то страницу.
Через несколько дней уже было известно, что меня приняли в гимназию.
Забрили! Оболванили!
Лето мы провели на даче в деревне Подлесное, Хвалынского уезда, куда в сосновые и липовые леса увез я казавшееся мне чрезвычайно почетным звание гимназиста. Это звание я гордо нес на вершины хвалынских меловых гор, в ущелья Теремшаня и густые малинники, куда мы тихонько забирались.
В то время Россия, Европа, мир начинали войну.
Мы ехали из Хвалынска на пароходе. На пароход сажали мобилизованных. На пристанях мальчишки-газетчики кричали:
51
— Последние телеграммы! Три тысячи пленных! Наши трофеи!
На пристанях бились у пароходных сходен плачущие, растрепанные женщины — старухи и молодки: они провожали мобилизованных отцов, мужей, братьев, сыновей. Отходные свистки заглушали плач, причитания, нестройное «ура», разнобой оркестра. Пароход разворачивал большую вспененную дугу по воде и давал прощальные гудки. Долго-долго. Короткий перерыв — и опять тревожно... протяжно...
В рубке первого класса звенели в такт машине хрустальные висюльки на люстре. Гремело пианино. Пахло Волгой, ухой и духами. Смеялись дамы.
В окно салона был виден уплывавший крутой берег. По берегу вверх от пристани тянулись тяжело и сиротливо деревенские таратайки.
Проводили...
В нашей каюте пахло по-солдатски от моего новенького ранца. Через день начинались занятия в гимназии. Дома меня уже ждал форменный костюм. Начиналась гимназическая пора. Прощай, двор и уличные друзья! Я чувствовал себя почти мобилизованным. Дома меня остригли наголо, «оболванили», как сказал отец.
— Совсем зольдат,— говорил портной Виркель, примеряя на мне готовую форму.
Пуговицы
То были торжественные дни всеобщего признания моего величия и длинных брюк навыпуск.
Мальчишки кричали мне на улице: «Сизяк!» Сизяками дразнили гимназистов. Я был горд, что меня теперь тоже можно так дразнить.
Солнце сияло на моем животе, отражаясь в латунной бляхе кожаного кушака. На бляхе чернели буквы «П. Г.» — «Покровская гимназия». Выпуклые блестящие пуговицы, как серебряные божьи коровки, выползли на серую гимнастерку. И в первый день, торжественный и страшный, серьезный августовский день, я в новых ботинках (левый чуть жал) поднялся к дверям гимназии.
Прохладный рокот коридора овеял меня. За дверьми в августовском дне остались Подлесное, меловые горы, лето, свобода.
Маленький старичок в мундире с мфдалью пошел мне навстречу. Он показался мне серьезным и рассерженным, как все в этот день. Помня, что говорила мне мама, я щелкнул каблуками и низко поклонился, сняв за козырек фуражку.
— Здравствуй, здравствуй! — сказал старичок.— Положь фуражечку вон туда. В первый, поди? Вон — третий налево.
Я тщательно и почтительно поклонился еще раз.
— Ну, иди, иди, накланялся! — засмеялся старичок и, взяв из угла щетку, пошел подметать коридор.
52
В классе сидели здоровенные стриженые ребята. Я оказался чуть ли не самым маленьким. По классу расхаживало несколько громадных детин в потрепанных гимнастерках или выцветших мундирах — второгодники. Один из них поманил меня пальцем к себе.
— Сидай ко мне. У меня место свободное. Как твое фамилие?.. А мое Фьютингеич-Тпрунтиковский-Чимпарчифаречесалов-Фамин- Трепаковский-По-колено-Синеморе-Переходященский! Повтори без передышки!
Я повторить не смог.
— Ничего,— утешал он,— насобачишься. Макуху лопаешь? Нет? Закурить есть?.. Нема?.. А как мужик яйца на базаре продавал, слышал?
Об этой истории я ничего не слышал. Второгодник сказал, что вообще я большая баба. В это время к парте нашей подошел подвижный, лопоухий и лохматый второгодник. Он внимательно разглядел меня. Сел на крышку парты и быстро спросил:
— Ты доктора сын? Да? Доктор едет на свинье с докторенком на спине! Это чья пуговица? — И он ухватил блестящую пуговицу на обшлаге моей гимнастерки.
— Моя, а то чья же еще? — ответил я.
— А раз твоя, так держи ее! — И, вырвав пуговицу, он сунул мне ее в руки.— А это чья? — спросил он, берясь за следующую.
Наученный горьким опытом прошлого ответа, я сказал, что не знаю.
— Не знаешь? — закричал лопоухий второгодник.— Значит, не твоя?
И, оторвав вторую пуговицу, он бросил ее на пол. Класс загрохотал. Так я остался бы, вероятно, без единой пуговицы, если бы не пришел инспектор. Все встали сразу вместе. Мне это очень понравилось. Инспектор щурил веселые, хитрые глаза. Пушистая, расчесанная надвое, как ласточкин хвост, борода его мела мелкие звезды на лацканах мундира. Инспектор сказал весело и ласково:
— Ну! Стрючки-новички! Отшарлатанили? Погоняли голубей? То-то, сорванцы, горлопаны... Смирно!!! Гавря Степан! Убери брюхо! Спрячь живот в ранец! Второй год сидишь, мерзавец, а стоять не умеешь! В кондуит захотел? Ишь отрастил космы на хуторе. Остригись!
Потом инспектор вынул список и сделал перекличку. При этом он нарочно смешно путал фамилии второгодников.
— Туфельд! — кричал он вместо Куфельд.— Варекухонко! — вместо Куховаренко.
Дошла очередь до меня.
— Здесь!!! — оглушительно выпалил я.
Инспектор удивился:
— Маленький, а горластый! Вот так взревел! Недаром Львом прозываешься. Сколько лет?
Чтобы угодить второгодникам, я решил сострить:
53
— Полдесятого!
Инспектор спокойно сказал:
— А я вот тебя, Лев, царь зверей... прохвост этакий, оставлю без обеда до половины десятого, тогда ты узнаешь, как острить. Постой, постой! — закричал он, как будто я хотел куда-то уйти.— Постой! Это зачем у тебя на обшлаге пуговицы? Здесь по форме не полагается, значит, нечего и выдумывать.
Он подошел и взял меня за рукав. Потом вынул из кармана какие-то странные щипцы и вмиг отхватил лишние, по уставу не полагающиеся пуговицы.
Теперь я весь был по уставу.
Наполеон и кондуит
В кондуит я попал очень скоро.
Надо было докупать кое-какие учебники. С мамой и братишкой мы поехали в Саратов.
Занятия уже начались. Заполнилась первая страница гимназического дневника. Повернулись первые страницы учебника, открывшие массу важного и интересного. Я чувствовал себя весьма ученым. Пароходик «Клеопатра», на котором мы ехали, шел мимо давно знакомого острова Осокорья. А я уже видел не просто остров, но «часть суши, со всех сторон ограниченную водой»...
В Саратове, купив учебники, мы зашли сниматься. Фотограф навеки запечатлел негнущуюся фуражку с гербом и новые ботинки. Потом мы гуляли по Немецкой. Фуражка стояла над головой, как венец у святых на иконе. Ботинки скрипели и пели, будто орган.
Мы зашли в кафе-кондитерскую «Жан». Мама заказала кофе с пирожными наполеон. В кафе было прохладно и полутемно. В зеркале блестели герб моей фуражки и носки ботинок. Напротив сидел невероятно прямой, сухой господин в форменной фуражке. Господин разговаривал с дамой и смотрел в нашу сторону. Глаза у него были тусклые, снулые, как у рыбы на кухонном столе. Я вгляделся в него
и... наполеон застрял у меня в глотке, как в снегах России. Это был наш директор — Ювенал Богданович Стомолицкий.
Я вскочил с губами липкими от волнения и пирожного. Я поклонился. Сел. Опять встал. Директор кивнул головой и отвернулся.
Мы вышли. По дороге, у дверей, я еще раз поклонился. День был испорчен. Наполеон беспокойно бурчал в животе...
На другой день на большой перемене в класс вошел наш классный наставник. Он потребовал мой дневник и на кондуитной страничке написал:
Воспитанникам средних учебных заведений воспрещается посещать кафе, хотя бы и с родителями.
54
Второгодник Кузьменко, взглянув на запись, сказал:
— Эге! Здорово! Это ловко: уже в кондуит попал. Молодец, брат. Хвалю за храбрость!
Я, признаться, сначала здорово струсил. Но тут приободрился. Равнодушно пожал плечами:
— Втяпался. Черт с ним!
А кондитерские с тех пор мы стали называть «кондуитер- ские».
П. Г.
Покровская мужская гимназия была похожа на все другие мужские гимназии. Холодные кафельные полы, мытые мокрыми опилками. Длинный коридор. Классы. В коридоре — короткий прибой перемен и отлив уроков.
Звонок. Лязгающий звон его имел два выражения. Одно, в конце урока,— веселое, хихикающее, беззаботное:
«Дунь!.. Жизнь — дребедень!»
Другое — в начале урока, когда кончается перемена. Брюзжащая, злая морда:
«Дррать вас надо, дрянь!»
Уроки. Уроки. Уроки. Классные журналы. Кондуит. «Вон из класса!», «К стенке!».
Молитвы, молебны. Царские дни. Мундиры. Шитая позументом тишина молебнов. Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния.
Сизые шинели. Сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Балл — отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в неделе, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто «от сих до сих».
§ 18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после семи часов вечера.
§ 20. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения г. инспектора для каждого раза. Безусловно воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гулянья и т. д.
Пр и мечание. В г. Покровске таковыми местами являются: Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы.
Так было написано в наших гимназических «билетах», и всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят: все дороги ведут в Рим. В гимназии все дороги вели в кондуит. Жизнь каждого сизяка (гимназиста) была вписана в кондуитный журнал.
55
Штрафы, «безобеды», выговоры, исключения из гимназии... Страшная это была книга! Тайная книга. «Голубиная книга».
Есть такое предание, что «Голубиная книга» упала много веков тому назад с неба и написано было в ней будто бы про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять: слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой «Голубиной книгой» казался нам, гимназистам, кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством. Никто не смел и думать о том, чтоб прочесть кондуитные записи.
Голуби-сизяки
Сизяками называют диких голубей. Сизяками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В «Голубиную книгу», в кондуит, была вписана жизнь трехсот «диких голубей». Триста голубей томились в силке.
Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь слепца.
Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты, лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом калились до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов. Ездили на займище, дрались на берегу. Гонялись на лодках с саратовцами. Зимой пили. Справляли свадьбы, танцуя по Брешке. Лущили подсолнухи. Зажиточные хуторяне собирались в волостном правлении «на сходку». И, если подымался вопрос о постройке новой школы, о замощении улиц и т. д., горланили обычную «резолюцию»:
— Нэ треба!
Болота и грязь затопляли слободские улицы. Так жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова.
И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжие хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены «под три нуля», вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы.
Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинели. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники (о, эти господствующие классы!) дрались нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лу¬
56
пят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники. Меня били редко: боялись убить. Я был очень маленький. Все-таки раза три случайно валялся без сознания.
На пустырях играли в особый «футбол» вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб надо было ногами перекатить через неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча.
Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы. Изобретались сложные приборы. Механизировались парты, полы, доски, кафедры. Была организована «спешная почта», «телеграф». Во время письменных ухитрялись получать решения из старших классов.
Некоторые «назло учителям» нарочно горбились. Так, уродуя себя, согнувшись в три погибели, они стояли в углах, куда их ставили «на выпрямление». Дома же это были прямые, стройные парни.
В классах жевали макуху (жмых), играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы.
В классах жгли фосфор — для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно.
Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку — игрушка пищит. Учитель бегает по классу — пищит. Учитель обыскивает парты — пищит.
— Встаньте и стойте!
Класс на ногах — пищит.
Приходит инспектор — пищит. Весь класс сидит два часа без обеда.
Пищит...
Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с парнями. Били городовых. Учителям, которых невзлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутом в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль: зинь-ицив...
Директор
Директор Ювенал Богданович Стомолицкий был худ, высок, несгибаем и тщательно выутюжен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его «Рыбий Глаз».
Рыбий Глаз был ставленником прославившегося своей мерзостью министра народного просвещения Кассо. Больше всего на свете Рыбий Глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек (обязательно за козырек!) и низко кланяться.
Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш.
— Стой! — сказал директор.— Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует.
Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил: «Скверный мальчишка». Это было самым грозным ругательством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями.
Всюду, где он ни появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры; все, встав, напряженно молчали. Становилось душно. Хотелось открыть форточку, громко закричать.
Любил Рыбий Глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс вскакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полуслове и казался сам накурившимся гимназистом.
Директор садился у кафедры и следил за тем, чтоб вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, а потом уж учителю.
В кондуите по милости директора были такие записи:
Глухин Андрей был встречен г. директором в шинели, надетой внакидку. Оставить на четыре часа после уроков. Гавря Степан... был замечен г. директором на улице в рубашке с вышитым воротником. Шесть часов после уроков. Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на двенадцать часов в классе (в два праздника).
(У Авдотенко Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил.)
Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором.
— Я доволен, милоштивый гошдарь,— шепелявил он директору.— Порядок у ваш обрашцовый.
Учительская
В конце коридора, вправо от кабинета директора, была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались «мы, божией милостью» — голубая лента, сусальная бородка, пробор с зачесом, ордена,— «царь Польский и прочая и прочая». (Портрет царя висел напротив.) В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезшим своим хвостом «гусара в нос» богине. Богиня была старая и гипсовая. Звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпыча. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом... Это Цап-Царапыч всеми силами скрывал. Но стоило ему только повернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строились безобразные рожи, показывались «носы», кукиши... Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит, преклонялись перед храбростью озорников. Цап-Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее.
Он ловил нас на Брешке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтоб убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг целую компанию шестиклассников в кинематографе «Пробуждение». Гимназисты скрылись в ложе и заперлись там. Цап-Царапыч пошел за городовым. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры ложи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В суматохе шестиклассники удрали через запасный выход.
Тюлевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обвивая глобусы и чучела птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и вниманий, единиц и пятерок всех учеников — классные журналы. Их во время перемен просматривал обычно инспектор.
Инспектор
Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый плотный человек. Волосы ершиком. Темные прищуренные глаза. Языкаст он был, однако, до грубости.
59
И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективное преступление или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Он медленно входил в класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его, казалось, мела нас по головам.
— Дежурный,— спокойно-зловеще говорил инспектор,— а ну-ка, дежурный... закрой дверь. Тэ-э-эк-с.
Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодавшиеся и уставшие после пяти уроков, стояли не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь бороду. Потом он вынимал из кармана книгу, садился за кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял. Десять минут. Полчаса...
Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать:
— Ну-с! Что, болваны? Доостолопились, хулиганы, брандахлысты, голубятники?! У-у, «хохландия»!.. Голодранцы! При всей честной гимназии ошельмую, головотяпы! Шарлатаны! Галахи! Лодыри! Эй, чей это там дурацкий затылок? A-а, это твой, Гавря? Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу воротишь? Сам — первейший оболтус! Ну, что? Стыдно небось, обормоты? Мерзавцы! Оборванцы! Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждет. Щи горячие. Говядина жареная. Дух идет.— И инспектор щелкал языком и крутил носом.— Что? Хочется жрать? То-то и оно-то. А дома еще батька зад взгреет. Обязательно. Я записку специальную пошлю: спустите, дескать, вашему сыну штаны и всыпьте ему в задний кондуит по первое число... Нечего смеяться, лоботрясы. Шалопаи! Го-ло-во-ре-зы! Безобедники! Срам!
И, поговорив так около часа, отпускал домой. По одному, промежутками. Нас уже не держали ноги.
Агнцы и козлищи
Всех гимназистов Ромашов делил на «козлищ» и «агнцев». Так и знакомил нового преподавателя с классом.
— Садись, лоботрясы!.. Это вот, изволите видеть,— агнцы, зуб- рилки, пятерочники, дурохлопы. А вот тут — единичники, двоечники, второгодники, безобедники, горлодеры, лодыри, «Камчатка», «Сахалин», «хохландия»... Алеференко! Спрячь живот в ранец. Выпятил!
Рассаживал нас сам инспектор, и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между «пятерочным», задним левым углом класса, и «двоечным», передним правым, существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа и сдувания.
Сказание об Афонском Рекруте
Восемь непонятных записей хранит на своих страницах кондуитный журнал. Восемь загадочно одинаковых записей, помеченных одним днем. Вот что написано в кондуите восемь раз:
Ученику... такому-то... объявлен строжайший выговор с последним предупреждением за злостные хулиганские проступки. Отметка в поведении за четверть 4—(4 с минусом). Двадцать часов лишения праздника. Предупреждены родители. Классный наставник такой-то (подпись). Надзиратель (подпись).
Восемь записей этих скрывают в себе скандальную и трагическую историю, взволновавшую в свое время весь город. Но никому не известны развязка этой истории, ее конец и истинные участники. В кондуите ни слова нет о фараоне Козодаве, Афонском Рекруте и шалманском дворце мадам Коленкоровны. Покойный гимназический сторож Мокеич поведал мне тайну кондуита. Об этом я и хочу рассказать.
Первый звонок
Лет восемнадцать назад в городе не было электрических звонков. Висели на крылечках проволочные ручки, ну вроде тех, какие в уборной бывают. За ручки дергали. Но вот приехал в слободу (Покровск был тогда еще слободой Покровской) новый доктор, про которого говорили, что он очень уважает науку и технику. Действительно, доктор выписал «Ниву» и провел у себя в квартире звонки с электрическими батареями. На двери рядом с карточкой выпятился беленький кукиш кнопочки звонка. Пациенты нажимали кнопочку, и тогда в передней оживал голосистый звонок. Это страшно всем нравилось. Доктор приобрел громадную практику, а в слободе завелась повальная мода иметь электрический звонок на парадном крыльце. Через пять лет не осталось почти ни одного домика с крылечком, на котором не было бы кнопочки. Звонки звенели на разные голоса. Одни трещали, другие переливались, третьи шипели, четвертые просто звонили. Около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления: «Прозба не дербанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка».
Покровчане гордились своим культурным звоном. О звонках говорили с нежностью и увлечением. При встрече справлялись о здоровье звонка:
— Петру Степановичу! Мое вам... Ну, як ваш новенький? Справил мастер?
— Спасибо, справил. О це ж и гарный звоночек. Милости просим послухать. Чистый канарей.
Свахи, расхваливая невесту, хвастали:
— Дом за ей дают флигерем, на парадном звонок ликстрический.
61
А слободской богач Млынарь завел у себя семь разных звонков на все дни недели. Самый веселый разливался по воскресеньям. В постные дни дребезжали большие звонки самого мрачного тембра.
Когда какой-нибудь звонок переставал вдруг звонить, хозяин сейчас же посылал за Афонским Рекрутом. Рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим «звонковым мастером» в слободе. Слава его была велика. В слободской летописи он занимал столь же почетное место, как Сапсаево озеро — лучшее и поныне болото в Покровске, как Лазарь — лучший из извозчиков, здравствующий и сейчас, как пожар амбаров — лучший из пожаров.
Шалман
Афонский Рекрут жил на базаре, у мясных, пахнущих кровью рядов, в шалмане. Так называли свое неуютное, грязное жилье обитатели его. Рядом с шалманом была большая яма. На дне ее вечно стояли вонючие лужи, и собаки волочили петли кишок, комья требухи, облепленные золотисто-зелеными мухами. Немного дальше, полный перестука и звона, расположился скобяной ряд.
В шалмане жил Афонский Рекрут. Откуда взялся он, почему его звали так, какого роду-племени он был, никто не знал. А знали его все. Был он крепок и смугл, как каленый орех, худ, гибок, подвижен, как вымпел. В левом ухе болталась громадная круглая серьга. Из-под горбатого носа торчали длинные и черные усы. Левый ус загибался кверху, правый — книзу, и усы были похожи на кран умывальника. Белоснежные зубы всегда сверкали в улыбке. Руки были вечно заняты какой-нибудь работой. А руки у Рекрута были, что называется, золотые. Все умел делать. Был механиком, парикмахером, фокусником, часовщиком — чем хотите.
Он был самым уважаемым человеком в шалмане. Все слушались его и любили. Никто не видал его сердитым. Даже когда в шалмане вспыхивала ссора, обнажались ножи,— даже тогда ярче их блистала улыбка Афонского Рекрута. Он, словно из-под земли, появлялся между ссорившимися, разнимал их и, взлетев балаганным чертом на нары, кричал:
— Поштенный публик! Киляля! Последний новейший фокус-покус черной, белой и полосатой с крапинками магии. Мадамы, мусьи и джентельмены! Атанде трошки! Гляйх их бин деманстре фокус- покус! Америк! Аллюра-шкидла!
Из кармана его летели коробки, шарики. Все вертелось над головой. Шляпа садилась на тросточку, стоящую на носу, папиросы зажигались из рукавов. Живот пел женским голосом. А рваный ботинок разевал рот и говорил: мерси... В шалмане позабывали про ссору.
Хозяйство в шалмане вела полусумасшедшая Дунька Коленкоровна. Любимцем ее был дурачок Костя Гончар. У Кости была
62
безобидная мания навешивать на себя всякие яркие вещи. По городу он ходил в лохмотьях, на которых висели картинки из «Нивы», крышки чайных ящиков, рекламы папирос «Бабочка» и «Ю-Ю», ландриновские коробки, бусы, бумажные цветы, карты, обрывки сбруи, сломанные ложки. В городе его любили, как блаженненького, и дарили разные яркие ненужные вещички. До сих пор в Покровске про человека, одевшегося слишком ярко и пестро, говорят:
«Ось! Понарядился, как Костя Гончар».
Любил заглядывать в шалман фараон Козодав — городовой, охранявший порядок на базаре. Козодав имел все, что полагается иметь образцовому городовому: свирепые усы, бляху, свисток, шашку-«се- ледку», хриплый раскатистый бас, нос сливой, медаль и шнурочные красные погоны, служившие предметом зависти Кости. Фараон заходил в шалман клюкнуть рюмочку у Коленкоровны, подуться в картишки и побеседовать «за жизнь» с мудрым коммивояжером Иосифом Пукисом.
А еще жили в шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец- шарманщик Гершта, с попугаем, который умел тащить билетики «счастья», чахоточный китаец Чи Сун-ча и два друга, два вора — Шебарша и Кривопатря.
Черт и «младенцы»
По вечерам в шалман пробирались гимназисты. Здесь можно было пожевать макуху, отдохнуть в хорошем обществе, забыть на часок разграфленную гимназическую жизнь, не боясь нарваться на Цап- Царапыча, сыграть в «очко». Здесь никто не спрашивал, какая отметка будет в четверти по русскому, готовы ли уроки на завтра. Мы были здесь желанными гостями. Вместе с нами жители шалмана горячо возмущались гимназическими порядками, и многие даже готовы были бить латиниста за несправедливую единицу. Особенно горячился тихий вообще Чи Сун-ча.
— Какой зилая латыня,— говорил он, вырезая фестоны из разноцветной бумаги,— лас холосо, засем единиса?
Мы приносили в шалман интересные книжки, последние новости, наши гимназические завтраки, безделушки для Кости Гончара. Вза¬
63
мен мы приобретали некоторые полезные сведения и навыки по части вырезывания замков, чистки ретирад и приемов одесского джиу- джитсу.
Но Афонский Рекрут любил поспорить о прочитанной книге и втягивал нас в эти споры. Над ним сперва потешались: связался, дескать, черт с младенцами, но вскоре в спорах стали принимать участие почти все шалманские обитатели. Кроме того, один из «младенцев», Васька Горбыль, так отлупил Шебаршу, что к гимназистам стали относиться с полным уважением. Сначала читали легкие книжки. Так мы проплыли «80 ООО лье под водой», нашли «Детей капитана Гранта», чуть сами не потеряли головы с «Всадником без головы». А потом Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, принес под полой и другие книжки. Затаив дыхание слушал шалман о парижских коммунарах.
Тайна этих посещений сохранялась гимназистами очень строго.
Даже в классах многие не знали, где проводит время так называемая Биндюгова шайка. Когда в шалман неожиданно заходил Козодав, книжки тотчас прятались, а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал:
— Слышь, гимназеры? Раньше как через полчаса не вылазьте. Ваш Цап-Царапыч по Брешке шныряет. Я тогда скажу, как можно станет.
Во саду ли...
В сентябре в Народном саду поредела листва, побурел кохий. Сад стал похож на вытертый воротник старой шубы.
В сентябре на главной аллее гимназисты затеяли с парнями драку.
Пятиклассник Ванька Махась гулял с гимназисткой. Сидящие на скамейке парни с Бережной улицы стали «зарываться».
— Эй, сизяк! Ты с нашей улицы девчонок не замай.
Махась отвел гимназистку к фонтану. Сказал:
— Я извиняюсь. Одну секунду. Я в два счета.
Потом вернулся на аллею, подошел к парню и молча ударил. Парень слетел со скамейки на проволоку, огораживающую аллею. И сейчас же вся аллея покатилась в одной общей, сплошной драке. Дрались молча, потому что на соседней аллее сидели преподаватели. Парни тоже понимали это и считали нечестным кричать и тем подводить противников.
Проходившие сторожа разняли дерущихся. Появление Цап-Ца- рапыча окончательно прекратило побоище.
И тогда городская дума попросила директора внести в список запрещенных для гимназистов мест и Народный сад. Директор с полной готовностью согласился. Гимназисты лишились последнего места для гуляния. Они пробовали протестовать, но родительский комитет одобрил приказ директора.
«Идем на вы!»
В тот же день в шалмане состоялось экстренное и тайное совещание. Из гимназистов присутствовали лишь Биндюг и Атлантида.
Атлантида был вне себя от негодования.
— Нет,— волновался он,— это просто чертовщина какая-то! И так носу сунуть никуда не дают, а тут еще это... Плюю я после этого на весь Покровск.
— Знаете, что я вам предложу? — сказал Иосиф.— Пошлите попечителю телеграмму с оплаченным назадом. Нельзя же молчать. Ведь это прямо какая-то черта оседлости для гимназистов. Тут нельзя, там нельзя... А где можно? Я знаю где?..
— Аллюра-шкидла! Да какие тут к чертям телеграммы! — перебил его Рекрут.— Нет, тут надо поварить котелком. Иесь!
— Размордовать!.. И никаких! — весело посоветовал с верхних нар Кривопатря. Он лежал, свесившись, и сосредоточенно плевал, стараясь попасть в кольцо из сведенных пальцев.
— Нет! — твердо сказал Атлантида.— Этот номер не пройдет, тут треба всему городу накласть... они все виноваты. И дума и комитет. Черти свиные!.. И чтоб не всыпаться самим. А то как засвистишь из гимназии... Вот тут и мозгуй.
— У нас ребята дружные,— добавил Биндюг,— как насядем гуртом — держись!
Стало тихо. Заговорщики задумались. Капало с крыши.
Вдруг Иосиф вскочил, хлопнул безжалостно себя по лбу и воскликнул:
— Эврика! Эврика, что значит по-гречески «нашел»! Блестящая идея зародилась в этой голове... Что?
— Да ну, не тяни ты, ради бога! Говори, что ли!
— Что это за колоссающий шум? Вы где, в гимназии или в порядочном шалмане?
— Скажешь ты или нет? Тянет, черт тебя не дери...
— Тсс! Прошу соблюдать тишину! Моя идея — идея-фикус! Она имеет для всех нас только хорошие стороны — и ни одной плохой. Так слушайте же вы... В чем исключается моя заключительная. То есть наоборот! В чем заключается моя исключительная идея. Вы берете и делаете так...
И Иоська стал тощими своими пальцами, как ножницами, стричь воздух. Он стриг таким образом воздух несколько минут, потом обвел всех сияющим взглядом и сказал торжественным шепотом:
— Звонки...
Манифест
Для проведения «звонкорезной» кампании Биндюг назначил восемь отборных ребят из всех классов. Для этого заготовили такие манифесты:
3 Школьные годы. Выпуск 1
65
«Ребята! Нам запретили шляться по Народному саду. (Посмотри, не смотрит ли на тебя кто!) Против нас стоят Рыбий Глаз, Дума, Родительский. Выходит, против нас весь город. За это им надо так наложить, чтоб год помнили. Весь Покровск помнил чтоб.
У нас в Покровске все носятся со своими звонками, как дурни с писаной торбой. Ребя! Мы, Комитет Борьбы и Мести, решили срезать все звонки в городе. Каждый из нас должен срезать в установленный заранее день звонок со своих дверей. Родители за директора.
В тех домах, где нет гимназистов, звонки будут срезаны квартальными ребятами, которым это поручит Комитет Борьбы и Мести лично. Мы проведем «варфоломеевскую ночь» в смысле звонков! Ребята! Режьте без пощады! Нас довели до этого. Нас лишили последнего гуляния и отдыха на лоне и развлечения.
В каждый класс назначаются от Комитета Борьбы и Мести старосты. Слушайтесь их, господа! Ввиду опасности выкидки даем клички.
1 класс «Маруся»
2 » «Свищ»
3 » «Атлантида»
4 » «Дондер-Шиш»
5 » «Цибуля»
6 » «Сатрап» («Тень отца Хамлета»)
7 » «Мотня» («Я — житель»)
8 » «Царь Иудейский»
Главный «Биндюг»1
Срезанные звонки сдаются классному старосте. Он передает их через Комитет одному инвалиду, который за это будет давать нам порох, патроны, пугачи и др. О дне «варфоломеевской ночи» будет дан старостами сигнал в виде белого треугольника, присобаченного к окну на стекле.
Не надо ломать большой звонок в учительской, а то догадаться можно кто. Кто будет об этом звонить, тому так заткнем звонок... Режь звонки!
Один за всех!
Все за одного!
Да живет Борьба и Месть!
Подпишись, передай дальше, кроме Лизарского и Балды.
Ком. Б. и М. 1915 г.»
1 Почти все гимназисты имели свои клички. Некоторые имели даже по нескольку. Например, «Мотня» звался еще также «Я — житель». Прозвище это дали ему за то, что, спрягая в латинской письменной работе глагол «инколо» (населять), он спутал его с «инкола» (житель) и всюду, переводя на русский, спрягал: «я житель, ты житель, он житель...»
66
И пошли гулять по гимназии манифесты под шепот подсказки, в толчее перемен, в накуренной вони уборной. Двести шестьдесят восемь шинелей висело в раздевалке. Двести шестьдесят шесть подписей собрали манифесты. Не дали манифеста сыну полицейского пристава Лизарскому и товарищу его Балде.
Война была объявлена.
«Сорванные голоса»
Через пять дней главари собрались поздно вечером в шалмане. Несмотря на позднее время, все они явились с тяжелыми ранцами за спиной. А в ранцах, там, где бывал обычно многоводный «Са- водник» и брюхатый цифрами «Киселев», лежали срезанные кнопки звонков. Белые, черные, серые, перламутровые, эмалевые, желтые, тугие и западавшие кнопочки (раз нажмешь — звонит без конца) смотрели из деревянных, металлических кружков, квадратиков, овалов, розеток, лакированных, ржавых, мореных и крашенных под дуб и под орех. Оборванные провода торчали из них, как сухожилия.
Весь город записался в очередь к Афонскому Рекруту. Две недели с утра до вечера привинчивал Рекрут новые звонки, ставил «сорванные голоса», как шутя любил он говорить. Когда же последняя кнопочка была привинчена, Рекрут сказал Биндюгу:
— Крой! Через неделю.
В субботу была грязь. Не одна галоша захлебнулась в лужах, не один резиновый бот затонул на главной улице Покровска. Когда же, теряя галоши, дорогу и силы, покровчане пришлепали из церкви домой, они долго шарили в темноте по дверям, зажигали спички, прикрывая их ладонью от ветра. Кнопок не было. К ночи весь город знал: новые звонки срезаны!..
— Шо ж таке? — волновались на другой день в церкви на обедне, на углах улиц, на завалинках, у ворот.— Матерь божия! Середь белого дня... грабеж. Мабуть, вони целой шайкой шкодят?..
— Як же!.. Поставила я тесто та и вышла трошки с шабрихой покалякать, с Баландихой. Ну, а у хате Гринька бильшенький мой, уроки, кажись, учил. Покалякала я трошки, вертаюсь назад, хочу парадное зачинить... шась! Нема, бачу, звоночка... И не было никого округ...
И не знала бедная кума, что ее-то «бильшенький», курносый пятиклассник Гринька, сам и срезал звонок...
Земский и сын
Уныние царило в городке. Новых кнопок уже не ставили. Гимназисты торжествовали. На всех дверях печально пустовали невыгоревшие светлые кружки с дырками от гвоздей.
67
Только земский начальник позвал Афонского Рекрута.
— Ставь новый! — сказал земский.— Ставь, подлец! Да крепче! Знаю я вас, чертей афинских... Все ваши шахер-махеры знаю.
Земский погрозил пальцем. Рекрут насторожился.
— Нечего, нечего прикидываться! Знаю. Норовишь, чтоб чуть держался, поставить. Чтоб легче хулиганам этим было. Вам, архаровцам, одна выгода. Они сорвали, а тебе, черномазое жулье, заработок. Ну, на этот раз шалишь! Я городового поставлю. Круглые сутки дежурство.
Рекрут привинтил новый звонок и побежал в шалман, где ждали его гимназисты. Рекрут объявил:
— Земскому новую пупырку присобачил. Резать нельзя. Фараон караулить будет.
— Плевал я на всех фараонов! — упрямо крикнул гимназист Венька Разуданов, сын земского начальника, по прозвищу Сатрап. Коренастый, упрямоголовый, он сильно смахивал на отца. (Отсюда и пошло его второе прозвище — Тень отца Хамлета.)
— Послушайте, вы, воинствующий мальчик,— сказал Иосиф Пу- кис,— что это за апломбированный тон? Как бы вы не сняли вместо звонка вот эту гербовую фуражку. Зачем залазить на рожон? Осторожность прежде всему.
— Верно, Сатрапка, смотри... Если вляпаешься — вот! Приложу...— И Биндюг поднес к носу Сатрапа свой чудовищный колотушкообразный кулак.
Как всегда, кулак подвергся тщательному и любовному обсуждению. Все щупали кулак и восхищались:
— Дюжий кулак! Поздоровче моего.
— Хороший кулак в наше время лучше неважной головы,— философствовал Иосиф.
— Холеси кулак,— восхитился Чи Сун-ча,— такой кулак пала- ходя босьман. О! Зюбы ньет!
— А звонок я все-таки срежу! — упрямо буркнул сын земского.
Глава почти кинематографическая, в которой читатель, видя наверху ноги, а внизу голову, может крикнуть автору: «Рамку!»
Тьма.
Потом, когда глаза наши привыкли, мы видим дверь с дощечкой: «Земский начальник Геннадий Вениаминович Разуданов». Около — новенькая кнопочка звонка. Площадка второго этажа. Кусок лестницы. Внизу, под лестницей,— голова с длинными усами и толстым носом. Фуражка с кокардой. Это Козодав. Ему холодно. Он ежится.
69
Он подымает воротник. Он часто моргает. Глаза слипаются. Козодаву хочется спать.
Часы в столовой земского начальника показывают два. На столе стакан молока и бутерброд. Кому-то оставлено...
По лестнице подымаются ноги. Резиновые галоши в грязи. Одна нога спотыкается о ступеньку:
— Тьфу, дьявол! Темно, как у негра под мышкой.
Вспыхивает спичка. Рука в изящной перчатке подносит спичку
к звонку. Спички одна за другой долго вспыхивают и тухнут.
— Ну, на этот раз Рекрут постарался!
Внизу голова Козодава. Наверху ноги в резиновых галошах. Козодав, который на минутку заснул, очухавшись, тяжело взбегает наверх...
— Ага! Попался! — Надувшись, топорща усы, он свистит. Другой рукой он поймал неизвестного за шиворот. Свистит.— Каррраул!.. Пымал!
Неизвестный спокойно оборачивается и властно отрывает от себя руку полицейского. Это сын земского, Венька Разуданов. Он негодует:
— Ты что, болван, спятил? А? Заставь дурака...
— В... в... винов... ват-с! Не признал в темноте-с. Сделайте божескую милость, простите. Думал, за звонком кто...
Дверь раскрывается. Земский в женином капоте, с двустволкой в руках вылезает на площадку, и из-за его спины выглядывают испуганные, заспанные лица жены, свояченицы и прислуги.
— В чем дело?!
Козодав стоит вытянувшись, рука к козырьку. Веня объясняет:
— Этот дурак со сна принял меня, папа, очевидно, за бандита. А звонок сам проспал.
Все смотрят на дверь. Там, где только что был звонок,— обрывки проводов и дырочка от гвоздей. Все поворачиваются к Козодаву. Козодав подходит к дверям, не верит глазам, щупает место. Потом разводит руками. Земский трясет его за шиворот:
— Вон, мерзавец! Проспал!
Венька разыгрывает обиженного и взволнованного.
— Я так устал, мама. Занимался все время... А тут это...
Ну, тут идут дела семейные. Поцелуй там, диафрагма — словом, конец главы.
Из кармана Венькиной шинели торчат обрезанные провода и упорно поблескивает кнопка.
Фараон вызывает Иосифа Пристав сказал Козодаву:
— Чтоб у меня эти звонкорезы были пойманы! Слышишь? Ос¬
70
кандалился, черт тебя бы не взял, на весь город!.. Поймаешь — пятьдесят рублей награды. Нет — так ты у меня попрыгаешь, бляха номер два ноля!
Фараон с рвением взялся за розыски.
Он шел по базару... Не шел, а плыл. Красные шнуры погон на его богатырских плечах взлетали, как весла, в людской реке базара. И на базаре Козодав встретил Костю Гончара — шалманского блаженного, пестрого Костю. Разукрашенный, как рождественская елка, бродил Костя по базару. Две новые реликвии лучились на его брюхе: реклама галош «Треугольник» и... большая красная розетка с кнопкой от звонка. Увидев звонок, фараон кинулся к Косте. Он пообещал Косте, если тот скажет, откуда у него звонок, подарить красные погоны, золотые висюльки и все, что угодно. Костя, улыбаясь, рассказал все... Рассказал, как украл звонок из-под нар Рекрута.
— Рекрут сховал, а я пошукал трошки та и взял... Там их сколько много!.. Раз, та еще двадцать раз, та еще...
Козодав пообещал еще тысячу разных ярких вещей. Костя принес ему обрывки «Манифеста Борьбы и Мести». Главари были в руках. Чтоб словить остальных, фараон решил соблазнить Иосифа. Он явился в шалман и сел на его нары, дипломатически покашливая.
— A-а, господин лейб-городовой,— приветствовал его Пу- кис,— вы до меня? Чем могу быть нужным?
Фараон придвинулся поближе, огляделся, толкнул Иосифа локтем в бок.
— Ох, Иосиф, як, бачу я, и хитрый же ты! А ну-ну, расскажи, як с Рекрутом звоночек срезали. Я никому ни-ни. Так, послухать охота. Ну, брось корежиться.
— Я ни капли вас не понимаю.— Иосиф сделал удивленно-спокойное лицо.— Хотя я и Иосиф, а вы фараон, но я не могу понять, откуда вам это приснилось...
Козодав вынул бумажник и зашелестел радужными бумажками. Иосиф спокойно продолжал:
— И потом, мне кажется, не в обиду вам пусть сказано, что вы, господин лейб-городовой, вы колоссающий обер-подлец!
Козодав погрозил кулаком, хлопнул дверью и вышел. По дороге он остановился. Вынул манифест. Начало и конец были оборваны, но список старост остался нетронутым. Поразмыслив, Козодав вырезал из манифеста Сатрапа, сына земского начальника. «Земский за эту
71
бумажку пятишку даст,— решил городовой,— а не то и его сынка попрут». Поправив фуражку, фараон пошел в участок, а оттуда в гимназию, к директору...
Шаги в коридоре
Скучный ветер студил лужи, как чай на блюдечке. Звенели телефонные провода. В десять телефонная барышня соединяла звенящими в ветре проводами полицейский участок с зеленым кабинетом за учительской. Директор, зеленый, как обои его кабинета, и медлительно безрадостный, как диктант, повернул рукоятку телефона, откинулся в кресло, снял трубку и поднес ее к уху.
— Да,— сказал он,— слушаю.
В гимназии шли уроки. И через полчаса во всех классах услышали: по коридору прошли двое. У этих двоих были тяжелые незнакомые и недобрые шаги. У одного, ступавшего тяжко и кряжисто, скрипели сапоги. Другой на каждом шагу чем-то позванивал, тренькал. В классах прислушивались. Подняли головы от тетрадей, шпаргалок, щелей в парте, от запретных книжек и козырного валета. На дверях остановились настороженные взгляды.
Развязка
В третьем шла письменная по математике. Коридор опять затих. Скрипели перья. Биндюг сморозил что-то в задаче. Не выходило по ответу. Шаги в коридоре совсем сбили с панталыку. Степка Атлантида, у которого сердце тоже екнуло, увидев друга в затруднительном положении, послал ему записку:
«Свинья не выдаст, директор не съест».
Но свинья выдала... Дверь класса раскрылась. Класс грохнул партами. Вошел мерзостно-ликующий Цап-Царапыч, играя брелоком-ключиком. Ключик был от шкафа, где лежал кондуит. Цап-Царапыч вызвал:
— Гавря! К директору!
Атлантида растерянно вырос над партой. Цап-Царапыч заторопил:
— Ну, живо! Поворачивайся. Книги возьми с собой...
Класс взволнованно загудел. С книгами!.. Значит, совсем. Не вернется...
Биндюг ждал, словно под удар наклонив голову, но Цап-Царапыч молчал. Козодав, убоявшись Биндюговых кулаков, вырезал и его из списка.
Атлантида дрожащими руками собрал книги, взял ранец и пошел к двери. По дороге незаметно сунул Биндюгу свернутую в трубочку бумажку. В дверях Атлантида остановился и хотел что-то сказать, но Цап-Царапыч вытолкнул его за дверь. Класс томительно молчал.
72
Учитель математики нервно протирал запотевшие стекла очков...
Биндюг расправил бумажку, которую ему дал Атлантида. На бумажке было полное решение задачи, не выходившей у Биндюга. Степка и в последнее мгновение не забыл друга, помог. С минуту Н'/ндюг сидел неподвижно, опустив голову и уткнувшись глазами в . дну точку. Потом вдруг встал, качнулся над партой, вобрал воздуха но всю свою широкую, как рыдван, грудь, избычился и решительно сказал;
— Можно выйти?
— До конца урока осталось десять минут,— сказал учитель.
— Можно выйти? — упрямо выдыхнул Биндюг и шагнул в проход.
— Идите, если вам так приспичило.
Замерший класс увидел, что Биндюг собрал книги, торопясь, попихал их в ранец и грузно пошел с ним к дверям. Небывалая тишина наступила в третьем классе.
Не оглядываясь, Биндюг вышел в коридор. В пустом коридоре Биндюг почувствовал себя маленьким и обреченным. И он услышал, как за дверью в страшном не мении покинутого им класса полыхнул, взвился над партами, чернильницами, кафедрой тонкий хохот и перешел в захлебывающийся визг. Это на первой парте, не выдержав, забился в истерике маленький Петька Ячменный...
Биндюг расправил плечи и зашагал в кабинет директора.
Восемь
Козодав сопел. Он сопел и тыкал пальцем в стоящих перед ним гимназистов.
— Так точно! Это вот — Свищ. А этот-с — Атлантида-с. Ихняя кличка такая-с.
Другой, позванивая шпорами, раскачивался, откинувшись на спинку стула, и крутил черные усики:
— Так-с, так-с... Ай да конспирация!.. Так-с, молодые люди.
Семеро стояли перед столом. Семеро, так как сына земского
начальника не было. Копоть тоски и отчаяния оседала на лица.
— Так. Отлично,— сказал резко и сухо директор, словно щепка треснула,— благодарю вас... Ну-с, скверные мальчишки! Что вы можете сказать? Стыд! Срам! Позор! Кто был еще с вами? Не скажете? Скверные, отвратительные мальчишки. Мародеры! Вы все будете исключены. Вы позорите герб. Разговоры бесполезны. Пришлите родителей. Мне их очень жалко. Иметь таких детей — большое горе для родительского сердца. Дрянь.
Семеро вскинули глаза и тяжело вздохнули. Родители... Да... Сейчас дома будут слезы матери. Ругань. Отодвинутый с грохотом стул отца. Может быть, оплеуха. Стынущий обед... «Водовозом будешь, скотина!..» Пустые дни впереди.
73
И Царь Иудейский грубо сказал:
— Не будем касаться родителей, Ювенал Богданыч! И так тошно.
— Молчать! Вы что, волчий билет захотели, скверный мальчишка?
В это время вошел Биндюг. Он уперся в край стола. Стол заскрипел. Биндюг, тяжело двигая челюстью, разжевал:
— Я тоже, Ювенал Богданович... Я... их главный.
— Ну что ж. Можешь считать себя свободным. Ты тоже исключен.
В раздевалке стало меньше на восемь шинелей.
Восемь человек побрели по размякшей площади, увязая в грязи, согнувшись под тяжестью ранцев и беды. В последний раз они оглянулись на гимназию, и один из них — это был Биндюг, в классе из окна видели — злобно погрозил кулаком. И в классах всем, кто видел их, захотелось кричать, трахнуть кулаком по парте, опрокинуть кафедру, догнать ушедших... Но в классах сидели гимназисты. А гимназистам запрещалось шуметь и быть товарищами, пока им не разрешал этого звонок, отмеривающий порции свободы.
Перья скрипели и кляксили.
Пукис — бенефициант
А к середине пятого урока в тихий коридор вошел серьезный Иосиф Пукис. Мокеич, сторож, опилками мыл пол. Иосиф вежливо поздоровался и сказал вкрадчиво:
— Господин обер-швейцар! Мне бы так треба видеть господина директора. Дело идет о жизни и наоборот.
Директор принял Иосифа в учительской. Директор торопился:
— Ну-с? Чем могу?.. Э-э... Прошу не задерживать.
— Господин высший директор,— начал Иосиф,— я — старый блуждающий еврей, и я вижу на вашем лице семейное счастье. Бьюсь об закладку, ваши дети не будут ходить босы и наглы.
— Короче! — сухо перебил директор.— У меня нет детей. И, кроме того, нет времени...
— Одно маленькое мгновение, господин директор. Вы сегодня исключили восемь ребят. За что вы их исключили, я вас спрашиваю? А я имею право спрашивать? Нет! И еще двадцать раз нет. Но у меня мягкое сердце. А когда мягкое сердце, так нельзя молчать. Мне очень жалко за мальчиков. А еще больше мне жалко за родителей, которые нянькали и росли этих мальчиков. Господин директор, у вас нет детей. Дай вам бог, чтобы они у вас были. Вы не знаете, как это — ой-ой-ой — больно, когда приходит ваш мальчик и...
— Будет! — Директор встал.— Бесполезный разговор. Выход на улицу вон в ту дверь.
— Одну маленькую минуточку! — закричал Иосиф, хватая ди¬
74
ректора за рукав.— А вы знаете, что эти звонки, чтоб они пропали, резали все ваши мальчики? Сколько учится их у вас всего?
— Двести семьдесят два учились до сего дня,— машинально ответил директор.
— Так из них резало двести шестьдесят самое меньшее. Что вы на это скажете? А что, если я скажу, что ваш лучший ученик, сын господина высшего земского начальника, дай бог ему здоровья, резал, и даже лучше многих? Полиция вам показала кусочек.
И Иосиф вынул полный манифест и показал директору. Директор побледнел. Подписи всех восьми классов стояли на манифесте. Директор брезгливо протянул Пукису руку.
— Садитесь... пожалуйста...
Тогда Иосиф изложил свой план. Мальчиков принимают в гимназию обратно. Полиция делает обыск в шалмане и находит звонки. Афонский Рекрут пока скроется. С ним все уже договорено. Все будут думать, что звонки резали бродяги из шалмана, гимназисты будут оправданы. Скандал будет потушен. Если же директор не примет обратно мальчиков, весь город, вся губерния, весь учебный округ узнает завтра же и о порядочках в Покровской гимназии, и о том, как ведут себя дети земских начальников...
— Хорошо,— выдавил директор,— они будут приняты обратно. Мы им запишем только в кондуит.
И он вынул бумажник.
— Сколько вам следует за это,— спросил директор,— за это... и еще за то, чтобы вы молчали?
Иосиф вскочил. Иосиф перегнулся через стол. Иосиф сказал:
— Господин директор! Вам не придется платить мне, господин директор... Но, клянусь памятью моей матери, да будет ей земля пухом и прахом, что будет такое время, когда вам заплатят и я, и мы, и те восемь, которые пошли, как выгнатые собаки... и заплатят с хорошими процентами!
Так кончается сказание об Афонском Рекруте.
«Журавли» и «лебеди»
После скандала со звонками гимназия временно как будто немного притихла. Кровопролитные мордобития, кражи и дебоши стали пореже. Зато режим в гимназии сделался еще суровее.
И Цап-Царапыч то и дело потрясал гипсовые основы античного искусства, отпирая шкаф с кондуитным журналом и беспокоя преклонных лет Венеру.
Строжайше были запрещены прогулки по платформе и Народному саду. Серая, тоскливая нудь сочилась изо дня в день, с одной странички учебного дневника на другую. Кондуит свирепствовал. На уроках у стен выстраивались рядами наказанные. В журналах выстраивались осенними журавлями косяки носатых единиц. Лебедями плыли двойки.
Три «Е» и «Тараканий Ус»
Особенно рьяно разводил «журавлей» и «лебедей» учитель латинского языка Вениамин Витальевич Пустынин, прозванный за длинные, торчком стоящие усы «Тараканий Ус», или, «по-латыни», «Тара- каниус».
Была у него и другая весьма распространенная в нашем классе кличка — «Длинношеее».
Был Тараканиус худ, носат и похож на единицу. Шея у него была длиннющая, по-верблюжьи раскачивалась она над крахмальным воротником с острыми углами. Однажды на уроке Гавря, желая потешить класс, спросил Тараканиуса:
— Вениамин Витальич! Хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста: ведь есть такое слово, которое на три «е» кончается?
— Есть,— ничего не подозревая, ответил Тараканиус,— есть! Например, вот: «длинношеее».
Класс грохнул. Гавря, торжествуя, сел. С того дня Тараканиуса в классе и всюду встречали три громадные буквы «Е». Они глядели с классной доски, с кафедры, с сиденья его стула, со спины его шубы, с дверей его квартиры. Их стирали. Назавтра они появлялись снова.
Тараканиус бледнел, худел и ставил единицы в тетрадках и дневниках. У него была страсть к маленьким тетрадочкам, куда мы записывали латинские слова. Вызывая на уроке ученика, он непременно каждый раз требовал, чтобы у нас на руках была эта тетрадка.
— Тэк-с,— говорил он,— урок, я вижу, ты усвоил. Ну-с! Дай-ка тетрадочку. Посмотрим, что у тебя там делается... Что?! Забыл дома?! И смел выйти отвечать мне урок без нее! Садись. Единица.
И никакие просьбы, никакие мольбы не спасали. Единица!
В нашем классе были два ученика — Алексеенко и Алеференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, воссел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал:
— Але... ференко!
Алеференко, сидевший позади Алексеенко, пошел к кафедре. Алексеенко, которому со страху почудилось, что вызвали его, вскочил и уныло пробасил:
— Я тетрадку забыл, Вениамин Витальевич... со словами...
И замер от ужаса: к кафедре подходил Алеференко.
«Обознался!.. Ой, дурак!..»
Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила.
— Ну, собственно, я не тебя, а Алеференко вызывал. Но раз уж сам сознаешься, получай по заслугам.
И поставил единицу.
Историческая гвардия
Звонок. Кончилась перемена. Стихает шум в классе.
Идет!
Все за партами разом вскочили.
Приближается историк. Белокурые мягкие волосы на пробор. Худое, совсем молодое бледное лицо. Громадные голубые глаза. Голова чуть-чуть склонилась ласково набок. Воротничок ослепителен. Кирилл Михайлович Ухов вихрем влетает в класс, бросает на кафедру журнал.
Класс на ногах.
Кирилл Михайлович осматривает класс, взбегает на кафедру, забегает в проход сбоку, садится на корточки. Вдруг голубые глаза сверкнули. Высокий голос сорвался в крик:
— Кто!., там!! смеет!!! садиться?!! Я еще не сказал... «садитесь»... Встаньте и стойте!!! И вы там!!! И вы!!! И вы! Негодяи! Остальные — сесть. Руки на парту. Обе. Где рука? Встаньте и стойте! А вы — к стенке!!! Прямо! Ну... Тишина! Кто это там скрипит? Шалферов? Встаньте и стойте! Молчать!
Четырнадцать человек стоят весь урок. Историк рассказывает о древних царях и знаменитых лошадях. Ежеминутно поправляет галстук, волосы, манжеты. Из-под манжеты левой руки блестит золотой браслет — подарок какой-то легендарной помещицы.
Четырнадцать человек стоят. Урок идет томительно долго. Ноги затекли. Наконец учитель смотрит на часы. Щелкает золотая крышка.
Стоящие нерешительно покашливают.
— Простудились? — спрашивает заботливо историк.— Дежурный, закройте все форточки: на них дует.
Дежурный закрывает форточки. Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу. Взглянув еще раза два на часы, историк вдруг говорит:
— Ну, гвардия, садитесь...
Ровно через минуту всегда звонит звонок.
Среди блуждающих парт
Француженку нашу звали Матрена Мартыновна Бадейкина. Но она требовала, чтобы мы ее звали Матроной: Матрона Мартыновна. Мы не спорили.
До третьего класса она звала нас «малявками», от третьего до шестого — «голубчиками», дальше — «господами».
Малявок она определенно боялась. У некоторых малявок буйно, как бурьян на задворках, росли усы, а басок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали урок у кафедры, так несло махоркой, что бедную Матрону едва не тошнило.
— Не подходите ближе! — вопила она.— От вас, пардон, несет.
— Пирог с пасленом ел,— учтиво объяснял малявка,— вот и несет от отрыжки.
— Ах, мон дье! При чем тут паслен? Вы же насквозь прокурены...
— Что вы, Матре... тьфу! Матрона Мартыновна! Я же некурящий. И потом... пожалуйста... пы-ыжкытэ ла класс?1
От последнего Матрена таяла. Стоило только попросить по-французски разрешения выйти, как Матрена расплывалась от счастья. Вообще же она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой. Напишешь гадость какую-нибудь на доске по-французски, дохлую крысу к кафедре приколешь или еще что-нибудь шутя сделаешь, она уже в обиду. Запишет в журнал, обидится, закроет лицо руками и сидит на кафедре. Молчит. И мы молчим. Потом по команде Биндюга парты начинают тихонько подъезжать полукругом к кафедре. Мы очень ловко умели ездить на партах, упираясь коленками в ящик парты, а ногами — в пол. Когда весь класс оказывался у кафедры, мы тихонько хором говорили:
— Же-ву-зем... же-ву-зем... же-ву-зем...
Матрена Мартыновна открывала глаза и видела себя окруженной со всех сторон съехавшимися партами. А Биндюг вставал и трогательно, галантно басил:
— Вы уж нас пардон, Матрона Мартыновна! Не серчайте на своих малявок... Гы... Зачеркните в журнальчике, а то не выпустим...
Матрена таяла, зачеркивала.
Класс отбивал торжественную дробь на партах. «Камчатка» играла отбой. Парты отступали.
Вскоре нам надоело каждый раз объясняться в любви нашей «франзели», и мы вместо «же-ву-зем» стали говорить «Новоузенск». Же-ву-зем и Новоузенск — очень похоже. Если хором говорить, отличить нельзя. И бедная Матрона продолжала воображать, что мы
1 Искаженное «Пюи ж китэ ля класс?», что по-французски значит: «Могу ли я покинуть класс?»
78
хором любим ее, в то время как мы повторяли название близлежащего города.
Кончилось это, однако, плачевно. Вслед за партами лихорадка туризма объяла и другие вещи. Так, однажды поехал по коридору большой шкаф, из учительской уехали галоши Цап-Царапыча. Когда же раз перед уроком, встав на дыбы, помчалась кафедра, под которой сидел Биндюг с приятелем, тогда в дело столоверчения вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. Класс же весь сидел два часа без обеда.
Царский день
С утра в окно виден трепыхающийся, слоенный белым, синим и красным флаг.
На календаре — красные буквы:
«Тезоименитство его величества...»
У церкви Петра и Павла — колокол с трещиной:
«Ан-дрон!.. Ан-дрон!.. Ан-дрон!..
Ти-ли-лик-нем помаленьку...
Тилиликнем помаленьку...»
К одиннадцати — в гимназию. Молебен.
В коридоре парами стоят классы. Жесткие, с серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина. Ладан. Духота. Батюшка, тот самый, который на уроках закона божьего бьет гимназистов корешком Евангелия по голове, приговаривая: «Стой столбом, балда», в нарядной ризе гнусавит очень торжественно. Поет хор. Суетится маленький волосатый регент.
Два часа навытяжку. Классы стоят не шелохнувшись. Чешется нос. Нельзя почесать. Руки по швам. Тишина. Жара. Душно...
— Многая лета! Мно-огая ле-ета!..
— Николай Ильич... Боженов рвать хочет...
— Тс-с-с... Тихо! Я ему вырву!..
— Многая ле-е-ета-а...
— Николай Ильич... он, ей-богу, не сдержит... Он уже тошнит...
— Тс-с-с!
Тишина. Духота. Нос чешется. Дисциплина. Руки по швам. Второй час на исходе.
— Бо-о-же, царя храни!
Директор выходит вперед и, словно из детского пистолета, коротко стреляет:
— Ура!
— Уррра-а-а-а-а-а!!!!
Коридор сотрясается. Директор еще раз:
— Ура!
— Уррррааааа!!!!!
79
Еще раз... Эх, раз, еще раз!..
— Ура-а!
— А-а-а-а-а...ыак...
— Николай Ильич, Боженов уже блюет на пол...
— ...Боже, царя храни...
Боженова уносят. Обморок. Молебен окончен. Можно почесать нос, на один крючок расстегнуть ворот.
«Наука умеет много гитик»
Уже давно Аннушка сообщила нам, что «наука умеет много гитик». Такова была секретная формула одного карточного фокуса. Карты раскладывались парами по одинаковым буквам, и загаданная пара легко находилась. Отсюда следовало, что наука действительно была всесильна и умела много... этого самого... гитик... Что такое «гитик», никто не знал. Мы искали объяснений в энциклопедическом словаре, но там после наемной турецкой кавалерии «гитас» следовало сразу «Гито» — убийца американского президента Гарфильда. А ги- тика между ними не было.
Затем о значении науки я услышал в гимназии. Но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в Аннушкином фокусе. С кафедры низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и непереваримая, как опилки. О гитике никто из учителей также не смог сообщить что-нибудь определенное. Второгодники посоветовали обратиться за разъяснением к латинисту.
— От кого ты слыхал это слово? — спросил в затруднении самолюбивый латинист.
И второгодники затихли, предвкушая.
— От нашей кухарки,— ответил я при шумном ликовании класса.
— Иди в угол и стой до звонка,— перебил меня вспыхнувший латинист.— В программе гимназии, слава богу, не предусмотрено изучение дуршлагов и конфорок... Болван! Заткни фонтан!
И я заткнул фонтан. Я понял, что гимназическая наука не предназначена для удовлетворения наших, как тогда говорили, духовных запросов.
В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам Швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый «Некто», этот самый Некто, купивший 25 3/4 аршина сукна по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за Швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пунктов А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по Швамбрании. Но население Швамбрании в лице Оськи радостно приветствовало мое возвращение.
Место на глобусе
Вернувшись на материк Большого Зуба, я принялся за реформы. Прежде всего надо было утвердить Швамбранию в каком-нибудь определенном месте на земном шаре. Мы подыскали ей местечко в Южном полушарии, на пустынном океане. Таким образом, когда у нас была зима, в Швамбрании было лето, а ведь играть интересно только в то, чего сейчас нет.
Теперь Швамбрания крепко осела на глобусе. Материк Большого Зуба лежал в Тихом океане, на восток от Австралии, поглотив часть островов Океании. Северные границы швамбранского материка, доход я до экватора, цвели тропическим изобилием, южные границы леденели от близкого соседства Антарктики.
Потом я вытряхнул на швамбранскую почву содержание всех прочитанных книг. Оська, силясь не отставать от меня, заучивал новые для него слова и нещадно их путал. Ежедневно, как только я приходил из гимназии, Оська отзывал меня в сторону и шептал:
— Большие новости! Джек поехал на Курагу охотиться на шоколадов... а сто диких балканов как накинутся на него и ну убивать! А тут еще из изверга Терракоты начал дым валить, огонь. Хорошо, что его верный Сара-Бернар спас — как залает...
И я должен был догадываться, что у Оськи в голове спутались курага и Никарагуа, Балканы и каннибалы, шоколад и кашалот; артистку Сару Бернар он перепутал с породой собак сенбернар... А извергом он называет вулкан за то, что тот извергается.
Происхождение негодяев
Мы росли. В моем почерке буквы уже взялись за руки. Строчки, как солдаты, равнялись направо. А повзрослев, мы убедились, что в мире мало симметрии и нет абсолютно прямых линий, совсем круглых кругов, совершенно плоских плоскостей. Природе, оказалось, свойственны противоречия, шероховатость, извилистость. Эта корявость мира произошла от вечной борьбы, царящей в природе. Сложные очертания материков также являли след этой борьбы. Море вгрызалось в землю. Суша запускала пальцы в голубую шевелюру моря.
Необходимо было пересмотреть границы нашей Швамбрании. Так появилась новая карта.
Но тут мы заметили, что борьба лежит не только в основе географии. Какая-то борьба правила всей жизнью, гудела в трюме истории и двигала ее. Без нее даже наша Швамбрания оказывалась скучной и безжизненной. Игра становилась стоячей, как вода в болоте. Мы не знали еще тогда, какая борьба движет историю. В нашей уютной квартире мы не могли познакомиться с великой,
81
всепроникающей борьбой за существование. И мы тогда решили, что все это — войны, перевороты и т. д.— просто борьба хорошего с плохим. Вот и всё. И, чтобы швамбранская игра развивалась, пришлось поселить в Швамбрании нескольких негодяев.
Самым главным негодяем Швамбрании был кровожадный граф Уродонал Шателена. В то время во всех журналах рекламировался «Уродонал Шателена», модное лекарство от камней в почках и печени. На объявлениях уродонала обычно рисовался человек, которого терзали ужасные боли. Боли изображались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался человек с платяной щеткой. Этой щеткой он чистил огромную человеческую почку. Все это мы решили считать преступлениями кровожадного графа.
Верхний этаж мира
Крыши домов хотя и принадлежали действительному миру, но были высоко приподняты над скучной землей и не подчинялись ее законам. Крыши были оккупированы швамбранами. По их крутым скатам и карнизам, по острым конькам, через чердаки и брандмауэры я совершал далекие головокружительные путешествия. Перелезая с крыши на крышу, можно было, не касаясь земли, обойти весь квартал. А потом хорошо было к вечеру смотреть на небо, лежа на остывающем железе между трубой и шестом скворечника. Близкое небо плыло над головой, и крыша плыла против облачного течения. На мачте насвистывал вахтенный скворец. День, как большой корабль, подваливал к вечеру. День поднимал красные весла заката и бросал во двор тени, когтистые, как якоря.
Но хождение по крышам строго запрещалось. Дворник Филиппыч с метлой охранял надземные края. Он был бдителен и неумолим.
Хозяева чужих дворов, увидев меня громыхающим по их крышам, кричали: «Довольно бессовестно докторовым детям по крышам галашничать!» — хотя я не понимал, почему, собственно, дети врачей рождены ползать лишь по земле! Но это проклятое «докторовы дети» вечно преследовало нас и обязывало к благовоспитанности.
Однажды Филиппыч выследил меня. Он гнался за мной, громыхая по железу. На соседнем дворе, куда я хотел спрыгнуть, спустили с цепи грозного барбоса. На другом дворе стоял хозяин в розовых кальсонах и жилетке. Он гарантировал, со своей стороны, «проборцию и ушедрание»... Но тут я заметил у соседнего брандмауэра лестницу. Я показал Филиппычу язык и спасся на третий двор.
Лапта в сирени
Дворик, куда я попал, был весь в деревцах. Деревья взбили лиловую пену сирени и маялись ее изобилием. Са;&к цвел тучно и щедро.
За своей спиной я услышал легкий топот. Из садика выбежала веселая девочка с длинной золотой косой, со скакалкой в руках. Она принялась внимательно разглядывать меня. Я стал задом отходить к калитке.
— Мальчик, отчего вы торопитесь? — спросила девочка.
— От дворника,— сказал я.
У девочки были черные прыгающие меткие глаза, похожие на литые мячи, которыми мы играли в лапту. Я чувствовал, что мне не «отпастись». Но бежать было нельзя. Та же лапта учила: один на один — не нарываться.
— Вы дворников боитесь? — спросила она.
— Неохота связываться,— сказал я басом,— а так я чихал на них левой ноздрей через правое плечо.
И я засунул руки в карманы. Девочка посмотрела на меня с уважением.
— Как это — через плечо? — спросила она.
Я показал. Немного помолчали. Потом девочка спросила:
— Л вы в каком классе?
— В первом,— сказал я.
— И я в первом,— обрадовалась девочка.— А у вас классный господин строгий?
— У нас вовсе наставник, а не господин.
— А у нас дама,— сказала девочка.— Злющая — ужас!
Опять немного помолчали.
— А у нас,— сказала девочка,— одна ученица умеет ушами двигать. Ей завидуют все.
— Это что! — сказал я.— А вот в нашем классе есть один — до потолка плюет... Эх, и здоровый! Одной левой всех борет. А кулаком может прямо парту сломать... только ему не позволяют. А то он, честное слово, сломал бы.
Опять молчание. На соседнем дворе захлюпала шарманка. Я в поисках темы для разговора оглядывал двор. Дом плыл в небе. Большой змей с мочальным хвостом замотался над крышей. Он козырнул, выправился и солидно задрынчал.
— А у меня пряжка никогда не пожелтеет,— сказал я неожиданно,— потому что никелированная. Можете, пожалуйста, потрогать...
И я снял пояс. Девочка с вежливым интересом пощупала пряжку. Я расхрабрился, снял фуражку и показал, что на внутренней стороне козырька химическим карандашом написаны мои имя и фамилия, чтобы не пропала. Девочка прочла.
— А меня Тая зовут, по-настоящему — Таисия Опилова,— сказала она.— А вас Леня, да?
83
— Леля,— ответил я.— Разрешите... очень приятно познакомиться...
— Леля? Это женское имя! — насмешливо протянула Тая.
— Если б женского рода, то с мягким знаком было бы,— убежденно заявил я.
Так состоялось знакомство.
Первая швамбранка
Теперь я, вольный сын Швамбрании, каждый день спускался с крыши в сиреневую долину, и Тае Опиловой суждено было стать швамбранской Евой. Оська был против. Он кричал, что ни за какие пирожные не примет играть девчонку. Действительно, до сих пор в Швамбрании девочки не водились. Я же доказывал Оське, что во всех порядочных книгах красавиц похищают и спасают, и в Швамбрании теперь тоже будут похищать и спасать. Кроме того, я приготовил для первой швамбранки замечательное имя: герцогиня Каскара Саграда, дочь герцога Каскара Барбе. Даже в журнале «Нива», с обложки которого я взял это имя, было, помнится, написано, что это звучит «легко и нежно». Оська принужден был согласиться, и я начал понемножку посвящать Каскару, то есть Таю, в дела Швамбрании. Она сначала ничего не понимала, но потом стала немного разбираться в истории и географии материка Большого Зуба. Она обещала строго хранить тайну.
Окончательно я покорил Таю, когда, нацепив бумажные эполеты, заявил, что иду на войну с Пилигвинией и привезу ей трофей.
На другой день я вернулся из пилигвинской кампании. Я скакал по крыше с трофеями в руках. Трофеи составляли два сливочных пирожных. Ей и мне. От моего пирожного уголок отъел Оська.
Я спрыгнул со стены и остолбенел. Рядом с Таей гулял по садику незнакомый мальчишка в форме воспитанника военного кадетского корпуса. Он был гораздо старше и выше меня. У него были настоящие погоны, настоящий штык, и вообще он зазнавался.
— А! — воскликнул он, увидя меня.— Это и есть ваш швам- броман?
И я понял, что Тая все рассказала ему...
— Послушайте,— развязно продолжал кадет,— вы, штатский юноша... Вам не стыдно называть барышню такими неприличными названиями?!!! Вы знаете, что такое Каскара Саграда?.. Это пилюли от запора, извините за выражение. Эх вы, шпак несчастный!.. Сразу видно — докторский сынок...
Это напоминание взорвало меня.
— Кадет, на палочку надет! — крикнул я и полез на крышу.
Половинкой пирожного я запустил в кадета. Полтора пирожных я
съел сам.
Потом я лег на крышу и стал переживать. Надо мной насвистывал
84
вахтенный скворец. Одинокий и гордый, я плыл в Швамбранию, и день, как корабль, подплывал к вечеру. Закат поднял красные весла, и во двор упали тени, когтистые, как якоря.
— К черту! — сказал я.
Но это относилось не к Швамбрании.
ДУХ ВРЕМЕНИ
Театр военных действий
В доме идет бой. Брат идет на брата. Дислокация, то есть расположение враждующих сторон, такова: Швамбрания — в папином кабинете, Пилигвиния — в столовой. Гостиная отведена под «войну». В темной прихожей помещается «плен».
Я на правах старшего, разумеется, швамбран. Я наступаю, при¬
крываясь креслом и зарослью фикусов и рододендронов. Братишка Ося окопался за пилигвинскиМ порогом столовой. Он кричит:
— Бум! Пу!.. Пу!.. Леля!.. Я же тебя вижу, уже два раза убил... А ты все ползешь. Давай сделаем «чур, не игры»!
— Не «чур, не игры», а перемирие! — сердито поправил я.— И потом, ты меня не убил до смерти, а только контузил навылет.
В прихожей, то бишь в «плену», томится Клавдюшка с соседнего двора. Она приглашена в игру специально на роль пленной и по очереди считается то швамбранской, то пилигвинской сестрой милосердия.
— Меня будут скоро свободить с плену? — робко спрашивает Клавдюшка, которой начинает докучать бездельное сидение в потемках.
— Потерпишь! — отвечаю я неумолимо.— Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.
Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с Фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий,
85
и называется все это звучно и празднично: «Театр военных действий».
На парадных картинках в «Ниве» франтоватые войска церемонно отбывают живописную войну. На крутых генеральских плечах разметались позолоченные папильотки эполет, и на мундирах дышат созвездия наград. На календарях, папиросных коробках, открытках, на бонбоньерках храбрый казак Кузьма Крючков бесконечно варьирует свой подвиг. Выпустив чуб из-под сбитой набекрень фуражки, он расправляется с разъездом, с эскадроном, с целой армией немцев... На гимназических молебнах провозглашают многая лета христолюбивому воинству. Мы, гимназисты, обвязанные трехцветными шарфами, продаем по улицам флажки союзников. В кружках, в тех самых, что остались от «белой ромашки», бренчат дарственные медяки. Мы с гордостью козыряем стройным офицерам.
Мир полон войны. «Ах, громче, музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит...» Воззвания, манифесты... «На подлинном собственной рукой его императорского величества начертано: «Николай»... Война, большая, красивая, торжественная, занимает наши мысли, разговоры, сны и игры. Мы играем только в войну.
...Перемирие кончилось. Мои войска бьются на подступах к прихожей. На поле брани неожиданно появляется нейтральная Аннушка и требует немедленного освобождения Клавдии из плена: ее ждет на кухне мать.
Объявляется «чур, не игры», то есть перемирие. Мы бежим на кухню. Мать Клавдии, соседская кухарка, женщина с вечно набрякшим лицом, сидит за столом. Серый конверт лежит перед ней. Она здоровается с нами и осторожно берет письмо.
— Клавдюшка,— говорит она, растерянно теребя конверт,— от Петруньки пришло. Попроси уж молодого человека устно прочесть. Как он там жив... Господи...
Я вижу на конверте священный штамп «Из действующей армии». Я почтительно принимаю письмо из руки. Пропасть уважения и восторга скопилось в кончиках пальцев. Письмо оттуда! Письмо с войны!.. «Марш вперед, друзья, в поход, черные гусары!», «На подлинном собственной рукой его величества...».
И я читаю вслух радостным голосом:
— «...и еще, дорогая мама Евдокия Константиновна, спешу уведомить вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я будучи сильно раненный в бою, то мине ее в лазарете отрезали до локтя совсем на нет...»
Потрясенный, я останавливаюсь... Клавдина мать истошно голосит, припадая сразу растрепавшейся головой к столу. Желая как-то утешить ее и себя тоже, ибо я чувствую, что репутация войны сильно подмочена близкой кровью, я нерешительно говорю:
— Он, наверно, получит орден... серебряный... Будет георгиевский кавалер...
Кажется, я сморозил основательную глупость?!
Вид на войну из окна
В классе идет нудный урок алгебры. Учитель математики Карлыч болен. Его временно замещает скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации, Самлыков Геннадий Алексеевич, прозванный нами Гнедой Алексёв.
На площади перед гимназией происходит учение — строевые занятия солдат 214-го полка. В открытую форточку класса, путая алгебраические формулы, влетают песни и команда:
— «Ах цумба, цумба, цумба, Мадрид и Лиссабон!..»
— Равняйсь! Первой, второй... рассчитайсь!
— «Раскудря-кудря-кудря-ку... раскудрявая моя!»
— Ать-два! Ать-два!.. Левой!.. Шаг равняй...
— «Дружно, ребята, в поход собирайся!..»
— Как стоишь, сатана? Равняйсь! Стой веселей!..
— Здра-жла-ваш-дит-ство!..
— Вперед коли, назад коли, вперед прикладом бей! Бежи ще раз!.. Арш!..
— Ыра-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!
Из широко разверстых ртов, из натруженных глоток лезет с хрипом, со слюной надсадное «ура». Штыки уходят в чучело. Соломенные жгуты кишками вылезают из распоротого мешочного чрева.
— Кто это там в окно загляделся? Мартыненко, ну-ка, повторите, что я сейчас сказал.
Огромный Мартыненко, по прозвищу Биндюг, отдирает глаза от окна и тяжело вскакивает.
— Ну, что я сейчас объяснил? — пристает Гнедой Алексёв.— Не слышал... в окно любовался... Ну, чему равняется квадрат суммы двух катетов?
— Он... это...— бормочет Мартыненко и вдруг подмигивает: — Он равняется направо... Первый, второй, рассчитайся... Плюс ряды сдвоенные...
Класс хохочет.
— Я вам ставлю единицу, лодырь. Марш к стенке!
— Слушаюсь! — рапортует Мартыненко и по-военному застывает у стенки.
Классу совсем весело. Перья поют.
— Мартыненко, убирайтесь вон из класса! — приказывает педагог.
Мартыненко командует сам себе:
— К церемониальному... равнение на кафедру... По коридору... арш!
— Это что за шалопайство! — вскакивает преподаватель.— Я вас запишу в журнал! Будете сидеть после урока!
— Чубарики-чубчики...— доносится в форточку.— Как стоишь, черт? Три часа под ружье... Чубарики-чубчик...
Первое орудие, чхи!
Бац!!! За доской выстрелила печка... Трррах!!! Та-та... Кто-то, зная ненависть Самлыкова к выстрелам, положил в голландку патроны. Учитель, бледнея, вскакивает. По классу ползет вонючий дым. Учитель бежит за доску. По дороге он наступает на невинный комочек бумаги. Класс замирает. Хлоп!!! Комочек с треском взрывается. Педагог отчаянно подпрыгивает. Едва другая его подошва коснулась пола, как под ней происходит новый взрыв. Класс, подавившись немым хохотом, сползает со скамеек под парты. Взбешенный учитель оборачивается к классу, но за партами ни души. Класс безлюден. Мы извиваемся, мы катаемся от хохота под скамейками.
— Дрянь! — кричит в отчаянии учитель.— Всех запишу!!!
И он осторожно, на цыпочках, ступает к кафедре. Подошвы его дымятся. Он достает с кафедры табакерку — надежное утешение в тяжелые минуты, но в табакерку, которую он перед уроком оставил на минуту на подоконнике в коридоре, нами уже давно всыпан порох и молотый перец.
Гнедой Алексёв втягивает взволнованными ноздрями понюшку этой жуткой смеси. Потом он застывает с открытым ртом и вылезающими на лоб глазами. Ужасное, раздражающее ап-чхи сотрясает его.
Класс снова становится обитаемым. Парты ходят от хохота. Мартыненко, подняв руку, командует:
— Второе орудие, пли!
— Гага-аап-чхи!!! — рявкает несчастный Самлыков.
— Третье орудие...
— Чжщхи!.. Ох!
Дверь класса неожиданно растворяется. Мы встаем. Входит директор. Пальба в классе, хохот и орудийный чих педагога привлекли его.
— Что здесь происходит? — холодно спрашивает директор, оглядывая багрового педагога и великопостные рожи вытянувшихся гимназистов.
— Они... Ох! Ао!..— надрывается Гнедой Алексёв.— Чжихи!.. Ох!.. Чхищхи!..
Тогда дежурный решается объяснить директору:
— Ювенал Богданыч, они все время икчут и чихают...
. — Тебя не спрашивают! — говорит, начиная догадываться, ди¬
ректор.— Скверные мальчишки!.. Геннадий Алексеевич, будьте добры ко мне в кабинет!
Чихая в директорскую спину, Алексёв плетется за Стомолиц- ким.
Больше в класс он уже не возвращается.
Мы избавились от Гнедого Алексёва.
Классный командир и ротный наставник
— Время пахнет порохом! — говорят взрослые и сокрушенно качают головами.
Запах пороха пропитывает гимназию. Классы огнеопасны. Каждая парта — пороховой склад, арсенал и цейхгауз. Кондуит ежедневно регистрирует:
У ученика IV класса Тальянова Виталия, пытавшегося бежать «на войну», отобран г. надзирателем, при задержании на пристани, револьвер системы «Смит и Вессон» с патронами и краденый чайник, принадлежавший старьевщику и им опознанный. Вызваны родители.
У ученика II класса Щербинина Николая обнаружены в парте: один погон офицерский, темляк от шашки, пакет с порохом, пустая металлическая трубка неизвестного предназначения. Изъяты из ранца: обломок штыка, револьвер «пугач», шпора, кисет солдатский, кокарда, рогатка с резинкой и ручная граната (разряженная). Оставлен после уроков дважды по три часа.
Ученик V класса Маршутин Терентий якобы неумышленно выстрелил в классе на уроке из самодельной пушки, выбив стекло и осквернив воздух. Лишен права посещения занятий в течение недели.
У гимназистов гремящая походка: карманы полны отстрелянных ружейных гильз. Мы собираем их на стрельбище, за кладбищем. Просторный ветер играет на кладбище в «нолики и крестики». Из-за пригорка видны заячьи морды ветряных мельниц. На небольшом плоскогорье скучает военный городок. В его дощатых бараках размещен 214-й пехотный полк. Ветер доносит запах щей, махорки, сапог и иные несказуемые ароматы армейского тыла.
Между нами, воспитанниками Покровской мужской гимназии, и рядовыми 214-го пехотного полка царит деловая дружба. Через колючие проволочные ограждения военного городка взамен наших бутербродов, огурцов, моченых яблок и всяких иных штатских яств мы получаем желанные предметы армейского обихода: пустые обоймы, пряжки, кокарды, рваные погоны. В особой цене офицерские погоны. За один замаранный смолой погон прапорщика каптенармус Сидор Долбанов получил от меня два бутерброда с ветчиной, кусок шоколада «Гала-Петер» и пять отцовских папирос «Триумф».
— И то продешевил,— сказал при этом Сидор Долбанов.— Так только, по знакомству, значит. Как вы, гимназеры, по моему размышлению, тоже на манер служивые, все одно, как наш брат солдат... и форма и ученье. Верно я говорю?
Сидор Долбанов любит говорить о просвещении.
— Только, брат, военная наука,— философствует он, уписывая нашу колбасу,— военная наука вникания требует, а с ней ваше ученье и не сравнять. Да. Это что там арихметика, алгебра и подобная словесность... А ты вот скажи, если ты образованный: какое звание у командира полка — ваше высокородие аль ваше высокоблагородие?
90
— Мы этого еще не проходили,— смущенно оправдываюсь я.
— То-то... А что, хлопцы, классный командир у вас шибко злой из себя?
— Строгий,— отвечаю я.— Чуть что — к стенке, в кондуит и без обеда.
— Ишь, истукамен! — посочувствовал Сидор Долбанов.— Выходит, дьявол, вроде нашего ротного...
— А у вас есть ротный наставник? — спрашиваю я.
— Не наставник, а командир, съешь его раки! — важно поправляет Долбанов.— Ротный командир, его благородие, сатана треклятая, поручик Самлыков Геннадий Алексеич.
— Гнедой Алексёв! — изумленно выпаливаю я.
Братики-солдатики
Старшие гимназисты гуляли по Брешке с прапорщиками. Хотя это и нарушало правила, однако для доблестного офицерства делались исключения. Рядовые козыряли. Гимназистки кокетливо щипали корпию. Мы завидовали.
Однажды во время урока в класс вошел инспектор. Борода его выглядела умильно и почтительно.
— В город прибыли первые раненые из действующей армии,— сказал инспектор.— Мы пойдем встречать их... Эй, «Камчатка», я кому говорю? Тютин! Ты у меня, дубина стоеросовая, останешься на часок, шалопай!.. Так вот, говорю, выйдем всей гимназией встречать наших славных воинов, которые... это... того... пострадали за государя и веру православную... Словом, живо в пары! Только чтоб на улице держать себя как подобает. Слышите? А не то я вас... башибузуки, галашня, вертихвосты! Архаровцы! Шальная команда! Смотрите у меня!
Улицы были заполнены народом. Висели трехцветные флаги. Раненых по одному везли в разукрашенных экипажах городских богачей. Каждого солдата поддерживала дама из благотворительного кружка, одетая сестрой милосердия. Все это было похоже на свадебный кортеж. Городовые отдавали честь.
Раненых поместили в новеньком лазарете в бывшей приходской школе. Там хозяйничали запыхавшиеся дамы. Тут же в большой палате был устроен торжественный концерт. Умытые, свежевыбритые, надушенные фронтовики, обложенные подушками, бонбоньерками, коробками конфет, сконфуженно слушали громогласные речи «отцов города». Некоторые держали украшенные бантиками костыли.
Наш четвероклассник Швецов продекламировал стихотворение «Бельгийские дети». За его спиной выстроились шесть второклассников и гимнастическими движениями сопровождали чтение. Гимназистка Разуданова, дочь земского начальника, сыграла на рояле
91
«Жаворонка» Глинки. Раненые неловко ерзали и беспокойно ворочались. Последним выступил фармацевт из частной аптеки — поэт и тенор. После этого с кровати поднялся высокий белесый солдатик и робко прокашлялся.
— Просим! Просим! — закричали все, аплодируя.
Когда все стихло, раненый сказал:
— Дозвольте сказать... Господин доктор, и уважаемые господа дамочки, и сестрицы, и подобные... Мы, значит, через все это... ваши милости... очень к вам благодарны. Только бы... нам, виноват, извините, маленько насчет, чтобы, значит, это... поспать требуется, в дороге-то три дня не спамши...
Дух времени
В бараках пороли солдат. В офицерском собрании какой-то прапорщик назвал другого армянской мордой. Оскорбленный выстрелил в обидчика и убил его наповал. Раненых везли с фронта как попало и клали уже куда попало...
Потом взяли Перемышль. Лабазники, субъекты из пригорода Краснявки, кое-кто из чиновников прошли по улицам, неся впереди, как икону, портрет царя. Они заражали воздух воплями, трехцветным трепыханием и перегаром денатурата. Словно торжество подогревалось на спиртовке.
Опять ходил по классам инспектор. Он парадно нес свою бороду, торжественную, раздвоенную, победоносную, как хоругвь.
Мы вышли на крыльцо гимназии, чтобы приветствовать манифестантов. По знаку директора мы кричали «ура».
И было что-то гнусное в этой горланящей толпе. Казалось, что пойдут вот сейчас бить окна, убивать людей... Какая-то тупая, душная, непреодолимая сила двигалась на нас и давила сознание. Это было похоже на ощущение попавшего в самый низ «кучи мала», когда тебя, беспомощного, плющит навалившееся беспросветное удушье и нет даже возможности протолкнуть крик...
Однако все обошлось. Только ночью отца — доктора — вызывали спасать какого-то опившегося денатуратом «патриота».
Манифестация произвела сильнейшее впечатление на Оську. Оська был великий путаник, подражатель и фантаст. Для каждого предмета он находил совершенно новое предназначение. Он видел вторую душу вещей. В те дни он, как теперь говорят, обыгрывал... отломанное сиденье с унитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденья самоварную трубу, и получился пулемет «максим» со щитком. Потом сиденье, как хомут, было надето через голову деревянной лошади. Все это еще было допустимо, хотя и не совсем благопристойно. Но на другой день после манифестации Оська организовал на дворе швам- бранское и совершенно кощунственное шествие. Клавдюшка несла на половой щетке чьи-то штаны со штрипками. Они изображали хоругвь.
92
А Оська нес пресловутое сиденье. В дыре, как в раме, красовался вырезанный из «Нивы» портрет императора Николая Второго, самодержца всероссийского.
Негодующий дворник доставил манифестантов к папе. Он грозил пожаловаться в полицию. Но, опустив в карман небольшое папино даяние, быстро смирился.
— Дети, знаете, очень чутко улавливают дух времени,— глубокомысленно твердили взрослые.
Дух времени, очень тяжелый дух, пропитывал все вокруг нас...
Нас обучают войне
Зимой нас вместе с женской гимназией водили в военный городок, чтоб показать примерный бой. Кругом было холодно и бело.
Полковник объяснял бой дамам из благотворительного кружка. Дамы грели руки в муфтах и восхищались, а при выстрелах затыкали уши. Бой, впрочем, был очень некрасив и совсем не такой, каким его изображали в «Ниве».
Черные фигурки ползли по полю, бежали стада дымов, образуя завесу, зажигались какие-то огни. Нам объяснили: сигнальные. Звук перестрелки цепью издали напоминал трепыхание на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостно.
Полковник сказал:
— Атака.
Фигурки побежали, деловито произнося «ура».
— Всё,— сказал полковник.
— Кто же победил? — заинтересовалась публика, ничего не поняв.
Полковник подумал и сказал:
— Те победили.
Потом полковник предупредил, глядя вверх:
— А сейчас ударит бомбомет.
Бомбомет действительно ударил, и очень громко. Дамы испугались. Лошади извозчиков шарахнулись. Извозчики выругались в небо.
Бой кончился.
Участвовавшая в показательном сражении рота прошла перед
93
гостями. Роту вел лукавый подпоручик. Поравнявшись с нами, солдаты с заученным молодечеством запели непристойную песню, лихо посвистывая и напрягая остуженные глотки.
Гимназистки переглядывались. Гимназисты заржали. Кто-то из учителей кашлянул.
Забеспокоилась толстая начальница.
— Подпоручик! — крикнул полковник.— Это что за балаган? Отставить!
Позади всех шел, спотыкаясь в огромных сапогах и путаясь в шинели, маленький, тщедушный солдатик. Он старался попасть в ногу, быстро семенил, подскакивал и отставал. Гимназисты узнали в нем отца одного из наших гимназистов-бедняков.
— Вот так вояка! — кричали гимназисты.— У нас в третьем классе его сын учится. Вон стоит.
Все захохотали. Солдатик подобрал шинель руками и вприпрыжку, судорожно вытянув шею, пытался настичь свою роту. Третьеклассник, его сынишка, стоял опустив голову. Красные пятна ползли по его лицу.
Дома меня ждал с нетерпением Оська. Он жаждал услышать описание боя.
— Очень стреляли? — спросил Оська.
— Ты знаешь,— сказал я,— война — это, оказывается, ни капельки не красиво.
Серый в яблоках
Кончался 1916 год; шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что «Новый год — это совершенно недетский праздник и надо лечь спать в десять часов, как всегда...».
Оська, прогудев отходный, отбыл в ночную Швамбранию.
А ко мне пришел в гости мой товарищ — одноклассник Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи, играли в лото, потом от нечего делать удили рыб в папином аквариуме. В конце концов все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате, сели у окна и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу.
Светила луна, глухие синеватые тени лежали на снегу. Воздух был полон пересыпчатого блеска, и улица наша показалась нам необыкновенно прекрасной.
— Идем погуляем,— предложил Гришка.
Но, как известно, выходить на улицу после семи часов в декабре гимназистам строго-настрого запрещалось. И наш надзиратель Цезарь Карпович, грубый и придирчивый немец, тот самый, что был прозван нами Цап-Царапычем, выходил вечерами специально на охоту — рыскал по улицам и ловил зазевавшихся гимназистов.
94
Я сразу представил себе, как он вынырнет из-за угла, сверкая золотыми пуговицами с накладными двуглавыми орлами, и закричит:
«Тихо! Фамилия? Стоять столбом!.. Балда!»
Такая встреча ничего доброго не предвещала. Четверка в поведении, часа четыре без обеда в пустом классе. А быть может, еще какой-нибудь новогодний подарок. Цап-Царапыч был щедр по этой части.
— Ничего,— сказал Гришка Федоров,— он где-нибудь сейчас сам Новый год встречает. Сидит небось уписывает.
Долго уговаривать меня не пришлось. Мы надели шинели и выскочили на улицу.
Недалеко от нашего дома, на Брехаловке, помещались номера для приезжающих и ресторан «Везувий». В этот вечер «Везувий» казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света, земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении.
У коновязи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью, на железном фигурном ходу с подрезами. В лакированные гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристо-серой масти в яблоках. Это был знаменитый иноходец Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня и самый выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цванцигу.
«Тпру» по-немецки?..
И тут мне в голову пришла отчаянная затея.
— Гришка,— сказал я, сам робея от собственной дерзости,— Гришка, давай прокатимся. Цванциг не скоро выйдет. А мы только доедем вон дотуда и кругом церкви и опять сюда. А я умею править вожжами.
Гришку не надо было долго уговаривать. И через минуту мы уже отвязали Гамбита, влезли на высокое бархатное сиденье санок и запахнули пушистую полость.
Я взял в руки плотные, тяжелые вожжи, по-извозчичьи чмокнул губами и, откашлявшись, произнес басом:
— Но! Двигай!.. Поехали!..
Гамбит оглянулся, покосился на меня своим крупным глазом и пренебрежительно отвернулся. Мне даже показалось, что он пожал плечами, если это только вообще случается у лошадей.
— Он, наверно, только по-немецки знает,— сказал Гришка и громко закричал: — Эй, фортнаус!
Но и это не подействовало на Гамбита. Тогда я с размаху ударил его по спине скрученными вожжами. В ту же секунду меня отбросило назад, и, если бы не Гришка, поймавший меня за хлястик шинели, я бы вылетел из санок. Гамбит прянул вперед
95
и пошел. Он не понес — он шел своей обычной широкой и в то же время частой иноходью. Я крепко держал вожжи, и мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас!
— Знаешь, Гриша,— предложил я,— давай заедем за Степкой Гаврей, он тут, за углом, живет, мы успеем.
Я натянул правую вожжу. Гамбит послушно свернул за угол. Вот домик, в котором живет Степка.
— Стой, приехали. Тпру!
Но Гамбит не остановился. Как я ни натягивал вожжи, иноходец мчал нас дальше, и через минуту домик Степки Гаври остался далеко позади.
— Знаешь что, Гришка?— сказал я.— Лучше не надо Степки, он, знаешь, дразниться будет только... Лучше Лабанду захватим, он вон где живет.
Я уже заранее намотал на руку вожжи и что есть силы уперся в передок саней.
Но Гамбит не остановился и у Лабанды. Меня стала забирать нешуточная тревога.
— Гришка, а как он вообще останавливается?..
Тут, кажется, Гришка понял, в чем дело.
— Тпру, стой! — что есть силы закричал он, и мы стали тянуть вожжи в четыре руки.
Но могучий иноходец не обращал внимания на наши крики и на рывки вожжей, шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам.
— Не понимает, наверно, по-нашему! — с ужасом сказал Гришка.— А кто знает, как будет «тпру» по-немецки! Мы это не учили. Он теперь нас с тобой, Лелька, без конца возить будет.
— Не надо ехать больше! Тпру! Стой, довольно! — кричали мы с Гришкой.
Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.
Лошадиное слово
Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам.
— Тпру, тпру! Стой, ми-ла-ай!.. Не балуй, касатик!
Но, как назло, на ум лезли все какие-то выражения былинного склада: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок», или совсем погоня- тельные слова вроде: «Эй, шевелись... Поди-берегись!.. Ну, мертвая!.. Эх, распошел!..»
Использовав все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык.
— Тратрр, тратрр... чок, чок! — вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов.
96
Но Гамбит не понимал и по-верблюжьи.
— Цоб-цобе, цоб-цобе! — хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим волам.
Не помогло и «цоб-цобе»...
На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий... Двенадцать раз ударил колокол.
Значит, мы уже въехали в Новый год. Что же нам, веки вечные так ездить?! Когда же остановится этот неутомимый иноходец?!
Таинственно светила луна. Зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц, на которых только что один год сменил другой... Неужели же мы навеки обречены мчаться вот так?.. Мне стало совсем не по себе.
И вдруг из-за угла блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели Цап-Царапыча. Гамбит мчался прямо на него.
И я со страху выронил вожжи.
— Тихо! Что за крик? Как фамилия? Стоять столбом, балда! — визгливо прокричал Цап-Царапыч.
И произошло чудо.
Гамбит стал как вкопанный.
С новым счастьем!
Мы мигом соскочили с санок, обежали с двух сторон нашего иноходца и, приблизившись к надзирателю, вежливо, щепотью ухватив лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонились Цап-Царапычу.
— Добрый вечер, Цап... Цезарь Карпыч! — хором произнесли мы.— С Новым годом вас, Цезарь Карпыч, с новым счастьем!
Цап-Царапыч не спеша вынул пенсне из футляра, который он достал из кармана, и утвердил стекла на носу.
— А-а-а! — обрадовался он.— Два друга. Узнаю! Прекрасно! Прелестно! Отлично! Превосходно! Вот мы и запишем обоих.— Цап- Царапыч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку.— Обоих запишем, и того и другого. И оба они у нас посидят после каникул по окончании уроков в классе, без обеда, по четыре часа: один четыре часа и другой <— четыре. С Новым годом, дети, с новым счастьем!
Тут взгляд Цап-Царапыча упал на наш выезд.
— Позвольте, дети,— протянул надзиратель,— а вы попросили у господина Цванцига разрешения кататься на его санках? Что?
Мы оба вперебой стали уверять надзирателя, что Цванциг сам попросил нас покататься, чтобы Гамбит разогрелся немножко.
4 Школьные годы. Выпуск 1
97
— Прекрасно,— проговорил Цап-Царапыч.— Вот мы сейчас туда все отправимся и там на месте это и выясним. Нуте-с...
Но нас так страшила самая возможность снова очутиться на этих проклятых санках, что мы предложили Цап-Царапычу ехать одному, обещая идти рядом пешком.
Ничего не подозревавший Цап-Царапыч взгромоздился на высокое сиденье. Он запахнулся пышной меховой полостью, взял в руки вожжи, подергал их, почмокал губами, а когда это не помогло, стегнул легонько Гамбита по спине. В ту же минуту нас разметало в разные стороны, в лицо нам полетели комья снега. Когда мы отряхнулись и протерли глаза, за углом уже исчезали полуопроки- нутые санки. На них, кое-как держась и что-то вопя, от нас унесся наш несчастный надзиратель.
А из-за другого угла уже бежал в расстегнутой шубе, в галстуке, сбитом набок, хозяин Гамбита, господин Карл Цванциг, крича страшным голосом:
— Карауль!.. Конокради!.. Затержать!..
И где-то уже заливался полицейский свисток.
Как у них там потом все выяснилось, мы не пытались разузнать... Но и сам наш надзиратель после каникул ни слова не сказал нам о ночном происшествии.
Так начался для нас Новый год — год 1917.
ФЕВРАЛЬСКИЙ КОНДУИТ
О круглой земле, о больших новостях и маленьком море
Папа и мама ушли в гости. Ахнуло парадное, и от сквозняка по всему дому двери передали друг другу эстафету. Аннушка тушит в гостиной свет — слышно, как щелкнул выключатель,— и уходит на кухню. Немного жуткая пустота влезает в дом. Тикают часы в столовой. В стекла окон рвется ветер. Я сажусь за стол и делаю вид, что готовлю уроки. Братишка Ося рисует пароходы. Много пароходов, и у всех из труб дым. Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскрашивать в учебнике латинские местоимения. Все гласные буквы — красными, согласные — синими. Очень красиво получается.
Вдруг Ося спрашивает:
— Леля! А почему знают, что Земля круглая?
Это я знаю. Про это есть на первой странице географии, и я долго рассказываю Осе про корабль, который уходит в море далеко-далеко. Потом он скрывается за горизонтом. Его не видно. Значит, Земля круглая.
98
Но Ося не удовлетворен.
— А может быть, он утонул, корабль?— говорит он.— А, Леля? А?
— Не приставай, пожалуйста! Видишь, я уроки учу.
Раскраска местоимений продолжается.
Молчание.
— А я знаю, почему знают, что Земля круглая,— говорит опять Ося.
— Ну и знай!
— Знаю! Потому что глобус круглый... Что-о? Вот!
— Дурак ты сам круглый, вот что...
У Оськи пухнут губы. Грозит ссора. Но... в кабинете отца громко звонит телефон. Мчимся наперегонки в кабинет. Там пусто, темно и страшно. Но я поворачиваю выключатель, и комната сразу меняется, как проявленный негатив фотографии. Окна были светлыми —
стали черными. Рамы были черными — стали светлыми. А главное — не страшно. Я беру трубку и говорю важным папиным голосом:
— Я вас слушаю! Что?
Оказывается, звонят из Саратова, и звонит наш любимый дядя Леша. Он очень давно не приезжал к нам. Мама говорила нам, что он уехал далеко. Но мы с Оськой подслушали раз, что он вовсе сидит в тюрьме за то, что он против царя и войны. А теперь, значит, его выпустили. Вот хорошо! И мы оба кричим в трубку:
— Дядечка! Приезжай!
— Ладно, ладно,— смеется в телефон дядя.— А ты, Леля, не забудь передать маме, папе, когда придут, что звонил я и сказал, что в России революция... Временное правительство... Царь отрекся... Повтори! — И голос у дяди какой-то необычайно веселый.
— Дядечка! — кричу я.— Как же это так вышло?
— Ты еще маленький, не поймешь.
— Нет, пойму,— обиделся я,— нет, пойму! Я уже в третьем.
И дядя из Саратова, из-за Волги, торопясь, рассказывает по телефону о войне, о революции, равенстве, братстве...
— Вы кончили? — влезает в трубку чужой голос.— Время истекло.
Крррах! Нас разъединили. А я стою, сразу словно вырос на три
99
года. Я стою и готов взорваться от всего того, что услышал от дяди.
Но тут взгляд мой падает на Оську. Он стоит смущенный.
— Эх, ты! — возмущаюсь я.— А еще знает, отчего Земля круглая! Как не стыдно!..
— Я терпел, терпел, пока ты кончишь по телефону... и не заметил.
Я бегу на кухню.
В кухне у Аннушки гость — знакомый раненый солдат. Черный и угрюмый, а на груди серебряный георгиевский крестик. Восторженно кричу:
— Аннушка!.. Во-первых, теперь революция... свобода... и без царя!.. А во-вторых... Оське надо штаны переодеть...
И, задыхаясь, я рассказываю все, что слышал от дяди. И вдруг Аннушкин солдат встает. Левая рука у него забинтована. Правой он обнимает меня. Я оторопел. Солдат крепко прижимает меня к себе.
— Эх, милай! Вот разуважил! Спасибочко! Неужто ж правда? — И грозит большим кулаком кому-то в четыре окна: — Ну, погоди! Дождались!..
Я смотрю в окна. Но там никого нет. А солдат извиняется:
— Вы меня простите, молодой человек... Уж больно вы меня того... Да как же... Господи ж... Вот спасибочко! Ровно праздник!
Нос у него странно морщится.
Разговор по прямому проводу
В столовой я влезаю на стул и стучу в отдушник. Это вроде телефона. Наверху живут Нюра и Вера Живильские. У них тоже отдушник. У нас постучишь — наверху слышно. В отдушнике Нюрин голос:
— Слушаю!
— Здравствуйте! (Вообще мы на «ты», но по «телефону» надо говорить «вы».) Здравствуйте, Нюра. Большие новости! Революция, и у нас солдат сидит.
— А у меня чего есть! — говорит Нюра.— Отгадайте.
— Еще где-нибудь революция?
— Нет! Крестная сервиз подарила, и даже с молочником.
Я бросаю труб... виноват — захлопываю отдушник. Разве они могут понять? И я, одевшись, бегу к товарищу-соседу, чтобы порадовать его. А латынь так и остается невыученной.
Цап-Царапыч гонится за луной, или Что сказал об этом кондуит
На улице пахнет оттепелью. Небо в звездочках, как петлица инспекторского мундира. Я мчусь по пустой улице, а сбоку бежит луна и, как собака, останавливается поочередно за каждым теле¬
100
графным столбом. Домики стоят, зажмурив ставни. Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать...
Из-за угла навстречу нам выплывают два ряда сияющих пуговиц...
Цап-Царапыч! Мы с верной луной задаем драпу — бежим назад. Луна прячется за столбы и заборы. Я бегу, укрываясь в их тень. Но Цап-Царапыч уже заметил.
— Стой! Стой, прохвост! — кричит он.— Городовой!
Но фамилии не кричит. Значит, не узнал, и я лечу дальше. Луна и Цап-Царапыч следуют за мной. Цап-Царапыч — враг. Луна — сообщница.
Вот она, чтоб не выдать меня, юркнула за крышу...
Но я ошибался. Цап-Царапыч узнал меня. В кондуите на другой день возникла следующая запись на моей страничке:
4 марта был замечен надзирателем на улице после 7 часов. Несмотря на приказание остановиться, убежал...
Луна в кондуит не попала.
«Вольно!» — говорит солдат
В гостиную мы приводим Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы ходим по ковру, нацепив на папину трость красный Аннушкин платок.
Солдату дают маленькое Оськино ружье. Солдат показывает войну. Мы все поем:
По Кавказским горам
Гимназист гулялся.
Он кричал: «Долой царя!»
Красный флаг махался.
В гостиной замечательно пахнет смазными сапогами. Мы очень сдружились с солдатом, и он дает нам по очереди заклеивать языком его собачью ножку.
А Оська сидит у него на коленях и, подпрыгивая, спрашивает:
— А вы отгадайте... Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет? Отгадайте.
— Не знаю,— говорит солдат.— Ну, скажи, кто?
— И я не знаю,— говорит Ося.— И папа не знает, и дядя. Никто.
О ките и слоне долго спорим. Мы с солдатом — за слона, Аннушка назло — за кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и пытается петь «Марсельезу».
Аннушка спохватывается, что уже поздно и нам пора спать.
— Вольно! — говорит солдат, и мы идем спать.
Самоопределение Оськи
На полу детской начерчены лунные «классы». Прямо хоть прыгай по ним на одной ножке! Мы лежим в своих кроватках и говорим про революцию. Я рассказываю Осе, что слышал от дяди или читал в газетах о войне, о рабочих, о царе, о погромах...
Вдруг Ося спрашивает:
— Леля, а Леля! А что такое еврей?
— Ну, народ такой... Бывают разные: русские, например, американцы, китайцы. Немцы еще, французы. А есть евреи.
— Мы разве евреи? — удивляется Оська.— Как будто или взаправду? Скажи честное слово, что мы евреи.
— Честное слово, что мы — евреи.
Оська поражен открытием. Он долго ворочается, и уже сквозь сон я слышу, как он шепотом, чтобы не разбудить меня, спрашивает:
— Леля!
— Ну?
— И мама — еврей?
— Да. Спи.
И я засыпаю, представляя, как завтра в классе я скажу латинисту: «Довольно старого режима и к стенке ставить. Вы не имеете полного права!»
Спим.
Ночью возвращаются из гостей папа и мама. Я просыпаюсь. Как и все люди после гостей, театра, они устали и раздражены.
— Дивный пирог был,— говорит папа,— у нас такого никогда не могут сделать. И куда деньги уходят?!
Слышно, как мама удивляется, найдя в подсвечнике на пианино окурок собачьей ножки. Папа пошел полоскать горло.
Тренькнула стеклянная пробка графина. И вдруг отец быстрым, очень громким для такой поздноты голосом позвал маму. Мама что-то спрашивала. Папа говорил весело и громко. Они нашли мою записку с великой новостью. Я перед сном написал ее и засунул в пробку графина.
Отец с матерью на цыпочках входят в детскую. Отец садится на постель, обнимает меня и говорит:
— А революция пишется через «е», а не через «и»: ре-волюция. Ты-ы! — и щелкает меня в нос.
В это время просыпается Ося. Он, видно, все время, даже во сне, думал о сделанном им открытии.
— Мама..,— начинает Ося.
— Ты зачем проснулся? Спи.
— Мама,— спрашивает Ося, уже садясь на постели,— мама, а наша кошка — тоже еврей?
102
«Боже, царя...» Передай дальше
Утром Аннушка будит меня и Оську на этот раз так — она поет:
— Вставай, подымайся, рабочий народ... в гимнастию пора!
Рабочий народ (я и Оська) вскакивает. За завтраком я вспоминаю
о невыученных латинских местоимениях: хик, хек, хок...
Выходим вместе с Оськой. Тепло. Оттепель. Извозчичьи лошади машут торбами. Оська, как всегда, воображает, что это лошади кивают ему. Ося — очень вежливый мальчик. Он останавливается около каждой лошади и, кивая головой, говорит:
— Лошадка, здравствуйте!
Лошади молчат. Извозчики, которые уже знают Оську, здороваются за них. Одна лошадь пьет из подставленного ведра. Оська спрашивает извозчика:
— Ваша лошадка тоже какао пьет? Да?
Бегу, мчусь в гимназию. Они ведь еще не знают. Я ведь первый. Раздевшись, влетаю в класс и, размахивая на ремнях ранцем, ору:
— Ребята! Царя свергнули!!!
—- !!!!!!
Цап-Царапыч, которого я не заметил, закашлявшись и краснея, кричит:
— Ты что? С ума сошел? Я с тобой поговорю! Ну, живо! На молитву! В пары.
Но меня окружают, меня толкают, расспрашивают.
Коридор гулко и ритмично шаркает. Классы становятся на молитву.
Директор, сухой, выутюженный и торжественный, как всегда, промерял коридор выутюженными ногами. Зазвякали латунные бляхи. Стихли.
Батюшка, черный, как клякса в чистописании, надел епитрахиль. Молитва началась.
Мы стоим и шепчемся.
Неспокойно в маренговых рядах, шепот:
— А в Питере-то революция.
— Это наверху, где Балтийское на карте нарисовано?
— Ну да, здоровый кружок: на немой карте — и то сразу найдешь.
— А там, историк рассказывал, Петр Великий на лошади и домищи больше церкви.
— А как это, интересно, революция?
— Это как в пятом году. Тогда с японцами война была. Народ и студенты по улицам ходили с красными флагами, а казаки и крючки их нагайками. И стреляли.
— Вот собаки, негодяи!
— Эх! Сегодня письменная... Опять пару влепит. Плевать!
— ...Иже еси на небеси!
— Вот тебе и царь... Поперли. Так и надо! Зачем войну сделал?
103
— Тише вы!.. А уроков меньше задавать будут?
— ...Во веки веков. Аминь.
— Наследник-то в каком классе учится? Небось кругом на пятках... Ему чего! Учителя не придираются.
— Ну, теперь ему не того будет. Наловит двоек да колов. Узнает!
— Стоп! Как же генитив плюраль будет?.. Ну ладно. Сдуем.
По рядам пошла записка. Записку эту написал Степка Атлантида.
(Потом эта записка вместе с Атлантидой попала в кондуит.) На записке было:
«Не пой «Боже, царя...» Передай дальше».
— ...От Луки святого евангелия чтение...
Робкий веснушчатый третьеклассник прочел, спотыкаясь, притчу. Инспектор подсказывал, глядя в книгу через его плечо.
Последняя молитва:
— ...Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.
Сейчас, сейчас! Мы насторожились. «Господствующие классы»
прокашлялись. Мм-да!
Маленький длинноволосый регент из Троицкой высморкался торжественно и трубно. На дряблой шее регента извилась похожая на дождевого червя сизо-багровая жила. Нам всегда казалось, что вот-вот она лопнет. Регент левой рукой засовывает цветной платок сзади, в разрез фалд лоснящегося сюртука. Взвивается правая рука с камертоном. Тонкий металлический «зум» расплывается в духоте коридора. Регент поправляет засаленный крахмальный воротничок, выуживает из него тонкую, будто ощипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно, вполголоса дает тон:
— Ля-аа... Ля...а...а...
Мы ждем. Регент вскидывается на цыпочки. Руки его взмахивают подымающе. Дребезжащим, словно палец об оконное стекло, голосом он запевает:
— Боже, царя храни...
Гимназисты молчат. Два-три неуверенных дисканта попробовали подхватить. Сзади Биндюг спокойно сказал, как бы записывая на память:
— Та-а-ак...
Дисканты завяли.
А регент неистово машет руками перед молчащим хором. Наканифоленный его голос скрипит кобзой:
— Сильный... державный, царствуй...
И тут мы не в силах сдерживаться больше. Нарастающий смех становится непередыхаемым. Учителя давятся от смеха.
Через секунду весь коридор во власти хохота. Коридор грохочет.
Усмехается инспектор. Трясет животом Цап-Царапыч. Заливаются первоклассники. Ревут великовозрастные. Хихикает сторож Петр.
— Ха-ха... Гы-ги... Ох-хо... Хи-хи... Хе-хе-хе... Ах-ха-ха-ха...
Только директор строг и прям, как всегда. Но еще бледнее.
104
— Тихо! — говорит директор и топает ногой. Под его начищенными штиблетами все будто расплющилось в тишину.
Тогда Митька Ламберг, коновод старшеклассников,— восьмиклассник Митька Ламберг тоже кричит:
— Тихо! У меня слабый голос.
И запевает «Марсельезу».
«На баррикадах»
Я стоял на парте и ораторствовал. Из-за печки, с «Сахалина», поднялись двое: лабазник Балдин и сын пристава Лизарский. Они всегда держались парой и напоминали пароход с баржей. Впереди широкий, загребающий на ходу руками, низенький Лизарский, за ним, как на буксире, длинный черный Балдин. Лизарский подошел к парте и взял меня за шиворот.
— Ты что тут звонишь? — сказал он и замахнулся.
Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, подошел к Лизарскому и отпихнул его плечом:
— А ты что лезешь? Монархыст...
— Твое какое дело? Балда, дай ему!
Балдин безучастно грыз семечки. Кто-то сзади в восторге запел:
Пароход баржу везет,
Батюшки!
Баржа семечки грызет,
Матушки!
Балдин ткнул плечом в грудь Степку. Произошел обычный негромкий разговор:
— А ну, не зарывайсь!
— Я не зарываюсь.
— Ты легче на повороте.
— А ну!..
Наверно, от искр, полетевших из глаз Балдина, вспыхнула драка. В классе нашлись еще «монархисты», и через секунду дрались все. Лишь крик дежурного: «Франзель идет!» — заставил противников разойтись по партам. Было объявлено перемирие до большой перемены.
Большая перемена
Дивный был день. Оттепель. На обсыхающих тротуарах мальчишки уже играли в бабки. И на солнце, как раз против гимназии, чесалась о забор громадная пестрая свинья. Черные пятна расплылись по ней, как чернильные кляксы по белой промокашке. Мы высыпали во двор. Солнца — пропасть. А городовых — ни одного.
105
— Кто против царя — сюда! — закричал Степка Гавря.— Эй, мо- нархысты! Сколько вас сушеных на фунт идет?
— А кто за царя — дуй к нам! Бей голоштанников!
Это завизжал Лизарский. И сейчас же замелькали снежки.
Началось настоящее сражение. Вскоре мне влепили в глаз таким крепким снежком, что у меня закружилась голова и в глазах заполыхали зеленые и фиолетовые молнии... Но мы уже побеждали. «Монархистов» прижали к воротам.
— Сдавайтесь! — кричали мы им.
Однако они ухитрились вырваться на улицу. Увлекшись, мы вылетели за ними и попали в засаду.
Дело в том, что неподалеку от гимназии помещалось ВНУ — Высшее начальное училище. С «внучками» мы издавна воевали. Они дразнили нас «сизяками» и били при каждом удобном случае. (Надо сказать, что в долгу мы не оставались.) И вот наши «монархисты», изменники, передались на сторону «внучков», которые не знали, из-за чего идет драка, и вместе с ними накинулись на нас.
— Бей сизяков! Г они голубей! — засвистела эта орава, и нас «взяли в работу».
— Стой! — вдруг закричал Степка Атлантида.— Стой!
Все остановились. Степка влез на сугроб, провалился, снова выкарабкался и снял фуражку.
— Ребята,— сказал он,— хватит драться. Повозились — и ладно. Ведь теперь будет... как это, Лелька... тождество? Нет... равенство! Всем гуртом, ребята. И войны не будет. Лафа! Мы теперь вместе...
Он помолчал немного, не зная, что сказать. Потом спрыгнул с сугроба и решительно подошел к одному из «внучков».
— Давай пять с плюсом! — сказал он и крепко пожал школьнику руку.
— Ура! — закричал я неожиданно для себя и сам испугался.
Но все закричали «ура» и захохотали. Мы смешались со
школьниками.
В это время сердито зазвонил звонок.
Латинское окончание революции
— Тараканиус плывет! — закричал дежурный и кинулся за парту.
Открылась дверь. Гулко встал класс. Из пустоты коридора, внося
с собой его тишину, вошел учитель латыни. Сухой и желчный, он взошел на кафедру и закрутил торчком свои тонкие тараканьи усы.
Золотое пенсне, пришпорив переносицу, прогалопировало по классу. Взгляд его остановился на моей распухшей скуле.
— Это что за украшение?
Тонкий палец уперся в меня. Я встал. Безнадежно-унылым голосом ответил:
— Ушибся, Вениамин Витальевич. Упал.
106
— Упал? Тэк-тэк-с... Бедняжка. Ну-ка, господин революционер, маршируй сюда. Тэк-с! Кррасота. Полюбуйтесь, господа!.. Ну, что сегодня у нас задано?
Я стоял, вытянувшись, деред кафедрой. Я молчал. Тараканиус забарабанил пальцами по пюпитру. Я молчал тоскливо и отчаянно.
— Тэк-с,— сказал Тараканиус.— Не знаешь. Некогда было. Революцию делал. Садись. Единица. Дай дневник.
Класс возмущенно зашептался. Ручка, клюнув чернила, взвилась, как ястреб, над кафедрой, высмотрела сверху в журнале мою фамилию и...
В клетку, как синицу,
За четверть в этот год Большую единицу Поставил педагог.
На «Сахалине», за печкой, они, «монархисты», злорадно хихикнули.
Это было уже невыносимо. Я громко засопел. Класс демонстративно задвигал ногами. Костяшки пальцев стукнули по крышке кафедры.
— Тихо! Эт-то что такое? Опять в кондуит захотелось? Распустились!
Стало тихо. И тогда я упрямо и сквозь слезы сказал:
— А все-таки царя свергнули...
«Романов Николай, вон из класса!»
Последним уроком в этот день было природоведение. Преподавал его наш самый любимый учитель — веселый длинноусый Никита Павлович Камышов. На его уроках было интересно и весело. Никита Павлович бодро вошел в класс, махнул нам рукой, чтобы мы сели, и, улыбнувшись, сказал:
— Вот, голуби мои, дело-то какое. А? Революция! Здорово!
Мы обрадовались и зашумели:
— Расскажите нам про это... про царя!
— Цыц, голуби! — поднял палец Никита Павлович.— Цыц! Хотя и революция, а тишина должна быть прежде всего. Да-с. А затем, хотя мы с вами и изучаем сейчас однокопытных, однако о царе говорить преждевременно.
Степка Атлантида поднял руку. Все замерли, ожидая шалости.
— Чего тебе, Гавря? — спросил учитель.
— В классе курят, Никита Павлович.
— С каких пор ты это ябедой стал? — удивился Никита Павлович.— Кто смеет курить в классе?
— Царь,— спокойно и нагло заявил Степка.
— Кто, кто?
107
— Царь курит. Николай Второй.
И действительно!.. В классе висел портрет царя. Кто-то, очевидно Степка, сделал во рту царя дырку и вставил туда зажженную папироску.
Царь курил. Мы все расхохотались. Никита Павлович тоже. Вдруг он стал серьезен необычайно и поднял руку. Мы стихли.
— Романов Николай,— воскликнул торжественно учитель,— вон из класса!
Царя выставили за дверь.
Степка-агитатор
Двор женской гимназии был отделен от нашего двора высоким забором. В заборе были щели. Сквозь них на переменах передавались записочки гимназисткам. Учителя строго следили за тем, чтобы никто не подходил близко к забору. Но это мало помогало. Общение между дворами поддерживалось из года в год. Однажды расшалившиеся старшеклассники поймали меня на перемене, раскачали и перекинули через забор на женский двор. Девочки окружили меня, готового расплакаться от смущения, и затормошили. Через три минуты начальница гимназии торжественно вводила меня за руку в нашу учительскую. Вид у меня был несколько живописный, как у Кости Гончара1 городского дурачка, который любил нацеплять на себя всякую всячину. Из кармана у меня торчали цветы. Губы были в шоколаде. За хлястик засунута яркая бумажка от шоколада «Гала- Петер». В герб вставлено голубиное перышко. На груди болтался бумажный чертик. Одна штанина была кокетливо обвязана внизу розовой лентой с бантиком. Вся гимназия, даже учителя и те чуть не лопнули от смеха.
С тех пор я боялся близко подходить к забору. Поэтому, когда ребята выбрали меня делегатом на женский двор, я вспомнил «Га- ла-Петер», начальницу, розовый бантик и отказался.
— Зря! — сказал Степка Атлантида.— Зря! Ты вроде у нас самый подходящий для девчонок — вежливый. Ну ладно. Я схожу. Мне что? Надо же им все раскумекать.
И Степка полез через забор.
Мы прильнули к щелям.
Гимназистки бегали по двору, играли в латки, визжали и звонко хохотали. Степка спрыгнул с забора. «Ай!» — вскрикнули девочки, на минуту остановились, а потом, как цыплята на зов клушки, сбежались к забору и окружили Степку. Степка отдал честь и представился.
— Атлантида Степан,— сказал он, на минуту отрывая руку от козырька, чтобы утереть нос,— можно и Гавря. А лучше зовите Степкой.
— Через забор лазает,— степенно поджала губы маленькая гимназисточка, по прозвищу Лисичка.— Фулиган!
109
— Не фулиган, а выборный,— обиделся Степка.— Что? Еще за царя небось? Эх вы, темнота!
И Степан, набрав воздуху, разразился речью, старательно подбирая вежливые слова:
— Девчонки... то есть девочки! Вчера сделалась революция, и царя поперли, то есть спихнули. Мы даже «Боже, царя храни...» на молитве не пели, и все за революцию, то есть за свободу. Мы хотим директора тоже свергнуть... Вы как, за свободу или нет?
— А как это — свобода? — спросила Лисичка.
— Это без царя, без директора, к стенке не ставить и выборных своих выбирать, чтобы были главные, которых слушаться. В общем, лафа, то есть я хотел сказать — здорово! И на Брешке можно будет шляться, то есть гулять.
— Я, кажется, за свободу...— задумчиво протянула Лисичка.— А вы как, девочки?
Гимназистки теперь все были «за свободу».
Заговор
Поздно вечером к нам пришел с черного хода Степка Атлантида и таинственно вызвал меня на кухню. Аннушка вытирала мокрые взвизгивающие стаканы. Степка конспиративно покосился на нее и сообщил:
— Знаешь, учителя хотят попереть Рыбий Глаз, ей-богу, я сам слышал. Историк с Тараканиусом сейчас говорили, а я сзади шел. Мы, говорят, на него в комитет напишем. Честное слово. А ты, слушай, завтра, как выйдем на эту... как ее... манихвестацию, как я махну рукой, и все заорем: «Долой директора!» Ну, смотри только! Ладно? А я побёг: мне еще к Лабзе да к Шурке надо. Замаялся. Ну, резервуар!1— Совсем уже в дверях он грозно повернулся:—А если Лизарский опять гундеть будет, так я его на все четыре действия с дробями разделаю. Я не я буду, если не разделаю...
На Брешке
На другой день занятий не было. Обе гимназии, мужская и женская, вышли на городскую демонстрацию. Директор позвонил, что прийти не может: болен, простудился... Кхе-кхе!
На демонстрации все было совершенно необычайно, ново и интересно. Преподаватели здоровались со старшеклассниками за руку, шутили, дружески беседовали. Гремел оркестр клуба приказчиков. Ломающимися рядами, тщетно стараясь попасть в ногу, шел «цвет»
1 Исковерканное «о ревуар» — «до свиданья» по-французски.
110
города: солидные акцизные чиновники, податной инспектор, железнодорожники, тонконогие телеграфисты, служащие банка и почты, фуражки, кокарды, канты, петлички, пуговицы...
В руках у всех были появившиеся откуда-то печатные листочки с «Марсельезой». Чиновники, надев очки, деловито, словно в циркуляр, вглядывались в бумажки и сосредоточенно выводили безрадостными голосами:
...Раздайся клич мести наро-о-одной...
Вперед, вперед... Вперед, вперед, вперед!
На крыльцо волостного правления, на крыше которого сидела верхом каланча, вышел уже смещенный городской голова. На нем
были белые с красными разводами валенки-чесанки и резиновые галоши. Голова, сняв малахай, сказал хрипло и торжественно:
— Хоспода! У Петрограде и усей России рывалюция. Его императорское величество... кровавый деспот... отреклысь от престола. Уся власть — Временному управительству. Хай здравствует! Я кажу ура!
— Ура! — закричала толпа.
А Атлантида сейчас же добавил:
— И долой директора!
Но ничего не вышло. Директор не пришел, и план Степки рухнул.
На углу Брешки группа учителей во главе с инспектором оживленно спорила о чем-то. Степка вслушался. Звучал уверенный голос инспектора:
— Комитет думы рассмотрит наше ходатайство сегодня вечером. Полагаю, в благоприятном для нас смысле. И тогда мы покажем господину Стомолицкому на дверь. Пора бездушной казенщины кончилась. Да-с.
Степка помчался к своим. Сразу стало веселей, и инспектор показался таким хорошим и ласковым, будто никогда и не записывал Степку в кондуит.
А народ все шел и шел. Шли празднично одетые рабочие лесопилок, типографии, костемольного, слесари депо, пухлые пекари, широкоспинные грузчики, лодочники, бородатые хлеборобы.
ill
Гукало в амбарах эхо барабана. Широкое «ура» раскатывалось по улицам, как розвальни на повороте. Приветливо улыбались гимназистки. Теплый ветер перебирал телеграфные провода аккордами «Марсельезы». И так хорошо, весело и легко дышалось в распахнутой против всех правил шинели!..
Галоши директора
Давно пробило в вестибюле девять, а уроки не начинались. Классы гудели, бурлили. Отдельные голоса булькали в общем гуле и лопались пузырьками. В коридоре ходил Цап-Царапыч и загонял гимназистов в классы. В учительской со стены слепо глядело бельмо невыгоревшего пятна на месте снятого портрета. В накуренном молчании нервно расхаживали педагоги.
Наконец вездесущий Атлантида решил узнать, в чем дело, и отправился в учительскую, будто бы за картой. Не прошло и трех минут, как он, ошарашенный, ворвался в класс, два раза перекувырнулся, вскочил на кафедру, стал на голову и, болтая в воздухе ногами, оглушил нас непередаваемым радостным ревом:
— Робя!!! Комитет попер директора-а-а!!!
Бешеный треск парт. Дикие крики. Невообразимый гвалт. Восторг!
Биндюг, шалый от радости, ожесточенно бил соседа «Геометрией» по голове, приговаривая:
— Поперли! Поперли! Поперли! Слышишь? Поперли!
Тогда в конце коридора, по которому тек, выливаясь из классов, веселый шум, раскрылись тяжелые двери, и начищенные ботинки на негнущихся ногах мягко проскрипели в учительскую. Преподаватели встали навстречу директору без обычных приветствий.
Стомолицкий насторожился.
— Э-э, в чем дело, господа?
— А дело, видите ли в том, Ювенал Богданыч,— мягко заколыхал бородой инспектор,— что вы... Да вот извольте прочесть.
Он аккуратно, как на подпись, подал бумагу. В лицо директору бросилось резкое слово: «Отстранить».
Но директор не хотел сдаваться.
— Э... э... я назначен сюда округом,— сказал он холодно,— и подчиняюсь только ему. Да-с... И я безусловно сообщу в округ об этом безобразии. А сейчас,— он щелкнул крышкой золотых часов,— предлагаю приступить немедленно к занятиям.
— То есть как это так? — вспылил, остервенело теребя галстук, историк Кирилл Михайлович Ухов.— Вы... вы отстранены! Мы на этом настояли, и никаких разговоров тут быть не может... Господа! Что же вы молчите? Ведь это черт знает что!
В дверь перла с молчаливым любопытством толпа гимназистов. Задние жали, наваливались. Передние поневоле втискивались в двери, влезали в учительскую, смущенно оправляя куртки, гладили пояса.
112
Степка Гавря, работая локтями, продрался вперед, впился азартным взглядом в историка и не выдержал:
— Правильно, Кирилл Михайлович! — и, подавшись весь вперед, рванулся к Стомолицкому: — Долой директора!!!
Мертвая тишина. И вдруг словно лавина громом рухнула на учительскую, задавила все и потопила:
— Долой! Вон! До-ло-о-ой!!! Ура!
Охнул коридор. Дрябнули окна. Тронуло зудом стекла. Гимназия ходила вся, дрожала от неистового гула, грохота, рева и сокрушительного топота.
Директор впервые в жизни погнулся, покорежился. Даже на выутюженных брюках появились складки. Инспектор хитро забеспокоился и вежливенько прищурил глаза на дверь:
— Вам лучше удалиться, Ювенал Богданыч. Мы не ручаемся.
— Мы еще посмотрим, господа! — скрипнул зубами директор и выбежал, зацепившись бортом сюртука за скобу.
Он кинулся в кабинет, напялил фуражку с кокардой, влез в шубу на ходу, не попадая в рукава,— и на улицу. За ним на крыльцо засеменил сторож Мокеич:
— Галоши-то, Ювенал Богданыч! Галошки позабыли!
Директор, не оборачиваясь и увязая в снегу блестящими штиблетами, прыгал на тонких ногах через мутные лужи. Мокеич стоял на крыльце с галошами в руках и глубокомысленно щелкал языком:
— Нтц-нтц-нтц! A-а! Господи! Вот она, революция-то! Директор из гимназии без галош дует!
И вдруг рассмеялся:
— Ишь, наворачивает! Чисто жирафа. Ну-ну! Смеху, прости господи! Бежи, бежи! Хе-хе! Стравус.
На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты.
— Эх, как зашпаривает! Ату его! Гони! Ура! Карьерист! Рыбий Глаз!
Мокрый снежок хлюпнулся в спину Стомолицкого.
— Фью-ю! Наяривай! Муштровщик! Граф Кассо! Рыба!
Захватывало дух. Директор, сам директор, перед которым вчера
еще вытягивались в струнку, дрожали, снимали за козырек (обязательно за козырек!) фуражку, мимо кабинета которого проходили на цыпочках, сам директор постыдно, беспомощно и без галош бежал.
В окна смотрели довольные лица педагогов. Мокеич увещевал:
— Пошто безобразничаете! Нехорошо. А еще ученые!
Атлантида подкрался к нему сзади, выхватил из рук директорскую
галошу и под общий хохот пустил ее в Стомолицкого. Потом, засунув два пальца в рот, засвистел дико, пронзительно, оглушающе, с переливами. Так умеют свистеть только голубятники. А Степка славился своими турманами на весь Покровск.
Когда мы, шумные, разгоряченные, вернулись в классы, учителя вяло журили:
— Не хорошо, господа. Хулиганство все-таки. Разве можно?
Но чувствовалось, что говорится это так, по обязанности.
Вече на бревнах
Во дворе на высохших бревнах после уроков мы устроили экстренное собрание. Собрались на гимназическое вече ученики всех восьми классов. Надо было выбрать делегатов на совместное заседание педагогического совета с родительским комитетом. На этом заседании решался вопрос «об отстранении от должности» директора гимназии.
Председательствовал на дворе коновод старших — восьмиклассник Митька Ламберг, выгнанный из Саратовской гимназии. Митька важно сидел на бревнах и объявлял:
— Ну, господа, теперь выставляйте кандидатов.
— Со двора, что ли, их выставить? Могём!
— Ха-ха-ха! В два счета.
— Господа! Выдвигайте кандидатов!
— Мартыненко! Выдвинь ему! Ха-хе!
— Господа! — возмутился Ламберг.— Тише! Гимназисты все-таки, а ведете себя как «высшие начальные». И в такой момент... Ти-и-ише!
— Брось, ребята! Маленькие?
Гимназисты утихомирились. Начались выборы. Выбрали Митьку Ламберга, Степку Атлантиду и четвероклассника Шурку Гвоздило.
— Еще есть вопросы?
— Есть! — И Атлантида вскарабкался на бревна.— Хлопцы! Вот чего. Дело серьезное. Это вам не в козны играть, не макуху кусать. Да!.. Нам дело надо загибать круче. Рыбьему Глазу надо объявить все начистоту, до конца... И вот чего. Выборные были чтоб от нас и от них. И без никаких!..
— Правильно, Степка! Требовай выборных!.. Качать выборных!.. Качать!!!
Из Степкиных карманов посыпались пробки для пугача, патроны, куски макухи, гвозди, литой панок, дохлая мышь и книжка «Нат Пинкертон». Ламберг бил в старую кастрюлю, которая заменяла ему председательский звонок, а теперь служила барабаном. Выборных понесли к воротам.
— Уррра-а-а!
Уставшее за день от крутого подъема на небо солнце присело отдохнуть на крышу гимназии. Крыша была мокрая от стаявшего снега, блестящая и скользкая. Солнце поскользнулось, ожгло окна напротив, плюхнулось в большую лужу и оттуда радужно подмигнуло веселым гимназистам.
«Родителям на утешение»
Оскорбленный директор решился на последнее средство: пошел искать защиты у родительского комитета.
Нелегко было ему идти искать защиты у родителей. Родителей он
114
считал государственными врагами и запрещал учителям заводить близкое знакомство с ними. Для него родители учеников существовали лишь как адресаты записок с напоминанием о взносе платы за ученье или с извещением о дурном поступке сына. Всякое их вмешательство в дела гимназии казалось директору поруганием гимназической святыни. Наверно, если бы это было в его власти, он выкинул бы из ежедневной гимназической молитвы строчку: «Родителям на утешение».
Но сейчас считаться не приходилось. Директор поплелся к председателю родительского комитета. Председателем комитета был ветеринарный врач Шалферов. В городе его звали скотским доктором.
Директор попал к Шалферову во время приема. Скотский доктор, увидев директора, так удивился, что забыл пригласить его сесть. Он поспешно вытер руку о зеленоватый, в неаппетитных пятнах халат и протянул ее директору. Директор был франтом и чистюлей, а от докторовой руки пахло парным молоком, конюшней и еще чем-то тошнотно-едким. Директора мутило, но с полной готовностью, крепко пожал он протянутую руку.
Так они и разговаривали, стоя в холодной прихожей, заставленной бидонами, бутылями, завядшими фикусами и горшками из-под герани. В углу, в ящике с песком, копала яму кошка. Не сознавая того, что она является свидетельницей исторических событий и великого падения директора, кошка отставила хвост и вытянула его палкой.
Скотский доктор выслушал бледного директора и обещал поддержку. Директор униженно благодарил. Доктору было очень некогда. На дворе, заходясь в сиплом реве, мычала корова. Корове надо было поставить клизму. Шалферов посоветовал директору сходить еще к секретарю комитета.
Директор и Оська
Секретарем комитета был мой отец. Директору очень неловко было обращаться к нему с просьбой. Совсем еще недавно отец подал прошение на свободную вакансию гимназического врача. Директор тогда написал на прошении:
«Желателен врач неиудейского вероисповедания».
Отец только что вернулся домой из больницы с операции. Он умывался, полоскал горло. Вода булькала и клокотала у него в горле. Казалось, что папа закипел.
Директор ждал в гостиной.
В аквариуме плавали золотые рыбки, волоча по дну прозрачную кисею длинных хвостов. Одна рыбка, с мордой, похожей на шлем летчика (так велики были ее глаза), подплыла к стеклу. Наглые рыбьи глаза в упор рассматривали директора. Директор, вспомнив о своем обидном гимназическом прозвище, с досадой отвернулся.
В это время дверь гостиной приоткрылась, и в комнату вошел Ося.
115
Он вел под уздцы большую и грустную деревянную лошадь, давно утратившую молодость и хвост. Лошадь застряла в дверях и едва не сломалась окончательно.
Тут Оська увидел директора. Он остановился в раздумье, подошел поближе и спросил:
— Вы на прием? Да?
— Нет! — серьезно и хмуро ответил директор.— Я по делу.
— А-а! — воскликнул Оська.— Я знаю, вы кто. Вы лошадиный доктор. От вас пахнет так. Да? Вы коров лечите, и кошек, и собак, и жеребенков — всех. Я знаю... А мою лошадь вы вылечите? У ней в животе паровозик. Туда уехал, а оттуда никак не выехивает...
— Это ошибка, мальчик,— обиженно прервал его Стомолиц- кий.— Я не ветеринар. Я директор. Директор гимназии.
— Ой...— с уважением охнул Ося и внимательно осмотрел директора.— Вы и есть директор? Я даже испугался. Леля говорит, вы строгий... Вас все, даже учителя, боятся. А как вас зовут? Рыбий... нет, Рыбин... Вспомнил!.. Воблый Глаз?
— Меня зовут Ювенал Богданович,— сухо сказал директор.— А тебя как зовут, мальчик?
— Меня — Ося. А почему вас тогда называют Воблый Глаз?
— Не задавай глупых вопросов, Ося. Ответь лучше... м... гм... ты уже умеешь читать? Да... ну, скажи... м... гм... вот... куда впадает Волга? Знаешь?
— Знаю,— уверенно ответил Ося.— Волга впадает в Саратов. А вот отгадайте сами: если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?
— Не знаю,— постыдно признался директор.
— Никто не знает,— утешил его Ося,— ни папа, ни солдат, никто... А вот Воблый Глаз — это по отчеству так? Или вас, когда вы маленький были, так называли?
— Довольно!.. Будет! Скажи лучше, Ося, как звать твою лошадь?
— Конь... Как же еще? У лошадев не бывает фамилиев.
— Неверно! — строго пояснил директор.— Например, лошадь. Александра Македонского звали Буцефал.
— А вас — Рыбий Глаз? Да? Совсем и не Воблый... Это я спутал. Да ведь?
Вошел папа.
— Какой развитой и смышленый мальчик ваш сын! — с ангельской улыбкой сказал, изогнувшись, директор.
Отцы, папаши, батьки
У-у-дрррдж-ууджж-ррджржж...
Громадной мухой бился в окне учительской вентилятор. В натопленной учительской было моряще жарко. В пустых, темных классах изредка потрескивали парты. Громко тикали часы в вестибюле.
116
— Заседание родительского комитета совместно с педагогическим советом разрешите считать открытым. Прошу...
За большим столом сидел родительский комитет. Тесным рядком сели преподаватели. Поодаль, в углу стола, приткнулись Митька Ламберг и Шурка Гвоздило. Маленький Шурка казался совсем оробевшим. Солидный Ламберг крепился.
Степку Атлантиду инспектор не пустил на собрание.
— От этого архаровца всего можно ожидать,— заявил инспектор.— Такое еще сморозит...
— Я буду тихо, Николай Ильич.
— Мокеич, выведи его отсюда!
— Ну-ка, выкатывайся, милок,— толкал Мокеич расходившегося Степку.— Выборный... тоже. Горлопан!
Степка очень обиделся.
— Как хотите,— сказал он, уходя,— только после с меня не взыщите, если у вас ничего не сладится. Резервуар. Адье.
В начале заседания потух свет: произошла обычная поломка на станции. Учительская погрузилась в темноту. Ламберг полез за спичками, но спохватился, что у некурящего гимназиста не может быть спичек. Сторож Мокеич принес похожую на парашют лампу с круглым зеленым абажуром. Лампу повесили над столом. Она качалась. Тени шатались, и носы сидящих то вырастали, то укорачивались.
Сначала говорил инспектор. Говорил плавно, много язвил, и раздвоенная его борода хитро юлила над столом. Борода была похожа на жало.
Сопящие хуторяне-отцы сонно слушали Ромашова, гривастый священник заправил перстами за ухо волосы и внимал. Акцизный строго протер очки, будто собирался разглядеть в них каждое слово инспектора. Лавочник глубокомысленно загибал пухлые пальцы в такт инспекторским словам.
Толстый мукомол из думы, Гутник, стал защищать директора:
— Як же вы, господа педагоги, можете такое самоправство чинить? Се, я кажу, трошки неладно. Негоже так. Допрежь у округа спросить треба... А Ювенал Богданович сполнял закон форменно. Мы бачили, шо при ем порядок был самостоятельный. Так нехай вин и остается. Сдается мне, шо так катьегорически и буде. Та и время дюже кипятливое, як огнем полыхае. Шкодить хлопцы зачнут. Так я кажу чи ни?
И родители одобрительно покачали головами. Отцы побаивались свободы для сыновей. Распустятся — попробуй тогда справься с этой бандой голубятников, свистунов, головорезов и двоечников.
Кондуит директора
Взволнованный, вскочил Никита Павлович Камышов, географ и естественник. С надеждой взглянули на побледневшее лицо лю¬
117
бимого учителя Ламберг и Шурка. Горячо заговорил Никита Павлович, и каждая его фраза -была страницей в неписаном кондуите самого Рыбьего Глаза.
— Господа! Что же это такое? Царя свергли, а мы... директора не можем?.. Вы — родители! Ваши дети, сыновья ваши, пришли сюда, в эти опостылевшие нам стены, получить образование, воспитание. А что они могли получить здесь? Что, я вас спрашиваю, могли получить здесь они, дети... когда мы, педагоги, взрослые, задыхались? Нечем дышать было. Позор! Казарма! Вышитый ворот рубахи — восемь часов без обеда... Фуражку снял не за козырек — выговор. Боже мой!.. Теперь, когда во всей России стал чище воздух, мы тут у себя... форточку открыть боимся, чтоб проветрить!..
Он дернул себя за длинный свисающий ус и, задыхаясь, выбежал из учительской.
Очень тихо стало в комнате.
Директор, незаметный в углу, распилил тишину своим плоским голосом. Директор был зелен от абажура и злости.
Он оправдывался.
— Личные счеты,— говорил он.— Закон... дисциплина... служба... округ.
Его прервал громадный и черный машинист Робилко, длинный, как товарные составы, которые он водил. Машинист грохнул кулаком по столу:
— Да чего там разговаривать? Революция так революция! Вали без пересадок. А от господина директора мы ни черта хорошего, кроме плохого, не видели. Да и ребят поспрошать надо. Пусть вот выборные ихние определение скажут. А то для чего выбирать было?
Митька Ламберг браво отчеканил наизусть выученную речь.
— А вы что можете сказать? — обратился председатель к Шурке Гвоздило.
Шурке стало несказанно приятно, что ему, как взрослому, говорят «вы». Он вскочил, руки по швам, как перед кафедрой.
Рыбьи глаза директора гадливо рассматривали его.
Шурка с опаской покосился на Стомолицкого: черт его знает, вдруг останется — придираться будет. Шурка гулко глотнул комок в горле. Душа его ушла в пятки. Но Ламберг каблуками так больно
118
стиснул в это время под столом Шуркину ногу, что душа бомбой вылетела из пятки обратно.
Шурка мотнул головой, снова проглотил воздух и вдруг воодушевился.
— Мы все за долой директора! — выпалил он.
Кем-то задетая в суматохе лампа раскачивалась. Тени опять сошли со своих мест. Тени укоризненно качали головами. Носы росли и опадали. Длиннее всех был унылый нос директора.
Присутствие духа
Долго, до поздней ночи, тянулось заседание. Наконец постановили:
«...Стомолицкого Ювенала Богдановича отстранить от должности директора гимназии. Временно, до утверждения округом, обязанности директора возложить на инспектора гимназии Николая Ильича Ромашова».
Бывший директор покинул собрание. Ушел он молча и ни с кем не простился. Ромашов с победным видом пушил бороду. Довольная борода нового директора теперь уже не смахивала на жало. Скорее она напоминала большой, рыхлый ломоть калача, аппетитно выеденный посередине.
Расхрабрившийся Шурка заикнулся о выборном управлении. Пламя в лампе запрыгало от дружного хохота. Даже по плечу похлопали Шурку:
— Эх, молодость, молодость! Задору-то!
— Выборные от первоклашек-сопляков... Ха-ха-ха! Уморил, уморил!
Шурка сконфуженно шмурыгал носом и тер пряжку пояса.
Собрание перешло к какому-то другому вопросу. Родители зевали, прикрываясь ладонями. У Шурки слипались глаза. Зеленый парашют лампы низко парил над столом. Пламя тоненько пело и кидало маленькие острые протуберанцы. Над стеклом струилось волнистое тепло. Спать хотелось до черта. А тут еще вентилятор этот укачивал: уудж-уррдж-ууу...
Директора выгнали, и Шурка считал свою миссию выполненной. Но тут сидели преподаватели, родители, наконец, новый директор, и уйти просто так, казалось ему, было невозможно. И Шурка заготовил длинную и совсем взрослую фразу: дескать, его присутствие больше не требуется и он, мол, считает возможным покинуть собрание. Шурка встал. Он уже совсем открыл рот, чтобы сказать приготовленное, как вдруг потерял самое первое слово. Начал его искать и упустил все другие. Слова, словно обрадовавшись, вылетели из сонной Шуркиной головы и заскакали перед слипающимися глазами. А самое трудное и длинное слово «присутствие» надело мундир с золотыми пуговицами и нахально влезло в стекло лампы. Пламя
119
показало Шурке язык, а «присутствие» стало бросаться в Шурку точкой над i. Точка была на длинной резинке. Она отскакивала от Шуркиной головы, как бумажные шарики, которые продавал на базаре китаец Чи Сун-ча.
— Что вы имеете сказать? — спросил председатель.
Все повернулись к Шурке.
Шурка в отчаянии одернул куртку и сказал решительно:
— Позвольте выйти!
Цап-Царапыч ставит точку
Шурка вышел на улицу. Небо было черно, как классная доска. Тряпье туч стерло с него все звездные чертежи. Черная, топкая тишина проглотила город. Шурка первые минуты после учительской барахтался в этой кромешной тьме, как муха в кляксе. Потом он разглядел перед собой темную фигуру.
— Шурка, ты? А я тебя все жду... Замерз, як цуцик.
— A-а, Атлантида! — узнал Шурка.
— Ну как, что? Расскажи.
Эффектно растягивая слова, Шурка сообщил:
— Чего там рассказывать! Мы, конечно, добились своего. Рыбу по шапке, а на его место пока инспектора.
— Постой! А насчет выборных как же?
— «Выборные, выборные»!.. Вот тебе твои выборные — выкуси! Засмеяли меня с твоими выборными!
— Эге! Здорово! Чего же вы добились? Это разве революция?! Директора поперли, а заместо его инспектора посадили. Эх!..
И Степка исчез в темноте. Гвоздило, солидно пожав плечами, пошел домой. Куковала караульная колотушка — деревянная кукушка уездных ночей. Вскоре побрели по темной площади учителя и родители.
Последним ушел из гимназии Цап-Царапыч. Он задержался, записывая на всякий случай в кондуитный журнал Ламберга и Гвоздило. Так кондуитом, хвостатой подписью Цап-Царапыча кончился этот знаменательный день.
Реформа единицы
В учительской повесили новый портрет: волосы ершиком, отвороченные уголки стоячего воротничка как крылышки херувима... Александр Федорович Керенский.
На специальном молебне учителя присягали Временному правительству. Общую молитву всех классов отменили. По утрам, перед уроками, стали читать прямо в классе коротенькую молитву. Затем
120
либеральный новый директор решился на смелый шаг: он отменил отметки.
— Все эти единицы, двойки, пятерки с минусом непедагогичны,— распинался Ромашов перед родительским комитетом.
Отныне учителя не ставили в наши дневники и тетради единиц и пятерок. Вместо единицы писалось «плохо», вместо двойки — «неудовлетворительно». Тройку заменяло «удовлетворительно». «Хорошо» означало прежнюю четверку, а «отлично» стоило пятерки. Потом, чтобы не утратить прежних «плюсов» и «минусов», стали писать «очень хорошо», «не вполне удовлетворительно», «почти отлично» и так далее. А латинист Тараканиус, очень недовольный реформой, поставил однажды Биндюгу за письменную уже нечто необъяснимое: «Совсем плохо с двумя минусами». Так и за четверть вывел.
— Если принять «плохо» за единицу,— высчитывал Биндюг,— то у меня по латыни отметка за четверть такая, что простым глазом и не углядишь. Черт его знает, чему это равно. Хорошо, если нуль. А вдруг еще меньше?..
Протеже дамского комитета
Двор дома, в котором мы жили, принадлежал большому хлебному банку. Под навесом всегда пахтала воздух веялка. На парусине росли золотые дюны пшеницы, и широкоплечие весы передергивали железными плечами, как человек, которому хочется незаметно почесать спину. Целый день на дворе бабы длинными иглами чинили мешки. Бабы пели очень печальные песни про любовь и разлуку.
Одна из мешочниц поступила кухаркой к банковскому служащему. У кухарки был сын Аркаша. Он учился в начальном училище. Аркаша был мал ростом и веснушчат. Лицо его было похоже на парусину с рассыпанной пшеницей. Он был очень способный мальчонка и страстно хотел учиться.
В городе существовал благотворительный дамский комитет. Хозяйка Аркашиной матери состояла в этом комитете. По ее настоянию комитет принял участие в способном мальчугане, и Аркаша Портянко, сдав без сучка и задоринки экзамен, был принят бесплатным учеником в наш класс.
Я очень дружил с серьезным и ласковым Аркашей. Он не был тихоней, но все его безобидные шалости, веселые шутки резко отличались от дикого озорства одноклассников. Учился он отлично и каждую четверть года приносил на кухню к матери табели, туго набитые пятерками. В каждой клеточке, как в дольках стручка, сидели похожие друг на друга пятерки. Даже число пропущенных уроков обычно равнялось пяти. Внизу стояло: «Подпись родителей». С великой гордостью, пачкая табель масляными пальцами, подписывалась кухарка. «Перасковия Портянк»,— выводила она и трепетно, словно свечу перед иконой, ставила точку.
Плюс минус Люся
Весь класс знал, что Аркаша Портянко влюблен. На классной доске писали неоспоримую формулу его любви: «Аркаша+Люся=!!» Люся была дочерью богатой председательницы сердобольного дамского комитета. Мать Аркаши, узнав об этом, качала головой:
— Ишь каку симпатию себе нашел!.. Кывалер... Наказание!
Но Люсе очень нравился Аркаша. Он приходил в беседку, и там они читали вдвоем интересные книжки. Солнце, просочившись сквозь листву, осыпало их кружочками своего теплого конфетти. Однажды Аркаша принес Люсе букет ландышей.
На рождестве у Люси была елка. Люся пригласила Аркашу, не спросясь у матери. Вычистив и выгладив свой мундирчик, отправился Аркаша на елку. Он вошел в ярко освещенный подъезд и уже предвкушал радости вечера, как вдруг мать Люси, высокая дама, испуганно. зашумев шелком, выросла перед ним. Она очень растревожилась, увидев у себя на балу кухаркиного сына.
— Приходи как-нибудь в другой раз, мальчик,— сладко заговорила она,— и приходи со двора. Люсе сейчас некогда. У нее гости. Вот тебе и твоей маме гостинцы.
С этого вечера Аркаша больше не виделся с Люсей. Скучал он очень сильно. Осунулся и учиться стал хуже.
Потом, в феврале, на Троицкой площади полный господин в хорошей шубе горячо говорил собравшемуся народу, что теперь нет больше бар, господ и рабов, а все равны. Аркаша поверил ему, решив, что раз сам господин говорит, что господ нет, значит, это уж верно. И Аркаша решил написать Люсе. Вот это письмо. Я нашел его через несколько лет в кондуите вместе с засушенным стебельком ландыша.
Письмо
«Многоуважаемая, дорогая, милая Люся!
Так как ввиду того, что теперь переворот царского режима, то все равны и свобода. Баринов и господ больше нет, и никто никакого полного права не имеет меня оскорбить с елки по шеям, как на первый день. А я за вами очень скучаю, Люсенька, золотая, так что похудел, мама говорит, даже. И на каток не хожу, потому что не хочу, а не потому вовсе, что, как Лизарский говорит: это оттого, что смотреть обидно, как я с Люськой катаюсь. Съел, говорит, гриб? Видал миндал? Ну и пусть бреш... (зачеркнуто) лжет. Совсем и не завидно ни капельки. Ему вот наклали, как монархисту (значит, за царя), он и злится. А теперь, милая Люсенька, мы с вами можем быть как будто брат и сестра, если, конечно, захотите. Революция потому что, и мы теперь равные. Хотя вы, конечно, лучше в сто раз. До чего мне ужасно без вас плохо, не дай бог... Честное слово, если не верите. Вот сидишь, уроки зубришь, а все про вас мечтаешь и даже во сне видишь.
122
Ну до того ясно, как вправду. И в диктовке раз попалось слово стремлюс я, я и перенес с большого «Л»: стрем-Люся... А вы с Петькой Лизарским все время, который у меня задачу всю сдул, а после хвалится. И ходит с вами под ручку. Хотя я не завидую. Так только немного довольно странно, что вы такие умные, Люся, красивенькая, хорошая и развитая, а с монархистом ходите под ручку. Ведь теперь свобода, равенство и братство, и вас не заругают со мной. А за Петьку я на вас серчать не буду. Потому что тогда был царь и триста лет самодержавие.
И ничего хорошего в жизни я не видел с мамой, только переворот вот и вы, миленькая Люся... Сроду так не плакал, как тогда, на первый день.
Я не стерпел и написал, хотя это против гордости. Если вы меня не забыли и хотите опять сначала, то напишите записку. Я с радости до неба подскакну.
Я посылаю вам ландыш, это из того букетика...
Ваш Портянко Аркадий, ученик 3-го класса.
Простите, что помарки. Пожалуйста, разорвите это письмо».
Веселый Монохордов
Учитель алгебры носил странную фамилию — Монохордов.. У него были неописуемо рыжие волосы и толстые, бегемотовы щеки. «Рыжий баргамот» — так звали мы его.
Монохордов отличался непонятной, зловещей и неистребимой веселостью. Он вечно хихикал.
— Хи-хи^хи! — заливался он тоненьким смехом.— Хи-хи-хи... Вы ничего не знаете. Здесь, хи-хи-хи... плюс, а не минус... хи-хи-хи... Вот я вам... хи-хи-хи... поставил... хи-хи... единицу.
На уроке алгебры Аркаша, спрятав письмо под партой, еще раз перечитывал его. Увлекшись, он не заметил, как подкравшийся Монохордов запустил руку в парту. Аркаша рванулся, но было уже поздно: толстые пальцы, покрытые рыжими волосами, держали письмо.
— Ха-ха-ха! — восторгался рыжий педагог.— Письмецо! Х-хи... незапечатанное... Интересно, интересно... хи-хи... ознакомиться... чем вы занимаетесь на моих... хи-хи... уроках!
— Отдайте, пожалуйста, мое письмо! — дрожа всем телом, крикнул Аркаша.
— Нет... хи-хи... извините. Это... хи... мой трофей...
Рыжее хихиканье наполняло класс. Монохордов забрался на кафедру и погрузился в чтение. У доски томился забытый ученик с белыми от мела пальцами. Педагог читал.
— Хи-хи-хи... занятно...— залился он, кончая чтение.— Любопытно... Послание... хи-хи... даме сердца. Могу в назидание... хи-хи-хи... прочесть вслух.
123
— Читайте! Читайте! — обрадованно заревел класс, заглушая просьбы побледневшего Аркаши.
И, останавливаясь, чтобы выхихикаться, Монохордов прочел с кафедры вслух письмо Люсе. Все, с начала до конца. Класс гоготал. Помертвелый Аркаша сидел как оплеванный.
Ландыш в кондуите
— Рановато, Портянко, начинаете,— смеялся учитель.— Хи-хи... рановато...
Аркаша знал, что все равно нельзя уже послать это опоганенное письмо. Все большие слова, теперь осмеянные, казались ему самому действительно глупыми. Но жгучая обида подхлестнула его.
— Прошу вас, отдайте мне письмо, Кирьяк Галактионович,— тихо сказал он нехорошим голосом.
И класс разом перестал смеяться.
— Нет,— ухмылялся Монохордов,— это мы в журнальчик... хи-хи...
Тогда Аркаша стал буйствовать.
— Вы не смеете,— взвизгнул он, топая ногами,— не смеете! Чужое письмо... Это — как украсть...
— Вон сейчас же из класса! — заорал Монохордов, тряся налившимися щеками.— Не забывай, что ты бесплатный... Вылетишь... хи-хи... как воздушный шар.
Высохший ландыш легко и слабо хрустнул в захлопнутом журнале. Аркашку долго отчитывал директор Ромашов.
— Мерзавец,— нежно и мягко журил он,— как же ты смеешь со старшими так говорить? Выгоню тебя, шалопая этакого. На каторгу пойдешь, подлец. Что вздумал, нахал! А?
Аркашке напомнили, что он бесплатный, что учится он милостью добрых людей, что революция тут ни при чем. Прежде всего должен быть порядок, и он, Аркашка, вылетит в первую голову, если порядок этот будет нарушен. Аркашку записали в кондуит. После уроков он сидел два часа без обеда. Из всего Аркашка понял только одно: мир по-прежнему еще делится на платных и бесплатных.
Г. Белых Л.Пантелеев
РЕСПУБЛИКА
шкид
Посвящаем эту книгу товарищам по школе имени Достоевского.
Авторы
ПЕРВЫЕ ДНИ
Основатели республики Шкид.— Воробышек в роли убийцы.— Сламщики.— Первые дни.
На Старо-Петергофском проспекте в Ленинграде среди сотен других каменных домов затерялось облупившееся трехэтажное здание, которому после революции суждено было превратиться в республику Шкид.
До революции здесь помещалось коммерческое училище. Потом оно исчезло вместе с учениками и педагогами.
Ветер и дождь попеременно лизали каменные стены опустевшего училища, выкрашенные в чахоточный серовато-желтый цвет. Холод проникал в здание и вместе с сыростью и плесенью расползался по притихшим классам, оседая на партах каплями застывшей воды.
Так и стоял посеревший дом со слезящимися окнами. Улица с очередями, с торопливо пробегающими людьми в кожанках словно не замечала его пустоты, да и некогда было замечать. Жизнь кипела в других местах: в совете, в райкоме, в потребиловке.
Но вот однажды тишина здания нарушилась грохотом шагов. Люди в кожанках, с портфелями пришли, что-то осмотрели, записали и ушли. Потом приехали подводы с дровами.
Отогревали здание, чинили трубы, и наконец прибыла первая партия крикливых шкетов-беспризорников, собранных неведомо откуда.
Много подростков за время революции, голода и гражданской войны растеряли своих родителей и сменили семью на улицу, а школу на воровство, готовясь в будущем сделаться налетчиками.
Нужно было немедленно взяться за них, и вот сотни и тысячи пустующих, полуразрушенных домов снова приводили в порядок, для того чтобы дать кров, пищу и учение маленьким бандитам.
126
Подростков собирали всюду. Их брали из «нормальных» детдомов, из тюрем, из распределительных пунктов, от измученных родителей и из отделений милиции, куда приводили разношерстную беспризор- щину прямо с облавы по притонам. Комиссия при губоно сортировала этих «дефективных», или «трудновоспитуемых», как называли тогда испорченных улицей ребят, и оттуда эта пестрая публика распределялась по новым домам.
Так появилась особая сеть детских домов-школ, в шеренгу которых стала и вновь испеченная «Ш кола социальн о-и н д и - видуального воспитания имени Достоевског о», позднее сокращенная ее дефективными обитателями в звучное «Шкид».
Фактически жизнь Шкиды и началась с прибытия этой маленькой партии необузданных шкетов. Первые дни новорожденной школы шли в невообразимом беспорядке. Четырнадцати- и тринадцатилетние ребята, собранные с улицы, скоро спаялись и начали бузить, совершенно не замечая воспитателей.
Верховодить сразу же стал Воробьев, прозванный с первого дня Воробышком — отчасти из-за фамилии, отчасти из-за своей внешности. Он был маленький, несмотря на свои четырнадцать лет, и за все пребывание в школе не вырос и на полдюйма. Пришел Воробей вместе с парнем, по фамилии Косоров, из нормального детского дома, где он собирался убить заведующего школой.
Как-то летним вечером Воробьева по приказу завдетдомом не пустили гулять, и он поклялся жестоко отомстить за такое зверство. На другой день Косоров — его верный товарищ — достал ему револьвер, и Воробьев пошел в кабинет заведующего. Косоров стоял у дверей и ждал единственного выстрела — другого не могло быть, так как в револьвере был один патрон.
Что произошло в кабинете, осталось неизвестным. Выстрела Косоров так и не услышал, а видел только, как раскрылась дверь и разъяренный заведующий стремительно протащил за шиворот бледного Воробья.
Впоследствии Воробьев рассказывал, что, когда он скомандовал «руки вверх», заведующий упал на колени и лишь осечка испортила все дело.
За это неудавшееся покушение и за целый ряд других подвигов Воробья перевели в Шкиду. Вместе с ним был переведен и его верный товарищ — Косоров.
«Косарь», в противоположность Воробью, был плотным здоровяком, но всегда ходил хмурый. Таким образом, соединившись в «сламу», они дополняли друг друга.
Жить «на сламу» означало жить в долгой и крепкой дружбе. «Сламщики» должны были всем делиться между собой, каждый должен был помогать своему другу.
Придя в Шкиду, сламщики сразу поставили дело так, что ос¬
127
тальные шесть шкетов боялись дохнуть без их разрешения, а заика Гога стал подобострастно прислуживать новым заправилам.
Состав педагогов еще не был подобран. Воспитанникам жилось вольготно.
День начинался часов в одиннадцать утра, когда растрепанная кухарка вносила в спальню вчерашний обед и чай.
Не вставая с кровати, принимались за шамовку.
Воробей, потягиваясь на кровати, грозно покрикивал тоненьким голосом на Гогу:
— Подай суп! Принеси кашу!
Гога беспрекословно выполнял приказания, бегая по спальне, за что милостиво получал в награду папироску.
Шамовки было много, несмотря на то что в городе, за стенами школы, сидели еще на карточках с «осьмушками». Происходило это оттого, что в детдоме было пятнадцать человек, а пайков получали на сорок. Это позволяло первым обитателям Шкиды вести сытную и даже роскошную жизнь.
Уроков в первые дни не было, поэтому вставали лениво, часам к двенадцати, потом сразу одевались и уходили из школы на улицу.
Часть ребят под руководством Гоги шла «крохоборствовать», собирать окурки, другая часть просто гуляла по окрестным улицам, попутно заглядывая и на рынок, где, между прочим, прихватывала с лотков зазевавшихся торговцев незначительные вещицы, вроде ножей, ложек, книг, пирожков, яблок и т. д.
К обеду Шкида в полном составе собиралась в спальне и ждала, когда принесут котлы с супом и кашей; Столовой еще не было, обедали там же, где и спали, удобно устраиваясь на койках.
Сытость располагала к покою. Как молодые свинки, перекатывались питомцы по койкам и вели ленивые разговоры.
«Крохоборы» разбирали мерзлые «чинаши», тщательно отдирая бумагу от табака и распределяя по сортам. Махорку клали к махорке, табак к табаку. Потом эта сырая, промерзлая масса раскладывалась на бумаге и начиналась сушка.
Сушили после вечернего чая, когда с наступлением зимних сумерек появлялась уборщица и, громыхая кочергой и заслонками, затапливала печку.
Серенький, скучный день проходил тускло, и поэтому поминутно брызгающая красными искрами печка с веселыми язычками пламени всегда собирала вокруг себя всю школу. Усевшись в кружок, ребята рассказывали друг другу свои похождения, и тут же на краю печки сушился табак — самая дорогая валюта школы.
Полумрак, теплота, догорающие в печке поленья будили в ребятах новые мысли. Затихали. Каждый думал о своем. Тогда Воробей доставал свою балалайку и затягивал тоскующим голосом любимую песню:
128
По приютам я с детства скитался,
Не имея родного угла.
Ах, зачем я на свет появился.
Ах, зачем меня мать родила...
Песню никто не знал, но из вежливости подтягивали, пока Гога, ухарски тряхнув черной головой, не начинал играть «Яблочко» на «зубарях».
«Зубари», или «зубарики», были любимой музыкой в Шкиде, и всякий новичок прежде всего старательно и долго изучал это сложное искусство, чтобы иметь право участвовать в общих концертах.
Для зубарей важно было иметь слух и хорошие зубы, остальное приходило само собой. Техника этого дела была такая. Играли на верхних зубах, выщелкивая мотив ногтями четырех пальцев, а иногда и восьми пальцев, когда зубарили сразу двумя руками. Рот при этом то открывался широко, то почти совсем закрывался. От этого получались нужной высоты звуки. Спецы по зубарям доходили до такой виртуозности, что могли без запинки сыграть любой самый сложный мотив.
Таким виртуозом был Гога. Будучи заикой, он не мог петь и всецело отдался зубарикам. Он был одновременно и дирижером, и солистом шкидского оркестра зубарей. Обнажив белые крупные зубы, Гога мечтательно закидывал голову и быстрой дробью начинал выбивать мелодию. Потом подхватывал весь оркестр, и среди наступившей тишины слышался отчаянный треск зубариков.
Лица теряли человеческое выражение, принимали тупой и сосредоточенный вид, глаза затуманивались и светились вдохновением, свойственным каждому музыканту. Играли, разумеется, без нот, но с чувством, запуская самые головоломные вариации, и в творческом порыве не замечали, как входил заведующий.
Это означало, что пора спать.
В первые дни штат Шкиды был чудовищно велик. На восемь воспитанников было восемь служащих, хотя среди них не было никого лишнего. Один дворник, кухарка, уборщица, завшколой, помощница зава и три воспитателя.
Завшколой — суровая фигура. Грозные брови, пенсне на длинном носу и волосы ежиком. Начало педагогической деятельности Виктора Николаевича уходило далеко в глубь времен. О днях своей молодости он всегда вспоминал и рассказывал с любовью. Воспитанники боялись его, но скоро изучили и слабые стороны. Он любил петь и слушать песни. Часто, запершись во втором этаже в зале, он садился за рояль и начинал распевать на всю школу «Стеньку Разина» или «Дни нашей жизни».
Тогда у дверей собиралась кучка слушателей и ехидно прохаживалась на его счет:
— Эва, жеребец наш заржал!
5 Школьные годы. Выпуск I
129
— Голосина что у дьякона.
— Шаляпин непризнанный!..
Завшколой переехал в интернат с первого дня его основания и поселился во втором этаже.
От интерната квартиру заведующего отделял один только зал, который в торжественные минуты назывался «Белым залом». Стены Белого зала были увешаны плохими репродукциями с картин и портретами русских писателей, среди которых почетное место занимал портрет Ф. М. Достоевского.
В качестве помощницы заведующего работала его жена, белокурая немка Элла Андреевна Люмберг, или просто Эллушка, на первых порах взявшая на себя роль кастелянши, но потом перешедшая на преподавание немецкого языка.
Они-то и являлись основателями школы.
Воспитателей было немного.
Один — студент, преподаватель гимнастики, получивший кличку Батька. Другой — хрупкий естествовед, влюбленный в книжки Кай- городова о цветах, мягкий и простодушный человек, потомок петербургских немцев-аптекарей. Прежде всего «ненормальный» питомник не принял его трудно выговариваемого имени. Герберта Людвиговича сперва переделали в Герб Людовича, потом сократили до Герб Людыча, потом любовно и просто стали звать Верблюдычем и наконец окончательно закрепили за ним имя Верблюд.
Однако Верблюда любили за мягкость, хотя и смеялись над некоторыми его странностями. А их у него было много. То подсмотрят ребята, как Верблюдыч перед сном начинает танцевать в кальсонах, напевая фальшивым голосом мазурку, то вдруг он начнет мучить шкидцев, настойчиво разучивая гамму на разбитом пианино, которое не в добрый час оказалось у него в комнате.
Музыка у Верблюдыча была второй страстью после цветов. Однако все же он играть ни на чем не умел и за все свое пребывание в школе не поразил шкидцев ни одним новым номером, кроме гаммы.
Третий педагог был ни то ни се. Он скоро исчез со шкидскОго горизонта, обидевшись на маленький паек и на слишком тяжелую службу у «дефективных». Впоследствии он был спортинструктором Всеобуча, а оттуда перешел в мясную лавку на должность «давальца».
ЦЫГАН ИЗ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЛАВРЫ
Здравствуйте, сволочи! — Викниксор.— Бальзам от скуки.— Первый поэт республики.— Однокашник Блока.— Цыган в ореоле славы.
Недолго тянулись медовые дни ничегонеделания. Постепенно комплект воспитанников пополнился, появились и приходящие ученики, такие, которых отпускали после уроков домой. Открылись три класса, которые завшколой назвал почему-то отделениями.
Начались занятия. Меньше стало свободного времени для прогулок. К тому же завернули морозы, и ребята все больше отсиживались в спальне, мирно коротая зимние вечера.
В один из таких вечеров, когда весь питомник, сгрудившись, отогревался у печки, в спальню вошел Виктор Николаевич, а за ним показалась фигура парня в обтрепанном казенном пальто.
«Новичок»,— решили мысленно шкидцы, критически осматривая нового человека.
Завшколой откашлялся, взял за руку парня и, вытолкнув вперед, проговорил:
— Вот, ребята, вам еще один товарищ. Зовут его Николай Гро- моносцев. Парень умный, хороший математик, и вы, надеюсь, с ним скоро сойдетесь.
С этими словами Виктор Николаевич вышел из комнаты, оставив ребят знакомиться.
Колька Громоносцев довольно нахально оглядел сидевших и, решив, что среди присутствующих сильнее его никого нет, независимо поздоровался:
— Здравствуйте, сволочи!
— Здравствуй,— недружелюбно процедил за всех Воробьев.
Он сразу понял, что этот новичок скоро будет в классе коноводом. С появлением Громоносцева власть уходила от Воробья, и, уже с первого взгляда почувствовав это, Воробышек невзлюбил Кольку.
Между тем Колька, нимало не беспокоясь, подошел к печке и, растолкав ребят, сел у огня.
Ребята посторонились и молча стали оглядывать новичка. Вызывающее поведение и вся его внешность им не понравились.
У Кольки был зловещий вид. Взбитые волосы лезли на прямой лоб. Глаза хитро и дерзко выглядывали из-под темных бровей, а худая мускулистая фигура красноречиво утверждала, что силенок у него имеется в достатке.
Путь, по которому двигался Громоносцев к Шкиде, был длинный путь беспризорного. Пяти лет он потерял отца, а позже и мать. Без присмотра, живя у дальних родственников, исхулиганился, и род¬
131
ственники решили сплавить юнца поскорее с рук, сдав его в Нико- ло-Гатчинский институт.
Родственники получили облегчение, но институт не обрадовался такому приобретению. Маленький шкетик Колька развернулся вовсю: дрался, ругался, воровал и неизвестно чем закончил бы свои подвиги, если б в это время институт не расформировался.
Но Колька — сирота, и его переводят в другое заведение, потом в третье. Колька так много сменил казенных крыш, что и сам не мог их перечислить, пока наконец воровство не привело его в Алексан- дро-Невскую лавру.
Когда-то лавра кишела черными монашескими скуфьями и клобуками, но к прибытию Кольки святая обитель значительно изменила свою физиономию. Исчезли монахи, а в бывших кельях поселились новые люди.
Тихие кельи превратились в общие и одиночные камеры, в которых теперь сидели несовершеннолетние преступники.
Лавра была последней ступенью исправительной системы. Отсюда было только две дороги: либо в тюрьму, либо назад в нормальный детдом.
Попасть в лавру считалось в те годы самым большим несчастьем, самым страшным, что могло ожидать молодого правонарушителя. Провинившихся школьников и детдомовцев пугали Шкидой, но если уж речь заходила о лавре — значит, дело было швах, значит, парень считался конченым.
И вот Колька Громоносцев докатился-таки до лавры. Три месяца скитался он по камерам, наблюдая, как его товарищи по заключению дуются самодельными картами в «буру», слушал рассказы бывалых, перестукивался с соседями, даже пытался бежать. В темную зимнюю ночь он с двумя товарищами проломили решётку камеры и спустились на полотенцах во двор. Поймали их на ограде, через которую они пытались перелезть. Отсидев тридцать суток в карцере, Колька неожиданно образумился. Однажды, явившись к заведующему, твердо заявил:
— Люблю математику. Хочу быть профессором.
Категорическое заявление Кольки подействовало. Громоносцева
перевели в Шкиду.
В тот же день, рассмотрев поближе новичка, шкидцы держали совет:
— Как его прозвать?
— Трубочистом назовем. Эва, черный какой!
— Жуком давайте.
— Нет.
— Ну, так пусть будет — Цыган.
— Во! Правильно!
— Цыган и есть.
Колька снисходительно слушал, а когда приговор был вынесен, улыбнулся и небрежно сказал:
132
— Мне все равно. Цыган так Цыган.
...— А почему вы школу зовете Шкид? — спрашивал Колька на уроке, заинтересованный странным названием.
Воробышек ответил:
— Потому что это, брат, по-советски. Сокращенно. Школа имени Достоевского. Первые буквы возьмешь, сложишь вместе — Шкид получится. Во, брат, как,— закончил он гордо и добавил многозначительно: — И все это я выдумал.
Колька помолчал, а потом вдруг опять спросил:
— А как зовут заведующего?
— Виктор Николаевич.
— Да нет... Как вы его зовете?
— Мы? Мы Витей его зовем.
— А почему же вы его не сократили? Уж сокращать так сокращать. Как его фамилия?
— Сорокин,— моргая глазами, ответил Воробышек.
— Ну, вот: Вик. Ник. Сор. Звучно и хорошо.
— И правда, дельно получилось.
— Ай да Цыган!
— Ив самом деле, надо будет Викниксором величать. Попробовали сокращать и других, но сократили только одну
немку. Получилось мягкое — Эланлюм.
Оба прозвища единогласно приняли.
Однажды Викниксор, бывший Виктор Николаевич Сорокин, любитель всего нового и оригинального, зашел к ребятам и, присев на подоконник, мягко, по-отечески заговорил:
— Вы, ребята, скучаете?
— Скучаем,— печально ответили ребята.
— Надо, ребята, развлекаться.
— Надо,— поддакнули опять шкидцы.
— Ну, если так, то у меня есть идея. Школа наша расширяется, и пора нам издавать газету.
Ребята погмыкали, но ничего не ответили, и Викниксору пришлось повторить предложение:
— Давайте издавать газету.
133
— Давайте, Виктор Николаевич. Только...— замялся Косарь,— мы это не умеем. Может, вы сделаете?..
Предложение было смелое, но Викниксор согласился:
— Хорошо, ребята, я вам помогу. На первых порах нужно руководство. Так что — ладно, устроим.
Скоро о беседе забыли.
Но завшколой, увлеченный своей идеей, не остыл.
Каждый вечер в маленькой канцелярии дробно стучала пишущая машинка. Это готовился руками самого Викниксора первый номер шкидской газеты.
В то же время питомник стал замечать рост популярности Цыгана.
Колька уже не ходил мокрой курицей, новичком, а запросто, по-товарищески беседовал с завшколой и долгие вечера коротал с ним за шахматной доской.
— Ишь, стерва, подлизывается к Викниксору,— злобно скулили ребята, поглядывая на ловкого фаворита, но тот и в ус не дул и по-прежнему увивался около зава.
— Не иначе как кляузником будет,— разжигал массы Воробей.
Ребята слушали и озлоблялись, но Цыган не обращал внимания на хмурившихся товарищей, хотя было обидно, что до сих пор с ним никто не желал дружить, а тем более повиноваться ему так, как повиновались Воробышку.
Дело в том, что Шкида только тогда начинала уважать своего товарища, когда находила в нем что-нибудь особенное — такое, чего нет у других.
У Воробья это было. У него имелась балалайка, паршивая, расстроенная в ладах балалайка, и умение кое-как тренькать на ней. Из всех воспитанников никто этой науки не осилил, и поэтому единственного музыканта уважали.
У Цыгана еще не было случая завоевать расположение товарищей, но он искал долго, упорно и наконец нашел.
Однажды, сидя в кабинете завшколой за партией в шахматы, Колька, победив три раза подряд, четвертую игру нарочно провалил.
Приунывший Викниксор повеселел. Несмотря на свои пятнадцать лет, Колька хорошо играл в шахматы, и завшколой редко выигрывал. Поэтому он очень обрадовался, когда загнанный и зашахованный его король вдруг получил возможность дышать, а через шесть ходов Колька пропустил важное передвижение и получил мат.
— Красивый матик. Здорово вы мне влепили,— притворно восторгался Цыган, разваливаясь в кожаном кресле.— Очень красивый мат, Виктор Николаевич.
Викниксор расцвел в улыбке.
— Что? Получил? То-то, брат. Знай наших.
Цыган минуту выждал, тактично промолчав, и дал Викниксору
134
возможность насладиться победой. Потом, переменив тон, небрежно спросил:
— Виктор Николаевич, а как насчет газеты? Будете выпускать или нет?
— Как же, как же. Она уже почти готова,— оживился Викниксор.— Только вот, брат, материалу маловато. Ребята не несут. Приходится самому писать.
— Да, это плохо,— посочувствовал Колька, но Викниксор уже
увлекся:
— Ты знаешь, я и название придумал, и даже пробовал сам заголовок нарисовать, но ничего не вышло, плохо рисую. Зато весь номер уже перепечатан, только уголок заполнить осталось. Я пробовал и стихи написать, да что-то неудачно выходит. А ведь когда-то гимназистом писал, и писал недурно. Помню, еще, бывало, Блок мне завидовал. Ты знаешь Блока — поэта знаменитого?
— Знаю, Виктор Николаевич. Он «Двенадцать» написал. Читал.
— Ну вот. Так я с ним в гимназии на одной парте сидел, и вот, бывало, сидим и пишем стихи, всё своим дамам сердца посвящали. Так ведь, представь себе, бывало, так у меня складно выходило, что Блок завидовал.
— Неужели завидовал? — удивлялся Колька.
— Да. А вот теперь совсем не могу писать — разучился.
— А я ведь с вами, Виктор Николаевич, как раз об этом и хотел поговорить,— деликатно вставил Цыган.
Завшколой удивленно взглянул.
— Ну-ну, говори.
Колька помялся.
— Да вот тоже, вы знаете, попробовал стишки написать, принес показать вам.
— Стишки? Молодец. Давай, давай сюда.
— Они, Виктор Николаевич, так, первые мои стихи. Я их о выпуске стенгазеты написал.
— Вот, вот и хорошо.
Тон заведующего был такой ободряющий и ласковый, что Колька уже совсем спокойно вытащил свои стихи и, положив на стол, отошел в сторону.
Завшколой взял листочек и стал читать вслух:
Ура, ребята! В нашей школе Свершилось чудо в один миг.
И вот теперь висит на стенке Своя газета — просто шик.
Прочтя первый куплет, Викниксор помолчал, подумал и сказал:
— Гм. Ничего.
Колька, чуть не прыгая от радости, выскочил из кабинета.
135
В спальню он вошел спокойный.
Ребята по-прежнему сидели у печки. При его входе никто даже не оглянулся, и Кольку это еще больше обозлило.
— Ладно, черти, узнаете,— бормотал он, укладываясь спать.
Через пару дней Шкида действительно узнала Громоносцева.
— Ты видел, а?
— Что?
— Вот чумичка. Что! Пойди-ка к канцелярии. Позексай, газету выпустили школьную. «Ученик» называется.
— Ну?
— Ты погляди, а потом нукай. Громоносцев-то у нас...
— Что Громоносцев?
— Погляди — увидишь!
Шли толпами и смотрели на два маленьких листика. Четвертую часть всей газеты занимал заголовок, разрисованный карандашами.
Читали напечатанные бледным шрифтом статейки без подписи о методах воспитания в школе, потом шмыгали глазами по второму листку и изумленно гоготали:
— Ай да Цыган! Ловко оттяпал.
— Прямо поэт.
Колька и сам не поверил, когда увидел свои стихи рядом с большой статьей Викниксора, но под стихами стояло: «Ник. Громоносцев». Оставалось верить и торжествовать.
Стихи были чуть-чуть исправлены, и первое четверостишие звучало так:
Ура, ребята! В нашей школе Свершилось чудо в один миг:
У канцелярии на стенке Висит гаэета «Ученик».
Газета произвела большое впечатление. Читали ее несколько раз. Вызывал некоторое недоумение заголовок, представлявший собою нечто странное. По белому полю полукругом было расположено название «Ученик», а под ним помещался загадочный рисунок — головка подсолнуха с оранжевыми лепестками, внутри которого красовался черный круг с двумя белыми буквами: «Ш. Д.», вписанными одна в одну — монограммой.
Что это означало, никто не мог понять, пока однажды за обедом непоседливый Воронин не спросил при всех заведующего:
— Виктор Николаевич, а что означает этот подсолнух?
— Подсолнух? Да, ребята... Я забыл вам сказать об этом. Это, ребята, наш герб. Отныне этот герб мы введем в употребление всюду. А значение его я сейчас вам объясню. Каждое государство, будь то
136
республика или наследственная монархия, имеет свой государственный герб. Что это такое? Это — изображение, которое, так сказать, аллегорически выражает характер данной страны, ее историческое и политическое лицо, ее цели и направление. Наша школа — это тоже своеобразная маленькая республика, поэтому я и решил, что у нас тоже должен быть свой герб. Почему я выбрал подсолнух? А потому, что он очень точно выражает наши цели и задачи. Школа наша состоит из вас, воспитанников, как подсолнух состоит из тысячи семян. Вы тянетесь к свету, потому что вы учитесь, а ученье — свет. Подсолнух тоже тянется к свету, к солнцу,— и этим вы похожи на него.
Кто-то ехидно хихикнул.* Викниксор поморщился, оглядел сидящих и, найдя виновного, молча указал на дверь.
Это означало — выйти из-за стола и обедать после всех.
Под сочувствующими взглядами питомника наказанный вышел. А кто-то ядовито прошипел:
— Мы подсолнухи, а Витя нас лузгает!
Настроение Викниксора испортилось, и продолжать объяснение ему, видимо, не хотелось, поэтому он коротко заключил:
— Подсолнух — наш герб. А теперь, дежурный, давай звонок в классы.
Таким образом, в один день республика Шкид сделала два ценных приобретения: герб и национального поэта Николая Громоносцева.
Популярность сразу перешла к нему, и первой крысой с тонувшего Воробьиного корабля был Гога, решительно пославший к черту балалаечника и перешедший на сторону поэта.
Воробышек был взбешен, но продолжать борьбу он уже не мог.
Тщетно перепробовал он все средства: писал стихи, которые и сам не мог читать без отвращения, пробовал рисовать,— Шкида холодно отнеслась к его попыткам, и Воробей сдался.
Цыган торжествовал, а слава поэта прочно укрепилась за ним несмотря на то, что газета после первого номера перестала существовать, а сам Громоносцев надолго оставил свои поэтические опыты.
ЯНКЕЛЬ ПРИШЕЛ
Кладбищенский рай.— Наш Пинкертон действует.—
Гришка достукался.— Богородицыны деньги.— «Советская лошадка».— Гришка в придачу к брюкам.—
Янкель пришел.
Еще маленьким, сопливым шкетом Гришка любил свободу и самостоятельность. Страшно негодовал, когда мать наказывала его
137
за то, что, побродивши в весенних дождевых лужах, он приходил домой грязным и мокрым.
Не выносил наказаний и уходил из дому, надув губы. А на дворе подбивал ребят и, собрав орду, шел далеко за город, через большое кладбище с покосившимися крестами и проваливающимися гробницами к маленькой серенькой речке. И здесь наслаждался.
Свобода успокаивала Гришкины нервы. Он раздевался и начинал с громким хохотом носиться по берегу и бултыхаться в мутной, грязной речонке.
Поздно приходил домой и, закутавшись, сразу валился на свой сундук спать.
Гришка вырос среди улицы. Отца он не помнит. Иногда что-то смутно промелькнет в его мозгу. Вот он видит себя на белом катафалке посреди улицы. Он сидит на гробу высоко над всеми, а за ними идут мать, бабушка и кто-то еще, кого он не знает. Катафалк тащат две ленивые лошади, и Гришка подпрыгивает на деревянной гробовой доске, и Гришке весело. Это все, что осталось у него в памяти от отца. Больше он ничего вспомнить не мог.
Кузница дворовая с пылающим горном стала его отцом. Мать работала прачкой «по господам», некогда было сыном заниматься. Гришка полюбил кузницу. Особенно хорошо было смотреть вечером на пылающий кровавый горн и нюхать едкий, но вкусный дым или наблюдать, как мастер, выхватив из жара раскаленную полосу, клал ее на наковальню, а два молотобойца мощными ударами молотов мяли ее, как воск. Тяжелые кувалды глухо ухали по мягкому железу, и маленький ручник отзванивал такт. Выходило красиво — как музыка.
До того сжился с кузницей Гришка, что даже ночевать стал вместе с подмастерьями. Летом заберутся в карету непочиненную — усядутся. Уютно, хорошо, потом подмастерья рассказывают страшные сказки — про чертей, мертвецов, про колокольню с двенадцатью ведьмами.
Слушает Гришка — мороз кожу вспузыривает, а не уходит — жалко оставить так историю, не узнав, чем кончится.
Так бежало детство.
Потом мать повела в школу, пора было взяться за дело, да Гришка и не отвиливал, пошел с радостью.
Учиться хотелось по разным причинам, и главной из них были книжки брата с красивыми обложками, на* которых виднелись свирепые лица, мелькали кинжалы, револьверы, тигры и текла красная хромолитографская кровь.
Гришка оказался способным. То, что его товарищи усваивали в два-три урока, он схватывал на лету, и учительница не могла нахвалиться им за его ретивость.
Однако успехи Гришкины на первом же году кончились. Читать он научился, писать тоже. Он вдруг решил, что этого вполне довольно,
138
и с яростью засел за «Пинкертонов». Никакие наказания и внушения не помогали.
Гришка в самозабвении, затаив дыхание, носился с прославленным американским сыщиком по следам неуловимых убийц, взломщиков и похитителей детей или с помощником гениального следопыта Бобом Руландом пускался на поиски самого Ната Пинкертона, попавшего в лапы кровожадных преступников.
Так два года путешествовал он по американским штатам, а потом мать грустно сказала ему:
— Достукался, скотина. Из школы вышибли дурака. Что мне с тобой делать?
Гришка был искренне огорчен, однако ничего советовать матери не стал и вообще воздержался от дальнейшего обсуждения этого сложного вопроса.
С грехом пополам пристроила мать «отбившегося от рук» мальчишку в другую школу, но Гришка уже считал лишним учение и по выходе из дому прятал сумку с книгами в подвал, а сам шел на улицу, к излюбленному высаупу у ювелирного магазина, где стояла уличная часовня. Здесь он садился около кружки с пожертвованиями и двумя пальцами начинал обрабатывать ее содержимое.
Помогала этой операции палочка. Заработок был верный. В день выходило по двугривенному и больше.
Потом пришла война, угнали на фронт брата. Гришку опять вышибли из школы за непосещение. Некоторое время отсиживался он дома, но мать упорно стояла на своем, и вот третья по счету классная доска начала маячить перед Гришкиными глазами.
С революцией Гришка и у себя сделал переворот. На глазах у матери он твердо отказался учиться и положил перед ней потрепанный и видавший виды ранец.
Напрасно ругалась мать, напрасно грозилась побить — он стоял на своем и упорно отказывался.
И вот мать махнула на него рукой, и Гришка вновь получил свободу.
Таскался по кинушкам, торговал папиросами, потом даже приобрел санки и сделался «советской лошадкой». Часами стоял он у вокзалов, ожидая приезда спекулянтов-мешочников, которым за хлеб или за деньги отвозил по адресу багаж. Но работа сорвалась: слабовата была «лошадка».
Однажды, в тусклый зимний вечер, накинув на плечи продранную братнину шинель и обрядив свои санки, Гришка направился к Варшавскому встречать дальний поезд. Улицы уже опустели. Тихо посвистывая, Гришка подъехал к вокзалу и стал на свое обычное место у выхода. «Лошадок» уже собралось немало. Гришка поздоровался со своими соседями и, поудобнее усевшись на санки, стал ждать.
То и дело со всех сторон прибывали новые саночники, ждавшие «хлебного» поезда.
139
На углу у лестницы кучка ребят-лошадок ожесточенно нападала на новичков, тоже приехавших с саночками в поисках заработка.
— Чего к чужому вокзалу приперли? Вали вон!
Новички робко топтались на месте и скулили:
— Не пхайся! Местов много. Вокзал некупленный. Где хотим, там и стоим!
Поезд пришел. Началась давка. Саночники наперли, яростно вырывали из рук ошалевших пассажиров мешки.
— Прикажете отвезти, земляк?
— Вот санки заграничные!
— За полтора фунта на Петроградскую сторону!
Гришка, волоча за собой санки, тоже уцепился было за сундук какой-то бабы и робко предложил:
— Куда прикажете, гражданка?
Но гражданка, не поняв Гришку, жалобно заголосила:
— Ах, паскуда! Караул! Сундук тянут!
Гришка, смущенный таким оборотом дела, выпустил сундук. Через мгновение он увидел, как тем же сундуком завладел какой-то верзила, с привычной сноровкой уговаривавший перепуганную старуху:
— Вы не волнуйтесь, гражданочка. Свезем в лучшем виде, прямо как на лихачах!
Становилось тише. Уже «лошадки» разъехались по всем направлениям, а Гришка все стоял и ждал. Остались только он да две старушонки с детскими саночками. На заработок не было уже никакой надежды, но домой ехать с пустыми руками не хотелось.
Вдруг из вокзала вышел мужик, огляделся и гаркнул:
— Эй, совецкие!
— Есть, батюшка,— прошамкали старушки.
— Пожалуйте, гражданин,— тихо проговорил Гришка.
Мужик оглядел трех саночников и с сомнением пробормотал:
— Да нешто вам свезти?
Потом выбрал Гришку и стал выносить мешки, туго набитые картошкой. Гришка испугался. Его сани покряхтывали от тяжести. Уже некуда было класть, а мужик все носил. Гришка хотел было отказаться, но потом с отчаянием решил:
— Эх, была не была, вывезу!
И повез. Везти нужно было далеко, за заставу. Гришка весь вымок от пота, руки его немели, веревка резала грудь, а он все вез. Вечером он, разбитый, пришел домой и принес с собой целых три фунта черного, каленого, смешанного с овсом хлеба. Заработок был по тем временам крупный, но зато и последний. Гришка надорвался.
Дело обернулось совсем плохо. Дома не было даже хлеба, а Гришке нужны были деньги. Он курил и любил лакомиться лепешками с салом на толкучке. Потихоньку стал он воровать из дома вещи: то бабушкину золотую монету, то кофейник.
140
Потом как-то сразу все открылось. Терпение родительницы лопнуло, и мать, побегав неделю, отвезла Гришку за город в детскую трудовую колонию.
Колония помещалась в монастыре. Тут же в монастыре было и кладбище.
Голодно было, но весело. Полюбил Гришка товарищей, полюбил могилки и совсем было забыл дом, как вдруг разразилось новое несчастье.
К городу подступали белые.
Шли войска, тянулись обозы, артиллерия. Рассыпалась колония по огородам, и, пользуясь случаем, запасались воспитанники картошкой, капустой, редькой и прочей зеленью.
Тут Гришка, под наплывом чувств, вдруг вспомнил родных и начал снабжать их краденой снедью.
Тревожно было в городе. Ухали совсем близко орудия, и стекла дзинькали в окошках. Окутались улицы проволокой и мешками с песком.
Настроение у всех приподнятое. У Гришки тоже. Он пришел в любимый монастырь, в последний раз посмотрел на резные окна и белые кресты на могилках и, стащив две пары валенок из кладовой, ушел, с тем чтобы больше не возвращаться.
Потом еще приют, еще кражи.
Распределительный пункт с трудом отделался от мальчика, дав направление о переводе в Шкиду. Но взяли его только тогда, когда вместе с ним в приданое послали две пары брюк, постельное белье, матрац и кровать.
К тому времени у Гришки выработались свои взгляды на жизнь. Он стал какой-то холодный ко всему, ничто не удивляло его, ничто не трогало. Рассуждал он, несмотря на свои четырнадцать лет, как взрослый, а правилом себе поставил: «Живи так, чтоб тебе было хорошо».
Таким пришел Гришка в Шкиду.1
Пришел он утром. Его провели к заведующему в кабинет. Вид школы Гришке понравился, но при входе в кабинет зава он немного струхнул.
Вошел тихо и, притворив дверь, стал оглядывать помещение.
«Буржуем живет»,— подумал он, увидев мягкие диваны и кресла, а на стенах фотографии в строгих черных рамках.
Викниксор сидел за столом. Увидев новичка, он указал ему рукой на кресло.
— Садись.
Гришка сел и притих.
— Мать есть?
— Есть.
1 Подробно о Гришкином детстве рассказано в повести Г. Белых «Дом веселых нищих». Изд. «Детская литература», Ленинград, 1965 г.
141
— Чем занимается?
— Прачка она.
— Так, так.— Викниксор задумчиво барабанил пальцами по столу.— Ну а учиться ты любишь или нет?
Гришка хотел сказать «нет», потом раздумал и, решив, что это невыгодно, сказал:
— Очень люблю. Учиться и рисовать.
— И рисовать? — удивился заведующий.— Ну? Ты что же, учился где-нибудь рисовать?
Гришка напряг мозги, тщетно стараясь выпутаться из скверного положения, но залез еще глубже.
— Да, я учился в студии. И меня хвалили.
— О, это хорошо. Художники нам нужны,— поощрительно и уже мягче протянул Викниксор.— Будешь у нас рисовать и учиться.
Викниксор порылся в бумагах и, достав оттуда лист, проглядел его, внимательно вчитываясь:
— Ага. Твоя фамилия Черных. Ну ладно, идем, Черных. Я сведу тебя к товарищам.
Викниксор крупными шагами прошел вперед. Гришка шел сзади и критически осматривал зава. Сразу определил, что заведующему не по плечу клетчатый пиджак, и заметил отвисшее голенище сапога. Невольно удивился: «Ишь ты. Квартира буржуйская, а носить нечего».
Прошли столовую, и Викниксор дернул дверь в класс. Гришку сперва оглушил невероятный шум, а потом тишина, наступившая почти мгновенно. Он увидел ряды парт и десятка полтора застывших как по команде учеников.
Между тем Викниксор, позабыв про новичка, минуту осматривал класс, потом спокойно, не повышая голоса и даже как-то безразлично, процедил:
— Громоносцев, ты без обеда! Воронин, сдай сапоги, сегодня без прогулки! Воробьев, выйди вон из класса!
— За что, Виктор Николаевич?! Мы ничего не делали! Чего придираетесь-то! — хором заскулили наказанные, но Викниксор, почесав за ухом, не допускающим возражения тоном отрезал:
— Вы бузили в классе,— следовательно, пеняйте на себя! А теперь вот представляю вам еще новичка. Зовут его Григорий Черных. Это способный и даровитый парень, к тому же художник. Он будет заниматься в вашем отделении, так как по уровню знаний годится к вам.
Класс молчал и оглядывал новичка. С виду Гришка, несмотря на свои светлые волосы, напоминал еврея, и особенно бросался в глаза его нос, длинный и покатый, с загибом у кончика.
Минуту они стояли друг против друга — класс и Гришка с Вик- никсором. Потом завшколой, еще раз почесав за ухом и ничего не сказав, вышел из класса.
Цыган подошел поближе к насторожившемуся новичку, минуту
142
молча осматривал его, потом вдруг отошел в сторону и, давясь от смеха, указывая пальцем на Гришку, хихикнул:
— Янкель пришел! Смотрите-ка, сволочи. Еврей! Типичный блондинистый еврей!
Гришка обиделся и огрызнулся:
— А чего ты смеешься-то? Ну, предположим, еврей... А ты-то на кого похож? Типичный цыган черномазый!..
Такой выходки никто не ожидал, и класс одобрительно загоготал:
— Ай да Янкель! Сразу Цыгана угадал.
— Коля, слышишь? Цыган издалека виден.
Колька сам был немало огорошен ответом и уже собирался проучить новичка, как вдруг выступил Воробышек:
— Чего пристаете к парню? Зануды грешные! Осмотреться не дадут.— Потом он, уже обращаясь к Гришке, добавил: — Иди сюда, Янкель, садись со мной.
— Да я совсем не Янкель,— протестовал Гришка, но Воробей только махнул рукой.
— Это уж, брат, забудь и думать! Раз прозвали Янкелем, значит — ша! Теперь Янкель навеки!
Гришка минуту постоял под злобным взглядом Кольки, мысленно взвешивая — схватиться с ним или нет, потом решил, что невыгодно, и пошел за Воробьем.
— Ты Цыгана не бойся. Он сволочь порядочная, но мы ему намылим шею, зря беспокоишься. А тебя он теперь не тронет,— тихо проговорил Воробей, сидя рядом с Гришкой.
Гришка молчал и только изредка улавливал краем уха зловещий шепот черномордого противника:
— Янкель пришел. Янкель воюет.
Но класс не поддержал Кольку. Янкель уже завоевал сочувствие ребят, к тому же не в обычае шкидцев было травить новичков.
Где-то за стеной зазвенел колокольчик.
— Уроки начинаются,— объяснил Воробей и добавил: — Теперь, Янкель, мы с тобой все время будем сидеть на этой парте. Хорошо?
— Хорошо,— удовлетворенно кивнул Янкель и впервые почувствовал, что наконец-то найден берег, найдена тихая пристань, от которой он теперь долго не отчалит.
За стеной звенел колокольчик.
ТАБАК ЯПОНСКИЙ
Янкелъ дежурный.— Паломничество в кладовую.—
Табак японский.— Спальня пирует.— Роковой обед.— Скидавйй пальто.— Янкель-живодер.— Око за око.— Аудиенция у Викниксора.— Тога-Азеф.—
Смерть Янкелю! — Мокрая идиллия.
Как показало время, Викниксор был прав, когда отрекомендовал нового воспитанника даровитым, способным парнишкой.
Так как способный Янкель уже около недели жил в Шкиде, то решили, что пора испробовать его даровитость на общественной работе.
Особенно большой общественной работы в то время в Шкиде не было, но среди немногих общественных должностей была одна особо почетная и важная — дежурство по кухне.
Дежурный, назначавшийся из воспитанников, прежде всего обязан был ходить за хлебом и другими продуктами в кладовую, где седенький старичок эконом распоряжался желудками своих питомцев.
Дежурный получал продукты на день и относил их на кухню к могущественной кухарке, распределявшей с ловкостью фокусника скудные пайки крупы и селедок таким образом, что выходил не только обед из двух блюд, но еще и на ужин кое-что оставалось.
Янкеля назначили дежурным, но так как это поле деятельности ему было незнакомо, то к нему приставили помощником и наставником еще одного воспитанника — Косаря.
Когда зимние лучи солнца робко запрыгали по стенкам спальни, толстенький и меланхоличный Косарь хмуро поднялся с койки и, натягивая сапоги, прохрипел:
— Янкель, вставай. Ты дежурный.
Вставать не хотелось: кругом, свернувшись калачиком, распластавшись на спине или уткнувшись носом в подушку, храпели восемь молодых чурбашек, и так хотелось закутаться с головой в теплое одеяло и похрапеть еще полчаса вместе с ними.
За стеной брякал рояль. Это Верблюдыч, проснувшийся с первым солнечным лучом, разучивал свою гамму. Верблюдыч сидел за роялем,— это означало, что времени восемь часов.
Янкель лениво зевнул и обратился к Косарю:
— Курить нет?
— Нету.
Потом оба кое-как оделись и двинулись в кладовку.
Кладовая находилась на чердаке, а площадкой ниже, в однокомнатной квартирке, жил эконом. От лестницы эту квартиру отделял
144
довольно длинный коридор, дверь в который была постоянно замкнута на ключ, и нужно было долго стучаться, чтобы эконом услышал.
Янкель и Косарь остановились перед дверью в коридор. Косарь, лениво потягиваясь, стукнул кулаком по двери, вызывая эконома, и вдруг широко раскрыл заспанные глаза.
Дверь открылась от удара.
— Ишь ты, тетеря. Забыл закрыть,— покачал головой Косарь и, знаком позвав Янкеля, пошел в темноту.
Добрались ощупью до другой двери, открыли и вошли в прихожую, залитую солнечным светом.
В прихожей было так тепло и уютно, что заспанные общественники невольно медлили входить в комнату эконома, наслаждаясь минутами покоя и одиночества.
В этот момент и случилось то простое, но памятное дело, в котором Янкель впервые выказал свои незаурядные способности.
Косарь стоял и силился побороть необычайную сонливость, упорно направляя все мысли к одному: надо войти к эконому. В момент, когда, казалось, сила воли поборола в нем лень и когда он хотел уже нажать ручку двери, вдруг послышался голос Янкеля, странно изменившийся до шепота:
— Курить хочешь?
Хотел ли курить Косарь? Еще бы не хотел! Поэтому вся энергия, собранная на то, чтобы открыть дверь, вдруг сразу вырвалась в повороте к Янкелю и в энергичном возгласе:
— Хочу!
— Ну, так, пожалуйста, кури. Вон табак.
Косарь проследил за взглядом Янкеля и замер, упершись глазами в стол.
Там правильными рядами лежали аккуратненькие коричневые четвертушки табаку. По обложке наметанный глаз курильщика определил: высший сорт Б.
Пачек сорок — было мысленное заключение практических математиков.
Взглянули друг на друга и решили, не сговариваясь: 40—2=38. Авось не заметят недостачи.
Так же молча подошли к столу и, положив по пачке в карман, вышли на цыпочках из комнаты.
Сонную тишину спальни нарушил треск дверей, и два возбужденных шпаргонца ворвались в комнату.
— Ребята, табак!
Восемь голов мгновенно вынырнули из-под одеял, восемь пар глаз заблестело масленым блеском, узрев в поднятых руках Косаря и Янкеля аппетитные пачки.
Первым оправился Цыган. Быстро вскочив с койки и исследовав вблизи милые четвертушки, он жадно спросил:
146
— Где?
Дежурные молча мотнули головами по направлению к комнате эконома. Цыган сорвался с места и скрылся за дверьми.
Спальня притихла в томительном ожидании.
— Ура, сволочи! Есть!
Громоносцев влетел победоносно, размахивая двумя пачками табаку.
Пример заразителен, и никакие силы уже не могли сдержать оставшихся.
Решительно всем захотелось иметь по четвертке табаку, и, уже забыв о предосторожностях, спальня сорвалась и, как на состязаниях, помчалась в заветную комнату...
Через пять минут Шкида ликовала.
Каждый ощупывал, мял и тискал злосчастные пакетики, так неожиданно свалившиеся к ним.
Черный, как жук, заика Гога, заядлый курильщик, страдавший больше всех от недостатка курева и собиравший на улице «чиновников», был доволен больше всех. Он сидел в углу и, крепко сжимая коричневую четвертку, безостановочно повторял:
— Таб-бачок есть. Таб-бачок есть.
Янкель, забравшись на кровать, глупо улыбался и пел:
Шинель английский,
Табак японский,
Ах, шарабан мой...
На радостях даже не заметили, что на подоконнике притулилась лишняя пачка, пока Цыган не обратил внимания.
— Сволочи! Чей табак на подоконнике? У всех есть?
— У всех.
— Значит, лишняя?..
— Лишняя.
— Ого, здорово, даже лишняя!
— Тогда лишнюю поделим. А по целой пачке заначим.
— Вали!
— Дели. Согласны.
Лишнюю четвертку растерзали на десять частей. Когда дележку закончили, Цыган грозно предупредил:
— Табак заначивайте скорее. Не брехать. Приходящим ни слова об этом. Поняли, сволочи? А если кого запорют, сам и отвиливай, других не выдавай.
— Ладно. Вались. Знаем...
В это утро воспитатель Батька, войдя в спальню, был чрезвычайно обрадован тем обстоятельством, что никого не надо было будить. Все гнездо было на ногах. Батька удовлетворенно улыбнулся и поощрительно сказал:
— Здорово, ребята! Как вы хорошо, дружно встали сегодня!
147
Цыган, ехидно подмигнув, загоготал:
— Ого, дядя Сережа, мы еще раньше можем вставать.
— Молодцы, ребята. Молодцы.
— Ого, дядя Сережа, еще не такими молодцами будем.
Между тем Янкель и Косарь снова пошли в кладовую.
Эконом еще ничего не подозревал. Как всегда ласково улыбаясь,
он не спеша развешивал продукты и между делом справлялся о новостях в школе, говорил о хорошей погоде, о наступивших морозах и даже дал обоим шкидцам по маленькому куску хлеба с маслом.
Янкель молчал, а Косарь хмуро поддакивал, но оба вздохнули свободно только тогда, когда вышли из кладовой.
Остановившись у дверей, многозначительно переглянулись. Потом Янкель сокрушенно покачал головой и процедил:
— Огребем.
— Огребем,— поддакнул Косарь.
День потянулся по заведенному порядку. Утренний чай сменился уроками, уроки — переменами, все было как всегда, только приходящие удивлялись: сегодня приютские не стреляли у них, по обыкновению, докурить «оставочки», а торжественно и небрежно закуривали свои душистые самокрутки.
В четвертую перемену, перед обедом, Янкель забеспокоился: пропажа могла скоро открыться, а у него до сих пор под подушкой лежал табак. Подстегивали его и остальные, уже успевшие спрятать свою добычу.
Не переводя духа взбежал он по лестнице наверх в спальню, вытащил табак и остановился в недоумении.
Куда же спрятать? Закинуть на печку? Нельзя — уборка будет, найдут. В печку — сгорит. В отдушину — провалится.
Янкель выскочил в коридор, пробежал до ванной и влетел туда. Сунулся с радостью под ванну и выругался: кто-то предупредил его — рука нащупала чужую пачку.
В панике помчался он в пустой нижний зал, превращенный в сарай и сплошь заваленный партами. С отчаянной решимостью сунул табак под ломаную кафедру и только тогда успокоился.
Спускаясь вниз, Янкель услышал дребезжащую трель звонка, звавшего на обед. Вспомнил, что он дежурный, и сломя голову помчался на кухню.
Надо было нарезать десять осьмушек — порций хлеба для интернатских,— ведь это была обязанность дежурного.
Шкидский обед был своего рода религиозным обрядом, и каждый вновь приходящий питомец должен был твердо заучить обеденные правила.
Сперва в столовую входили воспитанники «живущие» и молча рассаживались за столом. За другой стол садились «приходящие».
148
Минуту сидели молча, заложив руки за спины, и ерзали голодными глазами по входным дверям, ведущим в кухню.
Затем появлялся завшколой с тетрадочкой в руках и начинался второй акт — перекличка.
Ежедневно утром и вечером, в обед и ужин выкликался весь состав воспитанников, и каждый должен был отвечать: «Здесь». Только тогда получал он право есть, когда перед его фамилией вырастала «птичка», означающая, что он действительно здесь, в столовой, и что паек не пропадет даром. Затем дежурный вносил на деревянном щите осьмушки и клал перед каждым на стол. После этого появлялась широкоскулая, рябоватая Марта, разливавшая неизменный пшенный суп на селедочном отваре и неизменную пшенную кашу, потому что, кроме пшена да селедок, в кладовой никогда ничего не было. Постное масло, которым была заправлена каша, иногда заменял тюлений жир.
По сигналу Викниксора начиналось всеобщее сопение, пыхтение и чавканье, продолжавшееся, впрочем, очень недолго, так как порции супа и каши не соответствовали аппетиту шкидцев. В заключение, на сладкое, Викниксор произносил речь. Он говорил или о последних событиях за стенами школы, или о каких-нибудь своих новых планах и мероприятиях, или просто сообщал, на радость воспитанникам, что ему удалось выцарапать для школы несколько кубов дров.
Точка в точку то же повторилось и в день дежурства Янкеля, но только на этот раз речь Викниксора была посвящена вопросам этическим. С гневом и презрением громил завшколой ту часть несознательных учеников, которая предается отвратительному пороку обжорства, стараясь получить свою порцию поскорее и вне очереди.
Речь кончилась. Довольна ли была аудитория, осталось неизвестным, но завшколой был удовлетворен и уже собирался уйти к себе, чтобы принять и свою порцию селедочного бульона и пшенной каши, как вдруг всю эту хорошо проведенную программу нарушил эконом.
Он старческой, дрожащей походкой выпорхнул из дверей, подковылял к заву и стал что-то тихо ему говорить. Шкидцы нюхом почуяли неладное, физиономии их вытянулись, и добрая пшенка, пища солдат и детдомовцев времен гражданской войны и разрухи, обычно скользкая, неощутимая и гладкая, вдруг сразу застряла в десяти глотках и потеряла свой вкус.
В воздухе запахло порохом.
Эконом говорил долго,— пожалуй, дольше, чем хотелось шкидцам.
Десять пар глаз следили, как постепенно менялось лицо Викниксора: сперва брови удивленно прыгнули вверх и кончик носа опустился, потом тонкие губы сложились в негодующую гримасу, пенсне скорбно затрепетало на горбинке, а кончик носа покраснел. Викниксор встал и заговорил:
— Ребята, у нас случилось крупное безобразие!
Экстерны беззаботно впились в дышавшее гневом лицо зава,
149
ожидая услышать добавочную речь в виде второго десерта, но у живущих сердца робко екнули и разом остановились.
— В нашей школе совершена кража. Какие-то канальи украли из передней нашего эконома одиннадцать пачек табаку, присланного для воспитателей. Ребята, я повторяю: это безобразие. Если через полчаса виновные не будут найдены, я приму меры. Так что помните, ребята!..
Это была самая короткая и самая содержательная речь из всех речей, произнесенных Викниксором со дня основания Шкиды, и она же оказалась первой, вызвавшей небывалую бурю.
За словами Викниксора последовало всеобщее негодование. Особенно возмущались экстерны, для которых все это было неожиданным, а интернатским ничего не оставалось делать, как поддерживать и разделять это возмущение.
Буря из столовой перелилась в классы, но полчаса прошло, а воров не нашли. Таким образом, автоматически вошли в силу «меры» завшколой, которые очень скоро показали себя.
После уроков у интернатских отняли пальто. Это означало, что они лишены свободной прогулки.
Это был тяжелый удар.
Само по себе пришло тоскливое настроение, и хотя активное ядро — Цыган, Воробей, Янкель и Косарь старались поддерживать дух и призывать к борьбе до конца, большим успехом их речи уже не пользовались.
Напрасно Цыган, свирепо вращая черными глазами и скрипя зубами, говорил страшным голосом:
— Смотрите, сволочи, стоять до последнего. Не признаваться!..
Его плохо слушали.
Долгий зимний вечер тянулся томительно и скучно.
За окном, покрытым серыми ледяными узорами, бойко позванивали трамваи и слышались окрики извозчиков. А здесь, в полутемной спальне, томились без всякого дела десять питомцев. Янкель забился в угол и, поймав кошку, ожесточенно тянул ее за хвост. Та с отчаянной решимостью старалась вырваться, потом, после безуспешных попыток, жалобно замяукала.
— Брось, Янкель. Чего животную мучаешь,— лениво пробовал защитить «животную» Воробей, но Янкель продолжал свое.
— Янкель, не мучь кошку. Ей тоже небось больно,— поддержал Воробья Косарь.
Кошкой заинтересовались и остальные. Сперва глядели безучастно, но, когда увидели, что бедной кошке невтерпеж, стали заступаться:
— И чего привязался, в самом деле!
— Ведь больно же кошке, отпусти!..
— Потаскал бы себя за хвост, тогда узнал бы.
В спальню вошел воспитатель.
— Ого, Батька пришел! Дядя Сережа, дядя Сережа, расскажите нам что-нибудь,— попробовал заигрывать Цыган, но осекся.
150
Батька строго посмотрел на него и отчеканил:
— Громоносцев, не забывайтесь. Я вам не батька и не Сережа и прошу ложиться спать без рассуждений.
Дверь шумно захлопнулась.
Долго ворочались беспокойные шкидцы на поскрипывающих койках, и каждый по-своему обдумывал случившееся, пока крепкий, властный сон не одолел их тревоги и под звуки разучиваемого Верблюдычем мотива не унес их далеко прочь из душной спальни.
Рано утром Янкель проснулся от беспокойной мысли: цел ли табак?
Он попытался отмахнуться от этой мысли, но тревожное предчувствие не оставляло его. Кое-как одевшись, он встал и прокрался в зал.
Вот и кафедра. Янкель, поднатужась, приподнял ее и, с трудом удерживая тяжелое сооружение, заглянул под низ, но табаку не увидел.
Тогда, потея от волнения, он разыскал толстую деревянную палку, подложил ее под край кафедры, а сам лег на живот и стал шарить. Табаку не было. Янкель зашел с другой стороны, опять поискал: по-прежнему рука его ездила по гладкой и пыльной поверхности паркета.
Он похолодел и, стараясь успокоить себя, сказал вслух:
— Наверное, под другой кафедрой.
Опять усилия, ползание и опять разочарование. Под третьей кафедрой табаку также не оказалось.
— Сперли табак, черти! — яростно выкрикнул Янкель, забыв осторожность.— Тискать у товарищей! Ну, хорошо!
Злобно погрозив кулаком в направлении спальни, он тихо вышел из зала и зашел в ванную.
Когда он снова показался в дверях, на лице его уже играла улыбка. В руке он держал плотно запечатанную четвертку табаку.
— Элла Андреевна! А как правильно: «ди фенстер» или «дас фенстер»?
— Дас. Дас.
Эланлюм любила свой немецкий язык до самозабвения и всячески старалась привить эту любовь своим питомцам, поэтому ей было очень приятно слышать назойливое гудение класса, зазубривавшего новый рассказ о садовниках.
— Воронин, о чем задумался? Учи урок.
— Воробьев, перестань читать посторонние книги. Дай ее сюда немедленно.
— Элла Андреевна, я не читаю.
151
— Дай сюда немедленно книгу.
Книга Воробья водворилась на столе, и Эланлюм вновь успокоилась.
Когда истек срок, достаточный для зазубривания, голос немки возвестил:
— Теперь приступим к пересказу. Громоносцев, читай первую строку.
Громоносцев легко отчеканил по-немецки первую фразу:
— У реки был берег, и на земле стоял дом.
— Черных, продолжай.
— У дома стояла яблоня, на яблоне росли яблоки.
Вдруг в середине урока в класс вошел Верблюдыч и скверным, дребезжащим голосом проговорил, обращаясь к Эланлюм:
— Ошень звиняйсь, Элла Андреевна. Виктор Николайч просил прислать к нему учеников Черний, Громоносцев унд Воробьев. Разрешите, Элла Андреевна, их уводить.
— Не Черный, а Черных! Научись говорить, Верблюд! — пробурчал оскорбленный Янкель, втайне гордившийся своей оригинальной фамилией, и захлопнул книгу.
По дороге ребята сосредоточенно молчали, а обычно ласковый и мягкий Верблюдыч угрюмо теребил прыщеватый нос и поправлял пенсне.
Невольно перед дверьми кабинета завшколой шкидцы замедлили шаги и переглянулись. В глазах у них застыл один и тот же вопрос: «Зачем зовет? Неужели?»
Викниксор сидел за столом и перебирал какие-то бумажки. Шпар- гонцы остановились, выжидательно переминаясь с ноги на ногу, и нерешительно поглядывали на зава.
Наступила томительная тишина, которую робко прервал Янкель.
— Виктор Николаевич, мы пришли.
Заведующий повернулся, потом встал и нараспев проговорил:
— Очень хорошо, что пришли. Потрудитесь теперь принести табак!
Если бы завшколой забрался на стол и исполнил перед ними «танец живота», и то тройка не была бы так удивлена.
— Виктор Николаевич! Мы ничего не знаем. Вы нас обижаете! — раздался единодушный выкрик, но завшколой, не повышая голоса, повторил:
— Несите табак!
— Да мы не брали.
— Несите табак!
— Виктор Николаевич, ей-богу, не брали,— побожился Янкель, и так искренне, что даже сам удивился и испугался.
— Вы не брали? Да? — ехидно спросил зав.— Значит, не брали?
Ребята сробели, но еще держались.
— Не-ет. Не брали.
— Вот как? А почему же ваши товарищи сознались и назвали вас?
152
— Какие товарищи?
— Все ваши товарищи.
— Не знаем.
— Не знаете? А табак узнаете? — Викниксор указал на стол. У ребят рухнули последние надежды. На столе лежали надорванные, помятые, истерзанные семь пачек похищенного табаку.
— Ну, как же, не брали табак? А?
— Брали, Виктор Николаевич!
— Живо принесите сюда! — скомандовал заведующий.
За дверьми тройка остановилась.
Янкель, сплюнув, ехидно пробормотал:
— Ну вот и влопались. Теперь табачок принесем, а потом примутся за нас. А на кой черт, спрашивается, брали мы этот табак!
— Но кто накатил, сволочи? — искренне возмутился Цыган.
— Кто накатил?
Этот злосчастный вопрос повис в воздухе, и, не решив его, тройка поползла за своими заначками.
Первым вернулся Янкель. Положил, посапывая носом, пачку на стол зава и отошел в сторону. Потом пришел Воробей.
Громоносцева не было.
Прошла минута, пять, десять минут — Колька не появлялся.
Викниксор уже терял терпение, как вдруг Цыган ворвался в комнату и в замешательстве остановился.
— Ну? — буркнул зав.— Где табак?
Цыган молчал.
— Где, я тебя спрашиваю, табак?
— Виктор Николаевич, у меня нет... табаку... У меня... тиснули, украли табак,— послышался тихий ответ Цыгана.
Янкеля передернуло. Так вот чей табак взял он по злобе, а теперь бедняге Кольке придется отдуваться.
Рассвирепевший Викниксор подскочил к Цыгану и, схватив его за шиворот, стал яростно трясти, тихо приговаривая:
— Врать, каналья? Врать, каналья? Неси табак! Неси табак!
Янкелю казалось, что трясут его, но сознаться не хватало силы.
Вдруг он нашел выход.
— Виктор Николаевич! У Громоносцева нет табака, это правда.
153
Викниксор прекратил тряску и гневно уставился на защитника. Янкель замер, но решил довести дело до конца.
— Видите ли, Виктор Николаевич. Одну пачку мы скурили сообща. Одна была лишняя, а одну... а одну вы ведь нашли, верно, сами. Да? Так вот это и была Громоносцева пачка.
— Да, правильно. Мне воспитатель принес,— задумчиво пробормотал заведующий.
— Из ванной? — спросил Громоносцев.
— Нет, кажется, не из ванной.
Сердце Янкеля опять екнуло.
— Ну, хорошо,— не разжимая губ, проговорил Викниксор.— Сейчас можете идти. Вопрос о вашем омерзительном поступке обсудим позже.
Кончились уроки; с шумом и смехом, громко стуча выходной дверью, расходились по домам экстерны.
Янкель с тоской посмотрел, как захлопнулась за последним дверь и как дежурный, закрыв ее на цепочку, щелкнул ключом.
«Гулять пошли, задрыги. Домой»,— тоскливо подумал он и нехотя поплелся в спальню.
При входе его огорошил невероятный шум. Спальня бесилась.
Лишь только он показался в дверях, к нему сразу подлетел Цыган:
— Гришка! Знаешь, кто выдал нас, а?
— Кто?
— Гога — сволочь!
Гога стоял в углу, прижатый к стене мятущейся толпой, и, напуганный, мягко отстранял кулаки от носа.
Янкель сорвался с места и подлетел к Гоге.
— Ах ты подлюга! Как же ты мог сделать это, а?
— Д-д-да я, ей-богу, не нарочно, б-б-ратцы. Не нарочно,— взмолился тот, вскидывая умоляющие коричневые глаза и силясь объясниться.— В-ви-ви-тя п-п-п-озвал меня к се-бе и г-говорит: «Ты украл табак, мне сказали». А я д-думал, вы сказали и с-сознался. А п-по- том он спрашивает, к-как мы ук-крали. А я и ск-казал: «Сперва Ч-черных и Косоров п-пошли, а п-потом Громоносцев, а потом и все».
— A-а п-потом и в-все, зануда! — передразнил Гогу Янкель, но бить его было жалко — и потому, что он так глупо влип, и потому, что вообще он возбуждал жалость к себе.
Плюнув, Янкель отошел в сторону и лег на койку.
Разбрелись и остальные. Только заика остался по-прежнему стоять в углу, как наказанный.
— Что-то будет?— вздохнул кто-то.
Янкель разозлился и, вскочив, яростно выкрикнул:
— Чего заныли, охмурялы! «Что-то будет! Что-то будет»! Что
154
будет, то и будет, а скулить нечего! Нечего тогда было и табак тискать, чтоб потом хныкать!
— А кто тискал-то?
— Все тискали.
— Нет, ты!
Янкель остолбенел.
— Почему же я-то? Я тискал для себя, а ваше дело было сторона. Зачем лезли?
— Ты подначил!
Замолчали.
Больше всего тяготило предчувствие висящего над головой наказания. Нарастала злоба к кому-то, и казалось, дай малейший повод, и они накинутся и изобьют кого попало, только чтобы сорвать эту накопившуюся и не находящую выхода ненависть.
Если бы наказание было уже известно, было бы легче,— неизвестность давила сильнее, чем ожидание.
То и дело кто-нибудь нарушал тишину печальным вздохом и опять замирал и задумывался.
Янкель лежал, бессмысленно глядя в потолок. Думать ни о чем не хотелось, да и не шли в голову мысли. Его раздражали эти оханья и вздохи.
— Зачем мы пошли за этим сволочным Янкелем? — нарушил тишину Воробей, и голос его прозвучал так отчаянно, что Гришка больше не выдержал. Ему захотелось сказать что-нибудь едкое и злое, чтобы Воробей заплакал. Но он ограничился только насмешкой:
— Пойди, Воробышек, сядь к Вите на колени и попроси прощения.
— И пошел бы, если бы не ты.
— Дурак!
— Сам дурак. Сманил всех, а теперь лежит себе.
Янкель рассвирепел.
— Ах ты, сволочь коротконогая! Я тебя сманивал?
— Всех сманил!
— Факт, сманил,— послышались голоса с кроватей.
— Сволочи вы, а не ребята,— кинул Янкель, не зная, что сказать.
— Ну, ты полегче. За сволочь морду набью.
— А ну набейте.
— И набьем. Еще кошек мучает!
— Сейчас вот развернусь — да как дам! — услышал Янкель над собой голос Воробья и вскочил с койки.
— Дай ему, Воробышек! Дай, не бойся. Мы поможем!
Положение принимало угрожающий оборот, и неизвестно, что
сделала бы с Янкелем рассвирепевшая Шкида, если бы в этот момент в спальню не вошел заведующий. Ребята вскочили с кроватей и сели, опустив головы и храня гробовое молчание.
155
Викниксор прошелся по комнате, поглядел в окно, потом дошел до середины и остановился, испытующе оглядывая воспитанников. Все молчали.
— Ребята,— необычайно громко прозвучал его голос.— Ребята, на педагогическом совете мы только что разобрали ваш поступок. Поступок скверный, низкий, мерзкий. Это — поступок, за который надо выгнать вас всех до одного, перевести в лавру, в реформаториум. В лавру, в реформаториум! — повторил Викниксор, и головы шкидцев опустились еще ниже.— Но мы не решили этот вопрос так просто и легко. Мы долго его обсуждали и разбирали, долго взвешивали вашу вину и после всего уже решили. Мы решили...
У шкидцев занялся дух. Наступила такая тяжелая тишина, что, казалось, упади на пол спичка, она произвела бы грохот. Томительная пауза тянулась невыносимо долго, пока голос заведующего не оборвал ее:
— И мы решили, мы решили... не наказывать вас совсем...
Минуту стояла жуткая тишь. Потом прорвалась:
— Виктор Николаевич! Спасибо!..
— Неужели, Виктор Николаевич?
— Спасибо. Больше никогда этого не будет.
— Не будет. Спасибо.
Ребята облепили заведующего, сразу ставшего таким хорошим, похожим на отца. А он стоял, улыбался, гладил рукой склоненные головы.
Кто-то всхлипнул под наплывом чувств, кто-то повторил этот всхлип, и вдруг все заплакали.
Янкель крепился и вдруг почувствовал, как слезы невольно побежали из глаз, и странно — вовсе не было стыдно за эти слезы, а, наоборот, стало легко, словно вместе с ними уносило всю тяжесть наказания.
Викниксор молчал.
Гришке вдруг захотелось показать свое лицо заведующему, показать, что оно в слезах и что слезы эти настоящие, как настоящее раскаяние.
В порыве он задрал голову и еще более умилился.
Викниксор — гроза шкидцев, Викниксор — строгий заведующий школой — тоже плакал, как и он, Янкель, шкидец...
Так просто и неожиданно окончилось просто и неожиданно начавшееся дело о табаке японском — первое серьезное дело в истории республики Шкид...
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ-ПОД СМОЛЬНОГО
Маленький человек.— На Канонерский остров. —
Шкида купается,—Гутен таг, камераден.—Бисквит из Гамбурга.— Ядея Викниксора.— /Тшн республики
Шкид.
У дефективной республики Шкид появился шеф — портовые рабочие.
Торгпорт сперва помог деньгами, на которые прикупили учебников и кое-каких продуктов, потом портовики привезли дров, а когда наступило лето, предоставили детдому Канонерский остров и территорию порта для экскурсий и прогулок.
Прогулки туда для Шкиды были праздником. Собирались с утра и проводили в порту весь день, и только поздно вечером довольные, но усталые возвращались под своды старого дома на Петергофском проспекте.
Обычно сборы на остров поглощали все внимание шкидцев. Они бегали, суетились, одни добывали из гардеробной пальто, другие запаковывали корзины с шамовкой, третьи суетились просто так, потому что на месте не сиделось.
Немудрено поэтому, что в одно из воскресений, когда происходили сборы для очереднего похода в порт, ребята совершенно не заметили внезапно появившейся маленькой ребячьей фигурки в сером, довольно потертом пальтишке и шапочке, похожей на блин.
Он — этот маленький, незаметный человечек — изумленно поглядывал на суетившихся и шмыгал носом. Потом, чтобы не затолкали, прислонился к печке и так и замер в уголке, приглядываясь к окружающим.
Между тем ребята построились в пары и ожидали команды выходить* на улицу.
Викниксор в последний раз обошел ряды и тут только заметил притулившуюся в углу фигурку.
— Ах, да. Эй, Еонин, иди сюда. Стань в задние ряды. Ребята, это новый воспитанник,— обратился он к выстроившейся Шкиде, указывая на новичка.
Ребята оглянулись на него, но в следующее же мгновение забыли про его существование.
Школа тронулась.
Вышли на улицу, по-воскресному веселую, оживленную. Со всех сторон, как воробьи, чирикали торговки семечками, блестели нагретые солнцем панели. До порта было довольно далеко, но бодро настроенные шкидцы шагали быстро, и скоро перед ними заскрипели и распахнулись высокие синие ворота Торгового порта.
Сразу повеяло прохладой и простором. Впереди сверкала вода
157
Морского канала, какая-то особая, более бурливая и волнующаяся, чем вода Обводного или Фонтанки.
Несмотря на воскресный день, порт работал. Около приземистых, широких, как киты, пакгаузов суетились грузчики, сваливая мешки с зерном. От движения ветра тонкий слой пыли не переставая серебрился в воздухе.
Дальше, вплотную к берегу, стоял немецкий пароход, прибывший с паровозами.
Шкидцы попробовали прочесть название, но слово было длинное и разобрали его с трудом — «Гамбургер Обербюргермейстер».
— Ну и словечко. Язык свернешь,— удивился Мамочка, недавно пришедший в Шкиду ученик.
Мамочка — это было его прозвище, а прозвали его так за постоянную поговорку: «Ах мамочки мои».
«Ах мамочки» постепенно преобразовалось в Мамочку и так осталось за ним.
Мамочка был одноглазый. Второй глаз ему вышибли в драке, поэтому он постоянно носил на лице черную повязку.
Несмотря на свой недостаток, Мамочка оказался очень задиристым и бойким парнем, и скоро его полюбили.
Вот и теперь Мамочка не вытерпел, чтобы не показать язык немецкому матросу, стоявшему на палубе.
Тот, однако, не обиделся и, добродушно улыбнувшись, крикнул ему:
— Здрасте, комсомол!
— Ого! Холера! По-русски говорит,— удивились ребята, но останавливаться было некогда. Все торопились на остров, солнце уже накалило воздух, хотелось купаться.
Прошли быстро под скрипевшим и гудевшим от напряжения громадным краном и, уже издали оглянувшись, увидели, как гигантская стальная лапа медленно склонилась, ухватила за хребет новенький немецкий паровоз и бесшумно подняла его на воздух.
В лодках переехали через канал и углубились в зелень,— по обыкновению, шли в самый конец Канонерского, туда, где остров превращается в длинную узкую дамбу.
Жара давала себя знать. Лица ребят уже лоснились от пота, когда наконец Викниксор разрешил сделать привал.
— Ура-а-а! Купаться!
— Купа-а-а-аться!
Сразу каменистый скат покрылся голыми телами. Море, казалось, едва дышало, ветра не было, но вода у берега беспокойно волновалась.
Откуда-то накатывались валы и с шумом обрушивались на камни.
В воду влезать было трудно, так как волна быстро выбрасывала купающихся на камни. Но ребята уже приноровились.
— А ну, кто разжигает! Начинай! — выкрикнул Янкель, хлопая себя по голым ляжкам.
158
— Разжигай!
— Дай я. Я разожгу,— выскочил вперед Цыган. Стал у края, подождал, пока не подошел крутой вал, и нырнул прямо в водяной горб.
Через минуту он уже плыл, подкидываемый волнами.
Одно за другим исчезали в волнах тела, чтобы через минуту — две вынырнуть где-то далеко от берега, на отмели.
Янкель остался последний и уже хотел нырять, как вдруг заметил новичка.
— А ты что не купаешься?
— Не хочу. Да и не умею.
— Купаться не умеешь?
— Ну да.
— Вот так да,— искренне удивился Черных. Потом подумал и сказал: — Все равно, раздевайся и лезь, а то ребята засмеют. Да ты не бойся, здесь мелко.
Еонин нехотя разделся и полез в воду. Несмотря на свои четырнадцать лет, был он худенький, слабенький, и движения у него были какие-то неуклюжие и угловатые.
Два раза Еонина вышвыривало на берег, но Янкель, плававший вокруг, ободрял:
— Ничего. Это с непривычки. Уцепись за камни крепче, как волна найдет.
Потом ему стало скучно возиться с новичком, и он поплыл за остальными.
На отмели ребята отдыхали, валяясь на песке и издеваясь над Викниксором, который плавал, по шкидскому определению, «по-бабьи».
Время летело быстро. Как-то незаметно берег вновь усыпали тела.
Ребята накупались вдоволь и теперь просили есть.
Роздали хлеб и по куску масла.
Тут Янкель вновь вспомнил про новичка и, решив поговорить с ним, стал его искать, но Еонина нигде не было.
— Виктор Николаевич, а новичку дали хлеб? — спросил он быстро. Викниксор заглянул в тетрадку и ответил отрицательно.
Тогда Янкель, взяв порцию хлеба, пошел разыскивать Еонина.
159
Велико было его изумление, когда глазам его представилась следующая картина. За кустами на противоположной стороне дамбы сидел новичок, а с ним двое немецких моряков.
Самое удивительное, что все трое оживленно разговаривали по-немецки. Причем новичок жарил на чужом языке так же свободно, как и на русском.
«Ого!» — с невольным восхищением подумал Янкель и выскочил из-за куста.
Немцы удивленно оглядели нового пришельца, потом приветливо заулыбались, закивали головами и пригласили Янкеля сесть, поясняя приглашение жестами. Янкель, не желая ударить лицом в грязь, призвал на помощь всю свою память и наконец, собрав несколько подходящих слов, слышанных им на уроках немецкого языка, галантно поклонился и произнес:
— Гутен таг, дейтчлянд камераден.
— Гутен таг, гутен таг,— снова заулыбались немцы, но Янкель уже больше ничего не мог сказать, поэтому, передав хлеб новичку, помчался обратно. Там он, состроив невинную улыбку, подошел к заведующему.
— Виктор Николаевич, а как по-немецки будет... Ну, скажем: «Товарищ, дай мне папироску»?
Викниксор добродушно улыбнулся:
— Не помню, знаешь. Спроси у Эллы Андреевны. Она в будке.
Янкель отошел.
Эланлюм сидела в маленькой полуразрушенной беседке на противоположном берегу острова. Она пришла позже детей и, выкупавшись в стороне, теперь отдыхала.
Янкель повторил вопрос, но Эланлюм удивленно вскинула глаза:
— Зачем это тебе?
— Так. Хочу в разговорном немецком языке попрактиковаться.
Эллушка минуту подумала, потом сказала:
— Камраден, битте, гебен зи мир айне цигаретте.
— Спасибо, Элла Андреевна! — выкрикнул Янкель и помчался к немцам, стараясь не растерять по дороге немецкие слова.
Там он еще раз поклонился и повторил фразу. Немцы засмеялись и вынули по сигарете. Янкель взял обе и ушел, вполне довольный своими практическими занятиями.
На берегу он вытащил сигарету и закурил. Душистый табак щекотал горло. Почувствовав непривычный запах, ребята окружили его.
— Где взял?
— Сигареты курит!
Но Черных промолчал и только рассказал о новичке и о том, как здорово тот говорит по-немецки.
Однако ребята уже разыскали немцев. Поодиночке вся Шкида скоро собралась вокруг моряков.
Еонин выступал в роли переводчика.
169
Он переводил и вопросы ребят, и ответы немцев.
А вопросов у ребят было много, и самые разнообразные. Почему провалилась в Германии революция? Имеются ли в Германии детские дома? Есть ли там беспризорники? Изучают ли в немецких школах русский язык? Случалось ли морякам бывать в Африке? Видели ли они крокодилов? Почему они курят не папиросы, а сигареты? Почему немцы терпят у себя капиталистов?
Моряки пыхтели, отдувались, но отвечали на все вопросы.
Ребята так увлеклись беседой, что даже не заметили, как подошли заведующий с немкой.
— Ого! Да тут гости,— раздался голос Викниксора.
Эланлюм сразу затараторила по-немецки, улыбаясь широкой улыбкой. Ребята ничего не понимали, но сидели и с удовольствием рассматривали иностранцев, а старшие сочли долгом ближе познакомиться с новичком, выказавшим такие необыкновенные познания в немецком языке.
— Где это ты научился так здорово говорить? — спросил его Цыган.
Еонин улыбнулся.
— А там, в Очаковском. Люблю немецкий язык, ну и учился. И сам занимался — по самоучителю.
— А что это за «Очаковский»?
— Интернат. Раньше, до революции, он так и назывался. Он под Смольным находится. Я оттуда и переведен к вам.
— За бузу? — серьезно спросил Воробей.
Новичок помолчал. Усмехнулся. Потом загадочно ответил:
— За все... И за бузу тоже.
Постепенно разговорились. Новичок рассказал о себе, о том, что жил он в малолетстве круглым сиротой, что где-то у него есть дядя, но где — он и сам не знает, что мать умерла после смерти отца, а огца убили в четырнадцатом году на фронте. За разговором время бежит быстро, только оклик Викниксора вернул ребят к действительности.
Солнце уже опускалось за водной гладью Финского залива, когда Викниксор отдал приказ сниматься с якоря. Обратно шли с моряками.
Когда переправились через канал и вышли на территорию порта, немцы поблагодарили ребят за дружескую беседу и, попросив минутку подождать, скрылись на корабле. Через минуту они вернулись с пакетом и, что-то сказав, передали его Эланлюм.
Немка засияла.
— Дети, немецкие матросы угощают вас печеньем и просят не забывать их. У них у обоих есть дети вашего возраста.
Шкида радостно загоготала и, махая шапками на прощание, двинулась к воротам.
Только один Горбушка остался недоволен тем, что немцы, по его мнению, очень мало дали.
6 Школьные годы. Выпуск I
161
Он всю дорогу тихо бубнил, доказывая своему соседу по паре, Косарю, что немцы пожадничали.
— Тоже, дали! Чтоб им на том свете черти водички столько дали. Это же не подарок, а одна пакость!
— Почему же? — робко допытывался Косарь.
— Да потому, что если разделить это печенье, то по одной штуке достанется только,— мрачно изрек Горбушка, а потом, после некоторого раздумья, добавил: — Разве, может, еще одна лишняя будет, для меня.
— Ну ладно, не скули! — крикнули на Горбушку старшие.
А Цыган, не удовольствовавшись словами, еще прихлопнул ладонью Горбушку по затылку и тем заставил его наконец смириться.
Горбушка получил прозвище благодаря необычной форме своей головы. Черепная коробка его была сдавлена и шла острым хребтом вверх, действительно напоминая хлебную горбушку.
Несмотря на то что Горбушка был новичок, он уже прославился как вечный брюзга и ворчун, поэтому на его скульбу обычно никто не обращал внимания, а если долгое ворчанье надоедало ребятам, то они поступали так, как поступил Цыган.
Теплое чувство к морякам сохранилось у шкидцев, и особенно у Янкеля, у которого, кроме приятных воспоминаний, оставалась еще от этой встречи заграничная сигарета с узеньким золотым ободком.
После этой прогулки ребята прониклись уважением к новичку.
Случай с немцами выдвинул Еонина сразу, и то обстоятельство, что старшие шли с ним рядом, показало, что новичок попадает в «верхушку» Шкиды.
Так и случилось. Еонина перевели в четвертое, старшее отделение. Умный, развитой и в то же время большой бузила, он пришелся по вкусу старшеклассникам.
Скоро у него появилась и кличка — Японец,— и получил он ее за свою «субтильную», по выражению Мамочки, фигуру, за легкую раскосость и вообще за порядочное сходство с сынами Страны восходящего солнца.
Еще больше прославился Японец, когда оказался творцом шкид- ского гимна.
Произошло это так.
Однажды вечером воспитатели сгоняли воспитанников в спальни, и классы уже опустели. Только в четвертом отделении сидели за своими партами Янкель и Япончик.
Янкель рисовал, а Японец делал выписки из какой-то немецкой книги.
Вдруг в класс вошел Викниксор. По-видимому, он был в хорошем настроении, так как все время мурлыкал под нос какой-то боевой мотив.
162
Он походил по классу, осмотрел стены и согнувшиеся фигуры воспитанников и вдруг, остановившись перед партой, произнес:
— А знаете, ребята, нам следовало бы обзавестись своим школьным гимном.
Янкель и Японец удивленно вскинули на заведующего глаза и деликатно промолчали, а тот продолжал:
— Ведь наша школа — это своего рода республика. Свой герб у нас уже есть, должен быть и свой гимн. Как вы думаете?
— Ясно,— неопределенно промямлил Янкель, переглядываясь с Японцем.
— Ну, так в чем же дело? — оживился Викниксор.— Давайте сейчас сядем втроем и сочиним гимн! У меня даже идея есть. Мотив возьмем студенческой песни «Гаудеамус». Будет очень хорошо.
— Давайте,— без особой охоты согласились будущие творцы гимна.
Викниксор, весь захваченный новой идеей, сел и объяснил размер, два раза пропев «Гаудеамус».
Янкель достал лист и приступил к сочинению.
Позабыв достоинство и недоступность зава, Викниксор вместе с ребятами старательно подбирал строчки и рифмы.
Уже два раза в дверь заглядывал дежурный воспитатель и, подивившись необычайной картине, не посмел тревожить воспитанников и вести их спать, так как оба они находились сейчас под покровительством Викниксора.
Наконец, часа через полтора, после усиленного обдумывания и долгих творческих споров, гимн был готов.
Тройка творцов направилась в Белый зал, где Викниксор, сев за рояль, взял первые аккорды.
Оба шкидца, положив лист на пюпитр, приготовились петь.
Наконец грянул аккомпанемент и два голоса воспитанников, смешавшись с низким басом завшколой, единодушно исполнили новый гимн республики Шкид:
Мы из разных школ пришли,
Чтобы здесь учиться.
Братья, дружною семьей Будем же трудиться.
Бросим прежнее житье,
Позабудем, что прошло.
Смело к но-о-о-вой жизни!
Смело к но-о-о-вой жи-и-з-ни!
Время для пения было не совсем подходящее. Наверху, в спальнях, уже засыпали ребята, а здесь, внизу, в полумраке огромного зала, три глотки немилосердно рвали голосовые связки, словно стараясь перекричать друг друга:
163
Школа Достоевского,
Будь нам мать родная,
Научи, как надо жить Для родного края.
Ревел бас Викниксора, сливаясь с мощными аккордами беккеровского рояля, а два тоненьких и слабых голоска, фальшивя, подхватывали:
Путь наш длинен и суров,
Много предстоит трудов,
Чтобы вы-и-й-ти в лю-у-ди,
Чтобы вы-и-й-ти в лю-у-ди.
Когда пение кончилось, Викниксор встал и, отдышавшись,
сказал:
— Молодцы! Завтра же надо будет спеть наш гимн всей школой.
Янкель и Японец, гордые похвалой, с поднятыми головами прошли мимо воспитателя и отправились в спальню.
На другой день вся Шкида зубрила новый гимн республики Шкид, а имена новых шкидовских Руже де Лилей1 — Янкеля и Японца — не сходили с уст возбужденных и восхищенных воспитанников.
Гимн сразу поднял новичка на недосягаемую высоту, и оба автора сделались героями дня.
Вечером в столовой вся школа под руководством Викниксора уже организованно пела свой гимн.
ХАЛДЕИ
Человек в котелке.— Исчезновение в бане.— Опера и оперетта.— Война до победного конца.— Кое-что о Пессимисте со Спичкой.— Безумство храбрых.
Халдей — это по-шкидски воспитатель.
Много их перевидала Шкида. Хороших и скверных, злых и мягких, умных и глупых и, наконец, просто неопытных, приходивших в детдом для того, чтобы получить паек и трудовую книжку. Голод ставил на пост педагога и воспитателя людей, раньше не имевших и представления об этой работе, а работа среди дефективных подростков — дело тяжелое. Чтобы быть хорошим воспитателем, нужно было, кроме педагогического таланта, иметь еще железные нервы, выдержку и громадную силу воли.
' Руже де Лиль — автор французского гимна.
164
Только истинно преданные своему делу работники могли в девятнадцатом году сохранить эти качества, и только такие люди работали в Шкиде, а остальные, пайкоеды или слабовольные, приходили, осматривались день-два и убегали прочь, чувствуя свое бессилие перед табуном задорных и дерзких воспитанников.
Много их перевидала Шкида.
Однажды в плохо окрашенную дверь Шкиды вошел человек в котелке. Он был маленький, щуплый. Птичье личико его заросло бурой бородкой. Во всей фигуре новопришедшего было что-то пришибленное, робкое. Он вздрагивал от малейшего шороха, и тогда маленькие водянистые глаза на птичьем личике испуганно расширялись, а веки, помимо воли, опускались и закрывали их, словно в ожидании удара. Одет человек был очень бедно. Грязно-темное драповое пальто, давно просившееся на покой, мешком сидело на худеньких плечах, бумажные неглаженые брюки свисали из-под пальто и прикрывали порыжевшие сапоги солдатского образца. Это был новый воспитатель, уже зачисленный в штат, и теперь он пришел посмотреть и познакомиться с детьми, среди которых должен был работать. Скитаясь по комнатам безмолвной тенью, маленький человек зашел в спальню.
В спальне топилась печка, и возле нее грелись Японец, Горбушка и Янкель.
Маленький человек осмотрел ряды кроватей, и, хотя было ясно видно, что это спальня, он спросил:
— Это что, спальня?
Ребята изумленно переглянулись, потом Япошка скорчил подобострастную мину и приторно ответил:
— Да, это — спальня.
Человек тихо кашлянул.
— Так. Так. Гм... Это вы печку топите?
— Да, это мы печку топим. Дровами,— уже язвительно ответил Японец, но человек не обратил внимания.
— Гм... И вы здесь спите?
— Да, и мы здесь спим.
Человек минуту походил по комнате, потом подошел к стене и пощупал портрет Ленина.
— Это что же — сами рисовали? — снова спросил он.
В воздухе запахло комедией. Янкель подмигнул ребятам и ответил:
— Да, это тоже сами рисовали.
— А кто же рисовал?
— А я рисовал.— Янкель с серьезным видом подошел к воспитателю и молча уставился в него, ожидая вопросов.
Маленький человек оглядел комнату еще раз и остановил взгляд на кроватях.
165
— Это — ваши кровати?
— Да, наши кровати.
— Вы спите на них?
— Мы спим на них.
Потом Янкель с невинным видом добавил:
— Между прочим, они деревянные.
— Кто? — не понял воспитатель.
— Да кровати наши.
— Ах, они деревянные! Так, так,— бормотал человек, не зная, что сказать, а Янкель уже зарвался и с тем же невинным видом продолжал:
— Да, они деревянные. И на четырех ножках. И покрыты одеялами. И стоят на полу. И пол тоже деревянный.
— Да, пол деревянный,— машинально поддакнул халдей.
Японец хихикнул. Шутка показалась забавной, и он, подражая
Викниксору, непомерно растягивая слова, с серьезной важностью проговорил, обращаясь к воспитателю:
— Обратите внимание. Это — печка.
Халдей уже нервничал, но шутка продолжалась.
— А печка — каменная. Л это — дверцы. А сюда дрова суют.
Маленький человек начал понимать, что над ним смеются, и поспешил выйти из комнаты.
Скоро вся Шкида уже знала, что по зданию ходит человек, который обо всем спрашивает.
За человеком стала ходить толпа любопытных, а более резвые шли впереди него и под общий хохот предупредительно объясняли:
— А вот тут — дверь...
— А вот — класс...
— А это вот — парты. Они деревянные.
— А это — стенка. Не расшибитесь.
Через полчаса затравленный новичок укрылся в канцелярии, а толпа ребят гоготала у дверей, издеваясь над жертвой любознательности.
Запуганный приемом, маленький человек больше уже не приходил в Шкиду. Человек в котелке понял, что ему здесь не место, и удалился так же тихо, как и пришел.
166
Не так просто обстояло дело с другими.
Однажды Викниксор представил ребятам нового воспитателя.
Воспитатель произвел на всех прекрасное впечатление, и даже шкидцы, которых обмануть было трудно, почувствовали в новичке какую-то силу и обаяние.
Он был молод, хорошо сложен и обладал звучным голосом. Черные непокорные кудри мохнатой шапкой трепались на гордо поднятой голове, а глаза сверкали, как у льва.
В первый же день дежурства ему выпало на долю выдержать воспитательный искус. Нужно было вести Шкиду в баню.
Однако юноша не сробел, и уже со второй перемены голос его призывно гремел в классах:
— Воспитанники! Получайте белье. Сегодня пойдете в баню.
Шкидцы тяжелы на подъем. Любителей ходить в баню среди
них — мало. Сразу же десяток гнусавых голосов застонал:
— Не могу в баню. Голова болит.
— У меня поясница ноет.
— Руку ломит.
— Чего мучаете больных! Не пойдем!
Но номер не прошел. Голос новичка загремел так внушительно и властно, что даже проходивший мимо Викниксор умилился и подумал: «Из него выйдет хороший воспитатель».
Шкидцы покорились. Ворча, шли получать белье в гардеробную, потом построились парами в зале и затихли, ожидая воспитателя.
А тот в это время получал в кладовой месячный паек продуктов в виде аванса.
Ученики ждали вместе с Викниксором, который хотел лишний раз полюбоваться энергичным новичком. Наконец тот пришел. За спиной его болтался вещевой мешок с продуктами.
Он зычно скомандовал равняться, потом вдруг замялся, нерешительно подошел к Викниксору и вполголоса проговорил:
— Виктор Николаевич, видите ли, я не знал, что ученики пойдут в баню... и поэтому не захватил белья.
— Ну, так в чем же дело?
— Да я, видите ли, хочу попросить, чтобы мне на один день отпустили казенное белье. Разумеется, как только сменюсь, я его принесу.
Обычно такие вещи не допускались, но воспитатель был так симпатичен, так понравился Викниксору, что тот невольно уступил.
Белье тотчас же подобрали, и школа тронулась в баню. Все шло благополучно.
Пары стройно поползли по улице, и даже ретивые бузачи не решались на этот раз швыряться камнями и навозом в трамвайные вагоны и в прохожих.
В бане шумно разделись и пошли мыться.
Воспитатель первый забрался на полок и, казалось, совсем забыл про воспитанников, увлекшись мытьем.
167
Потом ребята одевались, ругались с банщиком, стреляли у посетителей папиросы и совсем не заметили отсутствия воспитателя. Потом спохватились, стали искать, обыскали всю баню и не нашли его. Подождав полчаса, решили идти одни.
Нестройная орда, вернувшаяся в школу, взбесила Викниксора. Он решил прежде всего сделать выговор новому педагогу. Но того не было. Не явился он и на другой день. Викниксор долго разводил руками и говорил сокрушенно:
— Такой приятный, солидный вид — и такое мелкое жульничество. Спер пару белья, получил продуктов на месяц, вымылся на казенный счет и скрылся!..
Однако урок послужил на пользу, и к новичкам педагогам стали с тех пор больше приглядываться.
Галерея безнадежных не кончается этими двумя. Их было больше.
Одни приходили на смену другим, и почти у всех была единственная цель: что-нибудь заработать. Каждый, чтобы удержаться, подлаживался то к учителям, то, наоборот, к воспитанникам.
Молодой педагог Пал Ваныч, тонконосый великан с лошадиной гривой, обладал в этом отношении большими способностями.
Он с первого же дня взял курс на ученика, и, когда ему представили класс старших, он одобрительно улыбнулся и бодро сказал:
— Ну, мы с вами споемся!
— Факт, споемся,— подтвердили ребята. Они не предполагали, что «спеваться» им придется самым буквальным образом.
«Спевка» началась на первом же уроке.
Воспитатель пришел в класс и начал спрашивать у приглядывающихся к нему ребят об их жизни. Разговор клеился туго. Старшие оказались осторожными, и тогда для сближения Пал Ваныч решил рискнуть:
— Не нравятся мне ваши педагоги. Больно уж они строги к воспитанникам. Нет товарищеского подхода.
Класс удивленно безмолвствовал, только один Горбушка процедил что-то вроде «угу».
Разговор не клеился. Все молчали. Вдруг воспитатель, походив по комнате, неожиданно сказал:
— А ведь я хороший певец.
— Ну? — удивился Громоносцев.
— Да. Неплохо пою арии. Я даже в любительских концертах выступал.
— Ишь ты! — восхищенно воскликнул Янкель.
— А вы нам спойте что-нибудь,— предложил Японец.
— Верно, спойте,— поддержали и остальные.
Пал Ваныч усмехнулся.
— Говорите, спеть? Гм... А урок?..
— Ладно, урок потом. Успеется,— успокоил Мамочка, не отличавшийся большой любовью к урокам.
168
— Ну ладно, будь по-вашему,— сдался воспитатель.— Только что же вам спеть? — нахмурился он, потирая лоб.
— Да ладно. Спойте что-нибудь из оперы,— раздались нетерпеливые голоса.
— Арию какую-нибудь!
— Арию! Арию!
— Ну, хорошо. Арию так арию. Я спою арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Ладно?
— Валите, пойте!
— Даешь! Чего там.
Пал Ваныч откашлялся и запел вполголоса:
Куда, куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит...
Пел он довольно хорошо. Мягкий голос звучал верно, и, когда были пропеты заключительные строки, класс шумно зааплодировал.
Только Мамочке ария не понравилась.
— Пал Ваныч! дружище! дерните что-нибудь еще, только повеселей.
— Верно, Пал Ваныч. Песенку какую-нибудь.
Тот попробовал протестовать, но потом сдался.
— Что уж с вами делать, мерзавцы этакие! Так и быть, спою вам сейчас студенческие куплеты. Когда, бывало, я учился, мы всегда их певали.
Он опять откашлялся и вдруг, отбивая ногой такт, рассыпался в задорном мотиве:
Не женитесь на курсистках,
Они толсты, как сосиски,
Коль жениться вы хотите,
Раньше женку подыщите,
Эх-эх, труля-ля...
Раньше женку подыщите...
Класс гоготал и взвизгивал.
Мамочка, тихо вслипывая короткими смешками, твердил, восхищаясь:
— Вот это здорово! Сосиски.
Бурный такт песни закружил питомцев. Горбушка, сорвавшись с парты, вдруг засеменил посреди класса, отбивая русского.
А Пал Ваныч все пел:
Поищи жену в медичках,
Они тоненьки, как спички,
169
Но зато резвы, как птички.
Все женитесь на медичках.
Ребята развеселились и припев пели уже хором, прихлопывая в ладоши, гремя партами и подсвистывая. По классу металось безудержное:
Эх-эх, труля-ля...
Все женитесь на медичках...
Песню оборвал внезапный звонок за стеной. Урок был кончен.
Когда Пал Ваныч уходил из класса, его провожали гурьбой.
— Вот это да! Это свой парень! — восхищался Янкель, дотягиваясь до плеча воспитателя и дружески хлопая его по плечу кончиками пальцев.
— Почаще бы ваши уроки.
— Полюбили мы вас, Пал Ваныч,— изливал свои чувства Японец.— Друг вы нам теперь. Можно сказать, прямо брат кровный.
Пал Ваныч, ободренный успехом, снисходительно улыбнулся.
— Мы с вами теперь заживем, ребята. Я вас в театры водить буду.
Скоро Пал Ваныч стал своим парнем. Он добывал где-то билеты,
водил воспитанников в театр, делился с ними школьными новостями, никого не наказывал, а главное — не проводил никаких занятий: устраивал «вольное чтение» или попросту объявлял, что сегодня свободный урок и желающие могут заняться чем угодно.
Пал Ваныч твердо решил завоевать расположение ребят и скоро его действительно завоевал, да так крепко, что, когда пришел момент и поведение воспитателя педагогический совет признал недопустимым, Шкида, как один человек, поднялась и взбунтовалась, горой встав за своего любимца.
А любимец ходил и разжигал страсти, распространяясь о том, что враги его во главе с Викниксором хотят выгнать его из школы.
Разгорелся страшный бунт. Целую неделю дефективные шкеты дико бузили, вовсю распоясавшись, и объявили решительный бой педагогам.
Создалось «Ядро защиты».
Штаб работал беспрерывно. Руководителями восстания оказались, по обыкновению, старшие: Цыган, Японец, Янкель и Воробей. Они по целым дням заседали, придумывая все новые и новые способы защиты любимого воспитателя.
По классам рассылались агитаторы, которые призывали шкидцев не подчиняться халдеям и срывать уроки.
— Не учитесь. Бойкотируйте педагогов, стремящихся прогнать нашего Пал Ваныча.
И уроки срывались.
Лишь только педагог входил в класс и приступал к уроку, в классе раздавалось тихое гудение, которое постепенно росло и переходило в рев.
170
Преимущество этого метода борьбы состояло в том, что нельзя было никого уличить.
Ребята сидели смирно, сжав губы, и через нос мычали.
Кто мычит, обнаружить невозможно. Стоит педагогу подойти к одному, тот сразу замолкает и сидит, поджав губы, педагог отходит — мычание раздается снова.
Говорить невозможно.
Уроки срывались один за другим.
Учителя, выбившиеся из сил, убегали с половины урока.
Постепенно борьба за Пал Ваныча превратилась в настоящую войну. Штаб отдал приказ перейти к активным действиям. Ночью в школе вымазали чернилами ручки дверей, усыпали сажей подоконники, воспитательские столы и стулья. Набили гвоздей в сиденья, а около канцелярии устроили газовую атаку — стащили большой кусок серы из химического шкафа и, положив его под вешалку, зажгли. Едкая серная вонь заставила халдеев отступить и из канцелярии.
На уроках ребята уже открыто отказывались заниматься.
Целую неделю школа бесновалась. Педагогический состав растерялся. Он еще ни разу не встречал такого организованного сопротивления.
Воспитатели ходили грязные, вымазанные в чернилах и мелу, в порванных брюках и не знали, что делать. Общая растерянность еще больше ободряла восставших шкидцев.
Штаб работал, придумывая всё новые средства для поражения халдеев. Заседали целыми днями, разрабатывая стратегические планы борьбы.
— Мы их заставим оставить у себя Пал Ваныча! — бесновался Японец.
— Правильно!
— Не отдадим Пал Ваныча!
— Надо выпустить и расклеить плакаты! — предложил Янкель, любитель печатного слова.
Этот проект тотчас же приняли, и штаб поручил Янкелю немедленно выпустить плакаты. В боевом порядке он созвал всех художников и литераторов школы.
Плакаты начали изготовлять десятками, а проворные агитаторы расклеивали на стенах классов и в коридоре грозные лозунги:
ТРЕПЕЩИТЕ, ХАЛДЕ И!
МЫ НЕ ДОПУСТИМ ИЗГНАНИЯ ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА.
МЫ ПРОТЕСТУЕМИ!
Воспитатели не успевали срывать подметные листки.
Восстание разжигалось опытными и привычными к бузе руками. Уже в некоторых классах открыто задвигали двери партами и скамьями, не давая входить на урок педагогам. Строились баррикады.
171
Среди воспитателей появилось брожение.
Откололась группа устрашившихся, которые начали поговаривать об оставлении Пал Ваныча. Но Викниксор встал на дыбы и, чтобы укротить восстание, решил поскорее убрать педагога. Его уволили в конце недели, но надежды, что вместе с его уходом утихнет буза, не оправдались.
Пал Ваныч сделал ловкий маневр. Когда ему объявили об увольнении, он пришел в четвертое отделение и грустно поведал об этом воспитанникам.
Поднялась невероятная буря. Ребята клялись, что отстоят его, и дали торжественное обещание закатить такую бузу, какой Шкида еще ни разу не видела.
Этот день шкидцы и педагоги запомнили надолго. Старшеклассники призвали все отделения к борьбе и дали решительный бой.
Штаб обсудил план действий, и сразу после ухода Пал Ваныча на стенах школы запестрели плакаты:
Под страхом смерти мы требуем оставления в школе
П. И. А р и к о в а!!!
В ответ на это за обедом Викниксор в пространной речи пробовал доказать, что Ариков никуда не годен, что он только развращает учеников, и кончил тем, что подтвердил свое решение.
— Он сюда больше не придет, ребята. Я так сказал, так и будет!
Гробовое молчание было ответом на речь зава, а после обеда начался ад, которого не видела Шкида со дня основания школы.
Во всех залах, классах и комнатах закрыли двери и устраивали из скамеек, щеток и стульев западни. Стоило только открыть дверь, как на голову входившего падало что-нибудь внушительное и оставляло заметный след в виде синяка или шишки.
Такие забавы не очень нравились педагогам, но сдаваться они не хотели; нужно было проводить уроки. Халдеи ринулись в бой, и после долгой осады баррикады были взяты штурмом. У троих педагогов на лбу и на подбородках синели фонари. Однако педагоги самоотверженно продолжали бороться.
В тот же день штаб отдал приказание начать «горячую» войну, и не одна пара воспитательских брюк прогорела от подложенных на стулья углей. Но надо отдать справедливость — держались педагоги стойко. Об уроках уже не могло быть и речи, нужно было хотя бы
172
держать в своих руках власть, и только за это и шла теперь борьба, жестокая и упорная. Наступил вечер. За ужином Викниксор, видя угрожающее положение, предпринял рискованную контратаку и объявил школу на осадном положении. Запретил прогулки и отпуска до тех пор, пока не прекратится буза. Но, увы, это только подлило масла в огонь. Приближались сумерки, и штаб решил испробовать последнее средство. Средство было отчаянное. Штаб выкинул лозунг: «Бей халдеев».
Как стадо диких животных, взметнулась вся школа. Сразу везде погасло электричество и началась дикая расправа. В темноте по залу метались ревущие толпы. Застигнутые врасплох, халдеи оказались окруженными.
Их сразу же смяли. Подставляли ножки. Швыряли в голову книгами и чернильницами, били кулаками и дергали во все стороны.
Напрасны были старания зажечь свет. Кто-то вывинтил пробки, и орда осатанелых шпаргонцев носилась по школе, сокрушая всё и всех. Стонала в темноте на кухне кухарка. Гремели котлы. Это наиболее предприимчивые и практичные ребята решили воспользоваться суматохой и грабили остатки обеда и ужина.
Наконец воспитатели не выдержали и отступили в канцелярию. И тут, оценив всю опасность положения и поняв, кто является зачинщиком, Викниксор пошел немедля в класс старших и устроил экстренное собрание.
Для того, чтобы победить, нужно было переменить тактику, и он ее переменил.
Когда все ребята сели и немного успокоились, Викниксор ласково заговорил:
— Ребята, скажите откровенно, почему вы бузите?
— А зачем Пал Ваныча выгнали? — послышался ответ.
— Ребята! Но вы поймите, что Павел Иванович не может быть воспитателем.
— Почему это не может?
— Да потому хотя бы, что он молод. Ну скажите сами, разве вы не хотите учиться?
— Так ведь он нас тоже учит! — загудели нестройные голоса, но Викниксор поднял руку, дождался наступления тишины и спросил:
— Чему же он вас учит? Ну что вы с ним прошли за месяц?
Ребята смутились.
— Да мы разное проходили... Всего не упомнишь!
А Мамочка при общем смехе добавил:
— Он здорово песни пел. Про сосиски!
Настроение заметно изменилось, и Викниксор воспользовался этим.
— Ребята,— сказал он печально,— как вам не стыдно... Вы, старшеклассники, все-таки умные, развитые мальчики, и вдруг полюбили человека за какие-то «сосиски»...
173
Класс нерешительно захихикал.
— Ведь Павел Иванович не педагог,— он цирковой рыжий, который только тем и интересен, что он рыжий!
— Верно! — раздался возглас.— Рыжий! Как в Чинизелли.
— Ну так вот,— продолжал Викниксор.— Рыжего-то вам и в цирке покажут, а литературы вы знать не будете.
Класс молчал. Сидели подперев головы руками, смотрели на разгуливающего по комнате Викниксора и молчали.
— Так что,— громко сказал Викниксор,— выбирайте: или Пал Ваныч, или литература. Если вы не кончите бузить,— Пал Ваныч, может быть, будет оставлен, но литературу мы вынуждены будем вычеркнуть из программы школы.
Он задел больное место. Шкидцы все-таки хотели учиться.
— Ребята! — крикнул Японец.— Ша! Как по-вашему?
— Ша! — повторил весь класс. И все зашумели. Сразу стало легко и весело, как будто за окном утихла буря.
Буза прекратилась. Павла Ивановича изгнали из школы, и штаб повстанцев распустил сам себя.
А вечером после чая Японец сказал товарищам:
— Бузили мы здорово, но, по правде сказать, не из-за Пал Ваныча, как вы думаете?
— Это правда,— сказал Цыган.— Бузили мы просто так — ради самой бузы... А Пал Ваныч — порядочная сволочь...
— Факт,— поддакнул Янкель.— Бить таких надо, как Пал Ваныч...
— Бей его! — с возбуждением закричал Воробей, но он опоздал. Пал Ваныча уже не было в школе. Он ушел, оставив о себе сумбурное воспоминание.
Другую тактику повел некий Спичка, прозванный так за свою необыкновенную худобу. Это был несчастный человек. Боевой офицер, участник двух войн, он был контужен на фронте, навеки сделавшись полуглухим, озлобленным и угрюмым человеком.
В школу он пришел как преподаватель гимнастики и сразу принял сторону начальства, до каждой мелочи выполняя предписание Викниксора и педсовета.
Он нещадно наказывал, записывал в журнал длиннейшие замечания, оставлял без отпусков.
Хороший педагог — обычно хороший дипломат. Он рассчитывает и обдумывает, когда можно записать или наказать, а когда и не следует.
Спичка же мало задумывался и раздавал наказания направо и налево, стараясь только не очень отходить от правил.
Он расхаживал на своих длинных, худых ногах по Шкиде, хмуро оглядываясь по сторонам, и беззлобно скрипел:
— Встань к печке.
174
— В изолятор.
— Без обеда.
— Без прогулки.
— Без отпуска.
Его возненавидели. Началась война, которая закончилась победой шкидцев.
Школьный совет признал работу Спички непедагогичной, и Спичка ушел.
Тем же кончил и Пессимист — полуголодный студент, не имевший ни педагогической практики, ни педагогического таланта и не сумевший работать среди шкидцев.
Много их перевидела Шкида.
Около шестидесяти халдеев переменила школа только за два года.
Они приходили и уходили.
Медленно, как золото в песке, отсеивались и оставались настоящие, талантливые, преданные делу работники. Из шестидесяти человек лишь десяток сумел, не приспосабливаясь, не подделываясь под «своего парня», найти путь к сердцам испорченных шкетов. И этот десяток на своих плечах вынес на берег тяжелую шкидскую ладью, оснастил ее и отправил в далекое плавание — в широкое житейское море.
Ольга Афанасьевна — мягкая, тихая и добрая, пожалуй, даже слишком добрая. Когда она представилась заведующему как преподавательница анатомии, он недоверчиво и недружелюбно посмотрел на нее и подумал, что вряд ли она справится с его буйными питомцами. Однако время показало другое. То, что другим педагогам Удавалось сделать путем угроз и наказаний, у нее выходило легко, без малейшего нажима и напряжения.
Хрупкая и болезненная на вид, она, однако, обладала большим запасом хладнокровия: никогда не кричала, никому не угрожала, и все же через месяц все классы полюбили ее, и везде занятия по ее предмету пошли хорошо.
Даже самые ленивые делали успехи.
Мамочка, Янкель и Воробей — присяжные лентяи — вдруг вне¬
175
запно обрели интерес к человеческому скелету и тщательно вырисовывали берцовые и теменные кости в своих тетрадях.
Ольга Афанасьевна сумела привить ученикам любовь к занятиям и сделала бы много, если бы не тяжелая болезнь, заставившая ее бросить на некоторое время Шкиду.
Гражданская война кончилась. Вступила в свои права мирная жизнь. В городе один за другим открывались новые клубы и домпросветы.
Задумались над этим и в детском доме. Свободного времени у ребят было достаточно, надо было использовать его с толком.
И вот пришла Мирра Борисовна, полная жизнерадостная еврейка. Она пришла пасмурным осенним вечером, когда в классе царила скука, и сразу расшевелила ребят.
— Ну, ребята, я к вам. Будем вместе теперь работать.
— Добро пожаловать,— угрюмо приветствовал ее появление Мамочка.— Только насчет работы бросьте. Не загибайте. Все равно номер не пройдет.
— Почему же это? — искренне удивилась воспитательница.— Разве плохо разработать пьеску, поставить хороший спектакль? И вам будет весело, и других повеселите.
— Ого! Спектакль? Это лафа!
— Засохни, Мамочка! Дело будет! — раздались возгласы.
Работа закипела.
Подходили праздники, и поэтому Мирра Борисовна с места в карьер взялась за дело. Даже свое свободное время она проводила в Шкиде.
Сразу же подобрали пьесы. Взяли «Скупого рыцаря» и отрывки из «Бориса Годунова». Вечером, собравшись в классе, устраивали репетиции.
Япошка, разучивший два монолога царя Бориса, выходил на середину класса и открывал трагедию. Но как только монолог подходил к восклицанию:
И мальчики кровавые в глазах...
Япошка терялся. Темперамент исчезал, и он, как-то заплетаясь, заканчивал:
И мальчики кровавые в глазах...
Тогда следовал мягкий, но решительный возглас Мирры Борисовны:
— Еончик... Опять не так!..
Еончик чуть не плакал и начинал с начала. В конце концов он добился своего. В репетициях и в подвижных играх, устраиваемых
176
неутомимой Миррой, как звали ее воспитанники, коротались долгие шкидовские вечера.
Все больше и больше сближались ребята с воспитательницей и скоро так ее полюбили, что в дни, когда она не была дежурной, шкидцы по-настоящему тосковали. Стоило только показаться ее овчинному полушубку и мягкой оренбургской шали, как Шкида мгновенно оглашалась криками:
— Мирра пришла!
День спектакля был триумфом Мирры Борисовны.
Играли ребята с подъемом.
Вечер оказался лучшим в школе, а после программы шкидцы устроили сюрприз.
На сцену вышел Янкель, избранный единогласно конферансье, сообщил о дополнительной программе, которую ученики приготовили от себя в честь своей воспитательницы, и прочел приветственное стихотворение:
Окончивши наш грандиозный спектакль,
Дадим ему новый на смену.
В нем чествуем Мирру Борисовну Штак,
Создавшую шкидскую сцену.
С этого дня дружба еще более окрепла, но однажды в середине зимы Мирра пришла и, смущаясь, сообщила, что она выходит замуж и уезжает из Питера. Жалко было расставаться, однако пришлось смириться, и веселая учительница в солдатском полушубке навсегда исчезла из Шкидской республики, оставив на память о себе знакомую билетершу в «Сплендид Паласе», еженедельно пропускавшую в кино двух питомцев Мирры — Янкеля и Японца.
Таковы были эти две воспитательницы, сумевшие среди дефективных детей заронить любовь к занятиям и привязанность к себе. Их любила вся школа.
Зато Амебку Шкида невзлюбила, хотя, может быть, он был и неплохим преподавателем.
Амебка — мужчина средних лет, некрасиво сложенный, с узким обезьяньим лбом — был преподавателем естествознания. Свой предмет он любил горячо и всячески старался привить эту любовь и ученикам, однако это удавалось ему с трудом. Ребята ненавидели естествознание, ненавидели и Амебку.
Амебка был слишком мрачный, склонный к педантизму человек, а Шкида таких не любила.
Идет урок в классе.
Амебка рассказывает с увлечением о микроорганизмах. Вдруг он замечает, что последняя парта, где сидит Еонин, не слушает его. Он принимает меры:
— Еонин, пересядь на первую парту.
— Зачем же это? — изумляется Япошка.
177
— Еонин, пересядь на первую парту.
— Да мне и здесь хорошо.
— Пересядь на первую парту.
— Да чего вы привязались? — вспыхивает Японец, но в ответ слышит прежнее монотонное приказание:
— Пересядь на первую парту.
— Не сяду. Халдей несчастный! — озлобленно кричит Еонин.
Амебка некоторое время думает, потом начинает все с начала:
— Еонин, выйди вон из класса.
— За что же это?
— Выйди вон из класса.
— Да за что же?
— Выйди вон из класса.
Еонин озлобляется и уже яростно топает ногами. Кнопка носа его краснеет, глаза наливаются кровью.
— Еонин, выйди вон из класса,— невозмутимо повторяет Амебка, и тогда Японец разражается взрывом ругательств:
— Амебка! Халдей треклятый! Чего привязался, тупица деревянная!
Амебка спокойно выслушивает до конца и говорит:
— Еонин, ты сегодня будешь мыть уборные.
На этом обе стороны примиряются.
Вот за такое жуткое спокойствие и не любили Амебку шкидцы. Однако человек он был честный, его побаивались и уважали.
Но самыми яркими фигурами, лучшими воспитателями, на которых держалась школа, являлись два халдея: Сашкец и Костец, дядя Саша и дядя Костя, Алникпоп и Косталмед, а попросту Александр Николаевич Попов и Константин Александрович Меденников.
Оба пришли почти одновременно и сразу же сработались. Сашкец — невысокий, бодрый, пожилой воспитатель. Высокий лоб и маленькая проплешина. На носу пенсне с расколотым стеклом. Небольшая черная бородка, фигура юркая, живая. Громадный, неиссякаемый запас энергии, силы, знаний и опыта.
Сашкеца в первые дни невзлюбили.
Лишь только появилась его коренастая фигурка в потертой кожаной куртке, шкидцы начали его травить.
Во время перемен за ним носилась стая башибузуков и на все лады распевала всевозможные куплеты, сочиненные старшеклассниками:
Есть у нас один грибок:
Он не низок, не высок.
Он не блошка и не клоп,
Он горбатый Алникпоп...
— Эй, Сашкец, Алникпоп! — надрывались ребята, дергая его за полы куртки, но Сашкец словно бы и не слыхал ничего.
178
Перед самым носом у него останавливались толпы ребят и, глядя нахально на его порванные и небрежно залатанные сапоги, пели экспромт, тут же сочиненный:
Сапоги у дяди Саши Просят нынче манной каши...
Бывали минуты, когда хладнокровие покидало нового воспитателя, тогда он резко оборачивался к изводившему его, но тут же брал себя в руки, усмехался и грозил пальцем:
— Ты смотри у меня, гусь лапчатый...
Гусь лапчатый — тоже сделалось одной из многих его кличек.
Однако скоро травля прекратилась. Новичок оказался сильнее воспитанников, выдержал испытание. Выдержка его ребятам понравилась. Сашкеца признали настоящим воспитателем.
Он был по-воспитательски суров, но знал меру. Ни одна шалость не проходила для ребят без последствий, однако не всегда виновные терпели наказание. Сашкец внимательно разбирал каждый проступок и только после этого или наказывал провинившегося, или отпускал его, прочитав хорошую отповедь.
Не делал он никаких поблажек, был беспощаден и строг только к тем, кто плохо занимался по его предмету — русской истории. Тут он мягкости не проявлял, и лентяи дорого платились за свою рассеянность и нежелание заниматься.
Время шло. Все больше и больше сживались ребята с Алникпо- пом, и вскоре выяснилось, что он не только отличный воспитатель, но и добрый товарищ.
Старшие ребята по вечерам стали усиленно зазывать к себе Алникпопа, потому что с ним можно было очень хорошо и обо многом поговорить. Часто после вечернего чая приходил к ним Алникпоп, усаживался на парту и, горбясь, поблескивая расколотым пенсне, рассказывал — то анекдот, то что-нибудь о последних международных событиях, то вспомнит какой-нибудь эпизод из своей школьной или студенческой жизни, поспорит с ребятами о Маяковском, о Блоке, расскажет о том, как они издавали в гимназии подпольный журнал, или о том, как он работал рецензентом в дешевых проп- неровских изданиях. Разговор затягивается и кончается только тогда, когда зазвенит звонок, призывающий спать.
Так постепенно из Сашкеца новый воспитатель превратился в дядю Сашу, в старшего товарища шкидцев, оставаясь при этом строгим, взыскательным и справедливым халдеем.
Костец пришел месяцем позже.
Пришел он из лавры, где работал несколько месяцев надзирателем, и уже одно это сразу обрезало все поползновения ребят высмеять новичка.
Вид его внушал невольное уважение самому отъявленному бузачу. Львиная грива, коричневато-рыжая борода, свирепый взгляд и мощ-
179
пая фигура в соединении с могучим, грозным, рыкающим голосом сперва настолько всполошили Шкиду, что ученики в панике решили: это какой-то живодер из скотобойни — и окрестили его сразу Ломовиком, однако кличку уже через несколько дней пришлось отменить.
Ломовик, в сущности, оказался довольно мягким, добродушным человеком, рыкающим и выкатывающим глаза только для того, чтобы напугать.
Скоро к его львиному рычанию привыкли, а когда он брал кого-либо за шиворот, то знали, что это только так, для острастки, да и сам зажатый в мощной руке жмурился и улыбался, словно его щекотали.
Однако грозный вид делал свое.
Гимнастика, бывшая в ведении Косталмеда, проходила отлично. Ребята с удовольствием проделывали упражнения, и только четвертое отделение вечно воевало с дядей Костей, как только можно отлынивая от уроков.
Скоро Костец и Сашкец почувствовали взаимную симпатию и сдружились, считая вероятно, что их взгляды на воспитание сходятся. Великан Косталмед и маленький, сутулый Алникпоп принадлежали к числу тех немногих халдеев, которые сумели удержаться в школе и оставили добрый след в истории Шкидской республики, вложив немало сил в великое дело борьбы с детской преступностью.
ВЛАСТЬ НАРОДУ
Вечер в Шкиде.— Тихие радости.— В погоне за крысой.— Танцкласс.— Власть народу.
Кончились вечерние уроки. Дежурный в последний раз прошел по коридорам, отзвенел последний звонок, и Шкида захлопала партами, затопала, запела, заплясала и растеклась по этажам старого здания.
Младшие отделения высыпали в зал играть в чехарду, другие ринулись на лестницу — кататься на перилах, а кое-кто направился на кухню в надежде поживиться остатками обеда.
Старшие занялись более культурным развлечением. Воробей, например, достал где-то длинную бечевку и, сделав петлю, вышел в столовую. Там он уселся около дыры в полу, разложил петлю и бросил кусок холодной каши. Потом спрятался за скамейку и стал ждать.
Это он ловил крыс. Ловля крыс была последнее время его любимым развлечением. Воробей сам изобрел этот способ, которым очень гордился.
180
Япошка сидел в классе, пошмыгивал носом и с необычайным
упорством переводил стихотворения Шамиссо с немецкого на рус¬
ский. Перевод давался с трудом, но Японец, заткнув пальцами уши, не уставая подбирал и бубнил вслух неподатливую строку стиха:
Я в своих мечтах, чудесных, легких...
Я в мечтах своих, чудесных, легких...
Я в чудесных, радостных мечтаньях...
Я в мечтаньях, радостных, чудесных...
И так без конца. До тех пор, пока строчка наконец не принимала должного вида и не становилась на место.
Громоносцев долго, позевывая, смотрел в потолок, потом вышел из класса и, поймав какого-то шкета из младшего отделения, привел его в класс. Привязав к ноге малыша веревку, он лениво жмурился, улыбался и приказывал:
— А ну, мопсик, попляши.
Мопсик сперва попробовал сыграть на Колькином милосердии и взвыл:
— Ой, Коленька! У меня нога болит!
Но Громоносцев только посмеивался.
— Ничего, мопсик, попляши.
В углу за классной доской упражнялся в пении недавно пришедший новичок Бобер. Он распевал куплеты, слышанные где-то в кино, и аккомпанировал себе, изо всей силы барабаня кулаками по доске:
Ай! Ай! Петроград —
Распрекрасный град.
Петро-Петро-Петроград —
Чудный град!..
Доска скрипела, ухала и трещала под мощными ударами. За партой сидел Янкель, рисовал лошадь. Потом рисовать надоело, и, бессмысленно уставившись взором в стенку, он тупо забормотал:
— Дер катер гейт нах хаузе. Дер катер гейт нах хаузе.
Янкель ненавидел немецкий язык, и фраза эта была единственной,
которую он хорошо знал, прекрасно произносил и которой оперировал на всех уроках Эланлюм.
В стороне восседали группой одноглазый Мамочка, Горбуша, Косарь и Гога.
Они играли в веревочку.
Перебирая с пальца на палец обрывок веревки, делали замысловатые фигуры и тут же с трудом их распутывали.
Вдруг все, кто находился в классе, насторожились и прислушались. Сверху слышался шум. Над головами топали десятки ног, и стены класса тревожно покряхтывали под осыпающейся штукатуркой.
181
— Крысу поймали! — радостно выкрикнул Мамочка.
— Крысу поймали! — подхватили остальные и помчались наверх. В зале царило смятение.
Посреди зала вертелся Воробей и с трудом удерживал длинную веревку, на конце которой судорожно извивалась большая серая крыса.
По стенкам толпились шкидцы.
— Ну, я сейчас ее выпущу, а вы ловите,— скомандовал Воробей. Он быстро наклонился и надрезал веревку почти у самой шеи
крысы.
Раздался визг торжества.
Крыса, оглушенная страшным шумом, заметалась по залу, не зная, куда скрыться, а за ней с хохотом и визгом носилась толпа шкидцев, стараясь затоптать ее ногами.
— О-о-о!!! Лови!
— А-га-а... Бей!
— Души!
— И-и-их!
Зал содрогался под дробным топотом ног и от могучего рева. Тихо позвякивали стекла в высоких школьных окнах.
— О-го-го!!! Лови! Лови!
— Забегай слева-а!
— Ногой! Ногой!
— Над-дай!
Двери зала были плотно закрыты. Щели заткнуты. Все пути отступления серому существу были отрезаны. Тщетно тыкался ее острый нос в углы. Везде стены и стены. Наконец Мамочка, почувствовав себя героем, помчался наперерез затравленной крысе и энергичным ударом ноги прикончил ее.
Мамочка, довольный, гордо оглядел столпившихся ребят, рассчитывая услышать похвалу, но те злобно заворчали. Им вовсе не хотелось кончать такое интересное развлечение.
— Эва! Расхрабрился!
— Сволочь! Надо было убивать?
— Подумаешь, герой, отличился! Этак бы и всякий мог!
182
Недовольные, расходились шкидцы.
В это время внизу Бобер закончил лихую песенку «Ай-ай, Петроград», загрустил и перешел на романс:
В шумном платье муаровом,
В макинтоше резиновом...
Потом затянул было «Разлуку», но тут же оборвал себя и громко зевнул.
— Пойти потанцевать, что ли,— предложил он скучающим голосом.
— Пойдем,— поддержал Цыган.
— Пойдем,— подхватил Янкель.
— Пошли! Пошли! Танцевать! — оживились остальные.
Янкель помчался за воспитателем и, поймав его где-то в коридоре,
стал упрашивать:
— Сыграйте, дядя Сережа. А? Один вальсик и еще что-нибудь.
В Белом зале собралось все взрослое население республики.
Шкидцы, как на балу, выбирали партнеров, и пары церемонно устанавливались одна за другой.
Дядя Сережа мечтательно запрокинул голову, ударил по клавишам, и под звуки «Дунайских волн» пары закружились в вальсе.
Собственно, кое-как умела танцевать только одна пара — Цыган и Бобер. Остальные лишь вертелись, топтались и толкали друг друга.
— Синьоры! Медам! Танц-вальс! Верти, крути, наворачивай! — надрывался Янкель, грациозно подхватывая Японца — свою даму — и нежно наступая ему на ногу.
Японец морщился, но продолжал топтаться, удивляясь вслух:
— Черт! Четверть часа вертимся — и все на одном месте!
Вальс сменился тустепом, тустеп — падеспанью.
Веселье постепенно просачивалось в холодные белые двери зала.
В самый разгар танцев, когда Шкида, единодушно закусив удила, дико отплясывала краковяк, ожесточенно притопывая дырявыми казенными сапогами, в дверях показался Викниксор.
— Ребята!
Крякнул вспугнутый рояль и смущенно смолк, захлебнувшись в аккорде.
Не успев в очередной раз притопнуть, остановились насторожившиеся пары. Лицо заведующего сияло какой-то особой торжественностью.
— Ребята,— повторил Викниксор, когда наступила полная тишина,— все немедленно идите в столовую. Сейчас состоится общешкольное собрание.
В полутемной столовой, пропахшей тюленьим жиром, тревожный гул голосов.
183
Бритые головы поминутно вертятся в разные стороны, а на лицах застыл вопрос: в чем дело?
Школьное собрание для шкидцев — новость. Это в первый раз.
Все с нетерпением ждут Викниксора: что-то он скажет?
Наконец заведующий входит в столовую.
Несколько минут он стоит, осматриваясь, потом подзывает воспитателя и громко говорит:
— Сергей Иванович, вы будете для первого раза секретарем. Ребята еще не привыкли к самоуправлению.
Воспитатель молча садится, кладет перед собой лист бумаги и ждет, а Викниксор минуту думает и почесывает ухо. Потом он выпрямляется и начинает говорить:
— Ребята! До сих пор у нас в школе нет жизни... Да, постойте!..
Он сбивается.
— Я забыл начать-то. Итак, считаю первое общешкольное собрание открытым. Председателем пока буду я, секретарем Сергей Иванович. В порядке дня — мой доклад о самоуправлении в школе. Итак, я начинаю.
Шкида молчит. Шкида притаилась и ждет, что скажет ее рулевой.
— Итак, прошу внимания. Что такое наша школа? Это — маленькая республика.
— Пожалуй, скорее — монархия,— ехидным шепотом поправляет зава Японец.
— Наша школа — республика, но в республике всегда власть в руках народа. У нас же до сих пор этого не было. Мы имели, с одной стороны, воспитанников, с другой — воспитателей, которыми руководил я. Этим, так сказать, нарушалась наша негласная конституция.
— Правильно! — несется приглушенный выкрик из гущи воспитанников.
Викниксор грозно хмурит брови, но тут же спохватывается и продолжает:
— Теперь этого не будет. Сейчас я изложу перед вами мой план. Школа должна идти в ногу с жизнью, а посему наш коллектив должен ввести у себя самоуправление.
— О-го-го!
— Здорово!
Шкидцы удивлены.
— Да. Самоуправление. Вам непонятно это слово? Слово русское. Вот схема нашей системы самоуправления. Сегодня же мы изберем старост по классам, по спальням, по кухне и по гардеробу. На обязанности их будет лежать назначение дежурных. Дежурные будут назначаться на один день. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий и так далее. Таким образом, все вы постепенно будете вовлечены в общественную жизнь школы. Поняли?
— О-го-го! Поняли!
— Ну, так вот. Старосту мы будем выбирать на месяц или на две недели. Но старосты — это еще не все. Старосты по кухне и по
184
гардеробу нуждаются в контроле. Мы изберем для них тройку. Ревизионную тройку, которая и будет контролировать их работу. Согласны?
— Ясно! Согласны! — гудят голоса.
— Таким образом, мы изживем возможности воровства и отна- чивания.
— Вот это да! Правильно.
Викниксор чувствует себя прекрасно. Ему кажется, что он совершил огромный подвиг, сделал большой государственный шаг, ему хочется еще что-нибудь сообщить, и он говорит:
— Кроме того, педагогический совет будет созывать совет старост, и вместе с воспитателями ваши выборные будут обсуждать все наиболее существенные мероприятия школы и ее дальнейшую работу.
Шкида поражена окончательно. Возгласы и реплики разрастаются в рев.
— Ур-ра-а!
Но Викниксор переходит к выборам. Как на аукционе, он выкрикивает названия постов для будущих старост, а в ответ в многоголосом гуле слышатся фамилии выбираемых.
— Староста по кухне. Кого предлагаете? — возглашает Викниксор.
— Янкеля!
— Цыгана!
— Янкеля!
— Даешь Черных!
— Черных старостой!
— Кто за Черных? Поднять руки. Кто против? Против нет. Итак, единодушное большинство за. Черных, ты — староста по кухне.
Уже прозвенел звонок, призывающий спать, а собрание еще только разгоралось.
Наконец, далеко за полночь, Викниксор встал и объявил:
— Все места распределены. Время позднее, пора спать.
Он подошел к дверям, но, вспомнив что-то, обернулся и добавил:
— Собрание считаю закрытым. Между прочим, ребята, за последнее время вы что-то очень разбузились, поэтому я решил ввести для неисправимых изолятор. Поняли? А теперь — спать.
— Вот вам и конституция! — съязвил за спиной Викниксора Японец.
Но его не слушали.
— Ай да Витя! Ну и молодец! — восхищался Янкель, чувствуя, что пост кухонного старосты принесет ему немало приятного.
— Да-с, здорово.
— Теперь мы равноправные граждане.
— Эй, посторонитесь, гражданин Викниксор!.. Гррра-жданин шкидец идет,— не унимался Японец.
Новый закон Викниксора обсуждали везде.
В спальне, в уборной, в классах.
185
Бедный дядя Сережа безуспешно пытался угомонить и загнать в спальню своих возбужденных питомцев.
Шкидцы радовались.
Только один Еонин с видом глубоко обиженного, непризнанного пророка презрительно выкрикивал фразы, полные желчи и досады:
— Эх вы! Дураки! Растаяли! Вам дали парламент, но вы получили и каторгу.
Он намекал на старост и изолятор.
— Чего ты ноешь? — возмущались товарищи, однако Японец не переставал. Он закидывал руки вверх и трагически восклицал:
— Народ! О великий шкидский народ! Ты ослеп. Тебя околдовали. Заклинаю тебя, Шкида, не верь словам Викниксора, ибо кто-кто, а он всегда надуть может.
Не было случая, чтобы Еонин поддержал новую идею Викниксора, и всегда в его лице педагоги встречали ярого противника. Но если прежде за ним шло большинство, то теперь его мало кто слушал. Получившие конституцию шкидцы чувствовали себя именинниками.
ВЕЛИКИЙ РОСТОВЩИК
Паучок.— Клуб со стульчиком.— Четыре сбоку, ваших нет.— Шкида в рабстве.— Оппозиция.— Птички.— Савушкин дебош.— Смерть хлебному королю!
Слаенов был маленький, кругленький шкет. Весь какой-то сдобный, лоснящийся. Даже улыбался он как-то сладко, аппетитно. Больше всего он был похож на сытого, довольного паучка.
Откуда пришел Слаенов в Шкиду, никто даже не полюбопытствовал узнать, да и пришел-то он как-то по-паучьи. Вполз тихонько, осторожненько, и никто его не заметил.
Пришел Слаенов во время обеда, сел на скамейку за стол и стал обнюхиваться. Оглядел соседей и вступил в разговор.
— А что? У вас плохо кормят?
— Плохо. Одной картошкой живем.
— Здорово! И больше ничего?
— А тебе чего же еще надо? Котлеток? Хорошо, что картошка есть. Это, брат, случайно запаслись. В других школах и того хуже.
Слаенов подумал и притих.
Дежурный с важностью внес на деревянном щите хлеб. За ним вошел, солидно помахивая ключом, староста Янкель. Он уже две недели исправно работал на новом посту и вполне освоился со своими обязанностями.
— Опять по осьмухе дают! — тоскливо процедил Савушка, вечно
186
голодный, озлобленный новичок из второго отделения, но осекся под укоризненным взглядом халдея Сашкеца.
Однако настроение подавленности передалось и двум соседям Савушки, таким же нытикам, как и он сам. Кузя и Коренев вечно ходили озабоченные приисканием пищи, и это сблизило их. Они стали сламщиками. Слаенов приглядывался к тройке скулящих, но сам деликатно молчал. Новичку еще не подобало вмешиваться в семейные разговоры шкидцев.
Янкель обошел два стола, презрительно швыряя «пайки» шкидцам и удивляясь в душе, как это можно так жадно смотреть на хлеб. Сам Янкель чувствовал полное равнодушие к черствому ломтю, возможно, потому, что у него на кухне, в столе, лежала солидная краюха в два фунта, оставшаяся от развешивания.
— Янкель, дай горбушку,— жалобно заскулил Кузя.
— Поди к черту,— обрезал его Черных.
Горбушки лежали отдельно, для старшего класса.
Розданные пайки исчезали моментально. Только Слаенов не ел своего хлеба. Он равнодушно отложил его в сторону и лениво похлебывал суп.
— Ты что же хлеб-то не ешь? — спросил его Кузя, с жадностью поглядывая на соблазнительную осьмушку.
— Неохота,— так же равнодушно ответил Слаенов.
— Дай мне. Я съем,— оживился Кузя.
Но Слаенов уже прятал хлеб в карман.
— Я его сам на уроке заверну.
Кузя надулся и замолчал.
Когда все именуемое супом было съедено, принесли второе.
Это была жареная картошка.
Липкий, слащавый запах разнесся по столовой. Шкидцы понюхали воздух и приуныли.
— Опять с тюленьим жиром!
— Да скоро ли он кончится? В глотку уже не лезет!
Однако трудно проглотить только первую картофелину. Потом вкус «тюленя» притупляется и едят картошку уже без отвращения, стараясь как можно плотнее набить животы.
Этот тюлений жир был гордостью Викниксора, и, когда ребята возмущались, он начинал поучать:
— Зря, ребята, бузите. Это еще хорошо, что у нас есть хоть тюлений жир,— в других домах и этого нет. А совершенно без жиру жить нельзя.
— Истинно с жиру бесятся! —острил Японец, с печальной гримасой поглядывая на миску с картошкой.
Он не мог выносить даже запаха «тюленя».
Вид картошки был соблазнителен, но приторный привкус отбивал всякий аппетит. Еошка минуту боролся, наконец отвращение осилило голод, и, подцепив картошку на вилку, он с озлоблением запустил ею по столу.
187
Желтенький шарик прокатился по клеенке, оставляя на ней жирный след, и влип в лоб Горбушке, увлекшемуся обедом.
Громкий хохот заставил встрепенуться Сашкеца.
Он обернулся, минуту искал глазами виновника, увидел утирающегося Горбушку, перевел взгляд на Японца и коротко приказал:
— За дверь!
— Да за что же, дядя Саша? — пробовал протестовать Японец, но дядя Саша уже вынимал карандаш и записную книжку, куда записывал замечания.
— Ну и вали, записывай. Халдей!
Еошка вышел из столовой.
Кончился обед, а Кузя все не мог забыть осьмушку хлеба в кармане Слаенова.
Он не отходил от него ни на шаг.
Когда стали подниматься по лестнице наверх в классы, Слаенов вдруг остановил Кузю.
— Знаешь что?
— Что? — насторожился Кузя.
— Я тебе дам свою пайку хлеба сейчас. А за вечерним чаем ты мне отдашь свою.
Кузя поморщился.
— Ишь ты, гулевой. За вечерним чаем хлеба по четвертке «дают, а ты мне сейчас осьмушку всучиваешь.
Слаенов сразу переменил тон:
— Ну, как хочешь. Я ведь не заставляю.
Он опять засунул в карман вынутый было кусок хлеба.
Кузя минуту стоял в нерешительности. Благоразумие подсказывало ему: не бери, будет хуже. Но голод был сильнее благоразумия, и голод победил.
— Давай. Черт с тобой! — закричал Кузя, видя, как Слаенов заворачивает в зал.
Тот сразу вернулся и, сунув осьмушку в протянутую руку, уже независимо проговорил:
— Значит, ты мне должен четвертку за чаем.
Кузя хотел вернуть злосчастный хлеб, но зубы уже впились в мякиш.
Вечером Кузя «сидел на топоре» и играл на зубариках. Хлеб, выданный ему к чаю, переплыл в карман Слаенова. Есть Кузе хотелось невероятно, но достать было негде. Кузя был самый робкий и забитый из всего второго отделения, поэтому так трудно ему было достать себе пропитание.
Другие умудрялись обшаривать кухню и ее котлы, но Кузя и на это не решался.
Вся его фигура выражала унижение и покорность, и прямо не
188
верилось, что в прошлом за Кузей числились крупные кражи и буйства. Казалось, что по своей покорности он взял чью-то вину на себя и отправился исправляться в Шкиду.
Рядом за столом чавкал — до тошноты противно — Кузин слам- щик Коренев и, казалось, совсем не замечал, что у его друга нет хлеба.
— Дай кусманчик хлебца. А? — робко попросил Кузя у него, но тот окрысился:
— А где свой-то?
— А я должен новичку.
— Зачем же должал?
— Ну ладно, дай кусманчик.
— Нет, не дам.
Коренев опять зачавкал, а измученный Кузя обратился, на что-то решившись, через стол к Слаенову:
— До завтра дай. До утреннего чая.
Слаенов равнодушно посмотрел, потом достал Кузину четвертку, на глазах всего стола отломил половину и швырнул Кузе. Вторую половину он так же аккуратно спрятал в карман.
— Эй, постой! Дай и мне!
Это крикнул Савушка. Он уже давно уплел свою пайку, а есть хотелось.
— Дай и мне. Я отдам завтра,— повторил он.
— Утреннюю пайку отдашь,— хладнокровно предупредил Слаенов, подавая ему оставшуюся половину Кузиного хлеба.
— Ладно. Отдам. Не плачь.
На другой день у Слаенова от утреннего чая оказались две лишние четвертки. Одну он дал опять в долг голодным Савушке и Кузе, другую у него купил кто-то из первого отделения.
То же случилось в обед и вечером, за чаем.
Доход Слаенова увеличился. Через два дня он уже позволил себе роскошь — купил за осьмушку хлеба записную книжку и стал записывать должников, количество которых росло с невероятной быстротой.
Еще через день он уже увеличил себе норму питания до двух порций в день, а через неделю в слаеновской парте появились хлебные склады. Слаенов вдруг сразу из маленького, незаметного новичка вырос в солидную фигуру с немалым авторитетом.
Он уже стал заносчив, покрикивал на одноклассников, а те робко молчали и туже подтягивали ремешки на животах.
Еще бы, все первое и половина второго отделения были уже его должниками.
Уже Слаенов никогда не ходил один, вокруг него юлила подобострастная свита должников, которым он иногда в виде милостыни жаловал кусочки хлеба.
189
Награждал он редко. В его расчеты не входило подкармливать товарищей, но подачки были нужны, чтобы ребята не слишком озлоблялись против него.
С каждым днем все больше и больше запутывались жертвы Слаенова в долгах, и с каждым днем росло могущество «великого ростовщика», как называли его старшие.
Однако власть его простиралась не далее второго класса: самые могучие и самые крепкие — третье и четвертое отделение — смотрели с презрением на маленького шкета и считали ниже своего достоинства обращать на него внимание.
Слаенов хорошо сознавал опасность такого положения. В любой момент эти два класса или даже один из них могли разрушить его лавочку. Это ему не улыбалось, и Слаенов разработал план, настолько хитрый, что даже самые умные деятели из четвертого отделения не могли раскусить его и попались на удочку.
Однажды Слаенов зашел в четвертое отделение и, как бы скучая, стал прохаживаться по комнате.
Щепетильные старшие не могли вынести такой наглости: чтобы в их класс, вопреки установившемуся обычаю, смели приходить из первого отделения и без дела шляться по классу! Слаенов для них еще ничего особенного не представлял, поэтому на него окрысились.
— Тебе что надо здесь? — гаркнул Громоносцев.
Слаенов съежился испуганно.
— Ничего, Цыганок, я так просто пришел.
— Так? А кто тебя пускал?
— Никто.
— Ах, никто? Ну, так я тебе сейчас укажу дверь, и ты в другой раз без дела не приходи.
— Да я что же, я ничего. Я только думал, я думал...— бормотал Слаенов.
— Что думал?
— Нет, я думал, вы есть хотите. Хочешь, Цыганок, хлеба? А? А то мне его девать некуда.
Цыган недоверчиво посмотрел на Слаенова.
— А ну-ка, давай посмотрим.
При слове «хлеб» шкидцы оглянулись и насторожились, а Слаенов уже спокойно вынимал из-за пазухи четвертку хлеба и протягивал ее Громоносцеву.
— А еще у тебя есть? — спросил, подходя к Слаенову, Японец.
Тот простодушно достал еще четвертку.
— На. Мне не жалко.
— А ну-ка, дай и мне,— подскочил Воробей, а за ним повскакали со своих мест Мамочка и Горбушка.
Слаенов выдал и им по куску.
Когда же подошли Сорока и Гога, он вдруг сморщился и бросил презрительно:
190
— Нету больше!
Хитрый паучок почуял сразу, что ни Гога, ни Сорока влиянием не пользуются, а поэтому и тратиться на них считал лишним.
Ребята уже снисходительно поглядывали на Слаенова.
— Ты вали, забегай почаще,— усмехнулся Цыган и, войдя во вкус, добавил: — Эх, достать бы сахаринчику сейчас да чайку выпить!
Слаенов решил завоевать старших до конца.
— У меня есть сахарин. Кому надо?
— Вот это клёво,— удивился Японец.— Значит, и верно чайку попьем.
А Слаенов уже распоряжался:
— Эй, Кузя, Коренев! Принесите чаю с кухни. Кружки у Марфы возьмите. Старшие просят.
Кузя и Коренев ждали у дверей и по первому зову помчались на кухню.
Через пять минут четвертое отделение пировало. В жестяных кружках дымился кипяток, на партах лежали хлеб и сахарин. Ребята ожесточенно чавкали, а Слаенов, довольный, ходил по классу и, потирая руки, распространялся:
— Шамайте, ребята. Для хороших товарищей разве мне жалко? Я вам всегда готов помочь. Как только кто жрать захочет, так посылайте ко мне. У меня всегда все найдется. А мне не жалко.
— Ага. Будь спокоен. Теперь мы тебя не забудем,— соглашался Японец, набивая рот шамовкой.
Так было завоевано четвертое отделение.
Теперь Слаенов не волновался. Правда, содержание почти целого класса первое время было для него большим убытком, но зато постепенно он приучал старших к себе.
В то время хлеб был силой, Слаенов был с хлебом, и ему повиновались.
Незаметно он сумел превратить старших в своих телохранителей и создал себе новую могучую свиту.
Первое время даже сами старшие не замечали этого. Как-то вошло в привычку, чтобы Слаенов был среди них. Им казалось, что не они со Слаеновым, а Слаенов с ними. Но вот однажды Громо-
191
носцев услышал фразу, с таким презрением произнесенную каким-то первоклассником, что его даже передернуло.
— Ты знаешь,— говорил в тот же день Цыган Японцу,— нас младшие холуями называют. А? Говорят, Слаенову служим.
— А ведь правы они, сволочи,— тоскливо морщился Японец.— Так и выходит. Сами не заметили, как холуями сделались. Противно, конечно, а только трудно отстать... Ведь он, гадюка, приучил нас сытыми быть!
Скоро старшие свыклись со своей ролью и уже сознательно старались не думать о своем падении.
Один Янкель по-прежнему оставался независимым, и его отношение к ростовщику не изменилось к лучшему. Силу сопротивления ему давал хлеб. Он был старостой кухни и поэтому мог противопоставить богатству Слаенова свое собственное богатство.
Однако втайне Янкель невольно чувствовал уважение к паучку- ростовщику. Его поражало то умение, с каким Слаенов покорил Шкиду. Янкель признавал в нем ловкого человека, даже завидовал ему немножко, но тщательно это скрывал.
Тем временем Слаенов подготавливал последнюю атаку для закрепления власти. Незавоеванным оставалось одно третье отделение, которое нужно было взять в свои руки. Кормить третий класс, как четвертый, было убыточно и невыгодно, затянуть его в долги, как первый класс, тоже не удалось. Там сидели не такие глупые ребята, чтобы брать осьмушку хлеба за четвертку.
Тогда Слаенов напал на третье отделение с новым оружием.
Как-то после уроков шкидцы, по обыкновению, собрались в своем клубе побеседовать и покурить.
Клубов у шкидцев было два — верхняя и нижняя уборные. Но в верхней было лучше. Она была обширная, достаточно светлая и более или менее чистая.
Когда-то здесь помещалась ванна, потом ее сняли, но пробковые стены остались, остался и клеенчатый пол. При желании здесь можно было проводить время с комфортом, и, главное, здесь можно было курить с меньшим риском засыпаться.
В уборных всегда было оживленно и как-то по-семейному уютно.
Клубился дым на отсвете угольной лампочки. Велись возбужденные разговоры, и было подозрительно тепло. На запах шкидцы не обращали внимания.
Уборные настолько вошли в быт, что никакая борьба халдеев с этим злом не помогала. Стоило только воспитателю выгнать ребят из уборной и отойти на минуту в сторону, как она вновь наполнялась до отказа.
В верхней-то уборной и начал Слаенов атаку на независимое третье отделение.
Он вошел в самый разгар оживления, когда уборная была битком набита ребятами. Беспечно махнув в воздухе игральными картами, Слаенов произнес:
192
— С кем в очко сметать?
Никто не отозвался.
— С кем в очко? На хлеб за вечерним чаем,— снова повторил Слаенов.
Худенький, отчаянный Туркин из третьего отделения принял вызов:
— Ну давай, смечем. Раз на раз!
Слаенов с готовностью смешал засаленные карты.
Вокруг играющих собралась толпа. Все следили за игрой Турки. Все желали, чтобы Слаенов проиграл. Туркин набрал восемнадцать очков и остановился.
— Побей. Хватит,— тихо сказал он.
Слаенов открыл свою карту — король. Следующей картой оказался туз.
— Пятнадцать очков,— пронесся возбужденный шепот зрителей.
— Прикупаешь? — спросил Туркин тревожно. Слаенов усмехнулся:
— Конечно.
— Король!
— Девятнадцать очков. Хватит.
Туркин проиграл.
— Ну, давай на завтрашний утренний сыграем,— опять предложил Слаенов.
Толстый Устинович, самый благоразумный из третьеклассников, попробовал остановить:
— Брось, Турка. Не играй.
Но тот уже зарвался:
— Пошел к черту! Не твой хлеб проигрываю. Давай карту, Слаеныч.
Туркин опять проиграл.
Дальше игра пошла лихорадочным темпом. Счастье переходило от одного к другому.
Оторваться темпераментный Турка уже не имел силы, и игра прерывалась только на уроках и за вечерним чаем.
Потом они играли, играли и играли.
В третьем отделении царило невероятное возбуждение. То и дело в класс врывались гонцы и сообщали новости:
— Туркин выиграл у Слаенова десять паек.
— Туркин проиграл пять.
Уже прозвенел звонок, призывающий ко сну, а игра все продолжалась.
В спальне кто-то предупредительно сделал на кроватях отсутствующих чучело из одеял и подушек...
Утром стало известно: Туркин в доску проигрался. Он за одну ночь проиграл двухнедельный паек и теперь должен был ежедневно отдавать весь свой хлеб Слаенову.
7 Школьные годы. Выпуск 1
193
Скоро такая же история случилась с Устиновичем, а дальше началась дикая картежная лихорадка. Очко, как заразная бацилла, распространялась в школе, и главным образом в третьем отделении. Появлялись на день, на два маленькие короли выигрыша, но их сразу съедал Слаенов.
То ли ему везло, то ли он плутовал, однако он всегда был в выигрыше. Скоро третье отделение уже почти целиком зависело от него.
Теперь три четверти школы платило ему долги натурой.
Слаенов еще больше вырос. Он стал самым могучим в Шкиде. Вечно он был окружен свитой старших, и с широкого лица его не сходило выражение блаженства.
Это время Шкиде особенно памятно. Ежедневно Слаенов задавал пиры в четвертом отделении, откармливая свою гвардию.
В угаре безудержного рвачества росло его могущество. Шкида стонала, голодная, а ослепленные обжорством старшеклассники не обращали на это никакого внимания.
Каждый день полшколы отдавало хлеб маленькому жирному пауку, а тот выменивал хлеб на деньги, колбасу, масло, конфеты.
Для этого он держал целую армию агентов.
Из-за голода в Шкиде начало развиваться новое занятие — «услужение».
Первыми «услужающими» оказались Кузя и Коренев. За кусочек хлеба эти вечно голодные ребята готовы были сделать все, что им прикажут. И Слаенов приказывал.
Он уже ничего не делал сам. Если его посылали пилить дрова, он тотчас же находил заместителя за плату: давал кусок хлеба — и тот исполнял за него работу. Так было во всем.
Скоро все четвертое отделение перешло на положение тунеяд- цев-буржуев.
Все работы за них выполняли младшие, а оплачивал эту работу Слаенов.
Вечером, когда Слаенов приходил в четвертое отделение, Японец, вскакивая с места, кричал:
— Преклоните колени, шествует его величество хлебный король!
— Ура, ура, ура! — подхватывал класс.
Слаенов улыбался, раскланивался и делал знак сопровождающему его Кузе. Кузя поспешно доставал из кармана принесенные закуски и расставлял все на парте.
— Виват хлебному королю! — орал Японец.— Да будет благословенна жратва вечерняя! Сдвигайте столы, дабы воздать должное питиям и яствам повелителя нашего!
Мгновенно на сдвинутых партах вырастали горы конфет, пирожные, сгущенное молоко, колбаса, ветчина, сахарин.
Шум и гам поднимались необыкновенные. Начиналась всамделишная «жратва вечерняя». С набитыми ртами, размахивая толстыми,
194
двухэтажными бутербродами, старшие наперебой восхваляли Слаенова.
— Бог! Божок! — надрывался Японец, хлопая Слаенова по жирному плечу.— Божок наш! Телец златой, румяненький, толстенький!
И, припадая на одно колено, под общий исступленный хохот протягивал Слаенову огрызок сосиски и умолял:
— Повелитель! Благослови трапезу.
Слаенов хмыкал, улыбался и, хитро поглядывая быстрыми глазками, благословлял — мелко крестил сосиску.
— Ай черт! — в восторге взвизгивал Цыган.— Славу ему пропеть!
— Носилки королю! На руках нести короля!
Слаенова подхватывали на руки присутствовавшие тут же младшие и носили его по классу, а старшие, подняв швабры — опахала — над головой ростовщика, ходили за ним и ревели дикими голосами:
Славься ты, славься,
Наш золотой телец!
Славься ты, славься,
Слаенов-молодец!..
Церемония заканчивалась торжественным возложением венка, который наскоро скручивали из бумаги.
Доедая последний кусок пирожного, Японец произносил благодарственную речь.
...Однажды во время очередного пиршества Слаенов особенно разошелся.
Ели, кричали, пели славу. А у дверей толпилась кучка голодных должников.
Слаенов опьянел от восхвалений.
— Я всех могу накормить,— кричал он.— У меня хватит!
Вдруг взгляд его упал на Кузю, уныло стоявшего в углу. Слаенова
осенило.
— Кузя! — заревел он.— Иди сюда, Кузя!
Кузя подошел.
— Становись на колени!
Кузя вздрогнул, на минуту смешался; что-то похожее на гордость заговорило в нем. Но Слаенов настаивал:
— На колени. Слышишь? Накормлю пирожными.
И Кузя стал, тяжело нагнулся, будто сломался, и низко опустил голову, пряча от товарищей глаза. Лицо Слаенова расплылось в довольную улыбку.
— На, Кузя, шамай. Мне не жалко,— сказал он, швыряя коленопреклоненному Кузе кусок пирожного.
Внезапно новая блестящая мысль пришла ему в голову.
— Эй, ребята! Слушайте! — Он вскочил на парту и, когда все утихли, заговорил: — Кузя будет мой раб! Слышишь, Кузя?
195
Ты — мой раб. Я — твой господин. Ты будешь на меня работать, а я буду тебя кормить. Встань, раб, и возьми сосиску.
Побледневший Кузя покорно поднялся и, взяв подачку, отошел в угол. На минуту в классе возникла неловкая тишина. Японца передернуло от унизительного зрелища. То же почувствовали Громоносцев и Воробей, а Мамочка открыто возмутился:
— Ну и сволочь же ты, Слаенов.
Слаенов опешил, почувствовал, что зарвался, но уже в следующее мгновение оправился и громко запел, стараясь заглушить ворчание Мамочки.
Рабство с легкой руки Слаенова привилось, и прежде всего обзавелись рабами за счет ростовщика четвертоотделенцы. Все они чувствовали, что поступают нехорошо, но каждый про себя старался смягчить свою вину, сваливая на другого.
Рабство стало общественным явлением. Рабы убирали по утрам кровати своих повелителей, мыли за них полы, таскали дрова и исполняли все другие поручения.
Могущество Слаенова достигло предела.
Он был вершителем судеб, после заведующего он был вторым правителем школы.
Когда оказалось, что хлеба у него больше, чем он мог расходовать, Слаенов начал самодурствовать. Он заставлял для своего удовольствия рабов петь и танцевать.
При каждом таком зрелище присутствовали и старшие. Скрепя сердце они притворно усмехались, видя кривлянья младших.
Им было до тошноты противно, но слишком далеко зашла их дружба со Слаеновым.
А великий ростовщик бесновался.
Часто, лежа в спальне, он вдруг поднимал свою лоснящуюся морду и громко выкрикивал:
— Эй, Кузя! Раб мой!
Кузя покорно выскакивал из-под одеяла и, дрожа от холода, ожидал приказаний.
Тогда Слаенов, гордо посматривая на соседей, говорил:
— Кузя, почеши мне пятки.
И Кузя чесал.
— Не так... Черт! Пониже. Да не скреби, а потихоньку,— командовал Слаенов и извивался, как сибирский кот, тихо хихикая от удовольствия.
Ежедневно вечером за хлеб нанимал он сказочников, которые должны были говорить до тех пор, пока Слаенов не засыпал.
Доход Слаенова с каждым днем все рос. Он получал каждый день чуть ли не весь паек школы — полтора-два пуда хлеба — и кормил старших. За это старшие устраивали ему овации, называли его «Золотым тельцом» и «Хлебным королем».
Слаенов был первым богачом не только в Шкиде, но, пожалуй, и во всем Петрограде.
196
Так продолжался разгул Слаенова, а между тем нарастало недовольство.
Все чаще и чаще на кухне у Янкеля собиралась тройка заговорщиков.
Там, за прикрытой дверью, за чаем с хлебом и сахарином, обсуждались деяния Слаенова.
— Ой и сволочь же этот Слаенов,— возмущался Мамочка, поблескивая одним глазом.— Я бы его сейчас отдул, хоть он и сильнее меня!
— И ст-т-оит. И ст-т-оит,— заикался Гога, но Янкель благоразумно увещевал:
— Обождите, ребята, придет время, мы с ним поговорим.
Тройка эта показала Слаенову свои когти. Однажды, когда он
попытался заговорить с Мамочкой и ласково предложил ему сахарину, тот возмутился.
Прямолинейный и страшно вспыльчивый Мамочка сперва покрыл Слаенова крепкой руганью, потом начал отчитывать:
— Да я тебя, сволочь несчастная, сейчас кочергой пришибу, ростовщик поганый! Обокрал всю школу. Ты лучше со мной и не разговаривай, парша, а то, гляди, морду расквашу!
Нападение было неожиданным. Мамочка искал только предлога, а Слаенов никак не думал, что противники окажутся такими стойкими и злобными.
Скандал произошел в людном месте. Кругом стояли и слушали рабы и одобрительно, хотя и боязливо, хихикали.
Слаенов так опешил, что даже не нашелся, что сказать, и, посрамленный, помчался в четвертое отделение.
Там он сел в углу и сделал плачущее лицо.
— Ты чего скуксился? — спросил его Громоносцев.
Слаенов обо всем рассказал.
— Понимаешь, Мамочка грозится побить,— говорил он и щупал глазами фигуры своих телохранителей, но те смущенно молчали.
Тут Слаенов впервые почувствовал, что сделал крупный промах.
Он считал себя достаточно сильным, чтобы заставить Громонос- цева и всю компанию приверженцев повлиять на их одноклассника Мамочку, но ошибся. Мамочку, по-видимому, никто не решался трогать, и это было большим ударом для Слаенова.
Он сразу почувствовал, во что может превратиться маленькое ядро оппозиции, и поэтому решил раздавить ее в зародыше.
Но начал он уже не с Мамочки.
Янкель только что вошел в класс. В руках его была солидная краюха хлеба, которая, по обыкновению, осталась от развески.
Он собирался пошамать, но, увидев Слаенова, нахмурился.
— Долго ты здесь будешь шляться еще? — угрюмо спросил он
197
ростовщика среди наступившей гробовой тишины, но вдруг, заметив в руках Слаенова карты, смолк.
В голове родилась идея: а что, если попробовать обыграть?
Расчет Слаенова оказался верен: в следующее же мгновение Янкель предложил сыграть в очко.
Игра началась.
Через час, после упорной борьбы, Янкель проиграл весь свой запас и начал играть на будущее.
Игра велась ожесточенно. Весь класс чувствовал, что это не просто игра, что это борьба двух стихий. Но Янкелю в этот день особенно не везло. За последующие два часа он проиграл тридцать пять фунтов хлеба, двухмесячный паек. Слаенов предложил прекратить игру, но Янкель настаивал на продолжении.
С трудом удалось его успокоить и увести в спальню.
Маленький, лоснящийся, тихий паучок победил еще раз.
Утром Янкель встал с больной головой. Он с отчаянием вспомнил о вчерашнем проигрыше.
На кухне он заглянул в тетрадку и решил на риск назначить дежурным по кухне вне очереди Мамочку. Так и сделал.
Сходили с ним в кладовую, получили на день хлеб и стали развешивать.
Янкель придвинул весы, поставил на чашку четверточную гирю, собираясь вешать, и вдруг изумился, глядя на Мамочкины манипуляции.
Тот возился, что-то подсовывая под хлебную чашку весов.
— Ты что там делаешь?
— Не видишь, что ли? Весу прибавляю,— рассердился Мамочка.
— Что же, значит, обвешивать ребят будем? Ведь заскулят.
— Не ребят, а Слаенова... Все равно ему пойдет.
Янкель подумал и не стал возражать.
К вечеру у них скопилось пять фунтов, которые и переправились немедленно в парту Слаенова.
Янкель повеселел. Если так каждый день отдавать, то можно скоро отквитать весь долг.
На другой день он по собственной инициативе подложил под весы солидный гвоздь и к вечеру получил шесть фунтов хлеба.
Янкель был доволен.
Тихо посвистывая, он сидел у стола и проверял по птичкам в тетради выданное количество хлеба. Птички ставились в списке против фамилии присутствующих учеников.
Как назло, сегодня отсутствовало около десяти человек приходящих, и Янкель уже высчитал, что в общей сложности от них он получил около фунта убытку: обвешивать можно было только присутствующих.
Вдруг Янкель вскочил, словно решил какую-то сложную задачу.
— Идея! Кто же может заподозрить меня, если я поставлю четыре лишние птички.
198
Открытие было до смешного просто, а результаты оказались осязательными.
Четыре птички за утренний и за вечерний чай дали два лишних фунта, а четыре за обед прибавили еще маленький довесок в полфунта.
Своим открытием Янкель остался доволен и применил его и на следующий день.
Дальше пошло легко, и скоро оппозиция вновь задрала голову.
От солидного янкелевского долга Слаенову осталось всего пять фунтов, которые он должен был погасить на следующий день.
Но в этот день над Янкелем разразилось несчастье.
После обеда он в очень хорошем настроении отправился на прогулку, а когда пришел обратно в школу, на кухне его встретил новый староста.
За два часа прогулки случилось то, о чем Янкель даже и думать не мог.
Викниксор устроил собрание и, указав на то, что Черных уже полтора месяца работает старостой на кухне, предложил его переизбрать, отметив в то же время, что работа Черных была исправной и безукоризненной.
Старостой под давлением Слаенова избрали Савушку — его вечного должника.
Удар пришелся кстати, и Викниксор невольно явился помощником Слаенова в борьбе с его противниками.
Дни беззаботного существования сменились днями тяжелой нужды. Никогда не голодавшему Янкелю было очень тяжело сидеть без пайка, но долг нужно было отдавать.
Слаенов между тем успокоился.
По его мнению, угрозы его могуществу больше не существовало.
Так же пировал он со старшими, не замечая, что Шкида, изголодавшаяся, измученная, все больше и больше роптала за его спиной.
А ростовщик все наглел. Он уже сам управлял кухней, контролируя Савушку. Слаенов заставлял Савушку подделывать птички, не считаясь с опасностью запороться.
Хлеб ежедневно по десятифунтовой буханке продавался за стенами Шкиды в лавку чухонки. Слаенов стал отлучаться по вечерам в кинематограф. Денег завелось много.
Но злоупотребление птичками не прошло даром.
Однажды за перекличкой Викниксор заметил подделку.
Лицо его нахмурилось, и, подозвав воспитателя, он проговорил:
— Александр Николаевич, разве Воронин был сегодня?
Сашкец ответил без промедления:
— Нет, Виктор Николаевич, не был.
— Странно. Почему же он отмечен в тетради?..
Викниксор углубился в изучение птичек.
— А Заморов был?
199
— Тоже нет.
— А Данилов?
— Тоже нет.
— Андриянов?
— Нет.
— Позвать старосту.
Савушка явился испуганный, побледневший.
— Вы меня звали, Виктор Николаевич?
— Да, звал.— Викниксор строго поглядел на Савушку и, указав на тетрадь, спросил голосом, не предвещавшим ничего хорошего:
— Почему здесь лишние отметки?
Савушка смутился.
— А я не знаю, Виктор Николаевич.
— А хлеб кто за них получал?
— Я... я никому не давал.
Вид Савушки выдал его с головой. Он то бледнел, то краснел, шмыгал глазами по столовой и, как затравленный, не находя, что сказать, бормотал:
— Не знаю. Не давал. Не знаю.
Голос Викниксора сразу стал металлическим:
— Савин сменяется со старост. Савина в изолятор. Александр Николаевич, позаботьтесь.
Сашкец молча вытащил из кармана ключ и, подтолкнув, повел Савушку наверх.
В столовой наступила грозная тишина.
Все сознавали, что Савушка влип ни за что ни про что. Виноват был Слаенов.
Ребятам стало жалко тихого и покорного Савушку.
А Викниксор, возмущенный, ходил по комнате и говорил:
— Это неслыханно! Это самое подлое и низкое преступление. Обворовывать своих же товарищей. Брать от них последний кусок хлеба. Это гадко!
Вдруг его речь прервал нечеловеческий вопль. Крик несся с лестницы. Викниксор помчался туда.
На лестнице происходила драка.
Всегда покорный Савушка вдруг забузил.
— Не пойду в изолятор. Сволочи, халдеи! Уйди, Сашкец, а то морду разобью!
Сашкец делал героические попытки обуздать Савушку. Он схватил его за талию, стараясь дотащить до изолятора, но Савин не давался.
В припадке ярости он колотил по лицу воспитателя кулаками. Сашкец посторонился и выпустил его. Савушка с громким воплем помчался к двери. В эту минуту в дверях показался Викниксор, но, увидев летящего ураганом воспитанника, отскочил — и сделал это вовремя. Кулак Савина промелькнул у самого его носа...
200
— А, Витя! Я тебя убью, сволочь! Дайте мне нож...
— Савин, в изолятор! — загремел голос заведующего, но это еще больше раззадорило воспитанника.
— Меня? В изолятор? — взвизгнул Савушка и вдруг помчался на кухню.
Оттуда он выскочил с кочергой.
— Где Витя? Где Витя?— Савушка был страшен. При виде мчащегося на него ученика, яростно размахивающего кочергой, Вик- никсору сделалось нехорошо.
Стараясь сохранить достоинство, он стал отступать к своей квартире, но в последний момент ему пришлось сделать большой прыжок за дверь и быстро ее захлопнуть.
Кочерга Савушки с треском впилась в высокую белую дверь.
Разозленный неудачным нападением, Савушка кинулся было на воспитателя, но ярость его постепенно улетучилась. Он бросил кочергу и убежал.
Через четверть часа Сашкец, с помощью дворника, нашел его в классе. Савушка, съежившись, сидел в углу на полу и тихо плакал.
В изолятор он пошел покорный, размякший и придавленный.
Педагоги не знали, что стряслось с Савиным. Они недоумевали. Ведь многих же сажали в изолятор, но ни с кем не было таких припадков буйства, как с Савушкой. Истину знали шкидцы. Они-то хорошо понимали, кто был виноват в преступлении Савина, и Слаенов все больше и больше чувствовал обращенные на него свирепые взгляды.
Страх все сильнее овладевал им. Он понимал, что теперь это не пройдет даром.
Тогда он вновь решил задобрить свою гвардию и устроил в этот вечер неслыханный пир: он поставил на стол кремовый торт, дюжину лимонада и целое кольцо ливерной колбасы. Но холодно и неприветливо было на пиршестве. Угрюмы были старшие.
А там наверху голодная Шкида паломничала к изолятору и утешала Савушку сквозь щелку:
— Савушка, сидишь?
— Сижу.
— Ну, ладно, ничего. Посидишь — и выпустят. Это все Слаенов, сволочь, виноват.
201
А Савушка, понурившись, ходил, как зверек, по маленькой четырехугольной комнатке и грозился:
— Я этому Слаенову морду расквашу, как выйду.
В верхней уборной собрались шкидцы и, мрачные, обсуждали случившееся.
Турка держал четвертку хлеба и сосредоточенно смотрел на нее. Эта четвертка — его утренний паек, который нужно было отдать Слаенову, но Турка был прежде всего голоден, а кроме того, озлоблен до крайности. Он еще минуту держал хлеб в руке, не решаясь на что-то, и вдруг яростно впился зубами в хлебную мякоть.
— Ты что же это? — удивился Устинович.— А долг?
— Не отдам,— хмуро буркнул в ответ Турка.
— Ну-у? Неужели не отдашь? А старшие?..
Да, старшие могли заставить, и это сразу охладило Турку. Теперь уже был опасен не Слаенов, а его гвардия. Он остановился с огрызком в раздумье — и вдруг услышал голос Янкеля:
— Эх, была не была! И я съем свою четвертку. А долг пусть Слаенов с Гоголя получит.
В этот момент все притихли.
В дверях показался Слаенов. Он раскраснелся. И так всегда красное лицо пылало. Он прибежал с пирушки — на углах рта еще белели прилипшие крошки торта и таяли кусочки крема.
Слаенов почувствовал тревогу и насторожился, но решил держаться до конца спокойно.
Он подошел, пронизываемый десятками взоров, к Турке и спокойно проговорил:
— Гони долг, Турка. За утро.
Туркин молчал.
Молчали и окружающие.
— Ну, гони долг-то! — настаивал Слаенов.
— С Гоголя получи. Нет у меня хлеба,— решительно брякнул Турка.
— Как же нет? А утренняя пайка?
— Съел утреннюю пайку.
— А долг?
— А этого не хотел? — С этими словами Турка сделал рукою довольно невежливый знак.— Не буду долгов тебе отдавать — и все! ^
— Как это не будешь? — опешил Слаенов.
— Да не буду — и все.
— А-а-а!
Наступила тишина. Все следили за Слаеновым. Момент был критический, но Слаенов растерялся и глупо хлопал глазами.
— Нынче вышел манифест. Кто кому должен, тому крест,— продекламировал Янкель, вдруг разбив гнетущее молчание, и громкий хохот заглушил последние его слова.
— А-а-а! Значит, так вы долги платите?! Ну, хорошо...
202
С этими словами Слаенов выскочил из уборной, и ребята сразу приуныли.
— К старшим помчался. Сейчас Громоносцева приведет.
Невольно чувствовалось, что Громоносцев должен будет решить
дело. Ведь он — сила, и если он сейчас заступится за Слаенова, то завтра же вновь Турка будет покорно платить дань великому ростовщику, а с ним будут тянуть лямку и остальные.
— А может, он не пойдет,— робко высказал свои соображения Устинович среди всеобщего уныния. Все поняли, что под «ним» подразумевается Громоносцев, и втайне надеялись, что он не пойдет за Слаеновым.
Но он пришел. Пришел вместе со Слаеновым.
Слаенов гневно и гордо посмотрел на окружающих и проговорил, указывая пальцем на Туркина:
— Вот, Цыганок, он отказывается платить долги!
Все насторожились. Десяток пар глаз впился в хмурое лицо Цыгана, ожидая чего-то решающего.
Да или нет?
Да или нет?..
А Слаенов жаловался:
— Я пришел. Давай, говорю, долг, а он смеется, сволочь, и на Гоголя показывает.
Громоносцев молчал, но лицо его темнело все больше и больше. Узенькие ноздри раздулись, и вдруг он, обернувшись к Слаенову, скверно выругался.
— Ты что же это?.. Думаешь, я держиморда или вышибала какой? Я вовсе не обязан ходить и защищать твою поганую морду, а если ты еще раз обратишься ко мне, я тебя сам проучу! Сволота несчастная!
Хлопнула дверь, и Слаенов остался один в кругу врагов, беспомощный и жалкий.
Ребята зловеще молчали. Слаенов почувствовал опасность и вдруг ринулся к двери, но у двери его задержал Янкель и толкнул обратно.
— Попался, голубчик,— взвизгнул Турка, и тяжелая пощечина с треском легла на толстую щеку Слаенова.
Слаенов охнул. Новый удар по затылку заставил его присесть.
Потом кто-то с размаху стукнул кулаком по носу, еще и еще раз...
Жирный ростовщик беспомощно закрылся руками, но очередной Удар свалил его с ног.
— За что бьете? Ребята! Больно! — взвыл он, но его били.
Били долго, с ожесточением, словно всю жизнь голодную на нем
выколачивали. Наконец отрезвились.
— Хватит! Ну его! Пошли...
Слаенов, избитый, жалкий, сидел в углу у стульчака, всхлипывал и растирал рукавом кровь, сочившуюся из носа.
203
Ребята вышли.
Весть о случившемся сразу облетела всю Шкиду.
Старшие в нижней уборной организовали митинг, где вынесли резолюцию: долги считать ликвидированными, рабство уничтоженным — и впредь больше не допускать подобных вещей.
Почти полтора месяца голодавшая Шкида вновь вздохнула свободно и радостно.
Вчерашние рабы ходили сегодня довольные, но больше других были довольны старшие.
Сразу спал гнет, мучивший каждого из них. Они сознавали, что во многом были виноваты сами, и тем радостней было сознание, что они же помогли уничтожить сделанное ими зло.
Падение Слаенова совершилось быстро и неожиданно. Это была катастрофа, которой он и сам не ожидал. Сразу исчезли все доходы, сразу он стал беспомощным и жалким, но к этому прибавилось худшее: он не имел товарищей. Все отшатнулись от него, и даже Кузя, еще недавно стоявший перед ним на коленях, смотрел теперь на него с презрением и отвращением.
Через два дня из изолятора выпустили Савушку и сняли с него вину.
Школа, как один человек, встала на его защиту, а старшеклассники рассказали Викниксору о деяниях великого ростовщика.
Савушка, выйдя из изолятора, тоже поколотил Слаенова, а на другой день некогда великий, могучий ростовщик сам был заключен в изолятор, но никто не приходил к нему, никто не утешал его в заключении.
Еще через пару дней Слаенов исчез. Дверь изолятора нашли открытой. Замок был сорван, а сам Слаенов бежал из Шкиды.
Говорили, что он поехал в Севастополь, носились слухи, что он живет на Лиговке у своих старых товарищей-карманников, но все это были толки.
Слаенов исчез навсегда.
Так кончились похождения великого ростовщика — одна из тяжелых и грязных страниц в жизненной книге республики Шкид.
Долго помнили его воспитанники, и по вечерам «старички», сидя у печки, рассказывали «новичкам» бесконечно прикрашенные легенды о деяниях великого, сказочного ростовщика Слаенова.
СТРЕЛЬНА ТРЕПЕЩЕТ
Май улыбнулся.— Переселение народов.— Косецкий- фокусник.— На даче.— Солнечные ванны.— Кабаре.— Лее на одного.— «Зеркало».— Стрельна трепещет.— История неудавшегося налета.— «Летопись» и разряды.
Первое мая.
Маленькую республику захлестнул поток звуков, знамен, людей и солнца.
С утра вокруг стен Шкиды беспрестанно перекатывались волны демонстрантов.
Никогда еще шкидцы не были так возбуждены. Они столпились у раскрытых окон и кричали демонстрантам «ура»-. Они сами хотели быть там и шагать рядами на площадь, но в этом году детей в демонстрацию почему-то не допустили.
Весна улыбалась первым маем. Первый май улыбался сайками. Белыми, давно не виданными сайками.
Их раздавали за утренним чаем. За обедом Викниксор сказал речь о празднике, потом шкидцы пели «Интернационал».
Вечером все от младшего до старшего ходили в город, смотрели иллюминацию, слушали музыку и толкались, довольные, в повеселевшей праздничной толпе.
Шкидцы радостно встретили весну, а еще радостней им стало, когда узнали, что губоно разыскало для своих питомцев дачу.
Когда окончательно стало известно, что для ребят отвоевана дача где-то в Стрельне и что пора переезжать, вся Шкида высыпала на улицу и наполнила ее воплем и гамом.
Переезжать нужно было трамвайным путем.
С утра мобилизованы были все силы.
Воспитанники вязали тюки белья, свертывали матрацы и переносили вниз кровати.
Ребята с рвением взялись за дело. Даже самые крохотные пер- воотделенцы прониклись важностью момента ц работали не хуже больших.
— Эй, ты! — кричал маленький пузыреподобный Тырновский на своего товарища.— Куда край-то заносишь? Левей, левей. А то не пролезешь.
Они несли койку.
Внизу укладкой вещей занимались Янкель, Цыган и Япошка, а вместе с ними был граф Косецкий.
Граф Косецкий — халдей, но его молодость и чисто товарищеское отношение к ребятам сблизили с ним шкидцев. Графом Косецким его звали за спиной. Он был косым, отсюда и пошла эта кличка.
205
Завоевал Косецкий доверие у старших с первого дня.
Вот как это получилось.
Косецкий только что явился в школу и вечером стал знакомиться с учениками.
Сидели в классе. Косецкий долго распространялся о том, что он хороший физик и что он будет вести практические занятия.
— Это хорошо! — воскликнул в восторге Японец.— А у нас физических пособий до черта. Вон целый шкап стоит.
С этими словами он указал на шкаф, приютившийся в углу класса.
— Где? Покажите,— оживился Косецкий. Глаза его заблестели, и он кинулся к шкафу.
— Да он закрыт.
— Не трогайте, Афанасий Владимирович! Витя запретил его трогать!
Ребята сами испугались поведения Косецкого, а он, беспечно улыбаясь, говорил:
— Черт с ним, что ваш Витя запретил, а мы откроем и посмотрим.
— Не надо!
— Попадет, запоремся!
Однако Косецкий отвинтил перочинным ножичком скобу и, не тронув висячего замка, открыл шкаф.
Он вытащил динамо и стал с увлечением объяснять его действие.
В школе царила полная тишина.
Младшие классы уже спали, и только маленькая группа старшеклассников бодрствовала.
Ребята' слушали объяснения, но сами тревожно насторожились, подстерегая малейший шорох.
Вдруг на лестнице стукнула дверь.
— Прячьте! Викниксор!
— Прячьте!
Динамо боком швырнули в шкаф, прикрыли дверь, едва успели всунуть винты и отскочили.
В класс вошел Викниксор.
Он делал свой очередной обход.
— А, вы еще здесь?
— Да, Виктор Николаевич. Договариваемся о завтрашних занятиях. Сейчас пойдем спать.
— Пора, пора, ребята.
Викниксор походил несколько минут по комнате, почесал за ухом, попробовал пальцем пыль на партах и подошел спокойно к шкафу.
Ребята замерли.
Взоры тревожно впились в пальцы Викниксора, а тот пощупал машинально замок — и, по близорукости не разглядев до половины торчавших винтов, вышел.
206
Вздох облегчения вырвался сразу у всех из груди.
— Пронесло!
Потом, когда уже улеглись в кровати, Цыган долго восторгался:
— Ну и смелый этот Косецкий. Я — и то сдрейфил, а ему хоть бы хны.
После этого случая Косецкий прочно завоевал себе доверие среди старших и даже сошелся с ними близко, перейдя почти на товарищеские отношения.
И вот теперь он вместе с ребятами весело занимался упаковкой вещей. В минуты перерыва компания садилась на ступеньки парадной лестницы и задирала прохожих.
— Осторожней, гражданин. Здесь лужа.
— Эй, торговка, опять с лепешками вышла. Марш, а не то в милицию сведем,— покрикивал Цыган.
Косецкий сидел в стороне и насвистывал какой-то вальс, блаженно жмурясь на солнце.
Наконец там, наверху в школе, все успокоились.
Вещи, необходимые на даче, были перетащены вниз.
Дожидались только трамвая.
Прождали целый день. Викниксор звонил куда-то по телефону, ругался, но платформу и вагон подали лишь поздно вечером, когда в городе уже прекратилось трамвайное движение.
Спешно погрузились, потом расселись по вагону, и республика Шкид тронулась на новые места.
У Нарвских ворот переменили моторный вагон с дугой на маленький пригородный вагончик с роликом. Места в этом вагончике всем не хватило, и часть ребят перелезла на платформы.
Зажурчали колеса, скрипнули рельсы, и снова понеслись вагоны, увозя стадо молодых шпаргонцев.
На платформе устроились коммункой старшие. Сидели и под тихий свист ролика следили за убегающими деревянными домиками заставы.
Уже проехали последнее строение на окраине города, некогда носившее громкое и загадочное название «Красный кабачок», и помчались среди зеленеющих полей.
Трамвай равномерно подпрыгивал на скрепах и летел все дальше без остановок.
Шкидцам стало хорошо-хорошо, захотелось петь. Постепенно смолк смех, и вот под ровный гул движения кто-то затянул:
Высоко над нивами птички поют,
И солнце их светом ласкает,
А я горемыкой на свет родился И ласк материнских не знаю.
Пел Воробей. Песенка, грустная, тихая, тягучая, вплелась в мерный рокот колес.
207
Сердитый и злобный, раз дворник меня Нашел под забором зимою,
В приют приволок меня, злобно кляня,
И стал я приютскою крысой.
Медленно-медленно плывет мотив, и вот уже к Воробью присоединяется Янкель, сразу как-то притихший. Ему вторит Цыган.
Влажный туман наползает с поля. А трамвай все идет по прямым, затуманившимся рельсам, и остаются где-то сзади обрывки песни.
Я ласк материнских с рожденья не знал,
В приюте меня не любили,
И часто смеялись все надо мной,
И часто тайком колотили.
Притихли ребята. Даже Япончик, неугомонный бузила Япончик, притаился в уголке платформы и тоже, хоть и фальшиво, но старательно подтягивает.
Летят поля за низеньким бортом платформы, изредка мелькнет огонек в домике, и опять ширь и туман.
Уж лето настало, цветы зацвели,
И птицы в полянах запели,
А мне умереть без любви суждено В приютской больничной постели.
Вдруг надоело скучать. Янкель вскочил и заорал диким голосом, обрывая тихий тенорок Воробья:
Солнце светит высоко,
А в канаве глубоко Все течет парное молоко.
Сразу десяток глоток подхватил и заглушил шум трамвая. Дикий рев разорвал воздух и понесся скачками в разные стороны — к полю, к дачам, к лесу.
✓
Сахар стали все кусать,
Хлеб кусманами бросать И не стали корочек сосать.
— Вот это да!
— Вот это дернули. По-шкидски по крайней мере!
Вагоны, замедляя ход, пошли в гору.
С площадки моторного что-то кричала Эланлюм, но ребята не слышали.
208
Ее рыжие волосы трепались по ветру, она отчаянно жестикулировала, но ветер относил слова в сторону. Наконец ребята поняли.
Скоро Стрельна.
После подъема Янкель вдруг вытянул шею, вскочил и дико заорал:
— Монастырь! Ребятки, монастырь!
— Ну и что ж такого?
— Как что? Ведь я же год жил в нем. Год! — умилялся Янкель, но, заметив скептические усмешки товарищей, махнул рукой.
— Ну вас к черту. Если б вы понимали. Ведь монастырь. Кладбище, могилки. Хорошо. Кругом кресты.
— И покойнички,— добавил Япончик.
— И косточки, и черепушки,— вторил ему, явно издеваясь над чувствительным Янкелем, Цыган — и так разозлил парня, что тот плюнул и надулся.
Трамвай на повороте затормозил и стал.
— Приехали!..
— Ребята, разгружайте платформу. Поздно. Надо скорее закончить разгрузку,— кричала Эланлюм, но ребята и сами работали с небывалым рвением.
Им хотелось поскорее освободиться, чтобы успеть осмотреть свои новые владения.
Втайне уже носились в бритых казенных головах мечты о далекой осени и о соблазнительной картошке со стрельнинских огородов, но первым желанием ребят было ознакомиться с окрестностями.
Однако из этого ничего не вышло. Весь вечер и часть ночи таскали воспитанники вещи и расставляли их по даче.
На рассвете распределили спальни и тут же сразу, расставив кое-как железные койки, завалились спать.
Дача оказалась славная. Ее почти не коснулись ни время, ни разруха минувших лет. Правда, местные жители уже успели, как видно, не один раз навестить этот бывший графский или княжеский особняк, но удовольствовались почему-то двумя-тремя снятыми дверьми, оконными стеклами да парой медных ручек. Все остальное было на месте, даже разбитое запыленное пианино по-прежнему украшало одну из комнат.
К новому месту шкидцы привыкли быстро. Дача стояла на воз-
209
выше.нности; с одной стороны проходило полотно ораниенбаумского трамвая, а с трех сторон были парк и лес, видневшийся в долине.
Рядом находился пруд — самое оживленное место летом. С утра до позднего вечера Шкида купалась. Иногда и ночью, когда жара особенно донимала и горячила молодые тела, ребята крадучись, на цыпочках шли на пруд и там окунались в femiyio, но свежую воду.
Викниксор и здесь попытался ввести систему. С первых же дней он установил расписание. Утром гимнастика на воздухе, до обеда уроки, после обеда купание, вольное время и вечером опять гимнастика.
Но из этого плана ничего не вышло.
Прежде всего провалилась гимнастика, так как на летнее время, в целях экономии, у шкидцев отобрали сапоги, а без сапог ребята отказывались делать гимнастику, ссылаясь на массу битых стекол.
Уроки были, но то и дело к педагогам летели просьбы:
— Отпустите в уборную.
— Сидеть не могу.
Стоило парня отпустить, как он уже мчался к пруду, сбрасывал на ходу штаны и рубаху и купался долго, до самозабвения.
Лето, как листки отрывного календаря, летело день за днем, быстро-быстро.
Как-то в жаркий полдень, когда солнце невыносимо жгло и тело и лицо, Янкель, Японец и Воробей, забрав с собой ведро воды, полезли на чердак обливаться.
Но на чердаке было душно. Ребята вылезли на крышу и здесь увидели загоравшую на вышке немку.
— А что, ребята? Не попробовать ли нам загорать по Эллуш- киному методу? А? — предложил Янкель.
— А давайте попробуем.
Ребята, довольные выдумкой, моментально разделись и улеглись загорать.
— А хорошо,— лениво пробормотал Воробей, ворочаясь с боку на бок.
— И верно, хорошо,— поддержали остальные.
Их примеру последовали другие, и скоро самым любимым занятием шкидцев стало загорать на вышке.
Приходили в жаркие дни и сразу разваливались на горячих листах железной крыши. ^
Скоро, однако, эти однообразные развлечения стали приедаться воспитанникам.
Надоело шляться с Верблюдычем по полям, слушать его восторженные лекции о незабудках, ловить лягушек и червяков, надоело тенями ходить из угла в угол по даче и даже купаться прискучило.
Все больше и больше отлеживались на вышке. Младшие еще находили себе забавы, лазили по деревьям, катались на трамвае, охотились с рогатками на ворон, но старшие ко всему потеряли интерес и жаждали нового.
210
Когда-то в городе, сидя за уроками, они предавались мечтам о теплом лете, а теперь не знали, как убить время.
— Скучно,— лениво тянул Японец, переворачиваясь с боку на бок под жгучими лучами солнца.
— Скучно,— подтягивали в тон ему остальные. Все чаще и чаще собирались на вышке старшие и ругали кого-то за скуку.
А солнце весело улыбалось с ярко-синего свода, раскаляло железную крышу и наполняло духотой, скукой и ленью притихшую дачу.
— Ску-учно,— безнадежно бубнил Японец.
...Вечерело. Сизыми хлопьями прорезали облачка красный диск солнца. Начинало заметно темнеть. Со стороны леса потянуло сыростью и холодом. Шкидцы сидели на вышке и, притихшие, ежась от ветерка, слушали рассказы Косецкого о студенческой жизни.
— Бывало, вечерами такие попойки задавали, что небу жарко становилось. Соберемся, помню; сперва песни разные поем, а потом на улицу...
Голос Косецкого от сырости глуховат. Он долго с увлечением рассказывает о фантастических дебошах, о любовных интрижках, о веселых студенческих попойках. Шкидцы слушают жадно и только изредка прерывают речь воспитателя возгласами восхищения:
— Вот это здорово!
— Ай да ребята!
Сумерки сгустились. Внизу зазвенел колокольчик.
— Тьфу, черт, уже спать! — ворчит Воробей.
Ребята зашевелились. Косецкий тоже нехотя поднялся. Сегодня он дежурил и должен был идти в спальни укладывать воспитанников. Но спать никому не хотелось.
— Может, посидим еще? — нерешительно предложил Янкель, но халдей запротестовал:
— Нет, нет, ребята! Нельзя! Витя нагрянет, мне попадет! Идемте в спальню. Только дайте закурить перед сном.
Ребята достали махорку, и, пока Косецкий свертывал папироску, они один за другим спускались вниз.
— Вы к нам заходите в спальню, побеседовать, когда младших уложите,— предложил Громоносцев.
— Хорошо, забегу!
Уже внизу, в спальне, ребята, укладываясь, гуторили между собой:
— Вот это парень!..
Последнее время Косецкий особенно близко сошелся со старшими. Они вместе курили, сплетничали про зава и его помощницу. Теперь ребята окончательно приняли в свою компанию свойского Косецкого и даже не считали его за воспитателя.
Ночь наступила быстро. Скоро стало совсем темно, а ребята еще лежали и тихо разговаривали. Косецкий, уложив малышей, пришел скоро, сел на одну из кроватей, закурил и стал делиться с ребятами планами своей будущей работы.
211
— Вы, ребята, со мной не пропадете. Мы будем работать дружно. Вот скоро я свяжусь с обсерваторией, так будем астрономию изучать.
— Бросьте! — лениво отмахнулся Японец.
— Что это бросьте? — удивился Косецкий.
— Да обсерваторию бросьте.
— Почему?
— Да все равно ничего не сделаете, только так, плешь наводите. Уж вы нам много чего обещали.
— Ну и что ж? Что обещал, то и сделаю! Я не такой, чтобы врать. Сказал — пойдем, и пойдем. Это же интересно. Будем звездное небо изучать, в телескопы посмотрим...
— Есть что-то хочется,— вдруг со вздохом проговорил все время молчавший Янкель и, почему-то понюхав воздух, спросил Косецкого: — А вы хотите,. Афанасий Владимирович?
— Чего?
— Да шамать!
— Шамать-то... шамать...— Косецкий замялся.— Признаться, ребятки, я здорово хочу шамать. А что? Почему это ты спросил? — обратился он к Янкелю, но тот улыбнулся и неопределенно изрек, обращаясь неизвестно к кому:
— И это жизнь! Хочешь угостить дорогого воспитателя плотным обедом — и нельзя.
— Почему? — оживился Косецкий.
— Собственно, угостить, пожалуй, можно... но...— робко пробормотал Японец.
— Но требуется некоторая ловкость рук и так далее,— закончил Янкель, глядя в потолок.
— Ах, вот в чем дело! — Косецкий понял.— А где же это?
— Что?
— Обед.
— Обед на кухне!
Потом вдруг все сразу оживились. Обступили плотной стеной Косецкого и наперебой посвящали его в свои планы.
— Поймите, остаются обеды... Марта их держит в духовой... Сегодня много осталось. Спальня сыта будет, и вы подкормитесь. Все равно до завтра прокиснет... А мы в два счета, только вы у дверей на стреме постойте...
Косецкий слушал, трусливо улыбаясь, потом захохотал и хлопнул по плечу Громоносцева.
— Ах, черти! Ну, валите, согласен!
— Вот это да! Я же говорил,— захлебывался Янкель от восторга,— я же говорил: вы не воспитатель, Афанасий Владимирович, а пройдоха первостатейный.
Налет проводили организованно. Цыган, Японец и Янкель на цыпочках пробрались на кухню, а Косецкий прошел по всем комнатам дачи и, вернувшись, легким свистом дал знать, что все спокойно.
212
Тотчас все трое уже мчались в спальню, кто со сковородкой, кто с котлом.
Ели вместе из одного котла и тихо пересмеивались.
— Хе-хе! С добрым утром, Марта Петровна! За ваше здоровье!
— Хороший суп! Солидно подсадили куфарочку нашу,— отдуваясь, проговорил Косецкий, а Воробышек, деловито оглядев посудину, изрек:
— Порций двенадцать слопали.
Нести котлы обратно не хотелось, и лениво развалившийся после сытного обеда Косецкий посоветовал:
— Швырните в окно, под откос.
Так и сделали.
Сытость располагает к рассуждениям, и вот Янкель, кувырнувшись на кровати, нежно пропел:
— Кто бы мог подумать, что вы такой милый человек, Афанасий Владимирович, а я-то, мерзавец, помню, хотел вам чернил в карман налить.
— Ну вот. Разве можно такие гадости делать своему воспитателю? — улыбнулся благодушно Косецкий, но Япончик захохотал:
— Да какой же вы воспитатель?
— А как же? А кто же я?
— Ладно! Бросьте арапа заправлять!
Косецкий обиделся:
— Ты, Еонин, не забывайся. Если я с вами обращаюсь по-товарищески, то это еще не значит, что вы можете говорить все, что вздумается.
Теперь захохотала вся спальня.
— Хо-хо-хо!
— Бросьте вы, Афанасий Владимирович.
— Воспитатель! Ха-ха-ха!
— Вот жук-то!
А Япошка уже разошелся и, давясь от смеха, проговорил:
— Не лепи горбатого, Афоня. Да где же это видано, чтобы воспитатель на стреме стоял, пока воспитанники воруют картошку с кухни! Хо-хо-хо!
Косецкий побледнел. И, вдруг подскочив к Японцу, схватил его за шиворот:
— Что ты сказал? Повтори!
Япошка, под общий хохот, бессильно барахтаясь, пробовал увильнуть:
— Да я ничего!..
— Что ты сказал? — шипел Косецкий, а спальня, принявшая сперва выходку воспитателя за шутку, теперь насторожилась.
— Что ты сказал?
— Больно! Отпустите! — прохрипел Японец, задыхаясь, и вдруг, обозлившись, уже рявкнул: — Пустите, говорю! Что сказал? Сказал
213
правду! Воруешь с нами, так нечего загибаться, а то распрыгался, как блоха.
— Блоха? А-а-а! Так я блоха?.. Ну хорошо, я вам покажу же! Если вы не понимаете товарищеского отношения, я вам покажу!.. Молчать!
— Молчим-с, ваше сиятельство,— почтительно проговорил Громоносцев.— Мы всегда-с молчим-с, ваше сиятельство, где уж нам разговаривать...
— Молчать!!! — дико взревел халдей.— Я вам покажу, что я воспитатель, я заставлю вас говорить иначе. Немедленно спать, и чтобы ни слова, или обо всем будет доложено Викниксору!
Дверь хрястнула, и все стихло.
Спальня придушенно хохотала, истеричный Японец, задыхаясь в подушке, не выдержал и, глухо всхлипывая, простонал:
— Ох! Не могу! Уморил Косецкий!
Вдруг дверь открылась, и раздался голос халдея:
— Еонин, завтра без обеда.
— За что? — возмутился Японец.
— За разговоры в спальне.
Дверь опять закрылась. Теперь смеялась вся спальня, но без Еонина. Тому уже смешно не было.
Минут через пять, когда все успокоились, Цыган вдруг заговорил вполголоса:
— Ребята, Косецкий забузил, поэтому давайте переменим ему кличку, вместо графа Косецкого будем звать граф Кособузецкий!
— Громоносцев, без обеда завтра!— донеслось из-за двери, и тотчас послышались удаляющиеся шаги.
— Сволочь. У дверей подслушивал!
— Ну и зараза!
— Сам ворует, а потом обижается, ишь гладкий какой, да еще наказывает!
— Войну Кособузецкому! Войну!
Возмущение ребят не поддавалось описанию. Было непонятно, почему вдруг халдей возмутился, но еще больше озлобило подслушивание у дверей.
Подслушивать даже среди воспитанников считалось подлостью, а тут вдруг подслушивает воспитатель.
— Ну, ладно же. Без обеда оставлять, да еще легавить! Хорошо же. Попомнишь нас, Косецкий. Попомнишь,— грозился озлобленный Цыган.
Тут же состоялось экстренное совещание, на котором единогласно постановили: с утра поднять бузу во всей школе и затравить Косецкого.
— Попомнишь у нас! Попомнишь, Кособузецкий!..
Спальня заснула поздно, и, засыпая, добрый десяток голов выдумывал план мести халдею.
Резкий звонок и грозный окрик «вставайте» сразу разбудил спальню старших.
— Если кто будет лежать к моему вторичному приходу, того без чаю оставлю! — выкрикнул Косецкий и вышел.
— Ага. Он тоже объявил войну,— ухмыльнулся Янкель, но не стал ожидать «вторичного прихода» халдея, а начал поспешно одеваться. Однако почти половина спальни еще лежала в полудремоте, когда вновь раздался голос Косецкого.
Он ураганом ворвался в спальню и, увидев лежащих, начал свирепо сдергивать одеяла, потом подлетел к спавшему Еонину и стал его трясти:
— Еонин, ты еще в кровати? Без чаю!
Япончик сразу проснулся. Он хотел было вступить в спор с халдеем, но того уже не было.
— Без чаю? Ну, ладно! Мы тебе так испортим аппетит, что у тебя и обед не полезет в рот,— заключил он злорадно.
Спальня была возбуждена. Лишь только встали, сейчас же начали раскачивать сложную машину бузы.
Воробей помчался агитировать к младшим, те сразу же дали согласие. Главные агитаторы — Янкель, Японец и Цыган — отправились в третье отделение и скоро уже выступали там с успехом.
Война началась с утреннего умывания.
Косецкий стоял на кухне и отмечал моющихся в тетрадке.
Вдруг со стороны столовой показалась процессия. Шло человек пятнадцать, вытянувшись в длинную цепочку. Они бодро махали полотенцами.
Потом ребята стали важно проходить мимо халдея, выкрикивая по очереди:
— Здрав-
— ствуйте,
— Афа-
— насий
— Влади-
— мирович,
— граф
— Ко-
— со-
— бу-
— зецкий! — смачно закончил последний.
Халдей оторопел, дернулся было в расчете поймать виновника, но, вспомнив, что бузит не один, а все, сдержался и ограничился предупреждением:
— Если это повторится, весь класс накажу.
В ответ послышалось дружное ржание всех присутствующих:
— О-го-го! Аника-воин!
— Подожди. Заработаешь!
215
Несмотря на эти угрозы, Косецкий не отступился от своего. Еонин остался без чаю, и это еще больше озлобило ребят. Они начали действовать.
День выдался хороший. Солнце пекло как никогда, но у пруда стояло затишье. Обычного купания не было. Зато у перелеска царило необычайное оживление.
Проворные шкидцы карабкались по дубовым стволам за желудями, сбивали их палками, каменьями и чем только было можно.
Тут же внизу другая партия ползала по земле и собирала крепкие зеленые ядра в кепки, в наволочки и просто в карманы.
Зачем готовились такие запасы желудей, выяснилось немного позже.
Косецкий, довольный внезапной тишиной в школе, решил, что ребята успокоились. Откровенно говоря, он ожидал длительной и тяжелой борьбы и был чрезвычайно удивлен и обрадован, что все так скоро кончилось.
Тихо посвистывая, он вышел во двор, прошел к пруду и сел на берегу, жмурясь под ярким солнцем.
Ему вдруг захотелось выкупаться.
Не долго думая, он тут же разделся и бросился в воду.
Свежая влага приятно холодила тело. Косецкий доплыл до середины пруда и, как молодой, резвящийся тюлень, окунулся, стараясь достать до дна.
Наконец он решил, что пора вылезать, и повернул к берегу.
Вдруг что-то с силой стукнуло его по затылку. Боль была как от удара камнем. Косецкий оглянулся, но вокруг было все спокойно и неподвижно. Тут взор его упал на качающийся на поверхности воды маленький желтенький желудь.
«Желудем кто-то запустил»,— подумал халдей, но новый удар заставил его действовать и думать быстрее.
Он поплыл к берегу.
Щелк. Щелк. Сразу два желудя ударили его в висок и в затылок. Положение становилось критическим.
«Нужно поскорее одеться. Тогда можно будет изловить негодяев»,— подумал Косецкий. Однако размышления его прервал новый удар в висок, настолько сильный, что желудь, отлетев от головы, вдруг запрыгал по воде, а сам Косецкий пробкой выскочил на берег.
По-прежнему кругом стояла мертвая тишина.
— Погодите же! — пробормотал Косецкий и бросился к кустику, за которым лежало белье.
— О, черт!
Раз за разом в спину ему ударилось пять или шесть крепких, как камень, желудей.
«Скорей бы одеться»,— подумал воспитатель, добежав до куста, и вдруг холодная дрожь передернула его тело.
Белья за кустом не было.
216
Косецкий, вне себя от ярости, огляделся вокруг, все еще не веря, что одежда его пропала.
Он остановился, беспомощный, не зная, что делать. Он чувствовал, что на него глядят откуда-то десятки глаз, наблюдают за ним и смеются.
Как бы в подтверждение его мысли, где-то поблизости прокатилось сатанинское злорадное гоготание, и новый желудь шлепнулся в плечо халдея.
Теперь он понял, что началось сражение, исход которого будет зависеть от выдержки и стойкости той или другой стороны.
Лично для него начало не предвещало ничего хорошего.
Белья не было.
Косецкий ужаснулся. Ведь он был беспомощен перед своими врагами. А между тем желуди все чаще и чаще свистели вокруг него.
Тогда халдей лихорадочно бросился искать белье. Он обшарил соседние кусты, стараясь не высовываться из-за зелени, служившей ему прикрытием, но белья не было. В отчаянии он выпрямился, но
тотчас же снова присел. Добрый десяток желудей, как пули из пулемета, посыпались ему в спину.
Косецкому было и больно, и стыдно. Он, воспитатель, принужден сидеть нагишом и прятаться от мстительных воспитанников. Он знал, что так просто они его не отпустят.
Теперь он желал только одного: разыскать белье. Напрасно шарили глаза вокруг, белья не было. И вдруг радостный крик. Косецкий увидел белье. Но уже в следующее мгновение он разразился проклятием:
— Сволочи! Негодяи!
Белье, сияя своей белизной, тихо покоилось на высоченном дереве.
«Что делать?!»
Ведь если лезть на дерево, то его закидают желудями, а палкой не достать. Чуть не плача, но полный решимости, он пополз по стволу. Но едва только выпрямился, как снова тело обожгли удары.
Бессознательно, руководимый только чувством самосохранения, Косецкий снова присел и услышал торжествующий рев невидимых врагов.
«А-а-а, смеются!»
Вопль отчаяния и злобы невольно вырвался из горла, и уже в
217
следующее мгновение халдей, с решимостью осужденного на смерть, полез на дерево, осыпаемый желудями.
Кора до боли царапала тело, два раза желуди попадали в лоб и причиняли такую боль, что халдей невольно закрывал глаза и приостанавливал путешестие, но потом, собравшись с силами, лез дальше.
Наконец он у цели.
Обратно Косецкий не слез, а как-то бессильно сполз, поцарапав при этом грудь и руки, но удовлетворенный победой.
Однако с бельем ему еще пришлось помучиться. Рукава нижней рубашки и кальсоны оказались намоченными и туго завязанными узлом.
На шкидском языке это называлось «сухариками», и Косецкий долго работал и руками и зубами, пока удалось развязать намокшие концы.
Наконец он оделся и вышел на берег, ожидая нового обстрела, но на этот раз вокруг было тихо.
Вне себя от обиды и злобы, халдей помчался на дачу, решив немедленно переговорить с заведующим, но и здесь его постигла неудача: Викниксор уехал в город.
Проходя по комнатам, Косецкий ловил насмешливые взгляды ребят и сразу угадал, что все они только что были свидетелями его позора.
Подошел обед, и здесь халдей вновь почувствовал себя в силе. Громоносцев, Еонин и еще пять-шесть воспитанников были лишены обеда.
После обеда шкидцы устроили экстренное собрание и, глубоко возмущенные, решили продолжать борьбу.
Теперь Косецкий, наученный горьким опытом, никуда не отлучался с дачи, но это не помогло. Снова началась бомбардировка. Стоило только ему отвернуться, как в спину его летел желудь. Он был бессилен и нервничал все больше и больше, а тут, как бы в довершение всех его невзгод, со всех сторон слышалась только что сочиненная ребятами песенка:
На березу граф Косецкий Лазал с видом молодецким,
Долго плакал и рыдал,
Всё кальсоны доставал.
Напрасно Косецкий метался, стараясь отыскать уголок, где можно было бы скрыться, везде его встречали желуди и песенка, песенка и желуди.
Он решил наконец отсидеться в воспитательской комнате и помчался туда. Вдруг взгляд его приковала стена.
На стене у входа в воспитательскую висел тетрадочный развернутый лист бумаги, вверху которого красовалось следующее:
218
БУЗОВИК
СТЕННАЯ
ГАЗЕТА
Орган бузовиков республики Шкид
Экстренный выпуск по поводу КОСЫХ, направлений в Шкиде
Дальше замелькали названия: «Граф Косецкий», «Сенсационный роман», «Купание в пруду», «Долой графов».
В глазах халдея потемнело. Он сорвал листок с твердым намерением показать его Викниксору.
В комнате воспитателей Косецкого ожидал новый сюрприз.
Едва он открыл дверь, как прислоненная к косяку щетка и надетый на нее табурет с грохотом обрушились ему на голову.
Косецкий не выдержал. Слезы показались у него на глазах, и, повалившись на кровать, он громко зарыдал.
Скоро по Шкиде пронеслась весть: с Косецким истерика.
Янкель и Япошка — редакторы первой шкидской газеты «Бузо- вик» — приостановили работу на половине, не докончив номера.
Настроение сразу упало.
— Косецкий в истерике.
— Что-то будет?
Ребята ожидали грозы, но ничуть не боялись ее. Они чувствовали себя правыми.
Явилась Эланлюм.
— Что у вас вышло с Афанасием Владимировичем? — грозно вопросила она, но, когда узнала, что Косецкий сам вел себя не лучше ребят, предложила замять всю историю и не доводить до сведения Викниксора.
На этом и порешили. Ребята выслали делегацию к халдею, и они помирились. До Викниксора дошел только маленький скомканный листок газеты «Бузовик».
На другой день Янкелю и Японцу сообщили, что их зовет Викниксор.
Прежде чем пойти к заву, ребята перебрали в уме все свои поступки за неделю и, не найдя ничего страшного, кроме замятого скандала с Косецким, бодро отправились в кабинет.
— Можно войти?
— Войдите. А, это вы!
Викниксор сидел в кресле. В руках он держал номер «Бузовика». Ребята переглянулись и замерли.
— Ну, садитесь. Поговорим.
219
— Да мы ничего, Виктор Николаевич. Постоим.—Янкель тревожно вспоминал все ругательства по адресу Косецкого, которыми был пересыпан текст «Бузовика».
— Так вот, ребята,— начал Виктор Николаевич.— Я, как видите, имел возможность прочесть вашу газету. На мой взгляд, в ней один недостаток: она пахнет бульварщиной. Она груба, хотя, говоря откровенно, в ней есть немало и остроумного.
Викниксор вслух перебрал ряд удачных и неудачных заметок и, увлекшись, продолжал:
— Почему бы вам в самом деле не издавать настоящей, хорошей школьной газеты? Видите ли, я сам в свое время пробовал натолкнуть ребят на это и даже выпустил один номер газетки «Ученик», но воспитанники не отозвались, и газета заглохла. Вы, я вижу, интересуетесь этим, а поэтому валите-ка, строчите. Название, разумеется, надо переменить. Ну... ну... хотя бы «Зеркало»... и с эпиграфом можно: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».
— Мы-то уж давно хотели,— вставил Японец.
— Ну, а коли хотели, то и делайте. Я даже рад буду,— закончил Викниксор.
Через четверть часа газетчики вышли из кабинета, нагруженные бумагой, чернилами, тушью, перьями, карандашами и красками.
Все случившееся было так неожиданно, что только у дверей спальни ребята опомнились и сообразили, в чем дело.
— Здорово вышло! — воскликнул восхищенный Янкель.*
— Да,— протянул Япончик.— Ожидали головомойки, а получили поощрение.
На другой день на вышке готовился первый номер шкидской школьной газеты «Зеркало». Янкель, подложив под лист папку, разрисовывал заголовок. Япончик писал передовицу «от редакции». На краю крыши сидел согнувшись Цыган, вызвавшийся редактировать отдел шарад и ребусов. Тут же, впав в поэтический транс, Воробей строчил стихи о закате солнца — «На горизонте шкидской дачи...»
Покончив с заголовком, Янкель уселся рядом с Японцем, и вдвоем они принялись за составление стихотворной передовицы, в которой нужно было изложить программу нового органа.
Стишки были слабые, но начинающих стенгазетчиков они вполне устраивали, и поэтому Янкель немедля стал переписывать их в колонку стенгазеты.
Первый номер «Зеркала» вышел на другой день утром.
Редколлегия была в восторге и все время вертелась около толпы читающих шкидцев. Повесили номер в столовой. За обедом Викниксор в своей обычной речи отметил новый этап в жизни школы — появление «Зеркала»,— передал привет сияющим редакторам и пожелал им дальнейших успехов.
Стенгазета понравилась всем, но больше всего Янкелю. Тот раз десять подкрадывался к ней, с тайным удовлетворением перечитывая свои стихи:
220
Наша «Зеркало»-газета —
Орган школы трудовой,
В ней хотим ребят потешить,
Показать наш быт простой.
Успех первого номера окрылил редакцию, и скоро выпорхнул номер второй, уже более обширный и более богатый материалами, за ним третий, четвертый.
Так из бузы, из простой шалости родилось здоровое начинание.
А лето незаметно меняло краски.
Уже предательски поблескивали робкие желтенькие листики на деревьях, и темными, слишком темными становились ночи.
К шкидской даче неслышно подкрадывалась осень...
Однажды случилась заминка с продуктами. То ли в складе оказалась недостача, то ли с ордерами запоздали, но следствием этого явилось резкое сокращение и так уже незначительного пайка.
Перестали совершенно выдавать к обеду хлеб, а вечернюю порцию сократили с четверти фунта до осьмушки.
Шкида погрузилась в уныние. Такой паек не предвещал ничего хорошего; к тому же, по слухам, увеличение предвиделось не скоро.
«Зеркало», развернувшееся к этому времени в газету большого формата, забило тревогу. Появились запросы, обращения к педагогическому совету с приглашением осветить через газету причину недостатка продуктов.
Викниксор вызвал редакторов и имел с ними по этому поводу беседу, результатом которой явилась большая статья-интервью, которая никого не насытила.
Шкидцев охватила паника, но, пока третье и четвертое отделения ломали головы, ища выхода, первое и второе уже нашли его и втихомолку блаженствовали.
Выход был прост. Подходила осень, по соседству находились огромные стрельнинские огороды, в которых поспевал картофель. Огороды почти не охранялись, и пронырливым малышам ничего не стоило устраивать себе ужин из печеного, вареного и даже жареного картофеля. Для этого ходившие в отпуск выклянчивали дома и привозили в Шкиду — кто жир, кто жировар, а кто и настоящее коровье масло.
Скоро примеру младших последовали и старшие.
Паломничество в чужие огороды росло и ширилось, пока не охватило всю школу.
Прекратились сразу жалобы на скверный паек, на жидкий суп, потому что картошка, хорошая, розовая, молодая картошка, насытила всех.
Жидкий суп становился густым, как только его разливали по
221
тарелкам. Печеная картошка сыпалась в тощий тресковый бульон, и получалось довольно приличное питательное блюдо.
На даче печек не топили, топилась только плита, но вокруг было так много густых перелесков, что в печках нужды и не чувствовалось.
Лишь только солнце переставало светить и, побледневшее, окуналось в дымчатые дали горизонта, вокруг шкидской дачи вместе с поднимающимся туманом со всех сторон выпархивали узенькие, сизоватые струйки прозрачного дыма.
Они рождались где-то там внизу, в лесу, у выдолбленных старых пней и высохшей травы.
Маленькие костры весело мигали, шипели сырыми сучьями и манили продрогших в сыром тумане ночных похитителей стрельнинской картошки.
Те приходили партиями, выгружали добычу и пекли в золе круглые катышки, приносящие довольство и сытость.
С дачи эти дымки в долине были хорошо видны, но первое время на них не обращали внимания, пока однажды Викниксор, выглянув из окна кабинета, не обнаружил возле этих дымящихся костров движение каких-то загадочных существ и не отправился исследовать это таинственное явление.
Загадочные существа в лесу вовремя заметили его длинную фигуру и в панике скрылись в чащу, а он нашел только десятка полтора костров и горы сырой и печеной картошки. Вызвав воспитанников, Викниксор велел им перенести все найденное картофельное' богатство в кладовую для общего котла, а сам остался тушить костры.
Потом он вернулся на дачу, заперся у себя в кабинете и задумался.
Собственно, думать много не пришлось. Ясно было, что костры разводили воспитанники для того, чтобы печь картошку, которую они же воровали с огородов.
Надо было принять меры.
Викниксор вызвал прежде всего Янкеля и Япончика, как представителей печати, и предложил им начать кампанию в «Зеркале» против воровства, но «печать» скромно потупила очи, и последующие номера газеты ни словом не заикнулись о картошке.
Тогда завшколой сам сказал нужное слово. Он предупредил воспитанников коротко и веско:
— Кто попадется в краже картошки с чужих огородов, тот немедленно переводится в лавру.
Угроза подействовала. Картошки стали воровать меньше, но зато ударились в близлежащие огороды за репой и брюквой.
Скоро разыгрался крупный скандал.
Пришли жаловаться. Сначала пришел один огородник, за ним второй... В общей сложности за три дня к Викниксору явилось шесть делегаций с категорическим требованием обуздать учеников.
Викниксор издал вторичный приказ по школе, еще более грозный, и запугивал шкидцев до отказа.
222
То тут, то там стали раздаваться голоса:
— Ну ее к черту, эту картошку!
— Еще запорешься!
Правда, еще находились смельчаки, которые по-прежнему ходили на отхожие промыслы, но благоразумные постепенно отставали.
— Ша! Бросаем, пока не влопались.
Так же говорили Янкель и Япончик:
— Довольно. С завтрашнего дня ни одной картошки с чужих огородов. А сегодня... Сегодня надо сходить в последний раз.
И пошли.
Было это после обеда.
День выдался пасмурный и холодный. Только что прошел дождь, и трава была сырая, леденящая. Но Янкеля и Японца это не остановило.
Захватили по наволочке с подушек, решив набрать побольше.
Вышли на трамвайную линию и зашагали по шпалам.
Япончик ругался и подпрыгивал, согревая посиневшие ноги.
— Черт! В такую погоду — да картошку копать.
— Ничего не поделаешь. Последний раз,— успокаивал его Янкель.
Наконец пришли к цели. Огород был большой и знакомый. Стенгазетчики уже привыкли к нему, так как оттуда они не раз таскали картошку. С минуту ребята постояли на дороге, оглядываясь и набираясь сил, потом Янкель нагнулся и юркнул в ботву. За ним последовал Японец.
Сразу же оба выругались. Действительность превзошла все ожидания. Дождь оставил заметный след: в грядах стояли лужи, глинистая земля превратилась в липкую кашу.
Зато копать было легко. Прямо руками дергали ребята мокрую ботву, и она покорно вылезала вместе с целым гнездом картошки.
Работали молча, изредка вполголоса перекликаясь, чтобы не терять друг друга из виду, и наконец, когда наволочки вздулись до отказа и не могли больше вместить ни одной картофелины, ребята выползли на дорогу. Но тут, взглянув друг на друга, они не на шутку испугались. Чистенькие белые рубашки стали серыми от глины.
— Здорово обработались,— сокрушенно проговорил Янкель, но Япошка только свирепо взглянул на него и дал знак отправляться обратно.
Подходили к даче.
— Как бы не засыпаться! Мимо Витиных окошек идти надо,— предупредил Янкель, но Японец и тут проявил беззаботность.
— Пустяки. Он слепой. Не заметит.
Ребята благополучно дошли до веранды, как вдруг в дверях показался Викниксор.
Оба редактора юркнули под веранду и притаились.
223
Шаги приближались.
— Не заметил,— успокоил себя дрожащий Японец и вдруг сжался.
— Еонин! Вылезай немедленно! — раздался окрик сверху.
Оба молчали.
— Еонин! Ну, живей!.. Кому я говорю!
— Вылезай, Япошка,— забеспокоился Янкель.— Запоролись, вылезай.
Тщедушное тельце Япончика показалось на свет, и, виновато моргая, он остановился перед Викниксором.
— А картошка где? — грозно спросил заведующий.
— Какая картошка?
— Доставай картошку, каналья! — заревел гневно Викниксор.
От слова до слова все это слышал Янкель, и, дрожа всем телом,
он стал поспешно отсыпать картошку из наволочки; в голове его тем временем проносились мысли одна другой ужаснее.
«Засыпались... Позор... В лавру отправят... Прощай, Стрельна... Прощай, Шкида... и прощай... прощай, газета «Зеркало»!..»
— Доставай картошку! — гремело наверху.
Потом Янкель услышал непривычно тихий голос Япончика:
— Сейчас, Виктор Николаевич.— И сам Еонин показался перед щелью. Янкель молча сунул ему в руки наполовину опустошенную наволочку, и тот полез обратно.
Наверху завозились, и две пары ног, дробно отстукивая по настилу веранды, удалились.
Янкель осторожно вылез и огляделся. В таком грязном виде идти в школу нельзя. Надо было вымыться и выстирать рубаху. Дрожа от холода, он помчался к пруду, скинул белье и стал стирать его, потом тщательно выжал и надел. От мокрой рубахи стало еще холодней. Зубы выбивали барабанную дробь. Янкель побегал, чтобы согреться и обсушить белье на теле, потом постарался придать себе беззаботный вид и, насвистывая, направился к даче.
У дверей его встретили ребята и предупредительно насовали в руки желудей.
— Скажи, что желуди собирал. Витя искал тебя.
Однако желуди не понадобились. Лишь только он пришел в столовую, на него наскочили воспитатели.
224
— Черных, в спальню немедленно.
— Зачем?
— Иди не разговаривай.
В спальне сидел Викниксор. При виде Янкеля он нахмурился.
— Раздевайся и ложись.
Янкель не понял, зачем он должен ложиться, но понял, что запирательства не помогут.
— Где наволочка?
— Сейчас принесу, Виктор Николаевич.
Вместе с картошкой появилась на свет и грязная, замусоленная наволочка.
Потом редакторов раздели, попросту отняли штаны, заставив их таким образом лежать в кроватях под домашним арестом.
Летом это было очень тяжелым наказанием, но теперь на дворе уже бродила осень, и наказание подействовало мало.
Много передумали Японец и Янкель, лежа в кроватях. Днем к ним забегали и сообщали последние новости:
— Вас в лавру направляют!
— Викниксор выхлопатывает сопроводительные документы!
Новости были одна печальнее другой, и парочка приуныла. Потом
постепенно к мысли об уходе привыкли. Горе стало казаться привычным, и преступники уже перестали считать себя шкидцами.
На третий или четвертый день ожидания Янкель предложил:
— Давай выпустим прощальный номер «Зеркала».
Японец согласился.
Нелегко было делать последнюю газету.
Японец написал забавный фельетон под названием «Гроза огородов». Читая, оба смеялись над злополучными похождениями двух бандитов, а когда прочли, задумались. Грустно стало.
Фельетон пустили гвоздем номера. Это было своевременно. Вопрос о переводе Янкеля и Японца был злободневным вопросом, и вопросом спорным. На педагогическом совете мнения разделились. Одни стояли за перевод ребят в лавру, другие за оставление.
Янкель украсил фельетон карикатурами, потом написал грустное лирическое стихотворение — описание осени. Принес стихотворение и Финкельштейн — Кобчик,— недавно появившийся, но уже знаменитый в Шкиде поэт.
Прибавили ряд заметок, и наконец прощальный номер вышел.
Об отъезде в газете не было ни слова, но номер вышел на этот раз невеселый.
Наконец наступил последний день.
Янкелю и Японцу выдали белье и велели собираться. Серое, тусклое утро стояло за окном, накрапывал дождь, но, когда одетые в пальто и сапоги ребята уложили свои пожитки и вышли на веранду, вся Шкида дожидалась их там.
Ребята попрощались.
Вышел Викниксор, сухо бросил:
8 Шк ОЛЫ1ЫС годы. Выпуск 1
225
— Пошли.
Вот уже и Петергофское шоссе. Блестят влажные трамвайные рельсы. В последний раз оглянулись ребята на дачу, где оставили своих товарищей, халдеев и — «Зеркало», любимое детище, взращенное их собственными руками...
Сели в трамвай.
Всю дорогу Викниксор молчал.
У Нарвских ворот ребята вылезли, ожидая дальнейших распоряжений.
Викниксор, не глядя на них, процедил:
— Зайдем в школу.
Пошли по знакомым улицам. В городе осень чувствовалась еще больше. Панели потемнели от дождя и грязи, с крыши капала вода, хотя дождя уже не было.
Показалось знакомое желтое здание Шкиды. Сердца у ребят екнули.
Они прошли двор, поднялись по лестнице во второй этаж.
Дверь открыл дворник.
Шаги непривычно гулко отдавались в пустынных комнатах. Странно выглядели пустые, мертвые классы, где зимой ни одной минуты не было тихо, где постоянно был слышен визг, хохот, треск парт, пение.
Викниксор оставил ребят и прошел к себе в кабинет. ,
Янкель и Японец переглянулись. Жалко было расставаться со Шкидой, к которой они так привыкли, а теперь стало и совсем невтерпеж — особенно когда они увидели знакомые парты с вырезанными ножиком надписями «Янкель-дурак», «Япошка-картошка».
Оскорбительные когда-то слова вдруг приобрели необычайную прелесть.
Ребята долго разглядывали эти надписи. Потом Янкель умиленно произнес:
— Это Воробей вырезал.
— Да, это он,— мечтательно поддакнул Японец и вдруг посмотрел на товарища и сказал: — Давай попытаемся? Может, оставит.
Янкель понял.
Раздались шаги. Вошел Викниксор. Он деловито осмотрел комнату и сказал:
— Парты запылились. Возьмите тряпки и вытрите хорошенько.
Ребята кинулись на кухню, принесли мокрые тряпки и стали
обтирать парты.
Кончив, твердо решили:
•— Пойдем к Викниксору, попытаемся.
На робкий стук последовало:
— Войдите.
Увидев ребят, Викниксор встал.
— Виктор Николаевич, вы, может, оставите нас? — заканючил Янкель.
226
— Оставите, может? — как эхо повторил Еонин.
Викниксор строго посмотрел через головы ребят куда-то в угол, пошевелил губами и спокойно сказал:
— Да, я вас оставляю. За вас поручилась вся школа, а сюда я вас привез только для того, чтобы вы почистили помещение к приезду школы. Завтра она переезжает с дачи.
Шкида переехала с треском. Едва трамвайные платформы остановились у дома и ребята начали разгрузку, уличная шпана окружила их.
— Эге-ге! Приютские крысы приехали.
— Крысы приехали!
— Эй вы, голодные! Крысенята!..
Воробей возмутился и подскочил к одному, особенно старавшемуся.
— Как ты сказал, стерва? Повтори!
Тот усмехнулся и, заложив руки в карманы, поглядел в сторону своих.
— А вот как сказал, так и сказал.
— А ну, повтори!
— Голодные крысы!
В следующее мгновение кулак Воробья беззвучно прилип к носу противника. Брызнула кровь.
— А-а-а! Наших бить!
Шпана смяла Воробья, но подоспела выручка. Шкидцев было больше. Они замкнули круг, и началась драка. Шпана сразу же оказалась в невыгодном положении. Их окружили плотной стеной. Сперва они бились отчаянно храбро, но скоро из десятка храбрецов половина лежала, а вторая половина уже не дралась, а только заслонялась руками от сыпавшихся ударов.
— О-ой! Больно!
— Хватит!
— Не бейте!
Шкида уже не слышала стонов. Она рассвирепела, и десятки рук по-прежнему без жалости опускались на головы врагов.
Побоище прекратил Викниксор. Увидев из окна, что питомцы его дерутся, он выскочил, взбешенный, на улицу, однако при виде его шкидцы брызнули во все стороны, оставив на поле битвы лишь избитых противников и Воробья, который был сильно помят и даже не в силах был убежать.
Это событие имело свои последствия. Едва шкидцы устроились и расставили в здании мебель, как получился приказ заведующего: «Никого гулять не выпускать». Ребята приуныли, пробовали протестовать, но приказ отменен не был. А на следующий день законодательство республики Шкид обогатилось двумя новыми параграфами.
227
В этот день состоялось общее собрание, на которое Викниксор явился с огромной толстой книгой в руках.
Притихшая аудитория с испуганным видом уставилась на эту глыбу в черном коленкоровом переплете, а заведующий поднял книгу над головой, открыл ее и показал всем первый лист, на котором акварельными красками было четко выведено:
ЛЕТОПИСЬ
школы имени Достоевского
— Ребята,— торжественно начал Викниксор.— Отныне у нас будет школьная «Летопись». Сюда будут записываться замечания воспитанникам, все ваши проступки будут отмечаться здесь, в этой книге. Все провинности, все безобразия воспитанников будут на учете у педагогов; по книге мы будем судить о вашем поведении. Бойтесь попасть в «Летопись», это позорная книга, и нам неприятно будет открывать ее лишний раз. Однако сегодня же при вас я вынужден сделать первую запись.
Викниксор достал карандаш и, отчетливо произнося вслух каждое слово, записал на чистом, девственном листе:
«Черных уличен в попытке присвоить казенные краски».
Ребята притихли, и все взоры обратились на Янкеля. А Янкель опустил глаза и не знал, огорчаться ему или радоваться, что его имя первым попало в этот исторический документ.
Возражать Викниксору он не мог. Накануне, когда переносили вещи, Гришка с особенным рвением таскал по лестнице тюки с одеялами и подушками, связки книг, посуду и другое школьное имущество. В коридоре, у входа в учительскую, один из пакетов развязался и оттуда выпали два начатых тюбика краски. Будь это что-нибудь другое — может быть, Янкель и задумался бы, но перед этим соблазном его сердце художника устоять не могло. Он сунул тюбики в карман и в тот же миг услыхал над головой голос Викниксора:
— Что у тебя в кармане, Черных?
Янкелю ничего не оставалось делать, как извлечь из кармана злополучные тюбики.
Викниксор взял тюбики, брезгливо посмотрел на Черных и сказал:
— Неужели ты, каналья, успел забыть, что тебя только что простили и что тебе угрожал перевод в реформаторий?!
— Они сами упали, Виктор Николаевич,— пролепетал Янкель.
— Упали в карман?
Викниксор приказал Янкелю немедленно отправляться в класс. Просить извинения на этот раз Янкель и не пытался. Никому не сказав о случившемся, он прошел в класс и весь вечер пребывал в самом ужасном унынии. Но вот миновала томительная бессонная
228
ночь, наступил следующий день, и Янкель начал понемногу успокаиваться: может быть, Викниксор в суматохе забыл о нем? Оказалось, однако, что Викниксор не забыл. И теперь Янкель сидел под устремленными на него взглядами ребят и думал, что отделался он, пожалуй, дешево.
А Викниксор записью в «Летопись» не ограничился. Расхаживая по столовой с толстенной книгой в руках, он, чтобы внушить трепет и уважение к этой книге, растолковывал воспитанникам смысл и значение только что сделанного замечания.
— Вот я записал Черных, ребята: Черных хотел присвоить краски. Эта запись останется в «Летописи» навсегда. Кто знает, может быть, когда-нибудь впоследствии Черных сделается знаменитым художником. И вот он будет сидеть в кругу своих знакомых и почитателей, и вдруг появится «Летопись». Кто-нибудь откроет ее и прочтет: «Черных уличен в попытке присвоить казенные краски». Тогда все отшатнутся от него, ему скажут: «Ты вор — тебе нет места среди честных людей».
Викниксор вдохновляется, но, вдруг вспомнив что-то, оставляет бедного Янкеля в покое и говорит:
— Да, ребята, я отвлекся. Кроме «Летописи», у нас вводятся также и разряды. Вы хотите знать, что это такое? Это, так сказать, мерка вашего поведения. Разрядов у нас будет пять. В первом разряде будут числиться те ученики, которые в течение месяца не получат ни одного замечания в «Летописи». Перворазрядник — это примерный воспитанник, образец, на который все мы должны равняться. Он будет среди прочих в положении привилегированном. Перворазрядники беспрепятственно пользуются установленным отпуском, в вакационные часы они свободно ходят на прогулку, перворазрядники в первую очередь ходят в театры и в кинематограф, получают лучшее белье, обувь и одежду.
— Аристократия, одним словом,— с ехидным смешком выкрикнул с места Япошка.
— Да, если хочешь — это аристократия. Но аристократия не по крови, не наследственная, не паразитическая, а получившая свои привилегии по заслугам, добившаяся их честным трудом и примерным поведением. Желаю тебе, кстати, Еонин, стать когда-нибудь таким аристократом.
— Где уж нам уж,— деликатно ухмыльнулся Японец.
— Теперь выясним, что такое второй разряд,— продолжал Викниксор.— Второй разряд — это ученики, не получившие замечания в течение недели. Второй разряд тоже пользуется правом свободных прогулок и отпусков, все же остальное он получает во вторую очередь, после перворазрядников. Для того чтобы попасть в первый разряд, нужно месяц пробыть во втором без замечания. Третий разряд — это середняки, ребята, получившие одно или два не очень серьезных замечания, но третий разряд уже лишается права свободных прогулок, третьеразрядники ходят только в отпуск. Из третьего разряда
229
во второй воспитанник переводится в том случае, если в течение недели у него не было замечаний, если же есть хоть одно замечание, он по-прежнему остается в третьем.
Шкидцы сидели придавленные и ошарашенные. Они не знали, что эта громоздкая на первый взгляд система очень скоро войдет в их повседневный быт и станет понятной каждому из них — от первоклассника до «старичка».
А Викниксор продолжал растолковывать новый шкидский «табель о рангах»:
— Теперь дальше. Все, кто получил свыше трех замечаний за неделю, попадают в штрафной разряд — четвертый — и на неделю лишаются отпусков и прогулок. Но...— Викниксор многозначительно поднял брови.— Но если за неделю пребывания в штрафном, четвертом разряде воспитанник не получит ни одного замечания, он снова поднимается в третий. Понятно?
— Понятно,— отозвались не очень дружные голоса.
— А пятый? — спросил кто-то.
— Да, ребята,— сказал Викниксор, и брови его снова поползли вверх.— Остается пятый разряд. Пятый разряд — это особый разряд. В него попадают воры и хулиганы. Кто проворуется, того мы не только лишаем на месяц отпусков и прогулок, мы изолируем его от остальных воспитанников, а в тетрадях его будет стоять буква «В».
Янкель похолодел. Безобидное замечание в «Летописи» вдруг сразу приобрело страшный, угрожающий смысл. Он плохо слышал, о чем говорил Викниксор дальше. А тот говорил много и долго. Между прочим, он объявил, что, кроме общих собраний, в школе учреждаются еще и еженедельные классные, на которых воспитатели в присутствии учеников будут производить пересортировку в разрядах. Тут же были установлены дни — особые для каждого класса,— когда должна происходить эта пересортировка.
И вот в ближайшую пятницу в четвертом отделении состоялось собрание, на котором отделенный воспитатель Алникпоп объявил, кто в какой разряд попадет. Большинство, не успевшее еще заработать замечаний, оказалось во втором разряде. В списке третьеразрядников числились Янкель и Воробей. В четвертый разряд попал Япошка, умудрившийся за неделю получить пять замечаний, и все «за дерзость и грубость». Тут же на собрании он заработал новое замечание, так как публично назвал новую викниксоровскую систему «халдейскими штучками».
Янкель, к удивлению товарищей, ликовал. Зато рвал на себе волосы от обиды и негодования бедный Воробышек, получивший единственное замечание «за драку на улице», за ту самую драку, в которой он и без того потерпел самый большой урон.
Остальные ждали, что будет дальше, куда понесет их судьба и собственное поведение: наверх или вниз?
С «Летописью» — зоркой, как часовой,— начала свой новый учебный год Шкида.
Лето прошло...
КАУФМАН ФОН ОФЕНБАХ
Шкида на досуге.— Барон в полупердончике.— Воспоминания бывшего кадета.— О Николае Втором и просвирке с маслом.— Кауфман.— Держиморда, лто- бящий кошек.
В классе четвертого отделения слабо мерцают угольные лампочки... По стенам прыгают серые бесформенные тени.
У раскаленной печки сидят Мамочка, Янкель и Цыган. Они вполголоса разговаривают и, по очереди затягиваясь папиросным окурком, пускают дым в узкое жерло топки.
Пламя топящейся печки бросает на их лица красный заревой отсвет.
Остальные шкидцы разбрелись по разным углам класса; обладающие хорошим зрением читают, другие бузят — возятся, третьи, прикрывшись досками парт, дуются в очко. Горбушка играет с Воробьем в шахматы, получает мат за матом и по неопытности не ведает, что Воробей его надувает.
Данилов и Ворона, усевшись на пол у классной доски, нашли игру, более для себя интересную — «ножички»,— бросают по очереди перочинный нож.
— С ладошки! — кричит Ворона и подбрасывает нож.
Нож впивается в зашарпанную доску пола.
Потом бросает Данилов. У него — промах.
— С мизинчика! — снова кричит Ворона и опять вбивает нож.
Сделав несколько удачных бросков, он разницу прощелкивает
Данилову по лбу крепкими, звонкими щелчками. Широкоплечий Данилов, нагнув голову, тупо смотрит в пол, при каждом щелчке вздрагивает и моргает.
В классе не шумно, но и не тихо,— голоса сливаются в неровный гул...
Заходит воспитатель... Он нюхает воздух, замечает дым и спрашивает:
— Кто курил?
Никто не отвечает.
— Класс будет записан,— объявляет халдей и выходит.
После его ухода игры прекращаются, все начинают скулить на тройку, сидящую у печки. Те в свою очередь огрызаются на играющих в очко.
Золотушный камчадал Соколов, по кличке Пьер, кончив чтение, подходит к играющим в шахматы и начинает приставать к Воробью.
— Уйди,— говорит Воробей.
— Никак нет-с,— отвечает Пьер.
— В зубы дам.
231
— Дай-с.
Но щуплый Воробей в зубы не дает, а углубляется в обдумывание хода.
Пьеру становится скучно, он садится за парту и, пристукивая доской, начинает петь:
Спи, дитя мое родное,
Бог твой сон хранит...
Твоя мама-машинистка По ночам не спит.
Брат ее убит в Кронштадте,
Мальчик молодой...
В это время в классе появляется Викниксор. Все вскакивают. Картежники украдкой подбирают рассыпавшиеся по полу карты, а Янкель, не успевший спрятать папиросу, тушит ее носком сапога.
Вместе с Викниксором в класс вошел здоровенный детина, одетый в узкий, с золотыми пуговицами, мундирчик... Мундир у детины маленький, а сам детина большой, поэтому рукава едва доходят ему до локтя, а на животе отсутствует золотая пуговица и зияет прореха.
— Новый воспитанник,— говорит Викниксор.— Мстислав Офен- бах... Мальчик развитой и сильный. Обижать не будете... Правда, мальчик?
— У-гу,— мычит Офенбах таким басом, что не верится, будто голос этот принадлежит ему, а не тридцатилетнему мужчине.
— Мальчик,— насмешливо шепчет кто-то,— ничего себе мальчик. Небось сильнее Цыгана...
Когда Викниксор уходит, все обступают новичка.
— За что пригнали? — любопытствует Япошка.
— Бузил... дома,— басит Офенбах.— Меня мильтоны вели, так бы не пошел.
Он улыбается. Улыбка у него детская, не подходящая к мужественному, грубому лицу... Сразу все почему-то решают, что Офенбах хотя и сильный, но незлой.
— Сколько тебе лет? — спрашивает Цыган, уже почуявший в новичке конкурента по силе.
— Четырнадцать,— отвечает Офенбах.— Сегодня как раз именинник... Это мне мамаша подарочек сделала, что пригнала сюда.
Он осматривает серые стены класса и грустно усмехается.
— Ничего,— говорит Японец.— Подарочек не так уж плох... Сживемся.
— Неужели тебе четырнадцать лет? — задумчиво говорит Янкель.— Четырнадцать лет, а вид гужбанский — прямо купец приволжский какой-то.
— И верно,— говорит Воробей.— Купец...
— Купец,— подхватывает Горбушка.
— Купец,— ухмыляется Офенбах, не ведая, что получает эту кличку навеки.
232
— А что это у тебя за полупердончик? — спрашивает Янкель, указывая на мундир.
— Это — кадетская форма,— отвечает Купец.— Я ведь до революции в кадетском учился. В Петергофском, потом в Орловском.
— Эге! — восклицает Янкель.— Значит, благородного происхождения?
— Да,— отвечает Купец, но без всякой гордости,— благородного... Отец мой офицер, барон остзейский... Фамилия-то моя полная — Вольф фон Офенбах.
— Барон?! — ржет Янкель.— Здорово!..
— Да только жизнь-то моя не лучше вашей,— говорит Купец,— тоже с детства дома не живу.
— Ладно,— заявил Япошка.— Пускай ты барон, нас не касается. У нас — равноправие.
Потом все усаживаются к печке.
Купец садится, как индейский вождь, посредине на ломаный
табурет.
Он чувствует, что все смотрят на него, самодовольно улыбается и щурит и без того узкие глаза.
— Значит, ты тово... кадет? — спрашивает Янкель.
— Кадет,— отвечает Купец и, ухмыляясь, добавляет: — Бывший.
Несколько мгновений длится молчание. Потом Мамочка тонким,
пискливым голосом спрашивает:
— У вас ведь всё князья да бароны обучались... Да?
— Фактически,— басит Купец,— все дворянского звания. Не
ниже.
— Ишь ты,— говорит Воробей.— Князей, значит, видел. За ручку, может быть, здоровался.
— И не только князей. Я и самого Николая видел.
— Николая? — восклицает Горбушка.— Царя!
— Очень даже просто. Он к нам в корпус приезжал, а потом я его часто видел, когда в дворцовой церкви в алтаре прислуживал. Эх, жисть тогда была — малина земляничная!..
Купец вздыхает:
— Просвирками питался!
— Просвирками?
— Да, просвирками,— говорит Купец.— Вкусные просвирки были в дворцовой церкви, замечательные просвирки. Напихаешь их, бывало, штук двадцать за пазуху, а после с товарищами жрешь. С маслом ели. Вкусно...
Он мечтательно проводит рукою по лбу и снова вздыхает:
— Только засыпался очень неприятно!
— Расскажи,— говорит Японец.
— Расскажи, расскажи! — подхватывают ребята.
И купец начинает:
— Обыкновенно я, значит, в корпус таскал просвирки,— там их и шамали... А тут пожадничал, захватил маслица, думаю — в алтаре,
233
где-нибудь в ризнице, позавтракаю. Ну вот... На амвоне служба идет, дьякон «Спаси, господи, люди...» запевает, а я перочинный ножичек вынул и просвирочки разрезаю. Нарезал штук пять, маслом намазал, склеил, хотел за пазуху класть, а тут, значит, батюшка, отец Вень- ямин, входит, чтоб ему пусто... Ну я, конечно, все просвирки на блюдо и глаза в потолок. А он меня на дворцовую кухню за кипятком для причастия посылает. Прихожу оттуда с кипятком — нет просвирок, унесли уже. Сдрейфил я здорово. Все сидел в ризнице и дрожал. А потом батя входит. В руках просвирка. Рука трясется, как студень. «Это что такое? — спрашивает.— А?» Ну, безусловно, меня в три шеи, и в корпусе, в карцере, двое суток пропрел. Оказывается, батя Николаю, самодержцу всероссийскому, стал подавать просвирку, а половинка отклеилась — и на пол... Конфузу, говорят, было... Потеха!
Ребята хохочут. В это время трещит звонок.
— Спать хряемте,— говорит Воробей.
— Что это? — удивляется Купец.— Так рано спать?
— Да,— отвечает Японец.— У нас законы суровые. Хотя не суровее, конечно, кадетских, а все-таки...
В спальне вспоминают, что Купец не получил от кастелянши постельное белье. Кастелянша работает до шести часов, и позже белье не получить.
— Пустяки,— говорит Японец.— Соберем с бору по сосенке... Выспится.
Коек пустых много, собирают белье: кто подушку, кто одеяло, кто простыню дает. Из подушек делают матрац, и постель у Купца получается не хуже, чем у других.
Купец укладывается, завертывается в серое мохнатое одеяло и басит:
— Спокойной ночи, робя!
Потом засыпает, храпит, как боров, и не слышит приглушенных разговоров ребят, которые тянутся за полночь...
Утром дежурный проходит по спальне, звонит в серебристый колокольчик. Воспитанники вскакивают, быстро одеваются и бегут в умывальню. Когда вся спальня уже на ногах, все постели убраны, одеяла сложены вчетверо и лежат на подушках, дежурный замечает, что новый воспитанник четвертого отделения спит.
Дежурный ■— первоклассник Козлов, маленький, гнусавый,— бежит к офенбаховской кровати и звонит над самым ухом Купца. Тот просыпается, вскакивает и недоумевающе смотрит в лицо дежурного.
— Ты чего, сволочь?
— Вставай, пора... Все уже встали, чай идут пить.
Купец скверно ругается, снова залезает под одеяло и поворачивается спиной к Козлову.
— Да вставай же! — тянет Козел.
Ему попадет, он получит запись в «Летопись», если не все воспитанники будут разбужены.
234
— Вставай, ты...— гнусит он.
Купец внезапно вскакивает, сбрасывает с себя одеяло и с размаху ударяет Козла по щеке. Козел взвизгивает, хватается за щеку и, выбегая из спальни, кричит:
— Накачу! Будешь драться, сволочь!
Но жаловаться Козел не идет — фискалов в Шкиде не любят.
Через минуту Козел возвращается в спальню с Японцем, призванным для воздействия на Купца.
— Эй, барон, вставай! — говорит Японец, дергая Купца за плечо.
Купец высовывает голову из-под одеяла.
— Пошли вы подальше, а не то...
Но он уже проснулся.
— Что будите-то? — хмуро басит он.— Который час?
— Восемь, начало девятого,— отвечает Японец.
— Черт,— тянет Купец, но уже добродушно.— Раненько же вас поднимают. У нас в корпусе и то полдевятого зимой будили.
— Ладно,— говорит Японец,— вставай.
— А я вот раз дядьку избил,— вспоминает Купец.— Кузьмичом звали. Уж зорю проиграли, а я сплю... Он меня будит. А я ему раз — в ухо...
Купец мечтательно улыбается и высовывает из-под одеяла ноги.
— Идем умываться,— говорит Японец, когда Купец, напялив мундирчик, застегивает сохранившиеся на нем золотые пуговицы.
В умывальне домываются лишь два человека. Костец стоит у окна и отмечает в тетрадке птичками вымывшихся.
— Как фамилия? — спрашивает он у Купца, потом добавляет: — Сними куртку.
Купец нехотя снимает мундир и нехотя, лениво ополаскивает лицо и шею.
Халдей осматривает вымывшегося для первого раза снисходительно и ставит в тетрадь птичку.
— Ну, ребята,— говорит после чая товарищам Японец.— Барон-то наш — вышибалистый... Держимордой будет, хотя и добродушен.
А добродушие Купца выясняется в тот же день.
Купец идет в гардеробную получать белье. Там он снимает с себя кадетский мундир и потрепанные брюки клеш и облачается в казенное — холщовые рубаху и штаны.
Кастелянша Лимкор (Лимонная корочка) или Амвон (Американская вонючка) — старая дева, любящая подчас от скуки побеседовать с воспитанниками,— расспрашивает Купца о его жизни.
— Животных любишь? — спрашивает она, сама страстно обожающая собак и кошек.
— Люблю,— отвечает Купец.— Я всех животных люблю — и собак, и кошек, и людей.
Амвон рассказывает об этом воспитателям, а те товарищам Купца.
235
За Купцом остается репутация сильного, вспыльчивого, но добродушного парня.
В Шкиде, а особенно в четвертом отделении, он получает диктаторские полномочия и пользуется большим влиянием в делах, решающихся силой. Однокашники зовут его шутливо-почтительно Купа, а воспитатели — «лодырем первой гильдии».
Учиться Купец не любит.
ПОЖАР
Юбилейный банкет.— Уголек из буржуйки.— Живой покойник.—Руки вверх.—Драма с дверной ручкой.— Обгорелое детище.— Новое «Зеркало».
Десять часов вечера. Хрипло пробрякали часы. Звенит звонок.
Утомленная длинным, слепым зимним днем с бесконечными уроками и ноской дров, Шкида идет спать.
Затихает здание, погружаясь в дремоту.
Дежурная воспитательница — немка Эланлюм — очень довольна. Сегодня воспитанники не бузят. Сегодня они бесшумно укладываются в постели и сразу засыпают. Не слышно диких выкриков, никто не дерется подушками, все вдруг стали послушными, спокойными и тихими...
Такое настроение у воспитанников бывает редко, и Эланлюм чрезвычайно рада, что это случилось как раз в ее дежурство.
Ее помощник — воспитатель, полный, белокурый, женоподобный мужчина, по прозвищу Шершавый,— уже спит.
Шершавый — скверный воспитатель из породы «мягкотелых». Он благодушен, не быстр в движениях и близорук,— это позволяет шкидцам в его присутствии бузить до бесчувствия.
Сегодня Шершавый утомлен. Он не только воспитатель, но и фельдшер, лекпом, лекарский помощник. Сегодня был медицинский осмотр, и Шершавый очень устал, перещупав и перестукав полсотни воспитанников.
Шершавый спит, но Эланлюм не сердится на него. Ей кажется, что она и без помощника уложила всех спать.
Эланлюм смотрит на часы — четверть одиннадцатого. Она решает еще раз обойти здание, заходит в четвертый класс и застревает в дверях.
Весь класс сидит на партах. Вид у ребят заговорщицкий.
При входе немки все вскакивают и замирают, потом к ней подходит Еонин и с не свойственной ему робостью говорит:
— Элла Андреевна, сегодня мы справляем юбилей — выход
236
двадцать пятого номера «Зеркала». Элла Андреевна, мы бы хотели отпраздновать это важное для нас событие устройством маленького банкета и поэтому всем классом просим вас разрешить нам остаться здесь до двенадцати часов. Мы обещаем вам вести себя тихо. Можно?
Глаза всего класса впились в воспитательницу.
Немка растрогана.
— Хорошо, сидите, но чтобы было тихо.
Она уходит. В классе начинаются приготовления. Выдвинут на середину круглый стол, уставленный скромными яствами, средства на которые собирались всем классом в течение двух недель. Мамочка ставит на стол чайник с кипятком и, расставив кружки, развязным голосом говорит:
— Прошу к столу.
Ребята чинно рассаживаются за столом. Янкель пробует сказать речь:
— Братишки, итак, вышел двадцать пятый номер нашего «Зеркала»...
Он хочет продолжать, но не находит слов. Да и без слов все ясно. Он достает из парты комплект «Зеркала» и раскладывает его по партам. Двадцать пять номеров пестрой лентой раскинулись на черном крашеном дереве, двадцать пять номеров — двадцать пять недель усиленного труда,— это лучше всяких слов говорит об успехе редакции.
Класс с уважением смотрит на газету, класс разглядывает старые номера, как какую-нибудь музейную реликвию. Только Купец не интересуется «Зеркалом»; забравшись в угол, он расправляется с колбасой. Он тоже взволнован, но не газетой, а шамовкой.
Потом ребята вновь усаживаются за стол, пьют чай, хрустят галетами, едят бутерброды с маслом и колбасой.
В классе жарко.
Поставленная на время холодов чугунка топится с утра дровами, наворованными у дворника. От чая и от жары все размякли и, лениво развалившись, сидят, не зная, о чем говорить.
Третьеклассник Бобер, случайно затесавшийся на банкет, начинает тихо мурлыкать «Яблочко»:
Эх, яблочко на подоконничке,
В Петрограде появилися покойнички.
Но «Яблочко» — не очень подходящая к случаю песня. Ребятам хочется спеть что-нибудь более торжественное, величавое, и вот Янкель затягивает школьный гимн:
Мы из разных школ пришли,
Чтобы здесь учиться.
Братья, дружною семьей Будем же труди-и-ться.
238
Ребята подхватывают:
Бросим прежнее житье,
Позабудем, что прошло.
Смело к но-о-вой жизни!
Смело к но-о-вой жизни!
Один Купец не поет. Он считает, что греться у буржуйки гораздо приятнее. Улыбаясь широкой улыбкой, он сидит около пузатой железной печки, помешивая кочергой догорающие угли и головешки.
— Мамочка, сходи посмотри, сколько время,— говорит Янкель.
Но в эту минуту дверь отворяется и входит Эланлюм.
— Пора спать, ребята. Уже половина первого.
Никто не возражает ей. Шкидцы вскакивают. Бесшумно расставляются по местам столы, табуретки и стулья, убираются остатки юбилейного ужина, складывается на железный поднос посуда. Янкель бережно и любовно укладывает в свою парту виновника торжества — комплект «Зеркала» — и вместе с другими на цыпочках идет к выходу.
В дверях его останавливает Эланлюм. Кивком головы она показывает на чугунку.
Янкель возвращается. Наспех поковыряв кочергой и видя, что головешек нет, он закрывает трубу.
Выходя из класса, он замечает, что на полу у самой стены прижался крохотный уголек, случайно выскочивший из чугунки. Надо бы подобрать или затоптать его, но возвращаться Янкелю лень.
«Авось ничего не случится. Погаснет скоро»,— мысленно решает он и выходит из класса.
В спальне тихо. Все спят. Воздух уже достаточно нагрелся и погустел от дыхания, но почему-то теплая густота делает спальню уютней. Пахнет жильем.
Слабо мерцает угольная лампочка, свесившаяся с потолка, настолько слабо, что через запушенные инеем окна виден свет уличного фонаря, пробивающийся в комнату и освещающий ее.
В спальне тихо.
Изредка кто-нибудь из ребят, самый беспокойный, увидев что-то страшное во сне, слабо вскрикнет и заворочается испуганно на кровати. Потом вскинет голову, сядет, увидит, что он не в клетке с тиграми, не на уроке математики и не на краю пропасти, а в родной шкидской спальне, и вновь успокоится.
И в комнате опять тихо.
Янкель проснулся, перевернулся на другой бок, зевнул и огляделся. Было еще темно. Все спали, так же бледно светила лампочка, но фонарь за окном уже не горел.
«Часа три-четыре»,— подумал Янкель и собирался уже опять
239
уткнуться в подушку, как вдруг его внимание приковало маленькое сизое облачко вокруг лампочки.
«Что за черт, кто бы мог курить в спальне»,— невольно мелькнуло в голове.
Но думать не хотелось, хотелось спать. Он опять укрылся с головой одеялом и притих.
Вдруг из соседней комнаты кто-то позвал воспитателя, тот повертелся на кровати и, кряхтя, поднялся.
— Кто меня зовет? — прохрипел Шершавый, болезненно морщась и хватаясь за голову.
Кричал Газенфус — самый длинный и тощий из всех шкидцев и в то же время самый трусливый.
— Дым идет откуда-то! Воспитатель, а даже не посмотрит — откуда,— надрывался он.
Теперь заинтересовался дымом и Янкель и тоже набросился на несчастного фельдшера:
— Что же вы, дядя Володя, в самом деле? Пойдите узнайте, откуда дым.
Но Шершавый расслабленно простонал в ответ:
— Черных, видишь, я болен. Пойди сам и узнай.
Янкель разозлился.
— Идите вы к черту! Что я вам — холуй бегать?
Он решительно повернулся на бок, собираясь в третий раз уснуть, как вдруг дверь с треском распахнулась — ив спальню ворвалось густое облако дыма. Когда оно слегка рассеялось, Янкель увидел Викниксора. Тот тяжело дышал и протирал глаза. Потом, оправившись, спокойным голосом громко сказал:
— Ребята, вставайте скорее.
Однако говорить было не нужно. Половина шкидцев уже проснулась и, почуяв неладное, торопливо одевалась. Викниксор, увидев полуодетого Янкеля, подозвал его и тихо сказал:
— Попробуй пройти к Семену Ивановичу, к кладовой. Дыму много. Возьми подушку.
Янкель молча кивнул и, схватив подушку, двинулся к двери.
— Ты куда? — окликнул его одевавшийся Бобер.
И, сразу поняв все, сказал:
— Я тоже пойду.
— Пойдем,— согласился Янкель.
Спальня уже гудела, как потревоженный улей. Будили спавших, одевались.
Подходя к двери, Янкель услышал за спиной голос недовольного Купца. Его тормошили, кричали на ухо о пожаре, а он сердито, истерично смеялся:
— Уйдите, задрыги! О-го-го! Не щекочите! Отстаньте!
Натягивая на ходу свой нарядный, принесенный «с воли» полушубок, Бобер нагнал Янкеля.
^— Ну пойдем.
240
— Пойдем.
Оба переглянулись. Потом Янкель решительно дернул дверь и вышел, наклоняя голову и закрывая подушкой рот.
Сразу почувствовался противный запах гари. Дым обступил их плотной стеной.
Держась за руки, они на ощупь вышли в зал. Янкель открыл на минуту глаза и сквозь жуткий мрак увидел едва мерцающий глазок лампочки.
Обычно светлый зал теперь был темен, как черное покрывало.
Ребята миновали зал, свернули в коридор, по временам открывая глаза, чтобы ориентироваться по лампочкам. От дыма, пробивавшегося сквозь подушку, начало першить в горле, глаза слезились. Было страшно идти вперед, не зная, где горит.
— А вдруг мы идем на огонь?
Но вот за поворотом мелькнул яркий свет, дыму стало меньше. Эконом уже стоял у дверей, встревоженный запахом гари.
— Пожар, Семен Иванович! — разом выкрикнули Янкель и Бобер, с жадностью глотая свежий воздух.— Пожар!
Эконом засуетился.
— Так что же вы! Бегите скорей в пожарную команду. Погодите, я открою черную лестницу.
Звякнула цепочка. Ключ защелкал по замку, прыгая в дрожащих руках старика.
— Пойдем? — спросил Янкель, нерешительно поглядывая на Бобра.
— Конечно. Надо же!
Если не считать подушки, которую Янкель держал в руках, на нем была только нижняя рубашка, пара брюк и незашнурованные ботинки. Он минуту потоптался, поглядывая на одежду товарища,— облаченному в полушубок Бобру колебаться было нечего.
— Идти или не идти?
Янкель хотел было отказаться, но потом решил:
— Ладно. Пойдем.
Быстро сбежали по лестнице, татарин-дворник Мефтахудын открыл ворота, и ребята выскочили на Курляндскую.
— Поглядим, где горит,— задыхаясь, крикнул Янкель.
Вышли на середину улицы и, поглядев в окна, ахнули.
Четыре окна нижнего этажа, освещенные ярко-красным светом, бросали отсвет на снег.
Янкель завыл:
— Наш класс. Сгорело все! «Зеркало» сгорело!
И, ни слова больше не сказав, оба шкидца ринулись во мрак.
Несмотря на мороз и на более чем легкий костюм, Янкель почти не чувствовал холода. Только уши пощипывало.
Вокруг царила тишина, на улицах не видно было ни души — было время самой глубокой ночи. *
241
Бежали долго по прямому, как стрела, Старо-Петергофскому проспекту. Проскочили мимо ярко освещенной фабрики. Потом устали, запыхались и перешли на быстрый шаг.
Обоих мучил вопрос: что-то делается там, в Шкиде?
Вдруг Янкель, не убавляя хода, шепнул Бобру:
— Ой, гляди! Кто-то крадется.
Оба взглянули на развалины дома и увидели серую тень, спешившую перерезать им дорогу. Бобер побледнел.
— Живые покойники! Полушубок снимут.
— Идем скорее,— оборвал Янкель. Ему-то бояться было нечего. Пожалуй, он ничем не рисковал, так как вряд ли какой бандит решится снять последнюю рубаху, и притом нижнюю, грязную и старую.
Стиснув зубы и скосив глаза, шкидцы прибавили шагу, с намерением проскочить мимо зловещей тени, но маневр не удался.
Из-за груды кирпичей с револьвером в руках появился человек в серой шинели.
— Стой! Руки вверх!
Ребята остановились и послушно подняли руки.
Солдат, не опуская револьвера, спросил, подозрительно оглядывая шкидцев:
— Куда идете?
У Бобра прошло чувство страха, и он, почуяв, что это не налетчик, бодро сказал:
— В пожарную часть.
— Откуда?
— Из интерната. Пожар у нас.
Серая шинель минуту нерешительно потопталась, потом, спрятав револьвер и уже смягчаясь, пробурчала:
— Пойдемте. Я вас провожу.
По дороге разговорились — человек с револьвером оказался агентом.
— А я вас, чертенята, за налетчиков принял,— засмеялся он.
— А мы — вас,— осмелев, признался агенту Янкель.
— Меня?!
— Да. Мы думали, что это — живой покойник.
— Ну, этих субчиков в Питере уже не осталось. Всех давно выловили,— сказал чекист. Тут он обратил внимание на жалкий костюм Янкеля, скинул шинель и сказал:— На, накинь, а то простудишься.
Пришли в часть. Едва успели подняться на второй этаж и сообщить о пожаре, как ребят уже позвали вниз.
Там уже мелькали ярко-рыжие факелы, блестели медные пожарные каски, хрипели гривастые лошади.
Пожарные посадили ребят на возок, и вся часть рванулась вперед, разрывая сгустившуюся ночную тишину звоном, перепевом сигнального рожка, хрястом подков и лошадиным ржанием.
242
Когда подъехали к школе, там уже стояла довольно большая толпа зевак.
Почти одновременно приехала еще одна пожарная часть.
Янкель и Бобер по черной лестнице потопали было наверх, но эконом выгнал их, несмотря на самые горячие протесты.
В это время в спальне разыгрывалась трагедия.
Много времени прошло, пока удалось разбудить спящих, а когда все наконец проснулись, в комнате уже стоял густой дым. Он пробивался из всех щелей, быстро заполняя помещение.
Началась паника. Кто-то из малышей заплакал. Треснуло где-то выдавленное стекло.
Ребята вдруг все сразу забегали, громко закричали, заметались. В этот момент распахнулась дверь и в спальню ворвалась Эланлюм.
— Дети! Берите подушки. Все ко мне!
Как стадо баранов к пастуху, прихлынули к немке воспитанники, ожидая от нее чуда, и даже Купа, нерешительно почесав затылок и спокойно докурив папироску, приблизился к ней.
Эланлюм повысила голос, стараясь перекричать гудевшую массу:
— Закройте рты подушками. Все идите за мной. Чтобы не растеряться, держитесь друг за друга.
Пожар разрастался. Это было видно по дыму, густому-густому и черному. Эланлюм раскрыла двери настежь и смело вышла навстречу черной завесе.
За ней двинулись остальные.
Идти было недалеко. Нужно было лишь свернуть направо, сделать три шага по площадке лестницы и открыть дверь в квартиру немки, где имелся выход на другую лестницу.
Уже вся школа толпилась на лестничной площадке, нетерпеливо дожидаясь, когда откроют заветную дверь, но передние что-то замешкались.
Искали ручку — медную дверную ручку — и не находили. Десятки рук шарили по стенам, хватаясь за карнизы, мешая друг другу,— ручки не было.
Искали на ощупь. Открытые глаза все равно мало помогли бы — дым, черный как сажа, слепил глаза, вызывая слезы.
Послышались сдавленные выкрики:
— Скорей!
— Задыхаемся!
Кто-то не выдержал, закашлялся и, глотнув дым, издал протяжный вопль. Стало страшно.
Купец, мрачно стоявший у стенки, наконец не выдержал и, растолкав сгрудившихся на лестнице товарищей, медленно провел рукой по стене, нащупал планку, опять провел и наткнулся на ручку.
Брызнул яркий свет из открытой двери, и обессилевшие, задыхающиеся шпингалеты, шатаясь, ввалились в коридор. Эланлюм пересчитала воспитанников. Все были на месте.
243
Она облегченно вздохнула, но тут же опять побледнела.
— Ребята! А где воспитатель?
Мертвым молчанием ответили ей шкидцы.
— Где воспитатель? — снова, и уже с тревогой, переспросила немка.
Тогда Купец, добродушно улыбнувшись, сказал:
— А он там в спальне еще лежит, чудак. Охает, а не встает. Потеха!
Эланлюм взвизгнула и, схватившись за голову, кинулась в дымный коридор по направлению к спальне. Минут через пять раздался громкий стук в дверь.
Когда шкидцы поспешили открыть ее, им представилось невиданное зрелище.
Немка волокла за руку Шершавого, а тот бессильно полз по полу в кальсонах и нижней рубахе. Язык у него вылез наружу, в глазах светилось безумие — он задыхался.
Общими усилиями обоих втащили в коридор. Шершавый безжизненно упал на пол, а Эланлюм, тяжело дыша, прислонилась к стене.
Через минуту она уже оправилась, и снова голос ее загремел под сводами коридора:
— Все на лестницу! На улицу не выходите. Все идите в дворницкую к Мефтахудыну.
Ребята высыпали на двор, но к дворнику никто не пошел. Забыв о запрете, все выскочили на улицу.
Дрожа от холода, шкидцы уставились на горящие окна, страх прошел, было даже весело.
А у забора стояли Япончик и Янкель и чуть не плакали, глядя на окна.
Вот зазвенело стекло, и пламя столбом вырвалось наружу, согревая мерзлую штукатурку стены.
За углом запыхтела паровая машина, начавшая качать воду, надулись растянутые по снегу рукава.
Мимо пробежали топорники, слева от них поднимали лестницу, и проворный пожарный, поблескивая каской, уже карабкался по ступенькам вверх. Жалобно звякнули последние стекла в горящем этаже; фыркая и шипя, из шлангов рванулась мощная струя воды.
— Наш класс горит. Сволочи! — выругался Цыган, подходя к Японцу и Янкелю.
Но те словно не слышали и, стуча зубами от холода и возбуждения, твердили одно слово:
— «Зеркало»!
— «Зеркало»!
А Янкель иногда сокрушенно добавлял:
— Моя бумага! Мои краски!
— Марш в дворницкую! — вдруг загремел голос Викниксора над их головами.
244
В последний раз с грустью взглянув на горящий класс, ребята юркнули под ворота.
Там уже толпились полуодетые, дрожащие от холода шкидцы.
Дворницкая была маленькая, и ребята расселись кто на подоконниках, кто прямо на полу. С улицы доносился шум работы, и шкидцам не сиделось на месте, но у дверей стоял Мефтахудын, которому строго-настрого запретили выпускать учеников за ворота.
Мефтахудын — татарин, добродушный инвалид, беспалый,— приехал из Самары, бежал от голода и нашел приют в Шкиде. До сих пор ребята его любили, но сегодня возненавидели.
— Пусти, Мефтахудын, поглядеть,— горячился Воробей.
Ласково отпихивая парня, дворник говорил, растягивая слова:
— Сиди, поджигала! Чиво глядеть? Нечиво глядеть. Сиди на месте.
То и дело то Эланлюм, то Викниксор втискивали в двери новых и новых воспитанников, пойманных на улице, и снова уходили на поиски.
Ребята сидели сгрудившись, угнетенные и придавленные. Сидели долго-долго. Уже забрезжил в окнах бледный рассвет, а шкидцы сидели и раздумывали. Каждый по-своему строил догадки о причинах пожара:
— Жарко чугунку натопили в четвертом отделении, вот пол и загорелся.
— Электрическую проводку слишком давно не меняли.
— Курил кто-нибудь. Чинарик оставил...
Но настоящую причину знал один Янкель: маленький красный уголек все время то потухал, то вспыхивал перед его глазами.
Наступило утро.
Уехали пожарные, оставив грязные лужи и кучи обгорелых досок на снегу.
Печально глядели шесть оконных впадин, копотью, дымом и гарью ударяя в нос утренним прохожим.
Сгорели два класса, и выгорел пол в спальне.
Утром старшие ходили по пепелищу, с грустью поглядывая на обгорелые бревна, на почерневшие рамы и закоптелые стены. Разыскивали свои пожитки, стараясь откопать хоть что-нибудь. Бродили вместе с другими и Янкель с Японцем, искали «Зеркало», но, как ни искали, даже следов обнаружить не могли.
Они уже собирались уходить, как вдруг Янкель нагнулся над кучей всякого горелого хлама, сунул в эту кучу руку и извлек на свет что-то бесформенное, мокрое и лохматое.
Замелькали исписанные печатными буквами знакомые листы.
— Ура! Цело!
С величайшими предосторожностями чуть ли не всем классом откапывали любимое детище и наконец извлекли его, но в каком виде предстало перед ними это детище! Обгорели края, пожелтела бумага.
245
Полному уничтожению «Зеркала» помешала вода и, по-видимому, обвалившаяся штукатурка, придавившая шкидскую газету и заживо похоронившая ее в развалинах.
Редакция ликовала.
Потом Викниксор устроил собрание, опрашивал воспитанников, интересовался их мнением, и все сошлись на одном:
— Виновата буржуйка.
Тотчас же торжественным актом буржуйки были уничтожены по всей школе.
Дня через два третий и четвертый классы возобновили занятия, перебравшись во вновь оборудованные классы наверху. Классы были не хуже прежних, но холодно и неприветливо встретили воспитанников новые стены. И не скоро привыкли к ним ребята.
Янкель и Японец как-то сразу вдруг утратили любовь к старому «Зеркалу» и смотрели на него, как на калеку, с отвращением.
Долго не могли собраться с духом и выпустить двадцать шестой номер газеты, а потом вдруг, посовещавшись, решили:
«Поставим крест на старом «Зеркале».
Недели через две вышел первый номер роскошного многокрасочного журнала «Зеркало», который ничем не был похож на своего хоть и почтенного, но бесцветного родителя.
А республика Шкид, покалеченная пожаром, долго н'е могла оправиться от нанесенной ей раны, как не может оправиться от разрушений маленькая страна после большой войны.
ЛЕНЬКА ПАНТЕЛЕЕВ
Мрачная личность.— Сова.— Лукулловы лепешки.—
Пир за счет Викниксора.— Монашенка в штанах.—
Один против всех.— «Темная».— Новенький попадает за решетку.—- Примирение.— Когда лавры не дают
спать.
Вскоре после пожара Шкидская республика приняла в свое подданство еще одного гражданина.
Этот мрачный человек появился на шкидском горизонте ранним зимним утром. Его не привели, как приводили многих; пришел он сам, постучался в ворота, и дворник Мефтахудын впустил его, узнав, что у этого скуластого, низкорослого и густобрового паренька на руках имеется путевка комиссии по делам несовершеннолетних.
В это время шкидцы под руководством самого Викниксора пилили
246
во дворе дрова. Паренек спросил, кто тут будет Виктор Николаевич, подошел и, смущаясь, протянул Викниксору бумагу.
— Аа-а, Пантелеев?!— усмехнулся Викниксор, мельком заглядывая в путевку.— Я уже слыхал о тебе. Говорят, ты стихи пишешь? Знакомьтесь, ребята,— ваш новый товарищ Алексей Пантелеев. Между прочим, сочинитель, стихи пишет.
Эта рекомендация не произвела на шкидцев большого впечатления. Стихи писали в республике чуть ли не все ее граждане, начиная от самого Викниксора, которому, как известно, завидовал и подражал когда-то Александр Блок. Стихами шкидцев удивить было трудно. Другое дело, если бы новенький умел глотать шпаги, или играть на контрабасе, или хотя бы биография у него была чем-нибудь замечательная. Но шпаг он глотать явно не умел, а насчет биографии, как скоро убедились шкидцы, выудить из новенького что-нибудь было совершенно невозможно.
Это была на редкость застенчивая и неразговорчивая личность. Когда у него спрашивали о чем-нибудь, он отвечал «да» или «нет» или просто мычал что-то и мотал головой.
— За что тебя пригнали? — спросил у него Купец, когда новенький, сменив домашнюю одежду на казенную, мрачный и насупившийся, прохаживался в коридоре.
Пантелеев не ответил, сердито посмотрел на Купца и покраснел, как маленькая девочка.
— За что, я говорю, пригнали в Шкиду? — повторил вопрос Офенбах.
— Пригнали... значит, было за что,— чуть слышно пробормотал новенький. Кроме всего, он еще и картавил: вместо «пригнали» говорил «пгигнали».
Разговорить его было трудно. Да никто и не пытался этим заниматься. Заурядная личность, решили шкидцы. Бесцветный какой-то. Даже туповатый. Удивились слегка, когда после обычной проверки знаний новенького определили сразу в четвертое отделение. Но и в классе, на уроках, он тоже ничем особенным себя не проявил: отвечал кое-как, путался; вызванный к доске, часто долго молчал, краснел, а потом, не глядя на преподавателя, говорил:
— Не помню... забыл.
247
Только на уроках русского языка он немножко оживлялся. Литературу он знал.
По заведенному в Шкиде порядку первые две недели новички, независимо от их поведения, в отпуск не ходили. Но свидания с родными разрешались. Летом эти свидания происходили во дворе, в остальное время года — в Белом зале. В первое воскресенье новенького никто не навестил. Почти весь день он терпеливо простоял на площадке лестницы у большого окна, выходившего во двор. Видно было, что он очень ждет кого-то. Но к нему не пришли.
В следующее воскресенье на лестницу он уже не пошел, до вечера сидел в классе и читал взятую из библиотеки книгу — рассказы Леонида Андреева.
Вечером, перед ужином, когда уже возвращались отпускники, в класс заглянул дежурный:
— Пантелеев, к тебе!
Пантелеев вскочил, покраснел, уронил книгу и, не сдерживая волнения, выбежал из класса.
В полутемной прихожей, у дверей кухни, стояла печальная заплаканная дамочка в какой-то траурной шляпке и с нею курносенькая девочка лет десяти-одиннадцати. Дежурный, стоявший с ключами у входных дверей, видел, как новенький, оглядываясь и смущаясь, поцеловался с матерью и сестрой и сразу же потащил их в Белый зал. Там он увлек их в самый дальний угол и усадил на скамью. И тут шкидцы, к удивлению своему, обнаружили, что новенький умеет не только говорить, но и смеяться. Два или три раза, слушая мать, он громко и отрывисто захохотал. Но, когда мать и сестра ушли, он снова превратился в угрюмого и нелюдимого парня. Вернувшись в класс, он сел за парту и опять углубился з книгу.
Минуты через две к его парте подошел Воробей, сидевший в пятом разряде и не ходивший поэтому в отпуск.
— Пожрать не найдется, а? — спросил он, с заискивающей улыбкой заглядывая новенькому в лицо.
Пантелеев вынул из парты кусок серого пирога с капустой, отломил половину и протянул Воробью. При этом он ничего не сказал и даже не ответил на улыбку. Это было обидно, и Воробей, приняв подношение, не почувствовал никакой благодарности.
Быть может, новенький так и остался бы незаметной личностью, если бы не одно событие, которое взбудоражило и восстановило против него всю школу.
Почти одновременно с Пантелеевым в Шкиде появилась еще одна особа. Эта особа не числилась в списке воспитанников, не принадлежала она и к сословию халдеев. Это была дряхлая старуха, мать Викниксора, приехавшая к нему неизвестно откуда и поселившаяся в его директорской квартире. Старуха эта была почти совсем слепа.
248
Наверно, именно поэтому шкидцы, которые каждый в отдельности могли быть и добрыми, и чуткими, и отзывчивыми, а в массе, как это всегда бывает с ребятами, были безжалостны и жестоки, прозвали старуху Совой. Сова была существо безобидное. Она редко появлялась за дверью викниксоровской квартиры. Только два-три раза в день шкидцы видели, как, хватаясь свободной рукой за стену и за косяки дверей, пробирается она с какой-нибудь кастрюлькой или сковородкой на кухню или из кухни. Если в это время поблизости не было Викниксора и других халдеев, какой-нибудь шпингалет из первого отделения, перебегая старухе дорогу, кричал почти над самым ее ухом:
— Сова ползет!.. Дю! Сова!..
Но старуха была еще, по-видимому, и глуховата. Не обращая внимания на эти дикие выкрики, с кроткой улыбкой на сером морщинистом лице, она продолжала свое нелегкое путешествие.
И вот однажды по Шкиде пронесся слух, что Сова жарит на кухне какие-то необыкновенные лепешки. Было это в конце недели, когда все домашние запасы у ребят истощались и аппетит становился SiiepcKHM. Особенно разыгрался аппетит у щуплого Японца, который не имел родственников в Петрограде и жил на одном казеином пайке и на доброхотных даяниях товарищей.
Пока Сова с помощью кухарки Марты священнодействовала у плиты, шкидцы толпились у дверей кухни и глотали слюни.
— Вот так смак! — раздавались голодные завистливые голоса.
— Ну и лепешечки!
— Шик-марё!
— Ай да Витя! Вкусно питается...
А Японец совсем разошелся. Он забегал на кухню, жадно втягивал ноздрями вкусный запах жареного сдобного теста и, потирая руки, выбегал обратно в коридор.
— Братцы! Не могу! Умру! — заливался он.— На маслице! На сливочном! На натуральненьком!..
Потом снова бежал на кухню, становился за спиной Совы на одно колено, воздымал к небу руки и кричал:
— Викниксор! Лукулл! Завидую тебе! Умру! Полжизни за лепешку.
Ребята смеялись. Японец земно кланялся старухе, которая ничего этого не видела, и продолжал паясничать.
— Августейшая мать! — кричал он.— Порфироносная вдова! Преклоняюсь...
В конце концов Марта выгнала его.
Но Японец уже взвинтил себя и не мог больше сдерживаться. Когда через десять минут Сова появилась в коридоре с блюдом дымящихся лепешек в руках, он первый бесшумно подскочил к ней и так же бесшумно двумя пальцами сдернул с блюда горячую лепешку. Для шкидцев это было сигналом к действию. Следом за Японцем к блюду метнулись Янкель, Цыган, Воробей, а за ними
249
и другие. На всем пути следования старухи — ив коридоре, и на лестнице, и в Белом зале — длинной цепочкой выстроились серые бесшумные тени. Придерживаясь левой рукой за гладкую алебастровую стену, старуха медленно шла по паркету Белого зала, и с каждым ее шагом груда аппетитных лепешек на голубом фаянсовом блюде таяла. Когда Сова открывала дверь в квартиру, на голубом блюде не оставалось ничего, кроме жирных пятен.
А шкидцы уже разбежались по классам.
В четвертом отделении стоял несмолкаемый гогот. Запихивая в рот пятую или шестую лепешку и облизывая жирные пальцы, Японец на потеху товарищам изображал, как Сова входит с пустым блюдом в квартиру и как Викниксор, предвкушая удовольствие плотно позавтракать, плотоядно потирает руки.
— Вот, кушай, пожалуйста, Витенька. Вот сколько я тебе, сыночек, напекла,— шамкал Японец, передразнивая старуху. И, вытягивая свою тощую шею, тараща глаза, изображал испуганного, ошеломленного Викниксора...
Ребята, хватаясь за животы, давились от смеха. У всех блестели и глаза, и губы. Но в этом смехе слышались и тревожные нотки. Все понимали, что проделка не пройдет даром, что за преступлением вот-вот наступит и наказание.
И тут кто-то заметил новичка, который, насупившись, стоял у дверей и без улыбки смотрел на происходящее. У него одного не блестели губы, он один не притронулся к лепешкам Совы,- А между тем многие видели его у дверей кухни, когда старуха выходила оттуда.
— А ты чего зевал? — спросил у него Цыган.— Эх ты, раззява! Неужели ни одной лепешки не успел слямзить?!
— А ну вас к чегту,— пробормотал новенький.
— Что?! — подскочил к нему Воробей.— Это через почему же к черту?
— А потому, что это — хамство,— краснея, сказал новенький, и губы у него запрыгали.— Скажите — гегои какие: на стагуху напали!..
В классе наступила тишина.
— Вот как? — мрачно сказал Цыган, подходя к Пантелееву.— А ты иди к Вите — накати.
Пантелеев промолчал.
— А ну, иди — попробуй! — наступал на новичка Цыган.
— Сволочь такая! Легавый! — взвизгнул Воробей, замахиваясь на новенького. Тот схватил его за руку и оттолкнул.
И хотя оттолкнул он не Японца, а Воробья, Японец дико взвизгнул и вскочил на парту.
— Граждане! Внимание! Тихо! — закричал он.— Братцы! Небывалый случай в истории нашей республики! В наших рядах оказалась ангелоподобная личность, монашенка в штанах, пепиньерка из института благородных девиц...
250
— Идиот,— сквозь зубы сказал Пантелеев.
Сказано это было негромко, но Японец услышал. Маленький, вечно красный носик его еще больше покраснел. Несколько секунд Еошка молчал, потом соскочил с парты и быстро подошел к Пантелееву.
— Ты что, друг мой, против класса идешь? Выслужиться хочешь? Ребята,— повернулся он к товарищам,— ни у кого не осталось лепешки?..
— У меня есть одна,— сказал запасливый Горбушка, извлекая из кармана скомканную и облепленную табачной трухой лепешку.
— А ну, дай сюда,— сказал Японец, выхватывая лепешку.— Ешь! — протянул он ее Пантелееву.
Новенький отшатнулся и плотно сжал губы.
— Ешь, тебе говорят! — побагровел Еонин и сунул лепешку новенькому в рот.
Пантелеев оттолкнул его руку.
— Уйди лучше,— совсем тихо сказал он и взялся за ручку двери.
— Нет, не смоешься! — еще громче завизжал Японец.— Ребята, вали его!..
Несколько человек накинулись на новенького. Кто-то ударил его под колено, он упал. Цыган и Купец держали его за руки, а Японец, пыхтя и отдуваясь, запихивал новенькому в рот грязную, жирную лепешку. Новенький вывернулся и ударил головой Японца в подбородок.
— Ах, ты драться?! — заверещал Японец.
— Вот сволочь какая!
— Дерется, зануда! А?
— В темную его!
— Даешь темную!..
Пантелеева потащили в дальний угол класса. Неизвестно откуда появилось пальто, которое накинули новенькому на голову. Погасло электричество, и в наступившей тишине удары один за другим посыпались на голову непокорного новичка.
Никто не заметил, как открылась дверь. Ярко вспыхнуло электричество. В дверях, поблескивая пенсне, стоял и грозно смотрел на ребят Викниксор.
— Что здесь происходит? — раздался его раскатистый, но чересчур спокойный бас.
Ребята успели разбежаться, только Пантелеев сидел на полу, у классной доски, потирая кулаком свой курносый нос, из которого тоненьким ручейком струилась кровь, смешиваясь со слезами и с прилипшими к подбородку остатками злополучной лепешки.
— Я спрашиваю: что здесь происходит? — громче повторил Викниксор.
Ребята стояли по своим местам и молчали. Взгляд Викниксора остановился на Пантелееве. Тот уже поднялся и, отвернувшись в угол, приводил себя в порядок, облизывая губы, глотая слезы
251
и остатки лепешки. Викниксор оглядел его с головы до ног и как будто что-то понял. Губы его искривила брезгливая усмешка.
— А ну, иди за мной! — приказал он новенькому.
Пантелеев не расслышал, но повернул голову в сторону зава.
— Ты! Ты! Иди за мной, я говорю.
— Куда?
Викниксор кивком головы показал на дверь и вышел. Не глядя на ребят, Пантелеев последовал за ним. Ребята минуту подождали, переглянулись и, не сговариваясь, тоже ринулись из класса.
Через полуотворенную дверь Белого зала они видели, как Викниксор открыл дверь в свою квартиру, пропустил туда новенького, и тотчас высокая белая дверь шумно захлопнулась за ними.
Ребята еще раз переглянулись.
— Ну уж теперь накатит — факт! — вздохнул Воробей.
— Ясно, накатит,— мрачно согласился Горбушка, который и без того болезненно переживал утрату последней лепешки.
— А что ж. Накатит — и будет прав,— сказал Янкель, который, кажется один во всем классе, не принимал участия в избиении новичка.
Но, независимо от того, кто как оценивал моральную стойкость новичка, у всех на душе было муторно и противно.
И вдруг произошло нечто совершенно фантастическое. Высокая белая дверь с шумом распахнулась — и глазам ошеломленных шкидцев предстало зрелище, какого они не ожидали и ожидать не могли: Викниксор выволок за шиворот бледного, окровавленного Пантелеева и, протащив его через весь огромный зал, грозно зарычал на всю школу:
— Эй, кто там! Староста! Дежурный! Позвать сюда дежурного воспитателя!
Из учительской уже бежал заспанный и перепуганный Шершавый.
— В чем дело, Виктор Николаевич?
— В изолятор! — задыхаясь, прохрипел Викниксор, указывая пальцем на Пантелеева.— Немедленно! На трое суток!
Шершавый засуетился, побежал за ключами, и через пять минут новенький был водворен в тесную комнатку изолятора — единственное в школе помещение, окно которого было забрано толстой железной решеткой.
Шкидцы притихли и недоумевали. Но еще большее недоумение произвела на них речь Викниксора, произнесенная им за ужином.
— Ребята! — сказал он, появляясь в столовой и делая несколько широких, порывистых шагов по диагонали, что, как известно, свидетельствовало о взволнованном состоянии шкидского президента.— Ребята, сегодня в стенах нашей школы произошел мерзкий, возмутительный случай. Скажу вам откровенно: я не хотел поднимать этого дела, пока это касалось лично меня и близкого мне человека. Но после этого произошло другое событие, еще более гнусное. Вы знаете,
252
о чем и о ком я говорю. Один из вас — фамилии его я называть не буду, она вам всем известна — совершил отвратительный поступок. Он обидел старого, немощного человека. Повторяю, я не хотел говорить об этом, хотел промолчать. Но позже я оказался свидетелем поступка еще более омерзительного. Я видел, как вы избивали своего товарища. Я хорошо понимаю, ребята, и даже в какой-то степени разделяю ваше негодование, но... Но надо знать меру. Как бы гнусно ни поступил Пантелеев, выражать свое возмущение таким диким, варварским способом, устраивать самосуд, прибегать к суду Линча, то есть поступать так, как поступают потомки американских рабовладельцев,— это позорно и недостойно вас, людей советских, и притом почти взрослых...
Оседлав своего любимого конька — красноречие,— Викниксор еще долго говорил на эту тему. Он говорил о том, что надо быть справедливым, что за спиной у Пантелеева — темное прошлое, что он — испорченный улицей парень, ведь в свои четырнадцать лет он успел посидеть и в тюрьмах, и в исправительных колониях. Этот парень долго находился в дурном обществе, среди воров и бандитов, и все это надо учесть, так сказать, при вынесении приговора. А кроме того, может быть, он еще и голоден был, когда совершил свой низкий, недостойный поступок. Одним словом, надо подходить к человеку снисходительно, нельзя бросать в человека камнем, не разобравшись во всех мотивах его преступления, надо воспитывать в себе выдержку и чуткость...
Викниксор говорил долго, но шкидцы уже не слушали его. Не успели отужинать, как в четвертом отделении собрались старшеклассники.
Ребята были явно взволнованы и даже обескуражены.
— Ничего себе — монашенка в штанах! — воскликнул Цыган, едва переступив порог класса.
— Н-да,— многозначительно промычал Янкель.
— Что же это, братцы, такое? — сказал Купец.— Не накатил, значит?
— Не накатил — факт! — поддакнул Воробей.
— Ну, положим, это еще не факт, а гипотеза,— важно заявил Японец.— Хотелось бы знать, с какой стати в этой ситуации Викниксор выгораживает его?!
— Ладно, Япошка, помолчи,— серьезно сказал Янкель.— Кому- кому, а тебе в этой ситуации заткнуться надо бы.
Японец покраснел, пробормотал что-то язвительное, но все-таки замолчал.
Перед сном несколько человек пробрались к изолятору. Через замочную скважину сочился желтоватый свет пятисвечовой угольной лампочки.
— Пантелей, ты не спишь? — негромко спросил Янкель. За дверью заскрипела железная койка, но ответа не было.
— Пантелеев! Ленька! — в скважину сказал Цыган.— Ты... это¬
253
го... не сердись. А? Ты, понимаешь, извини нас. Ошибка, понимаешь, вышла.
— Ладно... катитесь к чегту,— раздался из-за двери глухой, мрачный голос.— Не мешайте спать человеку.
— Пантелей, ты жрать не хочешь? — спросил Горбушка.
— Не хочу,— отрезал тот же голос.
Ребята потоптались и ушли.
Но попозже они все-таки собрались между собой и принесли гордому узнику несколько ломтей хлеба и кусок сахару. Так как за дверью на этот раз царило непробудное молчание, они просунули эту скромную передачу в щелку под дверью. Но и после этого железная койка не скрипнула.
Разговорчивым Ленька никогда не был. Ему надо было очень близко подружиться с человеком, чтобы у него развязался язык. А тут, в Шкиде, он и не собирался ни с кем дружить. Он жил какой-то рассеянной жизнью, думая только о том, как и когда он отсюда смоется.
Правда, когда он пришел в Шкиду, эта школа показалась ему непохожей на все остальные детдома и колонии, где ему привелось до сих пор побывать. Ребята здесь были более начитанные. А главное — здесь по-хорошему встречали новичков, никто их не бил и не преследовал. А Ленька, наученный горьким опытом, уже приготовился дать достойный отпор всякому, кто к нему полезет.
До поры до времени к нему никто не лез. Наоборот, на него как будто перестали даже обращать внимание, пока не произошел этот случай с Совой, который заставил говорить о Пантелееве всю школу и сделал его на какое-то время самой заметной фигурой в Шкидской республике.
Ленька попал в Шкиду не из института благородных девиц. Он уже давно не краснел при слове «воровство». Если бы речь шла о чем-нибудь другом, если бы ребята задумали взломать кладовку или пошли на какое-нибудь другое, более серьезное дело, может быть, он из чувства товарищества и присоединился бы к ним. Но когда он увидел, что ребята напали на слепую старуху, ему стало противно. Такие вещи и раньше вызывали в нем брезгливое чувство. Ему, например, было противно залезть в чужой карман. Поэтому на карманных воров он всегда смотрел свысока и с пренебрежением, считая по-видимому, что украсть чемодан или взломать на рынке ларек — поступок более благородный и возвышенный, чем карманная кража.
Когда ребята напали на Леньку и стали его бить, он не очень удивился. Он хорошо знал, что такое приютские нравы, и сам не один раз принимал участие в «темных». Он даже не очень сопротивлялся тем, кто его бил, только защищал по мере возможности лицо и другие наиболее ранимые места. Но когда в класс явился Викниксор
254
и, вместо того чтобы заступиться за Леньку, грозно на него зарычал, Ленька почему-то рассвирепел. Тем не менее он покорно проследовал за Викниксором в его кабинет.
Викниксор закрыл дверь и повернулся к новенькому, который по-прежнему шмыгал носом и вытирал рукавом окровавленное лицо. Викниксор, как заядлый Шерлок Холмс, решил с места в карьер огорошить воспитанника.
— За что тебя били товарищи? — спросил он, впиваясь глазами в Ленькино лицо.
Ленька не ответил.
— Ты что молчишь? Кажется, я тебя спрашиваю: за что тебя били в классе?
Викниксор еще пристальнее взглянул новенькому в глаза:
— За лепешки, да?
— Да,— пробурчал Ленька.
Лицо Викниксора налилось кровью. Можно было ожидать, что сейчас он закричит, затопает ногами. Но он не закричал, а спокойно и отчетливо, без всякого выражения, как будто делал диктовку, сказал:
— Мерзавец! Выродок! Дегенерат!
— Вы что ругаетесь! — вспыхнул Ленька.— Какое вы имеете право?!
И тут Викниксор подскочил и заревел на всю школу:
— Что-о-о?! Как ты сказал? Какое я имею право?! Скотина! Каналья!
— Сам каналья,— успел пролепетать Ленька.
Викниксор задохнулся, схватил новичка за шиворот и поволок его к двери.
Все остальное произошло уже на глазах ошеломленных шкидцев.
Ленька третьи сутки сидел в изоляторе и не знал, что его судьба взбудоражила и взволновала всю школу.
В четвертом отделении с утра до ночи шли бесконечные дебаты.
— Все-таки, ребята, это хамство,— кипятился Янкель.— Парень взял на себя вину, страдает неизвестно за что, а мы...
— Что же ты, интересно, предлагаешь? — язвительно усмехнулся Японец.
— Что я предлагаю? Мы должны всем классом пойти к Викник- сору и сказать ему, что Пантелеев не виноват, а виноваты мы.
— Ладно! Дураков поищи. Иди сам, если хочешь.
— Ну и что? А ты что думаешь? И пойду...
— Ну и пожалуйста. Скатертью дорога.
— Пойду и скажу, кто был зачинщиком всего этого дела. И кто натравил ребят на Леньку.
— Ах, вот как? Легавить собираешься?
— Тихо, робя! — пробасил Купец.— Вот что я вам скажу. Всем
255
классом идти — это глупо, конечно. Если все пойдем — значит, все и огребем по пятому разряду...
— Жребий надо бросить,— пропищал Мамочка.
— Может быть, оракула пригласить? — захихикал Японец.
— Нет, робя,— сказал Купец.— Оракула приглашать не надо. И жребий тоже не надо. Я думаю вот чего... Я думаю — должен пойти один и взять всю вину на себя.
— Это кто же именно? — поинтересовался Японец.
— А именно — ты!
— Я?
— Да... пойдешь ты!
Сказано это было тоном категорического приказа.
Японец побледнел.
Неизвестно, чем кончилась бы вся эта история, если бы по Шкиде не пронесся слух, что Пантелеев выпущен из изолятора. Через несколько минут он сам появился в классе. Лицо его, разукрашенное синяками и подтеками, было бледнее обычного. Ни с кем не поздоровавшись, он прошел к своей парте, сел и стал собирать свои пожитки. Не спеша он извлек из ящика и выложил на парту несколько книг и тетрадок, начатую пачку папирос «Смычка», вязаное, заштопанное во многих местах кашне, коробочку с перышками и карандаши, кулечек с остатками постного сахара — и стал все это связывать обрывком шпагата.
Класс молча наблюдал за его манипуляциями.
— Ты куда это собрался, Пантелей? — нарушил молчание Горбушка.
Пантелеев не ответил, еще больше нахмурился и засопел.
— Ты что — в бутылку залез? Разговаривать не желаешь? А?
— Брось, Ленька, не сердись,— сказал Янкель, подходя к новенькому. Он положил руку Пантелееву на плечо, но Пантелеев движением плеча сбросил его руку.
— Идите вы все к чегту,— сказал он сквозь зубы, крепче затягивая узел на своем пакете и засовывая этот пакет в парту.
И тут к пантелеевской парте подошел Японец.
— Знаешь, Ленька, ты... это самое... ты — молодец,— проговорил он, краснея и шмыгая носом.— Прости нас, пожалуйста. Это я не только от себя, я от всего класса говорю. Правильно, ребята?
— Правильно!!! — загорланили ребята, обступая со всех сторон Ленькину парту.
Скуластое лицо новенького порозовело. Что-то вроде слабой улыбки появилось на его пересохших губах.
— Ну, что? Мировая?— спросил Цыган, протягивая новичку руку.
— Чегт с вами! Миговая,— прокартавил Ленька, усмехаясь и отвечая на рукопожатие.
Обступив Леньку, ребята один за другим пожимали ему руку,
— Братцы! Братцы! А мы главного-то не сказали! — воскликнул
256
Янкель, вскакивая на парту. И, обращаясь с этой трибуны к новенькому, он заявил: — Пантелей, спасибо тебе от лица всего класса за то... за то, что ты... ну, ты, одним словом, сам понимаешь.
— За что? — удивился Ленька, и по лицу его было видно, что он не понимает.
— За то... за то, что ты не накатил на нас, а взял вину на себя.
— Какую вину?
— Как какую? Ты же ведь сказал Вите, будто лепешки у Совы ты замотал? Ладно, не скромничай. Ведь сказал?
— Я?
— Ну да! А кто же?
— И не думал.
— Как не думал?
— Что я, дурак, что ли?
В классе опять наступила тишина. Только Мамочка, не сдержавшись, несколько раз приглушенно хихикнул.
— Позвольте, как же это? — проговорил Янкель, потирая вспотевший лоб.— Что за черт?! Ведь мы думали, что тебя за лепешки Витя в изолятор посадил.
— Да. За лепешки. Но я-то тут при чем?
— Как ни при чем?
— Так и ни при чем.
— Тьфу! — рассердился Янкель.— Да объясни ты наконец, зануда, в чем дело!
— Очень просто. И объяснять нечего. Он спрашивает: «За что тебя били? За лепешки?» Я и сказал: «Да, за лепешки...»
Пантелеев посмотрел на ребят, и шкидцы впервые увидели на его скуластом лице веселую, открытую улыбку.
— А что? Разве не правда? — ухмыльнулся он.— Разве не за лепешки вы меня били, чегти?..
Дружный хохот всего класса не дал Пантелееву договорить.
Был заключен мир. И Пантелеев был навсегда принят как полноправный член в дружную шкидскую семью.
Узелок его с перышками, кашне и постным сахаром был в тот же день распакован, и содержимое его легло по своим местам. А через некоторое время Ленька и вообще перестал думать о побеге. Ребята его полюбили, и он тоже привязался ко многим своим новым товарищам. Когда он немного оттаял и разговорился, он рассказал ребятам свою жизнь.
И оказалось, что Викниксор был прав: этот тихенький, неразговорчивый и застенчивый паренек прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Он рано растерял семью и несколько лет беспризорничал, скитался по разным городам республики. До Шкиды он успел побывать в четырех или пяти детдомах и колониях; не раз ему приходилось ночевать и в тюремных камерах, и в арестных домах,
9 Школьные годы. Выпуск 1
257
и в железнодорожных Чека... За спиной его было несколько приводов в угрозыск1.
В Шкиду Ленька пришел по своей воле; он сам решил покончить со своим темным прошлым. Поэтому прозвище Налетчик, которое дали ему ребята вместо не оправдавшей себя клички Монашенка, его не устраивало и возмущало. Он сердился и лез с кулаками на тех, кто его так называл. Тогда кто-то придумал ему новую кличку — Лепешкин...
Но тут опять произошло событие, которое не только прекратило всякие насмешки над новеньким, но и вознесло новообращенного шкидца на совершенно недосягаемую высоту.
Как-то, недели за две до поступления в Шкиду, Ленька смотрел в кинематографе «Ампир» на Садовой американский ковбойский боевик. Перед сеансом показывали дивертисмент: выступали фокусники, жонглеры, похожая на рыбу певица в чешуйчатом платье спела два романса, две девушки в матросских штанах* сплясали матлот, а под конец выступил куплетист, который исполнял под аккомпанемент маленького аккордеона «частушки на злобу дня». Ленька прослушал эти частушки, и ему показалось, что он сам может написать нисколько не хуже. Вернувшись домой, он вырвал из тетради листок и, торопясь, чтобы не растерять вдохновение, за десять минут набросал шесть четверостиший, среди которых было и такое:
Курсы золота поднялись По причине нэпа.
В Петрограде на Сенной Три лимона репа.
Все это сочинение он озаглавил «Злободневные частушки». Потом подумал, куда послать частушки, и решил послать их в «Красную газету». Несколько дней после этого он ждал ответа, но ответ не последовал. А потом события Ленькиной жизни завертелись с быстротой американского боевика, и ему уже было не до частушек и не до «Красной газеты». Он забыл о них.
1 Болсс подробно о Ленькином детстве рассказано в автобиографической повести Л. Пантелеева «Ленька Пантелеев» (см. сборник «Повести и рассказы». Л., Детгиз, 1967 г.).
258
Скоро он очутился в Шкиде.
И вот однажды после уроков в класс четвертого отделения с шумом ворвался взволнованный и запыхавшийся третьеклассник Курочка. В руках он держал скомканный Газетный лист.
— Пантелеев! Это не ты? — закричал он, едва переступив порог.
— Что? — побледнел Ленька, с трудом вылезая из-за парты. Сердце его быстро-быстро заколотилось. Ноги и руки похолодели.
Курочка поднял над головой, как знамя, газетный лист.
— Ты стихи в «Красную газету» посылал?
— Да... посылал,— пролепетал Ленька.
— Ну, вот. Я так и знал. А ребята спорят, говорят — не может быть.
— Покажи,— сказал Ленька, протягивая руку. Его обступили. Буквы в глазах у него прыгали и не складывались в строчки.
— Где? Где? — спрашивали вокруг.
— Да вот. Ты внизу смотри,— волновался Курочка.— Вон, где написано «Почтовый ящик»...
Ленька нашел «Почтовый ящик», отдел, в котором редакция отвечала авторам. Где-то на втором или третьем месте в глаза ему бросилась его фамилия, напечатанная крупным шрифтом. Когда в глазах у него перестало рябить, он прочел:
«АЛЕКСЕЮ ПАНТЕЛЕЕВУ. Присланные Вами «злободневные частушки» — не частушки, а стишки Вашего собственного сочинения. Не пойдет».
На несколько секунд похолодевшие Ленькины ноги отказались ему служить. Вся кровь прилила к ушам. Ему казалось, что он не сможет посмотреть товарищам в глаза, что сейчас его освистят, ошельмуют, поднимут на смех.
Но ничего подобного не случилось. Ленька поднял глаза и увидел, что обступившие его ребята смотрят на него с таким выражением, как будто перед ними стоит если не Пушкин, то по крайней мере Блок или Маяковский.
— Вот так Пантелей! — восторженно пропищал Мамочка.
— Ай да Ленька! — не без зависти воскликнул Цыган.
— Может, это не он? — усомнился кто-то.
— Это ты? — спросили у Леньки.
— Да... я,— ответил он, опуская глаза — на этот раз уже из одной скромности.
Газета переходила из рук в руки.
— Дай! Дай! Покажи! Дай позексать! — слышалось вокруг.
Но скоро Курочка унес газету. И Ленька вдруг почувствовал, что унесли что-то очень ценное, дорогое, унесли частицу его славы, свидетельство его триумфа.
Он разыскал дежурного воспитателя Алникпопа и слезно умолил отпустить его на пять минут на улицу. Сашкец, поколебавшись, дал ему увольнительную. На углу Петергофского и проспекта Огородни¬
259
кова Ленька купил у газетчика за восемнадцать тысяч рублей свежий номер «Красной газеты». Еще на улице, возвращаясь в Шкиду, он раз пять развертывал газету и заглядывал в «Почтовый ящик». И тут, как и в Курочкином экземпляр^, черным по белому было напечатано: «Алексею Пантелееву...»
Ленька стал героем дня.
До вечера продолжалось паломничество ребят из младших отделений. То и дело дверь четвертого отделения открывалась и несколько физиономий сразу робко заглядывало в класс.
— Пантелей, покажи газетку, а? — умоляюще канючили малыши.
Ленька снисходительно усмехался, доставал из ящика парты газету
и давал всем желающим. Ребята читали вслух, перечитывали снова, качали головами, ахали от изумления. И все спрашивали у Леньки:
— Это ты?
— Да, это я,— скромно отвечал Ленька.
Даже в спальне, после отбоя, продолжалось обсуждение этого из ряда вон выходящего события.
Ленька засыпал пресыщенный славой.
Ночью, часа в четыре, он проснулся и сразу вспомнил, что накануне произошло что-то очень важное. Газета, тщательно сложенная, лежала у него под подушкой. Он осторожно достал ее и развернул. В спальне было темно. Тогда он босиком, в одних подштанниках, вышел на лестницу и при бледном свете 'угольной лампочки еще раз прочел:
«Алексею Пантелееву. Присланные Вами «злободневные частушки» — не частушки, а стишки Вашего собственного сочинения. Не пойдет».
Так в Шкидской республике появился еще один литератор, и на этот раз литератор с именем. Прошло немного времени, и ему пришлось проявить свои способности уже на шкидской арене — на благо республики, которая стала ему родной и близкой.
О «ШЕСТОЙ ДЕРЖАВЕ»
Рассуждения о великом и малом.— 60 на 60,— Скан- дал с последствиями«Комариное» начало.— Гор- бушкина лирика.—Расцвет «шестой державы»,—Три редактора.
Кто поверит теперь, что в годы блокады, голодовки и бумажного кризиса, когда население Совроссии читало газеты только на стенах домов, в Шкидской маленькой республике с населением в шестьдесят
260
человек выходило 60 (шестьдесят) периодических изданий — всех сортов, типов и направлений?
Случилось так.
Выходило «Зеркало», старейший печатный орган Шкидской республики. Крепко стала на ноги газета, аккуратно еженедельно появлялись ее номера на стенке, и вдруг пожар уничтожил ее.
Газета умерла, но на смену ей появился журнал. Тот же Янкель печатными буквами переписывал материал, тот же Японец писал статьи, и то же название осталось — «Зеркало». Только размах стал пошире.
И никто не предполагал, что блестящему «Зеркалу» в скором времени суждено будет треснуть и рассыпаться на десятки осколков и осколочков.
Катастрофа эта произошла из-за несходства взглядов двух редакторов журнала. Не поладили Янкель с Япончиком.
Япончик — журналист серьезный, с «направлением». Япончику не нравится обычный еженедельный ученический журнал, освещающий жизнь и быт школы в стихах и рассказах. Нет, Япончик мечтает из «Зеркала» сделать ежемесячник, толстый, увесистый и солидный журнал со статьями и рефератами по истории, искусству, философии. Япончик гнет все время свою линию, и лицо журнала меняется. Количество страниц увеличивается до тридцати, потом журнал становится двухнедельным, потом десятидневным, а школьная хроника и юмор изгоняются прочь. Им не место в «умном» журнале. Зато Еонин пишет большой исторический труд с продолжениями: «Суд в Древней Руси».
Увесистый труд разделен на три номера «Зеркала» и в каждом номере занимает от пятнадцати до двадцати страниц.
Янкель окончательно забит: он превращается в ходячую типографию. Ему остается только техническая часть: печатать, рисовать и выпускать номер. Но Янкелю очень скучно без конца переписывать статьи о Древней Руси. Он знает прекрасно, что никто не прочтет их, кроме автора и несчастного типографа. Янкель выбился из сил. Тридцать страниц аккуратно переписать печатными буквами, разрисовать, прибавить виньетки, и все за шесть — восемь дней. Тяжело! Янкель отупел от технической работы. Она ему опротивела.
Выпустив семь номеров журнала, Янкель призадумался. Ему также хотелось творить — писать стихи, рассказы, сочинять веселые фельетоны из школьной жизни, а времени не хватало. Япончик съел время «Древней Русью». Тогда Янкель решил отступиться от журнала, бросить его. «Ну его к черту!» — подумал он, что относилось в равной степени и к Японцу, и к суду Древней Руси.
Несколько дней Янкель не брался за журнал. «Зеркало» лежало на столе, до половины исписанное, а вторая половина улыбалась чистыми листами. Японец злился и нервничал. У него уже были готовы три новые статьи, а Янкель только ходил да посвистывал.
261
Приближался срок выхода журнала. Наконец Японец не выдержал и решительно подошел к Янкелю:
— Писать надо. Журнал пора выпускать.
Янкель поморщился, потянулся и сказал спокойно:
— А ну его к черту. Неохота!
— Как это неохота?
— А так. Очень просто. Неохота — и все.
Япончик разозлился.
— Ты вообще-то будешь работать или нет?
Но Янкель так же спокойно ответил:
— А тебе-то что?
— Как что? Ты редактор или не редактор?
— Ну, редактор.
— Работать будешь?
— Неохота.
— Значит, не будешь?!
— Ну и не буду.
— Почему?
— Надоело.
Японец покраснел, пошмыгал носиком.
— Ну, валяй как хочешь,— сказал он, надувшись и отходя в сторону.
Тихо посмеивался класс, наблюдая, как распри разъедают крепкую редакцию.
С тех пор «Зеркало» больше не выходило. Республика осталась без прессы. Даже Викниксор встревожился — приходил, спрашивал: почему? Но ребята отнекивались, мялись, обещали, что скоро опять будет все по-прежнему. Однако прежнее ушло навсегда. Неделю редакторы наслаждались покоем, ходили на прогулки вместе с классом, а потом вдруг и тому и другому стало скучно, словно не хватало чего. Приуныли.
Объединяться вновь уже ни тому, ни другому не хотелось. Опротивели друг другу. И класс стал замечать, как, . уткнувшись в бумажные листы, каждый за своей партой, снова зацарапали по бумаге Янкель и Япончик. Заинтересовались: что это вдруг увлекло так обоих?
Однажды после уроков Янкель, сидевший около печки, оживился.
Достал веревку, заходил вокруг печки, что-то вымерил, высчитал, потом вбил между двумя кафельными плитками пару гвоздей и натянул на этих гвоздях веревку.
— Ты это зачем? — удивлялись ребята, но Гришка улыбался многозначительно и говорил загадочно:
— Не спешите. Узнаете.
Потом он долго рисовал акварельными красками какой-то плакат и наконец торжественно наклеил это произведение на печку около
262
своей парты. Яркий плакат, в углу которого было изображено какое-то носатое насекомое, гласил:
Издательство
«КОМАР»
Пониже Янкель пристроил вторую вывеску:
Редакция еженедельного
юмористического
ЖУРНАЛА «КОМАР»
А где-то сбоку прилепилась третья:
Типография
издательства
«КОМАР»
Тут же на веревке был торжественно вывешен первый номер сатирического и юмористического журнала «Комар», форматом в тетрадочный лист и размером в восемь страничек.
— Это что же такое? — спрашивали ребята, с любопытством рассматривая и ощупывая работу Янкеля. Тот улыбался и снисходительно объяснял:
— А это новый журнал «Комар». Еженедельный. Выходит, как «Огонек» или «Красная панорама», раз в неделю и даже чаще.
— А почему он такой тоненький? — пробасил Купец, с презрением щупая четыре листка журнала.
— Тоненький? Потому и тоненький, что не толстый,— огласил свою первую остроту редактор юмористического журнала.
Читали «Комара» всем классом — понравился. Только Япончик даже взглядом не удостоил новый журнал, он сидел, уткнувшись в парту, и, шмыгая носом, что-то быстро писал. Японец решил во что бы то ни стало осуществить свою идею о толстом ежемесячнике и на другой день после выхода «Комара» дал о себе знать. Повсюду на стенах — в залах, в классах и даже в уборных — появились неумело, от руки написанные объявления:
263
В Н И М А Н И Е!!!
Организуется новое книгоиздательство
«ВПЕРЁД»
В скором времени выходит N9 1 ежемесячного журнала
«ВПЕРЁД»
В журнале постоянно сотрудничают Г. Еонин, К. Финкельштейн, Н. Громоносцев и др.
Кроме ежемесячника «Вперёд» книгоиздательство выпускает еженедельную газету «Неделя»
Газета выходит при участии Н. Громоносцева, К. Финкельштейна, Г. Еонина и др.
ЧИТАЙТЕ!!! ЧИТАЙТЕ!!!
Ч И ТА И ТЕ!!!
СКОРО! СКОРО! СКОРО!
Новое издательство заработало энергично, и в тот же день по- явился первый номер «Недели». Неказистый вид этой новой газеты возмещался богатством ее содержания и обилием сотрудников, которые обещали выступать на ее страницах. Среди сотрудников, скрывавшихся под таинственным шифром «и др.», находился и новичок Пантелеев: в первом номере были опубликованы его знаменитые «злободневные частушки», столь легкомысленно отвергнутые в свое время «Красной газетой». Япончик торжествовал. Теперь он с уд-
264
поенным рвением взялся за подготовку ежемесячника. Размах был грандиозный. Номер решили выпускать в шесть или семь тетрадей толщиной, с вкладными иллюстрациями.
Янкелю оставалось только злиться. Он был бессилен перещеголять новое издательство. Он был один.
Все чаще и чаще прибегали из других классов к Я пончику с ^опросами:
— Скоро «Неделя» выйдет?
— «Вперед» скоро появится?
И Япончик, горделиво скосив глаза на Янкеля, нарочно громко говорил:
— Газета и журнал выходят и будут выходить своевременно, в объявленные сроки!
Однако Черных решил не сдаваться, он долго обдумывал создав-* шееся положение и твердо решил: «Буду бороться. Надо почаше гыпускать «Комара»...»
Началась горячка. Ежевечерне после невероятных дневных трудов Янкель с гордостью вывешивал на веревочку у печки все новые и новые номера. Улучшил технику, стал делать рисунки в красках и добился своего. Ребятам надоело дожидаться толстого ежемесячника, они всё больше привыкали к «Комару». Уже вошло в привычку утром приходить в четвертое отделение и читать свежий номер журнала. «Комар» победил. Но Янкелю эта победа досталась недешево. Он осунулся, похудел, потерял сон и аппетит...
Через неделю вышел второй номер Еошкиной «Недели». На этот раз газета не привлекла внимания читателей, так как была без рисунков и написана от руки карандашом. Зато неудача Япончика повлекла за собой неожиданные последствия.
Всю неделю Купец ходил погруженный в какие-то размышления, а когда увидел серенькую и неприглядную Япошкину газету, громогласно на весь класс заявил:
— Какого черта! И я такую выпущу. И даже лучше. И даже не газету, а журнал!
Заявление Купца было неожиданным — тем более что всего десяток дней назад он смеялся над чудаками редакторами: «Охота
265
вам время терять, кедрилы-мученики! Ведь денег за это не платят».
И вдруг Купец — редактор журнала «Мой пулемет» — собирает штат сотрудников. «Мой пулемет», по заявлению редактора, называется так потому, что будет выходить очень часто, как пулемет стреляет. Тотчас же вокруг нового органа создалось ядро журналистов из малоизвестных начинающих литераторов — Мамочки и Горбушки,— а скоро и Ленька Пантелеев порвал с Япончиком и также перешел в молодое, но многообещающее издательство Купца. «Мой пулемет» пошел в гору.
Уже беспрерывно выходили три органа: «Комар» Янкеля, «Неделя» Японца и «Мой пулемет» Купца, но ни один из них не отвечал требованиям Цыгана.
— Что же это за издания, сволочи! Ни ребусов, ни задач не помещают. Барахло!
Цыган был полон негодования. Он пробовал ввести свой отдел во всех трех органах, но ему везде вежливо отказывали. Тогда Громоносцев внес свое предложение в издательство «Вперед», где был одним из редакторов и деятельным сотрудником:
— Ребята, Япончик, Кобчик! Предлагаю в журнале ввести отдел «Головоломка». Я буду редактором.
Поэт Костя Финкелынтейн — Кобчик — запротестовал первый:
— Не надо. У нас журнал научно-литературный, солидный ежемесячник. Не надо.
— Не стоит,— подтвердил и Японец, чем окончательна вывел из себя любителя шарад и головоломок.
— Хорошо,— заявил тот.— Не хотите — не надо. Обойдусь и без
вас.
Цыган вышел из редакции «Вперед», и в скором времени в «Комаре» появилось объявление:
На днях выходит новый журнал шарад, ребусов и загадок
«ГОЛОВОЛОМКА»
Редактор-издатель Н. Громоносцев
«Головоломка» вышла на другой день. Потом столь же неожиданно Мамочка и Горбушка вышли из состава купцовского «Пулемета» и начали издавать свои собственные журналы. Мамочка выпустил журнал с умным названием «Мысль», а как лозунг поставил вверху первой страницы известный афоризм Цыгана, впервые изреченный им на уроке русского языка. Когда Громоносцева спросили, что такое мысль, он, нахально улыбаясь, ответил: «Мысль — это
266
интеллектуальный эксцесс данного индивидуума». С тех пор это нелепое изречение везде и всюду ходило за ним, пока наконец не запечатлелось в виде лозунга над высокохудожественным Мамочки- ным органом.
Горбушка, презиравший рассуждения о высоких материях, был больше поэтом и назвал свой журнал исключительно поэтически:
ЗОРИ
Однако Горбушка при всех своих поэтических талантах был безграмотен и уже с первого номера скандально опростоволосился.
На первой странице Горбушкина издания по случаю бывшего месяца три назад спектакля красовался рисунок из пушкинского «Бориса Годунова».
Рисунок Горбушки изображал Японца в роли Годунова, с большим жезлом в руке.
Но не рисунок заставил всю школу покатываться со смеху, а пояснительная надпись под ним: Юлыстрация к трогедие «Борис Год у не».
Горбушка умудрился в пяти словах сделать семь ошибок и здорово поплатился.
Поэтичные «Зори» читали все не потому, что шкидцев интересовала поэзия, их читали как хороший юмористический журнал, и даже Янкель обижался:
— Сволочь этот Горбушка... Конкурент.
Особенно доставалось Горбушкиной лирике. Она вызывала такой дружный смех, какому могли позавидовать самые остроумные фельетоны «Комара».
Но Горбушка никак не мог понять, над чем смеются шкидцы,
и был оскорблен. Еще бы! Над созданием своего журнала он просиживал ночи, в стихи вкладывал всю душу, и, по его мнению,
получалось очень красиво. Горбушка был лирик от природы, но
лирику он понимал по-своему. По его словам, «лирика — это когда от себя писать и когда скучно писать». Писал он свои скучные стихи только тогда, когда его наказывали; вот одно из его стихотворений:
Дом желтый наш дряхлый и старый,
Все время из труб идет дым.
Заведующий — славный наш мал^й,
Но скучно становится с ним.
Мне стало все жальше и жальше Смотреть из пустого окна.
Умчаться бы куда подальше,
Где новая светит земля.
Но стоило только Горбушке поместить это стихотворение в своих «Зорях», как уже вся школа покатывалась от хохота, а «Комар» в
267
новом отделе «По шкидским журналам» безжалостно издевался над Горбушкиной лирикой:
По-видимому, поэт Горбушенция — очень наблюдательный человек, недаром он подметил такое замечательное явление, как «все время из труб идет дым». Мы боимся одного: как бы не пошел дым из другого какого места, например из «Зорь» или из Горбушкиной головы, которому пустое дело «смотреть все жальше и жальше из пустого окна». Кроме того, Горбушке хочется «умчаться куда подальше». Мы с удовольствием исполним его желание и посылаем милого поэта «куда подальше». Живи себе там, Горбушечка, да стишки пописывай.
Однако Горбушка остался тверд, лирических упражнений не оставлял и регулярно выпускал «Зори».
Уже шесть журналов выходило в одном только четвертом отделении. Такое обилие печатных органов обратило на себя внимание всей школы и еще больше прославило старшеклассников.
В первую очередь, конечно, новой журнальной эпидемией заинтересовался Викниксор.
Однажды, придя в класс, он произнес блестящую речь о том, что школьная журналистика — это очень и очень хорошо, что журналы развивают способности, расширяют кругозор, прививают навыки, вырабатывают стиль, будят воображение и т. д. и т. п. Под конец Викниксор заявил, что в скором времени в школе откроется музей, в котором в качестве самых главных экспонатов будут храниться эти журналы. Кроме того, Викниксор обещал оказывать содействие журналистам канцелярскими принадлежностями и в подтверждение своих слов в тот же день выдал Янкелю краски и бумагу.
Щедрость Викниксора удивила и ободрила ребят, и уже на следующее утро появились три новых журнала: «Всходы», «Вестник техники» и «Клоун». «Всходы» Воробья мало чем отличались от Горбушкиных «Зорь», разве лишь тем, что ошибок было меньше. «Клоун» оказался интересен только для педагогов, так как издавал его самый ленивый и неразвитой четвертоотделенец Пьер, вечно находившийся в состоянии оцепенения и оживлявшийся лишь три раза в день — за обеденным столом. Когда педагоги узнали, что Пьер — Соколов — издает журнал, они пришли удостовериться, удивленно осмотрели сопевшую, склоненную над бумагой голову парня и задали, не без робости, несколько наводящих вопросов:
— Соколов! Ты что это делаешь?
Соколов важно надувался и отвечал, не поднимая головы:
— Журнал.
— Что журнал?
— Издаю.
— А как он называться будет?
— «Клоун».
— А почему «Клоун»?
Тут Пьер выдыхался и на этот вопрос, как и на все последующие, ответить уже не мог.
268
Третий журнал, «Вестник техники», поразил всех. По Шкиде пошли толки и догадки:
— Что за «Вестник техники»?
— Кому он нужен?
— Мы же не занимаемся техникой.
— Зачем он нам?
Недоумевающих нашлось много, и самым удивительным казалось то, что «Вестник техники» издает Ленька Пантелеев, человек, никакого отношения к технике не имеющий. Думали, что это какая-нибудь шутка, розыгрыш, ждали, что скоро под этим туманным названием появится еще один конкурент «Комара». Шкидцы готовы были посмеяться над новыми стихотворными произведениями именитого сатирика, ждали и новых «Злободневных частушек», но самое смешное шключалось в том, что журнал действительно от начала до конца был посвящен технике. Журнал вышел и быстро завоевал популярность у читателей, хотя в нем не было ни частушек, ни стихов, ни рассказов, ни солидных профессорских статей о суде в Древней Руси. Редактор «Вестника техники» оказался неплохим журналистом. Он понял, что читательский рынок в Шкиде забит литературно-художественными изданиями, что беллетристикой читателя уже не проймешь,— и решил искать новый тип журнала. Его собственные познания в технике ограничивались умением свинтить электрическую лампочку на чужой лестнице, но зато он догадался привлечь к журналу тех ребят, которые интересовались техническими и научными вопросами, и таких, которые получали пятерки по физике. В первом номере «Вестника техники» были напечатаны статьи «Как самому провести электричество», «Техника Великого немого», «Будущее радио». В отдел «Смеси» издатель переписал из старых и новых журналов всякую занимательную всячину. А на последних страницах расположился отдел «Наука и техника в Шкиде», где среди прочего скромно притулилась заметка следующего содержания:
ДЕРЕВЯННЫЕ КЛИШЕ
Г. Черных и Л. Пантелеев изобрели новый легкий способ изготовления клише для постоянных заголовков и виньеток из дерева. Способ прост и доступен каждому. Берется гладкая деревянная дощечка, и на ней ножом вырезается нужная фигура, затем ее смазывают чернилами и печатают. Новые клише уже с успехом применяются для заголовков в издательстве «Комар» и для объявлений в нашем журнале.
Количество журналов с шести подскочило до девяти, но эпидемия журналистики еще не кончилась, она только начиналась.
Из четвертого отделения зараза уже просочилась в третье. Следом за старшими потянулись и младшие. Устинович начал издавать первый крупный журнал третьего отделения — «Медвежонок». Го¬
269
рячка охватила и остальных его одноклассников. Скоро третье отделение имело целый ряд журналов, из которых особенно выделялись «Звезда», «Красная заря», «Туман» и «Вестник».
Наступила очередь второго отделения. Эпидемия распространялась. Малышам понравилась затея старших, и скоро весь второй класс неутомимых бузовиков и драчунов засел за изготовление журналов. К длинному списку выходящих органов прибавился ряд новых названий: «Маяк», «Красный школьник», «Летопись». Когда об этом узнали в четвертом отделении, кто-то пошутил:
— Теперь не хватает только, чтобы еще и в первом отделении взялись за журналы.
Шутка оказалась пророческой. Через пару дней маленький Кузя принес старшим показать свой журнал «Гриб» и рассказал, что у них уже издаются журналы «Солнышко», «Мухомор», «Красное знамя».
Вдобавок ко всему педсовет вынес постановление об издании в каждом классе одного официального классного журнала — дневника.
Республика Шкид все делала стихийно, нервно, порывисто. Запоем бузили, запоем учились и так же, запоем, взялись за издание журналов.
Сначала все шло хорошо. Воспитатели были довольны.
Не шумели по окончании уроков воспитанники, никто не носился по залу, никто не катался на дверях и на перилах, не крался и не бузил.
Отзвенит звонок, но парты остаются по-прежнему занятыми, только крышки хлопают да изрезанные черные доски дрожат.
Ученики сидят скромно, разговаривают шепотом.
В классе тихо. Только перья поскрипывают да шелестят бумажные листки.
Десятки голов склонились над партами. Творят и печатают, рисуют и пишут.
Это готовятся журналы.
Зараза заползла во все уголки.
Журналов стало так много, что не находится уже читателей на них. Все пишут — читать некогда. Но каждому лестно, чтобы его журнал читали. Каждый старается сделать свой журнал поярче, позаманчивее. Для этого требуется не только талант, но и время. А времени не хватает, поэтому издательская деятельность не прекращается и во время уроков.
Звенит звонок. В четвертый класс входит Сашкец, но его появление остается незамеченным. Сашкец разгневан. Он не любит, когда его предмет — историю — не учат.
— Класс, встать! — гремит голос дяди Саши.
Класс, хлопая крышками парт, поднимается. Лица у ребят такие, словно их только что разбудили.
270
— Класс, садись! Убрать со столов бумагу и прочее лишнее и не относящееся к предмету.
Сашкец садится за стол, раскладывает книги, потом вскидывает вверх голову и, проведя рукой по намечающейся повыше лба лысине, испытующе осматривает застывшие фигуры учеников.
— Сегодня мы кратко вспомним пройденное. Пускай нам Черных
расскажет, что он знает про Ивана Грозного.
Но Черных не слышит. Он усердно работает над очередным номером «Комара». До истории ли Янкелю? Сашкец замечает его склоненную над партой голову и уже сурово окрикивает:
— Черных!
— Что, дядя Саша? — спохватывается тот.
— Расскажи про Ивана Грозного. Я прошлый раз вам обсто¬
ятельно все повторил, поэтому вы должны знать.
Но Янкель вспоминает только, что и прошлый раз он писал «Комара». Надо вывертываться.
— Дядя Саша, я плохо помню.
— Не дури.
— Честное слово. Знаю только, что он кошек в окно швырял, а больше не запомнил.
Сашкец удручен.
— Садись,— бросает он хмуро, потом идет к Офенбаху и застает того на месте преступления.
— Ты что делаешь?
— Пишу,— невозмутимым басом отвечает Купец.
— Покажи.
— Да-а. А вы отнимете.
— Покажи, тебе говорят!
Купец с гордой улыбкой вытаскивает сырой от акварельных красок номер «Пулемета».
— Вот. Журнал свой пишу.
Сашкец в ярости порывается отнять журнал и, не справившись с Купцом, ограничивается звонкой фразой:
— Я тебя запишу в «Летопись» за то, что занимаешься посторонними делами в классе.
Он идет к учительскому столу, но, пока идет, замечает, что то же самое происходит и на остальных партах. Тогда халдей пускается на крайность.
— Ребята, я запишу весь класс за невнимательное отношение к уроку.
Однако и эта, сильная в обычные дни, угроза на этот раз не действует. Урок тянется нудно и вяло. Ученики отвечают невпопад или вовсе не отвечают. После звонка Сашкец в канцелярии жалуется:
— Невозможно работать. Эти журналы всю дисциплину срывают!
А в классе кавардак.
В одном конце Японец ругается с Цыганом за право обладания художником Янкелем. Янкель должен нарисовать картину Японцу
271
для «Вперед», то же самое просит сделать и Цыган, который выпускает «Альманах лучших произведений Шкиды».
В другом углу слышен визг поэта Финкельштейна. Это Купец собирает материал для своего «Пулемета».
— Дашь стишки? — рычит он.— Дашь или нет?
— Нету у меня стихов,— защищается Костя.
— Врешь, есть! Не дашь, буду мучить, Костенька!
— Не надо, Купа. Больно.
— А дашь стихи?
— Дам, дам...
— Ну то-то.
Купец, удовлетворенный, отпускает Финкельштейна и наседает на Янкеля.
— Дашь рассказ или нет?
Опять писк:
— Занят!
— Дашь или нет?
— Дам!
Купца бросили все сотрудники, вот он и придумал этот простой способ выжимания материала.
У окошка, зарывшись в «Красную газету», сидит Пантелеев. Он мучится, он хочет сделать свой «Вестник техники» настоящим журналом. Для этого все налицо, но нет объявлений, а для объявлений он оставил обложку. Ленька уже обегал все журналы, собрал несколько объявлений, но этого мало, остаются еще два уголка.
— Эх! — сокрушенно вздыхает он.— Тут бы петитом или нонпарелью парочку штучек пустить — и ладно.
Вдруг он находит материал в «Красной газете» и мгновение спустя уже выводит: «Требуются пишмашинистки в правление АРА...»
В эту минуту в класс врывается маленький Кузя из первого отделения и прямо направляется к Янкелю.
— Ну? — вопросительно смотрит тот, отрываясь от рисования.
Кузя возбужденно говорит:
— Согласен!
— Идет,— коротко отвечает Черных. Оба летят в первое отделение. Там кучка любопытных уже дожидается их.
— Значит, как уговорились,— говорит Янкель.— Поэму на шестьдесят строк я вам напишу сейчас, а нож перочиный вы мне отдаете по сдаче материала. Идет?
— Идет, идет,— соглашаются малыши.
Янкель садится и с места в карьер начинает писать поэму для «Мухомора».
Писать я начинаю,
В башке бедлам и шум.
Писать о чем — не знаю.
Но все же напишу...
272
Перо бегает по бумаге, и строчки появляются одна за другой.
Первоклассники довольны, что и у них сотрудничают видные силы. Правда, поэма стоила перочинного ножа, который перешел в виде гонорара в карман Янкеля, но видное имя что-нибудь да значит для журнала!
Через полчаса Янкель уже выполнил задание. Поэма в шестьдесят строк сдана редактору, а именитый литератор мчится дорисовывать рисунок.
Тихо в школе, никто не бегает в залах, никто не катается на дверях и перилах, никто не дерется, все заняты делом.
Три месяца школа горела одним стремлением — выпускать, выпускать и выпускать журналы. Три месяца изо дня в день исписывались чистые листы бумаги четкими шрифтами, письменной прописью и безграмотными каракулями.
У каждого журнала свое лицо.
Один редактор помещает рассказ в гаком стиле:
МЕДВЕДЬ
Рассказ
Была холодная ночь. Вокруг свистала вьюга. Красноармеец Иван Захаров стоял на посту. Было холодно. Вдруг перед Иваном набежал медведь — и прямо к нему. Иван хотел убежать, но он вспомнил о врагах, которые могут сжечь склады с патронами. Он остался. Медведь подбежал близко, но Иван вынул спички и стал зажигать их, а медведь испугался и стоял, боясь подойти к огню. А утром медведь убежал, а Иван спас склады.
Рассказ написал Кузьмин,
А другой редактор и поэт пишет так:
Я смотрю на мимозы.
Я вздыхаю душистые розы.
Взор очей мой тупеет,
Предо мной все темно.
Солнце греет,
Природу ласкает.
Как люблю я тебя С твоим взором.
У третьего редактора совсем другие настроения:
Грянь, набат громозвонный,
Грянь сильней.
Слушай, люд миллионный,
Песню дней.
Крепче стой, пролетарский
273
Фабрик край.
Потрудись ты, бунтарский,
В Первый май.
Пусть звенит и гремит Молот твой.
Праздник Май гимн творит Трудовой.
Три месяца бесновалась республика Шкид, потом горячка стала постепенно утихать: как звезды на утренней заре, гасли один за другим «Мухоморы», «Клоуны», «Факелы», «Всходы» и другие газеты и журналы. Ребята устали. Викниксор вовремя подсказал им хорошую идею: пора издавать большую общешкольную стенную газету. И вот появляется «Горчица», здоровая, крепкая ученическая газета, где материал собран со всей школы, со всех отделений, где пишет не один редактор, а пятнадцать — двадцать корреспондентов.
Из шестидесяти'изданий остается четыре.
Игра замирает, давая место серьезной работе, а от прежнего увлечения остается след в школьном музее, в виде полного комплекта всех изданий.
«ДЗЕ, КАЛЬМОТ И К0»
Грузинский князь Георгий Джапаридзе,— Личное дело Михаила Королева,— Корыстный характер,— Колониальный спекулянт.— Таинственный узелок и балалайка,— Талон № 234,— Дзе и Кальмот.— Жвачный адмирал,— Голый барин,— Кубышка,
Четверка пришла с Сергиевской. Сергиевская была интернатом с дурной славой. Попасть на Сергиевскую считалось несчастьем.
Там в интернате царила железная казарменная дисциплина... Воспитанники сидели в душных комнатах и гуляли редко, да и то лишь с надзирателями. Наказания за проступки, придуманные завом, не поддаются описанию. Одно из них было такое.
Воспитанника, совершенно нагого, сажали в темный карцер, который по приказу изобретательного садиста был превращен в уборную. Наказанный просиживал в карцере без хлеба и воды по три, по четыре дня, валялся в нечистотах, задыхался в скверных испарениях.
Сергиевка так прославилась, что на нее обратили внимание судебные власти.
После громкого и скандального процесса интернат расформиро¬
274
вали. Находившихся в нем подростков распихали по разным приютам.
Четверка попала в Шкиду.
Самый старший, Джапаридзе,— сын грузинского князя, морского офицера.
У Джапаридзе типичное грузинское лицо: крупный орлиный нос, оттопыренные уши и белоснежные неровные зубы.
Детство свое Джапаридзе, по семейной традиции, должен был провести в корпусе. Там он почти два года учился искусству командовать и хорошим манерам. Корпус привил ему любовь к военной выправке, чистоте костюма, спартанству. Но корпус же изломал его душу, сделал его лживым, скрытным и обманщиком.
Корпус в семнадцатом году закрыли, кадетов попросили выйти вон. Джапаридзе пожил дома, проворовался и пошел скитаться по интернатам и детдомам. Вышибали из одного интерната — он шел в другой. Так докатился до Сергиевской. На Сергиевской жил два года и, издерганный, уставший в пятнадцать лет, нашел тихую пристань в республике Шкид.
У Королева голова совершенно круглая, щеки одутловатые и румяные. Полная невысокая фигура, римский нос и слегка курчавая голова придают ему сходство с патрицием времен Юлия Цезаря.
Королев — незаконнорожденный. В анкете «Личного дела Михаила Королева» в графе «Занятие родителей» сказано: «Рожден вне брака».
В старое николаевское время для «рожденных вне брака» был один путь — воспитательный дом, приют и ремесленная школа.
Королев с малых лет скитался по приютам. За это время его «личное дело» разбухло: каждый интернат давал ему свою характеристику...
Одна из них, написанная казенным языком старого педагога-чи- новника, характеризует Королева как «мальчика с довольно прочно укрепившейся привычкой лениться». На шести листах пожелтевшей канцелярской бумаги описываются последствия этой «привычки»:
В результате знания мальчика в настоящее время оказываются столь слабыми, что он не может быть переведен в класс «Д» и ему в возрасте почти пятнадцати лет приходится вторично слушать детский элементарный курс, то есть в то время, когда в нем уже в достаточной степени пробудились физические потребности взрослого человека и окрепла привычка весело и праздно проводить время, на удовлетворение чего, конечно, направлены все помыслы и желания этого мальчика уже теперь.
Дальше описываются способы «удовлетворения потребностей взрослого человека»:
Сильно развитые в нем привычки курить, лакомиться и т. д.
215
повели его по пути легкого раздобывания средств и предметов потребления для удовлетворения этих потребностей, в силу чегоу конечноу он стал постоянно замечаться в проступках корыстного характера: срезывание проводов и других принадлежностей арматуры электрического освещенияу отвинчивание дверных ручек, присваивание мелких инструментов в сапожной мастерской и г. п. Все эти предметы направлялись им на базар для обмена па папиросы и лакомства.
Детдом переезжает на дачу, в колонию, где
надзор и работа над Королевым, естественно, затруднялись и осложнялись по местным условиям. Порочные наклонности этого мальчика проявились самым резким образом: близость деревни, процветание там товарообмена, затруднительность ежеминутного учета наличия воспитанников создавали благоприятную к тому почву. Здесь Королев, вопреки выраженному ему лично запрету, стал постоянно убегать в деревню и возвращаться в школу лишь поздно ночью; в деревне он стал обменивать на продукты находящиеся на руках или похищенные им у товарищей казенные вещи, особенно полотенца; жертвами его спекуляции сделались даже няни, к которым он сумел подладиться под видом желания услужить им: у одной он взял деньги на селедку и принес ей за этс} стакан молока, уверяя, что селедка оказалась червивая; от другой, получив деньги на табак и папиросы, ничего ей за них не принес, обещая вознаградить ее в будущем,— оказалось, что папиросы выкурил сам...
За такие деяния Королева из колонии отправили к матери в Питер.
Но он, пользуясь слабостью матери и подделав отпускной билет, возвращается с откуда-то добытой им балалайкой и узлом тряпья обратно на место расположения колонии; минуя интернат, пробирается в деревню, выменивает привезенные с собой вещи и возвращается затем в Петроград...
Составлявший характеристику воспитатель-чиновник не знал, где скитался выгнанный за воровство Мишка Королев... Не знал, откуда Мишка добыл балалайку и «узел тряпья»... Королев все лето «гоп- ничал», ездил по железным дорогам с солдатскими эшелонами, направлявшимися на фронт. Там он и слямзил балалайку.
Эта характеристика не Сергиевского интерната. Это характеристика нормального детского дома. Заканчивалась она просьбой перевести Королева в «одну из школ для трудных в воспитательном отношении детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет».
Просьба была удовлетворена.
276
Королева переслали в «сивую» Сергиевскую, как неодушевленный предмет, по «сопроводительному талону» № 234.
При сем препровождается Михаил Королеву четырнадцати лет.
И доставивший его на место получил квитанцию «в том, что Королев Михаил, 14 лет, принят».
Сергиевская дала о нем не менее блестящую характеристику:
Мальчику безусловнОу способный, но ленивый и иногда просто сонный, способный дремать во время уроков. Дисциплине подчиняется не всегда, очень упрям, порою вызывающе дерзок и груб. В школе пробыл год и за это время несколько раз попадался в крупном и мелком воровстве, взломе замков и в самовольных отлучках из школы. В классе невнимателен, во время уроков занимается посторонними книгами, часто балагурит и этим мешает занятиям других. К товарищам относится хорошо и пользуется у них авторитетом. Со старшими развязно-внимателен или угрюмо-замкнут, считает себя весьма самостоятельным. Курит, замечен не раз в карточной игре. К матери относится внимательно.
Последний аттестат Королеву был дан «Детским обследовательским институтом психоневрологической академии». Отзыв, подписанный профессором психиатрии Грибоедовым, гласит:
Королев Михаил страдает остро протекающей неврастенией на почве, по-видимому, умственного переутомления. Летом страдает бессонницей, не спит совсем по две ночи подряд. Королев нуждается в отдыхе, водо-свето- и воздухолечении, каковое может быть проведено в Воспитательно-клиническом институте для нервных больных.
«Но «водо-, свето-, воздухолечения» Королев не получил. Сергиевская рассыпалась, и он попал в Шкиду.
В Шкиде две первые характеристики не подтвердились. Королев не воровал, вел себя прилично и бузил в меру. Незаметно было в нем также и следов «умственного переутомления».
Лишь в одном отзыв профессора Грибоедова оказался правильным. Мишка Королев страдал неврастенией и бессонницей.
В эти бессонные ночи он безумствовал, был сам не свой. Ругал воспитателей последними словами, балагурил, плакал... А выспавшись, «опохмелившись», каялся и снова становился «нормально-дефективным».
Таков Королев Михаил.
Третий тип — Старолинекий.
Он — низенького роста. Лицо у него совсем детское, а манера одеваться и фигура делают его похожим на старорежимного гим¬
277
назистика. У Володьки Старолинского отца не было, были лишь мать и отчим, ломовой извозчик. Старолинский тоже неврастеник. Страдает клептоманией; когда находят припадки, ворует что попало; кроме того, он самый неисправимый картежник...
На Сергиевскую Старолинский попал, как и товарищи его, за воровство и в Шкиду пришел со скверной репутацией.
Четвертый — Тихиков.
Сергиевская его характеризует так:
Тихиков Евгений — мальчик из интеллигентной семьи, круглый сирота, имеет дядю. Тихиков — очень способный мальчик, все усваивает легко и хорошо занимается, но не чужд лени. К товарищам относится хорошо, но держится несколько особняком. Не терпит общих прогулок и всегда под каким-нибудь предлогом старается остаться дома. Со старшими сдержан, возражает всегда логично и почти не грубит. В классе сидит прилично. Курит, порой увлекается карточной игрой, не чужд спекуляции, но вообще мальчик любознательный, отзывчивый, серьезный и несколько замкнутый.
У Тихикова треугольная голова, высокий лоб, коротенькая, нескладная фигура. В Шкиде до конца дней своих Тихиков оставался замкнутым, бузил редко.
Четверка пришла в Шкиду крепко спаянной в неделимый союз. Думали сообща отстаивать свои интересы. Наученные опытом Сергиевской, не ожидали встретить хороший прием.
Но ошиблись. Встретили их очень хорошо, как, впрочем, встречали и всех других.
С первого же дня Джапаридзе, как самый развитой, примкнул к «верхам». Узнав, что в Шкиде издаются журналы, он заявил о своем желании издавать журнал «Шахматист». Вероятно, узрев в этом какую-либо для себя выгоду, Янкель заключил с ним сламу.
Королев вошел в сламу с Купцом, а Старолинского взял под свое покровительство Пантелеев.
Лишь один Тихиков остался без друзей закадычных. Вечно сидел он за партой, читал Майн Рида или Жюля Верна и что-то все время жевал... Жевал, пережевывал, отрыгивал и икал. За это впоследствии он получил кличку Жвачное.
Четверка принесла с собой старые клички: Королев — Флакончик, Старолинский — Мальчик, Тихиков — Адмирал, а Джапаридзе — кличку непечатную.
В Шкиде лишь одному Тихикову удалось сохранить прозвище Адмирал, остальных переименовали в первый же день их прихода.
— Джапаридзе — слишком длинно,— заявил Японец.— А похабных кличек мы не даем. Поэтому назовем тебя просто Дзе.
— Ваше дело,— согласился грузин,— Дзе так Дзе.
278
Старолинского тот же Японец назвал почему-то Голым барином. Звали его впоследствии Голый барин, Барин, Голый и просто Голенький.
Королева прозвали Кальмотом за то, что он вместо «кусок» говорил «кальмот»:
— Дай мне кальмот хлебца.
Или:
— Одолжи кальмотик сахарина.
Одновременно с сергиевской четверкой пришел в Шкиду и Кубышка, бесшумный человечек с пухлым лицом и туманным прошлым.
САША ПЫЛЬНИКОВ
Косталмед действует.—На гимнастику, живо!—Исцеление прокаженных.— «Альте камераден».— Мюллеровская гимнастика.— Манна небесная на классной печке.— Парень с бабьим лицом.— Туфля.— Жест налетчика.— Недотыкомка.
Прозвенел звонок, кончилась перемена. В класс четвертого отделения вошел Косталмед, он же Костец.
— На гимнастику, живо!
Ребята нехотя поплелись из класса.
— Живо! — подгонял Костец, постукивая круглой полированной палочкой.
Когда все вышли из класса, за партами остались сидеть Японец и Янкель.
— А вы что? — подняв брови, спросил Костец.
— Не можем,— скривив лицо, проговорил Японец.— У нас ноги болят.
Больные шкидцы по приказанию Викниксора освобождались от гимнастики.
— Покажите,— сказал Костец.
Японец, прихрамывая, подошел к воспитателю и поднял босую ногу. Нога на пятке пожелтела, вздулась, и в самом центре образовалось отвратительное на вид нагноение.
— Нарыв в последней стадии,— стонущим голосом отрекомендовал Японец.— В уборную еле хожу, не только что на гимнастику.
— Ладно, оставайся,— сказал Костец.— А ты? — обратился он к Янкелю.
Янкель чуть ли не на четвереньках подполз к халдею.
— Сил нет,— прохрипел он.— Замучила, чертова гадина.
279
Он загнул брюки. На изгибе колена и дальше к бедру проходил страшный, красный с синеватыми прожилками шрам.
— Где это тебя угораздило? — поморщившись, спросил Костец.
— Дрова пилил,— ответил Янкель.— Пилой. Ходить не могу, дядя Костя, тем более упражнения делать.
— Оставайся,— согласился Костец и вышел из класса.
Когда он вышел, Янкель, плотно закрыв за ним дверь, сказал:
— Ну, брат, сейчас, пожалуй, можно и вылечиться.
С этими словами он подошел к своей парте, загнул брюки и, помусолив ладонь, одним движением руки смыл страшную рану.
То же самое сделал и Японец.
Исцелившись, оба уселись за парты. Японец вынул книгу, а Янкель — начатый журнал.
Этот способ отлынивания от гимнастики был придуман Янкелем; он же, обладая способностями рисовальщика, художественно разрисовывал, за небольшую плату, язвы, раны, опухоли и прочее.
Костец верил, что эти болезни — настоящие. И сейчас, когда воспитатель поднимался наверх в гимнастический зал, его душа под грубой казарменной оболочкой халдея была преисполнена состраданием к несчастным мученикам.
А в гимнастическом зале уже собрались ребята. Когда вошел Костец, они визжали, возились и слонялись без дела по большому залу.
— Ста-новись! — закричал Костец.
Ребята зашевелились, как муравьи, и в конце концов выкроились по ранжиру в прямую линию.
Первым с правого фланга стоял Купец, за ним Цыган, Джапаридзе и Пантелеев. За Пантелеевым обычно становился Янкель, сейчас же место оставалось свободным, и Костец скомандовал:
— Сомкнись!
Шеренга сомкнулась.
— Равнение на... пра-во!
Все головы, за исключением головы Воробья, повернулись в правую сторону, Воробей же задумался и прослушал команду.
— Воробьев, выйди из строя,— приказал Косталмед.
Воробей вышел.
— Имеешь запись в «Летопись»,— сообщил Костец и добавил: — Стань на место.
Добившись, чтобы шеренга выстроилась в идеально прямую линию, Костец повернул ее направо.
Третьеклассник Бессовестин, хорошо игравший на рояле и благодаря этому плохо учившийся, уселся за пианино.
— Шагом марш! — скомандовал Костец.
Бессовестин заиграл старинный марш «Альте камераден», и под звуки марша три десятка босых ног заходили вдоль стен зала.
Шли гуськом. Впереди выступал Купец: шел он лучше всех, имел выправку, полученную еще в корпусе. Не успевая в других предметах, Купец страстно любил гимнастику.
280
Остальные шли не так молодцевато, лишь Пантелеев, Дзе и Цы- 5 пн подделывались под Купца, хотя и не совсем удачно. Зато Воробей, получивший запись в «Летопись», бузил. Он шел не в ногу, растягивал интервалы и, очутившись за спиной Костеца, показывал ему кукиш или язык.
— Левой, левой,— командовал Костец, отстукивая такт полированной палочкой.— Левой, левой. Раз, два, раз, два...
Осеннее солнце тускло отражалось в паркетных квадратах и белыми пятнышками бегало на выкрашенных под мрамор стенах...
— На-а гимнастику... выходи!
Купец, дойдя до середины стены, круто повернул налево.
У противоположной стены шеренга разошлась через одного в разные стороны и сошлась уже парами, а затем четверками.
— Стой! Отделение, разом-кнись!
Отделение разомкнулось.
Ребята расположились на квадратах паркета, как фигуры на шахматной доске.
— Вольно!
Купец выставил ногу вперед, руки заложил за спину. Остальные стали как попало. Большинство принялось подтягивать спустившиеся во время маршировки брюки, поправлять ремни, сморкаться и кашлять.
— Смирно! Первое упражнение! На-чи-най!
Бессовестин заиграл вальс.
Под такт костецовской палочки ребята принялись выделывать сокольские упражнения, потом мюллеровские упражнения, потом шведскую гимнастику.
— Шамать хотца,— сказал Японец, захлопнув книгу.
Янкель перевел взгляд с лошади, которую он рисовал, на Японца и ответил:
— Да-с, пожрать бы не мешало.
— У тебя нет?
Янкель махнул рукой.
— В четверг-то... Было бы, брат, так давно бы нажрался.
Он уныло заглянул в пустой яшик парты, потом пошманал по чужим партам,— везде было пусто.
— Хоть бы корочку где найти.
Вдруг Японец хлопнул себя по лбу.
— Идея! Помнишь, Курочка рассказывал, что у них в классе, на печке...
Янкель вскочил.
— И правда, идея!..
Оба подскочили к печке и взглянули наверх.
— Эх, черт,— вздохнул Янкель,— как бы туда залезть?
— Вали, подсади меня. Я тебе на плечи стану.
281
— Идет.
Янкель нагнулся и уперся руками в колени. Японец взобрался к нему на плечи.
— Еще немного поднимись.
Янкель стал на цыпочки.
— Хватит!
Японец уцепился руками за карниз печки и взглянул в пыльное углубление.
— Ну как? — спросил Янкель, разглядывая грязный пол.
Японец минуту копошился, потом раздался радостный возглас:
— Есть!
— Что?
— Булка белая... еще булка... кусок сахару... хлеб... Да тут целый склад огрызков.
— Вали, кидай!
На пол упало что-то тяжелое, твердое, как камень. Потом посыпался каменный дождь...
Посыпались заплесневелые, окаменевшие остатки завтраков, которые сытые ученики коммерческого училища забрасывали когда-то на печку. Последний огрызок — булка с прилипшим к ней и затвердевшим, как каменный уголь, куском колбасы — ударился о пол. Японец уже собирался спрыгнуть с Янкелевых плеч, когда раздался окрик:
— Это что такое?!
Янкель от неожиданности вздрогнул и опустил руки. Пирамида рухнула. В дверях класса стоял Викниксор. Рядом с ним стоял парнишка лет пятнадцати с широким бабьим лицом, торчащими в стороны жесткими волосами, одетый в серую куртку и подпоясанный ремнем с серебряной гимназической пряжкой.
— Что это такое? — повторил Викниксор.— Где класс?
— На гимнастике,— тихо ответил Янкель.
— А вы что?
— Ноги болят,— чуть ли не шепотом проговорил Янкель.
Викниксор нахмурился.
— Ноги болят? Вот как... А на печку зачем лазили? Лечиться?
Противники мюллеровских упражнений и шведской гимнастики
молчали.
— Оба в пятом разряде,— объявил Викниксор.— А сейчас марш наверх.
Товарищи в сопровождении Викниксора и незнакомца с бабьим лицом поднялись наверх. В гимнастическом зале ребята опять маршировали. Бессовестин играл марш на мотив известной песни:
По улицам ходила Большая крокодила,
Она, она Голодная была.
282
При появлении Викниксора Костец скомандовал:
— Стой, смирно!
Ребята остановились. Викниксор подошел к Костецу и громко спросил:
— Почему Черных и Еонин оставались в классе?
— Они больны, Виктор Николаевич,— ответил воспитатель.
Викниксор нахмурился.
— Неправда, они совершенно здоровы.
— Не может быть, Виктор Николаевич! Я сам видел...
— А я вам говорю, что они здоровы.
Потом Викниксор повернулся к классу.
— Ребята, Еонин и Черных переводятся в пятый разряд за симуляцию болезни и отлынивание от занятий. Путь это послужит вам уроком. В следующий раз больные должны представлять удостоверение лекпома.
Янкель и Японец уже стали в строй. У дверей остался стоять незнакомый парнишка в серой куртке.
Викниксор вспомнил о нем и отрекомендовал:
— А это ваш новый товарищ Ельховский Павел... Ельховский,— обратился он к новичку,— стань в ряды.
Новичок смущенно и нерешительно подошел к строю.
— Стань по ранжиру, после Черных,— сказал Костец.
Строй разомкнулся, и Ельховский стал в спину Янкелю. Сзади него оказался Японец.
Викниксор вышел из зала, зачем-то вызвав и Костеца.
— Как тебя зовут, сволочь? — спросил Японец у новенького.
— Почему сволочь? — удивился тот. Голос у него оказался тонким и каким-то необыкновенно писклявым.
— Почему сволочь? — переспросил Японец.— Да потому, что, гадина, мы из-за тебя засыпались. Не приди ты, ничего бы не было.
— Не логично,— пропищал Ельховский.— Я не виноват, что так случилось.
— «Не логично»... А тут изволь в пятом разряде сиди,— вмешался Янкель, не успевший даже подзавернуть хлебных огрызков и предвкушавший удовольствие просидеть без отпуска, а следовательно, и впроголодь, в течение пяти недель.
В зал вошел Костец. Был он хмур и насуплен,— по-видимому, получил от начальства выговор.
— Смирно!
Снова класс заходил вкруговую по залу. Снова из-под пальцев Бессовестина полились звуки марша:
Увидела француза И хвать его за пузо,—
Она, она Голодная была.
283
Японец злился. Он чувствовал, что сам виноват в случившемся, но, желая выместить на ком-нибудь злобу, стал преследовать новичка Ельховского. Он наступал новичку на ноги, отчего у того сваливались тряпичные домашние туфли, и украдкой шпынял его кулаком в спину... Ельховский сперва решил не обращать внимания на выходки Японца, но, когда эти выходки стали переходить меру, он запищал:
— Отстань!
Японец еще больше обозлился и с силой наступил на ногу новичка. Ельховский дернул ногой, застежка туфли лопнула, и туфля осталась на полу.
Выходка Японца была бы замечена, и он был бы еще больше наказан, не прозвени в этот самый миг звонок.
Ребята, наблюдавшие еще во время маршировки за преследованием Японцем новичка, обступили Ельховского.
Тот сидел на корточках, склонившись над разорванной туфлей. Лицо его сжалось в гримасу; казалось, что вот-вот он расплачется.
Но он не заплакал. Вместо этого он стал чихать. Чихал он как-то особенно, корчил лицо, жмурился, и звук чоха у него получался какой-то необыкновенно нежный:
— Апсик!..
Чихал он часто, с определенными промежутками. Ребята окружили его и смотрели с недоумением и любопытством.
— Что это с ним? — испуганно спросил Японец.
— Чихает,— ответил Янкель.
— Вижу, что чихает, а зачем чихает?
— Так, должно быть, привычка... наследственность.
— Чихун,— сказал кто-то.
Купец нагнулся и больно щелкнул Ельховского в затылок. Тогда выступил Ленька Пантелеев.
— Чего издеваетесь над человеком? — сказал он.— Тебя небось, Купец, не мучили, когда новичком был?!
Класс расхохотался.
— И смешного ничего нет,— покраснев, заявил Пантелеев.— Нечего хвастаться своей гуманностью, хорошим отношением к новичкам, когда сами их бьете... Разве не правда?
Никто не ответил. Все молчали, молчание же, как известно, служит знаком согласия.
Ельховский тем временем напялил искалеченную туфлю, поднялся, чихнул в последний раз и, тоскливо оглядев ребят, остановил признательный взгляд на Пантелееве.
В коридоре, когда ребята расходились по классам, Пантелеев подошел к новичку.
— Будем сламщиками,— сказал он.— Сламщиками у нас зовут друзей. Будем друзьями... Идет?
Ельховский не ответил, только кивнул головой. Пантелеев протянул сламщику руку, тот крепко пожал ее.
Панька Ельховский родился в Смоленске.
Панькин отец, учитель начальной городской школы, принадлежал к числу тех людей, которых не любит начальство. Начальство не любит людей слишком умных, замкнутых и свободомыслящих. Панькин отец был умный и свободомыслящий: он принадлежал к местному социал-демократическому кружку. За это он был отстранен от должности учителя, проще сказать — выгнан. Он целиком отдал себя революционному делу, семья же голодала, дети росли. Отец искал работы, но не мог найти ее... Мать стирала в господских домах, мыла полы. Детство Паньки — нерадостное детство.
В 1917 году Панькиного отца убили на улице казаки. Панька жил с матерью, потом мать отдала его в приют; там он пробыл до 1921 года. Потом старший брат Паньки, краском, поехал в Питер в Военную академию, а через полгода выписал в Петроград и семью — мать, сестру и братишку Паньку. Панька пожил с месяц, не больше, дома и забузил, забузил отчаянно, так как был истериком. Брат попробовал воздействовать на него сам — не помогло; тогда
он обратился в отдел народного образования. И Панька попал в Шкиду.
Шкида его встретила недружелюбно, но потом, узнав поближе, полюбила крепко, пожалуй крепче, чем кого-либо. Он был парень добрый, необыкновенно отзывчивый, по-шкидски честный, а главное — любил бузить. Буза же была, как известно, культом поклонения шкидцев.
На другой день после прихода Ельховского Шкида должна была совершить еженедельное паломничество в баню. Все четыре отделения выстроились в зале, устроили перекличку. Не хватало одного новичка. На его розыски был послан Алникпоп. Через минуту он вернулся и, подойдя к Викниксору, что-то сказал ему. Викниксор покраснел, сорвался с места и побежал в четвертый класс. Панька Ельховский сидел на новом своем месте, за партой Пантелеева, и читал книгу. При входе Викниксора он даже не поднял головы. Викниксор мгновение стоял ошеломленный, потом закричал:
— Встать!
Ельховский посмотрел на него, отложил книгу, но не встал.
— Встать, тебе говорят! — уже заревел завшколой.
285
— Чего вы кричите-то? — не повышая голоса, проговорил Панька и встал, держась руками за крышку парты.
— Ты почему не идешь наверх? — гневно спросил Викниксор, подходя к Панькиной парте. Тот, не двинувшись с места, ответил:
— А что мне там делать?
— Что делать? В баню идти, вот что. Все уже собрались, а ты тут прохлаждаешься. Не думай, что ты здесь можешь делать что хочешь... Пожалуйста, не рассуждай, а марш наверх!
— Ничего подобного,— ответил Панька и, сев за парту, углубился в чтение.
Викниксор, как тигр, кинулся к нему и впился руками в плечи.
— Нет, ты пойдешь, скотина! — заревел он и вытащил Паньку из-за парты.
Панька стал отбиваться. На шум сбежались воспитатели и ребята.
— Я тебе покажу!..— кряхтел Викниксор и пытался вытолкнуть Паньку в коридор. Тот вырвался красный, взлохмаченный.
— Подлец! — заорал он, потом сморщил лицо и заплакал.
Викниксор, тоже красный и помятый, поднял голову и, отдуваясь,
прошипел:
— Пятый разряд!
Потом вышел из класса.
Этот случай создал славу новичку. Никто не понимал, почему он отказался идти в баню и забузил, но это, по шкидскому мнению, и было верхом геройства: бузить ради бузы. С этого момента никто уже не думал обижать его, хотя обидеть его мог всякий. Был он мягкотел и лишь в редких, неизвестно чем вызванных случаях делался вспыльчив и груб, да и то лишь по отношению к начальству.
В те дни четвертое отделение увлекалось книгами Федора Соло- iy6a. В одном из романов этого некогда известного писателя выведен женоподобный мальчик Саша Пыльников. Японец указал товарищам на сходство Ельховского с этим типом. Паньку прозвали Сашей Пыльниковым, взамен утвердившегося было прозвища Чихун...
Впоследствии звали его еще и Недотыкомкой, Бебэ, Почтелем, но обычно звали Сашкой. Многие даже не знали, что настоящее его имя — Павел.
УЛИГАНШТАДТ
Лингвистическая справка.— О гостинице на Дуврском шоссе.— Улигания.— Географическое положение.— Политический строй.— Диктатор Гениальный.— Наркомбуз.— Мирная жизнь империи.— Бойна.— Мобилизация.— Волнения в колониях.— Летучий отряд.— Революция.— Амнистия.— СССР в
Шкиде.
Слово «хулиган» — происхождения английского. В старой Англии, как говорит легенда, в начале девятнадцатого века проживало семейство Хулигэн. Владели эти Хулигэны постоялым двором на Дуврском шоссе. На постоялом дворе останавливались лорды, графы, купцы с континента и просто заезжие люди. Легенда рассказывает страшную вещь: ни один человек, приютившийся под кровлей гостиницы Хулигэн, не вышел оттуда. Семейство Хулигэн заманивало гостей, грабило и убивало их.
И когда раскрылась страшная тайна постоялого двора, когда королевский суд, пропрев в горностаевых мантиях восемь Суток подряд, вынес семье убийц смертный приговор,— имя Хулигэн стало нарицательным. Хулигэнами стали называть убийц, воров и поджигателей.
Попав в Россию, слово «хулигэн» видоизменилось в «хулигана».
А в Шкиде рыжая немка Эланлюм, обозлившись на бузил-стар- шеклассников, кричала, по немецкой привычке проглатывая букву «х»:
— Улиганы!
И стало в Шкиде прозвище «улиган» таким же местным и таким же почетным, как и «бузовик».
Племя улиган росло и ширилось и в конце концов превратилось в государство Улиганию.
Столица Улигании — Улиганштадт, сиречь четвертое отделение. Улиганштадт — город большой, по сравнению с прочими. Улицы — проходы между парт — широкие, и названия у них громкие: Вузовская, Волынянская, Улиганская. Главная же улица — Клептомань- евский проспект. На Клептоманьевском проспекте размещены дома — парты — всех городских и государственных деятелей. Там находится особняк диктатора и городского головы Улиганштадта — Купы Купича Гениального. Городской голова живет вместе с секретарем и адъютантом своим, виконтом де Буржелоном, в просторечии Джапаридзе. Министерства, штаб — все помещается на Клептоманьевском проспекте.
287
Остальные улицы менее шикарны. На них разместились рядовые граждане. В Японском квартале живет японский консул Ео-Нин и прочие японские граждане в лице новичка Нагасаки.
Основание Улиганштадта относится к временам не столь отдаленным. В Шкиде была буза. Бузили все, бузили с жаром, наказания сыпались на головы шкидцев, а они бузили. Четвертое отделение не выбиралось из пятого разряда. Японец однажды сказал:
— Бузить бесцельно не годится. Давайте организуемся и оснуем республику.
Мысль пришлась по вкусу.
Сразу же было организовано новое правительство.
Диктатором назначался могучий Купец-Офенбах. Полномочия его ограничивались Советом Народных Комиссаров. Наркомы были следующие: наркомвоенмор — Янкель, наркомпочтель — Пыльников и наркомбуз — Японец. Диктатор назначил начальником государственной милиции и главкомом колониальных войск Пантелеева. Улигания объявила младшие классы колониями и назвала их: третий класс — Кипчакией, второй — Волынией и первый — Бужландией.
В первый же день основания Улигании диктатор, он же городской голова столицы, созвал пленум Совнаркома. «В его роскошном особняке,— как сообщала местная газета «Известия Улигании»,— собрались все сиятельные лица города. Купа Купич торжественно объявил об открытии города и предложил наркомам довести до сведения граждан, что соблюдение порядка и муниципальных правил ложится на ответственность домовладельцев».
В тот же день дома украсились дощечками с номерами и названиями улиц. Общественная жизнь сразу же закипела в молодом государстве.
На второй день наркомбуз Японец, он же Буза Бузич Безобразников, подал в Совнарком проект конституции:
КОНСТИТУЦИЯ ВСЕСИЛЬНОЙ БУЗОВОЙ ИМПЕРИИ УЛИГАНИИ состав Империи
§ 1. В состав Империи входят четыре государства: Улигания, Волыния, Кипчакия и Бужландия.
§ 2. Государство Улигания является центральным, господствующим, объединяя периферию и давая ей законы и управление.
§ 3. Управление Империей вручается диктатору, наделенному королевскими правами,— его сиятельству Купе Купичу Гениальному. Помощь в управлении диктатору проводится Советом комиссаров и всеми гражданами, назначенными в помощь диктатору им самим. Управление колониями вручается вице-губернаторам, назначенным центральной властью Империи — диктатором и Совнаркомом.
§ 4. Военными силами Империи (государственной милицией, военными частями и колониальными армиями) ведает нарком по военным и морским делам, командование же ими вручается Главштабу в лице главкома и начмила.
288
§5. Религия в Империи не преследуется. Правительство (Совнарком) до лжно быть клерикальным. Культ поклонения Улигании — Буза. Вводится Народный комиссариат Бузы, комиссаром которого назначается потомственный почетный бузовик Буза Бузич Безобразников.
§ 6. Столица Улигании — Улиганштадт. В ней сосредоточиваются все органы управления Империи и центральная военная власть.
§ 7. Национальные права граждан Империи разделяются так: улигане, коренные жители Империи, обладают всеми правами, туземцы колониальных стран им подчинены.
§ 8. Гражданином Улиганштадта может быть всякий, пробывший в нем не менее 48 часов.
§ 9. Все граждане Империи, улигане и жители колоний обязаны бороться с врагами Империи — халдеями. Оказывающий содействие халдеям объявляется изменником и преследуется органами милиции для предания суду диктатора Империи.
§ 10. Также караются законом все выступления и начинания, направленные к свержению или подрыву существующего в Империи строя.
Конституция была принята Совнаркомом и утверждена диктатором. Находившаяся в ведении наркомвоенмора и в то же время книгоиздателя Янкеля газета «Известия Улигании» поместила конституцию на первой полосе. В этом же номере «Известий» был помещен национальный гимн Улигании, утвержденный властями. Его пели на мотив «Гаудеамуса»:
Улиганштадт, Улиган,
Смерть несешь ты для полян.
Разойдитесь вы, халдеи,
Дайте путь нам поскорее,
Улиган и я идет.
Мы — Империи сыны,
Дети Купы-сатаны,
Правит нами мудро он,
Он — второй Наполеон,
Он — глава Улиганштадта.
Мы возьмем врагов за хвост,
Станем править Школимдост1.
Завоюем все колоньи И халдеев Вавилоньи Всех сожмем мы в свой кулак.
Городской голова созвал общее собрание граждан города Улиганштадта и там сказал речь, простую, но трогательную:
— Ребята, то есть граждане. Вот я, диктатор и городская голова, говорю вам... Мы, четвертое отделение, то есть, виноват, Улигания...
1 Школой имени Достоевского.
К) Школьные годы. Выпуск 1
289
мы должны все силы свои положить на то, чтобы сделать свой кл... город неприступным для халдеев и прочих врагов. И в то же время сделать его благоустроенным. Приложим свои силы на это благоустройство. Мы, власти, будем вам горячо благодарны... Ей- богу!..
Эта речь была целиком приведена в «Известиях», только последнее выражение «ей-богу» было заменено «ей-бузе».
Речь возымела свое действие: призыв к благоустройству города нашел живой отклик в сердцах как рядовых граждан, так и государственных чиновников. Всем участкам земли, строениям и окружающим местностям были присвоены названия...
Выложенная белым кафелем печка была объявлена Храмом Бузы. Две классные двери были переименованы в арки — одна в Арку Викниксора I, другая в Арку Эланлюм. Городской сад — плевательница - был назван Алникпопией. Это показывает, что при всей ненависти улиган к халдеям они сохранили уважение к выдающимся лицам этого вражеского государства.
В пустом книжном шкафу сосредоточились городская больница, аптека и военный госпиталь. Заведовать этими учреждениями взялся Воробей, поэтому больница и аптека были названы его именем. Другой пустующий шкаф с железной сеткой вместо стекол сделался государственной тюрьмой. Из других учреждений следует отметить певческую капеллу имени Кобчика-Финкельштейна и Народный университет Бузы.
К крану водопровода, неизвестно для каких целей проведенного в класс, начальник милиции Пантелеев приделал плакатик с надписью:
КАНАЛОЛИЗАЦИЯ
Это значило — канализация. Управление канализацией не знали, кому вручить, и вручили Пыльникову — наркомпочтелю.
Жизнь Улигании шла своим чередом, мирная жизнь свободной страны... На классных уроках выражали ярый протест халдеям, устраивали обструкции, получали пятые разряды и изоляторы, а империя цвела.
Однажды «Известия» подняли кампанию за устройство памятника Бузе.
«Стыдно подумать,— говорила газета,— что столица такой могущественной державы, как Улигания, не имеет ни одного памятника. У нас нет даже своего герба».
Эта статья больно уколола наркомбуза Безобразникова. На другой же день в редакцию газеты им были представлены проекты герба и памятника. Рисунок герба изображал выбитое стекло, из которого просовывался толстенный кулак. Под гербом стоял девиз: «In Busa veritas» — «Истина в Бузе». Проект памятника изображал постамент,
290
испещренный лозунгами и мыслями гениальных людей империи. На постаменте стоял громадный кулак.
Проекты пришлись по вкусу властям, герб был утвержден и объявлен государственным, постройку памятника поручили художникам Янкелю, Воробью и Горбушке. Делали они его из бумаги, картона и глины, делали два дня.
На третий день состоялось торжественное открытие памятника. Вот как описывает этот факт имперская пресса в лице «Известий»:
На площади Бузы собралось все население города, все жители пришли сюда, чтобы отпраздновать этот торжественный момент в истории Империи. Памятник Великой Бузы возвышался среди площади, покрытый холстом, около него стоял караул из представителей высшей военной власти — гг. нарком- военмора Янкеля и начмила Л. Пантелеева, облаченных в парадную форму. В 6 час. 27 мин. на площадь прибыл его сиятельство диктатор Империи Купа Купич Гениальный. Его несли на носилках два раба из племени бужан. В свите его сиятельства, прибывшей вместе с ним, находились виконт де Буржелон и г. Б. Безобразников. В 7 час. 30 мин. по городскому времени под салют, проведенный местным миллионером г. Башкломом, холст памятника был сорван и взорам присутствующих представилось прекрасное зрелище. На кубическом пьедестале высился огромный кулак — символ мощи Империи, кулак, так похожий на кулак его сиятельства. Толпы народа кричали «виват» и под дружное пение имперского гимна расходились с площади. Вечером в особняке е. с. Гениального был устроен банкет и концерт с участием капеллы им. Кобчика.
Улигания процветала. Улиганштадт достиг верхов благоустройства и хозяйственного богатства. Муниципалитет готовился к постройке городского театра, когда страшный удар поразил империю.
Улигании была объявлена война, и объявил ее не кто другой, как президент могущественной республики, Халдейской республики Шкид,— Викниксор.
Объявление войны произошло в несколько странной форме.
В Улиганштадт вошла секретарша и супруга президента вражеской республики Эланлюм и заявила:
— Кончайте эту волынку. Побузили — и хватит.
Конечно, это не означало объявления войны. Это заявление просто указывало, что империя должна сдаться, рассыпаться, погаснуть... Это было хуже войны. Сдаться без боя, умереть, не испробовав вражеского пороха, не лучше, чем погибнуть в борьбе. Улигания приняла вызов и объявила:
— Война до победного конца!
Город украсился национальными флагами (на черном фоне белый кулак), «Известия» протрубили страшную новость.
Был созван экстренный пленум Совнаркома, на котором выступили с горячим призывом к борьбе диктатор и наркомбуз. Решили объявить мобилизацию. В тот же день на улицах города появились листовки-приказы:
291
ПРИКАЗ № 1
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВОЕННЫХ И МОРСКИХ ДЕЛ
Наркомвоенмор сообщает гражданам Империи, что всесильной Империи Улигании объявлена война халдеями.
Улигания должна с честью выйти из этой войны.
Вперед за правое дело Великой Бузы!
В Бузе обретешь ты право свое!
Да здравствует и живет в веках Улиганская Империя!
Наркомвоенмор Г. Янкель.
ПРИКАЗ №2
ОТ НАЧАЛЬНИКА ИМПЕРСКОЙ МИЛИЦИИ И ГЛАВКОМА КОЛОНИАЛЬНЫХ ВОЙСК
Главное Управление военными силами Империи в лице начмила и главкома, ввиду объявления войны, объявляет мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат все граждане Улигании, как города Улиганштадта, так и городов Кипчакославля, Волынграда и Бужебурга. Явка для регистрации — штаб туземной армии, управляемой имперским наместником.
За неявку к призыву виновные будут подвергаться военно-полевому суду.
Начмил и главкомколвойск Пантелеев.
ПРИКАЗ № 3 по г. Улиганштадту
ОТ НАЧМИЛА И ГОРОДСКОГО МАГИСТРАТА
Город Улиганштадт объявляется на военном положении. Вход и выход из города допускается лишь по получении пропуска в магистрате у городского головы.
Городской голова К. Гениальный.
Начмил JI. Пантелеев.
Мобилизация в Улиганштадте прошла организованно и без эксцессов. В главный штаб явилось двенадцать человек. Все они были зачислены в списки армии и получили «форму» — картонный значок с гербом империи и бумажный кивер с кокардой, которые изготовлялись на приспособленном для производства военного снаряжения газовом заводе миллионера Башклома.
«Известия», находившиеся на содержании у правительства, дали неверный отчет о ходе мобилизации, превратив двенадцать человек в двенадцать тысяч.
В Улиганштадте мобилизация прошла спокойно, зато в колониях провести призыв было не так легко. Наркомвоенмор Янкель имел с главковерхом Пантелеевым секретное совещание, на котором было решено назначить наместников колониальных государств. Составили список: от Кипчакии — Курочка, от Волынии — Баран и от Бужлан- дии — Калина. Список передали диктатору, тот утвердил его. Через наркомпочтель послали телеграммы с вызовом наместников. Наместники прибыли в Улиганштадт одновременно. Диктатор встретил их ласково, устроил угощение из чая с сахарином и черным хлебом
292
и уполномочил их провести мобилизацию и агитировать за военную кампанию на своей родине.
Наместники уехали.
Через некоторое время от них получилось сообщение, что мобилизацию удалось провести не самым лучшим образом.
В Кипчакии положение с призывом ужасное,— писал наместник Курочка,— мобилизуемые дезертируют из частей или же просто не являются на призыв. Из собранных 23 человек только 10 являются надежными на случай сражения с врагами.
От наместника Барана поступила телеграмма такого же рода:
Положение аховое. Дезертируют почти все призывники. Замечена провокационная работа халдеев.
От Бужландии же наместник писал:
Прошу меня не считать наместником. Избит.
Такие сообщения мало могли порадовать Улиганию. Но улигане не знали о положении дела в колониях. «Известия» молчали по тайному приказу Совнаркома. Поэтому в Улигании царил бодрый патриотический дух.
Однажды, когда улиганская армия собралась на площади Бузы для прохождения обычной воинской подготовки, туда прибыл нар- комвоенмор.
— Друзья,— сказал он,— требуется сформировать отряд для подавления бунта в колониях. Кто пойдет?
Это сообщение ударило как гром, но тем не менее лес рук поднялся. Наркомвоенмор был растроган.
— Не так много,— сказал он,— пяти человек вполне достаточно.
Пять человек получили название Летучего отряда и были под
управлением самого главкома Пантелеева отправлены в Бужландию.
Отряд вышел из города, вооруженный острыми, отточенными стеклом палками. Вместе с отрядом в Бужландию отправился корреспондент «Известий», наркомпочтель Пыльников. Через полчаса после ухода Летучего отряда в редакцию газеты поступило сообщение, что отряд разбит, но тем не менее удалось запугать бужан и заставить их не выступать на стороне халдеев в случае разгара войны. Вскоре вернулся и самый отряд. У двоих были разбиты носы, у Пантелеева разорвана рубаха и сорван главкомозский значок.
В Совнаркоме состоялось совещание. Постановили наградить всех участников сражения орденами Бузы, а Пантелеева представить в кавалеры ордена Имперской Мощи и произвести в генералы.
Тем временем в соседней Кипчакии дело шло на свой лад. Диктатор Улигании и Совнарком не знали, что назначенный ими наместник Курочка — изменник, что готовится бунт.
В Улиганштадт вошел Алникпоп.
— - По местам. Начинается урок.
— К че-орту!..
— Начнем сражение,— сказал диктатор секретарю де Буржелону, тот передал приказание в Совнарком. Оттуда был спешно послан курьер в колонии с приказом выступать туземным армиям.
В свою очередь начмил собрал гарнизон. Летучий отряд во главе с Пантелеевым подошел к Алникпопу.
— Вы арестованы,— заявил Пантелеев, положив руку на плечо халдея.
— Чго-о? — заревел Алникпоп.
— Вы арестованы как халдей, представитель вражеской страны.
Алникпоп пытался выбежать из класса, но отряд окружил его.
В это время за Аркой Викниксора I, переименованной в Арку Войны, показался отряд кипчаков, предводительствуемый Курочкой.
— Марш назад! — закричал Алникпоп.
Отряд из двадцати человек молча прошел в Улиганштадт и выстроился на площади Бузы.
— Смирно,— скомандовал Курочка.
Затем в сопровождении одного солдата он прошел во дворец диктатора.
— Имею честь вас арестовать,— заявил он Гениальному.
Тот выпучил глаза.
— Как?
— Вы арестованы!
Могучего быкообразного Купца выволокли на площадь. Там собралось все население города. Курочка вышел на середину площади, взобрался на памятник Бузе, сделанный из двух табуретов, и сказал:
— От имени всей республики Шкид объявляю государственный переворот в империи Улигании. Довольно страна находилась под игом диктатора. Объявляю свободную Советскую Республику.
Улиганская армия пыталась сопротивляться — несколько солдат бросились на Курочку, но кипчакский отряд моментально навел спокойствие в городе. Это показало, что как армия, как физическая сила Кипчакия была авторитетнее Улигании.
Переворот произошел. Алникпопа отпустили. Все государственные деятели Улигании были арестованы и сидели в государственной тюрьме. Тем временем создавалось новое правительство. Был созван первый Совет народных депутатов, на заседании которого была официально провозглашена Улиганская Свободная Советская Республика. Конституция, пущенная целиком в новой газете «Свободная Улигания», объявляла, что отныне все государства являются самостоятельными и отделяются от бывшей империи. В вышедшем в тот же день втором номере «Свободной Улигании» от имени Совета объявлялась амнистия всем заключенным имперцам.
Большинство рядовых граждан Улиганштадта признало новую власть.
294
Памятник Бузе был снят.
Затем кипчакская армия оставила город. Улигании было предоставлено право самоопределения.
Уроков, конечно, в этот день не было. Халдеи, напуганные рассказом Алникпопа, боялись заглянуть в четвертое отделение.
За вечерним чаем Викниксор, мило улыбаясь, заявил:
— Ребята, как мне стало известно, вы играете в гражданскую войну. Я знаю, что это интересная игра, на ней вы учитесь общественной жизни, это пойдет впрок, когда вы окажетесь за стенами школы. Но все же, в конце концов, увлекаться этим нельзя. Надо учиться. У вас, как я знаю, произошла социальная революция. Поздравляю и предлагаю вам объединиться вместе с «халдеями» в один союз, в Союз Советских Республик. Согласны? Кроме того, в честь такого события объявляю амнистию всем пятиразрядникам.
Громкое «ура» встретило слова Викниксора.
На этом кончилась великая шкидская буза.
Шкида снова перешла с военного положения на мирное. Снова в классах Алникпоп читал русскую историю, Эланлюм — немецкий язык и два раза в неделю Костец, постукивая палочкой, кричал:
— На гимнастику — живо!
ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ
Асси в классе.— Скука.— Карамзин и очко.— Эврика! — Идея Джапаридзе.— Лотерея-аллегри.—
В отпуск.—Шкида моется.—«Оне Механизмус».—
Тираж.— Печальный конец.— Казначей-растратчик.— Игорная горячка.— Довольно!
Капли осеннего дождя бьют по стеклу окон — туб-туб-туб-туб.
Три часа дня, а в классе полуваттные лампочки борются с сумерками.
Лекция русского языка. Читает Асси.
Асси — халдей; голова въехала в плечи, он в ватном промасленном пальто. Карманы пальто взбухли... По слухам, в карманах кусочки хлеба, которые Асси собирает на ужин. Голос Асси звучит глухо, неслышно:
— Карамзин... Сентиментализм... Романтизм...
Улигане сидят по партам, но никто не слушает Асси. Японец фальшиво поет:
295
Асси в классе,
А в классе бузаси,
В классе бузаси,
Бедненький Асси.
Кальмот, взгромоздившись с ногами на парту, бубнит:
— Кальмот виндивот виндивампампот, захотел виндивел винди- вампампел, хлебца виндивебца виндивампампебца.
В углу Барин и Пантелеев.
— Бей!
— Семь... Дама... Казна!
— Девки!
— Мечи!
Дуются в очко. Никто не слушает Асси.
Скука...
Голос Асси, как из могилы:
— «Бедная Лиза»... Вкусы господствующего класса... Эпоха...
Голос Асси, заикающийся и глухой.
Скука!..
Асси в классе,
А в классе бузаси,
В классе бузаси,
Бедненький Асси.
Купец сгреб в охапку Жвачного адмирала.
— Замесить колобок?
Ладонь проезжает по треугольной голове Адмирала, ерошит и без того взъерошенные волосы...
Скучно!..
— «Бедная Лиза». Начало девятнадцатого века... «Пантеон словесности»... «Бедная Лиза»...
Асси в классе,
А в классе бузаси,
В классе бузаси,
Бедненький Асси.
— Воробей виндивей виндивампампей, дурак виндивак виндивам- пампак...
— Бей!
— Картинка... Лафа!
— Ну?
— Очко!..
— Мечи!
— Замесить колобок?
296
Асси в классе, А в классе...
Скука, тоска.
И вдруг голос Джапаридзе:
— Придумал! Ура!
...бузаси.
Упала на пол пиковая десятка, ладонь Офенбаха застыла в центре адмиральского треугольника. И голос Асси становится громким и слышным:
— С тысяча семьсот семьдесят четвертого года Николай Михайлович Карамзин предпринял издание «Московского журнала», в коем помещал свои «Письма русского путешественника». С тысяча семьсот девяносто пятого года Николай Михайлович...
— Идея! — закричал опять Джапаридзе.
Тридцать глаз обернулись в его сторону.
— Что?
— Какая?
— А ну, не тяни! Говори!
Джапаридзе ставит вопрос ребром:
— Скучно?
Полтора десятка глоток:
— Скучно.
Обросший бородавками палец Джапаридзе поднимается вверх.
— Лотерея-аллегри.
И снова голос Асси уходит в могилу:
— С тысяча восемьсот третьего года-да... Государства Россий- ского-го... Императорский историограф-раф...
Класс уподобился развороченному муравейнику.
Унылая песня Японца переходит на бешеный темп:
Асси в классе,
А в классе бузаси,
В классе бузаси,
В классе бузаси.
Асси!
Асси...
Класс взбесился. Скуки нет — какая скука, если в каждой голове клокочет мысль:
— Лотерея-аллегри!
Долой скуку! Не надо карт, колобков и фальшивого тенора Япошки!
— Даешь лотерею-аллегри!
297
В дверь класса просовывается рука с колокольчиком. Рука делает ровные движения вверх-вниз, вверх-вниз, колокольчик дребезжит некрасивым, но приятным для слуха звоном.
Асси захлопывает томик истории словесности Солодовникова, голова уходит еще глубже в плечи, руки тонут в разбухших карманах, и Асси — незаметно в общем шуме — выходит из класса.
И сразу же у парты Джапаридзе оказываются Янкель, Пантелеев и Японец.
— Даешь?
— Даешь!
Генеральный совет заседает.
— Ты, я, он и он... Компания. Идет?
— Идет.
— Лотерея-аллегри. Черти! И не додумался никто!
— Прекрасно.
— Лафузовски.
— Симпатично.
— А вещи?
— Какие? Ах, да... Наберем кто что может...
Янкель:
— Я в отпуск пойду, принесу прорву.
— И я,— говорит Пантелеев.
Японец, захваченный идеей, решается на подвиг, на жертву.
— Всё. Бумаги сто двадцать листов, карандаши... Всё для лотереи-аллегри.
Джапаридзе — автор идеи — кусает губы... Он в пятом разряде и в отпуск идти не может.
— Я дам что смогу,— говорит он.
Завтра суббота — отпуск. Сегодня день самый скучный в неделе, но скуки нет — класс захвачен идеей, которая, быть может, на долгое время заполнит часы досуга Улигании. И Джапаридзе, гордо расхаживая по классу, поднимая вверх толстый, обросший бородавками палец, говорит:
— Я!
В году триста шестьдесят пять дней, пятьдесят две недели.
Каждый день каждой недели в Шкиде звонят звонки. Они звонят утром — будят республику, звонят к чаю, к урокам, ко сну... Но лучший звонок, самый приятный для уха шкидца,— это звонок в субботу, по окончании уроков. Кроме конца уроков, он объявляет отпуск.
Обычно кончились уроки — все остаются по классам, на местах; сейчас же Шкида напоминает сумасшедший дом, и притом — буйное отделение.
В классе четвертого отделения кутерьма.
— Мыть полы! — кричит Воробей, староста класса.
И эхом откликается:
298
— Мыть полы!
— Полы мыть! Кто?
В руках у Воробья алфавитный список класса.
— Один с начала, один с конца: Еонин, Черных, Пантелеев и Офенбах.
— Не согласен!
— Буза!
— Я мыл в прошлый раз!
— К че-орту!
Скульба, пререкания, раздоры...
Пантелеев, Янкель и Купец не имеют желания мыть полы — им в отпуск... Купец тотчас же «откупается», то есть находит себе заместителя.
— Кубышка!..
Пухленький Кубышка — Молотов — вырастает как из-под земли.
— Моешь пол?
— Сколько?
— Четвертка.
— На псул!
— А сколько?
— Фунт.
Отдать фунт хлеба за мытье пола Купцу не улыбается, но желание поскорее попасть в отпуск побеждает.
Купец за фунт хлеба желает получить максимум удовольствия. Здоровенный щелчок по лбу Кубышки:
— Получи в придачу.
Янкель и Пантелеев бесятся.
— Да как же это?.. Ведь в отпуск... А лотерея-аллегри? Джапаридзе — председатель лотерейной компании — решается:
— Черт с вами!.. Хряйте... Мы с Японцем осилим. Верно?
— Верно!
Лица Пантелеева и Янкеля расцветают.
— Лафа.
По лестнице наверх. В спальне забирают одеяла, постельное белье — ив гардеробную. У гардеробной хвост. Шкидцы, идущие в отпуск, пришли сдать казенное белье и получить пальто и шапки.
— В очередь! В очередь! Куда прете?
— Пошел ты!..
Физическая сила и авторитет старшеклассников берут верх — улиганштадтцы без очереди входят в гардеробную.
Там властвуют Лимкор и Горбушка — гардеробный староста.
— Прими, Горбушенция.
Горбушка преисполнен достоинства.
— Подожди.
Белье сдано, получены пальто и ситцевые шапки, похожие на красноармейские шлемы.
299
— В халдейскую!
В канцелярии Алникпоп, дежурный халдей, взгромоздив на нос пенсне, важно восседает на инвалидном венском стуле.
— Дядя Саша, в отпуск идем. Напишите билеты.
Халдей внимательно просматривает «Летопись». Янкель и Пантелеев — во втором разряде, пользуются правом отпуска. Он достает из стола бланк и пишет:
Сим удостоверяется у что воспитанник IV отд. школы СИВ им. Достоевского отпущен в отпуск до понедельника 20 октября сего года.
Формальности окончены, долг гражданина республики исполнен.
— Дежурный, ключ!
И на улицу.
А Шкида начинает мыться.
Хитроумный Кубышка получил фунт хлеба, а полов не моет. Он поймал первоклассника Кузю.
— Вымой пол.
— Что дашь?
— Хлеба дам.
— Сколько?
— Четвертку.
Молчаливый кивок Кузи завершает сделку. Кубышка идет в класс, усаживается на Янкелеву парту и вынимает из нее недоступные обычно выпуски «Ната Пинкертона» и «Антона Кречета». Он заработал три четверти фунта хлеба и может отдохнуть.
Японец и Дзе, не обладая излишками хлеба, принуждены честно выполнить геройски принятую на себя обязанность.
Идут на кухню. Ведра и тряпки предусмотрительно расхватаны, приходится ждать, пока кто-нибудь кончит мытье.
Получив наконец ведра и наполнив их крутым кипятком, товарищи поднимаются наверх.
Там Аннушка, старшая уборщица, командует и распределяет участки для мытья.
— Вымойте Белый зал,— говорит она.
Еонин и Джапаридзе спускаются вниз и проходят в Белый зал.
Зал большой,— страшно браться за него. По положению надо мыть тщательно, промывать два раза и вытирать паркетные плиты насухо, чтобы не было блеска.
Но улигане, оставшись вдвоем, решают дело иначе.
— Начинай!
Японец берет ведро, нагибает его и бежит по залу. Вода разливается ровными полосками. За Японцем на четвереньках бежит Дзе
300
и растирает воду. Через пять минут паркетный пол темнеет и принимает вид вымытого.
— Готово.
Товарищи усаживаются к окну. Джапаридзе закуривает и, затягиваясь, осторожно пускает дым по стене.
Просидев срок, который нужен для хорошего мытья, идут в канцелярию.
— Дядя Саша, примите зал.
Сашкец идет в зал, близоруко, мельком осматривает пол и возвращается в «халдейскую».
Японец и Дзе идут в класс, растопляют печку и, греясь у яркого огня, болтают о лотерее-аллегри и ждут понедельника.
В сумраке октябрьского утра Ленька Пантелеев бежал из отпуска в Шкиду. Обутые в рваные «американские» ботинки, ноги захлебывались грязью, хлопали по лужам, стучали на неровных плитах тротуаров.
На улицах закипала дневная жизнь, открывались витрины магазинов, и из лавок «Продукты питания» вырывался на улицу запах теплого ситного, кофе и еще чего-то неуловимого, вкусного.
Ленька бежал по улице, боясь опоздать в Шкиду. У Покровки в витрине ювелирного магазина попались часы. Ленька взглянул и похолодел. Пять минут одиннадцатого, а в Шкиду надо было поспеть к первому уроку, к десяти.
Он прибавил ходу и крепче сжал объемистый узел, наполненный вещами, предназначенными для лотереи-аллегри.
Были в нем: «Пошехонская старина» Салтыкова, ржавые коньки, гипсовый бюст Льва Толстого, ломаный будильник, зажигалка и масса безделушек, которые Ленька частью выпросил, частью стянул у сестренки.
— Начались уроки? — спросил Пантелеев, когда ему, запыхавшемуся и усталому, кухонный староста Цыган открыл дверь.
— Начались,— ответил Цыган.
— Давно?
— С полчаса.
«Влип,— подумал Пантелеев.— Какой еще урок, неизвестно... Если Сашкец или Витя, то гибель — пятый рязряд!»
Боясь попасться на глаза Викниксору или Эланлюм, он, крадучись, пробрался к классу, прильнул ухом к замочной скважине и прислушался. Сердце его радостно запрыгало. Через дверную щель глухо доносились отрывистые реплики:
— Карамзин... Тысяча восемьсот третий год... Наталья, боярская дочь...
Ленька приоткрыл дверь и спросил:
— Можно?
— Пожалуйста,— ответил Асси,— войдите.
301
Он был единственный халдей, который называл шкидцев на «вы». Ленька вошел в класс. При виде его, несущего узел, класс загромыхал.
— Ай да налетчик!
— Браво!
— Ура!
Ленька прошел к своей парте, уселся, отдышался и стал развязывать узел. Тотчас же к нему подсели Японец и Джапаридзе.
— Ну, показывай.
Пантелеев выложил на скамейку парты принесенные вещи.
— А Янкель пришел? — спросил он.
— Нет еще,— ответил Японец, перелистывая «Пошехонскую старину».
Парту Пантелеева обступили Воробей, Горбушка и Кальмот.
— Ну, хряйте, хряйте,— прогнал их Ленька,— нечего глазеть. Тут профессиональная тайна.
Любопытные отошли. Ленька засунул вещи в ящик парты, отложив отдельно принесенные продукты: хлеб, сахар, кусок пирога и осьмушку махорки.
В это время в класс ворвался раскрасневшийся и вспотевший Янкель. В руках он нес огромный, перевязанный бечевкой пакет. Улигания встретила его еще более громким «ура».
Янкель бросился на свою парту и, отдуваясь, протянул:
— Фу ты, я-то думал — у нас Гусь Лапчатый, а тут...
Асси, на минуту притихший, бубнил, спрятав голову в плечи:
— Карамзин — выразитель эпохи... Разбирая его произведения в хронологическом порядке, мы...
Затрещал звонок. Асси, не докончив фразы, поднялся и выкатился из классной.
— Компания, сюда! — закричал Японец.
Четверка собралась у пантелеевской парты. Янкель притащил свой пакет и, развернув его, выложил десятка два разных книг, уйму вставочек, статуэток, палитру красок и комплект «Нивы» за 1909 год. Притащил свои вещи к пантелеевской парте и Японец. Дал он сто двадцать листов писчей бумаги, которую копил в течение целого года, и дюжину фаберовских карандашей.
Джапаридзе снял и отдал обмотки. Носить обмотки в Шкиде считалось верхом изящества и франтовства; взнос Джапаридзе поэтому был очень ценен.
302
Когда все вещи были собраны, Янкель предложил:
— Приступим к технической части. Надо составить каталог.
Стали составлять список вещей. Первым номером записали
коньки:
К Первосортные беговые коньки «Джексон».
Вторым записали обмотки Дзе:
2. Прекрасные суконные обмотки последнего лондонского образца.
Третьим прошел трехсантиметровый бюст Толстого «почти в натуральную величину»...
Дальше оценка вещей стала затруднительна.
Вынули будильник. Будильник оказался лишь пустой жестяной коробкой с циферблатом, но без механизма.
— Идея,— сказал Японец.— Пиши: «Изящные часы-будильник «ohne Mechanismus».
— Это что значит? — спросил Дзе.— Уж больно звучно.
— Это значит, что часы без механизма... А ребята не поймут — подумают, что фирма «Оне Механизмус».
Потом записали «Полный комплект журнала «Нива» за 1909 год в роскошном коленкоровом переплете», ломаный десертный ножик под громким названием «дамасский кинжал вороненой стали», зажигалку и «Пошехонскую старину».
Затем стали записывать мелочь — статуэтки, карандаши, вставочки. Под конец пустили бумагу:
51. Прекрасная веленевая бумага 5 л.
52
53
• ,, ,, я
Всего набралось 70 номеров.
— Почем же будем продавать билеты? — спросил Пантелеев.
— Я думаю, две порции песку, или полфунта хлеба, или пять копеек золотом,— сказал Японец.
Янкель подсчитал в уме и заявил:
— Невыгодно... Три рубля пятьдесят копеек золотом всего получается. Не окупит дела. Одни коньки два рубля стоят.
— Пустых ведь не будем делать,— сказал Дзе.
— Нет, пустых не надо.
Решили устроить маленькую перетасовку. Вместо пяти листов бумаги написали два листа. Получилось сто тридцать номеров.
Составив каталог, начали изготовлять билеты. Янкель сделал образец:
БИЛЕТ № 1
на право участия в розыгрыше
ЛОТЕРЕИ-АЛЛЕГРИ
Казначей
303
При помощи Пантелеева и Дзе Янкель отпечатал их сто тридцать штук.
— А кто у нас будет казначеем? — спросил Пантелеев.— Я думаю — Янкель...
— К черту! — заявил Японец.— Лучше Дзе.
Согласились на Дзе. Новоиспеченный казначей принялся подписывать билеты. До вечера работали — писали билеты, наклеивали номерки к вещам и, отгородив кафедрой угол класса, расставляли вещи по полкам пустующего книжного шкафа.
А утром во вторник улигане, явившись после чая в класс, узрели на остове кафедры огромный плакат:
ВНИМАНИЕ!!!
каждый сознательный шкидец может выиграть: коньки «Джексон», суконные обмотки,
будильник «ohne Mechanismus» и массу других
полезных и дорогих вещей, если он приобретёт билет на право участия в
ЛОТЕРЕЕ-АЛЛЕГРИ
(2 песка
1/2 ф. хлеба
5 коп. золотом
Билеты продаются у казначея Тиражной комиссии Г. Джапаридзе
там же полный список вещей
Тиражная Комиссия Бонин, Пантелеев, Джапаридзе
и Черных
У плаката собралась огромная толпа. Весть о лотерее облетела всю республику. Сашкецу, пришедшему в четвертое отделение читать лекцию, с трудом удалось разогнать орду кипчаков, волынян и бужа н.
На уроках царило возбуждение, и даже Викниксору, читавшему улиганам древнюю историю, трудно было подчинить дисциплине возбужденную массу. После звонка Викниксор полюбопытствовал,
304
чем взбудоражен класс. Кто-то молча указал на кафедру, кричащую плакатом.
Викниксор, читая плакат, улыбался, прочитав, нахмурился.
— Надо было у меня разрешение взять, а потом уже объявление вешать,— сказал он.
Выскочил Янкель.
— Извините, Виктор Николаич... Не подумали...
— Ну, ладно,— добродушно улыбнулся завшколой,— бог с вами... Развлекитесь.
Потом, подумав, вынул из кармана портмоне и сказал:
— Дайте-ка мне на счастье парочку билетов.
Класс дружно загромыхал аплодисментами. Джапаридзе вручил Викниксору два первых билета.
После уроков класс снова заполнился шкидцами. Приходили уже с продуктами: хлебом, сахарным песком, а кто и с деньгами, принесенными из дому. Большинство покупало по одному-два билета, некоторые платили по соглашению с комиссией сахарином, папиросами или чем другим; кухонный староста Громоносцев, обладавший хлебными излишками, ухлопал десять фунтов хлеба, купив двадцать билетов.
— Коньки выиграть хочу,— заявил он.— И обмотки выиграю.
Пришедшего после обеда Асси насильно заставили купить пять
билетов. К вечеру было продано сто два билета. Парта Джапаридзе разбухла от скопившихся в ней, на ней и под ней хлеба и сахарного песку. Кроме того, в кармане у Дзе похрустывало лимонов сорок денег.
На другой день вечером в Белом зале должен был состояться тираж.
В Белом зале собралась вся Шкида.
Посреди зала стоял стол, уставленный разыгрываемыми вещами, рядом другой стол, и на нем ящик со свернутыми в трубочки номерами. Шкида облепила столы и стоящую около них Тиражную комиссию.
— В очередь! — закричал Японец.
Шкида вытянулася в очередь. Первым стал Викниксор, за ним халдеи, потом воспитанники.
— Тираж лотереи-аллегри считаем открытым,— объявил Джапаридзе.
Викниксор, улыбаясь, засунул руку в ящик и вынул два билета. Развернули, оказались номера шесть и шестьдесят девять.
Джапаридзе посмотрел в список:
— Дамасский кинжал вороненой стали и лист бумаги.
Бумагу Викниксор взял, от «кинжала» же отказался, как только взглянул на него.
Потом вынимал билет Сашкец. Вытянул он два листа бумаги.
305
Асси вытянул четыре порции бумаги и книгу «Как разводить опенки в сухой местности». Косталмеду достался карандаш, которым он тотчас же записал расшалившегося в торжественный момент тиража второклассника Рабиндина, носившего прозвище Рабиндранат Тагор.
Потом стали вытягивать билеты воспитанники.
Купец, мечтавший выиграть обмотки, вытянул будильник «оне механизмус». В первый момент он было обрадовался... Но, получив в руки часы* и осмотрев их, он пришел в неописуемую ярость.
— Убью! — закричал он.— Аферисты, жулики, мошенники!..
Тираж на время приостановился. Тиражная комиссия, сгрудившись у стены, мелко дрожала, как в лихорадке. Накричавшись, Купец с остервенением бросил «оне механизмус» на пол и вышел из зала.
Тираж возобновился.
Коньки выиграл Якушка, самый крохотный гражданин республики. Обмотки достались Голому барину.
Тираж подходил к концу, когда в зал ворвался Цыган. Как староста, он был занят на кухне и только что освободился.
— Даешь коньки! — закричал он.
— Уже... готовы,— ответил кто-то.
— Как то есть готовы?
— Выиграны.
— А обмотки?
— Выиграны.
— А, сволочи!..— закричал Цыган и подскочил к столу с намерением вытащить двадцать билетов.
Но билетов в ящике оказалось лишь двенадцать — восемь штук загадочным образом исчезли.
И все доставшиеся Цыгану билеты оказались барахлом: десять — бумага, один — книжка «Кузьма Крючков» и один — безделушка, слон с отбитым хоботом.
— Сволочи! — закричал Цыган.— Сволочи, мерзавцы!.. Жульничать вздумали!.. Аферу провели!.. Хлеб у людей ограбили!..
Он схватил стол, с силой кинул его на пол и бросился к Тиражной комиссии. Комиссия рассыпалась. Лишь один Янкель, не успевший убежать, прижался к стене. Громоносцев кинулся на него и так избил, что Янкель два часа после этого ходил с завязанной щекой и вспухшими глазами. Но только два часа.
Через два часа Янкель уже разгуливал веселый и бодрый. В Ян- келевой голове назревала блестящая, по его мнению, мысль. Он решил возместить убытки, понесенные им от Цыгана. Для этой цели он о чем-то долго шептался с Джапаридзе.
Японец и Пантелеев убирали зал; убрав, пошли в класс. Первое, что поразило их при входе, это лицо Джапаридзе — бледное, искаженное страданием.
— Что такое? Говори! — закричал Японец, почувствовав беду.
306
— Хлеб,— прошептал Дзе,— хлеб, сахар... всё...
— Что?
— Похитили... украли...
— Как... Дочиста?
— Нет... вот кальмот.
Джапаридзе вынул из парты горбушку хлеба фунтов в пять. Пантелеев и Японец переглянулись и вздохнули.
— А деньги? — спросил Японец.
Дзе на мгновение задумался. Потом вывернул почему-то один правый карман и ответил:
— И деньги тоже украли.
Пантелеев и Японец взяли горбушку хлеба и вышли из класса.
— Ну и сволочи же,— вздохнул Японец.
— Д-да,— поддакнул Пантелеев.
Растратчик Джапаридзе тем временем давал взятку изобретательному Янкелю, или, проще, делился с ним растраченным капиталом — хлебом, сахаром — и лимонами.
Так кончилась первая «лотерея-аллегри».
Но пример нашел отклик...
Скоро Купец в компании с Цыганом и Воробьем устроили такую же лотерею. Лотерея прошла слабо, но все же дала прибыль. Это послужило поводом к развитию игорного промысла в четвертом отделении.
Новичок Ельховский — Саша Пыльников — придумал новую игру — рулетку, или «колесо фортуны». Пантелеев, имевший по прошлому знакомство с марафетными играми, научил товарищей играть в «кручу-верчу» и в «наперсточек». Четвертое отделение превратилось в настоящий игорный притон. Дошло до того, что не стало хватать игроков, все сделались владельцами «игорных домов». Сидит каждый у своей игры и ждет «клиентов». Наскучит — подойдет к соседу, сыгранет и зовет его к себе... За старшими потянулись и младшие. Игры стали устраивать и в младших отделениях...
Но скоро лотерейная горячка в Шкиде прошла. Потянуло к более разумному времяпрепровождению.
Кончился период бузы, на Шкиду нашло желание учиться.
«ДАЕШЬ ПОЛИТГРАМОТУ »
О комсомоле.— «Даешь политграмоту».— Человек в крагах.— Богородица.— Конституция 1871 года.—
В клубах табачных.— Настоящий политграмгцик.
Часто улигане спрашивали президента своей республики Викниксора:
— Виктор Николаевич, почему у нас в школе нельзя организовать комсомол? Объясните...
Президент хмурил брови и отвечал, растягивая слова:
— Очень просто... Наша школа дефективная, почти что с тюремным режимом, а в тюрьмах и дефективных детдомах ячейки комсомола организовывать не разрешается...
— Так мы же не бузим!
— Все равно... Пока полного исправления не достигнете, нельзя. Выйдете из школы, равноправными гражданами станете — можете и в комсомол, и в партию записываться.
Вздыхали граждане дефективной республики Шкид и мечтали о днях, когда станут равноправными гражданами другой республики — большой Республики Советов.
А пока занимались политическим самообразованием. Читали Энгельса и Каутского, Ленина и Адама Смита. Некоторое время все шло тихо.
Но вот однажды поднялась буря, Шкида выкинула лозунг: «Даешь политграмоту!»
Послали к Викниксору делегацию.
— Хотим политграмоту как предмет преподавания наряду с прочими — историей, географией и геометрией.
Викниксор почесал бровь и спросил:
— Очень хотите?
— Очень, Виктор Николаевич... И думаем, что это возможно.
— Возможно, да не просто,— сказал он.
— Вы уж нажмите там, где требуется...
— Хорошо,— пообещал Викниксор,— нажму, подумаю и постараюсь устроить.
Тянулись дни, серые школьные будни. Осень лизала стекла окон дождевыми каплями, и вечерами в трубах печей ветер пел дикие и унылые песни...
В эти дни уставшие от лета и бузы шкидцы искали покоя в учебе, в долгих часах классных уроков и в книгах, толстых и тонких, что выдавала Марья Федоровна — библиотекарша — по вторникам и четвергам.
308
А политграмота, обещанная Викниксором и не забытая шкидцами, знать о себе ничего не давала; молчал Викниксор, и не знали ребята, хлопочет он или нет.
Но однажды пришла политграмота. Она пришла в образе серого заикающегося человечка. У человечка была бритая узкая голова, френчик синий с висящими нитками вместо пуговиц и на ногах желтые потрескавшиеся краги.
Человек вошел к улиганам в класс и сказал, заикаясь:
— Б-буду у вас читать п-политграмоту.
Дружным «ура» и ладошными всплесками встретила человечка в крагах Улигания. Долгожданная политграмота явилась.
Человечек назвался:
— Виссарион Венедиктович Богородицын.
Это рассмешило.
— Политграмота — и вдруг Богородицын!
— Богородица...
Стал человек в крагах Богородицей с первого же урока в Шкиде.
Начал урок с расспросов:
— Что знаете?
Большинство молчало. Японец же, встав, сказал, шмыгнув носом:
— Порядочно.
— Что есть Ресефесере?
— Российская социальная федеративная республика! — крикнул Воробей.
— Правда, молодец,— похвалил, заикаясь, лектор.
Ребята засмеялись.
— А что есть Совет?
— Власть коммунистическая.
— Правда,— повторил вторично халдей.
А Японец, уже переглянувшись с Кобчиком, шептал:
— Липа... Лектор хреновый!
Потом обратился к Богородице:
— Можно вам вопросы задавать? Такая система лучше, я думаю, будет.
— Правда. Задавайте.
Японец, подумав, спросил:
— Когда принята наша конституция?
Сжались брови на узком лбу Богородицы, задумался он... Сразу же поняли все, что и в самом деле «липа» он, что случайно попал в Шкиду и политграмоты сам не знает.
— Конституция? — переспросил он.— А разве вы сами не знаете?
— Знали бы, так не спрашивали.
— Конституция принята в тысяча восемьсот семьдесят первом году в Стокгольме.
Прыснул Японец, прыснули за ним и многие другие.
— А когда Пятый съезд Советов был?
— Ну, уж это-то вы должны знать.
309
— Не знаем.
— В девятнадцатом году.
— А не в восемнадцатом?
Покраснел Богородица-политграмщик, опустил глаза.
— Знаете, так нечего спрашивать.
— А конституция не на Пятом съезде была принята?
Еще больше покраснел Богородица, съежился весь... Потом выпрямился вдруг.
— Какая конституция?
— Эрэсэфэсэрская.
— Так бы и говорили. Я думал, вы не про эту конституцию говорите, а про первую, что в девятьсот пятом году...
Понятно стало, что Богородица — не политграмота, что снова отходит от Шкиды заветная мечта. Стали бузить, вопросы задавать разные по политграмоте, издеваться.
— Что такое империализм?
— Не знаете?! Всякий ребенок империализм знает. Это — когда император.
— А кто такой Степан Халтурин?
— Генерал, сейчас за границей вместе с Николаем Николаевичем.
До звонка потешались улигане над Богородицей, человечком в
потрепанных крагах, а когда вышел он под зюканье и хохот из класса, загрустили:
— Дело — буза... Политграмота-то хреновая.
— Да... Порадовались раненько.
А вечером Викниксор, зайдя в класс, выслушивал ребят.
— Плох, говорите?
— Безнадежен, Виктор Николаевич.
— Слабы знания политические?
— Совсем нет.
Задумался Викниксор.
— Дело неважно.
— Где вы его только выкопали? — полюбопытствовал Ленька Пантелеев.
— В Наробе... случайно. Спрашивал я там о политграмоте — нет ли педагога на учете. А тут он, Богородицын этот, подходит: могу, говорит, политграмоту читать... Ну, я и взял на пробу.
— Пробы не выдержал,— ухмыльнулся Янкель.
— Да,— согласился завшколой.— Пробы не выдержал... Поищем другого.
Больше Богородица не читал в Шкиде политграмоту. Ушел он, не попращавшись ни с кем, метнулся желтыми потрескавшимися крагами и исчез...
Может быть, сейчас он читает где-нибудь лекции по фарадизации или по прикладной космографии... А может быть, умер от голода, не найдя для себя подходящей профессии.
310
В табачном дыму расплывались силуэты людей.
Пулеметом стучал ремингтон, и ундервуд, как эхо, тарахтел в соседней комнате.
Кто-то веселым, картавящим на букве «л» голосом кричал кому-то:
— Товарищ, вы слушаете?.. Отдайте, пожалуйста, в комнату два. Товарищ...
А тот, другой, таким же веселым голосом отвечал издалека:
— Два? Спасибо...
В комсомольском райкоме работа кипела.
В табачном дыму мелькали силуэты людей. На стенах с ободранными гобеленами белели маленькие, написанные от руки плакатики:
СЕКРЕТАРЬ АГИТОТДЕЛ КЛУБКОМИССИЯ
Викниксор шел по плакатикам, хватаясь руками за стены, потонув в клубах дыма. Но все же отыскал плакатик с надписью: «Политпросвет».
Под плакатиком сидел человек в кожаной тужурке, с бритой головой, молодой и безусый.
— Меня, товарищ?
— Да, вас. Вы по политпросвету?
— Я. В чем дело?
— Видите ли... Я заведующий детдомом... У нас ребята — шестьдесят человек... хотят политграмоту. Не найдется ли у вас в комитете человечка такого — лектора?
Политпросветчик провел рукой по высокому, гладкому лбу.
— Ячейка или коллектив у вас есть?
— Нет. В том-то и дело, что нет... У нас, надо вам сказать, школа тюремного, исправительного типа — для дефективных.
— Ага, понимаю... Беспризорные, стало быть, ребята, с улицы?..
— Да. Но все же хотят учиться.
— Минутку.
Политпросветчик обернулся, снял телефонную трубку, нажал кнопку.
— Политшкола? Товарищ Федоров, нет ли у тебя человека инструктором в беспризорный детдом? Найдется? Что? Прекрасно...
Повесил трубку.
— Готово. Оставьте адрес, завтра пришлем.
311
Пришел он в Шкиду вечером.
В классе улиган, погасив огонь, сидели все у топившейся печки; отсвет пламени прыгал по стенам и закоптелому после пожара потолку... Из печки красным жаром жгло щеки и колени сидевших...
Он вошел в класс, незаметно подошел к печке и спросил:
— Греетесь, товарищи?
Обернулись, увидели: человек молодой, невысокий, волосы назад зачесаны, в руках парусиновый портфель.
— Греемся.
— Так... А я к вам читать политграмоту пришел... Инструктором от райкома.
Не кричали «ура» теперь шкидцы, знали — обманчива политграмота бывает...
— Садитесь,— сказал Янкель, освободив место на кривобоком табурете.
— Спасибо,— ответил инструктор.— Усядемся вместе.
Сел, погрел руки.
— Газеты читаете?
— Редко. Случайно попадет — прочтем, а выписывать — бюджет не позволяет.
— Все-таки в курсе дел хоть немножко? О четвертом съезде молодежи читали?
— Читали немного.
— Так. А о приглашении на Генуэзскую конференцию делегации от нашей республики?
— Читали.
— Ну а как ваше мнение: стоит посылать?
Разговорились этак незаметно, разгорячились ребята — отвечают, спорят, расспрашивают... Не заметили, как время ко сну подошло...
Уходя, инструктор сказал:
— Я у вас и воспитателем буду, заведующий попросил.
Вот теперь закричали «ура» улигане, искренне и дружно.
А потом уже в спальне, раздеваясь, делились впечатлениями...
— Вот это — парень! Не Богородица, а настоящий политграм- щик.
Мечта шкидская осуществилась — политграмоту долгожданную получили.
УЧЕТ
Десять часов учебы.— Новогодний банкет.— Шампанское-морс.— Спичи и тосты.— Конференция издательств.— Учет.— Оригинальный репортаж.—
Гулять!
В этом году зима выдалась поздняя. Долго стояла мокрая осень, брызгалась грязью, отбивалась, но все же не устояла — сдалась. По первопутку неисправимые обыватели тащили по домам рождественские елки. Елочные ветки куриным следом рассыпались по белому снегу; казалось, что в городе умерло много людей и их хоронили.
На рождество осень дала последний бой — была оттепель. В сочельник, канун рождества, колокола гудели не по-зимнему, громыхали разухабистым плясом. Не верилось, что декабрь на исходе, казалось, что пасха — апрель или май.
А двадцать пятого декабря, на рождество, ртуть в Реомюре опустилась на десять черточек вниз, ночью метелью занесло трамвайные пути и улицы побелели.
В Шкиде рождества не справляли, но зиму встретили по-ребячьи радостно. Во дворе малыши, бужане и волыняне, играли в снежки, лепили бабу. И даже улигане, «гаванские чиновники», как звала их уборщица Аннушка, даже улигане не усидели в классе и вырвались на воздух, чтобы залепить друг другу лицо холодным и приятным с непривычки снегом.
Вечером за ужином Викниксор говорил речь:
— Наступила зима, а вместе с нею и новый учебный год. С завтрашнего дня мы кончаем вакационный период учебы и переходим к настоящим занятиям. С завтрашнего дня ежедневно будет по десять уроков. С десяти часов утра до обеда — четыре, после обеда отдых, потом опять четыре урока до ужина и после ужина два урока.
Лентяи вздохнули, четвертое же отделение рвалось к учебе и было радо.
Викниксор походил, заложив руки за спину, по столовой, собрался уже уходить, потом, вспомнив, вернулся.
— Да. Первого января у нас учет...
Это сообщение вызвало всеобщие радостные возгласы.
«Учетом» в Шкиде называлась устраиваемая несколько раз в году проверка знаний, полученных в классе.
Обычно к учету готовились заблаговременно. Преподаватели каждого предмета давали ученикам задания, по этим заданиям составлялись диаграммы, схемы, конспекты, устраивались подготовительные учеты-репетиции. Но спешное зазубривание курса не практиковалось, и вообще подготовка к учету не носила характера разучиваемого спектакля. Просто как следует готовились к торжеству.
313
То же самое было и на этот раз.
Уже на следующее утро, составив план выступлений по своим предметам, воспитатели ознакомили с ним учеников.
Шкида крякнула, поплевала на руки и засела за работу.
В четвертом отделении ребята с разрешения Викниксора сидели в классе до двенадцати часов.
Японец, Цыган и Кобчик по заданию Эланлюм переписывали готическим шрифтом на цветных картонах переведенный ими коллективно отрывок из гётевского «Фауста».
Янкель делал плакаты для украшения зала в день торжества. Воробей, Горбушка и еще несколько человек ему помогали.
Пантелеев писал конспект на тему «Законы Дракона» по древней истории, Кальмот и Дзе — о Фермопильской битве, о Фемистокле и Аристиде.
Саша Пыльников разрабатывал диаграмму творчества М. Ю. Лермонтова в период с 1837 по 1840 год и писал о байроновском направлении в его творчестве. Тихиков и Старолинский рисовали географические, экономические и политические карты РСФСР.
Все были заняты.
Подготовка тянулась целую неделю.
Новый год, по неокрепшей традиции, встречали торжественно всей школой.
В большой спальне днем были убраны койки, поставлены столы и скамейки. Вечером в одиннадцать с половиной часов все отделения под руководством классных надзирателей поднялись наверх в спальню.
На столах, покрытых белыми скатертями, уже стояли яства: яблочная шарлотка, бутерброды с колбасой и клюквенный морс, которым изобретательный Викниксор заменил новогоднее шампанское.
Отделения разместились за четырьмя столами. Дежурные разлили по кружкам «шампанское-морс» и уселись сами. Скромное угощение казалось изголодавшимся шкидцам настоящим пиром.
Викниксор в своей речи отметил успехи за год и пожелал, чтобы к следующему году школа смогла выпустить первый кадр исправившихся воспитанников.
Обыкновенно к ораторским способностям Викниксора шкидцы относились сухо, сейчас же растрогались и долго кричали «ура».
Затем выступили с ответными тостами воспитанники. От улиган говорили Японец и Янкель.
Когда первое возбуждение улеглось, выступил новый халдей, политграмщик Кондуктор. Настоящее имя его было Сергей Семенович Васин. Кондуктором прозвали его за костюм — полушубок цвета хаки, какие носили в то время кондукторы городских железных дорог.
Кондуктор встал, откашлялся и сказал:
314
— Товарищи, я здесь в школе работаю недавно, я плохо знаю ее. Но все-таки я уже почувствовал главное. Я понял, что школа исправила, перевела на другие рельсы многих индивидуумов. Мое пожелание, чтобы в будущем году школа Достоевского смогла организовать у себя ячейку комсомола из воспитанников, уже исправившихся, нашедших дорогу.
Этот спич, произнесенный наскоро и несвязно, был встречен буквально громом аплодисментов и ревом «ура».
В час ночи банкет закрылся. Вмиг были убраны столы, расставлены кровати, и шкидцы стали укладываться спать. Японец пригласил на свою постель Янкеля, Пантелеева и Пыльникова.
— Мне нужно с вами поговорить,— сказал он.
— Вали.
— Завтра учет,— начал Японец.— Мы должны выпустить учетный номер какого-либо издания.
В четвертом отделении в то время выходило четыре печатных органа: журналы «Вперед», «Вестник техники», «Зеркало» и газета «Будни».
— Согласны, ребята, что экстренный номер нужен?
— Согласны,— ответил Янкель.— Я предлагаю выпустить однодневку сообща.
— Идея! — воскликнул Пантелеев.
— Никому и обидно не будет,— подтвердил Сашка Пыльников, соредактор «Будней».
Решили выпустить газету «Шкид». Ответственным редактором назначили Янкеля, секретарские и репортерские обязанности взял на себя Пантелеев.
Утром занятий в классах не было. Вся школа под руководством Косталмеда и Кондуктора работала над украшением здания к торжеству. Из столовой и спален стаскивали в Белый зал скамейки, украшали зеленью портики сцены; зеленью же увили портреты вождей революции, развешанные по стенам, громадный портрет Достоевского и герб школы — желтый подсолнух с инициалами «ШД» в центре круга. Вдоль стен расставили классные доски, оклеенные диаграммами и плакатами, на длинных пюпитрах раскладывались рукописи, журналы, тетради и другие экспонаты учета.
В двенадцать часов прозвенел звонок на обед. Обедали торопливо, без бузы и обычных скандалов. Когда кончили обед, в столовую вошел Викниксор и скомандовал: «Встать!»
Ребята поднялись. В столовую торопливыми шагами вошла пожилая невысокая женщина, закутанная в серую пуховую шаль.
— Лилина,— шепотом пронеслось по скамьям.
— Здорово, ребята! — поздоровалась заведующая губоно.— Садитесь. Хлеб да соль.
— Спасибо! — ответил хор голосов.
315
Ребята уселись. Лилина походила по столовой, потом присела у стола первого отделения и завязала с малышами разговор.
— Сколько тебе лет? — спросила она у Якушки.
— Десять,— ответил тот.
— За что попал в школу?
— Воровал,— сказал Якушка и покраснел.
Лилина минуту подумала.
— А сейчас ты что делаешь в школе?
— Учусь,— ответил Якушка, еще больше краснея.
Лилина улыбнулась и потрепала его, как девочку, по щеке.
— А ты за что? — обратилась она к Кондрушкину, тринадцатилетнему дегенерату с квадратным лбом и отвисшей нижней челюстью.
— Избу поджег,— хмуро ответил он.
— Зачем же ты ее поджег?
Кондрушкин, носивший кличку Квадрат, тупо посмотрел в лицо Лилиной и ответил:
— Так. Захотелось — и поджег.
Подошел Викниксор.
— Этот у нас всего два месяца,— сказал он.— Еще совсем не обтесан. Да ничего, отделаем. Вот тоже поджигатель,— указал он на другого первоклассника — Калину.— Этот уже больше года у нас. За поджог в интернате переведен.
— Зачем ты сделал это? — спросила Лилина.
Калина покраснел.
— Дурной был,— ответил он, потупясь.
Поговорив немного, Лилина вместе с Викниксором вышла из столовой. Немного погодя к столу четвертого отделения подсел Воробей, бывший в то время кухонным старостой.
Он был красен, как свекла, и видно было, что ему не терпится что-то рассказать.
— Здорово! — проговорил он наконец.— Чуть не влип.
— Что такое? — спросил Японец.
— Да Лилина... Не успел дежурный дверь отворить — влетает на кухню:
— Староста?
— Староста, говорю.
— Сколько сегодня получено на день хлеба?
— А я, признаться, точно не помню, хотя в тетрадке и записано.
— Два пуда восемь фунтов с половиной, говорю, наобум конечно.
Она дальше:
— А мяса сколько?
— Пуд десять, говорю.
— Сахару?
— Фунт три четверти.
— Молодец, говорит,— и пошла.
316
Все расхохотались.
— Ловко! — воскликнул Янкель.— Ай да Воробышек!
После обеда воспитатели скомандовали классам «построиться» и отделениями провели их в Белый зал. Там уже находилось человек десять гостей.
От губоно, кроме Лилиной, присутствовали еще два человека — от комиссии по делам несовершеннолетних и от соцвоса. Кроме того, были представители от шефов — Петропорта, от Института профессора Грибоедова и несколько студентов из Института Лесгафта.
Шкидцы, соблюдая порядок, расселись по местам. Впереди уселись малыши; четвертое отделение оказалось самым последним. Янкель и Пантелеев притащили из класса бумагу и чернила и засели за отдельным столом редакции.
На сцену вышел Викниксор.
— Товарищи! — сказал он.— Сейчас у нас состоится учет, учет знаний наших, учет проделанной работы. Давайте покажем присутствующим здесь дорогим гостям, что мы не даром провели время, что нами что-то сделано... Откроем учет.
Слова Викниксора были встречены аплодисментами со всех скамеек.
— Первым будет немецкий язык,— объявил Викниксор, уже спустившись со сцены и заняв место в первом ряду, по соседству с гостями.
На сцену поднялась Эланлюм.
— Сейчас мы продемонстрируем наши маленькие успехи в разговорном немецком языке, потом покажем сценку из «Вильгельма Телля». Ребята,— обратилась она к четвертому отделению,— пройдите сюда.
Японец, Цыган, Кобчик, Купец и Воробей гуськом прошли на сцену и стали лицом к залу.
Эланлюм обвела взором вокруг себя и, не найдя, по-видимому, ничего более подходящего, ткнула себя пальцем в нос и спросила у Купца:
— Вас ист дас?
Купец ухмыльнулся, смутился. Он был по немецкому языку последним в классе.
— Нос,— ответил он, покраснев.
Гости, а за ними и весь зал расхохотались. Эланлюм расстроилась.
— Хорошо, что хоть вопрос понял,— сказала она.— Еонин,— обратилась она к Японцу.— Вас ист дас? Антворте.
— Дас ист ди назе, Элла Андреевна.
— Гут. Вас ист дас? — обратилась она к Цыгану, указав на окно.
— Дас ист дас фенстер, Элла Андреевна,— ответил Цыган, снисходительно улыбнувшись.— Вы что-нибудь посерьезнее,— шепнул он.
— Нун гут... Вохин геест ду ам зоннабенд? — обернулась Эланлюм к Воробью.
317
Воробей знал, что Эланлюм спрашивает, куда он пойдет в субботу, знал, что пойдет в отпуск, но ответить не смог. За него ответил Еонин.
— Эр гейт ин урлауб.
— Гут,— удовлетворившись, похвалила немка.
Так, перебрасывая с одного на другого вопросы, она демонстрировала в течение пятнадцати минут «успехи в разговорном немецком языке».
Потом тем же составом воспитанников была показана сценка из пьесы «Вильгельм Телль» на немецком языке. Гости от «Вильгельма Телля» пришли в восторг, долго аплодировали.
За немецким языком шел русский язык. Гости и педагоги задавали воспитанникам вопросы, те отвечали.
Потом шли древняя и русская истории, политграмота, география и математика.
Пантелеев и Янкель все это время усиленно работали у себя в «походной редакции». Когда Викниксор объявил о перерыве и все собрались вставать, на сцене появился Янкель.
— Минутку,— сказал он.— Только что вышел экстренный номер газеты, висит у задней стены, желающие могут прочесть.
Все обернулись. На противоположной стене прилепился исписанный печатными синими буквами лист бумаги. Наверху, разрисованный красной краской, красовался заголовок:
ШКИД
Однодневная газета, посвященная «учёту»
Гости и шкидцы обступили газету. Передовица, написанная Японцем, разбирала учет как явление нового метода педагогики.
Дальше шел портрет Лилиной в профиль и стихи Пыльникова, посвященные учету:
Мы в учете видим себя.
Учет — термометр наш.
Науку, учебу любя,
Мы грызем карандаш.
Кто плохо учился год,
Тому позор и стыд.
Эй, шкидский народ,
Не осрами республику Шкид!
За стихами шла хроника учета. О каждом предмете был дан отдельный отзыв. Читающие были поражены последней рецензией:
Показанная последним блюдом гимнастика под руководством К. А. Ме- денникова прошла прекрасно. Хорошая, выдержанная маршировка, чисто сде-
318
данные упражнения. Поразила присутствующих своей виртуозностью и грандиозностью пирамида, изображавшая в своем построении инициалы школы — ШКИД.
Все много смеялись, так как гимнастики еще не было.
Лилина подошла к Янкелю.
— Как же это вы умудрились, товарищ редактор, дать отзыв о том, чего еще не было? — улыбнувшись, спросила она.
Янкель не смутился.
— А мы и так знаем,— сказал он,— что гимнастика пройдет хорошо. Заранее можно похвалить.
Гимнастика действительно прошла хорошо. Упражнения были сделаны чисто, и пирамида «поразила присутствующих своей виртуозностью».
На этом учет закончился. Гости разъехались. Викниксор собрал школу в зале и объявил:
— Все без исключения — в отпуск. Не идущие в отпуск — гулять до двенадцати часов вечера.
Старое здание школы дрогнуло от дружного ураганного «ура».
Шкида бросилась в гардеробную.
ШКИДА ВЛЮБЛЯЕТСЯ
Весна и математика.— Окно в мир.— Дочь Марко- ни.— Неудачники.— Смотр красавиц.— Победитель Дзе.— Кокетка с подсолнухами.— Любовь и мыло.—
Конец весне.
— Воробьев, слушай внимательно и пиши: сумма первых трех членов геометрической пропорции равна двадцати восьми; знаменатель отношения равен четырем целым и одной второй, третий член в полтора раза больше этого знаменателя. Теперь остается найти четвертый член. Вот ты его и найди.
Воробей у доски. Он берет мел и грустно обводит глазами класс, потом начинает писать формулу. Педагог ходит по классу и нервничает.
— И вы решайте! — кричит он, обращаясь к сидящим.— Нечего головами мотать.
Но класс безучастен к его словам. Лохматые головы рассеянны. Лохматые головы возбуждены шумом, что врывается в окна бурными всплесками. На улице весна.
Размякли мозги у старших от тепла и бодрого жизнерадостного шума, совсем разложились ребята.
— Ну же, решай, головушка,— нетерпеливо понукает педагог застывшего Воробья, но тот думает о другом. Ему завидно, что другие
319
сидят за партами, ничего не делают, а он, как каторжник, должен искать четвертый член. Наконец он собирает остатки сообразитель-| ности и быстро пишет. ']
— Вот.
— Неправильно,— режет халдей.
Воробей пишет снова.
— Опять не так.
— Брось, Воробышек, не пузырься, опять неправильно,— лениво тянет Еонин.
Тогда Воробей, набравшись храбрости, решительно заявляет:
— Я не знаю!
— Сядь на место.
С облегченным вздохом Воробышек идет к своей парте и, усевшись, забывает о математике. По его мнению, гораздо интереснее слушать, как на парте сзади Цыган рассказывает о своих вчерашних похождениях. Во время прогулки он познакомился с хорошенькой девицей и теперь возбужденно об этом рассказывает.
Его слушают с необычайным вниманием, и, поощренный, Цыган увлекся.
— Смотрю, она на меня взглянула и улыбнулась, я тоже. Потом догнал и говорю: «Вам не скучно?» — «Нет, говорит, отстаньте!» А я накручиваю все больше да больше, под ручку подцепил, ну и пошли.
— А дальше? — затаив дыхание спрашивает Мамочка.
Колька улыбается.
— Дальше было дело...— говорит он неопределенно.
Все молчат, зачарованные, прислушиваясь к шуму улицы и к обрывкам фраз математика.
Джапаридзе уже несколько раз украдкой приглаживает волосы и представляет себе, как он знакомится с девушкой. Она непременно будет блондинка, пухленькая, и носик у нее будет такой... особенный.
На Камчатке Янкель, наслушавшись Цыгана, замечтался и гнусавит в нос романс:
Очи черные, очи красные,
Очи жгучие и прекрасные,
— Черных, к доске!
Как люблю я вас...
— Черных, к доске!
Грозный голос преподавателя ничего хорошего не предвещает, и Янкель, очнувшись, сразу взвешивает в уме все шансы на двойку. Двойку он и получает, так как задачу решить не может.
— Садись на место. Эх ты, очи сизые! — злится педагог.
Звонок прерывает его слова. Сегодня математика была последним
320
уроком, и теперь шкидцы свободны, а через час первому и второму разряду можно идти гулять.
Едва захлопнулась дверь за педагогом, как класс, сорвавшись с места, бросается к окнам.
— Я занял!
— Я!
— Нет, я!
Происходит горячая свалка, пока все кое-как не устраиваются на подоконниках.
Лежать на окнах стало любимым занятием шкидцев. Отсюда они жадно следят за сутолокой весенней улицы. Они переругиваются со сторожем, перекликаются с торговками, и это им кажется забавным.
— Эй, борода! Соплю подбери. В носу тает,— гаркает Купец на всю улицу.
Сторож вздрагивает, озирается и, увидев ненавистные рожи шкидцев, разражается градом ругательств:
— Ах вы, губошлепы проклятые! Ужо я вам задам.
— О-го-го! Задай собачке под хвост.
— Дядя! Дикая борода!
На противоположной стороне стоят девчонки-торговки; они хихикают, одобрительно поглядывая на ребят. Шкидцы замечают их.
— Девочки, киньте семечка.
— Давайте деньги.
— А нельзя ли даром?
— Даром за амбаром! — орут девчонки хором.
Закупка подсолнухов происходит особенно, по-шкидски изобретательно. Со второго этажа спускается на веревке шапка, в шапке деньги, взамен которых торговка насыпает стакан семечек, и подъемная машина плывет наверх.
В разгар веселья в классе появляется Косталмед.
— Это что такое? — кричит он.— А ну, долой с подоконников!
Сразу окна очищаются. Костец удовлетворенно покашливает, потом спокойно говорит:
— Первый и второй разряды могут идти гулять.
Классы сразу пустеют. Остающиеся с тоской и завистью поглядывают через окна на расходящихся кучками шкидцев. Особой группой идут
11 Школьные годы. Выпуск 1
321
трое — Цыган, Дзе и Бобер. Они идут на свидание, доходят до угла и там расходятся в разные стороны.
В классе тишина, настроение у оставшихся особенное, какое-то расслабленное, когда ничего не хочется делать. Несколько человек — на окнах, остальные ушли во двор играть в рюхи. Те, что на окнах, сидят и мечтают, сонно поглядывая на улицу. И так до вечера. А вечером собираются все. Приходят возбужденные «любовники», как их прозвали, и наперебой рассказывают о своих удивительных, невероятных приключениях.
Уже распустились почки и светлой, нежной зеленью покрылись деревья церковного сада. На улицах бушевала весна. Был май. Вечерами в окна Шкиды врывался звон гитары, пение, шарканье множества ног и смех девушек.
А когда начались белые ночи, к шкидцам пришла любовь.
Разжег Цыган, за ним Джапаридзе. Потом кто-то сообщил, что видел Бобра с девчонкой. А дальше любовная горячка охватила всех.
Едва наступал вечер, как тревога охватывала все четвертое отделение. Старшие скреблись, мылись и чистились, тщательно причесывали волосы и спешили на улицу. Лишение прогулок стало самым страшным наказанием. Наказанные целыми часами жалобно выклянчивали отпуск и, добившись его, уходили со счастливыми лицами. Не останавливались и перед побегами. Улица манила, обещая неиспытанные приключения.
Весь Старо-Петергофский, от Фонтанки до Обводного, был усеян фланирующими шкидцами и гудел веселым смехом. Они, как охотники, преследовали девчонок и после наперебой хвалились друг перед другом.
Даже по ночам, в спальне, не переставали шушукаться и, уснащая рассказ грубоватыми подробностями, поверяли друг другу сокровенные сердечные тайны.
Только двоих из всего класса не захватила общая лихорадка. Костя Финкельштейн и Янкель были, казалось, по-прежнему безмятежны. Костя Финкельштейн в это время увлекался поэтическими образами Генриха Гейне и, по обыкновению, проморгал новые настроения, а Янкель... Янкель грустил.
Янкель не проморгал любовных увлечений ребят, он все время следил за ними и с каждым днем становился мрачнее. Янкель разрешал сложную психологическую задачу.
Он вспомнил прошлое, и это прошлое теперь не давало ему покоя, вырастая в огромную трагедию.
Ему вспоминается детский распределитель, где он пробыл полгода и откуда так бесцеремонно был выслан вместе с парой брюк в Шкиду.
В распределителе собралось тогда много малышей, девчонок и мальчишек, и Янкель — в то время еще не Янкель, а Гришка — был
322
среди них как Гулливер среди лилипутов. От скуки он лупил мальчишек и дергал за косы девчонок.
Однажды в распределитель привели новенькую. Была она ростом повыше прочей детдомовской мелюзги, черненькая, как жук, с черными маслеными глазами.
— Как звать? — спросил Гришка.
— Тоня.
— А фамилия?
— Маркони,— ответила девочка,— Тоня Маркони.
— А вы кто такая? — продолжал допрос Гришка, нахально оглядывая девчонку.
Новенькая, почувствовав враждебность в Гришкином поведении, вспыхнула и так же грубо ответила:
— А тебе какое дело?
Дерзость девчонки задела Гришку.
— А коса у тебя крепкая? — спросил он угрожающе.
— Попробуй!
Гришка протянул руку, думая, что девчонка завизжит и бросится жаловаться. Но она не побежала, а молча сжала кулаки, приготовившись защищаться, и эта молчаливая отвага смутила Гришку.
— Руки марать не стоит,— буркнул он и отошел.
Больше он не трогал ее, и хотя особенной злости не испытывал, но заговаривать с ней не хотел.
Тоня первая заговорила с ним.
Как-то раз Гришку назначили пилить дрова. Он пришел в зал подыскать себе помощника и остановился в нерешительности, не зная, кого выбрать. Тоня, стоявшая в стороне, некоторое время глядела то на Гришку, то на пилу, которую он держал в руках, потом, подойдя к нему, негромко спросила:
— Пилить?
— Да, пилить,— угрюмо ответил Гришка.
— Я пойду с тобой,— краснея, сказала Тоня.— Я очень люблю пилить.
Гришка, сморщившись, с сомнением оглядел девочку.
— Ну, хряем,— сказал он недовольно.
Полдня они проработали молча. Тоня не отставала от него, и совсем было незаметно, что она устала. Тогда Гришка подобрел.
— Ты где научилась пилить? — спросил он.
— В колонии, на Помойке.— Тоня рассмеялась и, видя, что Гришка не понимает, пояснила: — На Мойке. Это мы ее так — помойкой — прозвали... Там только одни девочки были, и мы всегда сами пилили дрова.
— Подходяще работаешь,— похвалил Гришка.
К вечеру они разговорились. Окончив пилку, Гришка сел на бревно и стал свертывать папироску. А Тоня рассказывала о своих проделках на Мойке. И тут Гришка сделал открытие: оказывается, девчонки могли рассказать много интересного и даже понимали мальчишек.
323
Тогда, растаяв окончательно, Гришка распахнул свою душу. Он тоже с гордостью рассказал о нескольких своих подвигах. Тоня внимательно слушала и весело смеялась, когда Гришка говорил о чем-нибудь смешном. Гришка разошелся, совершенно забыв, что перед ним девчонка, и, увлекшись, даже раза два выругался.
— Ты совсем как мальчишка,— сказал он ей.
— Правда? — воскликнула Тоня, покраснев от удовольствия.— Я похожа на мальчишку?.. Я даже курить могу. Дай-ка.
И, выхватив из рук Гришки окурок, она храбро затянулась и выпустила дым.
— Здорово! — сказал восхищенный Гришка.— Фартовая девчонка!
— Ах, как я хотела бы быть мальчишкой. Я все время думаю об этом,— сказала печально Тоня.—Разве это жизнь? Вырастешь, и замуж надо... Потом дети пойдут... Скучно...
Тоня тяжело вздохнула. Гришка, растерявшись, потер лоб.
— Это верно,— сказал он.— Не везет вам, девчонкам.
Через неделю они уже были закадычными друзьями.
Тоня много читала и пересказывала Гришке прочитанное. Гришка, признававший только детективную, «сыщицкую» литературу, был очень удивлен, узнав, что существует много других книг, не менее интересных. Правда, герои в них, судя по рассказам Тони, были вялые и все больше влюблялись и ревновали, но Гришка дополнял ее рассказы уголовными подробностями.
Рассказывает Тоня, как граф страдал от ревности, потому что графиня изменяла ему с бедным поэтом, а Гришка покачает головой и вставит:
— Дурак!
— Почему?
— По шее надо было ее.
— Нельзя. Он любит.
— Ну, так тому бы вставил перо куда следует...
— А она бы ушла с ним. Граф ревновал же.
— Ах, ревновал,— говорит Гришка, смутно представляя себе это непонятное чувство.— Тогда другое дело...
— Ну вот, граф взял и уехал, а они стали жить вместе.
— Уехал? — Гришка хватается за голову.— И все оставил?
— Все.
— И мебели не взял?
— Он им оставил. Он великодушный был.
Гришка с досадой крякает.
— Балда твой граф. Я бы на его месте все забрал: и кровать бы увез, и стол, и комод,— пусть живут как знают...
Иногда они горячо спорили, и тогда дня мало было, чтобы вдоволь наговориться.
— Знаешь,— сказала однажды Тоня,— приходи к нам в спальню, когда все заснут. Никто не помешает, будем до утра разговаривать...
324
Гришка согласился.
Целый час выжидал он в кровати, пока угомонятся ребята и разойдутся воспитательницы, потом прокрался в спальню девчонок. Тоня его ждала.
— Полезай скорей,— шепнула она, давая место.
И, закрывшись до подбородков одеялом, тесно прижавшись друг к другу, они шептались.
— Знаешь, кто мой отец? — спрашивала тихонько Тоня.
— Кто?
— Знаменитый изобретатель Маркони... Он итальянец...
— А ты русская. Как же это?
— Это мать у меня русская. Она балерина. В Мариинском театре танцевала, а когда отец убежал в Италию и бросил ее, она отравилась... от несчастной любви...
Гришка только глазами хлопал, слушая Тоню, и не мог разобраться, где вранье, где правда. В свою очередь, он выкладывал Тоне все, что было интересного в его скудных воспоминаниях, а однажды попытался для завлекательности соврать.
— Отец у меня тоже этот, как его...
— Граф?
— Ага.
— А как его фамилия?
— Дамаскин.
Тоня фыркнула.
— Дамаскин... Замаскин... Таких фамилий у графов не бывает,— решительно сказала она.
Гришка очень смутился и попробовал выпутаться.
— Он был... вроде графа... Служил у графа... кучером...
Тоня долго смеялась над Гришкой и прозвала его графским кучером.
Гришка привык к Тоне, и ему было даже скучно без нее.
И неизвестно, во что бы перешла эта дружба, если бы не беда, свалившаяся на Гришку. Но, как известно, Гришка здорово набузил, и вот в канцелярии распределителя ему уже готовили сопроводительные бумаги в Шкид.
Последнюю ночь друзья не спали. Гришка, скорчившись, сидел на кровати около подруги.
— Я люблю тебя,— шептала Тоня.— Давай поцелуемся на прощанье.
Она крепко поцеловала Гришку, потом, оттолкнув его, заплакала.
— Брось,— бормотал растроганный Гришка.— Черт с ним, чего там...
Чтобы утешить подругу, он тоже поцеловал ее. Тоня быстро схватила его руку.
— Як тебе приду,— сказала она.— Поклянись, что и ты будешь приходить.
— Клянусь,^ пробормотал уничтоженный и растерянный Гришка.
325
Утром он уже был в Шкиде, вечером пошел с новыми друзьями сшибать окурки, а через неделю огрубел, закалился и забыл клятву.
Но однажды дежуривший по кухне Горбушка, необычайно взволнованный, ворвался в класс.
— Ребята! — заорал он, давясь от смеха.— Ребятки! Янкеля девчонка спрашивает. Невеста.
Класс ахнул.
— Врешь! — крикнул Цыган.
— Врешь,— пролепетал сидевший в углу Янкель, невольно задрожав от нехорошего предчувствия.
— Вру? — завопил Горбушка.— Я вру? Ах мать честная! Хряй скорее!..
Янкель поднялся и, едва передвигая онемевшие ноги, двинулся к дверям. А за ним с ревом и гиканьем сорвался весь класс.
— Амуры крутит! — ревел Цыган, гогоча.— Печки-лавочки! А ну поглядим-ка, что за невеста!
Орущее, свистящее, ревущее кольцо, в котором, как в хороводе, двигался онемевший от ужаса Янкель, ввалилось в прихожую. Тут Янкель и увидел Тоню Маркони.
Она стояла, прижавшись к дверям, и испуганно озиралась по сторонам, окруженная пляшущими, поющими, кривляющимися шкид- цами. Горбушка дергал ее за рукав и кричал:
— Вон он, вон он, твой Гриха!
Тоня бросилась к Янкелю как к защитнику. Янкель, взяв ее руку, беспомощно огляделся, ища выхода из адского хоровода.
— Янкель с невестой! Янкель с невестой! — кричали ребята, танцуя вокруг несчастной парочки.
— Через почему такое вас двое? — пел петухом Воробей в самое ухо Янкелю.
— Дю-у-у! — вдруг грохнул весь хоровод.
Тоня, взвизгнув, зажала уши. У Янкеля потемнело в глазах. Нагнув голову, он, как бык, ринулся вперед, таща за собой Тоню.
— Дю-у-у! — стонало, ревело и плясало вокруг многоликое чудовище.
Янкель пробился к дверям, вытолкнул Тоню на лестницу и выскочил сам. Кто-то напоследок треснул его по шее, кто-то сунул ногой в зад, и он как стрела понесся вниз.
Тоня стояла внизу на площадке. Губы ее вздрагивали. Она стыдилась взглянуть на Янкеля.
Янкель, почесывая затылок, бессвязно бормотал о том, что ребята пошутили, что это у них такой обычай, а самому было и стыдно и досадно за себя, за Тоню, за ребят.
Разговор так и не наладился. Тоня скоро ушла.
Две недели вся школа преследовала Янкеля. Его вышучивали, над ним смеялись, издевались и — больше всего — негодовали. Шки- дец — и дружит с девчонкой. И смех и позор. Позор на всю школу.
Янкель, осыпаемый градом насмешек, уже жалел, что позволил себе дружить с девчонкой.
326
«Дурак, баба, нюня!» — ругал он себя, с ужасом вспоминая прошлое, но в глубине осталась какая-то жалость к Тоне.
Многое передумал Янкель за это время и наконец принял твердое решение, как и подобало настоящему шкидцу.
Через две недели Тоня снова пришлд в Шкиду. Она осталась на дворе и попросила вызвать Гришу Черных.
Янкель не вышел к ней, но выслал Мамочку.
— Вам Гришу? — спросил, усмехаясь, Мамочка.— Ну, так Гриша велел вам убираться к матери на легком катере. Шлет вам привет Нарвский совет, Путиловский завод и сторож у ворот, Богомоловская улица, петух да курица, поп Ермошка и я немножко!
Мамочка декламировал до тех пор, пока сгорбившаяся спина девочки не скрылась за воротами.
Вернувшись в класс, он доложил:
— Готово... На легком катере.
— Молодец Янкель! — восхищались ребята.— Как отбрил.
Янкель улыбался, хотя радости от подвига не чувствовал. Честь
Шкиды была восстановлена, но на душе у Янкеля остался какой-то мутный и грязный осадок.
А вот теперь, через два года, Янкель снова вспомнил Тоню.
На его глазах ломались традиции доброго старого времени. То, что тогда было позором, теперь считалось подвигом. Теперь все бредили, все рассказывали о своих подругах, и тот, у кого ее не было, был самый несчастный и презираемый всеми.
«За что же я ее тогда?» — с горечью думал Янкель, и едкая обида на ребят разъедала сердце. Ведь это из-за них он прогнал Тоню, а теперь они сами делали то же, и никто не смеялся над ними.
Янкель ходил мрачный и неразговорчивый. Думы о Тоне не выходили из головы, и с каждым днем сильнее росло желание увидеть ее, пойти к ней.
Однажды Янкель открыл свою тайну Косте Финкелыитейну.
Костя выслушал его и, щуря темные подслеповатые глаза, важно сказал:
— По-моему, тебе надо сходить к ней.
— Ты думаешь? — обрадовался Янкель.
— Я думаюг— сказал Костя.
Наступал вечер. Шкидцы торопливо чистились, наряжались, нацепляли на грудь жетоны и один за другим убегали на улицу,, каждый к своему заветному уголку...
Только Костя не торопился. Он доставал из парты томик любимого Гейне, засовывал, в карман оставшийся от обеда кусок хлеба и уходил.
Косте еще не довелось мучиться, ожидая любимую где-нибудь в условном месте, около аптеки или у ларька табтреста. Костино сердце дремало и безмятежно отстукивало секунды его жизни.
327
Костя любил только Гейне и сквер у Калинкина моста.
Скверик был маленький, грязноватый, куцый, обнесенный жидкой железной решеткой, но Косте он почему-то нравился.
Каждый день Костя забирался сюда. Здесь, в стороне от шумной улицы, усевшись поудобнее на скамье, он доставал хлебную горбушку, раскрывал томик стихов и углублялся в чтение.
Стоило только Костиным глазам скользнуть по первым строчкам, как все окружающее мгновенно исчезало куда-то и вставал новый, невиданный мир, играющий яркими цветами и красками.
Костя поднимал голову и, глядя на темнеющую за решеткой Фонтанку, вдохновенно декламировал:
Воздух свеж, кругом темнеет,
И спокойно Рейн бежит,
И вечерний отблеск солнца Гор вершины золотит...
Костя поднимал голову и в экстазе глядел, любовался серенькой Фонтанкой, которая в его глазах была уже не Фонтанка, а тихий широкий Рейн, лениво играющий изумрудными волнами, за которыми чудились очертания гор и...
На скале высокой села Дева — чудная краса,
В золотой одежде, чешет Золотые волоса...
Костя жадно глядел вдаль, стараясь разглядеть в тумане эту скалу, и искал глазами Лорелею, златокудрую и прекрасную. Искал долго и упорно, затаив дыхание.
Но Лорелеи не было. На набережной слышался грохот телег, ругались извозчики.
Тогда Костя уныло опускал голову, чувствуя, как тоска заползает в сердце, и снова читал. И опять загорался, ерзал, начинал громко выкрикивать фразы, перевертывая страницы дрожащими от возбуждения пальцами, и снова впивался глазами в серую туманную даль.
И вдруг однажды увидел Лорелею.
Она шла от Калинкина моста прямо к скверику, где сидел Костя. Легкий ветерок трепал ее пышные золотистые волосы, и они вспыхивали яркими искорками в свете заходящего солнца.
Правда, на Лорелее была обыкновенная короткая юбка и беленькая блузка, но Костя ничего не видел, кроме золотой короны на голове. Костя по причине плохого зрения не мог даже разглядеть ее лица.
Он сидел неподвижный, с засунутым в рот куском хлеба, и с замиранием сердца следил за светловолосой незнакомкой. Она мед¬
328
ленно прошла до конца сквера, так же медленно вернулась и села против Кости, положив ногу на ногу.
Придушенный вздох вырвался из Костиной груди. Он бессильно отвалился на спинку скамьи, не переставая таращить глаза на златокудрую девушку.
Да, вихрем проносилось в Костином мозгу, Лорелея! Именно такой он и представлял ее... Эти чудные волосы, эта пышная корона, окружающая прекрасное, царственное лицо...
Что лицо прекрасно, Костя не сомневался, хотя, сощурившись, видел перед собой только мутный блин.
Забыв о книге, Костя сидел, не спуская глаз с незнакомки, и слушал, как сердце колотилось в груди. Несколько раз он с усилием отводил взгляд, пытаясь сосредоточиться на стихах, но напрасно. Через минуту он снова глядел на нее, а мысли неслись бурным потоком, перескакивая одна через другую.
— Что делать? — бормотал возбужденный Костя.— Как поступить?
Он не может так уйти. Он должен подойти к ней и сказать...
«Что сказать?» — в двадцатый раз с досадой спрашивал он себя.
Прошло полчаса, а Костя все сидел, метал огненные взгляды в сторону незнакомки и обдумывал, как лучше заговорить с ней.
— Лорелея,— шептал он умиленно,— я иду к тебе, Лорелея...
Но Лорелея вдруг встала, отряхнула платье и, неторопливо шагая,
вышла из сквера.
Сразу померкла радость. Стало скучно и холодно. В сквер ввалилась компания пьяных, распевавших во все горло:
На банане я сижу,
Чум-чара-чура-ра...
Костя захлопнул книжку, поднялся и уныло заковылял к выходу...
На следующий день Костя был угрюм и рассеян. На уроках сидел задумчивый, вперив глаза вдаль. Слушал невнимательно, что-то бормоча себе под нос, а на русском языке, когда дядя Дима спросил, какое произведение является наилучшим в творчестве Сейфуллиной, Костя рассеянно сказал:
— Лорелея.
— Лорелея? — переспросил дядя Дима.
Все захохотали. Костя сконфузился.
— Я сказал «Виринея»,— поправился он.
— Это он Гейне зачитался! — закричали ребята.
Но едва кончились уроки, Костя ожил. Схватив книжку, он первый выскочил из класса. Ребята еще только начинали чиститься, а Костя уже шагал по Старо-Петергофскому проспекту.
Вот и мост. Костя добежал до сквера, беспокойно оглядывая скамьи, и вдруг радостно задрожал.
329
«Здесь,— чуть не закричал он, увидев огненную шапку.— Она пришла, Лорелея пришла!»
Он ринулся к скверу. Бухнувшись на свою скамью, в безмолвном восторге уставился он на Лорелею. Умилялся, восторгался, готов был кричать от радости.
Пришла! Она заметила его. Какое чудесное, безмолвное свидание!
Но напрасно убеждал он себя подойти к незнакомке. Проклятая робость сковала все члены.
Опять битых полчаса просидел Костя. Уже стемнело, а он все сидел как приклеенный, чуть не плача с досады.
И опять так же внезапно Лорелея встала и пошла к выходу.
Еще не зная, что будет делать, он вскочил. Вдруг что-то белое выпало из рук незнакомки.
Платок!
Сердце Кости екнуло. Перед глазами вихрем пронеслись прекрасные сцены: пажи, рыцари, дамы, оброненный платок...
Костя кинулся к белевшему на дороге комочку, быстро схватил и развернул его.
Это была обертка от карамели. На бумажке танцевала рыжая женщина, и внизу было написано: «Баядерка».
Поздно ночью, ворочаясь в кровати, Костя меланхолично шептал:
Что бы значило такое,
Что душа моя грустна?
Потом достал из кармана брюк бумажку, тщательно разгладил ее и долго рассматривал рыжую баядерку. Ему казалось, что это не конфетная обертка, а портрет самой незнакомки.
Осторожно, чтобы не смять, он положил бумажку под подушку и, счастливо улыбаясь, заснул.
На другой день Костя снова был в сквере. И еще раз был. И еще... Незнакомка всегда словно ожидала его. А он, протосковав на скамье целый вечер, уходил домой, так и не решаясь заговорить с ней.
Уроками он совсем перестал интересоваться, писал стихи или мечтал. Даже к Гейне охладел.
Шкидцы ссорились, расходились, заводили новые любовные интрижки, а странный Костии роман, казалось, еще только начинал разворачиваться.
Костя вошел в сквер. Костя сел на свое место против Лорелеи и, раскрыв для приличия книгу, стал довольно* смело поглядывать на незнакомку.
Он уже привык к ней. Сегодня он твердо решил заговорить с ней и тогда... Но к чему заглядывать в будущее?
Костя захлопнул книжку и решительна поднялся. Он уже шагнул
330
к Лорелее, мысленно подготовляя фразу, которая сразу бы открыла ей его намерения. Он не хулиган и не намерен нанести ей какое-либо
оскорбление...
Но тут Костя остановился.
Широкоплечий парень в полосатой майке, покачиваясь, подошел к незнакомке...
— Ну, цаца! — расслышал Костя грубый окрик, за которым последовало продолжительное и замысловатое ругательство.
Костя похолодел. Он слышал, как тихо вскрикнула Лорелея. Он уже ясно слышал грубую перебранку, глухой голос парня и выкрики незнакомки, причем голос незнакомки оказался не таким серебристым, каким он представлялся Косте.
Костя еще не знал, как поступить, и стоял в нерешительности, как вдруг парень, выругавшись, замахнулся на незнакомку.
— А-а-а! Убивают! — закричала девушка.
— Стой! — заорал Костя, прыгнув к парню и хватая его за руку.— Ни с места!
Парень отступил на шаг, стараясь вырваться, но Костя продолжал его держать и, повышая голос, кричал:
— Как ты смеешь! Негодяй!
Собралась толпа любопытных. Парень испуганно оглядывался по сторонам. Костя, торжествующий, обернулся к Лорелее.
— Не бойтесь!— сказал он, но тут же голос его осекся.
Костя в безмолвном ужасе попятился. Он впервые увидел близко Лорелею, о которой так пламенно мечтал долгими бессонными ночами. Но что это за Лорелея! На него глянуло тупое раскрасневшееся лицо, изрытое оспой и окруженное рыжими растрепанными волосами. В довершение всего от этой особы исходил густой запах спирта.
Костя стоял окоченев, не в силах выдавить ни слова, а вокруг беспокойно спрашивали:
— Что? Что случилось?
— Да вот,— говорил, оправившись, парень,— я с бабой стою тихонько, разговариваю, а он драться лезет...
— Неправда, граждане,— наконец выговорил Костя.
— Как неправда? — вдруг взвизгнула Лорелея и, прижавшись к парню, закричала, указывая на Костю: — Он, хулюган черномазый. Мы разговаривали, а он...
— За это морды бьют,— сказал кто-то.
— Я заступиться хотел! — выкрикнул Костя.
— Я вот покажу тебе, как заступаться! — гаркнул парень, осмелев и наступая на Костю.— Я тебе дам, понт паршивый!
— И правильно будет,— поддакнул опять кто-то.— Учить таких...
Костя беспомощно огляделся и, видя угрожающие лица, направился к выходу.
— Вали, вали! — кричали вслед.— Поторапливайся!
Костя не торопясь, понурившись брел к дому...
331
Несколько дней Янкель думал о Тоне, и чем дальше, тем больше он убеждался: Костя прав.
«Надо сходить»,— решил он наконец. К тому же и тоска одолела. До смерти захотелось увидеть черноглазую девочку.
И Янкель пошел.
Распределитель помещался недалеко от Шкиды, на Курляндской улице. Трехэтажное здание окружал небольшой садик.
Перед калиткой Янкель остановился, чувствуя, как замирает сердце. Во дворе несколько девочек в серых казенных платьях играли в лапту.
«А может, ее нет здесь? Перевели куда-нибудь?» — подумал Янкель не то тревожно, не то радостно и, толкнув калитку, вошел в сад.
— Ай, мальчишка! — вскричала одна из девочек. Они бросили игру и остановились, издалека разглядывая его.
— Ты зачем здесь? — крикнула другая, курносая, воинственно размахивая лаптой.
Янкель перевел дух и сказал:
— Мне надо Тоню, Тоню Маркони.
— Тосю? — разом выкрикнули девчонки и побежали к лестнице, крича: — Тося, Тося, выходи! К тебе пижончик.
Янкель стоял ни жив ни мертв. В эту минуту он уже раскаивался, что пришел, и понял, что затеял безнадежное дело. Оробев, он взглянул было на калитку, но знакомый голос пригвоздил его к месту.
— Что вы орете? Как не стыдно! — услышал он и сразу узнал голос Тони. Девочки примолкли и расступились. Янкель увидел ее, выросшую и изменившуюся. Тоня подходила к нему.
Вот она остановилась, оглядела Янкеля с головы до ног, удивленно подняла брови. Она не узнала Гришки.
— Вам что? — строго спросила она.
Янкель растерялся окончательно. Все обращения, которые он придумывал по дороге, словно от толчка выскочили из головы.
— Здравствуй, Тоня,— пролепетал он.— Не узнаешь?
Девочка минуту пристально смотрела на Янкеля, и вдруг яркий
румянец залил ее лицо.
«Узнала»,— радостно подумал Янкель.
— Тоня! — заговорил он вдохновенно.— Тоня, а ведь я не забыл своей клятвы... Ты видишь...
Тоня молчала, только лицо ее странно подергивалось, будто она готова была расплакаться. Янкель запнулся на минуту и сбился...
— А ты... ты помнишь клятву? — смутившись, спросил он.
Тоня минуту помолчала, словно раздумывая, потом, качнув головой, тихо сказала:
— Нет, я ничего не помню...
— Ну да,— недоверчиво протянул Янкель.— А как по ночам болтали, не помнишь?
332
Нет...
А про папу своего американца-изобретателя тоже не...
Внезапно Янкель замолчал и с испугом поглядел на Тоню. Де- рочка стояла бледная, кусая губы, и с ненавистью смотрела на него. Казалось, сейчас она закричит, затопает, обругает его.
Тося! — позвал чей-то тонкий голос.— Открой библиотеку...
Сейчас! — крикнула Тоня, и, когда снова повернулась к Ян- кс.::0, лицо ее было уже спокойно.
~~ Слушайте,— сказала она тихо.— Убирайтесь вон отсюда.
— Убираться? — спросил Янкель.— Отсюда?
Улыбка еще блуждала на его физиономии, когда он ошалело повторял:
— Значит, совсем?.. Убираться?
— Да, совершенно.
— Окончательно?
Янкель очутился за калиткой.
— А клятва? — дрогнувшим голосом спросил он, подняв глаза на Тоню. И на секунду что-то хорошее мелькнуло на ее лице, но тотчас же исчезло.
— Поздно вспомнил,— сказала она тихо.— Все кончено.
— Совсем?
— Навсегда.
Янкель уныло вздохнул.
— Ламца-дрйца! — сказал он с грустью, потом плюнул на носок сапога и тихо заковылял прочь.
Янкель медленно шел, раздумывая о случившемся. У школы его окликнула знакомая торговка конфетами.
— Гришенька,— кричала девчонка.— Хочешь конфетов?
— Давай,— сказал Янкель и, не глядя, протянул руку.
Эта девчонка уже давно заигрывала с ним, но Янкель не обращал на нее внимания.
Девчонка выбирала конфеты, а сама поглядывала на Янкеля и тараторила не переставая.
Янкель не слушал ее. Внезапно новая мысль осенила его.
— Хорошо! — сказал он.— Пусть отвергает, мы не заплачем.
Он быстро взглянул на девчонку и спросил:
— Хочешь, гулять с тобой буду?
Девчонка зарделась.
— Да ведь если нравлюсь...
— Неважно,— сказал Янкель.— Завтра в семь.— И пошел в школу.
— Кобчик вешается! — крикнул Мамочка, едва Янкель показался в дверях.
— Где???
— В уборной. Закрылся, кричит, никого не подпускает...
333
КЗ»
Янкель побежал наверх. Оттуда доносился отчаянный шум. Когда они вбежали в класс, там происходила свалка. Ребята вытащили Костю из уборной. Он брыкался и кричал, чтобы его отпустили. Потом вырвался и полез в окно. Его держали, а он, отбиваясь, исступленно вопил:
— Пустите, не могу!
— Костя, ангелок, успокойся.
— Не успокоюсь!..
Долго болтались Костины ноги над Старо-Петергофским проспектом, но все же ребята одолели его и втащили обратно.
Костя притих, лишь изредка хватался за голову и скрипел зубами.
Поздно вечером Янкель и Костя сидели в зале.
— Плюнь на все,— утешал Янкель,— девчонок много. Я вон себе такую цыпочку подцепил, конфетками угощает.
Янкель вынул горсть конфет. Костя протянул было руку, но тотчас отдернул. На карамели плясала рыжая баядерка.
— Не ем сладкого,— сказал он, морщась. Потом, поглядев на Янкеля, спросил:
— А ты был у своей?
— Я? — удивился Янкель.— У кого это? Уж не у той ли, о которой рассказывал?
— Ну да, у той...
— Вот чудак! — захохотал Янкель.— Вот чудак! Очень мне надо шляться ко всякой. Не такой я дурак.
А немного помолчав, грустно добавил:
— Ну их... Женщины, ты знаешь, вообще какие-то... непостоянные...
Весна делала свое дело. В стенах Шкиды буйствовала беспокойная гостья — любовь.
Кто знает, сколько чернил было пролито на листки почтовой бумаги, сколько было высказано горячих и ласковых слов и сколько нежнейших имен сорвалось с грубых, не привыкших к нежности губ.
Даже Купа, который был слишком ленив, чтобы искать знакомств, и слишком тяжел на подъем, чтобы целые вечера щебетать о всякой любовной ерунде, даже он почувствовал волнение и стал как-то особенно умильно поглядывать на кухарку Марту и чаще забегать на кухню, мешая там всем.
334
—- Черт! — смеясь, ругалась Марта, но не сердилась на Купу, а даже наоборот, на зависть другим стала его прикармливать. Купа раздобрел, разбух и засиял, как мыльный шар.
Янкель же, словно мстя старой подруге, с жаром и не без успеха стал ухлестывать за торговкой конфетами и даже увлекся ею.
Теперь все могли хвастать своими девицами по праву, и все хвастали. А однажды сделали смотр своим «дамам сердца».
По понедельникам в районном кино «Олимпия» устраивались детские сеансы, в этом же кино в майские дни начальство решило устроить большой районный детский праздник.
Так как при кино был сад, решили празднество перенести на воздух.
К этому дню готовились долго и наконец известили школы о дне празднования. Празднество обещало быть грандиозным. Шкида не на шутку взволновалась. Влюбленные парочки, разумеется, сговорились о встрече в саду и теперь готовились вовсю.
Наконец наступил этот долгожданный день.
После уроков ребят одели в праздничную форму, заставили получше вымыться и наконец, построив в пары, повели в сад.
Шкида явилась туда в самый разгар сбора гостей и едва-едва удерживалась в строю, но приказ Викниксора гласил: «Не распускать ребят раньше времени», и халдеи выжидали.
Праздник начался обычным киносеансом в театре. Показывали кинодраму, потом комическую и видовую, а после сеанса ребята заметили исчезновение из театра пятерых «любовников». Однако очень скоро их нашли в саду.
Все они были с подругами и прогуливались, гордо поглядывая на товарищей. Это было похоже на конкурс: чья подруга лучше? В этом соревновании первенство завоевал Джапаридзе. Черномазый грузин закрутил себе такую девицу, что шкидцы ахали от восхищения:
— Вот это я понимаю!
— Это да!
— Вот так синьорита Маргарита!..
Невысокая, с челкой, блондинка, по-видимому, была очень довольна своим кавалером, жгучим брюнетом, и совершенно не замечала его хитростей. А Дзе нарочно водил ее мимо товарищей и без устали рассказывал смешные анекдоты, отчего ротик девочки все время улыбался, а голубые глаза сверкали весело и мило.
Она оказалась лучшей из всех шкидских подруг, и Янкель, очарованный ее красотой, невольно обозлился на свою пару, курносую, толстую девицу, беспрерывно щелкавшую подсолнухи, которые она доставала из платка, зажатого в руке.
«Ну что за девчонка?» — злился Черных, чувствуя на себе насмешливые взгляды ребят. Наконец, не выдержав, он силой увлек ее за деревья и остановился, облегченно вздыхая.
— Давай, Маруся, посидим, отдохнем,— предложил он.
— Ой, нет, Гришенька,— кокетливо запищала толстуха,— от чего
335
отдыхать-то? Я не устала, я не хочу. Скоро ведь танцы будут. Пойдем, Гришенька...
И она опять повисла на руке своего кавалера. Гришенька скрипнул зубами и, с толстухой на буксире, покорно потащился туда, где ярко сияли электрические фонари и где в большой деревянной «раковине» военные музыканты уже настраивали свои трубы и кларнеты.
Скоро в саду начались танцы. Мягко расползались звуки вальса по площадке, и пары закружились в несложном па. Стиснув зубы, закружился и Янкель со своей немилой возлюбленной.
Пример заразителен. Праздник помог почти всем шкидцам отыскать себе «дам», результатом чего явилось около двадцати новых влюбленных.
Влюбленных было легко распознать. Они были смирны, не бузили, все попадали в первый или второй разряд и все стали необычайно чистоплотны.
Обычно так трудно было заставить ребят умываться,— теперь они мылись тщательно и долго. Кроме того, Шкида заблестела проборами. Причесывались ежеминутно и старательно.
Такая же опрятность появилась и в одежде. Республика Шкид влюбилась..
Не обошлось и без трагических случаев. Бобра однажды из-за подруги побили, так как у этой подруги уже был поклонник, ревнивый и очень сильный парень, который не замедлил напомнить о себе и свел знакомство с Бобром на Обводном канале.
После этого Бобер целую неделю не выходил на улицу, одержимый манией преследования.
Цыган также много вытерпел, так как его девочка любила ходить в кино, а денег у него не было, и приходилось много и долго ее разубеждать и уверять, что кино — это гадость и пошлость.
За любовь пострадал и Дзе. Ради своей возлюбленной он снес на рынок единственное свое сокровище — готовальню, а на вырученные деньги три дня подряд развлекал свою синеглазую румяную подругу из нормального детдома.
Весна бежала день за днем быстро и незаметно, и Викниксор, поглядывая на прихорашивающихся ребят, озабоченно поговаривал:
— Растут ребята-то. Уже почти женихи. Скоро надо выпускать, а то еще бороду отрастят на казенных хлебах.
В любовных грезах шкидцы забыли об опасностях и превратностях судьбы, но однажды смятение и ужас вселились в их размягченные сердца.
Викниксор пришел и сказал:
— Пора стричь волосы. Лето наступает, да и космы вы отрастили — смотреть страшно. Грязь разводите!
336
Слова простые, а паники от них — как от пожара или от
наводнения.
Волосы стричь!
— Да как же я покажусь моей Марусе, куцый такой?
Увлекшись сердечными делами, ребята забыли о стрижке, хотя
я знали, что это было в порядке вещей, как и во всех других детских домах.
И вот однажды за ужином было объявлено: завтра придет парикмахер.
Однако старшие решили отстоять свои волосы. Созвали негласное собрание и послали делегацию, чтобы просить разрешения четвертому и третьему отделениям носить волосы. Викниксор смягчился, и разрешение было дано, но лишь одному четвертому отделению, и при условии, чтобы ребята всегда держали волосы в порядке и причесывались. На другой день им выдали гребни, которые при детальном обследовании оказались деревянными и немилосердно драли на голове кожу. Однако и деревянные гребни были встречены с радостью.
— Наконец-то мы — взрослые.
— Даешь прическу!
Но скоро злосчастные волосы принесли новое горе. Часто на уроке за трудной задачей шкидец по привычке лез пятерней в затылок, и в результате голова превращалась в репейник, а халдей немедленно ставил на вид небрежный уход за прической. Старшие оказались между двух огней. Лишиться волос — лишиться подруги, оставить волосы — нажить кучу замечаний.
Но недаром гласит русская пословица, что, мол, голь на выдумки хитра. Дзе дал республике изобретение, которое обеспечило идеальный нерассыпающийся пробор. Изобретение это демонстрировалось однажды утром, в умывальне.
— Способ необычайно прост и легок,— распространялся Джапаридзе, стоя перед толпой внимательно слушавших его ребят. Потом он подошел к умывальнику и с видом фокусника начал объяснять изобретение наглядно, производя опыт над собственной головой.
— Итак. Я смачиваю свои взбитые волосы обыкновенной сырой водой без каких-либо примесей.
Он зачерпнул воды из-под крана и облил голову.
— Затем гребнем я расчесываю волосы,— продолжал он, проделывая сказанное.— А теперь наступает главное. Пробор готов, но прическу надо закрепить. Для этого мы берем обыкновенное сухое мыло и проводим им по пробору в направлении зачеса, чтобы не сбить прически. Через пять минут мыло засохнет, и ваш пробор никогда не рассыплется.
Изобретение каждый испытал на себе, и все остались довольны. Правда, было некоторое неудобство. От мыла волосы слипались, на них образовывалась крепкая кора, и горе тому, кто пробовал почесать зудевший затылок. Рука его не могла проникнуть к нужному
337
месту. Кора мешала. Преимущество же было в том, что раз зачесанная прическа держалась весь день, а кроме того, придавала волосам особый, блестящий вид.
Шкида засверкала новыми проборами, и вновь все тревоги были забыты. А под окнами на теплых и пыльных тротуарах снова нежно заворковали парочки голубков.
Но изобретению Дзе не дали хода. Кто-то рассказал об этом Викниксору, а тот из предосторожности решил посоветоваться с врачом. Врач и погубил все.
— От таких причесок беда. Насекомые разводятся. Вы запретите им это проделывать, а то вся школа обовшивеет.
Этого было вполне достаточно, чтобы на другой день привилегированных старших парикмахер без разбора подстриг под «нулевой». Вместе с волосами исчезла и любовь. Никто не пошел вечером на свидание с девицами, и те, прождав напрасно, ушли.
Республика Шкид проводила весну, солнце уже пригревало по-летнему, и у ребят появились другие интересы.
Так как на лето школа осталась на этот раз в городе, надо было искать курорт, и его после недолгих поисков нашли в Екатерингоф- ском парке на берегах небольшого пруда, около старого Екатерининского дворца. Сюда устремились теперь все помыслы шкидцев: к воде, к зелени, к футболу, и здесь за беспрерывной беготней постепенно забывались теплые белые весенние ночи, нежные слова и первые мальчишеские поцелуи.
На смену любви пришел футбольный мяч, и только Джапаридзе нет-нет да и вспоминал с грустью о голубоглазой блондинке из соседнего детдома, и даже, пожалуй, не столько о ней, сколько о загубленной своей готовальне, новенькой готовальне с бархатным нутром и ровненько уложенными блестящими циркулями.
Только Дзе грустно вспоминал весну...
КРОКОДИЛ
Племянник Айвазовского.— Крррокодил.— Карандаши.— «Крыть».— Коварный толстовец.— Плюс на минус = 0.— Индульгенции.
Он вошел в канцелярию, снял поблекшую фетровую шляпу, поправил завязанный на шее бантом шарф и отрекомендовался:
— Сергей Петрович Айвазовский, племянник своего дяди — Айвазовского, того самого, что «Девятый вал» написал и вообще...
Пришел просить места. Долгая безработица истрепала нервы,
338
измучила голодом, холодом и тоской безделья... Айвазовский решил обратиться в дефективный детдом.
Викниксор просмотрел рекомендацию губоно и, просматривая, мельком оглядел Айвазовского.
Был он довольно высокого роста, широк в плечах, а гордое, с поднятым носом, лицо заставляло предполагать твердый и сильный характер.
— Хорошо,— сказал Викниксор.— Я приму вас штатным воспитателем; но, кроме того, нам нужен преподаватель рисования... Вы
могли бы?..
— Я племянник Айвазовского,— с гордостью ответил тот.— А кроме того, я окончил Академию художеств. Я...
— Прекрасно,— оборвал завшколой.— Вы зачислены в штат. Завтра вы дежурите с двух часов дня. Надеюсь, вы сумеете подойти к воспитанникам.
— О! — воскликнул Айвазовский.— Это я сумею сделать... У меня есть опыт... Я...
Похоже было, что он хотел добавить — «племянник Айвазовского», но не сказал этого, не успел: в коридоре затрещал звонок, возвещая о конце урока, и канцелярия заполнилась педагогами и воспитателями.
Айвазовский помял шляпу, посмотрел на разговорившегося с другими Викниксора, хотел было протянуть руку, потом раздумал и, сказав: «До завтра», вышел из канцелярии, поблескивая золоченым пенсне на задранном вверх носу.
На другой день после уроков в класс четвертого отделения вошел Викниксор в сопровождении Айвазовского.
Воспитанники встали.
— Ребята,— проговорил Викниксор,— вот ваш новый воспитатель... Художник. Очень хороший человек... Надеюсь, что сойдетесь с ним...
Когда Викниксор вышел из класса, ребята обступили нового воспитателя.
Тот в свою очередь, сжав под мышкой портфель, рассматривал через пенсне своих новых питомцев. В классе он почему-то сразу возбудил смешливое настроение.
— Как имя твое, о пришелец, новый воин из стана халдеев? — притворно торжественным тоном вопросил Японец.
— Меня зовут Сергей Петрович,— ответил воспитатель.— А фамилия моя Айвазовский.
— Айвазовский! — раздались возгласы.— Не художник ли?
— Да, художник,— вскинув голову, ответил халдей.— Я племянник своего дяди Айвазовского, который написал «Девятый вал» и другие картины.
— Здорово! — воскликнул Янкель.
Ребята еще плотнее обступили нового воспитателя.
Тот уселся за пустую парту и положил перед собой портфель.
339
— А вы что делаете? — спросил он.— Чем занимаетесь в свободное время?
— Халдеев бьем,— пробасил Купец.
— Что? — переспросил Айвазовский.
— Халдеев бьем,— повторил Офенбах.— Бузим, в очко дуемся...
— Да-а,— протянул Айвазовский, не понявший сказанного Купцом.— А я,— сказал он,— иначе с вами занятия поведу. У меня своя система воспитания.
— Какая же у вас система? спросил кто-то.
— Может, расскажете? — попросил Янкель.
— У меня система следующая: я сам провожу с воспитанниками
часы их досуга, читаю им вслух, играю...
В толпе ребят кто-то хихикнул.
— Интересно,— сказал Янкель.— Что ж, вы сегодня и приступите к воспитательной работе?
— Да, я думаю.
«Племянник своего дяди» порылся в портфеле и вытащил какую-то книжку.
— Я прочту вам сейчас интересную вещь,— сказал он.—
Я хорошо читаю; кончил, между прочим, декламационные
курсы...
— Валите, читайте,— перебил Ленька Пантелеев.
Айвазовский положил книгу на стол.
— Это что? — спросил Япошка и, взглянув на заглавие^ громко расхохотался.
— «Крокодил» Корнея Чуковского,— прочел он.— Ловко!
Класс задрожал от смеха.
Воспитатель недоумевающе оглядел смеющихся и спросил:
— Вы чего смеетесь? Это очень интересная книга.
— Ладно, читайте,— снова закричал Пантелеев.
Айвазовский встал, поставил ногу на скамейку парты и, закинув
голову, начал:
Жил да был крокодил,
Он по Невскому ходил,
Папиросы курил,
По-турецки говорил...
Кр-ро-кодил,
Кррро-кодил
Крррокодилович...
Читал он эти детские юмористические стихи с таким пафосом, так ревел, произнося слово «крокодил», что слушать без смеха было нельзя. Ребята заливались.
Айвазовский обиженно захлопнул книгу.
— Что смешного? — сказал он задрожавшим от обиды голосом.— Вы глупые мальчишки и не понимаете поэзии.
340
— Вали, читай!— кричали ребята.— Читайте, Сергей Петрович!
Похмурившись немного, воспитатель перевернул страницу и продолжал чтение. Каждый раз, как он декламировал: «Кр-ро-кодил, кррро-кодил, крррокодилович», стекла в классе дрожали от неудержимого, буйного, истерического смеха.
Когда он кончил, Японец вскочил на парту и произнес:
— Внимание! Традиции и обычаи Улиганской республики в частности и всей Шкиды в целом требуют, чтобы каждому новому шкидцу или халдею давалась кличка. Настоящий новоиспеченный халдей не является исключением и ждет своего боевого крещения. Думаю, что имя Крокодил больше всего подойдет к нему.
— Браво! — закричали ребята и наградили Япошку аплодисментами.
Потом каждый счел долгом подойти к Айвазовскому, похлопать его по плечу и сказать:
— Поздравляю, Крокодил Крокодилович.
Воспитатель сидел, растерянно разглядывая облепившие его лица. Он не знал, что делать, или же просто не сумел проявить свой прекрасный воспитательский опыт.
Так началась педагогическая карьера Крокодила Крокодиловича Айвазовского, племянника своего дяди, великого морского пейзажиста Айвазовского. С первых же дней он потерял у воспитанников авторитет...
— Барахло,— сказали шкидцы.
Первый урок рисования состоялся на другой день в четвертом отделении. Крокодил вошел в класс и, пройдя к учительскому столу, поставил на него карельской березы ящичек с карандашами и вылитый из гипса усеченный конус.
При его входе встало человек пять, остальные решили испытать отношение нового педагога к дисциплине и остались сидеть. Крокодил никому замечания не сделал, а, выложив из ящика груду разнокалиберных карандашных огрызков, сказал:
— Возьмите себе по карандашу.
Каждый подошел к столу и выбрал огрызок подлиннее и получше. На столе осталось еще штук двадцать пять карандашей.
Япошка, страдавший какой-то чувственной любовью к предметам канцелярского обихода — карандашам, перьям, бумаге,— подмигнул Янкелю и, вздохнув, шепнул:
— Смачно. А?
— Д-да,— поддакнул Черных, жадно оглядев карандашную груду.
— Приготовьте бумагу,— скомандовал преподаватель.
— Новое дело,— возмутился Воробей.— Что мы, свою бумагу будем портить, что ли?
— Факт,— поддержал Пантелеев.— Тащите из халдейской — там этого добра имеется.
341
— Верно? — спросил Крокодил.— У вас такой порядок?
— А то как же иначе.
Крокодил пошел в канцелярию.
Не успела захлопнуться дверь, как Япошка, Янкель, а за ними и все остальные ринулись к столу.
Через секунду от карандашной груды на столе осталась жалкая кучка в пять-шесть самых плохих, рвущих бумагу карандашей.
Возвратившись с бумагой, Крокодил не заметил расхищения. Он роздал бумагу и, поставив на верх классной доски усеченный конус, предложил воспитанникам нарисовать его.
Имевшие склонности к изобразительным искусствам принялись рисовать, а остальные, вынув из парт книжки, углубились в чтение.
Книги читали самые разнохарактерные.
Янкель мысленно перенесся в Нью-Йорк и там на Бруклинском мосту вместе с «гениальным сыщиком Нат Пинкертоном» сбрасывал в воду Гудзонова пролива двенадцатого по счету преступника...
Японец переходил от аграрной революции к перманентной и, не соглашаясь с Каутским, по привычке даже в уме пошмыгивал носом...
Пантелеев сочувственно вздыхал, ощущая острую жалость к коварно обманутой любовником бедной Лизе, а Джапаридзе дрался в горячей схватке на стороне отважных мушкетеров, целиком погрузившись в пухлый том романа Дюма...
Класс разъехался в разные части света: кто к индейцам в прерии, кто на Северный полюс. Звонка не услышал никто, и к настоящей жизни из мира грез призвал лишь возглас Крокодила:
— А где же карандаши?
Никто не ответил.
— Где же карандаши? — повторил педагог.
Опять никто не ответил. Воспитанники разбрелись по классу и не обращали внимания на воспитателя.
— Отдайте же карандаши! — уже с ноткой отчаяния в голосе прокричал Крокодил.
— Пошел ты,— пробасил Купец,— не зевай, когда не надо.
Ребята рассмеялись.
— Не зевай, Крокодил Крокодилович,— сказал Сашка Пыльников и хлопнул воспотателя по плечу.
— Ах, так! — закричал Крокодил.— Так я вам замечание запишу в «Летопись». Мне Виктор Николаевич сказал: будут шалить — записывайте.
342
— Ни хрена,— возразил Ленька Пантелеев.— Всех не перепишете.
— Нет, перепишу,— ответил уже дрожавший от негодования Крокодил.— Я вам коллективное замечание напишу... Колл-лективное замечание! — повторил он и, осененный этой мыслью, сорвался с места и, схватив усеченный конус и пустой ящичек, выбежал из класса.
«Коллективное замечание» он действительно записал:
«Воспитанники четвертого отделения похитили у преподавателя карандаши и отказались их возвратить, несмотря на требования учителя».
Викниксор заставил класс возвратить карандашные огрызки и оставил все отделение на два дня без прогулок.
Класс озлобился.
— Ябеда несчастный! — кричал Японец в набитой до отказа верхней уборной.
— Ябеда! Фискал! Крокодил гадов!
— Покрыть его!..— предложил кто-то.
— Втемную!
— Отучить фискалить!
Решили крыть.
Вечером, когда Айвазовский вошел в класс, ему на голову набросили чье-то пальто, кто-то погасил электричество, затем раздался клич:
— Бей!
И с каждой парты на голову несчастного халдея полетели тяжеловесные книжные тома.
Кто-то загнул по спине Айвазовского поленом. Он закричал жалобно и скрипуче:
— Ай! Больно!
— Хватит! — крикнул Японец.
Зажгли свет. Крокодил сидел за партой, склонив голову на руки. Со спины у него сползало старое, рваное приютское пальто.
Злоба сразу прошла, стало жалко плачущего, избитого халдея.
— Хватит,— повторил Япошка, хотя уже никто не думал продолжать избиение.
Айвазовский поднял голову. Лицо сорокалетнего мужчины было мокро от слез. Жалость прошла, стало противно.
— Тьфу...— плюнул Купец.— Как баба какая-то, ревет. А еще халдей... У нас Бебэ и тот не заплакал бы. Таких только бить и надо.
Айвазовский жалко улыбнулся и сказал:
— Ладно, пустяки.
Стало еще жалостнее... Стало стыдно за происшедшее...
— Вы нас простите, Сергей Петрович,— хмуро сказал Японец.—
343
Запишите нам коллективное замечание для формы, а как человек — простите.
— Ладно,— повторил Крокодил.— Я вас прощаю и записывать никого не буду.
— Вот это человек,— сказал Пантелеев.— Бьют его, а он прощает. Прямо толстовец какой-то, а не халдей.
Айвазовский встал.
— Ну, я пойду...
Дойдя до дверей и открыв их, он вдруг круто обернулся и, побагровев всем лицом, закричал:
— Я вам покажу, дьяволы!.. Я вам... Сгною! — проревел он и выбежал из класса.
Поведение Айвазовского возбуждало всеобщую злобу. Случай с «христианским прощением» нашел отклик: Крокодила покрыли и в третьем отделении.
Кипчаки избили его основательно и, когда он попытался разыграть и у них умилительную сцену «всеобщего прощения», добавили еще и «на орехи». Били не книгами, а гимнастическими палками и даже кочергой. На оба отделения градом сыпались замечания, все воспитанники этих отделений не выходили из четвертого и пятого разрядов.
В ответ на усиление наказаний разгоралась и большая буза... Крокодил не успевал отхаживать синяки.
В «Летописи» тех дней попадались записи такого рода:
Еонин и Королев не давали воспитанникам старшей группы покоя, в продолжение нескольких часов кричали, смеялись, разговаривали, всячески ругали воспитателя, называя его всевозможными эпитетами, особенно Королев, который неоднократно подходил к койке воспитателя, стараясь его ударить, придавить и г. п.
Или:
Пантелеев в спальне говорил Еонину, спрашивая у него: «Дай мне сапог, я хочу ударить им в воспитателя».
Или:
Кто-то из воспитанников бросил сапогом в воспитателя при общем и единодушном одобрении учеников старшей и третьей группы.
Обилие замечаний в «Летописи» заставило задуматься педагогический совет школы, в частности и самого Викниксора. Нужно было найти что-нибудь, что бы отвлекло воспитанников от бузы и помогло им выйти из бесконечного пятого разряда.
344
И Викниксор придумал.
Однажды за ужином он заявил:
— Ребята... До сих пор у нас были только плохие замечания... Сейчас мы вводим и хорошие замечания... каждый ваш хороший поступок будет записываться в «Летопись». Плюс на минус равняется нулю... Хорошее замечание уничтожает плохое.
Шкида радовалась, но недолго.
Вскоре оказалось, что хороший поступок — определение неясное.
В тот же день Офенбах, полгода не бравший в руки учебника юографии, вызубрил наизусть восемнадцать страниц «Европейской России».
Хорошего замечания он не получил, так как оказалось, что учить уроки — вещь хорошая, но не выдающаяся, учиться и без замечаний надо... Все упали духом, а Офенбах, не имея сил простить себе сделанной глупости, со злобы избил Крокодила.
Тогда Викниксор нашел выход.
— Поступком, который заслуживает хорошего замечания,— сказал он,— будет считаться всякая добровольная работа по самообслуживанию — мытье и подметание полов, колка дров и прочее.
Шкида взялась за швабры, пилы и мокрые тряпки, принялась «заколачивать» хорошие замечания.
Воспитатели записывали замечания часто без проверки. Это навело хитроумного и изобретательного Янкеля на идею.
Однажды он подошел к Крокодилу и сказал:
— Запишите мне замечание — я уборную вымыл.
Айвазовский тотчас же сходил в канцелярию и записал:
«Черных добровольно вымыл уборную».
Янкелю это понравилось. Через полчаса он опять подошел к Крокодилу.
— Запишите — я верхний зал подмел.
Крокодил недоверчиво посмотрел на воспитанника, но все-таки пошел записывать. Янкель, обремененный десятком плохих замечаний, обнаглел.
— Я и нижний зал подмел! — крикнул он вслед уходящему Айвазовскому.— Запишите отдельно.
Монополизировать изобретение Янкелю не удалось. Скоро вся Шкида насела на Крокодила. В день он записывал до пятидесяти штук хороших замечаний.
Шкида выбралась из пятого разряда и уже подумывала пробираться к первому, когда Викниксор, заметив злоупотребления с Крокодилом, запретил последнему записывать кому-либо «плюсные» замечания.
К этому времени относится и появление «индульгенций».
Вечно избиваемый, оплеванный Крокодил дошел до последней степени падения. Когда его избивали, он просил, умолял, чтобы его не били, извинялся...
345
— Извиняюсь,— говорил он воспитаннику, который из юмористических побуждений наступал ему на ногу.
Держал он себя кротко и плохие замечания записывал лишь в крайних случаях.
Тогда Еошка придумал следующую вещь.
— Мы знаем,— сказал он,— что вам записывать плохие замечания велит Викниксор,— иначе бы вы не стали халдейничать, побоялись...
— Да, ты прав, я принужден записывать,— согласился Айвазовский.
— А поэтому,— заявил Японец,— я предлагаю следующее: за каждое ваше замечание вы будете выдавать нам бумажку, индульгенцию, предъявитель которой может вас в любой момент избить без всякого с вашей стороны противоречия.
Не смевший пикнуть в присутствии Купца Крокодил беспрекословно согласился.
Каждый раз, записав замечание, он выдавал записанному им воспитаннику бумажку такого содержания:
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ
Предъявитель сего имеет право избить меня в любой день и час, когда я свободен и не в канцелярии.
С. П. Айвазовский.
Текст и форму индульгенции составил Японец. Он же первый получил индульгенцию, но избивать Крокодила не стал и бумажку спрятал.
Айвазовский вошел в класс.
— К вам дело,— заявил Японец.
— Какое дело? — спросил Крокодил, усаживаясь на свое место.
Японец подошел к нему, вынул из кармана пачку бумажек и,
сосчитав их, положил на стол.
— Двадцать восемь штук, сэр,— сказал он.
— Это что? — прошептал Крокодил, побледнев.
— Индульгенции, милый друг, индульгенции,— ответил Японец.— Ну-ка, подставляй спину.
Педагог, не сказав ни слова, с тоской посмотрел на Купца и нагнул спину. Под дружный хохот класса Японец отстегал двадцать восемь ударов.
За ним вышел Цыган.
— У меня меньше,— сказал он,— двадцать шесть штучек только.
Он отхлопал свои двадцать шесть ударов.
Потом вышел Купец. При виде его Крокодил задрожал.
— Ну,— пробасил Купец,— нагинайся.
Он ударил кулаком по спине несчастного халдея.
Крокодил взмолился:
346
— Не так сильно. Больно ведь!
Все сгрудились около стола... Офенбах замахивался в восьмой раз, когда возглас у дверей заставил ребят обернуться:
— Довольно!
У стены стоял Викниксор. Он стоял уже больше минуты и с изумлением смотрел на творящееся.
— Довольно,— повторил он,— сядьте на места.
Потом, взглянув на оправлявшего пальто Крокодила, он сказал:
— Вы мне нужны — на минутку...
Айвазовский встал и вышел за Викниксором из класса.
Больше Шкида его не видала.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Весна на крыше.— Вандалы.— Генрих Гейне.— Засыпались.— На гопе.— Мефтахудын в роли сыщика.— Золотой зуб и английские ботинки.
Солнечные зайчики бегали по стенам. В открытое окно врывался и будоражил молодые сердца шум весенней улицы. Сидеть в четырех стенах было просто невозможно.
Сашка Пыльников и Ленька Пантелеев вышли во двор.
На дворе кипчаки играли в лапту, и рыжая Элла, примостившись на бревне, читала немецкий роман.
На дворе было хорошо, но сламщикам хотелось уйти от шума, где-нибудь полежать на солнышке и поговорить.
— Полезем на крышу,— предложил Сашка.
По мрачной, с провалами, лестнице они взобрались на крышу полуразрушенного флигеля. После темного чердака резкий свет заставил их зажмурить глаза.
— Вот это — лафуза,— прошептал Сашка.
На крыше только что стаял снег. Лишь местами в тенистых
прикрытиях он серел небольшими пятнами... Ржавое железо крыши еще не успело накалиться, но было теплым и приятным, как плюш.
Товарищи легли на скате, упершись ногами в края водосточного желоба и заложив руки за голову... Ленька закурил. Минут пять лежали молча, не шевелясь. Умильно улыбались и, как котята, жмурились на солнце.
— Хорошо,— мечтательно прошептал Сашка.— Хорошо. Так бы и лежал и не вставал.
— Ну нет,— ответил Пантелеев,— я бы не согласился лежать все
время. В такой день побузить хочется — руки размять...
Он вдруг выпрямился и, нагнувшись к Сашке, ударил его широкой
347
ладонью по животу. Сашка завизжал, завертелся, как вербная теща, и, схватив за шею Пантелеева, повалил его на себя.
Равные силы сверстников заставили их минут десять бороться за первенство. Наконец Пыльников победил. Прыгая около лежащего на лопатках Пантелеева, он кричал:
— Здорово! В один хавтайм уложил чемпиона мира.
Пантелеев улыбался широкой калмыцкой улыбкой и хрипел:
— Нечестно. На шею надавил, а то бы...
Лежать уже не хотелось... Меланхоличность Сашки сошла на нет, и он уже отплясывал гопака по дряблой крыше флигеля.
Под ногу ему подвернулся камень. Сашка схватил его и, размахнувшись, пустил в небо. Острый камень со свистом проделал параболу, скрылся из глаз и упал где-то далеко, на чужом дворе.
— Смачно! — воскликнул Ленька и принялся искать камень, чтобы не ударить лицом в грязь. Камня на крыше не оказалось, и Ленька полез через слуховое окно на чердак. Через минуту он вернулся с полным подолом красного кирпичного щебня.
— А ну-ка?! — Черная точка взлетела к небу и погасла. За ней другая...
— Так кидаться неинтересно,— сказал Сашка.— Надо цель какую-нибудь найти.
Он подошел к краю крыши и заглянул вниз.
Внизу узкий проход между двумя стенами занимала помойная яма. Параллельно флигелю вытянулось одноэтажное здание прачечной.
Солнце ломало лучи о высокий остов флигеля и золотило верхние рамы окон.
Сашка минуту посидел на корточках, как зачарованный глядя на сверкающие стекла, потом протянул руку, взял камень и, не сходя с места, бросил им в стекло.
Стекло треснуло, зазвенело и рассыпалось тысячами маленьких брильянтиков.
Сашка поднял голову. Ленька стоял возле него и, не сводя глаз, молча смотрел на зияющий осколок свежей пробоины. Потом он взял камень, нацелился и выбил остаток стекла верхней рамы.
...Кидали долго, ни на минуту не останавливались, бегали на чердак за свежим запасом щебня, бросали целые кирпичи. Когда в
окнах прачечной не осталось ни одного стекла, товарищи пере¬
глянулись.
— Ну, как? — глупо спросил Ленька.
— Дурак! — буркнул Сашка, заглядывая вниз.
Солнце, как и раньше, улыбалось широкой приветливой улыбкой, в воздухе играла весна, но на крыше почему-то стало неуютно; уже не хотелось валяться на скате и прижиматься щекой к плюшу.
— Хряем вниз,— сказал Пыльников.
Когда они спускались по мрачной лестнице, Ленька выругался и сказал:
348
— Наплевать... Не узнают... Никто не видел.
Сашка ничего не ответил, только вздохнул. Никем не замеченные; они вышли во двор. Малыши все еще играли в лапту. Серый мяч, отлетая от плоской доски, прыгал в воздухе. Эланлюм сидела на бревнышке и, отложив книгу, мечтательно рассматривала барашковое облачко на синем небе. Ленька и Сашка подошли к ней и, попросив разрешения, уселись рядом на пахучую сосновую поленницу.
— Где вы были? — проницательно оглядев питомцев, спросила Элла.
Ленька перекинулся взглядом с Сашкой и ответил:
— В классе, Элла Андреевна.
— В классе? Что же вы там делали?
— Ельховский пыль стирал. Он дежурный, а я...— Ленька вдруг притворно смутился.
— А ты что?
— А я... я, Элла Андреевна, сейчас над переводом из Гейне работаю...
Эланлюм удивленно вскинула глаза, потом улыбнулась.
— Правда? Гейне переводишь? Молодец. Ну что ж, выходит?
Пантелеев заврался:
— Очень даже выходит. Я уже сто двадцать строк перевел.
Он чувствовал, что Сашка смотрит на него и делает какие-то знаки глазами, но повернуться не мог.
— Я вообще немецким языком очень интересуюсь,— продолжал он.— Прямо, вы знаете, как-то... очень люблю немецкий.
Вестфальское лицо Эланлюм расцвело.
— Я и из Гёте переводы делаю, Элла Андреевна.
Для Эланлюм этого было достаточно.
— Ты должен показать мне все эти переводы. И почему вообще ты раньше не показывал их мне?
Пыл разглагольствования внезапно сошел с Леньки... Он вдруг ни с того ни с сего насторожился и, пробормотав: «Кажется, Япошка зовет», быстрыми шагами пошел со двора.
За ним ринулся и Сашка.
Когда они поднимались по лестнице в Шкиду, Сашка спросил:
— Зачем ты врал о всяких Гейне и Гёте? И откуда ты выкопаешь переводы?
Ленька не знал, зачем он врал, и не знал, откуда выкопает переводы.
— Скажу, что сжег,— успокоил он сламщика.
В классе никого не было, кроме Япошки и Кобчика. Они ходили в Екатерингоф купаться. Пришли мокрые и веселые. Сейчас приятели сидели за партой и о чем-то беседовали. Япошка, по обыкновению, шмыгай носом и размахивал руками, а Кобчик возражал без горячности;. на резко и визгливо.
— Ты плохо знаешь немецкий язык, поэтому не можешь судить! — кричал Япошка.
350
И все-таки повторяю: Гейне непереводим,— визжал Финкель-
штейн.
Сашка и Ленька прислушались. И тут говорят о Гейне.
— Хочешь, докажу, что можно перевести Гейне так, что перевод будет не хуже оригинала? — объявил Японец.
Пантелеев сорвался с места и подскочил к нему.
— Слабо,— закричал он,— слабо перевести сто строчек Гейне и немножко Гёте!
Японец удивленно посмотрел на него и, шмыгнув носом, ответил:
— На подначку не иду.
— Ну, милый... Еоша...— взмолился «налетчик».
Он рассказал товарищу о том, как он заврался перед Эланлюм, и о том, как важно для него выпутаться из этого неприятного положения.
Япошка забурел.
— Ладно,— сказал он,— выпутаемся. Переведу... Для меня это — пара пустяков.
Для Пантелеева снова солнце стало улыбаться, он снова услышал уличный шум и почуял весну. Вместе с ним расцвел и Сашка.
После, в компании Воробья и Голого барина, они ходили в Екатерингоф, купались, смотрели на карусели, толкались в шумной веселой толпе гуляющих и пришли в школу прямо к вечернему чаю.
О происшествии на крыше вспомнили, лишь укладываясь спать. Расшнуровывая ботинок, Ленька нагнулся к Пыльникову и шепнул:
— А стекла?..
Сашка ответить не успел. Дежурный халдей Костец громовыми раскатами своего львиного голоса разбудил всю спальню:
— Пантелеев, не мешай спать товарищам!
Когда Костец, постукивая палочкой, пошел в другую спальню, Сашка высунулся из-под одеяла и прохрипел:
— Ерунда.
На другой день погода изменилась. Ночью прошла >гроза, утро было радужное, и солнце заволакивали бледно-серые тучи. Но чувствовалась весна.
Пыльников и Пантелеев встали в прекрасном настроении.
За чаем Японец не на шутку ошарашил сидевшего с ним рядом Пантелеева:
— А я перевел сто двадцать строк,— шепнул он.
— Когда? — позабыв нужную предосторожность, чуть не закричал Ленька.
— Утром,— ответил Японец.— Встал в семь часов и перевел... И из Гёте два стихотворения перевел...
После чая Япошка передал Пантелееву три листа исписанной бумаги, Пантелеев тотчас же засел и переписал переводы, дабы почерк не дал повода к сомнению в его самодеятельности.
351
Ленька сидел у окна. Гейне вдохновил его, взбудоражил его творческую жилку. Ему захотелось самому написать что-нибудь. Окончив переписку, он засмотрелся на улицу. На углу улицы рыжеусый милиционер в шлеме хаки улыбался солнцу и стряхивал дождевые капли с непромокаемого плаща. Чирикали воробьи, и под лучами солнца сырость тротуаров стлалась легким туманом.
Леньке захотелось описать эту картину красиво и жизненно. И он написал как мог:
Голосят воробьи на мостовой,
Смеется грязная улица...
На углу постовой —
Мокрая курица.
Небо серо, как пепел махры,
Из ворот плывет запах помой.
Снявши шлем, на углу постовой Гладит дланью вихры.
У кафе — шпана:
— Папирос «Зефир», «Осман»!
Из дверей идет запах вина.
Из дверей — «Шарабан».
Лишь одни воробьи голосят,
Возвещая о светлой весне.
Грязно-серые улицы спят И воняют во сне.
Потом он показывал это стихотворение товарищам и Сашкецу. Всем стихотворение понравилось, и Янкель взял его для одного из своих журналов.
Пыльников утро провел в музее — составлял таблицу архитектурных стилей. Ионические и коринфские колонны, портики, пилястры и абсиды увлекли его... Ни он, ни Пантелеев ни разу за все утро не вспомнили о прачечной и разбитых стеклах.
Гроза разразилась в обед.
Если говорить точнее, первые раскаты этой грозы прокатились еще за полчаса до обеда. По Шкиде прошел слух, что в прачечной неизвестными злоумышленниками уничтожены все стекла... В эту минуту двое сердец тревожно забились, две пары глаз встретились и разошлись.
А за обедом, после переклички, когда дежурные разносили по столам дымящиеся миски пшенки, в столовую вошел Викниксор.
Он вошел быстрыми шагами, оглядел ряды вставших при его появлении учеников, ни на ком не остановил взгляда и сказал:
— Сядьте.
Потом нервно постучал согнутым пальцем по виску, походил по столовой и, остановившись у стола, по привычной своей манере растягивая слова, произнес:
352
— Какие-то канальи выбили все стекла в прачечной.
Глаза всех обедающих оторвались от стынущей пшенной каши и изобразили знак вопроса.
— Вышибли стекла в пяти окнах,— повторил Викниксор.— Ребята, это вандализм. Это проявление дегенератизма. Я должен узнать фамилии негодяев, сделавших это.
Ленька Пантелеев посмотрел на Сашку, тот покраснел всем лицом и опустил глаза.
Викниксор продолжал:
— Это вандализм — бить стекла, когда у нас не хватает средств вставить стекла, разрушенные временем.
Еле досидев до конца обеда, Сашка позвал Леньку:
— Пойдем поговорим.
Они прошли в верхнюю уборную. Там никого не было. Сашка прислонился к стене и сказал:
— Я не могу. Мы действительно были скотами.
— Пойдем сознаемся,— предложил Пантелеев и закусил нижнюю губу.
Пыльников секунду боролся с собой. Он надулся, зачем-то потер щеку, потом взял Леньку за руку и сказал:
— Пойдем.
По лестнице наверх поднимался Викниксор. Когда он прошел мимо них, Пантелеев обернулся и окликнул:
— Виктор Николаевич.
Викниксор обернулся.
— Да?
Отвернувшись в сторону, Пантелеев сказал:
— Стекла в прачечной били мы с Ельховским.
Наступила пауза.
Викниксор молчал, ошеломленный слишком скорым признанием.
— Прекрасно,— произнес он, подумав.— Можете оба отправляться домой: ты — к матери, а ты — к брату.
Ударил гром.
Сашка подошел к окну, закрыл лицо руками и съежился.
— Виктор Николаевич! — визгливо прокричал он.— Я не могу идти. У меня мать больная... Я не могу.
Пантелеев стоял возле Сашки, стиснув зубы и руки.
— Извините, Виктор Николаевич...— начал было он.
— Нет, без извинений. Отправляйтесь вон из школы, а через месяц пусть зайдут ваши матери. Скажите спасибо, что я не отправил вас в реформаторий.
И, повернувшись, он зашагал в апартаменты Эланлюм.
Пантелеев проводил его взглядом и, хлопнув по плечу Сашку, сказал:
— Идем, Недотыкомка.
12
— Домой я идти не могу,— сказал Сашка.
— И мне не улыбается,— хмуро пробасил Пантелеев.
Они сидели во дворе, на сосновой поленнице, где накануне разговаривали с Эланлюм.
День клонился к концу. Серые тучи бежали по небу, обгоняли одна другую и рассыпались мелкими каплями дождя.
Сашка сидел, как женщина, сомкнув колени и подперев ладонью щеку. На коленях у него лежал маленький серый узелок.
В узелке было два носовых платка, книжка афоризмов Козьмы Пруткова и первый том «Капитала».
Сашка сжал руками узелок, поднял голову и вздохнул.
— Чего вздыхать? — сказал Ленька.— Вздохами делу не поможешь. Надо кумекать, что и как. Домой ведь не пойдем?
— Нет,— вздохнул Сашка.
— Ну, так надо искать логова, где бы можно было кемарить.
— Да,— согласился Сашка.
Товарищи задумались.
— Есть,— сказал Ленька.— Эврика! Во флигеле под лестницей есть каморка, хряем туда...
Они встали и пошли к флигелю. В лестнице, по которой они вчера поднимались на крышу, несколько ступенек провалилось, и образовалась щель.
Товарищи пролезли через нее и очутились в узкой темной каморке. Ленька зажег спичку... Желтоватый огонек млел и мигал в тумане. Оглядев помещение, товарищи поежились.
Кирпичные стены каморки были слизисты от сырости... Коричневый мох свисал с них рваными клочьями... На полу были навалены старые матрацы, рваные и грязные... Ноги вязли в серой, слипшейся от сырости мочале...
— Комфогт относительный,— сказал Пантелеев, и, хотя произнес он это с усмешкой, голос его прозвучал глухо и неприятно.
— Противно спать на этой гадости,— поморщился Сашка и ткнул ногой в мочальную груду.
— Что же делать? Ничего, брат, привыкай.
Ленька, которому приходилось в жизни ночевать и не в таких трущобах, подав пример, подавил отвращение и опустился на мокрое, неуютное ложе.
За ним улегся и Сашка.
Немного поговорили. Разговоры были грустные и все сводились к безвыходности создавшегося положения.
Потом заснули и проспали часов ьпесть. Разбудили яркий свет и грубый голос, будивший их. Сламщики очнулись и вскочили.
В отверстие на потолке просовывалась чья-то голова и рука, державшая фонарь.
— Вставай, вставай! Ишь улыглысь...
Это был Мефтахудын.
Товарищи окончательно проснулись и сидели, уныло позевывая.
354
— Жалко тебе, что ли?— протянул Ленька.
— Ны жалко, а ныльзя... Выктор Николайч сказал: обыщи вэсь дом, если сыпят — витащи.
— Сволочь,— пробурчал Сашка.
— И ваабще здесь спать нельзя.
— - Почему нельзя? — спросил Пыльников.
— Сыпчики ходят.
— Какие сыпчики? — удивился Сашка.
— Сыпчики... С шпалырами и вынтовками.
— Сыщики, наверное,— решил Ленька.— Он нас запугать хочет. Нет, Мефтахудын,— обратился он к сторожу.— Мы отсюда не уйдем... Идти нам некуда.
Мефтахудын немного посопел, потом голова и рука с фонарем скрылись, и сапоги татарина застучали по лестнице вниз.
Товарищи снова улеглись. Засыпать было уже труднее. В каморку пробрался холод, сламщики дрожали, лежа под Сашкиным пальто и мод двумя рваными, мокрыми тюфяками.
— Разведем огонь,— предложил Ленька.
— Что ты! — испугался Пыльников.— Тут солома, и всё... Нет, еще пожар натворим.
— Глупости.
Ленька вылез из-под груды матрацев и принялся расчищать мочалку, пока не обнажился грязный каменный пол.
Тогда он положил на середину образовавшегося круга небольшой пучок мочалы и зажег спичку. Просыревшая насквозь мочала не зажигалась.
— У тебя нет бумаги? — спросил Пантелеев.
— Нет,— ответил Сашка,— у меня книги, а книги рвать жалко.
Ленька порылся за пазухой и вытащил бумажный сверток.
— Это что? — спросил Сашка.
— Генрих Гейне,— протянул Ленька жалким голосом и в темноте грустно улыбнулся.
Он скомкал один лист и поджег его. Пламя лизнуло бумагу, погасло, задымилось и снова вспыхнуло.
— Двигайся сюда,— сказал Ленька.
Сашка подвинулся.
Они сожгли почти весь перевод Гейне, когда на лестнице раздались шаги. Ленька обжег ладони, в мгновение погасив костер.
В отверстие снова просунулись рука с фонарем и на этот раз уже две головы. Раздался голос Сашкеца:
— Эй вы, гуси лапчатые! Вылезайте!
Пыльников и Пантелеев прижались к стене и молчали.
— Ну, живо!
— Лезем,— шепнул Ленька.
По одному они вылезли через отверстие на лестницу. Вылезли заспанные и грязные, облипшие мокрой мочалой и соломой.
Ничего не сказали и стали спускаться вниз.
355
Сашкец и Мефтахудын проводили их до ворот. Сашкец стоял, всунув рукав в рукав, и ежился.
— Нехорошо, дядя Саша,— сказал Пыльников.
— Что ж делать, голубчики,— распоряжение Виктора Николаевича,— ответил Алникпоп. И, затворяя калитку, добавил: — Счастливо!
На улице было холодно и темно.
Фонари уже погасли, луны не было, и звезды неярко мигали в просветах туч.
Сашка и Ленька медленно шли по темному большому проспекту. Прошли мимо залитого огнями ресторана.
— Сволочи,— буркнул Сашка.
Это относилось к нэпманам, которые пировали в этот поздний ночной час.
Ребята уже чувствовали голод.
Дошли до Невского. На Невском ночные извозчики ежились на козлах.
— Идем назад,— сказал Ленька.
— Стоит ли? — протянул Сашка.— Все равно спать не дадут.
— Ни черта, идем.
Снова пришли к зданию Шкиды.
Предусмотрительный Мефтахудын закрыл ворота, пришлось пролезать сквозь сломанную решетку, запутанную колючей проволокой.
Никем не замеченные, залезли под лестницу и заснули.
Утром по привычке проснулись в восемь часов. Когда вышли во двор, в Шкиде звонили к чаю. Нежаркое солнце отогревало землю, роса на траве испарялась легким туманом.
За дровами, с веревкой и топором в руках, вышел Мефтахудын. Он вытер ладонями лицо, посмотрел на восток и зевнул.
Увидев мальчишек, подошел.
— Что, в флыгэли начивали?
— Нет,— испугался Сашка.— Нет. Мы не в флигеле...
Мефтахудын засмеялся.
— Знаем, я сам видел, как лезли.
Потом посмотрел на небо и добавил:
— А минэ што — жалко, что ли. Я свой дэла сдэлал.
Ленька хлопнул татарина по плечу.
— Знаю!
Когда Мефтахудын ушел, он предложил:
— Пойдем в Шкиду...
Они поднялись в школу и прошли на кухню... Староста и дежурный напоили их чаем, позвали Янкеля и Япошку.
— Ну как? — сочувственно спросил Японец.
— Плохо,— ответил Ленька.— Больше гопничать нельзя. Холодно.
— Д-да,— протянул Янкель.— А вы все-таки поскулите у Викниксора,— может, разжалобится.
356
Напившись чаю, сламщики, по совету товарищей, пошли к заведующему.
— Войдите! — крикнул он, когда они постучались к нему.
Ребята вошли и остановились у дверей.
— Вам что?
— Простите, Виктор Николаевич...
— Нет... Я сказал: из школы вон. Мне таких мерзавцев не нужно.
Повернулись, чтобы уйти.
— Впрочем... Если вставите стекла, то...
— То?
— То... Можете через месяц вернуться в школу.
— - Спасибо, Виктор Николаевич.
Вышли... Сделалось совсем грустно и тяжело.
— Это что же значит? — проговорил Ленька.— Если не вставим стекла, так и совсем можем не являться? Так, что ли?
— Видно, так,— вздохнул Пыльников.
— Надо мыслить, где достать денег. Стекла вставлять, как видно, придется.
Они снова вышли во двор.
— Идем на улицу,— сказал Сашка.
Прекрасный весенний день не доставил им обычного удовольствия. Шли медленно — куда глаза глядят.
— Что-нибудь надо продать,— сказал Сашка.
— Да,— согласился Пантелеев.— Надо что-нибудь продать... А что?
Оба задумались.
Шли мимо Юсупова сада.
— Зайдем,— предложил Ленька.
Зашли, уселись на скамейку...
В саду весна чувствовалась ярче, чем на улице. Набухали почки, и на берегу освободившегося от льда пруда пробивалась первая травка.
Сламщики сидели и думали.
— У меня есть одна вещица,— покраснев, заявил Ленька.
— Какая вещица?
— Зуб.
Он снял кепку и, отогнув подкладку, вытащил оттуда что-то маленькое, завернутое в бумажку.
— Золотой зуб,— повторил он.— Я его осенью в Екатерингофе нашел... Думаю, что можно продать.
Сашка улыбнулся.
— Зачем же ты его столько времени берег?
Ленька покраснел еще больше.
— Глупо, конечно,— сказал он,— но говорят, что зуб приносит счастье.
— Счастье,— усмехнулся Сашка.— Много он тебе счастья принес.
357
Ленька решил продать зуб.
— А я что продам? — сказал Пыльников.
Он развязал узелок. Вынул марксовский «Капитал».
— Дадут что-нибудь?
Ленька взглянул на заглавие.
— Думаю, что не дешевле моего зуба стоит.
Сашка перелистнул страницу. Потом положил книгу обратно в узелок.
— Нет,— сказал он,— Маркса продавать не могу... Я лучше сапоги продам.
Ботинки у него были новенькие, английские. Брат зимой привез, когда приезжал навещать.
— Продам,— решил Сашка.
Он тут же снял ботинки и завернул их в узелок.
— Идем,— сказал он.
Они вышли из сада. Сашка с прошлого лета не ходил' босиком и сейчас шел неуверенно, подпрыгивая на острых камнях.
Сперва зашли в ювелирный магазин.
Толстый еврей-ювелир долго рассматривал зуб, сначала простым, затем вооруженным глазом, потом посмотрел на парней и спросил:
— Откуда у вас это?
— Нашли,— ответил Ленька.
Ювелир минуту раздумывал, потом бросил зуб на чашку миниатюрных весов и, не спрашивая о цене, вынул и положил перед товарищами бумажку в пять лимонов.
— Мало,— сказал Пантелеев.
Ювелир взял бумажку, чтобы спрятать.
— Ладно, давай,— проговорил Ленька и, спрятав дензнаки в карман, вместе с Сашкой вышел из магазина.— Спекулянт чертов! — буркнул он.
Из магазина пошли на Александровскую толкучку, где за десять лимонов продали первому попавшемуся маклаку Сашкины английские ботинки.
В Шкиду поехали на трамвае: устали за сутки и имели возможность позволить себе такую роскошь.
К Викниксору в кабинет вошли без всякой робости.
— Опять? — спросил тот.— В чем дело?
— Получите за ваши стекла,— сказал Ленька и выложил перед завшколой пятнадцать миллионов рублей.
Викниксор посмотрел на деньги, присел к столу и написал расписку.
— Возьмите,— хмуро сказал он.
Потом смягченным тоном добавил:
— Через месяц приходите.
Сламщики вышли.
— Куда идти? — тихо спросил Сашка.
— Домой,— ответил Ленька,— больше идти некуда.
Сходили в класс, попрощались с товарищами и разошлись — один на Мещанскую, другой на Васильевский остров.
«юнком»
Три тени.— Череп во тьме.— Заседание в подполье.— Блуждающий огонек.— Тревога Мефтахуды- на.— Облава.— «Юнком».— Ищейки из ячейки.—
Кто кого.— «Зеленое кольцо».
— Т-сс. Тише.
— Ни звука.
Три тени, бесшумно скользя, вышли на парадную лестницу и минуту прислушивались. В Шкиде было тихо. Ребята уже спали, и только изредка тишину нарушал шорох возившейся под полом крысы.
— Ну, идем. Нас уже ждут,— опять раздался шепот, и три таинственные фигуры начали спускаться по лестнице, осторожно держась за перила и стараясь не производить шума.
Мелькнул просвет парадной двери, выходившей на улицу, но за ненадобностью давно уже и наглухо закрытой.
Таинственные фигурки минуту потоптались на месте, словно совещаясь, и, наконец, решившись, стали так же бесшумно прокрадываться под темный свод лестницы. Непроницаемая безмолвная мгла поглотила загадочных пришельцев. Они шли на ощупь, держась за холодные выступы ступеней и удаляясь все дальше от света. Тусклый просвет парадных дверей поблек вдали, и зеркальные окна замутились и посерели, едва виднеясь мертвыми матовыми пятнами. Вдруг передняя тень вздрогнула и отпрянула назад.
— Смотрите!
Прямо со стены глядело на них страшное, квадратное, бледно светящееся, словно фосфорическое, пятно:
не прикасайся!
СМЕРТЬ
359
Пришельцы прижались к противоположной стене. Но тут один из них, самый храбрый, рассмеялся и сказал:
— Ведь это ж трансформаторная будка. Чего вы сдрейфили?
Почти тотчас откуда-то сбоку из темноты раздался глухой голос:
— Пароль?
— Четыре сбоку! — ответила первая тень.
— Ваших нет1 Проходите,— донеслось снова из темноты, и перед таинственными пришельцами раскрылась дверь в слабо освещенное помещение.
Это был дровяной сарай Мефтахудына, куда он складывал дрова, перед тем как распределять их по печкам.
И сейчас еще в сарае было немного дров, разложенных рядами у стенок. На одной из этих поленниц сидели три темные сгорбившиеся фигуры.
При появлении новых пришельцев сидевшие приветствовали их громкими криками:
— Урра! Пришли. Пыльников! Кобчик!
— Кубышка, и ты?!
— А что я — рыжий, что ли? Я тоже хочу работать в вашей организации!
В сарае шесть человек расселись на дровах и, закрыв плотно двери, замерли.
Кроме пришедших, там были Янкель, Японец и Пантелеев, совсем недавно вернувшийся в Шкиду после скандального изгнания из школы за битье стекол.
Ребята посовещались минуту, потом Японец встал и заговорил, подняв руку:
— Внимание. Сегодня мы открываем второе собрание нашей подпольной организации РКСМ, но так как у нас есть два новых члена, коими являются Кубышка и Кобчик, то я кратко изложу им нашу программу и причины, побудившие нас затеять это дело.
Японец откашлялся.
— Итак, товарищи, вы знаете, что наша Шкида считается домом для дефективных, то есть почти тюрьмой, поэтому ячейку комсомола нам открыть нельзя. Но среди нас есть желающие подготовиться к вступлению в комсомол по выходе из Шкиды... Вот для этого, то есть для изучения политграмоты и основ марксизма, мы и основали этот подпольный кружок. К сожалению, мы не имеем руковода, опытного и деятельного, как Кондуктор, который, как вы знаете, уехал от нас уже три, если не четыре, месяца назад на работу в деревню. Вы знаете также, что мы много раз просили Викниксора выхлопотать нам нового политграмщика, но до сих пор он, как известно, и в ус не подул. Нам осталось одно: заниматься самим. Мы не знаем, как посмотрел бы на это дело Викниксор, а кроме того, и не хотели затягивать дела переговорами, поэтому и решили открыть этот нелегальный кружок. Пока у нас занятия узкоспециальные,
360
сейчас мы проходим историю революционного движения среди мо- -дежи, а дальше будет видно.
Япошка замолчал и обвел взглядом окружающих. Потом, смахнув рукой нот с лица, он перешел к лекции. Как самый осведомленный и начитанный, он взял на себя роль лектора и работал очень добросовестно, тщательно подготовляясь к каждой лекции.
— Итак, пойдем дальше. В прошлый раз мы с вами разбирали ■зарождение Союза молодежи и дошли вплоть до раскола буржуазного < Труда и света». Теперь мы проследим зарождение и постепенный рост нашего Союза рабочей молодежи...
Аудитория слушала. Пятеро ребят с бритыми головами жадно уставились на лектора и затаив дыхание ловили слова. Угольная лампочка, облепленная наросшей паутиной, словно улыбалась близоруким глазом, слабо освещая «подпольную организацию» и облупившиеся стены.
Следующий сбор был назначен на двенадцать часов ночи — излюбленное время всех заговорщиков.
Летний день для Шкиды утомителен. Слишком много движения, слишком много уроков, а кроме того, охота и выкупаться сходить, и поиграть в рюхи или в футбол. В результате к вечеру полная \ стал ость. Спальни сразу же погрузились в сон, и не успел дежурный воспитатель затворить за собою дверь, как снова забегали по старому зданию таинственные тени.
Ночной дежурный — Янкель. Он свободно выпускает из здания «заговорщиков» и последним уходит сам.
На этот раз сбор происходил в развалинах двухэтажного дома во дворе. Под лестницей, в каморке, где еще совсем недавно скрывались Пантелеев и Пыльников, светлячками вспыхнули огоньки. Тени собирались опять.
— Пароль?
— Деньги ваши!
— Будут наши! Проходи,— слышится голос невидимого стража.
Сегодня пришел новый член организации — Воробей. В кружке
уже семь человек.
— Как бы не засыпаться! Слишком много коек пустует,— высказывает опасение Янкель, но под негодующие окрики он вынужден замолчать.
— Сегодня, товарищи, мы перейдем к разбору Третьего съезда, который знаменует собой новый поворот к мирному строительству.
Кружок притих и внимательно слушал, сбившись вокруг мерцающей свечки.
Ночь выдалась мягкая, но с ветерком.
Мефтахудын сидел в дворницкой, повторял наизусть русскую азбуку, иногда сбиваясь и заглядывая в букварь. Наконец он поднялся, потянулся, зевнул, оглядел кровать и стены.
361
— Пора спать,— громко произнес он и вышел во двор, чтобы сделать последний в этот день обход.
В подворотне тихо посвистывал теплый ветер. Он словно целовал, ласкал огрубевшие, покрытые жесткой щетиной щеки Мефтахудына... Татарин размяк, умилился, пришел в восторг:
— Ай да пагодка! Якши! От-чень карашо.
Пребывая в этом восторженном настроении, он тихо зашагал по двору, осматривая двери и мурлыкая под нос родную песню:
Ай джанай Каласай.
Сэкта, сэкта Менела-а-ай.
Вдруг Мефтахудын смолк и насторожился, уставившись испуганными глазами в развалины. Оттуда глухо доносились голоса. Татарин подошел ближе к полуразвалившейся двери и вдруг отскочил:
— Эге-ге! Бандиты!
Голоса, доносившиеся из сырого помещения, показались ему незнакомыми, грубыми и даже страшными. В довершение всего из всех щелей двери сочился бледный, дрожащий свет. Мефтахудын минуту постоял, соображая, потом неслышно отошел от двери и заспешил обратно в школу. Так же торопливо он вбежал по черной лестнице наверх и помчался к Викниксору. Минуту спустя заведующий и Алникпоп, дежуривший эту ночь, спускались по черной лестнице и сопровождавший их Мефтахудын возбужденно рассказывал:
— Гляжу, свет, слышу — бал-бал-бал. Эге, думаю, субчики, бандиты. Мефтахудына — нет, не проведешь. И к вам бежал, скоро-скоро.
Педагоги и дворник осторожно подкрались к разрушенному дому. Викниксор вошел первый, поднялся на несколько ступеней и, заглянув в сырой коридор, замер от удивления.
Прежде всего он увидел возбужденное лицо Япончика, освещенное желтым светом свечки, потом уже разглядел других. Викниксор прислушался.
— Одной из главных задач Четвертого съезда Союза молодежи было улучшение экономического положения рабочих-подростков. На заводах шли массовые сокращения молодежи, как малоквалифицированной силы. Нужно было забронировать подростков, поднять квалификацию. На это главным образом и обратил внимание Четвертый съезд РКСМ.
Вдруг речь Япончика перебил знакомый басовитый голос:
— Позвольте, что вы тут делаете?
Семь голов повернулись, и семь пар глаз впились в темноту, из которой выплыло сердитое лицо Викниксора.
362
Кто-то сразу понял, что запоролись, и крикнул:
— Спасайся!
Кто-то из кружковцев бросился к дыре в лестнице, но тотчас же отпрянул назад. Оттуда, улыбаясь, выглядывало скуластое лицо Меф- тахудына.
— Попались, субчики!
Ребята остановились в растерянности, не эная, куда податься.
— Что вы тут делаете? — так же сердито повторил Викниксор.
— Ничего... так... тепдо... ну, мы и вышли посидеть...— растерянно лепетал Япончик, теребя диеты истрепанного учебника политграмоты.
Викниксор заметил книгу и, взяв ее из рук растерявшегося лектора, задумчиво перелистал, потом коротко бросил:
— Идите спать!
Опустив головы, подпольщики один за другим прошли мимо Сашкеца, а тот укоризненно качал головой и бормотал:
— Ах, гуси лапчатые... Ах, гуси...
На другой день Викниксор все знал. Достиг он этого самым несложным путем: пришел в класс и стал расспрашивать. Собственно, ребятам скрывать было нечего, и только испуг и необычайная обстановка обескуражили их ночью, но сегодня они всё спокойно рассказали и даже сами смеялись вместе с заведующим над своей «подпольной работой».
Потом Викниксор весь день ходил задумчивый и вечером неожиданно сообщил классу:
— Я протестовать и не думаю даже. Наоборот, охотно иду вам навстречу. Вы не имеете права создать ячейку РКСМ, но вы можете организовать свой кружок, свою ячейку местного характера, в которой, не будучи членами комсомола, вы, однако, наравне со всем Союзом будете вести учебу и даже больше того — вы как передовые поведете по пути коммунистического воспитания всю школу. Организуйтесь, придумайте кружку название и беритесь за дело. Помещение у вас будет. В ваше распоряжение я отдаю наш музей. Кстати, вы можете заодно взять на себя попечение и о самом музее — подбирать экспонаты, охранять их и так далее...
Шкидский музей родился уже давно и как-то незаметно, после бешеной журнальной лихорадки, которой перехворала вся Шкида. Журналы эти были первыми вкладами в музей. Потом туда стали попадать наиболее выдающиеся ученические работы, хранился там и показательный учетный материал. Вскоре материала скопилось немало.
В тот же вечер, по уходе Викниксора, ребята собрали экстренное собрание.
— Ребята! — ораторствовал Японец.— Задачи нашего коллектива, нашей ячейки, остаются прежние, что и в подполье, но теперь
363
прибавляются новые: вовлечение других и развертывание работы в общешкольном масштабе. Надо придумать название кружку.
— Красная звезда!
— Знамя!
— Коммунар!
— Юный коммунар!
— Правильно! Юный коммунар! И сократить в Юнком.
— Сократить в Юнком!
Голоса разделились. Проголосовали. Большинство оказалось за Юнком. Тут же избрали редколлегию для своего органа, в которую вошли Японец, Янкель и Пантелеев.
А на следующее утро уже вышел первый номер стенгазеты «Юнком» с передовицей, извещавшей об открытии новой организации. В этой пространной декларации говорилось о многом, а в конце крупным шрифтом был объявлен призыв о вступлении в Юнком. Но начало оказалось тяжелым. Скоро юнкомцам, еще не завоевавшим авторитета в школе, уже пришлось проводить один из пунктов своей программы. В этой программе, среди прочего, они заявили, что будут бороться с воровством в школе.
Мелкие кражи в Шкиде совершались довольно часто. То полотенце исчезнет, то наволочка пропадет.
И вот исчезли сапоги. Когда утром шкидцы, по обыкновению, вскочили по звонку с постелей, второклассник Андронов сделал печальное открытие.
— Ребята, у меня сапоги тиснули,— скорбно проскулил он, болтая босыми ногами.
Спальня загудела.
— Врешь!
— Сам заначил!
За чаем Викниксор грозил и стыдил ребят, а потом вдруг обратился к старшим:
— Вот первое боевое крещение Юнкома. Юнкомцы — это сознательные, передовые ученики. Сейчас вы и должны доказать свою сознательность. Я не буду искать преступника. Вы сами найдете его и сами его осудите, а чтобы я знал о том, что долг свой вы выполнили, представьте мне украденные сапоги.
Юнкомцы встревожились, но, обсудив, согласились с предложением Викниксора. Хочешь не хочешь, а надо было бороться с воровством.
Сперва попробовали воздействовать на массы сознательностью, но Шкида дала Юнкому отпор — не потому, что поддерживала воров, а просто невзлюбила юнкомцев, считая их выскочками и подлизами. Тем более что нашлись подстрекатели в лице Цыгана, которого юнкомцы обошли при создании организации, и новичка — силача Долгорукого.
Оба они подружились и теперь вместе решили показать Юнкому свою силу. Цыган ехидно наблюдал за тщетными стараниями юн-
364
ксмцез убедить ребят искать вора и посмеивался. Попытка органи- • ч>ать ребят, вовлечь их в организацию, юнкомцам не удалась, однако
решили добиться своего.
— Что же делать? — уныло бурчал Янкель.
— Как что? Будем сами искать,— загорячился Джапаридзе, только что вступивший в Юнком и теперь решивший проявить себя.
Дзе поддержал и Воробей, сразу же вдохновившийся идеей сыска.
— Факт, будем сами искать. Все печки обыщем, а найдем.
Делать ничего не оставалось, и ребята бросились на поиски.
Начали с верхнего этажа. Неистовавшая пара особенно старалась.
— Посмотри в отдушину,— деловито говорил Воробышек.
Дзе залезал рукой, долго шарил и вынимал вместо сапог груду сажи.
Тем временем отношение школы к юнкомцам все ухудшалось. Кто-то перелицевал слово «ячейка» в «ищейка», и несчастных «сознательных», лазивших по печкам, дразнили ищейками. Однако к гечеру сапоги нашлись. Нашли их внизу в камине. После ужина ребята собрались в помещении Юнкома и совещались.
— Плохо дело.
— Да, большинство против.
— Надо, братцы, найти способ завоевать и перетянуть массы на свою сторону.
Вдруг раздался стук в дверь. Японец, предусмотрительно заперший дверь на ключ, подошел и, взявшись за ручку, спросил:
— Кто там?
— Открой! — послышался голос Цыгана.
Япошка нерешительно оглянулся на ребят.
— Не открывай! — рассвирепел Янкель.
— Он нас, паскуда, травил сегодня. Скажи ему, что не желаем с ним разговаривать.
— Правильно! — поддержали и остальные, но Цыган стучался и злобно кричал. Потом он ушел, а минуту спустя вернулся с Долгоруким. Оба начали изо всех сил ломиться в дверь.
— Открывай, сволочи, а то изобьем всех! — кричал разъяренный Цыган, но Юнком твердо решил выстоять осаду. Вся ячейка дружно уперлась в дверь и стойко выдерживала натиск. Наконец, видя бесполезность борьбы, Цыган отступил, а затем и совсем ушел.
Джапаридзе первый облегченно вздохнул.
— Ну и дела! Надо что-нибудь предпринять.
— Есть,— оживился Пыльников.
— Что есть?
— Придумал!..
— Да что ты придумал?
— Создадим юнкомскую читальню для всех ребят.
— Идея!
— Книги наскребем ото всех понемногу.
Идея вдохновила ячейку, и все работали со старанием. Неделю
365
спустя, вернувшись из отпуска, Янкель притащил около пуда старый журналов, которые он собирал еще с дошкидовских времен. Пантелеев принес почти такую же по весу пачку книг самого разнооб^ разного характера, начиная с детских сказок и кончая Плутархом и другими историческими трудами. Все это тщательно рассортировали и, прибавив несколько личных книг Финкельштейна, Пыльникова и Японца, разложили на большом столе. А за вечерним чаем Янкель встал и, обращаясь к ребятам, пригласил желающих провести время за полезным чтением. Комната Юнкома, как брюхо голодного, проглатывала одного за другим воспитанников. Скоро все места были заняты. Юнкомская читальня понравилась многим. Тут стояла мягкая мебель и чувствовался не только уют, но и комфорт, который так; стремились создать устроители. Тут и там слышались разговоры:
— Неплохо.
— Что неплохо?
— Юнкомцы-то, я говорю, устроились.
— Да. И почитать есть что.
Журналы и книги читались бойко, нарасхват, и скоро читальню полюбили. Правление Юнкома, назвавшее себя Цека, уже задумывалось о расширении работы. Скоро стал расти и коллектив ячейки. Приходили записываться не только из третьего, но из второго и даже из первого отделения. Пора было браться за серьезную работу, и тогда было созвано большое открытое собрание ячейки, на котором присутствовало семнадцать членов и кандидатов «Юного коммунара».
На этом собрании был окончательно утвержден Центральный комитет, вернее, президиум, в который вошли старейшие члены и устроители — Япошка, Пантелеев, Пыльников, Кобчик и Янкель. Тут же все члены были разбиты на две группы слушателей политграмоты — младшую и старшую. Руководом для обеих групп остался Японец. Потом кто-то внес новое предложение: Юнком должен взять на себя и трудовое воспитание шкидцев. Было решено организовать трудовые субботники: по переноске дров, очистке панелей, уборке мусора, пилке дров и т. д. Предложение приняли единогласно и в первую же субботу его осуществили, причем к работе привлекли и беспартийных ребят.
Работали ребята не за страх, а за совесть, только оппозиция по-прежнему ехидно подсмеивалась. Ввиду большой популярности Юнкома выступать открыто она не решалась, но все же старалась хоть чем-нибудь уязвить юнкомцев. Ярых оппозиционеров было только трое: Цыган, Долгорукий и Бессовестин, давно уже прозванный Бессовестным, но Юнком не боялся их. Он окреп и качественно и количественно.
— А ну, братва, поддай! — покрикивал Джапаридзе, пыжась над тяжелым бревном, и братва поддавала, и бревна исчезали в сарае. Субботник прошел с подъемом, и это еще больше подхлестнуло ребят.
366
Солнечный июль катился цветными днями, но юнкомцам некогда было упиваться солнцем. Работа захватила крепко и надолго. Юнком разросся. Один за другим вырастали новые кружки. Появился кружок рисования, за ним литературный, политический; кроме того, еженедельно читалась устная газета. Но ярче всего расцвел Юнком, когда и Шкиду пришел новый педагог и воспитатель Дмитрий Петрович Тюленчук. Сперва его ребята не приняли, показалось, что он строг и сух. Кроме того, он был хромой, а для жестоких питомцев это давало еще больше поводов смеяться над ним.
На первых порах за танцующую походку его прозвали «Рубль двадцать», но потом, когда пригляделись и полюбили его, не называли его иначе как дядя Дима.
Тюленчук был украинец, тихий и чуть сентиментальный. Он любил свою родину и свой предмет — русский язык. В работе Юнкома он принял самое деятельное участие, и в скором времени литкружок Юнкома сделался наиболее мощным из всех кружков. Кружковцы сперва вели работу замкнутую, втихомолку, а когда окрепли и спаялись, вынесли ее напоказ всей школе.
Литкружок стал устраивать регулярные собрания, на которых члены кружка зачитывали свои произведения. Стали выходить литературные альманахи. За альманахами появились литературные суды над героями классических произведений, а в довершение всего лит- группа Юнкома открыла свое издательство и дала кружку название «Зеленое кольцо».
«Зеленое кольцо» — это не просто красивые слова, это аллегория. Содружество — кольцо молодых, зеленых литераторов. И тут осуществилась мечта Японца о хорошем литературном журнале.
«Зеленое кольцо» предприняло издание толстого литературнохудожественного ежемесячника «Аргонавты». А через некоторое время вышел и первый выпуск библиотечки «Зеленое кольцо» с поэмой Пантелеева о блокаде и голоде.
«Лондон — Чикаго Без остановок» —
Четок и звонок Клич реклам...
Так начиналась эта поэма, носившая название «Мы — им». За этим выпуском последовали и другие...
Юнком твердо стал на рельсы. Оживилась комната Юнкома. Кружки занимались одновременно в четырех углах, а посредине, за столом, уткнувшись в книги, сидели любители чтения. И, как тогда, в темную ночь, в ночь рождения подпольной коммунистической организации, слышались обрывки речи, но уже не придушенные и тихие, а звонкие и свободные:
— Второй конгресс Коминтерна... Двадцатый год... Тридцать семь стран...
367
И слушатели, затаив дыхание, внимательно вслушивались в слова лектора.
— Хорошо,— говорил Пантелееву размякавший в такие минуты Янкель, совсем недавно сделавшийся его сламщиком.
— Хорошо,— подтверждал Ленька, оглядывая чистенькую веселую комнатку.
— Коминтерн... Условия вступающим партиям... Разложения не должно быть... Пропаганда...
Бьются новые слова и глубоко западают в мозг юнкомцев. Улыбается красное знамя школы, поставленное в угол, покрытое чехлом, и подмигивает весело желтенький подсолнух с двумя буквами «ШД» — герб республики Шкид.
СОДОМ И ГОМОРРА
Безвластие.— Сивер Долгорукий.— Ост-инд-кофе.—
Первый налет.— Кутеж.— Босиком на форде.— Два юнкомца и Пирль Уайт.— Содом и Гоморра.
Викниксор уехал в Москву на какой-то съезд работников соцвоса. Управление республикой перешло к Эланлюм. Хотя она и была человеком с сильным характером, но все же она была женщиной. Шкидцы сразу же это поняли, и поняли по-своему. Они забузили. Женщина, по их мнению, была существом куда более безвольным, чем мужчина, да еще такой мужчина, как Викниксор. И этого было достаточно, чтобы Шкида закуролесила.
Сначала особой бузы не было, просто расхлябалась дисциплина: позже ложились спать, опаздывали в столовую и на уроки, чаще грубили воспитателям. Но вскоре нашлись ребята, которые поняли, что из положения можно извлечь выгоду. Коноводом оказался недавно пришедший в Шкиду Сивер Долгорукий...
Происхождения он был, по шкидским масштабам, высокого — сын артиста, а внешности самой грубой, почему и получил в Шкиде прозвище Гужбан.
Гужбан родился в интеллигентной семье — отец, мать и сестра его, как сказано выше, были артистами. Привыкнув к свободной жизни богемы, родители отдали сына с самых малых лет в приют для детей артистов. Там Сивер пробыл до девятилетнего возраста и уже успел показать свою натуру. В «артистическом» приюте он воровал, хулиганил. Его перевели в Царское Село, в приют классом ниже. Там он показал себя вовсю, воровал уже запоем: у начальства, у прислуги и даже у товарищей. Учился в Царскосельской гимназии, но учиться не любил, лодырничал и притом проявил воровские способности. Из
368
первого же класса его выгнали. Вскоре и из приюта выгнали — перевели в другой приют, для дефективных...
Случилось это уже после революции. К этому времени Сивер Долгорукий успел навеки потерять отца, мать и сестру. Отец умер, - мать и сестра уехали неизвестно куда, забыв о нем,— может быть, в горячке, а может быть, и намеренно. Долгорукий пошел по дефективным приютам, из каждого вылетал за воровство, в некоторых как будто остепенялся, но, не выдержав и проворовавшись, шел дальше. Побывал в лавре и в конце концов каким-то образом попал в Шкиду. Сюда пришел он с репутацией «безнадежного», но Викниксор принял его, так как не считал, что можно говорить о безнадежности парня, которому только-только исполнилось пятнадцать лет. Впрочем, возраст Долгорукого всегда и для всех оставался загадкой. Говорил он, что ему пятнадцать лет, а по виду казалось не меньше восемнадцати. Проверить же было невозможно — метрики Долгорукого были утеряны, так что весьма вероятно, что в летах он привирал,— может быть, для того, чтобы оттянуть срок подсудности. Во всяком случае, он пришел с очень плохой славой, сразу же в Шкиде начал бузить, воровать, а тут подвернулось «безвластие», и он полностью показал свою натуру.
Гужбан был в сламе с Цыганом. Цыган, сам будучи парнем развитым, любил дружить с ребятами младших классов, и притом очень часто с отъявленными бузотерами. Может быть, рассчитывал уберечь их от окончательной порчи, хотя и сам он в моральном отношении не был особенно устойчив. Гужбан был хитрым и в то же время сильным. Только перед ним стушевывался Цыган. Долгорукий сумел подчинить его своей воле.
Однажды после уроков Гужбан зашел в четвертое отделение и позвал Цыгана:
— Идем, мне надо с тобой поговорить.
Цыган встал и вышел из класса. Они прошли в верхний зал и уселись на подоконник.
— В чем дело? — спросил Цыган.
Гужбан осмотрелся вокруг и, прищелкнув языком, таинственно пробасил:
— Дело... Заработать можно.
— На чем?
Г ужбан еще раз предусмотрительно оглянулся.
— Кофе...— зашептал он.— Голый барин бачил... Пеповский кофе... на дворе. Там мешок стоит. Голый с Козлом дырку проколупали, фунта два в карманах унесли и чухонке за двадцать лимонов бода- нули... Слыхал?
— Слыхал... Ну так что же?
Гужбан нагнулся к самому уху Громоносцева.
— Кофе-то, он — дорогой...
369
— Ну так что ж? — повторил Цыган.
— В мешке небось на целый миллиард его...
Цыган вздрогнул, потом побледнел.
— Понимаю,— прошептал он.— Но я не хочу, честное слово, Гужбан, я этого больше не хочу...
— Дурак. Счастье в рожу прет, а он — «не хочу».
— Засыплемся ведь...
— Ни псула. В том-то и дело, что обделаем так, что и следа не оставим. Уж поверь.
Цыган стоял, облокотившись на подоконник, кусая губы и бегая взором по полу.
— Когда же? — спросил он.
— Ночью. Тут на арапа нельзя взять, надо с хитростью.
Цыган уже согласился, а согласившись, вошел в азарт.
— Кто да кто? — проговорил он.— Вдвоем неловко, надо шайкой. Голый и Козел уже в курсе, я думаю — их взять в сламу.
— Идет.
Сламщики отыскали Старолинского и первоклассника Козла. Объяснив без обиняков сущность дела, они сразу же встретили согласие.
Только Голый барин слегка сопротивлялся, как до этого сопротивлялся Цыган, но и он, по своему безволию, уже через полминуты вошел в шайку.
Товарищи тут же распределили роли. Цыган и Гужбан делают дело, другие два — зекают.
План похищения кофе разработали подробно, над этим долго размышляли в разрушенном сарае на заднем дворе.
В большой школьной спальне было тихо. Изредка поскрипывала дверца электрического вентилятора да храпели воспитанники, каждый по-своему — кто с присвистом, кто хрипло, кто нежно и ровно. Угольная лампочка, застыв, не мигала...
За стеной, в квартире Эланлюм, саксонские куранты пробили два часа. В тот же момент в разных углах спальни четыре головы приподнялись над подушками и прислушались. Остальные ребята лежали не двигаясь и храпели, как прежде. Тогда четыре человека, неслышно спрыгнув на пол, крадучись пробрались к дверям и вышли в коридор.
— Вниз,— шепнул Гужбан.
Сошли по парадной лестнице вниз, к запасному выходу из швейцарской. Но двери, обычно закрываемые лишь на засов, были теперь заперты на ключ.
— Чертова бабушка! — выругался Цыган.
— Ни хрена,— ответил Гужбан.— Хряем наверх, через выходную дверь.
— А ключ?
370
Гужбан не задумывался.
— Хряемте наверх. Подкупим дежурного — и баста... Когда придем, говорите, что в уборную шли, завернули покурить.
Но хитрости не потребовалось. На кухне горел свет, тараканы бегали по выложенным кафелем стенам и мерно тикали часы. Дежурный Воробей сидел у стола, положив голову на руки. Гужбан один прошел на кухню и, подойдя на цыпочках к Воробью, заглянул ему в лицо... Воробей спал. Гужбан тихо открыл ящик стола и, вынув большой, надетый на проволочное кольцо ключ, так же осторожно закрыл ящик и вышел из кухни...
Осталось открыть выходную дверь. Это было нетрудно. Четыре парня спустились по лестнице во двор.
Ночь была жаркая. Пахло гнилым деревом и землей. В шкидских окнах было темно. Лишь наверху в мансарде, где жил Алникпоп, теплилась мигающим огоньком керосиновая горелка. Где-то на улице проехала извозчичья пролетка, гулко отщелкали подковы по мостовой, и снова замерла ночь.
— Тссс...— прошипел Гужбан, и видно было, как в темноте блеснули стиснутые белые зубы.
Крадучись по стене, прошли к дверям, ведущим в магазин ПЕПО1. У железных дверей стоял, как ненужная вещь, мешок. Цыган нагнулся и прочел при свете фонаря:
«Бритиш... ост-инд-кофе». Кофе! — чуть не закричал он.— И верно — кофе, елки-палки!
— Тише ты, цыганская морда! — прошипел Долгорукий.— Живо! Барин, Козел, на стрему!.. Голый на забор, Козел к лестнице!
Сам он схватил мешок с одного конца. Цыган впился пальцами в другой. С тяжелой пятипудовой ношей они побежали к забору.
За забором находился завод огнетушителей, отделяемый от улицы полуразрушенным одноэтажным зданием, бывшим когда-то заводским складом.
— Лезь на забор! — приказал Цыгану Гужбан.— И ты, Голый!
Громоносцев и Старолинский взобрались на невысокий деревянный забор, утыканный острыми гвоздями. Держаться на этих гвоздях было нелегко. Гужбан напряг мускулы и, подняв мешок, подал его товарищам.
— Держите, затыки,— прохрипел он.— Осторожно!..
Потом залез сам на забор и, прислушавшись, скомандовал:
— Бросай!
Тяжелая туша мешка ударилась о груду угольного щебня. За мешком спрыгнуло на землю три человека. Они минуту сидели молча, ощупывая продранные штаны, потом схватили мешок и поволокли его в развалины склада. Там зарыли мешок, засыпали щебнем и с теми же предосторожностями отправились в обратный путь.
Воробей все еще крепко спал, поэтому положить ключ в ящик
1 Кооператив: Петроградское единое потребительское общество.
371
стола было делом мгновения. Не замеченные никем, прошли в спальню, разделись и заснули.
Продать кофе взялся Гужбан, имевший на воле связь со скупщиками краденого.
— Пейте, товарищи, пейте, растыки грешные!
Пили, плясали, пели...
Трещали половицы, трещали головы, в ушах трещало, шабашом кружило в глазах.
— Пейте! — кричал Гужбан.— Пейте, браточки!..
Сидел Гужбан на березовом полене, суковатом, с обтертой корой. Цыган развалился на полу в позе загулявшего в волжских просторах Стеньки Разина. Тут же были Козел, Барин, Купец, Бессовестный, Кальмот, Курочка и два юнкомца — два юнкомца, поддавшиеся искушению, подкупленные юнкомцы — Пантелеев и Янкель.
Справляли успех дела.
Гужбан загнал кофе за восемьсот лимонов, а восемьсот лимонов и в те дни были суммой немалой, тем более в Шкиде, сидевшей на хлебе — фунтовом пайке, на пшенке и тюленьем жире.
Деньги поделили не поровну. Гужбан взял триста лимонов, Цыган двести, а Голому и Козлу по полтораста отмерили. А в честь успеха дела задали кутеж, кутеж, по шкидским масштабам, необыкновенный.
Дело не раскрылось совсем. В школе о нем не узнали. Пеповцы решили, должно быть, что кофе украли налетчики с воли, а заглянуть наверх не додумались.
А шайка, заполучив большие деньги, не зная, куда их деть, кутила...
— Пейте, задрыги!
Ящики пива на полу, четверть самогона на столе, сделанном из поленьев, колбаса, конфеты, бисквиты, шоколад...
В комнате ломаного флигеля, в комнате, заложенной дровами,— кутеж...
— Пей!
Многие пили впервые...
Пили и блевали тут же у поленницы — рядом с шоколадом и бисквитами «Альберт»...
372
— Спой, голубчик,— обнимал Гужбан Бессовестного,— Володька, черт, спой, прошу тебя... Песен хочу!
Пел Бессовестный голосом мягким и красивым:
Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки.
Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.
Янкель и Пантелеев — в углу. Сидели тихо, не шевелясь. Хмель расползался по телу, сердце стучало от хмеля. От хмеля ли только? Ог стыда стучало сердце и ныло.
«Юнком, коммунары... Продались... Эх, жисть-жестянка!..»
Выпив же самогона, повеселели. Стыд прошел, хмель же не пропал... Пели, обнявшись,— деланным басом Пантелеев и природным тенором Янкель:
На пятнадцать лимонов устрою дебош,
Эй, Гужбан, пива даешь!
Купец, надрызгавшись, валялся на полу, сгребал Старолинского, щекотал.
— Голенький, дай лимончик.
Давал ему Барин лимончики. Жалко, что ли, когда их в кармане сто штук!..
Звенели от пляски остатки оконных стекол, и текло пиво, смешиваясь с блевотиной, под поленницу березовую.
Идет мой милый с города пьяный,
Стук-стук в окошко, я, твой коханый,
С кровати встала, дверь отворила,
Поцеловала, спать положила.
Пел Бессовестный, обнимал Бессовестного Гужбан — сын артиста,— смеялся и плакал.
— Володька... Пой! Пой, растыка! Талант сжигаешь... Хо-хо-аааа!..
Потом обнимал Цыгана, целовал, шептал:
— Морда цыганская, дружище!.. У меня отец и мать сволочи, один ты друг. А я съехал, скатился к чертям...
Пили, пели, плясали...
Потом всей компанией, босой, рваной и пьяной, пошли гулять... По улице шли — смеялись, кричали, ругались, а Бессовестный шел наклонив голову и по просьбе Гужбана пел:
— Не ходи, милый, с городу пьяный,
Тебя зачалит любой легавый.
373
— Милая Дуся, я не боюся,
Если зачалят, я откуплюся.
У Калинкина моста стоял автомобиль, дрянненький фордовский автомобиль, тонконогий, похожий на барского мальчика, короткоштанного, голоколенного.
— Мотор! — закричал Гужбан.— Мотор! В жисть не ездил на моторе.
— Сколько до Невского? — обратился он к шоферу.
Шофер — латыш или немец — поглядел с удивлением и ужасом на босых, лохматых парней и крикнул:
— Пошел потальше, хуликан!..
— Сколько? — рассвирепев, прокричал Гужбан* выхватывая из кармана пачку лимонов.
Шофер торопливо осмотрелся по сторонам, открыл дверцу автомобиля.
— Сатись... Пятьдесят лимоноф...
— Лезь, шпана!— закричал, не задумываясь, Гужбан.
Полезли босые в кожаную коляску автомобиля фордовского.
Уселись. Ехали недолго, по Фонтанке. На Невском шофер дверцу отворил:
— Фылезай.
Вылезли, бродили по Невскому...
Ели мороженое с безвкусными вафлями (на вафлях надписи — «Коля», «Валя», «Дуня»), ели яблоки, курили «Трехсотый «Зефир» и ругались с прохожими.
Потом пошли оравой в кино. Фильм страшный — «Таинственная рука, или Кровавое кольцо» с Пирль Уайт в главной роли.
Смотрели, лузгали семечки, сосали ириски и отрыгали выпитым за день самогоном и пивом.
Домой в школу возвращались поздно, за полночь... Заспанный Мефтахудын открывал ворота, ругался:
— Сволочи, секим башка... Дождетесь Виктыр Николаича.
Ночной воспитатель записал в «Летопись»:
«Старолинский, Офенбах, Козлов, Бессовестин, Пантелеев, Черных и Курочкин поздно возвратились с прогулки в школу, а воспитанники Долгорукий и Громоносцев не явились совсем».
Гужбан и Цыган в школе не ночевали, они ночевали на Лиговке...
Янкель и Пантелеев стояли опустив головы, не смотрели в глаза. Цекисты, сгрудившись у стола, дышали ровно и впивались взорами в обвиняемых...
Рассуждали:
— Сами признались. Снисхождение требуется.
— Факт. Порицание вынесем, без огласки.
374
И в сторону двух:
— Смотрите!..
Янкель и Ленька взглянули в глаза Японцу.
— Япошка!.. Честное слово... Сволочи мы!..
У Гужбана деньги вышли скоро... Казалось только, что трудно истратить восемьсот миллионов, а поглядишь, в день прокутил половину, там еще — и ша! — садись на колун. А сидеть на колуне — с махрой, с фунтяшником хлеба — после шоколада, кино, ветчины вестфальской и автомобиля — дело нелегкое.
Гужбан задумался о новом. Новое скоро придумал и осуществил.
Темной ночью та же компания взломала склад ПЕПО, что помещался на шкидском же дворе. Сломали филенки дверные, пролезли, вынесли ящик папирос «Осман», филенки забили.
Снова кутили.
На полу, в коридорах, классах и спальнях школы — всюду валялись окурки с золотым ободком, «Осман» курила вся школа, и на колуне никто не сидел: щедрым себя показал Гужбан с миллиарда.
Случилось еще — ушли в отпуск лучшие халдеи — Косталмед и Алникпоп. Эланлюм растерялась совсем, уже не могла вести управление, сдерживать дисциплиной Содом и Гоморру...
Пошло безудержное воровство. Крали полотенца, одеяла, ботинки.
Юнком пытался бороться, но при первой же попытке подручные Гужбана избили Финкельштейна и пригрозили Пантелееву и Янкелю рассказать всей Шкиде про кофе и Пирль Уайт.
Как-то пришел к Пантелееву Голый барин. Дружен был он с Пантелеевым, любил его и говорил по-человечески.
— Боюсь я, Ленька,— сказал он.— Наши налет на «Скороход» готовят, надо сторожа убить... Ей-богу... Мне убивать...
Бледнел гимназистик Голенький, рассказывая.
— Мне. Да я... После придет в столовую Викниксор да скажет: «Кто убил?» — так я бы не вытерпел, истерика бы со мной случилась, закричал бы...
Голый плакал грязными слезами, морщил лицо, как котенок...
— Ладно,— утешал Пантелеев,— не пропал ты еще... Вылезешь...
А раз сказал:
— Записывайся в Юнком.
Удивился Голый, не поверил.
— А разве примут?
— Попробуем.
Свел Ленька Барина на юнкомское собрание, сказал:
— Вот, Старолинский хочет записаться в Юнком. Правда, он набузил тут, но раскаивается, и, кроме того, у нас не комсомол, организация своя, дефективная, и требования свои.
375
Приняли в кандидаты. Стаж кандидатский назначили приличный и обязали порвать с Гужбаном.
Но Гужбан не остыл. Сделав дело, он принимался за другое. Покончив с ПЕПО, вывез стекла из аптекарского магазина, срезал в школьных уборных фановые свинцовые трубы. Однажды ночью пропали в Шкиде все лампочки электрические — осрамовские, светлановские и дивизорные — длинные, как снаряды трехдюймового орудия.
Зараза распространялась по всей Шкиде. Рынок Покровский, уличные торговки беспатентные трепетали от дерзких мальчишеских налетов.
Это в те дни пела обводненская шпана песню:
С Достоевского ухрял И по лавочкам шманал...
На Английском у Покровки Стоят бабы, две торговки,
И ругают напропад Достоевских всех ребят,
С Достоевской подлеца —
Ламца-дрица а-ца-ца...
Это в те дни школа, казалось, сделав громадный путь, отступила назад...
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
В ветреную ночь.— Без плацкарты и сна.— В Питере.— Эланлюм докладывает.— У прикрытого абажура. — Остракизм. — Нерадостный выпуск. — Снова колеса тарахтят.
Волком выла за окном ветреная ночь, тарахтели на скрепах колеса, слабо над дверью мигала свеча в фонаре. Рядом в соседнем купе — за стеной лишь — кто-то без умолку пел:
Выла вьюга, выла, выла,
Не было огня-а-а,
Когда мать роди-ила Бедново миня...
Пел без умолку, долго и нудно; и поздно, лишь когда в Твери стояли — паровоз пить ушел,— смолк: заснул, должно быть... За окном завывала на все голоса ветреная ночь, а в купе храпели —
376
студент с завернутыми в обмотки ногами, дама в потрепанном трауре и уфимский татарин с женой. Храпели все, а татарин вдобавок присвистывал носом и во сне вздыхал.
Викниксору спать не хотелось. Днем он немного поспал, а сейчас с; .дел не двигаясь в углу, в полумраке, и, прикрывшись от фонарных лучей, думал...
Мысли ползли неровные, бессвязные, тянулись туда, в сторону, куда вертелись колеса вагонов,— к Питеру, к Шкиде.
За месяц съезда еще больше полюбил Викниксор Шкиду, понял, что Шкида — его дитя, за которым он хочет и любит ходить. Что-то там? Хорошо ли все, не случилось ли чего? Знает Викниксор, что все может случиться: Шкида — ребенок-урод, положиться на него трудно. А сейчас и момент опасный выдался: много «необделанных», новых дефективников пришло перед самым Викниксоровым отъездом...
— Что-то там?..
Думал Викниксор... А потом задремал. Снились — Минин на Красной площади, «Летопись», Эланлюм, ребята в школьной столовой за чаем, вывеска на Мясницкой — «Главчай», докладчик бритый, с усами вниз, на съезде соцвоса и Шкида опять — Японец с гербом- подсолнухом в руках, Юнком...
Потом смешалось все. Вывеска на Мясницкой попала в «Летопись», «Летописью» размахивал бритый докладчик соцвоса, в школьную столовую вошел каменный Минин... Заснул Викниксор.
Разбудил студент:
— Вставайте, товарищ... Питер.
Вставать не хотелось. Зевая, спустил ноги, поднял свалившееся на пол пальто...
Когда вышел на площадь — радость забилась в груди. Теплым, родным показалось все — питерские извозчики, газетчики, носильщики. И даже Александр III с «венцом посмертного бесславья» показался красавцем.
Над Петроградом встало утро.
Было не жарко. Викниксор хотел сесть в трамвай, но трамвай долго не шел, и он решил идти пешком. Снял пальто и пошел по Лиговке, по Обводному к школе. Пуще прежнего беспокоил вопрос: что-то там?
На Обводном, у электрической станции, катали возили по сходням на баржу тачки с углем. Викниксор постоял, посмотрел, как черный уголь, падая в железное брюхо баржи, сверкал хрустальными осколками, посмотрел на воду, блестевшую накипью нефти, потом вспомнил — что-то там? — и зашагал быстрее.
Солнце упрямо лезло вверх, было уже жарко, золотая сковородка стояла теперь у Ново-Девичьего монастыря.
Эланлюм сидела, Викниксор стоял, хмурился, слушал. В глазах его уже не было улыбки.
— Ах, Виктор Николаевич, я из сил выбилась, я ничего не могла сделать, я устала...
Викниксор стоял, облокотившись на шифоньерку. Молчал. Слушал. Эланлюм рассказывала:
— Этот Долгорукий... Он неисправим, он рецидивист, он страшный...
Викниксор молчал. В глазах его улыбка становилась растерянной, грустной, почти отчаянной.
Долга потом сидел у себя в кабинете за массивным столом и, прикрыв абажур, думал.
«...Долгорукий безнадежен?.. Не может быть, что в пятнадцать лет мальчик безнадежен... Что-то не использовано, какое-то средство забыто...»
Открыл ящик стола, вынул папку коричневую с надписью: «Характеристика в-ков».
Отыскал и отложил одну.
...Сивер Долгорукий... Вор. Воровал в приюте для детей артистов, воровал у товарищей... Детдом № 18... Воровал... Детскосельская гимназия. Воровал, выгнан... Учился плохо... Институт для дефективных подростков... Воровство, побег... Лавра...
А все-таки что-то еще не использовано. Что же?!
И вот нашел, вспомнил забытое. Трудовое воспитание!
Труд, физический труд... Он в мастерских и цехах фабричных, у домны, у плуга, у трактора «Фордзон». Он — лучший воспитатель на земле, он сможет сделать то, чего не смогли сделать люди с книгами...
К нему решил обратиться Викниксор за помощью, когда дело казалось уже безнадежным.
В тот же день, усталый, метался он из губоно в земотдел, из земотдела в профобр. Доказывал, убеждал, а убедив, возвращался в Шкиду и, поднимаясь по лестнице, напевал:
Путь наш длинен и суров,
Много предстоит трудов,
Чтобы выйти в люди.
За вечерним чаем Викниксор, хмурясь, вошел в столовую.
— Здравствуйте.
— Здрасти, Виктор Николаевич,— ответили глухим хором.
Сидели, ждали. Знали, что Викниксор что-нибудь скажет, а если
скажет, то нерадостное что-нибудь.
Молчали. Дули в кружки горячего чая, жевали хлеб. Маркс — портрет над столом волынян — впивался взором в мрачные зрачки Федора Достоевского. Ребята смотрели на Викниксора. Викниксор молчал. Пар туманом плыл над столами...
Наконец Викниксор сказал:
378
— Сегодня — общее собрание.
Кто-то вздохнул, кто-то спросил:
— Когда?
— Сейчас же... После чая.
Кончили чай, отделенные дежурные убрали посуду, смели хлебные крошки с обитых черной клеенкой столов. Викниксор поднялся, постучал пальцем по виску и заговорил, растягивая слова, временами повышая голос, временами опуская его до шепота:
— Ребята! Вы знаете, о чем я буду говорить, о чем я должен юворить, но чего не скажу. Вы знаете: за мое отсутствие в школе произошли вещи, никогда раньше не имевшие случая... Все совершенное зафиксировано в «Летописи»... Школа превратилась в притон воришек, в сборище опасного в социальном отношении элемента... Это только кажется, что это так, но это не так. Я верю, что школа осталась той же, подавляющее большинство вас изменилось к худшему лишь постольку, поскольку отошло от уровня... Но это пустяки. Это можно исправить. Виною всему группа...
Викниксор посмотрел в сторону Долгорукого. За Викниксором все взоры обратились в ту же сторону. Гужбан съежился и опустил глаза.
— ...Группа,— повторил Викниксор,— группа негодяев, рецидивистов, атаманов... Такими я считаю...
Все насторожились. Создалась тишина, мрачная, тяжелая тишина.
— ...Долгорукого, Громоносцева, Бессовестина. Их я считаю в условиях нашей школы неисправимыми. Единственное, что я мог для них придумать — это трудовое воспитание. Они переводятся в Сельскохозяйственный техникум, в Петергофский уезд. Я надеюсь, что там, в мирной обстановке сельского хозяйства, в постоянном физическом труде, они исправятся. Я надеюсь...
Слова Викниксора прервали дикие грудные всхлипы, крикливые стоны. Показалось, что ветер завыл в трубе и, хлопая вьюшками, рвется наружу...
Это рыдал Цыган. Рыдал, уткнувшись лицом в сложенные руки, дергал плечами. Рыдал первый раз в Шкиде. Потом закричал:
— Не хочу! Не хочу в сельский техникум... Учиться хочу... на профессора. На математический факультет хочу. А свиней пасти не желаю...
И снова рыдал, дергал плечами.., Потом притих.
Викниксор подождал немного, прошелся из конца в конец столовой и продолжал:
— Громоносцев хочет учиться, но учиться он не может. Человек огот морально слаб. Из него выйдет негодяй, а образованный негодяй ьо сто раз хуже необразованного. Если труд его исправит — он сможет вернуться к книгам. Поэтому, повторяю, лучшего выхода я не вижу. Дальше... Остальные должны быть наказаны, и за них мы возьмемся своими силами. Вы должны сами выявить из своей среды воров. Для этой цели мы прибегнем — к остракизму...
379
Загудела столовая, зашумела, как лес осеннею ночью... Кто-то закричал:
— Долой!
Кто-то зашикал и криком же ответил:
— Правильно! Даешь остракизм!
Викниксор, любивший оригинальное, залез в глубокую древность, вытащил оттуда остракизм и сказал: «Шкидцы, вот вам мера социальной защиты, вот средство от воров, патент на которое я, к сожалению, взять не могу, так как он уже взят две с половиной тысячи лет тому назад в Афинах...»
Дежурный воспитатель Амебка нарезал шестьдесят листков бумаги и роздал их по столам.
— Каждый должен написать три фамилии,— сказал Викниксор,— фамилии тех, кого он считает наиболее опасными. Получивший более пяти листков переводится из школы в другое заведение, больше трех — получает пятый разряд и букву «В» (вор), получивший более одного листка переводится разрядом ниже того, в котором находится в настоящий момент. Пишите, но — смотрите, будьте справедливы, не сводите счетов с недругами, не вымещайте злобу на невиновных... Пишите!..
Столовая снова загудела и тотчас же погрузилась в молчание. Медленно заходили карандаши по бумаге, заскрипел графит... Сидели, обдумывали, прятали, прикрывали рукой листки...
Написав, каждый сворачивал листок в трубочку и отдавал дежурному. Дежурные относили бумажные «остраконы» к воспитательскому столу и складывали их в припасенный для этой цели ящик. Наконец, когда в ящике скопилось ровно шестьдесят листков, Викниксор встал и заявил:
— Приступим к выяснению результатов. Выберите контролеров.
Контролерами избрали Курочку, Японца, Кобчика и Мамочку.
Японец притащил из класса лист писчей бумаги и чернила и уселся рядом с Викниксором для подсчета голосов. Тогда Викниксор вытащил из ящика первый листок...
Снова тишина, жуткая и тяжелая.
Викниксор развернул листочек и прочел:
— «Громоносцев, Долгорукий, Устинович».
Развернул второй листок.
— «Долгорукий, Громоносцев, Федулов».
Развернул третий.
— «Долгорукий, Козлов, Петров».
Четвертую записку столовая встретила жутким смехом:
— «Боюсь писать — побьют».
Около двадцати листков оказались незаполненными,— вероятно, по той же причине.
Кончив чтение записок, Викниксор совместно с контролерами
380
занялся подсчетом голосов. Результаты оказались такими: Долгорукий — тридцать шесть, Громоносцев — тридцать, Козлов — двадцать шесть, Устинович — тринадцать, Бессовестин — семь... Старолинский получил три голоса. Купец — два. Янкель и Пантелеев — по одному.
Викниксор сообщил:
— В Сельскохозяйственный техникум переводятся не три чело- ьгка, а четыре. А именно — Долгорукий, Бессовестин, Громоносцев и Устинович. Козлов, как не подходящий по знаниям к техникуму, переводится на Тарасов или на Мытненку...
Козлов заплакал. «Тарасов» и «Мытненка» были распределители, откуда прямая дорога вела в лавру.
— ^Общее собрание закрыто,— объявил Викниксор.
Ребята поплелись из столовой.
Когда все вышли, за столом остался один Цыган. Он сидел, уткнувшись лицом в сложенные руки, и всхлипывал.
Через несколько дней состоялся «первый выпуск». Он прошел без помпы. За обедом Викниксор смягченным тоном сказал напутственную речь выпускникам. Все смирились с перспективой ухода из школы: Долгорукий — по привычке скитаться с места на место, Устинович — по врожденному хладнокровию, а Бессовестин был даже немного рад переводу в Сельскохозяйственный техникум, так как любил крестьянскую жизнь. Лишь один Громоносцев до конца оставался хмур, ни с кем не разговаривал, и часто слышали, как он по ночам плакал...
После обеда выпускники, распрощавшись с товарищами и халдеями, отправились на Балтийский вокзал, к пятичасовому поезду на Нарву. Провожали их Янкель, Пантелеев, Японец и Дзе.
Шли по Петергофскому, потом своротили на Обводный. Выпускники, одетые в полученное из губоно «выпускное» — суконное пальто, брюки и гимнастерки,— несли на плечах мешки с бельем и прочим небогатым имуществом.
Громоносцев, окруженный товарищами по классу, шел позади.
— Что, Коля, неохота уходить? — спросил Янкель.
Цыган минуту молчал.
— Убегу! — воскликнул* он вдруг глухим голосом.— Честное слово, убегу... Не могу.
— Полно, Цыганок,— ласково проговорил Японец.— Обживешься. Пиши чаще, и мы тебе будем писать. Конечно, уходить не хочется, все-таки три года пробыли вместе, но...
Дальше Японец не мог говорить — что-то застряло в горле.
Каждый старался утешить Цыгана, как мог.
На вокзале выпускников ожидал вернувшийся недавно из отпуска Косталмед. Он усадил их в вагон, вручил билеты и, простившись, ушел в школу.
Провожающие до звонка оставались в вагоне с выпускниками.
381
Когда на перроне прозвенел второй звонок, товарищи переобнималис^ и перецеловались друг с другом. Громоносцев опять заплакал. 3a«ij плакали и Японец с Пантелеевым.
■— Счастливо! — крикнул Янкель, выходя из вагона.— Пишите!..!
— Будьте счастливы! — повторили другие.
Поезд тронулся. Изгнанники сидели молча. Говорить было не о чем, вспоминать о прошлом было страшно и больно, нового еще не было.
В купе было душно, пахло стеариновым нагаром и нафталином* Тарахтели на скрепах колеса, в окне плыли березы, и казалось, что не березы, а люди бежали, молодые резвые девушки в белых кружевных платьях.
РАСКОЛ В ЦЕКА
Киномечты.— Принципиальный вопрос.— Курительный конфликт.— «День».— Быть или не быть.— Раскол в Цека.— Борьба за массы.— Перемирие.
Уже час ночи. Утомившиеся за день шкидцы спят крепким и здоровым сном. В спальне тихо. Слышно только ровное дыхание спящих. В раскрытые окна врывается ночной ветерок и освежает комнату.
Все спят, только Ленька Пантелеев и Янкель, мечтательно уставившись в окно, шепотом разговаривают. Сламщикам не спится. Их кровати стоят как раз у окна, и прохладный воздух освежает и бодрит разгоряченные тела.
— Ну и погодка,— вздыхает Янкель.
— Да, погодка что надо,— отвечает Пантелеев.
Янкель минуту молчит и чешет голову, потом вдруг неожиданно говорит:
— Эх, Ленька! Сказать тебе? Задумал я одну штуку!..
■— Какую?
— Ты только не смейся, тогда скажу.
— Чего же смеяться,— возмущается Пантелеев.— Что же мы — разве не сламщики с тобой?
— Правда,— говорит Гришка.— Мы с тобой вроде как братья.
— Конечно, бгатья. Ну? ,
— Что ну?
— Какую штуку?
— Есть у меня, понимаешь, мечта одна,— тихо говорит Янкель, умиленно глядя на кусочек неба, виднеющийся из-за переплета, окна.— Хочу я, брат, киноартистом сделаться. i
i
382 I
Пантелеев вздрагивает и быстро поднимает голову над подушкой.
— И ты?
— Что и ты?
— И ты об этом мечтаешь?
— А разве и ты? — изумился Янкель, и Пантелеев смущенно признается:
— Ия. Только я хочу режиссером быть. Артист из меня не получится. Я в Мензелинске пробовал... Дикция у меня неподходящая.
— А у меня какая? Подходящая? — интересуется Гришка, имеющий довольно смутное представление о том, что такое дикция и с чем ее кушают.
— У тебя — хорошая,— говорит Пантелеев.— Ты все буквы подряд произносишь. А я картавлю...
Даже в темноте видно, как покраснел Ленька. Янкелю делается жалко сламщика.
— Ничего,— говорит он, утешая друга, и, помолчав, великодушно добавляет: — Зато я рисовать не могу. Я — дальтоник.
Это почище дикции. Пантелеев сражен. Минуту он молчит и соображает, потом спрашивает:
— Руки трясутся?
— Нет, руки не трясутся, а я в красках плохо разбираюсь. Не отличаю, где красная, где зеленая. А вообще, ты знаешь, это здорово, что у нас одна мечта с тобой.
— Еще бы,— соглашается Пантелеев.— Вдвоем легче будет. Ведь я, ты знаешь, давно уже думал: как выйду из Шкиды,— так сразу в Одессу на кинофабрику. Попрошусь хоть в ученики и буду учиться на режиссера.
— А меня возьмешь?
— Куда?
— В Одессу.
— Чудила. Я тебя не только в Одессу, я тебя на главную роль возьму.
— А какие ты фильмы ставить будешь?
— Ну, это мы подумаем еще. Революционные, конечно...
— Вроде «Красных дьяволят»?
— Хе! Получше еще даже.
Янкель уже загорелся.
— А ты знаешь, ведь это не так сложно все. Выйдем из Шкиды, получим выпускное и — айда на юг. Эх, даже подумать приятно!.. Солнце... пальмы там всякие... виноград... Черное море... Шиково заживем, Ленька, а?
У Янкеля, за всю жизнь не выезжавшего из Питера дальше Лигова и Петергофа, представление о юге самое радужное. Умудренный жизненным опытом Ленька несколько охлаждает его пыл.
— А деньги? — спрашивает он, иронически усмехаясь.
383
— Какие деньги?
— Как какие? А на что жить будем? Да и на дорогу... ВедЦ зайцами небось не поедем.
— А что? Разве трудно?
— Нет, с меня хватит,— говорит мрачным голосом Ленька.
Янкель задумывается, сраженный вескими аргументами сламщика.
Он пристально смотрит в окно, за которым синеет ночное питерское небо, и вдруг радостно вскрикивает:
— Эврика!
— Ну?
— Деньги надо копить.
— Спасибо! Весьма вам благодарен. Очень остроумная идея.
— А что? Конечно, остроумная. Начнем копить сейчас же, с этой минуты. Глядишь, к выходу и накопим изрядную сумму.
Янкель приподнимается, стаскивает с табуретки свои штаны и деловито роется в карманах. Потом извлекает оттуда две бумажки и показывает сламщику.
— Вот. От слов перехожу к делу. Вношу первый вклад. У меня два лимона есть. Если и у тебя есть — давай в общую кассу.
Пантелеев вносит в общую кассу три миллиона.
— Начало положено,— торжественно заявляет Янкель, засовывая пять миллионов рублей в обшарпанный спичечный коробок.
Для пущей торжественности сламщики закрепляют свой союз крепким рукопожатием.
И долго еще шелестят в тишине приглушенные голоса, долго не могут заснуть сламщики и все говорят, строят планы и мечтают. Изредка в их речь врывается лай собаки, свист милиционера или пьяный шальной выкрик забулдыги, которого хмель завел в неизвестные края.
Все чаще и чаще замечают шкидцы, как уединяются и шепчутся между собой сламщики Янкель и Пантелеев. Сядут в углу в стороне от всех и долго о чем-то говорят, горячо спорят. Сперва не обращали внимания. Ведь сламщики все-таки, мало ли у людей общих дел. Но дальше стало хуже — парочка совсем одичала, отделилась от коллектива, и дошло до того, что ни тот ни другой не являлись на заседание Цека.
В Цека было всего пять человек, и отсутствие почти половины цекистов, конечно, было замечено. Ребята возмутились и сделали сламщикам выговор, но те и к этому отнеслись совершенно равнодушно.
Все больше и больше отходили Янкель и Пантелеев от Юнкома. «Идея» захватила целиком обоих. Уже не раз Япончик напоминал Янкелю:
— Пора бы «Юнком» выпускать. Две недели газета не выходит. На собрании взгреют.
384
Но Янкель выслушивал его рассеянно. Говорил, глядя куда-то в сторону:
— Ладно, сделаем как-нибудь.
Оба сламщика стали необычайно рассеянны и сварливы. Уже давно оба перестали ходить на занятия Юнкома, и по-прежнему их I оловы были заняты только одним! набрать денег к выходу, уехать на юг, на кинофабрику. ’
Вечерами сидели в уголке и мечтали.
А в Юнкоме тем временем росло недовольство, глухое, но грозное.
— Что же это? Долго будет так продолжаться?
— Работу подрывают.
— Недисциплинированные члены!
— А еще в Цека забрались!
Ячейка волновалась.
Однажды на общем собрании юнкомцев обсуждался вопрос о новых членах. Среди вновь вступавших было много недозревших, которым необходимо было присмотреться, прежде чем самим работать в Юнкоме. При обсуждении кандидатур большинство Юнкома высказалось в этом духе. Другая же сторона — Янкель, Пантелеев и примкнувший к ним Джапаридзе — яростно отстаивала противоположную линию.
— Вы неправы, товарищи,— горячился Гришка.— Вы неправы. Наша организация сама по себе несовершенна и не узаконена. Мы еще ,сами незрелые.
— Как сказать. Может быть, Черных о себе говорит,— ядовито вставил Японец.
— Нет. Я не только о себе говорю, а говорю о всех. Мы незрелы, но все же развиты более остальных, и наша прямая задача — как можно больше вовлекать новых членов, пусть даже мало подготовленных, но желающих работать. И именно здесь, у нас, в организации, они будут шлифоваться.
— Кто же их будет отшлифовывать? — пискнул Финкельштейн ехидно.
Янкеля передернуло.
— Конечно, не Кобчик, социальные взгляды которого в первобытном состоянии,— отпарировал он.— Новых членов будет отшлифовывать среда и общее стремление к одной цели. Пример такой шлифовки у нас уже есть.
— Укажи! — крикнул кто-то из сидевших.
— И укажу,— разгорячился Янкель. Потом он обернулся к Пантелееву: — Ленька, расскажи про Старолинского.
Ленька поднялся, шмыгнул носом и проговорил:
— Факт. Старолинский отшлифовался. От долгоруковских похождений до Юнкома путь далекий. Однако вы все знаете, что этот путь он прошел хорошо. Взгляните теперь на Старолинского — вот он сидит. Разве можно теперь подумать, что Старолинский тискал
13 Школьные годы. Выпуск 1
385
кофе? Нельзя. Старолинский сейчас у нас лучший член. О чем же говорить-то?
Вид смущенного Старолинского на минуту убедил всех в правоте меньшинства. Однако выступившие вслед за тем Еонин и Пыльников с треском разрушили все доводы Янкеля и Пантелеева.
Собрание единодушно постановило:
«Прием членов ограничить. Каждый вступающий вновь должен выдержать месяц испытательного срока, затем месяц кандидатуры с рекомендациями трех членов и наконец месяц учебной подготовки».
Огорченное провалом меньшинство голосовало против, а потом, взобравшись на подоконник, вытащило из карманов папироски и отказалось принимать дальнейшее участие в собрании.
— Это неправильно. Это же обессиливаний ячейки, насильственный зажим,— горячился разнервничавшийся Янкель, злобно обкусывая кончик папиросы и сплевывая прямо на улицу. Дзе и Пантелеев поддакивали ему. После этого обсуждался вопрос об Октябрьском спектакле. Когда все высказались, Еонин сделал попытку примирить меньшинство.
— Эй вы, на окне! Как ваше мнение о проведении вечера?
— Мы воздерживаемся от мнений,— буркнул Пантелеев.
— И предпочитаете курить?
— Хотя бы так.
Японец взволновался, потом притворно-равнодушно заявил:
— Между прочим, мне кажется, надо обдумать вопрос о курении в Юнкоме. И вообще стоит ли членам нашей организации курить?
— Ишь гусь,— злобно хихикнул Янкель.— Сам не куришь, так под нас подкапываешься. Номер не пройдет. Решайте не решайте, а курить будем.
— Как решим,— протянул Японец.
Дальше Янкель не выдержал и вышел за дверь, за ним последовал и Пантелеев, а Дзе, минуту постояв в нерешительности, погасил о подошву окурок и сел за стол. На повестку дня был поставлен вопрос о курении. Большинством голосов постановили в помещении Юнкома не курить.
— Не курить, значит! Ну что ж, ладно, не будем курить в Юнкоме,— злобно шипел Пантелеев, читая протокол собрания, вывешенный на стене.
— Это нарочно. В пику нам. Японец свое влияние и силу показать хочет. Предостерегает нас,— бормотал Янкель.
Постановление разъярило обоих. Сламщики настолько разгорелись боевым задором, что даже забыли о своей идее.
— Надо бороться. Пусть они знают, что и мы имеем право говорить. Мы им покажем, что они неправы,— горячился Янкель.
386
— Правильно,— согласился Пантелеев.— Мы должны говорить. А говорить веско и обдуманно можно только через печатный орган, следовательно...
— Ну?
— Следовательно...
Янкель насторожился.
— Ты хочешь сказать: следовательно, нужно издавать орган, через который мы можем говорить с Юнкомом?
— Да, друг мой, ты прав,— заключил Пантелеев, снисходительно улыбаясь.
Янкель задумался, усиленно почесывая ногтем переносицу, потом попробовал протестовать:
— А «Юнком» как? Ведь и «Юнком» я же издаю. Следовательно...
— Да, опять следовательно... Следовательно, нужно либо его бросить, либо совместить с новым изданием. Да чего ты беспокоишься? Совместишь. А новый орган нам необходим.
— Да, ты прав.
Вечером в углу, в стороне от класса, сидели оба и что-то яростно строчили.
Никто не обращал внимания на притихших сламщиков, но Японец, хорошо знавший характер обоих, уже забеспокоился, чувствуя, что готовится что-то недоброе. Он несколько раз пытался пронюхать, что замышляют оппозиционеры, но ничего не смог выпытать vt стал ждать, предварительно уведомив о готовящемся своих сторонников#
— В случае, если что особенное,— сразу по коммунистической тактике! С корнем вырвем разлагающий элемент.
— Ясно,— пискнул Финкельштейн.
— Правильно,— поддакнул Пыльников, а потом, сморщившись, нерешительно добавил: — Только жалко, Еончик, ребята дельные.
— Какие бы они ни были, но, если они мешают нам, мы должны их обезвредить,— сурово отрезал Еонин, и его маленькая фигурка дышала такой решимостью, что Пыльников, при всей своей симпатии к парочке бузотеров, не в силах был протестовать.
А утром вышла в свет новая газета — «День». В передовице сообщалось о том, что газета выходит не регулярно, а по мере накопления материала, но что линия газеты будет строго выдержана. В газете каждый может выступать с обсуждением и критикой всех школьных мероприятий.
«Все могут писать и свободно высказываться на страницах нашей газеты. «День» будет следить за всем и все обсуждать»,— громко повествовала передовица, а чуть пониже шла статья, содержание коей всколыхнуло весь Юнком. Статья содержала ряд резких выпадов против руководства Юнкома. Собственно, Юнкому был посвящен весь номер, за небольшим исключением, и даже карикатура высмеивала манию секретаря Юнкома писать протоколы. На рисунке был изображен Саша Пыльников, в одной руке державший папироску, а в
387
другой кипу протоколов и спрашивавший сам себя: «Что вреднее — курение табака или писание протоколов?»
Такой резкий выпад оппозиции возмутил Юнком и особенно Сашу — Бебэ, который чрезвычайно обиделся. Больше всего возмутило ячейку то, что под газетой стояло: «Редактор: Пантелеев, издатель: Черны х». Это был открытый вызов.
Еще не было случая, чтобы члены Юнкома выступали против своего коллектива, и вдруг такая неожиданность. Решили созвать расширенный пленум. Ввиду важности вопроса пришлось отменить трудовой субботник. Предстояла горячая схватка.
— Смотрите, ребята, не сдавай! — волновался Японец, когда собрались все выделенные делегаты.
— Мы идем за комсомолом. Мы должны решать по-большевистски. Либо за, либо против — и никаких гвоздей.
Уже пленум был в сборе. Собралось семь человек. Не было только Янкеля и Леньки. За ними послали, и минуту спустя оба они, насупившись, вошли в комнату и сели. Япончик открыл заседание и взял слово.
— Сегодня, товарищи, мы вынуждены были неожиданно для всех созвать совещание, поводом к которому послужил выход газеты «День» — газеты, которую вдруг, без согласования с нами, начали издавать наши же товарищи из Цека. Газета «День» выпущена с явной целью подорвать авторитет Юнкома. Положение создается очень опасное. Мы будем говорить прямо. «День», если не совсем, то, наполовину, может разложить нашу организацию, так как, я еще раз говорю, против Юнкома выступают сами юнкомцы — члены Цека. Мы-то, конечно, знаем, что за члены Цека Черных и Пантелеев, мы-то помним их веселые оргии с Долгоруким, но массы этого не знают, и массы будут им верить, так как печать — самое убедительное средство борьбы, а Янкель и Пантелеев, мы должны признаться, самые талантливые шкидские журналисты.
Япончик на минуту остановился, наблюдая за действием своих слов, но тут же увидел безнадежность положения. Лесть его не подействовала. Сламщики, по-видимому, даже и не думали о раскаянии. Оба они сидели и нахально-дерзко оглядывали противников.
Тогда Япончик перешел к делу.
— Ребята, надо ставить вопрос ребром. Либо Черных и Пантелеев должны будут немедленно прекратить издание своей газеты и выпустить очередной номер «Юнкома», в котором публично признают свои ошибки, либо...
— Что — либо? — со зловещим хладнокровием спросил Янкель.
— Либо мы будем принуждены обнародовать прошлое членов Цека, снять их с постов и... если не совсем... то хоть на месяц исключить из Юнкома. Мы должны держать твердую дисциплину.
— Ну и держите себе, братишки! — истерично выкрикнул Ян-
388
кель.— «День» мы не прекратим, наоборот, мы его сделаем ежедневным. Прощайте.
Дверь хрястнула за сламщиками. И тотчас Юнком поставил вопрос об исключении Янкеля и Пантелеева. Постановление провели, и сламщиков исключили. Тут же была выбрана новая редколлегия, которой поручили экстренно выпустить номер «Юнкома» с опровержением. Воробья назначили издателем, Пыльникова — редактором, г-два разошелся пленум и опустел Юнком, новая редколлегия уже взялась готовить номер, и на другой день с грехом пополам «Юнком» вышел.
Две недели республика Шкид жила в лихорадке, наблюдая за борьбой двух течений. На стороне Юнкома был завоеванный ранее авторитет, на стороне сламщиков — техника, умелое направление газеты и симпатии тех ребят, которых Японец и его группа не пускали в Юнком.
Янкель и Пантелеев после выхода нового «Юнкома» развили бешеные темпы. «День» стал ежедневной газетой, а впоследствии к нему прибавился еще и вечерний выпуск.
Новый «Юнком» был слишком медлителен и слаб, чтобы бороться с газетой, вдруг сразу получившей такое распространение и популярность. Дела в ячейке шли все хуже. «День» медленно, но верно вдалбливал шкидцам, что линия Юнкома неправильна, а сам Юнком мог только на митингах парировать удары оппозиции, так как орган их не в силах был поспеть за органом сламщиков. Массы отходили от Юнкома, стали недоверчивы, и только читальня по вечерам помогала Юнкому бороться с Янкелем и Пантелеевым, но и та висела па волоске. Юнкомцам было хорошо известно, что три четверти всех книг в читальне принадлежит оппозиции и что рано или поздно читальню разорят.
И это случилось. Раз вечером в Юнком вошли Янкель и Пантелеев. Был самый разгар читального вечера.
Десятки шкидцев сидели за столами и рассматривали картинки в журналах и книгах. Янкель остановился у двери, а Пантелеев подошел к Японцу и с изысканной корректностью произнес:
— Разрешите взять наши книги?
Японец побледнел.
Он ждал этого давно, но теперь вдруг струсил. Разгром читальни отнимал последнюю возможность привлечь и удержать массы. Однако надо было отдать.
— Берите,— равнодушно бросил он, но Пыльников, стоявший рядом, услышал в голосе Еонина необычайную для него дрожь.— Берите,— повторил Японец.
Под хихиканье и насмешки над обанкротившимся руководством сламщики отбирали свои книги, но теперь их уже не интересовало падение и гибель Юнкома и брали они свое только потому, что для пополнения своего «южного фонда» решили загнать книги на барахолке.
389
Воевать сламщикам надоело. Они снова вспомнили свою идею и отвели в газете целую полосу под отдел «Кино», где помещали рецензии о фильмах и портреты известных киноартистов.
Юнком получил передышку и стал выправляться.
«шкидкино»
Микроб немецкого ученого.— Микроб залетает в Шкиду.— Трест «Шкидкино».— Первый сеанс.—
Коммерческий расчет.— Печальная ликвидация
фирмы.
Какой-то ученый, не знаем, в шутку или серьезно, заявил, что им открыт новый микроб, cino, который, попадая в человеческий организм, заставляет человека страдать манией киноактерства.
По всей вероятности, вышеописанный микроб кино залетел в Шкиду и забрался в податливые организмы Янкеля и Пантелеева. Мания киношества, прекратившая было свое действие во время разлада в Цека, снова дала себя чувствовать...
В один из понедельников два старших класса школы * ходили в кинематограф — в «Олимпию», что на Международном проспекте. Смотрели какой-то чепуховый американский боевик с традиционными ковбоями, драками, погонями и поцелуями. Янкель и Пантелеев вернулись из кино возбужденные.
— Эх, мать честная,— вздохнул Янкель,— так бы и поскакал через прерию с баден-паулькой на затылке и с маузером в руках.
— Да,— ответил Пантелеев, за последнее время переменивший желание стать режиссером на решение сделаться киноартистом.— Да. А я бы сейчас... знаешь... я бы хотел в павильонной ночной съемке пришивать из-за угла какого-нибудь маркиза.
— Очень уж мы долго идею свою осуществить не можем,— снова вздохнул Черных,— да и забыли о ней.
— Эх, Одесса-мама... А знаешь что? Не лучше ли нам в Баку поехать? Там Перестиани...
— Нет, он не в Баку. Он в Тифлисе. Впрочем, съездим и в Баку. И в Тифлис смотаемся. Погоди, вот скопим два червонца...
— А сейчас что? Не могу я, Янкель, ждать... Честное слово.
— Дурак. Нервный какой! Что же делать — без гамзы ведь далеко не уедешь. Здесь нам, что ли, фильмы ставить?
Ленька Пантелеев вдруг просиял.
— Идея! — вскричал он.— Почему бы нам не устроить свое кино?!
390
— Ты что, с ума сошел? — сочувственно полюбопытствовал
Янкель.
— Нисколько. И тебе не советую с ума сходить, а послушать.
— Слушаю,— сказал Янкель.
Во всех классах висели небольшие плакатики, написанные от руки акварельными красками:
ВНИМАНИЕ!!!
В пятницу в 8 часов в Белом зале состоится просмотр фильмы
«ПУПКИН У РАЗБОЙНИКОВ»
I-я серия из цикла «Приключения Антона Пупкина»
Первая постановка фирмы
шкидкино
Вход бесплатный
Шкидцы недоумевали. Никто не знал, чья это выдумка, что это за «Шкидкино», все непонимающе переспрашивали:
— «Шкидкино»? Что за черт? Ты не знаешь?
— Не знаю. Витя, наверно, аппарат где-нибудь выкопал.
— Волшебный фонарь, должно быть.
— Не... Это юнкомцы туманные картины — анатомию всякую — показывать будут.
— Анатомию! Дурак! При чем же Пупкин и анатомия?
— Пупкин? Пупок...
— Ну и еще раз дурак!
— А я так думаю — все это для бузы сделано, издевается кто- нибудь, вот и все...
— Посмотрим.
До пятницы Шкида находилась в неведении. В пятницу вечером
391
еще с семи часов в Белый зал потянулись шкидцы. Зал был полуосвещен. Сцену закрывал темный занавес, и за него до поры до времени никого не пускали. Когда кто-нибудь пытался приоткрыть занавес и заглянуть вглубь, сердитый голос Пантелеева, находившегося где-то за кулисами, тотчас окрикивал:
— Куда лезешь? Тегпенья нет подождать, что ли? Бгысь!
Ровно в восемь часов на авансцену за занавес вышел Янкель.
— Товарищи,— сказал он.— Прошу внимания. Сейчас вы увидите фильму «Пупкин у разбойников» — первую постановку объединенного треста «Шкидкино». Просьба соблюдать тишину, так как до сведения Викниксора не доведено, а он, как вам известно, находится в двадцати ярдах отсюда. Прошу подняться на сцену, где временно помещается наш кинотеатр.
Проговорив это, Янкель распахнул край занавеса. Шкидцы полезли на сцену. Там было совершенно темно. За кулисами слышались постукивания молотка и ругань Пантелеева.
— Что за буза? — прошептал кто-то.— Где же тут кинтель?
Кто-то выразил сомнение в реальности кино, кто-то заскулил:
— Ну что же, начинайте!..
В этот момент на одной из стен сцены вспыхнул квадратный глазок дюйма в три в длину и ширину. Шкидцы радостно заголосили:
— Гляди-ка! И правда... Зажглось!
Кинематограф Пантелеева и Янкеля отличался своеобразным устройством. Экрана как такового не существовало. Через проекционное окошко проходила длинная бумажная лента с отдельными «кадрами» — рисунками, освещаемая сзади сильной электрической лампой. Смотреть приходилось отходя от глазка не дальше чем на три шага...
Но шкидцы не были требовательны, а кроме того, зрелище, устроенное сламщиками, было тем конем, которому в зубы не смотрят. Поэтому сдержанными, но единодушными аплодисментами встретили шкидцы первый титр:
ПУПКИН
У РАЗБОЙНИКОВ
Фильма в 3-х частях Сценарий Ал. Пантелеева
Режиссер Гр. Черных
ШКИДКИНО
Дождавшись, чтобы все прочли эту надпись, Пантелеев передернул ленту дальше. Следующий «кадр» изображал толстую физиономию человека, под которой красовались стихи:
Прекраснейший в мире человек Вызывает всюду смеха стон.
С соломенной шляпой на голове Вылезает Пупкин Антон.
Дальше был изображен Пупкин, сидящий на скамейке сада за чтением газеты.
Как-то в сумерки, летом,
Лет тому пять назад,
Захватив от скуки газету,
Забрался Антоша в сад.
На увлекшегося чтением Пупкина набросились вылезшие из кустов разбойники. Связав беднягу вдоль и поперек толстенным канатом, они стащили его в свое логово и, бросив в подвал, ушли. Пупкин различными ухищрениями, какие часто практикуются в детективных фильмах, выбрался на волю и —
Снова Антон Митрофанович Пупкин,
Щеки надув и поджавши губки,
Свободен, беспечен, могуч и здоров,
Как двадцать быков и пятнадцать коров.
КОНЕЦ
Демонстрация «фильмы» тянулась не более трех минут, но шкидцы были в восторге. Выразив свои чувства аплодисментами, они уже собирались расходиться, когда «экран» снова вспыхнул, извещая, что «сейчас пойдет видовая из жизни школы Достоевского». «Видовая» оказалась удачно зарисованными Янкелем сценками школьной жизни в различных ее моментах — в классе, в столовой, в спальне, за пилкой дров — и отдельными типами халдеев и шкидцев.
Ребята расходились, очень довольные сеансом.
— Вот это я понимаю,— говорил Купец,— это тебе не Юнком!
Через два дня «Шкидкино» поставило новый фильм — «Пупкин
попадает в лавру»,— в котором остроумно показывались приключения Пупкина среди преступного мира Петрограда.
Программа менялась каждые два дня... Однажды, когда режиссер и сценарист находились в «кинотеатре» за просмотром только что изготовленного фильма «Антон Пупкин в прериях», Янкель сказал:
— Знаешь что, а мы бы могли извлекать пользу из своего кино!
— Как то есть пользу? — удивился Пантелеев.
393
— Да так.,, не вечно же нам с Шкидкино валандаться? Идеал-то наш Госкино...
— Ну так что ж?
— Давай устроим платное кино.
Пантелеев задумался.
— Хреновина. Заскулят еще.
— Ни псула. Две копейки золотом назначим,— это недорого.
«Пупкин в прериях» шел уже в условиях коммерческого расчета.
Платность заметно отразилась на посещаемости. В первый раз пришло лишь десять человек, во второй и того меньше — всего шесть или семь.
-— Да, действительно хреновина,— согласился Янкель.— Надо, знаешь, что-то придумывать.
И сламщики придумали.
Обычно перед демонстрацией нового «фильма» давались анонсы в афишах и плакатах, развешивавшихся в классах, а на этот раз маленькие афишки раздавались по рукам:
СЕГОДНЯ
в 8 часов вечера в Шкидкино идет новая фильма — только для взрослых
ПУПКИН ДОН-ЖУАН
В первый раз за долгое время Белый зал был переполнен. Явно неприличную ленту шкидцы смотрели смакуя и гогоча.
На следующий день после постановки «Дон-Жуана» в газете «Юнком» появилась статья:
ОБ ОДНОЙ КИНОФИЛЬМЕ
Два товарища, бывшие некогда членами Юнкома и даже его Центрального комитета и исключенные за неподчинение дисциплине, в настоящее время занимаются делами, недостойными даже их. Они устроили игрушечный кинематограф, в котором показывают безобразные картины, и притом за плату. Не видим нужды говорить о разлагающем действии этого «Шкидкино» на воспитанников младших отделений, а просто заявляем: администрация, прикрой лавочку.
Викниксор прочитал статью, призвал к себе «кинематографистов» и заявил:
394
— Если еще раз повторится такая штука, будете оба переведены в лавру. А пока получите по пятому разряду на брата и — налево кругом!..
БУМАЖНАЯ ПАНАМА
Сарра Соломоновна.— Бумага и лимоны.— По листику в фонд.— Законы Российской империи.— Панама.— Караван невольников.— Червонцы сделаны.
У Сарры Соломоновны не ларек, а целый кондитерский магазин. Целый день Сарра Соломоновна стоит, обложенная банками с монпансье, леденцами, пряниками и шоколадом...
— Мадам! — кричит Сарра Соломоновна.— Мадамочка, вы не забыли купить конфет для вашего милого мальчика?
Дела у Сарры Соломоновны идут хорошо... Каждый день ее брат Яша привозит на маленькой тележке полные банки сластей, а вечером увозит их почти пустыми. У Сарры Соломоновны поэтому всегда довольный вид. Целый день и зиму и лето она стоит за своим ларьком и кричит:
— Гражданин! Почему бы вам не купить плитку шоколада для вашей симпатичной жены?
Пантелеев и Янкель познакомились с Саррой Соломоновной, покупая у нее четвертку сахарного песку.
Янкель вдруг спросил:
— Вы что, ларек домой на ночь увозите?
Сарра Соломоновна инстинктивно вздрогнула. Вопрос ей показался странным — и даже страшным.
«Это, наверное, налетчики,— подумала она.— Уж не хотят ли они ограбить мой ларек?»
— Нет,— сказала она.— Ларек я сдаю на хранение одному очень честному и сильному мужчине... Он же его и увозит на своей собственной тележке.
— А сколько вы ему платите? — полюбопытствовал Пантелеев.
Сарра Соломоновна вздохнула:
— Ой, не говорите, сколько я ему плачу... Я ему плачу пятьдесят миллионов в месяц...
— Здорово! — невольно воскликнул Янкель.
— Ну и сволочь же,— прошипел Пантелеев.
— А зачем вам это знать? — спросила Сарра.
— Мы вам будем носить ларек за двадцать миллионов,— сказал Пантелеев.
Сарра Соломоновна недоверчиво посмотрела на ребят, но все же согласилась.
395
— Хорошо, носите,— сказала она,— хотя это и очень подозрительно, но вы берете дешевле, и притом у меня на собственной квартире ларек будет сохраннее... Этот рыжий человек недавно сломал мне навес.
С этого дня Черных и Пантелеев каждодневно к семи часам вечера являлись на рынок и уносили в один присест нетяжелые сравнительно части ларька Сарры Соломоновны. Потом, войдя к ней в доверие, они помогали ее брату Яшке перевозить и товар.
Однажды Сарра Соломоновна сказала:
— Ой, вы бы знали, мальчики, как трудно сейчас работать торговцу... Как все дорого — патенты, налоги... Бумага оберточная и та дорогая. Ой, какая дорогая бумага, дороже, чем сам товар...
— Почем же теперь бумага? — из учтивости поинтересовался Янкель.
— Не говорите,— вздохнула Сарра Соломоновна.— Тридцать миллионов пуд.
Когда товарищи, перетащив ларек на квартиру Сарры Соломоновны, на Екатерининский канал, возвращались в школу, Пантелеев сказал:
— Знаешь что, у меня явилась идея. Давай копить бумагу...
— Что-о? — закричал Янкель.
— Будем копить бумагу,— повторил Пантелеев.— Пуд скопить не так долго, если собирать даже старые тетради и газеты; а пуд стоит два рубля золотом, это все-таки прибавит к нашему фонду...
— А и правда,— призадумался Янкель.— Давай попробуем,— может быть, от этого приблизится срок осуществления нашей идеи,— улыбнулся он...
— Баку...— мечтательно прошептал Пантелеев.
С того же дня они начали собирать бумагу... Первым долгом собрали все старые, исписанные тетради и газеты. Оказалось не так много — четверть фунта всего. За неделю скопили двенадцать фунтов.
— Э, да это долгая волынка,— вздыхал Янкель.
Но все-таки не прошло и месяца, как они скопили пуд шесть фунтов бумаги, которую снесли к Сарре Соломоновне и продали ей за двадцать пять лимонов. Кроме того, они получили от Сарры Соломоновны и месячную плату за переноску ларька. В их «фонде» уже скопилось около пяти рублей золотом.
А тут еще подвернулся этот случай...
Однажды Янкель менял в библиотеке книги... Он лазил по пыльным полкам, отыскивая «Голод» Кнута Гамсуна... Библиотекарша Марья Федоровна сидела за столом, принимала и обменивала книги другим улиганам. Янкель был скрыт от нее шкафами. Он забрался по стремянке на самую верхнюю полку — в надежде хоть там отыскать нужную книгу. Но на верхней полке, больше других пыльной и даже затянутой паутиной, он наткнулся на книги, не пригодные к чтению современной молодежи...
397
Это были «Свод законов Российской империи» и «Правительственный вестник» за 1896 год. Таких книг на полке было больше ста штук.
Янкель вытащил один из томов «Свода законов». В книге, не очень объемистой, было фунтов десять веса... Янкель, не долго думая, огляделся и сунул «Свод» за пазуху, под кушак. Не замеченный Марьей Федоровной, он вышел из библиотеки и прошел в класс.
— Прибавление к фонду,— сказал он Пантелееву, сидевшему за партой и старательно рисовавшему очень плохого ковбоя.
Пантелеев взял книгу и, перелистнув, спросил:
— Где ты выкопал эту рухлядь?
— Рухлядь, а стоит денег, и немалых,— ответил Черных.— Я ее слямзил в библиотеке. Таких книг там тьма, и лямзить их легко.
Пантелеев задумался.
— Вот что,— сказал он.— Лямзить незачем. У меня явилась мысль, благодаря которой мы сможем самым честным путем сделаться богачами.
— Честным путем богачами? — удивился Янкель.
— Да. То есть честным наружно. В сущности, это будет афера, панама...
Янкель заинтересовался:
— Ну, ну, валяй дальше.
Пантелеев перелистнул страницу.
— Видишь, тут очень много чистых листов... Ты поймай Викниксора и покажи ему книгу...
— Показать книгу? Да ты что — сдурел?
— Засохни... Покажи Викниксору и попроси у него взять эту «ненужную рухлядь» для использования на журналы.
Янкель подумал минутку и просиял:
— Понимаю!..
Немного погодя в класс зашел Викниксор. Он разговорился с ребятами, кого-то обещал записать, кому-то приказал сдать в гардеробную пальто. Когда он собирался покидать класс, к нему приблизился Черных.
— Виктор Николаевич,— потупившись, сказал он.— У меня к вам просьба.
— В чем дело?
Янкель вытащил книгу.
— Вот... В библиотеке я нашел книги старые, «Свод законов», они сейчас никому не нужны... Можно мне взять для рисования? Там их немного...
— Гм... Рисовать, говоришь? Что ж, возьми. И правда — древность никому не нужная.
Лишь Викниксор вышел из класса, Янкель и Пантелеев бросились в библиотеку и, сняв с полки штук десять книг, потащили их к выходу.
— Ребята, вы куда? — закричала Марья Федоровна.
398
_ В класс,— небрежно бросил Янкель.— Нам Виктор Никола-
евич позволил.
Воспитательница проводила их удивленным взглядом. Вечером она справилась у Викниксора, тот подтвердил слова Янкеля.
А Янкель и Пантелеев за какую-нибудь неделю натаскали из библиотеки около десяти пудов бумаги. Бумагу они стаскивали во двор и прятали под лестницей флигеля.
Наконец, решив, что и натасканного довольно, они прекратили «честное расхищение» и задумались о способе переправки груза на Покровский рынок.
— Надо нанять ребят,— предложил Пантелеев.
Они подыскали в младших классах десять человек, согласившихся снести бумагу за небольшое вознаграждение на рынок.
Проходившие в тот вечер по Старо-Петергофскому проспекту граждане в ужасе шарахались в сторону при виде вереницы парнишек, спокойно тащивших на бритых головах бумажные кипы.
— Господи! — закричал кто-то.— Да что же это, никак негры идут, караван невольников со слоновой костью?!
— Не беспокойтесь,— ответил Янкель полным достоинства голосом.— Это не негры. У негров физиономии черные, а у этих товарищей самые обыкновенные.
— Не создавайте панику,— присовокупил Пантелеев.
Пантелеев и Янкель шли впереди «каравана», изредка помогая
уставшему «невольнику» и принимая от него груз.
«Караван» без особых происшествий дошел до Покровки. Там грузовладельцы распорядились, чтобы бумагу сложили на парапет церковной ограды, приказали зорко зекать, а сами пошли подыскивать покупателей.
Покупатели нашлись очень скоро. Три пуда купила Сарра Соломоновна, остальные семь разошлись в момент по ларькам мясного отдела рынка.
У сламщиков на руках оказалась не виданная ими ранее сумма — двести шестьдесят лимонов. Шестьдесят лимонов они великодушно отдали грузчикам и с тем отпустили их...
Оставалось лишь купить червонцы.
Пошли к валютчикам, которые в те дни буквально залепляли все входы и выходы рынка. Курс червонца равнялся восьмидесяти миллионам рублей дензнаками; они приобрели два червонца. Две заветные белые бумажки очутились у них в руках.
Остальные деньги они в тот же день прокутили — сходили в кино, закупили папирос, колбасы и хлеба.
Два же червонца до поры до времени заначили крепко и надежно. «Идея» могла быть осуществлена в любую минуту.
СПЕКТАКЛЬ
Октябрь в Шкиде.— «Город в кольце».— Десять американских одеял.— Венки с могил.— Последняя репетиция,— Спектакль.— Шпионка в штанах.—
Ужин.
Столовая ревела, стонала, надрываясь десятками молодых глоток:
— Накормим гостей!
— Из пайка уделим!
— Угостим!
Столовая ревела вдохновенно, азартно, единодушно. Наконец Викниксор поднял руку и наступила тишина.
— Значит, ребята, решено. Всех гостей мы будем угощать. Чем? Это обсудит специально выделенная комиссия. На угощение придется уделить часть вашего пайка, но мы постараемся сделать это безболезненно. Значит, на выделение продуктов из пайка все согласны?
— Согласны!
— Уделим!
— Угостим гостей!
Столовая ревела, стонала, надрывалась.
Это были предпраздничные дни Великой Октябрьской рейолюции. Республика Шкид решила с помпой провести торжество и для этого торжественного дня поставить спектакль. Для гостей, родителей и знакомых, не в пример прочим школам, единогласно постановили устроить роскошный ужин. Поэтому-то так азартно и ревела республика, собравшись в столовой на обсуждение этого важного вопроса.
— Уделим! Уделим! — кричали со всех сторон, и кричали так искренне и единодушно, что Викниксор согласился.
Шкида перед праздником наэлектризована.
В столовой еще не отшумело собрание, а в Белом зале, на самодельной сцене, уже собрались участники завтрашнего спектакля.
Идет репетиция. Завтра праздник, а пьеса, как на грех, трудная во всех отношениях. Ставят «Город в кольце». Вещь постановочная, с большим количеством участников, с эффектами. Конечно, ее уже урезали, сократили, перелицевали. Из семи актов оставили три, но и эти с трудом влезают в отпущенные Викниксором сорок минут.
— Черт! Пыльников, ведь ты же шпионка, ты — женщина. На тебе же платье будет, а ты — руки в карманах,— как шпана, разгуливаешь,— надрывается Япончик, главреж спектакля.
Пыльников снова начинает свою роль, пищит тоненьким бабьим голоском, размахивает ни к селу ни к городу длинными красными руками, и Япончик убеждается, что Сашка безнадежен.
400
— Дурак ты, Саша. Идиот,— шепчет он, бессильно опускаясь на табуретку.
Но тут Саша обижается и, перестав пищать, грубо орет:
— Иди ты к чертовой матери! Играй сам, если хочешь!
Япончику ничего не остается, как извиниться, иначе ведь Сашка
играть откажется, а это срыв. Прерванная репетиция продолжается.
— Эй, давай первую сцену! Заговор у белых.
Выходят и рассаживаются новые участники. В углу за кулисами возится Пантелеев. Он завтехчастью. На его обязанности световые эффекты, а как их устроить, если на все эффекты у тебя всего три лампочки,— это вопрос. Пантелеев ковыряется с проводами, растягивая их по сцене. Играющие спотыкаются и ругаются.
— Какого черта провода натянули?
— Убери!
— Что тут за проволочные заграждения?!
Но Япончик успокаивает актеров.
— Ведь надо, ребята, устроить. Надо, без этого нельзя.— И любовно смотрит на согнувшегося над кучей проволоки Леньку. Япончик радуется за него. Ведь сламщики — Ленька и Янкель — опять стали своими, юнкомскими. Правда, в Цека их еще не провели, ко они раскаялись:
— Виноваты, ребята, побузили, погорячились.
Япончик помнит эти слова, сказанные открыто на заседании Цека. Не забыл он и о том, что и ему тоже пришлось признать свою ошибку: вопрос о членстве в Юнкоме решен компромиссно — в организацию «Юных коммунаров» принимают теперь каждого, за кого поручится хотя бы один член Цека.
— Янкель, а в чем мне выходить? Ты мне костюм гони, и чтоб обязательно шаровары широкие,— гудит Купец, наседая на Янкеля. Он играет в пьесе себя самого, то есть купца-кулака, и поэтому считает себя вправе требовать к своей особе должного внимания.
— Ладно, Купочка, достанем,— нежно тянет Янкель, мучительно думая над неразрешенным вопросом, из чего сделать декорации. Завтра уже спектакль, а у него до сих пор нет ни костюмов, ни декораций.
Янкель — постановщик, но где же Янкелю достать такие редкие в шкидском обиходе вещи, как телефон, винтовки, револьвер, шляпу? Но надо достать. Янкель отмахивается от наседающих актеров. Янкель мчится наверх — стучит к Эланлюм.
— Войдите.
— Элла Андреевна, простите, у вас не найдется дамской шляпки? А потом еще надо кортик для спектакля, и еще у вас, я видел, кажется, висел на стене штык японский...
Эланлюм дает и штык, и кортик. Эланлюм любит ребят и хочет помочь им. Все она дает, даже шляпу нашла, кругленькую такую, с цветочками.
401
От Эланлюм Янкель тем же аллюром направляется к Викниксору.
— Виктор Николаевич, декораций, бутафории нет. Виктор Николаевич, вы знаете, если бы можно было взять из кладовки штук десять американских одеял! А?
Викниксор мнется, боится: а вдруг украдут одеяла, но потом решает:
— Можно. Но...
— Но?...
— Ты, Черных, будешь отвечать за пропажу.
Янкелю сейчас все равно, только бы свои обязанности выполнить, получить.
— Хорошо, Виктор Николаевич. Конечно. Отвечаю.
Через десять минут под общий ликующий рев Янкель, кряхтя, втаскивает на спине огромный тюк с одеялами. Тут и занавес, и кулисы, и декорации.
— Братишки, а зал-то! Зал! Ведь украсить надо,— жалобно причитает Мамочка. Все останавливаются.
— Да, надо.
Ребята озадачены, морщат лоб — придумывают.
— Ельничку бы, и довольно.
— Да, ельничку неплохо бы.
— Ура, нашел! — кричит Горбушка.
— Ну, говори.
— Ельничек есть.
— Где?
Весь актерский состав вместе с режиссерами и постановщиками уставился в ожидании на Горбушенцию.
— Где???
— Есть,— торжествующе говорит тот, подняв палец.— У нас есть, на Волковой кладбище.
— Дурак!
— Идиот! — слышатся возбужденные голоса, но Горбушка стоит на своем:
— Чего ругаетесь? Поедемте кто-нибудь со мной, ельничку привезем до чертиков. Веночков разных.
— Но с могил?
— А что такого? Неважно. Покойнички не обидятся.
— А ведь, пожалуй, и впрямь можно.
— Недурно.
— Едем! — вдруг кричит Бобер.
— Едем! — заражается настроением Джапаридзе. Все трое испрашивают у воспитателя разрешение и уезжают, как на подвиг, напутствуемые всей школой. Остающиеся пробуют работать, репетировать, но репетиция не клеится: все помыслы там, на Волковом. Только бы не запоролись ребята.
Ждут долго. Кальмот чирикает на мандолине. Он выступает в концертном отделении, и ему надо репетировать свой номер по
402
программе, но из репетиции ничего не выходит. Тогда, бросив мелодию, он переходит на аккомпанемент и нудно тянет:
У кошки четыре ноги-и-и.
Позади ее длинный хвост.
Но трогать ее не моги-и-и
За ее малый рост, малый рост.
А в это время три отважных путешественника бродили по тихому кладбищу и совершали свое дело.
— Эх и веночек же! — восхищался Дзе, глядя на громадный венок из ели, перевитый жестяной лентой.
— Не надо, не трогай. Это с надписью. Жалко. Будем брать пустые только.
На кладбище тихо. На кладбище редко кто заглядывает. Время не такое, чтобы по кладбищам шляться меж могил. Шуршит ветер осенний в проходах вокруг крестов и склепов, листочки намокшие с трудом подкидывает, от земли отрывает, словно снова хочет опавшие листья к веткам бросить и лето вернуть.
Ребятам в тишине лучше работать. Уже один мешок набили зеленью, венками, веточками и другой стараются наполнить. Забрались в глушь подальше и хладнокровно очищают крестики от зелени.
— И на что им? — рассуждает Дзе.— Им уже не нужно этих венков, а нам как раз необходимо. Вот этот, например, веночек. Его хватат всего Достоевского убрать. И на Гоголя останется... Густой, свежий, на весь зал хватит.
Мешки набиты до отказа.
— Ну, пожалуй, довольно.
— Да... Дальше некуда. Вон еще тот прихватить надо бы, и совсем ладно.
Нагруженные, вышли где-то стороной, оглянулись на крестики покосившиеся и пошли к трамваю. Приехали уже к вечеру, вошли в зал и остановились, ошеломленные необычайным зрелищем.
За роялем сидел воспитатель и нажаривал краковяк, а Шкида, выстроившись парами, переминалась с ноги на ногу и глядела на Викниксора, который стоял посреди зала и показывал па краковяка:
— Сперва левой, потом правой. Вот так, вот так!
Викниксор заскользил по паркету, вскидывая ноги.
— Вот так. Вот так. Тру-ля-ля. Ну, повторите.
Шкида неловко затопала ногами, потом подделалась под такт и на лету схватила танец.
— Правильно. Правильно. Ну-ну,— поощрял Викниксор.
Ребята вошли во вкус, а Кубышка, старательно выделывая кренделя своими непослушными ногами, даже запел:
Русский, немец и поляк Танцевали краковяк.
403
В самый разгар общего оживления распахнулись двери зала и послышался голос Джапаридзе:
— А мы зелень принесли!
— Ого!
— Ура! Даешь!
Пары сбились, и все бросились к пришедшим.
Развязывая мешки, Дзе спросил:
— А что это Викниксор прыгает?
— Дурак ты! Прыгает!.. Он нас танцам к завтрашнему вечеру учит,— обиделся Мамочка.
Зелень извлекли при одобрительном реве и тут же начали украшать зал. Уже наступил вечер, а ребята все еще лазали с лестницей по стенам, развешивали длинные гирлянды из ели и украшали портреты писателей и вождей зелеными колкими ветками.
— Ну, вот, как будто и все.
— Да, теперь все.
Белый зал стал праздничным и нарядным, из казенного, сверкающего чистотой и белизной помещения он превратился в очень уютную большую комнату.
— Пора спать,— напомнил воспитатель, и через минуту зал опустел.
Утро особенно, по-праздничному шумно разгулялось за окном. Звуки оркестра, крики, говор разбудили шкидцев. Просыпались сами и заражались настроением улицы. За утренним чаем Викниксор сказал небольшую речь об Октябрьской революции, потом от Юнкома говорил Еонин, а затем все встали и дружно пропели сперва «Интернационал», потом шкидский гимн.
День начался сутолокой. В зале шла последняя генеральная репетиция, в кухне готовился ужин гостям. В канцелярии стряпались пригласительные билеты и тут же раздавались воспитанникам, которые мчались к родителям, к родственникам и знакомым.
Шкида стала на дыбы.
Подошло время обеда, но как-то не обедалось. Ели нехотя, занятые разговорами, взволнованные. Старшие, не дообедав, ушли на репетицию, младшие, рассыпавшись по школе, таскали в зал стулья и скамейки и устанавливали их рядами. Шкидцы сияли, и Викниксор был вполне доволен, видя отражение праздника на их лицах.
Часа в четыре актеры кончили репетицию.
— Довольно прилично,— заключил критически Япончик, потом скомандовал:
— Час отдыху. А затем — гримироваться!
Декорации также были готовы. Американские одеяла оказались хорошим подспорьем, и маленькая подкраска цветными мелками дала полную иллюзию комнаты. Установили стол и стулья, на стену повесили карту.
В пятом часу начали собираться гости. Специально откоманди¬
404
рованный для этой цели отряд шкидцев отводил их в комнату для ожидания, и там они сидели до поры до времени со своими род- ственниками-учениками.
На сцене тем временем шли последние приготовления. Притащили обед — суп и несколько булок из порций, предназначавшихся гостям. Все это требовалось в первом действии. Кулак, хозяин дома, должен был угощать на сцене участников белого заговора.
За кулисами гримировались, когда пришел Викниксор и озабоченно бросил:
— Пора начинать!
— Мы готовы,— раздалось в ответ.
Пять минут спустя зазвенел звонок, призывающий занять места. Сгрудившись у занавеса, ребята смотрели в щелку, как заполнялось помещение. Народу пришло много. При виде рассаживающихся гостей Японец заволновался, скрипнул зубами и неопределенно процедил:
— Ну, будет бой. Не подпакостить бы, ребятки.
— Не подпакостим, Япончик,— ухмыльнулся Купец, что-то прожевывая.— Не бойся, не подпакостим...
Грянул второй звонок. Зал зашумел, заволновался и стал затихать. С третьим звонком судорожно дернулся занавес, но не открылся. Зрители насторожились и впились глазами в сцену. Занавес дернулся еще два раза и опять не раздвинулся. В зале наступила тишина. Все с интересом следили за упрямым занавесом, а тот волновался, извивался, подпрыгивал, но пребывал в прежнем замкнутом положении. Кто-то в зале посочувствовал:
— Ишь ты, ведь не открывается.
Вдруг из-за сцены донеслось приглушенное восклицание:
— Дергай, сволочь, изо всей силы. Дергай, задрыга!
Что-то треснуло, занавес скорчился и расползся, открывая сцену. Зрители увидели комнату и стол посредине, вокруг которого шумели заговорщики.
Спектакль начался.
На сцене собралось довольно необычное общество.
За столом сидел Купец в каком-то старомодном сюртуке или в визитке и в широченных синих шароварах. Возле него восседала какая-то не то баба, не то дамочка. Определить социальную принадлежность этой особы было затруднительно, потому что она была как бы склеена из двух разных половинок: верхняя часть, вполне отвечавшая требованиям спектакля, изображала интеллигентную особу в шляпе с пером, а нижнюю она как будто заняла у какой-то рязанской крестьянки в ярком праздничном платье с разводами. Однако с таким раздвоением личности зрители скоро свыклись, так как и другие заговорщики выступали в не менее фантастических костюмах, а главный вдохновитель белых, французский дипломат, в подтверждение своей буржуазной сущности имел всего-навсего один довольно помятый цилиндр, которым он
405
и жонглировал, прикрывая шкидские брюки из чертовой кожи и холщовую рубаху.
Действие проходило мирно, и Японец уже начал было успокаиваться, как вдруг на сцене произошло недоразумение.
Кулак по ходу пьесы возымел желание угостить заговорщиков и, воодушевившись, позвал кухарку.
— Эй, Матрена! Неси на стол! — густейшим басом заговорил Купец.
В ответ — гробовое молчание.
— Матрена, подавай на стол!..
Опять молчание. Заговорщики смущенно заерзали, смущение проникло и в зрительный зал. Зрители заинтересовались упрямой Матреной, которая с таким упорством не откликалась на зов хозяина, и затаив дыхание ждали.
Купец побледнел, покраснел, потом в третий раз гаркнул, уже переходя границы текста из пьесы:
— Матрена! Ты что ж, дурак, принесешь жрать или нет?
Вдруг за кулисами что-то завозилось, потом тихий, но внятный
голос выразительно прошипел:
— Что же я тебе вынесу, дубина? Слопал все до спектакля, а теперь просишь.
В зале хихикнули. Япончик побледнел и помчался на другую сторону сцены. Там, у кулисы, стояла растерявшаяся кухарка — Мамочка.
— Неси, сволочь! Неси пустые тарелки, живо! — накинулся на нее Японец.
Между тем Купец, не имея мужества отступить от роли, продолжал заунывно взывать:
— Матрена! Подавай на стол, Матрена! Неси на стол.
Весь зрительный зал сочувствовал Офенбаху, попавшему в глупое положение, и вздох облегчения пронесся в рядах зрителей, когда одноглазая Матрена, гремя пустой посудой, показалась наконец на сцене. Спектакль наладился. Играли ребята прилично, и зрители были довольны.
Во втором действии, однако, опять произошла заминка.
В штаб красных пришла шпионка. Сцена изображала сумерки, когда Саша Пыльников, облаченный в шляпу с пером, таинственно появился перед зрителями. Он прошипел дьявольским голосом о конце владычества красных и подбежал к карте.
— Ага, план наступления,— хрипло пробормотал он.
Зрители притаились, зорко наблюдая за коварной лазутчицей из стана белых. Тут Саше понадобилось достать коробок и, чиркнув спичкой, при ее свете разглядывать план. И вот, в решительный момент он вдруг вспомнил, что спички находятся под юбкой, в кармане брюк.
Саша похолодел, но раздумывать было некогда, и, мысленно обозвав себя болваном, он полез в карман. Зал ахнул, испуганный
406
таким неприличным поведением шпионки. Но тотчас же все успокоились, узрев под юбкой знакомые черные брюки.
Инцидент прошел благополучно, но, продолжая играть свою роль, Саша вдруг услышал за кулисами весьма отчетливый голос Япон- чмка:
— Разве не говорил я, что Саша — круглый идиот?
Третье действие прошло без всяких осложнений, и пьеса кончилась.
Концертное отделение отменили, так как Кальмот разнервничался и порвал все струны на мандолине, а его номер был главным.
После спектакля гостей повели к столу, где их ожидали ужин и чай с бутербродами и булками.
И тут шкидцы показали свою стойкость. Они проголодались, но держались бодро. Трогательно было наблюдать, как полуголодный воспитанник, глотая слюну, гордо угощал свою мамашу:
— Ешь, ешь. У нас в этом отношении благополучно. Шамовки хватает.
— Милый, а что же вы-то не едите? — спрашивала участливо мать, но сын твердо и непринужденно отвечал:
— Мы сыты. Мы уже поели. Во! По горло...
Пир кончился. За время ужина зал очистили от мебели, и под звуки рояля открылись танцы.
Шкидцы любили танцевать — и танцевали со вкусом, а особенно хорошо танцевали сегодня, когда среди приглашенных было десять или двенадцать воспитанниц из соседнего детдома. Все они были нарасхват и танцевали без отдыха.
Вальс сменялся падепатинером, падепатинер тустепом, а тустеп снова вальсом.
Скользили, натирали пол подметками казенной обуви и поднимали целые тучи пыли.
Перевалило за два часа ночи, когда Викниксор замкнул наконец на ключ крышку рояля.
Гости расходились, младшие отправились спать, а старшие, выпросив разрешение, шумной, веселой толпой пошли провожать воспитанниц.
Вместе с ними вышли Янкель и Пантелеев. Они взяли у Викниксора разрешение уйти в отпуск и были довольны необычайно.
На улице было не по-осеннему тепло.
У ворот парочка отделилась от остальных и не спеша двинулась по проспекту. Хрустела под ногами подмерзшая вода, каблуки звонко отстукивали на щербатых плитах. В три часа на улице тихо и пустынно, и сламщикам особенно приятна эта тишина. Сламщикам хорошо.
Все у них теперь идет так ладно, а главное — у них есть два червонца, с которыми они в любой момент могут тронуться в Одессу или в Баку на кинофабрику.
Подмерзшие лужи похрустывают под ногами.
407
Кой-где еще вспыхивают непогашенные иллюминации Октябрьского праздника.
Кой-где горят маленькие пятиугольные звезды с серпами и молотами.
Тихо...
ПТЕНЦЫ ОПЕРЯЮТСЯ
Из отпуска.— Янкель в беде.— Едем! — Разговор в кабинете.— Последнее прости.— Птенцы улетели.
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный Пошел по Невскому гулять.
Его поймали,
Арестовали
И приказали расстрелять.
Янкель не идет, а танцует, посвистывая в такт шагу.
Что-то особенно весело и легко ему сегодня. Не пугает даже и то, что сегодня — математика, а он ничего не знает. Заряд радости, веселья от праздника остался. Хорошо прошел праздник, и спектакль удался, и дома весело отпускное время пролетело.
Я не советский,
Я не кадетский,
Меня нетрудно раздавить.
Ах, не стреляйте,
Не убивайте —
Цыпленки тоже хочут жить.
Каблуки постукивают, аккомпанируя мотиву, и совершенно незаметно проходит Янкель захолодевшие изморозью утренние сонные улицы. Кончился праздник. На мостовой уже видны новые свежие царапины от грузных колес ломовых телег, и люди снова бегут по тротуарам, озабоченные и буднично серые. Янкель тоже хочет настроиться на будничный лад, начинает думать об уроках, но из этого ничего не выходит — губы по-прежнему напевают свое:
Цыпленок дутый,
В лапти обутый,
Пошел по Невскому гулять.
Вот и Шкида.
408
Бодро поднялся по лестнице, дернул звонок.
Ах, не стреляйте,
Не убивайте...
— А-а-а! Янкель! Ну, брат, ты влип!
Цыпленки тоже хочут жить...
Янкель оборвал песню. Что-то нехорошее, горькое подкатилось к гортани при виде испуганного лица дежурного.
— В чем дело?
— Буза!
— Какая буза? Что? В чем дело?
Янкель встревожен, хочет спросить, но дежурный уже скрылся на кухне.
Побежал в класс. Открыл двери и остановился, оглушенный ревом. Встревоженный класс гудел, метался, негодовал. Завидев Янкеля, бросились к нему:
— Буза!
— Скандал!
— Одеяла тиснули.
— Викниксор взбесился.
-г- Тебя ждет.
— Ты отвечаешь!
Ничего еще не понимая, Янкель прошел к своей парте, опустился на скамью. Только тут ему рассказали все по порядку. Он ушел в отпуск, сцена была не убрана, одеял никто кастелянше не сдал, и они остались висеть, а вчера Викниксор велел снять одеяла и отнести их в гардероб. Из десяти оказалось только восемь. Два исчезли бесследно.
Новость оглушила Янкеля. Испарилось веселое настроение, губы уже не пели «Цыпленка». Оглянулся вокруг. Увидел Пантелеева и спросил беспомощно:
— Как же?
Тот молчал.
Вдруг класс рассыпался по местам и затих. В комнату вошел Викниксор. Он был насуплен и нервно кусал губы. Увидев Янкеля, Викниксор подошел к нему и, растягивая слова, проговорил:
— Пропали два одеяла. За пропажу отвечаешь ты. Либо к вечеру одеяла будут найдены, либо я буду взыскивать с тебя или с родителей стоимость украденного.
— Но, Виктор Ник...
— Никаких но... Кроме того, за халатность ты переводишься в пятый разряд.
409
Тихо стало в классе, и слышно было, как гневно стучали каблуки Викниксора за дверью.
— Вот тебе и «цыпленок жареный»,— буркнул Японец, но никто не подхватил его шутки. Все молчали. Янкель сидел, опустив голову на руки, согнувшись и касаясь горячим лбом верхней доски парты. Лица его не было видно.
Стояли в уборной Янкель и Пантелеев. Янкель, затягиваясь папироской, горячо и запальчиво говорил:
— Ты как желаешь, Ленька, а я ухожу. Проживу у матки неделю, соберусь — и тогда на юг. Больше нечего ждать. Сидеть в пятом разряде не хочу — не маленький.
— А как же Витя? Думаешь, отпустит? — сказал Пантелеев.
— А что Витя? Пойду к нему, поговорю. Он поймет. Дело за тобой. Говори прямо, останешься или тоже... как сговорились?
На несколько секунд задумался Пантелеев.
Гришкины глаза тревожно-вопросительно впились в скуластое лицо товарища.
— Ну как?
— Что «как»? Едем, конечно!..
Облегченный вздох невольно вырвался из груди Янкеля.
— Давай руку!
— Айда к Викниксору! — засмеялся Пантелеев.
— Айда! — сказал Янкель.
Шли, не слышали обычного шума, не видели сутолоки, беготни малышей, вообще ничего вокруг не видели. Остановившись передохнуть у дверей Викниксоровой квартиры, невольно поглядели на сцену, снова оголенную, и Янкель скрипнул зубами.
— Сволочи. Это новички сперли, не иначе. Наши ребята не способны теперь на это.
— Ну ладно, идем.
Вошли в знакомый, до мельчайших подробностей примелькавшийся за долгое пребывание в школе кабинет и остановились перед заведующим.
Викниксор сидел у стола, надвинув на глаза картонный козырек, и читал. Подняв козырек, он поглядел на ребят.
— В чем дело?
Янкель выступил вперед и заговорил нетвердым, но решительным голосом.
— Виктор Николаевич,— сказал он,— мы хотим уйти из школы!.. Да, мы хотим уйти из школы, потому что мы уже выросли.
Викниксор сбросил козырек и с чуть заметной усмешкой с ног до головы оглядел ребят, будто желая удостовериться, действительно ли они выросли. Перед ним стояли те же ребята, даже на лицах мелькало легкое волнение, обычное при разговоре с воспитателем, но
410
в голосе Гриши Черных, воспитанника четвертого отделения, Викниксору послышались новые, неслыханные нотки.
Мужественно говорил Гриша Черных:
— Виктор Николаевич, ей-богу, мы выросли. Когда я пришел в школу, мне было тринадцать лет. Я многого не понимал. Десять уроков в день я истолковывал как наказание. Тогда мне казалось, что уроки и изолятор — одно и то же. Тогда я боялся изолятора. Теперь мне шестнадцать лет, и я не могу мириться с узкими рамками школьного режима. Да, не могу... При всем моем уважении к изолятору, к пятому разряду и к вам, Виктор Николаевич...
— Да, и к вам, Виктор Николаевич,— поддакнул Пантелеев, и Викниксор, взглянув на Леньку, вспомнил, вероятно, как два с половиной года назад он разговаривал с этим парнем — здесь, в этом кабинете, у этого же стола.
— И к Элле Андреевне,— перечислял Янкель,— и к дяде Саше, и к «Летописи», и к урокам древней истории. Мы очень благодарны школе Достоевского. Она многому нас научила. Но мы выросли. Мы хотим работать. Мы чувствуем силы...
И Янкель вытянулся, бессознательно расправляя грудь, а Пантелеев сжал кулаки и согнул руку, словно хотел показать Викниксору свои мускулы.
Оба застыли, ожидающе глядя на Викниксора.
Викниксор сидел задумавшись, а на лице его играла еле заметная, понимающая улыбка. Потом он встал, прошелся по комнате и еще раз посмотрел на обоих воспитанников долгим, внимательным взглядом.
— Вы правы,— сказал он.
Янкель и Пантелеев вздрогнули от радостного предчувствия.
— Вы правы,— повторил Викниксор.— Сейчас я услышал то, что хотел через полгода сам сказать вам. Теперь вижу, что немножко ошибся во времени. Вы выправились на полгода раньше. Вы правы. Школа приняла вас воришками, маленькими бродягами, теперь вы выросли, и я чувствую, что время, проведенное в школе, для вас не пропало даром. Уже давно я заключил, что вы достаточно сильны и достаточно переделаны, чтобы вступить в жизнь. Я знаю, что теперь-то из вас не получится паразитов, отбросов общества, и поэтому я спокойно говорю вам: я не держу вас. Я хотел через полгода сделать выпуск, первый официальный выпуск, хотел определить выпускников на места, но вы уходите раньше. Что ж, я говорю — в добрый путь. Идите! Я не удерживаю вас... Однако, если вам будет трудно устроиться, приходите ко мне, и я постараюсь помочь вам найти хорошую работу. Вы стоите этого. А американские одеяла забудем. Юнкомцы приходили ко мне, ручались за вас и обещали разыскать вора.
Об уходе сламщиков Шкида узнала только через два дня, когда Янкель и Пантелеев пришли со склада губоно с выпускным бельем,
411
или с «приданым», как называли его шкидцы. На складе они получили новенькие пальто, шапки, сапоги и костюмы, и теперь, получив в канцелярии документы, зашли попрощаться с товарищами.
В классе шел урок истории.
Дядя Саша, как всегда, притворно сердито покрикивал на воспитанников и читал очередную лекцию по повторному курсу истории с упором на экономику. Сламщики вошли в класс и остановились. Потом Янкель подошел к Сашкецу и тихо проговорил:
— До свидания, дядя Саша. Мы уходим. Может, когда еще и встретимся...
— Ну что ж, ребятки,— сказал, поднимаясь, Алникпоп.— Конечно, встретимся. А вам и верно пора... пора начинать жить. Вон ведь какие гуси лапчатые выросли.
Он улыбнулся и протянул сламщикам руку.
— Желаю успехов. Прямой вам и хорошей дороги!..
— Спасибо, дядя Саша.
Урок был сорван, но Сашкец не сердился, не кричал, когда ребята всем классом вышли провожать товарищей. И тем, кто уходил, и тем, кто оставался, жалко было расставаться. Ведь почти три года провели под одной крышей, вместе бузили и учились, и даже ссоры сейчас было приятно вспомнить.
У выходных дверей остановились.
— Ну, до свидания,— буркнул Японец, хлопая по плечам слам- щиков.— Топайте.
Носик его покраснел.
— Топайте, черти!..
— Всего хорошего вам, ребята!
— Вспоминайте Шкиду!
— Заглядывайте. Не забывайте товарищей!
— И вы не забывайте!..
Улигания сбилась в беспорядочную груду, все толкались, протискивались к уходившим, и каждый хотел что-нибудь сказать, чем- нибудь выразить свою дружбу.
Вышел дежурный и, лязгая ключом по скважине, стал открывать дверь.
— Ну,— сказал Янкель, берясь за дверную ручку,— не поминайте лихом, братцы!..
— Не помянем, не бойтесь.
— Пгощайте, юнкомцы! — крикнул Пантелеев, улыбаясь и сияя скулами.— Пгощайте, не забудьте найти тех, кто одеяла пгибгал!..
— Найдем! — дружно гаркнули вслед.
— Найдем, можете не беспокоиться.
Сламщики вышли. Хлопнула выходная дверь, брякнула раза три расшалившаяся цепочка, и, так же лязгая ключом по скважине, дежурный закрыл дверь.
— Ушли,— вслух подумал Японец и невольно вспомнил Цыгана, тоже ушедшего, и не так давно, вспомнил Гужбана, Бессовестно¬
412
го — и вслух закончил мысль: — Ушли и они, а скоро и я уйду! Дядя Саша, а ведь грустно все-таки,— сказал он, вглядываясь в морщинистое лицо халдея.
Тот минуту подумал, поблескивая пенсне, потом тихо сказал: — Да, грустно, конечно. Но ничего, еще увидитесь. Так надо. Они пошли жить.
ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ
Марш дней.— Тройка фабзайцев.— Приходит весна.— Уходит Дзе.— Купец в защитной шипели.—
Письмо от Цыгана.— Турне сламщиков.— Новый Цека и юные пионеры.— Еще два.— Последний абориген.— Даешь сырье.
Бежали дни... Не бежали: дни умеют бегать, когда надо, сейчас же они шли вымеренным маршем, шагали длинной, ровной вереницей, не обгоняя друг друга.
Как и в прошлом году, как и двести лет назад, пришел декабрь, окна подернулись узорчатой марлей инея, в классах и спальнях начали топить печи, и заниматься стали по десяти часов в день....
Потом пришел январь. В ночь на первое января, по достаточно окрепшей традиции, пили клюквенный морс, заменявший шампанское, ели пирог с яблочным повидлом и говорили тосты. В первый день нового года устроили учет: как и в прошлом году, приезжала Лилина и другие гости из губоно, Петропорта и соцвоса, говорили речи и отмечали успехи, достигнутые школой за год. В четвертом отделении возмужалые уже шкидцы проходили курс последнего класса единой школы, готовились к выпуску. Верхи поредели. Не было уже Янкеля, Пантелеева и Цыгана. В январе ушли еще трое — Воробьев, Тихиков и Горбушка. Их, как не отличавшихся особенными способностями и тягой к умственным наукам,* Викниксор определил в фабзавуч одной из питерских типографий. Жили они первое время в Шкиде, потом перебрались в общежитие.
В феврале никто не ушел.
Никто не ушел и в марте.
Март, как всегда, сменил апрель. В городских скверах зазеленели почки, запахло тополем и вербой, на улицах снег делался похожим на халву. В середине апреля четвертое отделение лишилось еще одного — Джапаридзе. Не дождавшись экзаменов и выпуска, Дзе ушел к матери — помогать семье. Викниксор отпустил его, найдя, что парень выровнялся, жить и работать наверняка может и обществу вреда не принесет.
413
Уходили старые, приходили новые. Четвертый класс пополнялся слабо, младшие же чуть ли не каждый день встречали новичков — с Мытненки, из лавры, из «нормальных» детдомов и с улицы — беспризорных. Могикане уходили, оставляя традиции и давая место новому бытовому укладу.
В мае сдал зачет в военный вуз Купец — Офенбах. Карьера военного, прельщавшая шкидского Голиафа еще в приготовительных классах кадетского корпуса, снова соблазнила его. Он был счастлив, что сможет служить в Красной Армии. Через две недели после ухода из Шкиды Купа явился одетый в новенькую шинель с голубыми обшлагами и в шлем и с сияющей улыбкой заявил:
— В комсомол записался... Кандидатом.
От бычьего лица его веяло радостью. И после этого он часто наведывался в школу...
В мае же получили письмо от Громоносцева:
«Дорогие товарищи — Японец, Янкель, Пантелеев, Воробей, Кобчик и дры и дры!
Собрался наконец вам написать. Часто вспоминаю я вас и школу, но неправы вы будете, черти, если подумаете, что я несчастлив. Я счастлив, товарищи, лучшего я не могу желать и глуп был, когда плакал тогда на вокзале и в вагоне. Викниксор хорошо сделал, что определил меня сюда. Передайте ему привет и мое восхищение перед его талантом предугадывать жизнь, находить пути для нас.
Наверно, вы удивлены, чем я счастлив, что хорошего я нашел здесь? Долго рассказывать, да и боюсь — не поймете вы ни черта, не сумею я рассказать всего. Действительно, первые два месяца жизнь в техникуме доставляла мне мучения. Но мучиться долго не дали... Завалили работой. Чем ближе к весне, тем работы больше. Я увлекся и не заметил, как полюбил сельское хозяйство, крестьянскую жизнь.
Удивляетесь? Я сам удивляюсь, когда есть время, что за такой срок мои взгляды переменились. Как раньше я ненавидел сельский труд, в такой же степени сейчас влюблен в сеялки, молотилки, в племенных коров и в нашу маленькую метеорологическую станцию. Сейчас у нас идет посев, засеваем яровое. Я, как первокурсник, работаю не в поле, а в амбарах по разборке и рассортировке зерна. Эта, казалось бы, невеселая работа меня так увлекла, что и сказать не могу. Я уже чувствую, что люблю запах пшеничной пыли, удобренного поля, парного молока...
Недавно я работал на маслобойке. Работа эта для меня ответственная, и дали мне ее в первый раз. Я не справился, масло у меня получилось дурное. Я всю ночь проплакал,— не подумайте, что мне попало, нет, просто так, я чувствовал себя несчастным, сотого что плохо успел в любимом деле.
И еще чем я счастлив — это учеба. Я не думал, когда ехал сюда, что здесь, кроме ухода за свиньями, занимаются чем-нибудь другим.
414
Нет, здесь, а тем более зимой, я могу заниматься общеобразовательными науками, вволю читать книги.
Теперь — главное, о чем я должен вам сказать, не знаю, как бы поделикатнее выразиться. Одним словом, братья улигане, ваш друг и однокашник Колька Цыган разучился воровать. Правда, меня не тянуло к этому в последнее время и в Шкиде, но там случай наталкивал, заставлял совершать незаконное. Сейчас же ничто не заставит меня украсть, я это чувствую и верю в безошибочность этого чувства...
Я оглядываюсь назад. Четыре года тому назад я гопничал в Вяземской лавре, был стремщиком у хазушников. Тогда моей мечтой было сделаться хорошим вором, шнифером или квартирником. Я не думал тогда, что идеал мой может измениться. А сейчас я не верю своему прошлому, не верю, что когда-то я попал по подозрению в мокром деле в лавру, а потом и в Шкиду. Ей, Шкиде, я обязан своим настоящим и будущим.
Я записался в кохмсомол, уже состою действительным членом, пройдя полугодовой стаж кандидата. Уже выдвинулся — назначен инструктором кружка физической культуры. Так что за будущее свое я не боюсь — темного впереди ничего не видно...
Однако о себе, пожалуй, достаточно. Бессовестный и Бык тоже очень изменились внутренне и внешне. Бессовестный растолстел — не узнаете, если увидите,— и Бык тоже растолстел, хотя казалось, что при его комплекции это уже невозможно. Здесь его, между прочим, зовут Комолым быком.
Гужбана же в техникуме уже нет. У него, представьте, оказались способности к механике, и его перевели в Петроград, куда-то на завод или в профшколу — не знаю... Я рад, что он ушел. Он — единственный человек на свете, которого я искренне ненавижу.
У нас в техникуме учатся не только парни, но и девушки. Я закрутил с одной очень хорошенькой и очень умной. Думаю, что выбрал себе «товарища жизни». Мечтаем (не смейтесь, ребята) служить на благо обществу, а в частности советской деревне, рука об руку.
Пишу вам и не знаю — все ли, с кем заочно говорю, еще в Шкиде. Пишите, как у вас? Что делаете? Что нового?
Остаюсь старый шкидец, помнящий вас товарищ
Колька Цыга н».
Тогда же получили письмо от Янкеля и Пантелеева. Они писали из Харькова, сообщали, что совершают поездку по южным губерниям корреспондентами какого-то киножурнала. Письмо их было коротко — открытка всего,— но от него веяло молодой свежестью и радостью.
В июне состоялся пленум Юнкома. В то время в Юнкоме уже числилось тридцать членов. На пленуме выступил Японец.
— Товарищи,— сказал он,— я буду говорить от лица основателей
415
нашей организации, от лица Центрального комитета. В комитете уже не хватает троих, остались лишь я да Ельховский. Скоро уйдем и мы. Ставлю предложение — переизбрать Цека.
Предложение приняли и избрали новый Цека, переименовав его в Бюро. Председателем Бюро выбрали Старолинского — Голого барина.
В начале июля в Шкиде с разрешения губоно и губкома комсомола организовалось ядро юных пионеров, в которое на первых порах было принято всего шесть человек — наиболее окрепшие из малышей...
В августе ушли из школы Кальмот и Саша Пыльников. Кальмот уехал к матери. Пыльников сдал экзамен в педагогический институт.
Последним уходил Японец.
Он пытался вместе с Сашкой попасть в педагогический, но не был принят за малый рост, недостаточно внушительный для звания халдея. Но в конце концов ушел и Японец. Нашел место заведующего клубом в одном из отделений милиции.
Так рассыпалось по разным городам и весям четвертое отделение, бывшее при основании Шкиды первым. Старые, матерые шкидцы ушли, на их место пришли новые.
Машина всосала следующую партию сырья.
ЭПИЛОГ,
НАПИСАННЫЙ В 1926 ГОДУ
Со дня ухода последнего из первых прошло три года.
Не так давно мы, авторы этой книги, Янкель и Пантелеев, были на вечере в одном из заводских клубов. Там шла какая-то современная пьеса. После последнего акта, когда зрители собирались уже расходиться, на авансцену вышел невысокого роста человек с зачесанными назад волосами, в черной рабочей блузе, с красным значком на груди.
— Товарищи! — сказал он.— Прошу вас остаться на местах. Предлагаю устроить диспут по спектаклю.
Сначала мы не обратили на человека в блузе внимания, услыхав же голос и взглянув, узнали Японца. После диспута пробрались за кулисы, отыскали его. Он вырос за три года не больше чем на полдюйма, но возмужал и приобрел какую-то артистическую осанку.
— Япончик! — окликнули мы его.— Ты что здесь делаешь?
Встретив нас радостно, он долго не отвечал на вопрос, шмыгал
носом, хлопал нас по плечам, потом сказал:
— Выступаю в роли помощника режиссера. Кончаю Институт сценических искусств. А это — практика...
Кроме того, Японец служит завклубом в одном из отделений ленинградской милиции, ведет работу по культпросвету.
416
От Японца мы узнали и о судьбах Пыльникова и Финкелыитейна. Саша Пыльников, некогда ненавидевший халдеев и все к халдеям относящееся, сейчас сам почти халдеи. Кончает педагогический институт и уже практикуется в преподавательской работе.
Моэт Финкельштейн — Кобчик — учится в Техникуме речи, тоже на последнем курсе.
Купца мы встретили на улице. Он налетел на нас, огромный, ва м у ж а лы й до неузнаваемости, одетый в длинную серую шинель, в новенький синий шлем и в сапоги со шпорами. На левом рукаве его красовались какие-то геометрические фигуры — не то квадраты, не то ромбы. Он — уже краском, красный офицер.
На улице же встретили мы и Воробья. Он бежал маленьким воробышком по мостовой, обегая тротуар и прохожих, сжимая под мышкой портфель.
— Воробей! — крикнули мы.
Он был рад видеть нас, но заявил, что очень спешит, и, пообещав зайти, побежал. День спустя он зашел к нам и рассказал о себе и о некоторых других шкидцах.
Работает он в типографии вместе с Кубышкой, Мамочкой, Горбушкой и Адмиралом. Все они комсомольцы и все активисты, сам же Воробей — секретарь коллектива. От Воробья же мы узнали о Голом oapnrfe и Гужбане. Голенький работает на «Красном треугольнике», Гужбан — на «Большевике».
И совсем уж недавно, совсем на днях, в нашу комнату ввалился огромный человек в непромокаемом пальто и высоких охотничьих сапогах. Лицо его, достаточно обросшее щетиной усов и бороды, показалось нам тем не менее знакомым.
— Цыган?! — вскричали мы.
— Он самый, сволочи,— ответил человек, и уже по построению этой фразы мы убедились, что перед нами действительно Цыган.
Он — агроном, приехал из совхоза, где работает уже больше года, а Питер по командировке. Ночевать он остался у нас.
Вечером, перед сном, мы сидели у открытого окна, говорили вполголоса, вспоминали Шкиду. Осенние сумерки, сырые и бледные, лезли в окно... В окно было видно, как на заднем дворе маленький парнишка гонял железный обруч, за забором слышалось пение «Буденного» и смех.
— А где теперь Бессовестный и Бык?
— Они еще в техникуме. В последнем классе.
— Изменились?
— Не узнаете!
Цыган минуту помолчал, смотря на нас, потом улыбнулся.
— И вы изменились. Ой, как изменились! Особенно Янкель. На «Янкеля» уж совсем и не похож.
— А Ленька на Пантелеева похож?
Цыган засмеялся.
— Шкида хоть кого изменит.
14 ни ольные годы. Выпуск 1
417
Потом прикурил погасшую цигарку махры, пустил синее облак за окно в густые уже сумерки...
— Помните? — сказал он и, наклонив голову, вполголоса запел:
Путь наш длинен и суров, Много предстоит трудов, Чтобы выйти в люди.
а
Н.Огнев
ДНЕВНИК
КОСТИ
РЯБЦЕВА
ТРЕТЬЯ ГРУППА (1923/24 учебный год)
ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР
Первая тетрадь
15 сентября 1923 года
Уже половина сентября, а занятия в школе еще не начинались. Когда начнутся — неизвестно. Говорили, что в школе ремонт, и я сегодня утром пошел в школу и увидел, что никакого ремонта нет, наоборот, там и людей никаких не было, и спросить было не у кого. Школа стоит растворенная и пустая. По дороге купил у какого-то мальчишки за три лимона эту тетрадку.
Когда пришел домой, то подумал, что делать нечего, и я решил писать дневник. В этом дневнике я буду записывать разные происходящие события.
Мне очень хочется переменить имя Константин на Владлен, а то «Костями» очень многих зовут. Потом, Константин — это был такой турецкий царь, который завоевал город Константинополь, а я плевать на него хотел с шестнадцатого этажа, как выражается Сережка Блинов. Но вчера я ходил в милицию, и там мне сказали, что до восемнадцати лет нельзя. Значит, ждать еще два с половиной года. Жаль.
16 сентября
Я думал, придется придумывать, что писать в дневник,— оказывается, сколько угодно найдется. Сегодня утром пошел к Сережке Блинову; он мне сказал, что занятия в школе начнутся двадцатого. Но самое главное — это наш разговор с Сережкой насчет Лины Г. Он мне сказал, чтобы я не шился с ней, потому что она дочь служителя культа и мне, как сыну трудящегося элемента, довольно стыдно обращать на себя всеобщее внимание. Я ему ответил, что, во-первых, я никакого всеобщего внимания на себя не обращаю и что Лина мне одногруппница и сидит со мной на одной парте,
и поэтому вполне понятно, что я с ней шьюсь. Но Сережка мне ответил, что пролетарское самосознание этого не позволяет и, кроме того, по мнению шкрабов и всех бывших учкомов, я оказываю (будто бы) на нее вредное влияние. Что она наместо ученья шатается со мной по улицам и вообще может идеологически прогнить. И еще Сережка сказал, что всякое шитье с девчатами, как с таковыми, нужно прекратить, если желаешь вступить в комсомол. Я с Сережкой разругался, пришел домой и вот теперь пищу в дневник то, что не успел досказать Сережке. Лина для меня не существует как женщина, а только как товарищ, да и вообще я на наших девчонок смотрю отчасти с презрением. Их очень интересуют тряпочки да бантики и еще танцы, а самое главное — сплетни. Если бы за сплетни сажали в тюрьму, ни одной девчонки в нашей группе не осталось бы. А что мы в прошлом году ходили с Линой в кино, так это потому, что больше не с кем было. А Лина так же любит кино, как и я. Ничего удивительного нет.
С нетерпением жду открытия школы. Школа для меня все равно что дом. И даже интересней.
20 сентября
Школа наконец открылась. Был страшный шум и возня. В нашей группе все старые ребята, а из девчат прибавилось две. Одна белобрысая, с косой и с бантом вроде пропеллера. Ее зовут Сильфида, хотя она не заграничная, а русская. Девчата сейчас же прозвали ее Сильвой. Ее фамилия Дубинина.
И другая — черная, стриженая, в черном платье и вообще вся черная и никогда не смеется. Что-нибудь скажешь ей, она сейчас же: «фу, ф-фу, ф-ффу, ф-ф-фу, ф-ф-ф-фу!» — паровозит. Потом, она все горбатится и ходит как тень. Зовут ее Зоя Травникова.
27 сентября
В нашей школе вводится Дальтон-план. Это такая система, при которой шкрабы ничего не делают, а ученику самому приходится все узнавать. Я так, по крайней мере, понял. Уроков, как теперь, не будет, а ученикам будут даваться задания. Эти задания будут даваться на месяц, их можно готовить и в школе и дома, а как приготовил — иди отвечать в лабораторию. Лаборатории будут вместо классов. В каждой лаборатории будет сидеть шкраб, как определенный спец по своему делу: в математической, например, будет торчать Алмакфиш, в обществоведении — Никпетож, и так далее. Как пауки, а мы — мухи.
С этого года мы решили всех шкрабов сократить для скорости:
421
Алексей Максимыч Фишер будет теперь Алмакфиш. Николай Петрович Ожигов — Никпетож.
С Линой не разговариваю. Она хочет пересаживаться от меня на другую парту.
1 октября
Дальтон-план начался. Парты отовсюду вытащили, оставили только в одном классе, в нем будет аудитория. Вместо парт принесли длинные столы и скамейки. Я с Ванькой Петуховым слонялся целый день по этим лабораториям и чувствовал себя очень глупо. Шкрабы тоже пока толком не поняли, как быть с этим самым Дальтоном. Никпетож оказался, как всегда, умней всех. Он просто пришел и дал урок, как всегда, только мы сидели не на партах, а на скамейках. Со мной рядом села Сильфида Дубинина, а Лина совсем на другом конце. Ну и черт с ней! Не очень нуждаюсь.
Сегодня всех насмешила Зоя Травникова. Она начала проповедовать девчатам, будто покойники встают по ночам и являются к живым. А некоторые ребята подошли и прислушались. Вот Ванька Петухов и спрашивает:
— Что ж, ты сама покойников видела?
— Ну да, видела.
— Какие же из себя покойники? — спрашивает Ванька.
— Они такие синие и бледные, и будто не евши очень долго, и завывают.
Тут Зоя такую страшную рожу сделала и руками разводит. А Ванька говорит:
— Это ты все врешь. По-моему, покойники серо-буро-малиновые и хрюкают вот так.— И захрюкал поросенком: — Уи, уиии, уиии...
Зоя обиделась и сейчас же зафукала, запаровозила, а ребята расхохотались.
3 октября
С Дальтоном выходит дело дрянь. Никто ничего не понимает — ни шкрабы, ни мы. Шкрабы все обсуждают каждый вечер. А у нас только и нового что скамейки вместо парт и книги прятать некуда. Никпетож говорит, что теперь это и не нужно. Все книги по данному предмету будут в особом шкафу в лаборатории. И каждый будет брать, какую ему нужно. А пока шкафов-то нет!
Ребята говорят, что это был какой-то лорд Дальтон, из буржуев, и что он изобрел этот план. Я так скажу: на кой нам этот буржуазный план? И еще говорят, что этого лорда кормили одной гусиной печенкой и студнем, когда он изобретал. Посадить бы его на осьмушку
422
да на воблу и посмотреть! Или по деревням заставить побираться, как мы в колонии, бывало. А с гусиной печенки — это всякий изобретет.
Сильфида все вертится, и сидеть с ней рядом неудобно. Я посылал ее несколько раз к черту, а она обозвала меня сволочем. Я спросил у девчат ее социальное происхождение и узнал, что она — дочь наборщика. Жалко, что она не буржуйка, а то бы я ей показал!
4 октября
Сегодня было общее собрание — насчет самоуправления. Разбирали недостатки прошлого года и как их изжить. Главный недостаток — это штрафной журнал. Все учкомы, даже самые лучшие, чуть что, грозят штрафным журналом. А толку все равно не получается. В конце концов решили штрафняк отменить на месяц, попробовать, что из этого выйдет. Все были очень рады и кричали «ура!».
А Зоя Травникова всех разозлила. Встала и говорит загробным голосом:
— По-моему, нужно сажать в темный карцер, особенно мальчишек. Иначе с ними не справишься.
Все как загудят, как засвистят! Сначала было общее негодование, а потом она извинилась и говорит, что пошутила. Хороши шутки, нечего сказать! Она вся черная, с ног до головы, и ее зовут теперь Черная Зоя.
После общего было собрание нового учкома. Они выбраны на месяц.
5 октября
Сегодня вся наша группа возмутилась. Дело было вот как. Пришла новая шкрабиха, естественница Елена Никитишна Каурова, а по-нашему — Елникитка. Стала давать задание и говорит всей группе:
— Дети!
Тогда я встал и говорю:
— Мы не дети.
Она тогда говорит:
— Конечно, вы дети, и по-другому я вас называть не стану.
Я тогда отвечаю:
— Потрудитесь быть вежливей, а то можно и к черту послать!
Вот и все. Вся группа за меня, а Елникитка говорит, сама вся
покраснела:
В таком случае потрудитесь выйти из класса:
Я ответил:
Здесь, во-первых, не класс, а лаборатория, и у нас из класса
не выгоняют.
423
Она говорит:
— Вы невежа.
А я:
— Вы больше похожи на учительницу старой школы, это только они так имели право.
Вот и все. Вся группа — за меня. Елникитка выскочила как ошпаренная. Теперь пойдет канитель. Ввяжется учком, потом шкра- биловка (общее собрание шкрабов), потом школьный совет. А по-моему, все это пустяки и Елникитка просто дура.
В старой школе над ребятами шкрабы измывались, как хотели, теперь мы этого не позволим. Нам Никпетож вычитывал из «Очерков бурсы», как даже взрослых парней драли прямо в классе, у порога, да я и сам читал в разных книжках, как зубрить заставляли и давали разные клички и прозвища ученикам. Но тогдашние ребята и понятия не имели о таких временах, в которые нам пришлось жить. Мы ведь перенесли голод, холод и разруху, нам и семьи приходилось кормить, и самим за тысячи верст за хлебом ездить, а некоторые в гражданской войне участвовали. Еще трех лет не прошло, как война кончилась.
После скандала с Елникиткой я обо всем этом задумался и для разъяснения и проверки своих мыслей хотел говорить с Никпетожем, но он был занят — вся лаборатория была полна. Тогда я пошел в математическую к Алмакфишу и выложил ему то, что я думал про нашу жизнь. Алмакфиш ответил мне непонятно. Он мне сказал, что все, что мы пережили, доказывает количественно — изобилие эпохи9 а качественно стоит по ту сторону добра и зла.
Я не это совсем и думал, я хотел только ему доказать, что с нами не имеют права обращаться, как с детьми или с пешками, но мы с ним не договорили, потому что тут же ребята пришли его спрашивать насчет математики. А Алмакфиш зачем-то завел про добро и зло. Мне так кажется, что ни зла, ни добра не существует; верней, что зло для одного — для другого может быть добром, и наоборот. Если лавочник наживает сто процентов на товаре, это для него добро, а для покупателя — зло. Так, по крайней мере, из политграмоты видно.
6 октября
Ну и навалили заданий... За месяц, даже меньше, то есть к 1 ноября, нужно прочитать уйму книг, написать десять докладов, диаграмм начертить восемь штук, да еще устно уметь отвечать, то есть даже не отвечать, а разговаривать по пройденному. У каждого ученика свое задание. Да, кроме того, нужно еще проработать задание по физике, химии и электротехнике практически. А это — целую неделю торчать в физической лаборатории. Сегодня меня и Сильфиду вызывали в учком. А в учкоме сидит Сережка Блинов и еще другие. Оказывается, она на меня насплетничала, что я ее ругаю всякими
424
словами, как в очередях. Ничего подобного не было. Когда вышли, я се дернул за бант, она заревела — и дралка. Нет, с девчатами рядом сидеть — интеллигентщина. Завтра пересяду.
7 октября
На шкрабиловке решили передать наше дело с Елникиткой на школьный совет и предложили разобрать дело общему собранию. Общее собрание будет завтра. Чем кончится — неизвестно, только мы не позволим называть себя детьми.
Сегодня вышел первый номер стенгазеты «Красный ученик». Сначала все заинтересовались, а потом оказалось — буза. Статейки скучные. Написано всё про ученье и чтобы вести себя хорошо. В редакционной комиссии Сережка Блинов и еще другие.
Получил записку: «Ты напрасно интересничаешь, все девчата не хотят иметь с тобой ничего общего». Я и не знаю, как это интересничают. Наверное — Лина. Она подружилась очень с этой новой девчонкой, Черной Зоей, и они постоянно сидят у печки и шушукаются. Даже тогда, когда все играют, они торчат у печки. Им, наверно, очень хочется, чтобы кто-нибудь к ним прилез, а мальчишки и внимания на них не обращают. Очень нужно! Черную Зою прозвали еще Фашисткой, потому что фашисты тоже постоянно в черном ходят. А она и не понимает, хоть и злится. Вообще наши девчата разбираются в политике меньше, чем ребята.
8 октября
Я только что из школы. Сейчас кончилось общее собрание, на котором разбирали мое дело с Елникиткой. Умнее всех говорил Никпетож. Он сказал, что все это пустяки, что каждый школьный работник должен уметь подходить, а у Елены Никитишны подход еще не выработан, а выработается потом. А про меня шкрабы говорили, что я грубый парень и что на меня нужно оказывать моральное воздействие. А Зинаидища, или Зин-Пална,— это наша заведующая — сказала, что я глубокий мальчик, но не умею сдерживать своих инстинктов. Как это их сдерживать, я не знаю, а вот когда она называет меня мальчиком — терпеть не могу! Но с Зинаидищей спорить трудно: в случае чего позовет в учительскую — и давай отчитывать. После такой отчитки киснешь целый день.
Дальше про общее собрание: ни с того ни с сего выступила Фашистка, Зоя Травникова, и говорит, что со мной сладу нет, что я к девчатам пристаю и прочее. Тут я обозлился страшно. Во-первых, я с ней и слова не сказал, а во-вторых, она никаких доказательств представить не может. И вся наша группа на нее зашикала, потому что это против всяких группных правил — доказывать на своего же
425
товарища на общем собрании. В конце голосовали, что я должен перед Елникиткой извиниться, а я сказал, что пусть раньше она извиняется, что назвала нас детьми. Теперь дело пойдет на школьный совет. Я так думаю, что Елникитка будет засыпать меня по естественной, вот и все.
Домой мы шли с Ванькой Петуховым, и Ванька говорит, чтобы я не поддавался и что поддаваться — хуже. Ванька торгует папиросами, а патента у него нету. Старший мильтон гонял-гонял Ваньку с угла, а Ванька все не поддавался, и теперь мильтону надоело, и Ванька торгует сколько хочет. А ему без торговли нельзя, потому что у него больная тетка и сестра, а работник он один, да еще учиться нужно. Хорошо, что у меня отец — портной и я у него один, а то бы тоже пришлось торговать папиросами.
10 октября
Сегодня в аудитории Елникитка объясняла задание, а Сильва сидела со мной рядом, на одной парте, и все вертелась, а я ее нечаянно задел локтем, и тогда Сильва завизжала. Елникитка спрашивает, что такое, и Сильва, конечно, насплетничала. Елникитка сказала, что я хулиган, а я спросил у нее, что такое хулиган и как надо понимать это слово, а она объяснить толком не могла. Потом я спросил у Никпетожа, что такое хулиган. Оказывается, хулиган — это такой человек, который причиняет зло другому без всякой пользы для себя. А какое же зло я причинил Сильве? Что ж, я в кашу ей наплевал, что ли?
11 октября
Сегодня вышла неизвестно откуда новая стенгазета — «Икс». В этом «Иксе» все протащены: и шкрабы, и Дальтон, и девчата, которые тайком танцуют, а самое главное — «Красный ученик». Про Дальтона есть стишок, который мне так понравился, что я его списал:
сон
Братцы! Раз во время оно Фараону снился сон:
Расступилось моря лоно,
И увидел фараон
Семь громадных и отборных,
Жирных, радостных коров —
Красных, белых, желтых, черных,—
Только ровно семь голов.
Но недолго любовался
426
Фараон своим скотом:
Громовой удар раздался Над коровами. Потом Море снова расступилось,
Из него без лишних слов К фараону появилось Вновь еще семь штук коров,
Но уж эти — худы, тощи, Обросли морской травой —
Не годились, видно, во щи,
И прогнал их царь морской...
Но, хвосты задравши кверху,
Эти тощие скоты Устремились, кроме смеху, Дикой злобой налиты,
На коров несчастных, мирных, Славных тучностью своей...
И — худые съели жирных,
Не оставив и костей...
— Суеверия отбросив,
Этот сон умен и мил,— Добродетельный Иосиф Фараону разъяснил.
Ну, а кто меня утешит, Растолкует мне мой сон,
Потому что сна такого Не видал и фараон...
Я видал, что будто в школе Отделений было пять,
И учились все по воле Отделения на ять.
И ребята были жирны.,
И резвились, и паслись,
И мозги их были мирны И отчасти заросли.
Вдруг раздался гром ужасный, (Пот пробрал меня сквозь сон), И на школьном горизонте Появился лорд Дальтон.
С ним — сто пять лабораторий, Тощих, грозных... и пустых... Пожелтел я, как цикорий,
В первый раз увидев их...
И накинулись поспешно На ребяток все сто пять... Взвыли грозно и кромешно
427
И взялись их пожирать.
Вот от этих-то историй Так и не вышло ничего:
Жиру у лабораторий Не прибавилось с того.
Были и остались пусты И стоят так до сих пор,
И над ними тенью бродит Оголтелый лорд Дальтон.
Сон с себя мгновенно сбросив,
Заорал я и спросил:
— Где же, где же тот Иосиф,
Чтобы сон мой разъяснил?!!
А это дело в том, что лаборатории так и стоят с самого начала пустые. Правда, в обществоведение взяли из школьной библиотеки все книжки по политграмоте, а в естествоведение перенесли аквариум и коллекции, да только и всего. А по-настоящему надо, чтобы в каждой лаборатории был полный подбор книг и пособий по данному предмету. Тогда ученик может свободно распоряжаться и действительно подготавливать задания.
12 октября
Во время обеденного перерыва мы играли в зале в «лапоть». А «лапоть» — это такая зимняя игра, вроде футбола. У нас под лестницей хранится лапоть, который мы вытаскиваем, когда нужно играть. Все становятся в кружок и начинают этот самый лапоть бить изо всей силы ногами, чтобы вышибить из круга. А в середине стоит один, кто ловит лапоть. Если поймал, может становиться на место того, кто последний ударил. Вот мы играли-играли, лапоть летал аэропланом, как вдруг я наподдал, лапоть вылетел из круга — и прямо по лицу Зинаидище; она в это время входила в зал. Вот она обозлилась-то! Сейчас же топнула ногой, это у нее такая привычка, и кричит:
— Прошу перестать! Кто это сделал?
Все замолчали. Тут она и давай говорить жалкие слова:
— Я думала, что у нас в школе еще поддерживается это правило, что виновный сознается сам и что если он не сознается,— значит, трус...— и тому подобное.
Я не выдержал и спрашиваю:
— Конечно, виновный должен сознаться, только в чем же он виноват?
— А виноват в том,— ответила Зинаидища,— что позволяет себе слишком резкие движения и не считается с возможностью всяких повреждений.
428
Тогда я сказал, что эго я. Зинаидища подошла ко мне, схватила за руку и говорит:
— Пойдем.
Тут на меня нашло какое-то оцепенение, я и пошел за ней в учительскую. Как примется она меня пилить! Я этого хуже всего не люблю. Я и сказал ей:
— На что же тогда самоуправление, если шкрабы во все вмешиваются и все время делают выговоры? Обратитесь в учком, он меня и подтянет.
Л она отвечает:
— Вы прежде всего должны помнить, что вы еще не человек, а только личинка. Вы не можете отвечать за свои поступки.
И опять пошла чистить на все корки.
Когда я отчистился, «лапоть» уже кончился, и обеденный перерыв тоже. Если бы я был дружен с Сережкой Блиновым по-прежнему, пошел бы к нему поговорить насчет сапоуправления и шкрабов. А теперь не с кем. Разве с Ванькой Петуховым?.. Я уже давно собирался записаться в ячейку, да ячейка у нас очень бездеятельная; она вполне бы могла отбавить форсу у шкрабов, а ни во что школьное не вмешивается; заседания ячейки для всех открыты, но на них так скучно, что никто из беспартийных не ходит. Все только политика да производство — вроде скучного урока. А когда кто-нибудь из ребят возьмется сделать доклад, то просто засыпаешь.
13 октября
Был школьный совет. Разбирали мое дело с Елникиткой, и Зинаидища тоже взялась и рассказала про «лапоть». Постановлено на меня оказывать моральное воздействие. Никпетож отвел меня в пустую лабораторию и стал со мной разговаривать. Только он ни слова не сказал мне про мой характер, а все толковал про Дальтона. Он говорит, что учителя смотрят на преподавание не гак, как в старину. Раньше смотрели так, чтобы как можно скорее набить ученику голову всякой всячиной, а когда ученик кончит школу, все у него из головы в два счета вылетало. Одним словом, надо было наполнить пустой сосуд, а что в него может влиться, это им было наплевать с шестнадцатого этажа. А теперь на ученика смотрят, как на костер, который только разжечь, а дальше уж сам гореть будет. Вот для этого и вводится Дальтон-план, чтобы сами ученики как можно больше работали головой.
Я сказал, что это очень трудно и, наверное, никто не сдаст зачетов к 1 ноября. А Никпетож говорит, что это не важно и что в конце концов все поймут пользу Дальтона. Я пока что не понимаю. Потом и его спросил, как, по его мнению,— хулиган я или нет?
429
Он сказал, что, по совести, этого не думает, а что резкость у меня есть, которая потом, с годами, пройдет. Когда я ушел от Никпетожа, мне стало очень весело, и я с пением пошел к Елникитке извиняться. Подошел к естественной лаборатории, а оттуда как выскочит Елникитка, как начала меня крыть: и что я сам не занимаюсь и другим не даю, и всякое такое прочее. Я обиделся, показал ей кукиш и ушел. Теперь опять потянет на школьный совет. И отца опять вызовут. Черт с ними!
По-моему, Елникитка ни капельки не разжигает костер, а, скорее, его гасит.
Мне опять прислали записку:
«Хотя в тебя влюблена одна д., ты не думай, что ты очень интересный. И надо бросить ругаться, а то с тобой разговаривать не хотят».
По-моему, опять Лина.
15 октября
Вчера было воскресенье, и я пошел с Сильвой в кино. Почему я пошел именно с Сильвой? А потому, что, оказывается, у ней есть возможность доставать контрамарки. Была картина «Остров разбитых кораблей». Еще в фойе я заметил Лину и Черную Зою, они очень подружились между собой и постоянно шушукаются. И вдруг после картины Лина подходит ко мне и говорит:
— Поди-ка сюда на минутку.
Я пошел, а Сильва сейчас же ушла домой. Тогда Лина говорит:
— Хотя ты со мной и не разговариваешь, но я тебе должна сказать, что, может быть, ты меня скоро перестанешь видеть. А потом передай своей Сильве, что я ее ненав-в-вижу!
Я повернулся, прошел мимо Черной Зои, а она стояла как статуя. Чего они ко мне лезут?
20 октября
У нас всё экскурсии: то на фабрику, то в музей. Писать некогда.
22 октября
«Икс» все выходит, и никто не может узнать, кто его пишет. По-моему, старшие группы. А теперь еще пошло по рукам, только со строгим предупреждением, чтобы не засыпаться шкрабдм, «ПКХ». Это значит: «Приложение к X» — к «Иксу». В этом «ПКХ» всякая похабщина, смешная до чертиков.
23 октября
Каким-то образом «ПКХ» засыпался Никпетожу. Никпетож пришел и давай размазывать про любовь и про отношения мужчины и женщины, точно мы сами не знаем. Меня, однако, поразило то, что он сказал, будто любовь — цветущий сад, а тот, кто занимается похабщиной, тот в этот сад гадит. Володька Шмерц его переспросил:
— Неужели правда, что цветущий сад?
А Никпетож ответил, что да, да еще какой: сияющий, яркий, и золотой, и серебряный. Ребята хихикали, девчата на них шикали, а Черная Зоя, Фашистка, встала и говорит:
— И кроме того — любовь бывает до гроба.
Никпетож ее спрашивает:
— То есть как до гроба?
А она:
— И не только до гроба, а даже после гроба. Я,— говорит,— знала одного человека, который любил мертвую девушку.
И рожа при этом у нее сделалась страшная, словно она сама мертвец, даже ребята перестали хихикать. А Никпетож сказал, что это уже неестественность и что мертвое тело так быстро разлагается и превращается в землю, что ни о какой любви к мертвецам не может быть и речи.
24 октября
Скоро сдавать зачеты за октябрь, а у меня еще ничего не готово. Проклятый Дальтон — словно ватой голова набита! Я не предполагал, что так трудно заниматься в одиночку.
25 октября
У нас появилась новая стенгазета, которую издает «объединенный коллектив младших групп», и она называется «Катушка». Этой газетой сразу все заинтересовались, потому что она объявила анкету: «Может ли в нашей школе девочка дружить с мальчиком?» Я списал те ответы, которые были вывешены на стенке, рядом с газетой:
431
1. Если сойдутся характерами, то могут.
2. Девочка не может дружить с мальчиком, потому что у мальчиков и у девочек совсем другие убеждения и интересы. (Это писала Фашистка.)
3. Я думаю, что можно, только не со всеми. У нас в школе так бывало. Но стоит только появиться хорошему отношению, как со всех сторон несутся насмешки и поневоле заставляют прекратить. Всё понимают в ином освещении.
4. Нет. Девочки — дух противоречия. (Это написал я.)
5. Можно, если бы некоторые девочки не так презрительно относились к мальчикам, отчего подрывают отношения остальных девочек к последним.
6. Ответить на этот вопрос все-таки трудно. Я, например, понимаю дружбу двояко. Во-первых, у мальчиков и у девочек должна быть коллективная, общая дружба, и, по-моему, она возможна. Но есть вторая дружба, это дружба отдельных лиц, которые как-то сходятся между собой, и у них появляется дружба. И эта дружба может быть между мальчиком и девочкой, но, конечно, не у всякого мальчика со всякой девочкой, и наоборот. В общем, дружба есть что-то хорошее и высокое, к чему мы не должны отрицательно относиться.
7. По-моему, в теперешнее время не может, так как всякая дружба в конце концов сведется к более сильному чувству с той или другой стороны. (Это писала Лина, я видел.)
26 октября
Произошел серьезный случай.
Зою Травникову давно уже окрестили Черной Зоей и Фашисткой, и никто на это не обращал никакого внимания, только она обижалась. Но вот сегодня в аудитории Никпетож рассказал нам про Муссолини и фашистов во всех подробностях: и как чернорубашечники брали Рим, и как они потом расправлялись с коммунистами.
Во время обеденного перерыва мальчишки сговорились между собой, окружили Зою и начали петь:
Мы фашистов не боимся, пойдем на штыки...
Зоя сначала заревела, потом начала драться, а мы только смеялись. Как вдруг Зоя как трахнется на пол! Мы сейчас же петь перестали, подходим к ней, а она — как мертвая. Лицо бледное, зубы сжаты. Все испугались, побежали за водой и давай ее спрыскивать. А она все не приходит в себя. Тут прибежала Елникитка, она была дежурная, стала на нас ругаться, велела из аптечки принести нашатырного спирта. Мы принесли. Елникитка дала ей понюхать; тогда Зоя как будто стала приходить в себя. Тут Елникитка опять напустилась на нас и всех разогнала.
432
После этого Никпетож, как руководитель нашей группы, собрал всех в аудитории, и было собеседование насчет кличек. Сначала выяснили, какие у кого клички. У девчат оказалось у каждой по нескольку кличек, у ребят — меньше. Одну из девчат зовут Собака, Кишка, Грымза, Капуста.
Долго спорили, потом решили так: кто заявит протест против своей клички, того так дальше не звать. Сейчас же все девчата зашумели и одна за другой потребовали, чтобы их кличками не звать. Все это было записано.
Только, по-моему, все это — интеллигентщина. Вот меня зовут Козлом, и я нисколько не обижаюсь.
27 октября
У нас организовался отряд «юных пионеров». Нужно давать торжественные обещания, потом ходить кругом зала с маршировкой, потом не курить и всякое такое. Записались все любители пофорсить. А по-моему, это для маленьких — красные галстуки носить. А я лучше подожду, когда примут в комсомол. По убеждению я — коммунист.
А Зоя и Лина не записались в пионеры потому, что «пионеры — против бога». Они так между собой говорят и с другими девчатами. Они обе — дуры несознательные, потому что мир произошел от клетки, и это можно вполне доказать, а вовсе не от бога. Во время объяснения задания на ноябрь обязательно спрошу у Елникитки насчет бога. Она, как естественница, должна объяснить все подробности.
29 октября
Разговор с Сережкой Блиновым. Он мне говорит:
— Вот я хотя и в учкоме, а все-таки считаю наше самоуправление плохим. Какое же это самоуправление, если все мы должны делать по указке шкрабов? Многое взято из старой школы. Например, обязательное здорованье. Каждый из учеников, встретившись со шкрабом в первый раз за день, должен поздороваться. Это неправильно: а если ученику не до здорованья? Или вот тоже вставанье учеников при входе шкраба в класс. Правда, у нас это не имеет большого значения, потому что и классов нет, а аудитории бывают редко.
Я с ним согласился. Тогда Сережка спросил, буду ли я его поддерживать, если он выступит против такой формы самоуправления. Я сказал, что буду. Ведь и верно, никакого самоуправления по правде нет. Если учком что-нибудь постановит, то это постановление сначала идет на шкрабиловку, потом на школьный совет — и тогда только приобретает настоящую силу, когда школьный совет утвердит.
433
Или, например, любой из шкрабов имеет право пилить ученика сколько хочет. Со мной сколько таких случаев было.
30 октября
Сегодня опять был обморок с Черной Зоей. Она, по обыкновению, сидела около печки с Линой, потом они поссорились, что ли, и вдруг Зоя — трах на пол. Опять притащили воду, нашатырь; насилу оттерли. Зинаидища вызвала Зою в учительскую и долго с ней говорила. Странная девчина эта самая Зоя. По-моему, она очень много думает насчет мертвецов, оттого и в обморок падает.
31 октября
Завтра начало сдачи зачетов. Вчера просидел всю ночь, и сегодня тоже придется. Самое скверное то, что книг нету. В лабораториях и в библиотеке разобрали ребята — тоже готовятся. Откуда же взять?! Покупать — денег нету. Сегодня буду чертить диаграммы по обществоведению.
Все-таки напрасно у нас в школе ввели Дальтона.
Вторая тетрадь
1 ноября
Конечно, я засыпался по математике, по физике, а по естественной даже и не пробовал сдавать зачет. Оказывается, это будет называться «задолженность». Когда сдам, тогда и ладно. А до тех пор крестик не поставят. Мне все-таки неловко: у нас больше половины группы сдали все зачеты. Никпетожу я, конечно, сдал. И диаграммы представил.
Начинают готовиться к Октябрьским торжествам. Меня выбрали в комиссию, а кроме меня, из нашей группы Сильфиду Д.
3 ноября
Мы решили как следует разукрасить все здание школы зеленью и флагами. Шкрабы сказали, что они вмешиваться не будут, а мы сами должны все делать. Это — вася, без шкрабов куда хлеще. Сильва, оказывается, не такая дура и интеллигентка, как я думал. Танцевать она не любит, а бант носит пропеллером потому, что мать велит.
434
Я ей посоветовал не обращать внимания, а она ответила, что любит мать и потому ее слушается. Вот этого я немножко не понимаю — против убеждения носить бант. Я бы нипочем не стал носить бант, хотя папаньку очень уважаю и люблю.
Завтра поедем за елками за город. Ура!
5 ноября
Почти все готово. Устроили иллюминацию в виде красной звезды над самым парадным. Все лаборатории, и зал, и аудиторию украсили флагами и елками. Все хвалят, и мне приятно.
7 ноября
Все ушли на демонстрацию, даже папанька, а я — дома. Лежу в постели и нисколько не могу ходить. Вчера полез на крышу парадного укреплять надпись «Да здравствуют Советы», да и ссыпался оттуда и вытянул себе жилу на ноге. Было страшно больно, теперь ничего, только даже встать не могу. А Сильва там же, на тротуаре, меня разула и стала растирать ногу. Сначала я брыкался, потом ничего. Даже вроде как приятно. Потом она же позвала Ваньку Петухова и других, нашла где-то носилки, и меня стащили домой. Значит, и девчонки могут быть хорошими товарищами?! Это надо заметить и поговорить на этот счет с Ванькой Петуховым. Теперь от нечего делать буду писать про всех.
Ванька Петухов — очень хитрый. 1 ноября все пошли сдавать зачет по математике Алмакфишу, а сдавать зачеты — когда хочешь можно. Вот Ванька не пошел. А потом узнал, какие Алмакфиш теоремы спрашивает больше всего, и пошел сдавать 3-го — и сдал. Так же и с другими предметами. И теперь у Ваньки «задолженности» совсем не осталось. А я так не могу. По-моему, из этого никакого костра не выйдет. Нужно самому все пройти по-настоящему, тогда и в голове останется. И вообще, все ребята, стоя около лабораторий, шепчутся: «Что спрашивает, что спрашивает?» Совсем как на экзаменах. Форменная старая школа.
Теперь — кто из шкрабов кого преследует.
Елникитка меня терпеть не может, а Алмакфиш — Сильву. Он ее засыпал и по математике и по физике. Она сейчас в слезы. А Алмакфиш очень ехидный. Сильва говорила, что он проезжался все насчет ее банта. «Банты,— говорит,— носить умеешь, а по математике отстаешь». По-моему, он и права не имеет. Такое право имели учителя в старой школе.
А Зинаидища преследует Ваньку Петухова. Ее потому зовут Зинаидища, что она очень высокая. Когда она идет по залу, то кажется, будто это Сухарева башня, а мы все — торговцы. Мы даже
435
так играем. Когда Зинаидища покажется в зале, сейчас же начинается:
— Пирожки, пирожки горячие!..
— «Ира» — «Ява»! Зец: облава!..
— А вот мануфактура, покупай, дура!..
— Старые брюки — подставляй руки!..
А Зинаидища идет по залу — и пасть от удовольствия разинула: улыбается, потому что ничего не понимает. А рот у ней большущий, только один желтый зуб торчит. Она думает: «Вот ребята играют как хорошо... Если кто-нибудь из центра приедет — похвалит...» И не подозревает, что мы из нее Сухареву башню разыгрываем. Ее все- таки боятся, и когда ей нужно что-нибудь нам сказать, то она топает ногой и кричит: «Смирно!» И все сразу молчат. Хотя мы не солдаты и нечего нами командовать.
Ваньку Петухова она не любит за то, что он торгует папиросами. Для нее он все равно что беспризорный, и она думает, что он самогонку пьет, и в карты играет, и марафет нюхает, и с женщинами живет... Она ему так и говорит: «Ты всю школу можешь заразить». Ванька, верно, курит — потому что и я курю, да и Сережка Блинов, которого Зинаидища вечно ставит всем в образец, тоже курит. А насчет остального — враки. Правда, все беспризорные Ваньку знают, потому что он км книжки читает, как они неграмотные, и я даже собираюсь вместе с ним пойти посмотреть. Они живут в разваленном подвале одного дома. Дома теперь нет, и подвал засыпало, вот в этом подвале и живут... Ванька их не боится, он говорит, что из них хорошие ребята есть, хоть бы к нам в школу, только неграмотные. Сначала Ваньке порядком от них доставалось: налетят, с ног собьют вместе с лотком и папиросы тырят, да еще в скулу норовят влепить. Вот Ванька и пошел к ним с книжками: захватил папирос, угостил их и стал им читать. Они, оказывается, сказки любят, как маленькие. С тех пор они Ваньку не трогают. А Зинаидища ничего этого не знает и все на Ваньку лается. По правде сказать, один раз мы с Ванькой пробовали нюхать марафет, только ничего не вышло: сначала заболели головы у обоих, потом блевать стали. Гадость в общем и целом! А беспризорные, по Ванькиным словам, и жить без марафета не могут.
Никпетож ни к кому не придирается, и потому вся группа чувствует к нему доверие. И потому он говорит, что гордится нашей группой, потому что среди нас развито коллективное сознание. Я хотя с этим не очень-то согласен: среди ребят еще есть коллективное сознание, а уж среди девчат... только некоторые разве.
Однако надо позаниматься: буду решать задачки Алмакфишу.
10 ноября
Сегодня в первый раз вышел из дому — и прямо в школу. На демонстрации, говорят, было очень весело, и будто пошла теперь мода ходить по улице с голыми ногами, в физкультурных костюмах: все, и девчата тоже. Я считаю, что это очень хорошо, потому что юбки пылят, и потом, мануфактуры на них лишней много идет: все равно ведь женщины штаны носят. И будто на демонстрации все комсомольские девчата были в трусах.
Не успел я прийти в школу, как уже сразу получаю записку:
«Здесь без тебя очень скучали. Угадай — кто?» И угадывать не желаю.
Алмакфишу математический зачет сдал: вот что значит дома-то полежать.
11 ноября
Сегодня воскресенье. И было очень длинное общее собрание. Во-первых, отчитывался старый учком. Все шло как всегда, когда вдруг председатель старого учкома Сережка Блинов заявил, что он в последний раз был в учкоме и больше не будет участвовать и отказывается от своей кандидатуры навсегда. А причины такие, что учком является «инвалидом на шкрабьих костылях», то есть ничего самостоятельного предпринять не может, а должен во всем согласоваться со шкрабами. Так как Сережка вместо «школьные работники» употребил выражение «шкрабы», ряд шкрабов тут же заявили протест. Затем Зин-Пална взяла слово и спросила Сережку, как он считает: что — ученики совсем не должны считаться со школьными работниками и не признавать их за людей или все же человеческое звание за школьными работниками он оставляет? Сережка Блинов страшно обиделся и не хотел говорить дальше, но его упросили ребята. Тогда Сережка сказал еще, что он считает разные здорованья и вставанья предрассудками и что он лично не будет этому подчиняться. Зинаидища в ответ ему сказала, что всегда считала его образцовым учеником и теперь удивляется, какая его муха укусила. Кроме того, считает ли он тоже предрассудками причесывание и умывание? Сережка опять обиделся и не захотел дальше разговаривать. Тогда выступил Алмакфиш и сказал, что все это его нисколько не удивляет, и что количественно — это изобилие эпохи, а гигчественно стоит по ту сторону добра и зла. Мне кажется, это же самое он говорил мне по поводу моего столкновения с Елникиткой, и тоже ни к селу ни к городу. Несмотря на убеждения шкрабов, Сережка Блинов остался при своем убеждении, и большинство школы — за него. Только некоторые девчата как будто держат сторону шкрабов, в том числе Лина и Черная Зоя. Зоя, по крайней мере, каждый раз, как Сережка говорил, паровозила: «Фу, ффу, ффффу!»
437
После этого прецедента были выборы нового учкома. К моему удивлению и против всякого желания, попал в учком и я. Кроме меня, из нашей группы в учком попала Сильфида Дубинина. Ей везет: как куда меня выберут, так туда и ее. Это ничего: с ней работать можно, она не то что другие девчата. Учком считается высшим органом самоуправления. Учкому подчинены и санком, и культком, и все другие комы. То есть это только называется, что подчинены, а на самом деле — делают что хотят.
Елникитка встретила меня в коридоре и спрашивает:
— Когда же вы, гражданин Рябцев, соберетесь сдать зачет?
А я отвечаю:
— А вот выучу, гражданка Каурова, тогда и сдам.
Тогда она говорит:
— Теперь все разобрали новые задания на ноябрь, а вы в хвосте.
Я ответил:
— Успеется,— и дралка.
Терпеть ее не могу!
13 ноября
Не успели меня выбрать в учкомы, как сразу обнаружилось важное дело. С самого начала занятий в школе идут кражи. Еще месяц назад у одного из старших пропала готовальня, потом-завтраки и деньги много раз пропадали. А теперь у Ваньки Петухова пропало вдруг сразу шесть лимардов. Он их оставил в пальто в раздевальне и ушел, а потом приходит — денег нету. Но дело в том, что Сережка Блинов проходил мимо раздевальни и видел, что в ней что-то делал Алешка Чикин. Конечно, сразу захотели спросить Алешку Чикина, а его и след простыл. Пришлось мне и Сильфиде Дубининой, как учкомам третьей группы, идти к Чикину на квартиру. Вот мы пошли, приходим на квартиру, а его там нету; встречает нас Чикина отец, сапожник, пьяный.
— Вам чего?
Мы рассказали.
А отец говорит:
— Это он, сукин сын, я его знаю, он вор, я шкуру с него спущу!
Тогда мы пожалели, что сказали: а может, это не Алешка, а отец
его излупит. Остались мы с Сильвой во дворе дежурить, ждать Алешку. Ждали-ждали, а потом вдруг в полной темноте Алешка приходит. Я подошел к нему и спрашиваю:
— Ты почему раньше времени из школы ушел?
— А тебе какое дело?
— А такое дело, что деньги пропали.
Тогда Алешка отпихнул меня плечом, хотел идти и говорит:
— Я иду на квартиру, пусти!
А я отвечаю:
438
— Ты лучше не ходи до выяснения дела, а то отец тебя измордует.
Тогда Алешка заорал:
— А-а-а-а, так вы ему сказали? Не брал я ваших шести лимар-
дов!
И тут он стал налезать на меня и бить меня прямо по морде. Вдруг его сзади схватила Сильфида Д., и мы Алешку прижали к стенке и спрашиваем:
— А ты откуда знаешь, что шесть лимардов? Мы тебе не говорили.
И он в ответ стал реветь и ругаться по-матерно и плеваться на нас, и тут мы оба с Сильвой заметили, что от него несет самогоном. Тут он вырвался от нас и убежал. Так как была темнота, мы не могли его догнать и пошли в школу. Там нас ждали все учкомы, и мы все рассказали. Конечно, подозрение еще больше увеличилось, но прямых доказательств не было. Дежурным шкрабом была Елникитка, и она прямо нас спрашивает:
— А чего же вы его не обыскали?
Мы объяснили, почему мы не могли обыскать, а по правде — нам и в голову не пришло. Дело решили отложить до завтра.
14 ноября
Алешка Чикин пришел как ни в чем не бывало в школу. Его сейчас же — в учком.
— Что в раздевальной делал?
— Лазил за хлебом к себе в куртку,— отвечает.
— А почему раньше времени из школы удрал?
— Нужно было домой.
— Так тебя дома не застали Рябцев и Дубинина.
— А я уходил.
— А почему от тебя самогонкой пахло?
— Они врут.
— А откуда ты узнал, что ровно шесть лимардов пропало?
— А я и сейчас не знаю.
Тут он, конечно, нахально соврал, потому что мы ему не говорили,
439
а он первый начал кричать про шесть лимардов. Ну, тут всем стало ясно, что украл он, и с ним не стали больше разговаривать. Теперь встал вопрос такой: как со всем этим делом управиться? Шкрабы пока молчат — и ладно. Лишь бы они не ввязались. Но с другой стороны, так оставить дело нельзя. Мы, все учкомы, очень долго разговаривали, а потом разошлись, ничего не решили. Если мы ничего не решим и завтра, дело придется вынести на общее собрание. Сережка Блинов мне сказал, что дело, наверно, кончится ничем и что Ванька Петухов сам виноват, что оставил деньги в пальто. Это-то так, а нельзя же, чтобы в школе были кражи, и зачем тогда и учком, если все дела кончать ничем.
15 ноября
В дело Алешки Чикина ввязалась Зин-Пална. Она его наедине отчитывала часа два, потом он выскочил от нее весь заплаканный — и дралка. Так и убежал из школы. Мы, учкомы, тогда зашли к Зин-Палне и спросили, на каком основании она помимо самоуправления ввязывается в вопросы, касающиеся самих учеников? А Зин-Пална говорит, что она, во-первых, обязанная отвечать за порядок в школе, а потом она вовсе не ввязывается, а пыталась оказать на Алешку моральное воздействие. Хорошо! На общем собрании поговорим.
Елникитка собрала нас в своей лаборатории объяснять с микроскопом размножение папоротников, и тут я ее спросил:
— Как по-вашему — как произошел человек и вообще весь мир?
Она вся покраснела и отвечает:
— Конечно, биологическим путем.
— То есть каким биологическим?
Елникитка стала объяснять иро клетку, но мне не это было нужно, и я спросил:
— А бог — есть или нет?
Она опять покраснела и отвечает:
— Для кого есть, а для кого нет: это личное дело каждого.
Тут Черная Зоя заорала как сумасшедшая:
— Я знаю, для чего он это спрашивает! Это он для того, чтобы доказать, что бога нету! А я вот верю в бога, и это мое дело, и никто не смеет мне запретить.
Я было хотел ей ответить, что ей никто и не запрещает и что вопрос нужно выяснить с точки зрения принципа, но она и слушать ничего не хотела, и я даже думал, что она шлепнется в обморок. Но тут Елникитка опять завела про папоротники. Зоя успокоилась, и я решил пока подождать. А когда окончилась естественная, Сильва ко мне подходит и говорит:
— Ты знаешь, они и в церковь ходят.
•— Кто «они»? — спрашиваю я.
440
— Зоя и Лина.
— А ты не ходишь?
— Нет, не хожу. Я в бога не верю, хотя мне за это от матери сильно попадает,— отвечает Сильва.— У меня мать старых убеждений, а отец — новых. Я и мать люблю, и отца, а у них постоянно руготня и даже драка. Отец иконы убрал, а мать их опять внесла. Я сначала была на стороне матери, а потом отец меня убедил.
— А он кто, твой отец-то?
— Наборщик. Заметь, что он сам раньше желтый был, даже бастовал и боролся с Советской властью, а теперь стал красный. Вот мать его и кроет за это. Бабы все на дворе тоже против отца. Соберутся белье вешать, так такая перепалка идет — страсть!
— А ты раньше тоже в церковь ходила?
— Да, когда Дуней была, то ходила. Потом мы с отцом решили, что он будет звать меня Сильфидой, и с тех пор я перестала ходить. Мать и слышать не хочет про Сильфиду: это, говорит, ведьминское имя.
Тогда я подумал и сказал Сильве, чтобы она звала меня Владленом. Она согласилась.
16 ноября
Сегодня Черная Зоя сдавала за октябрь Алмакфишу и вдруг как шлепнется в обморок! Ну, теперь этим никого не удивишь. Сейчас же опрыскали водой, дали понюхать нашатырю, и она встала. Но на собрании учкома был поднят вопрос об отучении ее от обмороков, и я взялся отучить. Только мне предложили, чтобы без всякого вреда для здоровья. Я это и сам понимаю.
17 ноября
Было деловое собрание учкома насчет Алешки Чикина. Дело в том, что он в школу не ходит, и домой тоже. Пропал неизвестно куда. Постановили передать школьному совету, что учком ничего не имеет против разыскания Чикина через милицию, но только чтобы не сообщать, что он украл деньги.
23 ноября
Я сказал Никпетожу, что хочу стать комсомольцем, и он меня одобрил. Он сказал, что если бы и ему было столько лет, сколько мне, то и он тоже записался бы в комсомол.
Потом я его еще спросил, что такое диалектика, и он мне дал почитать газету, в которой мне понравился рассказ. Вот этот рассказ.
441
ДИАЛЕКТИКА ЖИЗНИ
Рассказ
1
Культяпыч любил приходить на террасу, когда вся компания была в сборе. Случалось это только по праздникам. Культяпыч с неизменной своей вонючей трубкой в зубах являлся во время общего чая или обеда, садился на перилку и, сплевывая желтую слюну, начинал рассуждать:
— Вот гляжу я на вашу жизню и никак не приучаюся. Все вы, робята или, скажем, девушки, молодые, крепкие. Однако вы цельный день в разгоне, и нету у вас настоящей пристройки к жизни.
— А какая настоящая пристройка, Культяпыч? — подглигнув ребятам, начинал заводиловку Николка.
— Да нешь вы пойметя? Как вы есть фабричные, вам настоящего понятия не дадено. Взять какую хошь примерку. Кто главней: машинист или машина? Ась? Ну-кася?
— Машина главней, Культяпыч,— важно отвечал Николка.— Человек помрет, а машина останется.
— Вот и дурак,— срезал Культяпыч.— Да кто машину-то из- брел? Леший бесспинный али кто? Человек избрел, вот кто избрел. Не было бы человека, где ж машина взялась бы? И еще примерка тебе: возьми деньги. Что деньги без человека? Нуль без палки, вот что деньги без человека.
— А человек без денег что? — попытался отбиться Николка.
— Все. Кто кого избрел? Деньги разум или разум — деньги? Ась? Ну-кася? Ишь — поди ж... То-то и есть! Диоген сказал: все умрет — слава останется. А я хошь и не Диоген, а старый бонбандир- наводчик — то же тебе говорю.
— А ты откуда знаешь, что Диоген сказал?
— Я, брат, много кой-чего знаю. Я, брат, знаю такую примерку. Вот хоша у вас парень Василий. Сурьезный парень. Умный парень. Все книжку учит, не как ты. Тебе бы все шалберничать.
Тут вступился сам Васька Грушин.
— Вот что, дед,— сказал он.— Это ты неверно: у нас все при деле. Я книжку учу, а Николка девчат веселит. Без Николки девчата все давно бы разбежались. Верно, девчата?
— Конечно, с тобой, с сухарищем, пропадешь,— с задорным вызовом ответила Ленка Спирина.— Что же, всю зиму учились, летом не беда и отдохнуть...
— А ты мысли диалектически, Культяпыч,— подшутил Федор Зайцев.— Тогда тебе все понятно будет.
— Это што же такоича: ди-лехти-чески? — спросил старик, имевший большое пристрастие к иностранным словам.— Растолкуй!
— Это сразу не растолкуешь,— ответил Зайцев.— Этому жизнь учит.
442
— А я вот что, брат, скажу,— неожиданно заключил Культяпыч, сплевывая в сторону краснощекой Ленки.— Жизня — это, брат, чеп тяжелый. А баба — тормоз.
Терраса грохнула от смеха.
2
Ленка Спирина была малограмотная. Она только три месяца назад приехала из деревни, но благодаря общительному своему характеру, веселью в запевке и всякой игре она быстро прилипла к комсомольцам на производстве и на лето попала в дачную коммуну. Нужно сказать правду: какое бы то ни было ученье давалось ей с большим трудом. Поэтому к лету она одолела только буквы да простейшие слоги. Ходила она и на кружок политграмоты, но, разумеется, пользу ей, как не умеющей читать, это принесло очень маленькую.
На даче взялся было за нее Васька Грушин, но скоро бросил.
Ленка готова была гулять по-деревенски до вторых петухов, до самого поезда, с которым нужно было отправляться на производство, но усадить ее за книжку было невозможно. Хуже всего было то, что она охотно выслушивала длинные Васькины разговоры о политике, о смычке рабочих с крестьянами, но на другой же день все незамедлительно вылетало у ней из головы. Васька пустился было на хитрость: начал ей рассказывать сказки, в которых, кроме чертей и леших, фигурировали фашисты и комсомольцы. Но был побит самым неожиданным образом.
— Это что-о-о-о за сказки,— с пренебрежением пропела Ленка.— У нас на деревне бабушка Гунявиха рассказывает — вот это еще сказки! Послушай-кась...
И пошла, и пошла... После этого Васька решил отступить, обождать, а Ленка продолжала гулять до утра с охочими парнями и девчатами и прозвала Ваську Сухарищем.
С Культяпычем молодежь познакомилась именно на гулянке, коротая веселые летние ночки. Культяпыч по долгу службы обходил дачные улицы и с большим интересом присматривался к молодежи.
— Вы кто же будетя? — спросил Культяпыч певших песни ребят, остановившись как-то ночью у дачи.
— Комсомольцы.
— А! — с почтением сообразил Культяпыч.— Стал быть, Ильичевы внучаты? И я вам должен сказать открыто: аткровенный человек был ваш дед. И вы должны его славу помнить и чтить во веки веков, аминь.
— Мы и чтим,— ответили ребята.— А ты кто будешь?
— Я? Я — старый бонбандир-наводчик,— важно сообщил ста¬
443
рик.— Служу я ночным сторожем здеся. А звать меня Кирилл По- тапыч.
— Культяпыч,— подхватили ребята, и так старик и остался Куль- тяпычем.
з
В сущности, рассказывать было бы больше не о чем, если бы не трагический случай, всполошивший всю дачную местность и перевернувший кверху дном жизнь коммуны. Как-то в воскресенье Васька Грушин остался на даче один. Остальная компания ушла гулять. В одних трусиках разлегся Васька перед геометрией и принялся постигать тайны равнобедренных треугольников. К зиме Васька постановил попасть на рабфак. Солнце палило во всю мочь, словно собираясь ультрафиолетовыми своими лучами пронзить Васькины внутренности. Но Васька, изредка отмахиваясь от комарья, отважно вжигал себе в башку теорему за теоремой.
Внезапные крики и говор где-то на улице и на соседних дачах прорезали звенящую солнечную тишину. Васька прислушался, уловил:
— Эй, скорей, скорей!.. Ну да, утонули!.. Кто? Где? Ай, батюшки!
Васька легким рывком сорвался с места и побежал через улицу
в лес, по направлению к пруду.
Пруд был старый, глубокий, большой и очень запущенный. На берегу толпился народ, толковали об опрокинувшейся лодке и утонувших людях. Растолкав публику, Васька пробился в центр толпы, к своим ребятам, дрожащим и мокрым.
— Ленка утопла: кажись, плавать не умеет! — встретили его испуганно.
— В самой середке! Катались мы, стали пересаживаться, а лодка того...
— Мы уже ныряли, сил больше не стало,— угрюмо бормотнул Николка.
— За лодкой, за баграми побежали...
— Да разве скоро! — сомневались в толпе.— Лодка есть, так она частная, на замке, на другой стороне...
— Где? — спросил, запыхавшись, Васька и по указанному направлению срыву махнул в воду.
Плавал и нырял он недурно, поэтому рассчитывал быстро найти утопленницу. Отмахав саженками полпруда, он обернулся к берегу, спросил:
— Здесь?
На ответные крики забрал левей и нырнул. Дно было чрезвычайно глубокое, илистое, в водорослях и топкое. Прощупав около двух саженей в разных направлениях, Васька почувствовал, что от холодных донных ключей заходятся ноги, что не хватает больше духу, поэтому решил подняться на поверхность. Стремительно оттолкнулся
444
он ото дна, пошел кверху, но тут же ощутил, что ноги запутались в водорослях. Васька попытался распутать руками их крепкие нити, рванул раз, рванул два и, не рассчитав, вдохнул воду. Тотчас бешено закрутились в глазах оранжевые звезды, вода пошла в ноздри, в уши, в желудок. Судорожно заходили по воде руки, но водоросли словно вцепились в мозг, в память, в сознание...
С другой стороны на двух парах весел поспешно шла лодка. Ленку очень быстро нащупали багром и за платье вытащили на поверхность. Через полчаса Ленка пришла в себя. Ваську нашли и отодрали от водорослей отдышавшиеся ребята. Но ни откачивание, ни искусственное дыхание не помогли. Васька Грушин был мертв.
4
— Вот и скажите мне, что важней: почта — или почтальон? — завел как-то обычную волынку Культяпыч, рассевшись на своей постоянной перилке.— Выходит, что почтальон без почты собщество- вать может, это так. А вот как обойтиться почте без почтальона? Ась? Ну-кася!
Ребята молчали. Месяц прошел со дня Васькиной смерти, но ни веселье, ни гулянки как-то с тех пор на даче не налаживались.
— Теперь почта может быть и без почтальона,— необычно серьезно сказал Николка.— Теперь есть радио, всякое известие можно получить.
— А как твое радиво будет действовать без радивиста? — напустился Культяпыч на Николку.— Радивист должен быть, а без него радиво твое — одна палка. Не-ет, это ты не говори. Машина без машиниста — это все равно что шти без соли...
Разговор не склеивался. Культяпыч выпил стакан чаю, сказал:
— Водка, она хлеще, она от зуб помогает. Ну, а затем до свиданья.— И поплелся восвояси. Но, проковыляв весь палисадник, вернулся и таинственно спросил: — Это што жа, Аленка-то ваша, ее и не слыхать?.. Раньше все, бывалочка, со смехом да с песнями, а теперь — ишь, поди ж... С книгой да с книгой... И сейчас все с книгой в саду сидит... Что, не в обиду будет спросить: не убивается она по Василию, ась?
— Не-ет, это ты, Культяпыч, зря,— задумчиво ответил Николка.— Она с Васей в любовь не грала. Так она, над смертью, должно быть, задумалась...
— Это вот что, друг Культяпыч,— пояснил Федор Зайцев.— Не знаю, поймешь ли меня. Ты вот толкуешь: баба — тормоз. А по- нашему выходит, что невежество тормоз. Василий учился. Утонул из-за нее — теперь она за книжку взялась... Это, друг, диалектика жизни.
— Ди-лех-тика,— протянул Культяпыч и повторил, стараясь запомнить: — Значит, дилехтика. Это как же понять?
445
— А понять это так,— охотно объяснил Зайцев.— Вот по-твоему выходит, что машина без человека существовать не может.
— Не может,— уверенно подтвердил Культяпыч.
— Верно. Так же и книга. Вася утонул — книга осталась. Ленка тоже человек. Она, видишь, подхватила книгу — и учится.
— Так-так-так,— обрадовался Культяпыч.— Это, сталоть, и есть дилехтика... Это вроде: убьют одного бонбандира у орудия,, ан уж другой тут как тут. Тэ-э-эк-с.
Культяпыч опять заковылял по палисаднику. Подошел к Ленке, погладил ее по голове:
— Учиса, девушка, учиса... Всю дилехтику проходи... Настоящую пристройку к жизни получишь. А без дилехтики жизня — есто, брат, чеп железный.
24 ноября
Как только ребята закричали, что с Зоей опять обморок, я сейчас же бросился во двор, кое-что припас и бегу обратно, спрашиваю: где? Мне говорят, что в аудитории. Я сейчас же в аудиторию. Смотрю, лежит она, как всегда, бледная и зубы стиснула. Я говорю:
— Приподнимите ее чуть-чуть.
Ребята приподняли, а я сунул за ворот комок снега. Она как вскочит да как заорет не своим голосом!! Ребята захохотали, а уж бежит Елникитка с нашатырем!
— Что такое?!
— Да вот, Зоя упала в обморок, а Костя Рябцев ее вылечил...
— Ка-ак вылечил?
— Снегом.
Тут Елникитка на меня, что это бесчеловечно, и что это не по-товарищески, и что она меня вынесет на общее собрание. Но пришла Зинаидища, посмотрела на Зою и на меня и говорит:
— Елена Никитична, успокойтесь! Зоя больше в обморок падать не будет.
Зоя засверкала глазищами, запаровозила — и дралка, а Зин-Пална мне говорит:
— Только, пожалуйста, в следующий раз с моего ведома! — И ушла.
А зачем это с ее ведома? Раз я учком, значит, и обязан.
Скоро сдавать зачеты за ноябрь, а у меня еще и за октябрь не все сданы. Учкомство сильно мешает. Да и редкомиссия тянет писать в «Красный ученик», а времени ни на что нету.
26 ноября
Открылась запись в комсомол, и мы с Сильвой подали заявления в ячейку. Говорят, что скоро нашу ячейку присоединят к какой-ни¬
446
будь производственной. Это очень важно, а то на наших собраниях скучища зеленая.
27 ноября
Мы с Ванькой Петуховым ходили к беспризорным, и вот что из этого вышло. Я очень люблю таинственность, а это надо было делать очень тайно, потому что если узнают шкрабы, то из этого может выйти целый прецедент. Было это так. Ванька зашел за мной часов в девять, будто в кино, и мы пошли. Был сильный мороз — градусов двадцать. Пришли мы в этот самый разваленный подвал. Нас сначала не пускали, а потом пустили. Подвал громадный, и в нем такой же мороз, как на улице, поэтому в разных углах горят костерики, только они загорожены разным барахлом, чтобы с улицы не было заметно. Когда мы с Ванькой крались по разваленным камням, было очень жутко, так же, как в кино, когда сыщики крадутся. Они нас сначала не тронули, потому что Ваньку знают и считают его за своего. Одеты они все в страшные лохмотья, и запах от ребят идет аховый, все равно как из уборной, даром что мороз.... Их там довольно порядочно, и греются у разных костериков: у одного места всем не хватит. Как Ванька вошел, все на него накинулись:
— Даешь сказку!..
Ванька подсел к костерику и прочел им сказку про серебряное блюдечко и наливное яблочко. Страшная буза! Я и не подозревал никогда, что такая буза может быть в книжке напечатана. Потом беспризорные ребята просили еще, но Ванька не захотел. Тогда они вытащили самогонку и стали угощать. Ванька выпил немножко, я отказался. Потом они стали играть в карты, а мы собрались уходить, как вдруг кто-то тащит меня к костерику. Я упирался, но тот подтащил к самому огню и орет:
— Ребята, это — легавый!
Я поглядел, смотрю: Алешка Чикин, только весь замазанный и в лохмотьях, сразу и не узнаешь. Говорит:
— Ты что, сволочь, прихрял? Сучить сюда явился?!
— Пошел к черту,— я ответил — и ну вырываться.
Ванька, конечно, за меня вступился; мы вырвались... Они — за нами, мы — отбиваться. Тут меня кто-то стукнул прямо под глаз чем-то твердым. Я заорал, потому что было очень больно, но мы с Ванькой выскочили на улицу — и дралка. Они было погнались за нами, но тут скоро была освещенная улица и мильтон. Они отстали. Глаз у меня очень сильно болел и распух.
Тут мы с Ванькой стали совещаться, как быть и стоит ли рассказывать кому-нибудь про Алешку Чикина. Решили молчать и никому не рассказывать, потому что его могут здорово притянуть, да и домой ему лучше не показываться: после всего этого отец может убить. Ванька мне тут рассказал, что в этом подвале живут
447
«сшибчики». Они так делают: один прячется в воротах, другой гуляет по улице как милый. Как идет какая-нибудь барыня с ридикюлем, сейчас же который гуляет по улице бросается со всего размаха ей в ноги, а другой из ворот вылетает, выхватывает ридикюль, и оба дралка. Есть и просто воруют из карманов. А то лазают по квартирам. Некоторые и по-русски говорить не умеют, только по-татарски, а воруют не хуже.
Когда я пришел домой, синяк под глазом разросся во всю щеку; папанька сейчас же заметил и спрашивает, что такое. Я ему соврал, что поскользнулся и упал; он мне приложил старый медный пятак. Туг немножко опухоль спала, а завтра в школу придется идти все-таки с синяком.
28 ноября
Конечно, все ребята спрашивали насчет синяка, особенно приставала Сильва, так что я даже к черту ее послал. Елникитка поглядела подозрительно и определенно насмешливо, но я не захотел заводить новой бузы и промолчал.
В «Красном ученике» написана правильная статейка насчет общественной работы. Я ее списал.
«У нас в школе проводится Дальтон-план. Задают на месяц задания по всем предметам, и мы должны их самостоятельно проработать. Скажет преподаватель, что такое-то задание нужно проработать по такой-то книге, а книгу нигде невозможно достать, покупать же для каждого задания немыслимо.
Потом, помимо научных занятий, ведутся общественные работы, и на их выполнение назначаются и выбираются те ребята, которые наиболее сильны в этом отношении, и получается невязка, что одни завалены общественной работой, а у других совсем ее нет. Надо сказать, что в наших научных лабораториях всегда так шумно, что очень трудно сосредоточиться на чем-нибудь, и потому ученикам приходится заниматься предметами дома. Кончаем мы занятия в семь часов, и те, у которых нет общественной работы, спокойно уходят, а тем, которые завалены общественной работой, приходится оставаться в школе и выполнять ее. Конечно, за вечер ничего не выполнишь, и приходится собираться на общественные работы утром, когда работает первая смена. А когда наша вторая смена соберется — опять работать в лабораториях нельзя, потому что шумно... Так каждый день. Прошел месяц, пора сдавать задания, а ничего не готово. А у которых нет общественной работы — спокойно сделают задания дома и сдают их к сроку».
Там еще написано, но и этого довольно, чтобы увидеть, что учкомам и дохнуть некогда. А тут еще редкомиссия, да украшатель- ная, да класском, да еще объяснения со шкрабами за всю группу... Чертов Дальтон, чтоб ему провалиться!
448
30 ноября
Завтра сдавать за ноябрь, а я, конечно, ничего не сдам, а когда сдам — неизвестно... У некоторых тоже такое положение. Хорошо, что подходит срок моему учкому, а то бы никак не выпутаться. Одна надежда на зимний перерыв. Сильва тоже не надеется сдать ниче- го — из-за учкомства. Чертов Дальтон!
Весь вечер после школы мы с Сильвой проходили по улицам, и она мне очень много рассказывала про свою жизнь. Оказывается, ее отец подал на мать в суд развод, и она теперь не знает, к кому идти жить. И все время дома драка и скандал. Она и старается как можно меньше показываться домой. Потом она стала спрашивать меня про цель жизни. Я ей сказал, что цель в жизни — это прожить с пользой для себя и для других и потом бороться за всеобщий коммунизм. Тогда она призналась мне, что ей так тяжело было, она даже хотела самоубиться. Я ей ответил, что это очень глупо и что есть люди — живут хуже нас, например беспризорные. И потом, самоубиваться — это интеллигентщина. В старой школе самоубива- лись из-за шкрабов, а мы в таком положении, что еще можем бороться со шкрабами, и, кроме того, есть комсомол, в который нас, наверное, примут, потому что мы оба социального происхождения пролетарского. Тогда Сильва успокоилась, и я проводил ее домой.
Третья тетрадь
3 декабря
Меня и Сильву утвердили кандидатами комсомола. Это — вася, только плохо то, что надо обязательно посещать заседания ячейки. А и так некогда. Ладно! Как-нибудь справлюсь.
4 декабря
Сегодня во время занятий в школу явилась милиция. Вызвали Зин-Палну и спрашивают ее:
— Ваш ученик Алексей Чикин?
Она говорит, что наш.
— Ну так вот, примите его под расписку, а то он адреса своего не говорит, у нас его держать негде.
— А как он попал в милицию? — спрашивает Зин-Пална.
— Во время облавы на беспризорных задержан.
Тогда Зин-Пална вдруг и говорит:
— Нет, я отказываюсь его принимать. Ведите его в коллектор для беспризорных.
KS Школьные годы. Выпуск L
449
Это слышали некоторые ребята, и сейчас же это стало известно всей школе. Зазвонил колокол на общее собрание. Вот отовсюду бегут ребята, книжки побросали; кто отвечал в лабораториях, прямо на середине ответа — винта... Шкрабы глаза вытаращили... А это потому, что обыкновенно про общее собрание заранее известно, а тут вдруг ни с того ни с сего в часы занятий. Вот собрались ребята в зале. Шум страшный, крики. Идет Зин-Пална, вся бледная, да и другие шкрабы тоже, видно, не в своей тарелке.
— Кто давал звонок на общее собрание? — спрашивает Зин- Пална.
— Я,— отвечает Сережка Блинов.
— На каком основании во время уроков?
— А на таком основании, что сейчас вся школа узнала страшную несправедливость, и мы все хотим протестовать.
Сережка это говорит, а сам бледный и заикается.
— Какая же несправедливость? — спрашивает Зин-Пална.
— А вот что Чикина не приняла школа. Чикин — наш товарищ, и обязаны были спроситься у нас.
Тут как все заорут:
— Правильно, Блинов!!! Долой шкрабов!
Зин-Пална подняла руку, долго так стояла, потому что шум, потом говорит:
— Это дело надо разобрать в подробностях. Вот вы говорите: несправедливость. А я не могла его принять, во-первых, потому, что здесь не детский дом и жить ему негде, а потом, он жил с беспризорными и, значит, может быть заражен всеми болезнями и всех других перезаразит. Потом, в конце концов, раз у него есть отец, то его нужно отправить к отцу, а вовсе не в школу...
Тут я встал и говорю:
— К отцу его отправлять нельзя, потому что отец его теперь убьег. У него отец пьяница, и, видно, что ему несладко живется дома, если он в разваленный подвал убежал.
— В какой такой разваленный подвал? — спрашивает Зин-Пална.
— В самый простой,— отвечаю я.
— А вам, Рябцев, откуда это известно?
— А оттуда и известно, что я там сам был и его видел.
Тут все ребята заорали:
— Браво, Рябцев! Молодец!
А я отвечаю:
— Прошу не орать без толку. Раз я учком, значит, я обязан.
— Ну так вот,— говорит Сережка Блинов.— Школа протестует против того, что заведующая, не спросившись у школы, отправила Чикина в коллектор. И кроме того, просим сейчас же послать в милицию и доставить его в школу.
— Да что же мы с ним делать-то будем?— спрашивает Зин- Пална.
451
— Там видно будет. Пойдем к нему на квартиру и потребуем у отца, чтобы он его не бил.
— А он вас так и послушает,— ехидно ввертывает Елникитка.
— Скорее нас послушает, чем вас.— Это Сережка отвечает.— И во всяком случае, мы просим школьных работников ответить, как они думают: имеет в школе какое-нибудь значение самоуправление или нет?
— Да! Да! Просим ответить! — закричали все ребята.
— Я удивляюсь,— говорит Зин-Пална,— на ту неорганизованность, которая в данный момент проявляется. Сорвали занятия, устроили общее собрание. Ну, с этим-то еще можно примириться, раз вышел такой экстренный случай. Но как ведется это экстренное общее собрание? Ни председателя, ни секретаря. Вопросы скомканы в кучу. Ставится вопрос о Чикине, его не решают, сейчас же перескакивают к другому, принципиальному вопросу. Я дальше на таком собрании отказываюсь присутствовать и ухожу, потому что, по моему мнению, такое собрание — позор для школы.
И пошла. За ней сейчас же Елникитка, за ней бочком Алмакфиш и другие шкрабы. Остался только один Никпетож. Сидит и молчит, как воды в рот набрал. Ребята помолчали, потом опять зашумели. И Сережка стукнул кулаком по столу и говорит:
— Я лично считаю, что председатели всякие — это тоже предрассудок. Можно вполне обойтись без председателя. Вот что, ребята, я предлагаю здесь остаться только тем, кто не признает такой формы самоуправления, как у нас. И мы решим, что делать. А остальным — уйти. Конечно, и всем школьным работникам — тоже.
Никпетож сейчас же поднялся. и ушел. Ушли кое-кто и из маленьких ребят. Из девчат сейчас же демонстративно ушли Черная Зоя и Лина Г. Остальные остались и постановили «союз». «Союз» решил самоуправления не признавать и выработать свой устав, которому и подчиняться. Обязательное здорованье и вставание отменить. В лабораторию, и в аудиторию, и в зал можно ходить, кто хочет — в шапке, а кто хочет — без шапки. В остальном действовать по уставу, который выработать поручили Сережке Блинову и еще ребятам.
Мне сразу стало жить очень весело. Кстати, и мое учкомство кончилось.
5 декабря
В школе теперь две партии: «школа» и «союз». Оказалось, что за шкрабов довольно много народу. Сегодня у «школьников» было общее собрание для выборов нового учкома, и на этом собрании была половина школы. У нас, «союзников», тоже было собрание, приняли устав «союза». По этому уставу никто никому не подчиняется, только устанавливается самодисциплина. Всякие пустяки, вроде обязатель¬
452
ного здорованья, отменяются, но каждый из «союзников» обязан следить за собой в смысле поведения. Так, например, драться и шуметь во время занятий нельзя. Для сношения со шкрабами и со «школьниками» избран «комиссар иностранных дел» — Сережка Блинов.
Первым долгом Сережке было поручено, чтобы он добился от шкрабов, чтобы Алешку Чикина доставили из коллектора в школу. Потом был митинг, и все произносили речи.
Потом Сережка отвел меня в сторону и сказал, что так как Никпетож меня любит, то чтобы я к нему пошел и спросил, как он думает насчет «союза», а также и другие шкрабы. Я, конечно, согласился. Только мне непонятно, при чем тут мнение шкрабов? Они — сами по себе, а мы — сами по себе. Все-таки я пошел. Никпетож мне сказал следующее:
— Я считаю ваш опыт интересным. По-моему, вы скоро сами убедитесь, что без дисциплины жить нельзя.
Я ответил, что у нас вводится самодисциплина.
— Самодисциплина — палка о двух концах,— сказал Никпетож.— С одной стороны, она как будто хороша, так как устраняет насилие, а с другой стороны, она гораздо тяжелей, чем внешняя дисциплина. Ведь подумать только: все время приходится следить за собой, чтобы как-нибудь не проштрафиться. Это очень быстро надоедает.
Тогда я спросил, как смотрит на это дело Зин-Пална.
— Вы ее недооцениваете,— ответил Никпетож.— Вы считаете, что она поддерживает в школе насилие и, следовательно, является общим врагом всех учеников. На самом деле это не так. Она всех ребят очень любит, а если принуждена поддерживать дисциплину, так это потому, что на ней — тяжелая ответственность. А на ваш «союз» заведующая смотрит так, чтобы вам не мешать. «Пусть,— говорит,— сами убедятся в нелепости своих поступков».
Я все это рассказал Сережке, он выслушал меня, но ничего не сказал. Домой из школы я сначала провожал Сильфиду, потом она меня провожала, и по дороге мы с ней разговорились насчет «союза». Она говорит, что не верит, чтобы «союз» долго продержался, а вошла в «союз» по товариществу и что сейчас ей очень весело жить. Я сказал, что мне тоже. Мы даже руки потрясли друг другу на прощанье, чего никогда не делали.
6 декабря
Все как будто пришло в порядок. Шкрабы делают вид, будто не замечают «союза», а мы словно не замечаем шкрабов. Так как в «союзе» постановлено никаких издевательств над «школьниками» не производить, то мы их и не трогаем, тем более что там больше маленькие, а кто из старших — те принципиально думают иначе, чем мы.
453
Я изо всей силы гоню с зачетами, чтобы погулять во время зимнего перерыва. Никпетожу сдал за ноябрь. Самое трудное для меня — математика и естественная.
7 декабря
Ванька Петухов в школу не пришел, и я пошел к нему на квартиру. Оказывается, он лежит весь избитый. А избили его беспризорные, потому что подумали, будто он на них донес и потом была облава. Они у него и лоток с папиросами отняли. Он теперь думает поступать на фабрику, тем более что подростков стали принимать больше, чем раньше. Я спросил его: «А как же с ученьем?» — а он говорит, что подростки работают только шесть часов и им всякие льготы для ученья. У него дома все плачут, потому что он почти что один содержит всех. Мне стало очень тяжело, и я ушел.
8 декабря
Я проходил по залу, как вдруг разразился бой между «школьниками» и «союзниками». Они на нас напали: дали подножку Во- лодьке Шмерцу. Сейчас же подоспели наши, и началась свалка. Дрались, конечно, понарошку, больше так, баловались. И вдруг влетает Зинаидища, начинает топать ногами и кричать как сумасшедшая: «Перестать, перестать!» Мы, конечно, перестали, а она на нас напустилась, что мы из школы делаем улицу, что такая вражда недопустима и что хваленая самодисциплина «союза» себя показывает. Тогда я не выдержал и говорю, что самодисциплина тут ни при чем, потому что мы не дрались, а просто ладошками по бокам. Но она мне и договорить не дала и заявила, что будет со мной говорить на школьном совете.
Посмотрим, что будет. Я сдал наконец зачет за октябрь по математике. Теперь осталось не так уже много, и я гоню вовсю.
10 декабря
Было очень весело, потому что во время большого перерыва мы, все «союзники», выскочили на двор и стали играть в футбол. Погода довольно теплая, а снег утоптанный, поэтому играть было легко. А «школьники» смотрели на нас с завистью: им тоже очень хотелось играть, но по ихним, школьным, правилам футбол до весны запрещен — на школьном дворе, по крайней мере. В другие игры можно играть, которые физкультурщик показывает, а в футбол нельзя, потому что, как говорит Зинаидища, «футбол вредно отзывается на занятиях».
454
Кончился перерыв, а мы все играли... Жалко, что рано темнеет, а то бы так без конца и вкалывал бы. Я забил десять голей — играю крайнего правого. Сначала играли девчата, а потом, когда организовалась правильная команда, девчат выставили.
11 декабря
Третьего дня я видел Черную Зою и Лину Г., что они выходили из церкви, а вчера было заседание ячейки, на котором постановили усилить в школе антирелигиозную пропаганду. По этому случаю я пришел в естественную лабораторию, когда там было народу довольно порядочно, и спрашиваю Елникитку:
— Елена Никитична, объясните мне, пожалуйста, насчет бога: есть бог или нет?
— Я,— говорит,— один раз вам уже, Рябцев, сказала, что для кого есть, а для кого нет. Это личное дело каждого.
— Нет, а вообще?
— Общего взгляда не существует.
— А по естественной истории как: существует или нет?
— Естественная история религиозными вопросами не занимается.
Так я и откатился ни с чем, но Елникитку на свежую воду выведу.
Пошел по коридору, как вдруг меня догоняет Черная Зоя и говорит:
— Погоди!
Я остановился, а она вся пригнулась, сгорбатилась и говорит шепотом.
— Я тебя,— говорит,— ненавижу и не считаю за человека, а все-таки, как мне тебя жалко, я тебя предупреждаю, что тебе это даром не пройдет и тебе отвечать придется.
— Кому же это я буду отвечать?
— Там узнаешь кому. Святые ангелы от тебя отступились.
Я как захохочу, прямо животу больно стало!
— Передай,— говорю,— святым ангелам от меня в подарок! — И шлепнул ее по спине.
Она запаровозила — и от меня! Я, конечно, гнаться на стал: не люблю я ее, прямо терпеть не могу. От нее церковью пахнет, постным маслом каким-то.
12 декабря
Сегодня пришлось мне расставаться с милым моим товарищем Ванькой Петуховым. Он пришел в последний раз — поступает на фабрику. Я было стал ему рассказывать, как у нас в школе дела, но видно, что его уже это не интересует. Синяки у него зажили. Получать он будет двадцать три рубля шестьдесят копеек.
— На папиросах,— говорит,— больше не наработаешь.
455
Мне страшно жалко, что он уходит от нас. Во-первых, он товарищ хороший, прямо таких поискать, а потом, он умный парень и очень добрый, Я так думаю, что дружить с парнем — это совсем не то, что дружить с девчиной, хотя бы с такой умной, как Сильва. Я, правда, с ней говорю о многом, но все же не обо всем: ведь она многого не поймет. Да потом, разве с ней пойдешь к беспризорным? Она-то, может, и пошла бы, но ведь ее измордуют, а защищаться самостоятельно она не может. Потом, вот, например, девчата в футбол не могут играть как следует, как ни стараются. Потом, у них глаза часто на мокром месте... В общем и целом, как ни верти, а много есть препятствий к настоящей дружбе. Другое дело — дружба с парнем. Жалко мне Ваньку... Конечно, мы будем с ним видеться, а все-таки это уже не то.
13 декабря
Сегодня из-за «союза» произошел новый прецедент. Сильфида Д. пошла сдавать за ноябрь Алмакфишу, а он ее засыпал, хотя она говорит, что отвечала на все вопросы и доказала все теоремы. Тогда она ему сказала:
— Это вы потому меня засыпаете, что я в «союзе».
Алмакфиш разозлился страшно, назвал ее «дрянной девчонкой»
и выставил из лаборатории. Вся группа страшно возмутилась, и мы отправили делегацию к Зинаидище, чтобы Алмакфиш извинился перед Сильфидой. Я входил в делегацию, и когда мы пришли в учительскую, там был и Алмакфиш. Он услышал наше требование и говорит:
— Хорошо, я извинюсь, я погорячился; но пусть Дубинина раньше извинится передо мной, что она подозревает во мне какие-то посторонние мотивы.
Я тогда сказал:
— Я не знаю, были ли посторонние мотивы, но вся школа знает, что вы Дубинину терпеть не можете и преследуете.
Тогда. Алмакфиш взбеленился, начал кричать, что я — дерзкий и грубый парень и если меня не уймут, то он уйдет из школы, потому что нет никакой возможности заниматься. И он швырнул книжку на стол и ушел из школы. Зинаидища меня оставила в учительской и начала со мной говорить. Она мне доказывала, что если так пойдет дальше, то не будет никакой возможности учиться, и что мы все увлеклись «союзом» и забываем главную и единственную цель — учиться. А я ей ответил, что я с этим согласен, но что не только мы забываем, а и шкрабы "забывают, что мы — такие же люди, только молодые и, может, не такие опытные, как они. Например, нельзя нас называть «детьми», «грубыми и дерзкими парнями», «дрянными девчонками» и тому подобное, и это всегда будет вызывать прецеденты. Тут мне Зинаидища сказала, что нельзя говорить «прецедент» и что нужно гово¬
456
рить «инцидент». В общем, мы решили, что завтра я извинюсь перед Алмакфишем и повлияю на Сильфиду в этом же смысле.
А на собрании ячейки было постановлено предложить шкрабам и «союзу» создать согласительную комиссию для ликвидации конфликтов. Сережка Блинов протестовал, но представитель центра его спросил: неужели он хочет настоящего разделения школы на две партии? После чего Сережке пришлось замолчать.
14 декабря
Согласительная комиссия с участием представителей ячейки постановила отменить обязательное здорованье и вставание. Права учкома расширены: так, например, дела, касающиеся только учеников, будут теперь разбираться только учкомом; в шкрабиловку и в школьный совет пойдут только дела, касающиеся и шкрабов и учеников. В футбол играть можно.
«Союз» кончился.
16 декабря
Только что я думал, что все кончилось, как вдруг перед зимним перерывом на шкрабиловке шкрабы составили характеристики всех учеников, и каждый желающий мог прочесть свою. Я свою не только прочел, но и списал:
«Рябцев Костя, 15 лет. Общее развитие для возраста, безусловно, недостаточное. Ученье дается с большим трудом. Самоуверенность — колоссальная. К общественной работе относится исключительно горячо и нервозно, но быстро остывает. Подростковый возраст и период наступления половой зрелости переживает с исключительными трудностями. Инстинкты преобладают и в силу темперамента требуют немедленного исхода. Груб, дерзок и резок до крайности. Исключительная по силе работа сенсорных и моторных центров создает болезненный и колючий эгоцентризм. Полусознательное отношение к предстоящей взрослой жизни дает пищу интеллекту и его работе над инстинктами. Эта работа происходит и дает некоторые, пока мало заметные, плоды. Типичный подросток по Стэнли Холлу».
Кто такой Стэнли Холл? Наверно, такой же буржуй, не хуже Дальтона... Ходил к Никпетожу спрашивать, что такое эгоцентризм. Он объяснил, что такой же эгоизм, только еще похуже. Выходит, я эгоист. Я так думаю, что я не эгоист, но, конечно, шкрабов не переубедишь. Дело не в этом. Они вот написали, что мне ученье дается с большим трудом. Это, может, и так, но не объяснено — почему. А это потому, что Дальтон. Не будь Дальтона, ученье мне давалось бы так же, как всем. В прошлом году я учился не лучше
457
и не хуже других, да еще время читать оставалось. А теперь по случаю Дальтона у меня времени не хватает. У Сильвы тоже вроде этого характеристика. Я с ней говорил, и она со мной согласилась, что это из-за Дальтона.
18 декабря
Сегодня была общая радость, потому что в школу из коллектора привели Алешку Чикина. Мы долго кричали «ура» и его качали. Потом было собрание учкома, которое постановило отправить его к отцу, а с ним вместе, для переговоров, меня и Сережку Блинова. Алешка очень худой и бледный и все молчит. Должно быть, ему жилось несладко что в беспризорных, что в коллекторе. После занятий мы его повели к отцу. Приходим — отец трезвый, сидит и ковыряет шилом сапог, а мать шьет. Мать, как увидела Алешку, сейчас же завыла. А Сережка говорит отцу:
— Вот, гражданин Чикин, мы привели к вам вашего сына. Школа берет за ^его ручательство на себя, что он будет учиться и вообще вести себя хорошо. Только школа требует, чтобы вы его не били.
Чикин-отец положил шило и говорит:
— Никакого полного права вы не имеете мешаться в мою жизнь! Захочу — убью, захочу — живым оставлю. А только он в вашей школе воровать начал, значит, вы его и обучили.
— У нас в школе воровать не обучают,— отвечает Сережка,— а если он проштрафился, то этого больше не будет. Только вы имейте в виду, гражданин Чикин, что, если вы его хоть пальцем тронете, вы будете иметь дело со всей школой и, кроме того, попадете под суд.
Мы, когда вышли, нарочно постояли с Сережкой под окном: видели, как мать Алешку кормила, а отец с ним разговаривал как будто ничего. Мы успокоились и ушли.
19 декабря
Шел в школу и на улице встретил Лину Г. Вот она подходит ко мне и говорит:
— В последний раз тебя спрашиваю: будешь ты со мной разговаривать или нет?
— В последний раз тебе отвечаю, что так же, как со всеми девчатами.
Она сейчас же откатилась. Вот дуреха-то! Никогда в жизни она меня не спрашивала, а теперь вдруг прилезла «в последний раз». Она сама от меня отсела, и теперь вдруг разговаривай с ней! Это, должно быть, на нее Черная Зоя влияет. Нет, некоторые девчата есть — просто сумасшедшие. А в школу пришел — там все сидят по лабора-
458
ториям и зубрят. Я стал ходить по ребятам и расспрашивать, как дела. Оказывается, у огромного большинства зачеты за декабрь не готовы, как и у меня. А у половины, по крайней мере, и за ноябрь еще не сданы. Тогда я набрал ребят, мы пошли в уборную, курили и обсуждали один проект.
21 декабря
Я сегодня просижу хоть до пяти часов утра, но постараюсь все записать, как было.
Дело в том, что мы еще третьего дня решили покончить с Дальтоном и вчера почти весь день приготовлялись. Сегодня, когда ребята стали собираться в школу, на всех стенах были развешаны надписи и просто записки: «Долой Дальтона!», «Ко всем чертям буржуя Дальтона!».
Ребята, конечно, были все очень рады. Мы сейчас же к пианино — разучивать новую песню. Ее сочинил я:
Пусть кровь наша стынет И слышится стон:
Да сгинет, да сгинет,
Да сгинет Дальтон!!!
А когда стали подходить шкрабы, их встретили этой песней. Шкрабы, словно ничего не знали, разошлись по лабораториям. Но никто сдавать за декабрь не пошел, хотя у некоторых было приготовлено. Вместо сдавания все ребята выскочили на двор. Там уже мы приготовили чучело из соломы, в драной шляпе, и на шее у чучела висела надпись: «Это лорд Дальтон». Чучело поставили посредине двора так, чтобы из окон было видно, принялись плясать вокруг него и петь «Карманьолу». Потом чучело подожгли. Прибежал дворник, но, когда увидел, что опасности нет, он тоже с нами смеялся. Чучело полыхало ярким огнем, с треском и блеском. А мы пели. Потом мы запели еще песню:
Ты буржуй, проклятый лорд!
Уходи ж, паршивый черт!
459
И с пением ввалились в школу. Там нас все шкрабы ждали, и в зале Зин-Пална спросила нас, хотим ли мы общее собрание, или мы так уж настроены, что лучше разойтись по домам. Хотя некоторые маленькие кричали, чтобы по домам, но мы захотели общее собрание. Тогда дали звонок на общее собрание. Перед собранием я пошел в уборную и вдруг вижу — в коридоре валяется записка. Я ее поднял и прочел:
«Так и знайте все, что мы, две девочки, больше жить не хотим. Какие этому причины? А вот: во-первых, нас все обижают и придираются. Потом, одна из нас хочет скорей переселиться в загробную жизнь, а другая — из-за несчастной любви. Мы всем прощаем. Просим нас похоронить по церковному обряду. И мой сегодняшний завтрак пусть возьмет Костя Рябцев. Я ему тоже прощаю. Кто эту записку прочтет, тот пусть никому не показывает. И пусть похоронят нас вместе, в одном гробу. А если самоубийц нельзя хоронить по церковному обряду, то пусть хоронят так, только чтобы панихиду отслужили. Прощайте!
П. С. А если хотите найти наши мертвые тела, то ступайте в физическую лабораторию. Лина Г, и Зоя Т.».
Я взволновался и бросился в зал, как вдруг вижу, что на стене приколота еще записка. Я ее сорвал и прочитал:
«Прощайте все, все, все, родители и ребята, вся школа.
Прощайте! Наши тела — в физической лаборатории. Лина и Зоя».
Я вбежал в зал. Там уже началось общее собрание. Я закричал:
— Скорей в физическую лабораторию!! Там девчата собрались самоубиваться! Может, еще успеем!
Все сорвались с места и понеслись в физическую лабораторию — и шкрабы, и ребята. Я ворвался один из первых, но... там никого не было. Сейчас же все бросились рыться по шкафам и полкам, точно они там могли спрятаться. Как вдруг из аудитории раздался чей-то голос:
— Они здесь! Обе!!
Конечно, все — в аудиторию, и там — верно — были они обе, и обе живые. Они сидели за партами и ревели в три ручья. Ну, их сейчас же оттуда вытащили, а у меня горло отошло. Я только тогда заметил, что все время, как их искали, меня словно кто-то душил.
Лину и Зою повели в учительскую давать валерьянки, а меня обступили шкрабы и ребята, давай расспрашивать, как я узнал.
Я, конечно, показал обе записки и рассказал, как их нашел. Тогда Зин-Пална говорит:
— Это безобразие, записки были нарочно подкинуты. Они ничего и не собирались кончать с собой, а все для того, чтобы обратили на них внимание. Придется им со школой расстаться.
Когда она это сказала, у меня на сердце стало очень легко, и я сразу заметил, что никто из ребят не стал опровергать Зин-Палну. Потом пришел из учительской Никпетож и говорит, что он их спрашивал, каким образом они хотели покончить с собой, и они
460
сознались, что хотели угореть. Для этого они закрыли вьюшки в печке раньше времени, а в физической лаборатории открыли отдушник и стали там сидеть. Я — и верно — заметил, что в физической чуть-чуть попахивает дымком.
— А почему же они ушли из физической? — спрашивает Зин-Пална.
— Испугались,— ответил Никпетож с улыбкой, и все захохотали.
Тогда Зин-Пална нас спрашивает:
— Какой же самоубийца станет раскидывать записки, да еще с адресом, по коридору, а главное, пришпиливать к стене?
Все ребята согласились, что это правда.
— Значит, тут несомненное притворство, да и прекрасно ж они знали, что раньше, чем угорят, кто-нибудь войдет в физическую лабораторию,— говорит Зин-Пална.— Придется вызвать родителей.
А тут стоял Алмакфиш и говорит:
— С философской точки зрения количественно — это изобилие эпохи, а качественно находится по ту сторону добра и зла.
Я это от него уж сколько раз слышал: твердит, как граммофон. Тут Никпетож поднял руку и говорит:
— Прошу меня выслушать, ребята. Мы строим новую, свободную школу. Вы и читали и слышали, что раньше школа была совсем не такой, как сейчас. Конечно, на пути постройки новой школы могут быть всякие трудности, как и во всяком новом деле. Вот вы выступали сегодня против Дальтон-плана. Вам не нравится этот способ работы. Неужели вы хотите, чтобы вас гнали из-под палки, как в старой школе? Чтобы тянули ваши мозги к свету против вашего желания? Спору нет, по Дальтону заниматься трудно, может, и ошибок много в нашем построении Дальтон-плана, но ведь эти ошибки можно изжить. Кто не ошибается, тот не работает. Новая школа растет не спокойно, как хотелось бы, а бурно и с препятствиями. Вот вы выступали и против самоуправления, и против Дальтона все это препятствия. И мы их совместно с вами мало-помалу преодолеваем. Девочки эти хотели поставить нам новое препятствие, но это по глупости, несознательно, и очень хорошо, что вы хотите их простить. Но я другого и не ожидал от вас, от новых, свободных людей, людей, которые растут из революции, из бурной, но молодой эпохи. Наша заведующая Зинаида Павловна как будто не согласна простить этих девочек. Я присоединяюсь к вашей просьбе; я думаю, что и родителей не нужно вызывать, и особенно — из школы исключать не следует. Я думаю, что мы с вами, ребята, так сумеем на них повлиять, что они бросят всякие мысли о самоубийстве и придут вместе с нами к сознанию, что в новой, свободной школе нет и не может быть места мраку, отчаянию и самоубийствам. Так вот. Зинаида Павловна, мы с ребятами просим вас Зою и Лину простить.
461
Зин-Пална что-то хотела сказать, но тут мы все завопили:
— Простить! Повлияем! Простить! Прости-и-ить!
Так что Зин-Пална даже уши зажала.
Дождалась, когда кончили орать, подняла руку и говорит:
— Эти девицы, конечно, должны быть исключены. Я думаю, так посмотрит и отдел народного образования. Но я со своей стороны согласилась бы не придавать этому делу большого значения и даже взять на себя поручительство за них, если школа согласится выполнить одно маленькое условие.
Мы насторожились:
— Какое условие?
— Условие такое,— говорит Зин-Пална,— отнестись сознательно к Дальтон-плану и не срывать его бессмысленными выходками. Согласитесь сами, что сегодняшняя выходка была бессмысленна. Вы, во всяком случае, можете доказать трудность Дальтон-плана, а не его бесполезность. Да и то уж если что-нибудь доказывать, то разумным порядком, а не сжиганием чучел. Итак, вот мое условие.
Мы все молчим, а Никпетож говорит:
— Что ж, ребята, это условие можно принять. Во всяком случае, перед нами есть возможность разумного обсуждения Дальтон-плана. Если до сих пор такое обсуждение не было устроено, в этом виноват недостаток времени и другие трудности. Так что же, ребята, принимаем?
Смотрю — кругом все подняли руки. Поднял скрепя сердце и я.
— В таком случае,— говорит Зин-Пална,— я Зою и Лину прощаю и переговоры с отделом народного образования беру на себя.
— Урррра! — заорали мы так, что даже в ушах зазвенело.— Качать Никпетожа! Кач-чать!!
И Никпетож полетел высоко в воздух.
ВТОРОЙ ТРИМЕСТР
Первая тетрадь
1 января 1924 года
На праздниках я вместе с нашими комсомольцами участвовал в «комсомольском рождестве» в рабочем клубе. К этой фабрике, наверное, припишут и нашу ячейку. Мы пришли с Сильвой в десять часов вечера, и ничего еще не начиналось, хотя зал был полный и было очень жарко и тесно. Часов в одиннадцать приехал лектор и стал рассказывать про разных богов. Может быть, было бы и интересно, да только лектор охрип и устал, и все следили, как
462
он пьет воду. Потом он вдруг в середине лекции взглянул на часы и говорит: «Товарищи, извините, я должен здесь кончить, потому что мне еще в пять мест нужно поспеть»,— сорвался со сцены и уехал. Так лекция и осталась неоконченной. По-моему, тогда уж и начинать не нужно было. После этого очень долго ничего не было, и мне уже захотелось спать, как вдруг занавес открылся, и началось представление. В этом представлении попы разных государств спорят друг с другом, чей бог лучше, потом вдруг входит рабочий с метлой и всех разгоняет. Зачем-то тут еще вертится буржуй. Он хотя ни к чему, а играл всех лучше и очень смешно. Самое смешное было то, что у него подштанники высовывались из-под брюк. Он их все время поправлял: только-только поправит, а они уже опять вылезли. Зал гремел от хохота. По-моему, раз антирелигиозная пропаганда, то нужно обязательно что-нибудь смешное, тогда она достигает цели. А разные доклады да лекции, особенно такие, как была, могут оттолкнуть.
Потом еще я был вчера, под Новый год, в нашей школе в первой ступени на спектакле, и тоже с Сильвой. Было представлено: «Красная Золушка». Будто бы были какие-то две сестры — буржуйки, а третья — прачка. Кто это сочинил, я не знаю, только, по-моему, так не бывает, особенно что живут они все трое вместе. А потом будто бы эти буржуйки уезжают на бал, а Красная Золушка остается мыть посуду. И вдруг приходит какой-то хлюст в красной рубашке и дает этой самой Золушке читать прокламацию. Золушка читает, переодевается в сестрино платье и убегает. Во втором действии — бал, на этом балу танцуют Золушкины сестры и еще какие-то, в пестрых костюмах. И вдруг вбегает Золушка и тоже начинает танцевать. К ней лезет принц, но она его боится и убегает и теряет башмак... Потом, в третьем действии, принц приезжает к ним домой и начинает примеривать башмак. Никому не подходит, только Золушке подходит. Принц собирается на ней жениться, но вдруг является тот самый агитатор в красной рубашке, провозглашает, что началось восстание, и начинает этого принца бить по шее. Принц — дралка через публику, а в красной рубашке гонится за ним, и в это время на сцену входят все, кто были ряженые на балу, и вместе с сестрами поют «Интернационал». Тут много было неправдоподобного, но, конечно, с маленьких ребят спрашивать нечего, а играли они очень здорово — так, что мне самому захотелось на сцену. В самом деле: почему у нас никогда не бывает спектаклей? Надо будет поговорить с Никпетожем. По-моему, вообще-то интересней бывать в кино, чем в театре, потому что в кино не нужно думать; но самому представлять интересней в театре — ведь на экране будет одна только твоя тень.
После представления маленькие начали танцевать. Я сейчас же пошел к ихней шкрабихе, Марь-Иванне, и говорю:
— А вы знаете, товарищ, что танцевать вообще запрещено?
А она отвечает:
— Во-первых, вы не лезьте не в свое дело, товарищ Рябцев, от
463
вас вторая-то ступень плачет, а вы еще в первую лезете. А во-вторых, если вам не нравится, можете уходить. И потом, я вообще не знаю, что вы здесь делаете.
Я страшно обозлился, но сдержался и решил сделать доклад на ячейке. Потом смотрел, как танцуют, и спросил Сильву, умеет ли она танцевать. Она говорит, что умеет, только не любит, а у самой глаза так и горят, и все лицо раскраснелось, и бант подпрыгивает под музыку. И я думаю, что, если бы меня здесь не было, она обязательно бы стала танцевать. По правде сказать, и я чувствовал себя не так, как всегда. Было очень светло, все лампы были зажжены, и музыка, хотя и простая рояль, так захватывала, что хотелось что-нибудь выкинуть необыкновенное. Например, сказать блестящую речь или пройти впереди всех со знаменем в руках. Или хотя перекувырнуться. Но из своих ребят, кроме Сильвы, никого не было. И вдруг Сильва берет меня за руку и, говорит:
— Владлен, я больше здесь не останусь ни за что. (У нас такой уговор был, что она будет звать меня Владленом.) Ты, если хочешь, оставайся, а я уйду.
Я, конечно, тоже ушел. Одному — скучно. По дороге Сильва мне говорит:
— Мало ли что кому хочется, но при чем же тогда будет идеология?
С этим нельзя не согласиться.
5 января
Я заметил за собой, что очень мало сплю по ночам. Я стал искать причину этого. Можно было бы подумать, что от усиленных занятий, но во время этого перерыва я занимался очень мало, хотя зачеты у меня запущены и, не говоря уже о декабре, за ноябрь и то некоторые предметы не сданы. Гуляю и катаюсь на коньках я достаточно, так что никак не могу понять причину бессонницы. Я пошел к Сережке Блинову и спросил его об этом. А он и спрашивает:
— А читаешь много?
Я ответил, что много, и Сережка сказал, что будто бы от этого. Уйдя от него, я стал проверять себя. Оказывается, за перерыв я прочел не так много, но некоторые места особенно запомнились, и по ночам я много о них думаю. Вот, например, я читал один рассказ под заглавием: «Свидание». В этом рассказе француженка-гувернантка показывает мальчишке свою ногу выше колена. Хотя он потом от нее и убежал, потому что от француженки пахло потом, а все-таки это место очень запомнилось. Рассказ этот — в желтенькой универсальной библиотеке. И вот получается такая вещь, что учишься рядом с девчатами, и дерешься с ними, и лапаешь их — и это не производит никакого малейшего впечатления, а прочтешь что-нибудь про это — и уже спать не можешь. Отчего бы это такое?
464
А главное, что противно: после таких мыслей поневоле — фим- фом пик-пак. (Так в подлиннике.— Н. О.)
11 января
В «Катушке» помещено собрание «любимых школьных словечек»: шумляга, задрыга, зануда, губа, губошлеп, мерзавец, скотина, идиот, черт, дьявол, свинья, охмуряла, сволочь, сукин сын, прохвост, подлец, храпоидл, шкет, плашкет, кабыздох, лупетка, хамлет, а про дурака и болвана — говорить нечего.
И еще сделано примечание: «И некоторых слов поместить в стенгазете нельзя, потому что стенгазета сама от них покраснеет. Предоставляем это сделать «приложению к «Иксу», то есть «ПКХ».
С нами в коридоре около «Катушки» разговорился Никпетож. Он говорит, что стенная пресса очень полезна в школе, а потом спросил:
— Как вы думаете, каким путем бороться с этими словечками?
Тут кто-то из нас брякнул, что ничего плохого в таких выражениях нет. Остальные высказались против. Никпетож предложил такую вещь:
— Сразу от сквернословия не отучишься, но постепенно можно научиться следить за собой. Например: пусть учком запретит употреблять слова «дальше черта», а «до черта» — можно.
Мы посмеялись и согласились на том, что можно употреблять слова: губа, губошлеп, свинья, дурак, болван, черт. Остальные будут уже дальше черта. Интересно, что из этого выйдет. Хотя это было не официальное общее собрание, а так, просто в коридоре, и решения этого собрания — не обязательны. А потом Никпетож отобрал кой-кого из ребят, и мы пошли в общественную лабораторию. Девчат не было. Никпетож и говорит:
— Потом мне еще нужно поговорить с вами о матерных и других похабных ругательствах. Я думаю, что выражаться похабно — это сквернить свой язык. Что бы вы сказали, если бы ребята в школу приходили в навозе, немытые и с насекомыми?
Мы ответили, что, конечно, этого допустить нельзя.
— Так вот, такая же история — с матерными ругательствами. Это все равно что в школу приходить вывалянными в навозе. И это такая же зараза, как от грязи, только умственная. Старая школа с этим бороться не могла, потому что ученики там были принуждены и хоть матерщиной выражали свой протест. А вы против чего свой протест выражаете?
Нам нечего было ответить, и мы все промолчали. Я заметил, что Никпетож заводит об этом речь не в первый раз.
12 января
Капустники! Вот, должно быть, весело-то! Это мне под страшным секретом, и даже клятвой сообщил Веня Палкин из четвертой группы. Пока ничего писать не буду, а то можно засыпаться. Меня только берет сомнение: не противоречит ли это комсомолу?
13 января
Сегодня после занятий одна из девчат уселась за. рояль и принялась наяривать танцы. А девчата, и большие и маленькие, словно сговорились между собой — и пошли вывертывать ногами.
Я очень хорошо знаю, что танцы запрещены, поэтому подготовил кое-кого из ребят, и мы стали подставлять девчатам ноги. Тут, конечно, раздались писк и визг, сбежались шкрабы, и началось летучее общее собрание. Я такие летучки гораздо больше люблю, потому что на официальном собрании — скучища с протоколом, а на летучке — крик и все воодушевляются, и всегда по какому-нибудь боевому вопросу.
Зин-Пална прежде всего спросила, почему ребята против танцев.
— Потому что это идеологическая невыдержанность,—. отвечает Сережка Блинов.— В танцах нет ничего научного и разумного и содержится только половое трение друг об друга.
Тут вскочила Елникитка и говорит:
— А по-моему, мальчики потому против танцев, что сами танцевать не умеют. В футболе тоже нет ничего разумного и научного, а одна грубость, однако мальчики в футбол играют.
Тут все ребята закричали, что футбол — это физкультура.
— Тогда и танцы — физкультура,— говорит Черная Зоя.
— Ну, с этим я тоже не согласна,— сказала Зинаидища.— Мне кажется, что физкультурой танцы уж никак назвать нельзя. Но, во всяком случае, танцы — захватывающее развлечение, и если их отменять, то необходимо заменить чем-нибудь другим. Вопрос только — чем. Я бы посоветовала применить организованные игры в здании. Я могу дать руководство.
На это возразил я:
— У нас прежде всего не детский сад, чтобы с девчатами тут хороводы водить. А потом, есть разумное развлечение, против которого, я думаю, возражать никто не будет. Я вот был в первой ступени и видел, как там маленькие на сцене играли. И мне самому захотелось на сцену. Почему у нас не устраивается спектаклей? Это, по-моему, упущение.
— Вполне правильно,— отвечает Зин-Пална,— у нас просто вЗяться за это некому. Если кто-нибудь из школьных работников возьмется, то я не против.
466
Мы с шумом прилезли к Никпетожу, и он согласился, сказал, что только подыщет подходящую пьесу.
После этого мы разошлись, а Веня Палкин отозвал меня в сторону и сначала взял с меня страшную клятву, что я не разболтаю. А потом сказал, что по случаю старого Нового года будет капустник, и сказал адрес. Нужно идти в девять часов, а сейчас уже половина девятого. Папаньке сказал, что ухожу в киношку, в хорошие места, и взял лимард денег.
14 января
Про капустники ничего писать нельзя, а то бы я написал очень много. Но это — страшная тайна. Видел там Лину и страшно удивился.
15 января
Занятия в школе идут своим чередом, и теперь мне гораздо легче, потому что я уже не учком. Сдал все за ноябрь и часть за декабрь.
Сегодня Никпетож притащил какую-то книжку и собрал всех в аудиторию.
— Вот,— говорит,— Рябцев предлагает ставить спектакль, и, по-моему, это очень хорошая его инициатива. Только современных пьес хороших нет, поэтому я предлагаю поставить одну из пьес Шекспира: «Гамлет». Правда, в ней на первый взгляд нет ничего революционного, это я предупреждаю, но это только с внешней стороны. Зато в ней есть колоссальный внутренний протест.
Потом он стал читать вслух. Читает он очень хорошо, и его приятно слушать, только в пьесе страшно много бузы. Это, конечно, можно простить, потому что пьеса написана чуть не пятьсот лет тому назад и Шекспир писал для королевы, а не для пролетариата.
Я запишу на всякий случай, как я высказывался в аудитории насчет ошибок Шекспира.
В «Гамлете» рассказывается сначала, как стража стоит на крыльце и появляется дух. Потом приходит Гамлет, и этот дух заводит его к черту на кулички и там начинает ему рассказывать, как его, то есть духа, отравили. Оказывается, это дух его отца, и отца его на самом деле отравил отцов брат, стало быть, Гамлетов дядя, а сам женился на Гамлетовой матери и стал на место Гамлетова отца — королем. Мне кажется, тут две вещи — невязка. Во-первых, никаких духов не бывает, а если уж появился дух, то я на месте Гамлета задал бы дралка, чем с ним разговаривать, ведь с духом никаким оружием не справишься, если он полезет драться или душить. Во-вторых, этот дух плетет, что его отравили тем, что налили яда в ухо, когда он спал.
467
Это я что-то не слыхал, чтобы травили таким образом. Ну, да это ладно; может, пятьсот лет назад так и было.
Гораздо главней ошибка Шекспира в следующем. Там есть Полоний, это такой старик; у него дочь Офелия и сын Лаерт. Гамлет шьется с этой Офелией и вроде как в нее втюрился, хотя это не очень ясно. А Лаерт живет во Франции, и старик все беспокоится, чтобы сын там не сбился с панталыку. Потом все начинают замечать, что Гамлет чего-то расстроился, и думают, что это от любви к Офелии, а на самом деле он нервничает из-за духа и даже притворяется сумасшедшим. А притворяется он нарочно: ему нужно узнать, правду сказал ему дух или наврал, это насчет отравления-то. Вот сумасшедший Гамлет и устраивает спектакль, в котором показывается, как отравляют его отца, короля. А новый король, это, стало быть, Гамлетов дядя, приходит вместе с Гамлетовой матерью на этот спектакль. Вот тут главная невязка и есть. Я думаю, что и в те времена никакому сумасшедшему не дали бы устраивать спектакли, а просто посадили бы в сумасшедший дом. Как бы то ни было, король и королева спокойно садятся смотреть этот сумасшедший спектакль, а когда видят, что такое представляют, то скорей дралка. А Гамлет нарочно свое сумасшествие показывает вовсю. Во-первых, садится на пол вместо стула, во-вторых, перебивает спектакль разной белибердой, а потом как вскочит, как заорет: «Оленя ранили стрелой!!»
Король очень обозлился, а Гамлету только этого и нужно было. Он теперь уже наверное узнал, что это король отравил ёго отца. Несмотря что буржуазного происхождения, Гамлет был парень все- таки с мозгами. Потом с Гамлетом разговаривает его мать, королева, и вроде как просит у него прощения, а старый хрыч Полоний прячется за занавеской и подслушивает. Гамлет его заметил и проткнул через занавеску шпагой, как крысу. От этого девчина, эта самая Офелия, спячивает с ума уже по-настоящему, а сын Лаерт приезжает из Франции и хочет прикокошить Гамлета за то, что он его папаньку угробил. Для этого Лаерт отравляет свою шпагу и вызывает Гамлета на дуэль. Так называлось тогда, если кто-нибудь один на один выходит. А для того чтобы верней Гамлета прикокошить, тут еще король приготовляет чашку с ядом. Только тут как-то так выходит, что Гамлет ухлопывает Лаерта, а чашка с ядом достается королеве, а потом Гамлет протыкает короля, да и сам умирает. Перед этим есть сцена, где Гамлет рассуждает с черепами, но, по-моему, это уж сплошная невязка. Кто же будет разговаривать с черепами, кроме сумасшедших! А ведь Гамлет — не сумасшедший, так только притворяется.
Большинство голосов было за то, чтобы эту пьесу поставить. Я воздержался, потому что думаю, что что-нибудь современное было бы лучше. Чтобы с баррикадами и революционной борьбой.
Черная Зоя была на чтении, но держалась тихо. А Лины почему-то не было.
16 января
Я до сих пор про капустники — никому ни гугу. Строжайший секрет. Веня Палкин говорит, что все вообще не болтают. Это очень важно.
А меня все-таки берет сомнение: соответствует ли это идеологии комсомола и вообще коммунистической борьбы? Сильве я в этом отношении не доверяю почему-то. Да и Веня Палкин говорит, что ее не посвящать. Веня говорит, что она какая-то не такая. А больше посоветоваться не с кем. Веня Палкин не комсомолец, а так. Спросить у кого-нибудь из старых комсомольцев — можно провалить все дело. Прямо не знаю, что делать.
17 января
Сегодня был окончательный конец нашего бунта против Дальтона. Приезжал инструктор, и было общее собрание. Разбирался вопрос о школьных распорядках и о работе по Дальтон-плану. На собрании была скучища, и я почти все время рисовал плакат. Зин-Пална рассказала, как мы сжигали чучело «лорда Дальтона». Это, по-моему, совершенно напрасно: была мальчишеская шалость, а она сейчас это — инструктору. Инструктор посмеялся, потом говорит:
— Вот вы жили себе и жили, и не приходилось призывать посторонних людей. А теперь не сумели договориться — в этом, конечно, виноваты и школьные работники, и ребята, и похоже на то, что в школу приходится вводить хирургический инструмент в виде хотя бы моего вмешательства. Я думаю, что на будущее время можно будет обойтись и без такого инструмента. Теперь же я вас спрашиваю, ребята: в чем вы видите недостатки Дальтон-плана и как, по-вашему, от них избавиться?
Тут посыпались разные обвинения Дальтона: говорили, что пособий в лабораториях нету, и времени не хватает, особенно должностным лицам, и много всяких других обвинений. Потом встал я.
— Дело не в лабораториях,— говорю,— а в том, что от Дальтона голова разваливается и делается дрожанье в руках.
Все как захохочут.
— Вы чего смеетесь? — спрашиваю.— Приходилось ночами не спать, особенно когда был учкомом, и смеяться над этим нечего. Все в таком положении. Потом с Дальтоном пошло учение хуже. Раньше не бывало в нашей группе отстающих, а теперь есть.
— Кто же? — спрашивает Зин-Пална.
— Я,— ответил я, и опять все захохотали.
— И тут смеяться нечего,— сказал я и обозлился.— Дальтон висит на мне постоянно, как мешок с хлебом. За что бы я ни взялся — все вспоминаешь, что такие-то и такие-то зачеты не сданы. То математика, то естественный, то диаграммы не начерчены. За-
469
ниматься негде, да и некогда. Ни тебе почитать, ни на коньках побегать...
— А я вас как раз видела, Рябцев, во время перерыва вы очень часто на коньках бегали,— ввертывает тут эта ехида Елникитка.
— Что же, значит, по-вашему, я так и должен сидеть в четырех стенах?
Тут инструктор говорит:
— А почему вы, Рябцев, своевременно не сдаете зачетов?
— Не успеваю, к тому же учкомом был.
Тогда инструктор спрашивает:
— Зинаида Павловна, а другие тоже отстают?
— Нет, большинство школы идет нормально.
Так я и сел в калошу и ботиком прикрылся. Дальтон-план остался. Дальтон все равно бы остался, если бы большинство и отставало. Наша школа все еще в таком положении, когда все решается шкрабами, а ученики вроде как крепостные крестьяне, про которых нам Никпетож рассказывал: свободны только тогда, когда отбудут барщину. А инструктор и всякое другое начальство — всегда за шкрабов. В других школах, по-моему, не так. Что всего обидней, это то, что нас, вторую ступень, продолжают рассматривать как маленьких.
На прощанье Зин-Пална сказала:
— Теперь школа окончательно вошла в берега. Будем учиться, учиться и учиться! Вы помните, кто это сказал?
Все закричали:
— Ленин! Ленин!
На том и кончилось.
18 января
Было распределение ролей, и Гамлета досталось играть Сережке Блинову. Я бы ничуть не хуже его сыграл. А теперь придется играть Лаерта. Там хоть и с фехтованием, а все-таки уже не то. Черт с ними, сыграю и Лаерта! Все лучше, чем ничего. Я сегодня уже пробовал фехтовать и умирать. Ничего — выходит. В особенности это место:
...Что это?! Я ранен!
Моей рапирой бился Гамлет — я погиб...
И еще:
Тебя и королеву погубил
Король... Король...
Последнее «король» нужно произносить шепотом, как будто кому-нибудь подсказываешь на уроке.
470
С девчатами вышло хуже. По-настоящему, за исключением всяких там прислужниц, в пьесе только две женские роли: королева и Офелия. И конечно, все девчата хотели играть Офелию. Их пришло тридцать две штуки, из разных групп. Ну, Никпетож одну за другой пробовал и на чтение, и как ходят, и разные там жесты. Долго он Tie знал, на ком из девчат остановиться, да так и отложил до завтра. Как только он ушел из аудитории, так и пошла потеха. Все девчата как заорут! Одна кричит: «У тебя ничего не выходит, у тебя даже голос неподходящий». А другая: «А у тебя рост мал». А третья: «Если мне не дадут роли, я совсем не буду участвовать...» И все орут сразу — ничего не разберешь... Я предложил им разыграть на узелки, а они все на меня, насилу я из аудитории убежал... Лины опять не было, да ее и в школе не было, а Черная Зоя и не пробовалась, а держалась в сторонке. Она вообще теперь редко выступает после того случая, когда она с Линой хотели самоубиваться и испугались. А Сильва не пришла на распределение — она считает, что у ней нет драматического таланта. Я ее всячески убеждал, но она — ни в какую... «Я,— говорит,— пробовала, и ничего не вышло».
19 января
Венька Палкин хотя и сухаревский (у него отец — палаточный торговец), а учится в четвертой группе лучше всех. Шкрабы говорят, что у него способности очень большие. И правда: как я ни обращался к нему с задачками или растолковать историю, он мне всегда очень хорошо помогал. Мне кажется, у него фантазия очень богатая: в прошлом году он начал мне расписывать про Америку и вдруг говорит, что он сам там был, это в Америке-то. Я тогда сразу же не поверил, потому что для этого нужно ведь знать по-американски, а Венька сам говорит, что не знает. Но я сделал вид, что поверил, и тогда Венька мне под страшным секретом сообщил, что опять собирается в Америку и, может быть, возьмет и меня. Я тогда понял, что это буза, но виду опять не показал. А вот насчет капустников — не соврал... Только мне все продолжает казаться, что капустники не соответствуют идеологии.
Сегодня была репетиция «Гамлета», и уже к вечеру в стенной «Катушке» появилась карикатура, на которой нарисован Сережка Блинов, потрясающий кулаками, отовсюду бегут ребята, и подпись:
« — Что случилось, граждане? Зарезали кого-нибудь?
— Почему такой крик?
— А это репетируют «Гамлета».
Действительно, крику было много. У Сережки — хриплый бас, и он разоряется вовсю. В Офелии пробовалась Черная Зоя — и Никпетож сказал, что ничего. У нее, правда, ничего выходит, только мне кажется, можно бы лучше... Я уже натренировался владеть
471
рапирой (то есть палкой), и очень мне хотелось, чтобы показать всем, но до этого дело не дошло: не успели прорепетировать последнего действия.
22 января
Мне кажется: все на свете кончилось, и на землю опустился черный мрак. Сейчас уже три часа ночи, а я сижу у стола и ничего не могу обмыслить и сообразить. Я сначала думал, что напускаю на себя, но нет, вправду. Все наши школьные дела кажутся очень маленькими и противными, словно мы все козявки какие-то, которых можно разглядеть только в микроскоп...
На окнах — завитушки от сильного мороза, и мне кажется, что они похожи на украшения, которые бывают у гробов. В ушах все еще звучит печальная музыка, а в глазах — траурные ленты.
В голове все растекается, и я ничего сообразить не могу.
Дальше в дневнике три страницы сплошь замазаны чернилами.
30 января
Это я хотел написать стихи и описать все, что я видел. Но у меня выходило все как-то не так. Для этого нужны какие-то другие слова, чем у меня. Я вот знаю, что постаршел за эти дни лет на десять и тех слов, какие, может, мальчиком и выдумал бы, теперь у меня нет.
31 января
До сих пор школа не пришла в настоящий порядок.
Смерть В. И. Ленина всех так поразила и так разбила обыкновенную, нормальную жизнь, что ни занятия, ни развлечения не могут наладиться.
О зачетах шкрабы и не разговаривают. Всем понятно, что хоть учиться и нужно, но сразу ученье пойти не может. Никпетож нам
472
последние дни много читает вслух. Девчата часто ревут по углам.
Офелию будет играть Черная Зоя, теперь это окончательно выяснилось. Сегодня была репетиция, но она тоже не шла. Все читали как-то вяло, не было настроения.
Зинаида Павловна говорит, что учиться — это теперь самое важное и мы должны напрячь все усилия, чтобы преодолеть препятствия.
В этом она права.
Вторая тетрадь
3 февраля
«Катушка» устроила среди первых трех групп анкету по вопросу: «Какая цель жизни?»
Все в эти дни очень серьезно настроены, поэтому «Катушка» получила много ответов. Списываю со стены самые интересные:
ПЕРВАЯ ГРУППА А
1) Жить нужно для того, чтобы учиться и узнать, что до сих пор не известно. (Вот буза-то! Владлен Рябцев.)
2) Мы живем для того, чтобы учиться, радоваться, страдать, помогать ближним. Да и мало ли для чего мы живем!
ПЕРВАЯ ГРУППА Б
1) Мы живем и учимся для того, чтобы создать сильную и культурную страну и помогать ближнему. Мы должны знать, что капля по капле составилось море и каждый человек есть капля, которая живет, работает и совершает разные великие, малые и средние дела. Нели же эта капля ничего не делает, то она должна знать, что мешает морю. Тогда ей не место в море, и она должна уйти. Так будем стараться приобрести знания, чтобы стать на защиту Советской России против проклятой буржуазии.
2) Мы живем для того, чтобы видеть наслаждение. Мы учимся для того, чтобы были благонравные условия во время отдыха от работ. Мы чувствуем наслаждение во время чтения интересной книги и слушания интересных рассказов. Сдав зачет, мы тоже чувствуем наслаждение.
3) Живу я для того, чтобы учиться и быть в будущем образованной. Необразованной я быть не хочу, потому что все меня будут угнетать.
ВТОРАЯ ГРУППА
1) Учиться, приносить пользу государству, а также отчасти и себе. Если я себе не буду приносить пользу, то я умру не живши, значит, надо жить с пользой.
2) По-моему, надо жить для того, чтобы жить.
3) Человек бедный живет, трудится, теряет все свое время для того, чтобы прожить, человек-буржуа тоже живет для того, чтобы получше прожить (конечно, несознательный). Человек, который несет какой-нибудь общественный труд, делает это опять-таки для того, чтобы лучше была жизнь; хотя сам он часто гибнет, но другие живут лучше. Итак, по-моему: живут для того, чтобы не себе, так другим чтобы жизнь была лучше. И мы сейчас учимся тоже, чтобы жить лучше самим или улучшить жизнь другим. В этом нам пример недавно скончавшийся учитель Владимир Ильич.
4) Жить нужно для того, чтобы удовлеторять свои потребности. (Интересно знать, кто это написал? Но редакторы «Катушки» нипочем не хотят сказать. А ведь такой ответ доказывает полную несознательность и даже не человека, а скота. Владлен Рябцев.)
5) Цель жизни заключается в созидании прочного будущего для последующих поколений.
6) Жить для того, чтобы с оружием в руках отстаивать завоевания пролетариата.
7) Говорят обыкновенно, что цель жизни — это создание новой культуры для подрастающего поколения. Но это меня нисколько не удовлетворяет. По-моему, цель жизни — это прожить ее безмятежно и спокойно, только с маленькими волнениями. (Откуда у нас в школе столько буржуев? Владлен Рябцев.)
ТРЕТЬЯ ГРУППА (НАША)
1) Конечно, не хлопать глазами на то, как другие борются и завоевывают победы, а бороться и побеждать самому.
2) Не давать никому ни в чем отчета, до всего доходить самому. (О-го-го! Владлен Рябцев.)
3) Задавший этот вопрос редактор «Катушки», очевидно, решил пуститься в дебри философии, или же его просто обуял великий страх и трепет перед ничтожеством человеческой жизни. В первом случае хорошо, во втором — плохо. И вот почему. «Жить для того, чтобы жить» — это единственный ответ на заданный вопрос, как ни странен и ни односторонен этот ответ. Вся цель и сущность жизни для человека заключается лишь в самой жизни, в ее процессе. Для того чтобы постичь цель и сущность жизни, необходимо прежде всего любить жизнь, всецело войти, что называется, в круговорот жизни; и лишь тогда почувствуется смысл жизни, станет понятно, для чего жить. Жизнь — это такая штуковина, что не нуждается в теории,
474
и в противовес всему, созданному человеком,— когда постигнешь практику жизни, будет ясна ее теория.
Это особенно может чувствоваться при настоящей кипучей жизни, когда легко принять участие в общественности и политике, можно выбрать себе по душе какой-либо из предметов и идти, идти дальше, радуясь тому, что нас застала живая, обновленная теория.
Прежде, когда ученики при сухом, неинтересном преподавании и скучной жизни от нечего делать глядели на луну, и слушали соловьев, и думали о бесцельности человеческой жизни, и додумывались до того, что теряли не только вкус, но и аппетит к жизни,— они кончали самоубийством, оставляя записки, что «не стоит жить на свете». Это мы можем проследить в дореволюционной литературе. Прочтите — Чехова «Скучную историю», Л. Андреева «Жизнь человека», и вы благодушно посмеетесь и спросите: неужели в действительности существовали такие типы и авторы, столь далекие от жизни и не понимавшие ее? Да, были такие люди, они не жили, а думали. Они хотели найти жизнь в теории и не находили ее. И эти люди впоследствии понесли жестокий провал, они принадлежали к нашей бедной погибшей интеллигенции... И потому, если этот вопрос — в чем цель жизни? — пессимистического характера, то он совершенно неуместен в настоящей деятельной жизни, он весь в прошлом. Но как здравый, естественный вопрос он не отрицается. Я не указываю, как на пример, на рассуждения Л. Толстого, который утверждал, что не следует думать о смысле человеческой жизни, потому что человек подобен лошади, управляемой хозяином, никогда не узнает, почему ее гонит хозяин. Наоборот, следует верить в безграничность человеческого ума. Но и опять-таки, рассуждая даже, если хотите, теоретично, мы придем к необходимости обратиться к действительной жизни: для достижения умственного прогресса следует приложить свои силы в разные отрасли науки, следовательно, войти в жизнь. Кто не соглашается с этим, кто ищет жизнь у себя в душе и верит только в ее глубину, презирая деятельную жизнь, или просто хандрит в сознании собственного ничтожества, тот не нужен жизни, и душа такого человека мелеет, потому что быть глубокой она может, лишь гармонируя с жизнью,— такой человек может для своего облегчения, как выразился один тип у Достоевского: «покорнейше возвратить богу билет на право входа в жизнь». (По-моему, это писал кто-нибудь из шкрабов. В. Рябцев.)
5 февраля
Вчера был капустник. Несмотря ни на что, мне было невесело. Я все думал о цели жизни. Видел там Лину, спросил ее, почему она не ходит в школу, она ответила: «Не твое дело». Я обозвал ее дурехой.
6 февраля
Сегодня была репетиция «Гамлета». Прошла она очень здорово, так что до сих пор у меня сердце радостно бьется. Сережка Блинов рычал, ревел быком и мотался по сцене как угорелый: настоящий сумасшедший. Потом он выдумал вот что: когда разговаривает с могильщиком, он не бросает череп в могилу, а запускает черепом в могильщика, чтобы и ему доказать, что он, Гамлет, сумасшедший. Это очень хлестко выходит. А когда мы фехтовали с ним, то я у него выбил рапиру, а не он у меня. И так продолжалось до тех пор, пока Никпетож сказал мне, что это ведь сцена и надо так, как у Шекспира сказано. А зачем Сережка не научится фехтовать по-настоящему?
Черная Зоя, совершенно неизвестно когда, успевала переодеваться к каждому действию по-новому и говорит, что так и на спектакле будет и теперь переодевается для того, чтобы привыкнуть. Когда она уже сходит с ума и приходит с пением безумных песен, то Зоя вся убралась бумажными цветами, спутала и распушила волосы, закатила глаза и тихо-тихо пела, так что на меня прямо жуткое впечатление произвела. А потом, она мне показалась гораздо красивей, чем всегда,— вот что значит платье-то меняла!
У королевы десять прислужниц, а сцена у нас, по необходимости, очень тесная, а прислужницы почти все время толкутся на сцене, так что повернуться негде. Все время дрались и ругались, так что из-за этого даже репетиция несколько раз прерывалась.
8 февраля
Еще с неделю назад я выпросил у Никпетожа книжку «Гимназисты», из которой он нам вычитывал про Карташова и Корневу. И в этой книжке меня поразило одно место, где рассказывается, как Тема Карташов, возвращаясь домой, увидел у горничной Тани белую ногу выше колена и... Я теперь почти не сплю, мне;все представляется эта Таня и, конечно, фим-фом пик-пак. Это очень мучительно, голова у меня тяжелая, и почти не могу заниматься.
10 февраля
Вышел «Икс» и звонит насчет «Катушки» и ее анкеты о цели жизни. Там такая статья:
О ЦЕЛИ ЖИЗНИ В НАШЕЙ ШКОЛЕ
Недавно «Катушка» занялась глубокой философией и поставт*ла проблему: выяснение цели жизни вообще. А «Икс» как уже неоднократно писалось, старается утилизировать все для нашей школы
476
и потому пользуется случаем поговорить о цели жизни в нашей школе. Для этого мы будем пользоваться методом индукции, то есть 0т частного к общему. Для краткости возьмем квинтэссенцию всех течений, существующих на этот счет в школе, а именно лозунги их:
1) Узнавай, что до сих пор не известно. Пример: открывай перпетуум мобиле.
2) Ученье — свет, неученье — тьма!!!
3) Да здравствуют танцы!
4) Да здравствует спокойная жизнь с маленькими волнениями!
5) Удовлетворяй свои потребности! В частности, не забывай сморкаться и ходить в...
6) В наш юношеский возраст вредно много учиться. Да здравствует свобода времени!!!
И, переходя от частного к общему, восклицаем:
«Бей его, я его знаю, он на нашей улице живет!!!»
По-моему, это очень глупо и даже вовсе не смешно. Цель жизни — очень серьезная вещь. Зная цель жизни, знаешь и как поступать. И очень, очень трудное положение, когда не знаешь, как поступать.
11 февраля
Вчера я виделся с дорогим моим товарищем Ванькой Петуховым. Он теперь на фабрике, хорошо зарабатывает и содержит всю семью. Звал и меня на фабрику, но я ответил, что раньше надо доучиться. Разговаривали с ним насчет цели жизни. Он ответил мне просто и ясно:
— Живем для того, чтобы наместо прогнившего старого строя построить новый, светлый и радостный: коммунизм.
Я и сам раньше так думал, да анкета «Катушки» меня смутила.
Потом мы с ним рассуждали о половом вопросе. Он говорит:
— Да у нас на фабрике и вопроса-то никакого нет. Просто, если кому нравится девчина, подходит и говорит: «Ты мне нравишься, Манька или Ленка. Хочешь гулять со мной?» Если не хочет — повернет спину. А если хочет — гуляет.
— То есть как? По-настоящему? — спросил я.
— Ну да, по-настоящему. Как муж с женой. Ведь эго такое же необходимое, как еда. Без еды не можешь жить — и без этого не проживешь.
— Ну а если ребенок?
— Да кто ж о ребенке думает, когда гуляет, чудак ты эдакий?!
— И ты так же, Ванька?
— А то как же!
Мне кажется, он бузит — про себя, по крайней мере.
477
12 февраля
Репетиции идут полным ходом. Сережка Блинов сорвался с голоса, но так у него выходит еще страшней. Потом он все выдумывает новые и новые выходки. Вот сегодня, например, когда королю нужно уходить со спектакля, то Гамлет кричит: «Оленя ранили стрелой!!»
Сережка прокричал да как бросился за королем! Схватил его за горло и давай душить. Я подумал, что он и вправду с ума сошел. А Никпетож бросился на сцену, схватил Сережку за плечи и спрашивает:
— Что с вами?
— Да ведь я же должен доказать королю, что я сумасшедший!
— Но ведь этого у Шекспира нету!
— Так что ж из того, что нету? Это режиссерская выдумка.
— Прежде всего режиссер я, а не вы,— говорит Никпетож,— и кто-нибудь один должен распоряжаться. А потом, если идти по вашему пути, то Гамлет должен лезть на стену и поджигать дом.
— Режиссер должен давать свободу артистам,— отвечает Сережка,— иначе мы будем не артисты, а марионетки, мертвые куклы.
— Я вам даю свободу, только, пожалуйста, без душения.
— И тут шкрабы угнетают,— проворчал Сережка.
По-моему, конечно, режиссер должен давать ход артистам. Вот, например, я играю Лаерта, и Гамлет вышибает у меня рапиру. А я бы сделал так: сначала я бы вышиб рапиру у Гамлета,'потом из великодушия дал бы ему поднять, а потом он бы у меня вышиб.
Сегодня я прихожу из школы, а папанька меня встречает с растерянным лицом. Я спрашиваю, что такое, а он вместо ответа сует мне какую-то бумагу. И руки у него дрожат. Я стал читать:
«Обратите внимание на поведение сына вашего Константина. В последнее время он сильно изменился к худшему. Костя бывает в обществе, где пьет вино до полного опьянения; кроме того, Костя выучился курить крепкие папиросы. Но все свои похождения Костя от вас тщательно скрывает. Костя, внеся два миллиарда, вступил с несколькими девочками и мальчиками в компанию, не совсем для него подходящую и очень развратную. В субботу все члены этой компании собираются где-то в Ивановском парке провести ночь в буйном кутеже, с большим количеством вина. Поэтому, вероятно, под более благовидным предлогом Костя в субботу ночевать дома не будет. Все это письмо вам покажется глупой, невероятной выдумкой, но вы можете найти способ проверить его содержание. Костя давно научился вас ловко обманывать, и только вы можете на него повлиять».
Я так и сел. Папанька спрашивает:
— Костя., скажи старику... правда все это?
— Нет, папанька, неправда,— отвечаю я, а у самого круги в глазах.— А если бы и была правда, ты бы уже давно это заметил. Что, я возвращался когда-нибудь домой, чтобы от меня вином пахло? Скажи-ка по совести? Ну-ка?
478
— Нет, как будто не было этого. Да ведь я не нюхал.
— Да глаза-то, папанька, у тебя есть или нет? По виду разве заметить не мог? Ведь я каждый день у тебя при глазах.
— Так-то так, а все же...
Не верит старик. Чем его убедить?
— Ну где мне время вино пить? Сам знаешь, почти каждый день у нас собрания всякие, домой придешь как собака усталый и сейчас же за книжки — минутки свободной нету... Что я курю, это верно, только тебе не хотел показывать, чтобы не огорчать. А насчет вина — буза.
А у самого в голове:
«Какая сволочь это написала? Написано печатными буквами и без подписи, чтобы не узнали почерк. Неужели... неужели...»
Ничего понять не могу. А папанька ходит по комнате, руки у него трясутся, и мне стало его так жалко, так жалко, что и выразить не могу. Подошел я, обнял его.
— Папанька,— говорю,— верь моему слову, что все это буза. Ведь я тебе никогда не врал,— зачем же сейчас-то врать буду? И ты успокойся, пошамай и ложись спать. А завтра, коли хочешь, иди в школу и спроси у нашей заведующей, похоже это на меня или нет. Согласен?
Тут он посмотрел мне в глаза и говорит, что никуда не пойдет: и так верит. А я вот не успокоился. Жив не буду, а расследую это дело. Кто это писал? До сих пор заснуть не могу. В первый раз в жизни убедился, как тяжело врать такому старику, как мой.
13 февраля
Ну и дела! Оказывается, такое письмо не только моему папаньке прислали, а еще и другим отцам и матерям. Сегодня пришло их в школу человек шесть — и все на Зин-Палну. Зин-Пална сейчас же собрала всех ихних ребят и долго что-то с ними выясняла. Все ребята вышли от нее распаренные, как после бани. Я сейчас же их расспрашивать — никто ничего не сказал. Венька Палкин ходит весь бледный и ни с кем не разговаривает: думает, что кто-нибудь дознался про капустники, и очень боится, как бы его не припаяли за это дело. А по-моему, теперь уж бояться нечего. Если раскроют, нужно просто сказать: да, мол, так и так. А все-таки стараться, чтобы не раскрывали.
16 февраля
В школе появилась Лина. Отсутствовала она будто бы по болезни. Пришла она с заплаканными глазами: оказывается, ее отцу тоже прислали такое письмо. Ходила и целый день плакала. Наконец я не выдержал, подошел к ней и говорю:
479
— Будешь реветь, нас всех засыплешь! Ведь никто ничего толком не знает, и все будет шито-крыто.
А она еще пуще разревелась и — сквозь слезы — на меня:
— Это все из-за тебя! Ты, ты, ты во всем виноват! Один ты. Если бы не ты, я бы...
И в окончательный рев. А при чем тут я — не понимаю. В чем я могу быть виноват? Говорили, что она и самоубивалась из-за меня, но это буза. И даже если так, то я-то чем виноват, что она в меня втюрилась? А в капустниках я столько же виноват, сколько она: ходил, и больше ничего.
17 февраля
Сегодня Зинаида Павловна просила учком созвать общее собрание. Вопрос она поставила об анонимных письмах.
— Прошу,— говорит,— тех, кто хоть что-нибудь знает о происхождении этих писем и есть ли в них хоть капелька правды, сказать об этом общему собранию. Все видят, что многие из ребят подавлены и не могут как следует учиться.
В ответ все молчат. Я в это время переживал тяжелые чувства. С одной стороны, я был связан страшной клятвой, как и все остальные. А с другой стороны, мне было ясно видно, что вопрос как-нибудь надо решать.
— Ну, хорошо,— говорит Зин-Пална,— я вижу, что никто ничего не знает. В таком случае предадим это дело забвению. Я убеждена, что во всем виновата богатая фантазия автора анонимных писем. Со своей стороны я чрезвычайно была бы ему обязана, этому автору, если бы он направил свою фантазию в какую-нибудь другую сторону, а не в сторону срыва школьных занятий. Кроме того, думаю, что следует ускорить подготовку постановки «Гамлета». Следует устраивать репетиции каждый день. Спектакль может в значительной степени проветрить головы и очистить атмосферу, а то она достигла большого давления.
Большинство тут засмеялось, а мне стало еще тяжелей. Мне стало стыдно, так же как тогда, когда я врал отцу. В самом деле, Зин-Пална нам всем верит и готова когда угодно выгородить, а мы ей врем.
Постановили: устроить спектакль 20 февраля (это с согласия Никпетожа) и пригласить на спектакль ячейку той фабрики, к которой мы приписаны.
480
IS февраля
Все-таки я должен найти какое-то решение половому вопросу, потому что он измучил меня вконец. Дошло до того, что сегодня на репетиции, когда девчата все были в костюмах и причесаны по-другому и было страшно тесно на сцене, я нарочно стал их затискивать в угол, не из озорства, а из-за другого. Девчата на меня все время ругались, а Никпетож пригрозил меня выставить и заменить кем- нибудь, хотя бы это было в ущерб спектаклю. Хорошо, что ни Никпетож и никто не заметил, что это было не из простого озорства. Наоборот, все кричали, что я было притих последнее зремя, а теперь опять распустился.
А если бы они знали?
19 февраля
Вышло так, что я теперь не смогу больше, должно быть, разговаривать с Сильвой. Даже не знаю, как это записать. Все время мы были с Сильвой как хорошие товарищи, и теперь, по совести, я ничего другого к ней и не могу чувствовать, кроме самого товарищеского отношения, но меня словно кто-то дергал за язык, и я не удержался.
Сильва — главный член костюмерной комиссии, потому что другие костюмеры ничего не делают, а она почти одна все костюмы устроила. Поэтому Сильва бывает на всех репетициях и сегодня на генеральной была. И вот в естественной лаборатории, где устроена артистическая уборная, Сильва мне зашивала (на мне) костюм Лаерта.
И вот я ее спрашиваю:
— Сильва, а ты могла бы со мной гулять? Это я принципиально спрашиваю.
— То есть как гулять? — спрашивает Сильва.— Ведь мы с тобой много гуляем.
— Нет, не так, а по-другому. По-настоящему.
Она даже шить остановилась:
— Да мы разве не по-настоящему гуляем?
— Ты не понимаешь,— сказал я, и мне стало очень неловко.— Ну вот, например, как... муж и жена.
Я думал, она рассердится, а она ничего. Опустила глаза и спрашивает:
— Ты что же, на мне жениться хочешь? Тебе еще рано, а мне и подавно.
— Да ты не понимаешь, Сильва,— сказал я, а сам думаю, как бы удрать из костюмерной.— Это не так, я совсем не про женитьбу, я хотел сказать... вот... могла бы ты гулять со мной... вот теперь, еще в школе?
Она на меня подняла глаза:
— А как же ты это будешь делать?
16 Школьные годы. Выпуск 1
481
— Ну... вот... например, я тебя поцелую.
Она подумала и говорит:
— Этого я, пожалуй, и не позволю. Ну, допустим, позволю.
А потом что ты будешь делать?
— Пошла ты к черту! — крикнул я, рванул изо всей силы нитку, которой она пришивала, и выбежал вон.
И во всю репетицию не мог глядеть ей в глаза.
22 февраля
До сих пор не успел записать про спектакль: все занимался расследованием писем.
А спектакль удался на славу. Сережка Блинов ревел, как гром,
и колбасой носился по сцене, всех сшибал, так что король ему даже
довольно громко сказал: «Да тише ты, ч-черт». Потом, дух — это был Венька Палкин — был очень удачный. Он весь был закутанный простыней, и лицо вымазано мелом, и голос загробный, особенно когда он из-под пола в рупор говорил. Только он должен был вылезать из люка, а люк испортился, поэтому ему пришлось выходить прямо из-за сцены. Никпетож волновался больше всех. Он засел сбоку с книжкой в руках и подсказывал, как суфлер, ведь будки у нас нету. Потом ребята говорили, что кто сидел поближе, мог слышать сразу два текста: один из-за кулис, а другой — со сцены. Я все-таки вышиб у Сережки рапиру, потому что он не умеет фехтовать, и никто не заметил, что это не по Шекспиру.
Черная Зоя играла здорово, лучше всех. Говорят, что многие девчата даже плакали, глядя на нее.
25 февраля
Сегодня меня Черная Зоя удивила. После спектакля она ходит задрав нос, потому что ее много вызывали. Вообще у ней вид переменился. Свое черное платье она перестала носить, стала веселая, не такая, как раньше. И про мертвецов разговаривать больше не хочет, хотя ее, по старой памяти, кое-кто дразнит мертвецами. Так вот, она меня вывела в коридор и говорит:
— Знаешь, я хочу тебе сообщить секрет.
— Какой секрет? Пожалуйста, без секретов.
— Нет, очень важный. Ты знаешь, я в тебя влюблена.
— Что-о-о?!
— Да ты не штокай. Ты не думай, пожалуйста, про себя очень много, влюбление не от нас зависит, а от природы. И не воображай, что я из-за тебя что-нибудь натворю. А только я думала-думала и решила сказать тебе прямо, потому что так на сердце легче станет. И это тебе никаких прав надо мной не дает.
— Пойди выпей холодной воды,— ответил я и пошел прочь.
482
26 февраля
Странная история! Девчата пошли шушукаться между собой, и я кое от кого узнал, что опять хотят поднять бузу насчет капустников. Но самое главное, что я узнал, это то, что Сильва с ними заодно. С Сильвой я не разговаривал ни разу с тех пор, как задел ей вопрос (я хотел только принципиально выяснить), и видно, что она меня избегает.
Узнав про шушуканье, я посоветовался с Венькой Палкиным, и мы решили предпринять контрнаступление.
27 февраля
Я страшно рад и доволен собой. Почти весь февраль я просидел над докладом о китайских событиях, и Никпетож доклад очень похвалил.
А потом, кажется, я проследил за тем, кто писал анонимные письма. Это Горохов Кешка, длинновязый такой и молчаливый парень из второй группы. А почему я думаю, что это он,— вот. Единственной нитью у меня в руках было письмо, которое получил папанька. А у нас в школе каждый приносил чернила с собой. Вот я стал прослеживать чернила у каждого. Эта работа была трудная, потому что каждый прячет чернила, как только напишет то, 'что надо. Поди-ка уследи. Но сегодня устроил штуку. Ворвался в математическую лабораторию, когда там занимались одни второгруппники без Алмакфиша, и закричал:
— Скорей давайте чернил, Алмакфиш просит!
И сам схватил первые попавшиеся чернила (конечно, Кешкины, я еще раньше заметил, что он ближе к двери сидит). И — дралка. Кешка мне вдогонку:
— Да стой, погоди, мне писать нужно!
Но я, не будь дурак, скорей в аудиторию, там у меня была приготовлена пустая склянка, отлил туда Кешкиных чернил и иду равнодушно обратно, отдаю Кешке чернила. Он на меня подозрительно посмотрел, но ничего не сказал. А я давно за ним наблюдаю и заметил, что как посмотрю на него, так он меняется в лице. И потом, он — единственный из второй группы, который бывал на капустниках. Чернила я сверил, и оказались очень похожи: лиловые как те, так и другие. Теперь проверить почерк — и дело в шляпе. Только это еще трудней, потому что письма-то написаны печатными буквами.
3 марта
Всеми правдами и неправдами мне удалось раздобыть тетрадку Кешки Горохова, и я занялся сличением почерков. В общем, мне
484
показалось, что почерки письма и тетрадки похожи, и я пошел разговаривать с Кешкой. Я прямо начал:
— Кешка, это ты писал письма родителям?
Он даже весь изменился в лице и отвечает:
— Ты что, сволочь, с ума сошел?!
Я наподдал еще:
— Не бойся, я про тебя все знаю.
— Что ты знаешь? Что ты знаешь?
И замахал кулаками. Я сделал таинственный вид и ушел. Теперь, по психологии, он сам должен ко мне прийти и сознаться.
4 марта
Я здорово обмишулился. Дело было так. Я пошел сдавать к Никпетожу за январь, раскрыл книгу по истории — и вдруг вижу: там лежит записка. Я развернул и даже ахнул.
«Костя, по старому чувству тебя предупреждаю, что против тебя и Веньки Палкина готовится поход за капустники. Они все знают. Берегись».
Но ахнул-то я не от того, что там было написано, а оттого, что почерк, и печатные буквы, и чернила — все было то же самое. Значит, ото не Кешка. После нашей чуть ли не драки станет меня Кешка предупреждать, да еще по какому-то «старому чувству»! Тогда я пошел к Никпетожу и вместо сдачи зачета спросил его:
— Николай Петрович, хорошо я делаю, что пытаюсь узнать, кто из ребят писал анонимные письма?
— А как вы это делаете?
— Слежу и потом делаю выводы.
— А зачем вы это делаете?
— А потому, что тот, кто писал, подводил товарищей.
— Видите, Рябцев, прежде всего брать на себя роль добровольного сыщика за товарищами — это роль совсем неблаговидная. Затем, ведь дело предано забвению, зачем же его опять воскрешать?
Я чуть было не брякнул, что дело опять всплывает, но вовремя прикусил язык.
Поиски я, пожалуй, и вправду прекращу: чуть было не попал в дурацкую историю с Кешкой Гороховым.
Но кто же писал письма и потом эту записку — мне?
7 марта
Я прочел Арцыбашева «Санин» и потом всю ночь опять не спал, и опять было фим-фом пик-пак. Теперь страшно болит голова, и я прямо не знаю, что делать. К Никпетожу, что ли, пойти? Неловко как-то. Скажет: «Объясняли вам на естественной, а вам все мало?» Да и не могу же я ему рассказать всего.
485
Плохо то, что все это отзывается на умственном положении. Я теперь дошел вот до чего. Взял тетрадку своего дневника, где было списано со стены про цель жизни, нашел то место, где я написал: «Вот буза-то» (это где говорилось про удовлетворение потребностей),— и зачеркнул, что сам написал. В самом деле, если человек принужден удовлетворять свои потребности не так, как все, он страдает. Страдает он и тогда, когда совсем не может удовлетворять потребностей. А жить и страдать — это стоит ли?
Но когда такие мысли пришли, я сейчас же спросил себя: «А достойно это комсомольца — человека, идущего в авангарде молодежи?» Потому что я хоть не комсомолец, а кандидат, но считаю себя убежденным коммунистом. Вообще, мне кажется, я совершил много плохого: тут и участие в капустниках, и то вранье, которое за этим последовало, а главное, конечно,— это половой вопрос. У буржуазии и интеллигенции половой вопрос разрешается как раз в такую сторону, как у меня. Что же, я — буржуй? Или я — интеллигент? Ни тем ни другим себя не считаю, поэтому должен решать вопрос как-то по-другому.
12 марта
Я только что с заседания ячейки, которое было в фабричном клубе. Хотя сейчас поздно, но придется записать все, иначе можно забыть. На ячейку собралось человек полтораста, среди них наших школьных ребят всего человек двадцать, а остальные — фабричные. Сначала было все как у нас и даже еще скучнее. Информация райкома, потом — доклад бюро... Ребята (фабричные) начали от скуки бузить, и председатель их то и дело одергивал. Потом пошли текущие дела, и все навострили уши.
Там есть одна девчина, Гулькина,— так она подала заявление в ячейку, чтобы ей выдали средства на аборт. (Надо спросить у Сережки Блинова, что это за штука; это, кажется, как-то такое делают, что мужчина становится женщиной, и наоборот; новое изобретение медицины; вообще как-то так устраивают, что женщина не рожает детей.) И вот, когда прочитали это заявление, поднялся в зале страшный шум: кто кричит — дать, а кто — не давать. Выступил секретарь ячейки Иванов, серьезный такой парень:
— Какие у нас, к шуту, средства, когда членские взносы поступают с опозданием на три месяца, хоть насильно отнимай!.. Откуда мы ей возьмем средства! Что, всамделе, банк у нас, что ли?
Тут выскочила одна девчина, очень сердитая: она по всем вопросам выступает и каждый раз сердится.
— Это мы и будем каждой давать, это что же у нас будет? Одна за другой аборты начнут делать. А рожать кто будет? Пушкин рожать будет? Предлагаю конкретное: выдать ей книгу про аборты, пусть почитает.
486
Тут другие опять стали кричать:
— Дать! Дать!
Только, по-моему, они это для бузы, потому что секретарь сказал ведь русским языком, что средств нету. Тут еще одна девчина выскочила и говорит:
— Давать никак нельзя: во-первых, потому, что средств нету, во-вторых, рожать кому-нибудь надо, как уже говорили, а в-третьих — и это самое главное,— от аборта она может умереть. Или ей может быть страшный вред. Она может остаться калекой на всю жизнь. Аборт далеко не каждый раз бывает удачный!
Раздались голоса, чтобы не давать. Но тут выступил опять Иванов и говорит:
— Как я уже сказал, из средств ячейки мы не можем дать никаких денег. Но, ребята, это решение: не давать, и больше ничего,— принимать нельзя. Разве не помните — Гулькиной другое заявление было, что ей жить негде! Что ей комнату надо дать или хоть угол. Тут нужно обследовать материальное положение Гулькиной, тем более что она приютилась на другом конце города. Конечно, не аборт — пускай рожает,— но отмахиваться все же нельзя: помочь надо. Комнату отыскать или что.
Проголосовали, выбрали комиссию обследовать материальное положение этой девчины, Гулькиной, и стали петь «Молодую гвардию»... Значит, конец.
Я домой шел один и все думал. Фабричная жизнь и работа ихней ячейки раньше мне представлялась какой-то особенной: ну вот как фабрика ночью бывает освещена огнями и вся так и полыхает. А оказывается, что их ребята так же любят бузить, как наши, да и в вопросах, поднимаемых на ячейке, не так уже трудно разобраться. А я-то думал, что придется долго привыкать и присматриваться, прежде чем что-нибудь поймешь.
Мне стало очень весело и как-то легко на душе. Во-первых, я не одинок, а во-вторых, значит, и я могу быть полезным своему классу. И вместе с тем мысли в голову лезли опять про половой вопрос, но. уже с другой стороны. Тут много значила история с этой девчиной. Ванька Петухов говорил, что это очень просто все, а оказывается, даже очень не просто, если ячейка из полутораста человек стала в тупик перед этим вопросом. Мне теперь кажется, что с половым вопросом может быть очень много страданий. Например, аборт этот. С какой стати девчина останется на всю жизнь калекой?
Напрасно раньше я так мало внимания уделял связи с фабричной ячейкой; там многое кое-чего можно узнать. Обязательно пойду к Иванову посоветоваться с ним насчет одного вопроса.
14 марта
Я говорил с Сережкой Блиновым насчет аборта, и он мне подробно объяснил, что это такое. И дал еще газетку с рассказом, который я решил полностью вырезать из газеты.
ИСПЫТАНИЕ ЖЕЛЕЗОМ
Рассказ
1
Как всегда, у двери клуба горела красная звезда, такая ласковая в бархатном воздухе летнего вечера; как всегда, дверь осаждали ребята, желавшие попасть в клуб, а дежурные грудью принимали напор; дверь отлетала, хлопала, снова отлетала, и в синий воздух переулка падали обрывки выкриков...
Манька Гузикова пхнула кого-то локтем, кулаком, нырнула головой вперед, ее цапнули сзади за грудь. Манька очутилась перед Васькой, тот рванул дверь от себя:
— Проходи, што ль, Гузикова.
Манька пошла под Васькиной рукой, и сразу Маньку так и обдало махрятным дымом, ярким светом, гомоном, руготней: в клубе было все как всегда, только вот Манька была не такая: пакостная, нечистая, опоганившая себя и клуб. Вот уже второй день Маньку тошнило, тянуло на селедку и соленые огурцы; свое небольшое подросточье жалованье, двадцать шесть рублей тридцать копеек, Манька отдавала матери, а мать не признавала никаких разносолов: лопай щи и картошку, и больше нет ничего.
На Маньку налетели девчата, все, как одна, в красных платочках, завертели, закружили. Манька с трудом отбилась от них, пошла в общую комнату, и сразу ей ударило в голову, комната стала темной, поплыла. Маньку затошнило небывало, и она села на пол, на холодные свои ноги: в общей стоял Володька-арестант, заливисто хохотал, бузил с ребятами, как малый.
Маньку схватили, потащили на скамейку, тотчас в зубы въехал ободок холодного ковша. Манька брыкнулась, открыла глаза и снова закрыла: над ней тесным кругом сомкнулись ребята, девчата шушукались, и все, все смотрели на Маньку в упор. «Все знают, знают,— поняла Манька.— А я, я — позорная, проклятая, и Володька, сволочь, хохочет...» Какие-то странные долетели до Манькиного слуха слова:
— Фершала надо из отделения...
— Сама очухается...
— Вот нерванная...
— Перестань, дурак, не видишь: больна.
— Что с ней такое?
— Объелась на праздниках...
488
И наконец, простое и страшное:
— Скажите Хайлу.
Манька вскочила на ноги, хотела сказать: «Нет, не надо, здорова», но пол улетел из-под ног, скамейка сама подвернулась под Маньку, сколько-то времени и слов прошло, и вот уже по комнате тонким стальным молоточком простучал голос грозного Хайла:
— Разойдитесь, ребята! Она больна, а вы ей дышать мешаете.
Манька ждала другого, она понимала, что все ее покинули, что
ждать ей помощи неоткуда, что Хайло будет ее ругать и, так как все знают, вышибет ее из клуба, а тут вдруг: «Она больна»,— и это было еще страшней, еще ужасней, и Манька вся замерла. Но хворь отошла, голова перестала кружиться, только слабость чуть-чуть осталась. Манька хитро приоткрыла глаза, только наполовину, будто больная, чтобы не сразу вышибал из клуба: ведь сжалится же, даст отсидеться. Но Хайло спросил:
— Встать можешь?
Манька вскочила, как, бывало, в школе у строгой учительницы, рванулась было в сторону.
— Я пойду, пойду, я сама уйду...
Но железной хваткой цапнул Хайло ее за руку:
— За мной. В читальню.
Хайло говорил отрывисто и властно; может быть, из-за этого, да еще из-за взгляда, прямого, в упор и стального, и побаивались его ребята, а девчата часто при его приближении обрывали свою чечеточную трескотню. А ведь Хайло был такой же фабричный парень, как и все, разве вот раньше хулиганом был первейшим во всей рабочей слободе — с того времени и прилипла к нему озорная кличка.
2
В читальне Хайло взглянул грозно, сказал:
— Выйдите, ребята, на пять минут.
И читальщики прошелестели газетами, захлопнули книги, скрылись. Тогда Хайло сел на скамью, уперся в Маньку глазами — она чувствовала, хоть и не смотрела,— и спросил.
— Ну? В чем дело?
Маньке стало почти что весело: значит, Хайло не знал. Значит, соврать можно и... и из клуба не вышибут. Выпалила:
— С матерью поругалась. Мать из дому выгнала.
И смело глянула на Хайла. На нее в упор глядели добрые серые усталые глаза. Таких глаз Манька никогда у Хайла не видела. Смотрела, смотрела и поняла: куда-то делась прямая такая, страшная морщинка у Хайла над глазами — раньше всегда была, а теперь не было.
— За что выгнала-то?
Манька еще не придумала соврать, юльнула глазами в сторону, на
489
бородатого Карла Маркса, моргнула и в это время снова поймала взгляд тех же серых добрых глаз прямо перед собой. Хайло, словно случайно, двинул локтем — и:
— А? Мань? За что выгнала-то? — А глаза впились в Маньку — не увернешься.
Манькины глаза сами собой закрылись, невтерпеж стало; потом голова подвернулась, словно птичья, и Манька принялась пристально разглядывать кусок ковра на полу, между бедром и рукой.
Чья-то горячая рука легла на Манькино плечо; чей-то чужой, как будто уже недобрый голос стукнул:
— Ну?!
— Вот что, Хайло, ты только не сердись, что не отвечала, мне все тошно, а ты такой, я тебе больше матери доверяю, я тебе все сейчас скажу, погоди... Ты погоди, ты не сердись, я все равно уйду из клуба, я сама уйду, только ты никому не говори. Я сама знаю, что не скажешь, потому что ты такой...
Манька вскочила, задыхаясь: никогда не говорила так много сразу, не приходилось.
— Меня все тошнит, тошнит, и есть ничего не хочется, и селедки все хочется, и потом... знаешь... перестало... как у всех девчат бывает... а я... гуляла с одним... ну... ну... и все...
Рухнула на скамейку, голову на руки — и шею подставила Хайлу: ну вот, теперь он знает, пусть вышибает из клуба хоть сейчас. Маньке все равно.
— Мать знает?
— Не-ет, мать не знает,— удивилась вопросу Манька.— Она все глазами тыркает да тыркает, все приглядывается; а это я тебе соврала, что она меня выгнала. А узнает — беспременно выгонит.
Голос у Маньки был дрожащий, обрывистый, как слезы; в сердце опять застучала злоба: ну чего тянет, не выгоняет, скорей бы уж, что ли!
— Зачем же из клуба-то уходить? — спросил Хайло тихо и внятно.
— А что ж, девчата разве не засмеют? — злобно сказала Манька.— А ребята разве потерпят? А сам ты... Я нешь не знаю? Я убегу, убегу!! — закричала она истошно.— Я и из дому убегу, я на бульвар убегу, я проклятая, я позорная, нечего мне в клубе делать... Ну вас всех!..
Манька рванулась было к двери, но твердая Хайлова рука ухватила ее повыше плеча.
— Стой, Гузикова!
Может быть, Манька в том и нуждалась, чтобы кто-то ей сказал твердо и властно: «Стой, Гузикова». Может быть, еще не все было потеряно; может быть, все эти плакаты и портреты на стенах и вся уютная, теплая, в коврах читальня так и останутся своими, родными, близкими...
490
— Стой, Гузикова! — Хайло повторил, и Манька окончательно вросла в пол, как гвоздь в стену. Вот какая вещь, видишь... В кратких словах: все поправимо. Поняла? Все поправимо. Я не стану тебе объяснять, что и как, времени терять нельзя. Только раньше ответь ты мне на один вопрос. Но уж тут врать нельзя. Отвечай: кто? Верней: клубист или не клубист?
Спросить об этом час назад — Манька, наверное, промолчала бы. Но теперь, теперь, после того, как он бузил при всех, словно ему и горюшка мало, Манька равнодушно:
— Володька-арестант.
— А! Володька! — сказал Хайло, и прямая страшная морщинка встала на лбу, как штык.— Так! Пустили черта в клуб, а он — гадит! И что же: жениться не хочет?
— А я не спрашивала. Он все от меня бегал недели две, больше, а вчерась я ему сказала... про это... Ну, он словно задумался, потом стал ругаться... и потом... потом...
— Ну?!
— Убежал. Так бегом и убежал. Я хотела... я хотела опять сегодня... сказать, а он хохо... хохо... хохочет с ребятами...
— Ладно,— стукнул Хайло зловеще и тонко.— Так вот запомни: все поправимо! Ты не кисни. Положись на меня! Можешь положиться на меня?
— Могу, конечно.
Судорога в горле прошла, и Манька взглянула на прямую морщинку: на кого же и положиться, коли не на Хайла?
— Ну вот! Ступай в клуб и жди, пока позову.
— Как же... с девчатами-то? Все ведь знают?
— Ты разве сказала?
— Сказать не сказала... только догадались, наверно...
— Вздор! Никто не догадался! Скажи: работала в духоте, не пообедала, и все тут. Побузят и кончат! Да... еще: сколько тебе лет?
— Я девятьсот седьмого года... Семнадцатый.
— Ссссволочь! Да что ты это? Это не ты, это я про Володьку! Ну, марш!
з
Хайло встал в дверях спортивной комнаты; голые ребята в красных трусиках работали со штангами и на турниках. Сказал громко:
— Актив, в кипятильник!
Тотчас двое ребят положили гантели, стали надевать брюки, рубашки; в драмкружке оборвалось пение и смех, к Хайлу подошел высокий активист в барашковой шапке, несмотря на лето, и спросил:
— Куда? В кипятильник? — и двинулся за Хайлом.
Ваську Сопатого Хайло сменил у двери, повел за собой.
Кипятильником ребята называли комнатушку с бездействующим
491
кубом; в помещении клуба когда-то раньше был трактир; теперь не хватало дров, а в кубе ночевали иногда заработавшиеся до ночи клубисты.
— Четверых ребят нет. Ну, да не беда,— сказал Хайло, залезая на куб.— Ну вот, ребята, видишь, какой случай: Манька Гузикова, кажется, тяжелая, беременная, а начинил ее Володька-арестант. Теперь жениться не хочет, бегает.
Дальше слова Хайла заударяли молотками, и в такт им захлопал его кулак по медной крышке куба.
— Я говорил вам, чертям, нельзя принимать в клуб такого мерзавца, как Володька! Это неважность, что я сам был хулиганом! Одного исправить можно, другого — нельзя. Это сразу видно по человеку. Но это не по существу. Тут, видишь, вопрос надо разобрать глубже. Что теперь делать?! По-моему — заставить его, сукинова сына, жениться! Кто имеет?
— Да-а, заставишь его, важнецкая штука! — протянул высокий парень в барашковой шапке.— Скажет: я не я, и лошадь не моя.
— А толк-то какой? — спросил один из парней, снятых с гимнастики, кудрявый и веселый.— Ну, женим мы их, а дальше что? Чуд-дак! Он пойдет и на другой день разведется.
— Ну, это ты, Ахтыркин, зря,— стукнул Хайло.— Это следить можно, а то алименты платить будет.
— Уследишь за им, важнецкая штука! — влез опять высокий.— А кроме того, как женится, ты думаешь, сласть какая ей будет? Лупить он ее смертным боем будет — и все, а алиментов с этого хулигана не взыщешь.
Высокий говорил уныло и протяжно: похоже было, что выражение «важнецкая штука» он и вклинивал только для того, чтобы продлить речь.
' — Чуд-дак,— подтвердил кудрявый Ахтыркин.— Да она сама от него на другой день сбежит!
— Ну а ты, Васька? — обернулся на соседа Хайло.
— Ух-х-х-ма,— засопел Васька.— Так-то оно так, да и эдак-то оно вот эдак. Ф-ф-ф-ффма! Я еще — этого, ф-ф-ф-ма, не разобрался в вопросе.
— И долго же ты, черт сопатый, будешь разбираться?! Тут, видишь, надо сейчас же ответить, а не разбираться.— Морщинка на лбу Хайла нагнулась, словно собираясь ударить на Ваську в штыки.— Девчина, видишь, ждет ответа. А ты тут разбираешься!
— Это, конещно, ф-ф-ф-ма, так,— засуетился Васька смущенно.— Тут другого ответа нет, и... и не может быть, фм-м-ма! Но ведь опять-таки, хм-м-ма, что касается касательности, то ведь тут опять же относится вопрос, хым-м-м-м, какая помочь должна быть?
— Помощь должна-а быть,— утвердительно протянул высокий.— Тут пе-ервое дело, важнецкая штука: помощь.
— Ну, в общем, я вижу, согласны,— закрепил Хайло.— Я понимаю вас так, что вы от помощи не отказываете, только остается
492
вопрос: чем и как именно помочь? Кто имеет? Да, я забыл сказать: семейное положение паршивое. Мать из дому выгонит, ежели узнает. Ну?!
Ахтыркин навертел кудри на палец, дернул изо всей силы книзу:
— Вот... предложение. Взять ее клубу... полностью содержать, пока не родит... Живет пусть здесь, в клубе. Ну...— Ахтыркин дернул палец еще сильнее, словно хотел оторвать клок волос от головы.
— Ну, это... фм-м-м-ма,— заерзал Васька.— Не-ет, такое дело, хым-м-м-м, не подходит. Тут подход касаемый другой, в относи* тельности. Хм-ма! Денег ей выдать... на жительство. Пусть, этого, фым-м-м, живет как хочет. Отдельно от матери.
— Ва-алынка,— протянул высокий.— А потом она с ребенком куды денется? А? Ээ-э-то ты рассудил? Деньги! Ва-жнецкая штука! А потом как и куды?
— Да и денег нет,— перебил Хайло решительно.— Откуда возьмешь денег? Сам все плачешь: на книги нет, на дрова нет! А ведь это много надо: клади не меньше три червонца в месяц! Ну, кто еще имеет?
— Аборт! — выпалил молчаливый активист.
В кипятильнике стало слышно, как поют и возятся через коридор в комнате драмкружка. Потом кто-то заорал: «Фе-едька!» Кто-то протопал тяжелыми сапогами — видно, бегом. Хайло спросил:
— А это... не опасно?
— Ка-кой там!..
— Это по-олная опасность есть, важнецкая штука,— вздохнул высокий.— У меня мать от родов померла.
— Так то — от родов, а то — аборт. Вполне пустяки. Одна минута...
— Неправда это! — крикнул Хайло, и морщина пошла в штыки на рассказчика.— Есть опасность, и большая опасность! Я читал! Опасность есть в загрязнении... видишь, в каких-то там неправильностях, а есть... С этим осторожно надо... Кой черт пустяки! Тебе — пустяки, а девчина умрет под ножом, ей не пустяки! Ну, ладно, я вижу — выход один, если она сама согласится. Это, видишь, большая ответственность на нас ляжет. Берем мы эту ответственность или не берем? Кто имеет?
По коридору снова кто-то пробежал — мягко, почти неслышно, в валенках. Из драмкружка доносилось: «Поэтому, Галилей, мы к тебе предъявляем... Поэтому, Галилей, мы к тебе предъявляем...»
В коридор ворвались голоса: «Ребята, девчата, на марксистский! Ребята, на марксистский! Бегунов, иди на марксистский!»
— Тут вот что,— смущенно начал Ахтыркин.— И так говорят... что клуб рабочей молодежи... что мы тут развратом занимаемся... А если про это узнают...
— К черту! — злобно крикнул Хайло.— К такой и такой матери! Кто говорит? Ну? Кто говорит? Какая сволочь это говорит? Ну? Кто говорит?
— Да старое бабье больше стрекочет, ва-жнецкая штука,— от¬
493
махнулся высокий.— Не стоящие внимания... Это пусть... Им крыть нечем, ну...
— Нет, Ахтыркин, ты скажи: кто говорит? — вцепился Хайло.— Не можешь сказать, так я тебе скажу: обыватели говорят, вот кто говорит!!! Сталоть, по-твоему, мы должны равняться по обывателям?! А?! Ну, скажи, скажи?! Эх ты, голова с мозгами! Ты бы еще про белогвардейцев вспомнил! А потом — конечно... само собой понятно: трепать про это нечего!
— Кто будет трепать, тому я пропишу! — внезапно вскочил со скамейки Васька и поднял громадный кулак кверху. Куда-то девалось и сопенье и вялость; только с Васькой с одним во всем клубе и происходили такие внезапные перемены.— Я те потреплю! Язык вырву... с корнем!
— Ну, конечно,— тяпнул о крышку куба рукой Хайло.— Сейчас я к ней пойду, объясню все это, и тогда... завтра направим... Ты, Васька, крой сейчас в больницу, узнаешь там, как и что. Ежели в казенной нельзя, валяй в частную. Спросишь, сколько денег надо. Ахтыркин, сколько в кассе денег?
— Три рубля семьдесят шесть копеек,— без запинки ответил Ахтыркин.
— Ну... в случае чего... я достану,— сказал Хайло, выходя в дверь.— Надо.
За ним шмыгнул Васька.
4
С того момента, как Манька Гузикова явилась в приемную больницы вместе с Васькой Сопатым, записалась, стала Гузиковой Марией, работницей-подростком, 16 лет, № 102, надела чистое, холоднее, как будто чужое белье, напялила тоже чистый, но тоже как будто чужой халат,— перестала она сознавать себя простой, обыкновенной девчиной-работницей с прядильной фабрики; Манька Гузикова как будто осталась там, за порогом больницы, где-то в рабочем поселке, незаметная и безобидная; а вот здесь, на койке, сидит уже Мария Гузикова, и на нее обращают внимание взрослые и серьезные люди, и очень скоро с этой Марией Гузиковой будет что-то страшное и позорное, от чего белье не становится теплым, как обыкновенно, от тела, а холодит спину и заставляет ноги дрожать.
— Гузикова, в операционную,— равнодушно сказала сиделка.
Манька с трудом, как тяжелобольная, поднялась с постели, пошла;
только тут заметила какие-то бледные лица, следившие за ней с кроватных подушек; сиделкина спина колыхалась впереди деловито и спокойно; сердце Манькино зашлось было, Манька чуть не упала, но удержала себя: «Так тебе и надо, теперь нечего дурака валять...» В операционную вошла почти спокойная.
Грузный седой доктор с румяным лицом кончил мыть руки, обернулся, шагнул к Маньке, поднял ее подбородок, сказал:
494
— Значит, ребеночка не хотите? Жаль, жаль! Ну, снимайте халат.
Манька скинула халат, легла, куда велели, и тут же рядом с ней
очутилась давешняя докторица, взяла Манькины руки, развела их в сторону, кто-то еще потянул Манькины ноги, сколько-то жуткого времени прошло, и в тело, прямо в сердце, разворачивая его и леденя, вошла невероятная, нестерпимая, несосветимая боль и жгучим, калящим своим острием засверлила все дальше и глубже. «О-о-о-о-ой!» — захотелось закричать, завыть, заорать, но Манька закусила губы, закинула голову назад, а наверху был светлый, очень высокий потолок, он был белый и беспощадный, он словно говорил: «Ну, не сметь орать, лежи смирно, сама, черт паршивая, виновата». Но боль не прекращалась, она охватила все тело, боль стала живой, боль ожила и острые когти свои вонзила в Манькино тело и сверлила, сверлила, сверлила без конца, без пощады, без надежды... Потолок помутнел, улетел куда-то еще выше, и вот уже не стало видно, в глазах стала какая-то мутная, нудная пелена, и она соединилась с болью, заполнила все Манькино тело, отделила Маньку от земли, от людей, от больничной комнаты. Манька стояла одна, одна во всем мире, и осталась с ней только боль — бешеная, въедающая, разрывающая тело на куски, на части, на мелкие кусочки, и в каждой крохотке этой разорванной была все та же нестерпимая боль. Потом в сознание вошло: «Ну когда ж кончится? Когда? Ну когда?!» Боль стала утихающей, замирающей, словно уходила прочь, умирала... Руки стали свободными: значит, их выпустили, значит, их выпустила докторица; значит, все кончено, можно уходить. Но боль еще держала изнутри. Манька поднялась, опять упала, увидела потолок, доктори- цыны черные глаза.
— Молодец, малышка, молодец! — сказал ласковый и румяный доктор.— Прямо молодчина: такая малышка, а не кричала. Крепкая!
Гордость вспыхнула в Манькином сознании. Захотелось скорее вскочить, побежать в клуб, прямо к Хайлу, сказать ему: «Вот, самый главный доктор сказал про меня, что я крепкая! И ты надейся на меня, я не подгажу!..» Но Маньку подняли, отнесли в палату, в кровать.
Внутри болело, но не так уже сильно, можно было перенести. Манька лежала несколько времени с закрытыми глазами, а когда открыла, то увидела у кровати Ваську Сопатого.
— Ну, ты, этого, хм-м-ма... как? А? Маруськ? — спросил Васька.
— Уходи, уходи,— в ужасе зашептала Манька.— Уходи скорей, тебя еще за того... сволоча примут!
— Да нет, хым-м-м,— смутился Васька.— Вот хлеб я принес — может, проголодалась, так ты, этого... ешь! — И он сунул ей прямо в лицо большую белую булку.
5
Прошло не больше двух дней и двух ночей с той минуты, когда Манька увидела в клубе Володьку-арестанта, а Маньке казалось, что она прожила целую большую и тяжелую жизнь, как будто схватила ее чья-то большая рука, безжалостно окунула в нудный и тошный водоворот, водоворот перекрутил ей голову, вырвал ее из привычной простой жизни, повертел, повертел во все стороны и выбросил — и прямо на крылечко покосившегося домика в рабочей слободке. Матери что-то нужно сказать: в первый раз в жизни Манька не ночевала дома,— в больнице заставили силком отлежаться, хоть Манька чувствовала себя здоровой и рвалась домой в самый день операции. А вот что сказать матери, Манька и не знала. Сказать: «У подруги ночевала»,— мать изобьет: зачем не предупредила? Летний вечер был тих и легок. Манька переминалась на крылечке с ноги на ногу, как вдруг дверь отворилась, и на пороге появилась мать с ведрами в руках.
— Пришла?! — спросила мать, поставила ведро и сложила руки на груди.— Пришла, стервочка? — Это уже шепотом, чтоб соседи не слышали.— Пришла, поганка?! Пришла, лахудра?! Где ж это ты таскалась-то?! А? Ну, иди, иди в горницу-та!
Манька враз поняла, что мать знает — или подозревает. Но странно: обыкновенно, когда мать ругалась и дралась, Маньке становилось тошно, беспокойно и страшно. А теперь — ничего. Манька прошла в комнату; мать управилась с ведром и, войдя, засвирепела сразу:
— Ну, сволочища!! Ну, потаскушина!! Ты и рта не открывай теперя, лучше не говори ничего, не раздражай ты меня, все одно не поверю! Ты што же это матерь-то свою поганишь?! Ты думаешь, сЛушку нету?! Ты думаешь, все так обойдется?! Ну и сволочища! Ну и паскудина!
Мать шагнула, протянула руку и рывком сдернула с Манькиной головы красный платок.
— Аааа, стерва!
«Не дамся бить,— упрямо встало в Манькиной голове.— Вот не дамся и не дамся».
— Отдай платок! — Манька протянула руку.— Отдай, мать, платок, я тебе говорю!
— Мне и слушать-то тебя не желательно,— зашипела в ответ мать и крючками пальцев вцепилась в Манькины волосы, словно не мать, а ведьма какая — седая, страшная, чужая.
Манька рванулась, отскочила в угол.
— Отдай платок, говорю! Не то плохо будет!
— Ты не даесьси! Ты не даесьси! — закричала мать истошно.— Да што ж ето, люди добрые, она теперь не дается!! Матери родной — не дается?! Чему ж тебя теперя в сукомоле обучили?! — Мать рывком села на табуретку, хлопнула ладонями о колени.—
496
Матери родной не даваться?! Ах ты лахудрина несчастная!..— Мать вскочила, устремилась на Маньку.
Манькины руки как-то сами собой выбросились вперед, мать наткнулась на них, отлетела к столу.
— Отдай платок, мать, не то в суд подам,— спокойно сказала Манька.— Я серьезно говорю — в суд подам.
— И ето на мать родную в су-уд?! Да, люди добрые, где ж ето теперь видано?! Шляется незнамо где, незнамо с кем, а потом в су-уд?! Ты зачем ето, стерва, в больнице была? — опять засвирепела мать.— Отвечай, сволочища! Всю рылу искровеню, отвечай!.. Узнаешь мой суд, га-а-адина!.. Видели тебя, с каким-никаким коблом в больницу пошла!
— Отдай платок!
И Манька вцепилась в материну руку. Мать дернулась, задела за ножку стола, покатилась на пол, заголосила:
— Спасите, люди до-о-обрые! Убивают! Убивают!!!
Маньке стало противно и не по себе; рванула дверь да так, без платка, простоволосая, и вышла во двор. Синий воздух был свеж и отраден. Где-то в огородах лаяла собака задорно и отрывисто. Манька постояла на крыльце, потом решительно пошла в клуб.
«Черт с ним, с платком,— неслись в голове мысли.— Возьму там у девчат! А только как вот в клуб показаться? Девчата небось проведали... Ну да с девчатами-то ничего... Побузят, побузят — и кончат. А вот с Хайлом встретиться — стыдно. Он небось опять стал сердитый. Смотреть будет на меня, как... на такую... Ой, стыдно, стыдно; лучше совсем не ходить...»
Манька остановилась. Переулок был спокойный, голубой и ровный — такой же, как всегда. Кое-где загорелся уже в окнах желтый огонь; было, должно быть, около десяти. В это время в клубе перерыв занятий,— значит, все в коридоре; значит, легче всего встретиться с Хайлом. Но тогда — куда же? Домой?
— А-а-а, вот ты где попалась! — странно ласковый и знакомый голос — прямо над ухом; и сзади две руки обхватили, не пускают. Володька! И дальше поет: — А я тебя, Марусенька, поджидал! В клубе — там, знаешь, неловко и подойти-то к тебе! Ну, пойдем, что ль, погуляем? «Ночка темная, я боюся, д-правади меня, Мару- ся!!!» — горячим таким шепотом у самого-самого уха.
Манька отвела Володькины руки, повернулась, как-то сам собой поднялся кверху Манькин кулак — и с размаху в противную, наглую морду. И сейчас же, со стучащим сердцем,— бежать... скорей, скорей, лишь бы не догнал!.. Сзади — руготня на весь переулок:
— Ну, погоди же ты у меня! — топот тяжелых сапог. «Догонит, догонит, еще только один переулочек, еще!.. Да нет, догоняет...» Сам собой вырвался крик: «Аааа!..» Манька бежала быстрей, нажимая из последних силенок... Еще дом, еще... И перед Манькой на повороте засияла ласковая красная звезда. Ноги одеревенели, но бежали,
497
бежали, словно сами собой... Уже Володькино тяжелое дыхание почти над Манькиной головой.
Дверь распахнулась, словно ждали Маньку,— и Манька влетела в клуб, к Ваське Сопатому чуть не в объятия.
— О-о-о-о,— сказала Манька, прислонившись к стене, а Сопатый было:
— Ты чего, хм-м-ма, как с цепи?..
Но не договорил: в двери вырос Володька-арестант. Васька рванулся вперед и принял Володькин наскок.
— Ш-ш-што, с ума, што ли, сшел, чер-р-рт? — зарычал Володь- ка.— Своих перестал пускать?!
— Своих пускаю,— ответил Васька, загородив собой дверь,— а тебе подождать придется.
— Э-э-это еще почему?
У двери стало несколько ребят — решительные, бледные, спокойные, словно из земли выросли, должно быть, ждали Володьку.
— До общественного суда,— ответил Васька.— Общественный суд над тобой будет.
— Пшел к чер-р-рту, какой там суд!
Володька двинулся вперед. Но ребята стали стеной, Васька сделал движение — и Володька покатился по мостовой, матерщиня и чертыхаясь.
На Маньку наскочили девчата, завертели, закружили, потащили с собой по коридору. А по коридору шел навстречу грозный Хайло, и морщинка на лбу стояла, как штык. Морщинка качнулась, на Маньку глянули строгие, а вовсе не добрые глаза, и Хайло хотел пройти уже мимо, но было, должно быть, в Манькиных глазах что-то странное, потому что Хайло остановился, сказал:
— Ну, чего скисла?
Манька хотела ответить, что нет, не скисла, что она храбрая и крепкая, да язык не шевелился, и вдруг Манька поняла, что она и вправду скисла. На глазах выскочили слезы. Хайло, должно быть, их заметил, потому что ударил по плечу, сказал:
— Ну, чего ты?.. Пролетария маленькая? Ступай, дурашка, на политграмоту.
И пошел. А Манька вприскочку побежала по коридору, и горячая, славная такая волна пошла по спине и залила сердце. Это потому, должно быть, что из глаз Хайла глянула на Маньку великая товарищеская любовь всего рабочего класса к маленькой, неразумной дочери.
Я показал Ваньке Петухову, и он говорит, что рассказ — правильный. А по-моему, это случай. Я вполне верю, что эти самые «аборты» не обходятся без того, чтобы девчину искалечить. Лучше пускай они рожают хороших и здоровых ребят.
Должна быть смена.
498
15 марта
Я давно уже заметил, что Венька Палкин в школу не ходит. Я так думал, что это из-за капустников. Теперь мне кажется, что по другому поводу. Но вмешиваться я в это не стану. Мне кажется, что Никпетож прав и что следить за товарищами — не совсем благовидное занятие.
Так как я разошелся с Сильвой, то мне не с кем было дружить, и я все чаще бываю с Черной Зоей. Она мне призналась, что раньше меня ненавидела за всякие придирки. И что переменила ко мне чувства после спектакля, когда я очень ловко вышиб рапиру из рук Сережки Блинова.
Занятия мои идут нормально. Головные боли прекратились, и ф-ф-п-п — тоже. Я каждое утро обтираюсь снегом.
21 марта
Сегодня ко мне подходит Сильва и говорит:
— Костя Рябцев, я принуждена тебе сказать, что окончательно переменила мнение о тебе. Раньше я думала, что ты настоящий комсомолец и верен идеологии. А теперь я вижу, что ты просто притворялся и что настоящая твоя идеология далеко не соответствует комсомолу.
— Я никогда не притворялся,— отвечаю я.— И откуда ты знаешь мою настоящую идеологию?
— Тебе это прекрасно известно. Но и мне известно, что вы устраивали с Веней Палкиным.
— Прежде всего, я ничего не устраивал, а только ходил. А потом, значит, это ты писала анонимки?
— Ах ты дрянь ты эдакая!— говорит Сильва и смотрит мне прямо в глаза.— И ты мог это сказать? Хорош! — Повернулась и уходит.
— Стой, Сильва,— говорю я.— Ты действительно думаешь, что у меня не комсомольская идеология?
— Я с тобой и разговаривать-то не хочу.— И ушла.
Мне было до крайности обидно, но я ничего не мог сделать, потому что отчасти она права. Хотя я никогда не притворялся.
Но все-таки я ей докажу.
23 марта
Произошел большой и все-таки не совсем понятный скандал.
В школу явился служитель культа (поп) — отец Лины. Он вызвал Зин-Палну, и они долго объяснялись. Отец Лины, весь красный, что-то доказывал Зин-Палне, а она только разводила руками. Это было в шкрабьей комнате, поэтому никто ничего не слышал. Потом
499
Зин-Пална, страшно взволнованная, ушла вместе с отцом Лины и вернулась только к концу уроков.
Сейчас же было созвано собрание шкрабов, а мы распущены по домам.
25 марта
Мне очень тяжело будет написать это, но я все-таки напишу.
Сегодня, как только я пришел в школу, Зин-Пална вызвала меня к себе.
— Вы будете, Рябцев, со мной говорить вполне искренне? — спрашивает она.
— Буду,— сказал я и гляжу ей прямо в глаза. (Мне надоело врать.)
— Скажите, вы бывали на этих сборищах, которые устраивал Веня Палкин?
— Бывал.
— Вам приходило в голову, что вы этим не только срываете школьные занятия, но и подводите всю школу?
— Даю честное комсомольское слово, что не приходило.
— Что ж вы думали о связи школы с этими... явлениями?
— Я думал, что... раз это устраивается вне школы, то... одно к другому не имеет отношения.
— Ну, допустим, так. А то, что случилось с Линой, вы знаете?
— Я видел, что она не ходит в школу и что это стоит в какой- то связи с... капустниками, но, даю честное слово, определенно не знаю.
— Лине придется уйти из школы, и она уезжает на Украину. Я думаю, вы сумеете так же молчать про наш разговор, как вы молчали про ваши капустники?
— Зинаида Павловна, я, конечно, буду молчать,— сказал я, и у меня в горле перехватило.— Только... Я думаю, что девчатам все уже известно гораздо лучше меня.
— Я с ними уже говорила. Ступайте.
— Погодите... Зинаида Павловна... еще один вопрос. Что... имеет
500
отношение... то, что случилось с Линой, имеет отношение к... половому вопросу?
— Да. Имеет,— твердо сказала Зинаида Павловна.— Теперь идите.
Я ушел — только не в школу, а домой.
После записи 25 марта в тетради вымарано несколько страниц.
5 апреля
Вчера я получил письмо от Лины:
«Костя Рябцев! Я тебя теперь не виню ни в чем и понимаю, что сама очень виновата. Костя Рябцев, когда ты получишь это письмо, то я буду так далеко от тебя, что мне не будет стыдно. Я теперь начинаю новую жизнь, а все то, старое, прошлое и мрачное, осталось позади и вычеркнуто из моей жизни навсегда.
Знай, что я сошлась с В. П. из-за тебя. Верней, со зла на тебя и с отчаяния, что ты со мной груб и что так глупо и пошло вышло наше самоубийство. Все это прошло, прошло, прошло, и теперь мне так легко... Я советую тебе тоже бросить такую жизнь, потому что, кроме беспросветного мрака, ты ничего не получишь. А все прекрасное в жизни у тебя, как и у меня, еще впереди.
Тоже узнай, что письма писала всем родителям я. Я мучилась, я страдала и хотела все это прекратить, только не знала как. Вот и выдумала. Мне стало от этого еще тяжелей. И только теперь, вырвавшись из мрака на свободу и свет, я поняла, как была глупа.
Ты напрасно говорил с Сильвой о том — помнишь, там, в костюмерной... Сильва не такая. Во время самых тяжелых моих переживаний она ухаживала за мной, как сестра, хотя раньше я была с ней груба.
Прощай, Костя Рябцев! Живи счастливо и помирись с Сильвой. А меня забудь — навсегда, навсегда... Лина»,
Как все-таки скверно, когда не умеешь жить!
10 апреля
Сегодня на улице встретил Веньку Палкина, в модном пальто и с папироской в зубах, с тросточкой.
— А, Костя,— говорит,— все еще маринуешься в коптильнике?
— Да, все еще учусь в школе.
— Охота тебе... Знаешь что? Приходи завтра ко мне на квартиру. Я там же живу. Будут девчата — не ваши кислые школьные, а настоящие девочки, добрые. Вино новое выпустили. Приходи!
— Ну что ж? — сказал я.— Приду. А из наших кто-нибудь будет?
— Как же, будут! Все хорошие товарищи. Так придешь?
— Приду. До свидания.
501
12 апреля
Дело было вот как.
Я, как всегда, пришел к Веньке в Ивановский парк часам к девяти. Там у него было в сборе народу человек двенадцать. Все сидели за столом, а родителей не было — они всегда уходят, когда у Веньки капустники.
Теперь я все могу писать, и поэтому — что такое капустники? Капустники — это выпивка и гульба с девчатами, только не такая, как по улицам с ними гулять, а лапанье в обнимку, поцелуи. Посередине стола ставится кислая капуста с постным маслом, ее все очень любят. Потом все пьют самогон, пока не напиваются. Я, кроме лапанья, ничего не видел, а теперь я догадываюсь, что было и похуже.
Ну, так вот: я пришел, а они сидят, и в том числе из нашей школы человека три. Я даже имена их писать не буду. Все ребята, из девчат никого. Девчата были, только чужие и накрашенные.
Ну, так вот. Они все уже полупьяные: как увидели меня, так и закричали:
— А, Костя пришел! Налейте ему со встречей! Дело будет!
— Да, будет хорошее дело,— сказал я, взял и разбил об пол стакан, который мне подали.— Дело будет хорошее потому, что я понял, какие дела бывают хорошие и какие плохие. Вы, мои дорогие товарищи по школе, сейчас уйдете отсюда вместе со мной и никогда больше сюда носу не покажете, потому что это гадость, что вы сейчас делаете и что делал раньше я. Только раньше я скажу пару слов остальным гражданам, которые здесь.
— Да ты что, с ума сошел? — закричал Венька Палкин.
— Нет, я с ума не сошел, наоборот, ум ко мне вернулся,— ответил я.— Ты сосчитал, Венька, сколько пакости принес этими своими капустниками? Ты сосчитал то, что девчине одной — ты знаешь, про кого я говорю,— искалечил жизнь? И нашу школу чуть было не сорвал — ты это сосчитал? Нет, ты уж пей и развратничай со своими приятелями, а нашу школу в покое оставь!
— Сволочь ты несчастная! — закричал Венька и полез с кулаками.
Тогда я пустил в него бутылкой, и мы вместе с ребятами выскочили вон.
15 апреля
Даже руки дрожат от усталости — до того приходится спешить с зачетами. Из-за всех зимних историй у меня запущены все предметы, а ведь лето на носу: если не сдать теперь, то и погулять летом как следует не удастся. Да еще говорят, что будет летняя школа. Я думал раньше, что эта летняя школа только для первой ступени, а для второй отменена, а теперь оказывается, что и нам ее нагрузили.
502
Значит, опять начнутся экскурсии. Сережка Блинов говорит, что во время летней школы должно обнаружиться полное несоответствие шкрабов: еще зимой-то, по его мнению, шкрабы кое-как справлялись, а летом обязательно засыплются.
У меня новый товарищ—Юшка Громов. Он и раньше был в школе, и даже в нашей группе, но я с ним не очень водился. Он очень веселый парень и не любит задумываться над вопросами. Я ему кое-что раскрыл про себя — например, рассказал про капустники, но он говорит, что все это — начхать на ветер и надо как можно скорей забыть про все это дело.
17 апреля
В школе началось очень странное явление. Вчера я проходил мимо математической и вдруг слышу страшный хохот... Я сейчас же вбежал туда и вижу: сидят друг против друга Нинка Фрадкина и Стаська Велепольская, обе из четвертой группы, и — хохочут. Мне самому смешно стало, и я их спрашиваю:
— Вы чего?
А сам хохочу. Они еще пуще, и вдруг я заметил, что у Стаськи в горле что-то булькает. Потом бульканье перешло в хрипенье, и мне стало жутко. Я скорей за дежурным шкрабом — это был Алмакфиш,— мы с ним прибежали, а девчата так и закатываются рыданиями. Алмакфиш сказал, что это — истерика, я сбегал за водой и полотенцем, и обеих девчат уняли. Ребята меня спрашивали потом, не желаю ли я заняться их излечить, все равно как зимой Зою Травникову, но я ответил, что теперь это не мое дело и пусть теперешние учкомы следят.
А у меня и без того дела много. Еще месяц тому назад нашу школу губернское ОНО привлекло для борьбы с беспризорностью в специально-правовую охрану несовершеннолетних (СПОН); ввиду истории с Алешкой Чикиным, когда он украл шесть лимардов, а я потом видел его в разваленном подвале, школа выбрала для сношений со СПОНом меня. Вот теперь я и хожу в СПОН. Приходится иметь много дела с беспризорниками, и почти все без толку. Говорят, что после трех месяцев работы с ними взрослые попадают в нервные санатории. А по-моему, надо так: организовать отряды из таких же ребят, как я, вступать на каждом перекрестке с беспризорниками в драку, устраивать стенки, а после стенок раскуривать с ними цигарки и пить водку — так они охотней вступят в знакомство, а там уж и грамота пойдет. Или рассказывать сказки, как Ванька Петухов. И тогда никаких нервных санаториев не нужно будет. Тут только одно возражение, что времени много пойдет и некогда будет нашим ребятам учиться. Я рассказал этот проект секретарю СПОНа, а она только смеется. Смеяться нечего, нужно было бы обсудить. Когда надо мной смеются, терпеть не могу. Во всяком случае, ихний
503
способ тоже никуда не годится, и я, должно быть, в СПОНе работать больше не стану. У Алешки Чикина задавил отца грузовик комхоза, и Зин-Пална взяла Алешку к себе на воспитание. Вся школа считает, что это она сделала очень хорошо, только Сережка Блинов утверждает, что это она из тщеславия.
20 апреля
По поводу истерики девчат было собрание учкома, на которое меня позвали как свидетеля. Тут же были и «милиционеры». «Милиция» введена в школе уже с месяц — для того, чтобы снять с учкома административные обязанности. «Милиционеров» полагается двое, они бродят по всей школе — аккурат как французские полицейские в кино: вид, по крайней мере, такой же дурацкий. Я рассказал, как было дело, и ушел. Они, кажется, так ничего и не решили.
На текстильную фабрику, к ячейке которой мы приписаны, мы несколько раз ходили в экскурсию. В остальном ячейка и наша фракция комсомола почти никак не влияют на школьную жизнь, и это, по-моему, плохо.
22 апреля
В аудитории произошла страшная драка, и Володьке Шмерцу разбили в кровь всю физику; Володьку так часто бьют, что мы его прозвали Два Небитых; и конечно, «милиционеры» ничего не могли поделать с ребятами, так что пришлось звать дежурного шкраба.
На общем собрании разбирался новый проект самоуправления. По этому проекту предполагается, что учкомы будут избираться на три месяца, а не на месяц, как прежде, и это для того, чтобы учкомы больше могли войти в курс дела, а то не успеет привыкнуть — и сейчас же сменяется. Сережка Блинов привел, что, во-первых, чем дольше учком, тем больше он заедается властью, а во-вторых — все равно: на сколько ни избирай учком, подчиненный шкрабам, хотя бы на год, все равно толку не будет, потому что такой учком никогда не будет пользоваться никаким авторитетом. На это Зин-Пална сказала:
— Я вижу, что Блинов опять принимается за старое. Неужели он хочет, чтобы школа опять разделилась на две партии, и это перед самым окончанием занятий и в наиболее ответственный момент сдачи общих зачетов? Я думаю, что это просто на него действует весна.
Сережка ответил на это, что весна тут ни при чем и что он просто хотел выразить свое мнение. Но так как все страшно нервничали — разозлился и Сережка и повысил голос. На это внезапно Алмакфиш закричал, что Блинову давно место не в школе, а в вузе, и произошел скандал. Зин-Пална своей властью закрыла собрание.
Сережка обещал после этого в коридоре, что он всем шкрабам
504
покажет, и покажет из принципа, что он — революционер прежде всего, потом — школьник и все остальное.
23 апреля
Вышел «Икс» с такой статейкой:
РЕПКА
Посадила Зава репку, сорта «Самоуправление». Выросла боль- шая-преболыиая. Ухватилась Зава за репку — тянет-потянет, вытянуть не может.
Позвала Зава на помощь Учкома. Учком за Заву, Зава за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут.
Подумал Учком и позвал Хозкома. Хозком за Учкома, Учком за Заву, Зава за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвали Санкома. Санком за Хозкома, Хозком за Учкома, учком за Заву, Зава за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвал Санком Шкрабиловку. Шкрабиловка за Санкома, Санком за Хозкома, Хозком за Учкома, Учком за Заву, Зава за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут.
Не выдержала Шкрабиловка, заорала благим матом:
— Ми-ли-ци-о-нер!
А Милиционер — тут как тут, исправный. Милиционер за Шкрабиловку, Шкрабиловка за Санкома, Санком за Хозкома, Хозком за Учкома, Учком за Заву, Зава за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут.
Милиционер позвал на помощь Трехмесячный проект. Проект за Милиционера, Милиционер за Шкрабиловку, Шкрабиловка за Санкома, Санком за Хозкома, Хозком за Учкома, Учком за Заву, Зава за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут.
Стоят, обливаются потом, а репка все в земле торчит.
— Черт их знает, когда они вытащат репку? — спросил кто-то из зрителей.
По мнению «Икса» — никогда.
Сейчас же около стены, где висел «Икс», образовался митинг, Сережка Блинов держал горячую речь, и все согласились с ним, что, конечно, на кой такое самоуправление, которое ничего сделать не может. И что, в общем, лучше совсем отказаться от самоуправления. Но тут же постановили отложить дело до окончания зачетов, а пока — молчать.
Потом еще Сережка говорил, что так как наши шкрабы не соответствуют своему назначению, то их нужно сменить, и что только
505
тогда школа вступит на революционный путь, будет всем нам легче жить и учиться. Многие с этим не согласны. Я, например, на опыте убедился, что Зин-Пална и Никпетож вполне соответствуют своему назначению. Конечно, против Елникитки и отчасти Алмакфиша я кое-что имею, но все же и они приносят иногда пользу. Но Сережка говорит, что если против всех предпринимать, так уж против всех.
После этого мы с Никпетожем долго ходили по гимнастической и рассуждали. Никпетож сам меня позвал. Между прочим, он меня спросил, почему я больше не дружу с Сильвой. Я объяснил ему, что это после истории с Линой. Сильва меня в чем-то подозревает, а я виноват только в том, что ходил на капустники. Потом, она говорит, что у меня не комсомольская идеология.
— Да, хорошая девочка — Сильфида Дубинина,— говорит Никпетож и вздохнул.
— Хорошая-то она хорошая, только злючка,— ответил я.— А по-вашему, в чем ее хорошесть?
— Она строго относится к себе и другим, но зато если уж привяжется, так вся без остатка... А как, по-вашему, Рябцев, счастливый я человек или нет? — ни с того ни с сего спросил Никпетож.
— Конечно, счастливый.
— Плохая же у вас наблюдательность, Рябцев.
— Да видите, Николай Петрович,— сказал я.— По-моему, тот человек несчастливый, который совершенно одинок и которому, чтобы забыть о своем одиночестве, приходится пускаться в общественную работу. Потом, тот несчастлив, которому посоветоваться не с кем.
— А вы счастливы, Рябцев?
— Меня не поймаешь на пушку, Николай Петрович,— ответил я.
Мы оба засмеялись — и разошлись.
А в чем же он может быть несчастливый, если все его любят, уважают и ценят? Один только Сережка Блинов против него. Ну да Сережка ведь против всех шкрабов.
26 апреля
Я пришел в СПОН, когда там секретаря не было, и от нечего делать стал перелистывать бумаги на столе и вдруг вижу длинную бумагу, написанную неграмотным почерком, и тут же с нее копия на машинке. Я ее быстро прочел, она меня поразила, но посоветоваться было не с кем, и я решил ее списать. Конечно, я страшно торопился, потому что боялся, что войдет секретарь, но все-таки успел сунуть копию в карман.
Как вдруг вошла секретарь, и я едва успел сунуть бумагу обратно в папку, но папка осталась открытой. Секретарь на меня подозрительно посмотрела и спрашивает:
— Что это вы тут делали без меня?
— Ничего, вас дожидался.
506
— А папка почему раскрыта?
Так, перелистывал.
— Я бы вас просила не лазать в папки с секретными делами.
— А чего же вы их по столу разбрасываете, если они секретные?
Секретарь страшно обиделась и говорит:
— Вы, товарищ Рябцев, проявляете себя на работе совсем не так, как надо. Да и вообще...,
— Да и вообще,— ответил я,— мне здесь делать нечего. Вам говорят, что надо работать с беспризорными, а вы только смеетесь.
Нагрубил ей и ушел.
Дома я еще раз перечел эту копию. Самое удивительное для меня то, что взрослые мужчины тоже, оказывается, мучаются в половом отношении и что за это наказывают. Завтра же посоветуюсь с Никпетожем, а то очень мучительно читать такие бумаги и не знать, что в них правда, что нет, а в книгах ничего про это не написано.
28 апреля
Сегодня были зачеты по математике и в четвертой группе. Стаська Велепольская засыпалась, вышла из лаборатории, остановилась и захохотала. А тут толпились другие девчата, которым сдавать. Сначала они Стаську унимали, поили водой, а потом и сами. Начался всеобщий хохот и рыдания. Стаська упала на пол и стала биться, за ней другие, и что дальше, то больше. Сбежались шкрабы. Когда девчат уняли, я слышал, как Зин-Пална сказала Алмакфишу:
— Массовая истерия, надо принять меры.
Продолжалась эта истерия чуть не четверть часа.
После этого я показал свистнутую в СПОНе копию Никпетожу и попросил его объяснить все в подробности. Никпетож очень смутился и сначала посоветовал уничтожить бумагу и заняться зачетами, но потом, когда я стал настаивать, объяснил, что все это — половая извращенность и что это бывает, но что с этим борется Советская власть: то есть организует физкультуру, лекции, поднимает просвещение народа и прочее. Все это меня не очень удовлетворило.
Это в первый раз я видел, что Никпетож смутился.
30 апреля
После зачета по физике еще был случай массовой, общей истерики нескольких девчат — вчера. А сегодня в «Иксе» появилась такая заметка:
ИСТЕРИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Сообщаем читателям, что у нас в школе открылось новое учебное заведение — истерический институт. (Да не подумает читатель, что
507
речь идет об историческом институте.) Окончившие его получают беспересадочный билет в кисейные барышни. Из наук проходятся: балы, танцы, флирт и истерики всевозможных сортов, начиная с мышиного писка и кончая громовым хохотом. В этом заведении наиболее успешно проходят курс следующие девчата: Н. Ф., С. В., Л. Д. и К. Р.
Со своей стороны «Икс» предлагает для облегчения работы названного института следующие мероприятия:
1) поставить в аудитории сорокаведерный бак с валерьянкой;
2) в гимнастической водрузить железного истукана с надписью: «Изваяние скорби», дабы все желающие могли, не отвлекая подруг от занятий, изливаться на груди у сего истукана. Железным истукан должен быть для того, чтобы слезы его не размыли.
«Икс» надеется, что эти мероприятия сильно урегулируют работу истерического института.
Около «Икса» было много хохота, девчата страшно взбеленились и сорвали «Икс» со стены перед самым носом у Зин-Палны, которая только что начала его читать. Зин-Пална топнула ногой и закричала:
— Кто осмелился нарушить свободу слова в школе, тот больше не будет иметь никакого дела со мной. Немедленно повесить газету обратно.
Девчата сейчас же притащили откуда-то кнопок и приклеили «Икс» обратно. А мы в углу хохотали так, что животам стало больно.
После этого я совершенно случайно узнал новость: недалеко от аудитории поднял скомканную записку и прочел. В записке рукой Зин-Палны была написана эта самая заметка про «истерический институт», а на оборотной стороне ее же рукой — в редакцию «Икса». Вот так штука! Значит, наша Зинаидища участвует в «Иксе»?
И значит, она знает, из кого состоит редакция! А я и до сих пор не знаю. По-моему, это даже свинство по отношению ко мне.
И вообще вышло как-то так, что у меня образовались дела, которые я знаю один. И чем дальше, тем таких дел больше, а посоветоваться решительно не с кем: с Сильвой не разговариваю, от Сережки Блинова отдалился, Никпетож — взрослый и меня не поймет, а больше — с кем же?
Остались одни зачеты да вот этот дневник. И теперь этот дневник — словно близкий друг, с которым я говорю решительно все.
10 мая
Ура! Большую часть зачетов сдал. Никпетож меня поздравлял и говорит, что я могу теперь себя считать членом четвертой группы.
508
Большинство нашей группы тоже сдало все зачеты, в том числе Черная Зоя и Сильва. Юшка Громов задержался: обществоведение и математика у него с января еще застряли, но он говорит, что это — начхать на ветер и что ему все равно, где быть — в третьей или четвертой группе: все равно он школу кончать не будет, а поступит в кавалерийское училище; ему нравится, что конармейцы ходят в красных штанах. А по-моему, это — буза, потому что все равно, в каких бы штанах ни ходить, хотя бы совсем без штанов, а в одних трусах.
Показал я Юшке бумагу из СПОНа, а он говорит, что ничего удивительного нет, и что все мужчины такими вещами занимаются, и что это начхать на ветер. Если бы он имел в своей жизни такое же отношение к половому вопросу, как я, то, конечно бы, он не так рассуждал.
15 мая
Сегодня Зин-Пална объявила, что в летней школе будут участвовать только те из ребят, которые на лето останутся в городе, а если кому есть куда уезжать, то пусть уезжают. Затем она объяснила, что сама будет руководить летней школой и откажется от отпуска. Занятия будут состоять: 1) из обследования какой-нибудь деревни недалеко от города и взятия над ней шефства; 2) из участия в раскопках древностей вместе с сотрудниками музея краеведения:
3) экскурсий по естествоведению; 4) экскурсий по обществоведению, которые будут проводиться по разным музеям и старинным имениям. Шкрабы будут руководить — каждый по своей специальности.
Летняя школа начинается с 1 июня, когда окончательно выяснится вопрос об абитуриентах и переводах в следующие группы.
20 мая
Я разбил себе в футбол все ботинки и, чтобы папаньку не вводить в расход, каждый вечер зашиваю их нитками и дратвой. Сапожник говорит, что все равно новые придется покупать. Из-за ботинок писать совсем некогда.
31 мая
У Юшки Громова есть сестра Мария. Она уже взрослая, но все лезет к нам, мальчишкам. От нее воняет духами, как из бочки. Нос у нее совершенно белый. Юшка говорит, что это она пудрится, а на самом деле у нее нос синий. Я это проверю. Отец у них — кошачий живодер. Он где-то покупает кошек, потом сдирает с них шкуры
509
и продает за белок. Мой папанька его тоже знает, только говорит, что кошка — мех непрактичный: лезет.
Эта Мария меня все жалеет, называет «сироткой» и поит чаем с вареньем, так что Юшка даже стал звать меня казанской сиротой. Мне немножко обидно, но словно как бы приятно.
Комсомол кончает на лето клубную работу; я хотя в клуб на фабрику ходил и редко, а все-таки вроде как жаль чего-то. Кроме того, Сережка Блинов уезжает на лето в Тамбовскую губернию, а Черная Зоя к своим родным в Ленинград.
Мне иногда кажется, что я хожу один по совершенно голой земле и никого решительно кругом нету, и жалко очень себя.
ЛЕТНИЙ ТРИМЕСТР
Общая тетрадь
3 июня
Сегодня Зин-Пална объясняла задания по летней школе, которые будут с ее стороны. Это прежде всего со всех точек зрения, или, как она говорит, путем комплекса, обследовать деревню Головкино, которая от города в пяти верстах. С крестьянами надо завязать связь, не задирать перед ними носов, что мы городские, исследовать их быт, попутно давать им разъяснения по всем интересующим их вопросам, измерить деревню вдоль и поперек и вообще служить соединительным звеном между городом и ими. Это — первое.
Второе — наблюсти и записать крестьянские песни, сказки, предания и поверья (попутно зарисовать крестьянские костюмы, но это уже скорей относится к быту); для примера, какой бывает народный эпос, Зин-Пална прочла нам отрывки из финской народной поэмы «Калевала». Это был такой собиратель народных преданий, Рунеберг, который пешком исходил всю Финляндию и насобирал разных сказок, а ихний поэт Ленрот составил из этого поэму. И все же это было не триста лет назад, как при Шекспире, а в прошлом столетии,
510
значит, лет сто, не больше. Может, про все эти штуки Рунебергу и нужно было знать, а нам вот зачем — не понимаю. Неужели кого-нибудь могут интересовать такие предрассудки, как лешие и черти? Я так думаю, что и сами крестьяне не очень-то верят во всю эту бузу. И потом, сравнить-то, пожалуй, не придется: например, у финнов были великаны. Втроем они объединились, чтобы добыть сокровище Сампо, и из-за этого сокровища вступали в бой с разной нечистой силой. Ну как их сравнишь с бабой-ягой, да еще верхом на помеле! Да и вообще, все наши ведьмы и черти — страшные, а вовсе не светлые личности. Потом, у финнов есть еще, что лягушек убивать нельзя, потому что они прежде были людьми, или пауку нужно приносить в жертву выпавшие у человека зубы. По-моему — народное невежество, и нечего все это записывать. Скорей нужно проводить электрификацию и кооперацию деревни, и будет социализм. Но Зин-Пална утверждает, что нужно все это записывать хотя бы потому, что все это скоро исчезнет при свете электричества, и тогда уж не докопаешься никаким манером. А по-моему, и докапы- ваться-то никто не станет. Я все это высказал Зин-Палне, а она говорит, что у меня нет любви к родному слову — корню всякой культуры. После этого мне крыть было нечем и пришлось записывать и про Укко-громовика, и про Пейву-солнце, и про Тьеремса с молотом — поразителя всех волшебников (батюшки!).
Кроме того, предстоит еще работа с музеем краеведения по части раскопки всяких курганов. Зин-Пална говорит, что в восьми с половиной верстах от города есть древнее городище, состоящее из нескольких курганов. Там музей краеведения думает, что есть похороненные воины, с оружием, лошадьми и женами. Так их надо раскопать и отправить в музей. Это задание — на ять, особенно насчет оружия. Выкопаем и устроим там же, на кургане, примерный бой. Но, в общем, я думаю, что даже за все лето всех заданий не выполнить, потому что задания-то будут и от других шкрабов.
Никпетож по болезни уехал на два месяца в отпуск. Перед отъездом он все ходил и разговаривал с Сильвой. Мне было страшно обидно, что не со мной.
Теперь окончательно поговорить не с кем.
4 июня
После собрания с Елникиткой насчет естествоведения произошел инцидент, который меня очень взволновал. Когда я выходил из лаборатории, то увидел, что Володька Шмерц стал шлепать по спине Сильву. Сильва сначала отбивалась, а я хотел равнодушно пройти мимо, как вдруг слышу, Сильва кричит очень серьезным голосом:
— Костя Рябцев, заступись за меня!
Я хотел уйти, но в это время Сильва отчаянно закричала:
— Владлен, заступись...
511
Володька Шмерц как закатится хохотом, так что даже драться перестал, и спрашивает:
— Что-что еще за Владлен такой?
Тут я обернулся, выдал ему красноармейский паек, так что он даже с ног полетел, но потом вскочил и бросился на меня. Я поднес ему еще взрыв ручной гранаты, он отскочил к двери, плюнул в моем направлении, показал кулак и ушел.
Тут Сильва говорит:
— Я перед тобой виновата, теперь я все знаю, прости!
Я ответил:
— Ты и раньше все знала, и нечего мне тебя прощать.
— Нет, нет, я только что узнала у Николая Петровича; давай опять дружить, как прежде.
— Прежней дружбы быть не может,— сухо ответил я и ушел. Кажется, она заплакала.
8 июня
Вчера мы в первый раз ходили в Головкино. Крестьяне были на огородах. Они и вообще занимаются больше огородами. На мою долю выпало обследовать быт. Вот я подошел к одной крестьянке, которая сажала рассаду, и говорю:
— Тетенька, позвольте вам помочь!
— А ты кто такой?
— Нас из города экскурсия приехала.
— Ученики, што ли?
— Ученики!
— Тут летысь в Перхушково тоже ученики приезжали, энти какие-то землемерные. Так у тетки Арины сундучок утащили с бельем.
— Мы не жулики.
— А кто вас знает, какеи вы такеи. Ты бы шел, што ль, не мешал.
— А ты, тетка, в чертей веришь?
Тут она встала, очистила руки от земли да как заорет:
— Петра-а-а!.. Петра!
И тут из-за плетня вылезает мужичонка, и в руке у него вилы, и идет прямо к нам. А баба говорит:
— Вот тут какой-то, из учеников, к чаму-то про чертей завел...
Тут я расхрабрился и говорю:
— Да нет, совсем не про чертей, я могу вам про электрификацию рассказать и про радио, а потом помочь могу... в чем-нибудь.
— Ага, смычка, значит,— отвечает мужичонка.— Ну-к што, это ничего, это мы не против, ежели к делу. Только ты, милок, приходил бы в воскресенье: у нас по воскресеньям народ слободней.
Так я с этого двора и пошел ни с чем. Иду задами, везде на
огородах копаются бабы и ребятишки. Как вдруг на меня налетает
512
лохматая собака и начинает мотаться около меня со страшным лаем. Я, как обыкновенно в таких случаях, сделал вид, будто хочу поднять с земли камень, но она не унялась, наоборот, за ней вылетело еще несколько штук, и все на меня. А я еще слыхал, что в случае — собака, нужно на нее помочиться, и она отстанет. А как их было много, я стал изо всей силы вертеться и мочиться во все стороны, стараясь попадать на собак.
— Ето што же теперича — смычка? — спрашивает голос сзади
меня, и вижу — тот же мужичонка с вилами.
Он прогнал собак, а я пошел дальше. Но не успел пройти двух дворов, как собаки опять налетели, и одна из них цапнула меня
за штанину. Тут я обозлился, вырвал из плетня кол и начал отби¬
ваться. Слышу голос:
— Брось палку, брось, тебе говорят,— разорвут.
Я бросил кол, идет какой-то мужик, спрашивает:
— Тебе чего?
— Я вашу деревню обследовать пришел.
— Тут, на задах, неча обследовать,— отвечает мужик,— ходют, обследствуют... Ты чего плетень-то ломаешь, не ты городил — не тебе и ломать.
И вдруг из кустарника высовывается баба и кричит:
— Пошел, пошел, мазепа! Ходют тут, того гляди, как сундучок у тетки Арины, у перхушковской... Ванька!.. Ванька!..— закричала вдруг неистово.— Гусешат-то сосчитай, гусеша-ат...
Насилу я удрал из деревни на большую дорогу. У других ребят вышло тоже в этом роде, а двоих из наших ребят с рулеткой чуть было не поколотили за то, что они хотели произвести обмер.
10 июня
Со мной опять, кажется, начинается то же, что было зимой, но уже не по моей вине. Кроме того, я отношусь теперь к этому сознательнее, чем зимой, ввиду, во-первых, случая с Линой, а во-вторых, потому, что, судя по бумаге, свистнутой мною в СПОНе, за кое-какие вещи бывают наказания. Самое плохое то, что Никпетож уехал в отпуск. Юшке Громову в этих вопросах я верить не могу, больше мне посоветоваться не с кем, потому что я совершенно одинок. Дело вот в чем. Это уже продолжается несколько дней.
Юшкииа сестра Мария затеяла ставить спектакль — «Предложение» Чехова, и в этом спектакле я должен играть роль жениха, а Мария — невесты. Пьеса эта несовременная и довольно бузоватая, про помещиков, но я согласился, потому что вообще хочу попробовать себя как артиста. По роли мне нужно поцеловаться с Марией. На репетиции я ее облапил и поцеловал, а она говорит:
— Фу, всю обслюнявил... Да ты разве не умеешь целоваться?
17 ш кольиыс го :.ы. Выпуск 1
Тут было человек пять, они все захохотали, а Юшка Громов кричит:
— А-а-а!.. Покраснел, покраснел!..
Я обозлился и сказал, что в спектакле не буду участвовать и сейчас же ухожу домой. Тут все меня обступили, стали упрашивать, чтобы я остался, а Юшка отвел меня в угол и говорит:
— Ты что, маленький, что ли, сволочь эдакая? Или все больше в кулачок говоришь? Разве не видишь, что Мария к тебе лезет?
Я сразу и не понял, что он хотел сказать, но тут налетела Мария, пихнула Юшку так, что он отлетел, а сама шепчет:
— Чудак ты какой, Костя! Ведь это не беда, что ты не умеешь, я тебя научу. Хочешь, хочешь? Приходи вечером к нам в сад.
А у них есть маленький садик за домом. Я подумал и остался — все равно время остается достаточно.
А вечером прихожу я к ним в сад. Мария уже там, и на ней платье прозрачное и короткая юбка. Она сейчас же прижалась ко мне и говорит:
— Ну, ты прежде всего не слюнявься, а сожми губы и прижмись губами к моей щеке.
Но я нарочно поцеловал ее не в щеку, а в нос; она шепчет: «Дурак, не сюда»,— а я все-таки успел заметить, что у ней на носу образовалась промоина. Потом она стала учить меня целоваться в губы, но это было не очень приятно, потому что зубы у нее коричневые и от нее, кроме духов, несет табаком. И правда, она так и содит папироску за папироской. Потом она стала заводить меня в темный угол, посадила на какую-то скамейку, а сама села ко мне на колени. Но тут я почувствовал, что пахнет очень сильно какой-то псиной, и я говорю:
— Тьфу, куда это мы сели, здесь запах поганый?
А она меня облапила и шепчет прямо в ухо:
— Это ничего: здесь кошачьи шкурки отцовские развешаны, ты не обращай внимания.
А как тут не обращать внимания, когда словно в помойной яме сидишь или даже еще хуже! Я насилу ее спихнул и ушел, но она не обиделась.
Я с тех пор был у нее еще несколько раз. Все целовались, словно маленькие. Приятного мало.
Но все бы это ничего, если бы после каждого такого случая не было бы ф-ф-п-п! Этим я очень мучаюсь, и особенно когда вспоминаю про бумагу из СПОНа.
15 июня
Ллсшка Чикин живет теперь у Зин-Палны и совершенно изменился. Конечно, пока он якшался с беспризорниками, он сильно
515
отстал, и ему придется оставаться на второй год в третьей группе, он худой, бледный и все молчит.
Зин-Пална выхлопотала его матери какое-то пособие из комхоза, старуха приходила благодарить и хотела кланяться Зин-Палне в ноги, чем Зин-Пална была страшно возмущена. С Алешкой я пытался несколько раз заговорить, но он больше бурчит себе под нос, чем говорит.
20 июня
Третьего дня мы ездили в экскурсию с Елникиткой. В общем, экскурсия была по естественной, но вышло так, что пришлось коснуться и обществоведения, а по обществоведению Елникитка ничего не понимает, а из этого вышел инцидент.
Поехала нас почти вся третья группа (теперь четвертая) и еще кое-кто из второй. Тут по дороге были всякие любовные дела: например, Володька Шмерц всю дорогу простоял с Нинкой Фрадкиной на площадке вагона. Ребята нарочно ходили мимо, будто в уборную; как один выйдет — сейчас же другой. Володька, конечно, злился, да ему и поделом: шьется со всеми девчатами подряд и любезничает, словно Гарри Ллойд. Нинка на нас фыркала, а нам только этого и надо было. Потом Елникитка говорит, чтобы мы пели, потому что в экскурсиях всегда поют. Мы спросили, что петь, она говорит:
— «Слети к нам, тихий вечер...»
Мы и затянули, да еще такую дурацкую песню. Пришел кондуктор, подозрительно посмотрел, да и говорит:
— А я думал, что это тормоз лопнул.
Вообще было весело ехать.
Потом, когда приехали в Солнечное, Елникитка сейчас же отправилась объяснять девчатам естественную историю, а ребята пошли играть в футбол. Так продолжалось до тех пор, пока ребята не поймали ужа. Все знают, что уж не кусается, но все-таки вышел инцидент. Притащили ужака Елникитке и спрашивают (для смеху):
— Елена Никитишна, это какая змея?
— А это,— говорит Елникитка,— это ужик, родственник африканского удава.
— А он кусается?
— Нет, его жало — безвредное.
Тогда Юшка Громов, у которого ужак был в руках, подходит к Елникитке и говорит:
— Елена Никитишна, подержите его в руках.
— Это зачем?
— А чтобы доказать, что он не кусается.
И сует ей ужака в руки, а ужак извивается, как на вилах.
Елникитка как закричит, а за ней и все девчата.
— Бросьте его сейчас же! — кричит Елникитка.— Не смейте под¬
ходить ко мне с ним!
516
Юшка бросил, да только не на землю, а на Нинку Фрадкину. Та как завертит головой, как завизжит, а мы все дралка. Елникитка обещала вынести нас на общее собрание. Пусть выносит. Она каждый день что-нибудь выносит, так что ее уже и слушать-то перестали. При ней нельзя ничего веселого или смешного, а девчата делают при ней постные рожи, словно к ним не приступись.
Потом мы пришли в имение. В имении этом — совхоз, но это в скотном дворе, а главный дом и флигеля сохранены под показательный музей, и сюда ездят разные экскурсии, чтобы посмотреть, как жили раньше баре, помещики и буржуи. Конечно, захотелось посмотреть и нам. А Елникитка говорит:
— Раз цель экскурсии — естественная история, то и нечего отвлекаться. Поэтому пойдемте на скотный двор. Я там объясню вам все интересное.
А что может быть интересного в разных там быках и коровах? Если бы мы их сами разводили, то еще так. Поэтому ребята говорят:
— Не пойдем.
Спорили мы, спорили, а тут из стеклянных дверей выходит какой-то в коричневом френче, не очень старый а так, темноватый, и говорит:
— Между прочим, не желаете ли осмотреть дворец?
Елникитка спрашивает:
— А вы что, заведующий?
— ‘ Да,— говорит френч,— я тут главный.
А голос у него хриплый, как испорченный граммофон, и в горле все время вода булькает.
— Так что вы все нам объясните? — спрашивает Елникитка.
— Все до тютельки,— отвечает заведующий, и сам покачнулся.
— Ну, в таком случае пойдемте, ребята,— говорит Елникитка недовольным голосом. Это, значит, она боялась, что не сумеет объяснить, и поэтому не шла.
Вот заведующий нас повел по всем комнатам.
— Здесь,— говорит,— помещик, его превосходительство господин Урусов, обедали, а здесь его превосходительство чай пили. А здесь его превосходительство отдыхали. А здесь...
Тут даже Елникитка не выдержала.
— Какое такое превосходительство? — говорит.— Тут перед вами советские дети. (Это мы-то — дети!) И они не знают разных этих наименований. Вы попроще, гражданин заведующий.
— Могим,— говорит заведующий, а сам икнул.— А только это такое распоряжение было, чтобы выдерживать ко-ро-ло-рит. Вот, извольте видеть, здесь расписаны стены под фон. А ангелы, которые летают, это есть амуры. А это стол из ферфойского стекла. Пальцами просят не трогать, а то некоторые трогают пальцами, и получается пыль.— И в это время как икнет! — Тьфу, чтой-то меня ик одолел,— говорит.— Должно быть, я много луку наелся. Сейчас приду, а вы тут погодите.
517
И ушел.
— Какой странный заведующий,— говорит Елникитка.
— Вы лучше сами нам объясните, Елена Никитишна,— говорю я.
— Если вы, Рябцев, постоянно лезете не в свое дело,— отвечает Елникитка,— это еще не есть, что и я должна так делать.
Вот пришел заведующий, начал объяснять, и я заметил, что от него уже не луком пахло, а чем-то такое другим...
—- Что такое на потолке? — спрашивают ребята.
— На потолке,— объясняет заведующий,— есть богиня Венира, а вокруг нее на колеснице ездит пастух Вулкан, а почему пастух, это что в руке у него кнут. А живопись эта — знаменитого африканского художника.
— А как художника звали? — спрашивают ребята.
— Забыл,— отвечает заведующий.— Всего не упомнишь.
— Ик,— раздалось в это время сзади. (Это Юшка Громов икнул).
Тогда заведующий сел в какое-то красное кресло, закрыл глаза и говорит:
— Дети мои, дети и вы, преподавательница красной педагогии! У меня, извините, цепочка в глазах рассыпалась.
— Какая такая цепочка? — спрашивает Елникитка.
— Бррыльянтовая,— отвечает заведующий.— Но это ничего, я сейчас встану. Это мне вредно много луку есть.
И верно: встал, пошел дальше. Приходим в громадный зал, с хорами; посредине висит большущая люстра в чехле; а окна — чуть не с целую футбольную площадку.
— А здесь,— говорит заведующий,— его превосходительство господин Урусов зарезались...
— Почему же он зарезался? — поинтересовались ребята.
— Привидение видел.
— Какое привидение?
— Белую мадаму,— говорит страшным голосом заведующий.— И была эта белая мадама такая деликатная, такая, сказать, мужественная, что господин Урусов не выдержали.
— Ой! — говорит тихим голосом одна из девчат.
— Гражданин заведующий,— говорит тут Елникитка,— надеюсь, что вы настолько сами понимаете, что это предрассудок, что сейчас же разъясните детям всю нелепость подобных привидений.
— Ик! — отвечает заведующий.— Одолел меня лук, да и только. А я виноват, что нам велено все объяснять, как было? Я при этом не был, сам не видал, с меня и взять нечего. А впрочем, простите меня, у меня деревня в глазах сгорела.
И прислонился к стене.
— Какая такая деревня? — спрашивает Елникитка, и видно, что она сердится.
— Епузиха,— отвечает заведующий,— а вы, гражданка, ежели вам мои объяснения не нравятся, то можете объяснить сами.
518
— Верно, верно, вы объясняйте, Елена Никитишна,— закричала часть ребят — из озорства, разумеется.
— Нет, пускай заведующий объясняет,— кричали другие.
— На голосование,— крикнул я.— Кто за Елену Никитишну — прошу поднять руки.
Подняло большинство. Уж и обозлилась же Елникитка!
— Я,— говорит,— ничего объяснять не стану, и вообще это безобразие, и мы сейчас отсюда уйдем.
— Зачем уходить? — говорит заведующий.— Мне с вами веселей. А то еще приезжайте к покрову, так моя баба пирогов напекет с-с-с... мясом.
Елникитка, однако, рассвирепела и потребовала сейчас же уходить на станцию. Только что подошли мы к дверям, как хлынул колоссальный дождь, а до станции — три версты.
— Что ж, подождем,— говорит Елникитка.
Я выглянул из двери и увидел, что все небо кругом обложило. А заведующий стоит сзади и говорит:
— Чего же вам уезжать, все промокнете, живого места не останется. Лучше оставайтесь-ка ночевать. Нагребем сена в комнаты, а кто желающий — лезь на сеновал. Молока сейчас из совхоза достану, сколько тебе хочешь.
— А хлеба можно достать? — нерешительно спрашивает Елникитка.
— Хошь десять пудов,— отвечает заведующий.— Я, уважаемая преподавательница, ежели захочу, так могу полный пир устроить. Не желаете ли?
И щелкнул себя по горлу.
— Я не понимаю, что вы такое говорите,— злым голосом отвечает Елникитка.— Но ввиду того, что дождь и ребята могут простудиться, то делать нечего. Придется остаться ночевать здесь. Потрудитесь показать ребятам, где взять сена для ночлега, потому что на сеновале ночевать я не позволю. И кроме того, давайте молоко и хлеб. Мы заплатим.
Мы было пристали к ней, чтобы нам ночевать на сеновале, но она заявила, что не позволит, потому что мало ли что мы можем наделать, и что если мы уйдем на сеновал, то она сейчас же уезжает и оставляет нас одних. Хотя мы и не боялись нисколько, но пришлось подчиниться, потому что мог выйти скандал со школьным советом. Из этого вышло хуже только для Елникитки.
Пока заведующий ходил за молоком и хлебом, Елникитка нам говорит:
— Заведующий этот очень странный, и я вижу, что у него мозги набекрень. Поэтому я очень вас прошу не вступать с ним ни в какие разговоры и сношения. Вы, конечно, сейчас же рады установить с ним товарищество, но я этого не позволю, так и знайте.
Что она нам может позволить и не позволить? Если бы она этого
519
не сказала, может, ничего бы и не было. А теперь мы решили ее и девчат напугать.
Дождь все еще не проходил, так что по саду побегать было нельзя, и мы играли в зале в салки. Скоро стемнело, и так как огня не было, то поневоле пришлось укладываться. Девчата с Елникиткой легли в одной комнате, а мы — в другой. Ну, конечно, пошли тут всякие разговоры и возня, так что Елникитка несколько раз нам кричала. Когда все более или менее затихли, Юшка Громов шепчет мне:
— Пора.
А мы еще с вечера припасли с ним ту простыню, в которую была завернута провизия, что мы из города привезли на экскурсию. Юшка напялил на себя эту простыню, и мы, чтобы слышно не было, прокрались в зал окончательно сговориться и прорепетировать. Только что мы входим в зал — вдруг видим: в конце зала чуть заметный огонек блестит. Мне даже не но себе стало от неожиданности. Юшка так и схватил меня за руку.
— Стой, Костя, что там такое?
— Это, наверное, заведующий.
— А я даже испугался. Пойдем посмотрим, что он там делает.
Подкрались мы к огоньку и тут заметили, что он идет из маленькой двери под хорами, которой мы раньше не заметили. Было
сначала очень жутко. Дверь была чуть раскрыта, так что можно было заглянуть в нее. Я и заглянул. Вижу: стоит примус, а на нем — чайник, к носику чайника приделана длинная трубка, потом стоит таз, а под тазом — бутылка. Примус горит, а рядом сидит заведующий — и спит.
— Это он гонит,— шепчет мне Юшка.— Я знаю, у меня тетка гак гонит. Смотри, смотри, уже полбутылки накапало.
Я двинулся вперед, чтобы лучше рассмотреть, в это время дверь скрипнула, заведующий вздрогнул и открыл глаза. Выругался по-ма- терно, наклонился к бутылке, чего-то подправил в тазу и опять сел.
— Я сейчас захохочу,— говорит Юшка.— Сил нет терпеть.
А меня самого смех разбирает, я даже нос зажал. Вдруг Юшка ка-ак фыркнет. Заведующий вскочил — и прямо к двери. Мы прижались к стене, а заведующий распахнул дверь и смотрит в зал.
— Опять она ходит, подглядывает,— бормочет заведующий себе под нос.— Ну, хорошо, я ее подстерегу, все косы отмотаю.
Мне стало не по себе: кого это он грозится подстеречь? А Юшка меня кулаком в бок толкает. Мне не до смеху. Заведующий повернулся в комнату, нагнулся, взял бутылку, только что хотел из нее хлебнуть, как Юшка прыснул, да так здорово, что даже по залу отдалось.
— Ктой-то? — заорал заведующий и выскочил в зал. Взглянул в нашу сторону да как заорет. Да бегом — туда, где наши спали.
Юшка моментально скинул с себя простыню, и мы с ним — винта на хоры. Засели там за перилами и смотрим. А в тех комнатах, где
520
наши, поднялся крик. И громче всех орет Елникитка. Вот, смотрим, выбегает в зал заведующий (а дождь в это время перестал, и луна показалась, так что было видно), а за ним — ребята. Сзади всех — Елникитка, завернутая в пальто.
— Вот там, там,— показывает в нашу сторону, под хоры, заведующий.— Там она и стояла. Высокая, длинная, чуть не до потолка.
— Да кто она-то? — спрашивают ребята.
— Белая мадама.
— Да вы хорошо видели-то? — спрашивает Володька Шмерц (я по голосу узнал).— Может быть, со сна показалось?
— Показа-алось! Как тебя, видел! — отвечает заведующий.— Только ее там нету: по другим комнатам бродит.
— Нету, так надо идти спать,— говорит заспанным голосом Елникитка.— И вы, если вам еще покажется, зовите сторожа, а нас не трогайте, а то вы мне всех ребят перепугаете.
— В-виноват, преподавательница,— отвечает заведующий.— Ежели вам примстится такое, так отца родного разбудишь, а не то что...
После этого ребята и Елникитка ушли, а заведующий вынес лампенку, обшарил все углы и опять пошел к себе под хоры.
Мы просидели с Юшкой на хорах минут десять и начали потихоньку спускаться в зал. Не прошли мы пол-лестницы, как видим, что из другой двери (которая была тоже под хорами, только правей) выдвигается какая-то тень. Я чуть не вскрикнул, а Юшка схватил меня за руку.
— Ктой-то еще? — шепчет, и по голосу слышно, что струсил.
А тень крадется по стене, дошла до середины и повернула нам навстречу, прямо под хоры. У меня даже сердце остановилось — так она неслышно шла. Но она пошла не по лестнице, а двинулась в ту комнату, где сидел заведующий. Мы замерли: что будет? И вдруг послышался грохот, рев, какой-то удар, и тень вылетела обратно.
— Ты что же это, пьяница ты несчастная,— орала тень на весь дом,— вон теперь куда забрался гнать! Да еще дерется! Будь покоен, все-о заведующему расскажу, дай только приехать! И это что же, люди добрые, забрался в чулан, гонит — и пьет! Гонит и пье-оот...
— Да замолчи ты, чертова кукла! — хрипел заведующий, сгрибчив тень за шиворот.— Не понимаешь, што ль, здесь экскурсия ночует... Всех перебудишь, а мне отвечать придется... А то все косы отмотаю, вот те крест, отмотаю.
В это время мы с Юшкой скатились с лестницы и бросились бежать к себе в комнату. Тень сразу замолчала.
— Вот видишь,— сказал нам вслед заведующий,— ребята, дол ж но, в уборную ходили, все слышали. Подводишь ты меня, лахудра несчастная.
А мы с Юшкой, забившись в сено, хохотали до слез и до истерики, так что Елникитка отворила дверь из девчонской комнаты и торжественно сказала:
— Конечно, это Рябцев. Но не беспокойтесь, Рябцев, даром вам
521
это не пройдет. Это возмутительное безобразие. Я даже не нахожу слов.
— Я и не беспокоюсь,— ответил я, и мне сразу стало скучно, а не смешно.
Утром нас разбудил какой-то дядя в синих очках, спросил нас, как мы спали. Он оказался настоящим заведующим и только что приехал из города. А тот был просто сторож, поэтому он так смешно и объяснял. А потом настоящий заведующий сказал нам, что сторож служил еще при помещике Урусове и что, должно быть, его придется прогнать. И это уже не в первый раз, что он выдает себя за заведующего.
На обратной дороге мы много хохотали над Елникиткой, что она пьяного сторожа приняла за заведующего и с серьезным видом слушала его объяснения. Уж знает свою естественную историю, так и не суйся в обществоведение.
6 июля
Несмотря на то что Зин-Пална ходит все время расстроенная и бледная — больна она, что ли? — вчера опять была экскурсия в Головкино. Она могла бы кончиться очень печально, если бы не хладнокровие Зин-Палны. Я нарочно сходил в нашу фабричную ячейку и, хотя не застал секретаря, все-таки запасся мандатом от имени ячейки на имя головкинского комсомола с просьбой об оказании мне содействия в обследовании крестьянского быта.
Было воскресенье, и поэтому в деревне было гулянье. Многие мужики уже с утра были пьяные, а комсомольцы, как на грех, ушли на какое-то собрание в рик, а это — верст двадцать пять. И вот что из этого вышло.
Зин-Пална разыскала председателя и просила его содействия. Он сам не пошел, а послал своего сына, парнишку лет пятнадцати. Мы начали обмер, пустили в ход рулетку, нас обступили со всех сторон бабы, девки, парни, ребятишки и глазеют. Я решил воспользоваться случаем и, пока остальные ребята возились с рулеткой, начал обследовать быт. Для этого я подошел к девчатам и вступил с ними в разговор. Они хихикали и прятались одна за другую, а я все приставал к ним, чтобы они спели какую-нибудь песню. Они говорят, что не знают.
— А кто из вас лешего видел? — спрашиваю я.
— Да вот он, леший, стоит,— отвечает одна и показывает пальцем на меня.
Вдруг ко мне подходит один из парней и говорит:
— Ты к нашим девкам не лезь, ты за этим, што ли, сюда пришел?
Тогда я вынимаю мандат и ему показываю. Он посмотрел и говорит:
522
— Это не про нас писано. Раз ты сукомол, то и иди к сукомолу, а к девкам приставать нечего.
Я было вступил с ним в спор, но вижу, что они меня оттерли, а среди наших какое-то волнение.
Обмер шел по задам мимо огородов, и ихние, деревенские, ребятишки, которые толкались около рулетки, забрались в чей-то огород, нарвали стручков, а сказали на наших. Какая-то тетка выскочила, начала кричать. И лезет прямо с кулаками на Зин-Палну и кричит ей:
— Раз ты учительша, должна за ими смотреть.
Зин-Пална спокойно отвечает:
— Я не отвечаю за ваших, деревенских, детей, а мои тут все при мне были.
— Да что я не видела, што ль! Вон тот вон самый стручки рвал.
И показывает на меня.
— Что ты врешь-то, тетка! — закричал я, обозлившись.— Когда ж я у тебя стручки рвал?
— Он тут и к девкам приставал,— загорланили парни.
Тут Зин-Пална как гаркнет громовым басом, что я даже и не ожидал от нее такого:
— Как же вы смели, Рябцев, приставать к девушкам?
Весь галдеж сразу утих, а я молча вынул мандат и подаю Зин-Палне.
— Ну и что же? — спрашивает Зин-Пална.
— А то, что, раз я обследую быт, имею я право просить петь песни или не имею?
Тут подходит здоровенный мужик, который все молчал и смотрел, и говорит:
— Уходите вы от греха подальше, тут вам делать нечего.
А девки издали кричат:
— Оченно просим — от ворот поворот!
Какой-то еще пьяный мужичонка ввязался:
— Я их знаю, они насчет налога, зе-мле-ме-ры, грети их душу мать совсем!
— Гони их в шею, а не то за дреколья возьмемся! — закричали со всех сторон.
А баба, у которой тырили стручки, подскакивает к Зин-Палне и хвать ее за рукав. А тут, откуда ни возьмись, Алешка Чикин. Схватил бабу за руку и мотнул ее в сторону.
— Да что ж это, православные, руками хватают! — заорала баба, а какой-то длинный парень схватил Алешку за плечо.
— Стойте! — опять таким же голосом гаркнула Зин-Пална, и ее единственный желтый зуб блеснул, как клык.— Дайте слово сказать.
И опять все замолчали.
— Вот вы ничего толком не спросите,— говорит Зин-Пална учительским голосом,— а лезете в драку. Мы желаем вам добра. Хотим
523
быть вашими городскими шефами, а для этого нам надо составить плант. (Так и сказала: плант).
— А что с того будет? — спрашивают тихо сзади.
— А будет то,— отвечает Зин-Пална,— что у вас будет заручка в городе — раз. Вы будете знать, куда обратиться,— два. Мы вам всегда поможем — три. Газету вам присылать будем — четыре. Семенную ссуду поможем исхлопотать — пять. Это и есть шефы.
— Что же ты, гражданка, сразу-то не сказала? — спрашивает высокий мужик.
— А вы разве спрашивали? — отвечает Зин-Пална.— А потом, я адресовалась к вашему председателю, а он вон нос воротит, разговаривать не хочет...
— Он у нас тако-о-ой: «Кто я!» — радостно подхватил пьяный.— С им, брат, не очень: «Я Совецкая вла-а-асть».
— Ну так вот,— говорит Зин-Пална.— Сейчас мы уйдем, вы нам все равно работать помешали. Пока до свиданья, приходите к нам в школу, адресок мы оставим. И сами в другой раз придем. Пойдемте, ребята.
— А стручки-то как же? — спрашивает баба.
— Иди-и-и ты к мамаше за пазуху, тетка Афимья,— отвечает пьяный,— нужна ты со своими стручками... Тут, нешь не видишь, уч-ченые, а ты кто? Должна понимать, как и что.
Ребятишки провожали нас далеко в поле и все кричали:
— Шевы!.. Вшевы!
Когда мы пришли в школу, Зин-Пална говорит:
— То, что сказано, ребята, кончено... нужно исполнить.
— Исполним, исполним! — закричали все.
10 июля
Я теперь убедился, что лорд Дальтон был отчасти прав, когда изобретал свой план. Конечно, нужно самому узнать все, а если от других, на рассказ, то выходит совсем не то, что на самом деле.
Вчера был спектакль у Громовых. Ставили «Предложение». После спектакля Громовых отец оставил всех ужинать, и за ужином все пили вино, в том числе и я. После ужина очень долго все сидели, а потом Мария вызвала меня в коридор. Там было страшно темно, я наткнулся на косяк и посадил себе фонарь, но промолчал — должно быть, потому, что голова от вина сильно кружилась. Потом Мария потащила меня за собой в какой-то закоулок или чулан.
Когда все кончилось, я вдруг почувствовал страшный запах какой-то тухлой козлятины, и меня чуть не стошнило.
— Фу, какая гадость! — говорю я Марии.— Чем это здесь так воняет?
— А это здесь отцовские шкурки сложены, ты не обращай внимания,— шепчет в ответ Мария.— Да не ори так громко.
524
Но я больше не мог выдержать и ушел домой. По дороге у меня кружилась голова, и билось сердце, и было очень гадко, и больше всего не хотелось, чтобы об этом узнала Сильва. А впрочем, как она может узнать? С Юшкой она почти совсем не разговаривает и шьется последнее время больше с Володькой Шмерцем. Я даже не понимаю, что она в нем нашла. А главное, что Сильва и не замечает, что Володька со всеми девчатами подряд шьется и она под этот же ряд попалась. А это, должно быть, обидно для женского самолюбия, тем более для Сильвы. Потому что Сильва ведь очень гордая — пожалуй, гордей всех наших девчат.
13 июля
Сегодня я как шеф ходил в Головкино и захватил с собой на всякий случай Ваньку Петухова — он в отпуску. По дороге мы рассуждали опять о половом вопросе. Я рассказал Ваньке про ту бумагу, которую я свистнул в СПОНс, и спросил его мнения на этот счет.
— Конечно,— говорит Ванька,— всякие эти пакости, может, кто и проделывает, но ведь они — наследие старого режима. Сейчас никаких неестественных штук не надо, все можно просто и естественно.
Я ему сказал, что не понимаю даже и слов-то этих как следует (которые на бумаге), но думаю, что «просто» — тоже противно, особенно после.
— Не знаю, значит, ты не привык,— говорит Ванька.— А потом, конечно, важно, с кем связываешься.
— Ну, если, например, вдвое старше тебя?
— Это — пакостные бабы,— говорит Ванька,— и никогда не поймешь, что им надо.
В разговоре и не заметили, как подошли к Головкину. Там, на выгоне, гуляли деревенские девчата (дело было в субботу, под вечер). Они очень чудно танцевали: схватятся одна за другую — и пошла крутить. А кругом парни, кто с гармошкой, а кто и так.
— Можно посмотреть? — спрашивает Ванька.
— А покурить есть? — отвечают парни.
— Как не быть!
Покурили. Парни и говорят:
— Смотрите сколько хотите.
Потом все подошли к нам и смотрят на нас, мне стало вроде как бы совестно.
— А мой товарищ сказки умеет рассказывать,— говорит Ванька.
Я было его локтем в бок, а девчата — на меня:
— Расскажите, товарищ, антиресную сказочку.
— Да я не умею, это он врет.
Ванька так серьезно на меня:
525
— Никогда в жизни не врал.
Тогда я подумал и начал:
— Вот есть на свете страна Финляндия. В этой стране много озер и камней, и потом там водились великаны...
Да и пошел прямо по «Калевале». Смотрю, расселись большинство вокруг меня — и слушают. Конечно, я всякие там имена вроде Вейнемейнена сознательно пропускал, но народные поверья вплел в рассказ — вроде того, что лягушек нельзя бить. И как только я сказал, что по-финляндски выходит, что лягушки были раньше людьми, одна из девчат всплеснула руками и тихо говорит:
— Ой, батюшки! А мы их в мурашину кучу зарываем.
— Это зачем? — спрашиваю я.
— Привораживать косточкой! — кричат парни с хохотом.— Ак- сютка, ты кого хотела приворожить: Степку, что ли?
Потом мы с ними вместе пели и танцевали (хотя я никогда в жизни не танцевал, но с ними весело). А на обратном пути Ванька говорит:
— Если бы захотели, можно было бы остаться и прогулять с ними всю ночь. Тебе какая понравилась?
Но я не захотел об этом разговаривать: у Ваньки уж очень все выходит просто, по-собачьи.
18 июля
Сегодня папанька меня спрашивает:
— Костя, а правда, что ваша заведующая, Зиночка-то, чикинским пособием пользуется?
— Да что ты, охалпел, что ли? — говорю я. И смотрю на него во все глаза.
— А что же тут такого? Мальчишка у нее, значит, и деньги ей.
— Что за бузища, папанька! Никогда в жизни Зин-Пална этого не сделает. Ведь это у старухи у нищей отымать. Да и сколько там денег-то?
— Болтают, двадцать с чем-то.
— Плюнь ты в глаза тому, кто болтает.
20 июля
По предложению музея краеведения мы вчера на рассвете вышли на указанное нам городище, недалеко от деревни Перхушково. Когда мы туда пришли, сотрудники музея были уже на месте и копали. Мы немножко отдохнули после дороги, подзакусили и тоже стали копать. Время шло очень медленно, становилось все жарче и жарче, так что мы даже майки поскидали. Вдруг об Юшкину лопату что-то звякнуло, и он вытащил из земли черный кружок. Старший сотрудник посмотрел и говорит:
526
— Это просто пуговица.
Хотели уже бросить копать на этом кургане, как вдруг стали попадаться кости. Я тоже вытащил кость, и сотрудник определил, что это лошадиная берцовая. Костей набралось порядочная куча, как вдруг подходит человек пять парней и спрашивают:
— А разрешение копать у вас есть?
— Конечно, есть,— отвечают сотрудники.
Показали им разрешение, но крестьяне говорят:
— Мы не можем дозволить, потому что вы копаете клады, а земля псрхушковская окружная. Нет таких ваших прав на нашей земле копать.
Долго спорили и ругались, пока не стали грозить, что соберут все Перхушково и нас прогонят. Тогда один из сотрудников говорит:
— Давайте вместе копать, нас вон семнадцать человек, и все с лопатами, и вам лопаты дадут. Все золото, что найдем,— ваше, а остальное — наше. А не хотите — зовите все Перхушково.
Парни посовещались между собой, да, видно, им не хотелось делиться со всеми. Взялись они за лопаты и принялись копать вместе с нами. Только я заметил, что они копают как-то все больше в сторону, а не там, где мы. Им сотрудники несколько раз говорили, но они — все по-своему. А в нашем месте все кости да кости попадаются.
— Странная вещь,— говорит один из сотрудников,— никогда ни в одном из курганов не обнаруживалось столько костей животных.
Парни копали, в общем, недолго, с полчаса. Потом побросали лопаты и пошли. Один, когда уходил, спрашивает:
— А на что вам кости?
— Кости нас тоже интересуют,— говорят сотрудники.— По костям можно узнать, когда возник этот курган, да и многое можно узнать.
— Дык идите тогда вон на ту луговину,— сказал парень.— Здесь одни лошади закопаны, а там и коровы есть.
— Какие такие лошади? — спрашивают сотрудники.
— А это лет десять назад был скотий мор,— отвечает парень.— Так и здесь зарывали, и на луговине. Только там больше.
527
Так нам и пришлось переходить на другой курган. А там, сколько ни рыли, нашли один царский пятиалтынный.
Сотрудники говорят, что была какая-то ошибка в музейном плане: не те курганы помечены. А по-моему, сначала нужно было у крестьян разузнать, а потом уж копать.
22 июля
Школа начинает оживляться: появляется все больше и больше ребят. •
Между прочим, приехал и Сережка Блинов. У нас с ним вышел крупный разговор.
— Я окончательно решил,— говорит Сережка,— произвести в школе революцию. Всем известно, что наши шкрабы не соответствуют своему назначению. Нужен здоровый и живой дух, а не та мертвечина, которой нас кормят.
— Не знаю,— отвечаю,— думаю, что это будет не по-ленински. Учиться нужно и как можно скорей поступать в вузы.
— А ты, я слышал,— говорит Сережка,— в примерные мальчики записался?
Тут я страшно обозлился, и мы с ним разругались.
А сейчас папанька ко мне опять прилез с Зин-Палной.
— А сапожничиха Чикина по соседям болтает, будто ей не полностью пособие выдают.
— Удерживают, наверное, какие-нибудь проценты,— сказал я.
— Нет,— говорит папанька.— Это быдто бы на содержание идет на Алешкино — вашей заведующей. Так сапожничиха болтает, что она и сама сумеет Алешку одеть, обуть, накормить, ежели ей пособие идти будет полностью.
— Да ведь это — полная буза, папанька! Говорил я тебе и сейчас говорю, что Зинаида Павловна ни копейки не возьмет.
— Так-то оно так, а все же — поди заткни ей рот. Она и до суда грозится довести.
Вот еще дура неотесанная!
25 июля
В школе словно бомба разорвалась: это приехал инспектор. Так как конец июля, то собралось больше половины всей школы. Сегодня как раз предполагалась общая прогулка в загородный лес, но вместо этого произошло общее собрание с инспектором.
Инспектор начал с того, что объявил всем о всеобщей ревизии всей школы, причем в ревизии должен принять участие представитель как от шкрабов, так и от ребят. Мы долго кричали, но большинство было за Сережку Блинова, а от шкрабов вошла почему-то Елникитка.
Среди ребят сейчас же распространился слух — я уже не знаю, откуда он там явился,— что на нашу школу был подан донос и что
528
будто бы в этом доносе говорится, что у школы буржуазный уклон и что шкрабы не соответствуют своему назначению. Я страшно возмутился, но часть ребят стала между собой перешептываться, среди них был младший брат Сережки — Гришка Блинов. Я сейчас же направил кое-кого к этим шептунам; через пять минут узнал, что в случае расследования они хотят заявить на шкрабов разные несправедливости, что будто бы наши шкрабы держат себя как педагоги старой школы. Я начал громко агитировать за противоположное, но большинство ребят не примыкало ни ко мне, ни к ним, а держалось выжидательно.
Гришка Блинов засыпался по обществоведению, математике и русскому языку и поэтому остался на второй год во второй группе.
26 июля
Ревизионная комиссия заседает в учительской. Конечно, нам ничего не говорят, а Сережка Блинов держится так, словно только объелся пшой. В партии Гришки Блинова народу прибавилось, а у меня осталось все столько же. Когда я проходил мимо аудитории, то заглянул туда и увидел, что там сидят Сильва и Володька Шмерц вдвоем. Я хотел было их спросить, за кого они, за меня или Гришку Блинова, но потом оставил их в покое. Потом, когда отошел уже несколько шагов, вспомнил, что раньше во всех таких затруднительных случаях Сильва была моим верным товарищем и помощником, а теперь мне опереться не на кого. Мне стало очень горько и обидно, потому что перед Сильвой я никогда ни в чем не был виноват,— не виноват и теперь. Я долго ходил по школьному двору, потом пошел домой, но нигде не мог найти себе места.
Что она могла в нем найти?
27 июля
Был у Марии. Противно и противно.
28 июля
Написал стихи, хотя это очень глупо.
Мне вспомнился весь разговор твой умный И наш контакт немой средь отой школы шумной...
Пускай с другими ты ведешь беседы,—
С тобою полон к, а без тебя я пуст.
Что это — хорошие стихи или плохие?
529
29 июля
Инспектор вызывал кое-кого из ребят и расспрашивал о взаимоотношениях с ребятами. Шкрабы все эти дни ходят страшно взволнованные. Приехал Никпетож, стал меня расспрашивать, а я не умел ничего ему толком рассказать, потому что у меня голова другим занята.
— Это возмутительно,— сказал Никпетож,— что инспектор поступает таким образом. Он должен был бы прежде всего созвать школьный совет.
Почти сейчас же после этого разговора меня вызвали к инспектору. Там, кроме инспектора, сидела страшно бледная Елникитка и с опущенными глазами — Сережка Блинов.
— Скажите нам, товарищ Рябцев,— сказал инспектор,— что вы знаете об отношениях вашей заведующей с ребятами?
— На школьном совете я вам отвечу, товарищ,— ответил я.
— У меня есть полномочия,— говорит инспектор.
— Вы вот их школьному совету и предъявите,— сказал я и ушел.
После этого я разыскал Черную Зою и говорю:
— Ты помнишь, что ты сказала мне весной?
— Да, помню,— отвечает Зоя и глядит на меня во все глаза.
— Значит, я на тебя вполне могу положиться. Вот прочитай эти стихи — они не к тебе относятся,— скажи свое мнение.
— Что не ко мне-то, я хорошо знаю,— протянула Зоя и стала читать про себя стихи.
Читала она очень долго, несколько раз,— видимо, обдумывая каждое слово.
Мне, конечно, было очень интересно знать ее мнение, а она молчит. Наконец я спрашиваю:
— Ты что же, их наизусть выучить хочешь?
И тут я увидел, что она потихоньку ревет. И вдруг говорит скороговоркой:
— Ты не имел права давать мне эти стихи, раз они посвящены другой...
Я взял листок у ней из рук и тихо отошел. Черт их поймет, этих девчат!
А в гимнастической лицом к лицу столкнулся с Володькой Шмер- цем и Сильвой. Я пропустил их мимо себя и говорю вдогонку:
— За битого двух небитых дают.
— Что ты лезешь, Рябцев? — отвечает Володька.— Я к тебе не лезу.
— Так с точкой,— сказал я и пошел.
А Сильва стоит и смотрит на меня удивленно.
30 июля
Ревизионная комиссия все продолжается, и говорят, что шкрабы послали в центр протест, и говорят, что будто бы даже демонстративно хотят уйти из школы. Я говорил кое с кем из ребят, и мы решили предпринять свои шаги.
А со мной было вот что: я пошел к Громовым и опять застал Марию одну. Когда она меня хотела облапить и стала говорить, что я свинья, что долго не бываю, то я ей ответил:
— Я думаю, что все это половая извращенность.
— Да почему? — спрашивает она, выпучив глаза.
— Пойдем, я тебе кое-что прочту,— сказал я, и мы вышли в сад.
Там я вытащил и прочитал ей вслух ту бумагу, которую я свистнул в СПОНе. Мария вся покраснела и говорит:
— Это еще что за гадости?
— А мне с тобой тоже гадостно.
— Да почему? — говорит Мария, и даже сквозь пудру видно, как у ней нос покраснел.— Я думала — тебе приятно.
— Нет,— сказал я решительно,— не хочу я в жизни быть каким-нибудь психом. Прощай!
— Ты глупый мальчишка, и больше ничего.
— Так с точкой.
— И ты не имеешь никакого полного права от меня уходить. Теперь не те времена. Я на тебя на алимент подам.
Она еще что-то кричала, но я уже ушел.
А для алимента ребята должны быть. Она меня на пушку не поймает...
31 июля
Сегодня был решительный день. Я еще с утра кое-кого предупредил, а на четыре часа было собрано общее собрание всей школы со школьным советом и ревизионной комиссией. Кроме Елникитки, никто из шкрабов на собрание не явился.
Я собрал вокруг себя всех верных ребят и занял первые скамьи перед самым президиумом, а Юшку Громова, как самого горластого, посадил сзади стола ревизионной комиссии.
Первый взял слово инспектор.
— Вот,— говорит,— товарищи, я здесь перед вами как представитель института инспектуры, которая призвана от имени центра наблюдать за жизнью учебных заведений и в случае надобности вмешиваться в работу с целью ликвидации злоупотреблений. Не могу сказать, чтобы в вашей школе наблюдались какие-нибудь явные злоупотребления, но, во всяком случае, с сожалением должен констатировать, что школа приобрела нежелательный уклон... Так или
531
иначе, ревизионная комиссия, образованная под моим председательством, вынесла такое постановление.
— Я его не подписывала,— выкрикнула вдруг Елникитка, побледнела и откинулась на спинку стула.
Сейчас же притащили нашатырь, дали ей понюхать, и она пришла в себя.
— Так вот, товарищи,— продолжал инспектор,— постановление это гласит прежде всего о том, что школьные работники вашей школы не совсем соответствуют своему назначению...
Но тут я дал знак.
— До-ло-о-ой!.. Вздо-о-ор!.. Неправда-а-а!..— закричали мои ребята со всех сторон.
— Долой!..— ахнул Юшка над самым ухом инспектора, так что тот даже вздрогнул.
Председатель, Стаська Велепольская, стала изо всей силы наяривать в колокольчик, но тишина не восстанавливалась, пока я не подал второй знак, так что моя партия сразу замолчала.
Только донесся с задних скамей оторванный голос Гришки Блинова:
— ...нахальство, Рябцев!
Я встал и говорю:
— Прошу не касаться личностей.
— Кроме того, товарищи, ревизионная комиссия,— продолжал инспектор,— постановила вынести на общее собрание — конечно, предварительно осветив факты,— вопрос о том, могут ли оставаться в школе недостаточно авторитетные школьные работники...
Но тут я опять дал знак. Когда шум удалось несколько унять, встал Сережка Блинов и говорит:
— Я здесь выступаю двояко: во-первых, как ваш товарищ, а во-вторых, как вами же избранный член ревизионной комиссии.
— Ты что же — двуглавый орел, что ли? — крикнул я.
— Во всяком случае, не одноглавая змея, согретая на моей груди. (Не знаю, что он хотел этим сказать.) Я, товарищи, поддерживаю предложение ревизионной комиссии по следующим соображениям: самоуправление у нас хромает на обе ноги и значения никакого не имеет, преподавание ведется вразброд и оторвано от жизни. Школа не увязана ни с каким производством...
— Что же раныис-то молчали, Блинов? — визгливо крикнула Елникитка.— Вы ведь входите в ячейку...
— Если вы, товарищи,— сказал инспектор,— согласны выслушать более или менее спокойно, то я доложу вам следующее: здесь предлагается не вынести окончательное решение, которое зависит от центра, а только обсудить затронутые вопросы и запротоколировать мнение школы.
— Позвольте,— сказал я.— Здесь с нами сидит секретарь фабричной ячейки, к которой мы приписаны, но он пускай выскажется потом, а сейчас скажу я. Сережка Блинов! А ты ночевал с нами в
532
Солнечном, как Елена Никитишна? Белую мадаму видел? А ты заступился за нас, когда мужики хотели принять нас в дреколья? Сережка Блинов! А ты отказался от отпуска и остался с нами на все лето, как Зин-Пална? А ты взял к себе на воспитание Алешку Чикина, когда у него помер отец? А ты, Сережка, разъяснил все волнующие нас вопросы, от которых голова лопнуть может и руки оторваться, как Николай Петрович? Вот ты говоришь, что школа оторвана от жизни... А в то время, как мы летом со страшной опасностью для жизни обследовали деревню, набирали естественный материал, помогали в раскопках курганов, ты где был? На траве кверху пузом валялся? Значит, ты, Сережка, соответствуешь своему назначению, а Зинаида Павловна — нет? Так, что ли, будет по-твоему?
Тут я не делал никакого знака, но все равно — поднялся страшный шум: одни — за меня, другие — против.
Попросил слово секретарь ячейки и говорит:
— А я вот не согласен с товарищем инспектором, что он действовал нерационально, потому несогласованно с* ячейкой. То, что в школе фракция, а не ячейка, это еще не есть рациональное доказательство. Если бы сразу товарищ обратился в ячейку, мы бы ему сказали, что школа хотя и не без дефектов, а идет нормально, и было бы довольно странно, если бы ячейке не было известно, что учителя не соответствуют своему назначению. По крайней мере, я об этом слышу здесь в первый раз. Товарищу Блинову совершенно нерационально было не посвятить в это дело ячейку. Из этого я усматриваю, что товарищ Блинов просто не чувствовал стабилизации под ногами.
— Да я думал, что это чисто школьные дела,— бормочет Сережка себе под нос.
— Нет, это дело очень даже общественное, товарищ Блинов,— отвечает секретарь,— и я всем здесь заявляю, что, если бы не товарищ Рябцев, который, видимо, понимает обязанности красной молодежи лучше многих других, дело могло бы кончиться нерационально...
— Ай да Костька! — заорал Юшка Громов, но я ему сделал знак, и он замолчал.
И тут я увидел, что в залу вошла Зин-Пална.
— Насчет увязки с производством нам лучше всех знать, товарищ инспектор,— продолжал секретарь.— Пожалуйте к нам в ячейку, мы вам расскажем. А насчет сироты Чикина, которого заведующая взяла к себе на воспитание, то ячейка поручила мне выразить заведующей школой Зинаиде Павловне публичную благодарность за Чикина, как и вообще за ее двадцатилетнюю самоотверженную общественную...
Тут как ударит гром аплодисментов. Я думал, потолок рухнет. Секретарь засмеялся, махнул рукой и полез к выходу. Я ему кричу прямо в ухо (а то бы он не услышал от грохота):
— Ты куда, Иванов?
А он мне в ответ тоже кричит:
— Здесь, вижу, без меня обойдется.
533
Я смотрю: где же инспектор? И его уже нет. И вот катит ко мне на всех парах Елникитка, я от нее, но было тесно, она меня догнала и кричит:
— Я переменила об вас мнение, Рябцев.
А на кой мне шут ее мнение, интересно знать? Вдруг хватает меня за руку Черная Зоя:
— Стой, Костя. Ты должен окончательно помириться с Сильвой. Цени, что это сказала я.
А сзади стоит Сильва, смотрит на меня и говорит:
— Ну что же, Владлен...
И я взял ее руку.
5 августа
В школе пока делать особенно нечего, и поэтому я почти все время провожу на футбольной площадке. Папанька разорился мне на буцы, и поэтому я играю сейчас во второй команде. Во вторую команду без буцов не принимают. Играю я правого хава, а иногда заменяю правого инсайда. Пробовал я стоять за кипера, но капитан меня перевел, потому что я все время выбегаю из ворот. А я считаю, что какой же кипер, если он все время стоит на месте и ждет, пока ему всодят гол. Ведь с двух шагов вотрут, а не вобьют даже, никак не отобьешься. Мне было очень обидно, потому что кипер — это самое ответственное место в игре и, кроме того, на состязаниях киперу всегда хлопают, а хавов никто и не замечает. Но я подчинился решению капитана, потому что футбольная команда есть коллектив и в этом коллективе должна быть строжайшая дисциплина, иначе можно провалить всю игру. Например, в нашей же второй команде Юшка Громов играет левого края, так он всегда водит, и кончается тем, что у него выбивают бек, а иногда и хав догоняет. Мы уже говорили Юшке, что так нельзя и что если каждый будет водить, то не получится пасовки и всякая пасующая команда нас одолеет. Но Юшка стоит на своем. Он уверяет, что знаменитый левый край Кукушкин тоже всегда водит и что так легче всего прорваться к чужому голу. Капитан наконец пригрозил Юшке, что если он будет водить, то его переведут в третью команду и не дадут выступать на ответственных состязаниях. Юшка дал обещание, что не будет больше водить, а вчера была тренировка с третьей командой, и он все-таки водил. Правда, на этот раз ему удалось три раза обвести беков и забить три гола, но капитан сделал ему выговор. Юшка тогда стал оправдываться, что он будто бы не разбирается в офсайде и что если перед чужим голом пасовать, то всегда можно нарваться на свисток, на что капитан ему ответил:
— Пасуй задней ногой, и офсайда не будет.
Все захохотали, а я Юшке, когда шли домой, сказал:
— По-моему, тебя переведут в конце концов в третью команду.
534
Юшка ответил, что ему начхать на ветер; а я бы, если бы меня перевели в третью команду, просто бы кончил играть в футбол — по крайней мере на этой площадке.
6 августа
Теперь собралась почти вся школа, и на общем собрании Зин- Пална предложила каждый день приходить и вести регулярные занятия со шкрабами. Если кто не хочет, может не ходить и являться только на экскурсии и на прогулки. Только тот, кто будет ходить, не должен пропускать и должен теперь же дать слово, что будет посещать школу. Громадное большинство согласилось, потому что занятия будут вестись не по программе, а кружковым порядком: одни будут заниматься радио, то есть ставить в школе приемник (это с Алмакфишем); другие будут ставить спектакль с Никпетожем; Зин-Пална предложила вести семинарий по Пушкину. Она при этом сказала, что Пушкин был такой великий поэт, что его не грех и наизусть выучить. Между прочим, Володька Шмерц спросил, за что Пушкина убили, и Зин-Пална разъяснила, что был такой Дантес, который приставал к его жене, и Пушкин принужден был вызвать его на дуэль. Дуэль кончилась для Пушкина печально. А я бы этого Дантеса не стал бы, на месте Пушкина, вызывать на дуэль, а просто отозвал бы его в сторону и набил бы ему морду в кровь; а если бы он не перестал приставать, дал бы ему один раз датским по-фут- больному, пониже живота, небось тогда бы перестал. Дантес этот был, как видно, сволочь порядочная, вроде нашего Володьки Шмерца, который подряд со всеми девчатами шьется и которого все колотят.
У нас в школе начали распространяться разные фантастические слухи, и, конечно, тут на первом месте девчата. Они шушукаются по углам и делают таинственный вид, а потом оказывается какая-нибудь ерундейшая чепуха.
Например, стали рассказывать, что в прошлом году в Москве был такой случай. К доктору Снегиреву пришла какая-то девочка в розовом платье и говорит, что у ней больна мать и чтобы доктор пришел к ее матери. Оставила адрес и ушла. Только она ушла, как доктор захотел расспросить ее подробней о болезни, чтобы знать, что из лекарств с собой захватить. Вот доктор зовет горничную и велит ей воротить девочку. Горничная говорит, что никакой девочки она не видела. Тогда доктор зовет швейцара снизу лестницы, но швейцар тоже говорит, что девочки не видал. Доктор,1 вне себя от удивления, едет по оставленному адресу и, верно, находит там больную женщину. Он начинает ее лечить, а женщина спрашивает, откуда он узнал ее адрес. Доктор тогда говорит, что ему сказала ее дочь. Женщина начинает плакать и говорит, что ее дочка вот уже три дня как умерла и что ее тело все еще лежит в соседней комнате, потому что хоронить — нет сил. Доктор пошел в соседнюю комнату и видит, что
535
верно: на столе лежит та самая девочка в розовом платье, которая к нему приходила.
Из этого рассказа выходит, что покойники могут разгуливать после смерти. Когда мне это рассказали, я только плюнул.
7 августа
Произошла неприятная история, а именно — столкновение с Зин- Палной. Дело в том, что я, как и все, дал обещание регулярно посещать школу, а сегодня проиграл все школьное время на футбольной площадке и явился только тогда, когда все кружки уже кончились. Как раз попадается мне на дороге Зин-Пална и говорит, что этого от меня не ожидала. Я спросил:
— Чего не ожидали?
Она отвечает:
— Нарушения дисциплины и срыва кружковых занятий.
Я сказал, что теперь еще лето, и вполне естественно больше находиться на воздухе, чем в помещении, и что вообще необходимо как можно больше заниматься физкультурой.
А Зин-Пална возразила, что это нужно делать организованно и что, раз дал обещание, нельзя его нарушать. Кроме того, по ее мнению, футбол вовсе не физкультура, а очень вредная игра, которую можно сравнить с курением или пьянством. Она так затягивает человека, что его и не оттащишь от футбола, и этому пример — я.
Я в ответ стал доказывать, что футбол воспитывает коллективное чувство и всесторонне развивает организм, но Зин-Пална сейчас же сказала, что видит результаты как раз обратные, а именно: раз я не являюсь на занятия своего коллектива из-за футбола, так какие же коллективные чувства футбол воспитывает.
В общем, было очень неприятно, и из-за футбола придется вести борьбу.
Я несколько времени слонялся по школе и уже собрался уходить, как вдруг меня зовет Сильва, и мы с ней засели в аудитории и начали разговаривать. Я рассказал ей насчет футбола и Зин-Палны, и Сильва сказала, что, по ее мнению, Зин-Пална права и что ребята слишком увлекаются футболом. Я стал спорить, но в этот момент в дверях показалась Черная Зоя и с таинственным видом говорит:
— Костя Рябцев, мне нужно с тобой поговорить.
Я сейчас же встал и пошел. Она вывела меня во двор, там мы сели, и она говорит:
— Я тебе хотела рассказать одну историю. Ты меня, конечно, извини, что я прервала ваш нежный разговор, но вообще твое уединение с Сильвой может вызвать подозрение не только у ребят, но и у шкрабов. А я хоть и люблю Сильву, однако в последнее время ее поведение мне не нравится.
536
Тут я обозлился и сказал:
— Когда ты так будешь разговаривать, то пошла к черту. Никаких нежных разговоров у меня с Сильвой не было и нет, и я смотрю на Сильву как на товарища. И какое такое особенное поведение Сильвы? Какие такие подозрения? Все это — буза, и я не знаю, почему ты злишься на Сильву.
— Успокойся и сядь,— говорит Зоя.— Я тебя вызвала затем, чтобы рассказать одну историю. Ну, слушай. Вчера приехал с юга мой брат, и у него рука порезана. И он рассказал мне и матери такую вещь. А мой брат — летчик. Он там служил где-то на юге, в каком-то Сухуме, что ли. И вот один раз где-то по соседству, верст за десять от этого Сухума, была вечеринка, и на этой вечеринке был брат, и все пили водку. Потом, когда вечеринка кончилась, брат пошел домой. А у него, как у военного, сбоку висел револьвер. Была уже ночь, и совершенно темная. Брат говорит, что ночи там, на юге, гораздо темней наших. Вот брат шел-шел, да и сбился с дороги. Должно быть, потому, что водку пил. Хорошо. А кругом — темно, хоть глаз выколи. Тогда брат пошел наугад, куда попало. Видит вдруг — какие-то огоньки. Брат догадался, что, должно быть, деревня татарская. Он и пошел на эти огни. Только дошел до деревни, как вдруг какой-то его останавливает и спрашивает: «Ты куда идешь?» Брат говорит, что в Сухум. Тогда этот, который остановил, говорит, что он его проводит на сухумскую дорогу. Брат согласился и пошел за этим встречным, а на всякий случай держит руку на револьвере. Вот шли они, шли, уже вышли за деревню, брат начал спотыкаться о какие-то камни. «Куда ты меня ведешь?» — спрашивает брат, а сам вынул револьвер. Тогда вдруг тот встречный выхватил электрический фонарик и быстро навел брату прямо в глаза. А после темноты такой яркий свет — поневоле зажмуришься. Брат зажмурился, а сам поднял револьвер. В это время брата как хлопнет кто-то сзади по руке, и от толчка револьвер вылетел из руки. А у этого типа в одной руке фонарь, а в другой — револьвер. А сзади еще другой тип, тоже с револьвером, и оба говорят, чтобы брат за ними шел без всяких разговоров. Пришлось брату идти — что же сделаешь?
— Я бы бросился на него — головой в живот, свалил бы его и выхватил бы револьвер у него из рук,— сказал я.— А из револьвера — во второго типа.
— Да-а-а, пойди выхвати,— отвечает Зоя.— А другой в это время тебя из револьвера в спину. Ну вот, пошел брат за ними в полнейшей темноте, только у того, который впереди,— фонарик. И видит брат, что они идут посреди камней какой-то странной формы. Дошли до какого-то места, эти типы вытаскивают откуда-то лопату и говорят брату: «Копай». Брат тут сразу подумал, что его заставляют рыть себе могилу. Но ввиду того, что на него направлены два револьвера, рассуждать не пришлось, а пришлось копать. Стал копать и видит — земля рыхлая, вполне легко поддается лопате. Очень скоро взрыл яму в пол-аршина, и лопата начала стукаться обо что-то твердое. «Я,— го¬
537
ворит брат,— копать больше не могу, там что-то такое твердое». Тогда один из этих типов нагибается, ткнул кинжалом в это твердое и вытаскивает одну за другой несколько досок — открывается темная яма. Эти типы и говорят брату: «Лезь туда». Брат спрашивает: «Зачем?» — «А будешь спрашивать — пристрелим»,— они отвечают. Ну, нечего делать, брат полез.
— Я бы нипочем не полез,— сказал я.
— А что бы ты стал делать?
— Не знаю... Бросился бы на них, чем живого закопают...
— Ну, а брат полез; оказалась довольно глубокая яма, аршина в три. А эти типы освещают сверху фонариком. Когда брат спустился, они ему вдруг говорят: «Ну, давай сюда гроб».— «Какой гроб?» — «А ты посмотри, там есть гроб». Брат осмотрелся, а они фонарик ниже спустили, и брат вдруг видит: и вправду гроб, закутанный в какую-то белую материю. Брат схватил гроб, хотел приподнять, но не мог. Говорит наверх: «Очень тяжелый, не могу».— «Тогда сматывай материю с гроба». Брат кое-как смотал материю, подал наверх. «Теперь открывай гроб». Брат стал открывать, все пальцы поломал — не открывается. «Не могу,— говорит,— открыть, наверное, он забит или завинчен».— «Тогда держи кинжал». И верно, бросают кинжал. Брат взял кинжал, засунул в прощелину, нажал — крышка отскочила. И видит: лежит в гробу очень красивая молодая женщина, вся закутанная в такую же материю, как на гробе. А сверху спрашивают: «Лежит баба?» — «Лежит».— «В чем одета?» — «Б такую же материю закутана».— «Снимай материю». Нечего делать, пришлось снимать, а ее, может, аршин шестьдесят намотано.
— А в метрах сколько это будет?
— Будешь смеяться — рассказывать перестану. Ну вот, содрал брат материю, подает им наверх. «Теперь,— говорят эти типы,— подавай бабу сюда».— «Как?» — «Возьми ее, подними и давай наверх». Брат взял мертвое тело, насилу поднял и с трудом им подает. Они ухватились сверху, но, должно быть, туго зацепился, или им показалось, что брат тянет к себе, или они хотели подправить труп кинжалом, как вилкой, только толкнули не по трупу, а по братовой руке — так и чиркнули. Брат закричал. «Ты чего кричишь?» — спрашивают. «А как же, вы мне руку разрезали до самого плеча». А брат в это время выпустил труп, и он трахнулся на землю. «Ну, снимай кольца с пальцев». Брат кое-как обмотал рану платком, нагнулся тащить эти кольца, но они не поддавались, и похоже было, что труп тянет руки к себе. «Не могу стащить»,— говорит брат. «Тогда руби кинжалом пальцы».— «Не буду».— «Почему не будешь?» — «Не буду»,— говорит брат, да и потерял сознание: в обморок упал. Неизвестно, долго ли он лежал в обмороке, только наконец очнулся. Видит над головой звездное небо в таком четырехугольнике и никак не может понять, где это он находится. Так он пролежал минут пять, как вдруг видит: в этот четырехугольник лезет голова с горящими глазами. Брат как заорет вне себя от испуга! А голова заорала еще пуще — и скрылась. Брат снова поте¬
538
рял сознание. Очнулся он только в какой-то маленькой комнатке, и около него сидит следователь. «Вы — Травников?» — спрашивает следователь. «Я».— «Расскажите, что с вами произошло». Брат рассказал. «Все это похоже на правду,— говорит следователь,— и вы находитесь сейчас в сторожке у кладбищенского сторожа, на татарском кладбище. Только вот объясните одно непонятное явление: каким образом у вас в кармане очутилось вот это?» И показывает брату обрубленный палец с кольцом. Брат посмотрел и говорит, что не знает. Потом брат спросил следователя, как все это объяснить. Следователь ему ответил, что это были могильные бандиты и они с братовой помощью обворовали могилу недавно похороненной княжны. А голова, которая лезла в могилу,— это был тоже бандит, но уже из другой шайки, и этот бандит так испугался, когда брат заорал, что с испугу бросился куда ни попадя и расшиб себе голову о ближайший памятник до смерти.
— Ну а тех-то — нашли?
— Их нашли по материи. Они в этом же самом Сухуме на базаре материю продавали, которую брат им сдирал с княжны. Ну, они и засыпались. А потом на допросе сознались, что брату нарочно подсунули в карман палец, чтобы следователь на брата и подумал. После этого брата отпустили, ему дали отпуск, и он приехал домой.
— Все?
— Все.
— А про мертвую девочку — это тоже ты пустила?
— А что ж ты думаешь? Мертвая девочка могла прийти к доктору.
— Ну, я так и знал. Ты.
Я встал, пошел и кричу:
— Сильва, Си-и-ильва-а!
А Черная Зоя идет сзади и бормочет:
— Сильвы-то и нету! А Сильвы-то и нету!
И сколько я ни искал Сильву, так и не нашел в школе. Должно быть, ушла домой. А Зоя ходит сзади и дразнится:
— Она тебя и дожидаться не стала. Очень ты ей нужен.
Тогда у меня словно в голове просветлело, и я понял, что Зоя
нарочно меня оттащила от Сильвы, только не знаю, с какой целью. Я обозлился, выдал Зое красноармейский паек, она заплакала, а я ушел домой.
8 августа
Неожиданно вышел «Икс» после большого перерыва. В нем написана целая громадная баллада, которая начинается так:
Мы все говорим телеграф-языком,
Наш лозунг — скорей и короче...
539
И стало так трудно изящным стихом Описывать лунные ночи.
Придется примерно описывать так:
Лунночь вся была нежистома,
Когда два граждвора украли кухбак,
Презрев недремоко домкома...
Это очень здорово, только кто это написал? Мы с Колькой Палтусовым сейчас же сговорились болтать между собой на телеграф-языке. И быстро, и удобно, и никто не поймет.
9 августа
Я не люблю таких девчонок, которых можно называть идиотками,
а таких — большинство. Но уж если такого названия, как идиот,
заслуживает кто-нибудь из ребят, то это Юшка Громов. Он все разболтал про меня и Марию. Совершенно не понимаю, что его дергало за язык. А кто болтает без причины — это есть признак дурачины.
А сегодня он еще отпалил такую штуку. Вдруг врывается в физическую лабораторию (шкрабов никого не было) и орет во всю ивановскую:
— Никпетож в Стаську Велепольскую втрескался!
Тут все ребята стали его расспрашивать, как это он узнал,
особенно девчата налетели, а Юшка рассказал, что будто бы Никпетож со Стаськой сначала ходили по двору, а потом зашли
за поленницу дров, и Никпетож держал Стаську за руку и что-то ей наговаривал с очень большим увлечением.
А Юшка спрятался с другой стороны поленницы и все время подслушивал.
Если бы Юшка не разболтал еще раньше про меня и Марию, я бы, может, и внимания никакого не обратил, з теперь мне сразу стало понятно, что Юшка ■— любитель идиотских сплетен и что ему нельзя ни в чем доверять.
Сегодня начался семинарий с Зин-Палной по Пушкину. Зин-Пална подробно рассказала биографию Пушкина, и после этого отличился Володька Шмерц. Он вдруг спрашивает:
— А что чувствовал Пушкин, когда жена у него была брюхата?
Тут Зин-Пална отвечает:
— Если бы вы, Шмерц, задали такой вопрос иЗ любознательности, то я, может быть, вам и ответила бы, а так как вы это спрашиваете из хулиганства, то кто-то из нас должен уйти из аудитории: вы, Шмерц, или я.
Тут Володька стал опровергать, что он вовсе не из хулиганства и что он сам читал в письмах Пушкина, как Пушкин пишет своей жене: «так как ты брюхата...» — но все ребята закричали:
540
— Пошел вон, Шмерц! Здесь не двор, а аудитория. И Володька принужден был удалиться с позором.
10 августа
Сегодня на футбольной площадке Юшка Громов ни с того ни с сего начал звонить насчет Никпетожа и Стаськи. Это было уже прямое безобразие, потому что среди футболистов далеко не все — наши школьники, и поэтому я сказал Юшке, чтобы он перестал бузить.
— А что ты мне сделаешь? — спрашивает Юшка.
— Рожу растворожу.
— Попробуй,— говорит Юшка.
Я пробовать не стал, а сговорился с Колькой Палтусовым, который играл правого края за третью команду, и мы решили Юшку подковать. Вышло так: когда форварды третьей команды повели мяч, то Колька Палтусов погнался за Юшкой, а Юшка, по обыкновению,
стал водить. Тут я, под предлогом принять мяч от Юшки, рванулся ему под самые ноги и загородил дорогу, а в этот момент налетел сзади Колька да как трахнет Юшку по самой бабке, Юшка — с катушек и заорал не своим голосом:
— О-о-ой! Это я знаю: Рябцев нарочно меня кует, сволочь этакая!
А все видели, что подковал его вовсе не я, так что никто не обратил внимания, только Кольке капитан сделал выговор за грубую игру. А Юшка не мог сам идти, так как нога у него была вдребезги расшиблена и распухла, и его ребята потащили домой на носилках.
Потом, когда мы с Колькой шли домой, он мне говорит:
А у нас, по условию, спрашивать объяснения телеграф-выражений нельзя. Каждый должен догадываться сам. Я ломал-ломал голову, но что это за «дото» такое, никак не мог додуматься.
— Дорогой товарищ? — спрашиваю.
— Нет,— отвечает Колька.
— Добрый товарищ?
— Да нет. Как же ты не понимаешь? Доволен тобой.
— Дото.
541
Тогда я решил Кольке отплатить и, пока шли, всю дорогу придумывал. Стали прощаться, я ему и говорю:
— Верзавок копал.
— Чего ты копал? — рассеянно спрашивает Колька.
— Да ничего я не копал, а верзавок копал. Это я с тобой прощаюсь. Ну-ка?
Колька думал-думал, а потом выпалил:
— Вера завидует Калерии Павловне.
Тут я расхохотался:
— Какая такая Вера? Откуда ты взял Веру? Да еще Калерию Павловну какую-то приплел. При чем здесь Калерия Павловна?
— Это у меня тетка такая есть. Не мешай. Она на барахолке брюками торгует. Это, может, собственное имя — Верзавок?
— Нет, не собственное. Это — телеграфное слово.
Увидев, что Колька не может отгадать, я показал ему нос и хотел было идти домой. Но Колька со страшным любопытством пристал ко мне, чтобы я ему все-таки сказал. Я долго не хотел, потом мне надоело, и я прямо в лицо Кольке отчеканил:
— Верен заветам Октября, Колька Палтусов! Вот что значит:
верзавок копал! Не дото.
Так я его перекрыл.
11 августа
У нас есть одна девчонка, которую зовут Пышка. Она очень толстая, и ее всегда все жмают. Зажмают ее в угол, а она оттуда пищит, как рыба. Это только так говорится, что как рыба, потому что ведь на самом деле рыбы не могут пищать.
Сегодня мы зажмали Пышку в угол, как вдруг, откуда ни возьмись, влетает Елникитка и начинает на нас орать, что это — безобразие, что она всех нас вынесет на школьный совет, и на общее собрание, и чуть ли не в Совнарком. Тогда я ее спрашиваю:
— А что мы, собственно говоря, делали?
— Это вам лучше знать,— кричит Елникитка,— и нечего тут лицемерничать, когда дело ясно как на ладони.
И тут влетело еще несколько старших девчат, все начали кричать наперебой, будто мальчишки страшно распустились и позволяют себе лезть к девчонкам. Тогда я не выдержал и отвечаю, что все это — нахальное вранье, и что Пышку всегда все жмают, и что никогда никто не видел в этом ничего особенного. Я тут еще сказал, что, по-моему, Елникитка просто белены объелась. Тогда Елникитка собрала вокруг себя девчат, как наседка цыплят собирает, и торжественно заявила:
— Рябцев опять показывает себя во всю величину. Я думала, что он исправился, но этот верх возмутительного безобразия доказывает, на что направлены мысли Рябцева.
И тут все подхватили Пышку под руки и куда-то потащили — должно быть, жаловаться.
542
Минут через десять пришел Никпетож, собрал всех ребят в аудиторию и стал опять читать целую лекцию о половых вопросах. Потом он вытащил книжку и принялся вычитывать рассказ Тургенева «Первая любовь» — как один мальчишка втрескался во взрослую. Мы много хохотали, а потом я спрашиваю Никпетожа:
— Зачем вы нам все это прочли, Николай Петрович?
— А это затем, чтобы показать вам, как в художественном произведении отразилась настоящая, идеальная любовь.
Тогда я решил провентилировать вопрос и спрашиваю:
— А почему вы думаете, Николай Петрович, что мы этого сами не знаем?
Никпетож замялся:
— А это, видите ли, некоторые школьные работники думают, что ваши взгляды на любовь и на половой вопрос стоят на неправильном пути.
— А какие же этому доказательства? — спросил я.
— Да вот, например, ваши отношения с Леной Орловой (это так зовут Пышку). Школьные работники думают, что эти отношения приобрели нездоровый уклон.
— Это уж, конечно, Елена Никитишна? — спрашиваю я.
— В том-то и дело, что не одна Елена Никитишна, а и заведующая, и Фишер, и Людовика Карловна (она пение преподает) тоже так думают.
— Да что мы такого особенного делали? — возмутился я.— Это что Пышку-то жмали? Тут ничего особенного нет. Ее всегда все жмают, и никогда никаких инцидентов не было.
— Нет, на тисканье Лены Орловой школьные работники обратили внимание,— говорит Никпетож.— Положение ухудшается еще тем, что сама Лена Орлова не противится этому тисканью. Вам, наверное, известно, Рябцев, что вообще возиться возможно только с теми девочками, которые ничего не имеют против. Теперь решено это прекратить и, кроме того, заняться с вами вопросами марксистской этики и морали.
Я догнал Никпетожа, когда он уходил, и спрашиваю:
— А вы сами как думаете, Николай Петрович, насчет Лены Орловой: действительно мы серьезно виноваты или нет?
— Не вижу за вами особенной вины, Рябцев,— отвечает Никпетож,— но думаю, что следовало бы воздержаться от тискания Орловой. Дело в том, что Елена Никитишна утверждает, будто вы, Рябцев, способны развратить кого-нибудь из девочек, потому что будто бы летом у вас был самый настоящий заправский роман с сестрой Громова.
— А откуда она знает? — спросил я и почувствовал, чго краснею. (Мне стало очень неловко.)
— А разве и вправду было что-нибудь, Рябцев? — спросил Никпетож и очень серьезно на меня посмотрел.
— То есть как «и вправду»? — спросил я.— По-моем'л это никого
543
не может касаться. Разве вам понравилось бы, Николай Петрович, если бы про вас вдруг ни с того ни с сего начали распространять сплетни, что вы влюблены в Стаську Велепольскую, и разное тому подобное...
— Как? А разве говорят? — спросил быстро Никпетож, и мне показалось, что он испугался.
— Вот видите, и вам неприятно,— сказал я.— Все это — сплетни, и люди лезут в разные, никого не касающиеся дела. По-моему, это вовсе даже никакие ни марксистская этика, ни мораль.
— В этом вы, конечно, правы, Рябцев,— смущенно сказал Никпетож.— Сплетни есть пережиток старого строя и проклятого прошлого. Они обозначают совершенно мещанский подход к делу. Я, например, никогда не скрывал от вас, Рябцев, что мне нравится Сильфида Дубинина, но нравится она мне именно как человек, а вовсе не как девушка. Так же я отношусь и к Велепольской. Было бы довольно странно, если бы я начал заводить в школе романы.
— Сильва тут ни при чем,— ответил я.— Никто никогда не посмеет сказать, что у нас с Сильвой есть что-нибудь, кроме чисто товарищеских отношений. И потом, мы с Сильвой настолько преданны мировой революции, что личные отношения отходят на второй, на третий и даже на десятый план.
— Вполне верю,— сказал Никпетож.— Тем более что я настолько уважаю Дубинину, что не могу допустить и мысли о каком-нибудь переходе границы с ее стороны. А все-таки не можете ли вы мне сказать, Рябцев, по-товарищески, между нами: кто распространяет эту дурацкую сплетню про меня и Велепольскую?
— Этого я не стану говорить, Николай Петрович, потому что вы ведь этого человека сейчас же начнете засыпать по общество...
— Вот уж никогда,— вскричал Никпетож и даже весь покраснел.— Я никогда не смешиваю общественных и личных дел в одну кучу. Впрочем, для меня важно не имя сплетника, а главным образом вопрос: это кто-нибудь из ребят или из взрослых — школьных работников, например?
— Из ребят,— ответил я.
— Ну, спасибо вам, Рябцев,— сказал Никпетож на прощанье.— Во всяком случае, будьте уверены, что в происшествии с Орловой я буду отстаивать ваши интересы, так как вполне уверен, что вся эта история выеденного яйца не стоит.
— Ну, довам,— сказал я на прощанье.
— Это как же понимать? — спросил Никпетож.
— Доволен вами, это вместо «спасибо». «Спасибо» — это ведь «спаси бог» и, значит, религиозное.
— Ну, рано вы начали коверкать русский язык,— с неудовольствием сказал Никпетож.— И так сейчас коверкают больше, чем надо.
— Я не только коверкаю, Николай Петрович, а и создаю.
— Ну, создание неважное,— сказал Никпетож, и мы разошлись.
544
12 августа
Сегодня в Летнем саду ставили оперу «Кармен», и мы с Сильвой на ней были. Я раньше с презрением относился к операм, потому что когда поют вместо разговора, то получается большая неестественность, да и слова разобрать трудно. Но в этот раз меня что-то такое завлекло. Это чувство началось с того, что когда погасли огни и засветилась рампа, то мне вдруг показалось, что человек с палочкой, который махает оркестру, даже и не человек вовсе, а может, какой-нибудь волшебник. Потом пошла опера. На этот раз я даже понял содержание, хотя оно довольно бузоватое, но все-таки заставляет задуматься. Там показывается, как один офицер влюбился в фабричную работницу. Этого офицера звали дон Хозе. Тут я немножко не понимаю, зачем приходит одна девчина, которую зовут Микаэла, и что-то очень долго поет. Это всегда так в операх: вдруг кто-нибудь придет ни с того ни с сего и начинает запузыривать, да еще руками размахивает. Потом Кармен в него тоже влюбилась, и он должен был ее за что-то отправить в отделение. Вот он ее повел, а она его пихнула — и дралка. Потом Кармен пляшет в каком-то таком кабаке (я вот тут не пойму, что она: фабричная работница или просто кутила). Потом приходит тореадор и начинает петь про то, как он сражается с быками. Это мне очень понравилось, да и сам тореадор — очень красивый парень. Таких даже в жизни не бывает. Потом вдруг ни с того ни с сего Кармен в него втрескивается (может быть, потому, что он гораздо красивей Хозе) и чего-то такое ему обещает, только я не разобрал — что. Потом тореадор уходит, и вдруг приходит Хозе. Только что Кармен начала плясать, как вдруг является толстый начальник и гонит Хозе вон, потому что он сам ухлыстывает за этой Кармен. Хозе выхватывает шашку и чуть было не зарубил этого начальника, но тут вбегают какие-то хлюсты, у них платки на головах вместо шапок, и спасают начальника. После Хозе делается бандитом.
В третьем действии бандиты идут подстерегать и грабить тореадора, потому что он много заработал на показательной драке с быками. С этими бандитами вместе идут Кармен и Хозе. Потом бандиты прячутся, а сами оставляют Хозе сторожить тореадора. Тут опять зачем-то вертится эта девчина Микаэла, но Хозе ее прогоняет. Сильва говорит, будто это его невеста, но я не верю, потому что ведь он влюблен в Кармен и даже из-за нее поступил в бандиты. Но вот наконец приходит тореадор, и Хозе трах его из ружья, но промахнулся. Тогда он захотел угробить его ножом, но тореадор тоже выхватил нож, и они стали сражаться. Фехтовать они не умеют, поэтому дрались довольно коряво, но тут вдруг вбегает Кармен и остальные бандиты, и их розняли. Тут я немножко не понимаю, почему они того тореадора отпустили. Похоже, это потому, что у него денег с собой не было: он еще только шел на заработок. Сильва говорит, будто все то не так и будто они его вовсе и не хотели
18 Школьные годы. Выпуск 1
545
грабить, но я понял так, а ведь оперы каждый имеет право понимать по-своему.
Потом, в четвертом действии, должен начаться бой быков. Я не знаю, сколько там было быков, но, должно быть, много, потому что, кроме этого тореадора, идут драться с быками еще человек двадцать других тореадоров с пиками и всяким дрекольем. Тут все страшно размахивают руками, потому что всем хочется посмотреть бой. Когда все уходят, прибегает Кармен. Ей тоже очень хочется идти смотреть, но Хозе ее не пускает, потому что у него есть ревность к тореадору. Но она изо всей силы прорывается в цирк, и тогда Хозе ее укоко- шивает кинжалом.
— А страшная вещь — ревность,— сказала Сильва после спектакля, когда мы шли домой.— Ты знаешь, а я ведь тебя ревновала.
Я так и вылупил глаза.
— А разве...— И осекся.
— Что «разве»? Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но имей в виду — я это по себе знаю,— что для ревности вовсе не необходимо другое... более сильное чувство. Можно испытывать ревность к совершенно невинным людям. Я тебя, например, ревновала к Никпетожу и даже к вещам. Я тебя знаешь к чему больше всего ревную? К твоему дневнику. И ты, если хочешь, чтобы я не мучилась, должен мне дать его прочесть.
После этого мы долго шли молча. Мне, конечно, не очень хотелось, чтобы Сильва мучилась из-за моего дневника, но, с другой стороны, не могу же я ей дать читать дневник. Это все равно что начать с ней разговаривать про самые тайные вещи, о которых наедине с собой и то боишься думать.
Вдруг Сильва говорит:
— Значит, ты меня совершенно не... уважаешь. Если бы уважал, не стал бы так долго думать: дать или не дать мне дневник.
— Слушай, Сильва,— ответил я.— Дневник ведь — это самое тайное, что есть у человека. Ты просто хочешь, чтобы я всю душу перед тобой наизнанку вывернул, а в моей душе есть много такого, чего тебе знать нельзя.
Тогда вдруг Сильва остановилась на всем ходу и говорит:
— Ну прощай.
— Да ведь тебе дальше.
— Раз между нами нет ничего общего, то зачем же мы будем ходить вместе? — говорит Сильва.— Ты иди своей дорогой, а я пойду своей дорогой.
— Постой, Сильва, как это такое «между нами нет общего»? Это буза. Между нами даже очень много общего. Но ведь не хочешь же ты, чтобы я вдруг перед тобой разделся до самого гола.
— Ну, если ты уже всякие гадости начал говорить, тогда я и сама не захочу иметь с тобой ничего общего/
Я даже чуть-чуть обиделся.
— Я никаких гадостей не говорю. Я даже не знаю, почему ты
546
приняла это за гадость. А что я тебя не уважаю, то — вот послушай.
И тут я прочел ей свое стихотворение.
Мне помнится весь разговор твой умный И наш контакт немой средь этой школы шумной...
Пускай с другими ты ведешь беседы,—
С тобою полон я, а без тебя я пуст.
— Ну и что же? — говорит Сильва.— Это очень плохие стихи. Гораздо было бы интересней твой дневник. Неужели ты меня считаешь настолько девчонкой, что даже думаешь, будто я не могу отнестись серьезно? Да, впрочем, погоди. А если я дам тебе свой дневник, тогда ты дашь мне почитать свой?
— А разве у тебя есть дневник?
— Тебе,— подчеркнула Сильва,— тебе я могу сказать: есть.
— И ты дашь мне его почитать?
— Конечно, дам. Потому что считаю тебя своим другом. Только под условием, что ты дашь мне свой.
— Можно подумать до завтра? — спросил я.
— Ну уж нет! Такие вещи не откладываются до завтра. Я думала, ты — мужчина, а оказывается, ты — мальчик.
Хотя мне было очень мучительно, но, с другой стороны, очень хотелось почитать Сильвин дневник. Я сказал:
— Только ты должна дать мне слово, что никому и никогда. Понимаешь? И кроме того, даже со мной самим про это не разговаривай. Как будто ты его и не читала.
— Даю слово,— торжественно сказала Сильва.— И в доказательство того, что я не из любопытства, я тебе первая принесу завтра свой дневник.
13 августа
Так как многие из наших ребят были на «Кармен», то захотели ставить оперу у себя в школе. Я и предлагал «Кармен» поставить. Причем брался сам спеть роль тореадора (я уже пробовал), а дона Хозе мог бы спеть Колька Палтусов, у которого очень сильный дискант и вполне может сойти за тенор.
Но Людовика Карловна сказала, что «Кармен», да и вообще взрослая опера, не годится и что мы не справимся. Она тут же вытащила из своей папки детскую оперу под названием «Грибной переполох» и предложила нам поставить ее. Она тут же нам ее и сыграла. Видал я разную бузу на сцене, но никогда не думал, что может быть написана для сцены, да еще с музыкой, такая полная ерунда. Например, начинается с того, что царица Репа поет:
Ох-ох-ох,
Царь-Г орох,
547
Что хвалиться,
Мне грозиться,
Не беда,
Да-да-да.
Что это значит — не понимаю и думаю, что никто не поймет. Я слушал-слушал, да и затянул свое:
Я дото.
Я — довам,
Трам-трам,
По местам.
Людовика Карловна спрашивает меня, что это значит, а я в ответ ей говорю, что раньше пускай она объяснит этот самый «Грибной переполох». Тем более что на оперу, наверное, придут наши подшефы, крестьяне, и могут побить за такую оперу, да и поделом. Тогда Людовика Карловна сказала, что, во-первых, по ее мнению, «Грибной переполох» — опера очень смешная и чтобы я не мешался, если не хочу участвовать. Я ушел, и с ней остались одни маленькие, из первых групп. Сильва говорит, что дневник забыла дома и принесет завтра.
Г4 августа
Я только что прочел Сильвин дневник и думаю, что Сильва от меня что-то скрывает. Дневник, конечно, очень интересный, но не полный. И нельзя разобрать, где его неполность, потому что Сильва пишет не по числам, как я, а просто подряд.
Я тогда тоже дам ей не весь дневник, а только тетрадку за первый триместр.
В этом месте в тетрадь Рябцева вложена небольшая тетрадка, сшитая из линованой бумаги с надписью:
УЧЕНИЦЫ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ ВТОРОЙ СТУПЕНИ СИЛЬФИДЫ (ЕВДОКИИ) ДУБИНИНОЙ
Тетрадка начинается стихами Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». Дальше — стихи Тютчева, Бальмонта, Бунина и «Сумасшедший» Апухтина. После стихов — текст.
Я хочу и должна все-все испытать сама.
Жизнь в литературе — одно, а на самом деле — совсем-совсем другое. И легче, когда живешь в воображении, а не на самом деле. Но с этим нужно бороться.
548
— Что наша жизнь? — Роман.
— Кто автор? — Аноним.
Читаем по складам,
Смеемся, плачем, спим.
Разве можно поверить, что это написал Карамзин еще в восемнадцатом веке?.. А между тем это Карамзин. Он раньше писал эпиграммы, а потом написал историю.
3. П. говорит, что у меня есть литературный слог. Я ее спросила, зачем он нужен в жизни, а она говорит, что слог обозначает культурного человека. У культурного человека горизонт шире.
Мои взаимоотношения со Стасей В., как и раньше с Линой Г., состоят в том, что я являюсь отдушиной для ее излияний. Мне это не приятно, не неприятно. А так как-то — все равно. Горести Стаей кажутся мне не очень горькими и ее слезы — не очень жгучими. У Лины были гораздо более веские причины убиваться, чем у Стаей. И все-таки, все-таки... в самые критические моменты, когда я оглядывалась на себя, то убеждалась, что своя рубашка ближе к телу и что жизнь гораздо страшней, чем вот эти временные беды. Я поняла, что жизнь — страшная вещь, еще давно, лет пять тому назад, должно быть, с самого начала сознательной жизни. И я так думаю, что это же поняли все юноши и девушки, которые одинакового возраста со мной, или если не поняли, то почувствовали, но это — все равно. Но кроме того, все наше поколение научилось еще другому. Оно научилось тому, что, как жизнь ни страшна, нужно и можно с ней бороться и ее преодолевать. Тогда она становится вовсе не такой страшной и как-то даже оборачивается светлыми сторонами. Положи м, все эти мысли — не мои, но хорошо уже то, что они дошли до моего сознания и во мне укрепились.
Это придает силы к жизни и возможность с ней бороться. Уж я-то, во всяком случае, никогда не дойду до такого выверта, который устроили Лина и Зоя. То, что устроили они, и вообще-то глупо, а благодаря тому, что не удалось, получилось еще глупей. А на свете хуже всего — это оказаться в глупом положении перед всеми.
Когда я остаюсь одна, то мою душу переполняет какое-то странное чувство: полное отделение от земли, и словно я витаю где-то в безвоздушном пространстве. Это особенно бывает в лунные ночи.
Кому я нужна? Иногда кажется, что совсем никому не нужна. И вот тогда начинаешь лихорадочно-лихорадочно искать такого человека, которому нужна. Поэтому я отдушина.
А грамотная я потому, что у меня отец наборщик. С детства в
549
комнате — книги, читать научилась с пяти лет. Бытие определяет сознание.
Прочла все, что написала, и задумалась. У меня все зависит от настроения. Я могу и плакать — только этого никто никогда не узнает. Или я, например, хохочу безо всякого удержу. Я изо всей силы стараюсь себя в этих случаях сдерживать, потому что если поддаваться, то совершенно перестанешь управлять собой.
Вчера у меня была Стася Велепольская и опять рассказывала про свой роман. По-моему, она совершенно напрасно его мучит. Все равно она ни в какой вуз не поступит, потому что она — полуграмотная, и не к чему ей вовсе кончать пятую группу. А выходила бы замуж — и дело с концом.
Сейчас только кончился скандал между отцом и матерью. Отец пришел выпивши и начал ругаться с матерью. Потом они сцепились. Мать кричит мне: «Дунька, на помощь!» А отец кричит: «Сильфида, уходи, детям не место, когда ликуют взрослые!» Было очень противно; и если бы отец не ушел, я не знаю, что сделала бы.
Кончила «Войну и мир». Очень захотелось быть Наташей Ростовой, но чувствую, что не могу быть такой. У Наташи — настоящая, полная жизнь, но она не больше как самка. По «Войне и миру» выходит, что быть самкой есть задача женщины. Мне кажется, что у Наташи были и идеологические запросы, но Толстой их скрыл, как помещик и граф (представитель феодализма).
По-моему, Костя Р. немножко похож на Николая Ростова, только не такой глупый. А Зоя Травникова похожа на княжну Марию Болконскую, только красивей. Хотя, с другой стороны, красота Зои мне не нравится. У нее очень странная красота. И потом, она небрежно причесывается. О красоте вообще могут быть разные мнения. Я, например, не понимаю, что известный человек нашел в Стасе В. Нос у нее курносый, одного зуба с правой стороны нет, и потом, она когда ходит, то махает руками, как солдат. А известный человек так и пылает.
Я очень хорошо понимаю, что то, что я теперь пишу, есть мещанство, но отделаться от этого не могу.
Это нужно постоянно казнить себя за то — тогда отделаешься. Если бы я работала на фабрике, а не училась в школе второй ступени, мне, может быть, было бы легче, но и это — не наверное, потому что я знаю много фактов из жизни фабрики, к которой прикреплена наша комсомольская фракция. Один из этих фактов — такой. Одна из
550
девушек, шестнадцати лет, вышла замуж за парня, который там же, на фабрике, работает. И все начали над ней звонить, Это тоже, по-моему, мещанство. Раз власть разрешает выходить шестнадцати лет — выходи сколько хочешь.
Хотя я нипочем не вышла бы теперь замуж. (А имею право, потому что мне еще в июне было шестнадцать.) Я насмотрелась на разные замужества и вижу, что в большинстве случаев они проходят тяжело, и перед моими глазами — пример отца с матерью. Отец ведь раньше не выпивал, а теперь, после того как разошелся с ней в убеждениях, стал пить. Но с другой стороны, я должна испытать все-все. Пока я все не испытаю, до тех пор я не успокоюсь.
Но опять-таки, с другой стороны, я хорошо понимаю, что надо сдерживаться и управлять собой. И вот во мне борются две силы, и которая из них одолеет — я не знаю. Я даже про себя называю ту силу, которая меня толкает к разным опытам, Дунькой, а ту, которая воздерживает,— Сильфидой. Сильфида сильней, а Дунька — дрянь паршивая, невыдержанная идеологически девчонка.
Вот теперь об идеологии. Идеология помогает жить, это верно. Только не всегда знаешь, где правильная ориентировка. Вот танцы, например. Я до сих пор думаю, что нельзя танцевать, а вдруг пришла на фабрику, в клуб, и вижу — там танцуют. А я пришла по делу к секретарю ячейки Иванову и, кстати, спрашиваю:
— Разве можно танцевать?
А он отвечает:
— Никто никогда и не запрещал.
— Ну а почему же раньше говорилось, что танцы — мещанство и, как выразился один наш второступенец, содержат только половое трение друг об друга?
— А это больно учены все стали,— сказал Иванов.— Мы в монахи никого не записываем. Хочешь повеселиться — веселись, только другим вреда не приноси.
Вот тут и пойми. Очень трудно бывает разобраться в идеологии. А ведь от этого зависит все направление жизни.
В литературе легче разобраться, чем в ежедневных поступках. Каждое литературное произведение можно перечесть несколько раз и потом обдумать, а в каком-нибудь житейском деле нужно всегда немедленно решать.
Чаще всего затруднительные положения бывают в школе, и тут нужно всегда самой ориентироваться, потому что советоваться не с кем и некогда. Особенно когда бывают какие-нибудь столкновения со школьными работниками или бунты. А бунты в нашей школе бывают часто, и когда был инспектор, то он сказал, что у нас не школа, а собрание головорезов. Это, конечно, неправда. Конечно, беспорядки бывают часто, но ведь мы живем в революционную эпоху, и поэтому так и должно быть.
551
Зин-Пална ведет семинар по Пушкину, и с ней очень интересно заниматься. Теперь она дала нам разбор «Евгения Онегина». В таких вещах прежде всего обращаешь внимание на идеологию. Онегин, конечно, пропитан феодально-натурально-буржуазно-помещичьей идеологией (это очень длинно, но иначе трудно выразиться, потому что тут — натуральное хозяйство). В этом нет ничего позорного для Пушкина, потому что во времена Пушкина еще не было диктатуры пролетариата и советского строя. Тогда был царизм, и его представитель, Николай I, угнетал Пушкина — так, например, сослал его в Кишинев, а потом на родину. Только вот что мне непонятно: Пушкин был араб, и удивительно, как он при своей горячей южной крови мог написать такое холодное и бесстрастное произведение, как «Евгений Онегин». Зин-Пална говорит, что в эпоху Пушкина молодые девушки увлекались образом Татьяны. Мне это совершенно непонятно, как это в развратную феодально-буржуазную эпоху Татьяна могла быть идеалом. Я предполагаю, что женщин тогда таких не было и Пушкин выдумал Татьяну из головы, потому что он был романтик. Да и насчет Онегина я сомневаюсь. Но мне трудней судить, потому что я не знаю мужской психологии. Я никогда и ни за что не желала бы быть Татьяной, да и не буду таковой, потому что нужно отдаваться чувству, если оно искренне, а не подавлять его в себе. Да и вообще Татьяна — не мой идеал. В ней совершенно не было революционной борьбы. А без революционной борьбы жизнь невозможна. Но с другой стороны, Татьяна мне отчасти нравится, потому что она могла управлять своими поступками по желанию, а это много значит, и мне удается только с внешней стороны, а внутри у меня все время борьба. Конечно, Татьяне было легче, потому что она не была одновременно какой-нибудь Октябриной или Сильфидой, и она делала только то, что ей подсказывала натурально-помещичья мораль. (Это так говорит Николай Петрович.)
Большинство наших девочек хотят быть в жизни киноартистками или балеринами. Об ученье думают мало: лишь бы сдать зачет, а в голове может ничего не оставаться. Вполне понятно, что большинство девочек такие же полуграмотные, как Стася В. Одна девочка мне сказала (она из пятой группы): «Кончу школу, буду кинозвездой, уеду в Америку. Вот моя жизненная программа». А меньшая часть девочек хочет по окончании школы поступать на фабрику, чтобы врасти в класс.
Зоя Травникова меня преследует. Где я в школе, там и она. Что ей от меня надо?
16 августа
Я был на собрании ячейки на фабрике, и там сказали, у нас в школе слабо организована общественная работа. И что в этом виноваты сами второступенцы, а вовсе не шкрабы, как у нас принято думать. Сережка Блинов возразил, что мы ничего сделать не можем, потому что в школе все идет под команду шкрабов и даже такая отрасль, как самоуправление, является «инвалидом на шкрабьих костылях». Блинову ответили, что в этом опять-таки мы сами виноваты, потому что недостаточно активны, а потом, существует еще целый ряд общественных работ. Сережка сказал, что у нас есть стенгазета и кружки. Тогда ему поставили на вид, что пионерская работа не организована и что наши пионеры (все из младших групп) только тем и занимаются, что маршируют в зале под музыку и еще — играют. Да и кроме пионерской работы, существует общественная деятельность. Сережка хотел было возражать, но ему сказали, что на словах оправдаться в бездеятельности очень легко и что гораздо трудней оправдаться на деле. Одним словом, нас покрыли, и надо подтягиваться.
17 августа
Я сказал Сильве, что она дала мне неполный дневник, а она промолчала. Значит, правда. Я ей еще сказал, что я подержу дневник у себя, потому что не как следует вчитался в него. Потом дал ей три тетрадки, которые я вел за первый триместр. Перед этим прочитал их все и увидел, что там ничего такого нет, чего нельзя было бы ей читать. Интересно, что она скажет, когда прочтет.
18 августа
Дело о жманье Пышки принимает неприятный оборот. Оказывается, этому было посвящено несколько шкрабиловок (мне по секрету сказал Никпетож), и Зин-Пална потребовала, чтобы был устроен общественно-показательный суд над всеми, кто этим занимается. (Значит, большинство ребят.) Но Елникитка заявила, что, если бы не Рябцев, остальные ребята этим не стали бы заниматься и что если судить, то одного меня. Пышка ходит вся красная и надутая, потому что ее несколько раз вызывали к шкрабам, а Сильва говорит, что Пышка очень гордится тем, что из-за нее — такой шум. Я спросил Никпетожа, что будет, а он ответил, что не ожидает ничего, кроме общественного порицания. И кроме того, он сказал, что сам будет меня защищать. И еще посоветовал, чтобы я выбрал себе защитника из своих товарищей.
553
Я подумал и сказал Сильве, что не знаю, кого выбрать, А Сильва спросила, буду ли я иметь что-нибудь против, если защитником будет она.
— А как же ты будешь меня защищать? — спросил я.
— Да вот там увидишь, это уж не твое дело,— ответила Сильва.— Ты только согласись.
Я согласился.
19 августа
Меня подковали, так что я теперь хромаю. В школу все-таки хожу. А подковал меня Юшка Громов, и притом совершенно незаконно, потому что играет в той же второй команде и не имел никакого права налетать на меня. Как только нога пройдет, я ему покажу, как налетать. Тем более у меня буцы.
20 августа
Сегодня в школе произошел большой скандал. И надо записать все по порядку, чтобы самому легче было разобраться.
Это было в аудитории, на семинаре по Пушкину. Зин-Пална еще раньше нам задала написать отзыв про «Евгения Онегина».' Мы все написали и сдали еще дня три тому назад. (А в семинаре участвуют обе старшие группы: четвертая и пятая.)
Как вдруг сегодня, когда все собрались, влетает Зин-Пална, расселась с таинственным видом за столом, разложила на столе наши тетрадки и листы и молча на нас смотрит. А мы — на нее. Так прошло минуты три, и я начал подкашливать. Володька Шмерц фыркнул. Тогда вдруг Зин-Пална говорит:
— Если бы Александр Сергеевич Пушкин был жив, то он, наверное, умер бы во второй раз, если бы ему пришлось прочесть хотя бы десятую часть той невероятной чуши, которую вы здесь намарали. Я не нахожу слов. Выражаясь вашим любимым языком, это черт знает что такое! Впрочем, нет. Я ошибаюсь, значительно дальше черта.
Мы сначала было присмирели, но потом, услышав «дальше черта», захохотали. А Зин-Пална продолжала:
— Правда, отличились не все. Есть сравнительно удачные сочинения, но они, как всякое исключение, только подчеркивают общее правило. Вот, например, образчик чуши.
Она раскрыла какую-то тетрадку и стала читать вслух:
— «Пушкин был марксист и романист. По этому случаю он написал цельный роман под заглавием «Евгений Онегин». Там он старался оттенить борьбу классов, которая была в то время. Но все-таки Пушкин был буржуй и поэтому ничего не написал про
554
пролетариат, а только про буржуазию... Потом он женился и написал сказку для первой ступени под названием «Сказка про царя Салтана и его работника Балду». Потом его убили на дуэле и похоронили, но «Евгения Онегина» можно читать и сейчас».
Мы уже давно ржали как помешанные, а Зин-Пална на нас смотрела безо всякого смеха и потом говорит:
— Над чем смеетесь? Над собой смеетесь! К вашему сведению— из сочинений Гоголя, которого вы, наверное, читали так же внимательно, как и Пушкина.
— Неужели у всех так, Зинаида Павловна? — спросила с места Сильва.
— Я уже сказала, что есть исключения,— ответила Зин-Пал- на.— Но это не меняет общей картины. Вот еще голое изложение «Онегина», которое заслуживает быть прочитанным с начала до конца.
Тут она взяла какой-то лист и прочла:
— «Евгений был сын одного разорительного барина: он поехал в свой уголок и увидал, что дядя лежит на столе. Он стал увлекаца деревней, но скоро потерял свое увлечение и очаровался. Татьяна была помещицей. Она читала романы, била служанок и носила корсет. Она очаровалась Онегиным и велела своей няни написать ему письмо. Наня послала своего внука с письмом к соседу. Татьяна очень очаровалась Онегиным, он был уже всегда под изголовьем, они ходили по бедным и страдали тоску. Но за Татьяну вступился поет Ленский. Ленский был во всем наперекор Евгению, они каждый день дрались. Один раз Онегин пульнул в него из ривольвера и убил напролом. После этого Татьяна вышла замуж за своего друга генерала и жила очень даже богато, каждый день сбавлялась на пирах и на дворе была на примете. Ей муж был калека. Евгений увидал опять Татьяну и очень очаровался, он надевал на нее пальто, раздевал ее. Евгений пришел к ней, выразился в чувствах, но она выразилась, что замужняя за генералом и будет ему верна. На этом Евгений свое изложение кончил».
— Это Стаська Велепольская писала,— крикнул вдруг с места Юшка Громов.— Я сам видел, как она на этом листке писала.
Как только он это крикнул, хохот прекратился. Стаська Велепольская вскочила, топнула ногой, вся покраснела, хотела что-то
555
сказать, но у ней из глаз поползли слезы — и она вылетела из аудитории. Но на этом дело не кончилось.
— Ну, вот видите, Громов, до чего доводит ваш невоздержанный язык,— сказала Зин-Пална, помолчав.— Кто вас просил кричать на всю аудиторию? Грамотность Велепольской вы этим не повысите и лучше учиться ее не заставите. Добьетесь разве только того, что Велепольская в школу ходить не будет.
Но тут меня удивила Сильва. Она вдруг вскочила и говорит:
— Нет, такие вещи обязательно нужно обсуждать публично, Зинаида Павловна. Если проходить мимо таких фактов равнодушно, то не нужна сама школа второй ступени.
Тут на Сильву со всех сторон зашикали девчата, но Сильва продолжала:
— То, что это не нравится девочкам, меня все равно не остановит. И вполне понятно, почему не нравится. Если людям интересней театральные студии, пусть они туда и идут. Есть много желающих учиться, оставшихся за бортом школы. Надо дать им место.
Тут большинство девчат вскочило и начало что-то кричать, но нельзя было разобрать за шумом, что именно. Некоторые со сверкающими глазами налезали на Сильву, так что я показал даже одной за спиной кулак. Но девчата не унимались. Тогда вдруг Зин-Пална как трахнет кулаком по столу и топнула об пол ногой:
— Перестать кричать! Помните, что здесь школа.
И даже вся покраснела от волнения. А я заметил, что ей нравятся такие скандалы, хотя она делает вид, что злится.
Когда все более или менее замолчали, то Зин-Пална предложила избрать председателя и открыть диспут о том, прав ли был Юшка Громов, что назвал Стаську Велепольскую, или нет.
— Но так как речь идет о личностях,— сказала Зин-Пална,— то я предложила бы поставить вопрос несколько шире, а именно: допустима ли в пятой группе второй ступени такая неграмотность, которая обнаружена мною в сочинениях ка тему о «Евгении Онегине»?
Сережка Блинов, который до сих пор молчал, говорит с места:
— Мы пришли сюда учиться, а не диспуты разводить.
— Ну, признаюсь, Блинов,— отвечает Зин-Пална,— вы меня удивляете. Вы, такой сторонник всестороннего обсуждения каждого вопроса, и высказываетесь против диспута. Впрочем, если большинство того же мнения, я отказываюсь от своего предложения и готова рассказать вам о Пушкине и его произведениях еще раз. Если вы соблаговолите вспомнить, в прошлом году Пушкину были посвящены два месяца. Вопрос о Велепольской придется поставить на обсуждение школьного совета и общего собрания школы.
— Ну нет,— говорит Сильва.— То, что говорит Блинов, еще не обязательно для всех нас. Я, например, считаю, что вопрос о Велепольской должен быть обсужден немедленно и даже должна быть вынесена резолюция с указанием мер, которые должна принять школа.
556
Стали голосовать, и оказалось, что половина — за диспут, а другая половина — против. Тогда Сережка Блинов встал и говорит:
— Я ухожу. Здесь была применена мера, которую обыкновенно применяют наши школьные работники. Перед самым голосованием Зинаида Павловна пригрозила школьным советом и общим собранием. Естественно, что ее предложение собрало известное количество голосов, и диспут, несмотря на внутреннее сопротивление собрания, все же состоится. Такого рода угрозы можно назвать насилием и моральным давлением; в диспуте же, который создан насильно, я участвовать не желаю.
— Вам нельзя отказать в логике, Блинов,— отвечает Зин-Пал- на,— но согласитесь сами, что такого рода явления, как сочинение Велепольской и выходка Громова, не могут проходить бесследно как мимо учащихся, так и мимо школьных работников. Что же прикажете делать? Я предлагаю меру, которая может дать ориентировку в дальнейшем, меру, казалось бы, разумную и для части собравшихся приемлемую,— вы говорите, что пришли учиться, а не разводить диспуты. Обращение к школьному совету и общему собранию вы называете насилием. Можно подумать, что вы, Блинов, вообще хотите затушевать вопрос и не желаете по каким-то причинам его разрешения.
— Да пусть он уходит отсюда вон,— крикнул я с места.— Слушать такие споры — это самое скучное и ничего не может нам дать. Давайте или диспут, или уроки, а эту бузу нужно кончить.
— Конечно, правильно! — закричали ребята.— Даешь одно или другое!
Из девчат кое-кто ушел за Блиновым, но большинство осталось, и решили открыть диспут. В председатели выбрали меня.
Зинаида Павловна пошла и села за парту, а я на ее место. Первым взял слово Юшка Громов.
— Я не вижу никакого проступка в своем поведении,— сказал он.— Что же из того, что я сказал про Стаську? А она не пиши таких сочинений!
— А ты не ори, когда тебя не спрашивают. Не по существу. Садитесь, Громов, вас вызовут,— сказал я.
Тут Юшка начал было разоряться, что я не так председательствую и что я не имею права делать замечаний, но на него закричали, и он сел. Потом взяла слово Сильва.
— Я,— говорит,— чувствую, что своим выступлением возбудила против себя часть девочек, но без этого нельзя было обойтись. Я им желаю добра, а вовсе не зла. Пятая группа через несколько месяцев должна поступить в вузы, вообще войти в настоящую жизнь. И что же они туда принесут с собой, в вузы? Ведь то, что нам сегодня читала Зинаида Павловна, даже нельзя назвать некультурностью, это просто дикое невежество. Самое плохое то, что та же Велепольская не нашла нужным посоветоваться с кем-нибудь из школьных работников или с кем-нибудь из ребят, кто знает предмет получше ее. Она просто «на шарап», как говорят наши малыши, взяла и написала:
557
авось проскочит! Мое конкретное предложение — это пусть наша пятая группа обратит на себя внимание еще до того, как выскочит в абитуриенты, и ликвидирует свою неграмотность.
Затем выступил Володька Шмерц. Как только он встал, я сейчас же почувствовал, что он что-нибудь нахулиганит.
— Зинаида Павловна говорит,— сказал Володька,— что Пушкин умер бы во второй раз, если бы прочел наши сочинения. А я так думаю, что и пускай бы умер, потому что он был буржуазного происхождения, а мы, как поется в песне, «молодая гвардия рабочих и крестьян».
— Не по существу, товарищ Шмерц,— сказал я.— Потрудитесь держаться темы и не разводить бузы. В противном случае я вас лишу слова.
— Хорошо, я буду по существу,— говорит Володька.— Так вот, по-моему, Громов имел право назвать автора сочинения про «Онегина», потому что если Велепольская в пятой группе подолгу разговаривает со шкрабами, и даже наедине, так это еще не значит, что она очень образованная...
— Лишаю оратора слова,— сказал я.— Еще того недоставало, чтоб ты, Володька, стал разные сплетни здесь разводить.
Шмерц как-то скверно захохотал и сел на место. А я ему вслед говорю:
— А если вы, Шмерц, вообще будете хулиганить, то ц попрошу вас уйти с собрания.
— Чтой-то ты какой вежливый, Рябцев? — ответил Володька Шмерц.— Должно быть, в школьный совет метишь.
Я обозлился:
— За намеки на личность председателя прошу вас, Шмерц, оставить собрание.
— Я не подуруша какой-нибудь, чтобы ни с того ни с сего уходить с собрания.
— Что это еще за «подуруша»! Ступай вон!
— Ну хорошо, я уйду. А подуруша — это из писем Пушкина.
Советую тебе, Рябцев, прочитать. Ликвидируй свою неграмотность.
И ушел. По-моему, он нарочно все это подстроил, для того чтобы при всех доказать, что я не читал писем Пушкина.
После этого взяла слово одна из старших девочек и начала говорить против Сильвы. Кроме того, она сказала, что виноваты в неграмотности не учащиеся, а шкрабы (с чем я отчасти согласен)
и что не нужно было таких неграмотных переводить из группы в
группу. Она говорила довольно мирно, и, наверное, диспут так бы и кончился без инцидентов, но тут произошло следующее.
В аудиторию быстрыми шагами вошел Никпетож, огляделся, увидел, что Зин-Пална сидит на парте, и подсел к ней и начал что-то очень горячо говорить шепотом. Зин-Пална отрицательно качала головой и ему тоже горячо отвечала. В конце концов все замолчали и начали вопросительно смотреть на них на обоих.
558
И вдруг Никпетож повышает голос и возбужденно говорит:
— А это разве педагогический прием: шельмовать при всех взрослую девушку и доводить ее до слез и до истерики?
Зин-Пална спокойным голосом, но тоже вслух отвечает:
— Здесь разговаривать об этом не стоит, Николай Петрович; поговорим в учительской.
— Нет, это совершенно неправильно,— говорит Никпетож и хотел было продолжать, но тут я собрался с духом и сказал:
— Николай Петрович, хотя я вас очень уважаю, но я вам слова не давал, и поэтому если хотите вести частные разговоры, то ступайте в коридор. Здесь происходит диспут.
— Ах, здесь диспут! Извиняюсь, я не знал,— отвечает Никпетож и вышел из аудитории, а за ним Зин-Пална.
Как только они вышли, все сорвались с места, и как я ни стучал об стол кулаками, порядка мне восстановить не удалось. Девчата сбились в угол и начали шушукаться, а ко мне подходит Сильва и говорит:
— По-моему, мы все быстрыми шагами идем к мещанству. Как бы от этого избавиться?
— А в чем ты видишь мещанство?
— Да вот: разве это диспут? И кроме того, я сейчас себя поймала на скверной мысли. Когда вошел Никпетож, я почти была уверена, что он войдет...
— Ия тоже.
— Ну вот. Это и есть мещанство. Пойдем отсюда.
В шкрабьей комнате шел горячий спор: там все шкрабы были в сборе, и громче всех выделялся голос Никпетожа. От маленьких я узнал, что со Стаськой Велепольской случилась истерика и что она ушла домой.
Ребята как-то странно притихли. Я решил, что самое лучшее — это идти на футбольную площадку. Так я и сделал.
24 августа
По школе все упорнее идет слух, что между шкрабами полный разрыв и что Никпетож собирается уходить из школы. И будто бы на стороне Зин-Палны — все остальные шкрабы, а Никпетож — в одиночестве. Из ребят многие на стороне Никпетожа, а девчата — почти все.
Все как-то странно перемешалось: я, например, не знаю, как мне теперь быть и на чью сторону становиться. Сильва ж целиком на стороне Зин-Палны, потому что, по ее мнению, Никпетож, какие бы чувства к Стаське ни питал, должен был поддерживать справедливость и открыто признать, что Стаська не имеет права писать такие сочинения и что вообще Стаське не место в пятой группе.
Я с этим согласен, но, с другой стороны, во-первых, я очень люблю
559
Никпетожа, а во-вторых, я из принципа всегда становлюсь на сторону меньшинства. А тут хотя из ребят-то большинство на стороне Никпетожа, но шкрабов — большинство против, и они, конечно, его победят, потому что шкрабы всегда побеждают, если они в большинстве.
Для меня сводится вопрос к следующему: Сильва или Никпетож? Сильва говорит, что если я стану на сторону Никпетожа, то это значит, что я — беспринципный человек.
Вопрос этот решить сразу нельзя, а надо обдумать. Поэтому я решил до тех пор воздержаться от соединения с какой-нибудь партией, пока не найду настоящего ответа на этот вопрос.
26 августа
Ввиду того что скоро наступает новый учебный год, я пошел вместе с Сильвой к секретарю ячейки Иванову, чтобы узнать, когда мы станем настоящими комсомольцами, а не кандидатами. Иванов
сказал нам, что поставить об этом вопрос на ячейке можно и что даже, по всей вероятности, нас обоих утвердят, но этого мало. Тут он еще вставил, что, по его мнению, мы оба при желании можем быть активистами, потому что данные есть. Мне это было очень приятно. Потом Иванов стал развивать о том, что дело не в вывеске и не в том, чтобы называться комсомольцами, а в том, чтобы на самом деле быть ими. А для этого нужно поднять работу в школе на должную высоту. Я сказал, что, по моему мнению, поднимать работу должен бывший секретарь ячейки Сережка Блинов.
— Ну, уж с этим я не согласен,— говорит Иванов.— Во-первых, ваш Блинов — бузотер порядочный. А во-вторых, если все комсомольцы будут валить на секретаря, то любой секретарь, хоть он двужильный, лопнет от работы, тогда как другие будут бездельничать. Нерационально все валить на секретаря. Тем более что государство дает вам возможность стать в ряды культурных людей, и вы должны оправдать это доверие теперь же и показать, что вы действительно в авангарде. А для этого обязательно самим работать всеми силами, а не ссылаться на секретарей.
560
— Вот что я хотела спросить, товарищ Иванов,— говорит Сильва.— Вы сейчас упомянули культурных людей и что государство дает нам возможность стать в их ряды. Ну, так вопрос вот в чем. Наши наиболее развитые девочки по окончании школы хотят идти на фабрику. Может быть, было бы лучше, если бы они прямо, не кончая школы, шли на фабрику?
— А зачем им на фабрику? — спросил Иванов.— Что они будут делать на фабрике?
— Конечно, работать,— отвечает Сильва.— А вообще затем, чтобы врасти в класс.
— Ка-а-ак? — с удивлением спрашивает Иванов.
— Врасти в класс. Стать пролетарками.
— Да ведь это очень трудно — после второй ступени работать на фабрике. И кроме того, на фабрике начинают с подростков.
— Трудности можно преодолеть.
— Спору нет, можно. И конечно, пожалуй, пользительно было бы вашим барышням поворочать горбом,— задумчиво сказал Иванов,— Да ведь такое дело: будет ли рационально? То есть в том смысле, будет ли это рациональное использование энергии? Ведь как-никак на вас всех громадные деньги народные ухлопаны. И ухлопаны для того, чтобы вы могли приносить пользу своими спецзна- ниями. А вы вдруг бросите весь этот багаж на полдороге и начнете переучиваться на фабричных работниц. Значит, на вас нужно тратить еще какую-то добавочную, лишнюю энергию — это для вашего обучения на фабрике. А лишней энергии у государства нет. Кроме того, у нас масса безработных, часто квалифицированных безработных. И мы, вместо того чтобы удовлетворить трудом этих безработных, будем тратить время, деньги, вообще энергию на то, чтобы вас обучить сызнова, бросив к чертовой матери под хвост все, что истрачено на вас раньше. Нет, товарищи! Так не годится! Нам нужны врачи, учителя, инженеры, да, кроме того, техники средней квалификации. Откуда мы их возьмем, как не из второй ступени или из семилетки? Поэтому с фабрикой придется погодить.
— Значит, нам всем закрыт доступ на фабрику? — упавшим голосом спросила Сильва.
— Доступ не закрыт,— отвечал Иванов.— При известной настойчивости можно, конечно, поступить. Не на нашу, так на другую. Но вы должны поставить перед собой резкий вопрос: рационально ли? Ведь вы сознательные люди, а не какие-нибудь там анчутки беспятые. И раз вы сознательные и представляете себе затруднительное положение Советского государства, вы должны не увеличивать затруднения, а всячески их ликвидировать.
Тогда я спросил, как Иванов представляет себе нашу работу в школе и что мы должны делать, чтобы поднять работу на высоту.
— Работы вашей в школе никакой нет,— ответил Иванов; и мне стало очень обидно.— По крайней мере, не видно результатов. А чтобы поставить работу, нужно перестать болтать и взяться за дело.
561
Тогда я спросил, что могли бы делать, например, мы с Сильвой.
— А пионеры у вас организованы? — сказал Иванов.
— То есть как организованы? Они дают торжественные обещания, потом маршируют, носят галстуки, участвуют в демонстрациях, потом...
— Вот то-то и есть, что носят галстуки. Теперь везде в школах организуются форпосты пионеров из тех ребят, которые не нагружены в отрядах. Форпосты должны привлекать школу к участию в общественно-политической жизни страны, налаживать самоуправление, помогать учителям даже вплоть до учебной работы и еще проводить политическое, физическое и антирелигиозное воспитание ребят. Да всех задач не пересчитаешь. Вот вы бы и взялись организовать такой форпост у себя.
После этого мы ушли.
27 августа
Был суд надо мной по делу Пышки.
Все было очень торжественно. Председателем суда был избран Сережка Блинов. Он хотя отнекивался, но в конце концов довольно вяло согласился. Обвинителей было двое: Алмакфиш и Нинка Фрадкина. Защитников — тоже двое: Никпетож и Сильва.
Для меня поставили отдельную скамейку, для Пышки •— тоже. Потом избрали двенадцать заседателей: шесть ребят и шесть девчат. Когда я увидел, что в заседатели вошли Володька Шмерц и Юшка Громов и еще некоторые их приятели, я решил, что мне несдобровать.
Суд открыл Сережка Блинов. Он сказал:
— Слушается дело по обвинению Кости Рябцева в том, что он организовал совершенно недопустимую в школе возню с потерпевшей Еленой Орловой. Костя Рябцев, ты сознаешься в этом?
— В чем? — спросил я.— Что возился — признаю, но преступления не вижу. Жмали все.
— Кто все?
— Все ребята.
— А ты был предводителем и инициатором?
— Ничего подобного.
— Кто же, по-твоему, был инициатором?
— Никто. Просто жмали и жмали. Это — такая игра.
— Но ведь в игре бывают предводители: например, капитан в футбольной команде.
— Футбол — игра организованная, а это — неорганизованная.
— Ну, хорошо. Пока довольно. Лена Орлова,* ты признаешь себя потерпевшей?
Пышка молчит.
— Ну что же, Орлова? — официальным тоном спрашивает Сережка.— Тебя все ждут.
562
— Он жмал,— пищит Пышка еле слышным голосом.
Все как захохочут. Сережка зазвонил в колокольчик.
— Публика, ведите себя приличней; иначе очищу зал заседаний. Итак, Орлова, ты считаешь себя потерпевшей.
— Да ничего подобного! — заорал Колька Палтусов из публики.— Просто она признает, что жмал.
— Палтусов, еще одно восклицание — и ты уйдешь из зала заседания. Что же, Орлова, это тебе приятно было?
— Неприятно,— пищит Пышка.
— Так почему же ты не обращалась к дежурному шкррр... школьному работнику?
— Боялась.
— Чего боялась?
— Да-a, чего...— пищит Пышка,— а вздуют.
Все опять захохотали. Сережка говорит:
— Это вздор, Орлова. Где это ты видела у нас в школе, что мальчики бьют девочек?
— Сколько раз,— отвечает Пышка.
— Разрешите мне вопрос,— ввязалась Зин-Пална из публики.— Скажите, Орлова, а почему эти драки не доводятся до сведения школьных работников и почему никто о них не знает?
— Да ведь это игра,— отвечает Пышка.— А бывает, что девочки бьют мальчиков.
— Ну, пока довольно, Орлова,— сказал Сережка Блинов.— Теперь свидетели. Суд вызывает только одну свидетельницу: гражданку Каурову, которая была в этот день дежурным шкррр... школьным работником. Елена Никитишна, что вы можете сказать по этому делу?
— Я могу сказать то,— говорит Елникитка,— что Рябцев, как мальчик безнравственный, несомненно, был во главе той шайки, которая нападала на Орлову. То, что и он и Орлова называют игрой, вовсе не игра, а безобразие. В школе это недопустимо. Если бы это был не Рябцев, еще можно было бы думать, что тут невинная детская шалость. Но о Рябцеве существуют другие сведения.
— Ну, о других сведениях мы говорить не будем,— сказал Сережка.— Кто еще желает дать свидетельские показания?
— Я,— говорит Колька Палтусов.
— Что же ты можешь сказать? Да говори поскорей.
Тут вдруг — Сильва:
— Я выношу протест, что председатель подгоняет свидетелей.
— Ну ладно,— отвечает Сережка.— Всем нечего тянуть. Говори, Палтусов.
— Ну вот,— начал Колька.— Я тоже в этом участвовал и не понимаю, почему судят одного Рябцева. Была обыкновенная возня, и если судить, то придется судить всю школу по нескольку раз в день. Пускай сами шкрабы вспомнят, возились они или нет, когда были маленькие или хотя бы во второй ступени...
— Говори: школьные работники, Палтусов,— поправил Сережка.
563
— Ну, школьные работники, это все равно. И в литературе написано, как возились. Только им раньше была дана большая власть, и за возню учителя в старой школе избивали и драли ребят, а теперь — нельзя, вот они и придумали суд...
— Суд никто не придумывал,— строго перебил Сережка.— Суд есть организованная форма советской общественности. Ну, довольно. Слово предоставляется обвинителям. Александр Максимович, пожалуйста...
И вдруг Алмакфиш неожиданно заявляет:
— Я отказываюсь от слова, потому что дело и так ясное.
Все посмотрели на него с недоумением. После этого выступила Нинка Фрадкина — второй обвинитель.
— Я,— говорит,— требую, чтобы Костю Рябцева обязательно наказали как можно строже: например, выгнали бы из школы. Потому что у него руки не на привязи и он не может пройти мимо девочки, чтобы не вытянуть ее по спине...
— А сама-то на прошлой неделе меня за волосы дернула,— говорю я.
— Подсудимый, твоя речь впереди, а сейчас молчи,— это Сережка.
— Я — один раз, а ты меня — сколько раз,— говорит Нинка.— Потом он — верно — постоянно устраивает жманье Лены Орловой. Они все говорят, что им нравится, как она пищит. Ну а если им нравится, как я ору или как я хлопаю их по щекам туфлей, то они меня тоже будут жмать? А это безобразие, если они всех девочек начнут жмать. Поэтому я требую примерного наказания для Рябцева, и если не из школы исключить, то по крайней мере дать ему сто задач по математике и чтобы он все их решил в неделю.
— Ученьем не наказывают,— говорит Сережка.— Теперь пусть говорят защитники. Ты, что ли, Дубинина, первая.
— Могу и я,— говорит Сильва и вскочила с места.
Поглядел я на нее — и не узнал: глаза горят, волосы закудрявились и растрепались.
— Если,— говорит,— исключать Рябцева, то нужно исключить и всех остальных мальчиков. Пусть остаются одни девчата. Потому что и Фрадкина, которая обвиняла Рябцева, и все остальные прекрасно понимают, что не Рябцев один виноват, а все мальчики. В коридорах и в зале идет постоянная возня, и не разберешь, кто кого колотит или кто с кем возится. Но здесь мы пойдем против идеологии Советской власти, которая ввела совместное обучение для того, чтобы раскрепостить женщину и установить равенство полов. Конечно, может, Рябцев рукоприкладствует чаще, чем другие, но из этого еще не следует, что мы должны нарушать установленный революцией порядок и отделять девочек от мальчиков. Почему ко мне никто никогда не лезет ни с любезностями, ни с колотушками? Потому что я этого не желаю и никогда не допущу. Так же и другие. Вместо приговора Рябцеву я предлагаю вынести приговор
564
всем девчатам, которые любят возню, а потом предлагают других исключить...
— Теперь Николай Петрович,— говорит Сережка.
— Мне, пожалуй, после Дубининой говорить больше и нечего,— сказал Никпетож.— Но все же я могу добавить. В каждом человеке борются два начала: доброе и злое. Люди в свое время воплотили это в противопоставление: бог и черт, свет и тьма и так далее. И в литературе это отразилось. Например, есть такая драма Шекспира: «Король Генрих». Там описывается, как принц Генрих водит знакомство с пьяницей и распутником Фальстафом, нападает вместе с ним на прохожих, кутит и все такое прочее. Но вот Генрих становится королем, Фальстаф спешит к нему, думая, что теперь-то Генрих наградит его и опять начнет кутить безо всякого удержу, но тут-то Фальстаф и ошибается: Генрих едва вспоминает Фальстафа — и то как тяжелый, кошмарный сон... Это надо понимать так. В каждом человеке сидят и Генрих и Фальстаф. Может иногда — особенно в молодости — брать верх и Фальстаф, но достаточно, чтобы человек почувствовал ответственность перед другими,— и одолевает Генрих, и тогда фальстафовщина вспоминается как тяжелый сон... Теперь вы хотите осудить поступки Рябцева, в которых — я согласен с Дубининой — ничего особенного и нет: обыкновенная школьная возня. Но допустим, что это — фальстафовщина в Рябцеве, которая исчезнет как дым. А обвинительными приговорами мы толкнем Рябцева к противодействию и к продолжению фальстафовщины... А ведь в Рябцеве больше принца Генриха, чем Фальстафа, то есть я хочу сказать: больше добра, чем зла...
Тут как сорвется с места Алмакфиш.
— Позвольте мне слово! — кричит.— Я, как обвинитель, имею возразить защитнику. Николай Петрович тут говорил про добро и зло и что в Рябцеве больше добра, чем зла. Я настаиваю и утверждаю, что качественно поступок Рябцева стоит по ту сторону добра и зла, а количественно он являет изобилие эпохи. Я кончил.
Так никто и не понял, что он хотел этим сказать. (А Никпетож любит Шекспира и уж куда его только не сует!)
— Имеете последнее слово, подсудимый,— говорит Сережка Блинов.
— Я себя оправдывать не стану,— сказал я.— Я не виноват, и все это знают, поэтому если я буду оправдываться, значит, буду защищать эту комедию. Но вот что я хочу сказать. Тут сначала Николай Петрович, а потом Александр Максимович говорили насчет добра и зла. Из политграмоты видно, что никакого добра и зла не существует, а все зависит от экономических отношений, а добро и зло — это есть идеализм. Я, например, думаю, что во мне нет никакого добра и зла: когда я сыт, то добрей, а когда голоден — тогда злей, и если ко мне пристают, то могу отдубасить. Вот и все.
Заседатели ушли и совещались ровно пять минут. Когда они
565
вышли, у меня сердце так и схватило: а вдруг приговорили выставить из школы? Но Володька Шмерц прочел:
— ...поставить Рябцеву на вид его поведение и прекратить жма- ние, а Орловой и другим девочкам тоже поставить на вид, чтобы не позволяли себя лапать и жмать.
Все вышло по-сильвиному.
28 августа
Вышла новая стенгазета, без номера и без подписей, под заглавием: «За Никпетожа».
Так как я до сих пор не решил, к какой партии мне присоединиться, то я не только в этой газете не участвую, но даже не знаю, кто ее выпускал. Сильва тоже не знает.
Там есть такая статейка:
МЕДИЦИНА — БОРЬБА С ЯЗЫКОЧЕСОТКОЙ
Профессором Ив. Ив. Дураковым найден способ лечения языко- чесотки, в последнее время распространившейся до размеров угрожающей эпидемии. Многоуважаемое светило медицинского мира, получившее, кстати сказать, на днях Нобелевскую премию в размере двух соленых огурцов, посвятило борьбе с вышеуказанной болезнью меньшую половину своей жизни.
И. И. Дураковым найдена языкочесоточная бацилла, распространяемая укусами глупоповодиса при сильно развитом бездельи- мусе.
Наш маститый ученый привил вполне самоотверженно указанную бациллу — себе, отчего стал болтать до 1000 слов в минуту, из них — 120% гнуснейшей сплетневой чепухи. Благодаря, однако, геройской выдержке ученого им было открыто средство для борьбы с болезнью.
Средство это, состоящее из вытяжек из Каутского и других авторов, писавших о марксистской этике, названо Ив. Ив. Дураковым антисплетницин...
Принимать рекомендуется в свободное от занятий время, а также перед сном.
Помимо антисплетницина, тов. Дураков установил особую дисциплину лечения страшной болезни. Больной, находящийся на излечении, для достижения благоприятных результатов (снижение бацилловой продукции до 25 сплетушков в минуту) должен безостановочно обсуждать следующие темы:
1) сравнение поджога Москвы в 1812 году с имевшим место в нашей школе поджогом шкрабских правил,
2) черты сходства и различия между моторной лодкой, сюртуком, гвоздем и панихидой,
566
3) проблема закуривания папирос о блестящие лысины (доказать математически).
В беседе с нашим репортером гр. Дураков заявил, что первоначально он обратил внимание на языкочесоточную бациллу в мировом масштабе (когда ноты Керзона перевалили за размер воскресного «Таймса»). После того как эпидемия захлестнула и СССР, профессор переехал для специальных исследований в Россию, где и натолкнулся на нашу школу. На днях профессор начнет пользовать больных языкочесоткой в нашей школе.
Скипидар для смазывания языков у больных заготовлен в количестве нескольких тонн.
Всем это очень хорошо, и я с этим вполне согласен, но у меня с каждым днем все мучительней развивается внутренняя борьба. За кого мне быть: за Никпетожа или против? Ходят слухи, что Никпетож окончательно и бесповоротно уйдет. Без него в школе будет пусто.
Я сказал про свои сомнения Сильве; она говорит, что ей тоже тяжело, но принцип прежде всего. И кроме того, Сильва говорит, что уже давно известно, что личность не играет в истории никакой роли. Это-то верно...
29 августа
Я наконец решился — и обратился прямо к Никпетожу.
— Николай Петрович,— спрашиваю.— Когда личное и общественное сталкиваются, тогда чему следует отдать предпочтение?
— Общественному,— ответил Никпетож.
— Так. Поэтому... Я не мог быть в партии, которая за вас. Хотя мне это очень тяжело, я принужден быть в противной партии.
— Не нужно никаких партий,— сказал Никпетож, и мне показалось, что ему тяжело говорить.— Я знаю, что я... не прав. Я ухожу из школы. Я на некоторое время поставил личное выше общественного.
Я чуть не заплакал. Разговор этим кончился.
30 августа
Мы с Сильвой — комсомольцы. Все инстанции нас утвердили. Нам поручено организовать в школе форпост пионеров. Это наша первая партнагрузка.
Сегодня стало окончательно известно, что Н. П. Ожигов уходит из школы. Я буду ходить к нему на квартиру.
567
1 сентября
Я вошел в школьный совет от форпоста. Пионеры меня качали. Меня почему-то младшие ребята любят.
Да здравствует наш форпост!
РАЗБОЙНИЧИЙ ФОРПОСТ
5 сентября 1924 года
Только что перечитал все тетрадки дневника за год. Многое интересно, но много и бузы, а некоторые места читать просто стыдно самому. В будущем постараюсь записывать действительно серьезные и важные события, чтобы не портить зря бумаги. Тем более что предстоит такое серьезное и ответственное дело, как организация и проведение в жизнь форпоста юных пионеров.
Никпетож ушел и, по слухам, будет работать на фабриках как культработник, так что и посоветоваться будет не с кем, если что-нибудь случится затруднительное. Но я заметил, что стал гораздо серьезней, и понимаю, какая теперь лежит на мне ответственность. Во всяком случае, постараюсь оправдать доверие укома. В этом деле важней всего выяснить цели и задачи форпоста, и тогда сразу станут понятны пути, по которым нужно добиваться этих целей.
С Сильвой мы несколько расходимся по вопросу о форпосте, но это ничего не значит. Я так думаю, что сущность форпоста ясна из самого его названия. Никпетож мне объяснил, что «форпост» значит по-немецки: «передовое укрепление», «передовой пост». Чье передовое укрепление? Ясно, что партии и комсомола. Следовательно, форпост в школе первой ступени, где комсомольцев нет или очень мало, должен играть роль комсомольской или партийной ячейки, то есть направлять и влиять, в сущности, на всю работу школы. И идти впереди. И тут задачи важней, чем следить за ребятами, чтобы они ходили с утертыми носами, или чистили зубы, или уроки готовили. На это есть учкомы, санкомы и прочие школьные объединения. А форпост — это идейное руководство, а кроме того, нужно забрать в руки полное влияние над неорганизованными ребятами.
Но форпост хорош еще и тем, что позволяет влиять на шкрабов. Взять, например, хоть отметки. До сих пор некоторые из шкрабов ставят уды, нуды, вуды, а Людовика Карловна хотя и тайно, но продолжает ставить двойки, тройки и пятерки. Вообще Люкарка — личность безвредная; она очень толстая, добродушная; и не все ли равно, сколько она поставит за пение, потому что пение предмет необязательный. Но важен принцип. Раз отметки уничтожены — ни¬
568
кто не имеет права их ставить, хотя бы и тайно. А уды и нуды — это те же отметки.
Хорошо, что послезавтра начинаются занятия в школе; значит, все войдет в свою колею.
8 сентября
Занятия начались. Мы с Сильвой переписали всех пионеров как первой, так и второй ступени. Всего оказалось сорок восемь человек из разных отрядов. Первое собрание форпоста назначили на ближайшее воскресенье. Посоветовавшись в учкоме, мы с Сильвой решили форпостом называть все объединение школьных пионеров и из их среды выбрать совет форпоста. А не так, как в семнадцатой школе (она недалеко от нас): там форпост избирается собранием всех пионеров. По нашему мнению, это неправильно. Будем делать по-своему.
9 сентября
Не успели начаться занятия, как некоторые девчата спешат проявить свой характер. В частности, Черная Зоя. Я ей неоднократно показывал свое равнодушие, но она не может успокоиться. Кроме того, пора кончить заниматься пустяками. Но ей неймется. Сегодня она пристала ко мне с поэтом Есениным. Ей очень нравится «Москва кабацкая» и потом еще и то стихотворение, где Есенин пишет: «В зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь...»
Я выразил свое мнение в таком виде:
— Есенин — типичный крестьянский поэт, попавший в город и не смогший осуществить свои мелкобуржуазные тенденции. Поэтому на нас он не должен влиять, поскольку мы настаиваем на диктатуре пролетариата. И стихи его — упадочные. Никпетож просвещал нас в том смысле, что Есенин — скорей поэт богемы и люмпен-пролетариата, но я с этим не согласен. Может быть, если считать, что богема есть мелкобуржуазное течение, тогда это так.
После этого Черная Зоя вдруг говорит:
— А я сама пишу стихи. Тебе было бы интересно послушать?
Я сказал ей, что не очень-то интересуюсь стихами, но послушаю. Тогда она прочла мне следующее:
Я опять к тебе вернулась,
Я теперь совсем твоя,
От любви прошедшей отвернулась,
Сделалась покорная раба...
Только отчего-то змейкой в косы.
Серебристая вплелася прядь...
569
То, что тот, ушедший, был дороже,—
Никогда не буду вспоминать.
Все равно — любовь того, другого,
Как моя любовь к нему — ушла...
Я еще вчера о нем молила бога,
А теперь — твоя покорная раба...
Я взял у ней листок и стал разбирать стихи по косточкам. Главным образом меня здесь интересовала идеология.
— Прежде всего, рабство отменено,— сказал я.— И даже всякие там нежные чувства не могут его воскресить. И если ты так чувствуешь, то это не больше как пережиток проклятого прошлого, который тебе нужно вырвать с корнем. Во-вторых, в стихах замечается такая буза: серебристая прядь, которая вплелась в косы,— это, должно быть, надо понимать: седая? А какая же у тебя седая прядь? Если бы ты сравнила свои косы с гуталином, это еще было бы на что-то похоже...
— Да это — поэтическое преувеличение, гипербола,— перебила Черная Зоя.
— Ну, это не оправдание, нужно знать меру и в преувеличениях,— ответил я важно.— А то черт знает что можно написать; например: что у тебя в груди волнуется океан, а ты по нему плывешь на лодке... Потом, разве так бывает, что вчера ты любила одного, завтра — другого, а потом — опять первого?..
— Бывает,— не глядя на меня, ответила Зоя.
— Это девчачьи бредни, по-моему. Да и рано тебе такие вещи писать...
— А тебе — не рано?
— Я и не пишу.
— Врешь,— горячо сказала Черная Зоя.— Сильфиде Дубининой писал, а мне читал, разве не помнишь? Я-то хорошо помню...
— Что ты мелешь,— с равнодушным видом сказал я.— Во-первых, там вовсе не про любовь было; а потом — при чем тут Сильва?
— Не ври, не ври, не ври,— зачастила Зоя.— И в глаза даже не можешь смотреть, потому что врешь. Я даже помню наизусть эти стихи: «Мне помнится весь разговор твой умный и наш контакт немой средь этой школы шумной». Как же не про любовь? Ага, покраснел, покраснел?
— Какая же любовь, если говорится про контакт? Это надо понимать в деловом смысле. И потом, ведь мы сейчас дискутируем про твои стихи, а не про мои. Если ты будешь приставать с моими стихами, то ну тебя к черту.
— Пожалуйста, прости, Костя,— сказала Зоя.— Я больше не буду. Какое все-таки твое окончательное мнение насчет этого стихотворения?
— Какое мнение? Ну, например, ты тут молишь бога. При чем бог? Я думал, из тебя все это давно испарилось. Я понимаю, если
570
бы в стихотворении заключалась антирелигиозная пропаганда, а то как раз наоборот. Кому такое стихотворение может принести пользу?
— Да ведь стихи пишутся вовсе не для пользы.
— Вот так так! А для чего же?
— Ну, чтобы выразить настроение, чувства там какие-нибудь.
— Этого я не понимаю. Напиши вот стихи с призывом вступить в пионеры. Тогда будет и польза, и удовольствие. А в твоем — ни идеологии, что самое главное, ни пользы. Одним словом — не по существу.
Тогда Зоя выпучила глаза и стала смотреть на меня, не произнося ни единого слова. В общем, она была похожа на какого-то дурацкого рака. Я сначала ждал, что будет, а потом обозлился и говорю:
— Ну, чего уставила луполы?
Она продолжала молчать. Тогда я плюнул и ушел.
10 сентября
Взамен Никпетожа появился новый шкраб по обществоведению — Сергей Сергеевич. Мы долго думали, как его назвать. Серсер — выходило как-то неудобно. Он в громадных очках, как колеса. Юшка Громов пришел в школу поздней других. Увидел Сергея Сергеевича и говорит:
— Ну и очищи! Что твой велосипед!
Тогда решили звать его Велосипедом.
Пока известно только то, что он говорит очень коротко и односложно.
11 сентября
Был первый урок Велосипеда по общество.
— Писали рефераты? — спрашивает первым долгом.
Мы говорим, что доклады были, а рефератов не было.
— Ну, будем писать рефераты.
Вытащил бумажку с темами и начал предлагать желающим. Так как я очень интересуюсь германской революцией, то взял себе тему: «Основы германской революции и причины ее неудачи».
В качестве материала Велосипед рекомендовал роман Келлермана «9 ноября» и газеты с 1918 по 1923 год.
Другая тема — «Крепостное право в России». Материалы: «Пошехонская старина» Щедрина, Тургенев и «История» Ключевского.
Сегодня начал читать Келлермана. Бузовато и не очень понятно.
571
12 сентября
Мало-помалу начинаю разбираться в форпостовских ребятах, которых большинство учится в первой ступени.
Больше всех меня пока заинтересовал Октябрь Стручков — маленький парнишка лет десяти. Он очень живой и смышленый, а главное — во всем слушается меня; а так как он имеет влияние на остальных ребят, то это очень важно. Из девочек самая активная — Махузя Мухаметдинова, татарка. У Октябки отец — рабочий, а Ма- хузя говорит про своего отца, что он — «так». Ребята утверждают, что он торгует кониной, а раньше будто бы содержал ресторан на каком-то вокзале. Но сама Махузя вовсе не похожа на социально происходящую из буржуев. Она, пожалуй, больше всех из форпоста разбирается в политграмоте. Я пока ей доверяю, но в работе нужно очень осторожно учитывать социальное происхождение ребят.
13 сентября
Мне все-таки кажется, что я больше прав, чем Сильва, и не стоит доводить обо всем происшедшем до сведения укома.
Дело вот в чем. Сегодня мы собрали в школе форпост (явилось тридцать восемь человек) и решили устроить прогулку за город. Пошли в Ивановский парк. Там мы всласть навеселились и набегались, так как погода была очень хорошая.
Потом подошли на опушку к какому-то саду и расположились лагерем для шамовки (у каждого было захвачено из дому, но решили все в общий котел).
Сад этот был большой фруктовый, примыкавший к самому парку. Раньше там, видно, была ограда, но потом она разрушилась и сад отгородили одной линией колючей проволоки.
Сначала разводили костер, собирали хворост, потом все уселись было усталые и довольные, у костра. Но тут Октябка говорит:
— А хорошо бы теперь пошамать яблочка, ребята?
— А где его взять, твоего яблочка? — спрашивает Махузя.
— А вон висят,— отвечает Октябка.— Так сами в руки и просятся.
— Да, а проволока-то,— возражают ребята.
— На фиг мне ваша проволока,— сказал Октябка, разбежался и одним махом перепрыгнул проволоку. *
— Октябрь, иди сейчас же сюда,— закричала Сильва.
Октябка неохотно послушался и пробурчал про себя, усаживаясь
у костра:
— Я даже разнять эту проволоку могу, если захочу.
— И не имеешь революционного права,— строго заметила Сильва.— Это раньше, когда сады принадлежали частным лицам, проле¬
572
тариат мог осуществлять экспроприацию экспроприаторов. А сейчас, когда все сады государственные...
— Ни фига они не государственные,— перебил Октябка,— а очень даже частные. Я и арендателя знаю: его Моисей Маркелыч зовут. У него хотя есть ружье, но он в ребят стрелять не посмеет, тем более в пионеров. А собака днем на привязи. Да я и ее знаю, ее Каквас зовут. Она большущая и желтая.
— Откуда ты все это знаешь? — поинтересовались ребята.
— Да ведь наша фабрика тут недалеко, очень хорошо все знаю. Ежели дядю Моисея как следует попросить, так он и так даст. Только воровать интересней.
— Не смей говорить об этом,— сказала Сильва.— Если у тебя есть какие-нибудь связи с этим частником, то это твое частное дело: можешь пойти и попросить. А устраивать налеты — это не пионерское дело.
— Да ведь никто не узнает,— сказал Октябка.
— Это неважно, узнают или не узнают...— начала было Сильва, но я ее перебил:
— Знаешь что, Сильва? Ты стала совсем вроде Елникитки. У тебя откуда-то вгнездилось в голове, что можно и что нельзя. И выходит гораздо больше нельзя, чем можно. А по-моему, никакой беды не будет и даже никакого воровства, если ребята сорвут по яблоку у частного кулака.
— Ребята! Заворуи! — весь загоревшись, вскричал Октябка, потирая руки.— Это клево!.. Значит, можно, Рябцев?
— Погоди, это проголосовать надо,— ответил я.— Видишь, есть мнения против...
— Я всегда буду против,— тихо сказала Сильва.— Что за безобразие! Какая слава пойдет про наш форпост? Я тебя совершенно, Владлен, не понимаю. Ведь нужно рассуждать идеологически.
— Я идеологически и рассуждаю,— ответил я.— Здесь никакой бузы нет. Ты, может, думаешь, что я потому, что мне тоже яблочка хочется? Вот уж ничего подобного! Положи передо мной хоть десяток — и я ни к одному не притронусь.
— Я сейчас нарву и положу, Рябцев, а? — так и подпрыгивая на месте, предложил Октябка.— И ты ей докажи.
— Ничего мне доказывать не надо,— с неудовольствием сказала
573
Сильва.— Пускай раньше сам Рябцев мне докажет, что это не против революционной идеологии.
— С удовольствием,— ответил я, потому что Сильва ни с того ни с сего стала вдруг подрывать мой авторитет.— Сейчас диктатура пролетариата. Понятно? Политически эта диктатура означает переходную эпоху к коммунистическому государству. Частник — враг такого государства, а мы — часть пролетариата. Понятно? Поэтому идеологически вполне правильно, если мы отнимем у частника в свою пользу тридцать восем яблок.
— Ура! — закричала часть ребят во главе с Октябкой.— Голосуй, Рябцев, а то чайник остынет.
— Нет. Погодите, ребята,— пыталась подействовать в другую сторону Сильва.— Тут что-то не так! Тут налицо уклонизм. Если всякий так будет рассуждать, то... пропадет революционный порядок...
Она еще что-то кричала, но я даже слушать не стал и поставил вопрос на голосование. Большинство было за, а часть девчат воздержалась. Сильва страшно обиделась и перестала со мной говорить, на что я обозлился еще больше. Какое она, в самом деле, имеет право подрывать мой авторитет в глазах ребят? Да еще когда она совершенно идеологически неправа. Это даже свинство с ее стороны и не по-товарищески... Так могла бы делать только Елникитка, а не ближайший товарищ по работе.
А Октябка уже распоряжался вовсю.
— Я тут все ходы и выходы знаю,— возбужденно говорил он.— Для того чтобы не засыпаться, вы, заворуи, помните, что надо всем сразу. Если кто отстанет, тот может засыпать всех. Лучше всего действовать по свистку. Первый свисток — перемахивай через проволоку. По второму — где бы кто ни был — сыпь обратно в парк.
— Нам тоже принесите,— запросили тут некоторые из воздержавшихся девчат.
— Как голосовать — так их нет,— сказал Октябка,— а как яблока — так давай-давай! Сами полезайте, товарищи! Шалавых нет!
В общем, решили совершить набег двадцать шесть ребят и пятеро девчат. Махузя не пошла, потому что у ней болела нога.
Рассыпались в канаве, заросшей травой, у самой проволоки. У меня самого начало замирать сердце от предстоящего приключения, но я не полез, чтобы потом Сильва не могла сплетничать, будто я первый подал пример.
Раздался свисток, и в кустарнике, отделявшем яблони от нас, замелькали красные пятнышки галстуков.
— Я еще понимаю, если бы это делалось открыто,— презрительно сказала Сильва, ни к кому не обращаясь.— А то ведь это обыкновенное воровство, за которое сажают в тюрьму.
«А, ты так»,— подумал я, но не ответил. Однако я ничего не успел предпринять, потому что из яблочного сада раздался выстрел, а потом — чей-то отчаянный крик.
574
Мы все, как один, сорвались с места. У меня сердце рухнуло куда-то вниз, так как я хорошо понимал, что ответственность за всю эту историю падает на меня.
Двое или трое парнишек с растерянным видом, выскочили из сада обратно и полезли через проволоку.
— Что такое? — спросил я у них.
— Да там дядя какой-то... стреляет...— только и смогли они ответить.
Не теряя ни минуты, я велел трубачу трубить экстренный сбор. Сейчас же пронзительно загремела труба. Когда около меня собралось довольно много растерянных ребят, я отважно двинулся вперед через кусты. Барабанщик отколачивал марш.
Когда мы продрались через кусты, то на поляне я сейчас же заметил старика с ружьем в руках. Старик стоял под громадной развесистой яблоней, глядел вверх и что-то кричал.
Я остановил ребят и подошел к старику.
— Ежели ты сознательный, то ты не должен прятаться! — кричал старик, не обращая на меня внимания.— Это что ж такое? Это стыд и страм! Какие нонче ребята пошли! Прямо ужас, какие ребята пошли!
— В кого вы это стреляли, гражданин? — спросил я довольно резко.
— При царизме таких ребят не было, какие нонче пошли,— продолжая не обращать на меня внимания, говорил старик.— Я бы ихнего воспитателя разложил да под самой этой яблоней всыпал пятьдесят горячих.
— Я и есть ихний воспитатель,— сказал я вызывающе.— Что ребята сделали?
— Ах, вы и есть воспитатель! — обратился ко мне старик.— Оч-чень приятно. По моему скромному рассуждению, вы сами в воспитании нуждаетесь. Ну, да не мое это дело. А все-таки своим воспитанникам скажите, чтобы они, когда яблоки рвут, так веток бы не ломали: не модель это — ветки ломать! Яблоня — она любит нежность и осторожную прикосновенность рук. А это что же? Налетели и грубо принялись ломать...
— А в кого это вы стреляли? — нетерпеливо перебил я его.
— В воздух стрелял-с, для напугания воров-с,— язвительно ответил старик.— Вы, молодой человек, думаете, что в ваших воспитанников целился? Никак нет-с, в воздух-с. Для предупреждения. А то — сами посудите. Держу в аренде сад-с. А-гра-мад-ней-шую часть выручки, в виде всех возможных налогов, отдаю государству-с. Значит, я должен охранять не только свои доходы, а и государственные, молодой человек?! И ежели плоды вот от такого, как вы, воспитателя будут где-нибудь неподалеку витать-с, то разве обойдешься без предупреждения? Сами посудите-с!
Старик поднял ружье и неожиданно бахнул в воздух. Часть ребят
576
испуганно пожалась ко мне. Мне показалось, что старик был чуть выпивши.
— Кто же кричал в таком случае? — спросил я.
— Это Курмышка кричал,— ввернул вдруг Октябка, появившись рядом со мной.— Он за проволоку зацепился, а подумал, что его собака схватила.
— А кого вы здесь подкарауливаете? — спросил я старика.
— Одного из ваших... воспитанников-с,— ответил старик.— Они изволили на яблоню залезть, а теперь не слезают-с. Может, когда учитель пришли, они и слезут-с.
— Кто там? Слезай! — закричал я.
— Никого там нет, Рябцев,— тихо и убежденно сказал около меня Октябка.— Сосчитай-ка.
Я выстроил ребят, сделал перекличку, и оказалось, что все налицо.
— Мои все здесь,— сказал я старику.— Так что это вам, наверное, показалось.
— Это ворона, дяденька Моисей Маркелыч,— ввернул Октябка.— Я видел: это ворона.
Старик долго и подозрительно глядел на Октябку, прислонил ружье к яблоне, потом достал коробочку, понюхал из нее табаку и сказал:
— Ворона эта в штанах и говорит человеческим голосом. А позвольте узнать, гражданин воспитатель, на каком все-таки основании вы с вашей... командой вторгаетесь в чужой огороженный сад? Это что же, входит в программу вашего... обучения-с?
— Это была игра,— ответил я.— Ребята заигрались и не заметили проволоки. Ну, мы это сейчас поправим. Огольцы! Девчата! Крру-гом!..
— Погодите малость, ребята,— сказала вдруг Сильва; я и не заметил, что она все время стояла сзади меня.— Нет, гражданин арендатор, это была не игра. Это был совершенно другой идеологический поступок: мы большинством голосов решили, что раз вы частник, то мы имеем право экспроприировать в свою пользу у вас тридцать восемь яблок и...
— Ага, так-так-так,— обрадовался старик.— Что я и говорю: так сказать, екстренный налог? Что ж, берите, берите — ваша власть. Все в ваших руках, господа товарищи. Так бы и сказали. Пожалуйте, пожалуйте; жалко, одни осенние сорта остались... Приходили бы раньше: летние слаще-с... Только не взыщите: ежели в следующий раз пожалуете, я собачку спущу для порядка-с... Тут не одни мои доходы: тут и государственные-с а-гра-мад-ней-шие налоги-с...
— Чего ты ввязываешься, Дубинина? — с досадой сказал я.— Пойдемте, ребята. Ша-гом марш!
Старик некоторое время шел за нами и расспрашивал задних ребят: «Вы откуда, пионеры, с какой фабрики?» Но ребята сосредоточенно молчали; потом старик отстал.
Когда вышли в парк, я подошел к Сильве и сказал ей тихо:
19 Школьные годы. Выпуск 1
577
— Вот ты и дискредитировала форпост.
Сильва вытаращила глаза.
— Да ты что... с ума сошел, что ли? Я дискредитировала форпост?.. Ты, пожалуй, скажешь, что это я послала ребят яблоки воровать?
— Этого я, конечно, не скажу. А спрошу тебя вот что: кто тебя просил разоблачать наши замыслы перед лицом классового врага?
Она замолчала. Ребята шли молча и как-то пришибленно. Внезапно Октябка отворотил блузку, вытащил из-под нее яблоко и швырнул его в кусты. Тогда и Курмышка запустил яблоком о встречную сосну. Сейчас же яблоки полетели дождем в лес и в придорожную канаву. Барабан молча отбивал дробь.
— Это все из-за тебя,— тихо сказал я Сильве.
Когда отошли еще с версту, решили посидеть и отдохнуть.
— Ну их, яблоки эти,— убежденно крикнул вдруг Октябка среди общего молчания.— Я попробовал одно: кислые, хуже лимона.
Ребята дружно и весело захохотали.
14 сентября
Должно быть, яблочная история стала кое-кому известна, потому что меня вызывают в уком. Неужели Сильва?
Как иногда разочаровываешься в девчатах... А она — еще самая лучшая из всех.
16 сентября
Ничего подобного; в уком вызывали по поводу инструкций форпостам. Значит, Сильва молчит.
19 сентября
Сегодня на вопрос Велосипеда, не приготовил ли кто-нибудь из нас реферата, Черная Зоя сказала:
— Я, пожалуй, могла бы попробовать.
— Тема? — спросил Велосипед.
— Женщина в капиталистическом и социалистическом обществе.
— Валяйте,— сказал Велосипед.
Он вообще говорил отрывисто, и нужно очень следить за его словами, чтобы сразу его понимать. Мы его еще не раскусили; ясно, во всяком случае, что он не похож ни на кого из шкрабов, и меньше всего на Никпетожа. Из его частной жизни известно только то, что он недавно приехал из Ленинграда.
Зоя вычитывала по тетрадке довольно долго. Слушать было до¬
578
вольно-таки скучно, и я представил себе, как я буду докладывать, чтобы не вызвать в ребятах такую же скуку. Потом я заинтересовался.
В общем, ход реферата был такой.
Прежде, в первобытные времена, женщине жилось очень скверно, потому что она находилась в эксплуатации мужчины, как более слабая. С течением времени это хотя и изменилось, но очень слабо: женщина по-прежнему прикована к горшкам, к хозяйству, к дому, к детям, и это следует изменить. Мало того, женщина стала в капиталистическом обществе товаром (проституция), что уже само по себе возвращает нас к временам рабства. Изменение может произойти только в социалистическом обществе. Вместо домашних горшков будут организованы всеобщие столовые, дети будут воспитываться в яслях, детских домах и тому подобное, так что женщина будет раскрепощена и получит возможность заниматься любой работой, в частности — общественной. При этом Зоя привела целый ряд примеров, как женщины хотели раскрепоститься. В Дании, оказывается, была организована специально женская коммуна, и о ней говорится в сочинении Лили Браун. И сейчас Советская власть делает всякие попытки в этом направлении: организуются общественные столовые, ясли, детские дома. Пока всего этого недостаточно, но надо надеяться, что с течением времени, когда будет изжит хозяйственный кризис, этих учреждений хватит на всех.
Все это известно, и я пишу только для того, чтобы себе самому выяснить последующее.
Когда кончились прения по реферату (это только так называется — прения, а на самом деле никаких прений не было, выступали девчата и повторяли то же, что и Зоя, и почти теми же самыми словами), ну, одним словом, когда кончился урок, все бросились бежать в зал. У выхода почти всегда бывает теснота, и некоторые даже нарочно стараются устроить давку. Так вот, случайно в проходе меня притиснули рядом с Нинкой Фрадкиной и Черной Зоей. Стоял, как всегда, шум, но я все-таки собственными ушами слышал, как Нинка Фрадкина спросила Зою:
— Ты что же, веришь во все это?
— Во что?
— Ну, в разные общественные столовые и что там лучше будут кормить, чем дома?
— Что я, дура, что ли? — усмехнулась Зоя и запаровози- ла: — Фу-фу-фу-ффу,— потому что ее притиснули.
Меня сейчас же оттеснили, и в общем потоке я вылетел в зал, поэтому больше ничего не слыхал. Но этот разговорчик я слышал собственными ушами, даю голову на отсечение.
Я, конечно, ее выведу на свежую воду, но сейчас мне удивительно даже писать про это. Выходит, что она говорит и даже готова защищать (потому что рефераты полагается защищать) одно, а думает про себя совсем другое.
579
Этому название даже трудно подобрать: интеллигентщиной не назовешь, на мещанство тоже как будто не похоже.
Что же это такое?
20 сентября
Сегодня у меня разразился крупный скандал с Марь-Иванной из первой ступени. Еще на днях — с неделю тому — я с ней поругался из-за того, что она заставляет своих ребят говорить «ступень» с ударением на «у», а не «ступень», как полагается. Она на меня тогда накричала: «Это вам не лестница, и прошу не вмешиваться в мои распоряжения». А сегодня разговор вышел гораздо серьезней, и, конечно, дело этим не кончится.
Она явилась в школу во время наших занятий, отозвала меня из лаборатории и спрашивает:
— Гражданин Рябцев, будьте добры ответить мне прямо на один вопрос. Только, пожалуйста, без виляний. Правда, что вы организовали с первоступенцами налет на яблочный сад?
— Во-первых, это был вовсе не налет, как вы выражаетесь,— ответил я,— а просто ребята сорвали у частника несколько яблок; а во-вторых, вы никакого права не имеете ко мне лезть. Я вам не первогруппник. Ступайте к черту!
— Ага, я так и знала,— затараторила Марь-Иванна, вся так и кипя от злости.— Вы можете это прикрывать разными невинными словечками, но налет все-таки был! Я очень, очень рада, чрезвычайно рада! И рада я потому, что этот случай, возможно, даст школе вздохнуть свободно и освободиться от такой язвы, как вы.
— Не известно, кто из нас язва,— ответил я, теряя терпение.— И каким образом вы от меня освободитесь, это тоже мне непонятно!
— На ваши ругательства я не обращаю внимания,— вся покраснев, прошипела Марь-Иванна.— И я знаю, что ваших преподавателей вы не только не боитесь, но даже как-то умеете затемнять им головы. Но я знаю, как за вас взяться, сударь!
Тут она подбоченилась, взглянула на меня сверху вниз и стала удивительно похожа на галку. И отчеканила:
— Я обвиняю вас в преднамеренной и планомерной организации хулиганства. И я знаю, куда на вас пожаловаться.
С этими словами она торжественно смылась. Я плюнул ей вслед, хотя у самого на душе было неспокойно: было совершенно ясно, что она имеет в виду уком. Но, с другой стороны, я успокоил себя тем, что, в сущности, я прав: во всяком случае, могу представить логическую цепь рассуждений, которая привела меня к яблочной истории.
22 сентября
Очень тяжело на душе, когда ждешь чего-нибудь неприятного. С Сильвой поговорить нельзя, потому что она держится противоположной точки зрения, да и не разговариваем мы с ней. Никпетожа нет. Остается одно — усиленно заниматься.
Единственно отдыхаю, когда занимаюсь с пионерами гимнастикой и беготней. От ребят идет какое-то освежение, и когда я с ребятами, то думаю, что во всем прав.
24 сентября
Последние дни я страшно зол и поэтому решил сегодня вывести на свежую воду Зою Травникову.
На общество, после реферата Нинки Фрадкиной на тему о 1905 годе, когда Велосипед предложил высказаться желающим, я взял слово и сказал:
— Может, я и не по существу девятьсот пятого года, но необходимо осветить этот вопрос. Дело касается прошлого реферата Травниковой о женщине в капиталистическом и социалистическом обществе. Я ей в присутствии всех задаю такой вопрос. Вот она вывела, что в социалистическом обществе женщина будет раскрепощена, потому что будут устроены разные столовые и ясли. Мне и хотелось бы спросить Травникову: верит она во все это, то есть в скорое осуществление социализма?
— Конечно, верю,— как-то вяло ответила Черная Зоя со своего места.
— Веришь? Хорошо. Позвольте, еще один вопрос, товарищи? Ну, а признаешь ты, что общественные столовые правильней домашнего питания?
— Признаю,— опять подтвердила Зоя.
— Признаешь? Хорошо. Ну а по совести, если бы тебе на выбор предложили питаться в столовой или дома, ты бы где выбрала?
— А ты сам почему дома питаешься, Рябцев? — ввернула вдруг Нинка Фрадкина.
— Не попала,— с наслаждением ответил я.— Как раз не дома, а в столовой. (Это правда: мы с папанькой берем обед из столовой и разогреваем его на примусе, потому что поденщица наша готовит очень плохо.)
— Да чего Рябцев от меня добивается? — с возмущением вдруг поднялась Черная Зоя.— Велите ему сказать прямо, Сергей Сергеевич.
— Несвоевременные разговоры,— отрубил Велосипед.— Прения следует вести по реферату о тысяча девятьсот пятом годе.
Я замолчал, но своего добился. Как только раздался звонок, так с одной стороны ко мне подскочила Черная Зоя, а с другой Нинка
581
Фрадкина, и обе — на меня. Так как они кричали обе сразу, то понять их было трудно. Но этим делом заинтересовалась вся группа. Я сделал знак рукой, что хочу говорить, стало немножко тише, и я сказал:
— Я имею данные утверждать, что Травникова говорит одно, а думает другое. Например, она думает, что общественные столовые никогда не смогут заменить домашний стол.
— Врешь! — закричала Зоя, но ее перебила Нинка Фрадкина.
— А что ж ты думаешь? — закричала она.— Если все будут обедать в столовке, то у всех будет катар желудка. А я, например, нипочем не отдам своего ребенка в ясли, потому что там его уморят...
— Вот-вот, это самое мне и надо было,— обрадовался я.— Фрадкина, по крайней мере, честно сознается. А Зоя темнит. Ведь ты до сих пор и в бога веришь, Зоя? Сознайся, сознайся!
Зоя страшно надулась, покраснела, и запаровозила. В то же самое время окружавшие ребята, разделившись на две группы, принялись ожесточенно спорить: одни были за общественные столовые, другие — за домашний стол, одни — за домашнее воспитание, другие— за общественное.
— Ведь экономия! — раздавалось в одной стороне.— Мать, женщина от работы освобождается, дурак!
— Сам ты бузотер! Черт знает чем кормят в ваших столовых! На первое вода с капустой, на второе капуста с водой!
— Ну и не ходи!
— Ну и не хожу!
— А примусы-то? Одни примусы чего стоят!
«Столовая, столовая, столовая!» — «Кухня, кухня, кухня!»
— Да ведь ты то пойми,— слышался убедительный голос в другой стороне.— Никогда нам не построить социализм в одной стране, если теперь же не начать строить... Балда! А ты знаешь, что делается в детских домах?
— А что делается?
— Ни для кого не секрет...
Девчата визжали пуще всех. Фрадкина и Травникова ввязались в какой-то другой спор и от меня отстали. Тут я оглянулся и вижу: сзади меня стоит Велосипед и улыбается.
— Черт знает, неорганизованность какая, Сергей Сергеевич,— сказал я.
— Не беда,— ответил Велосипед.— Страсти разгорелись. Это важно. Нужно использовать! Устроим диспут!
— Гражданята! — закричал я.— Будет специальный диспут, перестаньте!
— Сначала я тебя не понял, Рябцев,— сказал Велосипед, выходя из комнаты,— но теперь вижу, что ты был прав. За какую-то нужную ниточку потянул. Молодец!
— Вы партийный, Сергей Сергеич? — спросил я.
582
- Да.
Тогда мне стало страшно приятно от его похвалы и от сердца отлегло. Обыкновенному шкрабу я нипочем не позволил бы называть себя на «ты». А между коммунистами не может быть другого обращения.
25 сентября
Я наконец не вытерпел и пошел в уком сам. И оказалось, что правильней всего было сделать так с самого начала.
— Тебе чего, Рябцев? — спросил Иванов.
— А тебе разве на меня не жаловались?
— Жалобщиков, знаешь ли, приходит... по полсотни в день... Да все не по адресу. Что у тебя случилось-то?
Я рассказал яблочную историю.
— Ну, а теперь ты как думаешь: прав ты был или нет?
— Думаю, что прав.
— Опасный ты парень, Рябцев,— сказал Иванов, помолчавши.— Хорошо, что сам пришел. Эта история — ух, какая скверная. Во-первых, это анархо-индивидуализм с твоей стороны. А во-вторых, Дубинина, конечно, была права. Чтобы ужимать частника, существуют всякие специальные органы. А если каждый парнишка, анархически настроившись, начнет на него нападать — то частник с отчаяния может взяться за оружие. Это-то наплевать — перепаяем в два счета. Да ведь сейчас мирное строительство. Зачем же опять вгонять страну в анархию? Так что Дубинина была права — вам нужно было отвести ребят от соблазна, а не поощрять их... яблоки воровать.
— Слушай, Иванов,— в отчаянии сказал я.— Тогда выходит, что мы должны быть при ребятах какими-то... шкрабами?.. Или, как я читал, в институтах были раньше классные дамы, а не воспитывать из ребят революционеров и заклятых классовых бойцов, врагов всего нетрудового элемента? Мое сознание с этим не мирится.
— Ну, если дальше не будет мириться — снимем с пионерской работы,— довольно-таки равнодушно ответил Иванов.— Конечно, в вашем влиянии на ребят должны быть новые пути. Но это не пути разбоя и хулиганства.
— А ты думаешь, что здесь... было... хулиганство?
— Будем думать, что это просто ошибка с твоей стороны и больше не повторится. И еще имей в виду, что следует избегать столкновений с учителями: форпост должен помогать учителям в работе, а вовсе не мешать. В конце концов и для тебя, и для твоих пионеров в данный момент самое главное — учеба. Значит, школа должна работать, как мотор: ясно, четко, без перебоев. А всякая склока с учителями эту работу нарушит. Вот. Паяй домой и подумай над этим.
— Погоди-ка, Иванов,— сказал я, чувствуя что-то неладное у
583
себя на сердце.— Значит, с учителями совсем не бороться. Ну а если шкраб обнаружит... уклонизм, тогда как быть?
— Борись легальными способами: выступлениями, живой газетой... а главное, всегда думай, перед тем как нападать; ты парень все-таки с мозгами и сам сможешь решить в каждом отдельном случае, прав ты или нет. Ну, извини, мне некогда... В случае чего, обращайся ко мне. Только, пожалуйста, без налетов.
Мне не все ясно, и я чувствую некоторую растерянность, потому что с Сильвой советоваться не хочу, но из моего посещения укома есть два вывода:
1) что Марь-Иванна не осмелилась идти сплетничать в уком, и это только подтвердило мое мнение, что все шкрабы, за исключением разве Сергей Сергеича, боятся партийных организаций;
2) что когда ожидаешь какой-нибудь неприятности, то лучше всего идти напролом, ей навстречу, а не ждать, когда она разразится над тобой против твоей воли.
29 сентября
Среди наших пионеров есть один парнишка — Васька Курмыш- кин, которого все зовут просто Мышкин или даже Мышка. Сегодня он принес мне стихотворение, которое называется «Лед тронулся», и просил, чтобы я эти стихи прочел при нем. Я прочел; стихотворение, по-моему, замечательное. Я спросил:
— Мышка, это твое?
Он замялся, покраснел, потом говорит:
— Мое.
Я ему прямо не сказал, но, по-моему, из него выработается настоящий пролетарский поэт, не то что какой-нибудь Есенин. Стихи такие:
ЛЕД ТРОНУЛСЯ (Посвящается нашему пункту ликбеза)
Ты с трудом рисуешь каракули И выводишь: «Тронулся лед...»
А по площади дама в каракуле,
Из советских модниц, идет.
Невдомек ей, накрашенной моднице,
Что, хозяйство сбросивши с плеч,
На каракуль ее, негодницы,
Не перо ты держишь, а меч.
Из этого стихотворения можно заключить, что у Курмышкина настоящее классовое чутье, если он сумел выразить в стихах такую ненависть к модницам. Так и рисуется картина, как простая негра¬
584
мотная баба сидит и с трудом пишет свои первые буквы, а за окном, по площади, идет накрашенная мадам.
Как раз когда я шел со стихотворением в руках, навстречу мне попалась Черная Зоя. Я ее сейчас же остановил и сказал:
— Вот какие стихи пиши, тогда будет из тебя толк.
Зоя сейчас же заинтересовалась:
— Какие, какие?
Она читала их очень долго, так что я даже начал терять терпение.
— А кто их написал? — спросила она наконец.
— Один пионер, ему лет одиннадцать.
— Ну...— протянула Зоя.— Вряд ли он сам написал.
— То есть как не сам? Чего же он врать-то будет?
— Да так просто... содрал откуда-нибудь.
— Уж известно: если что-нибудь пролетарское, так ты сейчас же начинаешь подозревать.
— Вовсе не потому, что пролетарское... Чего ты ко мне придираешься? Просто, по-моему, одиннадцатилетний мальчик не мог такие стихи написать, я по себе знаю... А ты ко мне лучше не придирайся, Костя... Иначе я тебе отомщу.
— Гром не из тучи, а из навозной кучи,— ответил я презрительно.— А насчет стихов я докажу не только тебе, а и всем.
После этого я нашел Сильву и в совершенно официальном порядке предложил начать издавать стенную газету «Наш форпост». Она согласилась. Стихи Курмышкина мы решили поместить в первом же номере, как боевые. Наш разговор был только деловой, но после него мне стало как-то легче на сердце.
4 октября
Сегодня вышел номер первый «Нашего форпоста» и сопровождался большими последствиями, которые, наверно, еще не кончились.
Кроме Курмышкина стихов, в номере были помещены еще: 1) Сильвина передовая о задачах форпоста; 2) рассказ Октябки про дружбу пионера с собакой; 3) «Надо подтянуться» (насчет торчанья на лестнице во время перерывов), а главное — карикатура на Марь-Иванну, заведующую первой ступенью. Из-за этой карикатуры вышла целая история. Я и сейчас думаю, что в карикатуре нет ничего особенного: просто она изображена верхом на метле и что она вылетает из трубы, а внизу стоит парнишка и спрашивает:
«Вы куда, Марья Ивановна?»
«Думаю слетать с нечистой силой посоветоваться, как сжить со света форпост».
Вот и все. Но должно быть, кто-нибудь ей сказал, потому что она ни с того ни с сего принеслась в школу во время наших занятий (второй ступени) и прямо к Зин-Палне.
585
После того как она ушла, Зин-Пална вызывает меня и говорит:
— Я, конечно, не имею права вмешиваться в деятельность форпоста, но, насколько мне известно, форпост должен помогать школьной работе, а вовсе не мешать ей.
— Мне кажется, форпост и не мешает работе,— ответил я.
— Ну, это вам только кажется, Рябцев. Сегодня я впервые узнала о вашем яблочном налете, но. о нем мы говорить не будем. Сейчас дело важней. Видите, Марья Ивановна мне сейчас заявила, что если во вторую смену ваша газета будет висеть, то она уйдет из школы. Что вы на это скажете?
— По мне — пускай уходит.
— Допустим. Ну а если за ней уйдут и Анна Ильинична, и Петр Павлович? Тогда будет вынужденный перерыв в занятиях первой ступени.
— Да мало ли безработных учителей на бирже труда!
— Вы никакого права не имеете так бросаться людьми,— рассвирепела вдруг Зин-Пална.— Если для вас эти учителя нехороши, так они вас и не касаются... А вставлять палки в колеса первой ступени вы не смеете!
— Конечно, не смею,— смиренно ответил я.— Да я и не вставляю; стенная газета — легальный способ борьбы. Если им что-нибудь не нравится, пусть выпускают свой стенгаз или пишут опровержение в том же «Форпосте».
— Как вы не понимаете, Рябцев, что это люди другого поколения,— уже тише сказала Зин-Пална.— И что годится для нас — для них совсем не подходяще. Вот Марья Ивановна мне сейчас сказала: «Это все равно что мое имя стали бы трепать на улице...» И я ее понимаю.
— А я вот чего не понимаю, Зинаида Павловна,— ответил я.— Сколько раз и вас, и Николая Петровича, и даже Александра Максимовича прохватывали в стенгазетах — и ничего. А на эту мадам поместили совершенно невинную карикатуру, и справедливую (ведь она нападает все время на форпост),— и она сейчас же обижаться и скандалить, да еще уходом из школы грозит. Если они к стен- газному подходу не привыкли, то и мы к таким подходам не привыкли.
— На нас — пожалуйста, сколько угодно рисуйте карикатур. Но оставьте вы в покое первую ступень... Ну, Рябцев, чтобы долго не говорить, исполните для меня: снимите газету на вторую
смену.
— Я вас очень уважаю, Зинаида Павловна, но снять газету не могу: для меня принцип дороже всего.
С этим я от нее ушел. Но так дело не кончилось. К концу пятого урока, когда уже начинают в школу приходить первоступенцы, вдруг в лабораторию прибегает Октябка и говорит:
— Рябцев, там нашу газету сорвали!
— Кто?
586
— Французов. (А это наш пионер, очень молчаливый парнишка.)
— Да как же он посмел?
— Не знаю; я ему набросал банок, а он даже не отбивается.
Это Октябка мне говорил уже на ходу, потому что мы бежали в
зал. Действительно, стенгаз был сорван и разорван в мелкие клочки, а Французов стоял тут же неподалеку.
— Как ты смел срывать стенгаз? — спросил я его с разбегу.
— А я вовсе не хочу быть в форпосте,— ответил Французов, всхлипывая.
— Тогда ты и из пионеров вылетишь!
— А я и не хочу быть в пионерах.
— Ты, должно быть, буржуазный элемент... Кто твой отец? — резко спросил я.
— Слу...жа...щий,— ударился в рев Французов.
— Почему же ты сорвал стенгаз?
— Марь... Иванна... хорошая... а вовсе не плохая...
— Это еще не мораль срывать стенгазеты.
Мне очень хотелось влепить красноармейский паек этому Французову, но в это время около нас столпилось очень много ребят, главным образом первоступенцев, которые с интересом ждали, чем кончится.
— Так тебя, значит, никто не научил, а ты сам додумался? — спросил я.
— Никто... меня... не учил...
Я сейчас же созвал экстренное собрание форпоста, и мы постановили исключить Французова, о чем довести до сведения его звена и отряда.
На собрании Сильва все время молчала, так что я не знаю ее мнения.
9 октября
Только что было в школе собрание форпоста, на котором выяснилось, что из форпоста ушло еще пять пионеров. Мотивируют они
587
по-разному. Один сказал, что родители против, другой — что много времени отнимает, а одна девочка выразилась, что ей учительница не позволяет. Когда мы стали добиваться, какая ж это учительница, девочка упорно молчала. Конечно, это Марь-Иванна. Придется дать ей окончательный бой.
Стихи Курмышкина всем нравятся, и даже Зин-Пална обратила внимание.
II октября
Сегодня ребята опять проявили классовое чутье.
Ввиду хорошей погоды, по согласованию с учкомом и школьным советом первой ступени, было решено устроить прогулку за город, так что я не пошел домой, а остался на вторую смену. Узнав, что я пойду вместе с форпостом, Марь-Иванна на прогулку не пошла, и из первоступенских шкрабов пошел Петр Павлович — такой бородатый дядя в синих очках.
Выступили часа в два, и впереди всех шел форпост с барабанным боем; неорганизованные ребята тоже старались попадать в ногу. В Ивановском парке основательно набегались и наигрались, так что даже устали и домой возвращались вразброд. Конечно, пионеры, как активные, устали больше всех, и мы с ребятами отстали. Сильва с форпостными девчатами, наоборот, ушла вперед. Со мной было всего человек десять.
Мы вполне мирно шли и никого не трогали — разговор шел о футболе. Я заметил, что маленькие ребята страсть как любят футбол, а им играть запрещают. Поэтому я спустя рукава смотрел на то, что когда шли, то тусовали ручной мяч ногами. Я ведь по себе зйаю, что значит запрещение футбола. Так вот, эти мои «футболисты» увлеклись и отстали шагов на сто, а я с двумя ребятами, ничего не подозревая, шел и разговаривал. Вдруг слышу какой-то крик. Я обернулся и увидел среди ребят какую-то суматоху. Сначала мы втроем стояли и ждали, когда они подойдут, но потом увидели, что не подходят, тогда мы пошли к ним и увидели такую картину.
Ребята стояли полукругом на тротуаре, а в середине этого полукруга находился Октябка и против него еще какой-то незнакомый длинный дылда, с виду лет тринадцати, но высокий. На этом дылде был пиджачишка и воротничок с зеленым галстуком, так что вид у него был для нас довольно непривычный.
В тот самый момент, когда мы подошли, маленький Октябрь разлетелся и хотел чпокнуть этого парня прямо в рожу, но тот довольно-таки ловко увернулся и сам ударил Октябку в бок. Это происходила драка.
Я сейчас же вошел в полукруг и строго спросил:
— Что это значит?
588
Мне ребята наперебой стали объяснять, что когда они шли, тусуясь ручным мячом, то этот дылда шел за ними и все время поддевал их, что они неправильно пасуют. Сначала они не обращали на него внимания, потом он вдруг стал приставать к ним, что они идут как отходники, и совсем даже не похожи на английских бойскаутов. Ребята все равно не хотели разговаривать и не обращали внимания на его слова. Тогда он вдруг стал ввязываться в пасовку. Октябка обозлился и дал ему один раз. Но он даже не покачнулся, а только стал смеяться и говорить, что, конечно, если они все на него нападут, ему будет трудно с ними сладить, а один на один он их всех переколотит.
«А раныие-то?» — спросил Октябка. «А позже-то?» — пересмеял парнина.
Ну, тут кто-то закричал: «Раньше-позже, мыло-дрожжи, дрожжи-мыло, а не хошь ли в рыло?» А уж известно, что если кто-нибудь произнесет эту пословицу, то тут обязательно должна быть драка. Драка и началась.
Все время, пока мне ребята это рассказывали, дылда этот стоял, засучив рукава, и ждал. Когда ребята замолчали и посмотрели на него, то он вдруг говорит:
— Конечно, ваш большой может со мной справиться, а вы бы еще дядю с бородой позвали! Только ты имей в виду,— это он уж ко мне,— что ты лучше меня не трогай, а то я ножом.
И действительно, вытащил из кармана ножик.
Я сейчас же стал наступать на него, вырвал у него ножик, бросил на землю и несколько раз смазал по шапке, чтобы он не лез. А мы с ребятами тронулись дальше.
— Я его знаю,— возбужденно говорил Курмышкин,— это Григорьев, колбасника Григорьева сын.
— Да ведь сразу видно, что буржуй,— как-то нервно, весь еще дрожа, подтвердил Октябка.— Он даже одет в воротничке.
— У него кровь из носу идет,— сказал кто-то, оглянувшись.
— Здорово ты ему воткнул, Рябцев, особенно в последний,— говорили ребята ючень возбужденно.
— Ну, будет знать, как лезть,— ответил я.
Это прямо замечательно, как в ребятах развит классовый инстинкт. Я только теперь вспомнил, что у Григорьева есть большая колбасная лавка на базаре.
13 октября
Я теперь как-то совсем не общаюсь с девчатами своей группы — по разным причинам.
J4 октября
С ученьем очень плохо: не сдано ни одного зачета за весь месяц.
15 октября
Словно нарочно, все время случаются разные штуки, которые только еще больше обозливают. Конечно, на первом месте — Черная Зоя.
Сегодня я встретился с ней в коридоре — кругом больше никого не было. Она мне вдруг и говорит:
— Я тебя теперь окончательно раскусила.
— А мне наплевать,— ответил я и хотел пройти.
— Нет, погоди,— сказала Зоя.— Я кое-что про тебя знаю и, прежде чем разглашать, хочу попробовать на тебя повлиять.
Мне стало смешно, и я остановился: как это всякая дура может на меня влиять?
— Твои похождения раньше или позже откроются,— продолжала между тем Зоя.— И как ты ребят яблоки учил воровать, и все остальное. Я действительно раньше была в тебя влюблена, но есть такой закон природы, что если кого-нибудь разлюбляешь, то того еще больше начинаешь ненавидеть.
— Перестань ты свою бузу,— прервал я ее со злостью.— Уши вянут слушать. Когда ты, Травникова, перестанешь вносить в школу разложение? Влюблена, разлюбила, втюрилась, втрескалась, ах, мои чувства, ах, я пылаю, ах, я умираю!.. Что ты, черт тебя побери совсем!.. Я, конечно, знаю, что ты буржуазного происхождения и тебе трудно и даже невозможно стать коммунисткой, но все-таки раскинь остатками мозгов и пойми, что у нас революция и всю эту пыль нужно сдать в архив.
— Разложение вносишь ты, а вовсе не я! — закричала Зоя.— Что, ты думаешь — никому не известно, что ты со своими бандитами исколотил на улице Мишу Григорьева? Я теперь окончательно поняла, что ты бандит и неисправимый негодяй!.. Но я-то сумею тебе еще отомстить!
— Какого там Мишу или Шишу? — спросил я, сразу и не поняв, в чем дело.— А, это, должно быть, того буржуйчика?.. Ну, что ж? Он сам заслужил.
— А особенно по-рыцарски, что напали вдесятером на одного,— ядовито сказала Зоя.— Красиво, нечего сказать.
Я страшно рассвирепел и хотел было ей отвесить кооперативную выдачу, но тут в коридоре появились еще ребята. А Травникова, словно ее завели, повысила голос и нарочно, при ребятах, прокричала:
— Ты бы хоть следил за своими пионерами, чтобы они стихов не сдирали! А то ведь это позор — чужие стихи вывешивать!
590
— А кто сдирал? — спросил я.— Ну-ка, скажи, кто сдирал?
— Твой Курмышкин и содрал, вот кто содрал! Я сама эту стенгазету видела, из которой он содрал! Что, выкусил! Это на ликбезном пункте при больнице стенгазета.
Я сейчас же решил проверить, разыскал Курмышкина, который уже пришел, и спросил:
— Мышка, это правда, что ты содрал стихи?
Он сначала отпирался, потом сознался. Я взял с него обещание, чтобы он больше этого не делал. Курмышкин дал честное пионерское. После этого я нашел Сильфиду Дубинину и ей тоже сказал, чтобы она не попала в дурацкое положение. Сильва подумала, потом сказала:
— Но с другой стороны, если бы Курмышкин не принес этих стихов, тебе в голову не пришло бы издавать стенгаз.
Это верно. Как удивительно иногда умеет Сильва найти хорошее даже в плохом, а сама простейших вещей не понимает. Сейчас особенно тяжело, что мы с ней в натянутых.
22 октября
Просто даже досадно, какие маленькие ребята бывают иногда скрытные. Вот, например, Махузя Мухаметдинова. Она не ходила в школу, а следовательно, не была на собраниях форпоста целых две недели. Когда я сегодня стал у ней добиваться причины — ничего не добился.
— Может, больна была?
— Ньет.
— Уезжала?
— Ньет.
— Родители не пускали?
— Ньет.
Я из этого вывожу, что мне, как вожатому форпоста, нужно обследовать семейное и имущественное положение пионеров, входящих в форпост. И держать связь с родителями.
24 октября
Сегодня мне Октябрь таинственно, по секрету сообщает:
— А знаешь, Владленыч, что Гаська Бубин рассказывает?
— Что?
— Будто его отец — фершал, так они с другим фершалом водкой мертвого скелета поят.
— Какого еще мертвого скелета?
— Катьку.
Я призвал Бубина и все велел рассказать. Так как Бубин заикается, то его трудно понять. Я, в общем, уловил только
591
то, что действительно у его отца есть скелет и что его отец пьет водку.
Сначала я не хотел ввязываться в это дело, но потом рассудил так, что если это делается на глазах у пионера, входящего в наш форпост, то я обязан вмешаться. Решили сделать вот что. Когда к Бубину отцу придет в гости другой фельдшер, его товарищ по больнице, то Гаська позовет Октябку (в одном дворе живут), а Октябка мигом слетает за мной. Самому Гаське Бубину уходить из дому нельзя — отец не позволяет.
25 октября
Большая неприятность. Зин-Пална вызвала меня сегодня в учительскую и спрашивает:
— Давно вы, Рябцев, стали практиковать кулачные расправы?
Я сразу догадался, в чем дело.
— Это, наверное, насчет буржуйчика Григорьева, Зинаида Павловна?
— С какой стати вы его избили? Это что: классовая борьба, что ли, по-вашему?
— Если вы будете надсмехаться — я уйду.
— Да нет, я без иронии, серьезно спрашиваю: вы в этой драке видите классовую борьбу?
— Конечно, может, тут есть кусочек и классового инстинкта. Но главное — в том, что он первый начал приставать к ребятам.
— Ну, знаете, уважаемый педагог... Довольно. Я потеряла терпение. Так как, по-видимому, с ячейкой (мы приписаны к фабричной ячейке, но Иванов перешел оттуда в уком)... с ячейкой вы не считаетесь, то мне придется пойти в уком. Ведь в конце концов нужно выяснить, какими правами вы пользуетесь, какие задания вам даны и что вы из себя представляете как руководитель первоступенских малышей.
— Да я и сам вам могу выяснить, Зинаида Павловна, и вам совсем незачем ходить в уком. Форпост есть объединение пионеров с целью организованного проведения пионерского влияния на учащихся школы.
— А вы кто?
— Я и Дубинина, как более взрослые, прикомандированы к пионерам для правильного руководства их работой.
— Входит ли в задания форпоста истребление буржуазии?
— Нет, конечно, не входит, но...
— С меня достаточно. Ясно, что вы превысили полномочия.
— Да ведь он сам лез, Зинаида Павловна.
— Слушайте, Рябцев. Если бы это вы, лично вы, учинили драку с кем-нибудь на улице, я бы, пожалуй, ограничилась тем, что отметила бы в вашей характеристике, что ваша грубость переходит
592
границы, но здесь замешаны маленькие. Тут колоссальная ответственность падает не только на вас, но и на меня. Согласитесь сами: сначала этот... яблочный налет, потом — избиение Григорьева...
— А можно узнать, откуда вы получили сведения про Григорьева?
— Нет, это мое дело. Не думаю, впрочем, чтобы что-нибудь можно было скрыть в таком коллективе, как школа.
Я ушел. Если она пойдет в уком, то...
26 октября
До сегодняшнего дня я как-то с осторожностью относился к Велосипеду; он очень какой-то отрывистый и замкнутый в себе. Но сегодня переменил о нем мнение. После общественной лаборатории он вдруг подзывает меня к себе и говорит:
— Заведующая не пойдет в уком.
Я удивился:
— То есть как? Почему? И откуда вы знаете?
— Вчера на учительском совещании шел разговор про тебя. Обвиняли тебя в хулиганстве. Хотели добиваться отстранения тебя от форпоста. Я был против. Долго препирались, потом решили пока воздержаться. Только воздержись-ка ты тоже. А?
— От чего воздержаться, Сергей Сергеич?
— А от этих... неорганизованных поступков. Ставь каждый раз перед собой вопрос: целесообразно ли? И если да, то действуй. Если нет — воздержись. Им, видишь ли, непонятно, что ты действуешь не ради озорства, а из принципа.
— А... как вы-то додумались, Сергей Сергеич, что я из принципа?
— Мне понятно. Сам таким был.
И больше от него я не добился ни звука. Совсем не то, что Никпетож. Тот, бывало, разведет, разведет... А Велосипед меньше понятен, зато после разговора с ним как-то мужества больше. Теперь я думаю, что боялся подойти к нему главным образом из-за его очков. Глупо, но факт.
27 октября
Меня все-таки вызвали в уком.
— Почему у тебя пионеры уходят из форпоста?
Я объяснил.
— Ну, это все праздные разговорчики,— сказал Иванов.— Тут вожатые отрядов приходят, на тебя жалуются: как из форпоста, так и из отряда. Придется тебя снять с пионерской работы. Пусть одна Дубинина действует.
593
— Да ее ребята слушать не будут, она имеет влияние только на девчат.
— Добьется. Ну, вот что, Рябцев. Дается тебе две недели сроку. Если работа не станет на рельсы, то снимем. Прощай.
Я вышел, как ошпаренный кипятком. Когда он сказал «снять» — мне стало страшно.
30 октября
Не успел я прийти из кино (смотрел «Доротти Вернон» с Мэри Пикфорд), как за мной прибегает Октябка:
— Иди скорей, Владленыч: к Бубину гость пришел.
Я наскоро оделся, и мы пошли. По дороге я обдумал, как себя вести. Где-то в глубине было даже некоторое сожаление, что я ввязался в это дело, но отступать было поздно. А с другой стороны, я боялся, как бы из этого не вышла опять какая-нибудь история. В результате я рассудил, что если я буду следить за собой, то ничего скверного не выйдет, а связь с родителями держать необходимо.
Как оказалось, Бубин жил на окраине, в маленьком деревянном доме в три окна. Сам Гася стоял и ждал нас у ворот.
— Сейчас самый раз,— сказал он тихо, когда мы подошли.— Они сейчас веселые. Ты, Рябцев, прямо входи, как к знакомым.
В крохотной прихожей мы с Октябкой сняли верхнее и вошли. Нашим глазам представилась довольно-таки странная картина. За столом сидели двое мужчин и, глядя друг на друга, смеялись. У одного из них в длинных усах застрял кусок крутого яйца.
— Здравствуйте, граждане,— сказал я, войдя.
— А, здрасте, здрасте,— ответил усатый.— А вы кто будете?
— Это мой начальник, папаша,— поспешно сказал Гася Бубин.
— Не начальник, а старший товарищ,— поправил я.
— А, пионеры, значит,— сообразил усатый отец Бубина.— Ну что ж, садитесь.
— Они — пионеры, а мы... пьяные без меры,— засмеялся другой.— Надо Катьке налить по этому случаю.
— Налейте, налейте ба-калы палней! — вдруг запел Бубин и оборвал.— Подождет. Не велика персона. Так вы, значит, товарищ... моего Гаську обучаете? Хорошее дело. Он у меня здесь красный уголок устроил. Что ж, я не препятствую. Я не пррро- ти-во-дей-ствую-ю! Не пей, говорит, папаша, говорит. А как же тут не пить, когда спиритус вини всегда под рукой? Не только сами пьем, а и Катьку поим. Митрич! Налей Катьке. И поднеси. Пусть пьет, сукина дочь.
Митрич встал со стула, качнулся и сунулся в угол. Только в этот момент я заметил, что в углу стоял скелет. Митрич поднес стакан к смеющимся зубам скелета, тюкнул об них стаканом и — вылил водку в себя.
594
— А мать где? — заорал Бубин.— Гаська! Где мать?
— Она к соседям ушла, папаша.
— Потому — пью,— хвастливо объяснял мне Бубин.— Я, когда пью, больше с Катькой живу, чем с женой.
— О! Сукин сын! — захохотал Митрич.— А вы не выпьете, го- спо... гражданин? — обратился он ко мне.
— Нет, не буду,— ответил я.— Да и вам не советую. Что ж вы на глазах у детей-то? Нехорошо выходит. Я вот пришел к вам посоветоваться,— обратился я к Бубину,— насчет Гаси и его ученья, а с вами и говорить нельзя. Вам, выходит, скелет дороже сына.
— Эх, товарищ,— мотнул головой Бубин.— Ты что? — Это он сказал уже Гасе, который в это время осторожно снимал у него с усов кусок яйца.— А, яйцо снять? Ухаживает за пьяным. Сын у меня — не сын, а золото. Красный угол устроил. А пьем мы потому... Скелет мне не дороже сына!.. Это вы напрасно. Скелет, он остался от старого мира...
— Оставляем от старого мира папиросы «Ира»,— заорал вдруг Митрич.— А? Нигде кроме, как в Моссельпроме!
— Вы чувствительно поймите,— наклонился ко мне Бубин, пытаясь что-то объяснить.— Вы... можете понимать? Другие некоторые, они приучают детей к вину. А я вот — не делаю. Па-чему не делаю? Потому знаю: водка есть яд. Это еще депутат Челышов в Государственной думе пр-роизносил. А что мне делать? Жена убегает, сын боится, вот... я и приспособил... Катьку к этому делу.
С этими словами Бубин встал, подошел к скелету, чокнул стакан об его зубы — и выпил.
— А Катька — это потому... скелет женского пола,— сказал он, отдышавшись.— Женщина была. Вот приходите, двадцать четвертого ноября ее именины праздновать будем.
Мне больше делать было нечего, поэтому я попрощался и вышел на крыльцо вместе с Октябрем. Гася вышел за нами.
— А ты не боишься скелета? — спросил я его.
— Нет... привык,— ответил Гася.— Вот пьет он... Что такое? — как-то по-взрослому вдруг развел он руками.— Я не люблю, когда он пьет. Я люблю, когда он разговаривает. Он со мной обо всем разговаривает.
— Да,- сказал я.— Сейчас ничем не поможешь.
— А спасеры есть,— вдруг убежденно заговорил Октябка.— Пьяных спасают. Ты, Владленыч, когда он протрезвится, сведи его туда.
— Да ведь он сам — фельдшер, должен знать,— возразил я.
— Сам не пойдет, а тебя послушается,— сказал Гася.
— Коли так — ладно.
Гася осторожно погладил меня по рукаву.
31 октября
Сейчас только кончился диспут по женскому вопросу, и я пришел домой в боевом настроении. Сергей Сергеич предоставил нам полную инициативу, а сам сидел в углу и только сверкал очками. Он выступил только один раз — передо мной. Он сказал:
— Сейчас мы слышали главным образом разные выступления, как попы называют — «от Писания». Тут цитировали и Маркса, и Бебеля, и Лили Браун. А вот не желает ли кто-нибудь выступить от конкретного факта?
Я сейчас же взял слово:
— В общем, возражения противников коллективного воспитания, общественного питания и вообще раскрепощения женщины сводятся к тому, что сейчас все эти общественные учреждения нехорошо поставлены, а что делается сейчас в семейной ячейке? На это никто не обращает внимания. Говорят только, что если будешь питаться в столовке, то получишь катар желудка, а если дома, то не получишь. Хорошо, если у Травниковой дом так устроен. А большинство семейств, которые я знаю, устроены так, что ребенок получает с детства катар мозгов, а не желудка. Взят^, например, мое вчерашнее обследование семьи одного пионера. Отец сидит и пьянствует со скелетом Катькой. Мать убежала. Парень, конечно, не получит катара, потому что он вообще ничего не ел. А другие семьи? Сплошь и рядом бьют ребят. А почему? Потому что нет никакого контроля. Это'безобразие надо прикончить, а прикончится оно только со введением общественного воспитания и общественного питания.
Вот вкратце, что я говорил. По-моему, победа была за мной, потому что никто не возражал. Я очень понимаю теперь Сергей Сергеича: как возьмешь в руки конкретный факт, так книжная труха разлетается как пыль (это его выражение).
Но интересно: большинство ребят нашей группы, уже не говоря о девчатах, меня сторонятся.
1 ноября
Ко мне ребята сегодня пристали насчет Махузи Мухаметдиновой: она опять не ходит в школу. При этом ходят разные слухи. Нужно обязательно сходить к ней на дом. Как только кончу свой реферат, так сейчас же пойду.
3 ноября
Когда тебя задевают и знаешь кто, то это одно: можно сопротивляться. А когда бьют из-за угла и не знаешь кто, то мучит досада на такой подлый поступок, а руки связаны.
596
Сегодня вышел «Икс», в нем помещена такая штука:
кто он?
(Загадка)
Пытался стать он пионером,
Чтоб для других служить примером,
И вот... создал разбойничий форпост...
Кто он? Дурак — или прохвост?
Конечно, это про меня. Мало-помалу вышло так, что я остался совершенно один, если не считать нескольких форпостных ребят, которые все-таки маленькие и им всего не скажешь.
Первая от меня отшатнулась Сильва. Потом Зин-Пална изменила ко мне отношение. Потом ушли некоторые из пионеров. Наконец, в укоме обещали снять. Я уже не говорю о Марь-Иванне и Зое Травниковой и тому подобных мещанках; как они ко мне относятся — мне все равно. Единственно, что, по-видимому, сумела сделать Черная Зоя,— это насплетничать что-то такое про меня большинству девчат. Понимает меня один Сергей Сергеич. Но он все молчит. Когда я пытался ему излиться, как Никпетожу, он только пожал плечами и сказал:
— Действуй, как прежде, только обдумывай.
И больше я от него ничего не добился. А меня то злость обуревает, то какая-то дурацкая тоска; одному все-таки пробиваться трудно, и только и есть утешение, что я верен принципу и гну марксистскую линию.
8 ноября
Сижу и жду Октябку и Курмышку. Они сейчас должны прийти, и мы вместе пойдем на квартиру к Махузе Мухаметдиновой. Если правда, что говорят про Махузю и ее отца, то это дело очень серьезное. Но мне все-таки как-то не верится.
10 ноября
Сейчас была Сильва и только что ушла. Я лежу в постели с завязанной головой. Это было целое похождение, словно я какой- нибудь Гарри Ллойд.
Когда Октябрь и Курмышкин пришли, мы отправились в поход, причем я захватил с собой на всякий случай свисток. Самое трудное было — проникнуть в дом.
Ворота были заперты. Мы принялись стучать. Сначала нам никто не отпирал, потом за воротами послышался голос:
597
— Кто?
— Мухаметдинов здесь живет? — спросил я.
— Здесь, а на что?
— Нужно, отоприте,— ответил я и локтем подтолкнул ребят: мы еще раньше уговорились, чтобы они, как только отопрут ворота, сейчас же юркнули туда.
— Кто такой? — спросили из-за ворот, помолчав. Голос был женский, но басовитый, так что я раньше подумал, что мужчина.
— Отворите, телеграмма,— сказал я, нажав на скобу.
Через некоторое время мы услышали, что отодвигают засов. Звякнула цепочка.
— Лезь и снимай цепочку,— шепнул я Курмышке.
Он сейчас же юркнул в образовавшуюся щель.
— Куда, куда? — послышался голос.
Но Октябрь тоже влез в калитку. Послышалась возня, и калитка распахнулась.
— Что нужно? Что нужно? — кричала, наступая на меня, какая-то высокая старуха, вся в темном.
Я оттолкнул ее и бросился вперед. У самой двери я, по уговору, сунул в руки Октября свисток, и Октябрь остался снаружи, а Курмыш- кин следовал за мной. Дверь была не заперта, что мы рассчитали еще раньше: ведь выйдет же кто-нибудь отворять.
Мы быстро пробежали через кухню; в кухне горела керосиновая лампочка, а в следующей комнате было темно и тесно.
— Здесь живет Мухаметдинов? — крикнул я.
В ответ послышалось тяжелое дыхание, и откуда-то из коридора вывалилась целая туша в ермолке.
— Что надо? Кто такой? — спросила туша хриплым голосом.
— Форпост,— ответил я.— У вас дочка есть — Махузя?
— Какой пост? Кто такой? Пошел вон! — захрипела туша.
— Ну, скорей,— сказал я.— Мы получили сведения, что вы, гражданин, намереваетесь продать ее в жены какому-то Хабибуле Акбулатову. Правда это или нет?
Где-то в глубине квартиры началась суматоха; я оглянулся и не заметил около себя Курмышки.
— Да кто такой? — еще пуще захрипел толстяк в ермолке, дрожащими руками зажигая лампу.— Какое ’ право имеешь ходить в чужую квартеру? Кто такой?
— Передовое укрепление,— ответил я.— Ну, где Махузя, говори скорей, а то мне некогда...
— Махузя уехала в Касимов,— ответил толстяк.
Тут я его разглядел: у него было толстое и жирное лицо с узенькими глазами.
— Врет! Она здесь! — раздался звонкий голос. Из-за толстяка вывернулся Курмышка.— Она в той комнате сидит и ревет.
598
— Ага, значит, вы врете, гражданин? — сказал я.— Тут нужно выяснить, с какой целью. Предъявите мне сейчас же Махузю.
— Откуда? Кто такой? — надвигаясь на меня* бессмысленно повторял толстяк.
Тут я заметил у него в руке железный прут.
— Нужно покончить с этим вопросом,— сказал я.— Здесь тебе не Узбекистан, да и там теперь запрещают. Сейчас же давай Махузю, а не то милицию позову.
В это время Курмышка появился вновь, но уже не один: он тащил за руку Махузю.
— Ага, Махузя,— обрадовался я.— Тебя насильно держат?
— Хотят в жены... продать,— всхлипнула в ответ Махузя.
— Ну, не продадут,— ответил я и услышал во дворе пронзительный свист.— Пойдем со мной отсюда.
— Разбойники! Бандиты! Милиция! — закричал вдруг с каким-то привизгиванием толстяк.
— Сам бандит,— ответил я, схватил Махузю за руку, но в тот же момент у меня в глазах сверкнуло, что-то тяжелое упало на голову — и дальше я ничего не помню.
Октябка вчера рассказывал, что, когда он остался во дворе, старуха все время нападала на него, но он увертывался. А потом, так как я долго не выходил, то он решил дать свисток. Старуха испугалась свистка и спряталась. Тогда Октябка бросился на улицу и на перекрестке встретил мильтона; рассказал ему все, мильтон пришел, но меня нашли уже без чувств, а толстяк совсем скрылся из дому.
Махузю взяли в милицию, и там она подтвердила, что ее действительно продали какому-то «горячему старику» и он должен был увезти ее куда-то «далеко-далеко»... Отец ее жил с мачехой (той самой старухой), которая ее постоянно колотила, а сказать об этом кому-нибудь Махузя боялась. Сказала только одной из наших пионерок. (От этой девочки и началось мое расследование.)
Меня отправили в больницу, и там я уже пришел в себя.
Несмотря что Сильва пришла меня проведать и мы очень хорошо обо всем поговорили, я решил теперь сам просить, чтобы меня сняли с пионерской работы.
Очень трудно одному.
11 ноября
Сейчас ушел от меня Иванов. Он заходил на минутку и сказал, что я поступил правильно.
— Все-таки, Иванов, снимайте меня с пионерской работы,— попросил я.— Трудно, понимаешь?.. Я теперь вижу, что я индивидуалист и что больше приношу вреда, чем пользы.
Иванов помолчал.
599
— Вот что. Оставайся,— сказал он, барабаня пальцами по столу.— Это споначалу трудненько, теперь легче будет. Тебе Тромбах обещал помочь.
Тромбах — это Сергей Сергеич.
От радости я готов соскочить с постели и побежать в школу.
Но в комнате сидит папанька, кроит пальто и всячески меня отчитывает за то, что я ввязываюсь не в свои дела.
СОДЕРЖАНИЕ
И. Стрелкова. Школа вчера, сегодня, завтра 3
Л. Кассиль КОНДУИТ Страна вулканического происхождения
Открытие 20
Пропавшая королева, или Тайна ракушечного грота ... —
Запоздавшее предисловие 23
География 24
История 25
От Покровска до Драндзонска 27
Джек, Спутник Моряков 28
У тихой пристани 29
Домашний капитан 31
Земля Ханонская .... 32
Гудок разбудил Швамбранию 33
Критика мира и собственной биографии 35
Езда «в народ» —
601
Мир животных 36
Вокруг нас ... 38
Умственность и рукомесло —
Бог и Оська 39
Небесная Швамбрания 41
Покровская Золушка 42
Клейменые орлы 43
Газообразное начальство .... 44
Святки —
Дни склеены синдетиконом 46
Анонимка 47
Золушка разоблачена 48
Туфелька Сандрильоны 49
Голубиная книга
Вступительное 50
Забрили! Оболванили! 51
Пуговицы * 52
Наполеон и кондуит 54
П. Г 55
Голуби-сизяки ..... 56
Директор ... 58
Учительская 59
Инспектор —
Агнцы и козлищи ... 60
Сказание об Афонском Рекруте 61
Первый звонок —
Шалман 62
Черт и «младенцы» 63
Во саду ли . . 64
«Идем на вы!» 65
Манифест —
«Сорванные голоса» 67
Земский и сын —
Глава почти кинематографическая, в которой читатель,
видя наверху ноги, а внизу голову, может крикнуть
автору: «Рамку!» 69
602
Фараон вызывает Иосифа 70
Шаги в коридоре .72
Развязка .... —
Восемь . .... 73
Пукис-бенефициант .... ... . . 74
«Журавли» и «лебеди» . . .... 75
Три «Е» и «Тараканий Ус» 76
Историческая гвардия 77
Среди блуждающих парт 78
Царский день 79
«Наука умеет много гитик» 80
Место на глобусе 81
Происхождение негодяев —
Верхний этаж мира 82
Лапта в сирени 83
Первая швамбранка 84
Дух времени
Театр военных действий 85
Вид на войну из окна 87
Первое орудие, чхи! 88
Классный командир и ротный наставник 90
Братики-солдатики 91
Дух времени 92
Нас обучают войне 93
Серый в яблоках 94
«Тпру» по-немецки? 95
Лошадиное слово 96
С новым счастьем! ... 97
Февральский кондуит
О круглой земле, о больших новостях и маленьком
море 98
Разговор по прямому проводу 100
603
Цап-Царапыч гонится за луной, или Что сказал об этом
кондуит 100
«Вольно!» — говорит солдат 101
Самоопределение Оськи 102
«Боже царя...» Передай дальше 103
«На баррикадах» 105
Большая перемена —
Латинское, окончание революции 106
«Романов Николай, вон из класса!» ... 107
Степка-агитатор 109
Заговор 110
На Брешке —
Галоши директора 112
Вече на бревнах 114
«Родителям на утешение» —
Директор и Оська 115
Отцы, папаши, батьки 116
Кондуит директора ' 117
Присутствие духа 119
Цап-Царапыч ставит точку -120
Реформа единицы —
Протеже дамского комитета 121
Плюс минус Люся 122
Письмо —
Веселый Монохордов 123
Ландыш в кондуите 124
Г. Белых, Л. Пантелеев РЕСПУБЛИКА ШКИД
Первые дни 126
Цыган из Александровской Лавры 131
Янкель пришел ... 137
Табак японский 144
Маленький человек из-под Смольного 157
Халдеи 164
Власть народу 180
Великий ростовщик 186
604
Стрельна трепещет 205
Кауфман фон Офенбах 231
Пожар 236
Ленька Пантелеев 246
О «шестой державе» 260
«Дзе, Кальмот и К% 274
Саша Пыльников 279
Улиганштадт 287
Лотерея-аллегри 295
«Даешь политграмоту» 308
Учет 313
Шкида влюбляется 319
Крокодил . . 338
Преступление и наказание 347
«Юнком» 359
Содом и Гоморра 368
Первый выпуск 376
Раскол в Цека 382
«Шкидкино» 390
Бумажная панама 395
Спектакль • 400
Птенцы оперяются 408
Последние могикане 413
Эпилог, написанный в 1926 году 416
Н. Огнев ДНЕВНИК КОСТИ РЯБЦЕВ А
Третья группа <1923/24 учебный год)
Первый триместр
Первая тетрадь 420
Вторая тетрадь 434
Третья тетрадь 450
605
Второй триместр
Первая тетрадь 462
Вторая тетрадь 473
Летний триместр
Общая тетрадь 510
Разбойничий форпост 568
К читателям.
Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.
Литературно-художественное издание Для среднего и старшего возраста
Школьные годы
Выпуск 1
Кассиль Лев Абрамович КОНДУИТ
Белых Григорий Георгиевич Пантелеев Алексей Иванович РЕСПУБЛИКА ШКИД
Огнев Николай (Розанов Михаил Григорьевич)
ДНЕВНИК КОСТИ РЯБЦЕВА
Повести
Ответственный редактор О. Б. Тресьяченко. Художественный редактор Г. Ф. Ордынский. Технический редактор Л. В. Гришина. Корректоры Г. Ю. Жильцова, К. И. Кареаская
ИБ № 10781
Сдано в набор 15.02.88. Подписано к печати 25.07.88. Формат 60Х90‘/ю- Бум. типогр. № 1. Шрифт тайме. Печать высокая. Уел. печ. л. 38,0. Уел. кр.-отт. 38,0. Уч.-изд. л. 40,66. Тираж 200 000 экз. Заказ № 8097. Цена 2 р. 10 к.
Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., I. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»
Ш67 Школьные годы. Выпуск 1: Повести/Автор вступ. ст. И. Стрелкова; Оформл. А. Савельев; Худ. В. Юдин.— М.: Дет. лит., 1988.— 606 с.: ил.
ISBN 5—08—001155—6
В сборник вошли повести Л. Кассиля «Кондуит», Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» и Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева» — о последних годах старой гимназии и о школе первых лет Советской власти.
4803010102-394 ББК84 зр7
М101(03)-88