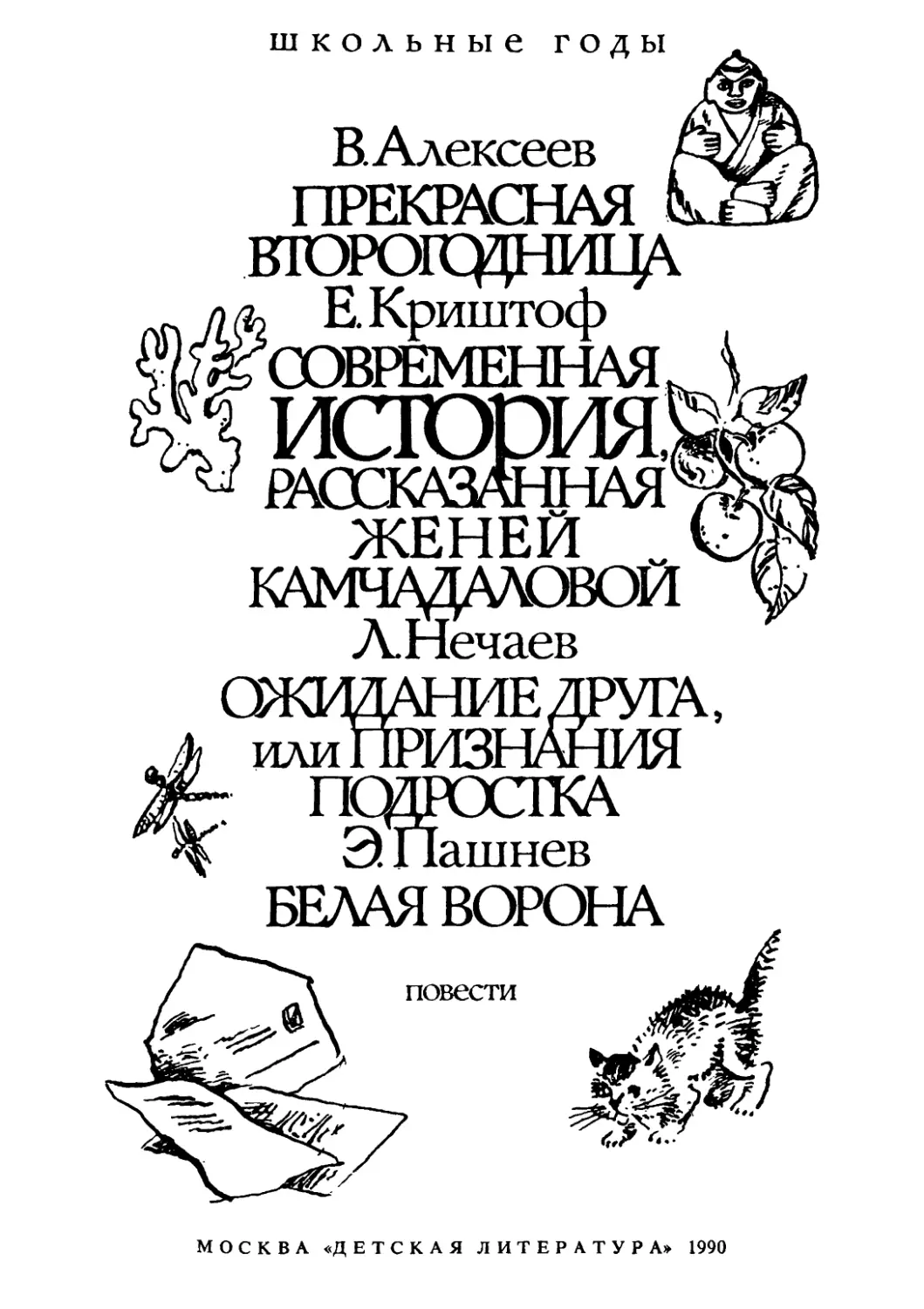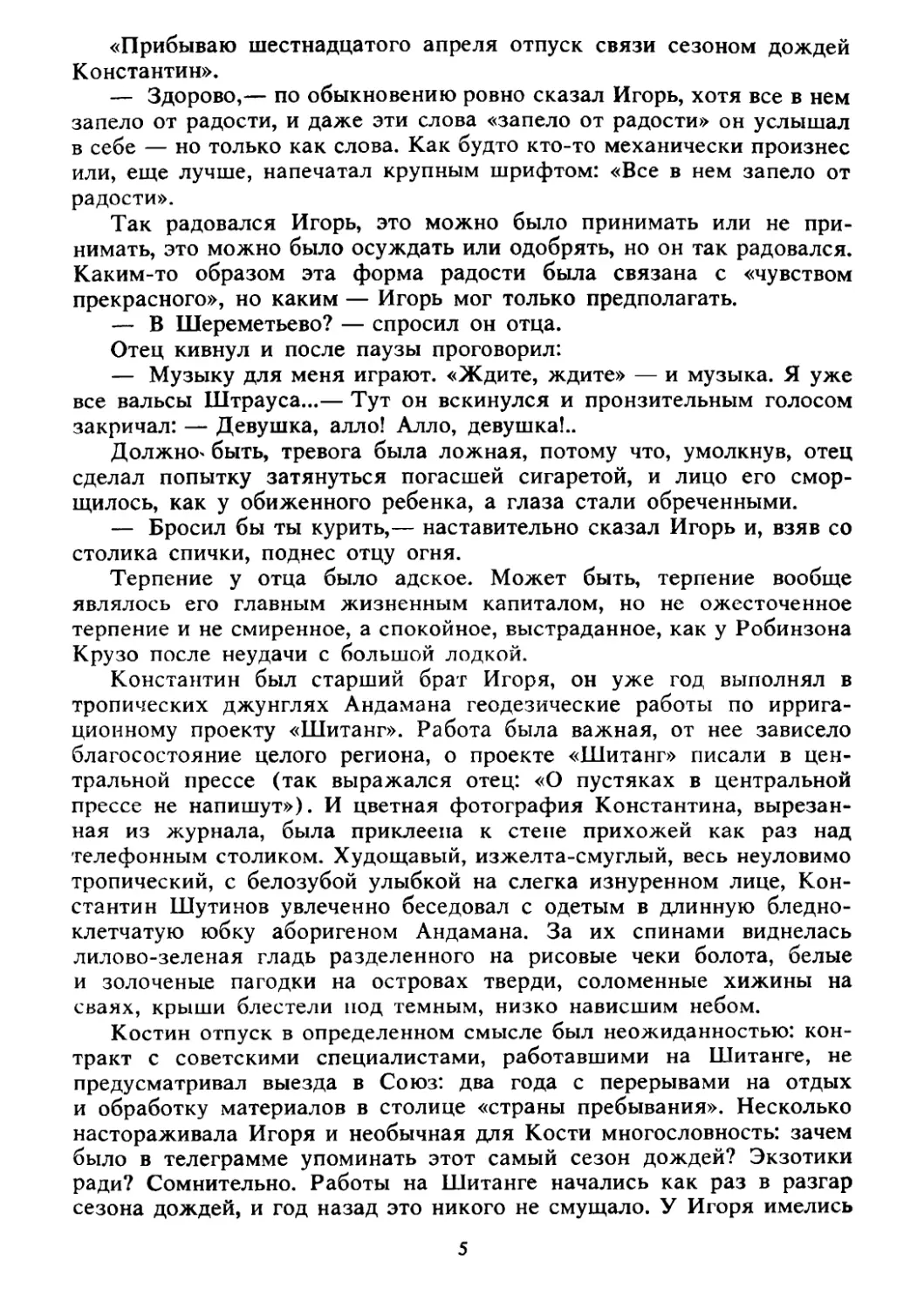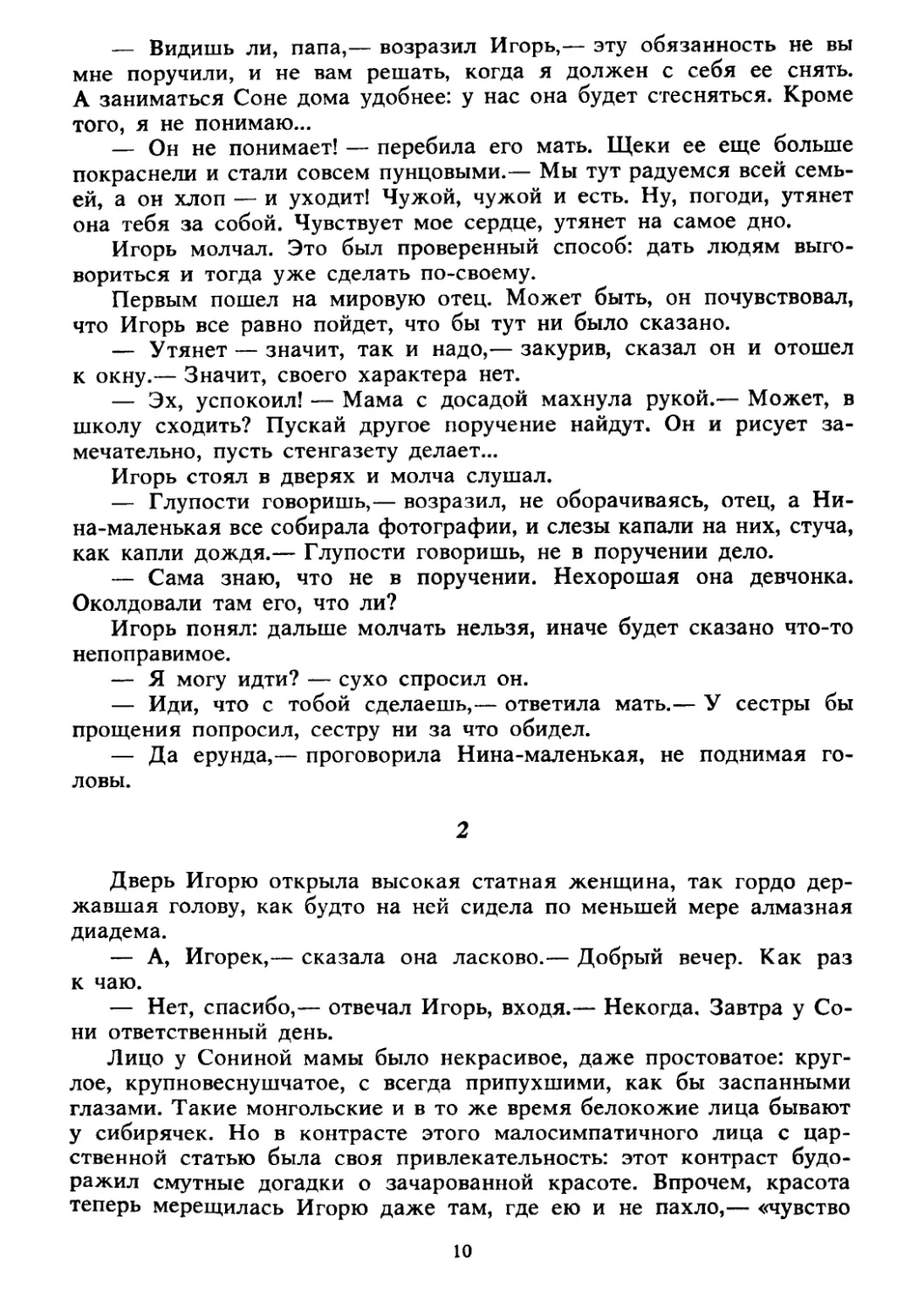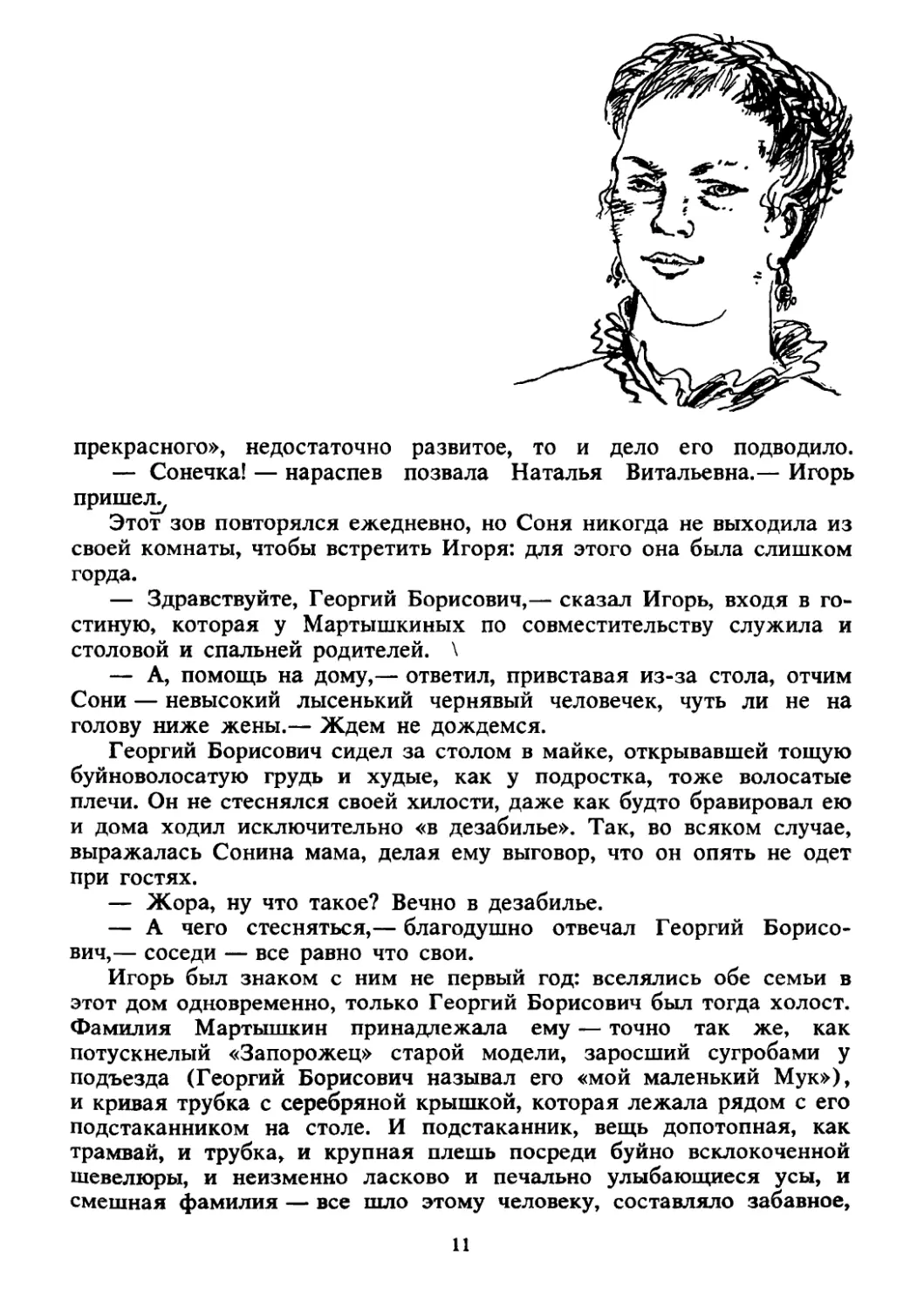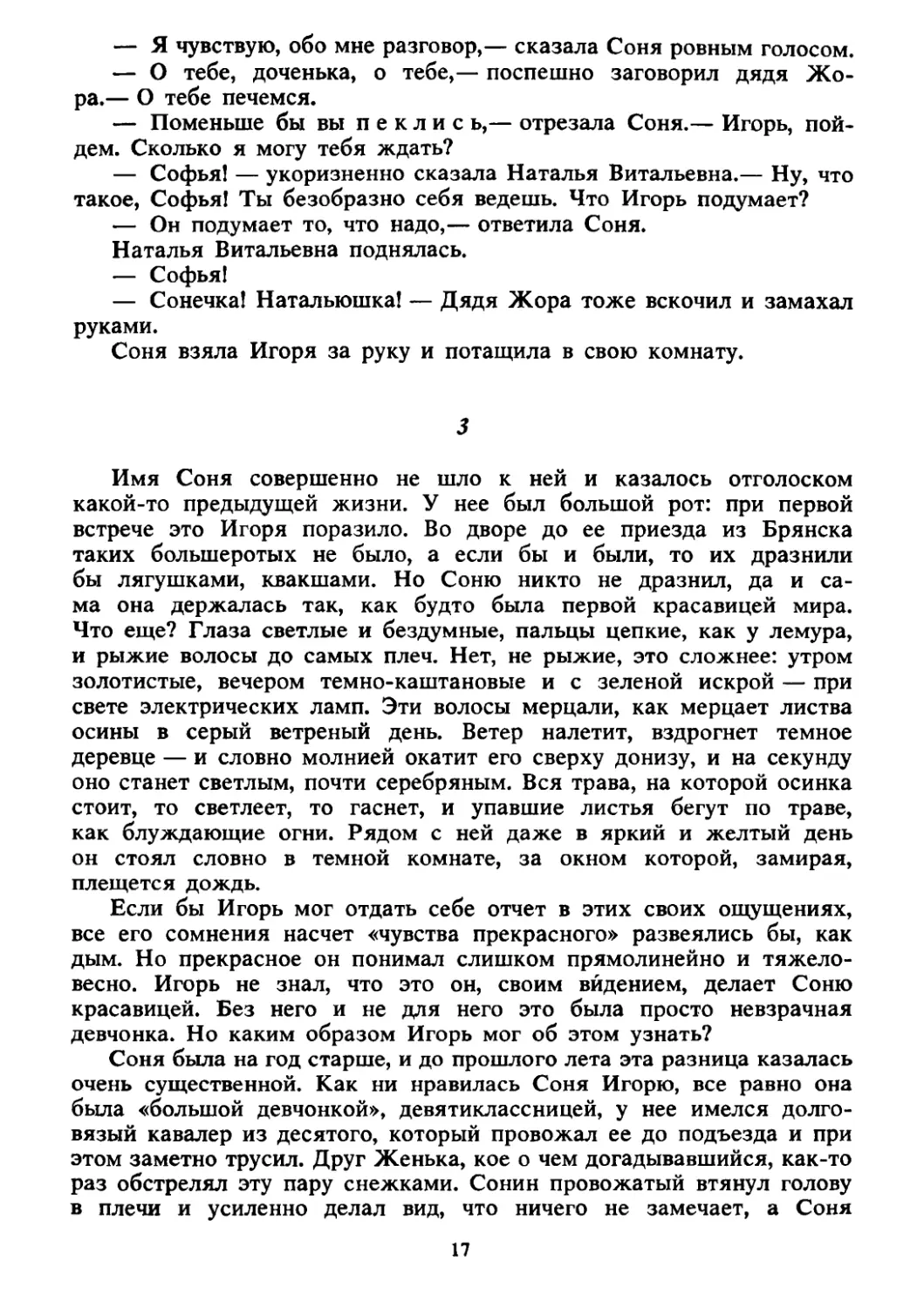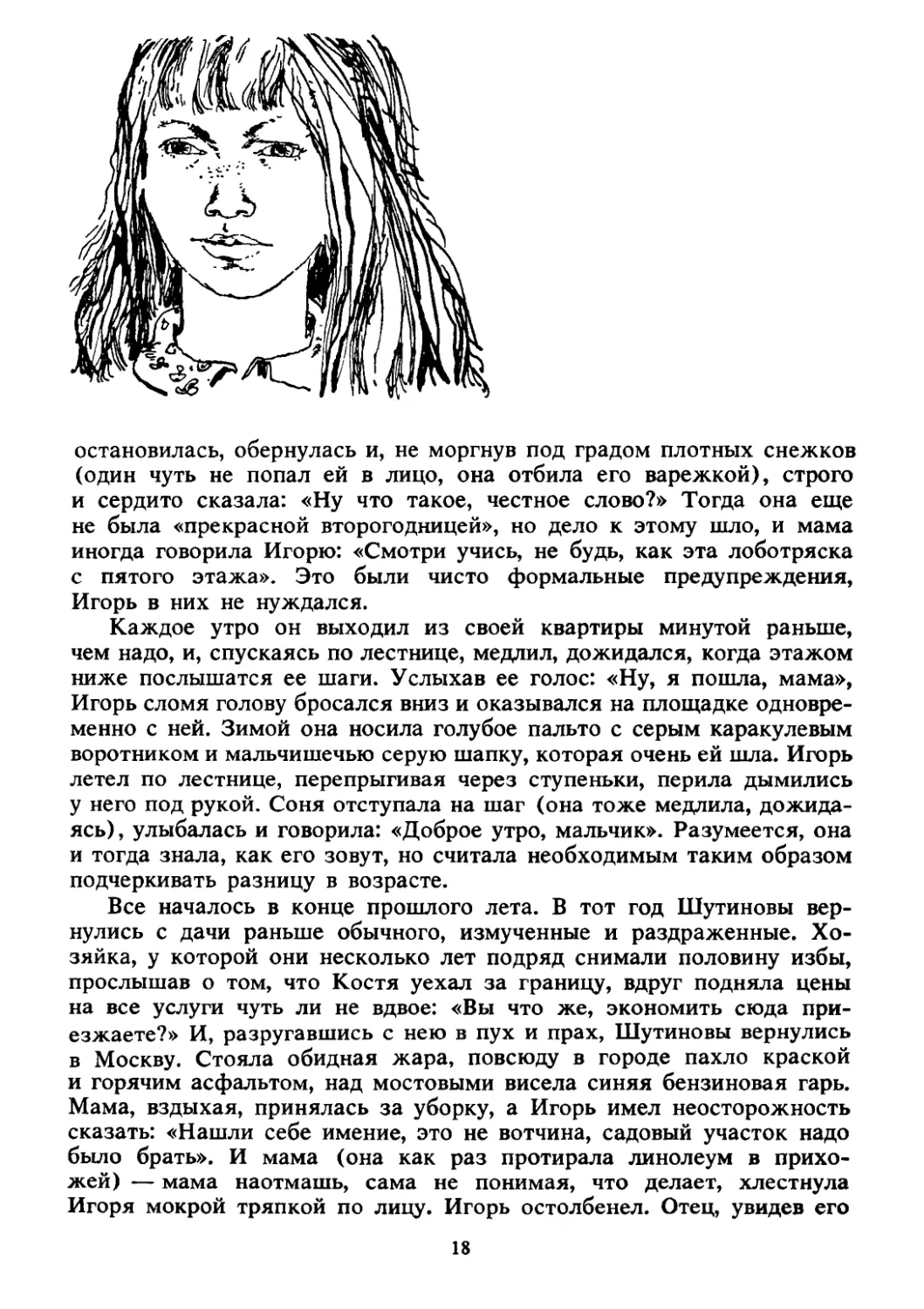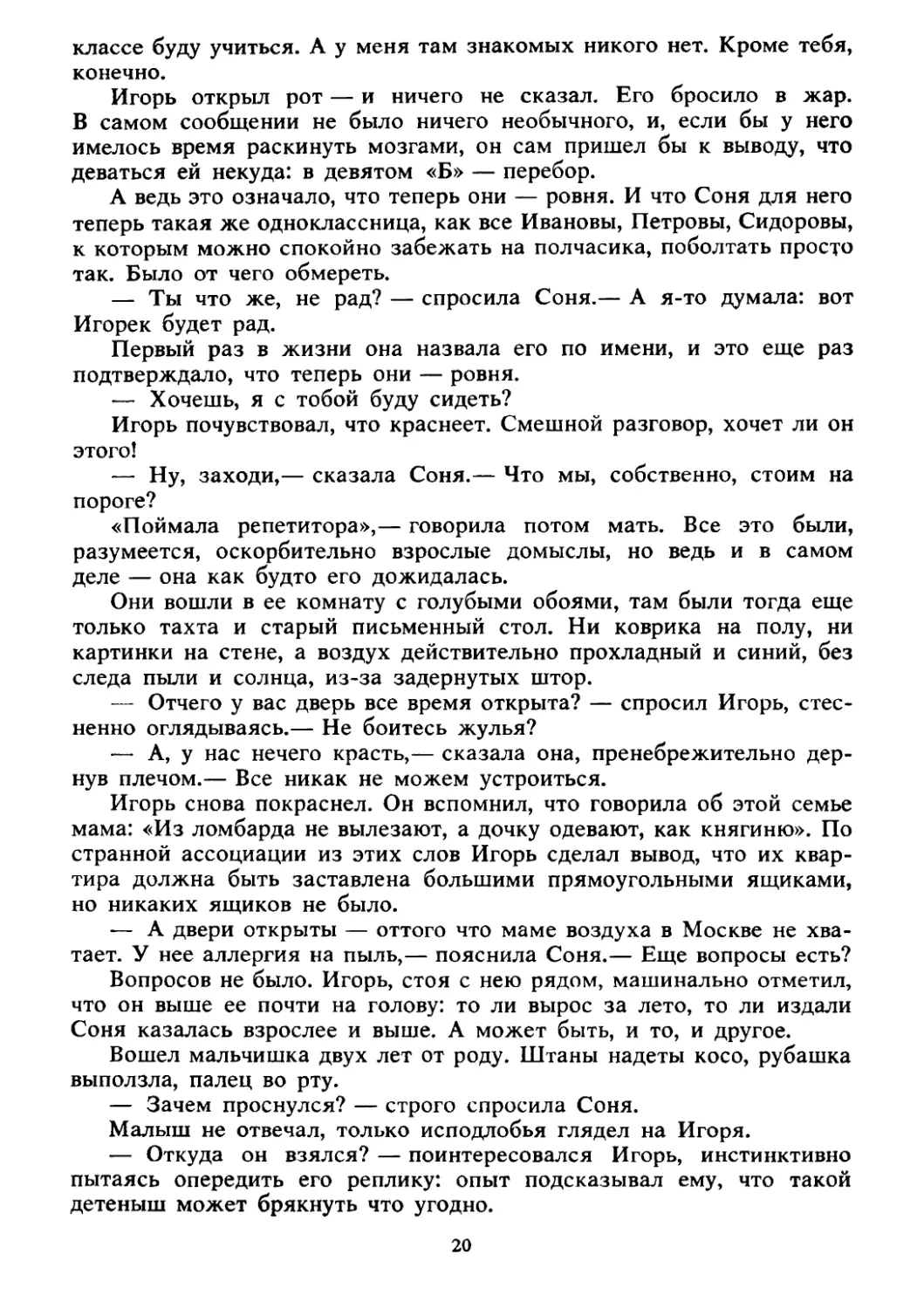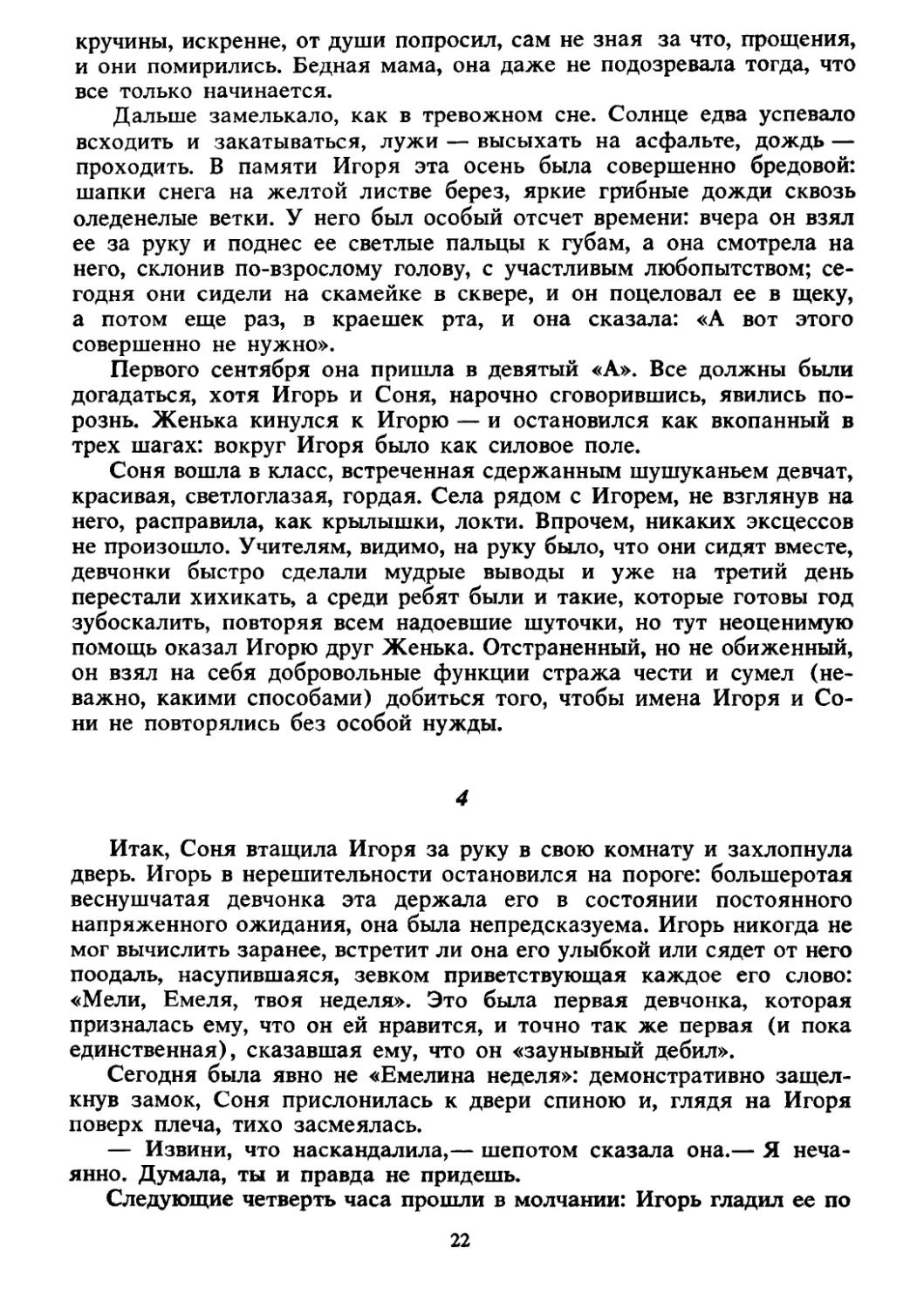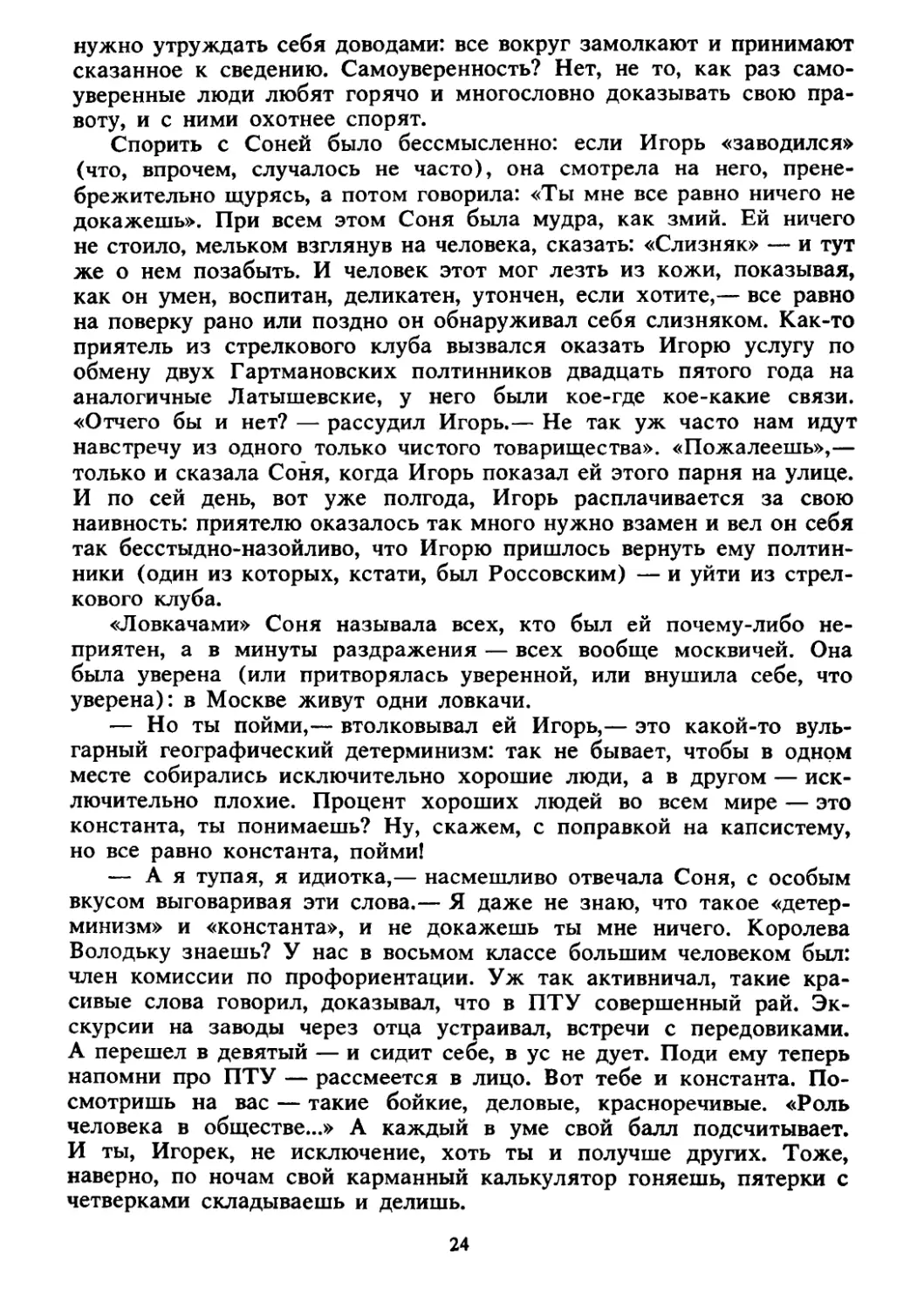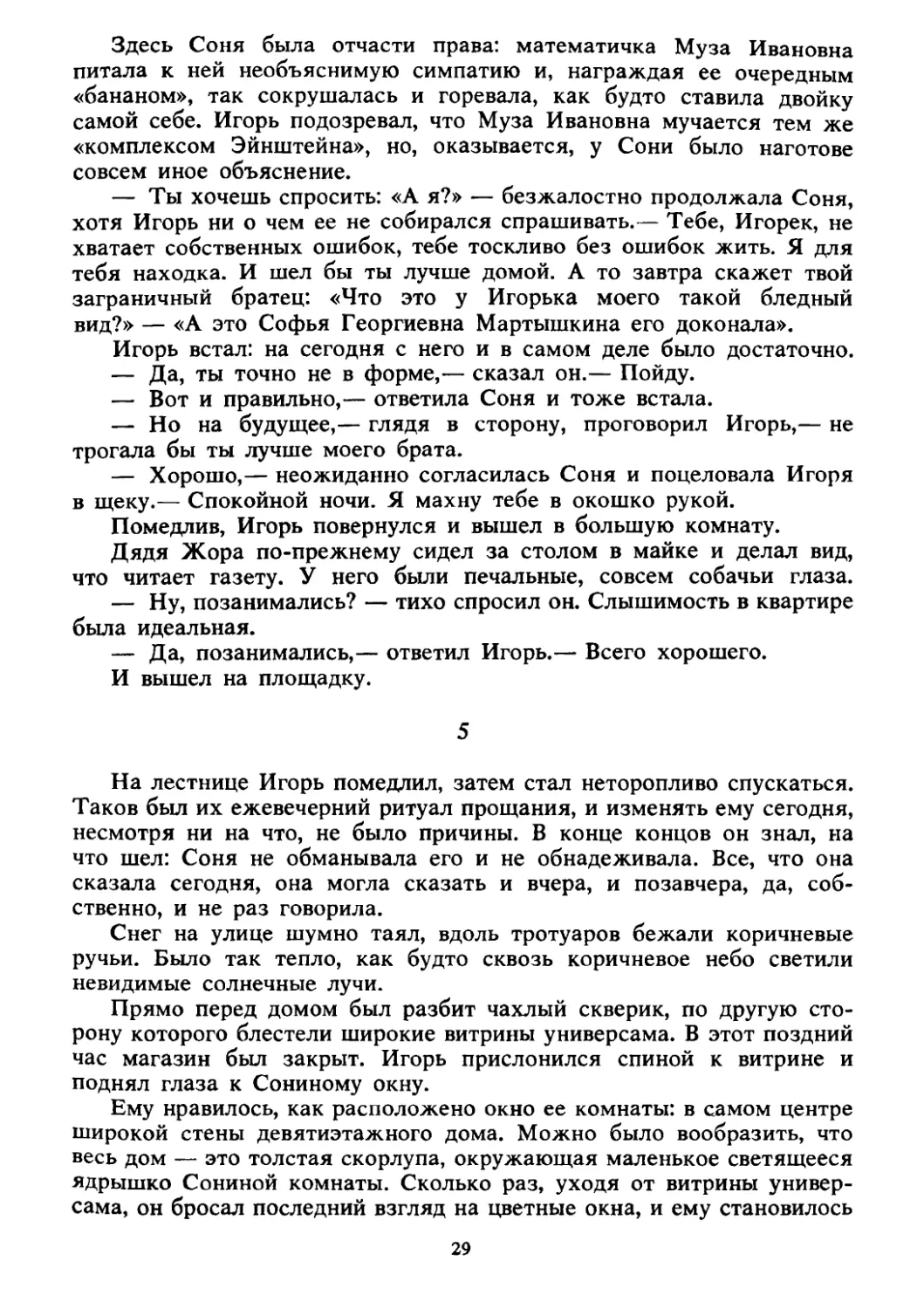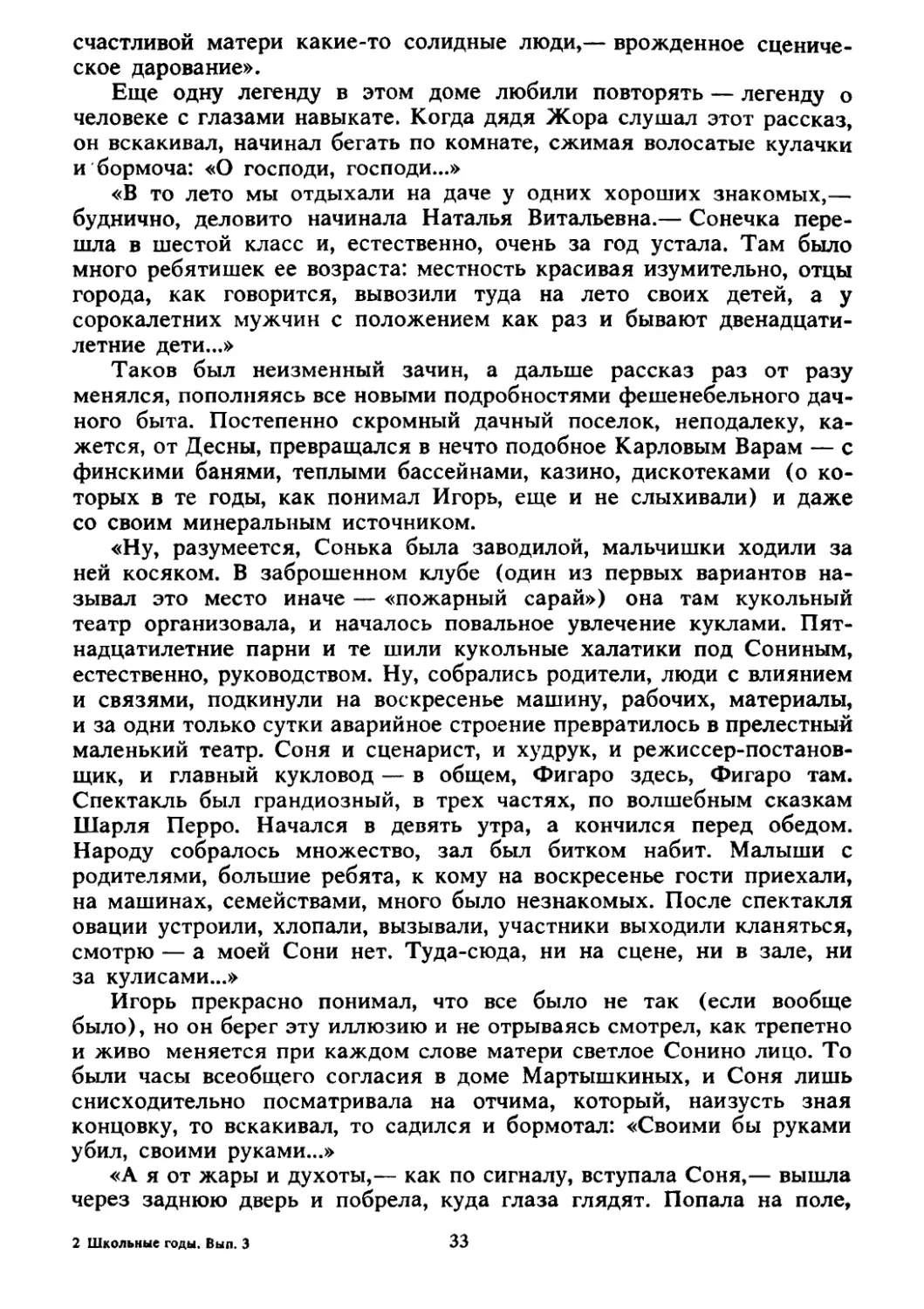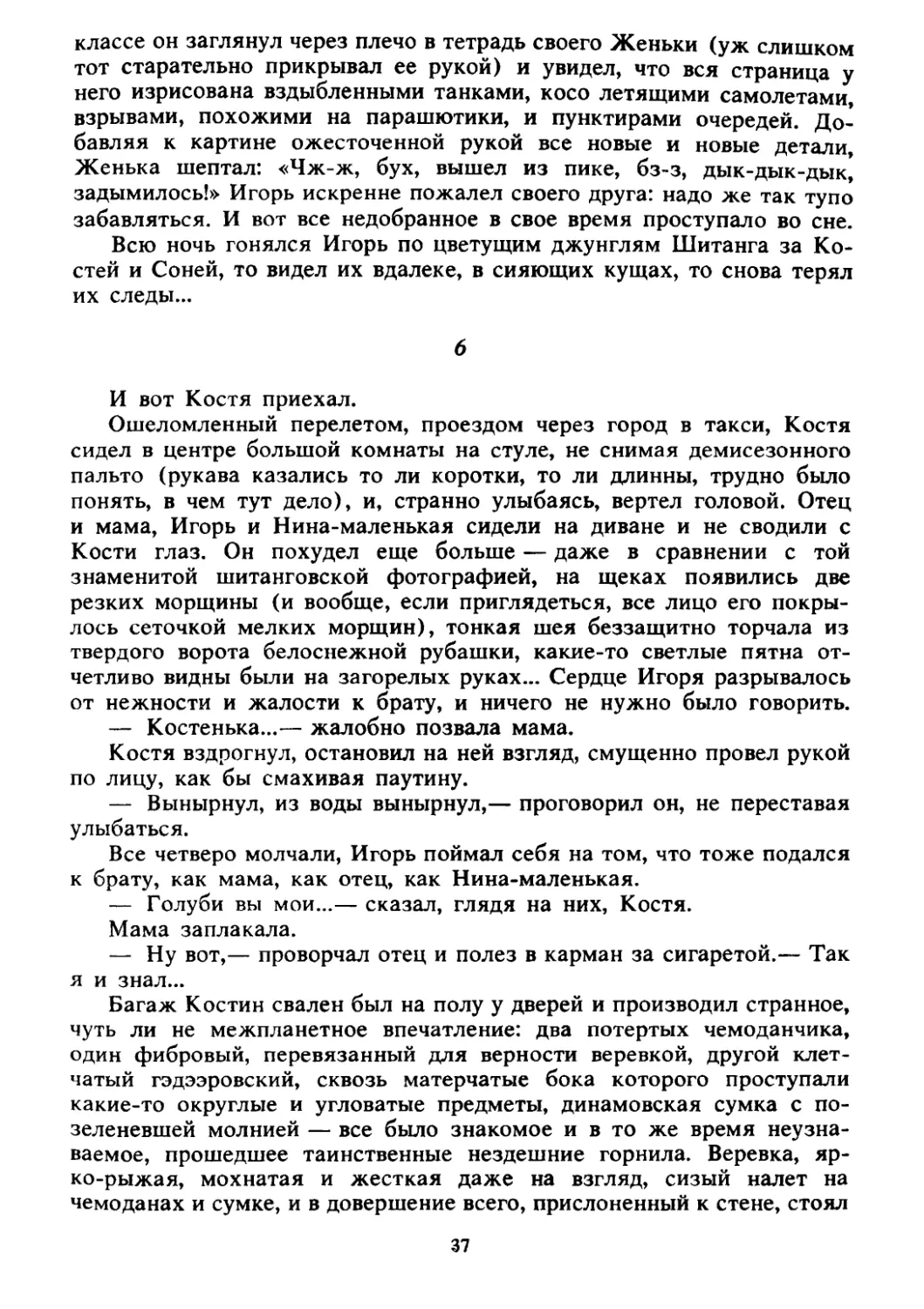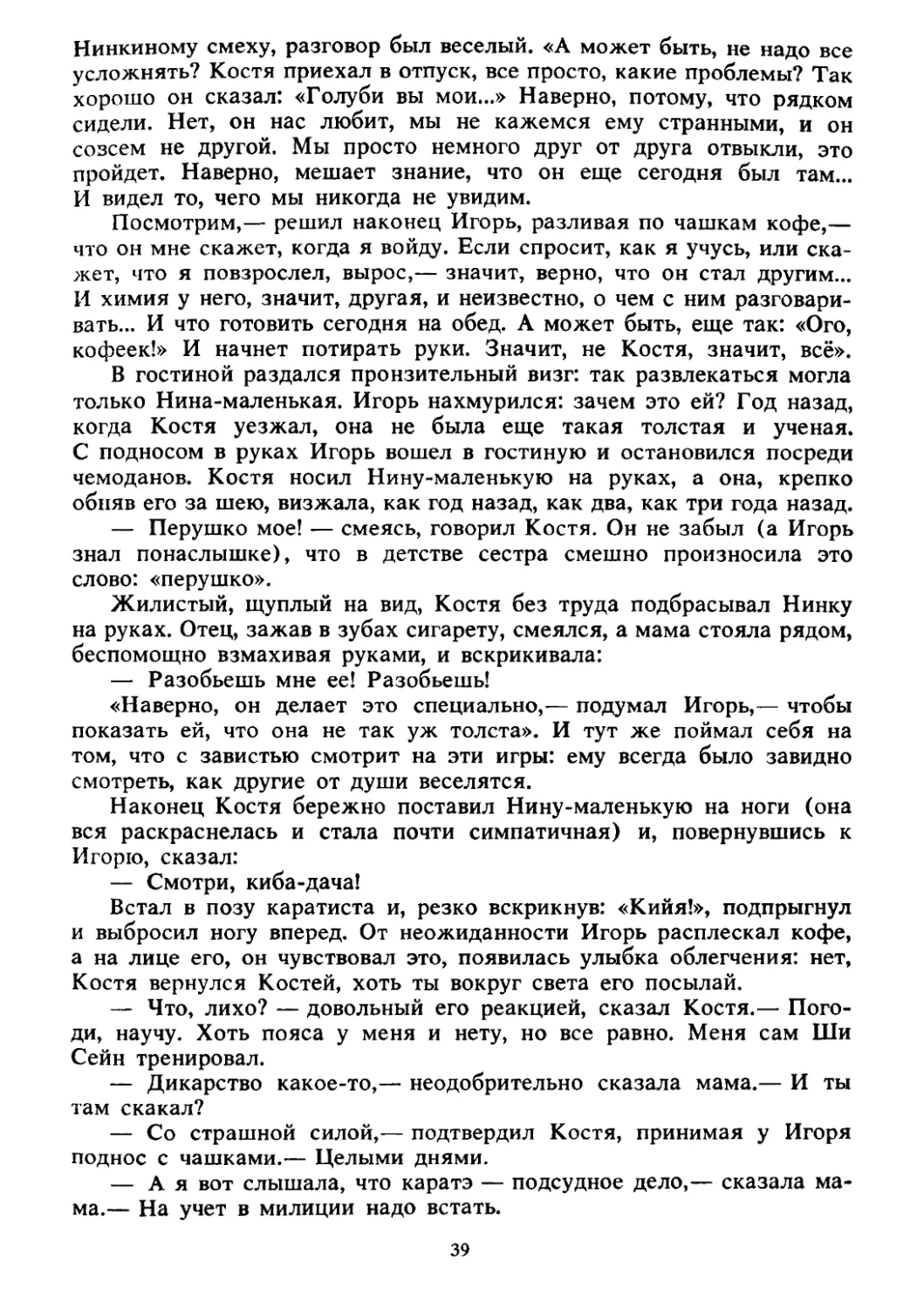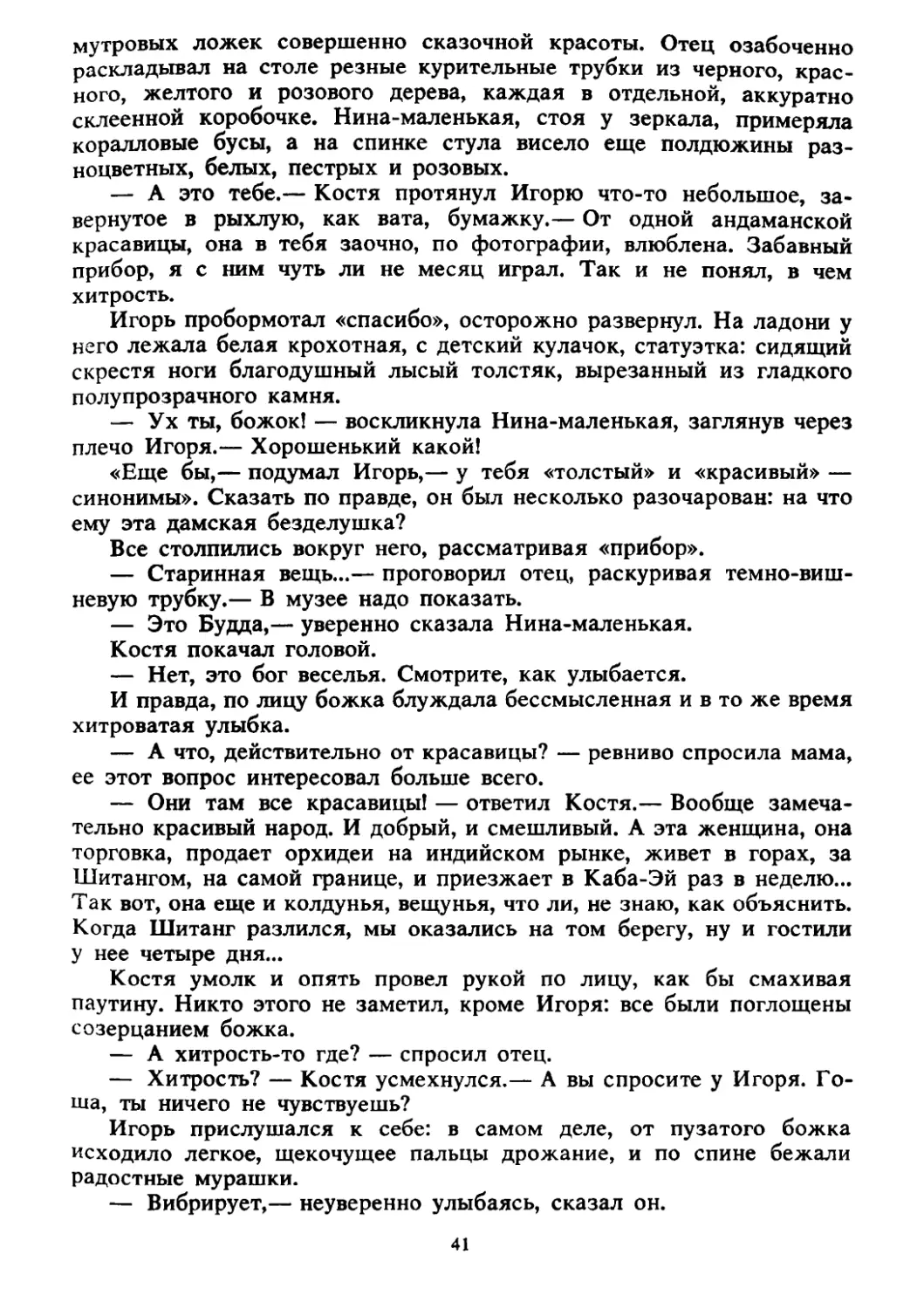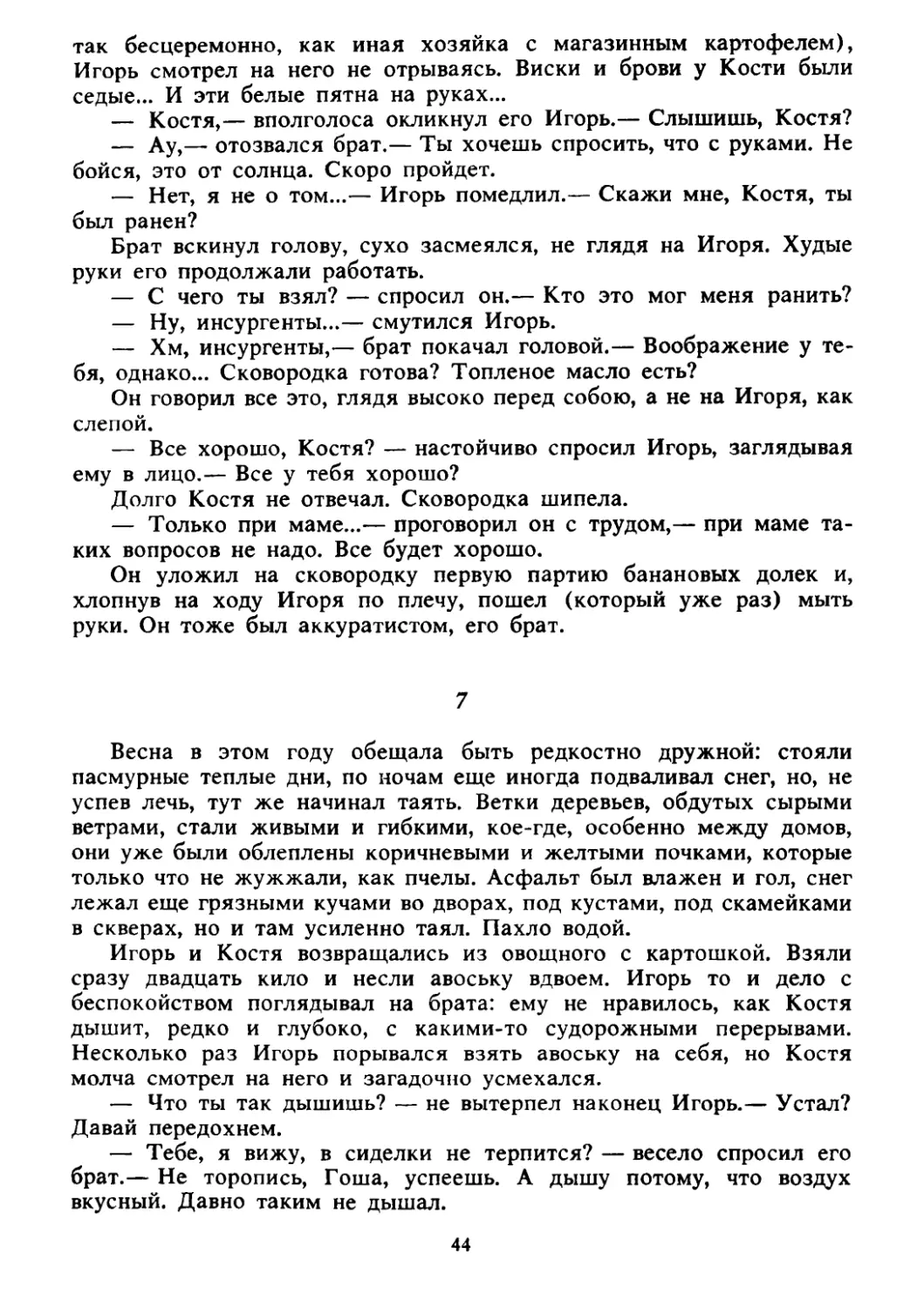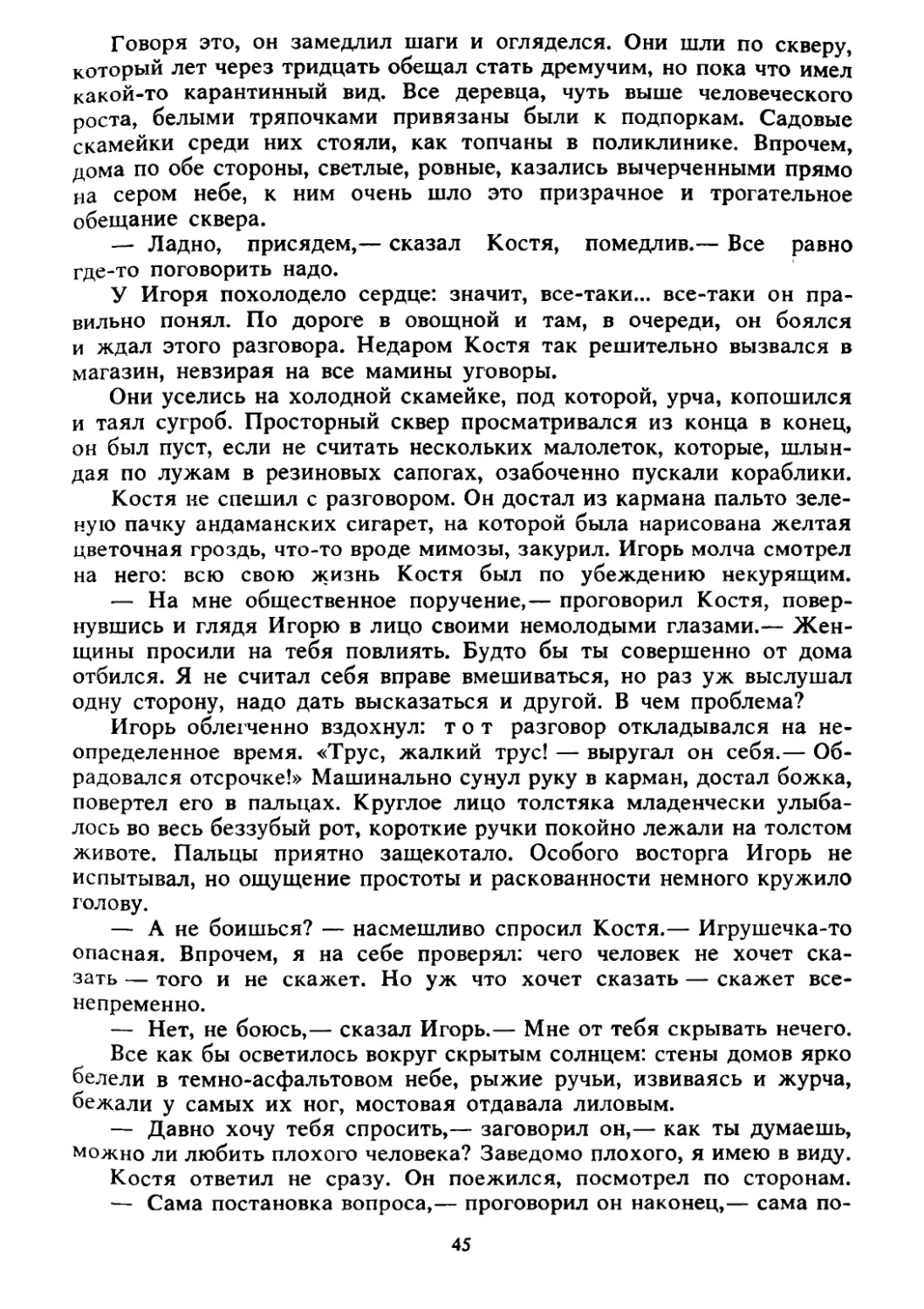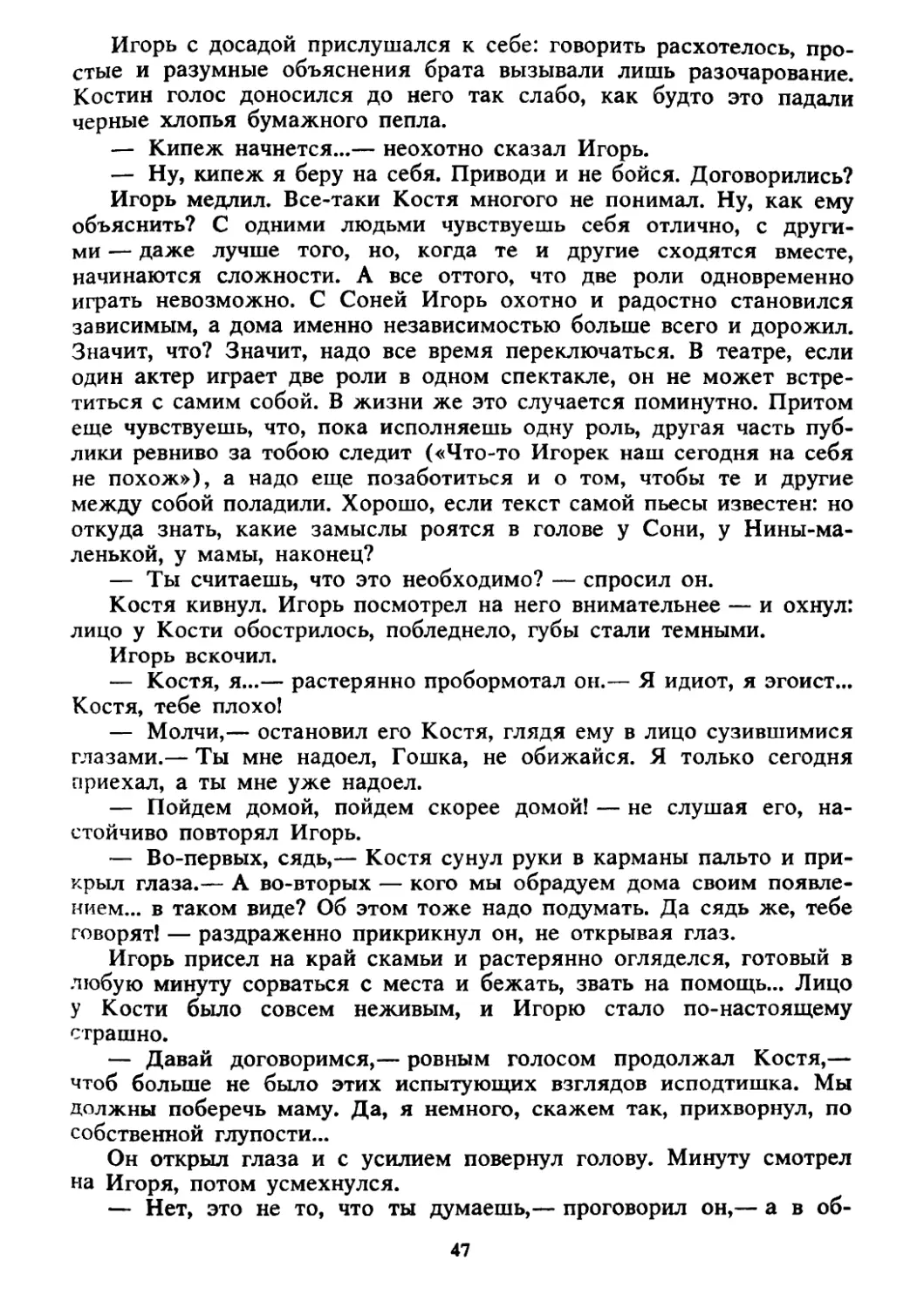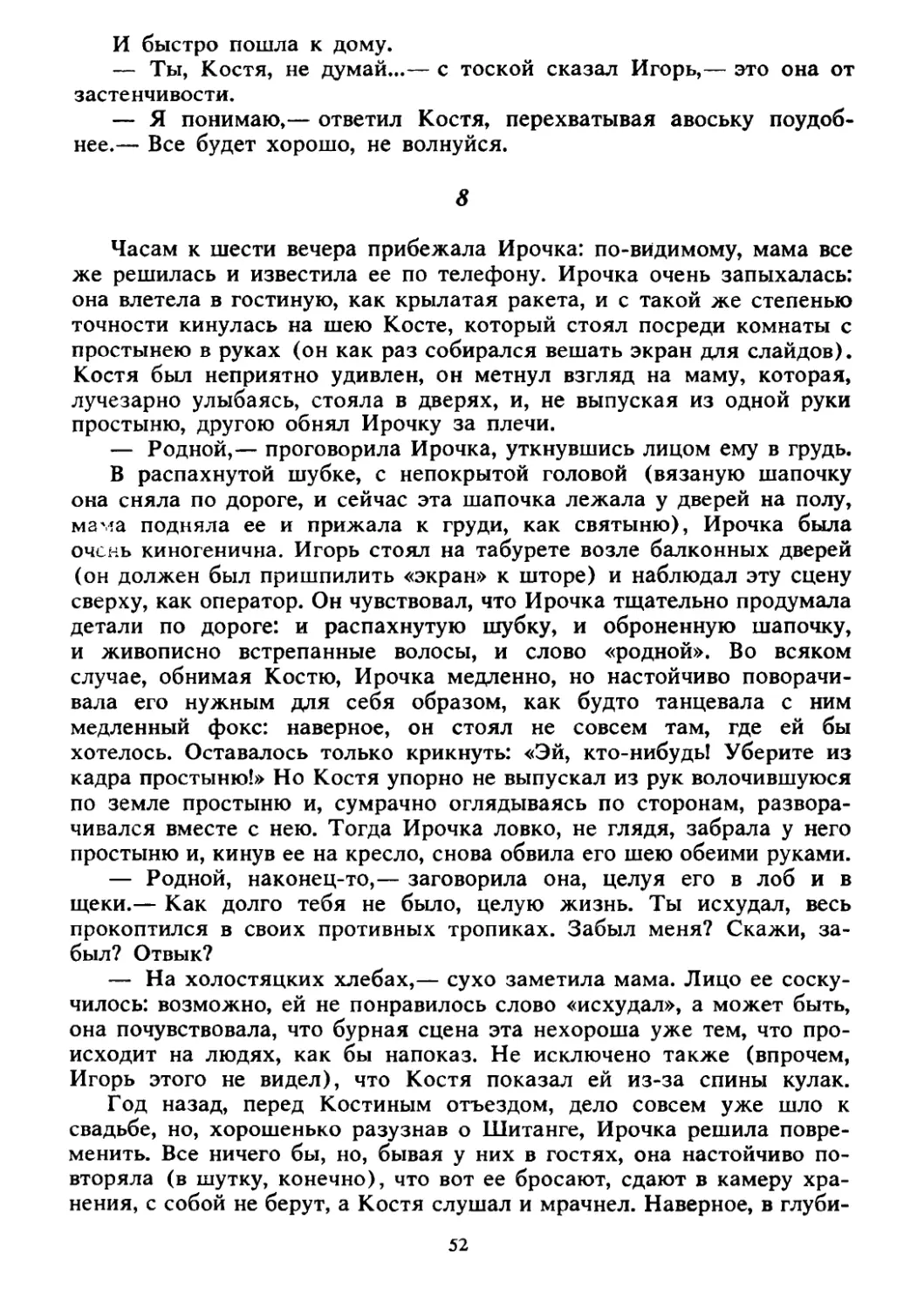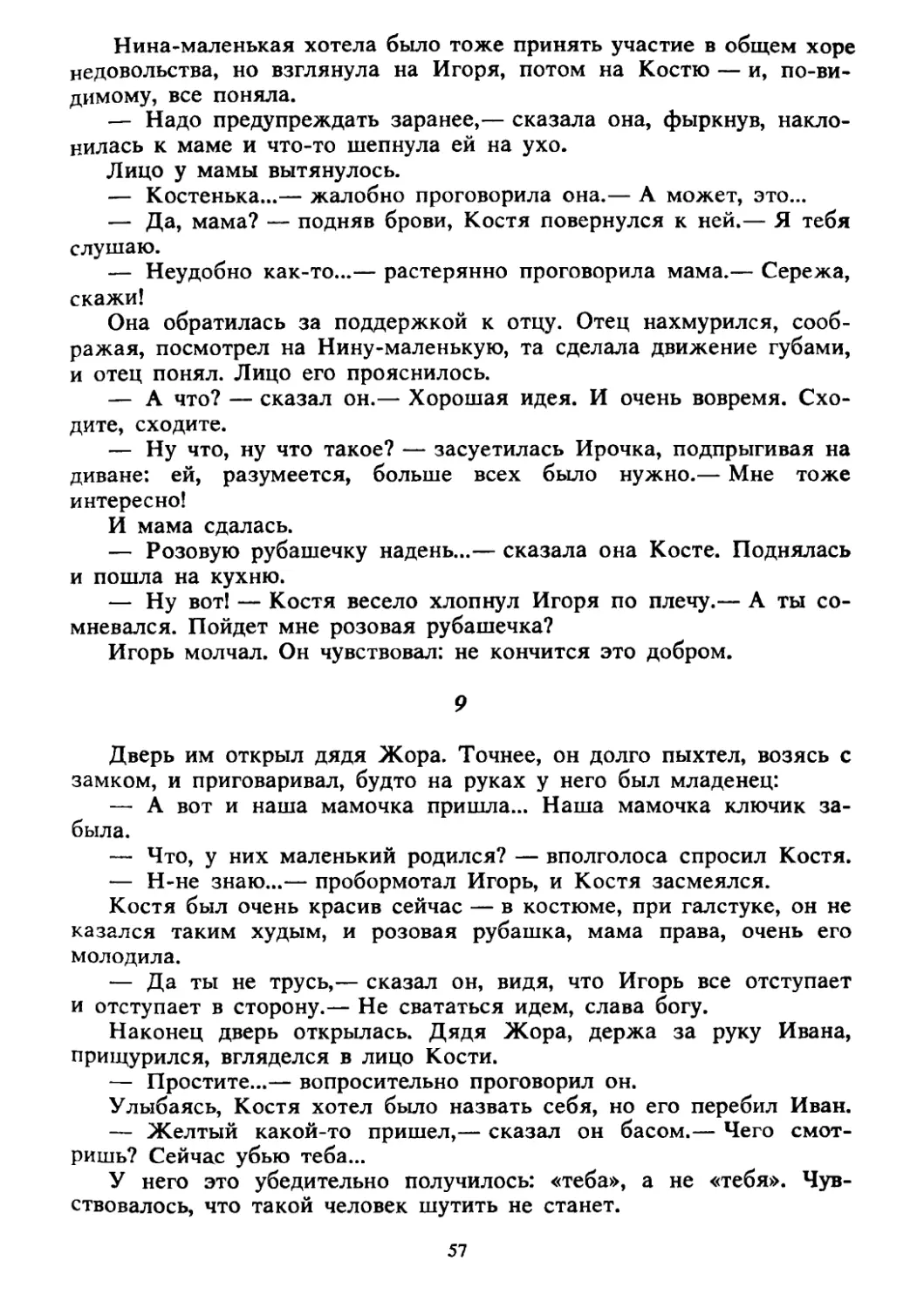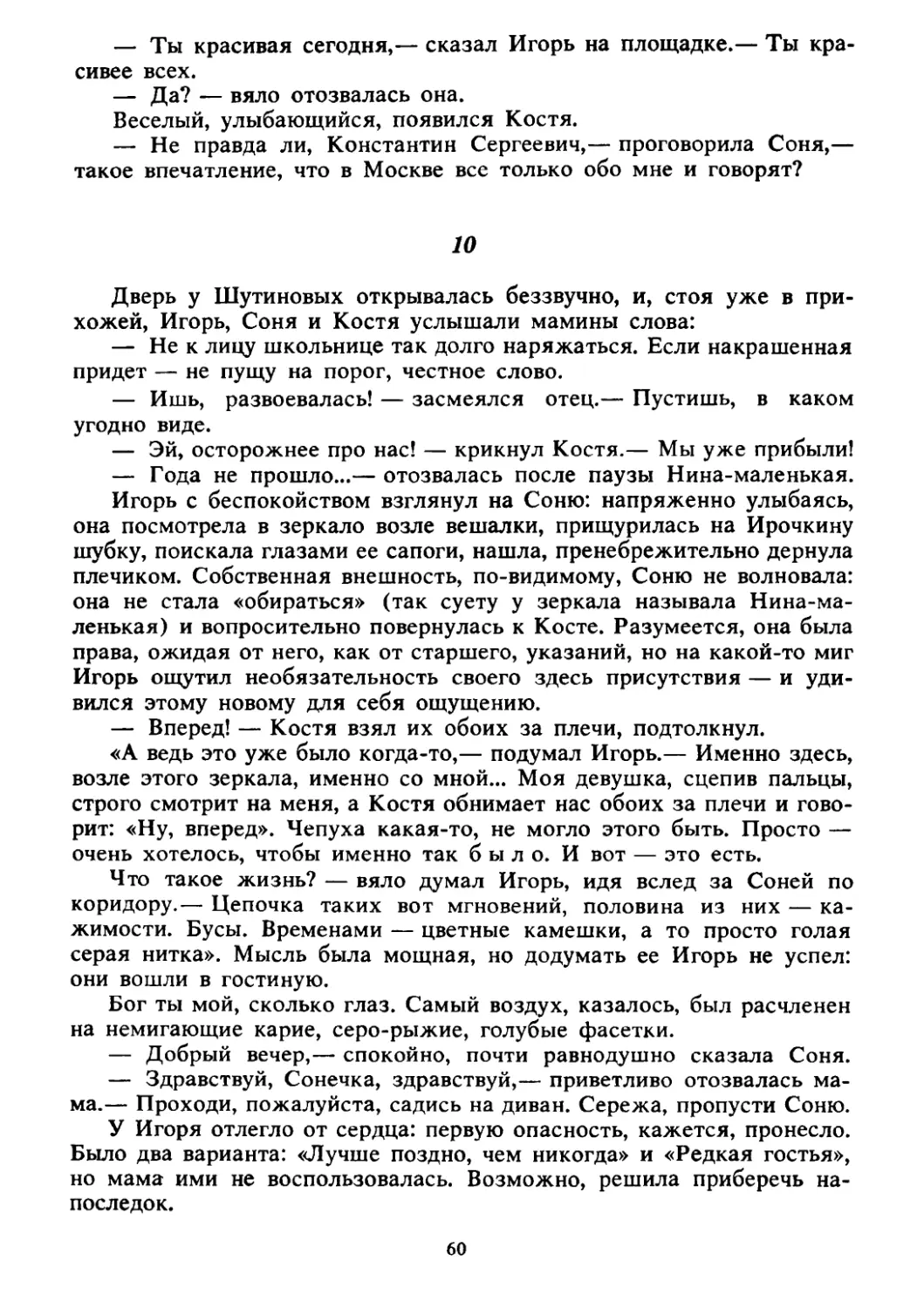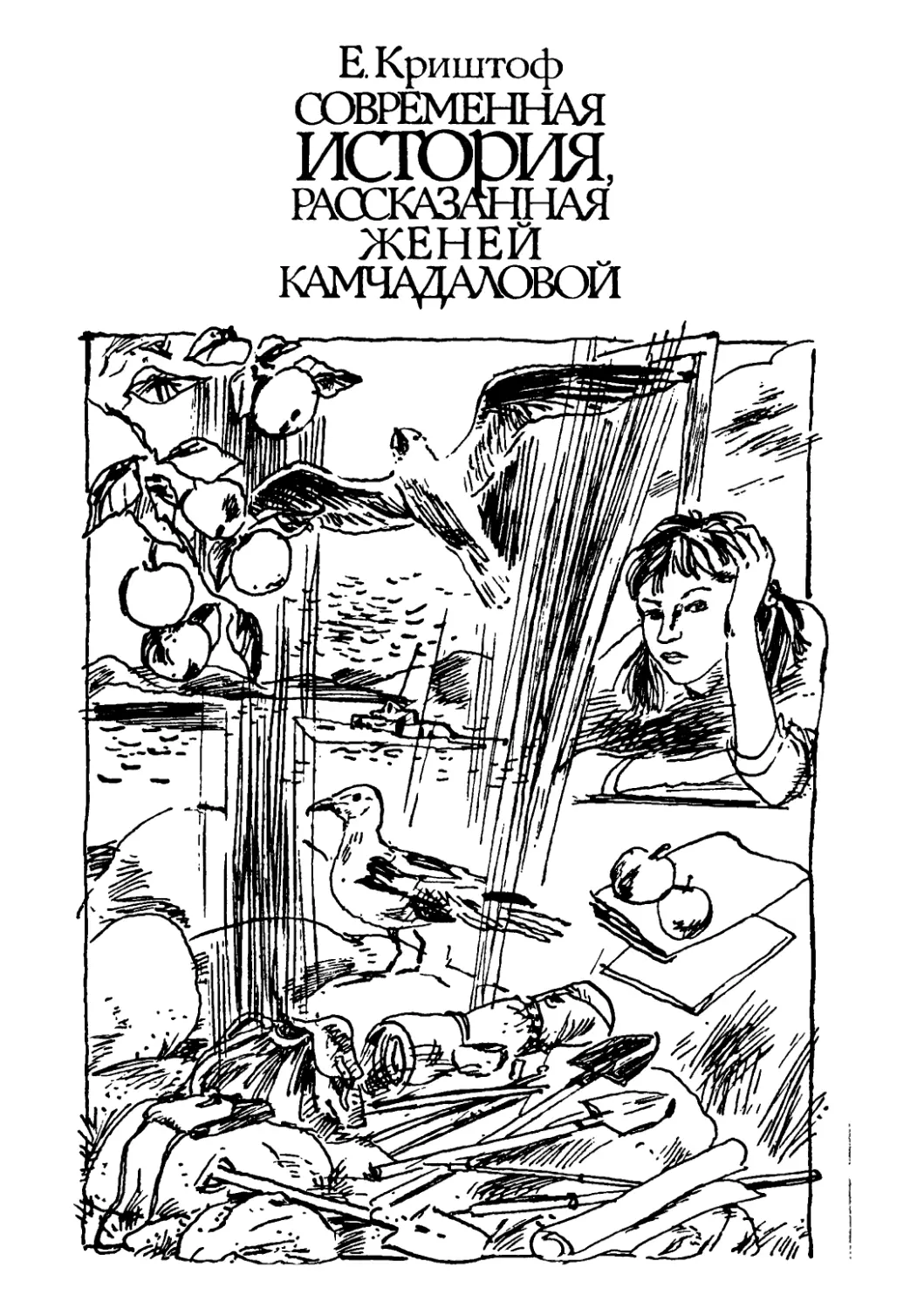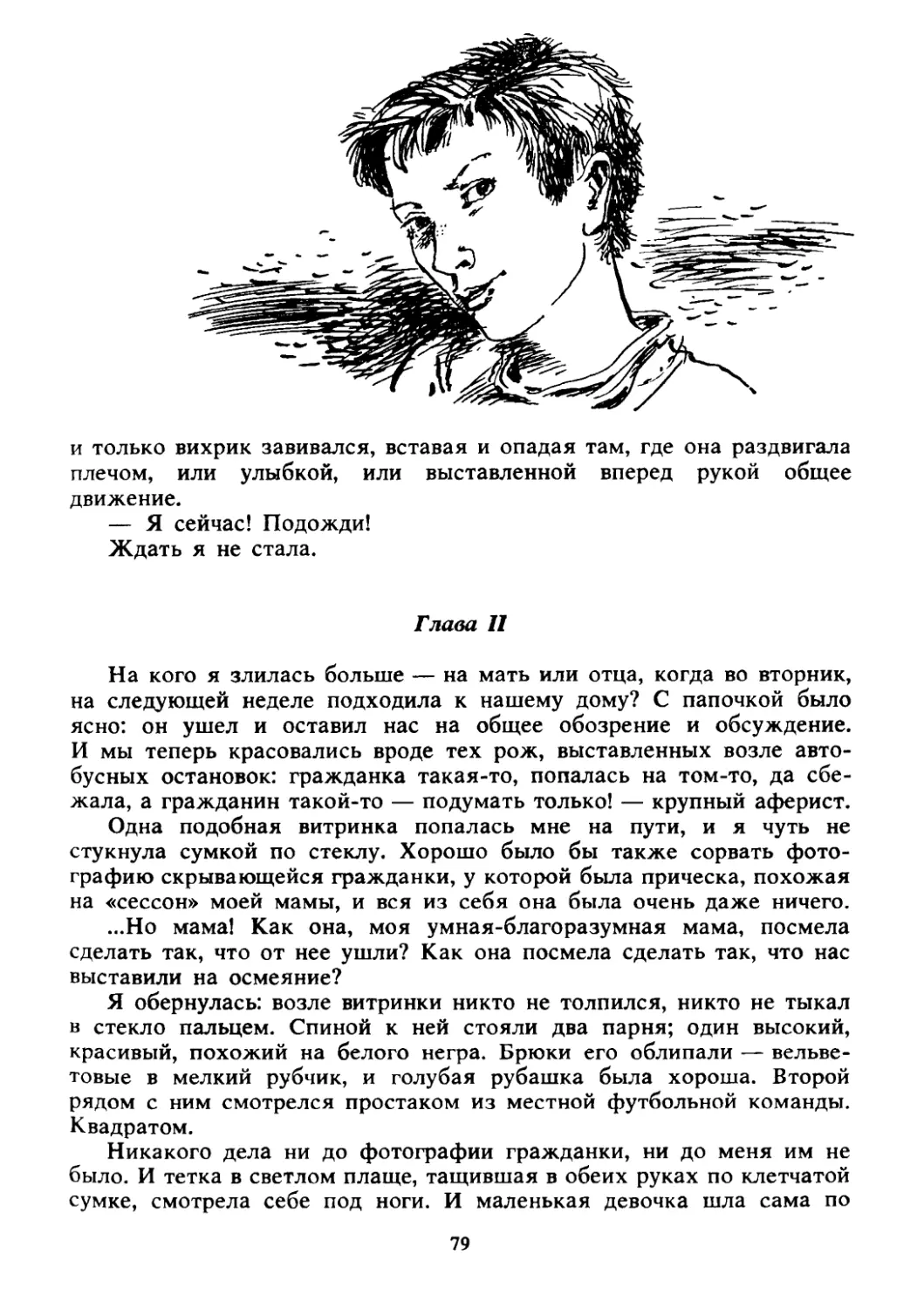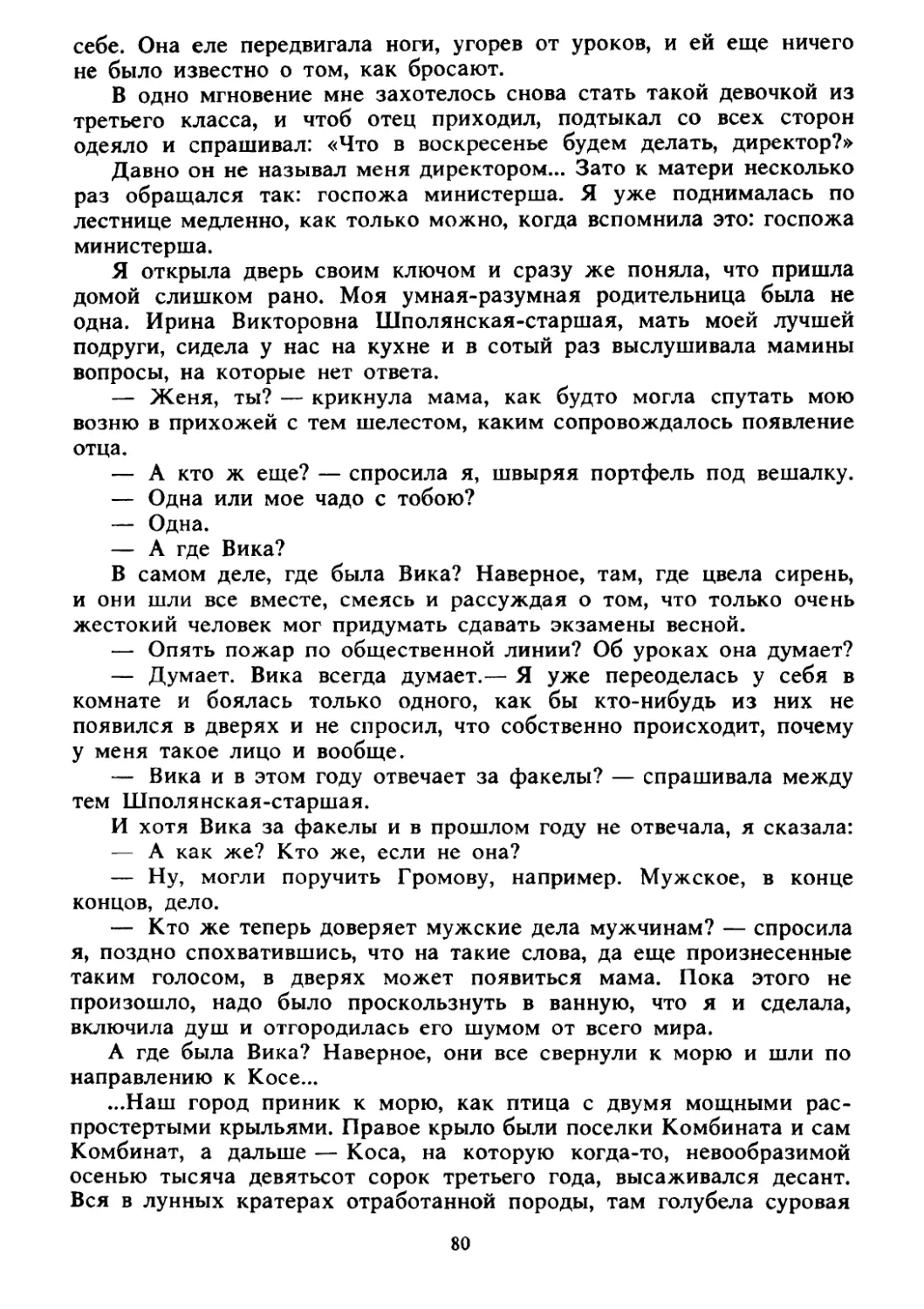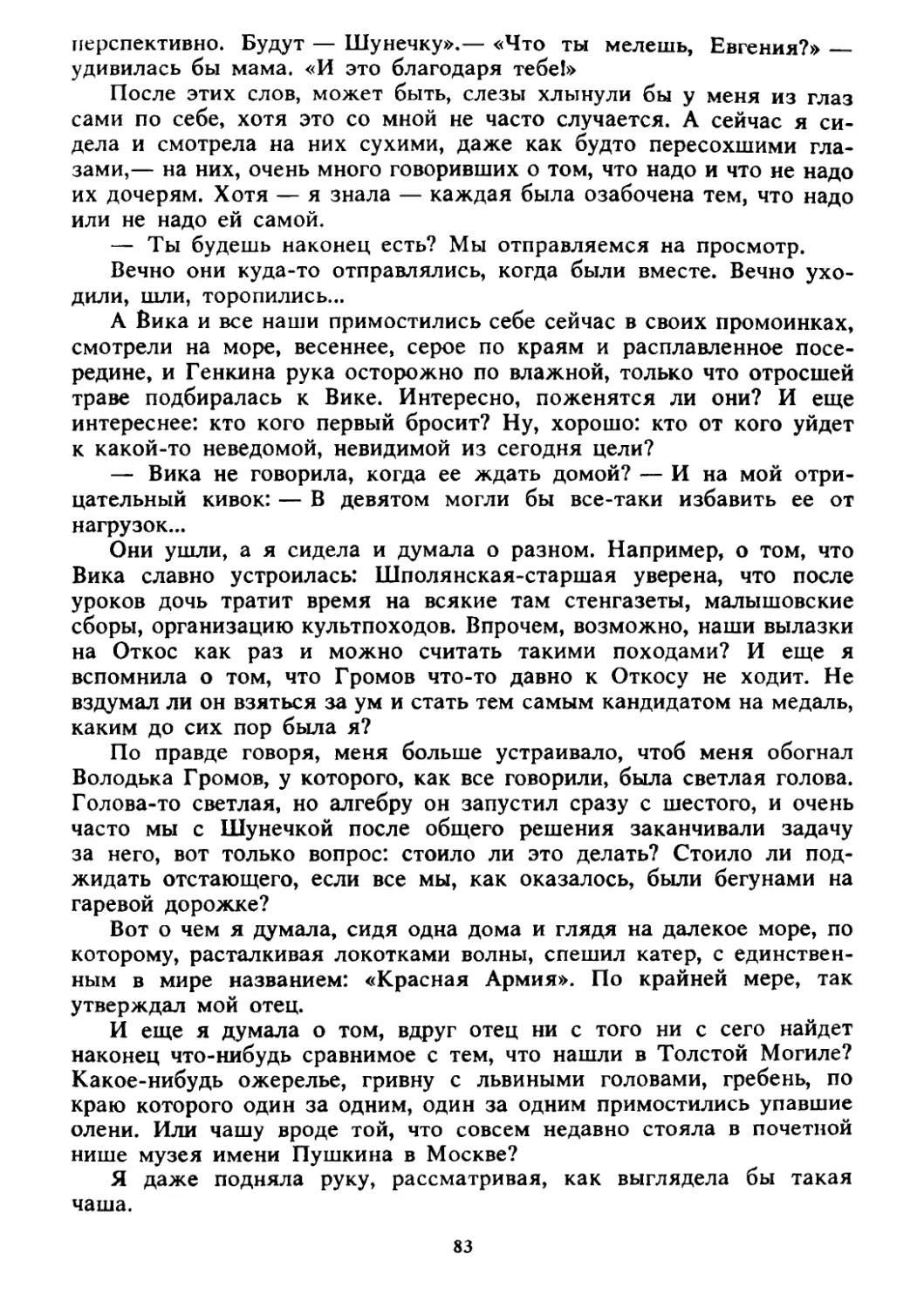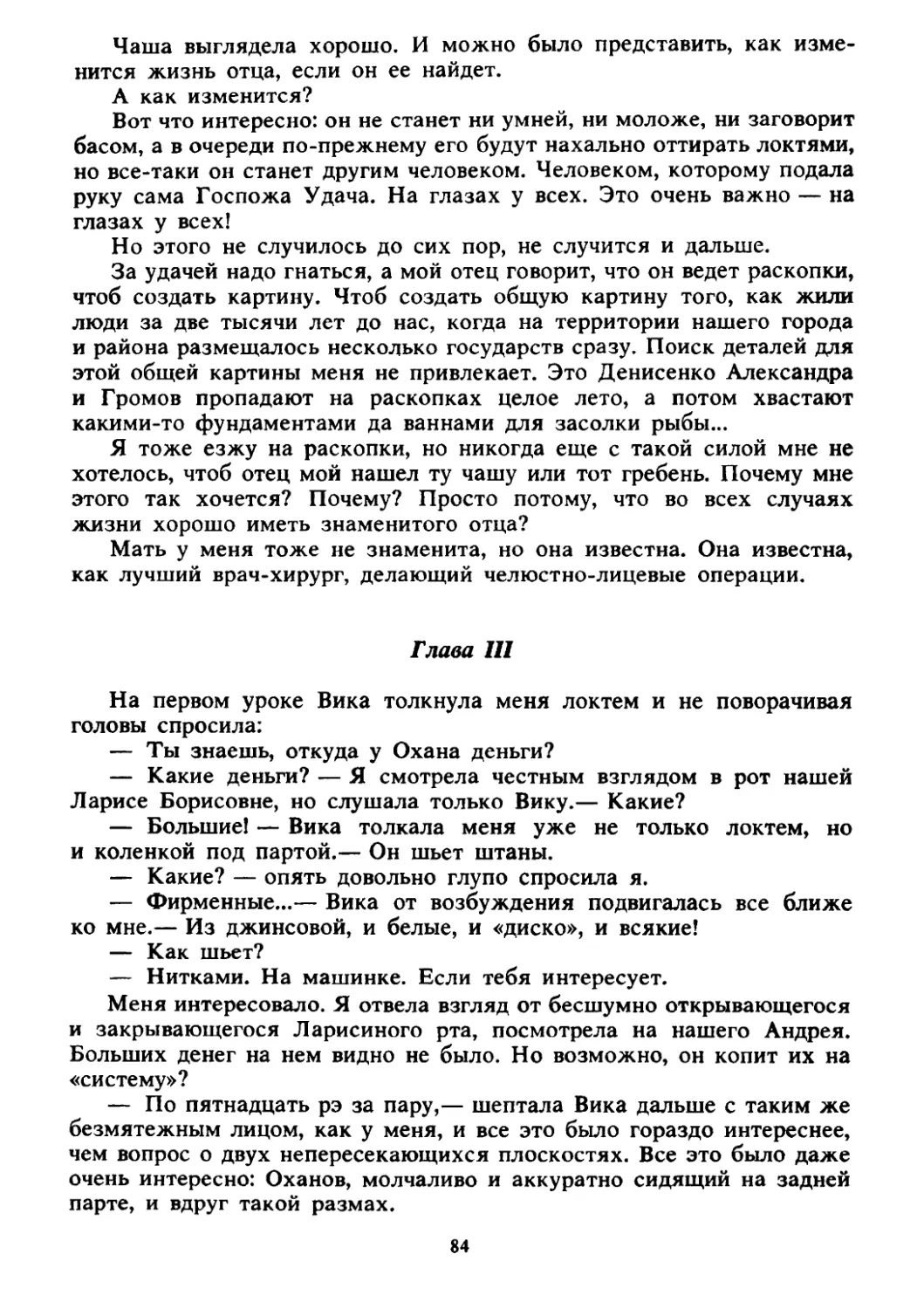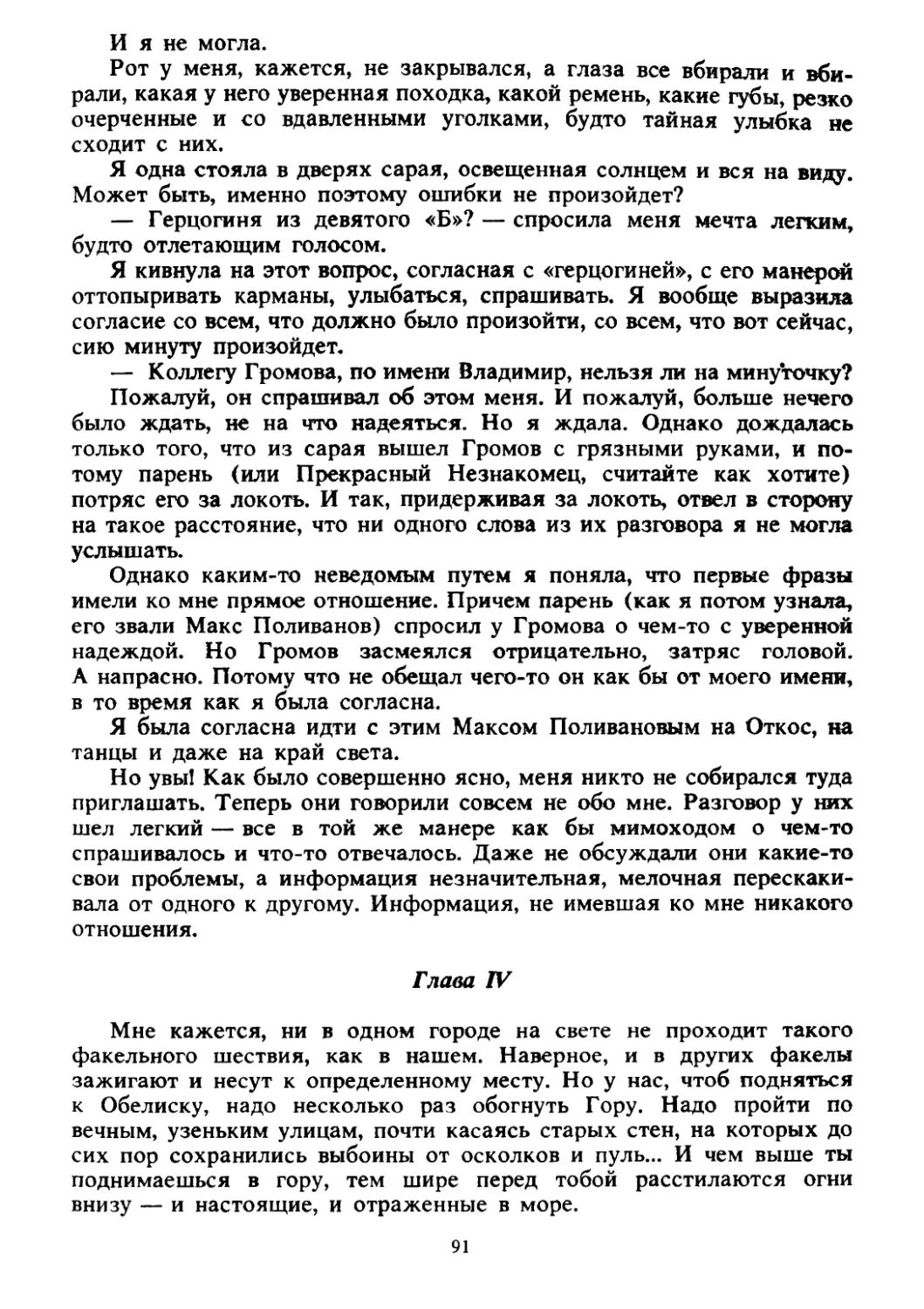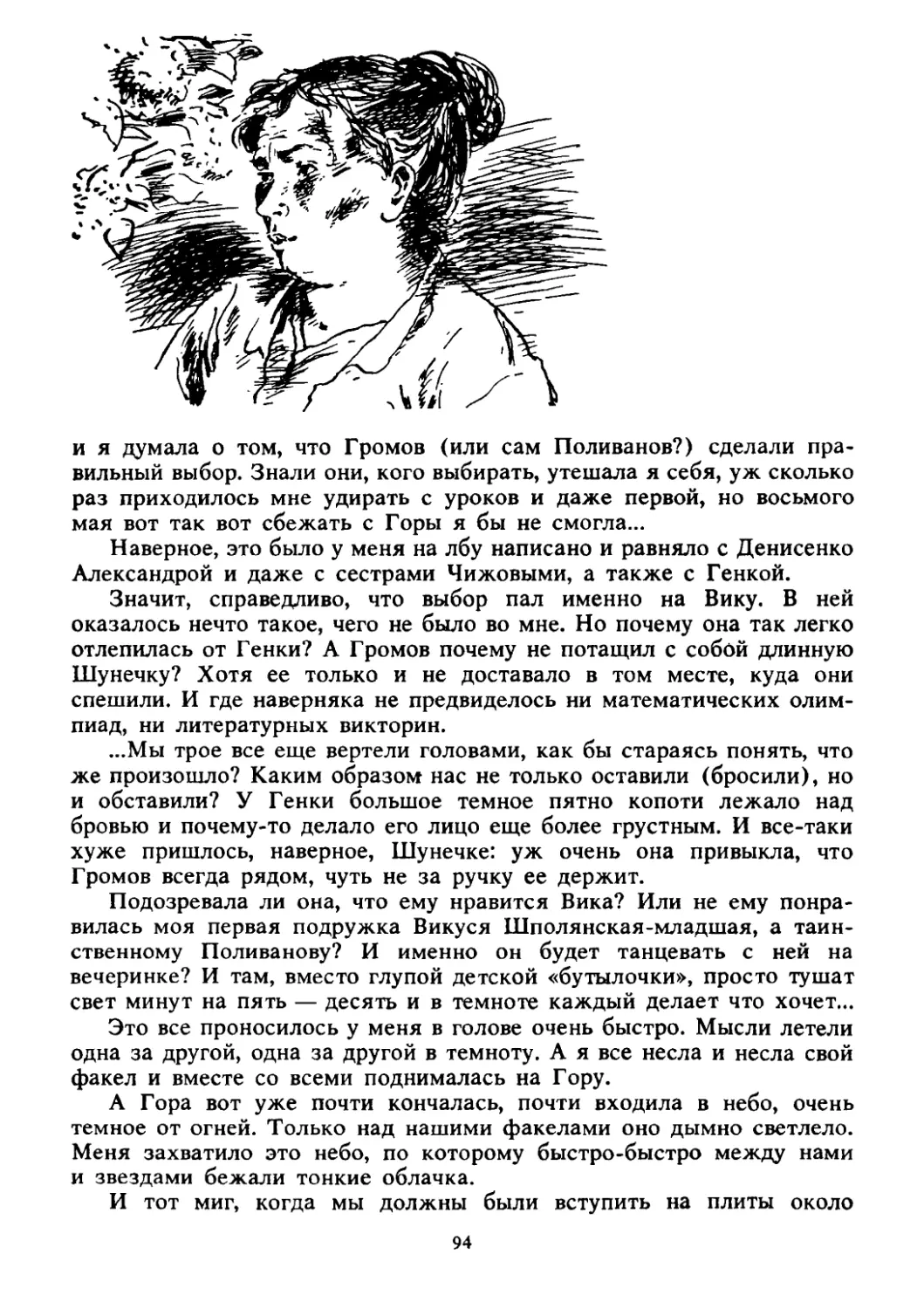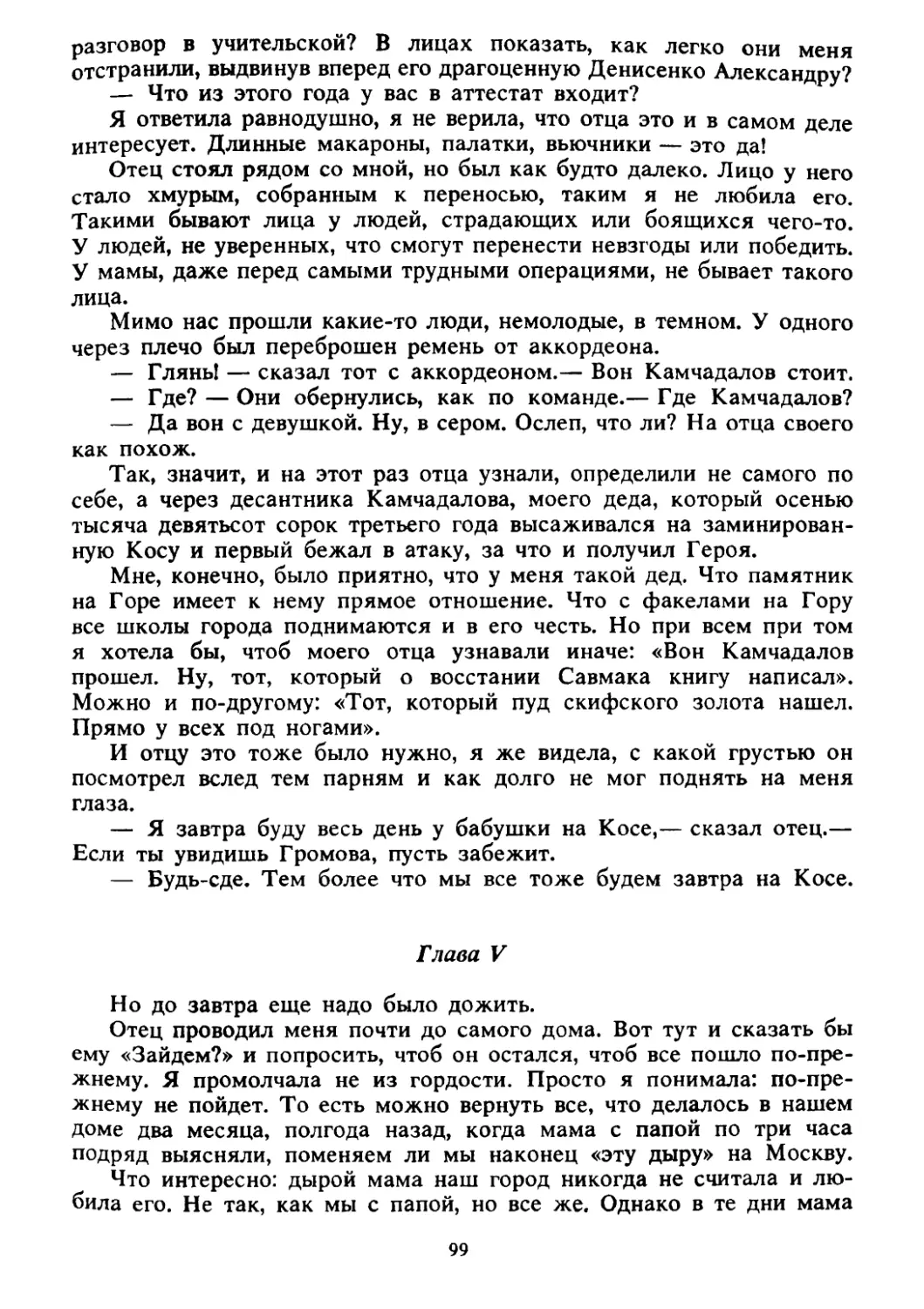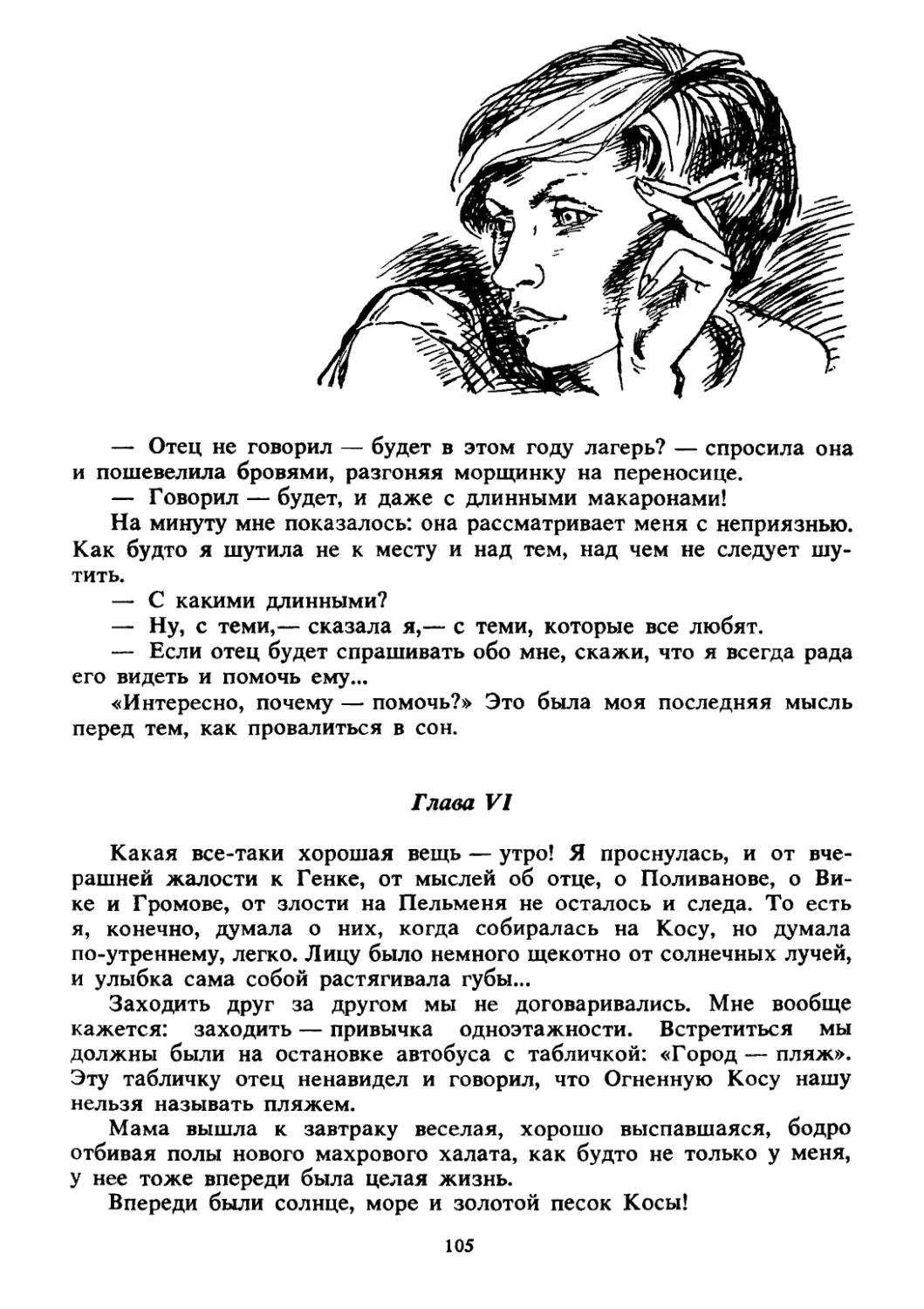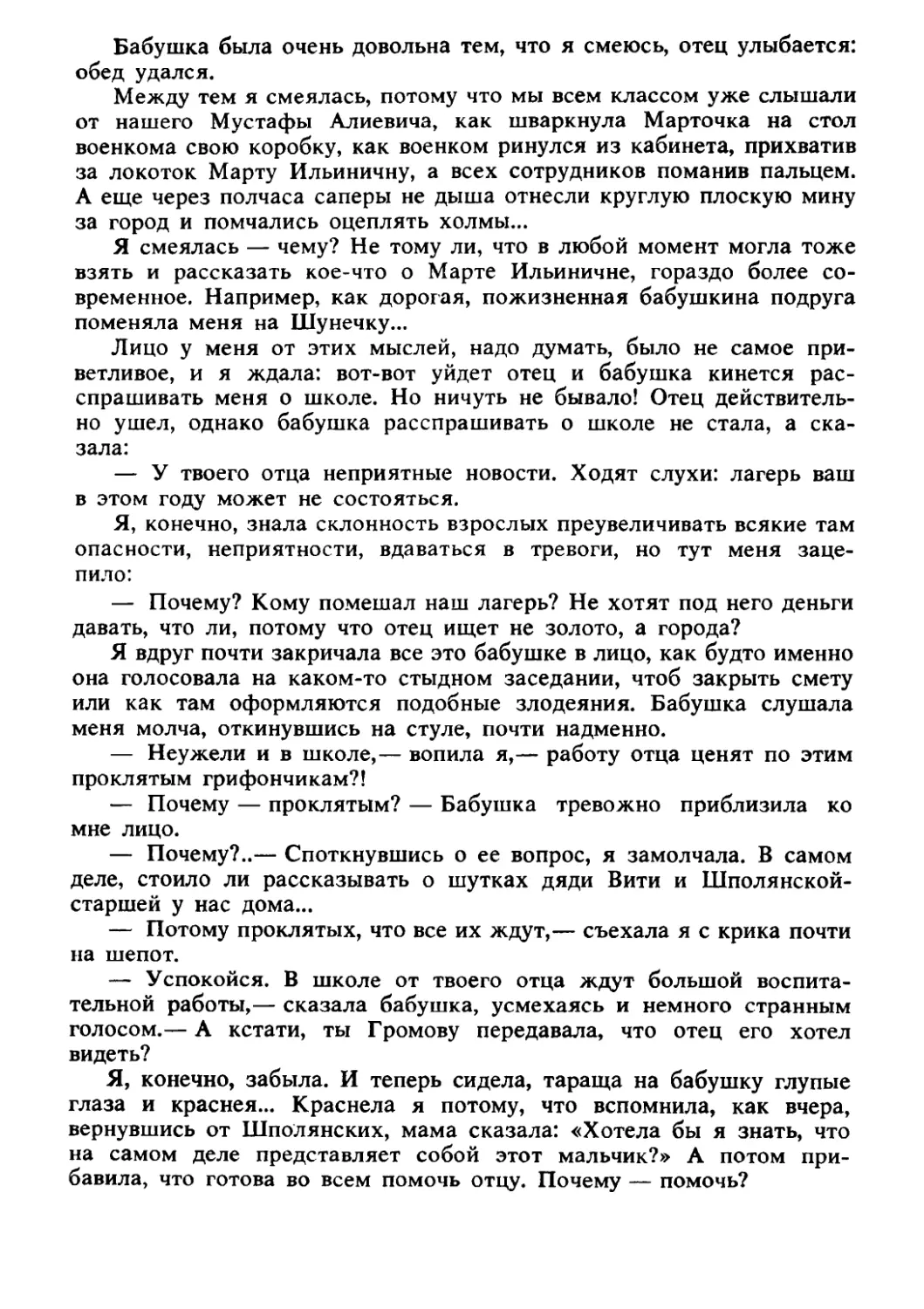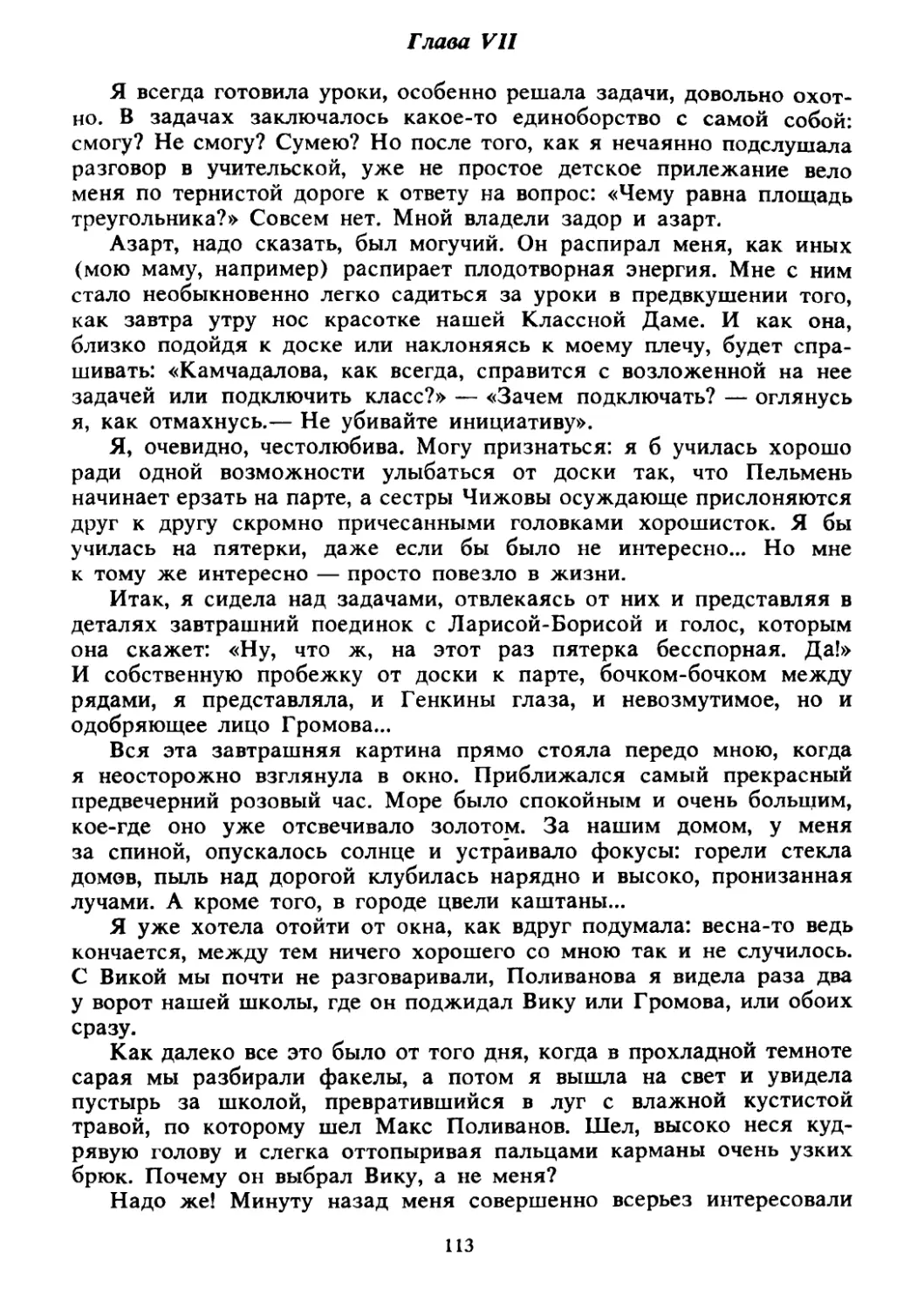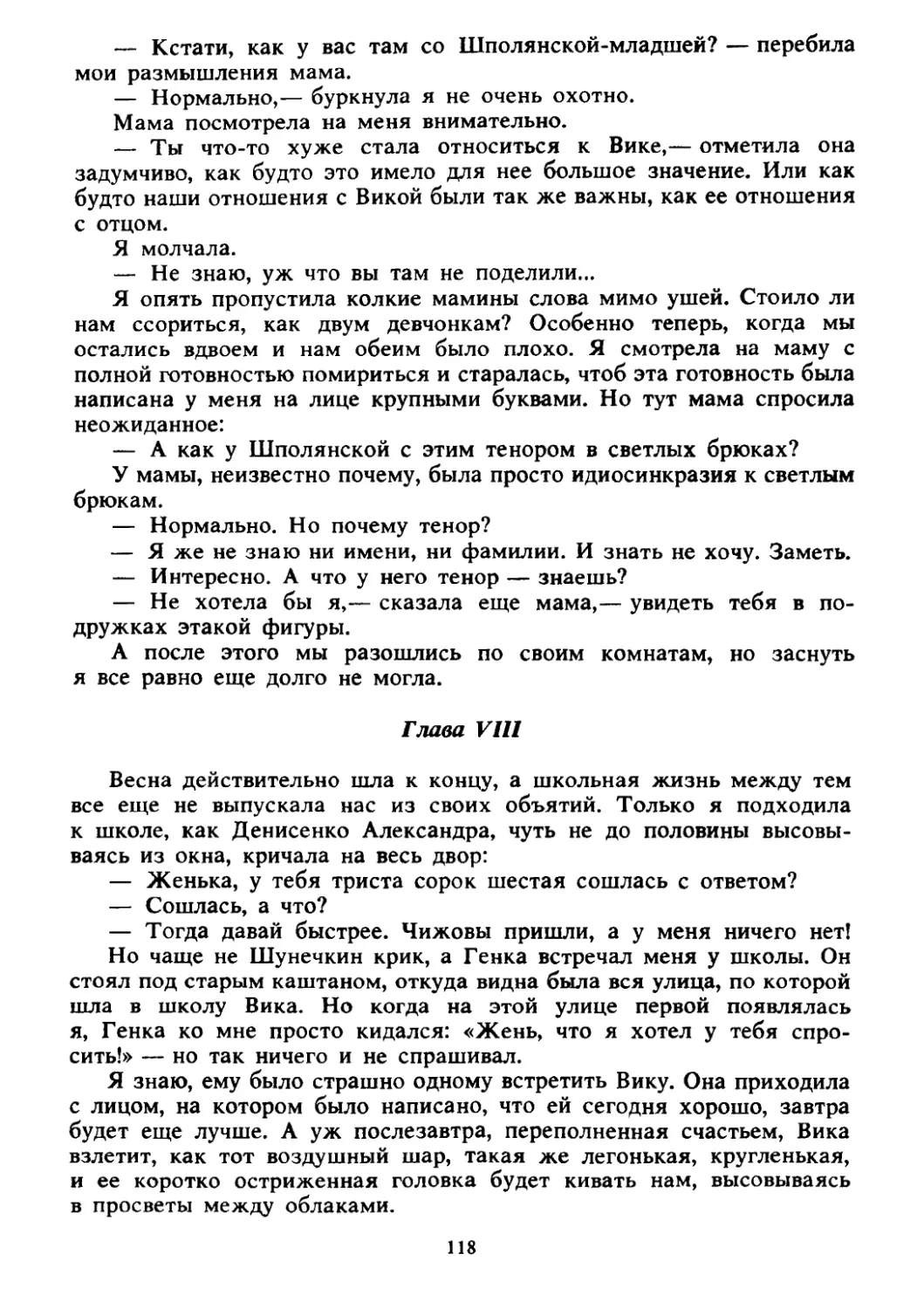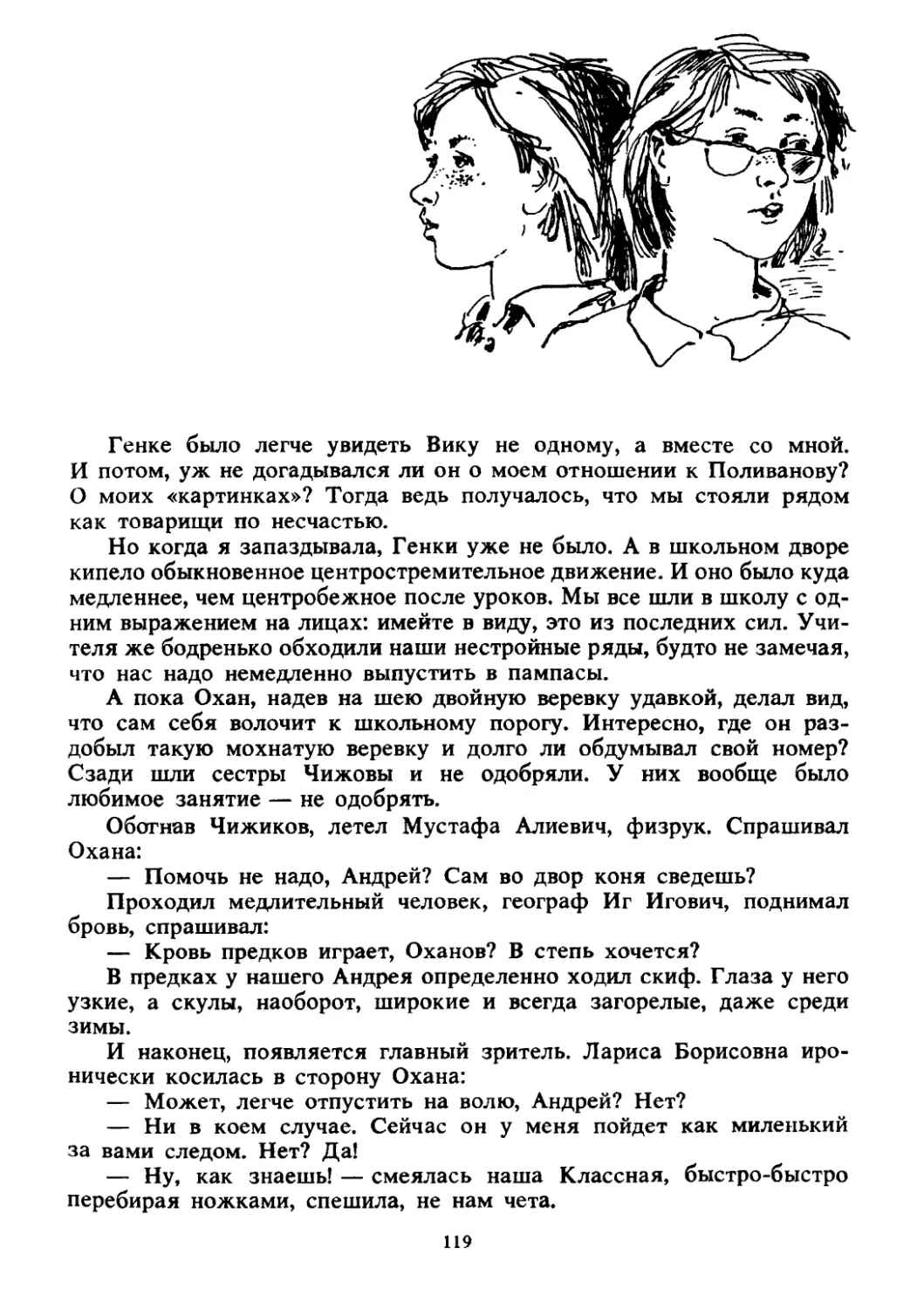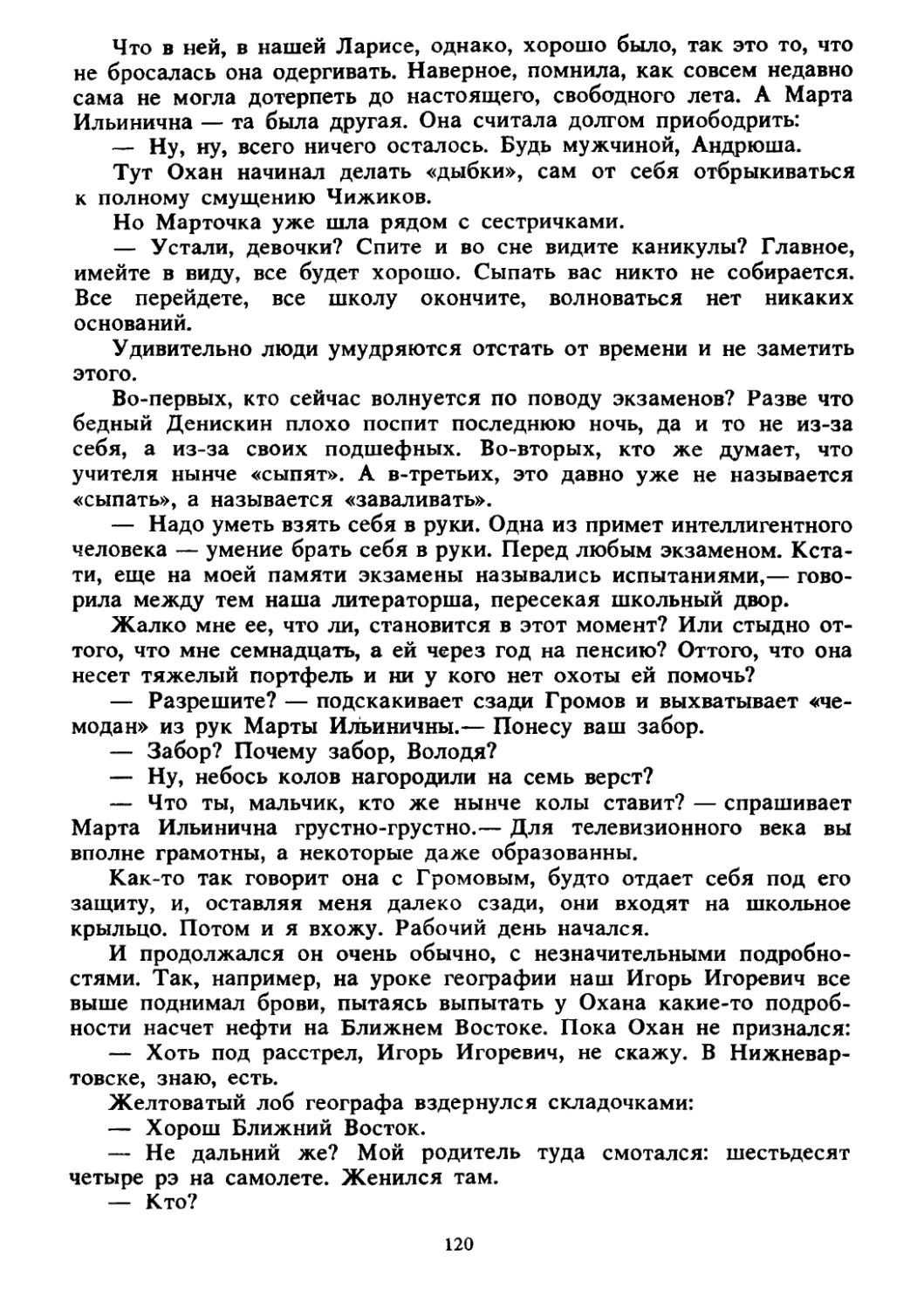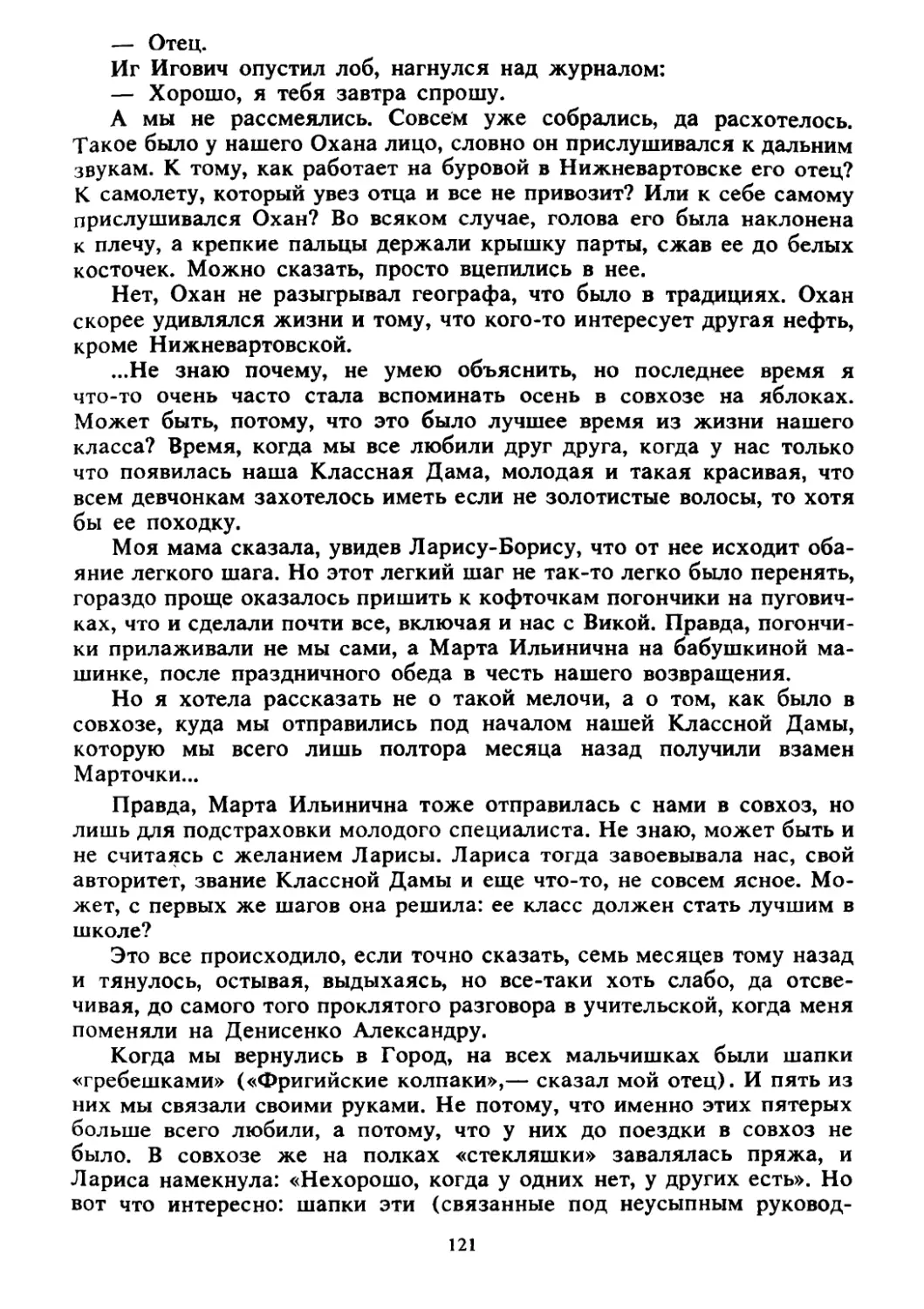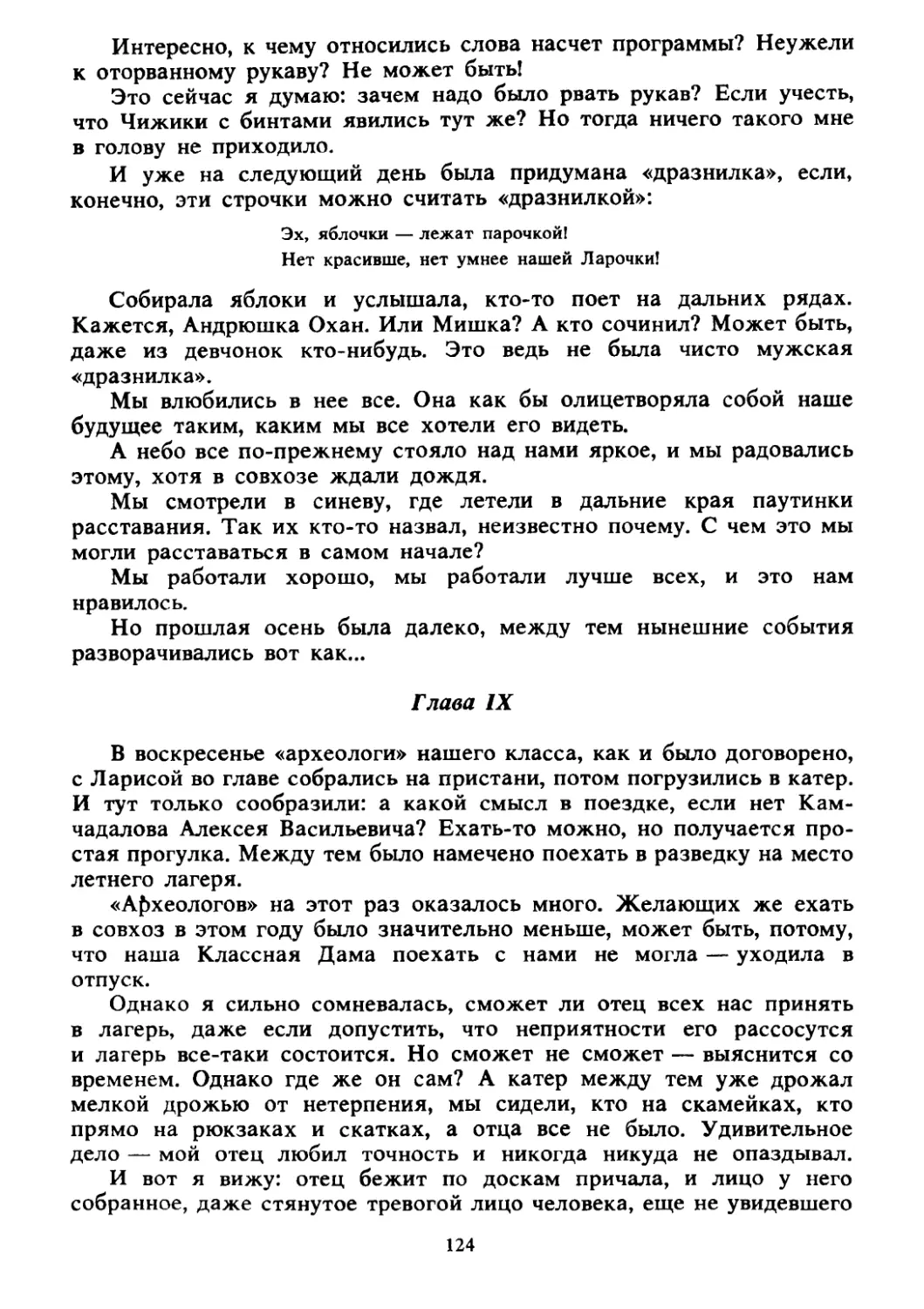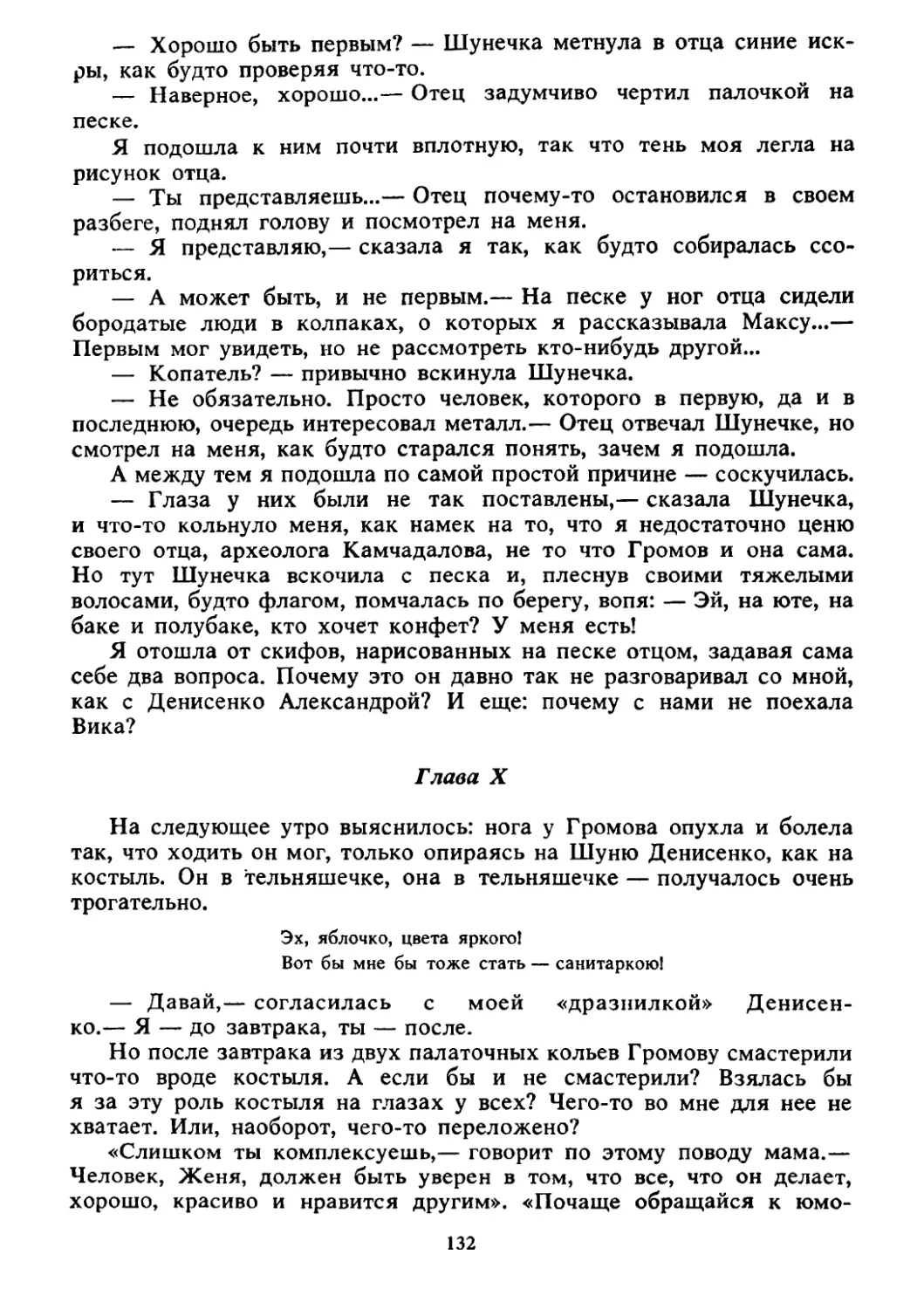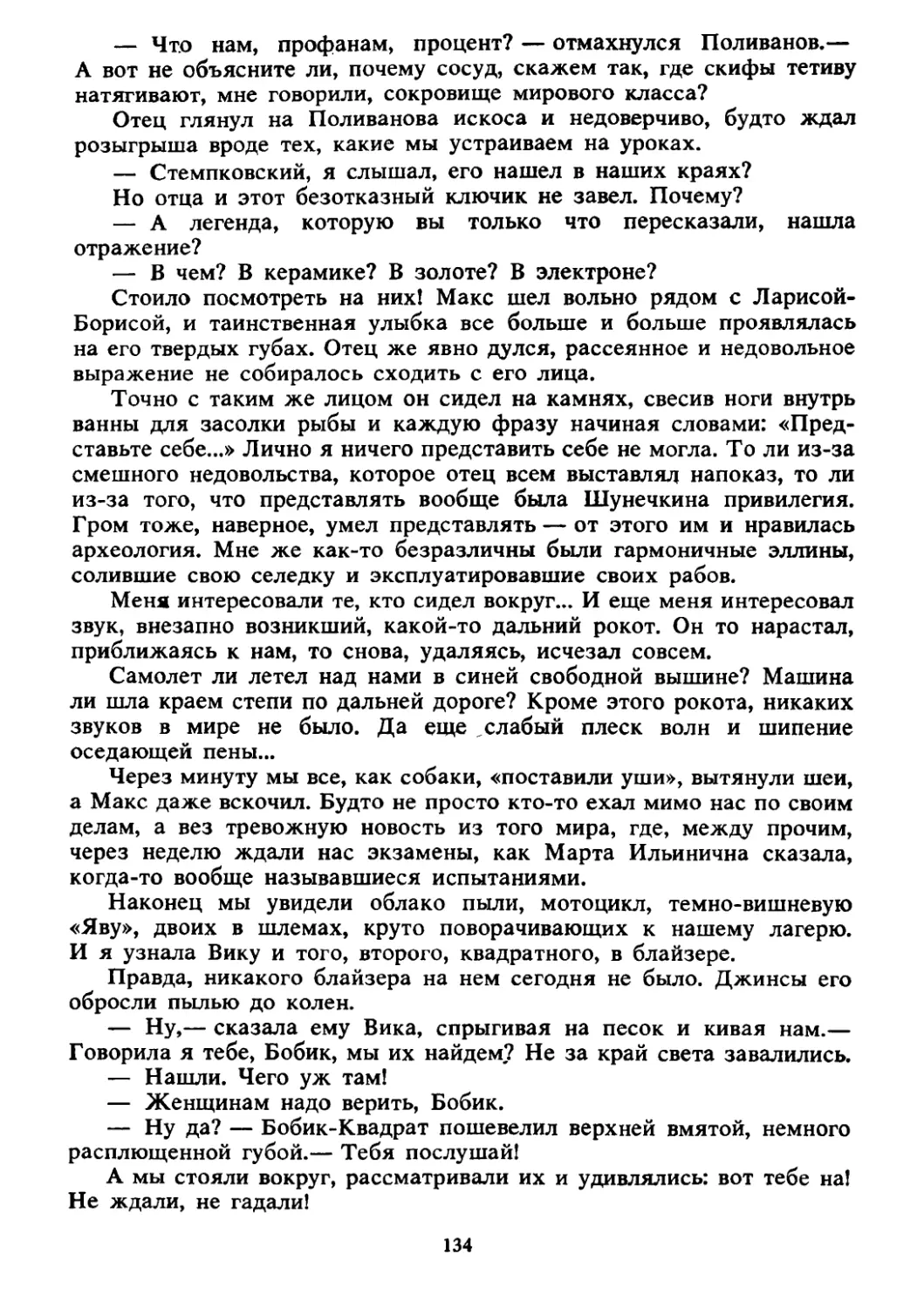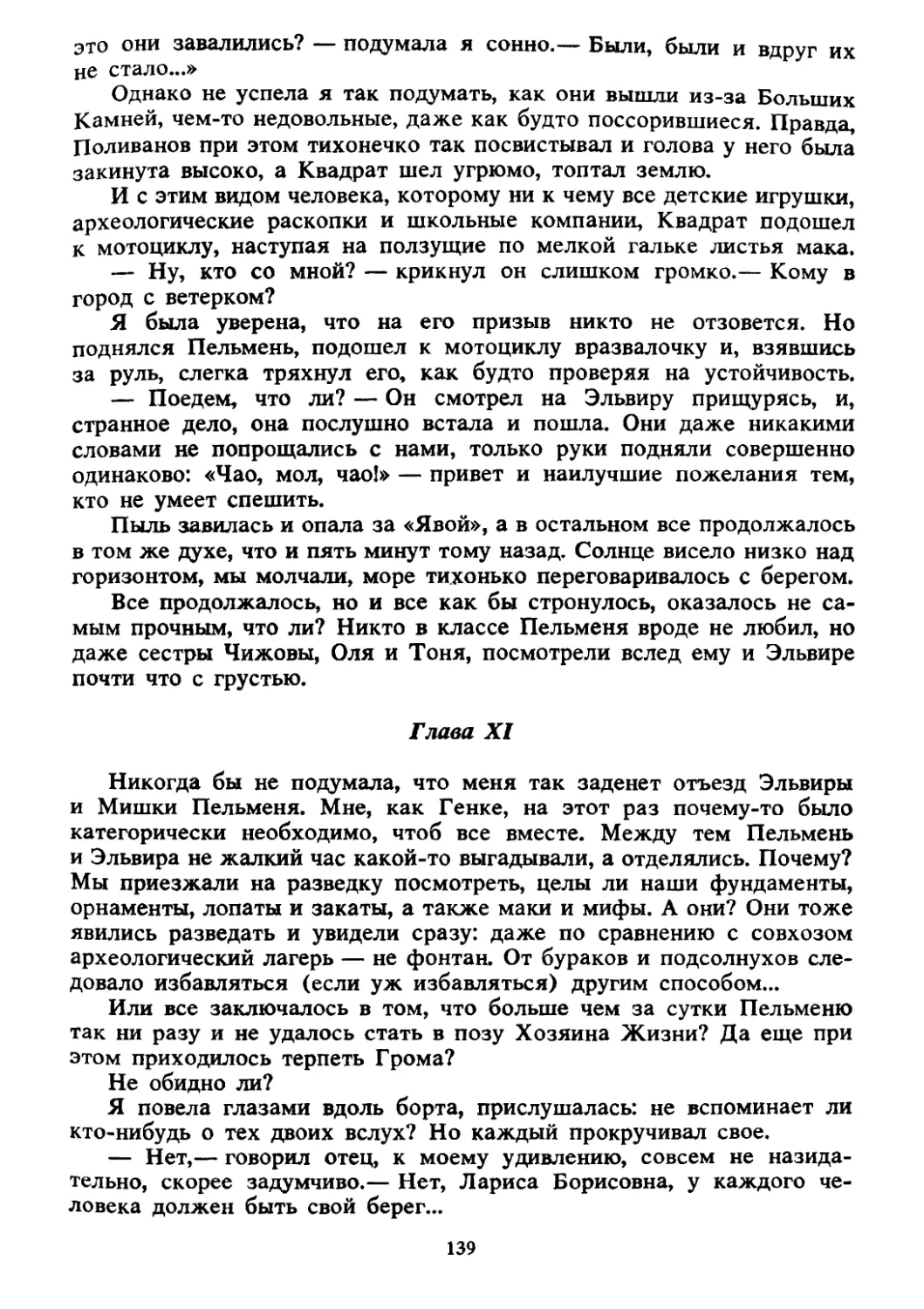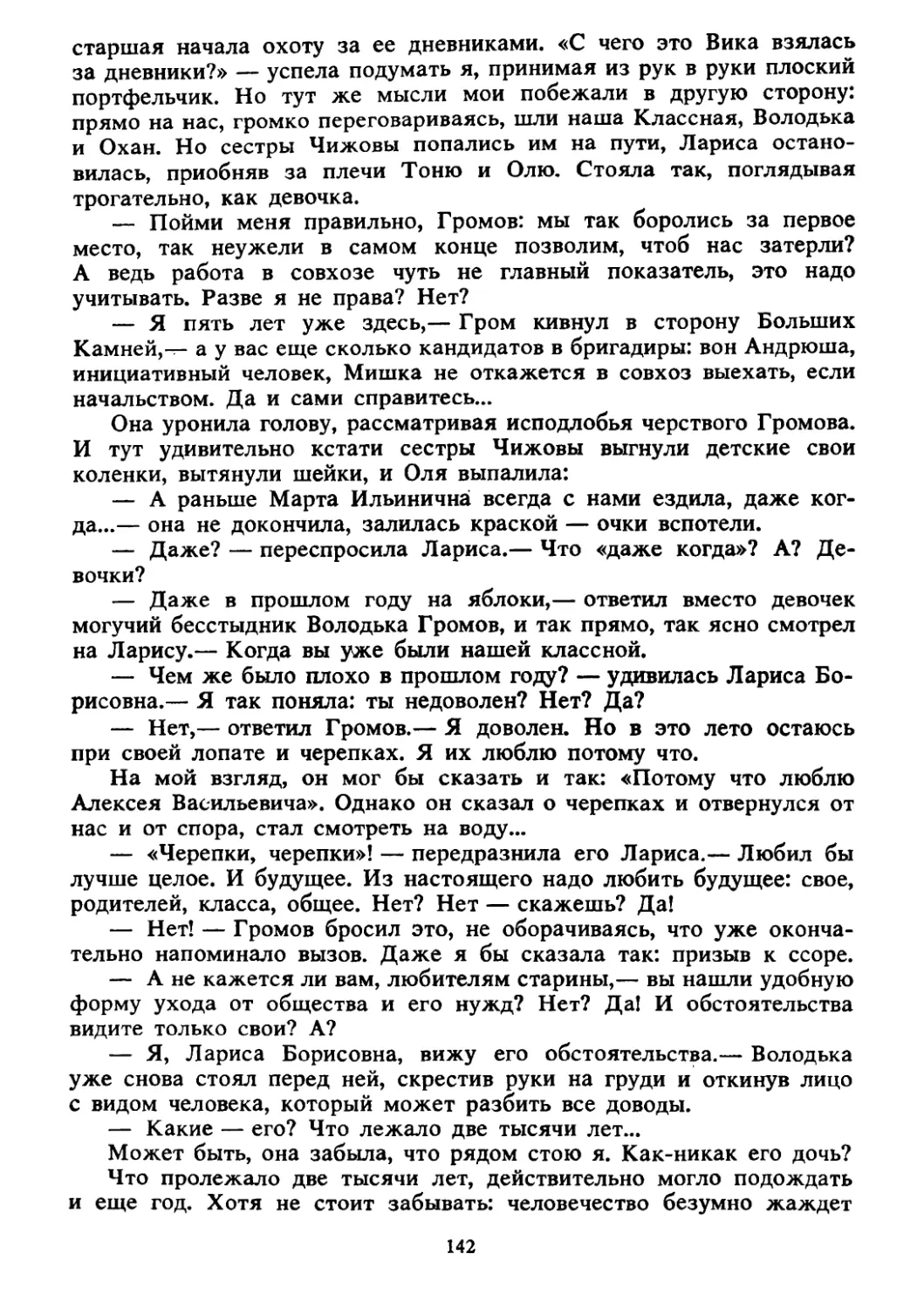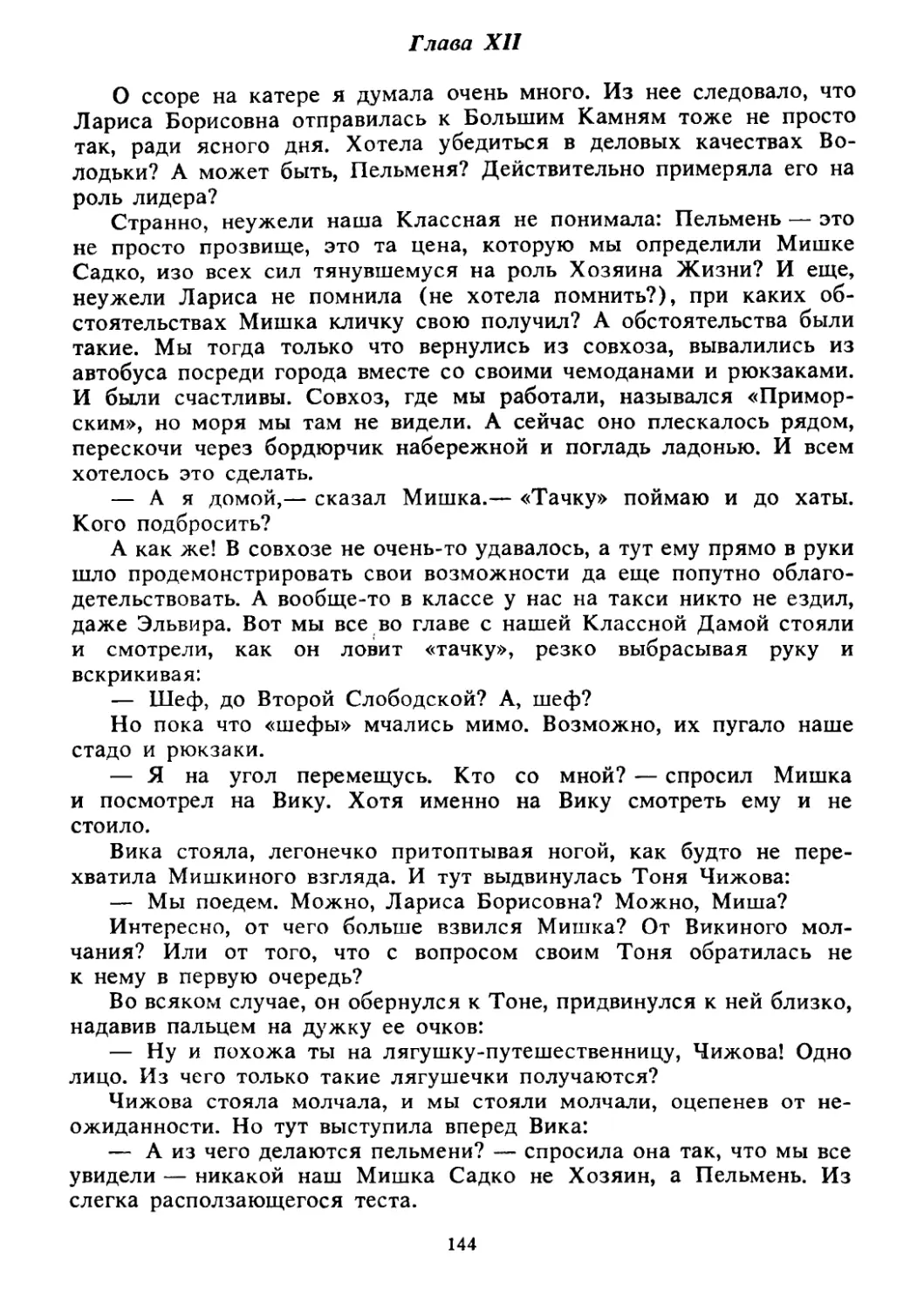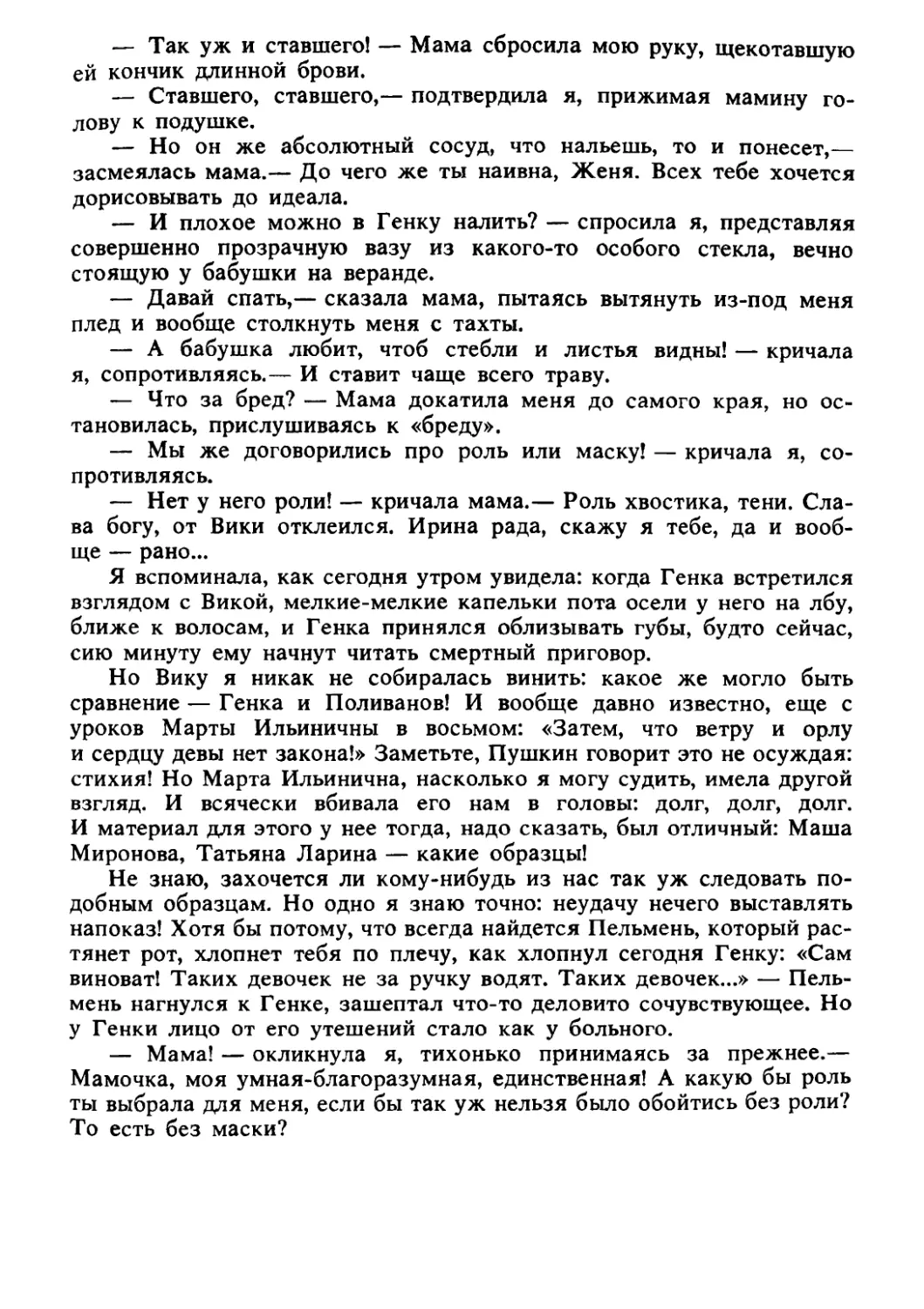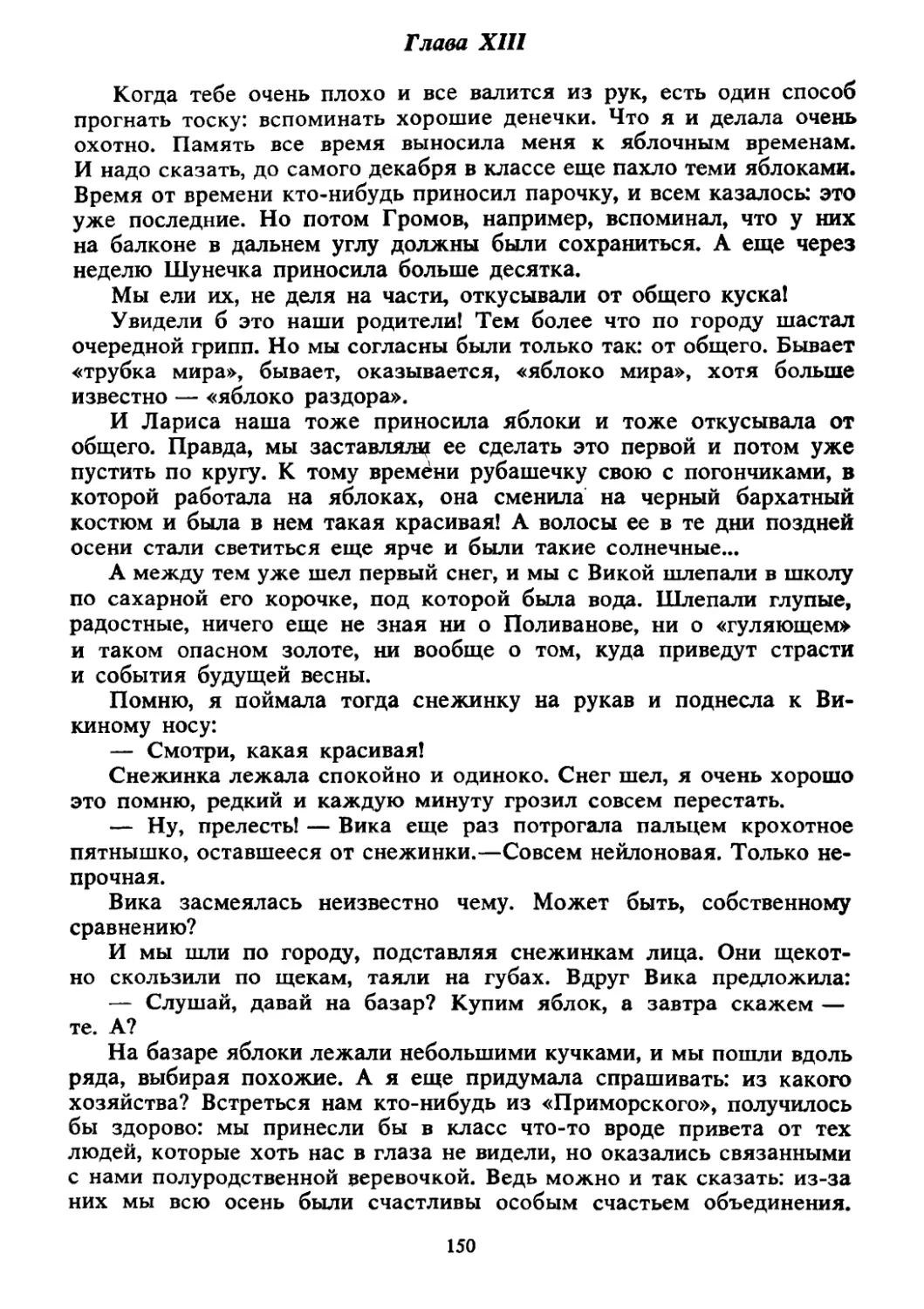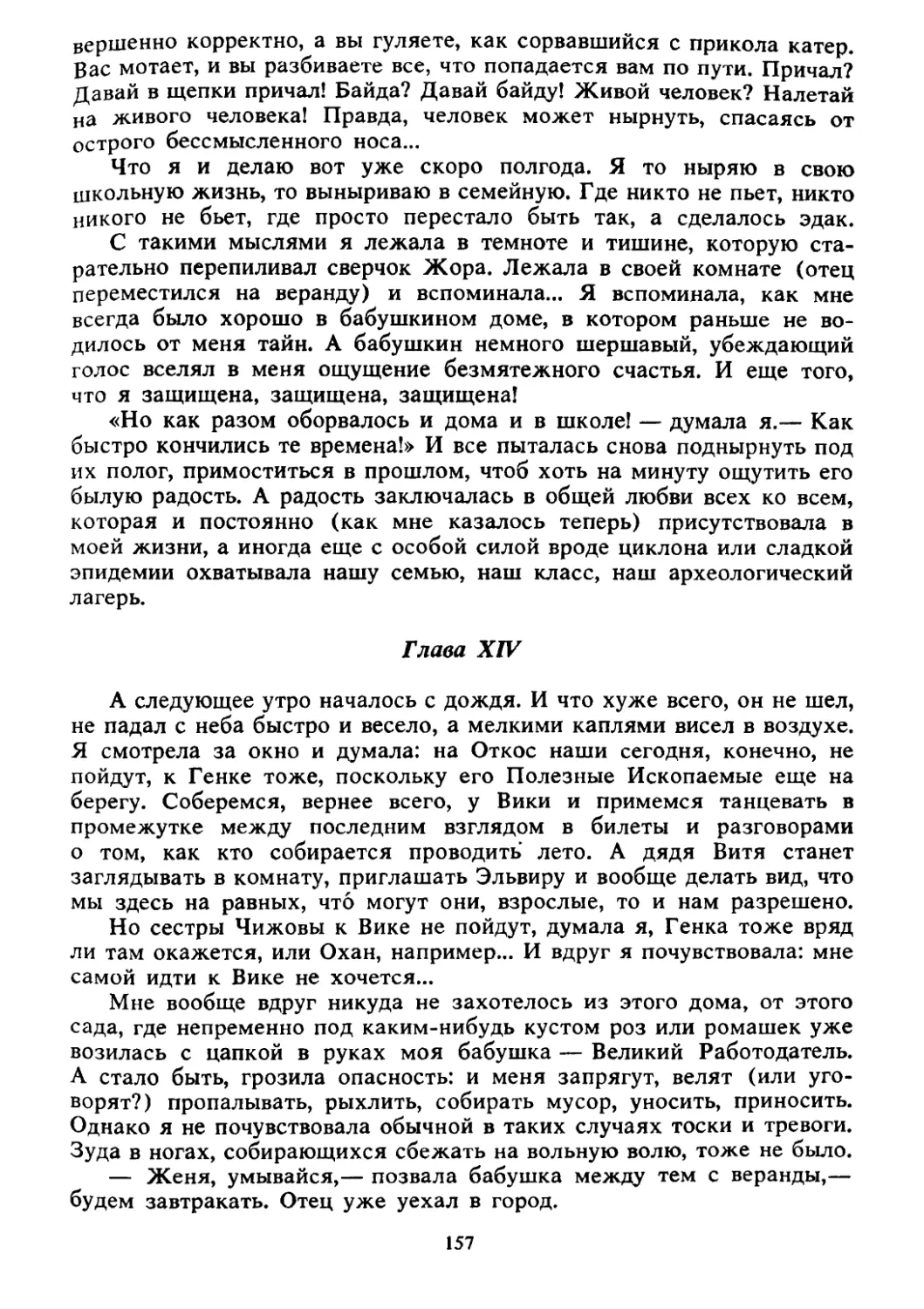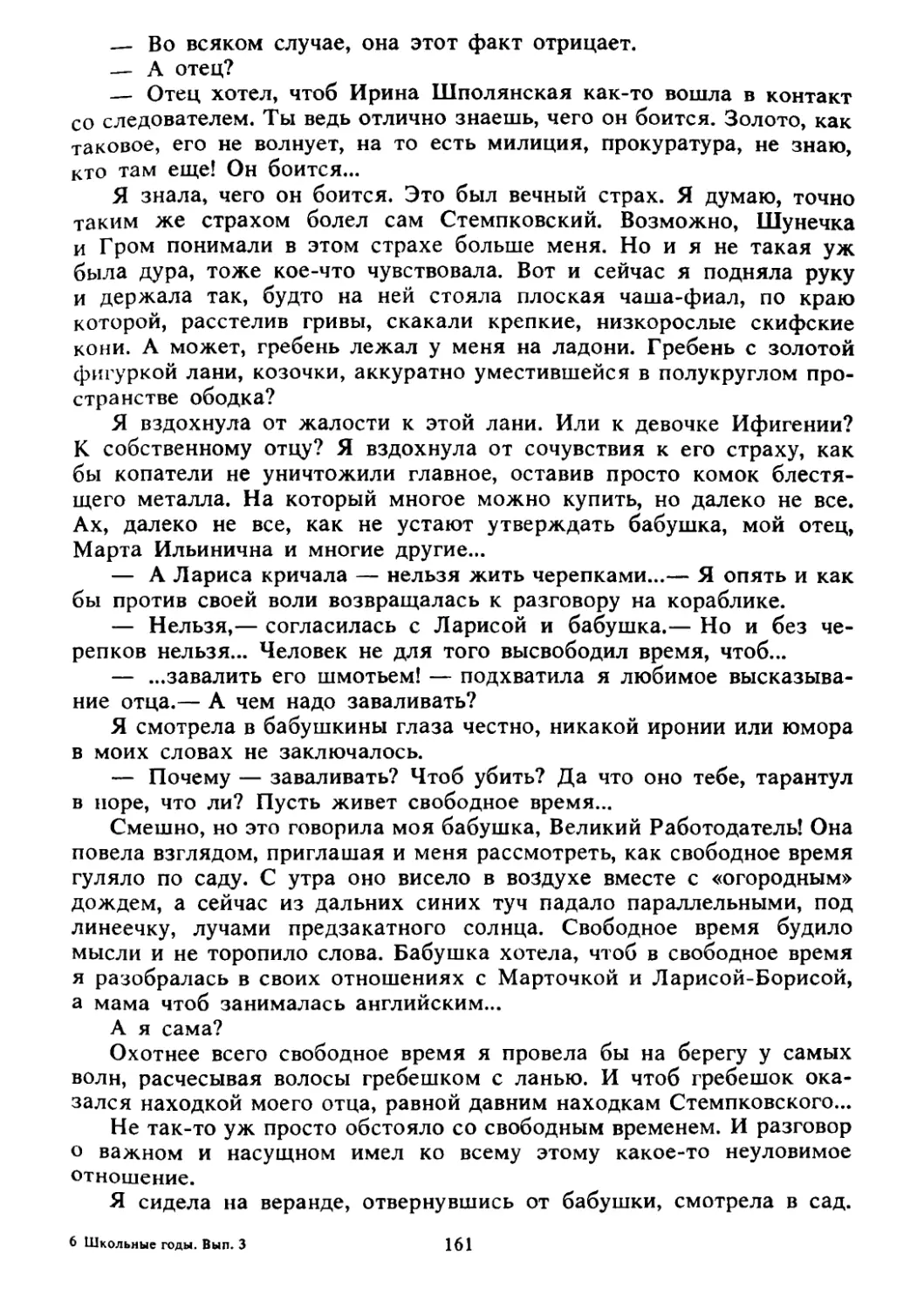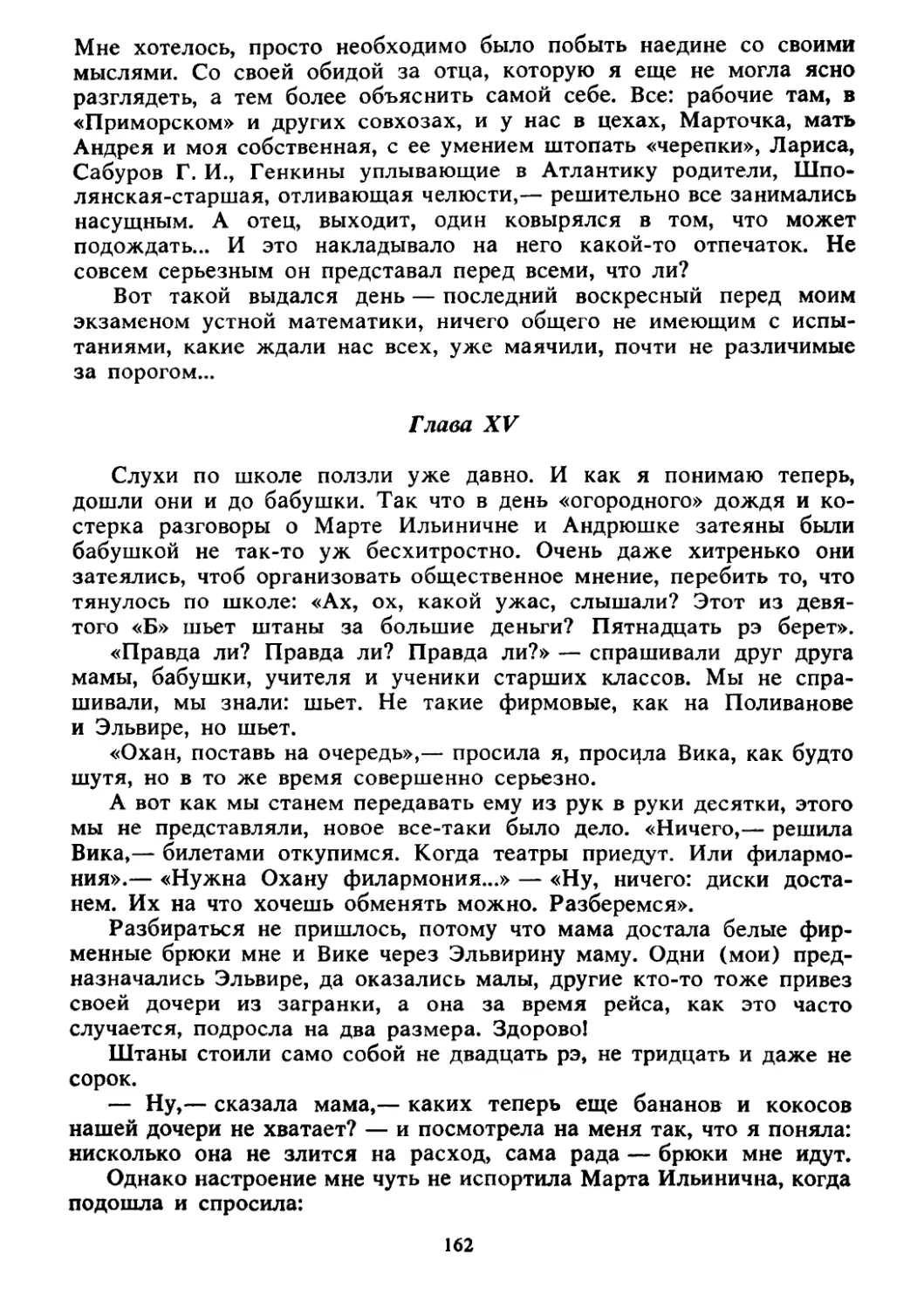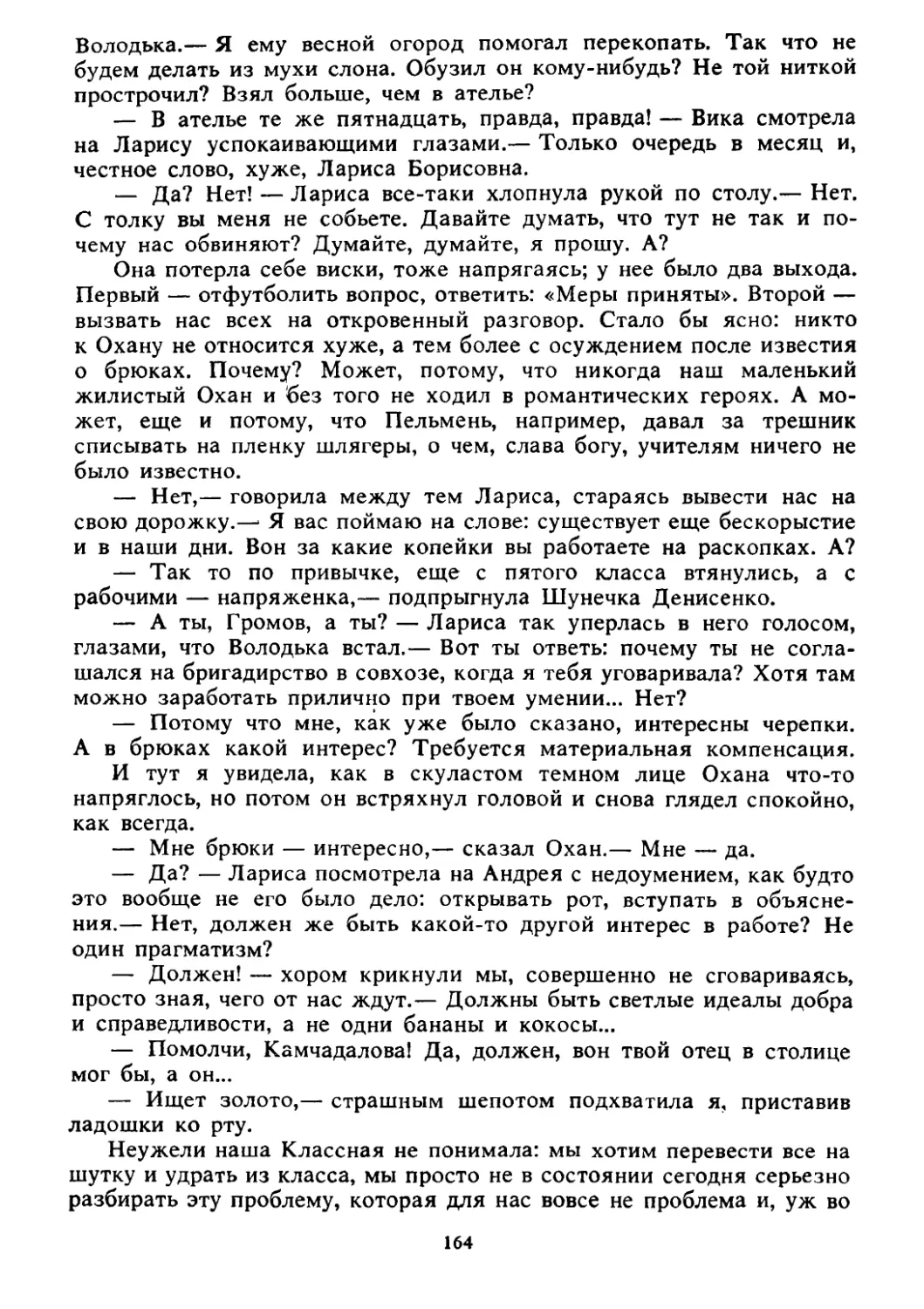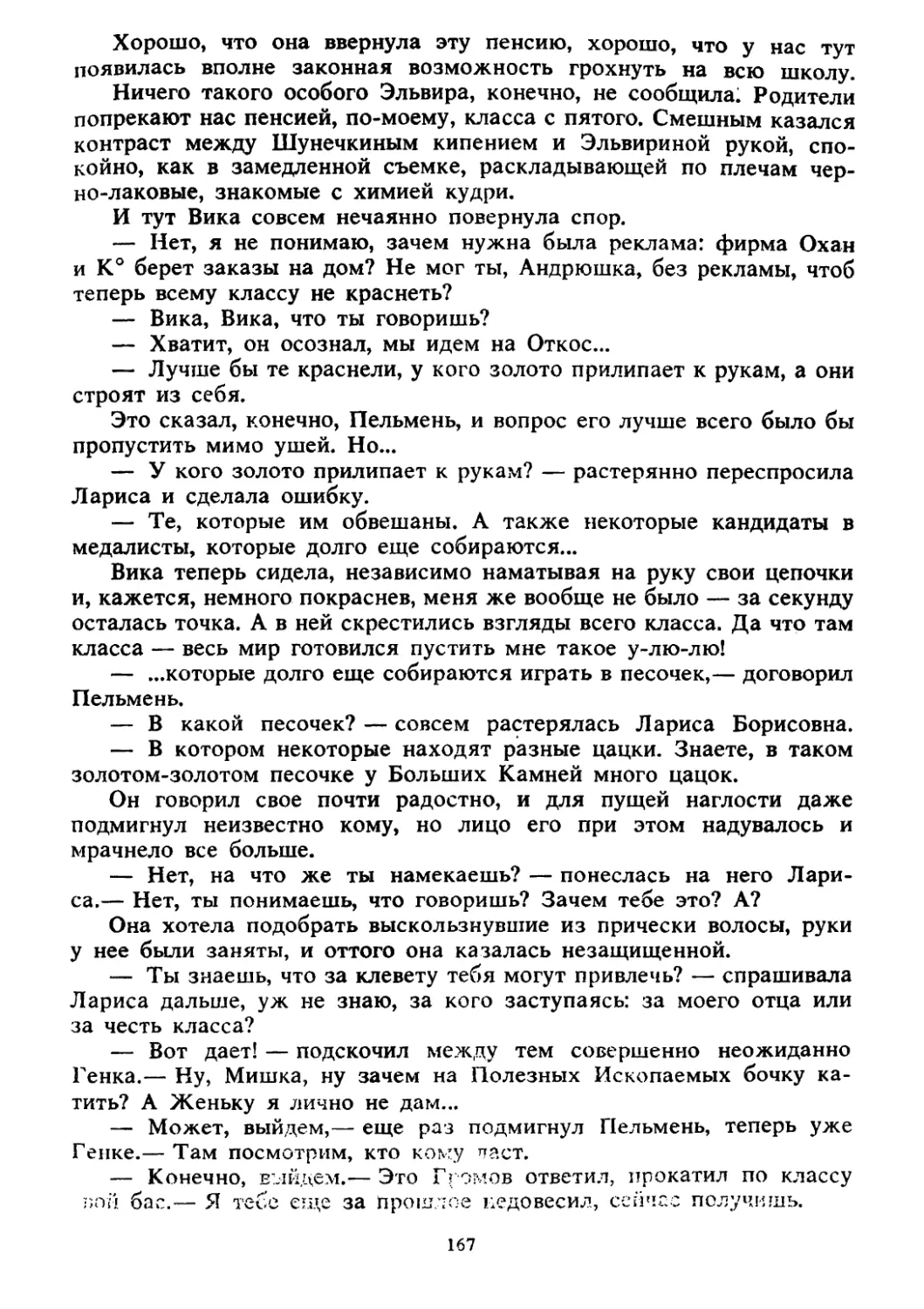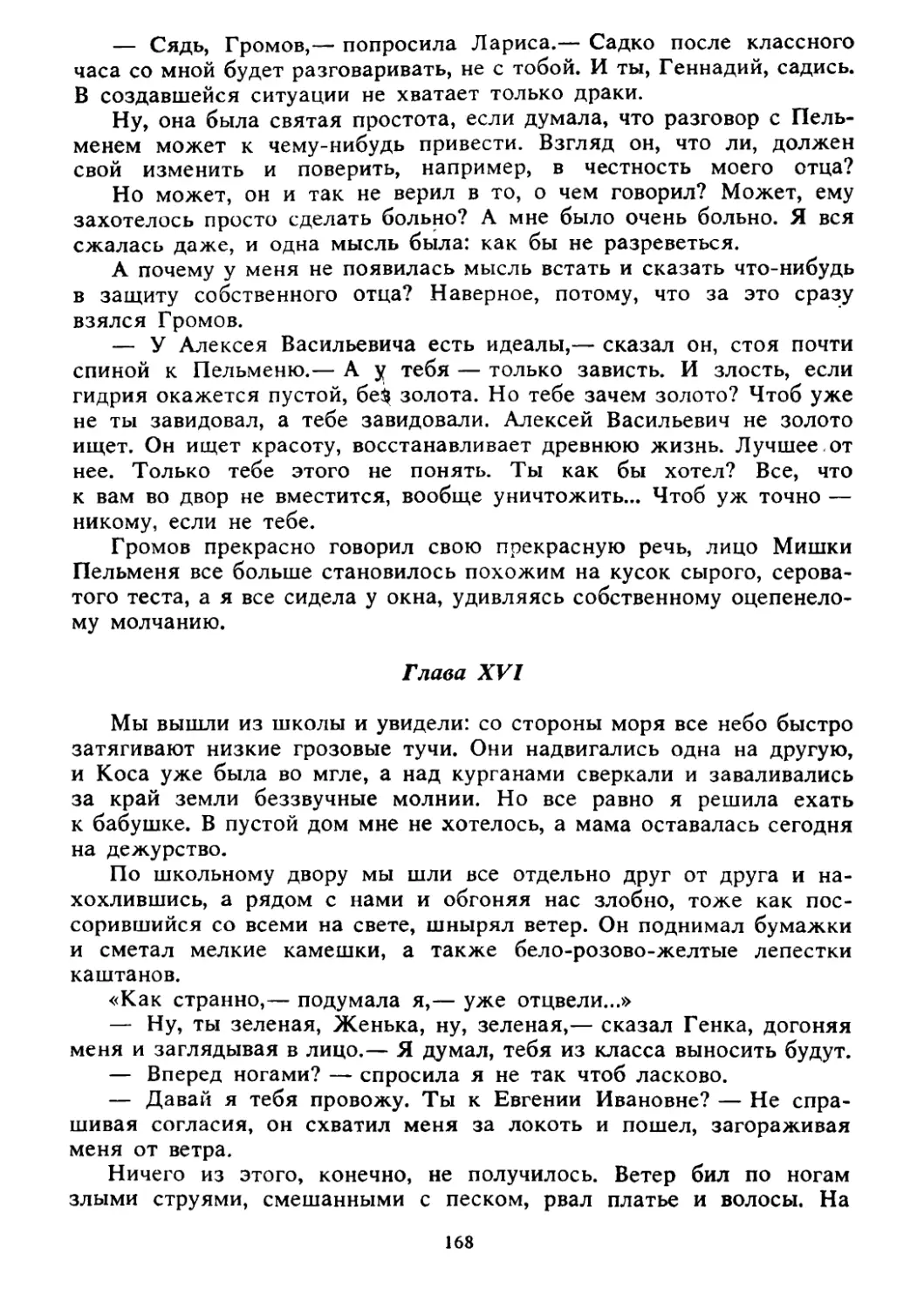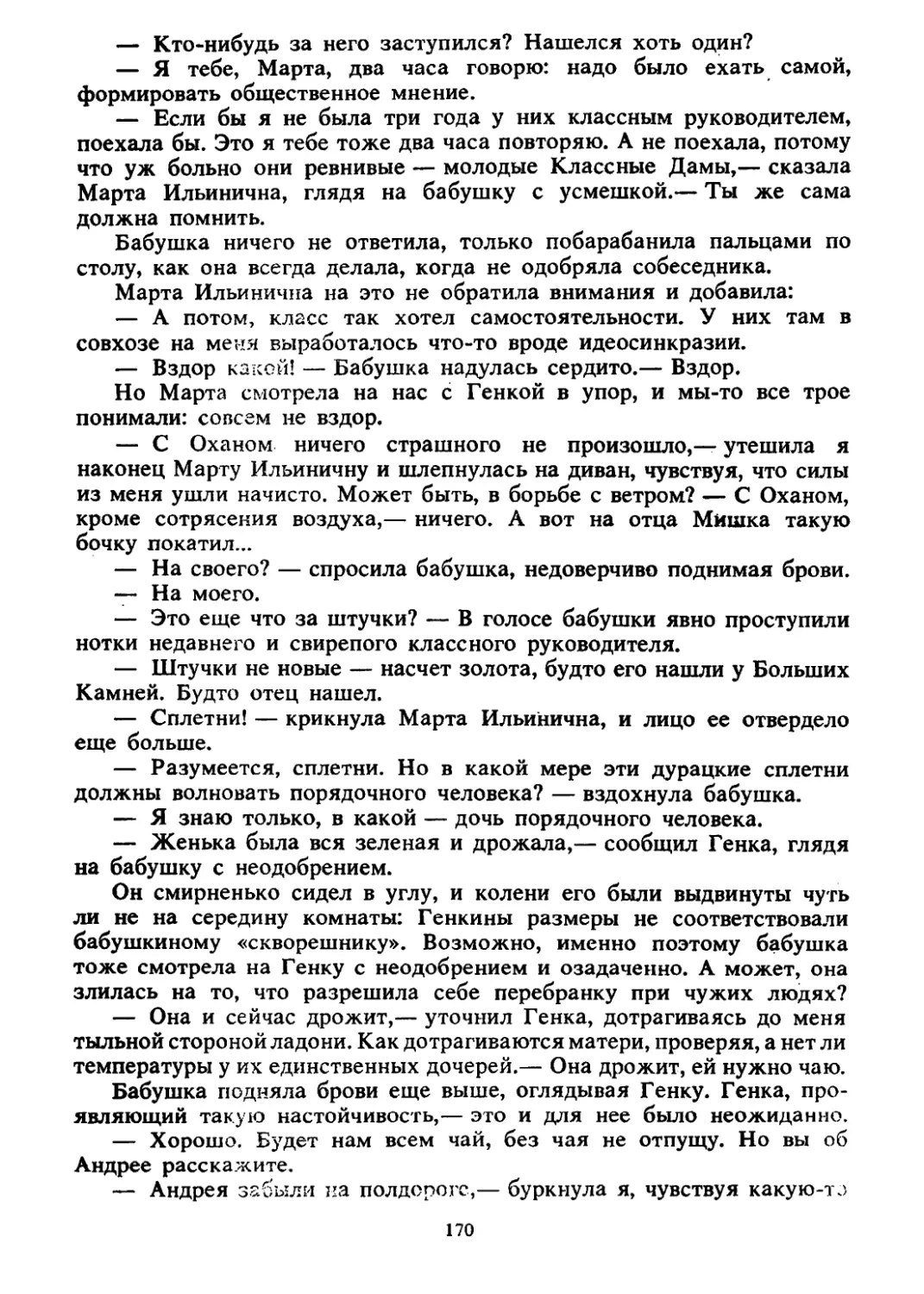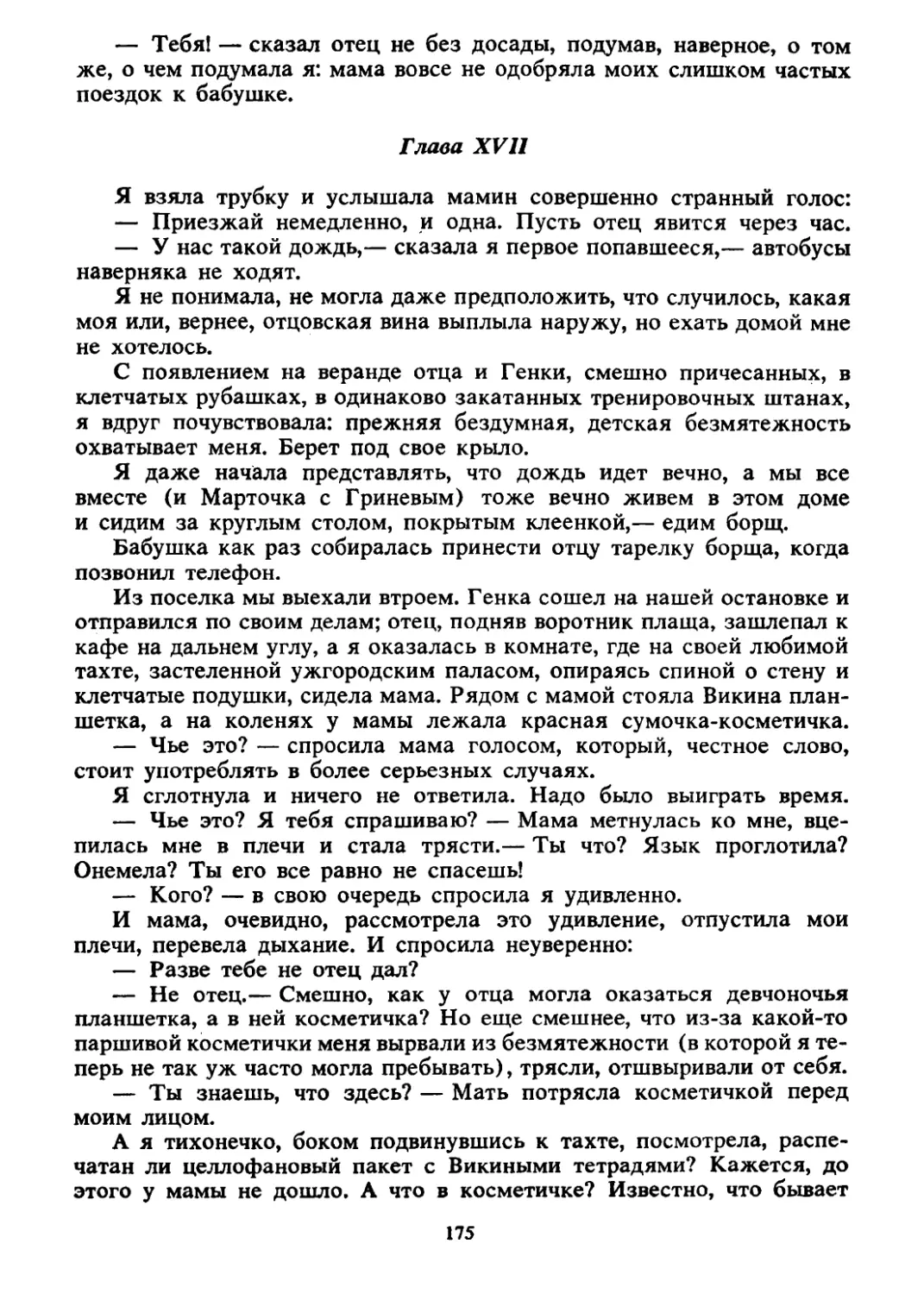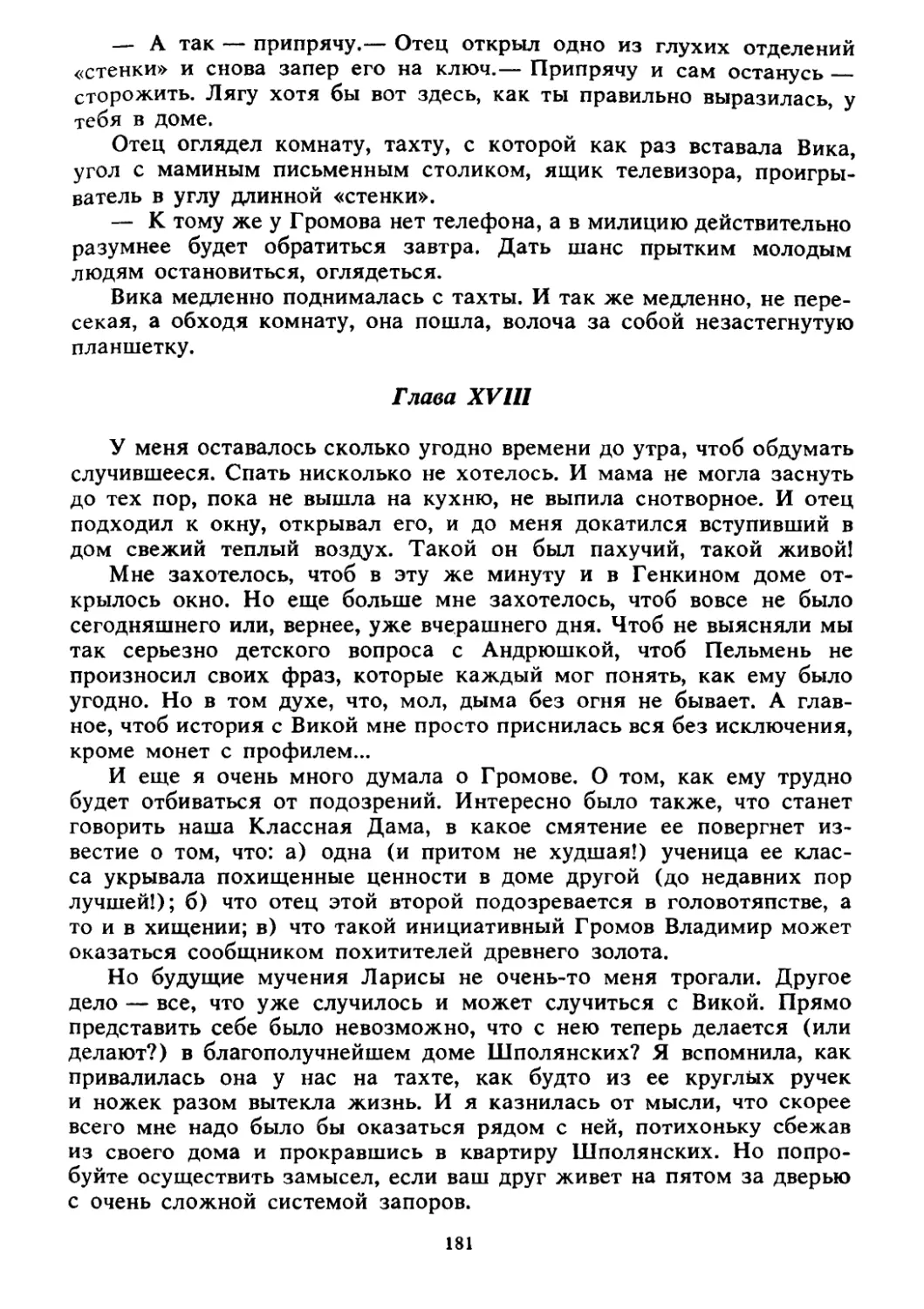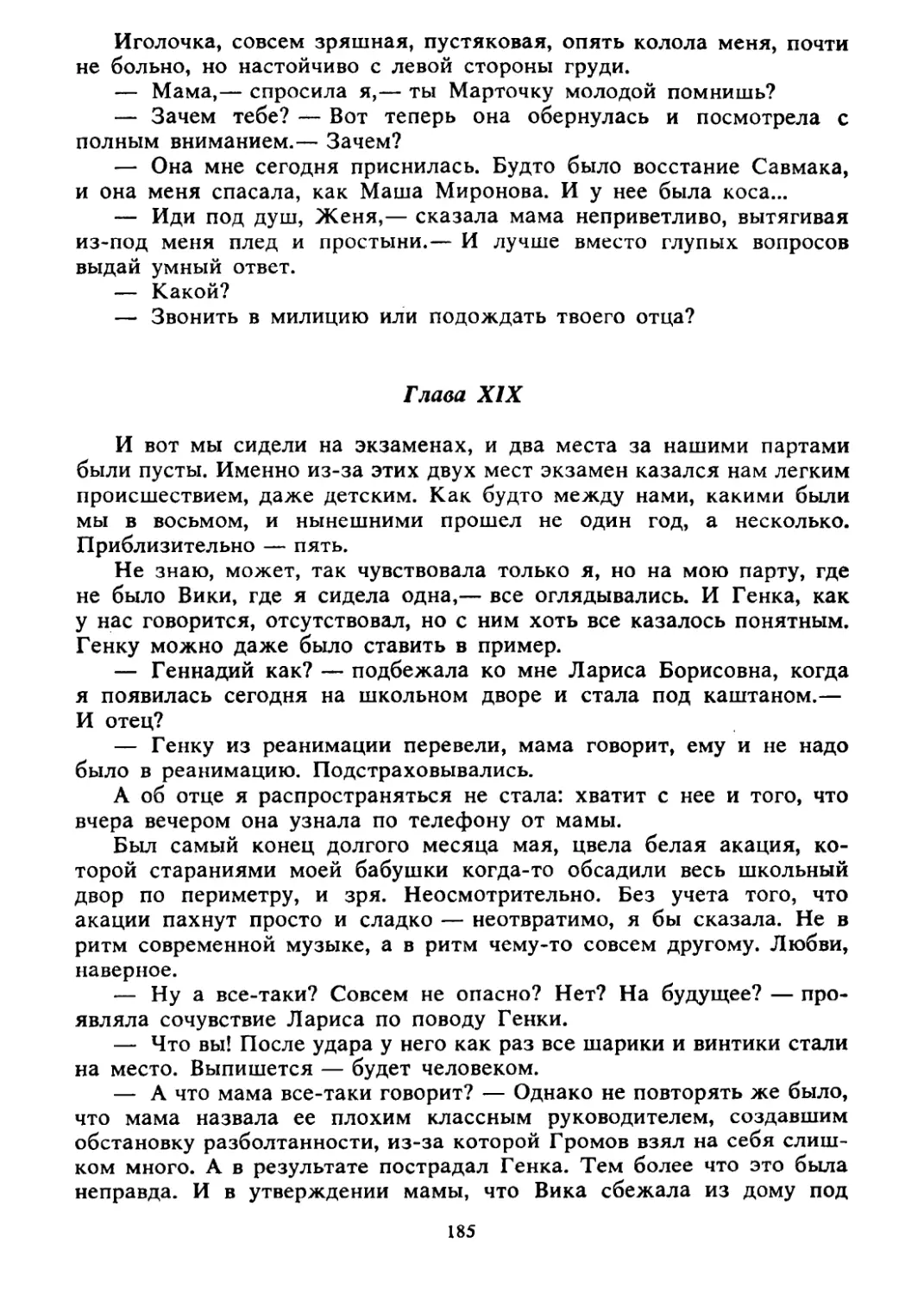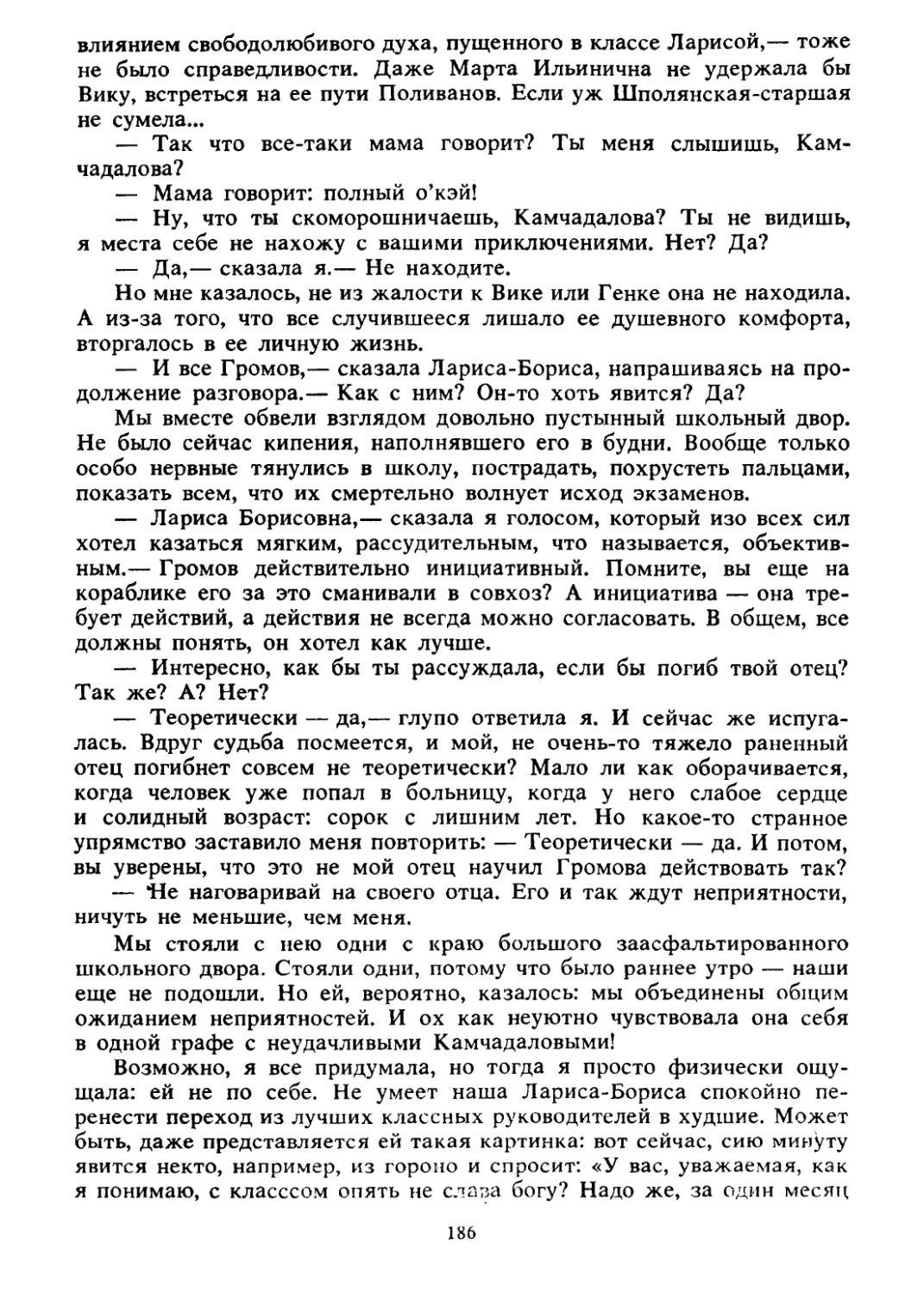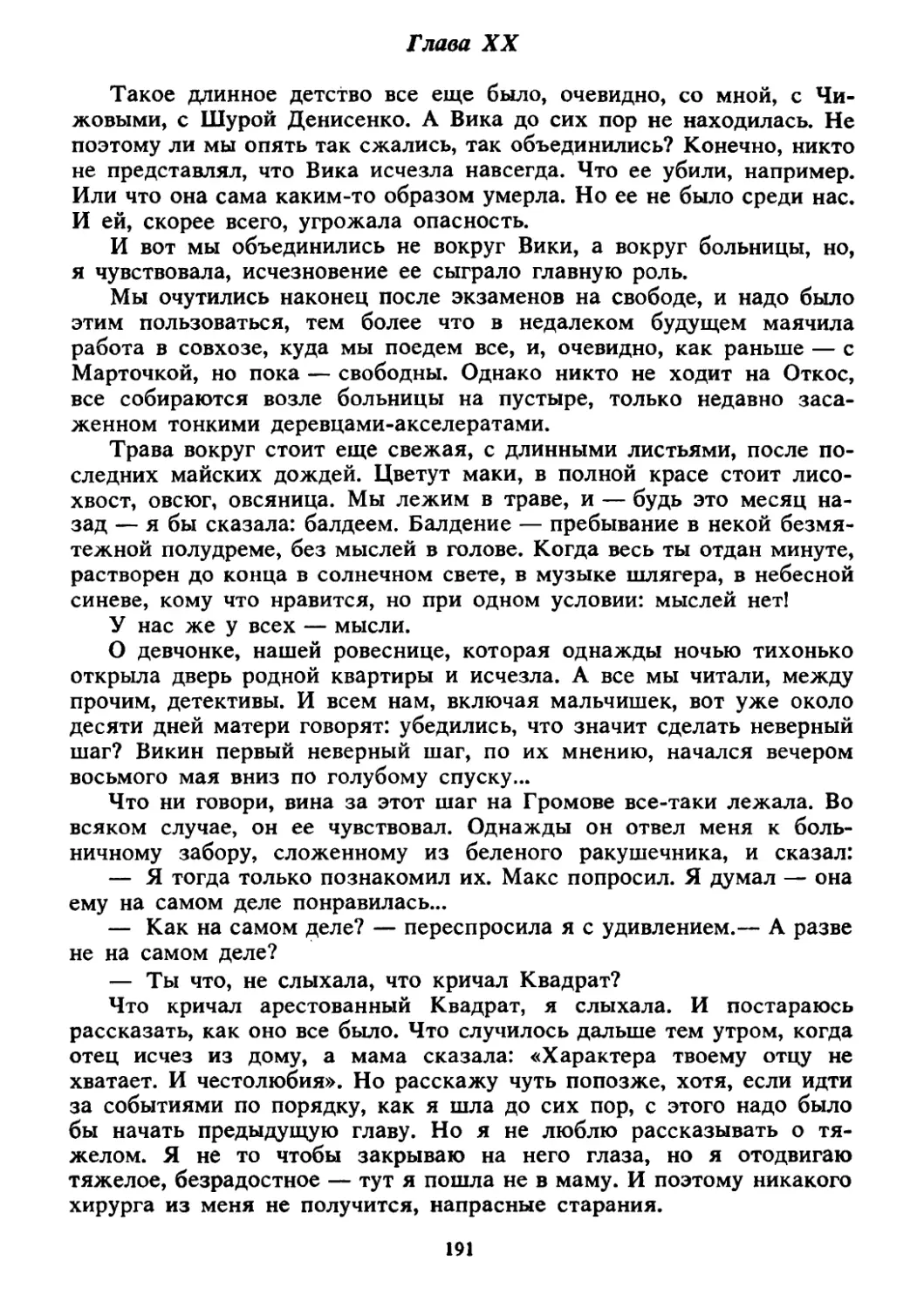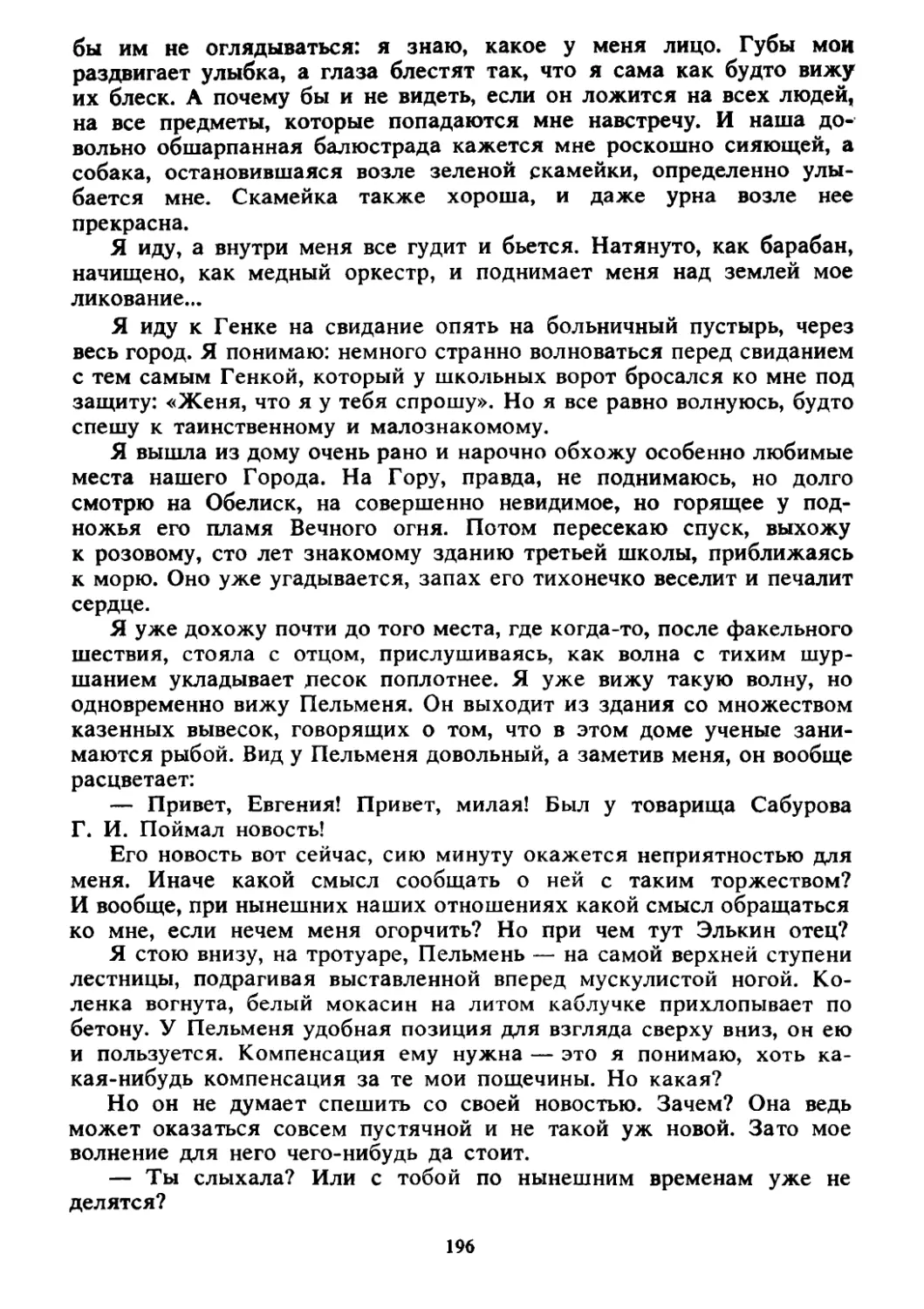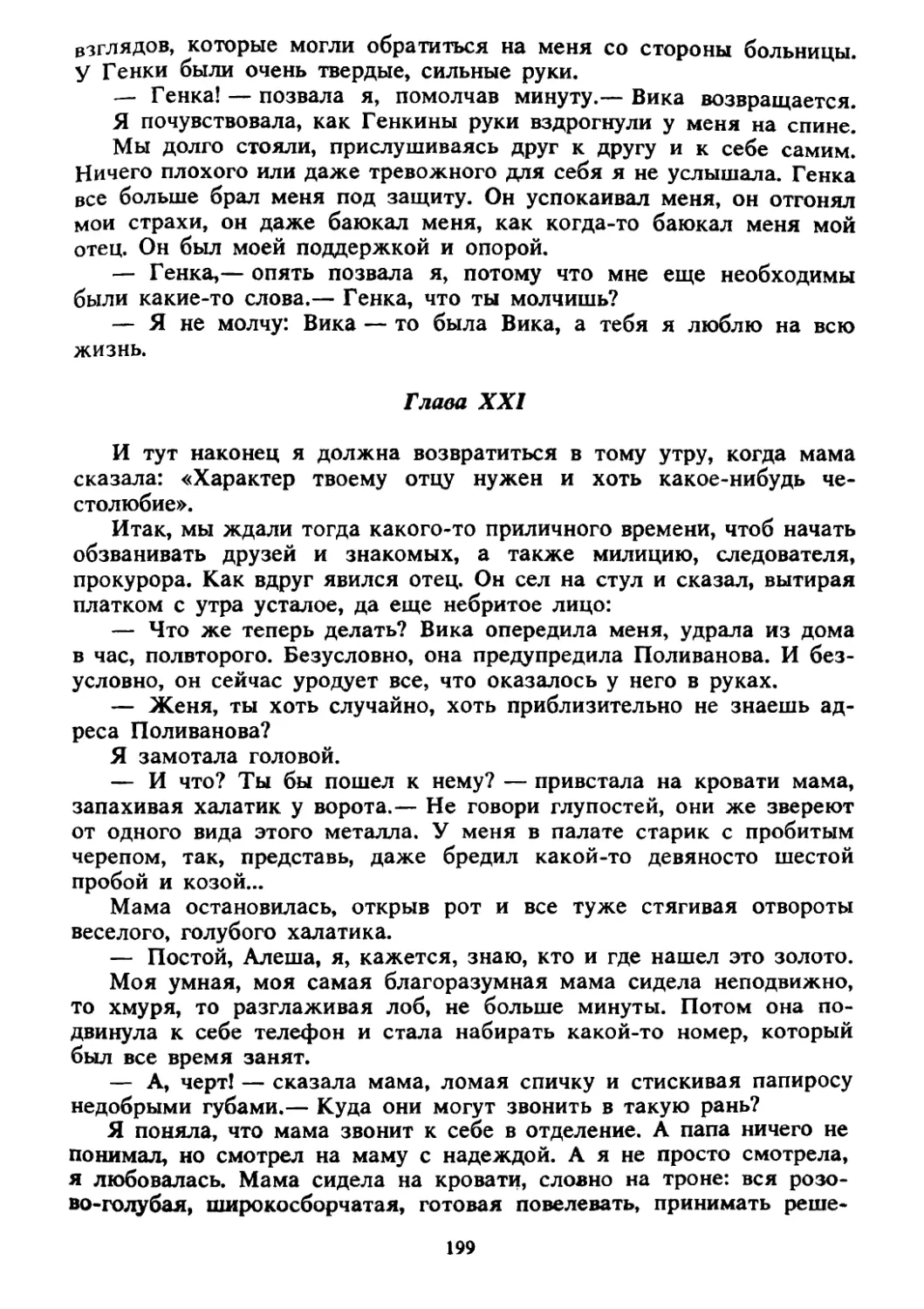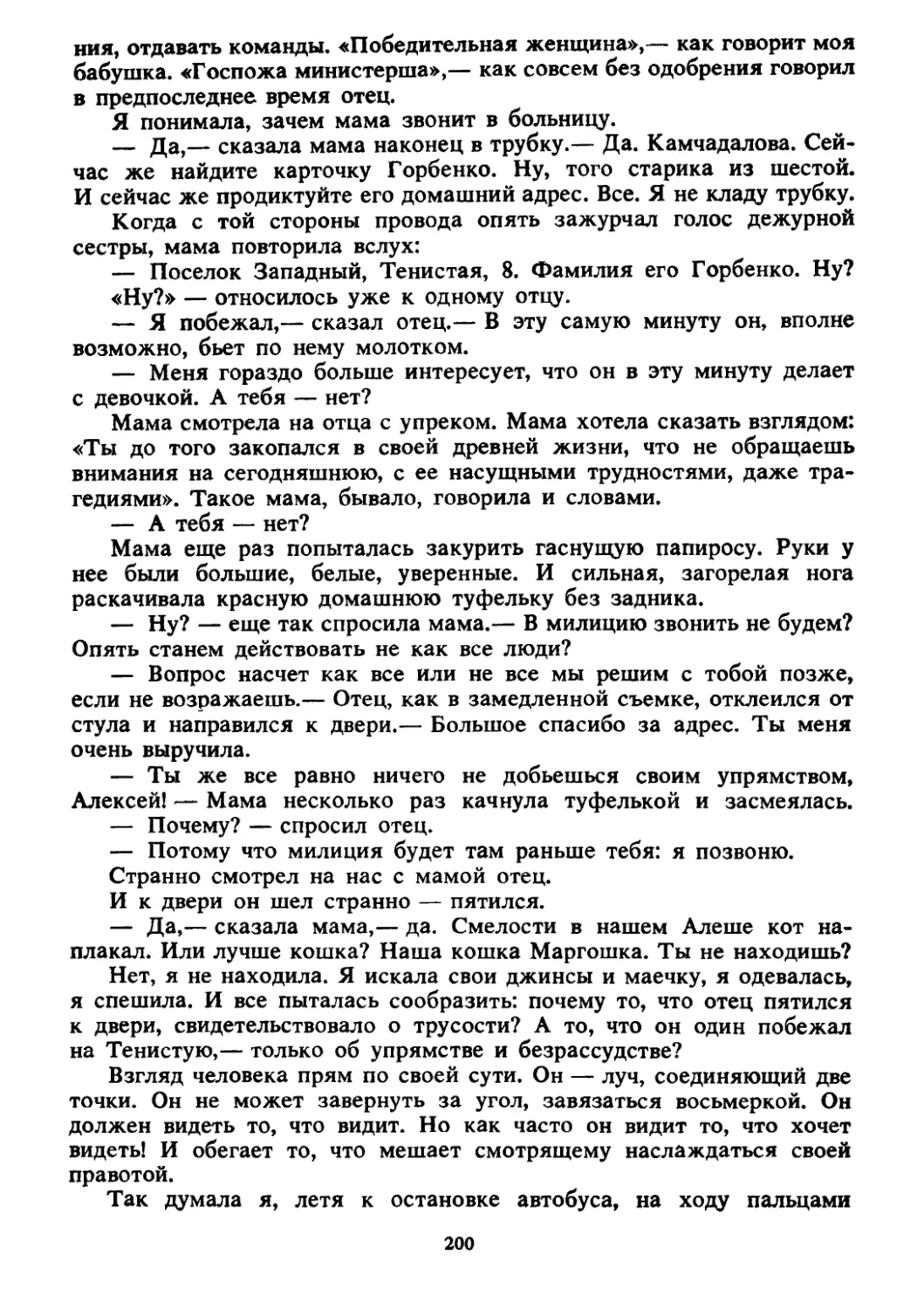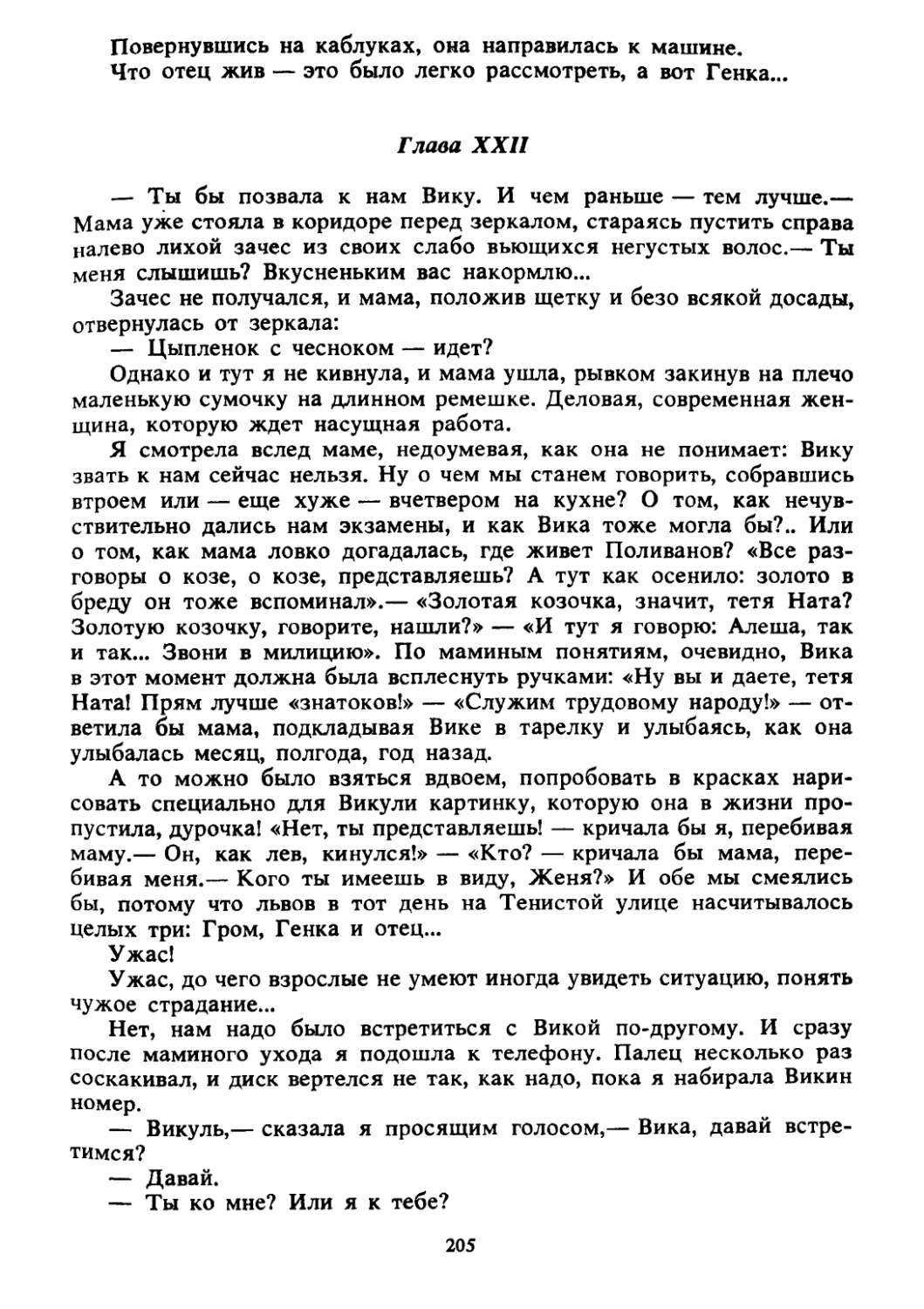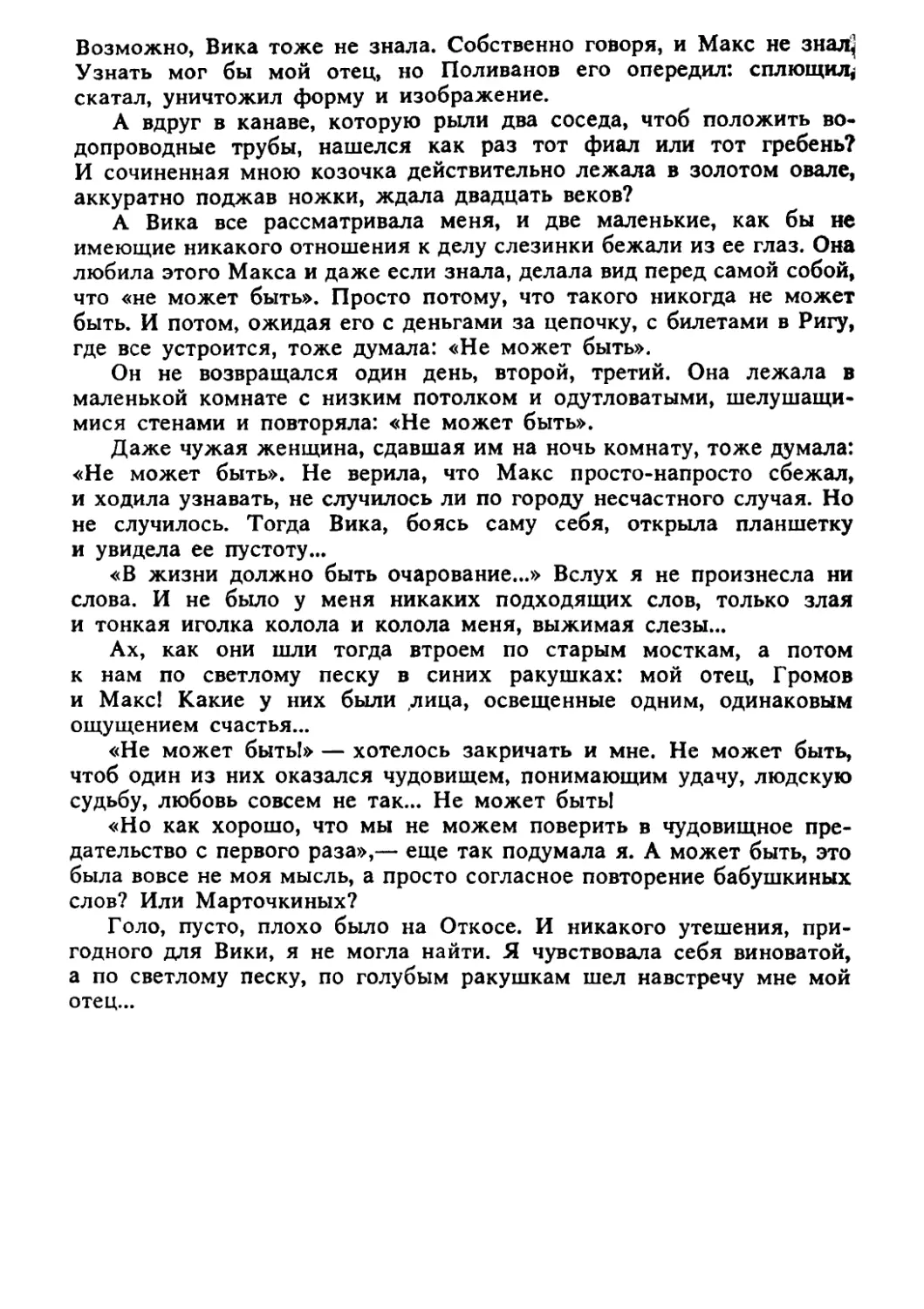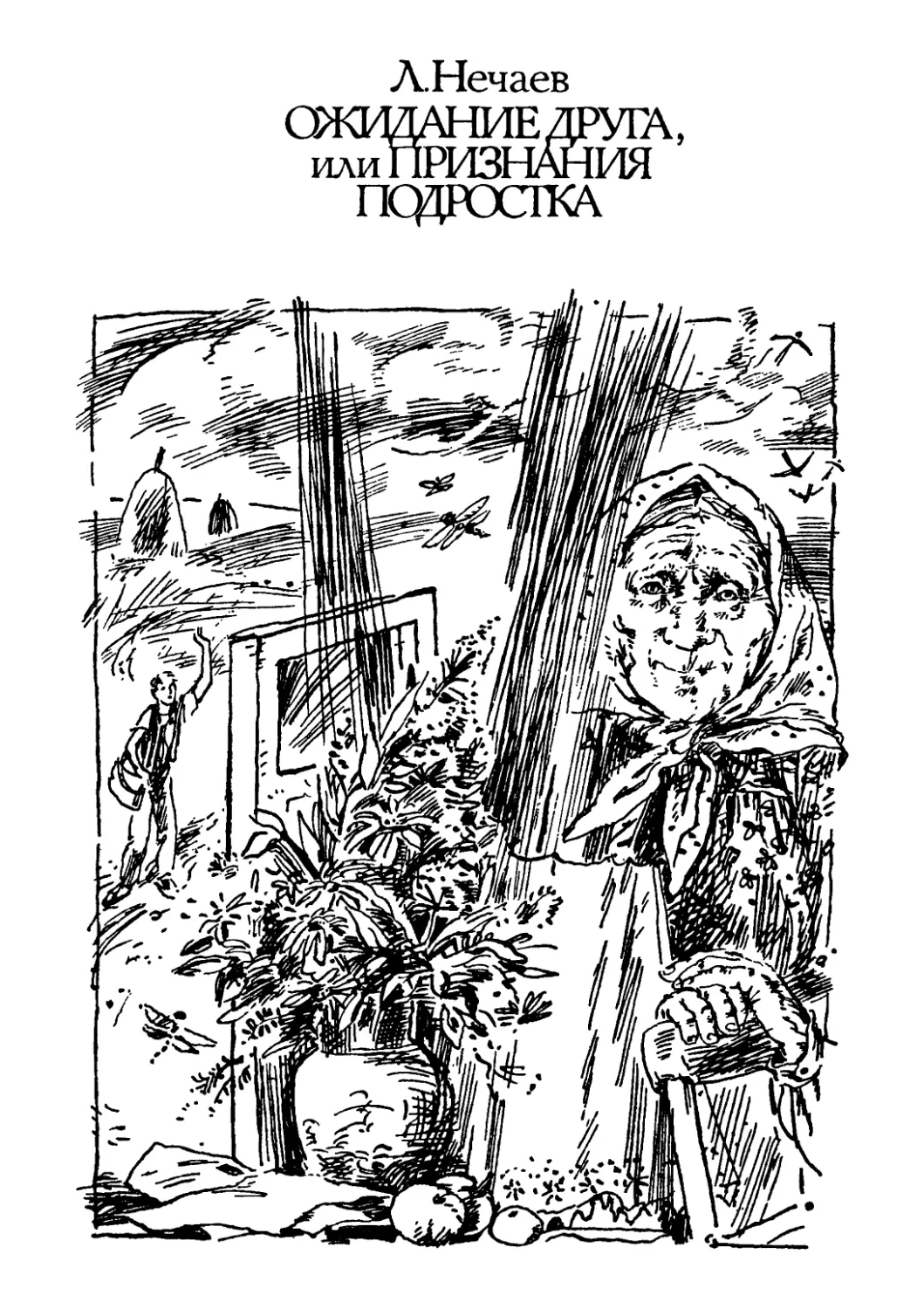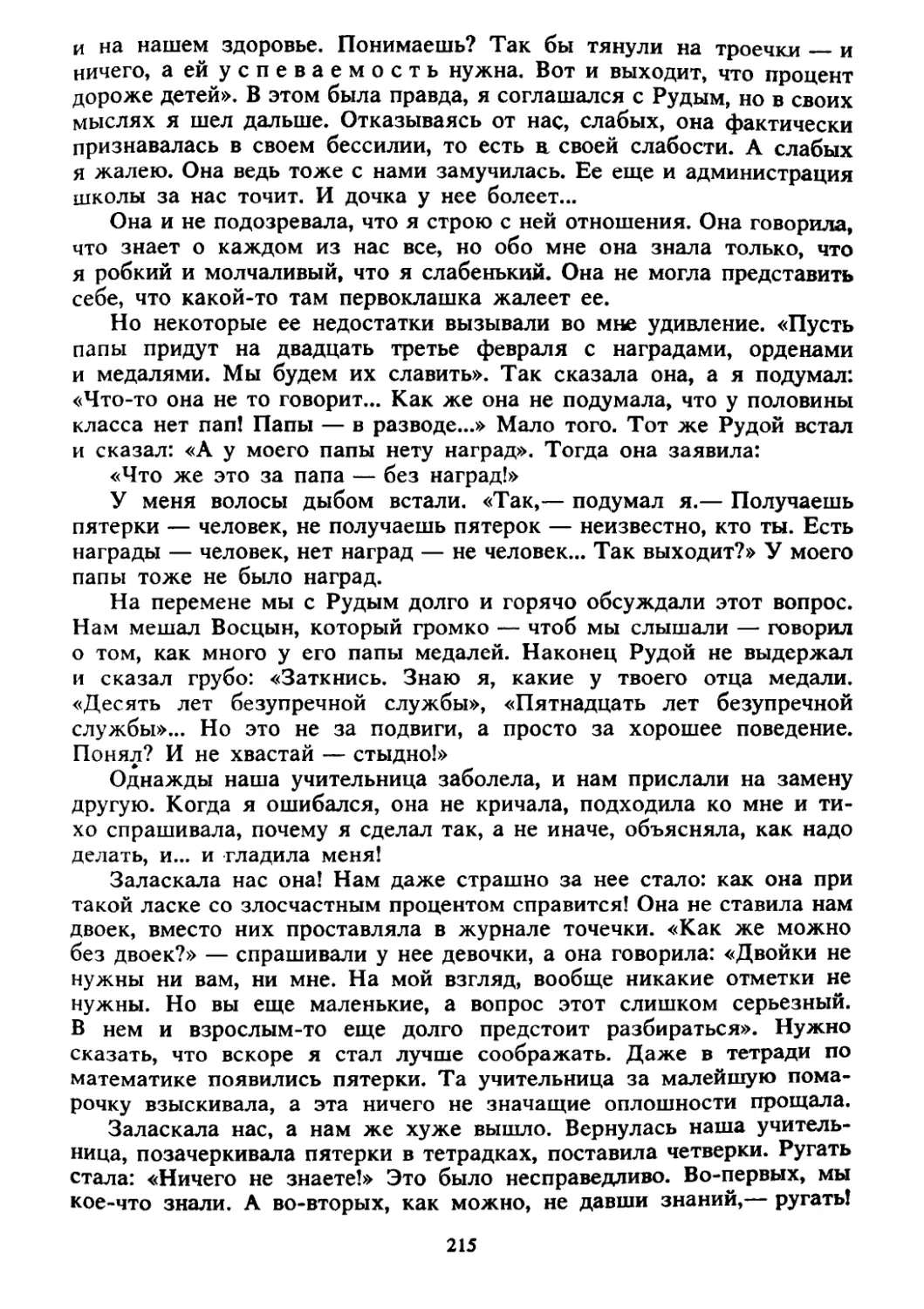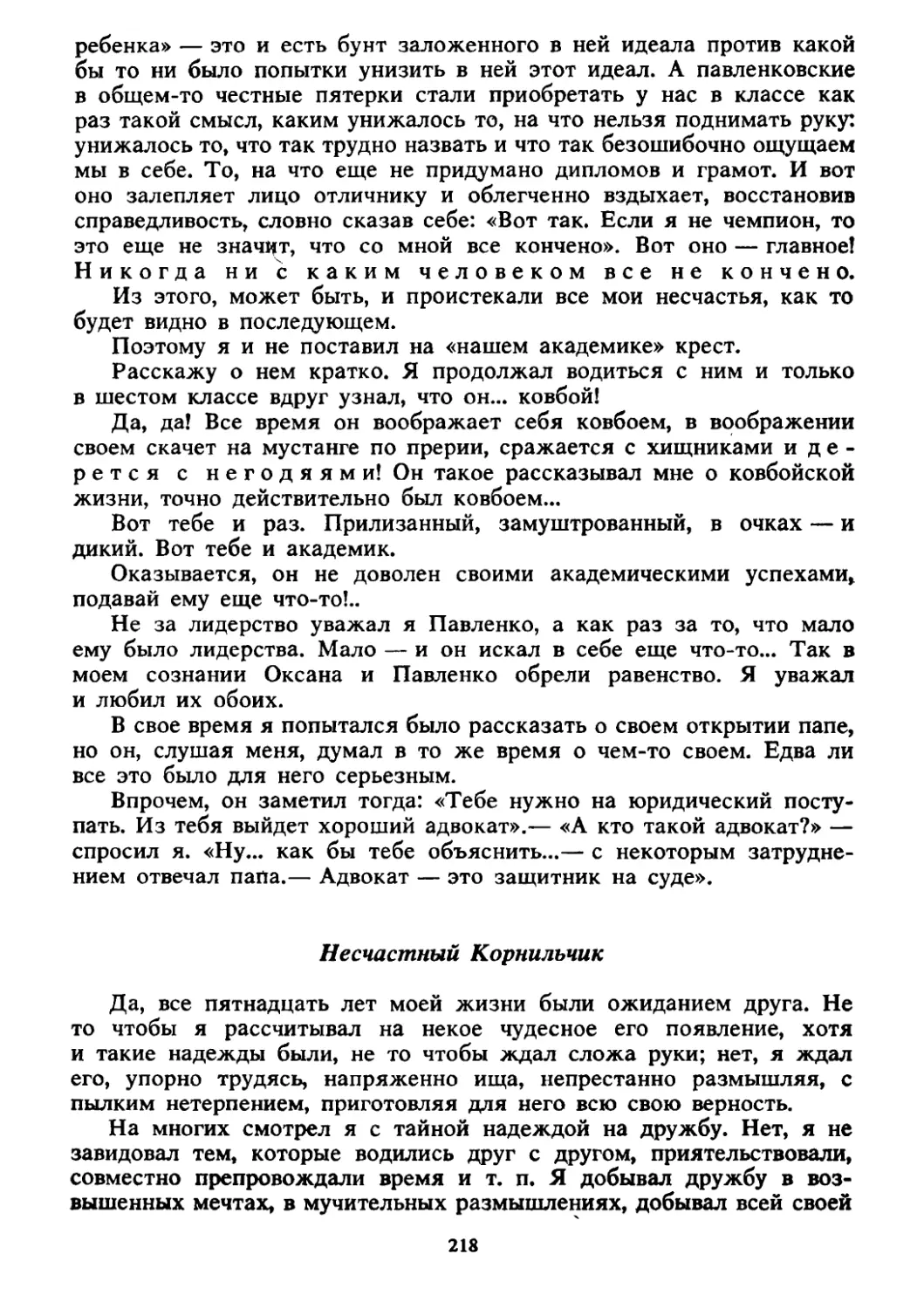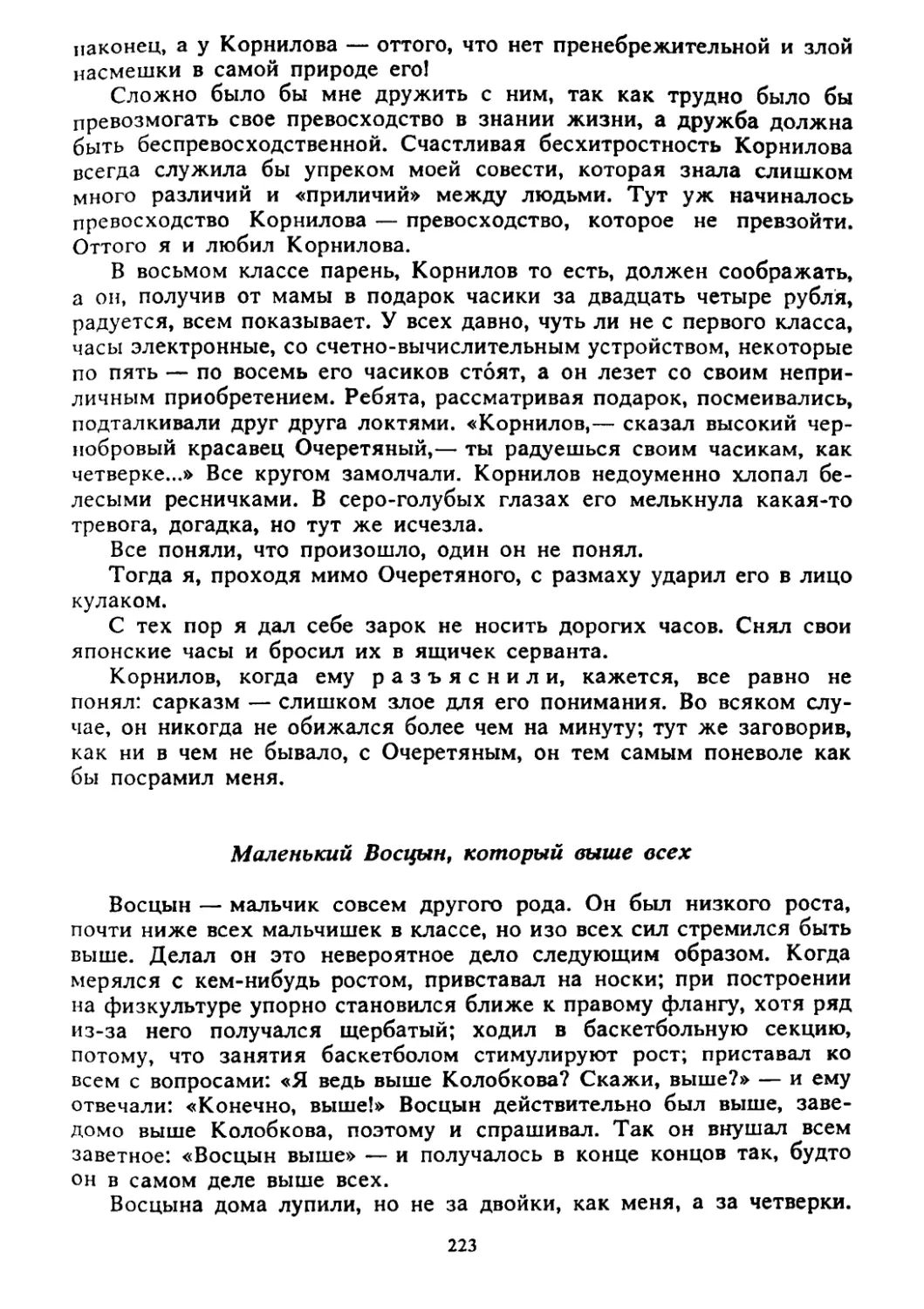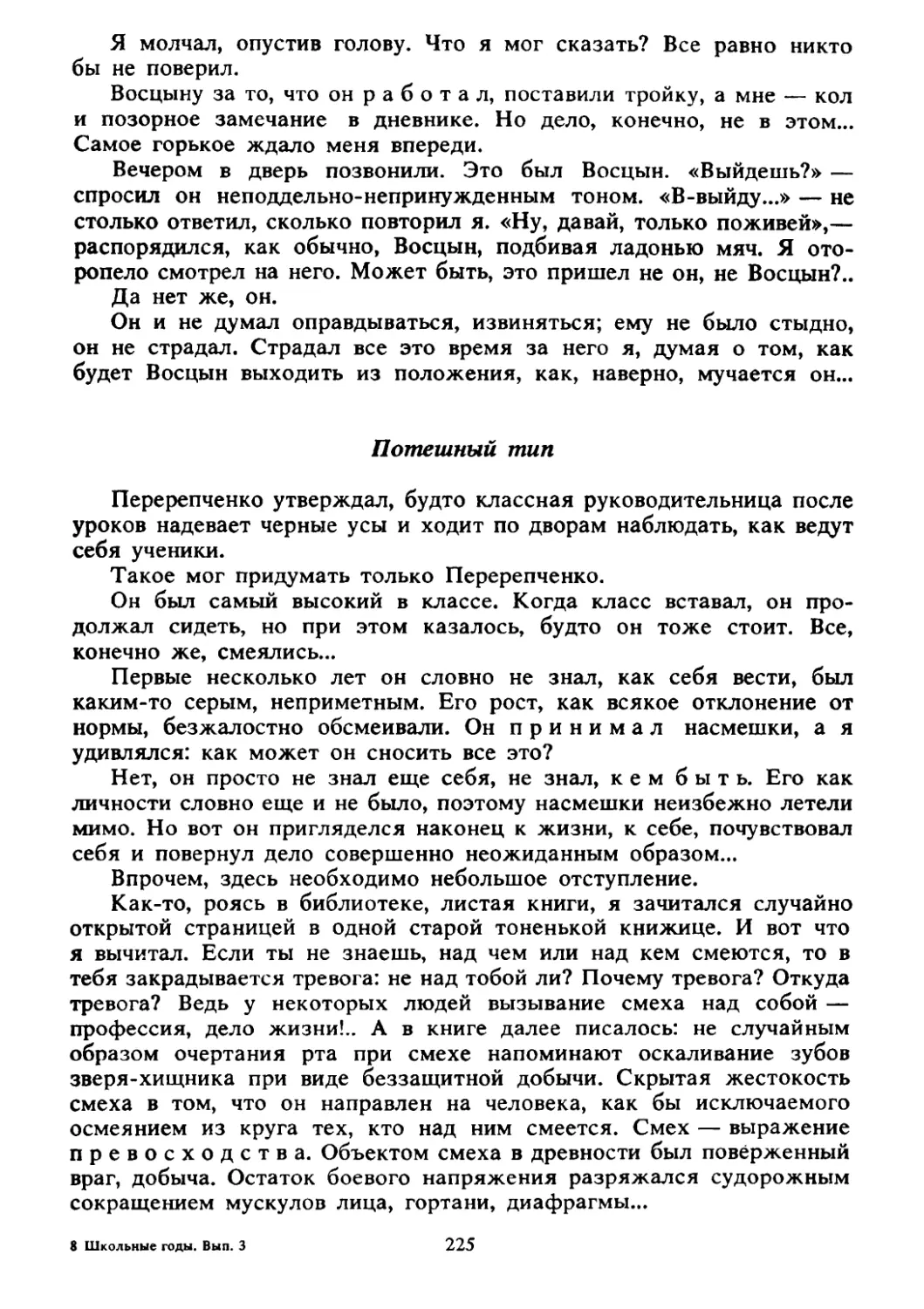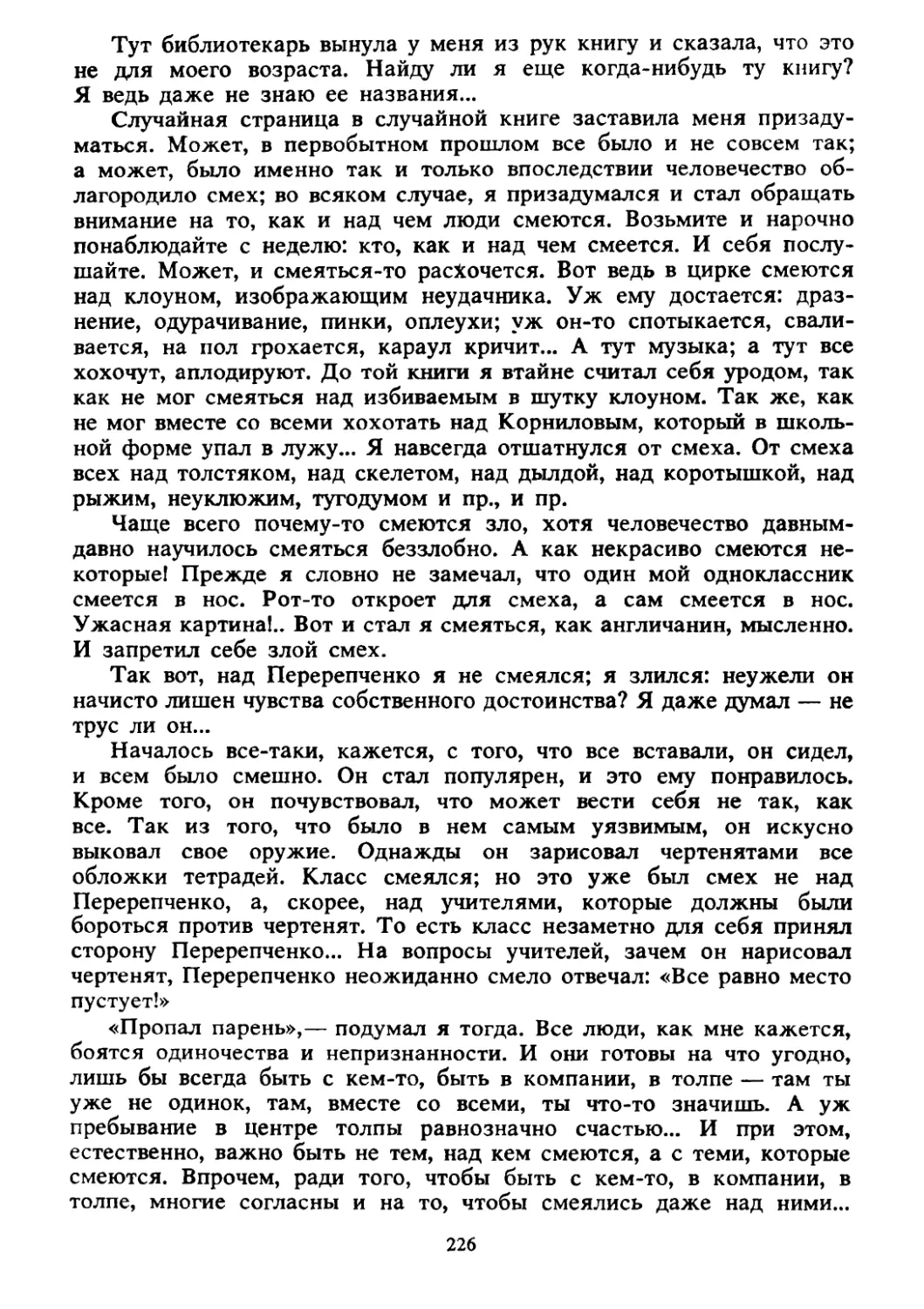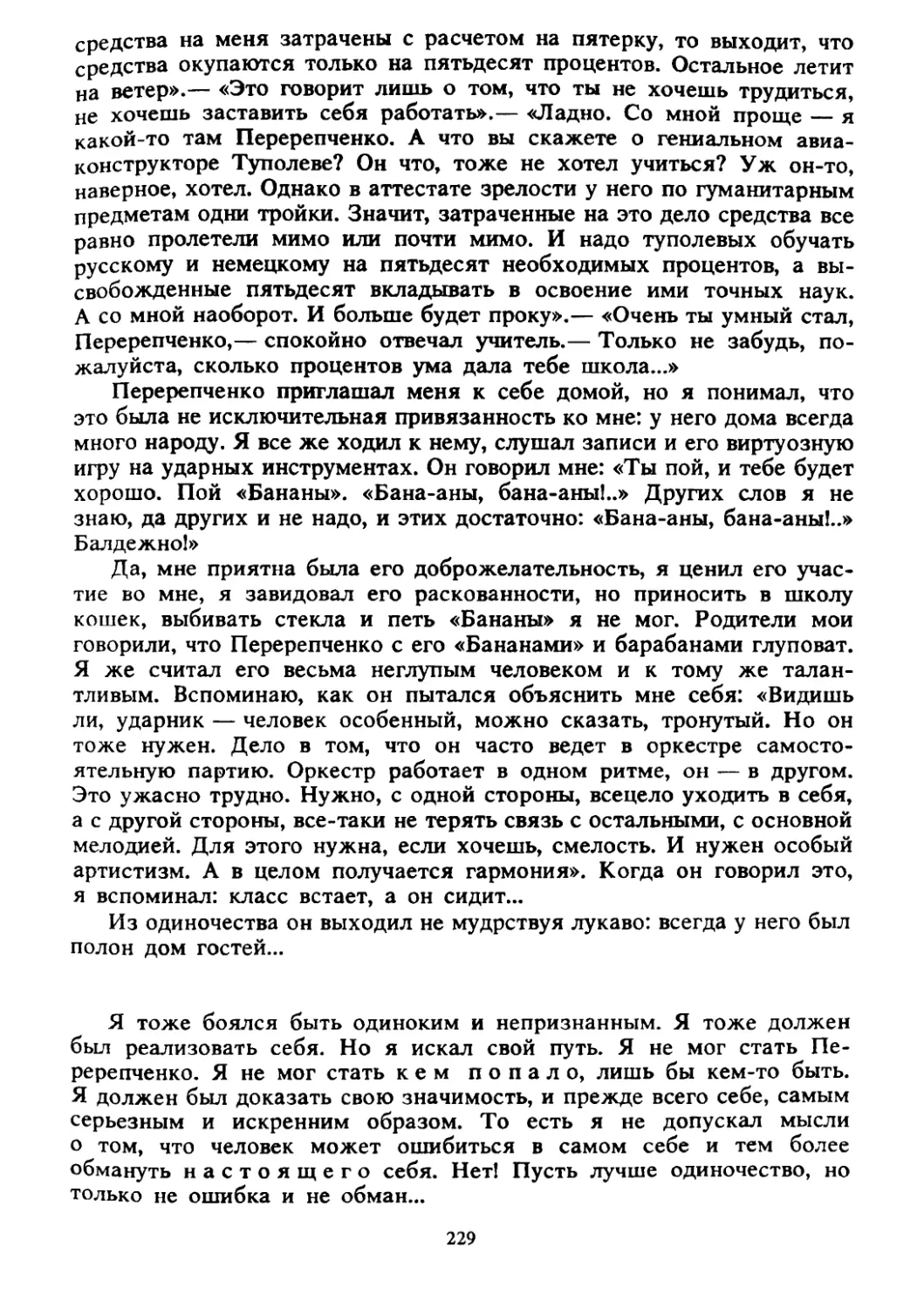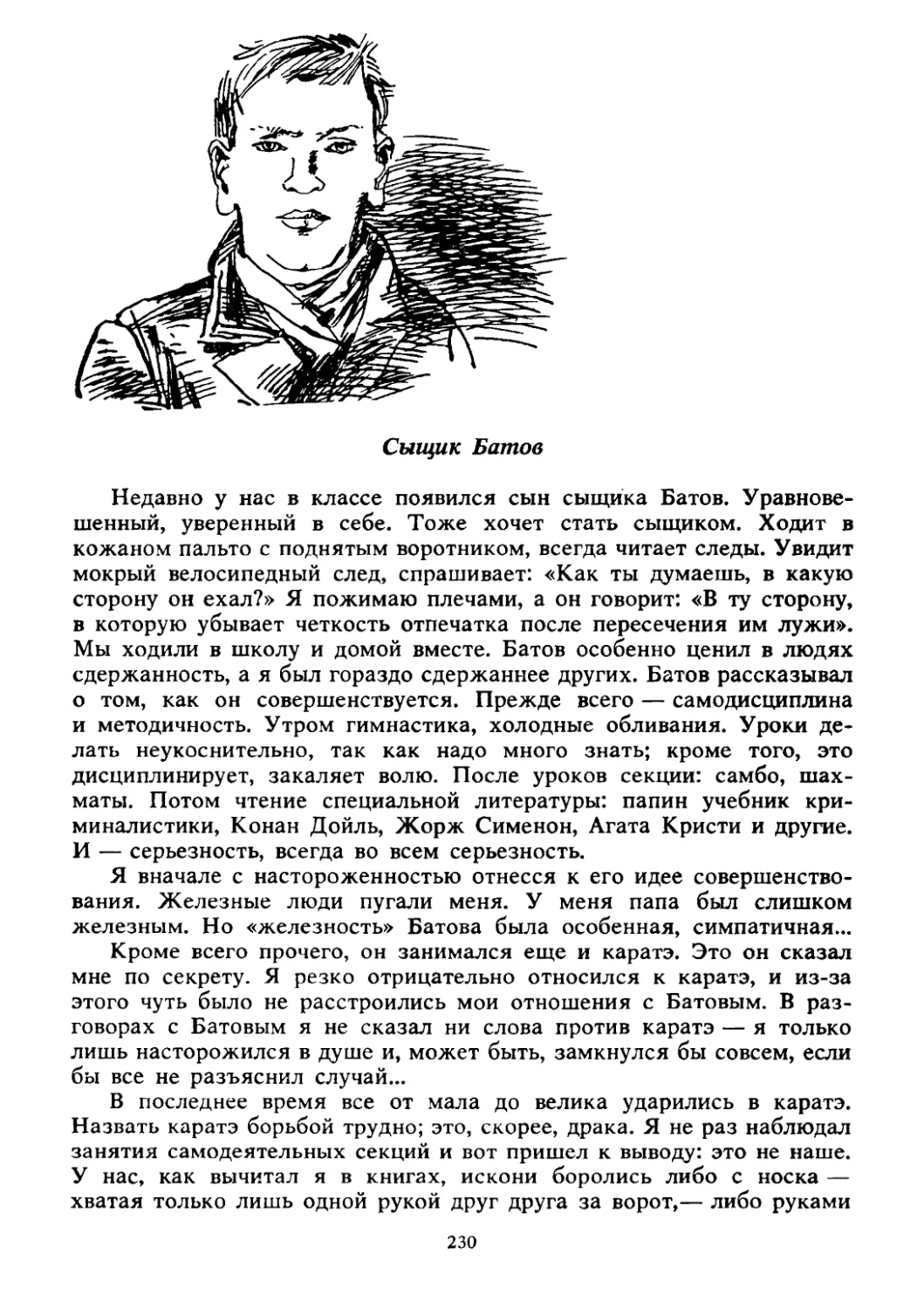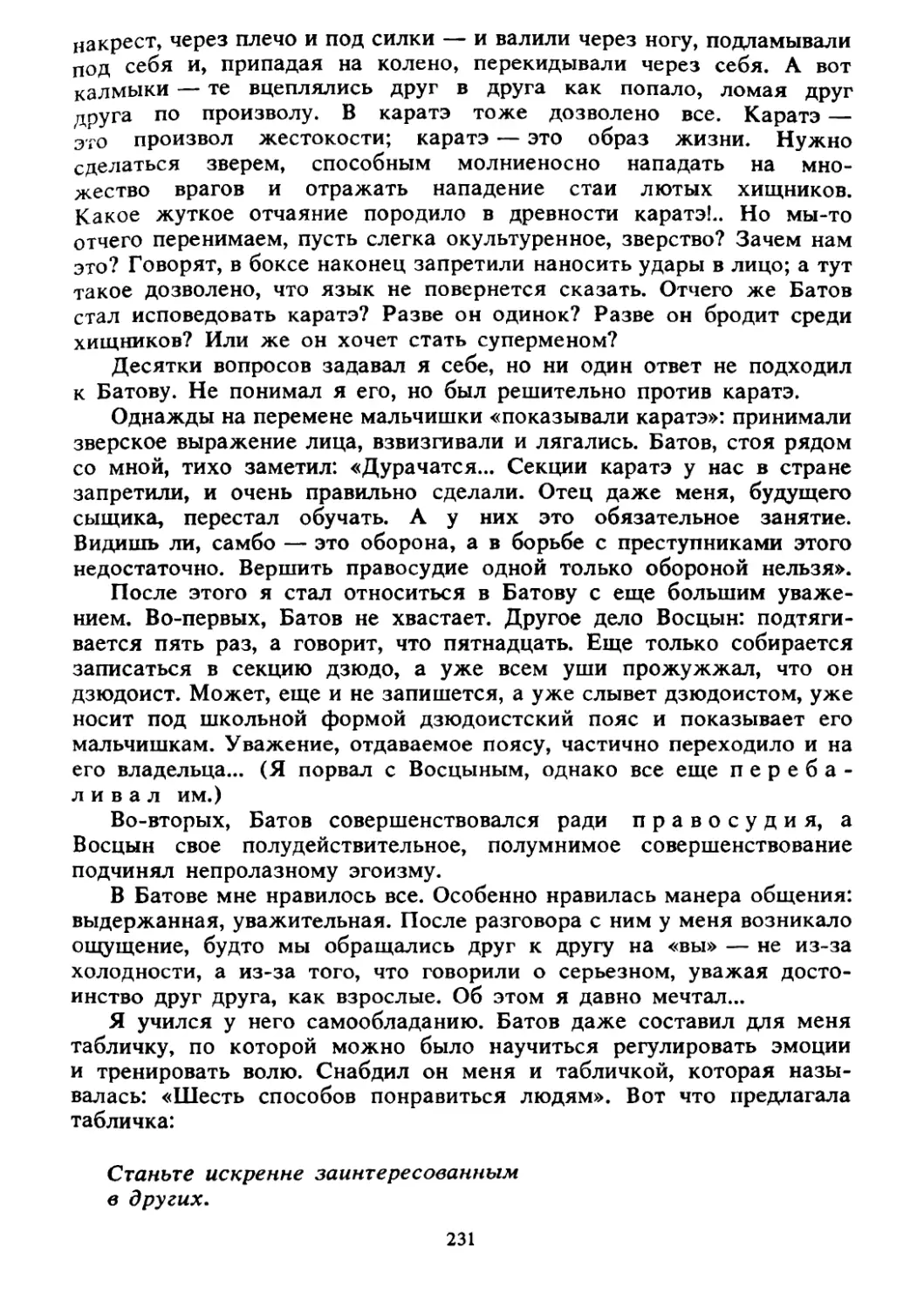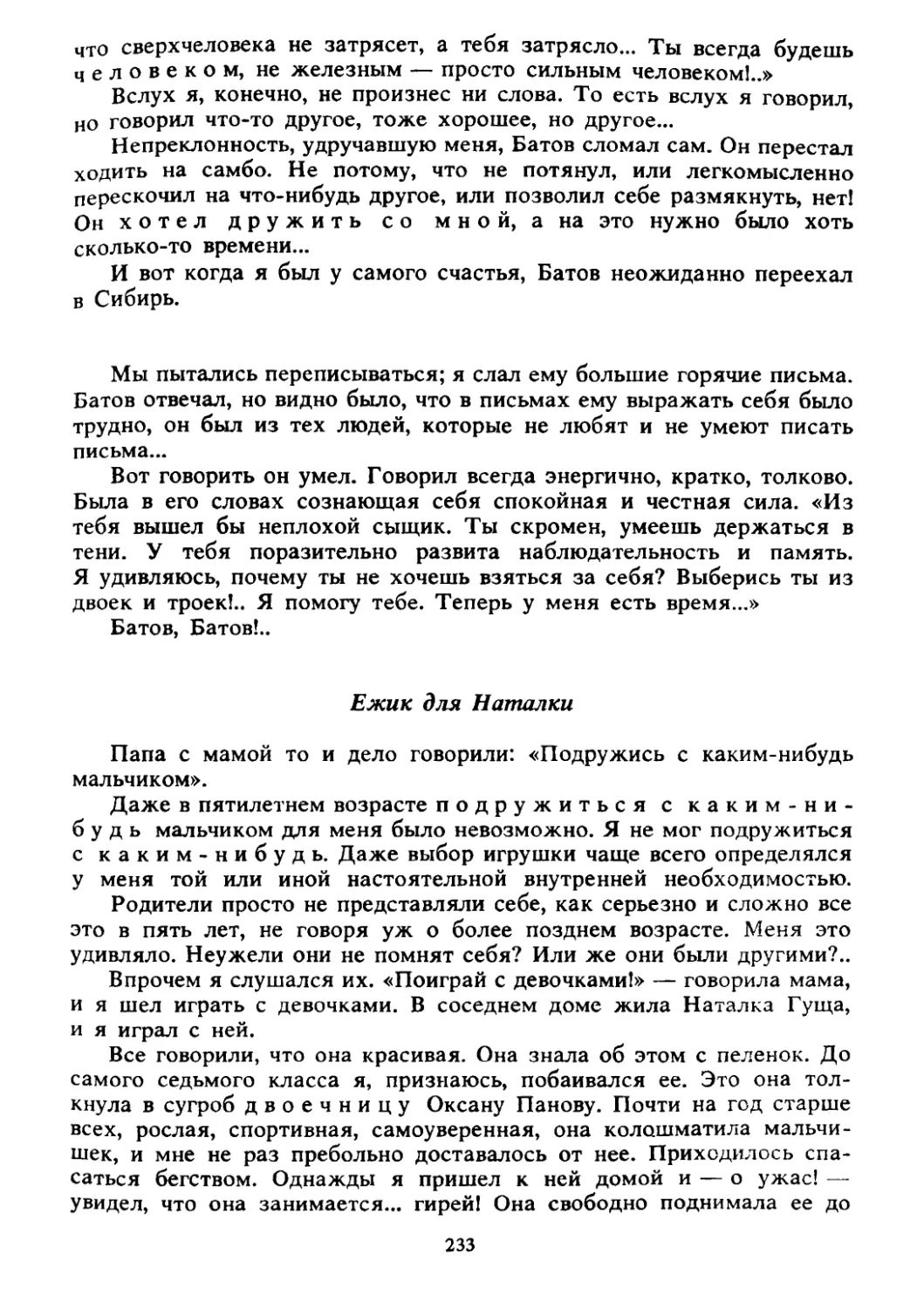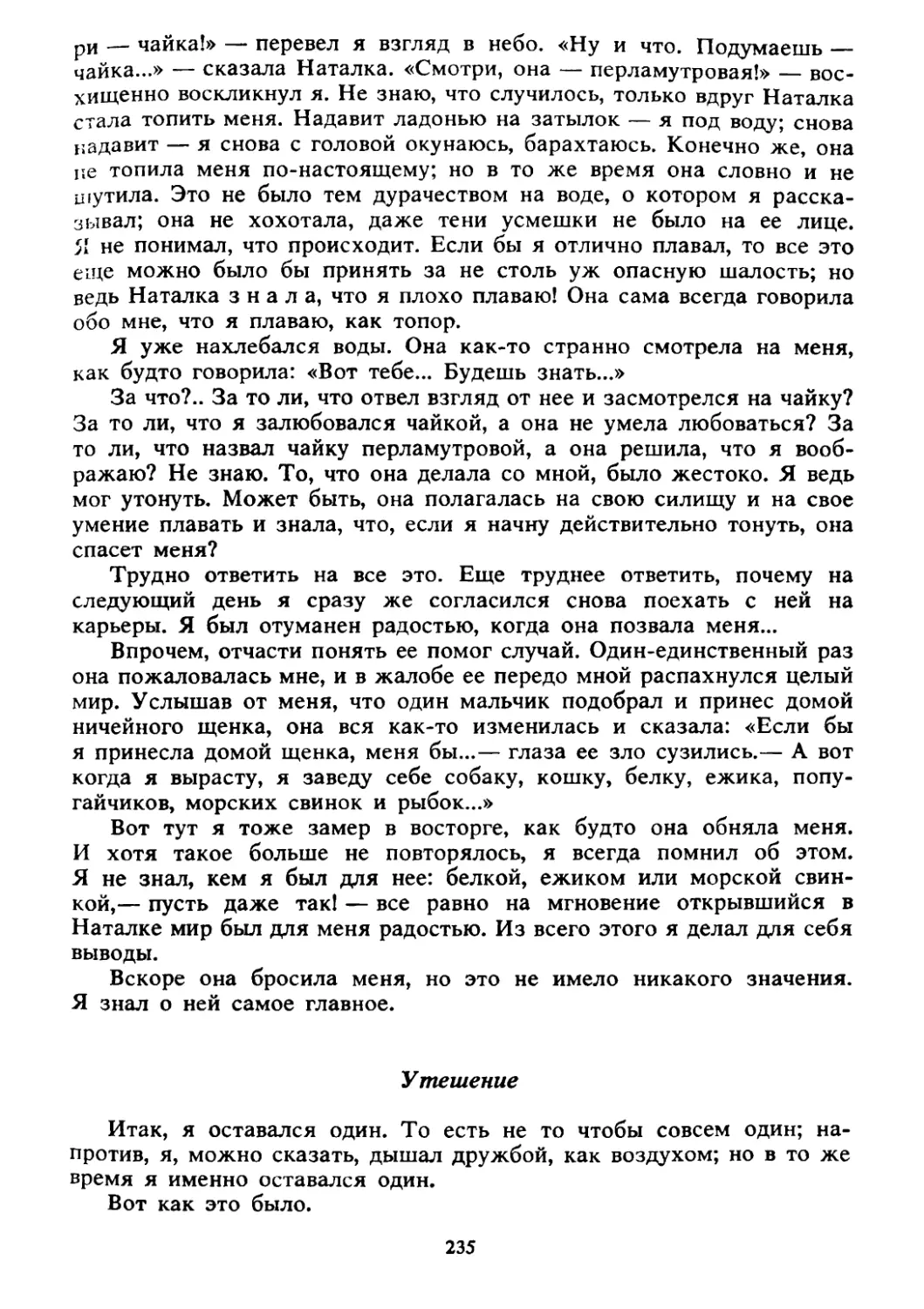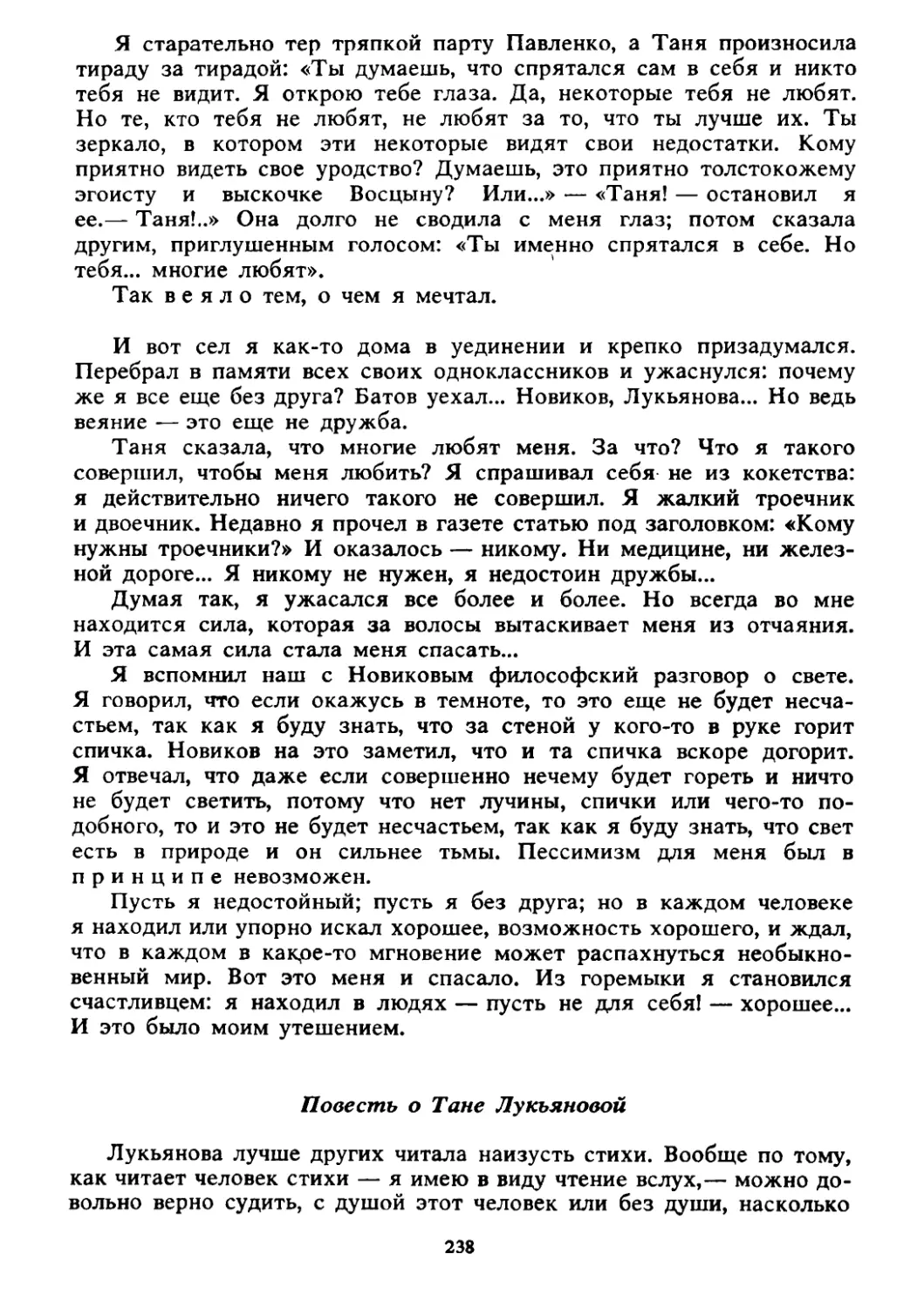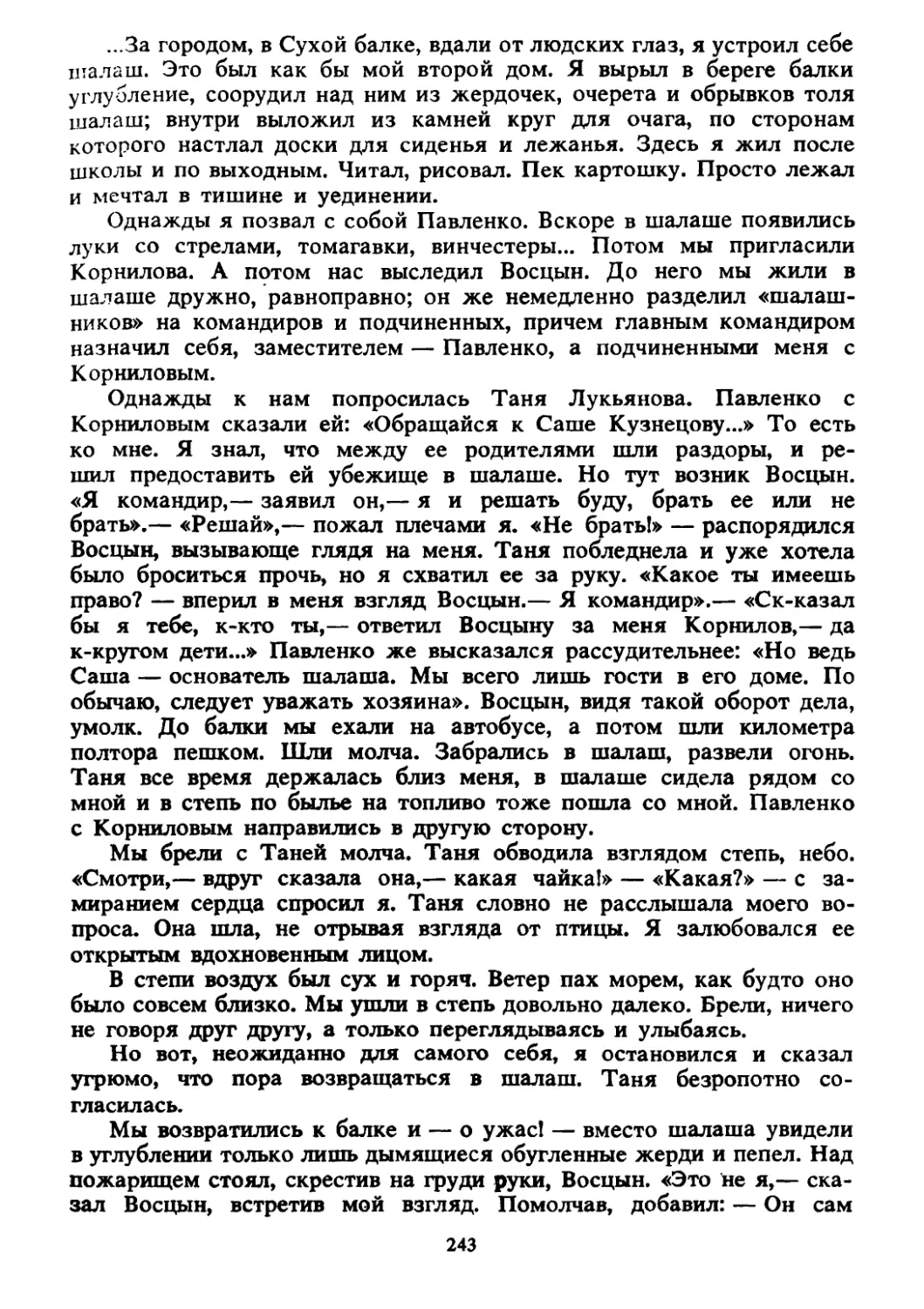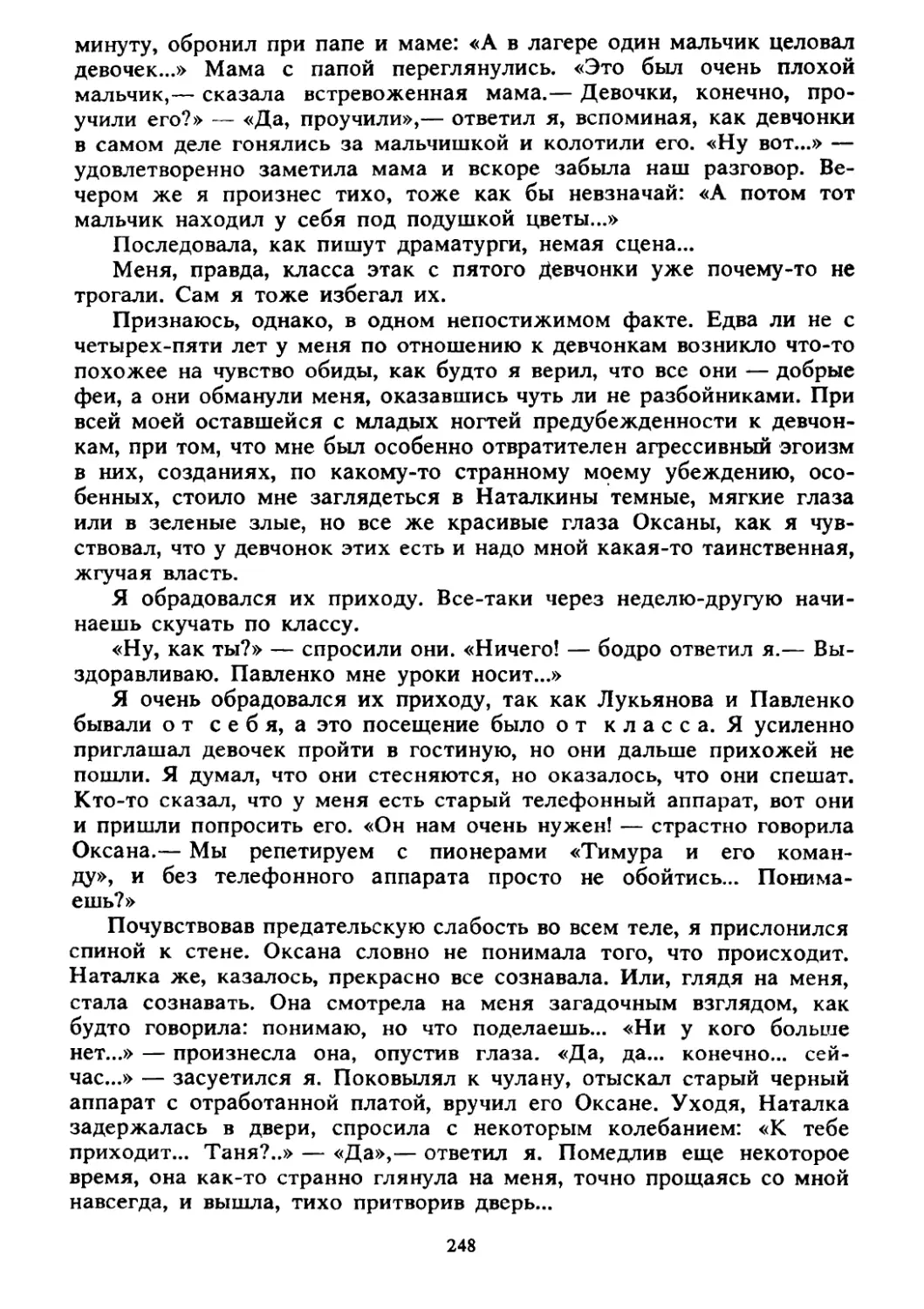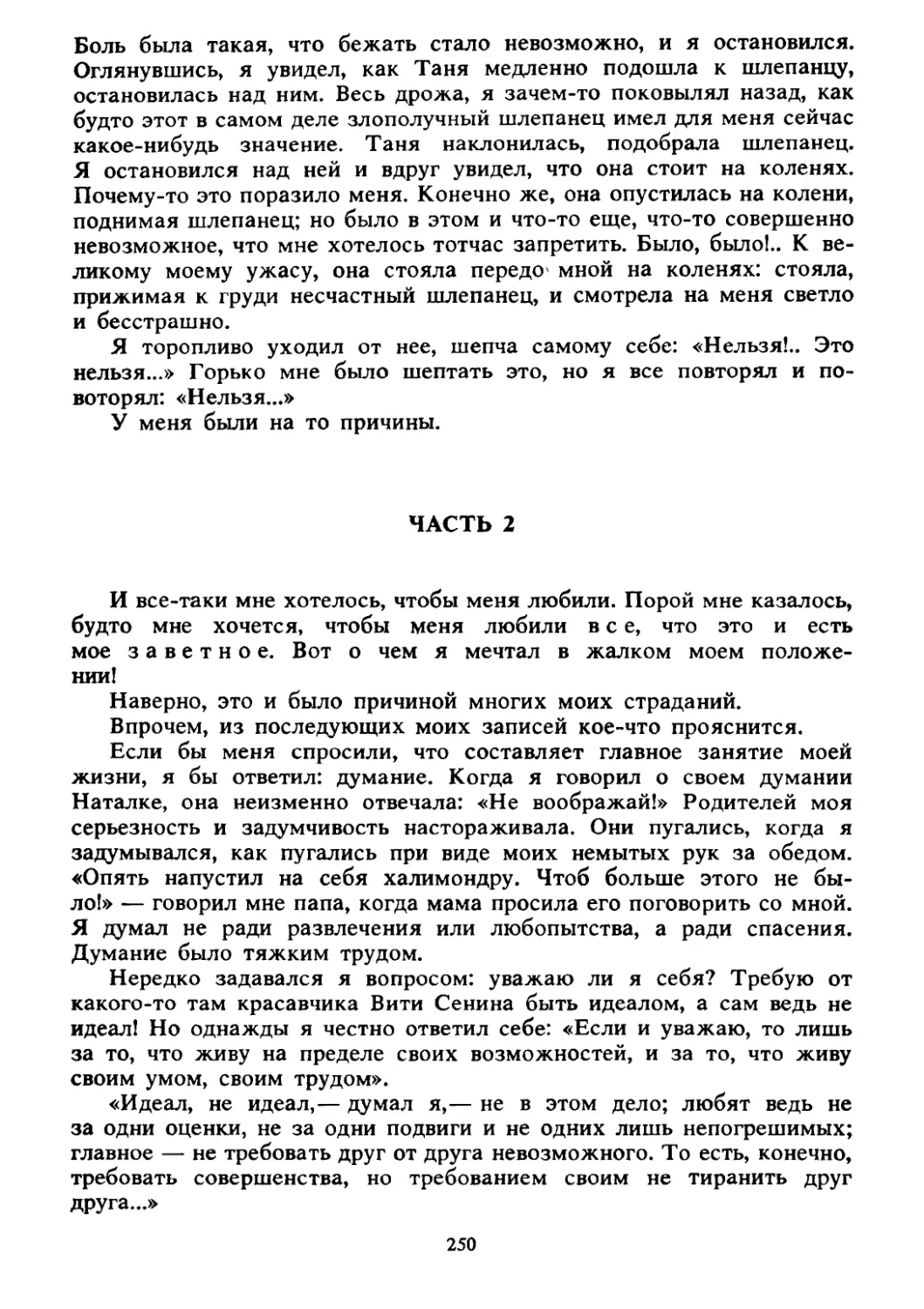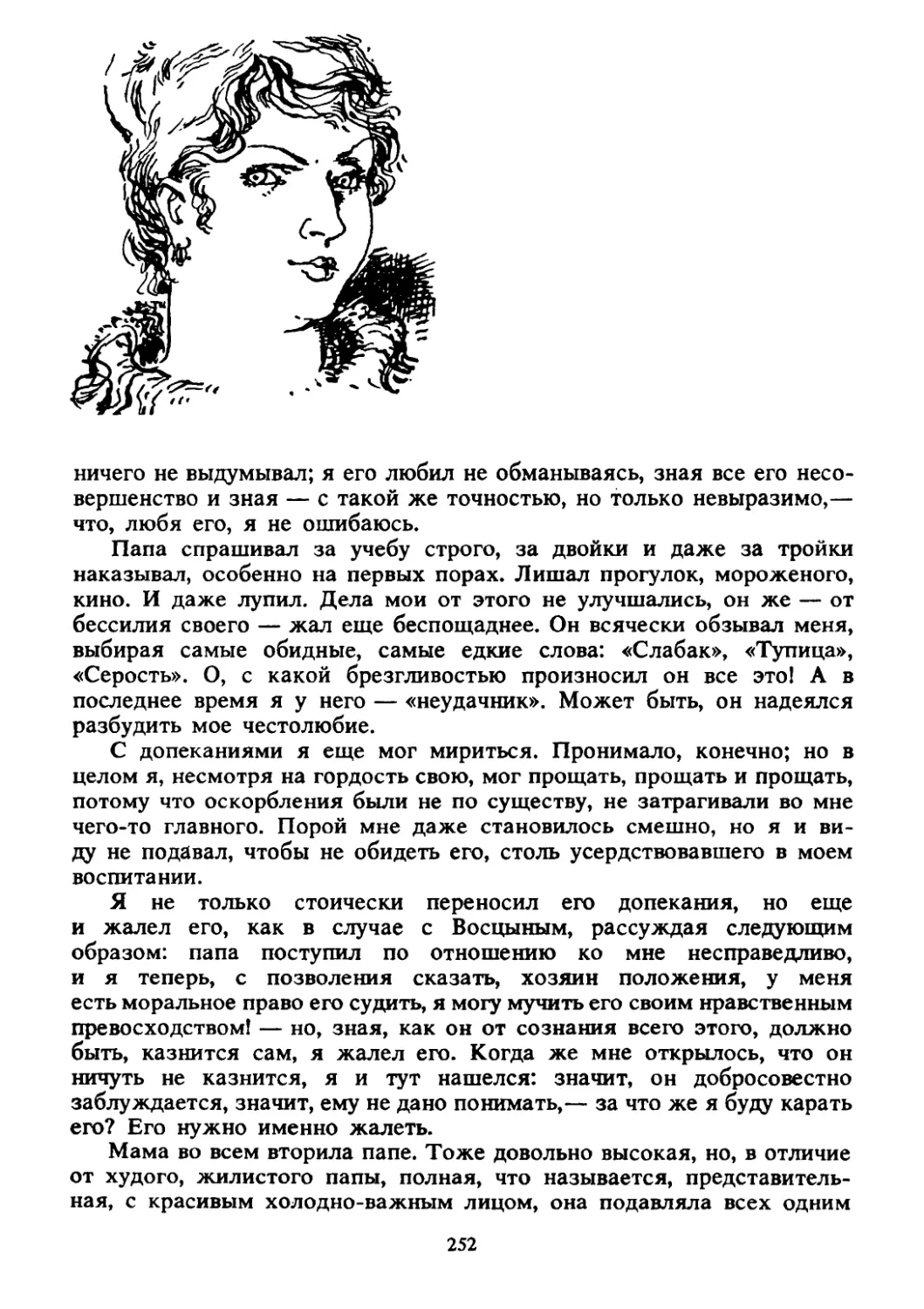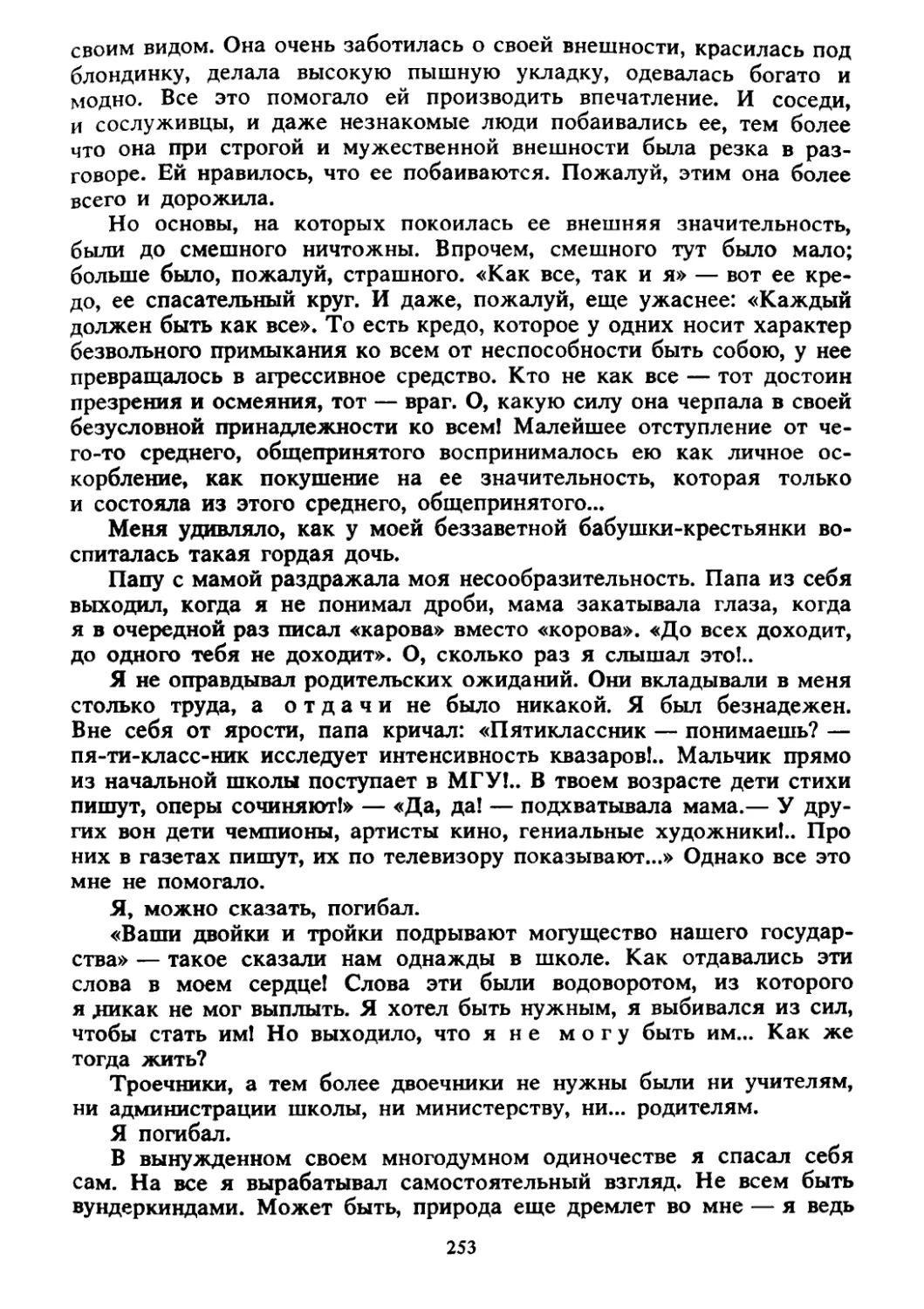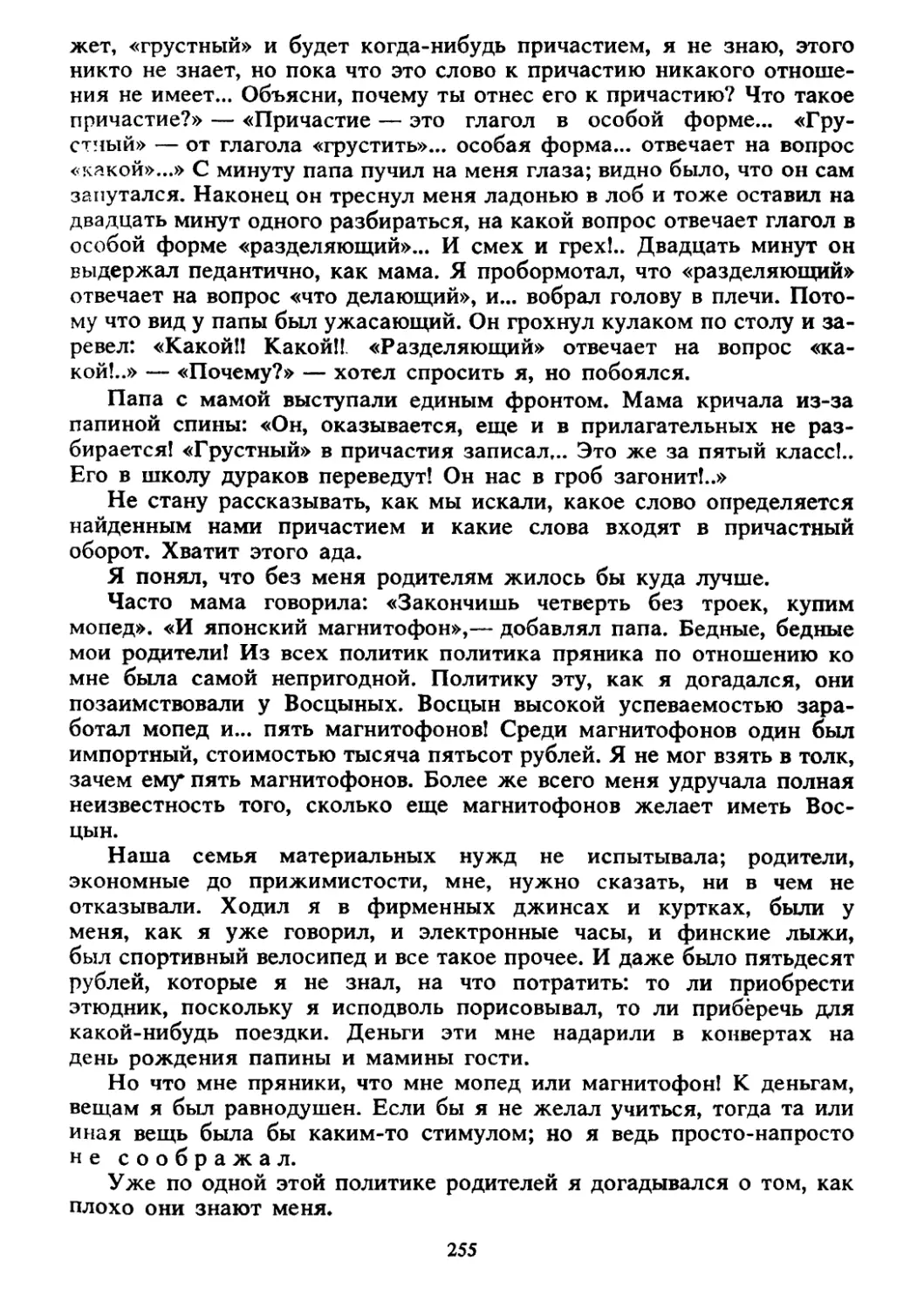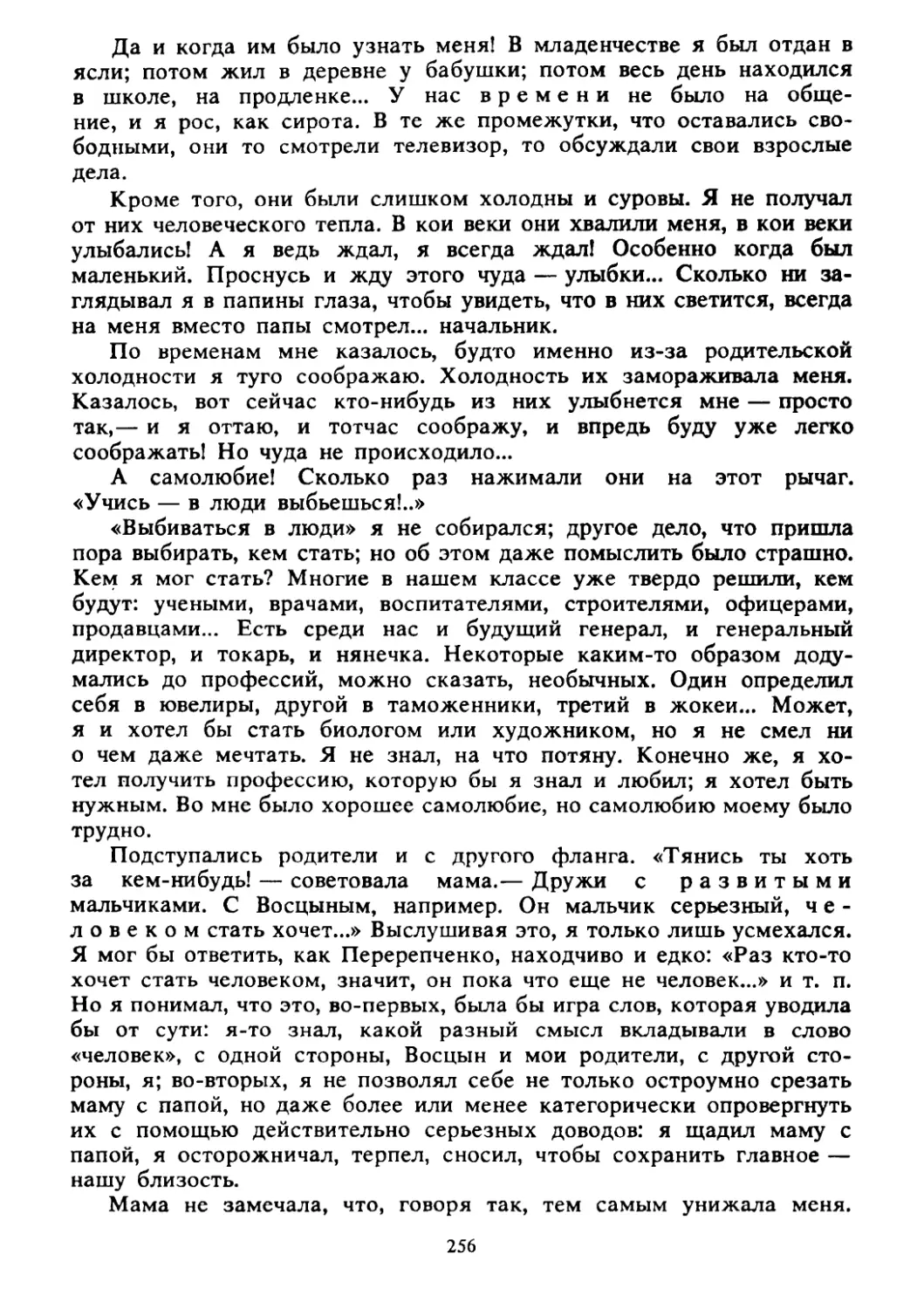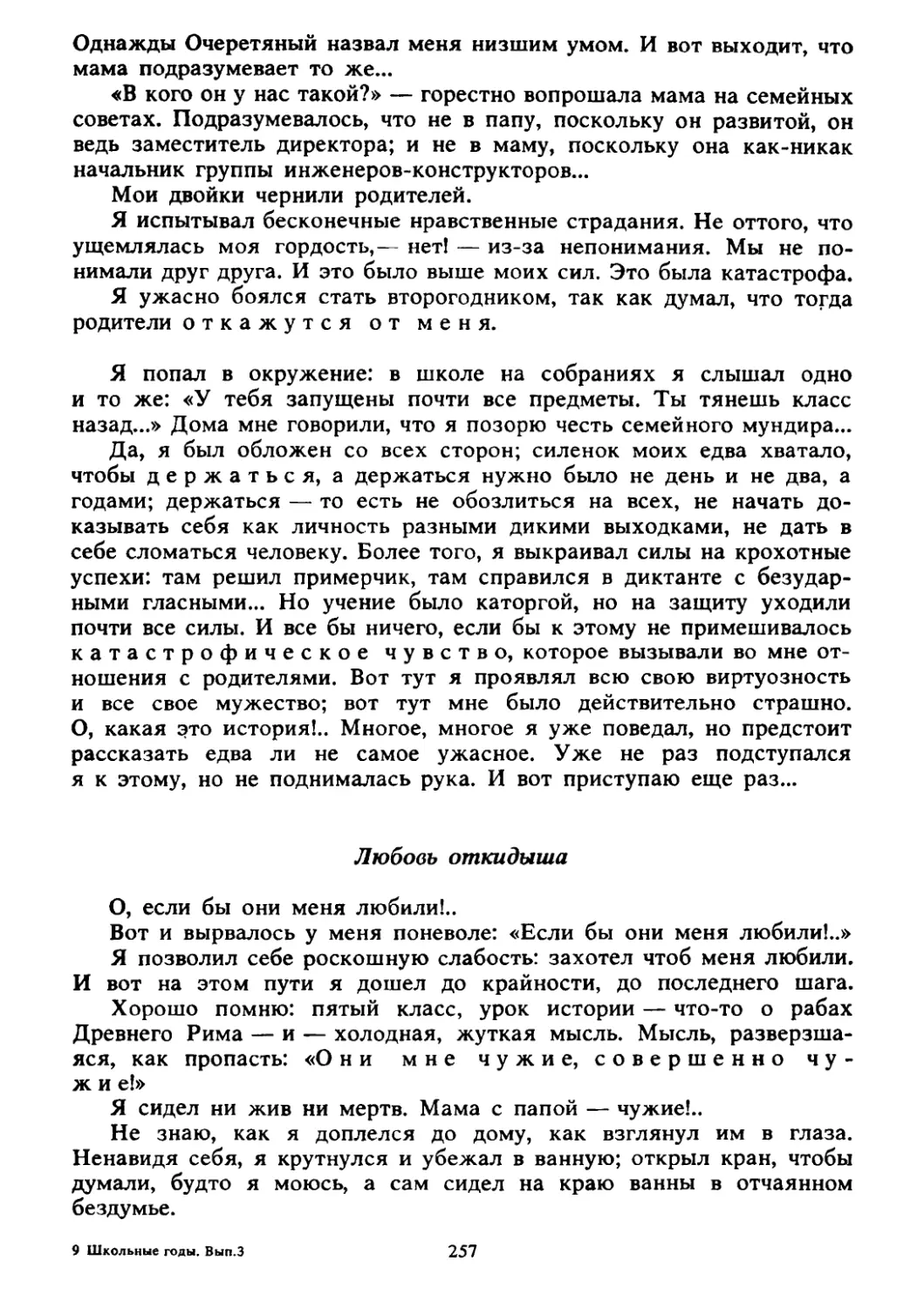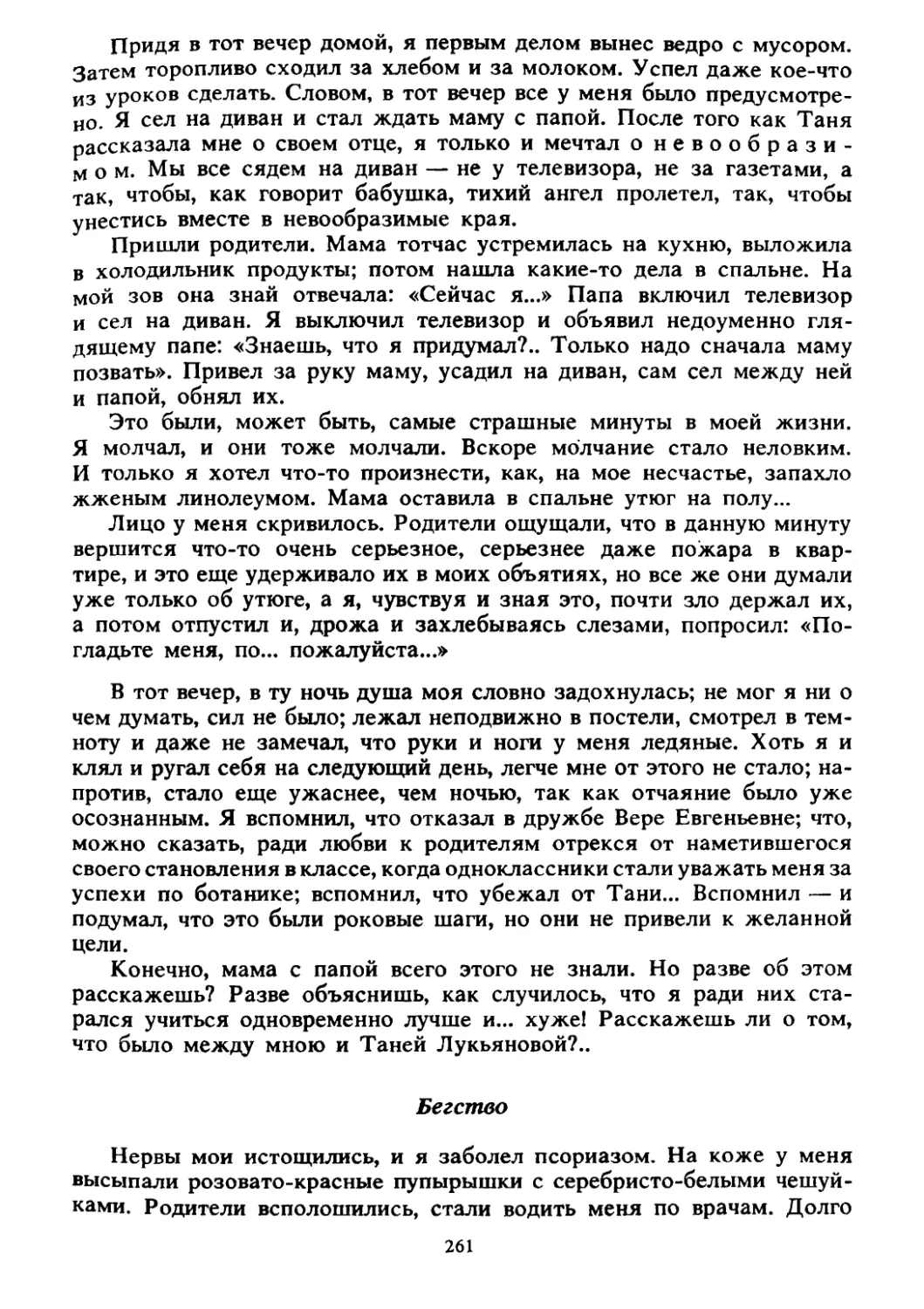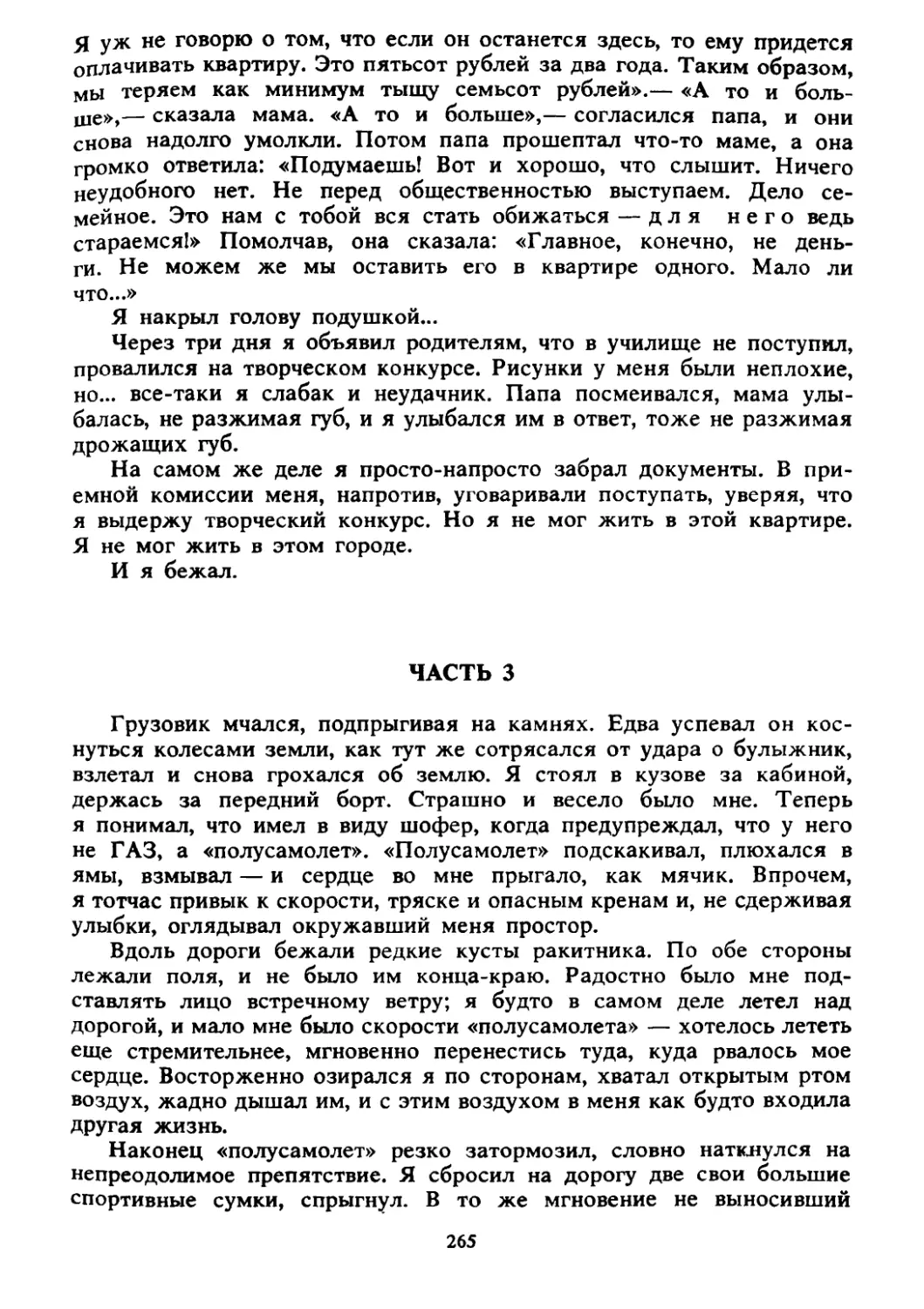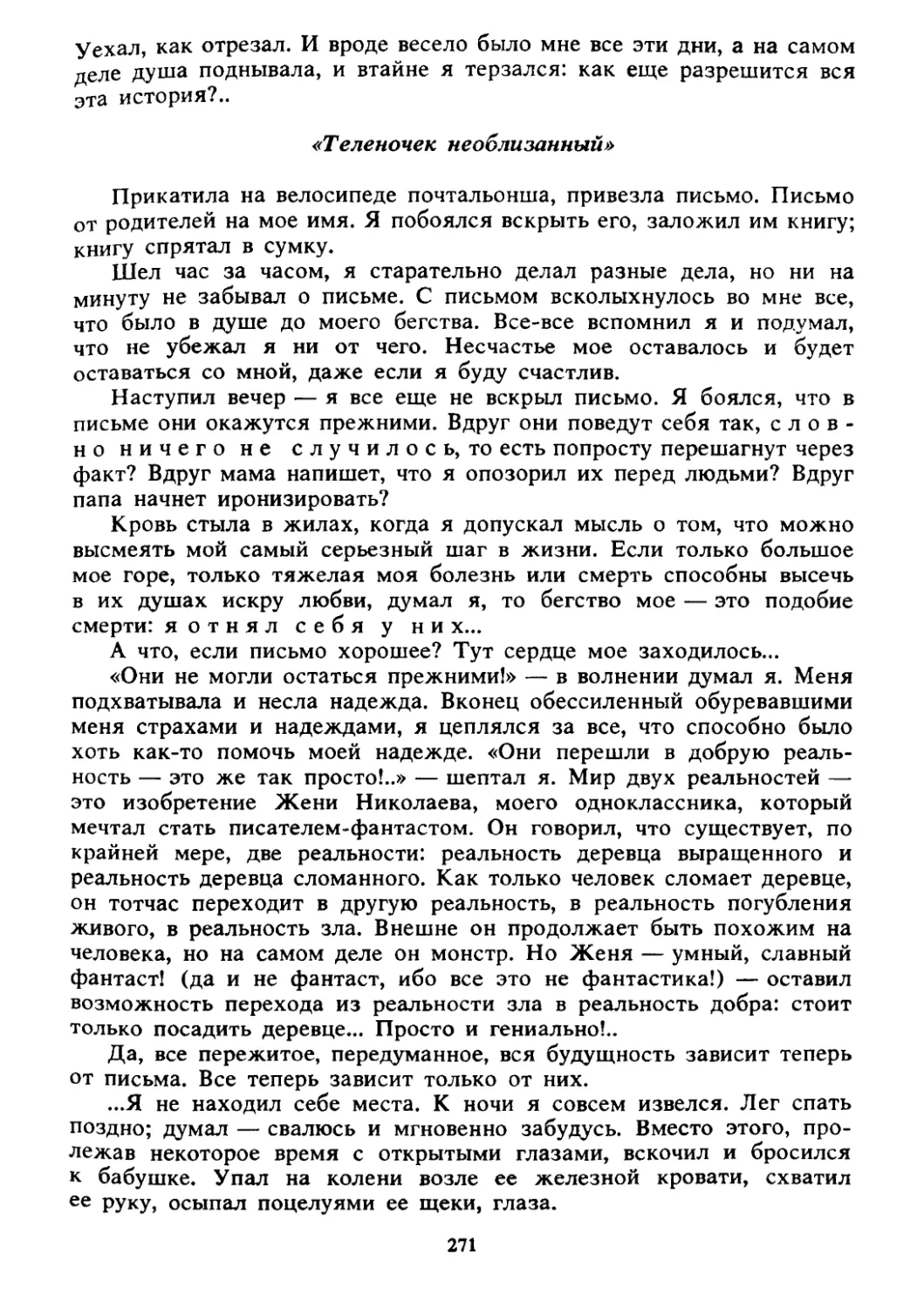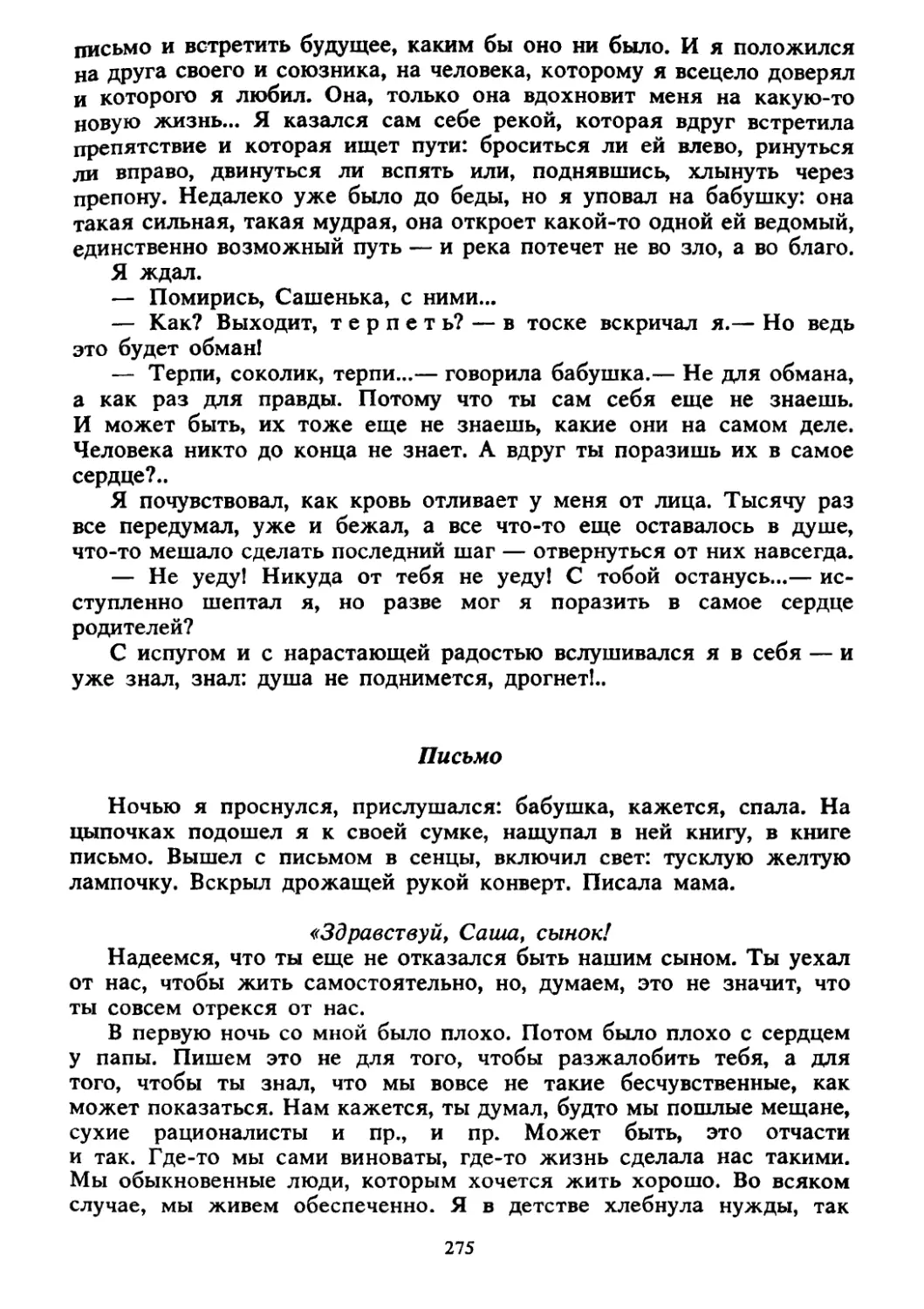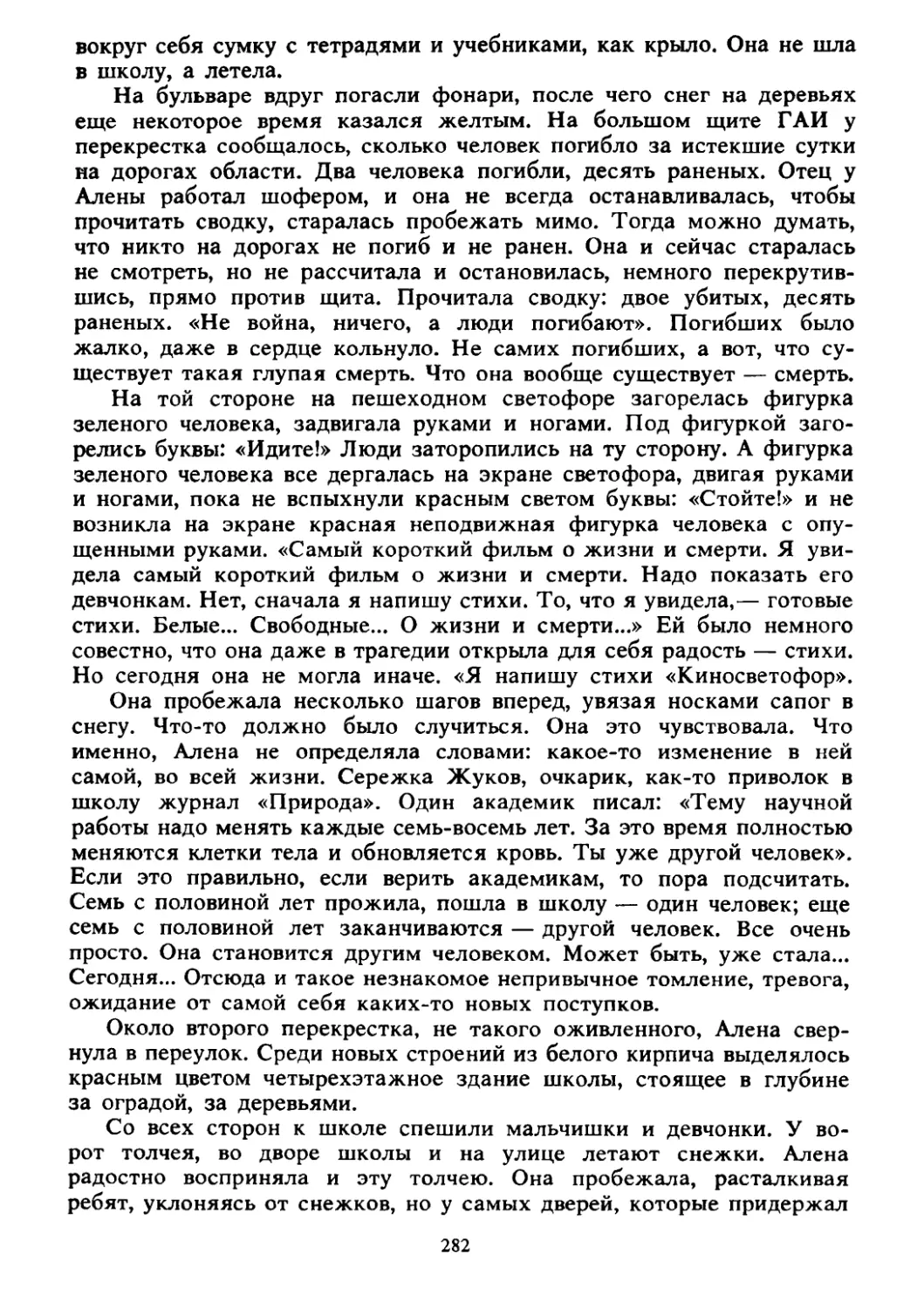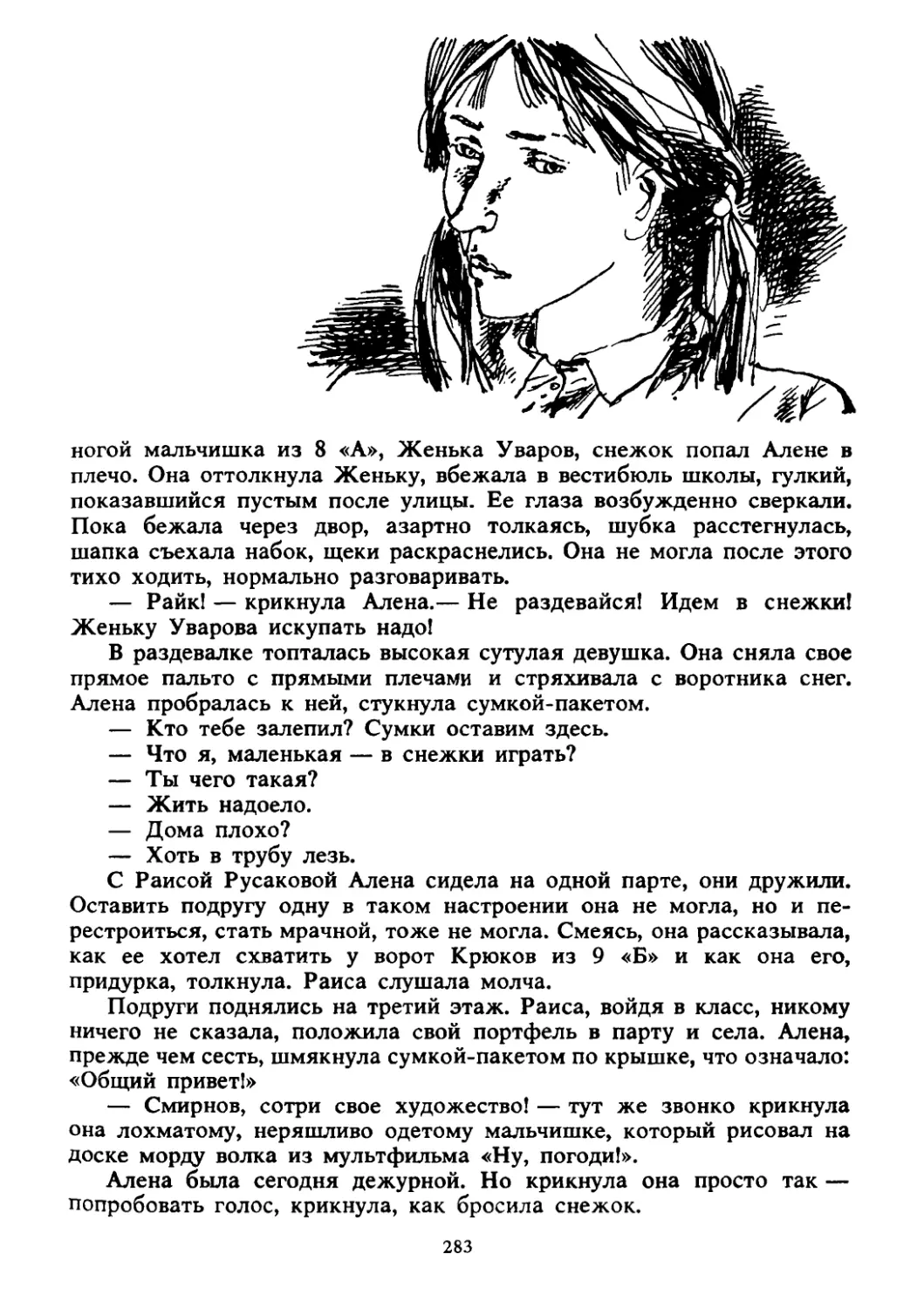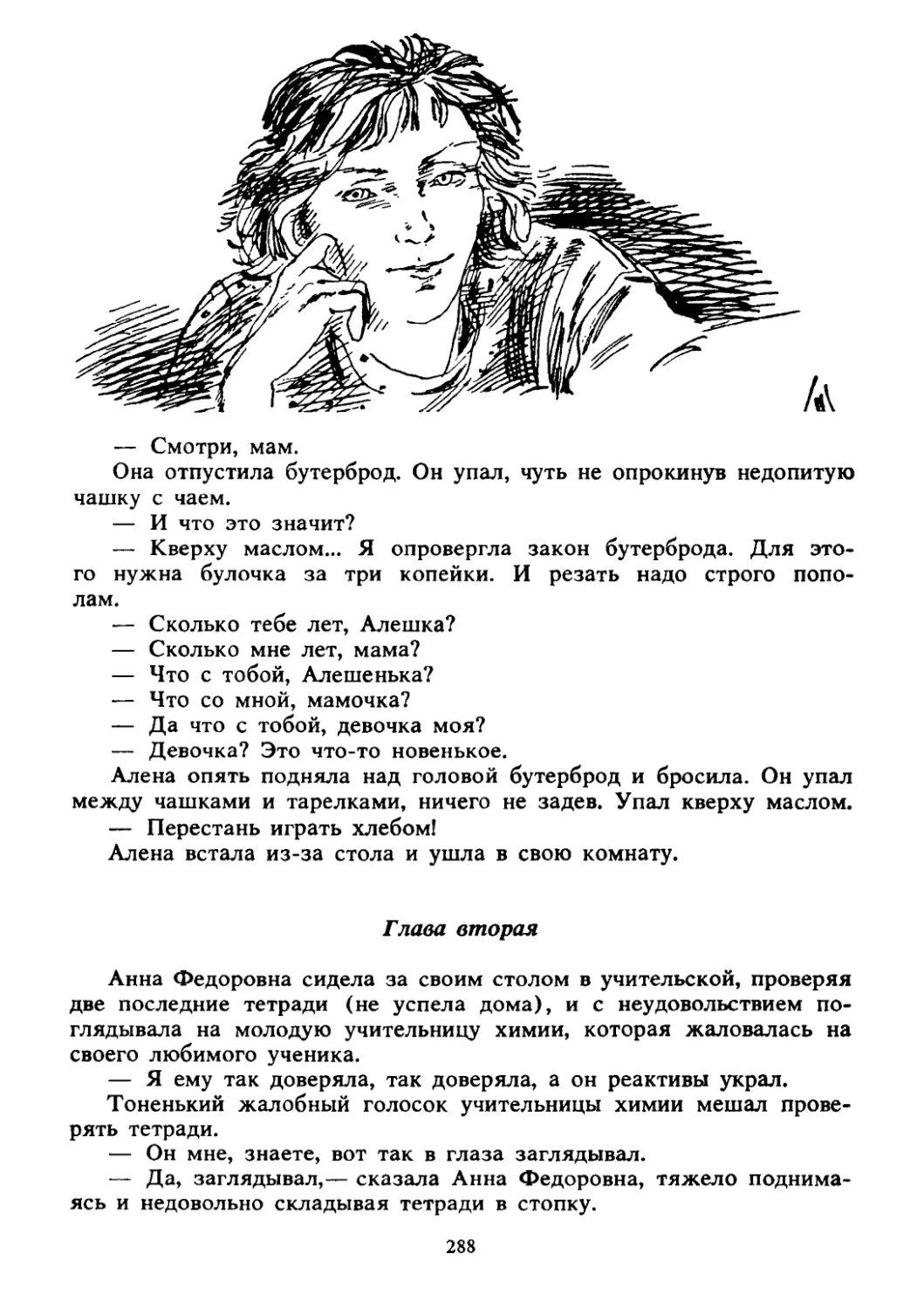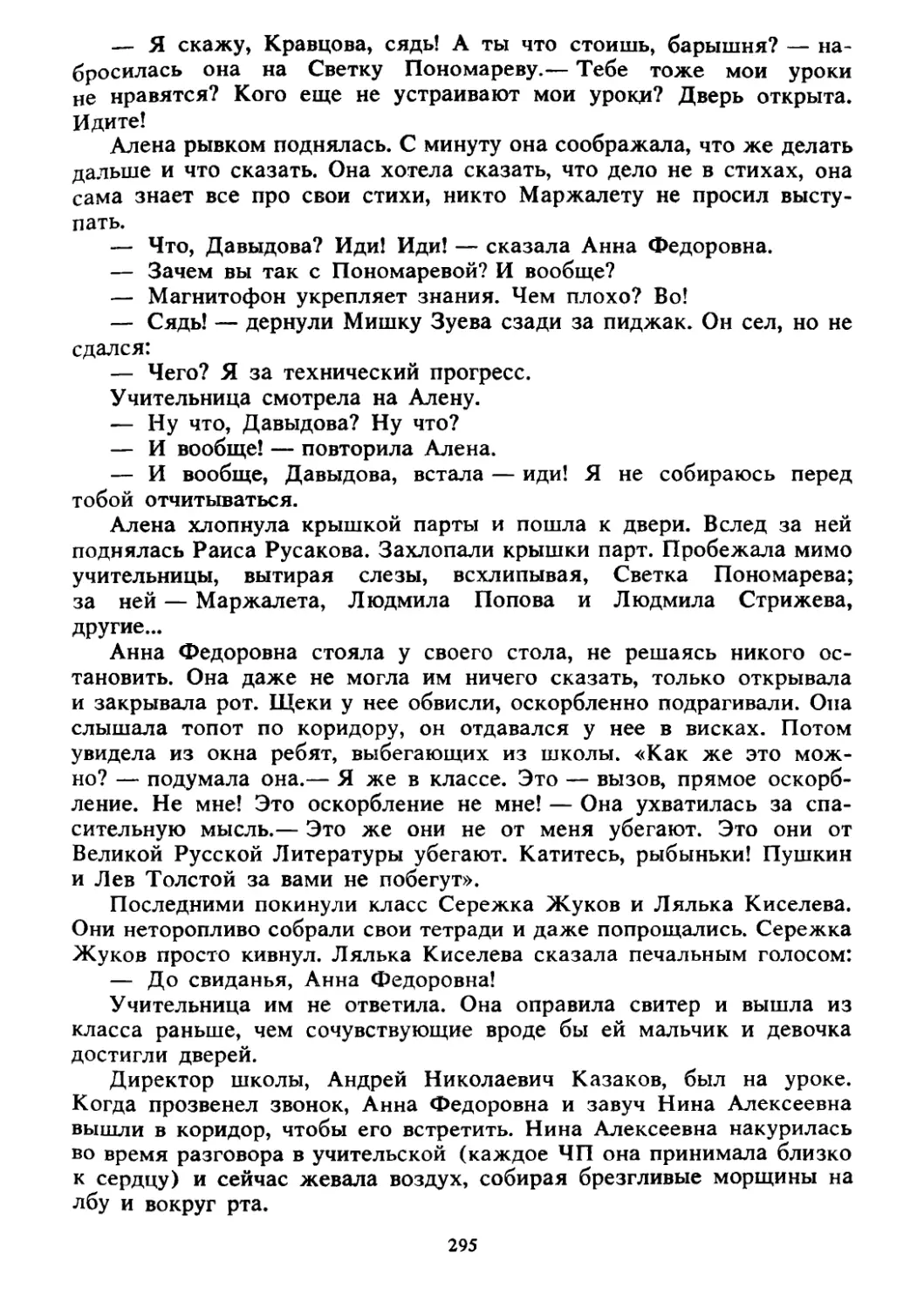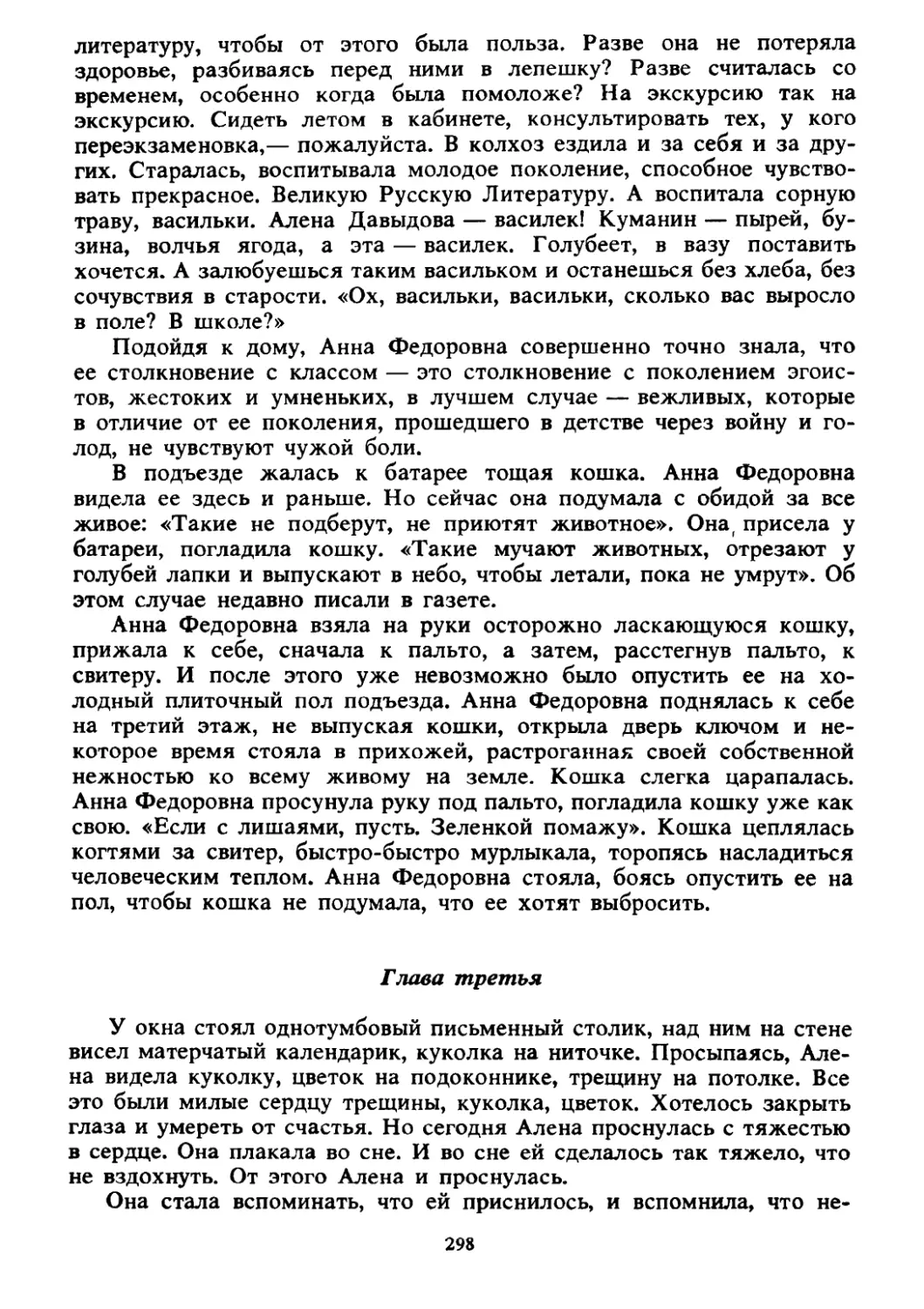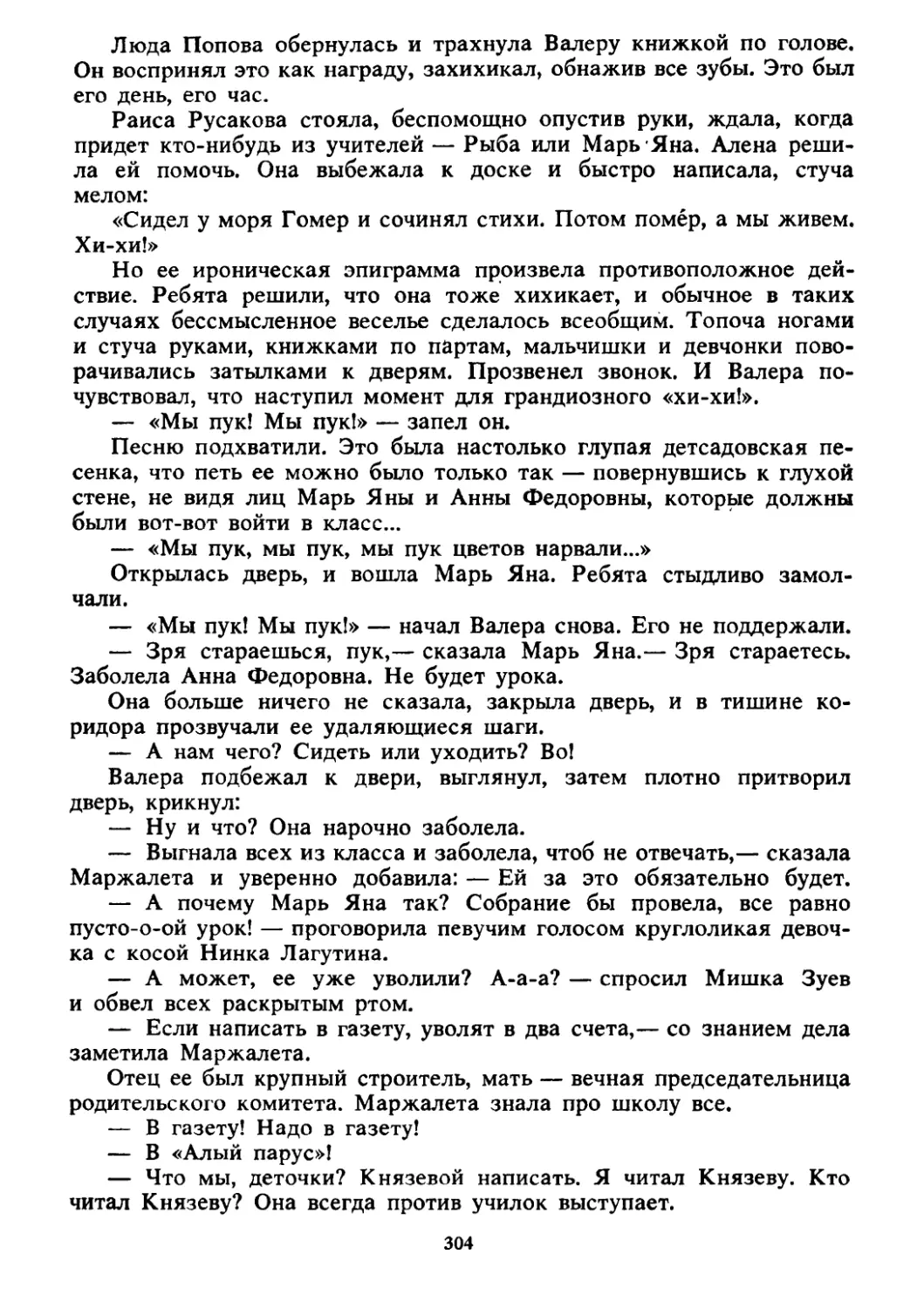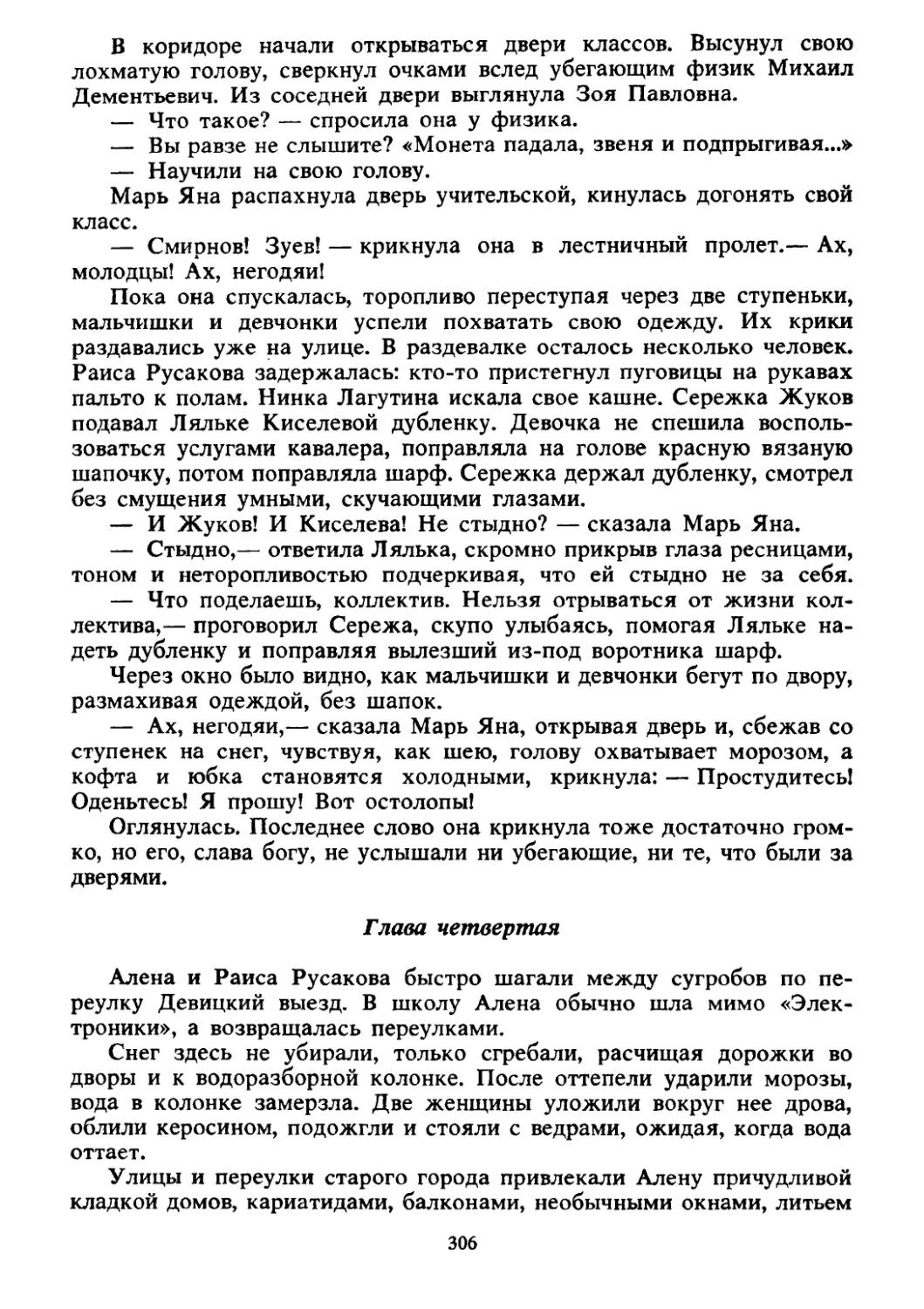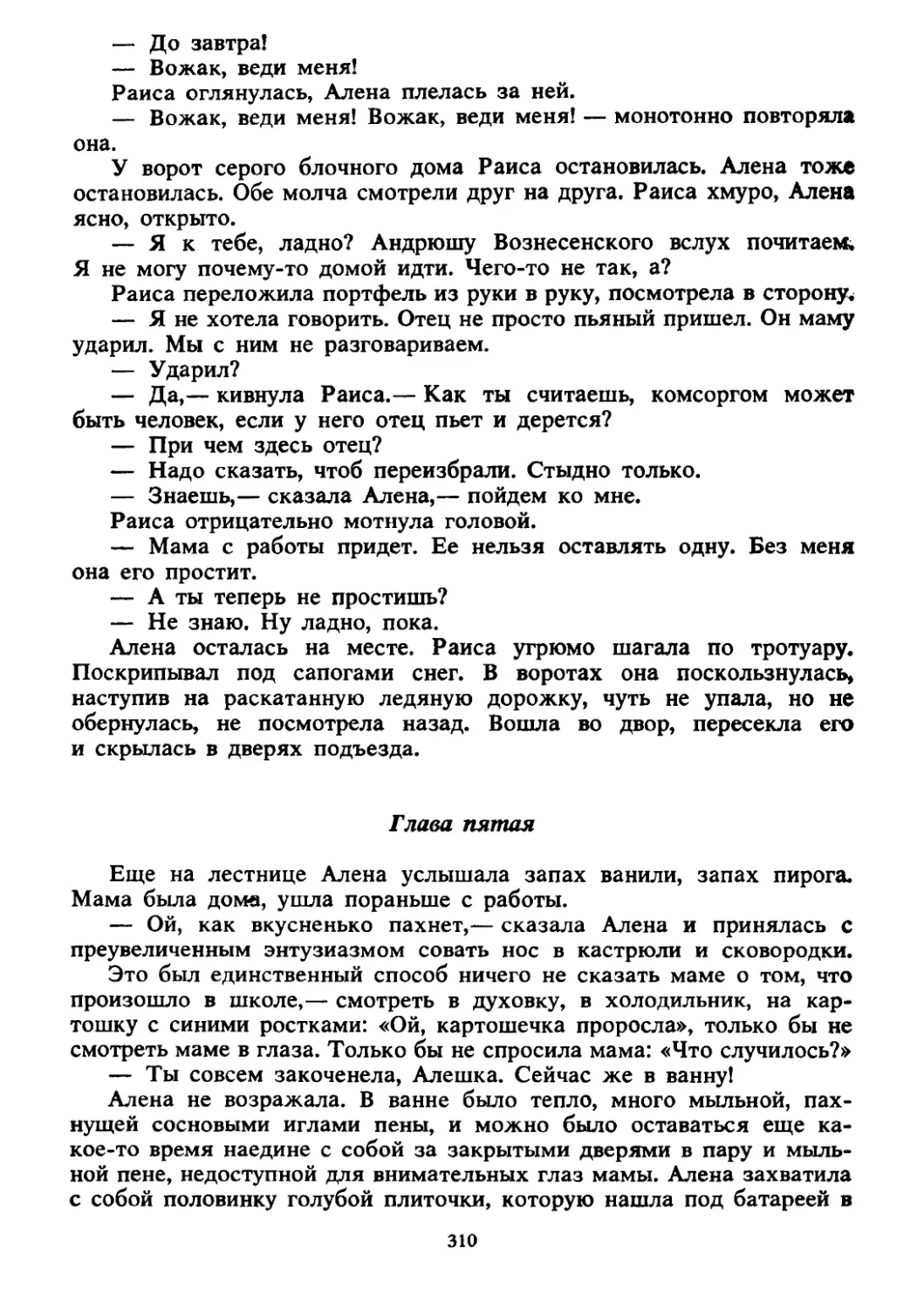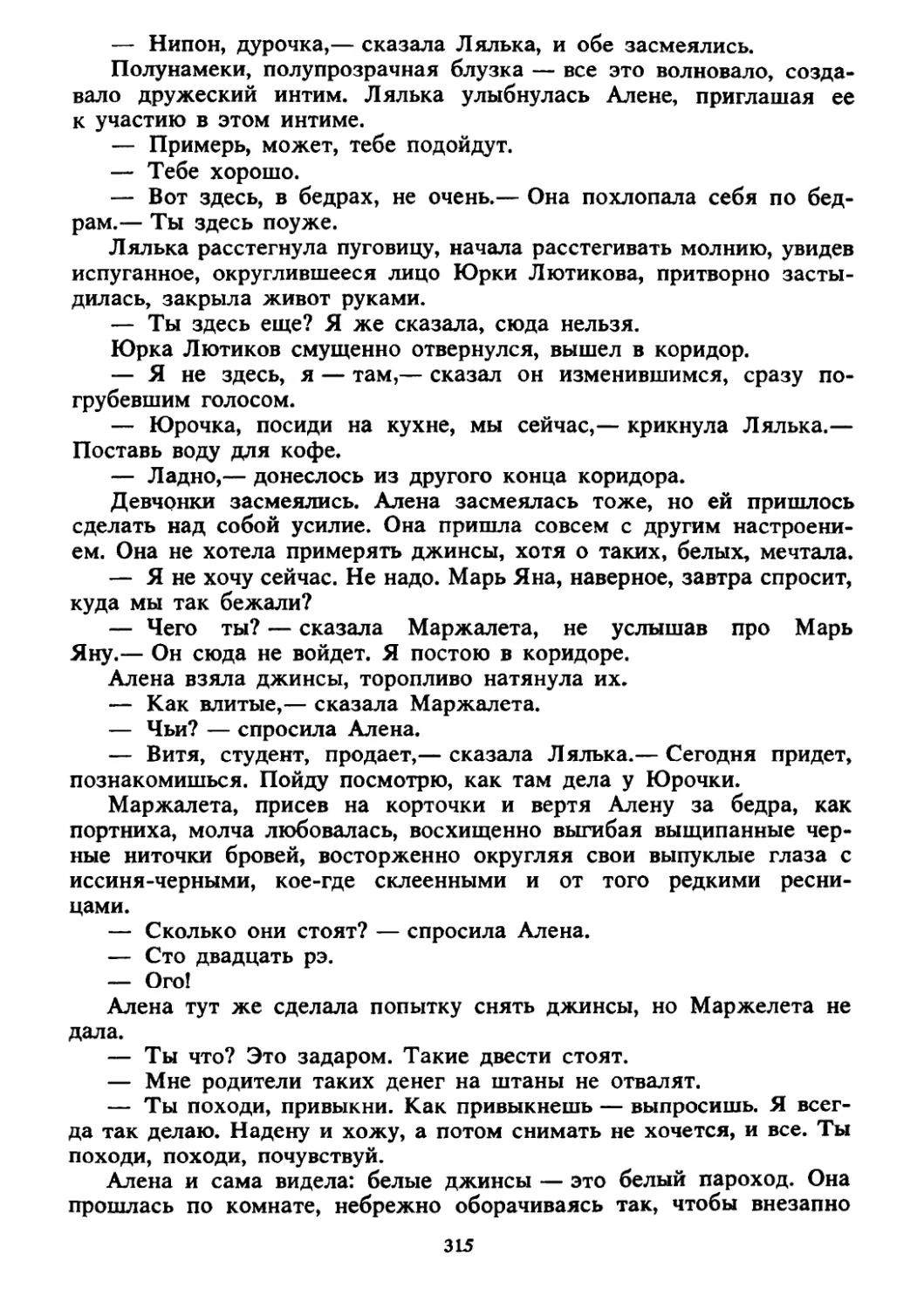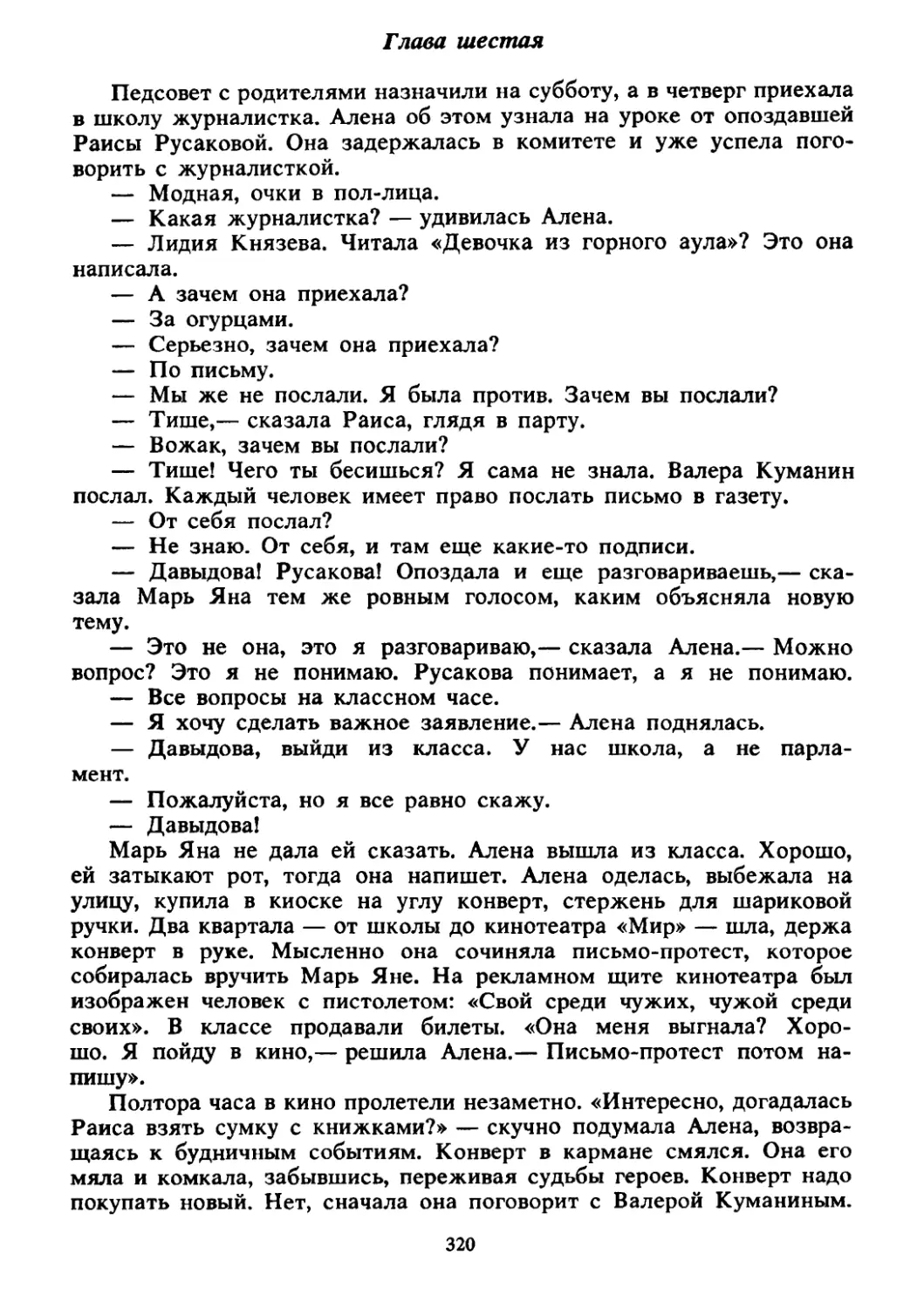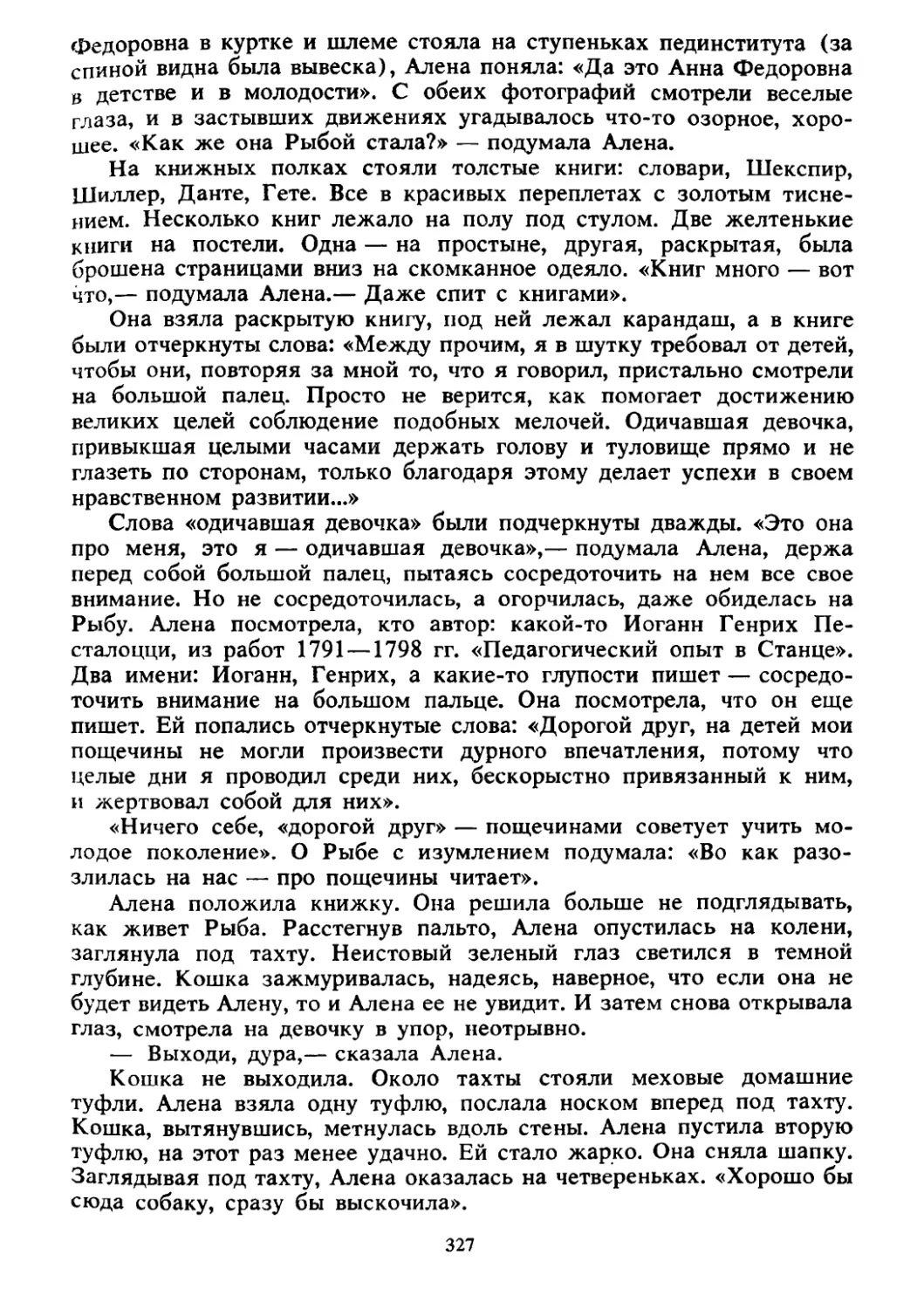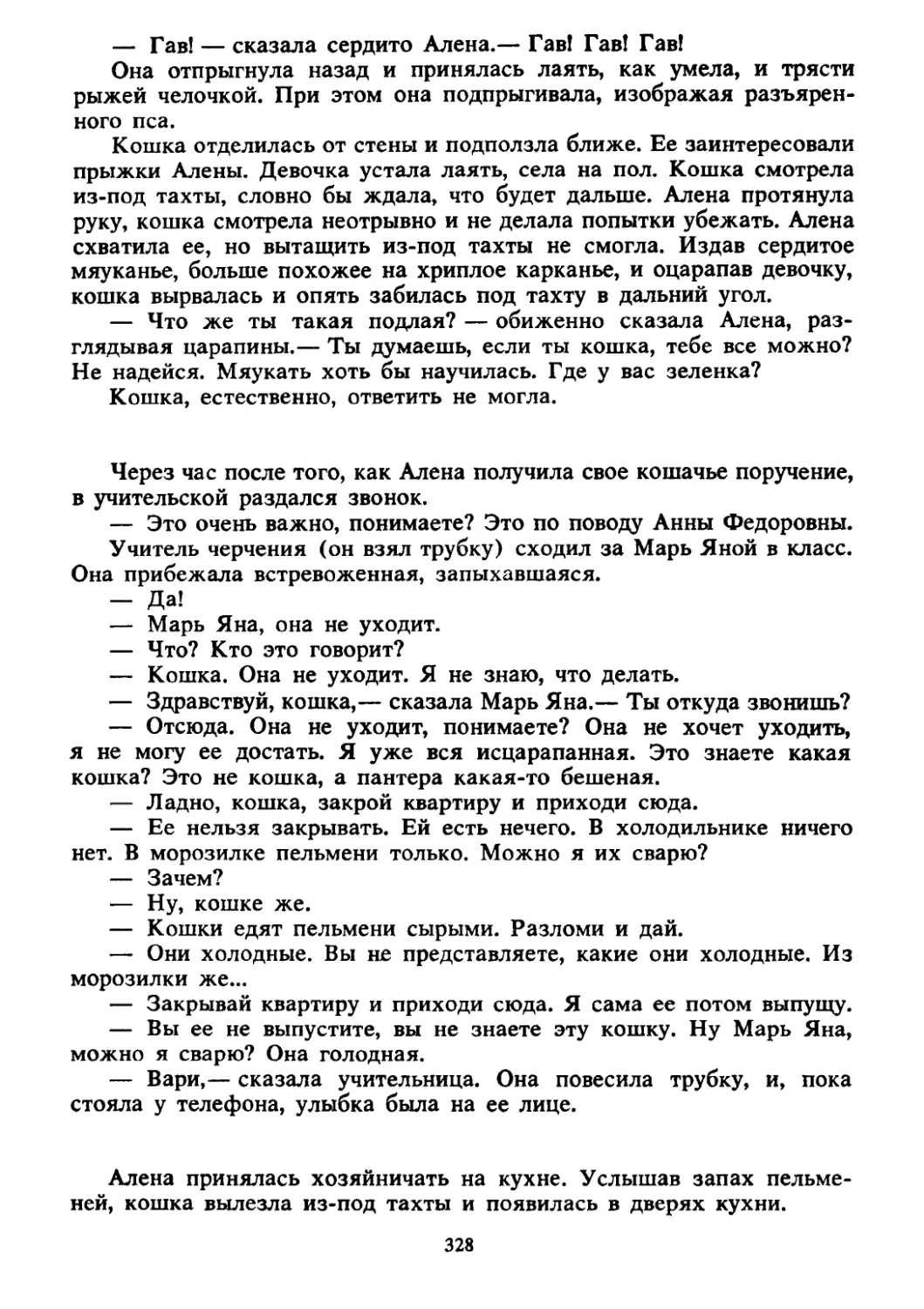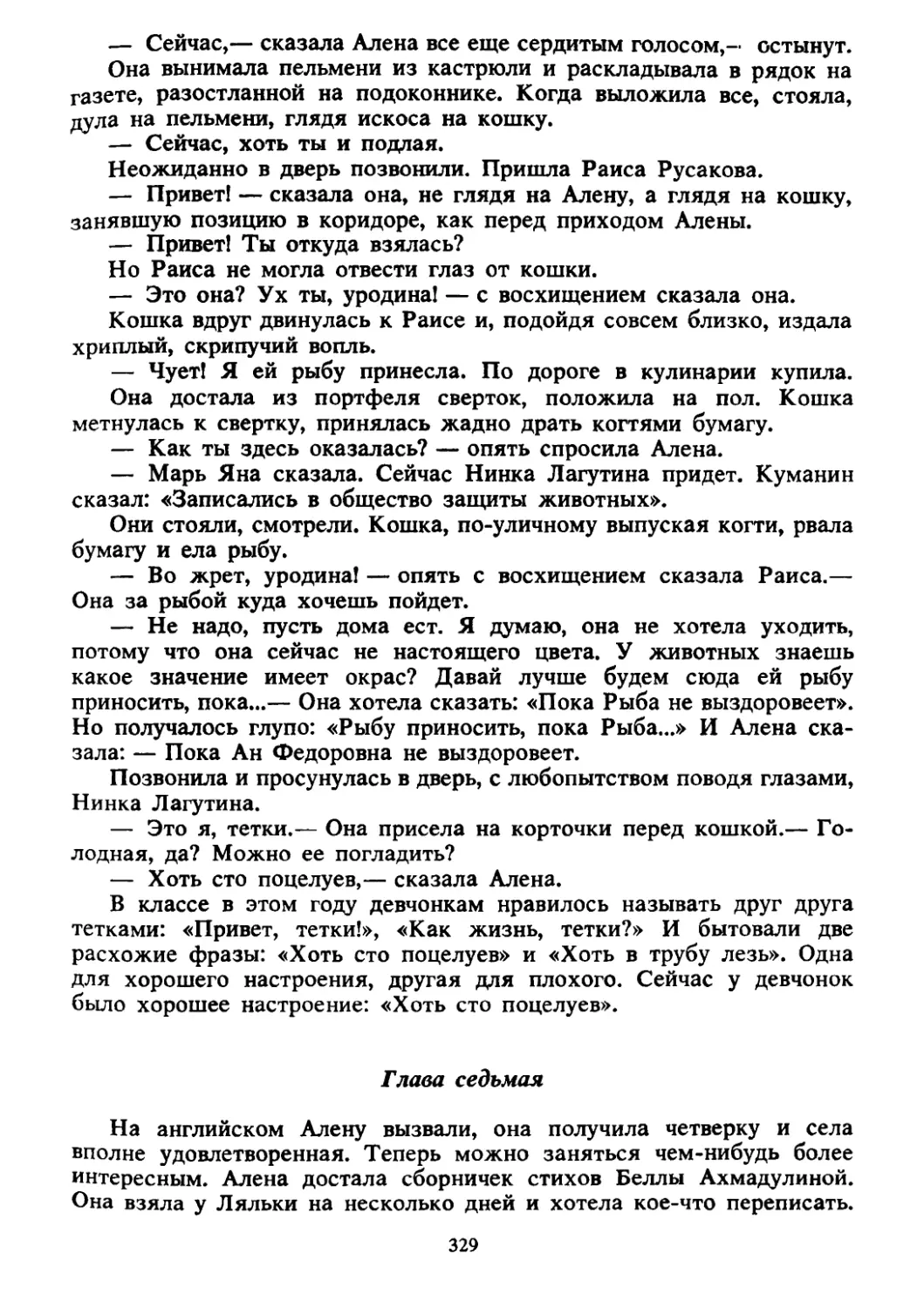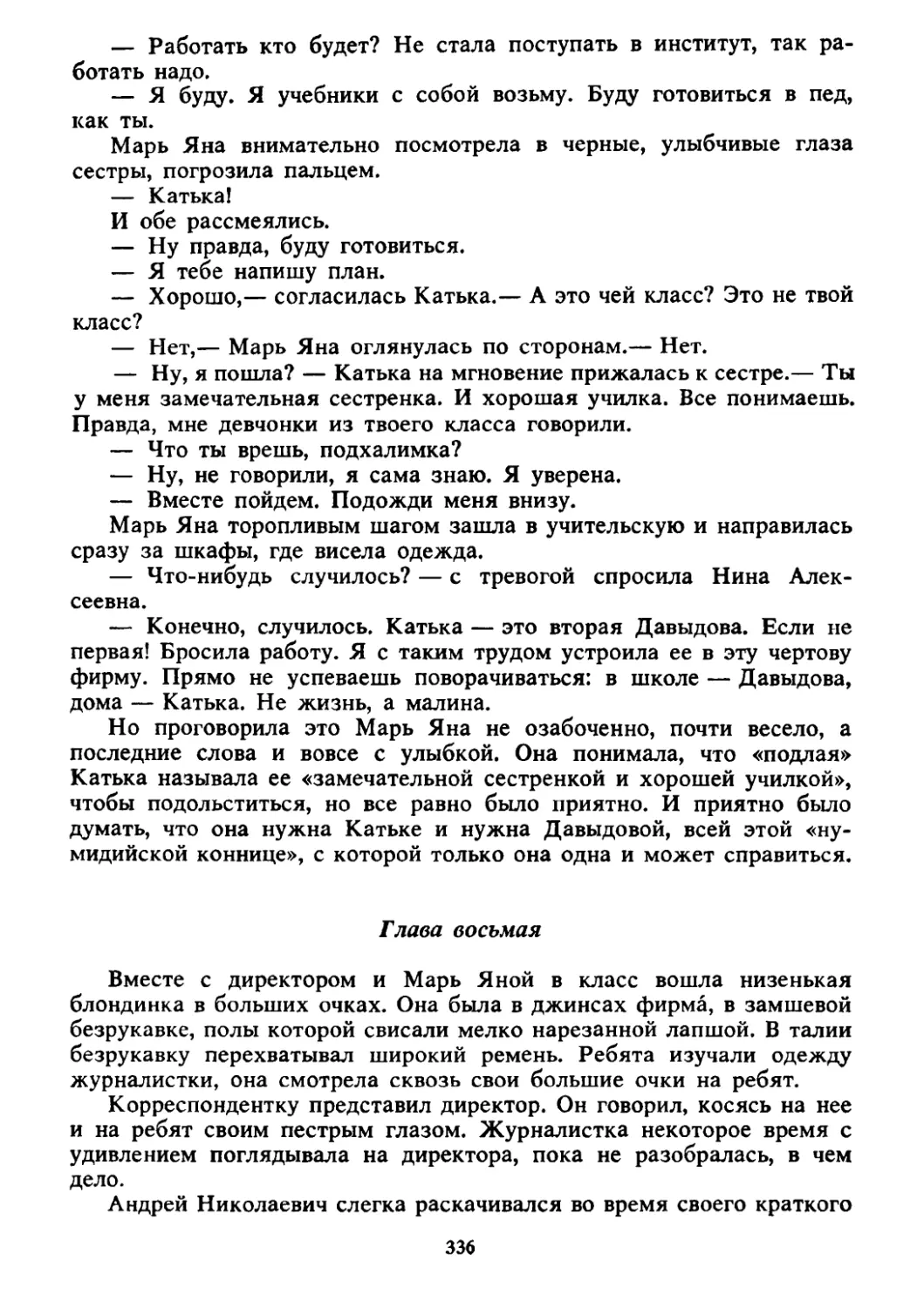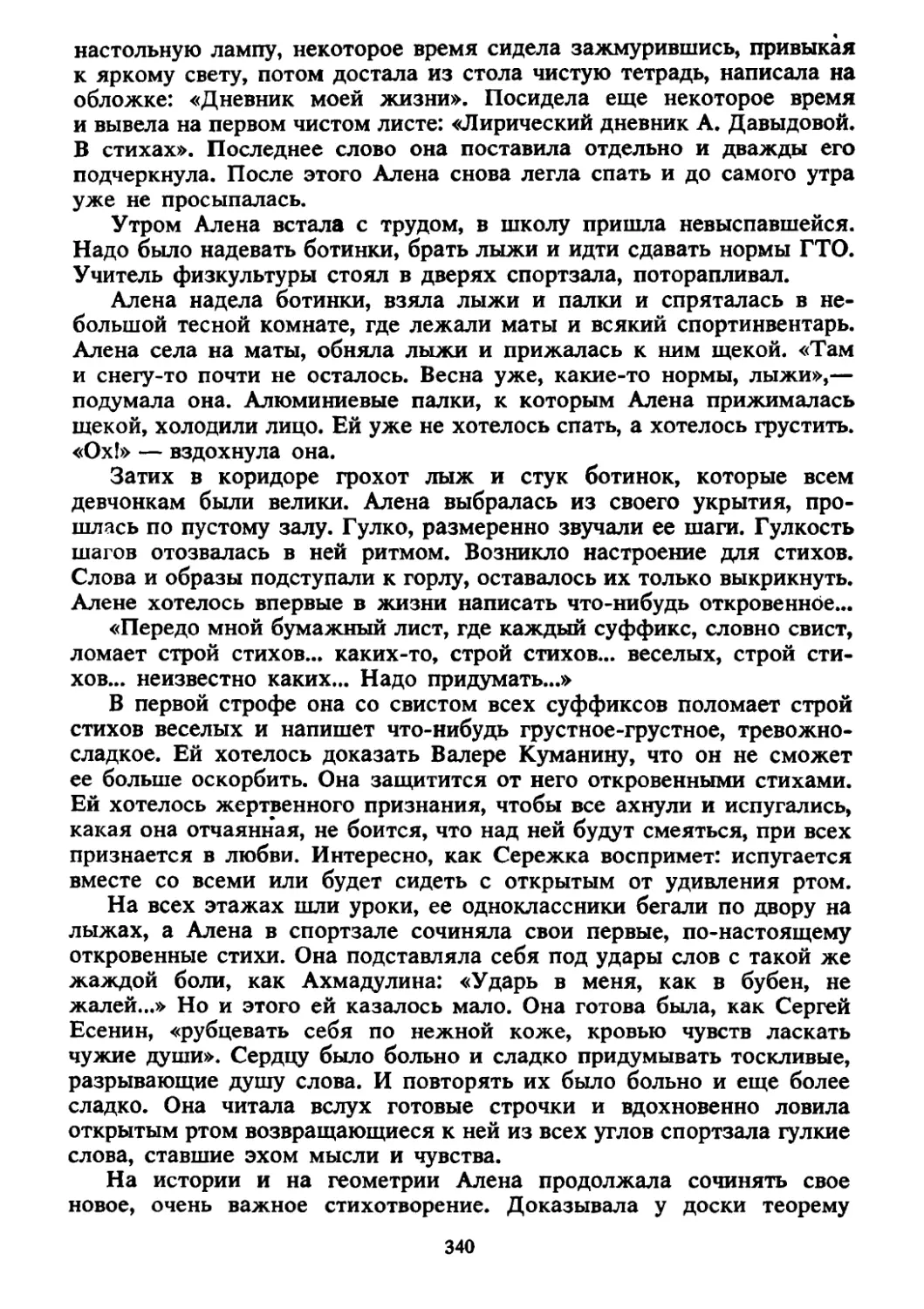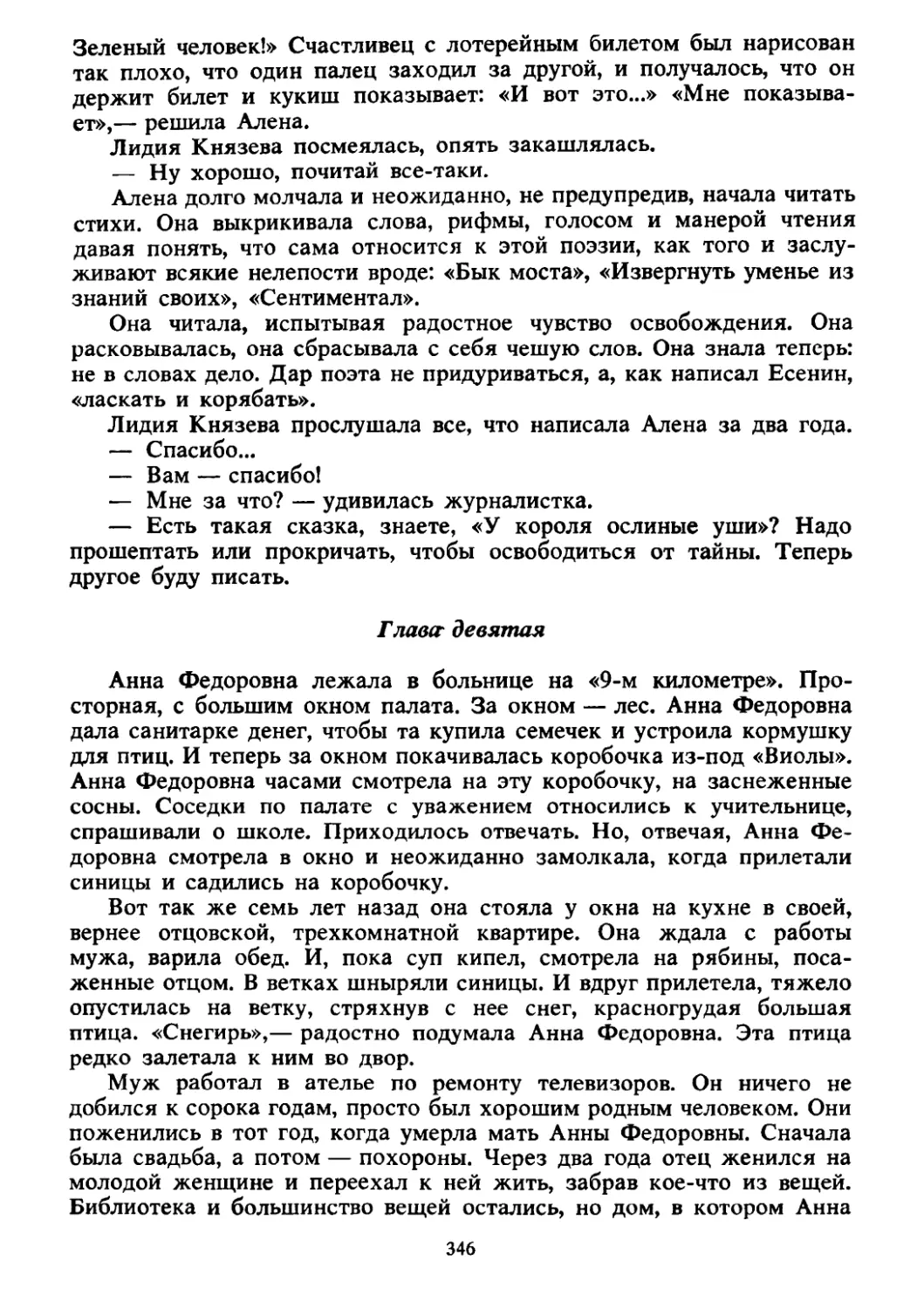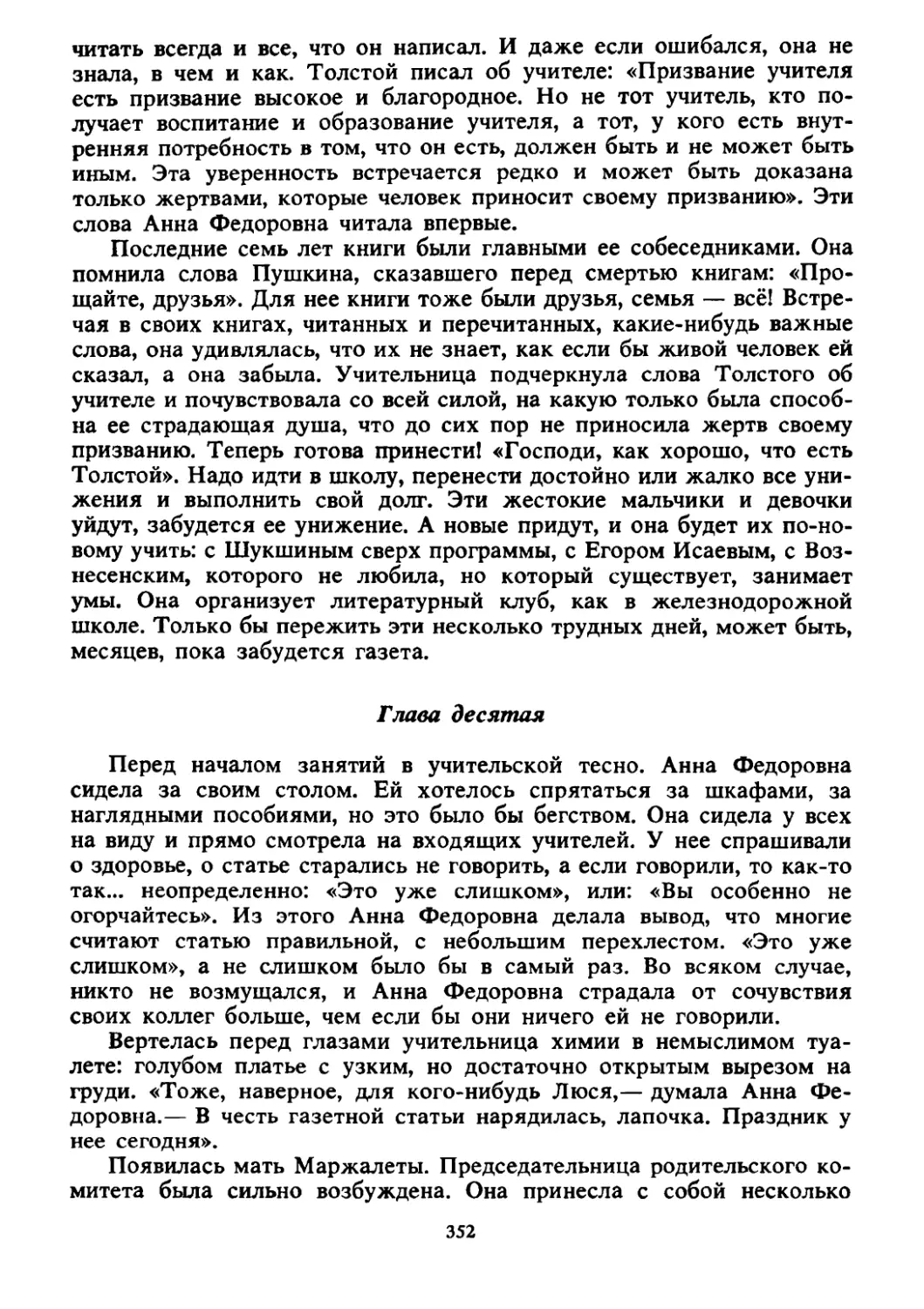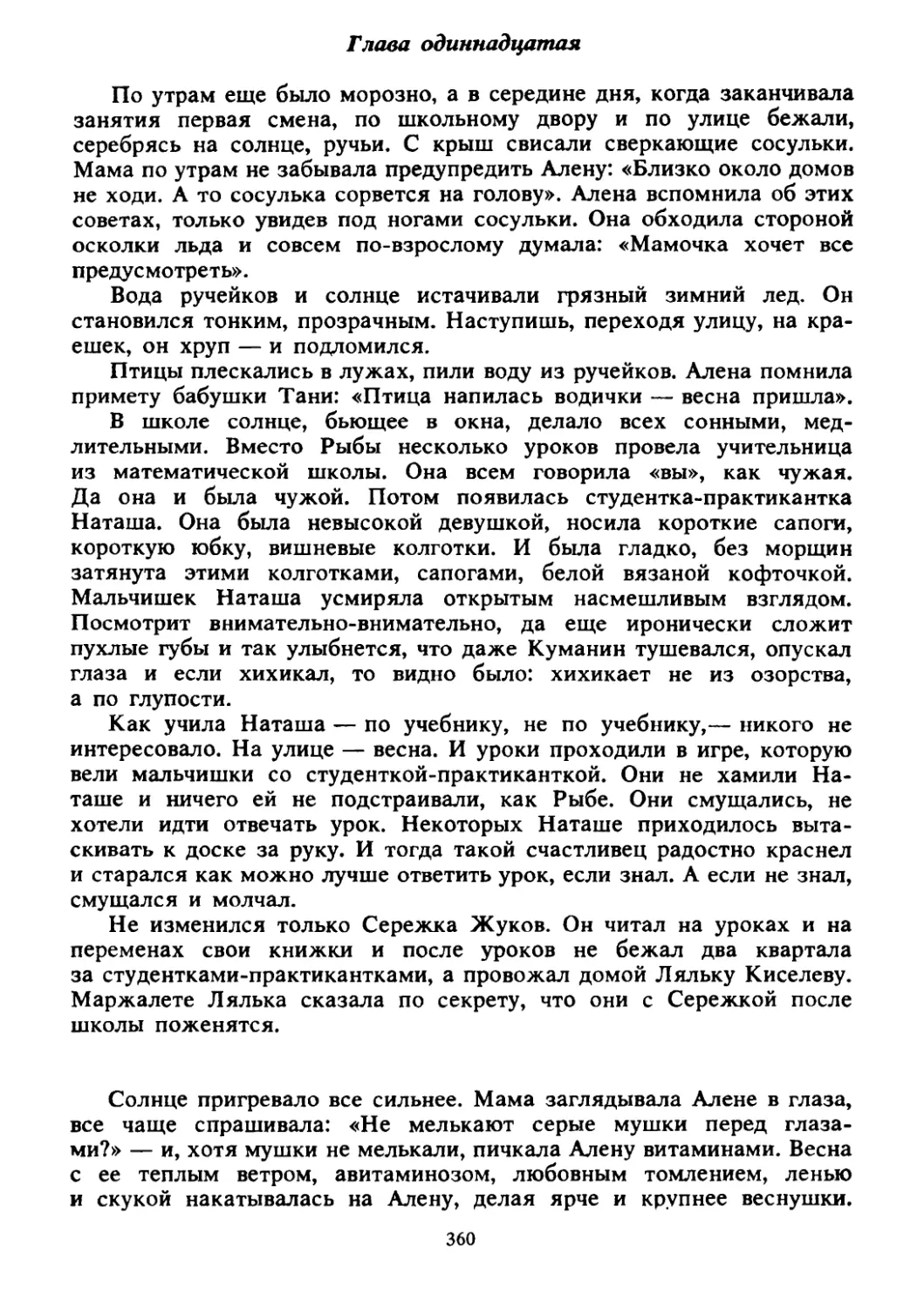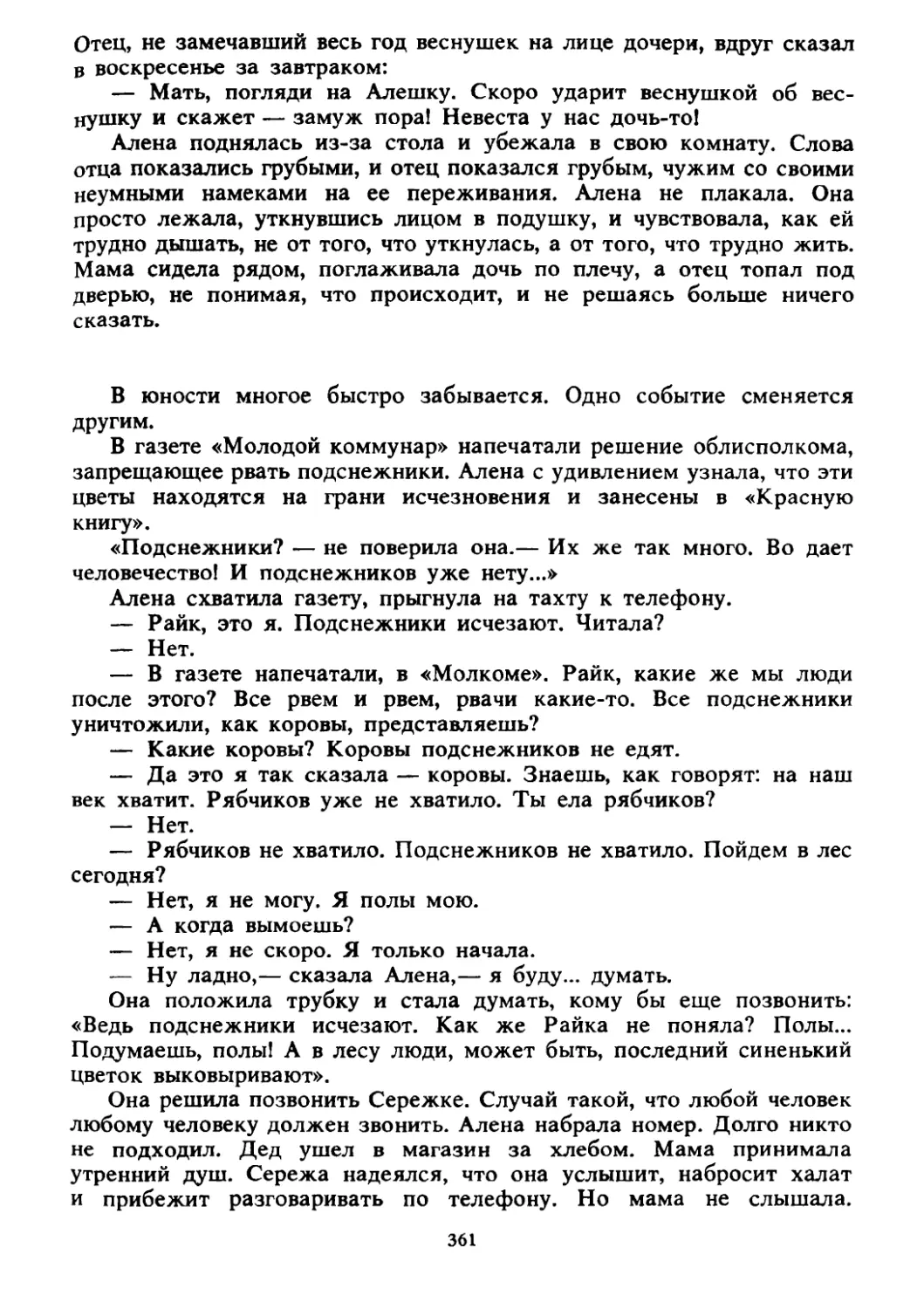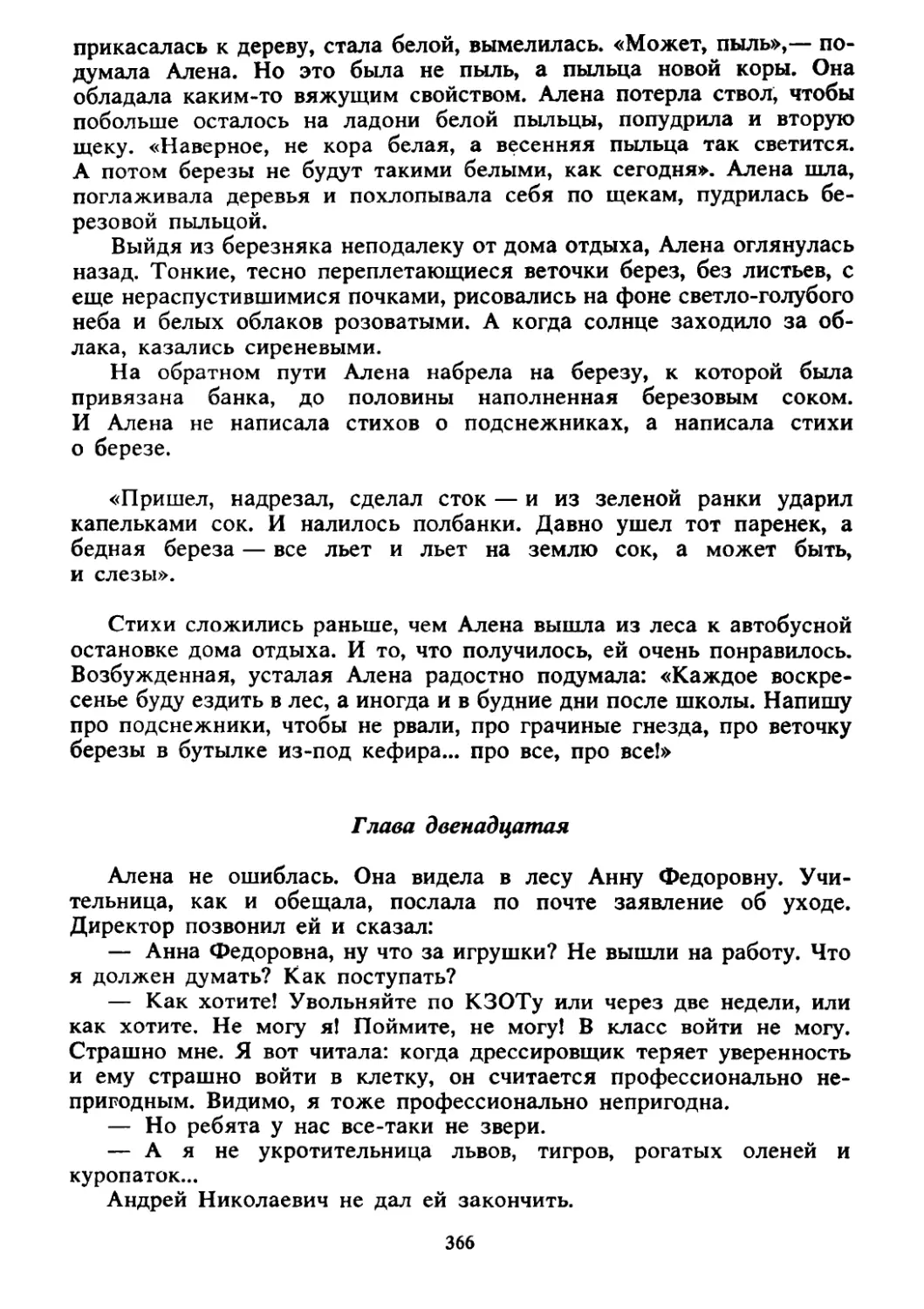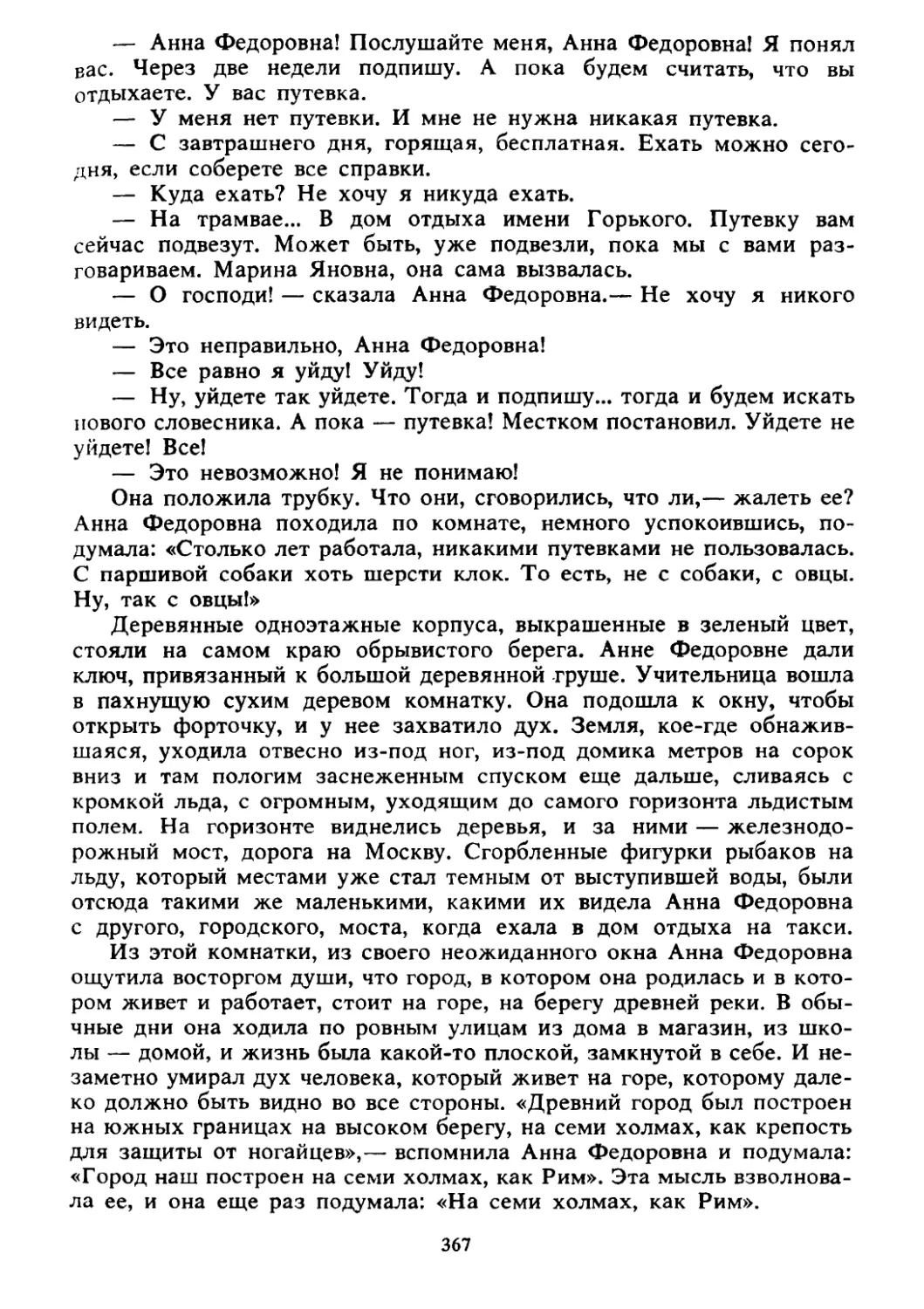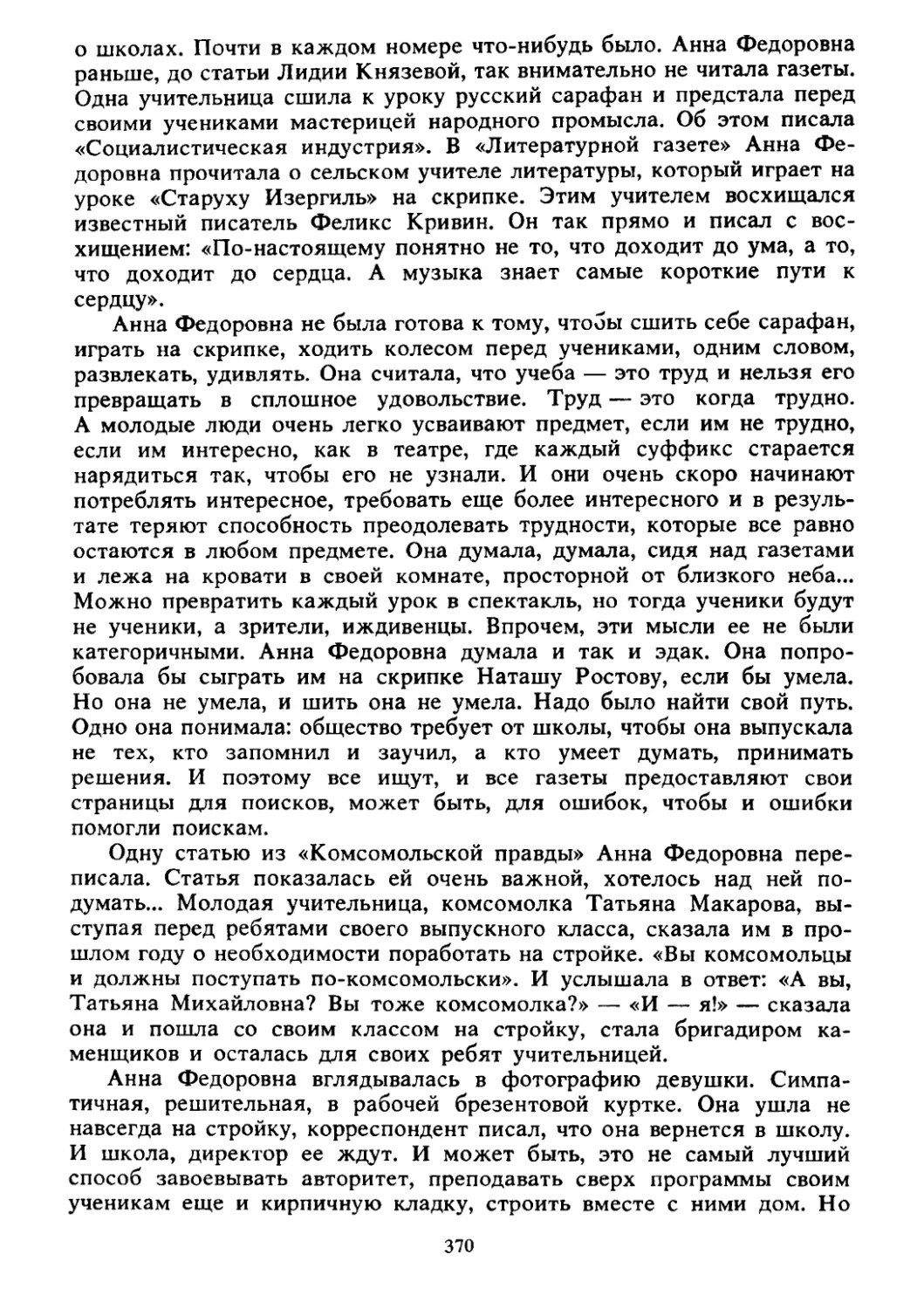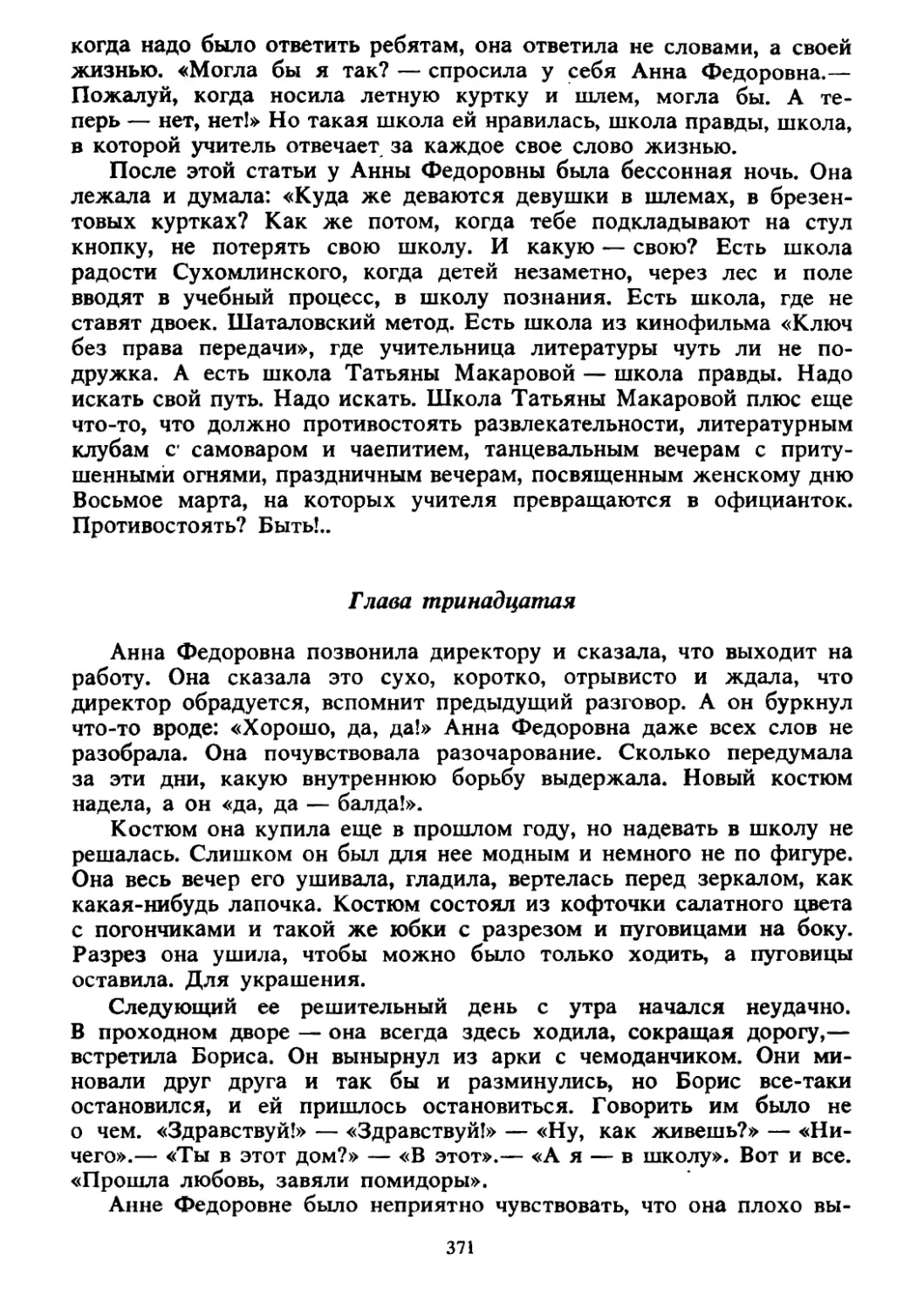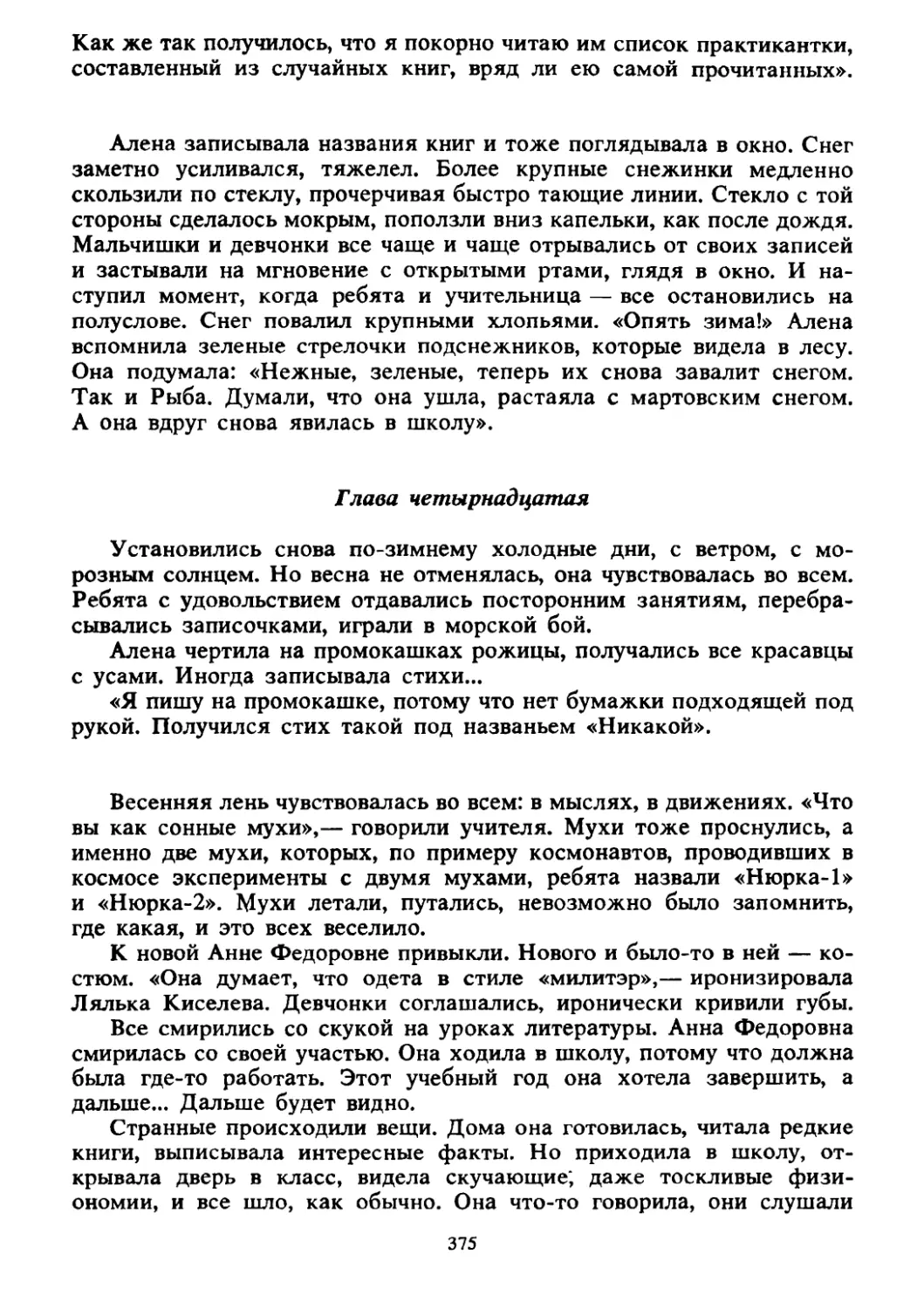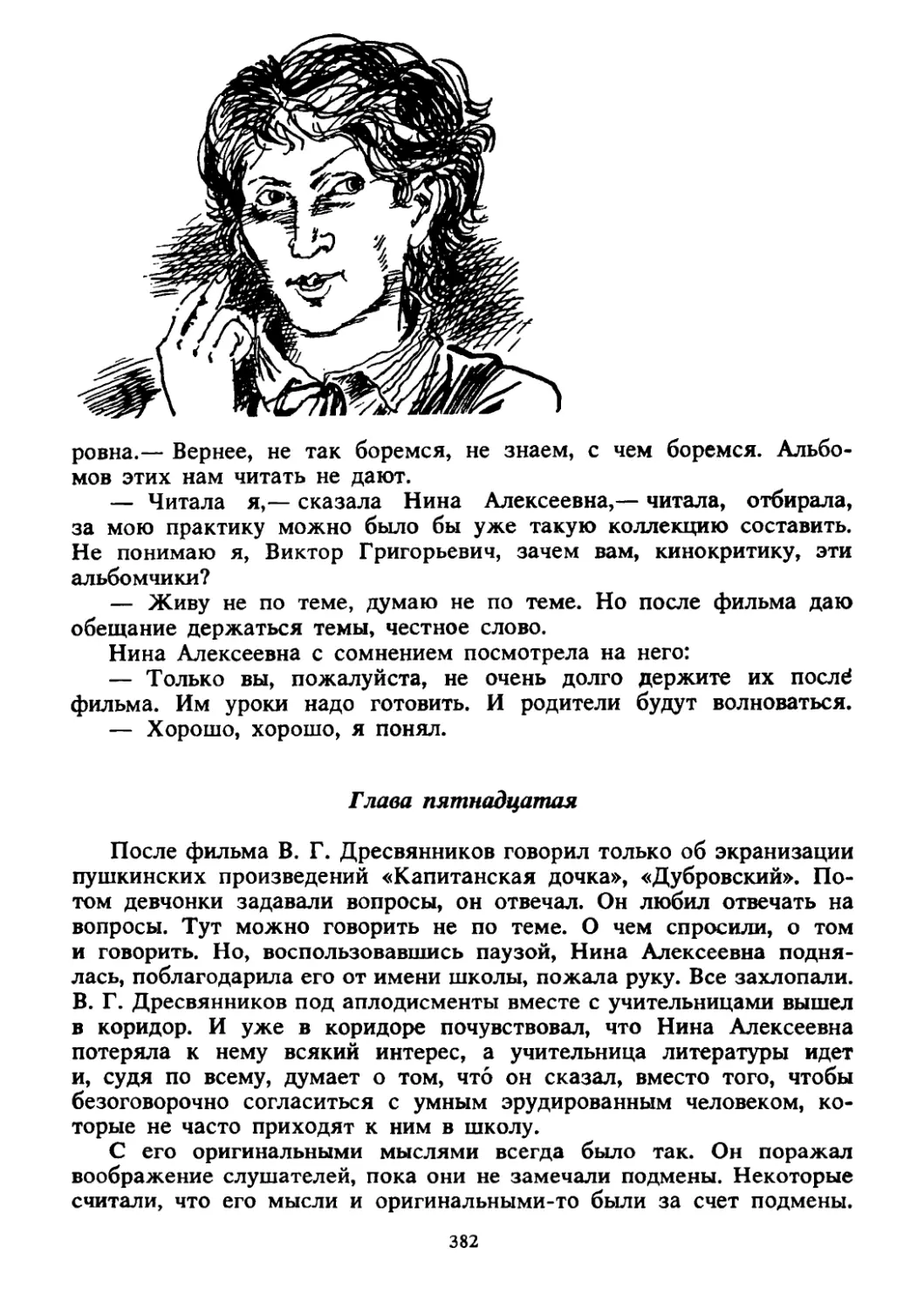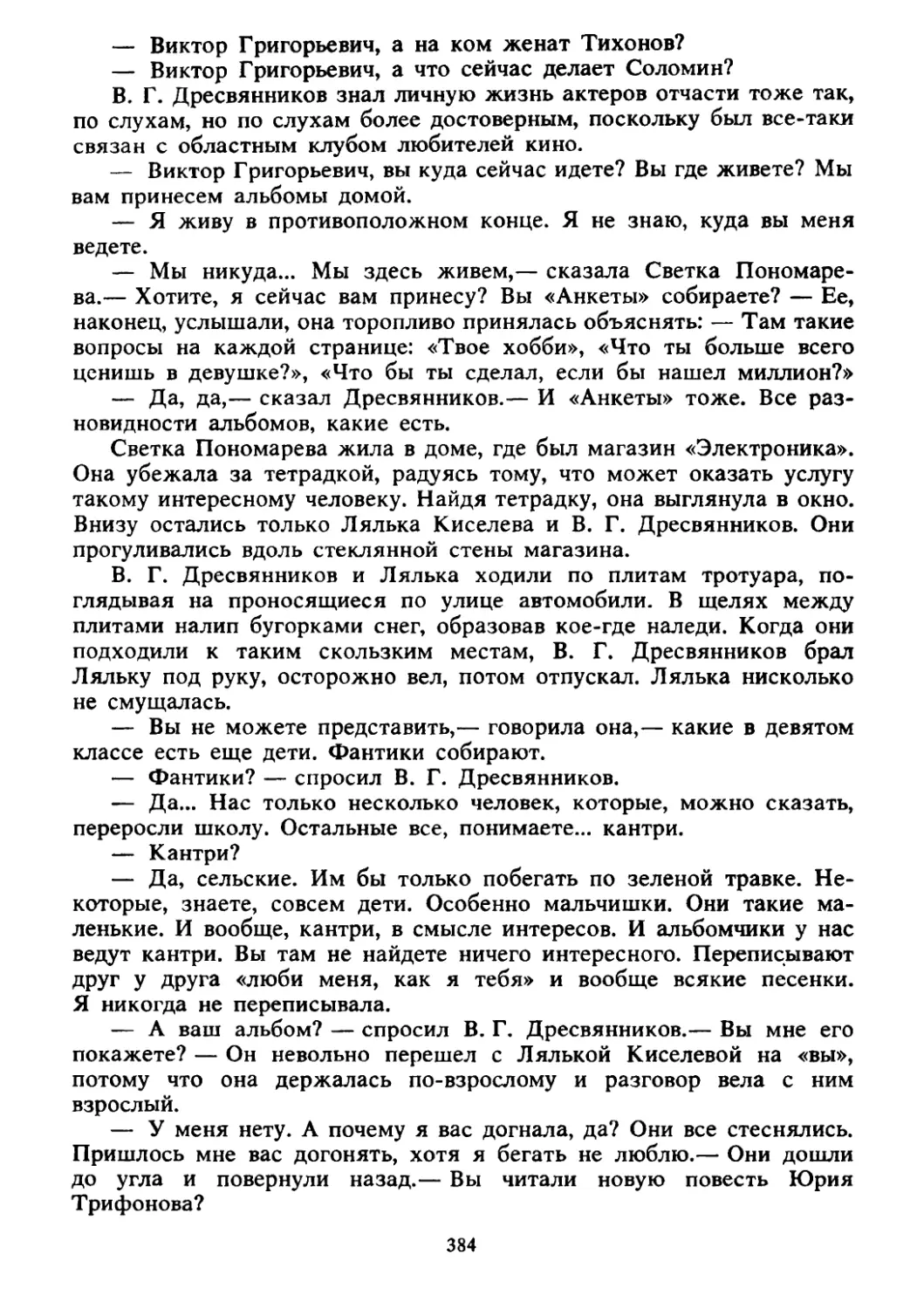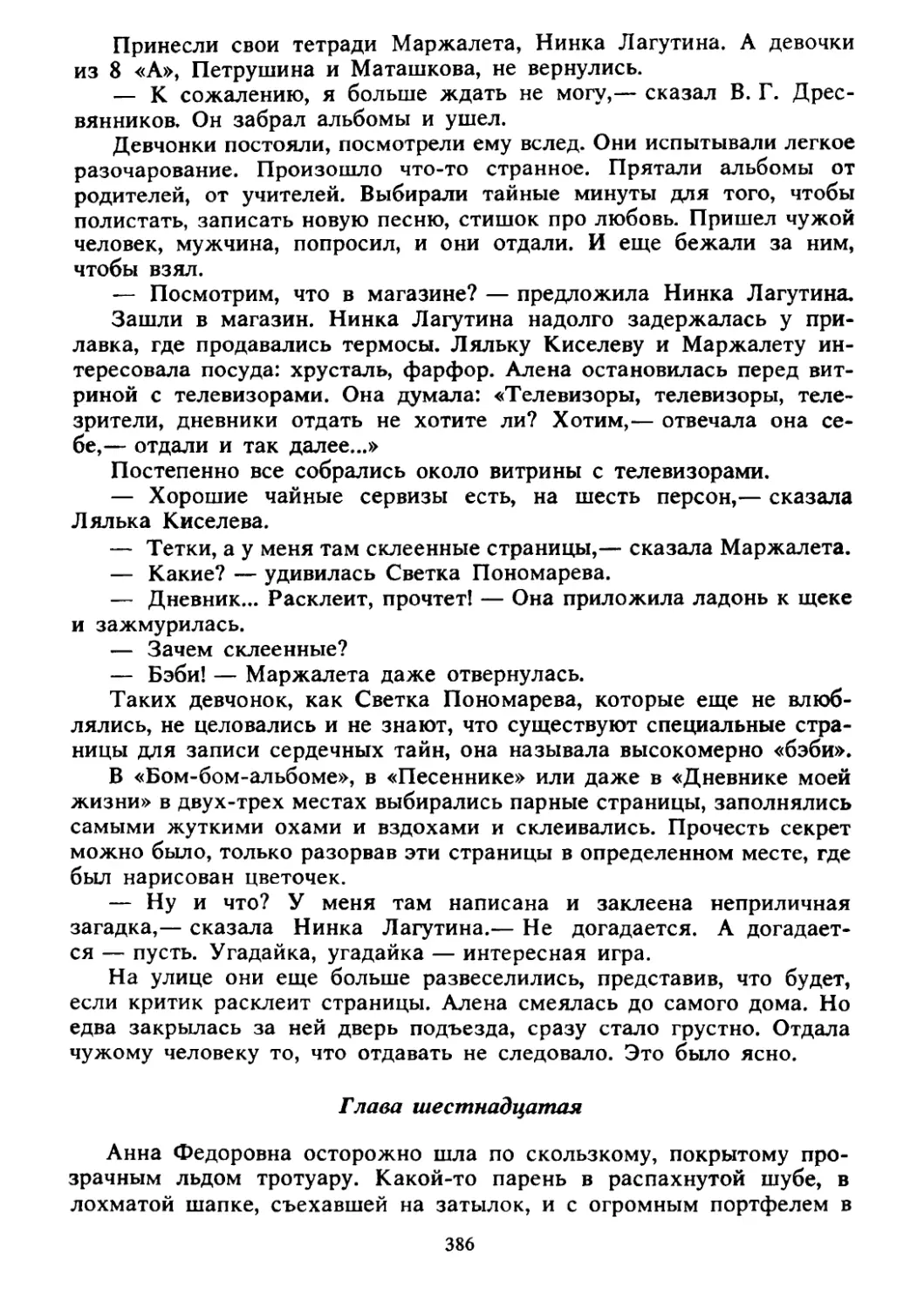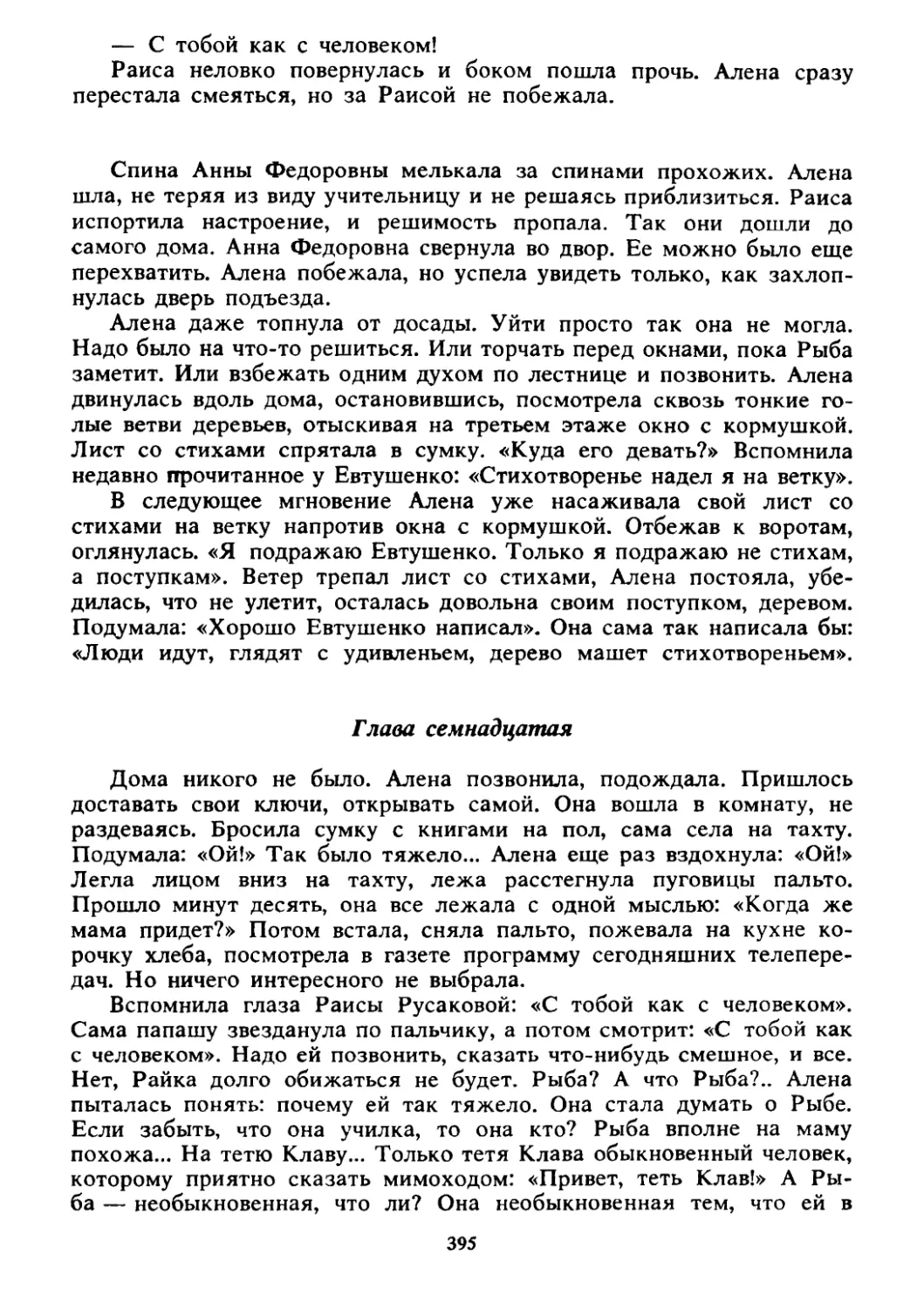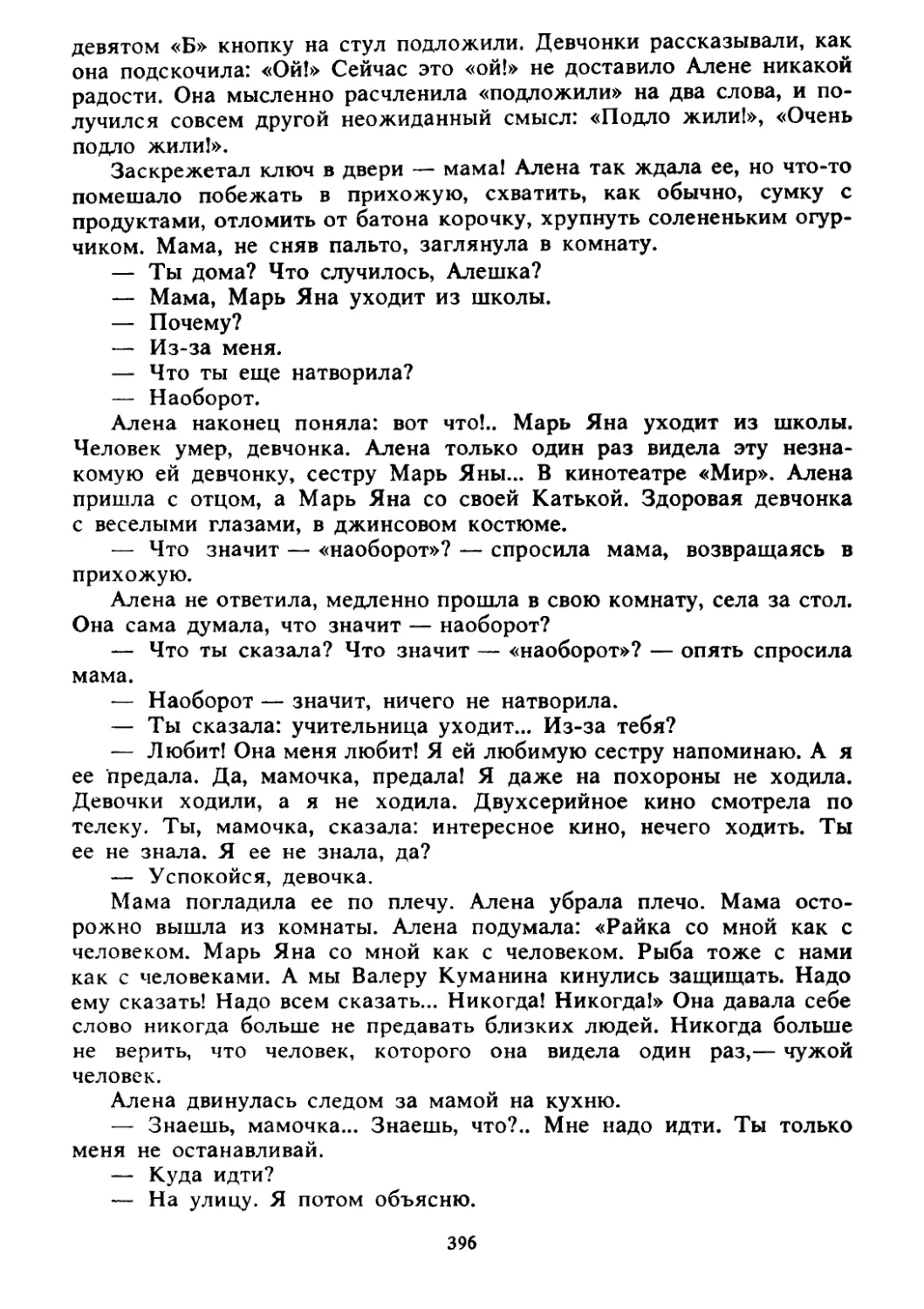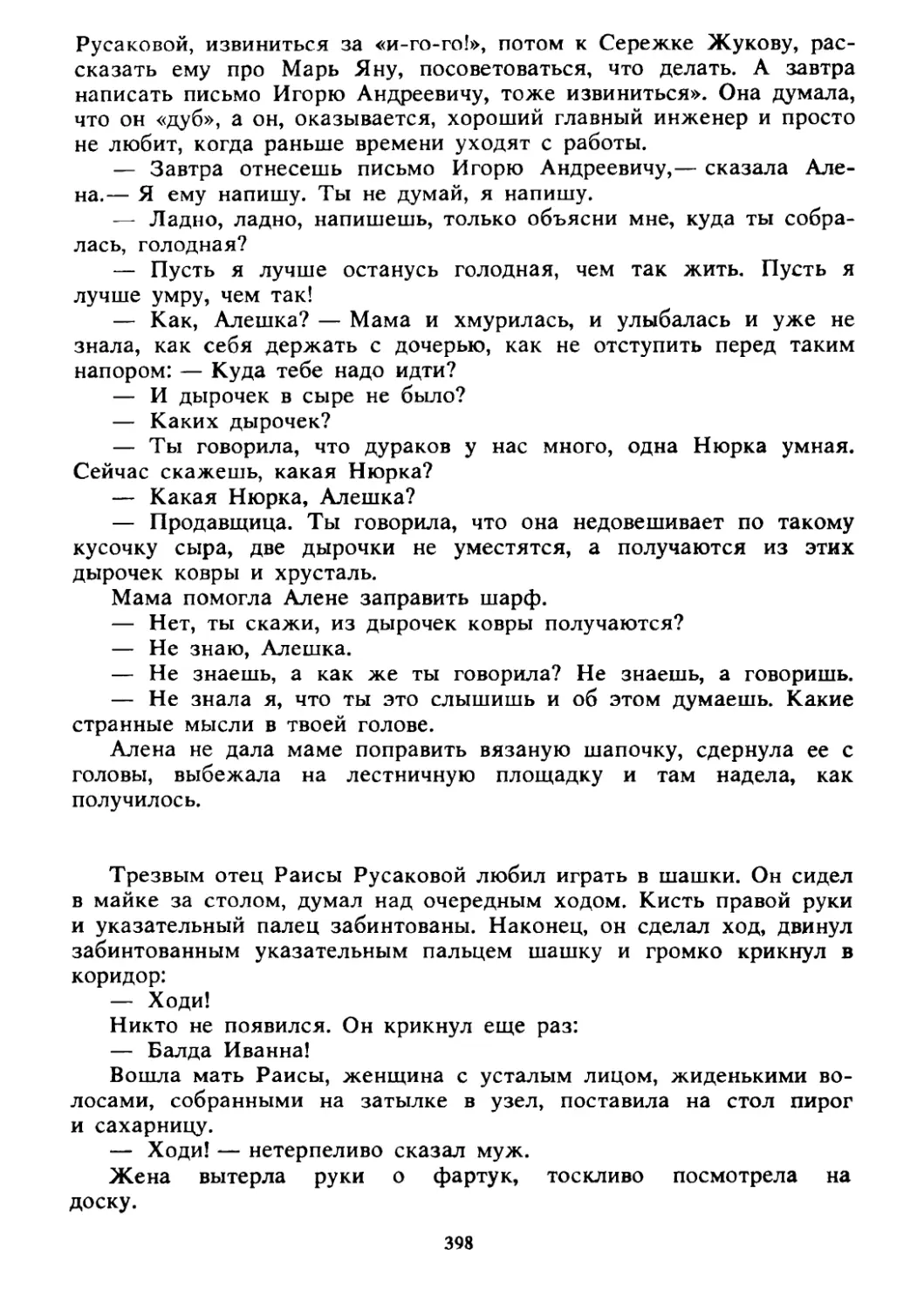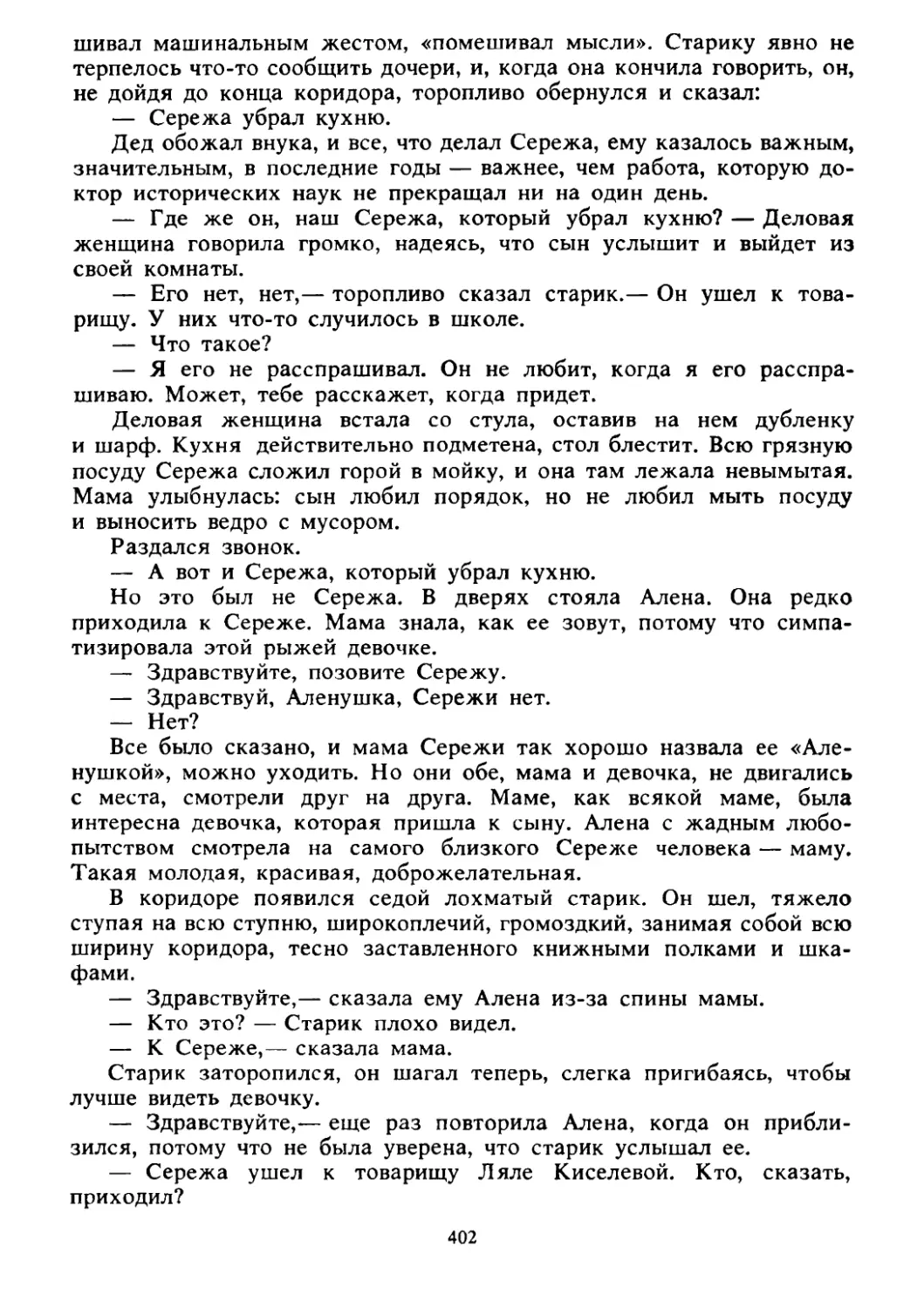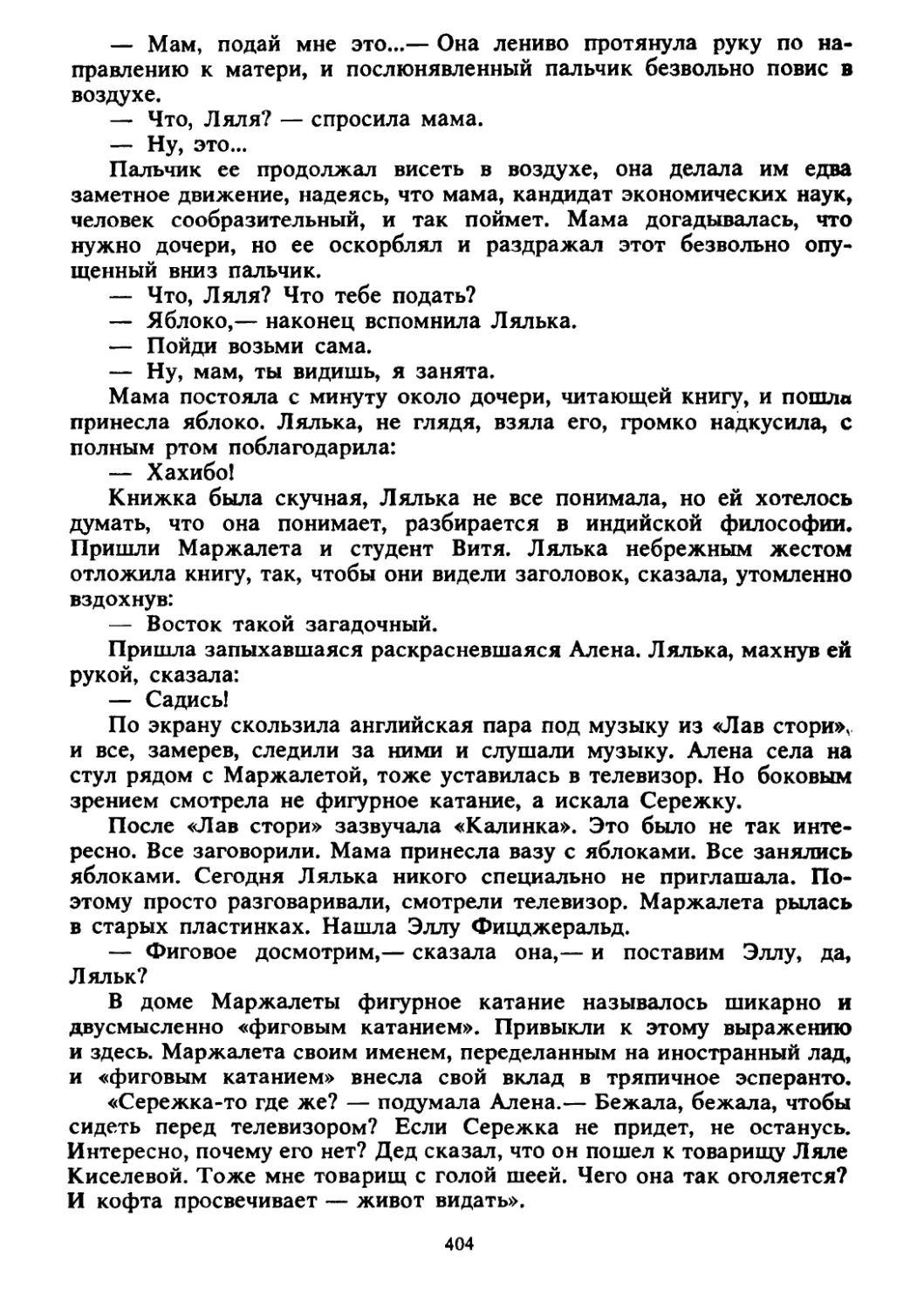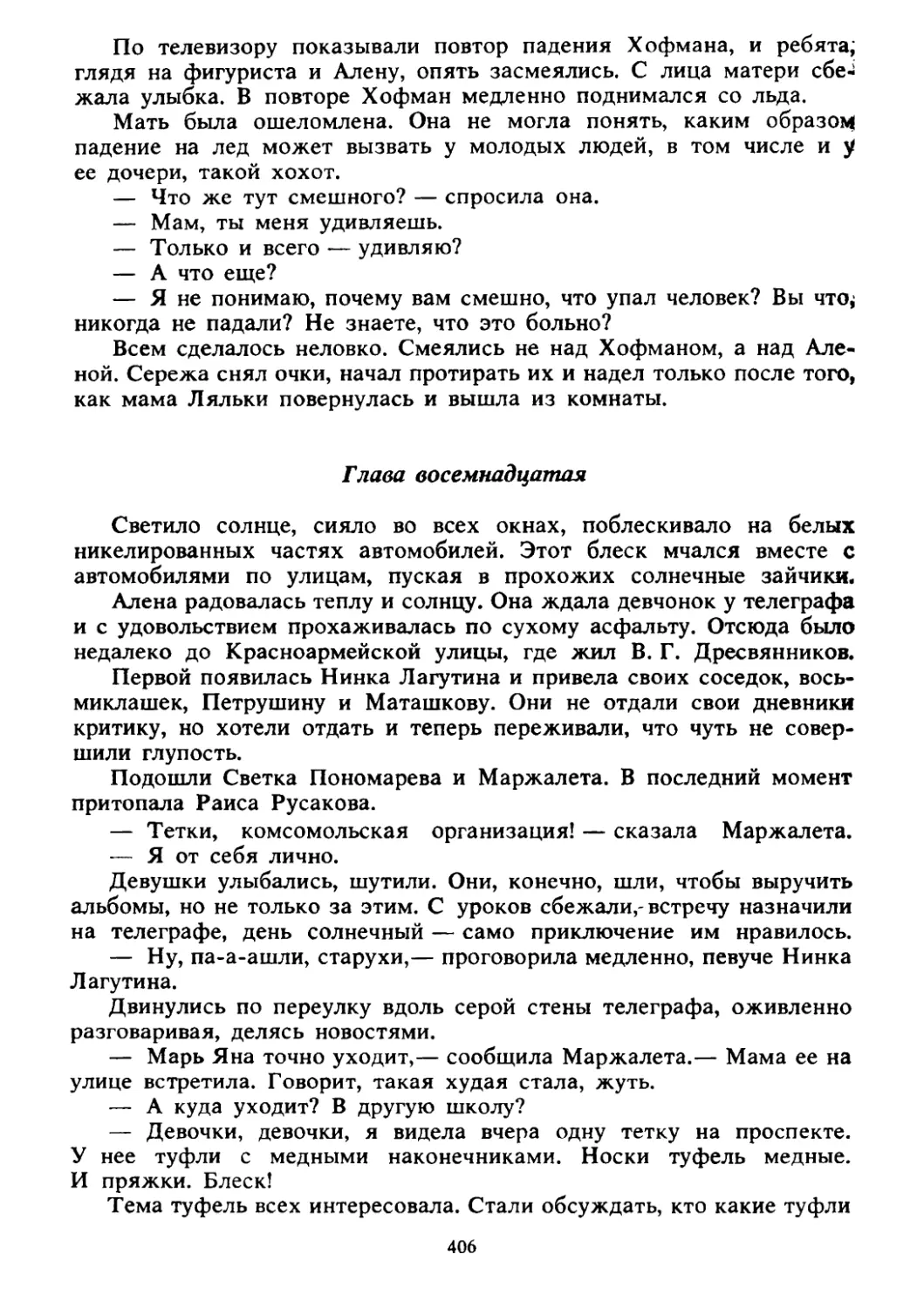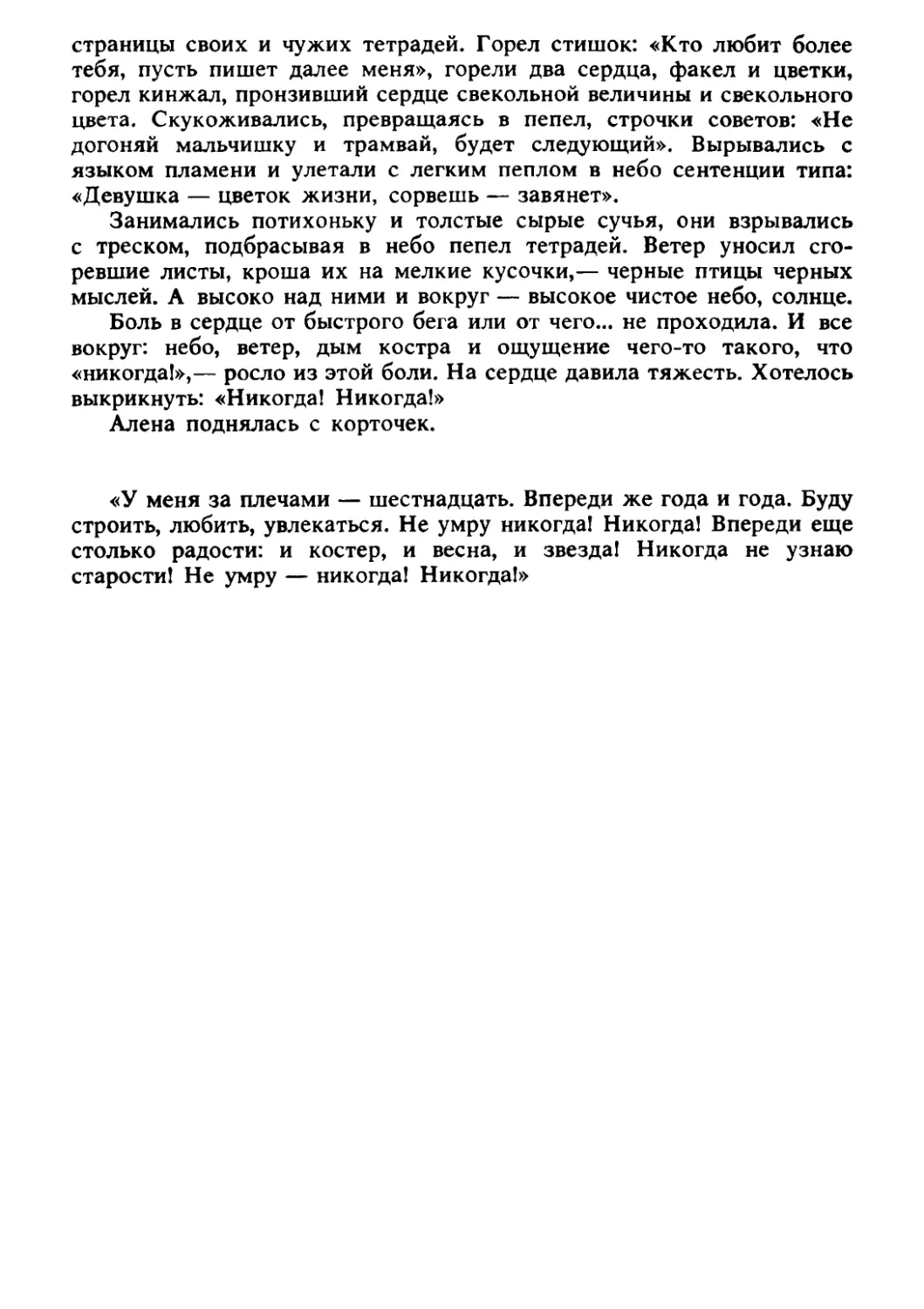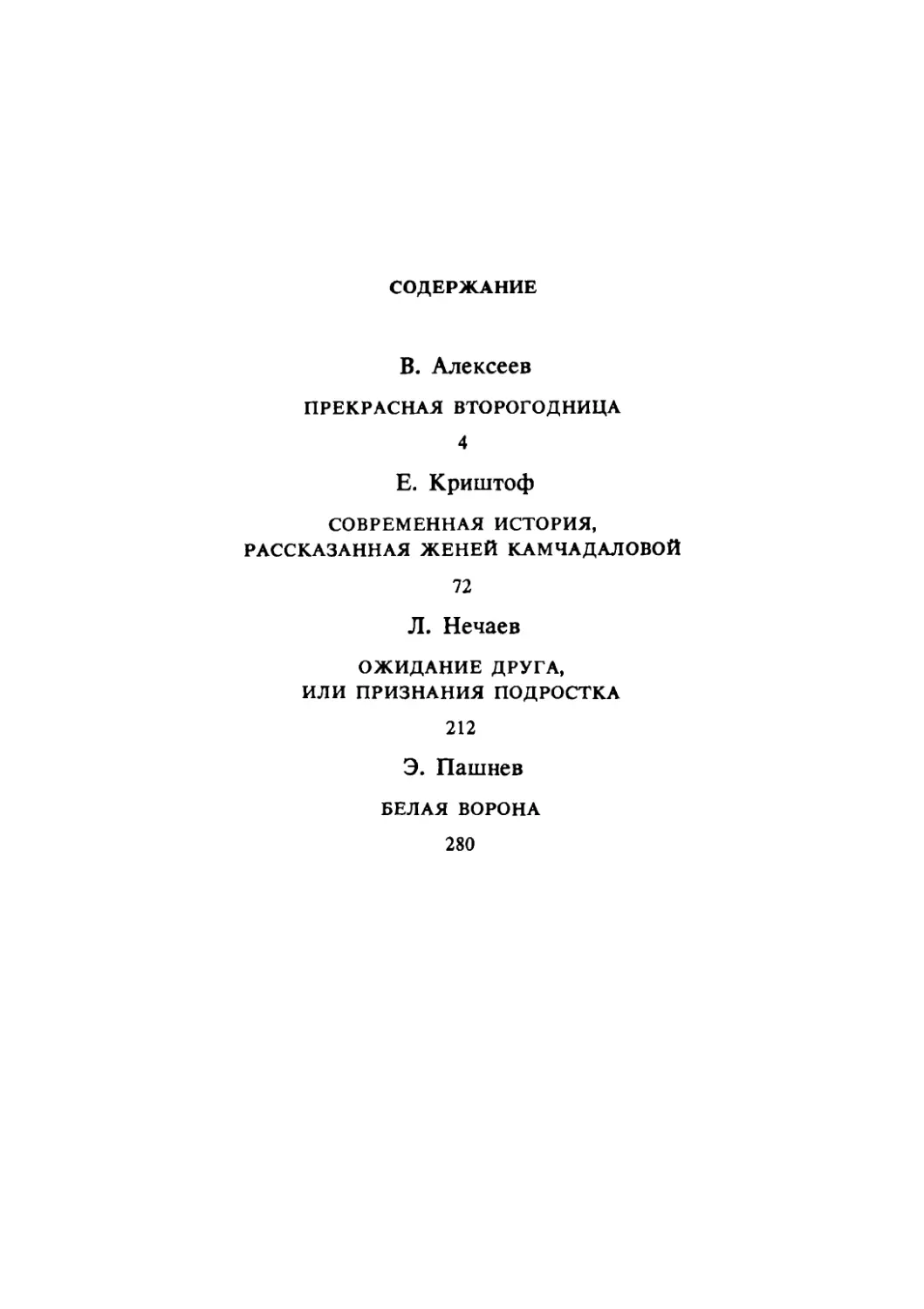Автор: Алексеев В. Криштоф Е. Нечаев Л. Пашнев Э.
Теги: художественная литература повести
ISBN: 5-08-001584
Год: 1990
Текст
школьные годы
В. Алексеев ПРЕКРАСНАЯ
тороэдницд
Е.Криштоф СОВРЕМЕННАЯ
расс:
ЖЕНЕЙ КАШАДАЛОВОЙ
ЛНечаев
ОЖРИАНИЕ ДРУГА, илиПРйЗНАНИЯ ПС0ЮС1КА
Э Пашнев
БЕЛАЯ ЮЮНА
МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1990
БЬК 84.3Р7 Ш 67
4803010201—291 М101 (03)-90
ISBN 5—08—001584
Оформитель А. Савельев Художник О. Филипенко
331—90
(С) О. Филипенко. Иллюстрации, 1990 © Состав. Издательство «Детская литература»,
В. Алексеев ПРЕКРАСНАЯ
вгоршдаицА
1
Девятиклассник Игорь Шутинов вошел в прихожую, поставил сумку с продуктами на пол и, держась рукой за дверь, принялся развязывать шнурки ботинок. Был он из породы аккуратистов: шагу не сделаем по квартире в уличной обуви, ни до чего не дотронется дома, не вымыв после улицы рук.
— Неужели когда-нибудь,— бормотал Игорь, разуваясь,— неужели когда-нибудь подстригут все деревья? Неужели когда-нибудь по линейке рассадят кусты?
Привычку бормотать стихи Игорь культивировал в себе сознательно: в прошлом году совершенно неожиданно выяснилось, что он обделен «чувством прекрасного», именно так выразилась студентка- практикантка, давшая в восьмом «А» единственный и, как в один голос говорили учителя, неповторимый урок. С тех пор Игорь целеустремленно воспитывал в себе это чувство, идя пока чисто количественным путем. Рано или поздно, он был убежден, количество освоенного материала обратится в качество восприятия. Случалось так, что с заученными стихами Игорь был внутренне несогласен: кстати, идея подстриженных и рассаженных по линейке деревьев не представлялась ему такой уж отвратительной, есть же, в конце концов, регулярные парки. Но свое несогласие Игорь подавлял: специалистам надо во всем доверяться, по крайней мере на первых порах, пока не вникнешь в суть дела.
В прихожей вопреки обыкновению горел свет. Возле обувной тумбы, которая одновременно служила и телефонным столиком, сидел отец. Прижимая к уху телефонную трубку, он в упор смотрел на Игоря и молчал. Выражение его лица, сокрушенного и в то же время полного ожидания радости, удивило Игоря.
— Что-нибудь? — коротко, не произнося лишних слов, но с нужной интонацией спросил Игорь.
Отец досадливо поморщился («Не мешай») и взглядом показал на лежащую возле телефонного аппарата развернутую телеграмму.
— Костя?
Отец кивнул.
Никакие силы не заставили бы Игоря взять телеграмму немытыми руками, и он, бегло взглянув на нее издали, снял куртку, повесил ее на вешалку, прошел в ванную, тщательно вымыл с мылом руки, не менее тщательно их вытер и только после этого пошел знакомиться с новостями.
4
«Прибываю шестнадцатого апреля отпуск связи сезоном дождей Константин».
— Здорово,— по обыкновению ровно сказал Игорь, хотя все в нем запело от радости, и даже эти слова «запело от радости» он услышал в себе — но только как слова. Как будто кто-то механически произнес или, еще лучше, напечатал крупным шрифтом: «Все в нем запело от радости».
Так радовался Игорь, это можно было принимать или не принимать, это можно было осуждать или одобрять, но он так радовался. Каким-то образом эта форма радости была связана с «чувством прекрасного», но каким — Игорь мог только предполагать.
— В Шереметьево? — спросил он отца.
Отец кивнул и после паузы проговорил:
— Музыку для меня играют. «Ждите, ждите» — и музыка. Я уже все вальсы Штрауса...— Тут он вскинулся и пронзительным голосом закричал: — Девушка, алло! Алло, девушка!..
Должно- быть, тревога была ложная, потому что, умолкнув, отец сделал попытку затянуться погасшей сигаретой, и лицо его сморщилось, как у обиженного ребенка, а глаза стали обреченными.
— Бросил бы ты курить,— наставительно сказал Игорь и, взяв со столика спички, поднес отцу огня.
Терпение у отца было адское. Может быть, терпение вообще являлось его главным жизненным капиталом, но не ожесточенное терпение и не смиренное, а спокойное, выстраданное, как у Робинзона Крузо после неудачи с большой лодкой.
Константин был старший брат Игоря, он уже год выполнял в тропических джунглях Андамана геодезические работы по ирригационному проекту «Шитанг». Работа была важная, от нее зависело благосостояние целого региона, о проекте «Шитанг» писали в центральной прессе (так выражался отец: «О пустяках в центральной прессе не напишут»). И цветная фотография Константина, вырезанная из журнала, была приклеена к стене прихожей как раз над телефонным столиком. Худощавый, изжелта-смуглый, весь неуловимо тропический, с белозубой улыбкой на слегка изнуренном лице, Константин Шутинов увлеченно беседовал с одетым в длинную бледноклетчатую юбку аборигеном Андамана. За их спинами виднелась лилово-зеленая гладь разделенного на рисовые чеки болота, белые и золоченые пагодки на островах тверди, соломенные хижины на сваях, крыши блестели под темным, низко нависшим небом.
Костин отпуск в определенном смысле был неожиданностью: контракт с советскими специалистами, работавшими на Шитанге, не предусматривал выезда в Союз: два года с перерывами на отдых и обработку материалов в столице «страны пребывания». Несколько настораживала Игоря и необычная для Кости многословность: зачем было в телеграмме упоминать этот самый сезон дождей? Экзотики ради? Сомнительно. Работы на Шитанге начались как раз в разгар сезона дождей, и год назад это никого не смущало. У Игоря имелись
5
кое-какие соображения на этот счет, но он предпочитал помалкивать, чтобы не волновать маму.
Переправив продукты на кухню и распределив их как полагается, Игорь пошел в гостиную. Отец все так же сидел у телефона, неподвижный, как старейшина индейского племени, он только проводил Игоря взглядом, в котором можно было прочитать укоризну. Ну разумеется, ему хотелось бы, чтобы Игорь вопил и приплясывал на ходу, щелкая в воздухе пальцами.
Мама и Нина-маленькая вполголоса, чтобы не мешать отцу, обсуждали вопрос, надо ли извещать о прибытии Константина некую Ирочку.
— Ты понимаешь, прощались они как-то холодно,— озабоченно говорила мать и тут же, по своему обыкновению, сворачивала утверждение в вопрос: — А может быть, мне теперь кажется? Все-таки целый год прошел. И в письмах о ней ни слова, даже приветов не передавал. А с другой стороны, зачем через нас приветы, если он с нею переписывается напрямую?
— Мама, не ломай себе голову,— уговаривала ее Нина-маленькая.— Мы обязаны поставить ее в известность, а там уж она как хочет, на ее усмотрение.
Нина-маленькая вполне доросла до таких разговоров: ей было двадцать лет, она училась на втором курсе факультета журналистики, курила, не стесняясь родителей... Впрочем, последнее ей прощалось потому, что Нине-маленькой срочно нужно было похудеть. Ей досталось не только мамино имя, но и мамина комплекция: обе коротенькие, толстенькие, краснощекие (отец смеялся: «Свекольная кровь»), они были, как две подружки, голубоглазые, с одинаковыми кругленькими носами.
— Ложная проблема,— сказал Игорь, стоя в дверях.— Костя никогда ничего не забывает.
— Тебя еще не спросили,— недовольно сказала мама и, чтобы поставить Игоря на место, потребовала отчета о магазинных делах.
Игорь с удовольствием отчитался: вместо кулинарных «домашних» котлет, которые были ему заказаны, он взял полкило вареной колбасы, остальное — без изменений.
— Колбаса,— проговорила мать,— так мы ее за один раз съедим.
Женщины в этом доме не любили готовить и с большой охотой
передоверяли кухонные дела Игорю и отцу.
— Правильно,— подтвердил Игорь,— но живем-то мы тоже один раз.
В другое время шутка не была бы оставлена без внимания, но сегодня мамину голову занимали более важные проблемы.
— Вот мы здесь спорим, Игорек,— помолчав, сказала мама,— сезон дождей — это как? Месяц, два, а может, несколько дней?
Игорь усмехнулся: не составляло труда вычислить подоплеку вопроса, мать горела идеей женить Костю во время отпуска, ей не давала покоя мысль, что Костенька там, на Шитанге, питается всу-
6
хомятку, по-холостяцки. При этом она простодушно забывала, что Костенька прошел у отца неплохую кулинарную школу и был не из тех, кто пасует перед сковородкой.
Подумав, Игорь сказал:
— Сезон дождей в тех широтах — с мая по октябрь включительно, пока дуют муссоны.
Мать погрузилась в вычисления, потом ее мысли приняли иной ход, и она с ужасом воскликнула:
— Господи, но за полгода там все раскиснет! Как же он будет с теодолитом ходить?
— Алло, девушка! Девушка, алло! — закричал в прихожей отец, и все притихли.
Игорь обвел взглядом комнату: было странно думать, что здесь вновь появится Костя. За год он так сросся со своим Шитангом, что, казалось, так будет всегда: мы — здесь, он — там, в Андамане.
Стены гостиной были увешаны фотографиями: Константин у карты Шитанга с указкой в руках, Константин на трассе у нивелира, в обвислой зеленой парусиновой шляпе и широких болотных сапогах. Кругом — босоногие люди в подоткнутых юбках и в таких же обвислых шляпах. Игорь сам увеличивал эти фотографии и гордился своей работой.
«Навряд ли ему понравится этот иконостас»,— подумал Игорь и, подойдя к стене, принялся снимать фотографии.
— Эй, эй! Ты что делаешь? — окликнула его мать.
Обернувшись, Игорь спокойно и деловито изложил свои соображения. Костин характер маме был хорошо известен. Костя даже в зеркало смотреть на себя не любил.
— Ну, все равно, надо было спросить,— чуть более миролюбиво сказала мама.— А то расхозяйничался. Давай сюда, я уберу.
«Уберу» — это только так называлось. Все, что убирали мама и Нина-маленькая, могло оказаться в самых неожиданных местах.
7
Так, пачка швейных иголок нашлась однажды в пустой коробке с надписью «Манная крупа». Мистика, да и только.
— Прилетает в восемь утра! — торжественно сказал, входя в гостиную, отец.— Надо будет такси вызвать заранее.
— Ох, нас же четверо,— огорчилась Нина-маленькая,— а с Костей пять. В такси не посадят.
— Ничего,— решительно сказала мама,— посадят. Не каждый день люди приезжают из тропиков. Правда, багаж...
При слове «багаж» мама поджала губы. Каким-то мозжечковым чутьем Игорь улавливал, что мама стесняется, что у нее такой важный «загранкомандировочный» сын.
Собственно, все уже было решено и сказано, но никому не хотелось возвращаться к обычным делам. Отец подсел к женщинам, и все трое, будто впервые, стали с увлечением рассматривать и комментировать фотографии, которые подавал им Игорь. В этом было что-то трогательное: в стандартной ячейке крупноблочного дома на окраине Москвы пожилой прокуренный мужчина и две краснощекие женщины наперебой обсуждали детали чуждого тропического быта и судьбы людей, которых они никогда не видели и вряд ли увидят. Игорь смотрел на это пиршество воспоминаний со стороны, обслуживая его, но в нем не участвуя.
— Смотрите-ка, это Маун!.. Нет, это не Маун!.. Нет, Маун! А как растолстел!.. Да я тебе говорю, не Маун, он таких простых юбок не носит, он аристократ... А кто же тогда, Ши Сейн?.. Да нет, Ши Сейн — вот он тут, рядом с невестой стоит. Та, которая слева, с магнолией в волосах... Красавица, повезло парню. Давно бы уж женился, чудак (это, разумеется, мама)... А тут, погодите-ка, где же это? На трассе главного канала?.. Нет, дорога к нижнему лагерю. Вот пагодка беленькая, точно, точно. Там Маун змею убил.
— Московский филиал Шитанга,— пробормотал Игорь, но его никто не услышал.
8
Опустошив стенку, Игорь посмотрел на часы.
— Ну, мне пора,— сказал он.— Пойду заниматься.
Отец, мать и Нина-маленькая разом подняли головы, как будто он сказал что-то неприличное. В комнате стало тихо.
— Как на службу,— буркнул отец.
— Мог бы и пропустить ради такого дня,— проговорила мать.
— Ну, что ты,— язвительно заметила Нина-маленькая.— Без него прекрасная второгодница даже в книжку не взглянет.
Каждый вечер Игорь ходил заниматься к однокласснице Соне Мартышкиной, которая жила этажом ниже. Соня действительно сидела в девятом классе второй год (ей разрешили по семейным обстоятельствам), и Игорь, круглый отличник, ее «курировал». На успеваемости Игоря это никак не отражалось: вообще в семье Шути- новых имелось уже две школьных медали, и Игорь уверенно шел на третью.
— Ты туда прямо как на праздник торопишься,— раздражаясь, сказала мама.— Что для тебя там, медом намазано?
Игорь стоял в дверях и молчал. Такие разговоры повторялись каждый вечер.
— С тобой разговаривают,— сказал отец.— Что ты стоишь и молчишь, как чужой?
[.Обычно отец не участвовал в проработках, но сегодня чувствовалось, что женщины провели предварительную подготовку. Он смотрел на Игоря с таким видом, как будто был кровно обижен. Сигарета, которую он разминал, прыгала в его пальцах, глаза слезились, а это, Игорь знал, не предвещало ничего доброго.
— Я, собственно, не понимаю, в чем смысл вопроса,— с достоинством сказал Игорь.— Мама спросила меня, намазано ли там медом. Нет, не намазано.
-fe_ Смотри-ка, он еще издевается! — всплеснув руками, воскликнула мама, и фотографии, лежавшие у нее на коленях, соскользнули на пол и рассыпались веером. Отец и Нина наклонились их подбирать.— Может быть, тьГ совсем туда переселишься? Или дожидаешься, когда тебя оттуда выставят с позором, дверь перед твоим носом захлопнут?
А Нина, подняв голову, добавила:
— И добро бы красавица писаная была! А то — Мартышкина и есть Мартышкина.
— Не тебе судить,— резко сказал Игорь.— Не тебе.
Нина-маленькая, захлопав глазами, умолкла. В ту же минуту
Игорь уже пожалел о сказанном, но исправлять что-либо было уже поздно. Он понял, что сестра сейчас заплачет. И сестра заплакала. Заплакала и поспешно наклонилась к фотографиям, рассыпанным на полу.
— Ну, вот что,— сказал отец и поднялся.— Последний раз туда идешь. Завтра пускай она к нам приходит. Иначе... иначе совсем прекратим это дело.
9
— Видишь ли, папа,— возразил Игорь,— эту обязанность не вы мне поручили, и не вам решать, когда я должен с себя ее снять. А заниматься Соне дома удобнее: у нас она будет стесняться. Кроме того, я не понимаю...
— Он не понимает! — перебила его мать. Щеки ее еще больше покраснели и стали совсем пунцовыми.— Мы тут радуемся всей семьей, а он хлоп — и уходит! Чужой, чужой и есть. Ну, погоди, утянет она тебя за собой. Чувствует мое сердце, утянет на самое дно.
Игорь молчал. Это был проверенный способ: дать людям выговориться и тогда уже сделать по-своему.
Первым пошел на мировую отец. Может быть, он почувствовал, что Игорь все равно пойдет, что бы тут ни было сказано.
— Утянет — значит, так и надо,— закурив, сказал он и отошел к окну.— Значит, своего характера нет.
— Эх, успокоил! — Мама с досадой махнула рукой.— Может, в школу сходить? Пускай другое поручение найдут. Он и рисует замечательно, пусть стенгазету делает...
Игорь стоял в дверях и молча слушал.
— Глупости говоришь,— возразил, не оборачиваясь, отец, а Ни- на-маленькая все собирала фотографии, и слезы капали на них, стуча, как капли дождя.— Глупости говоришь, не в поручении дело.
— Сама знаю, что не в поручении. Нехорошая она девчонка. Околдовали там его, что ли?
Игорь понял: дальше молчать нельзя, иначе будет сказано что-то непоправимое.
— Я могу идти? — сухо спросил он.
— Иди, что с тобой сделаешь,— ответила мать.— У сестры бы прощения попросил, сестру ни за что обидел.
— Да ерунда,— проговорила Нина-маленькая, не поднимая головы.
2
Дверь Игорю открыла высокая статная женщина, так гордо державшая голову, как будто на ней сидела по меньшей мере алмазная диадема.
— А, Игорек,— сказала она ласково.— Добрый вечер. Как раз к чаю.
— Нет, спасибо,— отвечал Игорь, входя.— Некогда, Завтра у Сони ответственный день.
Лицо у Сониной мамы было некрасивое, даже простоватое: круглое, крупновеснушчатое, с всегда припухшими, как бы заспанными глазами. Такие монгольские и в то же время белокожие лица бывают у сибирячек. Но в контрасте этого малосимпатичного лица с царственной статью была своя привлекательность: этот контраст будоражил смутные догадки о зачарованной красоте. Впрочем, красота теперь мерещилась Игорю даже там, где ею и не пахло,— «чувство
10
прекрасного», недостаточно развитое, то и дело его подводило.
— Сонечка! — нараспев позвала Наталья Витальевна.— Игорь пришел^
Этот зов повторялся ежедневно, но Соня никогда не выходила из своей комнаты, чтобы встретить Игоря: для этого она была слишком горда.
— Здравствуйте, Георгий Борисович,— сказал Игорь, входя в го- стиную, которая у Мартышкиных по совместительству служила и столовой и спальней родителей. \
— А, помощь на дому,— ответил, привставая из-за стола, отчим Сони — невысокий лысенький чернявый человечек, чуть ли не на голову ниже жены.— Ждем не дождемся.
Георгий Борисович сидел за столом в майке, открывавшей тощую буйноволосатую грудь и худые, как у подростка, тоже волосатые плечи. Он не стеснялся своей хилости, даже как будто бравировал ею и дома ходил исключительно «в дезабилье». Так, во всяком случае, выражалась Сонина мама, делая ему выговор, что он опять не одет при гостях.
— Жора, ну что такое? Вечно в дезабилье.
— А чего стесняться,— благодушно отвечал Георгий Борисович,— соседи — все равно что свои.
Игорь был знаком с ним не первый год: вселялись обе семьи в этот дом одновременно, только Георгий Борисович был тогда холост. Фамилия Мартышкин принадлежала ему — точно так же, как потускнелый «Запорожец» старой модели, заросший сугробами у подъезда (Георгий Борисович называл его «мой маленький Мук»), и кривая трубка с серебряной крышкой, которая лежала рядом с его подстаканником на столе. И подстаканник, вещь допотопная, как трамвай, и трубка, и крупная плешь посреди буйно всклокоченной шевелюры, и неизменно ласково и печально улыбающиеся усы, и смешная фамилия — все шло этому человеку, составляло забавное,
11
доброе целое. Было время, когда Игорь звал его попросту дядей Жорой, но с некоторых пор перешел на имя-отчество — что-то мешало.
— А мы уж думали,— проговорила Наталья Витальевна, присаживаясь к столу,— что ты сегодня вообще не придешь.
В отличие от мужа, она была так тщательно (волосок к волоску) причесана и так нарядно одета, как будто собиралась в театр. Игорь уверен был, что, если бы он ворвался в этот дом среди ночи, крича, как Тиль Уленшпигель: «Т'брандт», Наталья Витальевна вышла бы в прихожую безукоризненно и строго одетая и, поправляя венец туго уложенных кос, сказала бы ласково: «А, Игорек. Как раз к чаю».
— Телеграмма пришла, завтра Костя приезжает,—объяснил Игорь.
— Вот это новость так новость! — оживился Георгий Борисович. У него вообще была несколько сбивающая с толку манера очень живо реагировать на слова собеседника: огорчаться — до слез, радоваться — подпрыгивая на стуле, оживленно потирая ручки. Человеку новому могло показаться, что дядя Жора фальшивит, но Игорь знал его хорошо и понимал, что эта суетливость искренняя, она идет от участливости, от простого желания подыграть собеседнику, усугубить его радость или разделить горе.— Приезжает! А в какой связи? Окончательно?
— Нет, в отпуск, в связи с сезоном дождей.
— Да, дожди там кошмарные,— погрустнев, сказал дядя Жора.— Реки выходят из берегов, змеи заплывают в селения. В сезон дождей совершенно невозможно работать.
— Ты так говоришь,— снисходительно заметила Наталья Витальевна,— как будто полжизни провел в тропиках. Сам же дальше Брянска не заезжал.
— Я, Натальюшка, и не делаю из этого секрета,— с достоинством возразил дядя Жора. Он вообще почти все свои фразы начинал со слова «я» — даже отвечая на вопрос «который час».— Жизнь не
12
сложилась так, как хотел. Чиновник, но в душе — бродяга, авантюрист, корсар...
При этих словах Наталья Витальевна усмехнулась, а сам дядя Жора покосился в сторону Сониной двери, за которой стояла такая монолитная тишина, как будто эта дверь была наглухо замурована.
— Но, мне кажется, дело не в сезоне дождей,— заговорил Игорь, сев на диван и положив тетради и учебники рядом. В этом доме он чувствовал себя своим человеком, и ему хотелось поделиться соображениями, которые он скрывал от родных.
— Вот как, вот как, любопытно.— Дядя Жора зачем-то оглянулся, подвинул свой стул поближе к Игорю.— А в чем же?
И Игорь, немного волнуясь, принялся развивать свою концепцию. В нескольких письмах, особенно последнее время, Костя как бы между прочим писал: «Сидим на месте, ждем эскорта... Два «джипа» с солдатами уже посланы к верхнему лагерю... Засиделись до полуночи в палатке у лейтенанта... Флотские вертолеты низко летают, мешают работать...»
— Так, так,— проговорил дядя Жора. Он подпер кулачком подбородок, и маленькое личико его сморщилось в ожидании.
— Я слежу за газетами,— степенно продолжал Игорь, ободренный его реакцией,— и прихожу к выводу, что в районе Шитанга, возле границы, активизировались инсургенты.
— Инсургенты? — переспросила Сонина мама.— А что это такое, с чем их едят?
— Это бандиты, мятежники прокакой-то там ориентации. В прошлый сезон дождей они копошились на севере, а на Шитанге было все спокойно, дожди не мешали работать. Сейчас же их базы переместились. Может быть, в интересах безопасности...
— Чем же им мешают наши геодезисты? — спросила Наталья Витальевна.
— Я, Натальюшка...— перебил Игоря дядя Жора,— я, Наталь- юшка, тебе рассказывал, как в такой же точно ситуации...
— Подожди, пусть Игорек,— остановила его Сонина мама.
— Да они спят и видят,— неторопливо проговорил Игорь,— как бы выкрасть парочку иностранных специалистов и начать с правительством торг.
— Боже мой, какой ужас,— спокойно сказала Наталья Витальевна, положив себе на розетку варенья.— Ну, выкрадут — и что?
— Будут таскать за собой по джунглям, пока правительство их не выкупит.
— И что же, Костя прямо об этом пишет? — спросила Сонина мама.
— Нет, никогда,— Игорь усмехнулся.— Во-первых, маму не хочет волновать, а во-вторых — не положено. Даже папа ничего не подозревает. Я понял так, что без роты морских пехотинцев Костя из лагеря никуда сейчас не выходит.
13
— Почему морских пехотинцев? — заинтересовался Георгий Борисович.
— Это моя догадка. В одном письме такая фраза: «А за кустами мелькают голубые мундиры». Кроме того, Шитанг — это приморская зона.
— Зачем же в таком опасном районе проводить какие-то изыскания?
— А чтобы осушить его, заселить — и инсургенты там больше не появятся. Они только в джунглях, в болотах сильны, население их ненавидит.
Игорь умолк: Сонина мама потеряла интерес к его рассказу, а дядя Жора сочувственно хмурился, но видно было, что мысли его уже заняты другим.
— Счастливый человек,— проговорил он задумчиво.— Сколько всего увидит в молодые годы...
— И заработает прилично, что тоже немаловажно,— добавила Наталья Витальевна.— Простой геодезист, а надо же, как судьбу свою повернул.
Игорь почувствовал себя задетым.
— Во-первых, он далеко не простой. Он школу окончил с медалью, диплом с отличием получил, у него три статьи опубликованы...
— Об этом я и говорю, Игорек,— укоризненно сказала Наталья Витальевна.— Простой геодезист, а как шагнул. Главное в жизни — не дать о себе позабыть, не теряться в толпе. Вот с Соней нашей у нас не совсем ладно получилось...
— Я, Натальюшка, вот о чем думаю...— начал было дядя Жора, но Сонина мама его перебила:
— Постой, не мешай, дай договорить, это важно. Ты понимаешь, Игорек, Соня очень, очень способная девочка. Ты даже не представляешь себе границы ее способностей. У нас в Брянске она блистала, директор школы называла ее «наше сокровище». Круглые пятерки — это просто само собой разумелось, и не подумай, пожалуйста, что это была какая-то провинциальная школа. Школа, известная на всю Российскую Федерацию, о ней в «Учительской газете» писали. Но, кроме школы, Соня занималась еще музыкой, ездила к превосходной учительнице французского языка. Представь себе, один раз у нас в Брянске была, проездом правда, французская профсоюзная делегация...
И Игорь, терпеливо застывший на диване, в который раз уже услышал историю о том, как Соня, тогда еще четвероклассница, случайно на улице встретилась с гуляющими по Брянску французами и мимоходом ответила на какой-то их вопрос, да так удачно, что своим «версальским произношением» («Ты понимаешь, Игорек, репетиторша так и говорила, что у Сонечки подлинное версальское произношение, а какое у нее божественное «р»...») привела французов в полнейшее умиление. Дело кончилось тем, что вся делегация в полном составе явилась к ним домой.
14
— Дом у нас в Брянске был отдельный, пятикомнатный, жили мы на виду у всего города,— рассказывала Сонина мама, не задумываясь о том, что каждое ее слово царапало мужа по сердцу.— И думала ли я, что когда-нибудь доживу до такого дня, когда придется...
Она умолкла на минуту, и этим тотчас же воспользовался Георгий Борисович.
— Натальюшка, я часто думаю: уж не во мне ли все дело? — настойчиво заговорил он.
— О боже мой, ну при чем здесь ты? — с досадой ответила Наталья Витальевна.— Ты что, господь Саваоф? Первопричина всех вещей и событий?
— Но ты дослушай! — умоляюще воскликнул дядя Жора и, расплескав чай, отодвинул свой подстаканник в сторону.— Я просто сопоставляю факты: до моего появления в вашей жизни...
Дядя Жора нимало не смущался присутствием Игоря, и Игорь, не впервые оказавшийся свидетелем подобных разговоров, сидел и размышлял о том, что хорошие люди, к сожалению, слишком мало заботятся о том, как их слова и поступки воспринимают присутствующие. Возможно, именно эта особенность и делает хороших людей хорошими, искренними, непосредственными, а если бы они все время оглядывались на присутствующих, то были бы, наверное, не настолько уж хороши.
— Оставь, пожалуйста, свои фантазии,— сердито сказала наконец Наталья Витальевна.— Девочка просто потерялась в Москве. Надо было дать ей спокойно окончить школу.
— Натальюшка, я...
— Нам надо было задержаться в Брянске. Но, Игорек, пойми,— Наталья Витальевна как будто сейчас только вспомнила об Игоре,— с ее языком, с ее способностями... В Брянске, конечно, три вуза, но в Москве институт международных отношений, институт иностранных языков, разве это не прямая дорога? Из этого мы исходили.
Она вопросительно и требовательно посмотрела на Игоря, Игорь кивнул, и вновь заговорил дядя Жора:
— Я вот о чем думаю, Игорек. Ты понимаешь, в твоих руках судьба человека, и человека незаурядного, смею тебя заверить. Сделай все, что можно, пусть наша Сонюшка преодолеет с твоей помощью этот роковой барьер, и можешь быть уверен: тебе еще доведется ею гордиться.
Эти заклинания повторялись чуть ли не каждый вечер, Игорь к ним привык и слушал их, не поддакивая и не перебивая.
— Мы постараемся,— проговорил он наконец.
И в эту минуту бесшумно открылась дверь маленькой комнаты, и вышла Соня. Соня была копия мать, такая же большеротая, круглолицая, с такими же сонно прижмуренными глазами. Только волосы у нее не забраны в пучок, а распущены по плечам, темно-рыжие, тяжелые. Она была в пестром домашнем платьице, которое Игорь любил.
15
— Я чувствую, обо мне разговор,— сказала Соня ровным голосом.
— О тебе, доченька, о тебе,— поспешно заговорил дядя Жора.— О тебе печемся.
— Поменьше бы вы п е к л и с ь,— отрезала Соня.— Игорь, пойдем. Сколько я могу тебя ждать?
— Софья! — укоризненно сказала Наталья Витальевна.— Ну, что такое, Софья! Ты безобразно себя ведешь. Что Игорь подумает?
— Он подумает то, что надо,— ответила Соня.
Наталья Витальевна поднялась.
— Софья!
— Сонечка! Натальюшка! — Дядя Жора тоже вскочил и замахал руками.
Соня взяла Игоря за руку и потащила в свою комнату.
3
Имя Соня совершенно не шло к ней и казалось отголоском какой-то предыдущей жизни. У нее был большой рот: при первой встрече это Игоря поразило. Во дворе до ее приезда из Брянска таких большеротых не было, а если бы и были, то их дразнили бы лягушками, квакшами. Но Соню никто не дразнил, да и сама она держалась так, как будто была первой красавицей мира. Что еще? Глаза светлые и бездумные, пальцы цепкие, как у лемура, и рыжие волосы до самых плеч. Нет, не рыжие, это сложнее: утром золотистые, вечером темно-каштановые и с зеленой искрой — при свете электрических ламп. Эти волосы мерцали, как мерцает листва осины в серый ветреный день. Ветер налетит, вздрогнет темное деревце — и словно молнией окатит его сверху донизу, и на секунду оно станет светлым, почти серебряным. Вся трава, на которой осинка стоит, то светлеет, то гаснет, и упавшие листья бегут по траве, как блуждающие огни. Рядом с ней даже в яркий и желтый день он стоял словно в темной комнате, за окном которой, замирая, плещется дождь.
Если бы Игорь мог отдать себе отчет в этих своих ощущениях, все его сомнения насчет «чувства прекрасного» развеялись бы, как дым. Но прекрасное он понимал слишком прямолинейно и тяжеловесно. Игорь не знал, что это он, своим видением, делает Соню красавицей. Без него и не для него это была просто невзрачная девчонка. Но каким образом Игорь мог об этом узнать?
Соня была на год старше, и до прошлого лета эта разница казалась очень существенной. Как ни нравилась Соня Игорю, все равно она была «большой девчонкой», девятиклассницей, у нее имелся долговязый кавалер из десятого, который провожал ее до подъезда и при этом заметно трусил. Друг Женька, кое о чем догадывавшийся, как-то раз обстрелял эту пару снежками. Сонин провожатый втянул голову в плечи и усиленно делал вид, что ничего не замечает, а Соня
17
остановилась, обернулась и, не моргнув под градом плотных снежков (один чуть не попал ей в лицо, она отбила его варежкой), строго и сердито сказала: «Ну что такое, честное слово?» Тогда она еще не была «прекрасной второгодницей», но дело к этому шло, и мама иногда говорила Игорю: «Смотри учись, не будь, как эта лоботряска с пятого этажа». Это были чисто формальные предупреждения, Игорь в них не нуждался.
Каждое утро он выходил из своей квартиры минутой раньше, чем надо, и, спускаясь по лестнице, медлил, дожидался, когда этажом ниже послышатся ее шаги. Услыхав ее голос: «Ну, я пошла, мама», Игорь сломя голову бросался вниз и оказывался на площадке одновременно с ней. Зимой она носила голубое пальто с серым каракулевым воротником и мальчишечью серую шапку, которая очень ей шла. Игорь летел по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, перила дымились у него под рукой. Соня отступала на шаг (она тоже медлила, дожидаясь) , улыбалась и говорила: «Доброе утро, мальчик». Разумеется, она и тогда знала, как его зовут, но считала необходимым таким образом подчеркивать разницу в возрасте.
Все началось в конце прошлого лета. В тот год Шутиновы вернулись с дачи раньше обычного, измученные и раздраженные. Хозяйка, у которой они несколько лет подряд снимали половину избы, прослышав о том, что Костя уехал за границу, вдруг подняла цены на все услуги чуть ли не вдвое: «Вы что же, экономить сюда приезжаете?» И, разругавшись с нею в пух и прах, Шутиновы вернулись в Москву. Стояла обидная жара, повсюду в городе пахло краской и горячим асфальтом, над мостовыми висела синяя бензиновая гарь. Мама, вздыхая, принялась за уборку, а Игорь имел неосторожность сказать: «Нашли себе имение, это не вотчина, садовый участок надо было брать». И мама (она как раз протирала линолеум в прихожей) — мама наотмашь, сама не понимая, что делает, хлестнула Игоря мокрой тряпкой по лицу. Игорь остолбенел. Отец, увидев его
18
лицо, буркнул: «Ну, это не метод» (как будто существует какая-то методика подобных конфликтов) и по своему обыкновению ретировался на лоджию покурить. Игорь вопросительно посмотрел на маму — она стояла растерянная, опустив руки. Потом неловко усмехнулась и проговорила: «Ну, что, попало тебе от мамы?» Игорь молча пошел в ванную, умылся. Мама вытирала пол, искоса поглядывая на него, отец курил на лоджии и, казалось, восхищался открывшимися перед ним далями. И, аккуратно прикрыв за собою дверь, Игорь вышел на лестницу.
Спускался он медленно, обдумывая на ходу, как будет возвращаться домой. Было обидно, конечно, но не настолько, чтобы вставать в позу и требовать каких-то извинений. Сказать по правде, Игорь даже досадовал на себя за то, что так глупо выступил со своими сентенциями.
Дверь Сониной квартиры была распахнута настежь — привычка, завезенная, наверно, в Москву из Брянска. Игорь всегда с трудом удерживался от искушения заглянуть вовнутрь. Ему казалось, что и воздух в этой квартире другой, не такой, как у него дома: прохладный и синий.
На пороге, одетая по-домашнему, в простеньком платье, стояла Соня.
— Здравствуй,— сказала она и отступила на шаг, как будто приглашая войти.
— Здравствуй,— буркнул Игорь. Сердце его заколотилось с такой силой, что где-то на площадке ниже задребезжало оконное стекло.
— Что это ты такой странный? — спросила Соня, бесцеремонно его разглядывая.
Игорь пожал плечами. Позднее ему не раз приходилось убеждаться, что Соня на редкость наблюдательна.
— А я осталась на второй год,— после паузы скороговоркой сказала она.
Игорь был поражен. В девятом классе на второй год не оставляют — во всяком случае, о подобной экзотике и слыхано не было в этих краях. Все мамины разговоры о «лоботряске» Игорь относил к восьмому классу, когда решался вопрос о ПТУ. Но Соня, пусть с грехом пополам, тогда проскочила этот рубеж.
Впервые в жизни Игорь видел вблизи живую второгодницу (вдалеке они еще порою мелькали). По его представлениям, все они должны были быть крупными нечесаными девахами с лошадиной походкой и хриплыми голосами, непременно намазанные и курящие. Но перед ним стояла красавица (во всяком случае, такою Игорь всегда ее считал), и эти дикие слова «осталась на второй год» совершенно с ней не вязались. Вот почему на какое-то время Игорь потерял дар речи. Надо было что-то спросить, чем-то поинтересоваться, посочувствовать, что ли. Но как? Ему не приходило в голову. А Соня, казалось, наслаждалась его остолбенением.
— Вот так, дорогой,— усмехаясь, сказала она.— Теперь у вас в
19
классе буду учиться. А у меня там знакомых никого нет. Кроме тебя, конечно.
Игорь открыл рот — и ничего не сказал. Его бросило в жар. В самом сообщении не было ничего необычного, и, если бы у него имелось время раскинуть мозгами, он сам пришел бы к выводу, что деваться ей некуда: в девятом «Б» — перебор.
А ведь это означало, что теперь они — ровня. И что Соня для него теперь такая же одноклассница, как все Ивановы, Петровы, Сидоровы, к которым можно спокойно забежать на полчасика, поболтать просто так. Было от чего обмереть.
— Ты что же, не рад? — спросила Соня.— А я-то думала: вот Игорек будет рад.
Первый раз в жизни она назвала его по имени, и это еще раз подтверждало, что теперь они — ровня.
— Хочешь, я с тобой буду сидеть?
Игорь почувствовал, что краснеет. Смешной разговор, хочет ли он этого!
— Ну, заходи,— сказала Соня.— Что мы, собственно, стоим на пороге?
«Поймала репетитора»,— говорила потом мать. Все это были, разумеется, оскорбительно взрослые домыслы, но ведь и в самом деле — она как будто его дожидалась.
Они вошли в ее комнату с голубыми обоями, там были тогда еще только тахта и старый письменный стол. Ни коврика на полу, ни картинки на стене, а воздух действительно прохладный и синий, без следа пыли и солнца, из-за задернутых штор.
— Отчего у вас дверь все время открыта? — спросил Игорь, стесненно оглядываясь.— Не боитесь жулья?
— А, у нас нечего красть,— сказала она, пренебрежительно дернув плечом.— Все никак не можем устроиться.
Игорь снова покраснел. Он вспомнил, что говорила об этой семье мама: «Из ломбарда не вылезают, а дочку одевают, как княгиню». По странной ассоциации из этих слов Игорь сделал вывод, что их квартира должна быть заставлена большими прямоугольными ящиками, но никаких ящиков не было.
— А двери открыты — оттого что маме воздуха в Москве не хватает. У нее аллергия на пыль,— пояснила Соня.— Еще вопросы есть?
Вопросов не было. Игорь, стоя с нею рядом, машинально отметил, что он выше ее почти на голову: то ли вырос за лето, то ли издали Соня казалась взрослее и выше. А может быть, и то, и другое.
Вошел мальчишка двух лет от роду. Штаны надеты косо, рубашка выползла, палец во рту.
— Зачем проснулся? — строго спросила Соня.
Малыш не отвечал, только исподлобья глядел на Игоря.
— Откуда он взялся? — поинтересовался Игорь, инстинктивно пытаясь опередить его реплику: опыт подсказывал ему, что такой детеныш может брякнуть что угодно.
20
— Это брянский мальчик, племянник мой,— неохотно ответила Соня.— Как ни странно, я, знаешь ли, тетя.
Она испытующе взглянула на Игоря: как он отнесется к этому сообщению? Но Игорю было все равно, тетя так т^тя. Главное, он стоял рядом с нею, в ее комнате, разговаривал с нею — это было почти что чудо.
— Ты с ним сидишь? — спросил он.
— Да нет,— возразила Соня.— Иван у нас сам по себе. Правда, Иван?
Иван вынул палец изо рта и мрачно сказал:
— Гуляба.
Покончив таким образом с Соней, он повернулся к Игорю и, ясно улыбнувшись, протянул руки.
— Ишь ты, нахал,— сказала Соня.— Ты ему понравился. Иди, Иван, иди, не приставай к посторонним. На кухне конфеты.
Иван послушно побрел на кухню, подтягивая на ходу штаны.
— Ну, сядем? — спросила Соня и сама ответила: — Сядем.
Игорь присел рядом с ней на краешек тахты и, набравшись
смелости, поднял глаза и взглянул ей в лицо. В книгах нередко встречаются высокопарные слова: «Он был ослеплен ее красотой». До сих пор Игорь относился к ним с недоверием, но теперь он точно знал: да, так бывает.
— Мне говорили девочки, что ты за мной гоняешьс я,— лукаво сказала Соня.— Я что-то не заметила. Это правда?
— Вопрос терминологии,— ответил Игорь.
Соня прищурилась.
— Ого,— сказала она.— Ну, что ж, замнем разговор.
Но разговор был замят ненадолго.
Поговорили о пустяках: о знакомых ребятах, об учителях. Соня вела себя просто. Рассказывая о чем-нибудь, она брала его за руку — без умысла, просто так. Сначала он вздрагивал, потом привык.
И вдруг она сказала:
— А ты мне всегда нравился. Вот так. Это — чтобы не было недоразумений.
И поднялась, строго глядя на Игоря.
Игорь тоже машинально поднялся, ошеломленный тем, что услышал. Рухни сейчас потолок — его бы это даже не удивило.
— Пойдем куда-нибудь? — помолчав, спросила Соня.— Я только сдам Ивана, примерно через полчаса, и выйду.
Счастливый, умиротворенный, Игорь поднимался домой. Он настолько забыл о домашней ссоре, что, когда отец открыл ему на звонок и, ни слова не говоря, ушел в гостиную, Игорь искренне удивился:
— А что случилось, товарищи?
Вспомнив и ахнув, он побежал на кухню. Мама плакала и повторяла: «Больше так не делай, больше так не делай...» Игорь обнял ее за покатые вздрагивающие плечи, поцеловал в щечку, румяную от
21
кручины, искренне, от души попросил, сам не зная за что, прощения, и они помирились. Бедная мама, она даже не подозревала тогда, что все только начинается.
Дальше замелькало, как в тревожном сне. Солнце едва успевало всходить и закатываться, лужи — высыхать на асфальте, дождь — проходить. В памяти Игоря эта осень была совершенно бредовой: шапки снега на желтой листве берез, яркие грибные дожди сквозь оледенелые ветки. У него был особый отсчет времени: вчера он взял ее за руку и поднес ее светлые пальцы к губам, а она смотрела на него, склонив по-взрослому голову, с участливым любопытством; сегодня они сидели на скамейке в сквере, и он поцеловал ее в щеку, а потом еще раз, в краешек рта, и она сказала: «А вот этого совершенно не нужно».
Первого сентября она пришла в девятый «А». Все должны были догадаться, хотя Игорь и Соня, нарочно сговорившись, явились порознь. Женька кинулся к Игорю — и остановился как вкопанный в трех шагах: вокруг Игоря было как силовое поле.
Соня вошла в класс, встреченная сдержанным шушуканьем девчат, красивая, светлоглазая, гордая. Села рядом с Игорем, не взглянув на него, расправила, как крылышки, локти. Впрочем, никаких эксцессов не произошло. Учителям, видимо, на руку было, что они сидят вместе, девчонки быстро сделали мудрые выводы и уже на третий день перестали хихикать, а среди ребят были и такие, которые готовы год зубоскалить, повторяя всем надоевшие шуточки, но тут неоценимую помощь оказал Игорю друг Женька. Отстраненный, но не обиженный, он взял на себя добровольные функции стража чести и сумел (неважно, какими способами) добиться того, чтобы имена Игоря и Сони не повторялись без особой нужды.
4
Итак, Соня втащила Игоря за руку в свою комнату и захлопнула дверь. Игорь в нерешительности остановился на пороге: большеротая веснушчатая девчонка эта держала его в состоянии постоянного напряженного ожидания, она была непредсказуема. Игорь никогда не мог вычислить заранее, встретит ли она его улыбкой или сядет от него поодаль, насупившаяся, зевком приветствующая каждое его слово: «Мели, Емеля, твоя неделя». Это была первая девчонка, которая призналась ему, что он ей нравится, и точно так же первая (и пока единственная), сказавшая ему, что он «заунывный дебил».
Сегодня была явно не «Емелина неделя»: демонстративно защелкнув замок, Соня прислонилась к двери спиною и, глядя на Игоря поверх плеча, тихо засмеялась.
— Извини, что наскандалила,— шепотом сказала она.— Я нечаянно. Думала, ты и правда не придешь.
Следующие четверть часа прошли в молчании: Игорь гладил ее по
22
щеке, трогал губы и челку, а она стояла, полуприкрыв глаза, и улыбалась. Никогда больше (после того раза в августе) она не позволяла ему поцеловать себя и приучила настолько, что даже самая мысль об этом казалась ему отвратительной.
— Ну, ладно, все глупости,— проговорйла она наконец и, потянувшись к Игорю, почти дотронулась до его уха губами.— Забыли? Забыли.
Эта игра в вопросы-ответы с самою собой, как будто никакого Игоря не было, иногда его обижала.
— А собственно говоря, зачем ты пришел? — спросила она, усмехаясь.— Я так поняла, что завтра тебе в школу не надо.
— Едем Костю встречать,— сказал Игорь.
— О да, событие века, еще один ловкач приезжает из-за границы.
Наверное, после этих слов можно было бы распахнуть дверь
и с достоинством удалиться. Но для этого пришлось бы отстранить Соню, взять ее за плечи, улыбающуюся, домашнюю, встряхнуть хорошенько — нет, на это у Игоря не хватило бы духу. Кроме того, она не в первый раз отзывалась о Косте так неприязненно, и если уж терпел раньше — оставалось терпеть и сейчас.
Он много рассказывал ей о Косте, пытаясь ненавязчиво ей внушить, какой у него веселый, добрый, умный, справедливый брат. Соня слушала его рассказы внимательно, но глаза ее недоверчиво поблескивали: «Мели, Емеля, твоя неделя!»
— Прямо не брат, а «роль человека в обществе».
Журнал с той самой фотографией Кости она каким-то образом ухитрилась достать («Выкрала в читалке» — таково было ее объяснение, и, право же, у Игоря имелись основания предполагать, что так и обстояло дело) — всего лишь для того, чтобы перед каждым занятием ставить этот журнал на книжный пюпитр и предлагать Игорю принять участие в издевательской молитве: «Хвала тебе, о роль человека в обществе, мы о тебе не забываем ни на секунду, как ты не забываешь о своей зарплате...» — и так далее и тому подобное.
— Странно, что ты так его не любишь,— огорчался Игорь.— Что он тебе сделал?
— Слишком вежливый он,— отвечала Соня с усмешкой.— Поздоровается, улыбнется, даже поклонится, а глаза колючие, как репейники.
Однажды она сказала:
— Господи, хоть бы он никогда не приезжал! Он нас с тобой рассорит.
— Чепуху ты говоришь,— рассердился Игорь.
— Нет, не чепуху. Я говорю то, что знаю.
Любопытно, глядя на нее, думал Игорь, одному человеку приходится с пеной у рта доказывать свою заведомую правоту, и чем больше он горячится, тем нелепее выглядит, и даже если у него хватит нервов опровергнуть все возражения, все равно правота остается какой-то сомнительной, и люди расходятся, посмеиваясь про себя и крутя головами. А другому достаточно сказать: «Я знаю» — и не
23
нужно утруждать себя доводами: все вокруг замолкают и принимают сказанное к сведению. Самоуверенность? Нет, не то, как раз самоуверенные люди любят горячо и многословно доказывать свою правоту, и с ними охотнее спорят.
Спорить с Соней было бессмысленно: если Игорь «заводился» (что, впрочем, случалось не часто), она смотрела на него, пренебрежительно щурясь, а потом говорила: «Ты мне все равно ничего не докажешь». При всем этом Соня была мудра, как змий. Ей ничего не стоило, мельком взглянув на человека, сказать: «Слизняк» — и тут же о нем позабыть. И человек этот мог лезть из кожи, показывая, как он умен, воспитан, деликатен, утончен, если хотите,— все равно на поверку рано или поздно он обнаруживал себя слизняком. Как-то приятель из стрелкового клуба вызвался оказать Игорю услугу по обмену двух Гартмановских полтинников двадцать пятого года на аналогичные Латышевские, у него были кое-где кое-какие связи. «Отчего бы и нет? — рассудил Игорь.— Не так уж часто нам идут навстречу из одного только чистого товарищества». «Пожалеешь»,— только и сказала Соня, когда Игорь показал ей этого парня на улице. И по сей день, вот уже полгода, Игорь расплачивается за свою наивность: приятелю оказалось так много нужно взамен и вел он себя так бесстыдно-назойливо, что Игорю пришлось вернуть ему полтинники (один из которых, кстати, был Россовским) — и уйти из стрелкового клуба.
«Ловкачами» Соня называла всех, кто был ей почему-либо неприятен, а в минуты раздражения — всех вообще москвичей. Она была уверена (или притворялась уверенной, или внушила себе, что уверена): в Москве живут одни ловкачи.
— Но ты пойми,— втолковывал ей Игорь,— это какой-то вульгарный географический детерминизм: так не бывает, чтобы в одном месте собирались исключительно хорошие люди, а в другом — исключительно плохие. Процент хороших людей во всем мире — это константа, ты понимаешь? Ну, скажем, с поправкой на капсистему, но все равно константа, пойми!
— А я тупая, я идиотка,— насмешливо отвечала Соня, с особым вкусом выговаривая эти слова.— Я даже не знаю, что такое «детерминизм» и «константа», и не докажешь ты мне ничего. Королева Володьку знаешь? У нас в восьмом классе большим человеком был: член комиссии по профориентации. Уж так активничал, такие красивые слова говорил, доказывал, что в ПТУ совершенный рай. Экскурсии на заводы через отца устраивал, встречи с передовиками. А перешел в девятый — и сидит себе, в ус не дует. Поди ему теперь напомни про ПТУ — рассмеется в лицо. Вот тебе и константа. Посмотришь на вас — такие бойкие, деловые, красноречивые. «Роль человека в обществе...» А каждый в уме свой балл подсчитывает. И ты, Игорек, не исключение, хоть ты и получше других. Тоже, наверно, по ночам свой карманный калькулятор гоняешь, пятерки с четверками складываешь и делишь.
24
— Ну, если тебе нравится так думать...— улыбаясь, говорил Игорь. В этом смысле его душа была спокойна: сколько бы он ни складывал и ни делил, результат был бы один и тот же.
— Не складываешь — значит, в чем-то другом ловчишь. Вы тут по-другому не можете. Скажи, зачем ты сделался председателем учебной комиссии? Тебе что, нравится десятиминутки проводить?
— Кто-то же должен это делать...
— Кто-то должен и тротуары песком посыпать. Но почему ты?
Игорь молчал. На этот вопрос ему было бы непросто ответить. Для каждой десятиминутки по итогам недели он вычерчивал графики на миллиметровке и делал это с увлечением, красиво и аккуратно, разноцветной тушью. Ему льстила мысль, что этим он вносит свой вклад в общее упорядочение жизни. Но признаться в этом Соне зйачило быть высмеянным, и высмеянным жестоко.
— Ну, ладно, оставим тебя в покое,— великодушно соглашалась Соня.— А дружите как! Тошно смотреть. Сорокина, Фоменко, Ту- ренина возле Оганесян крутятся: ну, как же, у этой канистры папа в Союзе журналистов, а они все пишущие-читающие, беседы о пользе чтения проводят, умереть можно. У Новикова дядя доцент МГИМО — и думаешь, зря все наши англофоны за ним цепочкой ходят? Игра в медведя называется.
— В какого медведя?
Соня произносила «медведя», и, переспрашивая, Игорь старался деликатно ее поправить. Но Соня этого замечать не желала.
— Ну, я не знаю, как у вас в Москве. Один держит за талию другого, тот третьего, третий — четвертого...
— А, это дракон.
— Пускай, по-вашему, игра в дракона. Так вот, я в дракона играть не хочу. Мне скучно. Если бы не мама, я бы давно возле рынка в чулочном ларьке торговала.
Фраза насчет чулочного ларька очень нравилась Соне — возможно, потому, что Игоря она раздражала. Он живо представлял себе Соню, выглядывающую из окошка чулочного ларька, и недовольно хмурился.
— С твоими-то способностями...
— Оставь мои способности в покое. Я ведь тупая, я идиотка, и ты это прекрасно знаешь.
Соня как будто гордилась двойками. Получив очередной «банан», она шла через класс к своему месту, усмехаясь и всем своим видом говоря: «Ну что, дождались?» Когда она садилась, Игорь взволнованным шепотом начинал «разбор полета»: делать надо было то-то и то-то, отвечать так и так. Но Соня его не слушала и, кажется, ненавидела в эти минуты.
— Ну, ладно,— сказала наконец Соня, легко, как неодушевленное препятствие, обошла Игоря и села за свой маленький письменный стол.— Давай заниматься. Что у нас сегодня?
25
— Геометрия,— ответил Игорь и тоже сел за стол, касаясь Сониного колена.— Муза тебя вызовет, она мне сказала.
— Тебе? — насмешливо переспросила Соня.— А отчего же не мне? Или пусть бы уж лучше объявление повесила: «Причиняю добро, обращаться туда-то».
— Добро есть добро,— помолчав, рассудил Игорь.— После двух двоек подряд у тебя есть возможность...
— Получить тройку? — перебила его Соня.— Так пусть и поставит. Зачем устраивать аттракцион?
— Не аттракцион,— возразил Игорь.— Нам с тобой дается шанс, и грешно им не воспользоваться.
— Ах, какая она добрая! Прямо печется обо мне. Как папочка Мартышкин.
Словно в ответ на ее слова в дверь постучали, и ласковый голос дяди Жоры произнес:
— Сонечка! «Байкальчику» хочешь?
— Захлебнись ты своим «Байкальчиком»,— вполголоса проговорила Соня, а вслух резко сказала: — Не хочу!
Воспользовавшись наступившей паузой, Игорь начал объяснять геометрию. Математика у Сони особенно не шла. (Впрочем, и с физикой дело обстояло плачевно, а разных там историй-литератур она вовсе не воспринимала и называла «водянкой».) Соня до сих пор была убеждена, что мир исчисляется только целыми, а дроби — это нечто незаконченное, недосчитанное, дефективное. Получив при решении дробь, она начинала злиться: «Ну, так же не может быть!» — «Почему? — недоумевал Игорь.— Это — точность, а точность и есть красота».— «Нет, красота — в неточности»,— возражала Соня.
На карманном калькуляторе своем (подарок Нины-маленькой, Соня постоянно над ним насмехалась, ей и горя не было, что сестра пустила на эту покупку весь свой первый гонорар) Игорь как-то показал Соне математический фейерверк, которым можно удивить разве что пятиклашку: набираешь 17, делишь на 3, и в окошечке вспыхивает зеленое цифровое чудовище. «Да ну, подстроил что-нибудь»,— недоверчиво сказала Соня. Долго она нажимала кнопки сама, все делила по его подсказке 11:3, 13:9, упрямо тыкая пальцем,— и, видимо, была поражена разверзшейся перед нею числовой трясиной. «Фу, гадость какая,— бормотала она, а Игорь с умилением наблюдал за нею, гордясь своей простенькой выдумкой, расшевелившей человеческое любопытство,— сплошные сороконожки». Но вдруг случайно набрала 18:3—и обрадовалась, как ребенок. «Видишь,— торжествующе сказала она,— кончился твой фокус».
Прямая, плоскость, точка — все эти элементарные абстракции для нее не существовали. Под плоскостью она подразумевала любую поверхность, прямую упорно называла чертой или даже черточкой, а когда Игорь пытался втолковать ей, что такое, собственно, точка, она сердилась: «Ну, ладно, хватит водянки. Давай по существу». Анало¬
26
гичные трудности возникали и в гуманитарных предметах: перед вопросом, чем отличается «страна» от «государства» (или «государство» от «правительства»), Соня становилась в тупик.
Умом Игорь понимал, что с таким багажом Соня никак не могла блистать в сказочной школе своего детства, а значит, все рассказы Натальи Витальевны на этот счет были, мягко говоря, «мультипликацией», цветными движущимися и озвученными картинками к вымышленной истории. Но ему чудились неразбуженные возможности и в Сонином незнании. «Кто знает,— думал он,— быть может, за этим скрывается какое-то высшее понимание, в конце концов, сам Эйнштейн в молодости упорно не понимал элементарных вещей».
Соня и мама ее были убеждены, что Игорь им верит, как верил добряк дядя Жора, для которого все эти истории, собственно, и рассказывались. Но Игорь давно уже догадался, зачем это делается: Соня и Наталья Витальевна хотели всеми правдами и неправдами приукрасить свою бедную прошлую жизнь и, похоже, сами уверовали в сотворенную сказку. Чем чаще Наталья Витальевна повторяла фразу о пятикомнатном доме на виду у всего города, тем отчетливее Игорю представлялась тесная комнатушка с хмурыми окнами, где незаметно и тихо жили, дожидаясь своего счастья, две женщины, большая и маленькая. А сказочный принц дядя Жора все не являлся, то ли дожидаясь персонального приглашения, то ли терзаясь обидой студенческих лет... Когда же он объявился наконец в Брянске, не было ни пятикомнатного дома с зеркальными стеклами, ни французских гостей, ни фантастических школьных успехов. «Мы переживали трудное время»,— коротко говорила об этом Наталья Витальевна, не вдаваясь в подробности. У этой женщины была натура королевы в изгнании, надеющейся вернуться на законный престол. То, что этот престол существует, само собой подразумевалось. И эта уверенность передавалась всем окружающим, Игорю в том числе.
Геометрию Игорь любил, рассказывал он толково, сам увлекся при этом, а когда вдохновение улеглось, увидел, что Соня смотрит на него с улыбкой.
— Ты будешь неплохим администратором,— неожиданно сказала она.
Игорь был задет.
— Я вижу, ты сегодня не в форме,— хмуро ответил он.
— Нет, ученым ты не будешь,— не унималась Соня.— Для ученого ты слишком хорошо все понимаешь.
— А что же, ученый не должен понимать?
— Должен — не то слово,— возразила она.— Ученый хочет понимать, если он не ловкач. А ты и так понимаешь.
Наступило молчание.
— Ну, не сердись,— проговорила она, видя, что Игорь изменился в лице.— Я все запомнила, что ты рассказал. Иди домой, я сегодня злая.
27
— Нет,— сказал Игорь.— Не уйду, пока не убеждусь... не убежусь...
Соня засмеялась.
— Ну, ну,— сказала она.
— Пока не приду к убеждению,— сердито закончил Игорь,— что ты готова.
— Ой, какой обязательный, какой правильный,— нараспев сказала Соня.
— Что ж тут плохого? — спросил Игорь.
Соня пожала плечами.
— Не пойму, что ты за человек,— отвернувшись, буркнул Игорь.
— Глупый вопрос. Для себя я одна, для тебя — другая, для Мартышкина — третья, для мамы — четвертая. И так далее. И все, в том числе и я, видят меня так, как считают нужным.
Игорь заинтересовался.
— Ишь ты, релятивистка,— возразил он, медленно поворачиваясь.— Есть объективная истина...
— Где, в личном деле? Учителя тоже смотрят, как им удобнее: ага, эта такая. Оказалось, нет. Ну, тогда — такая. Всем от меня что-то нужно, и оценивают меня в зависимости от того, как я справляюсь.
— Наверно, твой племянник Иван знает, какая ты есть,— сказал Игорь с улыбкой.— Ему-то от тебя ничего не нужно.
— Ошибаешься,— отпарировала Соня.— Спроси его: «Кто ты, Иван?» — и он тебе ответит: «Я генерал». Ему очень нужно, чтобы я в это верила.
— Но если собрать все эти данные вместе...
— И начертить график,— перебила его Соня.— Попробуй, собери. Тебе, например, нужно, чтобы я поступила в какой-нибудь Институт стали и сплавов, окончила его и стала бы для тебя фирменной женой. Если же я буду торговать в чулочном ларьке... Видишь, уже не нравится. Еще тебе хотелось бы, чтобы я была на год моложе, втайне тебя это тяготит. И не красней, пожалуйста, я и так знаю. А вот Мартышкину наплевать на мой возраст и даже на то, где и чем я буду торговать. Ему нужно, чтобы я была ему хорошей падчерицей. Слово-то какое, как грязное полотенце: «падчерица»... А я совсем не хочу быть ничьей падчерицей, мне это не идет. И фамилия, которую он мне навязал, тоже. Осчастливил, удочерил. Видите ли, мама — это его институтская любовь, он ее ждал, ни на ком не женился. Господи, как мы хорошо жили без него в Брянске, мне никакой отец не был нужен. Не знала я отца и знать не хотела. Нет, явился со своими нуждами...
— Мне кажется, он тебя любит,— осторожно заметил Игорь: разговор опасно приближался к запретному.
— Ах, любит — не любит, какое мне дело,— с досадой сказала Соня.— Да не меня он любит, а себя, свою загубленную молодость. В таком же смысле и Муза Ивановна меня любит: не меня, а свои собственные школьные двойки.
28
Здесь Соня была отчасти права: математичка Муза Ивановна питала к ней необъяснимую симпатию и, награждая ее очередным «бананом», так сокрушалась и горевала, как будто ставила двойку самой себе. Игорь подозревал, что Муза Ивановна мучается тем же «комплексом Эйнштейна», но, оказывается, у Сони было наготове совсем иное объяснение.
— Ты хочешь спросить: «А я?» — безжалостно продолжала Соня, хотя Игорь ни о чем ее не собирался спрашивать.— Тебе, Игорек, не хватает собственных ошибок, тебе тоскливо без ошибок жить. Я для тебя находка. И шел бы ты лучше домой. А то завтра скажет твой заграничный братец: «Что это у Игорька моего такой бледный вид?» — «А это Софья Георгиевна Мартышкина его доконала».
Игорь встал: на сегодня с него и в самом деле было достаточно.
— Да, ты точно не в форме,— сказал он.— Пойду.
— Вот и правильно,— ответила Соня и тоже встала.
— Но на будущее,— глядя в сторону, проговорил Игорь,— не трогала бы ты лучше моего брата.
— Хорошо,— неожиданно согласилась Соня и поцеловала Игоря в щеку.— Спокойной ночи. Я махну тебе в окошко рукой.
Помедлив, Игорь повернулся и вышел в большую комнату.
Дядя Жора по-прежнему сидел за столом в майке и делал вид, что читает газету. У него были печальные, совсем собачьи глаза.
— Ну, позанимались? — тихо спросил он. Слышимость в квартире была идеальная.
— Да, позанимались,— ответил Игорь.— Всего хорошего.
И вышел на площадку.
5
На лестнице Игорь помедлил, затем стал неторопливо спускаться. Таков был их ежевечерний ритуал прощания, и изменять ему сегодня, несмотря ни на что, не было причины. В конце концов он знал, на что шел: Соня не обманывала его и не обнадеживала. Все, что она сказала сегодня, она могла сказать и вчера, и позавчера, да, собственно, и не раз говорила.
Снег на улице шумно таял, вдоль тротуаров бежали коричневые ручьи. Было так тепло, как будто сквозь коричневое небо светили невидимые солнечные лучи.
Прямо перед домом был разбит чахлый скверик, по другую сторону которого блестели широкие витрины универсама. В этот поздний час магазин был закрыт. Игорь прислонился спиной к витрине и поднял глаза к Сониному окну.
Ему нравилось, как расположено окно ее комнаты: в самом центре широкой стены девятиэтажного дома. Можно было вообразить, что весь дом — это толстая скорлупа, окружающая маленькое светящееся ядрышко Сониной комнаты. Сколько раз, уходя от витрины универсама, он бросал последний взгляд на цветные окна, и ему становилось
29
тепло от мысли, что ее комната со всех сторон прикрыта такой мощной бетонной скорлупой.
Три цвета было в спектре ее окна: зеленый — когда она занималась (или делала вид, что занимается) за письменным столом, оранжевый — когда она сидела у зеркала при свете обеих ламп, и розовый — когда читала на тахте. Иногда Соня снимала настольную лампу и ставила ее на пол, чтобы удобнее было читать, не слезая с тахты, тогда комната наполнялась сумрачным, подводным светом.
Окно было так низко над двумя большими деревьями, что отчетливо можно было разглядеть ее лицо, освещенное настольной лампой и потому ярко-розовое, как лампочка, на зеленом фоне. Соня что-то листала, и по стенам бегали косоугольные тени. Она тянулась к книжной полке, висевшей над столом,— тени на стенах, вытягиваясь, начинали метаться. По движению теней Игорь мог догадаться обо всем, что Соня делает. Вот — широкая, прямоугольная взметнулась к потолку и на миг погрузила в плотный сумрак всю комнату: это стелится на тахту плед. Вот мелькнули вдоль стен какие-то странные блики, как от стекол вдалеке проезжающего автомобиля: распахнулись полированные дверцы шкафа. Это был целый мир — ее окно, и Игорь мог долго стоять у темных витрин универсама, запрокинув голову и расшифровывая блики и тени.
Было поздно, но не настолько, чтобы садиться к зеркалу и включать верхний свет. Игорь часто спрашивал Соню, что она в таких случаях делает. Соня со смехом отвечала, что просто сидит и любуется собой. Сейчас окно горело зеленым огнем, оно летело сквозь сырую темноту, словно карта с яркой рубашкой.
Но вот штора ласково колыхнулась, отодвинутая розовой рукой, Соня привстала и выглянула наружу. Приоткрыв форточку, она звонко, по-мальчишески свистнула и, размахнувшись, бросила что-то на улицу. Первым побуждением Игоря было сорваться с места и побежать через сквер, но он заставил себя подождать, и только когда фигурка Сони исчезла, он неторопливо пошел к тому месту, куда по расчету это должно было упасть.
Комок бумаги успел-таки размокнуть, когда Игорь его нашел. Игорь развернул бумагу и, подойдя поближе к приделанному к стене уличному фонарю, прочитал:
«Золотко мое, чтобы я делала здесь без тебя. Твоя злобная брянская Соня».
В такой короткой записочке Соня ухитрилась сделать грамматическую ошибку: вместо «что бы» у нее получилось «чтобы». Должно быть, Игорь долго стоял с запиской в руке и широко улыбался, потому что подвыпивший прохожий проковылял мимо него, остановился, обернулся и хотел что-то сказать. Но — передумал, махнул рукой и побрел дальше, неся на плечах свою покачивающуюся, тусклую, как станционный фонарь, вселенную. Игорь не любил нетрезвых людей, но этому человеку он от души пожелал вдогонку (мысленно, разумеется) всего самого доброго.
30
Потом он вернулся к витрине универсама и, не чувствуя еще, что замерз, снова запрокинул голову. Судя по освещению, Соня сидела у зеркала и, невидимая отсюда, любовалась собой. Она тысячу раз права, думал Игорь, и сто тысяч раз неправ тот болван, который задумал подстричь все деревья. Что за дикая идея, чтобы все на свете девчонки непременно получали пятерки по геометрии. Ну, а то, что он занимается с Соней, «курирует» ее, пытаясь подогнать под очередной график для своей десятиминутки,— разве это не попытка рассадить по линейке кусты? Эта мысль не впервые приходила Игорю в голову, и ему хотелось бы поскорее дожить до тех времен, когда она покажется нелепой и странной.
Здесь, у витрины, однажды вечером подошла к нему Нина-ма- ленькая. В накинутом на плечи пальто она долго стояла поодаль, и Игорь не сразу ее узнал. Был мороз, снег хрустел под ногами, сестра приблизилась: «Постыдись,— тихо сказала она,— ты же сам на себя не похож». И они вместе вернулись домой, не проронив по дороге ни слова.
Свет у родителей был погашен, старики усиленно притворялись спящими... Но на другой вечер Игорь опять стоял в одном пиджаке у витрины универсама.
Ему казалось, что стены Сониной комнаты озарены цветными отблесками легенд ее детства. Одну, может быть и не вымышленную, Игорь очень любил. Даже сейчас, вспомнив о ней, он растроганно заулыбался. Это был рассказ о том, как, потерявшись в городском парке воскресным вечером, пятилетняя Соня забралась на эстраду (шел какой-то концерт) и, приказав конферансье опустить микрофон, принялась бесстрашно декламировать стишки. А в это время ее мама, совершенно обезумев от горя, бегала по темным аллеям, обливаясь слезами и не произнося ни слова. «Ты понимаешь, Георгий,— говорила сама Наталья Витальевна, обращаясь, по обыкновению, к мужу,— мне казалось, что если я ее позову, позову по имени, то никогда уже больше не увижу. Люди спрашивали меня, что случилось, но я только отмахивалась и бежала дальше». Потом она услышала разговор проходивших мимо мужчин: «Отчаянная девчонка, ох, вырастет — кто-то наплачется с ней». А Соня в это время, переждав аплодисменты, объявила, что теперь она будет танцевать, все равно ее мама потерялась, и ей идти теперь некуда. «И было на мне оранжевое платьице, яркое, как мак»,— подхватывала в этом месте Соня, обязательно в этом месте и непременно произнося одни и те же слова: «Яркое, как мак...» У этого дуэта были благодарные слушатели: дядя Жора с умилением смотрел попеременно на жену и на дочку, глаза его наполнялись слезами, а Игорь замирал от счастья и нежности. «Яркое, как мак...» Он видел это как наяву, он понимал Наталью Витальевну, которая бегала в темноте и хрипло дышала, не произнося имени. Сколько раз Игорь искал свою «второгодницу» в запутанных лабиринтах сновидений — и точно так же ни разу не окликнул ее по имени. «У вашей девочки,— сказали потом
32
счастливой матери какие-то солидные люди,— врожденное сценическое дарование».
Еще одну легенду в этом доме любили повторять — легенду о человеке с глазами навыкате. Когда дядя Жора слушал этот рассказ, он вскакивал, начинал бегать по комнате, сжимая волосатые кулачки и бормоча: «О господи, господи...»
«В то лето мы отдыхали на даче у одних хороших знакомых,— буднично, деловито начинала Наталья Витальевна.— Сонечка перешла в шестой класс и, естественно, очень за год устала. Там было много ребятишек ее возраста: местность красивая изумительно, отцы города, как говорится, вывозили туда на лето своих детей, а у сорокалетних мужчин с положением как раз и бывают двенадцатилетние дети...»
Таков был неизменный зачин, а дальше рассказ раз от разу менялся, пополняясь все новыми подробностями фешенебельного дачного быта. Постепенно скромный дачный поселок, неподалеку, кажется, от Десны, превращался в нечто подобное Карловым Варам — с финскими банями, теплыми бассейнами, казино, дискотеками (о которых в те годы, как понимал Игорь, еще и не слыхивали) и даже со своим минеральным источником.
«Ну, разумеется, Сонька была заводилой, мальчишки ходили за ней косяком. В заброшенном клубе (один из первых вариантов называл это место иначе — «пожарный сарай») она там кукольный театр организовала, и началось повальное увлечение куклами. Пятнадцатилетние парни и те шили кукольные халатики под Сониным, естественно, руководством. Ну, собрались родители, люди с влиянием и связями, подкинули на воскресенье машину, рабочих, материалы, и за одни только сутки аварийное строение превратилось в прелестный маленький театр. Соня и сценарист, и худрук, и режиссер-постановщик, и главный кукловод — в общем, Фигаро здесь, Фигаро там. Спектакль был грандиозный, в трех частях, по волшебным сказкам Шарля Перро. Начался в девять утра, а кончился перед обедом. Народу собралось множество, зал был битком набит. Малыши с родителями, большие ребята, к кому на воскресенье гости приехали, на машинах, семействами, много было незнакомых. После спектакля овации устроили, хлопали, вызывали, участники выходили кланяться, смотрю — а моей Сони нет. Туда-сюда, ни на сцене, ни в зале, ни за кулисами...»
Игорь прекрасно понимал, что все было не так (если вообще было), но он берег эту иллюзию и не отрываясь смотрел, как трепетно и живо меняется при каждом слове матери светлое Сонино лицо. То были часы всеобщего согласия в доме Мартышкиных, и Соня лишь снисходительно посматривала на отчима, который, наизусть зная концовку, то вскакивал, то садился и бормотал: «Своими бы руками убил, своими руками...»
«А я от жары и духоты,— как по сигналу, вступала Соня,— вышла через заднюю дверь и побрела, куда глаза глядят. Попала на поле,
2 Школьные годы. Выл. 3
33
огромное поле ромашек, ровное, как стол, одни большие ромашки, и ничего больше. Смотрю — догоняет меня высокий человек в сером костюме, седой, но лицо загорелое, моложавое. Окликнул по имени, я остановилась, он подошел. Стоим посреди поля, ромашки по колено, а небо облачное, темное, разговариваем. Спросил он меня, где учусь, чем занимаюсь. На «вы» обращался, тихо и очень вежливо. Рассказал, что в городе Курске организует детскую студию при драматическом театре. Глаза голубые, немного навыкате. Взял меня за локоть, крепко так, и повел. И все говорит, говорит, тихо, но настойчиво, какое будущее меня ожидает. Я больше себе под ноги смотрела. Вышли почти к самой Десне, тут я взглянула на него случайно — и не понравилось мне его лицо. Чем не понравилось — сама не знаю. Испугалась, молчу. Тут, хорошо, проселочная дорога, и «газик» едет, трясется, пылит. Я замахала рукой, а этот, седой, удивленно спрашивает: «Зачем?» — «Домой пора, далеко мы зашли». Покачал он головой, щеку пальцем почесал, засмеялся. Потом отпустил мой локоть. Я выбежала на дорогу, «газик» остановился, там знакомые наши дачники. «Подвезти?» Я оборачиваюсь — а серый так рукой неопределенно махнул и зашагал через поле, не оглядываясь.
«Бандит, негодяй! — взволнованно говорил дядя Жора.— Знаем мы эту публику, ловцов человеческих душ».
«Откуда ж ты эту публику знаешь?» — улыбаясь, спрашивала его Наталья Витальевна.
«Знаем, знаем!» — повторял дядя Жора.
А Соня однажды сказала:
«Не испугайся я тогда — вся жизнь, возможно, пошла бы по-другому».
Дядя Жора взглянул на нее и притих. Все его сердце, Игорь чувствовал, было исполосовано этой историей, как бритвой.
«Другая жизнь», «жить по-другому» — эти слова в доме Мартышкиных повторялись особенно часто. Другая, несбывшаяся, несбыточная жизнь — для Сони и ее мамы, пожалуй, она была реальнее настоящей и, безусловно, важнее.
Своих театральных наклонностей в Москве Соня проявлять не хотела: «Зачем? Все равно без толку. Тысячи есть — половчее меня». Правда, приехав в Москву, Соня записалась в школьный кружок театра на французском языке, вела этот кружок учительница с экзотической фамилией Редерер. Но Соня с Редерер не поладила: ее не устраивало произношение учительницы, начались конфликты, а после за хроническую неуспеваемость Соню из кружка вывели. Впрочем, французский язык (один урок в неделю) не делал погоды. По-французски Соня говорила бегло, свободно читала с листа «Юма- ните-диманш». Игорь был англофоном, притом англофоном посредственным, он слушал Сонино чтение и наслаждался ее прелестным, как колокольчик из слоновой кости, «версальским «р». Нехотя, как непосвященному, Соня объяснила ему, что этот звук возник искусственным путем: виконты и маркизы версальского двора специаль¬
34
ными упражнениями отрабатывали дрожание язычка, чтобы их выговор отличался от выговора простонародья. Эту манеру у Версаля перенял и прусский двор, вот почему берлинцы тоже грассируют. Игорь пытался воспроизвести этот изысканный звук, но Соня недовольно морщилась: «Фу, мерзость. Капустный лист какой-то. Уж лучше не надо». Тайком Игорь начал было учить французский (чтобы у них с Соней был общий язык), но «капустный лист» оказался неодолимым препятствием. Так и осталась в его французском запаснике «шерше ля фам» и странное выражение «Пуркуа ву плюэ а нотрё нутрё», что, по словам франкофона Женьки, означало: «Зачем вы плюете мне в душу?»
...Между тем похолодало, с темно-рыжего неба начала сыпаться то ли снежная, то ли водяная пыль. Игорь с досадой отметил, что мысли его ушли чересчур далеко, передернул плечами и, подняв воротник отсыревшего пиджака, пошел домой.
Во всей квартире был уже выключен свет, но родители не спали. Сначала Игорь услышал мамино:
— Явился, слава богу.
А потом голос подал отец.
— Ты что, забыл? — строго спросил он из темноты.— Завтра чуть свет.
— Нет, не забыл, спокойной ночи,— коротко ответил Игорь и, разувшись и сняв пиджак, пошел в Нинкину комнату.
Сестра спала. Игорь поцеловал ее в лоб и тихо сказал: «Прости меня, Нинка». Нина-маленькая вздохнула и повернулась на другой бочок... Давным-давно, еще задолго до Шитанга, Нина-маленькая заявила, что посвятит свою жизнь братьям и будет работать для них, чтобы у них все было самое-самое. К этим девичьим декларациям можно было относиться как угодно, но факт, что дела своих братьев Нина-маленькая принимала очень близко к сердцу. Кровь у нее была хоть и «свекольная», но добрая, теплая кровь.
И только устроившись на своем диване в гостиной, головой к телевизору, Игорь мысленно сказал себе: «А завтра приезжает Костя» — и чуть не подпрыгнул на постели от радости. Дошло наконец до сердца: сейчас рассудок его дремал, и ничто не мешало ему просто радоваться.
Виделись ему буйволы и ребятишки, плещущиеся в коричневой теплой воде, связки длинных бамбуковых жердей у порога хижин на сваях, низко мчащиеся над Шитангом оранжевые тучи, снились гортанные звуки красивого языка, девушки в длинных и узких юбках, с белыми и розовыми магнолиями в волосах, лысый и очкастый аристократ Маун в расписном индонезийском «батике», снился босоногий клетчато-юбочный Ши Сейн, которого можно было принять за деревенского парня, если позабыть, что он выпускник солидного английского колледжа, проходивший стажировку в нескольких странах обоих полушарий, и, конечно, Константин, нетерпеливо поглядывающий на фотографа («Да уйдешь ты наконец, зануда?»).
35
И вот верхом на низкорослых лошадках, оба в парусиновых шляпах, в костюмах «сафари» (Соня тоже, конечно же, здесь) — все втроем они скачут по тропинке, ведущей в гору среди кустов, усеянных крупными белыми и оранжевыми цветами. Впереди — «джип», набитый мелкорослыми солдатами в синих касках и вылинявшей синей униформе, их карабины настороженно нацелены в разные стороны. Сзади, задрав юбку выше колен и подгоняя лошадь босыми пятками, скачет их верный спутник Ши Сейн. Как и положено всякому верному спутнику, Ши Сейн все понимает (хотя самому Игорю неясно, что именно должен он понимать) и, широко улыбаясь, смотрит на Соню издалека.
За плечами у Кости — серый сундучок с теодолитом, у Сони — полосатая рейка наперевес, как копье. «Не отставай!» — через плечо кричит Костя. И Игорь с ужасом чувствует, что в самом деле начинает отставать. Ему все труднее и жарче дышать, в глазах рябит от белого и оранжевого. А Костя и Соня все удаляются.
Вдруг — резкая остановка. Костя, подняв голову и придерживая одной рукой шляпу, другою показывает наверх и что-то говорит Соне. Она смотрит, запрокинув голову, замерла. Белое горлышко, как будто пьет. По откосу поднимается вверх крутая лестница с деревянной резной крышей. А наверху, выше усеянных огненно-оранжевыми цветами крон деревьев, ослепительно сверкает большая золоченая пагода. Они трое долго молчат, глядя то вверх, то друг на друга, и улыбаются.
Эту картинку Игорь видел в какой-то книге: трое всадников, лестница в зарослях, наверху — огромный сверкающий храм, к которому не спеша поднимается группа бритоголовых людей в оранжевых тогах, держащих сандалии в руках. Игорь не знал, что монахи не носят обуви (снимок был слишком мелким), и в руках у них не сандалии, а овальные веера... Но разве это имело какое-нибудь значение? Картинка поразила его своей тревожностью: и всадники слишком настороженно глядели вверх, и крутой бок пагоды зловеще сверкал, и монахи поднимались как-то уж очень театрально, торжественно, и прорицательница в белом, сидящая в нише у самой дороги, очень подозрительно укутала покрывалом свое темное лицо. А может быть, это была продавщица сладостей, на коленях у нее и на дороге возле ниши разложены были какие-то мелкие предметы, которые она судорожно перекладывала, то и дело поглядывая на подъехавших людей.
Тут что-то тоненько свистнуло над их головами, Ши Сейн гортанно крикнул, и десятки людей в черном, молча сжимавшие в руках тоже черное, мрачно блестящее оружие, высыпали на дорогу. Молчаливые, пасмурные, все простоволосые (их черные головы были острижены под полубокс), они обступили Ши Сейна и Игоря, вцепились в сбрую их лошадей. Игорь в отчаянии оглянулся: но где же Костя и Соня? Они исчезли, их нет...
Так снились Игорю недоигранные игры детства. Однажды в пятом
36
классе он заглянул через плечо в тетрадь своего Женьки (уж слишком тот старательно прикрывал ее рукой) и увидел, что вся страница у него изрисована вздыбленными танками, косо летящими самолетами, взрывами, похожими на парашютики, и пунктирами очередей. Добавляя к картине ожесточенной рукой все новые и новые детали, Женька шептал: «Чж-ж, бух, вышел из пике, бз-з, дык-дык-дык, задымилось!» Игорь искренне пожалел своего друга: надо же так тупо забавляться. И вот все недобранное в свое время проступало во сне.
Всю ночь гонялся Игорь по цветущим джунглям Шитанга за Костей и Соней, то видел их вдалеке, в сияющих кущах, то снова терял их следы...
6
И вот Костя приехал.
Ошеломленный перелетом, проездом через город в такси, Костя сидел в центре большой комнаты на стуле, не снимая демисезонного пальто (рукава казались то ли коротки, то ли длинны, трудно было понять, в чем тут дело), и, странно улыбаясь, вертел головой. Отец и мама, Игорь и Нина-маленькая сидели на диване и не сводили с Кости глаз. Он похудел еще больше — даже в сравнении с той знаменитой шитанговской фотографией, на щеках появились две резких морщины (и вообще, если приглядеться, все лицо его покрылось сеточкой мелких морщин), тонкая шея беззащитно торчала из твердого ворота белоснежной рубашки, какие-то светлые пятна отчетливо видны были на загорелых руках... Сердце Игоря разрывалось от нежности и жалости к брату, и ничего не нужно было говорить.
— Костенька...— жалобно позвала мама.
Костя вздрогнул, остановил на ней взгляд, смущенно провел рукой по лицу, как бы смахивая паутину.
— Вынырнул, из воды вынырнул,— проговорил он, не переставая улыбаться.
Все четверо молчали, Игорь поймал себя на том, что тоже подался к брату, как мама, как отец, как Нина-маленькая.
— Голуби вы мои...— сказал, глядя на них, Костя.
Мама заплакала.
— Ну вот,— проворчал отец и полез в карман за сигаретой.— Так я и знал...
Багаж Костин свален был на полу у дверей и производил странное, чуть ли не межпланетное впечатление: два потертых чемоданчика, один фибровый, перевязанный для верности веревкой, другой клетчатый гэдээровский, сквозь матерчатые бока которого проступали какие-то округлые и угловатые предметы, динамовская сумка с позеленевшей молнией — все было знакомое и в то же время неузнаваемое, прошедшее таинственные нездешние горнила. Веревка, ярко-рыжая, мохнатая и жесткая даже на взгляд, сизый налет на чемоданах и сумке, и в довершение всего, прислоненный к стене, стоял
37
гигантский, в полтора метра длиною, стручок тропической акации, бугристый футляр, как будто сделанный из черной ременной кожи, внутри которого при малейшем движении погромыхивали чудовищной величины горошины. Сбоку на стручке красовалась ярко-красная печать с четкими круглыми, как колесики, буквами. Шофер такси, увидев стручок, был потрясен: он даже помог донести багаж до лифта, а прощаясь, откозырял Косте (а может быть, и стручку), такого Игорь еще не видывал.
Игорь вернулся к реальности первый. Он встал, не говоря ни слова, перешагнул через Костину сумку и, покосившись на стручок, отправился на кухню готовить кофе.
— О господи, что же это мы! — спохватилась мама.— Костенька, милый, снимай поскорее пальто! Сидишь, как транзитник!
«Он изменился,— думал Игорь, стоя у плиты и пристально следя за медленно вспухавшей кофейной пеной,— он здорово изменился, и мы, наверное, тоже. Какими странными мы ему кажемся, наверно... То суетились, тараторили про какие-то дурацкие комплексы, конкурсы, спиннинги, дачи, то замолчали все разом. Нужны ему все эти дачи и спиннинги, когда он еще сегодня слышал, как барабанит муссонный дождь по пальмовым листьям... И чем мы его теперь будем кормить?.. Он вроде меньше ростом стал, сухой стал, жесткий, как ящерица, совсем другой... Зачем мы целый год без него жили? Наверно, так нельзя: целый год... Родные люди должны все время видеться... И почему он не рассказывает нам ничего? Боится, что не будем его слушать? Люди теперь не любят слушать рассказы о путешествиях, торопятся скорее о себе рассказать, но то ведь просто люди, а то — мы...»
Он вспомнил, как хвалился своими успехами на водительском поприще, и вспотел от стыда. Зачем? Как глупо... Кофе сбежал, и Игорь, обжигая пальцы, стал вытирать плиту тряпкой, прислушиваясь между тем к доносившимся из гостиной голосам. Судя по
38
Нинкиному смеху, разговор был веселый. «А может быть, не надо все усложнять? Костя приехал в отпуск, все просто, какие проблемы? Так хорошо он сказал: «Голуби вы мои...» Наверно, потому, что рядком сидели. Нет, он нас любит, мы не кажемся ему странными, и он совсем не другой. Мы просто немного друг от друга отвыкли, это пройдет. Наверно, мешает знание, что он еще сегодня был там... И видел то, чего мы никогда не увидим.
Посмотрим,— решил наконец Игорь, разливая по чашкам кофе,— что он мне скажет, когда я войду. Если спросит, как я учусь, или скажет, что я повзрослел, вырос,— значит, верно, что он стал другим... И химия у него, значит, другая, и неизвестно, о чем с ним разговаривать... И что готовить сегодня на обед. А может быть, еще так: «Ого, кофеек!» И начнет потирать руки. Значит, не Костя, значит, всё».
В гостиной раздался пронзительный визг: так развлекаться могла только Нина-маленькая. Игорь нахмурился: зачем это ей? Год назад, когда Костя уезжал, она не была еще такая толстая и ученая. С подносом в руках Игорь вошел в гостиную и остановился посреди чемоданов. Костя носил Нину-маленькую на руках, а она, крепко обняв его за шею, визжала, как год назад, как два, как три года назад.
— Перушко мое! — смеясь, говорил Костя. Он не забыл (а Игорь знал понаслышке), что в детстве сестра смешно произносила это слово: «перушко».
Жилистый, щуплый на вид, Костя без труда подбрасывал Нинку на руках. Отец, зажав в зубах сигарету, смеялся, а мама стояла рядом, беспомощно взмахивая руками, и вскрикивала:
— Разобьешь мне ее! Разобьешь!
«Наверно, он делает это специально,— подумал Игорь,— чтобы показать ей, что она не так уж толста». И тут же поймал себя на том, что с завистью смотрит на эти игры: ему всегда было завидно смотреть, как другие от души веселятся.
Наконец Костя бережно поставил Нину-маленькую на ноги (она вся раскраснелась и стала почти симпатичная) и, повернувшись к Игорю, сказал:
— Смотри, киба-дача!
Встал в позу каратиста и, резко вскрикнув: «Кийя!», подпрыгнул и выбросил ногу вперед. От неожиданности Игорь расплескал кофе, а на лице его, он чувствовал это, появилась улыбка облегчения: нет, Костя вернулся Костей, хоть ты вокруг света его посылай.
— Что, лихо? — довольный его реакцией, сказал Костя.— Погоди, научу. Хоть пояса у меня и нету, но все равно. Меня сам Ши Сейн тренировал.
— Дикарство какое-то,— неодобрительно сказала мама.— И ты там скакал?
— Со страшной силой,— подтвердил Костя, принимая у Игоря поднос с чашками.— Целыми днями.
— А я вот слышала, что каратэ — подсудное дело,— сказала мама.— На учет в милиции надо встать.
39
— Обязательно встану,— ответил Костя.
Снова чинно присели, каждый с чашкой в руках. Костя был уже без пиджака, в рубашке с короткими рукавами, и незаметно было, чтоб он мерз.
— А этот Ши Сейн,— с жгучим любопытством спросила мама,— он что, женился наконец или все еще так гуляет?
— Нет, не женился,— ответил Костя, отхлебнув кофе.— Ушел в монастырь.
Все были удивлены.
— Да что ты,— проговорила мама,— неужели монахом сделался?
— Конечно. В оранжевой рясе меня провожал. Обрился налысо, все как положено.
— С чего это вдруг,— недоверчиво улыбаясь, спросил отец.— Такой здоровый...
— А в отпуске ему все равно делать нечего,— объяснил Костя.— Решил заняться медитацией... Ну, в смысле — углубиться в самого себя. Подумать о смысле жизни, что ли.
— А невеста? — не унималась мама.
— Невеста, говорит, подождет.
— И что же, после дождей его отпустят? — поинтересовался отец.
— Ну, разумеется. У них это дело свободное. Поссорится муж с женой — прощай, говорит, на месяц ухожу в монастырь.
— Здорово! — Отец засмеялся.— Вот бы нам.
— Да нет,— сказал Костя,— ты бы не согласился. Каждое утро надо милостыню собирать.
— Вот чудеса! — удивилась мама.— И Ши Сейн собирает? Такой важный?
— Важному больше подадут.
Сказав это, Костя вдруг повернулся к Игорю и, положив руку ему на колено, посмотрел в глаза.
— Ну? — проговорил он.— Что такое? Проще надо, Гошка. Еще проще. Еще.
У него были серые глаза, серо-рыжие, умные, понимающие, с мелкими морщинками в уголках. И под его пристальным взглядом Игорь почувствовал себя и в самом деле «заунывным дебилом».
— Вот так,— удовлетворенно сказал Костя.— А теперь займемся баулами.
Через несколько минут на полу уже тяжело перекатывались зеленые и желтые кокосы, каждый аккуратно оштампованный той же печатью, что и стручок. Рядом млели грозди бананов, таких Игорь еще никогда не видал: маленькие желтые, как огурчики, мощные зеленые, плоские темно-красные... Одна за другою из «баулов» появились раковины, большие и маленькие, радужные и матовые коралловые ветки, древесные корни причудливой формы, разноцветные птичьи перья. В комнате запахло пряностями и цветами.
Растроганная мама держала, прижимая к груди, связку перла¬
40
мутровых ложек совершенно сказочной красоты. Отец озабоченно раскладывал на столе резные курительные трубки из черного, красного, желтого и розового дерева, каждая в отдельной, аккуратно склеенной коробочке. Нина-маленькая, стоя у зеркала, примеряла коралловые бусы, а на спинке стула висело еще полдюжины разноцветных, белых, пестрых и розовых.
— А это тебе.— Костя протянул Игорю что-то небольшое, завернутое в рыхлую, как вата, бумажку.— От одной андаманской красавицы, она в тебя заочно, по фотографии, влюблена. Забавный прибор, я с ним чуть ли не месяц играл. Так и не понял, в чем хитрость.
Игорь пробормотал «спасибо», осторожно развернул. На ладони у него лежала белая крохотная, с детский кулачок, статуэтка: сидящий скрестя ноги благодушный лысый толстяк, вырезанный из гладкого полупрозрачного камня.
— Ух ты, божок! — воскликнула Нина-маленькая, заглянув через плечо Игоря.— Хорошенький какой!
«Еще бы,— подумал Игорь,— у тебя «толстый» и «красивый» — синонимы». Сказать по правде, он был несколько разочарован: на что ему эта дамская безделушка?
Все столпились вокруг него, рассматривая «прибор».
— Старинная вещь...— проговорил отец, раскуривая темно-вишневую трубку.— В музее надо показать.
— Это Будда,— уверенно сказала Нина-маленькая.
Костя покачал головой.
— Нет, это бог веселья. Смотрите, как улыбается.
И правда, по лицу божка блуждала бессмысленная и в то же время хитроватая улыбка.
— А что, действительно от красавицы? — ревниво спросила мама, ее этот вопрос интересовал больше всего.
— Они там все красавицы! — ответил Костя.— Вообще замечательно красивый народ. И добрый, и смешливый. А эта женщина, она торговка, продает орхидеи на индийском рынке, живет в горах, за Шитангом, на самой границе, и приезжает в Каба-Эй раз в неделю... Так вот, она еще и колдунья, вещунья, что ли, не знаю, как объяснить. Когда Шитанг разлился, мы оказались на том берегу, ну и гостили у нее четыре дня...
Костя умолк и опять провел рукой по лицу, как бы смахивая паутину. Никто этого не заметил, кроме Игоря: все были поглощены созерцанием божка.
— А хитрость-то где? — спросил отец.
— Хитрость? — Костя усмехнулся.— А вы спросите у Игоря. Гоша, ты ничего не чувствуешь?
Игорь прислушался к себе: в самом деле, от пузатого божка исходило легкое, щекочущее пальцы дрожание, и по спине бежали радостные мурашки.
— Вибрирует,— неуверенно улыбаясь, сказал он.
41
— Ага! — обрадовался Костя.— Ну, значит, все правильно, действует. А говорливость не нападает? Сказать ничего не хочется? Ты говори, не стесняйся, здесь все свои.
— Да нет как будто...— помедлив, проговорил Игорь и тут же положил божка на стол. С ним в самом деле творилось что-то странное: легкий хмель? Нет, не хмель, необыкновенная ясность в глазах, легкость, радость на сердце — словом, то, чего ему всегда не хватало.
— А ну-ка...— Нина-маленькая потянулась к божку, хотела взять его, но Костя ее остановил.
— Э, нет! — сказал Костя.— Вот этого нельзя. Меня предупредили, что берут его навсегда и назад уже не возвращают. Но можете поверить нам с Игорем на слово: эта штуковина вызывает состояние, близкое к восторгу. В стакан с водой положишь — вода шипит, как нарзан.
— А может, она радиоактивная? — с опаской спросила мама.
— Да нет,— сказал Костя.— Я у геологов спрашивал, у буровиков, они говорят — это просто отполированный шпат. А почему вода в восторг приходит — не могут объяснить. В руки я им не давал, конечно, берег для Гошки. Один специалист теорию развил: здесь происходит самовозбуждение света...
— Квантовый генератор! — догадался Игорь.— Лазер!
— Ну, так уж сразу и лазер,— Костя засмеялся.— Просто красивая безделушка с секретом. Подаришь кому-нибудь. Колдунья так и сказала: «Для невесты его».
— Ну, Игорек, ну подержи! — попросила Нина-маленькая.— Я очень хочу увидеть тебя в состоянии восторга.
— Еще чего...— буркнул Игорь. Он взял со стола божка и, покраснев, торопливо сунул его в карман. Все с интересом на него смотрели.
— А разве в кармане не заработает? — со смехом спросила Нина-маленькая.
— Нет, только на свету,— ответил Костя и снова провел рукой по лицу.
На этот раз заметили все.
— Ну, вот что,— решительно сказала мама.— Человек с такой дороги, ему отоспаться надо. Все уходите отсюда немедленно!
— Да что ты, мама! — Костя пружинисто встал, с хрустом потянулся.— Я еще главное не показал!
Он наклонился, распутал джутовую веревку, открыл фибровый чемоданчик, достал оттуда какие-то желто-черные бамбуковые палки, планки, деревянные диски. Присел на корточки, повозился (все, стоя вокруг, сосредоточенно за ним наблюдали) — и рядом с кокосами появился мастерски сделанный из бамбука, слегка подчерненного, видимо, паяльной лампой, пулемет в натуральную величину. Костя нажал какую-то планку, пулемет оглушительно затрещал.
— А это кому? — скорбно спросила мама.
— Это мне! — Костя пустил еще одну заливистую очередь и под¬
42
нялся.— Хорош? Подарок командира охраны. Отличный парень, а в шахматы играет, как бог.
— Дурачок ты у нас, дурачок,— сказала мама.
— На машину-то хоть заработал? — спросил отец.
— Нет, папа,— ответил Костя.— Да и на что она нам? Будет стоять и гнить, вон у Жоры Мартышкина... Кстати, как у него семейная жизнь?
Все посмотрели на Игоря. Игорь сидел и делал вид, что ничего не слышит. «Ну,— думал он,— теперь начнут обрабатывать Костю. Но мы опередим. Опередим!»
— Ай, бог с ней, с машиной,— сказала мама.— А твоему Ма- уну — спасибо от меня, от домохозяйки: угадал. Вот ведь чужой человек, а угадал.
Связка перламутровых ложек сияла у нее в руках, как букет.
— А ты, старик, что хмуришься? — Костя положил руку отцу на плечо.— Доволен, куряка? Доволен?
— Красиво,— пробормотал отец, вертя в руках дымящую трубку.
— Ну, еще бы,— улыбаясь, сказал Костя.— Ши Сейн старался. Резчика нанял в дельте, там они славятся, а дерева у них разного нет. Он и дерево доставил, и образцы. Там его, кстати, и водяная змея укусила.
— Змея? — Мама охнула.— Настоящая? Водяная?
— Ну да. Неделю ходил, как лунатик, стоя засыпал, потом ничего, оклемался. Сам виноват: вольно ему было купаться.
— Где? В дельте? — спросил отец.— А что, там не купаются?
— Ну, только такие идиоты, как Ши Сейн и твой сын. Нас лейтенант предупреждал: в воду — ни шагу. Ши Сейн вперед заходит, ладошами по воде хлопает, а я — за ним.
— Как это? — переспросил отец.— Он впереди, а ты за ним?
— Ну, я-то хотел наоборот, да он не позволил. Я, говорит, тебя сюда завез, и мне твои родители не простили бы... А отыскала его змея без меня. Он далеко заплывал, любил лежать на воде кверху пузом. Ну, и случилось. Я не поверил сначала. А лейтенант говорит: ничего, отоспится. Потом, когда мы отплыли на пакетботе, с палубы было видно: кишат, как макароны, только головки приподняты. Вода в дельте мутная, вблизи не видно, только сверху.
Наступила тишина.
— Ладно,— сказал Костя,— не кручиньтесь, все позади. Больше не повторится.
Мама пригорюнилась, потом заплакала.
— Ради меня, Костенька, ради нас...
С ложками в руках она стояла и плакала, старенькая, толстенькая, краснощекая. Костя подошел к ней, погладил ее по голове, отобрал У нее ложки.
— Намусорил я тут,— сказал он.— Вы прибирайтесь пока, а мы с Гошкой пойдем бананы жарить.
На кухне, пока Костя чистил и резал бананы (обращаясь с ними
43
так бесцеремонно, как иная хозяйка с магазинным картофелем), Игорь смотрел на него не отрываясь. Виски и брови у Кости были седые... И эти белые пятна на руках...
— Костя,— вполголоса окликнул его Игорь.— Слышишь, Костя?
— Ау,— отозвался брат.— Ты хочешь спросить, что с руками. Не бойся, это от солнца. Скоро пройдет.
— Нет, я не о том...— Игорь помедлил.— Скажи мне, Костя, ты был ранен?
Брат вскинул голову, сухо засмеялся, не глядя на Игоря. Худые руки его продолжали работать.
— С чего ты взял? — спросил он.— Кто это мог меня ранить?
— Ну, инсургенты...— смутился Игорь.
— Хм, инсургенты,— брат покачал головой.— Воображение у тебя, однако... Сковородка готова? Топленое масло есть?
Он говорил все это, глядя высоко перед собою, а не на Игоря, как слепой.
— Все хорошо, Костя? — настойчиво спросил Игорь, заглядывая ему в лицо.— Все у тебя хорошо?
Долго Костя не отвечал. Сковородка шипела.
— Только при маме...— проговорил он с трудом,— при маме таких вопросов не надо. Все будет хорошо.
Он уложил на сковородку первую партию банановых долек и, хлопнув на ходу Игоря по плечу, пошел (который уже раз) мыть руки. Он тоже был аккуратистом, его брат.
7
Весна в этом году обещала быть редкостно дружной: стояли пасмурные теплые дни, по ночам еще иногда подваливал снег, но, не успев лечь, тут же начинал таять. Ветки деревьев, обдутых сырыми ветрами, стали живыми и гибкими, кое-где, особенно между домов, они уже были облеплены коричневыми и желтыми почками, которые только что не жужжали, как пчелы. Асфальт был влажен и гол, снег лежал еще грязными кучами во дворах, под кустами, под скамейками в скверах, но и там усиленно таял. Пахло водой.
Игорь и Костя возвращались из овощного с картошкой. Взяли сразу двадцать кило и несли авоську вдвоем. Игорь то и дело с беспокойством поглядывал на брата: ему не нравилось, как Костя дышит, редко и глубоко, с какими-то судорожными перерывами. Несколько раз Игорь порывался взять авоську на себя, но Костя молча смотрел на него и загадочно усмехался.
— Что ты так дышишь? — не вытерпел наконец Игорь.— Устал? Давай передохнем.
— Тебе, я вижу, в сиделки не терпится? — весело спросил его брат.— Не торопись, Гоша, успеешь. А дышу потому, что воздух вкусный. Давно таким не дышал.
44
Говоря это, он замедлил шаги и огляделся. Они шли по скверу, который лет через тридцать обещал стать дремучим, но пока что имел какой-то карантинный вид. Все деревца, чуть выше человеческого роста, белыми тряпочками привязаны были к подпоркам. Садовые скамейки среди них стояли, как топчаны в поликлинике. Впрочем, дома по обе стороны, светлые, ровные, казались вычерченными прямо на сером небе, к ним очень шло это призрачное и трогательное обещание сквера.
— Ладно, присядем,— сказал Костя, помедлив.— Все равно где-то поговорить надо.
У Игоря похолодело сердце: значит, все-таки... все-таки он правильно понял. По дороге в овощной и там, в очереди, он боялся и ждал этого разговора. Недаром Костя так решительно вызвался в магазин, невзирая на все мамины уговоры.
Они уселись на холодной скамейке, под которой, урча, копошился и таял сугроб. Просторный сквер просматривался из конца в конец, он был пуст, если не считать нескольких малолеток, которые, шлындая по лужам в резиновых сапогах, озабоченно пускали кораблики.
Костя не спешил с разговором. Он достал из кармана пальто зеленую пачку андаманских сигарет, на которой была нарисована желтая цветочная гроздь, что-то вроде мимозы, закурил. Игорь молча смотрел на него: всю свою жизнь Костя был по убеждению некурящим.
— На мне общественное поручение,— проговорил Костя, повернувшись и глядя Игорю в лицо своими немолодыми глазами.— Женщины просили на тебя повлиять. Будто бы ты совершенно от дома отбился. Я не считал себя вправе вмешиваться, но раз уж выслушал одну сторону, надо дать высказаться и другой. В чем проблема?
Игорь облегченно вздохнул: тот разговор откладывался на неопределенное время. «Трус, жалкий трус! — выругал он себя.— Обрадовался отсрочке!» Машинально сунул руку в карман, достал божка, повертел его в пальцах. Круглое лицо толстяка младенчески улыбалось во весь беззубый рот, короткие ручки покойно лежали на толстом животе. Пальцы приятно защекотало. Особого восторга Игорь не испытывал, но ощущение простоты и раскованности немного кружило голову.
— А не боишься? — насмешливо спросил Костя.— Игрушечка-то опасная. Впрочем, я на себе проверял: чего человек не хочет сказать — того и не скажет. Но уж что хочет сказать — скажет всенепременно.
— Нет, не боюсь,— сказал Игорь.— Мне от тебя скрывать нечего.
Все как бы осветилось вокруг скрытым солнцем: стены домов ярко
белели в темно-асфальтовом небе, рыжие ручьи, извиваясь и журча, бежали у самых их ног, мостовая отдавала лиловым.
— Давно хочу тебя спросить,— заговорил он,— как ты думаешь, можно ли любить плохого человека? Заведомо плохого, я имею в виду.
Костя ответил не сразу. Он поежился, посмотрел по сторонам.
— Сама постановка вопроса,— проговорил он наконец,— сама по¬
45
становка вопроса показывает, что никакой любви тут нет и в помине.
— А что же есть?
— Может быть, любопытство, новизна, стремление понять, разгадать, объяснить, да мало ли что.
Игорь представил себе Сонино лицо — светлое, веснушчатое, с нахмуренными золотыми бровями...
— Нет, ты неправ,— сказал он.— Чего-то ты, наверно, не знаешь.
— Возможно,— согласился Костя и искоса посмотрел на Игоря.— А почему наши так к ней плохо относятся?
— Да все проклятая коллизия,— сказал Игорь.— «Мы и они». «Они» — это те, кто живет не так, как мы, а значит — не так, как надо. Отсюда и неприязнь.
— М-да, коллизия,— задумчиво повторил Костя.— Ты понимаешь, Гошка, я с трудом себе представляю, как это можно — сидеть два года в одном классе и еле тянуть.
— Это в тебе говорит психологический стереотип! — запальчиво возразил Игорь.— Второгодница — значит, ленива, глупа, распущенна. Так и старики рассуждают, и Нинка. Ты тут, прости, не оригинален. Видишь ли, учеба — это в своем роде компромисс, приходится чем-то поступаться, а она поступаться принципиально не хочет. Есть люди, органически неспособные к компромиссам, подлаживаться им претит. У нее, понимаешь ли, интуитивный склад мышления...
— Красивая? — перебил его Костя.
— Да.
— К тебе как относится? Хорошо?
— Як ней лучше,— честно сказал Игорь и сам удивился тому, что сказалось.
— Что ж так?
— Ты понимаешь, Костя, есть люди с проклятой привычкой смотреть в лицо человеку и мучиться мыслью: «Что он сейчас обо мне думает?» А самому при этом — не думать ни о чем своем, то есть практически не иметь себя быть. Вот и я при ней... как бы перестаю быть. Растворяюсь. Ты меня понимаешь?
— Пытаюсь,— ответил Костя и улыбнулся.— Все это слова, Гоша, а правда проста. Игрушку-то спрячь, я тебе и так верю. А то, гляди, к ней ребята присматриваются.
Тут только Игорь заметил, что их скамейку обступили малыши, они с любопытством заглядывали в Костины руки. Один ребятенок даже протянул покрасневшую от холодной воды лапу, так ему хотелось дотронуться до божка.
Игорь поспешно положил фигурку в карман. Какое-то время ребята разочарованно стояли возле их скамейки, потом, оглядываясь, побрели к своим кораблям.
— Знаешь, отчего старики сердятся? — продолжал Костя.— Оттого, что ты каждый вечер уходишь, вот и все. Если бы она хоть время от времени к нам приходила... Скажем, сегодня: и повод есть, я слайды шитанговские буду показывать.
46
Игорь с досадой прислушался к себе: говорить расхотелось, простые и разумные объяснения брата вызывали лишь разочарование. Костин голос доносился до него так слабо, как будто это падали черные хлопья бумажного пепла.
— Кипеж начнется...— неохотно сказал Игорь.
— Ну, кипеж я беру на себя. Приводи и не бойся. Договорились?
Игорь медлил. Все-таки Костя многого не понимал. Ну, как ему
объяснить? С одними людьми чувствуешь себя отлично, с другими — даже лучше того, но, когда те и другие сходятся вместе, начинаются сложности. А все оттого, что две роли одновременно играть невозможно. С Соней Игорь охотно и радостно становился зависимым, а дома именно независимостью больше всего и дорожил. Значит, что? Значит, надо все время переключаться. В театре, если один актер играет две роли в одном спектакле, он не может встретиться с самим собой. В жизни же это случается поминутно. Притом еще чувствуешь, что, пока исполняешь одну роль, другая часть публики ревниво за тобою следит («Что-то Игорек наш сегодня на себя не похож»), а надо еще позаботиться и о том, чтобы те и другие между собой поладили. Хорошо, если текст самой пьесы известен: но откуда знать, какие замыслы роятся в голове у Сони, у Нины-ма- ленькой, у мамы, наконец?
— Ты считаешь, что это необходимо? — спросил он.
Костя кивнул. Игорь посмотрел на него внимательнее — и охнул: лицо у Кости обострилось, побледнело, губы стали темными.
Игорь вскочил.
— Костя, я...— растерянно пробормотал он.— Я идиот, я эгоист... Костя, тебе плохо!
— Молчи,— остановил его Костя, глядя ему в лицо сузившимися глазами.— Ты мне надоел, Гошка, не обижайся. Я только сегодня приехал, а ты мне уже надоел.
— Пойдем домой, пойдем скорее домой! — не слушая его, настойчиво повторял Игорь.
— Во-первых, сядь,— Костя сунул руки в карманы пальто и прикрыл глаза.— А во-вторых — кого мы обрадуем дома своим появлением... в таком виде? Об этом тоже надо подумать. Да сядь же, тебе говорят! — раздраженно прикрикнул он, не открывая глаз.
Игорь присел на край скамьи и растерянно огляделся, готовый в любую минуту сорваться с места и бежать, звать на помощь... Лицо у Кости было совсем неживым, и Игорю стало по-настоящему страшно.
— Давай договоримся,— ровным голосом продолжал Костя,— чтоб больше не было этих испытующих взглядов исподтишка. Мы должны поберечь маму. Да, я немного, скажем так, прихворнул, по собственной глупости...
Он открыл глаза и с усилием повернул голову. Минуту смотрел на Игоря, потом усмехнулся.
— Нет, это не то, что ты думаешь,— проговорил он,— а в об¬
47
щем-то, славно, что ты так начитан. То — страшный бич, похуже проказы, в течение полугода человек превращается в трухлявый пень. Там это тоже есть, но — бог миловал. У меня, Гошка, кое-какие нелады с составом крови. Недуг, как видишь, вполне приличный, даже изысканный, для окружающих я совершенно безвреден. Железы опухают...— он вскинул голову и глотнул,— и слабость нападает иногда.
Игорь молчал. Человек обстоятельный, он давно, еще год назад прочитал все, что можно было найти, о биологических прелестях Андамана... Выбор там был богатый.
— Ах, Костя,— с отчаянием сказал он,— ну как же ты так?
Костя выпростал руки, резким движением вытряхнул из пачки еще
одну сигарету, закурил, с жадностью затянулся и тут же бросил ее в урну, полную снега.
— С чистюлями как раз и случается,— проговорил он наконец.— Уж кипятил я там все, кипятил, веришь ли — чуть не руки ошпаривал... Ну, да ладно. Ши Сейн возил меня к врачу-китайцу. Меня предупредили, чтобы я ни в коем случае не соглашался на переливание крови: вся штука в том, что от новой крови процессы могут резко ускориться. А я в свою свекольную кровь верю. Еще китаец сказал, чтобы я не отвечал на вопрос, сколько мне лет: это, видишь ли, тоже опасно. Я почему тебе рассказал? Возможно, мне придется лечь в госпиталь. Даже скорее всего... Так вот, я не хочу, чтобы у наших с тобой стариков это дело связывалось с Андаманом. Что от тебя требуется? Не демонстрировать свою грамотность. В конце концов, кровь можно испортить и здесь. Ты понимаешь, Гошка.— Он повернулся, морщась, поднял руку, вяло положил ее Игорю на плечо.— Я там провел год, возможно, лучший год в своей жизни. Нельзя, чтобы мама все это возненавидела. Нельзя, тогда мне будет очень тяжело. И даже если...— Игорь посмотрел на него в упор.— Даже если что-то случится,— настойчиво продолжал Костя,— мы постараемся их убедить, что Шитанг ни при чем. Эта работа, ты понимаешь, она меня сделала. Десять таких проектов — и жизнь на земле станет другой. Это святое, Гошка, пусть они любят это так же, как я... Как любили до сих пор. Ты понимаешь меня, Гошка?
Игорь покачал головой.
— Не знаю...— сказал он тихо.— Мама все равно поймет.
— Не поймет! — Костя стиснул его плечо.— Мы с тобой не дадим. Не дадим в обиду Шитанг. Я сам виноват, я сам все испортил...
Он снова прикрыл глаза.
— Ну вот,— пробормотал он после паузы,— уже полегчало. Правда, идти домой еще рановато... Давай походим, разомнемся.
Он посмотрел на Игоря, улыбнулся.
— Ты, я вижу, совсем зажурился. Не бойся, Гошка, дома все пройдет. Видишь, воздух какой здоровый! Мы будем жить своим образом. А ну-ка, повторяй за мной: мы будем жить своим образом.
— Мы будем жить своим образом,— повторил Игорь — и не выдержал, тоже заулыбался.— Мы знаешь что сейчас сделаем? — Он
48
посмотрел на часы.— В школе у нас уроки кончились. Пойдем, я тебя с ней познакомлю.
— Да мы как будто уже знакомы,— проговорил Костя.— Видались на лестнице, даже здоровались. Впрочем, пойдем.
Они поднялись. Увидев, что лицо Кости болезненно сморщилось, а губы стали фиолетовыми и тонкими, Игорь в нерешительности взялся за обе ручки авоськи. Сердце у него опять заныло.
— Ну, вот что, последний раз тебе говорю,— прищурясь, сказал Костя.— Еще на меня так посмотришь — я расколю тебе череп, выбью оттуда твои немногочисленные мозги и напихаю банановых шкурок. Запомнил? А теперь веди.
Они подошли к школе как раз в тот момент, когда старшеклассники выходили. Первым братьев увидел Женька.
— Смотрите, ребята! — крикнул он.— Костя Игоряшкин приехал!
Их обступили. Многие знали Костю давно, а уж о его работе на
Шитанге было известно всей школе: Игорь несколько раз рассказывал о Шитанге на собраниях, приглашали его и в десятые классы.
— Вы у нас стали общешкольной известностью,— смущаясь, сказала Наташка Оганесян — та самая, которую Соня называла «канистрой».— Приходите к нам в гости, устроим вам встречу, как космонавту.
— И орден вручите? — смеясь, спросил Костя. Игорь с удовольствием отметил, что он не разучился разговаривать с девчонками: что-что, а это Костя всегда умел.
— Дадим! Колокольчик выпускника.
— Тогда приду. Сто лет не бродил с колокольчиком.
— Мерзнете, наверно? — выскочил Женька.
— Когда-то, сэр, мы были с вами на «ты»,— ответил Костя.
Женька смутился и отступил в задние ряды.
— А зачем вам столько картошки? — спросила бойкая Фоменко.
— Соскучился, целый год на бататах сидел. Знаете, что такое бататы?
— Знаем, конечно,— не теряясь, ответила Фоменко.— Мы и не то еще знаем. Скажите, женился Ши Сейн или нет?
— Ого! — Костя был удивлен.— Надо будет написать Ши Сейну, что его женитьба интересует всю нашу школьную молодежь.
Говоря это, Костя все время оглядывался: он искал Соню. Игорь тоже нервничал: его очень волновала эта встреча. Два самых близких ему человека должны были посмотреть друг на друга новыми глазами и, безусловно, понравиться друг другу, иначе все осложнится неимоверно. Кроме того, Игорю очень хотелось спросить, как обошлось с геометрией, но у ребят, даже у Женьки спрашивать было неудобно.
— Четверку, четверку получила,— сказала наконец вполголоса и не без язвительности Наташка Оганесян.— Не бойся, никто ее не обидел. Мы ей устроили бы овацию, но побоялись без тебя.
Наташка намекала на случай, который произошел не так давно, в декабре. Муза учинила Соне прогон по всем темам, и Соня
49
выкарабкалась, получила законный «трояк». Тогда еще весь класс за нее переживал: достижения аутсайдеров многие принимают близко к сердцу. И когда Муза торжественно сказала: «Ну, вот, ставлю вам три», класс разразился аплодисментами. Реакция Сони была неожиданной. Она вдруг побледнела и, сказав: «Вы меня что, за идиотку считаете?» — выбежала из класса.
И тут появилась Соня. Игорь смотрел на нее сейчас глазами Кости и видел то, чего не замечал раньше. Высокая, статная девушка в отлично сшитом пальто, модных сапожках (дядя Жора не отказывал ей ни в чем), в норковой шапочке, чуть бледноватая, с слегка припухшими, как бы не проснувшимися еще глазами. На вид ее можно было принять за учительницу начальных классов, на худой конец — за старшую пионервожатую. Впрочем, одноклассницы почти не уступали Соне во взрослости: быть может, только вели себя проще.
Увидев Костю в центре толпы, Соня задержалась в дверях. Но сзади напирали буйные пятиклашки, они не терпели никакого промедления, не признавали авторитетов и наверняка столкнули бы Соню со ступенек, если бы она, снисходительно обернувшись, не уступила им дорогу.
— Здравствуй, Игорь,— сказала она, сойдя с крыльца.— Здравствуйте,— чуть более официально проговорила она, обращаясь к Косте.— С приездом.
Каким-то образом ей удалось, что это прозвучало насмешливо.
— Спасибо,— ответил Костя и, обернувшись, весело взглянул на Игоря.
— Ну, как? — нетерпеливо спросил Игорь Соню.
— Я полагаю, тебя уже информировали,— раздельно произнесла она.
— Ну, тут дела семейные,— сказал кто-то из мальчишек (Игорь не успел заметить, кто именно, но оставалась надежда, что Женька все же заметил).— Пошли, ребята.
— Приходите к нам, обязательно приходите,— повторила Наташка Оганесян.— Вы у нас в плане стоите.
— Вот как? — переспросил Костя.— Кто же меня поставил?
— Я,— кокетливо сказала Наташка, и девчонки со смехом разбежались.
Братья Шутиновы подняли свою авоську, и все втроем (Соня чуть впереди) пошли к дому.
— Послушайте, Соня,— сказал Костя, и Мартышкина чуть замедлила шаг, однако не обернулась.— Приходите к нам сегодня часиков в семь вечера. Игорь за вами зайдет.
— Благодарю вас,— не останавливаясь, ответила Соня.— Несколько неожиданно. Вы же меня совсем не знаете.
— Зато я много о вас слышал,— возразил Костя.
Соня остановилась, посмотрела ему в лицо.
— Ну, разумеется,— с усмешкой сказала она.— Игорь доказывал вам, что я не настолько тупа.
51
И быстро пошла к дому.
— Ты, Костя, не думай...— с тоской сказал Игорь,— это она от застенчивости.
— Я понимаю,— ответил Костя, перехватывая авоську поудобнее.— Все будет хорошо, не волнуйся.
8
Часам к шести вечера прибежала Ирочка: по-вйдимому, мама все же решилась и известила ее по телефону. Ирочка очень запыхалась: она влетела в гостиную, как крылатая ракета, и с такой же степенью точности кинулась на шею Косте, который стоял посреди комнаты с простынею в руках (он как раз собирался вешать экран для слайдов). Костя был неприятно удивлен, он метнул взгляд на маму, которая, лучезарно улыбаясь, стояла в дверях, и, не выпуская из одной руки простыню, другою обнял Ирочку за плечи.
— Родной,— проговорила Ирочка, уткнувшись лицом ему в грудь.
В распахнутой шубке, с непокрытой головой (вязаную шапочку
она сняла по дороге, и сейчас эта шапочка лежала у дверей на полу, мама подняла ее и прижала к груди, как святыню), Ирочка была очень киногенична. Игорь стоял на табурете возле балконных дверей (он должен был пришпилить «экран» к шторе) и наблюдал эту сцену сверху, как оператор. Он чувствовал, что Ирочка тщательно продумала детали по дороге: и распахнутую шубку, и оброненную шапочку, и живописно встрепанные волосы, и слово «родной». Во всяком случае, обнимая Костю, Ирочка медленно, но настойчиво поворачивала его нужным для себя образом, как будто танцевала с ним медленный фокс: наверное, он стоял не совсем там, где ей бы хотелось. Оставалось только крикнуть: «Эй, кто-нибудь! Уберите из кадра простыню!» Но Костя упорно не выпускал из рук волочившуюся по земле простыню и, сумрачно оглядываясь по сторонам, разворачивался вместе с нею. Тогда Ирочка ловко, не глядя, забрала у него простыню и, кинув ее на кресло, снова обвила его шею обеими руками.
— Родной, наконец-то,— заговорила она, целуя его в лоб и в щеки.— Как долго тебя не было, целую жизнь. Ты исхудал, весь прокоптился в своих противных тропиках. Забыл меня? Скажи, забыл? Отвык?
— На холостяцких хлебах,— сухо заметила мама. Лицо ее соскучилось: возможно, ей не понравилось слово «исхудал», а может быть, она почувствовала, что бурная сцена эта нехороша уже тем, что происходит на людях, как бы напоказ. Не исключено также (впрочем, Игорь этого не видел), что Костя показал ей из-за спины кулак.
Год назад, перед Костиным отъездом, дело совсем уже шло к свадьбе, но, хорошенько разузнав о Шитанге, Ирочка решила повременить. Все ничего бы, но, бывая у них в гостях, она настойчиво повторяла (в шутку, конечно), что вот ее бросают, сдают в камеру хранения, с собой не берут, а Костя слушал и мрачнел. Наверное, в глуби-
52
не души Ирочка испытывала неловкость, что тропики ее пугали, и пыталась переложить эту тяжесть на Костю, а Костя не возражал. Если бы она тогда не струсила, думал Игорь, все было бы наверняка по-другому, и с Костей бы ничего не случилось. Возможно, он и лез во все дебри очертя голову оттого лишь, что ему было на себя наплевать.
Наконец Ирочка отпустила Костю, отступила на шаг, медленно села в кресло, как будто бы ноги отказывались ее держать. Костя стоял без движения, галстук его сбился набок, руки висели, как плети.
— Негодник, не писал целый год,— с ласковой укоризной сказала ему Ирочка.— Чем я перед тобой провинилась? Вела себя, как паинька, вот можешь у Нины спросить.
Ирочка работала в деканате того самого факультета, на котором училась Нина-маленькая.
— А что касается «холостяцких хлебов»,— блеснув своими тщательно подрисованными черными глазами, Ирочка повернулась к маме,— то, Нина Ивановна, Косте прекрасно известно, что мои кулинарные способности имеют свои пределы. Я не могу приготовить ни змеиное филе, ни салат из красных муравьев, правда же, Костя?
— Да, ты права,— ответил Костя.— Тут андаманки дадут тебе сто очков вперед.
— Знаешь, что я придумала? — весело глядя на него снизу вверх, сказала Ирочка.— Ты весь горячий. Надо тебе за отпуск хорошенько остынуть. Хочешь, поедем с тобой в Карелию? В мае будет такая возможность.
— Прекрасная идея,— в тон ей ответил Костя.— Надо ее хорошо обсудить. Пойдем, я помогу тебе раздеться.
Он протянул Ирочке руку, она легко поднялась, с намерением еще раз его обнять, но он отстранился.
— А что сегодня будет? — посмотрев на Игоря, который прилаживал «экран», спросила она.— Я, кажется, вовремя поспела?
— Удивительно вовремя,— ответил Костя и вывел ее в прихожую.
53
Стоя на стуле, Игорь посмотрел им вслед. Из-за нее, из-за нее все случилось, подумал он.
— Хорошая девушка, самостоятельная,— неуверенно проговорила мама, подойдя ближе к Игорю, чтобы ему помочь.
— Эх, мама, мама,— тихо сказал Игорь.— Я же тебя предупреждал.
— А что? Что такое? — с вызовом спросила мама.— Опять я что-нибудь не так сделала?
Минут через двадцать все было уже почти готово. Отец и Костя возились на кухне, обе Нины, большая и маленькая, носили блюда с закусками и ставили на обеденный стол. Обеденный стол был придвинут к дивану, стоявшему у задней стены, чтобы никто не сидел спиной к «экрану». В центре комнаты стояла бельевая тумба, на ней полуавтоматический проектор — единственная покупка Кости, которая напоминала о валютных заработках. К музыке Костя был решительно глух, и купить на кабаэйском рынке хоть завалященький японский магнитофон ему не пришло в голову. А все остальные его приобретения были, как бы это получше сказать, естественного происхождения. Меч рыбы-пилы висел на стене над телевизором, стручок на шелковом шнуре — в прихожей у телефонного столика, на том самом месте, с которого была снята журнальная фотография. Бамбуковый пулемет грозно топорщился на шкафу. Коралловые ветки, раковины и прочие редкости рассредоточились по комнатам и сразу же привыкли к своим местам. Одни лишь кокосы, до которых у Кости не доходили руки, валялись, перекатываясь по полу, и то и дело оказывались у дверей, где кто-нибудь о них спотыкался.
Игорь слонялся по квартире без дела. На душе у него было пасмурно. Желтая тень висела под белым потолком квартиры, и эта тень была — Костина болезнь. «Нет, этого не может быть,— успокаивая себя, думал Игорь,— все слишком хорошо, так не бывает, когда хорошо».
Костя то и дело подавал ему знаки, чтобы он отправлялся за Соней, но Игорь не решался: интуиция подсказывала ему, что все кончится «кипежем», а Ирочкин приход только усугубил обстановку.
Ирочка настроилась было помогать мужчинам на кухне, но Костя без церемоний выставил ее вон. Тогда она принялась за Игоря.
— Что с тобой, Игорек? Ты сегодня какой-то подавленный. Неприятности в школе?
Игорь пристально посмотрел на нее. На Ирочке было платье столь совершенное, что казалось явлением природы: черное, с яркими красными цветами, напоминавшими разом и о горестях разлуки, и о неистребимом жизнелюбии. Ожерелье из крупных гранатов, явно фамильного происхождения, очень шло Ирочке и подчеркивало ее кастильскую красоту. Впервые Игорь с смутным беспокойством подумал, что Соня одевается не так уж безукоризненно, и было бы много лучше, если бы свои платья шила она сама. Наталья Витальевна была слишком щедра на «беечки»: самое слово это Игорь впервые услыхал
54
в доме Мартышкиных. «А можно без беечки?» — спрашивала Соня, примеряя новое платье. «Нельзя»,— категорически отвечала Сонина мама, как будто речь шла о нарушении этических норм.
— Так что с тобой, Игорек? — допытывалась Ирочка.
— А, голова что-то болит,— пробормотал он, краснея.
— Да, да, конечно, столько впечатлений,— поддакнула Ирочка и, чем-то озабоченная, стала ходить за ним из комнаты в комнату по пятам.— Вы что, кого-нибудь ждете?
— Нет, никого,— ответил Игорь и снова покраснел.
Ирочка испытующе на него посмотрела, катнула ногой, обутой в вечернюю туфельку, желтый кокос.
— О боже мой,— сморщив нос, сказала она,— повсюду эти жуткие печати. Зачем это, а?
— Вывоз семян запрещен,— коротко объяснил Игорь.
— Ну, так что же?
— А Косте разрешили. Это печать департамента ирригации.
Он поднял кокос и перенес его на другое место, подальше от ее нарядных туфель.
Ирочка пошла за ним. Божок, стоявший на маленьком столике в углу, ее заинтересовал.
— Ой, что это? — воскликнула она.— Какой этруск прелестный!
Игорь едва успел перехватить ее пухлую руку, протянувшуюся
к божку. При этом он с удивлением отметил: слово «этруск» поразительно точное, насколько ему судить дозволялось,— такого же, с оплывшим животом, толстяка он видел на фотографии этрусского надгробья,— и не мог не позавидовать Ирочкиной зоркости. Вообще... вообще они были в чем-то близки, он и Ирочка, это витало в воздухе, хотя никем никогда не формулировалось. В лучшие времена Ирочка с ним часто беседовала, ей сразу удалось найти верный тон старшей сестры, у Нины-маленькой это получалось намного хуже.
Как бы то ни было, он поспешно и не совсем вежливо схватил свое сокровище и сунул в нагрудный карман рубашки: божка он берег для Сони, как Костя берег для него самого.
Ирочка с удивлением на него посмотрела, но ничего не сказала.
— Не понимаю этих дурацких предрассудков,— с неожиданной злостью заговорила она после паузы.— Отчего, когда люди собираются вместе, они тут же начинают готовить еду?
Это был риторический вопрос, и Игорь смолчал.
— Ну, добро бы в старые времена,— говорила Ирочка, расхаживая по комнате, как чайка. Да, она была похожа на чайку, в своем цыганском платье и дорогих гранатовых бусах: и профиль у нее был чаячий, и озабоченные движения головы, и походка, и выражение круглых глаз. Должно быть, она любила и умела злиться, а веселенькой становилась только напоказ.— Добро бы в старые времена, когда обильная еда сама по себе была праздником, когда даже вид накрытого стола вызывал оживление. Теперь же каждый у себя дома может покушать не хуже, притом по собственному вкусу, ничью
55
стряпню не расхваливая. Не понимаю, не понимаю! Вместо того чтобы смотреть друг на друга, кто-то нас заставляет с неестественным азартом поедать чужие винегреты, пачкаться в жиру, любоваться коллективным ковырянием в зубах. Да еще пить вино — и тоже в принудительном порядке. Я неправа, Игорек? Или ты любитель застолий?
Ирочка любила поговорить и делала это по-мужски, энергично. В другое время Игорь с удовольствием подхватил бы тему, но сейчас было не то настроение.
— В гости надо приходить натощак,— сказал он,— а не наедаться заранее в одиночку.
— Ого! — Ирочка тонко улыбнулась.— А ты стал злой, Игорек. Взрослеешь, мудреешь.
По-видимому, она все же обиделась, потому что, постояв в дверях минуту-другую, повернулась и вышла. «Должно быть, в ванную,— подумал Игорь,— дорисовывать глазки».
Тушка «этруска» мягко пульсировала возле самого его сердца. Любопытно, к кому перейдет этот божок от Сони... Но эта мысль, едва мелькнув в голове, тут же заглохла: ни к кому, пока ни к кому.
— За стол, за стол! — нараспев позвала мама.
Отец, Ирочка, Нина-маленькая, Костя — все столпились в дверях гостиной, началась неловкая процедура усаживания. После долгих пререканий, отнекиваний и реверансов отец занял правый конец стола, спиною к боковой стенке, мама зарезервировала за собой другой торец, ближе к двери, чтобы удобнее было бегать на кухню. Ирочку как почетную гостью (именно так выразился Костя) попросили сесть на диван, в самом центре, откуда, впрочем, экран было видно хуже всего, потому что диван был довольно низок, и Ирочка, принужденно смеясь, призналась, что она совсем здесь утопла. Игорь, нахохлясь, забился на диван в самый угол, ближе к отцу, Нина-маленькая села возле матери. Костя стоял возле слайд-проектора и выжидательно смотрел на Игоря. Ирочка похлопала рукой по дивану рядом с собой — он ее, казалось, не видел.
— Ну, в чем дело, Гошка? — с досадой спросил Костя.— Ты сделал, как тебе было сказано?
Игорь покачал головой. Сердце у него гулко заколотилось. Он понял, что Костя настроен решительно и, как от визита к зубному врачу, тут не отвертишься.
— Ну, хорошо, вставай,— безжалостно сказал Костя,— вместе пойдем.
Все заволновались, заговорили, кроме Игоря, который, сутулясь, стал вылезать из-за стола.
— Куда? Зачем? — недоумевала мама.— Всего хватает!
— Некрасиво как-то получается,— говорил отец.— Только уселись...
— Смотрите, мы все здесь без вас съедим! — резким чаячьим голосом кричала Ирочка, притворяясь веселой, хотя недоумевала не меньше, чем все.— Всю эту вкуснятину съедим, ничего не оставим!
56
Нина-маленькая хотела было тоже принять участие в общем хоре недовольства, но взглянула на Игоря, потом на Костю — и, по-видимому, все поняла.
— Надо предупреждать заранее,— сказала она, фыркнув, наклонилась к маме и что-то шепнула ей на ухо.
Лицо у мамы вытянулось.
— Костенька...— жалобно проговорила она.— А может, это...
— Да, мама? — подняв брови, Костя повернулся к ней.— Я тебя слушаю.
— Неудобно как-то...— растерянно проговорила мама.— Сережа, скажи!
Она обратилась за поддержкой к отцу. Отец нахмурился, соображая, посмотрел на Нину-маленькую, та сделала движение губами, и отец понял. Лицо его прояснилось.
— А что? — сказал он.— Хорошая идея. И очень вовремя. Сходите, сходите.
— Ну что, ну что такое? — засуетилась Ирочка, подпрыгивая на диване: ей, разумеется, больше всех было нужно.— Мне тоже интересно!
И мама сдалась.
— Розовую рубашечку надень...— сказала она Косте. Поднялась и пошла на кухню.
— Ну вот! — Костя весело хлопнул Игоря по плечу.— А ты сомневался. Пойдет мне розовая рубашечка?
Игорь молчал. Он чувствовал: не кончится это добром.
9
Дверь им открыл дядя Жора. Точнее, он долго пыхтел, возясь с замком, и приговаривал, будто на руках у него был младенец:
— А вот и наша мамочка пришла... Наша мамочка ключик забыла.
— Что, у них маленький родился? — вполголоса спросил Костя.
— Н-не знаю...— пробормотал Игорь, и Костя засмеялся.
Костя был очень красив сейчас — в костюме, при галстуке, он не
казался таким худым, и розовая рубашка, мама права, очень его молодила.
— Да ты не трусь,— сказал он, видя, что Игорь все отступает и отступает в сторону.— Не свататься идем, слава богу.
Наконец дверь открылась. Дядя Жора, держа за руку Ивана, прищурился, вгляделся в лицо Кости.
— Простите...— вопросительно проговорил он.
Улыбаясь, Костя хотел было назвать себя, но его перебил Иван.
— Желтый какой-то пришел,— сказал он басом.— Чего смотришь? Сейчас убью теба...
У него это убедительно получилось: «теба», а не «тебя». Чувствовалось, что такой человек шутить не станет.
57
— Вот это да,— сказал Костя.— Здорово же у нас соседей встречают!
Тут дядя Жора взглянул на выступившего вперед Игоря, и личико его осветилось догадкой.
— Котька! — радостно вскрикнул он и кинулся через порог обниматься. А поскольку все, что он делал, он делал от души и чрезвычайно эмоционально, эти объятья заняли продолжительное время.
— Котька, Костенька! — то отстраняясь и глядя на Костю слезящимися глазами, то вновь кидаясь ему на шею, приговаривал дядя Жора.— А возмужал! А загорел! Не-у-зна-ваем! Честное слово, неузнаваем!
Поскольку на площадке было свежо, а Иван был одет в легонькую рубашонку и колготки, Костя бережно, но настойчиво водворил дядю Жору в прихожую, впустил Игоря и захлопнул за своей спиною дверь.
— Радость-то какая! — суетился, пятясь, дядя Жора.— Ну, проходите, гости дорогие. У нас, правда, не прибрано, родственница из Брянска приехала, с Натальюшкой по магазинам пустились, а я вот сижу...
Он был, разумеется, «в неглиже» и, спохватившись, убежал в ванную комнату одеваться. Костя присел на корточки, взял за плечи Ивана.
— Так, значит, в Брянске таких выращивают? — спросил он.
— Каких таких? — поинтересовался Иван, глядя исподлобья. За эти полгода он заметно подрос, но оставался таким же букой.
— А таких, лютых.
Ивану это слово понравилось.
— Ага, я лютый,— сказал он.— А вы за тетей Соней пришли?
— За тетей Соней,— ответил Костя, присаживаясь к столу. Игорь стоял, он и ему кивнул: садись, не стесняйся.— А ты откуда знаешь?
— Она не пойдет,— сказал Иван.— Ей это сдалось на черта.
И видимо, считая, что предмет разговора исчерпан, он сел у ног гостей на палас и стал, бибикая и фыркая, возиться с игрушечной машинкой. Время от времени он, впрочем, поднимал личико и смотрел на гостей смышлеными карими глазами.
Вбежал дядя Жора. Он был уже в синем спортивном костюме и стал похож на немолодого боксера в весе пера.
— Ну, рассказывай! — придвинув стул поближе, возбужденно проговорил он.— Что, допекают инсургенты?
— Про инсургентов тебе лучше Игорь расскажет,— с усмешкой ответил Костя.— А про другое — долго, весь отпуск как раз и займет. Давай-ка к нам поднимайся, я сейчас слайды буду показывать.
— Нет, Котя, не могу,— сокрушенно сказал дядя Жора.— Ивана одного не оставишь. С огромной бы радостью, но увы.
— Сам-то когда такого заведешь? — поинтересовался Костя.
— После тебя, дорогой, после тебя,— отпарировал дядя Жора.— У меня все же дочка на выданье, не забывай. Твоя очередь.
— В таком случае, может быть, дочку отпустишь? — предложил
58
Костя.— Они ведь, я слышал, с Игорем не разлей вода, так что скучно ей не будет. Дома она?
Дядя Жора покосился на закрытую дверь и сказал, отчего-то понизив голос:
— Дома. Сейчас позову.
Он помедлил, откашлялся, потом громким фальцетом прокричал:
— Сонюшка! Сонюшка, выйди, пожалуйста!
Пауза. Из-за двери — ни звука.
— Сонюшка! — вновь воззвал дядя Жора.
Тишина. Игорь сник.
— Может быть, она спит? — предположил Костя.
— Нет, не спит она,— сказал вдруг Иван.— Вон они, ноги ее. В красных тапочках, у двери стоят. Я вижу.
— Сонюшка! — безнадежным голосом повторил дядя Жора.
— А теперь отошла,— радостно сообщил Иван.
Наступила неловкая пауза. Игорь стал было подниматься, но Костя взглядом приказал ему: сиди.
— Так и живем,— тихо сказал дядя Жора.— Ты уж извини меня, Котя, что обременяю тебя своими заботами... Да не с кем поговорить. Мучаюсь, как не знаю кто... Как собака.
Костя сочувственно молчал.
— Вот — моя семья,— дядя Жора широко развел руками.— Я их без памяти люблю, обеих моих девчонок. Счастлив — не знаю как. Без них я никто. Понимаю, что назвать меня отцом такая взрослая девочка может лишь с усилием: не представителен, суетлив, что уж там говорить. Ладно, не гонюсь за этим, могу любить и просто так, без отдачи...
Костя бегло взглянул на Игоря.
— В чем же проблема? — спросил он.
— Губит себя мне назло,— горестно сказал дядя Жора,— демонстративно не хочет учиться. Доказывает, что без меня было лучше. Но я-то, я что могу сделать? Наверно, ты был прав три года назад... Помнишь наш разговор? (Костя кивнул.) Я слишком долго тянул. Знал, что Наталья одна, всеми брошена, мучается с ребенком, и все колебался: нужен я им или не нужен. Вот моя осторожность мне и аукнулась...
— Георгий Борисович,— не выдержал Игорь,— дело обстоит несколько иначе...
— Гоша, помолчи,— строго сказал ему Костя.
— Нет, почему же? — печально улыбаясь, возразил дядя Жора.— Игорь у нас свой человек...
И в это время открылась дверь, и Соня в простом, но красивом голубом платье (темно-рыжие волосы рассыпались по плечам) вышла из маленькой комнаты.
— Я готова, извините, что заставила ждать,— без остановки проговорила она и пошла в прихожую.
Игорь вскочил и побежал за нею, Костя задержался.
59
— Ты красивая сегодня,— сказал Игорь на площадке.— Ты красивее всех.
— Да? — вяло отозвалась она.
Веселый, улыбающийся, появился Костя.
— Не правда ли, Константин Сергеевич,— проговорила Соня,— такое впечатление, что в Москве все только обо мне и говорят?
10
Дверь у Шутиновых открывалась беззвучно, и, стоя уже в прихожей, Игорь, Соня и Костя услышали мамины слова:
— Не к лицу школьнице так долго наряжаться. Если накрашенная придет — не пущу на порог, честное слово.
— Ишь, развоевалась! — засмеялся отец.— Пустишь, в каком угодно виде.
— Эй, осторожнее про нас! — крикнул Костя.— Мы уже прибыли!
— Года не прошло...— отозвалась после паузы Нина-маленькая.
Игорь с беспокойством взглянул на Соню: напряженно улыбаясь,
она посмотрела в зеркало возле вешалки, прищурилась на Ирочкину шубку, поискала глазами ее сапоги, нашла, пренебрежительно дернула плечиком. Собственная внешность, по-видимому, Соню не волновала: она не стала «обираться» (так суету у зеркала называла Нина-маленькая) и вопросительно повернулась к Косте. Разумеется, она была права, ожидая от него, как от старшего, указаний, но на какой-то миг Игорь ощутил необязательность своего здесь присутствия — и удивился этому новому для себя ощущению.
— Вперед! — Костя взял их обоих за плечи, подтолкнул.
«А ведь это уже было когда-то,— подумал Игорь.— Именно здесь, возле этого зеркала, именно со мной... Моя девушка, сцепив пальцы, строго смотрит на меня, а Костя обнимает нас обоих за плечи и говорит: «Ну, вперед». Чепуха какая-то, не могло этого быть. Просто — очень хотелось, чтобы именно так было. И вот — это есть.
Что такое жизнь? — вяло думал Игорь, идя вслед за Соней по коридору.— Цепочка таких вот мгновений, половина из них — кажимости. Бусы. Временами — цветные камешки, а то просто голая серая нитка». Мысль была мощная, но додумать ее Игорь не успел: они вошли в гостиную.
Бог ты мой, сколько глаз. Самый воздух, казалось, был расчленен на немигающие карие, серо-рыжие, голубые фасетки.
— Добрый вечер,— спокойно, почти равнодушно сказала Соня.
— Здравствуй, Сонечка, здравствуй,— приветливо отозвалась мама.— Проходи, пожалуйста, садись на диван. Сережа, пропусти Соню.
У Игоря отлегло от сердца: первую опасность, кажется, пронесло. Было два варианта: «Лучше поздно, чем никогда» и «Редкая гостья», но мама ими не воспользовалась. Возможно, решила приберечь напоследок.
60
Соня без труда, как будто ей не мешали ни ножки стола, ни валик дивана, ни острые углы большого стола, прошла на свое место, села рядом с Ирочкой. Обе красавицы быстро взглянули друг на друга, улыбнулись мудрыми улыбками, обменялись вполголоса парой слов, как мушкетеры перед дуэлью. Игорь хотел было протиснуться на диван вслед за Соней, но его позвал с кухни Костя.
— Совет на будущее,— сказал Костя, взяв Игоря за пуговицу куртки,— не мешай человеку осваиваться. Пусть сама решает, как себя вести.
«Официальное открытие вечера» состоялось около восьми. Ирочка настояла на том, чтобы сидеть между братьями, и была чрезвычайно оживлена.
— Ой, как мило, как славно, как уютно! — повторяла она.— Не хватает только одного человека.
— Это кого? — спросил отец, откупоривая бутылку «Лидии» — любимого вина обеих Нин.
— Ну, как же! — игриво сказала Ирочка.— Нас семь человек, а должно быть восемь. Природа не терпит пустоты...
— Что-то очень сложное ты вещаешь,— вся покраснев, проговорила Нина-маленькая.— Природа снисходительна. Уж если она нас с тобою терпит...
Соня фыркнула, и Игорь почувствовал, что в твердыне Нинкиной позиции появилась первая трещинка: на этой платформе они с Соней могли найти общий язык.
Но Ирочку смутить было не так-то просто.
— Ладно, ладно,— дружелюбно сказала она.— Не красней, тут все свои. Ох, я напьюсь сегодня, непременно напьюсь.
Между тем Шутиновым было прекрасно известно, что «напиться» Ирочка неспособна. Когда за нею никто не следил, она переливала свое вино в свободные фужеры.
— Ну,— сказал отец,— ну, Костенька, долго мы ждали этого часа, сынок, ох как долго.
— Хочешь «Байкальчику»? — шепнул Игорь, подтолкнув Соню локтем.
— Нет, я выпью вина,— громко ответила Соня, не принимая шутки.— Только немного.
— Сегодня можно,— сказал отец, наливая гостьям.— В порядке исключения, я отвечаю. Даже справку в школу могу написать.
Все заняли свои места, притихли.
— Дорогой сынок,— отец встал с рюмкой в руке.— Страшно подумать, как далеко тебя занесла судьба. Пешком не дойдешь, на поезде не доедешь. Ты делаешь там хорошее дело, а мы здесь...
При этих словах Костя тоже поднялся. Ирочка смотрела на него с выражением беззаветной любви и преданности. Соня потупилась (наверно, она ждала, что будет сказано или сделано что-то неуместное), мама всхлипнула, лицо ее зарумянилось. Отец строго глянул на нее и чуть изменившимся голосом продолжал:
61
— ...а мы здесь ждем тебя, любим тебя и верим, что ты не посрамишь ни чести нашей земли, ни доброй фамилии Шутиновых.
Все стали недружно подниматься (с дивана вставать было сложно), чокаться с Костей, говорить ему разные трогательные слова. И никто не знает, подумал Игорь, что он никогда, никогда больше туда не вернется... Наверно, Костя думал о том же, потому что он побледнел, нахмурился, левая рука его крепко сжала край стола, так что суставы пальцев стали белыми.
Поднялась обычная застольная суета: звон вилок, передавание друг другу тарелок и блюд. Минут через двадцать, после тостов «за процветание земли андаманской» и «за добрых людей, с которыми ты там встречаешься», завязались разговоры: отец расспрашивал Соню о брянских способах засолки грибов, а она охотно и со знанием дела ему отвечала, не переставая, однако, при этом прислушиваться, о чем говорят Костя и Ирочка. Костя заметно повеселел: он по-дружески подтрунивал над Ирочкой, излагая ей теорию переселения душ, да так забавно, что Нина-маленькая покатывалась со смеху, а мама с умилением на Костю смотрела.
— Ты понимаешь,— внушал Костя Ирочке, а она всем своим видом показывала, что это «захватывающе интересно»,— важнее всего угадать свое предыдущее существование. Если ты, к примеру, в прошлый раз была доктором наук, а в этот раз поднялась только до кандидатской степени, то в новом существовании тебе уже выше ассистента не подняться. Так можно дойти бог знает до чего.
— До чего же? — поинтересовалась Ирочка.
— А до улитки, например. Если же ты не оправдаешь себя как улитка...
— Мне все равно! — перебила его Ирочка.— Я согласна быть хоть улиткой, хоть вирусом, лишь бы снова и снова рождаться. Ты знаешь, Костенька, эта философия мне очень подходит. Я с юных лет чувствовала, что буду практически бессмертна. И еще я вспоминаю, как была пчелой, рыбой, просто другим человеком, даже мужчиной. Возможно, я была раньше Игорем, а может быть,— тут Ирочка многозначительно посмотрела Косте в лицо,— а может быть, и тобою.
Тут Соня резко оборвала разговор с отцом и, повернувшись к Игорю, тихо сказала:
— Мне пора.
Игорь растерянно посмотрел на нее:
— А как же слайды?
— Мне пора,— зло и решительно повторила она.
Но в это время задвигались стулья, все стали подниматься. Нина-маленькая, Ирочка и отец отправились на лоджию курить, Костя подошел к проектору и принялся его настраивать, а Соня с Игорем остались сидеть на диване. Мама начала убирать со стола.
— Нина Ивановна,— проговорила Соня и встала.
— Помочь мне хочешь? — спросила мама.— Ну, помоги, помоги. Вот тебе фартучек...
62
«Ну, мама,— с восхищением подумал Игорь,— ну, умница, и фартучек под рукой оказался... Нет, все-таки в женщинах заложена древняя мудрость».
Порозовев, Соня посмотрела на Игоря, потом на Костю (тот, морщась, возился с проектором и делал вид, что все происходящее его не касается), быстро и ловко повязала фартук и принялась собирать тарелки. Игорь еще ни разу не видел ее в хозяйственных хлопотах и любовался каждым ее движением.
— Сонечка, отчего же ты к нам не заходишь? — с укоризной спросила мама.— Наверно, Игорь плохо тебя приглашает. И заниматься вы могли бы у нас, вся эта комната в полном распоряжении Игоря.
— А Константин Сергеевич? — спросила Соня.
— Что «Константин Сергеевич»? — не поняла мама.
— Он тоже должен где-то жить,— пояснила Соня.— Ему за отпуск отдохнуть надо.
— Он будет отдыхать с Ирой в Карелии,— сказала мама.— А отдохнет — опять на год уедет. Так что Константин Сергеевич вам не помеха. Приходите к нам, хоть через день, а то неудобно.
— Хорошо, спасибо,— коротко ответила Соня, и по ее тону Игорь понял, что этому не бывать.
Соня и мама понесли посуду на кухню, а Игорь сидел и смотрел им вслед. «Интересно,— думал он,— какая ей разница, там или здесь? Ну, добро бы мы целовались, позволяли себе что-то лишнее... Разговариваем и ссоримся, миримся и опять разговариваем. Почему она не хочет сюда приходить? Не хочет знать, как я жил раньше, каким был маленьким, какие истории со мною случались, какие слова я в детстве говорил? Почему, когда я смотрю ее детские фотографии, у меня сердце болит рт жалости к ней, к маленькой, и еще от обиды, что меня не было с нею тогда? Почему она ни разу меня не попросит: «Расскажи о себе»? Разве она все обо мне знает?»
Эти мысли никогда не приходили Игорю в голову в Сониной комнате. Там, у нее, все было настолько полно ею, что Игорь и сам не решился бы принести в это святилище свою детскую фотографию, а тем более завести монолог о себе.
«Она любит только себя, и никого больше,— подумал Игорь.— Ни на что другое у нее не остается сил. Потому она так равнодушна ко всему остальному, ей достаточно самой себя. Что ж, тем хуже для тебя, заунывный дебил, все равно это ничего не меняет. Все твое — при тебе».
Игорь погладил себя по карману, где лежал его пузатый «этруск»... Вдруг он почувствовал на себе Костин взгляд. Костя смотрел на него без улыбки, склонив лысоватую голову к плечу и как будто к чему-то прислушиваясь. «Эгоист,— обругал себя Игорь,— разнюнился, жалко себя стало».
— Помочь? — спросил он, поспешно вставая.
Костя покачал головой.
63
— Все готово. Созывай народ.
По просьбе женщин большой стол был отставлен к стенке, и все расположились на диване и стульях, как в первом ряду бенуара. Свет погас, вентилятор в проекторе зажурчал, экран засветился. Соня сидела, выпрямив спину, Игорь нечаянно коснулся ее локтем, она вздрогнула и отодвинулась. «Крапива,— подумал Игорь,— ну отчего столько злости? Откуда? К кому? К безвредному дяде Жоре? А что он ей делает? Ну, пусть там сложно, но его же здесь нет. К Косте? А он-то чем ей мешает? Нет, Костя тут ни при чем: пожалуй, даже наоборот». «Роль человека в обществе», «ловкач из-за границы» — все это Соней забыто, Игорь чувствовал. Костя понравился Соне, да по-другому и быть не могло. «Родители, Нина-маленькая? Нет, здесь сплошной «детант», стопроцентное миролюбие, прямо хоть пиши с них со всех картину «Чаепитие в Мытищах» или вроде того. Ирочка? А чем ей мешает Ирочка? Скорее всего, они больше никогда не увидятся. Так кто же ее раздражает? Может быть, я? А может быть, вообще все люди?!»
Тут на экране вспыхнула сияющая зелень Андамана — крупнолистая, всклокоченная, усыпанная большими фиолетовыми цветами. Просторное серое двухэтажное здание, кажущееся таким незначительным под гигантскими куполами акаций.
— У меня здесь около тысячи слайдов,— сказал Костя,— но я не стану рисковать вашим терпением. Покажу только первую сотню, самое общее представление. Начнем, так сказать, с парадного подъезда. Это аэропорт Каба-Эя, а вот шоссе, ведущее в столицу (аэропорт пропал, по экрану зазмеилась синяя лента хорошо асфальтированной дороги, по обе стороны которой — заполненные разноцветной водой прямоугольники рисовых полей). Дело к вечеру, жаль, что вы не слышите кваканья лягушек: царственный хор! Вот — центральная улица, проспект Конституции. Дворец правительства, монумент Независимости, главная пагода...
На экране, мелькая, полыхал золотой фейерверк.
— Не так быстро! — взмолилась Нина-маленькая.
— Всю эту экзотику я тоже видел проездом,— ответил Костя.— Это не главное.
— Ну, хорошо, давай главное,— разрешила Ирочка, и Соня бросила на нее острый взгляд. А может быть, так показалось Игорю, потому что в глазах ее блеснули золотистые отсветы пагод с экрана.
— А вот моя столичная резиденция,— после паузы проговорил Костя,— здесь я останавливался, когда приезжал в Каба-Эй.
Над черным домиком с пустыми, без стекол, окнами, забранными крупной решеткой, поднималось ликующее, какое-то первомайское дерево, усыпанное огненно-красными цветами. Пять-шесть бананов «на огороде» (большие, выше человеческого роста, пучки длинных расчлененных листьев, между которыми свисали тяжелые, как люстры, гроздья плодов), очаг перед домом, возле очага — семья: мужчина, голый по пояс, в длинной клетчатой юбке, с устало опущенными
64
натруженными руками, маленькая, смущенно улыбающаяся женщина, юбка на ней поднята до подмышек, плечи и руки обнажены, ряд детишек, те, что постарше, одеты, как взрослые, средние — в коротких зеленых юбчонках и штанишках, малыши голенькие совсем, смуглые и крепкие, как грибки.
— Стены черные оттого, что пропитаны смолой,— пояснил Костя,— а карнизы, видите, резные, как у нас в деревне, белые.
— Господи, зачем же решетки на окнах? — спросила Ирочка.
— От летучих мышей,— просто ответил Костя.
Стало тихо.
— Это Маун, никак? — спросила мама.
— Он самый, в кругу семьи,— в голосе Кости слышалась улыбка.— Это его бунгало... Пожалуй, самое красивое в городе.
— А что, ты в гостинице не мог остановиться? — спросила Ирочка.
— Видишь ли, гостиниц в нашем понимании там попросту нет,— помедлив, ответил Костя.— Вообще столица сильно перенаселена. Люди перебираются из провинции, кто спасается от мятежников, кто от голода. Катастрофически не хватает земли. Когда видишь, на каких крохотных участочках копошатся люди, просто оторопь берет. Вот мы и подготавливаем осушение доброй трети национальной территории, заболоченной и к тому же засоленной морскими приливами.
Щелкнула кнопка дистанционного управления, экран мигнул коричневым.
— Посмотрите на Шитанг во всей его красе,— с гордостью сказал Костя.
Обширное, до горизонта, пространство, залитое жидкой грязью, кое-где подсыхающей на скрюченных корнях деревьев.
— И ты по этому ходил? — ахнула Нина-маленькая.— Да тут же, наверно, крокодилы, змеи, пиявки!
— Всего понемногу,— ответил Костя.
Снова тишина.
— Да, заграница...— протянула Ирочка.
И все услышали, что мама плачет. Она сидела и всхлипывала в темноте и вытирала слезы бумажной салфеткой.
— Ну, ты что, мать, ты что? — Отец подсел к ней, погладил по голове.
— Вот как дорого...— пробормотала мама,— вот как дорого денежки-то достаются...
— Эх, надо было этот кадр вынуть...— сказал Костя.— Смотри, мама, вот наш верхний лагерь. Прямо в пальмовой роще, видишь? Сидим себе и пьем кокосовое молоко.
Теперь на экране была умиротворяющая зелень, озаренная солнцем, под перистыми листьями пальм — хижины и палатки, двухколесная арба, дремлющий черный буйвол, рядом — голубой «джип».
— Земляная дамба вдоль побережья, сеть каналов и дренажных канав — и весь Шитанг превратится вот в такой райский сад.
3 Школьные годы. Вып. 3
65
— И ради этого надо тратить свои лучшие годы...— печально проговорила Ирочка.
Костя обернулся и ничего не ответил. Соня пошевелилась. Игорь посмотрел на нее — она глядела на Ирочку с выражением угрюмой ненависти.
— У каждого своя работа,— сказал отец.— У Кости — вот такая. И в этом доме все к его работе относятся с любовью и с уважением. И с пониманием, я бы еще сказал. Прошу меня извинить, что так прямо, по-стариковски...
Он встал и, сутулясь, пошел в прихожую.
— Вы меня не так поняли, Сергей Сергеевич! — крикнула ему вдогонку Ирочка, но он не остановился, не обернулся, на ходу набивая табаком свою трубку.— Нина Ивановна, я ничего дурного не хотела сказать о Костиной работе. Наоборот, он герой, мученик, лучшие годы жизни он теряет в этой... я хочу сказать, в этих ужасных условиях.
И в это время Костя что-то сказал. Фраза эта, короткая и певучая, на андаманском языке, была печальна, как оборвавшийся птичий крик. Все замерли. Костя сидел, повернувшись спиною к экрану, на котором золотились и сияли андаманские кущи. Ши Сейн и Маун стояли под пальмами в глубине рощи и сосредоточенно оттуда смотрели. По их лицам нельзя было понять, улыбаются они или щурятся на солнце.
— Что это было? — спросила Нина-маленькая.
— Песня,— ответил Костя. На фоне солнечного экрана лицо его казалось темным, почти черным.— Есть там такая песня. «Я вернусь через полгода, когда кончатся дожди...» Мы ее пели втроем, когда прощались.
— Ну-ка, ну-ка, еще раз,— сказала мама.
Костя оглянулся на экран.
— Произношение у меня... не ахти. Ребята всегда смеялись.
— Все это очень интересно,— сказала Ирочка и встала,— интересно и поучительно. Но, Костенька, прости, я засиделась. Мне ехать далеко и завтра рано вставать. Спасибо, Нина Ивановна, за гостеприимство. Может быть, кто-нибудь проводит меня до дверей?
Костя поднялся.
— А насчет Карелии ты подумай,— сказала Ирочка, мельком взглянув на Соню.— Путевки на конец мая. Ты в это время еще будешь в Москве?
— Куда же я денусь,— усмехаясь, ответил Костя.
Когда они вышли, мама сказала:
— Не так как-то все. По-моему, она обиделась.
— Ее не обидишь,— возразила Нина-маленькая.
Некоторое время все оставшиеся сидели в темноте молча, глядя на зеленый экран. В прихожей завязался взволнованный разговор.
— Ради тебя прибежала, ради тебя оказалась в такой унизительной ситуации,— быстро говорила Ирочка, и по голосу ее было
66
понятно, что она плачет.— Как я могу тебе еще доказать, что люблю тебя, что жизни без тебя не вижу?
Костя что-то глухо ответил.
— Да не могу я любить его по обязанности, этот твой ненавистный Шитанг! Он нас разлучил, он разрушил твое здоровье... Молчи, я знаю, потому что я тебя люблю... Да, я испугалась, я проклинаю себя за это, но ведь и ты не посчитался со мной! Костя, ну посмотри на меня, как раньше. Костя!
Дальше слушать было невозможно. Игорь встал, намеренно громко закашлялся, подвинул стулья, снова сел. Голоса стали тише. «Ты тоже, дебил,— мрачно подумал Игорь,— находишься во власти стереотипа: ах, пошлячка, ах, мещаночка. А человек страдает...» Он зорко посмотрел на мать и сестру: расслышали ли они Ирочкины слова о здоровье? И по их отрешенным лицам понял: расслышали. Знают. Давно уже знают.
— Мне кажется, мама,— сказала вдруг сестра,— надо перерыв сделать.
— Вот правильно,— отозвалась мать.— Ребятки пусть посидят, а мы пока чай поставим.
И они отправились на кухню, к отцу.
Соня и Игорь сидели в зеленоватом полумраке, отодвинувшись друг от друга, не произнося ни слова, как чужие. Казалось, что с экрана, из пальмовой глубины, веет теплый душистый ветер: шевелились пальмовые листья, колыхались длинные юбки андаманцев. Наверно, это был просто сквозняк: Костя и Ирочка вышли на лестничную площадку и там продолжали разговаривать.
— Он не должен с ней никуда ездить,— тихо сказала Соня.
— Кто? С кем? — переспросил Игорь, хотя прекрасно все понял.
— С этой фашисткой,— мрачно пояснила Соня. Лицо ее, круглое, светлое, озаренное зеленоватыми пальмовыми сполохами, было совершенно русалочье.— Она фашистка, она хуже любой инсургент- ки...
— Он не поедет,— заверил ее Игорь и, повинуясь безотчетному побуждению, достал из кармана и протянул ей божка.— Это тебе,— буркнул он и покраснел, как младенец: хорошо, что этого нельзя было разглядеть в темноте.
Впрочем, Соня на него не смотрела. Она машинально взяла фигурку, мельком взглянула на нее и снова замерла, напрягшись, как струнка. Игорь ждал. Через минуту, видимо, божок дал о себе знать. Она разжала пальцы, поднесла божка к лицу, улыбнулась.
— Смешной. И как будто шевелится. Это что, талисман?
— Нет,— Игорь покачал головой,— это детектор лжи. Пока ты держишь его в руках, ты будешь говорить только правду.
— Вот как! — Соня посмотрела ему в лицо, прищурилась.— И какую же правду ты хочешь узнать?
— О тебе — всю.
-- Всю — это слишком много,— Соня тихонько засмеялась.—
67
Всю не усвоишь. Хотя... пусть будет по-твоему. Ох, что-то меня знобит,— она передернула плечами.— Откуда-то дует, наверно.
Игорь молчал.
— Знаешь что, Гоша,— сказала Соня, зажав божка в ладонях и легонько потряхивая его, как погремушку,— тебе больше не надо ко мне приходить.
— Почему? — тупо спросил Игорь. Он понимал почему, он знал все заранее, как будто это с ним уже было, но одно дело — дойти своим умом и совсем другое — получить информацию из первых рук.
— Ну, что ты, ей-богу...— с досадой сказала Соня.— Зачем притворяешься?
— Я не притворяюсь,— ответил Игорь.— Я и в самом деле не понимаю. Как я могу к тебе не приходить? А школа?..
— Я все могу и сама.
Против этого было трудно что-нибудь возразить: и страшные слова не были сказаны, и Игорю предоставлялась возможность отступить с почетом. В самом деле: человек настолько окреп, что захотел избавиться от опеки «кураторов». Вполне реальный поворот. Но Игорь не принял этой лазейки. Он должен был знать всю правду, именно всю. Иначе оставалась недоговоренность.
— Ты так решила сегодня? — задал он наводящий вопрос.
Соня кивнула.
— А почему сегодня? — настаивал Игорь.
— Ты сам понимаешь,— сказала она.— В твоем вопросе уже ответ. Именно сегодня. Я убедилась.
— Нет, не понимаю! — с отчаянием проговорил Игорь.— Не понимаю, и все. В чем убедилась?
Соня пожала плечами.
— Не делай так! — вскричал Игорь.— Не нужно гримасничать. Г овори!
— Ну, если ты так хочешь...— сказала Соня, и голос ее был неузнаваем. Он был цветной, золотисто-зеленый и теплый... Впрочем, куда уж там Игорю, с неразвитым «чувством прекрасного», его описать.
Она помедлила — и все умолкло для Игоря. На экране беззвучно колыхалась слепая андаманская зелень. И странное дело: минуту назад он настойчиво вымогал правду, теперь же рассудок его работал в противоположном направлении. Найти лазейку из безвыходного положения, любую, хоть мизерную, чтоб оставалась надежда...
— Он... он не действует в темноте,— быстро проговорил Игорь.— Дай сюда.
Соня молча протянула ему божка. Фигурка была гладкая на ощупь, холодная, тяжелая, безукоризненно каменная — и ничего больше. Она светилась зеленым, слегка фосфоресцировала, легонько щекотала пальцы. Личико «этруска» младенчески улыбалось.
— А теперь? — резко спросил Игорь.
68
— Что «теперь»? — переспросила Соня.— Теперь то же самое. И с этим уже ничего не поделаешь.
И в это время явился Костя. По-стариковски шаркая, он прошел в середину комнаты, сел возле проектора, и некоторое время смотрел на Соню и Игоря, не говоря ни слова. По одному тому, как Соня подняла руку и поправила прядь рыжих волос (в полумраке они так и сыпали зеленоватыми искрами), как шевельнулось ее горлышко, светлое в темноте,— по одному этому, без всяких «детекторов лжи», Игорь мог судить, что его догадка верна.
— Мне пора,— звонко сказала Соня и встала.— Папа будет беспокоиться...
Все, что она говорила теперь, имело особенный смысл. Одно только слово «папа» звучало как робкое детское извинение, как признание того, что Костин друг тоже имеет право на любовь.
— До свидания, Константин Сергеевич. До свидания, Игорь.— Резкая смена тональности — и концовка (Соня есть Соня), содержащая дерзкий намек: — До дверей меня провожать не надо.
Когда «прекрасная второгодница» ушла, Игорь поднялся, включил свет. Костя вздрогнул, поморщился.
— Как ты... сразу,— проговорил он.— Надо предупреждать.
— Соня просила передать,— глядя на него снизу вверх, сказал Игорь,— чтобы ты не ездил ни в какую Карелию.
Ему показалось, что он прокричал эти слова, но, видимо, они сказались так тихо, что Костя не расслышал.
— Как ты сказал? — подняв голову и страдальчески щурясь, переспросил Костя.
Игорь, отвернувшись, повторил — твердо, четко и ровно.
— А ей-то что за дело? — удивился Костя.
Игорь не ответил.
Костя встал, подошел к нему, взял у него из рук «этруска», подержал его, хмыкнул.
— Испытал? — полуутвердительно сказал он.— Ну что за ребенок! Я же выдумал все. Обыкновенная безделушка, никакой нет в ней мистики.
— При чем тут мистика? — возразил Игорь, отворачиваясь еще больше, чтобы не видеть так близко это родное, морщинистое, усталое, ласковое лицо.
«Мамочка, мама,— подумал он,— как же мне жить теперь, мама?»
— Нет, постой,— с беспокойством сказал Костя.— Ты на меня как будто сердишься. За что?
— За то, что ты слепой. Ты ничего не понимаешь. Ничего.
Костя помедлил, вздохнул. Подошел к столу (Игорь искоса за ним
наблюдал), положил «этруска» в стакан с погасшей минеральной водой. «Этруск» покойно улегся на дно и, несколько увеличенный, оборотил к ним свое зеленоватое улыбающееся лицо. Вода в стакане тут же вскипела: мелкие пузырьки побежали снизу вверх, послышалось тоненькое шипение.
69
— Напрасно ты так думаешь,— сказал Костя.— Я тебе вот что скажу. Есть люди, которые хотели бы, чтобы вся жизнь их была в картинках. Без картинок им скучно. Пусть, нам-то что? Мы-то с тобой относимся к жизни серьезно, или я ошибаюсь?
Игорь покачал головой.
— Ну, так вот,— заключил Костя.— Пусть они иллюстрируют себя, как хотят. А мы будем жить своим образом. Договорились?
В его вопросе было столько настойчивости, что Игорь не выдержал, повернулся и посмотрел ему в лицо. Брат стоял, чуть склонив к худому плечу свою лобастую голову. «Ну? — говорили его глаза.— Ну, Гошка?»
— Договорились,— пробормотал Игорь. Ему было стыдно за свою злость, стыдно за свое горе.
Другие люди тут же бросились бы обниматься, но то другие. А они стояли и молча смотрели друг на друга и знали, что они похожи, очень похожи, и это, конечно же, навсегда.
1981
ЕКриштоф
СОВРЕМЕННАЯ
РАОТ
ЖЕНЕЙ
КАМЧАДАЛОВОЙ
Глава 1
История эта началась в первую пятницу прекрасного месяца мая. Ничто не могло омрачить его голубое и зеленое сияние, даже последние контрольные. Хотя к последним контрольным полагается готовиться: они, как известно, влияют на аттестат.
Но цвела сирень; цвели вишни на пустыре между школой и нашим домом; у бабушки в саду тяжелые, как волейбольные мячи, скоро распустятся пионы. Пионы — праздничные цветы — преподносят учителям в торжественных случаях, например по поводу последнего звонка.
Однако пока до последнего было далеко.
Наши мальчики внизу, на спортплощадке, переводили ни на что урок физкультуры, девочки выполняли в зале зачетные упражнения, а я стояла у окна на втором этаже.
Пахло травой и всеми на свете надеждами. Так пахнет, только если в конце апреля выпадут теплые, медленные дожди. Огородные дожди, как говорит моя бабушка. Они тянут вверх ботву и дикие травы.
Листья были длинны в этом году, и сирень по утрам долго не высыхала. Мальчишки рвали ее просто так, потому что у них руки чесались, и раздвоенные мохнатые ветки скоро гибли, как бы покрывались ржавчиной на учительских столиках, в кабинете биологии и физики, в вестибюле. А чаще всего и где-нибудь под забором — мальчишки красоту не берегли.
И сейчас Мишка Садко и Громов, стоя на бревне и пытаясь столкнуть друг друга с этого бревна плечом, держали в руках по веточке: Садко — махровую персидскую с красноватым отливом, Громов — белую. Условие, что ли, у них было такое: проигрывает не только тот, кого столкнут, но и тот, чья веточка при попытке удержаться будет брошена на землю. Или вместо рыцарских перьев была у них пушистая сирень?
Я смотрела на мальчишек посмеиваясь: они были все те же мальчишки! Мы учились вместе с первого класса, привыкли друг к другу, но в чем-то они были все-таки новые. Например Мишка, когда успел нагулять такую шею? Зимой в тренировочном костюме прыгал-бегал, как все. А теперь в маечке-безрукавке было видно: шире всех стал Мишка. Громов наскакивал на него легко, Мишка подставлял плечо и вроде бы не двигался. Но пока я стояла у окна, Громов каким-то непонятным образом прижимал его все ближе к краю.
72
А на земле, рядом со своей спортивной фирмовой сумкой, сидел Длинный Генка, худой-худой, красивый-красивый, и не видно было, чтоб ему очень хотелось на бревно.
Интересно, подумала я, с кем ему предстоит биться? С Мишкой? С Громом? Только с кем бы ни пришлось, он обязательно вылетит, а ведь смешно: в какие только секции не определяют его родители! Каждый раз радость: наконец отгадали, нашли нужную. Но Генка в очередной секции вскидывает руки от удивления, что опять дал себя обставить, недотепа, то в бокс, то в футбол, то еще как-то.
Так я думала о Генке, но это не имело никакого значения, потому что над всеми тремя, а еще над другими мальчишками нашего девятого «Б» класса небо было как бы позолочено солнцем, и всем им одинаково хотелось оказаться не на школьном дворе, а на дороге к морю...
Мне тоже хотелось к морю. Но меня послали в учительскую за планшеткой физрука Мустафы Алиевича, в которой были не то плакаты, не то диаграммы роста спортивных секций.
Только их нам не хватало в такой-то день!
— ...Crocodile, which lived in the river... — донеслось из какого-то начального класса. Девочка читала таким тоненьким, таким старательным голоском. И я подумала: «Они еще не понимают весны».
В самом деле, разве это понимание — снять надоевшее пальто, вываляться в траве до зеленых пятен, забыть где-нибудь в углу школьного двора не только куртку, шапку, шарф, но и портфель со всеми «крокодайлами»?
— ...Which lived, which lived...— топтался голосок, потерявший ниточку.
А может быть, весну понимают все с пеленок?
Дверь в английский захлопнулась, в коридор снова процеживался только общий гул уроков, от которого почему-то становилось грустно. Я опять взглянула в окно.
73
Теперь на бревне стояли Мишка Садко и Генка. Генка старательно прижимал локти и выставлял защиту, как его учили в секции. Круглая голова Мишки с вызывающе подбритым затылком напоминала ядро, и если Мишка столкнул с бревна Грома, то не Генке было против него подниматься! Действительно, минуты не прошло, как Длинный летел с бревна, взмахивая руками. Лицо Генки изображало, как всегда в таких случаях, недоумение и некоторую грусть перед могуществом Мишки Садко по прозвищу Пельмень.
Я засмеялась и постучала в стекло так, на всякий случай. Вряд ли мальчишки могли услышать мой стук, но мне хотелось, чтоб они помахали мне или крикнули что-нибудь. А может быть, стоило открыть окно и крикнуть первой? Например: «Гену жалко! Жалко Гену крокодильчика!»
Я долго стояла так и смотрела вниз на наших, раздумывая, не открыть ли окно. Мне было хорошо. Весна входила в меня не только запахом травы и солнца, но еще и предчувствием: мне все казалось, что по дороге в школу или обратно со мной непременно случится что-то хорошее.
Я уже протянула руку к шпингалету, чтобы открыть окно. И тут вдруг услышала голос нашей Прекрасной Дамы, вернее, нашей Классной Дамы, Ларисы Борисовны, в просторечии Ларисы-Борисы (произносится быстро, через крохотную черточку — дефис).
— Нет, мне это нужно. Поймите меня правильно, одним — да, другим — нет, а мне необходимо. Вам, конечно,— нет? Да? А мне — очень,— торопилась Лариса, как всегда, но что-то слишком нервно звучал ее голос.— Мне — да, а Камчадалова не потянет.
— Почему не потянет? — спросила Ларису наша литераторша Марта Ильинична.— Что не потянет?
Камчадалова в школе была одна я. Интересно, по какому поводу в учительской обсуждали мою кандидатуру? Что я могла не потянуть? Какое-нибудь общественное поручение?
Я дергала шпингалет, старалась повернуть и так и этак, но окно не открывалось. Я все настойчивее возилась с ним: мне вдруг немедленно захотелось напомнить мальчишкам о своем существовании. Я не подслушивала у дверей учительской, но услышала:
— Честное слово, Марта Ильинична, будто вы не знаете, как они меняются в таких ситуациях! Это уже не прежнее море по колено, а сплошная рефлексия. Прямо усеченный конус какой-то, поверьте мне.
Я возилась со шпингалетом, дергала раму; на бревне друг против друга в одинаковых позах стояли теперь Мишка Пельмень и жилистый, но щуплый против него наш Андрюша Охан; Генка сидел на земле возле своей сумки; а в стекле кривился зеленый школьный двор — весь в цветущих одуванчиках.
— Кто же, если не Камчадалова? — спросила Марта Ильинична, и в голосе ее была некоторая растерянность.— В классе только Камчадалова ровно шла...
74
В чем-то я шла ровно, шла-шла, да споткнулась. И теперь нечто предстоит за меня сделать другому, а мне предстоит открыть окно и понять, что за особая ситуация...
— Ровно? Не потому ли, что мы слишком старались, за ручку вели? Нет? Камчадалова медаль должна получить! И в институт должна! И в аспирантуру!
— .А почему бы ей и в самом деле не поступить!
Удивительным было не только непонятное раздражение, но и то,
как нерешительно пыталась защитить меня Марточка. Хотя сейчас, когда пишутся эти записки, я не знаю, что она должна была сделать. Что? Ну, хотя бы выяснить, почему Лариса Борисовна утверждала, будто меня вели за руку?
Но она ничего не выясняла, просто молчала.
— Мне нужна другая кандидатура в медалисты, поймите меня правильно. По вашему предмету вы могли бы кого-нибудь рекомендовать? Да? Нет? Ну, например, Денисенко Александру?
— Денисенко Александру? — переспросила Марточка, как бы оттягивая время и перебирая в памяти весь наш журнальный список от Громова до сестер Чижовых...
Длинный был список, в учительской наступило молчание.
— Денисенко Александра ничуть не хуже Камчадаловой, но какая нужда спешить? Г од впереди, не будем ломать копья,— сказала наконец Марта Ильинична. И я, кажется, услышала, как устало стукнули о стол зажатые в руке очки.
— Поймите меня правильно: я не могу ставить на одного человека. Когда отец бросает семью, какие уж тут успехи? Весь год Камчадалова станет бороться со своими комплексами...
— Но почему же? — слабо выдохнула Марта Ильинична.— Почему же? Тем более он не к другой ушел, к своей матери переехал.
Так вот в чем, оказывается, дело: я шла-шла ровно, пока отец, как всякий отец, жил с нами. А теперь я споткнулась и не потяну на медаль? А там, в учительской, двое взрослых спорят обо мне, как о предмете неодушевленном, ищут, кем бы заменить в списке претендентов. Это было ужасно до холода в спине. Ужасно и стыдно. И, боясь повернуться к дверям учительской, я все дергала и дергала шпингалет.
Окно я раскрыла наконец, чуть не разбив; во всяком случае, на мгновение стекло свело восьмеркой, оно даже ойкнуло жалобно, но ничего — выдержало.
Мурашки по-прежнему ползли у меня по спине, и, стоя у открытого окна, я думала только об одном: а есть ли кто-нибудь, кроме них, в учительской? Кто еще слышит эти совсем не подходящие нам с мамой слова? «Бросил, бросал, бросит». Надо же дожить до такого!
В подобных случаях, я полагаю, человек или падает или хочет себя успокоить. Я захотела успокоить, для чего надо было ответить на
75
вопрос: «Что же, собственно, случилось? Что изменилось по сравнению со вчерашним? С позавчерашним? С тем, что было месяц назад?» По крайней мере, так учила одна книжка по психологии, которую я очень внимательно читала последнее время.
Отец ушел из дома в марте, и никто по этому поводу не собирался рыдать и рвать на себе волосы. Тем более, кто сказал, что он ушел навсегда? Просто мама «перегнула палку», как она сама считает.
Так откуда же этот холод в спине, этот страх? Почему я крадусь по коридору на цыпочках? Почему у меня голова сама нырнула в плечи, как у нашкодившей?
А оттуда, что изменения все-таки произошли. Я узнала: в школе о нас говорят, нас жалеют, на нас не ставят. Приходилось ли вам когда-нибудь оказаться в таком положении? Мне не приходилось. И хоть никто не мог видеть меня в пустом коридоре, я почувствовала на себе десятки взглядов.
А потом прозвенел ‘звонок, но я его не услышала. Я очнулась только тогда, когда меня чуть не сбили с ног, оттерли от перил, поволокли по лестнице, точно щепку в горной речке. Младшие классы вырвались на простор, в пампасы. Они роняли, волочили, подбрасывали ранцы. Они кричали, урчали, визжали. Они ровным счетом еще ничего не знали о предательстве, так же как о надеждах и медалях.
С ними мне стало легче. Я шла, сонно поглаживая круглые птенцовые головы, пощелкивая вертящиеся макушки. Мне не хотелось выходить во двор, не хотелось ни с кем встречаться. Не хотелось объяснять, почему передумала идти к морю.
Злость наконец явилась, наполнила меня, ускорила мой шаг, но, надо сказать, с большим опозданием — только в вестибюле, у самых дверей, где на меня налетели девчонки из нашего класса.
— Мустафа Алиевич сказал — уже не надо! — кричали они, а я никак не могла вспомнить, что ходила за диаграммами роста.— И зачет у тебя будет завтра. У нас еще пять человек не сдали...
Лица их прыгали у меня перед глазами, а я старалась представить, о чем они еще думают, кроме зачетов. Скорее всего ни о чем, касающемся меня, моей мамы и моего отца. Возможно, они не думали даже о моей медали. А если думали? А если это вообще была правда? Если меня действительно вели, даже тянули за руку, потому что так положено: в каждом выпуске должен быть свой медалист?
И еще вопрос: неужели мама догадывалась, знала, что меня ведут? Почему же тогда она требовала от отца немедленного переезда в Москву? Неужели моя умная-разумная мама предчувствовала что-то вроде сегодняшнего разговора в учительской?
Я додумывала насчет мамы уже во дворе. Пока девчонки бегали за сумками, была задача: затеряться, задержаться, идти по пустым улицам, совсем не к морю, а прямо домой. Потому что я — брошенная.
76
А раз так, то теперь будут тянуть Денисенко Александру, но при случае могут бросить, как меня, на полдороге? Заменить с той же легкостью? И она будет стоять одна в углу школьного двора, прикидывая, чего стоит честное, веселое лицо молодой учительницы по прозванию «Классная Дама».
Произносится это, между прочим, так, чтоб сразу стало ясно: Классная, оно и значит — классная. Настолько классная, что ни у кого другого подобной нет. Золотые волосы над выпуклым, загорелым лбом, и золотой блеск в глазах...
Я стояла у самого забора, заросшего сиренью, и приходила в себя. В конце концов, самое умное, что можно было сделать,— это ничего не делать. Выглядеть и поступать так, будто ничего не случилось. Не было ни сегодняшнего разговора, ни меня возле высокого окна в коридоре.
Только вот задача: как пересечь двор, чтоб тебя не окликнули? Как не столкнуться, например, с сестрами Чижовыми, которые все крутятся возле ворот? Я уже закинула голову, примерялась к шагу, каким прорежу школьный двор, как на крыльцо вышла наша литераторша,— румяные на всю жизнь щеки, слегка растрепавшийся «узел» на затылке и вечная стопка тетрадей в сумке. Очки — в правой руке, сирень — где-то под локтем, стоит, оглядывает школьный двор, щурится. Ищет кого-то, что ли?
Я поспешно отвела глаза от уважаемой Марты Ильиничны, чтоб не встретиться взглядом, не выдать себя. Как, бывало, выдавала в шестом и даже седьмом. «Опять с Викторией в ссоре?» И рука тянется потрогать лоб, как будто у меня от ссор с Викой могла подняться температура.
Итак, наша Литера оглядывала двор, и, возможно, двор нуждался в какой-то «доработке», как всегда нуждались в ней наши сочинения. Но она только выше подняла узкий подбородок, стала спускаться с крыльца. Лицо у нее тоже, как всегда, было совсем не злое, просто не в меру озабоченное.
И вот с этим озабоченным лицом Марта Ильинична нырнула в водоворот, а на крыльцо выскочила моя лучшая подружка Вика Шполянская. Она была подстрижена коротко (мама говорит — как гривка у жеребенка), а лицо сияло, улыбалось мне так, что я забыла на мгновение, почему топчусь в углу.
— Вика!
Вика спрыгнула с верхней ступеньки сразу двумя ногами, как прыгают малыши. Сунула мне в руки портфель:
— Подержи, тут пришли, билеты принесли, я — сейчас...
Не знаю, как получилось, но я швырнула в нее портфелем. Положим, портфель Вику почти не ударил, шлепнулся на серую затоптанную землю, и она на него даже не оглянулась: на школьном дворе портфель не затеряется. Девять лет возвращался к ней прямо в руки и сейчас вернется. Но ведь и на меня она почти не оглянулась, крутанула у виска пальцем, поправила спадающее плечико фартука,
78
и только вихрик завивался, вставая и опадая там, где она раздвигала плечом, или улыбкой, или выставленной вперед рукой общее движение.
— Я сейчас! Подожди!
Ждать я не стала.
Глава II
На кого я злилась больше — на мать или отца, когда во вторник, на следующей неделе подходила к нашему дому? С папочкой было ясно: он ушел и оставил нас на общее обозрение и обсуждение. И мы теперь красовались вроде тех рож, выставленных возле автобусных остановок: гражданка такая-то, попалась на том-то, да сбежала, а гражданин такой-то — подумать только! — крупный аферист.
Одна подобная витринка попалась мне на пути, и я чуть не стукнула сумкой по стеклу. Хорошо было бы также сорвать фотографию скрывающейся гражданки, у которой была прическа, похожая на «сессон» моей мамы, и вся из себя она была очень даже ничего.
...Но мама! Как она, моя умная-благоразумная мама, посмела сделать так, что от нее ушли? Как она посмела сделать так, что нас выставили на осмеяние?
Я обернулась: возле витринки никто не толпился, никто не тыкал в стекло пальцем. Спиной к ней стояли два парня; один высокий, красивый, похожий на белого негра. Брюки его облипали — вельветовые в мелкий рубчик, и голубая рубашка была хороша. Второй рядом с ним смотрелся простаком из местной футбольной команды. Квадратом.
Никакого дела ни до фотографии гражданки, ни до меня им не было. И тетка в светлом плаще, тащившая в обеих руках по клетчатой сумке, смотрела себе под ноги. И маленькая девочка шла сама по
79
себе. Она еле передвигала ноги, угорев от уроков, и ей еще ничего не было известно о том, как бросают.
В одно мгновение мне захотелось снова стать такой девочкой из третьего класса, и чтоб отец приходил, подтыкал со всех сторон одеяло и спрашивал: «Что в воскресенье будем делать, директор?»
Давно он не называл меня директором... Зато к матери несколько раз обращался так: госпожа министерша. Я уже поднималась по лестнице медленно, как только можно, когда вспомнила это: госпожа министерша.
Я открыла дверь своим ключом и сразу же поняла, что пришла домой слишком рано. Моя умная-разумная родительница была не одна. Ирина Викторовна Шполянская-старшая, мать моей лучшей подруги, сидела у нас на кухне и в сотый раз выслушивала мамины вопросы, на которые нет ответа.
— Женя, ты? — крикнула мама, как будто могла спутать мою возню в прихожей с тем шелестом, каким сопровождалось появление отца.
— А кто ж еще? — спросила я, швыряя портфель под вешалку.
— Одна или мое чадо с тобою?
— Одна.
— А где Вика?
В самом деле, где была Вика? Наверное, там, где цвела сирень, и они шли все вместе, смеясь и рассуждая о том, что только очень жестокий человек мог придумать сдавать экзамены весной.
— Опять пожар по общественной линии? Об уроках она думает?
— Думает. Вика всегда думает.— Я уже переоделась у себя в комнате и боялась только одного, как бы кто-нибудь из них не появился в дверях и не спросил, что собственно происходит, почему у меня такое лицо и вообще.
— Вика и в этом году отвечает за факелы? — спрашивала между тем Шполянская-старшая.
И хотя Вика за факелы и в прошлом году не отвечала, я сказала:
— А как же? Кто же, если не она?
— Ну, могли поручить Громову, например. Мужское, в конце концов, дело.
— Кто же теперь доверяет мужские дела мужчинам? — спросила я, поздно спохватившись, что на такие слова, да еще произнесенные таким голосом, в дверях может появиться мама. Пока этого не произошло, надо было проскользнуть в ванную, что я и сделала, включила душ и отгородилась его шумом от всего мира.
А где была Вика? Наверное, они все свернули к морю и шли по направлению к Косе...
...Наш город приник к морю, как птица с двумя мощными распростертыми крыльями. Правое крыло были поселки Комбината и сам Комбинат, а дальше — Коса, на которую когда-то, невообразимой осенью тысяча девятьсот сорок третьего года, высаживался десант. Вся в лунных кратерах отработанной породы, там голубела суровая
80
полынная степь. Немного таинственная из-за отдаленности... В одном из поселков справа жила моя бабушка.
А слева город был понятен насквозь: один завод, второй, третий. Небольшие, как раз по мерке городу. А между заводами — море. В одном месте занятое портом, в другом — верфями, в третьем — маленьким причалом местного значения.
К Косе без автобуса мы редко когда добирались, но по дороге было наше любимое местечко под названием Откос. Мы сваливались под этот Откос, а дальше шла та жизнь, в которой мы превращались в стаю щенков, катающихся по песку, пробующих на вкус прекрасную, как сладкая кость, свободу пополам с безмятежностью.
Здесь можно было лежать в промоинках, закинув руки за голову, и смотреть в небо. Можно было рассказывать байки из взрослой жизни; можно было вслух мечтать и строить планы. Можно было танцевать на песке. Целоваться, меняться дисками, слушать шлягеры.
Нельзя было: говорить об уроках, жаловаться на жизнь, приводить посторонних, хотя бы и из нашей школы.
Сегодня наши отправлялись на Откос после длительного перерыва, а я, надо же быть такой дурой, поплелась домой, и вот теперь ничего не остается, как сидеть в кухне за столом, есть борщ и слушать маму.
— ...Ты же не скажешь, чтоб был хуже людей? И я не скажу. Отчего же желание такое дикое — плестись в хвосте? Если есть возможность перебраться в столицу? Мои родители помогут. Не хочет. Почему? Гордость? Ты мне можешь объяснить, что за странное проявление? Скромность? А я что, уговариваю его чужое место занять? Красть? Плохо работать? Втирать очки?
Мама сыпала своими вопросами, и руки ее двигались над столом на третьей скорости. У моей мамы большие, красивые руки хирурга, и вся она большая.
— И что преступного в том, что я хочу жить с моими стариками? Ты мне можешь объяснить? И почему нельзя приезжать сюда в экспедиции, хоть на все лето,— пожалуйста! Никто держать не станет!
Шполянская-старшая не отвечала, только в знак внимания то опускала, то поднимала над большими сонными глазами большие сонные веки. Это стиль у нее был такой: нога на ногу, папироска в нервно откинутой руке и ресницы опускаются значительно: «Я понимаю тебя. Да и кто из нас, женщин, не поймет». Или: «Ты совершенно права: этой глупости названия не придумаешь — отказываться от столицы!» И все без слов, сонно, медленно, со значением.
У Вики совсем другой стиль. И лицо у нее все ходит, как у маленькой: смеется ли она, плачет, передразнивает, кокетничает, радуется ли, подставляя себя весеннему солнцу, Генкиным взглядам или ветерку с моря.
81
Сейчас Вика и все остальные пошли к Откосу, куда мы ходим с детства с самой ранней весны до поздней осени. Рыжая глина крошится, горкой съезжает под ногами, ты цепляешься за кусты тамариска, прямо за розовые ветки. А дальше — берег в камнях и вода чмокает в них, разговаривает.
Может, поэтому первые минуты на Откосе нам разговаривать не хочется? Каждый выбирает себе ямку, промоинку, поросшую травой, лежит, замерев. Солнце осторожно трогает лицо, и ясно: тот, кто выдумал экзамены весной, никогда не лежал так на глинистом Откосе под длинными, ровно покрытыми цветами ветками тамариска...
А дальше за Откосом, за Косой, если на катере, час ходу,— ведет раскопки мой отец. Мой отец археолог, главный специалист здешних мест по античным и скифским находкам. Хотя какие там особые находки!
— ...Золото! — говорит мама как раз в это время и смеется.— Ну, Ариша, через твои руки, скажем прямо, раз уж ты протезист, прошло и в сотни раз больше! Скифское золото! Кто его видел за последние сто лет? Два браслета, три монеты, остальное — черепки. На западном побережье какую-то Венеру откопали, когда пансионат строили. А здесь не строят — не находят, только мой ковыряется...
— Черепки тоже можно в золото перевести,— тянет Ирина осторожненько, бережно так отгоняет от меня дым,— написать докторскую — и будет капать...
— Пусть докторская, пусть без докторской — проживем, но Женька должна учиться в Москве.
— А Вика? — это я спросила. И сидела над борщом, улыбалась безмятежно.
Если бы мы с нею были одни в квартире, мама сказала бы: «Что — Вика? Вика до восьмого на твоих подсказках жила. И вообще из всего класса ты одна на медаль тянешь». На что я бы ей ответила: «Оказывается, не я тяну, а меня тянут. Но больше не будут — бес-
82
перспективно. Будут — Шунечку».— «Что ты мелешь, Евгения?»
удивилась бы мама. «И это благодаря тебе!»
После этих слов, может быть, слезы хлынули бы у меня из глаз сами по себе, хотя это со мной не часто случается. А сейчас я сидела и смотрела на них сухими, даже как будто пересохшими глазами,— на них, очень много говоривших о том, что надо и что не надо их дочерям. Хотя — я знала — каждая была озабочена тем, что надо или не надо ей самой.
— Ты будешь наконец есть? Мы отправляемся на просмотр.
Вечно они куда-то отправлялись, когда были вместе. Вечно уходили, шли, торопились...
А Ёика и все наши примостились себе сейчас в своих промоинках, смотрели на море, весеннее, серое по краям и расплавленное посередине, и Генкина рука осторожно по влажной, только что отросшей траве подбиралась к Вике. Интересно, поженятся ли они? И еще интереснее: кто кого первый бросит? Ну, хорошо: кто от кого уйдет к какой-то неведомой, невидимой из сегодня цели?
— Вика не говорила, когда ее ждать домой? — И на мой отрицательный кивок: — В девятом могли бы все-таки избавить ее от нагрузок...
Они ушли, а я сидела и думала о разном. Например, о том, что Вика славно устроилась: Шполянская-старшая уверена, что после уроков дочь тратит время на всякие там стенгазеты, малышовские сборы, организацию культпоходов. Впрочем, возможно, наши вылазки на Откос как раз и можно считать такими походами? И еще я вспомнила о том, что Громов что-то давно к Откосу не ходит. Не вздумал ли он взяться за ум и стать тем самым кандидатом на медаль, каким до сих пор была я?
По правде говоря, меня больше устраивало, чтоб меня обогнал Володька Громов, у которого, как все говорили, была светлая голова. Голова-то светлая, но алгебру он запустил сразу с шестого, и очень часто мы с Шунечкой после общего решения заканчивали задачу за него, вот только вопрос: стоило ли это делать? Стоило ли поджидать отстающего, если все мы, как оказалось, были бегунами на гаревой дорожке?
Вот о чем я думала, сидя одна дома и глядя на далекое море, по которому, расталкивая локотками волны, спешил катер, с единственным в мире названием: «Красная Армия». По крайней мере, так утверждал мой отец.
И еще я думала о том, вдруг отец ни с того ни с сего найдет наконец что-нибудь сравнимое с тем, что нашли в Толстой Могиле? Какое-нибудь ожерелье, гривну с львиными головами, гребень, по краю которого один за одним, один за одним примостились упавшие олени. Или чашу вроде той, что совсем недавно стояла в почетной нише музея имени Пушкина в Москве?
Я даже подняла руку, рассматривая, как выглядела бы такая чаша.
83
Чаша выглядела хорошо. И можно было представить, как изменится жизнь отца, если он ее найдет.
А как изменится?
Вот что интересно: он не станет ни умней, ни моложе, ни заговорит басом, а в очереди по-прежнему его будут нахально оттирать локтями, но все-таки он станет другим человеком. Человеком, которому подала руку сама Госпожа Удача. На глазах у всех. Это очень важно — на глазах у всех!
Но этого не случилось до сих пор, не случится и дальше.
За удачей надо гнаться, а мой отец говорит, что он ведет раскопки, чтоб создать картину. Чтоб создать общую картину того, как жили люди за две тысячи лет до нас, когда на территории нашего города и района размещалось несколько государств сразу. Поиск деталей для этой общей картины меня не привлекает. Это Денисенко Александра и Громов пропадают на раскопках целое лето, а потом хвастают какими-то фундаментами да ваннами для засолки рыбы...
Я тоже езжу на раскопки, но никогда еще с такой силой мне не хотелось, чтоб отец мой нашел ту чашу или тот гребень. Почему мне этого так хочется? Почему? Просто потому, что во всех случаях жизни хорошо иметь знаменитого отца?
Мать у меня тоже не знаменита, но она известна. Она известна, как лучший врач-хирург, делающий челюстно-лицевые операции.
Глава III
На первом уроке Вика толкнула меня локтем и не поворачивая головы спросила:
— Ты знаешь, откуда у Охана деньги?
— Какие деньги? — Я смотрела честным взглядом в рот нашей Ларисе Борисовне, но слушала только Вику.— Какие?
— Большие! — Вика толкала меня уже не только локтем, но и коленкой под партой.— Он шьет штаны.
— Какие? — опять довольно глупо спросила я.
— Фирменные...— Вика от возбуждения подвигалась все ближе ко мне.— Из джинсовой, и белые, и «диско», и всякие!
— Как шьет?
— Нитками. На машинке. Если тебя интересует.
Меня интересовало. Я отвела взгляд от бесшумно открывающегося и закрывающегося Ларисиного рта, посмотрела на нашего Андрея. Больших денег на нем видно не было. Но возможно, он копит их на «систему»?
— По пятнадцать рэ за пару,— шептала Вика дальше с таким же безмятежным лицом, как у меня, и все это было гораздо интереснее, чем вопрос о двух непересекающихся плоскостях. Все это было даже очень интересно: Оханов, молчаливо и аккуратно сидящий на задней парте, и вдруг такой размах.
84
— И нам может? — спросила я у Вики, с особым усердием взглядывая на доску и даже записывая что-то в тетради.
— Нам не станет. А в ПТУ всем девчонкам такие выстрочил — фирма!
— Как ты узнала?
— А Тонька Птица в нашем дворе живет.
Тоньку я не знала, но какая разница?
— Ну,— сказала в это время наша Прекрасная Дама.— Ну, что же вы? Решили? Нет? Задачка очень проста, но с секретом. Да.
Голос у нее был, как всегда, подбадривающий, обещающий победу. Однако класс равнодушно дремал на солнышке. Последние секреты стереометрии нас решительно уже не могли заинтересовать. В мире было так много другого загадочного, непостижимого, от чего зависела наша судьба,— при чем тут непересекающиеся плоскости?
— Вы не торопитесь, только представьте себе угол наклона...
— Угол наклона Длинного к Вике,— уточнил кто-то, тоже без особого азарта.
— Угол наклона — а?..— Она мелом постучала по доске, как бы намекая на что-то чрезвычайно интересное. Бедная, бедная Классная, на которую я смотрела будто сквозь туман. И не без злорадства.
— А ты, Камчадалова? Нет? — Меня она почему-то всегда называла по фамилии.— Не догадалась?
— Нет,— мотнула я головой и самым наивным голосом предположила: — Может быть, Денисенко? А я, к сожалению, не люблю отгадывать секреты. В крайнем случае, я их подслушиваю.
— Да? — Лариса Борисовна нерешительно повертела мелок, прежде чем положить его, отошла от доски и стала около меня; приходилось задирать голову, чтоб рассмотреть ее яркие губы и золотую, литую копну волос. Я думаю, Лариса могла догадаться, на что я намекаю.
Она провела рукой по нашей с Викой парте, как мама проводит по моему столу, выясняя, а не вовсе ли я заросла пылью, и пошла дальше, покачивая своей волшебной талией, какой не было ни у одной из нас, хоть перебери сплошь девятые и десятые.
Я смотрела ей вслед почти с грустью, но задачу решать мне действительно не хотелось. Зачем? Что могла изменить в моей жизни решенная задача? Я усмехнулась и приподняла руку и опять увидела в ней золотую чашу-фиал, по краю которой напряженно и быстро скакали низкорослые кони.
Сразу же после урока мы отправились в сарай проверять: а что там поделывают прошлогодние факелы? В каком они состоянии? До восьмого оставалось два дня, и по-настоящему факелами надо было бы заняться по крайней мере неделю назад.
— Ну, тут же раскопки надо производить,— сказал Володька Громов, когда мы вошли в пахнущую сыростью темноту сарая.— Тут до культурного слоя не докопаешься!
Громов любит подчеркивать свое прямое отношение к археологии. В углу сарая навалом лежали лопаты, грабли, метлы — весь инвентарь для субботников. В полутьме белели новенькие черенки... И Громов схватил одну лопату, поднял «наперевес», как будто в самом деле собирался идти в штыковую атаку. И лицо его сразу затвердело. Как будто он в такую атаку уже ходил.
Но в этот момент Вика ткнула его в спину:
— Ну, как скажешь, будем мы или не будем докапываться до сути, Гром? Не забывай: нам еще шестиклассников на шею навесили...
— Была охота в няньках ходить,— буркнул, как будто ему было сто лет, Мишка Пельмень.— Не шефство мы над ними держим, я вам скажу, а инициативу своими руками убиваем и закапываем.
Голос у него тянулся противный, и за работу браться он не собирался, стоял, облокотись о черенок лопаты, ныл.
86
— У тебя, Мишка, няньки, наверное, никогда не было? — Шу- нечка Денисенко спрашивала своим прозрачным голоском, но каждый в классе понимал: сейчас зубки свои она о Пельменя поточит.— Никогда-никогда? Никакой няньки? /
— Чего это ты?
— А того, что инициатива у тебя богатая...
— Какая еще инициатива? — насторожился Пельмень.
— Частная, Мишенька, частная.
— А хоть бы и частная? Инициатива есть инициатива! — Мишка теперь стоял в позе хозяина жизни, опираясь на лопату и выставив ногу.— Газеты надо читать или с Оханом беседовать.
— Это насчет штанов, что ли? — засмеялась Вика.— Охан, Андрюша, сшей и мне блестящие! Денискина не слушай, Денискин — дурачок.
— И мне — по старой дружбе, черные — «диско».
— Не по дружбе, Элька, а по пятнадцать рэ!
— А хоть бы и по пятнадцать, зато — люкс!
— Газеты надо читать подряд, Миша, а не только то, что тебя
устраивает! — захлебывалась в поисках справедливости Денисенко, и все мы уже точно забыли, зачем пришли в сарай. Хватали лопаты,
чтоб опереться на них, вроде Пельменя, хватали метлы, и шум
базарный стоял в сарае, и со двора пахло разогретой травой, морем, волей...
Тут Громов крикнул из дальнего угла, раскатился своим басом на весь сарай:
— Все! Кончайте с экономикой! Романтика — вот она!
Я больше всех других праздников, даже больше Нового года, люблю День Победы. Люблю салют и разноцветные ракеты в небе, люблю, когда весь Город идет на Гору к Вечному огню. Но больше всего я люблю наше факельное шествие.
87
Вообще-то наши факелы самодельные. Это палки, к которым прибиты плоские консервные банки. А в эти банки накладывается вата, пропитанная мазутом, и горит.
Мишка Садко подошел и лениво пошевелил кучу закоптелых факелов, куча брякнула, несколько банок откатилось недалеко.
— Давайте завтра, а? — предложила Вика.— Хоть переоденемся.
— Я вас, между прочим, предупреждала, чтоб прихватили старое,— сказала Лариса-Бориса, появляясь незаметно у нас за спинами.
— Да вы как-то так в сослагательном...
— А тебе обязательно в повелительном? — засмеялась Денисенко, которую мы чаще всего звали Шунечкой.
А Лариса-Бориса все стояла в дверях сарая. Лица ее не было видно, только волосы лучились и на погончиках лежало по золотому пятну.
— Лариса Борисовна, а почему мы должны? — спросила Эльвира Сабурова.— Что тогда завхоз будет делать?
— По нашим временам заиметь трудность, Эльвира,— это тебе не кошка чихнула.
— Ну да, преодолеем и выйдем в люди.
— Я не хочу в люди, мне и в детях хорошо.— Вика стряхнула ладошки, хотя даже не прикасалась к тому, что было свалено на полу.— Может, в люди все-таки завтра, Лариса Борисовна? Хоть переоденемся...
Мы стояли в своих коричневых батниках и узких юбках, которые давно, с восьмого класса, носили вместо формы, и фартуки у нас были, естественно, не покупные, а сшитые комбинезончиками, а у Вики на шее еще болтались три тоненьких цепочки «под золото». И ясно было: куда нам возиться с мазутом?
— За один день не успеем,— вылезла Денисенко Александра.— Надо просто на час сбегать переодеться.
Положим, ей ничего не надо было переодевать.
И тут я, возможно в первый раз, отметила: мы стояли вокруг факелов кучками, как дружили. А дружили, как одевались. Или одевались, как дружили? И матери наши одевались по-разному. Платья сафари, сумки через плечо, вельветовые шмотки были у моей мамы, у Генкиной, а также у Сабуровой и Шполянской. Мать Шуры Денисенко и мать Володьки Громова шили у городской портнихи — просто, но мило. У Чижовых и Охана, да и у многих других, матери были тетеньки в светлых плащах. Вроде той, с тяжелыми клетчатыми сумками, которую я встретила вчера у витрины с рожами.
— Ну, Лариса Борисовна, что будем делать?
— Прежде всего давайте определим задачу,— со своей всегдашней четкостью сказала Лариса и красиво отогнула смуглую тонкую руку, взглядывая на часы.
И вообще вся она была загорелая и очень молодая, четкая и красивая, совсем такая, как осенью в совхозе на яблоках, когда мы
88
все любили друг друга. Но то чувство, будто мы с нею связаны одним делом и одной любовью ко всему окружающему,— оно как испарилось из меня после разговора о медали, так и не собиралось возвращаться.
Одним словом, я стояла совершенно свободная и совершенно отдельная от Ларисы-Борисы, а может, и от класса. Стояла и наблюдала: чем же все кончится?
— Что ты, Шполянская, предлагаешь? А, Вика, а? Ты, Оханов? Камчадалова? Ну, ну, девочки, ну? — Она еще раз повернула руку с часами, как бы засекая время, необходимое, чтоб разбудить, раскачать нашу инициативу.— Думайте, думайте!
— За молотками надо пойти к завхозу,— сказал Громов самое простое.— Беги ты, Денис, пока я здесь разберусь. Идет? Гвозди понимаешь какие спросить? Сорок гвоздей, как минимум. А молотка два.
Громов на пальцах уточнил размер гвоздей и количество молотков. Потом крикнул вслед выбежавшей из сарая Денисенко Александре:
— Слушай, Шуня, тряпки, может, у него какие есть — держалки обтереть, попроси!
Шунечка радостно вырвалась на волю.
Что-то странное все-таки было в ее отношениях с Громом.
И сам Громов странный... Генка — ясен, Оханов — прозрачен, несмотря на эти джинсовые тайны. Пельмень — весь на ладони, а Громов живет — как будто что-то знает, до чего мы и через десять лет не додумаемся. Недаром в трудных случаях на него оглядываются. К тому же он дружит на равных с моим отцом, что тоже, согласитесь, странно.
Особой инициативы Лариса в нас так и не разбудила. Но сказала:
— Стыдно будет плестись в хвосте. Нет? Да? Вот видите, все- таки — да!
— А где же еще? Впереди идут десятые,— сказала Эльвира, она у нас всегда все понимает один к одному.
— Мы будем плестись в конце соревнования, если не выставим необходимого количества факелов в своем и шестом классе.
— А мы выставим, Лариса Борисовна! — Громов попробовал вбить первый гвоздь, не дожидаясь молотка, камнем. Руки у него были сильные.
...Вика с Генкой отбирали и откладывали в сторону факелы почище и поисправнее, Оханов как-то особенно старательно следовал примеру Грома. Несколько мальчишек принялись отдирать совсем уж перержавевшие банки от держалок, потому что дух разрушения в них был куда сильнее духа созидания. Силу им некуда было девать, как любила говорить моя бабушка. Руки-ноги ныли при хорошем питании без дела. А делать дела не умели.
Потом удалилась Лариса, заявив, что теперь, она надеется, мы
89
и без нее справимся. Потом я долго смотрела ей вслед. Потом обнаружила, что Ларисы давно уже не вижу. А вижу просто поле, поросшее травой, которая круглыми кустиками поднималась над ра-, зомлевшей землей и сама была разомлевшая.
И я тоже стояла и млела на солнце, чувствуя всем лицом и его тепло, и запах травы, все еще влажной после недавнего дождя, и то, как безо всякого ветра переливается воздух, просто волнами ходит, выманивая нас из сарая...
И я уже не думала ни о Ларисе, ни об отце, ни о Громове. Я просто захотела, чтоб около меня сейчас, сию минуту появился кто-то, с кем хорошо было бы оказаться на Откосе, лежать в двух соседних промоинках. И чтоб его рука по траве, по мелким камешкам, незаметно для других приближалась к моей. И чтоб рука эта была рукой сильного, твердого человека... И чтоб все видели: он меня любит. И чтоб Лариса видела. И чтоб он нисколько не был похож на наших мальчишек, и чтоб...
Тут я очнулась, перестала представлять этого неведомого человека, потому что, выйдя из-за угла школы, скорыми шагами он приближался прямо ко мне...
Он был точно такой...
Он был точно такой, потому что я среди этих весенних волн и дуновений вспомнила о вчерашнем белокуром негре, и вот сейчас он шел прямо ко мне. Он шел прямо ко мне, высоко откинув голову в мелких кудряшках, и длинные его ноги как будто слегка пританцовывали, потому что он старался ступать только на самые высокие кустики травы...
Я открыла рот.
Согласитесь, такое не часто бывает: вот вы помечтали, и вот ваша мечта движется по школьному пустырю, слегка оттопырив карманы брюк большими пальцами сильных, взрослых, наверное, твердых рук. И чтоб не произошло ошибки, вы должны крикнуть: «Это я! Это я!» — но крикнуть не можете.
И я не могла.
Рот у меня, кажется, не закрывался, а глаза все вбирали и вбирали, какая у него уверенная походка, какой ремень, какие губы, резко очерченные и со вдавленными уголками, будто тайная улыбка не сходит с них.
Я одна стояла в дверях сарая, освещенная солнцем и вся на виду. Может быть, именно поэтому ошибки не произойдет?
— Герцогиня из девятого «Б»? — спросила меня мечта легким, будто отлетающим голосом.
Я кивнула на этот вопрос, согласная с «герцогиней», с его манерой оттопыривать карманы, улыбаться, спрашивать. Я вообще выразила согласие со всем, что должно было произойти, со всем, что вот сейчас, сию минуту произойдет.
— Коллегу Громова, по имени Владимир, нельзя ли на минуточку?
Пожалуй, он спрашивал об этом меня. И пожалуй, больше нечего
было ждать, не на что надеяться. Но я ждала. Однако дождалась только того, что из сарая вышел Громов с грязными руками, и потому парень (или Прекрасный Незнакомец, считайте как хотите) потряс его за локоть. И так, придерживая за локоть, отвел в сторону на такое расстояние, что ни одного слова из их разговора я не могла услышать.
Однако каким-то неведомым путем я поняла, что первые фразы имели ко мне прямое отношение. Причем парень (как я потом узнала, его звали Макс Поливанов) спросил у Громова о чем-то с уверенной надеждой. Но Громов засмеялся отрицательно, затряс головой. А напрасно. Потому что не обещал чего-то он как бы от моего имени, в то время как я была согласна.
Я была согласна идти с этим Максом Поливановым на Откос, на танцы и даже на край света.
Но увы! Как было совершенно ясно, меня никто не собирался туда приглашать. Теперь они говорили совсем не обо мне. Разговор у них шел легкий — все в той же манере как бы мимоходом о чем-то спрашивалось и что-то отвечалось. Даже не обсуждали они какие-то свои проблемы, а информация незначительная, мелочная перескакивала от одного к другому. Информация, не имевшая ко мне никакого отношения.
Глава IV
Мне кажется, ни в одном городе на свете не проходит такого факельного шествия, как в нашем. Наверное, и в других факелы зажигают и несут к определенному месту. Но у нас, чтоб подняться к Обелиску, надо несколько раз обогнуть Гору. Надо пройти по вечным, узеньким улицам, почти касаясь старых стен, на которых до сих пор сохранились выбоины от осколков и пуль... И чем выше ты поднимаешься в гору, тем шире перед тобой расстилаются огни внизу — и настоящие, и отраженные в море.
91
И в конце концов на каком-то витке, возле какой-нибудь видавшей виды калитки или лестницы, тебе начинает казаться, что ты с Городом — одно. Что вот сейчас у тебя вырастут крылья, и ты поднимешься над ним. Или, наоборот, не поднимешься, а через минуту по главному спуску сбежишь к морю, к кораблям, и мгла расступится перед тобой, поголубеет, и увидишь не привычное розовое здание третьей школы, а что-то таинственное, будто приснившееся. Улицу, например, какой на этом месте, да и нигде в мире, не существует. И ты пойдешь по ее блестящим голубым булыжникам, уже как бы не девчонкой, а взрослой. И взрослое, непонятное, еще не случившееся, но манящее счастье охватит тебя.
Я точно помнила, в каком месте такое нашло на меня в прошлом году. Просто толкнуло в грудь, и я увидела другое море, другой спуск, другой берег. Я люблю наш Город и простым, знакомым, а тут я готова была запеть или даже закричать от любви. И раскинуть руки от предчувствия, что скоро-скоро мне будет в моем Городе еще лучше.
И сегодня, подходя к старой акации и к воротам, сразу от которых начиналась виноградная беседка, я приготовилась: повторится, не повторится прошлогоднее? Там еще сирень цвела и пахла, переваливаясь через забор из беленого ракушечника, а в глубине двора что-то ловило и отпускало огни наших факелов, и эти таинственные, неопознанные отсветы вместе с цветочным запахом ночи что-то обещали...
Я уже приготовилась пережить это чувство снова, как увидела Поливанова. Он стоял чуть дальше «моего» места, облокотившись на ветхую балюстрадку, и выглядел так, будто как раз пришел из таинственной взрослой страны, куда, между прочим, уже целый год меня обещали позвать.
Мы с ним даже как бы встретились взглядами издали. И я даже сделала глупое движение вперед, я на секунду выпала из рядов, прежде чем догадалась: не меня он ждет здесь у спуска. Он даже не кивнул мне. Рядом стоял его приятель Квадрат в красной водолазке и блайзере, застегнутом на все пуговицы, но все равно простак простаком.
Когда наша колонна поравнялась с ними, они одинаково подняли руки, приветствуя кого-то. И в то же время Громов, он шел чуть впереди меня, сделал какое-то неуловимое движение, вдруг засуетился и, меняясь местами с соседями, оказался рядом с Викой. А потом, оттирая кого-то плечом, пятясь, очень быстро он и Вика протиснулись к краю колонны. Причем свой факел Вика сунула Тоне Чижовой, а Громов отдал Шунечке. И теперь те шли, неся в каждой руке по факелу и оглядываясь: что же все-таки произошло?
Хотела бы я, чтоб и мне кто-нибудь мог ответить на этот вопрос.
— Куда они? — спросила наконец Шунечка.— Пожар там, что
ли?
92
Шунечка наша была святая простота, как говорила моя мама. Она и дальше пыталась что-то выяснить, наступая на пятки Мишке, но тут возник, проявился из ничего наш физрук и вполголоса, но очень кстати скомандовал:
— Ногу взять, ногу! Разговорчики? В строю — отставить! Ногу...
Сам Мустафа Алиевич вышагивал рядом, для примера так гордо откинув седую голову, что поневоле подтянешься.
Однако Марта Ильинична, шагавшая сзади нас, не могла упустить случай, принялась спрашивать, как будто ни к кому не обращаясь:
— Что это значит? Что бы это могло значить? Ну, Ларочка, как хотите, а я бы им этого не разрешила.
— И я бы нет,— усмехнулась вполголоса «Ларочка»,— да кто нас спрашивает? А кричать? ЧП устраивать? Вы уж извините, но это мой класс. А у меня своя раскладка. Да.
Я не увидела, но спиной почувствовала, как Марта Ильинична морщится от этого нового словечка — раскладка. А дело заключалось не в словечке, в том оно заключалось, что Лариса наша была молода, следовательно, еще многое могла понять.
Она, как и я, смотрела вниз на спуск с Горы, весь облитый голубым лунным светом, длинный, таинственный, неизвестно куда ведущий. По этому спуску, нарисованные исключительно серебристыми и черными красками, удалялись фигуры. Одна высокая, гибкая, созданная для того, чтобы взлетать по реям или хотя бы ласточкой падать с вышки в море; рядом — легкая, танцующая, счастливая своей легкостью, а две — вполне обыкновенные.
Возможно даже, наша Классная Дама была настолько молода, что и у нее дрогнуло и защемило сердце от луны, от голубых булыжников, от того, что Макс Поливанов был похож на капитана Грея...
Между тем мы шли дальше, поднимались петлями по склону,
93
и я думала о том, что Громов (или сам Поливанов?) сделали правильный выбор. Знали они, кого выбирать, утешала я себя, уж сколько раз приходилось мне удирать с уроков и даже первой, но восьмого мая вот так вот сбежать с Горы я бы не смогла...
Наверное, это было у меня на лбу написано и равняло с Денисенко Александрой и даже с сестрами Чижовыми, а также с Генкой.
Значит, справедливо, что выбор пал именно на Вику. В ней оказалось нечто такое, чего не было во мне. Но почему она так легко отлепилась от Генки? А Громов почему не потащил с собой длинную Шунечку? Хотя ее только и не доставало в том месте, куда они спешили. И где наверняка не предвиделось ни математических олимпиад, ни литературных викторин.
...Мы трое все еще вертели головами, как бы стараясь понять, что же произошло? Каким образом нас не только оставили (бросили), но и обставили? У Генки большое темное пятно копоти лежало над бровью и почему-то делало его лицо еще более грустным. И все-таки хуже пришлось, наверное, Шунечке: уж очень она привыкла, что Громов всегда рядом, чуть не за ручку ее держит.
Подозревала ли она, что ему нравится Вика? Или не ему понравилась моя первая подружка Викуся Шполянская-младшая, а таинственному Поливанову? И именно он будет танцевать с ней на вечеринке? И там, вместо глупой детской «бутылочки», просто тушат свет минут на пять — десять и в темноте каждый делает что хочет...
Это все проносилось у меня в голове очень быстро. Мысли летели одна за другой, одна за другой в темноту. А я все несла и несла свой факел и вместе со всеми поднималась на Гору.
А Гора вот уже почти кончалась, почти входила в небо, очень темное от огней. Только над нашими факелами оно дымно светлело. Меня захватило это небо, по которому быстро-быстро между нами и звездами бежали тонкие облачка.
И тот миг, когда мы должны были вступить на плиты около
94
Вечного огня, захватил меня. Мы шли по этим плитам, мимо маленьких пушек, мимо надгробных плит с именами, прямо к Обелиску и были видны всем. Не только жителям нашего приморского Города, но и всем жителям вообще. Всем живущим. У меня всегда было такое представление об этой минуте, и она была самой торжественной минутой в моей еще очень короткой жизни.
...А с той, непарадной, стороны Горы, обращенной к степи, среди других машин нас ждал «борт», который третий год подряд в этот день и в этот час нам выделяет самое большое автопредприятие, где работает отец Мишки Пельменя, чтобы не надо было возвращаться пешком через весь город, нести в школу потухшие факелы.
Я уже готова была подойти к машине, отдать свой в руки Охану или Мустафе Алиевичу, стоявшим в кузове, и тут прямо у себя под носом увидела Мишку и Эльвиру. Мишка прислонился к дверце кабины и доканчивал какой-то ленивый разговор.
— Эту? — говорил он, кивая себе за плечо и не замечая меня.— Эту агитировать не надо. Она знает: кто не рискует — не выигрывает! Штучка!
Ничего определенного в словах Пельменя вроде не заключалось, но я поняла, что он говорит о Вике, и говорит скверно. Все расплылось, закачалось у меня под ногами, и горячая тьма мгновенно накрыла меня. Отцовское, наследственное бешенство толкало стукнуть Пельменя по голове тем, что было у меня в руках... Но все-таки я удержалась: жестянка на палке оставалась факелом, по крайней мере здесь, на Горе. И я обошла Мишку и Эльвиру, потом сунула факел Охану и постояла еще немножко рядом, переводя дыхание.
Я стояла и смотрела на Город, на его огни. Прямо под Горой они были брошены кучкой, а вправо и влево разбегались узенькими дорожками. Правая была гораздо длинней, и там, в конце ее, невидимый даже отсюда, за холмами лежал поселок, где жила бабушка, а еще дальше была Коса.
...Спускаясь с Горы, почти сразу же в толпе, стоявшей вдоль лестницы, я заметила своего отца. Ничего удивительного в этом не было. Точно так же я могла увидеть свою мать, а Генка, например, обоих предков сразу, стоящих рядом в одинаковых финских куртках и каскетках, каких в нашем городе еще ни у кого не было... И Громов мог отыскать глазами своих, что было особенно легко: они поджидали нашу колонну всегда в одном месте.
Итак, мой отец стоял на тротуаре, вместе с другими родителями. Лицо его оказалось передо мной, словно выхваченное прожектором. Лицо, еще совсем молодое и сейчас радостное, потому что он меня давно заметил и знал, что с Горы мы будем спускаться вместе.
И мы действительно спускались с ним вместе.
Мою мать многие знали в городе. «Ну, вы отхватили сто тысяч в спортлото, если попали в руки к Камчадаловой» — так говорили одни. Другие даже утверждали: «У нее и в столице было бы имя».
95
«Все головы нашего города — в ее руках» — это я тоже слышала.
Мой отец раскапывает скифские курганы, исследует эллинские захоронения, давильни, ванны для засолки рыбы. Идеал моего отца некто Стемпковский, первый археолог нашего города, который жил, однако, так давно, что никто о нем толком ничего не знает: сто пятьдесят лет — приличный срок для травы забвения. Хотя Стемпковский многое нашел.
Мой отец не нашел почти ничего, если не брать в расчет старых городов и поселений, от которых остались одни камни, а среди камней редкие черепки чернолаковых и краснолаковых ваз. Некоторые из черепков удалось склеить, и теперь в музее стоят две вазы — «гид- рии». На одной хоровод женщин несет кисти винограда, на другой — трое мужчин с луками гонят лань...
Еще отец нашел несколько скифских браслетов. Ну, еще пластины от скифского лука. Обыкновенные пластины, не золотые.
Что это были за находки по сравнению с тем, чего от него ждали!
Каждый раз, когда к нам приходили гости, у отца спрашивали: «Ну, как дела, копатель? Грифонов каких-нибудь еще не откопал? Нет, говоришь? А грифончик или хотя бы графинчик?» «Графин» — «грифон» — отцу моей Вики почему-то это казалось необыкновенно остроумным.
«Не откопал?» — спрашивала и Шполянская-старшая.
Дядя Витя Шполянский продолжал шутить, гости веселились, шумели, а отец все пытался объяснить, что копателями с давних времен назывались не археологи, а искатели золотых кладов.
У моего отца характер отчасти педантичный (это я уяснила, прочитав несколько книг по психологии). Очевидно, только с педантичным характером можно стать археологом. Или педантизм тут ни при чем? Нужна простая удача? И характер, стало быть, рисковый, даже с авантюрной жилкой?
96
У моей мамы характер рисковый... Но сейчас я рассказываю не о маме.
— Ну, как ты? — спросил отец и, точно маленький, потерся о мою щеку.
— Нормально,— сказала я.— А ты как? Еще ничего не нашел?
— Что же? — переспросил отец, за плечи отстраняя меня от себя, как будто рассматривая так повзрослевшую за две последних недели дочь.—Что, Женя? Что? Толстые Могилы не на каждом шагу встречаются, и даже тонкие, совсем нищие, многие разграблены.— Он заговорил странно, как стихи читал, а в моем вопросе между тем содержалось ехидство: найти можно было новую жену, например.
— А почему Громова я не вижу? — спросил отец и оглянулся.— Громов был с вами! Обо мне не спрашивал?
Он потер переносицу, как будто после этих обыкновенных вопросов хотел задать еще какой-то, трудный, и вот собирался с силами.
— Громов ушел на вечеринку. Я так думаю...
— А Денис?
— Вон спешит.
Шунечка Денисенко в самом деле летела к нам, перескакивая через три ступеньки и не глядя под ноги. И лицо отца просветлело навстречу ей так же, как пять минут назад навстречу мне.
Мы стояли под фонарем, и все видели, как Шунечка кинулась к моему отцу:
— Алексей Васильевич! Как я соскучилась!
Теперь она тыкалась ему в ухо со всей своей детской непосредственностью, и это было мне неприятно. Тем более что я увидела Эльвиру. Эльвира стояла тихонько несколькими ступеньками выше нас, заложив ручки за спину, разложив аккуратненько по плечам синие свои волосы, и глаза ее смотрели будто совсем в другую сторону...
— Алексей Васильевич! Алексей Васильевич, я к вам на Могилу, как только кончатся мучения! — захлебывалась своим юмором Шунечка.
— Ты имеешь в виду экзамены?
— Ну конечно, Алексей Васильевич! Что еще нам портит жизнь, отрывая от Могилы?
— Ну, мало ли?..— Алексей Васильевич развел руками, своими и ее, потому что он не выпускал Шунечкиных рук, и вообще ему, кажется, было так же приятно увидеть Шунечку, как и меня, родную дочь.— Мало ли что нам портит жизнь? А ты, помнится, когда-то экзамены любила.
— Ага. А совсем маленькая — уколы. Любила, когда в школе уколы. Все-таки риск: как поведешь себя? А сейчас не люблю...
Она, подскакивая перед ним, тарахтела, и глаза ее сверкали, будто всамделишными синими искрами. А Эльвира смотрела на все это
4 Школьные годы. Вып. 3
97
представление, скосив зрачки. Тут подошло самое время сказать предку: «Ну, будь. Мне некогда. У нас гости».
И я бы сделала так, да почувствовала, отец каким-то неуловимым движением, каким-то поворотом на месте стал в совершенно другую позицию. Он прикоснулся ко мне плечом. Он был теперь заодно со мной. Он был родным, а Шунечку мы просто встретили. Кому же запрещается приветливо встречать своих хороших знакомых? И спускались с лестницы мы с отцом, взявшись за руки, а Шунечка просто шла рядом.
— Девочки, кто из вас первый увидит Громова, скажите — он мне очень нужен. Очень.
— А лагерь в этом году обязательно будет?
— Ну куда ж я без вас денусь, Денис?
— Вот бы, вместо Могилы или давильни, крепость, а? Я так хочу...
— А я, ты думаешь, меньше? Значит, насчет Г рома договорились?
Но она никак не понимала, что отцу хотелось остаться со мной,
все шла и спрашивала подробности насчет летнего археологического лагеря. Например, такие глупые: а не забудет ли мой отец в этом году заранее закупить длинные макароны? А помнит ли, как их все любили на завтрак? И еще она спрашивала насчет клея, палаток, вьючников. Насчет того, когда решено отправиться на разведку, проверить, стоит ли наш сарай, а в сарае целы ли лопаты и банки с бобами.
А потом мы все-таки остались одни, шли по городу вместе с толпой, в которой мелькали знакомые лица. Но дальше от центра прохожие были уже редки, и слышалось, как внизу за балюстрадой плещет море, легонько всхлипнет и прошелестит, отступая в темноту.
— А в школе у тебя как? — спросил отец, глядя вниз на неразличимые мелкие волны.
— Нормально.
Что я могла еще сказать? Пожаловаться на Ларису? Пересказать
98
разговор в учительской? В лицах показать, как легко они меня отстранили, выдвинув вперед его драгоценную Денисенко Александру?
— Что из этого года у вас в аттестат входит?
Я ответила равнодушно, я не верила, что отца это и в самом деле интересует. Длинные макароны, палатки, вьючники — это да!
Отец стоял рядом со мной, но был как будто далеко. Лицо у него стало хмурым, собранным к переносью, таким я не любила его. Такими бывают лица у людей, страдающих или боящихся чего-то. У людей, не уверенных, что смогут перенести невзгоды или победить. У мамы, даже перед самыми трудными операциями, не бывает такого лица.
Мимо нас прошли какие-то люди, немолодые, в темном. У одного через плечо был переброшен ремень от аккордеона.
— Глянь! — сказал тот с аккордеоном.— Вон Камчадалов стоит.
— Где? — Они обернулись, как по команде.— Где Камчадалов?
— Да вон с девушкой. Ну, в сером. Ослеп, что ли? На отца своего как похож.
Так, значит, и на этот раз отца узнали, определили не самого по себе, а через десантника Камчадалова, моего деда, который осенью тысяча девятьсот сорок третьего года высаживался на заминированную Косу и первый бежал в атаку, за что и получил Героя.
Мне, конечно, было приятно, что у меня такой дед. Что памятник на Горе имеет к нему прямое отношение. Что с факелами на Гору все школы города поднимаются и в его честь. Но при всем при том я хотела бы, чтоб моего отца узнавали иначе: «Вон Камчадалов прошел. Ну, тот, который о восстании Савмака книгу написал». Можно и по-другому: «Тот, который пуд скифского золота нашел. Прямо у всех под ногами».
И отцу это тоже было нужно, я же видела, с какой грустью он посмотрел вслед тем парням и как долго не мог поднять на меня глаза.
— Я завтра буду весь день у бабушки на Косе,— сказал отец.— Если ты увидишь Громова, пусть забежит.
— Будь-сде. Тем более что мы все тоже будем завтра на Косе.
Глава V
Но до завтра еще надо было дожить.
Отец проводил меня почти до самого дома. Вот тут и сказать бы ему «Зайдем?» и попросить, чтоб он остался, чтоб все пошло по-прежнему. Я промолчала не из гордости. Просто я понимала: по-прежнему не пойдет. То есть можно вернуть все, что делалось в нашем доме два месяца, полгода назад, когда мама с папой по три часа подряд выясняли, поменяем ли мы наконец «эту дыру» на Москву.
Что интересно: дырой мама наш город никогда не считала и любила его. Не так, как мы с папой, но все же. Однако в те дни мама
99
тщательно выбирала, чем ударить побольнее. И почему-то все свои обвинения она выкрикивала, стоя посреди комнаты. Стояла красная, злая, но все равно — красивая. При этом надо сказать: в лице у моей мамы нет ни одной красивой черты. Разве что брови — длинные, ровные, собольи. Но все равно она была красива, и мы с папой это видели. Сидели по углам и видели: рычит посреди комнаты большая, как тигра, женщина, и ей с нами тесно, нехорошо.
В то время скандал жил у нас в квартире постоянно. Иногда он гудел, как шмель, бьющийся о стекло. Это невозможно было слышать, хотелось пойти в ту комнату, откуда долетали звуки, открыть окно, выпустить, выгнать глупую жужжалку. Не понимающую, что стекло — это стекло, с чем приходится считаться.
А иногда скандал взвизгивал, как тормоза или как собака, на которую наехали. Мама еще раньше говорила: «Ругаться в очереди или в автобусе может тот, кто переходит на басы. Остальным полезнее перемолчать». Отцу полезнее было перемолчать.
Но он не молчал, он спрашивал, зажимая ладони между колен и раскачиваясь, как от сильной боли: «Как ты не понимаешь: в моем возрасте просто невозможно быть московским зятем!» — «Почему? — спрашивала мама, в знак удивления высоко поднимая плечи.— Почему зятем? Через два года, если постараешься, у нас будет кооператив. У Женькиного деда, слава богу, есть возможности!» — «Я не умею стараться на кооперативном поприще. Ты же видишь, мы и здесь ждали четыре года».— «И в конце концов дали мне!»
Тут, опомнившись, мать встряхивала головой, чтоб в ней одни мысли сменились другими, более добрыми, и садилась курить. Курила она так же, как подметала, чистила картошку, надевала сапоги,— красиво. У нее были сильные, ловкие движения и уверенность.
Иногда уверенность заносила мою маму и слишком далеко. Тогда она могла даже спросить, продолжая разговор о квартире: «А знаешь, почему четыре года ждали? Потому что твои черепки никому не нужны, а за мои не только квартиру можно получить!»
Ее черепки были разбитые головы, сломанные челюсти, перебитые носы. Причем не думайте, что хирург Наталья Николаевна Камча- далова имела дело только с пьяницами. Она «штопала» шоферов и пассажиров, разбившихся в авариях; сорвавшихся с высоты такелажников, скреперистов и экскаваторщиков с Комбината, если с ними случалось несчастье. Ну, конечно, и тех, кто пострадал при драке.
...Нет, я искренне не хотела, чтоб все стало в доме по-прежнему. А вернуть мое детство, те дни, когда отец звал меня директором, все равно было невозможно.
Приблизительно об этом обо всем думала я, простившись с отцом, входя в пустой и какой-то остывший дом и зажигая свет подряд во всех комнатах. А потом я подошла к балконной двери и, случайно глянув в ту сторону, увидела, что отец не ушел. Возможно, он хотел убедиться, что я попала в квартиру. А возможно, тоже вспомнил то время, когда они вместе с мамой приходили посмотреть, не замерзли
100
ли у меня ноги, не сползло ли с меня одеяло, не слишком ли дует на меня из балконной двери.
Во всяком случае, он все стоял под фонарем — маленькая фигурка на почти пустой улице. Люди там уже не гуляли, а только возвращались домой. А отцу надо было идти к бабушке, но он все стоял под фонарем. Ему, я думаю, тоже хотелось в прошлое. Что делать — такие желания бессмысленны. И надо смотреть вперед. «Оглядываться — что за мода? — спрашивает в таких случаях Шполян- ская-старшая, сбивая пепел прямо на наш палас.— В беге, в эстафете, в марафоне, или как там называется, ты видела оглядывающихся, Наташа?» — «Слишком рискованное сравнение»,— пыталась остановить Шполянскую-старшую мама. «По-моему, от древних греков до наших дней все изображали жизнь, как бег наперегонки»,— говорила Шполянская-старшая и прикрывала выпуклыми веками глаза в знак того, что произнесла истину в последней инстанции.
Но сейчас я рада была бы застать у нас дома хотя бы Шполянскую-старшую, даже вместе с дядей Витей, до того мне стало невыносимо одиноко. И до того больно было чувствовать, что отцу еще хуже.
Наконец он отошел от фонаря, пересек улицу, отправился к автобусной остановке, откуда нашего дома уже не видно, и я вышла на балкон. Ночь светилась вся насквозь сильным звездным светом. А еще ее освещали ракеты, их все пускали и пускали в старом центре, и, наверное, нам с отцом следовало бы подольше потолкаться там в толпе.
Ночь была полна звуками далекой музыки, такой медленной и печальной, непонятно было, как под нее танцевали. Но под нее танцевали те, кто остался на площади, я точно знала. А ближе, на речке, кричали лягушки, и уже совсем под нашим балконом устраивалась на ночь птица, спорила, шуршала листьями.
Вот какое богатство принадлежало этой ночью мне, а я стояла одна-одинешенька и не знала, что с ним делать. Поднималось внутри меня какое-то беспокойство, какая-то торопливость, хотелось к людям. А больше всего туда, куда убежали Вика, Громов и те двое... Что-то заманчивое, взрослое и неотчетливое представлялось мне там, хотя я знала, что на вечеринке, куда пошли Вика с Поливановым, скорее всего будут танцевать под диски, задыхаясь от дыма и спешки, как танцуют, например, у Шполянских.
Я уже и не помню, когда плакала, а тут даже заломило виски от напрасных усилий сдержаться. Пусть что угодно происходило на вечеринке, о которой я ничего не знала,— все было лучше постыдного стояния на балконе. Правда, одиночество мое не могло продолжаться долго, мама наверняка уже собиралась из гостей домой.
Но одиночество кончилось раньше, чем вернулась мама. Только я села в старый шезлонг, стоявший на балконе, как кто-то окликнул меня:
— Женя, ты? Одна?
101
Под окном стоял Генка. Тень от дерева, на котором возилась птица, совсем закрывала его, только поблескивали глаза да белые зубы выделялись на запрокинутом лице.
— А ты почему домой не идешь? — спросила я с некоторым облегчением от того, что не только нам с отцом пришлось туго.— Ты почему не дома? Ведь у вас, наверное, собрались...
— А ну их!..— Генка махнул рукой слабо, без злости, как машут на безнадежное.— Ну их! Отвальную с праздником совмещают и опять в дорогу. Каких им еще бананов и кокосов нужно в этой Атлантике — не пойму...
Генка рукавом куртки вдруг вытер лицо, как будто ему могло быть жарко.
— А ты опять с бабушкой? — Я перегнулась через перила, стараясь разглядеть Генку получше.
— Ты знаешь, они меня не любят,— сказал Генка, будто не слышал меня.— Так, в свое время задаром приобрели, теперь поят- кормят-одевают. Ждут, когда в институт поступлю,— хвастаться можно будет.
— Нашли чем! — усмехнулась я и поняла: ему не об институте хочется говорить, а спросить, не знаю ли я, где Вика. Но ведь точно я не знала и в самом деле. Все были мои предположения.
— Может быть, Вика на площади? — на всякий случай кинула ему в утешение, потому что Генка вдруг напомнил мне отца, хотя они были абсолютно не похожи.— Ты заходил на площадь?
— Нет там ее,— сказал Генка, как о погибшей.— Может, на Круглой площадке? Там, где танцует шпана.
— Ну? — опять нагнулась я к нему.— Выдумываешь? Кто же туда ходит?
— Из школы, наверное, не ходят. Или мало кто...— Он тянул вяло и все вытирал, вытирал лоб.
— А ты чего ж не пошел посмотреть? Вдруг Вику обидят?
102
— С Громом же пошла... А я что могу?
В самом деле, Генку в роли защитника, в роли мужчины, выясняющего отношения, трудно было представить. Генка тянулся к Вике, Генка следовал за Викой. Потребуй она, Генка пошел бы на самую темную окраину... А вот ринется ли он в драку, чтоб защитить Вику? Впрочем, вопрос звучал глупо. Кто мог или хотел когда-нибудь обидеть Вику? Вот уж точно, у нее была обезоруживающая улыбка.
Сколько раз, когда мы возвращались домой и нам загораживали дорогу, она улыбалась так, спокойно проходила мимо пьяных, мимо известных драчунов нашего района. Шла и несла выставленной, немного на отлете ладошку, не сомневаясь, что перед нею все расступятся — и расступались!
А потом, с Викой действительно пошел Громов.
И все-таки, после того как я сравнила Длинного Генку с отцом, мне неприятно было услышать: «А что я могу?» В той книжке по психологии, которую я перечитывала уже несколько раз, объяснялось, что очень часто у властных, жестких матерей вырастают инфантильные сыновья. Топни — и такой рассыплется. Мой отец не захотел рассыпаться и ушел из дому, как только началось топанье. А Генке куда было деваться?
— Генка,— спросила я неожиданно для самой себя,— Длинный, а что ты больше всего любишь?
Генка сразу понял, в каком смысле я спрашиваю.
— Я люблю, чтоб все вместе...
Длинный столб стоял под балконом, а отвечал совершенно по-детски.
— Ты еще скажи: школу люблю, уроки, домашние задания особенно.
— Школу — люблю... Как на яблоках было, помнишь?
— Вот смех, а я-то считала: ты от дисков балдеть любишь или когда тебе привозят шмотки. Или когда уроки кончатся и все идут кто куда, на Откос например.
— Я люблю, чтоб вместе,— упрямо повторил Генка. Теперь запрокинутое лицо его было освещено и луной и фонарем, и я заметила: глаза Генкины, синие, как ясное ночное небо, совсем наливаются влагой.
Он и ко мне подошел, подумала я, потому что, если уж не получилось на нынешние праздники, чтоб всем вместе, так пусть будет хоть со мной вместе.
Моя бабушка о таких говорит: не самодостаточный человек. Человек, которому необходимо прилепиться, быть ведомым, чувствовать себя частью целого. Или хотя бы чьим-нибудь хвостиком.
— Иди-ка ты, Геночка, спать,— попросила я, чувствуя, что сама хочу не то чтобы лечь, а броситься в постель, зарыться в подушку, сном поторопить завтрашний день.
Генка ушел по асфальтовой дорожке между домами и, прежде чем
103
совсем скрыться из виду, постоял немного под тем фонарем, где недавно топтался отец. Ну и что же? Все равно не было у меня ни права, ни причин сравнивать его с отцом...
Заснуть мне не удалось. Я легла у большого окна на маминой тахте, прикорнула рядом с нашей пестрой кошкой Маргошкой, но только закрыла глаза — надо мною в темном, высоком небе опять загорелись наши факелы, заструились голубые булыжники спуска, и Мишка Пельмень сказал почти над самым ухом: «Кто не рискует — не пьет шампанского. Штучка!»
Я вскочила и села, тараща глаза в темноту. О чем я думала? Жалела, что Пельмень не получил по заслугам? Радовалась, что наш класс, действительно выходящий на первое место в школе, не схлопотал с моей помощью такое ЧП, как драка на Горе?
Не знаю. Пожалуй, больше всего я думала о том, что маме пора было бы уже вернуться от Шполянских. Правда, откуда она могла знать, что ее дорогая дочь коротает время в тоскливом одиночестве? Можно было бы, положим, позвонить, поканючить: «Ма, приходи, я скисаю».— «Что так?» — спросила бы мама своим четким бодрым голосом. «Требуется сердечное тепло» — так бы я могла сформулировать. Или: «Требуется надежное материнское плечо». Она бы сразу прибежала. Не так-то часто я ее баловала. Но звонить не хотелось.
Очевидно, я снова задремала, а проснулась от того, что в комнате горел свет, мама сидела рядом и тихонько потряхивала меня за плечо.
— Женечка,— говорила мама тусклым голосом,— Женечка, ну что ты, девочка? Иди к себе, я уже постелила.
Я посмотрела на маму: лицо у нее было усталое и даже, как мне показалось, со следами какой-то тревоги.
— А Вика? — спросила мама.— Вы вместе были? Ее до сих пор ждут.
— Вика была с Громом, с Володькой,— ответила я неохотно, считая, что уж Поливанова с Квадратом упоминать и вовсе не к чему.
— А ты?
— А я — с папой.
Обидеть маму не входило в мои планы. Просто надо было поставить ее на место, как это часто приходится делать со взрослыми.
— Обо мне отец не спрашивал?
— Не спрашивал,— ответила я обрадованно. Не тому, конечно, что действительно не спрашивал, а тому, что мама наконец задала такой вопрос.— О тебе не спрашивал, спрашивал о Громе...
Мамины брови дернулись недовольно. Она отодвинулась от меня и сказала, ни к кому не обращаясь:
— Хотела бы я знать, что на самом деле представляет собой этот мальчик. Мне он не нравится.
— Да? Нет? — фыркнула я, передразнивая нашу Классную Даму.— А некоторым, представь, очень: папочке, Шунечке.
Мама, ничего не знавшая о разговоре в учительской, отмахнулась от Шунечки легкой рукой.
104
— Отец не говорил — будет в этом году лагерь? — спросила она и пошевелила бровями, разгоняя морщинку на переносице.
— Говорил — будет, и даже с длинными макаронами!
На минуту мне показалось: она рассматривает меня с неприязнью. Как будто я шутила не к месту и над тем, над чем не следует шутить.
— С какими длинными?
— Ну, с теми,— сказала я,— с теми, которые все любят.
— Если отец будет спрашивать обо мне, скажи, что я всегда рада его видеть и помочь ему...
«Интересно, почему — помочь?» Это была моя последняя мысль перед тем, как провалиться в сон.
Глава VI
Какая все-таки хорошая вещь — утро! Я проснулась, и от вчерашней жалости к Генке, от мыслей об отце, о Поливанове, о Вике и Громове, от злости на Пельменя не осталось и следа. То есть я, конечно, думала о них, когда собиралась на Косу, но думала по-утреннему, легко. Лицу было немного щекотно от солнечных лучей, и улыбка сама собой растягивала губы...
Заходить друг за другом мы не договаривались. Мне вообще кажется: заходить — привычка одноэтажности. Встретиться мы
должны были на остановке автобуса с табличкой: «Город — пляж». Эту табличку отец ненавидел и говорил, что Огненную Косу нашу нельзя называть пляжем.
Мама вышла к завтраку веселая, хорошо выспавшаяся, бодро отбивая полы нового махрового халата, как будто не только у меня, у нее тоже впереди была целая жизнь.
Впереди были солнце, море и золотой песок Косы!
105
А что, если на Косе их не окажется? Что, если, встретившись на остановке, они решили двинуться совсем в другую сторону? И не позвонили мне? Хорошо, тогда я пойду к бабушке, и мы весь день проведем вместе с отцом.
Окна в автобусе были открыты и пахло пылью, в этом году рано разомлевшим на солнце лохом. И только иногда долетал соленый, прохладный ветер с моря, и тогда все оживлялись, стараясь подставить ему лица. Это были наши запахи, наш ветер, не похожий ни на какие другие ветры мира.
От остановки автобуса к морю я бежала напрямик по колеям, а очутившись на песке, сняла туфли и вошла в мелкие, незаметно всплескивающие волны.
С морем можно было бы остаться наедине. Но от дальних тентов мне уже кричали:
— Эй, Евгения, сюда!
— Женя, Женечка, к нам! Мы говорили, что она придет.
Кто защищал меня так горячо? Сестры Чижовы защищали, отстаивали перед всеми остальными. Перед Викой, Громовым, Шунеч- кой, Оханом, Длинным Генкой, Эльвирой...
— Ну что? А? — спросил Громов, поднимаясь с песка на локтях.— Дисциплины для тебя, Камчадалова, не существует? Нет? И неловкости не чувствуешь, Камчадалова, противопоставив себя коллективу? Да? Нет?
Не знаю, каким образом, но бас Громова истончился до голоса нашей Ларисы, даже интонации были похожи.
— Чувствую, чувствую! — Я плюхнулась рядом с ним и Викой, оглядываясь потихонечку. Все было, как всегда, только Генка сидел отдельно от Вики, скрючившись над транзистором, мосластые колени торчали выше ушей.— Вика,— спросила я в самое плечо своей подружки, когда на меня уже перестали обращать внимание, просто сидели, слушали какую-то песенку из Генкиного транзистора.— Вика, почему ты вчера сбежала? Не могла дождаться, когда закончится?
Вика повернулась ко мне — глаза в глаза — и, как она это делала с самого детства, прижала мне нос, будто кнопку: би-и...
— Завидуешь? Не завидуй, ничего особенного не было...
— Да нет! — Я пошевелилась, примащиваясь на песке, мне стало неловко оттого, что она меня не так поняла.— Я не завидую.
— Совсем? — Викины глаза смеялись, не очень-то она мне верила.
— Совсем,— сказала я.— Я не о танцах, о Горе.
— А что с Горой? Ты думаешь, Лариса-Бориса шум поднимет?
Ни о чем таком я не думаю, просто на минутку мне взгрустнулось
от того, что мои мысли и мысли моей лучшей подружки, Вики Шполянской, бежали в разные стороны...
Вика между тем бросала камешки в море — один, другой, третий. Руки и плечи у нее, неизвестно когда, успели загореть ровным загаром. Мне очень хотелось, чтоб она повернулась ко мне, удивленная
106
моим молчанием. Но она не поворачивалась, смотрела, как расходятся круги по воде, будто в этом заключалось что-то необыкновенно важное.
Потом, так и не дождавшись моего ответа, вскочила, ударила ладошкой о ладошку, стряхивая песок, и попросила:
— Геночка, Генка, крутани катушку!
Генка поспешно крутанул колесико настройки так, что ящик сначала дико взвыл, а потом через секунду ударил барабанами...
Отличный джазик вколачивал в теплый воздух свои ритмы, и Вика встала, прошлась по кромке моря, по тому твердому песку, который за ночь успевают утрамбовать и облизать волны. А днем он чистый-чистый, и кое-где отражают солнце голубенькие лужицы воды. Она еще не сделала ничего особенного, только покачивалась, только пальцы держала на отлете, только настраивала свое маленькое, ярко освещенное солнцем тело под тот джазик, которым дирижировал Генка. Но вот она встала на носки, вся вытянулась к солнцу, ступни ее почти не касались песка.
В нашем классе, кажется, даже больше походов на Откос, любили танцы на песке. Мы все, даже сестры Чижовы, даже Длинный Генка, принимали обычно участие в танцах. Кто кружился на месте, кто ходил на руках, кто колесом, вроде Шунечки, но к тому, как танцует Вика, все эти премудрости детской спортивной школы не имели никакого отношения. Вика сияет, Вика танцует, как птица поет. Вика знает то, чего никто из нас не знает, Вика заманивает нас в свой круг, обещая и нам объяснить тайну. И пото*м она подскакивает, как мячик, среди нас, объединяя, дотрагиваясь то до одного, то до другого, дразня, улыбаясь. Даже так получается, будто мы играем в Вику. Или будто она с нами играет?
Как бы там ни было, сейчас мы только смотрели на Вику и ждали, когда она позовет нас. Однако сольный танец ее затягивался. И потом она все время двигалась спиной к нам и все, что ей надо было сказать, говорила солнцу и морю. Может, она просто благодарила солнце и море за встречу с Поливановым?
А я сидела рядом с Генкой и его транзистором и вместе со всеми ждала, когда же Вика вспомнит о нас. Но она не обращала на нас никакого внимания, стояла, как маленькая язычница перед лицом солнца. Зато Громов теперь нервно ходил по песку, и, честное слово, я увидела Ларисину походку, Ларисину манеру откидывать голову и даже Ларисины погончики.
И вдруг его кинуло к Вике. Он крутился вокруг нее, довольно страшно приседая и подскакивая. После Грома в танец ринулись все и старались кто во что горазд. Когда я через минуту опомнилась, наш скуластый и вправду похожий на степного наездника Оханов изображал что-то вроде половецких плясок. Чуть дальше других он крался к невидимому врагу, и настигал, и праздновал победу. Он оказался пружинистым, легким и легко ловил ритм. Один только Генка оставался сидеть. Впрочем, он танцевал ладонями
107
на песке. Длинными ладонями прихлопывал песок вокруг себя.
А между тем Денисенко Александра выпала из игры. Она направлялась по кромке моря к тем местам, где, теперь уж совсем занесенные песком, долгие годы стояли десантные катера. Четко и как-то немного странно рисовался ее силуэт на фоне нежно плавящегося сероватого моря.
— Бегущая по волнам,— сказал Оханов без насмешки.
Ну что ж, надо признаться, было похоже. Кромка суши, по которой Шунечка ступала, слилась с морем, ее загородили бурунчики: получалось в самом деле, если не бегущая, то идущая...
— Акселераточка Ассоль,— уточнил Генка.
А Громов возопил вдруг ни с того ни с сего:
Акселераточка Ассоль,
Не сыпь ты мне на раны соль,
Не возбуждай зубную боль,
Поцеловать себя позволь!
Вряд ли Громову, так же как любому другому из нашего класса, хотелось целоваться с Шунечкой, но у нас в ходу были «дразнилки». Впрочем, можно было называть это «дразнилками», можно частушками, кто как хотел. Важно то, что они вошли в быт нашего класса так же прочно, как танцы на песке.
Фасоли с солью я хочу,
Любовью я тебе плачу...
— Чем-чем? — спросила Охана Вика.— Будто Шунечка в любви что-то понимает.
Охан, наверное, тоже не понимал, просто слово так вырвалось, как часто вырываются слова в дразнилках.
— Ты лучше джинсы Шунечке сшей, облагодетельствуй,— вступила Эльвира.— А то ей настоящих до десятого не носить.
— А джинсы уже не модны, модны белые...
— Мама вельвета привезла, Охан, сшей, будь рыбочкой...
— Да что вы насели все на него? У самих, что ли, руки не тем концом пришиты?
Так перекидывались мы необязательными словами.
А Шуня, о которой к этому времени вроде забыли, шла теперь по Косе назад. Она читала стихи. Не сразу, не с первых строчек мы поняли какие, но потом услышали:
Одним ожесточеньем воли Вы брали сердце и скалу,
Цари на каждом бранном поле И на балу!
Первая реакция, какую я заметила: сестры Чижовы на всякий случай переглянулись, пожали плечиками, плотнее прилепились друг к другу...
109
О, как, мне кажется, могли вы Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать и гривы Своих коней...
— Ну, дает! — Оханов задом стал прокручивать ямку в песке. Брюк ему, видимо, не было жалко: сам шил. И я поняла: наш Андрюша слышит это стихотворение в первый раз и не знает, чье оно. Может, даже думает: Денисенко сама сочинила.
В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век,
И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег...
Я поняла: с самого начала, читая, она имела в виду не цветаевских молодых генералов двенадцатого года, а тех, кто лежал в братской могиле, и это передалось нам.
Она читала о русской храбрости вообще. И еще она сказала: «В одной невероятной качке». Или я это выдумала? Потому что качка была весь путь моего деда с Кавказа к Косе. В шторм, в непроглядную, но разрезанную на куски прожекторами ночь они шли на рыбацких байдах, на «тюлькином флоте», а море было густо заминировано, и с берега вели непрерывный прицельный огонь. А что это значит, мы не умеем понять...
Даже наши мальчики этого не понимают, а только представляют по фильмам. Но не понимали этого как следует уже и наши отцы. Все, кроме отца Громова, который когда-то был лейтенант Громов, правда в десантных операциях не участвовавший.
Я считаю, все свои семнадцать лет каждый день подряд нельзя думать о том, что твой предок (слово «дед» тут не годится: моему и тридцати не было) погиб на этом берегу, освобождая Родину от
110
немецко-фашистских захватчиков. Я считаю также, что об этом даже один день с утра до вечера думать не будешь. Нужна Минута. «Почтим минутой молчания» — так ведь говорят. Особая минута нужна.
И вот кто бы мог подумать, что именно Шунечка подарит нам эту минуту, длинную, как день или год. Она уже кончила читать, она уже нос морщила от недоумения, оглядывала нас, а мы все сидели — представляли...
У моего деда не было ни кудрей, ни бачек. У него было обыкновенное лицо хорошего человека, как у моего отца. Такие же ямочки на щеках и глаза, умные, открытые. Но те двое, что стояли на старой фотографии за плечами лейтенанта Камчадалова, те двое — действительно были в кудрях и бачках. Длинные чубы свисали у них на левую бровь, а бачки вились низко и франтовато.
У моего деда были усы. И вот в ясный майский день, на песке у моря, сидя в компании своих одноклассников, я представила себе тот снег. Выпавший не в тысяча восемьсот двенадцатом, а в тысяча девятьсот сорок третьем, но тоже на молодые мертвые лица.
Горячее солнце над морем, Шуня, все еще стоявшая на песке, напротив нас Генкин транзистор не имели к этому снегу никакого отношения: день померк, листья словно облетали с веток и трава пожухла.
...Я забыла передать Громову, что с ним срочно хочет увидеться отец. И Шуня Денисенко, наверное, тоже. Я сидела у бабушки на веранде, ждала к обеду отца и повторяла про себя: «И ваши кудри, ваши бачки засыпал снег...»
Наконец отец явился, оглядел веранду, как будто еще кого-то надеялся увидеть, и сел за стол напротив меня, как раз под фотографию. Так что я еще раз могла убедиться, насколько мой дед и отец похожи.
— Женя? — спросила бабушка, перехватывая мой взгляд.— Женя, ты что, детка?
В прежние годы мы обязательно собирались вчетвером, кроме того, я еще прихватывала Вику, приходила Марточка — она дружила с бабушкой и могла привести с собой Андрюшку Охана, и это никого не удивляло...
Обедали на белой скатерти, бабушка выкладывала тяжелейшие вилки и ложки. За обедом никогда не говорили о грустном, и сегодня тоже. Бабушка рассказывала, как двадцать пять лет назад пятиклассники из поселковой школы нашли старый склад боеприпасов и притащили одну круглую плоскую коробку классному руководителю: что бы это могло быть такое? «В самом деле — что?» — подумала краснощекая, совсем молодая тогда Марточка и повезла коробку в город. И только к середине дороги, когда после Марточкиных объяснений всех вымело из автобуса, как сквозняком, Марточка обратилась к шоферу: «Может, пешком доставлю?» — «Сиди, а то полгорода на воздух пустишь»,— и в военкомат ее...
111
Бабушка была очень довольна тем, что я смеюсь, отец улыбается: обед удался.
Между тем я смеялась, потому что мы всем классом уже слышали от нашего Мустафы Алиевича, как шваркнула Марточка на стол военкома свою коробку, как военком ринулся из кабинета, прихватив за локоток Марту Ильиничну, а всех сотрудников поманив пальцем. А еще через полчаса саперы не дыша отнесли круглую плоскую мину за город и помчались оцеплять холмы...
Я смеялась — чему? Не тому ли, что в любой момент могла тоже взять и рассказать кое-что о Марте Ильиничне, гораздо более современное. Например, как дорогая, пожизненная бабушкина подруга поменяла меня на Шунечку...
Лицо у меня от этих мыслей, надо думать, было не самое приветливое, и я ждала: вот-вот уйдет отец и бабушка кинется расспрашивать меня о школе. Но ничуть не бывало! Отец действительно ушел, однако бабушка расспрашивать о школе не стала, а сказала:
— У твоего отца неприятные новости. Ходят слухи: лагерь ваш в этом году может не состояться.
Я, конечно, знала склонность взрослых преувеличивать всякие там опасности, неприятности, вдаваться в тревоги, но тут меня зацепило:
— Почему? Кому помешал наш лагерь? Не хотят под него деньги давать, что ли, потому что отец ищет не золото, а города?
Я вдруг почти закричала все это бабушке в лицо, как будто именно она голосовала на каком-то стыдном заседании, чтоб закрыть смету или как там оформляются подобные злодеяния. Бабушка слушала меня молча, откинувшись на стуле, почти надменно.
— Неужели и в школе,— вопила я,— работу отца ценят по этим проклятым грифончикам?!
— Почему — проклятым? — Бабушка тревожно приблизила ко мне лицо.
— Почему?..— Споткнувшись о ее вопрос, я замолчала. В самом деле, стоило ли рассказывать о шутках дяди Вити и Шполянской- старшей у нас дома...
— Потому проклятых, что все их ждут,— съехала я с крика почти на шепот.
— Успокойся. В школе от твоего отца ждут большой воспитательной работы,— сказала бабушка, усмехаясь и немного странным голосом.— А кстати, ты Громову передавала, что отец его хотел видеть?
Я, конечно, забыла. И теперь сидела, тараща на бабушку глупые глаза и краснея... Краснела я потому, что вспомнила, как вчера, вернувшись от Шполянских, мама сказала: «Хотела бы я знать, что на самом деле представляет собой этот мальчик?» А потом прибавила, что готова во всем помочь отцу. Почему — помочь?
Глава VII
Я всегда готовила уроки, особенно решала задачи, довольно охотно. В задачах заключалось какое-то единоборство с самой собой: смогу? Не смогу? Сумею? Но после того, как я нечаянно подслушала разговор в учительской, уже не простое детское прилежание вело меня по тернистой дороге к ответу на вопрос: «Чему равна площадь треугольника?» Совсем нет. Мной владели задор и азарт.
Азарт, надо сказать, был могучий. Он распирал меня, как иных (мою маму, например) распирает плодотворная энергия. Мне с ним стало необыкновенно легко садиться за уроки в предвкушении того, как завтра утру нос красотке нашей Классной Даме. И как она, близко подойдя к доске или наклоняясь к моему плечу, будет спрашивать: «Камчадалова, как всегда, справится с возложенной на нее задачей или подключить класс?» — «Зачем подключать? — оглянусь я, как отмахнусь.— Не убивайте инициативу».
Я, очевидно, честолюбива. Могу признаться: я б училась хорошо ради одной возможности улыбаться от доски так, что Пельмень начинает ерзать на парте, а сестры Чижовы осуждающе прислоняются друг к другу скромно причесанными головками хорошисток. Я бы училась на пятерки, даже если бы было не интересно... Но мне к тому же интересно — просто повезло в жизни.
Итак, я сидела над задачами, отвлекаясь от них и представляя в деталях завтрашний поединок с Ларисой-Борисой и голос, которым она скажет: «Ну, что ж, на этот раз пятерка бесспорная. Да!» И собственную пробежку от доски к парте, бочком-бочком между рядами, я представляла, и Генкины глаза, и невозмутимое, но и одобряющее лицо Громова...
Вся эта завтрашняя картина прямо стояла передо мною, когда я неосторожно взглянула в окно. Приближался самый прекрасный предвечерний розовый час. Море было спокойным и очень большим, кое-где оно уже отсвечивало золотом. За нашим домом, у меня за спиной, опускалось солнце и устраивало фокусы: горели стекла домов, пыль над дорогой клубилась нарядно и высоко, пронизанная лучами. А кроме того, в городе цвели каштаны...
Я уже хотела отойти от окна, как вдруг подумала: весна-то ведь кончается, между тем ничего хорошего со мною так и не случилось. С Викой мы почти не разговаривали, Поливанова я видела раза два у ворот нашей школы, где он поджидал Вику или Громова, или обоих сразу.
Как далеко все это было от того дня, когда в прохладной темноте сарая мы разбирали факелы, а потом я вышла на свет и увидела пустырь за школой, превратившийся в луг с влажной кустистой травой, по которому шел Макс Поливанов. Шел, высоко неся кудрявую голову и слегка оттопыривая пальцами карманы очень узких брюк. Почему он выбрал Вику, а не меня?
Надо же! Минуту назад меня совершенно всерьез интересовали
113
задачки по стереометрии. Теперь же мучил один-единственный вопрос: почему не меня? Почему не меня выбрал Поливанов?
Ведь увидел тогда, в дверях сарая, и даже назвал герцогиней, почему же не попросил Грома познакомить именно со мной? А может, как раз попросил, да Гром сморозил что-нибудь насчет моей гордости? Насчет моей легендарной колючести? А Вика, известно, любую компанию украсит... И что-то вроде досады, даже вражды к Грому, охватило меня.
Я отошла от окна и, даже не оглянувшись на стол, на разложенные по-серьезному учебники, направилась к тахте. Я лежала, закинув руки за голову, и смотрела вверх, в угол. И передо мной буквально из ничего, из темнеющего предвечернего воздуха стала рисоваться такая заманчивая картинка: уже не Вика (вспомнившая о Генке), а я иду по городу с совершенно взрослым моряком, радистом — или кем он там работает? — с Атлантического рефрижератора «Лайна». И уже никому не важно, что я дочь человека, ушедшего из семьи, даже что я дочь хирурга Камчадаловой и внучка того самого Камчадалова на памятнике.
Я сама по себе. Меня выбрали Макс Поливанов и госпожа Удача. Самая капризная и самая стоящая богиня. Интересно только, почему я ничего не слышала о ней от отца, который так любит пересказывать разные мифы и легенды?
Неслышно открывая дверь, в комнату вошла кошка Маргошка провести ревизию, узнать, чем занимаюсь я и не настало ли время примоститься рядом.
Она лежала у меня на тахте, такая же теплая и трехцветная, как плед, и сигналила, то жмуря, то открывая свои плоско святящиеся глаза.
Неизвестно, до чего домечталась бы я, пригретая глупой Мар- гошкой и собственной, тоже очень глупой, фантазией, но в это время тихо завозился мамин ключ в замке. Я постаралась сделать вид, что именно ее и ожидала увидеть. Впрочем, это оказалось не особенно трудно, потому что я действительно была рада ее приходу. Мама ставила сумки к стенке, снимала туфли. А я терпеливо ждала, когда же настанет время задать вопрос, один-единственный, которым я встречала ее теперь каждый день.
— Ну, что интересного? — наконец спросила я.
Вопрос задавала я, но это был ее собственный вопрос. Она нас приучила к нему. Меня никогда, например, не спрашивали об отметках, но всегда об интересном. И отца тоже. А это не так уж легко, если от тебя требуют каждый день приносить в дом интересное. А если интересное не происходит? Но нет, оно непременно должно происходить, иначе к чему тебе дарована жизнь?
И вот теперь я с точностью электронно-вычислительной машины каждый день задавала маме этот вопрос. А она вовсе не воспринимала это как месть и всегда отвечала.
— В самом деле,— сказала она и на этот раз,— чем же тебя
114
порадовать? Удалось полностью залатать щеку и лоб монтажнику
тридцать швов. Тяжелые осложнения у того старика с пробитой головой почти ликвидированы. Еще один плановый нос и губа доведены до уровня мировых стандартов.
— Народ вами доволен,— сказала я.— Надеюсь, вы поступили в полное мое распоряжение?
— Да нет, старик бредит, тяжелый,— нахмурилась мама на минуточку.— Возможно, будут звонить.
Мама сидела на стуле в прихожей, вынув ноги из туфель и с удовольствием поставив их на холодный пол. Все больничное, опасное и, наверное, именно поэтому интересное выходило из нее медленно и почти ощутимо — паром. Мама остывала, переводила где-то внутри себя часы на другое, длинное, домашнее время.
— Кормить будут? — спросила наконец мама и, закинув руку мне за талию, опираясь и прихрамывая, пошла на кухню.
— Кормить будут вкусно,— пообещала я. И долго сидела напротив, с удовольствием глядела, как моя мама ужинает. Кормила я ее гренками, посыпанными петрушкой, луком, мелко рубленным яйцом.
И в это время раздался звонок.
Босыми ногами мать прошлепала к телефону, на ходу дожевывая и объясняя:
— Сегодня Татьяна дежурит, перестраховщица — не дай бог. Но лучше пусть десять раз потревожит, чем один — опоздает: старик плох.
Дальше она спрашивала дежурного врача о своем профессиональном, а я ее не слушала, просто смотрела на нее. У моей мамы были широкие плечи, широкая талия и широкие бедра, но есть гренки на ночь глядя она не боялась. Она вообще ничего не боялась: ни делать операции на черепе, ни заплывать в открытое море на весельной лодке, ни настаивать на переезде в столицу, несмотря на протесты отца и бабушкины предупреждения.
И сейчас, стоя у телефона, она не то чтобы боялась за старика, которому в пьяной драке пробили череп, она просто хотела сделать все как можно лучше, квалифицированней.
Я ничего не слышала из тех слов, которые говорила мама, до тех пор, пока она не рассмеялась, переспрашивая:
— И этот тоже? Ну, веяние времени: каждому не что-нибудь — золото подавай! Тут стакана воды, сама знаешь, не допроситься, а он... козу? Из-за козы все это получилось? Из-за соседской козы?
В телефоне булькали какие-то сведения насчет какой-то козы, и удивительно, как у мамы хватало терпения вслушиваться во всю эту еРУнду и даже головой кивать согласно.
Но вот она перестала кивать, заговорила сама.
— Старухе ты топчан предложи,— говорила она.— Не хочет? А, ну пусть сидит, пусть сидит, пока сама не свалится, этого только нам и не хватало.
115
Мамин голос звучал и грубо и бодро, как будто с той стороны провода ждали не ее врачебных советов, а только натиска, только уверенности, что все обойдется, если обо всем можно говорить именно таким голосом. Вообще все. А не только осложнения с какими-то неизвестными мне стариком и старухой...
— Ну,— заканчивала мама,— что ты в самом деле, Татьяна, как маленькая, без шпаргалки не можешь... Ну, я же оставила опий. Ну... Хорошо, хорошо, около двенадцати буду ждать. А вместо соседки Клавдию посади, так будет лучше... Подумаешь, какой современный старик! Бредит золотом не хуже других. Тоже землекоп, между прочим,— сказала мама мне, неизвестно с кем отождествляя старика.— Там, в канаве, которую рыл, и получил лопатой от дружка-со- седа. Теперь дружок свою жену прислал дежурить после реанимационной. Старуха вполне толковая, ничего, только устанет за ночь, поймет цену нашему хлебу. Соседи они. Какие-то козы куда-то не туда зашли, что-то чужое попортили...
Мама стояла посреди кухни, как будто раздумывая, а все ли она узнала из телефонного разговора о тяжелом старике, потом спросила, правда, с обидным опозданием:
— А у тебя-то самой что-нибудь интересное было?
— Представь — ничего.
Не стану же я ей рассказывать, что решила задачу по стереометрии, которую никто решить не мог, в том числе Денисенко Александра. Да и не было это интересно.
Но зато очень интересно было узнать, по какому поводу делала вокруг меня круги моя мама. Несколько раз она подходила со спины, клала руки мне на плечи и отходила снова. Я, конечно, вообразила, что ей надо узнать что-нибудь о Вике. Моя собственная персона в том плане, который всегда волнует взрослых, к сожалению, ничего из себя не представляла...
Я думала так и не хотела облегчить ей первого шага. Больше того, я схватила учебник и хмурила брови, стараясь поймать ускользавшие строки.
И вдруг мама спросила глухим, усталым голосом:
— Женя, ты знаешь, что у твоего отца большие неприятности?
— Лагерь запретили? — вскочила я так быстро, что раскрытый учебник полетел на пол.
— Какой лагерь? — Мама даже головой мотнула, чтоб отогнать мой детский вопрос.
— А другие неприятности у отца каждый день, с тех пор как вы начали ссориться.
— Ну, ну!..— Мама смотрела на меня спокойными, даже прозрачными глазами.— В чем ты меня еще обвинишь, Женечка?
— А в чем его обвиняют?
— Все в том же, все в том же.— Теперь мама стояла против меня, опираясь на стол, и во взгляде у нее появилось какое-то сожаление. Как если бы я была маленькая, глупая, незащищенная.— Пойми,
U6
Женечка, в жизни нельзя быть таким доверчивым мечтателем, таким... ротозеем...
— Как мой отец?
— Как твой отец,— грустно и согласно кивнула мама.
— А что он собственно прозевал? — спросила я, воинственно выставляя подбородок.— Что?
— Золото,— ответила мама тихо. И от этой тишины почему-то мурашки побежали у меня по спине.— Золото он прозевал в данном случае, Женечка.
— Как?
— А так, что другие нашли. И оно теперь «ходит» по городу. Я надеюсь, ты понимаешь, что это значит?
— На наших раскопках нашли?
— А этим занимается следователь. Отца он уже вызывал, представь себе,— мама опустилась на стул возле меня.— Не найдя, умудриться потерять, как это на него похоже...
Мама вдруг сморщилась и поднесла руки к вискам, но растерянность ее продолжалась недолго.
— Видишь ли...— через минуту говорила мама, посмотрев на меня быстро и стряхивая со лба летящую челочку «сессон».— Видишь ли, кто бы ни нашел, ответственность все равно на отце... До сих пор его репутация в этом городе была безупречна. Более того, репутация его матери и отца...
Тут она замолчала, а я успела подумать: «О погибшем во время десанта разве можно сказать так просто: «Репутация».
— Репутация его родителей в этом городке даже как бы обеспечивала его рост по служебной линии... Он не воспользовался. Хорошо. Он не воспользовался также возможностями моего отца. Гордость? А может быть, боязнь ответственности? К тому же он не честолюбив — наш папочка... Но у меня есть ты, и я хочу, чтобы ты училась в лучшем вузе страны...
— Предлагаешь сматывать удочки?
— Прежде всего ему предлагаю уехать из города, где сочли возможным вызвать кандидата наук, ведущего археолога Камчадалова к следователю, в прокуратуру или куда там еще* А ты — дура.
Логика у моей умной-благоразумной матери на этот раз явно хромала, но, обозвав меня дурой, она в чем-то была права. Все бы я ей простила в этот момент, не только «дуру», лишь бы она не добавила: «Делали бы, как я сказала, не пришлось бы слезы размазывать». Действительно, не послушавшись и поступив по-своему, мы с отцом часто попадали в глупые или смешные положения. А для мамы какая-то особая сладость заключалась в том, что, нахватав шишек, мы кидались к ней под крыло. Но ведь кидались все реже и реже? И например, услышав тот дурацкий разговор в учительской, я и вовсе обошлась без крыла.
И отец на этот раз обошелся. Похоже, что о прокуратуре мама узнала не от него.
117
— Кстати, как у вас там со Шполянской-младшей? — перебила мои размышления мама.
— Нормально,— буркнула я не очень охотно.
Мама посмотрела на меня внимательно.
— Ты что-то хуже стала относиться к Вике,— отметила она задумчиво, как будто это имело для нее большое значение. Или как будто наши отношения с Викой были так же важны, как ее отношения с отцом.
Я молчала.
— Не знаю, уж что вы там не поделили...
Я опять пропустила колкие мамины слова мимо ушей. Стоило ли нам ссориться, как двум девчонкам? Особенно теперь, когда мы остались вдвоем и нам обеим было плохо. Я смотрела на маму с полной готовностью помириться и старалась, чтоб эта готовность была написана у меня на лице крупными буквами. Но тут мама спросила неожиданное:
— А как у Шполянской с этим тенором в светлых брюках?
У мамы, неизвестно почему, была просто идиосинкразия к светлым брюкам.
— Нормально. Но почему тенор?
— Я же не знаю ни имени, ни фамилии. И знать не хочу. Заметь.
— Интересно. А что у него тенор — знаешь?
— Не хотела бы я,— сказала еще мама,— увидеть тебя в подружках этакой фигуры.
А после этого мы разошлись по своим комнатам, но заснуть я все равно еще долго не могла.
Глава VIII
Весна действительно шла к концу, а школьная жизнь между тем все еще не выпускала нас из своих объятий. Только я подходила к школе, как Денисенко Александра, чуть не до половины высовываясь из окна, кричала на весь двор:
— Женька, у тебя триста сорок шестая сошлась с ответом?
— Сошлась, а что?
— Тогда давай быстрее. Чижовы пришли, а у меня ничего нет!
Но чаще не Шунечкин крик, а Генка встречал меня у школы. Он
стоял под старым каштаном, откуда видна была вся улица, по которой шла в школу Вика. Но когда на этой улице первой появлялась я, Генка ко мне просто кидался: «Жень, что я хотел у тебя спросить!» — но так ничего и не спрашивал.
Я знаю, ему было страшно одному встретить Вику. Она приходила с лицом, на котором было написано, что ей сегодня хорошо, завтра будет еще лучше. А уж послезавтра, переполненная счастьем, Вика взлетит, как тот воздушный шар, такая же легонькая, кругленькая, и ее коротко остриженная головка будет кивать нам, высовываясь в просветы между облаками.
118
Генке было легче увидеть Вику не одному, а вместе со мной. И потом, уж не догадывался ли он о моем отношении к Поливанову? О моих «картинках»? Тогда ведь получалось, что мы стояли рядом как товарищи по несчастью.
Но когда я запаздывала, Генки уже не было. А в школьном дворе кипело обыкновенное центростремительное движение. И оно было куда медленнее, чем центробежное после уроков. Мы все шли в школу с одним выражением на лицах: имейте в виду, это из последних сил. Учителя же бодренько обходили наши нестройные ряды, будто не замечая, что нас надо немедленно выпустить в пампасы.
А пока Охан, надев на шею двойную веревку удавкой, делал вид, что сам себя волочит к школьному порогу. Интересно, где он раздобыл такую мохнатую веревку и долго ли обдумывал свой номер? Сзади шли сестры Чижовы и не одобряли. У них вообще было любимое занятие — не одобрять.
Обогнав Чижиков, летел Мустафа Алиевич, физрук. Спрашивал Охана:
— Помочь не надо, Андрей? Сам во двор коня сведешь?
Проходил медлительный человек, географ Иг Игович, поднимал
бровь, спрашивал:
— Кровь предков играет, Оханов? В степь хочется?
В предках у нашего Андрея определенно ходил скиф. Глаза у него узкие, а скулы, наоборот, широкие и всегда загорелые, даже среди зимы.
И наконец, появляется главный зритель. Лариса Борисовна иронически косилась в сторону Охана:
— Может, легче отпустить на волю, Андрей? Нет?
— Ни в коем случае. Сейчас он у меня пойдет как миленький за вами следом. Нет? Да!
— Ну, как знаешь! — смеялась наша Классная, быстро-быстро перебирая ножками, спешила, не нам чета.
119
Что в ней, в нашей Ларисе, однако, хорошо было, так это то, что не бросалась она одергивать. Наверное, помнила, как совсем недавно сама не могла дотерпеть до настоящего, свободного лета. А Марта Ильинична — та была другая. Она считала долгом приободрить:
— Ну, ну, всего ничего осталось. Будь мужчиной, Андрюша.
Тут Охан начинал делать «дыбки», сам от себя отбрыкиваться
к полному смущению Чижиков.
Но Марточка уже шла рядом с сестричками.
— Устали, девочки? Спите и во сне видите каникулы? Главное, имейте в виду, все будет хорошо. Сыпать вас никто не собирается. Все перейдете, все школу окончите, волноваться нет никаких оснований.
Удивительно люди умудряются отстать от времени и не заметить этого.
Во-первых, кто сейчас волнуется по поводу экзаменов? Разве что бедный Денискин плохо поспит последнюю ночь, да и то не из-за себя, а из-за своих подшефных. Во-вторых, кто же думает, что учителя нынче «сыпят». А в-третьих, это давно уже не называется «сыпать», а называется «заваливать».
— Надо уметь взять себя в руки. Одна из примет интеллигентного человека — умение брать себя в руки. Перед любым экзаменом. Кстати, еще на моей памяти экзамены назывались испытаниями,— говорила между тем наша литераторша, пересекая школьный двор.
Жалко мне ее, что ли, становится в этот момент? Или стыдно оттого, что мне семнадцать, а ей через год на пенсию? Оттого, что она несет тяжелый портфель и ни у кого нет охоты ей помочь?
— Разрешите? — подскакивает сзади Громов и выхватывает «чемодан» из рук Марты Ильиничны.— Понесу ваш забор.
— Забор? Почему забор, Володя?
— Ну, небось колов нагородили на семь верст?
— Что ты, мальчик, кто же нынче колы ставит? — спрашивает Марта Ильинична грустно-грустно.— Для телевизионного века вы вполне грамотны, а некоторые даже образованны.
Как-то так говорит она с Громовым, будто отдает себя под его защиту, и, оставляя меня далеко сзади, они входят на школьное крыльцо. Потом и я вхожу. Рабочий день начался.
И продолжался он очень обычно, с незначительными подробностями. Так, например, на уроке географии наш Игорь Игоревич все выше поднимал брови, пытаясь выпытать у Охана какие-то подробности насчет нефти на Ближнем Востоке. Пока Охан не признался:
— Хоть под расстрел, Игорь Игоревич, не скажу. В Нижневартовске, знаю, есть.
Желтоватый лоб географа вздернулся складочками:
— Хорош Ближний Восток.
— Не дальний же? Мой родитель туда смотался: шестьдесят четыре рэ на самолете. Женился там.
— Кто?
120
— Отец.
Иг Игович опустил лоб, нагнулся над журналом:
— Хорошо, я тебя завтра спрошу.
А мы не рассмеялись. Совсем уже собрались, да расхотелось. Такое было у нашего Охана лицо, словно он прислушивался к дальним звукам. К тому, как работает на буровой в Нижневартовске его отец? К самолету, который увез отца и все не привозит? Или к себе самому прислушивался Охан? Во всяком случае, голова его была наклонена к плечу, а крепкие пальцы держали крышку парты, сжав ее до белых косточек. Можно сказать, просто вцепились в нее.
Нет, Охан не разыгрывал географа, что было в традициях. Охан скорее удивлялся жизни и тому, что кого-то интересует другая нефть, кроме Нижневартовской.
...Не знаю почему, не умею объяснить, но последнее время я что-то очень часто стала вспоминать осень в совхозе на яблоках. Может быть, потому, что это было лучшее время из жизни нашего класса? Время, когда мы все любили друг друга, когда у нас только что появилась наша Классная Дама, молодая и такая красивая, что всем девчонкам захотелось иметь если не золотистые волосы, то хотя бы ее походку.
Моя мама сказала, увидев Ларису-Борису, что от нее исходит обаяние легкого шага. Но этот легкий шаг не так-то легко было перенять, гораздо проще оказалось пришить к кофточкам погончики на пуговичках, что и сделали почти все, включая и нас с Викой. Правда, погончики прилаживали не мы сами, а Марта Ильинична на бабушкиной машинке, после праздничного обеда в честь нашего возвращения.
Но я хотела рассказать не о такой мелочи, а о том, как было в совхозе, куда мы отправились под началом нашей Классной Дамы, которую мы всего лишь полтора месяца назад получили взамен Марточки...
Правда, Марта Ильинична тоже отправилась с нами в совхоз, но лишь для подстраховки молодого специалиста. Не знаю, может быть и не считаясь с желанием Ларисы. Лариса тогда завоевывала нас, свой авторитет, звание Классной Дамы и еще что-то, не совсем ясное. Может, с первых же шагов она решила: ее класс должен стать лучшим в школе?
Это все происходило, если точно сказать, семь месяцев тому назад и тянулось, остывая, выдыхаясь, но все-таки хоть слабо, да отсвечивая, до самого того проклятого разговора в учительской, когда меня поменяли на Денисенко Александру.
Когда мы вернулись в Город, на всех мальчишках были шапки «гребешками» («Фригийские колпаки»,— сказал мой отец). И пять из них мы связали своими руками. Не потому, что именно этих пятерых больше всего любили, а потому, что у них до поездки в совхоз не было. В совхозе же на полках «стекляшки» завалялась пряжа, и Лариса намекнула: «Нехорошо, когда у одних нет, у других есть». Но вот что интересно: шапки эти (связанные под неусыпным руковод¬
121
ством Марточки и наполовину ее руками), шапки эти не всех обрадовали. Мишка Садко определенно скис. Как же! До сих пор были только у него с Генкой...
Генке привезли родители — понятно и уже привычно. А Мишке — сколько ж это надо было приложить усилий, чтоб приобрести бразильскую! А она теперь вроде ничем, кроме ярлыка, не отличается от той, которую связали Андрюшке Охану!
Однако именно с ярлыком получилась история, на короткое время, но все же нарушившая нашу идиллию. Вика вдруг стала рассматривать этот ярлык и морщить нос от удивления. Очень сильно она его морщила, всем напоказ, пока не спросила:
— Ас каких это пор, Мишенька, в Бразилии изъясняются по-английски? Я тебе всегда толковала: Иг Игович тоже пригодиться может. А ты его ни в грош не ставишь.
— Зато ты — в целковый!
— Я в пределах ярлыков географию знаю!
Так они старались, перекидывались насмешками. А шапку Вика из рук не выпускала, сама рассматривала и всем показывала, как ярлык пришит. Скорее всего, пришит он был Мишкиной бабушкой.
Зачем это нужно было Вике, я не понимала. Наверное, и другие не понимали, стояли вокруг, глазели, пока Марта Ильинична не спохватилась, не выполнила свои обязанности старшего товарища и недавнего классного руководителя.
— Я полагаю, можно обойтись и без междоусобиц,— сказала она, освобождая шапку из сжавшихся Викиных пальцев.— В такой-то день...
Марточка улыбнулась, приглашая и нас посмотреть вокруг. Как ни странно, мы посмотрели.
Сад еще не окончательно осыпался, но уже стал просторнее, далеко проглядывался. На почти золотых деревьях висели золотые яблоки, и паутинка, колеблясь, проплывала перед нашими лицами в синем воздухе. Но Мишка ничего этого не замечал.
— А чего она? — вел он голосом сырым и нудным.— Сотрудник СЭВа нашелся, на меньшее она не согласна.
— А ты на что согласен, Мишенька? На управдома? — не унималась Вика.
Неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта перебранка, если бы Шуня Денисенко не посмотрела честными глазами в честные глаза Марты Ильиничны и не затарахтела:
— Да, да, Марта Ильинична, вы совершенно правы: есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. — Шунечка сделала ударение рукой и голосом на первом слове.— Знаете? Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера... А? Как сегодня. Нет?
— Ну,— подхватила Марточка,— точь-в-точь. Где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто все — простор везде,— лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде.
— Борозды, правда, еще нет. И паутинка — тю-тю! — Шунечка махнула рукой в сторону, где исчезла тонкая ниточка.
122
Я, надо сказать, не сразу поняла, что эти двое просто отводят нас
от ссоры, что же касается паутинки и осени первоначальной это
я тоже знала наизусть, как и многое другое...
Вечером того дня мы дольше обычного сидели на крыльце, тепло было почти как летом. Какой-то разговор шел справа от меня, я не прислушивалась, но услышала Марточкины слова:
— Должно уметь прощать слабости ближним.
Вроде неизвестно, о ком и о чем она говорила, но, очевидно, в виду имелась история с Мишкиным ярлыком и Викиной задиристостью. И неожиданно Марточка продолжила:
— В России испокон веков порядочные люди боролись не со слабостью, а с силой...
— С самодержавием, что ли? — спросил Мишка таким тоном, как будто он заранее чувствовал оскомину от той лекции, какую готова была прочесть Марта Ильинична.
— Ну! — Шунечка засмеялась, обхватила руками колени и прижалась к ним щекой.— Ну, Миша, зачем так узко? С самодержавием, с самомнением, с саморекламой они боролись.
— Ладно, идемте спать,— сказала Марта Ильинична.
Лучше любой весны была для меня прошлая осень!
В ту осень никто из нас не помнил зла.
Двумя днями позже Мишка удержал стремянку, вместе с которой чуть не свалилась моя Викуня. Стремянку Мишка удержал так неудачно (или наоборот — удачно?), что гвоздь пропорол ему ладонь — и кровь полилась!
Кровь полилась, и Марта Ильинична, оказавшись рядом, крикнула не своим голосом, резко и властно:
— Йод и бинты в моем чемодане! Быстро!
Она так крикнула, что сестры Чижовы даже не успели в ужасе прислониться друг к другу плечиками — их как ветром сдуло.
А Мишка стоял довольно спокойно, зажимая пальцами там, где врачи находят пульс. Мы же смотрели на маленькое темное пятно, расползавшееся все шире у Мишкиных кроссовок.
И тут появилась Лариса-Бориса. Она не кричала, как Марта Ильинична, и не прижимала ладони к щекам, как мы. Она взглянула на Мишку и вдруг изо всей силы рванула себя за рукав. Рукав оторвался, но не совсем. Лариса подвинула плечо Вике:
— Помоги мне! Что же ты стоишь? А? Жгут надо.
В самом деле, сколько раз на всяких занятиях нам говорили: жгут надо!
Жгут накладывал, конечно, Володька Громов. А рядом стояли Марта Ильинична с виноватым лицом и Лариса с оторванным рукавом. Гром закончил со жгутом, мазал Мишину ладонь йодом, приговаривая:
— Не дергайся, устроил цирк, терпи всю программу.
123
Интересно, к чему относились слова насчет программы? Неужели к оторванному рукаву? Не может быть!
Это сейчас я думаю: зачем надо было рвать рукав? Если учесть, что Чижики с бинтами явились тут же? Но тогда ничего такого мне в голову не приходило.
И уже на следующий день была придумана «дразнилка», если, конечно, эти строчки можно считать «дразнилкой»:
Эх, яблочки — лежат парочкой!
Нет красивше, нет умнее нашей Ларочки!
Собирала яблоки и услышала, кто-то поет на дальних рядах. Кажется, Андрюшка Охан. Или Мишка? А кто сочинил? Может быть, даже из девчонок кто-нибудь. Это ведь не была чисто мужская «дразнилка».
Мы влюбились в нее все. Она как бы олицетворяла собой наше будущее таким, каким мы все хотели его видеть.
А небо все по-прежнему стояло над нами яркое, и мы радовались этому, хотя в совхозе ждали дождя.
Мы смотрели в синеву, где летели в дальние края паутинки расставания. Так их кто-то назвал, неизвестно почему. С чем это мы могли расставаться в самом начале?
Мы работали хорошо, мы работали лучше всех, и это нам нравилось.
Но прошлая осень была далеко, между тем нынешние события разворачивались вот как...
Глава IX
В воскресенье «археологи» нашего класса, как и было договорено, с Ларисой во главе собрались на пристани, потом погрузились в катер. И тут только сообразили: а какой смысл в поездке, если нет Камчадалова Алексея Васильевича? Ехать-то можно, но получается простая прогулка. Между тем было намечено поехать в разведку на место летнего лагеря.
«Археологов» на этот раз оказалось много. Желающих же ехать в совхоз в этом году было значительно меньше, может быть, потому, что наша Классная Дама поехать с нами не могла — уходила в отпуск.
Однако я сильно сомневалась, сможет ли отец всех нас принять в лагерь, даже если допустить, что неприятности его рассосутся и лагерь все-таки состоится. Но сможет не сможет — выяснится со временем. Однако где же он сам? А катер между тем уже дрожал мелкой дрожью от нетерпения, мы сидели, кто на скамейках, кто прямо на рюкзаках и скатках, а отца все не было. Удивительное дело — мой отец любил точность и никогда никуда не опаздывал.
И вот я вижу: отец бежит по доскам причала, и лицо у него собранное, даже стянутое тревогой лицо человека, еще не увидевшего
124
то, что нужно. Наконец он заметил катер и нас на нем. В тот же самый момент на катере отдали концы. Катер, как живой, потерся боком о причал, вода всхлипнула, мотор уркнул громче, и моему отцу оставалось сделать один-единственный шаг с пристани на палубу. Правда, длинный шаг, прыжок: полоска темной воды все расширялась.
А отец, промедлив первую секунду, теперь застыл и выставил себя на общее обозрение.
Интересно, сколько бы он так стоял, точно на выставке? Не знаю. Но тот матрос, который возился у кнехтов, схватил моего отца в охапку и швырнул в руки другому на палубе, а после того свободно и легко прыгнул к нам сам, а за ним еще кто-то. Все смотрели на отца, а он не мог отдышаться и сообразить, как оказался на палубе. И ребята хлопотали вокруг, как будто ничего особенного не случилось, как будто никто и не замечал того застывшего, стянутого лица...
— Алексей Васильевич! — конечно, тут же объявилась Денисенко.— А мы думаем: может, уже и выгружаться пора, раз вас нет? Лень спасла: сил не было с рюкзаков подняться...
Шунечка любила говорить с моим отцом, как будто собственного ей не хватало. Ну и пусть говорит, а я пошла вдоль борта крохотного суденышка с громким именем «Красная Армия». Кораблик этот такая же примета Города, как Гора, как Огненная Коса, все еще полная страшных ржавых осколков и стреляных, полуистлевших гильз...
Кораблик бежал себе и бежал по волнам, развозил по приморским поселкам почту, родственников, любопытных и отпускников, возвращавшихся на работу. Он приставал к маленьким пристаням, на него грузили бочки, мотоциклы, ящики...
Но сейчас до первой остановки, до нашего лагеря, было еще далеко. И я смотрела на воду. Потом подняла глаза. На палубе стоял Макс Поливанов. И сейчас же я вспомнила прыжок того, кто бежал следом за отцом.
— Испугались? — спросил меня Поливанов.— Я сам испугался. Тут каждая секунда в дело, а он человек сухопутный. К тому же в годах.
Он говорил обыкновенным, домашним, успокаивающим голосом, совершенно не подходящим ни к его прыжку, ни к тому, что я о нем навоображала.
— Красивые места? — спросил Поливанов, кивая вперед в ту сторону, где был наш лагерь.— Меня Громов Володя информировал. Я так понял, занятие что надо: ищешь — находишь. А нет — свежий воздух в наше время тот же дефицит. Я не прав?
Он наклонился, заглянул мне в лицо и опять был простой, вовсе не похожий на книжного героя, тем более на капитана Грея, это успокаивало.
— Отец не клады ищет,— сказала я чуть более надменно, чем мне бы хотелось,— он восстанавливает историю...
— А я что говорю? — Поливанов как будто бы и не улыбался, но улыбка все равно пряталась в углах его твердых губ.— А я что
125
говорю? Главное — копнуть, а там что-нибудь так и так проявится: кому золото, кому лук и стрелы, кому камни. Все в дело...
— Сейчас отец занят захоронениями первого века. А потом перейдет на крепость...
Катерок наш бежал уже мимо последних гигантских цехов Комбината на берегу, уже вдали видна была Коса, поросший розовым, цветущим тамариском склон, пески, по которым шла Шунечка, читая стихи... А Макс Поливанов стоял со мной рядом, и это походило на сон, тем более что Вики с нами не было, она и не собиралась на Большие Камни.
А Макс Поливанов стоял со мной рядом и слушал о древнем захоронении, о том, как в прошлом году мы восстанавливали эллинские чаны, эдакие каменные ванны для засолки рыбы...
Но о чем же другом я могла ему рассказать? Ничего значительного не приходило мне в голову...
— Знаете,— начала я вдруг, как бы совершенно помимо своей воли, любимую припевку отца.— Знаете, не люблю, когда говорят: копнуть — найти. Копателями еще Стемпковский называл кладоискателей, была такая почти что профессия.
— А Стемпковский — кто? Введите в курс: не слышал.
— Да так, любимец отца,— бросила я почти небрежно, чувствуя, что прихожу в себя и что все вообще движется, как надо.
— Стемпковский? — Макс добросовестно собрал лоб, стараясь вспомнить, где мог слышать это имя.
— Да нет, Стемпковский — девятнадцатый век,— сказала я.— Пример бескорыстного служения науке. Таких людей больше нет.
— Вымерли, как ящеры? Но не до последнего же представителя? — спросил он серьезно и повел головой себе за спину, где наши толпились вокруг отца и Шунечки.
Ах, после этих слов Шунечка могла сколько угодно вертеться в центре внимания и возле моего отца! А в том, что она влезла в самую середку, на пятачок между рюкзаками, у меня не было ни малейшего сомнения. Влезла, закрепилась и сейчас, наставив палец, допытывалась: отчего же все-таки опоздал к отплытию такой аккуратный археолог, мой отец?
А я стояла у борта, рядом с Поливановым, и оттаивала. Первыми оттаивали руки, которыми я сжимала поручни. Потом оттаяло горло, и я засмеялась, чувствуя: внутри становится тепло и вольно.
— Отец, правда, бескорыстный,— сказала я.— И знаете? Его не угнетает отсутствие золота в находках.
— А оно отсутствует? Категорически?
— Категорически! — засмеялась я.— Электрон попадается. Похоже, но совсем не то. Хотя лучшая находка Стемпковского именно из электрона. Знаете вазу, где скифы лук натягивают?
— Не знаю, где лук. И других тоже не знаю...
Так мы стояли и говорили, будто нам и в самом деле интереснее всего была археология.
126
А между тем у меня было ощущение, что я интересна Поливанову сама по себе и без археологии.
С чего я это взяла? А с того, что мне очень этого хотелось.
А Вика? Моя лучшая подруга Вика, танцевавшая с Поливановым на взрослой вечеринке восьмого мая? На вечеринке, где наверняка не только танцевали, но и договаривались без слов о чем-то таком взрослом, опасном, отчаянном. О том самом, от чего два последних школьных года только и делают, что оттаскивают нас наши родители, учителя и наставники. Как же Вика? Или, договорившись без слов, сейчас же можно было изменить договору? Именно потому, что он без слов?
В общем, Вику в своих мыслях я отодвинула. Отец потеснился еще раньше, хотя мы и продолжали говорить о нем. А когда катер стал прижиматься к берегу, подходить к железным стоякам и старым доскам причала, Поливанов сказал:
— Я с вами, как догадываешься. Только отцу не докладывай, что знакомства нашего всего ничего. Договорились?
Я кивнула.
А высаживались мы так. Громов вскочил на борт и изогнулся, как кошка, готовясь к прыжку. Потом он прыгнул, доска причала треснула под ним. Одна нога его угодила как в капкан, и Громов присел, взвыв от боли. Тогда Поливанов тоже перенесся через поручни. В момент он и Грома поднял, и ногу его освободил. И что-то нам они прокричали, помахав руками: все, мол, в порядке.
А катер теперь подходил к причалу с другой стороны, но и с другой стороны было не лучше. Концы оказалось не к чему крепить, и досок, собственно, уже совсем не было.
— Давайте вплавь! — посоветовала Шунечка.— А что?
— А вещи? — Эльвира восприняла предложение всерьез. Но и действительно непонятно было, поплывем мы с рюкзаками на спине или оставим их на катере. Или побросаем Громову с Максимом?
— Что вещи? Тут мне по шейку всего,— затарахтела Шуня.— Я стану, потом за мной Генка, он длинный, Садко, Андрюша — и перекидаем.
Но обошлось все гораздо проще. Мы спрыгивали прямо с борта, а Максим и Громов принимали нас, как говорится, в свои объятия, а дальше стояли отец, Охан и Шунечка, чрезвычайно довольная тем, что ей удалось все-таки оказаться на мужской половине.
Хотя без представления и тут не обошлось: когда дело дошло до Генки, Шунечка особенно задвигалась, засуетилась. Остановила его.
— Одну минутку, девушка! — нагнулась (а Генка — дурак,— как вкопался), руками переставила Генкину дернувшуюся ногу влево, затем вправо.— По этому отрезку прямо можете шлепать, девушка, прямо от А до Б.
И Генка зашлепал, а мы побежали, обгоняя его, уже безо всякой осторожности, чтоб отхохотаться на песке. Как мы падали на песок, как визжали! И к нам, на наш визг, на наши предсмертные стоны,
128
чуть улыбаясь, шли серьезные, видавшие виды мужчины: мой отец, Максим и Громов.
Какие хорошие у них были лица! Как будто мы все, конечно и с Классной Дамой, оказались их не очень взрослыми детьми. А они как будто были охотники, или рыбаки, или геологи. И возвращались...
Если бы потом не случилось всего, что случилось, я бы считала этот день самым счастливым днем моей жизни. А самой счастливой минутой — ту, когда они шли втроем, немножко вразвалочку и в то же время легко, усмехались снисходительно и ласково, как и должны ходить и улыбаться мужчины, если они хотят, чтоб ими восхищались.
А море, как оно блестело, переливалось, переходило в небо! Как по нему, далеко уже, бежал наш катерок «Красная Армия», старался, работал локотками. И солнце в тот день грело как раз в меру, ничего еще не сжигая, но помогая расти...
В тот день я впервые увидела, какие опрятные ярко-зеленые водоросли покрывают камни и дно нашей бухточки, какие синие ракушки лежат, будто нарочно для красоты разложенные на светлом песке. И какие наши мальчишки еще совсем мальчишки, я тоже вдруг рассмотрела. А ели они, между прочим, как самые настоящие грузчики, и, глядя на них, отец опасливо отодвигал от себя намазанные Шунечкой бутерброды. А как же! Вдруг другим не хватит?
Сестры Чижовы достали из своего рюкзака не меньше чем полведра вареной картошки, и ее тоже смолотили в один момент. И тут встал вопрос: что будем делать завтра?
— Подавать сигналы,— предложила Шунечка.— Разве не знаете? Все всегда подают сигналы бедствия, правда, Максим?
— Или Грома пустим вплавь с известием о бедствии...
— Или клад поищем.
— Клады, Максим, не бывают съедобными.
— Клады бывают разные, Лариса Борисовна.
— У нас в сарае фасоль оставалась. В банках, с лета.
К старому рыбачьему сараю так или иначе надо было идти посмотреть, как там перезимовали лопаты, дрова, брезент.
Сарай, отданный нам в аренду, оказался на месте, что уже было удачей. Замок тоже за зиму не сорвали. Дрова, лопаты никуда не делись, и фасоль — присыпанные сеном банки в углу длинного стола — Охан сразу нашел, но он посреди сарая нашел еще и новенькую, в яркой обложке с никелем зажигалку. Наши таких зажигалок не имели и не теряли, это уж точно.
Всем стало на минуту жутко и приятно, как будто тайна обняла нас и сдвинула, приблизив друг к другу головами.
— Ого-го! С девочкой — фирма! — заржал Пельмень.
— А вам нельзя — маленькие! — Пельмень и Охан оттеснили нас.
— У спикулей сорок рэ как одна копейка!
— Ну, ну, еще!
При этом они хихикали и загораживались от нас спинами. Не
5 Школьные годы. Вып. 3
129
видали мы таких зажигалок! То есть именно зажигалок я не видела. А видела ручки, например,— сколько угодно! На них красовались девицы то в купальниках, закрытых, как у Чижовых, то почти безо всего.
— А ну, дайте-ка сюда! — Мой отец не глядя протянул руку, и зажигалка действительно оказалась у него в пальцах.
— Может, все-таки лучше я?
— Что — лучше? — Отец смотрел на Максима в упор, как изредка он умел смотреть в гневе.— Лучше — что?
— Лучше я возьму на сохранение!
— А я не собираюсь хранить эту пакость!
— Но ведь кто-то потерял вещь...
— В моем сарае?
Ну и произнес он это! «В моем палаццо? На моей вилле?»
— Но как она сюда попала? — Отец отошел к дверям, распахнул обе створки, и мы увидели в потолке дырку. Доски, такие же хилые, как на причале, немного провисли внутрь...— Что же,— вздохнул отец,— уронил только, а мог и поджечь. Пока вы не начали балдеть, придется починить крышу.
Больше всего на свете отец боится, чтоб мы не начали балдеть. Впрочем, бабушка боится этого еще больше. «Балдеть», «отключаться», «ловить кайф», что там еще? Сначала от этих слов они приходили в ужас. Кричали, размахивали руками. Сейчас, поняв, что борьба не сулит победы, они просто мрачнеют. Или пытаются отвлечь работой.
Мой отец и моя бабушка Великие Работодатели. Им всерьез кажется — если человек занят работой, ничего плохого с ним случиться не может.
— Ну, ребята, ну! Это надо действительно сделать сразу. Нет? — подхватила идею Лариса, о которой мы как-то забыли с этой зажигалкой.— И как я понимаю, проявить инициативу на уровне Одиссея. Я не права, нет?
Г ромов подвалил к стенке чурбачок, встал на него, пошарил между досками у потолка и вытащил из тайничка молоток, а также тряпочку, а в ней лежали промасленные гвозди. Потом вдвоем с отцом они опустили на землю рулон рубероида, неприметно дремавший всю зиму на полке, прибитой почти под потолком.
Отец и Охан вышли из сарая, неся по рулону рубероида на плече. Но при этом отец на ходу отстегивал и все не мог отстегнуть клапан нагрудного кармана. Я догадывалась, что он сделает в первую очередь, почему повернул он к морю.
— Все видели? — отец разжал ладонь. На ладони, как понимаете, лежала зажигалка.
— Все! — завопил Охан, неизвестно почему торжествующим голосом.
— Смотрите в последний раз.
Отец размахнулся, но то ли вообще не умел, то ли бросок сорвался из-за тяжелого рулона на плече, но зажигалка плюхнулась близко у
130
берега. И нырять не надо будет, чтоб найти ее завтра на рассвете.
А мне опять стало неловко за отца. Мальчишество какое-то неудавшееся было в том, как он бросил зажигалку. Лучше бы перепоручил Грому, как многое ему перепоручал.
Вообще, скажу я вам, тяжелая на этот раз для меня была работа — видеть собственного отца целый день в оценочной ситуации. Насчет оценочной ситуации я прочла в той книге по психологии, которую последнее время только и знала, что примеривала к себе и окружающим...
Но вернемся, однако, к нашей бухточке, в мелкую воду которой булькнула зажигалка. На что каждый, разумеется, счел долгом отреагировать.
— И за борт ее бросает,— сказал Громов ворчливо.
— Кто-то найдет,— предположила Эльвира.— Вот удивится.
— Ее надо было продать и купить две пары масок с ластами,— сказал Охан.
— А кто бы продавал? Ты? — Пельмень спросил это почему-то очень гордо и ногу отставил для значительности.
— Или ты.
— А что? — Мишка вдруг засмеялся, потирая руки.— А что? Гром по крупной идет, на авторитет работает. А нам с тобой одна цена, Андрюша.
— Как это? — Эльвира стояла, переводя взгляд с Андрюшки на Пельменя.— Как одна?
Никакого сходства Эльвира не находила и ожидала, пока кто- нибудь объяснит — как?..
Сказать по правде, я бы, например, объяснить не могла. Андрюшка сидел на песке, подняв к Пельменю скуластое темное лицо. Ему, видно, тоже непонятно было — как?
— А так, что ни ты, ни я рубли в море бросать не станем. Все равно это нам не зачтется.
— А ему? — Эльвира посмотрела на Володьку с непривычным выражением досады.
Я не стала дальше слушать, пошла вдоль кромки моря по направлению к Большим Камням. Давно мне уже хотелось оказаться где-то рядом с Поливановым, продолжить наш разговор и, может быть, даже рассказать ему легенду об Ифигении и другие, связанные с нашими местами. Но и за Большими Камнями Поливанова не оказалось. Зато там я увидела отца и Шунечку. Они сидели друг против друга на песке, согласно и мирно, и до меня долетел голос отца:
— ...Ты представляешь, что он почувствовал? Ведь до этого человечество довольно много слышало о скифах хотя бы от Геродота. А увидеть их еще никому не удавалось...
Разумеется, речь шла о Стемпковском, и Шунечка внимала раскрыв рот.
— Он был первым человеком на земле, первым, кто увидел изображение скифов, тех самых — с луком и стрелами...
131
— Хорошо быть первым? — Шунечка метнула в отца синие искры, как будто проверяя что-то.
— Наверное, хорошо...— Отец задумчиво чертил палочкой на песке.
Я подошла к ним почти вплотную, так что тень моя легла на рисунок отца.
— Ты представляешь...— Отец почему-то остановился в своем разбеге, поднял голову и посмотрел на меня.
— Я представляю,— сказала я так, как будто собиралась ссориться.
— А может быть, и не первым.— На песке у ног отца сидели бородатые люди в колпаках, о которых я рассказывала Максу...— Первым мог увидеть, но не рассмотреть кто-нибудь другой...
— Копатель? — привычно вскинула Шунечка.
— Не обязательно. Просто человек, которого в первую, да и в последнюю, очередь интересовал металл.— Отец отвечал Шунечке, но смотрел на меня, как будто старался понять, зачем я подошла.
А между тем я подошла по самой простой причине — соскучилась.
— Глаза у них были не так поставлены,— сказала Шунечка, и что-то кольнуло меня, как намек на то, что я недостаточно ценю своего отца, археолога Камчадалова, не то что Громов и она сама. Но тут Шунечка вскочила с песка и, плеснув своими тяжелыми волосами, будто флагом, помчалась по берегу, вопя: — Эй, на юте, на баке и полубаке, кто хочет конфет? У меня есть!
Я отошла от скифов, нарисованных на песке отцом, задавая сама себе два вопроса. Почему это он давно так не разговаривал со мной, как с Денисенко Александрой? И еще: почему с нами не поехала Вика?
Глава X
На следующее утро выяснилось: нога у Громова опухла и болела так, что ходить он мог, только опираясь на Шуню Денисенко, как на костыль. Он в тельняшечке, она в тельняшечке — получалось очень трогательно.
Эх, яблочко, цвета яркого!
Вот бы мне бы тоже стать — санитаркою!
— Давай,— согласилась с моей «дразнилкой» Денисенко.— Я — до завтрака, ты — после.
Но после завтрака из двух палаточных кольев Громову смастерили что-то вроде костыля. А если бы и не смастерили? Взялась бы я за эту роль костыля на глазах у всех? Чего-то во мне для нее не хватает. Или, наоборот, чего-то переложено?
«Слишком ты комплексуешь,— говорит по этому поводу мама.— Человек, Женя, должен быть уверен в том, что все, что он делает, хорошо, красиво и нравится другим». «Почаще обращайся к юмо¬
132
ру.— Это отец любит повторять.— Вот будь у тебя непосредственность этой девочки...»
Но непосредственности «этой девочки», то есть Денисенко Александры, у меня не было. Где взять? Поэтому я опять начала мучиться, когда сразу же после завтрака мы все отправились на раскопки. Только Эльвира с Пельменем остались в лагере возле сарая «дневалить», как они сами выразились.
Шли медленно, приравниваясь к Грому, и в таком же занудном темпе мой отец пересказывал всем нам давно известную легенду об Ифигении. Отец вообще любит говорить пространно. Так выражается моя бабушка и добавляет, что свойство такое присуще многим научникам...
На этот раз пространности его внимали только Поливанов и Лариса, да немножко Андрюшка Охан — из вежливости.
— Представьте себе,— говорил отец,— побережье приблизительно такого же рельефа, тот же удручающий все живое недостаток влаги, безветрие, мертвый штиль... А флот-то парусный! В греческом лагере уже ропот и военачальники в тревоге...
Штиль действительно был мертвый, море словно пришпилили к берегу, обтянули одним шелковым серо-золотым лоскутом...
Я шла, смотрела на сыпучие балки, на желтые кусты молочая по склонам и тосковала. По мне так легенду об Ифигении надо было рассказывать совсем иначе: «И вот, представьте себе, несколько вполне взрослых и даже не очень молодых негодяев собрались и решили: при- несем-ка в жертву богам не какую-нибудь козу или лань — девочку! Чтоб в благодарность Артемида послала ветер. И кто, вы думаете, соглашается на это дело? Родной папаша этой девочки Ифигении! Уж очень их удача манила, очень не терпелось захватить Трою!
И — представляете? — поволокли девчонку — резать! Да в самый последний момент у богини, у Артемиды, ума хватило: всем отвела глаза, подкинула вместо девочки лань и перенесла Ифигению на наши берега...»
— Разумеется, поход на Трою был чистейшим актом колониальной политики, но миф придает всему форму, всему форму, всему форму...
В моих расплавленных жарой мозгах последние слова повторялись и повторялись бессчетно, хотя я давно не слушала отца, а думала о своем. Я видела: отцу не нравится Поливанов. Почему, однако? Потому что нравился мне? Потому что неизвестно как и зачем затесался в нашу школьную компанию? Или из-за того вчерашнего злосчастного прыжка, который так и не удался отцу? А может, отца отталкивали вопросы Поливанова?
Вот и сейчас Макс спрашивал:
— Не уточните ли? Меня тут информировали насчет электрона, так нельзя ли конкретнее?
— Что конкретнее? — непонятно почему взвился отец.— Процент содержания золота вас интересует?
133
— Что нам, профанам, процент? — отмахнулся Поливанов.— А вот не объясните ли, почему сосуд, скажем так, где скифы тетиву натягивают, мне говорили, сокровище мирового класса?
Отец глянул на Поливанова искоса и недоверчиво, будто ждал розыгрыша вроде тех, какие мы устраиваем на уроках.
— Стемпковский, я слышал, его нашел в наших краях?
Но отца и этот безотказный ключик не завел. Почему?
— А легенда, которую вы только что пересказали, нашла отражение?
— В чем? В керамике? В золоте? В электроне?
Стоило посмотреть на них! Макс шел вольно рядом с Ларисой- Борисой, и таинственная улыбка все больше и больше проявлялась на его твердых губах. Отец же явно дулся, рассеянное и недовольное выражение не собиралось сходить с его лица.
Точно с таким же лицом он сидел на камнях, свесив ноги внутрь ванны для засолки рыбы и каждую фразу начиная словами: «Представьте себе...» Лично я ничего представить себе не могла. То ли из-за смешного недовольства, которое отец всем выставлял напоказ, то ли из-за того, что представлять вообще была Шунечкина привилегия. Гром тоже, наверное, умел представлять — от этого им и нравилась археология. Мне же как-то безразличны были гармоничные эллины, солившие свою селедку и эксплуатировавшие своих рабов.
Меня интересовали те, кто сидел вокруг... И еще меня интересовал звук, внезапно возникший, какой-то дальний рокот. Он то нарастал, приближаясь к нам, то снова, удаляясь, исчезал совсем.
Самолет ли летел над нами в синей свободной вышине? Машина ли шла краем степи по дальней дороге? Кроме этого рокота, никаких звуков в мире не было. Да еще слабый плеск волн и шипение оседающей пены...
Через минуту мы все, как собаки, «поставили уши», вытянули шеи, а Макс даже вскочил. Будто не просто кто-то ехал мимо нас по своим делам, а вез тревожную новость из того мира, где, между прочим, через неделю ждали нас экзамены, как Марта Ильинична сказала, когда-то вообще называвшиеся испытаниями.
Наконец мы увидели облако пыли, мотоцикл, темно-вишневую «Яву», двоих в шлемах, круто поворачивающих к нашему лагерю. И я узнала Вику и того, второго, квадратного, в блайзере.
Правда, никакого блайзера на нем сегодня не было. Джинсы его обросли пылью до колен.
— Ну,— сказала ему Вика, спрыгивая на песок и кивая нам.— Говорила я тебе, Бобик, мы их найдем? Не за край света завалились.
— Нашли. Чего уж там!
— Женщинам надо верить, Бобик.
— Ну да? — Бобик-Квадрат пошевелил верхней вмятой, немного расплющенной губой.— Тебя послушай!
А мы стояли вокруг, рассматривали их и удивлялись: вот тебе на! Не ждали, не гадали!
134
А может быть, их кто-нибудь ждал? Может быть, договоренность была? Может быть, просто какие-то обстоятельства задержали Вику? Тихо, почти не поднимая век, я перевела взгляд туда-сюда, но ничего не увидела. Зато почувствовала: Поливанов стоит у меня за спиной. Стоит со значением.
— Соскучились? — Вика подходила к нам, уверенная в себе, как в подарке. И я почувствовала, что соскучилась ужасно. По тому времени, когда еще не было никаких Поливановых, а Генку мы бросали на любом углу, если захотелось посекретничать или порассуждать о жизни.
Сейчас Генка переступал с ноги на ногу, не понимая до конца, почему Вика оказалась здесь. И что-то дрожало у него под нижним веком.
— Неужели не соскучились? Я по Женьке — смертельно... Ну,— сказала Вика, подходя ко мне вплотную,— ты мне уже третью ночь подряд снишься. Есть разговор.
И мы, закинув руки друг другу на плечи, пошли за Большие Камни, в сторону сарая. Шли, как будто ничего не случилось. Но разговора никакого особого не вышло. Возможно, потому, что скоро и остальные ринулись в нашу сторону. Так, впрочем, получалось всегда: стоило появиться Вике, как все сбивались к одному борту.
— Вика, Камчадалова! — крикнула нам Лариса.— Присоединяйтесь: Поливанов показывает, как геологи воду ищут!
Действительно, впереди всех шел Поливанов, рядом мой отец и немного сбоку Громов.
— А как геологи воду ищут? — спросила я, подныривая под руку к отцу.
— Говорят, при помощи вот такого прутика.— Отец приобнял меня и кивнул в сторону Поливанова.
Поливанов нес в соединенных, как створки, ладонях какую-то веточку без листьев, с рогулькой посередине. И веточка эта, по словам отца, должна была повернуться, изменить свое положение, если окажется, что где-то рядом вода.
Сам Поливанов ничего не говорил, смотрел гипнотизирующим взглядом себе в руки. Только мне показалось — все-таки чуть-чуть он усмехается. Разыгрывал он нас, что ли? Хотел произвести впечатление? Показать: мол, вы в археологии, а я вот в каком фокусе — мастак?
— Максим, а геологом ты с каких пор стал? — безо всякого раздражения спросила Вика. Однако в вопросе ее тоже что-то крылось.
— Не стал ни геологом, ни археологом, но все время в поиске...— бросил Поливанов, вдруг резко сворачивая к двум плоским камням, едва прикрытым песком.
Нет, определенно, он нас всех немного поддразнивал...
Между тем мы подходили к Камням, и лицо Макса делалось все строже и суше. Я перевела взгляд на его руки: как ни странно, веточка ожила и шевелилась нерешительно. Шевелилась ли, он ли ее шевелил?
135
Кончик веточки, рогулька такая, живенько стала выписывать нечто в воздухе, потом изогнулась, как притянутая к земле. А Поливанов стоял, широко расставив ноги, и дышал так, будто пробежал длинную дистанцию.
— Лопаты! Лопаты несите!
— Что? — спросил отец, подворачивая голову к плечу.— Что, вы и в самом деле предполагаете? И рискнете копать?
— Почему бы нет? Без риска и жизни нет на земле!
Отец недоверчиво усмехнулся. Я подозреваю: ему показалась оскорбительной та легкость, с какой геологи находят воду. Или та самоуверенность, с какой Поливанов послал за лопатами?
Лопаты принесли.
— Вот здесь! — Поливанов показал себе под ноги.— Ройте здесь.
— А море не мешает? — поинтересовался отец.— В море ведь тоже вода.
Отец еще был в состоянии что-то спрашивать. Мы же все стояли совершенно остолбенело, пока Охан и Громов рыли в указанном месте. У Ларисы даже «башня» ее рассыпалась, но она этого не замечала, смотрела на Поливанова, оттопырив нижнюю влажную губку...
— Только тихо-тихо, осторожно, как в археологии: воду тоже можно спугнуть. В песок уйдет,— объяснял Поливанов.
Раз, два, три, четыре...
Песок летел в сторону, прямо на юбку и босые ноги Оли Чижовой. Она не шевелилась.
— Стоп! Дальше я сам! — Поливанов схватил лопату и осторожно стал окапывать какой-то предмет, приютившийся под камнем.
Безусловно, это не была вода. Я налегла на спину Оли Чижовой и слышала, как гулко бьется у нее сердце. Что же говорить об остальных?
И вдруг лопата звякнула, ударившись обо что-то звонкое. Движение, рывок, жест — и перед нами большая импортная сумка с ковбоем, а в ней бутылки.
— Не вода, правда, пепси-кола, но леди энд джентльмены простят новичка. Я так считаю. Квалификации на воду не хватило.
Прежде всего мы все перевели дыхание. Потом перевели взгляд с сумки на лицо Поливанова. Оно смеялось. Потом на отца. Не такой уж старый сухарь был мой отец. Но почему-то он не смеялся. Стоял серый и никому в эту минуту не интересный...
А может, этого и добивался Макс Поливанов? Пусть на полчаса, на час, на сегодняшний день занять первое место? Стать тем, что в книжках по психологии называется «неофициальный лидер»? Сыграть роль?
...Мы пили пепси-колу и ели вафли, оказавшиеся в сумке, уже в лагере и рассказывали Эльке с Пельменем всю историю находки. Был праздник, конечно, но почему-то мы не бесновались. Даже Вика, поднимавшая стакан «пепсика», сверкала и искрилась куда меньше обычного.
137
А потом после обеда совершенно неожиданно, пробираясь между Больших Камней вдоль берега, я услышала ее голос:
— Зачем тебе эта самодеятельность — на раскопки ездить? Ты же знал, что без меня?
— Для общего образования, Ежик. Для общего.
Вот уж никогда не думала, что Вику можно было прозвать Ежиком! Ничего колючего в ней не было и сейчас. Она стояла так, что я хорошо видела ее лицо, поднятое к Максу Поливанову. И на лице этом любовь и досада боролись с сомнением.
Потом она усмехнулась:
— Камчадалова тебя образовывала?
— И Камчадалова тоже. Все понемножку.— Макс взял Вику за локти и, приподняв, снова осторожненько, даже бережно как-то поставил на землю.— Все, Ежик, старались повысить общий уровень.
И тени стали уходить, уходить, уходить с Викиного все еще поднятого к Поливанову лица. Но все равно прежней беззаботности в этом лице уже не было...
Неужели Вика ревновала ко мне? И неужели именно так понял ее Поливанов? Но нет, что-то другое померещилось мне в тревоге моей лучшей подружки Вики Шполянской... Вот только что? Любопытство разбирало меня.
И совсем как в детстве захотелось мне иметь такую машинку. Поднесешь к другу (или врагу), нажмешь кнопку и пожалуйста — читай мысли. Но машинки не было, а я не очень-то отчетливо понимала, что делается ддже в собственной голове.
В ней вопросы вроде того, выудил или не выудил сегодня утром Пельмень импортную зажигалку, мешались со стыдом за то, что я всерьез решила, будто Поливанов так, ни с того ни с сего, может забыть Вику.
Или мне было стыдно за то, что захотела отодвинуть Вику от Поливанова?
Вопросы эти путались у меня в голове, но одно я знала точно: никто на свете, никакой Поливанов не сможет поссорить нас с Викой.
Вику можно было принимать или не принимать целиком, как говорила моя мама. И мне было хорошо сидеть с ней рядом на парте или здесь, на песке. Меня интересовало ее мнение, например, о том, почему Грома тянет к моему отцу? Или о том, зачем Максу понадобился фокус с кладом?
А пока я обо всем этом думала, мы сидели в ожидании катера, уже сложив все свое имущество и как бы немного разъединенные тем, что наша разведка окончилась.
День подходил к концу. Розовело и поднималось небо. У самой воды нежно цвел желтый, особый, морской мак. И, глядя на этот тихий мак, на прикорнувшую возле обрыва «Яву», все молчали: наслаждались солнцем, морем, предчувствием лета.
Но среди этого всеобщего оцепенения перед лицом, как говорится, природы не увидела я ни Поливанова, ни Квадрата. «Интересно, куда
138
это они завалились? — подумала я сонно.— Были, были и вдруг их не стало...»
Однако не успела я так подумать, как они вышли из-за Больших Камней, чем-то недовольные, даже как будто поссорившиеся. Правда, Поливанов при этом тихонечко так посвистывал и голова у него была закинута высоко, а Квадрат шел угрюмо, топтал землю.
И с этим видом человека, которому ни к чему все детские игрушки, археологические раскопки и школьные компании, Квадрат подошел к мотоциклу, наступая на ползущие по мелкой гальке листья мака.
— Ну, кто со мной? — крикнул он слишком громко.— Кому в город с ветерком?
Я была уверена, что на его призыв никто не отзовется. Но поднялся Пельмень, подошел к мотоциклу вразвалочку и, взявшись за руль, слегка тряхнул его, как будто проверяя на устойчивость.
— Поедем, что ли? — Он смотрел на Эльвиру прищурясь, и, странное дело, она послушно встала и пошла. Они даже никакими словами не попрощались с нами, только руки подняли совершенно одинаково: «Чао, мол, чао!» — привет и наилучшие пожелания тем, кто не умеет спешить.
Пыль завилась и опала за «Явой», а в остальном все продолжалось в том же духе, что и пять минут тому назад. Солнце висело низко над горизонтом, мы молчали, море тихонько переговаривалось с берегом.
Все продолжалось, но и все как бы стронулось, оказалось не самым прочным, что ли? Никто в классе Пельменя вроде не любил, но даже сестры Чижовы, Оля и Тоня, посмотрели вслед ему и Эльвире почти что с грустью.
Глава XI
Никогда бы не подумала, что меня так заденет отъезд Эльвиры и Мишки Пельменя. Мне, как Генке, на этот раз почему-то было категорически необходимо, чтоб все вместе. Между тем Пельмень и Эльвира не жалкий час какой-то выгадывали, а отделялись. Почему? Мы приезжали на разведку посмотреть, целы ли наши фундаменты, орнаменты, лопаты и закаты, а также маки и мифы. А они? Они тоже явились разведать и увидели сразу: даже по сравнению с совхозом археологический лагерь — не фонтан. От бураков и подсолнухов следовало избавляться (если уж избавляться) другим способом...
Или все заключалось в том, что больше чем за сутки Пельменю так ни разу и не удалось стать в позу Хозяина Жизни? Да еще при этом приходилось терпеть Грома?
Не обидно ли?
Я повела глазами вдоль борта, прислушалась: не вспоминает ли кто-нибудь о тех двоих вслух? Но каждый прокручивал свое.
— Нет,— говорил отец, к моему удивлению, совсем не назидательно, скорее задумчиво.— Нет, Лариса Борисовна, у каждого человека должен быть свой берег...
139
— Но ведь и поплавать хочется? — У Макса Поливанова был легкий голос. И слова, произнесенные им, держались в воздухе как бы дольше других.— Берег для тех, кто хочет на прикол, а если все впереди?
— А это немного печально, когда у человека все только впереди. Вы не находите? — спросил отец, и я снова подумала: он против Поливанова.— Не находите — должно и за спиной что-то оставаться?
— Ну...— протянула Лариса, как бы удивляясь отцу и одновременно защищая Поливанова,— как весело: за спиной! Оглядываться еще и в вашем возрасте рано, Алексей Васильевич. Я не права? Да? Нет?
— Нет,— сказал отец.— Как не оглядываться, если не хочешь стать сплошным мотоциклистом?..
— А чем так уж плохо — на скоростях?
Поливанов стоял теперь плечом к плечу с Ларисой, и какая-то договоренность почудилась мне между этими двумя любителями скоростей, какое-то тесное взаимопонимание... И еще мне казалось: та грусть, какую мы, в придачу к рюкзакам и спальникам, прихватили, отплывая от Больших Камней, к ним не имела никакого отношения.
А они? Что же они? Поливанов, во всяком случае, сообразил, что ни к чему бросать ему камешки в сторону моего отца.
— А правда, что дочку вы назвали в честь той Ифигении? За которую богиня любимой лани не пожалела? — спросил вдруг Макс совсем другим голосом.— Так по-вашему выходит?
— Ифигении? Назвать(дочь в честь жертвы? — удивился отец.— Разумеется, нет. Что за мь!сль?
Отец ответом своим изо всей силы сдувал с меня романтическую пыльцу, но мне это уже было безразлично. После того что увидела я возле Больших Камней, никакие мысли о Максе, не связанные с Викой, не могли появиться в моей голове. А Макс вообще обо мне не думал. И скорее всего, увязался с нами на раскопки, чтоб подразнить Шполянскую-младшую. Чтоб «Ежик» убрал свои колючки.
Я точно знала теперь, что моя лучшая подружка по-настоящему любит Макса и что любовь приносит ей не только счастье и радость.
А теперь она стояла почти на самом носу катерка, решительно подставляя ветру лицо, будто требовалось остудить щеки перед важным решением. Еще и планшетка на боку у нее была — такой современный плоский портфельчик, удивительно боевой. И брови Вика свела по-серьезному, всех отстраняя этой своей серьезностью...
А может, никто и не собирался к ней подходить?
Сестры Чижовы, например, времени зря не теряли, Денисенко Александра тут же на палубе пыталась начертить для них какие-то острые внешние углы, а они смотрели ей в рот преданными глазами хорошисток.
Громов разговаривал с Оханом, и я услышала обрывок не лишенной интереса фразы:
— ...Тем более, говорю, Лариса Борисовна, сейчас. Он идеалист,
140
а к лагерю действительно могут придираться из-за этого несчастного золота, которое «ходит». Только кто докажет, что его нашли у нас, возле Больших Камней?
— А она?
— Говорит—пока цацки эти не на столе у следователя, не доказать, что в другом месте. А Камчадалову ты только вредишь своим упрямством. Пора понять: работа — важнее археологии...
— А ты? — торопил Охан, заглядывая Грому в лицо.— А она?
...А она стояла между Поливановым и моим отцом, вся легкая,
красивая, и как ни в чем не бывало, стряхивая со лба веселую золотистую прядку, спрашивала:
— Как же так? Прямо на той лестнице? Которая на Гору? И не могли спасти, нет?
— Реанимации тогда не было, Лариса Борисовна,— объяснял отец, и я поняла: он только что рассказал о смерти Стемпковского, который умер от сердечного приступа, увидев гидрию, злобно и мстительно разбитую копателями за то, что в ней не обнаружилось золота.
— Но возможно, ее удалось бы восстановить, эту гидрию? Вы же склеиваете свои из черепков? Разве нет?
— Больше, чем гидрию, ему было жаль человечество, поверьте мне, Лариса Борисовна.
— Фанат,— утвердил Поливанов.
— Фанатизм некоторый, конечно, в нашем деле нужен,— согласился отец без особого воодушевления.— Но, я полагаю, дело не в фанатизме, а в обиде очень порядочного человека, который понимал: мир сам себя обкрадывает, меняя красоту на звонкую монету.
— А на монету снова стремясь купить красоту? Нет? Я не то сказала?
Не то она сказала, конечно, и у отца появился непосредственный предлог вспомнить наши джинсы, наши батники и тем более вчерашнюю зажигалку.
— На красоту? — хмыкнул он.— Уж не на то ли, что я вчера вышвырнул в море?
Ах, какая детская мелочь заключалась в любезных разговорах отца с Максом и Ларисой! Между тем, если судить по репликам Грома и Охана, ничего особо веселого впереди отца не ждало. С «гуляющим» золотом, как видно, не все еще было ясно. И не из-за него ли кто-то собирался вмешаться в нашу лагерную жизнь, испортить ее или вовсе отменить?
Но чего хотела Лариса от Грома?
Еще неизвестно, до чего бы я дошла в своих предположениях, если бы продолжение их разговора не состоялось в моем присутствии тут же, на катере.
На палубе мы все переместились, смешались группами. Вдруг Вика подошла ко мне с просьбой приютить у нас в доме боевую свою планшетку, потому что по вполне понятным причинам Шполянская-
141
старшая начала охоту за ее дневниками. «С чего это Вика взялась за дневники?» — успела подумать я, принимая из рук в руки плоский портфельчик. Но тут же мысли мои побежали в другую сторону: прямо на нас, громко переговариваясь, шли наша Классная, Володька и Охан. Но сестры Чижовы попались им на пути, Лариса остановилась, приобняв за плечи Тоню и Олю. Стояла так, поглядывая трогательно, как девочка.
— Пойми меня правильно, Громов: мы так боролись за первое место, так неужели в самом конце позволим, чтоб нас затерли? А ведь работа в совхозе чуть не главный показатель, это надо учитывать. Разве я не права? Нет?
— Я пять лет уже здесь,— Гром кивнул в сторону Больших Камней,-г- а у вас еще сколько кандидатов в бригадиры: вон Андрюша, инициативный человек, Мишка не откажется в совхоз выехать, если начальством. Да и сами справитесь...
Она уронила голову, рассматривая исподлобья черствого Громова. И тут удивительно кстати сестры Чижовы выгнули детские свои коленки, вытянули шейки, и Оля выпалила:
— А раньше Марта Ильинична всегда с нами ездила, даже когда...— она не докончила, залилась краской — очки вспотели.
— Даже? — переспросила Лариса.— Что «даже когда»? А? Девочки?
— Даже в прошлом году на яблоки,— ответил вместо девочек могучий бесстыдник Володька Громов, и так прямо, так ясно смотрел на Ларису.— Когда вы уже были нашей классной.
— Чем же было плохо в прошлом году? — удивилась Лариса Борисовна.— Я так поняла: ты недоволен? Нет? Да?
— Нет,— ответил Громов.— Я доволен. Но в это лето остаюсь при своей лопате и черепках. Я их люблю потому что.
На мой взгляд, он мог бы сказать и так: «Потому что люблю Алексея Васильевича». Однако он сказал о черепках и отвернулся от нас и от спора, стал смотреть на воду...
— «Черепки, черепки»! — передразнила его Лариса.— Любил бы лучше целое. И будущее. Из настоящего надо любить будущее: свое, родителей, класса, общее. Нет? Нет — скажешь? Да!
— Нет! — Громов бросил это, не оборачиваясь, что уже окончательно напоминало вызов. Даже я бы сказала так: призыв к ссоре.
— А не кажется ли вам, любителям старины,— вы нашли удобную форму ухода от общества и его нужд? Нет? Да! И обстоятельства видите только свои? А?
— Я, Лариса Борисовна, вижу его обстоятельства.— Володька уже снова стоял перед ней, скрестив руки на груди и откинув лицо с видом человека, который может разбить все доводы.
— Какие — его? Что лежало две тысячи лет...
Может быть, она забыла, что рядом стою я. Как-никак его дочь?
Что пролежало две тысячи лет, действительно могло подождать и еще год. Хотя не стоит забывать: человечество безумно жаждет
142
находок! Прямо ногами переступает от нетерпения человечество, в руки засматривает.
Гром все стоял напротив Ларисы, глаза его по-прежнему светились серым твердым блеском.
— Пойми меня правильно...— Лариса прижала руки к груди.
Но беда заключалась в том, что любую фразу, которая начинается этими словами, нельзя не только правильно понять, но даже услышать.
— Пойми меня правильно, обстоятельства бывают сильнее нас и требуют...
— А вы напрягитесь, напрягитесь.— Володька показал плечами, как надо напрячься.— Напрягитесь и победите свои обстоятельства.
— Или Марту Ильиничну попросите,— произнес наконец разумное Охан.— Пусть она с нами, если вы не хотите.
— Не могу, Андрюша,— поправила Лариса-Бориса с нажимом.
Мы, конечно, все понимали — «не могу» относится не к совету
обратиться за помощью к Марточке. Но все-таки сделать и это наша Классная как будто тоже не соглашалась. И только один Гром, получалось так, мог ее выручить, взяв на себя бригадирство в совхозе.
Грому, однако, нисколько не льстило это доверие.
— Каждого где-то кто-то с чем-то ждет. Каждый силен в свое упираться, а другие — гори синим огнем,— так еще сказал Гром.— А? Нет? Я не прав, Шполянская?
Теперь мне уже казалось: Грому все равно с кем, лишь бы ссориться. Но меня удивило, что Вика как будто растерялась под Володькиным взглядом. Однако не больше мгновения это длилось.
— Где же? Кто? Синим? Огнем? — Вика уже смеялась, вскидывая коротко стриженную темную головку.— На что ты намекаешь, Вовочка? Объясни.
— Да. На что? — Мне показалось — Ларисе хочется рвануть Грома за плечо, повернуть к себе. Но ничего такого она, разумеется, не сделала, только изо всей силы ударила ладонью о поручни.— Если ты меня имеешь в виду, так я еду к очень старым и очень больным людям, Громов. И с твоей стороны...
Гром обернулся лениво, лениво посмотрел Ларисе-Борисе не в лицо, а куда-то выше, в одну точку пустив свой взгляд.
— А не назначить ли нам в бригадиры все-таки Мишку Садко? А? Нет? Ранее не судимого и проходившего под кличкой Пельмень? — спросил он уже совершенно по-хулигански.— Думайте, думайте, тем более ему в характеристике пригодится. А какой же деловой человек не беспокоится насчет характеристики? Дайте, Лариса Борисовна, ему на авторитет поработать...
Что-то излишнее было в выходке Володьки. Ужасное — так даже могли бы сказать моя бабушка или Марта Ильинична, окажись они на катерке рядом с нами. Но вот в чем фокус: ничего подобного при них никогда не происходило и произойти не могло.
Глава XII
О ссоре на катере я думала очень много. Из нее следовало, что Лариса Борисовна отправилась к Большим Камням тоже не просто так, ради ясного дня. Хотела убедиться в деловых качествах Во- лодьки? А может быть, Пельменя? Действительно примеряла его на роль лидера?
Странно, неужели наша Классная не понимала: Пельмень — это не просто прозвище, это та цена, которую мы определили Мишке Садко, изо всех сил тянувшемуся на роль Хозяина Жизни? И еще, неужели Лариса не помнила (не хотела помнить?), при каких обстоятельствах Мишка кличку свою получил? А обстоятельства были такие. Мы тогда только что вернулись из совхоза, вывалились из автобуса посреди города вместе со своими чемоданами и рюкзаками. И были счастливы. Совхоз, где мы работали, назывался «Приморским», но моря мы там не видели. А сейчас оно плескалось рядом, перескочи через бордюрчик набережной и погладь ладонью. И всем хотелось это сделать.
— А я домой,— сказал Мишка.— «Тачку» поймаю и до хаты. Кого подбросить?
А как же! В совхозе не очень-то удавалось, а тут ему прямо в руки шло продемонстрировать свои возможности да еще попутно облагодетельствовать. А вообще-то в классе у нас на такси никто не ездил, даже Эльвира. Вот мы все во главе с нашей Классной Дамой стояли и смотрели, как он ловит «тачку», резко выбрасывая руку и вскрикивая:
— Шеф, до Второй Слободской? А, шеф?
Но пока что «шефы» мчались мимо. Возможно, их пугало наше стадо и рюкзаки.
— Я на угол перемещусь. Кто со мной? — спросил Мишка и посмотрел на Вику. Хотя именно на Вику смотреть ему и не стоило.
Вика стояла, легонечко притоптывая ногой, как будто не перехватила Мишкиного взгляда. И тут выдвинулась Тоня Чижова:
— Мы поедем. Можно, Лариса Борисовна? Можно, Миша?
Интересно, от чего больше взвился Мишка? От Викиного молчания? Или от того, что с вопросом своим Тоня обратилась не к нему в первую очередь?
Во всяком случае, он обернулся к Тоне, придвинулся к ней близко, надавив пальцем на дужку ее очков:
— Ну и похожа ты на лягушку-путешественницу, Чижова! Одно лицо. Из чего только такие лягушечки получаются?
Чижова стояла молчала, и мы стояли молчали, оцепенев от неожиданности. Но тут выступила вперед Вика:
— А из чего делаются пельмени? — спросила она так, что мы все увидели — никакой наш Мишка Садко не Хозяин, а Пельмень. Из слегка расползающегося теста.
144
Так он и остался Пельменем, уехав тогда на такси. А мы о нем и не вспоминали.
Мы были счастливы свиданием с Городом. Вернулись в Город, и все оказалось на своих местах. Так же стояла Гора, и небо над ней было чуть розоватым от Вечного огня. Так же белели опорные стены, кругами обходившие Гору. Так же светились направо от нас витрины магазинов на главных улицах, и ту же музыку крутили в ресторане, хотя, казалось, какое нам до нее дело? У некоторых были диски поновее. И вывеска ресторана была та же: «Бригантина», только каштаны начинали опадать, ржавые, сухие листья, скребясь, прибивались к бордюрчику тротуара.
Так же влево от Города паслись курганы, их еще предстояло один за другим (на сто лет хватит) раскапывать моему отцу. Так же далеко справа ухало и стонало на Комбинате. Там спекали в «пирог» нашу руду в цехе, где работал отец Громова. Звуки Комбината легко и даже красиво долетали к нам по воде...
Но мы после совхоза приехали в тот же Город другими. Вместе с яблоками мы привезли из совхоза заслуженное чувство победы. А что? Мы ведь и действительно отхватили первое место в соревновании. Но не в этом заключалось главное, а в том, что с нами, как некий залог везения, была наша совершенно Классная Дама.
...А нам и вправду везло. Везло, везло, да вдруг застопорилось. Так я не только о себе могла сказать: Гром всех злил, Генка был несчастлив, Вика — в тревоге. Чижовы с Шунечкой — в зубрежке...
Что же касается меня, то я, какой уж вечер подряд, лежу возле мамы на тахте с книжкой в руке. И, так же как мама, делаю вид, что читаю. А на самом деле думаю о том, что мы с мамой вдруг оказались никому не нужны. Раньше мы нужны были отцу и по совместительству — всем. А теперь — никому.
Даже Вика от меня как-то отделилась. Поливанова я не видела со дня поездки на раскопки, Громов дружил с Шунечкой, которой теперь не к кому было приходить в наш дом. Если кто и мог заглянуть к нам, так это Генка. В поисках утешения. Но как хотите, нечто унизительное заключалось в том, как мы — потерпевшие, оставленные — сбивались в кучу.
Я лежала на нашей широченной тахте, гладила кошку Маргошку, смотрела в дальний угол и думала вот о чем. Совсем недавно в одной полунаучной книге, ходившей по классу, я прочла, что вроде бы каждый человек играет роль. Берет на себя роль и играет. У одного она почти совпадает с сущностью. У другого образуются большие «ножницы» между тем, что человек из себя представляет и что он же представляет.
Эта фраза мне самой очень понравилась, как только сложилась в голове еще не произнесенная. А мысль требовала проверки, вот я и стала отгадывать роли (или, как в этой книге еще говорилось, маски) всех подряд. Какую роль взяла, например, на себя Вика? И приближается ли она к своей роли как к идеалу? Не может быть,
145
чтоб широта, бесстрашие, размах моей мамы были признаками ее роли, а не сущности! Громов — кто он был для нас? Неформальный лидер? Впереди идущий или нигилист восьмидесятых — как сказала о нем бабушка?
А вот у Генки роли нет, он ее не придумал. Не надел хоть полумасочку, чтоб не выглядеть таким беззащитным дурачком в истории с Викой, да и вообще в любой истории, в которую попадал. Зачем, например, было признаваться, что родители любят его гораздо меньше шмоток?
— ...Ма,— сказала я в десятый раз за вечер.— Ма, ну что тебе стоит?
— А ты липучка-приставучка, Евгения. Вот ты кто.
— Ма, ты пойми, тут не обязательно дискредитация. Вон бабушка говорила: эта Попова, ну, героиня из дедушкиного десанта, она взяла на себя роль человека...
— Ну, ну, я тебя слушаю,— с неожиданным интересом мама подтолкнула меня под бок.— Ну, Женя, продолжай. Почему ты замолчала?
Она приподнялась на локте, заглядывая мне в лицо, сдувая волосы со лба. А я молчала, потому что в вечерней домашней тишине, когда даже кошка не мурлычет и телевизор выключен, представила себе десантную ночь. Вернее, десантные ночи и дни, все сорок. И девушку, молодую женщину, которая больше месяца играла роль человека, который просто не знает, не понимает, что такое страх. Пока ее не убили.
— Ты знаешь,— сказала я маме,— когда выносили раненых на берег — вдруг с Большой земли придут байды,— она при обстреле ложилась между носилками. Чтоб им, беспомощным, не было так страшно: «Галка с нами — не пропадем!» Ты знаешь об этом?
— Конечно, знаю, глупыш. И ты думаешь, такое можно сыграть? Попробуй.
Я не стала возражать, мне надо было самой разобраться. В комнате по-прежнему было тихо, только наша трехцветная кошка Мар- гошка поднялась и замурчала вопросительно. Кошка была безмятежная, вальяжная, глупая...
— Но ведь если страшно, а играют в бесстрашие, это еще ценнее? — спросила я у мамы наконец.
— Ну, ты меня совсем заморочишь со своей манерой копаться, Евгения.
— Ма, а ты вправду смелая или как?
Мама опять приподнялась, заглядывая мне в лицо. Наверное, подумала, что я каким-то образом сравниваю ее профессиональное бесстрашие с бесстрашием Галины Поповой. Но я не сравнивала, по крайней мере, сейчас.
Я занималась совсем другим. Я накладывала черты лица, рисунок бровей, глаз, рта нашей Классной Дамы Ларисы Борисовны на рас¬
146
плывчатую фотографию в музее. Сходилось. Хотя фотография в музее была ужасно не точная. Видно, ничего, кроме карточки в солдатской книжке, от Галины Поповой не осталось...
И еще легенда осталась. «Хлопцы! Здесь нет мин! — будто крикнула она и даже ногой притопнула, чтоб убедить бегущих следом.— За мной, хлопцы!» Она крикнула по существу то же самое, что мой дед. И сделала то же самое. Ее лицо с сияющими, не вместившимися под шапкой волосами все еще смотрело на меня сквозь брызги волн. Брызги, как слезы, стекали по ее щекам. Женщина, с которой не может случиться ничего плохого — вот что она играла там под обстрелом на Огненной Косе! В нее поверили с первых шагов атаки, и она уже не могла отказаться...
А какую роль в этом десанте играл мой дед? И какую роль взяла на себя моя бабушка, оставшаяся двадцатилетней вдовой? Хотела казаться сильнее, устойчивее, чем была на самом деле? Хотела стать еще и для других опорой?
Я повернулась на тахте так, чтоб видеть мамино лицо. Ее спокойное, немного усталое лицо, с глазами, глядящими поверх книги, не в потолок, а примерно на правую верхнюю полку стенки, уставленную кофейным сервизом из ФРГ.
А не станет ли теперь мама играть роль женщины, которая не боится одиночества? Потому что вон за тем углом, а не за тем, так за следующим ее ожидает интересная жизнь, и ей это точно известно. И кроме того, вполне можно обойтись, имея такую работу, такую дочь, такую квартиру с чешской неполированной стенкой...
И дальше все мысли пошли в том же роде. Стыдные, тяжелые мысли, ими не поделишься ни с одним человеком на земле. Если собрать все их воедино и вывести среднее арифметическое, получится: «Все люди хотят выглядеть лучше».— «Но некоторые идут на смерть, утверждая свой идеал. Нет разве, девочка?» — возразил мне из темноты голос, которому я совсем недавно верила.
«А другие пытаются присвоить себе их черты, пользуясь чисто внешним сходством».
«Еще месяц назад было бы тебе неприятно, если бы ты сообразила, что у твоей Классной Дамы и Галины одно лицо? Ну, вот видишь, значит, ты не объективна». Приходилось соглашаться, хоть и безо всякого энтузиазма.
— ...Мам, ну что тебе стоит?
— Только без бумажек. Устно.
— С бумажками интереснее. Гарантия есть.
— Три. Только трех определим и — спать.
Что ж, это, в конце концов, походило на игру. Есть такие игры. «Мнения» — например. Если бы в комнате стояла доска, я бы написала на ней: Лариса, Громов, Шполянская-младшая. А так я только произнесла эти имена, но широко, с росчерком и, вскочив с тахты, сунула в руки маме кусок бумаги и карандаш.
Сама я устроилась у письменного стола. Чего мне больше хоте¬
147
лось? Вычислить какую-то объективную истину? Высказать собственное мнение? Или отгадать, что напишет мама?
— Видишь ли, Женя, это все гораздо сложнее, чем ты представляешь,— сказала между тем мама, занося карандаш над бумагой, но все еще ни буквы не решаясь написать.— Жизнь не знает точных рамок и однозначных решений.
— Крой двузначными! — бодро разрешила я.
Мы с мамой обе долго сидели над чистыми листками, и обе разом принялись писать. А когда написали, можно было сравнить. По первому пункту у мамы стояло: «Деловая женщина. Суперменша». А у меня: «Со мной не может случиться ничего плохого». О Громе, вспоминая нашу поездку, я выдала: «Пройду первым!» У мамы шло по-другому: «Я доволен своим ростом». О Вике: «Солнышко» — это мама. А я: «Со мной весело». Я так написала, но в то же время могла дать честное слово: это не маска и не роль. Просто так Вика чувствует себя в жизни. Вика родилась для радости, как другой рождается для исторического подвига, а третий — для самоотверженности.
Объясню. Например, из долга, из патриотизма многие во время войны ходили по госпиталям. И там мыли полы, кормили с ложечки лежачих. И чувствовали себя нужными и даже важными людьми месяц, полгода, год. Но я уверена: залети на миг в любую тяжелую палату Вика, ее бы вспоминали дольше, чем моющих Чижовых.
«Как лучик»,— говорили бы о ней. А'что нам в трудный момент (им во всякий момент) нужно больше лучика?
И Генка влюбился в нее не зря. Он тоже понял, что Вика — солнышко. Но почему папа с бабушкой утверждают: «Изумительная эгоистка», «Умеет только брать»? Разве отдавать свои лучи — это мало? Скажете, лучи отдаются бессознательно и без ущерба для себя? То есть с одной стороны как бы отдаются, с другой — как бы все остаются при себе...
Ну что ж, считающим так я советую: попробуйте-ка стать лучезарными. Ну, как? Напрягитесь, еще напрягитесь! Улыбнитесь, излучайте. Не вышло? То-то!
Спросите лучше у Генки, каково оказаться в темноте...
— Мама,— стала я усиленно тереться лбом и носом о мамино плечо.— Ма, ты все равно не спишь, не читаешь, обсудим еще одного?
— Не хочу,— мама отмахнулась от меня даже с раздражением.— Хочу подумать о своей жизни.
— Твоя жизнь, моя жизнь — разве не одно целое?
— Ну и демагог же ты, Женечка. Кого же будем препарировать, упрямая дочь?
— Генку Длинного.
— Кого-кого? Неужели представляет интерес?
— Мы ж его не просто будем обсуждать, не как сплетницы. А с научной точки зрения. Какова взятая на себя роль и какова сущность субъекта, ставшего объектом нашего внимания,— сказала я, умильно заглядывая в лицо своей умной-благоразумной маме.
148
— Так уж и ставшего! — Мама сбросила мою руку, щекотавшую ей кончик длинной брови.
— Ставшего, ставшего,— подтвердила я, прижимая мамину голову к подушке.
— Но он же абсолютный сосуд, что нальешь, то и понесет,— засмеялась мама.— До чего же ты наивна, Женя. Всех тебе хочется дорисовывать до идеала.
— И плохое можно в Генку налить? — спросила я, представляя совершенно прозрачную вазу из какого-то особого стекла, вечно стоящую у бабушки на веранде.
— Давай спать,— сказала мама, пытаясь вытянуть из-под меня плед и вообще столкнуть меня с тахты.
— А бабушка любит, чтоб стебли и листья видны! — кричала я, сопротивляясь.— И ставит чаще всего траву.
— Что за бред? — Мама докатила меня до самого края, но остановилась, прислушиваясь к «бреду».
— Мы же договорились про роль или маску! — кричала я, сопротивляясь.
— Нет у него роли! — кричала мама.— Роль хвостика, тени. Слава богу, от Вики отклеился. Ирина рада, скажу я тебе, да и вообще — рано...
Я вспоминала, как сегодня утром увидела: когда Генка встретился взглядом с Викой, мелкие-мелкие капельки пота осели у него на лбу, ближе к волосам, и Генка принялся облизывать губы, будто сейчас, сию минуту ему начнут читать смертный приговор.
Но Вику я никак не собиралась винить: какое же могло быть сравнение — Генка и Поливанов! И вообще давно известно, еще с уроков Марты Ильиничны в восьмом: «Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона!» Заметьте, Пушкин говорит это не осуждая: стихия! Но Марта Ильинична, насколько я могу судить, имела другой взгляд. И всячески вбивала его нам в головы: долг, долг, долг. И материал для этого у нее тогда, надо сказать, был отличный: Маша Миронова, Татьяна Ларина — какие образцы!
Не знаю, захочется ли кому-нибудь из нас так уж следовать подобным образцам. Но одно я знаю точно: неудачу нечего выставлять напоказ! Хотя бы потому, что всегда найдется Пельмень, который растянет рот, хлопнет тебя по плечу, как хлопнул сегодня Генку: «Сам виноват! Таких девочек не за ручку водят. Таких девочек...» — Пельмень нагнулся к Генке, зашептал что-то деловито сочувствующее. Но у Генки лицо от его утешений стало как у больного.
— Мама! — окликнула я, тихонько принимаясь за прежнее.— Мамочка, моя умная-благоразумная, единственная! А какую бы роль ты выбрала для меня, если бы так уж нельзя было обойтись без роли? То есть без маски?
Глава XIII
Когда тебе очень плохо и все валится из рук, есть один способ прогнать тоску: вспоминать хорошие денечки. Что я и делала очень охотно. Память все время выносила меня к яблочным временам. И надо сказать, до самого декабря в классе еще пахло теми яблоками. Время от времени кто-нибудь приносил парочку, и всем казалось: это уже последние. Но потом Громов, например, вспоминал, что у них на балконе в дальнем углу должны были сохраниться. А еще через неделю Шунечка приносила больше десятка.
Мы ели их, не деля на части, откусывали от общего куска!
Увидели б это наши родители! Тем более что по городу шастал очередной грипп. Но мы согласны были только так: от общего. Бывает «трубка мира», бывает, оказывается, «яблоко мира», хотя больше известно — «яблоко раздора».
И Лариса наша тоже приносила яблоки и тоже откусывала от общего. Правда, мы заставлял^ ее сделать это первой и потом уже пустить по кругу. К тому времени рубашечку свою с погончиками, в которой работала на яблоках, она сменила на черный бархатный костюм и была в нем такая красивая! А волосы ее в те дни поздней осени стали светиться еще ярче и были такие солнечные...
А между тем уже шел первый снег, и мы с Викой шлепали в школу по сахарной его корочке, под которой была вода. Шлепали глупые, радостные, ничего еще не зная ни о Поливанове, ни о «гуляющем» и таком опасном золоте, ни вообще о том, куда приведут страсти и события будущей весны.
Помню, я поймала тогда снежинку на рукав и поднесла к Викиному носу:
— Смотри, какая красивая!
Снежинка лежала спокойно и одиноко. Снег шел, я очень хорошо это помню, редкий и каждую минуту грозил совсем перестать.
— Ну, прелесть! — Вика еще раз потрогала пальцем крохотное пятнышко, оставшееся от снежинки.—Совсем нейлоновая. Только непрочная.
Вика засмеялась неизвестно чему. Может быть, собственному сравнению?
И мы шли по городу, подставляя снежинкам лица. Они щекотно скользили по щекам, таяли на губах. Вдруг Вика предложила:
— Слушай, давай на базар? Купим яблок, а завтра скажем — те. А?
На базаре яблоки лежали небольшими кучками, и мы пошли вдоль ряда, выбирая похожие. А я еще придумала спрашивать: из какого хозяйства? Встреться нам кто-нибудь из «Приморского», получилось бы здорово: мы принесли бы в класс что-то вроде привета от тех людей, которые хоть нас в глаза не видели, но оказались связанными с нами полуродственной веревочкой. Ведь можно и так сказать: из-за них мы всю осень были счастливы особым счастьем объединения.
150
— Ну,— сказала тетка в пальто с норкой,— или берете, или идете, рассматривать меня нечего, из личного я хозяйства, из личного. Из какого еще?
Другая спросила:
— Ищете кого?
— Из «Приморского» знакомых,— сказала я.— Не встречали?
— Домой, что ли, яблок обещали завезти? Так это и мы можем. Только договориться.
— Нет, там сорт особый: «дружба народов» — не слыхали? — Вика столкнула к затылку ушанку и подставила теткам сразу все свое улыбающееся лицо.
И случилось то, что всегда случалось: тетки тоже заулыбались. Причем видно стало, как им надоело переругиваться, сводя губы, как рады они растянуть рты по-доброму.
— «Приморский», это который? Где Пименов, что ли?
— «Приморский» на выставки ездит, а мы — так. Но саженцы, между прочим, от них брали. «Джонатан» называется/
Мы взяли яблоки у тетки с «джонатаном», а когда ссыпали их в Викин портфель, стоящая сбоку старуха спросила:
— А почему у меня не взяли? У меня слаще будут и крупнее.
Но нам нужна была особая сладость, и мы ее получили сполна,
когда принесли яблоки в класс и сказали, что это, видно, уже и в самом деле последние, но оттуда. Из «Приморского».
Утро было раннее, и в классе еще горел свет, разгоняя декабрьские сумерки. Мы все собрались тогда на первых партах, возле учительского столика, и хрустели молча. На каждую, густо заселенную парту приходилось по яблоку. Мы на этот раз объединились с Громовым и Шурой Денисенко, а Классной Даме выделили самое румяное.
— А где вы их храните? — спросила Лариса.— Неужели на балконе?
— На балконе.— Вика вгрызалась в яблоко и объясняла: — Знаете, берете на почте большой бумажный мешок или в магазине картонный ящик и от снега — клеенкой. И — забываете. А потом в один прекрасный день наоборот — вспоминаете. И тут прямо в нос, пардон, в душу вам бьет ни с чем не сравнимый аромат «дружбы народов».
— «Джонатана»,— поправила Эльвира.
— «Дружба народов»,— назидательно повторила Вика, оглядывая совсем обглоданный огрызок, который должен был перейти к Громову.— «Дружба народов», девушка, сорт, который вы потребляете вот уже третий месяц, не догадываясь об этом.
— Догадываясь, догадываясь,— перебил ее Пельмень и надвинулся грудью: — Почем брала?
— То есть? — Вика прищурила на него глаза.
— А то и есть, что я вашу романтику базарную сколько наблюдаю, никак не пойму: ну, Денису, Грому — ладно, а тебе зачем врать?
— Она ведь хотела, мы все хотели...
Пельмень даже не оглянулся на Денисенко, а я рот раскрыла:
151
значит, не одни мы с Викой играли в эти дед-морозовские игры?
— Тебе зачем? — не унимался Пельмень, как будто и в самом деле хотел понять что-то важное.
— Для аромата,— ответила Вика и скучно вышла из круга.
— Нет, все-таки нельзя так прямо! Нельзя быть таким прагматистом, Садко. Нет!
Наша Классная оглядывала нас, ища поддержки. Но и Марта Ильинична тоже, между прочим, не нашлась, когда Пельмень к ней адресовался с вопросом о романтике.
— В жизни должно быть очарование,— начала она бодро, но споткнулась и как-то застеснялась. Потом еще сказала: — Даже у Пушкина есть: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Правда, сохранил ли он это убеждение до конца своих дней? Вот в чем вопрос.
— Но, Марта Ильинична! Нам до конца еще столько расти! — возопила Шунечка.— У нас же вообще еще ничего не было, кроме золотого детства! Зачем его отнимать?
— У тебя отнимешь!
Ничего особенно смешного не было в словах Мишки Садко, но мы грохнули.
Нам просто необходима была разрядка. И мы любили друг друга и этим смехом заявляли всем вокруг о своей любви. И еще я думаю: детство наше в декабре прошлого года действительно продолжалось. А теперь что ж? Юность сразу вот так и настала? Или взрослыми мы стали из-за того, что Вика полюбила Поливанова, от нас ушел отец, и, кроме того, я потеряла верные шансы на медаль?
...Все это в который раз я старалась понять, сидя в автобусе. Автобус же, не торопясь, трусил в дальние страны, то есть в поселок, где жила моя бабушка.
— Женя, где ты? — крикнула я, входя на пустую и темную веранду бабушкиного дома.— Женя, ау!
— Здесь я, в беседке, стою на лестнице, ввинчиваю лампочку.
Из сказанного ясно, что Женей, Евгенией, меня назвали действительно отнюдь не в честь несчастной мифической Ифигении, а в честь моей бабушки. И возможно, поэтому между нами была такая игра, будто мы в чем-то ровня. Будто я могу понять все, что бабушка. Будто бабушка может сделать все, что я. И наоборот.
В беседке, как я и предполагала, бабушка стояла на самом верху стремянки, там, где уже держаться не за что, и наверняка боялась... Ну, не случись меня, она бы как-нибудь уж слезла. Но старые — как малыши. Появилась я, и уже нужна рука помощи.
Я протянула руку, вскочив на стол и оттуда на первую ветку ореха.
Тут я рассмотрела, что на стремянку бабушка влезла в красном платье до полу. Платье это было мне хорошо известно и надевалось не обязательно по торжественным случаям (их было мало), чаще для поднятия настроения.
— Будем чай пить? — спросила бабушка, когда мы вернулись
152
на веранду. «И кого-нибудь ждать?» — спросила я саму себя,
«Кто-нибудь» мог быть мой отец, могла Марта Ильинична. «Кем- нибудь» могла оказаться и я собственной персоной, потому что бабушка и мне любила показывать, как надо держаться и какой она молодец.
— Скажи,— спросила я, как только мы уселись за круглый, большой стол на веранде.— Скажи мне, ты когда-нибудь тайком читала мои записки?
— Никогда не читала.
— А мама?
— А ты не находишь — об этом тактичнее спросить ее?
— Нахожу. Спрошу в свое время. А соответствует ли это высоким нравственным принципам?
— А что, собственно, случилось в доме? — несколько уклонилась бабушка.
— Вика мне доверила свои дневники. У нее в доме — обыск.
Тут бабушка вздрогнула и уставилась на меня.
— Обыск? — Бабушка смотрела на меня, вытаращив глаза, не в силах перевести дыхания.— Обыск?
— Ну да! Викина мама все вверх дном перерыла — ищет. И дневники в опасности.
Бабушка швырнула в меня тряпкой, которой только что вытирала клеенку, сказала слабым голосом:
— А если бы я заикой осталась?
— Так можно я у тебя перепрячу Викины секреты? Есть гарантия?
— Гарантия есть. Но я думаю, ты зря не доверяешь: нужны твоей маме Викины тайны! Да и какие там они могут быть?
— Моей маме нужны мои секреты. Но ты, я считаю, не полезешь?
— Правильно считаешь, Женя. Правильно. А где они сейчас, эти ваши секреты? Куда ты их спрятала?
153
Ох, куда только я не перепрятывала Викину боевую планшетку, в которой, тесно прижавшись друг к другу, лежало две общих толстенных тетради, завернутых в целлофан. Я давно заметила: даже письмо в одну страничку спрятать не просто и при том, что имеешь собственную комнату. Только подойдешь к «стенке», только возьмешь книгу, как начинает казаться: а завтра, после тяжелого рабочего дня, эту же книгу захочется перечитать маме или отцу.
И опасность тебя вроде подстерегает, прямо за плечами стоит, даже морозит немножко. И сам ты вроде преступника — скрываешь, прячешь улики. А они вовсе не улики, но слова, предназначенные для тебя одной.
— Так куда ты их спрятала?
— Сначала мы их закинули на антресоли в стенном шкафу. Сразу, как вернулись с Больших Камней. Представляешь, Вика и на раскопки их с собой таскала, во дела! А теперь держу за шкафом в планшетке. Вика просила не вынимать.
— А ты просто поставь планшетку возле стола. Между столом и тахтой и скажи: Викина.
— Як тебе лучше. Можно?
— Можно.
— Ну и прекрасно. О деле договорились, стало быть, приступим к главному: к разговорам о том, что у нас происходит в школе. И что с нами происходит не только в школе.
А что с нами происходило? Ничего особенного не происходило, но моя бабушка, тридцать лет проработавшая в школе, знавшая моих товарищей чуть не с пеленок, с интересом слушала и о самом обыкновенном. А тут все-таки не сплошь трудовые будни шли, кое-что перепадало интересное и не совсем понятное, что стоило обсудить с бабушкой. Например, она еще ничего не знала о том, как Лариса уговаривала Громова смотреть только вперед, побросав любимые черепки. И я принялась рассказывать.
— Черепки? — переспросила бабушка задумчиво.— Черепки... Ну что ж, Лариса совершенно права: вы поедете в совхоз все до одного человека, потому что есть дела насущные и есть терпящие...
— По-твоему, все, что делает отец...— начала я закипать, но вдруг остыла. Во-первых, бабушка знала о наших делах куда больше, чем я думала. А во-вторых, с кем спорить? Моя бабушка вела в школе ботанику, стало быть, для нее все, что росло, выкидывало колосья, давало плоды, было на первом месте... Остальное могло подождать, а листья, цветы, зерна не могли, они, послушать бабушку, чуть не кричали от нетерпения...
Сообразив, что спорить бесполезно, я принялась рассматривать потолок веранды: предстояла длинная лекция о чувстве долга. Между тем я ведь от совхоза и не отказывалась. Генкино «я люблю, чтоб все вместе» и во мне сидело.
Но бабушка молчала.
— Ба! — позвала я тогда хитрым и ласковым голосом.— Это с
154
кем же Лариса своими трудностями делилась? С тобой или с Мартой Ильиничной?
— С твоим отцом,— ответила бабушка быстро и опять более хмуро, чем требовали обстоятельства.
— С отцом? — Я почувствовала: голос у меня глупый, взгляд — глупый, и вообще вся я выгляжу не лучше Тони Чижовой на уроке математики у доски.
События поворачивались по-новому, и как-то по-новому в этом свете выглядела наша Классная Дама. Однако мне все еще не хотелось сдаваться, и я спросила:
— Она что, не понимает — Гром не бросит отца в такую минуту?
— Какая минута? Какая минута? — Бабушка вскинулась, будто не она первая когда-то сказала о тучах, сгущающихся над головой отца. Однако взрослые часто бывают непоследовательны.— Минута самая обыкновенная, как раз осот из земли лезет. Так что Громову нечего было отбояриваться от общей работы.
— Во-первых, у тебя неточная информация: он не в совхоз не хочет, а хочет в лагерь...
— Лагеря не будет до вашего возвращения! И мое мнение — пусть Володька не изображает из себя единственного защитника. Найдутся у отца и другие, которые...— Бабушка не закончила фразы: лицо у нее стало как-то таинственно и хорошо меняться, будто бабушка прислушивалась к чему-то дальнему.
Мне потребовалось немного времени, чтоб сообразить: бабушка прислушивается всего-навсего к собачьему лаю, который долетал сначала только с конца поселка, но постепенно приближался к нам.
Кто-то шел по улице свой, здешний. В честь кого-то лаяли собаки, передавая друг другу радостное известие: идет человек, который с ними разговаривает.
Шел мой отец. Я была рада увидеть отца. Возможно, на этот раз я приехала к бабушке ради встречи с ним. Но сама не знаю почему, я вдруг встала и ушла с веранды в темную комнату.
Бабушка же вышла навстречу отцу и, раньше чем он вошел в дверь, спросила:
— Застал?
— Застал, застал. В любой момент готов был назад повернуть, ноги не несли, а застал.
— Сказал? — В бабушкином голосе было то же самое, что и в мамином, когда она говорила с отцом: желание до конца убедиться, что отец не свернул, как он иногда сворачивал в последнюю минуту.
— Сказал! — Отец стал умываться, шумно отфыркиваясь, пуская воду брызжущей струей. Наверное, так ему было легче.— Сказал! А что услышал? Что я должен был услышать, по-твоему?
Еще не выходя на веранду, я знала: бабушка стоит над ним с полотенцем в руках, точно так же, как много раз она стояла надо мной.
Все так и было. Послышались мои шаги, отец поднял к бабушке
155
мокрое лицо, но не осекся, не замолчал. А как будто мое появление^ ничего не значило, спросил, вытираясь:
— Что она должна была мне ответить? Что визит мой и вопросы; мои унизительны! Что она, слава богу, сама знает, как справиться в! подобной ситуации.
Интересно, кто и по какому поводу разговаривал с моим отцом так? Кто?
— О, боже, старый дурак плетется объясняться! Да она меня за дверь едва не выставила! О каком взаимопонимании речь?
Да, о каком? Я оглянулась на бабушку: в этот момент, мне казалось, я отчетливо понимала, о чем идет разговор между бабушкой и отцом. Все-таки о лагере, о Ларисе-Борисе и Громе, думала я. Если бы я знала тогда, как я ошибалась от начала до конца!
Отец сидел, откинувшись на спинку стула, и лицо у него было маленькое и серое от усталости. Моему отцу очень не идет, когда у него усталое лицо.
— Женька в доме,— сказал отец, гладя себя по лицу моей ладошкой.— Маленький ребенок в доме, какая радость!
Глаз он так и не открывал, а снова и снова гладил себя по серым щекам, по серому лбу.
— Ребенок, длинный, глупый...
Тихо было на веранде, только в беседке сам себя подбадривал сверчок. Это был наш постоянный, очень старательный сверчок Жора.
— Женя, не рассказывала бабушке о наших чудесах? — спросил отец, тоже прислушиваясь к сверчку.— О наших находках и наших потерях?
— А какие, ты считаешь, были потери? — спросила я прокурорским голосом.
— О, совсем незначительные: лодыжка Громова! Зато находки — сплошные бананы и кокосы! — И опять в голосе отца прозвучала недоброжелательность.— Прекрасный ковбой, интригующий изысканное общество! Все, как в лучших домах Луизианы.
Отец фыркнул почти весело. А я съязвила:
— Тебе бы самому найти что-нибудь, хотя бы черепки от гидрии. А? Нет? Да! Громов вон на катере публично объяснялся в любви к черепкам. Ты не слышал?
— Представь, нет! — Отец опять опустил пепельные, какие-то даже больные веки и так, с закрытыми глазами, жевал.— Не удалось как-то, представь...
Многое же ему не удавалось в последнее время! Вдруг не удастся и наш лагерь отстоять, подумала я. И еще я думала: моей ладошкой он гладит себя по щеке, как бы утешаясь. А может быть, потому, что чувствует за собой вину?
Когда расходятся родители, будущее свое пытаешься представить по обрывкам фраз, по недомолвкам, по серой усталости или, наоборот, по злому оживлению их лиц.
Дорогие родители, вам кажется, вы ссоритесь между собой со¬
156
вершенно корректно, а вы гуляете, как сорвавшийся с прикола катер. Вас мотает, и вы разбиваете все, что попадается вам по пути. Причал? Давай в щепки причал! Байда? Давай байду! Живой человек? Налетай на живого человека! Правда, человек может нырнуть, спасаясь от острого бессмысленного носа...
Что я и делаю вот уже скоро полгода. Я то ныряю в свою школьную жизнь, то выныриваю в семейную. Где никто не пьет, никто никого не бьет, где просто перестало быть так, а сделалось эдак.
С такими мыслями я лежала в темноте и тишине, которую старательно перепиливал сверчок Жора. Лежала в своей комнате (отец переместился на веранду) и вспоминала... Я вспоминала, как мне всегда было хорошо в бабушкином доме, в котором раньше не водилось от меня тайн. А бабушкин немного шершавый, убеждающий голос вселял в меня ощущение безмятежного счастья. И еще того, что я защищена, защищена, защищена!
«Но как разом оборвалось и дома и в школе! — думала я.— Как быстро кончились те времена!» И все пыталась снова поднырнуть под их полог, примоститься в прошлом, чтоб хоть на минуту ощутить его былую радость. А радость заключалась в общей любви всех ко всем, которая и постоянно (как мне казалось теперь) присутствовала в моей жизни, а иногда еще с особой силой вроде циклона или сладкой эпидемии охватывала нашу семью, наш класс, наш археологический лагерь.
Глава XIV
А следующее утро началось с дождя. И что хуже всего, он не шел, не падал с неба быстро и весело, а мелкими каплями висел в воздухе. Я смотрела за окно и думала: на Откос наши сегодня, конечно, не пойдут, к Генке тоже, поскольку его Полезные Ископаемые еще на берегу. Соберемся, вернее всего, у Вики и примемся танцевать в промежутке между последним взглядом в билеты и разговорами о том, как кто собирается проводить лето. А дядя Витя станет заглядывать в комнату, приглашать Эльвиру и вообще делать вид, что мы здесь на равных, что могут они, взрослые, то и нам разрешено.
Но сестры Чижовы к Вике не пойдут, думала я, Генка тоже вряд ли там окажется, или Охан, например... И вдруг я почувствовала: мне самой идти к Вике не хочется...
Мне вообще вдруг никуда не захотелось из этого дома, от этого сада, где непременно под каким-нибудь кустом роз или ромашек уже возилась с цапкой в руках моя бабушка — Великий Работодатель. А стало быть, грозила опасность: и меня запрягут, велят (или уговорят?) пропалывать, рыхлить, собирать мусор, уносить, приносить. Однако я не почувствовала обычной в таких случаях тоски и тревоги. Зуда в ногах, собирающихся сбежать на вольную волю, тоже не было.
— Женя, умывайся,— позвала бабушка между тем с веранды,— будем завтракать. Отец уже уехал в город.
157
Отец уехал, и это сильно меняло настроение. Однако, уехав, должен же он был возвратиться, а пока было время завтракать, вырывать из земли сорняки, сгребать мусор, сидеть рядом с бабушкой над маленьким дымным костерком...
Мы сидели, каждая под своим плащом, но тесно прижавшись друг к другу плечами. Весь участок у нас был прибран, в костерке вместе с прошлогодними ветками дымно сгорела ранняя, уже пахнущая мокрой соломой трава.
Все в мире вокруг нас гляделось влажным, жемчужным, переливающимся и еще: мир был наполнен запахами, налит ими до краев. Произрастание шло прямо у нас на глазах, «огородный» дождь за уши тянул из земли растения: сорняки и те, что мы сажали своими руками.
Сжатый, младенческий лист огурца, на который мы с бабушкой смотрели, вел себя как предмет вполне одушевленный, даже шустрый. Вот он расправился, потянулся, разминаясь. Вот огляделся, и мы с бабушкой подтолкнули друг друга локтями, принимая его третьим в нашу компанию.
— Как все-таки по-разному Живут люди,— сказала в этот момент бабушка, что, согласитесь, никак не могло иметь отношения к огурцам.— Мы забавляемся, а мать Андрюши Охана с такого участка троих подняла...
Почему бабушка вспомнила Охана именно сейчас? Ведь о зажигалке и о том, что Андрей предпочел бы, чтоб ее продали, я так и не рассказала? Очевидно, бабушка просто, как всегда, сочла огород самым подходящим местом для своих поучительных бесед?
Что-то я должна была сейчас выслушать? Во всяком случае, мне показалось: я готова выслушать любое. В душе не чувствовалось сопротивления. Наоборот.
— Мать ведь у Марточки и его и сестричек оставляла,— сказала между тем бабушка, и я поняла: Андрюшка оказался только предлогом на дальних подступах.— Сама чуть ли не на третью смену за сутки, а их — к Марточке, без стеснения.
Тут следовало бы восхититься нашей Мартой Ильиничной и поддержать непринужденную беседу.
— Руки грязные,— сказала между тем я, показывая бабушке ладошки и собираясь к крану.
— Руки в земле.— Бабушка посмотрела на меня взглядом, останавливающим и очень похожим на взгляд отца, когда он, бывало, соберет силы открыто выразить неодобрение.— Руки в земле, а земля не бывает грязной, Женечка...
Мне не хотелось спорить с бабушкой, а захотелось уткнуться ей в колени, полежать лицом вниз, вдыхая с дымом костерка родной запах защищенности.
— Маленькие, даже когда уже не маленькие, любят приласкаться? — спросила бабушка и погладила меня по спине.
— Еще как! — я вжалась в нее лбом, носом, подбородком.— Еще как!
158
— Старенькие тоже...
Тогда я перевернулась и как-то само собой получилось — поцеловала бабушкину руку. В горле у меня что-то пискнуло и вроде соскочило со своего места, разлилось теплом.
Почему я поцеловала бабушкину руку? Потому ли, что все время помнила, какая она натруженная и сбитая, несмотря на все бабушкины старания? Или меня разжалобили сами эти старания? Длинные юбки, спортивные упражнения и подкрашенные русым волосы? Краска смывалась быстро, и мне становилось страшно смотреть на проступавшую седину, потому что не такая уж я была дурочка, хорошо понимала, чем кончается старосты
...Вот я поцеловала бабушкину руку и сказала:
— У тебя пальцы длинные. А когда короткие, я не люблю. Ты видела, какие у тех, кто в совхозе работает? Или у Марточки, например?
И тут я почувствовала: бабушка каменеет. И колени ее стали каменные, и в руке, гладившей меня, не осталось ни тепла, ни благодарности. И смотрела она так, как будто я заболела навсегда медленной, но губительной болезнью, и мне уже не помочь... Потом бабушка пошла готовить обед, сделала даже мои любимые пресные пышки с салом, но ничего уже не было между нами такого теплого, как у костерка.
Лучше она раскричалась бы или даже обвинила маму в моем неправильном воспитании. Но она сказала с грустью:
— С этих рук, запомни это навсегда, все начинается.
— С Марточкиных тоже? — неожиданно для себя хмыкнула я, расставляя тарелки.— Великая потребовалась ей сила — Андрюшке Охану сопли вытереть!
— И рубашку выстирать, и кашу сварить... А кстати, шапки вязать и на машине строчить вас тоже Марточка выучила.
Странные у бабушки какие-то оказались доводы в пользу нашей Марты. Как будто и не литературу она нам преподавала, а так, нашей нянькой была, что ли...
Мне захотелось сказать об этом, но я боялась, что бабушка еще дальше отодвинется от меня, и я повернула разговор в другую сторону.
— Послушай,— сказала я.— А Лариса тоже, как ты и Марточка, понимает, что важно, что насущно, что подождет? Или потому суетится насчет совхоза, что Классная Дама?..
— Я вижу, ее доблести обесцениваются так же быстро, как Марточкины? — Бабушка спросила это голосом, не обещавшим легкого и быстрого конца разговора.— Чем же это такая Классная Дама, не чета Марте, на вас не угодила? Деятельна без сантиментов, предмет знает, собой хороша, что еще? Я замечаю с некоторых пор...
— Знаешь, как в жизни? — перебила я бабушку занудно, будто это она была младшая.— Знаешь как? Одни тебя любят, другие — то, что о тебе навоображали... Одним сегодня ты нужна, завтра — другая. Все течет, все меняется. Нормально.
— Ты так считаешь? — спросила бабушка с сомнением.
159
Я так не считала. То есть я знала: так бывает. Ушел же отец, поменяла же Вика Генку. Так бывает, но так не должно быть.
— А не находишь ли ты, Женечка, что тот, кто выдумал человека, как ты говоришь, навоображал, уже несет за него, придуманного, ответственность?
— Как это? — Я повернулась и в упор уставилась на бабушку.— В каком смысле? Обязан, что ли, дотягивать до идеала? За уши? Или за ручку?
Я, надо сказать, не сразу поняла, куда бабушка клонит не только последними своими вопросами, но и всем разговором. Думаете, снова она пыталась Марточку на пьедестал втащить? Как бы не так! Моя бабушка защищала от нас Ларису-Борису!
У меня были другие счеты... Но вот что интересно: я не почувствовала абсолютно никакой боли за себя. И месяца не прошло с тех пор, как я услышала тот разговор в учительской, но время было наполнено событиями, мыслями о Поливанове и моем отце, о Громове и Длинном Генке, о Пельмене и Викиных тайнах. Кроме того, время было наполнено красотой и соблазнами: свечками цветущих каштанов, маленькими, бойкими волнами возле дальнего причала, голубыми ракушками, ночной тишиной в доме бабушки... Одним словом, злость моя вылиняла, выдохлась, почти испарилась!
Но сказала я о Ларисе все-таки не очень-то добро:
— Нет, тебе надо было самой послушать, как она Громова перетягивала на свою сторону! А вчера отца за дверь выставила. Зачем только он к ней бегал? Гром и так его не бросит.
Лицо у бабушки вытянулось, рука начала движение — от стола до моего лба — постучать или намекнуть на температуру.
— Вчера? К Ларисе Борисовне? Ты бредишь, Евгения!
Не хотела ли она этим окриком от меня отделаться? И я спросила с видом человека, не намеренного отступать:
— Не к Ларисе? Тогда к кому же?
Бабушкина рука опять приподнялась и опять опустилась на стол, побарабанив нерешительно пальцами.
— Мало ли у отца дел,— сказала бабушка.— Мало ли дел, Женечка! — Бабушка глянула на меня, будто проверяла мои умственные способности.— Будем говорить прямо, Женечка. Жизнь сложнее, чем вы ее рисуете в своем воображении не без нашей с Марточкой помощи. Будем говорить прямо: Шполянская — ты не знаешь — занимается частной практикой...
Отчего же? Я знала, но не собиралась волноваться по этому поводу. Искусственные челюсти скалились у Шполянских из каждого кухонного шкафчика; и дурак бы догадался, что это значит...
— Она имеет дело с золотом, что, между прочим, запрещается законом. И рано или поздно золото, которое ходит по городу, должно было постучаться в ее двери...
— Постучалось? — спросила я о главном, перебивая стесненное бабушкино бормотание.
160
— Во всяком случае, она этот факт отрицает.
— А отец?
— Отец хотел, чтоб Ирина Шполянская как-то вошла в контакт со следователем. Ты ведь отлично знаешь, чего он боится. Золото, как таковое, его не волнует, на то есть милиция, прокуратура, не знаю, кто там еще! Он боится...
Я знала, чего он боится. Это был вечный страх. Я думаю, точно таким же страхом болел сам Стемпковский. Возможно, Шунечка и Гром понимали в этом страхе больше меня. Но и я не такая уж была дура, тоже кое-что чувствовала. Вот и сейчас я подняла руку и держала так, будто на ней стояла плоская чаша-фиал, по краю которой, расстелив гривы, скакали крепкие, низкорослые скифские кони. А может, гребень лежал у меня на ладони. Гребень с золотой фигуркой лани, козочки, аккуратно уместившейся в полукруглом пространстве ободка?
Я вздохнула от жалости к этой лани. Или к девочке Ифигении? К собственному отцу? Я вздохнула от сочувствия к его страху, как бы копатели не уничтожили главное, оставив просто комок блестящего металла. На который многое можно купить, но далеко не все. Ах, далеко не все, как не устают утверждать бабушка, мой отец, Марта Ильинична и многие другие...
— А Лариса кричала — нельзя жить черепками...— Я опять и как бы против своей воли возвращалась к разговору на кораблике.
— Нельзя,— согласилась с Ларисой и бабушка.— Но и без черепков нельзя... Человек не для того высвободил время, чтоб...
— ...завалить его шмотьем! — подхватила я любимое высказывание отца.— А чем надо заваливать?
Я смотрела в бабушкины глаза честно, никакой иронии или юмора в моих словах не заключалось.
— Почему — заваливать? Чтоб убить? Да что оно тебе, тарантул в норе, что ли? Пусть живет свободное время...
Смешно, но это говорила моя бабушка, Великий Работодатель! Она повела взглядом, приглашая и меня рассмотреть, как свободное время гуляло по саду. С утра оно висело в воздухе вместе с «огородным» дождем, а сейчас из дальних синих туч падало параллельными, под линеечку, лучами предзакатного солнца. Свободное время будило мысли и не торопило слова. Бабушка хотела, чтоб в свободное время я разобралась в своих отношениях с Марточкой и Ларисой-Борисой, а мама чтоб занималась английским...
А я сама?
Охотнее всего свободное время я провела бы на берегу у самых волн, расчесывая волосы гребешком с ланью. И чтоб гребешок оказался находкой моего отца, равной давним находкам Стемпковского...
Не так-то уж просто обстояло со свободным временем. И разговор о важном и насущном имел ко всему этому какое-то неуловимое отношение.
Я сидела на веранде, отвернувшись от бабушки, смотрела в сад.
6 Школьные годы. Вып. 3
161
Мне хотелось, просто необходимо было побыть наедине со своими мыслями. Со своей обидой за отца, которую я еще не могла ясно разглядеть, а тем более объяснить самой себе. Все: рабочие там, в «Приморском» и других совхозах, и у нас в цехах, Марточка, мать Андрея и моя собственная, с ее умением штопать «черепки», Лариса, Сабуров Г. И., Генкины уплывающие в Атлантику родители, Шпо- лянская-старшая, отливающая челюсти,— решительно все занимались насущным. А отец, выходит, один ковырялся в том, что может подождать... И это накладывало на него какой-то отпечаток. Не совсем серьезным он представал перед всеми, что ли?
Вот такой выдался день — последний воскресный перед моим экзаменом устной математики, ничего общего не имеющим с испытаниями, какие ждали нас всех, уже маячили, почти не различимые за порогом...
Глава XV
Слухи по школе ползли уже давно. И как я понимаю теперь, дошли они и до бабушки. Так что в день «огородного» дождя и костерка разговоры о Марте Ильиничне и Андрюшке затеяны были бабушкой не так-то уж бесхитростно. Очень даже хитренько они затеялись, чтоб организовать общественное мнение, перебить то, что тянулось по школе: «Ах, ох, какой ужас, слышали? Этот из девятого «Б» шьет штаны за большие деньги? Пятнадцать рэ берет».
«Правда ли? Правда ли? Правда ли?» — спрашивали друг друга мамы, бабушки, учителя и ученики старших классов. Мы не спрашивали, мы знали: шьет. Не такие фирмовые, как на Поливанове и Эльвире, но шьет.
«Охан, поставь на очередь»,— просила я, просцла Вика, как будто шутя, но в то же время совершенно серьезно.
А вот как мы станем передавать ему из рук в руки десятки, этого мы не представляли, новое все-таки было дело. «Ничего,— решила Вика,— билетами откупимся. Когда театры приедут. Или филармония».— «Нужна Охану филармония...» — «Ну, ничего: диски достанем. Их на что хочешь обменять можно. Разберемся».
Разбираться не пришлось, потому что мама достала белые фирменные брюки мне и Вике через Эльвирину маму. Одни (мои) предназначались Эльвире, да оказались малы, другие кто-то тоже привез своей дочери из загранки, а она за время рейса, как это часто случается, подросла на два размера. Здорово!
Штаны стоили само собой не двадцать рэ, не тридцать и даже не сорок.
— Ну,— сказала мама,— каких теперь еще бананов и кокосов нашей дочери не хватает? — и посмотрела на меня так, что я поняла: нисколько она не злится на расход, сама рада — брюки мне идут.
Однако настроение мне чуть не испортила Марта Ильинична, когда подошла и спросила:
162
— Неужели тоже — Оханов? — Застенчиво, как тургеневская девушка, она бросила взгяд на мои туго обтянутые ляжки.
— Нет,— сказала я.— Бельгия. Там сзади написано.
Хорошо, что не добавила: «Читать надо».
— А у Вики?
— Та же фирма.
Я даже фыркнула, до того наивно Марта Ильинична недооценивала наши возможности и переоценивала возможности Андрея. Но потом ко мне подошла с тем же вопросом сама Лариса Борисовна. Правда, и тут я подумала: «Достать не может, хочет попросить Охана сшить». Но ползли слухи: «...и своим одноклассникам и девчонкам из П ГУ!», «Матери правы, конечно: такие деньги!», «А почему не научить девчонок обслуживать себя?», «Да, да. Но он ведь ребенок, ученик!»
Ай, ай, ай! Какой поднялся шум! Лариса Борисовна ходила озабоченная, за столом вертела карандашик, как будто собиралась, да не решалась о чем-то спросить. Даже лоб ее не казался уже таким ясным и гладким. Я ее понимала: неприятности с Оханом — это были неприятности с классом. А неприятности с классом перерастали в неприятности ее личной жизни...
И наконец наша Дама решилась. Оставила класс после уроков, посмотрела на нас огорченно и сказала:
— За один день до последнего звонка не стоило бы об этом, но с меня требуют, поймите меня правильно. Вы догадываетесь, о чем будет разговор. Нет? Да.
Мы догадывались. Но легкая зыбь, пробежавшая по классу, была всего-навсего зыбью любопытства: а как дела пойдут дальше? Только сестры Чижовы зябко придвинулись друг к другу, срослись плечами.
— Я надеюсь, вы понимаете, насколько это серьезно. Да? Нет, нет, вы переоцениваете свое положение в школе. Положение ведущего класса. Или недооцениваете? — Лариса Борисовна приставила карандаш к носу и посмотрела на нас в полной задумчивости.
И тут выскочил, возник Гром, стал как будто даже выше ростом. Я давно уже не слыхала, чтоб с таким удовольствием прокатывал он по классу свой прокурорский бас:
— Нельзя же так, честное слово, лишь бы флажки не задеть. Это же не слалом, чтоб шарахаться: слева — опасность, справа — ЧП! Что происходит? Может мне кто-нибудь объяснить, что особенного происходит?
Тут он замолчал, оглядываясь, будто и вправду ждал объяснений. И замер, скрестив руки на груди, откинув голову. Большое лицо его плыло над классом, уголок верхней губы твердо лежал на нижней.
Лариса Борисовна как-то нерешительно смотрела теперь уже на него одного. А потом спросила негромко и доверительно, поверив, наверное, что Громову известна истина в последней инстанции:
— Ты считаешь, ничего особенного и этично, когда ученик за деньги шьет брюки своему товарищу?
— Мне, положим, он сшил безо всяких грошей,— поморщился
163
Володька.— Я ему весной огород помогал перекопать. Так что не будем делать из мухи слона. Обузил он кому-нибудь? Не той ниткой прострочил? Взял больше, чем в ателье?
— В ателье те же пятнадцать, правда, правда! — Вика смотрела на Ларису успокаивающими глазами.— Только очередь в месяц и, честное слово, хуже, Лариса Борисовна.
— Да? Нет! — Лариса все-таки хлопнула рукой по столу.— Нет. С толку вы меня не собьете. Давайте думать, что тут не так и почему нас обвиняют? Думайте, думайте, я прошу. А?
Она потерла себе виски, тоже напрягаясь; у нее было два выхода. Первый — отфутболить вопрос, ответить: «Меры приняты». Второй — вызвать нас всех на откровенный разговор. Стало бы ясно: никто к Охану не относится хуже, а тем более с осуждением после известия о брюках. Почему? Может, потому, что никогда наш маленький жилистый Охан и без того не ходил в романтических героях. А может, еще и потому, что Пельмень, например, давал за трешник списывать на пленку шлягеры, о чем, слава богу, учителям ничего не было известно.
— Нет,— говорила между тем Лариса, стараясь вывести нас на свою дорожку.—> Я вас поймаю на слове: существует еще бескорыстие и в наши дни. Вон за какие копейки вы работаете на раскопках. А?
— Так то по привычке, еще с пятого класса втянулись, а с рабочими — напряженка,— подпрыгнула Шунечка Денисенко.
— А ты, Громов, а ты? — Лариса так уперлась в него голосом, глазами, что Володька встал.— Вот ты ответь: почему ты не соглашался на бригадирство в совхозе, когда я тебя уговаривала? Хотя там можно заработать прилично при твоем умении... Нет?
— Потому что мне, как уже было сказано, интересны черепки. А в брюках какой интерес? Требуется материальная компенсация.
И тут я увидела, как в скуластом темном лице Охана что-то напряглось, но потом он встряхнул головой и снова глядел спокойно, как всегда.
— Мне брюки — интересно,— сказал Охан.— Мне — да.
— Да? — Лариса посмотрела на Андрея с недоумением, как будто это вообще не его было дело: открывать рот, вступать в объяснения.— Нет, должен же быть какой-то другой интерес в работе? Не один прагматизм?
— Должен! — хором крикнули мы, совершенно не сговариваясь, просто зная, чего от нас ждут.— Должны быть светлые идеалы добра и справедливости, а не одни бананы и кокосы...
— Помолчи, Камчадалова! Да, должен, вон твой отец в столице мог бы, а он...
— Ищет золото,— страшным шепотом подхватила я, приставив ладошки ко рту.
Неужели наша Классная не понимала: мы хотим перевести все на шутку и удрать из класса, мы просто не в состоянии сегодня серьезно разбирать эту проблему, которая для нас вовсе не проблема и, уж во
164
всяком случае, не новость? Ну шьет и шьет. Но тут я оглянулась на Охана и поняла: вот еще человек, совсем не расположенный шутить вместе с нами. Лицо Охана только казалось спокойным, но губы все время начинали, да так и не выговаривали ни одного слова.
— Не хочешь же ты сказать,— обратилась к нему Лариса,— что определился на всю жизнь и будешь шить?
— Хочу.
— Нет? Ты же можешь в институт? Да?
— Нет. В институт меня не манит.
Лариса смотрела на него, как на только что встреченного,— с опаской. А класс забавлялся считалочкой или скакалочкой, какая у них получилась: «Да?», «Нет?», «Нет?», «Да!». Но в какой-то момент стало тихо и тяжело. Возможно, потому, что обида Охана вполне ощутимо плавала в воздухе, резвиться нам вдруг расхотелось.
— Интересно,— завела неожиданно Шуня Денисенко,— интересно, когда он берет за работу пятнадцать рэ, считается — безнравственно. А когда нам родители покупают за сотню — очень даже нравственно. Все рады и поздравляют. Ярлык, что ли, действует?
— Бедный Денискин! Тебе ярлык не грозит,— отмахнулась Эль- ка,— твои и к выпускному не раскошелятся.
— Уже! — засмеялась Шунечка и шейку вытянула, чтоб все видели ее радость.— Купили, финские. Прямо по госцене.
— По госцене? — полюбопытствовал Пельмень.— Теперь как по госцене: ты мне брюки, я тебе диски, а чтоб за спасибо...
Тут Мишка закрутил головой с сомнением и произнес свое любимое:
— Лучше маленький трояк, чем большое спасибо, в наше время многие так считают.
Умненько работал Пельмень! И лозунг свой выдвинул и вроде отодвинул его от себя: классный час все же шел, не посиделки под Откосом. К тому же отстраненно истина эта выглядела как-то объективней, что ли. Но Лариса-Бориса и в такой форме восприняла ее чуть ли не с ужасом. Нет, все-таки она была очень молодая, наша Классная Дама. Она была почти такая же, как мы, и тоже не знала многих ответов. И тоже, я подозреваю, ей хотелось легких.
И тут вступила Оля Чижова:
— Хорошо рассуждать тем, у кого отец приносит двести пятьдесят да мать двести. А если вся семья на сто сорок?
— На сто сорок не бывает,— залопотал Генка.— Как на сто сорок?
— Помолчи, выставка! — Оля замахнулась на него хуже, чем на муху.— Конечно, не бывает. Тогда появляются дополнительные доходы: кто брюки шьет, кто две смены берет, а кто как...
Чем-то таким взрослым запахло в классе. Чем-то таким, что не должно было бы ни омрачать, ни озадачивать наше беззаботное детство. Позвольте, а разве оно все еще продолжалось?
У кого-то не хватает денег? Улетает в Нижневартовск отец?
165
Болеет мать? И четверо теснятся на двадцати метрах? Ерунда: поставь-ка этот диск, длинный-длинный, красивый-красивый Геночка! Современные ритмы и не таким, как ты, забьют мозги.
— А если кто почувствовал, что может не тянуть с матери...— опять вступила Денисенко, которая, как известно, не умела остановиться вовремя.— Нет, правда? Ну, чего вы смеетесь? Почему самому шить — плохо, а выплакивать у матери — хорошо? И мы ведь не знаем, куда у него эти деньги пошли? На какие цацки? Ты скажи, Охан. Как зарабатывает человек, мы поняли. Теперь надо узнать, как тратит. Получается социологическая характеристика.
— Балдеж! — завопил Пельмень со своей парты.— Денисенко станет нас по графам расставлять!
— Не стану,— успокоила Шуня ласковым голоском, в котором, однако, по-моему, была большая порция сильно действующего яда.— Тем более твоя графа, Хозяин Жизни, мне известна. А вот Андрей пусть скажет.
— Как же! Он скажет,— опять заскрипела Ольга.
Она так редко говорила о чем-нибудь, что было дальше заданной страницы. Казалось: сам голос ее не может приспособиться к нужному тону, когда речь идет о постороннем.
— Он не скажет, потому что деньги на простое — стыдно. На роскошь, здесь Шура говорила, не стыдно. Я говорю — на роскошь похвастать даже можно, вон какой — беру и швыряю на «тачку» или что там... А матери отдать для Нинки и Зинки на ботинки — стыдно!
Оля замолчала, да и я на минутку отвлеклась, глядя на Генку. К суровой действительности меня вернул голос Денисенко Александры. Как звук набатного колокола над классом неслось: «Мама сказала! Мама сказала! Мама сказала!» Очень жаль, что я пропустила начало, но и так было ясно: Шунечкина мама считала — ничем хорошим не кончится то, что дети не знают, что такое добывать хлеб. И добывать рубль.
Шунечка, цитируя маму, рукой рубила воздух, а кроме того, она излучала токи высокой частоты! От нее отходили магнитные силовые линии и сыпались синие искры.
Все смотрели на Шунечку, а она росла над партой и все говорила, говорила, говорила...
— Марат! — крикнула Вика в полном восторге от Шунечкиного рвения.— Нет, Робеспьер! Нет, конечно, конечно же, друг народа — Марат. Нет? Да!
— Бедный Денискин! — удивилась Эльвира.— Твоя мама считает, голод, что ли, должен быть? Чтоб ты еще похудела до посинения или как?
— Или как! — рявкнул за Шунечку Громов и повертел пальцем, намекая на Эльвирины способности.
— А как? — не унималась Эльвира.— Как? Все будет искусственно, папа говорит. Раз есть благосостояние, он говорит, детство будет длинное. У тебя, например, до пенсии, Денискин...
166
Хорошо, что она ввернула эту пенсию, хорошо, что у нас тут
появилась вполне законная возможность грохнуть на всю школу.
Ничего такого особого Эльвира, конечно, не сообщила; Родители
попрекают нас пенсией, по-моему, класса с пятого. Смешным казался
контраст между Шунечкиным кипением и Эльвириной рукой, спо¬
койно, как в замедленной съемке, раскладывающей по плечам чер¬
но-лаковые, знакомые с химией кудри.
И тут Вика совсем нечаянно повернула спор.
— Нет, я не понимаю, зачем нужна была реклама: фирма Охан
и К° берет заказы на дом? Не мог ты, Андрюшка, без рекламы, чтоб
теперь всему классу не краснеть?
— Вика, Вика, что ты говоришь?
— Хватит, он осознал, мы идем на Откос...
— Лучше бы те краснели, у кого золото прилипает к рукам, а они
строят из себя.
Это сказал, конечно, Пельмень, и вопрос его лучше всего было бы
пропустить мимо ушей. Но...
— У кого золото прилипает к рукам? — растерянно переспросила
Лариса и сделала ошибку.
— Те, которые им обвешаны. А также некоторые кандидаты в
медалисты, которые долго еще собираются...
Вика теперь сидела, независимо наматывая на руку свои цепочки
и, кажется, немного покраснев, меня же вообще не было — за секунду
осталась точка. А в ней скрестились взгляды всего класса. Да что там
класса — весь мир готовился пустить мне такое у-лю-лю!
— ...которые долго еще собираются играть в песочек,— договорил
Пельмень.
— В какой песочек? — совсем растерялась Лариса Борисовна.
— В котором некоторые находят разные цацки. Знаете, в таком
золотом-золотом песочке у Больших Камней много цацок.
Он говорил свое почти радостно, и для пущей наглости даже
подмигнул неизвестно кому, но лицо его при этом надувалось и
мрачнело все больше.
— Нет, на что же ты намекаешь? — понеслась на него Лари¬
са.— Нет, ты понимаешь, что говоришь? Зачем тебе это? А?
Она хотела подобрать выскользнувшие из прически волосы, руки
у нее были заняты, и оттого она казалась незащищенной.
— Ты знаешь, что за клевету тебя могут привлечь? — спрашивала
Лариса дальше, уж не знаю, за кого заступаясь: за моего отца или
за честь класса?
— Вот дает! — подскочил между тем совершенно неожиданно
Генка.— Ну, Мишка, ну зачем на Полезных Ископаемых бочку ка¬
тить? А Женьку я лично не дам...
— Может, выйдем,— еще раз подмигнул Пельмень, теперь уже
Генке.— Там посмотрим, кто кому паст.
— Конечно, в'лйдем.— Это Г г-омов ответил, прокатил по классу
пой бас.— Я тебе еще за прошлое недовесил, сейчас получишь.
167
— Сядь, Громов,— попросила Лариса,— Садко после классного часа со мной будет разговаривать, не с тобой. И ты, Геннадий, садись. В создавшейся ситуации не хватает только драки.
Ну, она была святая простота, если думала, что разговор с Пельменем может к чему-нибудь привести. Взгляд он, что ли, должен свой изменить и поверить, например, в честность моего отца?
Но может, он и так не верил в то, о чем говорил? Может, ему захотелось просто сделать больно? А мне было очень больно. Я вся сжалась даже, и одна мысль была: как бы не разреветься.
А почему у меня не появилась мысль встать и сказать что-нибудь в защиту собственного отца? Наверное, потому, что за это сразу взялся Громов.
— У Алексея Васильевича есть идеалы,— сказал он, стоя почти спиной к Пельменю.— А у тебя — только зависть. И злость, если гидрия окажется пустой, бе$ золота. Но тебе зачем золото? Чтоб уже не ты завидовал, а тебе завидовали. Алексей Васильевич не золото ищет. Он ищет красоту, восстанавливает древнюю жизнь. Лучшее,от нее. Только тебе этого не понять. Ты как бы хотел? Все, что к вам во двор не вместится, вообще уничтожить... Чтоб уж точно — никому, если не тебе.
Громов прекрасно говорил свою прекрасную речь, лицо Мишки Пельменя все больше становилось похожим на кусок сырого, сероватого теста, а я все сидела у окна, удивляясь собственному оцепенелому молчанию.
Глава XVI
Мы вышли из школы и увидели: со стороны моря все небо быстро затягивают низкие грозовые тучи. Они надвигались одна на другую, и Коса уже была во мгле, а над курганами сверкали и заваливались за край земли беззвучные молнии. Но все равно я решила ехать к бабушке. В пустой дом мне не хотелось, а мама оставалась сегодня на дежурство.
По школьному двору мы шли все отдельно друг от друга и нахохлившись, а рядом с нами и обгоняя нас злобно, тоже как поссорившийся со всеми на свете, шнырял ветер. Он поднимал бумажки и сметал мелкие камешки, а также бело-розово-желтые лепестки каштанов.
«Как странно,— подумала я,— уже отцвели...»
— Ну, ты зеленая, Женька, ну, зеленая,— сказал Генка, догоняя меня и заглядывая в лицо.— Я думал, тебя из класса выносить будут.
— Вперед ногами? — спросила я не так чтоб ласково.
— Давай я тебя провожу. Ты к Евгении Ивановне? — Не спрашивая согласия, он схватил меня за локоть и пошел, загораживая меня от ветра.
Ничего из этого, конечно, не получилось. Ветер бил по ногам злыми струями, смешанными с песком, рвал платье и волосы. На
168
другой стороне улицы пятилась спиною Шура Денисенко, и ветер поднял, поставил над головой веером все ее прямые, тяжёлые, блестящие волосы. Шура размахивала руками, все еще пытаясь, наверное, с помощью Грома вывести формулу справедливости.
А Гром молча, нагнув голову, продирался сквозь ветер, как сквозь заросли, в руках у него было два портфеля. И он тоже шел с наветренной стороны.
Они помахали нам с Генкой и скрылись за углом, и на душе у меня осталась тяжесть: я вроде бы ждала большего от Громова. Чего же? Может быть, я хотела, чтоб он подрался с Пельменем не только на словах? Или пошел с Ларисой, объясняя, в чем она не права? Понемножку мне хотелось и того, и другого, и третьего. Я ждала от Грома решений. Но он скрылся за углом, и к автобусной остановке мы поплелись вдвоем с Генкой.
...Оказывается, никакого дождя на Косе еще не было, но ветер дул так, что по улице валялись оторванные от деревьев довольно большие ветки. А сами деревья, не успевая выпрямиться, стояли, покорно подставив согнутые спины. Как только мы попали в поток ветра, дующего с холмов вдоль улицы, нас почти понесло. Наша цель и задача теперь была: долететь до бабушкиной калитки, не влипнув в чей-нибудь чужой забор.
Возможно, в другое время мне бы это даже понравилось — пустая, начисто подметенная улица, и мы с Генкой то перебегаем на цыпочках, то спинами ложимся на тугую волну, и она почти не прогибается, держит, подталкивает.
— Я этот циклон назову в твою честь — Евгения! — кричал мне Генка, отплевываясь от ветра.
— А именем Вики не подходит?
— А именем Вики не подходит!
Мне показалось, Генка крепче прижал меня к своему боку. В голосе его не слышалось абсолютно никакой печали.
Я подняла глаза. И в лице Генкином, впервые за две недели, печали тоже не наблюдалось. Оно было сосредоточенно, и только.
Мы вошли в дом, когда бабушка забивала молотком последний
шпингалет большого окна на веранде. Но стекла все равно звенели и даже выгибались; рамы ерзали, готовые рвануться наружу; вообще весь дом был напряжен и терял силы.
А у него было не очень-то много сил, у бабушкиного дома.
На веранде сидела Марта Ильинична и, как мы скоро поняли, ждала нас.
— Ну как, высекли моего Андрюшу? — спросила она довольно неприветливо.— Отвели душу?
Секунда, вторая, третья, а может, десятая прошла, прежде чем мы с Генкой разом зашевелились, соображая, в чем дело. Всю дорогу мы молчали, но думали оба одинаково о Мишке Садко, по прозвищу Пельмень, и о моем отце. А сейчас даже не могли сказать, а чем, собственно, кончилось обсуждение охановских доблестей?
169
— Кто-нибудь за него заступился? Нашелся хоть один?
— Я тебе, Марта, два часа говорю: надо было ехать самой,
формировать общественное мнение.
— Если бы я не была три года у них классным руководителем,
поехала бы. Это я тебе тоже два часа повторяю. А не поехала, потому
что уж больно они ревнивые — молодые Классные Дамы,— сказала
Марта Ильинична, глядя на бабушку с усмешкой.— Ты же сама
должна помнить.
Бабушка ничего не ответила, только побарабанила пальцами по
столу, как она всегда делала, когда не одобряла собеседника.
Марта Ильинична на это не обратила внимания и добавила:
— А потом, класс так хотел самостоятельности. У них там в
совхозе на меня выработалось что-то вроде идеосинкразии.
— Вздор какой! — Бабушка надулась сердито.— Вздор.
Но Марта смотрела на нас с Генкой в упор, и мы-то все трое
понимали: совсем не вздор.
— С Оханом ничего страшного не произошло,— утешила я
наконец Марту Ильиничну и шлепнулась на диван, чувствуя, что силы
из меня ушли начисто. Может быть, в борьбе с ветром? — С Оханом,
кроме сотрясения воздуха,— ничего. А вот на отца Мишка такую
бочку покатил...
— На своего? — спросила бабушка, недоверчиво поднимая брови.
— На моего.
— Это еще что за штучки? — В голосе бабушки явно проступили
нотки недавнего и свирепого классного руководителя.
— Штучки не новые — насчет золота, будто его нашли у Больших
Камней. Будто отец нашел.
— Сплетни! — крикнула Марта Ильинична, и лицо ее отвердело
еще больше.
— Разумеется, сплетни. Но в какой мере эти дурацкие сплетни
должны волновать порядочного человека? — вздохнула бабушка.
— Я знаю только, в какой — дочь порядочного человека.
— Женька была вся зеленая и дрожала,— сообщил Генка, глядя
на бабушку с неодобрением.
Он смирненько сидел в углу, и колени его были выдвинуты чуть
ли не на середину комнаты: Генкины размеры не соответствовали
бабушкиному «скворешнику». Возможно, именно поэтому бабушка
тоже смотрела на Генку с неодобрением и озадаченно. А может, она
злилась на то, что разрешила себе перебранку при чужих людях?
— Она и сейчас дрожит,— уточнил Генка, дотрагиваясь до меня
тыльной стороной ладони. Как дотрагиваются матери, проверяя, а нет ли
температуры у их единственных дочерей.— Она дрожит, ей нужно чаю.
Бабушка подняла брови еще выше, оглядывая Генку. Генка, про¬
являющий такую настойчивость,— эго и для нее было неожиданно.
— Хорошо. Будет нам всем чай, без чая не отпущу. Но вы об
Андрее расскажите.
— Андрея забыли на полдорогс,— буркнула я, чувствуя какую-то
170
свою вину перед ним.— А до того Денисенко произнесла такую
речь — заслушаться! И Чижова тоже выступила на тему: джинсы
за деньги родителей — безнравственно. А зарабатывать для семьи
любым способом — нравственно.
— Любым способом, достойным порядочного человека,— попра¬
вила меня Марта Ильинична и посмотрела, как в классе: усвоила ли
я до конца.
— Ну да, что-то вроде. А Пельмень говорит, пусть ответят те, у
чьих родителей золото прилипает...
Я споткнулась об остерегающий бабушкин взгляд и замолчала.
А дальше все они, включая Генку, принялись суетиться, накрывать
на стол, греть борщ, готовиться к обеду. Генка таскал из кухни
тарелку за тарелкой. Марта Ильинична резала хлеб, терла чеснок для
сметанного соуса, а я сидела на диване, завалясь в угол, и все мне
было безразлично. Борща совершенно не хотелось, любимый запах
чеснока вдруг показался противным, Генка — неуклюжим, бабуш¬
ка — эгоисткой. И вообще, дождь уже давно мог бы полить, как ему
и положено. А то гонялись одна за другой эти тревожные и бес¬
шумные дальние молнии...
Вдруг я вспомнила. Седьмой класс, Марта Ильинична (тогда
и между собой мы, кажется, еще не звали ее Марточкой) принесла
толстенький синий томик с «Капитанской дочкой», держит его в
руках, а выражение лица у нее обещающее и в то же время как бы
заранее тревожное. Ну еще бы! Ей очень хорошо известно, как
прекрасен Пушкин и как мало мы его достойны.
...Марта Ильинична прижимает синий томик к синему платью
и говорит:
— Сейчас мы начнем читать вслух и будем читать долго. Но одно
я вам скажу от себя: Пушкин в Гриневе хотел показать нам поря¬
дочного человека. Просто порядочного человека, сохраняющего по¬
рядочность в любых обстоятельствах...
Дальше она еще что-то говорила. И настоящая, живая Марточка,
уже присевшая прямо передо мной за большой круглый обеденный
стол, тоже что-то говорила. Я не слышала. За девять лет школьной
практики я отлично научилась отключаться от того, что делается вок¬
руг. На уроке, например, или на классном часе. Преданно глядя на
шевелящиеся губы, я умела уноситься как угодно далеко во времени и
пространстве. На раскопки, например, к причалу, от которого шли,
улыбаясь и чуть-чуть раскачиваясь, мой отец, Поливанов и Гром...
Я вернулась на веранду от слов:
— Андрюша маленький тихий был,— говорила Марточка почти в
умилении.— Да он и сейчас тихий, только желваками пугает. И бла¬
годарный он: каждую осень все дрова переколет, сложит аккурат¬
ненько...
— Без денег? — спросила я не из ехидства, а просто само
вырвалось.
— А ты что же, Женя, и на самом деле не представляешь
172
отношений сердечных? — Марта Ильинична посмотрела на меня с
сожалением.— Ты меня морочишь? Или вправду думаешь — все на
уровне купли-продажи? Андрюша — абсолютно порядочный человек.
Действительно, я не помню, чтоб за девять лет учебы Андрей Охан
сделал бы что-нибудь, на наш взгляд, вопиющее. И все-таки не
слишком ли Марточка расширяла круг людей, о которых с таким
придыханием можно было говорить: абсолютно порядочный человек?
— И главное, нашли к чему придраться! К труду.— Марточка
выпрямилась на своем стуле, оглядывая нас с Генкой.— Многим ли
из вас приходится трудиться, как Андрюше?
— Кулак — он тоже какой работяга! — Эта фраза выскочила из
меня как бы не в ответ Марточке, а сама по себе. И не того,
исторического, я имела в виду, а, например, папашу Мишки.— Кулак
хоть носом будет рыть, хоть зубами хватать без спасиба.
Не знаю, как поняли меня Марта Ильинична и бабушка. Они сиде¬
ли по разные стороны стола, симметрично выложив на клеенку тяже¬
лые руки, и выражение лиц у них было общее — неодобрительное.
И Генка, вставая, посмотрел на меня с сожалением:
— Ладно, Женя, ты Охана с Мишкой не путай. Охан спасибо
действительно понимает.
Он еще постоял минуту, поглядывая в быстро темнеющее окно
и переминаясь, как он переминался в любом доме перед уходом.
Почему-то трудный для него это оказывался момент. До того труд¬
ный, что вот и сейчас не без удивления я рассмотрела: на Генкином
лбу, поближе к русым густым и красиво растущим волосам, выступили
ровненькие капельки.
Генка под моим взглядом покраснел еще больше и поднял руку:
— Чао!
— Будь здоров!
Не прошла и минута после Генкиного ухода, как по окнам хле¬
стнул дождь.
И молнии играли теперь не где-то там, за курганами, они, ка¬
залось, вскакивали прямо к нам в огород. Они, как на ходулях,
носились по улицам поселка. И невозможно было на все это смотреть
сквозь закрытые окна, я вышла на крыльцо.
— Что мы сделали с мальчиком? Нет, что мы сделали с маль¬
чиком? — квохтала у меня за спиной бабушка.— Где он переждет
дождь?
— Ну, вернется! — крикнула я ей с крыльца.— Ну, на остановке
постоит, не размокнет. Вы же сами вечно мечтаете о трудностях...
И Марточка тоже вздыхала, и очень меня интересовал вопрос:
если бы под дождь попал Охан? Или Громов? А ведь ни один из них
не посещает и половины из тех секций, в которые родители все суют
и суют Генку.
А по двору, перекатываясь через улицу, уже мчались рыжие
глинистые потоки, и ясно было: бабушкиным грядкам и цветам при¬
дется плохо, куда хуже, чем Генке. О них бы и думали...
173
Трах-тах-тах! Мне показалось — прямо в углу двора, рядом с
алычой выросла ее огромная светлая проекция. Тоже дерево, но из
огня и движения. Кто-то мгновенно начертил его и стер, чтоб вслед
за блеском во дворе стало почти темно. В этой темноте тихо хлопнула
калитка, раздались голоса, и под навес ко мне впрыгнули отец и
Генка, с туфлями в руках и не то чтобы мокрые, а как бы состав- .
ляющие одно целое со струями дождя.
— Весело? — спросил отец, показывая на небо и понимая, почему
я стою на крыльце.
— Еще как! — крикнула я среди шума падающей и текущей воды,
сдвинутых камней, затухающего, сделавшего свое дело ветра и шо¬
роха туч.— Еще как!
Но я почти сразу пошла за ними на веранду. Они стояли, объяс¬
няя, как встретились, почему вернулся Генка. Выясняя также, во что
переодеться. И были похожи на мокрых кур. Вот именно — даже не
на петухов.
Перехватив мой взгляд, Марточка сказала:
— Мужчинами надо восторгаться, Женя. Тогда они расправляют
крылья.
Ну что ж, она была совершенно права, хотя можно было бы обой¬
тись и без романтики. Она была права и вроде бы обвиняла кого-то...
— А мужчинам в свою очередь не плохо бы поступать и выглядеть
так, чтобы вызывать восторг.
Только я вытерла пол, они явились переодетые. Генка в клетчатой
рубахе, в отцовских спортивных штанах, подвернутых до колен,
как-то даже странно изменившийся. Вроде рыбака с дальнего мыса
он был. Вроде того рыбака, который знал, как управлять лодкой,
ставить парус, сыпать и выбирать сети, даже если идет Тремонтан...
Очень интересно. Я смотрела на нового Генку из своего угла
и видела: не одна одежда его изменила. Он взглядывал на меня, не
ища больше опоры, а сам мне советуя: «Ну, расслабься. Ну что ты,
в самом деле, как среди чужих?»
Отец подошел к телефону:
— А теперь мы позвоним твоим, Гена, чтоб не волновались.
— Они и так не станут,— буркнул Генка, но отец уже набирал
номер.
— У вас мальчик не потерялся? — спросил он, поздоровавшись
и самым своим веселым голосом.— Говорите — нет? Значит, ошибка,
а у нас сидит тут один, очень похожий на вашего. Ах, ваш? Ну,
хорошо, отправим, отправим, как только немного природа успокоится.
В трубке забулькало благодарно и благодушно. Сначала с большим
напором и разгоном, но быстро иссякая. Отец положил трубку.
— А маме?
Он почесал висок, как бы примериваясь. Но в это время телефон
зазвонил сам каким-то неестественным, просто-таки паническим звон¬
ком. И мамин голос, слышный на всю веранду, просил:
— Женя там? Будь добр, дай ей сейчас же трубку!
174
— Тебя! — сказал отец не без досады, подумав, наверное, о том
же, о чем подумала я: мама вовсе не одобряла моих слишком частых
поездок к бабушке.
Глава XVII
Я взяла трубку и услышала мамин совершенно странный голос:
— Приезжай немедленно, и одна. Пусть отец явится через час.
— У нас такой дождь,— сказала я первое попавшееся,— автобусы
наверняка не ходят.
Я не понимала, не могла даже предположить, что случилось, какая
моя или, вернее, отцовская вина выплыла наружу, но ехать домой мне
не хотелось.
С появлением на веранде отца и Генки, смешно причесанных, в
клетчатых рубашках, в одинаково закатанных тренировочных штанах,
я вдруг почувствовала: прежняя бездумная, детская безмятежность
охватывает меня. Берет под свое крыло.
Я даже начала представлять, что дождь идет вечно, а мы все
вместе (и Марточка с Гриневым) тоже вечно живем в этом доме
и сидим за круглым столом, покрытым клеенкой,— едим борщ.
Бабушка как раз собиралась принести отцу тарелку борща, когда
позвонил телефон.
Из поселка мы выехали втроем. Генка сошел на нашей остановке и
отправился по своим делам; отец, подняв воротник плаща, зашлепал к
кафе на дальнем углу, а я оказалась в комнате, где на своей любимой
тахте, застеленной ужгородским паласом, опираясь спиной о стену и
клетчатые подушки, сидела мама. Рядом с мамой стояла Викина план¬
шетка, а на коленях у мамы лежала красная сумочка-косметичка.
— Чье это? — спросила мама голосом, который, честное слово,
стоит употреблять в более серьезных случаях.
Я сглотнула и ничего не ответила. Надо было выиграть время.
— Чье это? Я тебя спрашиваю? — Мама метнулась ко мне, вце¬
пилась мне в плечи и стала трясти.— Ты что? Язык проглотила?
Онемела? Ты его все равно не спасешь!
— Кого? — в свою очередь спросила я удивленно.
И мама, очевидно, рассмотрела это удивление, отпустила мои
плечи, перевела дыхание. И спросила неуверенно:
— Разве тебе не отец дал?
— Не отец.— Смешно, как у отца могла оказаться девчоночья
планшетка, а в ней косметичка? Но еще смешнее, что из-за какой-то
паршивой косметички меня вырвали из безмятежности (в которой я те¬
перь не так уж часто могла пребывать), трясли, отшвыривали от себя.
— Ты знаешь, что здесь? — Мать потрясла косметичкой перед
моим лицом.
А я тихонечко, боком подвинувшись к тахте, посмотрела, распе¬
чатан ли целлофановый пакет с Викиными тетрадями? Кажется, до
этого у мамы не дошло. А что в косметичке? Известно, что бывает
175
в косметичке. Но когда мама вытряхивала на стол ее содержимое,
лицо у нее стало такое, что я заподозрила: на этот раз окажется там
не одна краска для ресниц и розовая пудра «ЖЭМЭ».
Из косметички вывалилась помада, французская тушь, плоские
круглые коробочки теней и еще несколько монет, закисших на самом
дне, покрытых пудрой и мазками помады.
— Что это? — спросила мама, пальцем передвигая на столе одну
такую монету.
Я взяла монету, и в то же мгновение, раньше меня самой, пальцы
мои поняли: монета не простая — археологическая. Это было то
золото. Но как оно оказалось у Вики? А ведь мама о Вике еще ничего
не знала. Как же страшно ей стало, когда она, обнаружив планшетку,
полезла в нее и наткнулась на кругляшки с нечетким изображением
солнечных лучей и какого-то профиля на другой стороне!
Она подумала об отце. О том, что слухи справедливы. Что. он мог
сделать такое. А она жила с ним почти двадцать лет как с совершенно
порядочным человеком, по-настоящему порядочным.
Возможно, она даже считала его излишне щепетильным (излиш¬
ней порядочности вроде не бывает?), злилась на эту щепетиль¬
ность — и вот!
Мы стояли друг против друга по бокам стола, а на столе лежало
золото, которое отец не мог найти, нашел кто-то другой, принесла
к нам в дом Вика, и все это готово было упасть на голову нашей семьи.
— Кто же все-таки, если не отец, дал тебе это? Ты можешь
сказать?
В том-то и дело, что сказать я не могла.
Я стояла совершенно оглушенная, не то чтобы сопротивляясь, а
как-то недоумевая; ума у меня не хватало не то чтобы осмыслить —
просто охватить случившееся. Мысли неслись, сшибая одна другую.
А рука тем временем медленно передвигала по столу тусклые монетки,
и вспоминался как-то сам по себе запах мокрого гипса в доме у
Шполянских, а также на кухне, в посудном подвесном шкафчике,
жутковатый оскал готовых челюстей и серые слепки для новых.
Да, зубные техники имеют дело с золотом. Но почему золото
древнее? А не все ли равно, какое, если его можно купить? После
такого вывода абсолютно все становилось на свои места. И получа¬
лось, что я, называя, выдам не Вику, а Шполянскую-старшую. Но
называть все-таки не хотелось. Даже глядя на то, как мама страшно
стоит над столом, то стискивая, то разводя свои сильные, хирурги¬
ческие пальцы.
— Ну? Кто же все-таки? Ты пойми, мы не имеем права держать
это у себя ни одной минуты! Кто?
В общем, на десятой или пятнадцатой минуте я прекратила со¬
противление.
— Вика? — переспросила мама, вытаращивая глаза, как малень¬
кая.— Вика?
Мама все еще мяла свои руки, а тут остановилась. Очевидно,
176
та же стройная картина предстала и перед ее умственным взором. И, разглядев как следует ее, мама ринулась к телефону. Она шла, бедром расталкивая мебель, напрямик. И, взяв трубку, рявкнула в нее тоже напрямик, без подходов:
— Ирина, ты мне нужна вдвоем с Викторией. Приезжайте немедленно.
Они и приехали немедленно, между нами была одна автобусная остановка. Сначала Вика, через пять минут ее мать.
— Объяснишь? — Мама кивнула в сторону стола и раскрытой планшетки.— Может быть, объяснишь, как две дуры поставили под удар честного человека?
Вика тоже застыла над столом, но была минута, когда она с главной тревогой кинула взгляд на свои дурацкие тетради.
— Кого это? Какого честного человека? — спросила Вика еще довольно лихо.— Кого?
— Ее отца.— Мама выставила в мою сторону длинный палец и тут же скрестила руки на груди.— Ее отца, о котором к тому же кто-то распустил грязные слухи. Не ты ли, деточка?
— Не я! — Вика мотнула своей коротко стриженной головкой.— Зачем мне? Вы же знаете.
Я вспомнила, что недавно мама называла Вику солнышком. Удивительно, как быстро, как мгновенно все было забыто, вычеркнуто, стерто. С какой ненавистью смотрела мама на Вику! Как будто не глупость Вика сделала, а продуманно навела беду.
Так мы все стояли, когда в незахлопнувшуюся дверь вошла Шпо- лянская-старшая, в отличие от нас вся прибранная, спокойная, веки приспущены, наведены зеленым и выражают упрек.
— Узнаешь? — Мать повела подбородком в сторону монет, затерявшихся между тюбиками и плоскими коробочками «тона».— Я тебя спрашиваю, узнаешь?
Викина мать опасливо сделала шаг вперед и рассмеялась:
— А то ты раньше не знала, что они красятся?
— Нет, ты это узнаешь? — Мать рванула ворот, как будто ей вот-вот должно было стать дурно. Другой рукой она подхватила со стола и поднесла к самому носу Шполянской две монеты.— Узнаешь?
— Нет.
— Нет?
— Я тебе говорю — нет!
— Тогда спросим у твоей дочери, откуда она приволокла их к нам в дом?
— Вика?
И вот мы вчетвером стояли вокруг стола, и разгадка вся была в руках Вики. Не сама же она в конце концов откопала золото? С таким вопросом мы все смотрели на нее, а она на нас не смотрела. Лицо у нее было не вызывающее, не упрямое, просто другое. По этому непохожему и некрасивому лицу я видела, как ей плохо.
— Вика! — теперь настала очередь Шполянской-старшей трясти
177
дочь за плечи, что она и проделала с большим энтузиазмом.— Вика, я знаю, тут замешан этот негодяй, этот Поливанов! Вика, отвечай, ты даже не представляешь, в какую историю можешь влететь!
— А что им представлять? Мы же до шестнадцати лет любую беду от них отводили! Привыкли на чужих спинах в рай ехать! — Мама теперь говорила медленно, достойно, безо всякой дрожи в голосе.
Еще бы! Отец не только оказался вне подозрений — можно было при помощи находки, сделанной в Викиной косметичке, всему миру объяснить — не виновен!
Мне же было как-то не по себе. С одной стороны, укрывательство кладов — уголовное преступление. С другой — Вика кинулась ко мне за помощью, а что вышло? И потом, я просто жалела Вику. И тогда, когда голова ее моталась из стороны в сторону, а на лице не было никакого, ну просто никакого выражения. И сейчас, когда мы как бы объединились против нее. А она Стояла одна с той стороны стола, и на лице ее опять не было никакого выражения. Она предоставляла нам делать все, что угодно, но ни помочь, ни сопротивляться не собиралась.
— Где он, этот твой хахаль? Ты можешь сказать, где он? — кричала Шполянская-старшая.
— Как он вообще очутился в нашем городе? Кто-нибудь знает, где он прописан? — низким голосом спрашивала моя мама.
— Ты будешь отвечать?
Вика стояла бледная, заложив руки в карманы джинсов. Потом плюхнулась на тахту, на то самое место, где недавно сидела мама. Ноги ее не держали, что ли? Или ей хотелось продемонстрировать какую-то свою независимость? Я не поняла. Они тоже не поняли и продолжали кричать:
— Кто он? Кто может подтвердить, что он действительно Поливанов и действительно радист, а не проходимец? Молчишь? Так я тебе скажу...
— Об этом, Ариша, надо было раньше спрашивать,— гудела мать,— ты мне, Вика, лучше вот что скажи: ты знала о монетах? Он тебя в известность поставил?
И в это время мы все увидели: в дверях стоит отец, и, кажется, ему уже понятна сущность скандала. Когда он подошел к нам, мама, так же как Шполянской, протянула ему монетки...
Отец стал их рассматривать, и в какой-то момент я уловила: он борется с желанием подойти к «стенке», взять лупу.
— Вам, что ли, принесли, Ирина? Я же говорил: принесут. Куда им деться? Обязательно должны попытаться сбыть через зубного техника. А вы сомневались, чуть не выставили меня в субботу...
Мама пожевала губами, дернулась, и даже что-то вроде мужских желваков появилось у нее на щеках.
— Ладно, Алеша, оставь свои обиды, нам главное узнать: у тебя могло такое найтись? Нет? Ты сам абсолютно уверен и другим сумеешь доказать?
— В подобном случае абсолютно уверенным ни в чем нельзя быть.
178
хорошо, что хоть где-то кто-то нашел. Это — Савмак,— кивнул он мне на монету.— До сих пор была найдена всего только одна такая. И по ней историки сделали предположение...
Тут мать крикнула:
— Хватит! Хватит заниматься историей, перейдем-ка лучше к сегодняшнему дню. Сообрази, пожалуйста, как твое золото могло оказаться у этого молодчика? Кстати, вы с ним, кажется, в прошлое воскресенье ездили на раскопки? Ну?
Отец, оторвавшись от монет, огляделся вокруг: Шполянская-стар- шая теперь сидела, покачивая ногой довольно небрежно и стряхивая пепел с сигареты на пол. Вика все так же почти лежала на тахте, только теперь глаза ее ожили и о чем-то просили меня. Какая-то мысль по поводу случившегося бегала в них затравленно, и я не могла, хоть от всей души хотела, помочь Вике.
Отец посмотрел на всех, в том числе на меня, стоявшую у самой балконной двери.
— Какие у вас основания подозревать, что Поливанов ограбил мои раскопки?
— Он передал это Вике.
— Да, но как это оказалось у него?
— Громов! — Мама ударила себя по лбу, и я поняла: сейчас им покажется очень убедительным участие Грома в этой истории. Или в этой краже (кто как хочет, тот так и называет) золотых монет с изображением Савмака, скифа, поднявшего когда-то восстание на нашем берегу.— Громов! — повторила мама.— Поливанов увязался за Громовым на раскопки, иначе зачем бы он туда поехал, если Вика в городе?
У Шполянской-старшей губы были как будто обметаны темной корочкой, и глаза под опущенными веками блестели сухо и бегали, точно подсчитывая что-то свое. Громов ее очень устраивал, если на него можно было свалить вину. Но совершенно не устраивало, что все вопросы все равно вертелись вокруг Вики.
Между тем все забыли, а она ведь любила Поливанова, взрослого парня, похожего на белокурого негра с тайной улыбкой, спрятанной в углах твердого рта.
— Позвоним Громову? — спросила мама, подвигаясь к телефону.— Пусть внесет ясность. И не забывайте, нам придется заявить обо всем в милицию.
— В милицию заявить, конечно, надо,— спокойно сказал отец, все еще как бы взвешивая монетки на ладони.— Но что за дамское предположение: как мог за несколько минут Поливанов найти то, что нам годами не давалось?
— Не Поливанов — Громов! — поправила Шполянская-старшая. У нее был такой вид, как будто она долго раздумывала, долго взвешивала обстоятельства, пока наконец не пришла к выводу.
Отец смотрел на Шполянскую очень внимательно. Мне казалось: он изо всех сил хочет встретиться с ней взглядом, но она не поднимала подведенных зеленым век.
179
— Громов? — переспросил отец.
— Они могли явиться туда и без тебя. Кстати, не им ли при¬
надлежала зажигалка? — предположила мама.
А Шполянская-старшая спросила с улыбкой:
— Тебя, Алеша, не удивляет? Не я одна, все вспомнили этого мальчишку, когда поползли слухи: по городу «ходит» золото?..
Отец хохотнул довольно странным смехом, все так же не отрывая
глаз от Шполянской-старшей.
— Ну нет,— сказал он,— Громова я вам не отдам. Отдай вам Грома, вы и Шурочку запросите!
— Не знаю, как Шурочку,— вздохнула мама медленно и почти спокойно,— а Громова привлечь по этому делу придется. И причем немедленно. Позвони, будь добр, следователю или куда там тебя вызывали.
— За Громова я поручусь!
— А за тебя кто? — Теперь мама смотрела на отца ласково, но снисходительно.
У нас в семье считается: отец — человек нерешительный. Мама принимает решение переезжать в Москву, а он — нет. Я должна стать хирургом — принимает решение мама, а отец — нет. Мама принимает решение оклеить спальню ситцем, а он — все нет и нет...
— Послушай...— Отец опустил глаза, посмотрел себе на ноги.— Ты что, в самом деле уверена: я не могу постоять за себя и своего ученика? Или ты пытаешься мне что-то в этом роде внушить?
Теперь он поднял глаза, когда неловкое, обидное для мамы было уже сказано. Он поднял глаза, и я увидела, какие они у него синие-синие. Вот удивительно, в комнате было вполне сумрачно, а они светились. И лоб был большой, выпуклый, с четко выступающими от напряжения жилками.
— Нет, дорогие дамы, я и себя и его сумею отстоять без вашей деятельной помощи. А в милицию, конечно, заявить придется.
— Дядя Алеша,— позвала с тахты Вика,— можно завтра? А до завтра у всех будет время самим явиться.
— С повинной, ты имеешь в виду? — отнеслась вполне терпимо к такому ходу мама.
— Ну, пусть это так называется. А можно вообще: пусть они придут, как будто только что нашли?
— Кто — они? — спросила Шполянская-старшая, почти не размыкая зеленых век и запекшихся губ.
— А какая разница кто. Придут — и весь факт.
— Ладно,— сказал отец,— на сегодня все. А там даст бог день, даст и пищу... для разговоров! — Так закончил он своей любимой дразнилкой. И подобрал со стола монетки.— Но это, с вашего разрешения или без, я припрячу: цены им нет...
— Как припрячешь? — пожала плечами мама.— У меня в доме?
Она смотрела на отца и изо всех сил старалась сделать такое лицо,
будто услышала бог весть какую глупость.
180
— А так — припрячу. Отец открыл одно из глухих отделений
«стенки» и снова запер его на ключ.— Припрячу и сам останусь
сторожить. Лягу хотя бы вот здесь, как ты правильно выразилась, у тебя в доме.
Отец оглядел комнату, тахту, с которой как раз вставала Вика, угол с маминым письменным столиком, ящик телевизора, проигрыватель в углу длинной «стенки».
— К тому же у Громова нет телефона, а в милицию действительно разумнее будет обратиться завтра. Дать шанс прытким молодым людям остановиться, оглядеться.
Вика медленно поднималась с тахты. И так же медленно, не пересекая, а обходя комнату, она пошла, волоча за собой незастегнутую планшетку.
Глава XVIII
У меня оставалось сколько угодно времени до утра, чтоб обдумать случившееся. Спать нисколько не хотелось. И мама не могла заснуть до тех пор, пока не вышла на кухню, не выпила снотворное. И отец подходил к окну, открывал его, и до меня докатился вступивший в дом свежий теплый воздух. Такой он был пахучий, такой живой!
Мне захотелось, чтоб в эту же минуту и в Генкином доме открылось окно. Но еще больше мне захотелось, чтоб вовсе не было сегодняшнего или, вернее, уже вчерашнего дня. Чтоб не выясняли мы так серьезно детского вопроса с Андрюшкой, чтоб Пельмень не произносил своих фраз, которые каждый мог понять, как ему было угодно. Но в том духе, что, мол, дыма без огня не бывает. А главное, чтоб история с Викой мне просто приснилась вся без исключения, кроме монет с профилем...
И еще я очень много думала о Громове. О том, как ему трудно будет отбиваться от подозрений. Интересно было также, что станет говорить наша Классная Дама, в какое смятение ее повергнет известие о том, что: а) одна (и притом не худшая!) ученица ее класса укрывала похищенные ценности в доме другой (до недавних пор лучшей!); б) что отец этой второй подозревается в головотяпстве, а то и в хищении; в) что такой инициативный Громов Владимир может оказаться сообщником похитителей древнего золота.
Но будущие мучения Ларисы не очень-то меня трогали. Другое дело — все, что уже случилось и может случиться с Викой. Прямо представить себе было невозможно, что с нею теперь делается (или делают?) в благополучнейшем доме Шполянских? Я вспомнила, как привалилась она у нас на тахте, как будто из ее круглых ручек и ножек разом вытекла жизнь. И я казнилась от мысли, что скорее всего мне надо было бы оказаться рядом с ней, потихоньку сбежав из своего дома и прокравшись в квартиру Шполянских. Но попробуйте осуществить замысел, если ваш друг живет на пятом за дверью с очень сложной системой запоров.
181
Я даже не пробовала. Лежала, смотрела в темноту, пока не встретилась взглядом с нашей кошкой Маргошкой, тоже не находившей себе места среди общей тревоги, пропитавшей дом, иначе зачем бы ей входить в мою комнату с вопросом? Кошки удивительно умеют спрашивать. Идет прямо на тебя, хвост поднят, глаза светятся, требуют: объясни, что происходит?
Многое хотела бы я объяснить хотя бы самой себе.
Например, кое-что насчет употребления слов порядочный человек•
Почему, например, о Генке я не берусь сказать: абсолютно порядочный человек? Хотя ни в какой непорядочности ни я, ни кто другой его не заподозрил? Потому, наверное, что он не подвергался испытаниям... Хотя соблазнам еще каким подвергался Генка почти всю свою жизнь!
Другой с такими шмотками и с такой свободой мог, например, стать фарцовщиком, посетителем Круглой площадки, давать списывать диски, да мало ли что еще!
Он ничего этого не делал, он даже обновам своим не радовался. И мне почему-то стало жаль его почти до слез, но я не могла поручиться! Как ужасно, что поручиться мы можем только за тех, кого жизнь и без нас проверила и как бы выставила уже свою оценку. А мы так и не решились...
Надо решиться, что ли?
И еще я загрустила, вспомнив, какие смешные они стояли у бабушки на веранде, Генка и мой отец, сначала мокрые насквозь, потом переодетые в спортивные брючки, закатанные до колен. И причесанные тщательно, как в первом классе перед утренником.
Я повернулась на тахте, и кошка Маргошка поднялась у меня в ногах, посмотрела отсвечивающими плоскими глазами. Голубая шелковая косынка лунного света лежала на полу в коридоре. Свет лился через окно той комнаты, где спал отец, и мне захотелось на него посмотреть. Или я почувствовала что-то? Или Маргошка подала мне какой-то сигнал? Она у нас была, как отец говорил, на вакантной должности собаки, многое понимала.
Я встала с тахты, нашарила туфли, Маргошка стояла уже у дверей, торопила. Наверное, ей забыли налить воды. Я вошла в большую комнату, тишина сгущалась в углах таинственно и прохладно. Дверь в спальню была прикрыта. Раскладушка — пуста.
Все. Помирились, поняла я. В недавнем крике вышла последняя обида, и не время было разбирать, кто прав, кто виноват. А может, всего-навсего, отец бросился под крыло? Я отогнала эту мысль не только движением головы, но и руки тоже. Как отгоняют дым, и мысль легко отплыла в сторону.
А я готова была вернуться, зарыться в подушку, в сон, в счастливый конец моих несчастий, но Маргошка стояла у двери в коридор и даже покрикивала на своем кошачьем языке не громко, зато настойчиво: весна и на нее действовала, надо было выпустить во двор.
182
В коридоре я зажгла свет, открыла входную дверь и вдруг почувствовала, как зло, бетонным холодом из нее тянет: ни плаща, ни толстых, походных ботинок, в которых пришел отец, в коридоре не было.
Куда он ушел?
Положим, до утра еще оставалось много времени обсудить этот вопрос. Может быть, ему пришло в голову, что точно так может выскользнуть из своего дома Вика и помчаться к Поливанову? Или он захотел разбудить Грома, и вместе они должны были придумать что-то, чтоб задержать руку копателей, какими оказались Поливанов и Квадрат? Мог он также нарушить обещание, данное Вике, и помчаться в милицию, подгоняемый тем самым страхом...
Ладно, отец был взрослым человеком, не в первый раз ему приходилось шагать по ночному, почти предутреннему городу. С Викой было хуже. Я представила Вику, запертую наверняка на три поворота, и вся Викина тоска, вся ее беспомощность как бы дошли до меня, дотронулись до кожи тут, там, везде, а потом просочились внутрь. Сердце заколотилось. Оно колотилось не просто, а с болью, потому что я ничем не могла помочь, а мне хотелось распутать все концы, развязать все узелки, а потом сплести аккуратненькую косичку с бантиком на конце, свидетельствующую о том, что виновных не оказалось. Жизнь течет как раньше.
Но шел, настигал, вступал в права совсем взрослый возраст, и, судя по всему, на этом лугу цвели не одни ромашки. Сейчас, во всяком случае, мы продирались через крапиву. И завел нас в ее заросли не кто иной, как Поливанов. Белый негр с длинными ногами, с высокой шапкой вьющихся волос. Поливанов — вот смех-то! — показавшийся мне на какую-то минуту похожим на капитана Грея. А оказавшийся всего-навсего кем-то вроде Ганувера. И золотая цепь (вернее, два ее жалких звена) оказались при нем... Но все равно я не думала о Поливанове до конца плохо. Я искала какие-то выходы.
«Возможно,— думала я и чертила в темноте пальцем по стене невидимые узоры,— возможно, то золото, о котором говорили в городе, нашел и пустил по рукам вовсе не он. Вполне возможно, к нему каким-то путем попали эти всего две монеты, и ему было жаль с ними расстаться. А у отца он хотел узнать, насколько они редки. Возможно также, с гребнем и фиалом, окажись они действительно у него в руках, он ничего не собирался делать, и страх отца был напрасен?»
В предрассветной замершей тишине дома я как бы подменяла неизвестное случившимся, и мне совершенно отчетливо начинало казаться: фиал и гребень существуют не только в моем воображении. Не то где-то я видела тень от них, не то долетал до меня дальний отзвук слов о них...
С подобными, сбившимися в клубок мыслями я и заснула. Уже был рассвет, и воробьиное дерево под окном ожило, защебетало, заговорило с солнцем, и мне тоже хотелось проснуться, я сделала усилие, выплывала из сна, как из теплой морской воды, и чем скорее
183
приближалась ко мне ее освещенная солнцем поверхность, тем больнее маленькая, острая иголочка колола мне сердце.
Я открыла глаза и с открытыми глазами услышала все ту же воробьиную мелкую, радостную возню. По дороге в спальню я подошла к окну. Небо было самое наше с папой любимое. На юге чистое, а на востоке все уставленное маленькими, круглыми облачками...
— Как детские лица,— сказал мне как-то папа в те времена, когда он еще называл меня директором.— Таша, иди посмотри, какая красота.
Мама вышла из ванной вся в хороших запахах и капельках воды.
— Где красота? — спросила она, прижимаясь к отцу плечом.— Где?
— Правда, похоже на детские лица? Ты не находишь? Как жаль, что у нас с тобой одна. Я хотел бы от тебя родить целую толпу! — Вот еще что сказал тогда отец.
Но мама все испортила. Она только пожала плечами и отправилась сушить свои не густые, слабо вьющиеся волосы.
...Я вошла к маме в спальню и увидела, что она уже не спит и знает об исчезновении отца.
— Неужели пошел к Громову? — спросила она.— Не нравится мне все это. Надо действовать, а не пытаться уговорить.
— Как действовать?
— А это уж пусть милиция решает как.
— Мама,— спросила я,— а ты не боишься: они — эти, которые нашли,— могут скатать, смять золото?
— Как смять? — спросила мама рассеянно.— Ты о чем?
— Ну, как в девятнадцатом веке «копатели». Как те, у которых Стемпковский хотел перекупить клады, да поздно было. Осталось одно золото.
— Тоже, между прочим, не мало,— усмехнулась мама, отворачиваясь от меня к стенке. Наверное, потому, что ей надо было на минуточку остаться наедине с собой.
— Но отцу ведь не золото надо! Ему нужны изображения на золоте.
— Характер твоему отцу нужен. И хоть какое-нибудь честолюбие. Простейшего решения не может принять.
— Он принял: ушел.
Я имела в виду, конечно, сегодняшнюю ночь. Но мама глянула на меня испуганно, как будто я хотела или могла ее так обидеть. Она даже руку подняла, защищаясь, и в прозрачных глазах ее метнулся страх.
Потом мама снова отвернулась к стене.
Затылок у нее был нежный, и неожиданно я увидела ложбинку на шее, как у маленьких детей. Я потрогала ее пальцем, не то желая убедиться — правда, ложбинка, не то пытаясь обратить на себя мамино внимание.
184
Иголочка, совсем зряшная, пустяковая, опять колола меня, почти
не больно, но настойчиво с левой стороны груди.
— Мама,— спросила я,— ты Марточку молодой помнишь?
— Зачем тебе? — Вот теперь она обернулась и посмотрела с
полным вниманием.— Зачем?
— Она мне сегодня приснилась. Будто было восстание Савмака,
и она меня спасала, как Маша Миронова. И у нее была коса...
— Иди под душ, Женя,— сказала мама неприветливо, вытягивая
из-под меня плед и простыни.— И лучше вместо глупых вопросов
выдай умный ответ.
— Какой?
— Звонить в милицию или подождать твоего отца?
Глава XIX
И вот мы сидели на экзаменах, и два места за нашими партами
были пусты. Именно из-за этих двух мест экзамен казался нам легким
происшествием, даже детским. Как будто между нами, какими были
мы в восьмом, и нынешними прошел не один год, а несколько.
Приблизительно — пять.
Не знаю, может, так чувствовала только я, но на мою парту, где
не было Вики, где я сидела одна,— все оглядывались. И Генка, как
у нас говорится, отсутствовал, но с ним хоть все казалось понятным.
Генку можно даже было ставить в пример.
— Геннадий как? — подбежала ко мне Лариса Борисовна, когда
я появилась сегодня на школьном дворе и стала под каштаном.—
И отец?
— Генку из реанимации перевели, мама говорит, ему и не надо
было в реанимацию. Подстраховывались.
А об отце я распространяться не стала: хватит с нее и того, что
вчера вечером она узнала по телефону от мамы.
Был самый конец долгого месяца мая, цвела белая акация, ко¬
торой стараниями моей бабушки когда-то обсадили весь школьный
двор по периметру, и зря. Неосмотрительно. Без учета того, что
акации пахнут просто и сладко — неотвратимо, я бы сказала. Не в
ритм современной музыке, а в ритм чему-то совсем другому. Любви,
наверное.
— Ну а все-таки? Совсем не опасно? Нет? На будущее? — про¬
являла сочувствие Лариса по поводу Генки.
— Что вы! После удара у него как раз все шарики и винтики стали
на место. Выпишется — будет человеком.
— А что мама все-таки говорит? — Однако не повторять же было,
что мама назвала ее плохим классным руководителем, создавшим
обстановку разболтанности, из-за которой Громов взял на себя слиш¬
ком много. А в результате пострадал Генка. Тем более что это была
неправда. И в утверждении мамы, что Вика сбежала из дому под
185
влиянием свободолюбивого духа, пущенного в классе Ларисой,— тоже
не было справедливости. Даже Марта Ильинична не удержала бы
Вику, встреться на ее пути Поливанов. Если уж Шполянская-старшая
не сумела...
— Так что все-таки мама говорит? Ты меня слышишь, Кам-
чадалова?
— Мама говорит: полный о’кэй!
— Ну, что ты скоморошничаешь, Камчадалова? Ты не видишь,
я места себе не нахожу с вашими приключениями. Нет? Да?
— Да,— сказала я.— Не находите.
Но мне казалось, не из жалости к Вике или Генке она не находила.
А из-за того, что все случившееся лишало ее душевного комфорта,
вторгалось в ее личную жизнь.
— И все Громов,— сказала Лариса-Бориса, напрашиваясь на про¬
должение разговора.— Как с ним? Он-то хоть явится? Да?
Мы вместе обвели взглядом довольно пустынный школьный двор.
Не было сейчас кипения, наполнявшего его в будни. Вообще только
особо нервные тянулись в школу, пострадать, похрустеть пальцами,
показать всем, что их смертельно волнует исход экзаменов.
— Лариса Борисовна,— сказала я голосом, который изо всех сил
хотел казаться мягким, рассудительным, что называется, объектив¬
ным.— Громов действительно инициативный. Помните, вы еще на
кораблике его за это сманивали в совхоз? А инициатива — она тре¬
бует действий, а действия не всегда можно согласовать. В общем, все
должны понять, он хотел как лучше.
— Интересно, как бы ты рассуждала, если бы погиб твой отец?
Так же? А? Нет?
— Теоретически — да,— глупо ответила я. И сейчас же испуга¬
лась. Вдруг судьба посмеется, и мой, не очень-то тяжело раненный
отец погибнет совсем не теоретически? Мало ли как оборачивается,
когда человек уже попал в больницу, когда у него слабое сердце
и солидный возраст: сорок с лишним лет. Но какое-то странное
упрямство заставило меня повторить: — Теоретически — да. И потом,
вы уверены, что это не мой отец научил Громова действовать так?
— *Не наговаривай на своего отца. Его и так ждут неприятности,
ничуть не меньшие, чем меня.
Мы стояли с нею одни с краю большого заасфальтированного
школьного двора. Стояли одни, потому что было раннее утро — наши
еще не подошли. Но ей, вероятно, казалось: мы объединены общим
ожиданием неприятностей. И ох как неуютно чувствовала она себя
в одной графе с неудачливыми Камчадаловыми!
Возможно, я все придумала, но тогда я просто физически ощу¬
щала: ей не по себе. Не умеет наша Лариса-Бориса спокойно пе¬
ренести переход из лучших классных руководителей в худшие. Может
быть, даже представляется ей такая картинка: вот сейчас, сию минуту
явится некто, например, из гороно и спросит: «У вас, уважаемая, как
я понимаю, с класссом опять не слава богу? Надо же, за один месяц
186
и брюками спекулировали, и в драку ввязались! И теперь — трое не
явились на экзамены. Ну кто бы мог подумать!» — «Да, в самом
деле — кто? — должна будет ответить Лариса.^— Такие незапланиро¬
ванные неприятности».— «Построже надо было, хотя бы с Громо¬
вым — зачинщиком. А вы пустили на самотек, что опасно».
Пока я придумывала этот диалог, мы стояли под каштаном, а двор
все оставался почти пустым. Двор с кустами сирени, жасмина и хи-
манантуса, которые тоже посадила моя бабушка. Двор, куда девять
лет назад меня за руку привел отец. И я спросила его после первого
в моей жизни звонка: «А ты со мной? Может быть, пустят? Я учи¬
тельницу спрошу».
Не защита тогда мне была нужна, мне хотелось, чтоб отец вошел
в мою новую школьную жизнь, что за последующие девять лет
удалось блестяще. Так удалось, что сделало его прямо-таки опекуном
Шунечки, другом Грома, уложило на больничную койку рядом с
Генкой, и неизвестно, чем все это кончится с точки зрения служебной
ответственности, как говорит моя мама.
Все ждут — чем. И наверное, поэтому, появляясь на школьном
дворе, Марта Ильинична еще от ворот поднимает руку и кричит нам
с Ларисой-Борисой:
— Все в порядке, девочки. Я только что из больницы: все в
порядке!
— Что же там может быть в порядке? — надменно удивляется
Лариса.
— Оба в удовлетворительном состоянии, у обоих следователь был.
Сказал: один фиал удалось спасти! Громов выхватил!
Несмотря на возраст, темперамент бурлил и переливался в нашей
Марточке. Узкий подбородок ее дрожал от волнения, глаза сияли. Она
бы и на весь город возвестила. А так всего на весь двор: следователь
был! Фиал один спасли! Какая радость!
Однако надо признаться, информация ее была свежее моей.
О фиале я еще ничего не знала. Я и не думала ни о каких фиалах,
когда стояла час назад под окнами больницы. Хотя ни увидеть, ни
услышать ни Генку, ни отца я не могла. Но мне не обязательно было
увидеть. Мне хотелось, мне необходимо было оказаться поближе,
придвинуться к ним. И потом, не оставаться же было дома одной:
мать не возвращалась и не собиралась возвращаться с дежурства.
...Я смотрела на Марту Ильиничну сначала просто с неодобрением,
потом зло я на нее стала смотреть, потому что в пределах слыши¬
мости и видимости появился Мишка Пельмень и двигался на нас.
А ему-то уж совсем ни к чему было включаться в наш разговор
о фиалах и следователях.
Мишка шел по двору широким шагом человека, которому хорошо.
— Громом интересуетесь? — спросил он, бодренько выставляя но¬
гу.— Громов явится, вплоть до особого распоряжения поступит в
ваше распоряжение.
Он хохотнул довольно. Потом отдельно и ободряюще и с важ-
187
ностью улыбнулся Ларисе-Борисе; Марте Ильиничне отвесил что-то
вроде поклона, уронив свою круглую голову, вполне дружественно кив¬
нул мне. И снова прищурил на Ларису глаза, поглядел пристальнее.
— Я говорю: и угораздило влезть во все это перед самыми
экзаменами? — Грудка у него была откормленная, сытенькая. И весь
он переливался довольством.
— Можно подумать, жизнь прикидывает, когда у нас экзамены,
а когда каникулы,— отмахнулась я.
— Нет, почему же? — Пельмень вплотную надвинулся на меня,
и я вдруг увидела, какой у него маленький рот, как у ящерки,
подковкой.— Почему не сообразить так называемым девочкам, что
некоторыми вещами можно заниматься после получения аттестата?
Почему?
Он, разумеется, метил в Вику. А заодно и меня прихватывал.
— Да, почему? — эхом повторила Лариса.— Хотя откуда мы
знаем...
— Ну, хорошо.— Мишка поднял ладонь, останавливая и как буд¬
то собираясь успокоить Ларису.— Ну, хорошо, чувство их меня,
допустим, не колышет. Но кто нам объяснит, зачем Громов таскал
на раскопки Поливанова?
— Громов и объяснит,— сказала я.
— Не скоро. Он там, у следователя, подписку дает.
— Подписку? — жалобно вскрикнула Лариса, поднося руки к ще¬
кам.— О чем подписку?
— О неразглашении государственной тайны,— улыбнулся Пель¬
мень, как будто намекая: ни государственного, ни особо таинственного
ничего, разумеется, нет.
— Следователь — что? — Лариса-Бориса смотрела на Пельменя с
надеждой и опасением.— Следователь считает, Громов все-таки имел
отношение?
— А это придется выяснить у самого следователя. Я — пас! —
Тут Пельмень вскинул уже обе ладони, как стенку перед вопросами
Ларисы-Борисы.
— А ты откуда знаешь, что Громов у следователя?
На Ларису жалко было смотреть.
— Я знаю только — дыма без огня не бывает. Громову предстоит
объяснить, каким образом Поливанов оказался на катере, а Камча-
далову — почему золото пряталось в его доме.
— Нет? — спросила саму себя Лариса и, подняв руки, не донесла
их к вискам. Потому что я ударила Пельменя. Я ударила его сильно,
так что руке стало больно. Я ударила его, ощущая податливую мяг¬
кость щек, губ, носа. Я била растопыренной ладошкой и не один раз. Бе¬
шенство, вселившееся в меня, бушевало напропалую, застилая глаза.
Но кое-что я все-таки видела.
Лариса продолжала стоять со своими застывшими руками. Ма^та
Ильинична, схватив меня за плечи, оттаскивала в сторону. Пельмень,
как это ни странно, не двигался. А во двор дружно и разом вва-
188
ливалась добрая половина нашего класса, и впереди, конечно, Гром.
Потом Марточка, одной рукой держа меня за шиворот, другой
смывала с моего лица слезы и сопли. Ладошка у нее оказалась такая
же настойчивая, как у бабушки, и мне заботы ее были скорее при¬
ятны. Как вдруг, все еще всхлипывая и слабо выворачивая лицо
из-под Марточкиных пальцев, я вспомнила:
Эх, яблочко, переспелое,
Отойди от нас, мамаша, сами сделаем...
Неужели там, в совхозе, она хоть раз, да слышала эти слова,
показавшиеся сегодня мне просто ужасными? Мы, надо сказать, их
проборматывали вполголоса, не то что остальные «дразнилки»,
но — вдруг?
Мне не захотелось поднимать голову из-под крана, смотреть Мар-
точке в глаза. Показалось, она думает о том же, о чем я. Мои мысли
ей передались. Но лицо у нее оставалось обыкновенным, озабоченным
и только побледневшим.
...И вот мы сидим на экзаменах, остывшие, отпоенные валерьян¬
кой, великодушно если не прощенные, то на некоторое время остав¬
ленные в покое (как раз на время экзаменов, результаты которых,
как известно, влияют на лицо школы — о лице класса уже никто не
думает).
Сидим и, вместо того чтоб думать о самом простом, о математике
устной, думаем о жизни. Я, например, рассматриваю свою правую
руку, думаю, что правильно ударила Пельменя. Если бы не я, его бы
ударил Гром, а это было бы куда более чревато, как любит говорить
Шполянская-старшая.
С меня что взять? Какой-нибудь незначительный штрих к порт¬
рету и без того «этого ужасного девятого «Б»? Который — подумать
только! — так прекрасно начинал год, отличился и в совхозе, и потом
буквально во всех мероприятиях, а теперь как с цепи сорвался! Это
было выражение моей бабушки, очень подходящее к случаю и на¬
верняка прозвучавшее в учительской.
Однако что там делалось в учительской, я могла только предпо¬
лагать. И представлять, как Марточка все еще бросается от одного
к другому и почти кричит: «Интересно, а как бы вы реагировали? Это
же почти то же самое, что назвать человека вором. Он назвал
абсолютно порядочного человека вором!»
Правда, мне больше хотелось, чтоб за меня и за моего отца
заступались как-нибудь иначе. Мне хотелось, например, чтоб Мустафа
Алиевич стукнул кулаком по столу: «Если не мы, то кто же защитит?»
Там, во дворе, утром именно он первый схватил Мишку за плечи
и, отрывая от земли, спросил всего одним словом:
— Зачем?
Хорошо же он отгадал характер Пельменя,^-если не поинтересо¬
вался: «Почему?», а сразу крикнул: «Зачем?».
Но больше всего, как ни трудно в этом признаваться, мне хотелось,
189
чтоб Лариса-Бориса не молчала все это время, не двигалась как в тумане, предоставив другим расталкивать, растаскивать, поить валерьянкой и умывать наш ужасный девятый «Б».
Почему она не прикрикнула на Пельменя раньше, чем я размахнулась? Она, так ценившая быструю реакцию. Почему не заступилась за Вику, когда Пельмень говорил о ней гадости? Но подобные вопросы можно было задавать до бесконечности. И до бесконечности оглядываться на пустую половину парты, где должна была бы сидеть моя подружка, которую еще совсем недавно мама называла солнышком, а я сравнивала с лучиком.
Что толку? Вики не было...
А в остальном экзамены продвигались вперед, как им было положено, и вот уже Тоня Чижова со всем старанием выводила на доске вместо функции тангенса что-то несусветное, а Шура Денисенко пыталась оттянуть ее внимание на себя, шипя, кашляя и даже как бы в отчаянии размахивая руками. Обычная самоотверженность не покидала Шурочку, на этот раз, кажется, даже радуя глаз родных учителей.
Еще бы! После всего случившегося подсказка, должно быть, казалась им милым и неоспоримым признаком детства, безнадежно отвернувшегося от нас.
Между мной и Шурой Денисенко сидел Пельмень. Круглая голова его, неподвижно вбитая в неподвижные плечи, притягивала мой взгляд и мысли. Я думала: какой он, к черту, Хозяин? Надел для важности эту маску, тесемочки завязать не успел — болтаются. И роль не дается, хоть плачь. От таких картинок мне не становилось жаль Мишку. Я ему ничего на намерена была прощать, но той злости уже не было. Возможно, потому, что Марта Ильинична не только хорошо вымыла мне лицо, толкнув под кран, но еще за шиворот напустила холодной воды. Платье от этого липло к спине, и сидела я, кажется, тоже в луже.
Сидела в луже, смотрела в затылок Мишке Пельменю и вспоминала, в каком это классе Мишка стал отнимать у Генки монеты, выданные на мороженое? В третьем? В четвертом? Жалкие гривенники, зажатые в кулаке из последних сил, переходили в Мишкин карман. Однако прежде чем исчезнуть в кармане, монетка взлетала в воздух перед самым Генкиным носом, и Мишка наклонял к нему веселое от удачи лицо.
Мишка, конечно, был сластена. Но больше конфет и пирожных в школьном буфете ему нравилось ощущение власти над Генкой, над Оханом и другими. Однажды он сунулся и к Шунечке.
Надо признаться, Денисенко смерила его тогда отличным недоумевающим взглядом: «Жизнь тебе надоела, Садко? Тебя же Гром в белые тапочки обует!» И Мишка оставил ее в покое, как и многих других в классе. А Генка был толстым, смешным и писал почему-то поэму о бобрах. Не тогда ли родители стали направлять его то в одну спортивную секцию, то в другую, авось поможет?
Но Генке помогли не секции...
Глава XX
Такое длинное детство все еще было, очевидно, со мной, с Чижовыми, с Шурой Денисенко. А Вика до сих пор не находилась. Не поэтому ли мы опять так сжались, так объединились? Конечно, никто не представлял, что Вика исчезла навсегда. Что ее убили, например. Или что она сама каким-то образом умерла. Но ее не было среди нас. И ей, скорее всего, угрожала опасность.
И вот мы объединились не вокруг Вики, а вокруг больницы, но, я чувствовала, исчезновение ее сыграло главную роль.
Мы очутились наконец после экзаменов на свободе, и надо было этим пользоваться, тем более что в недалеком будущем маячила работа в совхозе, куда мы поедем все, и, очевидно, как раньше — с Марточкой, но пока — свободны. Однако никто не ходит на Откос, все собираются возле больницы на пустыре, только недавно засаженном тонкими деревцами-акселератами.
Трава вокруг стоит еще свежая, с длинными листьями, после последних майских дождей. Цветут маки, в полной красе стоит лисохвост, овсюг, овсяница. Мы лежим в траве, и — будь это месяц назад — я бы сказала: балдеем. Балдение — пребывание в некой безмятежной полудреме, без мыслей в голове. Когда весь ты отдан минуте, растворен до конца в солнечном свете, в музыке шлягера, в небесной синеве, кому что нравится, но при одном условии: мыслей нет!
У нас же у всех — мысли.
О девчонке, нашей ровеснице, которая однажды ночью тихонько открыла дверь родной квартиры и исчезла. А все мы читали, между прочим, детективы. И всем нам, включая мальчишек, вот уже около десяти дней матери говорят: убедились, что значит сделать неверный шаг? Викин первый неверный шаг, по их мнению, начался вечером восьмого мая вниз по голубому спуску...
Что ни говори, вина за этот шаг на Громове все-таки лежала. Во всяком случае, он ее чувствовал. Однажды он отвел меня к больничному забору, сложенному из беленого ракушечника, и сказал:
— Я тогда только познакомил их. Макс попросил. Я думал — она ему на самом деле понравилась...
— Как на самом деле? — переспросила я с удивлением.— А разве не на самом деле?
— Ты что, не слыхала, что кричал Квадрат?
Что кричал арестованный Квадрат, я слыхала. И постараюсь рассказать, как оно все было. Что случилось дальше тем утром, когда отец исчез из дому, а мама сказала: «Характера твоему отцу не хватает. И честолюбия». Но расскажу чуть попозже, хотя, если идти за событиями по порядку, как я шла до сих пор, с этого надо было бы начать предыдущую главу. Но я не люблю рассказывать о тяжелом. Я не то чтобы закрываю на него глаза, но я отодвигаю тяжелое, безрадостное — тут я пошла не в маму. И поэтому никакого хирурга из меня не получится, напрасные старания.
191
Бабушка об этой моей особенности говорит: «Привычка поколения»,— и смотрит на меня с сожалением. Отец пытается в сотый раз, как в первый, довести до моего сведения: «Из маленьких радостей не сошьешь большого счастья». А я все отодвигаю, отодвигаю... И сейчас хочу еще побыть на пустыре, где теперь совершенно неожиданно для себя мы стали собираться. Итак, Громов спрашивает меня:
— Ты что? Не слышала, что кричал Квадрат?
— Но ведь он мог и со зла?
— Мог, конечно. Но там на девяносто процентов правда.
Гром говорит так серьезно и так печально, что я понимаю: у следователя при очной ставке (или как это называется?) он еще кое-что узнал о намерениях и действиях Поливанова. Например, то, что Поливанов отправился с нами к Камням совсем не ради наших распрекрасных раскопок. Нужны они ему были, как же! Золото или электрон (пока никто не знает точно — что) уже было найдено совершенно случайно и совершенно в другом месте. И оставалось только уточнить: какая ему цена, если оно фиал, и какая, если смято. Так что мы с отцом действительно в какой-то мере просвещали Макса Поливанова.
Володька, наверное, тоже нужен был ему как просветитель. Ведь с первых дней знакомства Поливанов и Квадрат осторожненько расспрашивали и его. А там, у школьного сарая, когда мы возились с факелами, Поливанов после двух-трех ничего не значащих фраз спросил главное: «Которая Шполянская? Познакомь, будь другом».
— Почему же ты не сказал ей? — вскрикиваю я, представив тот денек, с которого все пошло в другую сторону...— Почему ты не сказал ей? — кричу я Володьке и сейчас же задаю вопрос сама себе: «А она бы поверила?» Ведь я сама никак не могу поверить до конца. То есть я понимаю, что Поливанов мошенник или даже грабитель, но память снова и снова рисует мне картинку: по шатким мосткам идут мой отец, Володька и Поливанов. За плечами у них рюкзаки, в руках скатки. А лица такие, будто они вернулись с дальних берегов. С рассказами об опасностях, которые преодолели.— Вику все-таки ты должен был хоть о чем-то проинформировать,— говорю я дурацкую фразу дурацким голосом.
— Кое-что говорил. Но она ему все сразу, как на блюдечке, выкладывала, все передавала — это надо учесть. Что она его любит, я понимал не хуже других...
— Тогда надо было...
— ...сказать взрослым?
Все для нас, в наши неполные семнадцать, кончается на этом: сказать взрослым. И пусть они принимают решения, берут на себя ответственность, заявляют в милицию и так далее.
— ...сказать взрослым надо было, по-твоему? — Лицо Грома принимает надменное выражение. И в то же время он как будто к чему-то прислушивается, к каким-то далеким голосам. Или к тихому посвисту ветра, который шарит по берегу, наклоняет шелковую, послушную траву? К дальнему крику чаек?
192
Мы оба стоим некоторое время молча. Пахнет степью. Но в том самом месте, где мы стоим, этот запах сшибается с запахом моря, и какое-то время они летят вместе, кружат над нами, над Городом, зовут дальше.
— Пойдем к нашим? — Гром кивает в сторону Шунечки, Чижовых и мальчишек.
— Пойдем.
...И вот мы опять вместе и опять говорим все о том же: о нашей Классной.
— Нет, Лариску все-таки жалко. Помните, как она: «Отстающих медведь съест»? Теперь, значит, ее. С нас что? С нас как с гуся вода, а ей все палки в колеса. Она в методкабинет хотела на будущий год.
— Как это?
— Ну, чтоб руководить и без тетрадок.
— Без каких? — Мы смотрим на Грома, поднявшись из травы и разом сбрасывая сонную одурь.— Без каких тетрадок?
— Без ваших, без наших! — кричит Гром.— Думаете, легко каждый день сотнями проверять?
— Марточка же проверяет...
— У Марты жизнь в этом, а Лариса...— Гром не доканчивает, опять валится в траву, и все мы валимся. И жуем травинки, и смотрим в небо, и, наверное, очень по-разному думаем о нашей Классной Даме, которая, вполне возможно, не теряя своей дамской классности, уже не имеет к нам такого прямого отношения. А возможно, и вовсе никакого... Потому что именно в эту минуту и в этот час сидит на палубе большого корабля и плывет по синему Средиземному морю не затем, чтоб проведать двух очень старых людей, которые ее ждут. Она плывет посмотреть Европу. Что ей мы?
— А бабушка говорит — мы сами ее выдумали и наделили всем, чем не лень было, а теперь сами же злимся, что не соответствует,— говорю я, и чувство, похожее на тоску, охватывает меня. Потому что в этих словах заключается правда.
— А что? В этом есть...— Гром смотрит на меня, я смотрю на Грома, и разом мы взглядываем в сторону моря.
Сами себе мы не признаемся, но всем нам хочется одного. Чтоб зашуршали камешки со стороны спуска к морю, чтоб было слышно: кто-то поднимается к нам, цепляясь за кусты лоха и раздвигая ветки. И вот в траве по колено, может быть, еще не видя нас, идет к нам наша Лариса. И солнце запуталось в ее золотых волосах, и маленький лучик играет на пуговичке, которой пристегнут погончик.
Я точно знаю: все мы, пусть не с такими подробностями, ждем появления Ларисы-Борисы. Иначе к чему бы Тоне Чижовой вкладывать столько грусти в очень простые слова?
— А все-таки хорошо, когда классный руководитель молодой...— говорит Тоня.
— Хорошо, когда молодой и любит нас, а так — чем хорошо? — Шура лежит в новых джинсах, закинув ногу за ногу, с длинным
7 Школьные годы. Вып. 3
193
суставчатым стебельком в длинных детских пальцах.— Ты можешь объяснить — чем?
— С молодым есть надежда,— объясняет за сестру Ольга,— вдруг и я тоже стану такая? Ну, не в этом году, в будущем...
Заявление оригинальное, если учесть Олины очки и носы пуговками у обеих сестер.
— Какая — такая? — не унимается Шура.
— Ну, такая...— Ольге лень встать. А может, она понимает — вставай не вставай, похоже не получится, поэтому она неопределенно чертит рукой в воздухе.— Ну, такая...
— Красивая? — уточняет Денисенко и переворачивается в траве, становится на коленки, так ей лучше видны Чижовы.
— Женщина, с которой ничего не может случиться плохого,— бормочу я и вспоминаю, как по-глупому мы ждали удачи...
— Веселая? — это наш Охан спрашивает.— «Да? Нет? Я не права?»
— Ты не прав, Андрюша,— говорит Денисенко без смеха.— Все вы, девушки, не правы: человек должен быть надежным...
— Это нам еще в пятом объясняли...— Охан машет рукой, а остальные молчат.
Я тоже молчу и понимаю: несмотря ни на что, мне хочется, чтоб со стороны моря раздались шаги и над травами, над кустами появилось лицо, которое однажды показалось мне до удивления похожим на лицо нашей известной десантницы Галины Поповой.
Вот в чем еще вопрос: показалось или действительно было похоже?
Плывут облака, и ветер толкает в плечо, как живой, как будто хочет заставить действовать, принимать решения, бежать. Но мы лежим. Мы лежим и молчим, мы утонули. Только Шунина коленка высоко задрана вверх. И даже по этому колену видно, что сейчас она опять ринется в спор.
Я так и не знаю, ринулась ли? И о чем заспорили? Я поднимаюсь и иду к автобусной остановке, потому что у меня сегодня первое в жизни настоящее свидание. А до него еще пять часов свободного времени. В котором я хочу побыть одна.
Но первое, что я увидела, входя в дом, была африканская маска, висевшая на стене в прихожей. Не базарная, алебастровая, а настоящая, вырезанная из черного дерева, и я сразу поняла, откуда она взялась.
Мама сидела на балконе в кресле-качалке, аккуратными колечками пуская дым на лежащий у подножья нашего дома Город. И мне ничего не оставалось, как спросить у нее, перевешиваясь через перила:
— Все-таки отправляются? Генкины предки отправляются?
Ничего не отвечая, мама еще раз выпустила дым и еще раз. Потом
подняла голову:
— Рефрижератор не может уйти без второго механика и без медсестры тоже. Так что все твои претензии — это несерьезно,
194
Женечка... Что же касается Геннадия — я за ним пригляжу...
— Но почему? — еще пыталась пробиться я.
Мама смотрела на меня, и выражение лица у нее было такое, будто она не знала, сколько медицинских сестер рвется в Атлантику так, что без Генкиной матери флотилия обошлась бы.
— Не по-человечески все это как-то,— сказала я и села на порожек, натягивая юбку на колени и представляя Генку совершенно одного в большой, на шесть человек палате.
— Почему? — мама опять затянулась и опять выпустила светлую струю дыма.— Почему? Наоборот, одно из свойств активной человеческой натуры хотеть взять от жизни все. Вырастешь — поймешь.
— Пельмень как раз так же рассуждает,— буркнула я, поднимаясь с порога.— А в жизни должно быть очарованье...
— Должно...— согласилась со мной мама неожиданно.— Но не во вред самой жизни.
— Как это? — спросила я.
— Реально надо смотреть на вещи, Женечка. Реально.
Я не видела маминого лица, но знала, что прозрачные глаза ее сощурены на Город весело и прицельно.
Вдвоем с Маргошкой мы поплелись ко мне в комнату. А там я заплакала по-настоящему. Я плакала, главным образом потому, что представляла себе Генкину обритую, как у солдатика, и перевязанную почти сплошь голову на тощей казенной подушке. Даже штамп на наволочке со словами «первое хирургическое» подбавлял мне жалости. Даже нетронутая банка с компотом от Чижовых. Даже то, что на больничной койке в первые дни Генка лежал абсолютно плоско, только ступни стояли торчком, как у мертвых. И еще я плакала, потому что сквозь слезы мне легче было говорить Генке разные слова, какие я бы никогда не сказала в нормальном состоянии.
Слезы свои я стараюсь скрывать от взрослых. Мама не одобряет слез ни по какому поводу, но бабушке я вчера вдруг взяла и рассказала. Сидела у нее в доме на веранде, и само вырвалось:
— Часто теперь реву. Лежу с Маргошкой в обнимку и реву...
Бабушка посмотрела на меня искоса, чуть-чуть пригнув к плечу
голову. Потом накрыла своей рукой мою, лежавшую на клеенке:
— Гену жалко?
— Гену, конечно, жалко. И отца.
— Нет, Женечка, они что! Они теперь в безопасности,— сказала бабушка, глядя мне в глаза и еще сквозь мои глаза в какую-то далекую даль.— Не их жаль, ты с детством своим прощаешься, Женечка!..— И она сжала мою руку, успокаивая.
— С детством? А что, ты считаешь — оно все тянется? Такое длинное?
...И вот наконец я выхожу из дому. Я выхожу слишком рано, и волна теплого воздуха несет меня по Городу. Я почти не касаюсь ногами тротуара, я плыву, и все на меня оглядываются, завидуя.
Ну, ладно, пускай не завидуя, просто так, но оглядываются. Еще
195
бы им не оглядываться: я знаю, какое у меня лицо. Губы мои раздвигает улыбка, а глаза блестят так, что я сама как будто вижу их блеск. А почему бы и не видеть, если он ложится на всех людей, на все предметы, которые попадаются мне навстречу. И наша довольно обшарпанная балюстрада кажется мне роскошно сияющей, а собака, остановившаяся возле зеленой скамейки, определенно улыбается мне. Скамейка также хороша, и даже урна возле нее прекрасна.
Я иду, а внутри меня все гудит и бьется. Натянуто, как барабан, начищено, как медный оркестр, и поднимает меня над землей мое ликование...
Я иду к Генке на свидание опять на больничный пустырь, через весь город. Я понимаю: немного странно волноваться перед свиданием с тем самым Генкой, который у школьных ворот бросался ко мне под защиту: «Женя, что я у тебя спрошу». Но я все равно волнуюсь, будто спешу к таинственному и малознакомому.
Я вышла из дому очень рано и нарочно обхожу особенно любимые места нашего Города. На Гору, правда, не поднимаюсь, но долго смотрю на Обелиск, на совершенно невидимое, но горящее у подножья его пламя Вечного огня. Потом пересекаю спуск, выхожу к розовому, сто лет знакомому зданию третьей школы, приближаясь к морю. Оно уже угадывается, запах его тихонечко веселит и печалит сердце.
Я уже дохожу почти до того места, где когда-то, после факельного шествия, стояла с отцом, прислушиваясь, как волна с тихим шуршанием укладывает лесок поплотнее. Я уже вижу такую волну, но одновременно вижу Пельменя. Он выходит из здания со множеством казенных вывесок, говорящих о том, что в этом доме ученые занимаются рыбой. Вид у Пельменя довольный, а заметив меня, он вообще расцветает:
— Привет, Евгения! Привет, милая! Был у товарища Сабурова Г. И. Поймал новость!
Его новость вот сейчас, сию минуту окажется неприятностью для меня. Иначе какой смысл сообщать о ней с таким торжеством? И вообще, при нынешних наших отношениях какой смысл обращаться ко мне, если нечем меня огорчить? Но при чем тут Элькин отец?
Я стою внизу, на тротуаре, Пельмень — на самой верхней ступени лестницы, подрагивая выставленной вперед мускулистой ногой. Коленка вогнута, белый мокасин на литом каблучке прихлопывает по бетону. У Пельменя удобная позиция для взгляда сверху вниз, он ею и пользуется. Компенсация ему нужна — это я понимаю, хоть какая-нибудь компенсация за те мои пощечины. Но какая?
Но он не думает спешить со своей новостью. Зачем? Она ведь может оказаться совсем пустячной и не такой уж новой. Зато мое волнение для него чего-нибудь да стоит.
— Ты слыхала? Или с тобой по нынешним временам уже не делятся?
196
— Слыхала,— отвечаю я достаточно спокойно.— Почему же не делятся, если с тобой поделились?
— Да я случайно — зашел к Сабурову на работу. Он говорит: наша-то нашлась. Мать за ней поехала. Вот-вот доставят.
— Под конвоем, что ли? — цепляюсь я к последнему слову, понимая, что речь идет о Вике.
— А ты думала? Свобода для вас чревата!
— Мало тебя учили, Пельмень. Еще меньшему выучили!
А почему я не боюсь, что он просто-напросто даст мне по шее? Может быть, потому, что я испугалась другого: сейчас о Вике услышит Генка. Вот от кого только, кроме меня, он мог это сегодня услышать? Но я не собиралась молчать, красть какие-то несчастные свидания, если он ее до сих пор любит...
Я плелась к больнице, что называется, нога за ногу. Все мне вдруг стало противно. А противнее всего была я себе сама. Не сумевшая как следует обрадоваться Викиному возвращению. Не верящая Генке. И еще хуже — не верящая в себя.
И с этим чувством я прошла еще полгорода и оказалась все-таки на пустыре возле забора. Было еще совсем светло, и небо только чуть зазеленело, отделилось от земли розовой полоской. Но почему-то ни на самом пустыре (теперь он мне не казался будущим парком), ни во дворе больницы Генки не было.
Я стояла в нерешительности, то ли собираясь вообще удрать, то ли, как все эти дни делала, проникнуть к Генке в палату — навестить. Ветер мертво, тоскливо посвистывал в кустах, часы показывали только полседьмого — время больничного ужина. Что делать?
И тут раздвинулись самые дальние кусты и я увидела: ко мне идет Генка. Он шел не очень скоро, но глаза его бежали впереди него и, добежав до моих, успокоились. Потом опять в них метнулся какой-то вопрос, тревога, даже злость, и Генка ускорил шаг.
Мы встретились как раз посередине парка и даже ударились друг о друга. Мы просто влипли друг в друга, без малейшего зазора. Мы не обнимались, мы кинулись в объятия.
Грудь у Генки была широкая, и там гулко, как-то крупно билось сердце.
— У вас же ужин сейчас. Как же ты? — сказала я ему некоторое время спустя.— И моя родительница дежурит.
— Все правильно! — Генка поднял бровь насмешливо-снисходительно, как будто я была недомерок, не сразу все понимавший.— Все правильно. И причем учти: она знает, с кем я тут целуюсь. И не одобряет.
— Поцелуев?
— Зачем? Меня. Что в девятом целуются, это Наталье Николаевне и без нас известно.
— Чудеса! — сказала я.— Наталью Николаевну даже я боюсь...
Генкины руки прикрыли мне спину, как будто защищая от
197
взглядов, которые могли обратиться на меня со стороны больницы, у Генки были очень твердые, сильные руки.
— Генка! — позвала я, помолчав минуту.— Вика возвращается.
Я почувствовала, как Генкины руки вздрогнули у меня на спине.
Мы долго стояли, прислушиваясь друг к другу и к себе самим.
Ничего плохого или даже тревожного для себя я не услышала. Генка все больше брал меня под защиту. Он успокаивал меня, он отгонял мои страхи, он даже баюкал меня, как когда-то баюкал меня мой отец. Он был моей поддержкой и опорой.
— Генка,— опять позвала я, потому что мне еще необходимы были какие-то слова.— Генка, что ты молчишь?
— Я не молчу: Вика — то была Вика, а тебя я люблю на всю жизнь.
Глава XXI
И тут наконец я должна возвратиться в тому утру, когда мама сказала: «Характер твоему отцу нужен и хоть какое-нибудь честолюбие».
Итак, мы ждали тогда какого-то приличного времени, чтоб начать обзванивать друзей и знакомых, а также милицию, следователя, прокурора. Как вдруг явился отец. Он сел на стул и сказал, вытирая платком с утра усталое, да еще небритое лицо:
— Что же теперь делать? Вика опередила меня, удрала из дома в час, полвторого. Безусловно, она предупредила Поливанова. И безусловно, он сейчас уродует все, что оказалось у него в руках.
— Женя, ты хоть случайно, хоть приблизительно не знаешь адреса Поливанова?
Я замотала головой.
— И что? Ты бы пошел к нему? — привстала на кровати мама, запахивая халатик у ворота.— Не говори глупостей, они же звереют от одного вида этого металла. У меня в палате старик с пробитым черепом, так, представь, даже бредил какой-то девяносто шестой пробой и козой...
Мама остановилась, открыв рот и все туже стягивая отвороты веселого, голубого халатика.
— Постой, Алеша, я, кажется, знаю, кто и где нашел это золото.
Моя умная, моя самая благоразумная мама сидела неподвижно,
то хмуря, то разглаживая лоб, не больше минуты. Потом она подвинула к себе телефон и стала набирать какой-то номер, который был все время занят.
— А, черт! — сказала мама, ломая спичку и стискивая папиросу недобрыми губами.— Куда они могут звонить в такую рань?
Я поняла, что мама звонит к себе в отделение. А папа ничего не понимал, но смотрел на маму с надеждой. А я не просто смотрела, я любовалась. Мама сидела на кровати, словно на троне: вся розово-голубая, широкосборчатая, готовая повелевать, принимать реше¬
199
ния, отдавать команды. «Победительная женщина»,— как говорит моя бабушка. «Госпожа министерша»,— как совсем без одобрения говорил в предпоследнее время отец.
Я понимала, зачем мама звонит в больницу.
— Да,— сказала мама наконец в трубку.— Да. Камчадалова. Сейчас же найдите карточку Горбенко. Ну, того старика из шестой. И сейчас же продиктуйте его домашний адрес. Все. Я не кладу трубку.
Когда с той стороны провода опять зажурчал голос дежурной сестры, мама повторила вслух:
— Поселок Западный, Тенистая, 8. Фамилия его Горбенко. Ну?
«Ну?» — относилось уже к одному отцу.
— Я побежал,— сказал отец.— В эту самую минуту он, вполне возможно, бьет по нему молотком.
— Меня гораздо больше интересует, что он в эту минуту делает с девочкой. А тебя — нет?
Мама смотрела на отца с упреком. Мама хотела сказать взглядом: «Ты до того закопался в своей древней жизни, что не обращаешь внимания на сегодняшнюю, с ее насущными трудностями, даже трагедиями». Такое мама, бывало, говорила и словами.
— А тебя — нет?
Мама еще раз попыталась закурить гаснущую папиросу. Руки у нее были большие, белые, уверенные. И сильная, загорелая нога раскачивала красную домашнюю туфельку без задника.
— Ну? — еще так спросила мама.— В милицию звонить не будем? Опять станем действовать не как все люди?
— Вопрос насчет как все или не все мы решим с тобой позже, если не возражаешь.— Отец, как в замедленной съемке, отклеился от стула и направился к двери.— Большое спасибо за адрес. Ты меня очень выручила.
— Ты же все равно ничего не добьешься своим упрямством, Алексей! — Мама несколько раз качнула туфелькой и засмеялась.
— Почему? — спросил отец.
— Потому что милиция будет там раньше тебя: я позвоню.
Странно смотрел на нас с мамой отец.
И к двери он шел странно — пятился.
— Да,— сказала мама,— да. Смелости в нашем Алеше кот наплакал. Или лучше кошка? Наша кошка Маргошка. Ты не находишь?
Нет, я не находила. Я искала свои джинсы и маечку, я одевалась, я спешила. И все пыталась сообразить: почему то, что отец пятился к двери, свидетельствовало о трусости? А то, что он один побежал на Тенистую,— только об упрямстве и безрассудстве?
Взгляд человека прям по своей сути. Он — луч, соединяющий две точки. Он не может завернуть за угол, завязаться восьмеркой. Он должен видеть то, что видит. Но как часто он видит то, что хочет видеть! И обегает то, что мешает смотрящему наслаждаться своей правотой.
Так думала я, летя к остановке автобуса, на ходу пальцами
200
разгребая волосы, чтобы они приняли хоть какой-то приличный вид.
— Давно ушел? — спросила я у толпившихся на остановке.
— Только что, а ходят редко,— сказала мне женщина в светлом плаще с большой клетчатой сумкой в левой руке, правой она держала за воротник маленького, все пытающегося сесть на мокрый асфальт мальчика.— Ходит редко, мы с Мишкой на работу опаздываем.
— Ааботу,— повторил мальчик, подгибая мягкие ножки. И ручки у него тоже болтались мягко: он еще не вынырнул из сна, но приходилось начинать день, тащиться в садик.
Вид у меня, наверное, был не совсем обычный: женщина несколько раз взглядывала на мои патлы, на маечку, криво засунутую в джинсы. Один раз даже губы у нее шевельнулись. Я думаю, она хотела спросить: нельзя ли помочь? Случилось что-то?
Может быть, следовало не торчать на остановке, куда с минуты на минуту могла примчаться мама? Может быть, следовало бежать по улице, да еще не по той, по которой ходит двенадцатый номер «Город-пляж», а по параллельной? Путая следы? Но возможно, мама решила, что я отправилась к Вике (она ведь могла и вернуться), к Генке, к Громову?
Не знаю, сколько бы я еще топталась со своими вопросами, но тут подошел автобус, и я стала вталкивать в переднюю дверцу Мишу, клетчатую сумку и молодую, почти как моя мама, бабушку. Потом кинулась к задней, боднула парня в вельветках, парень повернул ко мне круглое заспанное лицо с баками чуть не до плечей, и автобус, заскрежетав, тронулся.
Как я молила автобус двигаться побыстрей! Но все было напрасно. А люди дремали в нем стоя. И я ввернулась в их доверчивое тепло, прислонилась, подключилась к общему ритму. Сказать по правде, в какой-то момент мне уже расхотелось наружу. Мне было сладко существовать ничего не решающей частицей. Но я вовремя одернула себя и пробилась к дверям.
На горке я впервые заметила: а день-то совсем не теплый, ветреный. Я стояла под этим ветром. А поселок лежал передо мной весь в густой, темной, синеватой, колышущейся под ветром зелени, и ничего невозможно было разглядеть. Кроме того, я не знала, в какой стороне эта самая Тенистая, а спросить было не у кого. Я стояла совершенно одна, у меня за спиной, только перешагни канаву, залитую водой, была степь, далеко впереди и справа желтела Коса, вон там была бабушкина улица и, что я знала точно, никаких Тенистых рядом. Значит, бежать надо было под горку и влево.
В конце концов я побежала.
И представьте себе, вылетела прямо на двухэтажный розовый особняк с табличкой: «Тенистая, 12».
И тут я задохнулась. От волнения, разумеется. Может быть, даже от страха. Я подумала: «А откуда известно, что мой отец здесь? Что я буду делать, долетев до дома номер восемь? И дозвонилась ли мама уже в милицию?» Даже так подумала я. И не лучше ли в самом деле
201
переложить все заботы на плечи профессионалов, а не заниматься самодеятельностью?
Но вот странно: мысли бежали в таком направлении, а ноги — совершенно четко в направлении дома номер восемь. Еще не добежав, не рассмотрев, что там впереди, я столкнулась с какой-то волной тревоги. А потом увидела отца, закричавшего мне непонятное: «К автомату, Женечка, к автомату!»
Отца держал, что называется, за грудки какой-то старик и, рыча, перегибал его через перила крыльца. Он рычал приблизительно следующее: «За своим, что ли, пришел? Я его у тебя брал? Я его из своей земли выкопал! Чекист нашелся, очкарик трухлявый!»
«Но он никогда не носил очков»,— глупо подумала я, и как раз в этот момент отец увидел меня и закричал насчет автоматов. То есть чтоб я позвонила, набирая 02, 03 или что там еще найду нужным... А я увидела Генку на траве и кровь, которая из него хлестала.
Потом оказалось, что на Тенистую, 8 Громов с Генкой прибежали гораздо раньше моего отца, но позже того момента, как за Викой и Поливановым захлопнулась калитка. В доме оказался только старик, недавний мамин пациент, и его жена. Дядька и тетка Макса.
Ни в какую драку ни со стариком, ни со старухой Громов не собирался вступать. Только спросил, куда девалась Вика и отдают ли они себе отчет, что она несовершеннолетняя. И за одно только похищение ее из дому можно получить срок?
«Которая это? — спрорила старуха.— Чернявая, какая ночью прибегала? Какая его с места сорвала? А тебе она кто?»
«Сестра,— ответил Громов, не моргнув.— Отец уже в милицию позвонил, там разберутся».
Чьего отца он имел в виду? Викиного? Своего? Моего? И почему они с Генкой ночью оказались на Тенистой? Дело в том, что адреса Поливанова, как ни странно, Вика не знала. Никто не знал, кроме Грома. Тогда ночью Вика вызвала Володьку и сказала: «Пусть они все в окна попрыгают, а я буду с ним». Вид у нее при этом был взрослый, самоуверенный, а в руках та самая планшетка, где лежала теперь уже почти бесполезная косметичка и две толстых тетради, неизвестно почему такой уж тайный дневник (когда только она успела сделать те записи?).
Громов стал уговаривать Вику дождаться утра, но Вика так притопнула — Володька понял: действительно ей необходимо увидеть Поливанова сейчас же. К тому же у Громова были одни подозрения и никакой уверенности. А у Вики одна уверенность.
В конце концов он довел ее до дома на Тенистой, а сам, подождав немного, побежал к Генке и снова, с ним, вернулся. Но было поздно.
Когда он вел свои разговоры со стариком и старухой, в доме не было уже не только Вики с Поливановым, но и золота. А в соседнем, через забор, Квадрат тоже собирался в путь. И считал, что времени у него по крайней мере до восьми — десяти утра.
Он собирался в своем доме, рядом, а старуха Горбенко маялась
202
оттого, что хотела его предупредить, поторопить как-то. Может, она думала: удерет Квадрат, унесет свою долю, а с них, стариков, какой
спрос?
Во всяком случае, за спиной Громова она сигналила и сигналила глазами своему старику, чтоб он все-таки как-то изловчился, предупредил соседей, с которыми столько лет и дружили и переругивались через забор, выясняя, с чьей крыши больше течет на участок или чья коза сжевала молодую капусту. Соседей, с которыми, месяца не прошло, как копали канаву, вели воду в дом, нашли какие-то непонятные цацки; с них все и началось.
В конце концов до старика Горбенко дошли сигналы, и он кинулся к дверям, потом к соседнему дому, не зная, что там сторожит Генка.
Генка бросился к старику. Старик отскочил от Генки, испуганный его прытью и размерами, тут из-за угла выскочил мой отец, а из дома Квадрат все в своей красной водолазке и блайзере. Он совсем был готов к отплытию. Вместе с Квадратом на крыльцо шагнул его отец, тот, что совсем недавно пробил голову своему дружку, а потом сам доставил его в больницу прямо в руки хирургу Камчадаловой. Да еще жену возле него усадил, не то правда облегчить страдания, не то следить, чтоб не проговорился...
Конечно, такие подробности дошли до меня значительно позже.
Я не видела даже того, как родитель Квадрата спрыгнул с крыльца, схватил лопату и ринулся на Генку. Он ударил его, но не остановился, схватился с отцом. Или это отец с ним схватился?
В эту минуту подбежала я, а Громов повис на Квадрате, наверное, так, как виснет собака лайка на медведе. Во всяком случае, соотношение сил было то же.
И вот теперь Володька старался задержать Квадрата, отца душил старик, а Генка обливался кровью... И все это кинулось мне в глаза и застыло.
Вернее, застыла я. Деревья, наоборот, слоисто шевелили темной,
203
почти зловещей листвой. Квадрат дотащил Володьку до ворот и бил при этом своими огромными ножищами. А с крыльца отец кричал; мне:
— Скорее, Женечка! К автомату!
Наконец я отклеила от земли пудовые ноги, вот только бросилась не к автомату — кто его знает, где он еще был на этой улице! Я бросилась к отцу. Я обхватила старика сзади, я колотила его по спине, такой же широкой, как у Квадрата. А в сердце все время было одно: Генку уже убили!
И тут на крыльцо поднялся старик Горбенко и стал отдирать руки своего дружка от моего отца.
— Ты это нам всем какой беды хочешь? Мне голову пробил — обошлось, так за других схватился? — Он хрипел так, вытягивая и вытягивая шею, а сил у него было совсем мало, но все-таки вдвоем с отцом они должны были справиться. Я кинулась к Генке...
Но в этот момент издали-издали, так, что, возможно, никто еще и не понял, что это, раздалось тревожное завывание «синеглазки». Потом к нему, почти недосягаемо для слуха, подключился еще такой же тоненький, свербящий звук «скорой».
Наверняка они, эти звуки, хорошо здесь были знакомы по прошлой жизни. Они приближались, сливаясь, неслись на нас, словно выталкивая со всего узкого пространства зеленой слободской улицы обыкновенный воздух, заменяя его духом тревоги. Потом к механическим звукам присоединилось мелькание синего, злого света в вертушке, суета белых халатов, мелькание милицейских погон, красной, вырвавшейся в последний момент водолазки. И наконец я увидела свою маму.
Вид у нее в кабине «скорой» был верховой. Не знаю, как объяснить лучше, но мама моя и после того, как выпрыгнула из кабины, оставалась всадником. И даже когда стояла перед поверженным Генкой на коленях, она отдавала команды, как будто с коня. Кроме того, она сама перевязывала, загружала носилками свой фургончик. (Отца тоже всунули в его жуткую коробку на носилках. Как потом оказалось, у него был поврежден позвоночник.)
А мама подошла ко мне и спросила:
— Ну?
Это надо было понимать так: допрыгались? Убедились в моей правоте?
— Ну?
Мама стояла передо мною в халате, забрызганном кровью, широкая, победившая. Однако все мысли о том, что хотела она сказать своим «Ну?», пришли мне в голову позже. А в тот момент я могла только спросить:
— Живой? Генка живой?
— А куда он денется? При нынешнем-то состоянии медицины? — ответила мама, рассматривая меня сумрачно и неодобрительно.— И отец родной — тоже...
204
Повернувшись на каблуках, она направилась к машине.
Что отец жив — это было легко рассмотреть, а вот Генка...
Глава XXII
— Ты бы позвала к нам Вику. И чем раньше — тем лучше.— Мама уже стояла в коридоре перед зеркалом, стараясь пустить справа налево лихой зачес из своих слабо вьющихся негустых волос.— Ты меня слышишь? Вкусненьким вас накормлю...
Зачес не получался, и мама, положив щетку и безо всякой досады, отвернулась от зеркала:
— Цыпленок с чесноком — идет?
Однако и тут я не кивнула, и мама ушла, рывком закинув на плечо маленькую сумочку на длинном ремешке. Деловая, современная женщина, которую ждет насущная работа.
Я смотрела вслед маме, недоумевая, как она не понимает: Вику звать к нам сейчас нельзя. Ну о чем мы станем говорить, собравшись втроем или — еще хуже — вчетвером на кухне? О том, как нечувствительно дались нам экзамены, и как Вика тоже могла бы?.. Или о том, как мама ловко догадалась, где живет Поливанов? «Все разговоры о козе, о козе, представляешь? А тут как осенило: золото в бреду он тоже вспоминал».— «Золотая козочка, значит, тетя Ната? Золотую козочку, говорите, нашли?» — «И тут я говорю: Алеша, так и так... Звони в милицию». По маминым понятиям, очевидно, Вика в этот момент должна была всплеснуть ручками: «Ну вы и даете, тетя Ната! Прям лучше «знатоков!» — «Служим трудовому народу!» — ответила бы мама, подкладывая Вике в тарелку и улыбаясь, как она улыбалась месяц, полгода, год назад.
А то можно было взяться вдвоем, попробовать в красках нарисовать специально для Викули картинку, которую она в жизни пропустила, дурочка! «Нет, ты представляешь! — кричала бы я, перебивая маму.— Он, как лев, кинулся!» — «Кто? — кричала бы мама, перебивая меня.— Кого ты имеешь в виду, Женя?» И обе мы смеялись бы, потому что львов в тот день на Тенистой улице насчитывалось целых три: Гром, Генка и отец...
Ужас!
Ужас, до чего взрослые не умеют иногда увидеть ситуацию, понять чужое страдание...
Нет, нам надо было встретиться с Викой по-другому. И сразу после маминого ухода я подошла к телефону. Палец несколько раз соскакивал, и диск вертелся не так, как надо, пока я набирала Викин номер.
— Викуль,— сказала я просящим голосом,— Вика, давай встретимся?
— Давай.
— Ты ко мне? Или я к тебе?
205
— А на Откос? — Голос у Вики звучал очень обыкновенно* Немного устало, что ли.— Сбегаем на Откос, как тебе?
— Нормально. Жди у тополя через десять минут.
Мне и не терпелось увидеть Вику, и было страшновато. Совсем не из-за Генки, разумеется. А просто что-то взрослое, тайное, чего еще никогда не было, прошло между нами и остановилось, поджидая за углом. Одним словом, я бежала к Вике с таким чувством, как будто за эти десять дней у нее мог вырасти нос картошкой или третья рука.
Вика стояла у тополя в джинсах и замшевом пиджачке, и в первую минуту меня охватило ощущение: мы расстались вчера и Вика притихла перед какой-нибудь нашей с ней общей проделкой. Когда мы удирали с уроков или отправлялись на взрослый сеанс в кино или на Откос, объяснив дома, что будем у Чижовых... Вот сейчас я подойду к ней, обниму: «Би1 Поехали!» — «Поехали, Женя!» Я подхожу, обнимаю тополь, а к Вике только протягиваю руку и нажимаю ее маленький, хорошенький носик:
— Би-и! Поехали?
— Идем.
Вика точно тем же жестом, что и моя мама, закинула на плечо сумочку на длинном ремешке. И вот что мне показалось: какая-то не то сухость, не то деловитость появилась в моей подружке, до сих пор отличавшейся скорее смешливостью и проказливостью.
А на Откосе нельзя было сидеть. Оставалось только лежать в соседних промоинках, переговариваться чуть ли не криком, такой дул ветер. Было холодно, как часто у нас бывает и в середине июня после дождей. И весь день казался беспощадно, немилосердно чистым. Угнетающе, я бы сказала, промытым.
Какой-то странный день с оголенными и разъединенными предметами. Даже листья на деревьях выделялись по одному. Даже галька на берегу белела или желтела отдельно каждым камешком.
Как неудачно, что мы с Викой попали на Откос именно в такой день, подумала я. И еще я подумала, что слова и наедине с Викой не идут у меня с языка.
Кроме жалости, у меня было другое чувство. Чувство какого-то стыда перед Викой. Все мы что-то получили от этой весны. Что-то, что, вполне возможно, останется с нами на всю жизнь. А Вика? Ее как будто ограбили. И ощущение, что ограбили, не пожалели, провели, тоже, наверное, долго будет за нею тянуться.
И тут, сама не знаю как, по аналогии, я ляпнула:
— А Лариса-Бориса от нас уходит. Может, уже ушла.
— Уже,— сказала Вика, не поворачиваясь, глядя прямо в небо.— Неуправляемые мы оказались, бесперспективные. Зачем ей. А такая была — классная...
В голосе Вики звучало сожаление, рука болтнулась слабо и застыла на полдороге...
— Наверное, снова Марточка вернется? — сказала я, не зная, стоит ли так уж радоваться. Марточка вернется, а все остальное? —
206
Или Мустафу Алиевича нам сосватают? «Направо равняйсь!» закричала я дурным голосом и осеклась, вспомнив, что правофланговым у нас стоит Генка. Но Вика слушала меня издалека-издалека. Нужны ей были и Мустафа Алиевич, и Генка, и все наши школьные новости впридачу. Но мне-то куда легче говорилось о них, чем о том, о чем надо было говорить.
Я просто забалтывала нашими школьными новостями необходимость повернуться лицом к настоящему. А Вика лежала как будто не в промоинке, а в своем горе, накрытая им с головой, как прозрачной пленкой, под которой не хватает воздуха...
«В жизни должно быть очарование»,— вспомнила я прошлогодние Марточкины слова. И ее голос, как бы не уверенный в том, что мы ее поймем сегодня, сейчас, сию минуту. «В жизни должно быть...»
Я не успела второй раз внутри себя прокрутить эту фразу, Вика спросила меня из своей промоинки:
— Ты сама слышала, что кричал Квадрат?
— Сама.
— И что же?
Она лежала, повернув ко мне лицо, в той промоинке, которую больше других любила. А я в той, где чаще всего оказывался Генка. И все это было так рядом, что я могла разглядеть голубые тени в Викиных черных глазах. Тени эти тревожно, выжидающе ходили в глубине. А зрачки смотрели упорно и как у человека, который хочет закричать от боли, но крепится. И будет крепиться, режьте ему хоть руку, хоть ногу.
— Вика, какого черта! Если тебе поспешили сообщить, что он кричал, то наверняка и что...
— Поспешили. Но я Пельменю не так чтоб очень верю. А мне надо один к одному — не вольный пересказ.
Я молчала.
— Ну? — повторила Вика.— Мне надо точно: один к одному.
— Один к одному я не стану.
— Станешь, Женечка, станешь. А иначе видишь меня в последний раз.
— Вижу тебя в последний раз,— выбрала я довольно уныло.— А зачем тебе один к одному?
— Интересно все-таки знать, в какую лужу шлепнулась.
«В вонючую»,— могла бы сказать я, вспомнив крики Квадрата.
А я их, конечно, вспомнила. Вспомнила я и то, как к Квадрату, на ходу выпрыгивая из машины, бросился капитан милиции. «Где девочка? Девчонку куда девали? — закричал он, встряхивая Квадрата.— Ты мне за девчонку ответишь, Савельев!»
И тут заодно вспомнила я, какое страшное лицо стало у Квадрата с появлением капитана. Верхняя, плоская губа со шрамом растеклась чуть не по всему лицу, а глаза забегали с придурью. Ничего не осталось от тугого, похожего на футболиста, явившегося к нам на темно-вишневой «Яве» вместе с Викой.
207
Тогда, на раскопках, он казался таким, как мы. Чуть-чуть даже похожим на Охана. Старше нас, опытнее, молчаливее, не в больших чинах на своем корабле и.при блистательном Максе — ну и что же? Все равно он был, как все. Даже в драке с Громовым он крутился чужим, опасным, но еще не таким, каким стал с этой растекшейся губой, с воровскими, ищущими выход глазками.
«Сколько лет все наше отделение и тебя, и всю семейку пасет. А недоглядели»,— сказал капитан, спускаясь с крыльца и слегка подталкивая все пытавшегося оглянуться Квадрата.
«Под статью попадет: девочка — несовершеннолетняя»,— сказал капитан моей маме. «Не боись, начальник, шестнадцать в том году стукнуло: гуляй, расписывайсь. Если кто, конечно, захочет после Макса».
И две дочки, и жена, и сам Макс, давно уволившийся с рефрижератора,— это все тоже выпрыгнуло, как из другой жизни. Где возможны те слова, какие кричал Квадрат, и совершенно ни к чему все, что случалось с нами в школе и в наших семьях, все, чем жил и гордился Город.
...А Вика лежала в промоинке, твердо прижав руки к бокам, глядя в пустое, синее, неприветливое небо. Она казалась совсем маленькой теперь, когда не подпрыгивала, не смеялась, не лучилась. Плоти в ней и всегда-то была горстка, а все остальное добавляло сверкающее облачко. Но облачка не стало...
— Я его неделю ждала: он мою цепочку пошел продавать. То золото — опасно было.
— Цепочку? — Я чуть не спросила, надолго ли им хватило бы десятки, да на ходу поняла: все три цепочки на Вике были не «под золото», а настоящие...
Они были настоящие, но Шполянская-старшая не хотела привлекать к ним внимание. Мне стало грустно. Мне стало опять больно, как от укола длинной, застрявшей в груди иголки. Потому что где-то в отдалении, где-то в тех взрослых пределах, куда нас не пускали, жизнь Шполянской-старшей взяла и почти беззвучно чокнулась с жизнью Поливанова.
— Вика, а ты знала?
— Что? Что у него жена?
— Нет,— заторопилась я, отгоняя Вику от ее главной мысли.— Что у тебя цепочка золотая?
— А как ты думала? — фыркнула Вика утвердительно.
— А что он с собой золото прихватил, удирая?
Вика повернулась в мою сторону всем телом быстро и механически. Возможно, это как раз она рассматривала меня и всю мою жизнь как что-то другое, протекавшее скучно по ту сторону.
Я уже знала от мамы, что в тех двух тетрадях, которые никогда не были Викиными дневниками, Макс вырезал круглую полость (так сказала мама) и туда вставил «кусок». Но чем был «кусок» до того, как стал «куском», слитком, золотом? Вот вопрос. Мама не знала.
209
Возможно, Вика тоже не знала. Собственно говоря, и Макс не знал^ Узнать мог бы мой отец, но Поливанов его опередил: сплющил^ скатал, уничтожил форму и изображение.
А вдруг в канаве, которую рыли два соседа, чтоб положить водопроводные трубы, нашелся как раз тот фиал или тот гребень? И сочиненная мною козочка действительно лежала в золотом овале, аккуратно поджав ножки, ждала двадцать веков?
А Вика все рассматривала меня, и две маленькие, как бы не имеющие никакого отношения к делу слезинки бежали из ее глаз. Она любила этого Макса и даже если знала, делала вид перед самой собой, что «не может быть». Просто потому, что такого никогда не может быть. И потом, ожидая его с деньгами за цепочку, с билетами в Ригу, где все устроится, тоже думала: «Не может быть».
Он не возвращался один день, второй, третий. Она лежала в маленькой комнате с низким потолком и одутловатыми, шелушащимися стенами и повторяла: «Не может быть».
Даже чужая женщина, сдавшая им на ночь комнату, тоже думала: «Не может быть». Не верила, что Макс просто-напросто сбежал, и ходила узнавать, не случилось ли по городу несчастного случая. Но не случилось. Тогда Вика, боясь саму себя, открыла планшетку и увидела ее пустоту...
«В жизни должно быть очарование...» Вслух я не произнесла ни слова. И не было у меня никаких подходящих слов, только злая и тонкая иголка колола и колола меня, выжимая слезы...
Ах, как они шли тогда втроем по старым мосткам, а потом
к нам по светлому песку в синих ракушках: мой отец, Громов
и Макс! Какие у них были лица, освещенные одним, одинаковым ощущением счастья...
«Не может быть!» — хотелось закричать и мне. Не может быть, чтоб один из них оказался чудовищем, понимающим удачу, людскую судьбу, любовь совсем не так... Не может быть!
«Но как хорошо, что мы не можем поверить в чудовищное предательство с первого раза»,— еще так подумала я. А может быть, это
была вовсе не моя мысль, а просто согласное повторение бабушкиных слов? Или Марточкиных?
Голо, пусто, плохо было на Откосе. И никакого утешения, пригодного для Вики, я не могла найти. Я чувствовала себя виноватой, а по светлому песку, по голубым ракушкам шел навстречу мне мой отец...
АНечаев ОЖИДАНИЕ ДРУГА, илиПРИЗНАНИЯ ПОДРОСТКА
ЧАСТЬ 1
В первый класс я летел как на крыльях. Папа с мамой сказали, что устроили меня в лучший класс, к лучшей учительнице. Я радовался ей, как маме...
Учительница первые три дня была ласковой, а потом сказала: «Я могу быть и сердитой, особенно с теми, кто плохо учится». Я плохо читал и считал, и она стала сердиться на меня. Меня это удивляло. «Зачем же я сюда хожу? — спрашивал я сам себя.— Затем и хожу, чтобы меня научили читать и считать!..» Я кое-как считал до ста, в то время как Павленко считал «до сколько угодно» и знал наизусть таблицу сложения и вычитания и даже таблицу умножения. Родители усиленно готовили его к школе, а я до школы жил большей частью в деревне у бабушки, которая и сама-то едва ли всю таблицу умножения знает.
«У меня показательный класс,— сказала учительница.— Я буду ориентироваться на сильных учеников, буду работать с сильными...» Вот тогда-то мое сердце сжалось, тогда-то я понял, в какую попал беду.
Кроме того, мне трудно было после деревенской вольницы сидеть сиднем по нескольку часов кряду. У меня от писания уставала рука. Но я старался: ведь у учительницы нагрузка большая, ведь она за успеваемость борется!.. Наши контрольные работы по математике шли на дополнительную проверку в министерство, к самому главному математику СССР.
Я старался, но у меня не получалось, а она действительно работала с сильными. Переутомление, неуверенность, страх, отчаяние — все это теснило мне грудь, накапливалось, свивалось в жгучий клубок. Несколько раз порывался я выплакаться, но папа с мамой не любили слез, с самых малых лет запрещали мне плакать; и я крепился. Меня долго не вызывали к доске, мне еще никто не сделал ничего плохого, но я в воображении своем уже переживал весь позор, который был неизбежен. Не столько за себя, сколько за родителей. Они придавали моей учебе, моим успехам такое значение! Помоги мне тогда по-настоящему хоть кто-нибудь — сколько можно было бы сделать на одном только моем чувстве ответственности! Но мои «заскоки» в понимании материала возмущали родителей, и они от бессилия своего только повышали требовательность, доходившую до бессмысленной жестокости. Рвали, например, тетрадь и заставляли страницы две-три переписывать в новую, у меня немела рука, хотелось отшвырнуть
212
прочь ручку, но вместо этого я переписывал и переписывал, потому что виновата была моя «тупость» и потому что родители хотели мне только хорошего. Так мое чувство ответственности стало порождать страх. Я ждал, когда меня вызовут к доске. Мне было страшно спать, и я клал к себе в постель любимую плюшевую собачку и резинового слоненка.
И вот однажды я лег спать, но через пять минут прибежал к родителям на кухню и разрыдался. Я рыдал и говорил, что боюсь учительницы, что не знаю, как буду решать примеры у доски, что не могу уснуть, и мама, усадив меня к себе на колени, утешала меня, а папа... папа сердился!
У доски я получил первую тройку, «тонкую тройку, готовую превратиться в двойку», сказала учительница. Я на пальцах считал, а пальцев не хватало. «Разуйся»,— подсказала учительница, и класс засмеялся. Потом я схлопотал двойку. Учительница просто не давала думать, гнала и гнала. «Я не могу... не успеваю»,— лепетал я, вбирая голову в плечи. «Все могут, а ты не можешь, все успевают, а ты не успеваешь,— отчитывала учительница.— Нам некогда, слабых не жде м!..» Вот какой она выдвинула лозунг. Когда она так говорила, я готов был вскочить и закричать, но вместо этого опускал голову и молчал. Мне было стыдно за нее.
Оксана Панова тоже получила первую двойку и весь день выплакивала свое горе. А я обозлился и подумал: «Пусть кто хочет плачет из-за оценок, а я не буду!» Так я решил с полным правом, потому что чувствовал несправедливость всего происходящего. «Престижный класс!», «равняемся на сильных!», «слабых не ждем!» — против всего этого я протестовал всей своей душой. Куда же девать нас, слабых? Дома я все-таки плакал и думал при этом: «Ладно, я бестолковый, а вы-то, взрослые, как можете быть такими близорукими и несправедливыми?»
Я был перваш, то есть первоклассник, а человека чувствовал в себе во весь рост. Я это к тому, что кое-кто принимает первашей за кукленков, все еще за младенцев.
Дело дошло до того, что однажды девочки-отличницы толкнули в сугроб Оксану Панову и на укоры взрослых ответили: «Ну и что? Она же двоешница!..»
Вот какая вышла мораль. А во время велосипедной прогулки они оставили за городом уставшую девочку, Алену Малкову, а сами укатили. Слабых, сказали, не ждем...
Учительница об этом, конечно, не знала. А я не мог рассказать ей обо всем этом, потому что тогда я еще не умел назвать все это. Да и не было у меня права, потому что я был маленький.
Так у меня возникло отвращение к отметкам, возникла ненависть к пятибалльной системе. Не к труду, не к учебе, а к пятибалльной системе, которая, как мне казалось, жестоко делила людей, делила не на добрых и злых, а на сильных и слабых.
Бывали и светлые минуты. Мне неплохо давалось чтение стихов. Помню, как я впервые декламировал Пушкина.
213
Вот север, тучи нагоняя...
Левой рукой я уперся в бок, правую отвел вверх и в сторону — как-то само собой так вышло — и прочитал свободно, с чувством. Пятерку получил. Первую.
И по рисованию. Учительница поставила за рисунок «Море» пять и сказала, что, если б можно было, поставила бы шесть. И даже Павленко, командир, главный в классе, ко мне, к простому ученику, в альбом заглянул...
А потом я на уроке труда лошадку вышил, и учительница сказала: «Глаз отвести не могу!» Как радовался я, когда она, чтобы отметить мой успех, подарила мне свою иголку с большим ушком! Я цеплялся за малейшее проявление доброты в учительнице. Я даже немного математически окреп. Неделю не ходил — летал! Дома, в ожидании родителей, я расхаживал по комнатам и напевал: «Первокла-ассник, первокла-ассник, у тебя сегодня праздник!..» И когда приходили родители, я протягивал им дневник и говорил, сдерживая счастливую улыбку: «Все-таки не такой уж плохой я у вас ученичок...» Папа с мамой заглядывали в дневник, говорили, что я мог бы хорошо учиться, да леность мозгов мешает. Конечно, в такие минуты можно было бы и выбирать выражения, но я прощал им, радость моя покрывала все.
Но вскоре пошел новый, еще более трудный материал по математике, компоненты, анализ,— и я снова съехал на тройки, попав в послеурочники. Снова началось мое томление. Учительница снова стала суровой и немилосердной; родители тоже обрушили на меня недовольство, раздражение, гнев и грубость. Я оказался между двух огней.
Ученикам нередко предлагают тему сочинения: «Родители глазами детей». Папам достается, мамам... А вот предложили бы хоть раз написать сочинение на тему: «Учительница глазами школьника». Наверно, полезно было бы. И справедливо. «Она слишком строгая и занятая. Она иногда даже запрещает обращаться к ней, так как ей некогда. Я на уроках прятался за книжку и плакал, потому что не успевал за всеми. А она не замечала. Я думал, что когда-нибудь закричу и убегу из класса... Но куда? Дома — родители...» Такое я записывал в свой секретный дневничок, который сохранился у меня до сих пор. Он очень помогает мне сейчас, когда я пишу свои признания...
Конечно, в сочинении об учительнице я не стал бы чернить ее. Она меня учила, и я сполна оценивал это.
Как я сочувствовал ей! Разве я не понимал: нас в классе сорок пять человек, а она одна, у нее по одной минуточке на человека... Мы нарушаем дисциплину, а ей и программу выполнять, и нас усмирять. Олег Рудой, тот так говорил: «Государство ей за всех платит, она обязана и с нами, слабыми, работать, а она на родителей наших груз перекладывает... Хочет стать заслуженной, вот и напирает. А родители не умеют толком объяснить. И все это отражается и на их,
214
и на нашем здоровье. Понимаешь? Так бы тянули на троечки и
ничего, а ей успеваемость нужна. Вот и выходит, что процент дороже детей». В этом была правда, я соглашался с Рудым, но в своих мыслях я шел дальше. Отказываясь от нас, слабых, она фактически признавалась в своем бессилии, то есть а своей слабости. А слабых я жалею. Она ведь тоже с нами замучилась. Ее еще и администрация школы за нас точит. И дочка у нее болеет...
Она и не подозревала, что я строю с ней отношения. Она говорила, что знает о каждом из нас все, но обо мне она знала только, что я робкий и молчаливый, что я слабенький. Она не могла представить себе, что какой-то там первоклашка жалеет ее.
Но некоторые ее недостатки вызывали во мне удивление. «Пусть папы придут на двадцать третье февраля с наградами, орденами и медалями. Мы будем их славить». Так сказала она, а я подумал: «Что-то она не то говорит... Как же она не подумала, что у половины класса нет пап! Папы — в разводе...» Мало того. Тот же Рудой встал и сказал: «А у моего папы нету наград». Тогда она заявила:
«Что же это за папа — без наград!»
У меня волосы дыбом встали. «Так,— подумал я.— Получаешь пятерки — человек, не получаешь пятерок — неизвестно, кто ты. Есть награды — человек, нет наград — не человек... Так выходит?» У моего папы тоже не было наград.
На перемене мы с Рудым долго и горячо обсуждали этот вопрос. Нам мешал Восцын, который громко — чтоб мы слышали — говорил о том, как много у его папы медалей. Наконец Рудой не выдержал и сказал грубо: «Заткнись. Знаю я, какие у твоего отца медали. «Десять лет безупречной службы», «Пятнадцать лет безупречной службы»... Но это не за подвиги, а просто за хорошее поведение. Понял? И не хвастай — стыдно!»
Однажды наша учительница заболела, и нам прислали на замену другую. Когда я ошибался, она не кричала, подходила ко мне и тихо спрашивала, почему я сделал так, а не иначе, объясняла, как надо делать, и... и гладила меня!
Заласкала нас она! Нам даже страшно за нее стало: как она при такой ласке со злосчастным процентом справится! Она не ставила нам двоек, вместо них проставляла в журнале точечки. «Как же можно без двоек?» — спрашивали у нее девочки, а она говорила: «Двойки не нужны ни вам, ни мне. На мой взгляд, вообще никакие отметки не нужны. Но вы еще маленькие, а вопрос этот слишком серьезный. В нем и взрослым-то еще долго предстоит разбираться». Нужно сказать, что вскоре я стал лучше соображать. Даже в тетради по математике появились пятерки. Та учительница за малейшую пома- рочку взыскивала, а эта ничего не значащие оплошности прощала.
Заласкала нас, а нам же хуже вышло. Вернулась наша учительница, позачеркивала пятерки в тетрадках, поставила четверки. Ругать стала: «Ничего не знаете!» Это было несправедливо. Во-первых, мы кое-что знали. А во-вторых, как можно, не давши знаний,— ругать!
215
Снова началась «работа в темпе».
И я приуныл.
Я ведь еще строил отношения и с родителями... И тут было еще страшней: хорошо учишься — вроде любить тебя можно, плохо учишься — любить не за чт о...
Я держался, как мог. Во-первых, терпеливо сносил резкие нападки. Во-вторых, переживал и старался изо всех сил: думал только об уроках, просиживал за уроками по два-три часа. Мало того. Вместо прогулок занимался конструктором, чтобы научить голову лучше работать. Я сам помогал себе/как умел. «Все только повышают голос, хмурят брови, пугают и бранят,— рассуждал я,— а я найду в себе резервы, разовью способности и подтянусь в учебе».
Была в моих занятиях еще одна подоплека: смонтировав все предложенные в инструкции схемы, я создавал из частей конструктора нечто не предусмотренное, фантастическое, свое: например, металлического геометрического коня,— так я утверждался на конструкторе: я могу творить!..
Предельно утомленный, я вечером упрашивал папу сыграть со мной в шахматы. Папа, наверное, думал, что я прошу от безделья, от скуки, для развлечения. У меня же цель была другая. Усталый, я играл вяло, а папа делал колкие замечания, понуждал к активной игре, к энергичному думанию и наступлению и неизменно ставил мне мат. Он играл сильно и разделывался с моими фигурками в два счета. Папа был словно слепой. Он не видел, что я тратил последние усилия не только на развитие своих математических способностей, но и на утверждение самого себя; он играл жестоко, не додумываясь до того, чтобы хоть разок поддаться и укрепить тем самым мое «могу»; не доходил он до этого, не умел сделать умно и тонко — так, чтобы я выиграл и поверил бы в выигрыш без поддавков, а я словно молил его в душе о чем-то таком... Конечно, с его стороны это была спортивная честность. Мой папа очень принципиальный человек...
Я был одинок. Я исхудал и стал «как птичье перышко» — так сказала бабушка, когда я приехал к ней на лето.
«Птичье перышко!» От родителей у меня было другое звание, ученое — «оболтус»...
О, как сложно было строить и поддерживать отношения с родителями! Никогда, наверное, не забудется один диалог с папой. «Папа,— уныло говорю я,— зайди в школу по вопросам дисциплины».— «Признавайся, что натворил? Ну?..» — «В окно посмотрел, вот что натворил».— «Врешь!» — «Не вру... Первый снег выпал. Учительница сказала: «Работаем! Кто в окно посмотрит, тому «неуд» по поведению поставлю». А я сам не заметил, как загляделся...» Папа стал заедать меня поучениями о внимании, прилежании и тому подобном... Я возьми и скажи ему: «Папа, ну будь ты другом хоть раз!» С минуту он оторопело смотрел на меня. «М ы тебе не друзья, мы — родители»,— с непробиваемой серьезностью и убежденностью сказал он.
216
Не друзья — вот оно мое горе. О, как сокрушался я! Будь они и родителями, и друзьями, я никогда не злоупотребил бы правами дружбы. Более того — всегда, как самый бдительный часовой, охранял бы чистоту и нерушимость нашей дружбы. Это было моей мечтой.
Я искал спасения в рисовании. Никто не заглядывал в мои рисунки; а если бы кто и заглянул, то едва ли понял бы, что я там изобразил. На каждом рисунке у меня бои. Все стремительно, яростно, черный цвет сражается с красным. То одолевал черный, то красный. Я сражался, мне было неимоверно трудно. Часто я рисовал огромное зеленое чудище с хребтом-пилой, с воинственно задранным хвостом и с зубастой пастью, разинутой на крохотного, с муравья, человечка. Человечек — это я.
Весной, уже под конец учебного года, я решил заняться спортом. Признаюсь, я замыслил стать.. лучшим вратарем мира! Говорят, что многие двоечники стали выдающимися футболистами. Я бегал, падал от усталости, старался, но мальчишки не брали меня в команду. Больно хилый. Брали только тогда, когда некого было ставить на ворота. Поставят на ворота и аплодируют: «Дырка на воротах!»
Совсем загрустил я.
К бабушке приехал, ее попросил со мной в футбол играть. Иона согласилась! Потихоньку за избой играли. И я был лучшим вратарем мира... Бабушка, родная ты моя, спасибо тебе!..
Академик Павленко
Учителя превозносят его выше небес: «Наш академик!» Вся школа его уважает, все с ним считаются. Лидер. Хозяин жизни.
И я уважаю его, только не за то, за что уважают его все. Лидер, академик — для меня это не главное. Обыкновенный лидер. Обыкновенный академик. Ну и хорошо, ну и прекрасно. С первого класса метеорно читал, писал и считал. Всегда причесанный, прилизанный. И в очках. Всех, кто носил очки, я почему-то считал занудами. Несправедливо, конечно; но Павленко был-таки занудой.
Выйдет, бывало, во двор и, вместо того чтобы играть, пристает: «Ты какой вариант использовал в решении задачи?» У меня даже волоски на руках дыбились от отвращения. Он и в шахматы лучше всех играл, и на хор ходил, и с девочками «польку-бабочку» танцевал. Дифирамбы, титулы, дипломы, грамоты так и сыпались на него. И казалось бы, ставь на нем крест. Оксана Панова так и поступила. Взяла и на выпускной фотокарточке после третьего класса залепила ему лицо пластилином. Она не завистливая была, нет! Она восстановила справедливость. Подумаешь — отличник! Не это идеал, замазать его! Идеал — он в чем-то другом, он и в Оксане есть, он хочет себя доказать, но еще не знает как. В чем он, идеал,— трудно сказать, просто-таки невозможно, но та же Оксана безошибочно ощущает его в себе; по крайней мере, бунт ее против «орденоносного
217
ребенка» — это и есть бунт заложенного в ней идеала против какой бы то ни было попытки унизить в ней этот идеал. А павленковские в общем-то честные пятерки стали приобретать у нас в классе как раз такой смысл, каким унижалось то, на что нельзя поднимать руку: унижалось то, что так трудно назвать и что так безошибочно ощущаем мы в себе. То, на что еще не придумано дипломов и грамот. И вот оно залепляет лицо отличнику и облегченно вздыхает, восстановив справедливость, словно сказав себе: «Вот так. Если я не чемпион, то это еще не значит, что со мной все кончено». Вот оно — главное! Никогда ни с каким человеком все не кончено.
Из этого, может быть, и проистекали все мои несчастья, как то будет видно в последующем.
Поэтому я и не поставил на «нашем академике» крест.
Расскажу о нем кратко. Я продолжал водиться с ним и только в шестом классе вдруг узнал, что он... ковбой!
Да, да! Все время он воображает себя ковбоем, в воображении своем скачет на мустанге по прерии, сражается с хищниками и дерется с негодяями! Он такое рассказывал мне о ковбойской жизни, точно действительно был ковбоем...
Вот тебе и раз. Прилизанный, замуштрованный, в очках — и дикий. Вот тебе и академик.
Оказывается, он не доволен своими академическими успехами* подавай ему еще что-то!..
Не за лидерство уважал я Павленко, а как раз за то, что мало ему было лидерства. Мало — и он искал в себе еще что-то... Так в моем сознании Оксана и Павленко обрели равенство. Я уважал и любил их обоих.
В свое время я попытался было рассказать о своем открытии папе, но он, слушая меня, думал в то же время о чем-то своем. Едва ли все это было для него серьезным.
Впрочем, он заметил тогда: «Тебе нужно на юридический поступать. Из тебя выйдет хороший адвокат».— «А кто такой адвокат?» — спросил я. «Ну... как бы тебе объяснить...— с некоторым затруднением отвечал папа.— Адвокат — это защитник на суде».
Несчастный Корнильчик
Да, все пятнадцать лет моей жизни были ожиданием друга. Не то чтобы я рассчитывал на некое чудесное его появление, хотя и такие надежды были, не то чтобы ждал сложа руки; нет, я ждал его, упорно трудясь, напряженно ища, непрестанно размышляя, с пылким нетерпением, приготовляя для него всю свою верность.
На многих смотрел я с тайной надеждой на дружбу. Нет, я не завидовал тем, которые водились друг с другом, приятельствовали, совместно препровождали время и т. п. Я добывал дружбу в возвышенных мечтах, в мучительных размышлениях, добывал всей своей
218
жизнью — самой дорогой ценой. Иначе я не мог, иначе — не стоило.
Поневоле я полюбил уединение, то хорошее одиночество, которое позволяет осмыслить себя и мир. Но я был одинок вообще, у меня не было друг а...
От одиночества я стал много читать. Особенно нравились мне книги-исповеди, книги-признания, дневники, письма, записки.
Я пристально всматривался в людей, вырабатывая в себе наблюдательность, вдумчивость, и это, в сочетании с нетерпеливостью и взыскательностью, делало мою жизнь до чрезвычайности сложной. «Я слишком требователен»,— упрекал я себя. «Но не могу же я обманываться!» — возражал я самому себе.
Как трудно было мне! Кто поможет в поиске друга?.. О дружбе говорили: говорили и родители, и учителя, и дети. Говорили правильно, но в своей жизни я оставался со всем этим один на один.
Конечно, можно пользоваться и тем, что уже достаточно передумано кем-то, и можно даже просить других думать за тебя. Есть в нашем классе мальчик-присосок, Федюк, ко всем пристает: «Как ты думаешь? Как мне поступить?» Выслушает все рассуждения, скажет: «Ну ты голова!» — и живет себе по готовенькому. Новая трудность — он тут как тут, к кому-нибудь присосался. «Как ты думаешь, что папе на день рождения подарить?» Вопрос, конечно, сложный, сам мучиться не хочет... И уважать себя не хочет. Я так не могу. И таких людей считаю опасными. Есть в конце концов серьезные вопросы, которые можешь решить только сам. Неужели можно спрашивать, пожалеть того или иного человека или нет?.. И потом, я не всем доверяю. И еще: считаю, что перекладывать свой труд на других нечестно. Другое дело — посоветоваться с тем, кого уважаешь. Принять к сведению, а окончательно решить самому.
Мне было трудно общаться с людьми. В постижении человека огромные трудности начинались с самого, казалось бы, малого — с трудности назвать. Ведь много есть такого, что назвать почти не¬
219
возможно, а оно, это неуловимое, и есть самая суть. Вот эта-то суть, пока она не выражена в слове, как бы не существует. И есть она, и нет ее. Вот самый поверхностный пример. Был у нас в школе юноша, которым я некоторое время гордился,— втайне, конечно. Витя Сенин. Идеального сложения, красив лицом, сдержан, одет всегда с иголочки. Я просто восхищался его красотой и самообладанием, я был почти счастлив оттого, что есть среди нас такое совершенство. Я не такой, зато он такой. На улице я старался держаться поближе к нему, шел по тротуару вслед за ним и с радостью ловил восхищенные взгляды прохожих, которые те обращали на него. И в То же время что-то не позволяло мне совершенно положиться на собственное мое восхищение. Что-то поднывало в душе; я не мог понять что и запрещал себе прислушиваться к глупому подныванию. Но однажды увидел: Витя любуется с о б ой!.. Да, да! Он любовался своим отражением в витринах, он поводил плечами, как женщина, он... павлин!
Я был страшно разочарован и испытывал самое настоящее чувство обиды к человеку, который ничем мне не обязан, который и знать-то меня не знал. Куда девалась его красота! Он обманул меня; но обиделся я не за себя — за красоту. Глупо ли это, не знаю, но все мои тайные вопросы к нему и обвинения сводились к одному: почему он не идеал?
Вот, оказывается, как трудно увидеть и назвать, казалось бы, очевидное. А сколько существует менее очевидного!..
Таким образом, я все отчетливее представлял себе всю серьезность и сложность моего положения. Обманываться, хотя бы тем же Витей Сениным, я не мог, так как оказался человеком достаточно внимательным и честным; отречься от жажды совершенства, неизвестно каким образом появившейся во мне, я тоже не мог.
А жить нужно было.
Благо в книгах, которые я впитывал, как сухая земля воду, мои мучительные искания находили неизменную поддержку. «Никакое приобретение не лучше друга»... Такие напутствия укрепляли мою веру в себя, в будущего моего друга. Я торжествовал: «Значит, есть такие же, как я!..»
И я искал, как мог. И находил. Но все оказывалось сложнее, чем я предполагал.
Пусть, однако, говорит за себя то, что было в жизни...
Еще в четвертом-пятом классе я узнал о таких необыкновенных вещах, как неопознанные летающие объекты, подземная гималайская цивилизация, бермудский треугольник, снежный человек, чудище Нес- си и т. п. Все это я узнал от гостей, которые бывали у родителей. Относился к таким сообщениям серьезно и пересказывал услышанное одноклассникам. Во-первых, такие сведения сами по себе интересны; во-вторых, признаюсь в маленькой хитрости или слабости: таким образом я пытался заинтересовать собой ребят... Они выслушивали с повышенным вниманием, с каким выслушивают рассказ, например, об аварии на дороге, и тут же продолжали свои игры и шалости,
220
совершенно забыв о рассказанном. Более того, почти никто, как я догадывался, не верил в существование того, о чем я говорил, не поражался самой возможности таких причуд и тайн природы. Не придавали этому никакого значения, не пользовались этим для того, чтобы помечтать о чем-нибудь превосходящем наше обычное разумение. И не заинтересовывались мной. Наталка Гуща, второе лицо в классе после Павленко, чувствуя все же в такие минуты угрозу своей популярности, объявляла: «Воображает!..» — и уничтожала меня недобрым взглядом.
Единственный, на кого эти рассказы производили глубокое впечатление, был Корнилов. Корнилов был самым слабым учеником в классе, едва тянул на тройки. Он был очень худ и бледен. Ему не везло еще больше, чем мне.
У каждого в классе было прозвище. У меня — Контрабас. Набирали мальчиков в хор, и нужно было спеть тоненько-претоненько: «Во поле березка стояла»,— я же спел нарочно грубо, низко, чтобы не ходить на хор. Меня отправили домой; а от мальчишек я получил прозвище «Контрабас». У Корнилова было много прозвищ: «Ошибка природы», «Ископаемое» и т. д. Однажды его завалили макулатурой, которую сложили временно в классе; вошла учительница, и все бросились врассыпную по местам; Корнилов вытерпел в макулатуре пол-урока, а потом закопошился и вылез. «Это что за ископаемое?» — спросила учительница, и с тех пор Корнилов стал Ископаемым.
Он перешел к нам из другой школы. Отца у него не было, только мать, сварщица. Корнилов боялся матери. Учительница чуть ли не силой отбирала у него дневник, чтобы поставить двойку. Мать никогда не била его, но кричала — а это для него было еще страшнее, потому что он не выносил крика. Однажды мать так крикнула на него, что он стал заикаться. А Восцын еще завидовал Корнилову: «Вот бы на меня кричали! А то ведь меня лупят...»
Помимо того что Корнилов боялся матери, он еще и жалел ее. У нее тяжелая и вредная работа. И кричит она на него не со зла, а потому что сама совершенно не разбирается в уравнениях и ничем не может помочь. Туго приходилось Корнилову и его матери, тем более, что у нас в классе были повышенные требования по математике.
Корнилов был довольно высокий мальчик, но все называли его Корнильчиком. Может быть, потому, что все, даже девчонки, клали его на лопатки.
Ему действительно не везло больше, чем кому бы то ни было. Все сидели на дереве, а упал один он. Поднялся, но ни разогнуться, ни дышать не может — идет, как старичок согбенный, за грудь держится. Глядеть на него и жалко и смешно. Было в его постоянной, истовой серьезности что-то комичное.
То лыжу на физкультуре сломает, то домой без шапки идет — неизвестно, кто и куда зафутболил,— то из бассейна без штанов, в
221
одних трусах возвращается — пропали штаны, и все тут! То в столовой с потолка штукатурка скололась и не к кому-нибудь, а прямо к нему в тарелку с кашей упала. Все в столовой в смех: «Ошибка природы!» — а он схватился за голову, плачет, причитает: «И почему я такой несчастный народился?..»
Может быть, это слово «несчастный» тронуло сердца поварих. Они все дружно вышли его утешать и с тех пор подкармливали его и жалели. Попробуй кто обидь Корнилова)
А обижал его всякий, кому не лень. Один старшеклассник опыт над ним производил. Заставил его упереться изо всех сил спиной в стену и засек по часам время. Бледный Корнилов аж покраснел от натуги, подпирая стену. Через пять минут старшеклассник сказал, пристально глядя Корнилову в глаза, что если он теперь отпустит стену, то она повалится. И Корнилов, как загипнотизированный, держал стену. У него дрожали в коленках ноги, а он все держал и держал... Все кругом умирали со смеху.
И вот как-то в очередной раз сделали его посмешищем: натирали ладони о стену и оставляли отпечатки пятерней у него на форме. Десятеро на одного. Он уже весь был в белых пятернях, как кто-то прибежал в столовую и закричал: «Там несчастного Корнильчика донимают!» Поварихи — четыре толстые тетки — тотчас бросили свои кастрюли и котлы и устремились в коридор. Обидчики разбежались. Поварихи обтерли Корнильчика, одарили его чем могли — пирожками, горстью арахиса в сахаре — и объявили всем, кто был в коридоре, что берут его под свою защиту и кто обидит его, тот получит черпаком по башке. Весть об этом разнеслась по всей школе, и Корнилова после этого остерегались трогать.
Корнилов так слушал меня, что во время рассказа, сам того не замечая, повторял мои жесты и мимику. Мне нравилась его непосредственность. Как он радовался случайной четверке! Не стыдился, как я, а радовался. Я же, получая четверку или пятерку, стыдился, так как считал, что это только подчеркивает мое убожество. Четверки у Корнилова проскакивали главным образом по пению, но его это ничуть не смущало. Он был не гордый, вот что.
Пожалуй, более всего меня поражало в нем то, что он не различал сильных и слабых. Он мог самым чистосердечным образом попросить старшеклассника: «Отряхни мне форму на спине, а?» — за что не раз получал щелбаны и затрещины. Впрочем, щелбаны ничему его не научили, он так и оставался простодушным. Это восхищало меня, потому что сам я зорко следил за тем, с кем и как себя вести. Это было изнурительное занятие, так как нужно было определяться с каждым.
С Корниловым было бы хорошо дружить: доверься ему в чем угодно — он никогда не осмеет. Вот в этом-то и заключалась основная разница между Корниловым и мной. То есть я тоже никогда никого не осмею; но у меня это оттого, что я не позволю себе этого из серьезного отношения к людям, из уважения к ним, из страха,
222
наконец, а у Корнилова — оттого, что нет пренебрежительной и злой насмешки в самой природе его!
Сложно было бы мне дружить с ним, так как трудно было бы превозмогать свое превосходство в знании жизни, а дружба должна быть беспревосходственной. Счастливая бесхитростность Корнилова всегда служила бы упреком моей совести, которая знала слишком много различий и «приличий» между людьми. Тут уж начиналось превосходство Корнилова — превосходство, которое не превзойти. Оттого я и любил Корнилова.
В восьмом классе парень, Корнилов то есть, должен соображать, а он, получив от мамы в подарок часики за двадцать четыре рубля, радуется, всем показывает. У всех давно, чуть ли не с первого класса, часы электронные, со счетно-вычислительным устройством, некоторые по пять — по восемь его часиков стоят, а он лезет со своим неприличным приобретением. Ребята, рассматривая подарок, посмеивались, подталкивали друг друга локтями. «Корнилов,— сказал высокий чернобровый красавец Очеретяный,— ты радуешься своим часикам, как четверке...» Все кругом замолчали. Корнилов недоуменно хлопал белесыми ресничками. В серо-голубых глазах его мелькнула какая-то тревога, догадка, но тут же исчезла.
Все поняли, что произошло, один он не понял.
Тогда я, проходя мимо Очеретяного, с размаху ударил его в лицо кулаком.
С тех пор я дал себе зарок не носить дорогих часов. Снял свои японские часы и бросил их в ящичек серванта.
Корнилов, когда ему разъяснили, кажется, все равно не понял: сарказм — слишком злое для его понимания. Во всяком случае, он никогда не обижался более чем на минуту; тут же заговорив, как ни в чем не бывало, с Очеретяным, он тем самым поневоле как бы посрамил меня.
Маленький Восцын, который выше всех
Восцын — мальчик совсем другого рода. Он был низкого роста, почти ниже всех мальчишек в классе, но изо всех сил стремился быть выше. Делал он это невероятное дело следующим образом. Когда мерялся с кем-нибудь ростом, привставал на носки; при построении на физкультуре упорно становился ближе к правому флангу, хотя ряд из-за него получался щербатый; ходил в баскетбольную секцию, потому, что занятия баскетболом стимулируют рост; приставал ко всем с вопросами: «Я ведь выше Колобкова? Скажи, выше?» — и ему отвечали: «Конечно, выше!» Восцын действительно был выше, заведомо выше Колобкова, поэтому и спрашивал. Так он внушал всем заветное: «Восцын выше» — и получалось в конце концов так, будто он в самом деле выше всех.
Восцына дома лупили, но не за двойки, как меня, а за четверки.
223
На этой почве мы и сблизились. Больше никого из класса родители не лупили. Вокруг было так много счастливчиков, а мы страдали.
Отец Восцына, полковник, требовал только отличных оценок. Вое- цын буквально выклянчивал у учителей пятерки, пускался во все тяжкие, шел на откровенный подхалимаж, списывал и, надо сказать, редко подводил отца.
Конечно же, ему, как всем, хотелось с кем-нибудь дружить; он потянулся было ко мне — я безропотно выслушивал его вранье о том, как его папа отказался от генеральского звания, как нырнул и спас затонувший танк, как поймал шпиона, как скакал на спортивной лошади и обогнал чемпиона области... В этом вранье брезжило что-то хорошее: смутное хотение Восцына, чтобы его папа спас что-то или кого-то, то есть был бы добрее, лучше, чем он есть на самом деле. Папа его, судя по всему, неплохо справлялся с обязанностями по службе, но сыну этого было мало... Я ухватился за эту ниточку; однако дружить с Восцыным было трудно.
Пришел я как-то к нему, позвонил — вышла его мама, сказала: «Подожди Толика, он заканчивает ужин». Мне послышалось в ее голосе приглашение, я сделал движение, чтобы войти, но она перед самым моим носом закрыла дверь...
Однажды произошел совершенно феноменальный случай. Делали контрольную по алгебре, решали задачу. Задача была исключительно трудная. Даже Павленко пыхтел, никак не мог справиться; а у меня ответ вдруг легко сошелся! Восцын, сидевший рядом со мной, не потребовал списать... История вышла скверная. Учительница на очередном уроке подняла меня с Восцыным и спросила: «Кто у кого списал?» Задача, оказывается, решена неправильно, ответ сошелся по какой-то исключительной случайности. Это редчайшее явление наличествовало в точности как в моей работе, так и в работе Восцына... «Так кто же у кого списал?» — повторила учительница. Всем слишком были известны мои «успехи» в алгебре; смешно было подумать, будто кто-то списывал у меня!
Расчет Восцына был безошибочным. Восцын сказал: «Он списал у меня».
224
Я молчал, опустив голову. Что я мог сказать? Все равно никто бы не поверил.
Восцыну за то, что он работал, поставили тройку, а мне — кол и позорное замечание в дневнике. Но дело, конечно, не в этом... Самое горькое ждало меня впереди.
Вечером в дверь позвонили. Это был Восцын. «Выйдешь?» — спросил он неподдельно-непринужденным тоном. «В-выйду...» — не столько ответил, сколько повторил я. «Ну, давай, только поживей»,— распорядился, как обычно, Восцын, подбивая ладонью мяч. Я оторопело смотрел на него. Может быть, это пришел не он, не Восцын?..
Да нет же, он.
Он и не думал оправдываться, извиняться; ему не было стыдно, он не страдал. Страдал все это время за него я, думая о том, как будет Восцын выходить из положения, как, наверно, мучается он...
Потешный тип
Перерепченко утверждал, будто классная руководительница после уроков надевает черные усы и ходит по дворам наблюдать, как ведут себя ученики.
Такое мог придумать только Перерепченко.
Он был самый высокий в классе. Когда класс вставал, он продолжал сидеть, но при этом казалось, будто он тоже стоит. Все, конечно же, смеялись...
Первые несколько лет он словно не знал, как себя вести, был каким-то серым, неприметным. Его рост, как всякое отклонение от нормы, безжалостно обсмеивали. Он принимал насмешки, а я удивлялся: как может он сносить все это?
Нет, он просто не знал еще себя, не знал, кем быть. Его как личности словно еще и не было, поэтому насмешки неизбежно летели мимо. Но вот он пригляделся наконец к жизни, к себе, почувствовал себя и повернул дело совершенно неожиданным образом...
Впрочем, здесь необходимо небольшое отступление.
Как-то, роясь в библиотеке, листая книги, я зачитался случайно открытой страницей в одной старой тоненькой книжице. И вот что я вычитал. Если ты не знаешь, над чем или над кем смеются, то в тебя закрадывается тревога: не над тобой ли? Почему тревога? Откуда тревога? Ведь у некоторых людей вызывание смеха над собой — профессия, дело жизни!.. А в книге далее писалось: не случайным образом очертания рта при смехе напоминают оскаливание зубов зверя-хищника при виде беззащитной добычи. Скрытая жестокость смеха в том, что он направлен на человека, как бы исключаемого осмеянием из круга тех, кто над ним смеется. Смех — выражение превосходства. Объектом смеха в древности был поверженный враг, добыча. Остаток боевого напряжения разряжался судорожным сокращением мускулов лица, гортани, диафрагмы...
8 Школьные годы. Вып. 3
225
Тут библиотекарь вынула у меня из рук книгу и сказала, что это не для моего возраста. Найду ли я еще когда-нибудь ту книгу? Я ведь даже не знаю ее названия...
Случайная страница в случайной книге заставила меня призадуматься. Может, в первобытном прошлом все было и не совсем так; а может, было именно так и только впоследствии человечество облагородило смех; во всяком случае, я призадумался и стал обращать внимание на то, как и над чем люди смеются. Возьмите и нарочно понаблюдайте с неделю: кто, как и над чем смеется. И себя послушайте. Может, и смеяться-то расхочется. Вот ведь в цирке смеются над клоуном, изображающим неудачника. Уж ему достается: дразнение, одурачивание, пинки, оплеухи; уж он-то спотыкается, сваливается, на пол грохается, караул кричит... А тут музыка; а тут все хохочут, аплодируют. До той книги я втайне считал себя уродом, так как не мог смеяться над избиваемым в шутку клоуном. Так же, как не мог вместе со всеми хохотать над Корниловым, который в школьной форме упал в лужу... Я навсегда отшатнулся от смеха. От смеха всех над толстяком, над скелетом, над дылдой, над коротышкой, над рыжим, неуклюжим, тугодумом и пр., и пр.
Чаще всего почему-то смеются зло, хотя человечество давным- давно научилось смеяться беззлобно. А как некрасиво смеются некоторые! Прежде я словно не замечал, что один мой одноклассник смеется в нос. Рот-то откроет для смеха, а сам смеется в нос. Ужасная картина!.. Вот и стал я смеяться, как англичанин, мысленно. И запретил себе злой смех.
Так вот, над Перерепченко я не смеялся; я злился: неужели он начисто лишен чувства собственного достоинства? Я даже думал — не трус ли он...
Началось все-таки, кажется, с того, что все вставали, он сидел, и всем было смешно. Он стал популярен, и это ему понравилось. Кроме того, он почувствовал, что может вести себя не так, как все. Так из того, что было в нем самым уязвимым, он искусно выковал свое оружие. Однажды он зарисовал чертенятами все обложки тетрадей. Класс смеялся; но это уже был смех не над Перерепченко, а, скорее, над учителями, которые должны были бороться против чертенят. То есть класс незаметно для себя принял сторону Перерепченко... На вопросы учителей, зачем он нарисовал чертенят, Перерепченко неожиданно смело отвечал: «Все равно место пустует!»
«Пропал парень»,— подумал я тогда. Все люди, как мне кажется, боятся одиночества и непризнанности. И они готовы на что угодно, лишь бы всегда быть с кем-то, быть в компании, в толпе — там ты уже не одинок, там, вместе со всеми, ты что-то значишь. А уж пребывание в центре толпы равнозначно счастью... И при этом, естественно, важно быть не тем, над кем смеются, а с теми, которые смеются. Впрочем, ради того, чтобы быть с кем-то, в компании, в толпе, многие согласны и на то, чтобы смеялись даже над ними...
226
Некоторые готовы на любые унижения, на любое угодничанье, только бы ИХ п р и н я л и. Неважно, кто принял бы их, хорошие или плохие, лишь бы приняли. Так из прекрасного стремления к общению, к дружбе, к самоутверждению может получиться нечто опасное. Человек может поступиться достоинством и честью, может даже пойти на преступление — ради того только, чтобы не остаться одному и непризнанному.
Перерепченко, как я думал, пропал потому, что, раз состроив из себя шута, станет приносить все в своей жизни в жертву этому идолу — шуту, который обеспечивал ему успех в классе. Правда, я готов был прощать ему это, так как он был в общем-то безобидным человеком. И если он перевел смех класса с себя на учителей, то сделал это непреднамеренно.
А ведь есть и другие «потешные типы». Есть и такие, которые под маской шута необыкновенно горды и злы. Таких я ненавижу.
Есть шуты хитрые, себе на уме. Витек Малов, например. С виду простофиля простофилей. Сам щелбанов просит, лоб подставляет; получит щелбан — и довольнешенек! И все это старается на виду у учителя сделать. Учитель осуждающе качает головой, а сам при этом улыбки сдержать не может. А Витек капитал нажил: он перед всеми простачок, что с него возьмешь! К нему симпатия какая-то появляется. К простачкам всегда ведь возникает особая симпатия и чувство покровительства. И потом, если я тебя насмешил ценой своего унижения, то ты уже обязан иметь ко мне какое-то снисхождение. А как же! Посмеялся, получил удовольствие — будь добр, расплачивайся... Витек, впрочем, не только этим хитер. Он всю четверть умышленно лодыря празднует, а под конец четверти самую малость поднапряжется — и учителя хвалят его, в пример ставят: вот учился плохо, а подтянулся! И так каждый раз: ничего не делает, а под занавес изобразит старание — и на хорошем счету. Систему изобрел. Ловкач.
Перерепченко был простодушнее. Перерепченко чудил: читал справа налево, кушал мел и бумагу, рисовал квадратные облака и птиц с коровьими рогами. Был он весельчак и простак по природе своей, а не по умыслу. И, разбираясь в нем все более и более, я приходил к выводу, что он не пропал, а как раз именно угадал какой-то свой путь. Он тоже был послеурочником, но он не унывал, как я, а знай распевал:
Тройки, двойки и колы Все приятели мои,
И четверки иногда А пятерки — никогда!
Я напряженно следил за его развитием, думая о том, что же из него получится.
«Имя существительное,— провозглашал он на уроке,— это часть речи, которая в одно ухо влетает, а в другое вылетает!..» На урок
227
английского языка он принес в ранце живую кошку. В кабинете биологии подсаживался под скелет, изображая, будто скелет скачет на нем верхом. И наконец, раскинув у двери петлю, поймал за ногу... директора школы.
Его выгоняли из класса, испещряли дневники замечаниями, обсуждали на собраниях и советах, вызывали родителей. Потом... смирились. Когда он выкидывал очередной свой номер, учителя только морщились. Другим делали замечания, ему — нет: это же Перереп- ченко!..
Он что-то значил для нас. КогДа он — всего один раз! — пришел в школу серый, я места себе не находил. «Вот теперь,— думал я,— он по-настоящему пропал!» Как будто цветок сломался. Но на следующий день он явился в класс с заклеенным изолентой ртом, и я облегченно вздохнул. Конечно же, с заклеенным ртом он не мог отвечать на уроках, и мы завидовали ему.
Я полюбил его за свободу. За его неожиданную, дурашливую, упрямую свободу. Однажды, когда я был в особенно грустном настроении, он протянул мне яблоко и сказал: «Выбей яблоком окно. Увидишь, сразу легче станет. Ты слишком вышколен...» — «Боюсь»,— улыбнулся я. «Зря боишься,— ответил он.— Не бойся. Я не боюсь. Захочу — и выбью окно. Меня мама даже похвалит. Скажет: «Растет нормальный мальчик».
Мама у него была удивительная. Она говорила ему: «Ты у меня самый высокий, самый нежный и самый ласковый». Она купила ему магнитофон, и он часами слушал записи. Она раздобыла для него ударные инструменты, и он играл в школьном самодеятельном ансамбле. Он мечтал стать ударником в эстрадном оркестре.
Я еще не знал, не ведал, на что гожусь в жизни, а он уже твердо знал, что будет профессиональным барабанщиком. «Зачем мне знать теорему Виета,— говорил он в седьмом классе учителю алгебры,— когда я хочу стать барабанщиком?» — «Ты еще не знаешь, кем ты будешь»,— внушал учитель. «Знаю,— отвечал Перерепченко.— Вот другого я не знаю: зачем алгебра отравляет мою молодую жизнь?» — «Школа не производит ни представителей точных наук, ни гуманитариев,— терпеливо объяснял учитель.— Средняя школа только лишь выявляет способности».— «Ну, повыявляли класса этак до пятого — и хватит. Сами же в шестом сказали мне, что я не Лобачевский. Не могу я, не смыслю».— «Зачем мне географию знать,— улыбался учитель,— когда извозчики есть. Кажется, так рассуждал Митрофанушка».— «А зачем, действительно, Митрофанушке знать географию?» — «Выходит, ты прочишь себя в Митрофанушки?» — «Нет, но обучать меня всей алгебраической абракадабре — значит впустую тратить государственные средства. Я даже подсчитал, на сколько процентов окупаются затраченные на меня средства».— «Подсчитал все-таки...— улыбался классу учитель.— Значит, помогла математика... Ну, и на сколько процентов?» — «Если я знал и, как вы уже выявили, знаю и буду знать в среднем на двойку с половиной, а
228
средства на меня затрачены с расчетом на пятерку, то выходит, что средства окупаются только на пятьдесят процентов. Остальное летит на ветер».— «Это говорит лишь о том, что ты не хочешь трудиться, не хочешь заставить себя работать».— «Ладно. Со мной проще — я какой-то там Перерепченко. А что вы скажете о гениальном авиаконструкторе Туполеве? Он что, тоже не хотел учиться? Уж он-то, наверное, хотел. Однако в аттестате зрелости у него по гуманитарным предметам одни тройки. Значит, затраченные на это дело средства все равно пролетели мимо или почти мимо. И надо Туполевых обучать русскому и немецкому на пятьдесят необходимых процентов, а высвобожденные пятьдесят вкладывать в освоение ими точных наук. А со мной наоборот. И больше будет проку».— «Очень ты умный стал, Перерепченко,— спокойно отвечал учитель.— Только не забудь, пожалуйста, сколько процентов ума дала тебе школа...»
Перерепченко приглашал меня к себе домой, но я понимал, что это была не исключительная привязанность ко мне: у него дома всегда много народу. Я все же ходил к нему, слушал записи и его виртуозную игру на ударных инструментах. Он говорил мне: «Ты пой, и тебе будет хорошо. Пой «Бананы». «Бана-аны, бана-аны!..» Других слов я не знаю, да других и не надо, и этих достаточно: «Бана-аны, бана-аны!..» Балдежно!»
Да, мне приятна была его доброжелательность, я ценил его участие во мне, я завидовал его раскованности, но приносить в школу кошек, выбивать стекла и петь «Бананы» я не мог. Родители мои говорили, что Перерепченко с его «Бананами» и барабанами глуповат. Я же считал его весьма неглупым человеком и к тому же талантливым. Вспоминаю, как он пытался объяснить мне себя: «Видишь ли, ударник — человек особенный, можно сказать, тронутый. Но он тоже нужен. Дело в том, что он часто ведет в оркестре самостоятельную партию. Оркестр работает в одном ритме, он — в другом. Это ужасно трудно. Нужно, с одной стороны, всецело уходить в себя, а с другой стороны, все-таки не терять связь с остальными, с основной мелодией. Для этого нужна, если хочешь, смелость. И нужен особый артистизм. А в целом получается гармония». Когда он говорил это, я вспоминал: класс встает, а он сидит...
Из одиночества он выходил не мудрствуя лукаво: всегда у него был полон дом гостей...
Я тоже боялся быть одиноким и непризнанным. Я тоже должен был реализовать себя. Но я искал свой путь. Я не мог стать Перерепченко. Я не мог стать кем попало, лишь бы кем-то быть. Я должен был доказать свою значимость, и прежде всего себе, самым серьезным и искренним образом. То есть я не допускал мысли о том, что человек может ошибиться в самом себе и тем более обмануть настоящего себя. Нет! Пусть лучше одиночество, но только не ошибка и не обман...
229
Сыщик Батов
Недавно у нас в классе появился сын сыщика Батов. Уравновешенный, уверенный в себе. Тоже хочет стать сыщиком. Ходит в кожаном пальто с поднятым воротником, всегда читает следы. Увидит мокрый велосипедный след, спрашивает: «Как ты думаешь, в какую сторону он ехал?» Я пожимаю плечами, а он говорит: «В ту сторону, в которую убывает четкость отпечатка после пересечения им лужи». Мы ходили в школу и домой вместе. Батов особенно ценил в людях сдержанность, а я был гораздо сдержаннее других. Батов рассказывал о том, как он совершенствуется. Прежде всего — самодисциплина и методичность. Утром гимнастика, холодные обливания. Уроки делать неукоснительно, так как надо много знать; кроме того, это дисциплинирует, закаляет волю. После уроков секции: самбо, шахматы. Потом чтение специальной литературы: папин учебник криминалистики, Конан Дойль, Жорж Сименон, Агата Кристи и другие. И — серьезность, всегда во всем серьезность.
Я вначале с настороженностью отнесся к его идее совершенствования. Железные люди пугали меня. У меня папа был слишком железным. Но «железность» Батова была особенная, симпатичная...
Кроме всего прочего, он занимался еще и каратэ. Это он сказал мне по секрету. Я резко отрицательно относился к каратэ, и из-за этого чуть было не расстроились мои отношения с Батовым. В разговорах с Батовым я не сказал ни слова против каратэ — я только лишь насторожился в душе и, может быть, замкнулся бы совсем, если бы все не разъяснил случай...
В последнее время все от мала до велика ударились в каратэ. Назвать каратэ борьбой трудно; это, скорее, драка. Я не раз наблюдал занятия самодеятельных секций и вот пришел к выводу: это не наше. У нас, как вычитал я в книгах, искони боролись либо с носка — хватая только лишь одной рукой друг друга за ворот,— либо руками
230
накрест, через плечо и под силки — и валили через ногу, подламывали под себя и, припадая на колено, перекидывали через себя. А вот калмыки — те вцеплялись друг в друга как попало, ломая друг друга по произволу. В каратэ тоже дозволено все. Каратэ — это произвол жестокости; каратэ — это образ жизни. Нужно сделаться зверем, способным молниеносно нападать на множество врагов и отражать нападение стаи лютых хищников. Какое жуткое отчаяние породило в древности каратэ!.. Но мы-то отчего перенимаем, пусть слегка окультуренное, зверство? Зачем нам это? Говорят, в боксе наконец запретили наносить удары в лицо; а тут такое дозволено, что язык не повернется сказать. Отчего же Батов стал исповедовать каратэ? Разве он одинок? Разве он бродит среди хищников? Или же он хочет стать суперменом?
Десятки вопросов задавал я себе, но ни один ответ не подходил к Батову. Не понимал я его, но был решительно против каратэ.
Однажды на перемене мальчишки «показывали каратэ»: принимали зверское выражение лица, взвизгивали и лягались. Батов, стоя рядом со мной, тихо заметил: «Дурачатся... Секции каратэ у нас в стране запретили, и очень правильно сделали. Отец даже меня, будущего сыщика, перестал обучать. А у них это обязательное занятие. Видишь ли, самбо — это оборона, а в борьбе с преступниками этого недостаточно. Вершить правосудие одной только обороной нельзя».
После этого я стал относиться в Батову с еще большим уважением. Во-первых, Батов не хвастает. Другое дело Восцын: подтягивается пять раз, а говорит, что пятнадцать. Еще только собирается записаться в секцию дзюдо, а уже всем уши прожужжал, что он дзюдоист. Может, еще и не запишется, а уже слывет дзюдоистом, уже носит под школьной формой дзюдоистский пояс и показывает его мальчишкам. Уважение, отдаваемое поясу, частично переходило и на его владельца... (Я порвал с Восцыным, однако все еще переба- л и в а л им.)
Во-вторых, Батов совершенствовался ради правосудия, а Восцын свое полудействительное, полумнимое совершенствование подчинял непролазному эгоизму.
В Батове мне нравилось все. Особенно нравилась манера общения: выдержанная, уважительная. После разговора с ним у меня возникало ощущение, будто мы обращались друг к другу на «вы» — не из-за холодности, а из-за того, что говорили о серьезном, уважая достоинство друг друга, как взрослые. Об этом я давно мечтал...
Я учился у него самообладанию. Батов даже составил для меня табличку, по которой можно было научиться регулировать эмоции и тренировать волю. Снабдил он меня и табличкой, которая называлась: «Шесть способов понравиться людям». Вот что предлагала табличка:
Станьте искренне заинтересованным
в других.
231
Улыбайтесь.
Называйте человека по имени.
Будьте хорошим слушателем, давайте собеседнику высказаться.
Говорите о том, что интересно собеседнику.
Дайте возможность собеседнику почувствовать его значительность и будьте при этом искренни.
Хорошая табличка, особенно с ее непременным условием быть искренним. Все, что предлагалось в ней, было во мне; только вот улыбаться было трудно. И было это во мне не для того, чтобы понравиться людям, а для того, чтобы уважать, понимать и поднимать в человеке человека.
По табличкам, думал я, счастливым стать нельзя, но в целом они полезны. Конечно же, не сами по себе таблички были мне дороги, а дорого было проникновенное внимание со стороны Батова. Я повесил таблички над кроватью и засматривался на них, как на фотографии любимых людей.
У Батова не оставалось времени на дружбу. День был расписан до минут. Это меня удручало. Узнав, что Батов дважды в неделю ходит на каток, я тотчас обзавелся коньками и стал ходить вместе с ним. Даже стал играть в хоккей: Батов ставил меня на ворота. У меня не было настоящих вратарских доспехов, самодельные плохо защищали от ударов, и мне крепко доставалось то шайбой, то клюшкой. Дома я уходил в свою комнату, запирался на задвижку и, раздевшись, осматривал себя: ноги были в сплошных синяках, голени во многих местах рассечены до крови; но я мужественно терпел и лихорадочно ждал следующего раза.
Однажды на катке появилось трое незнакомых мальчишек. Они сорвали с девчонки шапочку и то ли в шутку, то ли всерьез не отдавали ей, несмотря на то, что она уже плакала. Меня при виде этого так и затрясло всего, я готов был наброситься на мальчишек, но меня опередил Батов. Он подошел к мальчишкам и сказал: «Может, и с меня шапку снимете?» — «Снимем»,— ответили они, сбили с него шапку и спрятали под полу. «Может, вам и куртка моя нужна?» — хладнокровно спросил Батов, снимая куртку. Они молча вырвали у него из рук куртку. Оставшись в свитере, Батов неуловимым движением сбил одного из них с ног, другого ударил головой в живот — опрокинул на того, что уже был свален, а на третьего посмотрел так, что тот попятился и бросился бежать.
«Ты ошибаешься, если думаешь, что я не волновался,— говорил он мне, когда мы ехали на троллейбусе домой.— Меня так всего и затрясло, но я сразу взял себя в руки».
«В этом весь ты! В этом весь ты, мой любимый Батов! — чуть не закричал тогда я.— Ты никогда не станешь сверхчеловеком, потому
232
что сверхчеловека не затрясет, а тебя затрясло... Ты всегда будешь человеком, не железным — просто сильным человеком!..»
Вслух я, конечно, не произнес ни слова. То есть вслух я говорил, но говорил что-то другое, тоже хорошее, но другое...
Непреклонность, удручавшую меня, Батов сломал сам. Он перестал ходить на самбо. Не потому, что не потянул, или легкомысленно перескочил на что-нибудь другое, или позволил себе размякнуть, нет! Он хотел дружить со мной, а на это нужно было хоть сколько-то времени...
И вот когда я был у самого счастья, Батов неожиданно переехал в Сибирь.
Мы пытались переписываться; я слал ему большие горячие письма. Батов отвечал, но видно было, что в письмах ему выражать себя было трудно, он был из тех людей, которые не любят и не умеют писать письма...
Вот говорить он умел. Говорил всегда энергично, кратко, толково. Была в его словах сознающая себя спокойная и честная сила. «Из тебя вышел бы неплохой сыщик. Ты скромен, умеешь держаться в тени. У тебя поразительно развита наблюдательность и память. Я удивляюсь, почему ты не хочешь взяться за себя? Выберись ты из двоек и троек!.. Я помогу тебе. Теперь у меня есть время...»
Батов, Батов!..
Ежик для Наталки
Папа с мамой то и дело говорили: «Подружись с каким-нибудь мальчиком».
Даже в пятилетием возрасте подружиться с каким-нибудь мальчиком для меня было невозможно. Я не мог подружиться с каким-нибудь. Даже выбор игрушки чаще всего определялся у меня той или иной настоятельной внутренней необходимостью.
Родители просто не представляли себе, как серьезно и сложно все это в пять лет, не говоря уж о более позднем возрасте. Меня это удивляло. Неужели они не помнят себя? Или же они были другими?..
Впрочем я слушался их. «Поиграй с девочками!» — говорила мама, и я шел играть с девочками. В соседнем доме жила Наталка Гуща, и я играл с ней.
Все говорили, что она красивая. Она знала об этом с пеленок. До самого седьмого класса я, признаюсь, побаивался ее. Это она толкнула в сугроб двоечницу Оксану Панову. Почти на год старше всех, рослая, спортивная, самоуверенная, она колошматила мальчишек, и мне не раз пребольно доставалось от нее. Приходилось спасаться бегством. Однажды я пришел к ней домой и — о ужас! — увидел, что она занимается... гирей! Она свободно поднимала ее до
233
пояса несколько раз; когда же она вышла в другую комнату, я попробовал потихоньку поднять гирю, но даже не смог оторвать ее от пола... Теперь вы поймете, почему я спасался бегством.
Я никак не мог ответить себе на вопрос, зачем девочке такая силища. Родители зачем-то поощряли ее занятия силовой гимнастикой, хотя она и так была как мальчишка: грубила, дралась... Правда, училась на пятерки, всегда ходила в передовиках.
С седьмого класса отношения наши выровнялись, мы даже играли вместе. Бегали во дворе на коньках, катались в парке на качелях, на чертовом колесе, в машинах на автЬдроме... Но после катаний с ней я приходил домой усталый и скучный. Мама была очень рада, что я подружился с девочкой, тем более с такой красивой и бойкой. Однако я чувствовал, что наши катания скоро кончатся. Наталка не понимала проникновенной игры, задушевных разговоров и мечтаний. «Не воображай!» — обрывала она меня, когда я пытался говорить о чем-нибудь серьезном. «Не воображай!», «Не умничай!» — только и слышал я от нее. Меня это ранило, и я не умел скрыть этого от нее. Она как-то безжалостно разглядывала меня и говорила: «Ты какой-то нездешний...»
Я приходил домой вконец разочарованный; на мамины расспросы отвечал: «Она не та. Все бы ей кататься, вертеться, смеяться... Только движение — больше ничего».— «Не знаю, чего тебе еще надо,— досадливо говорила мама.— Нормальная девочка...» — «Я и не говорю, что она плохая...» — примирительно отвечал я маме.
У Наталки были особенные, большие темные глаза. Мягкая темнота их словно заколдовывала, я замирал, меня охватывало холодом восторга; она откуда-то знала, что в эти мгновения происходит со мной, и на смешливых губах ее, в самых уголках, являлась победная улыбка.
Я не совсем понимал, почему она водится со мной. Я вообще ничего не понимал в ней. Почему она, в самом деле, тянулась ко мне и в то же время была ко мне безжалостной.
Однажды мы поехали на карьеры купаться. Я давно заметил, что некоторые люди, стоит им прийти на водоем купаться, резко глупеют. Это относится и к детям и к взрослым. Каких только возгласов не услышишь, каких только вывертов не увидишь; взрослые впадают в детство, в глупое детство, непременно начинают тащить и бросать кого-нибудь в воду, чаще всего отчаянно упирающуюся девушку; мальчишки принимаются топить кого-нибудь... Шутки! Все гогочут, кроме того, конечно, которого топят. Поневоле вспомнишь книгу, рассказывавшую о природе смеха...
Так вот, поплыли мы с Наталкой. Она плавала превосходно, я же только кое-как держался на воде. Мы переговаривались о чем-то незначительном, и нам было хорошо. Я перестал напрягаться и почувствовал, что так плыть легче. Я даже забывал порой, что плыву: плылось как-то само собой. Потом мы плыли молча; я радостно смотрел Наталке в глаза и чувствовал, что ей это нравится. «Смот¬
234
ри — чайка!» — перевел я взгляд в небо. «Ну и что. Подумаешь — чайка...» — сказала Наталка. «Смотри, она — перламутровая!» — восхищенно воскликнул я. Не знаю, что случилось, только вдруг Наталка стала топить меня. Надавит ладонью на затылок — я под воду; снова надавит — я снова с головой окунаюсь, барахтаюсь. Конечно же, она не топила меня по-настоящему; но в то же время она словно и не шутила. Это не было тем дурачеством на воде, о котором я рассказывал; она не хохотала, даже тени усмешки не было на ее лице. 51 не понимал, что происходит. Если бы я отлично плавал, то все это еще можно было бы принять за не столь уж опасную шалость; но ведь Наталка знала, что я плохо плаваю! Она сама всегда говорила обо мне, что я плаваю, как топор.
Я уже нахлебался воды. Она как-то странно смотрела на меня, как будто говорила: «Вот тебе... Будешь знать...»
За что?.. За то ли, что отвел взгляд от нее и засмотрелся на чайку? За то ли, что я залюбовался чайкой, а она не умела любоваться? За то ли, что назвал чайку перламутровой, а она решила, что я воображаю? Не знаю. То, что она делала со мной, было жестоко. Я ведь мог утонуть. Может быть, она полагалась на свою силищу и на свое умение плавать и знала, что, если я начну действительно тонуть, она спасет меня?
Трудно ответить на все это. Еще труднее ответить, почему на следующий день я сразу же согласился снова поехать с ней на карьеры. Я был отуманен радостью, когда она позвала меня...
Впрочем, отчасти понять ее помог случай. Один-единственный раз она пожаловалась мне, и в жалобе ее передо мной распахнулся целый мир. Услышав от меня, что один мальчик подобрал и принес домой ничейного щенка, она вся как-то изменилась и сказала: «Если бы я принесла домой щенка, меня бы...— глаза ее зло сузились.— А вот когда я вырасту, я заведу себе собаку, кошку, белку, ежика, попугайчиков, морских свинок и рыбок...»
Вот тут я тоже замер в восторге, как будто она обняла меня. И хотя такое больше не повторялось, я всегда помнил об этом. Я не знал, кем я был для нее: белкой, ежиком или морской свинкой,— пусть даже так! — все равно на мгновение открывшийся в Наталке мир был для меня радостью. Из всего этого я делал для себя выводы.
Вскоре она бросила меня, но это не имело никакого значения. Я знал о ней самое главное.
Утешение
Итак, я оставался один. То есть не то чтобы совсем один; напротив, я, можно сказать, дышал дружбой, как воздухом; но в то же время я именно оставался один.
Вот как это было.
235
Я, как уже можно догадаться, редко бывал весел, почти никогда не смеялся, любил уединение. Был я худ, бледен, тих. Владимир Новиков, мой одноклассник, был, казалось, моей противоположностью. Краснощекий, жизнерадостный, он всегда пребывал в гуще приятелей, и там, где он находился, звучал всеобщий здоровый смех. Он слыл философом и юмористом.
Между прочим, он был неравнодушен ко мне. Помню, как он приглядывался ко мне, а затем подошел и сказал, глядя на меня в упор выпуклыми рыжими глазами: «Стремление к уединению есть первый признак возвышенной души». Он смотрел и говорил серьезно, но можно ли было доверять серьезности Новикова!
И дело не в том, что могла быть осмеяна моя личность — этого я менее всего боялся,— а в том, насколько серьезно говорил он по существу. То есть как сам он относился к тому, что говорил. Внешне могло получиться осмеяние меня, а по существу он, может быть, выяснял что-то очень серьезное, необходимое для себя.
Все-таки, думаю, говорил он со мной серьезно. Однажды он даже раскрыл мне свою систему. «Я уже давно передумал, кто есть кто в классе,— говорил он.— Одноклассники, как все люди, делятся на две основные группы: на обыкновенных и необыкновенных. Ты — необыкновенный...» Насладившись моей растерянностью, Новиков продолжал: «Обыкновенные — это те, кто живет более внешней жизнью. Они ставят перед собой короткие и достижимые цели и поэтому в результате всегда довольны. Получить пятерку, посмотреть по телевизору футбольный матч, сходить на рыбалку, набегаться... Необыкновенные часто бывают задумчивы, простое движение, чередование событий их не удовлетворяет; они тоже, конечно, ходят, бегают и прыгают, но мысли их заняты не этим — они ищут смысл всего того, что происходит».
«Ты действительно философ»,— сказал я ему. «А! — махнул он рукой.— Не велика заслуга быть философом, тем более, что не быть им невозможно. Философы все. Разве тот, кто говорит «А мне начхать!», не философ? Он типичный стоик, хотя сам, возможно, и не догадывается об этом... Важно не распределение людей на обыкновенных и необыкновенных, хотя это тоже интересно; важна не сама по себе необходимость выработать отношение к жизни, а важно знать, насколько далек ты от того, кем должен быть, и как нужно жить, чтобы стать тем, кем ты должен быть». О, эти речи находили живой отклик в моем нетерпеливом и требовательном сердце!
И все же Новиков держался от меня на известном расстоянии. Жил широким легким приятельством и, видимо, не собирался избавлять меня от трудного моего одиночества.
Впрочем, повторяю, я уже не был вполне одинок. Я думал о Новикове, мечтал о нем, и душа моя замирала при мысли о счастливом дружестве!
Не раз ощущение дружества кружило мне голову, как кружит голову в конце зимы всегда неожиданное веяние весеннего ветерка.
236
...Однажды я обнаружил у себя в учебнике сложенный вдвое тетрадный лист в клетку. На листе было написано стихотворение. Читал я его, а сам лихорадочно думал, кто мог положить этот лист в учебник?..
Мальчик с задумчивыми глазами,
Худенький мальчик, цыпленку под стать,
Верно, тебе толстяком не бывать,
Мальчик с задумчивыми глазами.
Лишь бы не знал ты ни горя, ни лжи,
Лишь бы ты верил, что правда за нами,
Лишь бы ты жил, не жалея души,
Мальчик с задумчивыми глазами.
Стихотворение понравилось мне. Но кто же положил его в мой учебник?
Если бы здесь был Батов, он бы по почерку определил, кто написал. Почерк был девичий. Я обводил взглядом класс, но тщетно. Впрочем, я догадывался, что сделала это Таня Лукьянова. Уж очень бережно разговаривала она со мной. И называла меня не Кузнецом, как все (фамилия моя — Кузнецов), а Кузнечиком.
Много раз перечитывал я стихотворение, и всякий раз оно согревало пониманием, нежностью. Я чувствовал в нем душу друга.
Таня Лукьянова в самом деле относилась ко мне по-особому. Помню — еще задолго до случая со стихотворением,— убирали мы с ней класс; передвигая парту Павленко, я в шутку сказал: «Когда-нибудь на этой парте будет прикреплена табличка: «Здесь сидел лучший ученик класса академик Павленко».— «Павленко? — удивленно подняла брови Таня.— Подумаешь — всезнайка! Разве он лучший в классе?» — «А кто же?» — искренне озадачился я. «Ты»,— серьезно ответила Таня. Я покраснел, опустил голову: неудачно шутит Таня... Но она не шутила!.. «Ты лучше всех! Запомни это. Не в знаниях дело. То есть в знаниях, но смотря в каких. Можно знать все правила, таблицы и теоремы, но не знать главного. Ученик Чарлз Дарвин был в школе безнадежным в смысле успеваемости. Пушкин получал по математике «неуды», а Некрасову трудно было получить по физике оценку выше единицы... Зато они знали главное».— «Но я-то не Дарвин...» — «А откуда ты знаешь, кто ты?» — «Я... я боюсь, что так мы с тобой превратимся в воинствующих мракобесов».— «Не бойся, не превратимся,— решительно отвечала Таня.— Никто не отстаивает лень и невежество. Мы отстаиваем совсем другое. Не знаю только, как назвать это другое... При дифференцированном подходе отличник может оказаться не положительным, а отрицательным типом. Все зависит от того, что он за человек, какие у него цели. Если человек преуспевает для того, чтобы подавлять других, более слабых, то... Вообще, скажу я тебе, вся соль именно в этом. Человек узнается по тому, как он ведет себя со слабыми. По-моему, лучше быть троечником, но человеком».
237
Я старательно тер тряпкой парту Павленко, а Таня произносила тираду за тирадой: «Ты думаешь, что спрятался сам в себя и никто тебя не видит. Я открою тебе глаза. Да, некоторые тебя не любят. Но те, кто тебя не любят, не любят за то, что ты лучше их. Ты зеркало, в котором эти некоторые видят свои недостатки. Кому приятно видеть свое уродство? Думаешь, это приятно толстокожему эгоисту и выскочке Восцыну? Или...» — «Таня! — остановил я ее.— Таня!..» Она долго не сводила с меня глаз; потом сказала другим, приглушенным голосом: «Ты именно спрятался в себе. Но тебя... многие любят».
Так веяло тем, о чем я мечтал.
И вот сел я как-то дома в уединении и крепко призадумался. Перебрал в памяти всех своих одноклассников и ужаснулся: почему же я все еще без друга? Батов уехал... Новиков, Лукьянова... Но ведь веяние — это еще не дружба.
Таня сказала, что многие любят меня. За что? Что я такого совершил, чтобы меня любить? Я спрашивал себя не из кокетства: я действительно ничего такого не совершил. Я жалкий троечник и двоечник. Недавно я прочел в газете статью под заголовком: «Кому нужны троечники?» И оказалось — никому. Ни медицине, ни железной дороге... Я никому не нужен, я недостоин дружбы...
Думая так, я ужасался все более и более. Но всегда во мне находится сила, которая за волосы вытаскивает меня из отчаяния. И эта самая сила стала меня спасать...
Я вспомнил наш с Новиковым философский разговор о свете. Я говорил, что если окажусь в темноте, то это еще не будет несчастьем, так как я буду знать, что за стеной у кого-то в руке горит спичка. Новиков на это заметил, что и та спичка вскоре догорит. Я отвечал, что даже если совершенно нечему будет гореть и ничто не будет светить, потому что нет лучины, спички или чего-то подобного, то и это не будет несчастьем, так как я буду знать, что свет есть в природе и он сильнее тьмы. Пессимизм для меня был в принципе невозможен.
Пусть я недостойный; пусть я без друга; но в каждом человеке я находил или упорно искал хорошее, возможность хорошего, и ждал, что в каждом в какре-то мгновение может распахнуться необыкновенный мир. Вот это меня и спасало. Из горемыки я становился счастливцем: я находил в людях — пусть не для себя! — хорошее... И это было моим утешением.
Повесть о Тане Лукьяновой
Лукьянова лучше других читала наизусть стихи. Вообще по тому, как читает человек стихи — я имею в виду чтение вслух,— можно довольно верно судить, с душой этот человек или без души, насколько
238
тонка или груба его душа, даже насколько глуп или умен человек. Не то чтобы отличная и даже весьма прочувствованная декламация тотчас говорила в пользу человека, нет; иной вовсе читать стихи не умеет, неловко за него становится, когда он читает, да он сам это понимает: не обучен, приемов не знает, навыка нет,— и говорит такой человек: «Возьми-ка ты почитай, у тебя лучше получается»; и ты видишь, что он, при всей топорности чтения, человек хороший, он чувствует стихи, он только лишь голосом не наделен или не владеет им, он в интонации фальшивит, а не в самих чувствах и мыслях; иной же читает, кажется, безупречно и доходит до такого артистизма, что у тебя при понижении или повышении им голоса мурашки по коже бегают, но не берет за живое это чтение, ибо в нем — артистизм, и только, а тебе этого мало, ты можешь восторгаться блистательным обманом, но будешь просить и ждать истинного, живого слова. Есть у нас в классе две признанные красавицы — и ни одна из них не умеет читать стихи. И обе рьяно домогаются сцены, читают стихи по праздникам, участвуют в конкурсах... Каждая из них знает, что надо читать выразительно; да вот беда: что выражать?.. И налегает в слове, в строке, в строфе, в стихотворении на места совершенно случайные!.. И все бы это полбеды, но каждая из них при этом абсолютно уверена в том, что чтение ее правильное, самое лучшее. И попробуй скажи, что это не так — не поймут, не поверят, заклюют! Лукьянова читала совершенно особенно. Она вообще была особенным человеком. И если я думал, что девочки особенные создания, то таким созданием была Таня Лукьянова. Впрочем, со сцены она прочла немного...
Школа готовила литературный вечер, посвященный творчеству Лермонтова. Жюри отобрало выступление Лукьяновой — небольшую композицию «Любовь поэта». Лукьянова не напрашивалась, ее включили в программу по настоянию учительницы русской литературы Любови Алексеевны. Когда Лукьянова читала стихи Лермонтова,
239
Любовь Алексеевна, не стыдясь класса, плакала. И вот Лукьянова стала готовиться к вечеру. Она являлась в школу то вся сияющая и далекая, и все осознавали вдруг, какая перед ними вершина, и затихали перед ней; то приходила вдруг мрачная, черней черной тучи, и, когда девочки спрашивали, что с ней, она говорила с неподдельным страданием: «Ах, тоска, ужасная тоска!..» Она проводила бессонные ночи; случалось, беспричинно плакала и была, как говорила Наталка, тоже не здешняя.
К вечеру она успела подготовиться, овладела образом и была накануне выступления предельно собранна и чуть-чуть восторженна.
Вечер с самого начала получился перегруженным. Выступавшие затягивали время; в зале перешептывались и вертелись. Учителя привставали и приводили нарушавших дисциплину к порядку сначала многозначительными взглядами, а затем и грозными замечаниями. Все это доносилось и за кулисы. Я тоже находился за кулисами с поручением закрыть после докладчиков занавес и открыть его с выходом Лукьяновой.
Таня нервничала, бледнела, говорила, что у нее холодеют руки и ноги.
И вот я закрыл занавес и ровно через полминуты открыл для Тани. Она вышла — тонкая-претонкая, вся напряженная... Произнесла что-то. Зал тотчас притих. Еще произнесла — и ничего не стало, кроме ее умного, сильного, вдохновенного лица, кроме нежных, страстных и печальных звуков.
Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания...
Она читала, а я, замерши за кулисами, мысленно со всей пылкостью благодарил ее. За звуки, за стихи, за то, что я, словно в озарении, увидел вдруг, какой огромной может быть душа...
Внезапно Таня изменилась в лице, голос ее упал. Она еще некоторое время произносила слова, но уже неуверенно.
И снится ей все, что в пустыне далекой...— слабеющим голосом читала Таня.
...в пустыне...—
повторила Таня и умолкла.
Дальше все произошло мгновенно. Таня резко повернулась, бросилась сначала в одну сторону, потом в другую; метнулась мимо меня; сбегая со ступенек, чуть не упала; пробежала в проходе между рядами и исчезла в двери.
Зал замер, затем все вдруг зашумели, повскакали с мест. Кто-то кинулся за Таней. Я тоже кое-как выбрался на улицу. Было темно, ветер бросал в лицо дождевую пыль. Ни в школьном дворе, ни на улице Тани не было.
Две недели она не ходила в школу. Однажды я увидел
240
ее одиноко сидящей в пустом троллейбусе. Мне удалось в последний момент впрыгнуть в троллейбус. «Ты почему не ходишь в школу?» — спросил я. «Надоело»,— безразличным тоном ответила она. «Мне тоже...— вздохнул я.— Да вот хожу». До самой конечной остановки мы ехали молча. Затем поехали обратно. Таня была в осеннем сером пальтеце с поднятым воротником. Лицо ее казалось бы мальчишечьим, если бы черты не были так тонки и нежны. Она осунулась, но от этого стала еще интереснее. Серые глаза ее были спокойны и — почти неуловимо — печальны.
«Вот уже две недели катаюсь на троллейбусах,— произнесла она, не глядя на меня.— Что говорят в школе?» — «Учителя темнят, а ребята — кто что»,— неохотно ответил я. Таня передернула плечами: «Мама говорит: блажь. Врачи заочно констатируют невроз. Прописали щадить, поддерживать, поощрять, ласкать, любить... Мама начинает любить меня по рецепту. Смешно!.. Папу жалко. Он, бедняга, страдает, когда я страдаю».
Троллейбус на всей.скорости подкатывал к школе. «Выйдем?» — несмело предложил я. «Нет!... Нет еще...» — сказала она, отворачивая лицо от здания школы. После некоторого молчания Таня повернулась наконец ко мне: «Я знаю, что ты хочешь услышать от меня. Когда... когда я читала стихи Лермонтова, завуч, Римма Гавриловна, стала подавать мне какие-то знаки. Я никак не могла понять ее, а она все ловила мой взгляд и ладонями как будто сдвигала невидимую гармошку. Она спрессовывала воздух, а я, глупая, все читала. И вдруг я догадалась: надо сокращать. Я стала задыхаться. А она снова поймала мой взгляд: пухлую руку свою с малюсенькими золотыми часиками выставила и пальцем по циферблату стучит... Ну, и произошел это взрыв...» — Таня беззащитно-вопрошающе смотрела на меня. «Это ничего... Это бывает...— говорил я, неуместно улыбаясь.— Не это главное, не это!..» — «А что же главное?» — сдвинула брови Таня. Она уже смотрела на меня недоверчиво, настороженно. Я молчал, не находя слов для объяснения главного, а она, не понимая, почему я медлю с ответом, схватила меня за плечи и уже гневно спрашивала: «Ну, говори же, что главное?» В это мгновение она не желала считаться ни с чем, она вызывала меня на любую правду — и, может быть, не столько для проверки своей правоты, сколько для того, чтобы увидеть, каков я, каковы мы все перед ее отчаявшейся, судорожной правотой. Она словно нарочно хотела услышать что-нибудь беспросветное, чтобы низринуться от этого еще глубже в свое спасительное страдание... «Когда ты читала стихи, ты... вознесла меня на какую-то сияющую вершину. Ты словно спасла меня на всю жизнь».
Несколько долгих мгновений Таня смотрела мне в глаза. «Это не я, это он, Лермонтов...» — пролепетала она. «И ты, и ты!..» — восторженно говорил я.
Она уткнулась лицом мне в плечо. Я сидел ни жив ни мертв. Когда же троллейбус остановился, она вскочила и бросилась вон.
241
...За городом, в Сухой балке, вдали от людских глаз, я устроил себе шалаш. Это был как бы мой второй дом. Я вырыл в береге балки углубление, соорудил над ним из жердочек, очерета и обрывков толя шалаш; внутри выложил из камней круг для очага, по сторонам которого настлал доски для сиденья и лежанья. Здесь я жил после школы и по выходным. Читал, рисовал. Пек картошку. Просто лежал и мечтал в тишине и уединении.
Однажды я позвал с собой Павленко. Вскоре в шалаше появились луки со стрелами, томагавки, винчестеры... Потом мы пригласили Корнилова. А потом нас выследил Восцын. До него мы жили в шалаше дружно, равноправно; он же немедленно разделил «шалаш- ников» на командиров и подчиненных, причем главным командиром назначил себя, заместителем — Павленко, а подчиненными меня с Корниловым.
Однажды к нам попросилась Таня Лукьянова. Павленко с Корниловым сказали ей: «Обращайся к Саше Кузнецову...» То есть ко мне. Я знал, что между ее родителями шли раздоры, и решил предоставить ей убежище в шалаше. Но тут возник Восцын. «Я командир,— заявил он,— я и решать буду, брать ее или не брать».— «Решай»,— пожал плечами я. «Не брать!» — распорядился Восцын, вызывающе глядя на меня. Таня побледнела и уже хотела было броситься прочь, но я схватил ее за руку. «Какое ты имеешь право? — вперил в меня взгляд Восцын.— Я командир».— «Ск-казал бы я тебе, к-кто ты,— ответил Восцыну за меня Корнилов,— да к-кругом дети...» Павленко же высказался рассудительнее: «Но ведь Саша — основатель шалаша. Мы всего лишь гости в его доме. По обычаю, следует уважать хозяина». Восцын, видя такой оборот дела, умолк. До балки мы ехали на автобусе, а потом шли километра полтора пешком. Шли молча. Забрались в шалаш, развели огонь. Таня все время держалась близ меня, в шалаше сидела рядом со мной и в степь по былье на топливо тоже пошла со мной. Павленко с Корниловым направились в другую сторону.
Мы брели с Таней молча. Таня обводила взглядом степь, небо. «Смотри,— вдруг сказала она,— какая чайка!» — «Какая?» — с замиранием сердца спросил я. Таня словно не расслышала моего вопроса. Она шла, не отрывая взгляда от птицы. Я залюбовался ее открытым вдохновенным лицом.
В степи воздух был сух и горяч. Ветер пах морем, как будто оно было совсем близко. Мы ушли в степь довольно далеко. Брели, ничего не говоря друг другу, а только переглядываясь и улыбаясь.
Но вот, неожиданно для самого себя, я остановился и сказал угрюмо, что пора возвращаться в шалаш. Таня безропотно согласилась.
Мы возвратились к балке и — о ужас! — вместо шалаша увидели в углублении только лишь дымящиеся обугленные жерди и пепел. Над пожарищем стоял, скрестив на груди руки, Восцын. «Это не я,— сказал Восцын, встретив мой взгляд. Помолчав, добавил: — Он сам
243
рухнул».— «Где ребята?» — спросил я. «Корнильчик расплакался, домой пошел. Павленко вслед за ним. А я решил вас подождать...» — «Мерзавец...» — тихо сказала Таня, глядя в землю. «Ты это о ком?» — двинулся на нее Восцын, но я преградил ему путь. «Отойди»,— уперся он взглядом в меня. Если не считать случая с Очеретяным, я никогда никому больше не наносил ударов. То был особый случай... Я стоял. «Мне жаль тебя,— сказал Восцын.— Ты только и ищешь, за кого пострадать. Есть такие чудаки...» Он толкнул меня в плечо, и я, взмахнув руками, опрокинулся в яму с тлеющими угольями и горячим пеплом. На мою беду, я был в кедах, и, пока я выбирался, в задники набился жгучий пепел. Лучше бы я был босой — выскочил бы, вытер бы ноги о траву, и ничего бы не случилось. Или был бы в туфлях, которые можно в два счета сбросить. Пока же я расшнуровывал кеды — на правой ноге сам, на левой — подбежавшая Таня, прожгло носки и обожгло кожу на пятках. Восцын испугался и убежал. Таня взяла меня под руку, чтобы помочь идти, но я высвободился и упрямо пошел сам.
Дома я хотел скрыть происшедшее. Затолкал прогорелые носки в мусорное ведро, почистил кеды и забился в свою комнату. Но мама, как только вернулась домой, каким-то образом сразу заметила в ведре носки, извлекла их и бросилась ко мне... Я сидел в углу комнатки на полу, держась руками за щиколотки, и беззвучно плакал от боли. Увидев мои ноги, уже покрытые белыми волдырями, она кинулась к телефону. Вызвала такси, отвезла меня в травмопункт. Там мне обработали места ожога, ввели уколы против столбняка. Я улыбался, говорил: «Пустяки. К завтрому все заживет». Прошла, однако, неделя а мне лучше не стало. Стало хуже. Раны не заживали, отмокали, углублялись и уже квалифицировались как ожог второй степени. Меня держали на домашнем режиме. В травмопункт на перевязки я ездил на такси. Нужно было ездить через день — медсестра отдирала старые, заскорузлые бинты и накладывала свежую повязку. Боль я переносил довольно мужественно. Слезы катились градом, но я не кричал, не стонал и даже улыбался медсестре. Она меня хвалила.
Родителям я объяснил, что случайно оступился в костер. Они не раз с подозрительностью переспрашивали меня, как будто чувствовали, что здесь что-то не так, но я не выдавал Восцына.
Несколько раз меня навещала Таня. Не от класса, а от себя лично. «Как ведет себя Восцын?» — спросил я однажды. «Как ни в чем не бывало,— ответила Таня, побледнев.— Весел. Как всегда, самоуверен».— «Значит, не чувствует вины»,— заметил я. «Но ведь он виноват!..» — «Нет, это не доказано. Может быть, и не виноват,— говорил я.— Я все обдумал. Во-первых, никто не видел, как рухнул и загорелся шалаш. Во-вторых, едва ли он хотел толкнуть меня в костер...» — «Нет, виноват! — непримиримо смотрела Таня.— Я тоже все обдумала. Во-первых, у него были мотивы к таким поступкам. Как же, у нашего наполеончика отобрали власть над шалашом! Раз так —
245
нате вам... Далее. Когда я произнесла слово «мерзавец», не обращаясь, собственно, ни к кому, он сразу бросился на меня. Чует кошка, чье сало съела. И потом: толкнул он тебя в левое плечо — и поскольку справа от тебя была яма, то ты, потеряв равновесие, неизбежно должен был упасть в нее. Да еще убежал, оставив тебя в беде,— это само по себе преступление. Да еще не навестил тебя. Да еще нагло весел...» — «Ну, это напуск...» — слабо улыбался я. «Да что ты все защищаешь его! — возмутилась Таня.— Да я дружить после этого с тобой не буду...» — «Таня, умоляю тебя, не рассказывай в классе! Дай слово, что не расскажешь...» — просил я. Таня смотрела долгим взглядом, то ли испытывая меня, то ли вникая во что-то малопонятное во мне; наконец она грустно улыбнулась и сказала: «Ты всегда будешь несчастлив, потому что хочешь невозможного. Хочешь, чтобы все были добрыми». Таня точно повернула ключик в таинственном замке: приотворилась, как порой бывает во сне, какая-то темная дверь и я вдруг увидел светлый беспредельный простор, который словно обнял лаской мое сердце, всего меня... «Чего радуешься?» -г- спрашивала Таня. Я пожимал плечами, а она говорила: «Может быть, в этом несчастье твое счастье... Пусть будет так. Это даже очень хорошо. Только я боюсь за тебя, честное слово, боюсь. Побереги себя. Не позволяй себе обманываться... Есть низкие и бессердечные люди — на них нельзя закрывать глаза, иначе они наделают много зла».— «Не бойся за меня, Таня! — взволнованно, радостно отвечал я.— Не слепой и не благодушный я человек! Я ведь встал на п у т и у Восцына, понимаешь? Встал — не только там, в степи, но и вообще в жизни!..» Таня нахмурилась: «Уж не думаешь ли ты, что он стал от этого добрее? Не надейся, не раскается он, не признается и не придет к тебе!» — «Да,— вздохнул я.— Не придет. И все же, может быть, эти несчастные ожоги пошли ему на пользу. Может, совесть разбудили ».— «Да ты что — святой какой-то, что ли? — в отчаянии возвысила голос Таня.— Если ты такой ценой будешь в каждом совесть и доброту будить, то весь дотла сгоришь!» — «Таня, пожалуйста, не преувеличивай моих заслуг. Добро бы, я прыгнул в огонь ради Восцына. Но... но ведь было не так. Я ведь...» Я замолчал. «Да, ты меня защищал. Ты всегда будешь всех защищать — всех, кроме себя!» — в запальчивости воскликнула Таня.
Она исступленно защищала меня, сжимала кулаки, будто готовилась наброситься на моих врагов, вся подавалась ко мне, точно хотела собою закрыть меня; а я, хотя и ощущал от этого в душе что-то необыкновенное, какую-то немыслимую вознесенность, пугался и не давал ей защищать меня, и она, от недоумения и досады, от бессилия своего бледнела и готова была самого меня поколотить за то, что я был против себя.
«Таня,— улыбался я,— вот и ты говоришь почти то же, что говорил мне тогда над ямой Восцын».— «Нет, не то! — вспыхнула Таня.— Не то... Я по-другому. Я... Мне тебя... я тебя...» — «Не надо,
246
Таня!.. Не говори ничего, слышишь? Умоляю тебя...» — уже словно в бреду бормотал я, хватая ее за руки.
Потом, прощаясь, она, со светлым лицом, сказала: «За то, что ты такой, о н тебя ненавидит. А я за то, что ты такой, тебя л ю б л ю».
Пришли однажды ко мне и от класса. Подруги-соперницы: Наталка Гуща и Оксана Полевая. Я их помню еще до школы — в розовых воздушных платьицах, с пышными розовыми бантами. Не люди даже, а цветы. Я думал тогда, что девочки особенные создания, я льнул к ним, доверялся им, но с каждым днем все больше и больше убеждался в том, что они точно так же грубы и драчливы, как и мальчики, и даже превосходят мальчиков своей вредностью и злостью.
Правда, до школы я их знал мало, так как жил большей частью в деревне у бабушки; зато в школе узнал их сполна. Обе они — и Наталка и Оксана — претендовали на первое место среди девочек класса. Это по красоте. А по физической силе и вообще по влиянию они превосходили и девочек и мальчиков. Надо было видеть, как эти создания — подружки! — вырывали одна у другой первенство... В их перепалках, злых взглядах мне слышались и виделись стальные мечи, которые сверкали, звенели и скрежетали, ударяясь друг о друга. Да, это были не алюминиевые игрушечные сабельки, а тяжелые боевые мечи... Я долго пребывал в изумлении, не в силах понять, как это может быть, как может уживаться их дружество с лютой неуступчивостью. Хитрость и коварство их не знали предела. Никогда не забуду, как Оксана, только что обнимавшаяся с Наталкой и хвалившая ее новую стрижку, сказала про нее при мальчиках: «Подумаешь! Фёкла лохматая...» И еще не могу забыть, как она, склоняя мальчиков на свою сторону и отвращая их от подруги, говорила: «Терпеть не могу Наталку! Все от вас, мальчишек, выведает, а потом секреты ваши всем рассказывает... И вообще на вас наговаривает...»
Мама продолжала внушать мне, что девочек надо беречь, что они слабые, нежные и пр., и пр. Я же возмущался: это нас, мальчиков, надо беречь, потому что девчонки беспощадно колотят нас! Папа посмеивался. «Пройдет немного времени,— говорил он,— и вы станете сильнее их. А пока что они вымещают на вас будущие обиды». Не знаю, когда мы станем сильнее; вот уже в восьмом классе, а они по-прежнему колотят нас.
Впрочем, со временем я стал замечать, что многим мальчишкам нравится, когда девчонки их бьют; они даже ищут этого!
И теперь девчонки бьют мальчишек совсем не так, как несколько лет назад. Теперь битье стало выражением неравнодушия и даже больше того...
Вообще все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Помню, приехал я из пионерского лагеря и, улучив подходящую
247
минуту, обронил при папе и маме: «А в лагере один мальчик целовал девочек...» Мама с папой переглянулись. «Это был очень плохой мальчик,— сказала встревоженная мама.— Девочки, конечно, проучили его?» — «Да, проучили»,— ответил я, вспоминая, как девчонки в самом деле гонялись за мальчишкой и колотили его. «Ну вот...» — удовлетворенно заметила мама и вскоре забыла наш разговор. Вечером же я произнес тихо, тоже как бы невзначай: «А потом тот мальчик находил у себя под подушкой цветы...»
Последовала, как пишут драматурги, немая сцена...
Меня, правда, класса этак с пятого Девчонки уже почему-то не трогали. Сам я тоже избегал их.
Признаюсь, однако, в одном непостижимом факте. Едва ли не с четырех-пяти лет у меня по отношению к девчонкам возникло что-то похожее на чувство обиды, как будто я верил, что все они — добрые феи, а они обманули меня, оказавшись чуть ли не разбойниками. При всей моей оставшейся с младых ногтей предубежденности к девчонкам, при том, что мне был особенно отвратителен агрессивный эгоизм в них, созданиях, по какому-то странному моему убеждению, особенных, стоило мне заглядеться в Наталкины темные, мягкие глаза или в зеленые злые, но все же красивые глаза Оксаны, как я чувствовал, что у девчонок этих есть и надо мной какая-то таинственная, жгучая власть.
Я обрадовался их приходу. Все-таки через неделю-другую начинаешь скучать по классу.
«Ну, как ты?» — спросили они. «Ничего! — бодро ответил я.— Выздоравливаю. Павленко мне уроки носит...»
Я очень обрадовался их приходу, так как Лукьянова и Павленко бывали от с е б я, а это посещение было от класса. Я усиленно приглашал девочек пройти в гостиную, но они дальше прихожей не пошли. Я думал, что они стесняются, но оказалось, что они спешат. Кто-то сказал, что у меня есть старый телефонный аппарат, вот они и пришли попросить его. «Он нам очень нужен! — страстно говорила Оксана.— Мы репетируем с пионерами «Тимура и его команду», и без телефонного аппарата просто не обойтись... Понимаешь?»
Почувствовав предательскую слабость во всем теле, я прислонился спиной к стене. Оксана словно не понимала того, что происходит. Наталка же, казалось, прекрасно все сознавала. Или, глядя на меня, стала сознавать. Она смотрела на меня загадочным взглядом, как будто говорила: понимаю, но что поделаешь... «Ни у кого больше нет...» — произнесла она, опустив глаза. «Да, да... конечно... сейчас...» — засуетился я. Поковылял к чулану, отыскал старый черный аппарат с отработанной платой, вручил его Оксане. Уходя, Наталка задержалась в двери, спросила с некоторым колебанием: «К тебе приходит... Таня?..» — «Да»,— ответил я. Помедлив еще некоторое время, она как-то странно глянула на меня, точно прощаясь со мной навсегда, и вышла, тихо притворив дверь...
248
Раны мои не на шутку разыгрались. На правой ноге рана уже квалифицировалась как ожог третьей степени. Врачи боялись за кость; мне грозила госпитализация. Вот уж поистине ахиллесова
пята!
Не знаю, чем бы все кончилось, если бы мама не достала югославское желе, в которое входил экстракт из телячьей крови. От этого желе раны буквально на третий день стали подсыхать и затягиваться. Вскоре я начал ходить в школу, правда, в шлепанцах.
Более всего меня волновала предстоящая встреча с Восцыным. Увидев меня, он весь на мгновение сжался, метнул испуганный взгляд на мои ноги. Меня сразу окружили, засыпали вопросами, шутками. Восцын стоял в стороне, напряженно прислушиваясь к тому, что отвечал я. Услышав, что я случайно попал в костер, он тотчас повеселел, будто его отпустило, забегал, как ни в чем не бывало. Только, пожалуй, слишком уж возбужденно двигался и разговаривал он... А на перемене остановился с ребятами неподалеку от меня и произнес нарочито громко: «Подумаешь — ожог! Там и страшно- го-то ничего не было...» Лукьянова тоже слышала это. Я видел, как забилась у нее на шее жилка. С гневом смотрела она на меня, а я взглядом умолял ее сдержаться.
Потом, после уроков, тихо приблизившись ко мне и идя со мной рядом, она говорила: «Я с ума сойду от всего этого!.. Этот негодяй позавидовал тебе, своей жертве...» — «Таня, Таня! — шептал я.— Не надо!» Я вобрал голову в плечи и, как мог, заторопился, словно хотел убежать от нее, от того, что она говорила: «Да, он позавидовал радости, с какой тебя встретили, славе, какую создали тебе ожоги, даже любопытству, какое вызывают у всех твои несчастные шлепан ц ы!.. И он... он еще посягнул... он поднял руку на самое твое страдание!!» Она остановилась, отвернулась. Подошла к ограде, прижалась лицом к железным прутьям. «Таня! Тут не то... Тут другое...— шептал я, стоя у нее за спиной.— Он совесть свою заговаривал...» Таня отстранилась от прутьев ограды, сказала с неожиданной грустью: «Вот... Всегда ты на сияющей вершине. А я...— Таня слабо улыбнулась. Затем произнесла с бесстрашием, на которое была способна только она: — Я глаз с тебя не свожу. Наталка говорит, что я... Впрочем, она не то говорит. Я не знаю, что со мной происходит. Я и восхищаюсь тобой и жалею тебя... Когда я видела сегодня тебя, такого худенького и бледненького, в классе и в коридоре и когда шла за тобой от самой школы и видела твою одинокую фигурку, видела, как старательно и радостно ты шел, и видела эти невозможные твои шлепанцы, сердце мое разрывалось от жалости...»
И тут она произнесла: «И я подумала, что, кроме меня, у тебя никого не т...»
Земля подо мной покачнулась, и я бросился бежать. Резкая боль в пятке не давала мне мчаться изо всех сил, но я бежал, как мог.
«Саша, Саша!..»
Я споткнулся, шлепанец с правой ноги слетел; я бежал в носке.
249
Боль была такая, что бежать стало невозможно, и я остановился. Оглянувшись, я увидел, как Таня медленно подошла к шлепанцу, остановилась над ним. Весь дрожа, я зачем-то поковылял назад, как будто этот в самом деле злополучный шлепанец имел для меня сейчас какое-нибудь значение. Таня наклонилась, подобрала шлепанец. Я остановился над ней и вдруг увидел, что она стоит на коленях. Почему-то это поразило меня. Конечно же, она опустилась на колени, поднимая шлепанец; но было в этом и что-то еще, что-то совершенно невозможное, что мне хотелось тотчас запретить. Было, было!.. К великому моему ужасу, она стояла передо' мной на коленях: стояла, прижимая к груди несчастный шлепанец, и смотрела на меня светло и бесстрашно.
Я торопливо уходил от нее, шепча самому себе: «Нельзя!.. Это нельзя...» Горько мне было шептать это, но я все повторял и по- воторял: «Нельзя...»
У меня были на то причины.
ЧАСТЬ 2
И все-таки мне хотелось, чтобы меня любили. Порой мне казалось, будто мне хочется, чтобы меня любили все, что это и есть мое заветное. Вот о чем я мечтал в жалком моем положении!
Наверно, это и было причиной многих моих страданий.
Впрочем, из последующих моих записей кое-что прояснится.
Если бы меня спросили, что составляет главное занятие моей жизни, я бы ответил: думание. Когда я говорил о своем думании Наталке, она неизменно отвечала: «Не воображай!» Родителей моя серьезность и задумчивость настораживала. Они пугались, когда я задумывался, как пугались при виде моих немытых рук за обедом. «Опять напустил на себя халимондру. Чтоб больше этого не было!» — говорил мне папа, когда мама просила его поговорить со мной. Я думал не ради развлечения или любопытства, а ради спасения. Думание было тяжким трудом.
Нередко задавался я вопросом: уважаю ли я себя? Требую от какого-то там красавчика Вити Сенина быть идеалом, а сам ведь не идеал! Но однажды я честно ответил себе: «Если и уважаю, то лишь за то, что живу на пределе своих возможностей, и за то, что живу своим умом, своим трудом».
«Идеал, не идеал,— думал я,— не в этом дело; любят ведь не за одни оценки, не за одни подвиги и не одних лишь непогрешимых; главное — не требовать друг от друга невозможного. То есть, конечно, требовать совершенства, но требованием своим не тиранить друг друга...»
250
О, думание было для меня вовсе не отвлеченным умствованием! От него именно зависело, будет ли существовать мой мир или же он рухнет, и я окажусь среди развалин...
Обо всем, о чем я думал, я и пишу здесь.
Семейный портрет
Папа мой высокого роста, худой, с неожиданной, неприятной физической силой; длинные волосатые руки его поражали неумолимой цепкостью; горбоносый, с выпуклыми глазами, он нес на себе печать грубой, практической серьезности и напористости. Прямота сочеталась в нем с хитростью, огромная трудоспособность с огромным и откровенным честолюбием. Он был выходцем из деревни. О нем нельзя было сказать, что он неотесан, он был недоотесан, ему недоставало культурности, интеллигентности и в конечном счете человечности, которая нужна была ему по его положению. Он работал заместителем директора завода химико-технологического оборудования и мечтал о перспективе работы в министерстве в Москве. В делах он всегда преуспевал, и я думаю, что рано или поздно он будет работать в министерстве.
Он обладал каким-то хищным артистизмом. На все у него было чутье. Я диву давался, как мой недоотесанный папа, гордившийся тем, что он еще вчера, можно сказать, лаптем щи хлебал, преображался в присутствии нужных людей. Уважаете манеры — пожалуйста! Любите благородство — извольте! Даже начитанность мог изобразить, хотя книг почти не читал.
И только со мной у него не получалось. Никакая хитрость меня не брала, никакая грубость и никакой артистизм. Он знал, что я вижу его во всей неприглядности, и чувствовал себя от этого неуютно, а в какие-то мгновения ненавидел меня за это. Зря, конечно, потому что я его все равно любил. И хотя он называл меня выдумщиком, я никогда
251
ничего не выдумывал; я его любил не обманываясь, зная все его несовершенство и зная — с такой же точностью, но только невыразимо,— что, любя его, я не ошибаюсь.
Папа спрашивал за учебу строго, за двойки и даже за тройки наказывал, особенно на первых порах. Лишал прогулок, мороженого, кино. И даже лупил. Дела мои от этого не улучшались, он же — от бессилия своего — жал еще беспощаднее. Он всячески обзывал меня, выбирая самые обидные, самые едкие слова: «Слабак», «Тупица», «Серость». О, с какой брезгливостью произносил он все это! А в последнее время я у него — «неудачник». Может быть, он надеялся разбудить мое честолюбие.
С допеканиями я еще мог мириться. Пронимало, конечно; но в целом я, несмотря на гордость свою, мог прощать, прощать и прощать, потому что оскорбления были не по существу, не затрагивали во мне чего-то главного. Порой мне даже становилось смешно, но я и виду не подавал, чтобы не обидеть его, столь усердствовавшего в моем воспитании.
Я не только стоически переносил его допекания, но еще
и жалел его, как в случае с Восцыным, рассуждая следующим
образом: папа поступил по отношению ко мне несправедливо,
и я теперь, с позволения сказать, хозяин положения, у меня
есть моральное право его судить, я могу мучить его своим нравственным превосходством! — но, зная, как он от сознания всего этого, должно быть, казнится сам, я жалел его. Когда же мне открылось, что он ничуть не казнится, я и тут нашелся: значит, он добросовестно заблуждается, значит, ему не дано понимать,— за что же я буду карать его? Его нужно именно жалеть.
Мама во всем вторила папе. Тоже довольно высокая, но, в отличие от худого, жилистого папы, полная, что называется, представительная, с красивым холодно-важным лицом, она подавляла всех одним
252
своим видом. Она очень заботилась о своей внешности, красилась под блондинку, делала высокую пышную укладку, одевалась богато и модно. Все это помогало ей производить впечатление. И соседи, и сослуживцы, и даже незнакомые люди побаивались ее, тем более что она при строгой и мужественной внешности была резка в разговоре. Ей нравилось, что ее побаиваются. Пожалуй, этим она более всего и дорожила.
Но основы, на которых покоилась ее внешняя значительность, были до смешного ничтожны. Впрочем, смешного тут было мало; больше было, пожалуй, страшного. «Как все, так и я» — вот ее кредо, ее спасательный круг. И даже, пожалуй, еще ужаснее: «Каждый должен быть как все». То есть кредо, которое у одних носит характер безвольного примыкания ко всем от неспособности быть собою, у нее превращалось в агрессивное средство. Кто не как все — тот достоин презрения и осмеяния, тот — враг. О, какую силу она черпала в своей безусловной принадлежности ко всем! Малейшее отступление от чего-то среднего, общепринятого воспринималось ею как личное оскорбление, как покушение на ее значительность, которая только и состояла из этого среднего, общепринятого...
Меня удивляло, как у моей беззаветной бабушки-крестьянки воспиталась такая гордая дочь.
Папу с мамой раздражала моя несообразительность. Папа из себя выходил, когда я не понимал дроби, мама закатывала глаза, когда я в очередной раз писал «карова» вместо «корова». «До всех доходит, до одного тебя не доходит». О, сколько раз я слышал это!..
Я не оправдывал родительских ожиданий. Они вкладывали в меня столько труда, а отдачи не было никакой. Я был безнадежен. Вне себя от ярости, папа кричал: «Пятиклассник — понимаешь? — пя-ти-класс-ник исследует интенсивность квазаров!.. Мальчик прямо из начальной школы поступает в МГУ!.. В твоем возрасте дети стихи пишут, оперы сочиняют!» — «Да, да! — подхватывала мама.— У других вон дети чемпионы, артисты кино, гениальные художники!.. Про них в газетах пишут, их по телевизору показывают...» Однако все это мне не помогало.
Я, можно сказать, погибал.
«Ваши двойки и тройки подрывают могущество нашего государства» — такое сказали нам однажды в школе. Как отдавались эти слова в моем сердце! Слова эти были водоворотом, из которого я дшкак не мог выплыть. Я хотел быть нужным, я выбивался из сил, чтобы стать им! Но выходило, что я н е могу быть им... Как же тогда жить?
Троечники, а тем более двоечники не нужны были ни учителям, ни администрации школы, ни министерству, ни... родителям.
Я погибал.
В вынужденном своем многодумном одиночестве я спасал себя сам. На все я вырабатывал самостоятельный взгляд. Не всем быть вундеркиндами. Может быть, природа еще дремлет во мне — я ведь
253
чувствую в себе силу превеликую, но она как будто отложена для какого-то случая, для будущего какого-то дела. А в Павленко она, эта чудесная сила, может, потом когда-нибудь захочет отдохнуть. И захочет, может, в самое неподходящее время. Так что еще неизвестно, что лучше, а что хуже.
Что же касается, так сказать, второсортности, проистекающей из пятибалльной системы, то и тут я решительно отстаивал человека — и уже даже не в себе, а вообще. Человек не баллами измеряется. Баллы можно и одной зубрежкой, одной памятью заработать, если она у тебя есть. А ведь помимо этого в человеке столько тайны, что объять ее не хватит никаких слов, никакого воображения, никакой мечты!.. Так вот, я не за двоечничество, а за то, что превыше всего — за человека со всей его тайной...
Все это была внутренняя полемика; вслух яне умничал, чтобы не нарушить и без того хрупкую близость между мной и родителями. Они не слышали голоса, звеневшего во мне.
Родители мучились со мной. Безусловно, они желали мне только хорошего; но как сделать это хорошее, они не знали. Как только они не брались за мен я!..
Изо дня в день, из года в год продолжалось наше терзание. Вот всего лишь один вечер из долгой вереницы вечеров, когда за меня б р а л и с ь...
На уроке нужно было придумать предложение с причастием, используя и объясняя при этом слово «чуткий». Я придумал: «Чуткий человек — это человек, разделяющий чужую боль и радость». При- думать-то я придумал, а объяснить, сделать разбор не смог. Училка, как выражались мы между собой, влепячила мне двойку. Разбор продолжился дома. Сначала папа объяснил мне, что я пень и оболтус, затем заставил вызубрить правила. Я вызубрил, что причастие — это глагол в особой форме, отвечающий на вопросы «какой, какая, какое, какие», однако со мной словно произошел заскок: я не мог назвать в собственном предложении причастие! «Ищи глагол в особой форме!» — кричала мама и оставляла меня на двадцать минут одного. За это время я нашел-таки глагол в особой форме: «Разделяющий»; но... где же причастие? Ведь оно должно отвечать на вопросы «какой, какая, какое, какие», а «разделяющий» отвечает на вопрос «что делающий»... «Я научила его находить глагол в особой форме,— в изнеможении говорила мама папе,— а ты доучивай его всему остальному. Я отказываюсь работать с ним!»
Папа зачем-то придумал свое предложение и стал объяснять мне на нем. «Воробей, сидящий на ветке, был грустный». Где тут причастие? Отвечай сейчас же!» — не спрашивал, а допрашивал папа. Я молчал. «По признакам ищи! — закипал папа.— По признакам!.. Какие ты знаешь признаки?» — «Это должен быть глагол... в особой форме... отвечающий на вопросы...» — «На какие вопросы?» — «Какой, какая, какое, какие...» — «Ну!..» — В предложении причастием будет «грустный».— «Болван! — выходил из себя папа.— Будет!.. Мо¬
254
жет, «грустный» и будет когда-нибудь причастием, я не знаю, этого никто не знает, но пока что это слово к причастию никакого отношения не имеет... Объясни, почему ты отнес его к причастию? Что такое причастие?» — «Причастие — это глагол в особой форме... «Грустный» — от глагола «грустить»... особая форма... отвечает на вопрос «какой»...» С минуту папа пучил на меня глаза; видно было, что он сам запутался. Наконец он треснул меня ладонью в лоб и тоже оставил на двадцать минут одного разбираться, на какой вопрос отвечает глагол в особой форме «разделяющий»... И смех и грех!.. Двадцать минут он выдержал педантично, как мама. Я пробормотал, что «разделяющий» отвечает на вопрос «что делающий», и... вобрал голову в плечи. Потому что вид у папы был ужасающий. Он грохнул кулаком по столу и заревел: «Какой!! Какой!!. «Разделяющий» отвечает на вопрос «какой!..» — «Почему?» — хотел спросить я, но побоялся.
Папа с мамой выступали единым фронтом. Мама кричала из-за папиной спины: «Он, оказывается, еще и в прилагательных не разбирается! «Грустный» в причастия записал... Это же за пятый класс!.. Его в школу дураков переведут! Он нас в гроб загонит!..»
Не стану рассказывать, как мы искали, какое слово определяется найденным нами причастием и какие слова входят в причастный оборот. Хватит этого ада.
Я понял, что без меня родителям жилось бы куда лучше.
Часто мама говорила: «Закончишь четверть без троек, купим мопед». «И японский магнитофон»,— добавлял папа. Бедные, бедные мои родители! Из всех политик политика пряника по отношению ко мне была самой непригодной. Политику эту, как я догадался, они позаимствовали у Восцыных. Восцын высокой успеваемостью заработал мопед и... пять магнитофонов! Среди магнитофонов один был импортный, стоимостью тысяча пятьсот рублей. Я не мог взять в толк, зачем ему* пять магнитофонов. Более же всего меня удручала полная неизвестность того, сколько еще магнитофонов желает иметь Восцын.
Наша семья материальных нужд не испытывала; родители, экономные до прижимистости, мне, нужно сказать, ни в чем не отказывали. Ходил я в фирменных джинсах и куртках, были у меня, как я уже говорил, и электронные часы, и финские лыжи, был спортивный велосипед и все такое прочее. И даже было пятьдесят рублей, которые я не знал, на что потратить: то ли приобрести этюдник, поскольку я исподволь порисовывал, то ли приберечь для какой-нибудь поездки. Деньги эти мне надарили в конвертах на день рождения папины и мамины гости.
Но что мне пряники, что мне мопед или магнитофон! К деньгам, вещам я был равнодушен. Если бы я не желал учиться, тогда та или иная вещь была бы каким-то стимулом; но я ведь просто-напросто не соображал.
Уже по одной этой политике родителей я догадывался о том, как плохо они знают меня.
255
Да и когда им было узнать меня! В младенчестве я был отдан в ясли; потом жил в деревне у бабушки; потом весь день находился в школе, на продленке... У нас времени не было на общение, и я рос, как сирота. В те же промежутки, что оставались свободными, они то смотрели телевизор, то обсуждали свои взрослые дела.
Кроме того, они были слишком холодны и суровы. Я не получал от них человеческого тепла. В кои веки они хвалили меня, в кои веки улыбались! А я ведь ждал, я всегда ждал! Особенно когда был маленький. Проснусь и жду этого чуда — улыбки... Сколько ни заглядывал я в папины глаза, чтобы увидеть, что в них светится, всегда на меня вместо папы смотрел... начальник.
По временам мне казалось, будто именно из-за родительской холодности я туго соображаю. Холодность их замораживала меня. Казалось, вот сейчас кто-нибудь из них улыбнется мне — просто так,— и я оттаю, и тотчас соображу, и впредь буду уже легко соображать! Но чуда не происходило...
А самолюбие! Сколько раз нажимали они на этот рычаг. «Учись — в люди выбьешься!..»
«Выбиваться в люди» я не собирался; другое дело, что пришла пора выбирать, кем стать; но об этом даже помыслить было страшно. Кем я мог стать? Многие в нашем классе уже твердо решили, кем будут: учеными, врачами, воспитателями, строителями, офицерами, продавцами... Есть среди нас и будущий генерал, и генеральный директор, и токарь, и нянечка. Некоторые каким-то образом додумались до профессий, можно сказать, необычных. Один определил себя в ювелиры, другой в таможенники, третий в жокеи... Может, я и хотел бы стать биологом или художником, но я не смел ни о чем даже мечтать. Я не знал, на что потяну. Конечно же, я хотел получить профессию, которую бы я знал и любил; я хотел быть нужным. Во мне было хорошее самолюбие, но самолюбию моему было трудно.
Подступались родители и с другого фланга. «Тянись ты хоть за кем-нибудь! — советовала мама.— Дружи с развитыми мальчиками. С Восцыным, например. Он мальчик серьезный, человеком стать хочет...» Выслушивая это, я только лишь усмехался. Я мог бы ответить, как Перерепченко, находчиво и едко: «Раз кто-то хочет стать человеком, значит, он пока что еще не человек...» и т. п. Но я понимал, что это, во-первых, была бы игра слов, которая уводила бы от сути: я-то знал, какой разный смысл вкладывали в слово «человек», с одной стороны, Восцын и мои родители, с другой стороны, я; во-вторых, я не позволял себе не только остроумно срезать маму с папой, но даже более или менее категорически опровергнуть их с помощью действительно серьезных доводов: я щадил маму с папой, я осторожничал, терпел, сносил, чтобы сохранить главное — нашу близость.
Мама не замечала, что, говоря так, тем самым унижала меня.
256
Однажды Очеретяный назвал меня низшим умом. И вот выходит, что мама подразумевает то же...
«В кого он у нас такой?» — горестно вопрошала мама на семейных советах. Подразумевалось, что не в папу, поскольку он развитой, он ведь заместитель директора; и не в маму, поскольку она как-никак начальник группы инженеров-конструкторов...
Мои двойки чернили родителей.
Я испытывал бесконечные нравственные страдания. Не оттого, что ущемлялась моя гордость,— нет! — из-за непонимания. Мы не понимали друг друга. И это было выше моих сил. Это была катастрофа.
Я ужасно боялся стать второгодником, так как думал, что тогда родители откажутся от меня.
Я попал в окружение: в школе на собраниях я слышал одно и то же: «У тебя запущены почти все предметы. Ты тянешь класс назад...» Дома мне говорили, что я позорю честь семейного мундира...
Да, я был обложен со всех сторон; силенок моих едва хватало, чтобы держаться, а держаться нужно было не день и не два, а годами; держаться — то есть не обозлиться на всех, не начать доказывать себя как личность разными дикими выходками, не дать в себе сломаться человеку. Более того, я выкраивал силы на крохотные успехи: там решил примерчик, там справился в диктанте с безударными гласными... Но учение было каторгой, но на защиту уходили почти все силы. И все бы ничего, если бы к этому не примешивалось катастрофическое чувство, которое вызывали во мне отношения с родителями. Вот тут я проявлял всю свою виртуозность и все свое мужество; вот тут мне было действительно страшно. О, какая это история!.. Многое, многое я уже поведал, но предстоит рассказать едва ли не самое ужасное. Уже не раз подступался я к этому, но не поднималась рука. И вот приступаю еще раз...
Любовь откидыша
О, если бы они меня любили!..
Вот и вырвалось у меня поневоле: «Если бы они меня любили!..»
Я позволил себе роскошную слабость: захотел чтоб меня любили. И вот на этом пути я дошел до крайности, до последнего шага.
Хорошо помню: пятый класс, урок истории — что-то о рабах Древнего Рима — и — холодная, жуткая мысль. Мысль, разверзшаяся, как пропасть: «Они мне чужие, совершенно ч у - ж и е!»
Я сидел ни жив ни мертв. Мама с папой — чужие!..
Не знаю, как я доплелся до дому, как взглянул им в глаза. Ненавидя себя, я крутнулся и убежал в ванную; открыл кран, чтобы думали, будто я моюсь, а сам сидел на краю ванны в отчаянном бездумье.
9 Школьные годы. Вып.З
257
Чужие!
Я гнал это слово, изо всех сил старался забыть его, но оно звучало и звучало в голове. Оно опустошало меня, лишало сил. Я подошел к стене й стал биться об нее лбом, чтобы вышибить это непрошеное, неизвестно откуда взявшееся слово, но оно въелось намертво.
Долго не мог я найти себе места. И вот наконец собрался с силами, чтобы отстаивать их перед собой. Как боролся я за них, своих родителей!.. Я стал заучивать уроки так, чтоб от зубов отскакивало, стал лихорадочно усваивать несчастные дроби, которые никак у меня не шли, часами просиживал над синтаксическим разбором предложений, чтобы выправить оценки и... И доказать, что люблю маму с папой?.. И заслужить их любовь?..
Я перешагивал через эти вопросы, не позволяя себе давать на них ответы; я шел к своим родителям кратчайшим путем, шел напролом, непроходимой чащей, больно раня себя сучьями и колючками, не обращая внимания ни на что, ибо ничто не могло меня остановить.
Я испортил отношения с учительницей ботаники Верой Евгеньевной, которая преподавала первый год после института. Все в классе видели, что ей трудно, и я видел и помогал ей активностью. Она сразу заметила это и всегда в минуту беспомощности хваталась за меня. «Саша,— говорила она, когда мы оставались наедине,— я буду на тебя опираться, уж ты меня не подводи». И я выручал ее. Однажды я даже подарил ей букетик незабудок. Как она была рада!
Я тоже был необыкновенно взволнован и рад; мы с ней едва не расплакались...
Ботаника была единственным, кроме, пожалуй, рисования, предметом, который я любил и который мне сравнительно легко давался. Я с наслаждением рисовал почвенные разрезы, корни, стебли, листы и лепестки, клетки растений под микроскопом, собирал гербарий, отвечал на уроках. Пятерки так и летели ко мне... В классе меня стали уважать. «Человеком становишься!» — обронил как-то Павленко. Похвала была глупая, я и так был человеком, но все же она мне понравилась. «Любимчик Веры Евгеньевны!» — поддевали меня завистливые девчонки, и мне очень приятно было слышать это, я так и расплывался в неудержимо-счастливой улыбке. Вера Евгеньевна, можно сказать, вдохнула в меня радость жизни, подняла меня как личность... Разве я не понимал, как много она для меня сделала!
И вот я, испугавшись того, что Вера Евгеньевна становится мне роднее кровных моих родителей, перестал работать на ее уроках, а на все ее расспросы и подступы отвечал угрюмым молчанием. Я избегал смотреть на нее. Мечтательный взгляд больших голубых глаз, тонкая шея, шляпка-таблетка, делавшая ее до чрезвычайности элегантной,— все вызывало во мне острую жалость. Объяснить бы ей, ведь она тоже мучается, но разве такое объяснишь? Ее жаль, а родителей еще жальче: я ведь ее полюбил, а их тем самым предал.
Мне стало безмерно жаль их, нелюбимых, ияс новой силой, судорожно бросился их любить.
258
...Приехала мама с работы, а я уже в подъезде жду, сумку с продуктами отбираю. Она обрадовалась, благодарит. Никогда ведь такого не было, чтобы я встречать ее бегал... И вдруг через полчаса из кухни раздается гневный окрик: «Ты почему опять ведро с мусором не вынес?» — «Да я забыл!..» — исступленно кричу я, а у самого слезы градом. Забился в свою комнату, притих. Действительно, оплошал я с ведром, права мама. Но ведь это такая малость в сравнении с тем, что я встречать ее вышел! «Неужели она ничуть не оценила то, что я вышел ее встречать? — напряженно думал я.— А я ведь так готовился к этому, так волновался!.. После этого должно было быть так хорошо... Обидно: из-за пустяка пропало великое дело. Неужели пустяк дороже счастья?.. Нет, она просто ничего не поняла...»
Но шли дни и месяцы, а мои усилия ни к чему не приводили. Я и у папы портфель отнимал, чтоб собственноручно в прихожей поставить, но папа портфель не давал, говорил, что это пустяк, что он сам донесет и поставит. Не знал он, что называет пустяком великое дело.
И снова я уединялся, чтобы осмыслить все и собраться с силами. «Просто я не умел любить. Даже подступиться со своей любовью не умею. Какой в учебе, такой и здесь. Как мне жить такому?» — думал я.
«А они? Что же они-то?.. Где их усилия?»
Беспросветные мысли одолевали меня. Но всегда в минуты самого глубокого отчаяния внезапно вспыхивал луч надежды.
«Это я отучил их любить!.. Я — своей долгой-предолгой нелюбовью. Они уже и забыли, что такое любить...»
И я кидался к ним напропалую со всей своей лихорадочной нежностью, обнимал, осыпал поцелуями, плакал и называл родненькими и любименькими. Они в ответ тоже обнимали и целовали меня, но без порыва, без вдохновения. Видно было, что им приятно, но и только. Они были всецело поглощены чем-то своим, думали о чем-то более важном. У них всегда было много забот, они всегда строили ближние и дальние планы, и в настоящем их просто не существовало. А я пока что жил настоящим.
Им было не до мен я...
«А может...— думал я,— а может, я вовсе не их сын, а... подкидыш! Бывает ведь такое, читал же я о таком!.. А еще бывает — берут оставшихся без родителей младенцев и усыновляют их...— Я леденел от этих мыслей, опровергал их, как мог, но приходил к мыслям еще более ужасным.— Да нет, не усыновленный я. И не подкидыш, а... откиды ш!» Я прятался в укромные уголки — в школе забивался на чердак, дома в свою комнату — и плакал, давясь слезами. Я хватал накусанную ручку и писал в дневничке горячечные исповеди, обвинения, вопрошания... А потом вдруг сник, стал жить нехотя.
Вскоре, однако, борьба моя стала еще острее, еще отчаяннее.
Я не знал ни минуты покоя; я доказывал себе то одно, то другое,
259
то третье; я преодолевал изнурительные сомнения и предавался новым нетерпеливым надеждам...
Имел ли я право упрекнуть их в том, что они отшвырнули меня от себя?.. Они кормили, поили меня, обували, одевали, учили, Я всегда был под контролем. «Что нового в школе? Какие сегодня оценки? Сделал ли на завтра уроки? Пообедал ли?» Конечно, они никакие не звери, нормальные люди. Благополучная семья. Этим особенно гордились родители. Не раз они вменяли себе в заслугу это благополучие. Другие вон все разводятся, детей сиротами оставляют, а они держатся. Ради меня.
Это все было правдой, но в этой-то правде и крылся обман. Этой правдой они отгораживались от меня. Лучше бы они забыли накормить меня, оставили бы меня на осень в рваных туфлях, лучше! Зато в какой-то момент спохватились бы, душа бы их дрогнула, и они загладили бы свою провинность бесчисленными ласками, и это было бы как вода, хлынувшая через плотину, и потоком этим унесло бы меня вместе с ними в невообразимые края.
Невообразимые, но существующие. Раз душа о чем-то таком тоскует, значит, что-то такое есть.
У Тани Лукьяновой отец разошелся с матерью, но он приходит к Тане, катается с ней на лыжах, ходит с ней в театр. Дело, конечно, не в этом. Но все-таки. Когда мы учились во вторую смену, он каждый день поджидал ее у школы, как настоящий друг. Им было вдвоем хорошо. Они сидели на скамейке, разговаривали, мечтали — и им было хорошо. Таня рассказывала мне об этом, а я радовался: вот оно, невообразимое!
Многое был бы я готов терпеть, когда бы в выбранное сердцем мгновение припали мы друг к другу — я и мама, я и папа — и замерли бы, словно на целую вечность, все прощая друг другу, как можно прощать только в таком безмолвном порыве! Какие камни отпадали бы при этом прочь от наших душ, как легко становилось бы!.. Мне казалось, что это те мгновения, ради которых и живут люди.
Мое сердце всегда было готово к такому порыву. И может быть, меня подвело нетерпение...
Я отшатнулся даже от Тани — ради того, чтобы отдать все свои чувства родителям!
Никогда не забуду тот вечер. Таня тогда заметила, что я, с больными моими ногами, шел домой старательно и радостно. О да, это было именно так: досадуя на боль, я старался ступать и быстро, и осторожно; и я шел радостно, так как в тот вечер замыслил нечто решительное, бросок к счастью.
Таня сказала тогда: «Кроме меня, у тебя никого нет». Я слишком хорошо знал, о чем она говорит... Она говорила невозможную правду, которой я боялся больше всего на свете. И говорила другую правду — обо мне и себе... Но я запретил, запретил — ей и себе, я отшатнулся, убежал, чтобы тотчас опровергнуть то, что она сказала о моих родителях!..
260
Придя в тот вечер домой, я первым делом вынес ведро с мусором. Затем торопливо сходил за хлебом и за молоком. Успел даже кое-что из уроков сделать. Словом, в тот вечер все у меня было предусмотрено. Я сел на диван и стал ждать маму с папой. После того как Таня рассказала мне о своем отце, я только и мечтал о невообразимом. Мы все сядем на диван — не у телевизора, не за газетами, а так, чтобы, как говорит бабушка, тихий ангел пролетел, так, чтобы унестись вместе в невообразимые края.
Пришли родители. Мама тотчас устремилась на кухню, выложила в холодильник продукты; потом нашла какие-то дела в спальне. На мой зов она знай отвечала: «Сейчас я...» Папа включил телевизор и сел на диван. Я выключил телевизор и объявил недоуменно глядящему папе: «Знаешь, что я придумал?.. Только надо сначала маму позвать». Привел за руку маму, усадил на диван, сам сел между ней и папой, обнял их.
Это были, может быть, самые страшные минуты в моей жизни. Я молчал, и они тоже молчали. Вскоре молчание стало неловким. И только я хотел что-то произнести, как, на мое несчастье, запахло жженым линолеумом. Мама оставила в спальне утюг на полу...
Лицо у меня скривилось. Родители ощущали, что в данную минуту вершится что-то очень серьезное, серьезнее даже пожара в квартире, и это еще удерживало их в моих объятиях, но все же они думали уже только об утюге, а я, чувствуя и зная это, почти зло держал их, а потом отпустил и, дрожа и захлебываясь слезами, попросил: «Погладьте меня, по... пожалуйста...»
В тот вечер, в ту ночь душа моя словно задохнулась; не мог я ни о чем думать, сил не было; лежал неподвижно в постели, смотрел в темноту и даже не замечал, что руки и ноги у меня ледяные. Хоть я и клял и ругал себя на следующий день, легче мне от этого не стало; напротив, стало еще ужаснее, чем ночью, так как отчаяние было уже осознанным. Я вспомнил, что отказал в дружбе Вере Евгеньевне; что, можно сказать, ради любви к родителям отрекся от наметившегося своего становления в классе, когда одноклассники стали уважать меня за успехи по ботанике; вспомнил, что убежал от Тани... Вспомнил — и подумал, что это были роковые шаги, но они не привели к желанной цели.
Конечно, мама с папой всего этого не знали. Но разве об этом расскажешь? Разве объяснишь, как случилось, что я ради них старался учиться одновременно лучше и... хуже! Расскажешь ли о том, что было между мною и Таней Лукьяновой?..
Бегство
Нервы мои истощились, и я заболел псориазом. На коже у меня высыпали розовато-красные пупырышки с серебристо-белыми чешуйками. Родители всполошились, стали водить меня по врачам. Долго
261
я страдал от этой болезни, уже и привык к ней, и смирился, да папа разыскал-таки в Москве врача, который вылечил меня за несколько сеансов.
Врач, спокойный и серьезный, с удивительными ясными глазами человек, запретил отцу «отблагодарить» его и сказал на прощанье, что для мальчика, для меня то есть, необходимо исключить наказания, что я принадлежу к типу, который нуждается прежде всего в поощрении, в чуткости. Еще немного — и он сказал бы: «В любви...» Но он сдержался.
Я мог мириться с допеканиями, наказаниями, с псориазом — с чем угодно! — но только не с родительской нелюбовью... Может быть, врач догадывался об этом. Он не дал отцу рекомендаций любить меня, потому что, наверное, понимал, что сначала нужно вылечить душу отца от нелюбви. А возможно ли такое?
Вот в какую глыбу уперся я на своем пути.
В поезде, по дороге из Москвы, и потом дома я думал, что в других я всегда находил что-то положительное, хотя бы зачатки хорошего, и прощал им многое, и соглашался с их нелюбовью ко мне, а любовь некоторых даже отводил от себя, и мир. стоял. От родителей же я требовал невозможного, и из-за этого мир кренился, перекашивался, и все мы летели в тартарары. Нужно было что-то делать. Неужели хорошее — это только любовь и именно любовь ко мне? В родителях много другого хорошего. И нам надо как-то согласоваться.
Сколько раз я, загибая пальцы, тайком подсчитывал, кто любит их и кого любят они! И выходило, что они никогда не были нелюбимыми, их всегда любили, по крайней мере, два человека: я и бабушка. Я загибал два пальца. А вот они... Пальцы, отведенные для подсчета тех, кого любили они, оставались незагнутыми. Придуманная мною арифметика любви всегда удручала меня, ибо я не верил, что можно жить, никого не любя. Не верил вопреки точной науке — арифметике...
Но вот наконец я пришел к чему-то для себя новому. Все беды и несчастья на земле оттого, что одни любят, а другие нет; следовательно, надо сделать так, чтобы либо все любили, либо никто бы не любил,— тогда не будет мучений.
И я решил выравнивать мир.
Надо приспособиться к родителям, и будет* хорошо. Да, да, раз их не приспособить к себе, то надо самому примениться к ним! Кто-то должен уступить ради общего блага. Пусть я проживу вовсе без любви! Без их любви и без своей. Проживу с тем, что есть в них хорошего, искоренив в себе любовь. Ни их терзать не буду, ни сам не буду мучиться.
Так я дошел до крайности, до последнего шага, до последней жертвы.
Последний шаг — не любить.
Прежде я и помыслить не мог о том, что можно не любить. Это новое было каким-то кошмаром, хаосом. Я совершенно не представ¬
262
лял себе, как можно жить не любя. Мне предстояло ступить на планету, где царил вечный холод и мрак.
Я еще не знал, смогу ли я не любить. Смогу ли жить на одном рассудке. Я сделал всего лишь шаг на льдистую поверхность — и тут лее поскользнулся. В русском языке, как я выяснил, существует тысяча пятьсот слов, характеризующих личность. Казалось бы, выбирай, примеряй к личности, и вся она, личность то есть, будет как на ладони. Хочешь опереться на положительное? — пожалуйста, греби положительное, сколько угодно! Ан нет. Я подбирал слова, но выходило что-то убогое, какая-то галиматья. «Чистоплотные... бережливые...» Да и с этим положительным я не мог отделаться от ощущения подвоха. «Бережливые — сквалыжные... Находчивые — пройдошливые...» Хорошие слова погибали без чего-то главного. Кроме того, словарь, будто в насмешку, так и сыпал подходящими словами другого толка. «Вспыльчивый, гневливый, злопамятный, въедливый, немилостивый, льстивый, властолюбивый...» «Гордая, кичливая, бранчливая...»
Я бросил словарь, книги и вбежал в комнату к родителям. Мама сидела перед зеркалом, держа в губах заколки-невидимки, чуть прикасаясь кончиками пальцев то там то сям к прическе-башне. Я смотрел на нее широко открытыми глазами, оглушаемый одним-единственным словом, что сильными толчками билось во мне: «Мама... мама.*..»
Я посмотрел на папу — он сидел на диване, вдевая в манжеты новой рубахи массивные квадратные запонки. Я словно впервые увидел его.
«Он некрасивый, он далекий, чужой, неприступный!» — думал я, с трудом удерживаясь от желания броситься целовать его руки.
Родители уходили. Они заказали стол в ресторане, куда пригласили какого-то важного товарища решать какое-то важное дело. Я встал в двери. «Что ты такой бледненький?» — спросила мама. В ответ я растопырил руки, улыбнулся дрожащими губами: «Никуда я вас не пущу...» Папа на секунду приостановился, соображая, что бы это значило; решив, что это шутка, улыбнулся углом рта, движением руки отвел меня, как паутинку, и вышел. Мама величественно последовала за ним.
Я горько улыбался. Я попал в западню.
Не любить — было моей хитростью. На самом деле я хотел перевоплотиться в них, в своих родителей, понять их, сблизиться таким образом ^с ними — чтобы любить. Не для того, чтобы стать ими, холодными, а чтобы подобраться к ним и — любить! И чтобы они все-таки любили меня.
Я так думаю о людях: случись что со мной и упади я лицом в ладони хоть Тане Лукьяновой, хоть Восцыну, хоть отцу-матери — в душе у каждого из них будет что-то потрясено, и в короткое время, в мгновение это что-то поднимется, и меня утешат. И вот это ясное
263
и простое я старался всегда удерживать в своей памяти, всегда знать, потому что оно распрямляло в моих глазах каждого человека. Оно было главным, за что я любил всех людей. Это был залог того, что нет людей безнадежных.
Но я хотел, чтоб эта потрясенность была нормой жизни, я хотел праздника на всю жизнь, на все века, я хотел несбыточного!
Я хотел, чтоб меня любили все. Смех, стыд, безумие! Даже своих родителей не смог я подвигнуть на это.
Я вспомнил, как хотел целовать отцовские руки.
Я ненавидел себя за правду. Я давился слезами.
«Бежать!.. Бежать, бежать!..»
И я предпринял попытку вырваться из несчастливой своей жизни. Подготовил документы в художественное училище. Не потому, что очень уж мечтал стать художником, а чтобы бежать.
Отец в это время был поглощен идеей загранкомандировки. Точнее, воплощением ее. Открывалась возможность поработать год-дру- гой в Африке. Он уже несколько раз слетал в Москву; дело, кажется, продвигалось: нужно было пройти медосмотр и сделать прививки. Отец нервничал: пройду ли я по состоянию здоровья? Если бы командировка была на полгода, то можно было бы ехать одному, на два же года нужно было брать семью. А здоровьице у меня не ахти какое.
Я втихомолку готовился к поступлению в художественное училище. Когда же я рассказал о своих намерениях родителям, они выразили величайшее недовольство. Говорили о том, что я поступил нехорошо, не посоветовавшись с ними, и о том, что нужно во что бы то ни стало закончить десятилетку и потом поступить в вуз, и, главное, о том, что я путаю им карты, так как на меня уже оформлены документы и нужно ехать за границу. «Ты же прекрасно знал, что мы едем,— напористо убеждал меня отец.— Ты фотографировался с мамой на визу, делал прививки, а теперь пускаешь под откос общее семейное дело...» С мамой чуть не случилась истерика. Она стала выбрасывать из гардероба сшитые специально для Африки платья, задыхаясь и крича: «Вот... Вот... Все насмарку!.. От холеры прививались — насмарку! От лихорадки — насмарку!.. Теперь нас никуда не пустят...» — «Пустят...— криво улыбнулся я.— Зачем я нужен... вам...»
Поздно вечером я слышал из своей комнаты их разговор. После долгого, едва ли не двухчасового молчания, мама произнесла так, как будто разговор оборвался полминуты назад: «Даже если пустят... без н е г о... то все равно наши планы летят к черту. Мы ведь хотели сдать на два года квартиру. А так он здесь будет жить». Папа, как бы колеблясь, говорить или нет, все же сказал: «Тыщу двести рублей убытку. Это в том случае, если бы мы брали с квартирантов по пятьдесят рублей в месяц. А сейчас некоторые берут и по семьдесят пять. Так что теряем еще даже больше.
264
Я уж не говорю о том, что если он останется здесь, то ему придется оплачивать квартиру. Это пятьсот рублей за два года. Таким образом, мы теряем как минимум тыщу семьсот рублей».— «А то и больше»,— сказала мама. «А то и больше»,— согласился папа, и они снова надолго умолкли. Потом папа прошептал что-то маме, а она громко ответила: «Подумаешь! Вот и хорошо, что слышит. Ничего неудобного нет. Не перед общественностью выступаем. Дело семейное. Это нам с тобой вся стать обижаться — для него ведь стараемся!» Помолчав, она сказала: «Главное, конечно, не деньги. Не можем же мы оставить его в квартире одного. Мало ли что...»
Я накрыл голову подушкой...
Через три дня я объявил родителям, что в училище не поступил, провалился на творческом конкурсе. Рисунки у меня были неплохие, но... все-таки я слабак и неудачник. Папа посмеивался, мама улыбалась, не разжимая губ, и я улыбался им в ответ, тоже не разжимая дрожащих губ.
На самом же деле я просто-напросто забрал документы. В приемной комиссии меня, напротив, уговаривали поступать, уверяя, что я выдержу творческий конкурс. Но я не мог жить в этой квартире. Я не мог жить в этом городе.
И я бежал.
ЧАСТЬ 3
Грузовик мчался, подпрыгивая на камнях. Едва успевал он коснуться колесами земли, как тут же сотрясался от удара о булыжник, взлетал и снова грохался об землю. Я стоял в кузове за кабиной, держась за передний борт. Страшно и весело было мне. Теперь я понимал, что имел в виду шофер, когда предупреждал, что у него не ГАЗ, а «полусамолет». «Полусамолет» подскакивал, плюхался в ямы, взмывал — и сердце во мне прыгало, как мячик. Впрочем, я тотчас привык к скорости, тряске и опасным кренам и, не сдерживая улыбки, оглядывал окружавший меня простор.
Вдоль дороги бежали редкие кусты ракитника. По обе стороны лежали поля, и не было им конца-краю. Радостно было мне подставлять лицо встречному ветру; я будто в самом деле летел над дорогой, и мало мне было скорости «полусамолета» — хотелось лететь еще стремительнее, мгновенно перенестись туда, куда рвалось мое сердце. Восторженно озирался я по сторонам, хватал открытым ртом воздух, жадно дышал им, и с этим воздухом в меня как будто входила другая жизнь.
Наконец «полусамолет» резко затормозил, словно наткнулся на непреодолимое препятствие. Я сбросил на дорогу две свои большие спортивные сумки, спрыгнул. В то же мгновение не выносивший
265
неподвижности «полусамолет» дернулся и устремился дальше, упорно продолжая свои яростные скачки-взлеты. Вскоре шум мотора затих, и меня объяла тишина.
Мне хотелось опуститься в траву, припасть-приласкаться к земле, встать на колени и любоваться подступающим к большаку жарким полем ржи, сесть на обочину узкой, полузаросшей, словно неезжалой, дорожки и заглядеться на кашку, чьи цветки стояли над колеей, будто белые облачка над полем. Но это потом, потом!.. Сейчас же нужно торопиться, идти вприбежку затверделыми колеями во ржи, через пологий холм, за которым издалека виднеется верхний тонкий ярус колокольни. Это деревня Погост, где живет моя бабушка; туда я и поспешал. Я рад был бы бросить на дороге сумки и побежать налегке — потом подобрал бы, здесь никто не возьмет чужое; да в сумках были подарки для бабушки, которые я желал немедленно ей вручить. Дарить ей что-либо было истинным удовольствием. Никто так искренне не радовался подарку, как она; и даже не подарку, а привет у,— и от этого я, даря ей что-нибудь, радовался самым чистосердечным образом вместе с ней. Словом, я почти бежал, таща на плече и в руке тяжелые сумки. Все во мне ликовало, от нетерпения я рад был бы одним прыжком перепрыгнуть поле.
С холма всегда неожиданно открывался вид на Погост. Среди старых кладбищенских берез возвышается сквозистая колокольня и оплывшая, без купола, церковка. Одним порядком, повернувшись лицом к солнцу, стоят серые избы; их всего девять. Между деревней и речкой темнеются зеленью огороды. Речка, приобнявши деревню, исчезает в глухом брединнике и осоке и не сверкает уже больше нигде, даже в чистом поле, как будто ее вовсе нет.
Бабушка
У деревни на покосе я увидел бабушку, помчался к ней и... остановился. Вот она, высокая, в длинном, как сарафан, темно-синем платье с белыми цветиками, в белом платочке. В правой руке у нее грабли, а в левой... в левой — костыль!!.
Бабушка идет навстречу здравствоваться, а я, чувствуя, как кровь отливает у меня от лица, неотрывно гляжу на костыль.
— Миленький ты мой,— сокрушается она,— испугался... И сама рада бы выбросить клюку свою, да только без нее нынче никак: ноги-те не держат...
— Бабушка!!.— обхватил я ее и больше ничего уж не мог сказать — горячо брызнули слезы, побежали ручьями, как будто долго набирались и вот прорвало.
Не знаю, сколько стоял я так, сотрясаемый плачем; слышал, что и она там, надо мной, тоже отчего-то плачет, чувствовал, что хочет она высвободить руки и погладить меня, да я так крепко обхватил ее, что она едва могла пошевелиться; она не упрашивала меня не
266
плакать и не спрашивала, отчего я плачу, и я был бесконечно благодарен ей за это безмолвное спасительное понимание, и плакал уже не так, как в первые мгновения, когда хлынули слезы, а плакал утешно и даже радостно*
Опустившись с моей помощью на землю, бабушка стала отвечать на мои расспросы. Она ничего не писала нам о своей беде с ногами, так как думает, что это никому не интересно, что о невеселом лучше молчать. А дело было так. Ехал хмельной шофер и решил пошутить над старухой, машиной пугнуть; да так пугнул, что, притерши бабушку к забору, повредил ей кости в бедрах. Потом этот шофер прислал жену с деньгами, откупаться. Бабушка едва ее упросила деньги не давать.
— Бабушка, ты в суд подавала? — строго спросил я.
— Какие мои суды! — махнула она рукой.— Обратно, что ль, срастется...
— Бабушка, но ведь так нельзя! — горячился я.
Бабушка помолчала, вздохнула.
— Есть закон!..— возвысил я голос.
Бабушка расправила платье на ногах, сказала извиняющимся голосом:
— Детки у них, двоешки...
Я запнулся; помолчав, сказал уже смирнее:
— Так ведь он и других давить будет.
— Нет, теперь, думаю, уж не будет.
Сам не знаю, зачем я взял костыль. У меня всегда был страх перед костылями и даже отвращение. Я всегда отводил взгляд от костылей. И вот впервые в жизни прикоснулся к этому предмету. Руки мои, державшие костыль, словно окоченели; я не мог разжать пальцы. У меня даже костяшки пальцев побелели.
— Тоскливо все это, бабушка... Костыль какой-то...
Бабушка осторожно вынула у меня из рук костыль.
— Что ж,— сказала,— он мне в помощь. Я уж привыкла к нему.
267
— Бабушка, отчего жизнь такая слепая и жестокая? За что тебе этот костыль?
Бабушка молчала.
— За доброту твою?
У бабушки было какое-то свое понятие о справедливости и несправедливости, а точнее, свое отношение к этому. Отношение это выражалось в великом терпении, молчаливо поглощавшем все беды и страдания, которые обрушивались на нее. Я же страстно протестовал против бед и страданий вообще, но поскольку устранить их вообще было невозможно, то я требовал — в сознании своем, в соответствии со своим понятием справедливости,— чтобы беды и страдания посылались только в меру вины. Увы, это тоже было невозможно. И все же я искал хоть какой-нибудь выход. Бывают слепые, несчастные случаи, и тут ничего не поделаешь; но в нас, в людях, есть ведь понятие справедливости и есть желание ее — и мы, люди, когда-нибудь преодолеем свою слепоту и жестокость...
— Как родители? — спрашивает бабушка.
Я нервно дернул плечом.
— Приедут — сами расскажут. Если приедут...
Бабушка кончиками пальцев поглаживала костыль. В самом деле привыкла к нему.
— Родители процветают,— смягчил я свой ответ.— Это их нормальное состояние.— С минуту я хмуро смотрел в сторону.— За границу собираются...
Чувствовалось, что бабушке хотелось расспросить меня об этом деле, но по моим неохотным ответам она поняла, что расспросы лучше отложить до более подходящего времени.
— Бабушка, я голоден, как комар! — вдруг весело воскликнул я.
Мне самому было удивительно, как весел и боек я был с бабушкой.
С другими я был чаще всего робок, порой дерзок безмерно, точно боялся людей и не доверял им; с бабушкой же я был необыкновенно раскован, свободен и наслаждался этим, как счастьем.
— Пойдем, пойдем в избу...— сразу засуетилась она.— Ишь я старая расселась, гостюшку разговорами кормлю...
— Бабушка, это я виноват, я тебя заговорил!.. А ведь я тебе подарочек привез...
Я достал из сумки платок. Бабушка, еще не взглянув на подарок, расцеловала меня, потом всплеснула руками на платочек, который я, тряхнув, развернул перед ней, тут же примерила его и зарделась под моим восхищенным взглядом.
Я всегда приезжал к бабушке нервным, худым и бледным. Первый день разговаривал громко, почти кричал. Даже о чем-нибудь незначительном говорил так, будто доказывал что-то, правоту какую-то. Вскоре я менялся, перестраивался на бабушкин тихий лад, говорил уже не взвинченно и отрывисто, а степенно и кругло. К концу каникул
268
я обычно делался спокойным и ласковым. Загорал, поправлялся. «Не наливное яблочко, но близко к тому»,— с удовлетворением говорила обо мне бабушка.
Возили меня к ней с малых лет; а с четырехлетнего возраста и до самой школы я жил у нее постоянно. Здесь, на севере, все для меня было чудно. На первых порах я никак не мог привыкнуть к тому, что бабушка, уходя, не запирает на ключ дверь. Я, маленький, удивлялся и самым строгим тоном выговаривал ей. «Вот представь себе, если бы я ушел гулять и не запер дома дверь,— говорил я.— Знаешь, как бы мне влетело! У нас кругом воры...» Бабушка только улыбалась и качала головой. Она и в город-то уезжала — дверь чурбанчиком подпирала. Никто у них в деревне не воровал, никто спокон веку замков не вешал. «Хорошо вам тут! — говорил я восхищенно и добавлял с горечью: — А у нас... два замка, цепь, глазок, звонок... Да еще хотели квартиру на сигнализацию поставить, только денег жалко стало. А некоторые, на первых этажах, даже решетки в окна вставляют — так и живут. Ух! Просто ненависть берет! Люди называется...» В деревне все было по-другому; все здесь было мне милее. Лето, короткое, часто сумрачное и холодное — иной раз всего четыре — семь градусов тепла! — было мне дороже палящего бесконечного южного лета. Южное лето переутомляло меня изобилием зноя, ослепляло светом; здесь же я чувствовал себя уравновешенным и бодрым, север был моей родной средой. В избе и дышалось и спалось легче, чем в бетонной громадине на восьмом этаже. Выглянешь ли, выйдешь из избы — перед тобой чистое поле!
Все, все здесь другое. Кушанья у бабушки и те другие: холодец со сметаной, блины с капустой, куманичное варенье, брусничная вода, клюквенный морс... Речь та же, русская, да другая. В городе так ласково не говорят. В городе тоже много добрых людей, но они строже и умственнее.
Особенно я поражался тому, как здесь ухаживают за землей. Все мысли, все вздохи, все заботы — о земле. Г рядка здесь как малое дитя. Ее то ватным одеялом накроют, то пленкой спеленают, то погулять-подышать дадут, то напоят, то подкормят... А сушка лука? Как почистишь да на настиле разложишь, так не отходи: сколько тучек пробежит, столько раз клеенками и накроешь; сколько раз солнышко выглянет, столько раз и откроешь. И так каждый день. И хорошо еще, что он родится. В соседнем районе, как ни бьются, лук не растет, земля не та.
Я очень любил бабушкин лук: горький и в то же время сладкий, слаще всего на свете!
Впрочем, удивлялся я всему только на первых порах, когда еще был сторонним человеком. Я удивлялся, и на меня удивлялись. В первые дни в избу приходили «глядельцы» — на меня глядеть. Сначала я возмущался, втихомолку конечно, а потом понял, что глядение это необидное, что для них, для деревенских, поглядеть на приезжего — самое чистосердечное удовольствие. Насмотрятся на ме¬
269
ня, обо всем расспросят, о своем житье-бытье расскажут. Баба Дуся всякий раз со всем своим простодушием поинтересуется, как это люди в такие узкие джинсы влезают, и какой-нибудь остряк скажет: «Я, чай, не иначе как с мылом...» Все рассмеются, а я так и выскочу в своих джинсах-дудочках вон... Когда же я принимался за дело, то сразу становился своим, равным среди равных. Дел было много, и дела я любил. Чан воды натаскаю, дров наколю и костер сложу — поленницу в клетку, грядки прополю. То пойду с мужиками плот на реке починять, с которого белье полощут, то глины накопаю — пол в подвале обмажу, то подставку под ведро сколочу. Словом, удивляться становилось попросту некогда. Я даже корову доил. Бабушка научила.
С утра до вечера я говорил о погоде, как настоящий крестьянин. Обращал внимание на ветер, следил за небом, особенно за закатом, который всегда верно предсказывал погоду. Уж я все до тонкостей изучил. Потянул ветер с запада — жди дождя; солнце по вечеру в облако не село — день будет вёдренный, красный... С утра дождь — иди куда хоть, дождь после обеда — сиди у соседа... Заболевал я вместе с бабушкой «дождебоязнью» и «жаробоязнью». Дожди здесь шутить не любят: как зарядят на месяц, так все в земле и заклякнет, сгниет. А то, хоть и реже, наступит бездождье да запечет немилосердно — все посохнет, сгорит.
...И сейчас я в первый же день осмотрел избу, где что поправить, обошел огород. В огороде нужно было выкорчевать два пня. Прошлым летом над деревней пронесся смерч, который сломал две грушовки — остались пни, отнимавшие земли на целую грядку. Корчевать я их буду осенью, когда в огороде все будет собрано и выкопано. Теперь-то мне не нужно уезжать к первому сентября... Я здесь навсегда.
То, бывало, только привыкну к северу, к деревне, к труду крестьянскому, только приду в себя, окрепну, как уже и отгостевал. Становилось нестерпимо грустно. Бывало, обниму бабушку, шепчу ей: «Не уеду! Ни за что не уеду! Вот возьму и не уеду...» Бабушка в ответ обнимала меня, говорила: «Ты родительский сын...» Так говорила она, а я прекрасно понимал — да и она прекрасно понимала! — что я откидыш, что мне там хуже, что участь моя — притворяться, будто это не так, изменять себе в чем-то самом главном, изменять ради того, чтобы внешне все выглядело нормально. И все-таки я уезжал...
Теперь же нет, теперь-то уж не уеду.
Убегая из дому, я все же оставил записку, в которой написал, что уезжаю к бабушке, признался, что уезжаю навсегда, и заключил, что так будет лучше. Сначала я написал им письмо, большое письмо, занявшее целую тетрадь, где поведал все-все, а потом порвал тетрадь на мелкие клочки, так как все не было высказано, вместо всего того сложного, что было на самом деле, звучал один лишь ропот непонятого сердца, одна только обида, и я ограничился краткой запиской.
270
Уехал, как отрезал. И вроде весело было мне все эти дни, а на самом деле душа поднывала, и втайне я терзался: как еще разрешится вся эта история?..
«Теленочек необлизанный»
Прикатила на велосипеде почтальонша, привезла письмо. Письмо от родителей на мое имя. Я побоялся вскрыть его, заложил им книгу; книгу спрятал в сумку.
Шел час за часом, я старательно делал разные дела, но ни на минуту не забывал о письме. С письмом всколыхнулось во мне все, что было в душе до моего бегства. Все-все вспомнил я и подумал, что не убежал я ни от чего. Несчастье мое оставалось и будет оставаться со мной, даже если я буду счастлив.
Наступил вечер — я все еще не вскрыл письмо. Я боялся, что в письме они окажутся прежними. Вдруг они поведут себя так, словно ничего не случилось, то есть попросту перешагнут через факт? Вдруг мама напишет, что я опозорил их перед людьми? Вдруг папа начнет иронизировать?
Кровь стыла в жилах, когда я допускал мысль о том, что можно высмеять мой самый серьезный шаг в жизни. Если только большое мое горе, только тяжелая моя болезнь или смерть способны высечь в их душах искру любви, думал я, то бегство мое — это подобие смерти: яотнял себя у ни х...
А что, если письмо хорошее? Тут сердце мое заходилось...
«Они не могли остаться прежними!» — в волнении думал я. Меня подхватывала и несла надежда. Вконец обессиленный обуревавшими меня страхами и надеждами, я цеплялся за все, что способно было хоть как-то помочь моей надежде. «Они перешли в добрую реальность — это же так просто!..» — шептал я. Мир двух реальностей — это изобретение Жени Николаева, моего одноклассника, который мечтал стать писателем-фантастом. Он говорил, что существует, по крайней мере, две реальности: реальность деревца выращенного и реальность деревца сломанного. Как только человек сломает деревце, он тотчас переходит в другую реальность, в реальность погубления живого, в реальность зла. Внешне он продолжает быть похожим на человека, но на самом деле он монстр. Но Женя — умный, славный фантаст! (да и не фантаст, ибо все это не фантастика!) — оставил возможность перехода из реальности зла в реальность добра: стоит только посадить деревце... Просто и гениально!..
Да, все пережитое, передуманное, вся будущность зависит теперь от письма. Все теперь зависит только от них.
...Я не находил себе места. К ночи я совсем извелся. Лег спать поздно; думал — свалюсь и мгновенно забудусь. Вместо этого, пролежав некоторое время с открытыми глазами, вскочил и бросился к бабушке. Упал на колени возле ее железной кровати, схватил ее руку, осыпал поцелуями ее щеки, глаза.
271
— Бабушка, бабушка!..— быстро-быстро, горячечно говорил я.— Я ведь бежал к тебе!.. От них бежал... навсегда!.. Слышишь?.. Только ты не плачь, нам ведь вдвоем хорошо. Верно ведь, хорошо?.. Мне с тобой хорошо. Ты у меня красивая. Я ведь сразу увидел, какая ты у меня красивая. Я и раньше это знал, а тут как будто впервые увидел: стоишь на покосе — высокая, стройная, лицо такое... благообразное, строгое — и доброе... Я ведь еще тогда хотел тебе это сказать; а тут — костыль... Ну да ладно — костыль. Главное — ты вся такая легкая и сильная... Это потому что ты всю жизнь работала и до сих пор трудишься и почти никогда не отдыхаешь... И все, что ты носишь, все твои платочки, все тебе так к лицу, потому что все просто, чисто и скромно и потому что лицо у тебя честное, как вся твоя жизнь!
Бабушка поглаживала меня по голове, и прикосновения ее руки чудодейственно успокаивали меня.
— Я, бабушка, почувствовал, что нельзя так жить, формаль- н о,— продолжал я уже немного спокойнее.— И я решил сломать формальную жизнь: обрушился на них, на родителей, со своими чувствами, со всей смелостью, а получилось... получилось чуть ли не нахально. Во всяком случае, неумно и неловко. Вижу, что поступил, как Чацкий. Но мне легче, чем Чацкому: у меня есть ты. С тобой мне покойно и беспечно. Я за тобой как за каменной стеной. С тобой ничего не боюсь. То есть я и так ничего не боюсь, но с тобой, какой бы я ни был в глазах других, я хороший; то есть до конца я уже никогда не смогу быть плохим... Одним, бабушка, надо, чтоб их уважали, другим важно самим себя уважать. Вопрос принципиальный. Хорошо, конечно, когда это сочетается, но для меня остается пока что последний вариант. Вот если б и его не было — тогда конец. А ты что-то такое во мне видишь, что я, несмотря на то, что хожу в троечниках, в слабаках, в неудачниках, в отшвырках,— человека в себе уважаю!.. Да, да!.. «От всех ты плохой, а от меня — хороший» — так ты всегда говорила, когда я уж и надежду на себя терял. И это — то, что ты говорила,— всегда, и поэтому я счастлив, именно это и есть самое глубокое счастье. Знать, что человек тебе верен, что горы с места сойдут, а ты со своей верности не сойдешь — вот счастье во всей его полноте!..
В комнате царил полумрак; в оконце едва сеялся свет летней ночи, и я рад был, что говорил все это в темноте и в ночной тишине, когда ничто не мешало. Все то, что я говорил, казалось мне, возможно было сказать только ночью.
— Больше всех,— дрожал я,— больше всех я люблю тебя... Я, может быть, только одну тебя и люблю... И знаешь, за что особенно? За то, что ты меня однажды в детстве, когда я вышел к тебе еще не умытый и не причесанный со сна, назвала теленочком необлизанны м... Так хорошо, так тепло мне тогда стало! И я почему-то всю жизнь это помню, а часто 'нарочно вспоминал эти
272
слова, и грелся ими, и спасался...— Я говорил, не отпуская бабушкину руку.— Страшно, бабушка, любить только одного человека, да? Но многие, я знаю, не любят даже и одного. И еще я знаю, что любить хотя бы одного человека — это величайшее благо!..
— Родненький!..— вырвалось у бабушки.— Знать, изболелась твоя душенька...
— Бабушка, ты мое спасение!..— шептал я.— Теперь я для всех отпетый неудачник, я и в художественное училище не поступил. Я мог, бабушка, но не захотел. Ты одна мне поверишь, что мог, но не захотел, а все будут думать, что я провалился. Я от всех убежал, бабушка. Ты у меня осталась одна во всем мире. Я уж за тебя, бабушка, буду держаться, как за соломинку, вцеплюсь в тебя, как котенок...
Бабушка крепко прижала меня к себе. Так мы долго молчали, прижавшись друг к другу. Бабушка едва ощутимыми покачиваниями успокаивала меня.
Потом сказала чуть слышно:
— У тебя еще будут друзья, Сашенька...
Я так и вскинулся:
— Почему ты так говоришь? Зачем это? Ты думаешь, я когда- нибудь тебя забуду, как забыли тебя дети, то есть мама с папой? Так знай же, что этому не бывать!.. А что ты от меня отступишься, не поверю! Так зачем же говорить?
Выговорившись, я наконец оставил бабушку, встал с колен и вернулся к себе в постель. Чрезмерная усталость вдруг начала одолевать меня, но я еще не смыкал век, словно боялся, что бабушка скажет еще что-нибудь недоговоренное, а я усну и не услышу. Некоторое время я лежал бдительно, и — не напрасно.
— Я, Сашенька, вон уж в каких годах,— произнесла после долгого молчания бабушка, и хотя она назвала мое имя, обращалась она не ко мне, а неизвестно к кому, скорее всего к самой себе.— Время идет, а вечность приближается...
— Бабушка, ты что? — вскочил я.— Ты что, бабушка!..
Я бросился к ней, уронил стул, схватил ее за плечи, словно отнимал у смерти.
— А мне не страшно, Сашенька... Оставлю ведь людям тебя, хорошего...
— Да что ж хорошего во мне, бабушка! — почти закричал я.— Что вы все говорите такое — и ты, и Таня Лукьянова... Мне ведь жить теперь только по-прямому можно, только героически! А я — эгоист несчастный, все о себе да о себе! Друзей бросил, родителей!..
Я оборвал себя на этих жгучих словах, затаил дыхание: что скажет бабушка?
Мой побег, все мои предыдущие речи, мысли и чувства — все было вопрошанием, и вот теперь я ждал ответа. О, сколь многое зависело от каждого ее слова! У меня не оставалось душевных сил вскрыть
273
письмо и встретить будущее, каким бы оно ни было. И я положился на друга своего и союзника, на человека, которому я всецело доверял и которого я любил. Она, только она вдохновит меня на какую-то новую жизнь... Я казался сам себе рекой, которая вдруг встретила препятствие и которая ищет пути: броситься ли ей влево, ринуться ли вправо, двинуться ли вспять или, поднявшись, хлынуть через препону. Недалеко уже было до беды, но я уповал на бабушку: она такая сильная, такая мудрая, она откроет какой-то одной ей ведомый, единственно возможный путь — и река потечет не во зло, а во благо.
Я ждал.
— Помирись, Сашенька, с ними...
— Как? Выходит, терпеть? — в тоске вскричал я.— Но ведь это будет обман!
— Терпи, соколик, терпи...— говорила бабушка.— Не для обмана, а как раз для правды. Потому что ты сам себя еще не знаешь. И может быть, их тоже еще не знаешь, какие они на самом деле. Человека никто до конца не знает. А вдруг ты поразишь их в самое сердце?..
Я почувствовал, как кровь отливает у меня от лица. Тысячу раз все передумал, уже и бежал, а все что-то еще оставалось в душе, что-то мешало сделать последний шаг — отвернуться от них навсегда.
— Не уеду! Никуда от тебя не уеду! С тобой останусь...— исступленно шептал я, но разве мог я поразить в самое сердце родителей?
С испугом и с нарастающей радостью вслушивался я в себя — и уже знал, знал: душа не поднимется, дрогнет!..
Письмо
Ночью я проснулся, прислушался: бабушка, кажется, спала. На цыпочках подошел я к своей сумке, нащупал в ней книгу, в книге письмо. Вышел с письмом в сенцы, включил свет: тусклую желтую лампочку. Вскрыл дрожащей рукой конверт. Писала мама.
«Здравствуй, Саша, сынок!
Надеемся, что ты еще не отказался быть нашим сыном. Ты уехал от нас, чтобы жить самостоятельно, но, думаем, это не значит, что ты совсем отрекся от нас.
В первую ночь со мной было плохо. Потом было плохо с сердцем у папы. Пишем это не для того, чтобы разжалобить тебя, а для того, чтобы ты знал, что мы вовсе не такие бесчувственные, как может показаться. Нам кажется, ты думал, будто мы пошлые мещане, сухие рационалисты и пр., и пр. Может быть, это отчасти и так. Где-то мы сами виноваты, где-то жизнь сделала нас такими. Мы обыкновенные люди, которым хочется жить хорошо. Во всяком случае, мы живем обеспеченно. Я в детстве хлебнула нужды, так
275
что первой моей заботой всегда был кусок хлеба. И добываем мы его, нужно сказать, честным путем.
Бели ты считаешь, что мы в чем-то тебя обидели, были в чем-то глухи к тебе, прости нас, если можешь простить.
Не хотим мы и тебя винить. Наверное, ты в чем-то превзошел нас. Мы это чувствовали, а что мы могли сделать? Пойми и ты нас...
Сначала мы думали, что ты убежал не от нас, а от школьных неуспехов, от сверстников, а потом решили, что все-таки от нас. Ты вовсе не слабый человек. Правильно говорит папа: какой же ты слабый, если хватило характера на такой исключительный поступок! На то, чтобы решительно переменить свою жизнь, нужна незаурядная сила духа. Значит, ты не слабый и даже не неудачник, как мы считали когда-то,— мы ведь все узнали в художественном училище! — просто у тебя какая-то своя жизнь. Что ж, мы должны уважать твою жизнь, то особенное, что есть в тебе. Захваченные вечными заботами, мы не разглядели в тебе это особенное, которое для тебя оказалось дороже, чем все то остальное, что мы делали для тебя. И вот ты неожиданно вырос, и стало невозможно проявлять по отношению к тебе грубость, которую до этого мы, к сожалению, позволяли себе. Нам стыдно за многое в нас; мы не уверены, что сможем стать лучшими; мы не знаем, сможешь ли ты прощать нам наши серьезные недостатки. И нам стало страшно.
Неужели мы проглядели сына и уже поздно что-либо сделать?..
Раз ты совершил такой поступок — убежал из дому, то силой тебя не вернешь: тогда ты все равно навсегда отгородишься от нас своей враждебностью.
Значит, нужно что-то другое.
Может, до отъезда за границу мы приедем к тебе. А может быть, встретимся только через год или через два. Времени на размышления у всех у нас много. Но в любом случае просим тебя, сынок: дай в своей душе и нам высказаться! Вспомни мои слезы и отцовские страдания. Раз уж ты пробудил в нас страдание, раз вызвал в нас эти слезы — о тебе ли, о нас ли самих,— так не выбрасывай нас из своего сердца. Вот то главное, ради чего мы пишем это письмо...»
Утром я убежал на речку. Была середина августа, а солнце припекало, как на юге.
Я упал в высокую траву у самой реки, прижался лицом к земле. Лежать так и слушать тишину было истинным счастьем.
Я перевернулся на спину.
У самого глаза на травинку села лазоревая стрекоза; ее тотчас согнала другая — в вишневом камзоле; вскоре они устроили сражение в воздухе, а их место на травинке заняла бурая невзрачная стрекоза со слюдяными, прозрачными крылышками. На крылышках — золотистые следы, как будто кто-то брал стрекозу поочередно за каждое крылышко пальцами в золотой пыльце.
Належавшись на солнцепеке, налюбовавшись стрекозами и белым
276
кучевым облаком, неподвижно стоявшим в бездонной сини, я встал и осторожно вошел в реку. По забережью, в теплой воде, шныряли пугливые мальки. Я сделал несколько шагов по твердому песчаному дну; вскоре дно из желтого стало черным, ступни мои погрузились в холодный пухлый ил. Я вошел в воду по шею, остановился — из потревоженного ступнями ила долго поднимались вдоль тела ледяные пузырьки воздуха. Я стоял, вслушиваясь в таинственные, жутковатые прикосновения пузырьков и вспоминал мальчишечьи истории о речном существе — конском волосе, который будто бы впивается в человека и проникает в сердце. Забарахтаться бы изо всех сил, чтобы разогнать страх!.. Но неподвижность прибрежных трав, высокого облака и воды заколдовала меня, и я не решился нарушить покой и тишину глупым барахтаньем и плесканьем; тихо поплыл на середину реки, ощущая резкий контраст между верхним, прогретым слоем воды и нижним, ледяным. Вызванные моим движением волны колебали и рвали отражение белого облака; однако оно, подергиваясь, тотчас вновь соединялось.
Поплывши на боку, я заметил, что на плечо ко мне села лазоревая стрекоза. Еще тише, бережнее поплыл я, неся отдыхающее на мне хрупкое драгоценное создание.
Плыл, отодвигая лицом желтые цветы — кубышки, и хотя все это время на лице сохранялось серьезное и сосредоточенное выражение, все естество мое, радостное и невесомое, смеялось...
Э. Пашнев БЕЛАЯ ВОРОНА
Я — белая ворона,
На голове корона,
Зовут меня Алена...
(Из стихов Алены Давыдовой)
Глава первая
Алена проснулась, услышав, как стукнула внизу дверь подъезда. Она сладко пошевелилась, зарываясь лицом в подушку, не желая просыпаться, но сквозь лень, разлившуюся по телу, в сознание пробилась мысль о чем-то неожиданном, радостном. Тело еще сопротивлялось, хотело спать, но мозг, устремленный навстречу радости, жаждал пробуждения.
Алена потянулась, выпростала руки и лежала на спине, не шевелясь, пытаясь понять — что же именно должно произойти. Ей казалось, вот сейчас она вспомнит...
Стук внизу повторился. Спеша по утрам на работу, жильцы не придерживали дверь. Алена лежала, слушала. Ожидая нового удара, она сжималась вся, замирала, и все-таки удар каждый раз был неожиданным. Становилось тревожно-сладко непонятно отчего.
Алена села, расправила рубашку на коленях. Ноги сами нашли тапочки. Алена прошлепала в ванную комнату. Увидела себя в зеркале, висящем над раковиной: рыжая, конопатая, ничего особенного. С такими никогда ничего не происходит. Но подумала так, потому что с ней, такой, должно было что-то произойти: сегодня или завтра, в любую минуту. Алена потянулась перед зеркалом, потрогала себя скользящим движением и опустила руки. У них в классе девчонки уже такие: фик-фок — на один бок... А она и на девчонку непохожа, никаких признаков. Алена лукавила, признаки были. Она стыдилась себя разглядывать, трогать и придумала себе такое беспокойство, что у нее не как у других, не как у самых красивых девочек в классе.
В коридоре послышались шаги. Алена быстро набросила крючок на дверь. И тотчас же легкие мамины шаги приблизились.
— Алешка!
Алена сложила крест-накрест руки, замерла.
— Алешка,— сказала мама и подергала дверь.
— Что?
— Ты что там... заснула?
— Я умываюсь...
— Завтракать, быстро!
Шаги удалились. Звякнула на кухне кастрюля, и этот звук пронзил Алену горячей радостью. От холодной чистой воды лицо приятно посвежело, Алена вышла из ванной, с удовольствием похлопывая себя влажными руками по прохладным щекам.
280
о
« с
о
...Хлопнула дверь подъезда. Алена забыла ее придержать. В воздухе летали, медленно оседая, снежинки. На дорожках, в беседке, на самой беседке и вокруг нее лежал выпавший ночью снег. У входа в арку намело большой сугроб, только в самой глубине поблескивала скользкая сырая чернота.
Алена вышла из-под арки на улицу. На бульваре горели фонари — большие матовые шары. Но светло было не от них, а от снега, от белых деревьев, от белых тротуаров, от трамваев, которые везли на крышах шапки снега. На чугунных крестовинах, поддерживающих фонари, тоже лежал снег. В свете желтых матовых шаров он казался желтым.
Алена постояла, размахивая сумкой-пакетом «Мальборо», где у нее лежали тетради и учебники, толкнула сумку одной коленкой, другой и пошла направо, в строну «Электроники».
Фирменный салон-магазин «Электроника» занимал весь первый этаж самого высокого на этой улице двенадцатиэтажного здания. За сплошными стеклами были видны квадратные колонны, облицованные со всех сторон зеркалами. Алену удивляло, что в этих зеркалах не отражается улица. Приближаясь к очередной колонне, Алена видела, как начинали мелькать, отражаясь, кресла, столики, кадки с пальмами; а она, Алена Давыдова, проходила мимо, так и не отразившись.
На голове у Алены была серенькая мальчишеская треушка. Из-под нее торчала рыжая челочка, смотрели на прохожих вопрошающие карие глаза. Нитку, прикрепляющую третье ухо к шапке, Алена нарочно оборвала, и это ухо свешивалось вперед козырьком. Чтобы посмотреть из-под козырька вверх, Алене приходилось далеко запрокидывать голову.
Алена посмотрела вверх на пролетающие сквозь силуэт неонового самолета снежинки. От их мелькания кружилась голова. Алена зажмурилась, повернулась вокруг себя, усиливая кружение, пуская влет
281
вокруг себя сумку с тетрадями и учебниками, как крыло. Она не шла в школу, а летела.
На бульваре вдруг погасли фонари, после чего снег на деревьях еще некоторое время казался желтым. На большом щите ГАИ у перекрестка сообщалось, сколько человек погибло за истекшие сутки на дорогах области. Два человека погибли, десять раненых. Отец у Алены работал шофером, и она не всегда останавливалась, чтобы прочитать сводку, старалась пробежать мимо. Тогда можно думать, что никто на дорогах не погиб и не ранен. Она и сейчас старалась не смотреть, но не рассчитала и остановилась, немного перекрутившись, прямо против щита. Прочитала сводку: двое убитых, десять раненых. «Не война, ничего, а люди погибают». Погибших было жалко, даже в сердце кольнуло. Не самих погибших, а вот, что существует такая глупая смерть. Что она вообще существует — смерть.
На той стороне на пешеходном светофоре загорелась фигурка зеленого человека, задвигала руками и ногами. Под фигуркой загорелись буквы: «Идите!» Люди заторопились на ту сторону. А фигурка зеленого человека все дергалась на экране светофора, двигая руками и ногами, пока не вспыхнули красным светом буквы: «Стойте!» и не возникла на экране красная неподвижная фигурка человека с опущенными руками. «Самый короткий фильм о жизни и смерти. Я увидела самый короткий фильм о жизни и смерти. Надо показать его девчонкам. Нет, сначала я напишу стихи. То, что я увидела,— готовые стихи. Белые... Свободные... О жизни и смерти...» Ей было немного совестно, что она даже в трагедии открыла для себя радость — стихи. Но сегодня она не могла иначе. «Я напишу стихи «Киносветофор».
Она пробежала несколько шагов вперед, увязая носками сапог в снегу. Что-то должно было случиться. Она это чувствовала. Что именно, Алена не определяла словами: какое-то изменение в ней самой, во всей жизни. Сережка Жуков, очкарик, как-то приволок в школу журнал «Природа». Один академик писал: «Тему научной работы надо менять каждые семь-восемь лет. За это время полностью меняются клетки тела и обновляется кровь. Ты уже другой человек». Если это правильно, если верить академикам, то пора подсчитать. Семь с половиной лет прожила, пошла в школу — один человек; еще семь с половиной лет заканчиваются — другой человек. Все очень просто. Она становится другим человеком. Может быть, уже стала... Сегодня... Отсюда и такое незнакомое непривычное томление, тревога, ожидание от самой себя каких-то новых поступков.
Около второго перекрестка, не такого оживленного, Алена свернула в переулок. Среди новых строений из белого кирпича выделялось красным цветом четырехэтажное здание школы, стоящее в глубине за оградой, за деревьями.
Со всех сторон к школе спешили мальчишки и девчонки. У ворот толчея, во дворе школы и на улице летают снежки. Алена радостно восприняла и эту толчею. Она пробежала, расталкивая ребят, уклоняясь от снежков, но у самых дверей, которые придержал
282
ногой мальчишка из 8 «А», Женька Уваров, снежок попал Алене в плечо. Она оттолкнула Женьку, вбежала в вестибюль школы, гулкий, показавшийся пустым после улицы. Ее глаза возбужденно сверкали. Пока бежала через двор, азартно толкаясь, шубка расстегнулась, шапка съехала набок, щеки раскраснелись. Она не могла после этого тихо ходить, нормально разговаривать.
— Райк! — крикнула Алена.— Не раздевайся! Идем в снежки! Женьку Уварова искупать надо!
В раздевалке топталась высокая сутулая девушка. Она сняла свое прямое пальто с прямыми плечами и стряхивала с воротника снег. Алена пробралась к ней, стукнула сумкой-пакетом.
— Кто тебе залепил? Сумки оставим здесь.
— Что я, маленькая — в снежки играть?
— Ты чего такая?
— Жить надоело.
— Дома плохо?
— Хоть в трубу лезь.
С Раисой Русаковой Алена сидела на одной парте, они дружили. Оставить подругу одну в таком настроении она не могла, но и перестроиться, стать мрачной, тоже не могла. Смеясь, она рассказывала, как ее хотел схватить у ворот Крюков из 9 «Б» и как она его, придурка, толкнула. Раиса слушала молча.
Подруги поднялись на третий этаж. Раиса, войдя в класс, никому ничего не сказала, положила свой портфель в парту и села. Алена, прежде чем сесть, шмякнула сумкой-пакетом по крышке, что означало: «Общий привет!»
— Смирнов, сотри свое художество! — тут же звонко крикнула она лохматому, неряшливо одетому мальчишке, который рисовал на доске морду волка из мультфильма «Ну, погоди!».
Алена была сегодня дежурной. Но крикнула она просто так — попробовать голос, крикнула, как бросила снежок.
283
— Жуков? А где Жуков?
Ей хотелось и в Сережку Жукова бросить слово-снежок. Но его в классе не было. Алена спросила бы Сережку о чем-нибудь. Он все знает.
Сережка Жуков и Лялька Киселева сидели в крайнем ряду напротив среднего окна. Гляди на деревья, если слушать учителей неохота. Лучшие места, занятые лучшими людьми класса. Сережка Жуков и Лялька Киселева считались интеллектуальными лидерами 9 «В». Все, кто дружил с ними, были вхожи в дом к Сережке и Ляльке, составляли небольшой кружок. Алена тяготела к этому кружку, пользовалась всякой возможностью, чтобы занять место поближе к лучшим людям класса. Если кто опоздал или заболел, она была тут как тут. Иногда садилась третьей на парту к Машке Прониной и Юрке Лютикову.
— Хоть в трубу лезь,— сказала Алена и засмеялась.
— Ты чего? — удивленно спросила Раиса Русакова.
— Выражение интересное: «Хоть в трубу лезь». Откуда, интересно, произошло? Кому-то надо было лезть в трубу, а он не хотел? Какому-то прорабу, что ли?
Вошел Сережка Жуков, поднял руку, приветствуя всех небрежным жестом. На плече — холщовая сумка на длинных лямках. Белая горловина водолазки плотно охватывает тонкую шею. Рукава водолазки, обжимающие запястья, и горловина бьют праздничной белизной. Все, как положено, чтобы считаться «мальчиком в порядке»: небрежно надетая школьная форма, на плече потертая, вытянутая за уголки, холщовая сумка.
Сережка сел и сразу повернулся вполоборота к Ляльке Киселевой и Машке Прониной, которая сидела сзади. Очки с продолговатыми стеклами придавали лицу Сережки выражение очень серьезное. А мальчишеские вихры надо лбом делали эту серьезность взлохмаченной, симпатично дерзкой.
— Нет, правда, кому первому не захотелось лезть в трубу, что он придумал поговорку? — сказала Алена, удивляясь тому, что ей интересно думать про трубу.
— Никому не надо было лезть,— мрачно ответила Раиса Русакова.— Придумал кто-то дурацкое выражение, а мы теперь лезем.
— В трубу! — крикнула Алена и громко захохотала: — В трубу!
— Ты чего?
— В трубу лезу! Ну, в трубу же! Вызовет меня Велосипед, банан влепит, а я пойду, пойду в дверь. Она скажет: «Давыдова, ты куда?» А я ей: «Зой Пална, в трубу, потому что жизнь такая, хоть в трубу лезь».
Мрачно настроенная Раиса Русакова смотрела на подругу с возрастающим недоумением. Потом неожиданно гоготнула и пригнулась от смущения к парте. Это произвело такое же действие, как в кино, когда кто-нибудь из зрителей, забывшись, загогочет на весь зал. В классе засмеялись. В Алене все затрепетало. Смех — это была
284
та атмосфера, в которой ее фантазия становилась неистощимой.
— Выйду на улицу,— продолжала она громко, срываясь на смех.— «Граждане, где труба?» Сумку в зубы и полезу. Толпа соберется, милиционер подойдет, скажет: «Граждане, разойдитесь, ничего особенного — человек в трубу полез».
Вкатился Валера Куманин, мальчишка с широким плоским лицом. Ему тоже захотелось посмеяться. Он остановился перед девчонками, сморщил свой маленький нос, заулыбался, загримасничал:
— Чегой-то вы женитесь, тетки?
— Уйди, не мешай. Не видишь, мы с Райкой в трубу лезем.
— А как? Я тоже хочу.
— Среднему уму непостижимо.
На последней парте в самом углу завозился крепкий широкоплечий парень, Толя Кузнецов. Его раздражал беспричинный смех.
— Идиотки, хоть бы труба обвалилась и придавила вас,— сказал он, не улыбнувшись.
— Спасибо, положите на комод,— отпарировала Алена.
Ну, кто еще? Она отвечала и сама же смеялась своим ответам. Она была на вершине смеха.
Прозвенел звонок, и почти одновременно со звонком вошла в класс Зоя Павловна. Это была худая, плоская женщина. Ходила она очень прямо, высоко поднимая ноги. За это и прозвали ее — Велосипед.
Англичанка, не глядя на поднявшихся ребят, прошла к столу, не глядя сказала:
— Садитесь! — И после небольшой паузы, таким же ровным голосом: — Давыдова!
— Что?
— Успокойся.
— Зоя Павловна, я спокойна,— сказала Алена, поднимаясь.— Я совершенно спокойна. Видите, спокойна как, как пульс покойника.
— Давыдова, не паясничай!
285
Алена села, начался урок английского языка. Этот урок был помехой. Алена не слушала объяснение Зои Павловны. Англичанка что-то писала на доске, отходила в сторону, чтобы всем было видно, и, когда оказывалась у окна, Алена воспринимала ее чисто зрительно — темный силуэт на фоне белого окна. Выпавший ночью снег распушил деревья. За ближними ветвями виднелись дальние ветви. «Сад снега»,— подумала Алена.
На перемене Алена выгнала всех из класса. Надо было проветрить помещение. Она двинулась к Сережке Жукову, чтобы его тоже выставить в коридор. Он сидел против своего окна, читал книжку. Алена подошла и неожиданно для себя сказала:
— Ладно, сиди. Что читаешь?
Она схватила книжку, на раскрытой странице увидела фотографию каких-то микробов.
— Микробами любуешься, б-р-р! — Она оттолкнула книжку от себя и полезла на подоконник открывать форточку.
Сережка не успел ничего сказать. Он даже отвлечься не успел от того, что прочитал и увидел на фотографии. Он сосредоточенно смотрел на Алену, вернее, сквозь нее. То, что Алена называла «микробами б-р-р», было коацерватной каплей по Бунгеберг-де-Йонту. Отец у Сережи химик. Он жил с другой семьей, но Сережа у него часто бывал и в лаборатории и дома. И когда сыну предстояло проходить практику на межшкольном комбинате, отец устроил его в свою лабораторию, принадлежащую хлебозаводу и заводу фруктовых вод, где Сереже было гораздо интереснее.
Алена открыла форточку, взяла щепотку снега с рамы, бросила в Сережку.
— Давыдова, успокойся,— сказал он голосом учительницы.
Алена засмеялась, высунулась в форточку, показывая, что не
боится простуды и вообще ничего не боится.
286
— «Хочу написать настоящий я стих, извергнуть уменье из знаний своих. Губы — не трубы, не бык моста, губы — грубо, лучше — уста. Лучше уста у мальчишек у ста, и чтоб целоваться умели до ста».
Прокричав деревьям свое нелепое стихотворение, Алена' соскребла с рамы пригоршню снега и, прыгая с подоконника на соседнюю парту, уже убегая, бросила талым снегом в Сережку.
— Ну, Давыдова, сейчас получишь! — крикнул он, вскакивая.
Все в Алене встрепенулось до восторга, она помчалась по
классу, по партам. Вот что ей надо было: чтобы Сережка за ней бежал, а она бы от него убежать не могла. Но Сережка стоял, отряхивался. За Аленой не побежал, играть в снежки не захотел.
Вечером после чая Алена осталась на кухне одна. Она сидела и думала: «День закончился, а ничего так и не произошло. Ну совершенно же ничего».
Вошла мама, сказала озабоченно:
— Алешка, ты не видела, куда я телефонную книжку положила? Не могу найти.
— Нет.
Мама посмотрела на дочь внимательно. Мама у Алены крепкая, высокая.
— Что, моя ненаглядная, что-нибудь случилось?
— Ничего,— ответила Алена.— Если бы случилось, я бы так не сидела.
— А как?
— Никак! Что ты пристала?
— Двойку получила?
— Ой, мам, ищи свою книжку.
Мама ушла в большую комнату, сердито хлопала дверцами секретера. Слышалось ее бормотание. Она вполголоса ругала себя:
— Никогда не положит на место, растрепа.
Потом раздалось:
— Умница, Верочка Семеновна. Вот же она. Главное, знать, где что искать.
На кухне звякнуло блюдце. Потом опять зазвенела посуда. «Молодец,— подумала Верочка Семеновна,— решила помыть чашки-блюдца». Потом опять что-то звякнуло и упало на пол.
— Алешка, что там у тебя падает?
Дочь не ответила. И снова что-то упало. Мама быстро поднялась с колен, заспешила на кухню. Алена сидела на табурете, вытянувшись и вытянув над головой руку. В руке она держала бутерброд с маслом. На мать посмотрела каким-то отрешенным взглядом.
— Ты что делаешь?
287
/л
— Смотри, мам.
Она отпустила бутерброд. Он упал, чуть не опрокинув недопитую чашку с чаем.
— И что это значит?
— Кверху маслом... Я опровергла закон бутерброда. Для этого нужна булочка за три копейки. И резать надо строго пополам.
— Сколько тебе лет, Алешка?
— Сколько мне лет, мама?
— Что с тобой, Алешенька?
— Что со мной, мамочка?
— Да что с тобой, девочка моя?
— Девочка? Это что-то новенькое.
Алена опять подняла над головой бутерброд и бросила. Он упал между чашками и тарелками, ничего не задев. Упал кверху маслом.
— Перестань играть хлебом!
Алена встала из-за стола и ушла в свою комнату.
Глава вторая
Анна Федоровна сидела за своим столом в учительской, проверяя две последние тетради (не успела дома), и с неудовольствием поглядывала на молодую учительницу химии, которая жаловалась на своего любимого ученика.
— Я ему так доверяла, так доверяла, а он реактивы украл.
Тоненький жалобный голосок учительницы химии мешал проверять тетради.
— Он мне, знаете, вот так в глаза заглядывал.
— Да, заглядывал,— сказала Анна Федоровна, тяжело поднимаясь и недовольно складывая тетради в стопку.
288
— Он предан был мне, моему предмету,— обрадовалась учительница химии, что ее слушают.
— Как тот ласковый щенок, да? — спросила Анна Федоровна.— В глаза преданно смотрит, хвостом виляет, шнурки лижет, а потом смотришь — туфли обмочил.
— Что вы такое говорите? — по-детски изумилась молодая учительница, и щеки у нее залились краской.
— А что, вы не слышали таких слов? Попросите своих учеников, они просветят.
Анна Федоровна взяла тетради и зашагала из учительской. Это была уже немолодая, огрузневшая женщина. Одевалась она очень просто: юбка, свитер. Встала, одернула и пошла. Волосы носила прямые, коротко подстриженные. Никогда их не завивала, не делала причесок. Проведет рукой по голове сверху вниз — и готова. Учительница химии раздражала ее и тем, что наряжалась в школу, как в театр, и еще больше тем, что приучала учеников к доверительным отношениям: «Я ему так доверяла, так доверяла». Учить надо, а не доверять, школить — от слова школа, порядок, знания. Тогда не будет никаких неприятностей ни для тебя лично, лапочка, ни для общества.
Анна Федоровна была груба с молодой учительницей (ей самой казалось — не груба, а сурова) от накопившегося в ней раздражения и непонимания. В последнее время она все чаще натыкалась на противодействие ребят. Она требовала дисциплины, но даже девочки не подчинялись ей.
Анна Федоровна все с большей резкостью ударяла по столу, заслышав малейший шум, становилась все более язвительной, ироничной по отношению к тем, кто не выучил урока, кто мямлил у доски. Но ирония ее почему-то не доходила, трудней стало овладевать классом. Она теряла .контакт с теми, кого должна была научить чтению и пониманию прекрасного, и чувствовала, что вместе с этим теряет себя, становится равнодушной и к занятиям в школе и к самой литературе. Она была резкой всегда, но теперь за ее отрывистой речью и угловатыми движениями скрывалась растерянность немолодой учительницы, которой на прошлой неделе подложили на стул кнопку. Она боялась, что подложат еще раз, и демонстрировала уверенность. Садилась на стул, не глядя, не ощупывая сиденья, опускалась всей тяжестью и с пристуком опускала на стол журнал.
Анна Федоровна твердо и широко шагала по коридору. Звонка еще не было. Он настиг ее в пути. Мимо пробежал ушастый мальчишка из 8 «А», Женька Уваров. На спину ему кто-то прикрепил страницу из журнала с фотографией Лохнесского чудовища.
— Стой! — сказала Анна Федоровна.
— Здрасте! -— ошалело ответил он.
— Куда летишь?
— А что, нельзя?
— Прочитать никто не успеет.
10 Школьные годы. Вып.З
289
— Чего прочитать?
Анна Федоровна повернула его к себе спиной, содрала со спины
бумажку.
— Держи, Лохнесское чудовище.
«Хорошо я это сказала»,— подумала она и вошла в класс.
— Здравствуйте, рыбыньки! Дежурный? Кто дежурный?
Поднялся Мишка Зуев.
— Я дежурный.
— Сразу надо отвечать, чтобы я не спрашивала десять раз.
— Во! Я же сказал: «Я дежурный».
— Раздай тетради, дежурный, а что останется, возьми себе.
Это была шутка, но Мишка Зуев не засмеялся, и никто в классе
не засмеялся. Ее шутки не вызывали смеха, может быть, потому, что
говорила она их небрежно, не эффектно, между прочим. Она считала
свою неэффектность достоинством. Ни ума, ни остроумия своего она
никому не навязывала, как другие.
Алена получила четыре с минусом. Минус растянулся на пол¬
тетради. Алена огорчилась, лицо ее сделалось обиженным. «Почему
минус такой длинный? — подумала она.— Тоже мне, размахалась
минусами-плюнусами». Ошибка была одна: неправильно написала
фамилию Бориса Друбецкого. Она написала через «Т» и сейчас
быстро листала учебник, чтобы доказать Рыбе, что и надо через «Т».
«Конечно, эти мечты не имели ничего общего с карьеристскими
планами Друбецкого или Берга»,— прочитала она, выхватив глазами
фразу. Алена обиделась и на учебник.
— Я помню же, у Толстого «Трубецкой»,— сказала она шепотом
Раисе.— Я точно помню.
— Трубецкой был у декабристов,— так же шепотом ответила
Раиса.
— При чем здесь декабристы?
— Тихо! — сказала Анна Федоровна, глядя в окно. Она еще
290
некоторое время не оборачивалась, потом вздохнула: — Плохо написали, рыбыньки. Киселева — более или менее, Жуков. Не вертись, Куманин! Что ты, Жукова никогда не видел? Где твоя тетрадка? Почему не сдал сочинение? Кошка съела?
— Какая кошка?
— Спроси у Давыдовой. У нее прошлый раз кошка съела сочинение.
— Я пошутила,— сказала Алена.— Скучно же так учиться, если пошутить нельзя, мяукнуть разочек... Мяу!
В классе заулыбались.
— Ну, помяукай, Давыдова, помяукай,— сказала насмешливо учительница.— Мы подождем.
— Мяу,— сказала обиженно Алена, не вложив в это ни своего умения мяукать, ни кошачьей страсти.
Класс тем не менее пришел в восторг. Анна Федоровна скупо улыбнулась, подождала, когда стихнет смех, сказала:
— Веселья у нас хватает.— Она подошла к Алене, взяла со стола тетрадь: — Тихо, Куманин, разошелся. Сам не написал, так послушай, как другие пишут (нашла нужное место): «Образ Пьера Безухова по цвету квадратный, темно-синий с красным. Образ Бориса Трубецкого узкий, серый...»
В классе дико захохотали. Алена тоже засмеялась.
— Вот именно, Давыдова, самой смешно,— сказала Анна Федоровна.— Как это тебе удалось увидеть, что Пьер Безухов квадратный по цвету?
— Это не я увидела, это Лев Толстой увидел.
— Квадратный по форме, Давыдова, а не по цвету. А между «узкий» и «серый» — запятая. Это уже моя ошибка. Сама исправишь, или мне исправить?
— Все равно. Хотите, исправляйте.
— Если я исправлю, тройка будет.
— Пожалуйста... И какой русский не любит быстрой езды. Птица-тройка!..
Она не стала дальше продолжать. Анна Федоровна унесла тетрадь. Алена посмотрела ей в спину и отвернулась, чтобы не смотреть, чтобы не видеть эту некрасивую училку в свитере. «Такие всегда остаются без мужей»,— мстительно подумала она.
Анна Федоровна исправила отметку, положила тетрадь на край стола.
— Возьми.
Алена смотрела в сторону, не могла пересилить в себе неприязни. Раиса Русакова поспешно встала, взяла тетрадку, положила перед подругой. Алена оттолкнула от себя тетрадку локтем.
— Ну, это мы сделали,— сказала учительница.— Перейдем к следующему. Кто у нас не написал? Куманин? Ну, иди к доске, Куманин, расскажешь своими словами.
— Что?
291
— Иди отвечать. Встань!
Валера Куманин поднялся.
— Чего отвечать?
— К доске иди. Здесь и поговорим.
Валера вышел к доске, всем своим видом, походочкой показывая, что он все равно ничего не знает и нечего его вызывать. Отвернувшись от учительницы, он смотрел в окно, гримасничал одной половиной лица, подмигивая классу.
— Ну, хватит,— сказала Анна Федоровна,— отвечай урок.
— Без магнитофона не могу.
При упоминании о магнитофоне учительница с досадливым любопытством посмотрела на мальчишку. Валера отвернулся, глупо засмеялся.
— Не надоело на истории играть?
— У нас не было сегодня истории,— крикнул Мишка Зуев.— Во!
— Так что, скучаете? Соскучились по научно-технической революции, Куманин?
— Я тоже соскучился,— крикнул Мишка Зуев.— Честно!
— Тихо! Какой у нас сегодня беспокойный дежурный.— Анна Федоровна приподнялась над столом и тут же опустилась снова на стул, посмотрела на Валеру Куманина: — Отвечать будешь? —
— Напомните, что вы задавали.
— Ты зачем сюда ходишь, рыбынька? Куманин, Куманин... Ладно, садись.
— Банан будете ставить?
— Ничего я тебе ставить не буду. Напиши сам в дневнике: «Я плохо учусь» — и дай прочитать родителям.
Валера вернулся на свое место, сел, положил руки на парту и стал смотреть в сторону. Анна Федоровна ждала, никого не вызывала. Она уже понимала, что сделала ошибочный ход, но отступать не хотела.
292
— Написал?
— Не буду я писать. Что я, дурак — сам на себя писать. Что я — рыжий?
— Напишешь. Ты у нас не рыжий, ты у нас курносый. Только учиться не хочешь. Родители об этом должны знать.
Анна Федоровна поднялась, строго посмотрела на Валеру и мельком на ребят. Взгляды были враждебные, стена непонимания, неприязни. Почему? Он же плохой ученик, плохой товарищ. Она знала: многие не любят Валеру Куманина.
— Пиши! Не тяни время.
— У меня ручки нет.
— Дайте ему кто-нибудь ручку.
Никто не пошевелился. Учительница взяла со стола свою ручку, подошла к Валере.
— Вот тебе ручка. Пиши!
Валера озлобленно посмотрел на нее снизу вверх.
— А вы напишите, что плохо преподаете.
Сказав это, он отодвинулся на самый край, столкнув сидящую рядом с ним тихую девочку Свету Пономареву. Та чуть не упала, оперлась о стену, выпрямилась и стояла теперь у стены, не возмущаясь действиями Валеры, выжидая с молчаливым любопытством, что дальше будет. Анна Федоровна яростно смотрела некоторое время на Валеру. Щеки у нее подрагивали от неприязни к этому толстозадому злому мальчику.
— Встань! — крикнула она. Но это было не совсем то, чего она хотела.— Вон из класса!
Валера не осмелился выйти в проход, где стояла учительница. Светка посторонилась, и он полез вдоль стены, вытирая своим не по-мальчишески толстым задом штукатурку. Анна Федоровна шла по проходу параллельно с ним.
— Значит, не нравятся тебе мои уроки, рыбынька?
— Я правду сказал.
— Мы не «рыбыньки»,— подала голос с «Камчатки» Маржалета, Маргарита Кравцова.
Анна Федоровна резко обернулась. Она хотела спросить у этой грудастой девицы: «А кто же вы?», но не спросила, ученики действительно не «рыбыньки». Называть их сейчас «рыбыньками», как она это привыкла делать, было бы глупо. Но что-то надо было ответить, а она не знала что. Она вздохнула и ничего не сказала. А Маржалета, видя растерянность учительницы, поднялась, одернула платье на груди и боках и, наклонив голову, проговорила, словно перед ней была мать или подруга:
— Давыдова Алена пишет стихи, а вы не знаете. Ну, скажите честно, знаете?
— Да, знаю,— ответила Анна Федоровна.— Читала в стенгазете.
— Ну, что скажете — плохие?
293
— Я скажу, Кравцова, сядь! А ты что стоишь, барышня? — набросилась она на Светку Пономареву.— Тебе тоже мои уроки не нравятся? Кого еще не устраивают мои урокц? Дверь открыта. Идите!
Алена рывком поднялась. С минуту она соображала, что же делать дальше и что сказать. Она хотела сказать, что дело не в стихах, она сама знает все про свои стихи, никто Маржалету не просил выступать.
— Что, Давыдова? Иди! Иди! — сказала Анна Федоровна.
— Зачем вы так с Пономаревой? И вообще?
— Магнитофон укрепляет знания. Чем плохо? Во!
— Сядь! — дернули Мишку Зуева сзади за пиджак. Он сел, но не сдался:
— Чего? Я за технический прогресс.
Учительница смотрела на Алену.
— Ну что, Давыдова? Ну что?
— И вообще! — повторила Алена.
— И вообще, Давыдова, встала — иди! Я не собираюсь перед тобой отчитываться.
Алена хлопнула крышкой парты и пошла к двери. Вслед за ней поднялась Раиса Русакова. Захлопали крышки парт. Пробежала мимо учительницы, вытирая слезы, всхлипывая, Светка Пономарева; за ней — Маржалета, Людмила Попова и Людмила Стрижева, другие...
Анна Федоровна стояла у своего стола, не решаясь никого остановить. Она даже не могла им ничего сказать, только открывала и закрывала рот. Щеки у нее обвисли, оскорбленно подрагивали. Она слышала топот по коридору, он отдавался у нее в висках. Потом увидела из окна ребят, выбегающих из школы. «Как же это можно? — подумала она.— Я же в классе. Это — вызов, прямое оскорбление. Не мне! Это оскорбление не мне! — Она ухватилась за спасительную мысль.— Это же они не от меня убегают. Это они от Великой Русской Литературы убегают. Катитесь, рыбыньки! Пушкин и Лев Толстой за вами не побегут».
Последними покинули класс Сережка Жуков и Лялька Киселева. Они неторопливо собрали свои тетради и даже попрощались. Сережка Жуков просто кивнул. Лялька Киселева сказала печальным голосом:
— До свиданья, Анна Федоровна!
Учительница им не ответила. Она оправила свитер и вышла из класса раньше, чем сочувствующие вроде бы ей мальчик и девочка достигли дверей.
Директор школы, Андрей Николаевич Казаков, был на уроке. Когда прозвенел звонок, Анна Федоровна и завуч Нина Алексеевна вышли в коридор, чтобы его встретить. Нина Алексеевна накурилась во время разговора в учительской (каждое ЧП она принимала близко к сердцу) и сейчас жевала воздух, собирая брезгливые морщины на лбу и вокруг рта.
295
В конце коридора из класса вышел высокий худой мужчина в темном костюме. За ним, слегка сгибаясь под тяжестью магнитофона «Комета», шагал почти такой же высокий парень из 9 «А» Юра Белкин. Еще двое мальчишек, отталкивая друг друга, быстро шли рядом с директором, что-то оживленно говоря ему, жестикулируя. «Так когда-то заканчивались уроки и у меня,— подумала Анна Федоровна,— хотя я и не пользовалась магнитофоном».
— Андрей Николаевич, вы к себе? — сказала завуч, преграждая дорогу всей компании.
Мальчишки, которые разговаривали с директором, сразу же убежали. Юра Белкин поставил магнитофон на пол, надеясь переждать. Но обе учительницы смотрели на директора и молчали. И Андрей Николаевич сказал:
— Иди, Юра! Спасибо! Дальше я сам.
У директора светлые волосы и светло-голубые глаза с коричневой крапинкой в левом зрачке, которая придавала ему несерьезный, несимметричный вид. Волосы при каждом движении головы рассыпались, нависали над впалыми щеками и острыми скулами. Некоторые пряди падали на глаза. Движением головы или руки он забрасывал их назад. Делать это приходилось часто, и оттого взгляд, устремленный поверх голов, придавал его фигуре горделивую и вместе с тем легкомысленную осанку.
— Андрей Николаевич, чепэ,— сказала завуч.— Девятый «Великолепный»... Сбежали с урока... во время урока... при живой учительнице.
— Не сбежали, просто ушли, заявили, что я не так преподаю...
— Девятый «Великолепный», вы говорите? А что же тут великолепного? — спросил директор, дружелюбно улыбаясь и глядя на Нину Алексеевну веселым с крапинкой зрачком.
— Мы так привыкли «Ашники», «Бэшники», девятый «В» — «Великолепный». Представляете, какая наглость?
Андрей Николаевич был человек новый в школе, для многих непонятный. Защитив кандидатскую диссертацию, он неожиданно для всех перешел работать в школу. Решение его казалось легкомысленным, отвечающим общему впечатлению от его внешности и характера. Он, улыбаясь, говорил: «Новая работа ближе к дому, ближе к жизни». Иногда добавлял: «Где у нас сейчас идет перестройка, революция? В школе. А я историк». Если очень досаждали, становился совершенно серьезным, говорил о роли школы в обществе. Если спрашивали, собирается ли писать докторскую, снова отшучивался и, возвращаясь к мысли «революция — в школе», приводил слова Ленина, написавшего в конце неоконченной книги «Государство и революция»: «Приятнее и полезнее опыт революции проделывать, чем о нем писать».
— Мы должны принять какие-нибудь карательные меры? — спросил директор.
— Я думаю, педсовет с родителями,— ответила завуч.— Что это такое? Совсем распустились.
— Хорошо,— сказал Андрей Николаевич, наклоняясь, чтобы взять магнитофон.— Хорошо.
У Анны Федоровны в этот день были еще два урока в параллельных 9 «А» и 9 «Б». Она провела их собранно, поразив ребят в 9 «Б» вступительным словом о Великой Русской Литературе. Она говорила минут двадцать сначала с ноткой равнодушия, какой-то безнадежности, как бы для себя, а не для класса. А потом крикнула, обернувшись на шум, с болью:
— Ну, что же вы не слышите никого — ни Чехова, ни Толстого... Вы же наследники Великой Литературы. Вы всегда найдете в ней опору для своих сомнений и страданий... Если, конечно, будете способны сомневаться и страдать.
Надо было им сказать еще что-то. Она видела: не доходят ее слова. Только удивление в глазах: «Чего расстрадалась?» Но уже подступала головная боль и бессмысленными казались сквозь эту боль слова: «Великая Русская Литература! Великая Русская Литература!» Общие слова — великая или какая, если не прочитаны книги, если прочитан только учебник для того, чтобы, заикаясь и спотыкаясь, разобрать у доски образы. И получаются из образов образины. Как же объяснить? И можно ли объяснить?
Лев Толстой сказал, что искусство есть способность одного человека заражать своими чувствами другого. «Что же тут объяснять?» Она помнила слова Толстого неточно, но последняя фраза врезалась в сознание дословно: «Что же тут объяснять?» А она стоит и объясняет: великая, великая. «Великая дура!»
Снег летел в лицо мокрый, густой, подкрашенный красным светом светофора. Подойдя к перекрестку, Анна Федоровна загородилась от снега и красного светофора варежкой. Головная боль была совершенно невыносимой, и сквозь эту боль невыносимы были мысли о том, что она плохая учительница, которая не знает, как преподавать
297
литературу, чтобы от этого была польза. Разве она не потеряла здоровье, разбиваясь перед ними в лепешку? Разве считалась со временем, особенно когда была помоложе? На экскурсию так на экскурсию. Сидеть летом в кабинете, консультировать тех, у кого переэкзаменовка,— пожалуйста. В колхоз ездила и за себя и за других. Старалась, воспитывала молодое поколение, способное чувствовать прекрасное. Великую Русскую Литературу. А воспитала сорную траву, васильки. Алена Давыдова — василек! Куманин — пырей, бузина, волчья ягода, а эта — василек. Голубеет, в вазу поставить хочется. А залюбуешься таким васильком и останешься без хлеба, без сочувствия в старости. «Ох, васильки, васильки, сколько вас выросло в поле? В школе?»
Подойдя к дому, Анна Федоровна совершенно точно знала, что ее столкновение с классом — это столкновение с поколением эгоистов, жестоких и умненьких, в лучшем случае — вежливых, которые в отличие от ее поколения, прошедшего в детстве через войну и голод, не чувствуют чужой боли.
В подъезде жалась к батарее тощая кошка. Анна Федоровна видела ее здесь и раньше. Но сейчас она подумала с обидой за все живое: «Такие не подберут, не приютят животное». Онаг присела у батареи, погладила кошку. «Такие мучают животных, отрезают у голубей лапки и выпускают в небо, чтобы летали, пока не умрут». Об этом случае недавно писали в газете.
Анна Федоровна взяла на руки осторожно ласкающуюся кошку, прижала к себе, сначала к пальто, а затем, расстегнув пальто, к свитеру. И после этого уже невозможно было опустить ее на холодный плиточный пол подъезда. Анна Федоровна поднялась к себе на третий этаж, не выпуская кошки, открыла дверь ключом и некоторое время стояла в прихожей, растроганная своей собственной нежностью ко всему живому на земле. Кошка слегка царапалась. Анна Федоровна просунула руку под пальто, погладила кошку уже как свою. «Если с лишаями, пусть. Зеленкой помажу». Кошка цеплялась когтями за свитер, быстро-быстро мурлыкала, торопясь насладиться человеческим теплом. Анна Федоровна стояла, боясь опустить ее на пол, чтобы кошка не подумала, что ее хотят выбросить.
Глава третья
У окна стоял однотумбовый письменный столик, над ним на стене висел матерчатый календарик, куколка на ниточке. Просыпаясь, Алена видела куколку, цветок на подоконнике, трещину на потолке. Все это были милые сердцу трещины, куколка, цветок. Хотелось закрыть глаза и умереть от счастья. Но сегодня Алена проснулась с тяжестью в сердце. Она плакала во сне. И во сне ей сделалось так тяжело, что не вздохнуть. От этого Алена и проснулась.
Она стала вспоминать, что ей приснилось, и вспомнила, что не¬
298
приятное ей не приснилось, а было на самом деле. «Зачем Маржалета сказала про мои стихи? Получается — я из-за стихов? А стихи так, упражнения: розы-морозы-паровозы. Бывают же талантливые люди, как они пишут: «Я помню чудное мгновенье...» А я пишу какие-то хохмы: «Бом-бом, начинается альбом». Только я не из-за стихов. Стихи ни при чем. Точно ни при чем?» И чтобы ответить себе, стала перебирать в памяти случаи, связанные с Рыбой.
Один раз в овощном подвальчике тетрадки с сочинениями на вольную тему забыла. Капусту положила, а тетрадки оставила. Спасибо, продавщица попалась хорошая, принесла... А ходит, мамочки мои, в каком-то полупальто, полукуртке с драным воротником. И пыжиковой шапке, которая делает ее голову в два раза длиннее. Не голова, а кумпол... Из-за одной шапки и драного воротника нужно протестовать и убегать с уроков. «В человеке все должно быть прекрасно: и одежда, и душа, и мысли».
Алена повернулась со спины на живот и уткнулась головой в подушку. Вошла мама.
— Алешка, чего лежишь?
— Мам, можно я не пойду сегодня в школу?
— Да? И что ты будешь делать?
— Буду лежать и думать.
— Вставай быстро, мне некогда!
— Почему быстро? Что такое быстро? Ты знаешь, скажи!.. Имею я право хоть раз в жизни спокойно подумать?
— Да о чем думать, сокровище ты мое?
— О жизни. Что... нельзя?
— По дороге в школу будешь думать. Только под машину не попади. А сейчас вставай, убирай постель,— сказала мама, стаскивая Алену с кровати.
— Пусти! Ну пусти! Что ты! — возмутилась дочь.— Это ваше насилие тоже не очень прекрасное.
Алена стояла на коврике в длинной ночной рубашке, босиком. Убирать постель она не собиралась и в школу идти не собиралась. Минут пять Алена стояла на одном месте, обиженная, пока мама не загремела на кухне посудой.
За столом Алена не разговаривала с мамой, не отвечала на ее вопросы. Верочка Семеновна разрезала булочку за три копейки на две равные половинки, хотела сделать дочери бутерброд с маслом. Но Алена демонстративно взяла вторую половинку булочки, пододвинула к себе масленку, принялась намазывать сама. Мама сидела напротив. Она смотрела на дочь с улыбкой. Алена старалась все делать медленно, показывая, что никуда не торопится. Затем с преувеличенным изяществом взяла бутерброд двумя пальчиками, понесла ко рту, но зацепила локтем за угол стола, ткнула себя в щеку бутербродом и уронила его на пол. Щека оказалась в масле, и бутерброд упал маслом вниз.
— Ну, что, милая, довоображалась? — сказала мама.
299
— И ты, Брут и Брот,— проговорила Алена, поднимая булку, и вдруг прямо из ее улыбающихся глаз покатились крупные слезы.
— Ты что, Алешка?
— Почему ты во мне человека не видишь?
— Я не вижу? Да ты у меня самый главный человек.
Потягиваясь, появился отец. Обычно он уходил на работу раньше
жены и дочери, в шесть часов уже выезжал из гаража. Но сегодня Юрий Степанович взял отгул и был по этому случаю настроен игриво. Он разводил руками, потягиваясь, улыбался.
— Что у вас тут происходит?
— Да вот барышня не хочет идти в школу.
— Правильно, чего там делать? — сказал отец.— Мы пойдем с ней сегодня в кино.— Он присел рядом с Аленой на свободный табурет и обнял дочь за плечи: — Хороший ты у меня парень, Алешка.
— Ну что в самом деле? — сказала Алена, вырываясь.— Я не парень.
Она выбежала из кухни. Юрий Степанович вопросительно посмотрел на жену.
— Соображай,— сказала она.— Взрослая уже. Приперся в майке, в трусах.
— А как? — растерянно развел руками муж.
— А так... Юрий Степаныч, снимай штаны на ночь, а как день, опять надень.
— Ну, ты даешь,— сказал муж с нотками смущения в голосе.
На первый урок Алена опоздала. Она бежала по коридору, торопливо придумывая, что сказать учителю черчения. Но дверь класса вдруг отворилась, и в коридор вышла учительница географии. Алена успела увидеть из-за спины ближнюю к двери часть доски, учителя черчения в темном пиджаке, испачканном мелом, и Юрку Лютикова с большим треугольником в руках.
Алена со всего бега остановилась, не переводя дыхания сказала:
— Здрасте, Марь Яна!
— Здравствуй,— очень отчетливо сказала учительница и прошла мимо.
В первое мгновение Алена подумала, что классная ее не узнала.
— Марь Яна!
— Иди в класс. На уроке литературы поговорим. Не подходи ко мне! Не подходи ближе!
— Почему нельзя ближе?
— Дистанцию будем держать. Я — учительница, ты — ученица, понятно?
Марь Яна двинулась по коридору животом вперед, обтянутым
зоо
пушистой кофтой. Она была крепкая, толстая. За три года (Марь Яна работала в этой школе недавно) ребята сдружились с классной, особенно Алена. Она привязалась к простой, энергичной, справедливой учительнице, бегала на угол встречать ее, отбирала и сама несла портфель. И, не зная, как еще выразить свое отношение, говорила: «Марь Яна, вы знаете, кто вы для нас? Вы для нас... Вы для нас...— И, не находя нужного слова, заканчивала шуткой: — Вы для нас... Юрий Сенкевич!»
В первое время Марь Яну поражала и обезоруживала веселая беззащитность и открытость Алены. Отвечая у доски, она могла так обрадоваться звонку, что обо всем забывала — где она, что она...
«Что там добывается, Давыдова?»
«Там... добывается каменный уголь».
«Какой?»
«Бурый, кажется... Бурый, да?»
«Еще что?»
«Там добывают каменный уголь, бурый, железную руду... Лаб- даб-ду! Лабы-дабы-ду!»
Указка описывала веселую дугу, и ноги сами начинали пританцовывать.
«Давыдова, что за ответ?»
«Звонок, Марь Яна!»
«Звонок для учителя, а не для ученика. Ну что мне с тобой делать? Рассердиться, наконец, влепить двойку по поведению?»
«На Давыдову нельзя сердиться, она несерьезная. Честно!»
Нельзя и не хотелось, а надо было. Марь Яна слышала за собой шаги и знала, что Алена идет за ней и ждет, чтобы классная обернулась.
— Что ты за мной идешь?
— Вы считаете, правду говорить не надо?
— На уроке литературы поговорим. Там и объяснишь свое поведение. Ты школьница, а не Жанна д’Арк, чтобы водить за собой полки.
— Я Жанна д’Арк,— серьезно сказала Алена.— Я хочу водить за собой полки. Жанна д’Арк — положительный пример. Я хочу быть такой, как Жанна д’Арк. Почему вам это не нравится?
— Иди в класс, Давыдова.
— На костер, да?
Марь Яна скрылась за дверями учительской. Алена постояла и пошла назад. Она поняла, что перед началом урока в классе произошел разговор о вчерашнем. Значит, придется отвечать. Пожалуйста, она готова на костер. Рыба — плохая училка. Об этом все знают. Валера Куманин сказал правду.
Конечно, было бы лучше, если бы эту правду сказал кто-нибудь другой, Жуков, например. Тогда было бы хорошо пострадать и за Сережку и за правду. А так — только за правду.
Алена думала вчера и сегодня. Почему так: в школе учат говорить правду, дома учат... Мама и папа без правды жить не могут. У мамы на работе главный инженер — дуб. Мама давно ждет, когда ему кто-нибудь об этом скажет. А сама не говорит. А у отца в гараже есть какой-то завскладом, даже не начальник, а так — Нечто. Этот Нечто сбывает на сторону запчасти, и никто ничего ему не говорит, все только улыбаются. Все почему-то ждут, чтобы кто-нибудь другой начал говорить правду, а сами молчат.
Алена не жалела, что так поступила. Пусть обсуждают, пусть судят, даже исключают из школы. Жанну д’Арк на костре сожгли. Зато она Францию спасла.
Стоя у окна в коридоре и глядя на заснеженный двор, Алена вообразила себя верхом на лошади, в тяжелых латах, с тяжелым мечом в руках. Вот она въезжает в гараж к отцу, золотые волосы рассыпаются по плечам. Алена скачет прямо к завскладом, товарищу Нечто. А у того уже руки трясутся: «Вам карбюратор? Вам масляную прокладку? Может, Жанна Дарковна, вам масляный насос нужен? Совсем новенький, в упаковочке». «Ты предатель интересов рабочего класса»,— говорит ему Алена и заносит над его головой меч.
На перемене Алена вошла в класс. Ее окружили, стали рассказывать, что сказала Марь Яна. Одна Раиса Русакова держалась отчужденно. Она стояла около учительского стола и ждала, когда все успокоятся. Потом принялась стучать линейкой.
— Куманин, сядешь как следует?
По отношению к Валере она усвоила манеру учителей. Обычно это его забавляло, но сейчас он разозлился.
— Ну, чего тебе, Ру-са-ко-ва?
— Сядь как следует.
— А как?
302
— Молча!
— А зачем молча?
— За огурцами.— Она постучала еще раз линейкой.— Товарищи! Комсомольцы! Я считаю и Марь Яна считает... мы должны извиниться. Девятый класс — не время для психологических экспериментов.
— А можно я так буду сидеть, когда вы будете извиняться? — сказал Валера и повернулся спиной.— Как будто меня нету. Я ушел.
Кто-то гыгыкнул. Это прибавило Валере энтузиазма. Он мелко захихикал. Он никогда не смеялся, а именно хихикал. В начале учебного года группа социологов под условным названием «14—17» проводила анкетирование...
«Какую работу выполняешь по дому?»
Валера ответил:
«Хожу в магазин за водкой».
«Кем хочешь стать после окончания школы?»
«Хочу судить людей, которые воруют, а со мной не делятся. На юридический буду поступать. Хи-хи!»
Анкета безымянная, можно похихикать и спрятаться в толпе за другими анкетами. Он и сейчас старался сделать так, чтобы все смеялись и его смешок потонул бы в общей «ржачке».
— Да, Светка,— повернулся он к своей соседке по парте,— тебе жэ... нужна?
Тихая девочка испуганно вскинула ресницы. Многие в классе хотели иметь сумку-пакет с изображением во всю ширину пакета синего джинсового зада фирмы «Рэнглер». Валера кое-кому такие пакеты достал, не бесплатно, конечно. Он смотрел на Светку Пономареву серьезно, даже чуточку озабоченно. Она поморгала ресницами, сказала тихо:
— Нужна.
— Нету,— ответил Валера и захихикал.
— Дурак!
Возмутиться сразу не хватало уверенности в себе. И потом, что же возмущаться: на пакете, который она хотела иметь, действительно изображено то самое, о чем спросил Валера. Нежные щепетильные девочки вместе с вещичками покупали у него и барахольные слова. Им было стыдно их слушать, но они делали вид, что им не стыдно, и слушали. Но Валера-то знал, что им стыдно, поэтому и говорил, и наслаждался, наблюдая, как они краснеют.
Раиса Русакова ударила по столу кулаком.
— Куманин, ответишь на бюро за срыв собрания.
Валера театрально развел руками. Впереди него сидели две подружки, две Люды: Попова и Стрижева. Он называл их «Попова и Стрижопова».
— Чего ты ко мне привязалась? Попова и Стрижопова разговаривают.
303
Люда Попова обернулась и трахнула Валеру книжкой по голове. Он воспринял это как награду, захихикал, обнажив все зубы. Это был его день, его час.
Раиса Русакова стояла, беспомощно опустив руки, ждала, когда придет кто-нибудь из учителей — Рыба или Марь Яна. Алена решила ей помочь. Она выбежала к доске и быстро написала, стуча мелом:
«Сидел у моря Гомер и сочинял стихи. Потом помер, а мы живем. Хи-хи!»
Но ее ироническая эпиграмма произвела противоположное действие. Ребята решили, что она тоже хихикает, и обычное в таких случаях бессмысленное веселье сделалось всеобщим. Топоча ногами и стуча руками, книжками по партам, мальчишки и девчонки поворачивались затылками к дверям. Прозвенел звонок. И Валера почувствовал, что наступил момент для грандиозного «хи-хи!».
— «Мы пук! Мы пук!» — запел он.
Песню подхватили. Это была настолько глупая детсадовская песенка, что петь ее можно было только так — повернувшись к глухой стене, не видя лиц Марь Яны и Анны Федоровны, которые должны были вот-вот войти в класс...
— «Мы пук, мы пук, мы пук цветов нарвали...»
Открылась дверь, и вошла Марь Яна. Ребята стыдливо замолчали.
— «Мы пук! Мы пук!» — начал Валера снова. Его не поддержали.
— Зря стараешься, пук,— сказала Марь Яна.— Зря стараетесь. Заболела Анна Федоровна. Не будет урока.
Она больше ничего не сказала, закрыла дверь, и в тишине коридора прозвучали ее удаляющиеся шаги.
— А нам чего? Сидеть или уходить? Во!
Валера подбежал к двери, выглянул, затем плотно притворил дверь, крикнул:
— Ну и что? Она нарочно заболела.
— Выгнала всех из класса и заболела, чтоб не отвечать,— сказала Маржалета и уверенно добавила: — Ей за это обязательно будет.
— А почему Марь Яна так? Собрание бы провела, все равно пусто-о-ой урок! — проговорила певучим голосом круглоликая девочка с косой Нинка Лагутина.
— А может, ее уже уволили? А-а-а? — спросил Мишка Зуев и обвел всех раскрытым ртом.
— Если написать в газету, уволят в два счета,— со знанием дела заметила Маржалета.
Отец ее был крупный строитель, мать — вечная председательница родительского комитета. Маржалета знала про школу все.
— В газету! Надо в газету!
— В «Алый парус»!
— Что мы, деточки? Князевой написать. Я читал Князеву. Кто читал Князеву? Она всегда против училок выступает.
304
Валера выдрал из своей тетради лист, положил перед Светкой Пономаревой.
— У тебя хороший почерк, пиши... Тиха-а-а! — крикнул он.— Письмо в газету! — И продиктовал первую фразу: — «Уважаемая редакция...» Смирнов, помогай сочинять.
— Не могу. У меня полный маразмей, то есть маразмай, ма- размуй.— Смирнов засмеялся, вокруг захохотали. Светка Пономарева написала первую фразу и сидела, ждала...
Валера продиктовал:
— «Обращаются к тебе ученики 9 «В» класса, комсомольцы... Это письмо мы пишем,— с неожиданным вдохновением произнес он,— в Ленинской комнате!»
— Где Ленинская комната?
— Мы можем писать в Ленинской комнате. Так надо!
— Зачем?
— Валера, ты гений!
— Не надо! — крикнула Алена.— А если заболела?
— Какое-нибудь ОРЗ, подумаешь.
— Не надо! Лежачего, больного не бьют!
— В Ленинскую комнату! — крикнул Валера.
Алена вскочила на скамью своей парты, размахивая сумкой-пакетом, заявила:
— Я подписывать не буду!
— Во! Подписывать надо? — сказал Мишка Зуев.— Извините, я пошел.
Он сделал вид, что уходит. За ним двинулся шутовской походочкой его дружок Игорь Смирнов.
— Извините, у нас дела.
Алена спрыгнула на пол.
— Домой!
— А чего — уроков больше не будет? А чего мы тут? Делать, что ли, нечего? — сказал Толя Кузнецов и решительно зашагал за Аленой.
Алена, Раиса Русакова, Толя Кузнецов, Игорь Смирнов и Мишка Зуев, Люда Попова и Люда Стрижева высыпали в коридор. Письмо осталось недописанным. «Я точно Жанна д’Арк, полки вожу»,— подумала Алена. Она оглянулась, ребята плотной толпой двигались по коридору. Сережка Жуков и Лялька Киселева шли последними. Они показались Алене очень взрослыми, снисходительно поглядывали на все происходящее издалека, будто знали про жизнь что-то такое, чего другие еще не знали. Неужели?..
И чтобы заглушить неожиданные мысли, Алена взмахнула сумкой-пакетом, побежала по коридору, затем по ступеням лестницы, выкрикивая фразу из школьного учебника:
— «Монета, падала, звеня и подпрыгивая!»
За ней затопали, подхватили на лестнице и в коридоре:
— «Монета падала, звеня и подпрыгивая!»
305
В коридоре начали открываться двери классов. Высунул свою лохматую голову, сверкнул очками вслед убегающим физик Михаил Дементьевич. Из соседней двери выглянула Зоя Павловна.
— Что такое? — спросила она у физика.
— Вы равзе не слышите? «Монета падала, звеня и подпрыгивая...»
— Научили на свою голову.
Марь Яна распахнула дверь учительской, кинулась догонять свой класс.
— Смирнов! Зуев! — крикнула она в лестничный пролет.— Ах, молодцы! Ах, негодяи!
Пока она спускалась, торопливо переступая через две ступеньки, мальчишки и девчонки успели похватать свою одежду. Их крики раздавались уже на улице. В раздевалке осталось несколько человек. Раиса Русакова задержалась: кто-то пристегнул пуговицы на рукавах пальто к полам. Нинка Лагутина искала свое кашне. Сережка Жуков подавал Ляльке Киселевой дубленку. Девочка не спешила воспользоваться услугами кавалера, поправляла на голове красную вязаную шапочку, потом поправляла шарф. Сережка держал дубленку, смотрел без смущения умными, скучающими глазами.
— И Жуков! И Киселева! Не стыдно? — сказала Марь Яна.
— Стыдно,— ответила Лялька, скромно прикрыв глаза ресницами, тоном и неторопливостью подчеркивая, что ей стыдно не за себя.
— Что поделаешь, коллектив. Нельзя отрываться от жизни коллектива,— проговорил Сережа, скупо улыбаясь, помогая Ляльке надеть дубленку и поправляя вылезший из-под воротника шарф.
Через окно было видно, как мальчишки и девчонки бегут по двору, размахивая одеждой, без шапок.
— Ах, негодяи,— сказала Марь Яна, открывая дверь и, сбежав со ступенек на снег, чувствуя, как шею, голову охватывает морозом, а кофта и юбка становятся холодными, крикнула: — Простудитесь! Оденьтесь! Я прошу! Вот остолопы!
Оглянулась. Последнее слово она крикнула тоже достаточно громко, но его, слава богу, не услышали ни убегающие, ни те, что были за дверями.
Глава четвертая
Алена и Раиса Русакова быстро шагали между сугробов по переулку Девицкий выезд. В школу Алена обычно шла мимо «Электроники», а возвращалась переулками.
Снег здесь не убирали, только сгребали, расчищая дорожки во дворы и к водоразборной колонке. После оттепели ударили морозы, вода в колонке замерзла. Две женщины уложили вокруг нее дрова, облили керосином, подожгли и стояли с ведрами, ожидая, когда вода оттает.
Улицы и переулки старого города привлекали Алену причудливой кладкой домов, кариатидами, балконами, необычными окнами, литьем
306
решеток. Даже в такую погоду она обращала внимание на посеребренные морозом и снегом решетки ворот и балконов.
Раиса Русакова на холоде становилась особенно нелепой. Она сильно сутулилась и шагала как-то боком, переваливаясь с ноги на ногу. У Алены мерзли колени.
В конце переулка в окружении сугробов пестрела буквами и лицами артистов афишная тумба. Напротив нее возвышался четырехэтажный кирпичный дом с башней. Его фасад и чугунные ворота с вензелем вверху выходили на соседнюю улицу. Выйдя на эту улицу, Алена остановилась.
— Я замерзла,— сказала она.
Раиса прошла по инерции несколько шагов, сутулясь и оглядываясь назад, и тоже остановилась.
— Ты что? Идем.
— Я замерзла. Давай погреемся в подъезде.
Стекла дома морозно поблескивали из глубоких, забитых снегом ниш. Не дожидаясь согласия подруги, Алена обогнула большой сугроб и по расчищенной дорожке вбежала в подъезд, громко хлопнув дверью. Раиса нехотя последовала за ней.
— Ты чего, Ален?
— Постоим здесь,— она помолчала, оглядывая подъезд.— Как ты думаешь, почему Рыба заболела?
— Не знаю.
Алена положила сумку с книгами на высокий подоконник. Батареи тоже были расположены высоко. Алена обняла теплые ребра обеими руками, прижалась к ним щекой.
— Ты чего, Ален? — еще раз спросила Раиса.
— Хорошая подушечка. А ты тоже грейся. Погреемся, потом пойдем.
Мозаичный пол в подъезде повыбили, затоптали, заляпали грязью. Ступени лестницы повыщербились, фигуры фантастических птиц, украшающие опорные столбы, сохранились только на третьем и четвертом этажах. Алена забегала иногда сюда по дороге из школы — потрогать птиц, прикоснуться к мраморным перилам.
«Вот бы обменяться на квартиру в этом доме,— подумала она.— Отбитые фигурки птиц заказать реставраторам. И мозаику восстановить. Всем домом собраться, вымыть грязь, сложить все осколочки». Алена наклонилась, подняла половинку голубой плиточки, выбитой чьим-то ботинком и отброшенной под батарею. «Станут складывать узор, половинки голубой плиточки не хватит, а я достану и скажу: «Вот!»
Алена сняла варежки, одну положила на батарею, другой принялась оттирать плиточку от грязи.
— Зачем это? — спросила Раиса.
— В классики играть,— соврала Алена.
Раиса тоже сняла варежки, положила на батарею. Потом перевернула их, чтобы согрелись с другой стороны, вздохнула.
307
— Пойдем. У меня руки согрелись. У тебя согрелись?
— Я не поэтому,— ответила Алена.— Ты знаешь, я нарочно сочиняю плохие стихи.
— Как нарочно? Зачем?
— Чтоб смешно было,— сказала Алена и положила подбородок на батарею.— Они же про любовь.
Она помолчала, вздохнула и на вздохе, обреченным голосом, прочитала куда-то вниз, за батарею, где была паутина и где жили пауки...
— «Хочу написать настоящий я стих, извергнуть уменье из знаний своих...» Нет, лучше другое,— сказала она.— Вот это... «Три Демона». «Он сидел на скале одиноко, взяв коленками уши в кольцо. И смотрел сам в себя он глубоко, чтобы видеть с изнанки лицо. Его взглядов очкастых обычность, когда смотрит, не видит меня. Если он — равнодушная личность, одиночка я — Демон тогда».
Алена прочитала и посмотрела на Раису. Та не выдержала пристального взгляда, моргнула:
— А почему «Три Демона»?
— Демон на скале Врубеля, картина такая, знаешь? Демон в очках, которому посвящается,— Сережка Жуков. Ия — Демон.
— А Сережка Жуков — Демон? — удивленно спросила Раиса.
— Ничего ты не понимаешь,— сказала Алена, махнув рукой, и опять стала смотреть за батарею. «Все дело в том, что я сама виновата,— подумала Алена.— Не в ту тетрадку записывала свои стихи. Все дело в «Бом-бом-альбоме». Или в чем?»
Как и все девчонки, Алена в шестом классе завела толстую тетрадь для стихов и песен, куда наклеивала красавиц с оголенными шеями и красавцев, вырезанных из журналов. По вечерам и на уроках она переписывала из других таких же альбомов звонкие фразы: «Бом-бом, открывается альбом», эпиграфы: «Пока живется, надо жить — две жизни не бывает», «Жизнь — это сцена, а люди — актеры, кто лучше играет, тот лучше живет».
И в седьмом и в восьмом классе Алена часами просиживала над своим «Бом-бом-альбомом», наклеивала глянцевые картинки романтического содержания, разрисовывала заголовки цветными карандашами.
Сюда же Алена записывала свои первые стихи, разрисовывала их и давала переписывать девчонкам как чужие.
Потом на страницы этой тетради хлынула «наука страсти нежной». Таясь от матери и отца, Алена наклеила вырезанную из журнала «Экран» Марину Влади и над ней старательно вывела тушью заголовок: «Значение поцелуев». Затем начертила стрелочки, точно указывающие место и значение каждого поцелуя. Стрелочка, упирающаяся в лоб: «Уважение», в переносицу: «Люблю, ты презираешь», в нос: «Большая насмешка», в губы: «Мы с тобой наедине», в подбородок: «На все согласен». Стрелочки, кочуя из альбома в альбом, иногда получались длиннее или короче, соскальзывали. Презрение перекочевывало с пе¬
308
реносицы в левый глаз, где раньше таилась «нежная любовь». Ужасные происходили ошибки. Фотография Марины Влади, исчерченная стрелочками, представляла собой ужасно ошибочное наглядное пособие для девчонок, которые еще не целовались.
И рядом со всем этим Алена записывала свои стихи, посвященные Сережке Жукову. Глупость все это! Надо было записывать в чистой тетради, в такой чистой, как у Беллы Ахмадулиной:
«Мороз, сиянье детских лиц и легче совладать с рассудком, и зимний день, как белый лист, еще не занятый рисунком. Ждет заполненья пустота, и мы ей сделаем подарок... Простор холста, простор листа мы не оставим без помарок...»
Какая она талантливая, Белла Ахмадулина, плакать хочется.
— Поняла? — спросила Алена.
— Чего?
— Ну что я тебе читала, поняла? У меня много таких стихов, которых ты не знаешь. Которых никто не знает. «Спят статуи в лунном поцелуе, ночью спят и на исходе дня, стыд свой прикрывают от меня листьями опавшими...» Или вот эти, из того же цикла: «Если б я их живыми увидела, о ком думаю, рыжая я, никогда б я его не обидела при отказе в вопросе тогда».
— Кого живыми увидела? — спросила Раиса.
— Статуи. Я тебе читаю стихи из цикла «Статуи в парке». И в жизни есть люди каменные, как статуи. Полное собрание статуй, каменных стихов, булыжников.
Раиса выслушала, ничего не сказала.
— Поняла? — спросила Алена.
— Нет.
— Знаешь, сколько я билась над строчками «Никогда б я его не обидела при отказе в вопросе тогда». Ужасно глупо, правда? И ударение неправильное в рифму нарочно поставила. Надо «статуи», а я нарочно пишу: «Спят статуи в лунном поцелуе». «Извергнуть уменье из знаний своих» и про «бык моста» — это я все нарочно. Это самое трудное — такие глупости придумывать в стиле изящного маразма.
— Да? — спросила Раиса.— А зачем?
— За огурцами.
— Тебя надо обсудить на бюро. Талант есть, значит, пиши как следует.
— Ну обсудите меня на бюро. Ну ты, вожак, обсуди меня на бюро! Вожак, веди меня!
Раиса посмотрела на Алену исподлобья, потопталась, толкнула плечом дверь.
— Вожак, ты куда?
Алена схватила варежки с батареи, догнала подругу на улице.
— Вожак, веди меня.
Они дошли до угла. Раиса, как обычно, махнула рукой и шагнула боком на проезжую часть.
309
— До завтра!
— Вожак, веди меня!
Раиса оглянулась, Алена плелась за ней.
— Вожак, веди меня! Вожак, веди меня! — монотонно повторяла она.
У ворот серого блочного дома Раиса остановилась. Алена тоже остановилась. Обе молча смотрели друг на друга. Раиса хмуро, Алена ясно, открыто.
— Я к тебе, ладно? Андрюшу Вознесенского вслух почитаем Я не могу почему-то домой идти. Чего-то не так, а?
Раиса переложила портфель из руки в руку, посмотрела в сторону^
— Я не хотела говорить. Отец не просто пьяный пришел. Он маму ударил. Мы с ним не разговариваем.
— Ударил?
— Да,— кивнула Раиса.— Как ты считаешь, комсоргом может быть человек, если у него отец пьет и дерется?
— При чем здесь отец?
— Надо сказать, чтоб переизбрали. Стыдно только.
— Знаешь,— сказала Алена,— пойдем ко мне.
Раиса отрицательно мотнула головой.
— Мама с работы придет. Ее нельзя оставлять одну. Без меня она его простит.
— А ты теперь не простишь?
— Не знаю. Ну ладно, пока.
Алена осталась на месте. Раиса угрюмо шагала по тротуару. Поскрипывал под сапогами снег. В воротах она поскользнулась» наступив на раскатанную ледяную дорожку, чуть не упала, но не обернулась, не посмотрела назад. Вошла во двор, пересекла его и скрылась в дверях подъезда.
Глава пятая
Еще на лестнице Алена услышала запах ванили, запах пирога. Мама была дома, ушла пораньше с работы.
— Ой, как вкусненько пахнет,— сказала Алена и принялась с преувеличенным энтузиазмом совать нос в кастрюли и сковородки.
Это был единственный способ ничего не сказать маме о том, что произошло в школе,— смотреть в духовку, в холодильник, на картошку с синими ростками: «Ой, картошечка проросла», только бы не смотреть маме в глаза. Только бы не спросила мама: «Что случилось?»
— Ты совсем закоченела, Алешка. Сейчас же в ванну!
Алена не возражала. В ванне было тепло, много мыльной, пахнущей сосновыми иглами пены, и можно было оставаться еще какое-то время наедине с собой за закрытыми дверями в пару и мыльной пене, недоступной для внимательных глаз мамы. Алена захватила с собой половинку голубой плиточки, которую нашла под батареей в
310
старом доме. Она пыталась положить ее на воду так осторожно, чтобы плиточка держалась на пузырьках мыльной пены и не тонула. Но у нее ничего не получилось, плиточка ныряла углом, испуская из-под воды мерцающий голубой свет.
Алена любила купаться, особенно зимой. Она нежилась, болтала ногами, взбивая пену, вытягиваясь так, что из воды и пены торчал один нос. Но начинала думать и незаметно садилась. По плечам стекала пена, лопались пузырьки, а Алена сидела, держась за края ванны, и думала. Она никак не могла забыть спину Марь Яны, которая через плечо сказала ей: «Не подходи!» — «Почему не подходить?! — Алена ударила рукой по воде.— Почему учителя должны защищать учителей? Даже такую, как Рыба? Она сама Рыба и всех превращает в Рыб. Я для нее «рыбынька», «макрорус». Алена стала вспоминать названия морских рыб. «Я для нее пристипома, лемонема,— бормотала она,— сквама, мерлуза, луфарь, бильдюга, свежемороженый капитан. Я для нее — свежемороженый капитан». Алена стала вспоминать, как она входит по-солдатски в класс — топ-топ, как говорит: «Встань! Выйди!» Сам собой родился стишок: «Анна Фэ, Анна Фэ ходит в школу в галифэ. В самом деле, в самом деле, она носит их в портфеле».
Алена попыталась произнести свой стишок в воде, получилось: «бу-бу-бу». Это и было «бу-бу-бу». Одновременно она попыталась, пока хватает воздуха, нащупать на дне ванны половинку голубой плиточки, чтобы вынырнуть с ней, как с талисманом. Но воздуху не хватило, она вынырнула и, уже сидя, нащупала свой талисман.
Происходило что-то такое непонятное. Любимая учительница Марь Яна запретила ей «водить полки». Алена не послушалась, промчалась по коридору, и все за ней промчались: «Монета падала, звеня и подпрыгивая». Зачем? На улице все разошлись, и они остались с Райкой вдвоем. А потом и Райка ушла. Алене теперь придется отвечать и за сорванный урок и за монету, которая падала, звеня и подпрыгивая. Алена думала, думала о Рыбе, о Марь Яне. Когда думать становилось трудно, когда она не могла объяснить свои собственные поступки, Алена ложилась в теплую воду и пену. И не замечала, как снова садилась в ванне. Худенькие веснушчатые плечи остывали на воздухе, холодок подбирался к груди.
Алена легла, чтобы согреться, но тут же выпрямилась, ударила по воде рукой. Что-то было не так. И она все делала не так. Алена еще и еще раз ударила по воде руками, как в детстве, когда капризничала.
— Осторожней, Алешка,— сказала мама, входя и заслоняясь от брызг.— Ты уже не маленькая. Это, с синей каемочкой, для ног.— Она повесила старое, с дырами полотенце на изогнутую трубу сушилки; улыбнулась дочери: — Кравцова тебе звонила.
— Маржалета? — удивилась Алена.— Что она сказала?
— Я ей сказала...
— Что ты ей сказала?
— Что ты купаешься.
311
— Что она сказала, мам?,.
— Огорчилась, что ты не можешь идти к Ляле.
— Она идет к Ляльке? — Алена резко поднялась из воды.— А кто еще будет?
— Куда ты? Куда? — засмеялась мама.— Вся в мыле.
— Мамочка, она сказала, что идет к Ляльке? Это очень важно. Мне надо идти.
— Никуда ты не пойдешь с мокрой головой.
— Мамочка, это же из-за меня они собираются у Ляльки. Мы вчера с урока сбежали. И сегодня... Нам надо договориться. Мы даже письмо в газету хотели написать, но потом не стали.
— Как — сбежали с уроков? Почему сбежали?
— Рыба нас довела.
— Перестань учительницу называть Рыбой!
— Я тебе потом все объясню. Ей, знаешь, еще не то сделали. Ей в 9 «Б» кнопку на стул подложили.
Алена включила душ, торопливо смывала с себя мыльную пену.
Лялька залезла с ногами в большое кожаное кресло. По телевизору передавали журнал «Человек и закон». Лялька этот журнал называла «Человек из окон». Показывали каких-то хмырей, которые распивали водку около детской площадки. Устроившись поудобнее, Лялька посмотрела в зеркало, поправила волосы. Это было ее излюбленное место — и телевизор можно смотреть и на себя поглядывать. И телефон под рукой, в нише, между книгами. Лялька сняла трубку, набрала номер, ленивым голосом сказала:
— Это я. Ты еще дома? Юр, у твоего отца есть альбом Боттичелли? Витя говорит, что я похожа на «Примаверу». Захвати.
Лялька положила трубку, с минуту смотрела телевизор и в зеркало, затем снова сняла трубку, но поговорить не успела. Вошла мама, строго одетая, аккуратно причесанная женщина. Она собиралась в институт, у нее была лекция у вечерников.
— У тебя опять гости?
— А что в этом плохого?
— Надеюсь, они придут после того, как отец уйдет?
— Надейся.
— Что значит «надейся»?
— После! Ты же знаешь, что они приходят после.
Мама взяла несколько книг из шкафа и вышла.
Отец отдыхал перед спектаклем. Он появился в гостиной во фраке, посмотрел на себя в зеркало, взял носовые платки. Они лежали в ящике подзеркальника тремя стопками. Он брал на спектакль три- четыре платка — вытирать лоб. Лицо у него было сосредоточенным, он сегодня дирижировал «Пиковой дамой». Спектакль считался премьерным, он шел всего десятый раз. Но и на спектакли, которые давно идут, отец собирался с такой же тщательностью, ни с кем не
312
разговаривал. Лялька видела, что телевизор отца раздражает, хотела выключить, но было лень вставать, и показывали как раз судебный процесс над парнем, который ударил прохожего ножом. Преступник был симпатичный, даже красивый. Лялька хотела узнать, почему он убил человека. Отец покосился на экран телевизора и, не оборачиваясь, глянул из зеркала на дочь.
— Все подряд передачи смотришь?
Лялька не ответила.
— Мне принесли интересную книгу. Возьми на тумбочке в спальне.
Отец вышел и через некоторое время вернулся с книгой.
— «Вокруг Пушкина». Это, по-моему, интереснее будет.
— Пушкин? Я думала, что-нибудь... Ну ладно.
— Послушай, Ляля,— негромко проговорил отец.— Как бы тебе объяснить... Пушкин... Самсон человеческой мысли и чувства. Я, к сожалению, много сейчас говорить не могу.
— Ладно, оставь.
— Как ты говоришь, Ляля! «Оставь...»
— Ну, я говорю, по-чи-та-ю.
— Нет, не почитаешь. Ни истории, ни культуры не почитаешь. Я не знаю, как это произошло, но ты выросла без почтения ко многому, что для меня и твоей мамы является святым.
— Неостроумно.
— Да, Ляля, неостроумно. Леночка, я пошел,— сказал он жене, выйдя в коридор, и прошагал по коридору к дверям почти неслышно.
Когда отец сердился на дочь или ссорился с женой, он говорил две-три фразы, которые ему самому неприятно было произносить, и уходил в другую комнату, или в коридор, не производя шума, на цыпочках, словно переставал существовать.
Передача «Человек и закон» закончилась. Лялька зевнула, потянулась. За этим занятием и застала ее мама.
313
— Ты что, не могла сказать просто: «Ладно, прочту»?
— Я же сказала, по-чи-та-ю.
— Вот именно, так ты и сказала.
— А как я должна говорить? Как?
Лялька сморщила свой хорошенький носик. Она была поздним ребенком. Елена Антоновна родила в тридцать лет, уже после защиты диссертации. Отец на четырнадцать лет старше матери. В прошлом году в декабре ему исполнилось пятьдесят девять лет. Гости хвалили его за осанку, за неувядаемый талант, но Лялька заметила, что с каждым годом лицо отца становится все более вялым, каким-то мучнисто-белым, как у стариков.
Книжку отец оставил на столе. Лялька дотянулась, взяла. Книжка оказалась действительно редкой — неизвестные письма Натали Гончаровой и ее сестер Александры и Екатерины.
Алена пришла одновременно с Юркой Лютиковым. Они встретились у подъезда.
— Не знаешь, Рыба чем больна? — спросила Алена.
— Рыба? — вопрос его удивил.— Не знаю.
Дверь открыла Маржалета. Лялька была занята: примеряла белые в рубчик джинсы.
— Сюда нельзя, нельзя,— сказала она, увидев Юрку Лютикова.
— Я альбом приволок. Персонального у отца нету. Вот вся эпоха Возрождения. Пять кило.
Лялька без смущения продолжала вертеться перед зеркалом, играя длинными широкими рукавами полупрозрачной батистовой блузки.
— Есть? Похожа? — спросила она, покосившись на альбом.
— Похожа... «Штатские»? — спросил Юрка Лютиков, имея в виду джинсы.
— Жапан,— ответила Маржалета.
314
—- Нипон, дурочка,— сказала Лялька, и обе засмеялись.
Полунамеки, полупрозрачная блузка — все это волновало, создавало дружеский интим. Лялька улыбнулась Алене, приглашая ее к участию в этом интиме.
— Примерь, может, тебе подойдут.
— Тебе хорошо.
— Вот здесь, в бедрах, не очень.— Она похлопала себя по бедрам.— Ты здесь поуже.
Лялька расстегнула пуговицу, начала расстегивать молнию, увидев испуганное, округлившееся лицо Юрки Лютикова, притворно застыдилась, закрыла живот руками.
— Ты здесь еще? Я же сказала, сюда нельзя.
Юрка Лютиков смущенно отвернулся, вышел в коридор.
— Я не здесь, я — там,— сказал он изменившимся, сразу погрубевшим голосом.
— Юрочка, посиди на кухне, мы сейчас,— крикнула Лялька.— Поставь воду для кофе.
— Ладно,— донеслось из другого конца коридора.
Девчонки засмеялись. Алена засмеялась тоже, но ей пришлось сделать над собой усилие. Она пришла совсем с другим настроением. Она не хотела примерять джинсы, хотя о таких, белых, мечтала.
— Я не хочу сейчас. Не надо. Марь Яна, наверное, завтра спросит, куда мы так бежали?
— Чего ты? — сказала Маржалета, не услышав про Марь Яну.— Он сюда не войдет. Я постою в коридоре.
Алена взяла джинсы, торопливо натянула их.
— Как влитые,— сказала Маржалета.
— Чьи? — спросила Алена.
— Витя, студент, продает,— сказала Лялька.— Сегодня придет, познакомишься. Пойду посмотрю, как там дела у Юрочки.
Маржалета, присев на корточки и вертя Алену за бедра, как портниха, молча любовалась, восхищенно выгибая выщипанные черные ниточки бровей, восторженно округляя свои выпуклые глаза с иссиня-черными, кое-где склеенными и от того редкими ресницами.
— Сколько они стоят? — спросила Алена.
— Сто двадцать рэ.
— Ого!
Алена тут же сделала попытку снять джинсы, но Маржелета не дала.
— Ты что? Это задаром. Такие двести стоят.
— Мне родители таких денег на штаны не отвалят.
— Ты походи, привыкни. Как привыкнешь — выпросишь. Я всегда так делаю. Надену и хожу, а потом снимать не хочется, и все. Ты походи, походи, почувствуй.
Алена и сама видела: белые джинсы — это белый пароход. Она прошлась по комнате, небрежно оборачиваясь так, чтобы внезапно
315
увидеть себя в зеркале и, может быть, там, в глубине, нафантазированное ею море и парус, который белеет одиноко. Чувство одиночества возникло от того, что она выскочила из ванны и прибежала сюда с одним, а здесь все заняты другим.
— А он зачем придет?
— Кто?
— Витя, студент.
Алена все еще надеялась, что соберутся свои, чтобы обсудить школьные дела.
— Ты что... не знаешь? Тебе мать не сказала? Мы сегодня рок-оперу слушаем «Иисус Христос — суперстар». Витя достал. Сейчас Сережка придет, Машка Пронина. Я тебе позвонила...
Алена покорилась обстоятельствам: Сережка придет и рок-опера... Сережка придет!
Лялька и Юрка Лютиков принесли кофе. Заявилась Машка Пронина. Алена надеялась остаться до прихода Сережки в белых джинсах, тянула время. Но Машка тоже захотела примерить. Сто двадцать рэ Машку Пронину не пугали, наоборот, она удивилась, что они стоят так дешево, и сразу посмотрела «лейбл».
— Джапан,— сказала она разочарованно.
Пришел студент Витя, молодой парень, рано полысевший со лба. С ним познакомился у комиссионки Валера Куманин. Они оба отирались там, покупая и перепродавая джинсы, пластинки, французские лифчики. Особый интерес для обоих представляли майки. Студент Витя говорил, что когда-нибудь соберет коллекцию и устроит выставку в музее изобразительных искусств. Попадались всякие: с нарисованными на груди помочами от подтяжек; с ликом Христа; с лохматой головой Демиса Русоса, греческого певца; с изображением челюстей акулы и надписью: «Сила вообще, сильные челюсти — и успех в жизни обеспечен». На некоторых майках: «Мальчики, целуйте
316
меня скорее», «Покупайте только у Бартони», «Лучшая кукуруза в Алабаме», «Американские законы совсем не строгие». Ценился юмор надписей. «Мальчики», которые должны были «целовать скорее», шли на десятку дороже, чем «Кукуруза в Алабаме».
Студент Витя, как истинный коллекционер, приплачивал Валере за каждую новую интересную майку сигаретами, жевательной резинкой. Но одну майку, несмотря на ее редкость, отказался даже взять в руки и посоветовал от нее избавиться. Валера оставил майку себе, носил дома.
С Лялькой студент Витя познакомился, когда она попросила Валеру достать ей джинсовое платье «Тим Дресс». Валера привел своего знакомого, представил студентом, переводчиком, гидом интуриста. Платье французской фирмы студент Витя не достал, но в кружок внедрился, стал часто бывать у Ляльки. Ему нравилась Маржалета.
Алену познакомили с Витей, она сказала: «Очень приятно». Все пили кофе, все по очереди разглядывали пластинку, конверт с портретами певцов-актеров. Одновременно листали альбом, посвященный художникам эпохи Возрождения, говорили о проблеме НЛО, о джинсах, которые Вите надо было продать. Разговор велся, естественно, на джинсовом диалекте. Никто не употреблял слова «размер», все говорили «сайз»; вещи из США — «штатские вещи»; ярлык — «лейбл». Восхищение выражалось однозначно: «фирма». Словечки такого рода стирали свои иностранные грани и становились вульгарно-русскими.
Алена удивилась своим мыслям. Сердце неприятно екнуло. Под всем этим блеском, который ее завораживал и увлекал, все время оставалась тревога о завтрашнем дне, о школе. Алена пыталась заглушить тревогу громким смехом, шутками. Но тревога оставалась. И в разговоре за столом шуршало прямо какое-то тряпичное эсперанто: «Суперрайфл», «Левистраус», «Ликупер», «Ливайс». Вечеринки у Ляльки — «сейшн». Все, кому закрыт доступ на Лялькины «сессии»,— «кантри», то есть «сельские». Словечко перекочевало с дисков с записями «кантри» — ковбойских песенок, исполняемых под банджо и гармошку.
Строго говоря, Алена тоже «кантри». У нее бабушка деревенская. И на каникулы Алена ездит не в Сочи, как почти все .из кружка Ляльки, а к бабушке в деревню. И отец ее простой шофер, а не художник, как у Юрки Лютикова. И модных вещей, чтобы считаться «девочкой в порядке», у нее нету. И учится она не так блистательно, как Лялька и Сережка Жуков. Лялька приглашает ее на свои музыкальные, танцевальные балдежные «сессии», потому что она веселая, заводная, может быть, потому, что пишет стихи?..
Но она «кантри». Для Ляльки и Машки Прониной японские джинсы за сто двадцать рэ не фирма. Они носят только «класс коттон», только «штатские вещи».
317
— Ну, что... берем-берем? Порядок? — спросил Витя.
— Нет. У меня родители бедные.
— Я позвоню Нинке Лагутиной,— предложила Маржалета.
— Не надо,— поморщилась Лялька.
— Ну ладно, я ей завтра в школу отнесу. Она возьмет. У нее отец передовик производства.
И все почему-то развеселились, заулыбались. На Алену не смотрели, признаваться в бедности здесь было не принято.
Пришел, наконец, Сережка Жуков. Поздоровался со всеми, со студентом Витей за руку. У него спросили, почему опоздал. Он ответил, что заходил в библиотеку. Глаза у него были усталые, как у человека, который долго читал и никак не может освободиться от прочитанного. Он сел один, в свободном углу, глядя на всех отсутствующим взглядом, потер несколько раз ладонью надбровья. Затем снял очки, посмотрел на Алену, не видя ее.
Когда Сережка пришел в лабораторию, где работал его отец, он не думал, что там занимаются чем-нибудь еще, кроме хлеба и напитков. Но оказалось: лаборатория выполняет и другие заказы. А два человека, помимо своей основной работы, занимаются проблемой происхождения жизни на Земле. Как всякий образованный мальчик, выросший в культурной семье, Сережа с детских лет знал множество расхожих научных сведений: ну, например, что человек произошел от обезьяны. Но только в лаборатории он уяснил, что человек от обезьяны произошел потом, а сама тайна происхождения жизни до сих пор оставалась нераскрытой. Можно было только предполагать, что произошло это на первом этапе путем превращения неживой природы в живую, что в истоках жизни — химическая эволюция. Многие ученые во всем мире пытались смоделировать зарождение жизни с помощью коацерватных капель. Опыт по Бунгенберг-де-Йонгу был настолько прост, что можно было заниматься раскрытием Великой тайны дома, имея колбочки, растворы желатина и гуммиарабика. Сережка натаскал колбочек из лаборатории и сгоряча начал ставить опыты, загромождая в холодильнике все полки своими склянками. Потом понял, что многого не знает, принялся жадно читать все, что ему мог достать отец, все, что могли предложить в маминой научной библиотеке.
С приходом Сережки обстановка изменилась. Маржалета открыла крышку проигрывателя. Лялька выключила верхний свет и зажгла шары-плафоны, установленные на полу. Один шар оказался прямо под ногами у Сережки. Он посмотрел на него, отодвинулся вместе со стулом, взял с полки томик рассказов О’Генри. Привычка к чтению была так велика, что он не мог долго оставаться без книги. Если не было нужной, он читал все, что попадало под руку.
Что-то не заладилось с проигрывателем. Снова зажгли верхний свет, студент Витя проверял, выстукивал, выслушивал, как врач, стереофонические колонки.
— Счас-счас с дел аем-за делаем,— сказал он.
318
Алена подошла к Сережке, заглянула через плечо.
— ОТенри?
Сережка не ответил.
— Ты разве не читал?
— Читал.
— А зачем же?
— А что еще делать?
Алена постояла за его спиной, наблюдая, как Сережка читает. Она поняла, что он не читает, а проглатывает. Это была его манера знакомиться с художественной литературой. Алена отошла от Сережки, усилием воли заставила себя отойти, но ее неудержимо тянуло к этому очкарику. Если бы он знал, до чего она докатилась. «Микробами любуешься, б-р-р!» — сказала она ему, а на другой день раздобыла точно такую же книгу о происхождении жизни и две недели, умирая от скуки, грызла химические формулы, мало что понимая в них, засыпая на каждой странице. Все же основную мысль Алена усвоила, точнее, запомнила, что «в основе зарождения жизни — прогрессивная эволюция все усложняющихся углеродистых соединений». А когда прочитала о возможности существования жизни, в основе которой лежит не углерод, а близкий ему по таблице Менделеева кремний, то прямо обрадовалась наступившей в ее сознании ясности. Она представила образно: кремень — камень. Человек — из камня. Менделеев — из камня. Пушкин — из камня. У всех пра-пра-прадедушка — Камень! Она чуть стихи на эту тему не написала: «Бушевал в мире пламень, с днем рождения, Камень!» Но дальше не пошло.
Алена покрутилась около колонок и снова приблизилась к Сережке. Она давно выбирала момент для разговора, к которому подготовилась. Сережка не участвовал в суете около проигрывателя. И Алена томилась. Это их объединяло.
— Сереж, как ты считаешь,— спросила она,— в основе жизни может быть кремний? Камень-прадедушка? — добавила она.
У Сережки над полукружьями очков брови взлетели, и вслед за этим он странно как-то, сначала удивленно, а затем насмешливо заулыбался.
— Ты что, Давыдова?
— Что? — смутилась Алена.— Следы на земле остались же? Крапива, папоротник... Колючки на крапиве — это же окислы кремния?
— Послушай, Давыдова...— Сережка рассмеялся: — Ой, Давыдова!..
— Что? — Алена почувствовала, что краснеет.
Заиграла музыка, все торопливо, торжественно расселись. Сережка отложил книгу. Алена отошла от него, села на стул у окна так, чтобы «академик» не мог видеть ее лица. Она не слышала музыку, чувствовала только, что продолжает краснеть. «Что я такого сказала? Может, я глупость сказала?» Она не была убеждена в твердости своих знаний. «Может, я что не так поняла?» Ее щеки пылали.
Глава шестая
Педсовет с родителями назначили на субботу, а в четверг приехала в школу журналистка. Алена об этом узнала на уроке от опоздавшей Раисы Русаковой. Она задержалась в комитете и уже успела поговорить с журналисткой.
— Модная, очки в пол-лица.
— Какая журналистка? — удивилась Алена.
— Лидия Князева. Читала «Девочка из горного аула»? Это она написала.
— А зачем она приехала?
— За огурцами.
— Серьезно, зачем она приехала?
— По письму.
— Мы же не послали. Я была против. Зачем вы послали?
— Тише,— сказала Раиса, глядя в парту.
— Вожак, зачем вы послали?
— Тише! Чего ты бесишься? Я сама не знала. Валера Куманин послал. Каждый человек имеет право послать письмо в газету.
— От себя послал?
— Не знаю. От себя, и там еще какие-то подписи.
— Давыдова! Русакова! Опоздала и еще разговариваешь,— сказала Марь Яна тем же ровным голосом, каким объясняла новую тему.
— Это не она, это я разговариваю,— сказала Алена.— Можно вопрос? Это я не понимаю. Русакова понимает, а я не понимаю.
— Все вопросы на классном часе.
— Я хочу сделать важное заявление.— Алена поднялась.
— Давыдова, выйди из класса. У нас школа, а не парламент.
— Пожалуйста, но я все равно скажу.
— Давыдова!
Марь Яна не дала ей сказать. Алена вышла из класса. Хорошо, ей затыкают рот, тогда она напишет. Алена оделась, выбежала на улицу, купила в киоске на углу конверт, стержень для шариковой ручки. Два квартала — от школы до кинотеатра «Мир» — шла, держа конверт в руке. Мысленно она сочиняла письмо-протест, которое собиралась вручить Марь Яне. На рекламном щите кинотеатра был изображен человек с пистолетом: «Свой среди чужих, чужой среди своих». В классе продавали билеты. «Она меня выгнала? Хорошо. Я пойду в кино,— решила Алена.— Письмо-протест потом напишу».
Полтора часа в кино пролетели незаметно. «Интересно, догадалась Раиса взять сумку с книжками?» — скучно подумала Алена, возвращаясь к будничным событиям. Конверт в кармане смялся. Она его мяла и комкала, забывшись, переживая судьбы героев. Конверт надо покупать новый. Нет, сначала она поговорит с Валерой Куманиным.
320
...Мать Валеры Куманина пришла с работы с головной болью. Валера смотрел телевизор, зарубежную эстраду.
— Сделай потише,— сказала усталая женщина.
— Ладно, отстань.
— Отец где?
— Не знаю, отстань.
— Валера, у меня болит голова. Сделай потише, я тебя очень прошу. Что ты такой бессердечный!
— У тебя она всегда болит. Что мне теперь... не смотреть телевизор?
— И сними эту майку, увидит отец, прибьет.
Валера убавил громкость. Он стоял у телевизора, держась за ручку громкости и заглядывая в экран, кривлялся в ритме зарубежной эстрады. Мать смотрела на его толстенький, обтянутый джинсами зад, на эту ужасную майку и не могла понять, куда же девался ее сын. Был Валерик, мальчик, сыночек, а теперь нету, одни джинсы и майка.
Ей трудно было понять, как в их рабочей семье вырос такой обалдуй. Отец своими руками домик на садовом участке построил, на заводе уважаемый человек, списанную «Волгу» ему выделили. Сама она с утра до вечера в больнице.
Лариса Викторовна работала сестрой-хозяйкой в детской инфекционной больнице. Каждый день, возвращаясь домой, она приносила с кухни то маслица, то творожку, из того, что оставалось. Время от времени обменивала в больнице свои старые, еще крепкие простыни, полотенца, наволочки на новые. Не злоупотребляла этим, не для продажи, никому не во вред.
Приносила и кое-что из детского белья. Если бы ей сказали, что она ворует у детей, она бы обиделась. Она считала себя честным человеком, хорошей сестрой-хозяйкой. Она была патриоткой больницы. Никакой работы, самой грязной, не боялась. Все делала на совесть, с душой. Главный врач говорил, что на них двоих (на нем
11 Школьные годы. Вып.З
321
и на Ларисе Викторовне) больница держится. А эти мелочи, еду и белье, она просто брала, как берут все, кто у родного дела находится. Она не считала нужным это скрывать от домашних и соседей. Когда со'седка, баба Настя, заболела, она и ей приносила высококалорийный стерильный творожок, который они готовили детям. Валера сначала не понимал, какие каши он ест. Потом, когда подрос, боялся заразиться от больничных запеканок, простыней и подушек какой-нибудь желтухой или скарлатиной.
Его воспитывали, говорили слова о честности, о том, что он должен уважать людей. Но эти слова шуршали мимо. А вот другое он схватывал на лету. Привезли на садовый участок списанную «Волгу», отец сел за руль и показал на радостях сыну, как надо держать руки. «Учись, сынок! Делаешь две дули, сжимаешь баранку и едешь, по сторонам фиги показываешь. Вот так... Вот он я, возьмите». Потом Валера бегал за водкой, отец с главным механиком обмывали приобретение. А Валера сидел в машине и тренировался. Получалось великолепно. Как будто держишься за руль, а пальцы сами собой две дули показывают. И никто не видит. Едет человек по своим делам. Хи-хи!
Отца Валера уважал и побаивался, а мать презирал. Она приходила из больницы усталая, вся какая-то согнутая и приносила в дом заразное. Повзрослев, Валера стал брезговать больничной едой, отпихивал ее от себя. Однажды так отпихнул, что тарелка с творогом грохнулась на пол.
— Господи, что же ты делаешь, паразит? Это стерилизованный творог. Такого творога и кефира, как у нас, нигде больше не делают.
Но Валера все равно этот стерильно чистый творог и этот стерильно чистый кефир считал заразными. Приходилось его теперь обманывать, чтобы заставить есть больничные продукты.
За ритмами зарубежной эстрады Валера не услышал звонка. Алене открыла мать. Она кивнула девочке и, оставив ее одну в прихожей, пошла в комнату, где орал телевизор.
— К тебе пришли.
— Чего? Кто?
Валера поднялся из кресла, провел машинально руками по ремню, проверяя, хорошо ли заправлена майка.
Поворачивая к шестиэтажному панельному дому, Алена еще точно не знала, что скажет Валере. Она его спросит: «Ты учишь уроки? Не учишь, ну и сиди молчи! Сережка Жуков может посылать письма в газету про плохих училок, а ты не имеешь права. Для того, чтобы говорить правду другим, дистанция нужна, понял? Надо правду на себе сначала проверять, как врачи. Врачи сначала на себе болезнь проверяют, а потом лечат других».
Но войдя в прихожую и поздоровавшись с неприветливой усталой женщиной, матерью Валеры, Алена решила: все это глупо про дистанцию, он не поймет. Она ему скажет просто: «Рыба такой же человек, как твоя мать».
322
Появился вихляющей походочкой Валера, и Алену в его облике что-то так поразило, оттолкнуло, что она забыла все приготовленные слова. «Попрошу у него книжку,— лихорадочно подумала она,— учебник по геометрии, скажу, что свой в школе забыла».
— Привет! — растерянно проговорил Валера.
Он не ожидал увидеть Алену. В следующую секунду Валера поспешно сложил руки на груди, переплел их и крепко прижал к себе, как будто ему сделалось холодно, а на самом деле загораживая надпись на майке. Но Алена успела прочитать. Надпись ее ошеломила.
— Привет! — сказала Алена.— Ты разве здесь живешь?
— А где же?
— А Григорьевы где живут?
— Какие Григорьевы?
— Цветоводы.
Алена говорила первое, что ей приходило в голову, а сама неотрывно смотрела на руки Валеры, из-под которых торчали кончики букв, сдвинутые близко друг к другу вместе со складками майки. Она уже сомневалась: правильно ли прочитала?
— Какие цветоводы? — спросил Валера.
— Григорьевы. Кактусы разводят. Ну, если не знаешь, извини.
Она вышла и быстро захлопнула за собой дверь. На майке Валеры
Куманина она прочла: «Вива, Пиночет». «Неужели я сама это придумала? Он же фашист — Пиночет. Как же можно? «Вива»... Алена досадовала на себя. Она прочла по памяти, после того, как Валера закрыл надпись руками, значит, могла ошибиться. Иногда в книжке написано одно, прочтешь слишком быстро — и получается совсем другое. По радио все время передают и в газете пишут о Чили. Неужели придумала? Но зачем он тогда закрыл надпись руками?
Марь Яна перехватила Алену на лестнице.
— Давыдова, ты что о себе думаешь? Если я тебя выгнала из класса, это не значит, что ты можешь уходить и с других уроков.
— Это — вам!
Алена достала из-за спины и протянула запечатанный конверт. Марь Яна взяла письмо, девчонка, громко топая и размахивая сумкой, побежала в класс.
Марь Яна распечатала письмо. На двойном листе, вырванном из тетрадки в клеточку, был нарисован кулак. У Марь Яны от неожиданности дрогнули пальцы. Она подумала, что Алена посылает этот кулак ей, но оказалось, что через нее — Куманину. Это было официальное уведомление о начале военных действий против Валеры Куманина.
Алена вспомнила существующую в этой школе в младших классах традицию. Ее начал искоренять еще старый директор, но так и не искоренил. Девчонки, второклашки и третьеклашки, выясняли между собой отношения своеобразно — на дуэлях.
323
Алена была заядлой дуэлянткой. Она долго оставалась маленькой, не росла. И ее дразнили «лилипуткой». Но всем, кто ее так называл, Алена посылала ультиматум: «Ты, презираемая Дылда,— писала она,— я рисую тебе кулак и вызываю на дуэль».
Дуэли происходили под лестницей. Обидчица и обиженная надевали рукавички на правые руки, затем по сигналу секундантов девчонки сходились и ударяли друг друга в лицо. Кто первый заплакал, тот проиграл. Часто такие дуэли заканчивались миром. Но Алена была непримирима, она дралась до своих или чужих слез.
— Какие они еще дети,— сказала Марь Яна, входя в учительскую.
Марь Яна решила: Алена, рисуя кулак, играет в детскую игру. Но и
тогда, и теперь, рисуя кулак, Алена не играла. Конечно, кулак — язык игры. Но Алена и книжки не любила читать, в которых от всех сложностей жизни оставался один язык игры. Под лестницей тоже было не просто. Она шла туда, собрав все душевные силы, чтобы не отступить, не зажмуриться, не заплакать. И тогда и теперь она все делала всерьез.
На следующей перемене Марь Яна нашла Алену в коридоре у питьевого бачка.
— Давыдова, ты знаешь, где живет Анна Федоровна?
— Знаю. В сороковом доме.
— Квартира двадцать семь.
— Квартиру я не знаю.
— Я тебе говорю — двадцать семь. Вот ключи.
— Зачем? Вы письмо мое прочли? Я не буду с ним учиться в одной школе. Он не имел права посылать письмо. У него знаете что на груди написано? Только никто не видит. Он хунта!
— Что? Кто он?
— Никто,— Алена отвернулась.
— Ну, ладно, Давыдова, потом поговорим. Сейчас нужно выпустить кошку.
— Кошку? — спросила Алена и, не выдержав серьезного тона, заулыбалась.
— Не улыбайся, я тебя прошу о серьезном деле. Анну Федоровну увезли в больницу. Медсестра занесла ключи, а у меня урок. Кошка второй день под замком, поняла? Хорошо, если там есть мыши, а если мышей нету?
— У меня тоже урок — физика.
— Я скажу, что послала тебя.
— А встреча с журналисткой когда будет?
— Завтра... На завтра перенесли. Вместо литературы будет.
— Только выпустить кошку, да?
Марь Яна привлекла к себе Алену, обняв за плечо как-то по-мужски, неумело, и тут же отстранила, почти оттолкнула.
— Иди, белая ворона, на голове корона, зовут ее Алена.
Алене было приятно, что Марь Яна знает ее стихи.
324
В последние дни снег опять начал таять. Во дворе большого серого дома лежали большие слежавшиеся серые сугробы.
Подъезд был, как все подъезды, в которых собираются по вечерам мальчишки. Под лестницей все побеленное пространство над головой — в черных пятнах от сгоревших спичек, а в одном месте кто-то приклеил окурок. Алена оглянулась по сторонам, достала из волос шпильку и процарапала по закопченной штукатурке: «Придурки — не гасите в потолок окурки», после этого быстро взбежала на третий этаж. Тут немного отдышалась, довольная собой, достала ключи. Одно доброе дело сделано. Можно приступать ко второму.
Странно было открывать дверь чужой квартиры. Да еще квартиры нелюбимой училки. Алена решила не входить. Повернув два раза ключ в замке, она приоткрыла дверь и негромко позвала кошку:
— Кис! Кис!
В коридоре появилась кошка. Алена распахнула дверь пошире. Кошка осталась на месте. Она была, может быть, и не с лишаями, но Рыба на всякий случай смазала все подозрительные места зеленкой. К тому же кошка была одноглазая и рыжая. В коридоре в настороженной позе стояло фантастическое зелено-рыжее животное. Оно смотрела на Алену большим зеленым глазом, который неистово светился, сужаясь и расширяясь.
— Иди! — сказала Алена.
Кошка ей понравилась. Она была прекрасно драная. Алена решила войти. То, что у Рыбы жила одноглазая, такая симпатичная кошка, перевернуло в Алене привычное представление об учительнице.
— Кис! Кис! — сказала девочка, входя и наклоняясь, чтобы погладить.
Кошка, сверкнув зеленым огоньком, метнулась в комнату. Алена вошла за ней и в комнату. Рыба жила в небольшой однокомнатной квартире. Бросилась в глаза белизна неубранной постели, стул, на котором стояли пузырьки с лекарствами.
— Выходи, кис, кис...— сказала Алена, оглядываясь.
Кошка, видимо, была под тахтой. Алена чувствовала себя немного воровкой. Ей сказали — выпустить кошку, а она воспользовалась тем, что оказалась здесь, жадно оглядывала стены, стол, книжные шкафы, пытаясь представить по тем вещам, которые попадали в поле зрения, что за человек их училка.
За окном было видно дерево. Против форточки на выставленной наружу дощечке качалась на ниточке пластмассовая баночка из-под плавленого сыра «Янтарь». Синицы одна за другой слетали с дерева, садились на край баночки и улетали. Кормушка была пуста. «Они привыкли,— поняла Алена.— А Рыба заболела, и некому насыпать корм».
За стеклами на книжных полках несколько фотографий: Толстой, Чехов, Гагарин... И рядом — летчик с приникшей к нему девочкой. Летчик в унтах, в распахнутой куртке, а девочка в белом платьице и в шлеме. Алена не сразу узнала в тоненькой, восторженно глядящей девочке Рыбу. Только увидев еще одну фотографию, на которой Анна
325
Федоровна в куртке и шлеме стояла на ступеньках пединститута (за спиной видна была вывеска), Алена поняла: «Да это Анна Федоровна в детстве и в молодости». С обеих фотографий смотрели веселые глаза, и в застывших движениях угадывалось что-то озорное, хорошее. «Как же она Рыбой стала?» — подумала Алена.
На книжных полках стояли толстые книги: словари, Шекспир, Шиллер, Данте, Гете. Все в красивых переплетах с золотым тиснением. Несколько книг лежало на полу под стулом. Две желтенькие книги на постели. Одна — на простыне, другая, раскрытая, была брошена страницами вниз на скомканное одеяло. «Книг много — вот что,— подумала Алена.— Даже спит с книгами».
Она взяла раскрытую книгу, иод ней лежал карандаш, а в книге были отчеркнуты слова: «Между прочим, я в шутку требовал от детей, чтобы они, повторяя за мной то, что я говорил, пристально смотрели на большой палец. Просто не верится, как помогает достижению великих целей соблюдение подобных мелочей. Одичавшая девочка, привыкшая целыми часами держать голову и туловище прямо и не глазеть по сторонам, только благодаря этому делает успехи в своем нравственном развитии...»
Слова «одичавшая девочка» были подчеркнуты дважды. «Это она про меня, это я — одичавшая девочка»,— подумала Алена, держа перед собой большой палец, пытаясь сосредоточить на нем все свое внимание. Но не сосредоточилась, а огорчилась, даже обиделась на Рыбу. Алена посмотрела, кто автор: какой-то Иоганн Генрих Пе- сталоцци, из работ 1791 —1798 гг. «Педагогический опыт в Станце». Два имени: Иоганн, Генрих, а какие-то глупости пишет — сосредоточить внимание на большом пальце. Она посмотрела, что он еще пишет. Ей попались отчеркнутые слова: «Дорогой друг, на детей мои пощечины не могли произвести дурного впечатления, потому что целые дни я проводил среди них, бескорыстно привязанный к ним, и жертвовал собой для них».
«Ничего себе, «дорогой друг» — пощечинами советует учить молодое поколение». О Рыбе с изумлением подумала: «Во как разозлилась на нас — про пощечины читает».
Алена положила книжку. Она решила больше не подглядывать, как живет Рыба. Расстегнув пальто, Алена опустилась на колени, заглянула под тахту. Неистовый зеленый глаз светился в темной глубине. Кошка зажмуривалась, надеясь, наверное, что если она не будет видеть Алену, то и Алена ее не увидит. И затем снова открывала глаз, смотрела на девочку в упор, неотрывно.
— Выходи, дура,— сказала Алена.
Кошка не выходила. Около тахты стояли меховые домашние туфли. Алена взяла одну туфлю, послала носком вперед под тахту. Кошка, вытянувшись, метнулась вдоль стены. Алена пустила вторую туфлю, на этот раз менее удачно. Ей стало жарко. Она сняла шапку. Заглядывая под тахту, Алена оказалась на четвереньках. «Хорошо бы сюда собаку, сразу бы выскочила».
327
— Гав! — сказала сердито Алена.— Гав! Гав! Гав!
Она отпрыгнула назад и принялась лаять, как умела, и трясти рыжей челочкой. При этом она подпрыгивала, изображая разъяренного пса.
Кошка отделилась от стены и подползла ближе. Ее заинтересовали прыжки Алены. Девочка устала лаять, села на пол. Кошка смотрела из-под тахты, словно бы ждала, что будет дальше. Алена протянула руку, кошка смотрела неотрывно и не делала попытки убежать. Алена схватила ее, но вытащить из-под тахты не смогла. Издав сердитое мяуканье, больше похожее на хриплое карканье, и оцарапав девочку, кошка вырвалась и опять забилась под тахту в дальний угол.
— Что же ты такая подлая? — обиженно сказала Алена, разглядывая царапины.— Ты думаешь, если ты кошка, тебе все можно? Не надейся. Мяукать хоть бы научилась. Где у вас зеленка?
Кошка, естественно, ответить не могла.
Через час после того, как Алена получила свое кошачье поручение, в учительской раздался звонок.
— Это очень важно, понимаете? Это по поводу Анны Федоровны.
Учитель черчения (он взял трубку) сходил за Марь Яной в класс.
Она прибежала встревоженная, запыхавшаяся.
— Да!
— Марь Яна, она не уходит.
— Что? Кто это говорит?
— Кошка. Она не уходит. Я не знаю, что делать.
— Здравствуй, кошка,— сказала Марь Яна.— Ты откуда звонишь?
— Отсюда. Она не уходит, понимаете? Она не хочет уходить, я не могу ее достать. Я уже вся исцарапанная. Это знаете какая кошка? Это не кошка, а пантера какая-то бешеная.
— Ладно, кошка, закрой квартиру и приходи сюда.
— Ее нельзя закрывать. Ей есть нечего. В холодильнике ничего нет. В морозилке пельмени только. Можно я их сварю?
— Зачем?
— Ну, кошке же.
— Кошки едят пельмени сырыми. Разломи и дай.
— Они холодные. Вы не представляете, какие они холодные. Из морозилки же...
— Закрывай квартиру и приходи сюда. Я сама ее потом выпущу.
— Вы ее не выпустите, вы не знаете эту кошку. Ну Марь Яна, можно я сварю? Она голодная.
— Вари,— сказала учительница. Она повесила трубку, и, пока стояла у телефона, улыбка была на ее лице.
Алена принялась хозяйничать на кухне. Услышав запах пельменей, кошка вылезла из-под тахты и появилась в дверях кухни.
328
— Сейчас,— сказала Алена все еще сердитым голосом,- остынут. Она вынимала пельмени из кастрюли и раскладывала в рядок на
газете, разостланной на подоконнике. Когда выложила все, стояла, дула на пельмени, глядя искоса на кошку.
— Сейчас, хоть ты и подлая.
Неожиданно в дверь позвонили. Пришла Раиса Русакова.
— Привет! — сказала она, не глядя на Алену, а глядя на кошку, занявшую позицию в коридоре, как перед приходом Алены.
— Привет! Ты откуда взялась?
Но Раиса не могла отвести глаз от кошки.
— Это она? Ух ты, уродина! — с восхищением сказала она. Кошка вдруг двинулась к Раисе и, подойдя совсем близко, издала
хриплый, скрипучий вопль.
— Чует! Я ей рыбу принесла. По дороге в кулинарии купила. Она достала из портфеля сверток, положила на пол. Кошка
метнулась к свертку, принялась жадно драть когтями бумагу.
— Как ты здесь оказалась? — опять спросила Алена.
— Марь Яна сказала. Сейчас Нинка Лагутина придет. Куманин сказал: «Записались в общество защиты животных».
Они стояли, смотрели. Кошка, по-уличному выпуская когти, рвала бумагу и ела рыбу.
— Во жрет, уродина! — опять с восхищением сказала Раиса.— Она за рыбой куда хочешь пойдет.
— Не надо, пусть дома ест. Я думаю, она не хотела уходить, потому что она сейчас не настоящего цвета. У животных знаешь какое значение имеет окрас? Давай лучше будем сюда ей рыбу приносить, пока...— Она хотела сказать: «Пока Рыба не выздоровеет». Но получалось глупо: «Рыбу приносить, пока Рыба...» И Алена сказала: — Пока Ан Федоровна не выздоровеет.
Позвонила и просунулась в дверь, с любопытством поводя глазами, Нинка Лагутина.
— Это я, тетки.— Она присела на корточки перед кошкой.— Голодная, да? Можно ее погладить?
— Хоть сто поцелуев,— сказала Алена.
В классе в этом году девчонкам нравилось называть друг друга тетками: «Привет, тетки!», «Как жизнь, тетки?» И бытовали две расхожие фразы: «Хоть сто поцелуев» и «Хоть в трубу лезь». Одна для хорошего настроения, другая для плохого. Сейчас у девчонок было хорошее настроение: «Хоть сто поцелуев».
Глава седьмая
На английском Алену вызвали, она получила четверку и села вполне удовлетворенная. Теперь можно заняться чем-нибудь более интересным. Алена достала сборничек стихов Беллы Ахмадулиной. Она взяла у Ляльки на несколько дней и хотела кое-что переписать.
329
Прозвенел звонок, а она все сидела, переписывала. Ребята потянулись из класса в кабинет химии. Раиса Русакова сказала: «Пойдем, хватит». Алена ответила «сейчас» и продолжала переписывать. Ее поразили стихи о дружбе, посвященные Андрею Вознесенскому. Его стихи Алена любила, хорошо знала и называла поэта «Андрюша Вознесенский» или просто «Андрюша».
«Все остальное ждет нас впереди. Да будем мы к своим друзьям пристрастны! Да будем думать, что они прекрасны! Терять их страшно, бог не приведи».
Девять лет учителя им говорили, что к друзьям нельзя относиться пристрастно, что надо быть принципиальными независимо от того, кто перед тобой, друг или недруг. И вдруг все это оказывается не так. Наверное, Беллу Ахмадулину тоже учили в школе такой принципиальности, и она потому и написала теперь: «Да будем мы к своим друзьям пристрастны! Да будем думать, что они прекрасны!». Алене нравились эти стихи так, будто она сама их написала. Смутно она догадывалась: речь идет о высшем смысле дружбы, которая не отрицает школьной принципиальности и требовательности. Но додумать эту мысль до конца она не успела, торопилась переписывать.
Вернулся зачем-то Валера Куманин. Скорей бы закончить школу, чтобы не видеть его противную сладкую рожу.
Валера закрыл дверь в класс и стоял, держась за ручку, смотрел на Алену, словно ждал, когда она закончит. Наверное, хочет поговорить о письме, в котором она ему кулак нарисовала. Очень нужно. Он для нее не существует. Нет его, и все. Не видит она его в упор.
С той стороны подергали, но Валера держал крепко, только после первого рывка дверь слегка приоткрылась, а потом не открывалась совсем.
— Чего надо? Уборка! — крикнул Валера. Затем взял стул, закрыл им дверь, подергал: крепко ли? Получилось крепко.
— Открой! Ты что? — сказала Алена.
— Кажется, здесь кто-то есть, а я и не заметил. Кактусы собираешь, да? Колючки? А они очень колются?
Он как-то странно засмеялся. Не захихикал, по своему обыкновению, а именно засмеялся, зло, вызывающе. Алена торопливо дописывала последние строчки. Валера подошел совсем близко, наклонился, заглядывая через плечо...
«Ударь в меня, как в бубен, не жалей, озноб, я вся твоя! Не жить нам розно! Я — балерина музыки твоей! Щенок озябший твоего мороза!»
— Отойди,— сказала Алена, отпихивая его.— Открой дверь!
— Стишки про животных?
— Про таких, как ты.
— Люби меня, как я тебя? Ну, люби меня!
330
Валера расстегнул рывком ворот рубашки и начал кривляться перед девчонкой, почесывая голую грудь, как обезьяна.
— Ты что?
— Товарищ, давайте жениться!
— Ты что говоришь?
— Цитата из классики, дура! «Оптимистическая трагедия». Оптимистическая — это когда человеку хорошо.
Валера нахально смеялся ей в лицо. Он просто ржал. Таким Алена никогда его не видела.
— Цитата из классики, дура. Можешь проверить по телеку. Всеволод Вишневский, «Оптимистическая трагедия».
Он наслаждался своим хамством, поскольку чувствовал себя защищенным цитатой, именем Всеволода Вишневского.
Вообще Валера был уверен в своей защищенности со всех сторон. В газетах он любил читать сообщения о самолетах, потерпевших аварию. Он думал, был почти уверен, что, если когда-нибудь станет падать самолет, в котором он будет лететь, все разобьются, а он не разобьется. Он успеет занять место в хвосте самолета. Растолкает всех и первым запрется в уборной, в самом безопасном месте. Он знает, куда бежать при любой опасности. В мыслях своих, откровенно подловатых, Валера всегда был запертым в уборной. Сейчас он вырвался оттуда и кривлялся перед девчонкой.
— Концерт по телеку видела? Скажи, дает Доронина про березы? — Он пропел: — «Так и хочется к телу прижать обнаженные груди берез».
Кто-то опять начал дергать дверь.
— Уборка! — зло крикнул Валера.
Алена поднялась, чтобы идти. Он толкнул ее в грудь, она села. Алена тут же поднялась снова, на этот раз решительно. И тогда Валера с силой, в которой выразилось все зло, накопившееся против рыжей девчонки, схватил ее за грудь и сжал.
— Ой!
Алена ударила его тетрадкой в лицо.
— Ты что сделал?
На глазах у Алены выступили слезы.
— Что я сделал? Что я сделал?
— Схватил.
— За что я тебя схватил?
— Подлец!
— За что я тебя схватил?
— Узнаешь.
— Ну, скажи, за что я тебя схватил? Стесняешься, да?
Он издевался над ее чистотой и нежностью. Он был уверен, что она не скажет. На улице Валера проделызал это еще в шестом классе. Он прятался в арке старого дома и, когда проходили мимо девчонки, которых он не знал и которые его не знали, выскакивал и хватал какую-нибудь за грудь. Правда, иногда получал портфелем по голове,
331
но ни одна не пожаловалась и не отвела его в детскую комнату милиции.
Валера больше не держал Алену. Он открыл дверь, но за дверью никого не было, и Валера, выйдя первым в коридор, глядя воровато по сторонам, сделал выпад назад и так же сильно и больно схватил Алену за другую грудь. Алена заплакала, побежала по коридору. В конце коридора была приоткрыта дверь в кладовку, где техничка держала ведра для уборки, тряпки, швабры. По коридору шли мальчишки и девчонки из 9 «А», Алена забежала в кладовку, чтобы не встретиться с ними, чтобы они не видели, как она плачет.
Прозвенел звонок. Алена осталась в кладовке. Здесь было пыльно, темно, лежала свернутая дорожка, висели грязные тряпки. Она тоже теперь грязная. Она уже никогда не будет такой чистой, как раньше. Валера ее опоганил. Надо было кусаться, бросать в него книжки, тетради, не подпускать близко. А она сидела, переписывала стихи и ждала, когда он заглянет к ней в тетрадку и ляжет прямо на плечо. И плечо теперь грязное. Алена ударила себя кулачком по плечу и не почувствовала боли. Боль была в сердце, и груди болели не самой болью, а памятью о боли. Пальцы Валеры прошли сквозь одежду. Хотелось скорее искупаться, смыть следы пальцев.
Алена пошарила в сумке, достала половинку голубой плиточки, швырнула ее, не глядя, в угол. Плиточка звякнула о ведро и упала неслышно на тряпки. Чистый голубой цвет — это больше не ее цвет. Она больше не имеет на него права. Теперь ей все равно.
После уроков Марь Яна увидела Алену, хотела подойти к ней, но девчонка убежала, толкнув Мишку Зуева так, что тот ударился в стену.
— Ты что? Во! — крикнул он и кинулся за ней.
— Зуев! — позвала учительница.
Он остановился, обернулся к Марь Яне.
— Ты куда бежишь?
— Никуда. Домой.
Высыпавшие из класса ребята заслонили Алену, которая убегала все дальше и была уже в конце коридора.
— Ну иди! До свидания,— сказала Марь Яна и с озабоченным видом зашагала в учительскую.
Мишка Зуев недоуменно поднял плечи к ушам и так остался стоять.
— До свиданья! Во!
В учительской Марь Яна задержалась, ожидая, когда освободится телефон. Потом, когда освободился, пыталась дозвониться в ателье, где шили ей платье. Набирала номер и, слушая короткие гудки, дольше чем нужно держала трубку около уха.
— Не дозвонилась? — спросила завуч Нина Алексеевна, дымящая, по обыкновению, за своим столом и разгоняющая дым рукой, чтобы лучше видеть Марь Яну.
— Да.
332
— Ты что?
— Давыдова моя... Что-то с ней происходит. Сейчас толкнула Зуева, убежала. Ну что с ней делать?
— Вызвать отца, чтобы всыпал ей ремня!
— Да я не об этом. Это самая моя любимая девчонка. Стихи пишет, все время пытается мне их читать. А что я понимаю в стихах. Говорит: «Вы любите Исикаву Токубоку?» Ты любишь Исикаву Токубоку?
— А кто это?
— Японский поэт. Анна Федоровна дала мне почитать этого Исикаву Токубоку. Интересный поэт, тонкий такой, знаешь, как папиросная бумага. Все у него прозрачно. Но к Анне Федоровне она не подходит, не спрашивает: «Вы любите Исикаву Токубоку?» А учительница литературы должна располагать...
Марь Яна замолчала, посмотрела на завуча. Нина Алексеевна перестала курить, держала папиросу внизу под столом в вытянутой руке, чтобы дым не ел глаза.
— Ну, знаешь ли, все эти тонкости: любите не любите...
— Надо кому-нибудь проведать ее в больнице,— сказала Марь Яна.— Завтра местком соберем, выделим денег на апельсины.
Она была заместителем председателя месткома. Нина Алексеевна затянулась, снова опустила руку под стол.
— Я схожу. Мы с ней вдвоем остались... Варенья банку отнесу. У меня есть.
Они заговорили об Анне Федоровне. Марь Яна недолюбливала учительницу за высокомерное отношение к тем, кто не следил за новинками литературы, за позу мученицы.
Дверь учительской заскрипела, тихонько приоткрылась, и Марь Яна увидела родные черные глаза и румяные щечки с ямочками. В дверях стояла ее младшая сестра Катька. В одной руке она держала белую пушистую шапку, другой смущенно открывала и закрывала «молнию» на куртке.
— Кто к нам пришел! — радостно сказала Марь Яна.— Ну заходи, заходи!
Но Катька поманила сестру в коридор. Она только в прошлом году закончила школу и, как и в школьные годы, робела заходить в учительскую.
— Что-нибудь случилось? — спросила Марь Яна в коридоре.— Ты почему не на работе?
— Я уволилась.
— Как уволилась?
Они шли по коридору: впереди стройная, с распущенными по плечам темными волосами девушка; за ней — приземистая, полная женщина. Катька заглядывала в открытые двери классов. Найдя пустой, зашла и сразу почувствовала себя уверенней.
— Что я, должна всю жизнь машинисткой работать? У меня спина искривляется.
334
— Но что-нибудь надо делать. Ты уже со второго места уходишь. И не посоветовалась. Катька, ну что это такое?
— Я с Игорем в Бакуриани еду... Поговори с отцом. Мать согласна.
— Как в Бакуриани? У тебя же соревнования?
— Я там тренироваться буду.
— С горнолыжниками?
— Да.
— Как с горнолыжниками? Ты же в гонке?
— Нэ пэрспэктива! У меня конституция не та, понятно? Что я, с такой конституцией могу догнать Галину Кулакову? А горные лыжи сами едут, аж ветер свистит. Смелость только нужна.
— Ну, смелости у тебя хватает. И ветер у тебя в голове свистит. Катька, когда ты поумнеешь?
— Ну Игорь зовет, понимаешь? И тренер согласен. У них одна девочка заболела. Поговори с отцом.
— Ни за что. Чтоб я родную сестру своими руками толкнула...
— Если ты мне родная сестра, то поговоришь с отцом, понятно? Это не мне нужно, а ему. Я все равно уеду.
— Не понятно,— сказала Марь Яна.
— Не понятно и не надо. Меня Игорь зовет, понятно?
Катька смотрела на Марь Яну строго, требовательно, щеки капризно округлились, ямочки на них пропали.
— Чего надулась, как мышь на крупу? Ну улыбнись, горнолыжница.
И едва Катька улыбнулась, Марь Яна поймала обе ямочки пальцами. Сестры до сих пор играли в детскую игру, придуманную отцом: «А на щеках ямочки — от пальчиков мамочки»,— говорил он.
— А этот, твой Игорь, понимает, куда он тебя зовет?
— Он понимает. И я понимаю. Поговори, а?
335
— Работать кто будет? Не стала поступать в институт, так работать надо.
— Я буду. Я учебники с собой возьму. Буду готовиться в пед, как ты.
Марь Яна внимательно посмотрела в черные, улыбчивые глаза сестры, погрозила пальцем.
— Катька!
И обе рассмеялись.
— Ну правда, буду готовиться.
— Я тебе напишу план.
— Хорошо,— согласилась Катька.— А это чей класс? Это не твой класс?
— Нет,— Марь Яна оглянулась по сторонам.— Нет.
— Ну, я пошла? — Катька на мгновение прижалась к сестре.— Ты у меня замечательная сестренка. И хорошая училка. Все понимаешь. Правда, мне девчонки из твоего класса говорили.
— Что ты врешь, подхалимка?
— Ну, не говорили, я сама знаю. Я уверена.
— Вместе пойдем. Подожди меня внизу.
Марь Яна торопливым шагом зашла в учительскую и направилась сразу за шкафы, где висела одежда.
— Что-нибудь случилось? — с тревогой спросила Нина Алексеевна.
— Конечно, случилось. Катька — это вторая Давыдова. Если не первая! Бросила работу. Я с таким трудом устроила ее в эту чертову фирму. Прямо не успеваешь поворачиваться: в школе — Давыдова, дома — Катька. Не жизнь, а малина.
Но проговорила это Марь Яна не озабоченно, почти весело, а последние слова и вовсе с улыбкой. Она понимала, что «подлая» Катька называла ее «замечательной сестренкой и хорошей училкой», чтобы подольститься, но все равно было приятно. И приятно было думать, что она нужна Катьке и нужна Давыдовой, всей этой «ну- мидийской коннице», с которой только она одна и может справиться.
Глава восьмая
Вместе с директором и Марь Яной в класс вошла низенькая блондинка в больших очках. Она была в джинсах фирма, в замшевой безрукавке, полы которой свисали мелко нарезанной лапшой. В талии безрукавку перехватывал широкий ремень. Ребята изучали одежду журналистки, она смотрела сквозь свои большие очки на ребят.
Корреспондентку представил директор. Он говорил, косясь на нее и на ребят своим пестрым глазом. Журналистка некоторое время с удивлением поглядывала на директора, пока не разобралась, в чем дело.
Андрей Николаевич слегка раскачивался во время своего краткого
336
слова, ставя точки, вопросительные и восклицательные знаки не только интонацией голоса, но и всей фигурой. Он то выпрямлялся, то слегка пригибался к столу, чтобы коснуться крышки стола. Он был очень высок.
Директор извинился, что не может присутствовать при дальнейшем разговоре — дела, попрощался, стрельнув в ребят и в учительницу озабоченной крапинкой своего зрачка, и ушел.
После директора несколько слов сказала Марь Яна. Она призывала ребят быть откровенными.
Лидия Князева стояла у стола и улыбалась ребятам. Всем своим видом, и особенно взглядом неправдоподобно увеличенных глаз, она давала понять, что заранее находится на их стороне. Слова Марь Яны она сопровождала вежливым, но в то же время нетерпеливым кивком головы, словно хотела сказать: «Да кончай ты, промокашка, без тебя разберемся». Голова Лидии Князевой при ее маленьком росте казалась непропорционально большой, видимо, из-за очков и прически. Волосы она носила крылом и все время поправляла их левой рукой. Нетерпение угадывалось в каждом жесте, и при последних словах Марь Яны журналистка уже смотрела не на ребят, а на учительницу, и в повороте ее головы было: «Да когда же ты уйдешь?»
Марь Яна кончила говорить и присела, потеснив Люду Попову и Люду Стрижеву. Лидия Князева долгим взглядом посмотрела на учительницу, виновато улыбнулась.
— Марина Яновна, извините, я хотела бы сначала поговорить с ребятами, так сказать, наедине.— И еще раз повторила: — Извините!
Учительница встала.
— Да, пожалуйста, я думала...— Неловкость была в каждом ее движении.
— Извините,— в третий раз повторила Лидия Князева, но в голосе было уже не извинение, а только нетерпение.
Марь Яна заторопилась, захлопнула за собой дверь. Получилось
337
неловко, будто ее выставили из класса. А Лидия Князева ничего не почувствовала, вернее, эта неловкость входила в ее планы, надо было завоевать ребят, в очень короткое время приобрести авторитет. И она его завоевала очень просто, унизила их учительницу, и в ее лице всех учителей школы, дала сразу понять мальчишкам и девчонкам, что она не собирается считаться с мнением учителей.
Каждый взрослый человек, который приходит в школу, становится на день, на час учителем. Заняла место учителя на один урок и Лидия Князева. И сразу совершила грубую ошибку, впрочем, довольно распространенную и среди учителей. На подобном заигрывании легче всего стать хорошей. Если при учительнице можно обсуждать других учителей, то она «тетка, что надо», «своя в доску». Лидия Князева сходу решила стать «своей в доску». Она была еще достаточно молода, помнила свои школьные годы, «зануд-промокашек», как она говорила в редакции, и считала, что легко разговорит ребят.
— Вас уже проинструктировали, как мне отвечать?
— Да.
— Ну и как же?
— Молча.
В разных углах класса сдержанно засмеялись. Ответ был из школьного жаргона, из серии «Зачем?» — «За огурцами». «Молча» — означало не вызов, не неприязнь, а намек на то, что директор и учителя хотели бы, чтобы мальчишки и девчонки из 9-го «Великолепного» разговаривали с журналисткой «молча».
Она оценила юмор, посмеялась вместе с ребятами. Контакт установился. Лидия Князева задвинула учительский стул, села за парту на свободное место рядом с Юркой Лютиковым.
Ребята сгрудились около парты, теснились по три, четыре человека на одной скамье.
— Только тихо! — сказала Лидия Князева.— А то меня вместе с вами выгонят отсюда.
Шутка была не бог весть какая, но все опять засмеялись, всем нравилась «своя в доску» журналистка. Лидия Князева была довольна тем, как у нее развиваются отношения с ребятами. Она не подозревала, что действует по сценарию плохих педагогов, с которыми приехала бороться и которые действуют так же. «Вы хорошие ребята, я хорошая тетка. Будем понимать друг друга, все будет хорошо». Отпуская раньше времени свой класс, такая «тетка» говорит: «Только тихо!» Лидия Князева тоже не обошлась без этой фразы.
— Значит, договорились — тихо! Давайте по порядку. Мы получили ваше письмо в редакции и подумали, что ребятам надо помочь. Она что, действительно... такая зануда?
— Еще какая!
— «Пингвин, прячущий жирное тело в утесах — это интеллигенция»,— передразнила Рыбу Лялька. Получилось смешно, и все возбужденно засмеялись.
— Как ее зовут по-настоящему? — спросила Лидия Князева.
338
— Как по-настоящему? Во!
— Ну, у каждой учительницы есть имя, которое она получает от рождения. В школе оно не имеет цены. В школе настоящим считается другое имя, которое дают учительнице ученики.
— А-а-а! — первым сориентировался Валера Куманин.— Рыба! Мы ее зовем Рыбой.
— Она сейчас в больнице,— сказала Алена.
— Да, я знаю. Я потом постараюсь побывать у нее. Но это дела не меняет. Рыба... Если бы вы написали, что ее зовут Рыбой, было бы сразу понятнее... Кличка многое объясняет. Кличка — это как знак качества на человеке.
— У нас есть еще Велосипед.
— И Сюра,— сказала Маржалета.— Серафима Юрьевна, историческая училка.
— А ты знаешь,— сказала Алена, глядя в лицо хмыкающей Мар- жалеты,— ты знаешь, что Анна Федоровна, Зоя Павловна и Серафима Юрьевна могут на тебя подать в суд и ты ответишь?
— За что?
— «Основы государства и права» учила? За унижение достоинства личности. Статья 127. И вообще я против письма. Мы сами виноваты.
— Да-вы-до-ва, стряхни пыль с ушей, баржа тонет,— сказал Валера уже не на школьном, а на уличном жаргоне. Он очень на нее разозлился.
— А ты! А ты! — Алена не знала, что ему сказать.— А ты — иди отсюда!
— Ой, Давыдова, ну ты в самом деле,— рассудительно проговорила Нинка Лагутина.
— А ты не знаешь, не лезь. Пусть он уйдет отсюда! Иди отсюда! — крикнула Алена нахально улыбающемуся Валере и швырнула ему в лицо тетрадку. Он отбил ее рукой, окрысился.
— Хочешь схлопотать?
— Хочу! — Она встала перед ним.
— Давыдова, сядь,— строго проговорила Раиса Русакова.
— А пусть он уйдет.
— С какой стати он должен уходить? — заступилась за Валеру Маржалета.— Тоже мне адвокат. Не знаю я такой статьи.
— Тогда я уйду.
— Давыдова, успокойся,— сказала Лялька Киселева.
— А ты знаешь, нужно мне успокоиться? Знаешь?
Алена схватила сумку с книгами и вышла. Тетрадка осталась лежать на полу. Раиса, помедлив, подняла ее, положила в свой портфель.
Ночью Алена внезапно проснулась. Ложась спать, она думала о том, что надо что-то сделать, отомстить Валере Куманину, надо изменить всю жизнь. Надо жить иначе. И это беспокойство ее разбудило. Тараща глаза в темноте, Алена пробралась к столу, зажгла
339
настольную лампу, некоторое время сидела зажмурившись, привыкая к яркому свету, потом достала из стола чистую тетрадь, написала на обложке: «Дневник моей жизни». Посидела еще некоторое время и вывела на первом чистом листе: «Лирический дневник А. Давыдовой. В стихах». Последнее слово она поставила отдельно и дважды его подчеркнула. После этого Алена снова легла спать и до самого утра уже не просыпалась.
Утром Алена встала с трудом, в школу пришла невыспавшейся. Надо было надевать ботинки, брать лыжи и идти сдавать нормы ГТО. Учитель физкультуры стоял в дверях спортзала, поторапливал.
Алена надела ботинки, взяла лыжи и палки и спряталась в небольшой тесной комнате, где лежали маты и всякий спортинвентарь. Алена села на маты, обняла лыжи и прижалась к ним щекой. «Там и снегу-то почти не осталось. Весна уже, какие-то нормы, лыжи»,— подумала она. Алюминиевые палки, к которым Алена прижималась щекой, холодили лицо. Ей уже не хотелось спать, а хотелось грустить. «Ох!» — вздохнула она.
Затих в коридоре грохот лыж и стук ботинок, которые всем девчонкам были велики. Алена выбралась из своего укрытия, прошлась по пустому залу. Гулко, размеренно звучали ее шаги. Гулкость шагов отозвалась в ней ритмом. Возникло настроение для стихов. Слова и образы подступали к горлу, оставалось их только выкрикнуть. Алене хотелось впервые в жизни написать что-нибудь откровеннее...
«Передо мной бумажный лист, где каждый суффикс, словно свист, ломает строй стихов... каких-то, строй стихов... веселых, строй стихов... неизвестно каких... Надо придумать...»
В первой строфе она со свистом всех суффиксов поломает строй стихов веселых и напишет что-нибудь грустное-грустное, тревожносладкое. Ей хотелось доказать Валере Куманину, что он не сможет ее больше оскорбить. Она защитится от него откровенными стихами. Ей хотелось жертвенного признания, чтобы все ахнули и испугались, какая она отчаянная, не боится, что над ней будут смеяться, при всех признается в любви. Интересно, как Сережка воспримет: испугается вместе со всеми или будет сидеть с открытым от удивления ртом.
На всех этажах шли уроки, ее одноклассники бегали по двору на лыжах, а Алена в спортзале сочиняла свои первые, по-настоящему откровенные стихи. Она подставляла себя под удары слов с такой же жаждой боли, как Ахмадулина: «Ударь в меня, как в бубен, не жалей...» Но и этого ей казалось мало. Она готова была, как Сергей Есенин, «рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души». Сердцу было больно и сладко придумывать тоскливые, разрывающие душу слова. И повторять их было больно и еще более сладко. Она читала вслух готовые строчки и вдохновенно ловила открытым ртом возвращающиеся к ней из всех углов спортзала гулкие слова, ставшие эхом мысли и чувства.
На истории и на геометрии Алена продолжала сочинять свое новое, очень важное стихотворение. Доказывала у доски теорему
340
и даже четверку получила, а в голове и во всем теле невидимый метроном отбивал размеренные доли чувства, заставляя жить в ритме стихотворения, заставляя подыскивать недостающие слова и рифмы. На перемене пришла последняя рифма, и Алена почувствовала, как во всем теле и в сознании наступила тишина.
На уроке географии Алена сидела обессиленная, как после трудной физической работы. Она отдыхала, почти не слушала, что говорила Марь Яна, но смотрела на нее преданными глазами.
Открылась дверь и заглянула мать Маржалеты. Эта полная женщина имела нормальное имя и отчество — Надежда Семеновна. Но она любила произносить имена с иностранным шиком, вместо Александры — «Александрин», вместо Нюры или Анны — «Аннэт». Дочь Маргариту звала Маржалетой. И ее соответственно все эти Александрины и Аннэты звали Надиной.
Надина Семеновна сначала заглянула в класс, потом поманила пальцем дочь и только после этого посмотрела на учительницу.
— Марина Яночка, извините!
Та хмуро покосилась на дверь, но ничего не сказала, только склонила голову к журналу, что могло означать и разрешение и отказ. Крупная, в мать, Маржалета вышла в коридор. На груди у этой рано оформившейся девицы болтался поверх школьной формы замочек на цепочке — такой же крик моды, как бритвочка. Бритвочка у нее тоже была. Маржалета как-то надела ее под платье с большим вырезом. Блестящая бритвочка так и легла в ложбинку.
Ребята пришли в жуткий восторг. «Маржалета, обрежешь»,— кричали они. Пришлось снять.
Вернулась Маржалета. Замочек она держала в руке. Шла по проходу, сердито наматывала на палец цепочку. Близкая к школе родительница, узнав о приезде журналистки, приходила каждый день следом за дочерью в школу, ловила в коридоре, вызывала с уроков, чтобы привести в соответствующий школьный вид.
Надину Семеновну выбрали председателем родительского комитета еще при старом директоре и с тех пор выбирали каждый год. Она любила общественную школьную работу, отдавала ей много времени. Через мужа Надина Семеновна доставала, когда требовалось, автобусы для экскурсий, грузовые автомобили, стройматериалы для ремонта школы.
— Давыдова, что ты на меня смотришь? — спросила Марь Яна.— Хочешь отвечать? Иди!
— Нет! Я нечаянно.
В классе засмеялись.
— Иди, иди, Давыдова.
Алена вздохнула и пошла к доске. Рассказывать надо было об экономике ФРГ. Алена подошла к карте. Но в это время дверь снова открылась и показалась высокая прическа Надины Семеновны.
— Марина Яночка, еще на одну минуточку мою непокорную... Маржалета!
341
В голосе прозвучали наставительные нотки. Дочь ушла, видимо не дослушав наставления родительницы.
— Мама, я в школе,— сказала Маржалета.
— Я тоже в школе,— с достоинством ответила Надина Семеновна.
— Не пойду.
Массивная фигура Надины Семеновны поторчала некоторое время в проеме, и дверь захлопнулась.
— Продолжим,— сказала Марь Яна, поднимаясь со стула.
Она взяла свой стул, поднесла к двери и просунула в дверную ручку. В классе засмеялись.
— Не вижу ничего смешного. Рассказывай, Давыдова. Мы слушаем.
Алена опять вздохнула. Трудно было перестроиться на уроки. Сережка Жуков, как обычно, не слушал и даже не замечал того, что происходило в классе. Перед ним на столе лежала книга, он сидел, уткнувшись в нее.
— Сейчас бы прочитать хорошую книгу,— сказала Алена, имея в виду Сережку, но он не услышал ее.
— Что? — спросила учительница.
— Марь Яна, можно я прочитаю стихи?
— Об экономике ФРГ?
— Нет.
— Никаких стихов, Давыдова. У нас урок географии. Что с тобой? Не знаешь урока?
— Знаю,— сказала очень серьезно Алена, и было видно: знает.
В классе зашумели: «Пусть прочитает», «Читай, Давыдова!».
— Или лучше тогда отпустите меня с урока.
Она сказала это без вызова, без озорства, устало и печально.
Марь Яна внимательно посмотрела на девчонку. На какую-то долю секунды увидела на месте Алены Катьку и сразу поняла по интонации, что надо разрешить. Подумала с нежностью к своей младшей сестренке и к Алене: «Господи, с этими девчонками так легко наломать дров, так легко не услышать, что девчоночье сердечко бьется не в механическом, а в человеческом ритме».
— Ну, хорошо, Давыдова, читай, если иначе нельзя. Тиха-а! Тиха-al В конце концов не каждый день нам предлагают стихи.
— «Признание в одиночестве».
Все притихли. Было что-то необычное в том, как озаглавила свои стихи Алена. Все ждали, что она прочтет.
— Жуков читает книжку,— сказала Алена.
— Жуков, убери книгу. Давыдова хочет прочитать свои стихи. Послушай и ты, пожалуйста.
— Да пусть читает,— сказал Сережа, нехотя пряча книгу в стол.
И наступила тишина. Сердце в груди Алены гулко билось, все
громче, громче...
— «Передо мной бумажный лист трещит от чувств моих духовных, где каждый суффикс, словно свист, ломает строй стихов не¬
342
ровных. Чудак, он верит пустоте, которую я лью отныне, чтобы забыться вдалеке и жить одной в ночной пустыне, куда я часто ухожу, куя в груди своей металл, и я в себе враз нахожу чудесный мой сентиментал».
Хохот взорвал тишину недоумения, подбросил ребят над скамьями. Некоторые засучили ногами от удовольствия. Все были восхищены Аленой, тем, как она ловко сумела притвориться серьезной и взволнованной.
— Сентиментал! — восторженно всхлипывал Юрка Лютиков.
— Коровья тоска! Есть такая порода коров — сентиментальская. Честно!
— Симментальская, дурак!
— Лирика симментальской коровы,— сказал Валера.— Хи-хи!
— Га-га!
Алена и сама смеялась. Она не понимала, как это произошло. Зачем они смеются? Зачем она сама смеется? Она писала и прочла им серьезные стихи. Она высказала в них всю муку, которую невозможно нести в себе молча. Алене было смешно до слез. Она хохотала и вытирала слезы.
— Хватит, Давыдова,— сказала учительница.— Пойди погуляй.
— Я больше не буду.
Вместо признания получилась хулиганская выходка. Она сама предала свое признание и призвание — слишком долго ерничала, заигралась, зарифмовалась. Никто не заметил, что в этом стихотворении совсем почти не было нарочито уродливых поэтических фраз, а какие были, пришли в стихи сами. «Но ведь я чувствовала, чувствовала,— подумала Алена.— Мне же по-настоящему больно было и сладко от каждого слова. Почему же они не почувствовали?»
Лидия Князева пришла к концу уроков, чтобы встретиться с Аленой Давыдовой. Они вместе вышли на улицу. Пригревало солнышко, снег подтаивал, оседал. Огромные глыбы сбрасывали с крыш на тротуар. Они лежали вперемешку с кусками льда.
Алена любила это время, когда все начинало таять и с крыш сбрасывали снег. С их дома вчера весь вечер счищали глыбы снега и сбивали сосульки, скребли по железу. А утром дворник скреб под окнами, не давал спать. Но было приятно прислушиваться. Весна!
— Ты вела себя так вчера почему? — спросила журналистка.
— Так,— ответила Алена. Она не была расположена к разговору.
— Ты вчера довольно метко бросила тетрадкой в этого парня. Ты что... очень его не любишь?
Она засмеялась, приглашая Алену к откровенному разговору. Лидии Князевой было лет тридцать — тридцать пять, но голос у нее был какой-то старый, хриплый и смеялась она хрипло, вернее не смеялась, а мелко-мелко кашляла. И в конце, когда уже не хватало дыхания, гулко, болезненно откашливалась и набирала полную грудь воздуха для нового приступа смеха.
343
Алена прошла еще несколько шагов, не отвечая на вопрос, который считала необязательным, и остановилась.
— Спрашивайте, что вы хотели спросить?
— Идем. Я тебя провожу. По дороге и поговорим. Ты куда идешь?
— Я иду на крышу.
Лидия Князева не удивилась.
— И я с тобой пойду на крышу. День сегодня хороший, только по крышам и ходить.
Алена пожала плечами. Они долго шли молча.
— Я хочу попросить тебя почитать стихи,— сказала журналистка.— Ты ведь пишешь стихи?
— Да.
— Почитай.
— Я могу читать стихи только на крыше.
— Я думала: ты шутишь. Ну хорошо, пойдем на крышу.
Лидия Князева работала в отделе писем. Она считала этот отдел
очень удобным в творческом смысле. Все письма проходили через ее руки, любое письмо она могла оставить себе и поехать по нему в командировку. Творческий метод ее был очень прост. Она встречалась с автором письма, записывала все, что узнавала от него и о нем, а затем садилась писать статью. Во первых строках пересказывала письмо, цитировала из него несколько строк или приводила полностью, а затем рассказывала о себе, как ездила, как встретил ее автор письма, как они просидели целую ночь, беседуя о жизни.
Заявление рыжей девочки, что она идет на крышу, сначала несколько удивило Лидию Князеву, а потом даже понравилось. Хороший журналистский ход предлагала сама жизнь...
Алена жила в шестиэтажном доме с аркой, с покатой зеленой крышей, огороженной по краю ржавой решеткой. В некоторых местах, особенно со стороны двора, от решетки остались только столбики. По весне, когда открывали чердачный люк, Алена забиралась на крышу и часами просиживала там, глядя сверху на город. Дом был построен до войны, в войну разрушен, после войны отремонтирован. Его и два других, примыкающих к «Электронике», собирались снести, чтобы построить на этом месте такое же высокое здание: «Дом книги».
Алена надеялась отвязаться от журналистки, думала, что та не полезет на крышу. Но Лидия Князева полезла. Она была в красных сапожках на высоких каблуках, сильно прибавлявших ей рост, делающих осанку. Но на крышу в таких сапогах лезть было неудобно. Перед чердачной лестницей Алена сказала, надеясь остановить журналистку:
— Вам, наверное, в таких сапогах скользко будет?
— Ничего! Полезли, старуха!
Она считала себя бесстрашной журналисткой: в кратер вулкана так в кратер вулкана, на крышу так на крышу, лишь бы не упустить интересный материал, «взять прямо со сковородки жареный факт».
На крыше, после того как снег счистили, осталась снеговая крош¬
344
ка. Она подтаивала, железо было мокрым. Приходилось карабкаться на четвереньках, чтобы не загудеть вниз. Крыша громыхала, скользила под ногами, но Лидия Князева упорно лезла за Аленой.
На самом верху, около телевизионных антенн,— ровная бетонированная площадка. Здесь Лидия Князева выпрямилась на подрагивающих от напряжения ногах, долго откашливалась, свистя и хрипя прокуренным, простуженным горлом, и затем ее душу охватил восторг восторгов. Она никогда не поднималась так высоко, не стояла на крыше дома.
Здесь же, около антенн, на кирпичах лежала доска. Видимо, рабочие, которые счищали с крыши снег, здесь отдыхали, как на лавочке. Ноги всё подрагивали, и Лидия Князева села на доску.
Алена, взобравшись на крышу, распахнула шубку, сняла шапку. Ветер играл фартуком, подбрасывая его и опуская, а затем вдруг стихал, и фартук повисал неподвижно. Солнечные лучи в короткие минуты затишья становились горячей, казалось, они прижимают фартук к платью и проникают сквозь платье к телу. И снова налетал ветер, щекотал шею, руки, лицо, тело под платьем. Алена запрокидывала голову, ловила веснушками и челочкой солнце и ветер.
Лидия Князева перестала подкашливать, сидела тихо, отдыхала. С крыши далеко в обе стороны был виден бульвар. В середине широкой улицы — деревья с грачиными гнездами. По ту сторону бульвара мчатся трамваи и машины, по эту — только машины.
За бульваром, насколько хватало глаз, поблескивали мокрые крыши, освещенные солнцем. За дальними домами виднелось серое прямоугольное здание телеграфа. За телеграфом, чуть в стороне, между крышами, торчали золотые купола Покровской церкви, золотились на солнце кресты.
Шум трамваев и автомобилей отсюда казался далеким, нереальным. Лидия Князева несколько раз глубоко вздохнула, кашлянув, напомнив о себе.
— Аудитория готова. Я говорю, аудитория готова.
— Что? — притворно спросила Алена, оборачиваясь, и ветер тотчас же сбил челочку набок. Алена дунула на нее, сказала: — Ладно, я вам почитаю. Только я пишу стихи в стиле Зеленого человека.
— Какого... зеленого человека?
— Этого...— Она показала на глухую стену «Электроники».
Там почти всю стену занимал плакат, на котором был изображен
зеленый человек с лотерейным билетом в руке. Алена подождала, пока журналистка посмотрит...
— «А ты еще не приобрел лотерейного билета? Он может дать вам и ковер, и холодильник, и вот это».
— Что — вот это? — спросила Лидия Князева.
— Машину. Видите... нарисована на билете. А стихи внизу написаны, их отсюда не видно.
После неудавшегося жертвенного признания Алена много думала, подыскивая беспощадные примеры для своей поэзии... «Вот кто —
345
Зеленый человек!» Счастливец с лотерейным билетом был нарисован так плохо, что один палец заходил за другой, и получалось, что он держит билет и кукиш показывает: «И вот это...» «Мне показывает»,— решила Алена.
Лидия Князева посмеялась, опять закашлялась.
— Ну хорошо, почитай все-таки.
Алена долго молчала и неожиданно, не предупредив, начала читать стихи. Она выкрикивала слова, рифмы, голосом и манерой чтения давая понять, что сама относится к этой поэзии, как того и заслуживают всякие нелепости вроде: «Бык моста», «Извергнуть уменье из знаний своих», «Сентиментал».
Она читала, испытывая радостное чувство освобождения. Она расковывалась, она сбрасывала с себя чешую слов. Она знала теперь: не в словах дело. Дар поэта не придуриваться, а, как написал Есенин, «ласкать и корябать».
Лидия Князева прослушала все, что написала Алена за два года.
— Спасибо...
— Вам — спасибо!
— Мне за что? — удивилась журналистка.
— Есть такая сказка, знаете, «У короля ослиные уши»? Надо прошептать или прокричать, чтобы освободиться от тайны. Теперь другое буду писать.
Глаш девятая
Анна Федоровна лежала в больнице на «9-м километре». Просторная, с большим окном палата. За окном — лес. Анна Федоровна дала санитарке денег, чтобы та купила семечек и устроила кормушку для птиц. И теперь за окном покачивалась коробочка из-под «Виолы». Анна Федоровна часами смотрела на эту коробочку, на заснеженные сосны. Соседки по палате с уважением относились к учительнице, спрашивали о школе. Приходилось отвечать. Но, отвечая, Анна Федоровна смотрела в окно и неожиданно замолкала, когда прилетали синицы и садились на коробочку.
Вот так же семь лет назад она стояла у окна на кухне в своей, вернее отцовской, трехкомнатной квартире. Она ждала с работы мужа, варила обед. И, пока суп кипел, смотрела на рябины, посаженные отцом. В ветках шныряли синицы. И вдруг прилетела, тяжело опустилась на ветку, стряхнув с нее снег, красногрудая большая птица. «Снегирь»,— радостно подумала Анна Федоровна. Эта птица редко залетала к ним во двор.
Муж работал в ателье по ремонту телевизоров. Он ничего не добился к сорока годам, просто был хорошим родным человеком. Они поженились в тот год, когда умерла мать Анны Федоровны. Сначала была свадьба, а потом — похороны. Через два года отец женился на молодой женщине и переехал к ней жить, забрав кое-что из вещей. Библиотека и большинство вещей остались, но дом, в котором Анна
346
Федоровна родилась, разрушился. Отец оставил ей свою куртку и шлем, которые она так любила надевать девчонкой и позднее, в институте.
Шлем она с тех пор не надевала ни разу. Как-то хотела надеть, а он ссохся, не налез на голову.
Анна Федоровна смотрела в широкое, чисто вымытое окно больницы — лес был виден далеко. А память ее возвращала к другому окну, из которого были видны кроны рябин. Когда человеку хорошо и спокойно, то и ждать мужа с работы — радость, и снегирь за окном — радость. Она собиралась сказать мужу: «Знаешь, снегирь сегодня прилетал». И в это время в дверь позвонили. Анна Федоровна торопливо и радостно шагала к двери, думая с улыбкой: «Не забыть сказать, что снегирь прилетал». Но пришел не муж. На площадке стояла девушка лет двадцати с миленьким маленьким личиком, обрамленным норковым мехом шапки и норковым воротником пальто. Через плечо на длинном ремне — белая сумка с большой блестящей застежкой.
«Можно войти? Я — Люся».
«Войдите, Люся».
«Борис Александрович вам обо мне говорил?»
«Нет».
«Я так и знала, что он сам не скажет. У меня будет ребенок... от него».
Девушка еще что-то говорила, но Анна Федоровна не слышала. Она смотрела в решительное взволнованное личико и думала, что, оказывается, есть на свете Люся. И эта Люся стоит перед ней.
От семейной жизни у Анны Федоровны осталась одна фотография, вернее, половинка фотографии. Они стоят с Борисом у ворот дома... Борис положил ей руку на плечо. Она отрезала его, осталась только рука на плече. Теперь Анна Федоровна жалела, что не сохранила целиком хотя бы одну фотографию. Она была такой одинокой, что вспоминала свою жизнь с Борисом как чью-то чужую жизнь. Семь лет изменили все: психику, внешность, походку. Она привыкла к своему одиночеству так же, как привыкла ходить в свитере и причесываться одним взмахом руки. К одному только не могла привыкнуть — к своей новой квартире. Окна выходили на север, батареи грели плохо. Ей всегда теперь было холодно и темно. Иногда вяло думала: «Надо было не соглашаться на размен. Борис пришел и должен был уйти, а квартира бы осталась».
Анна Федоровна пыталась объяснить свои неудачи в школе неудачами в личной жизни. Она уже не винила в происшедшем только ребят. Им неинтересно. Раньше было интересно, а теперь неинтересно. Потому что раньше она была счастлива — весь тот период до смерти матери и ухода отца и после — с Борисом... Какой она тогда приходила в школу... Выучивала наизусть огромные куски из «Войны и мира»: «Наташа Ростова на балу», «Наташа Ростова в Отрадном».
«Послушайте,— говорила она,— как гениально это написал Лев
348
Николаевич Толстой. Наташа пела, а Николинька испортил песню. Он вбежал и крикнул: «Ряженые пришли!» Наташа упала на диван и крикнула: «Дурак, дурак!»
На первой парте сидел толстый ленивый мальчишка. Он вдруг зевнул, и Анна Федоровна крикнула ему прямо в открытый рот:
«Дурак, дурак!»
Класс ее понял, и мальчишка не обиделся. Ей тогда все можно было простить за Наташу Ростову.
«Вдохновение ушло»,— подумала Анна Федоровна, глядя в окно на заснеженные сосны. Там, за ними, за чистыми снегами было что-то хорошее, что от нее ушло. Вдохновение ушло. Дважды уходило: когда умерла мать и ушел отец и теперь. «Это же со своим одиночеством я к ним прихожу».
В больнице Анна Федоровна с неприязнью думала о своей квартире. А вернувшись домой, обрадовалась уюту. Книжные шкафы, стеллажи, лампа с приятным зеленым абажуром, маленькая скамеечка, чтобы, сидя на ней, рыться на книжных полках.
Песталоцци так и лежал на постели, она только отодвинула его к стене и подумала, глядя на желтые корешки переплетов: могла бы она ударить ученика, как Песталоцци или Макаренко? И ответила себе словами же Песталоцци: «Чтобы иметь право ударить — надо любить». Своих нынешних учеников Анна Федоровна не любила.
Неожиданно что-то похожее на ответ Анна Федоровна вычитала в «Комсомольской правде». За время болезни накопилась кипа газет. Проглядывая эту кипу, она наткнулась на небольшую заметочку... Дети пошли с воспитательницей гулять в парк. Мальчик Вова потерял рукавичку. «Ребята,— сказала воспитательница,— Вова потерял рукавичку. Что будем делать? У него же замерзнет ручка». И ребята, а вероятнее всего воспитательница, предложили, чтобы каждый по очереди давал Вове на минуту свою рукавичку. Каждому не терпелось дать Вове свою рукавичку. И ни у кого не замерзли руки. Получилась прекрасная игра, импровизация, педагогический экспромт.
Анна Федоровна обрадовалась этой заметочке. Она поверила, что не все еще потеряно. Она не знала как, но надеялась изменить свою жизнь, завоевать уважение класса. В этот день у нее до самого вечера было хорошее настроение. Она встала с постели и несколько часов сидела за столом, читая Шукшина, делая выписки. Потом долго искала «Огонек», где было напечатано стихотворение Ольги Фокиной. Нашла, обрадовалась. Она собиралась провести урок по произведениям Шукшина и хотела начать со стихотворения, посвященного памяти писателя.
«Сибирь в осеннем золоте, в Москве шум шин. В Москве, в Сибири, в Вологде дрожит и рвется в проводе: Шукшин, Шукшин, Шукшин. По всхлипу трубки брошенной теряю твердь. Да как она, да что ж она ослепла — смерть? Достала тайным ножиком как те, в кино, где жил и умер тоже он не так давно...»
349
Стихотворение растрогало ее, как и первый раз, когда Анна Федоровна прочитала его несколько лет назад. Глаза увлажнились, но учительница не заплакала, сурово сжала рот; глаза высохли, и она уже без жалости, с упреком подумала: «Не уберегли». С этого она и начнет. Не уберегли такого писателя. Пусть они почувствуют потерю, как она ее чувствует. Шукшина нет в программе? Ничего, хороший учитель литературы не станет ждать, когда крупный писатель попадет в программу. Это и сделает урок неожиданным, захватывающе интересным. И фильмы потом можно будет посмотреть: «Печки-лавочки», «Калина красная». Она даже запела, фальшивя, но с чувством...
— «Калина красная, калина вызрела, я у залеточки секретик вызнала...»
Напевая, Анна Федоровна спустилась вниз к почтовому ящику, чтобы взять газеты. Статью Лидии Князевой она увидела сразу и первые строки прочла на лестнице. Потом вошла в квартиру, села на стул в прихожей и начала читать сначала, не понимая написанного и возвращаясь по нескольку раз к самым простым словам и мыслям. Апатия, в которой учительница пребывала в первые дни болезни, вернулась и захватила с новой силой. Не хотелось шевелиться, не хотелось ничего делать, даже думать. Жизнь не получилась — вот итог. Об этом написано в газете на всю страну. И добавить к этому нечего.
Все-таки хоть и вяло, но мысли какие-то мелькали, отягощали голову. «Надо отдать ей должное, она во всем разобралась,— думала учительница.— Ребята были правы, и она так и написала, что они правы». Отталкиваясь от этого случая, Лидия Князева еще раз поставила вопрос о том, что у нас в школах плохо преподают литературу, что учебники написаны серым, невыразительным языком. Но что дело даже не в учебниках, а в методах преподавания, в личности учителя. О ее личности она написала, что Анна Федоровна, сама того не сознавая, является «ревностным выразителем официальной скуки в преподавании литературы». Она ее не обвиняла, она ей как бы сочувствовала, сокрушалась по поводу того, что излишне добросовестным учителям приходится следовать «букве учебника, а не духу литературы».
После этого она перешла на крышу. Слог ее сделался поэтически возвышенным. Алену Давыдову она называла не иначе как «чистая девочка», «возвышенная душа», «нежное существо», «девочка с рыжей мальчишеской челкой». Все это перемежалось ее собственными впечатлениями от пребывания на крыше, от стихов Алены Давыдовой, «еще во многом несовершенных, но наполненных подлинным чувством». Она сожалела, что девочку в эту «святую минуту» не видела ее учительница литературы. Статья называлась «Ослиные уши Зеленого человека». Отвлекаясь от конкретного случая, от конкретной школы, Лидия Князева писала про другую девочку, имени которой не называла. Эта девочка не смогла на уроках литературы выработать хороший вкус и когда стала сочинять свои собственные стихи, стала
350
сочинять их в стиле пошлости, в стиле кричащей альбомности. Ее учителем стал Зеленый человек с рекламного плаката. Она привела стихи: «И вот это...» и кое-какие еще, списанные с других рекламных плакатов. Когда девочка поняла, какое с ней приключилось несчастье, она пришла на пустырь и все свои стихи прошептала в землю, чтобы избавиться от них, как тот брадобрей, который шептал в землю: «У царя Мидаса ослиные уши! У царя Мидаса ослиные уши!»
Заканчивалась статья словами: «Если мы будем мириться со скукой учебников, если будем доносить до наших детей буквы учебника, а не дух литературы, то у наших детей частенько будут вырастать ослиные уши».
Лидия Князева поступила остроумно. Чтобы не обижать Алену Давыдову, девочку глубоко симпатичную ей, чем-то напоминающую ее в детстве, она взяла и из одной Алены Давыдовой сделала двух девочек. Про одну написала хорошее, другая понадобилась для отрицательного поучительного примера. И то и другое было правдой, но правдой анатомически разъятой на две мертвые части. Это был удивительный пример убийства живого для пользы дела, для удобства в рассуждениях.
Анна Федоровна не стала оспаривать ни одного положения статьи. Она поспорила только немного с тем, что Алена Давыдова «нежное существо». Хорошо корреспондентке: приехала, увидела, написала. А длительное общение с этими «нежными существами» опасно для жизни. В больнице ей попался журнал, где была помещена таблица шумов, измеренных в децибелах. Болевой порог находился на границе в 120 децибел. А школьники, оказывается, кричат в среднем с громкостью в 114 децибел. Рев реактивного двигателя на расстоянии 5 метров — 120 децибел. А одна испытуемая девочка, такая же, наверное, «нежная душа», как Алена Давыдова, крикнула в микрофон с силой в 122 децибела. Это находится за болевым порогом, близко к смертельному уровню. Такая забежит в учительскую, крикнет — и ни одного учителя в живых не останется, все попадают замертво, всех понесут ногами вперед под музыку в 110 децибел.
Анна Федоровна сама удивлялась своему равнодушию. Статья в газете не доставила ей никаких новых неприятных ощущений. Ну, придется уйти из школы. Она об этом думала и раньше, и в больнице. В той же таблице шумов приводились данные... Английские законы по охране труда ограничивают средний уровень шума в цехах 90 децибелами. А средний шум, который производят школьники,— 114 децибел. Куда бы она ни пошла работать после школы, хоть заряжать реактивные двигатели, полезнее будет для здоровья.
Ночью Анна Федоровна внезапно проснулась, зажгла свет, перечитала еще раз статью Лидии Князевой при ярком, слепящем глаза свете и уже до самого утра не смогла заснуть. Она снова стала снимать с полок книги по педагогике, складывала их стопкой на столе. Зачем? Все было давно прочитано...
Она взяла томик с педагогическими сочинениями Льва Толстого, открыла на случайной странице и поняла, что Толстого она может
351
читать всегда и все, что он написал. И даже если ошибался, она не знала, в чем и как. Толстой писал об учителе: «Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Но не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя потребность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию». Эти слова Анна Федоровна читала впервые.
Последние семь лет книги были главными ее собеседниками. Она помнила слова Пушкина, сказавшего перед смертью книгам: «Прощайте, друзья». Для нее книги тоже были друзья, семья — всё! Встречая в своих книгах, читанных и перечитанных, какие-нибудь важные слова, она удивлялась, что их не знает, как если бы живой человек ей сказал, а она забыла. Учительница подчеркнула слова Толстого об учителе и почувствовала со всей силой, на какую только была способна ее страдающая душа, что до сих пор не приносила жертв своему призванию. Теперь готова принести! «Господи, как хорошо, что есть Толстой». Надо идти в школу, перенести достойно или жалко все унижения и выполнить свой долг. Эти жестокие мальчики и девочки уйдут, забудется ее унижение. А новые придут, и она будет их по-новому учить: с Шукшиным сверх программы, с Егором Исаевым, с Вознесенским, которого не любила, но который существует, занимает умы. Она организует литературный клуб, как в железнодорожной школе. Только бы пережить эти несколько трудных дней, может быть, месяцев, пока забудется газета.
Глава десятая
Перед началом занятий в учительской тесно. Анна Федоровна сидела за своим столом. Ей хотелось спрятаться за шкафами, за наглядными пособиями, но это было бы бегством. Она сидела у всех на виду и прямо смотрела на входящих учителей. У нее спрашивали о здоровье, о статье старались не говорить, а если говорили, то как-то так... неопределенно: «Это уже слишком», или: «Вы особенно не огорчайтесь». Из этого Анна Федоровна делала вывод, что многие считают статью правильной, с небольшим перехлестом. «Это уже слишком», а не слишком было бы в самый раз. Во всяком случае, никто не возмущался, и Анна Федоровна страдала от сочувствия своих коллег больше, чем если бы они ничего ей не говорили.
Вертелась перед глазами учительница химии в немыслимом туалете: голубом платье с узким, но достаточно открытым вырезом на груди. «Тоже, наверное, для кого-нибудь Люся,— думала Анна Федоровна.— В честь газетной статьи нарядилась, лапочка. Праздник у нее сегодня».
Появилась мать Маржалеты. Председательница родительского комитета была сильно возбуждена. Она принесла с собой несколько
352
экземпляров газеты. Она хотела знать, какие возможны изменения в школе после выступления в прессе? Она не постеснялась об этом спросить у Анны Федоровны.
Не знаю, мне все равно,— ответила учительница и отвернулась.
Анна Федоровна шла по коридору, думая о том, что надо поздороваться сухо, ни в коем случае не называть их больше «ры- быньками». Надо разговаривать с ними подчеркнуто вежливо.
Она вошла в открытую дверь. Все дружно поднялись, за исключением двух-трех человек. Жуков зазевался. Как обычно, читал на перемене книгу и не заметил, что начался урок. Куманин нарочито задержался. И Киселева поднялась со скамьи с томной ленцой.
— Здравствуйте, рыбыньки,— сказала Анна Федоровна.
Инерция жизни оказалась сильнее. Учительница положила журнал
на стол. В руках осталась газета со статьей Лидии Князевой.
— Читали, рыбыньки?
Инерция продолжала нести ее помимо воли. В голосе, которому она хотела придать твердость, прозвучали упрек, обида. Ребята молчали. Особой радости на их лицах учительница не увидела. Разве сверкнули торжеством глаза Валеры Куманина, и он тотчас же их опустил, стал смотреть в стол.
— Если обращать внимание на все, что пишу-у-у-ут,— неопределенно сказала Нинка Лагутина.
— Разве здесь что-нибудь не так?
— Все не так! — крикнула Алена.— Ослиные уши не так! У нее самой выросли ослиные уши! У этой Лидии Князевой выросли ослиные уши!
Алена выкрикивала слова и стучала ладонями по разостланным на парте листам газеты, по заголовку «Ослиные уши Зеленого человека». Учительница не ожидала такого негодования от своей главной «оппонентки». Это был вопль человека, разрезанного газетным листом, как колесами трамвая, на две половинки — на хорошую и плохую девочку, на положительного и отрицательного героя.
Анна Федоровна прошлась перед столом туда и обратно, быстро, нервно; пригладила волосы на голове одной рукой, потом другой; одернула свитер. Она понимала, что делает много лишних движений, но не могла остановиться.
— Вы не обращайте внимания на статью,— сказала Раиса Русакова, поднимаясь.— Учите нас, как учили — по учебнику.
— По учебнику? Почему же?..
Она вынуждена была произносить слова быстро, губы ей плохо повиновались. Слова Раисы Русаковой сильно задели учительницу, кончики губ мелко-мелко подрагивали от острой неприязни. Обычно Раиса Русакова не вызывала у нее никаких чувств, но сейчас Анна Федоровна смотрела на девушку, которая советовала «учить по учебнику», с нарастающей во всем теле неприятной дрожью, с просьбой в глазах замолчать, не говорить глупостей. Но Раиса все заготов-
12 Школьные голы. Вып.З
353
ленные слова должна была высказать обязательно. Она выступала от имени класса. Отведя глаза в сторону, чтобы не встречаться с глазами учительницы, она продолжала:
— Девятый класс — не время для экспериментов. У нас половина класса будет поступать в гуманитарные. Им сдавать литературу.
Раиса Русакова стояла, слегка наклонившись над партой и сильно сутулясь. При последних словах она мельком посмотрела на учительницу, увидела морщинистые мешки под глазами, аскетически вытянутое лицо, обрамленное прилипшими к вискам прямыми волосами, еще ниже наклонилась над партой и, не дождавшись ответа учительницы, сползла локтями по крышке, села.
Анна Федоровна поняла. Теперь, когда и газета осудила официальную скуку на ее уроках, они ее прощают, позволяют преподавать литературу, как она умеет, как привыкла.
— Вы, значит, согласны, чтобы все оставалось по-прежнему, как было до этой статьи?.. А как вы это себе представляете, рыбыньки?
— Куманин! — окликнула Раиса Русакова и пояснила учительнице: — Сейчас Куманин напишет в дневнике, что вы ему велели...
— Че-е-е-о-о! — изумленно протянул Валера.
Света Пономарева положила перед Валерой свою ручку:
— Возьми! Ты, наверное, свою опять забыл дома.
— Че-е-е-о-о?!
— Пиши! — крикнула Алена.— Пиши!
— Чего писать? Вы чего, тетки?
— Он сейчас напишет, напишет, напишет,— успокоила учительницу Раиса Русакова и, выпростав ноги в проход, рывком поднялась, двинулась вперевалочку к Валере.
Повскакали со своих мест мальчишки, окружили парту, чтобы Валера не убежал. Света Пономарева уступила свое место Толе Кузнецову. Тот сел, положил, как другу, руку на плечо.
— Пиши!
— Ты чего, Кузнец, газету не читал? Прессу надо читать.
— Пиши, читатель!
— Нашли козла отпущения, да?
Он оглянулся, посмотрел по сторонам — никто ему не сочувствовал. Еще пять минут назад Валера сидел у окна, как у иллюминатора самолета, читал-почитывал газету со статьей Лидии Князевой. И самолет его летел спокойно, ровно. И вдруг начал стремительно падать. Валера понял: пора бежать в хвост самолета, запираться в уборной. Он мелко, мелко засмеялся, обнажив все зубы:
— Хи-хи! Чего писать?
Перо не скользило, корябало дневник. Валера нарочно нажимал со всей силой. Перо треснуло, брызнув на бумагу и на ребят, которые сидели рядом. Они отскочили в сторону, Валера вжал голову в плечи, но глаза его, наглые, и сморщенный носик смеялись.
— Стило сломалось, сенаторы! — Он развез пальцем по дневнику кляксу.
354
Раиса Русакова метнулась к своей парте и тотчас же положила перед Валерой свою шариковую ручку.
— Только сломай!
За Раисой стояла Алена, держа еще одну ручку, запасную, нацеленную Валере Куманину прямо в лицо.
— Вы что, сбесились, тетки?
— Пиши, хунта!
— За оскорбление ответишь.
— И допиши,— сказала Раиса: — «Не плачу членские взносы».
Валера дописал и «членские взносы».
— Пожалуйста, кушайте на здоровье.
Раиса Русакова выхватила у него дневник, понесла к учительнице.
— Вот, Анна Федоровна!..
Учительница, исхудавшая после болезни, в обвисшем свитере, переступила с ноги на ногу, протянутый ей дневник не взяла. Хотела сказать: «Зачем мне? Пусть несет родителям». Но не сказала, потому что пришла другая мысль, которую ей хотелось не сказать, а крикнуть: «Вы что... думаете, вам дано право казнить и миловать?»
Анна Федоровна провела рукой по волосам и резко опустила руку, взялась за складку юбки на боку. Пальцы подрагивали и губы не складывались в слова, кривились вразнобой. «Я же совсем собой не владею,— подумала она не очень ясно, как сквозь туман.— Я же сейчас действительно закричу на них или расплачусь». Она резко повернулась и вышла из класса.
Наступила мгновенная тишина, у кого-то с парты скатился карандаш на пол. Звук этот показался громким. И тут неожиданно заплакала Света Пономарева, тихо, горько, с какой-то безнадежностью уткнувшись в ладони.
— Ты что, Светк?.. Из-за ручки?
Она покачала головой:
— Он написал в моем дневнике.
Кто-то засмеялся, не обидно для Валеры, чуть ли не с восхищением. Несколько человек подошли, любопытствуя, тянули друг у друга дневник с записью и кляксой. Толя Кузнецов схватил Валеру за пиджак:
— Ты зачем это сделал, ловкач?
Валера не сопротивлялся. Учительница ушла, и вся остальная возня его просто забавляла.
— А где бы я писал, сенаторы! Войдите в мое положение. У меня нету дневника и никогда не было, вы же меня знаете. Вы хотели, чтобы я написал, я — написал.
Он отвечал, придуриваясь, делая искреннее лицо, но глаза его смеялись, нос хихикал. Самолет Валеры Куманина потерпел аварию, но Валера успел запереться в уборной.
Из кабинета директора доносились голоса ребят, иногда смех. Секретарша Ира, высокая девушка, гладко причесанная, время
355
от времени переставала печатать, прислушивалась, улыбалась.
Между тем Андрей Николаевич был в кабинете один. Разговаривал голосами ребят магнитофон, который стоял на столе. Тут же лежала раскрытая тетрадь. Андрей Николаевич ходил от стола к двери, медленно, размеренно. Иногда возвращался с полпути, чтобы сделать запись в тетради. Иногда, если был далеко, у самой двери, быстро, чуть ли не бегом, преодолевал расстояние до стола, склонялся над тетрадью, быстро записывал, затем некоторое время слушал магнитофон, не отрывая локтей от стола. И снова принимался ходить.
Метод преподавания, который Андрей Николаевич хотел основательно проверить в школе, на первый взгляд был очень прост... Учитель записывал на магнитофон ответы ребят, а затем давал им себя прослушать. Отметку ставил только после коррекции учениками ответов. Андрей Николаевич спрашивал: «О чем ты забыл в этом месте сказать?», «А здесь можно лучше выразить твою мысль другими словами?». Он заставлял их не учить историю, а исторически мыслить. Он отрицал сам принцип, что речью учеников должны заниматься логопеды и словесники. Все врачи, все учителя в его школе должны были заниматься речью учеников и даже речью друг друга. Он уже обнаружил учительницу математики, которая вместо того, чтобы сказать «АВ=ВЦ по условию», говорила «АВ=ВЦ по дано...».
Только человек, ясно мыслящий и четко излагающий свои мысли, может стать полноценным, исторически мыслящим гражданином своей страны. Он подводил учеников к мысли, что они не школьники, а поколение, которое не должно ждать, когда на его плечи положат ответственность по случайному выбору, а должно искать эту ответственность и брать сознательно на свои плечи кому что по силам. Он с удовольствием слушал сейчас свои слова: «Вам поднимать двухтысячный год. Вы люди двухтысячного года. Если неправильно распределите обязанности, кого-то из вас может и придавить».
На уроках истории его метод давал хорошие результаты. Ребята слышали себя со стороны, исправляли тут же или через несколько уроков то, что им не нравилось в своих ответах или в своей речи. И главное, прослушивая себя или друг друга, они повторяли и закрепляли материал. Андрей Николаевич собирался в конце года склеить две-три пленки, составленные из ответов учеников, сделавших наибольшие успехи. Он собирался сделать так, чтобы в них вошли все ключевые темы. Это и будет подготовка к экзаменам.
Как только ученые высказали гипотезу о том, что амины в мозгу человека служат тем мостом, который соединяет эмоции с обучением и памятью, Андрей Николаевич начал изучать механизм эмоциональной памяти, и начал искать способы управления этим механизмом. Магнитофон оказался тем простейшим универсальным аппаратом, который годился для всего: и для классной и для внеклассной работы.
Некоторые пленки Андрей Николаевич посылал родителям с запиской: «Послушайте, как отвечает ваш сын». И родители с удивлением и большим интересом прослушивали пленку и говорили сыну,
356
дочери, которые, конечно, тоже присутствовали: «Значит, ты только дома у нас такой красноречивый, а на уроке двух слов связать не можешь? Ты же у нас без языка, ты же совсем говорить не умеешь».
Для эффективного усвоения материала годились все эмоции: и раздражение родителей, и смущение ученика, недовольного своим ответом. Или гордость, когда приятно послушать, какой ты умный и как хорошо умеешь построить свою речь. Андрей Николаевич боялся только одного... Не делает ли он чего-нибудь лишнего? Не загружает ли ребят и родителей своим предметом так, что не остается места для других предметов. И главное — не подменяет ли он техникой общение учителя и ученика. Ему уже говорили о механичности, даже бездуховности его методики. Он не соглашался, но не думать об этом не мог.
Хлопнула дверь в соседней комнате, где сидела секретарша, пробубнили голоса, и в кабинет с преувеличенно развязными движениями вошла Анна Федоровна. Ничего не сказав, не спросив разрешения, не узнав, свободен ли директор, она вошла и принялась ходить по кабинету от стены к стене. Андрей Николаевич выключил магнитофон.
— Я слушаю вас, Анна Федоровна.
— Я ушла из класса.
Она села, наконец, на сдвинутые у стены стулья. Но опустилась с такой силой, что сиденья под ней разъехались и она едва удержалась за спинки стульев, чтобы не упасть.
— Что случилось?
— Ничего особенного. Меня помиловали! Знаете: «Казнить, нельзя помиловать»? Передвинули запятую!
— Вы не волнуйтесь, Анна Федоровна. Сейчас я сам с ними поговорю. Накажем виновных. Посидите здесь.
— Нет, не надо! Я сама ушла.
— Как?
— Очевидно, совсем... из школы.
— Класс на месте? Или опять убежали?
— Не знаю. Меня это больше не интересует. Я подвела черту! — И она сделала резкий жест перед собой, проводя яростную невидимую черту.
Андрей Николаевич вышел из-за стола, приблизился к двери и, глядя одновременно на учительницу и на секретаршу, сказал:
— Ира, скажите Нине Алексеевне, что в 9 «В» пустой урок. Анна Федоровна неважно себя чувствует.
Девушка молча кивнула, директор прикрыл дверь. Анна Федоровна стукнула себя рукой по колену.
— Все! Хватит! Я в магнитофонную эру не гожусь.
Директор закрыл крышкой магнитофон, снял его со стола, смахнул пылинки.
— Поговорим без магнитофона.
— Дело не в этом. Это я так, к слову. Я не понимаю их. Раньше понимала, что они хотят, когда сбегают с уроков, когда не учат
357
уроков, когда любят, когда не любят, а теперь не понимаю. Вы, надеюсь, читали газету?
— Да, читал. Но что газета! Живой человек дороже газеты. Мы вас знаем лучше.
— Так вот, они меня простили. Наказали с помощью газеты, а теперь простили. Злые мальчики и девочки решили, что учительницу можно простить. Ее не переделаешь, не сдашь в макулатуру, в металлолом. Я действительно утратила радость от школы, я порой их даже боюсь. Они это почувствовали и встретили меня сегодня, как добрые мальчики и девочки. Они решили на мне испытать свою доброту.
— Что же тут плохого? Мы их учим доброте.
— Быть добрыми в иных случаях — это быть жестокими.
— Вы устали, Анна Федоровна. Вам надо отдохнуть.
— Да, мне надо отдохнуть. Я сейчас напишу. У вас найдется лист бумаги?.. Не дадите бумаги?..
— Заявление писать? Нет, не дам.
— Я вам пришлю по почте.
Она поднялась и, пока шла к двери, несколько раз одернула на боках свитер.
Зазвонил телефон. Звонил чей-то папа. Голос у него был сердитый. Андрей Николаевич никак не мог понять, чего сердитый папа хочет. Он думал об ушедшей учительнице.
— Как, вы сказали, ваша фамилия?
— Прибылов с вами говорит из горпроекта. Мне сказали, что калькулятор передали вам.
— Какой калькулятор?
— ЭВМ, счетная машинка в виде блокнота.
— Да,— сказал Андрей Николаевич,— да, передавали.
Он вспомнил: Коровина Светлана Викторовна принесла ему вчера этот «блокнотик».
— Фамилия вашей дочери...
— Такая же, как у меня,— Прибылова Оля!
— Вам надо зайти в школу, забрать калькулятор. И пожалуйста, проследите, чтобы ваша дочь не приносила в школу никакой счетной техники. Алло, вы меня слышите?..
— Эта вещь принадлежит дочери. И прошу вас вернуть калькулятор ей,— жестко, с нажимом на последних словах проговорил сердитый папа.
Андрей Николаевич считал, что все уже объяснил и отвлекся от разговора, стал думать об Анне Федоровне. Вернее, он никак не мог сосредоточиться на разговоре.
— Фамилия вашей дочери Прибылова?
— Разве я говорю, что у нее другая фамилия? Прибылова Ольга. Я ее папа.
— Не Ольга, Оленька,— сказал директор.— Она учится в третьем классе.— Он вынул «блокнотик» из ящика стола и прочитал на бу¬
358
мажке, приложенной к калькулятору: — В 3 «А» классе. Ваша дочь не знает таблицы умножения.
— Учите ее думать, а считает пусть машина.
— К тому же это, вероятно, дорогая вещь для третьеклассницы?
— Дорогая? Не знаю,— сказал сердитый папа.— Двести рублей, это дорого? Всего двести рублей, чтобы облегчить ребенку, человеку, всему человечеству примитивный процесс вычисления. Прошу вас вернуть калькулятор дочери.
— Но мы не можем позволить. У нас в старших классах никто не пользуется...
— Не позволяйте, но не отбирайте у моей дочери того, что является прогрессом. Для нее этот «блокнотик» — образ жизни, подарок ко дню рождения. Извините!
— Послушайте! — рассердился Андрей Николаевич.— Нельзя же так разговаривать с педагогами вашей дочери даже с позиции нового образа жизни. Если вы действительно хотите, чтобы она не только считала, но и думала, чувствовала.
— Извините! — повторил папа с раздражением и повесил трубку.
Андрей Николаевич тоже с раздражением бросил трубку на рычаги: «Робот какой-то, а не папа. «Учите ее думать...» Научишь такого думать».
«Блокнотик» так и остался у Андрея Николаевича в руках. Успокаиваясь, он нажимал на клавиши с удобными вмятинами для пальцев. На экране, в верхней части калькулятора, загорались и гасли ярко-зеленые, очень приятные для глаз группы цифр. Поставив локти на стол, директор разглядывал калькулятор, держа его перед глазами, проделывал простейшие операции: к двум прибавлял три, получалось пять. И все это — нажатием кнопок, включением зеленых огоньков. «Действительно, образ жизни,— думал он,— но почему же этот образ жизни вызывает такое раздражение против школы?»
Вернулась Ира и, зайдя в кабинет, чтобы доложить, помедлила, не решаясь оторвать директора от его занятия. Глаза его сосредоточенно смотрели на калькулятор, не видели девушку. Брови хмурились.
— Что Ира? — спросил директор.
— Девятый класс... Девятый «В»... Нина Алексеевна там... Они сидели тихо.
— Анна Федоровна где?
— Не знаю.
— Хорошо, Ира.
«Блокнотик» придется вернуть девочке,— думал Андрей Николаевич,— а для старшеклассников на следующий год купить хотя бы несколько штук таких калькуляторов. А почему бы и нет? Не отнимаем же мы у старшеклассников логарифмическую линейку? Век электроники не заметили, как и наступил. Как бы, действительно, за всеми этими магнитофонами, карманными ЭВМ не потерять человека».
Глава одиннадцатая
По утрам еще было морозно, а в середине дня, когда заканчивала занятия первая смена, по школьному двору и по улице бежали, серебрясь на солнце, ручьи. С крыш свисали сверкающие сосульки. Мама по утрам не забывала предупредить Алену: «Близко около домов не ходи. А то сосулька сорвется на голову». Алена вспомнила об этих советах, только увидев под ногами сосульки. Она обходила стороной осколки льда и совсем по-взрослому думала: «Мамочка хочет все предусмотреть».
Вода ручейков и солнце истачивали грязный зимний лед. Он становился тонким, прозрачным. Наступишь, переходя улицу, на краешек, он хруп — и подломился.
Птицы плескались в лужах, пили воду из ручейков. Алена помнила примету бабушки Тани: «Птица напилась водички — весна пришла».
В школе солнце, бьющее в окна, делало всех сонными, медлительными. Вместо Рыбы несколько уроков провела учительница из математической школы. Она всем говорила «вы», как чужая. Да она и была чужой. Потом появилась студентка-практикантка Наташа. Она была невысокой девушкой, носила короткие сапоги, короткую юбку, вишневые колготки. И была гладко, без морщин затянута этими колготками, сапогами, белой вязаной кофточкой. Мальчишек Наташа усмиряла открытым насмешливым взглядом. Посмотрит внимательно-внимательно, да еще иронически сложит пухлые губы и так улыбнется, что даже Куманин тушевался, опускал глаза и если хихикал, то видно было: хихикает не из озорства, а по глупости.
Как учила Наташа — по учебнику, не по учебнику,— никого не интересовало. На улице — весна. И уроки проходили в игре, которую вели мальчишки со студенткой-практиканткой. Они не хамили Наташе и ничего ей не подстраивали, как Рыбе. Они смущались, не хотели идти отвечать урок. Некоторых Наташе приходилось вытаскивать к доске за руку. И тогда такой счастливец радостно краснел и старался как можно лучше ответить урок, если знал. А если не знал, смущался и молчал.
Не изменился только Сережка Жуков. Он читал на уроках и на переменах свои книжки и после уроков не бежал два квартала за студентками-практикантками, а провожал домой Ляльку Киселеву. Маржалете Лялька сказала по секрету, что они с Сережкой после школы поженятся.
Солнце пригревало все сильнее. Мама заглядывала Алене в глаза, все чаще спрашивала: «Не мелькают серые мушки перед глазами?» — и, хотя мушки не мелькали, пичкала Алену витаминами. Весна с ее теплым ветром, авитаминозом, любовным томлением, ленью и скукой накатывалась на Алену, делая ярче и крупнее веснушки.
360
Отец, не замечавший весь год веснушек на лице дочери, вдруг сказал в воскресенье за завтраком:
— Мать, погляди на Алешку. Скоро ударит веснушкой об веснушку и скажет — замуж пора! Невеста у нас дочь-то!
Алена поднялась из-за стола и убежала в свою комнату. Слова отца показались грубыми, и отец показался грубым, чужим со своими неумными намеками на ее переживания. Алена не плакала. Она просто лежала, уткнувшись лицом в подушку, и чувствовала, как ей трудно дышать, не от того, что уткнулась, а от того, что трудно жить. Мама сидела рядом, поглаживала дочь по плечу, а отец топал под дверью, не понимая, что происходит, и не решаясь больше ничего сказать.
В юности многое быстро забывается. Одно событие сменяется другим.
В газете «Молодой коммунар» напечатали решение облисполкома, запрещающее рвать подснежники. Алена с удивлением узнала, что эти цветы находятся на грани исчезновения и занесены в «Красную книгу».
«Подснежники? — не поверила она.— Их же так много. Во дает человечество! И подснежников уже нету...»
Алена схватила газету, прыгнула на тахту к телефону.
— Райк, это я. Подснежники исчезают. Читала?
— Нет.
— В газете напечатали, в «Молкоме». Райк, какие же мы люди после этого? Все рвем и рвем, рвачи какие-то. Все подснежники уничтожили, как коровы, представляешь?
— Какие коровы? Коровы подснежников не едят.
— Да это я так сказала — коровы. Знаешь, как говорят: на наш век хватит. Рябчиков уже не хватило. Ты ела рябчиков?
— Нет.
— Рябчиков не хватило. Подснежников не хватило. Пойдем в лес сегодня?
— Нет, я не могу. Я полы мою.
— А когда вымоешь?
— Нет, я не скоро. Я только начала.
— Ну ладно,— сказала Алена,— я буду... думать.
Она положила трубку и стала думать, кому бы еще позвонить: «Ведь подснежники исчезают. Как же Райка не поняла? Полы... Подумаешь, полы! А в лесу люди, может быть, последний синенький цветок выковыривают».
Она решила позвонить Сережке. Случай такой, что любой человек любому человеку должен звонить. Алена набрала номер. Долго никто не подходил. Дед ушел в магазин за хлебом. Мама принимала утренний душ. Сережа надеялся, что она услышит, набросит халат и прибежит разговаривать по телефону. Но мама не слышала.
361
А Сереже нельзя было отойти от плиты. Он нагревал над газовой горелкой длинную стеклянную трубочку. Он уже согнул ее в двух местах, как ему было нужно, и теперь, раскалив докрасна конец трубочки, пытался выдуть на конце слегка вытянутую сферу. В лаборато- рии Сережу научили при подготовке к опытам производить самому необходимые стеклодувные работы.
Сережа с досадой выключил горелку, положил осторожно трубочку на плиту.
— Да, я слушаю,— сказал он нетерпеливо.
— Жуков, привет! Представляешь, подснежники нельзя рвать.
— А я и не собирался.
— В газете написано. Постановление облисполкома.
— Все? — спросил Сережка.— Извини, у меня стекло остывает.
— Все,— ответила Алена.— Какое стекло?
Но Сережа положил трубку. Алена обиделась: «У него стекло остывает. С ума сошли. Не понимают, что им говорят. Когда бизоны исчезают, вот когда страшно. Это хуже, чем стихийное бедствие, дураки, не понимают».
В полупустом трамвае Алена мчалась к лесу через пустынные поля. Лес был виден вдалеке, он тянулся вдоль поля у дальней кромки. Снег местами сильно потемнел, местами сошел, и там, где его не было, сверкала густая зелень озимой пшеницы. Это были опытные поля сельскохозяйственного института. «Красиво как!» — подумала Алена.
Трамвай сбавил скорость и, дернувшись несколько раз, въехал в густые голые заросли кустов и деревьев. По окнам и по вагону заскребли ветки. Здесь, прямо у трамвайной линии, в затененных местах росли подснежники, но сейчас по обе стороны лежал снег, ни бугорка оттаявшей земли. В этом месте всегда было сумрачно, росла дикая малина, и летом, когда трепетала на ветру густая листва, трамвай не наезжал, а как бы подкрадывался к людям, собирающим малину, и вдруг из листвы, из кустов — его морда с огромной глазастой фарой и красные бока. Многие пугались его, как зверя. Впрочем, звери сюда забредали тоже. Близко находились заповедные угодья.
Трамвай выехал из зарослей на узенькую асфальтированную улицу и остановился напротив желтого каменного павильончика. Вагоно- вожатая, пожилая женщина в теплом платке, в подпоясанном пальто, закрутила до отказа колесо тормоза, взяла ключ и, спустившись тяжело со ступеньки вагона на землю, заковыляла, разминаясь, к павильончику, скрылась за дверью диспетчерской. Алена, проходя мимо, заглянула в окошко. В диспетчерской несколько женщин пили чай из кружек. На подоконнике в бутылке из-под кефира стояла веточка березы с распустившимися листьями. От этих листьев, от трамвайной жизни павильончика веяло уютом, и Алене захотелось оказаться среди женщин, с кружкой чая в руках. «Может, и чай они заваривают вишневыми веточками, как бабушка Таня»,— подумала
362
Алена. Бабушка Таня жила в деревне. Алена каждое лето ездила к ней, а потом вспоминала всю зиму.
Алена пошла наискосок через парковую часть леса к поселку. В этом поселке еще сохранилась керосиновая лавочка, деревянный одноэтажный клуб. На размокшей афише Алена прочитала название фильма: «Ворота Тамерлана».
Алена вышла из поселка на широкую дорогу. Вдоль дороги, по правой стороне, возвышались кирпичные коробки новых домов. Она знала: если идти, следуя за всеми поворотами дороги, придешь к Дому престарелых и за домом к очень красивым местам около реки, где всегда было столько подснежников. Но там гуляют, медленно передвигаясь, старики и старушки, перед которыми Алена чувствовала себя виноватой. Они старые, больные, а она молодая, красивая и живет дома. При виде этих стариков и старушек или когда вспоминала о них, Алена с горячей нежностью думала о бабушке Тане и говорила себе: «Никогда! Никогда!» Она не уточняла, что «никогда». Бабушка Таня — веселая, крепкая, и нехорошо думать о том, чего «никогда» не будет.
За Домом престарелых дорога круто поднималась на обрывистый берег, где на самом верху находились игровые площадки, карусели и низенькие одноэтажные строения дома отдыха имени Горького.
Алена шла по дороге, выбирая места потверже. У ворот Дома престарелых на двух лавочках сидели старички. И под навесом на автобусной остановке тоже сидели старички. Маленький грязный автобус, идущий из дома отдыха, спустился с горы, остановился. Но никто из старичков не сел в него. Те, что на лавочках,— грелись на солнышке. А другие сидели под навесом, потому что негде было сидеть. А может быть, вспоминали, как они раньше, когда были молодыми, ездили на автобусах, на трамваях, на поездах. Автобус снова заурчал, полез в гору навстречу Алене. Она свернула с дороги, пошла по снегу между деревьями, говоря себе, что уступает дорогу автобусу, да и дорога там, где он едет, грязная. На самом деле, карабкаясь по скользкому склону, она обходила не грязную дорогу, а Дом престарелых.
Наверху южные склоны холмов кое-где обнажились до рыжей травы и мхов. А в низинах, где еще лежал снег, Алена вдруг увидела под деревьями зеленые стрелочки подснежников. Они торчали острыми упругими кончиками из осевшего, ноздреватого снега. Листья, образующие стрелочку, были тесно прижаты друг к другу, они сберегали до тепла синий цветок. Алена впервые видела не сами подснежники, а только зеленые стрелочки на снегу. Она присела, решила помочь освободиться от зимы хотя бы нескольким стрелочкам. Начала разгребать рыхлый, местами слежавшийся в комья снег, а под снегом — лед. Подснежники стояли во льду, и зеленое было видно в глубине сквозь мутную толщу льда. Алена вспомнила, какие это на самом деле слабые цветы. Когда стрелочки листьев отходят далеко в разные стороны, синий цветок даже стоять ровно не может на своем
363
бледном тонком стебле, склоняется до земли. «Как же они в снегу растут? Пробивают лед и снег и растут?» Она сидела над стрелочками, искала льдистые зеленые слова, чтобы сочинить стихи о подснежниках. Но слова не приходили, вернее, их было слишком много, а те, которые были нужны, с холодком и нежностью, не приходили.
Лес на холмах смешанный: ольха, сосны. А потом потянулись березы. Белые стволы убегали один за другим к светло-голубому небу, к застывшим белым облакам. И там, в самой дали, становились уже не деревьями, а березовым светом. Оттаявшие прогалины рыжей земли испарялись, и в этом испарении свет берез казался осязаемым. Алена шла, любовалась деревьями, обходила зеленые стрелочки подснежников. Их было немного, но Алена вдруг подумала, что и там, где она идет, наверное, пробиваются к солнцу подснежники, а она наступает на них, придавливает. Она остановилась и тут увидела, сначала мельком за деревьями, а затем взойдя по оттаявшему склону на бугорок, очень ясно, какую-то старушку. Она стояла спиной к Алене, прислонившись плечом и щекой к березе. «Устала,— подумала Алена,— отдыхает. Как же она сюда забралась? Зачем лезла на такую гору по скользкому склону?» Что-то показалось знакомым в фигуре старушки, и вовсе, может быть, не старушки. Ей показалось, что это стоит и прижимается щекой к березе Рыба. Алена метнулась в сторону, и женщина тотчас же обернулась и тоже увидела девчонку. Расстояние между ними было большое, и они обе, так и не разглядев как следует друг друга, быстро пошли в противоположные стороны. «Нет! — подумала Алена.— Что ей здесь делать?»
Вскоре она забыла об этой встрече, но потом березы опять напомнили. Алена стала думать: «Зачем женщина прижималась щекой к дереву? Действительно устала? Грустно ей?»
Вблизи белые стволы были не такими белыми, вернее, неодинаково белыми. Березы издавали какой-то странный шум, который вдруг становился похожим на звук, который издают быстро взлетающие птицы. Алена остановилась и не сразу поняла, в чем дело. Ветер трепал отстающую слоями тонкую кору и шуршал ею, как папиросной бумагой, тихо дребезжа при ровном ветре и часто-часто, когда ветер налетал резкими порывами. Деревья, на которых отслоилось много прошлогодней сероватой коры, стояли наполовину белые. Некоторые оставались совсем еще серыми. А те, с которых прошлогодняя кора отслоилась и улетела, стояли по-весеннему обновленными, чистыми. От них и исходил тот живой цвет, который был уже не цвет, а свет.
Алена подошла к березке, потрогала ее рукой, а потом, как та женщина, прислонилась лицом. Кора была теплая, бархатистая на ощупь. Сердце так и замерло от нежности и тепла. Светило солнце, вокруг ни души. Промелькнула тень птицы на освещенном солнцем массиве леса, и наступила минута тишины и того редкого покоя, который вбирает в себя вечность, бесконечность и мгновенное счастье на земле.
Алена отстранилась от березы и увидела, что рука, которой она
364
прикасалась к дереву, стала белой, вымелилась. «Может, пыль»,— подумала Алена. Но это была не пыль, а пыльца новой коры. Она обладала каким-то вяжущим свойством. Алена потерла ствол, чтобы побольше осталось на ладони белой пыльцы, попудрила и вторую щеку. «Наверное, не кора белая, а весенняя пыльца так светится. А потом березы не будут такими белыми, как сегодня». Алена шла, поглаживала деревья и похлопывала себя по щекам, пудрилась березовой пыльцой.
Выйдя из березняка неподалеку от дома отдыха, Алена оглянулась назад. Тонкие, тесно переплетающиеся веточки берез, без листьев, с еще нераспустившимися почками, рисовались на фоне светло-голубого неба и белых облаков розоватыми. А когда солнце заходило за облака, казались сиреневыми.
На обратном пути Алена набрела на березу, к которой была привязана банка, до половины наполненная березовым соком. И Алена не написала стихов о подснежниках, а написала стихи о березе.
«Пришел, надрезал, сделал сток — и из зеленой ранки ударил капельками сок. И налилось полбанки. Давно ушел тот паренек, а бедная береза — все льет и льет на землю сок, а может быть, и слезы».
Стихи сложились раньше, чем Алена вышла из леса к автобусной остановке дома отдыха. И то, что получилось, ей очень понравилось. Возбужденная, усталая Алена радостно подумала: «Каждое воскресенье буду ездить в лес, а иногда и в будние дни после школы. Напишу про подснежники, чтобы не рвали, про грачиные гнезда, про веточку березы в бутылке из-под кефира... про все, про все!»
Глава двенадцатая
Алена не ошиблась. Она видела в лесу Анну Федоровну. Учительница, как и обещала, послала по почте заявление об уходе. Директор позвонил ей и сказал:
— Анна Федоровна, ну что за игрушки? Не вышли на работу. Что я должен думать? Как поступать?
— Как хотите! Увольняйте по КЗОТу или через две недели, или как хотите. Не могу я! Поймите, не могу! В класс войти не могу. Страшно мне. Я вот читала: когда дрессировщик теряет уверенность и ему страшно войти в клетку, он считается профессионально непригодным. Видимо, я тоже профессионально непригодна.
— Но ребята у нас все-таки не звери.
— А я не укротительница львов, тигров, рогатых оленей и куропаток...
Андрей Николаевич не дал ей закончить.
366
— Анна Федоровна! Послушайте меня, Анна Федоровна! Я понял вас. Через две недели подпишу. А пока будем считать, что вы отдыхаете. У вас путевка.
— У меня нет путевки. И мне не нужна никакая путевка.
— С завтрашнего дня, горящая, бесплатная. Ехать можно сегодня, если соберете все справки.
— Куда ехать? Не хочу я никуда ехать.
— На трамвае... В дом отдыха имени Горького. Путевку вам сейчас подвезут. Может быть, уже подвезли, пока мы с вами разговариваем. Марина Яновна, она сама вызвалась.
— О господи! — сказала Анна Федоровна.— Не хочу я никого видеть.
— Это неправильно, Анна Федоровна!
— Все равно я уйду! Уйду!
— Ну, уйдете так уйдете. Тогда и подпишу... тогда и будем искать нового словесника. А пока — путевка! Местком постановил. Уйдете не уйдете! Все!
— Это невозможно! Я не понимаю!
Она положила трубку. Что они, сговорились, что ли,— жалеть ее? Анна Федоровна походила по комнате, немного успокоившись, подумала: «Столько лет работала, никакими путевками не пользовалась. С паршивой собаки хоть шерсти клок. То есть, не с собаки, с овцы. Ну, так с овцы!»
Деревянные одноэтажные корпуса, выкрашенные в зеленый цвет, стояли на самом краю обрывистого берега. Анне Федоровне дали ключ, привязанный к большой деревянной груше. Учительница вошла в пахнущую сухим деревом комнатку. Она подошла к окну, чтобы открыть форточку, и у нее захватило дух. Земля, кое-где обнажившаяся, уходила отвесно из-под ног, из-под домика метров на сорок вниз и там пологим заснеженным спуском еще дальше, сливаясь с кромкой льда, с огромным, уходящим до самого горизонта льдистым полем. На горизонте виднелись деревья, и за ними — железнодорожный мост, дорога на Москву. Сгорбленные фигурки рыбаков на льду, который местами уже стал темным от выступившей воды, были отсюда такими же маленькими, какими их видела Анна Федоровна с другого, городского, моста, когда ехала в дом отдыха на такси.
Из этой комнатки, из своего неожиданного окна Анна Федоровна ощутила восторгом души, что город, в котором она родилась и в котором живет и работает, стоит на горе, на берегу древней реки. В обычные дни она ходила по ровным улицам из дома в магазин, из школы — домой, и жизнь была какой-то плоской, замкнутой в себе. И незаметно умирал дух человека, который живет на горе, которому далеко должно быть видно во все стороны. «Древний город был построен на южных границах на высоком берегу, на семи холмах, как крепость для защиты от ногайцев»,— вспомнила Анна Федоровна и подумала: «Город наш построен на семи холмах, как Рим». Эта мысль взволновала ее, и она еще раз подумала: «На семи холмах, как Рим».
367
Она мысленно увидела город с нескольких точек от реки из давних молодых лет, когда любила «вылазки» на маленьком пароходике, когда любила купаться, загорать, играть в волейбол. Она часами сидела на песке и любовалась городом. Девичий монастырь, и на каждом холме — церковь. Некоторые церкви и Девичий монастырь в войну разрушили немцы, но и развалины были красивы.
Любовалась Анна Федоровна и высотным зданием Юго-Восточной железной дороги, построенным после войны около вокзала. С реки между домами, поднимающимися террасами, видны были высокие арки этого здания и башня со шпилем. Просматривалось и родное здание пединститута. Оно угадывалось за деревьями и домами по блеску зеленой крыши и по цвету желтых громоздких колонн, торчащих в просветах.
Как давно она не видела город таким, каким он сейчас вспомнился ей, хотя никуда не уезжала, а жила все эти годы в своем родном городе на семи холмах.
Прогромыхал, втянулся в ажурные переплеты моста поезд. Звук его донесся не сразу. Анна Федоровна тихонько затосковала по скрывшемуся за деревьями поезду. Такие же деревья, которые сейчас еле видны были на горизонте, росли когда-то по берегам неширокой в этом месте реки. Но потом, когда приняли решение построить плотину и эти места попали под затопление, деревья стали вырубать на много километров вокруг. Последний раз Анна Федоровна видела пойму реки из окна вагона, когда ехала в Москву с Борисом. Ей тогда радостно было жить, и все же она и тогда немного погрустила, увидев срубленные, выкорчеванные, поверженные на много километров вокруг черные, с голыми ветвями, деревья. По земле ползали тракторы, бульдозеры, корчуя остатки леса, заглаживая дно будущего моря. Теперь на этом месте море, сидят рыбаки с удочками. И Анна Федоровна не нашла в душе печали по срубленным деревьям.
Светило солнце, делая розовыми белые облака, освещая дальний берег моря, вершины деревьев на горизонте. Окно, выходящее в простор, превращало маленькую комнату в огромное помещение для жизни на семи холмах, для гордого человеческого духа. Анна Федоровна вспомнила слова былины: «На небе солнце — в тереме солнце, на небе месяц — в тереме месяц, на небе звезды — в тереме звезды...» «Наверное, здесь так и будет: и месяц в комнате, и звезды,— подумала она и поняла, что делится своей радостью с друзь- ями-книгами.— А может, не надо ничего этого: читать, помнить прочитанное, учить других?.. Может, надо просто жить, детей рожать, сливаться с природой? Не разврат ли это для ума: вот так все время вспоминать цитаты?» Она и раньше задавала себе этот вопрос. Но ответа и тогда и теперь не было. «Я же не просто так, я же учительница литературы. Это же моя профессия».
Анна Федоровна походила по комнате, потрогала все, погладила, как бы привыкая к вещам. И все смотрела в окно, села за стол и долго ни о чем не думала, просто смотрела.
368
Батареи, рассчитанные на суровую зиму, на ветер со стороны моря, давали много тепла. Ночью было жарко. Анна Федоровна спала с открытой форточкой и проснулась от странного стука в комнате. С вечера она высыпала в большое блюдо печенье и конфеты, которые привезла с собой, и сейчас кто-то громко стучал по стеклянному блюду. Анна Федоровна открыла глаза и увидела белоголовую синицу. Сидя на краю блюда, она крошила клювом печенье и, подняв голову, оглядывала черным глазом комнату. Анна Федоровна лежала не шевелясь, но синица почувствовала, что хозяйка комнаты проснулась, и вспорхнула на форточку, перескочила с зимней рамы на летнюю, оглянулась, ветерок взъерошил на ее шее перышки. Синица цвинькнула и улетела. Учительница тихонько засмеялась. «В небе синица — в тереме синица, в руках синица»,— продолжила она былину.
В столовой Анна Федоровна узнала, что синицы здесь почти домашние, хозяйничают в комнатах, поэтому все надо прятать. Но Анна Федоровна оставила все как было. Она ждала синиц и радовалась, когда они прилетали.
Дни тянулись медленно. Анна Федоровна читала газеты, гуляла, смотрела кино. Привезли «Калину красную» Шукшина. Анна Федоровна пошла второй раз. На другое утро много было разговоров в столовой, обсуждали фильм. Пожилые супруги говорили, что картина хорошая, даже замечательная, но зря Шукшин так с березками... пересластил. И третьему человеку, симпатичному молодому инженеру показалось, что с березками — слишком, фальшиво как-то Шукшин их обнимает и говорит: «Ишь ты какая! Невеста какая!»
Симпатичные соседи по столу после этого разговора перестали быть симпатичными. Анна Федоровна верила Шукшину, каждому его слову и жесту. Она так и сказала за столом:
— Я верю Шукшину... Василию Макарычу.
В этот день после обеда она ушла далеко от дома отдыха, к березкам. И, вспоминая фильм, прижалась щекой к стволу березы, подумала с горечью и обидой на всех людей, которые не понимают: «Не уберегли!» Глаза повлажнели, но тут ее спугнули, и Анна Федоровна быстро пошла в сторону, а завидев и там людей, сворачивала туда, где никого не было, чтобы не видели, как она, старая дурочка, ходит по лесу и плачет о том, чего не теряла, что никогда не принадлежало ей одной. Люди, которых она видела вдалеке, от которых убегала, расплывались вместе с деревьями, с солнцем и облаками, радужно дробились, и приходилось часто-часто моргать и держать некоторое время глаза широко открытыми, чтобы вернуть себе мир таким, каким он был на самом деле. «Не уберегли!» — старалась она думать сурово.
Заканчивались странные каникулы. Анна Федоровна мучительно думала: что делать? Если уйти из школы, надо начинать новую жизнь. Какую? Она ничего так хорошо не понимала и ничего так сильно не чувствовала, как литературу, родной язык. В газетах много писали
369
о школах. Почти в каждом номере что-нибудь было. Анна Федоровна раньше, до статьи Лидии Князевой, так внимательно не читала газеты. Одна учительница сшила к уроку русский сарафан и предстала перед своими учениками мастерицей народного промысла. Об этом писала «Социалистическая индустрия». В «Литературной газете» Анна Федоровна прочитала о сельском учителе литературы, который играет на уроке «Старуху Изергиль» на скрипке. Этим учителем восхищался известный писатель Феликс Кривин. Он так прямо и писал с восхищением: «По-настоящему понятно не то, что доходит до ума, а то, что доходит до сердца. А музыка знает самые короткие пути к сердцу».
Анна Федоровна не была готова к тому, чтобы сшить себе сарафан, играть на скрипке, ходить колесом перед учениками, одним словом, развлекать, удивлять. Она считала, что учеба — это труд и нельзя его превращать в сплошное удовольствие. Труд — это когда трудно. А молодые люди очень легко усваивают предмет, если им не трудно, если им интересно, как в театре, где каждый суффикс старается нарядиться так, чтобы его не узнали. И они очень скоро начинают потреблять интересное, требовать еще более интересного и в результате теряют способность преодолевать трудности, которые все равно остаются в любом предмете. Она думала, думала, сидя над газетами и лежа на кровати в своей комнате, просторной от близкого неба... Можно превратить каждый урок в спектакль, но тогда ученики будут не ученики, а зрители, иждивенцы. Впрочем, эти мысли ее не были категоричными. Анна Федоровна думала и так и эдак. Она попробовала бы сыграть им на скрипке Наташу Ростову, если бы умела. Но она не умела, и шить она не умела. Надо было найти свой путь. Одно она понимала: общество требует от школы, чтобы она выпускала не тех, кто запомнил и заучил, а кто умеет думать, принимать решения. И поэтому все ищут, и все газеты предоставляют свои страницы для поисков, может быть, для ошибок, чтобы и ошибки помогли поискам.
Одну статью из «Комсомольской правды» Анна Федоровна переписала. Статья показалась ей очень важной, хотелось над ней подумать... Молодая учительница, комсомолка Татьяна Макарова, выступая перед ребятами своего выпускного класса, сказала им в прошлом году о необходимости поработать на стройке. «Вы комсомольцы и должны поступать по-комсомольски». И услышала в ответ: «А вы, Татьяна Михайловна? Вы тоже комсомолка?» — «И — я!» — сказала она и пошла со своим классом на стройку, стала бригадиром каменщиков и осталась для своих ребят учительницей.
Анна Федоровна вглядывалась в фотографию девушки. Симпатичная, решительная, в рабочей брезентовой куртке. Она ушла не навсегда на стройку, корреспондент писал, что она вернется в школу. И школа, директор ее ждут. И может быть, это не самый лучший способ завоевывать авторитет, преподавать сверх программы своим ученикам еще и кирпичную кладку, строить вместе с ними дом. Но
370
когда надо было ответить ребятам, она ответила не словами, а своей жизнью. «Могла бы я так? — спросила у себя Анна Федоровна.— Пожалуй, когда носила летную куртку и шлем, могла бы. А теперь — нет, нет!» Но такая школа ей нравилась, школа правды, школа, в которой учитель отвечает за каждое свое слово жизнью.
После этой статьи у Анны Федоровны была бессонная ночь. Она лежала и думала: «Куда же деваются девушки в шлемах, в брезентовых куртках? Как же потом, когда тебе подкладывают на стул кнопку, не потерять свою школу. И какую — свою? Есть школа радости Сухомлинского, когда детей незаметно, через лес и поле вводят в учебный процесс, в школу познания. Есть школа, где не ставят двоек. Шаталовский метод. Есть школа из кинофильма «Ключ без права передачи», где учительница литературы чуть ли не подружка. А есть школа Татьяны Макаровой — школа правды. Надо искать свой путь. Надо искать. Школа Татьяны Макаровой плюс еще что-то, что должно противостоять развлекательности, литературным клубам с* самоваром и чаепитием, танцевальным вечерам с притушенными огнями, праздничным вечерам, посвященным женскому дню Восьмое марта, на которых учителя превращаются в официанток. Противостоять? Быть!..
Глава тринадцатая
Анна Федоровна позвонила директору и сказала, что выходит на работу. Она сказала это сухо, коротко, отрывисто и ждала, что директор обрадуется, вспомнит предыдущий разговор. А он буркнул что-то вроде: «Хорошо, да, да!» Анна Федоровна даже всех слов не разобрала. Она почувствовала разочарование. Сколько передумала за эти дни, какую внутреннюю борьбу выдержала. Новый костюм надела, а он «да, да — балда!».
Костюм она купила еще в прошлом году, но надевать в школу не решалась. Слишком он был для нее модным и немного не по фигуре. Она весь вечер его ушивала, гладила, вертелась перед зеркалом, как какая-нибудь лапочка. Костюм состоял из кофточки салатного цвета с погончиками и такой же юбки с разрезом и пуговицами на боку. Разрез она ушила, чтобы можно было только ходить, а пуговицы оставила. Для украшения.
Следующий ее решительный день с утра начался неудачно. В проходном дворе — она всегда здесь ходила, сокращая дорогу,— встретила Бориса. Он вынырнул из арки с чемоданчиком. Они миновали друг друга и так бы и разминулись, но Борис все-таки остановился, и ей пришлось остановиться. Говорить им было не о чем. «Здравствуй!» — «Здравствуй!» — «Ну, как живешь?» — «Ничего».— «Ты в этот дом?» — «В этот».— «А я — в школу». Вот и все. «Прошла любовь, завяли помидоры».
Анне Федоровне было неприятно чувствовать, что она плохо вы¬
371
глядит в своем полупальто-полукуртке и в старой шапке. Она сожалела, что бывший супруг не может увидеть ее в новом костюме. Он тоже выглядел неважно: старое, потертое, помятое пальто, облезлый чемоданчик с инструментами. Двое облезлых встретились.
До самой школы не могла избавиться от неприятного ощущения и пришла в учительскую, растеряв ту уверенность, которую накопила в доме отдыха. И когда она, здороваясь, отвечая на вопросы, на какое-то мгновение забывала о том, что такая встреча была, оставалось само ощущение неприятного, чего-то такого неловкого, что мешало ей нормально улыбаться и двигаться. Она тратила усилия, чтобы вспомнить, и тут же вспоминала: «Ах да, встреча с бывшим мужем».
Подошла Марина Яновна, спросила:
— Как отдохнули? — И, потрогав погончик на плече, сказала: — С погончиками. Вам идет.
И тут же двинулась из учительской. Что-то в лице Марь Яны было темное, какая-то тень усталости. «И эту ломовую лошадь 9-й «Великолепный» ухайдакал!» — подумала Анна Федоровна.
Потом она долго разговаривала с практиканткой Наташей. Спасительная беседа. Должна же учительница, которая некоторое время отсутствовала, выяснить, какие темы прошли, какие нет. Анна Федоровна исподволь оглядывалась на учителей, пытаясь угадать, как они на самом деле относятся к ее возвращению. Но никто особенного интереса и злорадства не проявлял. У всех свои заботы... Разговаривали об обычном: о вчерашней передаче по телевидению «А ну-ка, девушки!», о гастролях греческого ансамбля «Бузуки», о какой-то тесьме... по рублю восемьдесят за моток. Прошла мимо, дымя сигаретой, стряхивая на ходу пепел в коробочку из-под кнопок, Нина Алексеевна, сказала, морщась от дыма:
— В четверг ты дежуришь по школе.
Анна Федоровна кивнула, вздохнула с облегчением и стала внимательней слушать, что говорила Наташа.
— Анна Федоровна, дорогая моя! — раздалось грудное воркованье. Наташа сразу замолчала и отошла в сторону. Ее оттеснила вошедшая в учительскую председательница родительского комитета: — Как ваше здоровье? Главное, как вы себя чувствуете? Отдохнули? Мы так волновались.
Очень хотелось ответить: «А вам какое дело?» — чтобы у этой раскормленной дамочки глаза на лоб полезли. Но Анна Федоровна ответила сдержанно:
— Не понимаю, чего вы волновались.
— Погода все эти дни стояла чудесная. Мы так радовались за вас, за погоду.
— Да, я тоже за себя радовалась.
— Вы не пробовали сыроедение? Сырую крупу жевать?
— Зачем?
372
— У вас же сердечно-сосудистое?
— Извините,— сказала учительница, отходя от Надины Семеновны и кивком головы прекращая разговор.
Идти ей, собственно, было некуда. Она двинулась в ту сторону, где стена. Но к счастью, на стене висело расписание дежурств, и Анна Федоровна принялась его изучать. Свою фамилию она сразу увидела. Она была написана от руки поверх фамилии Марины Яновны Зеленовой. «Почему же вместо кого-то? — подумала Анна Федоровна и, вспомнив темное, усталое лицо учительницы географии, решила: — Видимо, больна...»
Прозвенел звонок и почти одновременно вбежала учительница химии, лапочка. Шапку сдернула, пальто с одной руки, с одного плеча сбросила и, сбрасывая со второго, поволокла концом по полу. Шапка, волосы, пальто — все поблескивало, было мокрым.
— Там, что... дождь? — удивилась Зоя Павловна и посмотрела в окно.
— Нет, снег,— возбужденно ответила лапочка из-за шкафов.
С утра белесое низкое небо давило на плечи. Солнце за ним едва угадывалось. Оттаявшие ручьи не журчали, как при солнце, а медленно текли, поблескивая темной водой. И вот — пошел снег.
Анну Федоровну ребята увидели на перемене. Вбежал Мишка Зуев, вытаращив глаза, сказал:
— Рыба в школе! Во!
Ему не поверили, но следующий урок — литература, и пришла Рыба. В новом костюме она показалась незнакомой, даже немного чужой. И поздоровалась не как обычно, сказала просто:
— Здравствуйте! Садитесь! Наталья Анатольевна обещала вам дать рекомендательный список литературы по киноведению. Я вам прочту его. Запишите.
Ребята зашуршали в столах и сумках, вынимая тетради. Анна Федоровна опустилась на стул, ноги у нее слегка дрожали. Первые минуты прошли хорошо. Голос твердый, достаточно отчужденный, официальный. Пусть не думают, что она их прощает или смирилась с положением отвергнутой и прощенной учительницы. Теперь можно немного расслабиться, оглядеться. Анна Федоровна положила перед собой бумажку, которую ей дала практикантка Наташа, продиктовала:
— «Кинословарь, том I и том II, издательство «Советская энциклопедия», 1970 год».
Ребята, не задав ни одного вопроса, склонились над тетрадями. «Пишут,— подумала Анна Федоровна,— стараются. Тихо-то как... Как на контрольной».
Факультативный курс по истории кино ввели в школе в этом году впервые. Состоялась встреча с актрисой областного тетра драмы Натальей Дроздовой, которая снялась в новом мюзикле в роли Беатриче, юной девушки в белом платье. Она так хорошо пела доверчивые девчоночьи песенки... Потом, когда приезжал в город и выступал в центральном лектории Вячеслав Тихонов, хотели и его пригласить. Но встреча не состоялась, и все последующие тоже. Заболела историчка Серафима Юрьевна, которая отвечала за факультатив.
Вновь оживила работу кинолектория Наташа. Она прочитала две лекции «Литература в кино» и «Многоликий экран». Третью лекцию, названную очень сложно: «Кино как средство общения с классиками литературы», должен был прочитать на следующей неделе искусствовед и критик В. Г. Дресвянников. Получалось так, что, диктуя список, Анна Федоровна берет на себя заботы по проведению занятий факультатива.
Каждое название она читала дважды, чтобы ребята успели записать, и при повторном механическом чтении проглядывала список, даже успевала его перевернуть и посмотреть, что на обороте. Здесь были книги Бергмана, Феллини, книга Виктора Шкловского «За 40 лет» и даже Андре Базена «Что такое кино?». «Ну зачем Базен?» — подумала Анна Федоровна. Наташа, видимо, вписала в свой список все, что знала, все книги по кино, какие нашлись в библиотеке.
— Андре Базен,— продиктовала Анна Федоровна.
За окном летел снег, но не вниз, а параллельно над землей и вверх. Он завораживал, начинало казаться, что так уже было, что в этом повторении и заключены вечность и бесконечность.
Анна Федоровна начинала привыкать к тому, что она за своим столом, в своем классе. Ребята молча записывают, она диктует и поглядывает, как обычно, в окно. Она и дома выбирала какой-нибудь объект (занавеску на окне, корешки книг), на который смотрела, сосредоточиваясь, и думала, «держа» глазами объект внимания. В школе этим объектом было окно, точнее, деревья за окном, а сейчас — снег.
«Я же много знаю,— думала учительница.— И Базена я читала.
374
Как же так получилось, что я покорно читаю им список практикантки, составленный из случайных книг, вряд ли ею самой прочитанных».
Алена записывала названия книг и тоже поглядывала в окно. Снег заметно усиливался, тяжелел. Более крупные снежинки медленно скользили по стеклу, прочерчивая быстро тающие линии. Стекло с той стороны сделалось мокрым, поползли вниз капельки, как после дождя. Мальчишки и девчонки все чаще и чаще отрывались от своих записей и застывали на мгновение с открытыми ртами, глядя в окно. И наступил момент, когда ребята и учительница — все остановились на полуслове. Снег повалил крупными хлопьями. «Опять зима!» Алена вспомнила зеленые стрелочки подснежников, которые видела в лесу. Она подумала: «Нежные, зеленые, теперь их снова завалит снегом. Так и Рыба. Думали, что она ушла, растаяла с мартовским снегом. А она вдруг снова явилась в школу».
Глава четырнадцатая
Установились снова по-зимнему холодные дни, с ветром, с морозным солнцем. Но весна не отменялась, она чувствовалась во всем. Ребята с удовольствием отдавались посторонним занятиям, перебрасывались записочками, играли в морской бой.
Алена чертила на промокашках рожицы, получались все красавцы с усами. Иногда записывала стихи...
«Я пишу на промокашке, потому что нет бумажки подходящей под рукой. Получился стих такой под названьем «Никакой».
Весенняя лень чувствовалась во всем: в мыслях, в движениях. «Что вы как сонные мухи»,— говорили учителя. Мухи тоже проснулись, а именно две мухи, которых, по примеру космонавтов, проводивших в космосе эксперименты с двумя мухами, ребята назвали «Нюрка-1» и «Нюрка-2». Мухи летали, путались, невозможно было запомнить, где какая, и это всех веселило.
К новой Анне Федоровне привыкли. Нового и было-то в ней — костюм. «Она думает, что одета в стиле «милитэр»,— иронизировала Лялька Киселева. Девчонки соглашались, иронически кривили губы.
Все смирились со скукой на уроках литературы. Анна Федоровна смирилась со своей участью. Она ходила в школу, потому что должна была где-то работать. Этот учебный год она хотела завершить, а дальше... Дальше будет видно.
Странные происходили вещи. Дома она готовилась, читала редкие книги, выписывала интересные факты. Но приходила в школу, открывала дверь в класс, видела скучающие; даже тоскливые физиономии, и все шло, как обычно. Она что-то говорила, они слушали
375
вполуха, занимаясь чем-нибудь посторонним, со второй половины урока начинали томиться, ждать звонка. И если в этой атмосфере она и успевала сказать что-то интересное, ее просто не слышали.
Встреча с В. Г. Дресвянниковым состоялась после пяти уроков. Девчонки, как водится в таких случаях, в те полчаса, пока в актовом зале расставляли стулья, застилали куском синей материи стол, наливали воду в графин, бегали мимо учительской, заглядывали в приоткрытую дверь: какой он, этот искусствовед и критик? Это был и повод побегать, размяться (все-таки пять уроков высидели), и желание покрасоваться, показать себя незнакомому человеку, вероятно очень умному. И тайная надежда, что заметит, обратит внимание. Ах, так приятно и страшно чувствовать на себе внимание взрослого человека!
За десять минут до начала ребята уже сидели в зале. От их разговоров стоял сплошной гул, который доносился и в коридор. Несколько девчонок продолжали бегать мимо учительской. Другие прогуливались медленно, оживленно разговаривая, как будто им нет никакого дела до критика.
Лялька Киселева и Маржалета, попеременно беря друг друга под руку и тихонько посмеиваясь над своими девчоночьими секретами, прошли перед самым носом В. Г. Дресвянникова, когда он появился из учительской, и убежали на четвертый этаж, чтобы промчаться, громко топая, по четвертому этажу и спуститься снова на третий в другом конце коридора, раньше, чем критик приблизится к дверям актового зала. Запыхавшись, громко смеясь, они ринулись к своим местам.
— Идет! — крикнула восторженно Маржалета.
Г ость появился в сопровождении Анны Федоровны и завуча Нины Алексеевны. Он вошел в дверь зала, которая была ближе к сцене, и, пока двигался по проходу между сценой и первым рядом, девчонки хлопали ему, задние привстали, чтобы лучше видеть. После пяти уроков трудно просто так сидеть, а хлопать, вертеться, привставать — это действие, живая жизнь. Так энергично, радостно и громко приветствовали в школе всех гостей: и артистов, и поэтов, и ветеранов войны, и лекторов.
В первом ряду были оставлены свободные места. Нина Алексеевна села, а Анна Федоровна осталась стоять. В. Г. Дресвянников зашел за стол, застланный синим куском материи, постоял секундочку и опустился на стул. Это был мужчина средних лет. Лицо усталое, но без морщин. Стриженый затылок и мальчишеский светлый чубчик. Сразу и не поймешь — и старый и молодой, и мужчина и мальчик.
— Сегодня у нас в гостях известный критик и искусствовед,— сказала Анна Федоровна.— Он часто выступает по вопросам современного киноискусства и сегодня любезно согласился прийти к нам и поговорить о Пушкине и произведениях нашего великого поэта, ставших фильмами. Сейчас Виктор Григорьевич сам представится, скажет, как его зовут, и скажет, какая у него к вам личная просьба.
376
Школьная аудитория не упустит случай посмеяться. Услышав, что Виктор Григорьевич скажет, как его зовут, зал заулыбался.
В. Г. Дресвянников при словах «известный критик...» забарабанил по столу пальцами. Известным критиком и искусствоведом он не был. В столичных журналах его печатали редко, оригинальные мысли его не ценили. Он относился к этому болезненно и, слыша по радио или читая в газетах слова «известный критик...», вздрагивал: опять не о нем.
Анна Федоровна села в первом ряду рядом с Ниной Алексеевной. В. Г. Дресвянников вышел из-за стола.
— Как вы уже слышали, зовут меня Виктор Григорьевич. Фамилия Дресвянников. Фамилия моя геологическая, от слова «дресва» — крупный песок, гравий...
Он на всякий случай всегда объяснял, от какого слова произошла его фамилия. Иногда при этом добавлял, что «дресва» в золотопромышленности — крупный песок с содержанием золота. Так что фамилия его, можно сказать, золотая. Но здесь он этого не сказал.
— Я пришел к вам в школу,— говорил он, медленно прохаживаясь перед первым рядом,— имея в виду... помимо основной задачи...— два iiiara к дверям,— помимо возложенной на меня обязанности клубом любителей кино,— еще два шага к дверям,— помимо обязанности, которую я сам на себя возложил...— два шага назад от дверей.— Любя Пушкина,— еще шаг,— любя все его творчество,— еще шаг,— в том числе «Капитанскую дочку», о которой сегодня пойдет речь,— два шага, поворот у окна,— имея в виду, помимо всего этого, и небольшую прикладную задачу. Поясню!..
При слове «поясню» голова его особенно низко склонилась. Он шагал, глядя вниз на ноги, словно следил за тем, чтобы правой ногой не наступить на левую, а левой — на правую. Паузы между словами были большие. А после слова «поясню» он дошел молча до дверей
377
и так же сосредоточенно, молча двинулся назад и, только оказавшись на середине, напротив стола, пояснил:
— Я коллекционер... Собираю «альбомы нежных дев».— Пауза.— Выражение Пушкина, помните, вероятно, да?.. В «Евгении Онегине»: «Бывало писывала кровью она в альбомы нежных дев...» — Пауза.— Мать Татьяны Лариной писывала, ну, естественно, и Ольги, которая тоже, как вам известно, Ларина. Фамилия Лариных, вероятно, от «лары» —домашние боги древних римлян, боги очага. Так, значит... «альбомы нежных дев», выражение Пушкина...— повторил он.— Вы понимаете, о чем я говорю? В разных школах они называются по-разному: «Песенники», «Бим-бом-альбом» или «Бом-бом-альбом», «Гаданья», «Сердечные тетради». Иногда просто: «Дневник моей жизни». Их заводят девочки в шестом, седьмом классах и бросают, как правило, в девятом. Бросают в прямом смысле — выбрасывают. Если кто-то из девочек пожелает передать мне свой альбом на хранение, передайте, пожалуйста, для меня... Вот Анне Федоровне. Я буду... Я заранее...
— Но у нас, кажется... в нашей школе девочки не ведут такие альбомы? — проговорила, напряженно улыбаясь, Нина Алексеевна и пошутила: — У нас нет нежных дев. В нашей школе девочкам некогда сентиментальные стишки переписывать. Они у нас все спортсменки, разрядницы.
— Ну, может быть, несколько альбомов найдутся? Я их заберу, и тогда не будет,— сказал В. Г. Дресвянников.
Зал дружно, хотя и не очень громко засмеялся.
— Найдутся! Во все времена во всех школах были, и у нас найдутся,— сказала Анна Федоровна и подумала: «Вот пришел человек за девчоночьими альбомами. А она, учительница литературы, и не поинтересовалась ни разу этим видом творчества. А ведь в самом деле интересно, что переписывают, как переписывают. Что бытует? Только ли одна пошлость? Литературу переписывают, только не ту. А какую?»
В. Г. Дресвянников размеренно ходил перед первыми рядами, туда, обратно, смотрел не на аудиторию, а в сторону дверей.
— У нас утвердилась официальная точка зрения на школьные альбомы девочек, с которой я не согласен.
— А зачем они вам? — выкрикнули из задних рядов.
— А вы «Анкеты» собираете? — спросила Светка Пономарева, и, когда критик встрепенулся и стал разыскивать взглядом, кто его спросил, она поднялась: — Знаете, у нас есть такие тетради с вопросами... с пожеланиями...
— А зачем они вам? — опять спросил тот же напористый девчоночий голос из задних рядов и раздался смех: — Нам говорят — сжечь их, и больше ничего.
— Поясню! Вероятно, я должен пояснить? — спросил он у Анны Федоровны и Нины Алексеевны. Обе учительницы молчали, и критик
378
еще раз спросил: — Если можно, маленький эксперимент с вопросами и ответами?..
— Да, да, пожалуйста,— сказала Нина Алексеевна, сделав жест рукой назад, в сторону зала, и глядя мимо В. Г. Дресвянникова.
— Кто вспомнит?.. Чьи стихи?.. «Я не люблю альбомов модных, их ослепительная смесь Аспазий наших благородных провозглашает только спесь. Вы, украшенные проворно Толстого кистью чудотворной иль Баратынского пером, пускай сожжет вас божий гром!»
Он еще не дочитал, как послышались выкрики: «Пушкин!», «Евгений Онегин!». Поднялась Лялька Киселева, огладив платье на себе, сказала уверенно:
— Пушкин, конечно. Из «Евгения Онегина».
— Нет!..
— Пушкин! — покраснев, нахмурив лоб, повторила Лялька.— Я могу дальше прочитать: «Когда блистательная дама мне свой in-quarto подает...» И так далее.
— Нет, не точно. Поясню...
И прежде чем пояснить, В. Г. Дресвянников с минуту молчал, загадочно улыбался, глядя в зал.
Многие сразу угадывали в строчках, которые он читал, пушкинскую руку, но никто ему ни разу не сказал, откуда они взяты: «Я не люблю альбомов модных, их ослепительная смесь Аспазий наших благородных провозглашает только спесь».
— Следующие четыре строки действительно взяты из романа «Евгений Онегин», а эти, первые,— из альбома!.. Из альбома Сле- нина... Из альбомной лирики! Конечно, не трудно догадаться, что писались они для романа... Размер «онегинской строфы», продолжение мысли... А записал Пушкин эти строчки почему-то в альбом, а не в роман. И тот, кто захочет понять природу четвертой главы, кто захочет вникнуть в сравнительную характеристику альбомов уездной барышни и блистательной дамы, тот должен будет обратиться и к альбому Сленина, к альбомной лирике.
— Но Пушкин, как и мы, учителя, не любил этих «альбомов модных». Пускай разобьет их гром! — попыталась процитировать только что прозвучавшие строки Нина Алексеевна.
Она проговорила это с победной улыбкой, игнорируя все тонкости, о которых толковал критик. Сам Пушкин на ее стороне. Пушкин не любил этих альбомов — и весь разговор. «Тоже мне, кинодеятель! — подумала она.— Собиратель «альбомов нежных дев». О чем они там думают, присылают в школу коллекционеров?»
Открылась дверь, и вошла Марь Яна. Она присела на свободный стул в последнем ряду. У Марь Яны тяжело заболела сестра Катька. Простудилась уже после возвращения из Бакуриани, где-то на вечеринке. Классная 9-го «Великолепного» теперь спешила сразу после уроков в больницу. Она перестала проводить классный час. Сегодня совсем не была. Вместо географии был английский. И вот — пришла, когда уроки закончились. Марь Яна села тихонько и приготовилась
379
слушать, но на нее стали обращать внимание. Раиса Русакова даже попыталась выбраться из своего ряда, чтобы подойти, но ее не пустили. Марь Яна поднялась и вышла. «Зачем приходила?» — подумала с тревогой Алена. Что-то было в фигуре классной потерянное: видимо, сестре хуже. А в школу все-таки пришла. Догнать бы, спросить... Но Алена сидела в самой середине, и критик интересные вещи рассказывал. Она решила: потом, после кино, они с Райкой найдут классную, если она еще здесь будет, и проводят домой. Надо ее проводить, обязательно, обязательно.
— Пушкин не любил именно модных альбомов. А записывал свои стихи куда? — спросил В. Г. Дресвянников.
Он хотел, чтобы и учителя и школьники поняли, что Пушкин охотно записывал стихи в такие же девчоночьи альбомы, которые он, Дресвянников, собирает. Для доказательства этой мысли у него были две пушкинские строчки из «Евгения Онегина»: «В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я». Всего две строчки, но умело повторенные несколько раз, они умножались, производили впечатление...
«Конечно, вы не раз видали уездной барышни альбом, что все подружки измарали с конца, с начала и кругом... В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я».
Он виртуозно умел цитировать, присоединяя нужные ему строки последовательно к одному, другому, третьему четверостишию...
«На первом листике встречаешь... А на последнем прочитаешь: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня»... В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я».
И еще раз... Он создавал из Пушкина свою, цитатную, поэму...
«Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки. Тут, верно, клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски. Какой-нибудь пиит армейский тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я».
Он старался повторением ключевых строк обратить внимание на приметы, присущие альбомам современных девушек. Переписывают же они по сей день друг у друга слова: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня».
Анна Федоровна оглянулась назад и поразилась, с каким вниманием девчонки следят за выражением лица этого человека. Говорил он не очень хорошо, ходил и бубнил себе под нос:
— Пушкин в 1832 году подарил Смирновой-Россет такой альбом. Пушкин сам написал название и записал в альбом свои стихи: «В тревоге пестрой и бесплодной...» Теперь по этому пушкинскому альбому мы можем воссоздать атмосферу салона Ка¬
380
рамзиных. Альбомная лирика двадцатых — сороковых годов... прошлого столетия... оказывала влияние даже на пушкинскую лирическую поэзию. Поэт Языков в послепушкинские пятидесятые годы жаловался на исчезновение альбомов в прозаическое и пошлое время. Не альбомы пошлые, даже если в них встречаются кое-какие вольности. Время пошлое, в которое исчезают альбомы. Поясню! Для этого мне надо вернуться немного назад, в допушкинское время. Наиболее ранние альбомы в собрании Рукописного отдела Пушкинского дома относятся ко второй половине XVIII века. Это так называемые штамбухи, распространившиеся...
Нина Алексеевна решительно поднялась.
— Виктор Григорьевич, извините. Мы пригласили киномеханика на определенные часы. Я боюсь, мы просто не успеем...
— Хорошо, давайте сначала посмотрим кино,— сказал он и сел в первом ряду на свободное место, положив ногу на ногу, начал покачивать носком ботинка.
Но когда погас свет и застрекотал узкопленочный аппарат, В. Г. Дресвянникова вызвали в коридор. Там уже стояли Нина Алексеевна и Анна Федоровна.
— Я немного отвлекся,— сказал он, улыбаясь,— извините, страсть коллекционера.
Нина Алексеевна закурила и, заговорив, стала пускать дым в сторону и смотрела в сторону:
— Это ничего. Интересно. Но немного, как бы это сказать... не по теме.
— Всю жизнь так живу... Не по теме,— он посмотрел на Анну Федоровну.
Она потопталась, опустив голову, сказала:
— Да, интересно. Лично мне интересно... Добавление к «Евгению Онегину» — это интересно. Вы считаете, тут нет подмены школьных альбомов пушкинскими альбомами?
— Может быть, отчасти... Совсем немного... Не во всех случаях можно легко отделить альбом от альбома, историко-литературные интересы требуют заострения мысли.
— Нет, не могу я, Виктор Григорьевич, согласиться, хоть режьте, что альбомы наших дев представляют историко-литературный интерес,— сказала Нина Алексеевна.
— Да, да,— соглашался В. Г. Дресвянников.— Это все проблематично.
— Я вам скажу честно,— Нина Алексеевна стряхнула пепел в бумажку, свернутую коробочкой,— я против этих альбомов. Была и буду! Они записывают туда всякую чепуху. А иногда, извините за выражение, и похабщину.
— Да, да, я знаю,— сказал В. Г. Дресвянников.
— Но тогда непонятно, зачем вы так говорили. Мы боремся с этими альбомчиками, анкетами.
— Может быть, зря боремся? — мрачно возразила Анна Федо¬
381
ровна.— Вернее, не так боремся, не знаем, с чем боремся. Альбомов этих нам читать не дают.
— Читала я,— сказала Нина Алексеевна,— читала, отбирала, за мою практику можно было бы уже такую коллекцию составить. Не понимаю я, Виктор Григорьевич, зачем вам, кинокритику, эти альбомчики?
— Живу не по теме, думаю не по теме. Но после фильма даю обещание держаться темы, честное слово.
Нина Алексеевна с сомнением посмотрела на него:
— Только вы, пожалуйста, не очень долго держите их послё фильма. Им уроки надо готовить. И родители будут волноваться.
— Хорошо, хорошо, я понял.
Глава пятнадцатая
После фильма В. Г. Дресвянников говорил только об экранизации пушкинских произведений «Капитанская дочка», «Дубровский». Потом девчонки задавали вопросы, он отвечал. Он любил отвечать на вопросы. Тут можно говорить не по теме. О чем спросили, о том и говорить. Но, воспользовавшись паузой, Нина Алексеевна поднялась, поблагодарила его от имени школы, пожала руку. Все захлопали. В. Г. Дресвянников под аплодисменты вместе с учительницами вышел в коридор. И уже в коридоре почувствовал, что Нина Алексеевна потеряла к нему всякий интерес, а учительница литературы идет и, судя по всему, думает о том, что он сказал, вместо того, чтобы безоговорочно согласиться с умным эрудированным человеком, которые не часто приходят к ним в школу.
С его оригинальными мыслями всегда было так. Он поражал воображение слушателей, пока они не замечали подмены. Некоторые считали, что его мысли и оригинальными-то были за счет подмены.
382
Они не понимали, что он подменял одно другим для доходчивости. Его мышление требовало оригинальной формы, парадоксов, только и всего. Ему казалось сейчас, после вопроса Анны Федоровны, что он сознательно подменил в своих рассуждениях школьные альбомчики с песенками «Мой дедушка разбойник» и «Чап-чап-чары» альбомом Смирновой-Россет, куда записывали свои стихи Пушкин, Плетнев, Вяземский, Лермонтов. В. Г. Дресвянников не хотел себе признаться в том, что учительница попала в слабое место в его рассуждениях, которого он сам не замечал, а теперь заметил, но не хотел соглашаться с какой-то там школьной учительницей. Что они понимают! Но настроение у него испортилось. Он шел по улице и поглядывал на прохожих исподлобья, с обидой и враждебностью.
Около перехода он остановился, пережидая идущий транспорт.
— Виктор Григорьевич, извините, пожалуйста.
Он обернулся. Перед ним стояла девушка. Красный беретик, румяные от быстрого бега щеки, нежная бледность лица и большие светло-зеленые глаза — Лялька Киселева. Она считалась слабенькой девочкой, не ходила на лыжах, не бегала, пропускала уроки физкультуры. Но тут пришлось бежать, потому что никто из девчонок не решался догнать В. Г. Дресвянникова, хотя всем хотелось с ним поговорить, спросить его о том, о чем они не решались спрашивать в школе при учителях.
— Понимаете... Мы лучше сами... Не надо через учителей... альбомы...
Подбежали другие девчонки.
— Вы знаете, какие они,— сказала Маржалета про учителей и махнула рукой.
— «Анкеты» вы собираете? — опять спросила Светка Пономарева.
Ее голосок заглушили более громкие, более напористые голоса.
— Учителям отдашь, они потом начнут...
— Прорабатывать будут, нотации читать. Охота была!
— Виктор Григорьевич, а правда, что Высоцкий женился на Марине Влади?
Девчонки его окружили, задавали вопросы наперебой. Он успевал выслушивать их, но не успевал отвечать. Он улыбался, вертел головой, потом сказал:
— Пойдемте, а то мы мешаем.
В. Г. Дресвянников двинулся вдоль улицы, окруженный девчонками. Алена тоже была здесь. Ей хотелось поговорить с критиком и искусствоведом о стихах. Она решила отдать ему свой «Бом-бом- альбом» и свои стихи, чтобы он сказал: стоит ей писать или нет. Конечно, она знала сама — стоит. Писать она будет! Но хотелось, чтобы это же самое сказал ей критик. Алена заходила и с левой и с правой стороны, но перевести разговор на литературу ей не удавалось. Маржалета и Лялька Киселева завладели вниманием критика, и еще мешали своими глупыми вопросами две девчонки из 8 «А» — Петрушина и Маташкова.
383
— Виктор Григорьевич, а на ком женат Тихонов?
— Виктор Григорьевич, а что сейчас делает Соломин?
В. Г. Дресвянников знал личную жизнь актеров отчасти тоже так, по слухам, но по слухам более достоверным, поскольку был все-таки связан с областным клубом любителей кино.
— Виктор Григорьевич, вы куда сейчас идете? Вы где живете? Мы вам принесем альбомы домой.
— Я живу в противоположном конце. Я не знаю, куда вы меня ведете.
— Мы никуда... Мы здесь живем,— сказала Светка Пономарева.— Хотите, я сейчас вам принесу? Вы «Анкеты» собираете? — Ее, наконец, услышали, она торопливо принялась объяснять: — Там такие вопросы на каждой странице: «Твое хобби», «Что ты больше всего ценишь в девушке?», «Что бы ты сделал, если бы нашел миллион?»
— Да, да,— сказал Дресвянников.— И «Анкеты» тоже. Все разновидности альбомов, какие есть.
Светка Пономарева жила в доме, где был магазин «Электроника». Она убежала за тетрадкой, радуясь тому, что может оказать услугу такому интересному человеку. Найдя тетрадку, она выглянула в окно. Внизу остались только Лялька Киселева и В. Г. Дресвянников. Они прогуливались вдоль стеклянной стены магазина.
В. Г. Дресвянников и Лялька ходили по плитам тротуара, поглядывая на проносящиеся по улице автомобили. В щелях между плитами налип бугорками снег, образовав кое-где наледи. Когда они подходили к таким скользким местам, В. Г. Дресвянников брал Ляльку под руку, осторожно вел, потом отпускал. Лялька нисколько не смущалась.
— Вы не можете представить,— говорила она,— какие в девятом классе есть еще дети. Фантики собирают.
— Фантики? — спросил В. Г. Дресвянников.
— Да... Нас только несколько человек, которые, можно сказать, переросли школу. Остальные все, понимаете... кантри.
— Кантри?
— Да, сельские. Им бы только побегать по зеленой травке. Некоторые, знаете, совсем дети. Особенно мальчишки. Они такие маленькие. И вообще, кантри, в смысле интересов. И альбомчики у нас ведут кантри. Вы там не найдете ничего интересного. Переписывают друг у друга «люби меня, как я тебя» и вообще всякие песенки. Я никогда не переписывала.
— А ваш альбом? — спросил В. Г. Дресвянников.— Вы мне его покажете? — Он невольно перешел с Лялькой Киселевой на «вы», потому что она держалась по-взрослому и разговор вела с ним взрослый.
— У меня нету. А почему я вас догнала, да? Они все стеснялись. Пришлось мне вас догонять, хотя я бегать не люблю.— Они дошли до угла и повернули назад.— Вы читали новую повесть Юрия Трифонова?
384
— Да,— сказал В. Г. Дресвянников.— Городские повести Юрия Трифонова я все читал. Сильная литература.
— А у нас есть такие, которые не читают. У нас, не хочется говорить, но если честно, почти все такие. Их интересуют только детективы, научная фантастика. А «Вокруг Пушкина» вы читали?
— Нет, я слышал, что есть такая книга, но не читал. Даже не видел.
— Я читала и, естественно, видела.— Она засмеялась.— Хорошо издали, с супером. Мы бы, конечно, сами не достали, с книжками стало так трудно. Мой папа дирижер. Он работает в нашей опере. Ему принесли...
— Дирижер? — уважительно удивился В. Г Дресвянников.
— Да,— небрежно ответила Лялька,— ни одного вечера дома, все за пультом и за пультом... Там, в этой книжке... изложен новый взгляд...
Прибежала Светка Пономарева. В. Г. Дресвянников взял тетрадку, начал ее разглядывать, и, поскольку Лялька молчала, пришлось Светке поддерживать разговор.
— А вот здесь — пожелание,— сказала она.— Там вопросы и ответы, а здесь пожелание хозяйке тетради. Мишка Зуев, комик, написал... «Что пожелать тебе, не знаю, ты только начинаешь жить. От всей души тебе желаю с хорошим мальчиком дружить».
Лялька посмотрела на В. Г. Дресвянникова. В ее взгляде было: «Я вам говорила, ничего, кроме глупостей, вы тут не найдете».
После Светки Пономаревой ближе всех к «Электронике» жила Алена. Она достала из нижнего ящика «Бом-бом-альбом», не раздеваясь присела к столу, переписала на отдельный листок стихотворение «Береза». Переписывая, думала: «Вот бы напечатать. Он связан с газетами, отнесет — и напечатают. Очень просто. Вот было бы... Утром мать Сережки развернет газету, увидит стихи, увидит портрет знакомой девочки, скажет: «Сережа, это не вашей девочки стихи?» Алена размечталась, потом спохватилась: «Ой, скорей, а то уйдет».
Пробегая под аркой, Алена остановилась: «Ой, Марь Яну забыла разыскать!» На душе стало смутно. Но тут Алена увидела процарапанные на темной стене арки слова: «Алена хорошая» — и забыла про Марь Яну. Какой-то дурак в подъезде пишет и здесь нацарапал. Но все-таки приятно.
Алена подошла к девчонкам, к В. Г. Дресвянникову, протянув тетрадь, сказала:
— Вот!
А листочек со стихотворением оставила в руке и тут же скомкала, спрятала в карман пальто. Она не собиралась этого делать, а когда сделала, поняла: наказала себя за невнимательность к Марь Яне, за то, что поддалась общей суете... Алена с досадой пнула льдистый бугорок, нахмурилась.
13 Школьные годы. Вып.З
385
Принесли свои тетради Маржалета, Нинка Лагутина. А девочки из 8 «А», Петрушина и Маташкова, не вернулись.
— К сожалению, я больше ждать не могу,— сказал В. Г. Дресвянников. Он забрал альбомы и ушел.
Девчонки постояли, посмотрели ему вслед. Они испытывали легкое разочарование. Произошло что-то странное. Прятали альбомы от родителей, от учителей. Выбирали тайные минуты для того, чтобы полистать, записать новую песню, стишок про любовь. Пришел чужой человек, мужчина, попросил, и они отдали. И еще бежали за ним, чтобы взял.
— Посмотрим, что в магазине? — предложила Нинка Лагутина.
Зашли в магазин. Нинка Лагутина надолго задержалась у прилавка, где продавались термосы. Ляльку Киселеву и Маржалету интересовала посуда: хрусталь, фарфор. Алена остановилась перед витриной с телевизорами. Она думала: «Телевизоры, телевизоры, телезрители, дневники отдать не хотите ли? Хотим,— отвечала она себе,— отдали и так далее...»
Постепенно все собрались около витрины с телевизорами.
— Хорошие чайные сервизы есть, на шесть персон,— сказала Лялька Киселева.
— Тетки, а у меня там склеенные страницы,— сказала Маржалета.
— Какие? — удивилась Светка Пономарева.
— Дневник... Расклеит, прочтет! — Она приложила ладонь к щеке и зажмурилась.
— Зачем склеенные?
— Бэби! — Маржалета даже отвернулась.
Таких девчонок, как Светка Пономарева, которые еще не влюблялись, не целовались и не знают, что существуют специальные страницы для записи сердечных тайн, она называла высокомерно «бэби».
В «Бом-бом-альбоме», в «Песеннике» или даже в «Дневнике моей жизни» в двух-трех местах выбирались парные страницы, заполнялись самыми жуткими охами и вздохами и склеивались. Прочесть секрет можно было, только разорвав эти страницы в определенном месте, где был нарисован цветочек.
— Ну и что? У меня там написана и заклеена неприличная загадка,— сказала Нинка Лагутина.— Не догадается. А догадается — пусть. Угадайка, угадайка — интересная игра.
На улице они еще больше развеселились, представив, что будет, если критик расклеит страницы. Алена смеялась до самого дома. Но едва закрылась за ней дверь подъезда, сразу стало грустно. Отдала чужому человеку то, что отдавать не следовало. Это было ясно.
Глава шестнадцатая
Анна Федоровна осторожно шла по скользкому, покрытому прозрачным льдом тротуару. Какой-то парень в распахнутой шубе, в лохматой шапке, съехавшей на затылок, и с огромным портфелем в
386
руке пробежал мимо, прокатился по льду. Пока катился, успел обернуться и, проехав несколько метров, остановился перед учительницей. От неожиданности она тоже остановилась.
— Здравствуйте, Анна Федоровна,— радостно сказал парень.— Я вас из автобуса увидел.
Учительницу ослепила желтая меховая подкладка его богатой, широко распахнутой шубы. Из-под пушистого свисающего свободно шарфа выглядывал черный узкий галстук, заправленный под полувер. Круглые румяные щеки пылали здоровьем, и Анна Федоровна не сразу признала в этом самодовольном, радостно улыбающемся человеке своего бывшего ученика.
— Здравствуйте,— повторил он,— не узнали?
— Смирнов? Нет, почему же, узнала,— ответила Анна Федоровна, действительно узнав в этой шапке, шубе и портфеле своего ученика.— Ну, как ты живешь? — Встреча была ей неприятна.
— Хорошо,— охотно ответил Смирнов.— Вот вы в меня не верили... Помните, как вы меня...— Он засмущался и, не договорив, опустил портфель на лед и склонился над ним.— Хочу подарить вам свою книжечку,— с подчеркнутой скромностью, не поднимая головы, объяснил он, возясь с замками портфеля.
— Ты в какой же области... специалист?
Желто-голубые тоненькие брошюрки лежали в портфеле в несколько рядов. Смирнов выхватил одну, выпрямился, достал из кармана толстую многоцветную шариковую ручку и красной пастой сделал дарственную надпись, а зеленой подписался. Получился разноцветный размашистый автограф.
— Спасибо,— сказала учительница, принимая книжку. Она машинально раскрыла ее на середине, увидела ровные строчки стихов, виньетки на полях, посмотрела на обложку — действительно: «Юрий Смирнов, стихи».
Ее бывший ученик наслаждался впечатлением. Он даже забыл поднять с земли портфель, стоял и смотрел в лицо учительнице. Книжка называлась «Главная улица».
— Вот как... «Главная улица»? — сказала Анна Федоровна.
— А вы мне по сочинению ни разу больше тройки не поставили,— тоном великодушного победителя сказал он.
— Ты, значит, стихи пишешь? Поэт? Зашел бы как-нибудь в школу, мы бы вечер устроили.
Он, наконец, поднял с земли портфель, поставив на колено, застегнул замки.
— Зайду обязательно. Сейчас я, буквально на этих днях, уезжаю с бригадой московских поэтов и композиторов на БАМ. Вы все в той же школе? Ну, я имею в виду, в нашей, тридцать восьмой?
— Да.
— Ну, я побежал.
Учительница кивнула, показывая, что благодарит за книжку и прощается. Юрий Смирнов убежал. Держа книжку в руке, Анна
387
Федоровна медленно шла, смотрела ему вслед, пока он не скрылся в толпе. Мальчишкой Юрий Смирнов был толстым, ленивым. Сидел, правда, на первой парте, но, когда ему было скучно, зевал ей прямо в лицо. Это ему она сказала «дурак!». «Как же из таких толстых мальчиков получаются поэты? — подумала она.— Как же я не заметила, что он поэт? Я же учительница литературы».
Юрий Смирнов и сейчас был толстый, но убежал резво — на БАМ с группой московских поэтов и композиторов. Анна Федоровна вспомнила, что видела в местных газетах стихи какого-то Юрия Смирнова, но ей и в голову не пришло, что это тот самый, зевающий на уроках литературы мальчик.
Анна Федоровна несла книжку в руке. Собиралась положить в сумку, но за невеселыми мыслями забыла. Так и шла — в одной руке сумка, в другой книжка.
Раздеваясь в учительской, Анна Федоровна поставила сумку на стул, а брошюрку перекладывала из руки в руку, словно боялась положить, потерять.
— Что это у тебя? — поинтересовалась Зоя Павловна.
— Не знаю.
— Я спрашиваю про книжку, которую ты держишь в руке.
— Не знаю. Я не знаю.
— Как не знаешь? Вот я держу письмо. Мой корреспондент наклеивает только королевские марки. Голубые королевы, желтые, зеленые.
Она показала конверт. Анна Федоровна посмотрела, сказала:
— Да... Извини, мне сейчас не до королев.
— Да я и не собираюсь навязываться со своим письмом.
Но она именно потому и завела разговор о книжке, что хотела поговорить о письме, полученном из Англии. Она показывала в учительской каждое письмо, зачитывала отрывки, в которых английский корреспондент благодарил ее за присланные книги и за помощь в его переводческой деятельности. Майкл Эльберт переводил поэмы Есенина «Анна Онегина» и «Черный человек».
Зоя Павловна пожала плечами, поискала глазами кого-нибудь, с кем можно поделиться удивлением. Но все были заняты, озабоченно отбирали наглядные пособия, переговаривались сухими короткими фразами по делу.
Анна Федоровна вошла в класс, кивнула, не повышая голоса, поздоровалась. Жизнь снова вошла в свою привычную колею. Учительница раскрыла журнал, пробежала взглядом по пустым местам, отметила, кого нет. Не поднимая от журнала головы, глядя на фамилию Юрия Лютикова, сказала:
— Юрий...— И замолчала.
В классе было три Юрия, и все они насторожились, ожидая, кого она вызовет к доске.
— Только не меня! Только не меня! — шутовским шепотом говорил Юрка Лютиков.
— Юрий Смирнов,— сказала Анна Федоровна.
388
Класс недоуменно замер.
— Меня, что ли? Только я не Юрий. Я Игорь Смирнов.
— Нет, не тебя.
Она подвинула на середину стола желто-голубую книжку.
— Анна Федоровна, вы, наверное, спутали с 9 «Б»,— сказала Раиса Русакова.— У бэшников есть Юрий Смирнов. У нас нету.
— Знаю, Русакова. Садись.— Она подняла «Главную улицу».— Эту книжечку стихов мне только что подарил мой бывший ученик. Юрий Смирнов. Если хотите, почитаем ее вместе. Я сама еще не читала.
Класс радостно загалдел.
— Это мы завсегда пожалуйста. Честно! Я люблю стихи. Во!
— Давыдова, иди почитай нам.
— Я? Почему я?
— Ты у нас тоже пишешь стихи. Давай, давай, Давыдова. Мы ждем.
Учительница поторопила девчонку кивком головы и положила книжку на стол. Алена упиралась, но мальчишки и девчонки, жаждущие развлечений, вытолкнули ее из-за парты. Когда Алена шла по проходу, Анна Федоровна подвинула книжку на край стола и словно бы отстранилась от нее.
Алена взяла сборничек.
— Тут предисловие... Читать?
— Все читай.
Алена поправила рукой челочку и начала читать краткую издательскую аннотацию. Анна Федоровна и слушала и не слушала, что читала Алена. Никак не могла сосредоточиться, думала о своей жизни. Вчера вечером в очереди за сыром обругали. А сегодня утром выяснилось, что ученики, которые не получали у нее больше тройки, становятся поэтами.
После аннотации Алена сделала паузу и перешла к стихам.
Анна Федоровна сделала над собой усилие, чтобы не думать о постороннем, стала слушать.
«Вчера, сегодня и завтра я скептиком быть не вправе... Послушайте, юные граждане, сверстники вы мои... Давайте думать о жизни, давайте мечтать о славе, давайте в подвиги верить во имя большой любви».
Первые строки насторожили Анну Федоровну, а девчонка, подхваченная танцующим ритмом, с вдохновением продолжала читать, с удовольствием произнося на конце строк точные рифмы.
«Давайте трудиться для лучшего, для всех на земле полезного. Чтоб солнце всегда сияло — для этого жизни не жаль! Мы дети потока могучего, мы дети «потока железного», и мы ощущаем сердцами, «как закаляется сталь». А если кто не желает, пусть признается сразу. Нечего тут стесняться, во-первых, и во-вторых... Мы с ними не будем нянчиться, вычеркнем по приказу из нашего поколения, из племени молодых».
389
Стихотворение было длинным. В какое-то мгновение Анна Федоровна поймала себя на том, что почти не улавливает смысла, убаюканная бодреньким ритмом. Она снова сделала над собой усилие, дослушала стихотворение до конца...
«Дадим им право обжаловать эту крайнюю меру. Построим на наших заводах сто персональных ракет. И сами отправимся в космос: на Марс, на Луну, на Венеру: сами станем поэтами, сами сыграем Джульетт. И бригадирами тоже станем, конечно, сами. И сами прикончим последний, ползущий к нам с Запада «изм». Разведчики нашего завтра, вперед с голубыми глазами! За нашей спиной история, а впереди — коммунизм!»
Второе стихотворение было о Красном знамени. И в нем тоже рифмы сыпались решительно и энергично. Слова не задевали Анну Федоровну.
— Подожди, Давыдова, не торопись,— попросила она.— Читай помедленнее.
Алена читала правильно. Она следовала за ритмом, за грохотом сшибающихся слов. «Так при помощи листа железа в театре имитируют гром»,— подумала учительница. Она уже хотела остановить Алену, все было ясно. Но вдруг обнаружила, что ее ученики ловят падающие слова раскрытыми ртами, слушают. Она тоже стала слушать. И когда Алена закрыла последнюю страницу и положила бережно книжку на стол, Анна Федоровна неприятно была удивлена тем, что мальчишки и девчонки довольно долго и уважительно молчали.
— Он учился в нашей школе? — восхищенно спросила Светка Пономарева.
— Да,— ответила Анна Федоровна,— учился.
И подумала: «Помнит и «Железный поток» и «Как закалялась сталь». Ишь, как уместил всю школьную литературу в одной строчке».
— Можно посмотреть?
Анна Федоровна передала книжку. Желто-голубая брошюрка пошла гулять по классу. Интерес к стихам Юрия Смирнова неприятно озадачил учительницу. «Да что же они, совсем не умеют отличать настоящее от подделки? Они же Пушкина в школе проходят, Лермонтова, Маяковского. Да как же это получилось, что они совсем не защищены от подобной поэзии. Мы, значит, по литературе ничего им не даем, только отнимаем время».
— Так,— сказала Анна Федоровна, нервно поднимаясь.— Давайте разберем. Кто хочет сказать, чего в книжке нет?
Ребята молчали. Желто-голубую брошюрку передавали из рук в руки. Она оказалась у Маржалеты. Полистав ее, Маржалета сказала:
— Портрета.
— Что — портрета?
— Портрета автора. В других книжках вот здесь,— Маржалета показала, где именно должен быть портрет.
390
— Ну хорошо — портрета. Еще чего нет?
Класс молчал.
— Вас! — сказала Люда Стрижева.
— Что? Объясни, Стрижева.
— Все поэты пишут про свою учительницу. А у него нет.
— Так, понятно, Стрижева.— Она помолчала.— А еще чего, самого главного нет? В стихах?.. Кто может сказать? Давыдова?
— Не знаю.
— Жуков?
Сережа поднялся. Он не слушал, читал свою книгу.
— Садись, Жуков.
— Можно, я скажу! — поднял руку Мишка Зуев.
— Скажи, Зуев!
— Стихов о Чили нет. Сейчас все поэты пишут о Чили.
Анна Федоровна стояла, молча смотрела на Мишку Зуева, на других ребят, которые не могли понять, чего она добивается. Потом она не могла вспомнить, как это получилось, только она вдруг сказала, даже не сказала, а крикнула:
— Самовара нет! Барабан есть: «Давайте! Давайте! Поможем нашим кочегарам!» А самовара нет!
— Какого самовара? Во!
«Самовар» выскочил нечаянно. Она позволила в минуту досады стать тем человеком, которым всегда была наедине с собой. Юрий Смирнов зарифмовал «Железный поток», и Анна Федоровна сразу вспомнила самовар бабы Гарпины. Эта простая женщина бросила самую дорогую вещь, какая у нее была,— самовар. И когда она ратовала за Советскую власть, ей верили. Она не просто так говорила, она самовар ради этой власти бросила. Вот этого-то «самовара» и не было в стихах Юрия Смирнова, а были слова, слова, не обеспеченные душевным волнением.
— Самовара бабы Гарпины. Пономарева, сбегай в библиотеку, принеси Серафимовича, скажи, что я прошу на несколько минут. Вы же писали сочинение по «Железному потоку», рыбыньки!
Она легко произнесла слово «рыбыньки», на которое сама же наложила табу.
В эту минуту она была той прежней, какой нравилась себе,— в шлеме и летной куртке. Она говорила, не выбирая слов, подчиняясь порыву. Вряд ли они могли понять половину тех слов и понятий, без которых она сейчас не могла обойтись, чтобы объяснить, как гладкое и пустое подделывается под настоящую поэзию. И вдруг почувствовала: слушают, понимают.
Светка Пономарева принесла книжку. Анна Федоровна сразу не могла найти нужную страницу. Она листала, ожидая, что сейчас начнется шум, разговоры. Но в классе установилась необычная внимательная тишина. И когда Анна Федоровна нашла то, что искала, она смогла прочесть сходу, не предупреждая, что читает и зачем...
— «Ратуйте, добри людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинули. Як
391
мени замуж выходить, мамо в приданое дала тай каже: Береги ёго, як свет очей, а мы вкинули. Та цур ему, нэхай пропадае! Нэхай живе наша власть, наша ридна, бо мы усю жисть горбы гнули та радости не знали».
Анна Федоровна подняла голову от книжки. Никто не сидел уткнувшись, перешептываясь. Глаза мальчишек и девчонок были устремлены на нее, ждали, что скажет еще? Даже Сережа Жуков слушал, заложив, правда, палец в книжку, чтобы не потерять страницу. И Анна Федоровна сказала, рубанув рукой воздух:
— В стихи бабы Гарпины я верю. А в стихи, за которыми не угадываются поступки, не верю! И хотела бы вас научить — не верить!
— А разве Гарпина говорит стихами? — спросила удивленно Светка Пономарева.
Учительница быстро посмотрела на девчонку. Светка не разыгрывала ее, спрашивала искренне. Анна Федоровна засмеялась, и после небольшой паузы засмеялся класс. Это был смех добрый, смех радостный. Мальчишки и девчонки, покоренные убежденностью учительницы, готовы были и слушать ее, и смеяться вслед за ней. Это был неожиданный урок-импровизация, о котором она давно мечтала. Что же произошло? И сказала-то одно слово, одну метафору: «Самовара нет!» А вышло здорово. Как много можно сказать метафорой! Нет, дело не в метафоре, а в убежденности. Они услышали ее убежденность.
Прозвенел звонок. Анна Федоровна сунула небрежным жестом журнал под мышку и вышла из класса легкой, подпрыгивающей походкой. Учительница литературы редко улыбалась, все привыкли видеть ее мрачной. Сейчас она шла и улыбалась. Нина Алексеевна даже остановилась. Анна Федоровна прошагала мимо. Она никого не видела. Вкус улыбки на губах был приятен.
В коридоре, прямо напротив дверей, ребята окружили Маржалету, которая что-то энергично рассказывала. Алена поняла: какая-то интересная новость. Ей тоже хотелось узнать. Но сначала она должна была дописать стихи. Она торопилась это сделать до звонка. Решила немедленно узнать, есть ли в ее стихах самовар.
Вернулась Раиса Русакова.
— Что там? — спросила Алена, продолжая писать.— Собери мои книжки, я смываюсь. Что там, Райк?
Подруга не ответила. Села, подперла свою квадратную голову кулаками.
— Райк, ну слышишь, я смываюсь.— Алена топнула ногой. Руки у нее были заняты.
— Марь Яна уходит из школы,— сказала Раиса.
— Нет,— сказала Алена.— Откуда ты знаешь?
— Маржалета... Ее мать знает. Мы ей сестру напоминаем. Не может на нас смотреть спокойно. Особенно на тебя.
— При чем тут я?
392
— Похожа.
— Нет! — Алена перестала писать.
— Мы все похожи. Ей было девятнадцать лет.
— Нет,— сказала Алена,— я видела ее один раз с Марь Яной. Совсем непохожа. Она пониже меня ростом, щеки — во! Как же она так?.. От воспаления легких?..
— Скрытое было. На рентгене не видно.
— Да, я знаю. Как же ее не просветили? Есть же техника!
Алена стукнула кулачком по парте. Перевернула лист, дописала
заключительные строки стихотворения, поставила дату, вывела закорючку подписи.
— Пойдешь со мной? Я Рыбе стихи хочу показать. А потом шалдыжничать пойду по улицам. Или в кино.
— Я пошла бы, мне надо сегодня пораньше домой,— мрачно проговорила Раиса.— Контрольная будет по алгебре.
— Контрольная! — Алена махнула рукой.— Я не могу, понимаешь? Я должна отдать, я уже написала. А она ничего, Рыба, да? Как она сегодня? Класс!
— Марь Яна уходит,— повторила Раиса, вслушиваясь.— Марь Яна... Я тоже уйду.
— Куда?
— С контрольной.
— Пойдем,— обрадовалась Алена.
Раиса заглянула в учительскую. Алена, встав на цыпочки, смотрела из-за плеча.
— Что вам, девочки? — спросила улыбчивая нарядная химичка.
— Анну Федоровну.
— Ее нет. Она ушла.
— Пойдем! — сказала Алена.— Скорей!
— Что мы, догонять ее будем?
— Я знаю, где она живет.
— Я тоже знаю,— буркнула Раиса.— Там же, где кошка.
— Скорей, ну, Райк!
Рыбу они увидели сразу, как только подбежали к переходу. Она шла уже по тротуару на той стороне. А девчонкам преградил дорогу красный свет. Алена нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Она должна была отдать сегодня свои стихи Рыбе, потому что завтра она могла передумать.
Загорелся зеленый «киносветофор». Девчонки, обгоняя прохожих, перебежали улицу. Алена на бегу достала из сумки лист со стихами. Раиса топала за Аленой, чуть отстав. А когда до учительницы оставалось два десятка метров, и совсем остановилась. Алена, ловко лавируя между прохожими, размахивая листом со стихами, быстро приближалась к учительнице. Но вдруг словно споткнулась, бег ее замедлился, и она, ухватившись за дерево, остановилась...
Анна Федоровна шагала широко, победно. Прохожие мешали ей, и она ступила на проезжую часть. Ей нравилось идти одной по
393
широкой, свободной впереди улице. Сорок пять минут счастливого урока все изменили. Она снова, как в молодые годы, жила на горе, на семи холмах.
Алена стояла, прячась за деревом.
— Ну, ты что? — спросила Раиса, подойдя.
— Ты видела? Это она из-за меня?
— Что?
— Кинулась под транспорт?
— Никуда она не кинулась. Видишь?..
Анна Федоровна обошла плотный поток прохожих по шоссе и вернулась на тротуар. Девчонки короткими перебежками стали снова приближаться к ней. Мелькнула вывеска овощного подвальчика, цветочный киоск.
Анна Федоровна двигалась энергично, раскованно. Ей сделалось жарко. Она посмотрела в небо, по сторонам. Светило солнце, в киоске продавали первые тюльпаны. «Весна! Весна пришла!» А она и не заметила. «Весна, черт возьми!» Она сдернула с головы шапку, тряхнула волосами, взъерошила их.
Девчонки были совсем близко. Они переглянулись, сбились с быстрого шага, стали отставать.
— Видела? — спросила Алена.— Шапку сняла.
— Может, в другой раз? — спросила Раиса.— Мне надо в овощной зайти.
— Подожди. До ее дома еще далеко. Давай на трамвай сядем, две остановки проедем и пойдем навстречу. Она увидит, удивится: откуда мы идем?
— Не могу. Там отец сидит, обеда ждет. Мне надо морковку купить, луку.
— Он разве не на работе?
— По бюллетеню. Подралась я с ним опять. Он на маму замахнулся, я сняла туфлю и по руке... Палец я ему, наверное, сломала. Неудачная я какая-то...
Говорить ей об этом не хотелось. Рассказывая, Раиса смотрела вниз и переминалась с ноги на ногу. Отец Раисы, маляр, временами сильно запивал, придирался к матери. Раиса в последнее время все чаще и чаще вступалась за мать. Она была сильная. Отец каждый раз изумлялся, садился на кровать и с пьяной тоской в глазах смотрел на Раису, плечистую, нелепо сильную. «Дочка, почему ты такая некрасивая?» — говорил он жалостливо и начинал икать.
— Совсем сломала? — недоверчиво спросила Алена.
— Совсем не совсем, какая разница. Распух, бюллетень дали.
Алена покачала головой, засмеялась.
— Действительно, Райк, какая-то ты бамбула.
— Почему бамбула?
— Силач бамбула поднимает два стула. Правильно твой отец говорит. Сильная ты, как лошадь. Копытом раз — и нету. Туфля с ноги, значит, копыто. И-го-го!
394
— С тобой как с человеком!
Раиса неловко повернулась и боком пошла прочь. Алена сразу перестала смеяться, но за Раисой не побежала.
Спина Анны Федоровны мелькала за спинами прохожих. Алена шла, не теряя из виду учительницу и не решаясь приблизиться. Раиса испортила настроение, и решимость пропала. Так они дошли до самого дома. Анна Федоровна свернула во двор. Ее можно было еще перехватить. Алена побежала, но успела увидеть только, как захлопнулась дверь подъезда.
Алена даже топнула от досады. Уйти просто так она не могла. Надо было на что-то решиться. Или торчать перед окнами, пока Рыба заметит. Или взбежать одним духом по лестнице и позвонить. Алена двинулась вдоль дома, остановившись, посмотрела сквозь тонкие голые ветви деревьев, отыскивая на третьем этаже окно с кормушкой. Лист со стихами спрятала в сумку. «Куда его девать?» Вспомнила недавно прочитанное у Евтушенко: «Стихотворенье надел я на ветку».
В следующее мгновение Алена уже насаживала свой лист со стихами на ветку напротив окна с кормушкой. Отбежав к воротам, оглянулась. «Я подражаю Евтушенко. Только я подражаю не стихам, а поступкам». Ветер трепал лист со стихами, Алена постояла, убедилась, что не улетит, осталась довольна своим поступком, деревом. Подумала: «Хорошо Евтушенко написал». Она сама так написала бы: «Люди идут, глядят с удивленьем, дерево машет стихотвореньем».
Глава семнадцатая
Дома никого не было. Алена позвонила, подождала. Пришлось доставать свои ключи, открывать самой. Она вошла в комнату, не раздеваясь. Бросила сумку с книгами на пол, сама села на тахту. Подумала: «Ой!» Так было тяжело... Алена еще раз вздохнула: «Ой!» Легла лицом вниз на тахту, лежа расстегнула пуговицы пальто. Прошло минут десять, она все лежала с одной мыслью: «Когда же мама придет?» Потом встала, сняла пальто, пожевала на кухне корочку хлеба, посмотрела в газете программу сегодняшних телепередач. Но ничего интересного не выбрала.
Вспомнила глаза Раисы Русаковой: «С тобой как с человеком». Сама папашу звезданула по пальчику, а потом смотрит: «С тобой как с человеком». Надо ей позвонить, сказать что-нибудь смешное, и все. Нет, Райка долго обижаться не будет. Рыба? А что Рыба?.. Алена пыталась понять: почему ей так тяжело. Она стала думать о Рыбе. Если забыть, что она училка, то она кто? Рыба вполне на маму похожа... На тетю Клаву... Только тетя Клава обыкновенный человек, которому приятно сказать мимоходом: «Привет, теть Клав!» А Рыба — необыкновенная, что ли? Она необыкновенная тем, что ей в
395
девятом «Б» кнопку на стул подложили. Девчонки рассказывали, как она подскочила: «Ой!» Сейчас это «ой!» не доставило Алене никакой радости. Она мысленно расчленила «подложили» на два слова, и получился совсем другой неожиданный смысл: «Подло жили!», «Очень подло жили!».
Заскрежетал ключ в двери — мама! Алена так ждала ее, но что-то помешало побежать в прихожую, схватить, как обычно, сумку с продуктами, отломить от батона корочку, хрупнуть солененьким огурчиком. Мама, не сняв пальто, заглянула в комнату.
— Ты дома? Что случилось, Алешка?
— Мама, Марь Яна уходит из школы.
— Почему?
— Из-за меня.
— Что ты еще натворила?
— Наоборот.
Алена наконец поняла: вот что!.. Марь Яна уходит из школы. Человек умер, девчонка. Алена только один раз видела эту незнакомую ей девчонку, сестру Марь Яны... В кинотеатре «Мир». Алена пришла с отцом, а Марь Яна со своей Катькой. Здоровая девчонка с веселыми глазами, в джинсовом костюме.
— Что значит — «наоборот»? — спросила мама, возвращаясь в прихожую.
Алена не ответила, медленно прошла в свою комнату, села за стол. Она сама думала, что значит — наоборот?
— Что ты сказала? Что значит — «наоборот»? — опять спросила мама.
— Наоборот — значит, ничего не натворила.
— Ты сказала: учительница уходит... Из-за тебя?
— Любит! Она меня любит! Я ей любимую сестру напоминаю. А я ее предала. Да, мамочка, предала! Я даже на похороны не ходила. Девочки ходили, а я не ходила. Двухсерийное кино смотрела по телеку. Ты, мамочка, сказала: интересное кино, нечего ходить. Ты ее не знала. Я ее не знала, да?
— Успокойся, девочка.
Мама погладила ее по плечу. Алена убрала плечо. Мама осторожно вышла из комнаты. Алена подумала: «Райка со мной как с человеком. Марь Яна со мной как с человеком. Рыба тоже с нами как с человеками. А мы Валеру Куманина кинулись защищать. Надо ему сказать! Надо всем сказать... Никогда! Никогда!» Она давала себе слово никогда больше не предавать близких людей. Никогда больше не верить, что человек, которого она видела один раз,— чужой человек.
Алена двинулась следом за мамой на кухню.
— Знаешь, мамочка... Знаешь, что?.. Мне надо идти. Ты только меня не останавливай.
— Куда идти?
— На улицу. Я потом объясню.
396
— Никуда ты не пойдешь. Поешь, тогда пойдешь.
— К людям мне надо, понимаешь? Открыть им глаза.
Мама невольно улыбнулась, сказала:
— Сейчас будет твой любимый суп с клецками.
— Суп, да? Улыбаешься, да? Хорошо, мамочка. Очень хорошо, прекрасно.
— Я не улыбаюсь.
— Нет, улыбаешься, я вижу. Тогда скажи, как поживает твой этот... дурак?
— Какой дурак?
— Твой начальник. Дуб!
— Ты что говоришь?
— Я повторяю твои слова. Ты говорила, что он дуб?
— Послушай, Алешка, мало ли что я могу сказать дома с досады.
— Так он что... не дуб?
— Алешка, ты уже не маленькая.
— Нет, ты скажи... он не дуб? Зачем тогда говорила?
— Я говорила. Что я говорила?.. Что ты в самом деле меня допрашиваешь? У меня с ним были плохие отношения. Я несколько раз уходила пораньше с работы, когда ты болела. Ему это не нравилось. Игорь Андреевич человек трудный, но работать с ним легко.
— Он, оказывается, человек, а не дуб?
— Да, человек. И не повторяй всякие глупости, которые услышишь дома.
— Это глупости, да? Это же не глупости, мамочка! С вами невозможно разговаривать. Вы всегда так. Сами говорите, а потом... Может, и никакого нахала нет в гараже? Может, это все одни ваши глупости? А я из-за них чуть на аутодафе не пошла.
— Куда не пошла?
— На костер — вот куда! Вы зря говорите, а меня могли бы сжечь. Ты это понимаешь?
— Я ничего не понимаю.
Алена вообразила, что под ней не гладкий пол кухни, а сухой хворост, который осталось только поджечь, и осуждающе посмотрела на маму с высоты этого хвороста.
— Алешка,— мама растерялась,— при чем тут мой начальник и ты? Какой костер?
— Не понимаешь, тогда мне тем более надо идти, потому что я понимаю и хочу, чтобы все понимали.
— Кто — все?
— Люди, человеки.
— Положи пальто. Ты можешь мне ответить, какой костер?
— Дай, я сначала оденусь.
— Не дам.
— Нет, дай!
Мама выпустила из рук пальто. Алена натянула его, схватила кашне, стала запихивать под воротник. «Первым делом к Раисе
397
Русаковой, извиниться за «и-го-го!», потом к Сережке Жукову, рассказать ему про Марь Яну, посоветоваться, что делать. А завтра написать письмо Игорю Андреевичу, тоже извиниться». Она думала, что он «дуб», а он, оказывается, хороший главный инженер и просто не любит, когда раньше времени уходят с работы.
— Завтра отнесешь письмо Игорю Андреевичу,— сказала Алена.— Я ему напишу. Ты не думай, я напишу.
— Ладно, ладно, напишешь, только объясни мне, куда ты собралась, голодная?
— Пусть я лучше останусь голодная, чем так жить. Пусть я лучше умру, чем так!
— Как, Алешка? — Мама и хмурилась, и улыбалась и уже не знала, как себя держать с дочерью, как не отступить перед таким напором: — Куда тебе надо идти?
— И дырочек в сыре не было?
— Каких дырочек?
— Ты говорила, что дураков у нас много, одна Нюрка умная. Сейчас скажешь, какая Нюрка?
— Какая Нюрка, Алешка?
— Продавщица. Ты говорила, что она недовешивает по такому кусочку сыра, две дырочки не уместятся, а получаются из этих дырочек ковры и хрусталь.
Мама помогла Алене заправить шарф.
— Нет, ты скажи, из дырочек ковры получаются?
— Не знаю, Алешка.
— Не знаешь, а как же ты говорила? Не знаешь, а говоришь.
— Не знала я, что ты это слышишь и об этом думаешь. Какие странные мысли в твоей голове.
Алена не дала маме поправить вязаную шапочку, сдернула ее с головы, выбежала на лестничную площадку и там надела, как получилось.
Трезвым отец Раисы Русаковой любил играть в шашки. Он сидел в майке за столом, думал над очередным ходом. Кисть правой руки и указательный палец забинтованы. Наконец, он сделал ход, двинул забинтованным указательным пальцем шашку и громко крикнул в коридор:
— Ходи!
Никто не появился. Он крикнул еще раз:
— Балда Иванна!
Вошла мать Раисы, женщина с усталым лицом, жиденькими волосами, собранными на затылке в узел, поставила на стол пирог и сахарницу.
— Ходи! — нетерпеливо сказал муж.
Жена вытерла руки о фартук, тоскливо посмотрела на доску.
398
— Варенье какое поставить? Вишневое или черноплодную?
— Ты ходи сначала.
Она вздохнула, не присаживаясь на стул, склонилась над доской, двинула шашку.
— Балда Иванна ты и есть. Раз, два, три. Одним махом трех убивахом.
— Ну, и слава богу,— сказала жена с облегчением и хотела уйти, но муж не пустил.
— Садись на мое место. А я возьму твою позицию и выиграю.
Он обнял жену за плечи и повел к своему стулу.
— Да не хочу я, не умею! — вырвалась жена.— Что ты пристал со своими сашками? Мало мне этих сашек-пышек на кухне?
По радио передавали марш.
Русаков включил радио на полную громкость, поймал жену за одну руку, потом за другую, попытался закружить под марш.
— «Вальс устарел, говорит кое-кто сейчас...»
Жена сначала сопротивлялась, потом смирилась, обмякла, сказала ласково:
— Дурень ты дурень.
— Победила дружба, мать. В спорте всегда побеждает дружба.
В дверь позвонили.
— Это ко мне,— сказала Раиса, быстро выходя из своей комнаты. Она ждала Алену, и Алена пришла. В коридоре Раиса замедлила шаги, чтобы показать, что она никого не ждет и потому не торопится.— Кто там?
Обычно она не спрашивала, но сейчас решила спросить: а вдруг кто-нибудь, кого не надо пускать.
— Я букашка,— послышалось из-за двери.
Недавно подруги видели на почте женщину. У нее не принимали бандероль во Францию. «Я — букашка,— убеждала женщина прием-
399
щиду.— Это профессор посылает, а я только принесла. Я — букашка, понимаете? Я — букашка!»
Девчонок поразило, с какой настойчивостью женщина называла себя букашкой. Они обе запомнили самоуничижение женщины и часто играли в эту игру. Раиса открыла дверь.
— Я букашка,— еще раз сказала Алена, виновато заглядывая в глаза подруге.
— Нет, я букашка,— нехотя проговорила Раиса, отводя взгляд в сторону.
— Нет, ты ничего не знаешь, это я букашка,— сказала Алена, радостно стукнув себя в грудь, и подружки засмеялись.— Слушай, Райк, хочешь, я тебе скажу?.. Жить надо так, чтобы — никогда! Поняла?
Вышел в коридор отец Раисы.
— Вот мы с кем сразимся,— сказал он.
— Ой, папа, подожди,— отмахнулась от него дочь.
Алена кивком головы поздоровалась с отцом Раисы. Вышла в коридор и мама. Алена поздоровалась и с ней.
— Чай пить с нами,— сказала мама.— Раздевайся.
— Ой, мама, да подождите вы!
— Чтобы никогда никто не уходил! Поняла? — спросила Алена.
— Нет. Они не дают понять. Но все равно здорово.
■— Что здорово?
— Ты!
— Что я?
— Ты какая-то, как на коне.
— Ага,— сказала Алена.— Я поняла, что надо делать, чтобы — никогда! Я к Сережке, потом к тебе. Ты тоже будешь! Ты поймешь.
— А зачем к Сережке?
— К Сережке?.. Ну, я... к Сережке...— Она сама вдруг подумала: «А зачем к Сережке?»
Раиса внимательно смотрела на Алену.
— Як Сережке... ну, посоветоваться. Марь Яна не должна уходить. Я ему только скажу.
— Скажи! Надо всем сказать.
— Ага, надо всем! Сначала я Сережке скажу.— Алена выскользнула на лестничную площадку, крикнула снизу: — Я за тебя всегда голосовать буду. Ты красивый человек, Райка! Ты красивый человек!
Раиса шагнула на лестничную площадку, перегнулась через перила, надеясь услышать еще раз странные слова, что она — красивый человек. Хлопнула дверь подъезда. «Красивый,— подумала она,— нелепый». В прошлом году ее избрали комсоргом. Она очень удивилась. «За что?» Авторитетом особенным не пользовалась, училась не лучше других, увлечь за собой никого не умела. «Но если Алена говорит, я буду! На БАМ всех сагитирую ехать. В кожаной комиссарской куртке буду ходить.— Алена заразила ее своей решительностью, своими мыслями и чувствами.— Я буду! Буду!» — думала Раиса.
400
...Мать Сережи Жукова, молодая интеллигентная женщина, преподавала высшую математику в институте, вела двух дипломников, заканчивала вечерний университет марксизма-ленинизма, готовила обеды, завтраки и ужины, по воскресеньям стирала, отвозила одежду в химчистку и при этом была всегда веселая и красивая.
Она открыла дверь своим ключом, и тут же раздался телефонный звонок. Дел и обязанностей у нее много. Можно не сомневаться: звонят ей. Аппарат стоял в коридоре на полдороге между входной дверью и кабинетом профессора Жукова, Сережиного дедушки. У аппарата они и встретились.
— Это я, папа,— сказала деловая женщина и больше ничего сказать не успела, взяла трубку, стала разговаривать.
Одета она модно: дубленка, сшитая в талию, на ногах высокие сапоги вишневого цвета. Дубленку она носила всегда нараспашку. Выходила из дома, садилась в машину: «Я без машины, как без рук». А подъехав к институту, выходила из машины — ив проходную, некогда застегиваться, расстегиваться. Длинный шарф, завязанный на шее узлом, болтался мохрами у колен, выбиваясь наружу при каждом шаге, подчеркивая стройную фигуру, стремительность движений и придавая всему облику жизнерадостную встрепанность.
Отвечая веселыми короткими фразами о своем житье-бытье, деловая женщина разматывала с шеи шарф, стряхивала с плеча рукав дубленки и, стряхнув, перехватила трубку другой рукой, принялась таким же манером стряхивать с себя второй рукав, саму дубленку.
Профессор ходил по коридору туда-сюда, стараясь не слишком топать, чтобы не мешать дочери разговаривать. Когда он проходил мимо, дочь, не прерывая разговора, легонько погладила его по руке, вернее, прикоснулась, чтобы передать отцу свое чувство нежности, жизнерадостности. Носатый старик неопределенно хмыкнул. Седые волосы на его голове всклокочены, встрепаны, и он их еще взъеро-
401
шивал машинальным жестом, «помешивал мысли». Старику явно не терпелось что-то сообщить дочери, и, когда она кончила говорить, он, не дойдя до конца коридора, торопливо обернулся и сказал:
— Сережа убрал кухню.
Дед обожал внука, и все, что делал Сережа, ему казалось важным, значительным, в последние годы — важнее, чем работа, которую доктор исторических наук не прекращал ни на один день.
— Где же он, наш Сережа, который убрал кухню? — Деловая женщина говорила громко, надеясь, что сын услышит и выйдет из своей комнаты.
— Его нет, нет,— торопливо сказал старик.— Он ушел к товарищу. У них что-то случилось в школе.
— Что такое?
— Я его не расспрашивал. Он не любит, когда я его расспрашиваю. Может, тебе расскажет, когда придет.
Деловая женщина встала со стула, оставив на нем дубленку и шарф. Кухня действительно подметена, стол блестит. Всю грязную посуду Сережа сложил горой в мойку, и она там лежала невымытая. Мама улыбнулась: сын любил порядок, но не любил мыть посуду и выносить ведро с мусором.
Раздался звонок.
— А вот и Сережа, который убрал кухню.
Но это был не Сережа. В дверях стояла Алена. Она редко приходила к Сереже. Мама знала, как ее зовут, потому что симпатизировала этой рыжей девочке.
— Здравствуйте, позовите Сережу.
— Здравствуй, Аленушка, Сережи нет.
— Нет?
Все было сказано, и мама Сережи так хорошо назвала ее «Аленушкой», можно уходить. Но они обе, мама и девочка, не двигались с места, смотрели друг на друга. Маме, как всякой маме, была интересна девочка, которая пришла к сыну. Алена с жадным любопытством смотрела на самого близкого Сереже человека — маму. Такая молодая, красивая, доброжелательная.
В коридоре появился седой лохматый старик. Он шел, тяжело ступая на всю ступню, широкоплечий, громоздкий, занимая собой всю ширину коридора, тесно заставленного книжными полками и шкафами.
— Здравствуйте,— сказала ему Алена из-за спины мамы.
— Кто это? — Старик плохо видел.
— К Сереже,— сказала мама.
Старик заторопился, он шагал теперь, слегка пригибаясь, чтобы лучше видеть девочку.
— Здравствуйте,— еще раз повторила Алена, когда он приблизился, потому что не была уверена, что старик услышал ее.
— Сережа ушел к товарищу Ляле Киселевой. Кто, сказать, приходил?
402
Он неуверенно нащупал в полумраке передней на столике толстый блокнот и карандаш. Карандаш он тут же уронил, но оказалось, что он привязан к блокноту суровой ниткой. Старик поймал болтающийся на нитке карандаш, нацелился в блокнот записывать.
— Не надо записывать, зачем? — испугалась Алена.— Я позвоню ему. До свиданья.
Она быстро сбежала по лестнице. Алена и раньше знала, что Сережка главный в своем доме, но сейчас ее неприятно поразила готовность деда, профессора, выполнять при внуке секретарские обязанности. «Дед — секретарь, внук — профессор»,— с досадой подумала она и, выбегая со двора, вслух, негромко, повторила:
— Никогда! Никогда!
Лялька сидела в своем любимом кресле, читала книгу о буддизме и смотрела телевизор. Передавали фигурное катание. Вышла кататься «одиночка», шведка. У нее была высокая прическа. Лялька подняла свои волосы, посмотрела в зеркало: как ей такая прическа? В школе она носила строгую форму, беленькие кружевные воротнички, беленькие кружевные рукавчики, фартук. Никаких лишних украшений, все аккуратно, скромно, по фигуре. Дома Лялька одевалась в просторные, не стесняющие движений одежды. Сейчас на ней были коричневые брюки-клеш с достающей до подъема стопы бахромой, шлепающей при каждом шаге по тапочкам, и белая батистовая кофточка с широкими рукавами, из которых она не сразу могла выпростать руки, чтобы перевернуть страницу.
Лялька подняла вверх правую руку и, дочитывая страницу, слегка шевелила кистью, чтобы просторный рукав сполз на локоть и можно было послюнявить высвободившийся палец, а затем и перевернуть страницу. Лялька послюнявила палец, но в это время вошла мама, и дочь сказала:
403
— Мам, подай мне это...— Она лениво протянула руку по направлению к матери, и послюнявленный пальчик безвольно повис в воздухе.
— Что, Ляля? — спросила мама.
— Ну, это...
Пальчик ее продолжал висеть в воздухе, она делала им едва заметное движение, надеясь, что мама, кандидат экономических наук, человек сообразительный, и так поймет. Мама догадывалась, что нужно дочери, но ее оскорблял и раздражал этот безвольно опущенный вниз пальчик.
— Что, Ляля? Что тебе подать?
— Яблоко,— наконец вспомнила Лялька.
— Пойди возьми сама.
— Ну, мам, ты видишь, я занята.
Мама постояла с минуту около дочери, читающей книгу, и пошло принесла яблоко. Лялька, не глядя, взяла его, громко надкусила, с полным ртом поблагодарила:
— Хахибо!
Книжка была скучная, Лялька не все понимала, но ей хотелось думать, что она понимает, разбирается в индийской философии* Пришли Маржалета и студент Витя. Лялька небрежным жестом отложила книгу, так, чтобы они видели заголовок, сказала, утомленно вздохнув:
— Восток такой загадочный.
Пришла запыхавшаяся раскрасневшаяся Алена. Лялька, махнув ей рукой, сказала:
— Садись!
По экрану скользила английская пара под музыку из «Лав стори», и все, замерев, следили за ними и слушали музыку. Алена села на стул рядом с Маржалетой, тоже уставилась в телевизор. Но боковым зрением смотрела не фигурное катание, а искала Сережку.
После «Лав стори» зазвучала «Калинка». Это было не так интересно. Все заговорили. Мама принесла вазу с яблоками. Все занялись яблоками. Сегодня Лялька никого специально не приглашала. Поэтому просто разговаривали, смотрели телевизор. Маржалета рылась в старых пластинках. Нашла Эллу Фицджеральд.
— Фиговое досмотрим,— сказала она,— и поставим Эллу, да, Ляльк?
В доме Маржалеты фигурное катание называлось шикарно и двусмысленно «фиговым катанием». Привыкли к этому выражению и здесь. Маржалета своим именем, переделанным на иностранный лад, и «фиговым катанием» внесла свой вклад в тряпичное эсперанто.
«Сережка-то где же? — подумала Алена.— Бежала, бежала, чтобы сидеть перед телевизором? Если Сережка не придет, не останусь. Интересно, почему его нет? Дед сказал, что он пошел к товарищу Ляле Киселевой. Тоже мне товарищ с голой шеей. Чего она так оголяется? И кофта просвечивает — живот видать».
404
Еще одна пара танцевала под музыку из «Вестсайдской истории». Все просто балдели от этой музыки, а Алена томилась. «Да что же это такое? — подумала она с тоской, сжимающей сердце.— Почему его нет? Ой, мамочки, да что же это такое? Я же его видела сегодня в школе. Зачем он мне нужен?»
Раздался мелодичный звон в прихожей. У Ляльки был звонок- ящичек «Мелодия». Алена заволновалась, чуть не побежала открывать дверь. Лялька только повернула голову, прислушиваясь, и сразу успокоилась, услышав торопливые шаги мамы по коридору.
В прихожей раздался ломающийся высокий голос Сережки Жукова, приглушенный расстоянием коридора. «Я сошла с ума, так нельзя,— испуганно подумала Алена.— Я должна что-то сделать, чтобы не выдать себя». Она торопливо взяла из рук Маржалеты пластинку, склонилась над ней, не видя картинки и букв.
Сережка принес тюльпаны. Лялька выпрыгнула из кресла, пошлепала наливать воду в вазочку. Было уже сумеречно, зажгли верхнюю люстру. Сережка прошелся по комнате, взял книгу о буддизме, сел в углу, на стул, на свое обычное место. И при свете люстры Алена увидела, что перед ней и везде, где прошел Сережка, плавают серебристые голубоватые ворсинки от его пушистого свитера. И воздух от них окрасился в голубоватый цвет. Ворсинки были такие маленькие, что ими можно было дышать. Алена шагнула в этот окрашенный голубоватыми ворсинками воздух и стала ими дышать. «Что я делаю? — укоряла она себя.— Зачем дышать этим воздухом? Ведь это всего-навсего серая, пусть серебристая, пыль».
— Давыдова, ты что? — спросила Лялька, ставя вазу с цветами на стол.
И все увидели: Алена стоит и как-то странно дышит. И Алена увидела их глазами себя со стороны. Ее застигли врасплох. Она уже не собиралась им говорить то, что для нее стало важным в этот неожиданный вечер. Но тут надо было немедленно что-то говорить, и Алена сказала:
— Мальчишки, девчонки! Я знаете что поняла? — И руки к груди прижала, чтобы сразу поверили.
— Что ты поняла?
— Про Рыбу, особенно про Марь Яну. Они — люди!
Пауза была недолгой. А потом все разом грохнули.
— Нет, не в этом смысле, я сейчас объясню.
По экрану телевизора бежал стройный, изящный Хофман. Алена показала на него рукой, собираясь попросить, чтобы выключили телевизор, и тогда она объяснит. И в это время Хофман, выполняющий дорожку, споткнулся и упал.
— Даже Хофман не выдержал,— сказала Лялька.
Новый взрыв хохота был таким дружным, что мать Ляльки не выдержала, заглянула к ребятам в комнату. Она тоже улыбалась.
— Что тут у вас?
— Хофман упал,— сказал студент Витя.
405
По телевизору показывали повтор падения Хофмана, и ребята; глядя на фигуриста и Алену, опять засмеялись. С лица матери сбе- жала улыбка. В повторе Хофман медленно поднимался со льда.
Мать была ошеломлена. Она не могла понять, каким образом! падение на лед может вызвать у молодых людей, в том числе и у ее дочери, такой хохот.
— Что же тут смешного? — спросила она.
— Мам, ты меня удивляешь.
— Только и всего — удивляю?
— А что еще?
— Я не понимаю, почему вам смешно, что упал человек? Вы что; никогда не падали? Не знаете, что это больно?
Всем сделалось неловко. Смеялись не над Хофманом, а над Аленой. Сережа снял очки, начал протирать их и надел только после того, как мама Ляльки повернулась и вышла из комнаты.
Глава восемнадцатая
Светило солнце, сияло во всех окнах, поблескивало на белых никелированных частях автомобилей. Этот блеск мчался вместе с автомобилями по улицам, пуская в прохожих солнечные зайчики,
Алена радовалась теплу и солнцу. Она ждала девчонок у телеграфа и с удовольствием прохаживалась по сухому асфальту. Отсюда было недалеко до Красноармейской улицы, где жил В. Г. Дресвянников.
Первой появилась Нинка Лагутина и привела своих соседок, вось- миклашек, Петрушину и Маташкову. Они не отдали свои дневники критику, но хотели отдать и теперь переживали, что чуть не совершили глупость.
Подошли Светка Пономарева и Маржалета. В последний момент притопала Раиса Русакова.
— Тетки, комсомольская организация! — сказала Маржалета.
— Я от себя лично.
Девушки улыбались, шутили. Они, конечно, шли, чтобы выручить альбомы, но не только за этим. С уроков сбежали,'встречу назначили на телеграфе, день солнечный — само приключение им нравилось.
— Ну, па-а-ашли, старухи,— проговорила медленно, певуче Нинка Лагутина.
Двинулись по переулку вдоль серой стены телеграфа, оживленно разговаривая, делясь новостями.
— Марь Яна точно уходит,— сообщила Маржалета.— Мама ее на улице встретила. Говорит, такая худая стала, жуть.
— А куда уходит? В другую школу?
— Девочки, девочки, я видела вчера одну тетку на проспекте. У нее туфли с медными наконечниками. Носки туфель медные. И пряжки. Блеск!
Тема туфель всех интересовала. Стали обсуждать, кто какие туфли
406
видел. Алена видела в комиссионке туфли из змеиной кожи. Ей не поверили, заспорили. Алена сказала, что видела, и все. И подумала о Марь Яне: «Как же так, уходит? Как же так! Как же так!» Алена переживала уход учительницы сильнее других, потому что похожа на Катьку. «Зачем похожа? Никогда! Никогда!» Что «никогда», она не знала, только чувствовала: «никогда!» Это было заклинание, строчка из стихотворения о чем-то таком, чего не должно быть — «никогда!».
Покровская гора и Покровский спуск назывались так по имени церкви, которая венчала один из семи холмов. Церковь стояла чистенькая, тихая.
За площадью вниз вела длинная крутая лестница с каменными ступенями и железными поручнями, сваренными из тонких труб. Там, где лестница кончалась, в самом низу, возвышалась колокольня еще одной церкви, и за ней, за маленькими домиками на берегу — солнечное, слепящее глаза марево над рекой и над противоположным пологим берегом.
От церкви веяло сыростью камня, из открытых ворот тянуло холодком, сумраком. По двору бродили старушки. Они оборачивались на стук каблучков по брусчатке, смотрели на проходящих мимо девчонок из-под низко повязанных платочков. Сквозь выложенные крестом узоры в каменной ограде были видны распахнутые двери боковых приделов. Казалось, что из этих дверей выходит на улицу таинственная густая темнота и старушки возникли из этой темноты. Хотелось скорее пройти мимо них, мимо этой сверкающей вверху золотом и пахнущей внизу сыростью тишины.
Алена почувствовала неловкость и какую-то свою вину перед церковью и старушками, как тогда в лесу перед Домом престарелых. Было неудобно за девчонок, которые шли, громко переговариваясь, нарушая устоявшуюся, прогретую солнцем тишину.
Узенькая улочка около церкви, тесно застроенная одноэтажными домами, упиралась в тупике в несколько многоэтажных домов довоенной постройки. В одном из них, сером, с массивными балконами, жил В. Г. Дресвянников. Этот дом отличался от других двумя лифтами, которые двигались снаружи в застекленных шахтах.
Пока девчонки стояли на улице, совещаясь, кто пойдет, лифт несколько раз поднялся и опустился, но из ворот дома выходили незнакомые люди. Тот, кто им был нужен, не вышел.
Посчитались: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана...» Выпало идти Светке Пономаревой. Но она посмотрела такими умоляющими глазами, что Алена не выдержала, сказала:
— Ладно, я пойду! — и решительно шагнула к воротам.
Поднимаясь в лифте, Алена пыталась сквозь ячейки окон шахт- эркеров увидеть улицу, девчонок. Но сквозь маленькие запыленные стекла едва пробивался мутный свет, и мешала сетка.
Двадцать третья квартира находилась на шестом этаже. Рядом со звонком-вертушкой медная табличка: «Г. А. Дресвянников». Алена
407
постояла перед дверью, соображая: «Почему «Г. А.»? Виктор Гри¬
горьевич — В. Г. «Г* А.», видимо, его отец?»
Алена покрутила вертушку. Звякнуло не очень сильно, так, еле-еле
задребезжало. Послышались шаги, открылась дверь, и Алена увидела
человека низенького роста в домашней куртке голубого цвета, ото¬
роченной по бортам на воротнике витым шелковым шнуром. Белый
чубчик встрепан, глаза излучают голубое удивление. Алена узнала
критика, но некоторое время продолжала разглядывать его молча: так
он был непохож на того, который приходил в школу. Там он был в
туфлях на высоком каблуке, на улице его увеличивала высокая шап¬
ка-пирожок. А перед ней стоял маленький, низенький, в тапочках на
босу ногу человек.
— Виктор Григорьевич, я из тридцать восьмой школы,— сказала
Алена.— Вы были у нас, помните? Девчонки просят вернуть альбомы.
— Альбомы? Хорошо,— сказал он, вроде бы даже не удивив¬
шись.— Заходи! Заходи!
Алена не собиралась заходить, но он так бысто согласился, что
она зашла. И получилось так, что она не захлопнула за собой дверь,
а прикрыла. И он потянувшись, чтобы захлопнуть, приблизился к
Алене голой шеей — прямо к лицу. Но тут же отстранился, показал
рукой в комнату.
— Проходи, давай твое пальто.
Алена посмотрела, куда он показывал, думая, что идти ей туда не
надо, что ей только бы взять альбомы. Но критик так ловко помог
ей снять пальто, что она не успела опомниться.
Комната была красивая, с камином. В другом углу, у окна, стоял
рояль, видимо старинный. Из этой комнаты вела дверь в соседнюю.
В небольшую щель были видны книжные полки и какая-то картина:
церковь и лес. Алена все время оглядывалась назад, прислушивалась
к тому, что делается в коридоре. А он вдруг появился из соседней
комнаты уже одетый в обычный костюм.
— Я кофе сварил. Ты кофе пьешь?
— Ой, нет,— сказала Алена,— вы нас извините. Мы не подумали,
когда отдавали, что это нельзя, чтобы кто-нибудь читал. Девчонки
очень переживают, понимаете?
— Да,— сказал В. Г. Дресвянников, взял девчонку за плечи и, не
слушая возражений, подвел к креслу.— Франсуа де Ларош Фуко
говорил: «Мы редко знаем, чего мы действительно хотим».
Алена не хотела садиться в кресло, но критик ее все-таки усадил.
Прямо перед собой на столике Алена увидела книги о художниках
и на них небольшую бочку из бамбуковых планок, из которых торчали
голова и голые плечи негра.
— Эту игрушку я купил на Филиппинах во время круиза... в
прошлом году,— сказал В. Г. Дресвянников и, уже уходя, объяс¬
нил: — Бочка снимается.
Но едва он вышел, Алена тотчас же поднялась и вышла за ним
в коридор, сняла свое пальто с вешалки. Из прихожей через ма-
408
ленький коридорчик видна была кухня: стол, полочка на стене. В. Г. Дресвянников, стоя вполоборота к Алене, наливал из кофеварки в маленькие чашечки кофе. Увидев, что Алена оделась, он поставил кофеварку, вытер полотенцем руки.
— Виктор Григорьевич, меня девчонки на улице ждут.
Он медленно вышел из кухни, спросил:
— Девчонки?
— Да. Они просят вернуть альбомы. Извините нас, пожалуйста.
— Я, конечно, верну альбомы. Когда ты сможешь зайти ко мне?
— А сейчас вы не можете отдать альбомы?
— Могу и сейчас,— не сразу ответил В. Г. Дресвянников, постоял, глядя ей в лицо, и медленно пошел в комнату.
Ему жалко было расставаться с «альбомами нежных дев». Помимо литературоведческого интереса, В. Г. Дресвянников испытывал живое любопытство, листая страницы тайных дневников или, как он говорил «самоучителей нежности».
— Жалко отдавать,— сказал он, вернувшись, держа тетради близко к себе, потом протянул их девчонке.
— До свидания,— быстро попрощалась Алена.— Извините... У нашей учительницы сестра умерла.
— Да? — спросил он.
— Да, от воспаления легких.
Два лестничных пролета Алена пробежала вниз пешком, потом вызвала лифт. Зайдя в кабину и нажав кнопку, прислонилась к стене лифта, закрыла глаза. С закрытыми глазами на мгновение увидела большое зеркало над камином, себя в этом зеркале без пальто, растерянную. «Зачем, дурочка, сказала про учительницу?» И еще подумала: «Как глупо все получилось. Отдали альбомы, а потом заявились, чтобы забрать назад. Только время отняли у серьезного занятого человека и себя выставили дурами».
Дернулся остановившийся лифт. Алена открыла глаза, вздохнула.
Девчонки ждали ее во дворе около беседки. Выбежав из подъезда, она подняла над головой тетради. В ответ раздалось дружное «ура».
В сквере девчонки обменялись тетрадями и сидели на лавочке, хмыкая, зачитывая друг другу смешное.
В. Г. Дресвянников расклеил страницы в тетради Маржалеты.
— Тетки! — сказала Нинка Лагутина.— Что пишет Маржалета... Внимание! «Меня пошел провожать Леонард, но мне нравится Коля...»
— Дай сюда,— попросила Маржалета.
— «Но Колю я начала ревновать, как и Юру, к Эмке...»
— Дай сюда! — потребовала Маржалета.
— «Поэтому я переметнулась и заставила себя влюбиться в Леонарда.— Нинка вскочила с лавочки.— И конечно, глупо ошиблась. Со стороны Коли и Юры у меня девяносто девять процентов взаимности».
Маржалета догнала Нинку, отняла тетрадь.
409
— Но я люблю Сашу. У него есть складной велосипед,— сказала Нинка Лагутина, делая вид, что цитирует по памяти.
— Где тут велосипед? Ну где? — обиделась Маржалета.
Она попыталась разорвать свой дневник пополам, но тетрадка была толстая.
— Подожди, не рви,— сказала Алена.— Все равно кто-нибудь подберет кусочки, прочтет. Надо сжечь.
На трамвае доехали до остановки «Городской парк». Маташкова и Петрушина забежали домой, взяли свои тетради. Им тоже захотелось сжечь, очиститься немедленно, повзрослеть. Звонко перекликаясь, легко ориентируясь в шуме и грохоте городских улиц, перешли трамвайную линию, по которой приехали, перебежали со смехом вторую трамвайную линию, по которой мчался, быстро приближаясь, посверкивая синими стеклами, чешский трамвай, и, преследуемые звонком вагоновожатой, кинулись, повизгивая, на шоссе. Риск, которому они подвергались, перебегая дорогу, вызывал восторг в душе. Ветер ударял в лицо, за этим ветром открывался простор, синее небо с плывущими по нему белыми облаками.
Алена перебежала и, отстав от девчонок, остановилась на автобусной остановке напротив стеклянного двухэтажного гимнастического зала общества «Динамо». Вспомнила В. Г. Дресвянникова, его руки, протянутые к ней с тетрадями, и свои нелепые ненужные слова. Зачем ему знать, что у Марь Яны умерла сестра? Зачем, дурочка конопатая, сказала постороннему человеку?
Сквозь наружную стеклянную стену гимнастического зала просматривались оба этажа. На втором — ребята в масках (двое в одном углу, двое в другом) отрабатывали один и тот же фехтовальный прием. На первом этаже две девушки в тренировочных костюмах медленно расхаживали, разминаясь. Время от времени они останавливались у снарядов, что-то поправляли, подкручивали.
Девчонки ушли далеко вперед. Раиса Русакова отделилась от них, вернулась, издалека крикнула:
— Ален, чего ты? Художественной гимнастики не видела?
— Сердце болит.
— Как болит?
— Ну, бежала, запыхалась — вот и болит. Или еще почему, не знаю. Я не знаю, поняла? У тебя от чего болит?
— У меня не болит.
— Тогда я ничего не могу тебе объяснить.
Алена двинулась вдоль стеклянной стены гимнастического зала. Кончилась стеклянная стена, кончилась бетонная ограда стадиона, и потянулась чугунная решетка, за которой убегали вверх по склону деревья. Над деревьями возвышалось гигантское «чертово колесо». Сейчас был еще не сезон, кабины высоко вверху висели неподвижно, были пустые.
410
Промчалась, прогрохотав, электричка, проехал, позванивая, трамвай, шуршали беспрерывно на шоссе автомобили.
На центральной аллее рабочие красили фонарные столбы и лавочки в один голубой цвет. Девчонки прошли через всю культурную часть парка, мимо озера, мимо узенького ручья, через который были переброшены горбатые мостики, мимо павильонов и теремов сельскохозяйственной выставки. Терема и павильоны тоже подновляли, готовили к открытию.
За павильонами выставки потянулись холмы, дикая природа: не- прореженные кустарники, неподстриженные деревья. Отсюда было недалеко до того места, где Алена гуляла одна. По холмам вниз и вверх носились с ревом мотоциклы с мотоциклистами в белых, заляпанных грязью шлемах. Здесь тренировались гонщики спортоб- щества «Динамо».
На холме, названном Лысой горой, девчонки побросали сумки, пальто, шапочки.
— День костра! — сказала Алена, доставая из сумки свой «Бом- бом-альбом».— Надо веток собрать.
— Всем собирать дрова! — крикнула Раиса Русакова.— Всем комсомольское поручение — собирать дрова. День костра!
Девчонки побросали на землю альбомы и отправились собирать дрова. Оленька Петрушина, прежде чем бросить свои три песенника «Том I», «Том II» и «Том III», подержала их, прижимая к себе, а потом просто разжала руки, и альбомы упали к ногам. И побежала к девчонкам, которые уже собирали сушняк для костра. Ветер налетал порывами, яростно листал тетради, шелестя страницами. Девчонки уходили в разные стороны все дальше, дальше, а на вершине холма, над песчаной лысиной, где ничего не росло, кружился ветер. Ветер, только ветер!..
Бумага и толстые обложки тлели, не хотели гореть. Вспыхнули сначала травинки, затрещали, и потом уже занялась бумага. Девчонки стояли вокруг костра, следили за тем, как огонь распространяется, охватывает черный коленкор обложек, скручивает его, открывая на мгновение картинки, строки песен, как чернеют слова и рисунки и затем вспыхивают, рвутся на черные клочки пепла...
Раиса Русакова отошла, разбежалась и с каким-то странным воплем прыгнула через костер, взвихрив за собой искры и дым. Но больше никто прыгать не стал. Пылали страницы, над которыми девчонки коротали вечера, украшая их и разрисовывая. Дымок стлался по ветру над Лысой горой и таял в небе раньше, чем касался верхушек деревьев над соседним холмом. Трещали где-то рядом мотоциклы, самих мотоциклистов не было видно за деревьями.
— Горим! Горим ярким пламенем! — закричала Маржалета, стараясь привлечь внимание мелькающих между деревьями белых шлемов. Но и Маржалету никто не поддержал, и она смущенно замолчала.
Алена сидела на корточках, смотрела в огонь, ворошила палкой
411
страницы своих и чужих тетрадей. Горел стишок: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня», горели два сердца, факел и цветки, горел кинжал, пронзивший сердце свекольной величины и свекольного цвета. Скукоживались, превращаясь в пепел, строчки советов: «Не догоняй мальчишку и трамвай, будет следующий». Вырывались с языком пламени и улетали с легким пеплом в небо сентенции типа: «Девушка — цветок жизни, сорвешь — завянет».
Занимались потихоньку и толстые сырые сучья, они взрывались с треском, подбрасывая в небо пепел тетрадей. Ветер уносил сгоревшие листы, кроша их на мелкие кусочки,— черные птицы черных мыслей. А высоко над ними и вокруг — высокое чистое небо, солнце.
Боль в сердце от быстрого бега или от чего... не проходила. И все вокруг: небо, ветер, дым костра и ощущение чего-то такого, что «никогда!»,— росло из этой боли. На сердце давила тяжесть. Хотелось выкрикнуть: «Никогда! Никогда!»
Алена поднялась с корточек.
«У меня за плечами — шестнадцать. Впереди же года и года. Буду строить, любить, увлекаться. Не умру никогда! Никогда! Впереди еще столько радости: и костер, и весна, и звезда! Никогда не узнаю старости! Не умру — никогда! Никогда!»
СОДЕРЖАНИЕ
В. Алексеев
ПРЕКРАСНАЯ ВТОРОГОДНИЦА 4
Е. Криштоф
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ЖЕНЕЙ КАМЧАДАЛОВОЙ
72
JI. Нечаев
ОЖИДАНИЕ ДРУГА,
ИЛИ ПРИЗНАНИЯ ПОДРОСТКА
212
Э. Пашнев
БЕЛАЯ ВОРОНА 280
Литературно-художественное издание
ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ВЫПУСК III
Алексеев Валерий Алексеевич
ПРЕКРАСНАЯ ВТОРОГОДНИЦА
Криштоф Елена Георгиевна
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ,
РАССКАЗАННАЯ ЖЕНЕЙ КАМЧАДАЛОВОЙ
Нечаев Леонид Евгеньевич
ОЖИДАНИЕ ДРУГА, ИЛИ ПРИЗНАНИЯ ПОДРОСТКА
Пашнев Эдуард Иванович
БЕЛАЯ ВОРОНА
ПОВЕСТИ
Ответственный редактор Н. С. Аравина Художественный редактор Г. Ф. Ордынский Технический редактор Е. П. Кудиярова Корректоры Л. А. Лазарева, Т. А. Нарышкина
ИБ № 11927
Сдано в набор 21.11.89. Подписано к печати 07.05.90. Формат 60X 901 /16- Бум. кн.-журн. имп. Шрифт тайме. Печать высокая. Уел. печ. л. 26,0. Уел. кр.-отт. 26,0. Уч.-изд. л. 29,34. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 1 — 100 000 экз.). Заказ № 3565. Цена 1 р. 70 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»
К ЧИТАТЕЛЯМ!
Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.
Школьные годы. Выпуск 3: Повести/Художник О. Фи- Ш67 липенко; Оформитель А. Савельев.— М.: Дет. лит., 1990.— 414 с.: ил.
ISBN 5—08—001584—5
В сборник входят повести современных писателей: В. Алексеева «Прекрасная второгодница», Е. Криштоф «Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой», Л. Нечаева «Ожидание друга, или Признания подростка» и Э. Пашнева «Белая ворона».
Это повести о сложном внутреннем мире подростка, о той поре, когда формируется характер, складываются жизненные взгляды и убеждения. Школьная жизнь, семья, взаимоотношения с товарищами, первая любовь — все эти проблемы своеобразно и остро затронуты в повестях.
.„4803010201—291
Ш 331—90 ББК 84.3Р7
М101(03)-90