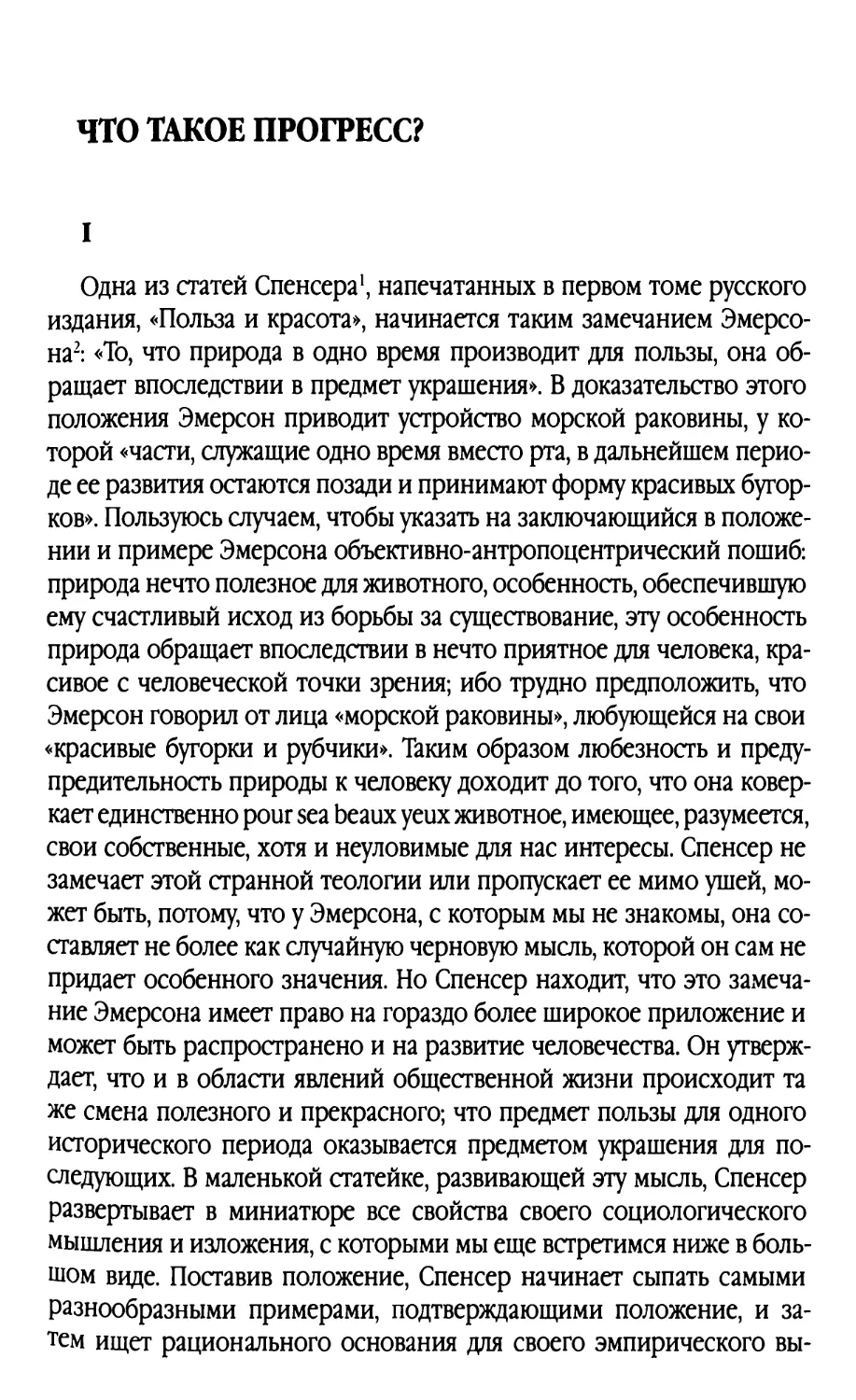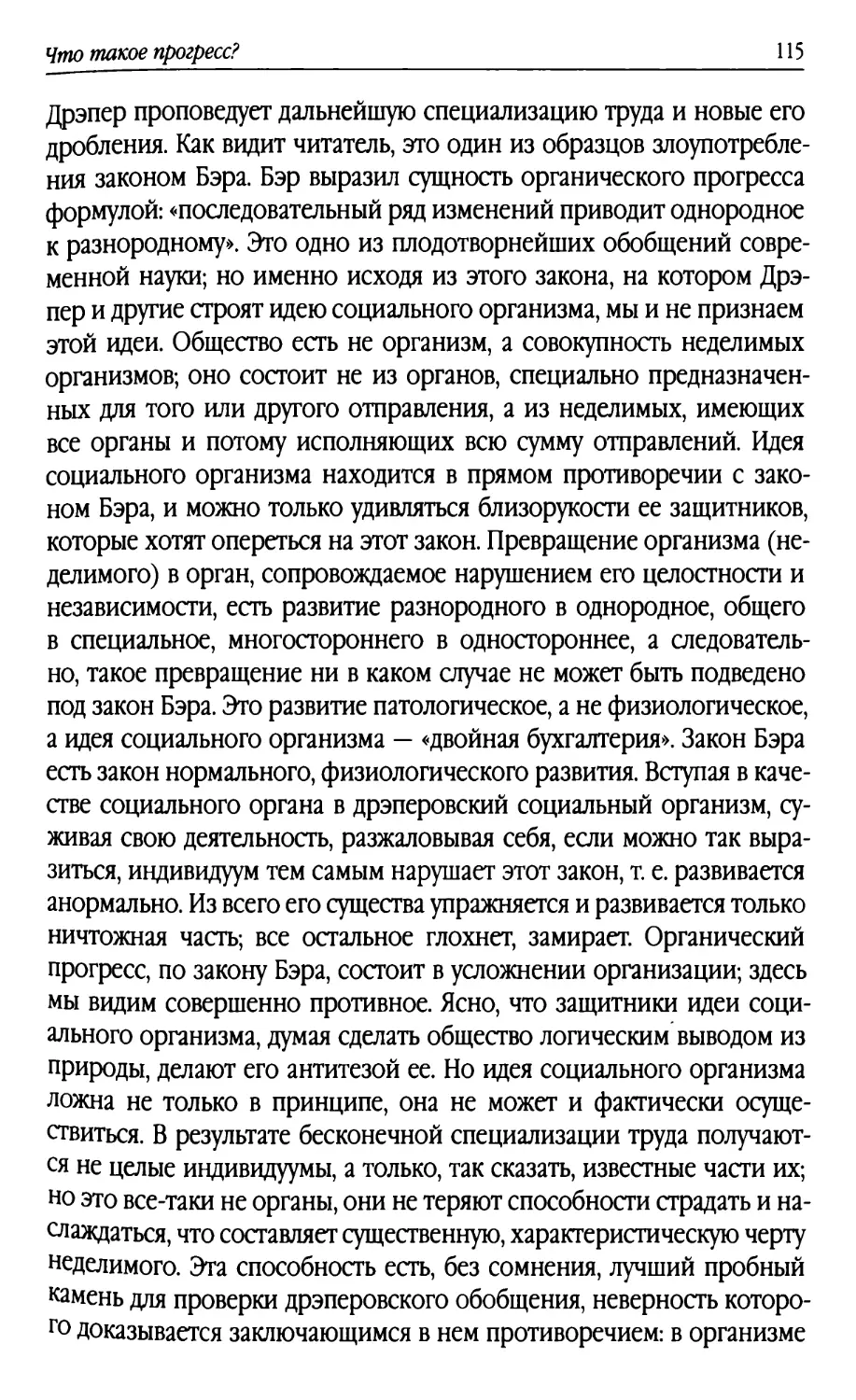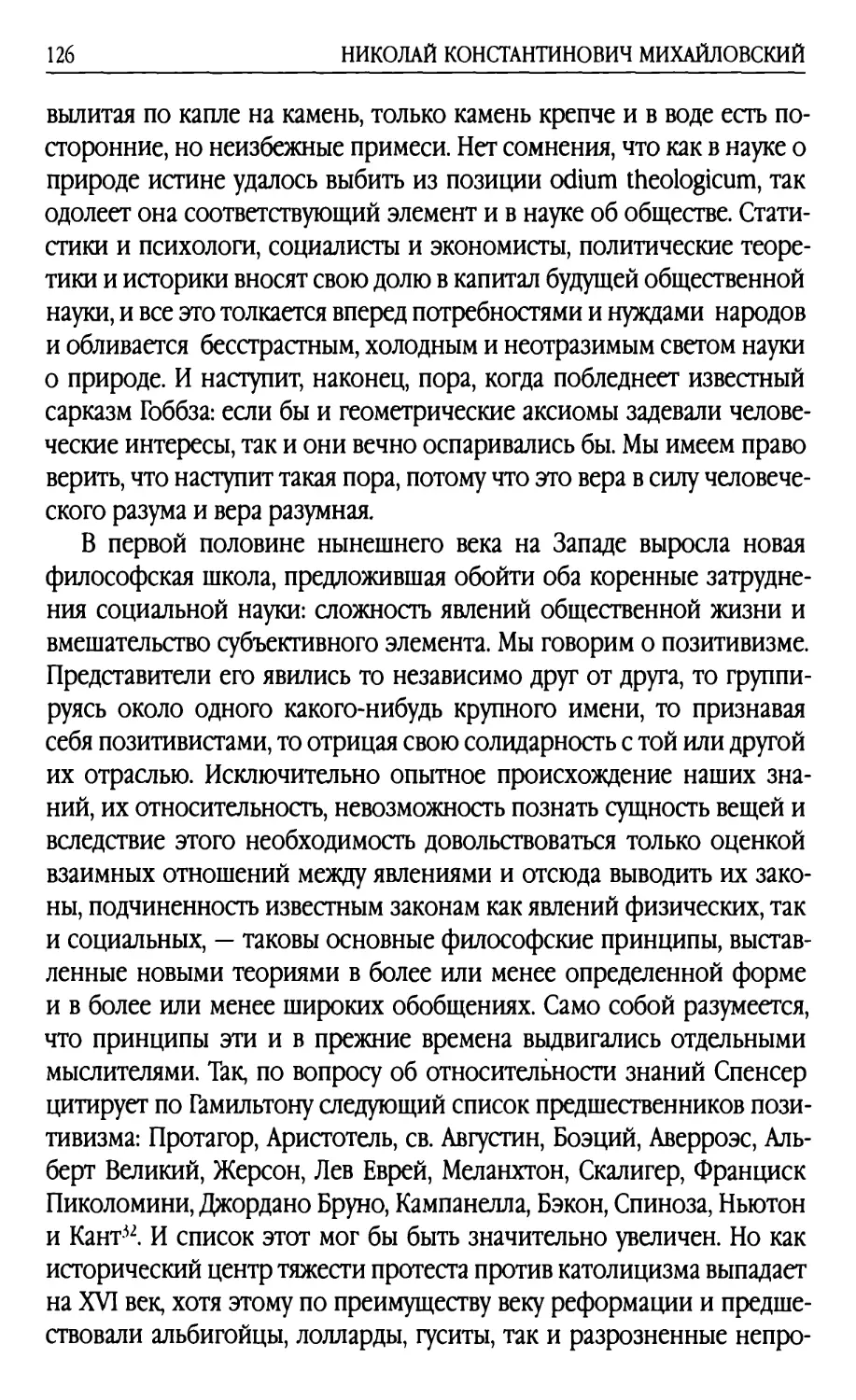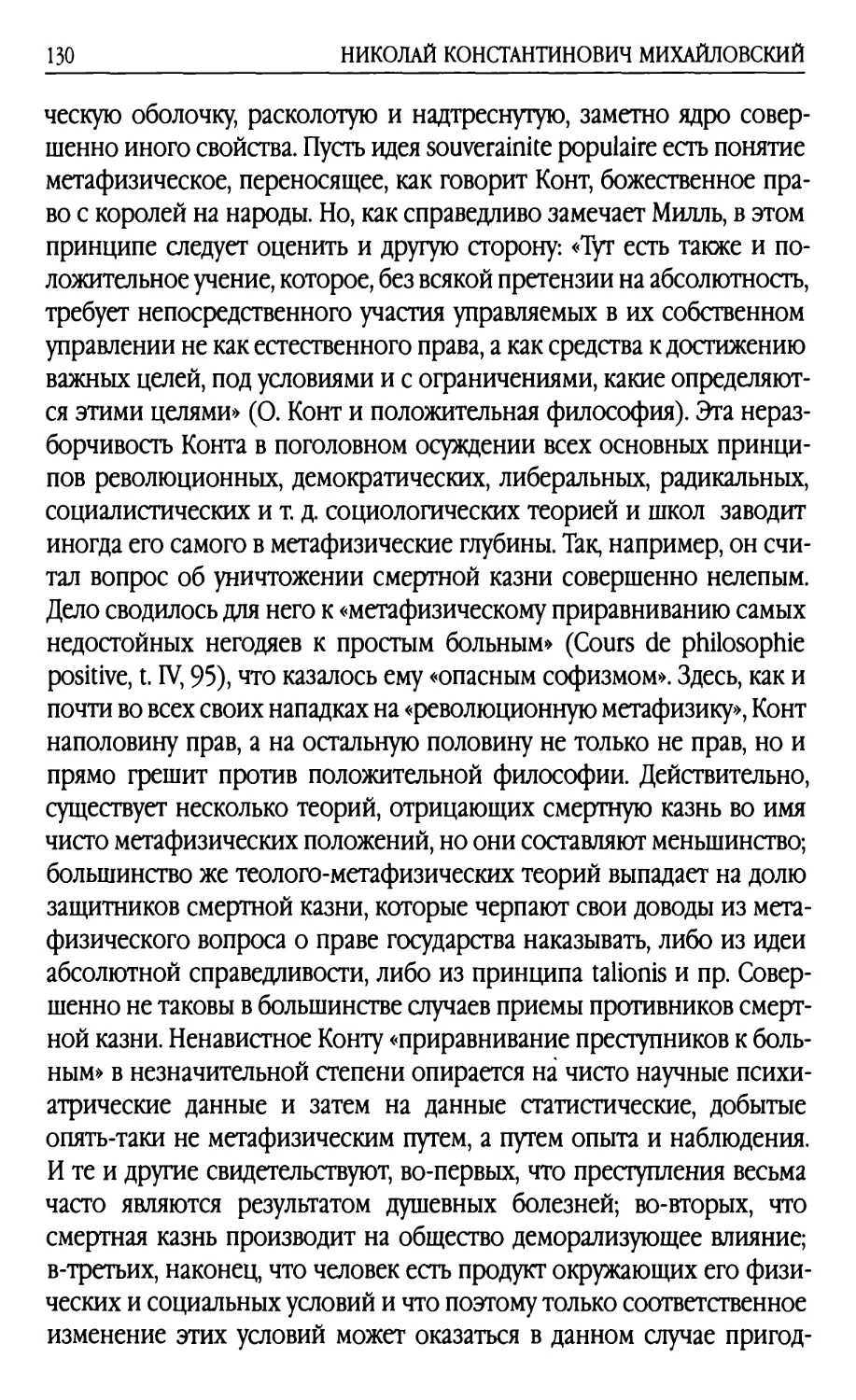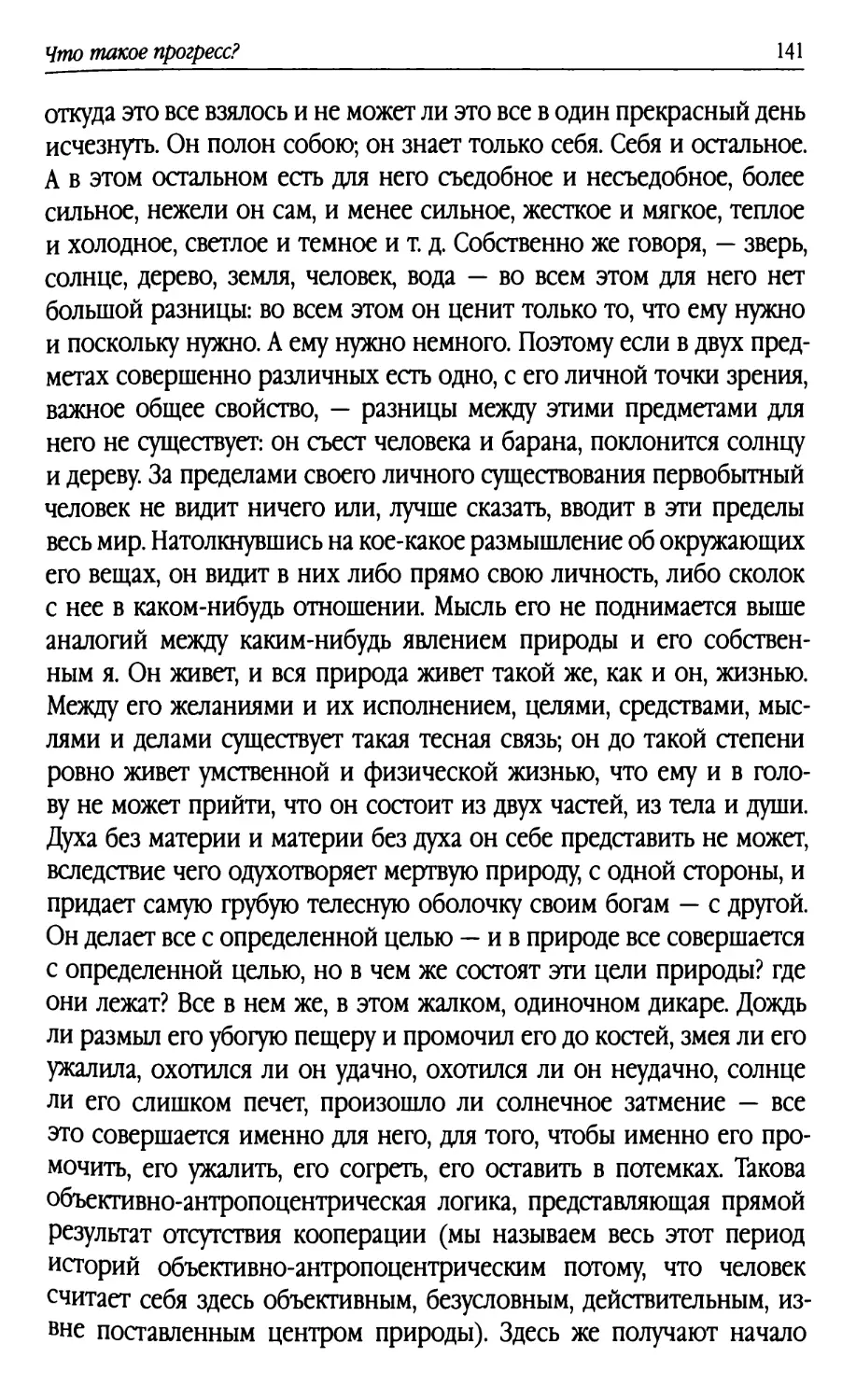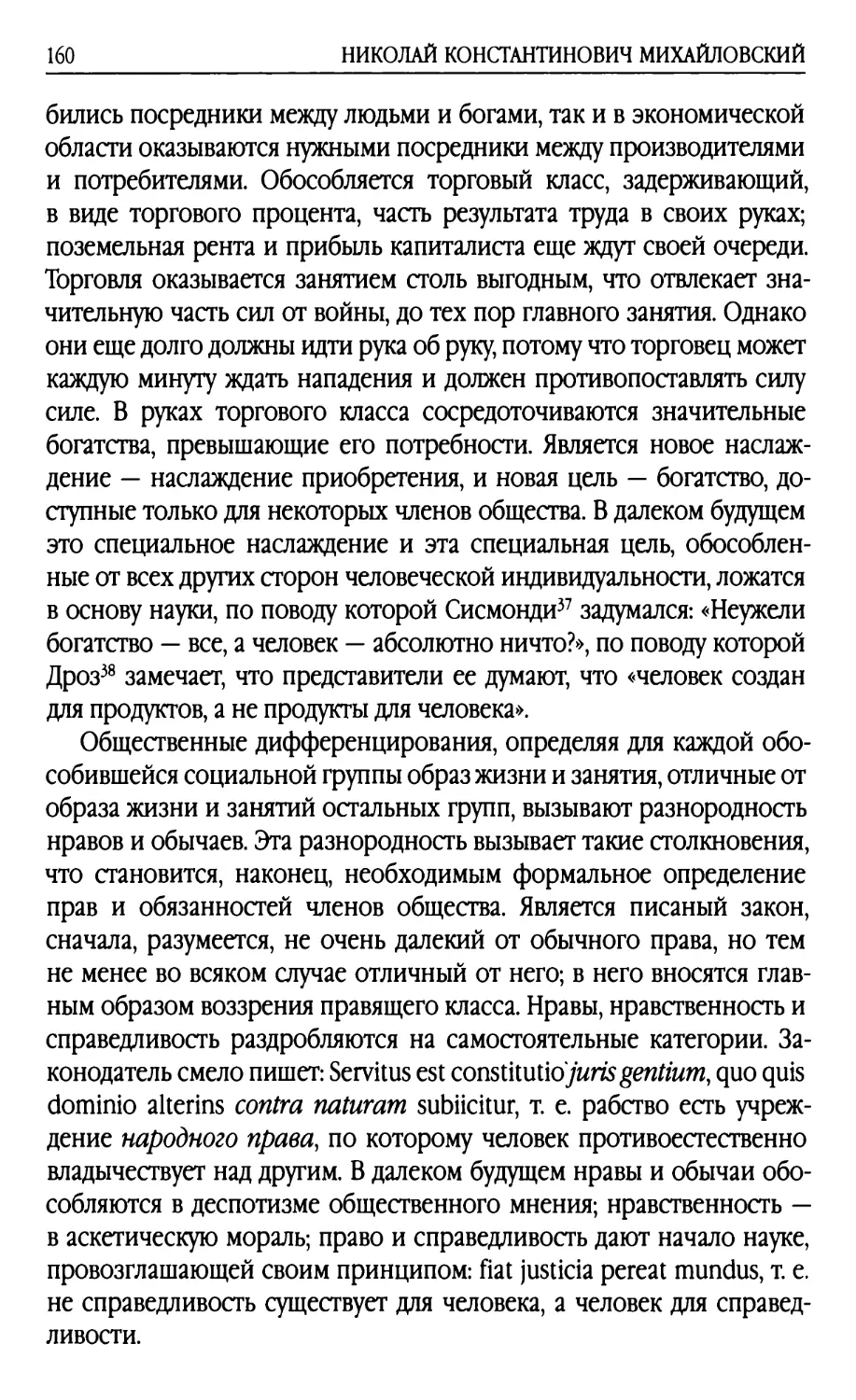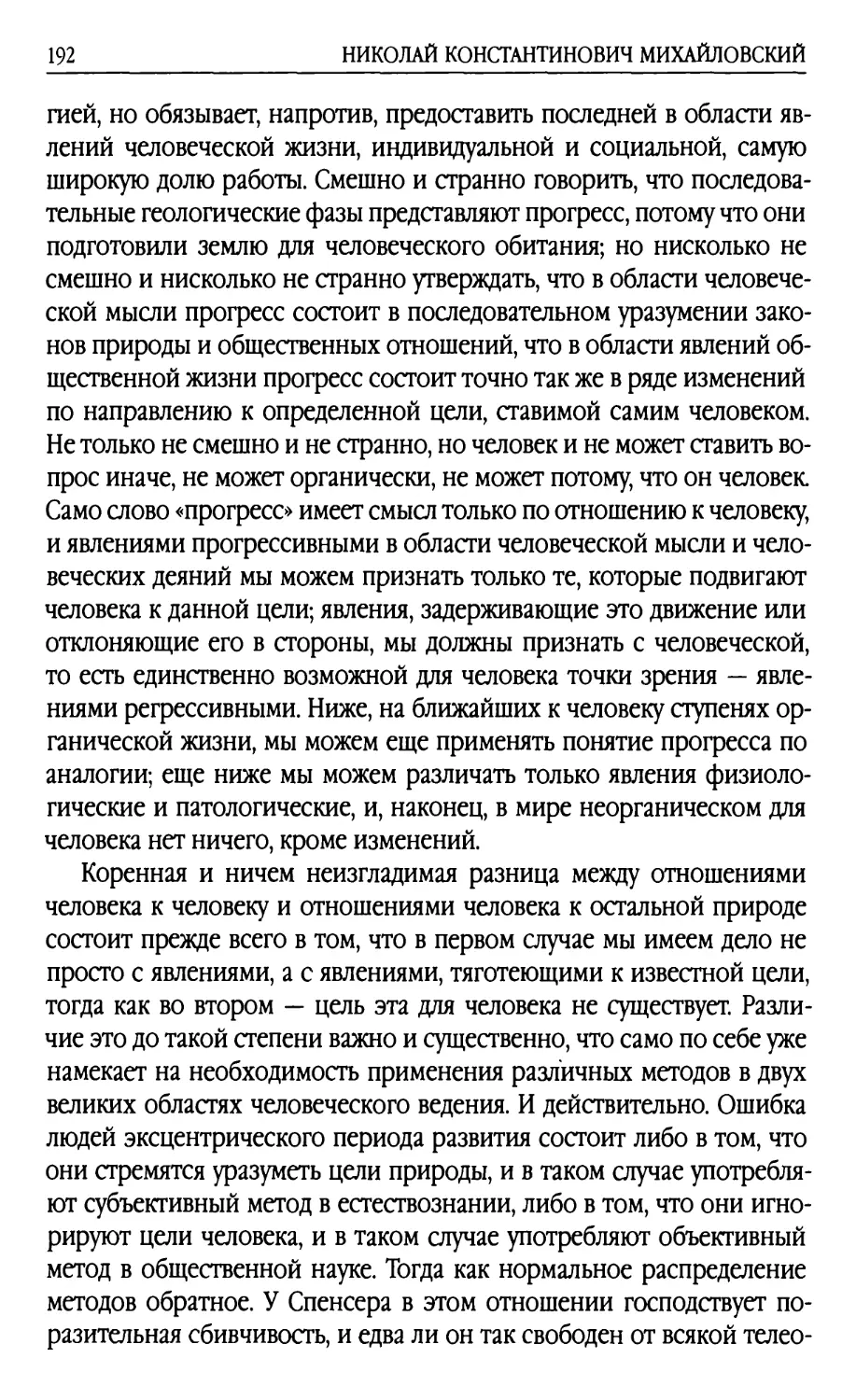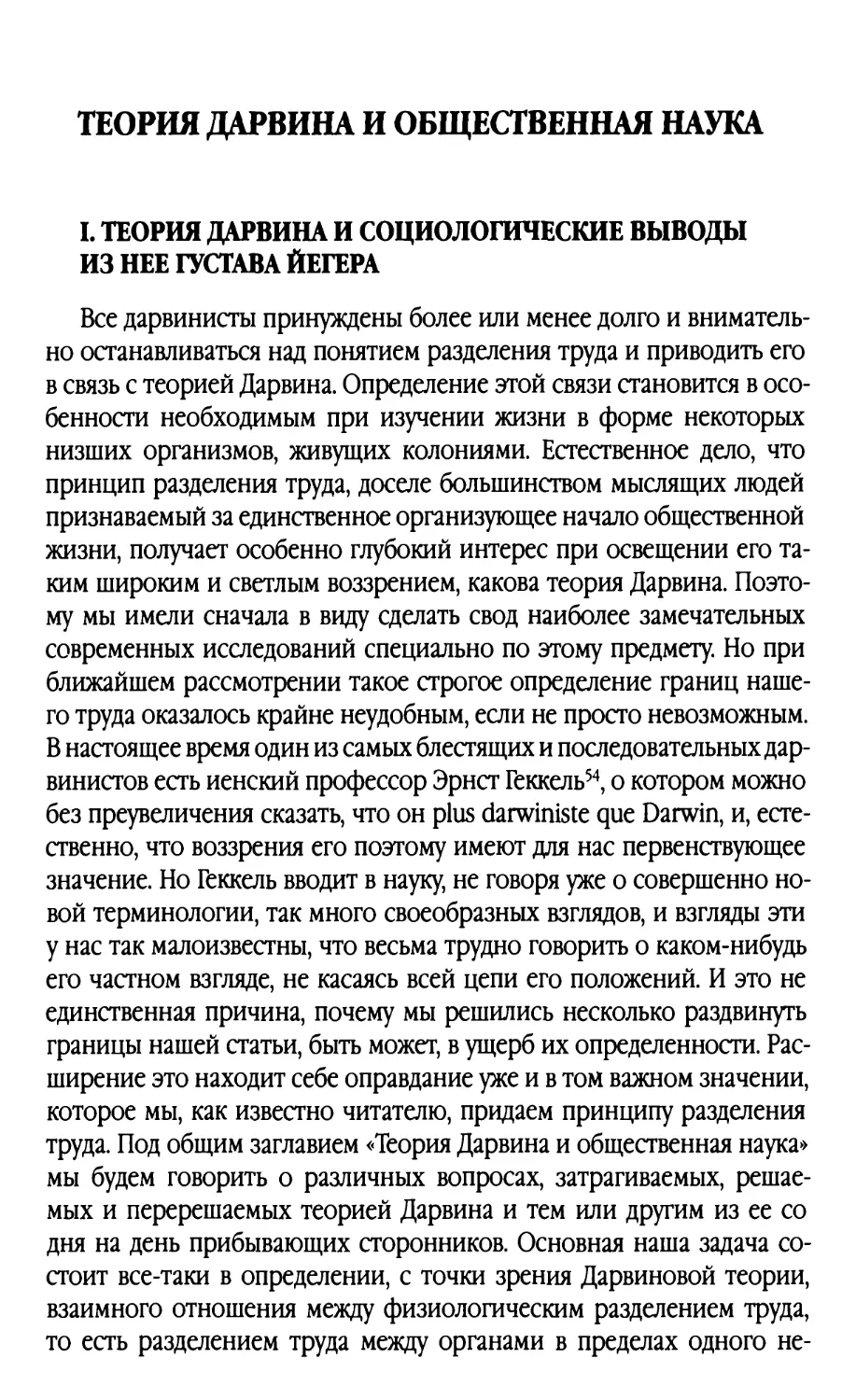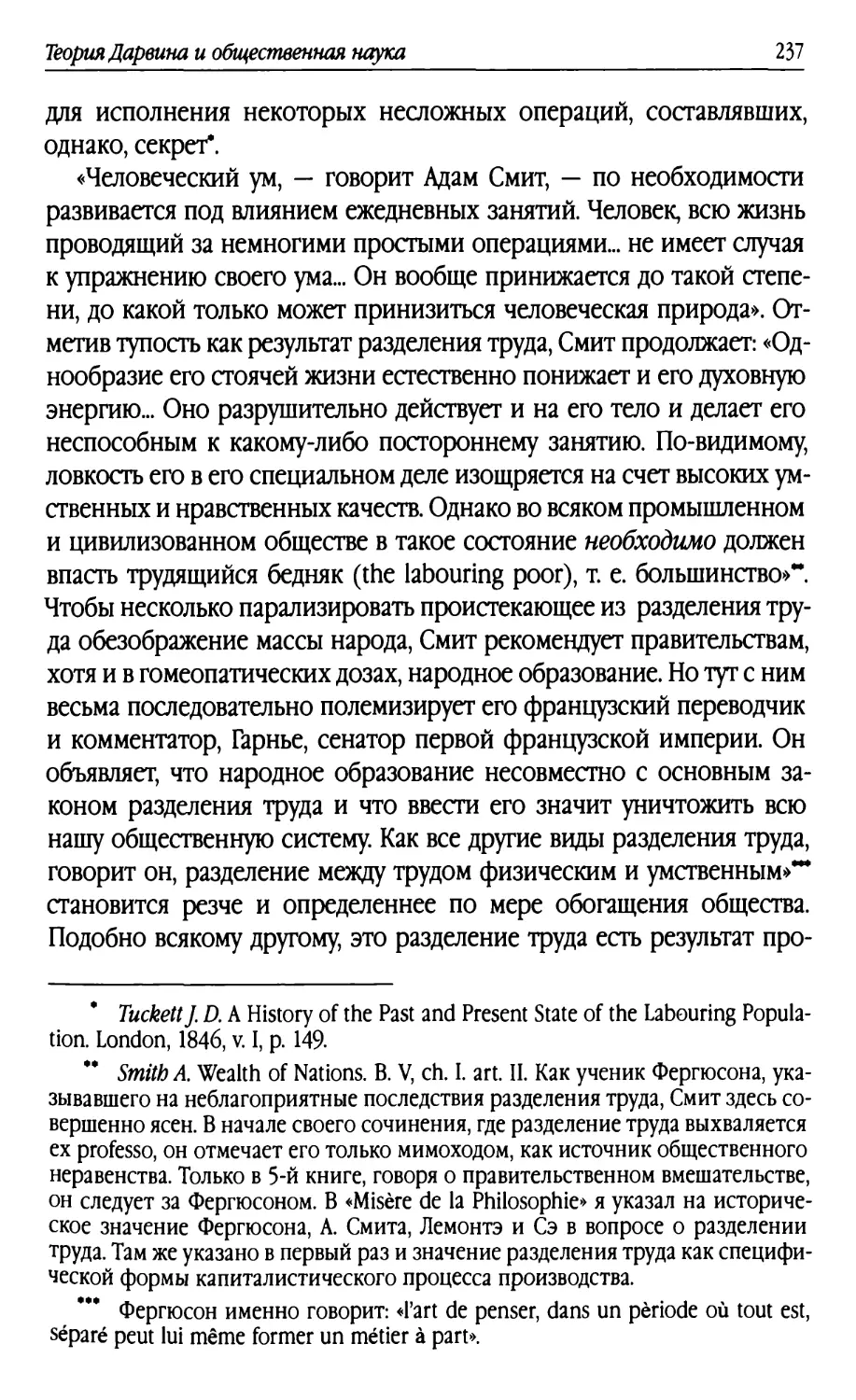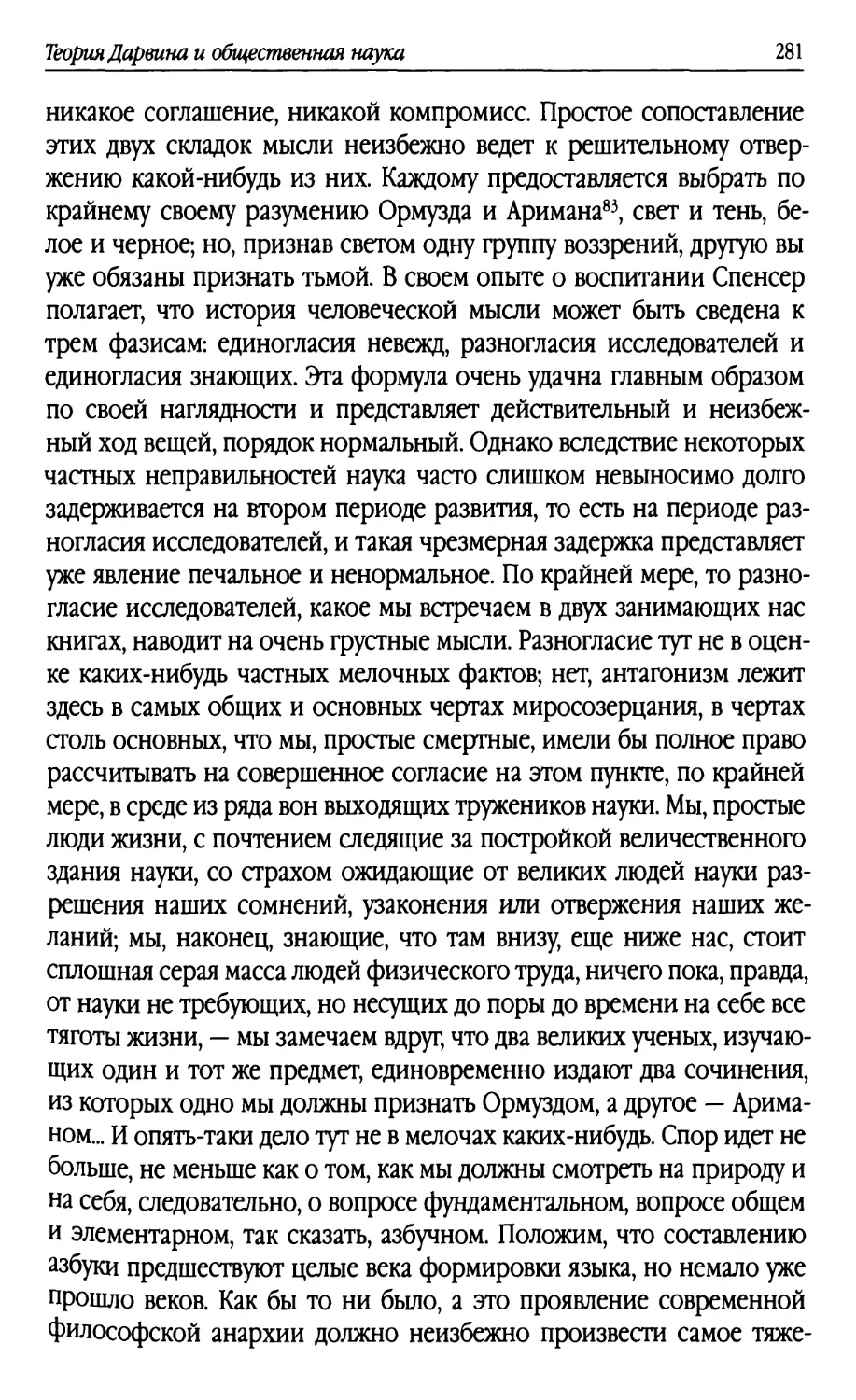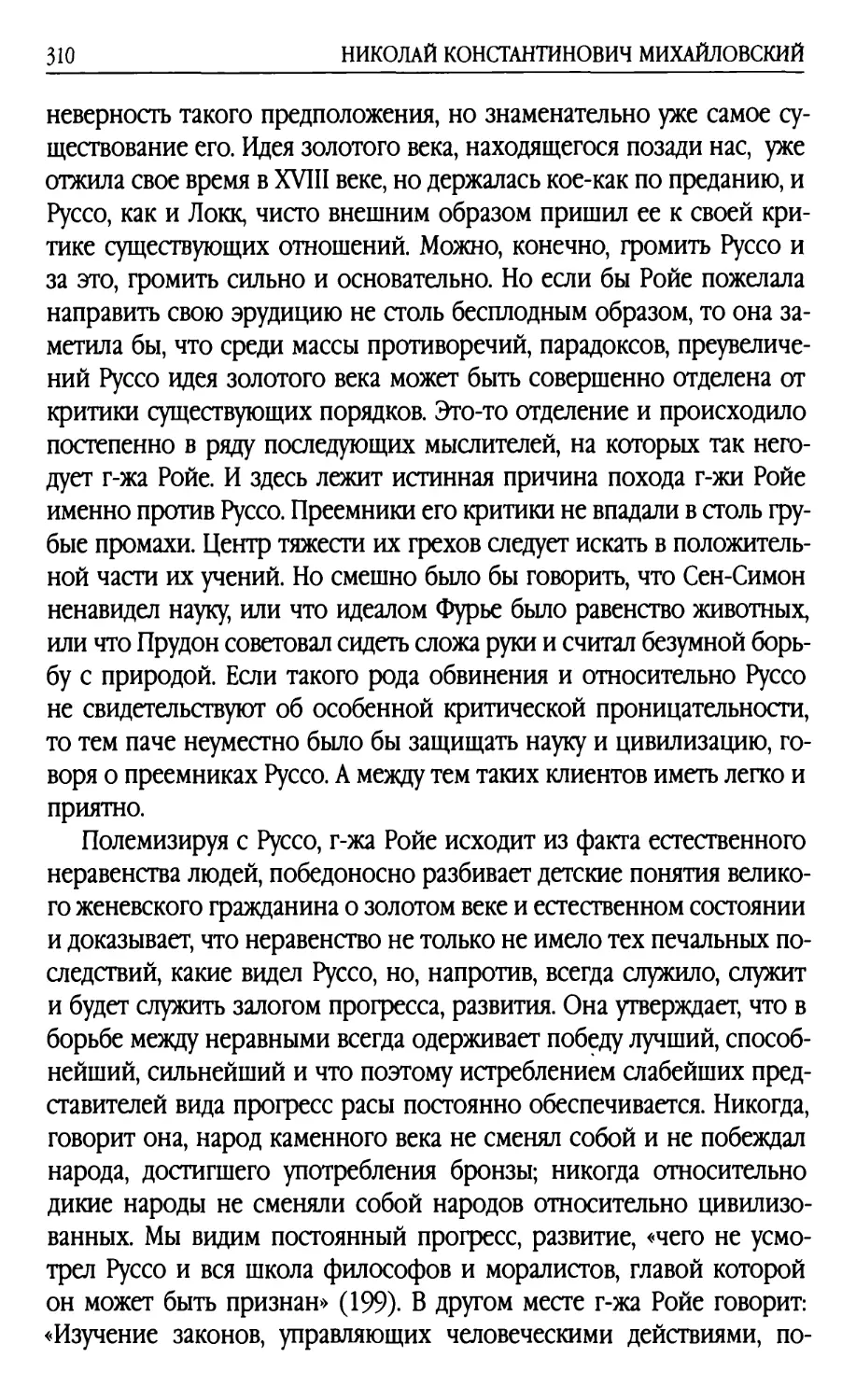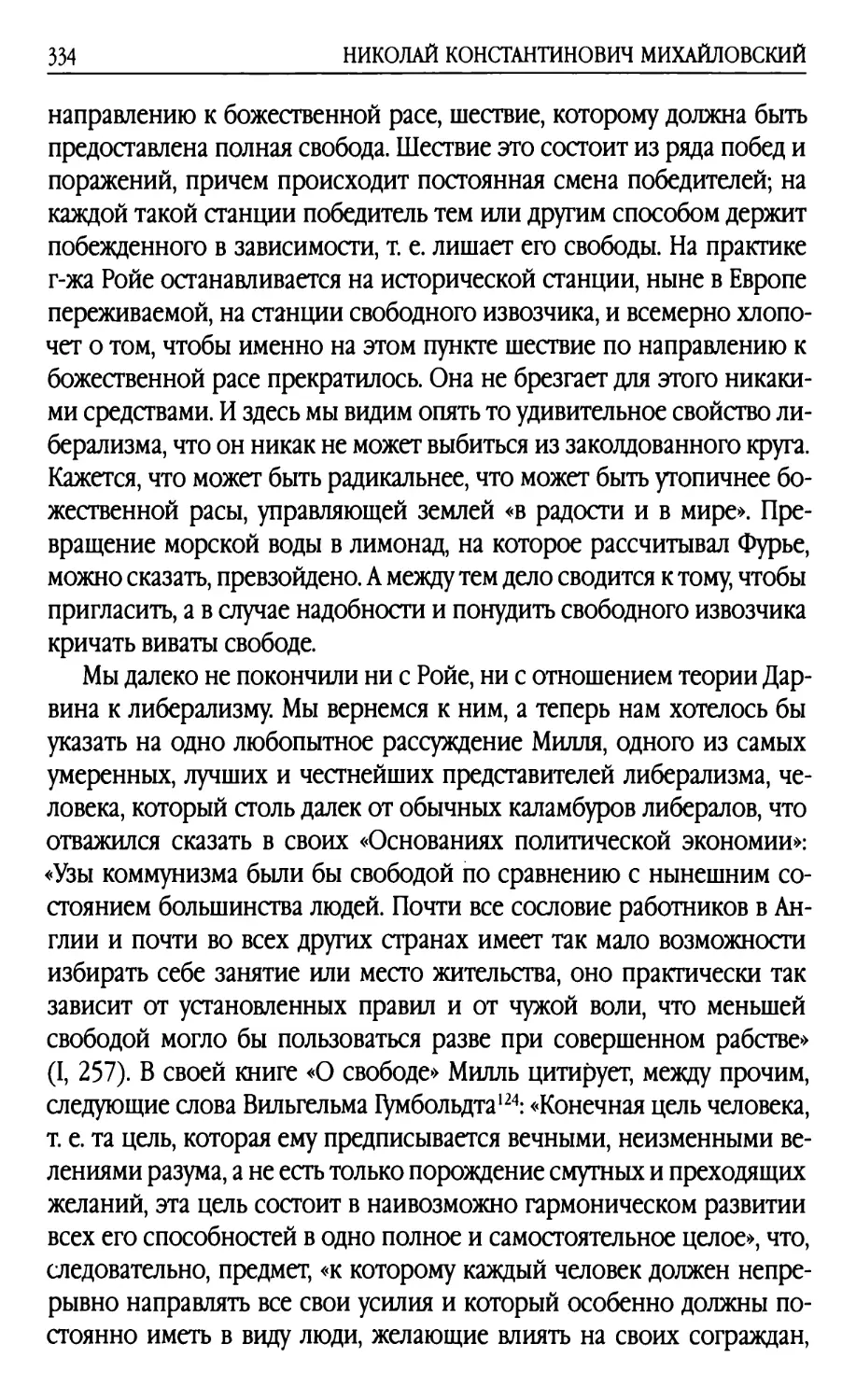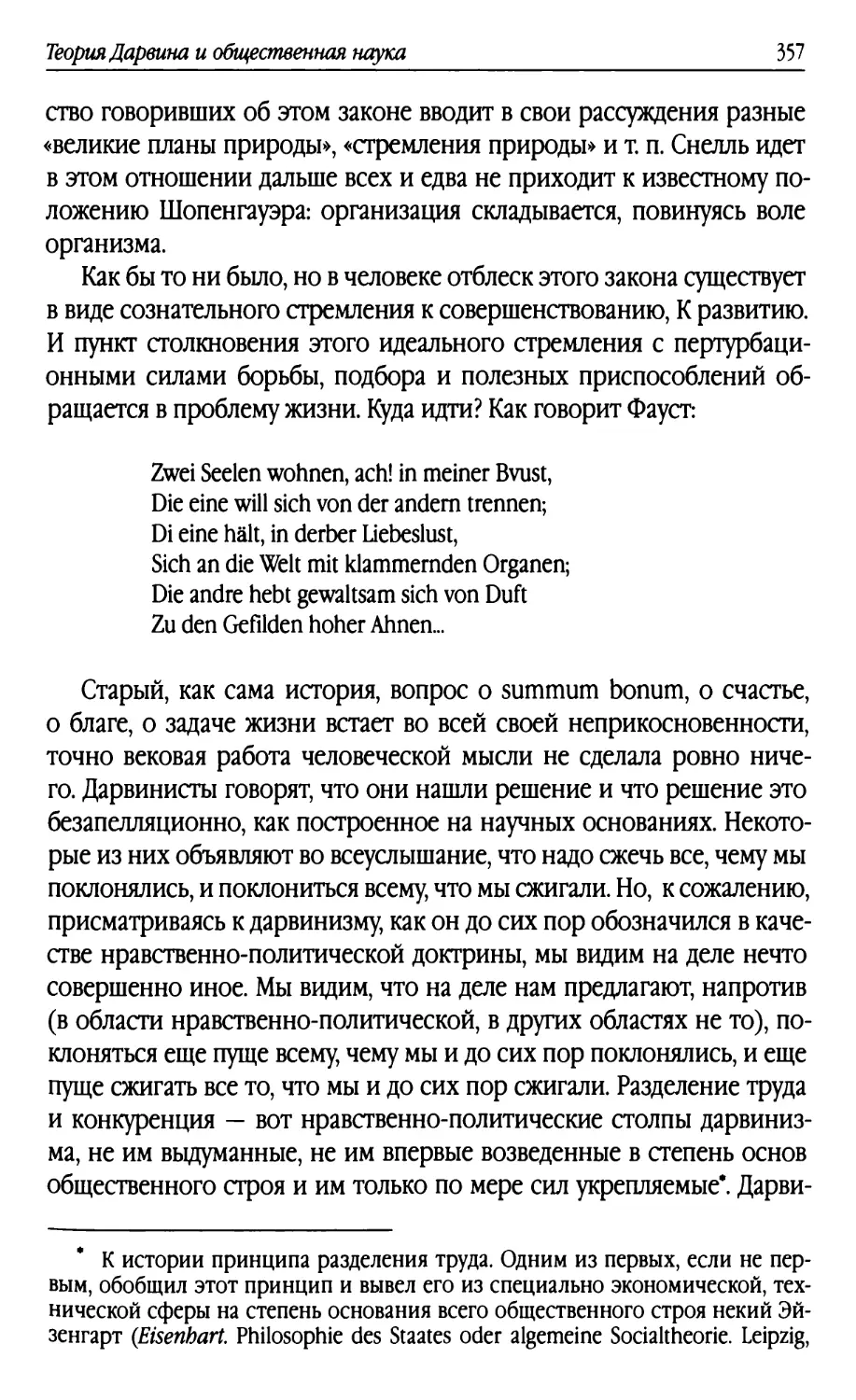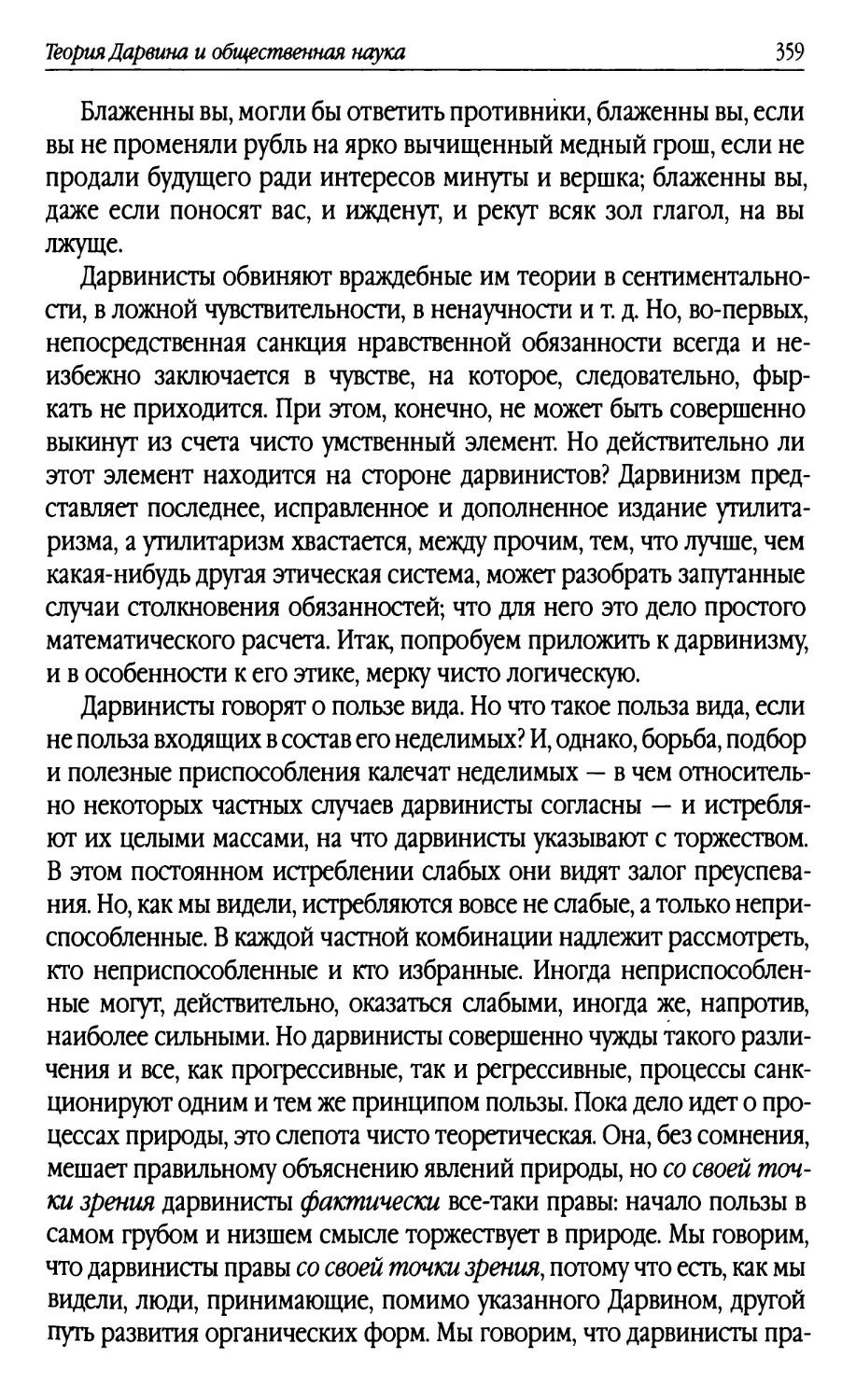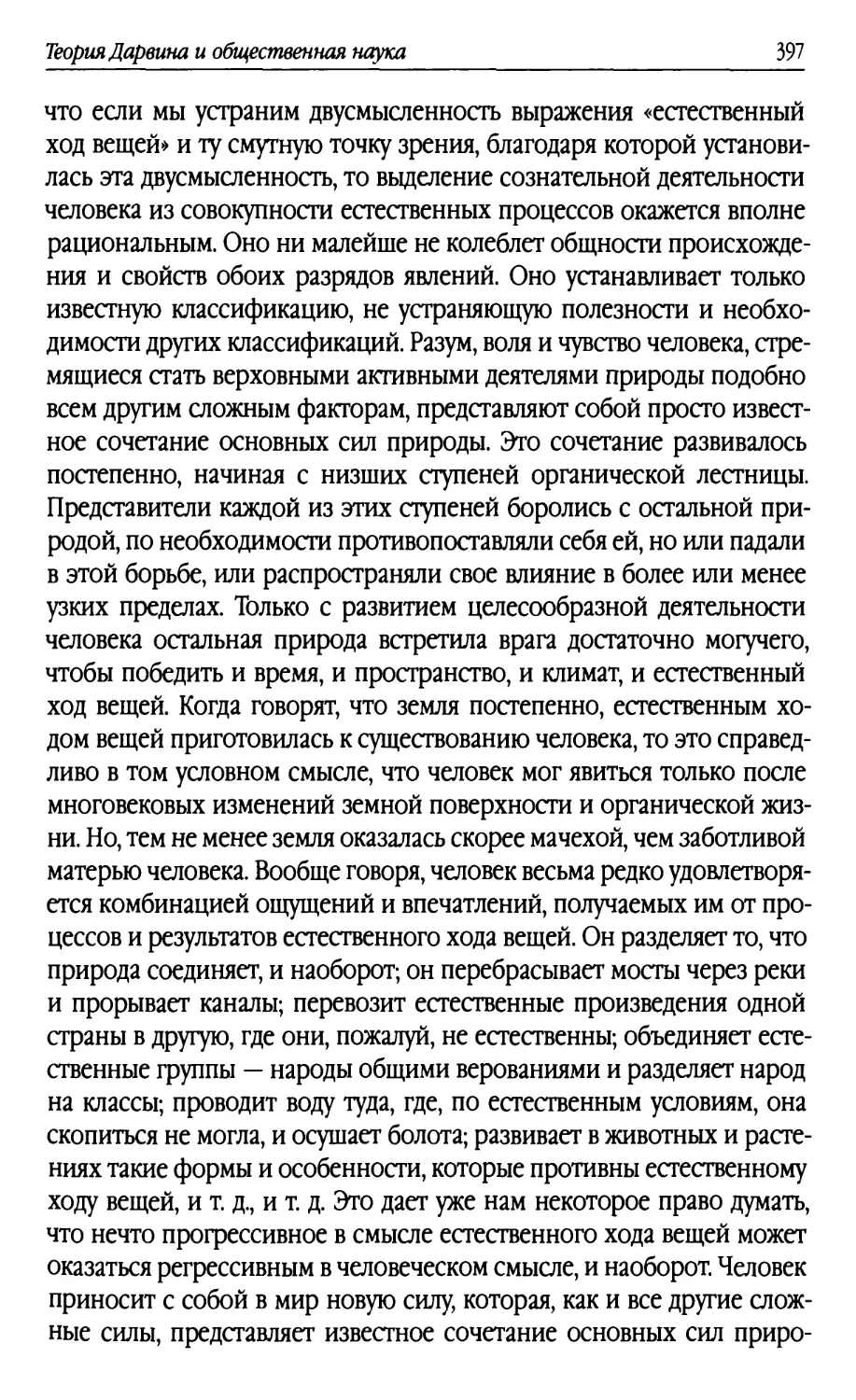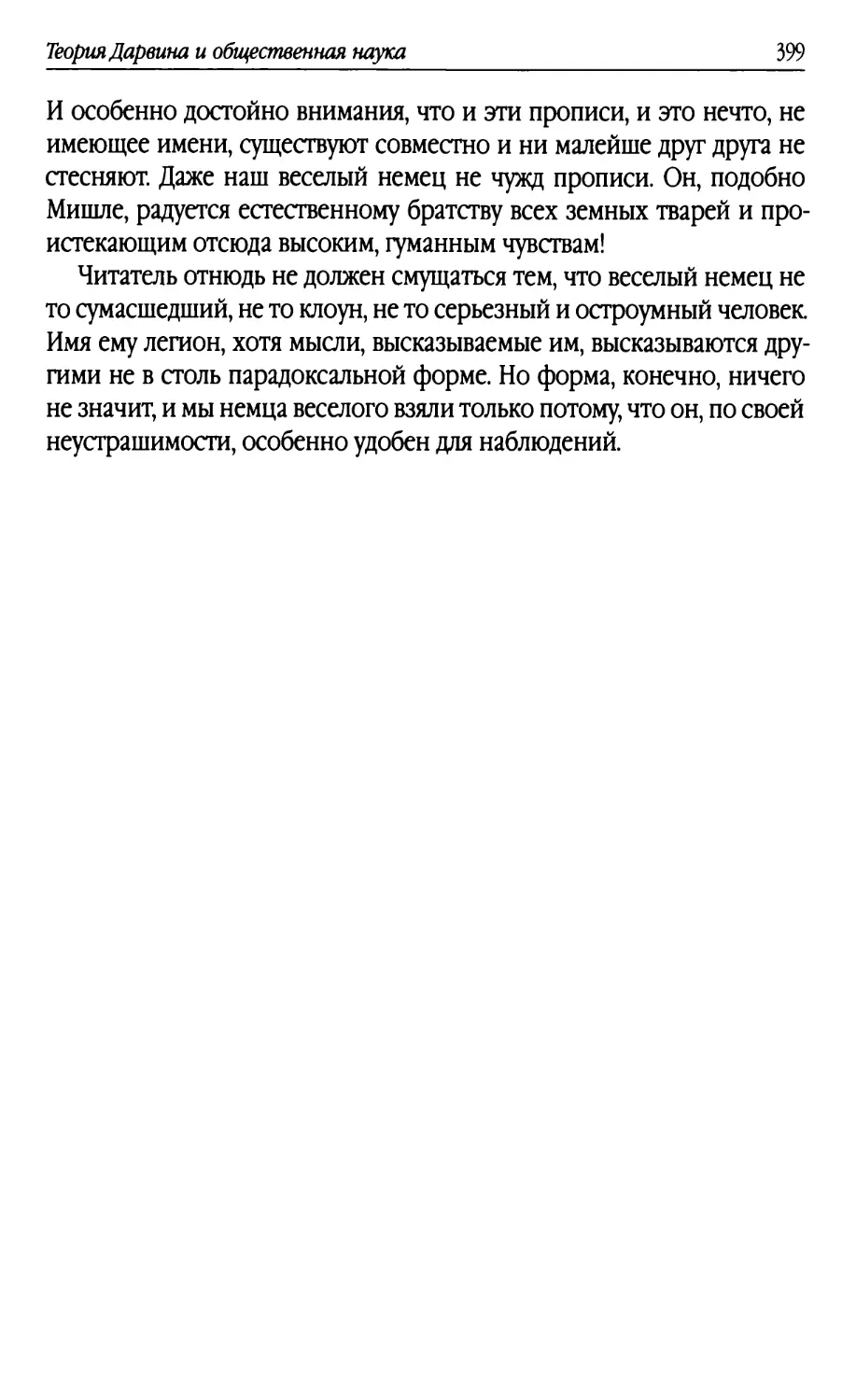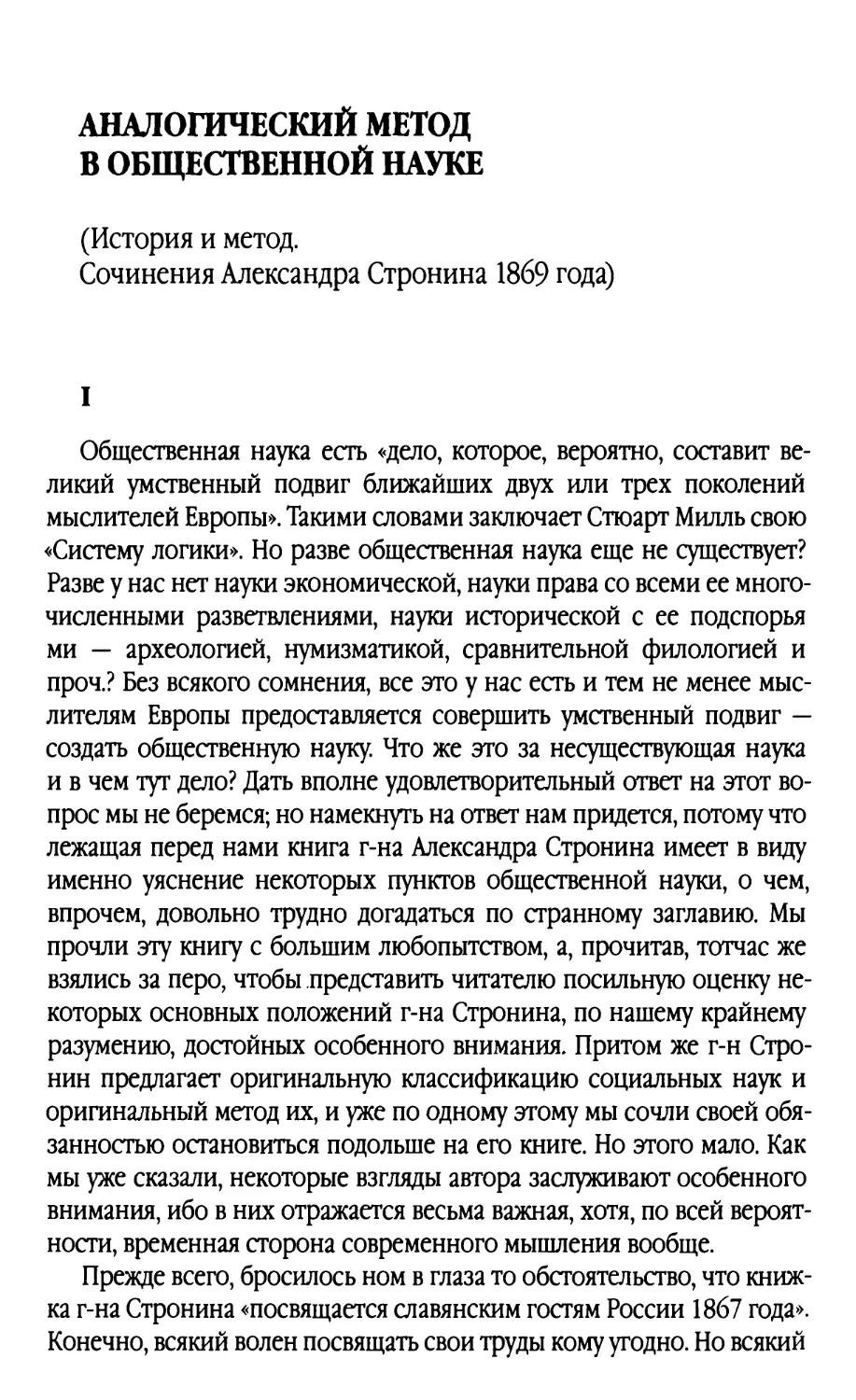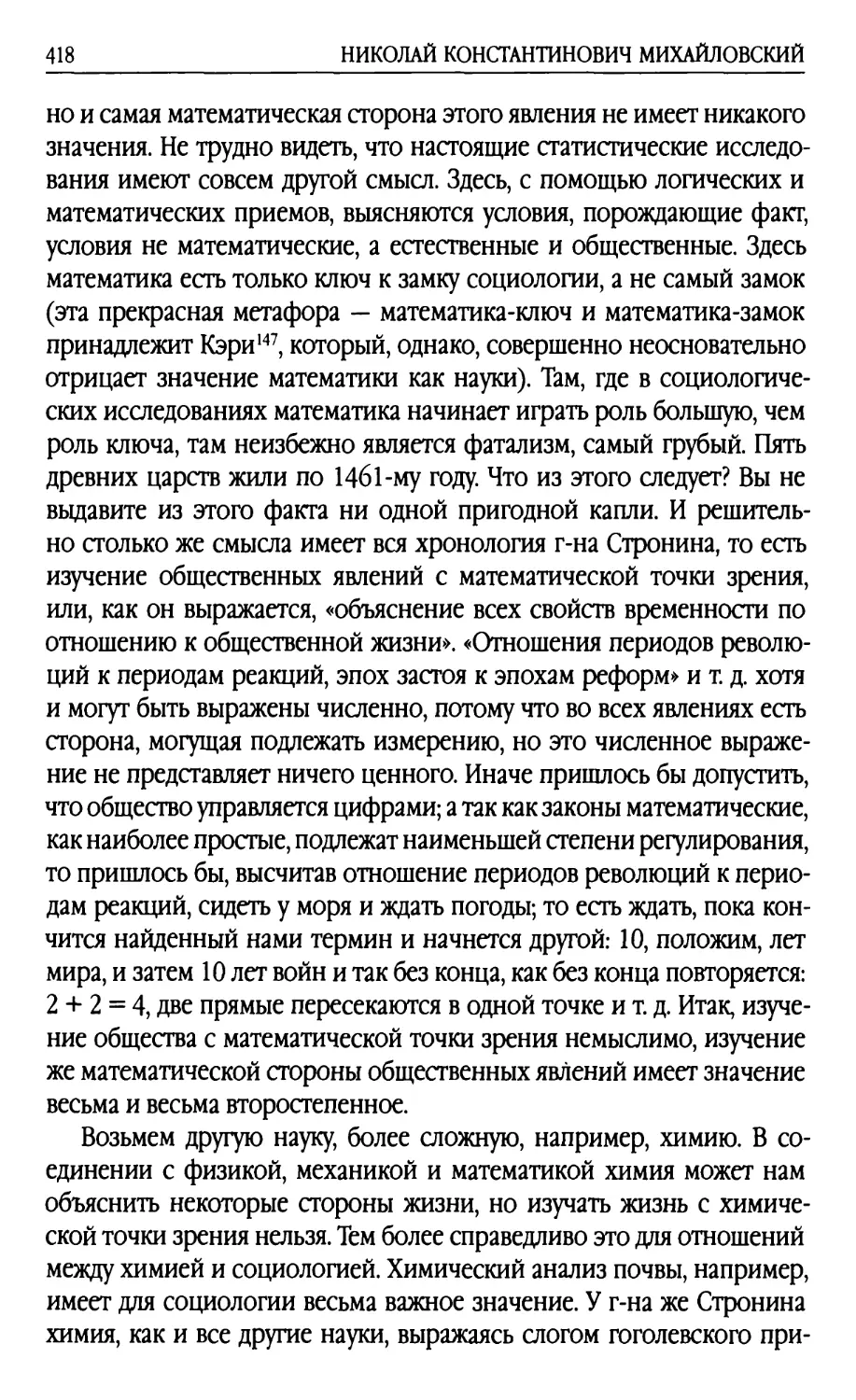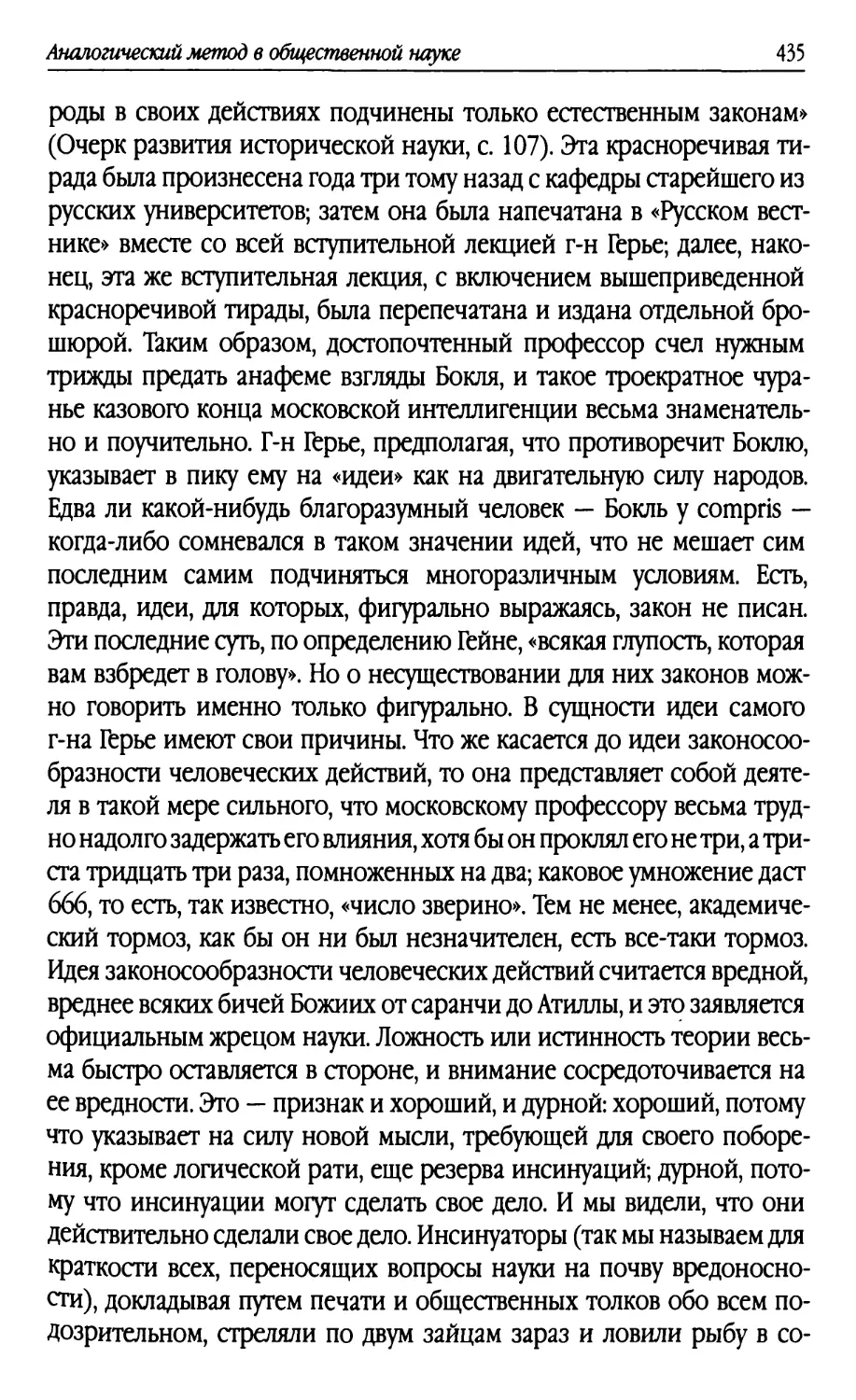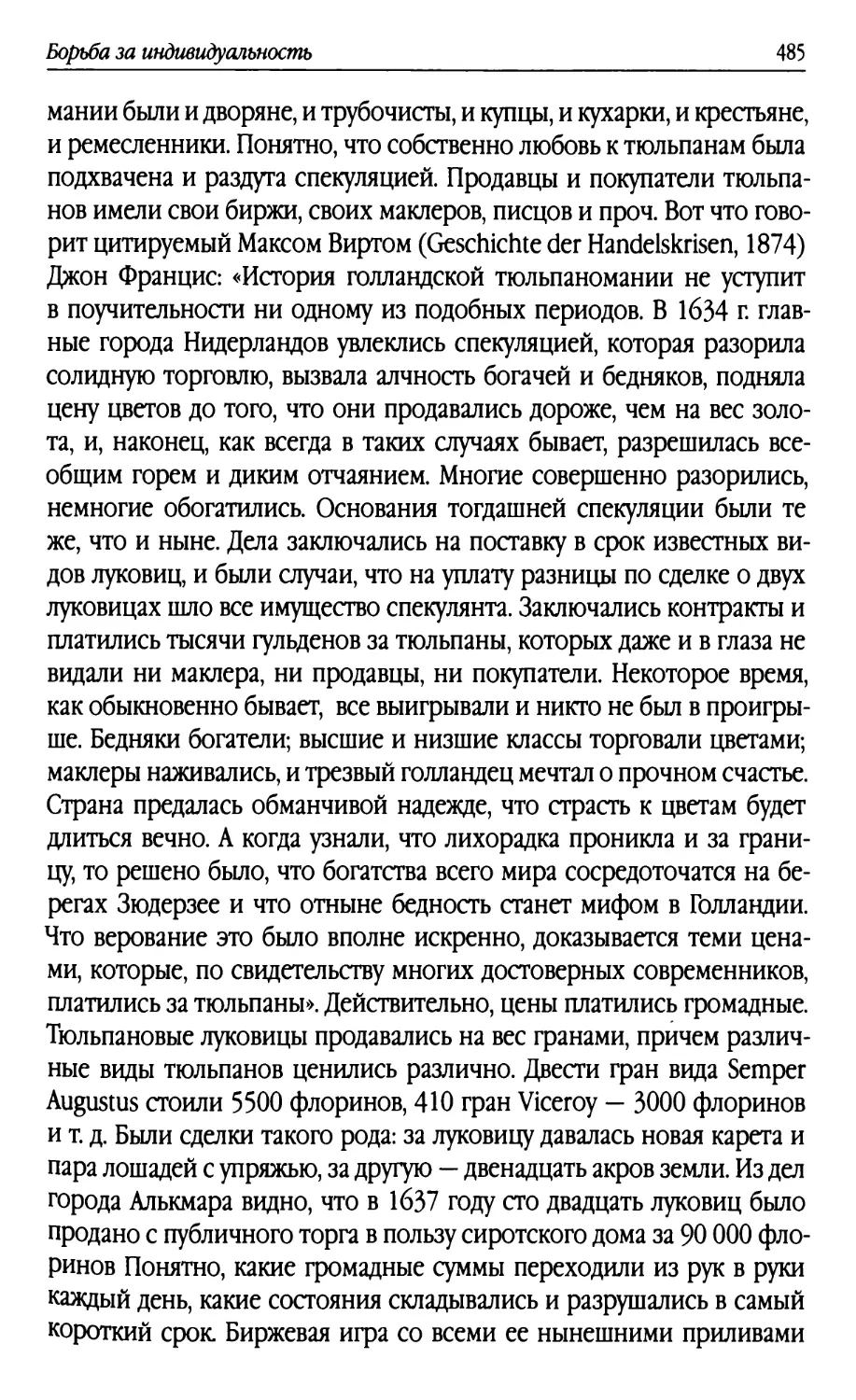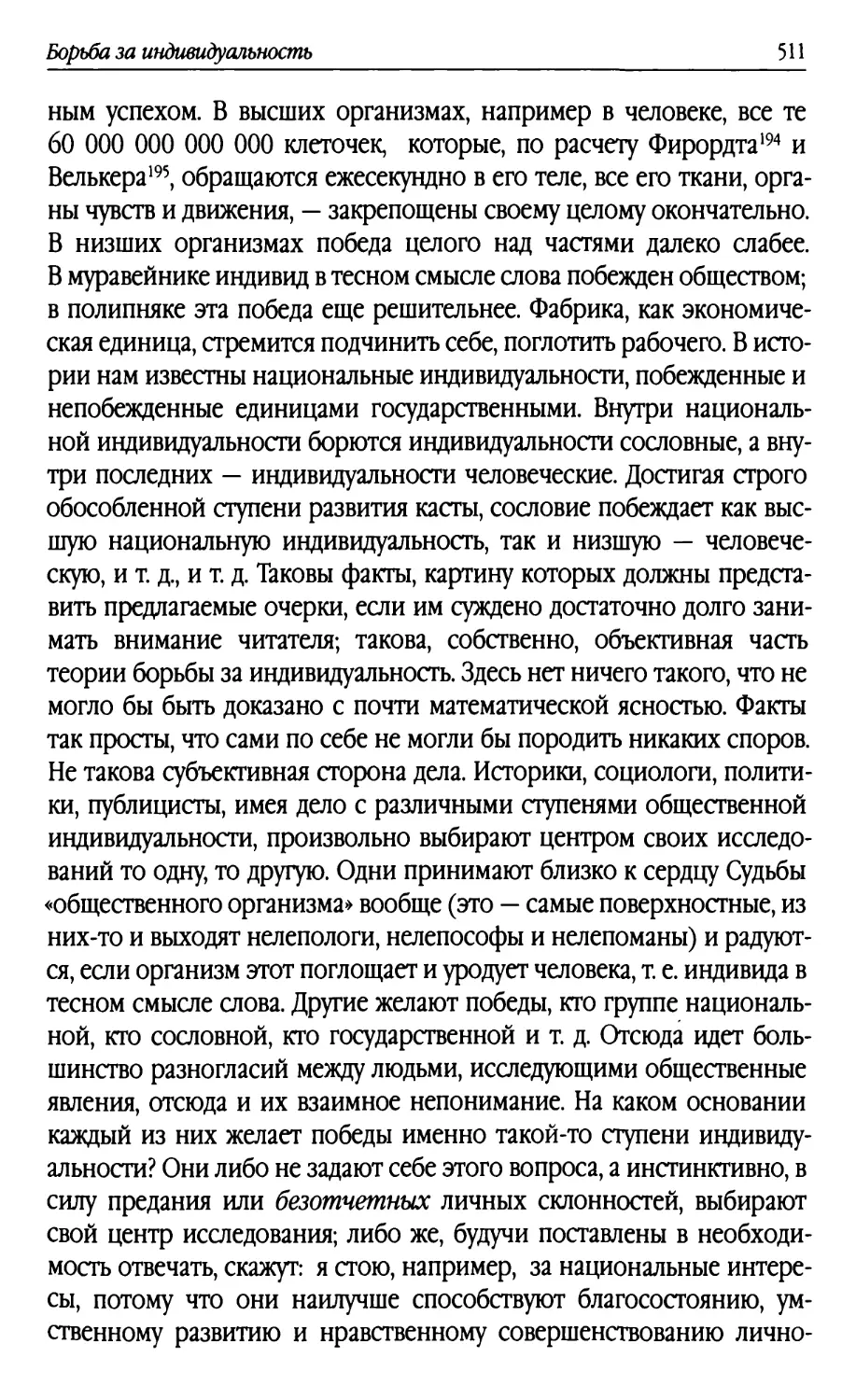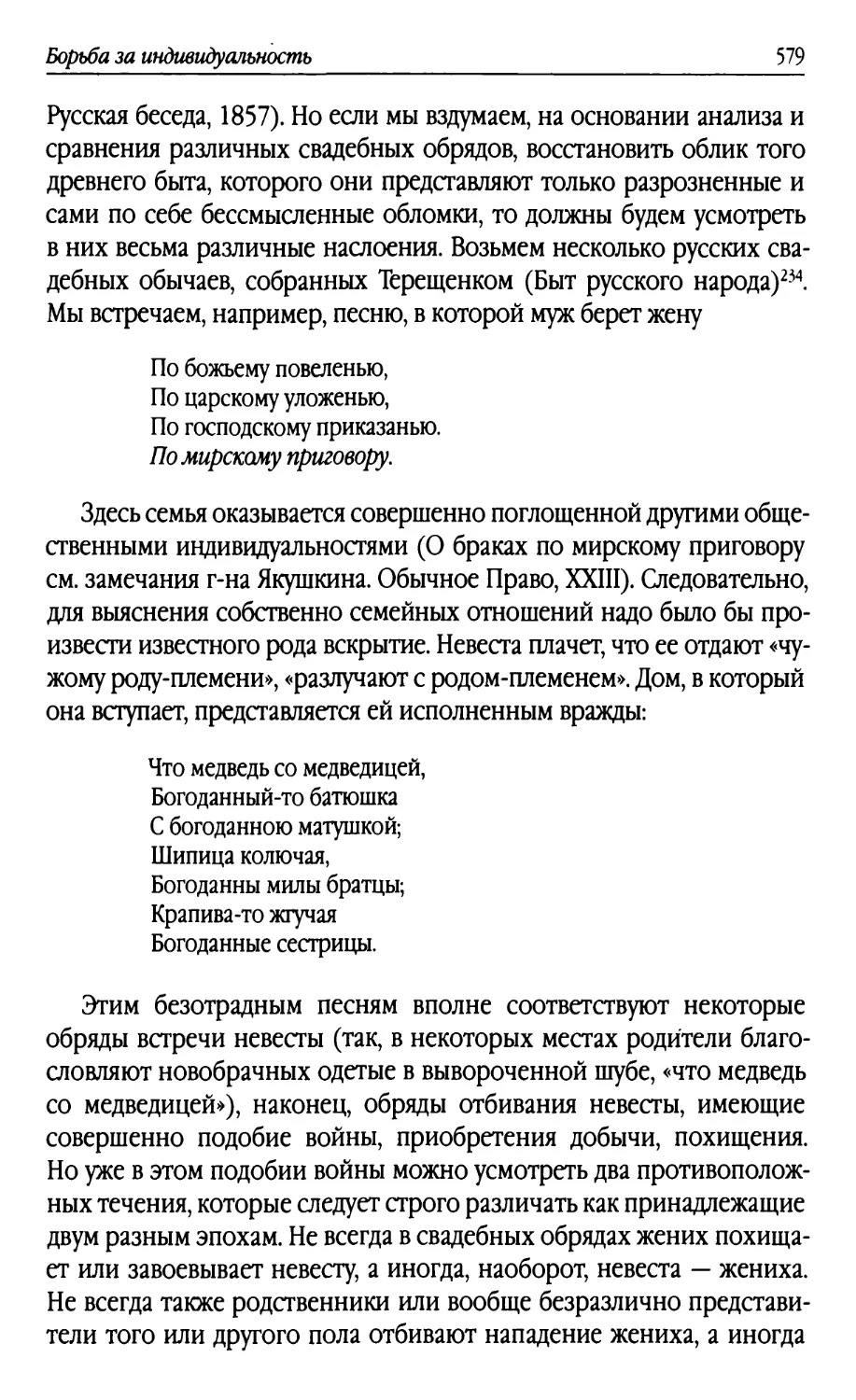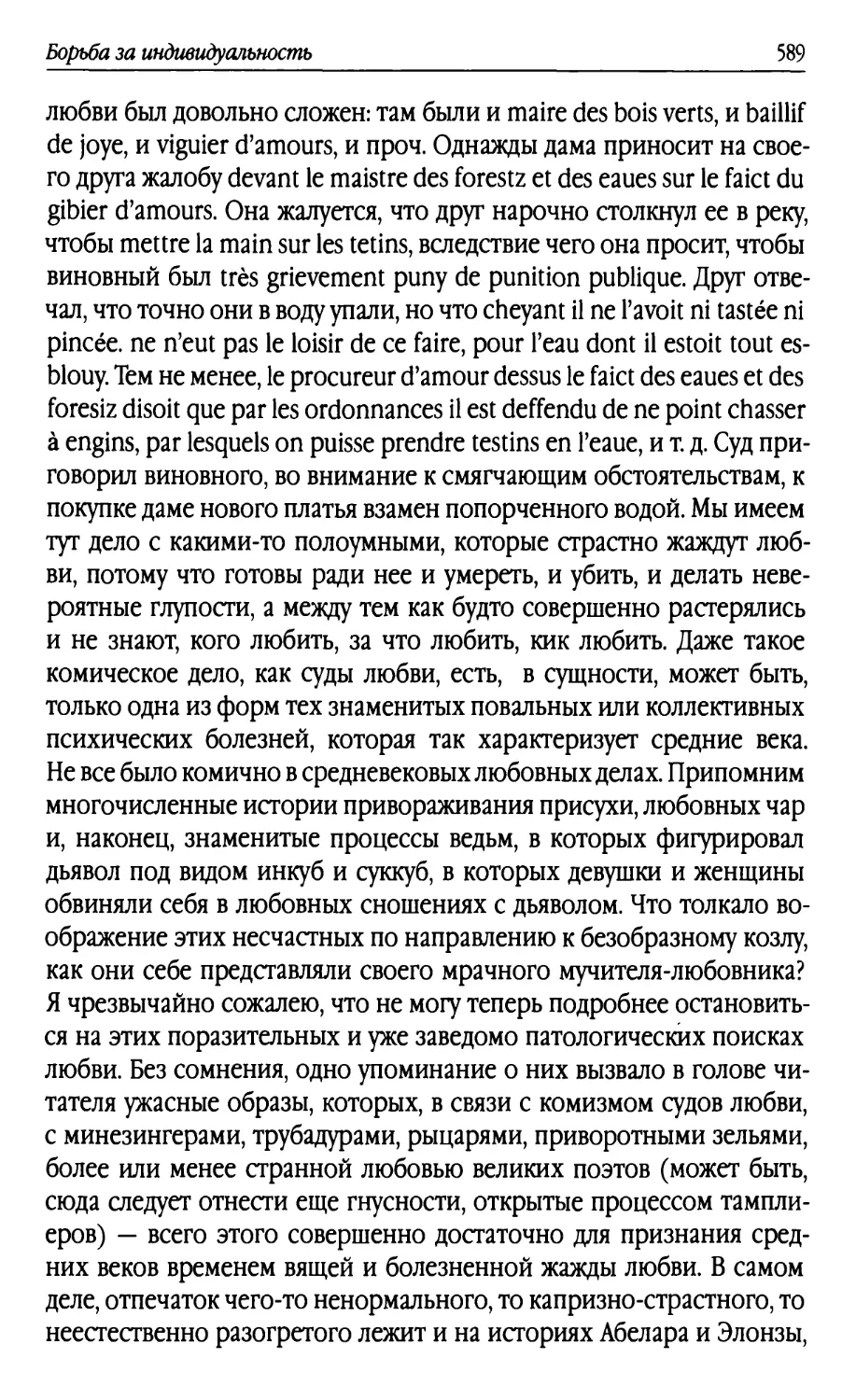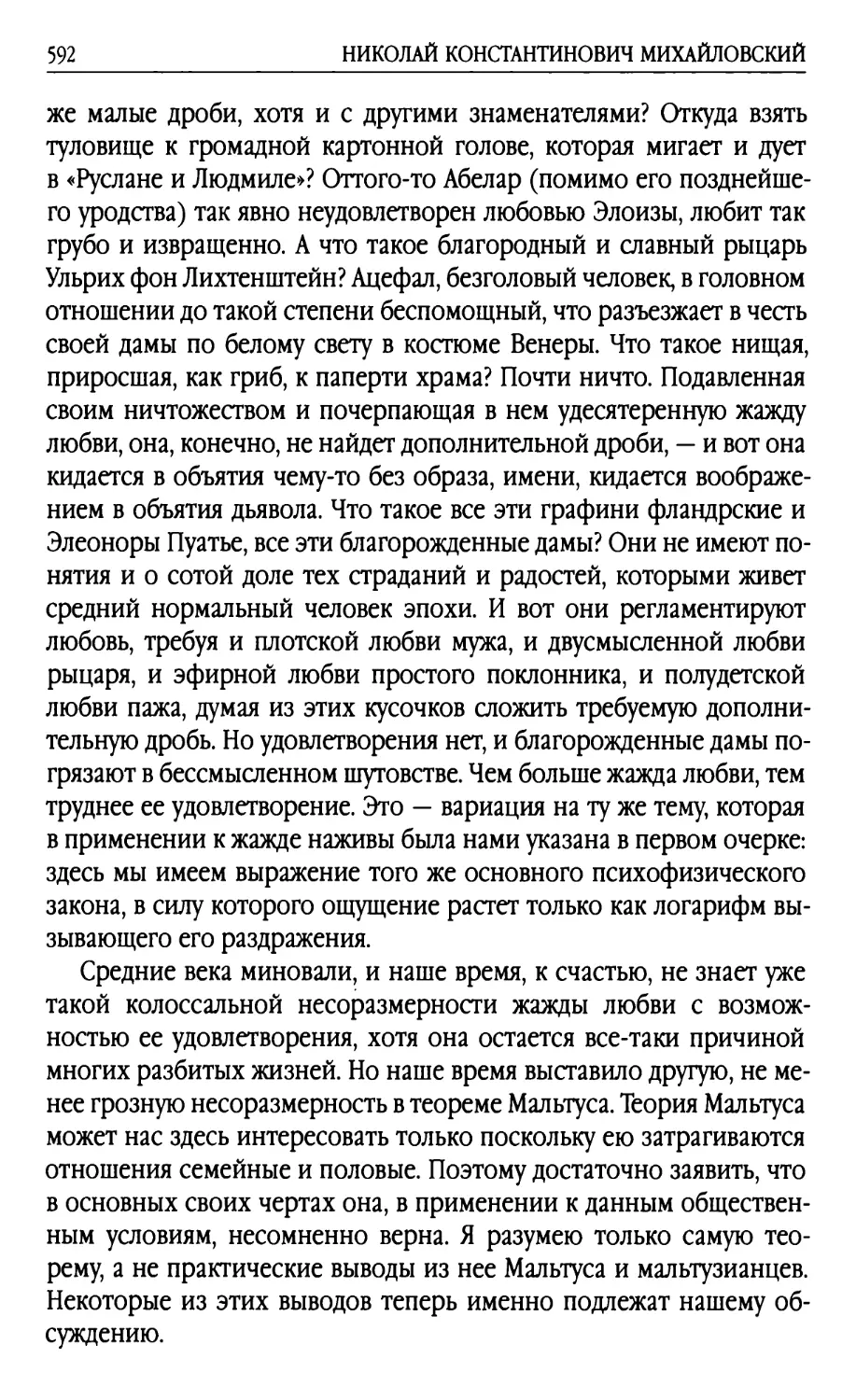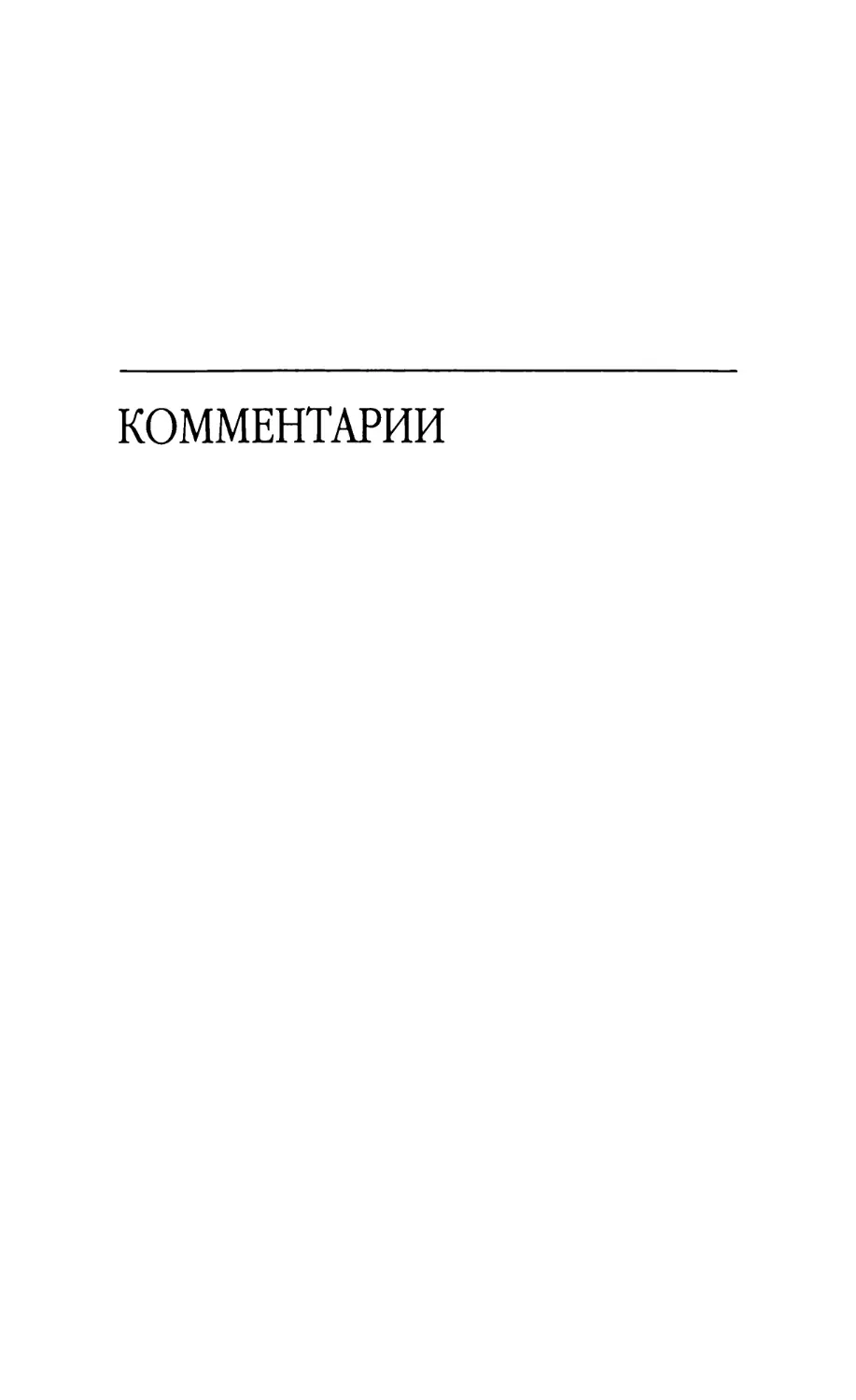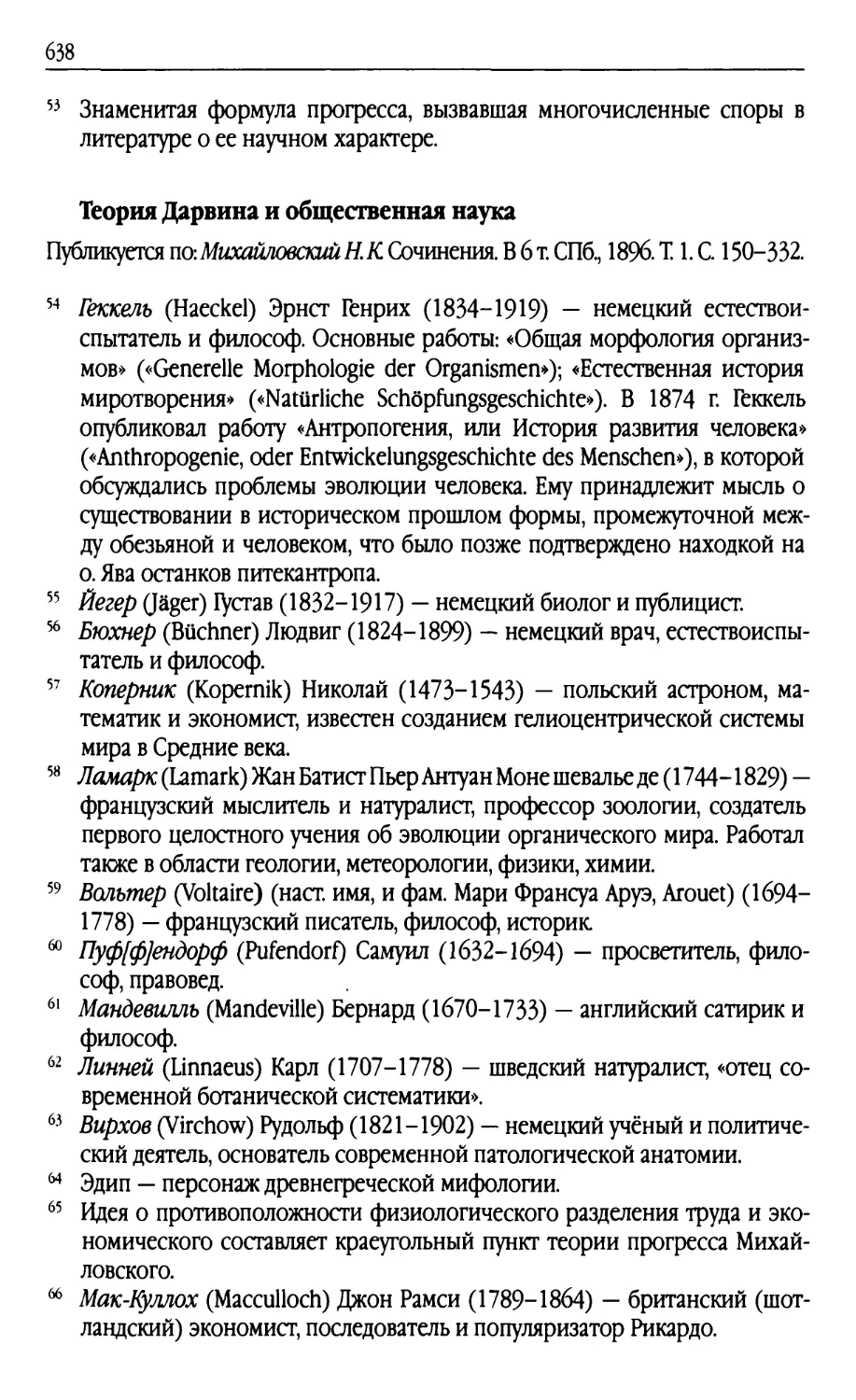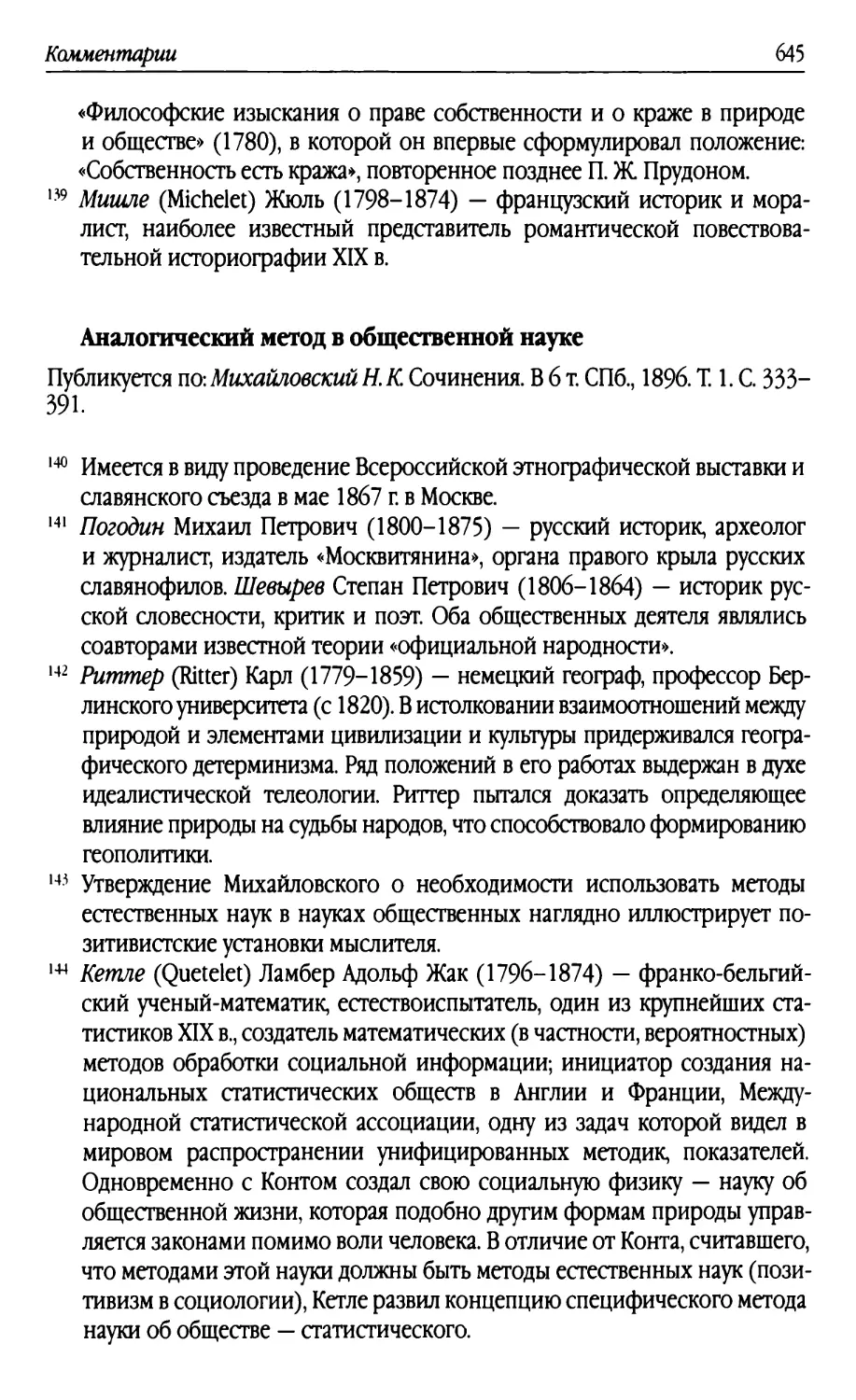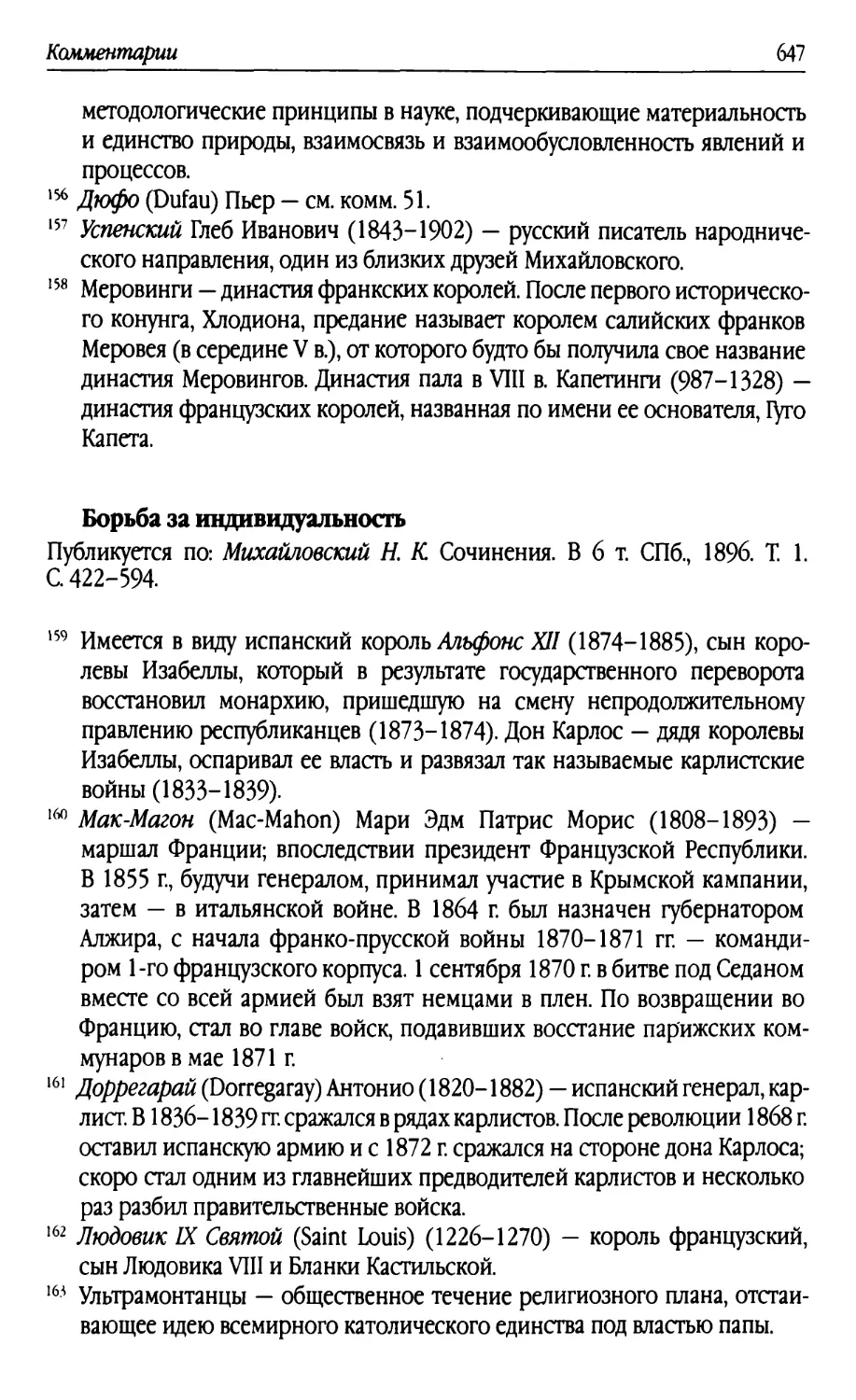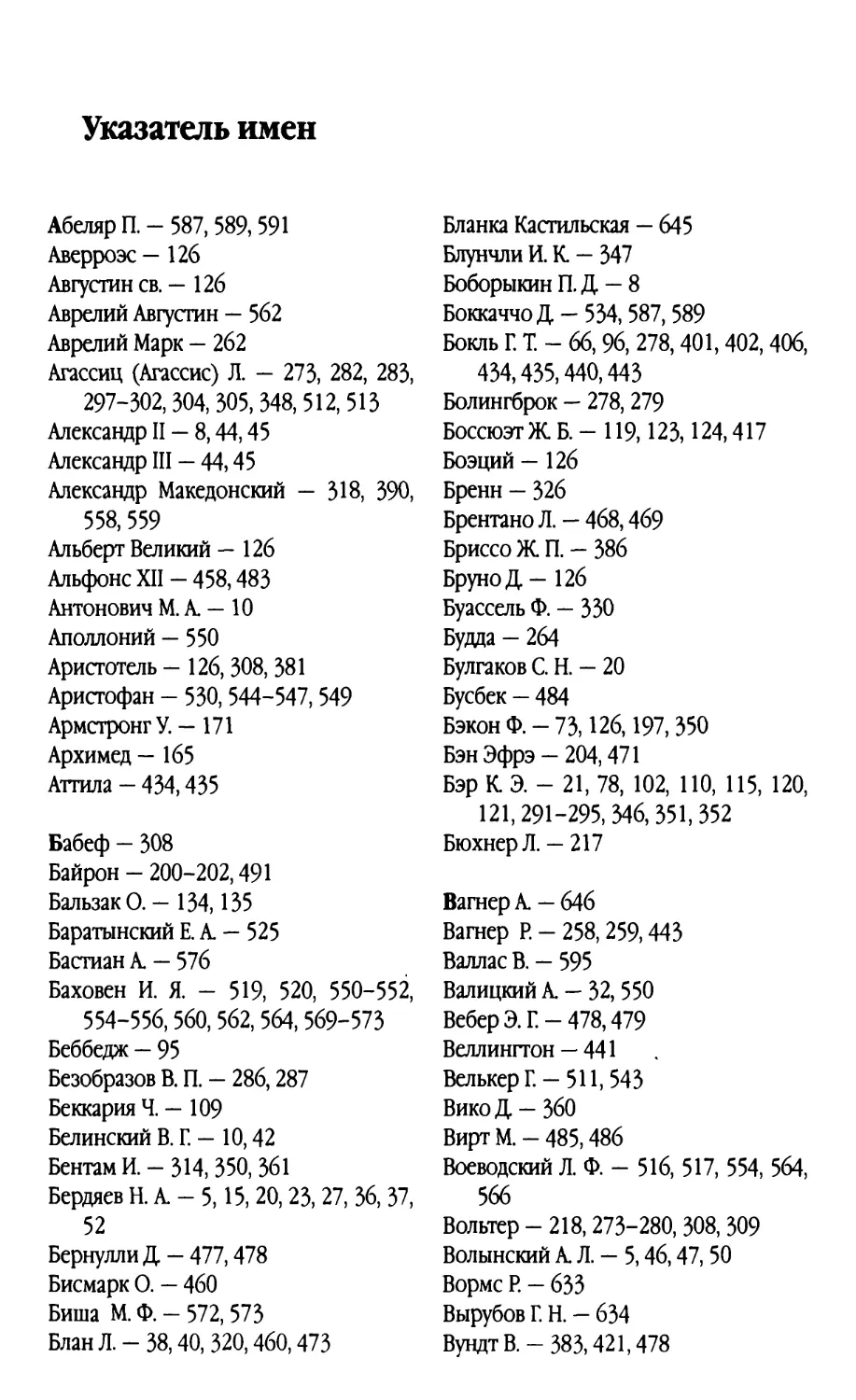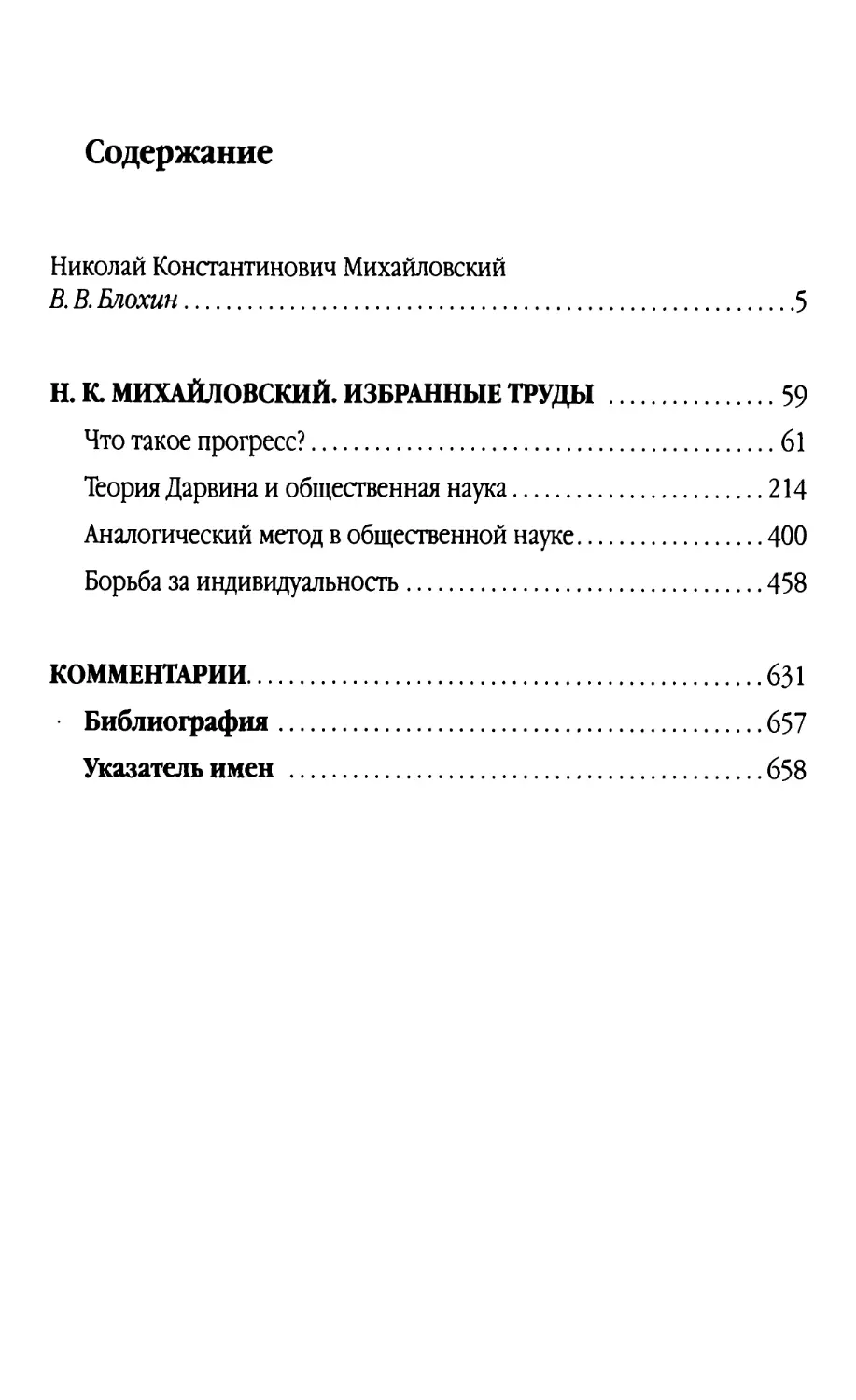Автор: Михайловский Н.К.
Теги: всеобщая история политика политические науки философия история россии
ISBN: 978-5-8243-1192-1
Год: 2010
Похожие
Текст
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
БИБЛИОТЕКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
Николай Константинович
МИХАЙЛОВСКИЙ
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
СОСТАВИТЕЛЬ,
АВТОР ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ
И КОММЕНТАРИЕВ:
В. В. Блохин,
доктор исторических наук
МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010
Михайловский Н. К. Избранные труды / Н. К Михайловский;
[сост., автор вступ. ст. и коммент. В. В. Блохин]. — М. : Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 664 с. — (Библиотека
отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала
XX века).
ISBN 978-5-8243-1192-1
ISBN 978-5-8243-1192-1 © Блохин В. В., составление тома,
вступительная статья, комментарии, 2010
О Институт общественной мысли, 2010
О Российская политическая
энциклопедия, 2010
Николай Константинович Михайловский
Я не в безвоздушном пространстве
писал, а жил.
Н. К Михайловский
В истории российского радикализма XIX в. едва ли найдется
столь крупная и одновременно яркая в своем таланте
фигура, как Николай Константинович Михайловский (1842-1904).
Народник, социолог, публицист и литературный критик, он почти
полвека всецело владел умами левой интеллигенции, был для нее
подлинным «властителем дум» и лидером. Его научно-политическая
доктрина была «альфой и омегой» интеллигентского
мировосприятия, а написанные им трактаты «Что такое прогресс», «Борьба за
индивидуальность» стали, подобно «Что делать?» Н. Г. Чернышевского
и «Историческим письмам» П. Л. Лаврова, чем-то вроде
«народнической Библии», неотъемлемой частью революционного канона.
О масштабе личности Михайловского красноречиво
свидетельствует хотя бы тот факт, что при жизни о нем было опубликовано
более шестисот книг и статей, вышедших из-под пера, как друзей-
народников, так и политических противников — консерваторов,
русских марксистов. Спектр оценок Михайловского варьировался
очень широко: от почти религиозного преклонения перед ним до
тотального неприятия. «Явление ренессанса в русской.литературе»
(В. И. Засулич) и тут же — «литературное ничтожество» (Г. В.
Плеханов); «философ в публицистике и публицист в философии», с одной
стороны, «талант, отмеченный печатью гения» (Н. А. Бердяев) и, с
другой стороны, — «петрушка для алгебры» (В. В. Розанов); «самый
искренний русский критик» (Н. А. Некрасов) и, напротив, — «жандарм
литературной республики» (А. Л. Волынский); «генерал русских
революционеров, наголову разбивший марксистов» (В. К. Плеве), и —
«последний народник» (Р. В. Иванов-Разумник).
Идейное наследие Михайловского находилось в фокусе внимания
Н. А, Бердяева, В. И. Ленина, П. Б. Струве, M. H. Туган-Барановского,
6
В. В. Блохин
Г. В. Плеханова и многих других, поскольку в своем творчестве он
затрагивал важнейшие вопросы российской действительности:
судьбы общины и капитализма, перспективы революции в России и роль
в ней интеллигенции. Безусловно, его ответы на важнейшие вопросы
российской жизни удовлетворяли тогда далеко не всех, но они
никого не оставляли равнодушными, будили мысль, вели за собой тысячи
людей.
На пути гражданского становления
Детство Михайловского освещено достаточно скудно. Из
сведений Ю. Александровича, пытавшегося со слов мыслителя написать
биографический очерк, мы узнаем, что семейство Михайловских
проживало в типичном для России неприметном провинциальном
городке Мещовске Калужской губернии.
Отец Константин Михайловский был мелким чиновником в
«казенной службе» и слыл гуманным человеком, пользуясь «общим
уважением» за свой характер. Обремененный большой семьей, он жил
весьма скромно, в своем доме, хотя и небольшом. Мать свою Николай
Константинович не помнил: «Она умерла родами <...>. Заправляла
в доме, рекомендованная родней Михайловского немка»1.
«Круг общения» Николая в детстве был очень демократичен, среди
его приятелей — дети крепостных, Федька и Яков, с которыми
завязалась крепкая дружба. «Мы забираемся на сеновал или в другое
укромное местечко <...>, а потом Федька песню затянет. Чудесные были
минуты», — вспоминал Михайловский2. Дружба с крепостными детьми
породила первые детские образы и впечатления, предрешившие во
многом дальнейшую судьбу мальчика.
Когда Яков был взят в услужение к дяде Николая, на глазах
маленького Коли разыгрывались безобразные сцены. «Бывало, — вспоминал
Михайловский, — сделает Яков что-нибудь не так, дядюшка без
особенного, кажется, гнева — бац! бац! Или ткнет всем кулаком вперед,
и Яков судорожно хватается за карман, достает грязный платок и
прикладывает к носу, а сам ни с места; скоро платок напитывается
Александрович Ю. О H. К. Михайловском. Биографический очерк,
хронология жизни и записи к очеркам // РГАЛИ. Ф. 2262. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 1.
2 Там же. Л. 3.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
7
кровью, кровь бежит по пальцам Якова и дяденька грозно гонит его
вон, чтобы он не запачкал пола... Гадость! Как ни был я не разумен, но
понимал, что — это гадость...»3.
Под влиянием детских впечатлений в душе Николая созревали
два чувства — любовь, сочувствие к простым людям и одновременно
ненависть к существующим порядкам. По окончании костромской
гимназии Николай поступил в Корпус горных инженеров в
Петербурге. В столице молодой человек столкнулся с различными
проявлениями несправедливости, действительность заставляла задумываться
над важными вопросами. Он вспоминал эпизод, когда в доме своего
дяди-генерала нечаянно опрокинул вазу с пастилой и услышал у себя
за спиной как «дяденька-генерал» зашипел «задыхающимся голосом:
ах — ты пащенок!». Он помнил, как «неуклюже, нервно переставляя
ноги, прошел через салон, набитый народом, ни с кем не прощаясь
и наступая на ноги и подолы», как кто-то из гостей, когда он вышел в
переднюю, «громким шепотом сострил соседу: "пастилы объелся,
живот заболел", и как-то громко захохотал...»4. Чувство попранной
справедливости больно ранило молодого человека: «И дорога до дому, и
ночь, и следующий день, и опять ночь, и опять день — были
поглощены моим братом-мужиком. Я не иначе называл его мысленно как
братом, и не мог себе представить его иначе, как в виде Якова, когда
тот лежал окровавленный в людской <...>. От того момента, когда в
моем мозгу поселился двойной образ Якова и брата — мужика, была
прямая дорога к тому, чем я теперь дышу и живу»5.
Первые шаги в литературе Михайловский сделал, будучи
студентом Корпуса горных инженеров. В стенах учебного заведения,
где обучались главным образом разночинцы со свойственным им
стремлением демократизировать государственную систему России,
он приобрел значимый для него общественный опыт, был вовлечен
в бурный поток гражданского движения, охватившего страну в
пореформенные годы: тогда на глазах рушилась крепостная Россия.
Правда, поиск своего мировоззрения был сложным, требовал
глубокой умственной работы, предполагал нелегкий путь исканий. Логика
жизненного выбора не исключала и ошибок. Впрочем возникшее же-
3 Александрович Ю. Указ. соч. Л. 4.
4 Там же. Л. 8.
5 Там же. Л. 8-9.
8
В. В. Блохин
лание стать адвокатом, дабы защищать униженных и оскорбленных,
не было осуществлено.
В начале 1860-х гг. Михайловский попробовал себя на
литературном поприще, обсуждая на страницах малоизвестного журнала
«Рассвет» актуальный для русской жизни вопрос об эмансипации
женщин. Разрешение «женского вопроса» стало для него неким этапом
гражданского становления, в процессе которого он все настойчивее
убеждался в необходимости раскрепощения всей российской жизни.
Со статьей в «Рассвете» «Софья Николаевна Беловодова»
Михайловский ворвался в литературу.
Первым «литературным крестным отцом» стал для Михайловского
издатель «Книжного вестника» Н. С. Курочкин. Этот журнал не
отличался большими тиражами и гонорарами. Важнее было другое —
Курочкин свято верил в общественную миссию литературы, в ее
способность изменить российскую жизнь. Со слов П. Д Боборыкина известно:
Курочкин довольно долго жил в Швейцарии, «был вхож в дом Герцена»,
отличался критическим отношением к русской действительности.
В не меньшей, а то и в большей степени повлияла на
Михайловского встреча с талантливым социологом Н. Д. Ножиным. «Это был
совсем еще молодой человек брызжущего ума, сверкающей
фантазии, огромных способностей к труду и обширных знаний (по
биологии)», — писал о нем Михайловский. Начинающего литератора
поражала в Ножине страстность, с которой он стремился реформировать
общественные науки, вооружив их методологией точного знания.
Видимо, Ножин был каким-то образом связан с революционерами.
Обстоятельства его загадочной смерти накануне выстрела Д. В.
Каракозова в Александра II (1866) побудили власти заняться
расследованием, и Михайловский был вызван на допрос6.
Столь же интересны и другие лица, окружавшие
Михайловского. Среди них публицисты журнала «Русское слово»: шестидесятник
Н. В. Соколов, автор запрещенной властями книги «Отщепенцы»;
близкий к анархизму публицист «Русского слова» и сотрудник
«Книжного вестника» — В. А. Зайцев, опубликовавший в 1870-е гг.
«Анархию по Прудону»7. Через них Михайловский близко познакомился
6 Михайловский Н. К. Полное собрание сочинений. В 10 т. СПб., 1909-1913.
Т. VII. С. 17-18. (Далее: Михайловский Н. К. Поли. собр. соч.).
7 Там же. С. 37.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
9
с анархистскими идеями Ж. Прудона. Стержневой идеей
прудонизма являлось представление о самоценности личности, о социальной
справедливости, достижение которой виделось путем мирного и
постепенного реформирования общества.
Как и многие народники, Михайловский прошел и «школу пи-
саревщины». Сопоставительный анализ мировоззрений
Михайловского и Д. И. Писарева определенно указывает на точки их
идейного соприкосновения. Прежде всего, их роднили взгляды на народ,
народную жизнь, народную культуру. Писарев весьма скептически,
чтобы не сказать больше, относился к таким понятиям, как
«народность», «народная правда», он называл их донкихотством, бреднями
о народности. Он был убежден, что интеллигенции нечего взять из
народного миросозерцания8. Михайловскому импонировала мысль
о необходимости идейного руководства народом, которую Писарев
сформулирует изящно и афористично: «Судьба народа решается не
в народных школах, а в университетах»9.
В конечном счете, Писарев приходил к мысли о социально-
реформистском пути преобразования России. По его мнению, «этот
мыслящий пролетариат [интеллигенция — В. Б] должен оживить
народный труд, дать ему здоровое и разумное направление, внести в него
необходимое разнообразие, увеличить его производительность
применением познанных научных истин, а, кроме того, подчинить
исторические события общественному мышлению посредством незаметного,
но упорного и постоянного воздействия на направление мыслей
руководителей этих событий», т. е. другими словами, на государственную
власть. Как видим, Писарев намечал мирные социальные реформы,
совершающиеся путем «медленной, постепенной эволюции»10.
Публицисты «Русского слова» убеждали Михайловского в
безусловной значимости приоритетности личности в общественной
жизни. Одновременно они посеяли в его сознании «зерна скепсиса»
относительно исторических возможностей народа, неспособного,
по их мнению, найти истинный путь освобождения.
Определенное влияние на формирование мировоззрения
Михайловского оказал и журнал «Современник», с идейным направле-
См.: Козьмин Б. П. От 19 февраля к первому марта. М., 1933. С. 59.
9 Там же. С 68.
10 Там же. С. 70.
10
В. В. Блохин
нием которого он познакомился достаточно рано. «Нечего и
говорить о нас, тогдашней молодежи, — мы упивались «Современником».
Но и гораздо более солидные и значительные сферы испытывали
на себе его обаяние», — отмечал Михайловский11. Однако вскоре он
разочаровался в этом журнале. «Для нас, молодых читателей и
почитателей, уже смерть Добролюбова и удаление Чернышевского
произвели непоправимый изъян в физиономии "Современника". А рядом
с этими тяжкими потерями в составе "Современника" поднималось
значение "Русского слова", в особенности Писарева. И когда
"Современник", устами М. А. Антоновича, завел длинную и грубую полемику
с "Русским словом", престиж "Современника" и еще поблек...»12.
Итогом идейных исканий стал приход Михайловского — после
сотрудничества с журналами «Искра», «Гласный суд», «Современное
обозрение» — в «Отечественные записки». Начинающий литератор
отчетливо осознавал тот факт, что линия «Современника»
продолжается деятельностью Н. А. Некрасова, M. E. Салтыкова-Щедрина,
Г. 3. Елисеева. «А из-за этих трех выглядывали еще образы
Добролюбова, Чернышевского, Белинского, как бы передавших им свой
авторитет»13.
Ведущую идейную роль в «Отечественных записках» играл
Елисеев, о позиции которого стоит сказать особо. Товарищи Елисеева
по работе в «Отечественных записках» единодушно
свидетельствуют, что своим народническим направлением этот журнал был
обязан Елисееву, более чем кому бы то ни было другому. «Корень вещей
лежал для него в мужике», — писал о нем Михайловский. «Если
основательное знакомство с деревней и условиями ее жизни и спасало
Елисеева от того приторного идеализирования крестьянской массы,
которое было свойственно многим народникам, то, тем не менее, он
глубоко верил, что народность ("земственность", по его любимому
выражению) были и должны оставаться основной определяющей
чертой русской истории...»14.
Идейная платформа Елисеева сложилась во время работы в
журнале «Век», в первом же номере которого он заговорил о необходимо-
11 Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. VII. С. 44.
12 Там же. С. 46-47.
13 Там же. С. 54.
14 Козьмин Б. П. От девятнадцатого февраля к первому марта. М., 1933. С. 19.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
И
ста привлечения народа к участию в законодательной деятельности.
«В других статьях <...> Елисеев выступал убежденным сторонником
обеспечения в законодательном порядке неприкосновенности
личности граждан. Известно, что постановки таких вопросов в
народнической литературе 70-х годов мы не найдем. Ее эти вопросы
интересовали мало»15. Наряду с народничеством, для Елисеева был
характерен и оппортунизм, основанный на неверии в революционную
борьбу. Будучи социалистом-народником, он, тем не менее,
скептически относился к насильственным способам борьбы16.
Таким образом, после ухода Чернышевского из «Современника»
главным проводником народнических идей в литературе и неким
«связующим звеном» с «Отечественными записками» стал для
Михайловского Елисеев.
Знакомство с идеями Елисеева внесло в мировоззрение
Михайловского веру в народность и одновременно неверие в крестьянскую
революцию, апологию борьбы за политические свободы и права
личности. Он позаимствует у своего коллеги реалистический взгляд
на народ, отрицательное отношение к насилию, надежды на
возможность минования капитализма в России. Очевидно, подобный
вариант народничества Михайловского в весьма существенной
степени отличался от аполитического направления, господствовавшего
в 1870-е гг.
Так, под влиянием публицистов 1860-х гг. формировались
контуры мировоззрения мыслителя, постоянно обогащавшегося и
пополнявшегося новыми идеями.
В 1868 г. Михайловский пишет свою первую научную статью
программного характера — «Параллели и контрасты», ставшую
прообразом дальнейших социологических сочинений17. Смысл статьи
состоял в обосновании новой социальной науки, которая, по его
мнению, должна была служить человечеству, а не довольствоваться
ролью бесстрастного и хладнокровного регистратора фактов
жизни. «Многих гадостей избежало бы человечество, если бы ученые,
литературных и общественных дел мастера не торопились
возводить факты в принципы; если бы они зарубили бы себе на носу,
Козьмич Б. П. Указ. соч. Там же. С. 37.
Там же. С. 22.
Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. VII. С. 43-
12
В. В. Бпохин
что, благодаря историческому ходу цивилизации, факт сам по себе,
а принцип сам по себе. Великая и единственная цель науки состоит в
улучшении положения человека»18. В представлении Михайловского
предметом социальной науки и идеалом ее служения является
человек как целостность.
Антропологический акцент, без сомнения, вызывался самой
жизнью, решительными в ней переменами. Развитие рынка разрушало
традиционные нормы, меняло характер коммуникации личности
с обществом, создавало ощущение неопределенности бытия. В этом
динамичном мире средством самоутверждения человека и его
мировоззренческим ориентиром становится наука как инструмент
познания и нормирования социального бытия. Эпоха конца 1860-х —
начала 1870-х гг. поправу может быть названа эпохой культа науки. «Это
именно — культ науки, как таковой, и высокая оценка ее роли как
могущественной движущей силы прогресса...»19. Особенной магией
наделялась социология, «этот якорь спасения», путь к «лучшему
будущему всего человечества20.
«Социология счастья»
Отправной точкой социологии Михайловского, теоретической
«альфой и омегой» его анализа общественных процессов был
«субъективный метод». Субъективизм мыслителя естественным образом
вытекал из его концепции науки.
Само обращение к теме «наука и общество» очень показательно
для Михайловского. Он, подобно просветителям XVIII в., верил в
преобразующую силу знания. Наука, вобрав в себя весь идейный
потенциал человечества, могла, по его мнению, изменить мир к лучшему.
Но Михайловский не был адептом сциентизма в обычном значении
этого слова. Он привнес в понимание назначения науки нечто иное,
выходящее за пределы ее позитивистского толкования, — этическое
начало. Если позитивизм ограничивался в познании лишь
отысканием истины, безразличной к нравственным проблемам человека, то
Михайловский шел дальше. Он полагал, что необходимо отображать
Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. X. С. 524.
Овсянико-КуликовскийД. К Воспоминания. Пг., 1923. С 322-323.
Там же. С. 322.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
13
мир целостно, тотально, удовлетворяя запросы нравственного
чувства. Такая мировоззренческая установка приводила к ревизии
позитивизма, сказывалась в стремлении преломить его сквозь призму
этики. Наиболее ярко такая тенденция проявилась в трактовке
Михайловским истины и метода.
При первом взгляде создается впечатление, что Михайловский
трактовал истину позитивистски. Полагая, что «сущность вещей
вечная тьма», и что существуют лишь относительные истины, «истины
для человека», он решительно настаивал на необходимости их
утилитарного использования. Личность вправе сама, по своему
усмотрению, распорядиться добытыми результатами. «На этом коньке
[истине — В. Я], как на всяком другом, можно ехать и вперед, и назад, и
вправо, и влево. Все зависит от того, как взяться за дело...»21. По
мнению Михайловского, существует две разновидности истин. Первая
удовлетворяет познавательные потребности человека, говорит «о
существовании известных явлений и отношений между ними». Другой
род истин свидетельствует «о степени удовлетворения, которые эти
явления дают различным требованиям природы наблюдателя,
помимо потребности познания»22. Такая трактовка объясняет своеобразное
учение, названное мыслителем «системой правды». В конце 1870-х гг.
социолог так определил ее суть: «"Система правды" требует такого
принципа, который: 1) служил бы руководящей нитью при изучении
окружающего мира и, следовательно, давал бы ответы на вопросы,
естественно возникающие в каждом человеке; который 2) служил
бы руководящей нитью в практической деятельности и,
следовательно, давал бы ответы на запросы совести <...> 3) делал бы это с такой
силой, чтобы прозелит с религиозной преданностью влекся к тому,
в чем принцип системы полагает счастье...»23.
Согласно «системе правды» как учения о целостном восприятии
мира задача ученого сводилась не к изысканию истины как таковой,
а к гармонизации элементов мира, его этическому устроению.
Познание явлений жизни не могло быть иным, как только целостным.
Истина могла быть только справедливой, а справедливость должна
быть предварена установлением истины.
21 Михайловский К К. Полн. собр. соч. Т. X. С. 715.
22 Там же. Т. III. С 393.
23 Там же. Т. IV. С. 406.
14
В. В. Елохин
Естественно, решение подобных задач требовало специальных
методов. Таковым стал «субъективный метод», выступавший в
качестве некой несущей конструкции не только социологии, но и всей
общественно-политической программы мыслителя. Как видно из
социологического наследства Михайловского, он вкладывал в понимание
«субъективного метода» многоплановое содержание: учение о целях
человека (телеология), «классовую» точку зрения на общественные
явления, психологический метод понимания. Для Михайловского
«субъективный метод» означал некую этико-социологическую доктрину,
суть которой состояла в «оценке относительной важности явлений на
основании нравственного миросозерцания (идеала) исследователя и
построения научной теории при помощи того же критерия»24.
Принципы субъективной социологии Михайловский
формулировал в полемике с родоначальниками «первого позитивизма» —
Г. Спенсером, О. Контом, Д. Миллем. Западноевропейские
позитивисты отстаивали идею социальной эволюции, органического
процесса, который в качестве «естественного хода вещей» мог быть, по их
мнению, изучен и понят посредством объективных методов. Такой
подход к объяснению общественных явлений решительно
отвергался Михайловским, который доказывал, что отношения между людьми
отличаются от отношений человека с природой тем, что они
целесообразны. «Человек, — писал он, — ставит цели, вырабатывает правила
морали, одобряет и порицает явления действительности»25. В
середине 1870-х гг. ученый развивал эту мысль в цикле статей о социальной
доктрине дарвинизма26.
Уже в 1890-х гг. к теме теоретического осмысления субъективного
метода обратился С. Н. Южаков, затем П. Б. Струве. Однако наиболее
обстоятельному разбору основания этико-субъективной школы
социологии были подвергнуты Н. Д. Кондратьевым в 1920-е гг. По его
мнению, главный порок этической школы и ее методологическая
несостоятельность состояли в использовании в научной системе
категорий этики, «суждений ценности». В «суждениях ценности», как
замечал Кондратьев, мир рисуется не таким, как он есть, а таким, каким
24 Южаков С. Н. Субъективный метод // Социологические этюды. СПб.,
1891. Т. I. С 247.
25 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. I. С 146.
26 Там же. С 345.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
15
он должен быть. Кроме того, всякая нравственная норма, носителем
которой является человек, требует санкции и поддержки нормы более
высокого порядка, более общей. А этот процесс бесконечен. Поэтому,
считал Кондратьев, система, сконструированная на основе «суждений
ценностей», научно обоснованной быть не может. «Ученый, —
аргументировал Кондратьев, — пытающийся обосновать нормы морали
и, тем самым, "суждения ценности", по существу, хочет создать
научную мораль, научную религию, научное искусство и т. д.»27.
Таким образом, социологическая система Михайловского была
создана на основе «суждений ценностей» или, по меткому замечанию
Бердяева, — категорий этики. Соответственно позитивизм
Михайловского трансформировался в подобие веры, а внутри научного се-
куляризма произошло прорастание «религиозных исканий»28.
Корни этического субъективизма и морализма категорий научной
системы Михайловскогоследуетискатьвсоциально-психологической
ситуации пореформенной эпохи. В период переходного состояния
российского общества, мучительного процесса экономической
модернизации, со свойственными ей социальными издержками, в умах
интеллигенции происходил психологический перелом:
формировались идеальные, оторванные от действительности теории, в которых
отрицалась реальная жизнь, «злая» действительность. Причем среда
не только меняла культурные ориентиры, но и задавала новые
стандарты научности, доминировали иные критерии.
27 Кондратьев К Д. Основные проблемы экономической статики и
динамики. М., 1991. С. 258.
28 Бердяев писал: «Объективные и научные элементы позитивизма были
нами плохо восприняты, но тем страстнее были восприняты те элементы
позитивизма, которые превращали его в веру, в окончательное миропонимание»
(см.: Бердяев ЕЛ. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи.
Интеллигенция в России. М, 1991. С. 33).
Аналогичным образом высказался также и В. Зеньковский: «Но с
особенной отчетливостью прорастание религиозных исканий внутри секуляристи-
ческих течений сказывается в целом ряде ярких, почти всегда талантливых
построений, которые по их основной двойственности мы характеризуем как
полупозитивизм. Они все с большей или меньшей ясностью ориентируются
на науку и ее позитивистские тенденции, они воодушевлены идеей "земной
веси", по слову Герцена, то есть движутся в линиях религиозного имманентиз-
ма и, потому, почти всегда антиметафизичны, очень часто прямо опираются
на Конта и его последователей...» (см.: Зеньковский В. История русской
философии. Л, 1991. Т. I. Ч. И. С. 151).
16
В. В. Впохин
На смену объективизму и материализму шестидесятников
пришли пламенный морализм, субъективизм и идеализм, проявлявшиеся
в стремлении изменить привычное течение общественной жизни,
направить ее в желаемое русло согласно нравственному идеалу.
Такая эволюция научной парадигмы в народнической мысли адекватно
отвечала новым жизненным требованиям и поэтому представляла
собой диалектически поступательный и прогрессивный этап в ее
развитии29. В этой связи можно с полным правом утверждать о
генетическом родстве народнической социологии шестидесятых и
семидесятых годов.
Важнейшим аспектом «субъективного метода» Михайловского
была «классовая» точка зрения на общественные явления. В 1874 г.
он писал: «Я не верю в так называемое чистое искусство или
искусство для искусства. Не то чтобы я ему не сочувствовал или одобрял
его, я в него именно не верю. Я полагаю, что никогда не было, нет
и не будет, как не было, нет и не будет, безусловной
справедливости, т. е. справедливости для справедливости, объективной морали,
т. е. морали для морали, науки для науки». Для Михайловского
классовая детерминация социальных и даже культурных явлений очевидна.
Как очевидно и то, что сознание личности или другого социального
субъекта не жестко определено и задано, а активно в переработке
этих принудительных и объективирующих сил. Индивидуальное
сознание личности не тождественно классовому, а классовое,
групповое сознание составляет лишь часть коллективных представлений
общества.
Михайловский, с этой точки зрения, отстаивал идею активной,
творчески преобразующей роли индивидуального сознания,
порожденного чрезвычайно сложной, подчас, противоречивой
общественной обстановкой. В этой связи вполне органичной предстает и
трактовка народником субъективного метода как метода
психологического.
29 По нашему мнению, изменение социально-психологической среды в
пореформенное время неизбежно меняло культурные «технологии» генезиса
научных доктрин, менялись сами критерии научности. Мнение о «понижении
теоретического уровня семидесятников по отношению к шестидесятникам»,
господствовавшее в советской историографии, неверно, поскольку
предполагает наличие универсальных и неизменных критериев научности, не
учитывающих динамику и потребности общественного развития.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
17
Объективной основой психологического метода Михайловского
было его учение о «сочувственном опыте». В статье «Что такое
прогресс» мыслитель писал: «Наше психологическое содержание дано
опытом, унаследованным, личным и сочувственным. Сочувственный
опыт основан на нашей способности переживать чужую жизнь,
ставить себя в чужое положение»30. По мнению мыслителя, сочувствовать
мы можем только подобным себе, в особенности тем, кто близок нам
по своему общественному положению и статусу. Однако
Михайловский полагал, что «сочувственный опыт» входит в наше психическое
содержание с категориями «истинного и ложного», «приятного и
неприятного», и при этом осложняется «нравственным элементом»31.
Приведенная трактовка «субъективного метода» показывает, что он
являлся многоплановой и сложной теорией, возникшей как ответ на
запросы интеллигенции, стремившейся изменить течение
российской жизни в заданном направлении. Субъективная методология
позволила Михайловскому создать оригинальную философию истории,
смысловым центром которой стала идея свободной, гармонично
развитой личности.
Свою историческую концепцию мыслитель создал в процессе
критического переосмысления «органицизма» Г. Спенсера. По
мнению Михайловского, в спенсерианстве не удалось разрешить
проблемы взаимоотношений личности и общества, личности и истории.
С точки зрения английского социолога, общественная эволюция
осуществлялась посредством усложнения общественной системы,
обусловленной дифференциацией и специализацией ее частей.
Развитие общества Спенсер уподоблял росту организма; чем глубже,
резче обозначено в социуме разделение на элементы, части, группы,
классы, тем выше уровень его организации. Таким образом, прогресс,
следуя логике Спенсера, состоял в неуклонном воспроизводстве
неравенства.
Иначе на проблему смотрел Михайловский, не уставая доказывать,
что тип «органического развития» символизировал отнюдь не
прогресс. При таком характере цивилизации игнорировалась
индивидуальность, человек. Уже в рецензии на сочинения Спенсера (1866),
Михайловский отстаивал идею о взаимоисключении общественно-
30 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. I. С. 149.
31 Там же. С. 149.
18
В. В. Впохин
го и индивидуального прогресса32. Субъективно-этический подход
народника был чужд пониманию человека лишь как необходимого
элемента в общественной системе, органа «социального тела», его
служебного средства. Михайловский доказывал, что отождествление
личности и «органа» теоретически неправомерно, поскольку
личность сама является неделимым целым. «То, что нормально,
законно, справедливо, словом физиологично по отношению к органам,
делается несправедливым, словом, патологичным по отношению
к неделимому»33.
Михайловский писал о противоречивом характере цивилизации,
История, по его мнению, давила личность, упрощала тип ее
организации. Представление о дуализме прогресса и дегуманизации в
нем личности сближают его воззрения с историософскими идеями
Ж. Ж Руссо. Руссоизм Михайловского следует понимать, однако, не в
смысле призыва к возвращению в прошлое, а, наоборот, — в
стремлении «снять» противоречия настоящего, сконструировать модель
будущего, где бы личность обрела искомую социальную и
нравственную гармонию и целостность.
Размышления об объективной основе прогресса, привели
Михайловского к учению о разделении труда. Он исходил из того, что
организация человека предполагает физиологическое разделение
труда между его органами. Чем глубже специализация органов, тем
выше уровень развития индивидуальности. Но это возможно лишь
при гармоничном физиологическом развитии, для чего
необходима благоприятная социальная среда, для которой, напротив, было
бы характерно лишь минимальное общественное разделение труда.
Главный порок сторонников «органической теории» Михайловский
усматривал в неприятии ими мысли о нетождественности
физиологического и экономического разделения труда. Он отмечал:
«Физиологическое разделение труда есть закон жизни. Понят ли он был
Спенсером, если он счел возможным признать экономическое
разделение труда продолжением физиологического, тогда как на самом
деле первое представляет похороны последнего, а последнее —
похороны первого»34.
32 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. X. С. 717.
33 Там же.
34 Там же. Т. I. С. 48.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
19
Общественное разделение труда в концепции Михайловского
представляет собой фактор, определяющий условия существования
личности. Уже в рецензии на сочинения Адама Смита (1866) можно
заметить, что разделение труда понимается им в качестве причины
социальной дисгармонии35.
Представляя социальные изменения в виде торжествующего
шествия принципа разделения труда и накопления антигуманного
потенциала современной цивилизации, Михайловский, конечно, не
мог не поставить вопроса о путях «снятия» этого противоречия, что
нашло свое отражение в теории кооперации (солидарности).
В учении о формах кооперации (солидарности) Михайловский
выразил свое понимание исторического идеала. Он подразделял
существующие общественные формы на два типа: общества,
организованные по типу «простой солидарности», и общества, где отношения
между людьми строятся на принципах «сложной солидарности». При
первом типе обеспечивается полноценное физиологическое
развитие индивида. Общая цель членов социума простой кооперации
«вызывает солидарность интересов и взаимное понимание членов
общества», при этом обеспечивается осуществление знаменитого девиза:
«братство, равенство и свобода». Модель «сложного сотрудничества»,
напротив, обособляет людей, ведет к взаимному непониманию и
«войне всех против всех». «Одни вязнут в безысходном труде, донельзя
развивая ту или другую часть своей мускульной системы. Другие,
обращаясь в специалистов нервной деятельности, живут за счет труда
первых и, не только не оплачивают им за это, чем бы то ни было,
но даже утрачивают всякие представления о своей солидарности с
ними...»36.
Однако, несмотря на то, что Михайловский стремился доказать
существование форм «простой кооперации», он не смог объяснить
развития цивилизации именно по органической (сложной) модели
солидарности. Его защита социальной альтернативы вступала в
противоречие с историческим и социальным опытом. Этический
субъективизм Михайловского сказался в том, что идея прогресса скорее
была желаемой моделью общества, а его историософия, по сути,
выступала в качестве теории о должных формах общежития.
Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. X. С. 731.
Там же. Т. I. С. 108.
20
В. В. Бпохин
Историзм и прогрессизм Михайловского представляли собой и
глубоко противоречивые идеи, схожие с прогрессистскими
теориями XIX в. Так, ему не удавалось разрешить проблему исторического
времени37. Перенося «смысл» человеческого существования в нечто
еще недоступное, нереальное, несуществующее, ожидаемое, словом
в будущее, мыслитель разрывал процесс целостного бытия истории.
В концепции прогресса, таким образом, терялась противоречивость
настоящего, повседневного, чреватого действительными
антиномиями, нравственным и безнравственным, добром и злом. Эти
противоречия как бы отходили на второй план, оправдывались тем, что они
будут разрешены в будущем. Идея прогресса могла быть, поэтому,
обоснована только религиозно, этически, что особенно явственно
можно видеть в учении Михайловского о желательности форм
«простой кооперации». «В учении о прогрессе, — писал Н. А. Бердяев, —
бессознательно заложено, тайно пребывает некоторое религиозное
упование на разрешение всемирной истории. Это есть надежда, что
трагедия всемирной истории придет к концу»38.
Противоречивость формулы прогресса заключалась в том, что в ее
основе лежал социальный эвдемонизм как доктрина,
обосновывающая стремление людей к счастью. По сути, такая теория проистекала
из трактовки человека как существа рационально-организованного,
совершенного, вдохновляемого верой в достаточность изменений
условий жизни для преобразования самой его природы.
Эвдемонистическая установка по существу приводила к прямо
противоположным выводам: «Страдания одних поколений представляются мостом
к счастью для других...»39.
Тем не менее, идея прогресса в том виде, как она выражена у
Михайловского, не может быть полностью отождествлена с учениями
просветителей XVIII в. Мыслитель утверждает вполне реалистическую
мысль о формуле прогресса как желательном идеале, негодуя против
попыток предсказаний конкретных состояний будущего, считая их
утопическими, опровергая идею конца истории. Еще в 1870-е гг. в
работе «Теория Дарвина и общественная наука» Михайловский,
восхищаясь величием и благородством идеала всесторонне развитой лич-
37 Бердяев H.A. Смысл истории. М., 1990. С. 146.
38 Там же. С. 146.
39 Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 284.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
21
ности, отмечал, однако, «что все мы обязаны стремиться к нему хотя
бы и без надежды осуществить его вполне»40.
Идеал прогресса означал для него не какое-то завершенное,
конечное состояние общества, а непрекращающийся процесс
приближения к более гармоничному общественному строю, бесконечное
движение к лучшей цели. Действенный характер идеи прогресса, ее
ориентация на преодоление социальной и духовной дисгармонии
общественных отношений превращали формулу прогресса в
фактор социальной деятельности, способствующий установлению
целесообразного общественного порядка. Теория прогресса выступала
и в качестве парадигмальной модели освоения мира. В реальных ли,
идеальных ли формах, но в ней отражались коллизии российской
пореформенной действительности, антигуманная направленность
форсированной модернизации страны со свойственными ей
социальными издержками и последствиями.
Кроме того, теория прогресса как учение об идеале может быть
объяснена с точки зрения культурного самоопределения
интеллигенции. Краткое время существования интеллигенции как группы
выразилось в хроноструктуре ее исторического сознания; в ее
социальном мышлении возникала иллюзия возможности «оторваться от
традиции», «заглянуть в будущее», превозмочь груз прошлого.
IfepOH и толпа
Учение о прогрессе Михайловский сопрягал с теорией «борьбы за
индивидуальность». В реализации этого социологического принципа
он видел смысл истории, ее движущую силу.
Идея «борьбы за индивидуальность» была сформулирована
Михайловским в процессе критического переосмысления социал-
дарвинизма. Полемизируя с теоретиками социал-дарвинизма, он
подчеркивал несостоятельность их утверждения о том, что в
обществе, как и в природе, господствует «борьба за существование»,
посредством которой отбираются совершенные социальные типы и
обеспечиваются тем самым условия социального прогресса. По
мнению Михайловского, в обществе, наряду с «борьбой за
существование», действует и открытый К М. Бэром «закон развития», «закон
Михайловский К К Поли. собр. соч. Т. I. С. 286.
22
В. В. Ьлохин
постепенного и постоянного усложнения и усовершенствования
организации.
Не менее сомнительно выглядит, на его взгляд, интерпретация
Дарвином и толкователями его эволюционного учения критериев
совершенства. «...Борьба за существование и естественный подбор могут
привести даже к регрессу, ибо их критерием является лишь нечто
практически полезное в данную минуту»41. Михайловский уверенно
заявлял: «В самом деле, путем борьбы, подбора полезных приспособлений
вид может претерпевать изменения во всевозможных направлениях,
поэтому шансы для прямолинейного развития вперед, по крайней
мере, не сильнее шансов для прямолинейного отступления назад <...>.
Несомненно, что победа в пресловутой Struggle for Life сплошь и
рядом достается организмам малосильным, малодаровитым»42.
Михайловский не принимал социал-дарвинизм, прежде всего,
нравственно, в силу его либерально-индивидуалистической
направленности. В противовес «закону борьбы за существование» и
характерного для него эгоистического индивидуализма он выдвинул идею
«борьбы за индивидуальность».
Отправные пункты учения о «борьбе за индивидуальность»,
создававшегося практически одновременно с теорией прогресса, были
сформулированы в статье «Орган, неделимое, общество». При этом
Михайловский опирался на тектологические тезисы Э. Г. Геккеля —
основоположника тектологии, учения об «органической
индивидуальности». Сущность теории Геккеля сводилась к мысли, что целое
развивается по мере упрочения своей власти на входящие в него
элементы и укрепления автономии от высшей системы, в которую
оно само входит в качестве органа или части. Понимая под
индивидуальностью некую систему элементов, Михайловский заключал,
что системы или индивидуальности ведут между собой борьбу.
«Самим процессом своего развития организм, как всякая другая ступень
индивидуальности, устанавливает между своими частями разделение
труда и вместе с тем зависимость и рабство. Подвергшись
дифференцированию, части всякого победоносного целого друг без друга жить
не могут и в то же время суть рабы целого, или друг друга»43.
41 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. I. С. 299-
42 Там же. С. 430.
43 Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. IV. С. 187.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
23
В обществе, по мнению Михайловского, проявляются
аналогичные процессы: общественные формы (индивидуальности) ведут
непрестанную между собой борьбу. К таким формам он причислял
государства, корпорации, сословия, цехи, нации, племена, словом,
различные социальные группы и организации. Но в этом ряду
различных индивидуальностей лишь одна обладает специфическими
свойствами. Это — личность. В отличие от остальных организаций
и форм, она неделима; она вынуждена вести борьбу против
посягательств на нее со стороны других индивидуальностей,
стремящихся превратить ее в свой орган, служебное средство. «Стоя на точке
зрения этой борьбы, я и объявляю, что буду бороться с грозящей
поглотить меня высшей индивидуальностью. Мне дела нет до ее
совершенства, я сам хочу совершенствоваться. Пусть она
стремится побороть меня, я буду стремиться побороть ее. Чья возьмет —
увидим»44.
Правда, марксистские оппоненты Михайловского подчеркивали,
что борьба личности с обществом есть выражение классовой
борьбы. «"Общество" есть абстракция от класса господствующего,
"личность" — абстракция от класса угнетенного, борьба "личности" с
"обществом" есть борьба этих классов», — писал Бердяев45.
Михайловский не соглашался с таким упрощением его взглядов.
Отзываясь на книгу Бердяева статьей «О книге Н. Бердяева и о самом
себе», он замечал: «Положение это — [классовая борьба как сущность
исторического процесса. — В. Б] не то что не верно, а требует
значительных дополнений, с одной стороны, и ограничений — с
другой: столь значительных, что совокупность их отводит собственно
борьбе классов сравнительно очень скромное место. Во-первых, и
в нашей, и в европейской литературе давно уже было указано, что
рядом с борьбой классов, и часто совершенно извращая ее, существует
борьба рас, племен, наций. Если, например, калифорнийские рабочие
всячески гонят иммигрирующих китайцев, принадлежащих к тому же
рабочему классу, или если французские рабочие недовольны
конкуренцией более дешевых итальянских рабочих и т. п., то это, конечно,
44 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. VIII. С. 423.
45 Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной
философии. СПб., 1901. С. 168; Райский С П. Социология H. K. Михайловского. СПб.,
1901. С. 146.
24
В. В. Блохин
не классовая борьба. Далее, по признанию самих марксистов, было
время, когда общество не делилось на классы, а будет время, деление
это исчезнет, и, однако, история не останавливала и не остановит
своего течения, но она не была и не будет борьбой классов, за их
отсутствием <...>. Наконец, и внутри классов происходит борьба между
соперничающими индивидуумами, часто становясь поперек дороги
классовой борьбы. В целом из всего этого сплетается такая сложная
сеть, в которой совсем уже не так часто можно усмотреть чистую,
сознательную классовую борьбу»46.
Таким образом, Михайловский подчеркивал сложный характер
социальных взаимодействий в обществе, справедливо считая, что
теория классовой борьбы схематично отражает общественные
противоречия и пути их разрешения. В то же время марксистские полемисты
указывали на ограниченность закона «борьбы за индивидуальность»,
подчеркивая, что личность, как самостоятельная социальная
единица, не может вести какой-либо борьбы, поскольку выступает всегда
как часть какой-то группы или класса. Личность может представлять
свои интересы посредством профсоюзов, партий, иных
общественных организаций и т. д. Иначе говоря, какой-то особой борьбы
личности с обществом не существует.
Конечно, теория Михайловского достаточно противоречива.
Становясь на точку зрения защитника «простой кооперации», личность
должна была бы вести борьбу и против той социальной общности,
в которой она пребывала. Но об этом мыслитель ничего нам не
говорит.
Трудно согласиться и с мнением Михайловского о
противостоянии личности и общества. Социум далеко не всегда подавляет
человека, а, зачастую, предоставляет ему широкие возможности для
полноценного развития и самореализации. Иными словами, существует
не только борьба, антагонизм человека и общества, но и взаимное
дополнение, притяжение между ними. Человек как элемент общества
в этом случае ищет благоприятные условия для своей адаптации,
используя при этом самые различные средства.
Признавая внутреннюю противоречивость закона «борьбы за
индивидуальность», было бы в корне неверно отрицать научную
обоснованность этой теории, поскольку противостояние личности и
Михайловский Я К Последние сочинения. В 27 т. СПб., 1905. Т. I. С 122.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
25
общества весьма часто имеет психологическую и этическую природу.
Допустимо предположить, что «борьба за индивидуальность»
выражает не столько социологическую закономерность, сколько
психологическую правду бытия человека, отражает протест личности против
посягательства на ее права и теоретически этот протест
санкционирует. Только в этом, на наш взгляд, может состоять научное значение
этой оригинальной теории.
Между тем Михайловский, конечно же, не мог удовлетвориться
общей постановкой вопроса о движущих силах истории. «Борьба
за индивидуальность» лишь указывала на исходный пункт,
отправную точку источников саморазвития общества. Ни классы, ни
государства, ни нации были двигателями истории, а личность, «человек
вообще» предопределяли все многообразие общественных
комбинаций. Поэтому вопрос о роли личности в истории для мыслителя
был чрезвычайно значимым и нашел отражение в ряде крупных
работ.
Размышляя о судьбах великих личностей в истории, он
приходил к убеждению, что они являются всегда в переходные эпохи, на
«границе двух фазисов исторического развития, на точке перелома»,
когда в окружающей среде пробиваются ростки будущего.
Великий деятель призван критически переосмыслить противоречивую
реальность. «Для того, чтобы личность могла давать тон истории,
набросить свой личный колорит на эпоху, требуется, разумеется,
чтобы она сама попала в тон, чтобы было нечто общее между ее
задачами и средой, в которой ей приходится действовать <...>. Но,
тем не менее, великий человек должен быть в значительной
степени чужим окружающей среде. Людское величие состоит именно в
той борьбе, которую человеку приходится вынести на своих
плечах... Великие люди — люди будущего»47.
Михайловский не отрицал, между тем, что великий человек на
определенный промежуток времени в состоянии задержать
поступательное развитие общества, придать социальным процессам даже
иную направленность, иначе «в истории не было бы никаких
зигзагов, никаких попятных движений». Такая личность может
ухватиться за элементы отжившие, «побочные», «отнюдь не представляющие
собой лучшие силы среды». Так Наполеон III, весьма дюжинная лич-
Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. VI. С. 103.
26
В. В. Б/юхин
ность, опирался у себя дома на «невежество крестьян», «продажность
отребьев французского общества и т. д.». Иногда отжившие элементы
могут, предчувствуя свою гибель, выдвинуть людей очень даровитых
и энергичных, которым удается сплотить все ветхое и «запрудить
на время течение истории». «Таковым примером, — по мнению
Михайловского, — была фигура Гегеля, которого выставила умиравшая
метафизика»48.
Михайловский отмечал несколько условий, при которых великая
личность может состояться. Это — наличие «элементов в
окружающей среде, дающих личности точку опоры, с которой бы она
получила возможность влиять на ход событий»49. Кроме того, это —
некая прозорливость, способность деятеля разглядеть невидимые глазу
подспудные течения истории, возможность влияния на существенные
стороны жизни, «которые в настоящую минуту отступают почему-
нибудь на задний план». Наконец, личность становится великим
деятелем, если обладает определенным инструментарием, «целями и
средствами» для воплощения задуманного50.
Михайловский особенно указывал на противоречивый характер
положения выдающихся исторических фигур. С одной стороны,
деятельность личности задана средой, условиями ее бытия51. С другой
же стороны, исторический субъект не является прямым результатом
обстоятельств. «История управляется общими постоянными
законами, но не они составляют прямую, непосредственную причину
человеческих действий. Человек действует под напором той сети
условий, среди которых ему приходится жить, а эта сложная, постоянно
в известных пределах колеблющаяся, постоянно изменяющаяся, то
отливающая, то приливающая сеть подчинена общим, простым и
постоянным законам. И независимость человека от общих законов
истории, и его зависимость от ближайшего сочетания причин —
относительны. С одной стороны, есть в истории течения, с которыми
человеку, будь он семи пядей во лбу, бороться невозможно. С другой —
человек, получив причинный толчок от данной комбинации фактов,
становится к ней сам в отношения причинного деятеля и может вли-
48 Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. IV. С. 104.
49 Там же.
50 Там же.
51 Там же. Т. III. С. 17.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
27
ять на нее более или менее сильно. Сознательная деятельность
человека есть такой же фактор истории, как стихийная сила почвы или
климата»52.
По убеждению Михайловского, есть целый ряд и иных причин,
стоящих в стороне от законов истории. Это особенности самой
личности, способной активно влиять на скорость смены исторических
фазисов53.
Так Михайловский вводит в свою концепцию роли личности
в истории очень важный момент, который упускали из виду его
оппоненты-марксисты — психологию личности. Психологический
анализ социальных явлений наиболее ярко претворился в теории
«героев и толпы», историографическая судьба которой сложилась
весьма непросто. На протяжении продолжительного времени ей
отказывали в научном характере, но главное — она неправомерно
противопоставлялась всей историософской системе мыслителя54. Анализ
показывает, что концепция «героев и толпы» является глубоко
органичной частью теоретического наследия Михайловского,
обусловленной логикой его идейных исканий.
Связь этой теории с историософией народника прослеживается
в нескольких ракурсах. Прежде всего — с внешней стороны, со
стороны обстоятельств и времени ее создания. Истоки теории «героев
и толпы» восходят к концу 1860-х гг. Ряд ее положений уже был
высказан в статье «Преступление и наказание»55. В это же время
мыслитель создает свой основной социологический труд — «Что такое
52 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. III. С. 101-102.
53 Там же. Т. VI. С 102.
54 В 1890-е гг. теория «героев и толпы» подверглась резкой критике со
стороны Г. В. Плеханова. Авторство теории «героя и толпы» он связывал с именем
Бруно Бауэра, от которого «противоположение героев массе перешло к
русским «незаконнорожденным детям» (см.: Плеханов Г. В. Еще раз г.
Михайловский, еще раз триада Ц Плеханов Г. В. Избранные философские произведения.
М., 1956. Т. I. С. 732).
Бердяев полагал: «Терои и толпа" — интересное исследование, но оно
носит скорее психологический, а не социологический характер и ничего, в
конце концов, не объясняет в историческом процессе» (см.: Бердяев H.A.
Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. С 210). В отличие от
Плеханова, совершенно не понявшего теории, Бердяев свел учение «героев и
толпы» к психологической проблематике.
55 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. VIII. С. 14.
28
В. В. Блохин
прогресс»56. В 1870-е гг. проявился пристальный интерес
Михайловского к проблемам психологии вообще. Так, психологическими
причинами он объяснял крах реформаторской деятельности
религиозного итальянского проповедника Иеронима Савонаролы.
Истоки «героев и толпы» генетически связаны с его
историософией и социологией. Обращение к теме «героя и толпы»
мотивировалось Михайловским тем, что роль личности и народных масс в
истории, истолкованная в терминах социологии, не объясняет
природы многих исторических явлений, всего богатства человеческой
жизнедеятельности. Причина тому — слишком общий масштаб
проблемы, при котором скрадывается живая индивидуальность,
конкретный человек. Поэтому необходимо иное приближение, если угодно,
иной инструментарий исследования, чтобы разглядеть человека как
живую психологическую реальность. А на этом уровне говорить о
господстве социологической необходимости вряд ли возможно, ибо
здесь функционируют и проявляются иные закономерности. «Пусть,
с какой-нибудь очень возвышенной и вполне оправдываемой
логикой точки зрения, великий человек есть даже просто нуль, или, самое
большее, бессознательное орудие осуществления высших и общих
исторических законов; пусть его деятельность должна изучаться
с точки зрения этих общих законов; но, кроме них, существуют же
какие-нибудь частные законы отношения между великим человеком
и движущейся за ним массой»57, — писал Михайловский в статье
«Герои и толпа» (1882).
Позже Михайловский отмечал: «В том фантастическом царстве,
где метафизические тени явлений заслоняют от нас сами явления
с их цветом и запахом, красотой и безобразием, подлостью и
величием, — нет и героев и толпы, а есть равно необходимые люди,
в известном порядке выскакивающие из таинственных недр истории.
В действительной жизни, однако, герои и толпа существуют, герои
ведут, толпа бредет за ними, и прекрасный пример представляют
собой Маркс и марксисты»58.
Но основным аргументом его критики было утверждение о том,
что игнорирование психологии приведет к оправданию «всякой
Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. II. С. 399.
Там же. Т. II. С. 98.
Там же. Т. VIII. С. 746.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
29
гнусности и пошлости, историческому фатализму, ослаблению
чувства ответственности, ослаблению энергии деятельности и
личной инициативы»59. По мнению Михайловского, такой подход
приводит к тому, что «сама теория безымянных масс, как
факторов истории, остается невыясненной в своей противоположности
с теорией именитых героев. Собственно говоря, выяснению
подлежит один пункт, а именно процесс, которым масса выдавливает,
выжимает из себя героев, вместо этого мы слышим обыкновенные
рассуждения о том, что герой есть продукт определенных условий
времени, места, среды, наследственности...». В итоге, — рассуждал
Михайловский, — вопрос переносится на совершенно другую
почву, и на место теории масс как исторических факторов
представляется учение о причинной зависимости человеческих мыслей,
чувств, желаний, действий»60.
Этот аргумент Михайловского в его полемике с марксизмом был
наиболее сильным. По всей видимости, он увидел в марксизме
нечто большее, чем подмену учения о роли личности теорией о
причинной зависимости человеческой деятельности. Михайловский
усмотрел в марксизме неприемлемую для него самого концепцию
свободы. Что означает требование подчиниться необходимости?
Отождествление свободной деятельности с деятельностью, которая
следует закону и необходимости, возможно только при условии,
если мы представим себе человека как исключительно
рациональное существо, которое в своих действиях опирается лишь на разум
и ни на что более. Здесь вновь проявляется тот абстрактный подход
к пониманию человека, как некоего родового существа, безликого
представителя общества, класса, группы61.
Эта критика марксизма объясняет, в конечном счете, те мотивы
и логические основания, подвигнувшие Михайловского к
конкретизации учения о роли личности в истории, к переносу внимания
на психологию личности, на «изучение механики отношений между
толпой и тем человеком, которого она признает великим, а не в
изыскании мерила величия». Михайловский подчеркивал, что
«заведомый злодей, глупец, ничтожество, полоумный для нас так же важны,
Михайловский Я К. Поли. собр. соч. Т. II. С. 385.
Там же.
Деятельность теории, методологии, проблемы. М., 1990. С. 334.
30
В. В. Елохин
как и всемирный гений или ангел»62. Поэтому он определял «героя»
как «человека, увлекающего своим примером массу на хорошее или
дурное, благороднейшее или подлейшее, разумное или
бессмысленное дело». В то же время толпой он называл «массу, способную
увлекаться примером, опять-таки высокоблагородным или низким, или
нравственно-безразличным»63.
Само определение «героя» Михайловским весьма примечательно:
здесь нет никакого намека на культ сверхчеловека, мессии, «героя» в
духе Карлейля. Автор теории указывает главную цель — «изучение
механики» взаимодействия между коллективом и лидером, массой
и индивидуумом, способным в силу каких-то качеств вести его за
собой.
Теория Михайловского не сводима и к исключительно социально-
психологической проблематике, ибо проистекает из его понимания
роли личности в истории как действенной и сознательной силы.
В учении о «героях и толпе» достигла своей завершенности идейная
эволюция Михайловского, разрешение им антиномии объективно-
исторического процесса и активной роли личности в нем.
И эту проблему народник рассматривал с позиций
психологического детерминизма64.
«...Они не знают, что творят»
Если в социологии мыслителя мы находим общетеоретическое
обоснование своего идеала, то публицистика раскрывает содержание
его общественно-политических идей, среди которых ключевой
являлась идея социализма.
Социалистические взгляды Михайловского формировались в
процессе переосмысления либерального наследия. Ценности
либерализма мыслитель не принял, полагая, что либеральная
доктрина слишком узка для выражения идеи личности. Более того, сами
принципы, утвержденные Великой французской революцией,
оказались глубоко противоречивыми, поскольку высвободив энергию
62 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. И. С. 99.
63 Там же. С. 97.
64 Кареев Н. И. Памяти Н. К. Михайловского как социолога // Русское
богатство. 1904. № 3. С. 147.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
31
народных масс в борьбе за социальный прогресс, она ничего им
не дала.
Михайловский был убежден: решающую роль в революции сыграл
народ, а плодами его победы воспользовалась буржуазия. «Народ шел
в этой борьбе за буржуазией, дрался и умирал. Конституция 1791 года
разделила французов на активных и пассивных. В экономическом
отношении он [народ — В. Б] имел право на собственность, на свободу,
на любую должность в государстве, но он не имел собственности, не
имел кредита, знаний, словом, не имел возможности воспользоваться
теми самыми правами, из-за которых проливал свою кровь и
которые были, наконец, ему даны»65.
Схожие нотки звучат и в его работах в начале 1870-х гг.: «Вся
история свободы есть собственно один каламбур во многих
действиях. Последнее действие началось с великой французской
революции. До революции регламентация промышленности и
правительственная опека царила неограниченно, и в устах гурнэ бранный
крик современного либерализма "laissez faire, laissez passer" выражал
действительную потребность. Революция разбила феодализм и
цеховое устройство, провозгласила свободу труда. Но здесь же
началось и то течение, которое привело, наконец, к тому, что свободный
извозчик приглашается кричать виваты свободе»66. По его мнению,
«буржуазия несла с собой именно тот порядок, при котором
рабочий не имеет права размножаться и, будучи легально свободен,
фактически находится в полной зависимости от предпринимателя»67.
Французская революция с ее антифеодальной направленностью и
возглавляемая буржуазией в итоге обернулась против трудящихся
классов. В этой оценке Михайловский созвучен настроениям
Герцена, который образно подметил: «Французская революция,
начавшись с торжественного провозглашения прав человека, кончила
криком прериаля: "Хлеба! Хлеба!"»68. В этом историческом факте
Михайловский видел двойственность принципа индивидуальности.
Исторические результаты буржуазной эпохи вообще, и Француз-
65 Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. III. С 56.
66 Там же. T. I.C. 279.
67 Там же. С. 280.
68 См.: Пирумова H. M. Александр Герцен. Революционер. Мыслитель.
Человек. М., 1989. С 127.
32
В. В. Блохин
ской революции в частности, оказались ограниченными и
исторически преходящими.
В дальнейшем сама жизнь, как считал Михайловский,
опровергала либеральные надежды на «гармонию интересов», «честную
конкуренцию». Действительность, основанная на либеральных
принципах, воспринималась Михайловским как арена жесткой
«борьбы за существование», как сфера реализации права сильного.
Полемизируя с защитниками идеи свободного рынка и
конкуренции, Михайловский отмечал: «Такая общественная система,
которая опиралась бы на свободу личности и на личный интерес, была
бы совершенно противна духу старых экономистов. Они, правда,
требовали ее на словах; они даже резко и энергично критиковали
с этой точки зрения государство, феодальные и крепостные
отношения, цех, общину; но, разбудив, таким образом, жажду личной
свободы и личного интереса, они немедленно же вдвигали
личность в систему наибольшего производства, где она и погибла»69.
Личность как высшая ценность в классической либеральной
системе ценностей, по убеждению народника, оказалась вовлечена
в новую систему рабства, подчинилась «молоху» нивелирующего
ее производства70.
Столь решительная критика Михайловским либерализма
объясняется, видимо, несколькими причинами. Известный западный
исследователь А. Валицкий не без основания полагает, что
разочарование русской народнической мысли в либерализме объяснимо
тем обстоятельством, что сама европейская цивилизация
переживала кризис либеральной идеологии71. Кроме того, в известной мере
антилиберальные настроения интеллигенции подпитывались
идейным взаимодействием и взаимообогащением социалистической
мысли Запада и России. Видимо были и внутренние основания для
генерации антилиберальных настроений, пик которых пришелся на
1870-е гг., т. е. на время структурного обновления российского
общества, время спонтанного всплеска свободы, которой общество не
могло правильно еще «распорядиться». Экономическая и политиче-
09 Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. I. С. 439.
70 Там же. Т. III. С 57-59.
71 Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов
конца XIX — начала XX веков // Вопросы философии. 1991. № 8. С. 29.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
33
екая свобода в это время предстала в виде решительной
«переоценки ценностей», в утрате всякой стабильности в образе жизни,
смене поведенческих стереотипов. Во многом критическое отношение
к свободе сопровождалось и нарастанием разочарования в итогах
великого освобождения.
Михайловский отвергал буржуазно-индивидуалистический
эгоистический либерализм Европы еще и потому, что тот еще не
сформировал в себе социальной ответственности, не был оплодотворен
социалистическим наследием и представлял собой еще исторически
неразвитую форму.
Можно без преувеличения считать, что критика европейской
цивилизации представляла собой целостный, всесторонний анализ
противоречий и движущих сил системы капитализма XIX в. Неприятие
мыслителем буржуазного прогресса, и соответственно либеральных
ценностей побуждало Михайловского размышлять о европейской
революции. В 1870-е гг. он был преисполнен смутной надеждой на
свершение в Европе какого-то крутого поворота в принципах
жизни, противоположного буржуазному индивидуализму. В цикле статей,
начиная с 1872 г., мыслитель отмечал, что начала Французской
революции возьмут верх в Европе, «решение этого вопроса слишком
очевидно» даже для Пруссии. «Вопрос состоит только в том, какие
формы примет это мирное развитие, — восторжествуют ли начала
первой революции во всем их объеме, или к ним сделана будет
известная поправка. Старые идеалы падут, но замкнется ли жизнь в
личности, в материальной единице, или личность преклонится перед
новыми идеалами, — вот основной вопрос [выделено нами — В. Б]
европейской жизни»72.
Уверенность мыслителя в крушении старых отживших
порядков, когда «рухнут европейские банки», ощутима и в его работах
1880-х гг.73 Между тем, Михайловский не связывал будущее с
европейской революцией. Осознание общественных противоречий,
способных вызвать глубокие социальные катаклизмы, отнюдь не убеждало
мыслителя в скором крушении западного общества. Признание
реальности революционных событий нетождественно их
желательности. Михайловский всегда был свободен от иллюзорного восприятия
72 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. IV. С. 948.
73 Там же. Т. VIII. С. 906.
34
В. В. Блохин
мира. Социально-историческая практика европейских народов
подсказывала, что социальный вектор западного общества определяется
сложным взаимодействием различных тенденций. Направленность
европейских реалий не давала почву для заключений о непреложном
характере грядущей революции.
В этой связи принципиально важна оценка Михайловским
будущего России, тенденций ее развития. В числе важнейших вопросов:
судьба общины, капитализма, роли государства в социальной
реконструкции. Несомненно, среди проблем социального развития России,
особое внимание он уделял общине. Знакомство с публицистикой
1870-х гг. показывает, что Михайловский не считал общину
специфическим явлением русской жизни. Институт общины был для него
универсальной исторической формой человеческой
жизнедеятельности, гармонично сочетавшей личные и общественные интересы.
В статье «Политическая экономия и общественная наука» (1878) он
писал: «Община дорога не сама по себе, как идол какой-нибудь.
Подумайте, и осуществите что-нибудь лучше в смысле ограждения
личности мужика от бурь промышленности, конкуренции, кто же стал
бы тогда требовать ее сохранения»74.
Из приведенного высказывания ясно, что для Михайловского
община была средством социальной защиты личности и фактором
ее развития. Первичная ценность для мыслителя цель и смысл
истории — «индивидуальность», стоявшая выше общины. Персонализм,
Михайловского таким путем облекался в социалистическую форму.
Р. В. Иванов-Разумник присвоил этой персоналистической идее
емкое название «индивидуалистического социализма».
Поскольку индивидуальность (личность) значила для мыслителя
больше чем община, Михайловский допускал наделение крестьян
участками земли, превращая их тем самым в мелких собственников.
В письме к графу С. В. Орлову-Давыдову (1873) он отстаивал мысль о
наделении мужиков увеличенными наделами, как меры
противодействия сгону с земли75.
Реализм мыслителя подводил его к выводу, что община
разлагается. В 1880-1890-х гг. в его публицистике уже не видно следов защиты
общины. Взгляды Михайловского приобрели западнический абрис:
Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. VI. С 303.
Там же. Т. III. С 590.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
35
община не уникальна, в силу мировых законов обречена на
разложение, необходима для защиты личности в условиях конкуренции
и рынка. Вопрос о роли капитализма в России в этой связи с этим
становился центральным.
По мнению Михайловского, складывание буржуазных отношений
началось еще в недрах крепостнической системы, в екатерининскую
эпоху. Именно поэтому новый общественно-экономический уклад
осложнялся феодальными, подчас азиатскими элементами76.
В1880 г. Михайловский ответил либералу П. П. Цитовичу,
высказавшемуся за необходимость создания отечественной буржуазии:
«Откуда ее взять, в самом деле? Выписать из-за моря, как древле настоящих
варягов, будет по-нынешнему, не патриотично <...>. Помещик на эту
роль не годится; обеднел он и захудал, но все-таки слишком барин и
ленив. Купец и деревенский кулак, конечно, годятся, но всякий мало-
мальски чистоплотный человек должен с ужасом отступить перед
зрелищем грядущей России, если в ней будет княжити и володети
этот люд...»77. Для народника общественное положение буржуазии на
Западе определяется не только владением капиталов, но и высоким
уровнем образования, выработанными веками идеями политической
свободы и гражданского равенства. Русская же буржуазия, в отличие
от европейской, ни образованием, ни политическим, ни
нравственным развитием блеснуть не может. «Эти будут володети нами не
образованием своим и не преданностью, какой бы то ни было, хотя бы
односторонней идее, а просто и прямо карманом: "все куплю, сказало
злато". Ясно, что таких варягов звать не приходится, — слишком уж
зазорно»78, — писал Михайловский.
Основной отличительной чертой русской буржуазии он считал
зависимость от государства. Отсюда вытекало ее пренебрежение
гражданской свободой. Неорганичный характер отечественного
капитализма, историческая «периферийность» новой социальной силы
были причиной того, что национальный капитализм явился в России
в азиатской, варварской форме, не подкрепленным культурными
традициями, лишенным какого-либо нравственного облика. Такой
капитализм Михайловский не мог принять.
Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. I. С. 590.
Там же. Т. X. С. 36.
Там же. Т. VIII. С 676.
36
Я Я Ьлохин
Антилиберальный пафос публицистики Михайловского, как,
впрочем, и других теоретиков народничества объясняется и тем, что
пореформенные реалии вступили в противоречие с
распространявшимися ранее умозрительными представлениями о «правильном»,
«свободолюбивом», «образованном» капитализме Запада. Однако в самой
исходной посылке не принимать капитализм как сущее, коренилось
неверное разрешение проблемы будущего.
Михайловский, считавший высшей ценностью прогресса
целостное гармоничное развитие личности, искал такие условия
развития общества, при которых цена прогресса могла бы быть
минимальной. Он пытался теоретически разрешить коллизию идеала и
действительности, противоречие между издержками капитализма
и императивом целостной индивидуальности как цели прогресса.
Поскольку капиталистический прогресс упрощал, дегуманизиро-
вал личность, Михайловский так и не смог теоретически
примирить два начала: идеал целостной личности и капиталистический
прогресс.
Признав пагубность развития капитализма в России с его
болезненной трансформацией исконной крестьянской модели развития
России, Михайловский, опираясь на идеи Руссо, сформулировал
своеобразную теорию «типов и степеней». Характеризуя
социальную концепцию великого французского критика индустриальной
системы, Михайловский отмечал, что «Руссо отвергает не степень
развития цивилизации, а ее тип, и, наоборот, в первобытной жизни
он ценит только тип, нимало не сомневаясь, что невежество,
суеверие, нищета, грубость как спутники низкой ступени развития,
подлежат изгнанию. Задача будущего состоит, следовательно, по Руссо,
отнюдь не в том, чтобы все люди или какая-нибудь их часть бегали
на четвереньках, а в сочетании первобытного типа с высокой
степенью развития. Это и будет искомый "синтезис"»79.
Перефразируя теоретическую формулу Михайловского, следует
отметить, что идеалом для него было общество, где бы сочеталась
бесклассовая структура с высоким уровнем индустрии. В этой
связи отметим совершенную несостоятельность утверждения русских
марксистов (Н. А. Бердяева, Г. В. Плеханова) о том, что Михайловский
идеализировал «золотой век», звал общество назад, в прошлое, прекло-
Михайловский Я К. Поли. собр. соч. Т. VIII. С. 210.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
37
нялся перед рутинным крестьянским хозяйством80. Размышляя о
путях реализации идеала, Михайловский приходил к мысли об
усвоении чужого опыта, осмыслении уроков западного мира. Россия позже
других вышла на сцену мировой истории, что позволяло ей
критически воспринять опыт старой Европы, учтя ее исторические ошибки.
«Мы, — писал Михайловский, — благодаря своему позднему выходу
на поле цивилизации, можем избежать многих ошибок, за которые
Европа платилась, и платится кровью и вековыми страданиями»81.
В 1873 г. эта идея высказана более емко: «...Вся Россия есть огромный
зародыш. Мы — действующие лица недописанной и только
набросанной драмы. Но жизненные драмы не остаются в портфеле автора.
Они непременно дописываются и ставятся на сцену, вызывая
аплодисменты, лавровые венки, букеты роз и камелий, с одной стороны,
свистки и гнилой картофель — с другой. Допишется и поставится на
сцену и наша русская драма. И мы за нее ответственны, потому что
мы не только действующие лица ее, а ее и авторы»82.
Михайловский не был оригинальным в этой идее. Ранее него
подобные взгляды высказал Герцен, видевший в «усвояемости чужого»
преимущества России перед Западом83. Механизм усвоения
опыта других стран мыслитель связывал с использованием науки. Если
европейское развитие подчинялось естественным, стихийным
изменениям, подобным процессам в природе, то путь России должен
основываться на научном управлении. Опыт цивилизации
передается не повторением фаз развития, не переживанием коллизий
«органического» пути, но — «педагогически», научением, «не по законам
наследства»84.
Идея исторической альтернативы, разработанная мыслителем, не
подкреплялась конкретно-разработанными технологиями ее
реализации, оставаясь, по существу, на уровне теоретического плана.
Между тем, следует иметь в виду, что в самом содержании социального
Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной
философии. СПб., 1901. С. 115; Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического
взгляда на историю // Избранные философские сочинения. В 5 т. М., 1956.
С 511.
81 Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. I. С. 793.
82 Там же. Т. IV. С 461.
83 Пирумова Я М. Указ. соч. С. 84.
84 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. I. С. 901.
38
В. В. Елохин
идеала отразилась критика общественных издержек «догоняющей»
модернизации старой России.
Проблема социалистической альтернативы капитализму
анализировалась Михайловским в самом общем, не имевшем практической
ценности, виде. У мыслителя мы не можем отыскать ни конкретных
практик осуществления такого идеала, ни конкретного обоснования
альтернативной модели. Между тем, вопросам социальной
реконструкции, вернее, средствам, он отвел весьма значимое место в своей
легальной и нелегальной публицистике. В этом вопросе его взгляды
претерпели довольно заметную эволюцию.
В начале 1870-х гг., когда капитализм в России находился в
начальной стадии развития, Михайловский рассчитывал на
инициативы верховной власти по его «недопущению». Надежды на реформы
«сверху» сложились у Михайловского под непосредственным
влиянием идей французского социалиста Л. Блана, который полагал, что
государство как социальное учреждение есть надклассовая,
независимая от каких-либо групп структура, способная служить интересам
низших классов. «Луи Блан требовал, как известно, государственного
вмешательства в экономическую жизнь страны. В противоположность
буржуазным теориям, он видел в государстве не организм, состоящий
из людей-органов, а орган, функция которого состоит в обеспечении
развития и применения человеческих сил и способностей. Он,
следовательно, вовсе не требовал такого государственного устройства,
в котором личность исчезала бы со всеми своими особенностями.
Он требовал для государства роли не господина, а служителя.
Никакие либеральные фразы, никакие звучные слова не могли сбить его
с этой крепкой позиции»85. Такое понимание природы государства
укладывалось в концепцию Михайловского об «индивидуальностях»,
согласно которой, прогрессивно лишь то, что служит, подчиняется,
превращается в служебный орган «первичной индивидуальности» —
личности.
Именно такая трактовка сущности государства предопределяла
и обусловливала вытекавшую из нее функцию государственной
политики — организацию социальной защиты народа. Михайловский
предлагает широкую государственную поддержку народному
производителю, крестьянину. «Когда у нас заходит речь об организации
Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. III. С. 72.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
39
рабочего труда <...> раздаются обыкновенно голоса, громко и с
азартом отрицающие государственную помощь. Трудно представить что-
нибудь страннее и даже, можно сказать, наглее этих голосов. Стоит
только припомнить, что они раздаются в стране, где, с одной
стороны, только вчера освобождены государственным вмешательством
миллионы крепостных, где, с другой стороны, после освобождения
огромные суммы из взыскиваемых с податных сословий, т. е. почти
исключительно с труда, уходят на субсидии и гарантии капиталистам-
предпринимателям. Эти привилегии, субсидии и гарантии никем не
опротестованы, протесты считаются даже идиллиями, тогда как при
малейшем намеке на государственную помощь труду поднимаются
азартные крики»86.
В 1880-е гг. позиция Михайловского в этом вопросе
уточняется, а роль государства несколько переоценивается. Если в начале
1870-х гг. его призыв к государственному вмешательству основывался
на искренней вере в способность власти служить народу, поскольку
она ещё не была тронута капиталом, то в 1880-е он стремится
убедить власть в выгодности социальной деятельности, ибо она несет
обществу классовый мир. Так, оценивая взгляды Л. Штейна,
немецкого юриста, полагавшего, что государство может отстаивать интересы
общественных низов, Михайловский однако доказывал, что
государство не может быть изолировано от общества, тем более, — от
имущих классов. «Вообще говоря, это [позиция Блока — В. Б] совершенно
справедливо. Мечта Штейна, да и не одного Штейна, об идеальной
власти и идеальных чиновниках разбита жизнью»87.
И все же Михайловский был убежден, что государственное
вмешательство необходимо. К этому опыту пришла Европа, испугавшись
«красного призрака». Потому-то и рухнула доктрина чистого
либерализма. Государственное вмешательство — вопрос благоразумия
самого общества. Прозорливым людям ясно, «что в недалеком будущем
выживет та комбинация общественных и политических сил, которая,
в большей или меньшей степени, удовлетворяет массы»88.
В «Литературных заметках от 1880 г.» он еще верит в добрую волю
власти: «Благонамеренные представители центральной власти и народ
Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. III. С. 72.
Там же. Т. IV. С. 999.
Там же. С. 1000.
40
В. В. Блохин
в нашем предположении, должны были положить почин новому,
особливому историческому пути для России. Но если между этими
элементами протискивается всемогучий братский союз местного кулака
с местным администратором, то наша теоретическая возможность
обращается в простую иллюзию...»89. При рассмотрении этой проблемы
логика рассуждений Михайловского близка взглядам Герцена, его
трактовке государственной власти, писавшего, что «императорская власть у
нас — только власть, т. е. сила, устройство, обзаведение: содержания в
ней нет, обязанностей на ней не лежит, она может сделаться татарским
ханатом и французским Комитетом общественного спасения»90. Как и
Герцен, Михайловский уповает на спасительное участие монархии в
деле защиты народных интересов: «Роль монархического принципа
совершенно аналогична роли объединяющего государственного
элемента и даже часто совершенно примыкает к ней»91.
Чем объяснить такой «монархизм» Михайловского? Едва ли этот
«монархизм» вытекал только из влияния Л. Блана. Скорее, ответ
коренится в самой пореформенной действительности. Государство тогда
объективно выступало в роли регулятора общественных процессов,
создавая, тем самым, иллюзию независимой от общества силы. Во
всяком случае, Михайловский весьма определенно и прямо в легальной
публицистике 1870-х гг. заявлял о своих надевдах на проведение
социальных реформ «сверху».
Вместе с тем, остерегаясь разбуженной стихии народа,
Михайловский вынужден был поставить вопрос о роли революционного
меньшинства в деле преобразования России. Центральное место в
этой связи занимают знаменитые письма П. Л. Лаврову, написанные
в 1873 г. в ответ на приглашение последнего сотрудничать с
журналом «Вперед». Сразу стоит оговориться: отказ Михайловского от
сотрудничества с Лавровым понятен только в контексте его легальной
публицистики, на страницах которой, как показано выше, он
первоначально отстаивал идею «реформ сверху» в интересах народа.
Особенно интересна следующая фраза из письма Михайловского:
«Я не революционер, всякому свое. Борьба со старыми богами меня
не занимает [т. е. с самодержавием — В. Я], потому что их песня спе-
Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. IV. С. 957.
См.: Пирумова К М. Указ. соч. С. 102.
Михайловский К К. Поли. собр. соч. Т. II. С. 160.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
41
та, падение их дело времени. Новые боги гораздо опаснее и, в этом
смысле, хуже. Смотря так на дело, я могу до известной степени быть
в дружбе со старыми богами [надеяться на сотрудничество с
самодержавием в вопросе предотвращения капитализма — В. Б] и,
следовательно, писать в России»92.
Совершенно ясно, что Михайловский не верил в революционную
партию, так как, с одной стороны, допускал возможность союза с
самодержавием, а с другой — не видел в стране реальной оппозиции
власти, полагал, что молодежь не знает народа. Михайловский писал
Лаврову: «Что касается до повелительного наклонения, то молодежь
его очень ждет, и голос "Вперед", как бы он ни устроился, если только
вы будете вести его, будет иметь большой вес. Скажите же мне ваше
повелительное наклонение не в теоретической области, а в
практической. В ожидании я вам скажу свое: сидите смирно и готовьтесь.
Другого я не знаю, другого, по-моему, русский социалист теперь не может
иметь. Никакой радикально-социалистической оппозиции в России
нет, ее надо воспитывать»93. В представлении Михайловского
необходимо готовиться к социализму, в частности, дать необходимые знания
молодежи: «Молодежь должна его встретить [момент действия — В. Б]
в будущем не с Молешоттом на устах и не с игрушечными
коммунами, а с действительным знанием русского народа и с полным
умением различать добро и зло европейской цивилизации»94.
Анализ этих писем Лаврову позволяет заключить, что
единственной силой, способной противостоять капитализму, Михайловский
считал монархию. Этот вывод стал определяющим в его отказе от
идеи политической борьбы в начале 1870-х гг.
Однако уже к концу 1870-х гг. тональность публицистики
Михайловского ощутимо меняется. Все настойчивее звучит нота
разочарования в народе, в его способности стать движущей силой
истории. К такому выводу Михайловский подходил на основе глубокого
анализа истории России, оценки исторического потенциала народа.
Лейтмотив публицистики мыслителя — чуждость народа
интеллигентскому меньшинству. Михайловский не идеализировал народа, не
приписывал ему несвойственных добродетелей, не спекулировал на
Михайловский Я К. Поли. собр. соч. Т. X. С. 65.
Там же.
Там же.
42
В. В. Елохин
эту тему. Он, опираясь на этнографические исследования,
рассматривал народную массу исторически, верно указывая на противоречивый
характер влияния на нее исторической среды. В 1878 г. в
«Литературных заметках» он, полемизируя с «Неделей», призвавшей следовать
всецело за деревней, писал: «И, прежде всего, представляется вопрос:
если народ, в самом деле, всегда, везде во всех своих действиях,
чувствах и помышлениях так хорош, то, значит века бесправия, рабства
и нищеты прошли для него даром, не наложив на него и пятна
порока, а, чего доброго, даже способствовали его улучшению. Тогда из-за
чего хлопотать и биться? Из-за чего жить на этом свете, где рабство
людей не портит?»95. Оценки Михайловским народа — выверенные
суждения ученого-реалиста.
В «Записках профана» (середина 1870-х гг.) он писал: «У меня на
столе стоит бюст Белинского, который мне очень дорог, вот шкаф
с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою
комнату вломится русская жизнь со всеми ее бытовыми особенностями
и разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги, я не покорюсь и
людям деревни; я буду драться, если у меня, разумеется, не будут
связаны руки. И если бы даже меня осенил дух величайшей кротости
и самоотвержения, я все-таки сказал бы: прости им, Боже истинный
и справедливый, они не знают, что творят»96. Неверие в народ,
более того — боязнь его деструктивной энергии объективно
сближало Михайловского с либералами. В дихотомии коллектив-личность,
народ-интеллигенция акцент ставился на втором компоненте.
Показательно в этой связи отношение Михайловского к
деятельности «Земли и воли». Мемуары А. И. Иванчина-Писарева проливают
свет на малоизученные взгляды Михайловского на практику
«хождения в народ». В беседе со своим коллегой и единомышленником
он посоветовал прекратить работу в деревне. На вопрос Иванчина,
следует ли продолжать пропаганду среди крестьян, он ответил: «По
моему, не следует... Вы работали при самых благоприятных условиях...
Я прихожу к выводу, что, при современных политических условиях,
всякая деятельность в пользу крестьян, не отвечающая видам
правящих сфер, будет преследоваться и кончаться тюрьмой и ссылкой...
Зачем же губить свои силы, когда им можно дать более ценное при-
95 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. IV. С. 420.
96 Там же. Т. III. С 692.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
43
менение? В тех же условиях, развращающих крестьян, немыслима и
организация их для достижения какой-либо серьезной цели... Людям
вашего типа, умеющим отказываться от земных благ, давно пора
подумать о политической борьбе... Ведь только она может повести к
созданию обстановки, благоприятной для всякой культурной работы
в деревне и для свободного проявления крестьянских идеалов... Без
"конституции" нельзя обойтись в России, и бояться ее, ввиду
возможного развития буржуазии, значит, не понимать политических
требований времени. Бросьте ваше паломничество в деревню и займитесь
организацией политической борьбы... Давайте вместе работать!»97
Воспоминания Иванчина-Писарева определенно свидетельствует
о настрое Михайловского на борьбу за политические свободы, за
конституцию, даже если это усилит позиции буржуазии. Т]эебование
конституции — это, по мнению мыслителя, понимание
«политических требований времени». «Исторического движения задержать
нельзя, — писал он. — Общественные дела должны быть переданы в
общественные руки. Если этого не будет достигнуто в формах
представительного правления с выборными от русской земли, в стране
должен возникнуть тайный комитет общественной безопасности.
И тогда горе безумцам, становящимся поперек путей истории!..
Решительные минуты создают решительных людей»98.
Симпатии Михайловского на стороне радикалов. Он оправдывает
их действия, предостерегая власть, что если она не пойдет на
введение конституции, то результатом может стать создание тайного
комитета общественной безопасности.
Подводя итог публицистике Михайловского в эти годы, не трудно
заметить, что в первой половине 1870-х гг. главным врагом
Михайловский считал «новых богов», буржуазный путь страны. Для
предотвращения капиталистического пути он готов был пойти на союз «со
старыми богами», с самодержавием, которое означало для него лишь
социально-индифферентную форму, организационный принцип.
Однако по мере осознания неизбежности капиталистической
эволюции России и нежелания властей пойти на дальнейшие реформы,
Михайловский сместил свои акценты, признав необходимость по-
; Иванчин-ПисаревА. И. Из воспоминаний о H. К. Михайловском // Заветы.
1914. № 1. С. 103-105.
98 Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. X. С. 68.
44
В. В. Бюхин
литической борьбы, острие которой он направил против
самодержавия. Во второй половине 1870-х гг. он выступает как буржуазный
радикал. Его требование «земли и воли» — буржуазное требование.
Михайловский сочувствует землевольцам, но лейтмотив его
выступлений — политические свободы. Неудача «хождения в народ»,
видимо, стала важным аргументом для Михайловского в утверждении
им приоритетности персоналистических ценностей над
коллективистскими. Отныне, в интеллигенции, а не в народе он видит силу,
способную реализовать его идеал.
Один из важнейших вопросов жизни и творчества
Михайловского — его взаимоотношения с партией «Народная воля». Так, он
принимал непосредственное участие в редактировании письма
Исполнительного Комитета партии Александру III". Историк В. Я. Богучар-
ский приводит интересные свидетельства некоего лица, отвечавшего
за поддержание связей Исполнительного комитета с «обществом
вообще» и литературными кругами, в частности. Неназванный
свидетель вспоминает: «Об участии Н. К. Михайловского в составлении
письма к Александру III могу сообщить следующее: не протестуя
против террора, как одного из средств политической борьбы, Николай
Константинович всегда требовал, чтобы революционеры давали
террористическим актам надлежащее объяснение, способное вызвать в
обществе, если не симпатию, то, во всяком случае, истинное
понимание его широких мотивов. В особенности он требовал этого по
отношению к посягательствам на жизнь Александра II»100. Не будучи
членом партии, Михайловский не мог диктовать ей свои условия. Но,
видимо, не имея возможности остановить террор, проводимый
партией, он стремился найти ему весомые оправдания и, тем самым,
спасти репутацию организации. Неизвестный народоволец пишет о
падении общественных симпатий к организации, о росте либеральных
настроений даже в кругах революционеров. «Естественно явилась
потребность в ярком освещении этого крупного события, и письмо к
Александру III было признано наиболее подходящей формой,
исключающей всякую мысль о революционерах, как о простых убийцах»101.
99 Богучарский В. Я. Событие 1 марта и Николай Константинович
Михайловский // Былое. 1906. № 3. С 38.
100 Там же. С. 38-39-
101 Там же. С. 39.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
45
По существу, участвуя в редактировании документов партии, в том
числе письма Александру III, Михайловский выступал в роли
популяризатора и защитника «Народной воли», ее методов
политической деятельности, усиливал воздействие революционеров на
общество, придавая им нравственную и историческую
легитимацию. В этом проявлялась несомненная близость мыслителя
народовольчеству.
Идеи Михайловского о необходимости борьбы за политические
свободы, учение о роли личности, способной менять вектор
исторического развития, теория прогресса — все это поднимало
Михайловского в глазах народовольцев на недосягаемую нравственную высоту
как одного из идейных вождей радикальной интеллигенции.
«Жандарм литературной республики»
Михайловский не был ни писателем, ни кабинетным мыслителем,
ни философом, в прямом смысле слова. Он являлся, прежде всего,
идеологом и свою задачу видел в том, чтобы вести за собой
интеллигенцию, утверждая свое мировоззрение в массах. Именно с этой
идейно-психологической стороны следует подходить к оценке его
творчества.
Убийство народовольцами 1 марта 1881 г. Александра II и
последовавшие за ним спад общественного движения, усиление
консервативных тенденций во власти отразились и на Михайловском: изо
дня в день он ждал ареста. Угнетающе действовало и осознание
негодности выбранных революционерами средств. Жизнь скрашивала
лишь опьяняющая любовь к очаровательной девушке — Екатерине
Павловне Легковой (Султановой), которой он поверял, самое
сокровенное. В одном из писем к ней он сообщал: «Ясная моя, мне ужасно
стыдно за тревогу, вам причиненную. Гора родила мышь; я еду в
Выборг, всего 4 часа от Петербурга. Если оттуда не выгонят (я не
спрашивался), то дело устроится прекрасно, — даже редакционная работа
почти не прекратится. А еще прекраснее то, что вы приедете, ведь да?
Тоска мне, Катерина Павловна, страшная, смертельная тоска, именно
смертельная. Смертью все около пахнет. И ведь это итог жизни, а не
случайность. И пожаловаться некому..»102.
Письма Е. Летковой // РГАЛИ. Ф. 280. Оп. 1. Л. 41.
46
В. В. Блохин
Особенно беспокоила его судьба «Отечественных записок», над
которыми все больше сгущались тучи. Хлопоты о пересмотре дела
привели к новому месту ссылки — в Любань. Впрочем трудиться
полноценно он мог и здесь, встречаясь с коллегами и друзьями,
переписываясь с ними, поскольку режим затворничества был для
Михайловского относительно мягким. В ноябре он получил временное
разрешение покинуть Любань и прибыть в Питер, поскольку серьезно
был болен Салтыков103.
Психологическое состояние Михайловского в начале 1880-х гг.
было весьма сложным. После закрытия «Отечественных записок»
(1884) перед публицистом встал вопрос о новом литературном
пристанище. В эти годы, в условиях общественного спада Михайловский
борется за сохранение в общественном сознании идеалов
шестидесятых годов и при этом не утрачивает влияния на интеллигенцию и
общество.
Новым местом литературной работы стал журнал «Северный
вестник», издававшийся А. Сабашниковой. Здесь работают его
единомышленники — С. Н. Кривенко, Е. П. Леткова и др. Первоначально
Михайловский, видимо, рассчитывал продолжить идейно-литературную
линию «Отечественных записок». Однако редактор журнала —
А. М. Евреинова, скорее всего, какой-либо идейно-художественной
стратегии развития журнала не имела. Работа Михайловского в
журнале была, главным образом, техническая, приходилось править
различные рукописи. Он находился в подавленном настроении — «руки
опускаются». Мнение Михайловского о деловых качествах Евреино-
вой были весьма и весьма нелестными. Спасти положение журнала,
находящегося на грани банкротства могли, по мнению публициста,
две вещи: «выход из-под цензуры» и «совершенное невмешательство
Евреиновой». «И то, и другое невозможно, значит, конец»104. Ситуация
еще более обострилась, когда редактором стала Л. Я. 1уревич. Дело
в том, что при новом редакторе особенное влияние приобрел
публицист А. Л. Волынский (Флексером), с которым Михайловский не мог
найти общего языка по целому ряду принципиальных вопросов.
103 М. Е. Салтыков-Щедрин — писатель, один из трех наряду с H. К.
Михайловским и Г. 3. Елисеевым редакторов «Отечественных записок». РГАЛИ.
Ф. 280. Оп. 1.Л. 116.
104 Там же. Л. 11.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
47
Сам Аким Волынский в своей «Книге гнева» так объясняет
природу этих разногласий: «Мне хотелось, как можно яснее показать, что
критика должна быть выведена на совершенно иную дорогу, должна
опираться на идеи философского, а не утилитарно-политического
характера...»105. «Наиболее ходкие передовые идеи журналистики
представляли по отношению к истинному русскому искусству —
к Пушкину, Гоголю, Достоевскому какую-то почти враждебную силу
и давали материал только для яркой публицистики <...>. При этом
приходилось полемизировать против авторитетных преданий
русского материализма — в лице Чернышевского, Писарева и других
столпов русской критики — и против господствующего в
журналистике позитивизма, ошибочно принимавшегося за логическое
основание для либеральных и даже радикальных стремлений»106.
Характеризуя методы публицистической деятельности Михайловского,
Волынский справедливо отмечал: «При неизменной радикальной
политической окраске, его публицистика представляется чем-то более
высоким, чем простая и обыкновенная публицистика других
писателей <...>. Кажется, что над рассматриваемыми "злобами дня"
открывается какое-то небо, простор смелых чувств. При этом в
публицистических статьях Михайловского более, чем в каких-либо других
его работах, особенно выступает полемическая сила этого автора,
направленная не столько на прямую схватку с врагом, на открытый
бой с ним, сколько на разрушение его репутации перед публикой —
какими бы то ни было средствами, не исключая клеветы и циничного
высмеивания с грязными намеками. Такими именно полемическими
орудиями Михайловский постоянно побивал людей, стоящих
гораздо выше его по серьезности ума и глубине литературного таланта, —
даже такого человека, как Толстой, не говоря уже о разных деятелях
современной молодой литературы, которая недвусмысленно
оценила его научный метод и его литературные приемы»107. По мнению
Волынского, «в качестве критика Михайловский является типичным
резонером <...>. Его расценка талантов производится по тому же
"субъективному методу", т. е. согласно с требованиями политической
105 Волынский А. Л. «Книга великого гнева». Критические статьи. Заметки.
Полемика. СПб, 1903- С 146.
106 Волынский А Л. Указ. соч. С. 146.
107 Там же. С. 139.
48
В. В. Блохин
передовитости "Отечественных записок". Так именно оценил он
мощную работу Толстого, которая, конечно, не может уложиться в
прокрустово ложе либеральной программы <...>. Все это разбирается
одинаково верхоглядно, с высот незабвенного радикализма
"Отечественных записок", с запальчивой полемикой на все фронты
современности, — хлестко, балагурно, с неизбежным задиранием всех
неприятных Михайловскому людей...»108.
В этой связи уместно упомянуть об одном любопытном разговоре
Михайловского с писательницей Э. К Пименовой, работавшей в
редакции «Русского богатства». Михайловский руководил этим
журналом с 1897 по 1904 г. В беседе он рассказал о своих приемах
критической деятельности. «Я рассмеялась, вспомнив, как он однажды сказал
мне, что рецензии должны быть написаны "веселыми ногами".
- Что это значит? — спросила я.
- Легко, остроумно, язвительно, — отвечал он.
- Но вы, в своих полемических статьях бываете порой слишком
язвительны и даже, пожалуй, выходите за пределы допускаемого вами
самими. Я добавила это довольно нерешительным тоном, я боялась
его рассердить, но он добродушно ответил:
- Я это сам сознаю... иногда»109.
Это «иногда», тем не менее, было системой в творческой
жизни Михайловского. Подчас, это било по людям, которые желали
сотрудничать с Михайловским или даже сотрудничали с ним, но,
в конечном счете, все возвращалось на «круги своя»: стена
непонимания и вражды вставала между ними. В этой связи хотелось бы
привести несколько красноречивых примеров. П. П. Перцов был
одним из тех, кто прошел «школу обаяния» Михайловским.
Талантливый литератор, он стал сотрудничать с «Русским богатством» и
скоро понял, что исходные принципы Михайловского в
литературной критике неплодотворны. «В моем радикальном правоверии уже
с самого начала стали появляться трещинки <...>. В спорах из-за
статьи о русской критике для меня уяснилось, что по одной дороге
с Михайловским я далеко не уйду. Главный — и в сущности даже
единственный тогда пункт расхождения (пока прикрывавший
собой все остальное) был вопрос об искусстве. Критерий элементар-
ВолынскийАЛ. Указ. соч. С 138.
Пименова Э. К. Дни минувшие: воспоминания. Л.-М., 1929. С. 173.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
49
ного утилитаризма запирал все пути к сколько-нибудь сложному
разговору в этой области»110.
Так, Михайловский на предложение Перцова опубликовать на
страницах журнала свои стихи «угостил» поэта отказом — «не
подходит». «Как меня разозлил этот отказ — тем более, что я вижу в нем
отражение все того же тупого непонимания искусства и все тех же
глупых аршинов, на которые меряют наши светила всякое литературное
произведение... Я уверен, что и наша неудача есть предвестник этого
столкновения и произошла именно вследствие того, что я имел
неосторожность несколько высказать Михайловскому сущность моих
взглядов на искусство. Да что я говорю — высказать: я спорил с ним
самым отчаянным образом и по совести скажу, что он не вышел из
этого спора победителем. Более того — он прямо уклонился от
предложенного мною дальнейшего разъяснения вопроса, т. е. попросту
говоря, поджал хвост <...>. В таких спорах Михайловский,
действительно, как-то терялся и заминал разговор. Я думаю теперь, что в эти
минуты он особенно остро ощущал дефектность своей литературно-
идейной позиции: "про себя" он, конечно, давно перерос
наивности и крайности направленческого утилитаризма (ведь ему было
не двадцать лет, как Писареву), но "позиция" обязывала "хранить
традиции"»111. Петр Перцов «расплатился» за отсутствие
идеологической правоверности — в «Русском богатстве» долго не могли забыть
его «измены»112.
Для Михайловского в его деятельности как критика решающую
роль играли не собственно эстетические вопросы искусства и
литературы, а следование целям политической практики. Искусство
подчинялось задачам жизни и таким образом проявлялся «субъективный
метод» в критике. Михайловский видел свою литературную задачу
в защите «направления», его идейной чистоты. Он в большей степени
был идеологом, нежели критиком. Отсюда вытекала его априорная
идеологическая предвзятость, его нетерпимость к представителям
иных программ и лагерей. Эта позиция составила ему небывалую
популярность, однако она нисколько не помогала понять глубинные
пласты явлений литературы.
110 Перцов П. П. Литературные воспоминания 1890-1902 гг. М., 1902. С. 89.
111 Там же. С 91.
112 Там же. С 93.
50
В. В. Блохин
Волынский был, пожалуй, прав и в другом вопросе: он объяснил
феномен Михайловского общими историческими условиями
развития отечественной журналистики. «Ни в одной стране
журналистика не играет такой роли, не имеет такого значения для умственной
жизни общества как в России. Юридический строй, не
допускающий здесь классификации общественных сил по идейным
партиям с теми или другими жизненными программами, сделал
журналистику единственным поприщем, на котором встречаются самые
различные человеческие интересы. То, что, по своему характеру,
должно было бы стать предметом практической борьбы, является в
России только предметом для теоретического обсуждения в
журналах и газетах <...>. Говоря о русской журналистике, нужно помнить
о том, что ее писательские силы постоянно совершают двойную
работу, постоянно преследуют цели, не имеющие
непосредственного отношения к самой литературе, а потому не могут развиваться
с надлежащей естественностью и простотой»113. «Направленство»,
следование одной идеологии, замешанной на оппозиционности, не
оставляли места для свободного критического творчества и вместе
с тем не отвечали задачам художественного восприятия мира и
задачам искусства.
А. Г. Горнфельда, другого яркого сотрудника «Русского
богатства», поражала в Михайловском простота разговора с читателем.
«...Сам он умел быть простым, несмотря на сложность своей мысли:
одно из многих видимых противоречий его умственного склада
<...>. Он не исходил из догмата, — он приходил к нему; приходил
не закоулками, а по большой открытой дороге; оставалось
непобедимое впечатление, что к иному выводу эта ясная, простая
логика привести не может. Сложность диалектики, тонкие различения
не то, что теоретически отталкивали его, — они были ему просто
не нужны, как не нужна ловкость сильному человеку, который в
борьбе сразу наваливается на противника и бросает его
громадной массой своего натиска. Его доводы поражают той глубокой
простотой, которая дается так трудно и которая есть всегда
свидетельство всего крупного и сильного. Оттого он был так
общедоступен в своих произведениях. Тайна общедоступности в том,
чтобы в изложении своем основать сложные выводы долгого на-
Перцов П. П. Указ. соч. С. 183.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
51
учного движения на элементарных данных, известных всякому, на
его здравом уме»114.
Очевидно, что в этой простоте Михайловский заявлял о себе как
идеолог. Для идеологии нужна простота, иначе она не будет «работать»,
не сможет повести за собой. Ему важно было не вникнуть в суть
проблемы, а мобилизовать своих сторонников к какому-либо действию.
По сути, Михайловский первым увидел вокруг себя не отдельных
читателей, а народ, массы, объект идеологического воздействия. Сама
литература была для него деятельностью в «идеологическом
пространстве». В некотором смысле Михайловский как «властитель дум»
был весьма своевременным мыслителем и публицистом —
индустриальная Россия уже создавала могучий аппарат прессы, который
эффективно влиял на поведение человека, воспитывая в нем
действенного участника политического процесса.
Михайловский предстает перед нами в качестве не просто
публициста, но вождя, обладающего несомненной харизматичностью.
Важнейшей чертой его психологического облика является
индивидуализм, проявляющийся даже в стиле жизни, в отношении с
ближайшими друзьями. В. Г. Короленко отмечал: «Помню, что и на меня
в первую минуту глаза Михайловского произвели тоже особенное
впечатление. На вопрос Суворина: "Много в них или ничего?" — я бы
ответил без колебаний: в них очень много. В них отражается вся
глубина мысли, которая так заманчива в его сочинениях, и угадывается
еще что-то — теплее и привлекательнее одной мысли. Но это
последнее как будто занавешено. Этот человек не легко допустит
постороннего в своя "святая святых", даже только в его предцверие»115.
«В Михайловском, — пишет г. Протопопов, не было вовсе той рассей-
ской распущенности, которая выражается в пустяках, как неряшливая
небрежность костюма и амикошонская фамильярность манер, и в
серьезных делах, — как отсутствие регулярности в труде, умеренности
в привычках и т. д. Он в высокой степени богат был самообладанием,
и я, за все наше более чем четвертьвековое знакомство, не могу
представить ни одного случая, когда бы это самообладание вполне его
оставило»116.
1,4 Горнфельд А. Г. Книги и люди. СПб, 1908. С 225.
115 Короленко В. Г. Воспоминания о писателях. М, 1934. С. 73.
116 Короленко В. Г. Указ. соч. С. 77.
52
Я Я Б/юхин
«Самообладание», «регулярность», «дисциплина жизненной
деятельности», «цельность характера» — все это черты человека, который
стремится овладеть обстоятельствами, управлять ими, воздействуя на
витальное пространстю. Названные черты характерны для религиозных
личностей. Стремление снискать благодать побуждает их
перестраивать жизнь, подчиняя ее значимым для себя ценностям и
целенаправленно бороться с тем злом, которое им противостоит. Таким злом была
для Михайловского самодержавная власть, опиравшаяся на «отсталую»
и «невежественную», задавленную традициями массу. В какой-то мере
Михайловский олицетворял собой бескомпромиссного
оппозиционера, готового на тяготы и лишения во имя близких сердцу идеалов.
По существу, он осознавал себя врагом системы, которая
воспринималась им как главное жизненное препятствие, как зло. В нем зримо
ощущалось какое-то скрытое недоверие к массам, снисходительное,
великодушное и менторское отношение к своим адептам. Он никогда
не потакал массам, не подчинял себя общему движению, не
смешивался с ним. Сохранялась какая-то внутренняя дистанция между ним и его
последователями. Как тут не вспомнить замечание Н. А. Бердяева о
западническом характере народничества Михайловского117.
Духовно ведя за собой интеллигенцию, указывая своей
«формулой прогресса» путь к реконструкции России, Михайловский был
несомненным вождем интеллигентных сил общества. Его влияние
объяснялось необъяснимой притягательностью его личности,
характерной силой духовных импульсов, которые она привносила в
окружающую интеллектуальную атмосферу. Живя идеей, он, между тем,
не отдавался ей в фанатичное и слепое рабство. Свобода творческой
жизни оставалась для него высшей ценностью, о чем говорит
интенсивная литературная деятельность.
Михайловский был, несомненно, вождем «моисеева типа»118. Для
таких вождей характерно служение главной цели, подчинение ей, в
отличие от «вождей тотемических», для которых превыше всего
обожествление их персоны119. Как правило, вожди «моисеева типа» оста-
1 Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной
философии. С. 15.
118 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.,
1996. С. 405.
119 Там же. С. 406.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
53
ются при этом лично скромными людьми, противятся какому-либо
обожествлению со стороны последователей.
Власть вождя «моисеева типа» над толпой своих почитателей
основывается на нравственном воздействии. Их «этика помогла
выковать и сохранить хорошо закаленный человеческий характер,
который смог победно выстоять в бурях Истории»120. В основе
личности вождя «моисеева типа» лежит человек разделенный, homo duplex,
обладающий очень отчетливым сверх-«Я» и «Я», очень любящим себя.
Его основной интерес направлен на разговор с самим собой, а его
умственная жизнь доставляет ему удовлетворение. Кроме того,
духовная автономность служит ему доказательством своей независимости,
которая не позволяет смутить себя121. «Отсюда смысл миссии,
которая его характеризует и определяет как человека действия»122.
Вождь «моисеева типа» — представитель меньшинства,
«угнетенного сообщества, готового объединиться вокруг одной доктрины,
новой идеи». Активное меньшинство увлекает массы, реализуя идею,
творя Историю12*.
Михайловский всегда был человеком идеи, жил, главным образом,
литературой, а не революционно-политической практикой,
обращаясь к ней лишь в определенные, возможно, самые решительные
моменты, когда появлялась надежда на успех.
Всякому человеку идеи присуще глубокое убеждение,
целеустремленность. Пименова приводит яркий штрих к портрету
Михайловского. Однажды между ними состоялся весьма любопытный диалог.
«...Но почему вы не допускаете ошибочности своей оценки, вы ведь
всегда считаете, что правы вы, а не ваш противник. — Если я глубоко
верю в свою правоту, то да, как же иначе? В моих статьях тем
более. Я не мог бы писать, если б я не был уверен в истине того, что
я говорю»124.
Но, будучи человеком идеи, идеала свободной и целостной
индивидуальности, Михайловский не был свободен от деспотизма
идеологии, который сказывался на его облике и мышлении. Борьба
Московичи С. Указ. соч. С. 376.
Там же. С. 380.
Там же.
Там же. С. 395.
Там же. С. 174.
54
В. В. Блохин
за идеал требовала идейной чистоты, своеобразной правоверности
мышления, что порождало некий духовный догматизм, вытекающий
из тотального следования одному принципу, одному мировоззрению.
Такая свобода грешила одномерностью понимания, так как была
свободой лишь для одного лагеря и для одной точки зрения. Отсюда
исходил характерный для Михайловского авторитаризм.
Воспоминания современников рисуют нам его как человека идеологически
предвзятого, нетерпимого к инакомыслию, совершенно не
соответствующего тем идеалам свободной индивидуальности, ценностям
которой он последовательно служил. «В литературном деле
необходимо самодержавие. Нельзя допускать разноголосицу», — однажды
прямо заявил Пименовой Михайловский125.
Показательна обстановка идейной нетерпимости для самой
редакции «Русского богатства». Дух неприятия инакомыслия особенно
стал культивироваться Михайловским в условиях распространения в
1890-е гг. марксизма. Ересь инакомыслия не прощалась даже близким
к Михайловскому публицистам. Авторитаризм мыслителя отмечал и
бывший сотрудник «Русского богатства» Л. Е. Оболенский126. Строки
писем Оболенского потрясают своей прямотой и честностью: «...Вы
имели за собой толпу, и всякое слово против Вас и Ваших друзей
казалось нарушением самого либерального кодекса, преступлением
против самой истины и прогресса <...>. Вы буквально давили нас,
давили "мнение", а не разбирали их, и не опровергали. Вы действовали
авторитетом, силой своей популярности, а не доводами. Чем же это
отличается от обыкновенной цензуры?»127.
Поразительная противоречивость облика! С одной стороны,
Михайловский был последовательным, неутомимым борцом за
свободу. На жертвенный алтарь служения идеалу свободной личности он
принес всю свою жизнь. С другой стороны, он.шел с беспощадной
целеустремленностью, религиозной преданностью, безжалостно
раскидывая в сторону всех несогласно мыслящих. Свобода как идеал,
как высшее чаяние духа сталкивалась с партийным мышлением, ути-
125 Пименова Э. К. Указ. соч. С. 142.
126 Мокший Г. Н. К вопросу о «культе» Н. К. Михайловского в новейшей
историографии русского легального народничества // Россия. История, наука,
культура. М., 2003. С. 36-41.
127 См.: Там же. С. 39.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
55
литарным направленством, идеологаческой нетерпимостью. Может
быть, поэтому так противоречиво наследие Михайловского.
В 1880-1900-е гг. в деятельности Михайловского все явственнее
проявлялись нотки демократизма, все приглушеннее становился его
социализм. И прежде всего потому, что на повестке дня российского
общества стояли вопросы не столько реализации
социалистического идеала, сколько демократизации жизни. Проблема борьбы за
политические свободы стала основой для объединения самых разных
слоев общества, от народников до либералов. Да и сам либерализм
был уже иным, он все более пропитывался социалистическими
идеями, признавая «правду социализма». Так осуществлялся своеобразный
идейно-политический народнически-либеральный синтез, имевший,
впрочем, идейную почву. Михайловский, как и большинство
либералов, отстаивал идею суверенности личности в общественной жизни,
был противником скороспелых революционных действий.
Михайловский, несомненно, был народником, но народничество
его имело очень сильную индивидуалистическую компоненту. Он не
обожествлял народ, не идеализировал его. Не случайно, в 1890-е гг. он
даже предлагал отказаться от самого термина «народничество».
Скорее будет верным утверждение, что он олицетворял западническую
ветвь народничества, в какой-то мере смыкавшуюся с
отечественными либералами 1890-1900-х гг. Правомерным будет назвать такое
народничество и либеральным.
1900 год был отмечен 40-летнем юбилем литературной и
общественной деятельности Михайловского. Чествование известного
литератора объединило, казалось бы, самые разные силы. Здесь были и
либералы, и народники, и марксисты. Варвара Шльченко так
описывает это, поистине, всероссийское событие. «К 15 ноября (дню
рождения Николая Константиновича) был выпущен в свет литературный
сборник "На славном посту", в котором сотрудники "Русского
богатства" и другие единомышленники и почитатели Николая
Константиновича выразили ему свое уважение и любовь <...>. Утром в толпе
студентов и курсисток едва пробившись в переполненный публикой
зал союза писателей, прослушали мы с сестрой чтение бесчисленных
адресов и всякого рода приветствий, приносимых депутациями,
дефилировавшими перед эстрадой, на которой сидел за столом, среди
товарищей — писателей, бледный, но наружно спокойный юбиляр
<...>. Знаменская площадь оказалась оцепленной конными полицей-
56
В. В. Блохин
скими, у подъезда "Северной" гостиницы дежурил также усиленный
наряд полиции <...>. Подъезжая и подходя к подъезду, пришлось
пройти словно "сквозь строй" недружелюбных, подозрительных
взглядов <...>. Но обо всем забывалось при входе в ярко освещенный,
переполненный публикой, зал <...>.
«Все были пьяны от восторга, —
И ни единый от вина!»
— восклицал со слезами на глазах, на самых высоких нотах своего
звонкого голоса Сергей Николаевич Южаков, резюмируя словами
поэта Минского всеобщее воодушевление <...>. Николай
Константинович отвечал в сдержанных выражениях, с удивительной
скромностью. Сердечно благодарил за овации, относя их не к себе лично, а к
тому делу, которому посвятил свою жизнь, и которому служило
раньше его и вместе с ним столько других борцов»128.
Юбилей, безусловно, стал символическим итогом деятельности
Михайловского. Писатель, волей-неволей, становился
общенациональным надпартийным лидером оппозиционной России. Из разных
уголков страны и из-за рубежа к нему приходили приветственные адреса
и поздравительные телеграммы. В обращении Русского студенческого
общества в Париже говорилось о демократизме идейного учителя. «В
ваших произведениях мы нашли первые уроки гражданственности,
первую почву для выработки мировоззрения». В заключительной части
обращения студенты провозгласили: «Пожелаем еще, чтобы день
Вашего юбилея был началом объединения на почве практического
служения народу всех элементов русской передовой интеллигенции»129.
Та же тональность характерна для письма политически-ссыльных
из г. Уржума. Подчеркивая служение Михайловского «идеалам
социализма», авторы адреса подчеркивали, что его литературная
деятельность «побувдала умы и сердца лучшей части молодежи бороться за
свободу угнетаемого русского общества против его исконного врага
абсолютического [так в оригинале — Ä Б] режима»130.
128 Николенко-Гильченко В. И. Воспоминания о Михайловском // Заветы.
1913. № 1. С 46.
129 Русское студенческое общество в Париже // ИРЛИ. Ф. 181. Оп. 3. Ед. хр.
211. Л. 17.
130 Обращение полит-ссыльных из г. Уржума // Там же. Ед. хр. 204. Л. 26.
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
57
Михайловский умрет от сердечного приступа в первый день
русско-японской войны. Его будет хоронить весь Петербург, вся
радикальная Россия. В тот же день состоится другая демонстрация
с патриотическими лозунгами под пение гимна «Боже, царя храни».
Начиналась новая эра, эра великих потрясений, эпоха русской
революции. Одним из ее талантливых творцов следует признать
Михайловского. Но одновременно он был и среди тех, кто мог прозреть и
колоссальную деструктивную силу революционных энергий, кто мог
бросить разбуженной толпе: «Боже истинный и справедливый, они
не ведают, что творят».
Предлагаемые читателю сочинения Н. К. Михайловского
относятся к наиболее плодотворному периоду времени, когда
сформировалось его мировоззрение, к 1860-1870-м гг. В сборник вошли статьи,
опубликованные в «Отечественных записках» за период с 1869 по
1876 г., отражающие его научные философско-социологические и
общественно-политические взгляды.
В.В.Блоэсин,
доктор исторических наук, профессор
H. К. МИХАЙЛОВСКИЙ
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ЧТО ТАКОЕ ПРОГРЕСС?
I
Одна из статей Спенсера1, напечатанных в первом томе русского
издания, «Польза и красота», начинается таким замечанием
Эмерсона2: «То, что природа в одно время производит для пользы, она
обращает впоследствии в предмет украшения». В доказательство этого
положения Эмерсон приводит устройство морской раковины, у
которой «части, служащие одно время вместо рта, в дальнейшем
периоде ее развития остаются позади и принимают форму красивых
бугорков». Пользуюсь случаем, чтобы указать на заключающийся в
положении и примере Эмерсона объективно-антропоцентрический пошиб:
природа нечто полезное для животного, особенность, обеспечившую
ему счастливый исход из борьбы за существование, эту особенность
природа обращает впоследствии в нечто приятное для человека,
красивое с человеческой точки зрения; ибо трудно предположить, что
Эмерсон говорил от лица «морской раковины», любующейся на свои
«красивые бугорки и рубчики». Таким образом любезность и
предупредительность природы к человеку доходит до того, что она
коверкает единственно pour sea beaux yeux животное, имеющее, разумеется,
свои собственные, хотя и неуловимые для нас интересы. Спенсер не
замечает этой странной теологии или пропускает ее мимо ушей,
может быть, потому, что у Эмерсона, с которым мы не знакомы, она
составляет не более как случайную черновую мысль, которой он сам не
придает особенного значения. Но Спенсер находит, что это
замечание Эмерсона имеет право на гораздо более широкое приложение и
может быть распространено и на развитие человечества. Он
утверждает, что и в области явлений общественной жизни происходит та
же смена полезного и прекрасного; что предмет пользы для одного
исторического периода оказывается предметом украшения для
последующих. В маленькой статейке, развивающей эту мысль, Спенсер
развертывает в миниатюре все свойства своего социологического
мышления и изложения, с которыми мы еще встретимся ниже в
большом виде. Поставив положение, Спенсер начинает сыпать самыми
разнообразными примерами, подтверждающими положение, и
затем ищет рационального основания для своего эмпирического вы-
62
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вода. Надо, впрочем, заметить, что примеры, приводимые им в статье
«Польза и красота», выбраны гораздо менее удачно и расположены
гораздо менее искусно, чем это им делается обыкновенно. Желание
втиснуть факты в заранее поставленную рамку уже слишком
очевидно, в чем автору значительно помогает неопределенность его
терминологии: резко разграничивая прекрасное и полезное, он не
проводит, однако, между ними определенной демаркационной линии,
и читатель не знает, что, собственно, Спенсер разумеет под общим
именем прекрасного и что — под именем полезного. Это было бы,
разумеется, не беда, если бы дело шло о вещах общепризнанных, не
подлежащих спору. Но категории прекрасного и полезного слишком
часто произвольно суживались и расширялись, и точные взаимные
отношения их установились в сознании очень немногих. Спенсер,
к сожалению, не принадлежит к числу этих немногих, по крайней
мере, в статье, о которой идет речь. Как образец я приведу только один
из его примеров, или, лучше сказать, одну группу примеров. «Глыбы
камня, — говорит он, — которые, как храм, в руках жрецов имели
некогда правительственное значение, стали в настоящее время служить
предметом антикварских поисков, а сами жрецы сделались героями
опер. Изваяния греков, которые за красоту свою сохраняются в
наших художественных музеях и снимки с которых служат украшением
общественных мест и входов в наши залы, некогда считались за
божества, требовавшие повиновения; подобную же роль играли некогда
и те чудовищные идолы, которые теперь забавляют посетителей
наших музеев». Вот один из камней, положенных Спенсером в
основание его обобщения: предмет пользы для предков делается
предметом украшения для потомков. Нетрудно видеть, что камень этот
находится в положении неустойчивого равновесия и легко может
способствовать провалу всего здания. Вас поражает необыкновенная
поверхностность выражений и неизбежно возникает ряд вопросов:
1) Почему Спенсер полагает, что храмы древних имели
исключительно практическое значение? и не были ли они в то же время, как
и в наше, украшением далекой местности, и не украшались ли они и
сами, сообразно эстетическим взглядам древних, во славу божества и
в поучение молящихся? 2) Почему «антикварские поиски» отнесены
к категории красоты, и не предпринимаются ли они большей частью
с полезной целью изучения жизни наших предков? 3) Не входила ли
идея красоты, как один из существенных элементов, в древние, как и
Что такое прогресс?
63
в новые религии, а следовательно, и в формы богослужений,
совершаемых жрецами? и не играет ли некоторой роли элемент пользы
в том обстоятельстве, что жрецы являются героями опер? 4) Все ли
греческие статуи создавались на религиозные темы, и не ценили ли
греки в своих статуях, даже изображавших божества, не только их
религиозное значение, а и эстетическое? и не уясняем ли мы себе
иногда по произведениям греческого искусства греческую жизнь и
миросозерцание? 5) Равным образом, не изучаем ли мы индусов и
египтян по тем чудовищным идолам, которые стоят в наших музеях?
и не потому ли Спенсер употребил относительно их выражение
«забавляют», что с областью прекрасного, с нашей современной точки
зрения, они не имеют никакой связи, хотя для своего времени и места
необходимо представляли некоторый художественно-религиозный
идеал? Ясно, что пример Спенсера может быть перевернут вверх
дном и послужит весьма полновесным подтверждением обратного
положения, именно, что прекрасное для одной эпохи делается
полезным для последующих. И эта последняя формула, прямо
противоположная формуле Спенсера, якобы подтверждаемой приведенным
примером, будучи поставлена в надлежащие границы, представляет
не гипотезу, но, несомненно, достоверную истину. Мы не можем
так полно наслаждаться греческим искусством, как наслаждались им
сами греки, у нас есть еще искусство, которое нам дороже и понятнее.
Но если наше эстетическое понимание греческого искусства
необходимо слабее такового же понимания греков, то для нас существует
историческое, научное значение греческого искусства, какого для
греков не существовало. Во всяком случае, пример Спенсера не
только не подтверждает это положение, но показывает, что порядок, в
котором чередуются в истории полезное и прекрасное, подлежит
закону, по крайней мере, гораздо более сложному, нежели тот, который
предлагает английский мыслитель. Найдутся скептики, которые будут
отрицать даже возможность формулирования такого закона, потому
что полезное и прекрасное имеют тысячу точек соприкосновения и
резкое противопоставление их друг другу возможно только при
поверхностном взгляде. Говорить о вещах, составляющих
«исключительно предмет пользы» или исключительную область прекрасного,
как говорит это Спенсер, — дело слишком рискованное.
Как бы то ни было, но в ряде примеров, вроде выше приведенных,
Спенсер находит индуктивное доказательство своей формулы. Затем
64
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
он обращается к дедуктивному подтверждению и находит его в
следующем: «существенное, предварительное условие всякой красоты
есть контраст. Для того чтобы получить художественный эффект, свет
должен быть располагаем рядом с тенью, яркие цвета с мрачными»
и т. д. Спенсер опять приводит ряд примеров из различных сфер
искусства. Этот общий принцип контраста как условия красоты
объясняет, по мнению Спенсера, и то, почему полезное прошлого
превращается в настоящее прекрасное. Мы видели, что положение о таком
превращении, по крайней мере, односторонне, и потому, стремясь
доказать его, Спенсер, очевидно, должен был еще более запутаться.
Мы не намерены трактовать об искусстве, о взаимном отношении
полезного и прекрасного; мы следим только за логической нитью
аргументации Спенсера и потому, помимо наших личных взглядов,
примем закон контраста как основной закон прекрасного и
искусства. Становясь таким образом на его собственную точку зрения, мы,
надеемся, оказываемся достаточно беспристрастными. Куда же он
нас поведет? Он утверждает, что задача искусства состоит
исключительно в воспроизведении жизни прошлого. «По ширине своего
контраста с нашим настоящим образом жизни образ жизни прошедшего
кажется нам интересным и романическим», а «вещи и происшествия,
влекущие за собой сцепление идей, которые не представляют
значительного контраста с нашими ежедневными представлениями,
являются относительно невыгодным сюжетом для искусства». Спенсер
доказывает далее, исходя все из того же принципа, что живопись не
должна передавать «жизнь, дела и стремления своего времени», а
обязана обратиться в историческую. «То, что имеет какое-нибудь
практическое назначение в настоящее время, — говорит он, — или имело
такое значение в очень недавнее время, не может получить характера
украшения и, следовательно, не будет приложимо к целям искусства».
Мы уже не говорим о том странном взгляде, который обнаруживает
Спенсер, говоря об «украшении» как о назначении искусства. Но
положим, что это может показаться иному делом спорным; далее
Спенсер грешит уже прямо против логики. Он выказывает самую странную
поверхность, утверждая, что искусство должно искать контрастов в
прошедшем: как будто их мало в настоящем; как будто на чердаке
того самого дома, где живет Спенсер, ученый и спокойный Спенсер,
не гнездится невежество, нищета и назойливая дума о куске хлеба
в pendant думе философа о судьбах человечества; как будто у всех
Что такое прогресс?
65
сердце бьется так же ровно, как у ученого и невозмутимого
Спенсера; как будто нет в настоящем умных людей и дураков, негодяев и
честных людей, людей цивилизованных и коснеющих в грубости, нет
стона и улыбки, брачного ложа и гробовых мастеров, света и тени,
поцелуя и оплеухи, звона цепей и колокольного звона, полиции и
мазуриков? С чего же искусству гоняться за контрастами во времени,
когда под руками у него неисчерпаемый рудник контрастов в
пространстве? По крайней мере, где основания в самом спенсеровском
законе контраста для воспрещения искусству передавать «жизнь, дела
и стремления своего времени»?
Читатель видит, что вся аргументация Спенсера не
выдерживает ни малейшей критики и что здесь не может быть даже и речи об
оценке его теоретических начал, потому что их логические
подпорки подкашиваются сами собой. И если бы в вышедших до сих пор по-
русски десяти выпусках собрания его сочинений, кроме подобных
доказательств и положений, не было ничего, то я, разумеется, не счел
бы нужным говорить о нем. Но я собираюсь говорить, и говорить
много.
Спенсер — имя, не пользующееся особенно громкой
известностью, но весьма почтенное. Сочинения его не переведены ни на один
язык, кроме русского; не пользуется он, кажется, большой
популярностью и на своей родине. Но вот мнения о нем людей, достаточно
компетентных:
«Г-н Герберт Спенсер (в статье, сперва напечатанной в Leade марта
1852 года и перепечатанной в его Essays 1858) с большой силой и
ловкостью провел параллель между теорией развития органических
форм и теорией отдельных творений. Он выводит из аналогии с
домашними организмами, из изменений, которым подвергаются
зародыши многих видов, из трудности отличить разновидности от видов,
из общего начала постепенности, что виды изменились, и он
приписывает изменение измененным жизненным условиям. Тот же автор
(1855) разработал психологию на основании необходимой
постепенности в приобретении каждой умственной силы и способности»
(Ч. Дарвин5.0 происхождении видов).
«Нет надобности говорить о людях, еще в наше время
придерживающихся старых мнений. Но если один из самых мощных и
отважных деятелей, каких только производила до сих пор английская
мысль, человек, исполненный научного духа — мистер Герберт Спен-
66
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
сер, и тот во главе своей философии выставляет учение, что высший
критерий истинности известного положения заключается в
непостижимости его отрицания»... и т. д. (Дж-Ст. Миллъ4. Опост Конт5 и
позитивизм6).
Выписав эти отзывы, мы начинаем трусить. До сих пор читатель,
следуя за нами, видел, что Спенсер ошибается, ошибается грубо,
непростительно; но блеск мнений Дарвина и Милля может ослепить
его, и на нас обрушится старый укор в неуважении к авторитетам.
Но из дальнейшего читатель, надеемся, убедится, что мы воздаем
Кесарево Кесари и Божие Богови. Прибавим еще, что русский
издатель сочинений Спенсера, г-н Тиблен7, считает его «величайшим из
современных мыслителей» и отводит ему такое же место в
рациональной философии, «какое заняли Дарвин в философии
естествознания и Бокль8 в философии истории». И сомнения не может быть
в том, что это не издательская реклама. Оставляя в стороне вопрос
о том, насколько мнение русского издателя преувеличено и
насколько отзыв Милля объясняется установившимися в английской
печати обычаями этикета*, мы должны, во всяком случае сказать, что
Спенсер — ум очень крупного калибра; один из тех
всеобъемлющих синтетических умов, которые от времени до времени вносят
дух единства и жизни в разрозненные факты, добытые
несколькими поколениями менее даровитых и даже совершенно бездарных
тружеников науки. О широком захвате спенсеровской мысли можно
судить уже по одним оглавлениям двух первых томов русского
издания. Первый том заключает в себе статьи: «Прогресс, его закон и
причина»; «Философия слога»; «Трансцендентальная физиология»;
«Происхождение и деятельность музыки»; «Польза и красота»;
«Гипотеза развития»; «Источники архитектурных типов»; «Теория слез и
смеха»; «Грациозность»; «Значение очевидности»; «Личная красота»;
«Польза антропоморфизма»; «Нравственность и политика
железных дорог»; «Генезис науки»; «Обычаи и приличия»; «Социальный
организм». Второй том: «Физиология смеха»; «Возбуждение и воля»;
Надо, впрочем, заметить, что слова Милля заимствованы нами из той
части книги «Огюст Конт и положительная философия» (СПб., 1867),
которая редактировалась издателем сочинений Спенсера. Субъективный элемент
сказывается и в переводе, переводчик своей личности стереть не может, а
потому глубокое уважение к Спенсеру могло подсказать г-ну Тиблену немного
слишком сильные эпитеты для передачи на русский язык слов Милля.
Что такое прогресс?
67
«Торговая нравственность»; «Деньги и банки»; «Этика тюрем» и т. д.
(Второй том русского издания еще не приведен к концу). Эти
большей частью мелкие статьи, вроде наших журнальных, или «научные,
политические и философские опыты» представляют более или
менее законченные отрывки больших работ. Из остальных вышедших
до сих пор по-русски томов один (Основные начала) посвящен
разработке, в позитивном смысле, некоторых собственно так
называемых метафизических вопросов и изложению закона развития;
другой излагает «Основания биологии»; третий занят «Нравственным,
умственным и физическим воспитанием» (сюда же вошли статьи
«Гипотеза туманных масс» и «Нелогическая геология»). В отдельной
брошюре излагается план «Классификации наук» и «Причины
разногласия с Контом». Кроме того, наконец, мы ждем «Социальную
статику» и «Основания психологии». Последнее сочинение есть,
кажется, лучший труд Спенсера.
Из этого длинного списка видно, что едва ли найдется какая-
нибудь область знания, которую бы Спенсер обежал и не затронул
хоть мимоходом. Вопросы о границах религий и науки, о конечных
научных и религиозных идеях, вопросы физиологические,
педагогические, психологические, экономические, политические,
геологические так или иначе вызывают его ответы, хотя, само собою
разумеется, ответы эти далеко не всегда одинаково удачны. Но везде и во всем
они имеют синтетический, обобщающий характер. Мы не имеем ни
времени, ни места и не чувствуем себя достаточно сильными для
того, чтобы представить читателю оценку всех или даже только
главнейших выводов Спенсера. Мы можем только рекомендовать чтение
Спенсера, как особенно пригодное и полезное для нашей публики,
весьма мало знакомой с современной западной философской
мыслью. Спенсер — позитивист, хотя и не принадлежит к школе Конта и
весьма тщательно и ревниво заявляет о своей самостоятельности, до
такой степени тщательно и ревниво, что это производит даже
неприятное впечатление. Основные начала положительной философии —
исключительно опытное происхождение всех наших знаний, их
относительность, невозможность проникнуть в сокровенные сущности
вещей, строжайшая законосообразность явлений природы — эти
положения еще слишком мало переварены даже мыслящей частью
нашего общества. И если бы мы могли и хотели представить
читателю все плодотворное для него значение чтения сочинений Спенсера,
68
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
мы, как выражаются на ученых диспутах официальные оппоненты,
сказали бы гораздо больше, чем собираемся сказать теперь. Уяснение
основных начал положительной философии есть, быть может, в
настоящую минуту одно из настоятельнейших дел для русского
читающего люда. Но мы предоставляем ему знакомиться с этими началами
из первых рук, так как теперь есть для этого кое-какая возможность
благодаря предприятию г-на Тиблена. Начиная с широких и смелых
обобщений в «Основных началах», которые не мешают автору твердо
помнить границу между областями «Познаваемого» и
«Непознаваемого», до крошечной, но прелестной, как картинка, статейки
«Грациозность» (т. I, Опыты), читатель почти в каждой статье Спенсера найдет
что-нибудь новое и оригинальное, что-нибудь такое, над чем стоит
призадуматься. Словом, мы советуем всем и каждому читать и читать
Спенсера, не пугаясь его сжатого и своеобразного языка, к которому
привыкнуть нетрудно.
А теперь обратимся опять пока все к той же «Пользе и красоте».
Если бы какой-либо всероссийский публицист торжественно
провозгласил, что дважды два стеариновая свечка, и в доказательство
привел бы таблицу умножения, в которой весьма явственно
изображено, что дважды два отнюдь не стеариновая свечка, а четыре; если
бы он далее заявил, что чай есть напиток приятный и полезный, а
потому его следует пить только по утрам, или что политическая свобода
есть благо, а потому только высшие классы должны ею пользоваться;
если бы всероссийский публицист написал или произнес что-нибудь
в этом роде, — то такие странные умозаключения допустили бы три
различных объяснения. Во-первых, публицист мог сболтнуть ряд
фраз, не замечая, что они не клеятся между собой; во-вторых,
публицист мог нагло и злонамеренно свернуть с логической дороги
по направлению к какому-либо из весомых или невесомых земных
благ; в-третьих, публицист мог быть непроходимо туп. Ни одно из
этих объяснений не может быть приложено к ошибкам Спенсера: ни
в неряшливости, ни в тенденциозной наглости и ни в тупости его
заподозрить нельзя. Он мыслитель несомненно сильный,
осторожный и беспристрастный. А между тем приведенные промахи столь
же несомненно грубы до последней степени, так что их заметил бы
самый дюжинный ум. Может быть, не всякий жалкий писака, взгляды
которого определяются одними случайностями и не имеют какого
бы то ни было общего источника и устья, решился бы подписаться
Что такое прогресс?
69
под такой статьей, как «Польза и красота». Потому что это не защита
ложного принципа, не случайная ошибка в вычислении, не
злонамеренное извращение, не небрежное отношение к предмету
исследования — это просто чисто логические ошибки, непростительно
плохое наведение и непростительно плохой силлогизм. «Один из самых
мощных деятелей, каких до сих пор производила английская мысль,
человек, исполненный научного духа», в доказательство своего
положения приводит примеры, опровергающие его; затем ставит другое
положение и из него делает логически невозможный вывод. Над
таким фактом стоит призадуматься и поискать причины, которые
отвели мыслителю его обыкновенно зоркие глаза. Помимо простого, так
сказать, психологического интереса подобного исследования, надо
еще иметь в виду поучительность и даже плодотворность грубых
ошибок сильного ума. Нам приходит на память афоризм, кажется,
Бэкона: если прыткий человек хоть немного уклонится от настоящей
дороги, то в дальнейшем следовании отойдет от цели своего пути
гораздо дальше и заблудится гораздо скорее, чем человек с черепашьим
ходом. Дело, значит, возможное, что сильный ум впадает в ошибки
более грубые, чем ошибки какой-нибудь тупицы. И если нам
удастся открыть причины логического промаха человека недюжинного —
в нравственном ли его складе или в каком-либо из основных его
теоретических положений, то, помимо тех истин, которые будут добыты
нами попутно, мы убедимся еще, что исходная точка мыслителя или
его прием, вообще найденная фальшивая складка должны завести в
непроходимые дебри всякого, хоть будь он семи пядей во лбу. И чем
более резкий диссонанс представляет ошибка в общей гармонии
миросозерцания мыслителя, то есть чем она грубее, тем, значит, глубже
лежат ее основания и тем поучительнее будет наше исследование.
Некоторый намек на искомое в настоящем случае объяснение
мы можем найти у самого Спенсера в его любопытной статье
«Значение очевидности». Спенсер доказывает в ней, что точное
наблюдение есть дело вовсе не такое легкое и простое, как обыкновенно
думают, что наблюдателя одинаково сбивают с толку и присутствие
и отсутствие предвзятой мысли, или, как он, а может быть,
переводчик, не совсем верно выражается, — гипотезы. Эту с первого взгляда
парадоксальную и без должных ограничений действительно
парадоксальную мысль он доказывает по обыкновению примерами. Лет
полтораста тому назад в Англии существовало такое поверье: плод
70
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
деревьев, растущих на морском берегу, свешивается в море и через
несколько времени превращается в существа, заключенные в
раковинах и известные под именем «уточек»; эти уточки усаживаются на
погруженные в море ветви. Но на этом не оканчивается
метаморфоза, и из уточек с течением времени образуются морские птицы,
так называемые «уточки-гуси» (Barnacle-goose). Эта история уточек-
гусей признавалась не только простонародьем, а и натуралистами
того времени, и притом у последних верование это было основано
на наблюдениях, которые были переданы и одобрены величайшими
учеными авторитетами и публикованы с их распоряжения. В статье,
помещенной в «Philosophical Transactions», сэр Роберт Морей9,
описывая этих уточек, говорит: «В каждой раковине, которую я вскрывал,
я находил совершенно морскую птицу: маленький нос, подобный
носу гуся, обозначенные глаза, голову, шею, грудь, крылья, хвост и
сформировавшиеся ноги, перья, везде совершенно образовавшиеся
и темноватого цвета, и ноги, подобные ногам морских птиц». Теперь
эти уточки смирно сидят на одной из низших ступеней
зоологической лестницы, и Спенсер находит, что и представить себе нельзя,
что такое Морей мог принять в их организации за голову, крылья и
т. д. морской птицы; нет даже намека на самое отдаленное сходство,
А между тем Морей наблюдал и видел все это своими
собственными глазами. В 1862 г. в Мидльбурге была издана книга «Metamorphosi
naturalis», особенно любопытная потому, что в ней впервые была
сделана попытка подробно описать метаморфозы насекомых. К книге
приложены таблицы с изображением последовательных ступеней
развития насекомых, то есть личинок, куколок и окончательно
развитых насекомых. Куколки наших бабочек имеют обыкновенно на
переднем конце несколько острых возвышений, расположенных
совершенно неправильно. «Несмотря на то, — говорит Спенсер, — в
таблицах этого "Metamorphosis naturalis" каждая куколка имеет столь
измененные возвышения, что представляется смешная человеческая
голова, и каждому виду приданы различные профили. Верил ли
художник в метемпсихоз10 и думал найти в куколках преобразившееся
человечество или был увлечен ложной аналогией, которую так
усиленно проводил Ботлер между переходом от куколки к бабочке и от
смертности к бессмертию и поэтому замечал в куколке тип
человека, — неизвестно. Но мы видим здесь факт, что под влиянием того
или другого предвзятого мнения он сделал свои рисунки совершен-
Что такое прогресс?
71
но отличными от действительных форм. Он не только думает, что
это сходство существует, не только говорит, что может видеть его:
предвзятое мнение так овладевает им, что руководит его кистью и
заставляет воспроизводить изображения, до крайней степени
непохожие на действительные». Далее Спенсер приводит тот факт, что два
наблюдателя, исповедующие различные теории, смотря на один и
тот же предмет, в один и тот же микроскоп, описывают обыкновенно
предмет не одинаково.
Во всех этих случаях поразительно ложная передача фактов
самыми изощренными органами чувств обусловливается присутствием
ложного предвзятого мнения. Но и отсутствие всякого предвзятого
мнения столь же невыгодно отзывается на результатах наблюдения.
Из примеров заблуждений этого рода, приводимых Спенсером, мы
остановимся только на одном, из его собственного опыта. На детских
рисунках Спенсера тень какого-нибудь предмета изображалась
всегда черной. Молодой рисовальщик видел на своем небольшом веку,
разумеется, множество теней, и так как он не имел на этот счет
никаких заранее установленных мнений, а в большинстве виденных им
случаев тень приближалась к черному цвету, то глаз его неспособен
был различить противоположные случаи. Так дело шло до
восемнадцати лет. Тут Спенсер встретился с одним артистом-дилетантом,
который стал ему доказывать, что тень бывает не черного, а
нейтрального цвета. Молодой человек спорил, приводил в доказательство свое
собственное наблюдение, но наконец должен был сдаться. Тут только
глаза его прочистились, и он убедился, что до сих пор орган зрения
обманывал его, докладывая, что тень всегда черная; он увидел, что она
бывает весьма часто цветная. Прошло несколько времени, и чтение
популярного сочинения по оптике навело его на раздумье о
причинах цветных теней. И когда, вследствие этого, у него составилось
определенное понятие о тенях, глаза его стали очень явственно
различать оттенки их. Поняв, что цвет тени зависит от цвета всех
окружающих предметов, способных испускать лучи и отражать свет, он
увидел очень ясно, что, например, в лунную ночь, возле газового
фонаря, карандаш, помещенный перпендикулярно к листу бумаги, даст
Две тени: пурпурно-голубую и желто-серую, производимые отдельно
горящим газом и луной. До тех пор, пока он не узнал из теории, что
так должно быть, и приступал к наблюдению без всякого предвзятого
мнения, он не замечал подобных явлений. Таким образом, относи-
72
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
тельно самого обыденного явления он имел последовательно три
убеждения, из которых каждое основывалось на наблюдении. «Без
помощи первой гипотезы, — говорит он, — я, вероятно, остался бы
при общем убеждении, что тени черны. Без помощи другой я
оставался бы, вероятно, при убеждении, наполовину истинном, что они
нейтрального цвета». Из этого Спенсер и заключает, что и
присутствие и отсутствие предвзятого мнения невыгодно влияют на
точность наблюдения: в первом случае наблюдатель невольно поддается
своей затаенной мысли и видит вещи не такими, каковы они
действительно, а во втором — упускает из виду многое, существенно важное
в наблюдаемом явлении. Где же исход из этой дилеммы? «Все
наблюдения, исключая тех, которые производятся под влиянием уже
установленных истинных теорий, рискуют оказаться извращенными или
неполными». В конце концов, мы, значит, все-таки отброшены к
предвзятому мнению, с тем, однако, важным условием, чтобы мнение это
имело за себя известные, полновесные гарантии. Оно должно
вытекать из некоторой прежней, проверенной и вполне истинной
оценки известной группы явлений. Всматриваясь в последний из
приведенных нами примеров Спенсера, нетрудно видеть, что он весьма
мало годится в примеры заблуждения от отсутствия предвзятого
мнения. Молодой Спенсер не замечал цветных теней, очевидно, не
потому, чтобы он не имел относительно этого каких бы то ни было
убеждений, а напротив — в силу ложного убеждения, что все тени
черны; он, следовательно, все-таки приступал к наблюдению с
предвзятым мнением, а не без него. То же самое относится и ко всем
приводимым им примерам этого рода. Да и едва ли можно подыскать '
пример заблуждения от отсутствия предвзятого мнения, потому что
самое отсутствие это немыслимо. Человек всегда приступает к
исследованию с предвзятым мнением11 и, смотря по качеству последнего,
доходит то до гениального открытия, то до невообразимой
нелепости. Если читатель не согласится с этим, то только потому, что в уме
его с выражением «предвзятое мнение» ассоциировалось
представление о чем-то несостоятельном и неизбежно ложном, что, разумеется,
неверно. Предвзятое мнение обусловливается двумя элементами: во-
первых, запасом предыдущего, бессознательно иди сознательно
приобретенного опыта и, во-вторых, высотой нравственного уровня
исследователя. И если этот нравственный уровень достаточно высок,
а предварительная умственная работа была достаточно сильна, то
Что такое прогресс?
73
нет причины опасаться за состоятельность предвзятого мнения.
Бэкон12 наивно-грубо и, принимая в соображение его личные качества,
даже несколько бессовестно говорит: «если муж зрелого возраста,
неподкупных чувств, просвещенной души обратит свой ум на опыт и
частности, то от него можно будет ожидать многого» (Либих. Фр.
Бэкон Веруламский и метод естествознания). Вы — натуралист. Перед
вами развертывается бесконечная цепь явлений природы, но вы
останавливаетесь на одном из звеньев этой цепи и тем самым задаете
себе известный частный вопрос. Почему вы остановились именно
перед таким фактом, а не перед другим, и задали себе именно этот
вопрос, а не тот? Потому что накопленный вами до этого момента
опыт позволяет вам предугадать ответ, и существование предвзятого
мнения сказывается уже в том простом обстоятельстве, что вы
обратили внимание на явление. «Даже в науке чисто опытной, — говорит
Милль (Система логики), — необходим повод произвести один опыт
предпочтительно перед другим. Отвлеченно, пожалуй, все
произведенные опыты могли бы быть сделаны по одному побуждению узнать,
что именно случится в известных обстоятельствах, без всякого
предварительного предположения относительно результата. Но на деле
эти неочевидные, тонкие и часто затруднительные и скучные
процессы опыта, бросившие наибольший свет на общий склад природы,
едва ли были бы предприняты теми лицами, которые их исполнили,
или в то время, когда они их исполнили, если бы не казалось, что от
этих опытов зависит то, будет ли принята или нет какая-либо общая
теория, предложенная, но еще не доказанная». Человек находит
только то, что ищет, и если бы можно было предположить, что люди
ничего не ищут, то они ничего и не нашли бы. Если человек аккуратно
ведет свою умственную приходно-расходную книгу, если он угадал,
что запас его знаний достаточен для ответа на заданный им себе
вопрос, — он победил; если его прежние знания ошибочны или их
недостаточно, — он побежден. Так побеждены были метафизические
теории, гонявшиеся за невозможным, задавшие себе такие вопросы,
на которые для человека нет ответа. Так побеждены были Морей и
автор «Metamorphosis naturalis», приступавшие к наблюдению с
предвзятым мнением, основанном на недостаточном'знании. Так из двух
микроскопистов, наблюдающих одно и то же явление, но
придерживающихся различных теорий, побежден, по крайней мере, один,
а может быть, и оба. В некоторых случаях победа зависит не столько
74
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
от обширности знаний, сколько от особенных качеств ума
исследователя. Что же касается до второго элемента предвзятого мнения,
т. е. до нравственного уровня, то не столь очевидный в
естествознании, он дает себя особенно чувствовать в социологии. Так как здесь
мы имеем дело не только с необходимым, но и с желательным, то в
поставляемых нами себе целях предвзятое мнение необходимо
осложняется нравственным элементом. Кроме истинности,
достаточной для естествоиспытателя, предвзятое мнение социолога должно
отразить в себе его идеал справедливости и нравственности, и,
смотря по высоте этого идеала, он более или менее приблизится к
пониманию смысла явлений общественной жизни. Едва только
естествоиспытатель наметил явление, желая подвергнуть его
наблюдению, воображение его уже комбинирует усвоенные им
предварительно данные с подлежащим исследованию фактом, и он
приступает к наблюдению с готовым уже в общих чертах решением.
Если предварительно усвоенные данные стоят прочно, то и решение
его верно; если нет — он находит птицу в раковине и человеческое
лицо на куколке бабочки. Но для социолога этого мало. Морей,
добросовестно наблюдая «уточек», вследствие ложного предвзятого
мнения видел в них птиц. Славянофил, положим, тоже
добросовестно изучая допетровскую Россию, вследствие не менее ложного
предвзятого мнения, не видит в ней теневых сторон. Морею могли бы
помочь только здравые понятия о взаимной зависимости
естественных фактов. Славянофила могли бы спасти от заблуждения не только
трезвые взгляды на взаимную связь исторических явлений, но и
общественный идеал более высокий, нежели состояние допетровской
Руси, а для выработки такого идеала требуется известный
нравственный уровень. Об этом, впрочем, еще речь впереди, а здесь с нас
довольно того факта, что предвзятое мнение неизбежно играет весьма
значительную роль в наших исследованиях, как бы мы
беспристрастны ни были. Сетовать на это нечего, во-первых, уже потому, что это
неизбежно, а во-вторых, потому, что если предвзятое мнение ведет,
весьма часто, к неполным и ошибочным наблюдениям и
умозаключениям, то им же обусловливается и дальнейшее движение науки
вперед. Отказаться от предвзятого мнения значит отказаться от всего
своего умственного и нравственного капитала, что и невозможно, и
было бы невыгодно, если даже допустить возможность такого
самоотречения. Нужно только иметь в виду, что предвзятое мнение долж-
Что такое прогресс?
75
но, как говорит Спенсер, вытекать из установившихся и истинных
теорий.
Возвращаясь опять к вышеприведенным ошибкам Спенсера,
мы видим, что они не менее грубы, чем ошибки Морея и автора
«Metamorphosis naturalis», хотя первые касаются не
непосредственных наблюдений. Морей наблюдал усоногих под влиянием
народного поверья и нашел нечто невозможное. Но народное
поверье составляло только ближайшую причину его заблуждения, и
он не поддался бы ему, если бы не думал, что странная
метаморфоза усоногого в птицу возможна; доступный ему круг фактов не
опровергал этой возможности, и он поддался влиянию народного
предрассудка. Точно так же и Спенсер. Он рассуждает о полезном
и прекрасном и о задачах искусства с заранее готовым решением,
что в историческом порядке прекрасное следует за полезным и что
искусство не должно изображать жизнь и стремления настоящего
времени. Если он при этом видит в усоногом птицу, то, принимая в
соображение обычную силу его мысли, мы должны прийти к
заключению, что два указанные предвзятые мнения примыкают к
некоторому более основному заблуждению, лежащему в самом корне его
миросозерцания. Обстричь ветви дерева — штука нехитрая, и уж во
всяком случае от Спенсера мы могли бы этого ожидать. Другое дело
срубить само дерево. Поэтому как в заблуждении Морея нас в
особенности должен интересовать вопрос: каким образом ученый мог
поддаться влиянию народного предрассудка? — так и относительно
ошибок Спенсера главным образом любопытно знать, почему в уме
его установилось мнение о том, что искусство должно передавать
только жизнь прошлого, и установилось до такой степени прочно,
что мешает ему отличить птицу от усоногого. Словом,- мы должны
предположить, что карточный домик «Пользы и красоты» есть
только пристройка к некоторому не менее карточному, но более
обширному домику.
Этот обширный и карточный домик есть социологическая теория
Спенсера, и на ней-то мы и остановимся. Мы займемся собственно
только одним обобщением Спенсера, но обобщением весьма
широким, захватывающим наиболее дорогие для человека верования
и убеждения, — подведением под один и тот же масштаб законы
явлений природы и общественной жизни. Надо, впрочем, заметить,
что аналогия между организмом естественным и социальным, между
76
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
развитием органическим и общественным прогрессом составляет
один из пунктов, наиболее интересующих Спенсера. Он
возвращается к ней при всяком удобном случае не только почти во всех своих
мелких статьях, но и в «Основных началах», и в «Основаниях
биологии», и в опыте о воспитании, и на этой же идее построена, без
всякого сомнения, его «Социальная статика», в русском переводе
еще не существующая. Законы социального прогресса составляют
для него не более как частный случай общих, трансцендентных
законов развития вообще, а потому читатель может получить из нашей
статьи понятие не только о воззрениях Спенсера на частный вопрос
первостепенной важности, но и об одной из самых любимых общих
идей его. Считаем, однако, нужным заметить, что социологическая
теория Спенсера есть Ахиллесова пята его философии, и каков бы
ни был результат, к которому мы придем, он отнюдь не должен быть
распространен на все выводы Спенсера. Ахиллесова же пята эта
требует в настоящем случае весьма тщательного обследования, потому
что некоторые особенности мышления и изложения Спенсера могут
скрыть от читателя несостоятельность его воззрений на задачи
социологии и его способов решения их.
Спенсер излагает свои мысли в высшей степени спокойно и
бесстрастно, обставляет их множеством примеров из самых
разнообразных отраслей и науки и жизни, причем обнаруживает
огромные сведения и располагает свои примеры чрезвычайно искусно.
Эти-то свойства его аргументации делают ее чрезвычайно опасной,
и в особенности для нас, русских. Спенсер трактует об
общественных вопросах совершенно так же бесстрастно, как о гипотезе
туманных масс или о фазах развития гидры. Мы к этому не привыкли.
Мы, к счастью или к несчастью, не доросли до объективного
отношения к фактам общественной жизни, и субъективная точка зрения
сквозит в каждой строке как наших собственных политических
писателей, так и большей части тех иностранных авторов, с
которыми мы до сих пор знакомились. Поэтому, встречаясь с покойным
мыслителем, ищущим одной только голой и объективной истины,
очевидно на подкапывающимся под чьи бы то ни было интересы,
мы можем либо просто отвернуться от добытых им, неприятных
для нас истин, или же слепо увлечься их истинностью. И то и другое,
разумеется, прискорбно. Мы и без того играем относительно
Западной Европы роль кухарки, получающей от барыни по наследству
Что такое прогресс?
11
старомодные шляпки. В то время как мы еще делимся на
материалистов и спиритуалистов, передовая западная мысль, в лице Конта,
Спенсера и проч., отрицает и ту и другую систему. В то время как
в нашем обществе то и дело раздаются упреки передовым людям в
атеизме, позитивизм называет атеистов «самыми нелогическими
теологами» (выражение Конта и — совершенно независимо от него —
одного из крайних левых гегелианцев). Легко может быть, что
некоторые принципы позитивной социологии перейдут к нам тогда,
когда они уже падут в Западной Европе. Это тем более вероятно, что,
например, в социологических выводах Спенсера одна часть нашего
мыслящего общества может увлечься грандиозным захватом
явлений природы и общественной жизни в руки одного великого
принципа; а другая — той научной санкцией, которую, по-видимому, дает
Спенсер существующему порядку. При том же он обладает такими
знаниями и так ловко пускает их в ход, что читатель невольно
поддается ему и видит в его выводах только непреоборимую истину.
Аргументация Спенсера обыкновенно располагается по тому же
плану, какой мы видели в статье «Польза и красота». Он ставит
положение, затем приводит возможно большее количество примеров,
подтверждающих его, и, наконец, выдвигает рациональное
основание своему выводу. Следуя этому плану изложения, Спенсер
подавляет читателя массой пояснительных примеров, взятых из самых
разнообразных сфер. Мысль его оказывается чрезвычайно
широкой, и читатель, поддавшись обаянию этой ширины, не замечает
проскальзывающего кое-где недостатка глубины. Он едва успевает
следить за автором, легко и свободно переносящимся из одной
области в другую и везде оказывающимся у себя дома. А между тем
автор только самым поверхностным образом захватывает эти
области и, сам увлеченный стройностью своей формулы, стремится
главным образом доказать ее всеобъемлемость. Поэтому, когда он,
в конце концов, обращается к дедукции для подтверждения
индуктивным путем добытой формулы, старается связать ее причинно с
некоторым более общим фактом, ему приходится только
перефразировать свой первоначальный вывод, еще требующий по крайней
мере подтверждения, если не доказательства, или же установить его
на крайне шатких основаниях. Получается карточный домик,
непрочности которого читатель, находясь уже во власти мыслителя,
легко может не заметить.
78
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
II
Что такое прогресс? Выставив этот вопрос, Спенсер замечает, что
слово «прогресс» крайне неопределенно, потому что им
обозначаются предметы чрезвычайно различные. Главное же неудобство этого
слова состоит, по его мнению, в том, что с ним связано
телеологическое понятие: «все явления рассматриваются с точки зрения
человеческого счастья; только изменения считаются прогрессом,
которые прямо или косвенно стремятся упрочить счастье человека, и
считаются они профессом только потому, что способствуют этому
счастью». Телеологический смысл слова «прогресс» суживает его
значение, а потому «наша задача, — говорит Спенсер, — состоит в том,
чтобы проанализировать различные классы изменений,
обыкновенно называемых прогрессом, а вместе с тем и другие классы, которые
сходны с ними, но прогрессом не считаются; при этом мы хотим
рассмотреть, в чем состоит их существенная природа, независимо
от отношений к нашему благоденствию» (Основные начала, 159). Так
Спенсер и делает в своем опыте «Прогресс, его закон и причина», а,
перенеся последний почти целиком в «Основные начала», во
избежание сбивчивости даже заменяет слово «прогресс» словом «развитие»
(evolution).
Итак, что такое развитие? не развитие человека или общества,
животного или солнечной системы, дерева или человеческого языка,
а развитие вообще; каковы его трансцендентные законы? Для ответа
на этот вопрос Спенсер обращается прежде всего к частному
случаю — к развитию органическому. Открытия и исследования
физиологов показали, что процесс, которому подвергается яйцо при
преобразовании его в животное и семя при переходе во взрослое растение,
состоит в постепенном усложнении. Бэр13 формулировал закон
органического прогресса как переход от простого к сложному, от
однородного к разнородному путем последовательных расчленений или
дифференцирований. В первую пору своего существования зародыш
представляется относительно однородным как по ткани, так и по
химическому составу. Но с течением времени в нем явственно
обособляются сначала две части, из которых каждая дифференцируется
в свою очередь и т. д. Этот процесс продолжается до тех пор, пока
организм не достигнет, наконец, кульминационной точки своего
развития, т. е. усложнения. Это широкое и вполне научное обобщение
Что такое прогресс?
79
Спенсер кладет в основание обобщения еще более широкого, хотя,
как увидим, и не столь научного, как обобщение Бэра. «Закон
органического развития, — говорит он, — есть закон всякого развития.
Касается ли дело развития земли, или развития жизни на ее поверхности,
развития общества, государственного управления, промышленности,
торговли, языка, литературы, науки, искусства, — всюду происходит
то же самое развитие от простого к сложному путем
последовательных дифференцирований. Начиная от первых сколько-нибудь
заметных космических изменений до позднейших результатов
цивилизации, мы находим, что превращение однородного в разнородное есть
именно то явление, в котором заключается сущность прогресса».
Положение поставлено, и Спенсер начинает, по обыкновению,
приводить многочисленные примеры. От развития солнечной
системы, очерк которой строится им на гипотезе туманных масс, он
переходит к геологическому развитию земли, к развитию земной фауны
и флоры и затем, наконец, к развитию рода человеческого в его
индивидуальных формах, расовых и национальных группах и в
«социальной организации».
Ныне существующие дикие народы и некоторые отрывочные
свидетельства истории рисуют нам первобытную культуру достаточно
удовлетворительно. В первобытном обществе разделения труда
почти не существует. Оно, может быть, не идет дальше специализации
мужского и женского труда. Но затем каждый член общества является
единовременно охотником, рыбаком, оружейником, воином —
словом, энциклопедистом по всем доступным первобытному человеку
отраслям труда и знания. Каждое семейство само удовлетворяет
своими собственными силами все свои потребности. И потому, принимая
в соображение однородность физических условий местности,
занятой кучкой первобытных людей, мы видим, что вся эта кучка в целом
представляет почти идеальную однородность. Между членами ее нет
большого различия в занятиях, в уровне интеллектуального развития,
в физической силе, в организации. Но с течением времени общество
Дифференцируется на управляющих и управляемых. Сначала это
различие не имеет слишком резкого характера. Вожди, предводители,
как и предводимые, сами рубят дрова и ходят на охоту, сами строят
свое жалкое жилище и приготовляют луки и стрелы. Но зерно
разнородности уже залегло в девственной почве первобытного
общества, и скоро власть вождей обращается в наследственную. За вождя-
80
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ми окончательно удерживается их роль правителей, они перестают
работать сами, употребляя для этого рабов, приобретенных войной
или иным путем, а остающийся у них таким образом досуг идет на
интеллектуальное развитие. Своим чередом образуется власть
духовная. Наше однородное общество распалось на управляющих и
управляемых, а управители — на управителей светских и духовных.
Общество стало разнороднее. На этой ступени дифференцирование
не останавливается, и, в конце концов, образуется в высшей степени
сложная организация управления. Мы доходим до нынешнего
конституционного типа, в котором более или менее строго
разграничиваются власти законодательная, исполнительная, судебная со всеми
их разветвлениями: монарх, министры, палаты, суды, казначейства,
полиция, администрация губернская и уездная, департаменты,
отделения и т. д. Духовная власть, находившаяся первоначально в руках
равных между собой лиц, распределяется с течением времени между
патриархами, митрополитами, архиепископами, епископами и т. д.
Нравы и обычаи, под влиянием различия общественных положений,
также утрачивают свою однородность. Наука, уже
дифференцировавшаяся от религии и философии, сама дробится на множество ветвей.
В то же время происходит быстрое дифференцирование и в среде
управляемых. Под влиянием экономического разделения труда в
тесном смысле они распадаются постепенно на множество классов,
занятых каким-нибудь одним специальным делом; так что мы доходим,
наконец, до того, что рабочий делает только булавочные головки или
одно из колес часового механизма. В конце концов, трудно узнать
первобытное однородное общество.
Далее Спенсер следит за этим же переходом от однородного
к разнородному в развитии языка, письменности, искусств.
Например, поэзия, музыка и танцы составляли некогда одно целое.
Израильтяне плясали и пели при сооружении золотого тельца. Пляска и
игра на цимбалах сопровождали пение торжественного Моисеева
гимна на победу над египтянами. В Греции, в Риме и даже в
позднейшее время в христианских странах хор плясал под музыку. Но теперь
мы видим, что эти три отрасли искусства совершенно
дифференцировались. Мы имеем молчаливый балет, в котором музыка не имеет
почти никакого значения; у нас есть опера, в которой мы слушаем
только музыку и пение, или даже одно только пение, и где поэзия,
в собственном смысле, играет роль более чем сомнительную. И это
Что такое прогресс?
81
еще такие сферы, где связь между тремя первичными элементами
наиболее сохранилась. Кроме того, переход от однородного к
разнородному сказывается не только в отделении этих трех искусств друг
от друга, но и в последовательных дифференцированиях, через
которые прошло каждое из них. Древняя поэма дифференцировалась
в эпическую и лирическую. Первобытные ударные музыкальные
инструменты вроде барабана последовательно заменились множеством
струнных и духовых инструментов. Первобытный хоровод,
развиваясь, распался на бесчисленное количество различных танцев.
Подводя всему этому итог, Спенсер видит полное торжество своей
формулы органического развития как прототипа всякого развития,
какое мы себе только можем представить. Надо удивляться терпению
и искусству, с которыми Спенсер во всех возможных явлениях
природы и общественной жизни следит за элементами своей индукции.
Это очень поучительные страницы, которые мы с удовольствием
выписали бы целиком, если бы у нас не было впереди дела поважнее.
Как бы ни была исполнена эта часть труда Спенсера, читатель уже
из немногих приведенных нами примеров должен убедиться, что его
обобщение есть обобщение чисто эмпирическое. Спенсер на этом
не останавливается и, установив индуктивным путем закон развития,
ищет затем его причину.
Как истый позитивист, он прямо отказывается уловить эту
причину как нумен14, как «вещь в себе» метафизиков. Он и здесь не идет
дальше феноменальной стороны и только хочет свое эмпирическое
обобщение поднять до уровня обобщения рационального. Если,
рассуждает он, переход однородного к разнородному представляет до
такой степени общее явление, то он должен быть связан с каким-нибудь
рядом известных нам фактов, которые вследствие бесконечного
повторения и ежедневного опыта сами уже не требуют для себя
доказательства, но могут быть признаны причиной развития, т. е. перехода
от однородного к разнородному. Где же искать эту причину? Самое
общее свойство всех видов развития состоит в том, что все они
представляют некоторые изменения, а следовательно, причина развития
должна корениться в некоторых характеристических чертах
изменений вообще. Эти характеристические особенности всяких
изменений, общие всем им, сводятся для Спенсера к двум трансцендентным
законам. Первый из них формулируется таю «Каждая действующая
сила производит более одного изменения, каждая причина произво-
82
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
дит более одного действия», или в более отвлеченном виде: «всякое
изменение сопровождается более нежели одним изменением».
Спенсер полагает, что этот основной закон изменений находится к
закону развития в таком же отношении, как закон тяготения к законам
Кеплера15. Аргументация Спенсера на этом пункте понятна и без тех
многочисленных примеров, которыми он добросовестно
обременяет свое изложение. Дело-то все в том, что если каждое изменение
сопровождается более, нежели одним изменением, то это должно вести
все к большему и большему усложнению результатов. Второй закон,
заключающий в себе причину развития, есть следующий: «Условия
однородности суть условия неустойчивого равновесия». Этот второй
закон Спенсер опять подтверждает примерами из мира физического
и социального. И тем завершается все здание, построенное так
тщательно и с таким искусством, что под него, кажется, иголки не
подточишь. В исходной точке отброшены элементы, могущие оказать
вредное влияние на ход исследования; фактов собрано множество, и
методы индуктивный и дедуктивный взаимно пополняют и поверяют
друг друга. В целом получается работа, по-видимому, мастерская по
тщательности отделки деталей и по ширине обобщения,
охватывающего весь мир от явлений астрономических и геологических до
жизни и творений человека.
Но если вы поближе вглядитесь в это величественное,
совершенно симметрическое и украшенное всевозможными орнаментами
здание, то увидите, что по отношению к занимающим нас
социологическим вопросам в этом здании требуется сделать весьма
существенные поправки, до такой степени существенные, что после них
дедуктивная сторона исследования окажется, по крайней мере,
бессодержательной, индуктивный процесс неполным и потому
результаты его ошибочными, а исходная точка, тщательно охраняемая от
вторжения телеологического элемента, — ложной. Мы знаем, с кем
имеем дело, мы не забыли, что Спенсер есть «один из самых мощных
деятелей, каких до сих пор производила английская мысль», и
потому желали бы быть как можно сдержаннее и осторожнее. Да пошлет
нам судьба столько же терпения и искусства, сколько она даровала
Спенсеру для постройки его фандиозного обобщения, которому
сам он придает весьма важное значение. Мы боимся главным
образом запутаться в embarrass de richesses слабых пунктов аргументации
Спенсера.
Что такое прогресс?
83
Начнем с конца, т. е. с двух основных законов, причинно
обусловливающих развитие. Для уяснения их значения возьмем наудачу один
из многочисленных примеров, приводимых Спенсером для
утверждения их индуктивным путем. Вы зажигаете свечку, т. е. прилагаете
к фитилю ее силу некоторой посторонней теплоты. Начинается ряд
разнообразных химических и физических явлений: образуется
углекислота, вода, появляется свет, химический процесс развивает
теплоту, образуется струя разгоряченных газов, новые токи воздуха;
каждый из этих результатов дает новые, все более сложные: углекислота,
отделившаяся при горении, соединяется с каким-нибудь новым
основанием или вновь разлагается, чтобы выделить свой углерод листьям
растений и т. д. Таким образом, рассуждает Спенсер, одна сила
приложенной первоначально к свечке теплоты производит множество
изменений, множество действий. Но она производит их, очевидно,
только благодаря разнородности среды и состава свечки и фитиля;
не будь этой разнородности, и сила не произвела бы даже и одного
действия. Эту последнюю комбинацию нам, живущим уже в готовой
разнородной среде, которая и миллионы лет тому назад была уже
разнородной, трудно себе представить. Но, во всяком случае,
очевидно, что количество изменений, производимых некоторой силой
в некотором теле, обусловливается степенью разнородности как
этого тела, так и окружающей среды. Уменьшая постепенно, с одной
стороны, разнородность тела, на которое непосредственно
обращено действие силы, и разнородность среды, в которой происходит это
действие, мы будем получать все менее и менее сложные результаты;
так что, дойдя до полной однородности, т. е. слития среды с телом,
мы, пуская в ход все ту же силу, не получим ни одного изменения. Эту
комбинацию, повторяем, нам трудно себе представить. Но возьмем
простое химическое тело, не окисляющееся ни при каких
известных нам условиях и, следовательно, некоторым образом уединенное
до известной степени от влияния разнородности среды, — золото
и подвергнем его действию одной силы высокой температуры. Мы
получим только одно изменение, или, по крайней мере, только один
вид изменений, — золото придет в жидкое состояние, т. е. в нем
произойдет некоторое перемещение частиц. Возьмите, наоборот, тело
разнородное, сложное химическое соединение — и сила высокой
температуры в обыкновенной воздушной среде произведет
несколько действий: тело, может быть, расплавится, разложится, затем эле-
84
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
менты его могут соединиться с кислородом воздуха, и полученные
таким образом окислы опять произведут какие-нибудь действия на
окружающие предметы. Но здесь мы имеем, во-первых, разнородное
вещество, во-вторых, не одну силу теплоты, а кроме того, силу
химического сродства. Таким образом, закон — одна причина
производит несколько действий — должен быть в сущности сведен к истине,
гораздо менее широкой и гораздо менее ценной: несколько причин
производят несколько действий. С известной точки зрения, верна и
первая формула; но так как закон нарастания действий
обусловливается присутствием уже готовой разнородности среды, то вывести
из него закон развития как перехода от однородного к
разнородному нет никакой возможности. Причина производит более
одного действия только в разнородной среде, а так как среда, в которой
мы живем и наблюдаем всевозможные явления, разнородна, то в ней
обыкновенно действительно имеет место означенный закон. Мы
говорим «обыкновенно», потому что сама разнородность среды может
быть так подогнана, что сила произведет только одно действие, или
ни одного действия, или, наконец, несколько сил не произведут ни
одного или только одно изменение. Но за всем тем закон развития,
как переход однородного в разнородное, остается таким же
эмпирическим законом, каким он был и до установления первого основного
закона изменений, Спенсер говорит: «Если гипотеза туманных масс
будет когда-нибудь подтверждена, нам станет ясным, что вся
вселенная вообще, так же как и всякий организм, была некогда однородна»
(Опыты, I, 57). Если это когда-нибудь случится, то нам станет
вместе с тем совершенно неясным, каким образом эта однородная
вселенная распалась на существующий разнородный мир. По крайней
мере, Спенсеров закон изменений не поможет нам здесь ни на волос.
В этой однородной вселенной не было, конечно, разнородной среды,
иначе она не была бы однородной вселенной, а Спенсеров основной
закон изменений справедлив только для разнородной среды. Пусть в
разнородной среде однородное (собственно, более или менее
разнородное) переходит в разнородное. Но, отправляясь от какого бы
то ни было частного факта и постепенно восходя все выше и выше,
мы все-таки натолкнемся на вопрос: откуда же взялась разнородная
среда? Задавая этот вопрос, мы не приглашаем Спенсера стать на
онтологическую точку зрения и не становимся на нее сами. Мы не
требуем от него объяснения генезиса вещей, не просим рассказать
Что такое прогресс?
85
нам, как и почему явилась однородная вселенная. Но каким образом
однородная вселенная превратилась в разнородную — это именно
постановленная им себе задача. И, однако, его закон изменений, при
помощи которого он решает эту задачу, имеет место только уже при
существовании разнородного мира. Мы видим поэтому, что закон, по
которому всякое изменение сопровождается более нежели одним
изменением, будучи условно верен, отнюдь не может служить
доказательством эмпирически найденной формулы развития как перехода
от однородного к разнородному. Может ли быть найдено
рациональное основание этой формулы, или она составляет для нашего ума
предел, его же не прейдеши, — это другой вопрос. Но Спенсер
такого основания не дает, и та доля истины, которая заключается в его
основном законе изменений, ничего по этому пункту не объясняет
и не доказывает.
К тому же результату приводят анализ и другого закона
Спенсера — неустойчивости однородного. Свой первый основной закон
Спенсер доказывает только индуктивным путем, признавая его,
таким образом, выражением конечного факта, который не может быть
сведен к факту более общего характера; тогда как закон
неустойчивости однородного доказывается им и путем вывода, и путем наведения.
Вследствие этого бессодержательность этого второго закона
выступает ярче. — Как бы хорошо ни были устроены весы и как бы их ни
старались предохранить от грязи, пыли и ржавчины, обе чашки
невозможно удержать в состоянии полного равновесия: они будут
постоянно колебаться и, следовательно, усваивать разнородные
отношения; таким образом, в этом случае однородное оказывается
механически неустойчивым и стремится к разнородности. Другой пример.
Нагрейте кусок металла так, чтобы он был раскален равномерно по
всем своим частям; когда этот раскаленный кусок металла начнет
охлаждаться, то его первоначальная термическая однородность
окажется неустойчивой, потому что наружные слои, охлаждаясь быстрее
внутренних, будут от них отличаться, и т. д. Так или иначе,
химическим путем или электрическим, механическим или термическим, но
равновесие однородного нарушается. Читатель, основываясь на этих
примерах, подобранных вообще очень ловко, может придать закону
Спенсера слишком большое значение, может даже забежать вперед
и, противополагая однородное разнородному, может признать
условия разнородности условиями устойчивого равновесия. Действитель-
86
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
но, если мы на одну из чашек весов положим гирю, вследствие чего
отношения чашек будут разнородны, то коромысло примет
некоторое наклонное положение и вместе с тем чашки перестанут
колебаться, т. е. равновесие получится устойчивое. Но не трудно
подобрать примеры противоположного свойства, сравнивая, например,
устойчивость стола с четырьмя ножками с устойчивостью того же
стола, когда одна из его ножек короче или совсем выдернута. Но не
в том дело. Спенсер, разумеется, очень хорошо понимает, что если
однородное неустойчиво, то тем неустойчивее в большинстве
случаев должно быть разнородное, и разъяснение этого обстоятельства
необходимо для его собственной аргументации. За несколько
страниц перед установлением закона устойчивости однородного
Спенсер трактует о зависимости, существующей между степенью
сложности химических соединений и их устойчивостью перед действием
высокой температуры. Простые тела, неразложимые наличными
средствами химии, обладают наибольшей устойчивостью, они же
представляют и полную химическую однородность. Закиси, щелочи
и земли, состав которых уже более разнороден, менее устойчивы,
нежели элементы, но представляют собой самые устойчивые из
сложных тел. Еще более разнородные окиси, перекиси и кислоты, затем
соли, двойные соли и т. д. представляют и большую неустойчивость.
Эта пропорциональность между степенями неустойчивости и
разнородности идет все crescendo, выражается все резче и оканчивается на
органических соединениях, наиболее сложных и наименее
устойчивых. «При равенстве других условий, — заключает Спенсер, —
постоянство соединений уменьшается по мере возрастания их сложности»,
или, наоборот, постоянство соединений увеличивается по мере их
упрощения. Подобные факты, число которых может быть
значительно увеличено (например, вид тем устойчивее, чем проще и
однороднее организация составляющих его неделимых), говорят скорее в
пользу существования закона устойчивости однородного. Как только
мы достигнем однородности вещества в каком-нибудь отношении,
например в химическом, так оно оказывается наиболее устойчивым,
а следовательно, закон неустойчивости однородного должен быть
значительно сужен. Но посмотрим на доказательства Спенсера.
Почему однородные чашки весов механически неустойчивы? Почему
термически неустойчив кусок раскаленного металла? Потому,
отвечает Спенсер, что «разные части какой-нибудь однородной агрега-
Что такое прогресс?
87
ции подвергаются действию различных сил — сил, которые
отличаются или по роду своему, или по своим размерам. Будучи же
подвергнуты действию разных сил, они по необходимости будут и
изменяться различным образом». Итак, для того чтобы однородное
оказалось неустойчивым, разные части его должны быть
подвергнуты действию разных сил, чего, разумеется, может и не быть. Но,
собственно говоря, и этого мало; возможны такие случаи, когда и при
действии разных сил на разные части однородной агрегации она
обнаруживает замечательную устойчивость. Спенсер сам приводит
один такой пример, причем даже очень наивно сознается в
бессодержательности своего закона. Дело идет о некоторых простейших
животных, именно так называемых Amoeba. Студенистое тело амеб за
все время их существования не обнаруживает никаких
дифференцирований, никаких признаков развития или усложнения,
следовательно, тело амебы представляет однородную агрегацию, совершенно
устойчивую, но имеющую тенденции к разнородности. Это, говорит
Спенсер, зависит от того, что форма амеб беспрестанно и
неправильно изменяется: «то, что впоследствии составит внутреннюю часть,
выходит теперь наружу и, как временный член, прилипает к какому-
нибудь предмету, которого случайно коснулось; то, что теперь
составляет часть поверхности, скоро будет втянуто вместе с
прилипшим к ней атомом пищи внутрь массы». «Нечего ждать, — заключает
Спенсер, — какого-нибудь определенного дифференцирования
частей в существах, не обнаруживающих никакой определенной
разницы в положении своих частей» (Опыты, 1,116). Но что такое само
дифференцирование? — «появление различия между двумя частями
вещества» (Основные начала, 159). Подставив это определение в
подчеркнутую нами фразу, мы получим следующее: «Нечего ждать
появления определенного различия частей в существах, не
обнаруживающих никакого определенного различия в положении своих частей».
Неужели это довод в пользу общности перехода от однородности
к разнородности? Неужели закон неустойчивости однородного
действительно относится к закону развития так, как закон тяготения
относится к законам Кеплера? Во всяком случае, многочисленные и
широкие исключения из закона неустойчивости однородного дают
нам право скептически отнестись ко всем выводам Спенсера,
вытекающим из этого принципа. Он говорит, например: «Сообщите
членам какого-нибудь общества одинаковые свойства, положения и силы,
88
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и они тотчас же станут стремиться к неравенству Однородность, хотя
бы она и продолжалась с виду, в действительности неминуемо
исчезнет» (Опыты 1,115). Может быть, но Спенсер не доказал этого. Мало
того, у него самого можно найти некоторые общие положения,
прямой вывод из которых наводит на диаметрально противоположные
соображения. «Основные начала» в русском издании еще не
окончены, но вот ссылка на них в «Основаниях биологии»: «В "Основных
началах" было указано (№ 123), что при равенстве прочих условий
несходные единицы легче отделяются друг от друга действующей на
них силой, нежели сходные; что, действуя на единицы,
представляющие мало различия, сила не легко разъединяет их; но что
разъединение совершается легко, если различие между единицами
значительно» (Основания биологии, 3). Это значит, что некоторое целое,
состоящее из сходных единиц, т. е. целое однородное, устойчивее
других целых, состоящих из единиц несходных. Исходя из этого
принципа, следует заключить, что если бы нам действительно
удалось сообщить членам какого-нибудь общества одинаковые силы,
свойства и положения, то это общество отличалось бы
замечательной устойчивостью; входящие в состав его совершенно сходные
единицы могли бы разъединиться с гораздо большим трудом, чем если
бы в силах, положениях и свойствах их была значительная разница.
И если замечание Спенсера о стремлении к неравенству членов
какого бы то ни было общества согласно с существующими фактами и
может быть подтверждено многочисленными примерами из истории
человечества, то только потому, что в действительности мы еще не
видали такого социального строя, в котором индивидуальные
элементы находились бы в состоянии полного равновесия. О
принципах такого идеального строя нам говорить не приходится, хотя далее
и понадобится, вероятно, их отчасти коснуться. Но для всякого
очевидно, что они должны тяготеть к однородности. И что бы ни
говорил Спенсер о неустойчивости однородного, он именно в
однородности должен искать основания для устойчивого общественного
равновесия. Это видно уже из того, что в числе признаков научного
развития древней Греции он считает «не только возрастающую
ясность в понятии равенства, на котором основана социальная наука,
но и некоторое признание того факта, что социальная устойчивость
зависит от поддержания справедливых учреждений» (I, 341).
Положим, что справедливость есть термин, в обиходном употреблении
Что такое прогресс?
89
довольно двусмысленный и даже многосмысленный, получающий
значение только по той реальной подкладке, которая под него
кладется каждым веком, каждым народом и каждым сословием; и для
ближайшего определения смысла выражения Спенсера следует
подождать его «Социальной статики». Но если мы и теперь просто
подставим конкретные факты в цитированную выше отвлеченную
формулу (из «Основных начал»), то получим следующее: если сила
стремления к личному благосостоянию действует на вполне сходные
единицы, то антагонизма между ними быть не может, тогда как та же
сила, будучи приложена к разнородному обществу, состоящему из
единиц несходных, необходимо произведет в них борьбу и
дальнейшее стремление к неравенству. Спенсеру, придающему такое
значение аналогии между организмом естественным и общественным,
стоило бы, для приискания условий устойчивого социального
равновесия, только обратиться к организации тех самых амеб, тело
которых не обнаруживает никакого определенного различия в
положении своих частей.
В конце концов, к закону неустойчивости однородного, как к
причине развития, приложимы те же возражения, какие имеют место
относительно первого основного закона изменений. Положим, что в
существующем разнородном мире однородное неустойчиво. Но оно
неустойчиво только потому, что, во-первых, имеет различным
образом определенные части (что, собственно, исключает понятие
однородности), а во-вторых, на него действуют различные силы, т. е.
разнородность среды. Чем сходнее положение частей и чем менее среда
разнородна, тем однородное устойчивее. И если мы представим себе,
наконец, совершенно однородную вселенную, т. е. отсутствие как
различия в положении ее частей, так и разнородной среды, то найдем ее
непреодолимо устойчивой. Но, даже не поднимаясь до однородной
вселенной, трудно признать философское значение за положением:
разнородность есть причина перехода от однородности к
разнородности. Закон неустойчивости однородного, объясненный таким
образом, имеет свою условную цену, но причинно связать с ним закон
развития нельзя под страхом впасть в petitio principii. Может быть,
повторяем, закон развития есть факт конечный, выше которого мы
не в состоянии подняться; может быть, для объяснения мировых
явлений следует подступить к ним с какой-либо другой стороны,
допускающей более общий и удовлетворительный принцип. Но, во всяком
90
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
случае, два основных закона Спенсера недостаточны для объяснения
развития как перехода от однородного к разнородному. И,
следовательно, первоначальное обобщение Спенсера не поднимается выше
уровня эмпирии, не связывается с каким бы то ни было более общим
и очевидным фактом, который можно было бы принять за причину
развития. Но если так, если закон развития как перехода от
однородного к разнородному есть закон эмпирический, справедливый только
при существовании известных условий, которых может и не быть, то
можно представить себе целый ряд изменений, происходящих в
обратном порядке, т. е. переходя от разнородного к однородному. Этого
и сам Спенсер отрицать не может, потому что в числе обширных
поправок и дополнений, которые он делает к своему первоначальному
изложению хода всякого развития и о которых речь будет ниже, он
отводит значительное место процессу «интеграции», т. е. процессу
слития, в противоположность разъединительному процессу
дифференцирования.
Если так неудачны попытки Спенсера доказать свой закон
развития путем дедукции, то нельзя того же сказать о его индуктивных
доказательствах. Здесь он развертывает всю свою громадную эрудицию,
и даже монотонность и однообразие его аргументации не утомляют
читателя. В маленьком опыте «Грациозность» Спенсер
чрезвычайно остроумно (впрочем, не ново, потому что объяснение это дано
еще Адамом Смитом16 в «Теории нравственных чувств») объясняет
то приятное чувство, которое в нас возбуадается зрелищем
грациозных движений, грациозных поз, грациозных форм. Мы невольно
разделяем все мышечные ощущения, испытываемые окружающими
нас людьми, а так как грациозные движения суть те, которые
совершаются с наибольшей экономией сил, наиболее легко и свободно, то
и в нас вид легких и свободных движений возбувдает приятное
чувство. Совершенно такое же приятное состояние духа овладевает
читателем сочинений Спенсера; он вполне обладает тем, что можно бы
было назвать умственной грациозностью, что свидетельствует как о
силе его ума, так и об обширности его познаний. Он не приискивает
фактов для подтверждения своих положений и выводов: они, точно
сами, один за другим, в стройном порядке, длинной вереницей
ложатся под его перо: вы не найдете тут и следов каких-нибудь усилий,
какой-нибудь нравственной или умственной муки, все ясно, светло,
все на своем месте. Тем не менее, и в индуктивной части исследо-
Что такое прогресс?
91
ваний прогресса есть один слабый пункт, представляющий нечто в
высшей степени странное и вместе с тем в столь же высокой степени
поучительное. Этот пункт есть очерк социального развития, который
именно и составляет предмет нашей статьи. То, что мы говорили до
сих пор, имеет для нас значение только по отношению к
последующему. Нам нужно было расшатать некоторые основные положения
Спенсера, служащие ему орудием дедуктивного подтверждения его
формулы прогресса, для того чтобы облегчить свою задачу:
обнаружить основное социологическое заблуждение Спенсера и затем
добраться до той исходной точки, которая его ввела в заблуждение.
Теперь мы можем обратиться к самой формуле органического
прогресса как прототипа всякого развития, лишенной уже своего
характера необходимости. Но прежде отметим одно мелкое, но
любопытное обстоятельство. Несколько раз обращаясь к истории
развития общества, Спенсер везде говорит просто, что первая стадия этого
развития есть дифференцирование на управляющих и управляемых,
но не упоминает о том, как и вследствие каких причин произошло это
распадение. Это обстоятельство может ввести не совсем
внимательного читателя в заблуадение и послужить для него подтверждением
закона неустойчивости однородного. Воззрения Спенсера на этот
закон крайне смутны и трудно формулируются. В одном случае он
объясняет его воздействием различных сил на различные части
вещества и, следовательно, разнородностью среды. В другом, напротив,
говоря о том, что первоначально совершенно однородная вселенная
перешла к разнородности, он устраняет присутствие разнородной
среды; и выходит таким образом, как будто бы однородное само по
себе независимо от окружающей среды, неустойчиво. Точно так же
и первобытное однородное общество вдруг, без всякого внешнего
толчка, распадается на две касты. В сущности дело так, разумеется,
произойти не могло, и категория однородного, собственно говоря,
при определении первых общественных дифференцирований
должна быть оставлена совершенно в стороне. Говорить о первых
ступенях общественного развития мы можем только гипотетически, и
какую бы гипотезу мы ни приняли, она необходимо устраняет понятие
однородности. Если мы остановимся на гипотезе завоевания, то это
будет столкновение двух разнородных национальных элементов, из
которых один обратится в правящий класс, а другой — в
управляемый. Если мы предположим, что дифференцирование управляющих
92
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и управляемых разрослось из отеческой власти, — то тем самым уже
дана разнородность в лице более опытного, физически сильнейшего
отца и менее опытных и сильных детей и т. д. Это опять-таки ведет
к тому, что формула прогресса должна быть точным образом
выражена как переход от менее разнородного к более разнородному. Для
краткости и мы, впрочем, будем употреблять выражение: переход от
однородного к разнородному, подразумевая указанные выше
ограничения.
III
Спенсер неоднократно цитирует «Историю цивилизации» Шзо,
черпая из нее аргументы для своих выводов и сравнений. Но он, по-
видимому, просмотрел в ней одно, не лишенное интереса указание,
именно указание на то, что есть два вида прогресса: прогресс
общества и личное развитие человека; что эти два вида прогресса не
всегда безусловно совпадают и в сумму цивилизации входят иногда
неравномерно. Слово «прогресс» употребляется здесь в общепринятом
смысле усовершенствования на пути к благу, в смысле, от которого
Спенсер отказывается как от затрудняющего исследование, каковы
бы ни были заключения и выводы Шзо, но в его положении о
двойственности прогресса есть своя доля правды. И как бы ни избегал
Спенсер телеологического смысла слова «прогресс», в его обзор
всевозможных видов развития должна бы была войти либо оценка
и личного развития, и развития общественного, либо указание на
совпадение этих двух видов прогресса. Общество, личность идеальная,
как прекрасно и достаточно подробно показал Спенсер, развивается
подобно организму: переходит от однородного к разнородному, от
простого к сложному, постепенно расчленяясь и дифференцируясь.
Прекрасно. Но что в это время делается с личностью реальной —
с членом общества? Испытывает ли он на себе тот же процесс
развития по типу органического прогресса? Спенсер отвечает на этот
вопрос мимоходом, но утвердительно. Мы постараемся ответить
подробнее, но ответим отрицательно.
Первобытное общество представляет в целом массу почти
совершенно однородную. Все члены его занимаются одними и теми же
делами, обладают одними и теми же сведениями, имеют одни и те же
нравы и обычаи. Но каждый из них, отдельно взятый, вполне разно-
Что такое прогресс?
93
роден: он и рыбак, он и охотник, и пастух, он и лодки умеет делать, и
оружие, и жилище себе сам строит и т. д. Словом, каждый член
первобытного однородного общества совмещает в себе все силы и
способности, какие только могут родиться при тогдашнем уровне культуры
и местных физических условиях. Но вот происходит первое
дифференцирование общества на управляющих и управляемых. Несколько
личностей являются извне или обособляются из самой однородной
массы и с течением времени усваивают образ жизни, отличный от
образа жизни остальных членов общества; предоставляют мускульный
труд другим, а сами постепенно обращаются в специалистов нервной
деятельности. Общество сделало шаг от однородности к
разнородности, но входящие в состав его неделимые перешли, напротив, от
разнородности к однородности. Мускульная система у одних стала
развиваться в ущерб нервной системе, а у других — наоборот.
Прежде каждый член общества умел строить жилища и ловить зверей,
а теперь одна половина их отвыкла от этих занятий, но зато
научилась управлять, лечить, гадать и т. д. Следующий шаг к социальной
разнородности есть вместе с тем шаг к дальнейшей индивидуальной
специализации, т. е. однородности. Правящий класс распадается на
светских и духовных правителей. Одни сосредоточивают свои силы
и способности главным образом на войне, а другие на собственно
интеллектуальной деятельности, в пределах, допускаемых уровнем
культуры, и затем каждый из представителей того и другого подкласса
избирает себе все более и более узкие специальности. Это есть
усложнение, увеличение разнородности общества в целом, но вместе с тем
специализация, уменьшение разнородности в каждом неделимом.
Некоторые силы и способности от долгого неупотребления в целом
ряду поколений как бы атрофируются, перестают действовать, и это
отзывается, разумеется, и на физической организации. Спенсер и сам
в «Опыте о воспитании» (в главе «Вырождение современных
поколений») указывает на это обстоятельство. Но там он ошибается, как
бы утверждая, что история сделала скачок от исключительно
физической деятельности первобытных людей к исключительно нервной
деятельности современных высших классов. Эти две фазы развития
сменили друг друга постепенно, путем длинного ряда
дифференцирований, совокупность которых представляет, по мнению
Спенсера, социальное развитие или социальный прогресс. Нельзя сказать,
чтобы деятельность первобытных людей исключительно состояла из
94
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
физического труда. Это мнение, весьма распространенное, в
сущности совершенно ложно. Если мы примем в соображение
неудовлетворительность первобытных орудий для добывания пищи, устройства
жилища и т. д., те опасности, среди которых жил первобытный
человек, то для нас станет совершенно ясно, что мозг его должен был быть
в постоянном напряжении, быть постоянно настороже, постоянно
придумывать весьма трудные для него комбинации, которые в
настоящее время давно уже готовы и решаются простым приложением
механической силы. Ум и тело человека первобытного работали
единовременно и с одинаковым напряжением, и если мы, современные
цивилизованные люди, не признаем этого, то только потому, что
смотрим на первобытное общество из прекрасного далека, слишком от
него отличного. Современный цивилизованный человек, вообще
говоря, физического труда не знает, и потому ему кажется громадным и
всепоглощающим физический труд первобытного человека; с другой
стороны, современный цивилизованный человек обладает таким
количеством знаний, что умственная работа дикаря представляется ему
ничтожной. Придумать топор штука не хитрая, а вот дров нарубить
так тяжело — так рассуждает современный цивилизованный человек,
постоянно видящий топоры и никогда не рубящий дров.
Естественно поэтому, что ему кажется, что мысль первобытного человека не
работала вовсе и что вся жизнь его сводилась на труд физический.
Первобытный человек, как член однородного общества, до того
поворотного пункта, на котором резко обозначилось разделение
труда, был личностью целостною, личностью, в которой умственная
и физическая стороны находились во взаимной гармонии. Другое
дело круг его умственной деятельности; он не был и не мог быть
обширен. Каждый из членов первобытного общества обладал такими
же сведениями и понятиями, как и все остальные, но все они имели
сведения весьма ограниченные. Поэтому в однородной массе
первобытного общества неделимые были вполне разнородны, насколько
это допускалось условиями места и времени. Горизонт деятельности
их был небольшой, но представлял полный круг, замкнутую линию.
Они были полными носителями современной им культуры. С
дифференцированием общества на управляющих и управляемых, с
дифференцированием, обусловившим развитие общества, т. е. переход
общества от однородного и простого к разнородному и сложному,
началось нарушение целостности отдельных личностей и переход
Что такое прогресс?
95
их от разнородного к однородному. Дальнейшие распадения
правящего класса имеют тот же двойственный характер: вызывают
разнородность в общественном строе и, напротив, однородность и
односторонность в отдельных личностях.
Сравнивая затем первобытное состояние общества с современным
состоянием низших классов, мы придем к тому же результату.
Возьмите работу дикаря, с одной стороны, и труд современного
фабричного — с другой. Дикарь собирается построить себе жилище. Он сам
выбирает годные для его цели деревья, сам валит их, сам свозит на
место, сам делает сруб и доканчивает хижину. Хижину он, положим,
наверное, слепил очень плохую, но не в том дело. Во все время
работы он жил полной жизнью. В то время как он потел и надрывался в
лесу, он работал не только физически; выбор деревьев, места для
провоза их, места для постройки — все это требует известной
умственной напряженности. Кроме того, во все время работы дикарь думает
о своей будущей жизни в той хижине, над постройкой которой он
бьется, о тех удобствах, которыми украсится его жизнь и жизнь его
семьи; на эти мысли его наводит каждый угол, каждая щель. В то же
время он вносит в план хижины свою убогую идею красоты и
пускает в ход все свои скудные физико-математические знания. Словом,
дикарь живет во время работы всем существом своим. Совершенно
противоположную картину представляет работа современного
фабричного в тех областях труда, которые подверглись наибольшему
числу дифференцирований. Например, производство карманных
часов, по Беббеджу17, состоит из ста двух отдельных операций, по числу
отдельных частей часового механизма; так что из сотни людей,
занятых этим делом, каждый всю жизнь сидит над одними и теми же
колесами или винтиками, или зубчиками, и только
мастер,.складывающий разрозненные части механизма, умеет делать что-нибудь кроме
своего специального дела. Понятное дело, что это однообразие
занятия исключает какую бы то ни было умственную деятельность, или,
по крайней мере, низводит ее до возможного minimum'a. Как говорит
Шиллер: вечно возясь с каким-нибудь обрывком целого, человек и
сам превращается из целого в обрывок В тульском оружейном
заводе разделение труда доведено до такой степени, что мастер не только
всю жизнь свою делает собачки, или курки, или сверлит стволы, но
передает свое мастерство детям по наследству. Постоянное и
однообразное занятие естественно должно выразиться не усложнением,
96
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
а упрощением организации, должно провести в организме более
или менее глубокую, так сказать, борозду однородности, которая и
без того, в силу наследственной передачи особенностей организма,
может усвоиться потомством, а в этом случае естественный
фактор — наследственность усиливается содействием социального
фактора. Понятно поэтому, что в ряду поколений тульских оружейников
мы должны встречать все больший и больший переход от
разнородности к однородности. Предки их делали все ружье и потому должны
были принимать в соображение такие данные, которые совершенно
не нужны и непригодны потомкам, только сверлящим стволы или
делающим курки. Поэтому предки были разнороднее потомков, и в
то же время появление этих специалистов-потомков способствовало
увеличению разнородности общества, т. е. его развитию.
Делая свой очерк социального развития, Спенсер ссылается на
труды экономистов, в которых с достаточной подробностью
описывается переход промышленной организации от однородности к
разнородности при помощи разделения труда. Но Спенсер как будто
забывает при этом, что если не цеховые экономисты, то некоторые
из их противников не менее подробно рассматривали двойственное
значение разделения труда, именно свойство его, придерживаясь
терминологии Спенсера, увеличивать разнородность общества и
вместе с тем уменьшать разнородность рабочего. Это двойственное
значение разделения труда было замечено довольно давно. Уже Ксе-
нофонт18 утверждал, что некоторые промыслы развивают
односторонность в труде, отчего притупляется ум, теряющий способность
охватывать явление более или менее широко. Отрывочные указания
этого рода можно найти и у Платона19, и у других мыслителей
древности. В новейшее же время заключающаяся в разделении труда
антиномия обращала на себя внимание весьма часто. Что касается до
двойственного значения разделения труда в области мысли,
умственной деятельности, то в числе указывающих на него мы можем
напомнить такие имена, как Бокля, Конта, а пожалуй, отчасти даже и самого
Спенсера. В сфере труда физического та сторона разделения труда,
которая упускается из виду экономистами, с особенным тщанием
разбиралась социалистами. Наконец, не было недостатка и в более
широкой точке зрения. «В Системе экономических противоречий»
Прудона антиномичность разделения труда разработана с обычной
силой этого великого мыслителя. Шиллер посвятил этому вопросу
Что такое прогресс?
97
несколько блестящих страниц в своих письмах «об эстетическом
развитии человека». Токвиль20 прямо говорит, что «ничто более
разделения труда не способствует принижению духовной деятельности
человека» (La Démocratie etc., I, 493). В прославившейся на святой
Руси книге добродушного и туповатого буржуа Смайльса21 (ст. 290
первого издания) читатель найдет превосходную характеристику
значения разделения труда, принадлежащую, впрочем, не самому
Смайльсу. Словом, вопрос этот не только давным-давно поставлен, но
с фактической стороны уже и решен людьми всех возможных
партий. Спенсер мог уклониться от выражения сочувствия или
несочувствия к субъективной и телеологической стороне выводов
вышеприведенных исследователей, но заявленный ими факт стоит твердо и
непоколебимо и не подлежит ни малейшему сомнению: разделение
труда ведет общество, агрегат неделимых, от однородности к
разнородности, а отдельных индивидуумов, наоборот, от разнородности к
однородности. Экономисты, на которых ссылается в этом случае
Спенсер, игнорируют этот факт, но с их специальной точки зрения
(а эта точка зрения сама представляет результат разделения труда
в области мысли) факт этот действительно незаметен. Спенсер же
ставит вопросы так широко, даже так слишком широко, что
необходимо должен был пополнить этот недосмотр. Добросовестнейшие
политико-экономы сами сознаются (хотя на деле часто забывают
это), что их точка зрения чисто условная, что истины, добываемые
ими, только приблизительны, что «потом приближение должно быть
исправлено принятием в расчет действий тех побуждений другого
рода (т. е. побуждений, не могущих быть сведенными к желанию
богатства, на котором политическая экономия строит свои выводы), о
которых может быть показано, что они влияют на результат в
отдельном данном случае» (Милль). А так как нельзя быть в одно и то же
время судьей, ответчиком, прокурором и адвокатом, то политической
экономии, усвоившей известную специальную точку зрения на
явления общественной жизни, весьма трудно дать требуемые в этом
случае поправки. Но если велик недосмотр экономистов, безданно и
беспошлинно пропускающих принцип разделения труда в том виде, как
его поставил Адам Смит, то тем поразительнее недосмотр Спенсера.
Он смотрит на весь мир с высоты философского парения и, тем не
менее, кладет во главу угла не только промышленной организации,
как это делают экономисты, а всего общественного и даже мирового
98
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
строя, принцип разделения труда в его сыром и непереваренном
виде. К учению экономистов Спенсер находит нужным сделать
только одно дополнение, в сущности уже отмеченное самими
экономистами. «Долго спустя после того, как произошел уже значительный
прогресс в разделении труда между различными классами рабочих, —
говорит он, — незаметно еще было почти никакого разделения труда
между отдельными частями общины: народ продолжал быть
сравнительно однородным в том отношении, что в каждой местности
отправляются одни и те же занятия. Но по мере того, как дороги и
другие средства перемещения становятся многочисленнее и лучше,
различные местности начинают усваивать себе различные отправления
и становятся во взаимную зависимость. Бумагопрядильная
мануфактура помещается в одном графстве, суконная — в другом; шелковые
материи производятся здесь, кружева — там; чулки в одном месте,
башмаки — в другом; горшечное, железное, ножовое производства
избирают себе, наконец, отдельные города, и в заключение каждая
местность становится более или менее отличной от других, по
главному роду своего занятия». Конечно, все эти дифференцирования
способствуют переходу общества от однородности к разнородности,
но роковая двойственность разделения труда сказывается и здесь:
часть местности, занимаемой обществом, положим, город, совмещал
в себе прежде весьма разнообразные промыслы, но в силу
социальных дифференцирований из него выделяются мало-помалу
различные ветви промышленности, и к тому времени, когда в нем остается
только разросшееся горшечное или ножовое производство, — город
стал однообразен, перешел от разнородности к однородности.
Возьмем еще один пример — из области искусства. Первобытный человек,
чувствуя радость при каком-нибудь приятном для него случае,
совершенно так же, как современный ребенок, прыгает, возвышает голос и
бьет рукой по какой-нибудь попавшейся ему вещи, способной
издавать более или менее гармонические звуки. Если волнение,
испытываемое при этом человеком, очень сильно, то тройное сочетание
ритма в речи, в звуке и в движении получает значительное развитие,
и человек пляшет, поет и играет. Умер у первобытного человека
ребенок — он точно так же выражает свое горе, единовременно пуская в
ход свой голос и мерно раскачивая туловище или голову. Собирается
он на войну — и его возбужденное состояние выразится также
единовременно в воинственной музыке, в воинственном пении и в во-
Что такое прогресс?
99
инственных телодвижениях. Таким образом, в этом отношении
первобытное общество значительно приближается к полной
однородности: все члены его одинаково выражают свои страсти. Но каждый
из них выражает свои чувства вполне разнородно, всеми доступными
ему средствами. С течением времени нарушаются как первобытная
однородность общества, так и первобытная разнородность
неделимого, и факты эти идут совершенно параллельно, потому что они
представляют только две различные стороны одного и того же
явления. На каком-нибудь современном музыкально-танцевальном
вечере вы встречаете весьма разнообразно составленный оркестр
музыкантов, неподвижно играющих какую-нибудь задорно веселую пьесу,
множество молчаливо кружащихся пар, а в соседней комнате певца,
поющего на языке, непонятном для присутствующих. Общество
стало, без всякого сомнения, разнороднее вследствие того, что в нем
явились специалисты-музыканты, певцы, танцоры и поэты, тогда как
прежде были просто люди, в известные моменты жизни
единовременно пляшущие, поющие и играющие. Стал разнороднее и язык
страстей и душевных движений вообще, но отдельно взятые
молчаливые танцоры и неподвижные музыканты, очевидно, перешли от
разнородности к однородности. Они стали однороднее уже потому,
что выражают свое возбужденное состояние одним каким-нибудь
способом. Далее, если они посвятили себя специальной разработке
этого способа и находят в нем средство существования, то по мере
того, как они все глубже и глубже уходят в музыку или пение, в них
все больше и больше глохнут способности и силы, для их цели
ненужные и потому неразвиваемые. Наконец, они стали однороднее
еще в одном отношении, обусловливающемся дифференцированием
труда и наслаждения, которым необходимо сопровождаются
социальные дифференцирования. Но эту последнюю сторону вопроса мы
пока оставим под спудом, так как она слишком близко связана с
телеологическим смыслом слова «прогресс», а этот элемент заранее
устранен Спенсером. Как мы видели, он понимает под прогрессом
или развитием не усовершенствование или улучшение, а просто
последовательный ряд изменений, каковы бы ни были их результаты по
отношению к человеческому счастью. Становясь опять-таки на эту
его точку зрения, мы все-таки встречаем странный пробел в его
выводах и рассуждениях, не менее странный, чем тот, который мы
отметили в статье «Польза и красота». Сравнивая те и другие промахи,
100
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
мы найдем между ними значительное сходство. Мы видели, что
Спенсер, указывая искусству области, откуда оно должно брать для себя
темы, видел только, так сказать, динамические социальные
контрасты, контрасты во времени, и как будто закрывал глаза перед
социальными контрастами в пространстве; мы видели также, что
логически он не имел на это никакого права, и удивлялись его странной
слепоте. В его теории социального развития забыты и недостаточно
оценены те же контрасты в пространстве, и опять-таки он делает при
этом логическую ошибку. Дело идет о том, чтобы доказать, что всякое
развитие происходит по типу развития органического, т. е.
переходит из простого и однородного к сложному и разнородному путем
последовательных дифференцирований. Все идет как по маслу вплоть
до очерка развития социального. Здесь оказывается, что если
общество и испытывает ряд изменений, подобных изменениям
развивающегося организма, то входящие в состав его неделимые изменяются
по направлению, как раз противоположному. Спенсер этого не
замечает. Он как будто не видит, что дифференцирование труда
физического, умственного, дифференцирование общества на резко
отличные классы, дифференцирование вознаграждения за труд на
прибыль и заработную плату, дифференцирование жизни на труд без
наслаждения и наслаждение без труда и т. д. — что все эти
дифференцирования, способствуя переходу общества от однородности к
разнородности, в то же время способствуют переходу неделимых от
разнородности к однородности. Невозможно предположить, чтобы
Спенсер, так широко захватывающий явления, ни разу не наткнулся
во все время своего исследования на эту сторону вопроса. Она
пахнет трудовым потом, кровью, горем и страданием, и потому
социологическое чутье легко может открыть ее. Но, даже совершенно
отстраняясь от оценки гнета, которым ложится факт на человечество,
можно все-таки увидеть самый факт, и Спенсер действительно видел его,
подошел к нему вплотную, но придал ему весьма второстепенное
значение.
Рядом с процессом дифференцирования в акте развития, по
Спенсеру, имеет место процесс интеграции, в сущности представляющий
только другую сторону первого процесса. Например, Спенсер
указывает на то, что слой желчных клеточек, составляющий зачаток печени,
«не только становится отличным от кишечной стенки, на которой он
лежит вначале, но в то же самое время отделяется от нее и слагается
Что такое прогресс?
101
в орган». В целом это явление представляет обособление органа, но в
нем можно различать две части: процесс, которым желчные клеточки
получают характер, отличный от некоторых свойств кишечной
стенки, есть процесс дифференцирования, перехода от однородного к
разнородному; другой процесс состоит в том, что желчные клеточки
сливаются в один орган, — это процесс интеграции, перехода от
разнородности к однородности. Очевидно, что эти два процесса
неотделимы один от другого, что они взаимно пополняются и что там, где
есть один, должен быть непременно и другой. Словом, если развитие
есть переход от однородного к разнородному, то развитие целой
агрегации может совершаться только на счет ее составных частей,
которые при этом переходят от разнородности к однородности. Какие
же социологические приложения этого в высшей степени важного
принципа мы найдем у Спенсера? А вот какие: «Соединение младших
и их детей под начальством старших и их детей; установление
различных групп вассалов, из которых каждая подчинялась особому
барону; подчинение групп низших дворян герцогам и графам; наконец,
еще более позднее установление королевской власти над герцогами
и графами» — вот некоторые примеры социальной интеграции. Мы
опять-таки видим, что в целом каждое из этих явлений представляет
обособление функций, но при этом возникновение, например,
королевской власти может быть рассматриваемо, с одной стороны, как
результат дифференцирования общества, а с другой — как продукт
интеграции, так как герцоги и графы уже тем самым, что повинуются
одному владыке и отказались от части своих прав, — перешли от
разнородности к однородности. Но все эти неважные, мелкие
частности совершенно бледнеют перед роковым вопросом, на который нет
ответа у Спенсера. Если всякое развитие целого может совершаться
только на счет развития частей, если во всяком частном акте
развития существуют два элемента: один активный, прогрессирующий,
переходящий от однородности к разнородности, и другой
пассивный, так сказать, жертва развития, переходящий от разнородности
к однородности, — то как отзывается развитие общества на судьбе
его членов? Ответ ясен: если общество переходит от однородности
к разнородности, то соответствующим этому переходу процессом
интеграции граждане общества должны переходить от разнородно-
сти к однородности. Словом, прогресс индивидуальный и развитие
°бщества (по типу органического развития) взаимно исключаются,
102
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
как взаимно исключаются развитие органов и развитие
неделимого. Чем проще, специальнее органы, тем вся организация неделимого
разнороднее и, так сказать, энциклопедичнее, и наоборот. Точно так
же, чем разнороднее общество, тем уже поле развития его членов и
тем они однороднее. В некоторых частных областях, именно в
области экономических явлений, эта двойственность замечена давно.
Но Спенсер воспользовался только одной стороной экономического
анализа и вовсе не воспользовался своим собственным, чрезвычайно
ярким сопоставлением процессов дифференцирования и
интеграции. А между тем, анализируя процесс социального развития, он
необходимо должен был обратить внимание на это обстоятельство и
придать ему такое значение, какого оно не имеет ни в каком другом
порядке фактов. Действительно, если орган и представляет жертву
развития неделимого, если он и интегрируется, в то время как
неделимое дифференцируется, то это дело вполне законное, потому что
орган, строго говоря, есть всегда часть и только путем отвлечения
может рассматриваться как целое. Но неделимое есть, наоборот,
всегда целое и может рассматриваться как часть ввиду только некоторых
специальных целей. Поэтому оно не может приноситься в жертву
развитию идеального целого, каково общество. И, если это общество
развивается по типу органического прогресса, т. е., переходя от
однородности к разнородности, т. е., дробясь на классы, подклассы и т. д.,
то, непосредственно исходя из закона Бэра, мы должны признать
такое явление патологическим, а не нормальным развитием, потому
что неделимое при этом переходит от разнородности к
однородности, т. е. регрессирует. Чего хотят сторонники так называемого
женского (а в сущности в такой же мере и мужского) вопроса? Они
требуют для женщин расширения умственного горизонта и известного
участия в общественных делах, т. е. индивидуальной разности,
которая должна отозваться на обществе уменьшением его разнородности,
ибо до известной степени сглаживает разницу между мужчинами и
женщинами. Чего хотят их противники? удержать status quo, т. е.
односторонность женщины и разнородность общества. В чем состоят
реформы нынешнего царствования? — в уменьшении общественной
разнородности и в усилении разнородности индивидуальной. Чего
добиваются аболиционисты? — сглажения различий между белым и
цветным населением, т. е. социальной однородности, и вместе с тем
расширения прав цветного народа и поднятия его нравственного и
Что такое прогресс?
103
умственного уровня, т. е. индивидуальной разнородности. Словом,
всякий общественный вопрос поднимается в обеих этих формах
сразу, потому что всегда и везде дифференцирование общества, как
целого, сопровождается интеграцией граждан как частей. Спенсер
как будто не замечает этого. Сопоставляя этот промах с
запрещением искусству передавать жизнь и дела своего времени, мы должны
прийти к заключению, что источник того и другого заблуждения
один и тот же. И там и здесь Спенсер упускает из виду одно и то же.
И это нечто, игнорируемое им, такого свойства, что читатель может
подумать, что он имеет дело с заклятым поборником тьмы, с одним
из тех людей, которые, под видом погони за истиной, защищают
сознательно и злонамеренно все существующее, насколько оно для них
оказывается выгодным. Если бы дело было только в этом, то наша
задача была бы очень проста, до такой степени проста, что совестно бы
было даже возиться с ней так долго. Но ниже мы приведем некоторые
выписки из Спенсера, которые должны совершенно изгладить из ума
читателя столь невыгодное и позорное мнение об авторе, если оно
уже в нем зародилось. Если даже предположить, что корень ошибок
Спенсера лежит в его нравственном складе, то к нему нельзя
подступать с грубым масштабом, на котором обозначены только аршинные
мерки бесчестности, сознательной лжи и пр. Дело во всяком случае в
более тонких и неуловимых оттенках нравственного и умственного
характера.
IV
Чтобы исчерпать промах Спенсера до дна, посмотрим на
устанавливаемую им аналогию между организмом и обществом. Параллель
между организмом естественным и социальным не новость. Кроме
Платона и Гоббза22, о которых говорит Спенсер, бесчисленное
множество всякого рода мыслителей и писателей трактовали об этом
предмете. Мы напомним только Шеллинга23, Гете24, затем целую
немецкую юридическую так называемую «органическую» школу25,
наконец, множество частных сравнений между обществом и неделимым,
например, избитое уподобление истории общества детству,
молодости, зрелости и смерти неделимого и т. д. Как-то недавно нам
попался под руку старый номер «Библиотеки для чтения», а в нем статья
«Идея организма», где покойник Эдельсон26 тоже что-то в этом роде
104
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
хотел выразить. Но все эти попытки были или слишком туманны
и неопределенны, или уж слишком нелепы, и, наконец, проходили
совершенно бесследно вследствие очевидной произвольности
построения. Теперь идея социального организма начинает поднимать
голову в совершенно ином виде. Прежде она систематически
разрабатывалась главным образом натурфилософами и юристами, и если
попадалась где-нибудь в другом месте, то большей частью только как
более или менее удачная метафора. Теперь же систематическое
развитие идеи социального организма принимают на себя такие люди,
как Дрэпер27, Спенсер, люди, обладающие значительными знаниями
в сфере точных наук, привыкшие к здравому и трезвому мышлению.
Вследствие этого идея социального организма получает особенный
интерес; притом же едва ли не впервые она проводится ясно и
последовательно, вследствие чего становится возможным уловить ее суть.
Спенсер начинает коротким общим обзором пунктов сходства
и различия между обществами и индивидуальными организмами.
Пунктов сходства он указывает четыре. Во-первых, как общества, так
и организмы, начинаясь соединением небольшого числа частей,
постепенно так увеличиваются в объеме, что некоторые из них
достигают размера, в десять тысяч раз более первоначального. Во-вторых,
и те и другие развиваются по одному типу, переходя от простого к
сложному. В-третьих, и в тех и в других постепенно развивается
взаимная зависимость частей, так что, наконец, жизнь и деятельность
каждой части обусловливаются жизнью и деятельностью остальных
частей. В-четвертых, элементы организма и общества рождаются,
развиваются, действуют и умирают каждый сам по себе; между тем
как целое продолжает жить и переживает одно поколение
элементов за другим. Эти пункты сходства представляются Спенсеру весьма
значительными и важными, тогда как, наоборот, пункты различия —
гораздо менее резкими. Их тоже четыре. Во-первых, организмы
имеют специфические внешние формы, тогда как общества их не имеют.
Но это различие сглаживается, по мнению Спенсера, как
неопределенностью форм некоторых низших животных, так и тем более
общим фактом, что внешняя форма организмов и обществ «зависит от
окружающих условий». Надо правду сказать, что это уже слишком
общий факт, потому что внешняя форма неорганических тел точно
так же зависит от окружающих условий. Гораздо остроумнее
соображения, противополагаемые Спенсером второму и третьему пунктам
Что такое прогресс?
105
различия. Живые элементы общества не образуют такой сплошной
массы, какова живая ткань организма. Но это различие, рассуждает
Спенсер, собственно не существует, ибо как организмы развиваются
из неорганизованного вещества, в котором рассеяны
организованные точки, так и члены политического тела физически отделены
друг от друга промежутками не мертвого пространства, занимаемого
фауной и флорой, т. е. жизнью низшего разряда; и эта низшая жизнь,
от которой зависит существование человека и общества,
необходимо должна быть включена в понятие социального организма.
Живые элементы организма большей частью неподвижны, а элементы
организма социального способны передвигаться. И это различие не
важно и только поверхностно, говорит Спенсер. В качестве
общественных деятелей люди, в сущности, неподвижны: сельский хозяин,
мануфактурист и т. д. функционируют на одном и том же месте, и
если отлучаются навсегда или на время, то оставляют кого-нибудь
вместо себя. Четвертый пункт различия есть самый важный как по
мнению Спенсера, так и по нашему. «В теле животного только
известный род ткани одарен чувствительностью, в обществе же все члены
одарены ею». Этот довод Спенсер старается ослабить, во-первых, тем,
что в некоторых низших животных, не имеющих нервной системы,
обладаемая ими слабая чувствительность распределена одинаково на
все части.
«Кроме того, — говорит Спенсер, — мы должны помнить, что и
общества не лишены некоторого дифференцирования в этом роде.
Единицы общины хотя и все чувствительны, но чувствительны не
в равной степени. Сословия, занимающиеся земледелием и вообще
тяжелыми работами, гораздо менее впечатлительны как в
умственном отношении, так и в отношении душевных волнений, нежели
другие сословия: особенно резко отличаются они в этом случае от
сословий, получивших высшее умственное образование. Но все-таки
этот пункт представляет довольно резкий контраст между
политическими и индивидуальными телами, которого никогда не
следует упускать из виду, потому что он напоминает нам, что между тем
как в индивидуальных телах благосостояние всех частей вполне
подчинено благосостоянию нервной системы, в приятном или
болезненном возбуждении которой заключается все благо или зло в
жизни, — о политических телах нельзя сказать того же. Пусть жизнь
отдельных частей животного поглощается жизнью целого, оно так и
106
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
следует, потому что это целое имеет корпоративную сознательность,
способную ощущать наслаждение или страдание. Общество же дело
другое: его живые единицы не утрачивают и не могут утратить
индивидуальной сознательности, а община, с другой стороны, не
имеет корпоративной сознательности как целое. Это-то и есть главная
неизменная причина, по которой благосостояние граждан никогда
не может быть справедливо жертвуемо для какого-то воображаемого
блага государства, а, напротив того, государство должно
существовать единственно только для блага граждан. Корпоративная жизнь в
этом случае должна подчиняться жизни отдельных частей, а не жизнь
отдельных частей — корпоративной жизни» (Опыты. Социальный
организм. Т. I, с. 426).
Казалось бы, последнее различие до такой степени существенно и
важно, что его одного было бы достаточно для уничтожения
параллели между организмом и обществом. «Не забывать» его, как
советует Спенсер, и в то же время настаивать на аналогии — невозможно.
Но Спенсер настаивает и потому, как увидим, забывает.
Более подробный разбор фактов, оправдывающих уподобление
общества живому телу, Спенсер начинает с низших ступеней
органической жизни и с первых стадий общественного развития, и затем
шаг за шагом следит за дальнейшим усложнением тех и других.
Он проводит последовательно параллели: между
микроскопическими растениями и животными, обнаруживающими крайне простое
строение, и агрегатами их, состоящими из независимых единиц, с
одной стороны, и первобытными общинами, состоящими из
независимых и равных людей — с другой; между следующими ступенями
органической жизни, проявляющими уже относительно
значительную степень «физиологического разделения труда», т. е. обособления
и специализации тканей и органов — и теми фазами развития
общества, в которых экономическое разделение труда произвело первые
кастовые дробления; между образованием животных колоний из
нескольких нецелостных неделимых и слитием однородных групп в
одно племя; между почкованием и раздроблением племени
вследствие недостатка пищи и проч. Во всех этих случаях Спенсер
уподобляет социальный строй не столько отдельным организмам, сколько
агрегациям организмов и, например, полипняк может
рассматриваться и действительно рассматривается многими как ассоциация
полипов, а сравнение общества с обществом для нашей ближайшей
Что такое прогресс?
107
цели особенного интереса не имеет. Смотреть ли на гидру, на полип-
няк и т. д. как на организм социальный или естественный — этот
вопрос может быть решен только после окончательного и подробного
рассмотрения пунктов сходства и различия между обществом и
неделимым. К этой специальной цели своего исследования Спенсер и
обращается далее. В зародыше, говорит он, масса клеточек отлагает
периферический слой, который в дальнейшем развитии распадается
на два: внутренний — слизистый, и внешний — серозный. Из
слизистого слоя развивается питательный аппарат, из серозного — аппарат
внешней деятельности. «Из первого образуются те органы, которыми
приготовляется и поглощается пища, втягивается кислород и
очищается кровь; тогда как из последнего образуются нервная, мышечная и
костная системы, соединенным действием которых совершаются
движения тела как целого». В развитии общества происходят
совершенно параллельные явления. Общество дифференцируется на
управляющих и управляемых, которые, усваивая себе различные
функции, становятся позднее друг к другу в отношения «вольных
людей и рабов, дворянства и крепостных». Правящий класс
функционирует как серозный слой органического зародыша, управляет
внешними действиями общества, так как класс управляемых, подобно
слизистому слою, более и более исключительно занимается снабжением
общества пищей. «Впоследствии, по мере того как рабочий слой
удаляется все более и более от дел общества и утрачивает свою силу в
них, он ограничивается почти исключительно процессами
добывания продовольствия, между тем как дворянство, переставая
участвовать в этих процессах, посвящает себя управлению движениями
политического тела». Далее, появлению в организме естественном
промежуточного сосудистого слоя, из которого образуются главные
кровеносные сосуды, в организме социальном соответствует
образование среднего, торгового сословия. Как на этой ступени развития
организма пища передается от слизистого слоя к серозному не
непосредственно, а при помощи сосудистого слоя, так и в обществе
предметы потребления передаются не прямо рабами господам, а при
посредстве купцов. Кровь живого тела соответствует массе продуктов,
находящихся в обращении в политическом теле; нервная система —
правительственной организации; кровеносные сосуды — путям
сообщения; мозг — парламенту и т. д., и т. д. Спенсер самым
добросовестным образом исполняет заданную им себе работу. Некоторые из
108
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
частных аналогий, на которые он при этом наталкивается,
чрезвычайно остроумны. Так, например: «Кровеносные сосуды получают
определенные стенки — дороги окапываются и усыпаются щебнем».
Или сравнение двойного пути рельсов железной дороги, разносящих
единовременно общественные токи по двум противоположным
направлениям, — с артериями и венами. Или, наконец, сравнение мозга
с парламентом. Новейшая психология, говорит Спенсер, принимает,
что «головной мозг занимается не прямыми впечатлениями извне,
а представлениями этих впечатлений: вместо действительных
ощущений, производимых в теле и непосредственно оценяемых
чувствительными узлами или первичными нервными центрами, головной
мозг получает только представления этих ощущений, и
сознательность его называется представительной (representative), для отличия
от первоначальной, непосредственно воспринимающей впечатления
сознательности». «Не знаменательно ли, — восклицает Спенсер, —
что мы напали на то же самое слово для обозначения функции нашей
палаты общин? Мы называем ее представительным собранием,
потому что интересы, которыми она заведует, страдания и наслаждения,
о которых она совещается, не прямо ощущаются ею, а
представляются ей различными членами» (1,455). Все эти сближения очень
остроумны, но тем не менее неизбежно возникает вопрос: какая их цель,
зачем Спенсер положил на эту эквилибристику столько труда и
терпения? Мы не привели и четвертой доли его соображений по этому
поводу; он следит за частными проявлениями своей аналогии по всем
тончайшим разветвлениям организмов естественного и социального.
К чему это? Не думает же он установить новый вид — societas? Вообще
теоретическое значение уподобления общества организму — вещь
очень темная, но Спенсер имеет в виду и его практическую цель. Он
полагает, что аналогия эта, подводя под одни и те же законы явления
жизни общественной и органической, может способствовать
развитию той и другой отрасли знания; что физиология и социология
могут взаимно обмениваться своими специальными истинами. В
особенности он рекомендует физиологам употребление особого метода,
который он называет социологическим. Метод этот состоит в том,
чтобы изучать организованные тела не только прямо и
непосредственно, а и косвенно, изучая тела политические. От приложения
этого метода Спенсер ожидает в будущем значительных шагов
вперед для физиологии, но до сих пор может указать только одни пункт,
Что такое прогресс?
109
заимствованный физиологами у социологии — именно понятие
физиологического разделения труда. Выражение это, кажется, впервые
употреблено Мильн-Эдвардсом28 для тех процессов обособлений
тканей и органов, сумма которых составляет органическое развитие,
то есть переход его от однородного к разнородному, от простого
к сложному, от общего к частному. Это в сущности метафора, весьма
удобная и обрисовывающая данное явление в высшей степени
рельефно; но построить на ней, как это делает Спенсер, идею
тождественности прогресса органического и социального и идею
социального организма невозможно. Прежде всего, следует заметить, что
физиологи изобрели выражение «физиологическое разделение
труда» не вследствие самостоятельного наблюдения явлений
общественной жизни, а взяли его целиком у экономистов. Экономисты же
вплоть до Уэкфильда принимали принцип разделения труда во всей
той эмпирической неполноте, с какой он явился в знаменитом труде
Адама Смита «О богатстве народов» (Беккариа29, впрочем, еще
раньше указал на его значение). Уэкфильд первый из экономистов
заметил, что разделение труда есть только частное проявление гораздо
более общего факта, именно кооперации; что сочетание труда или
кооперация безусловно способствует усилению производительности
труда; но что она не исчерпывается разделением труда; что есть
другой тип кооперации, именно простое сотрудничество, и что в этом
вопросе экономисты принимали часть за целое, что имело весьма
печальные для науки последствия. В простом сотрудничестве
несколько человек одинаково помогают друг другу в одном и том же
деле; при разделении труда, напротив, несколько человек помогают
друг другу различно, раздробляя всю операцию на части и выбирая
себе каждый отдельную часть. «Различие между простым и сложным
сотрудничеством очень важно, — говорит Уэкфильд (С. Миллъ.
Основания пол. эк., 1,166). — В простом человек всегда сознает, что
сотрудничает с другими; взаимное содействие тут очевидно самому
невежественному и тупому взгляду. В сложном сотрудничестве только очень
немногие из множества занятых им людей хотя несколько сознают,
что содействуют друг другу. Причину этого различия нетрудно
понять. Когда несколько человек поднимают одну тяжесть или тащат
один канат в одно время и в одном месте, тут невозможно
сомневаться, что они сотрудничают друг с другом: этот факт вносится в мысль
простым чувством зрения. Но когда разные люди работают в разное
по
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
время, в разных местах, над разными делами, их сотрудничество не
так прямо замечается, хотя они столь же положительным образом
содействуют друг другу: чтобы заметить этот факт, нужна сложная
умственная операция». К этому следует только прибавить, что
отмеченная нами выше и незамеченная Спенсером двойственность
разделения труда, требуя сложных умственных операций, в то же время
отнимает у рабочих способность к ним. В этом последнем обстоятельстве
заключается и то коренное различие разделения труда
физиологического и экономического, которое делает их принципами
несоизмеримыми, взаимно исключающимися, вместе с чем рушится здание
социального организма и тождественности прогресса
органического и социального.
Когда яйцо, из которого должен вырасти человек или животное
дифференцируется на слои серозный, слизистый и сосудистый, то
этим явлением обусловливаются зачатки физиологического
разделения труда. С течением времени каждый из этих слоев
дифференцируется в ткани и органы, из которых каждый исполняет какую-нибудь
одну специальную функцию. Одни берут на себя труд переваривать
пищу, другие воспринимать впечатления, третьи передавать
организму кислород воздуха и выделять углекислоту, четвертые исполнять
внешние движения по повелениям центрального органа нервной
системы и т. д. Чем ярче обозначена здесь специализация функций,
тем организм стоит выше на зоологической лестнице, тем он
развитее, тем он сложнее. В этом постепенном усложнении путем
физиологического разделения труда между органами состоит великий
Бэров закон органического развития. Если мы видим, что органы
неделимого все более специализируют свои отправления и тем
способствуют усложнению целого, мы говорим, что организм
развивается, прогрессирует. Если бы случилось, что борьба за
существование поставила неделимое в такие условия, что некоторые органы его
перестали действовать, вследствие чего произошло упрощение
организации, мы сказали бы, что неделимое регрессирует. Глаза
пещерных животных вследствие долгого неупотребления перестают
функционировать, иногда веки их срастаются и покрываются шерстью.
Ясно, что неделимые стали однороднее своих зрячих родичей; труд
передачи впечатлений от внешнего мира, распределявшийся прежде
между пятью органами чувств, распределяется теперь только между
четырьмя. Физиологическое разделение труда стало менее полным
Что такое прогресс?
111
и потому животное регрессирует. Рабочие пчелы и муравьи, как
известно, бесполы. С другой стороны, способные к воспроизведению
самцы и самки неспособны к работе, что, разумеется, также
коренится в некотором упрощении организации. Так как бесполые муравьи и
пчелы должны были явиться, очевидно, позднее плодовитых, то было,
значит, время, когда пчелы и муравьи были единовременно способны
и к работе, и к произведению новых особей и когда, следовательно,
физиологическое разделение труда между органами пчел и
муравьев было полнее теперешнего: в каждом из них функционировали
и органы работы, и органы воспроизведения. Под влиянием каких же
условий произошло ослабление физиологического разделения труда
и, следовательно, понижение организации, упрощение, регресс? Под
влиянием разделения труда экономического. Когда муравьи и
пчелы бессознательно поделили между собой свой общественный труд,
так что одни стали только работать, а другие только воспроизводить
новых особей, то путем естественного подбора это экономическое
разделение труда в ряду поколений атрофировало ненужные для
каждого из специальных трудов способности и силы. Итак,
экономическое разделение труда повело к ослаблению разделения труда
физиологического и таким образом понизило уровень развития
муравьев и пчел.
Человеческое общество устроено, разумеется, не хуже
муравейника или улья. Экономическое разделение труда играет в нем не менее
значительную роль. И если мы не дожили еще до бесполых рабочих,
то дожили, по крайней мере, до теории «морального воздержания».
А это уже немало, это уже идея бесполого рабочего, которую уму
человеческому, пожалуй, и удастся обратить в плоть и кровь.
Экономическое разделение труда, то есть разделение труда между отдельными
неделимыми, составляет, как видно из Спенсерова очерка
социального развития, базис всей нашей культуры. И любопытно проследить
за связью его с физиологическим разделением труда, то есть с
разделением труда мевду органами. Связь эта та же самая, что и в
истории муравейников и ульев. Когда правящий класс окончательно
дифференцировался из однородной массы первобытного общества и
оставил за собой труд умственный, а труд физический предоставил
управляемым, то это был первый шаг экономического разделения
тРУДа. При этом нервная система управляемых постепенно должна
была упрощаться, вместимость черепа и размер умственных способ-
112
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ностей — уменьшаться, так как в последних предстояла все меньшая
и меньшая надобность: за управляемых думали управляющие. Значит,
пределы физиологического разделения труда сузились. То же самое
произошло и в среде правящего класса. По мере того как
представители его все больше углублялись в выпавшую на их долю часть труда,
их мускульная система слабела, кости становились тоньше и хрупче.
Дальнейшая специализация индивидуальных отправлений
сопровождается и дальнейшим ослаблением физиологического разделения
труда. В сфере труда физического мы имеем, например, сапожника
или портного, который, не говоря уже об его умственной слабости,
постоянно сидя на корточках и только делая однообразные
движения руки развил в этой руке некоторые мускулы, но зато мускулы ног
его ослабели. В предке его, который делал столько же сапог,
сколько изнашивал их, труд одинаково распределялся по всем органам,
тогда как в потомке функционирует гораздо меньшее число
органов. В сфере умственного труда мы имеем, например, замечательно
умных людей, лишенных эстетического чувства. Число этих
примеров может быть увеличено до бесконечности. Но и этого
достаточно, чтобы видеть, что физиологическое и экономическое разделение
труда взаимно исключаются, что чем сильнее последнее, тем слабее
первое. Следовательно, взаимно исключаются и прогрессы
органический и социальный, как его понимает Спенсер, что мы уже, впрочем,
видели в предыдущей главе. Исчезает или, по крайней мере, сводится
на простую метафору и параллель между организмом и обществом,
потому что параллель эта имеет смысл только при сходстве между
понятиями об органах и неделимых, а такого сходства в
действительности нет. Орган представляет собой определенную часть
неделимого, известным специальным образом функционирующую и не
могущую жить своей собственной, отдельной, самостоятельной
жизнью. Неделимое может жить самостоятельно, если все органы,
входящие в состав его, исполняют свои специальные обязанности. Мы не
можем себе представить руки, языка, ноги вне организма, тогда как
без особенного напряжения воображения можем думать о человеке
вне общества, а тем более представить себе несоциальное низшее
животное. В «Основаниях биологии» Спенсер, перебрав несколько
существующих определений неделимого и показав трудность
решения этого вопроса, останавливается, наконец, на следующей
формуле: «Биологический индивид есть конкретное целое, имеющее
Что такое прогресс?
113
строение, позволяющее ему, при известных условиях, постоянно
приспособлять свои внутренние отношения к внешним так, чтобы
поддерживалось равновесие его отправлений» (207). Это значит, что
каждая ступень органического развития, то есть каждый вид, имеет
известную сумму отправлений, распределенных мевду его органами
таким образом, что все они функционируют единовременно. Член
социального организма, очевидно, не подходит под это определение,
и, следовательно, Спенсеров социальный организм состоит не из
индивидов. Но это и не органы, потому что они имеют способность
страдать и наслаждаться, которой органы лишены. Неделимое всегда
будет искать наслаждения и бежать страдания, и эти стремления, как
положительное, так и отрицательное, необходимо отзовутся на всем
строе социального организма и отзовутся болезненно вследствие
антагонизма между частями его: что выгодно для одной, то невыгодно
для другой. И, в конце концов, социальный организм должен рухнуть,
как рушится он уже в теории от собственного бессилия.
Для выяснения значения идеи социального организма мне
хотелось бы представить читателю воззрения Дрэпера на социальный
организм, так как он выражается грубее и нагляднее. К несчастью,
у меня нет под руками ни «Умственного развития Европы» ни
«Гражданского развития Америки», ни «Физиологии» Дрэпера, который
проводит свою любимую идею социального организма во всех этих
сочинениях. Но вот отрывок из одной моей коротенькой старой
заметки по поводу «Истории гражданского развития Америки». Если
читатель незнаком с этой книгой, так увидит в чем тут суть.
«Сущность взглядов Дрэпера на социальный прогресс составляют
следующие две мысли: ход развития общества и ход развития
неделимого тождественны, так что каждое неделимое представляет собой
образец общества в малом виде; далее — "великая цель природы
заключается в достижении господства разума". Мы не говорим уже о
том, что странно приписывать какие бы то ни было цели природе,
но мы сейчас увидим, в чем собственно состоит господство разума, о
котором мечтает Дрэпер. По отношению к интеллектуальной силе он
делит все последовательные ступени проявления органической
жизни на три типа. Низшие организмы подобны автоматам и действуют
совершенно бессознательно, нервная система их совсем не развита.
На высшей ступени к автоматизму присоединяется инстинкт, не
вытесняя его, однако; здесь мы находим усложнение нервной системы,
114
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
образование нервных узлов, словом, обособление, специализацию
отправлений. Наконец, в высших животных формах это обособление
достигает высшей точки своего развития, результатом чего является
образование мозговой массы — "интеллектуального аппарата",
наряду с которым продолжают существовать аппараты автоматический и
инстинктивный. В человеке роль автоматического аппарата играет
спинной мозг, действия которого чисто механические; нервные узлы,
в которых находятся нервы обособленных чувств, представляют
собой аппарат инстинктивный, а головной мозг есть "поприще идей,
царство мысли, орудие, посредством которого действует ум".
Геология и палеонтология показывают, что появление организмов,
последовательно населявших землю, следует тому же плану, т. е. в более
древних пластах мы встречаем животные формы с наиболее простой
нервной системой, которая в позднейших типах все более и более
усложняется, пока не достигнет, наконец, последней фазы своего
развития в человеке. Наконец, та же последовательность замечается и
в развитии человека, начиная с эмбрионального состояния. Из всего
этого Дрэпер и заключает, что цель природы есть господство разума.
К этому стремится каждый человек, рассматриваемый и как
неделимое, и как член общества. Для достижения господства разума в
обществе Дрэпер хочет его построить по тому же плану, по которому
слагается организм неделимого высшего типа, т. е. обладающего всеми
тремя ступенями развития нервной системы. В его обществе, таким
образом, должны быть члены, специально посвятившие себя
нервной деятельности — это головной мозг общества. С другой стороны,
самая многочисленная часть общества должна посвятить себя работе
(физической), едва выучиваясь чему-нибудь, не относящемуся к
ежедневному труду; всякого усовершенствования она достигает простым
подражанием. Оно повинуется своим наследственным инстинктам,
не имея никакой идеи ни о прогрессе, ни о развитии. Управляемая
внешними явлениями и своими собственными побуждениями, она не
способна ни к комбинациям, ни к обобщениям. Ее движение вполне
зависит от скрытого влияния внешних деятелей. Эта обширная
масса, подобно облаку, стремится к своей участи, по направлению ветра»
(ст. 269). На с. 48 Дрэпер также высказывает мысль, что «в членах
каждого общества должны быть различные степени ума». Такой порядок
вещей он почему-то называет господством разума... Положив, таким
образом, резкую границу между трудом физическим и умственным,
Что такое прогресс?
115
Дрэпер проповедует дальнейшую специализацию труда и новые его
дробления. Как видит читатель, это один из образцов
злоупотребления законом Бэра. Бэр выразил сущность органического прогресса
формулой: «последовательный ряд изменений приводит однородное
к разнородному». Это одно из плодотворнейших обобщений
современной науки; но именно исходя из этого закона, на котором
Дрэпер и другие строят идею социального организма, мы и не признаем
этой идеи. Общество есть не организм, а совокупность неделимых
организмов; оно состоит не из органов, специально
предназначенных для того или другого отправления, а из неделимых, имеющих
все органы и потому исполняющих всю сумму отправлений. Идея
социального организма находится в прямом противоречии с
законом Бэра, и можно только удивляться близорукости ее защитников,
которые хотят опереться на этот закон. Превращение организма
(неделимого) в орган, сопровождаемое нарушением его целостности и
независимости, есть развитие разнородного в однородное, общего
в специальное, многостороннего в одностороннее, а
следовательно, такое превращение ни в каком случае не может быть подведено
под закон Бэра. Это развитие патологическое, а не физиологическое,
а идея социального организма — «двойная бухгалтерия». Закон Бэра
есть закон нормального, физиологического развития. Вступая в
качестве социального органа в дрэперовский социальный организм,
суживая свою деятельность, разжаловывая себя, если можно так
выразиться, индивидуум тем самым нарушает этот закон, т. е. развивается
анормально. Из всего его существа упражняется и развивается только
ничтожная часть; все остальное глохнет, замирает. Органический
прогресс, по закону Бэра, состоит в усложнении организации; здесь
мы видим совершенно противное. Ясно, что защитники идеи
социального организма, думая сделать общество логическим выводом из
природы, делают его антитезой ее. Но идея социального организма
ложна не только в принципе, она не может и фактически
осуществиться. В результате бесконечной специализации труда
получаются не целые индивидуумы, а только, так сказать, известные части их;
но это все-таки не органы, они не теряют способности страдать и
наслаждаться, что составляет существенную, характеристическую черту
неделимого. Эта способность есть, без сомнения, лучший пробный
камень для проверки дрэперовского обобщения, неверность
которого доказывается заключающимся в нем противоречием: в организме
116
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
страдают и наслаждаются не части, а целое, а в обществе наоборот,
и, следовательно, нет никакого подобия между обществом и
неделимым.
Последнее обстоятельство напоминает нам, что Спенсер, советуя
не забывать, по его собственному мнению, важнейший пункт
различия между обществом и организмом, тем не менее забыл его. И
забвение это всего ярче проглядывает в наиболее остроумной частности
его аналогии — в параллели между парламентом и головным мозгом.
Если головной мозг неделимого получает не действительные
ощущения, непосредственно оцениваемые нервными узлами, а
представления этих ощущений, то тем не менее организм, обладая
корпоративной сознательностью, страдает и наслаждается весь. Вследствие
этого, выражаясь метафорическим языком спенсеровой аналогии,
интересы мозга солидарны с интересами целого организма, и в нем
не найдется ториев и вигов, радикалов и чартистов. Но английским
рабочим ничуть не легче от того, что их интересы и страдания не
непосредственно ощущаются палатой общин, а «представляются» ей.
В организме все-таки страдает и наслаждается целое, а не части; в
обществе все-таки страдают и наслаждаются части, а не целое. И
никакое остроумие, никакая эрудиция не в силах стереть эту коренную
разницу, связанную с коренной разницей между разделением труда
физиологическим и социальным, которая, в свою очередь,
связывается со столь же коренной разницей между развитием органическим
и социальным.
Итак, в третий раз Спенсер проходит с закрытыми глазами мимо
человеческих радостей и горестей, хотя все три раза крылья его
мысли вплотную касаются тех и других, и проходит он мимо них
на самые разнообразные лады. Предписывая искусству изображать
только прошлую жизнь, он минует тревоги настоящего по простому
недосмотру, так как принцип контраста не исключает из задач
искусства передачи современных явлений. Проводя параллель между
прогрессом органическим и социальным, он отворачивается от
счастья человечества сознательно, потому что прямо заявляет о своем
неуважении к этой точке зрения. Устанавливая аналогию между
организмами естественным и общественным, он обходит страдание и
наслаждение человека по двойному недосмотру: забывает не только это
страдание и наслаждение, но и свое собственное напоминание о них.
Если бы во всех этих трех случаях он действительно дошел до исти-
Что такое прогресс?
117
ны — мы бы ни слова не сказали и не могли сказать против его
объективного метода. Успех в этом случае оправдал бы средства, как бы
мы на них ни смотрели безотносительно к результатам. Но мы видим,
что этого нет; мы видим, напротив, что во всех этих трех случаях он
впадает в грубые ошибки. И так как в силе ума Спенсера сомневаться
невозможно, то сам собою представляется вопрос: законно ли
устранение телеологического элемента из социологических исследований,
может ли объективный метод дать в социологии благие результаты?
Может быть, социолог не имеет, так сказать, логического права
устранить из своих работ человека как он есть, со всеми его скорбями и
желаниями, может быть, грозный образ страдающего человечества,
соединившись с логикой вещей, мстит всякому, кто его забудет, кто не
проникнется его страданиями; может быть, объективная точка
зрения, обязательная для естествоиспытателя, совершенно непригодна
для социологии, объект которой — человек — тождествен с
субъектом; может быть, вследствие этой тождественности мыслящий
субъект только в таком случае может дойти до истины, когда вполне
сольется с мыслимым объектом и ни на минуту не разлучится с ним, т. е.
войдет в его интересы, переживет его жизнь, перемыслит его мысль,
перечувствует его чувство, перестрадает его страдание, проплачет его
слезами. Есть некоторые основания думать, что это предположение
верно, и сочинения Спенсера представляют обильные намеки на то,
что объективный метод, единственно плодотворный в
естествознании, бессилен в социологии.
Во-первых, вы видели, что ошибки Спенсера совпадают с
устранением из социологических исследований телеологического элемента,
что в таком сильном мыслителе весьма характеристично.
Во-вторых, некоторые частные исследования Спенсера, в
которых он становится на субъективную точку зрения, заключают в себе
истины бесспорные и притом диаметрально противоположные тем
выводам, которые вытекают из его исследования прогресса. Мы
рассмотрим один такой случай. Дело идет о причинах разнообразия и
однообразия слова писателей. Так статья и называется: «Философия
слога». «Отчего Джонсон напыщен, а Гольдсмит прост? —
спрашивает Спенсер (I, 91). — Отчего один автор отрывочен, другой плавен,
третий сжат? Очевидно, что в каждом частном случае обычный
способ выражения зависит от обычного настроения. Преобладающие
чувства постоянным упражнением приучили ум к известным пред-
118
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ставлениям. Но между тем как продолжительным, хотя и
бессознательным упражнением он достиг того, что с силой передает эти
представления, он остается по недостатку упражнения неспособным к
передаче других, так что когда возбуждаются эти более слабые чувства,
в обычных словесных формах происходят только легкие изменения.
Но пусть сила речи вполне разовьется, пусть способность рассудка
выражать душевные волнения достигнет совершенства, тогда
неподвижность стиля исчезнет. Совершенный писатель будет выражаться,
как Юниус, когда он будет в таком же расположении духа, как Юниус;
когда он будет чувствовать, как чувствовал Ламб, он употребит столь
же простую речь; он впадает в резкость Карлейля, когда придет в
настроение Карлейля». Говоря о «совершенном» писателе, Спенсер
тем самым выдвигает нечто желательное, ставит некоторый идеал,
к которому приглашает стремиться, т. е. вводит в свое рассуждение
субъективный и телеологический элемент. Желательно, разумеется,
не то, чтобы тот или другой писатель обладал совершенным слогом,
желательно, чтобы все они достигли этого совершенства. Но когда
слог каждого писателя можно будет выразить формулой: (Юниус +
+ Ламб + Карлейль + и т. д.), то очевидно, что вся группа писателей
будет вполне однородна именно потому, что каждый из них
вполне разнороден: формула каждого из них состоит из весьма
длинного ряда слагаемых и потому выражает собой факт весьма сложный
и разнородный; но так как все писатели выражаются одной и той
же формулой, то вся масса их будет совершенно однородна — ни у
одного из них не будет, в сравнении с остальными, ничего лишнего
и ничего недостающего. Следовательно, если мы мысленно
изолируем всех писателей от остальной массы общества и представим себе
группу их как нечто целое, то окажется, что Спенсер, как раз
наоборот тому, что он говорил о всем обществе, требует для нашей группы
писателей полной однородности в целом и полной разнородности
для каждого отдельно взятого писателя. Если мы на вопрос о слоге
взглянем несколько глубже, то противоречие это станет еще более
ясным. Разнообразие слога обусловливается количеством чувств,
волнующих писателя, а количество и напряженность чувств зависит от
среды, в которой обращается писатель. Представим себе
разнородное общество, т. е. общество, дифференцированное на определенное
количество слоев. Писателей выставят, разумеется, не все эти слои.
Так, в XVII столетии литература принадлежит во Франции дворян-
Что такое прогресс?
119
ству и духовенству и выражает чувства, обычные для этих классов.
Сообразно этому слог принимает известный специальный
характер у Корнеля и Расина, с одной стороны, у Боссюэта и Фенелона —
с другой. Затем вырезывается третье сословие в лице так называемой
литературы просвещения — представитель новых чувств и,
следовательно, нового слога. Так как дворянская литература и духовная еще
продолжают существовать бок о бок с этой литературой среднего
сословия, то появление последнего увеличивает разнородность
общества и разнородность массы писателей: к дворянскому слогу и слогу
духовенства прибавляется еще третий. Но этот порядок вещей
тянется недолго, и среднее сословие весьма быстро превращается в
широкий нивелирующий поток. Чувства, волнующие вновь народившийся
общественный слой, охватывают все общество, и революция стирает
аристократию и духовенство. Они еще пробуют бороться, пробуют
отстаивать свои специальные чувства и свой специальный слог, но
безуспешно. Ночь 4 августа имеет в истории слога свой
параллельный факт, хотя и не столь резко обозначенный. С точки зрения
учения Спенсера о прогрессе вообще, это явление регрессивное, потому
что общество перешло от разнородности к однородности. Не говоря
уже о том, что это прямо вытекает из его общей теории, он говорит
в этом смысле и об этом частном случае. «Политический взрыв, —
говорит он, — с самого начала стремится изгладить
правительственные и промышленные специализации, существовавшие прежде.
Недовольство, производящее такой взрыв, само по себе предполагает
уже ослабление уз, связывающих граждан в отдельные классы и
подклассы! Агитация, вырастающая в революционные митинги,
обнаруживает решительную склонность к слиянию слоев, обыкновенно
отдельных друг от друга» (Основные начала, 291). И все «такие
изменения не только не составляют дальнейшей степени развития, но,
напротив, представляют собой шаги к разложению» (Ibid., 189). Это
совершенно последовательно, что касается до прогресса
социального, т. е. развития идеальной, юридической личности. Но введя в свое
рассуждение судьбу личности реальной, Спенсер должен прийти
к заключению совершенно противоположному. Действительно, если
среднее сословие стало выражать, в придачу к тем чувствам, которые
прежде волновали только его, также и те, которые прежде составляли
монополию дворянства и духовенства; если оно таким образом не
заговорило общечеловеческим языком только потому, что четвер-
120
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
тое сословие еще ждало своей очереди для внесения своих чувств
на арену истории и литературы, то ясно во всяком случае, что слог
писателей третьего сословия стал разнороднее слога писателей
дворянства и духовных, т. е. писатели, по крайней мере по отношению
к слогу, стали совершеннее. Итак, писатель тем совершеннее, чем он
разнороднее и чем общество, в котором он действует, однороднее,
а между тем социальный прогресс состоит в переходе от
однородного к разнородному. Это противоречие объясняется, во-первых, тем,
что, трактуя о совершенстве слога писателя, Спенсер становится на
субъективную точку зрения, которая исключается им из
исследования законов социального прогресса; а во-вторых, тем, что в первом
случае он берет во внимание тот элемент, который устраняет во
втором, т. е. прогресс индивидуальный. Нетрудно видеть, что совпадение
этих двух обстоятельств не случайное; что всякий раз, как Спенсер
станет на телеологическую точку зрения, он необходимо должен
будет принять в соображение судьбу не общества, а неделимого, и что,
наоборот, следя за судьбой неделимого, он необходимо станет на
телеологическую точку зрения, т. е. выставит некоторую цель, которой
желательно достигнуть.
Нетрудно, наконец, видеть и то, что только в этом случае он
может прийти к результатам, бесспорно истинным. Если бы Спенсер
рекомендовал не физиологам социологический метод, а, наоборот,
социологам метод физиологический, то, исходя из того же закона
Бэра, который составляет основание его выводов, он пришел бы к
совершенно иным результатам. По этому закону организм тем
развитее, тем выше, чем он сложнее, чем физиологическое разделение
труда между его органами обозначено резче и яснее. Организм
прогрессирует, когда он усложняется, т. е. переходит от однородности
к разнородности, и регрессирует, когда упрощается, т. е. переходит
от разнородности к однородности. Это истина бесспорная. Если
индивидуальный организм нисходит до степени специального органа
в организме социальном, то тем самым он переходит от
разнородности к однородности, следовательно, регрессирует. В то же самое
время социальный организм становится разнороднее,
следовательно, прогрессирует. Какое из этих взаимно исключающихся
движений следует принять за действительно прогрессивное? Объективная
точка зрения не дает руководства для выбора. Она говорит только,
что прогресс есть переход от однородного к разнородному. А так
Что такое прогресс?
121
как в истории движение общества именно в этом отношении
обозначено, за весьма, впрочем, значительными исключениями, весьма
явственно, то для объективной точки зрения этого и достаточно:
общество прогрессирует, хотя и давит при этом личность, заставляя
ее переходить от разнородности к однородности. Не то будет, когда
мы станем на противоположную точку зрения: когда мы, признав, что
общество, как личность идеальная, не живет и не умирает, не страдает
и не наслаждается, возьмем за центр своего исследования мыслящую,
чувствующую и желающую личность. Естественным образом мы
признаем при этом прогрессивным только такое движение, которое
увеличивает массу наслаждений этой личности и уменьшает массу
ее страданий. Мы знаем далее, что нарушение равновесия органов,
развитие одного из них в ущерб другому или другим, болезненно
отзывается на личности и отнимает у нее самое очевидное благо —
здоровье. Кроме того, такое нарушение равновесия ставит одну
личность или одну группу личностей в зависимость от другой, которой
удалось развить в себе более выгодную физиологическую функцию,
так что первая так или иначе становится по отношению ко второй
в более или менее замаскированное положение раба. Наконец, так
как каждое естественное физиологическое отправление составляет
источник наслаждения, то неделимое тем счастливее, тем полнее и
многостороннее идет в нем физиологическая работа. С этой точки
зрения прогресс выразится усложнением организма, переходом его
от однородности к разнородности, хотя бы такой переход
обусловливался обратным движением для общества; переход же общества от
однородности к разнородности будет признаком регресса. Которое
из этих решений правильнее, которое из них логически вытекает из
закона Бэра? Очевидно, второе, потому что индивидуальный прогресс
есть тот же прогресс органический, только в общественной среде.
И прийти к этому второму решению Спенсеру помешало тщательное
устранение вопроса о человеческом счастье. И натолкнуть его на это
решение мог только этот вопрос. В этой каре человеческой логики
за забвение человеческих интересов есть знаменательное указание,
преследующее Спенсера во всех его ошибках, придающее им вид
необыкновенной, странной грубости. Что может быть грубее и
очевиднее его ошибки относительно задачи искусства? И произошла она
от того, что для него как бы не существуют социальные контрасты,
порожденные тем процессом дифференцирований общества, кото-
122
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
рый он называет социальным развитием. И когда сопоставляешь эти
примеры со множеством светлых, блестящих мыслей того же автора,
то вопрос о законности объективного метода в социологии встает
все назойливее и назойливее.
Для подробной оценки значения этого метода да позволено нам
будет сделать небольшое, а может быть, и довольно длинное
отступление. Но нам не хотелось бы расставаться с читателем, не устранив
одного возможного недоразумения. Нам не хотелось бы, чтобы
читатель подумал, что для нас золотой век человечества лежит не впереди,
а позади, не в будущем, а в прошедшем. Мы не признаем доктрины
Руссо30, которая, однако, несомненно верно указывает свойства
некоторых сторон цивилизации. Не становимся мы и в ряды поклонников
Древней Греции (весьма многочисленных сравнительно очень
недавно), хотя опять-таки и в их мнении есть значительная доля
правды. С одной стороны, общество еще никогда не достигало и не может
достигнуть состояния полной гармонии. С другой стороны,
насколько цивилизация двигалась путем раздельного труда, она
несомненно имела указанный выше двойственный характер. Но разделением
труда не исчерпывается кооперация, и наряду с ним существовало
и существует простое сотрудничество, т. е. сочетание труда равных
людей, преследующих одну и ту же цель. И все будущее принадлежит
этой форме кооперации.
V
Сравнивая несколько более или менее удаленных друг от друга
исторических периодов, мы замечаем большую или меньшую
разницу в соответствующих им состояниях общества. Мы видим
различную группировку сил политических и экономических, различные
способы производства богатств, различные типы их распределения,
различные степени власти над природой, различные нравственные
уровни, различные степени интеллектуального развития,
наклонности к войне и торговле и т. д. Если, далее, мы достаточно
подготовлены умственной работой над самими собой и над окружающими нас
фактами, то мы без труда заметим некоторую связь между взятыми
нами периодами в их последовательности; промежуточные фазы еще
настойчивее укажут на эту связь. Но от этого смутного сознания
существования известной правильности в последовательной смене
Что такое прогресс?
123
исторических фактов еще далеко до отчетливого представления и
формулирования самой этой правильности. Мы скорее угадываем,
нежели сознаем отчетливо и ясно, что есть некоторый порядок в
появлении на исторической сцене и исчезании с нее всех этих великих
героев и пошлых негодяев, мирно занявших по три аршина земли
для своего последнего жилища; всех этих глубоких дум, сильных
чувств и страстных желаний, то сданных нами в архив, то
превращенных в знамя нашей деятельности; всех этих потрясающих картин
скорби и радости, в которых мы можем участвовать только мыслью;
всех этих разнообразных отживших форм общежития и
миросозерцания. Перед нами развертывается такая необъятная перспектива
прошедшего, в которой различные общественные элементы, по-
видимому, самым причудливым образом скрещиваются,
переплетаются, цепляются друг за друга, сходятся и расходятся на тысячах
пунктов, как неровные звенья множества перепутанных цепей. И
ориентироваться в этой сложной сети тем труднее, чем дальше мы
подвигаемся в густую чащу исторических фактов. Но нас гонят
нужды настоящего, нас душит страх за будущее, и мы все тщательнее и
внимательнее ищем такой пункт, с которого было бы всего удобнее
осмотреть всю расстилающуюся за нами историю, чтобы по ней
определить наше будущее. Здесь мы встречаемся с очень крупными
затруднениями. Чтобы уловить законы социальной динамики, т. е.
общественного прогресса, мы должны единовременно следить за
движением всех общественных элементов сразу. Мы ищем не
историю войны, торговли, экономических отношений, верований,
нравственных, эстетических идеалов и т. д. Мы ищем законы,
управляющие единовременным движением всех этих элементов. Если мы
ухватимся за один какой-нибудь социальный элемент, почему-либо
бросившийся нам в глаза, и по движению этой части будем судить о
развитии целого, то вся история естественно окрасится для нас
односторонним и ложным светом. Такие попытки приурочить прогресс
общества к движению одного из социальных элементов бывали. Так
Боссюэт31, например, принял за точку исхода христианство, элемент,
без всякого сомнения, в новой истории весьма важный, но не единый
и не всеобъемлющий. Наряду с христианством в новом обществе
самостоятельно существуют более или менее крупные обломки
римского права, существуют наука, промышленные отношения и
общественные учреждения, отнюдь не захватываемые историей христиан-
124
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ства. Ошибка Боссюэта, несмотря на некоторые несомненные
достоинства и важное значение его знаменитого Discours, уже
слишком груба. Христианство представляет собой фактор, резко
определенный во времени и пространстве, имеющий свое, известное нам,
относительно близкое историческое начало и известное
географическое распространение. Мы знаем безошибочно, что были времена,
когда христианства не было, и что есть места, где христианства нет.
Поэтому принятие его развития за центральный фактор социальной
динамики может ввести в заблуждение очень немногих. Боссюэт со
своей точки зрения весьма последовательно разрубил гордиев узел
дохристианской истории на манер Александра Македонского,
вычеркнув из древней истории все народы, за исключением еврейского,
в котором он видит приготовление, так сказать, задаток
христианства. Но многими историками весь прогресс человечества
приурочивается к факторам, гораздо более общим и тем не менее все-таки
недостаточно общим для освещения хода развития всего общества
в целом. Таково, например, стремление к политической свободе,
теряющееся во мраке доисторических времен, с одной стороны, и
заявляющее себя в сегодняшнем номере либеральной газеты - с
другой, и имеющее заявить себя и завтра и послезавтра в той или другой
форме, существующее в различной степени и в Китае, и в Англии,
и в Южной Америке, и в Норвегии. Несмотря, однако, на общность
этого элемента и могучесть его, как социального двигателя, мы не
можем признать его элементом первенствующим, достаточно
широким для поглощения остальных. История политической свободы и
даже стремления к ней не есть история человечества; и, приняв ее за
исходный пункт изучения социальной динамики, мы принуждены
будем обойти значительную часть фактов совсем, а другую
значительную часть представить в совершенно неверном свете. Мало того,
игнорируя элементы равносильные и, быть может, даже более
сильные, нежели стремление к политической свободе, мы необходимо
извратим и частную историю этого самого стремления. Общество
представляет собой арену бесчисленных действий и
противодействий, и в то же время все его элементы находятся в теснейшей между
собой зависимости, друг друга обусловливая. Так что в этом случае
нам представляется дилемма: или полное и всестороннее уяснение,
или никакого уяснения, даже развития частного факта. Немудрено
поэтому, что вследствие своей сложности вопросы общественной
Что такое прогресс?
125
жизни, остановившие на себе внимание человека почти
единовременно с первыми, азбучными вопросами природы, с точки зрения
научной разработки остались далеко позади последних. Самый
предмет общественной науки — людские отношения — всегда и везде
сосредоточивал на себе особое внимание. Лучшие люди, цвет и красота
человечества, дрались и умирали за тот или другой общественный
принцип, всю душу свою клали в вопросы общественной жизни. Но
рядом с ними работали и работают и те, кто составляет позор и
поношение людского рода. И в этом заключается вторая причина
отсутствия общественной науки. Истины естествознания или вовсе не
затрагивают чьих бы то ни было непосредственных интересов,
за которые обыкновенно человек держится крепче всего, — и в таком
случае большинство относится к ним безразлично, «оставляя
астрономам доказывать, что земля вращается вокруг солнца»; или же они
могут получить немедленное практическое приложение, и в таком
случае принимаются с распростертыми объятиями. Если какое-
нибудь учение о природе и вызывает косые взгляды, то главным
образом потому, что из-за него выглядывает грозный образ какого-либо
учения об обществе. Прошла пора отречения Галилея пред ликом
католицизма, но не скоро Петр перестанет быть вынужденным
отрекаться от Христа пред лицом римских воинов. Истины науки
общественной, вводя в свои формулы такие понятия, как справедливость,
право, нравственность, должны пробиваться на свет Божий под
гнетом общественного расстройства или неустройства, под градом
ругательств, доносов, клеветы и насмешек. Это отражается и на ищущих
истину. Вот две книги: одна трактует о явлениях природы, другая —
о явлениях общественной жизни. Одна написана спокойно,
бесстрастно нацепляет факт на факт и беспрепятственно доходит до
обобщения. В другой не то. Вы видите, что человек захлебывается
теми ощущениями, которые возбуждаются в нем процессом
передачи мыслей; вы можете чуть не по каждой строке судить о биении
пульса писавшей руки; человек любит, ненавидит, смеется и плачет;
вы можете разглядеть следы желчи и слез на бездушной бумаге.
Изложение сбивчиво, неровно, рядом с чисто научной мыслью стоит
едкая полемическая выходка, вызов врагу, улыбка торжества и
презрения; там опять бесспорное наблюдение, бесспорный вывод и
опять дрожь и замирание субъективных взрывов. Но запас
накопленных знаний все-таки растет и растет. Истина и здесь все та же вода,
126
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вылитая по капле на камень, только камень крепче и в воде есть
посторонние, но неизбежные примеси. Нет сомнения, что как в науке о
природе истине удалось выбить из позиции odium theologicum, так
одолеет она соответствующий элемент и в науке об обществе.
Статистики и психологи, социалисты и экономисты, политические
теоретики и историки вносят свою долю в капитал будущей общественной
науки, и все это толкается вперед потребностями и нуждами народов
и обливается бесстрастным, холодным и неотразимым светом науки
о природе. И наступит, наконец, пора, когда побледнеет известный
сарказм Гоббза: если бы и геометрические аксиомы задевали
человеческие интересы, так и они вечно оспаривались бы. Мы имеем право
верить, что наступит такая пора, потому что это вера в силу
человеческого разума и вера разумная.
В первой половине нынешнего века на Западе выросла новая
философская школа, предложившая обойти оба коренные
затруднения социальной науки: сложность явлений общественной жизни и
вмешательство субъективного элемента. Мы говорим о позитивизме.
Представители его явились то независимо друг от друга, то
группируясь около одного какого-нибудь крупного имени, то признавая
себя позитивистами, то отрицая свою солидарность с той или другой
их отраслью. Исключительно опытное происхождение наших
знаний, их относительность, невозможность познать сущность вещей и
вследствие этого необходимость довольствоваться только оценкой
взаимных отношений между явлениями и отсюда выводить их
законы, подчиненность известным законам как явлений физических, так
и социальных, — таковы основные философские принципы,
выставленные новыми теориями в более или менее определенной форме
и в более или менее широких обобщениях. Само собой разумеется,
что принципы эти и в прежние времена выдвигались отдельными
мыслителями. Так, по вопросу об относительности знаний Спенсер
цитирует по Гамильтону следующий список предшественников
позитивизма: Протагор, Аристотель, св. Августин, Боэций, Аверроэс,
Альберт Великий, Жерсон, Лев Еврей, Меланхтон, Скалигер, Франциск
Пиколомини, Джордано Бруно, Кампанелла, Бэкон, Спиноза, Ньютон
и Кант32. И список этот мог бы быть значительно увеличен. Но как
исторический центр тяжести протеста против католицизма выпадает
на XVI век, хотя этому по преимуществу веку реформации и
предшествовали альбигойцы, лолларды, гуситы, так и разрозненные непро-
Что такое прогресс?
127
веденные до конца и растворенные в более или менее чуждой массе
принципы положительной философии, проскальзывающие там и
сям в предшествующие века, не мешают считать началом
позитивизма именно XIX век. Это не значит, разумеется, что принципы
положительной философии во всех сферах знания и жизни получили
должное применение, или что там, где были попытки приложить их к
делу, они везде были приложены должным образом. Положительной
философии несомненно предстоит еще большая и тяжелая работа.
И не только в поступательном движении вперед должна состоять эта
работа, не только в расчистке новых и новых закоулков науки и
жизни, но и в исправлении и пополнении многих важнейших уже
существующих выводов отдельных представителей нового строя мысли.
Школа Огюста Конта, которой преимущественно присваивается
название позитивизма положительной философии, обходит первое
существенное затруднение социальной науки таким образом, что
принимает за центральный фактор социального развития
интеллектуальный элемент. При этом позитивисты очень хорошо
понимают, что умственная деятельность отнюдь не представляет наиболее
сильного социального двигателя; что стремление к истине, к
объяснению мировых явлений не захватывает собой других, гораздо
более могучих деятелей; что интеллектуальный элемент сам
постоянно получает толчки от местных физических условий, от страстей,
потребностей и желаний человека. Позитивисты говорят только, что
умственный элемент имеет значение руководителя в социальном
движении, и им обусловливается количество и качество средств для
удовлетворения человеческих склонностей и желаний. При таких
оговорках понятно громадное научное значение этого принципа.
Он пробивает широкую просеку в дремучем лесу истории и
значительно упрощает задачу социальной динамики. С такой точки опоры
глаза уже не разбегаются по запутанным ходам и переходам
исторического лабиринта: внимание сосредоточивается на движении
одного элемента, и вместе с тем элемент этот таков, что, приняв его
развитие за центральную нить, мы можем связать каждую ее точку
с любым из остальных общественных фактов. Высота умственного
Уровня, свойства верований и мнений в данную историческую
эпоху, определяя нравственный, политический и экономический склад
общества, дают исследователю руководящую нить, без которой он
запутался бы в массе фактов.
128
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Найдя такую выгодную позицию, Конт с высоты ее разделил
историю человечества на три великих периода: теологический,
метафизический и позитивный. В первом люди не имеют понятия о
законосообразности и причинной связи явлений, все совершается
непосредственным вмешательством высших существ, одаренных разумом
и волей. Сначала люди антропоморфизуют единичные предметы,
считают их одушевленными и принимающими участие в судьбе
человека — это возраст фетишизма; за ним следует политеистическое
миросозерцание, уже классифицирующее явление и отводящее в
заведование каждого из высших существ целые ряды фактов; наконец,
является идея монотеизма, стирающая своим величием и
целостностью все отдельные божества предшествующих периодов. На
метафизической ступени развития мысль считает причиной явлений и
их изменений не волю существ, стоящих вне самых явлений, а
некоторые свойства, силы и способности естественных конкретных
деятелей, им присущие. Мысль отвлекает от предмета одно из его
свойств и реализирует свое отвлечение, придавая ему таким образом
отдельное, самостоятельное существование, хотя и связанное с
существованием конкретного факта. Наконец, положительная философия,
оставляя в стороне как сверхъестественных деятелей, так и
метафизические сущности, устремляет внимание человека на самые
явления в их связи с соседними по времени и по пространству. Законы
последовательности и существования явлений — вот все, чего ищет
отрезвившаяся мысль, усталая от погони за конечными причинами и
абстрактными сущностями. Каждая ветвь знания проходит через эти
три фазы развития и каждая принимает, наконец, положительный
характер. Но новый слой мысли не вдруг совершенно стирает
прежние слои, и есть такие отрасли науки, где можно различить все три
формации, существующие единовременно. Таково именно печальное
состояние социологии: в ней бок о бок с проблесками позитивного
строя мысли существуют осколки теологического миросозерцания,
сказывающегося в преобладании воображения над наблюдением,
метафизического — в лице тех учений, которые выводятся из
принципов естественного права и понятия о врожденных идеях. Наличные
политические принципы, как ретроградные, так и революционные, и
ходячие правила морали все вытекают либо из идеи божественного
права, либо из абстракций. Поэтому Конт признает за
«революционной метафизикой» только критическое и отрицательное значение,
Что такое прогресс?
129
выразившееся в борьбе с католицизмом и феодализмом. Затем
дальнейшее существование ее оказывается крайне вредным, потому что
она только «переносит божественное право с королей на народ» или
стремится отодвинуть общество назад под покровом прогрессивных
целей. Положительная же социология хочет только уловить те законы,
по которым акты общественной жизни группируются в данное время
или следуют один за другим. Наличные политические доктрины
имеют в виду исключительно идею порядка или столь же исключительно
идею прогресса, вследствие чего ни те ни другие не могут
удовлетворить научным требованиям. В положительной же социологии оба
эти принципа получают свое настоящее место, причем идея порядка
составляет основание социальной статики, а идея прогресса —
корень социальной динамики. Ищите законы последовательности и
осуществления явлений — таков единственный завет позитивизма,
который, ставя социолога на объективную точку зрения, тем самым
устраняет, по-видимому, и второе больное место социологии.
Как ни соблазнительна мысль подольше остановиться на
исторической и социологической теории Конта, мне приходится
удовольствоваться здесь этим более чем голым остовом и нижеследующими
отрывочными замечаниями. Прежде всего, в контовском огульном
отрицании «революционной метафизики» бросается в глаза
следующее обстоятельство. Все существующие политические теории и
системы делятся для Конта на остатки феодально-католического
миросозерцания, представляемые различными ретроградными партиями;
затем существует промежуточная, лишенная всякой
самостоятельности партия консервативная и, наконец, «революционная
метафизика», куда входят все оттенки критической социальной философии от
некоторых сторон протестантизма до систем и учений,
народившихся во время и после французской революции. Все они, говорит Конт,
не удовлетворяют принципам положительной философии, потому
что все ищут чего-то, кроме законов явлений, или даже вовсе не ищут
последних. Здесь, очевидно, смешаны теоретические посылки с
практическими заключениями. Поскольку какое-либо политическое
учение вытекает из принципов естественного права; поскольку
этическая теория строится на врожденном понятии добра или
справедливости, — и это политическое учение, и эта этическая теория
представляют собой доктрины метафизические. Но дело в том, что
это весьма часто бывает не более как форма, и сквозь эту метафизи-
130
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ческую оболочку, расколотую и надтреснутую, заметно ядро
совершенно иного свойства. Пусть идея souverainite populaire есть понятие
метафизическое, переносящее, как говорит Конт, божественное
право с королей на народы. Но, как справедливо замечает Милль, в этом
принципе следует оценить и другую сторону: «Тут есть также и
положительное учение, которое, без всякой претензии на абсолютность,
требует непосредственного участия управляемых в их собственном
управлении не как естественного права, а как средства к достижению
важных целей, под условиями и с ограничениями, какие
определяются этими целями» (О. Конт и положительная философия). Эта
неразборчивость Конта в поголовном осуждении всех основных
принципов революционных, демократических, либеральных, радикальных,
социалистических и т. д. социологических теорией и школ заводит
иногда его самого в метафизические глубины. Так, например, он
считал вопрос об уничтожении смертной казни совершенно нелепым.
Дело сводилось для него к «метафизическому приравниванию самых
недостойных негодяев к простым больным» (Cours de philosophie
positive, t. IV, 95), что казалось ему «опасным софизмом». Здесь, как и
почти во всех своих нападках на «революционную метафизику», Конт
наполовину прав, а на остальную половину не только не прав, но и
прямо грешит против положительной философии. Действительно,
существует несколько теорий, отрицающих смертную казнь во имя
чисто метафизических положений, но они составляют меньшинство;
большинство же теолого-метафизических теорий выпадает на долю
защитников смертной казни, которые черпают свои доводы из
метафизического вопроса о праве государства наказывать, либо из идеи
абсолютной справедливости, либо из принципа talionis и пр.
Совершенно не таковы в большинстве случаев приемы противников
смертной казни. Ненавистное Конту «приравнивание преступников к
больным» в незначительной степени опирается на чисто научные
психиатрические данные и затем на данные статистические, добытые
опять-таки не метафизическим путем, а путем опыта и наблюдения.
И те и другие свидетельствуют, во-первых, что преступления весьма
часто являются результатом душевных болезней; во-вторых, что
смертная казнь производит на общество деморализующее влияние;
в-третьих, наконец, что человек есть продукт окружающих его
физических и социальных условий и что поэтому только соответственное
изменение этих условий может оказаться в данном случае пригод-
Что такое прогресс?
131
ным средством. Таковы строго позитивные истины, выдвигаемые
противниками смертной казни и редко распространяемые ими на
все виды наказания. Все они резюмируются в одном положении:
смертная казнь не достигает предположенных целей, а иногда даже
приводит к совершенно противоположным результатам. Конт же,
игнорируя воздействие среды на образование характера вообще и на
направление деятельности в том или другом частном случае и говоря
о необходимости смертной казни для «недостойных негодяев», сам
становится на чисто метафизическую точку зрения отвлеченной
справедливости, хотя в его упреках есть несомненно некоторая доля
правды — некоторые теоретические посылки некоторых
противников смертной казни действительно проникнуты метафизическим
характером. Но дело именно в том, что Конт в своей беспощадной
критике известных теорий как бы не в силах отличить метафизическую
оболочку от позитивного ядра. По самому складу своего ума и
согласно общему смыслу своей философии истории Конт превосходно
понял и оценил значение исходных теоретических точек некоторых
наличных политических и этических теорий. Но затем концы этих
теорий, поставляемые ими себе цели и указываемые ими для
достижения этих целей средства не так легко поддаются его анализу. Здесь
сказывается слабая сторона учения Конта, потому что само оно,
собственно говоря, не имеет конца. Действительно, голое положение: все
совершается по известным законам — не дает руководящего
принципа. Приняв его в основание, можно показать, по каким побуждениям
предки наши поступили в таком-то случае так или иначе. Точно так
же потомки наши, зная, что мы действуем под напором тех или
других космических и социальных условий, сумеют связать эти условия
со свойствами нашей деятельности. Словом, отойдя на известное
историческое расстояние от событий, можно, заручившись только
одним принципом позитивизма и достаточным количеством знаний,
показать, как должны были действовать участники событий. Но
деятели настоящего времени из убеждения в законосообразности
явлений могут почерпнуть правила для самых противоположных
практических применений, потому что убеждение это не ставит цели, а дает
возможность добиться целей самых разнообразных. С первого раза
может показаться, что основной принцип позитивизма, напротив,
Должен устранять надежды добиться целей, не согласных с
известными законами явлений общественной жизни. Но дело в том, что явле-
132
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ния эти до такой степени сложны, что управляющие ими законы
могут комбинироваться весьма разнообразно, и среди этой запутанной
сети могут быть преследуемы самым позитивным образом самые
разнообразные цели. Поэтому всякая этико-политическая доктрина
имеет свой девиз, которым, как целью, суммируются практические
мотивы; на знамени позитивизма такого девиза нет. Его принципы
чисто научные, а не философские. Позитивизм гордится тем, что в нем
философия и наука сливаются в одно целое, и гордится совершенно
справедливо. Не признавая за принципами позитивизма
философского значения, я разумею только, что он не захватывает всех сторон
жизни. Принцип законосообразности явлений чист и безупречен как
дева. Но как дева он может остаться бесплодным, в нем самом нет
оплодотворяющего начала; как за деву, за него нельзя поручиться —
в чьи руки он попадет и что даст человечеству. Конт и сам чувствовал
это. «Надо тщательно стараться, — говорит он, — чтобы научное
убеждение в подчиненности социальных явлений неизменным
естественным законам не выродилось в систематическую наклонность к
фатализму и оптимизму, однако безнравственным (dégradants) и
опасным, а потому только те могут с успехом заниматься
социологией, чей нравственный уровень достаточно высок» (Cours de phil. pos.,
t. IV, 191). Глубокий смысл этих слов я постараюсь разъяснить ниже.
Но почему, с точки зрения позитивизма, фатализм и оптимизм
безнравственны и опасны? «Не восхищаясь политическими фактами и
не осуждая их, — говорит Конт, и слово в слово повторяет за ним
Льюис, — положительная социология, как и все остальные науки,
видит в них только простые предметы наблюдения и рассматривает
каждое явление с двоякой точки зрения — его гармонии с
существующими фактами и его связи с предшествующими и последующими
состояниями человеческого развития» (Cours, IV, 293, русский перевод
книги Льюиса о Конте, с. 281). Спрашивается, как связать это чисто
объективное отношение к политическим фактам, во-первых, с
неодобрительными отзывами о фатализме и оптимизме? Это просто
политические факты, не подлежащие осуждению с точки зрения
позитивизма, они необходимо гармонируют с фактами
сосуществующими и находятся в связи с фактами последующими и предыдущими.
Если скажут, что выражениями «безнравственны и опасны» именно и
определяется связь фатализма и оптимизма с последующими
фактами, то это значит только, что программа объективного отношения
Что такое прогресс?
133
к политическим фактам неисполнима; что в области явлений
общественной жизни наблюдение неизбежно до такой степени связано с
нравственной оценкой, что «не восхищаться политическими
фактами и не осуждать их» можно только не понимая их значения. Но
нравственная оценка есть результат субъективного процесса мысли,
а между тем позитивизм ставит себе в особенную заслугу
употребление в социологии метода объективного. Далее, если объективный
метод вполне соответствует социологическим исследованиям, то
зачем же при этом понадобился высокий нравственный уровень?
Значит, одного убеждения в законообразности явлений мало. Прекрасно.
Но чем выразится участие высокого нравственного уровня в
социологических исследованиях? Очевидно, с высоты этого уровня
человек может разглядеть нечто, не поддающееся объективному
исследованию, которое одно признается законным в позитивизме. Таким
образом, оказывается, что в системе Конта чего-то не достает, и чего-
то весьма важного. Я рад, что могу указать, как на подтверждение
своих беглых замечаний, на замечательную статью г-на П. Л. «Задачи
позитивизма и их решение» (Современное обозрение. Май)33.
«Объективный элемент в области этики, политики и социологии, — говорит
почтенный автор, — ограничивается действиями личности,
общественными формами, историческими событиями. Они подлежат
объективному описанию и классифицированию. Но чтобы понять их,
надо рассмотреть цели, для которых действия личности составляют
лишь средства, цели, которые воплощаются в общественных формах,
цели, которые вызвали историческое событие. Но что такое цель?
Это нечто желаемое, приятное, должное. Все эти категории чисто
субъективны и в то же время доступны всем личностям.
Следовательно, входя в исследование, эти явления принуждают употреблять
субъективный метод и в то же время позволяют это сделать вполне
научно» (137). В другом месте г-н П. Л. совершенно справедливо замечает,
что, устраняя субъективный метод в вопросах политики и этики,
позитивизм не может даже оправдать свое собственное существование.
Телеология, в смысле учения о целях, поставляемых себе личностью,
в позитивизме не имеет места вследствие отсутствия субъективного
метода и, следовательно, нравственной оценки. Поэтому когда Конт
или кто-либо из его учеников (последователей его курса
положительной философии, разумеется, а не «позитивной политики»,
потому что последние состоят на совершенно особом положении) одо-
134
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
бряют или порицают какое-нибудь социальное явление, то, как бы
удачна ни была эта оценка, она чужда системе, не связана с ней
органически. Где нет телеологии, там не может быть и правил морали и,
следовательно, ни порицания, ни одобрения, что, как мы видели,
заявляет и сам Конт. Этим же отсутствием телеологии и субъективного
метода в социологии объясняются и недостатки контовой оценки
политических теорий. Там, где достаточно одного объективного
метода, где факт не нуждается в нравственной оценке, Конт с
необыкновенной проницательностью подмечает тончайшие оттенки и
особенности явлений. Таковы почти все частности его анализа трех
способов мышления. Здесь он чрезвычайно тонко и отчетливо
классифицирует явления, подвергая их всестороннему рассмотрению.
Он очень ясно видит, например, что переход от фетишизма к
политеизму (и притом еще через посредство периода звездопоклонства —
astrolatrie) есть не только переход от одной ступени теологического
миросозерцания к другой; что здесь же получает начало и
метафизический строй мысли и идет своей дорогой, в то время как
теологическое мышление, пройдя через политеизм, завершается монотеизмом.
Подобной ясности и отчетливого разграничения различных сторон
одного и того же факта почти и следов нет в его критике
политических теорий. Здесь пункты сходства и различия намечены
непосредственно грубее и, так сказать, топорнее, именно потому, что
объективная классификация оказывается уже в этой области
недостаточной. Вследствие этого позитивизм становится сплошь и рядом
во враждебное отношение к тому, что особенно дорого
современному человечеству, в чем оно видит залог своего будущего счастья, и в
то же время обязан дружить с явлениями, крайне
непривлекательными в нравственном отношении.
Вы давно уже не перечитывали Бальзака, если только
перечитывали, и, по всей вероятности, забыли его. Но вы, может быть, помните
одну сцену из романа «La recherche de l'Absolu», сцену, в которой
целиком сказался причудливый, но громадный талант Бальзака. Клаэс,
ученик Лавуазье, ищет философский камень. Он с утра до вечера
сидит в лаборатории и совершенно разорился ввиду надежды разгадать
великую загадку. Его несчастная жена, которой не до «абсолюта»,
страдает, тоскует, но эти страдания и тоска не существуют для Клаэса.
И когда она плачет, он объясняет ей, что разлагал в своей
лаборатории слезы и что они, те самые слезы, которые текут в эту минуту по
Что такое прогресс?
135
бледному и исхудалому лицу жены, состоят из таких-то и таких-то
элементов, соединенных в такой-то пропорции... Есть что-то
отвратительно жестокое и нечеловеческое в этом химическом анализе
жениных слез. А Клаэс человек добрый, мягкий, а Клаэс стремится всем
существом своим к истине. И вы сразу видите, что это не фальшь, что
различные стороны характера Клаэса не насильственно и
произвольно шиты белыми нитками; что Бальзак воплотил в этом образе
недюжинную мысль. Вы сразу чуете глубокую жизненную правду
этого типа. Он с нами, в переднем углу у нас сидит. Бывают в жизни
народов тревожные минуты, когда Клаэсы призываются к расчету, когда,
вслед за криком: «Республике не нужно химиков!» (быть может,
отклик знаменитых слов Руссо: у нас есть физики, химики и геометры,
но нет больше граждан), погибают великие Лавуазье. Факт
печальный, печальный в особенности потому, что гроза разразилась над
головой Лавуазье, а не мелюзги какой-нибудь. В факте этом можно
различить не только взрыв народных страстей насильственно и,
следовательно, по необходимости неправильно ищущих себе выхода,
а и отклик «революционной метафизики». Пусть так, пусть даже вся
вина падает в этом случае на нее. Но как смотрит на деятельность
Клаэсов позитивизм, преследующий «революционную метафизику»
больше, чем феодально-католическую организацию? и имеет ли он
право отнестись к ней критически? Позитивизм может только
сказать, что феномен слез подлежит известным законам; далее, что
известные условия в одном случае выдвигают людей, химически
анализирующих слезы, а в другом — людей, утирающих их и,
следовательно, анализирующих их с общественной точки зрения. Но затем,
которая из этих деятельностей в данном случае, в минуту плача,
предпочтительнее и обязательнее, на это позитивизм не дает ответа.
Слезы как продукт химико-физиологического процесса, и те же слезы
как результат процесса социально-психологического, и в том и в
другом случае повинуясь известным законам, одинаково требуют
изучения с точки зрения позитивизма. Читатель не станет, разумеется,
придираться к нам, напирая на то, что Клаэс ищет философский
камень, «абсолют», а не законы явлений, и что поэтому, по
классификации Конта, его место в метафизическом периоде. Не в том здесь дело.
Если даже Бальзак не имел этого в виду, то мастерской образ Клаэса
невольно просится на более широкий пьедестал. Он представитель
науки для науки и специальности для специальности. Он глух к скор-
136
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
би человеческой, он ее не слышит или относится к ней объективно,
но он ищет истину, он стремится уловить законы, по которым
группируется известный ряд явлений; его анализ слез может даже
пригодиться на что-нибудь очень важное, хоть он этого и не сознает. Клаэс,
анализирующий человеческие слезы в момент плача, как химик, —
позитивист. Если бы он столь же строго научно исследовал их
с социально-психологической точки зрения, он был бы также
позитивист. Но тем не менее вы чувствуете, что это два совершенно
различных типа, две противоположности, которые не совсем удобно
помещать под одну и ту же рубрику. И я полагаю, что любая этико-
политическая доктрина сумеет разглядеть яркую черту, разделяющую
эти два миросозерцания, и только позитивизм, как он существует в
настоящую минуту, т. е. при объективном методе в социологии, не
увидит ее. Было бы весьма любопытно проследить, как Конт, в
особенности в шестом томе своего курса философии, искал выход из
этого положения. Как известно, он перешел, наконец, открыто к
субъективному методу, но тогда этот могучий, но усталый и близкий к
совершенному помешательству ум мог создать только «Позитивную
политику». Однако только гениальный сумасшедший мог выработать
этот культ человечества, что же касается сотрудников журнала «La
philosophie positive», признающих своей только первую половину
деятельности Конта и настаивающих на необходимости
объективного метода в решении этико-политических вопросов, то мы должны
откровенно сказать, что не видим ничего, кроме общих мест, в их
попытках создать этику и политику. Наиболее низкая ступень
позитивной лестницы прогресса, на которую может быть поставлен Клаэс,
есть age de speciality, находящийся у предцверия самого позитивизма,
да и этого часто мало. Правда, может быть, никто больше самого
Конта не преследовал этого agede speciality (причем значительную роль
играло личное раздражение), к которому он иногда относится даже
строже, чем к «революционной метафизике». Но такое
отрицательное отношение к деятельности Клаэсов есть чисто личное дело
Конта, отнюдь не обязательное для позитивизма как философской
системы. Во-первых, позитивизм обязан не восхищаться фактами и не
осуждать их, а во-вторых, если Клаэсы путем опыта и наблюдения
ищут законы явлений, то они вполне удовлетворяют требованиям
позитивизма. Точно так же, когда Конт говорит: «Эта новая социальная
философия (т. е. позитивная), по природе своей, до такой степени
Что такое прогресс?
137
способна осуществить в настоящее время все законные (legitimes)
желания, какие может предъявить революционная политика» и т. д.
(Cours, IV, 148), когда Конт говорит это, то выражение «законные
желания» совершенно неопределенно. Мы знаем, какие желания
законны с точки зрения наличных политических теорий ретроградных,
консервативных и революционных, с точки зрения индивидуалистов,
социалистов, клерикалов, эклектиков и т. д. Как бы удачно или
неудачно ни были построены эти системы и теории в других
отношениях, но их желания и идеалы очевидны для всех. С точки зрения
объективного метода, составляющего характеристическую черту
позитивной социологии, выражение «законное» желание значит только
«достижимое» желание. Но все существующие и когда-либо
существовавшие этико-политические доктрины признают свои желания
достижимыми. Положим, что позитивизм, так тесно связанный с наукой,
может лучше других философских систем и политических теорий
определить, какие желания достижимы, какие — нет. Но для этого
надо сначала иметь желание, и каждый позитивист, их, разумеется,
имеет, но позитивизм не ставит никаких идеалов, потому что идеал
есть результат субъективного настроения. Много пронеслось над
человечеством недостижимых и в этом смысле незаконных желаний, и
много они загубили умов и жизней. Может быть, величайшая заслуга
позитивизма состоит именно в указании человеку тех границ, за
которыми лежит для него вечная, неодолимая тьма. Стараться
проникнуть за эти границы — значит иметь недостижимые и незаконные
желания. Так учит позитивизм. Мы скажем больше. Эти незаконные
желания составляют грех перед человечеством, служению которому
должны быть посвящены все человеческие силы. Мы говорим о чисто
теоретических вопросах, о сущности и начале вещей, о конечных
причинах и проч. Но в области практических вопросов дело
усложняется как сложностью самых вопросов, так и никакими усилиями
неустранимым — мы надеемся это доказать — вмешательством
субъективного элемента, т. е. личных чувств и желаний54. В каждую
данную минуту по данному практическому вопросу могут оказаться
достижимыми несколько диаметрально противоположных желаний, и
какое решение примет в этом случае позитивист — это определится
личным характером деятеля. Это, конечно, всегда так бывает, и не
с одними позитивистами. Но разница в том, что адепт всякого
другого учения получает в этом отношении от своей доктрины более или
138
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
менее сильный непосредственный толчок в ту или другую сторону.
Адепт же позитивизма не получает от него ничего. Оставаясь
позитивистом, он может пойти направо и налево, может, подобно Дюма,
Нелатону35 и прочим ученым светилам современной Франции,
оказаться покорнейшим слугой Второй империи, а может следовать и
совершенно иной программе. Конт недаром предостерегал своих
учеников, чтобы они не вмешивались в политическое движение,
«которое должно для них, главным образом, служить предметом
наблюдения» (IV, 165); что не мешало ему тут же громить
политический индифферентизм современных представителей науки,
«поистине чудовищный» (IV, 158). Мы говорили, что недостатки контовой
критики существующих политических теорий объясняются
старанием удержаться на объективной точке зрения. С этой точки
зрения ошибочность теоретических посылок некоторых учений видна
до такой степени ясно, что отрицательное отношение к ним
невольно переносится и на другие стороны этих учений. Однако
личные симпатии Конта и его учеников лежат по большей части на
стороне преследуемой ими «революционной метафизики». И
бессилие объективного метода в социологии в особенности
сказывается в тех случаях, когда выступают эти личные симпатии
позитивистов. Очень знаменательны в этом отношении следующие слова
Литтре36: «Есть два социализма (вернее было бы сказать, что в
социализме есть две стороны): один метафизический, другой —
практический, экспериментальный и, в этих пределах, позитивный».
Далее идет речь о кооперативном рабочем движении. «Социалисты, —
продолжает Литтре, — смело предпринимают эти опыты, и науке и
философии остается только изучать их для общего блага» (La
philosophie positive, revue dirigée par E. Littrè et G. Wyrouboff, 1867.
№ 1. Politiqtie). Во-первых, зачем сюда попало «общее благо»? Идея
блага есть идея субъективная и потому не имеющая места при
объективном методе в социологии. Имея ее в виду, пришлось бы
радоваться одним политическим фактам и печалиться о других, а на это
позитивизм не имеет права; он обязан только наблюдать. Далее,
хотя позитивизм и имеет право одобрительно отнестись к
экспериментальной стороне социализма, но он совершенно точно так же
одобрительно должен отнестись и ко всяким социальным опытам,
хотя бы они производились с целью диаметрально
противоположной целям социалистов.
Что такое прогресс?
139
Читатель пожелает, вероятно, иметь объяснения того, почему в
заглавии нашей статьи стоит имя Спенсера, а мы все говорим о Конте.
Это объясняется так. Спенсеровой теории общественного прогресса,
изложенной нами в прошлой статье, мы хотели бы
противопоставить иную. А эта иная теория, нами исповедуемая, представляет так
много сходства с учением Конта, что мы считали бы
недобросовестным совершенное умолчание о взглядах на прогресс этого великого
мыслителя. Во всяком случае, мы сочли полезным для дальнейшего
нашего изложения вкратце указать те стороны учения Конта,
которые нам кажутся несостоятельными и к которым нам, может быть,
еще придется вернуться. Мы не рассчитываем представить в
настоящей статье взгляды наши на законы общественной динамики с такой
полнотой, какой заслуживает важность предмета. От журнальной
статьи этого и требовать нельзя. Но мы будем, вероятно, еще не раз
иметь случай развивать исповедуемые нами принципы в
приложении к тем или другим частным вопросам. Здесь мы должны будем
ограничиться, самым общим и по необходимости беглым обзором;
притом мы должны стараться идти, так сказать, в ногу со Спенсером.
Мы постараемся наметить главные пункты социальной динамики, не
прибегая к удобному, но недостаточно гарантирующему от ошибок
приему выделения одного какого-либо общественного элемента.
Интеллектуальный элемент, принимаемый за точку исхода
позитивизмом, представляет, правда, в этом отношении наиболее гарантий, и
он, действительно, при известной доле сдержанности и
осторожности, может быть принят, по выражению Милля, за primus agens
социального движения. Однако если есть возможность — а мы думаем, что
она есть — проследить законы общественного прогресса на развитии
всего общества в целом, не давая слишком преобладающего значения
развитию какого бы то ни было из его элементов, то от этого
постановка общественных вопросов может только выиграть. Поэтому мы
постараемся проследить историческую судьбу самой
общественности, т. е. кооперации, и связать ее с судьбой частных факторов.
VI
При беглом взгляде на массу фактов, приводимых в
печатающейся в «Отечественных записках» любопытной статье «Цивилизации и
Дикие племена», читателя должны поразить главным образом различ-
140
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ные частности чуждой нам первобытной жизни, частности, с нашей
точки зрения, просто чудовищные. Если мы захотим подвести всем
этим фактам итог, найти в них одну наиболее характеристическую
черту, к которой, возможно, большая часть остальных относилась бы
как явления производные к явлению коренному, то найдем эту
характеристическую черту в почти полном отсутствии кооперации. В
человеке, только что выбившемся путем кровавой борьбы за
существование из животного мира, количество и качество потребностей так
гармонируют с количеством и качеством выработанных им в
борьбе сил, сам он так индивидуален и целен, что почти не нуждается в
обществе других людей. Скудны его средства, но просты и недалеки
и его цели. Все нужное ему он добывает сам, своими собственными,
личными средствами. Вследствие этого при полной индивидуальной
разнородности, какая допускается местными условиями, люди,
занимающие известную территорию, вполне однородны, зоологически
равны между собой. Таков первый тип людского, еще не
общественного быта. Легко видеть, что наиболее характерная для него черта —
отсутствие кооперации — находится в самой тесной связи со всеми
остальными сторонами немногосложной первобытной жизни.
Сам один выносящий на своих плечах всю тяжесть борьбы с
природой, дикарь не может смотреть на все явления иначе, как с точки
зрения своих личных потребностей, чисто животных. Он относится
к своему личному я, как к центру вселенной. Это жалкое, голое
создание и думает и действует так, как будто бы мир был для него лично
устроенной огромной бойней, скотным двором, дровяным двором
ит.д.
Souvent alors j'ai cru que ces soieils de flamme
Dans ce monde endormi n'échauffaient que mon âme:
Qu'a les comprendre senl j'étais prédestiné; ■
Que j'étais, moi, vaine ombre obscure et taciturne,
Le roi mystérieux de la pompe nocturne:
Que le ciel pour moi seul s'était illuminé!
V. Hugo. Les feuilles d'automne
Конечно, не скоро первобытный человек призадумался над
явлениями, не близко стоящими к его непосредственным интересам.
Разлитыми в природе светом и теплотой он долго пользуется без
благодарности и боязливых сомнений. Ему не приходит на ум вопрос:
Что такое прогресс?
141
откуда это все взялось и не может ли это все в один прекрасный день
исчезнуть. Он полон собою; он знает только себя. Себя и остальное.
А в этом остальном есть для него съедобное и несъедобное, более
сильное, нежели он сам, и менее сильное, жесткое и мягкое, теплое
и холодное, светлое и темное и т. д. Собственно же говоря, — зверь,
солнце, дерево, земля, человек, вода — во всем этом для него нет
большой разницы: во всем этом он ценит только то, что ему нужно
и поскольку нужно. А ему нужно немного. Поэтому если в двух
предметах совершенно различных есть одно, с его личной точки зрения,
важное общее свойство, — разницы между этими предметами для
него не существует: он съест человека и барана, поклонится солнцу
и дереву. За пределами своего личного существования первобытный
человек не видит ничего или, лучше сказать, вводит в эти пределы
весь мир. Натолкнувшись на кое-какое размышление об окружающих
его вещах, он видит в них либо прямо свою личность, либо сколок
с нее в каком-нибудь отношении. Мысль его не поднимается выше
аналогий между каким-нибудь явлением природы и его
собственным я. Он живет, и вся природа живет такой же, как и он, жизнью.
Между его желаниями и их исполнением, целями, средствами,
мыслями и делами существует такая тесная связь; он до такой степени
ровно живет умственной и физической жизнью, что ему и в
голову не может прийти, что он состоит из двух частей, из тела и души.
Духа без материи и материи без духа он себе представить не может,
вследствие чего одухотворяет мертвую природу, с одной стороны, и
придает самую грубую телесную оболочку своим богам — с другой.
Он делает все с определенной целью — и в природе все совершается
с определенной целью, но в чем же состоят эти цели природы? где
они лежат? Все в нем же, в этом жалком, одиночном дикаре. Дождь
ли размыл его убогую пещеру и промочил его до костей, змея ли его
ужалила, охотился ли он удачно, охотился ли он неудачно, солнце
ли его слишком печет, произошло ли солнечное затмение — все
это совершается именно для него, для того, чтобы именно его
промочить, его ужалить, его согреть, его оставить в потемках. Такова
объективно-антропоцентрическая логика, представляющая прямой
результат отсутствия кооперации (мы называем весь этот период
историй объективно-антропоцентрическим потому, что человек
считает себя здесь объективным, безусловным, действительным,
извне поставленным центром природы). Здесь же получают начало
142
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и антропоцентрическая мораль, и религиозные представления. Они
представляют ответы на два вопроса: во-первых, кто послал такое-то
приятное или неприятное, полезное или вредное стечение
обстоятельств? во-вторых, за что посланы эти приятные или неприятные,
полезные или вредные явления? Ответы формулируются под тем же
давлением объективного антропоцентризма. Дикарь так полон
собой, так неспособен к представлению чего-нибудь несходного с его
личным существованием, что непосредственно антропоморфизует
искомую личность, сочетавшую известные обстоятельства выгодным
или невыгодным для него образом, и антропоморфизует на свой
собственный, личный салтык, придавая ей те самые чувства мысли и
стремления, которые его самого наичаще волнуют. Следует при этом
заметить, что первобытные боги суть боги по преимуществу личные;
каждый отдельный человек имеет своих фетишей, которые
существуют только для него, посылают награды и наказания только ему. Чудес
первобытный человек не знает. Понятие чуда является уже гораздо
позже, уже при существовании некоторой кооперации и некоторых
званий, потому что чудо есть нечто удивительное, необыкновенное.
Дикарь же ничему не удивляется, хотя и пугается и радуется; для него
все представляется возможным, если только ему лично что-нибудь
нужно. Он так свыкается с мыслью, что весь окружающий мир спит и
видит, как бы ему лично насолить или ему же лично доставить пользу
и наслаждение; вмешательство божеств во все мельчайшие
обстоятельства его жизни с его точки зрения до такой степени естественно
и неизбежно, что чудо для него не существует. Только уже при
существовании известной доли кооперации, когда несколько человек
соединяются для одного и того же дела, все еще полный своим
личным существованием дикарь может признать данное явление чудом.
Направленное к благополучию или вреду его единичного
существования он признал бы совершенно естественным, как бы оно ни было
необычайно.
Дикарь замечает, что, сделав какой-нибудь поступок, он получает
какую-нибудь приятность или неприятность, и совпадение это
случайно повторяется два-три раза. Вследствие его уверенности в
своем центральном положении это post hoc непременно обращается в
propter hoc. Положим, он выкупался в незнакомой реке и едва успел
убежать от аллигатора; в другой раз на его глазах и в той же реке
аллигатор пожирает какое-нибудь животное или человека. Ясно,
Что такое прогресс?
143
что или река эта не терпит, чтобы в ней купались, или аллигаторы
ее охраняют, и т. п. Таким путем может создаться убеждение в
священном, высшем характере самых обыкновенных явлений природы.
Но нет нужды, чтобы само явление заступилось за себя. Человек убил
змею, и в ту же минуту раздался страшный громовой удар и небо
избороздилось молнией. Дикарь не может себе представить, чтобы
какой-нибудь обративший на себя его внимание факт не имел к нему
никакого отношения. Гром и молния составляют, очевидно, угрозу,
обращенную к нему лично. За что? Ближайший факт есть убийство
змеи, значит, именно за это убийство. Следовательно, убивать змею
нельзя. В соседнем лесу другой дикарь точно таким же путем
добирается до убеждения, что эту самую змею следует непременно
убивать. Все эти убеждения, определяя отношения человека к богам и
окружающей природе, относятся к области религии. Иначе не могут
слагаться и отношения человека к человеку. Дикарь замечает, что
вслед за убийством человека ему не удается охота, в другой раз опять,
в третий — он проваливается в трясину и т. д. Этот маленький ряд
опытов убеждает его, что и впредь за убийством человека последует
для него та или другая неприятность. Если боязнь этой
неприятности перевешивает его страстные порывы, в нем рождается убеждение,
что убивать человека нельзя. Все это мы говорим, конечно,
гипотетически, потому что не имеем и не можем иметь прямых исторических
указаний на то, как складывались и каким образом развивались
нравственные убеждения в первобытных людях. Однако если отказаться
от мысли о супранатуральном происхождении правил морали и о
врожденных идеях, то остается именно только этот путь опытного
происхождения понятий о добре и зле. Тем более, что таким же путем,
можно сказать, на наших глазах, складываются различные приметы и
т. п., иногда обращающиеся в нравственные правила. Наконец, иначе
и объяснить нельзя происхождение многих, с современной
европейской точки зрения совершенно нелепых и безнравственных правил
первобытной морали. Если нравственный кодекс получен человеком
супранатуральным путем, то почему же у каких-нибудь фиджийских
людоедов милосердие считается преступлением, а жестокость
добродетелью, что нам, европейцам, даже и переварить невозможно?
Правда, для супранатуралистов остается то возражение, что фиджийские
людоеды именно за свою безнравственность и обделены светом
нравственной истины. Но для сторонников теории врожденных идей нет
144
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и этого остроумного возражения. Если идеи нравственности и
справедливости врожденны, присущи человеку, то как объяснить это
поразительное разнообразие нравственных идеалов? Тогда как с точки
зрения опытного происхождения факт этот совершенно ясен.
Понятное дело, что, определяясь самыми разнообразными случайностями,
на которые может натолкнуться объективно-антропоцентрическое
настроение при совершенном отсутствии кооперации и знакомства
с законами природы, первобытная мораль может принимать очень
разнообразные и до последнего нельзя причудливые формы.
Убийство и людоедство легко могут оказаться деяниями не только
безразличными, а и одобрительными; и в то же время может считаться
безнравственным, богопротивным и преступным произносить свое
собственное имя, как у абипонов, или есть в обществе, как у таитян.
Однако тем же путем могут выработаться частности весьма
высокого нравственного кодекса, если действительный или фиктивный
опыт наведет на убеждение в невыгоде вредить соседям. Понятное
дело, что последнее может иметь место только при более или
менее частых и продолжительных сближениях между людьми, т. е. уже
при некоторой кооперации. Отсутствию же кооперации и единства
интересов в практической жизни соответствует совершенное
отсутствие синтетического начала в религиозных представлениях,
нравственных правилах и знаниях. Личные боги, личная мораль, скудные
сведения о природе, извращенные антропоцентрическим элементом,
т. е. опять-таки сведения личные, не проверенные чужим опытом и
наблюдением, — таковы результаты отсутствия кооперации. И таким-
то человек вступает в общество.
Полное отсутствие кооперации могло иметь место только в очень
раннюю пору доисторической жизни человечества. Опасности и
беды, встречающиеся на каждом шагу, инстинкт самосохранения в
виде половой деятельности со всеми ее последствиями, каково
кормление детей грудью и т. д., — все это побуждает людей образовывать
небольшие общества, соединяться в группы. Весьма важно заметить,
что группы эти складываются различным образом, и именно по двум
типам: по типу простого сотрудничества и по типу сложного
сотрудничества, или разделения труда. Мы уже говорили о коренной
разнице между этими двумя видами кооперации. В случае простого
сотрудничества люди входят в группу всею своей разнородностью,
вследствие чего вся группа совершенно однородна. В случае же со-
Что такое прогресс?
145
трудничества сложного происходит обратное явление: члены группы
утрачивают каждый один ту, другой другую часть своей
индивидуальной разнородности, они делаются однороднее, а вся группа
получает более или менее резко обозначенный характер разнородности.
В первом случае мы имеем однородное общество с разнородными,
равными, свободными и независимыми членами; во втором —
разнородное общество с неравными, несвободными,
специализированными членами, расположенными в некотором иерархическом порядке.
В первобытном мире общество по типу простого сотрудничества
имеет характер чисто временной и случайный: по окончании дела,
для которого люди соединились, общество распадается. Таким
образом, однородное общество оказывается действительно
неустойчивым, как бы подтверждая своим примером универсальность одного
из законов Спенсера. Однако неустойчивость эта зависит вовсе не от
каких-либо общих свойств, присущих всякой однородной агрегации.
Она, как самая цель этих первобытных обществ, обусловливается
причинами временными и случайными, которые могут быть и могут
не быть. Но в первобытном мире причины эти в большинстве
случаев действительно имеют место.
Двое, трое, пять человек дикарей рядом печальных опытов
убеждаются, что охота за каким-нибудь крупным зверем для каждого из
них поодиночке опасна и невозможна, а между тем зверь
представляет очень лакомый кусочек. Они соединяются для охоты, чтобы
разделить добычу на равные части. Каждый из них вносит в это общее
дело все те силы и способности, какие выработались в нем
предыдущей борьбой за существование. А так как борьба эта в данной
местности имеет для каждого один и тот же характер, вызывает
приблизительно одну и ту же степень напряженности умственных и
физических сил, то наши пять охотников вступают в союз членами
равносильными и равноправными. Но вот зверь убит, разделен,
съеден, и члены временного союза, удовлетворив свои скудные
потребности, расходятся в разные стороны, не думая о завтрашнем дне. Они,
может быть, даже передрались при дележе. Немногочисленность
потребностей, отсутствие постоянной или, по крайней мере,
продолжительной солидарности целей и отвращение к труду — результат
объективно-антропоцентрического настроения — являются
первыми причинами, мешающими прочному и продолжительному
существованию простого сотрудничества. Могло, однако, случиться, что
146
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
те же пять охотников, наученные опытом, соединяются во второй раз,
в третий и т. д. Тогда между ними устанавливаются некоторые
относительно прочные связи. Так как интересы их делаются общими, то
каждый из них распространяет свою телеологию на всех своих
товарищей; убеждается, что центр мира, ко благу или ко вреду которого
направлены все силы природы, лежит не в нем, дикаре X, а в целой
группе охотников. Его личное существование, так сказать,
расширяется; правила морали, вытекающие на этот раз из действительного
опыта, получают определенный цвет — вредить кому-нибудь из
своих товарищей оказывается невыгодным, потом безнравственным, что
санкционируется немедленно и религиозными представлениями.
Фетиши перестают быть личными. Однако для каждого из членов
группы за пределами ее все еще нет большой разницы между
человеком и нечеловеком. Там, за этими пределами, свои боги, свои обычаи,
свои правила, и ничто не мешает нашим вольным охотникам
охотиться и за людьми. В то же время, в той же местности является
кооперация с характером сложного сотрудничества, т. е. разделения
труда. Ее элементарная форма есть семья. Половое стремление должно
было в самые отдаленнейшие времена существования человеческого
рода выделять для первобытного человека женщину из остальной
природы. Однако полная однородность всех мужчин, взятых вместе,
и всех женщин, взятых вместе, и полная разнородность каждого и
каждой из них, т. е. полное сходство между ними, должно было
надолго отсрочить организацию семьи. Мужчина и женщина сходились
временно и затем расходились, потому что оба пола относились ко
всем единичным представителям того и другого безразлично, за
исключением момента полового возбуждения. Это было единственное
связующее их звено. Никаких других требований ни мужчина, ни
женщина не предъявляли и никакой разницы между тем или другим
мужчиной, той или другой женщиной видеть не могли, потому что
большой разницы и быть не могло (в данной местности, разумеется).
Но уже одного открытия огня было достаточно для того, чтобы
связать мужчину и женщину в нечто подобное брачному сожительству.
Огонь был, разумеется, открыт благодаря какой-нибудь счастливой
случайности — лесному пожару от удара молнии, такому же
случайному воспламенению ископаемых горючих веществ, например
нефти, и т. п. Произвольно добывать огонь дикарь не умел, а между тем
видел, какое важное для него значение может иметь эта новая сила.
Что такое прогресс?
147
Явилась надобность сохранять, поддерживать огонь, облеченный
даже в некоторых случаях ореолом божественности. Сохранять огонь
будет женщина, которая по относительной слабости для охоты мало
годится. Около огня группируется семья, хозяйство; дикарь начинает
вести жизнь менее бродячую, хотя хозяйство так незатейливо, что
может быть в случае надобности перенесено на новое место без
всяких затруднений. Мужчина охотится, женщина обращается в
хранительницу домашнего очага, отклик чего мы видим не только в
римском религиозном институте весталок, айв оставшейся за женщиной
по преданию роли хозяйки. Само собою разумеется, что прежде чем
семья, наконец, прочно обособилась, тысячи раз она распадалась;
огонь мог потухнуть, и всю свою жизнь первобытный человек мог
уже не найти его во второй раз; мужчина мог бросить беременную
женщину, женщина — попасть к другому мужчине, и т. д. Но наконец
семья образовалась. В этой первобытной семье, представляющей
зародыш или один из зародышей будущего рода, общины, племени,
государства, отношения между совместно живущими членами
устанавливаются совершенно не так, как в обществе свободных охотников.
Там мы имеем равных людей, с одинаковыми усилиями
преследующих одну и ту же цель, а здесь представителями кооперации
являются сильный мужчина, по крайней мере, периодически более слабая
женщина или несколько женщин и совершенно слабые дети.
Сообразно этому различны и их роли и значение в семье. Правда, фетиши
и здесь перестают быть личными; правда и здесь первобытный
человек распространяет свою телеологию на всю семью и видит в ней
центр вселенной. Но самое это расширение антропоцентрического
взгляда имеет уже совершенно не тот характер. При простом
сотрудничестве пятерых охотников каждый из них, зная цель, для которой
они образовали союз, не может не видеть, что цель эта общая для
всех них, что интересы их совершенно солидарны. В первобытной
же семье, при предоставлении мужчине внешней деятельности, а
женщине — внутренней, домашней, сознание общей цели становится
гораздо более смутным; при этом их физиологическое неравенство
все более и более укрепляется. Дикарь не может видеть и помнить,
что женщина ему помогает. Цель у них, положим, общая, но средства
Для достижения этой цели, благодаря разделению труда, различны.
По близорукости первобытный человек принимает эти средства за
Цели, вследствие чего не оказывается ничего общего между жизнью
148
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
мужчины и женщины. Поэтому сочувствовать женщине, переживать
ее жизнь, мысли и чувства первобытный человек не может — они
слишком отличны от его собственной жизни, мыслей и чувств. За
отсутствием или неведением общей жизни в первобытной семье муж и
жена гораздо более чужды друг другу чем те пять мужчин, которые
соединились для охоты. Так что если в союз простого сотрудничества
вступает несколько семейных дикарей, участвующих, таким образом,
и в системе простого, и в системе сложного сотрудничества, то для
них слагаются два совершенно различных нравственных, кодекса:
один — для отношений между мужчинами, другой — для отношений
между мужчинами и женщинами. И первый будет необходимо выше,
чище, гуманнее второго. Поэтому мы и видим так часто, что
первобытный человек ни в грош не ставив даже жизни жены, между тем как
признает преступлением убийство такого же, как и он, мужчины. Эти
отношения устанавливаются надолго и не утратили своего значения
и ныне. История представляла в этом отношении многие
чрезвычайно любопытные факты. Мы остановимся только на одном. У всех
пастушеских народов существовал обычай предлагать путнику,
забредшему в какой-нибудь семейный дом, не только убежище и пищу,
а и женщин. Это именно то, что называется гостеприимной
проституцией. В этом случае между мужчинами как бы заключается договор,
не писанный, не формальный, а безмолвный и непосредственный,
вполне взаимный и потому гораздо более прочный. Каждому
мужчине из пастушеского народа приходится быть вдали от своего
собственного жилища и от своей собственной жены, а между тем иметь
в ней надобность. Каждый испытал неудобство этого положения на
себе и потому так проникается знакомым ему положением путника,
что принимает его интересы гораздо ближе к сердцу, чем желание
или нежелание своих жен и дочерей. Еще меньше, разумеется, может
проникнуться первобытный человек жизнью ребенка. Этого он уж
всегда может изувечить, продать, убить. Таким образом, центром
вселенной оказывается в этом случае все-таки одна мужская личность,
а женщина и дети — это спутники солнца. Само собою разумеется,
что и женщина и ребенок, со своей стороны, смотрят на
окружающий их мир или снизу вверх, или сверху вниз, но во всяком случае
видят в своей личности центр, ко благу или ко вреду которого
направлено все, что они могут охватить мыслью. Это безотчетное
выделение своей личности, как обусловливающееся отсутствием коопе-
Что такое прогресс?
149
рации, существует, без сомнения, и у животных. Но дело в том, что
миросозерцание женщин, а тем более детей, могло только в
некоторых частностях определять склад первобытной жизни и потому
может быть и не принимаемо в расчет.
Семья разрастается, все более и более дифференцируясь, т. е.
переходя от простого к сложному. Поколения сыновей, внуков, если
не отходят от первичного корня, образуют некоторую иерархию,
во главе которой стоит старейшина, патриарх. Рядом с этой семьей
развивается тем же путем другая. Там дальше бродят несколько шаек
вольных и независимых охотников, не знающих никакой иерархии,
кроме разве выборной, работающих одинаково и для одной и той же
цели, вследствие чего их шайки по-прежнему представляют
однородную группу возможно разнородных членов. Прекрасный образчик
такого совместного существования двух различных типов
кооперации можно найти в сравнительно очень недавнее время в истории
южной и юго-западной России. Вольная Запорожская сечь,
организованная демократически-республиканским образом с сильным
оттенком коммунизма, представляет пример простого сотрудничества,
а казаки-горожане, земледельцы и пастухи составляют общество по
типу сложного сотрудничества, т. е. при разделении труда. Само
собою разумеется, что эта организация казачества может дать только
слабое понятие как о первобытной жизни, с одной стороны, так и о
дальнейших, более развитых формах простого и сложного
сотрудничества. Итак, мы имеем в доисторический период два вида
социальных групп, развивающихся рядом. Независимо от тех изменений,
которым вследствие различных обстоятельств и главным образом
вследствие естественного подбора родичей все эти группы могут
подвергнуться сами по себе, они неизбежно приходят в столкновение
между собой. И в результате этого столкновения элемент разделения
труда необходимо перевешивает элемент простого сотрудничества.
Объективно-антропоцентрическое миросозерцание приучает
человека к мысли, что над ним есть опека, не упускающая его ни на минуту
из виду и всегда готовая, если он исполняет предписанные ему
правила, прийти к нему на помощь. Это как нельзя более вяжется с малым
количеством и скромным качеством потребностей первобытного
человека и с его отвращением к труду. Для него создано все, а
следовательно, и люди. Священные книги и предания древних народов, даже
стоящих на относительно очень высокой ступени развития и уже
150
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вступивших в период монотеизма, наполнены рассказами о том, что
божества повелели перебить или обратить в рабство соседний народ
или отнять у него женщин. Набегают ли вольные охотники на
разросшуюся уже до родового быта семью и производят всеобщий
погром, одолевают ли представители семейного и родового быта в этой
свалке — побежденные или съедаются, или, на следующей ступени
развития, когда вследствие сознания важности кооперации
антропоцентрическая идея несколько расширилась, обращаются в рабство.
Таким образом, две, три группы сливаются воедино и образуют уже
довольно сложное целое с четко обозначенным разделением труда.
Однако общественные дифференцирования и соответственные
индивидуальные интеграции здесь еще очень слабы. Хотя
общественная однородность уже далеко не та, что в группе вольных охотников,
но, за исключением основного распадения труда на труд мужской и
труд женский, и то сравнительно слабого, все члены общества
приблизительно одинаково трудятся и наслаждаются, ведут один и тот
же образ жизни, молятся одним и тем же богам. Кооперация
постепенно расширяет личных фетишей в семейные, родовые, племенные,
которые, наконец, получают в политеизме значительно отвлеченный
характер. Постоянные войны, выставляя всем членам общества одну
и ту же цель — защиту от внешних, общих врагов, — время от
времени, так сказать, встряхивают, перетасовывают, сглаживают
установившиеся общественные дифференцирования. Наконец наступает
пора, когда дифференцирования эти устанавливаются окончательно,
вместе с чем происходят глубокие изменения в жизни первобытного
общества. Объективно-антропоцентрический период сменяется
эксцентрическим.
Прежде чем указать характеристические черты эксцентрического
периода социального развития, нам нужно сказать несколько слов
о том, что такое неделимое. Понятие неделимого, индивидуума, по-
видимому, так просто, что не требует никаких разъяснений. Однако
это не так. Мы не говорим уже о тех трудностях, какие встречаются
при определении индивидуальности некоторых низших
представителей органического мира, где органы, неделимые и целые
скопления неделимых различаются иногда нелегко. До этого нам здесь нет
дела. Речь у нас идет только о человеке, относительно которого,
кажется не может быть сомнений, неделимое он или нет. Однако
слова, производные от слова «индивидуум», и в приложении к человеку
Что такое прогресс?
151
употребляются часто в совершенно различных смыслах. Чаще всего
под индивидуальностью разумеют совокупность черт, резко
выдвигающих известную личность из среды окружающих ее людей.
Индивидуальный значит здесь личный, особенный. Мы будем употреблять
это выражение совершенно иначе, именно будем разуметь под
индивидуальностью человека совокупность всех черт, свойственных
человеческому организму вообще. Мы видели, что Спенсер определяет
неделимое как «конкретное целое, имеющее строение, позволяющее
ему, при известных условиях, постоянно приспособлять свои
внутренние отношения к внешним так, чтобы поддерживалось
равновесие его отправлений» (Основания биологии, 207). Это определение,
не имеющее, к сожалению, достоинств краткости и ясности, может,
однако, считаться удовлетворительным, если в него включить идею
способности страдать и наслаждаться, которой неделимое резко
отличается от органа, с одной стороны, и от общества — с другой.
По крайней мере, для определения неделимого животного, а
следовательно, и человека, понятие страдания и наслаждения необходимо
должно быть введено в формулу; способность страдать и
наслаждаться составляет в этом случае такую очевидную и характеристическую
для неделимого особенность, что выключить ее было бы крайне
неосновательно. А в таком случае необходимо определить случаи
нормального, физиологического состояния и развития, и состояния
и развития болезненного, патологического. Тип нормального
органического развития есть, как мы видели, постепенное усложнение
путем дифференцирования, т. е. специализации частей неделимого —
органов и тканей. Следовательно, патологическим развитием будет
обратное движение, то есть упрощение организма, его интеграция.
Таков динамический закон индивидуальности. Закон статический
также не представляет затруднений. Так как неделимое представляет
собой известную ступень органического развития, имеющую
определенное число определенных частей, то физиологическим,
нормальным состоянием неделимого мы называем такое, при котором все
части организма беспрепятственно функционируют, т. е. каждый
орган исполняет свою обязанность. При таком нормальном
состоянии равновесия каждое органическое отправление доставляет
человеку наслаждение. Если же один или несколько органов перестают
вследствие каких-нибудь обстоятельств совершать соответствующие
отправления, то равновесие нарушается, и мы имеем состояние пато-
152
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
логическое, ненормальное, болезненное, сопровождающееся
страданием. Неделимое в этом случае если и не перестает быть неделимым,
потому что не теряет способности страдать и наслаждаться, то тем
не менее как бы сокращается, упрощается. Это не мешает ему
усложняться в других отношениях. Задержка одних отправлений или
развитие одних органов в большей части случаев вызывает усиленное
действие и усиленное развитие других. При этом могут произойти
усложнения, которые мы ни в каком случае не можем признать
нормальным явлением, потому что они вытекают из болезненного
начала, из нарушения равновесия и целостности неделимого. Здесь я
считаю своей обязанностью еще раз указать на сходство излагаемой
доктрины с учением Конта и на этот раз именно с некоторыми
взглядами, относящимися ко второму периоду его философской жизни.
Рассыпанные в «Позитивной политике» и вообще в позднейших
сочинениях Конта странности и нелепости отводят многим глаза от
некоторых общих взглядов, заслуживающих величайшего внимания.
С другой стороны, портят дело безусловные поклонники Конта.
Собственно, вторая половина философской деятельности Конта еще
ждет правильной оценки, которая тем затруднительнее, что здесь
приходится отделять великое от смешного; на это люди вообще не
мастера. Субъективный синтез, требование систематизации знаний
с человеческой точки зрения не только в теоретическом, айв
практическом отношении, идея единства и гармонии человеческого
существа как основа блага — ко всем этим вещам нельзя так относиться,
как относится к ним даже сдержанный и осторожный Милль.
Требование единства в интересах и целях личностей как членов общества
и единства или гармонии всех элементов индивидуальной жизни,
нравственных, физических и умственных, это требование, говорит
Милль, есть fons errorum позднейших умозрений Конта. Что исходя
из этих начал Конт пришел ко множеству ошибок — это не подлежит
никакому сомнению. Но мы готовы скорее сказать, вместе с одним
из безусловных поклонников Конта, Бриджем (De l'unité de la vie et
de doctrine d'Auguste Comtei etc., par J. H. Bridges. Traduit del'anglais par
M. Debergue. Paris, 1867), что вообще это fons не errorum, a veritatis.
Между прочим Милль говорит: «В последние годы (как мы узнаем из
книги д-ра Робине) Конт вдавался в самые дикие рассуждения о
медицине, считая все болезни за одно и то же — за возмущение или
расстройство de l'unité cérébrale» (русский перевод, с. 145). Здесь Милль
Что такое прогресс?
153
говорит о письме Конта к французскому медику Audiffrent,
напечатанном в книге Робине (Notice sur l'oeuvre et sur la vie d'Auguste Comte.
Par le docteur Robinet, son médécin'l etc. Paris, I860, p. 528). Вот что
говорит Конт: «Все виды болезней, признаваемые самостоятельными,
суть не более как простые симптомы. Собственно говоря, существует
одна болезнь — нездоровье. Но так как состояние здоровья есть
состояние единства (целостности?), то болезнь есть всегда нарушение
единства вследствие усиленного развития или задержки одного из
отправлений». Далее идет речь о нарушении «de l'unité cerebrale» как
о частном только случае болезни. Таким образом, Милль не только
не оценил по достоинству глубокого воззрения Конта, но, как
справедливо замечает Бридж (р. 107), извратил самый смысл слов
французского мыслителя. Мы, со своей стороны, далеки от того, чтобы
считать положение Конта диким. Расстройство морального единства,
т. е. усиленное развитие некоторых моральных сил и способностей
в ущерб другим, есть, без сомнения, обильный источник
болезненных явлений.
Мы видели отношение физиологического и патологического
развития и состояния к обоим типам кооперации. Мы видели, что
физиологическое развитие возможно только при простом
сотрудничестве, и что неизбежный результат сотрудничества сложного,
разделения труда, есть патологическое развитие и состояние неделимых.
Нам остается только прибавить два-три пояснительных замечания.
В простом сотрудничестве общая цель вызывает солидарность
интересов и взаимное понимание членов общества. Как люди равные,
находящиеся в одном и том же положении, имеющие одни и те же цели,
стремления, мысли и чувства, они не только успешно работают, не
только не впадают в патологическое состояние, но, кроме того,
имеют полную возможность в каждую данную минуту проникнуться
жизнью своего товарища, пережить эту жизнь в самом себе и относиться
к нему постоянно, как к самому себе. Высокий нравственный уровень
составляет естественный результат такого порядка вещей. Только при
нем осуществим знаменитый девиз: братство, равенство и свобода.
Не таковы междуличные отношения в обществе, построенном на
принципе сложного сотрудничества. Не говоря уже о том, что члены
его находятся в патологическом состоянии вследствие усиленного
развития некоторых органов в ущерб другим, для них общая цель
постепенно и постоянно отодвигается все дальше и дальше и наконец
154
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
совершенно разменивается на ряд частных целей, одна от другой
совершенно обособленных. Они не понимают друг друга, хотя связаны
между собой самым тесным образом. Взаимное непонимание ведет
к безнравственности отношений. Одни вязнут в безысходном труде,
донельзя развивая ту или другую часть своей мускульной системы.
Другие, обращаясь в специалистов нервной деятельности, живут за
счет труда первых и не только не отплачивают им за это чем бы то
ни было, но даже утрачивают всякое представление о своей
солидарности с ними, о том, что без них они не могли бы иметь ни одного из
тех наслаждений, какие даются утонченно-развитой нервной
системой. Однако простое сотрудничество при этом не совершенно
исчезает. Т]руды и наслаждения, цели и средства делятся между
различными группами, на которые дифференцировалось общество, но каждая
такая группа состоит из людей сходных, равных и потому способных
ко взаимному пониманию, работающим вместе для одной и той же
цели. Но здесь простое сотрудничество составляет факт
второстепенный, смысл и значение которого определяются господствующим
принципом разделения труда. Здесь в союз простою сотрудничества
вступают не целостные индивидуумы, как в общине вольных
охотников, а индивидуумы специализированные: головы вступают в союз
с головами, руки с руками, умственные способности с умственными,
капитал с капиталом, труд с трудом и т. д. Так как в таком обществе нет
физиологически развитых неделимых, то есть неделимых, имеющих
всю сумму отправлений, какая допускается и требуется типом их
организации, то антропоцентрическое миросозерцание здесь
немыслимо. Человек, выработавший себе особенную напряженность того
или другого специального отправления и более или менее
заглушавший в себе все остальные, естественным образом понимает и ценит
только то, что тесно соприкасается с его специальным отправлением.
Понятие о единстве, индивидуальности человека' здесь не имеет
места. Центром помыслов и стремлений становится не человек как
неделимое, не вся совокупность человеческого организма, а некоторая
отвлеченная категория. Член общества, в котором разделение труда
провело достаточно глубокие борозды, не в состоянии охватить
понятие человека во всей его целости и неделимости; он может понять
и оценить только ту долю человека, которая развита в нем самом.
Вследствие этого в то время как в области теоретических вопросов
еще долго держится объективно-антропоцентрическое миросозер-
Что такое прогресс?
155
цание в силу преданий и недостатка знаний, еще долго человек верит,
что он составляет объективный центр вселенной — в сфере
практической, в сфере действия убеждение это постепенно затушевывается
и дает место эксцентрическому укладу.
Началом эксцентрического периода социального развития мы
признаем те моменты в развитии различных сфер общественной
жизни, когда кооперация по типу раздельного труда выставляет
некоторые специальные цели, доступные только для известной
социальной группы, специальные цели, бывшие до этого момента только
средствами. Не следует думать, чтоб переход этот произошел
единовременно во всех областях жизни. В высшей степени сложная сеть
причин и следствий общественных явлений не могла допустить такой
правильности и такого однообразия. Если бы обществом управлял
только один принцип разделения труда, тогда, конечно, развитие его
совершалось бы так же ровно и однообразно, как и рост организма.
Но простое сотрудничество никогда не исчезало, и так как оно было
возможно в одной сфере жизни в большей, в другой — в меньшей
степени (что относится и к самому разделению труда), то жизнь не
могла идти ровно. Притом же на ход развития влияли и другие
причины, каковы местные физические условия, сила традиции и
привычки, наблюдение и т. д. Все эти побочные причины не могли иметь
одинакового влияния на различные стороны жизни. Можно только
сказать, что, раз начавшись, эксцентризм с возрастающей скоростью
стремится охватить все тончайшие изгибы общественных
отношений, отнюдь, однако, не равномерно по всем направлениям. Мы
видим, например, что несмотря на значительное развитие в древнем
мире разделения труда и, следовательно, эксцентрического периода,
в области политики господствует простое сотрудничество. Древняя
история есть последовательная история ассириян, вавилонян,
персов, египтян, евреев, греков (и в ней афинян, спартанцев), македонян,
римлян. Словом, древняя история есть история государств и народов.
Государство же представляет собой такую социальную единицу, в
которой хотя отдельные неделимые и утратили в большей или
меньшей степени свою целостность, но вся совокупность их может
выставить всю сумму сил и способностей, свойственных человеку. Не то
мы видим в средние века, которые вообще представляют момент
наибольшего развития, кульминационную точку эксцентрического
периода. Здесь на арену истории выступают уже интересы и цели
156
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
не государств и народов, а сословий, корпораций, цехов, т. е. таких
социальных единиц, из которых каждая усвоила себе окончательно
только одну какую-нибудь силу, одну какую-нибудь способность.
Размеры нашей статьи до такой степени непропорциональны
размерам заданной нами себе задачи, что на систематичность
изложения нам претендовать никак не приходится. Мы сильно
рассчитываем на помощь логики читателя. Поэтому мы забегаем несколько
вперед, чтобы привести из Шиллеровских писем об эстетическом
образовании человека мастерскую характеристику того, что мы
называем эксцентрическим периодом социального развития.
«Без сомнения, нельзя было и ожидать, чтобы простая
организация первых республик пережила простоту первых нравов и
отношений; но вместо того, чтобы стать после них на высшую ступень
живой жизни, она ниспала до пошлой и грубой механики; натура
греческих республик, организовавшихся наподобие полипняков,
в которых каждый индивидуум пользовался независимой жизнью,
а в случае нужды мог своим трудом служить и общему, уступила место
искусственно-машинно-часовому устройству, где из сплочения
между собой бесконечно многих, но безжизненных частичек образуется
механическая жизнь целого. Разорваны друг от друга церковь и
государство, нравы и законы; наслаждение отделилось от труда, средства
от цели, напряжение от удовольствия достижения. Вечно работая над
каким-нибудь ничтожным отрывком из целого, человек и сам
делается чем-то вроде отрывка; вечно слыша однозвучный шум только того
колеса, которое вертит он сам, человек никогда не в состоянии
развить гармонию в своем существе, и вместо того чтобы запечатлевать
человечество в своей натуре, он делается только отпечатком
своего занятия, своей науки. Но даже это скудное, обрывочное участие,
которое привязывает частных членов к целому, состоит не в том,
чтобы они самодеятельно выработали формы данных им обрывков
(и в самом деле, можно ли было доверить их свободе столь искусную
и светобоящуюся часовую машину?); нет, им с самой скрупулезной
точностью начертаны образцы, которых и должно неуклонно
держаться их свободное знание. Мертвая буква заменяет живой разум;
механическая память руководит вернее, чем гений и чувство. Если,
по общепринятому мнению, должность служит масштабом
достоинства человека, если люди в одном из своих сограждан уважают
только память, в другом формальный разум, в третьем механическую
Что такое прогресс?
157
ловкость; если в одном месте, не обращая никакого внимания на
характер, требуют только знаний, в другом, напротив того, ради духа
порядка и законной исполнительности самое глубокое помрачение
разума почитают достоинством, если хотят при этом, чтобы каждая
из этих частных способностей была доведена до такой
интенсивности, какая только возможна по интенсивности субъекта, то можно ли
удивляться, что остальные свойства души остаются в пренебрежении
и с особенной тщательностью возделывается единственно то
свойство, которое почитают и за которое дают награды?»
В этих прекрасных словах значение греческих республик едва
ли не преувеличено (любопытно, что знаменитый друг-соперник и
совершенная антитеза Шиллера — Гете также с восторгом смотрел
на классическую древность, а между тем Гете утверждал, что всякое
целое, а в том числе и общество, тем совершеннее, чем менее сходны
его части; он проводил также параллели между организмом и
обществом). Разделение труда со всеми его последствиями — отсутствием
единства цели, безнравственностью междуличных отношений,
патологическим состоянием неделимых, взаимным непониманием —
достигло уже значительного развития в Древней Греции. С другой
стороны, силен еще был объективный антропоцентризм.
Величайшие мыслители Греции не могли оторваться от мысли о законности
и необходимости рабства и с презрением смотрели на физический
труд и варваров. Та целостность (Totalität), которой восхищаются
поклонники древней Греции, в значительной степени должна была
поддерживаться искусственными средствами, какова гимнастика.
Поддерживалась она и беспрестанными войнами, в момент которых
простое сотрудничество временно одержало верх над разделением
труда и ставило всем гражданам одну цель.
VII
В первом томе русского издания сочинений Спенсера напечатана
между прочим статья «Обычаи и приличия», весьма важная для
характеристики мыслителя как человека. К этой, наиболее для нас
интересной стороне статьи мы обратимся ниже. Теперь заметим только, что в
ней Спенсер старается доказать, что обычаи, приличия, религиозные
представления и юридические нормы имеют один и тот же корень и
что распадение их на самостоятельные категории произошло тем же
158
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
общим путем последовательных дифференцирований. Он исходит из
того положения, что личности «бога, государя и
церемониймейстера» в наиболее отдаленную пору истории совпадали в одной
личности. Едва ли можно принять это положение безусловно в таком виде.
Но, во всяком случае, общий взгляд Спенсера имеет глубокое
основание. Нам, современным людям, трудно представить себе единство
различных сторон человеческой жизни, которое царило в
доисторическую пору. Религия, философия, наука, искусство — все эти для нас
совершенно различные и часто друг другу противоречащие вещи, вещи,
существующие рядом, несмотря на трудность и даже невозможность
примирения по многим пунктам, — все это сливалось для
первобытного человека в одно целое, в непосредственные отношения к
природе. Ощущение вызывает ряд волнений и в них заключается вся
психическая деятельность первобытного человека, ложащаяся в основу его
узкого, но цельного, не раздробленного миросозерцания. Ощущения
его, как справедливо замечает Спенсер, выражаются одновременно
звуками, образами и движениями. То, что для нас распадается на дух
и материю, связано в нем неразрывно. И оттого он монист в теории и
монист на практике. Приятное и неприятное ощущение немедленно
приводят в движение весь его организм, все стороны
индивидуальности — мускулы ног, рук, груди, горла сокращаются единовременно, и
человек поет, пляшет, играет. Точно так же целостна его практическая
философия. Различные элементы оценки человеческих поступков
рассыпаны рдя цивилизованного человека по разным углам; он
может признать данное явление приятным, но бесполезным; полезным,
но безнравственным; нравственным, но незаконным и
несправедливым; законным, но не богоугодным. Первобытный человек не знает
этих противоречий; для него факт тождествен с принципом; веления
богов, юридическая норма, нравственный кодекс, нравы и обычаи
совпадают или, с нашей современной точки зрения; не отделились друг
от друга, не выяснились, не дифференцировались. Дикарь убивает
дикаря из мести, это — факт. Но факт этот в нравах общества, в то же
время он правомерен, подтверждается религиозными
представлениями и санкционируется первобытной личной моралью. С течением
времени, со сменой многих и многих поколений, по мере развития
кооперации, факт невыгоды вредить ближнему обращается точно
так же в религиозный догмат, нравственное правило, юридическую
норму и обычай, опять-таки без всякого ясного обозначения раздель-
Что такое прогресс?
159
ности этих элементов. Во временных и случайных союзах простого
сотрудничества эта цельность и непосредственность взаимных
отношений остаются во всей своей силе. Если бы принцип простого
сотрудничества восторжествовал, если бы цивилизация постепенно
раздвигала именно этим видом кооперации личное существование
равномерно во все стороны, не раздробляя индивидуальность, а
приобщая к ней все новые и новые индивидуальности столь же цельные,
если бы при этом воззрения на природу путем коллективного опыта
очищались от объективного антропоцентризма... я не знаю, что было
бы в таком случае. Но этого не было и, насколько мы можем
продумать первобытную жизнь, и не могло быть. Разделение труда одолело.
Запутанный порядок сложного сотрудничества постепенно стирал
непосредственность взаимных отношений и дробил
индивидуальную целостность.
Родовой быт сменился общественным, что предполагает уже
глубокие дифференцирования. На одном конце общественной
иерархии образовалось рабство, на другом вырезалась более или менее
сильная верховная власть, которой уступили, добровольно или по
принуждению, часть своего главенства старейшины отдельных
родов. Религиозные представления получают столь отвлеченный
характер, непосредственные отношения к природе нарушаются столь
сильно, что становятся уже нужными посредники между людьми и
богами. Обособляется класс жрецов. Рабство одних дает досуг другим.
Досуг идет на умственное развитие. Т]эуд перестает вознаграждаться
всем результатом труда; результат этот делится между господином и
рабом, который получает свою долю в виде скудной пищи. Но почти
столь же скудным вознаграждением довольствуется и господин.
Производители и потребители находятся в непосредственных
сношениях, взаимная связь их проста и очевидна; продукты труда идут
довольно равномерно на поддержание одних и тех же потребностей в
различных неделимых. Каждый потребитель есть вместе с тем и
производитель, и наоборот. С дальнейшим развитием кооперации и
досуга развиваются и потребности. Является надобность в таких
предметах, которые не могут быть произведены теми или другими лицами,
а между тем производятся в соседстве. Начинается обмен
продуктов. В более или менее широком обмене могут участвовать только
нецелостные, т. е. неделимые, усвоившие себе известную
специальную сферу деятельности. Далее, как в области религиозной понадо-
160
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
бились посредники между людьми и богами, так и в экономической
области оказываются нужными посредники между производителями
и потребителями. Обособляется торговый класс, задерживающий,
в виде торгового процента, часть результата труда в своих руках;
поземельная рента и прибыль капиталиста еще ждут своей очереди.
Торговля оказывается занятием столь выгодным, что отвлекает
значительную часть сил от войны, до тех пор главного занятия. Однако
они еще долго должны идти рука об руку, потому что торговец может
каждую минуту ждать нападения и должен противопоставлять силу
силе. В руках торгового класса сосредоточиваются значительные
богатства, превышающие его потребности. Является новое
наслаждение — наслаждение приобретения, и новая цель — богатство,
доступные только для некоторых членов общества. В далеком будущем
это специальное наслаждение и эта специальная цель,
обособленные от всех других сторон человеческой индивидуальности, ложатся
в основу науки, по поводу которой Сисмонди37 задумался: «Неужели
богатство — все, а человек — абсолютно ничто?», по поводу которой
Дроз38 замечает, что представители ее думают, что «человек создан
для продуктов, а не продукты для человека».
Общественные дифференцирования, определяя для каждой
обособившейся социальной группы образ жизни и занятия, отличные от
образа жизни и занятий остальных групп, вызывают разнородность
нравов и обычаев. Эта разнородность вызывает такие столкновения,
что становится, наконец, необходимым формальное определение
прав и обязанностей членов общества. Является писаный закон,
сначала, разумеется, не очень далекий от обычного права, но тем
не менее во всяком случае отличный от него; в него вносятся
главным образом воззрения правящего класса. Нравы, нравственность и
справедливость раздробляются на самостоятельные категории.
Законодатель смело пишет: Servitus est constitutum juris gentium, quo quis
dominio alterins contra naturam subiicitur, т. е. рабство есть
учреждение народного права, по которому человек противоестественно
владычествует над другим. В далеком будущем нравы и обычаи
обособляются в деспотизме общественного мнения; нравственность —
в аскетическую мораль; право и справедливость дают начало науке,
провозглашающей своим принципом: fiat justicia pereat mundus, т. е.
не справедливость существует для человека, а человек для
справедливости.
Что такое прогресс?
161
Рядом с безусловной справедливостью и безусловной
нравственностью выступают чистая наука, чистое искусство. И так, в течение веков,
разделение труда постепенно, но с неудержимой силой подтачивает
первобытный антропоцентризм. Мы не имеем никакой возможности
проследить здесь все стороны эксцентрического периода. Читатель
найдет кое-что в этом отношении у Спенсера в статьях:
«Происхождение и деятельность музыки», «Обычаи и приличия», «Прогресс, его
закон и причины» и т. д. Но Спенсер выбирает примеры сравнительно
неважные, и притом смотрит на них исключительно с точки зрения
увеличения общественной разнородности, не касаясь параллельного
факта усиления индивидуальной однородности. Спенсер, несмотря
на многочисленность примеров, приводимых им в подтверждение
закона прогресса как перехода от однородного к разнородному, ни
разу не останавливается над значением этого перехода для
выработки понятий полезного, приятного, доброго, нравственного,
справедливого. А между тем обособление их друг от друга несомненно
подтверждает его закон прогресса: оно могло явиться только в обществе
очень разнородном. Бедняга первобытный человек думал, что все
создано для него. Оказывается, что он сам создан для всего, кроме
самого себя. Он создан для справедливости, для нравственности, для
богатства, для знаний, для искусства. И все это требует
безусловного, исключительного поклонения себе; все это в открытой вражде
друг с другом: искусству не надо справедливости, наука отрицается
нравственностью, богатство не видит справедливости, формальная
справедливость незнакома с нравственностью. Но — замечательный
факт, который мы объясним ниже, — все эти отвлеченные категории,
порожденные процессом общественных дифференцирований и
соответственных индивидуальных интеграции, находясь в открытой
междоусобной войне, в то же самое время единодушно
поддерживают вызвавший их на свет Божий порядок. В другом месте* мы имели
случай показать, что безусловная справедливость есть не что иное,
как идеализация существующих общественных отношений,
возведение в принцип голого эмпирического факта. А между тем как она
величава и широка, эта безусловная справедливость! Теоретические
формулы объективно-антропоцентрического периода (все создано
Статья «Преступление и наказание» (по поводу «Русских уголовных
процессов») войдет в один из следующих томов.
162
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
для человека) и периода эксцентрического (человек для богатства,
для справедливости, для истины, или, что тоже, справедливость для
справедливости, истина для истины, богатство для богатства) до
такой степени диаметрально противоположны, что можно было бы
подумать, что самая природа человека потерпела какое-нибудь
коренное преобразование. Может быть, и в самом деле люди живут
здесь для знания, для искусства, для справедливости? Не совсем так.
Произошло, собственно, вот что. Были люди дикие, ограниченные,
неразвитые, но целостные. Их целостная индивидуальность,
благодаря кооперации раздельного труда, развивалась враздробь. Жизнь
неделимого есть сумма отправлений, допускаемых его организацией.
В первобытном человеке мы имеем эту сумму отправлений.
История, не дав силам и способностям человека, так сказать, выйти из
скрытого состояния, достигнуть гармонической и всесторонней
напряженности в пределах одной индивидуальности, разместила эти
силы и способности по множеству разных индивидуальностей. Сила
мысли оказалась в одном углу, и больше в нем ничего не оказалось,
в другом — сила мышц, в третьем — эстетическая способность и т. д.
Эти изолированные силы, развиваясь в нецелостных неделимых
насчет других сил, получают колоссальную интенсивность и при этом
окончательно заглушают остальные отправления. Таким путем
происходит общественная разнородность рядом с индивидуальной
однородностью. Казалось бы, что здесь, как и везде при осуществлении
принципа разделения труда, происходит значительная экономия
сил; что общество получает огромный барыш, доводя различные
силы и способности до такого развития, какое недостижимо при
совмещении их всех в пределах одной и той же личности. «Разделение
занятий, — говорит Милль, — совершение одновременным трудом
нескольких, работы, которая не могла бы быть окончена каким бы
то ни было числом лиц порознь, — вот великая' школа кооперации»
(статья «Цивилизация» в «Рассуждениях и исследованиях»). Великая
ли эта школа, это вопрос, подлежащий обсуждению. Но это не
единственная школа кооперации, потому что есть еще школа простого
сотрудничества. Как мы неоднократно доказывали, разделение
труда, способствуя выработке нецелостных неделимых, есть источник
бесчисленных патологических явлений в области индивидуальной и
социальной жизни. Но этого мало; есть пределы, за которыми всякая
сила и способность, развиваясь за счет других сил и способностей,
Что такое прогресс?
163
перестает быть силой и способностью, о чем с неумолимой ясностью
свидетельствуют добытые ею результаты.
Грубый фетишизм сменился более утонченным политеизмом.
Для первобытного человека исчезла возможность быть со своими
богами запанибрата, беседовать с ними запросто, сидеть в одной
комнате, в сношения с ними он должен вступать через посредство
жрецов. Обеспеченные трудом производительных классов, жрецы
и высшие слои общества вообще начинают мало-помалу отвыкать
от физического труда. Когда распадение труда на труд физический и
умственный доходит до известных пределов, антропоцентрический
монизм сменяется эксцентрическим дуализмом. Когда вы здоровы,
вы не замечаете присутствия того или другого органа, сознаете
только себя как совокупность органов, находящихся в физиологической
гармонии. Когда вы больны, то есть когда гармония отправлений так
или иначе нарушена, вы невольно обращаете внимание на
пораженный орган. В здоровом состоянии трудно мыслить о голове, о руке,
о ногах, о сердце и т. д. безотносительно ко всему организму.
Больная голова, больная рука вызывают ваше специальное внимание, и вы
мысленно отделяете их от остальной части организма. Совершенно
точно так же нарушенная дифференцированием труда гармония
выделила для человека дух как нечто отдельное от тела. Борозда,
пролегшая между духом и материей в практической жизни, отразилась и
на теоретических воззрениях, и со сменой поколений обозначалась
все резче и резче. Единоличным богам и единоличной морали
первобытного человека, работающего одиновременно и руками и головой,
соответствует понятие о единстве его собственного существа.
Вступая свободным и независимым членом в союз простого
сотрудничества, первобытный человек все-таки держится своего монизма,
потому что и здесь ему приходится трудиться равномерно и физически и
умственно. В кооперации раздельного труда душа и тело расходятся
в разные стороны. Вследствие различия побочных обстоятельств
расхождение это проявляется различным образом. Так, полинезийцы
веруют, что только предводители их имеют душу. Так, древние перуанцы
веровали, что их знать была божественного происхождения. Оба эти
факта приводятся Спенсером в подтверждение той мысли, что в
первобытном обществе личности бога и государя совпадают. В этом
отношении особенно неудачен пример перуанцев. Перу известно нам
уже на относительно очень высокой ступени цивилизации, и потому
164
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
верование перуанцев ничего не доказывает: установлению его
предшествовали целые века общественных дифференцирований. Как бы
то ни было, но мы видим, что так или иначе практическое распадение
труда на физический и умственный везде и всегда сопровождается и
теоретическим распадением души и тела, т. е. дуализмом. Однако кое-
какие эмпирические сведения, приобретаемые высшими классами, и
особенно жрецами, еще долго имеют в виду исключительно человека
как с теоретической, так и с практической точки зрения. Природа
изучается объективно-антропоцентрически, и притом настолько,
насколько это изучение может быть непосредственно приложено
к пользам и нуждам человека. Практическое приложение добытых
знаний находится в ведении самих изучающих природу; теория еще
не отделилась от практики, наука — от искусства, знание
теоретическое — от прикладного. Но глубже и глубже ложатся демаркационные
черты между интересами различных слоев общества. Процесс
дифференцирования, раз начавшись, идет все быстрее и быстрее.
Увеличивающийся досуг, гарантированный трудом нижнего этажа
общественного здания, и привычка к умственным занятиям побуждают,
наконец, некоторых членов высших слоев заняться изучением
явлений природы не ради тех или других практических целей, а из
любопытства, ради самой истины. Является новое специальное
наслаждение — наслаждение знания, раз отведав которого, мысль неудержимо
стремится к дальнейшему знанию. Знание перестает быть средством
и становится целью. Эта новая цель все более и более заслоняет
собой для преследующих ее все другие цели и, вызванная процессом
общественных дифференцирований, закрепляет их собой.
Религиозные представления становятся утонченнее. Является философия.
Мысль человеческая, уверившись в своей независимости от бренной
телесной оболочки, оказывает крайнюю самонадеянность. Презирая
опыт и наблюдение как орудия бренной оболочки, мысль стремится
в надзвездные пространства и желает получить понятие о мире чисто
диалектическим путем, из самой себя. Презирая оковы, налагаемые
на нее внешними чувствами, мысль презирает и добываемое
внешними чувствами. Ей мало феноменального знания, которое может
получить и приложить к делу всякий ремесленник. Она ищет нумена,
вещи в себе, сущности вещей, и сама эта сущность оказывается,
наконец, не чем иным, как тем же самым духом, который так тщательно
и любовно воспитывается на счет материи в прямом и переносном
Что такое прогресс?
165
смысле. Об утилитарной стороне знания нет и помину. Архимед39
извиняется перед современниками и потомством в том, что иногда
работает для практических целей. В наши времена Шопенгауэр
заявляет, что только бесполезное может иметь значение. Платон
говорит, что значение арифметики состоит отнюдь не в ее практической
пользе, а в том, что она «облегчает душе путь из области преходящих
вещей к созерцанию истины и бытия»; что она обязана «заниматься
числами в себе, в их сущности, и не терпеть вмешательства чего бы то
ни было видимого и осязаемого»; что геометры заблуждаются, если
удаляются от изучения того, что составляет сущность вещей, истину
вечную и безусловную; что цель астрономии совсем не практическая,
она не есть даже изучение видимого, она должна вести к той же
вечной истине, постижимой одной чистой мыслью (Республика. Кн. VII).
Русский педагог г-н Модзалевский40 полагает, что, «благодаря
незначительной населенности страны и существованию рабства, бывшего
уделом иноплеменников, жизнь свободных людей была легка и чужда
мелочных забот. Большая часть нации была совершенно незнакома
с низкими и тяжелыми работами, и потому грек чрез воспитание свое
мог становиться выше всего пошлого и мелочного в жизни» (Очерк
истории воспитания и обучения и проч., ст. 47). Считаю долгом
заметить, что это античное воззрение приведено рядом с мыслями
Платона не по чему иному, как потому, что мы случайно развернули
случайно лежащую перед нами книгу г-на Модзалевского.
Освобожденная от мелочных и пошлых забот мысль, стремясь
уразуметь сокровенные сущности вещей, получает о себе все более
и более высокое понятие. Чистая мысль оказывается единственные
источником познания, в ней одной следует искать законы
мировых явлений. Метафизические системы громоздятся одна на другую;
в них погибают величайшие умы. Таков в области мысли и знания
один результат общественных дифференцирований и
осуществления принципа разделения труда, то есть по Спенсеру —
общественного прогресса.
Тем временем мало-помалу копятся положительные знания.
Практические надобности и счастливые случайности порождают технику
искусства, а техника влечет за собой некоторые обобщения. Сначала
эти обобщения кладутся гордыми и нетерпеливыми умами в
основание метафизических объяснений мира. Затем, под влиянием общего
процесса социальных дифференцирований, наука отделяется от фи-
166
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
лософии. Далее тот же процесс повел к тому, что «каждый отдельный
класс исследователей как бы выделил свой частный порядок истин
из общей массы материала, накопленного наблюдением» (Спенсер,
I, 307). Знание, как цель, распадается постепенно на множество
частных целей. Один избирает одну отрасль, другой — другую и т. д. Как
и во всех своих проявлениях, это разделение труда имеет
двойственный характер. Наука обогащается, но миросозерцание специалистов
все более и более суживается. Однако скоро и наука перестает
обогащаться. С дальнейшим специализированием утрачивается взаимное
понимание между представителями различных отраслей знания. Они
не понимают даже языка друг друга. Погруженный в свой клочок
знания, специалист взрывает его вдоль и поперек, но не имеет понятия
о соседнем клочке. Он уже давно перестал быть гражданином, давно
перестал сознавать свою солидарность с остальными членами
кормящего его общества. Но, наконец, он перестает быть и ученым;
добываемое им знание делается не только неважным, второстепенным,
третьестепенным и т. д., но даже перестает быть знанием. Это требует
некоторого объяснения. Для исследования самого простого явления,
например, для определения какого-нибудь минерала, требуется,
собственно говоря, целый ряд опытов и наблюдений. Минерал может
иметь строение аморфное или кристаллическое. В последнем случае
нужно определить геометрические свойства кристалла, отношения
углов и плоскостей. Но этого недостаточно, потому что много есть
минералов, совершенно различных и тем не менее
кристаллизующихся в одной и той же форме. От гониометра41 приходится перейти
к паяльной трубке, исследовать отношение данного минерала к тем
или другим реактивам, к поляризации, его спайность, твердость
и т. д. После этого ряда опытов и наблюдений явление понято,
потому что, кроме математических, физических и химических, никаких
других свойств минерал не имеет. Понятное дело", что если бы какой-
нибудь специалист-кристаллограф не имел сведений химических и
физических и был бы склонен, подобно всякому специалисту,
придавать своей точке зрения первенствующее значение, понятно, что
его минералогические знания не были бы знаниями. Что касается
до его собственно кристаллографических наблюдений, то они
представляли бы не более как сырой материал. Мы взяли пример почти
невозможный, потому что минералогия заведует явлениями столь
простыми, что связь и необходимость различных точек зрения тут
Что такое прогресс?
167
совершенно очевидны. Но в науках, имеющих дело со сложнейшими
явлениями, подобные случаи не только возможны, а и весьма обык-
новенны, потому что для понимания этих более сложных явлений
требуется и большая разносторонность сведений. Ясно, что в этом
случае узкий специалист может накопить множество знаний,
которые, при всестороннем их рассмотрении, окажутся совершенно
ложными. Время от времени в эту массу ложно понятых или верных,
но мелочных фактов врываются могучие умы, внося синтетическое
начало в это неограниченное правление анализа. И это
синтетическое начало представляет собой отражение простого сотрудничества
между науками и индивидуальной целостности деятеля науки;
истины различных наук группируются при этом не как однородные
члены разнородного целого, а наоборот. Наука делает гигантский шаг,
подобрав сразу весь пригодный сырой материал, а остальную часть
его выбрасывает как совершенно негодную. Однако иногда и на
самих представителях синтетического начала отражаются последствия
коренных общественных дифференцирований. Вырвавшись из
эксцентрического периода, с одной стороны, они глубоко сидят в нем —
с другой. Опыт и наблюдение еще не вытеснили из них веры в
бесконтрольную силу чистой мысли. Отсюда опять метафизические
стремления уловить сущность вещей, их конечные причины, отсюда
метафизические понятия природы, боящейся пустоты, зоогена,
жизненной силы, жизненных духов и т. п.
Наконец, в области теоретических вопросов история снова
выдвигает человека центром вселенной. Позитивизму принадлежит честь
объединения и обобщения этого стремления. Опять человек
становится мерилом вещей, но на этот раз уже сознательно. Дуализм опять
сменяется монизмом. Границы науки совпадают с границами
человека как существа цельного и единого. Мысль вводится в свои законные
границы. Человек может познавать только явления и те постоянные
отношения, в которые они становятся друг к другу. Сущность вещей —
вечная тьма. Нет абсолютной истины, есть только истина для
человека, и, за пределами человеческой природы, нет истины для человека.
Положения эти вырабатывались веками. Но в курсе философии Кон-
та им подведен полный итог, к которому мы отсылаем читателя.
После борьбы с метафизикой читатель найдет там и борьбу с излишней
специализацией знаний, но эта часть трактата едва ли удовлетворит
его в такой же мере. Здесь рассыпаны, однако, зачатки золотых мыс-
168
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
лей, ценность которых уменьшается только коренным недостатком
контовой системы — устранением субъективного метода из области
вопросов социологии, этики и политики. Позитивизм сделал до сих
пор полдела — установил законность человеческой точки зрения
на явления природы, а человеческая точка зрения есть здесь точка
зрения человека мыслящего и ощущающего всею суммой органов и
всею суммой отправлений, свойственных организму человека. Таким
совместным участием всех сторон индивидуальности получается
истина, не абсолютная, а истина для человека. Та же точка зрения
должна быть приложена и к решению практических вопросов, но этой
половины великого дела позитивизм совершить не может, потому что
тут ему пришлось бы ввести субъективный метод даже в постановку
чисто теоретических вопросов. В самом деле, с объективной точки
зрения все истины равны. Выбор между истинами, т. е. отделение
истин полезных от бесполезных, нужных от ненужных, обязательных
от необязательных — это дело, очевидно, субъективного метода. Тем
справедливее это для практических приложений добытых истин.
Относительно этих пунктов могут выйти разногласия, объективным
методом неустранимые, вследствие чего позитивизму приходится быть
пассивным зрителем этих столкновений, не принимая в них
никакого участия. В «Позитивной политике» Конт открыто отказался от
этой пассивной роли и при помощи субъективного метода
попытался перекинуть мост от науки к жизни. Мост вышел непрочный, но это
отнюдь не значит, что можно обойтись совсем без моста. До какой
степени Конт и в своем курсе философии был близок к тому, чтобы
ввести в свою систему человека как целостное неделимое, центром
не только теоретических, а и практических вопросов, т. е. связать
научным образом вопросы о теоретической истине с вопросами о
практическом благе, и до какой степени ему тесно было в путах
объективного метода в социологии, — это видно из следующих его слов,
которые я боюсь испортить переводом:
«Chez la classe speculative l'élévation de l'âme et la générosité des
sentiments peuvent difficilement se développer sans la généralité des
pensées, d'après l'affinité naturelle qui doit y exister entre les vues étroites
ou disper-sives et les penchants égoistes» (t. VI, 387).
«L'intime dégénération, indiquée par de tels symptômes confirmel'etat
purement provisoire d'une classe spéculative où l'actif sentiment de
devoir a dû s'affaiblir au même degré que le viritable esprit d'ensemble, et
Что такое прогресс?
169
chez laquelle on remarque, en effet, aujourd'hui, encore plus que partout
ailleurs, une systématique prépondérance de la morale métaphysique
fondée surl'interêt personnel. Bientôt, peut être, la science elle même en
sera profondément atteinte, soit par ce qu'une trop avide concurrence
menace d'y déterminer, chez des natures trop inférieurs, une altération
volontaire de la véracité des observarions, soit a cause de la surexcitation
qu'une cupidité croissante est exposée a y recevoir des relations plus
directes et plus actives entre les spéculations scientifiques et les operations
industrielles» (VI, 393).
Эта невозможность высокого нравственного уровня при
отсутствии общих взглядов на явления природы; это «естественное
средство, которое должно существовать между узкими и
односторонними научными воззрениями, с одной стороны, и
эгоистическими наклонностями — с другой», это «ослабление чувства долга
параллельно ослаблению целостности миросозерцания» — угаданы
великим мыслителем совершенно независимо от его философской
системы. Система эта не дает ответа на вопрос: почему же между
научной односторонностью и узким эгоизмом должно существовать
сродство? Что между ними общего? Далее, не суть ли все эти Клаэ-
сы — позитивисты, так как они могут самым позитивным образом
изучать законы последовательности и сосуществования явлений?
Где же в системе позитивизма тот пункт, с которого деятельность
Клаэсов достойна порицания? Правда, позитивизм и с объективной
точки зрения может требовать некоторой научной целостности, так
как классификация наук Конта указывает, что каждая наука может
быть только тогда рационально разрабатываема, когда усвоены
истины всех предыдущих наук ряда. Но, во-первых, если специалист
нарушает это условие и приходит к ложным заключениям, то
позитивизм только и может сказать, что это заключения ложные, но
отнюдь не может связать это обвинение с нравственной оценкой.
Во-вторых, если мы возьмем одну из низших наук, то, по
классификации Конта, для механика достаточно математических познаний,
для физика математических и механических, для химика —
математических, механических и физических. Каждый из них может таким
образом удовлетворять рациональным требованиям позитивизма, но
оставаться в то же время Клаэсом, узким специалистом и эгоистом.
И как ни клеймит их Конт за этот эгоизм, ему приходится включать
их в число позитивистов.
170
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Мы вполне сознаем всю неудовлетворительность, неполноту и,
быть может, неясность нашего предыдущего изложения. Сознание
это не доставляет нам, разумеется, никакого удовольствия. Мы хотели
сказать несколько слов об истинном значении объективного метода
в социологии и для этого намерены были сделать «небольшое, а
может быть, и довольно длинное отступление» от Спенсера. Отступление
вышло и слишком длинно, и слишком коротко, так как нам
приходилось чуть не бегом бежать, а об объективном методе в социологии мы
все-таки сказали мало. Ниже мы надеемся поправить дело. Однако и
здесь мы не совершенно удалились от Спенсера, потому что имели
случай проследить некоторые последствия осуществления принципа
разделения труда и общественных дифференцирований; далее
говоря о Конте, мы все-таки были вблизи от Спенсера, потому что оба
они настаивают на законности объективного метода в социологии и
оба могут считаться представителями позитивизма, хотя Спенсер не
ставит себя, да и не может быть поставлен, в число учеников Конта, и
хотя последний двумя головами выше первого. Во всяком случае, мы
были бы вполне счастливы, если бы читатель убедился пока в
следующем: метафизика, т. е. стремление к уразумению сущности вещей
и абсолютному знанию, и крайняя специализация, которая, как
говорит Фауст о Вагнере, froh ist, wenn sie Regenwürme findet, — имеют
одну общую причину, которая не видна с точки зрения, принятой
Контом, и потому ему, скрепя сердце, приходится ставить их в
различные отделы своей объективной классификации. Общая причина
этих двух, по-видимому, крайних противоположностей заключается
в том самом, что Спенсер с объективной точки зрения признает
социальным прогрессом — в дифференцированиях общества и в том
разладе, который вносится в индивидуальную и социальную жизнь
направлением кооперации по типу раздельного труда. И
метафизика и специализация знаний суть результаты нарушения целостности
неделимых и бесконечного раздробления человеческих целей и
интересов. И та и другая возможны только в эксцентрическом периоде
социального развития.
Третий великий результат нарушения индивидуальной
целостности и гармонии отправлений есть объективный метод в социологии;
им мы окончательно займемся ниже.
Беглость и неполнота нашего очерка могут поселить между нами
и читателем некоторые взаимные непонимания по многим пунктам.
Что такое прогресс?
171
Со временем мы надеемся совершенно устранить это обстоятельство,
но и теперь нам хочется остановиться на одном из таких пунктов.
Читатель заметил, разумеется, что мы не особенно расположены
к эксцентрическому периоду общественного развития. На пути к
счастью человечеству остается пройти еще одни великие исторические
ворота, над которыми стоит надпись: «Человек для человека, все для
человечества». За объективно-антропоцентрическим периодом
отсутствия кооперации и слабых зачатков простого сотрудничества, за
эксцентрическим периодом преобладания разделения труда следует
субъективно-антропоцентрический период господства простого
сотрудничества. Некоторые стороны человеческой жизни уже вступают
в этот период; так, позитивизм ввел в него теоретические отношения
человека к природе. Поэтому, не маскируясь объективностью, мы
откровенно сознаемся, что желаем скорейшего окончания
эксцентрического периода, который не заслуживает, по нашему мнению, той
розовой окраски, какую налагает на него Спенсер. Но не значит ли
это обругать вековую историю? Не дал ли нам именно этот процесс
истории науку, искусства, промышленность? Конечно, дал. Но
некоторая часть всего этого добыта простым сотрудничеством, а
остальное куплено и покупается, может быть, слишком дорогой ценой.
Будущий историк напишет приходно-расходную книгу цивилизации и
сведет эти счеты.
Итак, мы не принадлежим к числу хвалителей эксцентрического
периода, а выше мы говорили, что, между прочим, в этот период
произошло распадение знания теоретического и прикладного, что наука
перестала здесь служить практическим целям. Из этого читатель,
пожалуй, может вывести, что мы считаем наиболее важным в настоящее
время собственно технические знания. Есть узколобые утилитаристы,
проповедующие подобные вещи, но мы не имеем с этими Бекончи-
ками ничего общего. Ружья Шаспо42, пушки Армстронга43,
мониторы — тоже ведь результаты практического применения знаний.
Инженеры, механики, техники, практические химики, металлурги — все
это народ несомненно полезный. Но для определения их истинного
общественного значения в каждом частном случае следует помнить,
что трудами их могут воспользоваться те, кто может оплатить их.
Это значительно усложняет вопрос. Имейте только в виду, что благо
человека есть его целостность, гармония отправлений, то есть
разнородность неделимых и общественная однородность, что истина
172
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
для человека лежит в тех же пределах индивидуальной целостности;
имейте это в виду и беритесь за какую угодно работу: вы не
возрадуетесь, когда найдете Regenwiirmer, не будете скорбеть о
невозможности созерцать чистую истину и сущность вещей, и не изобретете
какого-нибудь нового игольчатого ружья.
VIII
Как мы уже говорили, Спенсер, определив прогресс как переход
от однородного к разнородному, от простого к сложному, от общего
к частному длинным рядом дифференцирований или расчленений,
находит далее нужным сделать к этому определению некоторые
поправки и дополнения. К ним мы теперь и обратимся.
«Что существуют переходы от менее разнородного к более
разнородному, не подходящие под то, что мы называем развитием, —
говорит Спенсер, — это доказывается каждым случаем местной болезни.
Часть тела, в которой возникает тот или другой болезненный нарост,
бесспорно представляет новое дифференцирование. Будет или нет
этот болезненный нарост более разнороден, нежели ткани, в
которых он является, — не в этом дело. Вопрос в том — становится ли
строение организма, взятое в целом, более разнородным вследствие
присоединения к нему части, непохожей ни по форме, ни по составу
своему ни на одну из прежних? И на этот вопрос возможен только
утвердительный ответ» (Основные начала, вып. VII, 188). Однако этот
переход от однородного к разнородному Спенсер не считает
возможным признать развитием. Далее он находит, что и первые
моменты разложения мертвого тела представляют усложнение, увеличение
разнородности. «Хотя конечным результатом будет большая
однородность, но непосредственный результат противоположен. Однако
этот непосредственный результат отнюдь не представляет развития».
«Но из всех подобных примеров, — продолжает Спенсер, — самые
неоспоримые представляются общественными беспорядками и
переворотами. Если в какой-нибудь нации возникает возмущение, которое,
оставляя известные области не потревоженными, развивается здесь
в тайные общества, там в публичные демонстрации, а в иных местах
в призыв к оружию, приводящий к столкновению и кровопролитию,
то нельзя не согласиться, что это общество, рассматриваемое в
целом, стало более разнородным. Ясно, однако, что такие изменения
Что такое прогресс?
173
не только не составляют дальнейшей ступени развития, но, напротив,
представляют собой шаги к разложению».
Однако почему же это ясно? Есть, конечно, точки зрения, с
которых вся совокупность описанных Спенсером явлений признается
шагом к разложению; есть другие точки зрения, с которых на ряд
подобных явлений смотрят как на шаги к развитию или к разложению,
смотря по тому, во имя чего происходят столкновения и
кровопролитие; наконец, какова бы ни была цель всего движения,
кровопролитие со всех возможных точек зрения признается явлением
печальным. Но все эти точки зрения субъективны. Все они рассматривают и
оценивают явления в связи с некоторым определенным понятием о
человеческом счастье. Описанные Спенсером явления они признают
шагами к развитию или к разложению, явлениями прогрессивными
или регрессивными только по тому понятию, которое они составили
себе о человеческом благоденствии и о путях к достижению его. Если
бы, например, нам пришлось отвечать на заданный себе Спенсером
вопрос: находится ли нация, в которой существуют в данную
минуту тайные общества, публичные демонстрации, вооруженные
столкновения и проч., на пути к разложению, или, наоборот, на пути к
дальнейшему развитию? — если бы нам пришлось отвечать на этот
вопрос, то мы очутились бы в большом затруднении. Мы нашли бы
вопрос по малой мере очень странным. Мы пожелали бы узнать,
о каких именно событиях идет речь, во имя чего собираются
тайные общества, устраиваются публичные демонстрации и т. д. и какую
вероятность успеха имеет все это движение. Агитация,
подготовившая Итальянское королевство, позднейшая агитация оставшихся за
штатом итальянских Бурбонов; агитация, низвергшая Изабеллу
испанскую, агитация изабеллистов и карлистов44, агитация испанских
республиканцев-федералистов — все они могут выражаться в одних
и тех же общих формах тайных обществ, публичных демонстраций,
вооруженных столкновений и тем не менее представлять явления,
радикально различные по своему смыслу и результатам. Получив
на счет этого смысла движения и ожидаемых его результатов
нужные сведения, мы можем признать его явлением прогрессивным или
регрессивным, смотря по тому, способствует ли оно приближению
общества к нашему идеалу счастья и совершенства или же
загораживает ему эту дорогу. Мы, например, полагаем, что счастье заключается
в индивидуальной целостности, т. е. в индивидуальной разнородно-
174
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
сти и общественной однородности. К этому критерию мы и
обращаемся для оценки данного политического движения. И так поступает
всякий. Разница только в качествах критерия. Но Спенсер
совершенно устраняет вопрос о человеческом счастье. Он обещал
«проанализировать различные классы изменений, обыкновенно признаваемых
прогрессом, а вместе с тем и другие классы, которые сходны с ними,
но прогрессом не считаются»; при этом он хотел рассмотреть, «в чем
состоит их существенная особенность, т. е. какова их
существенная природа, независимо от отношений к нашему благоденствию».
Эта объективная точка зрения привела его к убеждению, что прогресс
есть переход от однородного к разнородному. И тем не менее, дойдя
до известного явления, представляющего именно такой переход, он
отказывается признать его явлением прогрессивным и не объясняет
даже причин, побуждающих его к такому уклонению от им самим
найденной объективной нормы прогресса. Собственные его слова
могут быть сгруппированы таким образом: «Рассматривая те классы
изменений, которые считаются прогрессом, а равно и другие,
которые сходны с ними, но прогрессом не считаются, мы находим,
что прогресс есть переход от однородного к разнородному. Данное
явление представляет переход от однородного к разнородному, но
мы его не считаем прогрессивным». Но с какой же это стати?
почему? И откуда этот аксиоматический тон? Если Спенсер обращается
здесь к простому здравому смыслу, то, во-первых, здравый смысл
несомненно откажется подтвердить его положение, а во-вторых, дело
было именно в том, чтобы оставить простой здравый смысл в
стороне. Ясно, что Спенсер не мог удержаться на высоте объективного
метода и, в противность своему обещанию, придерживается известных
субъективных воззрений на прогресс, вносит в свои рассуждения
некоторую телеологию, имеет свой идеал общественных отношений,
по мерке которого выкроены и общие взгляды его на социальный
прогресс. Он, одним словом, приступает к исследованию прогресса
с предвзятым мнением. То же самое относится и к двум другим его
примерам непрогрессивного перехода от однородного к разнородному.
Болезненный нарост, бесспорно способствующий усложнению
организма, едва ли кто-нибудь решится назвать явлением прогрессивным.
Но к этому инстинктивному голосу простого здравого смысла
Спенсер не имеет никакого права прислушиваться, так как он заранее
поставил себя в независимость от подобных решений. Он объявил,
Что такое прогресс?
175
что будет рассматривать всякие изменения независимо от того,
признаются они большинством за изменения прогрессивные или не
признаются. Основания, по которым никто не решится назвать
болезненный нарост шагом к дальнейшему развитию, очень просты,
но они, очевидно, вяжутся с некоторой телеологией, они лежат
в понятии о благоденствии человека, а Спенсер считает такую
постановку вопроса нерациональной и недостаточно свободной. Если
он таким образом становится в противоречие как со своим
объективным методом, так и с добытой им формулой прогресса, то это
опять-таки значит, что и в этом случае им руководит некоторое
предвзятое мнение. Мы уже говорили, что присутствие
предвзятого мнения, понимая это выражение в широком смысле, при всяком
наблюдении и исследовании вообще неизбежно, и что все дело
состоит только в достоинстве этого предвзятого мнения. В случае его
истинности можно ожидать и верного исследования, и наоборот.
К тому, что мы сказали об этом в начале статьи, мы прибавим здесь
взгляд Конта на значение предвзятого мнения. Факты, говорит Конт,
нельзя изучать без помощи теории, хотя бы в виде временной
гипотезы. Это не только неудобно, но просто немыслимо, невозможно,
хотя ранняя, скороспелая, еще недостаточно проверенная теория,
пока она не проверена, представляет многие опасности и поводы к
ошибкам. С этим, однако, поневоле приходится примириться. «Если
видеть в этой опасности достаточный мотив для восстановления
преобладания так называемого эмпиризма, то на деле устранение
этой опасности повело бы только к замене руководства более или
менее рациональных, но всегда поправимых теорий влиянием
чисто метафизических доктрин, потому что совершенное устранение
какого бы то ни было руководящего взгляда есть химера» (Cours
de phill. positive, VT, 304). Здесь речь идет, собственно, о
законности гипотез, которые суть предвзятые мнения, сознательно,
условно и временно выдвигаемые для каких-нибудь определенных целей.
Но подчеркнутые нами слова выражают именно то, что мы говорим
о неизбежности предвзятых мнений.
Есть, как известно, несколько групп мыслителей, которые
расходятся между собой во многих отношениях, но согласны, по крайней
мере, в одном общем положении, — в том, что человек родится с
некоторыми готовыми истинами. К числу таких, без труда
приобретенных и даже не приобретенных, а присущих духу человека, врожден-
176
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ных истин принадлежат общие нравственные идеи и некоторые
воззрения на окружающий вещественный мир. Изо всех этих истин
упорнее всего держались и удачнее всего защищались
математические аксиомы. Это поистине философская крепость идеализма, как
называет аксиомы Тэн. Однако крепость эту можно теперь считать
взятой приступом. Самые аксиомы оказываются результатами опыта
и наблюдения, и если они и могут казаться прирожденными
человеческому духу, то только по своей крайней простоте и общности.
Явления и их взаимные отношения, выражаемые аксиомами, до такой
степени несложны и до такой степени часто повторяются в природе,
что человек и не замечает тех ежедневных, ежечасных, ежеминутных
опытов и наблюдений, которые постепенно убеждают его, что целое
больше части, что если к двум равным величинам прибавить по
равной величине, то суммы будут равны, и т. д. Так что впоследствии,
будучи представлена человеку в своем отвлеченном от конкретной
обстановки виде, аксиома кажется ему не требующей опытно-
наблюдательного подтверждения. В сущности же она есть не более
как обобщение единичных, разбросанных представлений и
ощущений, с самого дня рождения залегавших в его памяти. Таким же путем
сознательного или безсознательного опыта получаются наши знания
и о предметах более сложных. Ни вне нас, ни внутри нас мы не
можем признать существование каких-либо особых деятелей, дающих
нам, помимо опыта, готовые решения насчет наших отношений
к природе и к другим людям. Человек родится, имея только орудия
для приобретения знаний и оценки явлений вообще и не принося с
собой на свет никаких готовых истин. Все наше психическое
содержание без остатка, т. е. все наши мысли, знания, будут ли они
истинны или ложны, все наши желания и чувства, будут ли они хороши или
дурны, — обязаны своим происхождением опыту. Было бы, однако,
ошибочно думать, что вся сумма знаний, чувств и желаний каждого
человека дана его личным опытом. Опыт предков, без сомнения,
производит в целом ряду поколений более или менее глубокие
изменения в нервной системе, так что мозг новорожденного ребенка не есть
tabula rasa. Однако поскольку человек может проследить генезис
своих инстинктов и всего своего психического содержания, оно вначале
все-таки определяется опытом. Иначе говоря, содержание нашего
я есть всегда исключительно эмпирическое. Содержание это может
постоянно изменяться, но в каждую данную минуту человек отре-
Что такое прогресс?
177
шиться от него не может. Поэтому представления и ощущения,
получаемые нами в данную минуту от данного явления, самым
существенным образом определяются тем порядком, в котором
расположились в нашем психическом строе прежде накопленные опыты и
наблюдения. Совокупность этих предыдущих данных опыта,
сгруппированных тем или другим образом, составляет предвзятое мнение.
Ребенок, привлеченный блестящим видом нагретого самовара,
дотрагивается до него рукой и обжигается. Он узнает, что самовар
жжется, что, в переводе на более точный язык, значит: нагретый
самовар, придя в соприкосновение с человеческим телом, производит
в нем ощущение жара, которое, будучи усилено, становится
болезненным. Но такое отчетливое представление своих отношений к
самовару возможно для ребенка только гораздо позже. Сначала у него
остается в памяти только тот факт, что блестящее тело известной
формы (которую он запомнил, вероятно, только приблизительно)
жжется. Это сырое, неотделанное, изолированное представление
служит ему уже некоторым руководителем в его несложной жизни.
Увидя на другой, на третий день блестящую поверхность, сходную с
поверхностью самовара, или тот же самовар, ребенок смотрит на него
уже с тем предвзятым мнением, что он жжется. Воображение и
память комбинируют для него опыт прошедшего с новым или только
повторяющимся явлением. Но группировка ощущений,
составляющая его предвзятое мнение, оказывается неудовлетворительной и
потому приводит его к ряду ошибок. Ряд дальнейших вольных или
невольных опытов и наблюдений убеждает его, наконец, задолго до
рациональной теоретической группировки соотносящихся фактов,
что не всякая блестящая поверхность жжется, что и самый самовар
жжется, только когда он нагрет, что для получения ощущения боли
надо держать палец у самовара известное время и т. д. Здесь мы имеем
явление опять-таки очень простое, и потому ступени ложных
предвзятых мнений пробегаются тут весьма быстро. Однако не следует
думать, чтобы даже в таких несложных вещах предвзятое мнение не
могло существенным образом изменить значение
непосредственного свидетельства чувств. Мне самому случилось видеть — и, вероятно,
всякий припомнит аналогичные факты, — как ребенок,
дотронувшись до холодного металлического кофейника, заплакал и
показывал на свой палец как на обожженный. Во всех подобных случаях,
которых в особенности много может привести история предрассуд-
178
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ков и суеверий, ложное предвзятое мнение, построенное на
ошибочно или односторонне обобщенных представлениях и ощущениях,
совершенно парализует и извращает непосредственное восприятие;
говоря психологическим языком, апперцепция перевешивает
перцепцию. Для уяснения значения апперцепционного процесса
каждый может сделать следующий простой опыт. Посмотрите с
известного расстояния, например, на вывеску хоть мелочной лавочки.
Вы увидите более или менее ясные очертания плодов, сахарных
голов, печеных хлебов и т. д. Положим, что, при силе вашего зрения и с
того места, где вы находитесь, вы можете разглядеть на вывеске
яблоко, пару груш и еще что-то круглое, но для вас не совсем ясное. Вы
берете зрительную трубку и при помощи ее усматриваете, что это
нечто неясное изображает виноградную кисть. Вы оставляете трубку,
смотрите на вывеску опять простыми глазами и на этот раз можете
уже рассмотреть очертания той самой виноградной кисти, которая
за несколько минут перед тем представлялась вам просто круглым
пятном. Предшествующее впечатление, в этом случае полученное
при помощи зрительной трубки, что, разумеется, не обязательно,
называется апперцепирующим. Перцепция или непосредственное
восприятие, полученное в данную минуту, осложняется апперцепцией
или теми впечатлениями, которые получены наблюдателем раньше.
Вы рассмотрели во второй раз простыми глазами виноградную кисть
только потому, что предварительный опыт приготовил вас к ее
усмотрению, наделил вас предвзятым мнением, без которого вы и во
второй, и в третий раз виноградной кисти не разглядели бы. В этом
опыте с вывеской мы, так сказать, уединяем апперцепцию, и потому
влияние ее становится очевидным. Но, собственно говоря, всякое
наблюдение и всякий психический процесс состоит в неизбежно
совокупном действии перцепции и апперцепции, и вторжение
последней может совершенно извратить свидетельство чувств. По
непривычке к самонаблюдению мы обыкновенно не замечаем подобных
фактов, потому что либо апперцепция действительно совпадает
с перцепцией, либо первая совершенно заслоняет для нашего
сознания вторую, и в таком случае они субъективно тождественны.
Вторжение апперцепции может происходить на очень разнообразные
лады и давать очень разнообразные результаты. В вышеприведенном
примере она только дополнила перцепцию и помогла увидеть то, что
действительно было. Но она может и помешать увидеть существую-
Что такое прогресс?
179
щий факт, и осветить его неверным светом. Вы часто можете
рассмотреть ту же виноградную кисть на вывеске мелочной лавочки с такого
расстояния, с какого не увидите предмета таких же размеров, но вам
менее знакомого. Все эти вывески рисуются на один и тот же манер,
впечатления вы от них сотни раз получали одни и те же, и сумма их
составляет для вас то предвзятое мнение, в силу которого вы можете
увидеть виноградную кисть на очень отдаленном расстоянии.
Но предположим, что на какой-нибудь вывеске живописец изменил
рутине и нарисовал вместо обычной виноградной кисти ананас.
Легко может быть, что вы, даже на относительно близком расстоянии,
увидите не ананас, как должна бы была засвидетельствовать
перцепция, а виноградную кисть, как вам подсказывает апперцепция. И вы
будете утверждать, что вы видели виноградную кисть собственными
глазами, и вы будете не совсем неправы. В начале статьи мы привели
несколько заимствованных у Спенсера характерных примеров
извращения наблюдений ложными апперцепирующими
представлениями. Происхождение этих представлений необходимо опытное,
но лежащий в основе их опыт может быть неполон, односторонен,
совсем неверен, наконец, может быть извращен более ранними
ложными апперцепциями. Но точно так же апперцепция может быть и
совершенно безупречна. Во всяком случае, так или иначе,
апперцепционный процесс неизбежен. Он состоит, как видит читатель, в том,
что при всяком чувственном восприятии в нашем сознании
особенно отчетливо поднимаются те предыдущие впечатления, которые
имеют с данным восприятием какое-нибудь сходство. Воображение
и память комбинируют восприятие с соответственными сторонами
нашего уже установившегося эмпирического содержания, и эта
новая комбинация немедленно входит, как один из элементов, в
психическое содержание. Все это располагается в нашем психическом
строе в известном порядке, который, однако, в большинстве случаев
представляет большой беспорядок благодаря условиям современной
жизни: собственный опыт раннего детства, комбинируясь с
бабушкиными сказками, может породить в нас такие чувства, следы которых
остаются и во взрослом человеке; сочетание более позднего опыта
с впечатлениями, полученными от чтения какого-нибудь
определенного рода книг, может дать начало новому слою заблуждений и т. д.
Поэтому в этой сложной сети часто бывает весьма трудно добраться
до первых источников какого-нибудь ошибочного воззрения. «Спро-
180
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
сите, — говорит Спенсер, — любого из передовых наших геологов
и физиологов (это писано еще до появления книги Дарвина), верит
ли он в легендарное объяснение сотворения мира, — он сочтет ваш
вопрос за обиду. Он или вовсе отвергает это повествование, или
принимает его в каком-то неопределенном, неестественном смысле.
Между тем одну часть этого повествования он бессознательно
принимает, и принимает даже слишком буквально. Откуда он
заимствовал понятие об «отдельности творений», которое считает столь
основательным и за которое так мужественно сражается? Очевидно, он не
может указать никакого другого источника, кроме того мифа,
который отвергает. Он не имеет ни одного факта в природе, который мог
бы привести в подтверждение своей теории; у него не сложилось
также и цепи отвлеченных доктрин, которая могла бы придать значение
этой теории. Заставьте его откровенно высказаться, и он должен
будет сознаться, что это понятие было вложено в его голову еще с
детства, как часть тех рассказов, которые он считает теперь нелепыми.
Но почему, отвергая все остальное в этих рассказах, он так
ревностно защищает последний их остаток, как будто почерпнутый им
из какого-нибудь достоверного источника, — это он затруднится
сказать» (Т. I. Опыты. Пшотеза развития, 178). В этих случаях в области
психических явлений происходит своего рода атавизм: заглохнувшее
относительно некоторых частностей представление вдруг встает во
всей силе и втайне руководит наблюдателем, без ведома его сознания.
Наблюдатель вследствие этого видит то, чего на самом деле нет, не
видит того, что встречается на каждом шагу, придает важное
значение самым бедным доводам и не убеждается таблицей умножения.
Против этого рода опасностей есть только одно средство: по
возможности тщательно проверять свое эмпирическое содержание и
отыскивать его источники. Если комбинация восприятий, ложившихся в
основу предвзятого мнения, осознана и может' быть формулирована,
она обращается в теорию, допускающую критическое отношение
к себе. Теория эта может, без сомнения, также служить источником
ложных апперцепирующих представлений, как, например, в случае
двух микроскопистов, придерживающихся различных теорий и
вследствие этого видящих под одним и тем же микроскопом, в одном
и том же явлении, различные вещи. В этом случае каждый из
наблюдателей видит только то, что желает видеть, чего он ищет, и не видит
того, чего не ищет. Оба ссылаются на свои непосредственные впечат-
Что такое прогресс?
181
ления и потому взаимная поверка обеих теорий прямым
наблюдением весьма затруднительна. Но зато здесь остается другой путь к
поверке. Так как теория составляет ряд сознательных обобщений
отдельных фактов и вся эта цепь наблюдений и обобщений,
расположенных в известном порядке, находится у всех на виду, то
всякий может вернуться к самым источникам теории. Таким образом,
кроме вопроса: что видит микроскопист в данном явлении? чего он
в нем ищет? — кроме этого вопроса, может быть задан иной, а
именно: имеет ли микроскопист логическое и научное право искать
именно это, а не что-либо другое? Другими словами, оправдывается ли его
теория фактами, уже прочно стоящими в науке? Если такое
оправдание существует, то можно думать, что наблюдение, сделанное под
влиянием соответствующей теории, верно. Если же нет, то теория
получает права и обязанности гипотезы в ожидании получения иным
путем таких научных данных, которые либо подтвердят, либо
уничтожат гипотезу. Совсем иное дело бывает с предвзятым мнением,
неосознанным, состоящим из неведомого самому исследователю
сочетания восприятий, невылившимся в ясную для него самого
формулу. Обыкновенно в подобных случаях человек говорит, что он
приступает к исследованию без всякого предвзятого мнения. Но хотя в
обыкновенном разговорном языке такое выражение имеет
некоторый достаточно определенный смысл, однако, строго говоря, этот
человек, заявляющий о своем безусловном беспристрастии, говорит
неправду. Утверждение его отнюдь не значит, чтобы он мог,
действительно, отрешиться от готовых уже в его голове обобщений. Оно
в лучшем случае означает только, что обобщения эти образуют цепь,
для него самого неясную (в худшем — оно показывает, что человек
собирается просто намеренно извратить истину). И потому здесь
несравненно труднее убедиться в ошибочности своего воззрения и
отнестись к нему критически; здесь приходится иметь дело с
невидимыми и неизвестными врагами, которые, однако, неуклонно следят
за каждым вашим шагом и дают себя чувствовать там, где вы их всего
менее можете ожидать. Отрешиться от своего эмпирического
содержания столь же трудно, как например, вывернуться наизнанку.
Можно только заменить одно содержание другим, для чего первое должно
быть приведено в совершенную ясность, и должны быть тщательно
выслежены те пути, которыми человек дошел до таких-то именно
воззрений. А это невозможно, если человек придает строгое значе-
182
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ние своему обещанию приступить к исследованию без всякого
предвзятого мнения, ибо это значит, что человек не знает, что делается в
его голове.
Современный филолог может с изумлением остановиться на том
факте, что древние римляне называли германские племена
варварами и считали их совершенно особой, низшей породой людей,
«тогда как между языком Цезаря и языком варваров, против которых он
воевал в Галлии и Германии, было столько же сходства, как между его
языком и языком Гомера» (Макс Мюллер45. Лекции по науке о
языке и проч. СПб., 1865, с. 91). «Муж с остроумием Цезаря, —
прибавляет Макс Мюллер, — непременно заметил бы это, если бы не был
ослеплен традиционной фразеологией». Далее, приведя в пример
спряжение глагола иметь в латинском и готском языках,
знаменитый лингвист говорит: «Для того чтобы не заметить такого сходства,
требуется в самом деле порядочная доля слепоты или лучше глухоты,
и причиной такой слепоты или глухоты было, я думаю, единственно
слово варвар» (92). Дело в том, что римляне, бывшие в глазах
греков в свое время сами варварами, получив от них это готовое
выражение, приложили его ко всем народам, за исключением себя и
своих цивилизаторов — греков. Ни с каким определенным смыслом
выражение это не связывалось, никакого определенного ясного
содержания не имело, кроме чисто отрицательного: не римляне, не
греки. В пору малого знакомства греков с другими народами,
слово «варвар» имело некоторый исторический смысл. Греческое ухо,
недостаточно развитое опытом в этом направлении, не умело
различать звуки чуждых языков, хотя, надо заметить, что греки
различали варварогласных, т. е. худо говорящих по-гречески, и
собственно варваров. Таким образом, противопоставление варваров грекам
было следствием недостаточности опыта, а не причиной его. Но раз
установившись традиционным путем, слово «варвар» легло в
основание предвзятого мнения, в силу которого греки и позднее
римляне не могли заметить сходства между своими языками и
языками варваров, несмотря на постоянные столкновения. Макс Мюллер
полагает, что это предвзятое мнение было разрушено и могло быть
разрушено только христианством. «Идея всего человечества как
одного семейства, как детей одного Бога родилась из христианства,
и наука человечества и языков человечества есть наука, которая без
христианства никогда не вступила бы в жизнь. Когда людей стали
Что такое прогресс?
183
учить смотреть на всех ближних как на братьев, тогда только
разнообразие человеческой речи представилось вопросом,
призывающим к своему решению глубокомысленных наблюдателей, и
поэтому я считаю настоящее начало науки о языке с первого дня
Пятидесятницы. После этого дня освобожденных языков изливается новый
свет над миром, и нашим взорам являются предметы, скрывавшиеся
от глаз народов древности. Старые слова принимают новое
значение, старые вопросы получают новый интерес, старые науки новую
цель» (Там же). Хотя значение христианства здесь преувеличено, но
в мнении Макса Мюллера есть значительная доля правды. Во
всяком случае, судьба слова «варвар» представляет прекрасный пример
ликвидации психического содержания человеческого я. Восприятия,
полученные греками при первых их столкновениях с другими
народами, убедили их, что существуют на свете не-греки, люди, отличные
от греков. Дальнейшая классификация этих не-греков была на
первых порах невозможна. Зная только себя, греки не могли
ориентироваться в массе чуждых нравов, языков, понятий. Их психический
аппарат был приготовлен предыдущим опытом только к отличению
своих порядков от не своих. Уразуметь жизнь, несколько отличную
от их жизни, они не могли, и потому, естественно,
преувеличивали черты различия между ними и варварами и уменьшали значение
различий в среде самых варваров. С течением времени, по мере
ближайшего знакомства с другими народами, такая грубая
классификация должна была необходимо пасть, и, по-видимому, римлянам
было особенно легко с ней расстаться, так как они и сами считались
некогда варварами и имели столкновения в Европе, Азии и Африке
с очень разнообразными народностями. Но здесь стало поперек
дороги слово «варвар». Порожденное сходством впечатлений,
полученных во время знакомства с разными народами, и усвоенное путем
бессознательной традиции, слово это обратилось в какую-то
перегородку, из-за которой римляне не могли рассмотреть некоторых
черт в характере варваров. Маленькое и совершенно бессмысленное
словечко давало пищу национальному самолюбию, презрению к
другим народам, но ни один римлянин не соединял со словом варвар
какого-нибудь определенного представления. Факт смутных и
односторонних восприятий был бессознательно возведен в принцип.
Непосредственное свидетельство чувств, руководимое несознательным
предвзятым мнением, говорило в пользу глубокого различия между
184
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
варварским миром и миром греко-римским. Факты сходства не
замечались, факты различия преувеличивались, так что вытолкать
понятие о варварстве прямое наблюдение не могло — оно, напротив,
закрепощало его. Нужно было какое-нибудь коренное изменение со
стороны, новая точка зрения на самые общие и элементарные
основания международных отношений, чтобы перегородка между греко-
римлянами и варварами развалилась. Нужно было ликвидировать
всю эту сторону психического содержания римлян, т. е. дать новую
руководящую нить, настолько сильную и основную, чтобы она могла
захватить корни предвзятого мнения о варварстве, и тогда ветви
отвалились бы сами собой: сознательное отношение к вековому
предрассудку, основанному на одностороннем сочетании восприятий,
должно было совершенно и благотворно изменить значение
прямого опыта. И конечно, космополитическая христианская идея была в
этом случае одним из важнейших стимулов. Так или иначе, она
разбила перегородку, или, по крайней мере, весьма сильно помогла
разбить ее. Таким образом, ликвидация психического содержания, смена
одного содержания другим может произойти не иначе как путем его
уяснения. До тех же пор, пока наше психическое содержание не
приведено в ясность, пока не изучены его корни, об отрешении от
данного эмпирического содержания нечего и думать, и всякая подобная
попытка должна потерпеть полное фиаско.
Отвлеченные категории, представляющие в эксцентрическом
периоде развития руководящие принципы в области мысли и
практической жизни, составляют именно такие попытки отрешиться от
данного эмпирического содержания. Такова, например, пресловутая
формула «искусство для искусства», или «чистое искусство».
Собственно говоря, эта ходячая условная формула отнюдь не
соответствует действительным качествам тех явлений, которые ею
обозначаются; собственно говоря, чистое искусство есть мираж, одна из
тех многочисленных вещей, которыми человек сам себя обманывает.
Прения о цели и значении искусства составляли у нас недавно столь
любимую тему, что, без сомнения, успели порядочно надоесть
обществу. Но читатель может успокоиться — мы будем кратки. Для
оценки истинного значения принципа искусство для искусства следует
условиться насчет понимания слов «прекрасное», «красота». Люди,
исповедующие культ чистой, идеальной красоты, или прямо говорят
о себе:
Что такое прогресс?
185
Воспевает, простодушный,
Он любовь и красоту,
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету
{Баратынский)
или же заявляют, что, вполне уважая науку и великие нравственные
принципы, они тем не менее отмежевывают себе совершенно
особый уголок деятельности, куда не допускаются ни теоретическое
знание, ни тревоги практической жизни, где все прекрасно, где
поколение за поколением служит одной чистой идее красоты, принося ей
художественные жертвы. Мы — чистые художники, говорят жрецы
идеи прекрасного, мы не знаем и знать не хотим никаких тенденций,
т. е. никаких субъективных отношений к создаваемым нами образам,
устраняем всякие свои личные симпатии и антипатии, кроме тех,
которые определяются идеей прекрасного. Но в чем же состоит это
«прекрасное», эта «красота»? Мы видим, что понятия о красоте
древнего грека, индуса, средневекового монаха, современного итальянца,
голландца, китайца, француза, представителя высших слоев
общества, русского крестьянина, наконец, понятия Петра, Ивана хотя и
имеют некоторые общие пункты, но в общем совершенно различны.
С точки зрения врожденных идей факт этого разнообразия
совершенно темен и непонятен. Но мы легко поймем значение всех
разветвлений и метаморфоз понятий о прекрасном, если признаем, что
понятие это слагается эмпирическим путем, путем комбинирования
тех приятных ощущений, которые получает на своем веку и на своем
месте каждая индивидуальная и социальная единица. Оставляя в
стороне индивидуальные особенности как второстепенны^ посмотрим,
как складываются коллективные понятия о красоте, например,
человеческого тела. Если данная социальная группа в течение нескольких
поколений испытывала наслаждение власти, она необходимо внесет
соответственный элемент в свой идеал красоты: величественную
поступь, повелительные жесты и взгляды, гордый поворот головы.
И таким же образом отражаются в понятии о красоте все остальные
эмпирические условия, которые выработаны для данной группы
историческим путем общественных дифференцирований. Рутинный
тип идеальной красоты высших слоев европейского общества
известен: бледное или со слабым румянцем лицо, прямой лоб, малораз-
186
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
витые скулы, тонкие кости, маленькие руки и ноги, томные или
страстные, вообще выразительные глаза и т. д. Все эти элементы так
называемой идеальной красоты даны не идеальным, а эмпирическим
порядком вещей. Все это существенные признаки такой
общественной единицы, которая в течение нескольких веков воспитывала в себе
интеллектуальную сторону за счет физической, или — что то же —
жила за счет труда других общественных единиц. Ни один из этих
элементов не мог войти в идеал красоты, например, русского мужика.
За неимением досуга он не мог испытать приятных ощущений,
даваемых умственным развитием, не мог выработать себе высокого,
прямого лба и задержать развитие скуловых костей и нижней челюсти, и
потому ни в грош не ставит личной угол; не испытал он и
удовольствия мечты и потому не оценит томных глаз; не входят в состав его
идеала красоты и тонкие кости и бледный цвет лица. Десять
идеальных красавиц высшего круга он отдаст за одну умеренно полную
бабу со здоровыми руками и румянцем во всю щеку. Точно так же
ожиревший идеал, например, купеческого сословия совершенно
соответствует существующим условиям этой социальной группы,
удаленной и от тяжкого труда, и от утонченного развития страстей, и от
умственного развития. Из этого следует, что идеально прекрасное,
будучи понятием относительным, находится в тесной связи с
идеалами нравственности, добра, умственной мощи, и эстетическая
способность, т. е. способность чуять красоту, переплетается множеством
нитей с остальными психическими силами, так как силы эти
питаются, как корнями, теми же ощущениями, сочетание которых ложится в
основу идеально прекрасного. В нашем понятии о красоте
отражаются в большей или меньшей степени все наши обычные мысли, чувства
и желания; оно определяется эмпирическим содержанием нашего я,
и именно количеством и качеством наших знаний о природе и
человеке и качеством и напряженностью чувств и желаний, вызванных
знанием. Элементы эти, тем или другим образом сгруппированные,
ложатся, с одной стороны, в основание идеально прекрасного, с
другой — составляют то предвзятое мнение, с которым художник
смотрит на Божий мир для извлечения из него своих образов. Вопрос
только в том — может ли дать себе художник отчет в своих
симпатиях и антипатиях, желаниях и стремлениях, сознает ли он свою
собственную личность или же он усвоил свои понятия о красоте
инстинктивно, всасывая известную атмосферу всеми порами своего суще-
Что такое прогресс?
187
ствования с раннего детства или даже унаследовав свои воззрения от
предков, и не имел в течение жизни случая и возможности вернуться
к их источникам. В первом случае художник может силой сознания
ликвидировать свое эмпирическое содержание и заменить один
идеал другим. Во втором — это невозможно, и художник будет
утверждать, что он жрец чистого искусства. Поклоняясь красоте, он думает,
что он ратует за чистую, идеальную красоту, тогда как на самом деле
он только возводит в принцип те черты эмпирической, так сказать,
красоты, которые ему доступны; он ратует только за те условия,
которые дали возможность выработаться этой эмпирической красоте.
Провозглашая принцип искусства для искусства, он думает, что его
произведения относятся к изображаемому им предмету совершенно
объективно, но на самом деле этого нет. В сущности претендовать на
объективное изображение может только безличная фотография.
Но эта объективность покупается ценой смысла: фотография
передает, например, человеческое лицо в таком виде, в каком застала его
в данное мгновение. Она передает с одинаково безучастной
отчетливостью все подробности от формы и положения пуговиц до формы и
выражения глаз и в силу самой этой своей отчетливости не может
передать жизни лица, выбрать из ряда беспрерывно изменяющихся
черт наиболее для данного предмета характерные. Человек же
неизбежно дает свое субъективное содержание всякому создаваемому или
передаваемому им образу. Дон-Кихот, Гамлет, Отелло, Манфред, типы
Диккенса и Теккерея, Чичиков, Плюшкин, Манилов — все это не
только живые лица, но лица, понятые художником. Всякое
художественное произведение есть не только изображение предмета, но и
суждение о нем. Первоклассный художник имеет в руках своего сознания
все нити своих суждений, тогда как художник мелкотравчатый до
такой степени руководствуется инстинктом, что даже и не подозревает,
что придерживается тех или других, но непременно придерживается
тенденций, произносит над явлением тот или другой нравственный
суд. Разница только в том, что один художник вносит в свои
произведения содержание крупное, другой — мелкое; у одного идеал не
совпадает с действительностью, и в таком случае тенденция
выступает ярко; у другого — критерий для оценки явлений есть специально
эстетический, рутинно и бессознательно усвоенный художником.
Но этот специально эстетический критерий выкроен из чисто
эмпирических условий, он представляет возведенный в принцип голый
188
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
факт, и потому скрытая, неясная для самого художника тенденция
состоит в этом случае в санкции факта. Дело, значит, только в том, что
идеал жреца искусства для искусства не возвышается над уровнем
действительности. И такое возведение факта в принцип необходимо
всегда имеет место, когда факт оценивается с точки зрения
некоторой отвлеченной категории, представляющей результат обособления
и специализации одной какой-нибудь психической силы. Высшая
объективность, какой может достичь художник, состоит в полном и
всестороннем проникновении жизнью своих образов, а это не может
быть достигнуто фотографическим, бестенденциозным путем.
Чистое искусство — это нечто невозможное, несуществующее,
немыслимое. Закажите художнику нарисовать, например, убийство Юлия
Цезаря. Положим, что он пожелает устранить всякие тенденции и
сохранить безусловное беспристрастие. Изобразит он кучу римских
носов, плешивую голову Цезаря, ряд римских тог, худощавую фигуру
Кассия, поднятые кинжалы и проч. Но какую-нибудь мыслишку, хоть
самую жалкую, да вставит он в эту кучу. И если он будет настаивать на
своем беспристрастии, то это покажет только, что данное событие не
останавливало на себе его особенного внимания, а известная мысль о
нем все-таки в нем сидит. Только он не знает, как и откуда получена
им мысль, — может быть, из учебника истории, из отрывочных
разговоров и проч. Во всяком случае, картина его будет, по всей
вероятности, санкцией какого-нибудь ходячего воззрения и возведением
факта этого воззрения в принцип.
Таковы основания и результаты попыток вылезти из своей
собственной кожи, отрешиться от своего эмпирического содержания.
Таковы же они и во всех подобных случаях. «Наши общие идеи, —
говорит Милль, — содержат лишь то, что было вложено в них либо нашим
невольным опытом, либо нашими деятельными привычками мысли.
И метафизики всех веков, пытавшиеся построить законы вселенной
умозаключением от предполагаемых необходимостей нашей мысли,
всегда действовали и могли действовать, лишь ревностно открывая
в своем уме то, что сами предварительно в него вложили, и
выпутывая из своих идей о вещах то, что они сами сначала впутали. Этим
путем все глубоко коренящиеся мнения и чувства способны создать
мнимые доказательства их истинности и разумности, по-видимому,
вытекающие из их сущности» (Система логики. II, 308). В науке
общественной и вообще в вопросах, непосредственно затрагивающих
Что такое прогресс?
189
интересы человека, особенно было сильное верование, что чистый
разум есть преобладающий источник знаний. С этого основания и
до сих пор не сдвинулась наука права. Царящая в ней идея
справедливости есть отвлеченная категория, совершенно аналогичная идее
чистого искусства и идеальной красоты. Принципы
международных и междуличных отношений, добытые эксцентрическим путем,
представляют точно так же закрепощение эмпирических фактов, их
санкцию, возведение в принцип. Цивилист, полагая, что он изучает
природу чистого разума, в сущности, только «открывает в нем то, что
предварительно в него вложил», и если он настаивает на законности
своих приемов, то только потому, что не может подвести итоги
своего собственного эмпирического содержания. Еще очевиднее это
относительно криминалиста и особенно криминалиста-объективиста.
Утверждая, что он относится к факту преступления совершенно
объективно, с высоты безусловной справедливости, не знающей
пристрастия, криминалист не подозревает, что вся его система сплошь
окрашена густой краской пристрастия к эмпирическому,
исторически сложившемуся порядку вещей. Несмотря на идеалистическую
подкладку его теории, его идеал общественных отношений не
возвышается над действительностью: он считает справедливым именно
данный порядок вещей и достойным возмездия только нарушение
этого порядка. Несмотря на свою объективность и свое устранение
от предвзятых мнений, от всего своего эмпирического
содержания, он втайне, бессознательно руководится предвзятым мнением о
разумности и справедливости выработанных историей отношений.
И здесь, как в деле искусства, единственная доступная человеку
объективность состоит во всесторонней оценке фактов и в целостной
постановке вопросов, в проникновении жизнью преступника.
Полное олицетворение безусловной справедливости есть палач. Недаром
мрачный католик и абсолютист де Мэстр46 видит в палаче нечто
высшее, сверхчеловеческое. Я не знаю, может быть, и сверхчеловеческое,
но во всяком случае нечеловеческое, как нечеловечна объективность
фотографии. Палач — этот бездушный специалист, не понимающий,
кого и за что он готовится поразить, и полагающий все свое
самолюбие в том, чтобы артистически вздернуть веревку или ловко вытянуть
плетью, машина, не волнующаяся, не скорбящая и не негодующая —
вот идеал безусловной справедливости. И того мало. Палач —
человек, он может из сострадания ослабить удар плети, быстрее затянуть
190
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
роковую петлю. Чтобы приискать в области справедливости
параллель фотографическому аппарату в области чистого искусства, надо
и здесь спуститься до настоящей машины — до виселицы. Де Мэстр
ошибся: палач все-таки человек. Виселица не человек, и, пожалуй, на
нее можно посмотреть как на нечто сверхчеловеческое...
К
Обратимся к Спенсеру. Из вышеприведенных противоречий он
выпутывается довольно бесцеремонным образом. Натолкнувшись на
тот факт, что есть такие переходы однородного к разнородному,
которые он не решается признать изменениями прогрессивными, он
без всяких дальнейших соображений и предварительных объяснений
говорит: «Всякое развитие представляет одновременно изменение от
однородного к разнородному и, вместе с тем, изменение от
неопределенного к определенному. Как, с одной стороны, имеется переход
от простого к сложному, так с другой — представляется переход от
беспорядка к порядку, от неопределенного строя к определенному.
В процессе развития, какова бы ни была сфера, в которой он
обнаруживается, бывает не только постепенное умножение
неодинаковых частей, но и постепенное возрастание отчетливости, с какой эти
части разграничиваются между собой. Таким образом, увеличение
разнородности, характеризующее развитие, отличается от того
увеличения разнородности, которое не составляет признака развития»
(Вып. VII, 190). Здесь особенно бросается в глаза обычная у Спенсера
манера изложения. Всегда и везде он ставит сперва положение,
подтверждая его затем примерами, но здесь, кроме приема собственно
писателя, характерно выдается прием мыслителя. В каком порядке
вы будете излагать свои мысли на бумаге — начнете ли вы с анализа
частных фактов и доведете читателя постепенно до обобщения, или
наоборот — выставите сначала свою формулу и от нее спуститесь к
фактам — это дело второстепенной важности. Но весьма важно
проследить, хотя бы и на способе изложения, тот процесс мышления,
который навел мыслителя на известные факты с известной стороны.
Нетвердость приемов исследования, обнаруживаемая Спенсером в
вопросе о прогрессе, свидетельствует, что в его воззрениях на этот
предмет играет значительную роль некоторый, для него самого
неясный элемент. И не трудно, кажется, открыть, в чем тут дело.
Что такое прогресс?
191
В опыте «Прогресс, его закон и причина» Спенсер говорит:
«Например, перестав смотреть на последовательные геологические
изменения земли как на такие, которые сделали ее годной для
человеческого обитания, и поэтому видеть в них геологический прогресс,
мы должны стараться определить характер, общий этим изменениям,
закон, которому все они подчинены» (Т. I, с. 2). Приводимый здесь
Спенсером пример неправильного воззрения на геологический
прогресс очень характерен для объективно-антропоцентрического
миросозерцания, предполагающего, что человек есть, в качестве венца
творения, объективный центр вселенной. Нечего и говорить, что
подобное воззрение имеет за себя только исторические оправдания.
Нечего и говорить, что Спенсер не только имел полное право, но был
обязан выкинуть из своих соображений такую телеологию. Но
реакция завела мыслителя слишком далеко. Кроме телеологии как учения
о целях природы возможна телеология как учение о целях,
поставляемых себе человеком. Эти две телеологии не только не имеют между
собой ничего общего, но находятся в постоянном, и не случайном,
а необходимом антагонизме. Если признать, что природа
управляется целесообразно, что сами вещи тяготеют вследствие внутренней
необходимости к той или другой, заранее определенной цели, то
естественно, что таким верованием преграждается путь стремлению
человека к целям, им самим для себя сознательно поставляемым.
Понятное дело, что если природа до такой степени обязательна, что
и землю приготовила для человеческого обитания и населила эту
землю для человека же и проч., понятное дело, что в таком случае
человеку не приходится добиваться самому каких-нибудь своих
целей. И ложное предвзятое мнение, лежащее в основании объективно-
антропоцентрического миросозерцания, до такой степени
охватывает человека, что он не разубеждается даже ежеминутными опытами.
Добывая в поте лица хлеб свой, он все-таки благодарит природу за ее
благодеяние. Наконец, по крайней мере, для некоторой части
человечества, объективно-антропоцентрическое миросозерцание теряет
свое обаяние. Но его сменяет эксцентрический период, только
видоизменяющий первобытную телеологию. Окончательное падение ее
возможно только при выступлении на первый план личного труда и
установившейся в своих законных пределах мысли. Поэтому борьба
против телеологии объективно-антропоцентрической не только не
обязывает бороться и с объективно-антропоцентрической телеоло-
192
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
гией, но обязывает, напротив, предоставить последней в области
явлений человеческой жизни, индивидуальной и социальной, самую
широкую долю работы. Смешно и странно говорить, что
последовательные геологические фазы представляют прогресс, потому что они
подготовили землю для человеческого обитания; но нисколько не
смешно и нисколько не странно утверждать, что в области
человеческой мысли прогресс состоит в последовательном уразумении
законов природы и общественных отношений, что в области явлений
общественной жизни прогресс состоит точно так же в ряде изменений
по направлению к определенной цели, ставимой самим человеком.
Не только не смешно и не странно, но человек и не может ставить
вопрос иначе, не может органически, не может потому, что он человек.
Само слово «прогресс» имеет смысл только по отношению к человеку,
и явлениями прогрессивными в области человеческой мысли и
человеческих деяний мы можем признать только те, которые подвигают
человека к данной цели; явления, задерживающие это движение или
отклоняющие его в стороны, мы должны признать с человеческой,
то есть единственно возможной для человека точки зрения —
явлениями регрессивными. Ниже, на ближайших к человеку ступенях
органической жизни, мы можем еще применять понятие прогресса по
аналогии; еще ниже мы можем различать только явления
физиологические и патологические, и, наконец, в мире неорганическом для
человека нет ничего, кроме изменений.
Коренная и ничем неизгладимая разница между отношениями
человека к человеку и отношениями человека к остальной природе
состоит прежде всего в том, что в первом случае мы имеем дело не
просто с явлениями, а с явлениями, тяготеющими к известной цели,
тогда как во втором — цель эта для человека не существует.
Различие это до такой степени важно и существенно, что само по себе уже
намекает на необходимость применения различных методов в двух
великих областях человеческого ведения. И действительно. Ошибка
людей эксцентрического периода развития состоит либо в том, что
они стремятся уразуметь цели природы, и в таком случае
употребляют субъективный метод в естествознании, либо в том, что они
игнорируют цели человека, и в таком случае употребляют объективный
метод в общественной науке. Тогда как нормальное распределение
методов обратное. У Спенсера в этом отношении господствует
поразительная сбивчивость, и едва ли он так свободен от всякой телео-
Что такое прогресс?
193
логии, как ему кажется. Он, по-видимому, совершенно не уяснил себе
своей задачи. Среди массы его оговорок, недомолвок, возвращений к
пройденному очень трудно ориентироваться и узнать, чего он ищет.
По-видимому, он желает найти такой закон, который обнимал бы все
изменения, без различия, имевшие место от начала вселенной. Это
можно заключить, во-первых, из того, что он ни одним словом не
упоминает об изменениях физиологических и патологических; во-
вторых, из того, что все явления с включением явлений
общественной жизни он пытается оценить безотносительно к благосостоянию
человека; в-третьих, наконец, из того, что он придает своим
основным законам — «всякое изменение производит несколько
изменений» и «однородное неустойчиво» — характер универсальности, не
допускающий исключений. Затем он встречается с такими
изменениями, которые не решается признать прогрессивными, несмотря на
то, что они удовлетворяют всем поставленным им условиям, и
считает их даже шагами к разложению. Значит, возможны в природе и
шаги к разложению. В чем же они состоят и каково их отношение к
универсальности основных законов? Над этим Спенсер не
задумывается, а просто отбрасывает не нравящиеся ему (иначе нельзя
выразиться) изменения в сторону и идет дальше. Делает в своей
формуле поправку, состоящую в определении прогресса или развития как
перехода не только от однородного к разнородному, а вместе с тем
от неопределенного к определенному, и затем говорит: «Если
переход от неопределенного к определенному составляет существенную
отличительную черту развития, то мы естественно должны повсюду
встречать этот переход, точно так же, как в последней главе мы
повсюду видели переход от однородного к разнородному. С целью
доказать, что действительно так бывает и на деле, посмотрим вкратце те
же самые классы различных фактов». Из этого следует, что он опять
возвращается к надежде уловить закон всех без различия изменений
и найти такую точку зрения, с которой все оттенки и особенности
изменений должны сгладиться, и весь мир должен представиться
безустанно и безостановочно прогрессирующим. Но куда же девать
те изменения, которые Спенсер не признает прогрессивными? А вот
куда: «Если возразят, что у цивилизованных народов встречаются
также и примеры уменьшения определенности (как, например, в
случаях нарушения сословных разграничений), то на это следует отвечать,
что такие кажущиеся исключения суть спутники социальных мета-
194
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
морфоз, перехода от военного или хищнического типа
общественного строения к типу промышленному или торговому — перехода,
в течение которого исчезают старые черты организации и являются
новые». Прекрасно, но если это только кажущиеся исключения из
общего закона прогресса, то зачем они были названы в предыдущей
главе шагами к разложению? зачем Спенсер так категорически
отказался включить их в число явлений прогрессивных, и даже на их
непрогрессивности основал необходимость исправить свою формулу?
Затем делаются новые поправки, и универсальный закон
прогресса, наконец, получен. Но, говоря о теории Дарвина, Спенсер
заявляет полный скептицизм относительно прогресса. Он говорит:
«Громадный контраст между немногочисленными и низкими формами
самой ранней из известных фаун и многочисленными и высокими
формами теперь существующей фауны обыкновенно принимается
за свидетельство не только великого изменения, но и великого
прогресса. Но этот кажущийся прогресс, может быть, и, вероятно, есть,
по преимуществу, только иллюзия... Между тем как свидетельства,
обыкновенно принимаемые за доказательства прогрессивности,
оказываются недостоверными, мы находим достоверные свидетельства,
что во многих случаях прогрессивность незначительна или вовсе не
существует» (Вып. X. Основания биологии, 327,328). И далее: «К этим
случаям близки случаи так называемого ретроградного развития.
Многие паразитные существа, а также существа, живущие одно время
самостоятельной деятельной жизнью и впоследствии становящиеся
неподвижными, теряют в зрелости члены и чувства, которые имели
в молодости» (Там же, 378). Из последней цитаты можно бы было
непосредственно вывести весьма важные заключения, подрывающие
Спенсерову теорию прогресса в корень. В применении к
общественным вопросам можно показать, что ряд дифференцирований,
составляющих по Спенсеру прогресс, порождает в обществе таких же
паразитов, точно так же заглушающих в себе те или другие
отправления. Во всяком случае, в приведенных словах Спенсера видно полное
отрицание универсальности закона прогресса, прогресса именно
в том неопределенном смысле, в каком понимает его сам Спенсер.
Он говорил, что прогресс, между прочим, обнаруживается
последовательным усложнением фаун и флор, что, однако, теперь считает не
более как иллюзией. Надо, впрочем, заметить, что противоречие это
не должно быть вменяемо мыслителю в большую вину, так как теория
Что такое прогресс?
195
Дарвина, естественно, могла сильно изменить воззрения Спенсера.
«Основные начала», в которых подробно исследуется закон
развития, претерпевают теперь, как говорят издатели русского перевода,
большие изменения. И в новом своем виде сочинение это будет,
может быть, приведено в больший порядок. Трудно, однако, надеяться,
чтобы Спенсер обратил внимание, во-первых, на различие между
нашими отношениями к природе и нашими отношениями к другим
людям, а во-вторых, на столь же коренное отличие разделения
труда между органами от разделения труда между целыми организмами.
Трудно ожидать, чтобы теория Дарвина произвела в его воззрениях
столь коренной переворот, так как она для него не новость.
Некоторые частности этой теории были им самим с замечательной силой
развиваемы до появления книги Дарвина.
Вся приведенная путаница в изложении и в мыслях Спенсера
зависит от ненадлежащего применения объективного метода. Раз мы
вычеркнули из своего психического содержания убеждение в
целесообразности устройства вселенной, мы должны вместе с тем
отказаться от приложения слова и понятия «прогресс» к последовательной
смене явлений природы или же не делать различия между
развитием и разложением. Почему бы не считать разложение мертвого тела
явлением прогрессивным, ступенью дальнейшего развития? Может
быть, «интересы природы», «экономия природы», «цели природы»,
«стремления природы» требуют кругового развития, причем момент
разложения окажется только одной из фаз развития. Но мы знаем,
что у несмеющейся и неплачущей природы нет целей, нет
стремлений, нет интересов, и потому смотрим на разложение трупа как
на факт, подлежащий объективной оценке. Но у человека есть цели;
цели эти представляют столь же реальные факты нашего сознания,
как реален факт разложения мертвого тела. Факт этот точно так же
требует оценки, но оценки субъективной. И не потому только, что
исключительно объективная оценка не может дать полное понятие
о фактах общественной жизни, так как в этих фактах есть элемент,
встречающийся только в них и не поддающийся объективной
оценке, — а потому, что исключительно объективная оценка здесь
немыслима и невозможна.
Наше психическое содержание дано опытом унаследованным,
личным и сочувственным (прекрасный термин, употребляемый и
Спенсером). Сочувственный опыт основан на нашей способности
196
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
переживать чужую жизнь, ставить себя в чужое положение47. Как
пример сочувственного опыта, заимствуем у Спенсера такой факт.
Когда люди появляются в какой-нибудь вновь открытой, до тех пор
необитаемой земле, они находят там до такой степени небоязливых
птиц, что их можно без труда бить палками. Проходит несколько
поколений, и птицы при одном приближении человека торопливо
улетают. И пугливость эта замечается не только в старых особях, но
и в молодых, которые еще не могли на себе испытать последствия
встречи с человеком. Как это объяснить? Спенсер говорит, что
истреблением небоязливых неделимых этого объяснить нельзя,
потому что убивают сравнительно ничтожное число птиц, и объясняет
факт последовательным накоплением данных опыта. В каждой
птице, раненной человеком или встревоженной криком стаи («стадные
животные, — замечает Спенсер в скобках, — обладающие малейшею
степенью разумности, по необходимости обнаруживают более или
менее сочувствие друг к другу»), устанавливается ассоциация идей
между фигурой человека и некоторыми страданиями, причем
понятие страдания дается не только личным опытом, а и
сочувственным, т. е. видом чужих страданий. Затем опыт этот передается
наследственно в виде известных изменений нервной системы, и при
виде человека птица мысленно воспроизводит те болезненные
ощущения, которых она лично, на самой себе, может быть, никогда не
испытала. В другом месте Спенсер говорит: «Я отважусь высказать
здесь, в нескольких строках, гипотезу, что понятие о грации имеет
свое субъективное основание в сочувствии (симпатии). Та же самая
способность, которая заставляет нас содрогаться при виде человека,
находящегося в опасности, и которая производит иногда движение в
наших собственных членах, при виде другого человека, борющегося
или падающего, — заставляет нас разделять и все мышечные
ощущения, которые испытываются вокруг нас другими. Когда их движения
бывают насильственны или неловки, тогда и мы отчасти испытываем
те неприятные ощущения, которые должны были бы испытать, если
бы эти движения были в нас самих. Когда же движения людей, на
которых мы смотрим, свободны, тогда и мы разделяем приятные
ощущения, какие испытываются личностями, совершающими эти
движения». Изложенный здесь принцип, несмотря на то, что на нем одном
Адам Смит построил свою теорию нравственных чувств, разработан
весьма мало. А между тем надлежащее его развитие могло бы пролить
Что такое прогресс?
197
много света и на законы души человеческой, и на задачи
общественной науки. Прежде всего следует заметить, что сочувственный опыт
не беспределен, что сочувствовать мы можем только подобным себе,
и что существует в этом отношении известная градация. Как
представитель органической жизни, человек может понять мир
неорганический только объективно и, безусловно, не может пережить его жизнь,
поставить себя на его место. Как неделимое, он может переживать
жизнь только неделимого, и притом тем полнее, чем данное
неделимое человекообразнее. Поэтому он может различать в этой области
явления физиологические и патологические. Наконец, полный
простор сочувственному опыту предоставляется в области отношений
человеческих. Но и здесь есть ступени. Один человек может пережить
жизнь каждого человека, другой — только жизнь представителя
своей общественной единицы, то есть жизнь своих соотечественников,
своих собратов по профессии, по образу жизни и проч.
Сочувственный опыт, вместе с опытом личным, комбинируясь известным
образом, входит в наше психическое содержание и наряду с категориями
истинного и ложного устанавливает категории приятного и
неприятного, желательного и нежелательного, нравственного и
безнравственного, справедливого и несправедливого. Отрешиться от этой
стороны эмпирического содержания нашего Я столь же невозможно,
как произвольно вычеркнуть из своей памяти какие-нибудь знания.
Поэтому комбинация ощущений и впечатлений, составляющая
предвзятое мнение, с которым человек приступает к какому бы то ни было
исследованию, в области общественных отношений осложняется
некоторым новым элементом, элементом нравственным48. Вот почему
Конт был прав, утверждая в своем курсе философии, что «только те
могут с успехом заниматься социологией, чей нравственный уровень
достаточно высок», хотя с общей тогдашней точки зрения Конта
условие это отнюдь не могло считаться необходимым. Но случайно
прорвавшееся у Конта положение не подлежит никакому сомнению.
Действительно, Бэкон — предатель, взяточник, клеветник и вместе
великий мыслитель о природе возможен — факт налицо. Но
Бэкон — великий социолог немыслим. Я не говорю о грубой
сознательной подтасовке фактов для каких-нибудь своекорыстных целей, да
об этом и нечего говорить. «Наука, учащая подданных сомнению в
божественности происхождения власти коронованных лиц, не
может пользоваться большим уважением со стороны последних. Воин,
198
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
в свою очередь, отказывает в доверии науке, которая проповедует
уничтожение его ремесла; а монополист неохотно верит в
преимущества конкуренции. Государственный человек, получающий средства
к жизни за заведование общественными делами, отнюдь не желает,
чтобы народ выучился сам вести свои дела, без постороннего участия.
Представитель крупной поземельной собственности верит в одно
учение, а его арендатор признает другое; человек, платящий за труд,
смотрит на все вопросы с точки зрения, прямо противоположной
той, с которой смотрит на них тот, кому он платит... Школьное учение
во Франции изменяется от времени до времени, смотря по тому,
деспотизм ли уступает народу или народ деспотизму. Поземельная
аристократия в Англии была крайне довольна, когда Мальтус49 убедил ее,
что бедность и нищета народа суть необходимое следствие великого
закона, исходящего от всеведущего и всеблагого Провидения, а
промышленная аристократия, в свою очередь, точно так же довольна,
считая доказанным, что для общих интересов страны полезны меры,
создающие обширные запасы дешевого и дурно оплачиваемого
труда» (Кэри50 Руководство к социальной науке, с. 33-34). Здесь свалены
в одну кучу вещи очень различные. Есть люди, намеренно
извращающие факты, но есть и такие, которые извращают их совершенно
добросовестно только потому, что ими руководит без их ведома
ложное предвзятое мнение, т. е. неудачное и одностороннее сочетание
личных и сочувственных опытов, еще, быть может, закрепощенное
путем наследственной передачи. В числе подготовительных работ к
социологии важное место занимает статистика, пользующаяся
весьма точными приемами. И однако, статистики чаще, чем кто-нибудь,
впадают в грубо фаталистические заблуждения. Мы приводим
подобные примеры в статье «Аналогический метод». Если какой-нибудь
Дюфо51 старается меня уверить, что людские страдания составляют
результат открытого им закона «нравственного равновесия судеб
человечества», то это не дает еще мне никакого права считать
почтенного статистика отъявленным негодяем и шулером, делающим вольт.
Но это во всяком случае показывает, что его нравственный уровень не
особенно высок; что хотя и он толкует о негодности субъективного
метода и вмешательства чувств в решение общественных вопросов,
им управляет очень определенное чувство — чувство совершенного
удовлетворения эмпирической действительностью. Не будь этого, он
не сочинил бы своего закона нравственного равновесия судеб чело-
Что такое прогресс?
199
вечества и, следуя евангельскому слову: толцыте и отверзется, —
нашел бы иной выход для действительности.
Как невозможна для человека безусловная справедливость, как
невозможно чистое от всяких тенденций искусство, так невозможен и
исключительно объективный метод в социологии. Несмотря на, по-
видимому, коренное различие между двумя первыми и последним
видом эксцентризма, все они суть порождения одной и той же причины,
одного и того же исторического явления, и именно экономического
разделения труда (не специально экономического, но я употребляю
это выражение в отличие от разделения труда физиологического) и
общественных дифференцирований. И как таковые все они имеют
одинаковые свойства и одинаковые результаты. Все они, во-первых,
представляют попытки отрешения от данных психического
содержания; все они хотят быть беспристрастными, и все одинаково
пристрастны, все одинаково санктируют факты, всем им случайности
действительности зажимают рот. Все они ошибаются в том, что
думают достигнуть объективности, рассматривая явления общественной
жизни с точки зрения отвлеченной категории, — чистой красоты,
чистой справедливости, чистой истины, тогда как все эти точки зрения
слишком узки для такого сложного явления, как человек в обществе.
До такой степени узки, что из чистой справедливости, из чистого
искусства, из чистой истины на каждом шагу вылезает человек в
обществе, т. е. человек с известными чувствами, известными стремлениями,
с известным, наконец, предвзятым мнением. В большинстве случаев
из этих оболочек человек выходит некрасивым, иллюзия чистоты
распадается прахом. Но едва ли можно сожалеть об этом: для
человека нет ничего прекраснее человека, и самый нехороший человек
все-таки лучше самого лучшего фотографического аппарата, самой
лучшей виселицы и самой лучшей вычислительной машинки. И
потом — без обмана все-таки лучше.
Если бы я был художником, я бы написал три картины, только три
во всю жизнь. Но я бы всю душу свою положил в них, и картины
вышли бы хорошие.
Сюжеты я бы взял готовые из истории человеческой мысли.
Темой для второй картины я бы взял положение величайшего из
идеалистов — Канта: если общество даже завтра должно распасться,
если даже завтра все члены его должны порвать всякие связи между
200
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
собой и разойтись в разные стороны, то сегодня последний
преступник все-таки должен быть казнен во имя и во славу абсолютной
справедливости. — Площадь, полузаросшая бурьяном, кругом
покачнувшиеся и осевшие опустелые здания с разбитыми стеклами, с
рассохшимися дверями. Посреди площади полусгнившая плаха, и
на ней распростертый скелет последнего преступника. Кругом тишь,
ни души человеческой. Только ворон долбит отскочивший в сторону
череп последней и никому уже не нужной жертвы абсолютной
справедливости. Если бы ворон мог каркать на картине, он прокаркал бы:
fiat justicia, pereat mundis!..
Это эксцентрический период, в котором человек с его плотью и
кровью, с его помыслами и чувствами, с его любовью и ненавистью
забыт для отвлеченной категории.
На третьей картине я изобразил бы «Тьму» Байрона. Вы, может
быть, помните эту потрясающую, беспорядочную кучу образов. Поэт
видит следующий сон, который, однако, «был не совсем сон». Солнце
погасло, звезды, земля без лучей носились в мрачном пространстве.
Чтобы добыть свет, люди зажгли леса. Дерево за деревом, пень за пнем
вспыхивали, трещали и сгорали. Опять тьма... Зажгли дома, дворцы,
храмы. У этих страшных костров толпились люди. Одни плакали,
другие безумно смеялись. А пышные города все горели. Наступил
голод. Хищные птицы, дикие звери, растерянные и присмиревшие,
терялись среди людей.
И змеи ползали в толпе с шипеньем,
Не смея жалить — их душили люди
И пожирали. Стихшая на время
Резня опять зажглась: ценою крови
Обед голодным покупался; дико
Друг друга каждый бегал, чтоб трапезу
Свершить кровавую. Любви не стало
В сердцах людей; лишь смерти страх и голод
Мучительный, палящий всех томили
И рвали внутренность. Неумолимо
Вставала смерть — и умирали люди,
И трупы их лежали без могилы.
Полуживой глодал скелет собрата,
Как дикий зверь, хрипя; голодной стаей псы
В куски рвали тела своих хозяев...
Что такое прогресс?
201
Только одна собака осталась верна своему хозяину и, охраняя его
труп от птиц, зверей и людей, с жалобным воем лизала его
окостеневшую руку. Наконец, свалилась и она. Постепенно прекращалась жизнь.
В огромном городе уцелело только два человека, и это были два
врага. Они столкнулись у погасающих светильников алтаря, постарались
своим дыханьем хоть немного раздуть пламя и, когда увидели друг
друга, — вскрикнули и умерли, пораженные своим безобразием...
Вот три страшные картины разрушения общества. Сравните
только две последние. Вся, сдавленная в идеале великого метафизика
человеческая природа, преданная на жертву абстрактной
справедливости, прорывается в фантастической картине великого поэта в самых
страшных и отталкивающих образах. В целом громадном городе
уцелели только два человека, и именно два врага. Почему именно два
врага? Потому, что они передушили перед тем всех друзей, потому
что в момент разрушения общества разбирать не приходится. Конт
захотел в этот самый момент ярлыки навешивать: этот —
преступник, тот — добродетель воплощенная... По Байрону же, самому Конту
было бы тут не до абсолютной справедливости; он бы с этого
абсолюта кувырком слетел, он бы думал только о том, как бы ему прожить
лишний час, лишнюю минуту, или же просто пустил бы себе пулю в
лоб. Он бы не пошел искать преступника, а если бы и наткнулся на
него, так, может быть, просто-напросто съел бы его. А попадись
добродетель, которая вчера монтионовскую премию получила, он бы,
может быть, и в нее зубами впился...
Но в этой потрясающей картине, в которой фантастический фон
сплошь заткан голой правдой образов, — вас поражает один
диссонанс, именно собака, верная трупу хозяина. Если хотите, сама по себе
эта светлая точка не диссонанс, а явление высоко гармоническое, но
эта-то гармония и составляет диссонанс в массе диссонансов.
Зачем Байрон среди исчезнувшей любви к человечеству, к отечеству, к
ближнему сохранил любовь одной собаки к хозяину? Ясно, что это
не более как эстетическая уловка, пущенная с той целью, чтобы
оттенить картину. Это упрек человеку. Поэт хочет сказать: смотрите,
как гадок и низок человек, — собака лучше его. Очевидно, что
Байрон сумел заглянуть в душу человеческую, но, находясь одной ногой
еще за рубежом эксцентрического периода, он не выдержал зрелища.
Он с ужасом отскочил. Как! Человеку не врождены, не присущи идеи
любви, справедливости, красоты. Можно вообразить такое сцепление
202
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
обстоятельств, из-за которого человек не увидит разницы между
мозгом Прометея и кулаком Геркулеса, между горбом Эзопа и пышной
грудью Елены Прекрасной, между сердцем девственницы и сердцем
каторжника... Может наступить такая пора хотя бы в воображении.
И воображение не откажется нарисовать эту картину торжества
животного человека над человеком нравственным!.. Да, воображение не
отказывается...
И вот явилась верная собака. Но эта собака составляет
ошибку, диссонанс, хотя и драгоценный, как один из ключей к жизни и
поэзии Байрона. По общему тону картины собака должна впиться
зубами в холодный и посиневший труп хозяина. Презренный червь,
великий Кант и какой-нибудь верный Т^зор не нарушили бы
отвратительной мощи Байроновской картины, если бы они оказались за
одним табльдотом, если бы абсолютная преданность почувствовала
такой же голод, как и абсолютная справедливость... Не будь в
картине этой фальши, она могла бы служить полным выражением одной
части субъективно-антропоцентрического миросозерцания. Но так
как миросозерцание это не допускает абсолютных решений, то оно
не может уместиться в одной картине. Возьмем же человека таким,
каким его делают природа и общество и вообще обстановка. Возьмем
его голодного, холодного, темного, нечистого, потому что не только
в момент фиктивного разрушения общества, а и теперь человек
голоден, холоден, темен и нечист.
«Это психологический закон, — говорит Милль, — который может
быть выведен из наиболее общих законов духовного склада людей,
что всякая сильная страсть делает нас легковерными к
существованию предметов, способных возбудить ее... Склонность действует,
заставляя человека ревностно искать доводов или мнимых доводов
в подтверждение мнений, сообразных его выгодам или чувствам, и
противиться неблагоприятным. А когда выгоды или чувства общи
множеству лиц, то принимаются и становятся
общеупотребительными доводы, на которые в качестве доводов никто не обратил бы
внимания, если бы ничто не говорило могущественнее их в пользу
заключений» (Система логики, т. II, 290). Если таков закон нашей
психической жизни, то нечего думать о том, чтобы совершенно избежать
его влияния. Будем повиноваться закону природы, но постараемся
регулировать его. Выяснив наши истинные чувства, выведя их из-под
спуда нечеловеческой чистоты, постараемся найти для них возмож-
Что такое прогресс?
203
но лучший критерий. Искать этот критерий одним объективным
путем — значит складывать аршины с пудами.
Посмотрим вкратце, как складывается и каким образом влияет
на наши исследования нравственная сторона предвзятого мнения;
каким образом могло, например, выработаться приводимое Кэри
мнение английской поземельной аристократии о нищете народа как
о результате непреложной воли всеблагого Провидения. И опять-таки
нам здесь нет дела до людей, сознательно провозглашающих ложь.
Первые правила морали, теснейшим образом связанные с
религиозными представлениями, имеют место, без сомнения, еще в пору
полного отсутствия кооперации. Они даны исключительно личным
опытом, и притом опытом более или менее односторонним.
Сочувственный опыт начинает давать свою долю в хранилище
нравственных правил только с появлением кооперации, будь она кооперацией
по типу простого или сложного сотрудничества. Только тут человек
получает возможность пережить другую жизнь, перестрадать чужое
страдание, насладиться чужим наслаждением. Пока в среде данной
группы не выработались еще путем раздельного труда слишком
резкие контрасты, пока вся группа представляет нечто более или менее
однородное и контрасты существуют только между ней и другими
группами, до тех пор сочувственный опыт играет некоторую роль
только в среде группы. Пережить жизнь представителя чужого
племени первобытный человек не может. И сообразно этому
истолковывает всякий факт в пользу своего племени и во вред чужому. Предвзятое
мнение, сложившееся из впечатлений и ощущений, данных личным
опытом и опытом сочувственных в среде его племени, заставляет его
искренно верить, что божества исключительно покровительствуют
ему и его сотрудникам. Когда принцип разделения труда получает в
среде общества полное осуществление, когда процесс общественных
дифференцирований дробит группу на резко обособленные
единицы, имеющие свои собственные цели и интересы, когда, одним
словом, развертывается эксцентрический общественный строй —
сочувственный опыт получает совершенно иные пределы и иную
интенсивность. С одной стороны, сочувственный опыт имеет более
широкое и полное применение в среде каждого из обособившихся
слоев общества, а с другой — для каждого из представителей
известного слоя утрачивается возможность поставить себя в положение
представителя другого слоя. Есть мнение, что сочувствовать можно
204
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
только тому, что мы испытали лично, что сочувствие сводится к
воспроизведению опыта того или другого состояния нашего сознания,
испытанного нами самими. Едва ли можно принять это положение в
таком абсолютном виде, и в этом отношении справедливо указывают,
например, на сочувствие мужчины к мукам беременной женщины,
хотя мужчина и не мог лично испытать эти муки. Но во всяком
случае в приведенном мнении (Бэна52) есть значительная доля правды.
Без всякого сомнения, личный опыт увеличивает силу опыта
сочувственного, и нам легче поставить себя мысленно в такое положение,
в котором мы были сами. Эта подцержка личного опыта, очевидно,
должна слабеть по мере углубления уединительных борозд,
проводимых эксцентрическим порядком. Рабовладельцу легко проникнуться
жизнью такого же, как и он, рабовладельца, ведущего одинаковый с
ним образ жизни, имеющего те же привычки, потому что личный их
опыт почти тождествен. Но понять страдания и горести раба,
поставить себя в его положение для рабовладельца несравненно труднее.
Он никогда не испытывал того, что испытывает раб. Поэтому он
естественно высоко ставит радости и горести своей группы и ни в грош
не ставит радостей и горестей других групп; он их не замечает, они
для него не существуют. Он видит раны и не видит, слышит стоны и
не слышит. В его сознании они отдаются глухо, хотя он в то же время
способен с полной отчетливостью оценить горести и радости своих
сотрудников. Это естественная неравномерность оценки
существенным образом отражается на всем его психическом складе, состояние
которого, так сказать, замораживается в целом ряду поколений
наследственной передачей. Чтобы в эксцентрическом периоде
общественного развития могли явиться люди, органически способные ко
многостороннему сочувственному опыту, способные воспроизвести
в своем сознании все оттенки жизни, раскиданные процессом
общественных дифференцирований в разные стороны, — для этого
нужны особенно счастливые и чисто случайные сочетания обстоятельств,
удачное смешение крови, особенности воспитания и проч. И это
будут люди с высоким нравственным уровнем, способные к успешной
разработке социологии (может быть, нелишне заметить, что один
высокий нравственный уровень сам по себе не может гарантировать
ничего). Но такие люди, конечно, редки. И развитие общественной
науки необходимо задерживается и этой редкостью, а не только
недостаточным развитием низших наук, и преимущественно биологии.
Что такое прогресс?
205
И вот еще одно из различий между наукой о природе и наукой об
обществе. Для беспрепятственного развития первой совершенно
достаточно последовательного усвоения истин в порядке возрастания
сложности явлений. Социологии же мы никогда не будем иметь, если
борьба интересов не расчистит для нее почвы, сгладив
общественные дифференцирования. За вычетом некоторых блистательных
исключений, в общем нравственные и политические науки необходимо
отражают в себе практическую жизнь с ее шероховатостями.
Поэтому первая общая задача современной общественной науки состоит
в определении значения общественных дифференцирований —
задача, к которой инстинктивно и потому неопределенно стремились
все лучшие люди всех времен.
Итак, количеством личных и сочувственных опытов и качеством
их комбинаций определяется нравственный склад людей, не
открыто исповедуемый ими культ, например христианской морали, — эта
часть психического содержания слишком высока и обща, — а те,
порожденные процессом исторического развития, особенности,
лежащие гораздо глубже, которые заставляют людей смотреть на
общественные факты под известным углом зрения, с известным, неясным
для них самих, предвзятым мнением. И это предвзятое мнение
отличается от предвзятого мнения естествоиспытателя только тем, что
в нем играет важную роль нравственный элемент. Как два микро-
скописта, исповедующие различные теории, видят то, чего ищут, так
видят то, чего ищут, и два социолога, придерживающиеся различных
воззрений. Как там в случае невозможности соглашения путем
непосредственного наблюдения следует отыскать какую-нибудь иную
опору для сознания, обратиться к самым источникам теорий, для
чего они должны быть приведены в совершенную ясность, так и
здесь ликвидация данного психического содержания, смена одного
содержания другим возможна не иначе как путем уяснения всех его
составных частей, а следовательно, и чувств и желаний. Как там не
должно быть речи об исследовании без предвзятого мнения, а
должно только заботиться о том, чтобы предвзятое мнение получило
характер рациональной теории, так и здесь незачем маскироваться
объективностью, а должно выяснить без остатка свою личность, дать
себе полный отчет в своих желаниях, побуждениях и целях.
Претензия на объективность может здесь только повести к сбивчивости
именно потому, что полная объективность недостижима. Малейшее
206
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
разногласие между истинными, в глубине души лежащими чувствами
социолога, его истинным нравственным идеалом и обсуждаемыми
им фактами действительности — поведет все-таки к открытому
применению субъективного метода, но применению
неудовлетворительному, кастрированному.
X
Так именно случается со Спенсером, когда он вдруг, ни с того ни
с сего, единственно по внушению безотчетного чувства, отступает от
своих приемов и от добытой ими истины.
Последуем за ним в его поправках и дополнениях к формуле
прогресса. Мы видели, что первая поправка состоит в прибавлении к
процессу перехода от однородного к разнородному — процесса
перехода от неопределенного к определенному. С этой новой точки зрения
приостановивший было Спенсера факт революционного движения,
представляющий переход от однородного к разнородному,
получает новое освещение: «Политический взрыв, доходящий, наконец, до
возмущения, с самого начала стремится изгладить
правительственные и промышленные специализации, существовавшие прежде.
Недовольство, производящее такой взрыв, само по себе предполагает
уже ослабление уз, связывающих граждан в отдельные классы и
подклассы. Агитация, вырастающая в революционные митинги,
обнаруживает решительную склонность к слиянию слоев, обыкновенно
отдельных друг от друга» (Основные начала, вып. VII, 191). Таким-то
образом явление это представляет шаги не к дальнейшему развитию,
а к разложению, так как оно составляет переход от определенного к
неопределенному. Вглядитесь, однако, в это новое описание
революционного движения, и вы заметите, что для него, по крайней мере, не
было никакой надобности усложнять формулу прогресса. «Слияние
слоев», «уничтожение правительственных и промышленных
специализаций» — что это такое как не переход от разнородного к
однородному, а так как первоначальная формула прогресса есть переход от
однородного к разнородному, то и без всяких поправок
революционное движение может быть рассматриваемо как шаг к разложению.
Но почему Спенсер пожелал сделать поправку? Потому что нашел,
что революционное движение есть переход от однородного к
разнородному и потому, по-видимому, подходит к формуле прогресса.
Что такое прогресс?
207
Таким образом, объективный метод не только не устраняет неудобств
субъективного метода, но еще увеличивает их. Конечно, данное
революционное движение может быть признано, с одной субъективной
точки зрения, шагом к развитию, с другой — шагом к разложению, и
этим разногласием вопрос затемняется. Но я могу взвесить доводы
одного человека и доводы другого, потому что и тот и другой
говорят мне, что такое-то явление хорошо или нехорошо, так как ведет
к таким-то хорошим или нехорошим результатам. Что же делает
объективный метод? Он самым грубым и топорным образом уклоняется
от оценки внутреннего смысла явлений и скользит по их внешности.
Да и по внешности именно только скользит, потому что посмотрел
Спенсер один раз на картину революционного движения и нашел в
ней переход от однородного к разнородному, посмотрел в другой
раз и нашел переход от разнородного к однородному. И однако, и
в том и в другом случае видит в ней шаги к разложению. Не ясно ли,
что, как ни выворачивай Спенсер подлежащий обсуждению факт, он
всегда найдет его регрессивным явлением, ни по чему другому, как
потому, что ему революционные движения не нравятся. Причем же
тут хваленая объективность?
«Последовательные фазисы, через которые проходит общество, —
говорит Спенсер (Вып. VII, 204), — обнаруживают еще яснее, чем
явления неорганического и органического мира, прогресс от
неопределенного строя к определенному. Бродячее племя дикарей, не
будучи постоянно ни в своей местности, ни в относительном положении
своих частей, далеко не так определенно, как народ, покрывающий
территорию, ясно обозначенную, и состоящий из неделимых,
сгруппированных в городах и деревнях... Разница между царским родом
и остальным племенем увеличивается до такой степени, что
порождает в уме народа мысль о различии природы в том и другом. Класс
воинов достигает совершенного отделения от классов, посвятивших
себя обрабатыванию земли и другим занятиям, считающимся уделом
рабов. Является жречество, определенное по своему достоинству,
функциям и привилегиям. Эта резкость определения, увеличиваясь
все более и более и проявляясь разнообразнее и разнообразнее по
мере того, как общество идет к зрелости, обнаруживается в высшей
степени в тех обществах, которые достигли полного развития или
склоняются уже к упадку. Относительно древнего Египта нам
известно, что в нем социальные деления были резко обозначены, а обычаи
208
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
крайне строги. В Индии неизменные отличия каст, существующих и
в настоящее время, точно так же, как и постоянство в образе одежды,
в промышленных процессах и религиозных обрядах — показывают,
до какой степени прочны порядки в странах, имеющих за собой
громадное прошедшее».
Вот что, с объективной точки зрения, имеет право на звание
прогресса. И эта точка зрения до такой степени объективна, что с нее
нельзя даже отличить эпохи развития от эпох упадка. Я не затем
сделал эту выписку, чтобы опровергать ее. Она нам пригодится ниже.
Здесь же замечу только, что Спенсер нигде не доводит до конца
своей любимой параллели между обществом и организмом. Он входит
в мельчайшие подробности этой параллели и, однако, не
касается одного весьма существенного пункта — смерти. Обязательна ли
смерть для общества, как обязательна она для неделимого? Спенсер
везде обходит этот вопрос. Мы дадим за него ответ. Всякое общество,
если оно действительно приближается к состоянию организма, если
члены его действительно начинают функционировать как простые
органы, без мысли и воли, если общество действительно начинает
уподобляться гигантскому туловищу, на котором сидит думающая за
всех голова, а с боков торчат работающие за всех руки, всякое
общество, дошедшее до такого состояния, находится при смерти.
После первого дополнения к формуле прогресса Спенсер
замечает, что переход от неопределенного к определенному есть не
первичное, а вторичное явление, что это только «результат,
сопровождающий окончание известных изменений». Именно для того, чтобы
некоторое однообразное целое преобразовалось в комбинацию
разнообразных частей, необходимо разъединение частей. Но пока этот
разъединительный процесс имеет место, определенность
невозможна. Она получится только тогда, когда внутри каждой
обособившейся части окончится интеграционная работа, т. е. когда объединятся
элементы, образующие каждую из составных частей. Мы уже видели,
в чем ближайшим образом состоит процесс интеграции. Мы видели,
что это только другая сторона процесса дифференцирования.
Ограничимся здесь замечанием, что Спенсер совершенно не вникает во
взаимное отношение интеграционного и дифференционного
процессов, понятия о которых, будучи приложены к различным вещам,
дадут очень различные результаты. Спенсер говорит: «Надо заметить
далее относительно европейских народов, взятых в целом, что в их
Что такое прогресс?
209
склонности заключать более или менее продолжительные союзы —
в ограничивающих влияниях, какие оказывают друг на друга
отдельные правительства, в постепенно устанавливающейся системе
прекращения международных споров путем конгрессов, равно как и в
уничтожении препятствий торговле и в увеличивающихся удобствах
сообщения — мы можем признать начальную ступень европейской
конфедерации, т. е. интеграцию еще более широкую, нежели какая
бы то ни была из установившихся поныне». Во-первых, явление это
представляет переход от разнородного к однородному,
следовательно, по первоначальной формуле развития, это явление не
прогрессивное, а регрессивное. Во-вторых, так как при этом уменьшается
резкая определенность отдельных территорий, национальностей и
проч., то европейская конфедерация представляет регрессивное
явление и по второй формуле Спенсера. В-третьих, наконец, принимая
за центр исследования последовательно различные общественные
единицы, мы, следя за их изменениями, последовательно придем к
ряду взаимно исключающихся результатов. Если мы, вооружившись
законами Спенсера, будем следить за развитием государства, то диф-
ференционный процесс выразится при этом распадением общества
на обособленные сословные и профессиональные единицы, а
интеграционный — объединением их отдельных представителей, т. е.
некоторым упрощением их организации. Взяв за центр исследования
целую систему государств, мы, напротив, должны будем признать, по
Спенсеру же, прогрессом интеграцию отдельных государств, т. е. их
упрощение и уничтожение некоторых «правительственных и
промышленных специализаций», установленных путем
дифференцирования государства.
Наконец, Спенсер делает еще одну поправку, которую мы уже не
будем рассматривать, и приходит к тому заключению, что «развитие
есть переход от неопределенной, бессвязной разнородности путем
беспрерывных дифференцирований и интеграции».
После всей этой путаницы и замечательно нетвердых шагов мысли
приятно остановиться на такой ясной и светлой статье, как «Обычаи
и приличия». В начале нашей статьи мы привели из статьи
Спенсера «Философия слога» образчик того, как он, перестав трусить перед
телеологией и субъективным методом в социологии, решает вопрос
о прогрессе, для частной области, в смысле совершенно противном
всему вышеизложенному. В «Обычаях и приличиях» дело еще яснее.
210
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Статья имеет целью доказать, что обычаи и приличия, религиозные
представления и политическая подчиненность совпадали некогда
в одном понятии, что, как выражается Спенсер, личности «Бога,
государя и церемониймейстера» представляли в самую раннюю
историческую пору одну личность и что затем они отделились друг от
друга, следуя общему процессу дифференцирований. Но здесь
понятие прогресса применяется Спенсером уже несравненно осторожнее.
Человек, отважившийся признать с объективной точки зрения
индийские касты и китайскую неподвижность явлениями
прогрессивными, теперь говорит: «При китайском деспотизме, стеснительном
и бесконечном в своих постановлениях и жестоком в требовании
их исполнения, деспотизме, с которым соединяется равно суровый
семейный деспотизм старшего в роде, — существует система
приличий столь же сложных, сколько и строгих. У них есть трибунал
церемоний. Общественное обращение обременено бесконечными
комплиментами и поклонами. Сословные отличия строго определены
внешними знаками» и т. д. На этот раз Спенсер уже не смотрит на
подобные явления как на одну из высших ступеней общественного
развития. Отметив некоторые соответственные факты в истории Европы,
Спенсер продолжает: «Одновременно с упадком влияния духовенства
и с уменьшением страха вечных мук, одновременно с ослаблением
политической тирании, возрастанием народной власти и
улучшением уголовных кодексов — шло и то уменьшение формальностей,
то исчезновение внешних отличий, которое становится ныне столь
явно». Человек, так наивно, упорно старавшийся набросить тень
регресса на картину революционного движения, оказывается самым
ярым и крайним революционером, когда дело идет о приличиях и
обычаях.
«Для истинного реформатора, — говорит он, — нет ни учреждений,
ни верований, которые стояли бы выше критики. Все должно
сообразоваться со справедливостью и разумом; ничто не должно спасаться
силой своего обаяния. Предоставляя каждому человеку свободу
достижения своих целей и удовлетворения своих вкусов, он требует для
себя подобной же свободы. Ему все равно, исходит ли постановление
от одного человека, или от всех людей, но если оно нарушает
законную сферу его деятельности, он отвергает действительность такого
постановления. Тирании, которая захотела бы принудить его к
известному покрою одежды или к известному образу поведения, он со-
Что такое прогресс?
211
противляется так же, как и тирании, которая захотела бы ограничить
его продажу и куплю или предписать ему его верования. Будет ли
это предписываться формальным постановлением законодательства
или неформальным требованием общества, — будет ли
неповиновение наказываться тюремным заключением или косыми взглядами
общества и остракизмом — для реформатора это не имеет важности.
Он выскажет свое мнение, несмотря на угрожающее наказание; он
нарушит приличия, несмотря на мелкие преследования, которым его
подвергнут. Докажите ему, что действия его вредны ближним — он
остановится... Он обвиняет их ("партию порядка" в деле приличий и
обычаев) в деспотизме, который не довольствуется тем, что
предоставляет им власть над их собственными поступками и привычками,
но требует еще признания их власти над действиями и привычками
других и сетует, что такая власть не признается. Реформатор
требует такой же свободы, какой они пользуются; а они хотят предписать
ему его поведение, обрезать и выкроить его жизнь по утвержденной
ими выкройке и потом обвиняют его в своеволии и своекорыстии за
то, что он не хочет спокойно покориться! Он предупреждает их, что
будет непременно сопротивляться и что он сделает это не только для
сохранения своей собственной независимости, но для их же блага.
Он доказывает им, что они рабы и не сознают этого; что они скованы
и целуют свои цепи; что они всю жизнь прожили в тюрьме и
жалуются, что стены ее рухнули. Он говорит, что считает своей
обязанностью упорствовать для того, чтобы освободиться, и, несмотря на
настоящие их порицания, предсказывает, что когда они успокоится
от страха, причиненного им перспективой свободы, они сами будут
благодарить его за то, что он помог им освободиться».
Я счел своей обязанностью выписать эту страстную, тираду для
уяснения еще одной черты нравственного склада Спенсера. Конечно,
я не решусь произнести какое-нибудь общее решение на этот счет,
пока в русском переводе не появилось главное сочинение Спенсера
по социологии — «Социальная статика». Но во всяком случае,
небезынтересно заметить, что мыслитель, предписывавший искусству
отворачиваться от современной ему действительности; мыслитель,
находивший возможным в исследовании о прогрессе обойти вопрос
о человеческом счастье; мыслитель, заявивший, что всякое
общественное брожение, стирающее осажденные историей перегородки,
каковы бы ни были его цели, есть шаг к разложению; что этот мысли-
212
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
тель с таким пафосом обрушивается на светские приличия и обычаи.
Небезынтересно также заметить, что из трех ветвей одного и того
же корня — религиозных представлений, политической
подчиненности, приличий и обычаев — он сосредоточивает главное свое
внимание на последних. Он прямо утверждает, что приличия-то именно
и составляют самое крупное зло в современном обществе. «Мы не
сомневаемся (говорит он), что, будучи подведены под один итог, они
суммой превзошли бы сумму всех остальных зол. Если бы мы могли
сложить с ними еще беспокойства, издержки, зависть, досаду,
недоразумения, потерю времени и потерю удовольствия — все, что эти
условия влекут за собой, — если бы мы могли ясно понять, в какой
мере они ежедневно связывают нас и делают нас своими рабами, мы,
может быть, и пришли бы к заключению, что их тирания хуже всякой
другой тирании, которой мы бываем подвержены» (Т. I, 396).
Счастливая страна Англия...
Выше мы сказали, что исключительное употребление в
социологии метода объективного равнялось бы, если бы оно было возможно,
складыванию аршин с пудами, из чего, между прочим, следует не то,
что объективный метод должен быть совершенно удален из этой
области исследований, а только то, что высший контроль должен здесь
принадлежать субъективному методу. Но здесь рождается вопрос:
если объективный метод не может удовлетворить всем требованиям
общественной науки, дать ей верховный принцип, то какой из
субъективных принципов может быть выбран как наилучший, так как их
может быть представлено несколько? На этот вопрос мы отвечаем
всей своей статьей. Возможно полное и многостороннее разделение
труда между органами человека и возможно меньшее разделение
труда между людьми, таков предлагаемый нами принцип, такова цель,
которую мы указываем как наилучшую. Принцип этот, как нам кажется,
не имеет ни одного из недостатков, присущих всем до сих пор
принимавшимся принципам политики, этики, экономии. Все они либо
предназначаются только для какой-нибудь частной области,
вследствие чего примирение между отделами общественной науки не
может состояться; либо добыты метафизическим путем, либо страдают
эмпиризмом, либо незаконно минуют науку о природе, вследствие
чего невозможно примирение между наукой и жизнью. С другой
стороны, наш принцип обнимает все области человеческой
деятельности, все стороны жизни. Он выведен нами не из глубины собствен-
Что такое прогресс?
213
ного духа и не рекомендуется, как полученный супранатуральным
путем. Он прочно коренится в объективной науке, потому что
вытекает из точных исследований законов органического развития.
Правда, отправляясь от этих самых законов, Спенсер, Дрэпер и многие
другие люди с полновесным авторитетом, пришли к диаметрально
противоположным результатам. Но обстоятельство это нисколько не
колеблет нашего принципа, потому что, руководствуясь им одним,
мы показали всю несостоятельность воззрений Спенсера и имели
даже возможность намекнуть на исторические причины этих
воззрений. Отбросив в наших статьях все недоговоренное и недоделанное,
читатель имеет перед собой ясно и просто поставленный вопрос:
могут ли быть подведены к одному знаменателю разделение труда
между неделимыми и разделение труда между органами, как
полагает Спенсер и другие, или это два явления, взаимно исключающиеся,
находящиеся в вечном и необходимом антагонизме, как утверждаем
мы? Вопрос этот решается данными объективной науки, и притом
данными уже установленными, не подлежащими сомнениям. Если
эти данные действительно говорят в пользу Спенсерова решения
вопроса о разделении труда, который мы считаем фундаментальным
вопросом общественной науки, все наши соображения должны
рухнуть. Если же нет, если правда на нашей стороне, — остается только
приложить предложенный нами принцип, в качестве
социологической аксиомы, к решению частных вопросов. На поставленный нами
вопрос: что такое прогресс? — отвечаем: прогресс есть постепенное
приближение к целостности неделимых, к возможно полному и
всестороннему разделению труда между органами и возможно
меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо,
вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно,
справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает
разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных
членов53.
ТЕОРИЯ ДАРВИНА И ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУКА
I. ТЕОРИЯ ДАРВИНА И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
ИЗ НЕЕ ГУСТАВА ЙЕГЕРА
Все дарвинисты принуждены более или менее долго и
внимательно останавливаться над понятием разделения труда и приводить его
в связь с теорией Дарвина. Определение этой связи становится в
особенности необходимым при изучении жизни в форме некоторых
низших организмов, живущих колониями. Естественное дело, что
принцип разделения труда, доселе большинством мыслящих людей
признаваемый за единственное организующее начало общественной
жизни, получает особенно глубокий интерес при освещении его
таким широким и светлым воззрением, какова теория Дарвина.
Поэтому мы имели сначала в виду сделать свод наиболее замечательных
современных исследований специально по этому предмету. Но при
ближайшем рассмотрении такое строгое определение границ
нашего труда оказалось крайне неудобным, если не просто невозможным.
В настоящее время один из самых блестящих и последовательных
дарвинистов есть иенский профессор Эрнст Геккель54, о котором можно
без преувеличения сказать, что он plus darwiniste que Darwin, и,
естественно, что воззрения его поэтому имеют для нас первенствующее
значение. Но Геккель вводит в науку, не говоря уже о совершенно
новой терминологии, так много своеобразных взглядов, и взгляды эти
у нас так малоизвестны, что весьма трудно говорить о каком-нибудь
его частном взгляде, не касаясь всей цепи его положений. И это не
единственная причина, почему мы решились несколько раздвинуть
границы нашей статьи, быть может, в ущерб их определенности.
Расширение это находит себе оправдание уже и в том важном значении,
которое мы, как известно читателю, придаем принципу разделения
труда. Под общим заглавием «Теория Дарвина и общественная наука»
мы будем говорить о различных вопросах, затрагиваемых,
решаемых и перерешаемых теорией Дарвина и тем или другим из ее со
дня на день прибывающих сторонников. Основная наша задача
состоит все-таки в определении, с точки зрения Дарвиновои теории,
взаимного отношения между физиологическим разделением труда,
то есть разделением труда между органами в пределах одного не-
Теория Дарвина и общественная наука
215
делимого, и разделением труда экономическим, то есть
разделением труда между целыми неделимыми в пределах вида, расы, народа,
общества. С нашей точки зрения задача эта сводится к изысканию
основных законов кооперации, то есть фундамента общественной
науки. Поэтому мы постараемся предоставить в настоящей статье
возможно больший ряд социологических выводов из теории
Дарвина и дать им посильную критическую оценку. При этом нам, может
быть, не раз придется по чисто внешним причинам, вроде тех,
какие мы привели относительно Геккеля, несколько удаляться от своей
главной темы, не выбиваясь, однако, из пределов теории Дарвина и ее
позднейших представителей. Веруя и исповедуя, что судьба
социологии существенным образом определяется ее связью с биологией, мы
думаем, что попытки приложения такого широкого биологического
обобщения, как теория Дарвина, к вопросам общественной жизни
заслуживают полного внимания. Удачны эти попытки или неудачны —
это другой вопрос. Немецкий переводчик книги Дарвина, Брони, сам
замечательный ученый, спрашивает в конце своего перевода: «Как ты
себя чувствуешь, читатель? Ты обдумываешь, чего эта книга не
затронула из твоих прежних воззрений на важнейшие явления природы?
что уцелело из твоих, доселе непоколебимых убеждений?» Из числа
этих «прежних воззрений» и «доселе непоколебимых убеждений»
мудрено вычеркнуть задачи социологии.
Йегер55 известен русской публике по «Микроскопическому миру»
и, кажется, «Зоологическим письмам» (Zoologische Briefe. Wien, I860).
О «Зоологических письмах» мы еще будем иметь случай говорить,
а теперь остановимся на небольшой книжке того же автора:
«Теория Дарвина и ее отношение к морали и религии» (Die Darwinsche
Theorie und ihre Stellung zu Moral und Religion, von Dr. G.Jäger. Stuttgart,
1869). Это ряд публичных чтений, из которых большая часть
посвящена популярному изложению теории Дарвина; их мы не будем
касаться, для нас интересны только две последние главы. Имеющиеся
здесь выводы и положения составляют, как говорит в предисловии
автор, извлечение из его более обширной и еще не оконченной
работы по предмету религии. Йегер желает разъяснить два пункта, на
которые многие напирают, чтобы уронить в общественном мнении
теорию Дарвина, именно: происхождение человека от обезьяны и
якобы ниспровержение этой теорией основ нравственности и
общественности.
216
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Первый пункт занимает его недолго. Он решает его таким
образом: если бы какой-нибудь историк все свое знание убил на то, чтобы
доказывать, что древние германцы были варвары, лентяи и
пьяницы и что немцы и теперь ни на волос не лучше, то, конечно, такой
историк заслуживал бы упрека. Но если он, исследуя те способы и
пути, которыми кочевые дикари поднялись постепенно на высоту
современной культуры, употребляет свои исследования на то, чтобы
осветить средства и пути дальнейшего прогресса, то он заслуживает
не упрека, а благодарности. Точно так же если бы дарвинист вздумал
только ругать людей потомками обезьян, то он был бы не прав и не
умен. Но за что же его бранить, если он, изучая условия, выдвинувшие
человека из животной среды на высоту человеческого достоинства
и человеческой разумности, указывает вместе с тем, каким образом
должны быть комбинированы условия жизни, чтобы и общество,
и его члены в отдельности как можно скорее достигли возможной
для человека высоты развития?
Рассуждение это совершенно логично. Дарвинисты, разумеется,
не мальчишки, чтобы «ругаться» обезьянами. Но должно с
сожалением сказать, что весьма немногие из последователей теории
Дарвина указывают, каким образом должны быть комбинированы
условия жизни, чтобы люди как можно скорее могли достичь возможно
высокой ступени развития, тогда как теория Дарвина представляет
обильный источник для подобных указаний. Этого рода вопросы как
бы не существуют для большинства биологов. Мало того, решая их
только вскользь и мимоходом, недостаточно вдумываясь в их смысл
и значение, биологи (а в том числе и большинство дарвинистов) не
разъясняют дела, а только запутывают его. Такое забвение человека
среди ликований знания, среди роскошного пира науки, получившей
в лице теории Дарвина новые, широкие и светлые перспективы, если
не извиняется, то объясняется прошедшим ученого сословия. Вот как
жалуется Геккель на современное состояние науки: «Необыкновенное
усиление за последнее время разделения труда до такой степени де-
централизировало все области биологической науки, что зоологов
и ботаников, в настоящем смысле слова, у нас весьма мало; вместо
них мы имеем, с одной стороны, мастозоологов, орнитологов, ма-
лакозоологов, энтомологов, мицетологов, фикологов и пр., а с
другой — гистологов, органологов, эмбриологов, палеонтологов и проч.»
(Generelle Morphologie, Vorwort XX). «Вследствие всеобщего прене-
Теория Дарвина и общественная наука
217
брежения к неизбежным философским основаниям в зоологии и
ботанике господствует такая темнота и такое вавилонское смешение
языков, что нелегко условиться в значении самых общих и основных
понятий. В анатомии и эмбриологии накоплено множество
совершенно лишнего и нет существенно важного» (XXIII). «Большинство
естествоиспытателей, занимающихся органическими формами,
довольствуются голым знанием этих форм; они видят ряды бесконечно
разнообразных форм, знают внутренние и внешние
морфологические отношения животных и растительных организмов,
восторгаются их красотою, радуются их разнообразию и изумляются их
целесообразности; они описывают и различают все отдельные формы,
наделяют каждую из них особым именем и видят в их систематическом
расположении свою высшую цель... Мы слышим, правда, пышные
фразы об исполинских успехах биологии и особенно морфологии;
мы знаем, с каким самоуслаждением ученые любуются ежегодным
количественным приращением наших зоологических и ботанических
знаний... Мы должны открыто заявить, что видим в этом
исключительно количественном приращении больше балласта, чем
действительной пользы. Куча камней не превратится в здание, если вы будете
ежегодно увеличивать ее. Напротив, тем труднее ориентироваться
в ней, и возведение здания поневоле откладывается в долгий ящик»
(3-5). Далее Геккель указывает на Сциллу и Харибду эксцентрической
мысли: метафизические туманы, с одной стороны, и бесконечную
специализацию — с другой. «Чисто эмпирические
естествоиспытатели, — говорит он, — думающие обогатить науку голым открытием
новых фактов, вносят в нее не более, чем спекулятивные философы,
полагающие возможным обойти факты и построить природу из
собственной чистой мысли. Одни — фантазеры-мечтатели, другие в
лучшем случае — простые копировщики природы (Copirmaschinen der
Natur). В сущности, дело получает такой вид, что чистые эмпирики
довольствуются неполной и неясной, им самим неведомой
философией, а чистые философы — столь же неудовлетворительной
эмпирией. Чистый эмпирик наваливает беспорядочную груду камней;
с другой стороны, чистый философ строит воздушные замки, не
выдерживающие малейшего дуновения эмпирии. Один довольствуется
сырым материалом, другой — планом здания» (73). Это говорит не
дилетант, а бесспорно один из замечательнейших современных
ученых, которого, кажется, Бюхнер56 даже приравнивает Копернику57, на
218
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
том основании, что один столь же сильно расшатал
антропоцентрическую биологию, как другой геоцентрическую астрономию. (Сам
Геккель проводит гораздо более удачную параллель между развитием
астрономии и биологии, именно он признает Коперником биологии
Ламарка58, а ее Ньютоном — Дарвина). И однако, этот же
замечательный ученый, на себе испытавший выгоды и невыгоды разделения
труда в области мысли и так сильно восстающий против него, тот
же замечательный ученый находит возможным говорить, например,
следующее: «Один из наиболее общих сравнительно анатомических
законов есть великий закон разделения труда или обособления
(полиморфизм или дифференцирование), закон, представляющий, как в
человеческом обществе, так и в организации отдельных животных и
растительных неделимых, важнейшее творческое начало, начало,
которым обусловливается и увеличивающееся разнообразие и
дальнейшее развитие органических форм» (Natürliche Schöpfungsgeschichte,
22). Будем надеяться, что подобные противоречия будут встречаться
все реже и реже. Будем надеяться, что не только люди,
интересующиеся вопросами общественной жизни, сознают важное для них
значение низших наук и преимущественно биологии; но что и господа
биологи, покончив с последними результатами разделения труда в
области своей специальной науки, покончив эти, так сказать, свои
домашние дела, направят свои знания к построению венца наук —
науки общественной. Будем надеяться, что, как говорит Вольтер59,1а
raison finira par avoir raison и что мост от науки к жизни будет,
наконец, перекинут.
А пока возьмем то, что есть, возьмем устава Йегера. Но прежде
вернемся на минуту к обезьянам. Йегер говорит: «По учению Дарвина
человек происходит от обезьяны» (97). Надо заметить, что сам Дарвин
ни единым словом не касается этого вопроса; приведенный Йегером
вывод делается другими и делается часто и многими совершенно
неосновательно. «Некоторые soi disant последователи Дарвина, —
говорит иенский профессор Галлиер (Darwin's Lehre und die Specification.
Hamburg, 1885. S. 20), — совсем бессмысленно производят человека
от обезьяны и даже от какого-либо из ныне существующих видов
обезьян; можно только сказать, что человек и обезьяна имеют общего
предка, весьма отличного от них обоих и из которого они развились
как две различные ветви родословного дерева рядом бесчисленных
промежуточных ступеней». Единовременное существование двух
Теория Дарвина и общественная наука
219
данных организмов показывает только, что они развивались рядом,
а отнюдь не то, что один из них развивался из другого. Они могут
иметь общего предка и тем не менее быть совершенно отличными
друг от друга. Галлиер высказывает далее мнение, что люди, видящие
в теории Дарвина только теорию непосредственного перехода одной
формы в другую, «никогда книги Дарвина не читали».
Переходя к вопросу об отношении теории Дарвина к религии
и нравственности, Йегер говорит, что вопрос этот сводится к двум:
1) к вопросу об отношении человека к природе и 2) об отношении
человека к человеку.
Что касается первого пункта, то каждый вид вступает в борьбу за
существование с единственной целью самосохранения и
самозащиты. Он только тогда достигает возможно высокой ступени развития
и надолго удерживает за собой место в природе, когда доводит до
возможной степени напряженности свое враждебное отношение
к остальным деятелям природы. Верховный закон жизни каждого
данного вида есть самосохранение и самозащита и, следовательно,
практически существует только одна точка зрения для определения
отношений каждого вида к окружающей природе, и именно
точка зрения «эгоцентрическая», то есть такая, с которой каждый вид
признает себя средоточием всего хозяйства природы и повинуется
только одному завету: плодитесь и множитесь, населяйте землю и
покоряйте ее. Тому же верховному закону самосохранения повинуется
и человек, и, следовательно, практическое отношение его к природе
определяется «антропоцентрической» точкой зрения, то есть такой,
которая выделяет человека изо всей природы, противопоставляет
его ей. С образованием нового вида ему, самосохранения ради,
приходится выдерживать сильнейшую борьбу со своими ближайшими
родичами, с теми именно, с которыми он, по сходству образа
жизни, может конкурировать. Для одержания в этой борьбе победы он
должен не только стремиться к уничтожению своих конкурентов, но
и стараться усилить те физические и духовные особенности,
которыми обусловливается победа. Это естественно ведет к углублению
пропасти, отделяющей данный вид от ближайших к нему
представителей жизни, чем постепенно устраняется возможность понижения
уровня развития, движения регрессивного. В приложении к человеку
этот, Дарвином открытый, закон гласит таю становись по
возможности в противоположность с животным миром, и преимущественно
220
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
с теми его формами, которые наиболее к тебе близки; приводи их
каждому своему ближнему как страшный пример, как нечто такое, от
чего для него обязательно удаляться; развивай те свои физические
и нравственные особенности, которыми ты отличаешься от зверей;
совершенствуйся постоянно, противополагай себя по возможности
остальной природе. Словом, опять-таки плодитесь и множитесь,
населяйте землю и покоряйте ее. Дарвинисты не только признают этот
библейский завет формулой высшего для органической жизни
закона, но с почтением преклоняются перед самой формулой: лучше и
выразительнее практические требования теории Дарвина и не могут
быть сформулированы. Только очень глупые и очень
недобросовестные люди могут утверждать, что учение Дарвина низводит человека
до звериного образа и стремится практически стереть пограничную
черту, проведенную историей развития человека между ним и
низшими формами жизни. Совершенно наоборот. Дарвин открыл закон,
побуждающий человека к постоянному усовершенствованию и к
постепенному удалению от чисто животной жизни. И так как ни один
дарвинист не пожелает отказаться от своих человеческих прав, то он
и принимает закон, который, собственно говоря, есть не что иное,
как формула этих самых прав.
Таковы по Йегеру отношения человека к природе. «Что касается
до отношений человека к человеку, — рассуждает далее Йегер, — то
дарвинисту предстоит здесь решить два вопроса. Во-первых, что
выгоднее с точки зрения самосохранения: жизнь в одиночку или жизнь
общественная? И во-вторых, какая из форм общественной жизни с
той же точки зрения предпочтительнее?»
Относительно преимуществ жизни обществом дело ясно и не
требует особенных доказательств. Каждый охотник знает, как
трудно приступиться к животным общественным, так как здесь сотни
глаз устремлены во все стороны. Каждый сельский хозяин знает, как
беспомощен человек перед такими врагами, которые, как,
например, саранча, набегают целыми стаями. Образование обществ было
всегда лучшим средством и нападения и защиты. Корень общества
есть семья. Животные, живущие семьями, отличаются от несемейных,
во-первых, более высоким развитием средств передачи впечатлений,
более развитым языком жестов и звуков и, во-вторых, более высоким
умственным развитием. Забота о подрастающем поколении вызывает
массу изумительных хитростей, уловок, наклонностей, совершенно
Теория Дарвина и общественная наука
221
ненужных для животных одиноких. Подрастающее поколение
получает, кроме своих личных опытов, еще всю сумму родительских
опытов педагогическим путем. И таким образом к борьбе за
существование животные семейные оказываются гораздо более
подготовленными и изощренными, чем животные, так сказать, холостые,
а следовательно, теория Дарвина санкционирует семью.
Если молодые особи по окончании воспитания не удаляются от
родительской пары, семья разрастается в общество. Общество
может быть двух родов, и различение их чрезвычайно важно, так как
один вид общественной жизни, который Йегер называет
органическим, способствует, по его мнению, возвышению умственного
развития, этого важнейшего орудия человека в борьбе за существование,
а другой, который он называет коммунистическим, этим свойством
не обладает. Во избежание неточности мы приведем его очерк
«коммунистического» общества прямо в переводе:
«В коммунистической форме выступают только те выгоды
общежития, которые обусловливаются количеством членов и
сосредоточением многих сил по направлению к одной общей цели: защиты
или нападения. Однако самое это обстоятельство снимает с
отдельных членов общества часть труда, который им пришлось бы
затратить для самозащиты, неизбежным следствием чего является
принижение некоторых способностей и упадок энергии чувства
самосохранения (курсив в подлиннике). Я приведу только один пример,
именно судьбу чувства зрения. Там, где сотни глаз единовременно
направлены во все стороны, каждой отдельной особи нет никакой
надобности сосредоточивать свое внимание на приближении
врага: стадо может предоставлять это дело случаю, как это и бывает
в действительности, хотя, конечно, иногда и ставятся особые
сторожа. И результатом такого недостатка изощрения бывает известное
отупение, ослабление умственных сил. Я не могу удержаться, чтобы
не осудить здесь с точки зрения сравнительной зоологии ныне вновь
поднимающиеся коммунистические идеи. Кто желает низвести
людей до коммунистической формы общежития, то есть низвести до
положения стада баранов, тот желает довести и отдельных членов
общества до характера организации баранов. При этом нужно иметь
в виду не только ослабляющее влияние неупотребления органов
защиты, но и обстоятельства, о которых мы упоминали выше, говоря
о воспитании детенышей. В вопросе о коммунизме собственность
222
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
играет такую же роль, как в жизни животных детеныши, для защиты
которых они должны развивать и совершенствовать все свои
физические и духовные силы. Здесь можно провести еще одну
зоологическую параллель. Из млекопитающих наиболее тупы, наименее
развиты те, которые таскают своих детенышей при себе, в сумках,
и довольствуются самыми нехитрыми заботами о них. Они во всех
отношениях ниже тех, которым приходится испытывать при
кормлении и воспитании молодого поколения более сложные
затруднения. Таким образом, если отнять у людей заботу о собственности,
они, в сравнении с теми, кто на такую глупость не согласится,
немедленно спустятся до той степени, на которой в ряду млекопитающих
стоят сумчатые» (914).
Коммунистической форме общежития противополагается
органическая. Творческим началом в этой последней является
«единственный естественный, то есть во всех животных и растительных
организмах действующий, принцип разделения труда».
Преимущества этого вида кооперации многочисленны. Мы опять приведем
собственные слова Йегера: «Как я уже сказал в первом чтении,
организация животного или растительного неделимого основывается на
том, что известные группы клеточек соединяются для образования
орудий в борьбе за существование всей совокупности клеточек; одни
берут на себя труд питания, другие — восприятия впечатлений,
третьи — передвижения и т. д. Очевидно, что чем больше число этих
орудий, чем богаче арсенал, предназначенный для нападения и защиты,
тем организм способнее к одержанию победы. Что справедливо для
организма, который мы называем животным или растительным
неделимым, то справедливо и для общественной совокупности отдельных
животных» (105). Как пример этого особенно благоприятного
положения общества, построенного на принципе разделения труда, Йегер
приводит государство муравьев. Кроме этого умножения орудий,
необходимых в борьбе за существование, разделение труда
представляет и другие преимущества. Только оно может дать удовлетворение
индивидуальным особенностям, тогда как в обществе, построенном
на противоположном начале, может оказаться пригодным только
один какой-нибудь вид индивидуальных особенностей; все
остальные должны погибнуть. Поэтому население общества по типу
раздельного труда может возрастать гораздо скорее, а следовательно,
окажется в борьбе за существование сильнее.
Теория Дарвина и общественная наука
223
Но, продолжает свой обзор Йегер, разделение труда выгодно не
только для целого общества, а и для каждого из его членов в
отдельности. Чем уже и специальнее область труда, избранная человеком,
тем легче он может в ней освоиться и тем сильнее разовьет
соответствующую способность. Правда, замечает автор, «an und für sich»
такая односторонность развития может повлечь за собой некоторые
неблагоприятные результаты и именно парализовать в известной
степени независимость. Но это не беда, потому что таким образом
прочнее устанавливаются общественные связи, ибо человек не
может удалиться из общества. Притом же принцип разделения труда
имеет тенденцию открывать, рядом с переполненными уже и
занятыми сферами труда, все новые и новые его области. Таким образом,
чем общество богаче разнообразием, чем оно более расчленено, тем
богаче для каждого его члена выбор занятий. Он может свободно
выбрать тот именно род занятий, который наиболее соответствует
личным его особенностям, и вот новое благодеяние разделения
труда — свобода. Далее каждый член общества по типу раздельного
труда избавлен от необходимости нести на себе другие отрасли труда,
ибо при разделении труда каждый работает не только для себя, а и
для других. Каждый может на известное время отдохнуть от борьбы
за существование, следствием чего являются искусство, поэзия и
другие тонкие наслаждения жизнью.
Йегер резюмирует свои выводы таю «По воззрениям дарвинистов,
высший закон и основное условие общественной жизни есть любовь
к ближнему, и внутри общества не должно быть иной борьбы за
существование, кроме той, которая ведет к разделению труда.
Дарвиновский термин "борьба за существование" не есть призыв к
восстановлению кулачного права. Борьба за существование неограниченна
по отношению к остальной природе, и здесь кулачное право на
своем месте; но борьба между человеком и человеком ограничена
общественной жизнью, принципом любви к ближнему. Дарвинизм стоит
за укрепление брачных и семейных уз как корней общественной
жизни; он стоит за общество против эгоизма; он ставит общее благо
выше прав отдельных личностей и требует от отдельных лиц такой
Деятельности, которая соответствовала бы общему благу, требует от
них даже отречения от приобретенных ими прав, если они
оказываются несовместными с общим благом. Дарвинизм становится на
сторону собственности и против коммунистических мечтаний. Он
224
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
требует возможно более резкого разделения труда в том убеждении,
что от этого выигрывают и общество, и его отдельные члены, ибо
общество только тогда благоденствует, когда члены его находятся на
высшей ступени развития. Я думаю, что после сказанного никто не
вздумает повторять бессмысленную фразу, что теория Дарвина есть
учение противогосударственное и противообщественное» (109).
Затем следуют выводы религиозные, которые мы пока оставим,
чтобы оглянуться назад. Мы привели весь ряд рассуждений Йегера в
виде, весьма близком к подлиннику, стараясь не проронить ничего;
читатель найдет, быть может, что приведенные выводы и доводы не
заслуживают никакого внимания, но это будет не совсем
справедливо. Конечно, an und flür sich эти выводы и доводы особенной
драгоценности не составляют, но они любопытны как одна из первых
и немногих попыток приложения теории Дарвина к решению
вопросов экономических и этических. Очевидная крайняя беглость и
поверхностность всего построения Йегера избавляет нас от
обязанности тщательного и подробного рассмотрения его, но представить
его читателю мы тем не менее считали делом нелишним. Притом же
в основании взглядов Йегера лежит несомненная истина, не говоря
уже о благом намерении автора защитить теорию Дарвина от
бессмысленных инсинуаций. Йегеру мы должны быть благодарны за то,
что он возымел это намерение, хотя бы приведение его в исполнение
оказалось еще более неудачным. Когда является какое-нибудь
широкое учение, подрывающее ходячие воззрения на данный предмет и
ошеломляющее толпу не столько своей новизной (ничто не ново под
луною, не нова и теория Дарвина), сколько своей законченностью
и готовностью отразить все противоречащие научные доводы,
тогда поднимаются инсинуации. Все принятое на веру держится в умах
очень крепко именно потому, что оно принято на веру, чем
затрудняется поверка воззрений. Если я дошел до известного убеждения
строго научным путем, т. е. путем обобщения единичных, опытом и
наблюдением уясненных фактов, или путем выводу из такого
обобщения, то для меня не представляется никаких затруднений (кроме
разве чисто технических) во второй, в третий раз пересмотреть
каждый винт и каждое колесо этого логического механизма. Я могу
повторить опыты и наблюдения, проверить обобщение, пересмотреть
вывод. Я знаю, откуда я вышел и как, какими путями и станциями
дошел. Получить убеждение на веру, с другой стороны, значит именно
Теория Дарвина и общественная наука
225
не знать этих путей и станций, а между тем убеждение существует и
вычеркнуть его так же трудно, как трудно лечить болезнь, ход
развития которой неизвестен. Какая-нибудь счастливая и совершенно
неожиданная случайность может, правда, явиться на выручку, но это
исключение, на которое нельзя рассчитывать. Вообще же говоря,
убеждение, корни которого обладателю убеждения неизвестны,
будет непременно бороться за свое существование всеми средствами
и оружиями, какие попадутся под руку. Если научные средства
иссякнут — вопрос переносится на иную почву, на почву
неблагонадежности в религиозном, гражданском или нравственном отношении.
Так было всегда, и, без сомнения, такой порядок вещей продолжится
до тех пор, пока будут существовать убеждения, полученные на веру.
Так и теория Дарвина встретила целую массу упреков не только в
научной несостоятельности — этого рода упреки дарвинизму
разлетаются с замечательной быстротой, — а и в том, что ею подрываются
основы общества и нравственности. Игнорировать эти упреки и
инсинуации, смотреть на них как на нечто совершенно ничтожное и
имеющее своевременно исчезнуть, действовать, или, лучше сказать,
бездействовать таким образом крайне неблагоразумно. Инсинуации
всегда и везде встречали и встречают сочувствие, потому что
большинство людей нелегко расстается с привычным знаменем, хотя бы
знамя это давно уже превратилось в грязную и оборванную ветошку.
Поэтому оставлять инсинуации в покое — значит тормозить
движение мысли, суживать сферу влияния нового учения. Геккель замечает,
что Дарвин не сделал многих невольно напрашивающихся выводов
из его теории, логически из нее вытекающих, только для того,
чтобы учение его могло свободнее пройти и встретило бы как можно
менее препятствий. Такой образ действия, если Дарвин
действительно имел это обстоятельство в виду, едва ли может быть оправдан
теоретически, а практика его уже осудила: упреки и инсинуации, что
могли, то взяли. Во-первых, всегда найдутся запальчивые и
увлекающиеся последователи, которые выжмут из учения весь сок и сделают
это, по всей вероятности, гораздо менее удачно, чем мог бы сделать
сам основатель учения. Во-вторых, в обширном лагере инсинуаторов
всегда найдется хоть один человек с нюхом, достаточно сильным для
того, чтобы дочитать недописанное. А один такой человек есть уже
целый легион; известно, что стоит только одному соловью запеть, и
вся роща огласится восхитительными звуками. Давно уже сказано, что
226
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
хотя голосов на божьем свете и немного, но зато эхо девать некуда.
Конечно, Галилеям сплошь и рядом приходится говорить свое «е pur
si muove!» про себя, «в сторону». Но если научная теория уличается в
безнравственности и противообщественности, то во избежание
неверных толкований самое лучшее — представить те социологические
выводы, которые из нее действительно вытекают, а не навязываются
ей ее противниками. Так и делает Йегер.
Верность исходной точки Йегера не подлежит для нас ни
малейшему сомнению, и мы и сами ее высказывали. Она непосредственно
примыкает к теории Дарвина. В природе идет вечная, безустанная и
повсеместная борьба за существование. Слабые организмы или,
вернее, организмы, сравнительно малоприспособленные к среде,
гибнут, сильные губят. Природа — бесконтрольное царство тупой силы.
Природа — bellum omnium contra omnes. Ежеминутно совершаются
в ней миллионы насильственных смертей, миллионы, с
человеческой точки зрения, страшных и позорных преступлений. Гоюря о
том изумительном, хотя и общеизвестном факте, что муравьи имеют
в лице тли свой дойный скот и что операция доения совершается
как бы по взаимному соглашению между тлей и муравьями, Дарвин
замечает, что подобные явления не доказывают, «чтобы какое-либо
животное в мире совершало какое-либо действие исключительно на
благо животного иного вида»; они показывают только, что «каждый
вид пытается воспользоваться инстинктами других видов, как каждый
пользуется телесной слабостью прочих» (О происхождении видов.
СПб., 1864, с. 171). Поэтому практически взаимные отношения между
всеми индивидуализированными деятелями природы
действительно определяются «эгоцентрической» точкой зрения. Закон борьбы
за существование есть распространение на всю природу не столько
теории Мальтуса, сколько теорий Гоббза, Пуффендорфа60, Мандеви-
ля61 и проч. Это, говоря языком Канта, веление практического разума,
категорический императив для каждого неделимого. И человек не
изъят из действия этого всемогущего закона. И он борется на жизнь
и смерть, и либо падает в этой борьбе, либо побеждает. Эксцентрики-
идеалисты, высылающие человека за границу природы, не могут
с этим согласиться. Им жалко расстаться с нагроможденными ими
теориями врожденных хороших чувств и идей. Они думают или, по
крайней мере, говорят, что, введя человека в границы природы,
придется отказаться от всего, что составляет красу человечества. Но за
Теория Дарвина и общественная наука
227
этим несогласием якобы унизить человека скрывается целая бездна
либо лицемерия, либо трусости и какой-то пришибленности мысли.
Вот что говорит Кузен, человек, немало потрудившийся на поприще
изгнания человека за границу природы*, «Война коренится в природе
идей различных народов, которые будучи по необходимости идеями
частными, ограниченными, исключительными, по необходимости
враждебны, хищны, завоевательны». Война неизбежна, а потому
победа не только «необходима и полезна», а и справедлива «в самом
тесном смысле слова». «Вооружаться против победителя — значит
вооружаться против человечества, против прогресса цивилизации».
Побежденный «заслуживает своей участи, ибо победитель лучше,
нравственнее побежденного и только поэтому он и победитель». Что
же касается до всей массы жертв, которыми сопровождается всякая
победа, то «знайте, что не победителя надо в этом винить, а
Провидение, даровавшее ему победу. Пора философии истории перешагнуть
через филантропическое декламаторство». Признак великого
человека — «успех», великим воином можно быть «только под условием
получения великих успехов, то есть опять-таки, надо говорить
прямо, он должен произвести страшные опустошения на земле» (faire
d'épouvantables ravages sur la terre). Стоило ли выгонять человека за
границу природы, чтобы привести его там к столь нехитрым
решениям! Теория Дарвина показывает, что эта сторона кузеновского
идеала прекрасно вмещается в границах природы, хотя дарвинизм и не
помышляет ввести ее в границы человеческого общества.
Er nennt's Vernunft und braucht's allein
Um thierischer ais jedes. Their zu sein!
Найдутся, может быть, и между последователями Дарвина такие,
которые добегут до подобных словоизвержений. Но они будут, по
крайней мере, ссылаться не на «всеблагое» Провидение, а на слепую
силу природы, силу неразумную и нецелесообразную. Найдется далее
еще большее число таких дарвинистов, которые, исходя из своей
теории, придут совершенно последовательно к диаметрально
противоположным решениям. А доживи Кузен до наших дней, он был бы веро-
Я не помню, откуда именно я сделал эту выписку, но знаю, что это слова
Кузена.
228
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ятно, одним из яростнейших противников теории Дарвина: он увидал
бы в ней, вероятно, окончательное погребение «du Vrai, du Bien et du
Beau». Таким образом, отсылка человека за границу природы в
качестве «венца творения» не мешает требованию d'épouvantables ravages
sur la terre во имя прогресса и цивилизации, и не только не мешает,
а помогает. С другой стороны, убеждение, что человек есть такой же
деятель природы, как и майский хрущ (Йегер), хотя и стоящий на
неизмеримо более высокой ступени развития, это убеждение не мешает
требованию «любви к ближнему»; и опять-таки вера в обязательность
для человека закона борьбы за существование не только не мешает
этому, а еще помогает. Более подробное развитие этой любопытной
параллели мы откладываем до другого раза, когда нам придется
говорить о соображениях более обстоятельных и замечательных, чем
соображения Йегера. Параллель эта может быть проведена через всю
историю человеческой мысли. Не только отдельные личности,
ставящие человека теоретически на недосягаемую высоту над природой,
практически низводят его даже ниже уровня этой природы, тогда как
противники их, будучи теоретически реалистами, — практически
оказываются идеалистами; но и целые исторические периоды
окрашены одной из этих двуличневых красок. Конечно, сложность
отношений может иногда временно сбивать это нормальное течение, но
это не мешает ему оставаться нормальным.
Теоретическое биологическое сближение человека с природой
предписывает практическое, социологическое удаление от нее.
Такова исходная точка Йегера. В главе о религии он редижирует эту
формулу таким образом: в науке о природе следует употреблять
метод объективный, в вопросах общественных — субъективный. Мы
обеими руками подписываем эти положения. Надо, однако, сказать,
что не только аргументация Йегера крайне плоха, но залетевшие к
нему случайно верные мысли получают даже до невероятности
дикую обработку. Глава о религии особенно дика, но читатель может
это видеть уже и из приведенной нами части его рассуждений.
Следует, во-первых, заметить, что вид, как единица абстрактная, своего ego
не имеет; претендовать на него может только конкретная единица —
неделимое, а потому об «эгоцентрической» точке зрения какого бы
то ни было вида не может быть и речи. Действия любого организма
управляются интересами не вида, а его собственными, личными,
индивидуальными. Только при известных условиях интересы неделимо-
Теория Дарвина и общественная наука
229
го могут совпасть с интересами вида и расширить личное я
неделимого, сделать его видовым я. Но общее правило таково, что между
представителями одного и того же вида идет сильнейшая борьба за
существование; так как они требуют для поддержания своего
существования одних и тех же условий, то естественно, что недостаток
наличного запаса этих условий непременно разжигает между ними
борьбу. Борьба эта парализуется только кооперацией. Только она
может раздвинуть пределы индивидуального я, направив совокупные
усилия кооперирующих на борьбу с внешним миром, причем
борьба между кооперирующими, борьба внутри общества становится
делом не только неполезным, а и прямо невыгодным, вредным. Придав
эгоцентрическую точку зрения целому виду, единице абстрактной и
постоянно колеблющейся, Йегер в своих дальнейших соображениях
уже совершенно запутывается и приходит к самым диким и нелепым
заключениям. Нечего, кажется, и говорить, что очерк
«коммунистического общежития» не имеет никакого смысла. Не совсем даже легко
догадаться, о чем тут, собственно, речь идет, не говоря уже о бездне
противоречий на пространстве нескольких строк. Эти
несколько строк напомнили нам знаменитый афоризм добряка Смайльса,
утверждающего, что «хорошие учреждения» не только не составляют
чего-либо в общественной жизни важного, но могли бы иметь, если
бы явились на белом свете, весьма неблагоприятные результаты. Этот
добряк очень негодует на людей, которые хотят «выстроить нас в
параллелограммы и довести до совершенства посредством отречения
от всякой надежды, борьбы, препятствий — от всего того, что до сих
пор способствовало формировке человека» («Самодеятельность»).
Йегер, по-видимому, также полагает, что обстоятельства, до сих пор
способствовавшие формировке человека, никоим образом не
должны быть сданы на руки истории и заменены иными. Во всяком случае,
очевидно, что это почтенный немецкий профессор, надевающий на
ночь колпак и терпеть не могущий коммунистов, о которых,
впрочем, имеет представление довольно туманное. Это можно видеть уже
из того, что он противополагает «органической» форме общежития
форму «коммунистическую». Не говоря уже о том, что он выставляет
достойным подражания образцом органического общежития
общину муравьев, которая хотя и действительно построена на очень ярко
обозначенном принципе разделения труда, но вместе с тем
представляет общество, знающее только государственную собственность; не
230
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
говоря уже об этом, принципу разделения труда может быть по
законам логики противопоставлен только соизмеримый с ним принцип
простого сотрудничества. Можно рассуждать, что удобнее —
широкое пальто или узкое пальто, но законами здравого смысла
возбраняется сравнивать широкое пальто с узкими брюками. Итак, оставим
коммунизм в покое, и будем сравнивать принципы простого и
сложного сотрудничества.
Подобно большинству биологов и экономистов (если не всем
биологам и экономистам), Йегер отождествляет разделение труда
физиологическое и разделение труда экономическое. Факт этого
повального заблуждения, без сомнения, заставит сильно призадуматься
будущего историка науки, но зато и объяснит ему, вероятно, многое.
Действительно, это факт поистине изумительный, и по степени
изумительное™ едва ли найдется ему много равных в истории
человеческой мысли. Что предки наши верили, что солнце обращается вокруг
земли, а не земля около солнца, — это понятно: предки наши были
люди необразованные, а зрение им говорило, что солнце,
действительно, вертится около земли. Что люди, даже ученые, верили, что
«видов столько, сколько было их создано вначале» (Линней)62, — это
опять-таки понятно: палеонтологии не было, фактов под руками было
недостаточно, никто образования нового вида своими глазами не
видал. Взгляды большинства не просто образованных, а ученых людей
на закон разделения труда представляют явление, гораздо более
странное и гораздо труднее объяснимое. Мы видим целую массу
людей, между которыми есть звезды наипервейшей величины,
которыми справедливо гордятся и наука и философия, которые имеют в
своем распоряжении огромные запасы фактических знаний, которые
далее изощрили свой ум на самых тонких логических упражнениях;
и вся эта масса хором утверждает: дважды два — четыре, а потому и
дважды четыре тоже четыре. Что может быть изумительнее такого
зрелища? Мы не преувеличиваем. Послушайте, что говорит хоть тот
же Йегер, правда, звезда не первой величины, но и не последняя
спица в колеснице. Притом же и звезды первой величины говорят то же
и теми же словами. «Организация животного или растительного
неделимого основывается на том, что известные группы клеточек
соединяются для образования орудий в борьбе за существование всей
совокупности клеточек; одни берут на себя труд питания, другие —
восприятия впечатлений, третьи — передвижения и т. д. Очевидно,
Теория Дарвина и общественная наука
231
что чем больше число этих орудий, чем богаче арсенал,
предназначенный для нападения и защиты, тем организм способнее к одержа-
нию победы». — Вот вам дважды два четыре. Дальше: «что
справедливо для организма, который мы называем животным или
растительным неделимым, то справедливо и для общественной совокупности
отдельных животных». — Разве это не «дважды четыре тоже четыре»?
Разве не очевидно до последней степени, не ясно, как божий день,
что если в обществе, подобно тому как в организме группы клеточек,
одно неделимое возьмет на себя труд питания, другое — восприятия
впечатлений, третье — передвижения и т. д., разве не ясно, что в этом
случае арсенал каждого из них станет не богаче, а беднее, чем если
бы каждый из них совершал все эти отправления? Гете говорит: «Чем
существо несовершеннее, тем более сходны между собой его части и
тем более сходны они с целым. Чем совершеннее существо, тем более
части его разнятся одна от другой. Чем сходнее эти части, тем менее
они подчинены друг другу. Подчинение частей есть признак
совершенство творения». Слова эти (где Гёте разумеет и общество*) с
особенной любовью цитируются биологами (Геккель — «Generelle
Morphologie», Вирхов63 — «Atomen und Individuen», Спенсер и проч.).
А между тем распространение этого воззрения на человеческое
общество есть очевидное «дважды четыре тоже четыре». Человек тем
совершеннее, чем разнообразнее его состав, чем разнообразнее его
отправления. Следовательно, общество тем совершеннее, чем более
широкий простор предоставляет его уклад многостороннему, а не
одностороннему развитию отдельных членов. Следовательно,
общество тем совершеннее, чем сходнее между собой его части и чем
менее они подчинены друг другу. Отчего люди ученые, люди мыслящие,
«Die Pflanze geht von Knoten zu Knoten und schliesst zuletzt ab mit der Blüthe
und dem Samem. In der Thierwelt ist es nichts anders. Die Raupe, der Bandwurm
geht von Knoten zu Knoten und bildet zuletzt einen Kopf; bei den höher stehenden
Thieren und Menschen sind es die Wirbelknochen, die sich anfügen und anfügen,
und mit dem Kopfe abschliessen, in welchem sich die Kräfte concentrieren. Was so
bei einzelnen geschieht, geschieht auch bei ganzen Corporationen. Die Bienen, auch
eine Reihe von Einzelheiten, die sich an einander schliessen, bringen als Gesammtheit
elwas hervor, das auch den Schluss macht und als Kopf des Ganzen anzusehen ist,
die Bienenkönigin. Wie dieses geschieht, ist geheimnissvoll, schwer auszusprechen;
aber ich könnto sagen, dass ich darüber meine Gedanken habe. So bringt ein Volk
seine Helden hervor, die gleich Halbgöttern zu Schutz und Heil an der Spitze stehen»
(Eckermann. Gespräche mit Göthe, 1837. II, 65).
232
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
люди, которым звездная книга ясна, с которыми говорит морская
волна, не понимают такой простой истины? Мудрый Эдип64,
разреши! Никогда еще, быть может, истина не представлялась в столь
простом и обнаженном виде и никогда, может быть, люди не
отворачивались от нее столь упорно, как бы стыдясь ее наготы. До сих пор это
обобщение разделения труда физиологического и экономического
есть едва ли не самая крупная и бесспорно самая распространенная
попытка связать биологию с социологией; и мы твердо убеждены,
что пока этот пункт не будет надлежащим образом установлен,
разумная связь социологии и биологии немыслима, а следовательно,
немыслима и социология. Нам могут заметить, что сторонники
разделения труда ставят вопрос совсем не так, как мы это делаем, что они
ничего не говорят о судьбе неделимого в обществе, что они берут за
центр исследования само общество, юридическую личность и
утверждают, что оно, общество, выигрывает от разделения труда. На это мы
отвечаем, что в этой постановке вопроса и заключается корень
заблуждения. Кто видел эту юридическую личность? кто говорил с ней?
Кому она рассказывала о своих страданиях и наслаждениях, о своих
желаниях и нежеланиях, надеждах и отчаянии? Кому она пела свои
песни, кому посылала свои проклятия? — Однако разделение труда в
обществе факт? — Факт, такой же факт, как и физиологическое
разделение труда. Ставьте их рядом, но не спиной друг к другу, а лицом
к лицу. Пусть каждый видит, как они между собой относятся, в какой
между собой находятся зависимости. Собственно говоря,
несправедливо и то, что сторонники разделения труда имеют в виду только
юридическую, идеальную личность общества. Они ничего не имеют
в виду и только путаются в понятиях и словах. «Общество, — говорит
Спенсер, — составляется из отдельных личностей; все, что сделано
в обществе, сделано соединенным действием отдельных личностей и,
следовательно, только действия отдельных личностей могут дать
ключ к разрешению социальных явлений. Но действия отдельных
лиц зависят от законов их натур и, следовательно, не могут быть
поняты, пока не поняты эти законы. Законы же эти, если свести их к
простейшему их выражению, оказываются результатом общих
законов ума и тела. Из этого следует, что биология и психология
необходимы как толкователи социологии, или — говоря еще проще: все
социальные явления суть явления жизни, суть самые сложные
проявления жизни, должны сообразоваться с законами жизни и могут быть
Теория Дарвина и общественная наука
233
поняты тогда, когда поняты законы жизни» (Умственное,
нравственное и физическое воспитание, с. 47). Физиологическое разделение
труда есть закон жизни. Понят ли он был Спенсером, если он нашел
возможным признать экономическое разделение труда
продолжением физиологического, тогда как на самом деле первое представляет
похороны последнего, а последнее — похороны первого65?
«Дарвинизм, — говорит Йегер, — требует возможно более резкого
разделения труда, в том убеждении, что от этого выигрывают и общество, и
его отдельные члены, ибо общество только тогда благоденствует,
когда члены его находятся на высшей ступени развития. Я думаю, что
после сказанного никто не вздумает повторять бессмысленную
фразу, что теория Дарвина есть учение противогосударственное и
противообщественное». Легко может быть, что бессмысленная фраза будет
повторяться и «после сказанного». Но дело не в этом, а в том, что и в
самом «сказанном» есть бессмысленные фразы, а такова и
вышеприведенная. Очевидно, что тут дело даже и не в юридической личности,
а просто в путанице. Йегер признает, что неделимое тем выше по
развитию, чем многостороннее в нем совершается физиологическая
работа, чем, как он выражается, его арсенал разнообразнее. В обществе
«органическом», т. е. в кооперации по типу раздельного труда,
арсенал этот не оставляется в распоряжении одного неделимого, а
раздается по частям всем членам: один получает одно оружие, другой —
другое и т. д. Ясно ли, что каждый из них обеднел относительно
разнообразия оружия, т. е. уровень его развития понизился? И, однако,
по Йегеру выходит, что тут-то именно он и находится на высшей
ступени развития. Опять-таки, разве это не «дважды два четыре и дважды
четыре тоже четыре»? Мы не думаем утверждать, чтобы первобытное
состояние людей было выше того, которого они достигли теперь,
хотя в этом движении разделение труда играло значительнейшую
роль. Мы только сопоставляем принципы физиологического и
экономического разделения труда, как сопоставляет их и Йегер, и не
можем не изумляться той едва вероятной слепоте, с которой он, как и
все биологи, сшивает белыми нитками два взаимно исключающихся
процесса. У Йегера эти белые нитки особенно заметны, так как дело
осложняется его ночным колпаком и нерасположением к
коммунистам. Тому смутному образу, который он рисует под именем
коммунистического общежития, он, между прочим, приписывает свойство
принижать некоторые способности вследствие малого их примене-
234
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ния и изощрения. Обвинение это он даже печатает курсивом и, по-
видимому, ему и в голову не приходит, что такова отличительная
черта именно рекомендуемого им «органического» общежития. Это
напоминает нам одно весьма любопытное примечание Мак-Куллоха66
к французскому переводу «Богатства народов» Адама Смита. Вот оно:
«Умственные способности крестьянина, обращенные постоянно на
множество разнообразных предметов, проходящих перед его
глазами, не могут сосредоточиться и погружены в спячку; между тем как
однообразные ремесленные занятия возбуждают рассудочную
деятельность городского работника» (русский перевод г-на Бибикова,
с. 292). Примечание это вызвано словами Смита о нравственном
превосходстве сельского населения сравнительно с городскими
рабочими. Мы привели мак-куллоховское изречение не для того, чтобы
сравнивать городское и сельское население, а только как образец
логики защитников экономического разделения труда: однообразные
занятия возбуждают рассудочную деятельность, а разнообразные
погружают человека в спячку! Право, иногда можно серьезно
предложить человечеству облечься в черное платье, обшитое плерезами, в
знак траура по здравому смыслу. Большинство экономистов и
биологов рассуждает о принципе разделения труда до такой степени
оригинально, что трудно даже себе представить, каким образом
могли возникнуть такие вывороченные наизнанку силлогизмы. Никакая
Ариадна не позаботилась оставить у входа в этот темный лабиринт
логической нити, по которой можно было бы проследить ход
мыслей господ полиморфистов. Можно утвердительно сказать, что
истинное значение разделения труда понято почти исключительно
только социалистами всех оттенков, и только они и представляют
небольшие оазисы в этой беспредельной пустыне. Нам хочется
привести здесь один из таких оазисов, именно несколько чрезвычайно
метких и удачных замечаний Маркса67 (Das Kapital. Kritik der Politischen
Oekonomie. Hamburg, 1867). Хотя замечания эти относятся к
разделению труда в тесном смысле, к разделению труда фабричному, но под
ними смело может быть поставлен гораздо более широкий
пьедестал.
«Разделение труда уродует рабочего, развивая в нем известную
специальную способность и подавляя при этом целый мир
производительных сил. Так, в Ла-Плате убивают целого быка из-за одной
шкуры или из-за одного жира. Не только различные специальные
Теория Дарвина и общественная наука
235
отрасли труда делятся между различными неделимыми, но делится
и самое неделимое, превращаясь в автоматическое орудие
специальной работы', и таким образом осуществляется старая басня Менения
Агриппы, изображающая человека клочком его собственного тела**.
Работник, за неимением материальных условий производства
товаров, продает свою рабочую силу капиталу и затем, в силу разделения
труда, его индивидуальная рабочая сила существует только тогда и
постольку, когда и поскольку она продана капиталу. Она
функционирует только в известном сочетании, существует только после ее
продажи в заведении капиталиста. Лишенный возможности
самостоятельного дела, мануфактурный рабочий производителен только в
качестве составной части заведения предпринимателя***. Как на челе
избранного народа было написано, что он собственность Иеговы,
так разделение труда выжигает на рабочем клеймо, на котором
значится, что он собственность капитала.
«Знания и воля, развиваемые самостоятельным крестьянином или
ремесленником хотя бы в малом масштабе, в том роде, как дикарь
сосредоточивает в своих личных качествах все военное искусство, здесь
разбиваются по всем частям мануфактуры. Духовные
производительные силы напряженно развиваются в одну сторону, потому что
притупляются со многих сторон. То, что теряют рабочие,
концентрируется в капитале****. Фабричное разделение труда имеет тенденцию
обособлять духовные силы процесса производства и противопоставлять
их рабочим в качестве чужой собственности и господствующей над
Дугальд Стюарт называет фабричных рабочих «living automatons...
employed in the details of the work» (D. St. Works ed. by sir W. Hamilton. Edinburgh,
V. Ill, 1855. Lectures on Polit. Econ., p. 318) (эта и следующие сноски принадлежат
Марксу).
У кораллов каждое неделимое действительно представляет желудок
для всей группы. Но он снабжает сограждан пищей, а не выводит ее, как
римский патриций (притча Менения Агриппы изображает защитную речь
желудка против обвинения его прочими частями тела в тунеядстве.)
«L'ouvrier qui porte dans ses bras tout un métier, peut aller partout exercer
son Industrie el irouver des moyens de subsister; l'autre (фабричный рабочий) n'est
qu'un accesoire qui, séparé de ses confrères n'a plus ni capacité, ni indé endance, et
qui se trouve forcé d'accepter la loi qu'on juge à propos de lui imposer». (Storch. Cours
d'écon. polit. St.-Pétersbourg, 1885, 1.1, p. 204).
**** FergussonA. History of Civil Society, франц. перев., 1783, t. II, p. 135, 136.
«L'un peut avoir gagné ce que l'autre a perdu».
236
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ними власти. Этот процесс, процесс обособления, получает начало
уже при той простой кооперации, когда капиталист представляет в
своем лице единство и волю всего общественного рабочего тела. Он
усиливается при мануфактурном порядке, превращающем целого
рабочего в часть. Он завершается, наконец, когда промышленность
отрывает науку от труда как самостоятельную участницу производства
и отдает ее в услужение капиталу»*.
Мануфактурный порядок обогащает всю совокупность
разделенных рабочих сил, т. е. капитал**, истощая индивидуальные
производственные силы рабочих. «Невежество есть мать не только
предрассудков, а и индустрии. Мысль и воображение могут, правда,
заблуждаться; но привычка известным образом двигать руку или ногу
не нуждается ни в той, ни в другом. Можно сказать, что фабричный
рабочий тем совершеннее, чем ничтожнее его духовные силы, так
что фабрику можно рассматривать как машину, составные части
которой суть люди***. И действительно, в половине
восемнадцатого века на фабрики с особенным удовольствием брали полуидиотов
Человек науки и работник отделены друг от друга огромным
пространством, и наука, вместо того чтобы в руках работника способствовать
росту его производительных сил для него самого, почти везде вступила в
борьбу с ним... Знание обращается в орудие, способное отделиться от труда и
стать с ним в противоречие. {Thompson W An Inquiry in to the Principles of the
Distribution of Wealth. London, 1824, p. 274).
В другом месте Маркс говорит: «Как отдельные личности, рабочие суть
единицы, вступающие в сношения не между собой, а с капиталом. Их
кооперация начинается только уже в самом процессе работы, а между тем этот-то
процесс и лишает их самостоятельности. Приступая к нему, они уже
закрепощены капиталу. Как кооперирующие, как члены мануфактурного организма,
сами они суть только известный момент в существовании капитала. Поэтому
производительная сила, развиваемая рабочим при порлдке раздельного труда,
есть производительная сила капитала» (315). «В противоположность хозяйству
крестьянина или независимого ремесленника, капиталистическая
кооперация не есть особая историческая форма кооперации, но сама кооперация
является здесь специфической формой капиталистического производства».
(317). (Надо заметить, что Маркс различает разделение труда «общественное»
и фабричное. В первом случае каждый представитель труда производит товар.
Например, скотовод производит шкуру, кожевник превращает шкуру в лайку,
башмачник делает из лайки башмаки, и шкура, лайка и башмаки суть товары.
При фабричном разделении труда ни один специалист-рабочий товара не
производит.).
~ Fergusson A. I. С. 134,135.
Теория Дарвина и общественная наука
237
для исполнения некоторых несложных операций, составлявших,
однако, секрет*.
«Человеческий ум, — говорит Адам Смит, — по необходимости
развивается под влиянием ежедневных занятий. Человек, всю жизнь
проводящий за немногими простыми операциями... не имеет случая
к упражнению своего ума... Он вообще принижается до такой
степени, до какой только может принизиться человеческая природа».
Отметив тупость как результат разделения труда, Смит продолжает:
«Однообразие его стоячей жизни естественно понижает и его духовную
энергию... Оно разрушительно действует и на его тело и делает его
неспособным к какому-либо постороннему занятию. По-видимому,
ловкость его в его специальном деле изощряется на счет высоких
умственных и нравственных качеств. Однако во всяком промышленном
и цивилизованном обществе в такое состояние необходимо должен
впасть трудящийся бедняк (the labouring poor), т. е. большинство»**.
Чтобы несколько парализировать проистекающее из разделения
труда обезображение массы народа, Смит рекомендует правительствам,
хотя и в гомеопатических дозах, народное образование. Но тут с ним
весьма последовательно полемизирует его французский переводчик
и комментатор, Гарнье, сенатор первой французской империи. Он
объявляет, что народное образование несовместно с основным
законом разделения труда и что ввести его значит уничтожить всю
нашу общественную систему. Как все другие виды разделения труда,
говорит он, разделение между трудом физическим и умственным»***
становится резче и определеннее по мере обогащения общества.
Подобно всякому другому, это разделение труда есть результат про-
TuckettJ. D. A History of the Past and Present State of the Labouring
Population. London, 1846, v. I, p. 149.
Smith A. Wealth of Nations. B. V, ch. I. art. И. Как ученик Фергюсона,
указывавшего на неблагоприятные последствия разделения труда, Смит здесь
совершенно ясен. В начале своего сочинения, где разделение труда выхваляется
ex professo, он отмечает его только мимоходом, как источник общественного
неравенства. Только в 5-й книге, говоря о правительственном вмешательстве,
он следует за Фергюсоном. В «Misère de la Philosophie» я указал на
историческое значение Фергюсона, А. Смита, Лемонтэ и Сэ в вопросе о разделении
труда. Там же указано в первый раз и значение разделения труда как
специфической формы капиталистического процесса производства.
Фергюсон именно говорит: «l'art de penser, dans un période où tout est,
séparé peut lui même former un métier à part».
238
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
шедших успехов и причина будущих... Имеет ли правительство право
противодействовать этому разделению труда и задерживать его
дальнейший естественный ход?».
Известная степень духовного и физического принижения
неразрывно связана уже с тем разделением труда, которое установилось в
обществе вообще. Мануфактурный порядок еще усиливает это
распадение различных отраслей труда и, раздробляя неделимое,
захватывает самый корень его жизни. «Раздроблять человека значит казнить
его, если он заслуживает смертного приговора, и просто убивать,
если он его не заслуживает. Разделение труда есть убийство народа»*
(Маркс, 345-348).
Итак, не все облекают принцип разделения труда розовой
оболочкой счастья и совершенства как целого общества, так и его
отдельных представителей. Существует в этом вопросе и оппозиция,
ядро которой составляют социалисты, люди, как известно,
состоящие в сильном подозрении в многоразличных проступках и
преступлениях. Но какой бы суд ни произнес над ними будущий историк
науки, он с уважением отметит их критику принципа разделения
труда, хотя бы она и не простиралась дальше известной частной
области. Что же касается до неудачного вмешательства биологии в этот
вопрос, то оно тем более печально, что может вызвать во многих
вопрос: да законно ли после этого и вообще вмешательство биологии
в общественную науку? И не имеем ли мы права сказать господам
биологам: ne sutor ultra crepitam? При ближайшем рассмотрении дела
такое сомнение необходимо должно рассеяться. Дело не в биологии,
а в биологах. Геккель совершенно прав, утверждая, что «для
понимания в высшей степени сложных явлений общественной жизни
необходимо сравнительное изучение соответственных явлений в мире
животных», и что «будущим государственным людям, экономистам
и историкам придется главным образом обратить свое внимание
на сравнительную зоологию, т. е. на сравнительную морфологию и
физиологию животных, если они пожелают получить верное
понято subdivide a man is to execute him, if he deserves the sentence, to assassinate
him if he does not... The subdivision of labour is the assassination of a people»
(Urquhart D. Familiar Words. London, 1855, p. 119). Гегель придерживался самых
еретических мнений о разделении труда. «Untergebildeten Menschen kann man
zunächst solche verstehn, die Alles machen können, was Anderethun», — говорит
он в своей философии права.
Теория Дарвина и общественная наука
239
тие о своем специальном предмете» (Gen. Morph. В. II, s. 437). Прав и
Фогт, говоря о «Frevler, welche sich an dem Menschenleben versündige,
weil sie das Thierleben nicht kennen, nicht verstehen» (Altes und Neues
aus Thier- und Menschenleben. Frankfurt, 1859. B. I. S. 34). И когда эта
сравнительно-зоологическая точка зрения приводит людей к самым
невероятным заблуждениям, то в этом надо винить не самую точку
зрения, а людей, не умеющих с ней справиться. Конечно, уже один
способ ссылки на притчу Менения Агриппы (на нее ссылаются и
сторонники разделения труда, но с совершенно противоположной
стороны) показывает, что Маркс, не имеющий специальных знаний
о законах жизни, тем не менее, понимает значение
физиологического разделения труда бесконечно глубже, чем кто-либо из биологов.
Но в основе его соображений все-таки лежат эмпирические данные
биологической науки, и окончательного освещения вопроса мы все-
таки должны ожидать от биологии. Вернемся, однако, в глубину fy-
става Йегера. Мы видели, что он рекомендует человеку с особенным
тщанием всмотреться в жизнь общины муравьев, удовлетворяющей
самым высоким требованиям «органического» общежития. А
требования эти суть благоденствие общества и совершенство его членов,
достигаемые путем разделения труда. Мы можем уже a priori сказать,
что при том значении (совершенно верным для органической
жизни), которое Йегер придает понятию совершенства, община муравьев
этим требованиям не удовлетворит, как не удовлетворит им никакое
общество в мире; потому что самое сопоставление совершенного
(т. е., по Йегеру, резко расчлененного) общества и совершенного
неделимого содержит в себе contradictio in adjecto. Требования
единственного осуществления этих двух условий равняется требованию
пальм и лиан в окрестностях Колы или Мезени. А потому можно
быть уверенными, что йегеровская Аркадия — муравейник — либо
не представляет особенно резких общественных обособлений, либо
состоит из весьма несовершенных (сравнительно с видовым типом)
неделимых.
Относительно весьма значительного развития экономического
разделения труда в муравьиной общине не может быть никакого
сомнения. Каждый вид состоит из плодовитых самцов и самок и затем
из одной, двух, а у некоторых видов и трех каст бесполых рабочих;
кроме того, некоторые муравьи имеют рабов из другого вида. Касты
резко отличаются одна от другой как своим внешним видом и орга-
240
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
низацией, так и родом занятий. Дарвин так описывает разницу между
кастами одного африканского муравья: «Степень различия так же
велика, как если бы мы увидели толпу плотников, строящих дом, из
которых некоторые были бы ростом в два аршина с половиной, а
прочие ростом в две с половиной сажени; но мы должны представить
себе при этом, что у крупных плотников головы не втрое, а вчетверо
больше, чем у мелких, а челюсти раз в пять. Сверх того, челюсти этих
рабочих муравьев разного роста удивительно разнятся в очертаниях,
а также в форме и количестве зубцов». Этим различиям в организации
соответствуют столь же резкие различия и в общественных
обязанностях. Тут есть воины, никогда не работающие, и рабочие, никогда
не сражающиеся. Есть даже такие должности, которые совершенно
необъяснимы. Так, Бэте («Натуралист на Амазонской реке»)
рассказывает, что он никак не мог понять, чем занимается одна большеголовая
каста бесполых рабочих одного бразильского вида: они не работают,
не сражаются, не наблюдают за работами, а только расхаживают
вокруг малых работников. Бэте остановился, наконец, на
предположении, что они в качестве pieces de resistance охраняют своей огромной
и твердой головой всю массу рабочих от нападений насекомоядных
птиц. В таком случае это своего рода «пушечное мясо». У одного
мексиканского вида есть каста бесполых рабочих, которая никогда не
покидает гнезда; она отличается необыкновенным развитием брюха,
которое выделяет сладкую жидкость, вследствие чего эта каста
заменяет для своего вида тлю. Тот же вид имеет другую касту, обязанность
которой состоит в кормлении брюхатых сидней. Наконец, над всеми
этими второстепенными различиями господствует различие между
способными к деторождению и неспособными. Итак, с точки зрения
общественного разделения труда мирмекофильство Йегера
совершенно оправдывается; разделение труда у муравьев действительно
высоко развито. Второй вопрос состоит в совершенстве отдельных
неделимых, т. е. в физиологическом разделении труда. Известен опыт
Губера68 с одним рабовладельческим видом муравья. Вид этот
устроился таким образом, что самцы и самки заботятся о продолжении
своего рода и больше ничего не делают, не умеют делать, даже
питаться сами не могут, бесполые только охотятся за рабами, т. е.
дерутся постоянно с другим видом и захватывают его в плен, и
больше опять-таки ничего не делают, потому что и уход за личинками
и куколками, и постройка муравейника лежат на обязанности рабов.
Теория Дарвина и общественная наука
241
Когда муравейник переселяется, господа не сами идут, а их переносят
рабы. Словом, даже Гарнье не нашелся бы ничего противополиморф-
ного заметить в этой Аркадии Йегера. Губер запер штук тридцать этих
господ, давших себе, по выражению Фигаро, труд родиться, отдельно
от рабов. Несчастные очутились в положении щедринских генералов
на необитаемом острове. Губер положил им много пищи, положил
личинок и куколок, но без помощи «мужика» они никак не могли
устроиться. Не имея даже «Московских ведомостей» для развлечения,
несчастные жертвы великого и благодетельного принципа
разделения труда начали скоро дохнуть с голоду: они потрудились родиться,
но не потрудились научиться брать пищу в рот, ибо мудрый закон
разделения труда исковеркал их челюсти, iyôep пустил тогда им раба,
«мужик» отыскался, и все пошло как по маслу. Мужик стал кормить
неуспевших околеть господ и личинок, стал приводить все в
порядок, устраивать ячейки и проч. Такова страна, wo die Zitronen blühen!
Такова утопия, которую Йегер, посоветовавшись со своим ночным
колпаком, противопоставляет «с сравнительно зоологической точки
зрения» «коммунистическим мечтаниям» о «стаде баранов»! И опять-
таки сравнительно-зоологическая точка зрения тут решительно ни
при чем. Она с беспощадной ясностью свидетельствует, что
организация отдельных неделимых при кооперации раздельного труда
должна необходимо понизиться и, действительно, понижается,
потому что физиологическое разделение труда становится при этом
менее напряженным. Это такая азбучная истина, что мы боимся даже,
как бы читатель не обиделся нашими пространными толкованиями.
Но, мой добрый и умный читатель, вы видите, что этой азбучной
истины не понимают великие философы, почтенные ученые, что в
среде биологов ни один голос не поднимается против хора, твердящего:
дважды два четыре и дважды четыре тоже четыре. У муравьев есть
скотоводство, а у некоторых даже земледелие. Быть может, у них есть
и наука? Кто ее возделывает? Если кто возделывает, то, без сомнения,
плодовитые самцы и самки в моменты остающегося у них после их
специальных занятий досуга. Так должно думать по аналогии. Ибо
не у одних же людей «человек науки и работник отделены друг от
друга огромным пространством, и наука, вместо того чтобы в руках
работника способствовать росту его производительных сил для него
самого, почти везде вступила в борьбу с ним» (см. выше). Быть может,
у муравьев существуют и биология, и политическая экономия. Быть
242
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
может, муравьи-биологи и политикоэкономы проповедуют величие
принципа разделения труда...
Происхождение бесполых рабочих в муравейнике Дарвин
объясняет естественным подбором, путем постепенного накопления
легких изменений в организации и в инстинкте, изменений,
сопряженных с бесплодием некоторых членов общины. Предположение свое
Дарвин защищает необыкновенно ловко и остроумно, хотя, как он
сам говорит, пункт этот представляет самый опасный подводный
камень для его теории. Об отношении, в котором находятся разделение
труда и подбор родичей, мы будем говорить в своем месте. Здесь же
отметим следующий любопытный факт из жизни пчел,
общественное устройство которых, как известно, также основано на глубоко
проведенном принципе разделения труда. Пчелиная матка кладет
сперва яйца, из которых должны выйти бесполые рабочие, затем
яйца трутней и, наконец, самое незначительное число яиц, имеющих
развиться в маток. Если матке (царице) случается умереть уже после
кладки всех яиц, т. е. когда есть в наличности яйца, личинки или
куколки нового поколения маток, то смерть старой царицы проходит
почти незамеченной. Население улья ждет терпеливо, и не покидая
текущих общественных дел окончательного развития молодых
маток, которые тотчас по окончании последней метаморфозы решают
вопрос о престоле единоборством. Но если матка умирает во время
кладки рабочих яиц и, следовательно, не оставляет прямых
наследников, то весь рой поднимает страшную возню. Немедленно отбирается
несколько рабочих яиц или личинок, их кладут вниз головой (так
лежат личинки только царицы, личинки рабочих лежат
горизонтально) в нарочно расширенные ячейки, кормят особой пищей и вообще
ухаживают за ними гораздо более, чем за личинками обыкновенных
рабочих. Результатом этих хлопот бывает то, что из личинок
развиваются не бесполые рабочие, а плодовитые самки, которые опять-
таки единоборством решают вопрос о том, кому из них властвовать.
Надо заметить, что личинки рабочих только в известном раннем
возрасте способны к такому преобразованию. Этот изумительный факт
показывает, что разделение труда, если не у муравьев, то, по крайней
мере, у пчел, производится, по-видимому, не одним медленным и
бессознательным процессом естественного подбора. Тут, очевидно, дело
не в том только, что для некоторых членов общины (Дарвин говорит
«для всей общины») выгодно бесплодие других, вследствие чего пло-
Теория Дарвина и общественная наука
243
довитые самцы и самки передают потомству такие свои особенности,
которые связаны с возможностью производить бесполых особей. Тут
мы видим прямую, непосредственную фабрикацию особей той или
другой касты. Можно думать, что общественные насекомые обладают
особенным секретом, за который дорого бы дали экономисты и
биологи, ибо с помощью его можно достигнуть любой степени
разделения труда. Если так, то разделение труда сделало из общественных
насекомых таких художников, перед которыми компрачикосы, как
выражается Расплюев69, «мальчишки и щенки». Уловить, однако,
секрет столь драгоценного искусства невозможно при наличном
уровне человеческих знаний. Что та или другая пища в известной, весьма
значительной, степени влияет на будущность ребенка, на весь его
духовный и физический склад, — это мы знаем и без муравьев. То же
самое относится и к просторности помещения. Но каким образом
связано горизонтальное положение личинки с образованием у
вполне развитого насекомого щеточек и придатков, служащих орудиями
работы, и с анормальным развитием половых органов? Каким
образом, с другой стороны, вертикальное положение личинки влияет
на отсутствие рабочих инструментов и присутствие способности
к деторождению? Во всяком случае, если экономисты и биологи
будут продолжать работать в том же духе и направлении, в каком
работали до сих пор, то можно ожидать, что они догонят муравьев.
Средство производить морфологические индивидуумы вместо
физиологических будет найдено, и жизнь человеческая потечет столь
же ровно, как и жизнь муравьев. Покорно понесет каждый
выпавшую ему долю. Кому в утробе матери будет предписано возделывать
науку, тот понесет этот крест без ропота и будет терпеливо
подставлять свои неумелые челюсти для принятия жареных рябчиков,
разжевываемых специально для того изготовленными особями. Кому
выпадет счастье бесполого существования, тот будет с весельем
строить грады и веси и мостить стогны. Плодовитые будут
спокойно, по желанию Йегера, плодиться и множиться и покорять землю.
Безмятежное существование этой Аркадии не будет смущаться
возгласами вроде известного «nous sommes hommes comme eux!» или
ироническими вопросами:
When Adam delveb and Eva span,
Who was then the gentlemen?
244
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Новые птицы — новые песни. Но чтобы услышать новые песни,
надо сначала получить новых птиц. Если эти птицы действительно
желательны, наука должна торопиться. Когда Христос узнал, что Иуда
продает его, он сказал ему: «Что делаешь, делай скорее»...
Надо, однако, заметить, что пчелы обладают далеко не всеми
секретами органически-общественного благоденствия. Ибо, хотя они
и могут по произволу изменять будущность своих яиц и личинок, но,
во-первых, это искусство имеет свои пределы. Так, рабочая личинка
старше двух дней до такой степени пропитана уже духом своей
касты, что произвести ее в матки нет уже возможности. Далее, при всех
пчелиных художествах в ульях сплошь и рядом происходят кровавые
побоища и революции: рабочие избивают трутней, матки избивают
своих плодовитых дочерей и сестер. У муравьев, впрочем, сколько
известно, подобных периодических революций не бывает, хотя
происходят ожесточенные битвы между населениями различных
муравейников. Два роя пчел также не уживаются. Но при этом происходят
чрезвычайно любопытные события. Чтобы соединить два роя в один,
пчеловоды бросают их в воду. Когда пчелы совершенно утомятся, их
вынимают и кладут на солнце, и обсушенные насекомые совершенно
забывают свою вражду, обтирают друг друга, чистят, помогают друг
другу очнуться и проч. Общее несчастье обогащает их нервную
систему новым сочувственным опытом. Но такой результат имеет место
только в том случае, если, по крайней мере, одна из цариц удалена.
Если они обе налицо, то немедленно образуются под их
предводительством две враждебные партии, и начинается отчаянная война*.
Таким образом, органическим общежитием не достигается не
только совершенство отдельных неделимых, но и мирное и беспечальное
житие всего общества. Любопытнее всего, что Йегер и не подозревает
совершенной несовместности своих измышлений об органическом
общежитии с той своей исходной точкой, которую мы признали без-
Говоря о взаимной ненависти пчелиных маток, Дарвин — которого один
мой покойный друг-учитель, по моему мнению, весьма удачно, называл
«гениальным буржуа-натуралистом» — замечает: «Хотя это нам и трудно, но нам
следует восхищаться дикой инстинктивной злобой пчелы-матки,
уничтожающей молодых маток, своих дочерей тотчас по их рождении или погибающей в
борьбе с ними, ибо это несомненно полезно обществу; и материнская любовь,
и материнская ненависть, хотя последняя, к счастью, большая редкость — все
едино перед неумолимыми законами естественного подбора».
Теория Дарвина и общественная наука
245
упречной. А между тем очная ставка этих двух сторон его
рассуждений как нельзя более удобна и напрашивается сама собой. Мы уже
видели, что Йегер неосновательно придал эгоцентрическую точку
зрения целому виду. Неосновательно потому, что вид есть, во-первых,
величина абстрактная, а во-вторых, постоянно колеблющаяся.
Борьба за существование и подбор родичей, приспособление к данным
условиям жизни и наследственная передача этих приспособлений
могут постепенно произвести в строении организмов бесконечно
разнообразные и почти невероятно глубокие видоизменения.
Накопленные в известном, хотя и неопределенном и неопределимом
количестве, изменения эти порождают новый вид, т. е., по Йегеру, новую
эгоцентрическую точку зрения в природе. Прекрасно понятые Йеге-
ром общие практические требования дарвинизма указывают этому
новому виду необходимость углублять все больше и больше пропасть,
отделяющую его от ближайших к нему родичей. Таким образом,
теоретическое сознание родства с низшими формами жизни, вопреки
всем возгласам о безнравственности и тому подобным инсинуациям,
заключает в себе требование практического удаления от низшей
жизни. Но, признав далее разделение труда творческим началом
общественной жизни, Йегер совершенно смазывает свою исходную точку,
и его «любовь к ближнему» оказывается висящей на воздухе. Если
разделение труда и может поддержать эту любовь, то только в том
же смысле, в каком веревка поддерживает висельника. В самом деле,
разделение труда есть один из могучих факторов происхождения
видов. Очевидно, что последовательно и глубоко проведенное, оно
может накопить постепенно такое количество на первый взгляд
неважных и незначительных изменений в организации каждой из
обособившихся общественных групп, что сумма этих изменений может,
наконец, дать новый вид. Конечно, бесполые особи различных каст и
плодовитые самцы и самки у общественных насекомых
представляют один и тот же вид. Но здесь образование новых видов путем
разделения труда задерживается именно бесплодием некоторых членов
общества. И это бесплодие является вместе с тем могучим средством
Для сосредоточения всех общественных сил в одну сторону, по
направлению к одной цели. Что же касается до человеческого общества
с его сложными и запутанными интересами, с его
сталкивающимися и отталкивающимися стремлениями, то здесь общая цель, будучи
значительно отдалена от большинства членов общества, легко может
246
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
совершенно стушеваться. И обособившиеся путем разделения труда
группы, когда породивший их принцип достигает известной ступени
развития, преследуют цели совершенно различные. Далее, нет
ничего невозможного, что разделение труда в связи с различием условий
жизни раздробит вид homo sapiens, по крайней мере, на два вида.
Высшие и низшие классы современного европейского общества уже
теперь значительно разнятся между собой по своей организации.
И при известных условиях эти пока еще даже и не разновидности
могут приобрести характер строго очерченных видов. Стоит только
последовательно проводить принцип разделения труда, вроде того,
как это делает, например, Гарнье. Последовательность эта, впрочем,
дело далеко не новое и испытанное уже практически. Так, в древней
Индии каждому судре70, осмелившемуся читать книги и тем
нарушавшему разделение между трудом физическим и умственным и вообще
строго органический уклад индийской жизни, — вливалось в уши
кипящее масло; а если дерзость его простиралась до того, что он
выучивал содержание книги наизусть, его казнили смертью. В
рабовладельческих американских штатах негры, под страхом наказания, не
смели учиться читать и проч. Нам незачем распространяться здесь о
том, как и почему эти мероприятия не повлекли за собой
образования новых видов. Но, во всяком случае, очевидно, что разделение
труда может произвести подобный результат в ту или другую сторону,
может разбить человечество на два вида. Спрашивается, как, по Йеге-
ру, высший из этих видов должен будет относиться к низшему? Ответ
ясен. Высший вид должен будет становиться в более и более резкую
противоположность с низшим, особенно сильно с ним бороться как
с наиболее близкой ему формой низшей жизни, приводить эту
форму каждому своему ближнему как страшный пример, которого
должно удаляться и т. д. Но нам незачем останавлицаться на этой гипотезе
образования нового вида, хотя гипотеза эта есть не более как одна из
ненаписанных Дарвином страниц его теории. С нас достаточно того
факта, что разделение труда, способствуя распадению общества на
несколько групп, постепенно отодвигает общую цель этих групп
назад и заменяет ее частными целями, все более расходящимися, а
иногда и прямо враждебными одна другой. В пределах каждой из этих
групп личное я ее представителей может, а в известной степени и
должно расшириться и совпасть с групповым я. Но затем в целом
обществе мы все-таки имеем не одну, а несколько эгоцентрических
Теория Дарвина и общественная наука
247
точек зрения. И каждая из них обязывает своих представителей все
более и более усугублять пограничные межи, проведенные
разделением труда. Так, древние спартанцы напаивали илотов допьяна,
чтобы указать своему юношеству страшный пример, от которого должно
удаляться.
Таковы результаты органического общежития, отнюдь не
вяжущиеся с любовью к ближнему, если под ближним разуметь не
человека из известного слоя общества, а человека вообще. Кажется, мы
вправе были сказать, что разделение труда поддерживает эту любовь
не больше и не меньше, чем веревка поддерживает висельника. Если
бы висельника не снимали с виселицы и не хоронили после того, как
правосудие насытилось, — веревка все глубже и глубже врезывалась
бы в его горло, и, наконец, тело все-таки рухнуло бы. Если
предоставить любовь к ближнему на долю принципа разделения труда, этот
принцип будет въедаться все глубже и глубже, поддерживая любовь
к ближнему, последовательно уменьшая число ближних. Наука!
Биологи и экономисты! Снимите этого висельника и похороните его,
откройте муравьиный секрет бесплодия. Что делаешь, делай скорее...
Мы еще вернемся к этому предмету и рассмотрим его подробнее,
говоря о других попытках определения практических требований
дарвинизма. Здесь мы заметим только, что: 1) борьба за
существование есть несомненно основание того естественного права,
которое по определению древних римлян поп humani generis proprium
est, sed omnium animalium quae in coelo, quae in terra, quae in mari
nascuntur; 2) в силу самого этого закона борьбы за существование
борьба не должна иметь места в среде общества; 3) это отсутствие
борьбы за существование может быть достигнуто исключительно
кооперацией простого сотрудничества, ибо кооперация сложного
сотрудничества или разделения труда не устраняет, а только
видоизменяет борьбу за существование. При этом не могу отказать себе
в удовольствии еще раз привести выписку из Маркса для сравнения
воззрений этого писателя на разделение труда с таковыми же
большинства биологов. «Происхождение этих каст и цехов следует тому
закону, которым управляется распадение животных и растений на
виды и подвиды, с той разницей, что на известной ступени развития
наследственность каст и замкнутость цехов санктируется
законодательным путем». Заметьте, что Маркс не говорит того, что говорят
биологи, т. е. не отождествляет разделение труда физиологическое
248
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и экономическое, и говорит то, чего не говорит ни один биолог,
именно, что процесс общественных дифференцирований
параллелен процессу дифференцирований не неделимых, а видов. Усмотреть
это было бы, по-видимому, прямым делом биологов, и, однако, они
усмотрели не это*.
Нам остается еще взглянуть на теологические выводы Йегера из
истории Дарвина. Мы ограничимся простым изложением их опять-
таки потому, что они слишком беглы и поверхностны, чтобы
заслуживать подробной критической оценки.
Дарвинист, по мнению Йегера, отнюдь не должен вступать в
решение вопросов чисто догматического свойства. Его дело состоит не в
том, чтобы подвергать тот или другой религиозный догмат критике
объективной науки о природе. Он должен удовольствоваться
решением одного вопроса: какую роль играет религия вообще, и та или
другая религия в частности, в борьбе за существование? Насколько
она способствует совершенствованию человека и укреплению в нем
чувства самосохранения? С этой точки зрения Йегер разделяет все
религии на два класса. Одни коренятся в воззрениях человека на
природу, другие — в его воззрениях на людей. Первые автор называет
естественными (Naturreligionen), вторые — этическими.
Естественные религии вытекают из стремления человека уразуметь причины
окружающих его явлений природы. По мнению Йегера,
исторический процесс развития мысли распадается на три периода: в первом
человек только воспринимает впечатления и удерживает их в голове
с помощью памяти (cognitio rerum); во втором он стремится уловить
причины явлений (investigate causarum); в третьем, наконец, когда
человек в своем искании причин замечает, что самые общие из най-
Исключений, во всяком случае, немного, и представителями этих
исключений являются те биологи, которые принимают горячо и близко к сердцу
вопросы общественной жизни. Так, Фогт, говоря о государствах животных,
замечает: «Die Verkümmerung der Organisation halt damit gleichen Schritt; die
Individuen selbst gehen nach und nach in solchen allzu wohl regierten Staaten zu
Grande, und oft erstreckt sich die Reduction so weit, dass die einzelnen Individuen
nur noch als Organe der Gesammtheit erscheinen, ohne bestimmenden freien Willen,
ohne Ortsbewegung, ohne Selbstständigkeit in jeder Beziehung» (Altes und Neues,
1, 30). Ho если там и сям и можно встретить подобные отрывочные указания,
то, несмотря на самые тщательные поиски, нам не удалось найти ни одного
биолога, которой устоял бы перед соблазнительным параллелизмом
разделения труда физиологического и экономического.
Теория Дарвина и общественная наука
249
денных им причин все-таки имеют свои причины, он довольствуется
историческим методом, т. е. рассматривает каждое явление, как
продукт известного ряда причин и следствий. Этот исторический метод
есть единственный пригодный не только в науке, а и на практике, ибо
всякое практическое дело основывается на знании истории данных
явлений. Когда человек достигает ступени investigationis causarum, он
переходит от одной причины к другой, за каждой найденной
причиной ищет другую, еще неизвестную, и если не находит ее, то
заменяет ее каким-нибудь отвлечением, маскирует для самого себя
свое незнание голым словом, символом. Первая ступень
естественных религий есть фетишизм, обожествляющий множество
причинных деятелей, не пытаясь определить их взаимную связь. На второй
ступени человек уже уменьшает число божественных деятелей,
приводя к известным, наиболее распространенным или наиболее
бросающимся в глаза элементам, каковы: огонь, вода, земля, воздух и т. д.
Т|эетья форма возникает вместе с тем убеждением, что за этими
деятелями скрываются другие, более общие и высшие. Являются личные,
антропоморфизированные боги, как в естественных религиях
древних германцев, греков и римлян. Но investigatio causarum no
самому принципу своему не может остановиться на какой-нибудь форме.
Люди начинают искать за своими божествами еще высшей силы и
доходят, наконец, до мысли о конечной причине, т. е. от политеизма
или многобожия переходят к монотеизму, к учению о едином
божестве. Так, мифология древних германцев завершалась единым Allvater,
так, над греческими богами высилась Мойра, над римскими — Фатум.
Но движение и здесь не останавливается. Видя, что ultima causa ему
не дается, человек отбрасывает ее совсем, следствием чего является
атеизм. В нем расплылись естественные религии древних греков.
В чем же состоит значение естественных религий и той точки
зрения, на которую, по мнению Йегера, должен в этом случае стать
дарвинист? На этот вопрос автор отвечает таким образом. Так как
в естественных религиях только одна человеческая способность ищет
Бога, именно мыслительная, то они ведут к высокому методическому
развитию мысли, о чем можно судить, например, по философским
системам древних греков. Можно было бы думать, что естественные
религии, имея предметом изыскание причин явлений природы,
которое составляет задачу и естествознания, должны были
содействовать развитию последнего. Но природа никогда не открывает своих
250
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
тайн голой спекулятивной мысли, а требует строгого эмпирического
исследования. Поэтому естествознание только тогда могло занять
подобающее ему положение, «когда этические религии придали
человеку ту нравственную силу, ту стойкость стремления, без которых
невозможна успешная работа на этом поприще». Что же касается
до естественных религий, то, хотя они и способствовали развитию
мысли, они не дают руководящей нити для определения отношений
человека к человеку. Поэтому их влияние на ход общественного
развития незначительно. Они не противодействовали расщеплению
общества на политические партии, философские школы, разрозненные
социальные группы.
Совсем иное значение имеют этические религии, центр тяжести
которых лежит не в исследовании явлений природы, а в определении
взаимных отношений между людьми. Низшую форму их составляет
почитание предков, какое существует, например, у некоторых
южноафриканских племен. Далее, человек, сильно поработавший на благо
общества, воздвигнувший знамя, вокруг которого сфуппировался
целый народ, становится основателем монотеистической
религиозной системы. Тут Йегер ссылается на Ветхий Завет, где Бог называется
Богом Авраама, Исаака и Иакова, и, приведя отрывок из 118 псалма,
спрашивает: «Где вы найдете в так называемой классической
литературе римлян и греков подобное выражение воинственности и энергии
в борьбе за существование?». Практическое требование, с которым
дарвинист подходит к каждой теологической системе, рассматривая
ее как орудие в борьбе за существование, требование это до такой
степени удовлетворяется еврейским представлением о Боге, что с ним и
в сравнение не могут идти естественные религии, перескакивающие
от отвлечения к отвлечению и замыкающиеся атеизмом. Если иудеи
и пали в политической борьбе с римским колоссом, то, тем не менее
греков и римлян теперь и в помине нет, тогда как евреи существуют.
Притом же распадению Рима значительно содействовало
христианство, преемственность с иудейством. Сила социальной
патриархальной идеи Бога (die Kraft der socialen patriarchalischen Gottesidee) еще
раз заявила себя в лице магометанства, с помощью которого
сложилось государство, грозившее ниспровергнуть весь цивилизованный
мир. «Магометанство имело в сравнении с иудейством еще то
преимущество, что оно терпимо относилось к другим вероисповеданиям,
тогда как евреи не терпели язычников». Но фатализм уже с ранних
Теория Дарвина и общественная наука
251
пор подсек корни силы магометанства, ибо фатализм есть не что
иное, как отречение от самосохранения и самозащиты.
Поставленные нами в кавычках слова Йегера составляют такую
грубую и чисто фактическую ошибку, что мы на минуту
остановимся. Что магометанство никогда не отличалось терпимостью, что оно,
напротив, завещает своим последователям беспощадную войну со
всеми, кто его не исповедует, что, наконец, религиозный фанатизм
и в самой среде магометан образовал две непримиримо враждебные
секты шиитов и суннитов, — это, кажется, до сих пор никем не
подвергалось сомнению. Равным образом известно и то, что, хотя
иудеи также не страдали избытком веротерпимости, но сливались и
сближались даже в религиозной сфере с язычниками весьма часто.
Йегеру, довольно толсто намекающему на то, что он глубоко изучил
еврейскую историю и литературу, можно было бы это знать и не
делать таких грубых промахов. Мы делаем это замечание в виде
исключения, потому что не имеем намерения следить за всеми весьма
многочисленными частными ошибками Йегера. Они большой
важности не представляют, а между тем в большинстве случаев
выступают во всеоружии очевидности. Мы будем останавливаться только на
тех пунктах, которые имеют непосредственную связь со специально
занимающими нас вопросами. Вообще же заметим, что биологи,
решающиеся оставить свою специальную сферу для кратковременных
наездов в область социологии, обнаруживают в большинстве случаев
замечательную неподготовленность к этого рода экскурсиям. Вы
видите, что человек никогда о вопросах общественной жизни серьезно
не думал, никогда ими не интересовался и довольствуется первым
встречным доводом или объяснением, которое в качестве первого
встречного по теории вероятностей должно быть
неудовлетворительно. Йегеру, конечно, Бог простит, да притом же он, очевидно, по
мере своих сил думал о вопросах исторических, экономических,
этических и пр. Последуем за ним.
Христианство, хотя и родилось на почве иудаизма, имеет перед
ним огромные преимущества. Христос завещал, во-первых, любить
Бога, а во-вторых, любить ближнего, как самого себя. Иудаизм
предписывал совсем иное. Он требовал не любви к Богу, а страха перед
Богом. А всякий страх задерживает развитие; страх перед Богом
задерживает изучение природы, точно так же, как любовь к Богу
способствует этому изучению. «Кто основатели наших теперешних зна-
252
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ний о природе? Это люди, которые, как Сваммердам71, публиковали
свои исследования под заглавием "Библия природы", которые
изучали явления природы только для того, чтобы изумляться премудрости
Бога и искать доказательства его бытия».
Что Йегер из всех предков современной науки нашел нужным и
возможным привести исключительно одну Библию природы Свам-
мердама — это, конечно, довольно характеристично. Но да отпу-
стится ему все это. Следующие его соображения для нас гораздо
любопытнее. Принцип происхождения, говорит он, играл в еврейском
обществе первенствующую роль. Евреи разделялись на племена,
роды, семейства, слиянию которых препятствовала слабо
сдерживаемая законодательством кровная месть, составляющая резкий
контраст с христианской любовью к ближнему. Каковы же результаты
этой организации? Для ответа на этот вопрос следует определить ее
отношение к закону индивидуальных различий, указанному и
развитому Дарвином. Закон этот «учит нас, что общность
происхождения не есть ручательство за сходство организмов. Сын умного отца
может быть очень глуп; сын отца, имеющего известную способность,
может ее не иметь, а иметь совсем другие; то же самое относится и
к братьям. Всякая же организация основывается на соединении
подобных элементов и разъединении элементов несходных. Там, где
этого нет, теряется, как говорят, много силы от трения, причем
целое, очевидно, становится менее способным к нападению и защите,
чем целое, состоящее из сходных частей. Одно это уже достаточно
говорит о невыгодности организующего начала в еврейском
обществе. В ближайшей связи с индивидуальными изменениями
находится разделение труда, так как оно составляет результат этих
изменений. Организация еврейского общества не давала индивидуальным
изменениям возможности располагаться по принципу разделения
труда и задерживала его свободное развитие. К этому
присоединяется еще насильственное навязывание человеку какого-нибудь дела
только потому, что его отец занимался этим делом». Кроме этой
задержки развития разделения труда и этого препятствия
свободному применению индивидуальных особенностей, «генеалогическая»
организация еврейского общества находилась в самой тесной связи
с религиозной замкнутостью. Евреи видели в себе народ, Богом
избранный. Их религия была религией государственной, и они
держались в стороне от язычников. Это было для них весьма невыгодно,
Теория Дарвина и общественная наука
253
ибо сила общества зависит не только от степени совершенства его
отдельных членов и не только от высоты общественной
организации, но и от численности членов.
Христианство сделало великий шаг вперед, провозгласив любовь
к ближнему и низвергнув ветхозаветное правило: око за око, зуб за
зуб. Перегородки, разделявшие племена, колена, роды, семьи, пали,
и генеалогический принцип сменился принципом разделения
труда, предоставившим широкий простор закону индивидуальных
изменений. Религия, заключает Йегер, перестала быть достоянием
известного народа; она сделалась всемирной религией, под знамя
которой может собраться огромное количество борцов за
существование.
Не знаешь, за что ухватиться в этой путанице. Во-первых, если и
существует закон индивидуальных изменений, то существует и закон
наследственной передачи этих изменений, закон, указанный и
развитый тем же Дарвином. Причина и размер действия этих, по-
видимому, встречных течений нам точным образом неизвестны.
Однако если и справедливо, что у умного отца может быть глупый сын
и т. п., но тем не менее, вообще говоря, особенности организации
предков передаются потомкам. Это знает каждый коннозаводчик,
каждый скотовод, каждый псарь, каждая птичница; все они уверены,
что могут воспроизвести в потомстве данных особей те из их
особенностей, которые почему-либо высоко ценятся. И Дарвин прямо
говорит: «Быть может, всего разумнее было бы смотреть на
наследственную передачу всякого любого признака как на правило, а на
непередачу его как на исключение». С этой точки зрения исчезает и
кажущаяся резкая противоположность между законами
индивидуальных изменений и наследственной передачи. Если в каком-нибудь
неделимом происходит какое-нибудь даже легкое изменение,
например, вследствие неупотребления известного органа, особенной пищи
и т. п., то уклонение это передается наследственно; и притом
передача эта может произойти различными путями, которые при
настоящем уровне наших знаний совершенно не объяснимы. Например,
возвращение к давно утраченным признакам, сходство детей не с
родителями, а с дедами, прадедами или дядями составляют для нас
явления весьма темные. Переданное наследственно уклонение может в
потомках получить новое изменение вследствие скрещивания, или
осложниться новым воздействием изменившихся условий жизни,
254
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и если все эти изменения выгодны для представителей известного
вида, то они подхватываются подбором родичей. Таким образом
сплетается необыкновенно сложная сеть, в которой индивидуальные
изменения сами по себе играют роль совершенно пассивную. Они
представляют не первичные явления, а результат приспособления
к несходным внешним условиям, тогда как закон наследственности
есть закон коренной, непосредственно связанный только с фактом
деторождения. Вся теория Дарвина исчерпывается взаимными
отношениями двух законов: приспособления и наследственности. Закон
наследственности, будучи совершенно изолирован, предписывает
каждому организму воспроизводить только подобных себе потомков.
С другой стороны, изолированный закон приспособления говорит,
что каждый организм отличается от своих родичей. Сплетение этих
двух законов породило в течение миллионов лет то изумительное,
сколько бы мы гипотетически ни принимали первичных форм
органической жизни, разнообразие растительной и животной жизни, в
котором нам ныне так трудно осмотреться. Рассматривать процессы
приспособления и наследственной передачи отдельно мы можем
только теоретически и условно, как теоретически и условно
принимаются в геометрии математические точки, линии, плоскости. И даже
такое условное изолирование возможно только для процесса
наследственной передачи, потому что мы можем мысленно устранить
влияние разнородной среды; тогда как отвлечь процесс приспособления,
рассматривать его отдельно от закона наследственности мы (в
общей картине истории природы или истории человечества) не в
силах, ибо для этого пришлось бы устранить самый факт деторождения,
т. е. самый факт истории. Далее, будучи законом более сложным, так
как он обнимает взаимодействие между организмом и
разнообразной, разнородной средой, закон приспособления подлежит гораздо
более многостороннему изменяющему и регулирующему
вмешательству человека, чем простой закон наследственности. Возможность
прямого влияния человека на наследственную передачу ничтожна в
сравнении с возможностью влияния его на обстановку (в самом
обширном смысле), т. е. на приспособление. В силу закона
консервативной наследственности (lex hereditatis conservativae Геккеля) организм
целиком воплощается в своих потомках, и если бы действовал только
один этот закон, изменяемость видов оказалась бы немыслимой.
Но влияние изменившихся условий жизни влечет за собой и измене-
Теория Дарвина и общественная наука
255
ния организма, которые вновь передаются потомству наряду с
наследственными признаками родителей (lex hereditatis adaptatae).
Из всего этого следует, что Йегер совершенно неосновательно
раздувает значение закона индивидуальных изменений, умалчивая в то
же время о законе наследственной передачи. Только благодаря этой
односторонности Йегер и может противополагать генеалогический
принцип еврейского общества излюбленному им принципу
разделения труда, тогда как на самом деле они переплетаются тысячами
нитей. Прежде всего они друг другу нисколько не мешают; ибо если
природа и история раздробят население данной местности
вертикально, т. е. установят обособленные национальные и племенные
единицы, единицы генеалогические, то внутри этих единиц могут
беспрепятственно существовать и горизонтальные перегородки по
принципу разделения труда, т. е. единицы сословные,
профессиональные и т. д. Йегер не различает этих горизонтальных и
вертикальных делений, что имеет смысл только с известной общей точки
зрения, на которую Йегер не становится. Он ухитряется и
противополагать принцип генеалогический принципу разделения труда, и в
то же время самым грубым образом их смешивать. Так, на с. 118 он
говорит о еврейских «erbliche Kasten», а в выноске замечает: «oder
Stämmen, wie die deutsche Nation bis vor Kurzem». Kaste — каста,
сословие и Stamm — племя — это две вещи различные. Единство
Германии даже более широкое, чем теперешнее, еще отнюдь не ручается за
уничтожение горизонтальных перегородок. Далее, каждое
индивидуальное изменение стремится упрочиться путем наследственной
передачи в потомстве, вместе с чем принцип разделения труда,
соответствующий закону индивидуальных изменений, постепенно переходит
в принцип генеалогический, соответствующий закону
наследственности. В обществе этот переход может встретить особенно
благоприятствующие условия тогда именно, когда в обществе разделение
труда сделало значительные успехи. При этом генеалогический
принцип может менять свою подкладку, сменить герб на золото, но
это не мешает ему оставаться генеалогическим. Йегер может сколько
угодно толковать, что «общность происхождения не есть
ручательство за сходство организмов», но закон наследственности он не
имеет никакого права вычеркивать из своих расчетов. Сама по себе
общность происхождения есть самое верное и единственное
ручательство за, сходство организмов. Ручательство это теряет свою силу
256
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
только практически, в связи с изменением условий жизни.
Приводимые Йегером факты, что у умного отца может быть глупый сын и
проч., ровно ничего не доказывают и ровно ни к чему не обязывают.
Во-первых, им можно противопоставить миллионы
противоположных фактов; во-вторых, на них следует смотреть либо как на
исключение («всего разумнее смотреть на наследственную передачу
всякого любого признака как на правило, а на непередачу его как на
исключение» — Дарвин), либо как на продукты закона скрытой или
перемежающейся наследственности, либо как на результаты
приспособления. В первом случае они ничто, во втором зависят от
игнорируемого Йегером закона, в третьем могут быть в известной мере
регулированы, представляют тлеющий уголь, который может быть
залит водой, а может быть и раздут до того, что при благоприятных
условиях произведет целый пожар. Разделение труда, несомненно,
играет в этом отношении роль мехов и путем победы прогрессивной
наследственности над наследственностью консервативной может
только поднять постепенно, в течение множества поколений,
признаки индивидуальные до степени признаков видовых. Йегер
полагает, что разделение труда составляет результат индивидуальных
изменений. Так думал и Платон. Адам Смит полагал, напротив, что
разделение труда есть источник неравенства. Спор этот, поднятый до
гипотетического момента появления разделения труда и неравенства,
если не теоретически, то практически может быть уподоблен
знаменитым пререканием о том, что прежде появилось на свет: курица или
яйцо? Он, может быть, даже имеет свою цену в качестве умственной
гимнастики, но практически совершенно бесплоден. Отправляясь от
факта индивидуальных изменений, Йегер, желая поразить
генеалогический принцип и возвеличить принцип разделения труда, приходит
к столь трудно постижимой путанице, что мы боимся, как бы
читатели не заподозрили нашу вышеприведенную цитату в неверности
перевода. Вот собственные слова Йегера: «Der Sohn eines intelligenten
Vaters kann ein sehr unintelligenter Mensch sein, der Sohn eines Vaters,
der eine bestimmte Befähigung hat, kann eine Befähigung nach einer ganz
andern Richtung aufweisen, und die gleichen Unterschiede finden sich
zwischen Geschwistern. Nun besteht in aller Welt die Organisation darin,
dass Gleichhartiges verbunden und Ungleichartiges gesondert wird, wo
nicht — geht eine Menge Kraft, wie man sagt, durch Reibung verloren und
ein solches Ganze ist offenbar weniger befähigt zu Angriff und Vertheidi-
Теория Дарвина и общественная наука
257
gung, als ein aus Gleichartigem Zusammengesetztes». Одно из двух: или
это отрицание семьи как целого, весьма стойкого в борьбе за
существование, — что так старался доказать Йегер выше; или это
отрицание расчлененного по принципу разделения труда общества с
той же точки зрения устойчивости в борьбе — что Йегер так
старается доказать на всем протяжении своих размышлений. Можно даже
сказать, что это отрицание и того и другого; ибо ни
генеалогический принцип, ни принцип разделения труда не дают общества
разных, сходных членов. Но, во всяком случае, первый стоит в этом
отношении гораздо выше. Разбросать семью, род, племя, народ по
закоулкам индивидуальных изменений, подхваченных и раздутых
разделением труда, — это не особенно выгодно. А главное, Йегер
все забывает закон наследственности и связанное с ним
превращение принципа разделения труда в принцип генеалогический.
Древние римляне очень хорошо понимали, что «servi aut nascebantur, aut
fiebant»; нашим предкам также было известно, что «рабы рождаются
или бывают; рождаются, иже от наших рабынь прибывающе нам;
бывают, иже от языческого закона рекше от плена рабыням сущим».
И не известно это только Густаву Йегеру. Легко, конечно, сказать,
что в обществе по типу раздельного труда, в противоположность
генеалогической общественной организации, нет
«насильственного навязывания человеку какого-нибудь дела только потому, что его
отец занимался этим делом». Конечно, никто не навязывает мужику
его мужицкого дела только потому, что его отец занимался этим
делом; никто не навязывает сыну нищего нищенского промысла;
никто не требует, чтобы рабочий непременно отдавал своих детей
на фабрику. Каждому из них предоставляется полная свобода
действия; хочешь возделывать вместо земли науку — вот гимназия,
университет, академия; хочешь — занимайся торговлей,
промышленностью; хочешь — отдохни от борьбы за существование за роялем,
перед мольбертом — никто не препятствует. И действительно, кто
же препятствует? Густав Йегер, по крайней мере, нисколько не
препятствует.
Еще два слова, и мы покончим с Йегером. В остальной части своей
книги он подходит с меркой пригодности в борьбе за существование
к некоторым религиозным догматам и рассматривает как оружие в
борьбе веру в бессмертие души, в чудеса, христианское
представление о Боге и проч. Один немецкий журнал выразился по поводу
258
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
этих его поразительных размышлений таю «Dr. Йегер показал
только, каким образом дарвинист может примириться с теологией, но не
наоборот». На это Йегер отвечает: «Это дело не мое, а теологов. Чтобы
примириться с религией, я серьезно и старательно изучал
Священное Писание. Если они так же серьезно и старательно будут изучать
теорию Дарвина, и они с ней примирятся». Мы, со своей стороны,
заметим только, что Dr. Йегер ничего не показал, кроме своего
ночного колпака. Чтобы показать читателю характер соображений Йегера,
мы приводим один пример. Бессмертие души, говорит он, с научной
точки зрения не существует, но как орудие в борьбе за
существование вера в бессмертие души может служить хорошими шпорами для
«Gefühlsmenschen», побудить их к усовершенствованию и к
самопожертвованию. И в этом ее практическое оправдание. Что же касается
до «Verstandsmenschen» вроде самого Густава Йегера, то они должны
укреплять эту веру, сами оставаясь, однако, вне ее влияния.
Впрочем, ферштандсменш Йегер утверждает, что он как-то даже и в
собственной голове может единовременно удержать оба эти воззрения.
Такое «примирение с религией» отвратительно со всех возможных
точек зрения. Оно представляет, однако, вполне
удовлетворительный королларий к возвеличению принципа разделения труда: вера
для одних и неверие для других, для одних одно миросозерцание,
для других — другое, и два взаимоисключающиеся миросозерцания
в одной голове, два разных человека в одном человеке, — что
может быть пригоднее для йегеровского идеала — муравьиной кучи,
где уже есть плодовитые и бесполые, рабы и господа?
Омерзительность измышлений Йегера несколько услащается его изумительной
наивностью. «Теория Дарвина и ее отношение к религии и морали»
очень напоминает наделавшую в свое время много шуму книгу
известного геттингенского физиолога Вагнера72 (Ueber Wissen und
Glauben, mit besonderer Beziehung zur Zukunft der Seelen. Fortsetzung
der Betrachtungen über Menschenschöpfung und Seelensubstanz.
Göttingen, 1854). Сходства много и в приемах, и в самых
положениях. И мы закончим нашу статью отзывами Лотце и Вирхова о книжке
Вагнера. «Трудно, — говорит первый, — успокоиться на
принципиальном противоречии двух миросозерцании и признать научную
невозможность религиозной необходимостью. Можно сознавать
недостаточность научных доказательств в пользу бессмертия души
и все-таки веровать в него; но быть убежденным в невозможности
Теория Дарвина и общественная наука
259
бессмертия или свободы воли и в то же время требовать, чтобы в них
веровали, — это бессмысленная игра. На что же после этого наука,
если она может допустить существование в нас единовременно и в
продолжение всей жизни двух различных направлений мысли вроде
того, как колеса и зубцы машины действуют каждый по-своему, не
имея друг о друге понятия? Такое разделение мнений —
бессмыслица. Если бы оказалось, что знания наши исключают тот или другой
моральный постулат, то можно спасти то или другое, но, во всяком
случае что-нибудь одно». Вирхов говорит: «Немногие натуралисты
будут в состоянии поставить свои религиозные и научные
убеждения в совершенную независимость друг от друга и вести себя в
различное время различно. Большинство не выдержит и постарается
привести свои воззрения к единству». Отзывы эти были высказаны
еще по поводу первых упражнений Вагнера в «двойной
бухгалтерии» в 1852 г., в «Аугсбургской всеобщей газете». Вагнер приводит
их в своей книге, откуда мы их и заимствуем. Лотце и Вирхов
выражаются очень сдержанно, быть может, в уважение прежних научных
заслуг Вагнера. Не так отделал его более пылкий Фогт73 (Köhlerglaube
und Wissenschaft, 1855).
Любопытно, что Йегер совершенно уверен, что он водрузил какое-
то собственное знамя; так прямо и говорит — «водрузил знамя».
Читатель видит, что он водрузил свой ночной колпак.
П. ТЕОРИЯ ДАРВИНА И ТЕЛЕОЛОГИЯ
I
Каждому из вас, читатели, может быть, не раз на своем веку
приходилось испытать то тревожное, непоседное состояние духа,
когда человеку кажется, что все встречные обращают на него
особенное внимание, что мысли и глаза всех и каждого устремлены в
его сторону. Так иного, если ему случится явиться в общество без
галстука, неотступно преследует мысль, что беспорядок его
костюма немедленно заметят, что все общество только и дела делает, что
смотрит на его шею. Так свежеиспеченный прапорщик гордо
шагает по улице, будучи твердо уверен, что его новенькие эполеты
составляют фокус, в котором сходятся все взгляды и помышления.
Так мелочно-самолюбивый писатель в глубине души своей непоко-
260
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
лебимо убежден, что каждая его строчка имеет великое значение
и должна приковать к себе общее внимание. Так есть мономаны,
предполагающие, что им со всех сторон грозит опасность, что
каждый норовит им насолить, унизить их, наконец, даже покуситься
на их жизнь. И человеку кажется обыкновенно в таких случаях, что
он действительно составляет предмет общего внимания —
благосклонного или враждебного. Он не только с удовольствием или со
страхом ждет случая сделаться средоточием взглядов, помышлений,
чувств, действий, но истолковывает в этом смысле каждый шаг,
каждое движение всякого встречного и готов приплести к делу своей
личности даже «чиновника совершенно постороннего ведомства».
На деле такое всеобщее внимание выпадает на долю очень
немногих, а потому указанному психическому состоянию сплошь и рядом
приходится сталкиваться с фактами, столь осязательно
свидетельствующими о его несоответствии действительному ходу вещей, что
перетолковать их не представляется никакой возможности. В таком
случае человек, одержимый верой в центральность своего
положения, либо чрезмерно радуется самым естественным и обыденным
событиям, либо чрезмерно печалится о вещах не менее простых
и естественных. Так, если отсутствия галстука, очевидно, никто не
заметил, то владелец обнаженной шеи готов приветствовать это
происшествие как из ряда вон выходящее. Так какой-нибудь
плохой виршеплет, рассчитывающий на всеобщие похвалы, негодует
на встречаемое им равнодушие, хоть равнодушие это есть явление
совершенно законное и естественное. В большинстве случаев,
однако, виршеплет этого явления оценить не может и видит в нем
не просто равнодушие, а намеренное преследование его личности.
В некоторых душевных болезнях эта чисто личная нота достигает
совершенно уродливой звучности: человек слышит одобрение или
неодобрение себе в скрипе колес, в завываниях ветра, в шуме волн и
проч. Если мы вздумаем анализировать то охватывающее все
существо человека предвзятое мнение, которое заставляет его смотреть
на весь окружающий мир под таким острым углом, то найдем, что
элементы его крайне бедны содержанием сочувственного опыта.
Только у людей, психический аппарат которых сложился
совершенно в стороне от чужих радостей и горестей, или только в такие
моменты, когда наши личные интересы совершенно заслоняют от нас
интересы соседские, может явиться подобная слепая уверенность
Теория Дарвина и общественная наука
261
в центральности своего положения. Если вы явились в общество не
для того только, чтобы себя показать, отсутствие галстука отнюдь
не смутит вас в такой мере, и вы, наверное, последний заметите
этот небольшой беспорядок своего туалета. Если писатель имеет
какую-нибудь общую, хотя бы с небольшой группой людей, цель,
а не ушел весь в свою собственную личность, то хотя его и может
огорчить невнимание к его работам, но он будет знать себе цену: он
не о себе думает, когда пишет, не на свою личность желает обратить
внимание общества, а на те свои мысли, которые считает
хорошими, верными, справедливыми, полезными.
Тревожное состояние духа человека, ушедшего в себя и
рекомендующего свою личность особенному покровительству или
особенному преследованию со стороны окружающего мира, принимает
иногда явно патологические формы, сопровождаясь иллюзиями и
галлюцинациями. А не раз уже было замечено многими
антропологами, что между некоторыми патологическими явлениями в среде
современной цивилизации и явлениями первобытной жизни
человека может быть установлен весьма плодотворный параллелизм. Хотя
мы и не совсем разделяем мысль об этом параллелизме в том общем
виде, в каком она обыкновенно высказывается, но указанные нами
психологические факты могут, кажется, отчасти способствовать
уяснению первых ступеней человеческой истории. Голый, грязный,
одинокий первобытный человек, только что ставший человеком, еще не
изведавший ничего, кроме своих личных желаний и потребностей,
естественно в продолжение всей своей жизни должен находиться в
тревожном эгоцентрическом настроении. И без сомнения, источник
того странного явления в жизни дикарей, которое известно,
благодаря многим наблюдателям, под именем пантофобии (всебоязнь),
лежит в слабом развитии кооперации и малом количестве ощущений
и впечатлений сочувственного опыта. Представьте только себе этого
дикого двуногого зверя, в котором уже копошатся, однако,
человеческие мысли; представьте его себе среди роскошной тропической
природы, полной страшных и восхитительных звуков, полной
опасностей и в то же время щедрой до роскоши, или среди холода и мрака
севера, где воет леденящий ветер, где стелются бесконечные снежные
равнины. И среди всего этого величия, среди этих ужасов и роскоши,
среди этого царства холода и голода движется и живет человек. Он
слышит рокот грома, шум прибоя волн, вой ветра, шум вершин дере-
262
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вьев в дремучем лесу, в который он вступает, боязливо оглядываясь
по сторонам и прислушиваясь к каждому шелесту. Что это за звуки?
Ответ у него готов. Он знает, какие оттенки принимает его
собственный голос, когда он доволен или недоволен, когда ему хочется есть
или когда он наелся; он ловит жалкие аналогии и воздвигает на них
целое миросозерцание. Человек создает себе богов по образу и
подобию своему. Но если громовой удар означает чей-то гнев, то на кого
он обращен и кому угрожает? Кому! Разве этот двуногий зверь знает
что-нибудь, кроме самого себя? разве он может принять в
соображение, что тут же, в двух шагах от него, такой же двуногий зверь принял
тот же удар грома на свой счет, а там дальше третий двуногий зверь
со страхом отскочил от куста, в котором послышался зловещий шум
колец змеиного хвоста, и что в голове этого третьего двуногого зверя
уже смутно мерцает такое же эгоцентрическое решение вопроса о
значении этого шума? Разве этот двуногий зверь не тот же светский
человек без галстука, не тот же свежеиспеченный прапорщик, не тот
же мелкотравчатый, но самолюбивый писатель, который весь ушел в
себя и ничего, кроме своей собственной личности, не знает, не видит
и не понимает?
В течение множества веков раздвигается мало-помалу путем
кооперации личное существование первобытного человека. Он
сознает солидарность своих интересов с интересами своей семьи,
рода, племени и т. д., научается переживать чужую жизнь, и его
телеология становится шире. Характер ее, однако, еще долго не
изменяется, т. е. долго еще человек предоставляется исключительному
покровительственному или враждебному вниманию окружающего
мира. Если эта объективно-антропоцентрическая телеология
претерпевает какие-либо изменения, то не качественные, а только
количественные. Смотря по ходу исторических событий,
средоточие природы, предмет особенного внимания всяких естественных
и неестественных сил то расширяется, то суживается, т. е.
уменьшается или увеличивается число кооперирующих, находящихся
под покровительством одних и тех же сил. Марк Аврелий74 воюет
с маркоманами; при этом ему однажды совершенно неожиданно
помогает дождь; находящиеся в войске Марка Аврелия христиане
приписывают эту помощь своим молитвам, язычники и сам Марк
Аврелий — благости Юпитера. Фразивул75 видит перед собой
блестящий метеор: то пламя, ниспосланное богами для освещения пути,
Теория Дарвина и общественная наука
263
неизвестного врагам и т. п.* В своих последних «Опытах» Макс
Мюллер различает троякого рода касты: антологические, политические и
профессиональные (Essays von Max Mülller. Leipzig, 1869. В. II. Es. XXVII
«Kaste», p. 285). Арийцы и судра в Индии, белые и негры в Америке и
т. п. суть представители антологически обособленных групп, т. е.
касты состоят здесь из различных рас. Этнологический элемент ведет к
установлению только двух каст: победителей и побежденных, рабов
и господ. Затем в обществе начинается борьба партий, результатом
которой являются касты политические, каковы патриции и плебеи
в древнем Риме. Политический элемент дробит обыкновенно
общество на три группы, обособляя из массы народа военную
аристократию и духовную иерархию. Так, в Индии, наряду с энтологическими
кастами арийцев и судров, сами арийцы распадаются на браминов,
кшатриев или воинов, и ваисиев76 или простых граждан.
Естественным продолжением и дальнейшим развитием политической касты
является каста профессиональная. Каждая этнологическая,
политическая и профессиональная группа придает себе особенное значение
и признает своих членов достойными исключительного внимания
богов. Макс Мюллер приводит некоторые военные гимны арийцев,
в которых не знаешь, чему удивляться: безграничной ли ненависти
к судрам или объективному антропоцентризму, насквозь
проникающему эти страшные песни. Те же элементы враждебности и веры в
центральность своего положения сквозят в каждой строке древних
рассказов о беспощадной войне между браминами и кшатриями. Но
ход истории может то сгладить кастовые перегородки и дать перевес
принципу простого сотрудничества, то усугубить эти перегородки и
установить ярко выраженное разделение труда. Сообразно этим
колебаниям в развитии и исторических формах кооперации изменяются
и направление и интенсивность объективно-антропоцентрической
телеологии. Она достигает высшей ступени своего развития, когда
центром природы признается не та или другая этнологическая, по-
Pour rattacher à l'intervention divine un événement rare, ou arrivé dans une
circonstance opportune, suffira soit de la passion violente qui veut associer à son
délire la nature entière, soit de la flatterie qui appelé le Ciel au secours des princes ses
représentants sur la terre, soit enfin du sentiment religieux qui arme contre le crime
et le vice une vengeance surnaturelle, et, par une assistance merveilleuse, seconde
les desseins le l'homme juste et les efforts de l'innocence opprimée (Das sciences
occultes ou essai etc., par E. Salverte, 3 éd. Paris, 1856, p. 63).
264
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
литическая или профессиональная каста, а все человечество,
человек вообще. Таково высокое учение Будды. Выше этого объективно-
антропоцентрическая телеология подняться не может. И за этим
последним количественным изменением первобытной телеологии
идет изменение уже качественное. Рушится последняя соломинка, за
которую хватается утопающий антропоцентризм, и оказывается, что
...unfühlend
Ist die Natur:
Es leichtet die Sonne
Ueber Bös und Gute...
(Гете).
Знание, наблюдение окружающих явлений убеждают
человека, что природа отнюдь не выражает особенной заботливости к его
судьбе. Но сама додумавшаяся до этого отрицательного результата
мысль человеческая находится под влиянием формы кооперации и,
охваченная со всех сторон эксцентрическим общественным строем,
т. е. кооперацией раздельного труда, воздвигает новую телеологию —
телеологию эксцентрическую. Мы говорили уже о судьбах
человеческой мысли под влиянием разделения труда. Мы видели, что, вместе
с окончательным практическим распадением труда на труд
умственный и физический, теоретически человек разрубается на две части;
что, далее, наука и философия стремятся разбежаться в разные
стороны, т. е. происходит практическое распадение и в сфере
специалистов умственной деятельности. Как представители умственного труда
и труда физического вступают между собой в страшную, хотя и не
всегда кровавую борьбу за существование, так борются между собой
и представители науки и философии. Одни зарываются в мелочи, не
пытаясь связать их в одно целое, и с презрительной улыбкой
противопоставляют эмпирическим путем добытые грошовые результаты
произвольным трансцендентальным обобщениям метафизической
философии. Метафизики, с другой стороны, не менее презрительно
смотрят на этих жалких тружеников, на этих «рабов чувств и опыта» и
тщатся объяснить и обнять вселенную чистою (от примеси
чувственных восприятий) мыслью. Эксцентризм, распадение человека на
самостоятельные и враждебные друг другу осколки, забивает одних и
разбивает других. Забитые не смеют поднять глаза к небу, разбитые
не оглядываются на землю. Особенность эксцентрического периода
Теория Дарвина и общественная наука
265
развития мысли состоит, как мы видели, в попытках половинчатых,
разрубленных людей отрешиться от своего эмпирического
содержания. Одни считают возможным обойтись без всякой теории, другие,
наоборот — строить теории помимо опыта и наблюдения. На деле,
однако, и то и другое оказывается одинаково невозможным, ибо как
ни много сделала история для того, чтобы раздробить человека, но он
все-таки представляет единое целое, и мысль связана с чувственными
восприятиями неразрывной цепью. Данные опыта необходимо
группируются в известном порядке, т. е. обобщаются, теоретизируются, а
теории необходимо вытекают из данных опыта и наблюдения. Все
дело в том, что, как говорит Геккель, «чистые эмпирики
довольствуются неполной и неясной, ими самими несознаваемой философией,
а чистые философы — столь же неудовлетворительной эмпирией»*.
Так строго обозначены границы человека и так тщетны наши усилия
вырваться из них в ту или другую сторону. Поэтому нельзя полагаться
на уверения специалистов-эмпириков, будто они не
придерживаются никакой философии; хотя философия эта, по всей вероятности,
очень бледна и жалка, но она несомненно существует. Точно так же
нельзя верить и метафизикам, утверждающим, что они добыли
данные своей философии путем чистого, независимого от чувственных
* «Im Grunde freilich gestaltet sich das thatsächliche Verhältniss überall so,
dass die reinen Empiriker sich mil einer unvollständigen und unklaren, ihnen
selbst nicht bewussten Philosophie, die reinen Philosophen dagegen mit einer eben
solchen, unreinen und mangelhaften Empirie begnügen» (Generelle Morphologie der
Organismen, I, 73).
«Zwei Wege sind es, auf denen die Naturwissenschaft gefördert werden kann.
Beobachtung und Reflexion. Die Forscher ergreifen meistens für den einen von beiden Partei.
Einige verlangen nach Thatsachen, andere nach Resultaten und allgemeinen Gesetzen,
jene nach Kentniss, diese nach Erkentniss, jene möchten für besonnen, diese für
tiefblickend gelten. Glücklicherweise ist der Geist des Menschen selten so einsetig ausgebildet,
dass es im möglich wird nur den einen Weg der Forschung zu gehen, ohno auf den
anderen Rücksicht zu nehmen. Unwillkürlich wird der Verächter der Abstraction sich
von Gedanken bei seiner Beobachfung beschleichen lassen; und nur in kurzen Perioden
der Fieberhitze ist sein Gegner vermögend sich der Speculation im Felde der Natiirwis-
senchaft mit völliger Hintansetzung der Erfahrung hinzugeben» (Bär С. Е. v. Zwei Worte
über den jeiztigen Zustand der Naturgeschichte. Königsberg, 1821).
«Метафизики всех веков, пытавшиеся построить законы вселенной
умозаключением от предполагаемых необходимостей нашей мысли, всегда
действовали и могли действовать лишь ревностно открывая в своем уме то,
что сами предварительно в него вложили, и выпутывая из своих идей то, что
они сами сначала впутали» (Дж.-Ст. Милль. Система логики. II, 307).
266
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
восприятий мышления; хотя обобщения их покоятся на очень
плохо обследованных фактах опыта и наблюдения, но, несомненно,
вытекают из последних. И действительно, метафизики, обнимающие
чистой мыслью вселенную, с гордостью отворачиваются от
древнего предрассудка, ставившего средоточием природы человеческую
индивидуальную, реальную или юридическую, идеальную личность.
Предрассудок этот лежит у их ног, раздавленный успехами знания
и кооперации. Но, с презрением попирая одну историческую
форму телеологии, метафизики выставляют новую. «Нет, — говорит
эксцентрик, — человек не есть средоточие и цель природы. Это жалкая,
грубая эгоистическая телеология. Изучая природу, мы должны
забыть, что мы люди, должны забыть свои стремления, желания,
нужды, и тогда мы увидим, что истинная, законная телеология состоит
в изыскании целесообразности в природе вообще, в веровании, что
природа осуществляет собой некоторый предоставленный план, не
имеющий одного определенного центра, но заранее указывающий
место, направление и силу действия каждого малейшего атома.
Отбросим предвзятое мнение, что природа заботится о нас более, чем
о какой-либо другой своей части; пока осуществляет свои цели не
ввиду человека, а на каждом шагу, в каждой инфузории, в каждом
кристалле». Так говорит эксцентрик-метафизик, рекомендуя свой вывод
как полученный путем созерцания чистой мысли. Нетрудно, однако,
открыть те вполне реальные, опытно-наблюдательные сваи, на
которых построена эта эксцентрическая телеология. Нетрудно также
показать, что, несмотря на коренную разницу между этой телеологией
и телеологией первобытных людей, обе они имеют гораздо более
общих черт, чем может показаться с первого взгляда. Нетрудно,
наконец, убедиться и в том, что в случае эксцентрической телеологии
в действительности не происходит никакого отречения от
человеческих нужд, стремлений, желаний, предвзятых мнений, что
самообольщение коренится здесь только в недостатке контроля сознания.
При виде обыкновенного маятника передо мною поднимаются
иногда, как бы воплощенные, некоторые стороны истории
человеческой мысли. Раздумывая о судьбах человеческой мысли, я часто
вспоминаю колебания маятника.
Если вывести маятник из спокойного состояния, т. е. отвести его
на какое-нибудь расстояние, например, вправо, то маятник опишет
в противоположную сторону, т. е. влево дугу, математически равную
Теория Дарвина и общественная наука
267
(если не принимать в соображение действия трения и
сопротивления воздуха) высоте, на которую вы его подняли, и опять
устремится назад. С историей человеческих мнений и взглядов происходит
нечто в том же роде, особенно, если представить себе, что маятник,
кроме колебательного, имеет еще поступательное движение вперед
всей своей поверхностью.
Было время, когда люди выходили на поединок как на «суд божий»,
для решения своих личных вопросов. Они верили, что «пуля
виноватого найдет», что божественные деятели непременно снизойдут до их
домашних дел и дрязг, примут в поединке сторону правого, дадут ему
победу и поразят виноватого. Прошли годы, и эта вера в возможность
и необходимость ежеминутного вмешательства божества в
человеческие дела исчезла: опыт, наблюдение и кооперация вырвали из-
под нее почву; объективно-антропоцентрическая телеология в этой
сфере стушевалась. Но история вложила новое содержание в старую
форму. Поединок как суд божий исчез, но мы имеем поединок как суд
чести. Убедившись, что божество не следит за каждым их шагом, люди
создали себе новое божество — честь, и социальный маятник
поднялся влево на высоту, равную высоте дуги, на которую он был поднят
вправо процессом образования объективно-антропоцентрических
понятий. Что размахи маятника вправо и влево равны между собой,
хотя и происходят в противоположном направлении, в этом
нетрудно убедиться. Что такое дуэль как суд божий? Это, во-первых,
испытание — кто прав и кто виноват, и современная дуэль, как суд чести
представляет то же самое: и там и здесь виноват погибший и прав
уцелевший. Это, во-вторых, очищение греха перед божеством, как
современная дуэль есть искупление греха перед честью. Но в первом
случае дело представляется решению ясно и цельнопредставляемого
сверхъестественного, но человекоподобного существа, тогда как во
втором дело решается честью, т. е. специализированной,
обособленной, отвлеченной категорией, частицей психического механизма,
оторванной от своего целого. Как чистая истина, чистое искусство,
абсолютная справедливость, богатство для богатства, так и честь
дуэлиста — созданы одним и тем же процессом общественных
дифференцирований. И как все остальные отвлеченные категории, из
которых пытаются вывести какое-либо практическое правило, честь
в дуэльном смысле есть не что иное, как возведение факта данной
минуты в принцип, рабское поклонение эмпирическим формам об-
268
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
щественности. Человек воображает, что он, идя на дуэль, отрекается
от своих чувств, помыслов, от всей своей жизни, и перед ним, как
одинокий маяк, блестит только одна честь. Но никакого отречения
тут, очевидно, нет: в его понятии о чести неведомо для него
самого сконцентрированы, сдавлены все эмпирические условия
жизни, среди которой он вырос и которую он, по-видимому, приносит
в жертву чести. Его понятие о чести относится к его и окружающей
его жизни, как оттиск печати на конверте к самой печати. И здесь,
как и в других случаях эксцентризма, которые мы указали в другом
месте, голый факт, так сказать, принципиализируется, поднимается
на высоту и облекается туманом отвлеченной категории. Затем в
самом ходе событий предполагается известная тенденция, стремление
к некоторой предопределенной цели; именно в случае дуэли
предполагается, что сам исход поединка отличит правого от виноватого.
Далее, логическая необходимость, не столь очевидная в вопросе о
поединке, но не оставляющая сомнений для самого
поверхностного взгляда в области теоретической мысли, влечет мысль к созданию
сверхъестественной, но чувствующей, желающей и мыслящей по
образцу человека личности, и этому субъективному образцу придается
объективное значение'. Можно ли говорить об отречении мыслителя
«В ведах, в сочинениях и платоников и гегельянцев, мистицизм есть не
более, не менее как приписывание объективного существования
субъективным созданиям наших собственных способностей, идеям или чувствам
нашего духа, и убеждение, что, сторожа и созерцая эти идеи собственного
произведения, дух может читать в них происходящее во внешнем мире» (Милль,
I, с. 313). «Следствие неспособности отделять ясно внешний объект от мысли
или идеи его в душе очень полно и ясно проявляется в суеверных верованиях
и обычаях необразованных людей, но ее результаты никак этим не
ограничиваются. Без преувеличения можно сказать, что для того, чтобы проследить
их вполне, потребовалось бы полное изучение истории и религии» (Тайяор.
Доисторический быт человека и начало цивилизации. М., 1868. с. 195).
Позволю себе привести здесь следующий довольно любопытный эпизод из личной
моей психической жизни. Мне было лет шестнадцать, когда феномены сна
и сновидений обратили на себя мое особенное внимание. И думы об этих
явлениях привели меня к такой космогонии. Человек состоит из тела и души;
когда мы спим, то душа отделяется от тела и создает разные, хотя иногда и
фантастические фигуры, но по образу и подобию нашему. Эти образы, часть
нашей души, живут своей собственной, самостоятельной жизнью, они имеют
реальное бытие. Мы их творим, и живут они, только пока мы не проснемся:
тут им и конец. Мы сами такие же творения, созданы по образу и подобию
Божию, мы не что иное, как божественные сновидения. Бог видит весь наш
Теория Дарвина и общественная наука
269
от своих человеческих чувств и желаний, и не должна ли
отразиться в исследовании личность мыслителя со всеми ее эмпирическими
условиями, определенными психическими движениями, когда,
например, Мильн-Эдвардс прямо говорит, что он смотрит на природу,
постоянно имея в виду вопрос: как бы стал поступать человек, если
бы ему предстояла задача построить вселенную. (См. его Introduction
à la zoologie générle ou considérations sur les tendances de la nature dans
la constitution du règne animal. Paris, 1853). Естественное дело, что так
как каждое действие знаменитого зоолога управляется известными
стремлениями, имеет известную цель, то, строго придерживаясь
своего плана объяснения природы, он неминуемо и в ней должен
усмотреть des tendances и des causes finales. И он их действительно
усматривает. Выкладывая перед читателем свою программу объяснения
природы, Мильн-Эдвардс только наивно-откровенно передает тот
процесс мысли, который проходит красной нитью сквозь весь
эксцентрический период и который у других эксцентриков лежит под
спудом. Люди суть смертные боги, а боги — бессмертные люди, — это
изречение Гераклита справедливо не для одной древности и не для
одного объективно-антропоцентрического строя мысли. Лет за
двадцать до появления «Происхождения видов» Дарвина вышла на
английском языке книга неизвестного автора «Следы творения» (Vestiges of
Creation), в которой, так сказать, предвосхищены некоторые стороны
теории Дарвина (у нас, кажется, есть перевод ее с немецкого перевода
К. Фогта). Отрицая неизменяемость видов, неизвестный автор
колеблет вместе с тем, по-видимому, все основы телеологии. Он
утверждает, что закон причинной связи и необходимости бесконтрольно
царствует во вселенной. Но вся эта прекрасная аргументация,
направленная против телеологии объективно-антропоцентрической,
мир во сне. Начало мира — когда Бог заснул, конец — когда Он проснется,
т. е. воплотится. Наше творчество слабее, потому что уж из вторых рук оно.
Но может быть еще третья генерация: создаваемые нами образы сами могут
спать и творить. Замечательно, что перед самым созданием этой грандиозно-
поэтической космогонии я был в болезненно-сонливом настроении и спал
очень много; следовательно, моя ребяческая фантазия в буквальном смысле
копировала Бога с моего психического состояния. Естественным
практическим выводом из этой фантазии была обязанность как можно больше творить,
т. е. как можно больше спать. Но увы! — моя способность спать по шестнадцать
часов в сутки немедленно исчезла, вместе с чем я стал замечать крупные
прорехи в своей космогонии...
270
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вдруг обрывается; автор объясняет, что возникновение материи было
особым творческим актом, даровавшим вместе с тем материи законы,
которыми она уже и управляется сама собой. Фогт весьма остроумно
и верно замечает, что такое представление «произволения Божия»,
Творца и его отношения к творениям есть точный снимок с
английской конституции: Творец даровал природе великую хартию и затем
уже не вмешивается лично в ход дел. Словом, это — перенесение на
устройство вселенной известной конституционной формулы Шзо:
le roi regne et ne gouverne pas.
Итак, мистицизм, т. е. возведение субъективной идеи на степень
объективного существования, и антропоморфизм, т. е. копирование
личности Бога с личности человека и окружающих его условий, —
вот та почва, которая обща и объективно-антропоцентрическому и
эксцентрическому строю мысли. Без сомнения, общность этих черт
значительно помогла Геккелю, как и многим другим, смешать оба
эти миросозерцания под общим именем «дуалистического» или
«телеологического», в противоположность «монистическому» или
«механическому». Строго дуалистичен только эксцентризм, и если как
объективно-антропоцентрическое, как и эксцентрическое
миросозерцания оба имеют одинаковое право на название телеологических,
то, тем не менее между той и другой телеологией есть с человеческой,
гуманной, т. е. единственно научной и справедливой точки зрения
весьма важная разница: размахи социального маятника равны между
собой, но направлены в разные стороны. С тех пор как мышление
перестало быть средством и обратилось в самостоятельную цель,
в Selbstzweck, как говорят немцы, доступную только одной части
общества, связь между этой частью и остальным обществом порывается
или, по крайней мере, утрачивается сознание связи. Мыслящая часть
общества значительно расширяет в известную сторону свое
психическое содержание. Опыты и наблюдение постепенно убеждают этих
обеспеченных чужим трудом людей, что верования их предков и бок
о бок живущих с ними представителей физического труда суть не
более как сказки, порожденные запуганной фантазией. С другой
стороны, к тому же результату приводит и видоизменение, вследствие
разделения труда, направления и интенсивности сочувственного опыта.
Если бы возможен был такой ход истории, который не допустил бы
в обществе ничего подобного органическому развитию, т. е.
обособлению частей для разнородных, специальных функций, то нараста-
Теория Дарвина и общественная наука
271
ние знаний привело бы человечество от объективного
антропоцентризма прямо к антропоцентризму субъективному. Человек прямо,
без всяких эксцентрических зигзагов, убедился бы, что формула: все
сотворено на пользу человека — совершенно справедлива, но не в
объективном, а только в субъективном смысле; что ничто не создано
для человека, что всего ему приходится добиваться своим потом и
кровью, но что ввиду своих интересов он сам, силой своего сознания,
становится в центре природы и покоряет ее себе. Но нарастание
знаний при кооперации раздельного труда не доводит миросозерцания
до этого пункта. Мышление, как обособленная функция
общественного организма, дает только отрицательный результат: ничто не
создано для человека. Но так как эксцентрическая мысль ищет опоры
в самой себе, в своей чистоте и обособленности от физического
труда и чувственных восприятий, то, замечая в себе известные
стремления, известные цели, она навязывает те и другие и природе. Но раз
в природе существуют цели и стремления, они должны исходить от
некоторой человекоподобной личности — божества. Однако это не
то божество первобытного антропоцентрика, которое даровало
гремучей змее оригинальный хвост для того, чтобы он предупреждал
человека своим шумом об опасности, и самую змею создало для
наказания и устрашения человека...
Человек эксцентризма настолько уже раздробился, настолько
перестал быть неделимым человекам, чтобы приблизиться к
состоянию того или другого обособленного органа, что цели Провидения
не могут уже лежать для него в человеке-, они разносятся для него
по всему пространству и времени, размещаясь сообразно той
специальной физиологической функции, которую человек в качестве
специального органа общественного организма развил в себе на
счет остальных. Такова существенная разница между телеологиями
объективно-антропоцентрической и эксцентрической. О. Конт,
очевидно, недостаточно вдумался в смысл и значение того, что он
называет метафизическим фазисом развития (и что, как мы уже
упоминали, относится к эксцентризму, как часть к целому), когда
говорит: «Система теологических верований, очевидно, покоится на идее
вселенной, управляемой в интересах человека. Нелепость этой идеи
должна неизбежно выясниться даже для самых обыкновенных умов,
коль скоро доказано, что земля не есть центр небесных движений,
что она не более как второстепенное светило, обращающееся вокруг
272
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
солнца, точно так же как и соседние Венера и Марс, жители которых
имеют столько же поводов придавать себе первенствующее значение.
Полуфилософы, пожелавшие удержать доктрину целесообразности
и провиденциальных законов, но отринувшие ходячие воззрения
на значение целей природы и деятельности Провидения, впали, как
мне кажется, в весьма важную и существенную непоследовательность.
Ибо, исключив, по крайней мере, ясное и осязательное соображение
интересов человека, нельзя уже усмотреть никакой понятной цели в
провиденциальной деятельности. Поэтому признание движения
земли необходимо подкопало фундамент всего теологического здания»
(Cours de philosophie positive. T. II, 117). Под именем
«полуфилософов» Конт разумеет здесь, по-видимому, английских и французских
деистов77 прошлого столетия. Но более короткое знакомство с
современной ему немецкой философией показало бы, без сомнения, Кон-
ту, что последовательно ли или непоследовательно эксцентрическое
миросозерцание, но корень его (а, следовательно, и метафизики)
заключается именно в усмотрении целей природы вне человека; что
здесь именно лежит граница между догматической теологией и
метафизикой. И идея движения земли подкопала фундамент только
первобытной, объективно-антропоцентрической телеологии. Метафизика
вся основана на уверенности в том, что, наблюдая состояния нашего
духа, мы можем получить точное понятие о явлениях внешнего мира.
Наши действия целесообразны, и факт этот метафизиками
переносится и на природу: они видят в ней целесообразность. Другая ветвь
теоретического эксцентризма — специализация и эмпиризм — ведет,
со своей стороны, к тому же результату. И здесь мы отметим другую
странную ошибку Конта. «Весьма характеристично, — говорит он, —
что когда астрономы предаются ныне такого рода восторгу (перед
совершенством и целесообразностью явлений природы), восторг
этот имеет предметом преимущественно организацию животных,
с которой астрономы совершенно незнакомы. Биологи, напротив,
знающие все несовершенство организации, восторгаются
совершенством расположения небесных светил, о котором они имеют только
поверхностное понятие. Здесь-то и следует искать истинного
источника такого настроения умов» (1, с. 26, в примечании). Замечание
это не выдерживает ни малейшей критики. Один из источников
эксцентрической телеологии действительно лежит в односторонности
представителей науки, но искать его следует совсем не так, как это де-
Теория Дарвина и общественная наука
273
лает Конт. Замечание его, во-первых, не оправдывается фактически.
Мы могли бы привести длинный список биологов, прямо говорящих
о совершенстве и целесообразности организации, и притом
биологов недюжинных, а таких как, например, Иоганн Мюллер, Агассиц78,
Мильн-Эдвардс и проч. Можно утвердительно сказать, что идея
целесообразности организации вплоть до появления теории Дарвина
царила в биологии почти самодержавно. Да иначе и быть не может.
Как некоторые экономисты, наблюдая экономическую жизнь Англии,
возвели эмпирический факт английского хозяйственного порядка в
принцип, так и естествоиспытатель, отведя себе известный угол
знания и не стараясь привести его в соответствие с соседними отраслями,
неизбежно увидит в результате столкновения слепых сил — цель
природы. Таким образом, отречение от обобщений и отречение от
опыта и наблюдения, несмотря на свою кажущуюся противоположность,
представляют много общего. Во-первых, и то и другое суть не более
как самообольщения, так как на деле специалисты-эмпирики имеют
свои теории, а философы-метафизики — свои данные опыта и
наблюдения. Во-вторых, и то и другое приводит человека разными путями,
но к одному и тому же результату: к телеологии эксцентрической.
Любопытны телеологические воззрения Вольтера. Он никогда,
разумеется, не был проникнут фантастически-детскими грезами,
которые стоят густым туманом над первыми ступенями развития
человечества. По крайней мере, он не написал ни одной строки, в которой
можно было бы найти отголосок объективно-антропоцентрического
настроения. Напротив, чуть не вся его многолетняя деятельность
была страстной и страшной борьбой с этим миросозерцанием и
всеми его последствиями. Немало найдется в его сочинениях и
прямых, по обыкновению, сильных и ядовитых нападок на объективный
антропоцентризм. Так, в своей поэме о человеке Вольтер заставляет
мышей хвалить Бога за прекрасное устройство мышиных нор,
затем выводятся на сцену утки, индейские петухи, бараны, поочередно
заявляющие свое убеждение в том, что средоточие природы лежит
именно в утках, индюках, баранах. Осел прямо утверждает, что и сам
гордый человек создан со специальной целью ухаживания за ним,
ослом, так как он чистит ему стойло, приносит корм, приводит
ослицу и т. д. Но если Вольтер так верно понимал нелепость объективно-
антропоцентрической телеологии, то только по временам и, видимо,
с большими усилиями вырывался он из оков телеологии эксцентри-
274
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ческой. Causes finales цепко держались за этот необыкновенный ум.
Вот что говорится в статье «Causes finales» в философском словаре:
«Если только часы сделаны не для того, чтобы показывать время, я
соглашусь, что сознательные конечные цели — чистый вздор. Есть люди,
которые смеются над этими целями, так как они давно уже
опровергнуты Эпикуром79 и Лукрецием80; им следовало бы скорее смеяться над
Эпикуром и Лукрецием. Глаз, говорят они, сделан не для того, чтобы
видеть; им только воспользовались для этого употребления, потому
что заметили, что им отлично можно воспользоваться для этой цели.
По этому мнению, рот создан вовсе не для принятия пищи, желудок
не для переваривания, сердце не для кровообращения, ноги не для
ходьбы, уши не для слушания; но эти же люди сознают, что портной
сделал им платье для надевания, каменщик сделал дом для житья. Они
осмеливаются отказывать природе, высшему Существу, всеобщему
разуму — в том, что они охотно признают за самым ничтожным
работником. Конечно, было бы преувеличением утверждать, что ноги
существуют для того, чтобы носить сапоги, нос — для очков. Только
то может считаться действительной конечной целью, где одно и то же
действие во все времена и во всех местах связано с той же причиной.
Корабли были не во все времена и не на всех морях; следовательно,
нельзя сказать, что море создано для кораблей. Руки существуют не
для перчаточников. Но все существа имеют глаза и видят, все имеют
рот и едят, все имеют желудок и переваривают. Мы извращаем свое
мышление, когда не хотим принимать таких всеобщих истин»*.
Изумительно, как такой сильный и проницательный ум мог
довольствоваться столь бедными аргументами. Вся приведенная
тирада есть не более как целый ряд более или менее грубых логических
ошибок. Вольтер указывает как на противоречие на то
обстоятельство, что люди «осмеливаются отказывать природе, высшему
существу, всеобщему разуму — в том, что они охотно признают за самым
ничтожным работником», тогда как дело именно в том, чтобы
признать или опровергнуть присутствие сознательных целей,
«всеобщего разума» в природе. Мыслители, отвергающие целесообразность
устройства вселенной, отрицают тем самым присутствие того самого
«всеобщего разума», который Вольтер ставит им в счет.
Следовательно, противники его могут быть уличаемы в неверности посылки, но
Я цитирую по Геттнеру «Историю литературы», II, 139.
Теория Дарвина и общественная наука
275
не в противоречии, а Вольтер именно старается уличить их в
последнем и обходить, так сказать, сердце вопроса. Далее, дистелеология
(термин Геккеля) в своем чистом виде утверждает не то, что ноги
созданы не для ходьбы, и т. п.; она учит, что существование ног и ходьба
связаны только причинно, а не телеологически, что ноги, во-первых,
не созданы, а развились, и что, следовательно, во-вторых, ими
удовлетворяется не заранее предназначенная им цель: змеи, рыбы, черви
не имеют ног и, однако, движутся. Если кто-нибудь и утверждал, что
«глаз сделан не для того, чтобы видеть; что им только
воспользовались для этого употребления, потому что заметили, что им отлично
можно воспользоваться для этой цели»; если кто-нибудь утверждал
такую нелепость, то опровержение ее не стоило бы бумаги.
Добросовестный сторонник целесообразности, и притом с силами Вольтера,
должен бы был направить свои удары не на эту жалкую форму дис-
телеологии, а на формы, лучше защищенные. Но деист Вольтер не
мог подойти к здравой дистелеологии даже настолько, чтобы увидеть
ее. Он не мог оторваться от своей антропоморфической идеи Бога-
работника, Бога-мыслителя, Бога-художника. Как ни сильна была со
стороны Вольтера реакция против первобытного мировоззрения,
он сходился с ним на пункте создания Бога по образу и подобию
своему. Как мыслящий художник, он представлял себе божество
таким же мыслящим художником. И он не раз высказывал мысль, что
природа есть не природа, а искусство; вселенная — великое
художественное произведение. Русский поэт, г-н Фет81, выразил
недавно, что направление, целесообразность в искусстве (один из видов
субъективно-антропоцентрической телеологии) есть не более и не
менее как «мочальный хвост». Я не смею утверждать, чтобы г-н Фет
имел какие-либо определенные философские воззрения, так как он
их, сколько мне известно, никогда и нигде не высказывал. Но
некоторые из его единомышленников по вопросу о направлении как о
мочальном хвосте не раз заявляли себя в качестве эксцентрических
телеологов, т. е. людей, принимающих causes finales и исповедующих,
что все в природе совершается по известному плану и с известными
целями. Не осмеливаюсь изумляться этому воспрещению
сознательного творчества человеку рядом с верой в сознательное творчество
природы. Но осмеливаюсь воспользоваться остроумным
выражением г-на Фета и заметить, что истолковывать природу таким образом,
чтобы в каждом результате столкновения естественных сил видеть
276
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
заранее указанную цель, что истолковывать таким образом явления
природы значит подвязывать к ним мочальный хвост. Я решаюсь
даже утверждать, что все это миросозерцание состоит в схватывании
человеком явлений за предварительно им самим приделанный к ним
мочальный хвост. Надо сознаться, что такой способ объяснения
явлений природы как нельзя более прост и удобен, хотя и нет ничего
легче, как запутаться в мочальном хвосте*.
Последовательный оптимист, отрицающий самое существование
зла в мире, Вольтер запевает с 1755 года совершенно иную песню.
В этом году произошло, как известно, знаменитое лиссабонское
землетрясение. Это страшное событие многих заставило призадуматься
и во многих умах произвело глубокий переворот: разрушение
великолепного города, шестьдесят тысяч смертей в несколько мгновений
тяжело и больно отдались в сердцах и головах людей. Шестилетний
Гете, как он сам рассказывает в своих Wahrheit und Dichtung, был
страшно потрясен. В его детском психическом аппарате раздалась
совершенно новая, щемящая нота, в душу запали ранние сомнения.
«Бог, творец и вседержитель неба и земли, — говорит он, — о котором
говорится в первом члене символа веры как о всемудром и всеблагом,
не показал а этом случае отеческой заботливости, подвергнув гибели
без разбора и добрых и злых. Тщетно мой юный ум старался осилить
эти впечатления, но решительно был не в состоянии, тем более что
даже умные и сами религиозные люди не могли согласиться между
собой в объяснении этого события» (Д. Г. Льюис. Жизнь И. В. Гете.
«Dieselben Ursachen, welche es haben bewirken können, dass einst in so
grosser Ausdehnung über der Erkenntniss des Zweckes die Frage nach der Causalität
vergessen wurde, bewirken es nun auch heutigen noch, dass dies gar häufig auf
dem Gebiete des organischen Lebens geschieht. Der Complex bewirkender Ursachen,
durch welchen das organische Wesen entsteht, ist so höchst verwickelt, dass uns hier
noch immer die Analyse nach vielen Punkten vollständig im Stiche lässt. Da ist es
nun natürlich, dass die ferneliegende Hoffnung einer solchen Aufklärung gar leicht
ganz in den Hintergrund tritt, um so mehr als die Frage nach dem Zwecke nicht nur
mannigfach leicht zu beantvorten ist, sondern in ihrem Interesse auch noch durch
den Egoismus erhöht wird» (Bergmann und Leuckart, Anatomisch-physiologisches
Uebersicht des Thierreichs, s. 22). Последнее, вскользь брошенное замечание
отличается, если я его только верно понимаю, редкой глубиной. Геккель, у
которого я заимствую эту цитату, приводит еще следующее замечательное
признание одного из величайших сторонников целесообразности, Канта:
«Die Zweckmässigkeit ist erst vom reflectirenden Verstände in die Welt gebracht, der
demnach ein Wunder anstaunt, dass er selbst erst geschaffen hat».
Теория Дарвина и общественная наука
211
СПб., 1868, с. 27). Кант, которому в 1755 году перевалило за сорок,
писал: «Зрелище такой скорби, какую недавняя катастрофа внесла в
ряды наших ближних, должно возбудить гуманное чувство любви и
заставить нас отчасти пережить несчастье, так тяжко обрушившееся
на этих людей (soll die Menschenliebe rege machen und uns einen Theil
des Unglücks empfinden lassen, welches sie mit solcher Härte betroffen
hat). Но мы удалились бы от любви, если бы стали смотреть на
подобные случаи как на божественную кару, а на несчастных страдальцев
как на цель божьей мести за грехи. Такое суждение, предполагающее
возможность проникнуть в виды и намерения Бога, ошибочно.
Человек воображает, что он составляет единственную цель божеской
деятельности, как будто бы его она только и имеет в виду и
только с ним и соображается в управлении вселенной. Вся природа есть
предмет, достойный мудрости и промысла божьих; мы не более как
часть и хотим быть целым. Правила совершенства целой природы
приносятся в жертву человеку. Думают, что все, клонящееся к
нашему удобству или удовольствию, для нас именно и существует, и что
если в природе совершается нечто не выгодное для человека, то это
должно быть объясняемо карой, местью, угрозой. Однако мы видим,
что многое множество злодеев благоденствует; что землетрясения
издревле поражают известные страны безотносительно к
сменяющимся поколениям жителей; что явления эти не исчезли, например в
Перу, с тех пор как страна из языческой стала христианской; что
бедствие это никогда не касалось некоторых городов, не могущих
похвалиться особой безгрешностью» (Geschichte und Beschreibung der
merkwürdigsten Vorfälle des Erdbebens, welches an dem Ende des 1755
Jahres einen grossen Theil der Erde erschüttert hat. в VI т. издания Розен-
кранца и Шуберта, с. 266). Шестидесятилетний Вольтер совершенно
преобразился. У него, утверждавшего доселе, что «знать, что земля,
люди, звери таковы, каковы они должны быть по порядку
провидения, — есть признак мудреца» (Геттнер, 141), — у него теперь вдруг
один за другим вырываются полные скорби, иронии и сомнения
звуки. В Роете sur le Désastre de Lisbonne читаем:
Direz vous, en voyant cet amas de victimes,
Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime?
Quel crime, quelle faute int commis ces enfants
Sur le sein maternel écrasés et sanglants?
278
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Lisbonne qui n'est plus, eut elle plus de vices
Que Londres, que Paris, plongés dans les délices?
Lisbonne est abimée et Ton danse à Paris.
Недели через три после землетрясения Вольтер пишет TjxwiueHy:
«Как жестока природа! Трудно будет сказать, почему законы движения
должны производить такие страшные опустошения dans le meilleur
des mondes possibles. Что за печальная игра случая — игра
человеческой жизни! Это должно бы научить человека — не преследовать
человека. Когда один собирается сжигать другого, земля поглощает
обоих». Затем явился глубоко прочувствованный и глубоко
сатирический «Кандид»; Вольтер жестоко смеется над своими недавними
учителями, Болингброком82, ШапЬтесбери и Попом, утверждавшими,
что все устроено наилучшим образом. Так передернуло «царя
мысли» XVIII века лиссабонское землетрясение. Любопытно было бы
сравнить результаты этого влияния с меткими замечаниями Бокля
о влиянии землетрясений на укрепление суеверия и задержку
развития наук Сравнение это показало бы, как одно и то же явление
при различных условиях оказывает диаметрально противоположные
действия на людей. Бокль полагает, что понятия о землетрясениях
и грозных явлениях природы вообще как о божественной каре есть
продукт суеверия, которое, в свою очередь, само поддерживается
этими грозными явлениями. Это, конечно, до известной степени
справедливо, и постепенное, в целом ряду поколений, усвоение
закона причинной связи явлений, без сомнения, значительно
расчищает почву для смены объективно-антропоцентрических
представлений более правильными. Но здесь нетрудно заметить и влияние
сочувственного опыта и кооперации. Вольтер и прежде смеялся над
верой человека в центральность своего положения; он и до
лиссабонского землетрясения очень хорошо понимал, что силы природы
действуют не для наказания и награждения человека. Ясно, что его
внезапное возбуждение было порождено представлением смерти
тысяч людей, ни в чем неповинных. Он пережил последние страшные
минуты этих несчастных жертв слепой и глухой природы, и
надломилась в нем и эксцентрическая телеология. Но еще мир не
пережил великой революции, окончательно обеспечившей Европе смену
порядка разделения труда порядком простого сотрудничества; еще
сочувственный опыт не получил достаточно широких областей при-
Теория Дарвина и общественная наука
279
менения. И Вольтер остановился на полдороге. Жалко видеть, как
путается и заикается этот дерзкий и сильный ум, говоря о значении
зла на земле. «Болингброк, Шафтесбери и Поп, — говорит он,
(статья Toutest bien в философском словаре; Геттнер, 142) — защищают
взгляд, что все устроено наилучшим образом. Если это значит, что все
происходит из вечного неизменного закона, — кто этого не знает?
Порядок есть, конечно, везде. Если в моем мочевом пузыре
образуется камень, то это образование происходит совершенно согласно
с природой, и также согласно с природой и с искусством действует
врач при своем лечении; но если я умираю под этим болезненным (?)
лечением, какая мне польза из сознания, что я подчиняюсь
неизменным естественным законам? Зла никакого нет, — говорит Поп; все
частные роды зла составляют только общее благо. Славное общее
благо, составленное из каменной болезни, ревматизмов,
преступлений и страданий всякого рода, из смерти и осуждения; и мне кажется
плохим утешением, когда Поп говорит, что Бог одинаково смотрит
на гибель героя и воробья, тысячи планет или атома, или когда
Шафтесбери спрашивает, почему бы должен был Бог менять свои вечные
законы в пользу такого жалкого творения, как человек. Надобно, по
крайней мере, согласиться, что человек имеет право жаловаться, что
частное благосостояние не примиряется с вечными законами. Это
учение представляет божество могущественным, но насильственным
властителем, которому нет дела до тысяч человеческих жизней, когда
их требуют его произвольные цели. Это учение неутешительно, оно
тягостно. Вопрос о происхождении зла остается неразрешимой
путаницей, от которой нет другого спасения, как доверие к провидению».
Или: «Есть высшее вечное разумное существо, от которого
происходит все, что живет и существует. Но происходит ли от этой основной
причины всех вещей и зло, физическое и моральное? Что касается до
зла физического, то все религии и все философские учения
относили его к Богу; только безвкусие манихеев хотело освободить Бога от
создания и допущения зла, но безвкусие вовсе не есть доказательство.
Эта основная причина произвела яд и пищу, болезнь и наслаждение:
в этом сомневаться нельзя. Зло необходимо, потому что оно есть; все,
что есть, необходимо, — какую бы иначе оно имело причину своего
существования? Но зло нравственное, преступление, Нерон,
Александр VI? Весь свет говорит: как может быть Бог причиной стольких
страданий? Но если наш разум есть только часть всеобщего разума,
280
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
только истечение высшего существа, как мы можем думать и желать
проникнуть все намерения и конечные дела самого этого высшего
существа? Что три есть половина шести, что диагональ делит квадрат
на два равных треугольника, это мы знаем так же верно, как это
знает Бог, но мы остаемся только частью и можем понять только часть
мира. Высшее существо сильно, мы слабы; мы так же необходимо
ограниченны как высшее существо необходимо бесконечно. Зная,
что один луч ничего не значит против солнца, я покорно
подчиняюсь высшему свету, который должен просветить меня во мраке мира»
(L, с. 143, ст. «Tout en Dieu»).
Каким старческим бессилием веет от этих строк, как немощна
проскальзывающая здесь местами ирония! «Царь мысли» жалеет о том,
что он не может верить, что «вечные законы изменяются в пользу
такого жалкого творения, как человек». Этот бесповоротно
изгнанный из рая царь мысли, по-видимому, и не подозревает, что, кроме
объективно-антропоцентрического и эксцентрического, возможно
еще субъективно-антропоцентрическое решение занимающего его
вопроса; что человек может сказать:
Un jour tout sera bien, voilà notre espérance,
Tout est bien aujourd'hui, voi'à l'illusion —
и при этом возложит свои надежды не на «высший свет», как это
делает Вольтер, а на самого себя, на свои руки и на свою голову Человек
может сказать: да, природа ко мне безжалостна, она не знает
различия, в смысле права, между мною и воробьем; но я и сам буду к ней
безжалостен и своим кровавым трудом покорю ее, заставлю ее
служить мне, вычеркну зло и создам добро. Я не цель природы, природа
не имеет других целей. Но у меня есть цели, я их достигну.
II
Перед нами лежат две книги. Обе они написаны людьми с
громким авторитетом, совершенно независимо друг от друга. Обе
трактуют об одном и том же предмете, обе появились в одном и том же
году (1869), обе получили обширную, хотя и неравную известность.
Но сходство между ними резко завершается на этих внешних и
случайных обстоятельствах. Это представители двух диаметрально
противоположных миросозерцании, между которыми невозможно
Теория Дарвина и общественная наука
281
никакое соглашение, никакой компромисс. Простое сопоставление
этих двух складок мысли неизбежно ведет к решительному
отвержению какой-нибудь из них. Каждому предоставляется выбрать по
крайнему своему разумению Ормузда и Аримана83, свет и тень,
белое и черное; но, признав светом одну группу воззрений, другую вы
уже обязаны признать тьмой. В своем опыте о воспитании Спенсер
полагает, что история человеческой мысли может быть сведена к
трем фазисам: единогласия невежд, разногласия исследователей и
единогласия знающих. Эта формула очень удачна главным образом
по своей наглядности и представляет действительный и
неизбежный ход вещей, порядок нормальный. Однако вследствие некоторых
частных неправильностей наука часто слишком невыносимо долго
задерживается на втором периоде развития, то есть на периоде
разногласия исследователей, и такая чрезмерная задержка представляет
уже явление печальное и ненормальное. По крайней мере, то
разногласие исследователей, какое мы встречаем в двух занимающих нас
книгах, наводит на очень грустные мысли. Разногласие тут не в
оценке каких-нибудь частных мелочных фактов; нет, антагонизм лежит
здесь в самых общих и основных чертах миросозерцания, в чертах
столь основных, что мы, простые смертные, имели бы полное право
рассчитывать на совершенное согласие на этом пункте, по крайней
мере, в среде из ряда вон выходящих тружеников науки. Мы, простые
люди жизни, с почтением следящие за постройкой величественного
здания науки, со страхом ожидающие от великих людей науки
разрешения наших сомнений, узаконения или отвержения наших
желаний; мы, наконец, знающие, что там внизу, еще ниже нас, стоит
сплошная серая масса людей физического труда, ничего пока, правда,
от науки не требующих, но несущих до поры до времени на себе все
тяготы жизни, — мы замечаем вдруг, что два великих ученых,
изучающих один и тот же предмет, единовременно издают два сочинения,
из которых одно мы должны признать Ормуздом, а другое — Арима-
ном... И опять-таки дело тут не в мелочах каких-нибудь. Спор идет не
больше, не меньше как о том, как мы должны смотреть на природу и
на себя, следовательно, о вопросе фундаментальном, вопросе общем
и элементарном, так сказать, азбучном. Положим, что составлению
азбуки предшествуют целые века формировки языка, но немало уже
прошло веков. Как бы то ни было, а это проявление современной
философской анархии должно неизбежно произвести самое тяже-
282
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
лое впечатление на всякого способного вдумываться в значение
явлений умственной жизни. Конечно, народная мудрость, или, вернее,
народное смиренномудрие и терпение учат, что нет худа без добра.
И хоть целая бездна горькой иронии заключается в этой поговорке,
но и из указанного худа можно выжать некоторую долю
отрицательного добра. Именно, если два противоположных миросозерцания
прилагаются к оценке одних и тех же фактов двумя высокими
учеными авторитетами, то можно надеяться, что авторитеты эти
исчерпают вопрос до дна и люди жизни беспрепятственно пройдут по этому
дну, как некогда евреи по дну Черного моря; что авторитеты эти
выскажутся с такой полнотой и обстоятельностью, которые сделают
невозможными дальнейшие пререкания, колебания и сомнения. Трудно,
конечно, ожидать, чтобы какой-нибудь из авторитетов склонился на
сторону своего противника, потому что авторитет слагается долгими
годами труда и мышления, в течение которых некоторые основные,
давно уже залегшие в голове мыслителя положения успели уже, так
сказать, окостенеть. Поднять здесь жизнь, т. е. сомнения, разбудить эту
окостеневшую часть психического механизма — дело трудное, если
не просто невозможное: предвзятое мнение будет искажать самые
очевидные факты*. Но зато зрители, присутствующие при
столкновении мнений двух людей, долго, усердно и с успехом послуживших
на пользу науки, получают возможность выбрать себе дорогу направо
или налево. Что вопрос стоит именно таким образом в занимающем
нас случае, это можно видеть из следующих примеров.
Книги, о которых мы говорим, суть: «О происхождении видов»
Дарвина и «О виде и классификации» Агассица. «Я не вижу
ничего невероятного, — говорит Дарвин, — в том, чтобы естественный
подбор при изменяющихся условиях жизни накопил легкие
изменения инстинкта в любой мере и во всяком полезном направлении»
(О происхождении видов. Перевод г-на Рачинского, с. 195). «Кто хотя
на одну минуту может поверить, — говорит Агассиц, — что инстинк-
L'extrême imperfection de notre système d'éducation ne permet même eux pies
éminents esprits n'être indié's à ces hautes pensées philosophiques, que lorsque tout
l'ensemble de leurs idées à déjà reçu la profonde empreinte habituelle d'une doctrine
absolument opposée: en sorte que les connaissances positives qu'ils parviennent à
acquérir, au lieu de dominer et de diriger leur intelligence, ne servent ordinairement
qu'a modifier et à contenir la tendance vicieuse qu'on à d'abord développit en elle
{Comte À. Cours de phil. pos., II, 121).
Теория Дарвина и общественная наука
283
ты животных в какой бы то ни было мере определяются
условиями их жизни, при виде, например, маленькой черепахи из рода
Chelydra» и проч. (De l'espèce et de la classification en zoologie par
L Agassiz. Traduction de l'anglais par F. Vogeli. Edition revue et augmentée
par l'auteur. Paris, 1869, p. 90). Или: «Но, заметят, может быть,
некоторые животные, живущие в исключительных условиях, отличаются
такими особенностями строения, которые, по-видимому, составляют
результат этих условий. Так, слепой рак, слепая рыба, слепые
насекомые Мамонтовой пещеры в Кентукки представляют
неопровержимое свидетельство непосредственного действия исключительных
условий на орган зрения. Если так, скажу я в свою очередь, то отчего
же известная замечательная рыба Amblyopsis spelaetts имеет хотя бы
отдаленное сходство с другими рыбами? Была ли способна сумма
явлений, обусловливавших образование этой слепой рыбы, —
придумать (imaginer) эту комбинацию структурных черт, общих этой и
другим рыбам, и особенностей, отличающих ее от всех? Не
доказывает ли скорее существование зачаточного глаза, открытого у слепой
рыбы доктором Вайманом, что животное это, как и все другие, было
создано, со всеми его характеристическими особенностями,
всемогущим "да будет"; и что этот зачаток глаза был оставлен ему как
воспоминание (reminiscence) об общем плане строения, положенном
в основание великого типа, к которому он принадлежит?» (Агассиц,
19). — «Всем известно, что животные разных классов, обитающие в
пещерах Штирии и Кентукки, совершенно слепы. У некоторых из
раков глазная ножка осталась, хотя глаз исчез; штатив телескопа
сохранился, хотя самый телескоп с его стеклами утратился. Так как
трудно предположить, чтобы глаза, хотя бы и бесполезные, могли
быть сколько-нибудь вредны животным, постоянно живущим в
темноте, я вполне приписываю их утрату неупотреблению. У одного из
слепых животных, а именно у пещерной крысы, глаза имеют
огромные размеры, и профессор Силлиман полагает, что, пожив несколько
дней на свету, она приобретает слабую способность к зрению. Точно
так же, как на Мадере крылья некоторых насекомых увеличивались,
крылья же других уменьшились в размерах действием естественного
подбора при содействии изощрения или неупотребления, так и в
случае пещерной крысы естественный подбор, по-видимому, боролся с
отсутствием света и увеличил объем глаз, между тем как в остальных
жителях пещер одно неупотребление произвело весь результат. Т^уд-
284
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
но придумать условия жизни более сходные, чем условия,
соединенные в глубоких известковых пещерах, в почти одинаковых климатах,
так что по обыкновенному воззрению отдельного сотворения
слепых животных для американских и европейских пещер можно бы
было ожидать близкого сходства в их строении и систематического
сродства; но такого сходства нет, и пещерные насекомые обоих,
материков не ближе сходны между собой, чем следовало ожидать по
общему сходству организмов Европы и Северной Америки. По моему
воззрению, следует предполагать, что североамериканские животные
с обыкновенными зрительными способностями медленно, в течение
многих поколений, переселялись все глубже и глубже в кентуккий-
ские пещеры, и что точно так же поступали и животные европейские.
Мы имеем указания на такую постепенность... Животные, достигнув
в течение бесчисленных поколений отдаленнейших закоулков
пещеры, должны были утратить более или менее окончательно свои глаз
вследствие неупотребления их; а естественный подбор должен был в
то же время обусловить некоторые другие изменения, восполняющие
эту утрату, каковы удлинения усиков или щупальцев. Несмотря на
такие видоизменения, мы имеем право ожидать, что найдем в пещерных
животных Европы сродство с прочими жителями этого материка, а в
американских пещерных животных сродство с организмами,
населяющими материк американский. И это оказывается на деле...
Предполагая, что эти пещерные животные сотворены отдельно, было бы
чрезвычайно трудно объяснить их сродство с прочими животными
тех же материков» (Дарвин, 114-115).
Уже по этим четырем выпискам нетрудно видеть, что мы имеем
перед собой людей, смотрящих на вещи с диаметрально
противоположных точек зрения и придающих одним и тем же явлениям
совершенно различное освещение. Оба смотрят на один и тот же предмет,
но один говорит, что это предмет черный, а другой утверждает, что
он белый. Разногласие полное и коренное, глубокое. Но читатель
пожелает, может быть, знать, какое отношение к общественной науке
имеют эти объяснения происхождения инстинктов черепах и
зачаточных глаз пещерных животных. Если читатель не задаст нам этого
вопроса, если он нас даже выбранит за предположение возможности
столь азбучного вопроса с его стороны — мы будем очень рады.
Но в печати то и дело приходится наталкиваться на самые дикие
понятия на этот счет. Отсюда следует заключить, что и между читателя-
Теория Дарвина и общественная наука
285
ми такие понятия некоторый ход имеют. Вот, например, что мы
прочли в недавно вышедшем сочинении г-на Щеглова84 «История
социальных систем от древности до наших дней» (Т. I, СПб., 1870,
с. 337): «Затем в голове С.-Симона возникает новая мысль внести свет
в систему наук, уничтожить существующую в ней анархию. Мысль
чрезвычайно важная, достойная тех способностей, которыми был
одарен С-Симон, но для которой, очевидно, было недостаточно его
философского образования. Вот здесь-то и приходится пожалеть о
том, что он поздно, только перед смертью сознал пользу наук
нравственных, на которых строится само общество, то есть наук из круга
философского и политического. Если бы С-Симон вместо изучения
свойств тел органических и неорганических, равно как вместо
изучения характера людей ученых, которое к тому же было соединено
с проживанием состояния, употребил свое время и средства на
изучение наук философских, то, может быть, его "Введение в ученые труды
XIX века" оказалось бы более состоятельным». Выраженная здесь
г-ном Щегловым мысль, надо ему отдать справедливость, есть
нелепость радикальная, нелепость 84-й пробы. И нелепость эту легче
всего доказать на избранном г-ном Щегловым предмете — на истории
социальных учений. Мы, может быть, займемся этим делом по
выходе второго тома сочинения Г-на Щеглова, который (не г-н Щеглов,
а второй том) обещает быть, судя по оглавлению, весьма
поучительным. Г-н Щеглов в главе о С-Симоне85 неоднократно упоминает имя
О. Конта, и всегда с почтением. Думаем, однако, что в почтении этом
сам Конт нисколько не виноват; попросту говоря, мы думаем, что г.
Щеглов совершенно не знаком с предметом своего почтения,
никогда его в глаза не видел. Неоспоримая заслуга Конта состоит в ясной
формулировке последовательной зависимости и связи между
науками в порядке возрастающей сложности и убывающей общности. Если
бы г-н Щеглов был знаком со взглядами на этот предмет Конта, то он
убедился бы, что мнение его, г-на Щеглова, о ненадобности изучения
для социолога «свойств тел органических и неорганических и
характера людей ученых» (психологии?) — есть совершенный вздор. Так
Думаем мы, имея в виду, с одной стороны, силу доводов Конта,
а с другой — то обстоятельство, что г-н Щеглов все-таки человек, и,
следовательно, одарен известной степенью понимания. Знакомство
с Контом могло бы оказать г-ну Щеглову еще одну важную услугу.
Г-н Щеглов «имеет в виду исключительно таких авторов, которые
286
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
представили новые или только подновленные теории
экономической и вообще социальной организации общества» (IX). Конт
удовлетворяет этому условию, ибо представил то, что г-ну Щеглову
требуется, но представил теорию совершенно несостоятельную. А
потому, если бы г-н Щеглов последовал примеру Рейбо86, уделившего
социологической теории Конта место в своих Etudes sur les
reformateurs, то, сравнивая эту теорию с исходной точкой философии
Конта — классификацией наук, — г-н Щеглов мог бы, руководствуясь
своей своеобразной логикой, окончательно утвердиться в
вышеприведенной мысли об отсутствии связи между естествознанием и
общественной наукой. Конечно, эти две услуги, которые могли бы
быть оказаны Контом г-ну Щеглову, взаимно исключаются. Но это не
суть важно, ибо г-н Щеглов имел бы в руках обоюдоострый меч,
которым мог бы поражать врагов гораздо более искусно, чем это им
делается теперь. А что обоюдоострые мечи весьма удобны и
находятся ныне в большой моде, тому мы имели в последнее время
достаточно примеров. Давно ли, кажется, московская пресса связала самыми,
по-видимому, прочными узами естествознание и революцию. Ныне
та же московская пресса расторгает эти узы без малейшей
застенчивости, ибо московская пресса с обоюдоострыми мечами обхождение
иметь умеет, и всякие артикулы с их помощью весьма развязно
выделывает. В октябрьской книжке «Русского вестника» г-н Безобразов87,
проводя параллель между «нашими охранителями и нашими
прогрессистами», заявляет, что наши теперешние прогрессисты,
вдавшись в естествознание и отказавшись от идеализма и исследования
конечных целей и причин, вместе с тем отвернулись и от идеализма,
так сказать, гражданского, примирились с действительностью и даже
подали руку «нашим охранителям». Г-н Безобразов не только
решается утверждать, что такой факт существует, но еще усматривает, по-
видимому, органическую связь между естествознанием и отречением
от исследования конечных причин, с одной стороны, и
консервативным или даже ретроградным направлением — с другой. Конечно, как
артикул, выкинутый обоюдоострым мечом, обвинение г-на Безобра-
зова имеет свои достоинства, ибо с помощью его можно сказать: «не
довернись — прибью, перевернись — опять-таки прибью», и
предоставить противнику единственный безопасный образ действия —
вертеться наподобие флюгера. Но если искать в словах г-на Безоб-
разова не артикул, а какую-нибудь серьезную мысль, то такие поиски
Теория Дарвина и общественная наука
287
едва ли увенчаются успехом. Мы не намерены трактовать здесь о
многосторонней связи между естествознанием и общественной наукой,
о неизбежности этой связи и ее плодотворности — это завело бы нас
слишком далеко. Да и, наконец, мысль об этой связи едва ли уже не
стала общим местом. Мы отметим только следующие два
обстоятельства. Во-первых, если современная наука (да, современная наука, а «не
наши прогрессисты») отказалась от исследования конечных причин
и целей, то тем самым она направила на иные сферы всю ту силу
мысли, которая расходовалась до сих пор на это неблагодарное дело.
Во-вторых, значительная доля этой силы направляется современной
наукой на более точную разработку вопросов общественных и
притом на разработку в смысле неизбежно прогрессивном. Конечно,
дело это еще столь ново, что здесь возможны весьма крупные
недоразумения и ошибки. Так, например, нам было очень странно и
прискорбно встретить в сочинении одного из замечательных
современных ученых следующего ублюдка: «Переносить человеческие
понятия вредного и полезного, красоты и уродливости, экономии и
расточительности на порядок природы — нелогично; нелогично
мерить бесконечное конечным масштабом. Насколько велико значение
миросозерцания, представляющего мир устроенным целесообразно,
в педагогическом и эстетическом отношении, настолько же оно
недостойно строгой и точной науки о природе» (Die Indiwidualität
in der Natur mit vorzüglicher Berücksichtigung des Pflanzenreiches. Von
Carl Nägeli. Zürich, 1855, s. 19). Подобные ублюдки и упражнения в
двойной бухгалтерии неизбежны, пока наука сама по себе, а жизнь
тоже сама по себе. Но нетрудно подметить общее, более или менее
значительное уклонение в сторону единства науки и жизни, науки о
природе и науки общественной. Чем же являются в общественной
науке сторонники конечных целей? Школа Мальтуса88, например,
полагает, что известная пропорция между ростом населения и средств
продовольствия со всеми своими последствиями от века составляла
цель всеблагого провидения. Г-н Безобразов может быть какого ему
угодно мнения о школе Мальтуса и ее противниках, отказывающихся
проникнуть в цели провидения, но едва ли он решится уличить
последних в коварном примирении с действительностью. Из этого
примера — а их можно привести множество — следует заключить, что
Для разработки вопросов общественных уяснение законности или
незаконности с телеологической точки зрения составляет дело весь-
288
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ма существенное. А во всей истории человеческой мысли не найдется
в этом отношении ничего столь ценного, как теория Дарвина. Все
великое значение этой могучей концепции может быть понято в
настоящее время только отчасти. Но с течением времени, с дальнейшей
разработкой теории, окажется, без сомнения, что ни разу еще люди
не получали в свое распоряжение столь точного, широкого и
плодотворного обобщения. Об этом можно судить и по количеству светлых
умов, немедленно примкнувших к воззрениям Дарвина и уже
пытающихся осветить ими различные специальные сферы знания; и по
количеству голов туманных, изображающих из себя ввиду теории
Дарвина вопросительный знак препинания; по азартности, наконец, с
которой накидываются на эту теорию головы, окончательно скорбные.
Что касается до общественной науки, то, не говоря о косвенной
помощи, которую ей должна оказать теория Дарвина более правильной
постановкой задач и вопросов биологии и психологии; не говоря,
далее, о непосредственной помощи, которой мы вправе ожидать от
теории Дарвина в разъяснении некоторых
специально-социологических законов, — теория эта должна расчистить путь социологии,
окончательно и безапелляционно низвергая всякую телеологию, за
исключением субъективно-антропоцентрической. Как мало, однако,
понимается еще эта философская сторона теории Дарвина — можно
видеть из следующего. Лаказ-Дютье89, некоторые замечания которого
о борьбе за существование достойны всякого внимания — мы их в
свое время рассмотрим, — говорит, между прочим: «Итак, подбор
родичей, как и борьба за существование, есть факт, которого никто не
станет отрицать. Но как следует их объяснять с точки зрения
целесообразности (quant a leur cause finale)? Здесь я совершенно
расхожусь с ученым английским натуралистом. Цель подбора, как
результата борьбы за существование, есть сохранение видов чистыми и
неприкосновенными. Без всякого сомнения, выбор* неделимых одного
и того же вида имеет известную цель, и эта цель состоит в
постоянном поддержании существ, входящих в состав группы, на высокой
ступени относительного совершенства. Слабость есть условие
уничтожения, исчезновения видов; и потому для избежания этого
условия вырождения типов природа одарила самцов могучей,
непреодолимой страстью, вследствие чего в борьбе за самку одолевают
сильные, здоровые и побеждаются слабые, которые могли бы дать только
подобное себе потомство, т. е. индивидов, наименее могущих проти-
Теория Дарвина и общественная наука
289
востоять окружающим их неблагоприятным условиям» и т. д. (Annales
des sciences naturelles. Zoologie et paléontologie, T. II, 1864. Memoire sur
les Antipathères, p. 224). Лаказ-Дютье судит здесь теорию Дарвина
такими принципами, которым она не только неподсудна, но
компетентность которых она именно и ниспровергает. Телеологическая
точка зрения не может быть для теории Дарвина обязательной, ибо
теория эта раздавила телеологию. Она говорит не то, что природа
одарила самцов страстностью для того, чтобы они дрались из-за
самки и чтобы в этой драке одерживал верх сильнейший, который и
передает свои качества потомству. Она рассуждает совершенно иначе.
Она говорит, что вследствие различных причин, которые все
сводятся к наследственности и приспособлению к условиям среды,
существуют самцы сильные и слабые. При недостатке самок самцы
вступают между собой в борьбу, которая заканчивается в пользу
сильнейшего, и этот сильнейший передает свои особенности потомству.
Телеологическая точка зрения требует заранее поставленной цели и
видит ее в результате целой цепи естественных причин. Теория же
Дарвина совершенно вычеркивает из своих соображений вопрос
о подборе и борьбе, quant a leur cause finale. Она просто следит за
причинной связью явлений. «Принцип полезности, — говорит
Негели90, — есть не что иное, как последовательно проведенная
причинная связь явлений. Полезные разновидности являются не потому, что
они полезны, но вследствие естественных причин образуются
вредные, безразличные и полезные разновидности, и вследствие тех же
причин первые и вторые погибают, между тем как последние
сохраняются. Тогда только можно думать о телеологии, если бы являлись
одни только полезные индивидуальные отклонения. Если что-либо
оказывается полезным, то это еще не значит, чтобы оно было обязано
существованием своим телеологическому принципу. Из всех
солнечных лучей на луну падает самое незначительное количество, и
бесконечно малая часть последних отражается отсюда и освещает нам
ночью дорогу. Такое устройство вселенной для нас очень выгодно; но мы
не назовем его телеологическим (преднамеренным), так как оно не
явилось, конечно, с той целью, чтобы освещать нам дорогу. Точно
такое же рассуждение относится и к образованию разновидностей.
Подобно тому, как из всех лучей бесконечное число их теряется для нас
и только немногие оказывают действие, так и из всех
индивидуальных уклонений пропадают все, за исключением немногих, образую-
290
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
щих разновидность, способную к существованию» (Происхождение
естество-исторического вида и понятие о нем. М., 1866, с. 21).
Но этого мало. Одни и те же индивидуальные особенности при
различных условиях могут поочередно оказаться и вредными, и
безразличными, и полезными; и в теории Дарвина под именем
полезных уклонений следует разуметь уклонения только практически
полезные, т. е. полезные только в данную минуту и при данных условиях,
и ничто не мешает им оказаться вместе с тем не только не орудиями
дальнейшего усовершенствования типа, но и прямыми причинами
его вырождения. Борьба за существование и подбор родичей отнюдь
не ручаются за улучшение породы. Хотя Дарвин сам и говорит,
например, о «прогрессии размножения, столь быстрой, что она ведет
к борьбе за существование, а, следовательно, и к естественному
подбору, с коим неразрывны расхождение признаков и вымирание
менее усовершенствованных форм; так, — прибавляет он, — из вечной
борьбы, из голода и смерти прямо следует самое высокое явление,
которое мы можем себе представить, а именно — возникновение
высших форм жизни» (I, с. 387); но неточность столь безусловных
выражений доказывается самой теорией Дарвина. Положим, что в
данной местности существует вид жесткокрылых серого цвета,
питающийся листьями деревьев и служащий пищей насекомоядным
птицам. Положим, далее, что в среде этого вида жуков явилось
индивидуальное уклонение — несколько неделимых с зеленоватым
цветом. Эта зеленоватая разновидность, близко подходящая к цвету
листьев, будет, скрываясь в зелени, подвергаться меньшей опасности
истребления, со стороны птиц, нежели разновидность серая.
Поэтому в течение нескольких поколений, вследствие подбора родичей,
первая может совершенно вытеснить последнюю, передавая своему
потомству не только полезную зеленую окраску, но вместе с ней и все
свои качества, каковы бы они ни были, хотя бы они состояли в каком-
нибудь органическом недостатке, если, разумеется, этот недостаток
не играет сам большой роли в борьбе за существование. Так,
например, если для жука зеленый цвет окажется полезнее, чем сильные
крылья, то подбор родичей может подхватить вместе с зеленой
окраской надкрыльев и слабость мускулов. И такая форма будет не
усовершенствованная, а только лучше приспособленная к требованиям
окружающих условий. А потому нельзя утверждать, что в борьбе за
существование непременно одерживают победу сильнейшие, совер-
Теория Дарвина и общественная наука
291
шеннейшие представители типа; нет, победа может остаться и за
слабыми, уродливыми, если только они удачнее приспособились,
благодаря неважным, но в данную минуту и при данных обстоятельствах
практически полезным особенностям. Самый недостаток, самая
слабость, самая уродливость могут обратиться в сильное оружие борьбы
за существование, и в таком случае подбор необходимо повлечет за
собой вымирание и вырождение сильных форм. На островах
пропорция между бескрылыми или, по крайней мере, слабокрылыми
насекомыми и крылатыми совершенно иная, чем на материках:
относительное число бескрылых там несравненно больше. Это объясняется
тем, что крылатые насекомые слишком далеко залетают и погибают в
море, что невозможно для бескрылых, которые и выживают. Таким
образом, слабость мускулов, управляющих крыльями, оказывается
практически полезной. Как справедливо замечают многие немецкие
ученые, Дарвин имел в виду преимущественно практическую
сторону вопроса, вследствие чего сторона философская у него
недостаточно разработана, и встречающиеся здесь местами общие замечания,
действительно, могут иного ввести в заблуждение, хотя факты
сгруппированы до последней степени ясно. Что теория Дарвина требует
дополнений, разъяснений и дальнейших приложений, это не
подлежит сомнению. И важнее всего, по нашему мнению, разъяснение
отношений теории Дарвина к великому закону органического развития,
сформулированному Бэром и развитому Мильн-Эдвардсом91 и Брон-
ном. Обстоятельство это превосходно понял Негели, хотя и
недостаточно развил свою мысль. Негели полагает, что рядом с принципом
полезности Дарвина должен быть поставлен принцип
усовершенствования, по которому «организму присуще стремление
преобразовываться в более сложную форму» (I, с. 34), так что «самая высшая
организация обнаруживается двумя свойствами: совмещением в себе
самых разнообразных органов и самым совершенным разделением
между ними труда» (31). Замечания Негели не встретили, однако,
сочувствия. Его упрекают в телеологическом построении, что отчасти
справедливо. Но реакция против всяких телеологических
объяснений, вызванная теорией Дарвина, заходит иногда слишком далеко.
Мы видим, что дарвинисты так боятся телеологии, что уже слишком
тщательно избегают слов и выражений, напоминающих о ней. Так,
Геккель, Галлиер находят неудачными выражения Негели «теория
полезности» и «теория усовершенствования», ибо видят в них намек на
292
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
телеологическое объяснение явлений. Так, на том же основании,
в русской литературе кто-то предлагал заменить термин «подбор
родичей», которым г-н Рачинский перевел английское selection
термином «отбор». Конечно, точность и чистота языка дело очень важное.
Но во-первых, трудно в настоящее время обойтись без
метафорических выражений, большая часть которых по необходимости
отзывается телеологией, и я не вижу, чем, собственно, в этом отношении
«отбор» лучше «подбора». Во-вторых, излишний страх перед словом
может оттолкнуть от скрывающейся под ним мысли, хотя бы она
заслуживала не этого. А мысль Негели, хотя и скрывается под
метафизической маской Tendenz, заслуживает внимания. Она важна уже как
напоминание о законе Бэра, которому, по-видимому, грозит участь,
по крайней мере на время, затеряться в «расхождении признаков»
(дивергенции) Дарвина, тесно связанному с борьбой за
существование и подбором родичей. Закон индивидуального развития, как он
выработан трудами Гете, Бэра, Мильн-Эдвардса, Брони, сводится к
постепенному обособлению органов и усилению между ними
разделения труда и различия, различия между органами. Закон дивергенции,
или расхождения признаков, говорит, что вследствие борьбы за
существование организмы стремятся образовать все большее и
большее количество разновидностей, т. е. установить возможно большее
различие между неделимыми... Мы уже приводили примеры
смешения этих двух законов и приведем здесь еще один, быть может, еще
более поразительный. Даровитейший из дарвинистов, Геккель,
замечает, что закон дивергенции распространяется Дарвином только на
физиологических неделимых, входящих в состав вида. «По нашему
же мнению, — продолжает он, — эта дивергенция (расхождение
признаков) вида не отличается от так называемого дифференцирования
органов», или разделения труда между ними. Мы думаем, что в
основании всех явлений дифференцирования лежит одно и то же
явление, именно разделение труда, обусловленное естественным
подбором, где бы дифференцирование ни происходило, касается ли оно
самостоятельных физиологических неделимых, борющихся между
собой в данной местности за существование, или подчиненных
морфологических неделимых (органов). Существенная черта процесса
во всех случаях состоит в образовании разнородных форм из
однородного начала, и механическая причина его состоит в естественном
подборе, в борьбе за существование» (Generelle Morphologie, II, 253).
Теория Дарвина и общественная наука
293
Мы уже достаточно говорили о совершенной несостоятельности
такого обобщения. И потому ограничимся указанием на неудачные
объяснения, которые Геккель, руководимый приведенным
добавлением к теории Дарвина, дает некоторым фактам. Рассуждая о
неудовлетворительности телеологического миросозерцания, он говорит,
между прочим, что теория Дарвина окончательно показала, что
природа в своем развитии не следует какому бы то ни было
определенному плану; что она не только доказала отсутствие в природе
предоставленной целесообразности и усовершенствования, но поколебала
самое понятие об усовершенствовании. Так, говорит он, Бэр и другие
считали признаком и мерилом совершенства организации ее
сложность и степень дифференцирования, т. е. разделения труда между
органами. Теперь же мы видим, что дифференцирование отнюдь не
обусловливает собой усовершенствования. Ибо, например,
некоторые ракообразные с переходом от самостоятельной жизни к
паразитизму утрачивают ненужные им при этом новом образе жизни
органы движения и зрения. Таким путем группа ракообразных становится
более разнородной, более дифференцированной, однако
дифференцирование это, хотя и практически полезное для самих паразитов,
потому что если бы ненужные им органы сохранились, то они
задаром поглощали бы известную долю пластического, питательного
материала, — представляет пример не прогрессивного развития, не
усовершенствования, а движения ретроградного. Итак,
дифференцирование и усовершенствование — две вещи различные. Читатель видит,
что софизм этот построен на двусмысленности слова
«дифференцирование». Бэр и другие утверждают, что совершенство организма
измеряется степенью его сложности, резкостью дифференцирования
его органов и тканей — в морфологическом отношении и степенью
физиологического разделения труда, обособленности функций —
в отношении физиологическом*. Что же мы имеем в случае рако-
Геккель вслед за Бронном (Morphologische Studien üiber die
Gestaltungsgesetze der Naturkörper überhaupt und der organischen insbesondere. Leipzig und
Heidelberg, 1858) принимает несколько законов органического прогресса, или
усовершенствования. Но, по нашему мнению, все они могут быть без натяжки
сведены к закону обособления и дифференцирования, который, впрочем, и
Бронном и Геккелем признается наиболее важным. Во всяком случае, Брон-
новы дополнения к закону Бэра могут быть пока нами оставлены в стороне
без ущерба для ясности дела.
294
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
образного, перешедшего от свободной жизни к паразитизму? Его
организм упростился морфологически, ибо он лишился орудий
зрения и движения, упростился и физиологически, ибо количество
обособленных функций стало в нем меньше. Регресс очевидный, но
именно потому, что дифференцирование, как закон Бэра, как закон
индивидуального развития, нарушено. Это — регресс именно в
смысле закона Бэра. Случай этот не опровергает, а самым очевидным
образом подтверждает его. Геккель же рассуждает таким образом.
Дифференцирование или дивергенция, расхождение видовых признаков,
образование новых и новых, все более расходящихся
разновидностей и видов как результат борьбы за существование и подбора
родичей утверждается теорией Дарвина. Это факт, не подлежащий
никакому сомнению. Но, продолжает Геккель, по моему мнению, процесс
органического, индивидуального развития, процесс
дифференцирования органов и их функций тождествен с процессом
дифференцирования вида, так как и тот и другой представляют возникновение
разнородности из первоначальной однородности. Увлекшись этим
чисто формальным сходством и не вглядевшись в суть обоих
процессов, Геккель опровергает или, по крайней мере, ограничивает
закон Бэра, подставляя вместо выражаемого им индивидуального
дифференцирования, дифференцирование видовое. Опровергнуть таким
образом можно все, что угодно. Мне говорят, например, что деревья
растут. Я же, отметив предварительно, что, по моему мнению,
понятие дерева должно быть расширено, возражаю: стул, на котором
я сижу, стол, на котором я пишу, ручка пера, которое я держу — не
растут, а между тем и стул, и стол, и ручка — все это из дерева. Итак,
закон: деревья растут — неверен и односторонен. Другой
приводимый Геккелем пример еще очевиднее указывает на корень софизма.
«Естественно, — говорит он, — что возрастающее
дифференцирование всех земных явлений, всех условий существования имеет
непосредственным результатом и соответственное дифференцирование
организмов, и в большинстве случаев самое это дифференцирование
есть решительный шаг вперед, несомненное усовершенствование.
С другой стороны, однако, не следует забывать, что всякое
разделение труда имеет наряду с выгодами и свои невыгоды. Мы видим это в
особенности на полиморфизме человеческого общества,
представляющем в своем государственном и социальном развитии наиболее
сложные из феноменов дифференцирования» (Generelle Morphologie,
Теория Дарвина и общественная наука
295
II, 261). Как специальный пример невыгоды полиморфизма (т. е.
разделения труда) человеческого общества Геккель приводит
специалиста, ученого, который не только не видит ничего дальше своей
специальности, но и в ней неспособен ни к какому шагу вперед. Это,
конечно, случай ретроградного развития, хотя, как справедливо замечает
Геккель, сам специалист чувствует себя очень хорошо и черпает из
своего уродства многие практические выгоды. Но, опять-таки, при
чем тут закон Бэра? С точки зрения этого именно закона
изображенное Геккелем уродство и есть шаг назад. И здесь Геккель смешивает
закон Бэра как закон дифференцирования, расчленения,
обособления органов, составляющих неделимое, с законом обособления
неделимых как членов вида или общества. Геккель просто увлекся
своей борьбой против телеологического воззрения на природу и с
разбегу стал утверждать, что не только в природе нет стремления к
совершенствованию — что теорией Дарвина доказывается
окончательно, — но что мы не имеем и никакого критерия относительного
совершенства организации, что и неверно, и для аргументации дис-
телеолога вовсе не требуется. Критерий относительно совершенства
организации есть, дан он Бэром. И как ни путается Геккель, но он
именно к этому критерию прибегает беспрестанно, когда говорит,
например: «Хотя различия между человеком и другими животными
суть свойства не качественного, а только количественного, однако
разделяющую их пропасть весьма важно заметить. По нашему
мнению, дело сводится главным образом к тому, что человек совмещает в
себе многие важные функции, встречающиеся в других животных
только враздробь» (I, с. 43). Замечательно, что тот же Геккель считает
весьма важным для определения законов развития, различение
практических, односторонних, монотропных типов и типов идеальных,
многосторонних, политропных (термины эти принадлежат отчасти
К Снеллю. Die Schöpfung des Menschen, Leipzig, 1863). Практическими
типами он называет такие виды, роды, классы организмов, которые
окончательно приспособились к известным специальным условиям
жизни и уже не могут существовать вне их: таковы между
позвоночными костистые рыбы (Teleostei), черепахи, летучие мыши. Типы
идеальные, напротив, благодаря своему многостороннему развитию, не
приспособились ни к каким специальным условиям и потому
способны к дальнейшему развитию; таковы между позвоночными попе-
речноротые (Selachia), полуобезьяны и др. «Это в высшей степени
296
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
важное различие, — замечает Геккель, возвращаясь к своему
любимому коньку, — может быть усмотрено и в членах человеческого
общества вообще, а следовательно, и в среде представителей науки.
Человечество движется вперед идеальными и разносторонними,
философски развитыми головами, не отступающими перед обобщениями
и синтезом. Практические и односторонние ученые, напротив,
довольствующиеся анализом, не будучи в состоянии приспособиться к
более высокому строю идей, могут только доставить первым
материал» (I, с. 223). Как бы, однако, ни было важно указываемое Геккелем
различие между практическими и идеальными типами, они могут
переходить друг от друга, и особенно легок переход от идеального
типа к типу практическому: стоит только первому попасть в
неблагоприятные условия, которые в человеческом обществе все сводятся к
разделению труда. В другом месте (262) Геккель замечает: «Естественный
подбор везде способствует развитию практических типов в ущерб
идеальным». Да, das ist eine alte Geschichte, doch ist sie immer neu:
Нет могучего Патрокла,
Жив презрительный Терсит!
Однако выраженная абсолютно, эта печальная истина столь же
мало оправдывается фактами, как и противоположный ей вывод,
делаемый некоторыми из теории Дарвина, а именно, будто бы борьба
за существование и естественный подбор необходимо суть орудия
прогресса, что в борьбе выживают только лучшие и сильнейшие;
точно так, как неверно и снотворное правило буржуазных
моралистов: добродетель торжествует, а порок наказывается. Природа, как
она нам освещается теорией Дарвина, не знает избранников. Здесь
она раздавит великого Патрокла и сохранит презрительного Терсита;
там выдавит из строя жизни целый вид, здесь разобьет вид на два, на
три; там низведет Патрокла до состояния Терсита, здесь выставит
Патрокла во всем его величии; там разовьет жизнь, сюда пошлет смерть;
там посеет слезы и страдания, здесь разольет море наслаждений...
Не спрашивайте для чего, зачем? С таким вопросом нельзя
обращаться к природе. Она не даст ответа. Она скажет вам, почему произошло
то-то и то-то, но вы не вырвете от нее ответа на вопрос: зачем? Если
вы пожелаете ответить за нее, то есть навязать ей свой ответ, то вы
можете навязать любой. Цели и действия одухотворенной вами
природы окажутся разумными и глупыми, великими и мелкими, доброде-
Теория Дарвина и общественная наука
297
тельными и бессовестными, высоконравственными и до последней
степени преступными, смотря по тому, как вы сами посмотрите на
дело. Всякую цель, всякий план можно отыскать в природе именно
потому, что в ней нет никакой цели, никакого плана. Но это значит,
что природой управляет слепой случай? В этом упрекали и Дарвина,
между тем как упрекать тут, собственно, не в чем и не за что. Если
под случаем разуметь совокупность не известных нам, не могущих
быть прослеженными цепей причин и следствий, то да — природой
управляет слепой случай. Если под понятие случая подшивать какую-
либо мистическую, таинственную подкладку, то теория Дарвина
свидетельствует, что случая в этом смысле вовсе нет, что словом этим
мы только маскируем свое незнание. Цели и планы сказались в
природе в достаточно широкой степени только тогда, когда рядом с
естественным подбором стал подбор искусственный, а рядом с борьбой
за существование — смутные проблески ее отрицания в сфере
человеческих отношений, когда человек вступил в борьбу с природой и
пожелал изменить ее сообразно своим нуждам и потребностям. Теле-
ологирующие противники Дарвина, верующие в отдельное
сотворение видов по некоторому плану для известных целей, отрицающие
естественный подбор, должны вместе с тем отрицать и подбор
искусственный, и всякое воздействие человека на природу. Если «высший
разум», «высший художник» создал для какой-нибудь цели волка, то
истребление волков или приручение их есть, во-первых, акт
неразумный, ибо нельзя прети против рожна. Во-вторых, это акт
преступный, ибо заключает в себе покушение на восстание против
всеблагого провидения и высшего разума. Итак, «волк тебя заешь», вот какое
утешение преподносят человеку телеологи, с ужасом отступающие от
принципа борьбы за существование, который, с точки зрения теории
Дарвина, может быть на практике совершенно модифицирован.
Чтобы судить об аргументации современных телеологов, надо
видеть книгу Агассица. Только здесь, подпертая фактическими данными,
телеология является в апогее своего величия, и вместе с тем только
здесь обнаруживается вся очевидность ее слабости и
несостоятельности. Пока телеология витала в сферах отвлеченных и спускалась
на землю только для того, чтобы произнести свое окончательное
решение, она, как, например, в немецких метафизических системах,
подкупала, кроме лести человеческим предрассудкам и поддакивания
лености мысли, еще изяществом своего диалектического построения.
298
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Храм телеологии висел на воздухе, но в нем все было симметрично,
изящно, были обдуманы мельчайшие орнаменты этого воздушного
плана. Только закон тяжести не принимался в соображение. Ныне
телеология хочет устроиться солиднее, хочет спуститься на землю и
опереться на факты опыта и наблюдения. Таким образом она
становится на почву эмпирической науки, и по тем судорожным, неловким,
нелепым движениям, которые она принуждена выделывать, чтобы
удержаться на этом скользком для нее пути, всякий может убедиться,
что ее песня спета. Да, книга Агассица — лебединая песня телеологии.
Между современными учеными нет телеолога, столь хорошо
вооруженного, как Агассиц. И вот как рассуждает этот первый и, вероятно,
последний телеологии боец.
Агассиц полагает, что виды в своих существенных признаках
неизменны; они могут в известных границах изменяться, но никогда
не выступают из положенных им творческой мыслью пределов и
никогда один вид не может перейти в другой или произойти из другого.
Каждый вид есть воплощенная творческая идея. Натуралисты — не
более как переводчики мыслей Творца на человеческий язык.
«Человеческий ум находится в гармонии с природой, и многое из того,
что нам кажется результатом усилий нашего разума, есть только
естественное выражение этой предоставленной гармонии» (I, с. 9). Все
растения и животные созданы по некоторому плану, строго
обдуманному Творцом. Создавая животное царство, Творец обдумал сначала
четыре различных общих плана, которые составили идею четырех
групп: позвоночных, суставчатых, мягкотелых и лучистых. Затем
Творец приступил к обдумыванию тех, более разнообразных и
многочисленных форм, в которые могли бы быть воплощены означенные
планы строения. Он пришел к мысли в общем плане строения,
например, позвоночных, установить более специальные планы
млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся. Далее он допустил еще
большую специализацию признаков и разбил каждый класс на
порядки, порядки на семейства, семейства на роды, роды на виды,
которые, наконец, и воплотились. Созданы все различные виды (в виде
зародышей или яиц) вдруг, в огромном количестве и на всем земном
шаре. Затем, по прошествии нескольких тысячелетий, Творец, или
Intelligence supreme, Высший разум, как его охотнее называет
Агассиц, по недоступным нам соображениям внезапным геологическим
переворотам уничтожает все доселе им созданное и создает новые и
Теория Дарвина и общественная наука
299
более совершенные формы. Но при этом он придерживается старых
своих принципов строения и создает, главным образом, только новые
виды, изредка роды, еще реже семейства, порядки, классы. Из
пределов четырех основных групп эта Intelligence supreme выбиться не
может. Проходят еще и еще века, и опять Высший разум истребляет
свою работу и опять принимается за нее. Наконец, создает человека,
по образу и по подобию своему, вместе с чем божественная работа
прекращается. «Анатомия, — говорит Агассиц, — могла бы, по моему
мнению, доказать, что не только человек есть совершеннейшее на
существ современного периода, но что он есть последнее звено цепи, за
которым уже физически невозможен дальнейший прогресс в общем
плане животного царства» (35). В метафизике своей Агассиц
возвращается почти к идеям мудрого, но уже довольно давно умершего
Платона. Он полагает, что неделимые «имеют только (?)
материальное существование и суть не более как субстраты, с одной стороны,
различных категорий строения, на которых основана естественная
зоологическая система, а с другой — всех отношений животных к
окружающему миру» (7). Влияние внешней природы на изменение
организмов Агассиц отрицает безусловно. Он утверждает, что
можно бы было написать целые тома на эту тему. Наследственности, как
связующего начало между различными видами, он также не признает.
Как некогда Катон92 все свои речи, какого бы они ни были
содержания и к чему бы ни относились, заканчивал восклицанием:
«Карфаген все-таки надо разрушить!», так и Агассиц заключает каждую
главу своего сочинения такими замечаниями: «И эту-то логическую
связь, эту изумительную гармонию, это бесконечное разнообразие
в единстве — нам хотят представить как результат сил, не имеющих
ни способности мышления, ни способности сравнения, ни идей
пространства и времени!» (24). «Это возрастающее согласие между
нашими системами (зоологическими) и системой природы доказывает,
что в сущности ум человеческий и божественный разум
тождественны. В этом еще более можно убедиться, принимая в соображение ту
высокую степень совершенства и соответствия реальному порядку
вещей, которой достигли некоторые априорические93 философские
построения независимо от данных эмпирической науки» (31). «Здесь
мы опять видим новое и поразительное доказательство порядка и
целесообразности, установленных в начале вещей касательно
различных степеней сложности организмов» (43). «Кто же станет утверж-
300
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
дать, что столь разнообразные выражения одного и того же чувства,
одного и того же инстинкта истекают единственно из физической
организации, из особенности строения, которое вдобавок и понять
нельзя, если исключить идею методически исполненного плана,
обдуманного заранее, и мы должны признать, что намерение везде
предшествовало факту» (107). И т. д., и т. д., и т. д. Мало того, все эти
вариации на один и тот же рефрен Агассиц собирает далее в одно
целое и под заглавием «Recapitulation» вновь преподносит читателю.
Очевидно, что Агассиц принадлежит к числу людей, подвешивающих
к явлениям природы мочальный хвост. Это можно бы было, даже не
читая всей его книги, заключить уже из того, что он, во-первых,
принимает явления органической жизни совершенно оторванными от
явлений неорганической природы, отрицает влияние среды на
организацию и, следовательно, зависимость биологии от низших наук
Далее он прямо говорит, что человек должен, «проникая в природу
своего духа, стараться понять бесконечный разум, которого
эманацию представляет его собственный разум» (9). Естественное дело, что
при подобном методе мышления личность мыслителя должна
неизбежно оставить свой явственный отпечаток на мочальном хвосте.
И действительно, что такое этот творец, созидающий единственно
для созидания, разрушающий единственно для разрушения, сам
совершенствующийся с течением времени, как не сам Агассиц с
придачей огромных, неестественных с человеческой точки зрения, но
все-таки ограниченных сил. Как человек науки для науки, Агассиц и
не мог создать иного Творца, который, из-за созидания и
разрушения, видел бы какую-либо иную цель. Как мыслитель, необходимо
проходящий известные ступени развития, Агассиц проводит по
подобным же ступеням совершенствования и свой Intelligence supreme.
Бог Агассица вовсе не всемогущ, не премудр и проч. Он просто очень
сильный человек, в котором любовь к порядку довольно странно
перепутывается с постоянными капризами. Агассиц очень хлопочет
о том, чтобы его не заподозрили в ортодоксальности. Еще бы!
Замечательно, что в числе великих качеств, приписываемых Агассицом
сотворенному им творцу, нет ни одного качества нравственного. Он
ни разу не упоминает о том, в какой мере его Intelligence supreme
обладает благостью, справедливостью и проч. И в этом опять
сказался человек науки для науки, человек, весь ушедший в исключительно
умственные и притом весьма узкие интересы. Но если Агассиц на-
Теория Дарвина и общественная наука
301
ходит нужным преклоняться перед этой Intelligence, то люди жизни,
волнуемые любовью и ненавистью, люди жизни, страдающие и
наслаждающиеся, не последуют примеру Агассица. Они обратятся к его
Intelligence со словами гетевского Прометея к Юпитеру:
Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Thränen gestillet
Je des Geängsteten?
Если бы мы были ближе знакомы с особенностями личного
характера Агассица, то, без сомнения, могли бы провести более
специфическую параллель между ним и созданным им Создателем. Однако и
теперь мы можем отметить одну любопытную частную черту
совпадения. Творец Агассица, приступая к творческому акту, придумывает
сначала наиболее общие планы четырех основных групп животного
царства и затем уже постоянно специализирует свои идеи, придает
им все более и более частный характер. Это точный снимок с
приемов мысли самого Агассица, который в своем объяснении природы
не от фактов поднимается к теории, а исходит, напротив, из теории,
подгоняя к ней факты. В этом нелогическом приеме Агассиц
упрекает теорию Дарвина. Но дело говорит само за себя, да и, наконец,
Агассиц открыто заявляет свое уважение к априорическим
метафизическим системам, построенным вне опыта и наблюдения. Не
следует, однако, забывать, что это прием невозможный и что все дело
только в качестве и количестве данных опыта и наблюдения, легших
помимо сознания мыслителя в основание его якобы априорической
системы. Проникая в природу своего собственного духа, Агассиц
нашел, что реализации его намерений необходимо предшествует
самый психический факт намерения; что, кроме этого
общечеловеческого факта, личные намерения Агассица все направлены в одну
сторону, в сторону довлеющего самому себе познания. И вот все эти
факты своего познания Агассиц перенес на личность Божества, то
есть списал ее с самого себя. Когда я читал книгу Агассица, мне живо
вспомнилась моя вышеприведенная ребяческая космогония. Не
уступая миросозерцанию Агассица в состоятельности, она положительно
превосходит его по поэтическому колориту и силе концепции. Мое
вечно спящее божество было гораздо многостороннее, ибо если и
302
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ему приходилось испытывать затруднение, думать о небывалых еще
формах, прежде чем увидеть их во сне, то есть даровать им реальное
бытие, то оно не только созидало и разрушало, оно любило. Как
любящая женщина думает на ночь о суженом, чтобы увидеть его во сне,
так действовал и мой сонный бог. И потому он заслуживал уважения,
любви и подражания с гораздо большего числа сторон, чем
сомнительная Intelligence supreme Агассица.
Мы желаем книге Агассица полного успеха, ибо ее успех (в смысле
распространения) есть успех теории Дарвина. Не имея ни времени,
ни места сравнивать в подробностях эти два миросозерцания, мы
должны предоставить самому читателю окончательно выбрать себе
Ормузда и Аримана. Мы остановимся, однако, на одном
любопытном ряде фактов, получающих с точек зрения Дарвина и Агассица
совершенно различный смысл. Мы говорим о так называемых
рудиментарных, или зачаточных органах. Геккель, который слишком
часто забывает мудрое изречение Кювье94, что la science des noms va
bientôt devenir plus difficile que la science des choses, установил для
учения о зачаточных, или недоразвитых органах особый термин —
«дистелеология». Термин этот, впрочем, и удачен, и далеко не лишний,
но нет никакой надобности ограничивать дистелеологию учением
о рудиментарных органах; ибо этим именем можно назвать всю
доктрину подбора и борьбы за существование, если, разумеется, не
удержаться того совершенно неосновательного убеждения, будто бы
победителями из борьбы непременно выходят лучшие,
совершеннейшие формы. Как бы то ни было, но существование зачаточных
органов действительно должно ставить в тупик телеологов и по
своей наглядности действительно представляет одну из сильнейших
опор дистелеологаи. Из строгой зависимости, какая, вообще говоря,
существует между органами и их отправлениями, выводили прежде
свидетельство в пользу предоставленной гармонии и
целесообразности организации. При этом оставались без всякого объяснения
те случаи, когда в организмах оказывались аппараты совершенно
лишние в экономии организации, органы без отправлений, органы,
часто не только безразличные по отношению к нуждам данного
организма, не только пассивно-вредные для него, как поглощающие
известную долю пищи, не оплачивая за нее ничем, но иногда
заведомо вредные. Это те именно заглохшие, зачаточные, рудиментарные
органы, которые Дарвин остроумно сравнивает «с буквами, еще со-
Теория Дарвина и общественная наука
303
хранившимися в правописании слова, но уже не произносящимися,
которые служат нам указанием на происхождение слова» (I.e. 360).
Но как путеводная нить по ступеням развития органических форм,
как указание на происхождение организма, существование
зачаточных органов могло получить значение только по твердом
установлении принципа изменяемости видов. Намеки на такое объяснение
встречаются у Ламарка, но наиболее полно вопрос этот бы
поставлен только Дарвином. Какой смысл с телеологической точки зрения
имеют, например, зубы зародышей китов, исчезающие у взрослого
животного? Никакой пользы они организму не приносят, никакого
дела не делают, зачем же они вошли в «план творения» и какова их
«цель»? Или зачем у некоторых насекомых существуют крылья, когда
они совершенно скрыты под плотно спаянными твердыми
надкрыльями и, следовательно, служить для летания, исполнять
предписанную им функцию — не могут? Какой предоставленной цели
удовлетворяют сосцы самцов, никогда не функционирующие? Множество
подобных вопросов должны были сильно смущать телеологию, и
некоторые из них не поддаются самым тонким ее ухищрениям*. С дис-
телеологической же точки зрения теории Дарвина факты
рудиментарных органов получают очень простое и естественное объяснение.
Как скоро организм переходит от сравнительно сложных условий
жизни к условиям сравнительно простым, как, например, в случаях
паразитизма, некоторые отправления становятся для него
совершенно лишними, ему не приходится пускать их в ход, например, ему не
приходится двигаться. Органы движения вследствие неупотребления
уменьшаются в объеме, а так как они все-таки потребляют известную
долю питательного материала, то борьба за существование и подбор
родичей выдвигают постепенно вперед паразитов, лишенных
органов движения, ибо они более приспособлены к среде, имеют все,
Фриц Мюллер замечает: «Nirgends ist die Versuchung drigender den
Ausdrücken: Verwandschaft, Hervorgehen aus gemeinsamer Grundform und ähnlichen,
eine mehr als bloss bildliche Bedeutung beizulegen, als bei den niedern Krustern.
Namentlich bei den Schmarotzerkrebsen pflegt ja längst alle Welt, als wäre die
Umwandlung der Arten eine selbstverständliche Sache, in kaum bildlich zu deutender
Weise von ihrer Verkümmerung durchs Schmarotzerleben zu reden. Es möchte wohl
Niemandem als eines Gottes würdiger Zeitvertrieb erscheinen, sich mit dem
Ausdenken dieser wunderlichen Verkrüppelungen zu belustigen, und so Hess man sie
durch eigene Schuld, wie Adam beim Sündenfall, von de früheren Vollkommenheit
herabsinken» (Für Darwin. Leipzig, 1864, 2).
304
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
что имеют и их способные к движению родичи, но освобождены от
лишнего для них бремени. Когда животное вследствие каких-нибудь
причин начинает вести подземную жизнь, если, например, борьба за
существование загоняет его в пещеру, то органы зрения
атрофируются, или, как выражается Дарвин, телескоп исчезает, хотя штатив его
еще цел. Таким-то образом, главным образом вследствие
неупотребления и влияния внешних условий, подхватываемого естественным
подбором, атрофируются и переходят в рудиментарное состояние
органы движения, чувств, дыхания, детородные, некоторые мускулы
(у человека, например, мускулы, движущие уши, и хвостовые
позвонки). И эти зачаточные органы действительно оказываются буквами,
хранившимися в правописании слова, но уже не произносящимися
и по ним действительно можно судить об общности происхождения
и близости родства органических форм. Если мы, например, видим,
что все позвоночные, обладающие легкими, имеют их два, за
исключением змей и некоторых змеевидных ящериц, у которых одно из
легких непременно недоразвито; если, далее, у тех же змей под кожей
скрыты зачаточные конечности, — то уже один этот ряд
необъяснимых с телеологической точки зрения явлений должен убедить нас в
несостоятельности гипотезы отдельного сотворения видов по
некоторому плану. Следует заметить, что Дарвин предлагает разделить
рудиментарные органы на атрофированные, заглохшие (по
терминологии Геккеля, катапластические) и неразвившиеся, начинающиеся
(анапластические). Например, крылья бегающих птиц (страус,
пингвин) представляют, по Геккелю, органы катапластические, а крылья
летучих рыб — анапластические.
Что же противопоставляет такому естественному объяснению
Агассиц? Он очень хорошо понимает, что телеологический аргумент,
основанный на предполагаемой гармонии между органом и его
функцией, не оправдывается фактами, ибо в науке известно множество
органов, никогда не функционирующих. Но «эти органы сохранены
для поддержания некоторого единства в основании строения; они не
играют важной роли в существовании организма, они имеют
значение только по отношению к первичной формуле группы, к которой
организм принадлежит. Присутствие их имеет целью не исполнение
функции, но сохранение единства и определенности плана. Они
подобны тем украшениям, которые архитектор располагает на
внешней стороне стен дома ради симметрии и гармонии, но без всякой
Теория Дарвина и общественная наука
305
практической цели» (1, с. 12). «Не доказывает ли открытое доктором
Вайманом существование зачаточных глаз у слепой рыбы, что
животное это, подобно другим, было создано всемогущим/^ со всеми
своими особенностями, и что этот зачаток глаза был оставлен ему
как воспоминание об общем плане строения группы, к которой эта
рыба принадлежит?» Было время, когда окаменелости считались то
неудачными пробами творения, то моделями, которые Творец
приготовлял из гипса и глины, чтобы построить потом по ним
представителей органического мира. Агассиц, оказавший столь много и столь
важных услуг палеонтологии, конечно, только посмеялся бы над
подобными толкованиями. Но его философия недалеко от них ушла.
Говоря о рудиментарных органах, Дарвин замечает: «В естественно-
исторических сочинениях обыкновенно говорится, что эти органы
созданы "для симметрии" или "для пополнения природного плана";
но это, мне кажется, не объяснение, а лишь иное выражение того же
факта. Удовольствовались ли бы мы положением, что, так как планеты
описывают эллипсисы вокруг солнца, их спутники описывают вокруг
них такую же кривую ради симметрии и для пополнения плана
природы?» (1, с. 368). И в другом месте: «Хотя я вполне убежден в
справедливости воззрений, изложенных в этой книге в виде извлечения,
я нисколько не надеюсь убедить опытных естествоиспытателей,
которых память наполнена множеством фактов, рассматриваемых ими
в течение долгих лет с точки зрения, прямо противоположной моей.
Так легко прикрывать наше незнание такими выражениями, как "план
творения", "единство плана" и т. п., и воображать, что мы даем
объяснение, когда только выражаем самый факт» (380).
Да не посетует на нас читатель за то, что мы в настоящей статье не
касались специально социологических вопросов. Мы выговорили себе
право делать отступления, которые нам пригодятся впоследствии.
III. ТЕОРИЯ ДАРВИНА И ЛИБЕРАЛИЗМ
M-me Clémance Royer.
Origine de l'homme et des sociétés.
Paris. 1870
«Можно ли ликовать при виде того, что мы, наконец, открыли, что
наши способности созданы только для земли и для земных явлений?
306
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Можно ли радоваться нашей собственной ограниченности и
услаждаться тем, что достодолжными доказательствами может быть
доказано, что мы рабы чувств и чувственных фактов?» Так скорбит один
цитируемый Льюисом в истории философии английский профессор.
Это тирада типическая. Иллюзии и фикции, которыми человеческая
мысль жила целые века, до такой степени прочно сидят на своем
месте, что, будучи даже окончательно развеяны наукой, заставляют
вздыхать по оставленному храму и низверженному кумиру:
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.
Но «низкие истины», в конце концов, грубо вытесняют «нас
возвышающий обман». Так случилось и в психологии, а раз место
человека в цепи других существ установилось окончательно, стало
весьма естественным стремлением построить и общественную науку
на биологических основаниях. Тем не менее, однако, пересадка тех
или других этических, экономических, политических принципов на
биологическую почву требует пока известной смелости, какую
трудно встретить у авторитетов различных отраслей общество знания и
вообще у людей, вспоенных старыми понятиями о месте человека в
природе. При такой пересадке сама собой отлетает розовая оболочка
иллюзий и фикций, которыми люди тешат и обманывают и себя и
других. Факт выступает во всеоружии своей жесткости и
шероховатости. Не у всех хватает духу выдержать это зрелище, у еще большего
числа людей не хватает духу допустить на него публику. Греческая
гетера, будучи призвана в суд, разделась донага, и греческие судьи,
как тонкие ценители красоты, оправдали ее единственно ради ее
обнаженной красоты. Добросовестный судья, чувствуя свою слабость,
должен бы был сказать Фрине: оденься! Добросовестный судья судеб
человека и общества должен, наоборот, сказать подсудимым:
разденься! Но язвы и струпья на обнаженном теле подсудимых так больно
режут глаза, а галуны на скинутых одеждах так блестят, мы к ним так
привыкли... Теория Мальтуса была вторжением биологии в область
общественной науки, и надо было много смелости, чтобы так раздеть
действительность и свои принципы. Страшное homo homini lupus
Гоббса отталкивает от себя тех самых людей, которые радуются
галунам гармонии экономических интересов, а между тем под этой гар-
Теория Дарвина и общественная наука
307
монией сидит и действует все то же homo homini lupus. Кто это
понимает, тот или себе закрывает глаза, или отгоняет любопытствующую
публику. Помните, как г-н Страхов95 отнесся к некоторым выводам
г-жи Ройе96. Да, говорил он со свойственной ему наивностью, да, это
истина, но уберите ее прочь, ибо возвышающий нас обман дороже
тьмы низких истин.
Г-жа Ройе не страдает этой слабостью и очень хорошо понимает,
что это слабость. «Логики и умственной независимости, — говорит
она, — не всегда достаточно, чтобы человек осмелился решить
спорную научную задачу. Тут требуется еще энергия темперамента, столь
же необходимая для утверждения идеи, как и для исполнения дела.
Нерешительность имеет свои удобства и во всяком случае неопасна»
(Preface, XIII).
Г-жа Ройе женщина очень разносторонне образованная и
талантливая. Она, говорят, прекрасно перевела книгу Дарвина о
происхождении видов, снабдив перевод предисловием, более полное
изложение идей которого представляет книга, выписанная у нас в
заголовке. Она написала сочинение о налогах, за которое получила
в 1861 году премию (если не ошибаюсь, премия была присуждена
ей и Прудону). Она читала лекции философии в Лозанне, написала
какой-то «философский роман» и проч. Ничего этого мы не читали
и говорим о прошлом г-жи Ройе единственно для рекомендации ее
личности читателям.
Теперь г-жа Ройе является с книгой, замечательной, по крайней
мере, по смелости и, так сказать, голости выводов, бегло, но
довольно отчетливо захватывающих многие стороны общественной жизни.
Г-жа Ройе не полагает, чтобы истина могла оказаться низкой, а обман
возвышающим. Однако, отдавая полную справедливость «энергии
темперамента», с которой г-жа Ройе исполняет принятую на себя роль
enfant terrible некоторых доктрин, надо заметить, что она не совсем
разумно распоряжается своими силами. Книга ее (очень объемистая)
имеет целью опровергнуть Руссо, с которым она полемизирует на
каждой странице. Поднять такую ожесточенную войну против
человека, писавшего сто лет тому назад, — это дело, конечно, не трудное,
но и не почетное и едва ли нужное. Вооружившись всем, что люди
добыли в течение целого века, не трудно разгромить Руссо, хоть при
этом можно проглядеть действительные достоинства его воззрений.
Правда, г-жа Ройе утверждает, что трактаты Руссо о значении наук и
308
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
о причинах неравенства были ниже даже современного ему уровня
знаний. Но, во-первых, это может быть оспариваемо; во-вторых, тем
менее резону обрушиваться на Руссо; в-третьих, наконец, г-жа Ройе
подавляет бедного Руссо не современным ему уровнем знаний, а
взобравшись, как карлик на плечи великана, на Дарвина, Гексли, Макса
Мюллера и пр., мечет с этой высоты свои гранаты.
Есть две причины, почему г-жа Ройе так цепко ухватилась за Руссо.
Она говорит, что идеи Руссо, опровергаемые защитниками еще более
ложных доктрин и слепо принимаемые некоторыми энтузиастами,
постепенно укоренились в общественном сознании, отчасти даже
реализировались и по сие время тормозят дело прогресса. От Руссо
произошли, говорит она, в первом поколении Робеспьер97, Бабеф98,
Гебер" и Шомет100, а во втором Фурье101, Сен-Симон, Пьер Леру102,
Кабе103, Прудон104. Ройе полагает, что это течение мысли
окончательно погубило бы человечество, если бы его не сдерживало встречное
течение, произведшее в древности Аристотеля и Эпикура, и давшее
затем Монтеня и Декарта, Вольтера и Дидро, энциклопедистов XVIII
века и современных ученых. Считая нужным в корень подрезать
антипатичные ей доктрины, Ройе поражает человека, считаемого ею
основателем этих доктрин. Несостоятельность такого рассуждения
очевидна. Это все равно, как если бы я, желая опровергнуть теорию
изменяемости видов, напал бы не на Дарвина, а на наименее
выработанные формы этой теории, на Ламарка или, еще лучше, на Демалье.
Это опять-таки было бы легко, но не почетно и бесполезно, так как
Дарвин остался бы вне моих выстрелов. Так и Ройе стреляет
исключительно по Руссо, да и то неудачно. Вот перечень положений Руссо,
которые г-жа Ройе желает поразить, освещая соответственные факты
новым светом. Перечень этот делает сама Ройе в предисловии. Все
хорошо в руках природы, но все извращается в руках человека; сам
человек вышел из рук природы совершенным, родится он добрым,
но его портит воспитание, цивилизация, наука, общество, словом,
все, в чем мы видим наши победы; существует для человека известное
определенное естественное состояние, от которого он, к
прискорбию, удалился и к которому он должен вернуться для достижения
первобытного счастья. Словом, весь наш прогресс есть собственно
разложение; все наши попытки освободиться от враждебных сил
природы и подчинить их себе — безумны. Напротив, пусть действует
природа, а мы сложим руки и будем ждать, чтобы она нас снабжала
Теория Дарвина и общественная наука
309
своими дарами. Уничтожим наши города, сожжем библиотеки,
казним наших ученых; идеал общества есть равенство, а свобода есть
злой враг, если она покушается на равенство. Так излагает г-жа Ройе
программу Руссо и своих опровержений. В полемическом
отношении это изложение довольно искусно, но в существе дела никуда не
годится. Во-первых, оно неверно и поверхностно. Руссо очень
определенно говорит в письме к польскому королю Станиславу105, что
уничтожение образования, если бы оно было возможно, не
исправив ни на волос нравов, повергло бы Европу в варварство. Он очень
определенно говорит, что наука сама по себе есть вещь хорошая, и
что надо быть глупцом, чтобы отрицать это. Не может быть сомнения
в том, что Руссо впал в многочисленные натяжки и преувеличения.
Но эти натяжки и преувеличения до такой степени грубы, что они ни
в каком случае не могли дать потомства и действительно его не дали.
Потомство дано основной, правда, не ясной, но различимой мыслью
Руссо, которой г-жа Ройе не видит и не понимает. Идти с такими
огромными запасами вооружения на Руссо (один список
источников, которыми пользовалась Ройе, занимает пять страниц мелкого
шрифта), значит стрелять из пушки в муху. Но любопытно, что муха
все-таки жива. Далее, уже самый факт похода против Руссо
показывает, что Ройе неспособна к историческому пониманию. Но к этому
прибавляется еще историческая небрежность. Известно, что учение
о естественном состоянии разделялось Локком106, духовным отцом
Вольтера и энциклопедистов107, отцом, дальше которого ушли очень
немногие из детей. Например, в его трактате о правительстве читаем
(мы цитируем по французскому переводу 1754 года: Du gouvernement
civil où l'on traite de l'origine, des fondements de la nature du pouvoir
ets. Bruxelles): «Адам был создан совершенным человеком» (74). «Так
как люди в естественном состоянии свободны, равны и независимы,
то не могут быть подчинены политической власти без своего
согласия» (136). «Первобытные времена были золотым веком. Гордость,
жадность, amor sceleratus habendi, все господствующие ныне пороки
еще не коснулись в этом прекрасном веке ума людей и не дали еще
им ложных взглядов на власть государей» (161) и т. п. Эта идея была
общим достоянием века, которого не чужд был и Вольтер. В самом
Деле, что такое, например, L'Ingénu, как не остроумный комментарий
к теориям Руссо! Существует мнение, будто трактат о вреде наук
написан чуть не под диктовку Дидро. И хоть не подлежит сомнению
310
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
неверность такого предположения, но знаменательно уже самое
существование его. Идея золотого века, находящегося позади нас, уже
отжила свое время в XVIII веке, но держалась кое-как по преданию, и
Руссо, как и Локк, чисто внешним образом пришил ее к своей
критике существующих отношений. Можно, конечно, громить Руссо и
за это, громить сильно и основательно. Но если бы Ройе пожелала
направить свою эрудицию не столь бесплодным образом, то она
заметила бы, что среди массы противоречий, парадоксов,
преувеличений Руссо идея золотого века может быть совершенно отделена от
критики существующих порядков. Это-то отделение и происходило
постепенно в ряду последующих мыслителей, на которых так
негодует г-жа Ройе. И здесь лежит истинная причина похода г-жи Ройе
именно против Руссо. Преемники его критики не впадали в столь
грубые промахи. Центр тяжести их грехов следует искать в
положительной части их учений. Но смешно было бы говорить, что Сен-Симон
ненавидел науку, или что идеалом Фурье было равенство животных,
или что Прудон советовал сидеть сложа руки и считал безумной
борьбу с природой. Если такого рода обвинения и относительно Руссо
не свидетельствуют об особенной критической проницательности,
то тем паче неуместно было бы защищать науку и цивилизацию,
говоря о преемниках Руссо. А между тем таких клиентов иметь легко и
приятно.
Полемизируя с Руссо, г-жа Ройе исходит из факта естественного
неравенства людей, победоносно разбивает детские понятия
великого женевского гражданина о золотом веке и естественном состоянии
и доказывает, что неравенство не только не имело тех печальных
последствий, какие видел Руссо, но, напротив, всегда служило, служит
и будет служить залогом прогресса, развития. Она утверждает, что в
борьбе между неравными всегда одерживает победу лучший,
способнейший, сильнейший и что поэтому истреблением слабейших
представителей вида прогресс расы постоянно обеспечивается. Никогда,
говорит она, народ каменного века не сменял собой и не побеждал
народа, достигшего употребления бронзы; никогда относительно
дикие народы не сменяли собой народов относительно
цивилизованных. Мы видим постоянный прогресс, развитие, «чего не
усмотрел Руссо и вся школа философов и моралистов, главой которой
он может быть признан» (199). В другом месте г-жа Ройе говорит:
«Изучение законов, управляющих человеческими действиями, по-
Теория Дарвина и общественная наука
311
казывает, что наименьшим неравенством достигается для каждого
члена общества наименьшая сумма наслаждений; что, напротив, по
мере возвышения социальной пирамиды, по мере увеличения числа
ступеней иерархии общая сумма наслаждений прогрессивно растет;
что разделение труда и порождаемые им неравенства, уменьшая труд
каждого, дают более наслаждений всем; что неравенство богатства,
создавая досуг, различным образом употребляемый, ведет к общей
выгоде и преимущественно выгоде бедных; что нет такой нелепой
страсти, такого странного каприза, который не открывал бы
человеческой деятельности нового поля и который не давал бы пропитания
известному числу людей, коим без этой помощи пришлось бы
погибнуть; ибо на данном пространстве земли количество возможной
жизни определяется размерами капитала, находящегося в
распоряжении населения; благодаря усиленному обмену услуг, золото,
которым каприз праздного богача вознаграждает удовлетворяющий его
труд, может оплатить провоз и цену хлеба, привезенного с другого
конца света. Уничтожьте праздность, и вы уничтожите вместе с тем
и каприз, а, следовательно, люди, удовлетворявшие его, останутся без
работы» и пр. (584). Некоторые из приведенных положений до такой
степени уморительно-наивны, что поистине удивительно, как может
их высказывать, не моргнув глазом, дама, получившая премию за
сочинение по политической экономии. Конечно, ни один либеральный
экономист никогда не скажет о значении «капризов праздных
богачей» и «нелепых страстей» того, что говорит г-жа Ройе. Однако эта
санкция каприза и праздности, санкция во имя свободы, конечно, не
противоречит специальному принципу либерализма. Во всяком
случае, очевидно, что, по мнению г-жи Ройе, все идет к лучшему во всем
наилучшем из миров. Но читатель составил бы себе совершенно
неверное понятие о книге Ройе, если бы предположил, что в ней нет
ничего, кроме столь дешевых гимнов в честь победы и праздности
или даже кроме защиты науки и цивилизации. Защита эта есть, и
притом местами неосновательная и фактически неверная, а местами
совершенно лишняя. Этого следовало ожидать уже по самому выбору
задачи — опровергнуть Руссо. Но голова г-жи Ройе устройством
своим напоминает голову Януса, хотя Ройе и не подозревает, что весьма
часто опровергает свои собственные аргументы и положения.
Если Ройе твердо верит, что победа всегда остается за высшими
представителями расы, что на исторической сцене народы всегда
312
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
сменяются сообразно их действительным достоинствам и выгодам
всего человечества, то она же полагает, что победа солдатского Рима
над целым миром, уже цивилизованным Грецией, решительно
задержала прогресс. Еще более пагубным для человечества считает Ройе
разгром Рима германцами.
Если Ройе противопоставляет теориям Руссо веру в постоянное
торжественное движение вперед колесницы цивилизации, то она же
утверждает, что «жизнь нашего беднейшего сельского населения не
слаще, не мягче жизни дикарей» (187).
Если Ройе громит Руссо за искание и нахождение добродетелей
у дикарей, то в ее же книге можно прочитать, например, следующее.
«Узы, связывающие самца и самку у обезьян, продолжительны,
постоянны, хоть и не нерасторжимы и не предшествуются, как у нас,
распущенностью самцов. Там нет самок, специально преданных
проституции. И если допустить, что высшие четырерукие суть наши предки
или отдаленные боковые родственники, то скорее им надо стыдиться
этого родства, чем нам, если смотреть на вещи с точки зрения наших
собственных нравственных правил, которые, впрочем, установлены,
кажется, только для того, чтобы им не следовать. Обезьяны, правда,
не сочиняют книг и не ораторствуют о семействе, но отцовский и
материнский инстинкт столь же силен у приматов, как и у человека,
быть может, даже сильнее, хотя и не подстрекается законом и
общественным мнением. Никто не слышал жалобных криков
покинутого родителями молодого сиаманга или шимпанзе, и ни одна порода
обезьян не почувствовала, подобно нам, надобности в пристанищах
для найденышей и подкидышей. У них нет закона, освобождающего
отца от ответственности или запрещающего отыскивать отца.
Никогда самка-обезьяна не убивает своей третьей дочери, как это делают
австралийские женщины, и не отдает ее на съедение свиньям, как
китайские матери. Многие женщины могли бы научиться у самок-
сиамангов и шимпанзе заботливости о детях, а относительно
чистоплотности эти обезьяны стоят выше многих цивилизованных наций»
(351). Или: «Говорят о распущенности половых сношений у
животных. Но разврат нигде так не силен, как у человека. Мало того, он
развивается, по-видимому, вместе с цивилизацией» (369). Разве это
не тирады в духе Руссо, конечно, менее красноречивые и едкие? Разве
нельзя по этому поводу наговорить г-же Ройе с три короба упреков
вроде тех, какие она сама делает Руссо: как! вы ненавидите цивили-
Теория Дарвина и общественная наука
313
зацию, вы ищете своего идеала у обезьян, вы руководитесь только
своей пылкой фантазией! и проч. Разница только в том, что Руссо,
имея в виду исключительно человеческий род, находил добродетели
у дикарей и пороки у цивилизованных людей, а Ройе, имеющая
возможность, благодаря теории изменяемости видов, поставить вопрос
шире, находит добродетели у обезьян и пороки у человека.
Но это все частности. Для нас гораздо важнее сопоставить
окончательные выводы и общий дух книги г-жи Ройе с одним
любопытным обобщением, которое она делает сама.
Г-жа Ройе — утилитаристка108, как и следует ожидать от всякого
дарвиниста. «Надо, наконец, признать, — говорит она, — что нет
действий безусловно (en soi) хороших и дурных, а есть действия
полезные и вредные виду, в состав которого деятель входит как единица,
солидарная с существующими и будущими единицами того же типа,
или же полезные и вредные другим видам, с которыми деятель
вступает в сношения и участь которых связана с участью его
собственного вида более или менее тесными узами солидарности. Поэтому
инстинктивные стремления каждого живого существа хороши или
дурны постольку, поскольку они прямо или косвенно полезны или
вредны не самому неделимому, а его виду. Другого объективного
критерия нравственности нет, и понятно, что он относителен» (225), так
как специфическая польза, польза вида изменяется сообразно
изменению условий его жизни. Нам не удастся, вероятно, рассмотреть
в этой статье отношения теории Дарвина к утилитаризму. А потому,
откладывая до другого раза разбор принимаемого г-жею Ройе
критерия нравственности, мы ограничимся теперь несколькими
замечаниями. Чтобы показать, как резко и откровенно г-жа Ройе ставит
и разрешает вопросы этики с точки зрения специфической пользы,
мы приведем один пример. Она утверждает, что браки между
представителями двух различных ступеней одного и того же вида
(например, между европейцем и негритянкой) гораздо безнравственнее
«так называемых противоестественных сношений между
представителями различных видов» (532), потому что последние не дают
никакого плода, тогда как первые имеют результатом понижение уровня
индо-германской расы. Кажется, нет надобности говорить, до какой
степени это соображение плоско, грубо, односторонне и именно
потому возмутительно. Г-жа Ройе не видит тех боковых, сопутствующих
сравниваемым ею явлениям, фактов, которые совершенно изменяют
314
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
дело с точки зрения самого утилитаризма; не говоря уже о том, что
вопрос о понижении уровня расы путем смешения крови решается
г-жею Ройе далеко не удовлетворительно. Вообще надо заметить, что
если сторонники интуитивной нравственности склонны к
расплывчатой неопределенности, то утилитаристы грешат большей частью
другой крайностью, именно узкостью, какой-то прямолинейностью
воззрений. И теория Дарвина не всегда тут помогает. Теория эта
необходимо должна была дать обновляющий толчок утилитаризму, и
ее самое не без основания называют теорией полезности. Заметим
кстати, что основателем новейшего утилитаризма следует считать
вовсе не Бентама, как это обыкновенно делается, а Гоббса, в известной
мере предвосхитившего и развившего в приложении к человеку идею
борьбы за существование. Если утилитаристы и признают своим
родоначальником именно умеренного Бентама, то едва ли не из боязни
родства с неумеренным и гораздо более глубоким Гоббсом. Теория
Дарвина, давая новую опору утилитаризму, не может, разумеется, сама
по себе гарантировать нас от извращения утилитарных принципов.
Припомним, что сделал на этой почве Густав Йегер*. Мы уже видели
(Теория Дарвина и телеология), что борьба за существование и
естественный подбор отнюдь не имеют своим результатом непременно
усовершенствование: что нечто, практически полезное в данную
минуту в борьбе за существование и поэтому подхватываемое подбором
и передаваемое наследственно, может не только быть спутником
регресса, но носить зародыш его в самом себе. Об этот-то подводный
камень и спотыкаются обыкновенно утилитаристы. Отношения
самого Дарвина к принципу пользы далеко не ясны. Он нередко грешит
безусловностью своих выражений о возникновении путем борьбы за
существование и естественного подбора непременно высших форм
жизни, а также неясностью и двусмысленностью, с которыми он
говорит о пользе некоторых инстинктов, о пользе существования
бесполых насекомых и т. п. Он говорит, например, очень решительно,
что рабовладельческий инстинкт у муравьев есть одно из следствий
Кстати. Тем, кто заинтересовался выводами Йегера, указываем на
брошюру лютеранского священника Шмита «Darvin's Hypothese und ihr Vemältniss zu
Religion und Moral». Stutgart, 1869. Там победоносно уничтожаются, с
теологической точки зрения, рассуждения Йегера о религии, но попутно задеваются
и другие вопросы, и нельзя не признать, что священник оказывается сильнее
натуралиста не только в богословии, айв логике.
Теория Дарвина и общественная наука
315
«общего закона, ведущего к преуспеянию всех организмов, а именно
к размножению, к разнообразию, к жизни сильных, к смерти слабых»
(О происхождении видов, 196). Но как согласовать с этим
категорическим заявлением такое рассуждение о вероятном происхождении
рабовладельческого инстинкта у муравьев: «Так как муравьи, даже не
держащие рабов, подбирают куколки других видов, если рассыпать их
около гнезда, то очень возможно, что куколки, принесенные
первоначально в пищу, развились, а муравьи, воспитанные таким образом
случайно, должны были, следуя собственному инстинкту, работать по
мере своих сил. Если их присутствие в муравейнике оказывалось
полезным виду, захватившему их, — если бы этому виду было выгоднее
брать в плен работников, чем нарождать их, — то привычка
собирать куколок на съедение могла быть усилена естественным
подбором, приобрести постоянство и приспособиться к совершенно иной
цели — к воспитанию рабов. Если этот инстинкт был раз приобретен,
я не вижу невероятности в том, чтобы естественный подбор
усиливал и видоизменял его — предполагая, конечно, что всякое
видоизменение было полезно виду — пока не сложился муравей, столь
постыдно зависящий от своих рабов, как Formica rufescens» (1, с. 181).
Formica rufescens есть тот именно удивительный муравей, который,
как мы рассказывали (Теория Дарвина и социологические выводы
из нее Йегера), при огромных запасах пищи умирает с голода, если
возле него нет раба, — сам он даже есть не может. Спрашивается,
каким образом ряд полезных виду изменений инстинкта, в конце
концов, дает такое слабое, несчастное существо? Очевидно, что Formica
rufescens есть действительно слабое, несчастное существо, отнюдь не
могущее служить примером возникновения высших форм жизни. А
между тем Дарвин прямо указывает на рабовладельческий инстинкт
как на один из путей, ведущих ко всеобщему преуспеянию, к
жизни сильных; он прямо говорит, что поразительная слабость муравья
сложилась рядом видоизменений инстинкта, необходимо полезных
виду. Очевидно, что здесь есть некоторое недоразумение и что это
недоразумение коренится в понятии пользы.
Г-жа Ройе, разумеется, не чужда заблуждений относительно
провозглашаемого ею критерия нравственности — специфической
пользы. К старым ошибкам утилитаристов она прибавила немало
своих собственных. Тем не менее, ей удалось подвести, с
утилитарной точки зрения, под некоторое подобие закона целый ряд фактов
316
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вроде приведенного нами неожиданного печального конца
практически полезных приспособлений. К сожалению, Ройе не сделала тех
выводов, которые логически вытекают из ее обобщения, и вообще
отнеслась к нему крайне небрежно. Упоминает она о нем довольно
часто, но вскользь, для объяснения того или другого частного
круга явлений. Наиболее отчетливо формулирует она его на с. 493 так:
«Если есть общий закон инстинкта, то он состоит в том, что самим
фактом наследственного накопления в последовательном ряду
поколений полезный инстинкт постоянно стремится перейти в
злоупотребление. Вызванный потребностью и первоначально ею
ограничиваемый, инстинкт быстро переступает пределы потребности и
извращается до того, что становится в противоречие со своей
первоначальной целью». Ройе указывает, что всякий полезный инстинкт,
всякое похвальное качество, достигая известной степени
напряженности, приходит, так сказать, к самоотрицанию: осторожность
переходит в трусость, благоразумная экономия в скупость и проч. При
зтом г-жа Ройе несколько приближается к одной из основных
мыслей одного из гонимых ею «философов и моралистов школы Руссо»,
именно утверждая, что нет ни одной вредной склонности, которая не
была бы преувеличением известной добродетели, известной
склонности, полезной при других условиях. Как известно, нечто в этом
роде утверждал Фурье, но он выводил из этого необходимость такого
устройства общества, при котором все индивидуальные особенности
оказывались бы полезными. А г-жа Ройе полагает, что такое
устройство лишнее, ибо и ныне «капризы праздных богачей» и «нелепые
страсти» оказывают достаточно благодетельное действие. Говоря о
законе инстинкта, Ройе не употребляет выражения «самоотрицание»
и перечисляет одобрительные качества с их противоположностями
довольно бестолково. Но очевидно, что по своим результатам
трусость есть действительно отрицание осторожности, скупость —
отрицание бережливости и т. д. Точно так же и половой инстинкт,
будучи безусловно необходим виду, на известной ступени
напряженности приводит к результатам, прямо противоположным тем, какие
составляют его назначение: он нужен для поддержания вида, а при
усиленном напряжении ведет к бесплодию, т. е. к прекращению вида.
То, что в приведенных случаях происходит в пределах одной и той же
личности, может происходить, по мнению г-жи Ройе, и в целом ряду
личностей, причем чрезмерное напряжение инстинкта будет про-
Теория Дарвина и общественная наука
317
изведено накоплением его наследственным путем. Если, например,
известному виду особенно полезна осторожность, то под влиянием
естественного подбора выживать будут преимущественно наиболее
осторожные индивиды. Осторожность будет передаваться из рода в
род, все усиливаясь — известно, что чем старше наследственные
признаки, тем они прочнее — пока, наконец, не превратится в трусость,
вредную виду, хотя определить момент перевала инстинкта точным
образом невозможно. Этот закон самоотрицания инстинкта Ройе не
то чтобы пытается систематически приложить к истории, а думает
объяснить им некоторые выдающиеся ее черты. Она указывает на
военный инстинкт, на инстинкты накопления, повиновения и т. д. и на
соответственные им гражданские и политические институты как на
такие, которые, будучи первоначально полезны виду, с течением
времени, с усилением своим в длинном ряду поколений, обращаются
во вред виду. Вся философия истории сводится для г-жи Ройе к
этому усилению инстинкта наследственным путем и к воздействию на
него разума, индивидуальной мысли. Инстинкт, привычка есть сила
инерции, сила, фатально движущая человека в раз определенном
направлении; это центробежная сила сознания, как очень удачно
выражается г-жа Ройе, тогда как разум, критическая мысль есть сила
центростремительная. Она время от времени врывается в область
инстинкта, но все добытое ею, в свою очередь, становится
достоянием стихийной силы наследственности и, в свою очередь, теряет свой
первоначальный смысл.
Мы не коснемся здесь самых оснований закона г-жи Ройе, так как
это отвлекло бы нас от предмета статьи слишком далеко. Мы только
посмотрим, какое отношение имеет этот закон самоотрицания
инстинкта к общим тенденциям книги г-жи Ройе. Заметим, однако, что
Ройе применяет свой закон крайне односторонне. Что инстинкт
накопления был в свое время драгоценен с точки зрения специфической
пользы; что он дал толчок промышленности, а косвенным образом и
изучению природы; что он обеспечивал в борьбе за существование
успех развитейшим разновидностям и т. д.; что он, далее, передаваясь
наследственным путем, все рос и, наконец, в некоторых
представителях вида homo sapiens далеко перерос за пределы потребности и
начал оказывать вредное действие — все это очевидно. Но
относительно, например, военного инстинкта может показаться, что не растет,
а убывает. Однако г-жа Ройе была бы права и относительно военного
318
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
инстинкта, если бы смотрела на вещи менее грубо. Полезен ли был
виду военный инстинкт в доисторическую пору? Полезен, отвечает
г-жа Ройе, потому что благодаря ему были быстро истреблены
слабые разновидности, пропасть между человеком и предками
нынешних четырехруких сделалась непереходимой, и понижение уровня
развития вида путем смешения крови стало невозможным: известно,
что браки европейцев с женщинами наиболее низко стоящих диких
племен бесплодны. Но пропасть между человеком и четырехрукими
вырыта вовсе не одним прямым истреблением промежуточных типов.
Это истребление играло ничтожную роль сравнительно с быстрым
удалением человеческого типа от низших форм собственным
прогрессивным развитием. А в этом развитии немаловажное значение
имел военный инстинкт: около войны складываются первые мифы,
первые нравственные понятия. Сообразно этому военный инстинкт
не потому теперь вреден, что промежуточные степени между
человеком и четырехрукими истреблены, и, следовательно, война ведет
только к ничем не окупаемым убийствам и разорениям. Последнее
справедливо, но дело в том, что и в других отношениях военный
инстинкт дал уже все, чего от него можно требовать. Что касается
усиления военного инстинкта, то оно может быть усмотрено только при
тщательном выделении этого инстинкта из массы сопровождающих
его душевных возбуждений. Собственно военный инстинкт — жажда
победы, мог составлять только очень слабый ингредиент войны в
доисторическую пору, когда именно он был особенно драгоценен.
Дикарю важнее грабить, насиловать, обращать в рабство, чем
собственно побеждать. Война для славы, для победы, не подшитой никакой,
для каждого участника осязательной, реальной выгодой, составляет
продукт позднейщего времени. Только у гениальных дикарей, у
избранных существ был зародыш военного инстинкта, развивающийся
вместе с цивилизацией. Сотни тысяч лет должен был копиться
наследственным путем инстинкт, двигавший завоевателями вроде
Александра Македонского. И если ныне инстинкт этот распространен
гораздо менее, чем в древности, то там, где он существует, он
находится в состоянии сильнейшего напряжения и опять-таки
усиливается вместе с цивилизацией: если необразованный солдат не прочь и
от грабежа во время войны, то цивилизованный офицер весь полон
одной жаждой победы, более или менее чистой от посторонних
примесей. Ни одному мирному немцу не станет легче жить от победы над
Теория Дарвина и общественная наука
319
Францией, станет, по всей вероятности, тяжелее, и, во всяком случае,
каков бы ни был исход войны, она тяжело отзовется на немце. И,
однако, у каждого мирного немца голова кружится от мысли о победе.
Древние германцы наследственно передали ему военный инстинкт,
совершенно гармонировавший с их потребностями и нисколько не
гармонирующий с потребностями теперешнего немца. И, однако,
несмотря на это, военный инстинкт, хотя и оторванный от всякой
реальной почвы, жив и растет именно потому, что он получен
наследственно, бессознательно. Конечно, одного военного инстинкта
недостаточно для объяснения феноменов современной войны. Здесь,
очевидно, фигурируют и другие элементы, как, например, инстинкт
повиновения, некогда также весьма полезный. Читатель видит, что,
собственно, нет надобности в абсолютном возрастании инстинкта
для того, чтобы он оказался вредным. Достаточно того, если он
остается на одной и той же ступени напряжения, даже ослабляется, но не
пропорционально росту других элементов. Промышленность,
отчасти порожденная войной; идеи, также отчасти ею вызванные и
связанные с идеями, возникшими из элементарного основания нашей
нравственности — сочувствия; другие инстинкты и стремления,
возникшие несколько позже военного инстинкта — все это образовало
такую комбинацию условий жизни, среди которой жажда военной
победы становится во всяком случае вредной, хотя бы абсолютно
напряжение военного инстинкта и не возрастало.
Как бы то ни было, но полезный инстинкт, перерастая вызвавшую
его потребность, становится источником бедствий для
человечества, а вместе с тем отживают свое время и соответственные
явления общественной жизни. К числу таких вредных, задерживающих
прогресс явлений г-жа Ройе относит войну, политическое
холопство, подчиненность женщины, экономические отношения, кастовое
устройство и проч. Если мы подведем всему этому итог, то увидим
не то что целый ряд фактов, а целое течение истории,
представляющее оборотную сторону той самой медали, которую г-жа Ройе
выдает цивилизации за прочность и постоянство. Оказывается, что
Руссо не до такой степени неправ, как утверждает г-жа Ройе.
Формальным образом он, разумеется, остается неправ, так как золотой
век человечества и естественное состояние в таком виде, как они
представлялись Руссо, в действительности никогда не существовали.
Человек, без сомнения, не вышел из рук природы кротким и счаст-
320
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ливым созданием, но в страстном обращении Руссо к прошедшему
есть и нечто законное. Инстинкты дикаря с современной точки
зрения грубы, но они драгоценны для вида, а с его собственной точки
зрения, которая необходимо должна быть принята в соображение,
в его поступках нет ничего возмутительного. Потребности дикаря
опять-таки грубы и ничтожны, но они находятся в полной гармонии
с его силами и инстинктами. И этой гармонии можем завидовать и
мы, люди цивилизованные, люди XIX века. Любопытно, что весьма
многие мыслители (Фихте, Гегель, Конт, Луи-Блан, Лассаль109),
рассматривая историю с точек зрения, различных во всех отношениях,
приходили к мысли разделить ее на три периода, причем большей
частью относились ко второму периоду гораздо менее благосклонно,
чем к первому. Гегель полагал даже, что общий закон развития
состоит в некотором возвращении третьей степени (синтезиса) к
первой (тезису), хотя в сущности, по мнению Гегеля, здесь происходит
не возвращение к тезису, а разрешение противоречия между ним и
второй ступенью развития. Сближение между первой и третьей
ступенями развития характерно проявляется и в практической жизни,
в некотором совпадении взглядов и требований противоположных
крайних партий, партии прошедшего и партии будущего. Сближение
это доходит иногда до совершенного совпадения интересов в том
частном случае, когда дело идет о противодействии промежуточной
средней партии. Однако сходство между первой и третьей ступенями
развития во всех трехчленных системах философии истории есть
чисто формальное. Например, Спенсер вскользь бросил мысль, что
история науки представляет три периода: единогласие невежд,
разногласие исследователей и единогласие знающих. Ясно, что в деле
науки единогласие желательно, но под условием, чтобы оно было
единогласием знающих, а не невежд. Здесь нет никакого
приглашения вернуться вспять, к невежеству. В статье «Что такое прогресс?»
мы представили беглый очерк философии истории, в которой
третий период также представляет в некоторых отношениях сходство с
первым, но мы отнюдь не думаем приглашать общество вернуться к
первобытной дикости110. Сама г-жа Ройе в некоторых частных
случаях указывает на прошедшее, отрицаемое настоящим, как на образец
будущего. Так, например, она говорит, что прежде чем стать личной,
поземельная собственность была общественной и что «в этом
первоначальном принципе поземельной собственности мы найдем, может
Теория Дарвина и общественная наука
321
быть, и в будущем единственное средство примирения всех прав и
интересов» (465); замечание, между прочим, совершенно в духе Руссо
и его школы, если позволительно говорить о школе Руссо. Да и все
делаемое г-жею Ройе применение закона инстинкта к истории есть
вовсе не опровержение, а, напротив, подтверждение и разъяснение
некоторых мыслей Руссо и преемников его критики. Руссо бросил
обществу новую и оригинальную, но совершенно невыработанную
мысль, бросил ее со страстным увлечением, с полемическим
задором в такой исторический момент, когда общество было наименее
подготовлено к мысли об оборотной стороне медали
цивилизации. Весьма естественно, что при таких условиях в его теориях есть
множество ошибок и парадоксов, много сбивчивости и темноты.
Но в этом лабиринте ориентироваться можно, а тому, кто думает
опровергать Руссо, и должно. Ройе же придирается к мелочам и часто
становится в чрезвычайно комическое положение, побивая какую-
нибудь третьестепенную мысль великого человека одним из главных
оружий его же собственного арсенала. Руссо полагал, например, что
условия цивилизованной жизни, каковы: отсутствие физических
упражнений, утонченное кулинарное искусство и т. п., вредно
действуют на организм; что дикарь, спящий на открытом воздухе и на
голой земле, по необходимости довольствующийся простой и
грубой пищей, находится в выгоднейших для здоровья условиях, чем
цивилизованный человек. Как и во всех почти положениях Руссо,
здесь есть известная доля правды и известная доля преувеличения.
Во всяком случае, это мысль не важная, и г-жа Ройе, желающая
поразить в Руссо целую школу социалистов, должна бы была вспомнить
хоть Фурье, столь заботившегося о гастрономии и архитектуре. Но,
не смущаясь тем, что приведенная мысль и у Руссо но имеет
большого значения и поклонников себе никаких не нашла, г-жа Ройе
победоносно доказывает ее несостоятельность. Но чем? Тем, что и ныне
люди, подвергающиеся влиянию перемен температуры и т. п., не
могут похвастаться особенным здоровьем.
«Всякий знает, — говорит она, — что ревматизмом страдают
преимущественно старые военные и охотники; что если наши
земледельцы, дровосеки, виноделы и не подвержены многочисленным нервным
расстройствам, какие господствуют в больших городах, то они зато
страдают гораздо чаще лихорадками, грудными болезнями,
воспалениями. У одних слишком сильно возбуждена нервная система, у дру-
322
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
гих слишком деятельно кровообращение. Пусть те и другие поровну
поделят свой труд, и организм, возвращенный к гармонии,
перестанет страдать от того и другого излишества» (189). Но ведь это одна
из основных идей Руссо, идея, именно и давшая начало школе, идея,
против которой направлена вся книга г-жи Ройе! Комизм этого
полемического приема только отчасти сглаживается дальнейшими
размышлениями Ройе: «Но надо сознаться, что цивилизованная жизнь,
как и жизнь дикарей, имеет свои неизбежные неудобства (fatalités).
Одно из таких неизбежных неудобств есть разделение труда между
различными неделимыми, более или менее специализированными
для одного какого-нибудь дела. Человеческий организм не успел еще
приспособиться к этой специализации общественных отправлений;
ничто не мешает нам надеяться, что с помощью соответственной
каждому отправлению гигиены мы достигнем, наконец, этого
результата». Значит, проект перераспределения труда оказывается лишним.
Это, по крайней мере, не так смешно.
Руссо кое-где прямо говорит, что необходимо возвращение
назад, к тому небывалому естественному состоянию, которое он
разрисовал такими светлыми красками. Но в других местах он столь же
прямо утверждает, что это возвращение невозможно и нежелательно.
Добросовестный и менее предубежденный, чем г-жа Ройе, критик
заметил бы, что Руссо желает собственно возвращения не к
первобытной жизни, а только, так сказать, к ее пропорциям, причем требуется
не отречение от науки, технических открытий и
усовершенствований, нравственных идей, приобретенных цивилизаций, а только
известное их направление. Преследуя науку, Руссо не отрицал ее самое,
а только требовал, чтобы она исполняла свою службу человечеству,
как служат дикарю его скудные знания. Когда Руссо сетовал, что у нас
есть физики и геометры, а нет граждан, он желал не исчезновения
физиков и геометров, а обращения их в граждан. Этого-то
требования возвращения к пропорциям прошедшего г-жа Ройе и не понимает,
хотя стоит очень близко к ключу загадки. Говоря о первобытном
приблизительном равенстве сил и способностей мужчины и женщины
и о первом разделении труда, уничтожившем это равенство, — один
из немногих пунктов, на которых г-жа Ройе сходится с Руссо, — она
замечает: «Атрофия известного количества инстинктов у мужчины
только придала новую силу тем, которые он сохранил и которые,
стремясь восполнить сумму его нравственных сил, должны были
Теория Дарвина и общественная наука
323
скоро достигнуть той степени напряжения, когда они переходят за
пределы своих целей и становятся вредными» (549). То же самое
относится, очевидно, и к женщине. В чем же, значит, дело? При
распределении труда между мужчиной и женщиной произошло некоторое
нарушение формулы жизни того и другой. Заметим, что изменение
формулы жизни необходимо имеет место при возникновении
нового вида и даже составляет его суть. Но изменение может быть двоякое.
Формула жизни данного вида есть, положим (а + b + с +... + m),
причем а, Ь, с,... m означают ряд отправлений, свойственных виду. Если
при переходе этого вида в некоторый новый тип отношения между
его органами и отправлениями остаются те же самые, и они
только разветвляются, усложняются, оставаясь в прежнем равновесии, то
формула получит вид: (а + b + с +... + m)n. Этот случай, единственно
возможный случай действительного усовершенствования, составляет
по теории Дарвина редкое явление, и самое это прямое возрастание
и усложнение сил и способностей есть только частный случай.
Однако некоторые замечания Негели, Келликера, Снелля111 и др.,
признающих изменяемость видов, но ищущих ей основания не в одной
теории Дарвина, заставляют думать, что теория эта вскоре получит
важное дополнение, именно в смысле разъяснения прямого
возвышения формулы жизни как общего правила, постоянно нарушаемого
борьбой за существование между неделимыми одного и того же вида.
Затем возможны весьма разнообразные изменения формулы жизни
во все стороны. Все они сводятся к тому, что вид, приспособляясь
к новым условиям жизни, утрачивает, как ненужные, некоторые из
прежних черт своей организации и развивает в себе новые, хотя
возможно и всестороннее упрощение, т. е. формула (а + b + с +... + m)
может превратиться в формулу Va + b + с +... + m. Паразиты
представляют случай, весьма близкий к такому всестороннему
упрощению. К такого рода боковым изменениям относятся и все
нарушения формулы жизни, производимые разделением труда в обществе,
а следовательно, и разделением труда между мужчиной и женщиной.
Допустим, что сумма сил и способностей того и другой выражается
формулой а + b + с. Поделив между собой труд, они изменили эту
формулу таким образом, что для мужчины она стала равна а + с, а для
женщины b + с. Обе формулы проще первоначальной, но с течением
времени каждая из них усложняется в своей односторонности;
получаются формулы am+ cn+ bp+cq. Эта атрофия одних отправлений при
324
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
усилении других становится, наконец, очевидно вредной. Является
надобность вернуться к первобытным пропорциям сил и
способностей, но при этом и невозможно и нежелательно, чтобы пропали те
действительно ценные приобретения, которые сделаны и мужчиной
и женщиной, несмотря на односторонность и, может быть, даже
благодаря односторонности. Требуется уравнять мужчину и женщину
не на старой формуле а + d + с, а на некоторой новой и высшей
(а + b + c)m. Этого г-жа Ройе (да и не она одна) никак не может понять
и твердит, что «общественные учреждения, которые имели бы
результатом возвращение первобытной однородности, должны отодвинуть
человечество назад» (216). Что человечество отодвинется назад, если
бы удалось его отодвинуть, — это сама истина. Но беда в том, что
никто, ни даже Руссо, таких требований не предъявлял.
Но если г-жа Ройе так не любит равенство, то взамен того она
очень любит свободу...
У дверей кафе сидят несколько франтов. Мимо проезжает
извозчик.
— Извозчик, вы свободны? — спрашивает один из франтов.
— Свободен.
— Ну, так кричите: да здравствует свобода!
Эту остроту я вычитал ныне летом, помнится, у Шаривари. Едва ли
сам Шаривари понимал всю ее глубину. А она действительно глубока,
и канва для нее выхвачена из юмора самой истории, самой жизни.
Я знаю только одну столь же глубоко юмористическую канву — это
судьба слова и понятия «пролетарий», что в буквальном смысле
значит способный к деторождению, детопроизводитель. Весь спор
социалистов и либералов вертится около этих двух каламбуров истории.
Свободный извозчик и детопроизводитель! Кричи: да здравствует
свобода! и не производи детей — таков лозунг либерализма. — Ваша
свобода душит свободного извозчика, возражают либералам; он
просит, чтобы его освободили от этой свободы, освободить же его может
только государство. — Караул! — кричат либералы.
Правительственное вмешательство! Нарушение святого и плодотворного принципа
свободы! Правительства! Не слушайте этих бредней и во имя святого
и плодотворного принципа свободы запретите детопроизводителям
производить детей!
Свобода! — великое, громкое слово, тысячи раз кровавыми
буквами записанное на скрижалях истории и в сознании людей; прекрас-
Теория Дарвина и общественная наука
325
ный, но страшный сфинкс, безжалостно пожирающий всякого, кто
не разгадает его хитрых загадок. Кто не играл этим словом от
мудрого Платона до новорожденных русских либералов; кто не
выворачивал его на все лады и не предлагал свободному извозчику кричать:
да здравствует свобода! Не провозгласил ли Фридрих-Вильгельм IV112
теорию «свободных народов и свободных королей»; не
провозглашают ли русские либералы свободу от земли, не прав ли публицист,
утверждавший, что для многих тысяч людей laissez passer значит
laissez mourir, и мало ли людей, желающих освободиться от свободы?
Сколько жертв заколото на алтаре этой двусмысленной богини,
этого Протея, вечно ускользающего по мере того, как люди к нему, по-
видимому, приближаются! Жертвы валятся в пропасть, но пропасть
оказывается бездонной...
Мудрый Платон сочиняет идеал свободной республики, но она не
может обойтись без рабов... Свобода тридцати тысяч афинян имеет
своим базисом сто тысяч рабских спин... Плебеи идут на священную
гору; патриции вступают с ним в сделку. Да здравствует свобода!
Но за плебеями стоит еще Спартак с 60 000 разъяренных рабов... Civis
romanus sum, гордо говорит римский сенатор. Ты раб в тоге,
основательно возражает Гелиогабал... Лютер поднимает знамя религиозной
свободы. Крестьяне восстают. Назад! — кричит Лютер113 —
крепостное право есть божественное учреждение... Да здравствует свобода! —
кричит Кальвин, сжигая Серве114.
Наступили новые времена. Феодализм с голоду продал свое
первородство за чечевичную похлебку буржуазии. Но, несмотря на сделку,
он пробовал упереться. Да здравствует свобода! — раскатилось, как
громовой удар, над Европой. Свободный извозчик сначала вторил
этому победному крику, но потом отказался. Он запросил свободы
от свободы, запросил так настойчиво, что либералы поспешили
заткнуть ему глотку. Что же будет дальше? По Шерру115 «социальный
вопрос» состоит вот в чем: «четвертое сословие желает воспользоваться
преимуществами сообща с тремя привилегированными сословиями.
Но, вступив в это пользование, четвертое сословие также захочет
иметь своего белого нефа и бодро воевать с пятым сословием, так же,
как пятое, при подобных условиях, вооружится против шестого и так
далее до бесконечности» (Комедия всемирной истории, I, 21). Итак,
еще множество раз раздастся старый крик: да здравствует свобода!
Но всякий раз ему, как эхо, будет вторить дикий возглас победителя
326
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Бренна: vae victis116! И в результате мы будем все-таки бесконечно
далеки от двусмысленной богини. Как блуждающий огонек, будет она
вести нас все дальше и дальше, но не даст себя обнять, и человечество
так и исчезнет, не взглянув на нее вблизи. В конце концов, все-таки
останется какой-нибудь очень свободный, но очень упрямый
извозчик, который откажется сказать: «видеста очи мои»... Там, вдали веков,
человечество ждет все та же история молота и наковальни. История
будет время от времени выбрасывать старые молоты за борт и
перековывать наковальни в молоты, но всегда найдется новая
наковальня. Есть от чего прийти в отчаяние и броситься в объятия Нирваны,
художественно-нигилистического буддизма, возобновленного
Шопенгауэром117. Из-за чего же биться, из-за чего бросать старые
молоты за борт?
Но, спросит трезвый читатель, откуда же возьмется этот
бесконечный ряд белых негров, эти пятое, шестое и т. д. сословия? Где следы
их в теперешнем обществе? На это ответит нам один из мудрецов
отечественной фабрикации, г-н Стронин118. С изумительной
проницательностью поднимает он завесу будущего и показывает нам такую
перспективу. Установив для истории прошедшего последовательную
смену трех «физиологических» аристократий (просто
физиологической, «геронтическои» и «генетической»), передающих, наконец,
свою первенствующую роль первой экономической или
поземельной аристократии, которая, в свою очередь, уступает место
аристократии капитала, г-н Стронин продолжает: «Действительность на
этом пока и останавливается; историю застаем мы хотя не на
господстве, но на развитии этого именно вида, и никакого иного на
практике она не давала еще примера. Но с одной стороны, правильность,
до сих пор обнаружившаяся в смене одной аристократии другой,
а с другой — замечаемые в современном обществе порывы,
направленные по тому же пути, дают уже нам некоторую возможность гадать
и о будущем. Для аристократии капитала соперница не
аристократия экономическая первая, и не три аристократии физиологические,
а только собственники труда; равным образом и следующая по
теоретическому порядку производительная сила, еще более человеческая,
есть именно труд; итак, если он создаст из себя когда-нибудь
аристократию, третью и последнюю экономическую, то не с иным
условием, как условием все той же эксплуатации и низших себя
производительных сил, и высших, пока из числа этих последних очередная не
Теория Дарвина и общественная наука
327
укрепится опять до того, что займет место предыдущей, чтобы снова
пасть под ударами последующей. Благодаря Дарвинову закону, мы
имеем право заглядывать теперь и в еще более отдаленное будущее
и предвидеть там, подобно трем физиологическим и трем
экономическим, три также аристократии психологических, а именно: сперва
нравственную, потом эстетическую и, наконец, умственную, как
самую высшую в смысле человечности; а в этой последней опять сперва
эксплуатирующую аристократию гения (как природы умственной),
потом аристократию знания (как умственного капитала) и, наконец,
аристократию и эксплуатацию метода (как умственного труда).
Прекращение же эксплуатации есть вместе с тем и предел
предвидимого прогресса, конец истории, доступный нашему воображению, есть
только невозможность дальнейших эксплуатации. Таково
плодоносное и озаряющее действие законов Дарвина на почве историологии»
(История и метод, 252). Такова удивительная и поражающая
белиберда, измышленная г-ном Строниным.
Мы уже говорили, что один из немногих пунктов, на которых г-жа
Ройе милует Руссо, есть положение последнего о приблизительном
равенстве мужчины и женщины в доисторическую пору. Г-жа Ройе
полагает, что различие между силами и способностями обоих
полов, какое мы видим ныне, есть «результат сложного и постоянно
изменяющегося влияния условий жизни; следовательно,
теперешние взаимные отношения полов могут в будущем претерпеть
значительные изменения, могут даже стать обратными под влиянием
противоположных нынешним условий жизни, которые всегда
могут явиться и, быть может, в свое время и явятся как результат
социального равновесия» (391). Г-жа Ройе не останавливается на этом
темном намеке. Она говорит в другом месте (379-381), что если для
вида окажется выгодным обратное нынешнему отношение между
полами, то оно и произойдет, как произошло устройство пчелиного роя
с маткой во главе и с толпами трутней самцов, ежегодно избиваемых,
или устройство муравейника с бесполыми рабочими самками. Ройе
полагает, что в этом, впрочем, отдаленном фазисе развития
человеческого общества дети не будут знать своих отцов, мать одна будет
заниматься воспитанием, но вместе с тем будет способна и ко всем
занятиям, предоставленным ныне мужчинам; что если и мужчинам
будет оставлена кое-какая деятельность и кое-какая собственность,
то право наследства будет предоставлено исключительно женщи-
328
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
нам, равно как и политическая власть. Г-жа Ройе упоминает при этом
о полумифических амазонках и о «чудесах женского гения, которые
мы находим совершенно естественными у пчел и муравьев». Если не
ошибаюсь, амазонки, по рассказам, допускали к себе мужчин
только периодически, для поддержания своего оригинального общества,
и рождающихся мальчиков убивали. Трутни в улье существуют, как
известно, также единственно для оплодотворения матки. Поэтому
можно думать, что и в идеальном обществе г-жи Ройе мужчинам
будет предоставлена исключительно половая деятельность: они будут
пролетариями, детопроизводителями и в прямом, и в переносном
смысле. Это характерно. Чего доброго, Шерр прав, и белый негр
всегда найдется. Едва выкарабкиваясь из положения наковальни,
женщина уже не прочь стать молотом. Она еще по складам разбирает: «Да
здравствует свобода!», a vae victis уже готово. Сама еще свободный
извозчик, женщина уже заглядывает в ту историческую даль, когда она
будет говорить: «Messieurs, вы ведь свободны, что же вы не кричите:
да здравствует свобода!» Но г-жу Ройе нельзя упрекнуть, по крайней
мере, в недостатке последовательности. Она не строит утопий на
тему равенства, не увлекается мечтами нивеляции, она твердо
помнит, что кто-нибудь должен быть молотом, а кто-нибудь наковальней.
Она остается верна себе, хлопочет только о свободе и твердо верит,
что когда «социальным равновесием» молот перекуется в наковальню,
а наковальня в молот, можно будет столь же громко, как и ныне,
кричать: «Да здравствует свобода!»
Соображения Шерра о социальном вопросе — суть плоды
художественно-нигилистического буддизма и представляют собой
скорее слова, чем мысли. Перспектива, открываемая г-ном Строни-
ным недоумевающим взорам читателей «Истории и метода», есть
просто белиберда и имеет такую же ценность, как пророчество
какого-нибудь блаженного. Мечты г-жи Ройе по' малой мере
фантастичны. Но вот явление другого рода. Конгресс рабочих 1867 года в
Лозанне119 постановил, между прочим, такую резолюцию: «Конгресс
полагает, что стремления рабочих ассоциаций, если последние
распространятся в нынешнем своем виде, будут иметь последствием
установление четвертого сословия, за которым будет стоять еще
более подавленное пятое сословие». Из дальнейших резолюций
конгресса видно, что дело идет о рабочих ассоциациях, основанных на
начале самопомощи. Конгресс полагает, что именно эти ассоциации,
Теория Дарвина и общественная наука
329
основывающиеся без вмешательства государства и не могущие
распространиться на все рабочее сословие, кончат тем, что произведут
новые молоты и новые наковальни. Лассаль еще в 1863 году имел об
этом новом наслоении социальной пирамиды столь ясное
представление, что мог обрисовать и физиономию новых молотов:
«работники со средствами работников и с алчностью предпринимателей»
(Сочинения, 1,249). Итак, новое «да здравствует свобода!» с его эхом «vae
victis» уже вырабатывается на Западе. И однако, это новое явление
есть результат свободы, отсутствия государственного вмешательства,
точно так же, как и у нас сословие безземельных батраков было бы
результатом свободы от земли.
Вся история свободы есть, собственно, один каламбур во многих
действиях. Последнее действие началось с великой французской
революции. До революции регламентация промышленности и
правительственная опека царила неограниченно, и в устах 1урнэ120
бранный крик современного либерализма «laisaez faire, laissez passer»121
выражал действительную потребность. Революция разбила
феодализм и цеховое устройство, провозгласила свободу труда. Но здесь
же началось и то течение, которое привело, наконец, к тому, что
свободный извозчик приглашается кричать виваты свободе. Уже в
1789 году национальная гвардия разогнала несколько десятков тысяч
работников, собравшихся на Елисейских полях, чтобы потолковать
о своих нуждах. А в 1791 году национальное собрание издало
декрет, запрещавший всякие ассоциации. Буржуазия, поднявшая знамя
прав человека, была слишком искренна, слишком полна энтузиазма,
наконец, слишком мало обрисовывалась, как резко со всех сторон
очерченный элемент, чтобы ее можно было заподозрить в ясно
осознанной тенденции давить рабочего. Вернее предположить, что она
за всякой ассоциацией видела призрак средневековых корпораций,
а с ними и всего того порядка, с которым она так ожесточенно
боролась. Однако характер буржуазии фатально, сам собой пробивался
наверх со всеми своими особенностями. Дело было не в одной боязни
возвращения к средневековью, говорилось и о невыгодах агитации
в пользу увеличения поденной платы. Быстрое течение жизни,
полной то грандиозных, то кровавых событий, величие исторического
момента, лихорадка возбуждения — все это покрывало собой рознь,
уже готовившуюся в среде обновленного общества. Как не ясно было
отношение победительницы-буржуазии к своему союзнику-рабочему,
330
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
так не ясно было и обратное отношение. На другой день после того,
как Робеспьер прочитал свой проект декларации прав человека,
якобинец Буассель122 читал «декларацию прав санкюлота». В числе
этих прав значилось, между прочим, «право размножаться» и право
зависеть только от «природы и верховного существа». А между тем
буржуазия несла с собой именно тот порядок, при котором рабочий
не имеет права размножаться и, будучи легально свободен,
фактически находится в полной зависимости от предпринимателя.
Истинные отношения выяснились позже, когда, по окончании расчетов со
старым порядком, четвертое сословие увидело перед собой
буржуазию, вооруженную капиталами, машинами, умственным развитием
и политическим могуществом. Четвертое сословие было вооружено
одной свободой и скоро заметило, что именно поэтому оно вовсе
не свободно. Таков был один из результатов революции, на которую
либералы естественно смотрят, как на предел, его же не прейдеши.
Естественно также, что рабочие смотрят на дело иначе.
Вышеупомянутый лозаннский конгресс пришел к тому заключению, что
некоторые бедствия рабочего класса «постоянно усиливаются с тех самых
пор, как революция, провозглашая свободу труда и промышленности,
разрушила корпорации. Мы должны вернуться к прежней
солидарности, не замыкаясь, однако, в тесные рамки, разбитые нашими
отцами». Либеральный экономист, у которого я заимствую эти сведения
о лозаннском конгрессе, Курсель-Сенель123, иронически замечает по
поводу приведенного заявления: «Вот, по крайней мере, откровенное
противодействие революции»!
Либеральные экономисты считают порядок, созданный первой
революцией, неприкосновенным, и если одобряют и ободряют
кооперативное движение на принципе самопомощи, то потому, что
ассоциации этого рода не в состоянии конкурировать с крупными
капиталистами-предпринимателями и могут только создать пятое
сословие, что, собственно, не меняет ни на волос установившихся
отношений между трудом и капиталом. Затем все, имеющее целью
и могущее заменить легальную свободу труда его фактической
независимостью и, следовательно, по-видимому, составляющее
дальнейшее развитие идей революции, клеймится как отступничество и, что
любопытнее всего, как посягательство на свободу.
Так смотрит на дело и г-жа Ройе. Она называет первую революцию
«революцией из всех революций прошедших и будущих» со включе-
Теория Дарвина и общественная наука
331
нием, значит, и той революции, которая поставит мужчин на место
женщин и женщин на место мужчин. Как ни радикален, по-видимому,
переворот, желаемый Ройе, он, собственно, ничего не изменяет в
отношениях, существующих и ныне: меняются только представители
этих отношений. В том именно и состоит суть современного
либерализма, что, какие бы реформы радикальные он ни предлагал, как
бы он смел ни был, он вертится в заколдованном кругу, из которого
не может и не хочет выбиться. А это зависит от того, что либерализм
основан на каламбуре. У г-жи Ройе эта каламбурность очевиднее,
потому что она ставит вопросы просто и грубо, не путаясь в отвлечен-
ностях. Но не следует думать, чтобы она была свободна от
противоречий ходячего либерализма. Напротив, и эти противоречия выступают
в ее книге во всей своей неприкрытой наготе. Основное положение
ходячего либерализма составляет так называемая гармония
интересов. Утверждают, что настоящие экономические отношения, будучи
предоставлены собственному свободному течению, сами собой
регулируются к выгоде всех заинтересованных сторон. Г-жа Ройе, как мы
видели, доводит эту идею до крайних пределов. Иногда она
повторяет все, что довольно давно говорено и переговорено всеми
либеральными экономистами, а именно: всякому должна быть предоставлена
свобода избирать в обществе положение, сообразное своим силам;
закон должен только гарантировать всякому безопасное
пользование своими правами, насколько они не нарушают чужих прав, и т. п.
Но не таковы ее взгляды, когда она становится на биологическую
точку зрения. Отправляясь от теории Дарвина, она дает понять, что
эта гармония интересов есть иллюзия, что дело просто в борьбе за
существование, на которую всякий выходит, вооружившись чем
может. Борьба естественно оканчивается победой одних и поражением
других, и победители правомерно пользуются своим положением.
Если Ройе и говорит о гармонии интересов, то либерализм она
исповедует главным образом не ради нее, а ради именно антагонизма
интересов. Она требует свободы для того, чтобы, согласно теории
Дарвина, в борьбе беспрепятственно одерживал победу сильнейший,
лучший. Когда социалисты говорят о государственном
вмешательстве в пользу изнемогающего в борьбе слабейшего борца,
либеральные экономисты возражают: зачем нарушать свободу? Здесь,
собственно, нет борьбы: это только форма, под которой кроется полная
солидарность интересов. Г-жа Ройе, с одной стороны, поддакивает
332
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
этому рассуждению, но в то же время говорит, что дело совсем не
в том; что борьба несомненно есть, но что все-таки борцам
должна быть предоставлена полная свобода справляться как знают, ибо
только благодаря борьбе жизнь воплощается все в новых и высших
формах. Уравняйте условия жизни борцов, и невозможно движение
вперед. При равенстве нет победы, нет прогресса. Что касается до
печальной стороны этой борьбы, то, говоря словами Дарвина, «мы
можем утешиться мыслью, что война не беспрерывна, что ее ужас не
сознается, что смерть обыкновенно быстра и что выживают и
размножаются особи здоровые, сильные и счастливые» (1, с. 64). Magister
dixit! Co своей стороны и г-жа Ройе удостоверяет: «Пора, если уже
не поздно, доказать массам, что справедливость и общее счастье
состоят в равенстве свободы и в прогрессе путем неравенства, которое,
превратив животное в человека, в будущем может произвести из
людей божественную расу, которая будет управлять землей справедливо,
в радости и мире» (587). О свободный извозчик! Неужели ты и теперь
откажешься кричать: да здравствует свобода! Теперь, когда тебе
доказано, как дважды два четыре, что несколько времени спустя после
того, как корова съест лопух, который из тебя вырастет, насчет
твоих слез и пота на земле явится божественная раса? Надо думать, что
г-жа Ройе встретит весьма серьезные препятствия в пропаганде этой
плодотворной идеи. Надо думать, что свободный извозчик
усомнится в ее достоинствах. И свободный извозчик будет не совсем неправ.
Верно ли, что из борьбы за существование победителями выходят
лучшие представители вида? Нет, не верно. Мы это уже доказывали и
будем иметь случай еще раз говорить об этом. Что выживают
«счастливые», как выражается Дарвин, это верно, потому что в этой
лотерее счастье именно в том и состоит, чтобы вынуть билет на жизнь.
Но ведь пословица говорит: «счастье дуракам». Допустим, однако, что
борьба действительно ведет к жизни сильных и к смерти слабых;
допустим, что «божественная раса» г-жи Ройе уже на земле; что
исполнилась фантазия сумасшедшего немца Браубаха, и вид «человека»
отодвинут высшим видом «ангел» (Religion, Moral und Philosophie der
Darwinschen Artlehre, 1869); что, как это ни трудно себе представить,
труд, согласно прорицаниям г-на Стронина, эксплуатирует капитал,
или какая-то эстетическая аристократия эксплуатирует
нравственную. Факт эксплуатации, как верно заметил г-н Стронин, при этом
не прекращается. Сегодняшние победители становятся завтра побеж-
Теория Дарвина и общественная наука
333
денными, слабые истребляются, но взамен их являются новые слабые
и т. д. без конца. И, несмотря на эту бесконечную выработку хотя бы
и высших форм, движения собственно нет, потому что отношения
между борцами остаются одни и те же. Это сказка о белом быке. Так
что нет возможности дождаться той божественной расы, которая
будет управлять землей «справедливо, в радости и в мире».
Но дело в том, что ни либеральной буржуазии вообще, ни г-же
Ройе в частности нет никакого дела до «божественной расы». Она
соблазняет ей свободного извозчика, но сама отнюдь не
соблазняется. Она, например, много говорит о свободе мысли, свободе печати,
свободе слова. Но это не мешает ей негодовать на распространение
в народе Библии и Евангелия, ибо «в Нагорной проповеди есть
достаточно элементов для ниспровержения всего социального строя, и
в догмате естественного равенства всех членов человеческого рода,
детей одного Отца, заключается отрицание всех жизненных условий
цивилизованных обществ» (586). Один социалист, тщательно
изучавший и глубоко чтивший Евангелие, однажды с жаром доказывал мне,
что «надо отнять у них (у либералов) Бога и Христа». Хлопоты,
кажется, совсем напрасные. Г-жа Ройе находит, что наши современные
учреждения слишком «покровительственны». Это, очевидно, следует
понимать так, что правительственное вмешательство ныне слишком
велико, слишком стесняет свободное регулирование сил. И, однако,
г-жа Ройе только для того и высказывает это обвинение, чтобы
потребовать запрещения законодательным путем браков между
людьми, страдающими наследственными болезнями. Так как этого рода
болезни, как говорит сама г-жа Ройе, в значительной степени зависят
от недостатков общественного устройства, то из беды
представляются два выхода и оба с государственным вмешательством: или
изменить самые условия, порождающие болезни, или запретить
больным размножаться. Но первый выход был бы, чего доброго, шагом
к «божественной расе», и потому г-жа Ройе о нем не упоминает и,
без сомнения, нашла бы его нарушением свободы. И вот она
призывает правительственное вмешательство для запрещения браков, т. е.
делать это вмешательство хроническим, так как источник болезней
не прекращается и обрубает только ветви дерева, на месте которых
вырастают новые.
Если подвести всему этому итог, то окажется, что не так страшен
черт, как его малюют. В теории г-жи Ройе проповедуется шествие по
334
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
направлению к божественной расе, шествие, которому должна быть
предоставлена полная свобода. Шествие это состоит из ряда побед и
поражений, причем происходит постоянная смена победителей; на
каждой такой станции победитель тем или другим способом держит
побежденного в зависимости, т. е. лишает его свободы. На практике
г-жа Ройе останавливается на исторической станции, ныне в Европе
переживаемой, на станции свободного извозчика, и всемерно
хлопочет о том, чтобы именно на этом пункте шествие по направлению к
божественной расе прекратилось. Она не брезгает для этого
никакими средствами. И здесь мы видим опять то удивительное свойство
либерализма, что он никак не может выбиться из заколдованного круга.
Кажется, что может быть радикальнее, что может быть утопичнее
божественной расы, управляющей землей «в радости и в мире».
Превращение морской воды в лимонад, на которое рассчитывал Фурье,
можно сказать, превзойдено. А между тем дело сводится к тому, чтобы
пригласить, а в случае надобности и понудить свободного извозчика
кричать виваты свободе.
Мы далеко не покончили ни с Ройе, ни с отношением теории
Дарвина к либерализму. Мы вернемся к ним, а теперь нам хотелось бы
указать на одно любопытное рассуждение Милля, одного из самых
умеренных, лучших и честнейших представителей либерализма,
человека, который столь далек от обычных каламбуров либералов, что
отважился сказать в своих «Основаниях политической экономии»:
«Узы коммунизма были бы свободой по сравнению с нынешним
состоянием большинства людей. Почти все сословие работников в
Англии и почти во всех других странах имеет так мало возможности
избирать себе занятие или место жительства, оно практически так
зависит от установленных правил и от чужой воли, что меньшей
свободой могло бы пользоваться разве при совершенном рабстве»
(I, 257). В своей книге «О свободе» Милль цитирует, между прочим,
следующие слова Вильгельма Гумбольдта124: «Конечная цель человека,
т. е. та цель, которая ему предписывается вечными, неизменными
велениями разума, а не есть только порождение смутных и преходящих
желаний, эта цель состоит в наивозможно гармоническом развитии
всех его способностей в одно полное и самостоятельное целое», что,
следовательно, предмет, «к которому каждый человек должен
непрерывно направлять все свои усилия и который особенно должны
постоянно иметь в виду люди, желающие влиять на своих сограждан,
Теория Дарвина и общественная наука
335
есть могущество и развитие индивидуальности», — что для этого два
необходимых условия, — «свобода и разнообразие личных
положений» (Утилитарианизм. О свободе, 274). Возвращаясь потом к этой
мысли, Милль говорит, что второе из условий, необходимых по
Гумбольдту для человеческого развития, т. е. разнообразие положений,
в Англии все более и более утрачивается. Прежде различные слои
общества, различные ремесла, различные местности жили своей
отдельной жизнью, не похожей на соседнюю. Ныне же все эти
различия сглаживаются. Конечно, говорит Милль, разнообразие
положений еще велико, но уже далеко не то, что было прежде, и притом
постоянно уменьшается. Ныне у всех более или менее одинаковые
права, одинаковые цели; политические перемены все имеют одно
общее направление — привести все к одному уровню;
распространение просвещения влечет за собой подчинение людей одним и тем же
влияниям, делает для всех доступным один и тот же запас фактов и
чувств; такую же тенденцию имеют и улучшение путей сообщения, и
развитие промышленности. Все это, говорит Милль, составляет такой
страшный заговор против индивидуальности, что надо теперь же
подумать о средствах к ее охранению, иначе будет поздно. Хотя Милль
и говорит при этом, что «разнообразие во всяком случае есть благо,
если бы даже оно состояло в отступлении от общепринятого не
только к лучшему, но и к худшему» (313), но его, разумеется, нельзя
заподозрить во враждебном отношении к распространению знаний или
к развитию промышленности. Трудно, однако, понять, какие средства
могут быть пущены в ход, чтобы нивелирующее течение науки,
промышленности, политических реформ было парализовано и чтобы
вместе с тем были сохранены стороны этого течения, признаваемые
и Миллем благотворными. Но не в том дело. Индивидуальность есть
также одно из понятий, допускающих различные каламбуры.
Индивид есть сумма свойств данной ступени органического развития, т. е.
данного вида. Об этом мы уже говорили в другом месте.
Следовательно, требование Гумбольдта — «наивозможное гармоническое
развитие всех способностей человека в одно полное и самостоятельное
целое» — и есть именно требование индивидуальности. Все
способности, какие только имеет человек как известная ступень
органического развития должны быть соединены в каждом из нас, в каждом
представителе вида. Таков идеал и Гумбольдта и Милля, к которому
все мы обязаны стремиться, хотя бы и без надежды осуществить его
336
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вполне. Едва ли кто-нибудь станет оспаривать законность и величие
такого идеала; выше его мы, очевидно, ничего себе представить не
можем. Но, очевидно также, что чем более будем мы приближаться к
этому идеалу, тем более будет исчезать разнообразие наших личных
положений; каждый из нас будет обладать всеми теми
способностями, какими обладают и остальные. А между тем этого-то Милль и не
хочет и говорит, что при этом исчезнет индивидуальность. Здесь
индивидуальность берется уже в другом смысле, в смысле личной
особенности, в смысле таких свойств, какие есть у меня, но нет у моего
соседа, и наоборот. Понятно, что согласовать два таких требования
индивидуальности невозможно. Удивительно, каким образом
Гумбольдт и Милль находят возможным достигнуть гармонического
развития всех сил и способностей человека в одно целое посредством
размещения этих сил по множеству индивидов. Правда, они ставят
рядом с тем, что они называют индивидуальностью, свободу. Но это
едва ли не усложняет затруднения. Свобода, без каламбура, есть
независимость от других людей. Такая независимость невозможна при
столкновении интересов людей с различными формулами жизни, т. е.
людей, находящихся в различных положениях; потому что, если одна
личность или одна группа личностей выработала себе выгоднейшие
при данной обстановке функции, то она непременно поработит
личности или группы личностей с функциями менее выгодными. Так что
индивидуальность, как ее понимают Милль и Гумбольдт, не уживается
ни со свободой, ни с гармоническим развитием всех способностей в
одно целое. Наоборот, только такое гармоническое развитие может
дать и свободу, но оно же заключает в себе и требование равенства,
так как желательно гармоническое развитие всех способностей в
каждом человеке.
IV. ЗАМЕТКИ О ДАРВИНИЗМЕ
До большинства образованных людей доходят преимущественно
либо сам Дарвин и популярные изложения его учения, либо грубые,
восклицательно-препирательного свойства нападки на него.
Обстоятельство это, естественно, весьма мало способно разбудить и
воспитать критическое отношение к предмету. Самые заклятые
противники дарвинизма соглашаются, что враждебное им учение
обставлено очень искусно, построено с большим тщанием и остроумием.
Теория Дарвина и общественная наука
337
Понятно, какое чарующее влияние должна иметь эта удивительная
постройка на умы людей, непосвященных специальным образом в
тайны естественных наук. Для большинства образованных людей
дарвинизм пришел, увидел и победил. О критическом отношении
тут едва ли может быть и речь. Наши силы, силы профанов, слишком
ничтожны, чтобы сопротивляться мощи дарвинизма; и разве
только чувства наши, которые у профанов могут быть и более чутки, чем
у вождей науки, мешают нам безропотно и бесповоротно принять
учение Дарвина во всех его частях. С другой стороны, если какой-
нибудь Шбель125 с ясностью медного лба объявляет нам, что теория
Дарвина есть такой же вздор, как столоверчение и од; или если какой-
нибудь узколобый моралист считает нужным выставлять против
теории не факты, а свои собственные понятия о человеческом
достоинстве и т. п. — мы естественно не только не расположены
взвешивать их опровержения, но, сравнивая эту мелочь и ветошь с учением
Дарвина, еще более утрачиваем возможность быть настороже. Голоса
же наиболее ценные, голоса людей, относящихся к дарвинизму не
с увлечением учеников, но и не с нахальством невежд, заушающих
теорию во имя начал ей совершенно чуждых, эти голоса до нас почти
не доходят. А между тем едва ли нужно доказывать, что ввиду
многообъемлющих доктрин, которые, как дарвинизм, захватывают самые
корни жизни, отсутствие критики особенно пагубно. Читатель не
найдет поэтому, может быть, лишним воспроизведение некоторых из
упомянутых голосов. Мы далеки от мысли исчерпать все, хотя бы и
наиболее замечательные возражения и указания, вызванные теорией
Дарвина. Мы хотим только представить несколько мыслей,
высказанных о дарвинизме и по поводу него людьми, заслуживающими
уважения и притом настолько, насколько мысли эти могут нам помочь в
разработке предмета статьи.
Мы начнем с замечаний французского знатока Лаказа-Дютье
(Lacaze-Duthiees. Annales des sciences naturelles. Zoologie et
paléontologie, t. II, 1864. Mémoire sur les Antipathères, XII. De la loi de destruction
réciproque des êtres. P. 220-233). Лаказ-Дютье отказывается, во-первых,
признать фактом всеобщим борьбу за существование между
неделимыми одного и того же вида, и приводит из области низших
животных несколько примеров, в которых, по его мнению, отсутствует
борьба за пространство, за пищу, за воспроизведение рода. Но и в тех,
признаваемых им весьма многочисленными, случаях, когда борьба
338
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
за существование между неделимыми одного и того же вида и
подбор родичей существуют несомненно, Лаказ-Дютье отказывается
признать за элементом борьбы творческое, прогрессивное значение,
какое ему придается дарвинистами. Самый факт борьбы и подбора
Лаказ-Дютье признает и даже дает ему свое особенное название
«закона взаимного истребления существ», но истолковывает его
совершенно иначе. Несомненно, говорит он, что борьба может истребить
вид, но каким образом может она его создать? Какой тиф одолеет
своих собратьев в борьбе за существование? Очевидно, тот, который,
если можно так выразиться, всех «тигрее», тот, в котором типические
признаки вида выражены наиболее характерно. Следовательно, роль
борьбы и подбора существенно консервативная; в результате их
влияний получается сохранение в возможно чистом виде характерных
видовых признаков, а отнюдь не прогрессивное их развитие. Борьба
существует, она истребляет целые расы, но отнюдь не к выгоде
победителей.
Такова сущность возражений Лаказа-Дютье. Они очень кратки
и беглы, так как сделаны попутно, в виде маленького параграфа в
большой специальной работе. В конце концов, отдавая должную
справедливость заслугам Дарвина и стройности его теории, Лаказ-Дютье
не считает возможным решительно пристать к трансформистам, ибо
выставляемая ими основная причина изменения видов
истолковывается для него в диаметрально противоположном смысле. Что же
касается трудностей, встречаемых теорией постоянства видов, то, по
мнению Лаказа-Дютье, они не более тех трудностей, с которыми
приходится бороться и теории трансформизма. Впрочем, Лаказ-Дютье
сохраняет в этом отношении положение нерешительное. Нетрудно
видеть, что замечания Лаказа-Дютье не имеют того общего значения,
какое он им придает. Дарвинист мог бы возразить, что в борьбе за
существование далеко не всегда одолевает индивид, совмещающий в
себе в чистейшем виде все характерные признаки вида, а, напротив,
весьма часто индивид, сильно отклоняющийся от них. Но замечания
Лаказа-Дютье все-таки имеют цену для многих частных случаев. И мы
могли бы и среди общественной жизни людей найти немало таких
случаев, когда конкуренция, борьба оканчивается для победителей
сохранением в усугубленном виде типических сторон status quo.
Кёлликер (Ueber die Darwinsche Schöpfungstheorte. Leipzig, 1864)
решительно становится на сторону трансформистов и считает даже
Теория Дарвина и общественная наука
339
совершенно лишним взвешивать доводы их противников. Но, тем не
менее, он по разным причинам считает невозможным согласиться
со многими из основных положений Дарвина. Он не говорит, чтобы
факторы изменчивости видов, указанные Дарвином, совершенно
отсутствовали, хотя и тут он весьма скептически относится, например,
к лежащему в основании дарвинизма принципу полезности
видоизменений. По его мнению, всякий организм в своем роде совершенен,
и если он раз приобрел полезные для него особенности, то не видно,
почему бы для него нужны были все новые и новые изменения, раз
изменения эти управляются только началом полезности. Как бы то
ни было, Кёлликер полагает, что развитие органической жизни на
земле шло и идет в общем совсем не теми путями, на которые
указывает дарвинизм. Гипотезе Дарвина Кёлликер противопоставляет
свою собственную, правда, менее выработанную и хуже
вооруженную. Кёлликер обращает внимание на явление обмена поколений, на
поразительное сходство зародышей животных, сходство до такой
степени близкое, что зародышу достаточно было бы сделать в
своем развитии самое ничтожное отступление в ту или другую сторону,
чтобы развиться в совершенно отличную от родича форму; далее, на
половой диморфизм, причем самки и самцы часто до такой
степени отличаются друг от друга, что с полным правом могли бы быть
относимы к различным видам и даже семействам, если бы не было
известно их более близкое родство; наконец, на полиморфизм
некоторых видов, в особенности из перепончатокрылых, причем,
например, у термитов из совершенно тождественных яиц развивается
восемь резко отличных форм. Совокупность этих явлений
побуждает Кёлликера думать, что для объяснения разнообразия форм
органической жизни и их изменчивости нет надобности прибегать к
сложному механизму крайне медленных полезных видоизменений
и подбора, который, вдобавок, по его мнению, не выдерживает
критики и сам по себе. Он полагает, что, повинуясь некоторому общему
закону развития, или, как Кёлликер неудачно выражается, «великому
плану развития», виды способны переходить в более сложные
формы непосредственно. В чем состоит этот закон, каким образом он
действует — неизвестно, но наблюдение свидетельствует, что прямые
потомки могут быть очень несхожи ни между собой, ни со своими
ближайшими предками. Совершенно таким же путем
непосредственного усложнения могло произойти и все бесконечное разнообразие
340
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
видов. И аналогия явлений обмена поколений показывает, что эти
изменения признаков могут или могли происходить довольно
большими скачками (Sprungweise Veränderungen).
Упоминая об этой теории Кёлликера, Негели (Происхождение
естество-исторического вида и понятие о нем. Перевод Стофа. М.,
1866) замечает, что несмотря на свою заманчивость и устранение
при помощи ее многих затруднений, она все-таки представляет не
более как возможность. Впрочем, Негели восстает только против
больших скачков в развитии. Сам же он тоже не удовлетворяется
теорией Дарвина и, подобно Кёлликеру, признает некоторый
общий закон развития, в силу которого организмы непосредственно
переходят в высшие формы, помимо метаморфоз, испытываемых
ими путем борьбы за существование, полезных приспособлений и
подбора. По Дарвину, присущая организму индивидуальная
изменчивость может направляться во все стороны. Определенное же
направление, принимаемое ею в ряду поколений, зависит
единственно от внешних причин. Эта теория, что бы ни говорили дарвинисты,
очевидно, исключает закон необходимости усовершенствования.
Достаточно ли одного этого принципа для объяснения фактов?
Негели отвечает на этот вопрос отрицательно на следующих
основаниях. По теории полезности (название это Негели дает теории
Дарвина в противоположность другой, которую он называет
теорией усовершенствования), всякий вид должен раньше или позже
достигнуть формы, соответствующей окружающим его условиям и
сохранить ее без изменений до тех пор, пока не произойдет
достаточно важная перемена в обстановке. Попав в другую обстановку,
вид приспосабливается к ней и принимает соответственную форму.
Возвратясь к прежним условиям, он должен бы был принять
прежнюю форму, ибо она представляет собой наиполезнейшее
приспособление к этим условиям. Однако на самом деле этого нет.
Прирученная порода, возвращаясь к прежним условиям жизни, дичает,
но принимает не первоначальную свою форму, а какую-нибудь
новую. Далее, если два сродных вида поставлены в одинаковые
внешние условия и находятся в них до совершенного приспособления,
то они должны бы были слиться, перейти в один и тот же вид, так
как самая полезная в данной обстановке форма может быть,
очевидно, только одна. Однако мы сплошь и рядом видим, что в
известной местности, при одинаковых условиях существуют близко
Теория Дарвина и общественная наука
341
сродные виды. «Можно ли, вообще, представить себе, — спрашивает
Негели, — чтобы вся сложная организация самого высшего
растения и самого высшего животного образовалась только мало-помалу,
из менее совершенной, чтобы микроскопическое растеньице
превратилось в яблоню по истечении бесчисленных поколений в силу
одной борьбы за существование? Следующее рассуждение поможет
нам разрешить этот вопрос. Самая высшая организация
обнаруживается двумя свойствами: совмещением в себе самых
разнообразных органов и самым совершенным разделением между ними труда.
Оба условия совпадают обыкновенно в животном царстве, так как
каждый орган имеет свое определенное отправление. У растений
же обстоятельства эти не зависят друг от друга; одним и тем же
отправлением могут заведовать совершенно различные органы, даже
у близко сродных растений один и тот же орган может нести
всевозможные физиологические отправления. Замечательно, что
полезные приспособления, описываемые Дарвином у животных и
существующие в большом количестве и в растительном царстве, суть
исключительно физиологической природы и указывают всегда на
развитие и изменение органа для особенной цели.
Морфологическое изменение, объяснимое принципом полезности, неизвестно в
растительном царстве, и я не могу даже представить, каким образом
могло бы оно произойти, так как общие морфологические
процессы относятся к физиологическому отправлению в высшей степени
безразлично. Теория полезности требует, как высказался и Дарвин,
чтобы безразличные признаки были изменчивы, полезные же
постоянны. Поэтому чисто морфологические особенности растений
должны бы легче всего подвергаться изменению; особенности же,
обусловленные определенным отправлением, — труднее всего
изменятся. Опыт показывает противное... Вначале явилось одно
только одноклеточное растение или же несколько видов таких
растений. Соперников не было, и внешние условия были одинаковы на
всей земной поверхности. По теории полезности не
существовало двигателей, обусловливавших появление полезных изменений.
Как развились более сложные и вышеорганизованные существа, она
тем более не в состоянии объяснить, что именно одноклеточные
растения в такой высокой степени индифферентны к внешней
обстановке. Сверх того, в настоящее время находим мы один и тот же
вид распространившимся по различным поясам, при разнообраз-
342
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
нейших, следовательно, климатических условиях, и окруженным
самым разнообразным животным и растительным миром».
Ввиду всего этого Негели считает решительно невозможным
довольствоваться для объяснения постепенного образования
высших форм жизни одной теорией Дарвина или теорией полезности.
Признавая подбор родичей, руководимый борьбой за
существование, несомненным фактором изменения видов, он находит нужным
поставить наряду с ним и другой фактор. По его мнению,
индивидуальная изменчивость стремится не неопределенно во все стороны,
не идет ощупью, а направляется сообразно особому закону,
преимущественно вверх, к более сложной организации. То есть, если
бы борьба за существование и отсутствовала, организмы все-таки
подвергались бы постоянным изменениям, и притом совершенно
определенного характера.- они все усложнялись бы, совмещали бы
в себе все большее разнообразие органов и все большее разделение
между ними труда, т. е. все совершенствовались бы. Свойство
преобразовываться в более сложную и совершенную форму так же
присуще всякому организму, как присуще в неорганической природе,
например, известным элементам группироваться только в
определенные химические соединения и принимать только определенные
кристаллические формы. Как в клеточке атомы углерода, водорода,
кислорода и азота обнаруживают стремление слагаться в более и
более сложные и высшие соединения, так точно и самым клеточкам
присуще стремление сойтись все в большем и в большем числе и
составлять все более и более сложные формы. Таким образом,
Негели принимает два рода факторов развития органической жизни
на земле. Преобразование вида, происходящее под влиянием
факторов, указанных Дарвином, т. е. подбора, борьбы за существование
и полезных приспособлений, приостанавливается, как только вид
приспособился к окружающим условиям. Но преобразование под
влиянием принципа усовершенствования таких остановок не знает
и гонит вид к дальнейшим метаморфозам, действуя весьма часто
скачкообразно. Если вид и остается, по-видимому, одинаковым в
течение целого геологического периода, то тем не менее в нем
происходят постоянные внутренние изменения, которые необходимо
повлекут за собой, наконец, морфологическое усовершенствование,
а это последнее вызовет новое соответственное приспособление
функций.
Теория Дарвина и общественная наука
343
Нам нужно сказать еще несколько слов о небольшой книжке иен-
ского профессора математики и физики Карла Снелля (Die Schöpfung
des Menschen. Leipzig, 1863), в которой, несмотря на фантастический
и глубоко-поэтический колорит, некоторые чисто научные данные
сгруппированы с замечательной оригинальностью и смелостью
мысли. Если Кёлликер отнесся к этой книжке со снисходительным
презрением ученого специалиста, то Геккель обратил на нее весьма
серьезное внимание и даже заимствовал из нее кое-что.
Снелль воздерживается от критики дарвинизма, по крайней мере,
в упомянутом сочинении, которое имеет целью по возможности
популярное изложение собственных воззрений автора на прогресс
органической жизни. Ограничиться отрывочными замечаниями, какие
только и возможны были бы в подобном произведении, Снелль не
желает именно из уважения к труду Дарвина и к заслугам
последнего как для науки вообще, так и для вопроса о происхождении видов
в частности. Тем не менее, однако, Снелль радикально расходится с
Дарвином во всем, за исключением общего положения об
изменяемости видов. Подобно Негели, Снелль полагает, что виды изменяются
в определенном направлении и именно образуют собой восходящие
ряды наисложнейших форм в силу некоторого общего закона
развития. Но если и Негели возбудил против себя упрек в метафизичности
своего воззрения, то тем паче подобный упрек может быть сделан
Снеллю. Впрочем, относительно Снелля эта игра не стоит свеч, и мы
ею заниматься не будем, а просто постараемся извлечь из него, что
нам нужно.
Снелль отправляется от аналогии между историей человечества и,
так сказать, историей природы. Аналогия эта составляет теперь вещь
крайне избитую и истасканную, но у Снелля она, как увидим, имеет
некоторое особое значение. Наиболее общую черту развития
«исторических организмов», т. е. человеческих обществ, говорит Снелль,
составляет постепенное усиление разделения труда не только в тесном,
техническом смысле слова, в каком оно значится в учебниках
политической экономии, айв широком смысле постепенного распадения
деятельности человека на составные части. Это усиление разделения
труда мы замечаем как при сравнении двух обществ, стоящих на
различных ступенях развития, так и при сравнении различных фаз,
проходимых одним и тем же обществом. Точно так же и в «естественных
организмах». Разделение труда между органами высшего животного
344
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
проявляется резче, чем в низших организмах, и в зрелом возрасте
сильнее, чем в ранние периоды жизни. С этим общим явлением
тесно связано другое, именно образование резко отличающихся друг
от друга групп существ из общего источника такой организации,
в которой резкие особенности нынешних отдельных групп
сливались в одно целое. Ныне формы переходные, которые совмещали бы
в себе особенности двух соседних групп, составляют редкость. Они
существуют только в очень узких географических пределах, имеют
крайне слабую, малоспособную к сопротивлению внешним силам
организацию, очень бедны разнообразием видов. В ранние же
геологические периоды такие смешанные существа существовали,
напротив, в огромном количестве и были широко распространены.
Таков, например, лабиринтодонт, в котором совмещались признаки
нынешних лягушек, черепах и ящериц и который был, по
выражению Бурмейстера, не лягушка, не черепаха и не ящерица, а
земноводное вообще с самой общей организацией, какую только допускает
этот класс животных во всей своей совокупности. Это как бы
воплощенная идея земноводного. Ныне же эта идея воплощается только
по частям. В истории человечества обнаруживается совершенно
аналогичная черта. В завещанных нам Древним Востоком сочинениях,
например, мы находим пестрый переплет религиозных верований,
поэзии, философии, государственной мудрости, естествознания и
притом не в механическом смешении, а в прочной внутренней связи.
И все это целое так же мало может быть подведено под наши
рубрики поэзии, философии и проч., как не поддаются нашим
классификациям допотопные организмы. По этой причине нам так и трудно
понять умственную жизнь древних. Есть много поводов смотреть на
неопределенные, но богатые внутренним разнообразием
смешанные организации, как на носителей прогрессивного развития, при
котором из них, как из общего источника, расходятся во все стороны
резко различающиеся формы. В каждом геологическом периоде мы
встречаем большое разнообразие организмов. Но не все они
переходят в измененном и более развитом виде из одного периода в
следующий. Большое число их вымирает, а выживающие вновь производят
разнообразие видов, распадаясь на отличные друг от друга формы,
из которых одним суждено жить только короткое время, а другие
несут в себе зерно дальнейшего развития. Первые имеют,
сравнительно со вторыми, большую наклонность приспособиться всякий раз
Теория Дарвина и общественная наука
345
к данным условиям и очень деятельны в своих сношениях с внешним
миром; вторые проникнуты каким-то темным позывом к будущему и
мало пользуются наслаждениями и удобствами настоящего. Первые в
известную эпоху овладевают всей мировой сценой, тогда как вторые
отступают в это время на задний план. Но как только окружающие
условия изменяются, первые либо вымирают, либо вновь
приспособляются, еще более суживая свою внутреннюю жизнь; вторые же
сохраняются для дальнейшего развития. Так идет дело до тех пор, пока
известный принцип организации, например, тип позвоночных, не
достигнет высшей точки своего развития. Переход одного принципа
организации к другой, высшей — невозможен. Такое же расчленение
некоторого первобытного целого встречаем мы и в истории
человечества, например, в распадении древнего индогерманского народа
на племена, населяющие ныне Европу и часть Азии, и т. п. Выработка
новых форм организации идет безостановочно, и застой в этом
отношении бывает только кажущийся. Если мы видим, например, что
личинка бабочки долгое время существует, по-видимому, нисколько
не изменяясь, то, тем не менее в ней происходят постоянные
внутренние изменения, которые завершаются, наконец, весьма быстрым
превращением в куколку, а с этой последней происходит, в свою
очередь, то же самое. Предполагать, чтобы эти изменения организации
были непременно прогрессивны, нет никакого основания.
Возможны изменения и регрессивные, и они ничуть не реже прогрессивных;
возможно и совершенное исчезновение известных типов. Вообще,
типы организации могут быть сведены к двум категориям, между
которыми, разумеется, существуют переходные: типы идеальные,
разносторонние, которые могут быть и неопределенны и беспомощны
в практическом отношении, но во всяком случае составляют залог
дальнейшего развития, и типы практические, односторонние,
совершенно приспособившиеся к данным условиям, хозяйничающие в них
вполне, но бессильные противостоять напору измененных условий.
Тут Снелль впадает в такую путаницу, которую трудно даже
изложить. Не отрицая совершенно влияния внешних условий, он полагает,
по-видимому, что главным фактором развития органических форм
служит нечто вроде шопенгауэровой «воли». Он очень поэтически
говорит о мечтах, фантазии, идеалах, неясных стремлениях к более
или менее высоким целям, напряжении воли, из которых слагается
некоторая внутренняя сила, заставляющая организм даже низших
346
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
животных развиваться, только в той или другой мере
приспосабливаясь к окружающим условиям. Но эта поэтическая картина для нас
значения не имеет.
Подводя итоги всем приведенным замечаниям и мыслям,
высказанным как о теории Дарвина, так и по поводу ее, мы замечаем, что
все они бьют в одну и ту же сторону. Все они отказываются признать
за некоторыми факторами происхождения видов, указанными Дарви-
ном, т. е. за борьбой за существование между неделимыми одного и
того же вида, за подбором, за полезными приспособлениями, —
творческое, прогрессивное значение, в той мере, в какой оно им
придается дарвинистами. Надо, впрочем, заметить, что когда прошел первый
пыл увлечения новым ученьем, многие из самих дарвинистов в своих
специальных исследованиях встретили множество фактов, слишком
ясно свидетельствовавших, что путями, указанными учителем, далеко
не всегда осуществляется «возникновение высших форм жизни».
Изучение жизни и строения паразитов доставило в этом отношении
особенно богатый материал скептицизму. Сам Дарвин в последнем своем
сочинении сознается, что он преувеличивал значение подбора,
борьбы и полезных приспособлений как факторов прогресса, и приводит
несколько примеров совершенно противоположного их влияния.
Но вышеприведенные авторы не только отрицают прогрессивное
значение этих факторов, но находят еще, что их совершенно
недостаточно для объяснения развития органической жизни на земле.
И опять-таки все они, за исключением Лаказа-Дютье, относящегося
к вопросу о происхождении видов неопределенно, указывают,
собственно говоря, на один и тот же закон, который, по их мнению,
необходимо приходится допустить, если не юамен законов Дарвина,
то, по крайней мере, наряду с ними. Закон этот есть давно и прочно
стоящий в науке, так называемый закон Бэра, закон постепенного и
постоянного усложнения, усовершенствования организации. Правда,
в том виде, в каком закон этот прилагается к делу Кёлликером, Негели
и Снеллем, он представляет гипотезу. Но ведь и теория Дарвина
заключает в себе немало гипотетического, хотя разработана она
несомненно тщательнее и лучше, нежели упомянутые теории. Правда и то,
что в последних есть нечто метафизическое, и, однако, нам кажется,
что наиболее метафизическая из них, теория Снелля, содержит в себе
совершенно реальное и положительное зерно, которое при
некотором уходе даст и цвет и плод.
Теория Дарвина и общественная наука
347
Теория Снелля имеет для нас еще особенное значение, именно
тем, что она отправляется от параллелизма явлений природы и
общества. Параллели этого рода, как мы уже упоминали, далеко не новы.
И замечательно, что все, занимавшиеся проведением их, полагают,
что они открыли Америку. Так, Эдгар Кинэ126, приступая к
ближайшему изложению этого параллелизма, говорит: «Здесь я вступаю в
девственный лес; кругом меня все неизвестно, проводников нет.
Никто до меня не был в этом священном лесу» (La Création. Paris, 1870.
II, 225). Но, не говоря уже о том, что параллелизм явлений природы
и общественной жизни ныне составляет одну из самых ходячих тем,
Блунчли127 еще в 1844 году измышлял параллели между государством
и мужчиной, церковью и женщиной, между уголовной юстицией и
пупом, между министерством иностранных дел и обонянием и проч.
Описывая зарождение в себе этих идей, Блунчли говорит: «Тут были
моменты, когда я вполне наслаждался счастьем научного открытия»
(Psychologische Studien über Staat und Kirche, XII). Спенсер не знает
о трудах этого рода Дрэпэра, и обратно Дрэпэр не знаком с
параллелями Спенсера. А между тем, не восходя к классической древности,
например, к Платону, пропуская Гоббса или Шекспира, у которых идея
этого параллелизма является более или менее случайно, уже в
средние века можно найти ее в довольно разработанном виде и с
практическими применениями. Это неустанное открывание Америки, в чем
собственно и состоит историческая судьба идеи социального
организма и связанных с нею аналогий, весьма поучительно. Оно
осязательно показывает бессилие идеи, так как ни одна действительно
научная, плодотворная идея не может обнаружить такой
решительной неспособности образовать хоть какую-нибудь традицию. Так
периодически затериваться и выскакивать, выскакивать и затериваться
без следа может только нечто совершенно непригодное. На эту тему
можно написать целые тома, еще более шутовские, чем измышления
Блунчли, еще более деловитые, чем рассуждения Спенсера, еще более
поэтические, чем сочинение Кинэ, и все-таки новый исследователь
станет открывать Америку и восхищаться во всеуслышание своим
открытием. Но для наглядного уяснения того или другого процесса,
того или другого явления, без мечтаний о новой науке и о
действительном изучении явлений этим путем, подобные аналогии могут
быть очень удобны. И в этом отношении Снелль часто пользуется
ими не без успеха. Притом же, например, сближение расхождения
348
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
видовых признаков с распадением индогерманского племени есть
уже не аналогия, а прямо наведение.
Но для нас всего ценнее в теории Снелля различение типов
«практических» и «идеальных». Это указание, принятое и ярым
дарвинистом, и замечательным ученым Геккелем, в связи с приведенными
замечаниями Лаказа-Дютье, Кёлликера и Негели может бросить
совершенно новый свет на теорию Дарвина. Факт как бы распадения
некоторой сложной организации на несколько позднейших, более
простых, был замечен уже довольно давно Агассицом. Он называет
«идеальные» типы Снелля «пророческими», или, точнее,
«синтетическими», но, разумеется, объясняет факт по-своему и не видит тут
никакого перехода видов. Тем не менее, он совершенно справедливо
ставит Геккелю в упрек, что тот в своих генеалогических таблицах
органических существ вовсе не принял в соображение существования
идеальных или синтетических типов, так сказать, разменивающихся
на мелочь. Обстоятельство это действительно весьма важное, и ни
один добросовестный трансформист не имеет права упускать его из
виду.
Для дарвинистов вся сумма органической жизни на земле во всем
ее разнообразии произведена совокупным действием двух
физиологических деятелей: наследственности и приспособления. Первая
представляет элемент консервативный, элемент инерции, второе —
элемент прогрессивный, элемент движения. Борьба за
существование и подбор родичей обусловливают собой вымирание форм
слабых, менее приспособленных к окружающим условиям, и победу
форм сильных, приспособленных. Таковы простейшие основания,
на которых зиждется дарвинизм. Основания эти, как думают
вышеупомянутые натуралисты, односторонни, но трудно усомниться в их
фактической верности. За всем тем, однако, остается еще открытым
вопрос о выводах, делаемых дарвинистами из этих посылок. Верно
ли дарвинисты понимают и объясняют значение основ своего
учения? Много званных, но мало избранных, справедливо говорят
дарвинисты. Но кто же избранные?
Для пещерных животных глаза составляют роскошь, совершенно
ненужный предмет, на поддержание которого даром тратится
известная доля питательного пластического материала. Поэтому одним
из полезных приспособлений для пещерных животных будет утрата
чувства и органа зрения. Победителями в борьбе за существование,
Теория Дарвина и общественная наука
349
подобранными, избранными окажутся подслеповатые, для которых
прогресс сподручнее. Насекомые, живущие на островах, во
множестве гибнут в море, если далеко залетают от берега. Поэтому
полезным приспособлением для островных насекомых будет слабость
крыльев, и, действительно, на островах бескрылых насекомых
относительно гораздо больше, чем на материках. Итак, победителями
в борьбе за существование, подобранными, избранными, будут
наиболее слабые и ленивые. Для некоторых паразитов органы зрения и
движения составляют лишнее бремя. Поэтому во взаимной борьбе
за существование те из них будут иметь большие шансы на победу,
которые будут уже заключать в себе задатки вялости движений и
слабости зрения. Они будут избранные. Натуралист, конечно, сумел бы
привести больше и более замечательных примеров таких
приспособлений, которые, будучи в узком практическом смысле полезны,
понижают уровень развития вида и заключают в себе зерно его
окончательного вырождения или исчезновения при изменении условий
жизни. Да не смущается читатель тем обстоятельством, что в наших
примерах условия жизни взяты довольно исключительные: жизнь
в пещерах, на островах, паразитизм. Эти примеры годятся нам
именно по своей резкости. Конечно, природа представляет относительно
немного таких резких случаев ретроградного развития организации,
победы слабых и бездарных и вредоносности полезных
приспособлений. Но можно утвердительно сказать, что случаи решительно
прогрессивного развития путем борьбы между неделимыми одного
и того же вида не менее редки. В самом деле, путем борьбы, подбора
и полезных приспособлений вид может претерпевать изменения во
всевозможных направлениях. Поэтому шансы для прямолинейного
развития вперед, по крайней мере, не сильнее шансов для
прямолинейного отступления назад. В большинстве случаев формула жизни
вида будет изменяться в некотором среднем направлении, целиком
определяющемся степенью широты или узкости жизненных
условий. Несомненно, что победа в пресловутой struggle for life сплошь
и рядом достается организмам малосильным, малодаровитым. Сами
дарвинисты сознаются, что, так как успех в борьбе зависит часто
от второстепенных и случайных особенностей организации, которые
могут выпасть на долю слабейших, низших представителей вида, то
победа часто должна оставаться за последними. Некоторые
дарвинисты идут дальше и говорят: «Естественный подбор везде способствует
350
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
развитию типов практических в ущерб типам идеальным» (Haeckel,
Generelle Morphologie II, 262). А что такое практический тип? Это
подслеповатое пещерное животное, это слабокрылое островное
насекомое, которое, благодаря не силе своей, а своей слабости, вытесняет
своих родичей со слишком размашистыми крыльями. Это вообще
тип, находящийся как раз на уровне обстановки, быстро к ней
приспосабливающийся, царящий при ней, давящий при ней всех и вся,
но непременно гибнущий вместе с ней, ибо ни к каким более
широким условиям жизни он уже не в состоянии примениться. Что такое
тип идеальный? Это гибнущий из-за своей силы на узком поприще
островной жизни жук, это вообще тип несгибающийся,
неподатливый и либо гибнущий в узкой среде, либо развертывающийся во всей
своей мощи на просторе. Там, где выгодно жить без конечностей,
даже без головы, где выгодно превратиться в желудок и отбросить все
остальные элементы организации, где выгодно иметь слабые крылья
или неразвитую нервную систему, и проч., и проч., там идеальные
типы будут задавлены и восторжествуют не сильные, а слабые, или,
лучше сказать, практически сила окажется на стороне низших типов.
Дарвинисты это знают или, по крайней мере, подозревают. «При очень
простых условиях жизни, — говорит Дарвин, — высокая организация
была бы бесполезна, быть может, была бы даже положительно вредна,
как более нежная, более подверженная расстройству и повреждению»
(О происхождении видов, 105). Но на дарвинизме лежит
характерная печать узкой и сильной английской практичности. Ум Дарвина
однороден с умами Бекона, Гоббса, Бентама, и эта однородность ума
сказывается и в некоторой однородности доктрин. Это умы
чрезвычайно сильные в развитии подробностей, в последовательном
проведении известного начала по всем возможным разветвлениям, но
вместе с тем умы не широкие, с относительно малым размахом.
Утилитарный принцип, к которому вообще так расположены английские
мыслители, проведен Дарвином в объяснении явлений органической
жизни блистательно, остроумно, последовательно, ловко. Но как
вместе с тем здесь узко понят этот утилитарный принцип! Рядом с
удивительной легкостью мысли, с замечательной работой воображения
и проницательностью в объяснении известного явления с точки
зрения принципа полезности вас поражает узкость границ, отводимых
самому этому принципу, и неповоротливость мысли в этом
направлении. Факт несомненен: под влиянием факторов, указанных Дарви-
Теория Дарвина и общественная наука
351
ном, т. е. борьбы за существование между неделимыми одного и того
же вида и подбора родичей, принцип полезных приспособлений,
каковы бы они ни были, торжествует. Все, не могущее усвоить себе
особенностей, указываемых практическими требованиями
обстановки, гибнет. Таков факт. Но от простого констатирования факта еще
далеко до возведения его в перл создания, до «восхищения» им, до
переименования полезных, в самом узком смысле, приспособлений
в «совершенствование». Конечно, Дарвин, глядя на природу, радуется
далеко не со столь ограниченно-праздничной точки зрения, какая
усвоена большинством его противников. Отсутствие какой-либо
предоставленной целесообразности в явлениях природы понимается им
вполне, и телеология имеет в его теории непреоборимого
противника. И, тем не менее, значение им самим указываемых и
разъясняемых явлений понимается им слишком односторонне и узко. И быть
может, знаменитый предшественник Дарвина, гениальный Ламарк,
бесспорно заблуждавшийся во многом, смотрел в некоторых
отношениях шире на дело, когда говорил, что полезные приспособления
(Ламарку была, впрочем, чужда идея приспособлений в строго
дарвинистском смысле) обусловливают собой не прогресс организации, а
неправильности прогресса; закон же прогресса по Ламарку есть
закон постепенного усложнения организации, т. е. тот именно закон,
который выставляется ныне Кёлликером, Негели, Снеллем.
Достойно внимания, что дарвинизм, стремящийся образовать
целую философскую систему, не выработал определенного
критерия совершенства. Сам Дарвин весьма двусмысленно относится
к вопросу о том, что может быть принято за мерило
усовершенствования или понижения организации. А между тем, не говоря уже
о важности этого вопроса в нравственно-политической доктрине,
каковую дарвинисты желают, между прочим, построить, очевидно
его важное значение и для истории природы. Дарвин иногда
говорит о законах борьбы как о «самой решительной из всех проб»
относительного совершенства организации (О происхождении видов,
267); иногда же обращается к критерию Бэра. «Мерило,
предложенное фон Бэром, — говорит он, — по-видимому, самое приложимое
и самое лучшее, а именно степень обособления отдельных органов
(в зрелом возрасте, я хотел бы прибавить) и их приспособление
к отдельным отправлениям, или, как выразился бы Мильн-Эдварде,
степень разделения физиологического труда» (там же, 102). Ино-
352
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
гда, наконец, Дарвин подчиняет критерий Бэра своему, утверждая,
что так как высокая степень физиологического разделения труда
выгодна для организма, то она входит в круг действия борьбы и
подбора. И вообще, упомянув мельком о трудности, сложности и
запутанности вопроса, Дарвин склонен отождествлять результаты
борьбы, подбора и полезных приспособлений с
усовершенствованием по критерию Бэра. А второстепенные дарвинисты налегают
на эту тождественность еще сильнее.
Можно защищать совершенно противоположный тезис. Можно
утверждать, что в большинстве случаев борьба за существование
между неделимыми одного и того же вида, с одной стороны, и
правильное развитие, с другой — полезные приспособления и
усовершенствование — находятся в прямом антагонизме. Здесь мы встречаемся
с нашим старым знакомым — смешением понятия разделения труда
между органами одного и того же неделимого с понятием
разделения труда между неделимыми одного и того же вида,
отождествлением разделения труда физиологического с разделением труда
экономическим. И если читатель удостаивал наши прежние статьи своим
вниманием, он без труда поймет направление нашей аргументации и
в настоящем случае.
В главе о расхождении (дивергенции) признаков Дарвин дает
ключ к уразумению слабой стороны дарвинизма. Он рассуждает так.
В известной местности живет известная группа животных. Группа
это все размножается и, наконец, исчерпывает предоставляемые ей
совокупным действием ее организации и местных условий средства
жизни. Дальнейшее ее умножение становится возможным в таком
только случае, если ее потомки обратятся к новым средствам; если
одни, например, станут лазать на деревья или ходить в воду, другие
переселятся, третьи обратятся к какой-нибудь новой пище и т. п. Так
как образование этих уклонений выгодно для вида потому, что
благодаря им группа получит возможность захватить места в природе,
занятые дотоле другими группами, то они покровительствуются
естественным подбором. Группа более разнообразная одолеет в борьбе
группу менее разнообразную. Затем в среде самой группы борьба
будет сильнее всего между наиболее сходными по образу жизни, по
привычкам, по месту жительства организмами, вследствие чего
средние формы, вообще говоря, подвергнутся истреблению, а крайние
будут все более расходиться, в сильнейшей степени усваивая выгод-
Теория Дарвина и общественная наука
353
ные особенности. Дарвин замечает при этом: «Выгоды разнообразия
между жителями одной и той же местности в сущности те же, что и
выгоды физиологического разделения труда между органами одного
и того же живого тела — предмет, прекрасно разъясненный Мильн-
Эдвардсом. Ни один физиолог не сомневается в том, что желудок,
приспособленный к варению только растительной пищи или только
животной, извлекает по этому самому наибольшее количество
питательных начал из этих веществ. Так и в общем органическом строе
данной страны, чем значительнее, чем совершеннее разнообразие
животных и растений, их приспособление к разным образам жизни,
тем большее количество особей найдет возможность существовать
рядом» (там же, 92).
Заметьте, что только что описанный процесс расхождения
видовых признаков есть чисто гипотетический. Он почти целиком
построен «от разума». Но от разума же могут быть выставлены
следующие соображения. Конечно, для вида, приближающегося к
истощению средств жизни, выгодно найти новые источники пищи,
занять новые пространства земли и т. п. Но распадение группы на
резко отличающиеся разновидности, а там виды, а там, быть может,
и роды тут, очевидно, ни при чем. Одно дело новые пути для
борьбы с окружающей природой и другое дело — расхождение видовых
признаков. Они могут идти вместе, и, действительно, в большинстве
случаев так и бывает, но выгодны-то все-таки только новые средства
жизни, а не образование разновидностей и борьба между ними. Мало
того, процесс образования разновидностей путем борьбы, подбора
и полезных приспособлений не только не выгоден для неделимых,
а прямо в большинстве случаев вреден. Конечно, Дарвин прав, когда
говорит, что желудок, приспособленный к варению исключительно
животной или исключительно растительной пищи, извлекает
наибольшее количество питательного материала из соответственных
веществ. В этом, действительно, не усомнится ни один физиолог.
Но позволительно усомниться, чтобы кто-нибудь пожалел о том, что
желудок, например, человека, не приспособлен к исключительно
животной или растительной пище. Желудок жвачных — мастер своего
дела, но позволительно сомневаться, чтобы какой-нибудь физиолог
позавидовал в этом отношении корове. Если желудок, специально
приноровленный только к известного рода пище, есть в своем роде
совершенство, то организм — обладатель этого желудка — будет
354
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
далек от совершенства по сравнению с всеядными; он будет далеко
ниже последних при равенстве, разумеется, других условий.
Представим себе для ясности и простоты, что процесс
распадения вида происходит исключительно под влиянием изменения
пищи. В данной местности живет группа всеядных животных. Под
влиянием борьбы, полезных приспособлений и подбора в этой
группе начинают образовываться и усиливаться уклонения в
сторону пищи сначала по преимуществу, а потом и исключительно
растительной, сторону живой животной, в сторону падали, в
сторону пищи рыбной и т. д. В результате процесса мы получим, взамен
прежнего неопределенного, «идеального», «синтетического»,
несколько резко обозначенных «практических» типов. Естественное
дело, что они будут стоять ниже своего общего родича, как потому,
что однообразие пищи необходимо влияет принижающим образом
на организм, так и потому, что практические типы постепенно
суживают сферу своей деятельности: они исключительно гоняются
за живой добычей и более никаких упражнений не имеют, другие
только умеют выискивать падаль и т. д. Но рядом с этим
понижением типа в общем следует отметить более или менее сильное
развитие в известном специальном направлении. Разновидность, на долю
которой выпала жизнь хищников, разовьет в себе громадные клыки,
сильные челюсти и конечности, известные умственные качества,
хитрость и т. д. Разновидность, избравшая себе рыбную пищу,
будет хорошо плавать, разовьет, может быть, плавательные перепонки
между пальцами и т. п. Разновидность, насевшая на растительную
пишу, выработает себе длинный кишечный канал, сложный
желудок и пр. Понятно, что с этими, лучше приспособленными к
специальным условиям практиками последним остаткам
представителей идеального типа в борьбе не совладать, и они погибнут весьма
быстро. Они, столь богато развитые, по крайней мере, im Werden,
как говорят немцы, — падут жертвой борьбы, подбора и полезных
приспособлений. Но, положим, что наступит в нашей местности
изменение условий, невыгодное для одной или нескольких ветвей
нашей первоначальной группы. Конечно, эти ветви, столь хорошо
вооруженные для борьбы с сородичами при известных условиях, не
выдержат перемены и уступят место другим, падут, в свою очередь,
жертвами борьбы, подбора и полезных приспособлений. Где же
выгоды разнообразия образов жизни, привычек, пищи и т. д.?
Теория Дарвина и общественная наука
355
Мы взяли пример совершенно произвольный, но едва ли
уклонялись фактически от утверждаемого дарвинистами, хотя наверно
уклонились от них в объяснении фактов, в точке зрений на них.
Геологические летописи свидетельствуют, что падение идеальных типов
и захват их мест типами практическими составляет явление нередкое.
Да оно так и должно быть, ибо, излагая судьбу гипотетической
группы всеядных, мы не делали никакой натяжки. Да, наконец, мы имеем
приведенное уже выше заявление ученого и умного дарвиниста Гек-
келя: подбор везде помогает практическим типам в ущерб идеальным.
Эту именно мысль развил в приложении к человечеству гений Руссо,
с которым недавно так победоносно сразилась дарвинистка Ройе.
Если читатель вдумается во все вышеизложенное, прогресс
органической жизни окрасится, может быть, для него цветом,
несколько отличным от цвета, налагаемого на явления жизни дарвинизмом.
Но при этом возникают следующие вопросы. Если вековечное,
неустанное действие борьбы, полезных приспособлений и подбора
производит погибель высших типов, распадение их на формы низшие
в общем, хотя и более развитые в частностях, то откуда же взялся,
например, тип позвоночных, явившийся позже других и
представляющий нечто сравнительно высоко развитое не только в
частностях, айв общем? Если развитие жизни на земле не шло и не идет
решительно прогрессивным путем, то не представляет же оно и
решительного регресса. Напротив, прогресс очевидно существует. Как
же согласовать это обстоятельство с вышесказанным? Ламарк очень
просто вышел бы из этого затруднения. Он сказал бы, что
существует закон, по которому организмы постепенно совершенствуются, все
усложняясь. Но закон этот действует не в безвоздушном
пространстве. Он сталкивается с другими законами, и в результате жизнь
развивается в направлении некоторой равнодействующей, которая сама
постоянно изменяется. Сегодня закон правильного, нормального
развития, закон совершенствования, обнаруживается во всей силе,
завтра берут перевес пертурбационные силы и отклоняют развитие
в ту или другую сторону. Борьба за существование между
неделимыми одного и того же вида, естественный подбор родичей и полезные
приспособления суть силы пертурбационные, постоянно так или
иначе, но враждебно, невыгодно отзывающиеся на ходе развития
органической жизни. Действительное усовершенствование не
порождается, а стесняется и извращается элементами, признаваемыми
356
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
дарвинизмом за творческие. Так сказал бы Ламарк. Так, или почти так,
сказали бы и Кёлликер, Негели, Снелль. Последний прибавил бы еще
следующее. Идеальные типы не всегда затериваются и погибают в
неравной борьбе с практическими. Им удается иногда продержаться до
такого изменения условий жизни, которого не в силах выдержать их
узкие соперники. И тогда идеальные типы разворачиваются во всей
своей полноте и всесторонности, тем самым, отмечая решительно
прогрессивный шаг в истории развития жизни на земле. Само собой
разумеется, что сложные законы борьбы и полезных
приспособлений, гонящие жизнь во всевозможных направлениях, могут иногда
и сами по себе способствовать усовершенствованию, т. е. образовать
комбинацию, совпадающую с действием закона нормального
развития и всестороннего усложнения. Но это будет исключение.
Закон совершенствования без всякого участия двигателей,
обусловливающих появление полезных приспособлений, а в силу
особых свойств организованных тел, этот закон дает удовлетворительное
объяснение еще одному темному предмету. Дарвин говорит: «Можно
было бы спросить, обращаясь к началу жизни на земле, когда все
живые существа, можно полагать, имели строение очень простое, каким
образом могли возникнуть первые ступени прогресса или
обособления и специализации органов? Я не могу дать удовлетворительного
ответа на этот вопрос; могу только сказать, что нам тут недостает
руководящих фактов, и что, следовательно, всякие гипотезы на этот
счет были бы бесполезны» (1, с. 105). Негели справедливо замечает
по этому поводу: «Дарвин поступает в этом отношении не совсем
логично. Он принимает известный принцип и проводит его гораздо
дальше, чем позволяют руководящие факты, доходящие только до
образования пород, но не до образования вида, рода, порядка,
класса. Почему бы не провести принципа до самого конца, или, скорее,
до самого начала? Руководящие факты необходимы были только для
того, чтобы вывести закон. Наука не только позволяет, но и требует,
чтобы мы исследовали, может ли выведенный закон объяснить все
факты» (1, с. 33). Для самого Негели, как мы видели, развитие первых
и низших представителей жизни на земле объясняется
существованием особого закона, в силу которого организованная материя
принимает все более и более сложный характер.
Действительно ли существует такой закон — этот вопрос должны
решить натуралисты. Мы можем только сожалеть о том, что больший-
Теория Дарвина и общественная наука
357
ство говоривших об этом законе вводит в свои рассуждения разные
«великие планы природы», «стремления природы» и т. п. Снелль идет
в этом отношении дальше всех и едва не приходит к известному
положению Шопенгауэра: организация складывается, повинуясь воле
организма.
Как бы то ни было, но в человеке отблеск этого закона существует
в виде сознательного стремления к совершенствованию, К развитию.
И пункт столкновения этого идеального стремления с
пертурбационными силами борьбы, подбора и полезных приспособлений
обращается в проблему жизни. Куда идти? Как говорит Фауст:
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Bvust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Di eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich von Duft
Zu den Gefilden hoher Ahnen...
Старый, как сама история, вопрос о summum bonum, о счастье,
о благе, о задаче жизни встает во всей своей неприкосновенности,
точно вековая работа человеческой мысли не сделала ровно
ничего. Дарвинисты говорят, что они нашли решение и что решение это
безапелляционно, как построенное на научных основаниях.
Некоторые из них объявляют во всеуслышание, что надо сжечь все, чему мы
поклонялись, и поклониться всему, что мы сжигали. Но, к сожалению,
присматриваясь к дарвинизму, как он до сих пор обозначился в
качестве нравственно-политической доктрины, мы видим на деле нечто
совершенно иное. Мы видим, что на деле нам предлагают, напротив
(в области нравственно-политической, в других областях не то),
поклоняться еще пуще всему, чему мы и до сих пор поклонялись, и еще
пуще сжигать все то, что мы и до сих пор сжигали. Разделение труда
и конкуренция — вот нравственно-политические столпы
дарвинизма, не им выдуманные, не им впервые возведенные в степень основ
общественного строя и им только по мере сил укрепляемые*. Дарви-
К истории принципа разделения труда. Одним из первых, если не
первым, обобщил этот принцип и вывел его из специально экономической,
технической сферы на степень основания всего общественного строя некий Эй-
зенгарт (Eisenhart. Philosophie des Staates oder algemeine Socialtheorie. Leipzig,
358
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
низм только ярче, смелее и, да позволено мне будет так выразиться,
наглее настаивает на последовательном проведении начал, уже
действующих и господствующих в современном обществе.
Человек подчинен тем же законам, что и остальная природа.
И в обществе человеческом много званых, но мало избранных; и
здесь избранными сплошь и рядом оказываются подслеповатые и
слабокрылые; и здесь существуют типы идеальные и практические в
лице отдельных неделимых, сословий, народов; и здесь борьба,
подбор и полезные приспособления делают свое роковое дело. Но
человек растит в себе древо познания добра и зла не для того только,
чтобы созерцать его плоды, а и для того, чтобы вкушать их. Ему нужны
правила поведения. У него есть идеалы, стремления, желания, цели.
Ему нужна санкция их. В нем борются мысли и чувства, ища ответа на
категорический вопрос: что делать?
Последовательные представители дарвинизма отвечают развязно:
приспособляйся к условиям окружающей тебя жизни, дави
неприспособленных, ибо из этого проистечет большая выгода для общества.
Из предыдущего следует заключить, что возможен совершенно
противоположный ответ: приспособляй к себе условия
окружающей тебя жизни, не дави неприспособленных, ибо в борьбе,
подборе и полезных приспособлениях заключается гибель и твоя, и
твоего общества128.
Блаженны, говорят дарвинисты, блаженны вы, если вы сильны,
если вы приспособлены, если вы подобраны, если вы избраны. И
законна и правомерна ваша гибель, если вы окажетесь лишней спицей
в колесе практической колесницы. Проваливайтесь в пропасть
прогресса, поглотившую тысячи подобных вам. Не надгробным
рыданием проводим мы вас, не вечной памятью, а ядовитым хохотом и
кликами торжества. Совершилась, скажем, законная кара за
неприспособленность.
1843-1844). Указав на потребность новой, общей социологии, Эйзенг4рт
говорит, что французы попытались удовлетворить ей системами Сен-Симона
и Фурье. Но, говорит далее почтенный немецкий философ, эти системы
крайне легкомысленны и не соответствуют «нашему немецкому рассудку и
нашему немецкому глубокомыслию»; поэтому, говорит, я намерен создать eine
Socialwissenschaft von deutscher Art und Kunst. Главный нерв этой Wissenschaft,
о которой, конечно, читатель никогда не слыхал без малейшего ущерба для
себя, есть принцип разделения труда.
Теория Дарвина и общественная наука
359
Блаженны вы, могли бы ответить противники, блаженны вы, если
вы не променяли рубль на ярко вычищенный медный грош, если не
продали будущего ради интересов минуты и вершка; блаженны вы,
даже если поносят вас, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы
лжуще.
Дарвинисты обвиняют враждебные им теории в
сентиментальности, в ложной чувствительности, в ненаучности и т. д. Но, во-первых,
непосредственная санкция нравственной обязанности всегда и
неизбежно заключается в чувстве, на которое, следовательно,
фыркать не приходится. При этом, конечно, не может быть совершенно
выкинут из счета чисто умственный элемент. Но действительно ли
этот элемент находится на стороне дарвинистов? Дарвинизм
представляет последнее, исправленное и дополненное издание
утилитаризма, а утилитаризм хвастается, между прочим, тем, что лучше, чем
какая-нибудь другая этическая система, может разобрать запутанные
случаи столкновения обязанностей; что для него это дело простого
математического расчета. Итак, попробуем приложить к дарвинизму,
и в особенности к его этике, мерку чисто логическую.
Дарвинисты говорят о пользе вида. Но что такое польза вида, если
не польза входящих в состав его неделимых? И, однако, борьба, подбор
и полезные приспособления калечат неделимых — в чем
относительно некоторых частных случаев дарвинисты согласны — и
истребляют их целыми массами, на что дарвинисты указывают с торжеством.
В этом постоянном истреблении слабых они видят залог
преуспевания. Но, как мы видели, истребляются вовсе не слабые, а только
неприспособленные. В каждой частной комбинации надлежит рассмотреть,
кто неприспособленные и кто избранные. Иногда
неприспособленные могут, действительно, оказаться слабыми, иногда же, напротив,
наиболее сильными. Но дарвинисты совершенно чужды такого
различения и все, как прогрессивные, так и регрессивные, процессы
санкционируют одним и тем же принципом пользы. Пока дело идет о
процессах природы, это слепота чисто теоретическая. Она, без сомнения,
мешает правильному объяснению явлений природы, но со своей
точки зрения дарвинисты фактически все-таки правы: начало пользы в
самом грубом и низшем смысле торжествует в природе. Мы говорим,
что дарвинисты правы со своей точки зрения, потому что есть, как мы
видели, люди, принимающие, помимо указанного Дарвином, другой
путь развития органических форм. Мы говорим, что дарвинисты пра-
360
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вы фактически, потому что принципиально они вовсе не правы: одно
дело указывать факт и объяснять его, и другое дело — восхищаться им.
Но когда упомянутая слепота распространяется на область
практическую, она получает иное значение. Дарвинисты рекомендуют нам
отмену таких-то и таких-то учреждений, введение таких-то и таких-то
правил и мер и т. д. Как бы мы ни смотрели на явления природы и
общественной жизни, но старик Вико129, во всяком случае, прав:
история природы отличается от истории человечества тем, что первой мы
не делали, а вторую делали и делаем. Поэтому, если бы закон
постоянного усовершенствования, признаваемый Ламарком, Кёлликером,
Негели, Снеллем, в действительности и не имел места, мы все-таки не
можем безропотно отдаться на волю благодеяний борьбы, подбора и
полезных приспособлений.
Мы видели, что, трактуя о расхождении признаков, дарвинисты
смешивают две совершенно различные вещи: приобретение новых
средств жизни и собственно расхождение признаков. Первое
несомненно полезно, выгоды же второго, по малой мере, сомнительны,
во всяком случае, это две совершенно различные степени пользы.
Невольно представляется вопрос: не выгоднее ли было бы, если бы
данная группа животных целиком, во всем своем составе,
воспользовалась одним и тем же приобретением новых средств жизни; если
бы, например, в придачу к прежним средствам все члены группы
научились ловить рыбу и лазать на деревья. Как бы, однако, такой
порядок вещей ни был выгоден, ничего подобного у низших животных
быть не может. Здесь ход развития управляется подбором выгодных
индивидуальных уклонений, передаваемых только наследственно,
а не педагогически. Но человек и некоторые другие животные
давно уже имеют в своем распоряжении орудие, способное
парализовать невыгоды индивидуальной изменчивости, сохраняя ее выгоды.
Орудие это — кооперация. Этот великий факт; имеющий столь
первенствующее значение в жизни человека, совершенно игнорируется
дарвинистами. Правда, они говорят, и много, слишком много говорят
об обществе, но если вы вглядитесь в суть их требований и
положений, то увидите, что, в конце концов, они рекомендуют устроиться
так, как будто бы никакая кооперация не существует. Они предлагают
нам учиться у бессознательных деятелей природы: предаться на волю
стихийных сил. Но при этом уже отмеченная нами двусмысленность
понятия пользы, очевидно, должна выступить с особенной резко-
Теория Дарвина и общественная наука
361
стью. Полезные приспособления полезны даже в том случае, если
они заведомо вредны — вот странный результат, к которому
приходит дарвинизм как нравственно-политическая доктрина еще яснее,
чем в качестве доктрины биологической. Дарвинизм, гораздо лучше
вооруженный, чем утилитаризм Бентама и даже Стюарта Милля, тем
не менее, не вычистил тусклого пятна, лежащего на всех до сих пор
выставленных утилитарных теориях. Он не нашел формулы, в
которой польза личности и польза общества сочетались бы в одно целое
и были бы связаны не белыми нитками, а некоторым внутренним
единством. Мало того, так как мы имеем здесь дело не только с
отвлеченными положениями, а и с конкретными фактами, то и
упомянутое тусклое пятно еще резче бьет по глазам. На это, впрочем, есть
и другие причины, заключающиеся именно в игнорировании
дарвинистами великого факта кооперации. Обращаясь в нравственно-
политическую доктрину, дарвинизм только подставляет вместо слова
«вид» слово «общество», вместо «расхождения признаков» —
«разделение труда», вместо «борьбы за существование» — «конкуренцию»,
отчего суть дела, разумеется, ни на волос не изменяется. И в
результате мы получаем пропорцию: каждая корова относится к своему виду,
как каждый француз относится к Франции или англичанин к Англии.
И еще нам подвернулась под руку корова — животное стадное, а мы
могли бы смело взять паука, ящерицу и т. п. При таких условиях
нетрудно примириться, как это с неподражаемой наивностью делает
сам Дарвин в своем последнем сочинении, с полезностью запирания
преступников, погибели в драках буйных людей, ранней смерти
людей развратных и т. п. Однако в том строе общества, где
господствуют перекрещенные стихийные силы подбора, борьбы, расхождения
признаков, полезных приспособлений, — в этом строе гибнут не
одни буйные, не одни развратные, не одни преступники. Этих
людей гибнет сравнительно ничтожное количество, и, раз они сумеют
овладеть известными полезными приспособлениями, они
застрахованы, они на воле, они не лишены возможности передавать свои
особенности по наследству. Но зато, наверное, гибнут типы идеальные,
эти неприспособленные теоретики, совмещающие в себе все силы,
разметанные процессом расхождения признаков по всем закоулкам
общества. Они гибнут, либо втягиваясь в водоворот полезных
приспособлений, либо прямо выжимаются из строя жизни во всей своей
идеальной чистоте.
362
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
У древних был странный обычай. Среди роскошного пира, на
котором вкус услаждался утонченными кушаньями, слух — пением и
музыкой, зрение — прекрасными танцовщицами, среди этого пира
вдруг подавался скелет... Это должно было напоминать гостям тщету
всего земного. Русская жизнь! Пересчитай своих выбывших из строя
неприспособленных, и, может быть, теперь, в пору наибольших
полезных приспособлений, это воспоминание сыграет для тебя роль
скелета на пире...
Мы впадаем, однако, в сентиментальность, а хотели иметь дело
с «холодным рассудком»...
Дарвинисты должны радоваться выбыванию из строя
неприспособленных, идеальных типов. Но не забудем, что существуют же в
истории самых темных углов человечества lucidae intervalae, когда
жизнь дает вздохнуть и идеальным типам. В такие светлые минуты
куда деваться типам практическим, приспособленным,
подслеповатым, слабокрылым? В общественной жизни бывают такие резкие и
крутые перемены, что приспособиться к новым условиям тем,
которые уже окончательно приспособились к прежним, нет никакой
возможности. Им остается только погибнуть, замереть, уступить место
новым избранным. Таким образом, мы все-таки стоим на распутье
двух дорог: пойдешь направо, будешь избран сегодня и погибнешь
завтра; пойдешь налево — рискуешь погибнуть сегодня и
восторжествовать завтра. Дарвинизм толкает направо, но не видно, почему бы
не идти налево. А между тем у дарвинистов есть под руками критерий,
может быть, и не выходящий из пределов утилитарного принципа, но,
во всяком случае, настолько ясный, что всегда может осветить путь и
остановить блуждания. Критерий этот все та же специализация
органов и отправлений. Но дарвинисты, берущие его очень часто прямо
в руки, немедленно же пропускают сквозь пальцы, отождествляя его
со специализацией социальных отправлений. Мы слишком часто и
много говорили об этом предмете, чтобы не иметь права
сослаться на свои прежние выводы как на нечто доказанное. А мы
пришли, между прочим, путем не одной сентиментальности, а и строгого
анализа фактов к такому заключению: «Прогресс есть постепенное
приближение к целостности неделимых, к возможно полному и
всестороннему разделению труда между органами и возможно
меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо,
вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно,
Теория Дарвина и общественная наука
363
справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает
разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных
членов»130. С этой точки зрения, — а мы считаем ее неопровержимой
и поставляем себе в особенную заслугу разъяснение антагонизма
между разделением труда физиологическим и экономическим, —
борьба за существование между неделимыми одного и того же вида
и расхождение признаков суть элементы регресса. Вне приведенной
формулы нет примирения между интересами личности и общества,
и вековой тяжбе между ними нет конца.
К той же формуле можно подойти и с такой стороны, которой мы
до сих пор еще не касались. Мы говорим о законах размножения.
Подтверждая законы Мальтуса в теоретическом их виде,
дарвинизм решительно отрицает субъективную часть мальтузианства
в одном очень важном отношении. Правда, некоторые дарвинисты
рекомендуют даже не «нравственное», а прямо принудительное
обуздание половой деятельности больных и слабых. Но большинство
смотрит на дело иначе. Мальтус советовал рожать как можно меньше
детей, ибо число приборов на жизненном пиру строго рассчитано
и лишним нет места. С точки зрения дарвинизма, напротив, чем вид
многочисленнее, тем лучше, потому что тем сильнее действуют
начала борьбы и подбора, тем больший выбор предоставляется смерти
и тем, так сказать, избраннее избранные. В усиленном размножении
дарвинизм естественно должен видеть залог силы и дальнейшего
преуспевания. И если мальтузианцы сожалели о слишком быстром
размножении человека, то дарвинисты, напротив, должны жалеть
о сравнительно слабой плодовитости его. Есть, однако, надежда, что
плодовитость эта со временем еще уменьшится, вместе с чем
неминуемо должна ослабнуть напряженность борьбы и подбора.
Социалисты давно уже представляли различные соображения, в силу
которых энергия размножения должна постепенно ослабляться. В общем,
эти соображения оказываются ныне верными. Но невысокий уровень
биологических знаний мешал привести дело окончательно в ясность
и подтвердить положение бесспорными научными данными. Ныне
это сделано в «Теории народонаселения» Спенсера, вошедшей в
состав «Оснований биологии» (с. 303-394) с таким запасом знаний и
с такой ясностью мысли, что невольно удивляешься, как мог столь
замечательный ученый и мыслитель увлечься несчастной идеей
социального организма.
364
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Вот как рассуждает Спенсер.
Если какая-нибудь раса продолжает существовать среди той
враждебной обстановки, какая вообще окружает всякий вид, то
в ней самой должны заключаться некоторые охранительные силы,
достаточно сильные для уравновешивания внешних
разрушительных влияний. Силы эти суть двоякого рода. Во-первых, каждая особь
может обладать большей или меньшей способностью
приспособления к изменениям окружающих деятелей и, притом к большему
или меньшему количеству таких изменяющих деятелей. Это начало
сводится, следовательно, говоря языком Снелля, к степени
«идеальности» и «практичности» расы. Тип практический заключает в себе
менее охранительной силы, тип идеальный — более. Во-вторых,
может иметься более или менее значительно развитая способность
производить новые особи взамен истребляемых разрушительными
влияниями. Эти две силы должны изменяться в обратном
отношении. Когда, вследствие низкой развитости, способность бороться
с внешними опасностями будет ничтожна, то должна иметься
большая плодовитость, вознаграждающая вытекающую из неразвитости
значительную смертность; иначе раса должна вымереть. Когда же,
наоборот, вследствие более высокой одаренности, способность к
самосохранению бывает значительнее, то необходимо, чтобы
соответственно ей плодовитость была менее значительна. Положим,
что опасности, с которыми приходится бороться, составляют
постоянную величину, и тогда, вследствие того, что способность
вида к борьбе с ними также должна быть постоянной величиной,
и вследствие того, что эта способность есть произведение двух
факторов — способности сохранения индивидуальной жизни и
способности размножения — ясно, что они не могут изменяться иначе
как в обратном отношении: при возрастании одной из них другая
должна ослабевать. Стоит только представить'себе последствия
несоответствия этому закону, чтобы увидеть, что каждый вид должен
либо сообразоваться с ним, либо перестать существовать. Тем или
другим путем должно установиться обратное отношение между
способностью к самосохранению и способностью произведения
новых особей. Каждая новая особь отнимает нечто у организма-
производителя, каждая пристройка в организме-производителе
отнимает нечто у его плодовитости. Чем сильнее издержки на особь,
тем меньше остается на расу, и обратно.
Теория Дарвина и общественная наука
365
Таковы априорические выводы Спенсера, вполне подтверждаемые
индуктивной проверкой, трудностей которой — вследствие
сложности и запутанности явлений — Спенсер от себя не скрывает. Мы не
будем приводить того множества часто весьма сложных фактов,
которыми Спенсер подтверждает свое положение, и отметим только те
рубрики, под которые он подводит антагонизм между издержками на
особь и издержками на расу. 1) Антагонизм между плодовитостью и
ростом; чем больше тратится на массу особи, тем меньше остается на
потомство. И действительно, организмы мелкие, вообще говоря,
плодовитее крупных. 2) Антагонизм между плодовитостью и развитием:
чем больше тратится на строение особи, тем меньше остается на
потомство. Это антагонизм самый важный вообще, важный и для нас,
так как степень развития особи измеряется степенью
физиологического разделения труда. В этом отношении заслуживает внимания
следующее соображение Спенсера: чем более и полнее
дифференцируется органическая масса, тем меньшая доля ее остается в том
сравнительно недифференцированном состоянии, при котором
возможно преобразование вещества в новые особи или в зародыши особей.
Протоплазма, однажды обратившись в специализированную ткань,
не может снова обобщиться и потом преобразоваться во что-нибудь
иное, а потому прогресс строения в организме, уменьшая количество
вещества, не обладающего строением, этим самым уменьшает запас
вещества, пригодного для выработки потомства. 3) Антагонизм
между плодовитостью и тратой: чем деятельнее организм, чем быстрее
происходит в нем обновление материи, и чем, следовательно, более
требует он питательного материала на себя, тем менее он плодовит.
Рядом с этим надо поставить еще одно начало: 4) совпадение
плодовитости с обильным питанием. Здесь Спенсер совершенно
опровергает известное мнение Дубльдэ, что избыток питания мешает
размножению, между тем как ограниченное или недостаточное питание
вызывает его и способствует ему.
Понятно, что изо всех этих элементов составляется чрезвычайно
сложная сеть, в которой берет перевес то одно начало, то другое, то
третье. Однако, в конце концов, присматриваясь к явлениям с
должным вниманием, мы все-таки можем везде проследить один и тот же
верховный закон: чем разностороннее организм, чем он идеальнее,
чем резче в нем обозначилось физиологическое разделение труда,
тем менее он плодовит.
366
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
К такому результату естественно приходили все, размышлявшие
об этом предмете по поводу теории Мальтуса. Фурье видел
задержку размножению, между прочим, в гармоническом развитии сил и
способностей. Прудон прямо почти уловил закон, устанавливаемый
Спенсером. Прудон говорил: «Человек, расходующий значительную
часть силы, мускульной ли, или умственной, не может предаваться
в той же степени любовным удовольствиям: в противном случае он
быстро истощил бы себя. Между обеими силами существует, стало
быть, противодействие; следовательно, в хорошо устроенном
обществе, основанном на справедливости, на равенстве состояний, на
одинаковом образовании, в обществе, в котором чистота нравов все
увеличивается, по мере возрастания труда для всех и для каждого в
частности, естественно предположить, что равновесие
народонаселения установится само собой» (см. приложения к русскому переводу
Мальтуса).
Итак, если гипотетический закон Ламарка, Кёлликера, Негели,
Снелля или, по крайней мере, нисколько не гипотетическое,
сознательное стремление человека к совершенству, его идеализм, возьмет
верх над разрушительными силами борьбы, подбора и полезных
приспособлений, — нам нечего бояться за будущее. И, принимая от
дарвинизма закон борьбы как факт, мы должны наложить на себя
нравственный закон борьбы с борьбою, с подбором, с полезными
приспособлениями, с расхождением признаков.
V. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД ВЕЩЕЙ
Я раб, я царь, я червь, я Бог.
Державин
I
Последняя книга Дарвина «О выражении ощущений у человека
и животных», переведенная уже на русский язык, по всей
вероятности, обманула ожидания многих. В ней нет ни новизны идей,
которой отмечено первое сочинение Дарвина «О происхождении видов»,
ни блестящих обобщений и гипотез, какова теория пангенезиса в
«Прирученных животных и возделанных растениях», ни того
специального интереса, который представляет «Половой подбор и проис-
Теория Дарвина и общественная наука
367
хождение человека». Это просто груда наблюдений над выражениями
ощущений, тщательно и трудолюбиво собиравшихся в течение почти
сорока лет (с 1833 года), — наблюдений, иногда очень интересных,
иногда в высшей степени мелочных. В смысле дарвиновой теории
весь интерес книги исчерпывается несколькими положениями,
значение которых, ввиду прежних трудов Дарвина, нельзя ценить
особенно высоко. Некоторые движения тела и личных мускулов остались
у нас по наследству от тех времен, когда мы еще не были людьми;
движения эти были в свое время полезны или необходимы, но ныне
утилитарное значение их исчезло, и они играют роль просто
памятников давно минувшего. Вот одно из главнейших положений, если не
главнейшее, нового сочинения Дарвина. Будь этот тезис развит лет
десять тому назад, он бы имел громадное значение. Но что он значит
теперь, когда сам Дарвин, Геккель и другие обстоятельно и
подробно проследили генеалогию человека даже до беспозвоночных?
Новая книга Дарвина есть не более как легкая пристройка к широкой и
смелой теории, — пристройка, конечно, любопытная, но
любопытная, главным образом, сама по себе, а не по отношению к теории,
имеющей гораздо более солидные основы. Сам Дарвин говорит, что
его новое сочинение только «некоторым образом» подтверждает
теорию, и прибавляет, что едва ли такое подтверждение даже и нужно.
Затем остается просто трактат об интересном предмете. Это,
конечно, очень хорошо, но не того вправе общество ожидать от Дарвина.
Он бросил в общество важную идею, которая разрабатывается,
развивается, истолковывается одними так, другими иначе. Что же делает
в это время учитель? Сообщает в новом сочинении, что ему известен
один случай, когда кролик откусил у другого кролика полхвоста, или
что во всех известных ему случаях кошка, находящаяся в приятном
расположении духа, держит хвост колом вверх, загибая конец
влево. Конечно, мы намеренно привели наблюдения наиболее мелкие, и
Дарвин и в новой книге сообщает многое, несравненно более ценное.
Но, во всяком случае, дав многообъемлющую теорию, он громоздит
факт на факт, не возвращаясь уже к основам теории. А если и
возвращается, то не отдает в том никакого отчета обществу. Он
одинаково бесстрастно цитирует, например, Уоллеса и полусумасшедшего
немца Браубаха. Он говорит, например, в книге о происхождении
человека: «Профессор Браубах утверждает, что собака смотрит на
хозяина, как на Бога» (перевод Сеченова, I, 71); «Браубах замечает, что
368
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
собаки не позволяют себе украсть что-либо съестное в отсутствии
хозяина» (там же, 83). Или: «Каждому охотнику известно, замечает
д-р Иегер, как трудно приблизиться к животным в стаде или кучке»
(там же, 78). Каждый согласится, что приведенные мнения
профессора Браубаха и доктора Йегера далеко не столь драгоценны, чтобы на
них стоило ссылаться; тем более, что рядом с этой щепетильностью
и отчетливостью Дарвин ни единым словом не проговаривается о
гораздо более интересных вещах, содержащихся в трудах профессора
Браубаха и доктора Иегера. Один из них рассуждает о мистическом
значении числа 3 и о новом виде, который он предлагает назвать
«ангелом»; другой проповедует под покровом теории Дарвина самые
возмутительные доктрины. И, однако, Дарвину не приходит в
голову очистить свою теорию от этой коросты. Ни одного из своих
бесчисленных толкователей и комментаторов, как бы ни были глупы и
позорны их толкования и комментарии, Дарвин не считает нужным
остановить и цитирует их, как своих сторонников.
Недавно вышел, сначала по-английски, а потом и по-немецки,
памфлет под заглавием «Homo versus Darwin». Ему дана такая
форма: homo, оскорбленный исследованиями Дарвина, призывает его
к суду; лорд С, «один из лучших английских юристов», производит
допрос и произносит решение. Памфлет наполнен инсинуациями,
уличениями в несогласимости дарвинизма с христианством и т. п.
и для памфлета слишком длинен. Но есть в нем замечания довольно
меткие. Между прочим, homo утверждает, что в первом издании
сочинения «О происхождении человека» Дарвин говорит: «В Северной
Америке, по наблюдениям Гирна, черный медведь иногда целыми
часами плавает с широко раскрытой пастью, ловя насекомых, как
кит. Даже в таком исключительном случае я не вижу ничего
невозможного в том, что если бы насекомых было постоянно вдоволь и
если бы в той же стране не находилось уже лучше
приспособленных соискателей, отдельная порода медведей могла бы сделаться,
через естественный подбор, все более и более водной, их пасть все
более и более увеличиваться, пока не сложилось бы существо такое
же уродливое, как кит*.
Homo здесь, по-видимому, обмолвился. Приведенные слова Дарвина
находятся не в «Происхождении человека», а в «Происхождении видов». Мы
приводим их в переводе Рачинского (149).
Теория Дарвина и общественная наука
369
<Лорд С. Я никогда не слыхал, чтобы кит ловил в воде насекомых,
не слыхал этого и о медведе. Какие это насекомые?
Homo. Милорд, м-р Дарвин этого не объясняет. Во всяком случае,
нужно фомадное количество насекомых, каких мы, по крайней мере,
знаем, чтобы откормить медведя в кита.
Дарвин. Милорд, homo должен бы был пояснить, что прочитанное
им место в последующих изданиях выпущено.
Homo. Я знаю, что оно выпущено, но знаю, что это исчезновение
ничем не мотивировано. М-р Дарвин не говорит, потому ли он его
выпустил, что его взгляды на естественный подбор изменились, или
потому, что кто-нибудь из его товарищей-натуралистов ужаснулся
приведенной идее и настоял на ее устранении».
В этих словах homo достоин внимания укор не столько в том, что
Дарвин хватил через край, — какой из основателей новых доктрин
не увлекался, — сколько в том, что он недостаточно откровенен с
обществом. Не то чтобы он «страха ради иудейска» не доводил своей
теории до ее логических концов, — мнение, которое было довольно
распространено до выхода книги о происхождении человека и
которое должно быть признано теперь неосновательным. Но во всяком
случае, Дарвин слишком скупо подает свой голос в прениях,
возбужденных его идеями, и относительно весьма многих возражений,
дополнений, применений, часто весьма существенных, нельзя решить,
как смотрит на них учитель. А между тем понятно, что более
деятельное участие его было бы здесь в высшей степени желательно.
Между прочими вопросами, относительно которых было бы
желательно выслушать мнение Дарвина, любопытен вопрос о будущем
развитии органической жизни. Дарвин и дарвинисты нарисовали
весьма подробную картину жизни на земле в прошедшем.
Благодаря Ляйеллю131 и другим геологам, картина эта дополнена не менее
обстоятельными подробностями из мира неорганического.
Астрономия давно уже сделала свое дело в этом направлении. Антропология и
история подхватили человека с той минуты, как он стал человеком, и
знакомят нас со всем тем путем, крайние точки которого суть дикари,
с одной стороны, и Тьер, Пий IX и проч. — с другой. Словом,
прошедшее нам известно, и заслуга теории Дарвина в этом отношении
занимает одно из первых мест. Совсем другое относительно будущего.
Надо заметить, что и вообще будущее менее интересует современную
мысль, чем прошедшее. Хилиасты и милленарии132 исчезли, социали-
370
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
сты утопий не строят, о страшном суде напомнила только
прошлогодняя комета, теории прогресса сочиняются более для объяснения
прошедшего и настоящего, дарвинисты молчат или почти молчат.
Некоторые глухо говорят, что будет, дескать, хорошо. Это, конечно,
хорошо. Но не все так смотрят. Современники сравнительно весьма и
весьма редко заглядывают в будущее, но когда заглядывают, то видят
большей частью вещи неприятные. Гартман133 доказывает, что
скорби и горести людские будут все возрастать и возрастать, доколе, так
сказать, не исчерпают самих себя, и доколе мы не начнем упиваться
наслаждением небытия. С другой стороны, физики и астрономы
указывают на замедление вращения земли, на истощение запасов
солнечной теплоты и т. п. как на предвестников конца земли, с которым
связан и конец органической жизни. Этот неприятный конец
наступить должен, ибо все имеющее начало имеет и конец. Нет такого
скучного романа, который наконец не кончился бы, нет такого
залежавшегося человека, который бы наконец не скончался. Это, пожалуй,
даже и не худо. Но между началом и концом есть середина. К концу
надо подойти. А дарвинисты говорят, что жизнь безостановочно
прогрессирует, выкидывает, путем борьбы за существование и подбора,
все высшие и высшие формы. Как согласить этот приятный процесс
с неприятным концом, основательно ожидаемым физиками и
астрономами? Это вопрос не праздный, потому, во-первых, что он может
до известной степени служить пробным камнем для оценки
дарвинизма; потому, во-вторых, что с ним связаны наши надежды и идеалы.
Он ставит под сомнение даже самую их законность. Близок или далек
неприятный конец, но мы идем к нему. Возможны ли на этом пути
надежды и идеалы? Надежды и идеалы, ведь это нечто лучшее
действительности, настоящей исторической минуты, а возможно ли в
будущем нечто лучшее, если мы заведомо спускаемся под гору? Вот вопрос,
гораздо более страшный, чем вопрос о нашем происхождении. Даже
г-н Страхов говорит, что ему все равно — из глины мы произошли
или от обезьяны. Да и, конечно, все равно это пройденная ступень.
Если некоторые и оскорбляются недостаточно аристократическим
происхождением, приписываемым человеку Дарвином, то они не
замедлят, конечно, утешиться той действительно утешительной
мыслью, что мы, так сказать, дослужились до человека и недаром
получили свой теперешний чин. За эту мысль трезвый человек с
удовольствием отдаст всех героев и полубогов, происхождением от которых
Теория Дарвина и общественная наука
371
так долго тешилось людское тщеславие. Но мы и теперь льстим себя
надеждой, — и Дарвин значительно нас к тому поощряет, — что дети
детей наших, по крайней мере, будут героями и полубогами. От этой
надежды отказаться гораздо труднее. С исчезновением ее будет
поражено уже не тщеславие наше, а совершенно законная гордость
прошедшими и настоящими трудами. А между тем фатальное: «конец
такой-то и последней части» будет непременно подписано под
длинным романом земли. Как же быть с нашим прогрессом ввиду этого
печального происшествия? Наши отечественные социологи, надо им
отдать справедливость, подходили к этому вопросу. Но г-н
Жуковский134, по обыкновению, скрылся в собственном тумане; г-н П. Л.135
(«Мысли о социальной науке будущего») со свойственной ему
скромностью заявил, что он очень уважает Гартмана; г-н Стронин со
свойственной ему ясностью и решительностью объявил, что ввиду
последней части романа необходимо как можно скорее завоевать Европу.
Не отрицая остроумия всех трех ответов, надо, однако, признаться,
что они не вполне удовлетворительны. К Дарвину мы
совершенно тщетно обратились бы с нашими сомнениями и затруднениями.
Он сказал бы: «То обстоятельство, что человек поднялся на высшую
ступень органической лестницы, вместо того чтобы быть
поставленным здесь с самого начала, может внушать ему надежду на еще более
высокую участь в отдаленном будущем» (Происхождение человека,
II, 452). Но и то он поторопился бы прибавить: «Мы не занимаемся
здесь надеждами или опасениями, а ищем только правды, насколько
она доступна нашему уму» (там же). Да, но ведь надежды и опасения
не исключают правды, мало того, это только особые формы погони
за правдой. Интересы правды не пострадали бы, а, напротив,
выиграли бы, если бы Дарвин или кто другой предпринял указать роль
прогрессирующего мира в последней части романа.
Один немец сделал недавно попытку такого указания, с которой мы
и хотим познакомить читателя. Мы предупреждаем его, что он
встретит массу несообразностей, противоречий, наконец, просто смеха
достойных вещей, но тем не менее мы просим его дочитать до конца.
Несмотря на все несообразности, книжка, о которой мы говорим, как
увидит читатель ниже, не лишена не только интереса, а и
поучительности. Называется она: Ueber die Auflösung der Arten durch natürliche
Zuchtwahl. Oder die Zukunft des organischen Reiches mit Rücksicht auf
die Culturgeschichte. Von einem Ungenannten (Gannover, 1872).
372
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
II
Автор признает все основные черты учения Дарвина:
безграничную изменчивость организации, наследственность,
приспособление, борьбу за существование, естественный подбор родичей. Но он
резко расходится с Дарвином и дарвинистами в оценке результатов
действия этих факторов. По Дарвину, закон развития органической
жизни состоит, главным образом, в прогрессирующем
дифференцировании форм, причем из немногих первичных форм развилось все
разнообразие теперешней органической жизни. Рядом с этим стоит,
по Дарвину, закон постепенного усовершенствования организации,
в силу которого из простейших организмов постоянно развиваются
более сложные и совершенные. Дарвин имеет в виду исключительно
прошедшее; будущего же развития органической жизни на земле он
не касается. Наш автор задается противоположной задачей. Он,
прежде всего, желает определить будущее. Вместе с тем он приходит к
таким заключениям относительно общего направления развития
органической жизни, которые диаметрально противоположны
заключениям Дарвина. Автор начинает свое исследование с опровержения
двух лежащих, по его мнению, в заключениях Дарвина ошибок,
которые, однако, нимало не касаются основных тезисов дарвинизма.
Представим себе три разновидности. Дарвинисты полагают, что
наиболее выгодно положение тех из них, которые сильно
уклоняются вправо или влево, и что выгодность эта обусловливается
именно односторонностью их развития; третья же форма,
приближающаяся к среднему положению, имеет наименее шансов жизни
и распространения. По мнению автора, дело имеет совершенно
другой вид. Напротив, средняя форма, в силу того что она имеет
возможность более многостороннего приспособления к условиям
существования, очевидно, имеет и более шансов в жизни. Другая
ошибка дарвинистов состоит в следующем. Они предполагают, что
высшее, т. е. сложнее организованное существо тем самым имеет в
борьбе за существование преимущество над организмами низшими,
простейшими. Это несправедливо. Простейшие организмы,
напротив, будучи сравнительно менее зависимы от окружающих условий,
чем организмы сложные и, так сказать, требовательные, более
способны к созданию себе прочного существования и возможности
распространения. И мы видим, что в действительности низшие ор-
Теория Дарвина и общественная наука
373
ганизмы более распространены на земле, чем высшие, сложнейшие,
которым природа отводит обыкновенно сравнительно небольшую
географическую полосу.
Теперь представим себе, что в известном водном пространстве
между прочим живут два вида животных, из которых один питается
исключительно растительной, а другой — исключительно животной
пищей. Предположим, далее, что в течение поколений в среде того и
другого вида образуются разновидности, организованные для
обоих сортов пищи. С этой особенностью сопряжены, без сомнения,
известные изменения и внешнего вида животных, так что две наши
разновидности представят собой промежуточные формы между
обеими крайними. Эти промежуточные формы, имея за собой то важное
преимущество, что они могут питаться и животной и растительной
пищей, вытеснят, наконец, своих односторонних родичей. Но так как
этот процесс уравнения под дальнейшим давлением изменчивости и
подбора должен продолжаться, то, в конце концов, уцелевшие
средние формы сольются в один вид. — Или представим себе какой-нибудь
растительный вид. В числе возможных уклонений в силу
индивидуальной изменчивости будет, между прочим, и некоторое
географическое завоевание, т. е. известная разновидность получит возможность
жить несколько южнее или севернее обыкновенных пределов
распространения вида. Так как эта разновидность окажется менее других
зависимой от температуры, то она, наконец, одолеет все остальные.
Точно так же исключительно водное или исключительно земное
растение может приспособиться к жизни в обеих стихиях, вследствие
чего вытеснит своих односторонних родичей. — Далее растение
может видоизмениться в том направлении, что оплодотворение его
станет возможным при помощи таких насекомых, для которых оно
прежде было недоступно. И опять-таки эта разносторонняя
разновидность должна постепенно заменить формы первоначальные,
более специализированные, доступные меньшему числу видов
насекомых. — Ясно, что в результате всех этих изменений нет разнообразия
видов. Напротив, идя таким образом далее, можно себе представить
в конце процесса, один вид растений, универсальное растение,
способное жить при всех возможных условиях. Это космополитическое
растение должно будет вытеснить все другие виды, потому что если
в некоторых единичных случаях односторонность развития может
оказаться выгодной, то выгода эта с избытком уравновешивается спо-
374
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
собностью космополита применяться к самым разнообразным
условиям существования.
Словом, автор, исходя из принципов Дарвина, тем не менее, видит
в развитии органической жизни процесс не дифференцирования, не
дивергенции, не расхождения признаков, а, напротив, процесс
сглаживания различий, уравнения признаков. Дарвин принимает в начале
развития органической жизни существование нескольких простых
форм, быть может, даже одной, из которой получился весь нынешний
органический мир. Автор полагает, напротив, что теперешнее
разнообразие форм органической жизни должно с течением времени
уступить место нескольким или даже одной простой форме. Точно так же
вместо принимаемого дарвинистами процесса усложнения
организации он видит в жизни обратный процесс упрощения, не прогресс,
а регресс. По его мнению, формы, приспособленные к различным
условиям существования, тем самым становятся от них менее
зависимыми и более распространенными, а и то и другое суть признаки
относительно несложных организмов. Регресс выражается прежде всего
уменьшением размеров. Известно, что так называемые допотопные
животные вообще больше нынешних. В растительном мире
происходит то же самое, так как древесные растения постепенно уступают
место кустарным. Но дело не в размерах только. Идея прогрессивного
развития встречает на своем пути важное затруднение в лице так
называемых рудиментарных, или зачаточных органов. Идея прогресса
была бы оправдана только в таком случае, если бы эти органы могли
быть рассматриваемы как зачатки будущего развития. Но этого нет, и
прогрессисты принуждены признать, что в большинстве случаев эти
органы суть остатки прежнего богатства организации. Закон
экономии, в силу которого образования, становящиеся в тягость
организму, исчезают, и закон действия неупотребления органов
представляют орудия против идеи прогресса и за идею регресса. Что касается
до вполне образованных и действующих органов, то возникновение
их с точки зрения естественного подбора весьма трудно объяснимо.
Выгода, получаемая организмом в борьбе за существование
благодаря тому или другому органу, уже предполагает такую степень
развития его, которая дает ему возможность функционировать. Поэтому
с Дарвиновой точки зрения так же трудно объяснить возникновение
органа, как легко объяснить его исчезновение. Это опять-таки довод
в пользу регрессивной истории органического мира.
Теория Дарвина и общественная наука
375
Возьмем частный случай, например, историю цветочного
венчика. Автор принимает вместе с Дарвином, что большой размер и яркая
окраска венчика имеют целью привлекать насекомых, при помощи
которых совершается оплодотворение цветка. Но Дарвин объясняет
возникновение расцвеченных венчиков путем естественного
подбора, а наш автор берется, напротив, доказать, что именно этим путем
должно происходить исчезновение цветных венчиков. Допустим,
говорит он, самое простое, самое законное явление: сильное
размножение насекомых, при помощи которых совершается оплодотворение
данного вида. Возможность такого явления не подлежит сомнению,
а большая часть предположений Дарвина также основывается
единственно на возможности. При возникающей таким образом сильной
конкуренции насекомым придется не брезгать и плохими цветками,
т. е. цветками со сравнительно малым и бледным венчиком. И эта
особенность по необходимости передастся наследственно. Но этого
мало. Так как развитие венчика и развитие половых органов
находятся во взаимном антагонизме, то бледные и малые цветки, будучи
лучшими производителями, будут вытеснять своих красавцев родичей и,
в конце концов, борьба решится в их пользу. К этому же результату
можно подойти и еще с одной стороны. Известно, что цветки
устроены так, что самооплодотворение в большинстве случаев, невозможно.
Устройство это довольно сложно, так что на выработку его
подробностей тратится много силы и материала. Поэтому если явится такое
уклонение в устройстве, главным образом, венчика, что
самооплодотворение станет возможным, — а это мыслимо как потому, что Дарвин
принимает безграничную изменчивость во все стороны, так и потому,
что и ныне уже существуют подобные растения, — то обладатели этой
особенности будут иметь лишние шансы в борьбе за существование,
а вместе с тем должна сократиться роль венчика, состоящая, главным
образом, в привлечении насекомых. Таким образом, общая тенденция
изменений клонится к устранению всех частей цветка, за
исключением половых органов. И, следовательно, мы вправе предполагать в
будущем господство если не одного растительного вида, то видов,
которые, по крайней мере, устройством цветка друг от друга отличаться
не будут: вместо перспективы дальнейшего расхождения признаков
перед нами расстилается перспектива их сглаживания, уравнения.
Следующим актом естественного подбора будет устранение и
половых органов. Известно, что собственно растительная жизнь на-
376
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ходится в антагонизме с половой деятельностью: чем напряженнее
одна, тем слабее другая. Так, препятствуя цветению, мы можем
продолжить жизнь даже однолетнего растения. Цвет и плод могут быть
рассматриваемы как своего рода могучий паразит, живущий на счет
жизненной силы неделимого. Поэтому совершенное устранение
цветка будет весьма благоприятно для неделимых, а следовательно,
и для вида, если, разумеется, размножение будет обеспечено иным
путем. А такое обеспечение существует. И ныне многие растения
размножаются бесполовым путем — клубнями, побегами, наконец,
простым отделением клеточек, как мхи. Этот-то способ размножения,
как наиболее экономный, выгодный, и должен, наконец,
восторжествовать в силу законов естественного подбора.
Доказано, преимущественно Негели, что ползучий тип растений
есть результат действия естественного подбора. Устройство это,
устраняя надобность в огромной массе древесного материала для
механической поддержки стебля, дает возможность уделить больше
силы и материала для существенных целей. Эти мотивы и это
направление действия естественного подбора, очевидно, не связаны
с какими-нибудь специфическими особенностями того или другого
растения, тем более что большую или меньшую наклонность к
ползучему типу мы встречаем в растениях, вообще весьма между собой
не сходных. Из этого следует заключить, что таков будет с
течением времени общий ход развития; что все более или менее высокие
растения, и в особенности древесные, обратятся в ползучие. Кроме
того, те же законы естественного подбора обусловят укорочение
стебля.
Но, продолжая последовательно идти в этом направлении, мы
придем к математической задаче. Наиболее выгодная по отношению
к затрате материала форма должна пользоваться особенным, так
сказать, покровительством естественного подбора и,
следовательно, стать типической формой будущего развития. Такая форма есть
шарообразная. В будущем сначала все органы растений примут
круто- и шарообразную форму, а затем все ветви и листья втянутся, и
само растение обратится в шар. Физиологическое значение листьев
состоит в предоставлении действию света, воздуха и влажности как
можно большей поверхности. Но очевидно, что роль эта не хуже и
даже лучше исполнится всей поверхностью шара. Цель эта будет
достигаться еще вернее постепенным изолированием клеточек. Так что
Теория Дарвина и общественная наука
377
в конце процесса мы будем иметь вместо всей нынешней роскоши
растительного мира массу самостоятельных, однородных клеточек,
каковы ныне низшие представители органической жизни.
Автор не считает нужным следить за параллельным процессом в
животном царстве. Он говорит только, что сделать это было бы
весьма нетрудно, и затем обращается к самому принципу подбора. Теория
Дарвина, говорит он, принадлежит к числу плодотворнейших
обобщений, так как она рассеяла оптимистические представления о
существующей будто бы в природе гармонии интересов. Оказывается, что
вместо гармонии и мира мы имеем беспощадную войну всех против
всех во всех уголках земного шара. Признавая этот факт, автор
находит, однако, что описанный им процесс будущего развития
органической жизни должен водворить мир на земле. Причины борьбы
за существование суть следующие: 1) недостаток приспособления
к условиям жизни; 2) чрезмерное размножение по отношению к
данному пространству, количеству пищи и т. д.; 3) зависимость одного
существа от другого, принадлежащего к другому виду и
составляющего его пищу. Все эти три причины должны с течением времени
исчезнуть. Если, как было говорено выше, естественный подбор
стремится приспособить все организмы ко всем степеням температуры и
влажности и ко всякого рода пище, то на известной степени развития
органической жизни первая причина борьбы сама собой перестает
действовать. Далее, принимая в соображение антагонизм между
плодовитостью и энергией растительной, т. е. личной, индивидуальной
жизни, принимая в соображение выгоды последней, следует
допустить, что изменения будут часто направляться в ее сторону, а вместе
с тем будет ослабляться сила размножения и, следовательно,
суживаться поле борьбы. Если мы приложим это начало, например, к
травоядным животным, то увидим, что хищным придется отказаться от
своего образа жизни. В самом деле, раз в силу вышеизложенного
размножение травоядных сократится, хищникам уже труднее будет
питаться животной пищей, и между ними будут, по законам
естественного подбора, усиливаться индивидуальные уклонения в сторону
растительной пищи. Таким путем плотоядные постепенно обратятся
в травоядных, а затем и для животных вообще, по мере упрощения
их организации, выгоднее станет получать пищу непосредственно
из неорганической природы, подобно растениям. Таким образом
водворится на земле мир, и «мысль эта, — прибавляет немец, — должна
378
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
нас утешать в исчезновении роскоши природы, которая ныне дается
разбоем и борьбой».
Дарвин полагает, что разъясненные им факторы действуют во
всех направлениях, т. е. без всякого определенного направления, так
что совершенствование организмов, на которое часто напирают
дарвинисты, является у них случайным и побочным продуктом. Негели и
некоторые другие полагают, напротив, что существует особый закон
природы, в силу которого организмы изменяются в определенном
направлении, именно в направлении к усложнению, к
усовершенствованию. Наш автор не согласен ни с тем ни с другим мнением.
Дарвинистам он говорит, что существует определенное направление
изменений, а Негели — что это направление клонится не к
усовершенствованию, а к упрощению. Дарвинисты изображают
обыкновенно генеалогию органического мира в виде дерева, корни которого
представляют начатки жизни, а верхние разветвления — ныне
существующие виды. Автор находит, что это изображение очень верно...
если его повернуть вверх ногами. Но лучше прибегнуть к образу
речной системы, истоки которой представят нынешние виды, а устье —
будущность органического мира, протоплазматическое море
(Protoplasma-Meer), т. е. бесформенную органическую массу. Но
разложение должно идти дальше: бесформенная органическая масса
должна распасться на химические элементы — кислород, углерод,
водород, азот. Такое распадение мы видим в каждом случае
разложения мертвого организма, следовательно, оно не представляет ничего
невероятного и подлежит наблюдению даже теперь. Нет надобности
придумывать какие-нибудь гипотетические обстоятельства, при
которых означенное явление только и может иметь место. Между тем
теория, отправляющаяся от идеи сложения химических элементов
в органические соединения и в организмы в начале вещей, должна
путаться в гипотезах и не имеет опытно-наблюдательной опоры.
Во всяком случае, сила, соединяющая элементы для образования
организмов, действовала только раз при некоторых особенных
обстоятельствах; сила разлагающе действует всегда и при всех
обстоятельствах. Наконец, идея распадения органического мира на химические
элементы совпадает с теориями новейших физиков, которые, как,
например, Клаузиус136, доказывают, что мировые процессы
клонятся к известному пределу, именно к превращению всех химических и
механических сил в равномерно по всей вселенной распределенную
Теория Дарвина и общественная наука
379
теплоту. «Вот, — говорит автор, — будущность органического мира,
логически вытекающая из принципов Дарвина, а не стремление к
бесконечному дифференцированию и совершенствованию».
Мы совсем обойдем те параграфы, которые озаглавлены:
«Затруднения теории» и «Философское основание». Здесь автор остроумно
доказывает правильность своей исходной точки — построения
будущности органического мира вместо изыскания его прошедшего.
Еще остроумнее прячется он за спину Дарвина, доказывая, что
возражения, могущие быть выставленными против его теории, с таким
же правом могут быть предъявлены и Дарвину; что, следовательно,
поскольку они опровергнуты дарвинистами, постольку оправдан и
он. Мы перейдем к вопросу о генеалогическом отношении между
человеком и обезьяной.
Автор начинает решительным утверждением существования этой
генеалогии этого родства. Подобно дарвинистам, он смеется над
мыслью об особенном положении человека в природе, сравнивает ее
с геоцентрической теорией древних и т. д. Но этим и оканчивается
его сходство с дарвинистами. Логически развивая вышеизложенный
взгляд на историю развития органической жизни, он утверждает, что
различия между человеком и зверем должны постепенно ослабевать,
что человек будет все более и более приближаться к высшим
млекопитающим; что последние не отстали от человека в процессе
развития, а оставили его позади. Автор вполне готов признать новейшие
генеалогические исследования, например Геккеля. Но рядом с этим
он ставит вопрос: человек ли произошел от обезьяны, или обезьяна
от человека? «Дарвин, — говорит он, — стоит за первое решение, но
это совершенно произвольный вывод, лишенный всякого основания».
Нетрудно представить себе аргументацию автора. Он доказывает, что
при ограниченности или односторонности умственной
деятельности большинства человеческого рода мозг человека должен, под
влиянием неупотребления, постепенно уменьшаться, и наконец
снизойти до размеров и степени развития мозга обезьяны. Далее, ввиду
выгодности замены ног руками, существования хвоста и покрытой
шерстью кожи, естественный подбор упрочит за человеком все эти
особенности, в зачаточном состоянии имеющиеся уже и теперь.
Автор не скрывает от себя неблагоприятного приема, который
должна встретить его теория. Если, говорит он, теории Дарвина
пришлось выдерживать сильный натиск предрассудков о происхожде-
380
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
нии человека, то тем паче неблагоприятно должно быть встречено
отрицание прогресса, с идеей которого люди так свыклись. Но наука
обязана игнорировать эти предрассудки, и раз идея прогресса
уступает перед лицом науки место идее регресса, науке нечего
церемониться. К вышеизложенным естественнонаучным соображениям в пользу
того, что мир не прогрессирует, а регрессирует, надлежит прибавить
еще соображения культурно-исторические.
Признавая изменчивость человеческих рас, признавая, что ныне
существующие расы связаны между собой родством и представляют
цепь переходных форм, мы еще не решаем вопроса о направлении
этой цепи. Представитель кавказской расы и австралийский неф
связаны родственно и представляют две отдаленные ступени развития.
Но которая из них выше, дальше ушла в процессе развития?
Представлять в пользу кавказской расы физиологические резоны нельзя,
ибо вопрос об усложнении организации вообще и мозга в частности
есть именно подсудимый. Физиологически европеец выше дикаря,
это несомненно, но нам нужно знать, кто из них выше исторически.
С этой точки зрения защитники теории прогресса могут представить
только один важный факт: вытеснение диких народов европейскими
колонистами. Известно, однако, что, с другой стороны, высшие
народы нередко пасуют перед низшими. Во всяком случае, доступное нам
историческое время слишком коротко, чтобы мы имели право
строить закон прогресса на его одиночных явлениях. Притом же самое
важное решить — прогрессируют или регрессируют сами
цивилизованные народы. Скажут, может быть, что наши сведения о низком
уровне развития наших предков каменного периода не оставляют на
этот счет никаких сомнений. Но кто дал нам право считать эти
существа своими прямыми предками? Из того, что они жили там же, где
мы живем теперь, еще ровно ничего не следует, точно так же, как и
из их древности. Мы можем предположить, что это представители
родственной нам ветви общего родословного дерева; что в то время,
как наша ветвь остановилась на известной ступени развития, они
быстро регрессировали и либо исчезли совсем, либо стали
родоначальниками высших млекопитающих. Для проверки теорий прогресса и
регресса мы должны проследить историю одного какого-нибудь
народа, существующего и по сие время. Возьмем же культурные народы
древности, каковы китайцы, индусы, египтяне, евреи, греки, римляне.
Какого бы мы ни были мнения о теперешнем состоянии этих наро-
Теория Дарвина и общественная наука
381
дов, но никто, конечно, не скажет, что они в прежнее время были
ближе, чем теперь, к моменту выделения человека из животного мира.
Нельзя, конечно, отрицать, что в целом цивилизованные народы
сделали в течение тысячелетий огромные успехи в науке, искусстве,
технике и что факторы этих успехов следует искать в дарвиновой
борьбе за существование. Но заметим, что если длинный ряд
поколений работает над каким-нибудь делом, то высота достигнутого
ими совершенства ни в каком случае не может служить мерилом
качественного усовершенствования человеческого рода. Мы просто
работники, стоящие на вершине постройки, над которой работали
многие поколения. Но от этого мы отнюдь не совершеннее первых
работников. Напротив, они гораздо выше нас. Присматриваясь к
характеру цивилизации, легко увидеть, что человек улучшает свое
положение в мире, но ни на волос не улучшается сам в смысле
усовершенствования. Искусное пользование силами природы, организация
общества, приискание средств для удовлетворения потребностей —
все эти улучшения внешних жизненных отношений доступны и
низшим животным, например многим насекомым. Если же мы возьмем
специально человеческие особенности: разум, язык, силу воли,
нравственное достоинство, то еще вопрос — прогрессируем ли мы в этом
отношении. Современные мыслители, например, обладают
сравнительно громадной массой знаний, но какой из них может сравниться
по силе мысли, по совершенству способностей с древними
философами? Или какое из современных открытий и изобретений может
быть поставлено рядом с изобретением письма?
Выше было говорено о веровании в особенное, исключительное
положение человека в природе как о предрассудке. И конечно, с
современной точки зрения это предрассудок. Наука доказала, что в
человеке нет никакой особой, нематериальной субстанции, что между
ним и другими животными нет никакой пропасти. Но имеем ли мы
право называть отринутые ныне воззрения предрассудками в устах
Сократа, Платона, Аристотеля или Лейбница, Декарта? Воззрения эти
до того тесно связаны со всеми другими сторонами их учений,
имевшими мировое значение, что пришлось бы всю их философию
называть просто глупостью. О недостаточном знакомстве с фактами здесь
говорить нельзя, потому что явления, которых совершенно
достаточно для нашего убеждения, были вполне известные еще
Аристотелю. И, однако, он не убеждался, он все-таки признавал человеческую
382
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
душу чем-то существенно отличным от остального мира. Мы выйдем
из этого затруднения очень просто, если примем, что обе
стороны правы, что выход следует искать в изменении не субъективных
мнений, а объективных фактов. В нашем сознании потому исчезла
пропасть между человеком и зверем, что ослабело различие между
ними в действительности: человек приблизился к зверю. Смотря на
вещи иначе, древние нимало не заблуждались, потому что в их время
специфически человеческие черты были выражены ярче, и пропасть
между человеком и зверем действительно существовала.
Одно из наиболее характерных отличий человека от животных
есть религиозное чувство. Хотя Дарвин и доказывает, что оно в
зачаточном состоянии существует и у животных, но это показывает
только, что различие и здесь не абсолютно, а относительно. Тем не менее,
различие есть, и мы должны признать религиозность, чувство
зависимости от некоторого высшего духовного существа специфической
особенностью человека. Вместе с тем никто, конечно, не станет
отрицать постепенный упадок религиозного чувства в людях. Сравните
теократии древности и плутократии средних веков с теперешними
чисто светскими конституциями государств; сравните древнее
искусство, так часто направлявшееся к исключительно религиозным
целям, с теперешним его эмансипированным состоянием; сравните
крестовые походы с нынешними национальными войнами.
Проследите далее внутреннюю историю религиозности, и падение ее станет
очевидным. От наивных верований в откровение мы идем к атеизму.
Мы, говорит автор, далеки от мысли признавать исключительное
достоинство за какой-нибудь из этих стадий развития мысли. «Нельзя
смотреть на один какой-нибудь органический тип — на рыбу, на
млекопитающее, на инфузорию — как на истинное животное, а на все
остальные как на выродки». Ступени развития мысли так же хороши
на своем месте и так же связаны между собой началами
сосуществования и последовательности, как и органические типы. Не отдавая ни
одной из них преимущества, мы только следим за порядком их смены.
В нашем случае порядок этот, как мы видели, определяется формулой:
от откровения к атеизму. Принимая в соображение вышеизложенное
о религиозном чувстве как о специфически человеческой черте, мы
должны связать эту формулу с более общей: от человека к зверю. А раз
мы имеем две такие ясно определенные точки линии движения, для
нас ясно и направление самого движения: мы регрессируем.
Теория Дарвина и общественная наука
383
Скажут, может быть, что религиозное чувство, исчезая, не
оставляет за собой пустого пространства, что оно с избытком заменяется
разумом, который также принадлежит к числу специфически
человеческих черт. Но это возражение далеко не существенно. Инстинкт
животных есть не что иное, как усовершенствованный, упроченный
разум. По Дарвину, пчелы в своих постройках решают такие задачи,
которые не под силу человеческим математическим способностям.
По Вундту137, бобры, независимо даже от инстинкта, обнаруживают
механические и гидростатические познания. «По Геккелю, есть
собаки, лошади и слоны, стоящие в умственном отношении решительно
выше многих ученых». А открытое презрение «образованного»
общества к логике всем известно.
Точно так же не замещается религиозное чувство и
нравственными началами. Стоит только припомнить, что необходимое условие,
субстрат всякого нравственного принципа — «свободы воли» — есть
для нас, благодаря успехам науки, пройденная ступень иллюзии. Что
же касается до мотивов и мерила нравственности, то на этом пункте
стоит остановиться подольше. Действиями человека управляют два
противоположных мотива; во-первых, личный интерес, во-вторых,
совесть, чувство долга, которое как бы мы ни смотрели на его
происхождение, сводится к пожертвованию личного интереса для блага
ближнего или для общего блага. Второй из этих мотивов всегда
признавался этическим по преимуществу, ему отдавалось предпочтение,
по крайней мере, в принципе, если не фактически. Но с течением
времени значение его все более и более стушевывается. Постепенно
уменьшается число людей, руководящихся в своих действиях
нравственными принципами, и понятия доброго и злого,
справедливого и несправедливого отступают перед понятием более или менее
целесообразного. Ошибочно было бы выводить из этого явления
какие-нибудь пессимистические заключения, скорбеть о ходе вещей
и т. п. Ход вещей устраивает все совершенно естественно и законно:
tempora mutantur et nos mutamur in illis. Изменение этического
принципа правомерно совершается под давлением разъясненного Дарви-
ном закона сохранения привилегированных неделимых. В истории
человечества, как и в истории всего мироздания, царит закон
самосохранения, и право силы есть верховное право и там и здесь. «Если мы
допустим для человека еще какой-нибудь этический принцип,
стоящий в противоречии с первым, то во имя последовательности мы
384
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
должны ввести дуализм и в остальную природу, принять отличный
от материальных сил принцип развития, именно принцип творения».
«Опыт свидетельствует, что лучше всего выдерживают борьбу за
существование те, кто решительнее преследует свои личные интересы,
кто неразборчивее в своих средствах. Напротив, отщепенцы,
налагающие на себя цепи совести или самопожертвования, отодвигаются
в сторону или размозжаются колесом времени». Напрасно
называют инстинкт самосохранения неодобрительным именем эгоизма.
Это нравственный принцип будущего, точно так же, как принцип
самопожертвования, есть принцип прошедшего, когда борьба за
существование еще не велась с такой напряженностью. Справедливо
говорят, что общее благо наилучше достигается, когда отдельные
личности совершенно свободно преследуют свое личное благо.
Известно, что прогоняя нищего, мы более содействуем и его
собственному благу, и благу общества, чем посредством порывов мягкосердия.
Итак, наши правила нравственности изменяются в направлении от
благородного самопожертвования к эгоизму. Но это есть вместе с тем
движение по направлению от человека к зверю, который
руководствуется в своих действиях, вообще говоря, исключительно эгоизмом.
И здесь, следовательно, мы видим струю, натравленную прямо вниз
и вместе с тем сглаживающую различия между человеком и другими
животными. Тот же процесс уравнения признаков, а не расхождения
их, как утверждает Дарвин, можно наблюдать и в среде человеческого
общества.
Сюда относится, во-первых, давно замеченное исчезновение
резко определенных духовных физиономий, оригинальных характеров.
Сюда же следует отнести и постепенное уравнение личных мнений,
покоряемых общими верованиями. Но очевиднее всего этот процесс
в социально-политической области. Мы видим, что люди разделены
на расы, национальности, государства, сословия, корпорации,
разделены по языкам, верованиям, обычаям и проч. Суть большинства этих
обособлений состоит в том, что самостоятельность и свобода
отдельных неделимых приносятся в жертву интересам некоторого
высшего целого или некоторых привилегированных личностей. Но,
вглядываясь в историю развития этих обособлений, нетрудно заметить,
что они в прежнее время были гораздо резче и что они все более и
более сглаживаются. Междусословные стены так или иначе рушатся;
железные дороги, наука, литература перебрасывают мосты от одной
Теория Дарвина и общественная наука
385
национальности к другой; национальные костюмы отступают перед
всенивелирующей модой; деятельность таможен сокращается; цехи
исчезли или исчезают-, мелкие государства вливаются в большие и
т. д. Это направление, столь ясное и характеристичное, есть не что
иное, как частное повторение мирового процесса от сложного к
простому, от большого к малому, от разнообразия к однообразию.
Итак, мировой процесс, по исследованию нашего автора,
диаметрально противоположен изображаемому Дарвином. Дарвин
прекрасно объяснил ход вещей от зарождения органической жизни на
земле до настоящего момента. Но он решительно не в силах осветить
со своей точки зрения будущее. Наш автор, с другой стороны, сознает,
что, разъяснив будущее, он не знает, как пристроить свою точку
зрения к отдаленному прошедшему. Как туг быть? Автор решает вопрос
просто. Прав Дарвин, говорит он, прав и я. Он прав для прошедшего,
я — для будущего. Если вы бросите камень, то до известной точки
он будет лететь вверх, но затем сила тяжести перевесит силу толчка,
и камень упадет на землю. Так и с органической жизнью.
Первоначально тенденция ее была в сторону дивергенции, расхождения
признаков. Но на известной точке должна начаться конвергенция,
уравнение признаков. Мы находимся на точке перелома. Мы стоим как бы
на высокой горе, оба склона которой представляются нашим взорам
с одинаковой ясностью.
III
Мы предупредили читателя, что ему придется выслушать много
вздора, несообразностей, противоречий и проч. Тем не менее, мы
привели содержание книжки неизвестного автора отнюдь не для
того только, чтобы посмешить читателя. Это, прежде всего
диалектический фокус, местами дубоватый, местами довольно ловкий и
остроумный. Иногда просто кажется, что это пародия на дарвинизм,
которой, если она, по замыслу автора, действительно пародия, нельзя
отказать в некоторой удаче. Но тон автора до такой степени
серьезен, некоторые соображения его в такой мере лишены шутовского
характера, что на мысли о пародии остановиться трудно, как ни
тянет к этому, хоть бы, например, серьезность ссылки на бутаду Геккеля:
некоторые слоны, лошади и собаки в умственном отношении стоят
гораздо выше многих ученых. Порешив на том, что немцы бывают
386
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
всякие, возьмем книжку как она есть, безотносительно к тайным
замыслам автора, если таковые и были. Балаганит автор или нет, но он
ставит интересную задачу, до сих пор мало кому приходившую в
голову. Балаганно он ее разрешает или нет, но указанный им пункт
действительно может служить отчасти пробой для дарвинизма и вместе
с тем глубоко затрагивает кровные интересы людей. Балаганит автор
или нет, но принятый им тон исследования может быть назван в
некотором отношении типическим тоном современной мысли.
Часто говорят о естественной нравственности, о естественном
праве, о естественном хозяйстве, о естественном ходе вещей как
регуляторе человеческих дел и проч. При этом прилагательному
«естественный» придается некоторое, если не магическое, то, во всяком
случае, санктирующее значение. Предполагается, что так называемая
естественная мораль, экономия и т. д. необходимо выше всякой
другой морали и экономии, что если предоставить дела их
естественному течению, то результаты будут лучше, чем если бы мы старались
изменить его. Словом, «естественный» значит «нормальный».
Прилагательное «естественный» получило это санктирующее значение
в прошлом столетии. Тогда все оттенки политической мысли, Руссо,
Бриссо138, энциклопедисты, физиократы, экономисты были более или
менее проникнуты этой идеей. В каждом частном случае это
обращение к «естественности» как к панацее обусловливалось комбинацией
частных причин. Но, в общем это был протест против
«неестественности» средневекового общественного строя, приписывавшего себе
«сверхъестественное» происхождение. Некоторые из выработанных
под влиянием такого настроения доктрин давно уже утратили свое
первоначальное содержание. Так, например, основание
естественного права в прошлом столетии составляла идея равенства. Ныне,
собственно, естественное право вышло из моды, но там, где оно
имеет мало-мальски оригинальное содержание; оно отправляется от
естественного неравенства людей. Но общий тезис, подсказанный
требованиями минуты, уцелел и по сие время благодаря школьной
политической экономии и отчасти немецкой философии. В
особенности, первая, развивая девиз, данный ей еще физиократами: laissez
aller, laissez passer, le monde va de lui même, — способствовала
идеализации «естественности». В новейшее время возвеличение этой идеи
взял на себя дарвинизм. Некоторых дарвинизм прельстил
заключающейся будто бы в нем идеей естественного братства. К числу таких,
Теория Дарвина и общественная наука
387
впрочем, очень немногих, сентиментальных людей принадлежит,
например, старый Мишле139. В своем последнем труде, «Histoire du XIX
siècle», он с восторгом говорит о Ламарке как об апостоле идеи
естественного братства между всеми живыми существами. Он прибавляет,
что идея эта в наше время подтверждена, между прочим, Дарвином.
Он забывает при этом, что доктрина Ламарка существенно
отличается от теории Дарвина в том отношении, что первый признал все
живые существа братьями, а второй добавил, что эти братья относятся
и должны относиться друг к другу, как Каин и Авель. Тут, пожалуй, и
нечем восторгаться. Но дело не в этом. Как уже сказано, этой
стороной дарвинизма любуются не многие. Несравненно большей
популярностью пользуется дарвинизм за идею прогресса как результата
естественной борьбы за существование. Благодушный утопист
Мальтус, труд которого Дарвин называет «незабвенным», предлагал людям
умереннее размножаться ввиду печальных последствий жизненной
конкуренции. Дарвинизм требует, напротив, усиленного
размножения, усиленной жизненной конкуренции, благодаря нестесняемой
«естественной» деятельности которой вырабатываются все высшие и
высшие формы. Эти высшие, привилегированные формы (favoured
races)* суть вместе с тем носители основания естественного права —
права сильного. При этом перед нами развертывается необъятная
перспектива прошедшего, из которой видно, что естественный ход
вещей был в высшей степени благодетелен, вел органическую жизнь
все вверх — к красоте, уму и нравственности современного человека.
Да здравствует естественный ход вещей!
Но наш веселый немец напоминает о вещи самой простой и
естественной — о неизбежном конце вместилища всяческого
прогресса — земли. Мысль о смерти вообще неприятная вещь. Но мы
все-таки совершенно свыклись с мыслью о собственной смерти; как
потому, что люди умирают каждый день, так и потому, что мы живем
не только настоящим, а и будущим. Самый простой смертный видит
в детях своих как бы некоторое продолжение самого себя. А те, на
долю которых выпала высокая честь и обязанность служить словом
или делом обществу, почерпают из этого служения еще более значи-
Любопытно, что в первых изданиях немецкого перевода это
выражение переведено «vervollkommenete Rassen» (усовершенствованные породы), а в
двух последних — «begünstigte» (покровительствуемые, привилегированные).
388
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
тельное утешение, так как с ними не умирают их дела и слова. Гораздо
уже труднее переварить смерть общества, скажем, народа или
государства, потому что явление это весьма редкое и вместе с тем более
или менее уничтожающее результаты нашей деятельности. Наконец,
земля имеет покончить свое бытие только однажды. Это уже совсем
неутешительно. Конечно, конец этот так далек, что мы не только
можем не принимать, но даже не можем принимать его в соображение.
Сам по себе он, можно сказать, для нас не существует. Но опять-таки
к нему надо подойти. И, следовательно, тот самый естественный
ход вещей, которому мы шлем столько благодарностей за
прошедшее и на который возлагаем столько надежд в будущем, — ведет нас
вниз. Вот мысль, резко противопоставленная нашим веселым немцем
оптимизму дарвинистов. И благодаря резкости постановки вопроса
невольно должны прийти в голову сомнения насчет прелестей
естественного хода вещей.
Правда, для самого автора не существует даже вопроса о значении
естественного хода вещей для человека. Наш веселый немец не от
мира сего. И в этом состоит вторая любопытная черта его
произведения, черта, весьма характеристическая.
Огромное большинство людей верит в исключительное
положение человека в природе, в то, что для него писаны совершенно
особые законы и не писаны законы, действующие в остальной природе.
Значительное большинство людей науки и образованных людей
вообще давно уже эмансипировалось от этого дуализма. Но при этом
произошло маленькое недоразумение. Какое — мы увидим ниже.
А теперь перед нами налицо результат этого недоразумения —
размышления нашего веселого немца, не столько, впрочем,
размышления, сколько его точка зрения. Несмотря на массу
содержащихся в его трактате противоречий, трудно быть последовательнее его
в отрицании дуализма, в отрицании противоположности человека
и природы. Он не только утверждает вместе с современной наукой,
что между человеком и представителями остальной природы нет
качественных различий. Он идет гораздо дальше. Он говорит, что
эгоизм и право силы, царящие во всей природе, должны быть признаны
руководящими началами и для человека, ибо в противном случае мы,
последовательности ради, должны будем ввести дуализм и в
остальную природу. Он смотрит на различные ступени развития
человеческой мысли с полной объективностью. Он не решается признать ни
Теория Дарвина и общественная наука
389
за одной из них, ни за вчерашней, ни за сегодняшней, ни за
завтрашней, никаких преимуществ. Все эти ступени суть для него не
моменты приближения к его какому-нибудь субъективному идеалу, а такие
же продукты природы, как ступени развития органического мира.
Сам он не волнуется никакими идеалами, надеждами, опасениями
и тому подобными слабостями. Зная, что человек и природа едино
суть, он смотрит, например, на волнующую людей идею равенства
и на практическое ее осуществление как на приближение к
обезьяне, и перспектива обезьяньего потомства его ни малейше не
смущает: так написано в законах природы, которым подчинен и человек,
tempora mutantur et nos mutamur in illis. При исследовании прогресса
он устраняет все выработанные человеком понятия о худшем и
лучшем, о благе и страдании, о совершенстве и слабости. Он ищет
только ответ на вопрос: что после чего? и с невозмутимым спокойствием
говорит: прогресс есть регресс. Многие должны позавидовать этой
неимоверной объективности веселого немца. Не в первый уж раз
видим мы попытку определить пути человеческого прогресса
безотносительно к человеку, к его надеждам и стремлениям, наслаждениям
и страданиям. Но дело в том, что позитивисты, например, провидят в
дальнейшей истории человечества только развитие положительного
знания; значит, для них в будущем есть нечто хорошее и хорошо
гарантированное. Поэтому им не особенно трудно прикидываться
совершенно бесстрастными наблюдателями естественного хода вещей.
Или, например, экономисты. В их спокойствии, в их объективности,
в их доверии к естественному ходу вещей нет ничего удивительного,
так как они уверены, что там, впереди, находится гармония
интересов. Наш немец находится в совсем ином положении. Он впереди
обезьяну видит и, тем не менее нимало не смущается. По-видимому,
эта непреклонная объективность должна бы была сообщить автору
прочную точку опоры, гарантировать от противоречий и дать ему
возможность безошибочно ответить на обнаженный от всяких
посторонних примесей вопрос: что после чего? Между тем никакой
точки опоры автор, очевидно, не имеет, потому что, в конце концов,
даже враждебный ему дуализм он готов признать законным и
соответствующим истине в прошедшем. Противоречий в его веселом
произведении такая бездна, что нет почти возможности, да нет и
надобности за ними следить. Наконец, даже оголенный вопрос: что
после чего? получает ответ совершенно неправильный.
390
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
При этом мы имеем в виду не общий смысл его теории,
которая при всей своей несообразности заключает в себе, однако,
некоторое зерно истины. А также не практикуемое им пришивание
своей теории белыми нитками, с одной стороны, к теории Дарвина,
а с другой — к теории Клаузиуса. Здесь он является просто модным
современным фокусником, с беззаботностью мотылька порхающим
по вопросам жизни и с решительностью Александра
Македонского разрубающим гордиевы узлы. Гораздо поучительнее следующий
промах веселого немца. Стремясь обнажить вопрос о прогрессе от
всяких субъективных примесей, желая смотреть на мир, «ковыряя в
носу», как сказал бы Гоголь, или объективно, как говорят другие,
веселый немец упускает из виду то, что находится у него под носом, —
результаты борьбы человека с природой. В его картине недостает такой
простой и очевидной черты, как вероятное для очень близкого
будущего исчезновение, по крайней мере, в цивилизованных странах,
диких зверей и вытеснение культурными растениями дикорастущих.
Зато он вводит в свою картину такие ни с чем несообразные
фантазии, как обрастание человека шерстью, появление у него хвоста,
превращение ног в руки. Ясно, что от этих именно изменений человек
безусловно гарантирован. И гарантирован благодаря именно тому
обстоятельству, которым обусловливается исчезновение вредных для
человека животных и бесполезных для него растений. Обстоятельство
это есть ни более и ни менее, как сам человек, его целесообразная
деятельность. Раз человек надел одежду — его кожа гарантирована от
важных изменений; он будет носить, сообразно внешним условиям,
то мех, то выделанную шерсть, то полотно и тем самым обеспечит
неприкосновенность своей кожи. Раз человек изобрел более или
менее сложные механические орудия — конечности его опять-таки не
подлежат сколько-нибудь значительным видоизменениям; он будет
приспособлять к внешним условиям не руки Свои, а изобретенные
им механические орудия. Силой своего разума человек ставит между
собой и силами природы известных посредников, на которых и
отзывается непосредственная его борьба за существование. Он уже не
столько приспособляется к стихийным, природой данным условиям
существования, сколько их приспособляет к себе. Допустим, что
рассуждения нашего веселого немца, например, о неизбежности
ползучего типа для растений в абстракте совершенно справедливы, что
таков именно ход вещей. Но еще вопрос, допустит ли человек осуще-
Теория Дарвина и общественная наука
391
ствиться этой наклонности растений. А очевидно, он допустит это
только в таком случае, если это окажется для него выгодным. Конечно,
и человеческая деятельность имеет пределы, но, тем не менее,
искусственный подбор стремится заменить собой подбор естественный и
заменяет его все в большей и большей мере. Веселый немец слона-то
и не приметил. А это действительно слон. Достигнув известной
ступени исторического развития, человек уподобляется Иисусу Навину,
который говорит солнцу: стой! — и солнце стоит. Разница, однако,
в том, что Иисус Навин совершил, по библейскому сказанию, чудо,
нечто сверхъестественное, а человек, изменяя окружающий мир, не
думает выбиваться из круга общих законов природы. Он не делает и
не может делать ничего неестественного, потому что неестественное
значит именно невозможное. Но, тем не менее деятельность его резко
отличается от других естественных процессов по отношению к нему
самому, творцу этой деятельности. Посмотрим же, в чем ближайшим
образом состоит деятельность человека на земле, каково отношение
ее к другим процессам природы и каковы результаты столкновения
этих двух течений.
Цитируемый Дарвином Сомервиль говорит о некоторых искусных
скотоводах: «словно они начертили на стене идеально совершенную
форму овцы и придали ей жизнь». Вот простейший образец
человеческой деятельности. Побуждаемый своими надобностями, человек
строит некоторый идеал и, руководимый знанием, достигает его,
то есть получает удовлетворяющую его комбинацию впечатлений
и ощущений. Взятый нами пример крайне прост, идеал достигается
с легкостью и уверенностью, какие характеризуют преимущественно
привычную механическую деятельность человека. В других случаях
идеалы не только труднее достижимы, но и несравненно менее ясны,
так что на отыскание идеала и определение его подробностей
тратится человеком вообще не меньше сил, чем на его осуществление.
Как бы то ни было, но из нашего примера видно все-таки
отношение человеческой деятельности к другим естественным процессом.
Овца, какой она вышло из рук слепых сил природы и
предшествующих поколений людей, не удовлетворяет человека. Он переделывает
ее ввиду своих собственных интересов, отнюдь не давая простора ни
естественному подбору, ни каким бы то ни было интересом самой
овцы. Весьма вероятно, что та форма овцы, которая дает наиболыпе
шерсти и жиру, крайне невыгодна для нее самой. Весьма вероятно,
392
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
что эта идеальная форма связана с какими-нибудь болезнями,
недолговечностью овцы и т. п. Во всяком случае, естественный подбор
только в виде частного, исключительного случая мог бы произвести
такую, только для человека (и даже только для скотовода, потому что
эстетик легко может ею не удовлетвориться) идеально совершенную
форму овцы. Представим себе всю область человеческой
деятельности в деле искусственного подбора животных и растений, и нам
станет ясно, как нелепо было бы игнорировать роль человеческой
деятельности в дальнейшей истории жизни на земле, и как эта
дальнейшая история должна отличаться по своему характеру от
предыдущей. Ясно, например, что хищные животные, если даже им так
написано на роду, не успеют обратиться в травоядных, потому что будут
истреблены человеком или приручены. До развития человеческой
деятельности, до влияния на жизнь его идеалов слепые силы
природы изменяли организмы без всякого определенного направления
и давали победу «привилегированным», которых можно назвать так
только именно потому, что они одержали победу, и ничто не мешало
им быть во многих отношениях ниже побежденных. По мере
развития человеческой деятельности этот порядок вещей изменяется.
Изменения организмов происходят в одном направлении — в
направлении интересов человека, а не в интересах некоторых счастливцев
каждого вида. Конечно, всегда могут остаться некоторые заповедные,
недоступные для человека области действия естественного подбора.
Но мы говорим об общем характере и направлении процесса.
Что же в это время делается с человеком? Представим себе
нашего отдаленного предка, который всковырял известное пространство
земли каким-нибудь подобием скребка или лопаты, рассыпал
несколько зерен и дождался плодов своего нехитрого труда. Раз он это
совершил, изменение его передних конечностей, в пределах взятого
нами примера, уже не требуется обстоятельствами его жизни (оно,
без сомнения, не требовалось уже гораздо раньше; наш пример
годится только для наглядности). Требуется изменение скребка,
каковое может совершиться, не принимая в соображение каких-нибудь
счастливых случайностей, только благодаря усиленной умственной
деятельности. Надо выдумать что-нибудь лучше скребка. Сознается
необходимость глубже взрывать почву. Вырабатывается идеал
пригодного орудия и обработки поля. И вот скребок заменяется лопатой,
лопата сохой, соха плугом, человеческая сила силой домашних жи-
Теория Дарвина и общественная наука
393
вотных, эта последняя силой ветра, течения воды, пара. Идеалы
растут, подмываемые, с одной стороны, увеличивающейся трудностью
обработки, а с другой — собственной инициативой человека. И
каждый из этих шагов вперед, во-первых, все более и более обеспечивает
физическую (в грубом смысле слова) неприкосновенность
человеческого типа и, во-вторых, вызывает известные изменения умственной
природы человека. В числе орудий приспособления одно из
важнейших мест занимает кооперация, которая вызывает ряд изменений
собственно нравственного характера. И здесь человек ставит перед
собой известные идеалы и стремится выработать
удовлетворительную комбинацию ощущений и впечатлений. Нам незачем следить
здесь за ходом всех этих изменений. Нам нужно только определить
их общее направление, а оно очевидно: история жизни на земле
стремится обратиться в историю человеческих идеалов. Рост и падение
идеалов, их смена, способы достижения их, материалы, идущие на их
теоретическую постройку и практическое осуществление, — вот
элементы дальнейшей истории жизни на земле. Конкретным образом
они выразятся следующими чертами: изменение органических форм
в интересах человека, сохранение физического типа человека в
общих чертах, изменение его умственного и нравственного склада (см.
об этом у Спенсера и Уоллеса). Идеалы могут враждебно сталкиваться.
Человек может, например, задуматься: обработать ли ему красивую
дикую местность и тем удовлетворить некоторому
сельскохозяйственному идеалу, или оставить ее как она есть в видах эстетических. Но и
в последнем случае местность остается неприкосновенной только в
качестве человеческого идеала, в качестве явления,
удовлетворяющего эстетическим вкусам человека.
Но спрашивается, как связать это будущее с последней частью
романа земли? Очевидно, веселый немец ничего такого не сделал;
он просто механически приставил свою теорию к теории Клаузиуса.
Если читатель спросит о нашем мнении на этот счет, то мы ему
ответим: не знаем. И прибавим в утешение, что этого и никто не
знает. Относительно самой последней части романа существует много
предложений и теорий, друг друга исключающих. Существует даже
мнение, и притом поддерживаемое людьми науки в настоящем
смысле слова, что роман земли бесконечен. Однако эта гипотеза
маловероятна. Но нам, собственно говоря, до этого нет дела не только
потому, что конец романа слишком далек от нас для того, чтобы мы могли
394
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
принимать его в соображение практически, но и потому, что, каков
бы он ни был, мы будем поневоле бороться до конца... Выработка
идеалов, погоня за удовлетворяющей комбинацией ощущений
прекратиться не может. Идеал не только не отступает перед трудностями,
но, напротив, питается ими. Прудон в своей книге об искусстве
задавал себе роковой вопрос и ответил на него таю «Я не верю, чтобы
всемирный человек Паскаля, вечно учащийся, вечно развивающийся,
накопляющий богатства и бессмертный, мог дряхлеть и приходить
в упадок. Он может мучиться, колебаться, временно падать и
подыматься, но мне кажется совершенно невозможным, даже
противоречивым, чтобы нравственное его падение могло быть постоянным,
продолжительным. Человечество когда-нибудь кончится, говорят
некоторые; земля, служившая ему колыбелью, сделается для него
гробницей. Я могу допустить, что планета наша может состариться, — хотя
я этого и не знаю; я допускаю это потому, что планета не дух, не
совесть и не свобода; но в таком случае человечество, постоянно
уменьшаясь в своей массе, вследствие неблагоприятных условий почвы
уничтожится, так сказать, добровольно, не истощившись, а перейдя в
высшую духовность. Достигнув совершенства, человек кончится.
Достигнув высшей степени сознания, понимания свободы и своего
достоинства, ввиду истощенной, дряхлой природы, ставшей ниже его,
одухотворенный человек без сожаления к своей неудавшейся судьбе
должен будет согласиться с необходимостью и завещать свою душу
более юному миру». Так или иначе, но мы можем руководствоваться
только воображением, говоря о конечных формах великой борьбы
человека с природой за существование. Можно придумать много
различных комбинаций, но. все они будут построены на песке. От этой
мысли, как и вообще от постройки конечного идеала, мы должны
отказаться. Милль говорит в своем трактате политической экономии о
«неподвижном состоянии общества» в экономическом отношении как
о возможном и желательном будущем. И об этом можно рассуждать,
к этому идеалу можно стремиться. Но экономическая неподвижность
не исключает собой дальнейших идеалов нравственных, умственных,
эстетических, и следовательно, конечного идеала, достаточно ярко
обозначенного, мы не имеем. Для нас важны не эти, облеченные в
плоть и кровь последние образы, а направление нашей
деятельности. Ринутся ли последние люди в битву с тем отчаянием, с которым
горсть удальцов бросается в сражении на верную смерть, угаснет ли
Теория Дарвина и общественная наука
395
человечество тихо и постепенно, сокращаясь в числе; нанесет ли
оно последние удары само себе — во всяком случае, пути природы
и человека разные. И возникающая отсюда борьба за существование,
проявляясь в иных формах, чем между другими деятелями природы,
тем не менее, беспощадно обязательна. Идеал и стремление к его
осуществлению возникают так же фатально, как самые пассивные
приспособления низших существ. Простые физиологические нужды
и высшие нравственные идеалы гонят нас все вперед и вперед, на
вечную фатальную борьбу с бессмысленной природой, борьбу, в
которой мы остановиться не можем. Конечный идеал для нас темен,
мы побуждаемся к действию только ближайшими идеалами, и конец
романа земли практически важен для нас только как указание на
бессмысленность и негуманность, бесчеловечность естественного хода
вещей. Но мы люди и можем руководствоваться только гуманностью,
в широком смысле слова, только человечностью. И одно это уже
фатально обязывает нас на борьбу с природой, каковы бы ни были ее
конечные результаты.
Спрашивается, какого мнения должны мы держаться ввиду всего
этого относительно естественной морали, естественного права,
естественной экономии, естественного хода вещей как регулятора
человеческих дел? Каково их отношение к нашим идеалам? Очевидно, что
люди, толкующие о естественном ходе вещей как о благодетельном
регуляторе человеческих дел, находятся во власти некоторого
недоразумения. Кусок хлеба, снящийся голодному нищему; красавица,
о корой мечтает юноша; форма овцы, которой добивается скотовод;
общественный строй, представляющийся мыслителю
осуществлением справедливости; механическое приспособление, задуманное
техником, — вот идеалы или, вернее, элементы идеалов. Но разве не
естественный ход вещей породил сон нищего, мечту юноши, идеал
овцы, уму мыслителя, работу техника? Разве не естественный ход
вещей побудит нищего, восстав ото сна, протянуть руку за подаянием,
наняться в работники или ограбить прохожего? Разве не
естественный ход вещей побудит человека стремиться теми ли, другими ли
путями к осуществлению его идеала справедливости? Разве действие
механического приспособления, изобретенного техником, будет
менее естественно, чем рост растения, дыхание человека, притяжение
земли, соединение химических элементов и проч.? Вообще, разве
возможен какой-нибудь неестественный ход вещей? Разве неестествен-
396
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
на, собственно говоря, самая безумная мечта? Единственный смысл,
который может быть навязан выражению «естественный ход вещей»,
состоит в невмешательстве человека. Дано известное сочетание сил;
если мы не будем вмешиваться в дальнейшее развитие этой
комбинации, то это будет естественный ход вещей. Но в таком случае надо
признать, что естественный ход вещей существует только тогда и там,
когда и где нет человека, потому что человек каждым своим шагом,
простейшими жизненными актами изменяет, так или иначе, данную
комбинацию сил. Мы согласны, пожалуй, принять это толкование,
единственно, впрочем, потому, что не возлагаем больших надежд на
естественный ход вещей. Но это толкование не только крайне
обидно для человека, но и ведет к тому самому дуализму, который желают
изгнать сторонники естественного хода вещей. В самом деле, рельеф
земного шара, например, создан известными сочетаниями
космических сил. В создании его принимали участие, между прочим, такие же
индивидуализированные единицы, как и человек. И мы говорим, что
рельеф земного шара определился естественным ходом вещей.
Является человеком и переделывает рельеф земли, сообразно своим
идеалам здесь пробивает туннель, там строит плотину, там отводит русло
реки, здесь тревожит залежи каменного угля — и нам приходится
признать, что это естественный ход вещей. За что же мы выгоняем
таким образом человека из области естества? и куда? Мы не
придираемся, не говорим о тех непроизвольных изменениях данной среды,
которые совершаются простейшими физиологическими
отправлениями, актами дыхания, пищеварения и проч. Мы говорим только о
сознательной деятельности человека. И ее-то, очевидно, все-таки не
представляется возможным называть неестественной, в каком бы
направлении и какими бы средствами она ни изменяла данную среду.
Мы имеем здесь любопытный образчик того, как иногда слова
переживают сами себя. В свое время выражение «естественный ход
вещей» имело очень ясный и совершенно специальный смысл. Оно
выражало требование ослабления уз, наложенных на личность
феодализмом. Но оно осталось в обиходе речи и после упразднения
феодализма, получило гораздо более общий и гораздо менее
определенный смысл, а затем осложнилось еще дурно понятым реализмом.
Будем, однако, разуметь под естественным ходом вещей все, что
только под ним можно разуметь, то есть все процессы природы за
исключением сознательной деятельности человека. И надо заметить,
Теория Дарвина и общественная наука
397
что если мы устраним двусмысленность выражения «естественный
ход вещей» и ту смутную точку зрения, благодаря которой
установилась эта двусмысленность, то выделение сознательной деятельности
человека из совокупности естественных процессов окажется вполне
рациональным. Оно ни малейше не колеблет общности
происхождения и свойств обоих разрядов явлений. Оно устанавливает только
известную классификацию, не устраняющую полезности и
необходимости других классификаций. Разум, воля и чувство человека,
стремящиеся стать верховными активными деятелями природы подобно
всем другим сложным факторам, представляют собой просто
известное сочетание основных сил природы. Это сочетание развивалось
постепенно, начиная с низших ступеней органической лестницы.
Представители каждой из этих ступеней боролись с остальной
природой, по необходимости противопоставляли себя ей, но или падали
в этой борьбе, или распространяли свое влияние в более или менее
узких пределах. Только с развитием целесообразной деятельности
человека остальная природа встретила врага достаточно могучего,
чтобы победить и время, и пространство, и климат, и естественный
ход вещей. Когда говорят, что земля постепенно, естественным
ходом вещей приготовилась к существованию человека, то это
справедливо в том условном смысле, что человек мог явиться только после
многовековых изменений земной поверхности и органической
жизни. Но, тем не менее земля оказалась скорее мачехой, чем заботливой
матерью человека. Вообще говоря, человек весьма редко
удовлетворяется комбинацией ощущений и впечатлений, получаемых им от
процессов и результатов естественного хода вещей. Он разделяет то, что
природа соединяет, и наоборот; он перебрасывает мосты через реки
и прорывает каналы; перевозит естественные произведения одной
страны в другую, где они, пожалуй, не естественны; объединяет
естественные группы — народы общими верованиями и разделяет народ
на классы; проводит воду туда, где, по естественным условиям, она
скопиться не могла, и осушает болота; развивает в животных и
растениях такие формы и особенности, которые противны естественному
ходу вещей, и т. д., и т. д. Это дает уже нам некоторое право думать,
что нечто профессивное в смысле естественного хода вещей может
оказаться регрессивным в человеческом смысле, и наоборот. Человек
приносит с собой в мир новую силу, которая, как и все другие
сложные силы, представляет известное сочетание основных сил приро-
398
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ды и, подобно всем другим силам, стремится охватить всю природу.
Сила размножения, как известно, такова, что каждый вид покрывал
бы в короткое время землю своим потомством, если бы не
встречались столкновения с другами силами природы. Из этого, однако, не
следует, чтобы напряженность силы размножения вообще и в
каждом частном случае была естественна. Точно так же целесообразная
деятельность человека стремится овладеть природой, вовсе не
переставая быть естественной. Но понятно, что для человека его разумная
деятельность резко выступает из среды других деятелей природы и
имеет совершенно особое специальное значение. Она имеет таковое
уже потому, что она наша деятельность. Ни малейше не сомневаясь
в естественности мотивов, целей и средств человеческой
деятельности, нельзя, однако, не признать, что она в наших глазах пользуется
и должна пользоваться некоторой премией по сравнению с другими,
столь же естественными процессами. А это уже обязывает нас к
некоторому дуализму, хотя и не к тому, который признает человека
существом, стоящим вне законов природы. Так что веселый немец,
может быть, и не прав, говоря: «Если мы допустим для человека еще
какой-либо этический принцип, стоящий в противоречии с правом
силы и эгоизмом, то, во имя последовательности, мы должны ввести
дуализм и в остальную природу, принять отличный от материальных
сил принцип развития».
Удивительное мы с вами время переживаем, читатель.
Приходится доказывать, что чувства и воззрения, противоположные эгоизму
и праву силы, не неестественны! А между тем, кажется, чего проще:
эти чувства и воззрения существовали испокон веку, участвовали в
историческом процессе, хотя далеко не всегда побеждали, и
кристаллизировались в истории, существуют, наконец, и по сие время.
Существовали, существуют, значит, кажется, по малой мере, естественны.
Приходится доказывать, что из того, что человек — животное, еще
вовсе не следует, чтобы для него обязательно было быть скотом. Тени
великих служителей человечества, вы все, для нас мыслившие и
страдавшие и пролившие кровь и молившиеся, заблуждавшиеся и
находившие истину, — посмотрите на нас; посмотрите, что спекли мы из
вашей крови и мысли: с одной стороны, пропись: будь добродетелен,
ибо добродетель торжествует, а порок наказуется; с другой
стороны, нечто, не имеющее имени — добродетель есть порок, порок же
есть добродетель или, по крайней мере, добродетель неестественна.
Теория Дарвина и общественная наука
399
И особенно достойно внимания, что и эти прописи, и это нечто, не
имеющее имени, существуют совместно и ни малейше друг друга не
стесняют. Даже наш веселый немец не чужд прописи. Он, подобно
Мишле, радуется естественному братству всех земных тварей и
проистекающим отсюда высоким, гуманным чувствам!
Читатель отнюдь не должен смущаться тем, что веселый немец не
то сумасшедший, не то клоун, не то серьезный и остроумный человек.
Имя ему легион, хотя мысли, высказываемые им, высказываются
другими не в столь парадоксальной форме. Но форма, конечно, ничего
не значит, и мы немца веселого взяли только потому, что он, по своей
неустрашимости, особенно удобен для наблюдений.
АНАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
В ОБЩЕСТВЕННОЙ НАУКЕ
(История и метод.
Сочинения Александра Стронина 1869 года)
I
Общественная наука есть «дело, которое, вероятно, составит
великий умственный подвиг ближайших двух или трех поколений
мыслителей Европы». Такими словами заключает Стюарт Милль свою
«Систему логики». Но разве общественная наука еще не существует?
Разве у нас нет науки экономической, науки права со всеми ее
многочисленными разветвлениями, науки исторической с ее подспорья
ми — археологией, нумизматикой, сравнительной филологией и
проч.? Без всякого сомнения, все это у нас есть и тем не менее
мыслителям Европы предоставляется совершить умственный подвиг —
создать общественную науку. Что же это за несуществующая наука
и в чем тут дело? Дать вполне удовлетворительный ответ на этот
вопрос мы не беремся; но намекнуть на ответ нам придется, потому что
лежащая перед нами книга г-на Александра Стронина имеет в виду
именно уяснение некоторых пунктов общественной науки, о чем,
впрочем, довольно трудно догадаться по странному заглавию. Мы
прочли эту книгу с большим любопытством, а, прочитав, тотчас же
взялись за перо, чтобы представить читателю посильную оценку
некоторых основных положений г-на Стронина, по нашему крайнему
разумению, достойных особенного внимания. Притом же г-н Стро-
нин предлагает оригинальную классификацию социальных наук и
оригинальный метод их, и уже по одному этому мы сочли своей
обязанностью остановиться подольше на его книге. Но этого мало. Как
мы уже сказали, некоторые взгляды автора заслуживают особенного
внимания, ибо в них отражается весьма важная, хотя, по всей
вероятности, временная сторона современного мышления вообще.
Прежде всего, бросилось ном в глаза то обстоятельство, что
книжка г-на Стронина «посвящается славянским гостям России 1867 года».
Конечно, всякий волен посвящать свои труды кому угодно. Но всякий
Аналогический метод в общественной науке
401
волен также делать из посвящения свои заключения, каковые,
разумеется, очень затруднительны, когда книжка посвящается частному
лицу, но, напротив, невольно сами собой напрашиваются, когда она
посвящена людям, так сказать, публичным, как в настоящем случае.
Откровенно говоря, мы были изумлены тем, что «История и метод»
посвящается «славянским гостям России 1867 года»140. Еще более,
откровенно говоря, это посвящение не расположило нас в пользу труда
г-на Стронина. Мы думали встретиться в нем с отголосками
напускной горячки 1867 года или с истертыми тезисами славянофильства.
Но мы ошиблись. В самом конце книги наткнулись мы на следующую
подозрительную фразу: «Мы пережили в нашей христианской эре и
ступень Древнего Востока — в романских средних веках, переживаем
и ступень Греции — в германской новой истории, остается ступень
Рима — будущность славянства». Это заключительные слова книги.
Но затем в самой книге, на всем пространстве от посвящения до
заключения, есть только одно место в духе русских хозяев (т. е. людей,
принимавших славянских гостей 1867 года; мы делаем это
пояснение для непроницательных читателей, могущих подумать, что речь
идет о людях, знающих толк в сельском, домашнем, государственном
или ином каком-нибудь хозяйстве). И за исключением этого места,
которое мы в свое время покажем читателю, в книге г-на Стронина
не только нет ничего такого, что бы могло польстить русским
хозяевам, но есть даже вещи, которые им должны крайне не понравиться.
Г-н Стронин полагает, что история как наука началась собственно с
Бокля; большинство русских хозяев, имея в виду исторические
работы г-на Погодина, Шевырева141 и проч., с таковым мнением автора
едва ли согласится. Русские хозяева весьма хлопотали о том, чтобы
на меню торжественных обедов в честь славянских гостей не
попадались иностранные слова, вследствие чего «салат» подвергся гонению;
равномерно в эту знаменитую эпоху были поползновения изгнать
и другие иностранные слова, каковы «кассация», «факт» и проч.; г-н
же Стронин так и сыплет иностранными терминами, и притом во
многих случаях им самим измышленными. Таких пунктов различия
между г-ном Строниным, с одной стороны, и русскими хозяевами, с
другой — существует весьма достаточно. Поэтому можно думать, что
г-н Стронин не от приезда к нам славянских гостей заключил о
великой будущности славянства, а поступил гораздо серьезнее, именно:
убедившись научным путем в великой будущности славянства, пора-
402
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
довался славянским гостям и посвятил им свою книжку. Дело,
значит, сводится к тому, чтобы определить тот научный путь, которым
автор дошел до своего убеждения. Мы вправе ожидать, что это путь
действительно научный, потому что г-н Стронин принимает в
соображение все новейшие общие исследования по вопросам о методах
и задачах общественной науки. Он цитирует Конта, Милля, Спенсера,
Бокля, Риттера142 и не цитирует почти никого, кроме них. К
сожалению, однако, вглядываясь в вышеприведенную фразу г-на Строни-
на, можно усомниться в научности избранных им логических путей.
У него за периодом Древнего Востока следует период Греции, за ним
период Рима, а затем первый повторяется в романских средних
веках, второй — в новой германской истории, третий, наконец, имеет
повториться в истории славянства. Эта идея круговорота — вещь не
новая и не оригинальная. Это бы еще не беда, что идея не новая, но
она, кроме того, идея скучная и безотрадная. В самом деле, с чего,
например, мы с вами, читатель, начнем усердствовать на пользу
славянства, когда в его будущей истории повторится история Рима. Рим, как
известно, развалился, и развалился после всевозможных скандалов
и мерзостей. Ну, развалится и славянство. Неужто же для этого стоит
работать? Наконец, и это бы еще не беда, что идея исторического
круговорота скучна и безотрадна: если бы она была верна, пришлось
бы ей поневоле покориться, и стали бы мы, скрепя сердце, готовиться
к всемирному владычеству славянства, затем к появлению славянских
Калигул и Гелиогабалов, к набегам варваров и проч. Но, что самое
важное, идея эта не имеет никакого научного основания, ибо отнюдь
не изображает действительного хода вещей. Человеку приходится
терпеть скуку, испытывать смену надежд разочарованиями, а
разочарований надеждами и т. п. Но вселенная, мир, природа — скуки не
терпит, природа до бесконечности разнообразна, а потому и в
истории круговорот не может быть общим правилом. Историю в этом
отношении можно уподобить богатейшему франту, который ни за что
не наденет два раза одну и ту пару перчаток. О ней можно сказать
то же, что сказал Гете о ее старшей сестре, о природе: «Was da ist, war
noch nie; was war, kommt nict Wieder».
Об этом, впрочем, нам распространяться незачем, потому что
идея исторического круговорота не занимает в соображениях г-на
Стронина какого-либо видного места; она является в самом конце
книги несколько неожиданно и даже, можно сказать, ни к селу ни
Аналогический метод в общественной науке
403
к городу. Речь шла о том, что ввиду той пользы, какую людям может
принести наука, «мысль немеет при представлении всех
вероятностей будущего, и содрогается сердце от зависти к потомству». И вдруг
нам остается ступень Рима — будущность славянства. Главные
взгляды нашего автора хотя и имеют некоторые точки соприкосновения
с идеей исторического круговорота, тем не менее, представляют
в общем нечто иное. К этим-то главным взглядам мы и обратимся, но
сперва, да позволено нам будет сделать еще одно мелкое замечание.
Г-н Стронин страдает манией оригинальной терминологии. Так, он
различает четыре вида индукции: «эвидентику», «аттентику», «экспе-
риментику» и «обсерватику», хотя все они весьма удобно вмещаются
в установившуюся рубрику опыта и наблюдения. Под эвидентикой,
например, г-н Стронин разумеет тот процесс мысли, которым
добыты математические аксиомы. Но чем же этот индуктивный процесс
отличается от иных индуктивных процессов? Ничем не отличается.
Дело только в том, что факты, выражаемые аксиомами, повторяются
в высшей степени часто, но этим только облегчается процесс. Что
же касается до аттентики, то даже довольно трудно понять не только,
что это за особенная индукция, но и вообще, что это за операция.
В ней, как по крайней мере, удостоверяет г-н Стронин,
руководителем для исследователя служит «одно только внимание, наблюдение
одним чувством внутренним!» Произнеся это, г-н Стронин ставит
восклицательный знак, к которому мы, со своей стороны, охотно
прибавили бы вопросительный. Впрочем, г-н Стронин и сам говорит,
что это «наблюдение внутренним чувством» вещь ненадежная,
значит, нам незачем особенно печалиться о нашем непонимании. Далее,
людей, изучающих законы общественных явлений, г-н Стронин
называет почему-то социалистами, хотя слово это имеет во всех
европейских языках гораздо более специальное, очень определенное и
всем известное значение. Затем у него являются такие термины:
«движимость и бытийность» (в противоположность движению и бытию),
«вещественность и сильственность» (в противоположность веществу
и силе) и проч., и проч., и проч. Та же терминологическая мания
играет значительную роль и в классификации социальных наук,
предлагаемой г-ном Строниным. Тут есть и хронология, и география, и
прагматика, и социономия, и социология, и социалистика, и
конституция, и пафосология, и палиатика, и юстиция и проч., и проч., и проч.
Да еще из них в состав, например, историологии входят: «во-первых,
404
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
гигнология, учение о происхождении государств; во-вторых, эпохо-
логия, т. е. учение о возрастах государственных; в-третьих, эрология,
о великих событиях политических; в-четвертых, этнология, о
национальностях и национальных идеалах, миссиях, ролях; в-пятых,
прогрессология, о путях, мерах и пределах прогресса каждого места,
каждого времени и каждого элемента; наконец, фанатология, о
падении и метаморфозе или метампсихозе государств». Или, например:
«Если теперь учение о силах психологических правительственных
назовем тератологией (а если не назовем?), то если возьмем
психологические силы, это будет социальная барология; общественная — то
физической акустике будет отвечать учение о силе слова,
фонетика; оптике — учение о силе мысли, идеология-, термотике — учение
о силе знания, гностика; магнетике — учение о симпатии и
антипатии и вообще о сентиментальных силах, симпатит, и
электрике — учение о силе дела и вообще о силах моральных, эрготика».
Все это в соединении с варварским языком вообще делает книгу г-на
Стронина весьма неудобочитаемой. Любопытно, что, по мнению
нашего достопочтенного автора, «необходимо спустить, наконец, науку
и философию с облаков вниз: а тем более такую науку и такую
философию, как социальные; для них, более чем для всяких других наук
и философий, нелепо становиться в такую позу, которая внушала бы
ужас, и заговаривать таким языком, который бы нужно было потом
переводить на обыкновенный язык смертных. Это пустяки, будто бы
не всякое знание, как утверждают педанты, можно передать всякой
публике и вообще передавать его без всяких схоластических
замашек» (441). Если читатель усмотрит некоторое противоречие между
словом и делом г-на Строннна, то он может утешиться тем, что
слово само по себе, и учением о силе его занимается фонетика, а дело
опять само по себе, и сила его составляет предмет эрготики.
Равномерно следует заметить и то, что сила мысли особая статья
(учение о ней есть идеология), а сила слова опять-таки особая
статья (фонетика); вследствие чего отнюдь не следует думать, чтобы за
всяким словом так уж и сидела какая-нибудь мысль. Есть и просто
слова, к каким мы и причисляем большинство терминов г-на
Стронина. Слишком много цветов, слишком много цветов! — говорит
корыстолюбивый жрец Калхас в «Прекрасной Елене». Слишком много
цветов! скажем и мы г-ну Стронину, ибо все эти логии суть не более
как цветы, никогда не дающие плодов. Г-н Стронин ищет метод со-
Аналогический метод в общественной науке
405
циальных наук и их классификации и, разумеется, находит и то и
другое. Но дело в том, что план его классификации построен, если
можно так выразиться, без всякого плана. Мы будем следить за ним
шаг за шагом.
Книга г-на Стронина начинается сравнением между науками
естественными и так называемыми нравственными и политическими.
При этом автор высказывает несколько не новых и не оригинальных,
но совершенно справедливых мыслей о печальном состоянии ныне
существующих общественных наук и о еще более печальных
практических результатах их теоретической слабости. Сетования г-на
Стронина мы разделяем вполне и думаем, что их разделяют и все
мыслящие люди. Равным образом едва ли может подлежать сомнению и то
положение г-на Стронина, что ныне существующие общественные
науки должны ожидать своего обновления от сближения с
естествознанием. И, разумеется, не мы станем осуждать то стремление, которое
сказалось в пронесшемся недавно над нашим обществом страстном
увлечении естественными науками. Общественная наука неизбежно
должна чем-нибудь позаимствоваться у естествознания, во-первых,
потому, что естествознание, как наука старшая, успело выработать
целый арсенал логических приемов, а во-вторых, потому, что
общество управляется, кроме своих специальных законов, еще законами,
царящими и над остальной природой143. Но позаимствоваться можно
и очень многим, и очень малым. Общественная наука может взять
у естествознания его методы, может перенести к себе его истины
целиком, может, наконец, переработать эти истины каким-нибудь
способом. Этот вопрос о размерах займа, о пределах вторжения
естествознания в область общественной науки, к сожалению, слишком
редко возникает в сознании большинства людей,
призадумывающихся над судьбами человечества и ищущих им нового, независимого от
официальных наук освещения. Эта неосмотрительность порождает
множество недоразумений, весьма печальных как по теоретическим,
так и по практическим своим результатам. В настоящей статье мы,
может быть, неоднократно будем иметь случай останавливаться над
этого рода явлениями нашей умственной жизни. Надо отдать
справедливость г-ну Стронину: он категорически ставит вопрос о
границах естествознания и общественной науки. Он говорит о «всеобщих
намеках на то, что история или вообще науки нравственные
должны ожидать своего возрождения от естествознания, что они должны
406
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
сблизиться с ним, стать на почву его, что историк должен быть
вместе и естествоиспытатель, что он должен усвоить приемы естествои-
спытания и проч.». Г-н Стронин отдает этому воззрению должную
справедливость, но не успокаивается на этом. Он спрашивает: «Что
же именно имеют означать все эти: сблизиться, на какую стать
почву, что усвоить и как. Нужна ли нам помощь естествознания только
для того, чтоб суметь, как у Бокля, определить влияние природы на
общество, или же и для чего-нибудь иного? нужна ли нам помощь
естествоиспытательного содержания (добытых им знаний) или же
помощь его формы (метода) или, наконец, и того и другого вместе?
Равно и там, где та или другая нужна, как и где должна быть
применена она? Всего этого мы до сих пор себе не уяснили, к сознанию
не привели» (20). Вот что называется отчетливой и обстоятельной
постановкой вопроса. К сожалению, дальше идет уже нечто не столь
отчетливое и обстоятельное. Дальше идет вот что. Из всех заявлений
в пользу вмешательства естествознания в объяснение явлений
общественной жизни, говорит г-н Стронин, «достоверно» пока только то,
что общественная наука должна усвоить именно метод
естествознания, «т. е. именно индукцию, а никак не метод философии или
математики, т. е. никак не дедукцию». Однако почему же это «достоверно»?
Сейчас только это было вопросом и вдруг сделалось достоверным.
Сейчас только г-н Стронин до известной степени скептически
относился к общему голосу людей, желающих связать общественную
науку с естествознанием; сейчас только он заявлял, что «всего этого
мы до сих пор себе не уяснили, к сознанию не привели», и не
успело еще притупиться перо, изобразившее эти слова, как г-н Стронин
говорит: «Принимая этот ответ (что общественная наука должна
заимствовать у естествознания индуктивный метод) за голос всеобщий
и доказательств в пользу свою не требующий, мы...» и т. д. Это не
особенно последовательно, но следует, кроме того, заметить, что это
и не особенно верно, в том смысле не особенно верно, что общий
голос отнюдь не требует для общественной науки индуктивного
метода. Не говоря о прочих, Милль, как г-ну Стронину небезызвестно,
считает общественную науку наукой дедуктивной. А Милля г-н
Стронин называет «знатоком методов». Верно, или неверно мнение
Милля — это вопрос особый, но нельзя же не принять в соображение
голоса «знатока методов», говоря об «общем голосе». А Милль не один
считает дедукцию приемом, наиболее пригодным для общественной
Аналогический метод в общественной науке
407
науки. Как бы, однако, там ни было, но г-н Стронин, полагая, что он
повинуется общему голосу, начинает «пробовать различные способы
применить к изучению общества метод индуктивный». Для этого он,
прежде всего, дробит индукцию на эвидентику, аттентику, экспери-
ментику и обсерватику, причем последняя и оказывается
единственным годным для общественной науки видом индукции. В переводе,
как выражается сам г-н Стронин, «на язык смертных», все эти его
соображения сводятся к той истине, что в общественной науке опыт не
может играть столь важной роли, как в естествознании, вследствие
чего на долю социологии остается одно наблюдение. Истина
несомненная, но для которой решительно не стоило сочинять ни эвиден-
тики, ни аттентики.
Итак, метод найден — обсерватика, а попросту говоря, наблюдение.
Применение его «к изучению социальному» автор начинает с
классификации. «Естествознание, — говорит г-н Стронин, — представляет в
этом отношении картину, совершенно неизвестную в общественной
науке: оно представляет собой не одну и ту же науку, как история, где
все содержание стасовано в одну кучу, но, напротив, целый ряд
отдельных наук, где содержание это рассортировано по самым
разнообразным категориям. Правда, было время, когда и естествоведение,
подобно нынешнему обществоведению, вмещалось также в одну
науку; но тогда оно и похвалиться могло не многим» (30). Нам было очень
прискорбно прочесть эти строки, потому что в них есть, во-первых,
передержка, во-вторых, обнаруживается непонимание задачи
общественной науки; в-третьих, наконец, обнаруживается непонимание
принципа классификации наук вообще. Так как с тем и другим
непониманием мы еще встретимся ниже, то теперь посмотрим только
на передержку. Дело все шло о том, чтобы приложить индуктивный
метод к общественной науке вообще, и вдруг г-н Стронин
подтасовывает вместо общественной науки историю. Это ведь вещи
совершенно различные. Возьмем ли мы систему школьных, официальных
общественных наук, мы увидим, что рядом с историей в наших
гимназиях и университетах преподаются юридические науки,
политическая экономия, статистика, география. Возьмем ли мы общественную
науку в том смысле, какой придают ей лучшие умы нашего
времени, мы увидим, что и с этой точки зрения история есть только часть
общественной науки, именно та часть, в ведении которой находятся
условия развития государств и народов; а часть не может равняться
408
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
целому. Это говорит «эвидентика». Если бы г-н Стронин своего кунст-
штюка не устроил, он увидел бы, что нельзя сказать об
обществоведении, как оно существует в настоящее время, что в нем все содержание
стасовано в одну кучу; он увидел бы, что факты юридические худо ли,
хорошо ли изучаются юриспруденцией, факты этические —
системами морали, факты экономические — политической экономией,
факты, способные быть выраженными цифрами, — статистикой и т. д. Да
этого нельзя сказать и о школьной истории. Чем другим, а уж тем, что
в ней все содержание общественной науки было стасовано в одну
кучу, — этим школьная история не грешна; в ней, как понимает и сам
г-н Стронин, разумеется, не дается места многому, что имело бы на
него полное право. Следует поэтому думать, что несостоятельность
нравственных и политических наук зависит не от того, что в них все
содержание сбито в одну кучу, ибо самый факт этой скученности не
существует. Можно даже думать, что бессилие нравственных и
политических наук обусловливается причиной диаметрально
противоположной, именно их разобщенностью и специализацией,
недостатком синтетического начала. По крайней мере, на это обстоятельство
очень явственно указывает совершающееся на наших глазах
преобразование истории. Несмотря на свою бледность, школьная история
имеет резко определенный специальный характер. Она занимается
рассказыванием политических событий, предмет ее — войны,
перемирия и миры, восшествия на престол и низвержения с оного и т. д.
Она не нуждается не только в естествознании, а и ни в какой из
существующих общественных наук; она сама себе владыка. Совсем иное
дело с научной историей. Эта последняя, желая найти законы, по
которым формируется умственный, нравственный, экономический,
юридический, политический характер народа, самым тесным
образом соприкасается и с естествознанием, и с науками нравственными
и политическими. Г-н Стронин не узнал этого предтечи. Г-н
Стронин есть, можно сказать, тот самый Севастьян, который не узнал
некогда своих крестьян. Г-н Стронин ищет принципы общественной
науки, делает при этом передержку, подтасовывая вместо
общественной науки историю и, несмотря на то, что искомые им принципы
вследствие именно его передержки становятся, так сказать, перед его
носом, — отворачивается от них. И совершенно напрасно
ссылается при этом г-н Стронин на естествознание. Во-первых, кто ему дал
право приводить общественной науке в пример целое естествозна-
Аналогический метод в общественной науке
409
ние? Естествознание есть наука о вселенной, и если г-н Стронин не
придерживается психологического дуализма, то он должен признать,
что явления общественной жизни представляют не более как одно
из звеньев длинной цепи явлений природы. А опять-таки «эвиден-
тика» говорит, что часть не может равняться целому. Поэтому, если
естествознание распалось на несколько наук, то это еще вовсе не
резон, чтобы такое же распадение было обязательно и для
общественной науки, а тем более для истории. Может быть, она и должна
быть раздроблена, а может быть, и нет. Да и в естествознании, или, по
крайней мере, в некоторых отделах его, мы замечаем стремление к
«стасованию всего содержания в одну кучу». Науки неорганического
мира готовы слиться благодаря теории единства и метаморфозе сил;
теория Дарвина нанесла удар различным орнитологиям, эрпетологи-
ям, ихтиологиям и пр. Г-н Стронин, вероятно, имел в виду
необходимость классификации исторического материала. Но классификация
научного материала отнюдь не всегда требует раздробления науки.
Если мы возьмем не все естествознание, а, например, одну химию, то
увидим, что она составляет одну науку, что не мешает ей
классифицировать свой материал на элементы и сложные тела, элементы на
органогены, галоиды, щелочные, металлы и т. д., а сложные на
кислоты, соли, ангидриды и пр.; кроме того, существуют в химии и иные
классификации — гомологические, изологические ряды и т. д. И все
это никого не побуждает дробить химию на отдельные науки. Если
г-н Стронин заметит, что как раз именно химия-то и разделяется на
органическую и неорганическую, то мы приведем ему на этот счет
мнение одного из его любимых авторов (выбор которых делает ему
большую честь) — Конта. Мыслитель этот, так много сделавший для
философии естествознания, совершенно не признает
самостоятельного значения за органической химией. Мы очень рады, что
наткнулись на этот пример, потому что способ воззрения на него Конта и
его аргументация пригодятся нам дальше. Конт рассуждает так.
Между органическими веществами есть такие, для образования которых
не нужно присутствия жизненного процесса, составляющего харак-
терический признак для всякого организма; эти вещества, как,
например, алкоголь, должны быть изучаемы в общей химии. Есть, наоборот,
и такие вещества, как, например, кровь, которые существуют только
благодаря жизненному процессу, — их должна изучать физиология.
Таким образом, для органической химии не остается ничего, хотя
410
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Конт и не думал отрицать значение химии органических тел. Он
говорит только, что существование органической химии как отдельной
науки незаконно. Изучать химическую сторону, химические свойства
организма — это одно дело, и им может и должна заняться общая
химия. Изучать же организм с химической точки зрения — это другое
дело, и дело непозволительное, потому что, по крайней мере, при
наличных своих средствах, химия не в силах объяснить жизненный
процесс и, следовательно, целостно ставить вопросы органической
жизни и всесторонне осмотреть биологический факт не может. А
понять явление — значит оценить его со всех сторон как нечто целое.
Такая-то целостная постановка вопросов и всесторонняя оценка
фактов и составляет насущную потребность нравственных и
политических наук и верховный принцип грядущей общественной науки.
Получает, наконец, г-н Стронин свою классификацию. Вот она:
История физическая (антропология); история земледелия, история
промышленности и история торговли (элементы экономические):
история религии, история философии и история науки; история
эстетическая («где исследуются законы развития зодчества, ваяния»
и проч.), история логическая («изучает законы появления, развития
и приложения методов научных, художественных и религиозных»);
история практическая («изучает уменье действовать, мастерство
общежития, искусство политическое»); история политическая,
«а в точнейшем смысле то, что называется правоведением».
Подразделения последней: «история каноническая, право междуцерковное,
история интернациональная, право международное, история
народная, право междоусобное, история сословий, право междусословное,
история обычаев и нравов, право междусемейное, история
уголовная, право междуличное, история гражданская, право
междуимущественное».
Классификация эта говорит сама за себя. Тем не менее, выражаясь
еще более откровенно, чем мы это делали до сих пор, мы должны
сказать, что сколь бессмысленна эта классификация вообще, столь же
уродует ее в частности и указанное нами смешение истории с
общественной наукой. Г-н Стронин, как отец, всей красоты своего детища
усмотреть не может. Однако и он усматривает, что в его
классификации нет «ни политической экономии, ни географии, ни статистики,
ни грамматики». В этом, конечно, нет ничего удивительного, потому
что г-н Стронин искал собственно классификации исторического
Аналогический метод в общественной науке
411
материала, почему история экономических элементов у него
получила свое место, а политическая экономия нет. Ну, как же теперь быть?
Возможны были для г-на Стронина три исхода из такого
неловкого положения. Во-первых, если бы он крепко веровал в законность
и правильность своих приемов, он мог бы совершенно отринуть
науки, не попавшие в его классификацию. Это г-н Стронин сделать
не решается. И действительно, было бы по малой мере странно не
пускать политическую экономию или статистику туда, где сидят в
качестве наук разные эрготики и междоусобные права. О других двух
исходах г-н Стронин говорит: «Итак, или принцип классификации
нашей совершенно неудачен, или же рядом с ней должна быть еще
какая-то классификация, другая система наук социальных, в которой
бы нашли себе естественное место и все вышеозначенные науки».
К сожалению, г-н Стронин и не думает останавливаться на первом
предположении, т. е. на негодности своей классификации; он
оставляет ее неприкосновенной и приступает к дополнительной
классификации, построенной уже на совершенно иных началах. К этого
рода эклектическим приемам г-н Стронин обнаруживает особенную
склонность.
Обращается г-н Стронин к дедукции и, хотя за несколько страниц
перед тем и утверждал, что общественная наука отнюдь не должна
иметь никакого дела с методом дедуктивным, находит, что
«уклонение от него науки общественной немыслимо» (115). Обращается
г-н Стронин к дедукции и при этом удобном случае делит ее на
«аналитику», «диалектику» и «гипотетику», а последнюю опять на
гапотетику индуктивную и гапотетику дедуктивную. Ни первая, ни другая,
ни третья не оказываются, однако, пригодными для общественной
науки. Читатель готов уже прийти в отчаяние и может утешаться
только тем, что, как-никак, а какую-нибудь логию г-н Стронин да
отроет. И действительно отроет. Он приводит 24 примера
перенесений или распространений законов одной науки на другую и затем
говорит: «Так как примеры эти взяты не из одной только или из двух
пар наук, а из всевозможных отраслей знания, и так как, несмотря
на разнообразие наук, факт повторяется всюду, то возникает
вероятность, что нет закона той или другой науки, а есть только
закон науки вообще. А отсюда возникает вероятность и того
практического для прямой нашей цели вывода, что сколько и каких есть
до сих пор законов у естествознания, столько же, говоря вообще,
412
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и таких же должно быть их и у обществознания. Стоит, значит, в
таком случае только выследить, где именно и как они в этом
последнем проявляются, и обществоведение сразу могло бы подняться на
ступень научности. А если так, то и тайна дедукции социальных наук
была бы открыта: тайна эта была бы метод аналогики». Такое свое
умозаключение г-н Стронин именует «чисто индуктивным» и
полагает, что оно оправдывается и путем дедукции. Индуктивную часть
его умозаключения, т. е. 24 примера, мы сейчас рассмотрим. Что же
касается до дедуктивной стороны, то оно основывается у г-на
Стронина на Контовом ряде основных наук, который расположен по
возрастающей сложности и убывающей общности. Вследствие
этого основные элементарные науки могут быть представлены в виде
описанных друг около друга концентрических кругов, из которых
каждый содержит в себе предыдущий и сам содержится в
последующем. Степень сложности явлений каждого из кругов обусловливается
тем, что в них, кроме их собственной категории, например, в
биологии — жизни, имеют место и категории предыдущих кругов, т. е.
для той же биологии категории математики — число и протяжение,
категория механики — движение и т. д. Таким образом, во всяком
порядке явлений повторяются законы предыдущих порядков. Это-то и
убеждает г-на Стронина в великом значении его аналогики, которая,
между прочим, при ближайшем рассмотрении признана г-ном Стро-
ниным за отвергнутую им за несколько страниц «дедуктивную гипо-
тетику». Мы говорим его аналогика, во-первых, потому, что хотя
аналогия составляет, в особенности в обыденной жизни, прием очень
обыкновенный, но доселе никто не пытался возвести его в степень
аналогики, т. е. в степень метода, рекомендуемого для
систематического употребления. Во-вторых, аналогический метод г-на Стронина
столь трудно характеризовать в немногих словах, что самое лучшее
для него название есть метод г-на Стронина, а в чем он состоит,
читатель увидит из примеров. Для получения классификации социальных
наук путем аналогического метода г-н Стронин берет установленный
Контом ряд элементарных наук и приискивает каждой из них что-
нибудь параллельное, сходное, аналогичное в науке общественной.
Что соответствует в социологии науке чисел, арифметике и науке
протяжения, геометрии? — спрашивает г-н Стронин и отвечает:
хронология и география, потому что одна занимается числами, а
другая пространством. Но, говорит г-н Стронин, и та и другая должны
Аналогический метод в общественной науке
413
быть научным (и именно аналогическим) путем преобразованы. Так,
хронология должна «объяснять все свойства временности по
отношению к общественной жизни, т. е. объяснять явления и законы
различных исторических пропорций и отношений, различных
общественных прогрессий и уравнений, каковы, например, прогрессии
экономические, замеченные Мальтусом, статистические, замеченные
Кетле144, и каковы никем еще незамеченные численные отношения
периодов революций к периодам реакций, эпох застоя к эпохам
реформ, продолжительности мирных времен к временам войн» и т. д.
Словом, заключает несколько неудобопонятно г-н Стронин,
«хронология должна быть, с одной стороны, узнанной в истории алгеброй
и арифметикой, а с другой — непризнанной за таковые статистикой»
(172). Точно так же должна быть построена и география. Затем, что в
социологии соответствует механике и астрономии? Ничего не
соответствует. Надо сочинить. Сочиняются слова: прагматика и социо-
номия. Что соответствует химии? Сочиняется слово конституция
(наука о формах общественных). Таким же образом физике
соответствует социалистика (наука о силах общественных). Геология «легко
укладывается в существующую уже рубрику археологии, так что
предстоит перевести на общественный язык только биологию; перевод
же этот точнее всего исполнится термином историологии». Все это
там опять само собой делится, политическая экономия, статистика,
грамматика и география находят себе место, и г-н Стронин
торжествует. Торжествует он на такой манер: «классификация эта имеет все
свойство повелительности для общеведения, и притом
повелительности первостепенной, без предварительного исполнения которой
и вся остальная наука обречена была бы на неподвижность. И если
бы затем аналогика не могла ничего уже дать нашей науке, то и тогда
она сослужила бы службу свою недаром, потому что столько новых
точек зрения были бы подарком и для всякого иного ведения,
более окрепшего и возмужавшего, чем ведение общество, так что роль
инициативности, дар руководительства этого метода получает здесь
еще одно себе доказательство: он обозначает впервые пункты
различения в безразличной до сих пор и хаотической всеобщности
истории, он указывает обществознанию все возможные пути его, дает ему
весь план, всю перспективу работ, без чего и самые работы были бы
немыслимы. Но точно ли вся заслуга метода этим и
ограничивается? Если метод так достаточно узаконяет классификацию, то, в свою
414
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
очередь, и классификация не узаконяет ли произведший ее на свет
метод? Не служит ли она в пользу его таким свидетельством,
какому равное, признаемся (еще бы не признаться!), едва ли мы до сих
пор и имели? Аналогия, столь обширная и столь полная, как аналогия
всех без исключения научных рубрик обществознания социального
и политического, со всеми без исключения рубриками математики и
естествоведения, на этом одном остановиться не может; она
необходимо должна проникать и несколько дальше вглубь, в параллельность
самых законов тех или других наук». И г-н Стронин начинает анало-
гировать законы естествознания с законами явлений общественной
жизни.
Читатель понял, разумеется, что мы придаем классификации
г-на Стронина столь малое значение, что не станем вникать в
подробности ее, не станем сожалеть о том, что, например, социономии
предписывается обратить внимание, между прочим, на «отношения
нации к нации», хотя отношениями этими уже занимается «история
интернациональная, право международное», или что мальтусов закон
имеет место в хронологии, а теория Дарвина аналогируется в исто-
риологии и т. п. Но мы не можем умолчать о совершенной
несостоятельности самого принципа этой классификации, хотя нам и очень
прискорбно разрушать иллюзии и самодовольство г-на Стронина.
Мы говорим совершенно искренно. Г-н Стронин читал хорошие
книжки, г-н Стронин много думал, г-н Стронин имеет прекрасные
намерения. Все это вызывает к нему наше полное сочувствие, которое
только отчасти парализируется слишком большими его претензиями.
И, тем не менее, книжка его может возбудить только отрицательный
интерес, может показать только, что не следует идти теми
логическими, или, вернее, нелогическими путями, какими идет г-н Стронин.
При таких условиях мы сочли бы гораздо более приличным
совершенно не говорить об «Истории и методе», если бы употребляемые
автором приемы не представляли ошибки, слишком важной и
любопытной во многих отношениях. Г-н Стронин читал хорошие книжки,
но не совсем хорошо их понял. Так, он не понял и одной из своих
исходных точек, классификации наук Конта. Принцип этой
классификации состоит, как известно, в том, что науки расположены в ней
в порядке возрастающей сложности и убывающей общности; так что
явления, подлежащие ведению одной из наук ряда, зависят от всех
классов законов, какие имеют место во всех предшествующих науках,
Аналогический метод в общественной науке
415
но не зависят от законов, специальных для последующих наук Так,
например, арифметика и алгебра изучают законы чисел и
представляют собой науку наиболее простую и наиболее общую. Геометрия
изучает протяжение и пользуется законами арифметики и алгебры,
для которых, наоборот, специально-геометрические законы
протяжения не нужны и немыслимы. Механика руководствуется и
законами чисел, и законами протяжения, но имеет и свои собственные
законы равновесия и движения, которые не могут быть сведены ни
к арифметическим и алгебраическим, ни геометрическим законам
и т. д. Одним словом, ряд наук расположен таким образом, что
каждая наука пользуется законами всех предыдущих, но не дает им, со
своей стороны, ни одного закона в обмен. В каждой науке
оказывается некоторый остаток, который входит в состав следующей науки
ряда, но не может быть объяснен законами наук предыдущих. Если
бы случилось, что остаток этот, например, факты гистологические и
морфологические, факт организации в биологии получил физико-
химическое объяснение, то биология растворилась бы в низших
науках, то есть в науках более простых и общих, наука перестала бы
существовать. Для последнего члена ряда — социологии
обязательны законы всех предыдущих членов ряда, и притом наиболее важны
законы ближайшего члена, биологии, а наименее законы
отдаленнейшего члена, математики, — но она имеет также свои
собственные законы, не имеющие себе никакого подобия в остальных науках.
В социологии есть некоторый свой остаток, такой же, какой законы
протяжения составляют для геометрии, законы равновесия и
движения для механики, законы тяготения для астрономии и т. д. Свести
этот остаток к законам математическим и естественным нет никакой
возможности, как невозможно законы протяжения свести к законам
чисел. Можно только указать точки соприкосновения специально-
социологических законов с законами низших наук, показать, как они
уживаются рядом.
Из этого следует, во-первых, что предположение г-на Стронина
о том, что, сколько и каких законов найдено в естествознании,
столько же и таких же должно быть в обществознании, что предположение
это, или, вернее, утверждение, не имеет никакого основания. Должно
полагать, что и сам г-н Стронин не станет утверждать, что,
например, законы механики качественно и количественно равны законам
арифметики, алгебры и геометрии; иначе ему придется игнориро-
416
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вать законы равновесия и движения, то есть то, что именно и
составляет суть механики. Предположение г-на Стронина было бы верно
только в том случае, если бы категория общественности была сведена
к категории органической жизни, жизнь — к физико-химическому
процессу, этот последний к процессу механическому, а движение —
к законам чисел и протяжения, на что мы не имеем никакого права
рассчитывать.
Далее из принципа контовой классификации следует, что каждая
наука имеет право изучать подлежащие ее ведению явления, где бы и
в каких комбинациях с категориями других наук они ни встречались,
но не имеет права изучать всю комбинацию со своей точки зрения.
Математика, например, имеет дело с величинами, и потому
математический анализ приложим везде, где только есть величины, а они
есть везде. Но в чистом виде, без сопряжения с какими бы то ни было
другими элементами, величины существуют только в математике.
Простейшее явление — движение, даже абстрагированное от всяких
других примесей, с какими оно встречается как в конкретных телах,
так и а категориях астрономии, физики, химии, биологии и
социологии, не может быть все без остатка сведено к измерению величин.
Математика может и должна изучать математическую, то есть
поддающуюся измерению, сторону движения, но не может рассматривать
все движение с математической точки зрения. Чем далее мы будем
подвигаться в ряде наук, то есть чем сложнее и специальнее будут
взятые нами явления, тем математическая сторона их будет
незначительнее и тем, следовательно, меньше будет работы
математическому анализу. Тяготение, теплота, электричество, химический процесс,
жизнь, общественность — таков ряд основных явлений, следующих
за движением в порядке возрастающей сложности. Математическая
сторона астрономии еще очень обширна, очень значительна она и
в физике, но уже в химии значение ее быстро убывает, в биологии и
социологии оно еще меньше. И это совершенно понятно. Величины
есть везде, и везде они могут быть измеряемы, но, например, в
физике, кроме категории количества, есть еще категории теплоты и
электричества, и, следовательно, роль математики суживается; в химии
прибавляется еще понятие химического сродства, наносящее новый
ущерб значению математики и т. д. Таким образом, математика
обязана изучать математическую сторону физических явлений, но не
может изучать их со своей специальной, математической точки зре-
Аналогический метод в общественной науке
417
ния. Еще нелепее (если только тут возможны степени) изучать с
математической точки зрения явления химические или биологические,
и, наконец, верх нелепости изучать с математической точки зрения
социологические явления. Это-то, без сомнения, Конт и имел в виду,
отрицая значение статистики или, по крайней мере, очень важной
части ее — теории вероятностей в приложении к социологическим
вопросам. Он преследует этого рода работы с необыкновенной
ненавистью и не прощает их ни Лапласу, ни Кондорсэ145. Но нападки эти
совершенно неосновательны, потому что математика есть не только
наука, а, как и логика, вместе с тем, орудие нашего ума. Когда
статистик высчитывает вероятное количество преступлений при данных
общественных условиях, он отнюдь не изучает явлений с
математической точки зрения; здесь он только при помощи логических и
математических приемов открывает закон социологический, и
притом чисто эмпирический. Цифры, как прекрасно выразился Гете, не
управляют обществом, а только показывают, как оно управляется.
Есть, правда, попытки специально математического анализа явлений
общественной жизни, но они отличаются радикальной нелепостью.
К ним принадлежит, например, одобряемая г-ном Строниным и
заносимая им в отдел «хронологии» попытка Кетле определить
среднюю продолжительность жизни государств и народов. Кетле
определил эту продолжительность в 1461 год. Но, во-первых, он взял только
пять древних государств, именно ассирийское, египетское, еврейское,
греческое и римское; во-вторых, при определении
продолжительности их существования он руководствовался такими источниками, как
Histoire ancienne Ролленя и Discours sur l'histoire universelle Боссюэта,
a со времени Ролленя146, которого переводил еще потешной памяти
Тредьяковский, хронология, например Египта, получила
совершенно иной вид. В-третьих, наконец — и это самое важное — если бы
даже вывод Кетле был основан на данных несомненно верных, то
и в этом случае он не имел бы никакого значения.
Продолжительность существования государств обусловливается таким множеством
самых разнообразных элементов, каковы условия почвы и климата,
общественное и политическое устройство, эмиграция и иммифация,
физиологические условия рас и проч., и проч., и проч., — и условия
эти так разнообразно комбинируются в каждом данном частном
случае, что не только нет возможности уловить общий закон
продолжительности жизни государств с чисто математической точки зрения,
418
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
но и самая математическая сторона этого явления не имеет никакого
значения. Не трудно видеть, что настоящие статистические
исследования имеют совсем другой смысл. Здесь, с помощью логических и
математических приемов, выясняются условия, порождающие факт,
условия не математические, а естественные и общественные. Здесь
математика есть только ключ к замку социологии, а не самый замок
(эта прекрасная метафора — математика-ключ и математика-замок
принадлежит Кэри147, который, однако, совершенно неосновательно
отрицает значение математики как науки). Там, где в
социологических исследованиях математика начинает играть роль большую, чем
роль ключа, там неизбежно является фатализм, самый грубый. Пять
древних царств жили по 14б1-му году. Что из этого следует? Вы не
выдавите из этого факта ни одной пригодной капли. И
решительно столько же смысла имеет вся хронология г-на Стронина, то есть
изучение общественных явлений с математической точки зрения,
или, как он выражается, «объяснение всех свойств временности по
отношению к общественной жизни». «Отношения периодов
революций к периодам реакций, эпох застоя к эпохам реформ» и т. д. хотя
и могут быть выражены численно, потому что во всех явлениях есть
сторона, могущая подлежать измерению, но это численное
выражение не представляет ничего ценного. Иначе пришлось бы допустить,
что общество управляется цифрами; а так как законы математические,
как наиболее простые, подлежат наименьшей степени регулирования,
то пришлось бы, высчитав отношение периодов революций к
периодам реакций, сидеть у моря и ждать погоды; то есть ждать, пока
кончится найденный нами термин и начнется другой: 10, положим, лет
мира, и затем 10 лет войн и так без конца, как без конца повторяется:
2 + 2 = 4, две прямые пересекаются в одной точке и т. д. Итак,
изучение общества с математической точки зрения немыслимо, изучение
же математической стороны общественных явлений имеет значение
весьма и весьма второстепенное.
Возьмем другую науку, более сложную, например, химию. В
соединении с физикой, механикой и математикой химия может нам
объяснить некоторые стороны жизни, но изучать жизнь с
химической точки зрения нельзя. Тем более справедливо это для отношений
между химией и социологией. Химический анализ почвы, например,
имеет для социологии весьма важное значение. У г-на же Стронина
химия, как и все другие науки, выражаясь слогом гоголевского при-
Аналогический метод в общественной науке
419
казчика, «точно пролетарий какой, все выше своей сферы лезет».
Происходит, разумеется, при этом путаница невообразимая.
Рассматривая общественные явления с химической точки зрения, он
находит, что вследствие химического сродства галлы и франки слились
в один народ, а кельты, бретонцы, обладающие более слабым
сродством, осели в виде самостоятельного остатка. Аналогия эта ровно
ничего не объясняет. Здесь социологии должна помочь не химия,
потому что явление слития двух рас есть явление не химическое, а
гораздо более сложное; объяснить этот факт нам может только
физиология, да и то не одна, а при существенной помощи социологии; что
же касается до химии, то она должна при изучении такого сложного
факта отступить на очень отдаленный план, хотя и может оказаться
небесполезной. И такими-то ребяческими выводами и
заключениями переполнена вся книжка г-на Стронина. Он доходит до того, что,
сравнивая эгоизм и альтруизм (так Конт называет симпатические
мотивы, в противоположность эгоизму), с одной стороны, с
составными частями атмосферного воздуха, кислородом и азотом, с другой,
говорит: «Самое содержание этих двух, друг друга умеряющих газов,
в обеих атмосферах совершенно одинаково, и крайне горючий
альтруизм относится к несгораемому эгоизму как 21 : 79 (????), то есть
эгоизма и самосохранения вчетверо (и кто вам это только высчитал)
больше, чем самоотвержения и любви». «Но, — совершенно серьезно
продолжает г-н Стронин, — было время, когда пропорция их была
еще неблагоприятнее» и т. д. (242). Заметим, между прочим, что г-н
Стронин совершенно напрасно называет альтруизм горючим, а
эгоизм несгораемым. Не говоря уже о том, что в этом нет ни малейшего
смысла вообще, прилагательные эти не имеют смысла даже с точки
зрения бессмыслия аналогии г-на Стронина, ибо аналогичный
альтруизму кислород отнюдь гореть не может.
Такова-то обработка явлений общественной жизни с химической
точки зрения. Ввиду ее остается только руками развести. Но может
быть, плодотворнее оценка социологических явлений с
биологической точки зрения, так как биология представляет науку, ближайшую
к социологии. Но и здесь повторяется тот же самый закон
зависимости явлений и заведующих ими наук Биологическая сторона явлений
общественной жизни, т. е. все, что касается рождения, жизни, здоровья,
болезни и смерти отдельных биологических неделимых, все это
может быть изучаемо биологией, при помощи, разумеется, собственно
420
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
социологических данных. Изучение же социологии с биологической
точки зрения незаконно и должно привести к ошибочным
результатам. Образчик такого незаконного приема мы указали в статье «Что
такое прогресс?». Само собой разумеется, что г-н Стронин с
распростертыми объятиями принимает аналогию Спенсера и Дрэпера.
Однако мы до сих пор еще не рассмотрели знаменитые 24
примера г-на Стронина, кои, по его словам, представляют индуктивное
доказательство величия аналогического метода. Всех их разбирать
мы, разумеется, не станем, а возьмем наудачу штук пять-шесть.
«Что такое гипотеза Лапласа, как не простое нанесение законов
давно известных настоящего на неизвестные явления прошедшего
(пример 4). Добрый г-н Стронин, ведь это же не аналогия, а
чистейшая индукция, да и никакого перенесения закона из одной науки
в другую тут очевидно нет.
«Ботаническое открытие Гете было также не что другое, как
продление закона части на явление целого, перестановка закона из одной
главы ботаники в другую» (пример 6). Опять-таки, где же тут
перенесение закона из одной науки в другую? Даже из главы-то ботаники в
другую не было никакого перехода, а просто произошло обобщение,
правда, очень крупное, в области морфологии.
«При устройстве рыбы природа поместила плавательные орудия
ее несколько впереди центра тяжести и потом на самом конце
животного; но не то же ли самое делает и механик при построении корабля,
когда размещает свои весла и колеса и свой руль? Итак, закон
зоологии продолжается и в области механики или, пожалуй, закон
механики простирается и в пределах зоологии» (пример 10). То-то, что
закон механики простирается и в пределах зоологии, но и там все-
таки остается механическим законом равновесия, а не каким-нибудь
зоологическим законом. Тут нет перенесения закона из одной науки
в другую, закон механический оказывается приложенным не к иной
какой-либо, а только к механической стороне организации рыбы.
«В эмбриологии известен закон, по которому каждая функция
отправляется последовательно тремя различными органами, из
которых один первичный, другой переходный и третий окончательный;
О. Конт, вовсе не думая об эмбриологии, пришел к таким же трем
органам функций социальных: теологическому, метафизическому и
позитивному; а Льюис148 в этом законе социологии не замедлил
подметить простое применение закона эмбриологического, аналогия,
Аналогический метод в общественной науке
421
которая, по словам его, есть одна из бесчисленного множества
поразительных аналогий между развитием организма индивидуального
и общественного» (пример 19). Льюис точно старается провести эту
аналогию, но у него она является просто натяжкой, тогда как г-н Стро-
нин, кроме того, и Льюиса переврал. Льюис говорит вот что: «Каждая
функция последовательно отправляется двумя (иногда и большим
числом) органами, из коих один — первичный, переходный,
посредствующий; другой вторичный, окончательный, постоянный»
(Философия наук Конта, с. 37). Откуда же, спрашивается, г-н Стронин
почерпнул сведение об эмбриологическом законе тройной смены
органов для каждой функции?
«Вундт в своей психологии находит, что ощущение возрастает как
логарифм раздражения, а таким образом закон алгебры не перестает,
значит, действовать на явлениях психологии» (пример 24). Ну с этой
штукой мы уже виделись в хронологии.
Однако, я полагаю, довольно. Эти несколько примеров убеждают
нас, что не только г-н Стронин не понимает связи и отношений между
явлениями природы и между науками, но не уяснил себе даже и того,
что такое аналогия; это, впрочем, можно было бы вывести уже из того,
что г-н Стронин вздумал обратить аналогию в аналогику. Есть
логические приемы настолько прочные, что они с большой выгодой
могут употребляться систематически в огромном количестве случаев,
т. е. обратиться в метод. Таковы методы индуктивный и дедуктивный,
которые, впрочем, не легко разграничить. Есть и другие приемы, для
которых нельзя допустить такого широкого и систематического
употребления, хотя в известных, относительно узких пределах они могут
применяться с пользой. Такова гипотеза и такова еще более аналогия.
Под аналогией разумеются вещи весьма различные. Аналогия есть
собственно указание общих черт в различных предметах и потому
в смысле возможности аналогии нет пределов; г-н Стронин
проводит аналогии, и Ньютон проводил аналогии: блин имеет вид круга, и
нуль имеет вид круга, и т. д. Но в смысле целесообразности аналогии
могут быть предписаны весьма строгие пределы, и притом тем более
строгие, чем важнее цель, которая имеется в виду при употреблении
аналогии. Если цель эта состоит только в том, чтобы сильнее
выразить какую-нибудь мысль, то границы аналогии еще очень широки —
чем аналогия (здесь она получает название метафоры)
художественнее, образнее вызывает в нашем уме требуемое представление, тем
422
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
она лучше. На таких художественных аналогиях построены все
поэтические сравнения, ругательные слова, вроде «осел», «змея», «лиса»
и т. д., одобрительные, вроде «лев», «орел» и проч. Но уже в басне и
в большей части народных пословиц от аналогии требуется нечто,
кроме пластичности. Так как в этих случаях имеется в виду
получение некоторого вывода из аналогии, то последняя должна указывать
сходство отношений между аналогируемыми предметами. Мы,
например, говорим: «Аналогию можно сравнить с легким казачьим
отрядом, который сам по себе, без помощи пехоты и артиллерии,
укрепленного места взять не может». Какова бы ни была эта аналогия
с художественной точки зрения, она удовлетворительно указывает
на сходство отношений между аналогией и другими логическими
приемами, с одной стороны, и между тяжелыми войсками и казачьим
отрядом — с другой. Поэтому из этой аналогии возможны некоторые
выводы. Мы можем развивать свою метафору далее, например, в
таком роде: «Хотя казачий отряд взять крепости не может, но может
быть с пользой употреблен для рекогносцировки и указать пехоте и
артиллерии слабые пункты крепости; следует поэтому думать, что и
аналогия может указать направление, в котором должны быть
произведены наблюдения и опыты». Это называется доводом по аналогии.
Само собой разумеется, что это доказательство весьма слабое и для
определения значения аналогии мы должны обратиться к другим
логическим путям. Но иногда может случиться, что некоторые свойства
явления почему-нибудь недоступны нашему изучению, тогда как мы
имеем полную возможность изучать другое явление, аналогичное
с первым, т. е. имеем равенство отношений между некоторыми
известными нам свойствами обоих явлений. В таком случае мы можем,
в пределах этого равенства отношений, изучать второе явление
вместо первого. Прием этот часто употребляет Спенсер под именем
социологического метода. Для него развитие неделимого и развитие
общества аналогичны, т. е. в уравнении А : В = В : С, А — есть для
него общество, В — индивидуальный организм, С — орган. Поэтому,
если изучение физиологического факта представляет некоторые
затруднения, каких не представляет изучение соответственного факта
социологического, Спенсер обращается к последнему и сделанный
им вывод переносит на физиологический факт. Это прием
собственно совершенно законный, если полное наведение по каким-нибудь
причинам невозможно и если равенство отношений, т. е. пропорция
Аналогический метод в общественной науке
423
А : В = В : С действительно существует и доказана. При этом вовсе
нет надобности утверждать сходство между обществом и неделимым
и между неделимым и органом; достаточно сходства отношений
между ними. Уподобление общества неделимому и неделимого
органу представляет случай, отличный от случая равенства отношений.
Здесь предполагается, что в том и другом случае имеют место одни и
те же законы. У Спенсера обе эти аналогии употребляются рядом, но
тем не менее это различные типы аналогии. Горючие вещества
обладают большой способностью преломления, алмаз также обладает
ей. Из этого сходства в степени способности преломления Ньютон
заключил и о сходстве по отношению к горению; он решил, что
алмаз должен быть горюч. Опыт подтвердил его вывод. Здесь равенство
отношений принимаемо в расчет не было. Ньютон предположил, что
должна существовать некоторая причинная связь между горючестью
и способностью преломления, хотя закон этой связи не найден и
по сие время. Как ни блистательно удалась эта аналогия, но если бы
она не могла быть подтверждена опытом, мы должны бы были
относиться к ней подозрительно; а если бы при этом исследования
показали, что между горючестью и высокой степенью преломляющей
способности нет никакой причинной связи, то аналогия Ньютона и
никуда не годилась бы. Что же стало бы с ней, если бы было найдено,
что горючесть и способность преломления действительно относятся
между собой как причина к следствию, а между тем опытом не было
бы дознано, что алмаз горюч? Аналогия сменилась бы настоящим
выводом или наведением. Следует, кроме того, заметить, что аналогия
тем безупречнее, чем существеннее входящие в ее расчет сходные
свойства и чем значительнее объем сходства сравнительно с
объемом различия. Поэтому аналогия может быть построена только
при достаточной оценке не только сходных, а и несходных свойств
аналогируемых предметов. Далее следует иметь в виду возможность
встречных аналогий. Но кроме этих общих правил, от соблюдения
которых зависит большая или меньшая степень годности аналогий,
последние могут быть подчинены еще и иным. Следует, во-первых,
помнить, что аналогия не может доказать, что в двух аналогируемых
обстоятельствах действует один и тот же закон. Аналогия только
дотуда и существует, докуда не найден один закон, управляющий двумя
различными явлениями; раз причинная связь между схожими и не
схожими свойствами явлений формулирована — аналогия уже не
424
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
имеет места, она сменяется индукцией или выводом. Роль аналогии
чисто временная, и мы должны стараться по возможности скорее
перешагнуть через эту степень, чтобы стать на более прочную почву.
Так как значение аналогии всецело зависит от подтверждения ее
выводов опытом и наблюдением и от возможности замены ее
индукцией или выводом, то наиболее ценны те аналогии, которые наименее
долговечны. Какие же аналогии наиболее удовлетворяют этому
требованию? Для этого следует обратиться к классификации наук. Мы
обращаемся к классификации Конта, во-первых, потому, что ее
принимает г-н Стронин, а во-вторых, потому, что лучшего выбора он не
мог сделать. Классификация эта говорит, что:
Числовые отношения управляются некоторыми определенными
законами, которые мы называем арифметическими и
алгебраическими.
Явления протяжения управляются законами чисел + некоторыми
собственными, геометрическими законами, которые к законам чисел
не сводятся. Назовем эти последние геометрическим остатком А.
Явления движения подлежат законам чисел и протяжения +
механический остаток В.
Явления астрономические зависят от законов чисел, протяжения,
равновесия и движения + астрономический остаток С.
Явления физические предполагают законы чисел, протяжения,
равновесия и движения, тяготения + физический остаток D.
Явления химические управляются законами чисел, протяжения,
равновесия и движения, тяготения, теплоты и электричества +
химический остаток Е.
Биологические явления подлежат законам чисел, протяжения,
равновесия и движения, тяготения, теплоты и электричества,
химического соединения и разложения + биологический остаток F.
Социологические явления зависят от законов чисел, протяжения,
равновесия и движения, тяготения, теплоты и электричества,
химического соединения и разложения органической жизни +
социологический остаток G, состоящий из специальных законов явлений
общественности.
Остатки А, В, С и т. д. существуют только потому, что мы не
можем усмотреть законы, общие им всем. Если бы когда-нибудь нашли
эти общие законы, самостоятельное существование отдельных наук
прекратилось бы, и мы действительно имели бы право сказать вме-
Аналогический метод в общественной науке
425
сте с г-ном Строниным, что «нет закона той или другой науки, а есть
только закон науки вообще». По всей вероятности, мы никогда не
будем вправе сказать это, а теперь не смеем даже подозревать
возможность такого идеального состояния науки. Весьма любопытно,
что хотя г-н Стронин признает, что нет закона той или другой науки,
а, следовательно, нет математики, физики и т. д., тем не менее,
однако, признает эти науки существующими, когда строит путем
аналогического метода свою классификацию социальных наук Мало того,
столь либеральный в своем теоретическом положении, г-н Стронин
в применении его сказывается plus royaliste que le roi. Нет, говорит,
законов отдельных наук, а когда нужно сочинить какую-нибудь отрасль
общественной науки, то он готов признать существование законов
не только математики, физики, а даже барологии и даже магнетики.
В числе звонов, слышанных г-ном Строниным, есть, по-видимому, и
механическая теория мира. И здесь, может быть, существует
некоторое недоразумение между нами и читателем. Аналогический метод
состоит в объяснении относительно сложных явлений с точки
зрения явлений низшего порядка. Мы признаем этот метод радикально
негодным и очень благодарны г-ну Стронину за то, что он дал нам
возможность высказать это. Теперь читатель может спросить: разве
на веки вечные должны остаться эти рубрики: математика,
астрономия, физика, химия, биология и социология? Разве это предел, его
же не прейдеши? Мир един, и все классификации его явлений
играют только временную роль, пока уму нашему не удалось подметить
общие черты между несходными явлениями. На это возражение
читатель может быть не без основания наведен громадными
обобщениями последнего времени, стремящимися стереть пограничную
черту между качественными различиями и перемещением
некоторых частиц и сводящими таким образом свет, теплоту, электричество,
химический процесс, даже нервную деятельность и общественные
явления к чисто механическому принципу движения. Важные
открытия, к которым привело это воззрение, дают, по-видимому,
поддержку аналогическому методу, но, в сущности не дают ее вовсе. Без
всякого сомнения, механическая теория мира разрослась из
аналогий, как разрастается из них всякое обобщение, если под
аналогией разуметь, вообще, указание сходных черт различных предметов.
Но здесь судьба аналогии тесно связана с судьбой гипотезы, так как
для объяснения явлений света, теплоты, электричества и пр. меха-
426
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ническая теория вводит в свои расчеты целый ряд гипотетических
факторов, недоступных нашему наблюдению и совершенно нам
неизвестных — эфир, электрические жидкости, молекулы и т. д.
Распространение света представляет большое сходство с волнообразным
движением упругих жидкостей — вот аналогия. Дальнейшие опыты и
наблюдения подтверждают нам, что действительно распространение
света следует если не тем же, то, по крайней мере, таким же законам,
какими управляется волнообразное движение. Но что же такое в
явлениях света волнообразно движется? Светоносный эфир — вот
гипотеза. Шпотеза эта может помочь нам при исследовании световых
явлений, но точным образом проверить ее нет никакой возможности.
Поэтому явления света с явлениями движения отождествлять нельзя,
хотя механическая теория может объяснить механические условия
света, то есть физический остаток D остается в сущности
незатронутым. Равным образом, пока мы не можем проверить,
действительно ли имеет место молекулярное движение в химическом процессе
и исчерпывается ли весь этот процесс понятием движения, до тех
пор химические явления представляют для нас нечто отличное от
механических; химический остаток Е все-таки существует. В высшей
степени остроумные опыты и наблюдения, сделанные под влиянием
механической теории, сблизили различные отрасли физики,
объяснили механическую сторону физических и отчасти химических
явлений, дали некоторые намеки на объяснение механической
стороны явлений высших порядков. Но говорить, что теория
волнообразного движения совершенно объясняет природу световых
явлений, что свет есть только движение совершенно неизвестного нам
фактора, недоступного наблюдению, имеющего некоторые свойства
вещества, не имея его главных свойств — говорить это может только
человек, крайне увлекающийся широтой обобщения. Пока еще ничто
не дает нам права изучать все явления с механической точки зрения,
то есть употреблять аналогический метод, хотя изучение
механических условий явлений несомненно плодотворно. Следует, однако,
заметить, что какого бы крайнего приверженца механической теории
мы ни взяли и как бы неосновательны его соображения ни были, для
него было бы оскорбительно сравнение с г-ном Строниным. Имея
в виду в сущности то же положение, что и г-н Стронин, то есть, что
нет закона той или другой науки, а есть закон науки вообще,
крайний приверженец механической теории совершенно последователь-
Аналогический метод в общественной науке
427
но представляет себе вселенную как систему движения; он ищет во
всех явлениях механические законы, изучает все явления с
механической точки зрения, но уже не становится на точки зрения
химическую, астрономическую, биологическую и т. д. Эти точки зрения для
него не существуют в том виде, в каком существуют для г-на Стро-
нина. И это логично. Мы не считаем Контова ряда групп явлений и
соответствующих им наук за предел — его же не прейдеши. Но каких
изменений он может со временем потребовать — этого теперь себе
и представить нельзя. До сих пор (за исключением некоторой
перетасовки отделов физики) классификация эта ничем не поколеблена.
И явления математические, физические, астрономические,
химические, биологические и социологические мы принуждены признавать
различными, имеющими свои особенные законы.
Признав это и помня, что аналогия сама не может доказать, что
в двух сравниваемых случаях действует один и тот же закон и что
аналогия тем лучше, чем она быстрее сменяется полным наведением
или выводом, мы можем определить относительную ценность
аналогии и более специальным образом. Наиболее ценны аналогии, не
выходящая из пределов одного из специальных остатков А, В и т. д.
То есть при равенстве других условий (объем сходства и различия,
существенность аналогируемых свойств, возможность встречных
аналогий) наиболее ценны аналогии между явлениями
социологическими и социологическими, биологическими и биологическими
и т. д., и именно специально социологическими, специально
биологическими. Биологический остаток составляют законы
организации, и потому для биологии наиболее ценны аналогии в пределах
морфологии и гистологии, то есть аналогии между тканями,
аналогии между органами, аналогии между целыми организмами. Сюда
относятся, например, упоминаемые г-ном Строниным ботаническое
и анатомическое открытия Гете. Такого рода аналогии, будучи
заключены в пределах явлений, заведомо управляемых одними и тем
же законами — хотя закон частного случая, лежащего в основании
аналогии, и не известен, — могут рассчитывать на весьма быструю
помощь наведения или, благодаря теории единства типа, вывода.
Социологический остаток составляют явления общественной жизни, и
потому для социологии могут иметь наибольшее значение аналогии
между общественными явлениями, например, между различными
формами общественности у людей и у животных или между такими
428
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
явлениями индивидуальной жизни, которые зависят от
общественных условий.
Все эти аналогии, при соблюдении, разумеется, общих логических
правил для аналогий, часто совершенно граничат с неведением.
Совершенно никакой цены не имеют аналогии между некоторым
специальным остатком и явлением низшего порядка или между
двумя специальными остатками. Подобные аналогии (если только они
не аналогии в смысле равенства отношений) не имеют никакой
будущности, или, вернее, им предстоит слишком долгая будущность;
так как явления двух специальных остатков наличные силы науки
должны признать неподлежащими каким-нибудь общим законам,
то аналогия не имеет никакой надежды смениться полным
наведением, а сама открыть общий двум явлениям закон она не в силах. Такова
аналогия между организмом — остатком биологии, и обществом —
специальным остатком социологии. Здесь-то аналогия и
разрастается в аналогический метод.
Внутри этих пределов, между аналогиями, немедленно могущими
смениться полным наведением, и такими, которые об этом и мечтать
не смеют, может существовать много очень разнообразных
комбинаций, перечислить которые нет возможности. Мы рассмотрим хоть
один пример. Аналогия между борьбой за существование в природе
и конкуренцией в обществе до известных пределов законна, так как
борьба за существование является результатом биологических
законов, которые имеют место и в обществе. Но не все выводы из этой
аналогии будут для нас одинаково обязательны. Например, мы
говорим: борьбу за существование выдерживают в большей части
случаев сильнейшие, лучшие, наиболее развитые представители
животного и растительного царства; так как конкуренция в обществе имеет
весьма большое сходство с борьбой за существование в природе, то
должно думать, что и в конкуренции победителями остаются
лучшие, развитейшие представители общества. Такого вывода мы не
имеем права сделать, потому что им захватывается
социологический остаток — общественные отношения, следовательно,
социологический факт рассматривается с биологической точки зрения, то
есть употребляется незаконный аналогический метод. Конкуренция,
несомненно, зависит от некоторых чисто биологических законов,
но общественные отношения представляют нечто не
встречающееся в остальной природе, а потому не невозможно, что конкуренция
Аналогический метод в общественной науке
429
в обществе дает не те результаты, что борьба за существование в
природе.
Мы отнюдь не думаем, чтобы какими-нибудь правилами можно
было удержать от ложных аналогий, потому что аналогия есть
продукт воображения. Не думаем мы равным образом утверждать, чтобы
опыты и наблюдения, вызванные самой неправильной, по нашему
расчету, аналогией, не могли весьма значительно расширить круг
наших знаний. Это дело случая. Но если желают, как желает этого
г-н Стронин, получить немедленные выводы из аналогии, то следует
помнить существующие границы науки, переступить которые
аналогия, по самому существу своему, не может. Г-н же Стронин хотя
и много толкует о «горизонтальном», «вертикальном»,
«концентрическом», «прямо диагональном» и «обратно диагональном» «сродстве
наук» и различает три подвида аналогии: «тождество», «такождество»
и «инождество», тем не менее, с беззаботностью мотылька порхает
над всеми областями явлений природы, презирая всякие препоны
для аналогий. До какой степени г-н Стронин мало способен оценить
относительное значение той или другой аналогии, видно из
следующего примера. Милль в своей «Системе логики» приводит как
образчик ложной аналогии параллель между рождением, молодостью,
старостью и смертью неделимых и обществ. Г-н Стронин эту
аналогию, которую мы на основании вышесказанного уже a priori могли
бы признать негодной, г-н Стронин ее признает. Милль говорит вот
что: «Упадок жизненных сил в одушевленном теле может быть точно
приписан естественному развитию именно тех перемен в строении,
которые на более ранних ступенях составляют рост
одушевленного тела до полной зрелости. В политическом же теле развитие этих
перемен не может иметь вообще иного следствия, кроме
дальнейшего продолжения роста; только прекращение этого развития и начало
движения вспять могли бы составить упадок. Политические тела
умирают, но от болезни или насильственной смерти: у них нет
старости» (II, 360). Мы не признаем за этим доводом особенной глубины,
но, тем не менее, он есть довод, который г-ну Стронину следовало бы
опровергнуть. Но этого он и не думает сделать, не цитирует даже
довода, а цепляется за последние слова Милля и говорит: хоть Милль и
не признает и проч., «но в дополнение к этому достаточно заметить,
что тот же Милль для тех же обществ допускает, во-первых, понятие
тел; во-вторых, рождения; в-третьих, болезни; в-четвертых, смерти,
430
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
когда говорит, например, так: "Политические тела умирают, но
только от болезни или насильственной смерти, а не от старости"» (246).
Принимая в соображение, что г-н Стронин Миллева доказательства
не приводит, мы должны сказать, что его придирка стоит на границе
между недобросовестностью и несообразительностью. Г-н Стронин
не понимает или не хочет понять, что в приведенных им словах Мил-
ля выражения «тело», «смерть» и т. д. употребляются в том же
метафорическом смысле, в каком мы его назвали беззаботным мотыльком; в
каком поэт называет свою возлюбленную «стыдливой маргариткой»,
отнюдь не думая, что эту маргаритку следует поливать водой; в каком
вы называете глупого человека «пробкой», не имея в виду заткнуть им
бутылку; в каком вы называете нехорошего человека «свиньей»,
отнюдь не думая отдать его окорока в колбасную для копченья. Для
химической точки зрения на явления общественной жизни г-н Стронин
не шутя находит некоторую точку опоры в том обстоятельстве, что
выражение — химическое сродство заимствовало из общественных
отношений; равным образом политическая теория округления
границ радует его как предтеча решения социальных вопросов с
астрономической точки зрения, ибо намекает на шарообразную форму
небесных тел. При таких условиях г-н Стронин, конечно, смело
может сказать: «Поле деятельности, открываемое аналогическим
методом для наук общественных, обширно до неимоверности» (151). C'est
le mot — до неимоверности. Понятное дело, что, задавшись мыслью
о возможности изучения явлений общественной жизни с
математической, механической, физической, химической, биологической
точек зрения, можно натворить сколько угодно аналогий. Берете вы
социологическое явление и приискиваете ему аналогию, положим, в
механике; не найдется ничего в механике — ступайте в физику,
химию и т. д.
Например, г-н Стронин говорит: «Ничто у историков и
публицистов не повторяется так часто, как положение, что малые государства
рано или поздно поглощаются большими, чему мы и видели еще
недавно такой ясный пример на Германии. Но что же такое это
эмпирическое обобщение, как не частный только случай все одного и того
же всеобщего тяготения? и тяготения, управляемого не чем иным, как
опять простой же массивностью?» Если вы скажете г-ну Стронину,
что не всегда так бывает и что, например, не Неаполь поглотил
Сардинию, а Сардиния Неаполь, что в древности не Греция поглотила
Аналогический метод в общественной науке
431
Македонию, а Македония Грецию и проч., и проч., то г-н Стронин
ответит, что здесь «астрономический» закон парализован «соционо-
мическим», в котором вместо массивности подставляется богатство,
умственная сила и т. д. А астрономический закон все-таки остается?
Все-таки остается. Так.
На с. 299 г-н Стронин рассматривает «с астрономической
точки зрения будущность панславянского (собственно говоря, этакого
и не бывало) племени». «Внутри этой системы, — говорит автор, —
огромное, плотное и увесистое тело, какова Россия, вокруг дробные,
разъединенные, слабые астероиды славянские; мало того, самое
расстояние последних от первой таково, что они соприкасаются с
ней непосредственно и, если разделяются в одном месте, то только
Венгрией; итак, положение таково, что одни находятся во всех
отношениях в сфере притяжения другого, и устранить это положение
значило бы изменить всю географию». Это и есть именно место, о
котором мы упоминали как о месте в духе русских хозяев, конечно,
не ожидавших, что на помощь к ним стремится астрономия. Однако
если бы какой-либо заклятый враг России, — причем мы отнюдь не
утверждаем, чтобы русские хозяева были непременно друзьями
России, не утверждаем, по крайней мере, чтобы они были друзьями
полезными, — если бы какой-либо враг России пожелал опровергнуть
эту аналогию, то мог бы сделать это без всякого труда. Во-первых,
он мог бы спросить: почему же славянские астероиды до сих пор не
притянуты Россией, если они находятся в сфере ее притяжения? Если
тело попадает в сферу притяжения земли, то падает на нее
немедленно. Почему же славянские-то астероиды не падают? Это возражение
не огорчило бы, разумеется, г-на Стронина, даже если бы он его
принял. Он нимало не медля заставил бы «панславянское племя»
слиться в силу химического сродство, как он это и делает относительно
галлов и франков. Но враг России мог бы поднять брошенное г-ном
Строниным оружие — астрономию и с помощью ее построить какую-
нибудь аналогию в ущерб России. Он мог бы приложить к ее
будущности, например, теорию Лапласа, сравнить окраины России с
экваториальным поясом гипотетического первобытного вращающегося
сфероида; а этот экваториальный пояс, как известно, вследствие
возрастания центробежной силы отделяется, по теории Лапласа, от
общего ядра в виде кольца, которое и сгущается в виде одного или
нескольких самостоятельных тел. Таким образом, враг России усмотрел
432
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
бы с «астрономической точки зрения» не слитие славянских племен
с Россией, а отпадение от нее ее окраин. Излагать в русском журнале
выводы врагов России — вещь непозволительная. Но вывод наш столь
нелеп, и враг России, который пожелал бы им воспользоваться, был
бы столь глуп и, следовательно, безвреден, что за подобное
изложение вражеских аргументов «Отечественные записки», надо полагать,
предостережения не получат149. И, однако, наша аналогия
представляет не менее прочности, чем аналогия г-на Стронина.
Стронин говорит: «Сплав различных металлов всегда крепче и
тверже, чем каждая из его составных частей», и находит это
явление аналогичным с прочностью сплава различных народов, каков,
например, сплав англичан из кельтов, бриттов, римлян и т. д. Слова:
«сплав крепче и тверже» имеют очень неопределенный смысл, а
слова «сплав крепче» не имеют даже никакого смысла. Однако так как
дело идет о «прочности» народов, то нужно думать, что твердость
сплава металлов противополагается г-ном Строниным его жидкости
и газообразности. Но в таком случае закон относительно твердости
сплава металлов не имеет никакого основания. Для спаивания
металлических вещей употребляется сплав из олова и свинца, и этот
сплав плавится при более низкой температуре, чем отдельно взятые
олово и свинец, т. е. в этом случае составные части сплава переходят
из твердого в жидкое состояние легче, чем их сплав: он тверже его,
как выражается г-н Стронин. Калий плавится при 136° (по
Фаренгейту), натрий при 190% а сплав их при обыкновенной уже температуре
жидок. Если вы представите г-ну Стронину эти и другие подобные
возражения против его аналогии, он, нимало не смущаясь, перейдет
к аналогии биологической, И здесь он попадает на настоящее место
(хотя смешение крови может, при известных условиях, и понизить
уровень породы); но в том-то и дело, что он не видит никакой
разницы между аналогиями никуда не годными и аналогиями в такой мере
прочными, что они даже перестают быть аналогиями. Аналогический
метод весьма часто вводит г-на Стронина в противоречие с самим
собой. Так, он исповедует, что только наука, только знание может
двигать человечество вперед; у него «сердце содрогается от зависти к
потомству», более, чем он, просвещенному; у него «мысль немеет при
представлении вероятностей будущего» значения науки; он не верит
ни в какие «революции и реформации» и верит только «в реформу
понятий, революцию знаний». И, тем не менее, добравшись разны-
Аналогический метод в общественной науке
433
ми тождествами, такождествами и инождествами до убеждения, что
знание есть теплота, а просвещение — нагревание, он советует
американцам позадержать нафевание. Иначе, говорит, сгорите. А мысль,
заметьте, продолжает неметь, и сердце не перестает содрогаться.
Вам надоело, читатель? И нам тоже. Вы негодуете на нас за то, что
мы, под предлогом какой-то, якобы важной стороны измышлений
г-на Стронина, столько времени занимали ваше внимание
очевидным для всякого вздором. В оправдание наше мы можем сказать, что
хотя мы пишем не о книге г-на Стронина, а скорее по поводу ее, тем
не менее, в виде простой благодарности за предоставление случая
высказать несколько не лишенных значения мыслей, мы не могли
не поговорить и о самой книге. И этот долг благодарности мы
старались уплатить с наивозможнейшей умеренностью, ибо оставили без
рассмотрения огромную кучу перлов остроумия г-на Стронина. Он
даже свой аналогический метод аналогирует с чем-то, уж не помню.
Теперь мы несколько уклонимся от книжки г-на Стронина, однако, по
чувству той же благодарности, все-таки не навсегда оставим его.
II
Лет с десяток с хвостиком тому назад нас разбудили вопросы
практической жизни. Это было настоящее время, когда и проч. Это
было очень давно, хотя и не более как лет с десяток с хвостиком тому
назад. Историческая весна начиналась, травка из-под мерзлой земли
пробивалась, весенние звуки слышались (что значит пример: мы все
метафорами говорим). С тех пор много воды утекло, и текла она в
общих чертах так. Разбуженные практическими вопросами и громом
крымских пушек, мы были замечательно единодушны150. Но затем,
когда решение практических вопросов подвинулось ближе и когда
для освещения практической земли мы стали искать точки опоры на
теоретическом небе, мы перестали быть единодушными, и в нашем
обществе можно было ясно различить две группы мнений, друг
другу враждебных. Потом теоретическое небо очень быстро показалось
нам с овчинку, и, видя, как ближний наш покрывает простого туза
козырной двойкой, мы уличали его в измах. Потом настало затишье,
и козырные двойки перестали покрывать простых тузов...
Тем не менее в этот недавний период полного затишья там и сям
слышались, да слышатся и теперь, как эхо, воспоминания о прошед-
434
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
шем в виде более или менее остроумных насмешек, клевет,
инсинуаций. Отличительное свойство этих упражнений состоит в
бессмыслии. И в этом нет ничего удивительного. Жизнь вызвала новые мысли,
новые чувства, новые желания, но вызвала не во всем обществе.
Образовались два противоположных строя взглядов. Один из них, не
успев еще выясниться и исправить некоторые, иногда весьма крупные,
но, во всяком случае, частные ошибки своих представителей — исчез
или почти исчез. Цепкие руки противников хватались и хватаются
без разбора за все, за что только есть грамматическая возможность
ухватиться, и норовят изо всякой случайной мухи сделать
обязательного слона. Эта неразборчивость даром обойтись, разумеется, не
может, и неизбежный удел всех прибегающих к ней есть
бессмысленность выводов и обвинений. Такова Немезида логики и истории.
Так, недавно уже и прежде знаменитый московский профессор
г-н Борис Чичерин151 обвинял древних софистов, а попутно и
«нигилистов», в том, что они проповедовали грубейшую корысть и право
силы, и тут же заявил, что софисты первые восстали против рабства...
Между прочим, в русском обществе явилась мысль, что история не
есть театр марионеток, что она не есть и результат
самопроизвольных прыжков самих Пьеро и Коломбин, что человеческие действия
вызываются определенными и уловимыми внешними причинами и
следуют одно за другим в известном правильном порядке. Сама по
себе эта мысль совершенно безобидна и, по-видимому, допускает для
своей оценки только один критерий — истину. Можно рассуждать
только о том, верна ли эта теория, соответствует ли она данным
истории. Но она влечет за собой целый ряд практических выводов, и
потому в нашем обществе заняла достойное место только в строе
миросозерцания известной группы людей. Другая группа стала утверждать,
что ставить человека в зависимость от тех или других слепых,
бессознательных законов значит унижать его человеческое достоинство,
превращать его в машину, которая не ведает, что творит. Профессор
(бывший, а может быть и нынешний — хорошенько не знаем)
истории в Московском университете г-н Герье152, говоря об исторических
взглядах Бокля, выражается таю «Никакие варвары, ни Атилла,
называвший себя бичом Божиим, ни фанатические мусульманские орды,
считавшие священным долгом истреблять всех, не признавших
пророчества Мухамеда, не сделали столько зла человечеству, сколько
могла бы повредить цивилизации ложная теория — что люди и на-
Аналогический метод в общественной науке
435
роды в своих действиях подчинены только естественным законам»
(Очерк развития исторической науки, с. 107). Эта красноречивая
тирада была произнесена года три тому назад с кафедры старейшего из
русских университетов; затем она была напечатана в «Русском
вестнике» вместе со всей вступительной лекцией г-н Герье; далее,
наконец, эта же вступительная лекция, с включением вышеприведенной
красноречивой тирады, была перепечатана и издана отдельной
брошюрой. Таким образом, достопочтенный профессор счел нужным
трижды предать анафеме взгляды Бокля, и такое троекратное чура-
нье казового конца московской интеллигенции весьма
знаменательно и поучительно. Г-н Герье, предполагая, что противоречит Боклю,
указывает в пику ему на «идеи» как на двигательную силу народов.
Едва ли какой-нибудь благоразумный человек — Бокль у compris —
когда-либо сомневался в таком значении идей, что не мешает сим
последним самим подчиняться многоразличным условиям. Есть,
правда, идеи, для которых, фигурально выражаясь, закон не писан.
Эти последние суть, по определению Гейне, «всякая глупость, которая
вам взбредет в голову». Но о несуществовании для них законов
можно говорить именно только фигурально. В сущности идеи самого
г-на Герье имеют свои причины. Что же касается до идеи
законосообразности человеческих действий, то она представляет собой
деятеля в такой мере сильного, что московскому профессору весьма
трудно надолго задержать его влияния, хотя бы он проклял его не три, а
триста тридцать три раза, помноженных на два; каковое умножение даст
666, то есть, так известно, «число зверино». Тем не менее,
академический тормоз, как бы он ни был незначителен, есть все-таки тормоз.
Идея законосообразности человеческих действий считается вредной,
вреднее всяких бичей Божиих от саранчи до Атиллы, и это заявляется
официальным жрецом науки. Ложность или истинность теории
весьма быстро оставляется в стороне, и внимание сосредоточивается на
ее вредности. Это — признак и хороший, и дурной: хороший, потому
что указывает на силу новой мысли, требующей для своего поборе-
ния, кроме логической рати, еще резерва инсинуаций; дурной,
потому что инсинуации могут сделать свое дело. И мы видели, что они
действительно сделали свое дело. Инсинуаторы (так мы называем для
краткости всех, переносящих вопросы науки на почву
вредоносности), докладывая путем печати и общественных толков обо всем
подозрительном, стреляли по двум зайцам зараз и ловили рыбу в со-
436
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вершенно мутной воде. Во-первых, они распространяли в обществе
страх и отнимали у него таким образом возможность взглянуть
трезво на дело. И это делали иногда люди, от которых всего менее можно
ожидать подобного образа действий и которые когда-то сами
горячо ратовали против всяких инсинуаций. Так, если не ошибаемся,
в 1865 году г-н профессор Кавелин153 излагал по поводу одной
диссертации по уголовному праву, что прямой вывод из некоторых,
бывших тогда в ходу теорий, есть открытый грабеж, но весьма мало
потрудился для опровержения этих теорий. Да еще если бы эта травля и
в других была такой же случайностью, как в г-не Кавелине, так жить
еще было бы можно. Посвятив себя всецело сыскным делам,
инсинуаторы и сами не спускались или не поднимались до действительной
критической оценки мнений своих противников, вследствие чего
последние слышали слишком много разжигающих обвинений и
слишком мало возражений... Результаты понятны. Инсинуаторы
вертятся, как бесы перед заутреней, а ничтожные вначале промахи их
противников обращаются в крупную ошибку, ибо не встречают
никаких логических препятствий. Самим оглянуться в жару увлечения
трудно, а когда оглянулись — произошла скандальная перебранка.
А тут опустился занавес... Тем временем, оторванные от логики
обвинения, никого в сущности не убеждая, но многих запугивая,
принимают все более и более нелепый характер и, в конце концов,
образуют такую массу сумбура и противоречий, в которой уже ровно ничего
нельзя разобрать. Вредоносность идеи законосообразности
человеческих действий мотивируется в нашем великом отечестве (а,
впрочем, и не в нем одном) тем, что она превращает человека в
бессловесное животное, отводит ему слишком низкое место в мировой табели
о рангах; сторонники ее «верят в лягушек и не верят в принсипы», как
остроумно утверждает Павел Кирсанов (мне очень жаль, что я
натолкнулся на изъезженный и переезженный роман г-на Тургенева, но
делать нечего). The Athaeneum, разбирая «Отцов и детей», приходит к
тому заключению, что от поколения, произведшего Базарова, нельзя
ждать ничего хорошего. Действительно, если бы приговор господ
Тургенева и Кирсанова был верен, то есть, если бы Базаров, насколько
он верит в лягушек и не верит в «принципы», мог быть
представителем общего смысла движения русской мысли за последнее или,
вернее, за предпоследнее время, то это было бы очень горько и
безотрадно. Однако это не только так не было, но и не могло так быть.
Аналогический метод в общественной науке
437
Отдельные единицы могли, конечно, как и всегда и везде,
заблудиться, могло случиться даже, под напором совершенно нового
миросозерцания, с одной стороны, и вышеозначенных инсинуаций — с
другой — временное, почти повальное заблуждение, но это ровно ничего
не значит. В общем «вера в лягушек», то есть в силу естественных
законов, не только не исключает «веры в принципы», то есть в задачи
духовной деятельности человека, но дает последней прочные опоры.
Так герой другой повести г-на Тургенева — «Довольно», к которому
автор относится и должен относиться гораздо симпатичнее,
приходит к тому заключению, что Венера Милосская, пожалуй,
«несомненнее» самых возвышенных и великих принципов, и потому
«складывает на пустой груди ненужные руки». Люди, действительно верящие
в лягушек, редко приходят к таким решениям. Жизнь может их
разбить, но не забить. И это понятно. «Принцип» стоит одиноко, даже
гордится тем, что он ничем не связан, не обусловлен, а между тем
человек уходит в него весь. Подорвался принцип, и нечем жить
человеку, и пуста его грудь, и не нужны его руки. Не то с «лягушками».
Здесь ошибка может быть открыта, и миросозерцание оттого не
шелохнется, потому что допускает поверку и исправление частностей.
Отцом нового взгляда на историю — взгляда, основанного на вере
в лягушек, следует считать Кондорсэ, в котором, по выражению Лит-
трэ, совмещалась жизнь и мысль всего XVIII века. Припомните же
личную историю этого, поистине великого, но как-то странно почти
забытого человека: припомните его в передовых рядах революции,
потом осужденного этой самой революцией, пишущего в какой-то
каморке, под ежеминутным страхом смерти, свою немногими
оцененную «Картину прогресса человеческого разума»: припомните его
смерть и завещание дочери — не мстить его личным врагам, так как
для него личные враги не существуют. Господам московским
профессорам истории и всякого права и бесправия надо очень высоко
поднять голову, чтобы увидеть все величие этого человека. А
Кондорсэ верил в лягушек, и первый положил фундамент новейшей
исторической школе. А господа профессора верят в принципы и
готовы лучше воскресить из мертвых Атиллу, чем допустить, что
история не есть огромное «с бухты-барахты». Так-то иногда прошедшее,
задушив в своих цепких и неразрушимых объятиях великую жизнь и
великую мысль, выдает настоящему сдачу мелочью, медяками нового
чекана.
438
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Но Кондорсэ — революционер, красный, крайний, и только нож
еще более революционной, красной и крайней гильотины доконал
его. Как сметь приводить его жизнь и мысль в оправдание чего бы то
ни было!? Вот они, ваши образцы, вот куда ведут ваши
законосообразности! Вот другой мотив обвинения. Любопытно сопоставить эти оба
главные пункта обвинительной речи непризванного прокурорского
надзора. Один пункт гласит так вы отрицаете свободу человеческой
воли, вы утверждаете, что человек не выбирает и не может себе
выбрать жизненного пути, что, гонимый внешними условиями, он
бессознательно идет туда и так, куда и как толкают его ваши законы;
по вашей теории человек не несет на себе ответственности за свои
дела, как не несет ее камень, падающий по закону тяжести на землю;
вы отнимаете у него все, что в нем есть человеческого, и
преграждаете ему путь к духовному развитию; вы говорите, что и завтра и
послезавтра человека будут толкать ваши естественные законы с той же
силой и в том же направлении. Если допустить справедливость этих
упреков, то учение, на которое они сыплются, должно быть
признано если не теорией полного застоя и косности, то, по крайней мере,
самым грубым фатализмом. Это именно и есть призыв к сложению
ненужных рук на пустой груди; эта — теории предопределения, не
исправленная и дополненная, а облеченная в реалистическую с виду
форму, из прорех которой выглядывают старые невыстиранные
тряпки. Это, действительно, учение позорное и опасное,
отнимающее у людей будущее и узаконивающее неразрушимость настоящего.
И, однако, сторонники учения законосообразности обвиняются не
в том. Над рядами их противников реет знамя исторического
права и постепенности. Их уличают в разрушительных стремлениях и
в желании перестроить общество на какой-либо новый лад,
удовлетворяющий личным взглядам строителей. Но как же связать эти два
обвинения: принцип неприкосновенности и ненарушимости
естественных законов, которыми управляется общество — и стремление
нарушить их; низведение человека до степени неразумного
животного и постановка разума в критическое отношение к существующим
общественным условиям, отрицание свободы воли — и
произвольный выбор тех или других основ общественного строя взамен
существующих... Итак, не проще ли было вместо обвинений указать на
этот ряд противоречий. Подобные операции предпринимались,
однако, слишком редко, если только предпринимались, а тянулись себе
Аналогический метод в общественной науке
439
двух-трехсторонние, взаимно исключающиеся инсинуации.
Понятное дело, что не такими приемами указываются ошибки; понятное
дело, что они могут вести только к усилению ошибки, если она была.
Мы и в помышлении не имеем, чтобы изложенные два обвинения
были единовременно справедливы относительно кого бы то ни было
из «новых людей» (к сожалению, опять выражение изъезженное, но
имеющее достоинство краткости); не думаем мы и того, чтобы они
поодиночке когда-либо составляли чье-нибудь profession de foi, по
крайней мере, в таком грубом виде. Однако, мы не можем сказать,
чтобы теории «новых людей», и в особенности позднейших, были
свободны от подобных противоречий. В общем миросозерцание их
ясно и определенно; здесь нашли себе место все лучшие и чистейшие,
поистине святые стремления века. Это был призыв к добру, к
правде, к истине, к счастью, это был вызов злу, неправде, лжи, страданию.
Но в частностях можно было найти много противоречий с общим
фоном, и на этом светлом фоне нетрудно усмотреть эти темные
пятна. Нетрудно усмотреть и то, что все эти темные пятна, без
исключения, обязаны своим происхождением тому логическому приему,
который г-н Стронин употребляет под именем аналогического метода.
А метод этот, как мы видели, состоит в том, что из простого сходства,
без указания на причинную связь, без точного определения объема
сходства делаются заключения от законов явлений относительно
простых к законам явлений более сложных. Мы видели, что при этом
г-н Стронин изучает не значение астрономических, химических,
биологических законов для явлений общественной жизни. Это было
бы совершенно законно и могло быть очень плодотворно. Г-н
Стронин изучает не то, он изучает общественные явления с
математической, механической, химической и т. д. точек зрения. Мы старались
показать (и будем иметь к этому случай и ниже), что это незаконно
и не может быть плодотворно, хотя бы уже просто потому, что,
перебрав все точки зрения низших наук, г-н Стронин не дает места точке
зрения социологической. Это равносильно изучению химических
явлений со всех точек зрения, кроме химической. При этом
остается без объяснения или получает неизбежно ложное объяснение тот
социологический остаток, который не может быть сведен к законам
более простых наук и который именно и составляет предмет
общественной науки. Все подобные попытки Конт отнес бы к
метафизическим. Мы их называем эксцентрическими, потому что в них упущен
440
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
из вида человек как член общества — обязательный центр для
всякой работы человеческой мысли, а тем более в области социологии.
Эта идея о центральном значении человека для человеческой
мысли составляет, бесспорно, resume всего движения русского общества
за последнее время, это его философский смысл, тот светлый общий
фон, о котором мы говорили. Он сказывается не только в
журнальных толках о человеческих задачах искусства и науки, а и во всех
практических вопросах, уже полурешенных. Крестьянская реформа,
реформа судопроизводства обнимаются этим принципом не менее,
чем отрицание искусства для искусства и науки для науки. В целом,
однако, этот принцип был недостаточно сознан для того, чтобы на
светлом фоне не нашли себе места темные пятна, т. е. аналогический
метод. Мы представим на выдержку несколько образчиков его
применения, и так как для нас здесь важно только уяснение известного
логического приема, то примеры мы будем брать не только из
новейшей истории русской мысли, а и у тех западных авторитетов,
которые имели влияние на ее ход. Понятное дело, что систематически
аналогический метод, кроме труда г-на Стронина, нигде и никогда не
употреблялся, но весьма часто употреблялся и употребляется
урывками. Мы будем иметь в виду исключительно применение его к
вопросам общественной жизни.
На вычислении средней продолжительности существования
государств Кетле мы имели образчик изучения общественных явлений
с математической точки зрения. Такого рода странности встречаются
довольно часто в статистических исследованиях. От них не свободны
и Бокль и Кетле; и Милль справедливо связывает этого рода ошибки
у Бокля с учением о неподвижности нравственного элемента в
обществе. Статистике выпала завидная роль в решении вопроса
законосообразности человеческих действий. Даже вопрос этот был впервые
в наиболее резкой форме выставлен статистиком Кетле. Но хотя
сочинения Кетле имеют теперь уже только историческое значение,
статистика за недостаточностью материалов, несмотря на относительно
громадные ее услуги общественной науке, еще очень далека от своего
идеала. Суть ее, как известно, состоит в том, что, как бы, по-видимому,
ни были случайны явления, рассматриваемые единично, в целом они
представляют замечательную правильность и порядок.
Следовательно, статистика должна иметь под руками как можно больше фактов,
и количеством их именно и определяется степень верности стати-
Аналогический метод в общественной науке
441
стических обобщений. Ограниченное число данных часто ведет
или к неверным выводам, в частности относительно обсуждаемого
вопроса, или, что, разумеется, гораздо хуже, совершенно извращает
понятие законосообразности. Кетле, имея в руках цифры для очень
небольшого времени, впал в несколько частных ошибок. Это дело,
разумеется, поправимое, тем более что выводы статистики пока еще
слишком редко принимаются в соображение при решении
практических вопросов. Но если статистик забудет, что выведенные им законы
суть законы эмпирические, справедливые только для данных
обстоятельств времени и места, то ограниченное число фактов легко может
довести его до фатализма, причем именно и произойдет изучение
явлений социологических с математической точки зрения. Так как
ряд статистических цифр только при известном числе данных может
выдвинуть из-за математических выкладок чисто социологический
факт, то вплоть до этого момента достаточности данных, определить
который, разумеется, очень трудно, мы не имеем права делать
никаких выводов. Если пять древних государств существовали каждое по
1461 году, то мы не имеем никакого основания думать, чтобы какое-
либо шестое государство должно было прожить именно столько же,
ни больше, ни меньше. Если цифра, найденная Кетле, верна, то это
значит только, что условия, определяющие продолжительность
жизни государства, во всех пяти древних государствах были одинаковы,
и что если эти условия повторятся где-нибудь в шестом государстве
вновь, то и это последнее просуществует 1461 год. Но так как
математическая выкладка этих условий нам не выяснила, то найденный
Кетле факт не имеет никакого значения, и придавать ему значение
значит изучать явление с математической точки зрения и впадать в
фатализм; это значит чуть-чуть что не возвращаться к
пифагорейским понятиям о значении чисел как о причине бытия. Гервинус154
замечает, что в конце XIV, XV, XVI, XVII и XVIII веков происходили
великие политические перевороты, из чего можно заключить, что и в
конце XIX века должно произойти нечто подобное. Прямое
наблюдение теперешнего хода европейских дел может дать очень обильные
подтверждения последнему предположению, но, тем не менее, это
не более как совпадение, случайное и любопытное в такой же мере,
в какой случайно и любопытно совпадение года рождения Кювье,
Александра 1умбольдта155, Наполеона и Веллингтона с прохождением
Венеры перед солнцем. Если двадцать лет кряду в полицию забира-
442
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ется приблизительно одно и то же число пьяных, то из этого следует
не то, что и в двадцать первом году их будет забрано столько же; это
может быть, а может и не быть. Двадцатилетнее постоянство цифр
свидетельствует не об их неизменном фаталистическом постоянстве,
а только о том, что в продолжение двадцати лет не изменились
условия, влияющие на пьянство, с одной стороны, и на бдительность и
усердие полиции — с другой. Это истина самая простая и
очевидная до последней степени. И, однако, люди, пораженные ясностью
статистических выводов, не всегда придают им должное значение.
Статистические выводы представляют процесс чисто индуктивный,
требующий для своего приложения к таким сложным явлениям, как
факты общественной жизни, непременно помощи дедукции. В таких
случаях, где эта помощь, вследствие недостаточности наших
знаний, немыслима, статистика только констатирует факт. Например,
она свидетельствует, что пропорция мужских и женских рождений
равняется 21/20, и ни малейшего намека на объяснение этого факта
статистика дать не может. Здесь мы не можем вывести явление из
причины, и потому должны ограничиться наблюдением самого
явления: математический анализ не выяснил нам тех биологических
и социологических условий, совокупностью которых порождается
статистический факт. Но это не дает нам права рассматривать это
явление с чисто математической точки зрения и признавать за ним
несокрушимую силу. Дальнейшие биологические и социологические
исследования могут, правда, показать, что закон, управляющий
пропорцией мужских и женских рождений, есть закон коренной, столь
же неумолимый, как и, например, закон смертности для людей. Но те
же социологические и биологические исследования могут показать
и противное, могут показать, что закон этот зависит от таких
условий, которые могут быть человеком изменены или устранены.
Фатализм школы Мальтуса следует объяснить именно этой обработкой
социальных вопросов с математической точки зрения. Г-н Стронин
только грубо доводит эту точку зрения до абсурда, когда говорит:
«В математике известны два противоположные способа возрастания
количеств: прогрессия арифметическая и прогрессия
геометрическая; в науке социальной Мальтус нашел такую же
противоположность в возрастании народонаселения и в возрастании средств
жизни, т. е. формулы чисел суть также и формулы событий, закон
математики есть столько же и закон политической экономит (134).
Аналогический метод в общественной науке
443
Г-н Стронин говорит здесь такую нелепость, какой, разумеется, не
скажет ни один мало-мальски толковый мальтузианец.
Математический закон говорит только, что геометрическая прогрессия растет
быстрее арифметической. Поэтому, если мы представим себе такую
комбинацию общественных условий, — а представить себе это
можно, — что не средства жизни, а народонаселение растет в
арифметической прогрессии, а в геометрической растет не
народонаселение, а средства жизни, то математический закон останется все тот же,
тогда как социологический будет выворочен наизнанку. Г-н Стронин,
повторяем, утверждает совершенную нелепость, non sens; тем не
менее, между ним и всеми последователями Мальтуса есть то общее, что
они рассматривают явление с математической точки зрения; а так
как математические законы, как наиболее простые, регулированию
не поддаются, и арифметическая прогрессия будет до конца веков
возрастать медленнее геометрической, то они думают, что и запасы
пищи будут до конца веков возрастать медленнее народонаселения.
Само собой разумеется, что чем последователь Мальтуса толковее,
тем больше удаляются, по форме, его соображения от такого грубого
представления. Многие экономисты даже не признают прогрессий
Мальтуса, хотя и остаются его учениками, не признают возможности
численного выражения отношений между ростом народонаселения
и средств пропитания.
Когда Кетле говорит, что человек с неумолимой правильностью
уплачивает бюджет преступлений; когда такой замечательный
статистик, как Вагнер, говорит: «Наблюдения заставляют нас почти думать,
что экономия природы требует ежегодно определенного числа
самоубийств» (Statistischantropologische Untersuchung der Geseizmässigkeit
der scheinbarwillkürlichen Handlungen. Hamburg, 1864), — то это
может быть рассматриваемо не более как façon de parier. Так
можно смотреть даже на Вагнерово сравнение нашего общества с
фантастической страной, где все хорошие и дурные дела совершаются
по правительственному предписанию и самоубийцы, преступники и
пр. назначаются по жребию (s. 44). Но уж совсем не façon de parler
последняя книга Дюфо156, статистика, тоже когда-то замечательного,
которого цитирует Бокль, на которого ссылается Вагнер. «Да, —
говорит Дюфо, — когда осмотришься кругом, когда увидишь все то горе,
все те страдания, которые с ужасающей правильностью повторяются
на земле, как не подумать, что должен же этот порядок смениться
444
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
иной картиной! Те, кто столько страдает на земле, устремляют
взоры и воздевают руки к небу. Они надеются, они жаждут чего-нибудь
лучшего, чем настоящая жизнь. Да! Нужна другая жизнь для
незаслуженного несчастья, для задавленной добродетели. Это закон
нравственного равновесия судеб человечества, открывающийся
наблюдению (qui se révèle a l'observation) и стоящий непоколебимо твердо»...
(De la méthode d'observation dans son application aux sciences morales
et politiques. Paris, 1866, p. 172). Дерптский профессор богословия
г-н фон Эттинген (Die Moralstatistik und die christliche Sittenlehre,
Versuch einer Socialethik auf empirischer Grundlage. Erlangen, 1868)
тоже признает законосообразность общественных явлений. Когда
стала складываться так называемая математическая школа
статистиков, правоверные последователи Ахенваля, недовольные
нововведением, называли школу Кетле рабами цифр — Tabellenknechte (за что
те, в свою очередь, обзывали ахенвальцев болтунами — Schwätzer).
Ахенвальцы и не подозревали, разумеется, в каком смысле со
временем кличка придется по шерсти математикам.
Вследствие двойной роли математики, как особого вида
логики и как самостоятельной науки, изучение явлений общественной
жизни с математической точки зрения могло, по недоразумению,
найти себе немало сторонников. И мы думаем, что они есть и у нас,
хотя не они произносят тирады вроде приведенной тирады Дюфо.
Но потому-то анализ явлений общественной жизни с
математической точки зрения и составляет темное пятно на светлом фоне.
Однако увлечение этой точкой зрения объясняется именно
исключительным положением математики. Что же касается до
объяснения социологических явлений с механической, астрономической,
физической, химической, геологической точек зрения, то, сколько
нам известно, оно на всем земном шаре встречается только в
сочинении г-на Стронина, если не считать, разумеется, чисто
мистических бредней. Исключение составляют только некоторые попытки
сторонников механической теории. Но это объясняется тем, что
понятие движения составляет простейшую элементарную идею какого
бы то ни было процесса, и ни одного явления мы без движения себе
представить не можем. Вообще же говоря, если и употребляются
выражения вроде «химическое сродство душ или народов», «центр
тяжести государства», «параллелограмм общественных сил»,
«исторические формации» и проч., то опять-таки в чисто метафорическом
Аналогический метод в общественной науке
445
смысле, ради художественной пластичности. Поэтому г-н Стронин
стоит здесь совершенно одиноко.
Нельзя того же сказать об изучении явлений общественной
жизни с биологической точки зрения. Здесь, как и в математике, опять
представляются сильные соблазны, но по иной причине, именно по
причине смежности биологии и социологии и множества точек
соприкосновения между ними. Поэтому и аналогический метод
получает здесь много случаев для своего применения. И здесь мы видим
заблуждения самые разнообразные. Блистательный пример этого
рода аналогий представляет попытка свести социальный прогресс
к развитию органическому и понятие общества к понятию
организма, т. е. объяснить с биологической точки зрения самые
общественные формы. Мы видели, что аналогия эта, отличающаяся
радикальной ложностью, ухитряется, однако, свивать себе гнезда в
весьма замечательных умах нашего времени. Здесь мы заметим только,
что и Конт не чужд этого воззрения, которое, по-видимому, к нему
пристало меньше, нежели к кому-нибудь; впрочем, он развивает его
весьма мало и притом в «Социальной статике», бесспорно слабейшей
части всего его круга философии. К этой аналогии мы, русские,
особенного пристрастия не обнаружили, хотя и можно бы было указать
на то, что переводчики и издатели сочинений Спенсера и Дрэпера
не обратили внимания публики на незаконность этого обобщения;
а в предисловии к русскому переводу «Физиологии» Дрэпера
имеются даже, сколько помнится, похвалы идее социального организма.
Идея эта составляет точку исхода и для некоторых частных аналогий,
как, например, для сравнения между возрастами неделимого и
общества, и т. д.
Выше мы сказали, что контов ряд наук расположен таким образом,
что каждая из них пользуется законами всех предыдущих членов ряда,
но не дает им ни одного закона в обмен. Мы полагаем, что в таком
расположении заключается главнейшее достоинство классификации
Конта. Однако относительно этого пункта могут быть представлены
некоторые фактические и с первого взгляда очень основательные
возражения. Бывают иногда, по-видимому, случаи перенесения
законов высшей науки на явления низшей, т. е. движение, обратное
общему ходу. Таким случаем, например, кажется Спенсеру и другим (в том
числе и г-ну Стронину) распространение экономического закона
разделения труда на явления развития организмов. Легко, однако, ви-
446
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
деть, что физиологическое разделение труда, т. е. разделение труда
между органами одного и того же неделимого, и разделение труда
экономическое, т. е. разделение труда мевду неделимыми одного и
того же вида — не только не имеют между собой ничего общего,
но даже взаимно исключаются. Гораздо более основательное
выражение представляется в словах Дарвина, что его теория есть
«приложение закона Мальтуса ко всему растительному и ко всему животному
царству». Здесь выходит, как будто, что социология, наука наиболее
сложная и наименее общая, дала закон биологии, науке более
простой и более общей. Дарвин, разумеется, прав, когда говорит, что его
теория есть распространение закона Мальтуса, но и мы правы,
утверждая, что высшая наука, пользуясь законами низших, не дает им,
со своей стороны, ни одного закона. Во-первых, сколько нам
помнится, сам Мальтус был наведен на свою теорию чисто
биологическими фактами, и именно, кажется, мыслями Франклина о
размножении насекомых; но это, равно как и незнакомство предшественников
Дарвина с Мальтусом, большого значения иметь не может. Так как
социологические явления управляются, кроме своих собственных
законов, еще и законами всех низших наук, то естественное дело, что
на каком-нибудь социологическом явлении может быть открыт и
закон низшей науки, например, закон биологический. Организация
рыбы есть факт биологический и может быть целостно понят только
с биологической точки зрения, но вот г-н Стронин заметил в этой
организации механический принцип. Заключать из этого, что закон
биологии простирается и в пределах механики, как заключает это
г-н Стронин, есть нелепость, но совершенно верно обратное
заключение того же г-на Стронина, что биологические факты подчинены
механическим законам. Можно допустить, что более сложная наука,
какова социология относительно биологии или биология
относительно механики, вследствие ли большей доступности или
практических надобностей, или иных причин, эмпирически разрабатывается
иногда раньше низшей науки. При этом последняя может получить
от первой эмпирическую истину, приобретенную опытом или
наблюдением. Легко может быть, что некоторые механические законы
и в самом деле получены в эмпирическом виде путем наблюдения
организации рыбы. Только в этом смысле и можно сказать, что
иногда высшая и более специальная наука дает закон низшей и более
общей. Но это воззрение крайне поверхностное и могущее вести
Аналогический метод в общественной науке
447
за собой множество заблуждений, что мы и видим на г-не Стронине.
Мы видели, что самостоятельное существование наук
обусловливается только тем, что в каждой из них есть некоторый остаток, который
мы не можем свести к законам более простых и общих наук Поэтому
низшая наука входит в высшую всеми своими частями, как, например,
механика в астрономию; высшая же наука может войти в низшие
только теми своими частями, которые не составляют ее
специального остатка. И так как этот остаток и составляет, собственно,
существенный предмет науки, то в этом, более точном смысле мы и
говорим, что высшая наука, пользуясь законами низших, не дает им,
со своей стороны, ни одного закона. Наблюдая биологический факт,
хоть ту же организацию рыбы, мы видим, что она подчинена
известным механическим законам равновесия и движения; но признать эти
законы биологическими мы не можем, во-первых, потому, что они не
объясняют нам всего биологического факта, а во-вторых, потому, что
они приложимы и к таким явлениям, которые, по свидетельству
наших чувств и нашего сознания, имеют мало общего с организацией
рыбы, например, к небесным телам. И то и другое побуждает нас
признать, что хотя явления равновесия и движения наблюдались нами на
биологическом факте, но что они представляют собой законы не
биологии, а науки более простой и общей. Точно так же, если мы
видим, что закон Мальтуса может быть в лице теории Дарвина
распространен на всю органическую природу, то из этого следует заключить,
что он есть закон биологический, а не социологический, т. е., что он не
захватывает того социологического остатка, который не может быть
сведен ни к законам биологии, ни к законам какой-либо другой
низшей науки. Здесь мы имеем случай, о котором шла речь выше. Самая
сложная и самая специальная из всех наук — социология, имеющая
свой определенный круг подведомственных ей явлений, именно
явлений общественной жизни, открывает эмпирическую истину,
которая целиком входит в науку более общую, биологию. Значит ли это,
что социология дала закон биологии, как думают многие, или это
значит, что биология сама взяла свой собственный закон, как думаем
мы, — пусть теперь судит читатель. Во всяком случае, мы признаем,
что социология дала импульс, толчок биологии. Точно так же
наблюдение над организацией рыбы могло дать импульс механике. Но
затем биология как наука могла быть рационально разрабатываема
только уже после систематизации механических фактов, которая по-
448
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
зволила рационально объяснить эмпирически найденный нами на
организации рыбы механический закон. Таким же образом
социология, дав эмпирический толчок биологии, должна ожидать от нее
рациональной помощи вообще и в частности для проверки закона
Мальтуса, как закона социологического. Биология должна ответить
на те вопросы, которые ей может задать социология как
самостоятельная наука. Биологический закон борьбы за существование
несомненно обязателен для социологии. Но под борьбой за
существование разумеются вещи чрезвычайно различные; две собаки в голодное
время, говорит Дарвин, борются за существование; «растение на
окраине пустыни борется с засухой»; «растение, производящее
ежегодно тысячу семян, из которых средним числом лишь одно
достигает зрелости, борется с подобными себе и иными растениями, уже
покрывающими почву»; «омела, вырастающая на ветке яблони, борется
с яблоней, но сеянки омелы борются между собой; та же омела
борется с другими растениями, носящими ягоды, соперничает с ними
в привлечении птиц, которые могли бы разнести ее семена». Из этого
следует, что теория Дарвина, утверждает один, чрезвычайно общий
факт, именно, что всякая индивидуализированная единица от
последнего лишая до человека живет, прямо или косвенно, за счет
других организованных единиц или за счет неорганической природы.
При этом направление борьбы за существование, т. е. устремится ли
она в данном неделимом на неделимые одного с ним вида, или на
неделимые других видов, или, наконец, на мертвую природу, — это
всецело зависит от тех частных условий, в которые неделимое попадет.
Г-н Стронин совершенно справедливо замечает, что самая
возможность ежедневно обедать обусловливается для нас борьбой за
существование. Но г-н Стронин может добыть себе обед охотой,
земледелием, и в этом случае обед будет результатом борьбы с неделимыми
других видов и с неорганической природой; может он отнять,
например, у нас обед при помощи физической силы, может отнять как-
нибудь косвенно — и так как мы имеем счастье принадлежать к виду
homo sapiens, Linn., к которому принадлежит и г-н Стронин, то между
этими случаями и первым будет, с человеческой точки зрения,
некоторая разница. Предмет социологии есть общественность,
кооперация, и потому, принимая от биологии закон борьбы за
существование, социология обязана определить, какое направление принимает
борьба под влиянием кооперации; и если существует несколько ти-
Аналогический метод в общественной науке
449
пов кооперации, то, как влияет каждый из них. Она должна
проследить эти влияния не только в человеческом обществе, а и везде, где
существует кооперация, то есть и в пчелином улье, и в муравейнике, и
в колониях низших животных. При этом может встретиться
надобность в решении вопроса об условиях большей или меньшей
плодовитости, и этот вопрос социология должна передать на
рассмотрение физиологии. Добытые таким путем законы будут действительно
социологические законы и усмотрены они будут не с биологической,
а с социологической точки зрения. Мы надеемся представить
читателю, с точки зрения высказанных здесь соображений, более
подробную параллель между теорией Мальтуса и теорией Дарвина. Здесь
с нас достаточно сказанного и нижеследующих замечаний по поводу
взглядов одного русского писателя на значение теории Дарвина для
социологии. Писатель этот — г-н Бибиков; взгляды эти изложены им
в статье «Сентиментальная философия» (Критические этюды. Этюд
второй). Мы не видели русского перевода труда Мальтуса, в
предисловии к которому г-н Бибиков возвращается, как нам говорили, к
сопоставлению теорий Мальтуса и Дарвина; равным образом не знаем
мы ни чтений г-жи Ройе, ни статьи «Дурные признаки», по поводу
которых написан этюд г-на Бибикова; помним только, что «Дурные
признаки» принадлежат перу г-на Страхова. Но это ничего не значит.
Мы имеем в виду только вопрос о границах естествознания и
общественной науки и о достоинствах того приема, который
употребляется г-ном Строниным под именем аналогического метода. Далее мы
наткнулись на то, что метод этот заставлял еще недавно людей с
самыми чистыми стремлениями становиться, по недоразумению,
в противоречие с исповедуемыми ими учениями: что «инсинуаторы»
наши, так голосисто горланившие против «новых людей», не только
никогда не указывали и не могли указать на действительные частные
ошибки своих противников, но своей аргументацией только
напускали туману и способствовали, так сказать, закрепощению ошибки.
Статья г-на Бибикова дает возможность развить эти пункты. Г-н
Бибиков — новый человек, г-н Страхов — инсинуатор. Есть выражения,
до такой степени захватанные нечистыми руками, что их надобно
выговорить. К таким принадлежит и выражение «новый человек».
Во всяком случае, надо оговориться. По отношению к постановке
общественных вопросов новые люди исповедовали и исповедуют,
что явления общественной жизни повинуются известным законам,
450
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
что школьная наука не ищет этих законов и потому не имеет права на
звание науки, что единственным типом науки представляется до сих
пор естествознание, и что выводы, добытые естествознанием,
должны иметь существенное влияние на построение настоящей
общественной науки. В статье своей г-н Бибиков является в этом смысле
новым человеком. «Дурные же признаки» г-на Страхова могут
служить очень типичным представителем приемов господ
инсинуаторов. А что такое «инсинуатор», мы говорили выше.
Г-жа Ройе, переведшая книгу Дарвина на французский язык,
сделала из нее несколько выводов в применении к общественным
вопросам. Некоторые из них приведены у г-на Бибикова в таком виде:
«Закон естественного избрания, в приложении к современному
человечеству, подрывает наши законы политические, гражданские,
нравственные». «Чтобы убедиться в этом, — говорит г-жа Ройе, —
достаточно указать на преувеличение того сострадания, того милосердия,
того братства, в котором наша христианская эра постоянно полагала
идеал социальной добродетели. На преувеличение даже
самопожертвования, состоящее в том, что везде и во всем сильные приносятся
в жертву слабым, добрые злым, существа, обладающие богатыми
дарами духа и тела, — существам порочным и хилым. Что выходит из этого
исключительного и неразумного покровительства, оказываемого
слабым, больным, неизлечимым, даже самим злодеям, словом, всем,
обиженным природой? То, что бедствия, которыми они поражены,
укореняются и размножаются без конца, что ало не уменьшается, а
увеличивается и возрастает за счет добра. Мало ли на свете этих существ,
которые неспособны жить собственными силами, которые всей своей
тяжестью висят на здоровых руках и, будучи в тягость себе самим и
другим членам общества, где проходит их чахлое существование,
занимают на солнце больше места, чем три индивидуума хорошей
комплекции. Тогда как эти последние не только жили бы с полной силой
для удовлетворения своих собственных потребностей, но могли бы
произвести сумму наслаждений, превышающую то, что бы они сами
потребили. Думали ли когда-нибудь об этом серьезно?»
Г-н Бибиков признает эти положения г-жи Ройе, как логически
вытекающие из теории Дарвина, не подлежащими опровержению.
«Сердиться на них не приходится, не поможет». Продолжая их, г-жа Ройе
приходит, наконец, к тому заключению, что так как высшие расы
произошли постепенно и что, следовательно, в силу закона прогресса
Аналогический метод в общественной науке
451
они предназначены в дальнейшем ходе заместить собой низшие расы,
а не смешаться и слиться с ними, причем они подвергались бы
опасности быть поглощенными этими расами посредством скрещиваний,
которые понизили бы средний уровень породы, то нужно не раз
подумать об этом, прежде чем провозглашать политическую и
гражданскую свободу в народе, состоящем из меньшинства индогерманцев и
из большинства монголов или негров, Теория Дарвина требует
поэтому, чтобы множество вопросов, слишком поспешно решенных, было
снова подвергнуто серьезному исследованию. Люди не равны по
природе, вот из какой точки должно исходить. Они не равны
индивидуально даже в самых чистых расах; а между различными расами эти
неравенства получают столь большие размеры в умственном
отношении, что законодатель никогда не должен упускать этого из виду».
Последние выводы, по мнению г. Бибикова, «предлагаются на
рассмотрение науки и не претендуют на категорическое разрешение».
Г-н Страхов, как человек не без образования, понимает, что
теория Дарвина, хотя и не всеми европейскими учеными признаваемая
и принимаемая, имеет тем не менее за себя столько данных, что он,
г-н Страхов, вынужден признать главные черты ее «без сомнения,
совершенно точными и верными». Из этих совершенно точных и
верных черт теории Дарвина г-жа Ройе делает выводы. Выводы эти г-ну
Страхову не нравятся. Что же, вы думаете, делает г-н Страхов?
Опровергает выводы, доказывает, что они не логичны, не вытекают из «без
сомнения, совершенно точных и верных положений»? Этот вопрос
мы задали, собственно, для формы, ибо читатель очень хорошо
понимает, что никаких доказательств и опровержений г-н Страхов не
представляет. Он заявляет только: «Изучение природы не все, что
нужно; тому, кто смотрит на это изучение, как на живую струю,
которая может спасти жизнь дряхлеющей цивилизации, следует указать
на выводы, сделанные из великого открытия природы г-жей Ройе: эти
выводы приличны эпохе падения». Это собственные слова г-на
Страхова. Г-н Бибиков приводит в другом месте слова того же Страхова,
по-видимому, несколько перефразируя их, однако, верно передавая
их тон и смысл: «Берегитесь! Оглянитесь, куда ведут вас естественные
выводы вашей естественной науки, не сдержанной другими, более
глубокими основаниями! Возвратитесь в главное русло
человеческого ума или вы будете погребены под развалинами окружающей вас
жизни. Остерегитесь! Дурные признаки! Смотрите, к чему пришли
452
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вы, лишенные теплой веры, обойденные безотчетным чувством,
вечно присущим человеку. Дурные признаки!» Теперь всмотритесь же
в безобразие этого приема. А + В = С, говорите вы г-ну Страхову. Да,
отвечает он, это «совершенно точно и верно». Следовательно,
продолжаете вы, А = С - В. Да, отвечает г-н Страхов, это вывод верный, но
только «в эпоху падения возможны такие выводы». Неожиданность
этого заявления напоминает следующее место из последней повести
Гл. Успенского157:
«— Дубина!
— Ну, не больно... Не бывал дубиной! — огрызался водовоз.
Этого было довольно, чтобы все оскорбленные временем внутренности
Птицыной закипели кипучей смолой.
— Ка-ак! Мы подлые? — восклицала она, захлебываясь от гнева».
Так всегда прорывается бессильная злоба, и эта неожиданность
финала именно и составляет для нее наиболее характерный признак.
Как справедливо говорит г-жа Птицына, она в старое время этого
самого водовоза в порошок бы растерла и по ветру развеяла. И
сделала бы она это, конечно, не с чувством благорасположения, но
отнюдь и не с такой злобой, с такой ей теперь приходится повторять:
«Мы здесь тридцать восемь лет живем, а не подлые... Не подлячка я...
не подлячка!.. У меня сыновья в Польше, а я не подлая!» Совершенно
точно так же в очень старое время господа Страховы прямо
обратились бы к соответственным собственноручным исправительным
мерам. Во время, не очень старое, но все-таки старое, они сказали
бы, что А = С - В совершенно такой же отвратительный и вредный
вздор, как и самое А + В = С, Ныне же, захваченные волной
цивилизации, они говорят, что А + В = С, что и А = С - В, но что последнее,
оставаясь истиной, не имеет права на существование. Они охотно
стали бы на точку зрения своих предков, но первобытная невинность
ими уже утрачена, они изгнаны из рая, и им уже нет туда возврата.
Они поневоле должны говорить, что, конечно, дескать, наука... мы
с большим уважением... и положения ваши, и выводы совершенно
верны... А у самого оскорбленные временем внутренности кипят
кипучей смолой. Как хотите, а положение это в такой мере неприятно и
для чувства собственного достоинства оскорбительно, что поневоле
крикнешь: «Мы здесь тридцать восемь лет живем, а не подлые! Не
подлячка я, не подлячка, у меня сыновья в Польше!» С другой стороны,
всмотритесь в положение водовоза. Ему приходится, во-первых, за-
Аналогический метод в общественной науке
453
ниматься своим делом; во-вторых, парировать ничем не вызванные
ругательства г-жи Птицынои; в-третьих, наконец, доказывать, что
он и не думал отрицать факта пребывания сыновей г-жи Птицынои
в Польше. Примите, далее, в соображение, что при этой сцене может
присутствовать городовой, заранее предубежденный не в пользу
водовоза, что городовой этот может на слово поверить г-же Птицынои,
как даме заведомо благонадежной. Вы видите, что среди этих огней
водовоз легко может потерять хладнокровие и в самом деле сказать,
что у г-жи Птицынои нет сыновей в Польше, тогда как факт этот,
может быть, не подлежит ни малейшему сомнению. Ясно, что г-же
Птицынои следует при этом разве предъявить какие-нибудь документы,
аргументы, доказательства. Но так как всякие документы у нее уже
давно затерялись, то вместо предъявления их она просто кричит:
«Городовой!» Так поступает и г-н Страхов. Документы о пребывании его
сыновей в Польше (мы говорим, конечно, иносказательно) им давно
затеряны.
Нас, однако, интересует здесь не столько г-н Страхов, сколько
г-н Бибиков. Г-н Бибиков видит, с одной стороны, логический вывод
из признаваемого им естественнонаучного обобщения, а с другой
ему — преподносит г-н Страхов заявление о пребывании своих
сыновей в Польше и о своей тридцативосьмилетней давности. Как человек,
имеющий уважение к логике, г-н Бибиков становится на сторону г-жи
Ройе и заявляет г-ну Страхову, что ему никакого дела нет до его
сыновей в Польше и до его давности. Г-н Страхов настаивает. Если бы он
не настаивал, было бы гораздо лучше. Г-н Бибиков сосредоточил бы
свое внимание на выводах г-жи Ройе и хладнокровно оценил и
взвесил бы их. Теперь же внимание раздваивается. Прежде всего, он хочет
доказать г-ну Страхову, что мыслитель этот говорит несообразности.
Он это делает. Он доказывает г-ну Страхову, что если тот признает
верным основное положение, признает правильным сделанный из
него вывод, то затем немыслимо уже возмущаться выводом. Без
всякого сомнения, г-н Страхов решается проделать этот кунстштюк под
влиянием чувства весьма похвального. Выводы г-жи Ройе кажутся ему
жестокими и бесчеловечными, и он, вопреки логике, отказывается их
принять из человеколюбия. Мы утверждаем поэтому, что чувство,
руководящее г-ном Страховым, весьма похвально. Сказать же публично,
что данное предложение составлено во всех частях его верно, но что
тем не менее у меня есть сыновья в Польше — сказать это публично —
454
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
это положительно подвиг самоотвержения. Серьезно. Однако так как
при этом еще призывается городовой, то это есть, кроме того,
инсинуация. Смущенный этой противоестественной смесью, увлеченный
горячностью спора, при очевидном ничтожестве своего противника,
г-н Бибиков неосторожно утверждает, что никаких сыновей в
Польше и никакой тридцативосьмилетней давности у г-на Страхова
никогда не бывало.
Г-н Страхов ратует во имя чувства. Г-н Бибиков видит, что это,
должно быть, очень ненадежное чувство, если оно в научном
вопросе не признает авторитета логики. Но среди тех трудностей, в
которые попадает г-н Бибиков, он, к сожалению, забывает, что таково
только личное чувство г-на Страхова, и, вследствие этого, говорит,
что в вопросах науки чувство не должно иметь никакого участия.
Это решение с разбегу вводит в его дальнейшие соображения многие
противоречия, что, разумеется, очень прискорбно. Он говорит, что
«сентиментальность боится истины» и что естествознание «изгонит
сентиментальную философию с площадей и закоулков науки. В
области специальных наук, математических и естественных, уже теперь
нет места для сентиментальной философии. Сердись она или не
сердись, страдай или радуйся, что в сернистой кислоте человек
задыхается, что камень, по закону тяжести, падает на голову, что
патологическое состояние разрушает организм, что часть меньше целого, для
химии, для жизни, для физиологии, для математики — это все равно».
«Сердись или не сердись сентиментальная философия, закон
преобладания естественно-избранных, сильных, отстранения немощных,
слабых, вырождающихся всегда существовал». «Сентиментальная
философия сознательно поставляет для себя иной закон, иную
норму, иной идеал, чем те законы и идеалы, которым следует природа».
Тут есть, очевидно, некоторое недоразумение. Конечно, сердиться на
то, что в сернистой кислоте человек задыхается, могут только господа
Страховы. Их негодование тем именно и отличается, что всегда
становится вразрез с истиной. Но не одни они «сознательно поставляют
себе иной идеал, чем тот, которому следует природа». Собственно
говоря, природа не следует никакому идеалу; идеал есть продукт
человеческого творчества, и в акте этого творчества необходимо
участвует и чувство. Дело только в том, как и куда направляется это чувство.
Вы видите, например, что известные обстоятельства аккуратно
каждый день вынуждают несколько человек отправляться в помещение,
Аналогический метод в общественной науке
455
наполненное парами сернистой кислоты, и там задыхаться. Если это
вам нравится, вы говорите: пусть себе отправляются и задыхаются;
ваш идеал совпадает с действительностью. Если же нет, то есть если
чувство ваше возмущается этим зрелищем, у вас создается известный
идеал, степень годности которого всецело зависит от вашей
предварительной внутренней работы. Идеал ваш может стать в совершенное
противоречие с непоколебимым законом природы, и тогда вас
ожидает печальная будущность. В состав вашего идеала может, например,
входить представление о сернистой кислоте, которая, оставаясь
сернистой кислотой, не мешала бы человеку дышать. Идеал этот
недостижим, и потому, если вы человек крупный, если вы действительно
принимаете близко к сердцу судьбу людей, вынужденных ежедневно
отправляться в помещение с парами сернистой кислоты, то можете
в один прекрасный день сойти с ума или разбить себе лоб. Если же
вы калибром помельче, то станете негодовать на свойства сернистой
кислоты: ах, дескать, как это печально и нехорошо, что в сернистой
кислоте трудно дышать; если же вы еще помельче, то просто скажете,
что и вздор это совсем, будто в сернистой кислоте нельзя дышать,
хотя над собой и не решитесь сделать опыта. Все это решения
сентиментальной философии. Но вот является другой человек, не менее
вас чувствующий, но более вас благоразумный. Он не отказывается
от чувства негодования, но оно направляется у него не на свойства
сернистой кислоты, а на те обстоятельства, которые вынуждают
людей задыхаться в ней. Он не только не косится на закон природы,
но ищет и других, известная комбинация которых могла бы
поставить людей вне влияния сернистой кислоты. Точно так же и в
вопросе о преобладании сильных над слабыми, здоровых над больными,
умных над глупыми. Если вам это нравится, и прекрасно. Если же нет,
то вы, подобно Страхову, заговорите о сыновьях в Польше. Или же,
признав преобладание сильных, здоровых, умных законом природы,
вы станете искать тех законов кооперации, которыми устранялось
бы присутствие слабых, больных, глупых, то есть, не отрицая
закона конкуренции, вы постараетесь только вырвать из-под него почву.
Из этого видно, что чувство не только может уживаться с истиной, не
вступая в бесплодные пререкания с ней, но может даже
способствовать приобретению дальнейших истин. Г-н Бибиков понимает все это
не хуже нас и, очевидно, увлекся единственно только благодаря ин-
синуаторским приемам г-на Страхова. Однако беда родит беду и про-
456
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
тиворечие — противоречие. Основное положение г-на Бибикова
состоит в том, что конкуренция и борьба за существование стремятся
поднять уровень породы и суть, следовательно, орудия прогресса:
сильные выживают, слабые вымирают, и род человеческий
вследствие этого прогрессирует. Следовательно, все слабое должно быть,
по справедливости, обречено смерти, и страдания слабых
совершенно законны. Поэтому г-н Бибиков рассуждает так- «Когда в
семействе много детей, а есть нечего, Мальтус простодушно принимал это
за несчастье. Теперь же мы видим, что чем больше детей, тем лучше,
тем сильнее может действовать закон конкуренции. Слабые
погибнут, и выдержат борьбу только естественно избранные». Кажется ведь,
какой жестокий приговор: г-н Бибиков даже с некоторым задором
ставит его перед г-ном Страховым. Вечно будет тянуться
конкуренция, вечно будут умирать с голоду некоторые члены таких семейств,
в которых много детей, но это не беда, ибо род человеческий этим
путем прогрессирует, так сказать, питаясь мясом некоторых
представителей человечества. Однако г-н Бибиков не долго удерживается на
этой точке зрения. На вопрос о том, — кто же естественно
избранные, г-н Бибиков указывает на вымирание Меровингов158, Капетингов
и других «поколений белой кости». Далее, принимая на себя защиту
слов г-жи Ройе о неосновательности покровительства «слабым,
немощным и преступным», он чувствует, что тут есть что-то неладное,
однако удачно справляется с детьми и преступниками; он утверждает,
что покровительство им отнюдь не противоречит выводам г-жи Ройе,
потому что как в ребенке, так и в преступнике, ценится возможность,
будущая польза для рода и вида. «То же, — прибавляет г-н Бибиков, —
следует сказать о старике. Совестно, впрочем, и доказывать подобные
вещи. Ликурговы воззрения на старость не привились, и во имя
нашего достоинства, смеем думать, никогда не привьются к человечеству».
Это ведь уж, пожалуй, тоже сентиментальная философия. В
заключение г-н Бибиков говорит: «Не следовало ли бы подумать обратно:
что мысль и деятельность человека всегда и безусловно должны бы
были направляться на помощь слабости, бессилию, беззащитности
из-за той же пользы для рода? В бесчисленном множестве случаев
так и выходит — вот почему сострадание и деятельная помощь
слабым, бессильным и беззащитным входят таким широким элементом
в гуманное чувство или, что то же, в чувство человеческое, родное;
они даже составляют основу для него». Не так, значит, страшен черт,
Аналогический метод в общественной науке
457
как его сначала намалевал г-н Бибиков. Однако противоречия его
приличны не «эпохе падения», а, напротив, эпохе зарождения, эпохе
молодой, неустановившейся мысли, но мысли ищущей, мысли,
жаждущей истины, эпохе чувства самой горячей любви к человечеству.
Без всякого сомнения, это бесконечно выше тридцативосьмилетней
давности г-на Страхова, которая значительно способствует
сбивчивости в мыслях и взглядах «новых людей», только раздражая их своим
вмешательством и нигде не указывая признаков заблуждения.
Мы искренно сожалеем о том, что у нашей молодежи вырывались
еще недавно фразы вроде: «нравственно то, что естественно»,
«любовь исчерпывается половым влечением» и т. д. Мы искренне рады,
что фразы эти так редко отзывались на деле. Но мы утверждаем, что
настоящие виновники всех этих приложений аналогического метода
суть господа инсинуаторы. Это их дело. Я ищу правил жизни, я ищу
истины, добра, счастья. Я делаю, положим, легкую ошибку. В ту же
минуту мне предлагают сыновей в Польше и тридцативосьмилетнюю
давность и призывают городового. Как! Эта убогая, искалеченная,
заплесневелая мораль, не мирящаяся со знанием и призывающая на
помощь городового, есть нравственность? Эта дикая похоть,
отрезывающая человека от всего мира, есть любовь? Долой же эту
нравственность и любовь! Я найду в природе типы другой
нравственности и другой любви. Но в природе нет нравственности. Нравственное
значит желательное; естественное значит необходимое — это две
различные категории. Человек обязан сочетать их для себя, но найти
сочетание их в природе нельзя, а если бы было возможно, то
природа оказалась бы глубоко безнравственной. В то время как я
страстно ищу нормального сочетания желательного с необходимым, в то
время как я душой и телом отдаюсь этим поискам, мне продолжают
кричать о тридцативосьмилетней давности и предлагать сыновей
в Польше. Мне приходится огрызаться, искать глазами городового
и все-таки преследовать заветную мысль. Оглушенный всем этим,
я хватаюсь за аналогический метод. Но на деле я все так же страстно
желаю блага, на деле я люблю самой чистой любовью, и только
изредка, в частностях сбиваюсь на практическом пути... Вопли о
тридцативосьмилетней давности раздаются еще громче, и чем дальше в лес,
тем больше дров.
Кто виноват и кто прав? Кто чист, несмотря на укоры в грязи, и кто
грязен, несмотря на сыновей в Польше?
БОРЬБА ЗА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
(Социологический очерк)
I. ВВЕДЕНИЕ
Когда какая-нибудь крепость, занятая карлистским отрядом,
осаждается войсками признанного испанского правительства и
затем, после долгих переговоров, вылазок и стычек, благополучно
увеличивает собой владения короля Альфонса, то, несмотря на все
ничтожество этого ряда событий даже для самой Испании, русские
газеты следят за ним изо дня в день. Такое участие к судьбам
испанской крепости, оспариваемой Альфонсом у Карлоса или
обратно, объясняется как собственными вкусами русских газет, так и
спросом со стороны читающей публики. Тем или другим способом
общество, если бы пожелало, могло бы произвести известное
давление на периодическую печать и вытребовать у нее более или менее
аккуратное сообщение сведений более важных, хотя бы для этого
пришлось отодвинуть на задний план распрю короля Альфонса с
доном Карлосом159. Трудно, конечно, допустить, чтобы русское
общество принимало так уж близко к сердцу судьбу разных испанских
крепостей. Надо думать, что газеты в этом случае несколько
пересаливают. Но, вообще говоря, наша читающая публика, как, впрочем,
и многие другие читающие публики, очень любознательна насчет
внешних политических событий, вроде перемены династий, взятия
крепостей, многознаменательных слов, сказанных Мак-Магоном160
на смотре, и т. п. Да не подумает читатель, чтобы я хотел угостить
его лекцией на ту тему, что в истории человечества внешние
политические события составляют только ничтожную, хотя и
бросающуюся в глаза верхнюю пленку, под которой в изменениях нравов,
в приращении знаний, в развитии экономических отношений
кипит настоящая, хотя и не видная история. Лекция эта читается,
начиная с прошлого столетия, таким количеством людей и нередко
людьми таких высоких умственных качеств, что если читатель все-
таки устремляет свою любознательность на вопрос о командовании
карлистскими войсками Доррегараем161, так, значит, есть тому
причины, с которыми лекцией о сути истории ничего не поделаешь.
Борьба за индивидуальность
459
Быть может, все читавшие и читающие подобные лекции поступали
бы целесообразнее, если бы постарались самым изложением сути
истории заинтересовать свою аудиторию и сосредоточить ее
любознательность на том, что действительно заслуживает внимания.
Разумеется, я и такой претензии не имею, и весь этот разговор
завел только потому, что в русские газеты недавно случайно
проскользнуло известие, имеющее несомненную связь с сутью истории.
Не ручаемся, однако, чтобы читатель сразу признал его таковым.
Дело в том, что недавно в Реймсе происходил конгресс
католических рабочих ассоциаций, на который прибыли делегации из
Англии, Швейцарии, Бельгии и Италии. Цель этого конгресса состоит
в учреждении клубов для солдат и рабочих и проч., а также в
учреждении мастерских для обучения ремеслам сирот и детей бедных
родителей. Один из ораторов, иезуитский патер Маркиньи, произнес
длинную речь в пользу восстановления торговых гильдий в том виде,
как они существовали при Людовике Святом162. Слушатели с жаром
рукоплескали этой речи, «исполненной сострадания, по выражению
одной ультрамонтанской газеты163, к судьбе злополучных
ремесленников, у которых революция отняла все их гарантии». Конгресс
принял резолюцию об организации католических обществ, в которые
входили бы все классы рабочих и которые управлялись бы подобно
ремесленным цехам, и о приглашении всех христианских
нанимателей к составлению из себя обществ для поощрения рабочих своей
моральной поддержкой. Рабочие же общества должны находиться
под покровительством дам. Словом, предполагается восстановление
старинных цехов и возрождение христианской семьи среди рабочих
классов. Граф де ла-Тур-дю-Пэн прочел отчет о развитии
католических рабочих клубов. При окончании франко-германской войны
во Франции существовал всего один такой клуб — в Париже, между
тем как в настоящее время они заведены уже во многих городах и
селениях. Католики надеются, что это движение будет способствовать
примирению капитала с трудом. Само собой разумеется, что члены
этого съезда выразили письменно свое согласие с силлабусом.
На наш взгляд, это известие заслуживает несравненно большего
внимания, чем судьбы альфонсистскои или карлистской Испании,
хотя на реймском конгрессе никто не размахивал шпагой, никто не
осаждал крепостей и не сдавался на капитуляцию. Тот или другой
Карлос уже много раз оспаривал испанский трон у того или другого
460
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Альфонса и будет, может быть, еще много раз оспаривать, вследствие
чего будет повторяться и тот звон оружия, и та пушечная пальба,
которыми ныне полна Испания. Нельзя того же сказать о вздохах
по средневековым цехам, раздававшихся на реймском конгрессе.
Во всяком случае, если только читатель остановит свое внимание на
приведенном факте, он найдет в нем много поучительного и даже
поразительного. В самом деле, разве не связались в нашем уме
неразрывными узами понятия о европейском рабочем и о революции? —
а вот на конгрессе рабочих ассоциаций говорится, что революция
отняла у рабочих все их гарантии. Разве не представляется вам
рабочее движение чем-то враждебным религии и церкви? — а вот на
конгрессе представители католической церкви принимают
движение под свое покровительство. Скажут, может быть, что реймский
конгресс есть явление исключительное. Другие скажут, что он есть
результат происков католической партии, ищущей себе в рабочих
массах опоры для борьбы с государственной, светской властью. И те
и другие будут отчасти справедливы, но только отчасти. Что
клерикалы ищут себе опоры в рабочих — это верно. Но это явление
уже само по себе глубоко знаменательное. Среди многочисленных
экономических партий, существующих ныне в Германии, очень
любопытна хорошо организованная группа, считающая в числе своих
членов многих высокопоставленных католических духовных лиц
и открыто называющаяся christlichsociale Partei. Как бы ни было
близко происхождение и развитие этой партии к «культур-кампфу»,
возгоревшемуся в Германии недавно, следует, однако, заметить, что,
например, епископ фон Кетгелер выражал свои мнения еще во
времена агитации Лассаля, когда герой «культурной борьбы», Бисмарк,
и не помышлял об этой борьбе. Что касается реймского конгресса,
то мы сами готовы признать его в некоторых отношениях явлением
исключительным. Но он все-таки есть одно из знамений времени и
получает немаловажное значение в ряду других фактов. Возьмите,
например, этот вздох по гильдиям времен Людовика Святого.
Положим, что он вырвался из груди иезуита, но ведь словам иезуита
аплодировали депутаты рабочих ассоциаций. И налицо есть факты
почище аплодисментов. Кто читал книгу Торнтона164 «Т]эуд» и хоть,
например, первый том истории первой революции Луи Блана, того
должно было поразить многостороннее сходство английских
рабочих союзов со средневековыми цехами и корпорациями, разумеет-
Борьба за индивидуальность
461
ся — минус католические орнаменты, о которых собственно и
вздыхают люди вроде иезуита Маркиньи.
Вот некоторые из фактов, рассказываемых Торнтоном. Некоторые
союзы делят окружающую их страну на округа и не дозволяют
употреблять произведения подведомственных им отраслей
промышленности иначе как в том округе, в котором они выработаны. В большей
части Ланкашира кирпичники и каменщики находятся в
оборонительном и наступательном союзе, и, вследствие этого, в известных
произвольно намеченных границах может употребляться только
кирпич местного производства. Например, ни один кирпич,
сделанный далее чем в четырех милях от Манчестера, не может проникнуть
в город. Каждый воз кирпича при въезде в Манчестер осматривается
особыми агентами союза каменщиков, и, если они найдут, что
кирпич из «запрещенной» местности, весь союз тотчас же отказывается
от работы. Границей манчестерского союза каменщиков
признается канал, протекающий в четырех милях от Манчестера и в двух от
Аштона. Какое бы изобилие кирпича ни было на аштонском берегу
канала, оно ничем не отзовется на Манчестере. Это чисто
средневековая система внутренних застав, запрещений, монополий и
непроходимых пропастей между различными местностями и
различными отраслями производства достигает иногда в практике рабочих
союзов крайних пределов смешного. Например, в Болтане несколько
каменщиков, проходя мимо конторы Дэя и слыша там стук каменной
работы, вошли и увидели, что плотник вбивал в стену балки, а так
как оставленные для них в стене отверстия оказались слишком малы,
то ему пришлось несколько увеличить их. Каменщики тотчас донесли
об этом союзу, и тот оштрафовал Дэя на 2 ф. ст. за то, что он дозволил
плотнику произвести каменную работу. В Аштоне Джордж Кольбек
послал столяра и каменщика переделать в доме дверь и передвинуть
ее на аршин в сторону. Каменщик уже почти кончил свою работу,
когда заметил, что столяр, чтобы не сидеть сложа руки, стал помогать
ему, т. е. выбивал кирпичи на том месте, где надо было устроить дверь.
Каменщик тотчас же бросил работу и ушел, а союз каменщиков
штрафовал Кольбека на 2 ф. ст. За что? — спрашивал он. «За то, — отвечал
союз, — что вы нарушили правило, позволив плотнику выламывать
кирпичи, это — дело каменщиков, и потому, если вы не заплатите
штрафа, то все каменные работы у вас прекратятся». В другом месте
подрядчик был оштрафован на 5 ф. ст. за то, что он, прождав своих
462
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
каменщиков пять дней, поручил, наконец, печникам расширить окно
на несколько вершков. Конторщик одного подрядчика в Блакпуле
заметил однажды, измеряя какую-то работу, что на его мерке стерлись
подразделения, знаки футов и дюймов. Он взял краски и возобновил
знаки. В тот же день его хозяин получил от союза маляров письмо,
в котором его очень учтиво просили запретить конторщику
исполнять малярную работу, так как он не маляр.
Не напоминает ли все это те далекие и, казалось, совсем стертые
революцией времена, когда букинисты и книгопродавцы вели
постоянные споры из-за того, что такое старая и что такое новая книга,
когда подобным же образом портные и продавцы старого платья
препирались три века сряду? Если бы мы имели в виду параллель
между рабочими союзами (распространяющимися ныне и в
Германии) и средневековыми цехами, мы могли бы указать и многие
другие поразительно сходные черты этих двух явлений. Но настроение
рабочих масс в Европе, как ни соблазнительна эта тема, не входит
в программу предлагаемой статьи. Настроение это отнюдь не
исчерпывается обычаями английских Trades-unions165. Мы указываем
мимоходом на эту сторону дела только потому, что указание это нужно
ввиду нашей специальной цели.
Нечто соответствующее речам и резолюциям реймского
конгресса и практике английских рабочих союзов имеет место и в науке.
Показав, как самый рост капитала вызывает относительный
избыток рабочего населения, Маркс замечает: «Таков закон
народонаселения, свойственный капиталистическому способу производства:
каждому особенному, исторически определенному способу
производства соответствует особенный исторически определенный закон
народонаселения. Абстрактные законы размножения существуют
только для растений и животных» (Das Kapital, 1867, 617).
Конечно, это недоверие к существованию общих и' абстрактных
социологических законов (в основании своем вполне соответствующее
философско-историческому мировоззрению Маркса) может
показаться несколько преувеличенным. Но, во всяком случае,
приведенные слова заключают в себе весьма важное указание. Социологи
вообще, а экономисты в особенности, склонны к расширению
значения тех общественных форм, среди которых им приходится жить,
учиться и учить. Вращаясь в известной исторически определенной
форме общественных отношений, люди, занимающиеся изучением
Борьба за индивидуальность
463
общественных вопросов, слишком часто поднимают выводы из
своих более или менее узких наблюдений на степень непреложных
общих законов. А затем в некоторых случаях, благодаря удачной
систематизации и другим условиям, логическим и политическим, эти
выводы с навешанным на них ярлыком непреложности расходятся
по белу свету и принимаются с распростертыми объятьями даже там,
где они вовсе не имеют под собой исторической почвы. Таковы,
например, некоторые идеи римского права, таковы экономические
законы, установленные английской школой, покорившие себе,
конечно, временно, чуть не весь цивилизованный мир. Оставляя в стороне
практические следствия такого ненормального порядка вещей,
нетрудно видеть, как вредно должен он отзываться даже на интересах
чистой науки. Ни абстрактная, ни конкретная социология, очевидно,
не могут быть построены удовлетворительно, если круг наблюдений
социолога Офаничивается конституционной монархией, фабрикой,
денежным и торговым рынком да акционерным обществом. А эти
формы кооперации (слово это мы разумеем в самом широком
смысле) до последнего времени почти исключительно поглощали
внимание исследователей. Относительно всех других форм общественных
отношений как бы существовало безмолвное соглашение, что они не
только неудовлетворительны или отсталы, но даже не заслуживают
внимания. Их третировали свысока, редко далее удостаивая
презрительного замечания, что ничего не может быть путного из Назарета.
Это было совершенно понятно и извинительно в медовые месяцы
века просвещения и принципов 89 года166. Тогда люди были полны
такой цельной веры, что ключ к замку человеческого счастья
найден, что все их увлечения должны быть им прощены, как простились
грехи Магдалины. Но с тех пор утекло много воды. Англия,
вдохновлявшая век просвещения своей конституционной системой и
промышленным строем, утратила свое обаяние. Она оказалась страной
противоречий, в которой чего хочешь, того и просишь, и которая,
именно в силу этого, никого вполне удовлетворить не может. Мало
того. Под пером некоторых, часто блестящих талантов Англия
обратилась как бы в илота, которого история, в поучение другим
народам, допьяна напоила дурными соками цивилизации. Знаменитые
принципы 89 года независимо от присущих им самим недостатков,
распространяясь географически, вместе с тем разжижались. С
грехом пополам амальгамировали они попадавшиеся им на пути рас-
464
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
пространения весьма разнохарактерные элементы. И этой-то
странной амальгаме, лишенной всякой цельности и не возбуждавшей
ничьего искреннего энтузиазма, который многое искупает, суждено
было сосредоточить на себе внимание людей, изучающих явление
общественной жизни. Были у этой амальгамы апологеты, которые
бесспорно выяснили многое в современной жизни, но которые
вместе с тем самым бессмысленным образом топтали всякий научный
интерес и к отжившим, и к отживающим, и к вновь нарождающимся
формам кооперации, ко всему, что утратило или еще получило права
гражданства в странной амальгаме. Едва ли не больше всех старались
и уж, конечно, больше всех успели в этом направлении экономисты.
Политическая экономия построена на том предположении, что
абсолютный, единственный двигатель человека есть стремление к
наживе, к богатству, стремление взять со своего соседа как можно больше
и дать ему в обмен как можно меньше. Адам Смит очень хорошо
понимал односторонность своего экономического учения и потому
поставил рядом с ним «Теорию нравственных чувств», где человек
оказывается действующим столь же исключительно под влиянием
«симпатии». Смит нигде не говорит, как вяжутся между собой эти его две
противоположные доктрины, но, очевидно, что он просто для
удобства исследования уединил в одном случае голый эгоизм, в другом —
симпатию. Вернейший из его учеников, Дж Ст. Милль, вполне усвоил
себе этот ход мысли учителя. Он прямо указал, что истины, добытые
политической экономией, имеют весьма условный характер, так как в
основании ее лежит не реальный, а гипотетический человек (Система
логики, II, 479). Однако далеко не все экономисты поняли истинный
характер и действительные пределы своей науки, в чем, впрочем, им
помогали некоторые побочные обстоятельства. Во-первых, реальный
человек, входивший в круг наблюдений экономистов, человек биржи,
лавки, фабрики, акционерного общества, оказался действительно
очень похожим на гипотетического человека науки Смита и Милля.
Он действительно управлялся в своих действиях исключительно
желанием получить как можно больше с соседа и дать ему в обмен как
можно меньше. Отсюда понятно заключение экономистов, что
такова природа человека вообще, — заключение, к которому они, однако,
отнюдь не могли бы прийти, если бы круг их наблюдений и
исследований был шире. Далее: из всего цикла общественных наук
политическая экономия даже в своем изуродованном виде все-таки более
Борьба за индивидуальность
465
других имела прав на звание науки; все-таки она была больше наука,
чем юриспруденция, история, политика, этика. Это естественно вело
к искушению отождествлять политическую экономию с
социологией. Таким образом, все способствовало незаконному расширению
значения науки, получившей толчок от Адама Смита. Экономисты не
задумались сказать об объекте своих исследований: ессе homo! тогда
как это был только человек биржи, лавки и фабрики. Они притянули
себе на помощь утилитаризм, между тем как эта доктрина,
правильно понятая, утверждает только одно: человек стремится к личному
счастью, — вовсе не предрешая, в чем будет состоять личное счастье
человека в том или другом частном случае. И удивительно, с каким
упорством держались экономисты этой странной иллюзии, потому
что фактов, уничтожающих ее, было всегда налицо достаточно, даже
слишком достаточно. Факты вроде прусско-французской167 и затем
парижско-версальской кровавой распри168, казалось бы, очень ясно
говорят, что люди — не только существа возделывающие, поедающие,
купующие и куплюдеющие. Были у экономистов противники. Они
опять-таки многое уяснили в современной жизни, но их деятельность
была, главным образом, отрицательная. Они стремились уничтожить
здание, возводимое экономистами, а это обязывало их опять-таки
сосредоточивать свое внимание на бирже, лавке и фабрике. Но там они
встречали воочию ненавистного им гипотетического человека науки
Смита, торопились уйти от него в область фантазии,
противопоставляли ему продукты своего личного творчества — человека Утопии,
Икарии, Фаланстера.
Мы не имеем в виду практических целей экономистов и их
противников, не думаем разбирать, в какой мере достигались эти цели
трудами тех и других. Не касаемся мы также их заслуг в науке вообще.
Мы констатируем только факт узости круга наблюдений социологов,
факт отсутствия той весьма важной отрасли науки, которую
некоторые писатели предлагают называть общественной морфологией, т. е.
учением о формах кооперации (Schaffte. Kapitalismus und Socialismus.
1879, s. 430. Вреден. Строй экономических предприятий. 1873). Было
бы смешно и нелепо желать, чтобы фабрика, биржа, лавка остались
вне контроля науки, но пора, кажется, подумать, что на них свет не
клином сошелся, что даже и они могут быть плодотворно изучаемы
только с точки зрения, отправляющейся от наблюдений и
исследований более широких. В этом отношении в Европе за последнее время
466
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
замечается весьма любопытное движение. Время Утопий, Икарий
миновало уже давно, уступив место направлению, более
практическому и менее связанному с личным творчеством. Но и об экономистах
нельзя уже скоро будет повторить остроту одного немецкого
писателя: купите себе скворца, научите его трем словам: Tausch (обмен)
Tausch, Tausch! и у вас будет прекрасный политикоэконом.
Если мы пожертвуем второстепенными оттенками, то нынешние
направления экономической науки могут быть подведены под три
рубрики.
Во-первых, так называемые фритрэдеры, или манчестерцы169.
Это — то самое направление, которое приняло гипотетического
человека Смита за человека действительного. Основной догмат его есть
свободное движение личных интересов, долженствующее само собой
привести все к наилучшему концу. Эти люди проникнуты
практической стороной смитовской науки, но более или менее недовольны ее
теоретической и в особенности методологической частью. Она для
них слишком абстрактна и гипотетична. Это направление все более
и более затирается другими и насчитывает очень мало чистых
представителей.
Во-вторых, — школа Маркса (разумея последнего
исключительно как научного деятеля). Расходясь с так называемой классической,
смитовской школой в практических тенденциях, Маркс вполне
усвоил ее гипотетический характер и логические приемы
исследования. Он только строже и последовательнее Смита и Рикардо
проводит их собственные приемы, благодаря чему приходит к новым
заключениям. Обливая, например, всем своим обильным запасом
желчной брани практические тенденции Мальтуса и мальтузианцев,
Маркс не отвергает, однако, оснований знаменитого закона
народонаселения. Напротив, новыми и совершенно неожиданными
аргументами он доказывает, что этот закон в основании своем верен,
но только для известной, исторически определенной комбинации
условий, а не обязателен для всех времен и мест. Несмотря на всю
свою тенденциозность, Маркс не вводит в теоретическую часть
своих исследований никаких этических нравственных моментов.
Он твердо стоит на абстрактной почве гипотетического человека
науки Смита, но вместе с тем твердо помнит, что это — человек
гипотетический, условный, так сказать, выдуманный для удобства
исследования.
Борьба за индивидуальность
467
Направление третьей группы современных экономистов может
быть названо этическим. Название это присвоено собственно так
называемому «профессорскому социализму» (Kathedersocialismus)170,
но под него подходят и многие другие, взаимно борющиеся и часто
очень нетерпимо друг к другу относящиеся оттенки образа мыслей.
Всем им обще стремление ввести в науку тот нравственный
элемент, который устраняется из политической экономии одними
сознательно и условно, в силу требований научного удобства, и
другими бессознательно и, безусловно, благодаря смешению абстракта
с действительностью. Как именно должен быть введен этот элемент
в науку и какую он должен играть в ней роль — об этом происходят
очень горячие препирательства. При этом одни не выказывают
ничего, кроме благородного негодования против эгоизма как основы
экономической науки, а другими рядом с сочувствием к известным
нравственным идеалам обнаруживается более или менее сильная
логическая способность. Дальнейшие различия обусловливаются
разницей политических тенденций. В своей критике классической
науки представители этического направления говорят: если бы люди
были действительно таковы, каковыми их предполагает
манчестерская теория, т. е. если бы они были равны по способности и желанию
преследовать свои экономические цели — тогда, конечно, борьба
этих личных сил привела бы к наилучшему результату, и оставалось
бы только любоваться, как среди полной свободы каждая сила займет
естественно принадлежащее ей место. Но люди манчестерской
теории не суть действительные люди: они сочинены, выдуманы ради
отвлеченных требований науки. И мы видим, что в действительности,
во-первых, промышленная свобода не дает тех благодатных
результатов, какие от нее ожидались, и что, во-вторых, на почве свободной
конкуренции сами собой возникали и возникают рабочие союзы и
другие попытки так организовать общественную волю, чтобы слабые
силы и малые экономические способности находили себе гарантию
от убийственного влияния конкуренции. Кто должен на себя взять
обязанность такой гарантии, государство ли, церковь ли,
собственные ли организации рабочих, это — опять исходный пункт
множества разногласий.
Не входя в оценку различных направлений экономической науки,
мы отметим только два крайне любопытных явления,
представляющих, впрочем, собственно говоря, только две стороны одного и того
468
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
нее явления. Мы видим, во-первых, поразительно быстрый рост
недоверия к принципам формальной свободы и личного интереса, как
гарантий всеобщего благосостояния, поразительно быстрое падение
доктрин, строящих здание общества на этих двух столбах. Падение
это до такой степени очевидно и до такой степени законно, что
разные иезуиты начинают уже эксплуатировать его с целью
восстановления исторически и нравственно отживших учреждений со всеми их
решительно не укладывающимися в современную жизнь сторонами.
Но не одни иезуиты с упованием смотрят назад. Сами рабочие, как
мы видели, по собственному почину восстанавливают чисто
средневековые учреждения, тяжелым гнетом ложащиеся на них,
добровольно надевают на себя ярмо. Им вторит и наука, как вторила она в свое
время идеям буржуазии. В этом обращении назад, к средним векам,
а то так и к еще более глубокой древности, заключается вторая
любопытная сторона современного движения в науке. И Маркс, и
представители этического направления весьма терпимо относятся к
некоторым формам средневековой общественности, до такой степени
терпимо, что подобное отношение было бы решительно немыслимо
еще очень недавно. Этого мало. Дело не в простой терпимости.
Документы о старых, отживших формах общественности вытаскиваются
из архивной пыли; формы отживающие рекомендуется беречь, хотя
бы для того, чтобы успеть подвергнуть их анализу и наблюдению.
Словом, упоение настоящим сменяется настроением, которое
можно бы было назвать социологическим романтизмом, если бы
наряду со старыми не возбуждали интереса и некоторые новые формы
общественных отношений, если бы дело шло о простой идеализации
старого, а не об изучении и применении его новым потребностям.
И удивительно, как освежающе-реформаторски действует на науку
это расширение поля наблюдений. Маурер171, Нассе172, Мэн173, Брен-
тано174, Лавеле175 пожали обильную жатву.
Молодой немецкий профессор Луйо Брентано был приглашен
в 1867 году директором статистического бюро в Берлине, Энге-
лем, сопутствовать ему в поездке по фабричным округам Англии
с научной целью. Поехал Брентано, как он сам рассказывает (Die
Arbeitergilden der Gegenwart), полный веры в догматы школьной
политической экономии. «Да и кто бы, — говорит он, — устоял a priori
перед учением, которое, не требуя никакого вмешательства,
разрешает к всеобщему удовлетворению все затруднения экономи-
Борьба за индивидуальность
469
ческой и социальной жизни простой игрой разнузданных личных
интересов». Английские Trades-unions Брентано глубоко презирал.
Они представлялись ему печальным анахронизмом, явлением диким
и не имеющим никакой будущности. Мысли эти он даже изложил
перед своим отъездом в печати. Поездку предполагалось ограничить
всего двумя месяцами. Но вместо того, увлеченный работой,
открывшей ему совершенно новые и неожиданные перспективы, Брентано
пробыл в Англии почти два года, причем совершенно изменились его
взгляды и на рабочие союзы, и на науку. Он не ограничился
изучением непосредственно перед ним стоявшего живого явления —
рабочих союзов. Пораженный сходством некоторых подробностей их
уставов с порядками, господствовавшими в средневековых гильдиях
и цехах, он задал себе ряд вопросов: нет ли между этими двумя
явлениями какого-нибудь преемства? не представляют ли они фактов
однородных, необходимо являющихся при известных исторических
условиях? Если да, то в чем состоит этот, так сказать, спрос истории
на подобного рода союзы? Наблюдения над организацией и
деятельностью рабочих союзов, в связи с исследованием исторических
документов, относящихся к древним гильдиям, убедили Брентано, что
существует особый социологический или, пожалуй, экономический
закон, в силу которого издревле возникали союзы с теми же целями
и даже с той же приблизительно организацией, какими
характеризуются нынешние Trades-unions. Человек освежился, получил новые
понятия о пределах и методах своей науки. На цеховую систему он
получил возможность взглянуть не только с той, всем известной
стороны, что она тормозит успехи производства и стесняет свободу
промышленности, а еще с той, что она известным образом
гарантировала рабочего от превратностей судьбы. Другим примером такого
освежения может служить книга бельгийского экономиста Лавеле
«Первобытная собственность». Русскому читателю известно или, по
крайней мере, должно было известно, что Лавеле оценил
поземельную общину, «первобытную собственность», не только с точки зрения
ее роли в производстве богатств (роли, по его мнению, в принципе
весьма благотворной), а и с точки зрения гарантий, предоставляемых
ею мелким собственникам. С этой-то точки зрения, еще недавно не
имевшей в науке ни малейшего значения, Лавеле даже с некоторой
сентиментальностью отзывается об исчезнувшей в старой Европе
общине, а к новым народам обращается с таким восклицанием: «Граж-
470
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
дане Америки и Австралии, не усваивайте себе того узкого, сурового
права, которое мы заимствовали из Рима и которое может привести
нас к экономической борьбе. Возвратитесь к первобытному
преданию ваших предков».
Ввиду подобных фактов, число которых растет с каждым днем,
мыслящим человеком может овладеть самое серьезное
недоумение. Глас народа — глас Божий, говорит пословица. Если и в массах,
и в интеллигенции замечается известное тяготение к прошлому, так
какой уж тут Альфонс и какой Карлос могут нас интересовать? Даже
католическая реакция, как и реакция прусская, ничтожны перед этой
невидной, нешумной, но тем более поразительной реакцией.
«Я и не я» — такова формула мира, выставленная немецкой
метафизикой. На одной чашке весов я, такой-то, а на другой — все
остальное, — т. е. и дом моего соседа, и жена его, и вол его, и осел его, и
агония умирающего, и первый писк младенца, и желтая выжженая
скатерть Сахары, и глубь океана, и вершины Альп, и бесконечные миры
планет со всем, что на них живет, мыслит, чувствует. Более дерзкая
идея никогда не высказывалась человеческим языком, да ничего
более дерзкого и придумать нельзя. Забытый ныне Макс Штирнер176
в своем наделавшем гвалта: «Der Einzige und sein Eingenthum» в
принципе только сделал большую книгу из короткой формулы «я и не я».
И все теоретики эгоизма не сказали больше этого. Как ни дерзка,
однако, эта формула, она вполне соответствует природе человека, как
и всякого индивидуализированного существа вообще. Каждым своим
шагом, каждым дыханием человек выделяет свое я из необъятного
Не-я, противопоставляет себя ему и располагает все «не я» в чисто
эгоистической перспективе, т. е. группирует его, применяясь к своим
личным страданиям и наслаждениям. Это до такой степени очевидно,
несмотря на все грошевые рассуждения грошевых моралистов, что
человек мыслящий и не лицемер не потребует от нас доказательств.
С лицемерами нам разговаривать нечего, а людям не додумавшимся
рекомендуем порыться в книжках, в которых означенная мысль
давно развита подробно, а иногда даже слишком подробно.
Противоречия с тем, что было говорено выше, здесь нет, потому что нет
никакого основания предполагать, что эгоизм выражается не иначе как
в форме желания содрать с соседа как можно больше и дать ему в
обмен как можно меньше. Человек, как и всякое живое существо, всегда
стремился, стремится и будет стремиться к счастью, искать наславде-
Борьба за индивидуальность
471
ния, ощущений приятных и бежать страдания. Это — факт, до такой
степени основной, связанный с самым фактом бытия, что Бэн («Дух
и тело») имел полное право назвать следующее положение «законом
самосохранения»: «Состояние удовольствия соединяется с усилением,
состояние страдания — с ослаблением некоторых или всех
жизненных отправлений». Но само собой разумеется, что общий и
элементарный принцип стремления к личному счастью может в частных
случаях усложняться почти до неузнаваемости. Усложнения эти
бывают двоякого рода. Или человек, гоняясь за наслаждением, попадает на
ложную дорогу и страдает по ошибке. Или он страдает сознательно, в
видах получения некоторого, особенно для него ценного
наслаждения. Муцию Сцеволе177 было, конечно, больно, когда он жег свою руку,
он страдал, но страдание это он перенес не ради него самого, а ради
наслаждения, даваемого сознанием исполненного долга. Из этого
следует только то, что стремление к личному счастью, эгоизм,
способны принимать крайне разнообразные формы, которые следует
различать и классифицировать. И если читатель отрешится от
привычного отвращения к эгоизму, вызванного низкими формами, в
которых он часто проявляется, то увидит, что немецкая формула «я и не
я» заключает в себе нечто величавое и смелое, хотя, конечно, я не буду
стоять за то развитие этой формулы, которое представили немецкие
метафизики. Да ни у одного из них не хватило смелости и
правдивости осветить с точки зрения своей основной идеи темные переулки
и закоулки лабиринта общественной жизни. Вызывая с первого же
шага на бой всю вселенную, они на втором шаге готовы были
примириться с ничтожеством. Они были блудливы, как кошка, и
трусливы, как заяц. В истории нравственных теорий вообще бросается в
глаза какая-то странная смесь крайней смелости мысли с трусостью.
Возьмем недавний пример. Известный позитивист Литтрэ
представил года три тому назад теорию происхождения нравственности. Он
полагает именно, что все наши эгоистические чувства имеют свой
корень в потребности питания, как в инстинкте поддержания личной
жизни, а чувство и побуждения альтруистические (термин Конта) —
в инстинкте поддержания жизни целого вида, в потребности
размножения. Эти два инстинкта, постепенно развиваясь, образовали всю
сложную сеть наших нравственных понятий. Эта мысль в основании
своем не новая. И все, кто ее высказывал, упорно старались не только
отличить эгоизм и альтруизм в их теперешнем состоянии, а дать им
472
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
непременно различное происхождение. Без сомнения, задняя мысль,
всегда подсказывавшая такое решение вопроса, состоит в
предубеждении против эгоизма, ради его грязных форм. Кажется унизительным
связать эгоизм с нравственностью даже в их отдаленном источнике.
А между тем, если уж решиться идти так далеко в глубь истории, как
пошел Литтрэ, так почему не признать и половой инстинкт просто
одной из форм инстинкта поддержания личной жизни. Для
первобытного человека, а тем более для низших форм животной жизни,
удовлетворение аппетита и полового инстинкта имеют совершенно
одинаковое значение.
Замечено, что теоретики эгоизма бывают часто на практике
людьми крайне добрыми, исполненными самоотвержения и всякого
доброжелательства к людям. Это относится в особенности ко многим
знаменитым деятелям конца прошлого столетия. Так, Морелли178,
например, говорил, что собственник имеет полное право запереть
дверь своего дома перед носом зябнущего и промокшего человека.
Сам Морелли никогда бы так не поступил. Он только в принципе
отстаивал неприкосновенность и верховные права своего я, чтобы
на практике добровольно, исключительно по свободному решению
того же я распахнуть настежь дверь своего дома перед обездоленным.
Всякий должен признать, что это положение имеет свое достоинство
и свою прелесть. Тем именно и обаятельно было влияние великих
умов конца прошлого столетия, что они более или менее
решительно сбрасывали с личности всякие умственные и нравственные
кандалы. Отчасти этим же объясняется и обаяние немецкой метафизики.
Недаром Фихте179 праздновал, как день духовного рождения своего
сына, тот день, когда он впервые назвал себя местоимением первого
лица — я.
И от всех драгоценных сторон сознания личной свободы ход
истории предлагает нам отказаться, если справедливо
предположение, что и массы, и интеллигенция в Европе тяготеют к прошлому —
к цеховой системе и поземельной общине. Член английского союза
плотников уже и теперь не смеет работать быстрее других, хотя бы
был гораздо сильнее и искуснее их; он не смеет, хотя бы умирал с
голоду, взяться за работу, если союз решил произвести стачку; он связан
и многими другими стеснениями. Русский мужик великоросс должен
в известный срок пустить свой участок в жребий и не смеет
продать его, хотя бы он составлял для владельца только тяжелое бремя.
Борьба за индивидуальность
473
Неужели — это будущность Европы, в которой пролилось так много
крови за свободу, в которой с идеей свободы сжились так давно и так
прочно? Есть над чем призадуматься.
Однако черт не так страшен, как его малюют. О том, что
английские рабочие союзы должны будут изменить многие пункты своих
уставов или погибнуть, а также о том, что русская община может
также изменяться и развиваться, мы теперь говорить не будем, а
обратим внимание читателя на следующие любопытные и запутанные
обстоятельства. Если, как говорят старые экономисты, манчестерцы,
свободное движение личных интересов, ничем не связанных, ведет
к наилучшим результатам, а тем более если в действиях своих люди
руководствуются исключительно личным интересом, то как
объяснить возникновение различных организаций, которыми рабочие
добровольно стесняют свою личную свободу? И заметьте, что чем
свободнее страна, тем подобные организации в ней
распространеннее и энергичнее. Отчасти это объясняется, разумеется, тем, что они
в Англии, например, встречают для своего возникновения и
развития меньше стеснений, чем на континенте. Но вместе с тем должно
признать, что сама промышленная свобода несет с собой какой-то
яд, побуждающий людей хвататься за противоядие. Во всяком случае,
личный интерес побуждает рабочих в известной, часто очень и очень
большой мере отказываться от личной свободы. Этот-то
неожиданный и парадоксальный результат свободного промышленного
прогресса главным образом и побудил экономистов к пересмотру своих
догматов. К сожалению, однако, при этом пересмотре происходит
один очень важный недосмотр. Почти вся разномастная группа,
подведенная нами под рубрику этического направления, весьма горячо
обличает «индивидуализм» и «атомизм» классической школы, т. е.
Смита, Рикардо, Мальтуса и их эпигонов, нынешних манчестерцев.
Под индивидуализмом (слово, пущенное в ход Луи Бланом) или
атомизмом здесь разумеется стремление основать науку на
потребностях личностей, индивидов, отдельных атомов общества, а не самого
общества, рассматриваемого как самостоятельное целое. Попрекая
этим старых экономистов, представители этического направления
делают огромную ошибку. Старые экономисты действительно всегда
много говорили и говорят о свободе личности, о личном интересе,
так что на первый взгляд в самом деле может показаться, что
интересы общества, как некоторой высшей единицы, личности юридиче-
474
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ской, для них не существуют. В действительности, однако, отношения
их к личности и обществу совсем не таковы. Они отрицали и
отрицают государство как регулятор экономических отношений, отрицают
в том же смысле и такие общественные единицы, как цех и община.
Это для них фантомы, Spuck, как говорил Макс Штирнер. Но из этого
не следует, чтобы у них не было своего фантома. Он есть, и личность
приносится ему в жертву Спенсер в своей «Социальной статике»
очень удачно называет этот фантом (которому он и сам приносит
обильные жертвы) системой наибольшего производства. Контуры и
границы этой общественной единицы далеко не так определенны, как
контуры и границы, например, семьи или государства; узы,
связывающие ее членов, далеко не так явно насильственны, как в некоторых
других формах общественности. Но тем не менее узы эти существуют,
и разорвать их часто бывает труднее, чем какие бы то ни было другие.
В «Записках профана» были приведены два очень характерных в этом
отношении факта из русской жизни. Либеральный и гуманный
Мордвинов180 отстаивал крепостное право единственно потому, что перед
его умственным оком носилась система наибольшего производства,
а нормальных для этой системы, т. е. свойственных ей уз налицо еще
не было. Их нет на Руси в достаточном размере и до сих пор, а каковы
они должны быть — это видно из откровенного показания одного
свидетеля в комиссии для исследования нынешнего положения
сельского хозяйства. Свидетель этот прямо утверждал, что горе наше не
столько в пьянстве крестьян, их невежестве и проч., сколько в том, что
они имеют собственные хозяйства: «Необходимо прежде всего,
чтобы у них не было собственных хозяйств», только тогда из них выйдут
надежные, постоянные, дорожащие своим местом рабочие, вместе
с чем возрастет и сельская производительность в России.
Справедливы или не справедливы виды на увеличение производительных сил
России путем обезземеленья крестьян, характер приведенного
предложения вполне ясен: в видах системы наибольшего производства
изыскиваются узы, достаточно прочные для того, чтобы свободная
личность крестьянина не могла из них выбиться; средство очень
простое: лишение крестьянина собственности и поставление его в такие
экономические условия, где его личный интерес отодвинут на
задний план. Спрашивается: при чем тут индивидуализм? Туг топчется
именно личность, индивид; личная свобода, личный интерес, личное
счастье кладутся в виде жертвоприношения на алтарь правильно или
Борьба за индивидуальность
475
неправильно понятой системы наибольшего производства. А между
тем приведенное предложение вполне соответствует духу старой
политической экономии, и если в нем резче выступает реальная
подкладка рассуждений о свободе, то только благодаря обстоятельствам
времени и места, благодаря именно тому, что у нас система
наибольшего производства еще только водворяется. Однако и в европейской
экономической литературе могут быть найдены предложения и
положения, даже еще более откровенные. Я напомню только мнения
Тоунзенда об английском законе о бедных и Гарнье — о народном
образовании. Первый полагал, что закон о бедных стремится
разрушить «гармонию и красоту, симметрию и порядок Богом и природой
установленной системы». Гарнье ратовал против народного
образования, которое грозит «уничтожить всю нашу общественную систему.
Как все другие виды разделение труда, разделение между трудом
физическим и умственным становится резче по мере обогащения
общества: подобно всякому другому, это разделение труда есть результат
прошедших успехов и причина будущих». Очевидно, что этих людей
нельзя упрекать в индивидуализме, потому что они имеют свой Spuck,
свою «общественную систему», ради интересов которой желают
оборвать стремление личности к умственному развитию и
материальному благосостоянию. В знаменитых практических выводах из закона
Мальтуса, в так называемой теории морального воздержания,
система эта посягает даже на такие интимные права личности, как право
любви (чего, между прочим, никогда не делает прославленная своей
стеснительностью русская община).
И старые социалисты, и нынешние представители
этического направления совершенно даром тратили и тратят красноречие,
иронию, пафос, доказывая, что экономисты-манчестерцы не хотят
знать ничего, кроме отдельных неделимых. Напротив, их-то они и не
хотят знать. Такая общественная система, которая опиралась бы на
свободу личности и на личный интерес, была бы совершенно
противна духу старых экономистов. Они, правда, требовали ее на
словах; они даже резко и энергично критиковали с этой точки зрения
государство, феодальные и крепостные отношения, цех, общину;
но, разбудив таким образом жажду личной свободы и личного
интереса, они немедленно же вдвигали личность в систему наибольшего
производства, где она и погибла. Таким образом, упреки в
индивидуализме, адресованные на имя экономистов, основаны на чистом не-
476
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
доразумении. Устранение этого недоразумения представляется мне
важным не только в том общем и чисто логическом смысле, что все
ошибки подлежат исправлению. Есть ошибки важные и не важные,
а рассматриваемая нами ошибка очень важна. Во-первых, уже потому,
что она очень распространена. Не хватило бы у меня места, если бы
я вздумал цитировать хотя бы только важнейшие из возражений
экономистам, основанных на означенном недоразумении. Замечу
только, что оно разделяется и одним из замечательнейших современных
писателей, Фр. Альб. Ланге181, некоторыми мыслями которого я
сейчас воспользуюсь. Ланге должен быть зачислен в группу этического
направления. Но он стоит совершенно особняком и по воззрениям,
и по силе мысли, и по многосторонности эрудиции, и по
добросовестности. Большинство «этиков», путаясь кто в политических,
кто в клерикальных тенденциях, негодует на манчестерцев именно
с точки зрения этих тенденций. Ланге в этом отношении — человек
чистый. Тем не менее, и он толкует об индивидуализме и
атомизме политической экономии. Надо заметить, что русские писатели
грешны этим грехом меньше других. По крайней мере, многие из
писавших о нашей общине (еще недавно г-н Посников182) старались
показать в своих возражениях доморощенным манчестерцам, что
рекомендуемая ими система наибольшего производства только по
недоразумению и на словах берется гарантировать личную свободу,
личный интерес и собственность, а в сущности ведет к разрушению
и того, и другого, и третьего. Выгоды этой точки зрения очевидны.
Она объясняет, между прочим, и парадоксальные на первый взгляд
результаты свободного промышленного прогресса, и постепенно
овладевающее Европой стремление к изучению, а местами и к
восстановлению отживших, забытых форм общежития, на которых
наука уже поставила было крест. Рыба ищет, где глубже, а человек, где
лучше. Это — вековечная истина. Она и экономистами признается,
даже во главу угла науки ставится. Пока система наибольшего
производства только освобождала личность, разбивая узы цехов и
монополий, на нее возлагались всяческие надежды, а по мере того как
стал обнаруживаться ее двусмысленный характер, ее стремление
заменить одни узы другими — надежды стали ослабевать. Старые узы
оказались в некоторых отношениях сноснее новых, потому что они
все-таки гарантировали личность от бурь и непогод. Явилась мысль
применить их старые принципы к требованиям нового времени,
Борьба за индивидуальность
477
причем, разумеется, совершаются и неудачные опыты, потому что
дело предстоит нелегкое.
Но здесь нам может быть сделано одно очень важное возражение.
Положим, скажут, что личность крестьянина, лишенного гарантий
общины, и ремесленника, вылупившегося из цеха, действительно
затерлась и потерпела большее или меньшее повреждение в
системе наибольшего производства. Но эта система в том именно и
уличается, что она строит благосостояние сравнительно немногих на
разорении масс; в этом и состоит проникающий ее и ее апологетов
эгоистический элемент. Само собой разумеется, что не наше дело —
защищать систему наибольшего производства. Но вот в чем вопрос:
действительно ли так велико, как кажется, счастье тех, кого система
наибольшего производства осыпает своими дарами? Небезынтересно
заметить, что Мальтус, совершенно по тем же соображениям, по
каким Гарнье восстает против народного образования, требовал, чтобы
страсть к накоплению богатств была отделена от влечения к
наслаждениям. Ему казалось, что система наибольшего производства тогда
только будет процветать, когда рабочие будут работать, размножаясь
лишь по заказу рынка, а капиталисты только накоплять богатства, не
наслаждаясь; наслаждения он ставил вне системы наибольшего
производства, по крайней мере, вне персонала активного участия в ней.
Конечно это — мечта, своего рода утопия. Но узкая логичность
Мальтуса имеет свою цену.
Вопрос о счастье осыпанных дарами задал себе и упомянутый уже
Ланге и дал на него любопытный ответ при помощи одного
психофизического закона, который и мне придется изложить вкратце.
Еще в прошлом столетии Д. Бернулли183, разрабатывая теорию
вероятностей, обратил внимание на следующее обстоятельство.
Положим, что вероятность выигрыша в какой-нибудь лотерее вычислена
для двух человек: одного — богатого и имеющего несколько
билетов, другого — бедного и имеющего гораздо меньшее число билетов.
Разница между этими двумя вероятностями отнюдь не будет
выражать разницы в степени удовольствия, с которыми выигрыш будет
встречен тем и другим претендентом. Это — совсем другой вопрос.
Шансов выиграть у богатого больше, потому что у него больше
билетов, объективное счастье на его стороне; но этого нельзя прямо
сказать о счастье субъективном, т. е. о внутреннем удовлетворении
выигрышем. Богатый человек с презрением смотрит на такие суммы,
478
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ/
которые осчастливили бы бедного. На основании этих соображений
Бернулли вывел, что относительная, личная, субъективная ценность
какой-нибудь суммы (fortune morale, как потом назвал Лаплас)
равняется абсолютной, математической, объективной ценности (fortune
physique), разделенной на имущественное состояние
заинтересованного человека. Дальнейшая разработка этого положения привела к
формуле: относительная ценность растет как логарифм ценности
абсолютной. Это вычисление долго оставалось без употребления
в учебниках теории вероятностей, пока ему не придали важного
значения два лейпцигских профессора: Вебер184 и Фехнер185. Рядом
опытов, наблюдений и вычислений они пришли к тому заключению,
что всякое ощущение растет как логарифм вызывающего его
впечатления или раздражения. Если мы для простоты возьмем только
цифры: 1, 10, 100, 1000 и т. д., то логарифмы их будут: 0, 1, 2, 3, 4 и т. д.
Значит, принимая за единицу ту степень раздражения или ту
величину впечатления, соответствующее ощущение которому равно нулю,
мы должны усилить впечатление на девять единиц, чтобы ощущение
усилилось только на одну единицу. Это совпадение закона
ощущений с законом логарифмов так поразительно, что, как говорит Вундт,
таблицы логарифмов точно нарочно для того составлены, чтобы
избавить психологов от вычислений. Ланге, со своей стороны,
находит, что Фехнер вполне прав, называя приведенный закон «основным
психофизическим законом». Вебер начал собственно с исследования
мелких разниц в длине линий, распознаваемых на глазомер, разниц
в высоте тонов, распознаваемых на слух, в весе предметов, в силе
света, запаха и проч. Эти-то исследования и убедили его, что иногда
абсолютная разница, например в весе двух предметов, еще не
определяет разницы в ощущении осязания. Например, небольшая прибавка
хинина не усилит горького вкуса крепкого раствора, между тем как
в слабом растворе хинина эта же прибавка произведет ощутительное
на вкус усиление горечи.
Спрашивается: можно ли приложить «основной
психофизический закон» к общественному быту? Но, кажется, тут и спрашивать
нечего, потому что закон этот есть тот же закон Бернулли, который
уже непосредственно соприкасается с явлениями общественной
жизни. И действительно, «основной психофизический закон»
может пролить свет на многие запутанные явления. Возьмем,
например, степень восприимчивости какого-нибудь народа к политиче-
Борьба за индивидуальность
479
скому гнету или степень восприимчивости представителей какого-
нибудь класса общества к давлению экономических отношений.
С точки зрения закона Вебера очевидно, что если гнет усиливается,
то эта прибавка ощущается совсем не пропорционально ее
абсолютным размерам, а пропорционально ее отношению ко всей силе
гнета. Как ничтожная прибавка хинина мало ощущается в крепком
растворе и резко слышится в слабом растворе, так, например,
некоторое усиление полицейского произвола в одной стране может
произвести целую бурю, а в другой пройти совсем незамеченным.
Это будет зависеть не от размеров надбавки, а от ее отношения ко
всей существующей уже сумме произвола. Естественно, что какому-
нибудь хивинцу может показаться, что англичане иногда с жира
бесятся...
Но нас здесь интересует другой вопрос, именно вопрос о счастье
людей, осыпаемых дарами системы наибольшего производства.
Оказывается, что старая пословица «не в деньгах счастье», равно как и
многие наивные изречения наивных мудрецов о тщете
материальных благ, с математической точностью подтверждаются
современной наукой. Конечно, как проповеди наивных мудрецов не
отвратили людей от жажды наживы, так и указания современной науки
будут в этом случае приняты разве только к сведению и уж никак не
к исполнению. Но наука все-таки обязана сказать, что объективное
счастье, состоящее в обладании известными материальными
благами, отнюдь еще не гарантирует счастья субъективного, личного, т. е.
известной суммы приятных ощущений. Мало того, погоня за этим
объективным счастьем, даже удачная, в корень подрывает
субъективное, т. е. настоящее счастье. Это именно и говорили испокон века
наивные мудрецы. Наука то же слово, да не так же молвит. Не говоря
уже о разнице в приемах доказательства и в степени доказательности,
наивные мудрецы утверждали, что алчный человек, даже в случаях
удовлетворения его алчности, есть человек несчастный, а потому,
дескать, не будем ему завидовать, а просто пожалеем его. Наука на этом
остановиться не может. Дело психологии — показать, какова степень
счастья, даваемого удачным сосредоточием рублей и роскошью. Дело
социологии — выяснить отношение этих явлений к жизни
общества. Отчего не пожалеть и богача, если он субъективно несчастлив,
но надо пожалеть и тех, на счет которых строится его объективное
счастье.
480 Николай Константинович михАйловский
Ощущение растет как логарифм вызывающего его впечатления,
т. е. несравненно медленнее. Значит, опять-таки, для того чтобы
ощущение удовольствия, приносимого процессом сосредоточения
рублей или роскошным образом жизни, чтобы это приятное
ощущение увеличилось всего на одну единицу, сумма рублей или
предметов роскоши должна увеличиться на целых девять единиц.
Отсюда — ненасытность алчности. Она, собственно, не имеет и не может
иметь пределов и должна постоянно изыскивать все новые и новые
средства, хотя бы для того, чтобы поддерживать сумму приятных
ощущений на одном и том же уровне, не давать ей падать. Разница
между теперешним нашим положением и новым, обеспечивающим
некоторое увеличение наслаждения, ощущается только в момент
приращения, а приращение это должно увеличиваться все быстрее
и быстрее. Приращение, весьма ощутительное для человека
среднего состояния и среднего образа жизни, не только ни на одну йоту
не усилит приятных ощущений человека богатого, но может,
относительно говоря, даже ослабить их, потому что оставит его жажду
неудовлетворенной. Поднимаясь на еще высшую степень богатства,
этот богатый человек может даже в слабой степени удовлетворяться
только еще более значительным приращением, и т. д., и т. д., вплоть
до могилы или какой-нибудь катастрофы, сразу сметающей все его
благосостояние. Возможность такой катастрофы всегда близка,
потому что способная к бесконечному возрастанию алчность побуждает
к рискованным способам догнать вечно убегающую цель и уравнять
рост ощущений с ростом раздражений. Когда мы слышим, что такой-
то зарвался на биржевой игре, такой-то обокрал кассу, такой-то
изнывает от тоски среди роскошной обстановки, такой-то изобретает
наслаждения все более и более острого свойства, мы рассматриваем
все это как отдельные случаи, а если и стараемся суммировать их, то
все-таки редко кому приходит в голову оценить всю фатальность,
всю неизбежность подобных явлений в системе наибольшего
производства. Очевидно, что на этом пути счастья нет; его нет даже для
осыпанных дарами — они гонятся за счастьем с таким же успехом,
с каким ребенком гонится за своей тенью. Нет поэтому ничего
удивительного в том, что многие серьезные люди, как говорит Милль
в известной, проникнутой какой-то тихой грустью главе о
«неподвижном состоянии» (Основания политической экономии, книга IV,
гя. VI), «довольно холодны к нынешнему экономическому прогрессу,
Борьба за индивидуальность
481
с которым поздравляют себя дюжинные публицисты — к
простому возрастанию производства и накопления». Между прочим, одну
из характерных черт современной экономической литературы
составляет то обстоятельство, что вопросы производства и
накопления уходят в ней на задний план, подчиняются другим вопросам.
Интерес большинства новейших исследований сосредоточивается
на изучении таких форм общественности, которые способны
оградить личность от жизненных бурь и гарантировать ей возможность
многостороннего развития, а не таких, которые способны усилить
производство и накопление. С этой точки зрения наука смотрит на
будущее, с нее же оценивает и отжившие или отживающие формы,
каковы цех и община. Ими интересуется с той стороны, что это —
сочетания не капиталов с капиталами, а людей с людьми, личностей
с личностями) что отдельные члены их пользуются выгодами
сочетания сил сообразно своим потребностям, а не вкладам. Поэтому, если
под индивидуализмом разуметь учение, покоящееся на личности, ее
потребностях и интересах, то его вопреки установившемуся мнению
следует искать не в старой, манчестерской, так называемой
либеральной политической экономии, а в ныне возникающих доктринах.
Старая же политическая экономия целиком отдавала личность на жертву
системе наибольшего производства. В самом деле, система эта может
процветать, т. е. производство может расти в колоссальных размерах,
могут накопляться колоссальные богатства, между тем как входящие
в систему личности не получат ни свободы, которая им обещается на
словах, ни счастья, которое постоянно их поддразнивает и убегает.
Допустите на минуту вместе с г-ном Строниным и комп., что
система наибольшего производства есть организм sui generis, нечто живое
и реальное, а не Spuck, и вы увидите, что этому высшему организму
действительно очень выгодно, чтобы крестьянин был обезземелен,
чтобы рабочий был пригвожден к определенному месту в качестве
одного из покорных членов организма, чтобы, наконец, росла жажда
наживы и материальных наслаждений, обусловливающая рост
накопления и производства. Но где же здесь индивидуализм и атомизм?
Читатель приглашается смотреть на предлагаемую статью как на
беглое введение, различные части которого получат в свое время
более подробное развитие. Цель наших очерков состоит в выяснении
отношений различных форм общежития к судьбам личности.
Очерки эти предполагается вести в известном систематическом порядке,
482
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
в котором система наибольшего производства занимает не первое
место. Но, прежде всего надо выяснить общие принципы «борьбы за
индивидуальность» и определить их связь с новейшими движениями
в науке и жизни. Сделать это на каком-нибудь частном
выдающемся случае представлялось нам особенно удобным. Можно было
начать, например, с того разряда фактов, который занимает г-на Дра-
гоманова186 в статьях о новокельтском и провансальском движении
во Франции (Вестник Европы, № 8, 9). Мы встретили бы здесь ряд
явлений, аналогичных фактам, на которые выше обращено
внимание читателя. Г-н Драгоманов занят «движением, которое то сильнее,
то слабее замечается во всех европейских обществах, — движением
к тому, чтобы дать если не преобладание, то сильную долю участия
в нравственной и практической жизни современных обществ
сельским классам, действительному большинству народа». Движение это
проявляется и в жизни, и в литературе, и в науке. Проявляется оно,
между прочим, интересом к провинциальным народным наречиям,
которыми говорят сельские классы. Если принять в соображение
отрицательное отношение первой революции ко всем местным
провинциальным особенностям, а также то обстоятельство, что
крестьяне во Франции до сих пор всегда становились поперек дороги
политическому либерализму, то невольно вспоминается, что ведь и
цеховая система была разрушена революцией и что система эта была
всегда антиподом либерализма экономического. Формы, в которых
на первых порах выражается пробуждение провинций и сельских
классов, часто в своем роде не менее грубы, чем практика английских
рабочих союзов и некоторые другие явления того же порядка. И там
и тут неожиданно поднимается нечто, старое, забытое, еще недавно
всеми презираемое. Если европейский либерал и русский читатель
(который по отношению к европейским делам почти всегда либерал)
могут с ужасом думать о возможности погибели свободы и личного
интереса в кандалах цехов и общин, то не с меньшим ужасом
должны они относиться к возможности влияния на историю грубых,
невежественных, оттертых от торной дороги прогресса французских
крестьян. Присмотревшись, однако, попристальнее к этой страшной
для либералов возможности, мы без особенного труда убедились бы,
что чему другому, а началам личности и свободы она, в сущности,
отнюдь не грозит; что мы имеем здесь дело с формами, часто очень не
привлекательными, борьбы за индивидуальность, которая (индиви-
Борьба за индивидуальность
483
дуальность) не находит себе должного обеспечения в
государственных порядках Франции. Мы могли бы добыть из-под той верхней
пленки истории, в которой фигурируют Карлос и Альфонс,
некоторые другие аналогичные и столь же на первый взгляд поразительные
явления. Но мы предпочли остановить внимание читателя на
некоторых протестах против системы наибольшего производства и ее
апологетов, потому что никто больше старых экономистов не
толковал о личности и ее интересах и никто не был больше их упрекаем в
индивидуализме. Неосновательность этих упреков будет в свое время
показана яснее и подробнее. Но и теперь уже ясно, что старый спор
социалистов и экономистов должен или прекратиться, или
перенестись на новую почву. Как бы ни были справедливы доказательства
экономистов, что тот или другой утопист мечтает замкнуть личность
в известные неподвижные формы и совершенно утопить ее
интересы в интересах общества — несомненно, что все старые экономисты
сами стремились именно к такому поглощению личности в системе
наибольшего производства.
Мы забежим и еще несколько вперед, сказав несколько слов об
одном явлении, имеющем непосредственную связь с системой
наибольшего производства, хотя и выходящем уже из ее границ. Алчность,
направленная на покупательную силу или на наслаждения,
приобретаемые этой силой, сама по себе, как мы видели, пределов не имеет.
Она ненасытна по самой природе своей. Поэтому человек, попавший
в эту колею, рано или поздно перестает довольствоваться теми
способами приобретения и накопления, которые ведут к производству
новых богатств. Неудовлетворенный в своей погоне за счастьем,
вечно близким и вечно удаляющимся, он — холоп своего Spuck и
протестует по-холопски. Как недовольный дикарь сечет своего идола, а не
ищет себе другого бога, так и он не пытается выбраться из
несчастной колеи, а изыскивает средства приобретать, не производя. Можно
украсть, можно подделать духовное завещание или другой какой-
нибудь документ, можно поджечь мельницу, застрахованную выше ее
стоимости. Все это и практикуется. Но эти стародавние, нелегальные
способы наживаться неинтересны. Есть способ, относительно говоря,
новый и притом не подлежащий каре закона, — спекуляция.
Спекуляция буквально значит — умозрение. Спекулятивный элемент есть во
всяком промышленном и даже во всяком человеческом предприятии
вообще. Это — просто умозрительная оценка условий предприятия.
484
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЕ
Адвокат, защищая человека, в невинности которого он даже вполне
убежден и оправдание которого искренно поставил себе целью,
может прибегнуть к тому или другому ораторскому эффекту,
сообразному с составом присяжных: он спекулирует на известных качествах
присяжных. Путешественник, едущий в какую-нибудь дикую страну,
запасается грошовыми зеркалами, бусами и другими украшениями,
спекулируя на пристрастии дикарей к блестящим игрушкам, и т. п.
Но спекулянт в тесном смысле слова — совсем не то. Он отрывает
спекуляцию, умозрение, от предприятия. Он, по определению одного
старого официального французского документа (декрета 1795 году),
продает то, чего у него нет, и покупает то, что ему вовсе не нужно и
чего он вовсе не хочет приобрести. Пристраиваясь к какому-нибудь
предприятию, даже становясь во главе его, спекулянт отнюдь не
думает довести его до конца, да и вообще об этом конце не думает. Все его
умозрение направлено на то, чтобы перепродать в благоприятную
минуту свою долю участия в предприятии, получить разницу между
низшей и высшей ценой этой доли. Для этого цены этих долей
разными искусственными приемами и уловками поднимаются все вверх.
Такие усиленные дозы все-таки, однако, не могут наполнить
бездонную бочку Данаид, и алчность все-таки находит предел не в себе,
а в Krach'e, в кризисе — результате переполнения рынка фиктивными
ценностями или несоответствия этих ценностей с действительными
выгодами представляемых ими предприятий. А результат кризиса
известен уже нам по собственному, русскому, опыту: разорения и
самоубийства. Замечательна заразительность, повальный характер
спекуляции и биржевой игры. Тут есть нечто столь же болезненное, как
в средневековых «коллективных» маниях, когда вдруг тысячи людей
без всякой видимой причины испытывали непреодолимое желание
то плясать, то сноситься с дьяволом, то идти в Палестину. Стоит
припомнить один из древнейших, если не древнейший случай спекуля-
ционной горячки. Он любопытен во многих отношениях.
В 1554 году естествоиспытатель Бусбек187 вывез в Европу из
Адрианополя тюльпан, который скоро сделался любимым цветком
голландцев. Любовь эта в годы 1634-1638 обратилась в настоящую манию
и, Бог знает почему, совершенно отуманила головы практических и
флегматических жителей Нидерландов. Деньги, поместья, дома, скот,
посуда, платье — все уходило на приобретение тюльпановых луковиц.
И увлекался не один какой-нибудь класс народа: жертвами тюльпано-
Борьба за индивидуальность
485
мании были и дворяне, и трубочисты, и купцы, и кухарки, и крестьяне,
и ремесленники. Понятно, что собственно любовь к тюльпанам была
подхвачена и раздута спекуляцией. Продавцы и покупатели
тюльпанов имели свои биржи, своих маклеров, писцов и проч. Вот что
говорит цитируемый Максом Виртом (Geschichte der Handelskrisen, 1874)
Джон Францис: «История голландской тюльпаномании не уступит
в поучительности ни одному из подобных периодов. В 1634 г.
главные города Нидерландов увлеклись спекуляцией, которая разорила
солидную торговлю, вызвала алчность богачей и бедняков, подняла
цену цветов до того, что они продавались дороже, чем на вес
золота, и, наконец, как всегда в таких случаях бывает, разрешилась
всеобщим горем и диким отчаянием. Многие совершенно разорились,
немногие обогатились. Основания тогдашней спекуляции были те
же, что и ныне. Дела заключались на поставку в срок известных
видов луковиц, и были случаи, что на уплату разницы по сделке о двух
луковицах шло все имущество спекулянта. Заключались контракты и
платились тысячи гульденов за тюльпаны, которых даже и в глаза не
видали ни маклера, ни продавцы, ни покупатели. Некоторое время,
как обыкновенно бывает, все выигрывали и никто не был в
проигрыше. Бедняки богатели; высшие и низшие классы торговали цветами;
маклеры наживались, и трезвый голландец мечтал о прочном счастье.
Страна предалась обманчивой надежде, что страсть к цветам будет
длиться вечно. А когда узнали, что лихорадка проникла и за
границу, то решено было, что богатства всего мира сосредоточатся на
берегах Зюдерзее и что отныне бедность станет мифом в Голландии.
Что верование это было вполне искренно, доказывается теми
ценами, которые, по свидетельству многих достоверных современников,
платились за тюльпаны». Действительно, цены платились громадные.
Тюльпановые луковицы продавались на вес гранами, причем
различные виды тюльпанов ценились различно. Двести гран вида Semper
Augustus стоили 5500 флоринов, 410 гран Viceroy — 3000 флоринов
и т. д. Были сделки такого рода: за луковицу давалась новая карета и
пара лошадей с упряжью, за другую — двенадцать акров земли. Из дел
города Алькмара видно, что в 1637 году сто двадцать луковиц было
продано с публичного торга в пользу сиротского дома за 90 000
флоринов Понятно, какие громадные суммы переходили из рук в руки
каждый день, какие состояния складывались и разрушались в самый
короткий срок. Биржевая игра со всеми ее нынешними приливами
486
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и отливами была уже налицо. Вся разница, как говорит Макс Вирт,
состоит в том, что акции назывались тогда «тюльпанами». Из
множества относящихся к тому времени анекдотов приведем два. Один
купец велел подать закусить матросу, который доставил ему на дом
какие-то товары. Закуска была очень скромная — селедка и кружка
пива. Матрос захотел ее чем-нибудь приправить и искрошил в
селедку лежавшую тут же в комнате луковицу. Оказалось, что завтрак ма-'
троса обошелся в 500 флоринов, потому что такова была цена
луковицы: она была тюльпановая, и купец ее только что приобрел. Один
англичанин нашел в саду несколько тюльпановых луковиц и взял
их себе для научных исследований. Он был обвинен в воровстве и
должен был уплатить громадные деньги. Не одна Голландия одурела.
И Лондон, и Париж обезумели, хотя и в меньшей степени. Наконец,
наступила минута расплаты за глупость. Завеса упала с глаз, и
луковицы оказались луковицами, чем им и надлежит быть. Настала паника.
Тот, кто вчера еще владел громадным состоянием в виде нескольких
тюльпанов, которые стоило только вынести на рынок, чтобы иметь
и землю, и лошадей, и экипажи, и деньги, и все благо земли —
сегодня оказался нищим. Напрасно продавцы тюльпанов доказывали, что
их товар имеет высокую ценность и что паника не имеет основания.
Ничто не в силах было удержать падения курса тюльпанов, которые
были, впрочем, так же красивы и цветущи, как и прежде. Банкротства
шли за банкротствами, и много лет понадобилось на излечение ран,
нанесенных бессмысленной тюльпаноманией.
Не говоря о поучительности этой истории, имеющей себе по
нелепости весьма мало соперниц в истории человечества и, однако,
в сущности тождественной с позднейшими спекуляционными
лихорадками, она поможет нам установить нужные термины. Каждый из
тюльпаноманов очень хорошо понимал или мог понимать, что
настоящая цена луковице — грош, но вместе с тем-каждый рассчитывал
на глупость всех остальных, на то именно, что они будут ценить грош
в несколько тысяч гульденов. В конце концов, все оказались равно
глупы, за исключением, может быть, горсти запевал, вроде нашей
«малой биржи», заседающей то у Демута, то у Вольфа. Так
представляется история с первого взгляда. На деле, однако, такой
сознательности в действиях большинства тюльпаноманов, по всей вероятности,
не было. Это был чисто болезненный и заразительный процесс,
находящийся, может быть, в прямой связи с «основным психофизиче-
Борьба за индивидуальность
487
ским законом», с несоразмерностью роста раздражений и ощущений.
Это стихийные силы бушевали, а не силы разума. Как бы то ни было,
но каждый тюльпаноман думал исключительно о своей личной
наживе. Это-то беззаветное стремление к личной наживе экономисты
и взяли некоторым образом под свое покровительство, построив на
нем науку и объявив, что оставленное на всей своей вольной воле
стремление это водворит на земле ту степень совершенства людских
отношений, какую только способна вынести наша грешная земля.
Сами экономисты думали, что они стоят за свободу, интересы и
достоинство личности; другие громили их за систематизацию и дог-
матизацию эгоизма, индивидуализма. Возьмем же тюльпаноманию.
Что нравственную подкладку этого бешенства составляет эгоизм,
это, конечно, верно. Но если моралисты спорят о том, есть ли в нас
какой-нибудь этический двигатель, который не может быть сведен
к эгоизму, так только потому, что эгоизм способен принимать
бесконечно разнообразные формы. И, во всяком случае, та форма эгоизма,
которая, действительно, заслуживала бы названия индивидуализма,
очевидно отсутствует в тюльпаномании. Мы тут видим простое
стадо баранов, жмущихся друг к другу и бессмысленно валящихся всей
гурьбой в пропасть. Глупостью ли, расчетом ли на чужую глупость,
чем бы то ни было, но тюльпаноманы все обезличены, связаны в кучу.
Конечно, на таком патологическом случае ничего основывать нельзя,
и тюльпаномаиию мы приводим только в качестве иллюстрации.
Нам могут сказать, что основной психофизический закон
приложим не только к системе наибольшего производства, что не только
жажда наживы, а и жажда познания, жажда любви ненасытимы в силу
того, что ощущение возрастает как логарифм вызывающего его
впечатления. Да, наконец, что же делать и с жаждой материальных
наслаждений? Не в монахи же всем идти. Совершенно справедливо. Природа
обидела нас во всех отношениях на этом пункте, как и на многих
других. Жаловаться на нее, пожалуй, и можно, особенно в лирическом
стихотворении или в красноречивом пессимистическом трактате
вроде «Философии бессознательного» Гартмана, но при одних
жалобах оставаться неудобно. Надо бороться. Бороться с природой можно
только при помощи ее самой и, следовательно, только окольными
путями. Природа дает яд, у нее же надо искать противоядия, какого-
нибудь средства, которое парализовало бы действие основного
психофизического закона. Уже самое поверхностное наблюдение может
488 НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
дать некоторый намек, что такое средство действительно есть. В
самом деле, ведь не все же люди наживы топятся, вешаются и изнывают
в тоске. Есть между ними и такие, которым живется недурно. Но
секрет их состоит в том, что они — не исключительно люди наживы,
что они не только не живут по тому рецепту Мальтуса, который
предписывает накоплять не наслаждаясь, но еще стараются по
возможности разнообразить свои наслаждения. Тонкий и разнообразный
обед, опера, картинная галерея, путешествие, книга, и проч., и проч.
более или менее спасают их. Это спасительное действие
разнообразия впечатлений, очевидное для поверхностного даже наблюдения,
подало повод некоему доктору Пидериту188 основать на нем теорию
счастья (Theorie des Glücks — сочинение это известно мне только по
цитатам того же Ланге, в Arbeiterfrage). Существует так называемый
закон действия контрастов, по которому нервы наши тем
восприимчивее к известным впечатлениям или раздражениям, чем дольше
они перед тем подвергались противоположному раздражению.
«Каждая радость, — говорит Пидерит, — кажется нам тем большей, чем
сильнее было смененное ее горе, и тот, кто никогда не испытывал
несчастья, не видал и счастья. Поясним это примером. Температура
в три градуса тепла производит, как известно, неприятное ощущение
холода в пальцах. Но если подержать несколько минут руку в ледяной
воде, то та же температура в три градуса произведет приятное
ощущение тепла. Так бывает и с человеческим сердцем. Часто человек
бывает недоволен своим положением и ропщет на судьбу. Но как только
сердце его погружается в ледяную ванну несчастья, и он теряет то,
чем обладал, потерянное получает для него высокую цену; те самые
условия, которые ему казались невыносимыми, осчастливили бы его,
если бы вернулись. Самое здоровье может только ценить тот, кому
случалось его терять... Как невозможно постоянно питаться сладкими
кушаньями, так невозможно вынести непрерывную радость и счастье.
Кто через меру употребляет сладости, у того закон действия
контрастов вызывает отвращение. По тому же закону скука и пресыщение
следуют за чрезмерным счастьем. Удивляются, что богачи-англичане,
которым жизнь ни в чем не отказывает, так часто кончают сплином и
самоубийством. Но тут нет ничего удивительного, потому что
Nichts ist schwerer zu ertragen,
Als eine Reihe von guten Tagen».
Борьба за индивидуальность
489
Закон действия контрастов обязателен не только для нервов
ощущения, а и для нервов движения. Т}эуд и напряжение действуют
благодетельно и приятно после долгого покоя, а покой, в свою очередь,
доставляет наслаждение после напряженного труда. «Это относится и к
умственному труду, — продолжает Пидерит. — Умственный труд есть
первое условие нравственного здоровья, и наслаждение умственного
напряжения состоит, главным образом, в следующем за ним
благодатном чувстве душевного покоя. Чем дольше и напряженнее
стремимся мы к какой-нибудь цели, тем сильнее наслаждение
успокоения, когда цель достигнута. При этом степень наслаждения зависит
не от того, как другие оценят добытый нами результат, а от степени
и продолжительности затраченного напряжения. Ученый математик,
решив уравнение первой степени, останется вполне равнодушным,
а ученику третьего класса, которому придется поломать голову над
этой задачей, результат доставит высокое наслаждение. Таким
образом, счастье осуществляется по известным физиологическим
законам, одинаково действующим на каждого, без различия возраста и
общественного положения. Радость и горе, счастье и несчастье
сменяют друг друга в жизни, как день и ночь, и чем темнее была ночь,
тем благодатнее кажется нам свет нового дня. Несчастному легко
выбраться из несчастья. Стоит ему только обратиться к труду, и притом
к такому труду, к которому он имеет больше всего склонности и
способностей: один берется за книги, другой за страннический посох,
третий за плуг, четвертый за кисть художника, и с работой
возвращается наслаждение, радость, счастье».
Это была бы прекраснейшая теория счастья, если бы она
соответствовала действительности, а такое требование может быть ей
предъявлено, потому что почтенный доктор Пидерит утверждает, что,
собственно говоря, в действительности все счастливы, субъективно
счастливы, т. е. сознают себя счастливыми. Но так как этого нет и так
как обратиться к труду, к которому чувствуешь склонность и
способности, в действительности часто бывает трудновато, то почтенный
доктор Пидерит не теорию счастья состряпал, а кисло-сладкую
немецкую Mehlspeise mit Mandeln und Rosinen. Кто такие Mehlspeisen
любит — тому благо. Однако и тот, кому эти произведения немецкого
кулинарного гения претят, должен признать, что в основании
теории Пидерита есть нечто очень ценное. Закон контрастов, очевидно,
способен вывести нас из-под действия фатальной несоразмерности
490
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
роста ощущений и раздражений. Очевидно, в самом деле, что
постоянное возрастание раздражений одного и того же рода с успехом
может быть заменено разнообразием впечатлений. Если алчность,
жавда наживы или какая бы то ни было иная жажда будет
уравновешена каким-нибудь контрастом, то угрожающая человеку
опасность превратиться в бездонную бочку будет устранена. Но конечно,
спасительных контрастов следует искать не там и не так, где и как
их ищет Пидерит. Он просто не понял своей собственной исходной
точки. Это не с ним одним бывает. В одном из мелких опытов
Спенсера («Польза и красота»), между прочим, развивается тот же закон
контраста в применении к частной области. Дело идет о контрасте как
необходимом условии красоты. Так, чтобы получить художественный
эффект, свет должен быть располагаем рядом с тенью, яркие цвета
с мрачными, выпуклые поверхности с плоскими; громкие переходы
в музыке должны сменяться и разнообразиться тихими, а хоровые
пьесы — соло; в драме требуется разнообразие характеров,
положений, чувств, стиля; в поэме изменением стихосложения достигается
значительный эффект, и проч. На основании этого Спенсер
защищает исторических живописцев от чьих-то упреков в том, что они
заимствуют свои сюжеты из далекого прошлого, а не из современной
жизни. Современные положения и события, говорит он, составляют
невыгодный сюжет для искусства, потому что влекут за собой
сцепление идей, не представляющих значительного контраста с нашими
ежедневными представлениями. Не говоря о том, что современная
жизнь, если уж на то пошло, представляет слишком достаточное
количество резких контрастов в пространстве, чтобы их надо было
искать во времени, вся защита исторической живописи пришита тут
противно основным требованиям логики. Исходная точка Спенсера
есть необходимость разнообразия слуховых и зрительных
впечатлений, необходимость известных контрастов в самой картине, драме,
поэме, опере и т. д. Это не имеет решительно никакого отношения
к несходству положения зрителя или слушателя с сюжетом картины
или оперы. Так и у Пидерита. Начинает он с благотворного
значения разнообразия ощущений, а кончает тем, что делает из несчастья
необходимое звено счастья. Ощущения могут быть различны, даже
противоположны, совершенно помимо категории приятного. Если
бы ощущения не подлежали иной классификации, не могли бы быть
разделены иначе, как на приятные и неприятные, тогда, конечно, за-
Борьба за индивидуальность
491
кон контрастов обязывал бы нас переходить от приятных ощущений
к неприятным, чтобы затем опять с большей сладостью вкусить
удовольствие и т. д. На самом деле это не так. Ощущения бывают
зрительные, слуховые, осязательные и т. д.; затем, в группе зрительных
ощущений различимы ощущения света и темноты, красного,
зеленого, синего и т. д. цветов, линий и плоскостей, прямых и кривых
линий, геометрических тел и органических форм, и проч., и проч.,
и проч. Словом, тут имеется такое неисчерпаемое море контрастов,
что нет никакой надобности прибегать к ощущениям неприятным
для усиления сладости приятных. После глупого и бездарного
произведения какого-нибудь жалкого писаки очень приятно читать
творения гениального человека. Это так. Но и в среде гениев я могу найти
достаточно разнообразия, чтобы не утрувдать себя чтением
глупостей и бездарностей. От скептического и мрачного Байрона я могу
перейти к бурному идеализму молодого Шиллера, от него к
спокойному реализму Гете и т. д. Временная разлука с другом может быть и
приятна в своем результате — удвоенной радости свидания. Но если
бы мой друг обладал такими сокровищами ума и сердца, которые,
как стеклышки в калейдоскопе, давали бы с каждым поворотом все
новые и все прекрасные комбинации, — так зачем нам разлучаться?
Конечно, вечно нюхать розы надоест, но зачем же я стану контраста
ради нюхать какую-нибудь гадость, когда могу найти достаточно
разнообразия и в сфере приятных обонятельных ощущений, когда на
земле рядом с розой цветут и благоухают фиалки, душистый горошек,
гелиотропы и проч. А если и это все мне надоест, так я могу
обратиться к богатому запасу ощущений зрительных, слуховых и т. д. Без
сомнения, это могу очень условно. Я далеко не всегда могу разбирать
и выбирать ощущения. Люди не доросли даже до идеи возможности
непрерывного счастья и не могут себе представить счастье иначе, как
с хлыстом и шпорами несчастья. А об осуществлении действительных
условий счастья нечего, разумеется, и говорить. От них люди до сих
пор, можно сказать, все удалялись. Но теперь у нас речь идет только
о том, что физиологический закон контрастов сам по себе не
оправдывает толкования Пидерита (толкование это принадлежит не
исключительно Пидериту, а очень многим), потому что теоретические
контрасты могут быть найдены и в сфере приятных ощущений. Надо
еще заметить, что Пидерит, как и все писавшие о законе контрастов
(У нас, например, Ушинский — «Человек как предмет воспитания»189),
492
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
придает неправильное значение продолжительности и
напряженности известного ощущения. В известных пределах продолжительность
ощущения действительно придает высокую цену ощущению
противоположному, но отнюдь нельзя сказать: чем продолжительнее и
напряженнее, например, ощущение голода или темноты, тем приятнее
ощущение насыщения или света; или: чем напряженнее и
продолжительнее умственная работа, тем сильнее наслаждение успокоения;
или: чем сильнее и продолжительнее горе, тем сильнее и сменяющая
его радость. Все это справедливо только в известных, сравнительно
узких пределах. Пока, например, голод не выходит из пределов
аппетита (который, мимоходом сказать, составляет ощущение приятное),
это, конечно, совершенно верно, но очень голодный человек просто
не может есть. Точно так же выйти на яркий свет после долгого
пребывания в темноте неприятно и тяжело — «глазам больно». Русские
писатели, вообще имеющие несчастную привычку работать вечером
и даже ночью, знают, что по окончании продолжительной и
напряженной работы долго нет возможности успокоиться и заснуть.
Человек, убитый горем, действительно убит для радости: нужно часто
очень продолжительный промежуток времени, целые года, чтобы на
лице его опять могла появиться улыбка радости. Романисты часто
описывают, как высохшая земля жадно пьет благодатные капли
дождя и т. д. Но кто хоть раз в жизни видел дожди после засухи или даже
просто поливал цветы, тот знает, что это — одна из многочисленных
несообразностей, известных под именем поэтических вольностей,
потому что на деле бывает совсем наоборот: сухая земля
сравнительно долго не впитывает в себя воду. Так и продолжительное
напряжение нервов ощущения или движения в одном каком-нибудь
направлении не только не делает их восприимчивее, а прямо притупляет.
Таким образом, говоря отвлеченно, есть полная возможность
избежать действия основного психофизического закона. И для этого
нет надобности в периодической смене приятных и неприятных
ощущений, счастья и несчастья. Нужны только разнообразие и
известная равномерность ощущений и, следовательно,
разносторонность жизненной деятельности, возможное, так сказать, расширение
нашего я. Конечный предел этому расширению во всякое данное
время полагается границами человеческой природы, т. е. суммой сил и
способностей человека. Сумма эта не представляет, конечно,
величины постоянной и может, в более или менее продолжительные сроки,
Борьба за индивидуальность
493
прибывать и убывать. Например, некоторые натуралисты полагают,
что есть насекомые, обладающие органами чувств, нам совершенно
неизвестных. Если бы, чего, надо думать, никогда не случится, у
человека явились эти теперь для нас даже безусловно немыслимые
чувства, то изменилась бы и формула его жизни, перед ним развернулся
бы целый новый мир наслаждения и деятельности, ни о размерах, ни
о характере которого человек не может теперь иметь даже
отдаленнейшего понятия. С другой стороны, мы знаем, что, например, евреи
времен Библии и греки времен Гомера неспособны были
воспринимать такие оттенки цветов, которые для нас вполне ясны, что они
не знали, например, голубого цвета*. На этом пункте, значит, наше
я со времен Библии и Гомера расширилось. Но, расширяясь в одном
или нескольких отношениях, это я может в некоторых других
отношениях суживаться, утрачивая соответственные силы и
способности совсем или же сокращая их размеры. Вообще тут возможны
самые сложные и запутанные комбинации. Нам предстоит выяснить
некоторые из них и едва ли не важнейшие — именно комбинации,
возникающие под давлением различных форм общественной
жизни. Что касается другого великого фактора истории человечества —
природы, то он будет для нас стоять на втором плане. Однако, во
избежание недоразумений, нам здесь же придется сказать несколько
слов о некоторых общих законах природы с точки зрения влияния
их на судьбы личности. Мы будем очень кратки; подробное развитие
нижеследующих мыслей читатель найдет в статьях: «Что такое
прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Орган, общество и
неделимое» и проч.
Есть ли в природе какие-нибудь силы, влияющие на расширение
или сужение формулы жизни неделимого, индивида? С тех пор как
изменяемость видов стала общепризнанной истиной, этот вопрос
решен утвердительно. Честь эта принадлежит дарвинизму. Для
дарвинистов вся сумма органической жизни на земле во всем ее
разнообразии произведена из немногих простейших форм совокупным
действием двух физиологических деятелей: наследственности и
приспособления. Первая представляет элемент консервативный,
элемент инерции, второе — элемент прогрессивный, элемент движения.
Эта теория Гладстона—Гейгера ныне уже опровергнута, но я оставляю
ссылку на нее в качестве наглядного примера, иллюстрации.
494
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Борьба за существование и подбор родичей обусловливают собой
вымирание индивидов слабых, менее приспособленных к
окружающим условиям, и победу индивидов сильных, приспособленных. Вот
простейшие основания дарвинизма. Но они показывают только, что
формула жизни индивида, его я может сильно изменяться вообще.
Будет ли оно расширяться или суживаться, это — другой вопрос, на
который дарвинисты дают ответ крайне сбивчивый и
двусмысленный. Сам Дарвин приводит некоторые поразительные примеры
победы слабых индивидов, как, например, слабокрылых островных
насекомых, паразитов, лишенных органов зрения и движения,
слепых пещерных животных и проч., которые побеждают своих более
одаренных родичей именно благодаря слабости, слепоте,
неподвижности. А между тем тот же Дарвин настаивает на том, что борьба за
существование и подбор ведут к совершенствованию организмов,
разумея под совершенствованием иногда приспособление, а иногда
именно приращение сил и способностей индивида. Такое
приращение, как результат дарвиновых принципов, во всяком случае, весьма
проблематично. Путем борьбы, подбора и полезных
приспособлений вид может претерпевать изменения во всевозможных
направлениях. Поэтому шансы для прямолинейного развития вперед, т. е.
к приращению суммы сил и способностей неделимого, по теории
вероятностей, не сильнее шансов для прямолинейного отступления
назад, т. е. к убыли. Спрашивается: как же объяснить появление на
земле крайне сложных организмов, далеко превосходящих, по
количеству сил и способностей, простейшие исходные точки
органической жизни? Дело в том, что в теории Дарвина следует различать две
стороны: общую идею происхождения органической жизни из
немногих простых форм и собственно Дарвину принадлежащее
объяснение того пути, которым шло и идет развитие органического мира.
Как ни остроумно это объяснение, как ни тонка и плодотворна
работа Дарвина, но некоторые ученые полагают, что его гипотеза
недостаточна. Они не отрицают не только изменяемости видов, но
и специально дарвиновых принципов подбора приспособленных
и борьбы за существование. Они ставят только рядом с ними особый
принцип развития, в силу которого изменение видов имело бы место
и при отсутствии подбора, полезных приспособлений и борьбы за
существование. Этот закон развития давно уже признан в
эмбриологии, но лишь очень немногими прилагается к объяснению про-
Борьба за индивидуальность
495
исхождения видов. Он основывается на (предполагаемом) свойстве
организованной материи принимать с течением времени все более и
более сложное строение. В свойстве этом нет ничего мистического.
Как магнитной стрелке свойственно обращаться всегда одним
концом к северу, как в неорганической природе известным элементам
свойственно группироваться только в определенные химические
соединения и принимать только определенные кристаллические
формы, как, наконец, в клеточке атомы углерода, водорода, кислорода и
азота обнаруживают стремление слагаться в более и более сложные и
высшие соединения, так точно и самим клеточкам свойственно
сходиться все в большем и большем числе и составлять все более
сложные формы органической жизни. Усложнение это состоит в
увеличении числа и разнообразия органов и в усилении физиологического
разделения труда, т. е. в усилении обособления и приспособления
органов к специальным отправлениям. Таким образом, закон
развития неудержимо и постоянно толкает организованную материю
вперед, к дальнейшему усложнению. Под его влиянием сумма сил и
способностей неделимых постоянно растет. Дарвиновские же принципы
подбора, борьбы и полезных приспособлений более или менее
отклоняют жизнь от этого прямо прогрессивного пути в разные
стороны. Они представляют собой влияние пертурбационные. Например,
раз появившийся орган зрения никоим образом не мог бы исчезнуть,
если бы на обладателя его влиял только закон развития. Закон этот,
напротив, требует дальнейшего усложнения как органа зрения, так
и других органов чувств. Но силы природы не действуют в
одиночку: они сталкиваются, парализуют одна другую без всякого плана и
цели. Животное загоняется ближайшими условиями жизни в
пещеру или обрекается на паразитизм, и тут-то обнаруживается влияние
начал борьбы, подбора и полезных приспособлений. Во взаимной
борьбе за существование те из паразитов будут победителями,
которые отличаются некоторой вялостью движений и слабостью зрения,
потому что в условиях паразитизма конечности и глаза составляют
только лишнее бремя. Вялость и слепота подхватываются подбором,
и в результате получается полное приспособление — окончательная
утрата органов движения и зрения. Но в общем счете, в целом, закон
развития одерживает все-таки верх, чем и объясняется сложность и
богатство не только органической жизни вообще, а и отдельных,
индивидуальных ее представителей.
496
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Хотя для меня далеко не безразлично, признает ли читатель
закон развития или нет, но настаивать здесь на этом пункте я не могу.
Читатель должен, во всяком случае, признать, что приспособление
к условиям существования отнюдь не необходимо ведет за собой
усовершенствование в смысле расширения индивидуального я,
прироста суммы сил и способностей индивида, а следовательно, и роста
его счастья. Приспособление ведет только к известному равновесию
между индивидом и окружающими условиями, и если эти условия
очень просты и однообразны, то приспособление может состоять
в принижении организации. Сам Дарвин вынужден неоднократно
утверждать это с полной определенностью. Спрашивается теперь:
каковы результаты приспособления человеческой личности к
условиям общественной жизни? расширяют ли они нашел или суживают,
увеличивают или уменьшают шансы нашего счастья? И, да и нет —
смотря по точке зрения. В принципе, без сомнения, общественная
жизнь дарит нас целой массой наслаждений, которые совершенно
немыслимы для человека одинокого, если бы такой был возможен.
Как говорит поэт, разделенное горе — полгоря, разделенное
счастье — двойное счастье. Нет надобности и говорить, как велико
влияние жизни в обществе на развитие и усложнение нервной системы и
как обогащает нашу духовную природу облегчаемая общественным
состоянием возможность «сочувственного опыта», т. е. переживания
личностью чужой жизни, присвоения себе добытых ею результатов.
Я полагаю даже, что роль сочувственного опыта громадна и в деле
приобретения человечеством положительных знаний, на что, к
сожалению, история науки не обращает до сих пор никакого внимания.
Словом, в принципе расширение нашего личного л путем кооперации,
общественной жизни, не подлежит никакому сомнению. Но принцип
этот претерпевает весьма существенные изменения в применении
к различным формам кооперации. Ныне в большой моде параллели
и аналогии между обществом и неделимым. Как читателю известно,
мы держимся очень невысокого мнения о всех этих упражнениях,
в которых не знаешь, чему удивляться — отсутствию ли
нравственного чутья или слабости мысли. Мы готовы, однако, признать эти
аналогии, если они будут логически доведены до конца, потому что
конец этот наилучше обнаруживает полнейшую несостоятельность
субъективной стороны работы всех аналогистов, а в этой-то
стороне и все дело. Например, все теоретики «общественного организма»
Борьба за индивидуальность
497
настаивают на аналогии физиологического и экономического или
общественного разделения труда. Аналогию эту они проводят до
тошноты подробно, и следить за всей их эквилибристикой нам нет
никакой надобности. Мы возьмем один только грубый и резкий
пример, удобный по своей наглядности: образование сословий или, еще
лучше, индийских каст аналогично обособлению тканей и органов
в организме. Как в Индии общественное разделение труда породило
касты браминов, воинов, простых граждан и рабов, так
физиологическое разделение труда обособляет в организме различные органы,
исполняющие только одну какую-нибудь функцию. Аналогия может
идти дальше, проводя параллели между браминами и головой,
воинами и руками и т. д. Аналогия выводится по степени способностей
исследователя более или менее полная и остроумная, а в результате
получается положение: Индия есть организм. Ну прекрасно, пусть будет
организм — имя вещи не меняет — пусть аналогия вышла блестящая.
Но идите же дальше в сопоставлении общественного и
физиологического разделения труда, покажите их взаимные отношения, которых
аналогия вовсе не касается. А взаимные отношения
физиологического и экономического разделения труда таковы, что они взаимно
исключаются, т. е. чем общественное разделение труда сильнее, тем
физиологическое слабее, и обратно. Чем, собственно, в нашей
аналогии сходны голова и брамины? Тем, что брамины в обществе, как
мозг в организме, монополизируют процессы мышления, они более
или менее, насколько то для человека возможно, заглушают в себе
остальные отправления, а у других членов общества в то же время
ослабляются функции мозга. Точно то же и с кшатриями, ваисиями,
судрами. Ясно, что в каждом из представителей этих каст внутренняя
физиологическая работа стала одностороннее, их индивидуальное
я суживается именно потому, что общество стало разностороннее.
Допустим же, что общество и личность, индивид, аналогичны и что
даже развитие их управляется одним и тем же законом, который
Спенсер называет законом перехода от однородного к
разнородному (это, собственно говоря, и есть вышеупомянутый закон развития).
Но очевидно, что с точки зрения этого закона нормальное развитие
общества и нормальное развитие личности сталкиваются враждебно.
Аналогисты этого не понимают. Они твердят свое общество, подобно
организму, дифференцируясь, распадаясь на несходные части,
прогрессирует. Хорошо, пусть общество прогрессирует, но поймите, что
498
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
личность при этом регрессирует, что если иметь в виду только эту
сторону дела, то общество есть первый, ближайший и злейший враг
человека, против которого он должен быть постоянно настороже.
Общество самым процессом своего развития стремится подчинить
и раздробить личность, оставить ей какое-нибудь одно специальное
отправление, а остальные раздать другим, превратить ее из индивида
в орган. Личность, повинуясь тому же закону развития, борется или,
по крайней мере, должна бороться за свою индивидуальность, за
самостоятельность и разносторонность своего я. Эта борьба, этот
антагонизм не представляет ничего противоестественного, потому что он
царит во всей природе. Мы недавно еще приводили
мотивированное мнение об этом предмете первоклассного европейского ученого
Геккеля: целое тем совершеннее, чем несовершеннее его части, и
обратно.
Но как же связать эту враждебную личности тенденцию общества
с тем несомненным фактом, что общественная жизнь расширяет
и обогащает наше личное существование? Вопрос разрешается тем,
что мы имеем здесь два встречных течения, из которых иногда
одолевает одно, а иногда другое. Собственно говоря, благодетельная для
развития личности сторона общественной жизни не исчезает
совершенно даже в кастовом устройстве, вообще представляющем едва ли
не наиболее яркий случай порабощения личности обществом.
Специалист умственной деятельности, брамин, вполне способен обогатить
запое своих личных наслаждений сочувствием к наслаждениям всех
подобных ему браминов. Точно так же благодетельно в известных
пределах дает себя знать сочувственный опыт кок орудие познания.
Но с другой стороны, устраняя себя от материальной и вообще
практической деятельности, брамин непременно суживает сферу своей
жизни. И круг его наблюдений становится уже, и возможность
пережить жизнь людей, занятых другими задачами, утрачивается; наконец,
круг доступных ему наслаждений более или менее ограничивается
исключительно умственной деятельностью. Вообще по мере того, как
принцип разделения труда осуществляется в обществе, по мере того,
как процесс дифференцирования дробит общество на резко
обособленные группы, имеющие свои собственные и другим недоступные
цели и интересы — получается двоякий результат. С одной стороны,
сочувственный опыт имеет более широкое и полное применение
в среде каждого из обособившихся слоев общества, а с другой -
Борьба за индивидуальность
499
для каждого из представителей известного слоя утрачивается
возможность поставить себя в положение представителя другого слоя.
А этим в корень подрывается благодетельное значение общества.
Мало того, что наслаждения представителей различных слоев
замкнуты в более или менее узкие рамки: отрава захватывает и то
специальное наслаждение, которое, казалось бы, вполне обеспечено
человеку его общественным положением. Мы видели, что наслаждение
приобретения, наживы, предоставленное обстоятельствами времени
и места в полное владение известных классов общество и
уединенное от других наслаждений, целей и интересов, перестает быть
наслаждением. Жажда его обращается в источник личного несчастья.
Точно то же и со всеми другими наслаждениями, даже с
наслаждением знания. Человек, выработавший себе особенную напряженность
того или другого специального отправления и более или менее
заглушивший в себе все остальные, естественным образом понимает и
ценит только то, что тесно соприкасается с его специальным
отправлением. Человек, весь, без остатка, отдавшийся жажде знания, не в
состоянии правильно оценить, например, роль материального труда в
обществе, он не в состоянии ее познать, а между тем он хочет знать
все. Это внутреннее противоречие есть опять-таки источник личного
несчастья, и для меня нисколько неудивительно, что развитие
немецкой метафизики завершилось философией отчаяния,
пессимистическими системами Шопенгауэра и Гартмана, проповедующими
одиночное или гуртовое самоубийство. Формула «я и не-я», несмотря на
всю свою законность в принципе, несмотря на все свое соответствие
человеческой природе, непременно должна была в устах немецкой
метафизики привести к такому результату. Я какого-нибудь Гегеля
есть, собственно говоря, ничтожная дробь человеческого я. И эта-то
дробь, этот-то жалкий орган общественного организма вздумал
меряться и бороться с «не я», со вселенной! Он потерпел поражение
на почве познания, как на наших глазах терпят его ежедневно люди
наживы на почве производство, как потерпит его каждый,
борющийся за разные частные цели, а не за свою индивидуальность, т. е. за
расширение до возможных пределов своего личного существования.
А эта задача сводится к борьбе с роковой тенденцией общества
двигаться по типу органического развития.
Совершенно поэтому понятны те на первый взгляд
поразительные факты современной европейской жизни, с которых мы начали
500
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
свою беседу. Община и цех суть представители низших ступеней
общественного развития, старых его моментов, когда
дифференцирующее влияние общества было несравненно слабее, чем ныне,
следовательно, слабее были и все пагубные для личности последствия
развития общество. Отсюда — все обращения назад, в глубь прошлого, все
упования на возможность применения его принципов к требованиям
нашего времени. В какой мере эти упования основательны — мы
увидим в свое время.
Вполне сознавая крайнюю беглость и неполноту предлагаемого
введения, мы отсылаем читателя за разъяснениями и дополнениями
к прежним нашим статьям, а равно и к последующим очеркам. Нам
нужно было только напомнить кое-что читателю, чтобы выяснить
ту точку зрения, с которой впоследствии будут подвергнуты анализу
различные формы общественной жизни. Мы начнем с самой
элементарной формы — с семьи.
П. СЕМЬЯ*
Не нами мир начался и не нами кончится. — К теории борьбы
за индивидуальность. — Практические и идеальные типы. — Типы
и степени развития. — Отсутствие семьи как исходная точка
супружеских и родительских отношений. — Факты, характеризующие
эти отношения в глубокой древности. — Теория любви
Шопенгауэра. — Теория любви Геккеля. — Любовь с точки зрения борьбы
за индивидуальность. — Миф Платона о происхождении половых
различий.
Я имею к читателю, который удостоит своим вниманием эти
очерки, одну очень скромную, но вместе с тем и очень важную просьбу.
Я прошу его именно помнить, что не им мир начался и не им
кончится. Кажется, просьба достаточно скромная, и читатель, я уверен,
с первого же слова даст мне свое согласие, даже, может быть, с
презрительным нетерпением пожмет плечами: дескать, стоит ли об этом
толковать? Но я продолжаю настаивать на своей просьбе, потому что
исполнить ее вовсе не так легко, как кажется с первого взгляда.
Читатель должен не просто обещать, а постараться как можно глубже
1876, январь.
Борьба за индивидуальность
501
проникнуться той мыслью, что не им мир начался и не им
кончится. Множество форм общественной жизни сдано в архив истории и
либо погибает там навсегда, не оставив по себе ни следа, ни
воспоминания, либо восстановляется только в мысли историка и
социолога, как восстановляются в мысли палеонтолога чудовищные образы
лабиринтодонтов и плезиозавров, либо, наконец, нырнув в глубь
времен, возникают на почве действительной жизни вновь в
преобразованном виде. С другой стороны, множество форм общественной
жизни предстоит человечеству в будущем. Этого нельзя не признать
уже по простой аналогии с прошедшим. Те, может быть, миллионы
лет, которые предстоит прожить человечеству, не могут же быть
наполнены нашими теперешними чувствами и отношениями. Придут
иные птицы, совьют иные гнезда и запоют иные песни, а наши гнезда
и песни будут играть такую же роль, как реставрированные фигуры
лабиринтодонтов в палеонтологических музеях или каменные
топоры первобытных людей в музеях археологических. Мы стоим на
границе необъятного прошлого и необъятного будущего. Как ни
очевидна эта истина, но действительно проникнуться ею так, чтобы всегда
иметь ее на счету, вовсе не легко. Это свидетельствует история науки,
человеческой мысли, которая долго была убеждена, что все, в ней и
вокруг нее совершающееся, от века и до века было и останется в
таком виде, как оно есть. Мысль человеческая могла себе представить
начало и конец всего сущего и даже с особенной любовью
останавливалась на этих двух моментах, но иного изменения, кроме начала
и конца, мысль не знала. Идеи для нее были врождены, т. е. имели
только начало, а не развитие, не подлежали никаким изменениям.
Виды органической жизни были постоянны, т. е. опять-таки имели
только начало и, разумеется, конец. Видов, говорил Линней, столько,
сколько их было создано вначале. Точно так же относилась мысль и
к солнечной системе, и к земной коре, и к формам общественной
жизни и т. д., хотя, собственно говоря, фактов было всегда
достаточно для опровержения таких воззрений. Но уж это какая-то коренная
слабость человеческого ума: принимать данное за типичное, частное
за универсальное и переходящее за вечное. Что касается, в частности,
занимающего нас здесь предмета, т. е. форм общественной жизни, то
новейшие работы в области антропологии, этнографии и
доисторической археологии, известные всем и каждому хоть понаслышке,
казалось бы, должны совершенно поколебать господствующую тупую
502
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
уверенность, что исторически данные формы общества составляют
предел, его же не прейдеши. Ведь и людоед думал, что учреждение не
фигурального, а прямого пожирания людьми людей никогда не
исчезнет. Однако людоед ошибся, но пример его никого ничему не
научил. Люди, почему-то называемые практическими, и теперь
рассуждают подобно людоеду. Они не могут сделать тех усилий мысли
и воображения, которые требуются для того, чтобы представить себе
возможность значительного изменения окружающего мира. Но если
вы и преодолели эту слабость, являются новые трудности. Русскому
человеку, воспитанному на ровном, плоском пейзаже, как-то тесно,
как-то нравственно тесно и душно в узкой швейцарской долине,
обрамленной высокими горами. Его давят эти непривычные глазу
громады справа, громады слева, так осязательно дающие ему чувствовать
его ничтожество. Подобное же нравственное «не по себе»
испытывает человек, который вдруг вспомнит, что его настоящая жизнь со
всеми ее треволнениями есть только узкая полоса между необъятным
прошедшим и столь же необъятным будущим. В нем может
подняться очень горькое и безотрадное чувство. В самом деле, завтрашняя
история сметет нас, сегодняшних, послезавтрашняя — завтрашних
и т. д., и т. д., и т. д., так что мысль отказывается, наконец, следить за
этой бесконечной цепью, которая становится по мере удаления все
более неопределенной, туманной, неуловимой, как очертания
альпийских вершин, сливающихся с облаками. А позади, в прошедшем,
такая же утомительная длинная перспектива. Из-за чего же я бьюсь?
Из-за чего напрягаю свой мозг, из-за чего борюсь и страдаю, когда
то, что я с бою достал, как истину и справедливость, в следующее же,
быть может, историческое мгновение окажется вздором и гадостью?
Вот мучительный вопрос, который заставляет нас инстинктивно
цепляться за настоящее, как за вечное, за исторически данное, как за
непреходящее.
Но ведь этим не поможешь. Да и чему помогать? Когда человек
голоден, он ест, не смущаясь тем, что часов через пять желудок опять
потребует работы, а там опять и опять — вплоть до предсмертной
потери аппетита. Все живущее удовлетворяет по возможности своим
потребностям. И так идет жизнь, то создавая новые потребности, то
отшибая старые, то так, то иначе их удовлетворяя или не
удовлетворяя. В числе потребностей человека есть потребности знания и
умиротворения совести. Одна удовлетворяется истиной, другая — спра-
Борьба за индивидуальность
503
ведливостью, а различные формы этого удовлетворения образуют те
бесконечные перспективы прошедшего и будущего, которые
называются историей человечества. Нам, стоящим на известной точке этой
необъятной перспективы, есть ли какой-нибудь резон смущаться
многочисленностью и разнообразием понятий об истинном и
справедливом не только в прошедшем, айв будущем? Никакого. Допустим,
что через какие-нибудь сто лет ниспровергнут даже такую
несомненную для нас истину, как дважды два — четыре. От этого нам не может
быть ни тепло, ни холодно, потому что мы, во всяком случае, сыты
таблицей умножения, с успехом употребляем ее и в расчетах с
мелочной лавочкой, и в вычислениях пути планет — словом, получаем
от нее полное удовлетворение везде, где она только приложима.
Сомнения в будущности таблицы умножения, если бы они и закрались
в ваш ум, не могут вас заставить усомниться в ней самой. От
таблицы умножения поднимитесь к высочайшему идеалу справедливости.
Создавая его, вы тем самым говорите: вот какой порядок вещей
удовлетворит мою жажду справедливости, вот что мне нужно, чтобы
заморить червяка моей совести. Пройдут века — и вы окажетесь, может
быть, нищим, нищим знанием и совестью, а идеал ваш будет далеко
обойден или отвергнут. Что ж из этого? Пока он — ваш идеал, вы во
всяком случае ничем, кроме осуществления его или приближения к
нему, своей жажды справедливости не удовлетворите. И если вы все-
таки продолжаете, как немцы говорят, grübeln на ту тему, что, дескать,
ах! я не могу успокоиться на своем идеале, потому что взойдет
солнце — росу высушит, наступит следующее историческое мгновение —
и мой идеал окажется несостоятельным, так это вовсе не значит, что
идеал вам очень в самом деле дорог. Совсем напротив. Это значит,
что он вам не дорог. Если вам докажут, что будущее человечество
станет довольствоваться несравненно меньшим количеством пищи, чем
какое поглощается вами теперь, то вы в отчаяние не придете, ахать
не будете, а исправно скушаете свою порцию, да еще, может быть,
прибавки потребуете. Когда удовлетворение жажды справедливости
станет для вас такой же неотложной органической потребностью,
как удовлетворение аппетита, будущее перестанет вас смущать и на
этом пункте. Вы и тут будете домогаться своей порции, потому что
домогательство это даже не от вас зависит и составляет
необходимое условие вашего существования. Дело просто в том, что в каждое
историческое мгновение человек как никак ориентируется и должен
504
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ориентироваться в окружающем мире, т. е. известным образом
группировать результаты своего опыта. Он при этом старается и
неизбежно должен стараться оставить в своем мировоззрении как можно
меньше прорех. Это — требование его природы, которое необходимо
должно быть удовлетворено. И ценность удовлетворения нисколько
не уменьшается тем, что то же самое требование природы по
прошествии известного времени будет удовлетворено иначе.
Следовательно, скептицизм и сидение сложа руки отнюдь не
оправдываются вечной сменой понятий об истинном и справедливом. Напротив,
эта смена представляет нечто в высокой степени утешительное; она
оставляет надежду, что самые пылкие ваши мечты, которые вы, может
быть, даже боитесь рассказать своим современникам, хотя бы в них и
не было ничего фантастического, течением времени и осуществятся,
и даже превзойдутся.
Волна на волну набегает,
Волна погоняет волну...
Страшная, умопомрачающая громада этих волн катится и будет
катиться в течение веков по руслу истории человечества. Будем же
готовы встретить и в прошедшем, и в будущем такие формы
общественной связи, которые потребуют от нас сильнейшего напряжения
мысли и воображения. Об этом я и прошу читателя: не нами мир
начался и не нами он кончится. Относительно будущего, впрочем,
предлагаемые очерки будут крайне скромны. И не только потому, что
автор их не желает быть осмеянным, обруганным или заподозренным
в сумасшествии. Нет, все это я бы ваял и сумел бы перенести, если
бы более или менее отдаленное будущее могло развернуться перед
нашим умственным взором с полной ясностью. Но это невозможно.
Много высоких умов и благороднейших сердец надолго
скомпрометировали не только себя, а и свое дело, святое дело, тем, что брались
предугадать различные частности будущего человеческого общества.
Мне уже случилось однажды сделать это замечание и получить
недавно от критика «Недели», г-на Л-аго, следующее возражение: «Едва
ли не напрасно г-н Михайловский упрекнул утопистов в том, что
они предполагали возможным определить идеальное общество до
мельчайших подробностей: они были в этом случае очень
последовательны, так как эмпирическое содержание нашего "я" складывается
Борьба за индивидуальность
505
именно из мелочей, а, следовательно, "признав желательным"
отождествление этого содержания во всех членах общества, нельзя не
желать определить эти мелочи» (Неделя, № 30). Я думаю, однако, что
я прав. Прежде всего, какой момент истории разумеется под
«идеальным обществом»? Если дело идет о завтрашнем дне, так, конечно,
можно говорить даже о «мельчайших подробностях». Но на
завтрашний день может быть предъявлен только такой скудный maximum
требований, что осуществление их едва ли стоит называть идеальным
обществом. Надо бы выбрать какой-нибудь менее громкий термин.
Если же осуществление идеального общества откладывается до более
или менее отдаленного будущего, то увлечься характеристикой его
мельчайших подробностей значит совершенно произвольно
остановиться на одном из звеньев исторической цепи, уходящей в
непроглядную даль. Одних технических изобретений, которые могут быть
сделаны в нужный промежуток времени, совершенно достаточно,
чтобы обратить в ничто все подробности утопии. Надо заметить, что
почти все утописты, начиная с Томаса Мора190, рисовали
подробности идеального общества совсем не с научными или философскими,
а с сатирическими целями. И в этом заключается их оправдание.
Поражаясь известной неурядицей, они противопоставляли ей
известный порядок, в котором элементы неурядицы группировались, так
сказать, навыворот. Дело эстетической, а не научной или
философской критики — судить этот художественный прием. Он, во всяком
случае, как художественный прием, законен. Однако и тут, увлекаясь
изображением мелочей и подробностей, утописты нередко забывали
собственные основные требования и впадали в странные промахи.
Я не помню, кто из них полагал, что в идеальном обществе из золота
будут делаться ночные вазы и цепи каторжников. Это — просто
художественное низвержение кумира золотого тельца. Дурно ли,
хорошо ли оно исполнено, это другой вопрос, но против самого приема
нельзя было бы ничего возразить, если бы утопист, занявшись
ночными вазами, не позабыл изгнать из идеального общества
каторжников. Мечты гораздо более скромные, чем та, в которой
фигурирует золотая ночная ваза, обходятся без каторги и цепей. Конечно,
это — недосмотр, которого можно бы было избежать, но, избежав
его, автор впал бы в другой, в третий. Идеал — всегда
отрицательного происхождения. Человек не удовлетворен, оскорблен в том или
другом чувстве и делает построение, в котором не удовлетворяющие
506
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и оскорбляющие его явления отсутствуют. Поэтому отрицательные
черты общественного идеала (я здесь вообще не говорю об идеале
личном) могут быть, действительно, обозначены до мельчайших
подробностей. Но как только вы начнете подставлять вместо них
мельчайшие подробности положительного свойства, вы всегда рискуете —
да простится мне выражение — попасть пальцем в небо, потому что с
течением времени может исчезнуть всякий повод к вашим мелочным
положительным поправкам. Вы естественно склонны поставить
вместо (-а) тот же элемент с положительным знаком, т. е. (+я), тогда
как ход вещей может и самое а утопить в Лете. Как бы далеко ни
заглянули вы в будущее, но всякое будущее станет с течением времени
прошедшим. Какое же основание имеете вы обрывать нить истории
и произвольно останавливать ее на одном каком-нибудь моменте,
даже если вы верно угадали не только его общий характер, а и
подробности? А это и делали утописты. Обратитесь назад и представьте
себе первобытного человека, сочиняющего подробности
идеального общества. Хорошую бы он утопию сочинил? Вы скажете, что то —
дикарь, а то — вы, живущий тысячи лет спустя, тысячи лет, недаром
прожитые. Это, конечно, правда. Но в сравнении с тем человеком,
который будет жить тысячи лет спустя после вас, вы еще ничтожнее,
чем первобытный человек в сравнении с вами. Да и зачем вам эти
подробности идеального общества? Идеал нужен и важен, как маяк,
как путеводная звезда, а так как путеводная звезда человечества не
может остановиться (потому что не останавливается бег времени),
то идеалом может быть только движение в известном направлении.
Определив для себя это направление, вы получите все, что есть
действительно ценного в утопиях, и избежите всех их слабостей. Другое
дело — ближайшие станции этого движения. Они, конечно, должны
быть ясны, хоть опять-таки не теряться в мелочах191.
Вот почему, повторяю, я буду в своих очерках очень скромен
насчет будущего. А пока да позволено мне будет сделать маленькое
отступление, отчасти в интересах нижеследующего, а отчасти как дань
привычке откликаться текущей литературе.
Г-н Мордовцев192 в статьях своих о провинциальной печати (Дело,
1875, № 9 и 10) предположил существование социологического
закона, в силу которого «все из провинций тянется к центрам, в эти
чудовищные пасти больших городов, где оно погибает, если не
носит в себе задатков жизни, так сказать, большого полета, или нахо-
Борьба за индивидуальность
507
дит удовлетворение всем своим потребностям, богатеет и иногда
благоденствует, добивается славы, почестей, могущества». Все, в
каком бы то ни было отношении выдающееся — будь то гениальный
ум, громадное богатство, невообразимая красота или крупное
уродство, вроде Юлии Пастраны193 и двухголового соловья — стремится
из окраин к центрам. Провинции остаются «вдовствующими во всех
отношениях». Положения эти иллюстрируются разными примерами
из общественной жизни, а также из области природы. Рассматривать
я их не буду, потому что и вообще не могу здесь останавливаться на
специальном предмете статей г-на Мордовцева. Замечу только, что
главный их недостаток состоит в полной неопределенности и
неясности для самого автора его точки зрения и метода. Вместо того
чтобы строго отделить в занимающем его ряде явлений существующее
от желательного, автор то радуется поглощению центрами окраин,
видя в нем часть процесса объединения всего человечества, то
скорбит о нем, то считает его неизбежным, по крайней мере временно,
то предлагает провинциям экономически конкурировать с центрами.
Не на эту, однако, шаткость точки зрения и неопределенность метода
обратил внимание неизвестный автор статьи «Один из русских
централистов» (Неделя, 1875, № 45). Напротив, он полемизирует с г-ном
Мордовцевым, как с совершенно последовательным, цельным
«централистом», игнорируя все его логические промахи и
противоречия. Только в самом конце статьи упоминаются эти противоречия,
как свидетельство непригодности для нас централистских теорий.
Во всяком случае, воображаемому последовательному централисту
автор хочет противопоставить последовательную теорию
децентрализации или самостоятельного развития окраин, провинции. Вот эта
теория.
«Цивилизация, имея в начале своего развития силу
центростремительную, правило подбора, централизацию для ограждения целого,
нашла скоро другой принцип, поставивший задачей развитие частей,
их совершенствование, присвоение ими тех же функций, какие
имели прежде только избранные, и поставила это целью своего
прогресса. Таким образом, мы видим в нашей цивилизации... стремление не
к одному поглощению частей, но и к распределению жизни между
ними и уравнению их во имя тех же целей цивилизации. Жизнь
частей не может быть игнорируема в интересах жизни целого, вот
что часто упускается из виду централизаторами. Они предполагали
508
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
в человеческой истории действующим только один закон
централизации, независимо от других, точно так же обусловливающих
человеческую жизнь, наконец, они принимали его без всякого отношения к
идеям и чувствам, стремящимся к созданию идеала, несомненно
более справедливого. Они упустили из виду целую массу других сил,
которые действовали в человеческом обществе не менее значительно:
так, против силы, стремящейся установить только подбор сильного и
гибель слабого, против сил, стремящихся к поглощению и
подчинению, выступают силы, действующие на пользу взаимного сохранения,
уравнения, которые постоянно борются. Против монополии и
привилегий, против централизации и насильственной регламентации мы
видим стремление индивидуумов и групп к сохранению своей жизни
и своих особенностей. В самом деле, как в органической природе,
так и в развитии обществ, мы находим такой закон, который является
гораздо более действительным, чем прежний закон борьбы за
существование, поглощение и истребление, наконец, жизни целого на счет
частей. Это закон, стоящий за сохранение частей и единиц в природе,
развитие органов, частей, видов, оразноображение их и
совершенствование, которое давало жизнь целому организму или роду.
Прогресс и формирование состоят в обособлении и специализации как
частей организма, так и его целого. Этот естественно-исторический
закон, проникающий природу, не менее действует и в социологии.
Человеческое общество также опирается на жизнь своих частей, и
чем более дает развития их силам и содействует полноте жизни
индивидуумов, тем более гарантирует свое собственное существование
и сохранение. Развитие общества создается обособлением его
функций, дифференцированием отправлений в различных частях его, как
и в индивидууме, и одной из задач цивилизации является настолько
же объединение жизни, насколько и покровительство разнообразию
ее. "Чем несовершеннее существо, — говорил еще Гете, — тем более
сходства замечаем мы между отдельными частями его и целым; чем
совершеннее оно, тем более различия в его частях. В первом
случае части в большей или меньшей степени повторяют собой целое;
в последнем же — они совершенно не похожи на целое. Чем больше
сходства между частями, тем меньше между ними зависимости, со-
подчиненность частей есть признак высшей организации". Эти
истины по отношению к животным и растениям также прилагаются и
к обществам. «Чем несовершеннее общество, — говорит другой писа-
Борьба за индивидуальность
509
тель, — т. е. чем меньше разнообразия в занятиях, тем больше
сходства между частями, как это легко может заметить каждый, наблюдая
человека в чисто земледельческих странах».
Я никоим образом не мог оставить здесь без внимания эти общие
взгляды, представляющие, по-видимому, такое близкое сходство
с теорией борьбы за индивидуальность и, однако, существенно от нее
отличающееся не в свою, как мне кажется, пользу Без сомнения, так
сказать, наружность статьи «Недели» далеко превосходит наружность
статьи г-на Мордовцева. Неизвестный автор прямо заявляет, что
в обществе борются силы центробежная и центростремительная, из
которых, смотря по условиям борьбы, побеждает то та, то другая,
и что он, автор, считает желательной победу силы центробежной.
Если бы автор ограничился этим или подобным кратким
выражением своих мыслей, опровергать его было бы довольно сложным делом
и несравненно более трудным, чем теперь, когда он, развертывая
свои формулы, тем самым дает оружие против них. Автор не
выбивается из круга тех аналогий, из которых вытекают опровергаемые им
самим воззрения. Все органисты, все дарвинисты, все нелепологи, все
те, что возводят в общественный принцип факт подбора сильных и
приспособленных и гнета их над слабыми и неприспособленными —
все они согласны с нашим автором, что «развитие общества
создается обособлением его функций, дифференцированием отправлений в
различных частях его, как и в индивидууме». Согласны или, по
крайней мере, должны быть согласны с этим и самые крайние
централизаторы, с которыми автор «Недели» полемизирует. Они себе
представляют дело так. Дано обширное общество, называемое Россией,
русским государством. Развиваться оно должно, как и всякий
индивид, путем обособления функций, дифференцирования органов
и отправлений. Т. е., например, Нижнее Поволжье, по естественному
характеру своему, должно взять на себя функцию производства хлеба,
быть, как говорят об этом крае, житницей России и ни-ни, отнюдь не
помышлять о соперничестве с другими частями русского организма
в каких-нибудь других отраслях материального или не
материального производства: промышленные изделия Поволжье получит из
центров промышленности, потому что такова обособленная функция
последних; собственных продуктов умственного творчества
Поволжью тоже не полагается, потому что оно будет снабжено ими из
специальных центров, заведующих умственными отправлениями, и т. д.,
510
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
и т. д. Централизаторы в состоянии будут привести в пользу этих
воззрений те самые слова Гете и другого неизвестного мне писателя, на
которые опирается автор «Недели». Они это и делают: слова Гете
весьма часто ими цитируются. Они именно требуют разнообразия,
зависимости и подчиненности частей и настаивают, что это необходимо
для существования и сохранения целого. Вся разница между
спорящими сторонами состоит, таким образом, не столько в аргументах,
сколько в намерениях, в субъективной подкладке спора.
Централисты хотят, чтобы государственный центр поглотил части, окраины;
децентралисты этого не хотят. Тяжба при этом ведется, собственно
говоря, только между государством и теми группами, на которые оно
дробится. Хотя тяжущиеся и стараются связать каждый свое дело
с судьбами личности, индивида в тесном смысле слова, но так как
судьбы эти играют для них все-таки только второстепенную роль, то
выплывают вещи очень странные. Например, автор «Недели»
категорически заявляет: «Там, где централизация достигла высшего предела,
там падала человеческая деятельность и талантливость, а где
развивалась децентрализация, там силы общества поднимались». При этом
разумеются падение и рост «индивидуальности человеческих
способностей». В доказательство приводятся некоторые исторические
примеры. Почти все они могут быть истолкованы совсем иначе.
Но я напомню крупный пример — феодальную систему,
представлявшую полнейшую децентрализацию и, однако, страшно давившую
«индивидуальность человеческих способностей». Не без всякого же
основания многие историки видят в средних веках со всей их
децентрализацией какой-то мрачный провал в истории. Я это не в
порицание принципов децентрализации и федерализма говорю — о них у
нас в свое время особая речь будет. Я только пользуюсь случаем
лишний раз выяснить основание моей теории, с которой теория автора
«Недели», по-видимому, так близка. Я готов согласиться с ним и со
всеми аналогастами, что всякая индивидуализированная единица,
будь то растительная клеточка, зародыш животного, единица
национальная, сословная, государственная, развивается, дифференцируясь
на части и обособляя свои отправления. Но я предлагаю идти дальше.
Существуют различные ступени индивидуальности, которые
борются между собой, стремятся подчинить друг друга. Эта борьба
(обнимающая Дарвинову борьбу за существование, как частный случай)
ведется различными степенями индивидуальности с весьма различ-
Борьба за индивидуальность
511
ным успехом. В высших организмах, например в человеке, все те
60 000 000 000 000 клеточек, которые, по расчету Фирордта194 и
Велькера195, обращаются ежесекундно в его теле, все его ткани,
органы чувств и движения, — закрепощены своему целому окончательно.
В низших организмах победа целого над частями далеко слабее.
В муравейнике индивид в тесном смысле слова побежден обществом;
в полипняке эта победа еще решительнее. Фабрика, как
экономическая единица, стремится подчинить себе, поглотить рабочего. В
истории нам известны национальные индивидуальности, побежденные и
непобежденные единицами государственными. Внутри
национальной индивидуальности борются индивидуальности сословные, а
внутри последних — индивидуальности человеческие. Достигая строго
обособленной ступени развития касты, сословие побеждает как
высшую национальную индивидуальность, так и низшую —
человеческую, и т. д., и т. д. Таковы факты, картину которых должны
представить предлагаемые очерки, если им суждено достаточно долго
занимать внимание читателя; такова, собственно, объективная часть
теории борьбы за индивидуальность. Здесь нет ничего такого, что не
могло бы быть доказано с почти математической ясностью. Факты
так просты, что сами по себе не могли бы породить никаких споров.
Не такова субъективная сторона дела. Историки, социологи,
политики, публицисты, имея дело с различными ступенями общественной
индивидуальности, произвольно выбирают центром своих
исследований то одну, то другую. Одни принимают близко к сердцу Судьбы
«общественного организма» вообще (это — самые поверхностные, из
них-то и выходят нелепологи, нелепософы и нелепоманы) и
радуются, если организм этот поглощает и уродует человека, т. е. индивида в
тесном смысле слова. Другие желают победы, кто группе
национальной, кто сословной, кто государственной и т. д. Отсюда идет
большинство разногласий между людьми, исследующими общественные
явления, отсюда и их взаимное непонимание. На каком основании
каждый из них желает победы именно такой-то ступени
индивидуальности? Они либо не задают себе этого вопроса, а инстинктивно, в
силу предания или безотчетных личных склонностей, выбирают
свой центр исследования; либо же, будучи поставлены в
необходимость отвечать, скажут: я стою, например, за национальные
интересы, потому что они наилучше способствуют благосостоянию,
умственному развитию и нравственному совершенствованию лично-
512
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
стей. Я не могу себе, по крайней мере, представить возможности
иного конечного ответа. Его должны, хотя бы для вида, дать даже те
ученые и писатели, которые заведомо своекорыстно или в интересах
какой-нибудь касты гнут и ломают факты общественной жизни.
Но дело в том, действительно ли и насколько и при каких условиях
интересы национальные или какой-нибудь другой группы,
политической, экономической, родственной и т. д., совпадают с интересами
личности. Нужна, следовательно, прежде всего проверка отношений
различных общественных индивидуальностей к индивидуальности
человеческой. Я предлагаю для этого мерило крайне простое, не
требующее доя успешного приложения ничего, кроме внимания и
добросовестности. Оно непосредственно примыкает к тем несомненным
фактам, совокупности которых я называю борьбой за
индивидуальность, и которые не только никем не отрицаются, но множеством
весьма ученых людей с особенной охотой, хотя и не слишком логично,
выставляются на первый план. Так как я не в первый раз предлагаю
читателю это мерило, то, чтобы не надоесть ему, постараюсь здесь
вкратце изложить свои взгляды в несколько новом виде. При этом
выяснятся кое-какие обстоятельства, которые ниже сослужат нам службу.
Исчезнувшая, как говорится, допотопная животная жизнь
представляет немало образцов поразительных типов, которые Агассиц
называет пророческими или синтетическими (он делает некоторую
разницу между этими двумя терминами, но она для нас не важна; см.
его De l'espèce et de la classification en zoologie, tr. par Vogeli. 182). Они
представляют собой соединение (синтез) и как бы предвосхищение
(пророчество) нескольких животных типов, которые в последующие
геологические периоды, в том числе и в наше время, существуют
только в раздельном виде. Таковы, например, чудовищные
ихтиозавры, т. е. рыбоящеры, совмещающие в себе такие черты организации,
которые ныне встречаются только порознь в рыбах и в
пресмыкающихся. Таков не менее чудовищный лабиринтодонт, в котором
совмещаются особенности нынешних лягушек, черепах и ящериц.
В настоящее время такие смешанные переходные формы очень
редки, имеют очень слабую организацию и очень бедны видами,
например, летучая рыба. Но некогда это были цари земли, перед которыми
все дрожало. Какое употребление делает из этих фактов Агассиц —
до этого нам нет дела: он изменения видов, как известно, не признавал
и видел в органических формах как бы застывшие идеи некоторого
Борьба за индивидуальность
513
мирового разума. Поучительнее мнения немецкого ученого Снелля,
изложенные в фантастической, но чрезвычайно умной брошюре
«Die Schöpfung des Menschen». Снелль сводит типы организации к
двум разрядам — типов идеальных и практических. Идеальные это —
то же, что пророческие или синтетические типы Агассица. Снелль
именно в них видит носителей прогрессивного развития; самое даже
разнообразие органической жизни в значительной степени
обусловливается разносторонностью и богатством их природы, из которой,
как из общего источника, расходятся во все стороны резко
различные формы. Типы практические, напротив, односторонние и
скудные, приспособляются к тем или другим замкнутым условиям
существования и все более и более суживают формулу своей жизни. Само
собой разумеется, что резкой перегородки между практическими и
идеальными типами нет. Могучие ихтиозавры, птеродактили и т. п. не
вынесли своей мощи. Как у Ильи Муромца калики перехожие сбавили
половину его силы, потому что иначе земле было бы тяжело носить
его, так и у этих древних чудищ природа обобрала их мощь и раздала
ее по частям узким, приспособленным к одной водной стихии рыбам,
жалким пресмыкающимся и т. п. Это обстоятельство, между прочим,
должно бы было несколько затуманить радость тех дарвинистов,
которые верят в творческую силу подбора и борьбы за существование.
Даровитейший из них, Геккель, должен был признаться, что
«естественный подбор везде (überall) способствует развитию типов
практических в ущерб идеальным» (Generalle Morphologie II, 262). Не все,
значит, пахнет розой в процессе борьбы и не только относительно
средств, но и относительно результатов: вместо одного целкового,
положим, даже десять (конечно, меньше) гривенников, сильно
потертых процессом размена — это не особенно, кажется, выгодно. И если
бы природа не возмещала этой убыли тем законом развития, о
котором говорено было выше, на земле жить было бы довольно скучно, да,
по правде сказать, и не стоило бы. Это, впрочем, мимоходом. В чем,
собственно, состоит разница между практическими и идеальными
типами, например, между нынешними рыбами и ящерицами, с одной
стороны, и древними рыбоящерицами — с другой? и в чем состоит
процесс распадения одного идеального типа на несколько
практических? Читатель видит, что все дело здесь опять-таки в том же
принципе разделения труда, который дает диаметрально противоположные
результаты, будучи приложен к органам одного и того же индивида и
514
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
к нескольким индивидам. В пределах индивидуальности ихтиозавра
физиологическое разделение труда, т. е. разделение труда между
органами, достигает известной, довольно высокой степени, потому что
тут есть налицо и органы, необходимые для жизни в воде, и органы,
необходимые для жизни на сухом пути. Когда идеальный тип
ихтиозавра распался на практические типы рыб и ящериц, произошло
разделение труда между индивидами, причем в каждом из них степень
физиологического разделения (в пределах рассматриваемых нами
свойств организации) понизилась: одни стали способны только к
водной жизни, другие только к сухопутной. Понизился тип развития.
Затем этот новый, пониженный практический тип может достигать
весьма высокой степени развития: рыбы выработали себе
чрезвычайно сложные аппараты, приспособленные к водной жизни, каких
у ихтиозавра, конечно, не было. Приложите теперь это рассуждение
к явлениям общественной жизни. Поставьте вместо вида ихтиозавра
какую-нибудь социальную группу, какую-нибудь общественную
индивидуальность. Если внутри этой индивидуальности и под влиянием
ее развития, состоящего в переходе от однородного к разнородному,
в дифференцировании частой, в усилении разделения труда
(общественного), обособляются резко различные индивиды, то тип
последних понижается, как бы ни была высока степень их развития:
общественная индивидуальность может торжествовать победу над
индивидуальностью человеческой. Тип бесполого рабочего муравья
далеко ниже типа его отдаленного плодовитого предка, хотя в
пределах своей односторонности он, может быть, достиг чрезвычайно
высокой степени развития. Теперь сравните с этой точки зрения два
муравейника; один — древний, в котором разделение труда не
произвело еще никакого полиморфизма (многоформенности), а другой —
нынешний, в котором имеется 3-5 каст, различающихся и наружным
видом, и общественной деятельностью, и характером организации.
Который из них выше? С объективной точки зрения выше нынешний
муравейник, потому что его части (муравьи) сильнее
дифференцированы. Но с субъективной точки зрения самого муравья выше
древний муравейник. Чтобы не повторять того, что было доказываемо
много раз, я только просто заявляю, что становлюсь на точку зрения
муравья. Пусть совокупными усилиями полиморфных индивидов
созданы огромные богатства и даже целая муравьиная цивилизация,
это — только высокая степень развития пониженного типа. Тип
Борьба за индивидуальность
515
древнего муравейника выше, хотя он и не успел достигнуть высокой
степени развития; он выше потому, что в нем победа в борьбе за
индивидуальность осталась но стороне муравья, т. е. индивида в тесном
смысле слова. Победе высшей индивидуальности, т. е. общественной
(какая бы она ни была — национальная, экономическая, родственная,
политическая) я радоваться не могу. Какое-нибудь высшее существо,
перед всеобъемлющим взором которого субъективная сторона
исторического процесса стушевывается, которое равно безразлично
относится и к муравью, и к муравейнику, такое высшее существо может
надо мной посмеяться и уличить меня в противоречии. В самом деле,
я признаю низшим то, что с объективной точки зрения есть высшее,
ибо я и сам готов цитировать немецкого олимпийца: «Чем
несовершеннее существо, тем более сходства замечаем мы между
отдельными частями его и целым; чем совершеннее оно, тем более различия
в его частях». Значит, заключают отсюда социологи, историки,
политики, публицисты, значит, и общество тем совершеннее, чем более
различия между его членами. Затем социологи, политики и т. д.
начинают путаться и препираться, принимая за центр исследования один
одну, другой другую общественную индивидуальность. Я думаю, они
оттого путаются и препираются, что берут на себя в своей исходной
точке (может быть, по недоразумению) непосильное бремя
олимпийского величия, перед которым овсе — все равно». Я — не
олимпиец, а только человек, т. е. индивид в тесном смысле слова, а потому и
сочувствовать могу только такому же индивиду, и радоваться только
его победе, и горевать только о его поражении. Вне этого и мне «все —
все равно», в том числе и централизация, и децентрализация.
Надеюсь, что мне уже больше не придется утомлять внимания
читателя отвлеченным изложением теории-борьбы за
индивидуальность, которая ближе выяснится на конкретных примерах.
Начнем с семьи как с самой элементарной общественной
единицы и притом во многих отношениях резко отличающейся от всех
других общественных единиц. Элементарность ее следует, однако,
разуметь только в том смысле, что она обнимает собой наименьшее
число лиц: муж, жена, сын или дочь — эти три лица уже
составляют семью. Было бы ошибочно думать, что семья элементарна еще
в другом смысле — именно как самая древняя форма общежития.
Это, впрочем, — мнение очень распространенное и разделяемо
многими высокими авторитетами. Так, Мэн («Древнее право») полагает,
516
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
что прототипом древнейшего человеческого общества должен быть
признан патриархально-семейный быт, изображенный в книгах
Ветхого Завета. Мы скоро увидим, что этот быт есть плод уже довольно
высокой цивилизации и не дает никакого понятия о «состоянии, в
каком находилось человечество в начале своей истории» (Мэн, 98).
Дарвин, поднимающийся, конечно, гораздо дальше в глубь времен,
также склоняется к мнению, что наши отдаленнейшие предки
обладали уже известной, вероятно, полигамической формой брака и
семьи, подобно многим нынешним четыреруким. Однако он
убеждается в этом единственно априорными соображениями. Он
признает, что «все внимательно изучавшие этот предмет» смотрят на дело
иначе и что «кажется несомненным, что обычай брака развивался
постепенно» (Происхождение человека и половой подбор. Пер.
Сеченова, II, 399, 402). Конечно, данных для решения вопросов о том
времени, когда человек стал человеком, не имеется. Но, несомненно,
с чем согласен и Дарвин, что было такое время, когда простое общее
смешение полов «было чрезвычайно распространено на всем
земном шаре». Дарвин, следовательно, полагает, что учреждение брака и
семьи, хотя бы только в такой форме, в какой оно ныне существует у
гориллы, было некогда присуще и человеку, но затем им утеряно.
Интересно сопоставить этот вывод с мнениями одного русского
ученого, г-на Воеводского196. Исследование греческих мифов привело его к
вопросу: насколько детоубийство могло считаться некогда не только
безразличным, а прямо нравственным поступком, и как мы должны
смотреть на него с точки зрения истории развития нравственности.
Я имел случай упоминать в «Записках профана» о точке зрения г-на
Воеводского, который не допускает возможности попятного
движения в истории человеческой нравственности. Сообразно этому
предстояло объяснить и детоубийство как некоторый шаг вперед. Он
замечает, что в некоторых городах Силезии и Саксонии у городских
ворот до сих пор висят палицы с надписью:
Wer seinen Kindern giebt das Brot
Und leidet dabei selber Noth,
Den schlage man mit dieser Keule todt.
Т. е.: кто детям своим дает хлеб и при этом сам терпит нужду, тот
да будет убит этой палицей. Я полагаю, что надпись эта должна быть
Борьба за индивидуальность
517
объяснена просто каким-нибудь частным случаем или целым рядом
случаев (вроде истории короля Лира), который поразил
современников. Но г-ну Воеводскому они «напоминают, что дорожить
чрезмерно жизнью ребенка могло когда-то считаться пороком. Если мы
вспомним при этом, продолжает он, как сильно развита у большей
части известных нам животных любовь к детенышам,
принимающая иногда даже отвратительные размеры, например, у обезьян,
которые нянчатся даже с мертвым ребенком по нескольку дней после
его смерти, то всякий шаг, сделанный человечеством в
противоположную сторону, получит для нас новое значение. Действительно,
любовь матери к своему ребенку, особенно в первое время его
существования, вытекает даже просто из физиологических условий и
поэтому уже никак не может считаться исключительным плодом
гуманного развития, а напротив, одним из самых элементарных, всегда
существовавших инстинктов, без которого, подобно как без
полового влечения, немыслимо было бы ни человечество, ни вообще мир
животных. Смотря с этой точки зрения, нам уже не представляются
столь неблаговидными и древнейшие мифы о детоубийстве...
представится возможность уразуметь и этическое значение детоубийства
как фактора в культурном развитии человечества» (Каннибализм в
греческих мифах, 129 и след.). Здесь не место говорить, насколько
законна точка зрения, признающая шагом вперед всякое уклонение,
в чем бы оно ни состояло, человеческого типа от нравов и
обычаев животных. Замечу только, что она несколько напоминает образ
мыслей дикаря, который привел европейскому путешественнику тот
аргумент против моногамии, что одной женой довольствуется
местный вид обезьян, или тех жителей Малайского архипелага, которые
считают позором иметь белые зубы, «как у собак».
Как бы то ни было, но при настоящем уровне наших знаний
пробел между семейным общежитием высших животных и отсутствием
семьи у наших отдаленных предков может быть наполнен только
отвлеченными соображениями, с чем согласен и г-н Воеводский.
Фактическая история супружеских и родительских отношений в
человечестве начинается отсутствием семьи, тем состоянием, которое
различными исследователями называется то общим смешением полов,
то общинным или коммунальным браком, то гетеризмом. Нам,
конечно, трудно себе представить порядок вещей, в котором не имеют
места понятия отца, матери, мужа, жены, сына, дочери, т. е. те самые
518
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
понятия, которыми полна нравственная атмосфера, окружающая нас
с раннего детства. Мы готовы даже признать, отправляясь от
привычных нам взглядов и чувств, такой порядок беспорядком,
совершенным хаосом. Между тем это был несомненно порядок, т. е. нечто
новое прочное, всеми признанное и, так сказать, уравновешенное.
Очень долго этот порядок совершенно удовлетворял потребностям
и взглядам людей и затем, когда народились новые силы, уступил их
напору только с большим трудом, оставив и поныне
многочисленные следы своего когда-то безграничного господства.
Расскажите малообразованному европейцу о русском общинном
землевладении. Он будет, вероятно, удивлен этими порядками и
назовет их странным хаосом, который в самом себе носит залог
разрушения, потому что, дескать, люди в ряду поколений не могут терпеть
такого систематического посягания на личную собственность, как
переделы земли и круговая порука. И это будет, по-видимому, даже
очень удовлетворительное рассуждение, а между тем община
существует целые века. Таким же хаотическим состоянием
представляется нам, например, жизнь кавказских горцев, у которых господствует
кровная или родовая месть. Нас поражает при этом не только
отсутствие специальных судебных органов, а и невозможная для нас идея,
что нет личных преступлений, что в убийстве виноват не убийца,
а весь его род. С точки зрения горцев, однако, это вовсе не нелепая
идея: они с ней испокон века живут. Возьмите еще, например, хоть
цыганский табор с его поразительной организацией, в которой
личная воля, личные вкусы, личное достояние, личные симпатии
совершенно утопают. Нам странно, что люди могут так жить. Прикидывая
на свой аршин, представляя себя и окружающих людей в положении
членов цыганского табора, мы видим, что нам не выдержать бы и
недели такой жизни. Однако цыгане живут, много веков живут и,
вероятно, считают хаосом именно наши порядки. Все это — остатки
обычаев, когда-то повсеместно распространенных, только остатки, дающие
лишь слабое понятие о тех мыслях и чувствах, которые
господствовали на отдаленной зоре истории человечества. Надо себе представить,
что в ту неизмеримо далекую от нас пору личность утопала отнюдь
не в семье (как думает Мэн) и даже не в такой определенной
общественной единице, как русская община, горский род или цыганский
табор, а в чем-то таком, чему мы и имени не знаем. Это было нечто
вроде стада. Супружеские и родительские отношения едва ли не луч-
Борьба за индивидуальность
519
ше всего обрисовывают дух и характер такого общежития. Однако
даже все имеющиеся этого рода сведения как о вымерших уже
народах, так и о ныне живущих дикарях только в совокупности, взаимно
дополняясь, могут помочь восстановить полную картину
древнейшего гетеризма.
В замечательном сочинении Бахофена197 «Материнское право»
(Das Mutterrecht, Eine Untersuchung über die Gynaekokratie der alten Welt
nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur) собраны относящиеся сюда
свидетельства древних писателей. Я приведу некоторые из них. По
Геродоту и Страбону198, массагеты и назамоны, хотя и имели жен, но
никто никому не препятствовал совершать публично половой акт с чьей
бы то ни было женой. Подобные же нравы поразили, по Ксенофонту и
другим, солдат Кира в некоторых народах, встреченных ими в походе.
Об эфиопских аусеях Геродот говорит, что они «пользуются женами
сообща, не живут с ними в домах и совершают половой акт
подобно скотам». При этом массагет, вступая в сношение с первой
попавшейся женщиной, вывешивал свой колчан спереди кибитки и втыкал
в землю свою палку: это была как бы вывеска, символ того, что
происходило в это время в кибитке. С той же целью современный Страбону
араб оставлял свою палку с наружной стороны двери, и т. п.
Относительная малочисленность таких прямых свидетельств о грубейших
формах гетеризма нисколько неудивительна. Удивительна, напротив,
крайняя живучесть этих, в полном смысле слова, первобытных
порядков. В более мягких формах общинный брак и поныне существует,
например, у бушменов; у каиров (в Индии) «никто не знает своего отца
и всякий смотрит на детей своей сестры, как на своих наследников»
(причем тут сестра, мы увидим впоследствии); тигуры в Оуде «живут
обширными общинами в почти безразличном смешении, и даже для
тех лиц, которые считаются в супружестве, брачные узы существуют
только по имени»; у туземцев острова Королевы Шарлотты «женщины,
по-видимому, смотрят на всех мужчин своего племени, как на своих
мужей», и т. д. (Дж.Леббокт. Начало цивилизации. Пер. Коропчевско-
го, 65). Я не стану, однако, перечислять и описывать этого рода факты.
Гораздо любопытнее обширный разряд очень разнообразных фактов,
относящихся к гораздо более поздним историческим моментам, но
косвенно характеризующим и стародавнее отсутствие семьи. Они
любопытны потому, что рисуют самый процесс образования семьи и ее
борьбы с высшей индивидуальностью.
520
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Диодор Сицилийский200 с удивлением отмечает «странный
обычай» жителей Балеарских островов. У них, говорит он, в свадебную
ночь молодая считается общей собственностью всех гостей, которые
пользуются ею в порядке старшинства. Муж вступает в свои права
последним. Подобные же обычаи существовали в Вавилоне, Армении,
у многих эфиопских племен, кажется, в Карфагене, отчасти в Греции.
Кое-где и теперь господствует этот обычай с некоторыми
изменениями. Так, у санталов (одного из туземных племен Индии),
говорит Леббок, браки совершаются только однажды в год — по
большей части в январе. В течение шести дней все, готовящиеся вступить
в брак, живут вместе, и только после этого за отдельными парами
признается право вступать в брак. Факты эти не могут быть
объяснены ничем, кроме сознания коллективного права племени на всех
женщин. Право это во всем своем объеме уже утрачено; муж и жена
на другой день свадьбы принадлежат уже только друг другу; но
страшное давление племени еще выражается безропотным
предоставлением первой ночи всем и каждому. Этот компромисс лучше всего
характеризует совершенно для нас непонятную степень поглощения
личности племенем. Я говорю «племенем» за невозможностью найти
соответственное имя для той странной общественной
индивидуальности, которая с нынешней точки зрения так грубо и
безапелляционно давила индивидуальность человеческую. Это, конечно, была
не семьи, потому что семья в пору упомянутого компромисса
только начала еще складываться. Но это — и не племя, и не община, как
видно из многих других остатков старины, сохранившихся до наших
дней. Хотя относительно многих нынешних дикарей и известно, что
свобода половых отношений не выходит у них за пределы племени,
но совокупность относящихся сюда фактов заставляет, мне кажется,
думать, что не совсем так было на заре истории, тем более что ведь
мы, собственно говоря, не знаем, как сложилась единица,
называемая нами теперь племенем. В вышеупомянутом показании Диодора
Сицилийского о жителях Балеарских островов говорится, что жена
уступалась всем «друзьям и знакомым» (Бахофен, 12). Известно далее,
как распространена и доныне так называемая (не совсем правильно)
«гостеприимная проституция», т. е. обычай, в силу которого жена или
дочь хозяина предоставляются гостю. У коряков и чукчей сила этого
обычая доходит до того, что хозяин оскорбляется отказом гостя и
может даже убить его (Е. Якушкинт. Обычное право, VII). У алеутов
Борьба за индивидуальность
521
всякий возвратившийся из дальнего пути имеет право на всех
женщин юрты (Путешествие флота капитана Сарычева, 1804). У нас в
некоторых местностях до последнего времени рекрут-наемщик имел
право на всех молодых женщин семьи нанявшего его крестьянина
(Якушкин, VII). Бразильские людоеды считают обязанностью
уступать своих жен и дочерей военнопленным, обреченным на съедение.
Все эти обломки, несомненно, глубокой древности показывают, что
древнейшая общественная индивидуальность, вторгавшаяся в
супружеские отношения, не может быть названа племенем. Леббок
говорит: «По-видимому, обычаем признается известное право за каждым
членом общины и за посетителями ее, как временными членами; эти
последние не могли бы быть лишены означенного права какими-
либо распоряжениями, сделанными до их прибытия и,
следовательно, без их согласия» (I, с. 92). Вторая половина этого замечания для
меня совершенно непонятна, тем более, что сам же Леббок приводит
поразительный обычай бразильских людоедов: уж, конечно, согласие
или несогласие обреченных на съедение не могло иметь никакого
значения. Приходится, кажется, признать, что тут перед нами
полнейший «мрак неизвестности». Позже, гораздо позже, всесильная, но
неопределенная первобытная общественная индивидуальность
выделила из себя семью и в то же время сама подверглась коренным
изменениям, обособив внутри себя различные общественные классы.
На некоторых ее членов перешло при этом древнее коллективное
право, что и выразилось в учреждениях «княжого» у нас и juris primae
noctis в Европе. Этот замечательный процесс сосредоточения
коллективных прав в руках немногих мы увидим еще много раз. Но здесь не
он нас интересует. Нам нужно было только убедиться, что история
супружеских и родительских отношений начинается отсутствием семьи.
К такому же результату приводит другой разряд крайне
любопытных фактов. За последнее время этнологи, обратив внимание на
понятия о родстве у различных народов, пришли ко многим
совершенно неожиданным и чрезвычайно важным заключениям. Самая
поразительная сторона этих исследований ждет еще нас впереди. Здесь
нам нужно только отметить крайнюю неопределенность понятий
о родстве у первобытных народов. Ясные и совершенно раздельные
для нас понятия мужа, жены, отца, дяди, тетки и т. д. у первобытных
народов более или менее сливаются с соседними степенями
родства. Например, у гавайцев (Сандвичевы острова) одно и то же ело-
522
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
во «вагена» означает жену, свояченицу (сестру жены), невестку (жену
брата), жену шурина (брата жены), жен племянников с отцовской
и материнской стороны. То же самое слово означает и женщину
вообще. Дело тут не в бедности языка, как замечает Леббок, потому что
в гавайской системе различаются некоторые такие степени родства,
для которых в европейских языках нет особых названий. Так, у
гавайцев есть особые имена для усыновленного сына, для старшего и для
младшего брата. «Легко заметить, — продолжает Леббок, — что дитя
принадлежит здесь целой группе, не имея более близкого отношения
ни к своему отцу, ни к своей матери, которые стоят к нему в такой же
степени родства, как дяди и тетки; таким образом, у каждого ребенка
бывает по нескольку отцов и матерей». У Леббока читатель найдет
довольно подробный анализ различных систем родства на основании
материалов, собранных Морганом202. Общий вывод, выраженный
в принятых нами терминах, будет следующий: семейная
индивидуальность развивалась, переходя от простого к сложному,
дифференцируя свои отправления, установляя между своими членами
разделение труда. Только исподволь и в течение долгого времени
обособлялись те специальные, исключительные функции мужа, жены, отца,
матери, дяди и т. д., которыми они облечены ныне у цивилизованных
европейских народов. Первоначально же функции, например, отца
и мужа или брата и мужа могли совпадать. Возникающие отсюда
семейные узы с первого взгляда очень тесны и прочны, но, в сущности,
они свидетельствуют опять-таки, что исходной точкой супружеских
и родительских отношений было отсутствие семейной
индивидуальности. Они относятся к тому моменту развития, когда семья уже
сложилась, но находится еще в зародышевом состоянии. В таком виде
история во многих местах и до нашего времени донесла семейные
отношения. У тоттияров в Индии братья, дяди и племянники имеют
общих жен. По обычаю сиуксов и некоторых других
североамериканских племен покупкой старшей из дочерей начальника вместе
с тем приобретается право на всех остальных ее сестер. У тодасов,
обитателей Нейльгиррийских гор, девушка, выходя замуж, в то же
время становится женой всех братьев своего мужа, по мере
достижения ими периода возмужалости, а они становятся вместе с тем
мужьями всех ее сестер, как скоро возраст этих последних позволяет
им выйти замуж В этом случае, говорит цитируемый Леббоком Шорт,
«первый родящийся ребенок считается принадлежащим старшему
Борьба за индивидуальность
523
брату, следующий второму, и, несмотря на эту противоестественную
систему, тодасы, нужно признаться, обнаруживают много нежности к
своему потомству, более, чем, казалось бы, мог способствовать тому
их обычай смешанного сожительство». Тот же писатель так
описывает обычай, господствующий между редциями в южной Индии:
«Молодая женщина шестнадцати или двадцати лет может выйти замуж
за мальчика пяти или шести лет. При этом, однако, она живет
обыкновенно с каким-нибудь взрослым мужчиной, например, с дядей или
с двоюродным братом со стороны матери, но никак не с
родственниками отца; случается, что она живет с отцом своего малолетнего
мужа, т. е. со своим свекром. Если от какой-либо подобной связи
у нее появятся дети, они считаются детьми малолетнего мужа. К тому
времени, когда мальчик вырастет, жена его обыкновенно
оказывается уже слишком старой или не способной производить детей; тогда
и он, в свою очередь, живет с женой какого-нибудь мальчика» (Леббок,
59). Английский писатель ставит восклицательный знак, отметив
поразительный для него факт сожительства женщины со свекром. Нам,
русским, восклицательного знака тут ставить не приходится, потому
что у нас существует даже особенный термин для выражения этого
факта: снохачество. Несмотря на страшные легенды о
кровосмесителях (в которых, впрочем, караются, кажется, исключительно только
совершившие блуд с матерью), сожительство ближайших
родственников — не Бог знает какая редкость в России, не говоря уже о
старине, которая оставила свои следы в символических свадебных обрядах.
«Один из известных русских этнографов» рассказывал г-ну Шашко-
Ву2оз следующую сцену из крестьянской жизни Вятской губернии.
Парень лежит на печи и стонет. Оказывается, что он болен вследствие
несчастного любовного похождения. Мать читает ему нотацию за
то, что он связывается с разными посторонними потаскухами: «Вон,
ведь есть свои кобылы, — говорила она, указывая на дочерей» (Очерк
истории русской женщины, 30). Собственно снохачество, конечно,
несравненно распространеннее. И там, где русское население
примыкает к инородческому, что, понятно, дает удобную почву для
сохранения самых архаических форм общежития, снохачество имеет
или имело недавно совершенно тот же вид, в каком оно существует
в Индии у реддиев. Так, в архиве томского монастыря хранится дело,
из которого видно, что в 1735 году по улицам Ачинска ходила вместе
со своими знакомыми подгулявшая сватья ачинского попа Никифора
524
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
«и сказывала на него, попа, духовное дело. А невестка его, попова,
сказывала, что-де он, поп, взял ее, Пелагею, в замужество за сына своего,
малолетнего сына, и растлил девство ее и прижил с ней младенца».
Г-н Серафимович204, у которого я заимствую это сведение,
продолжает: «Подобное пользование женами своих малолетних сыновей было
весьма распространено в Сибири, и такие браки взрослых девиц
с малолетними не раз запрещались указами. Эти браки поставляли
в самое невыгодное положение малолетних мужей. Муж вырастал, и
в то время, когда у него являлась потребность быть мужем, его жена
оказывалась старухой. Оставалось одно — или заводить вторую жену
на стороне, или сойтись с чужой женой. Впрочем, если у мужа
доставало энергии и были деньги, то он мог добиться и развода у
духовного начальства. Так, в 1749 году один енисейский крестьянин
жаловался, что отец женил его семилетнего, на сорокалетней девке, что
теперь ей уже 60 лет и она, положительно, не способна быть женой.
Крестьянин просил развода и получил его» (Очерки русских нравов
в старинной Сибири. Отечественные записки, 1867, № 10). Степень
распространенности снохачества в настоящее время лучше всего
характеризуется следующим любопытным случаем. В Воронежской
губернии одно сельское общество купило для церкви колокол,
который, несмотря на все усилия собравшихся крестьян, не поднимался
на колокольню. Дьячок, полагая, что колокол не идет оттого, что
между прихожанами много грешников, предложил выйти из толпы
снохачам: отступила почти половина собравшихся крестьян. (Кузнецов.
Историко-статистический очерк проституции и сифилиса в Москве.
Архив судебной медицины, 1870, № 4). Живучесть снохачества
объясняется, вероятно, тем же процессом сосредоточения коллективных
прав всех мужских членов семьи в руках главы — отца.
Не удаляясь от русской жизни, мы можем наметить еще один
разряд фактов, свидетельствующих о трудностях, которые должна была
преодолеть семья, чтобы вылупиться из неопределенной
первобытной общественной индивидуальности. Замолкли веселые праздники
Купалы и Ярилы или, по крайней мере, утратили свой древний
элемент полнейшей свободы половых отношений. Но и сами они были
только остатками еще более глубокой древности, когда свобода
половых отношений, отличаясь чисто животной откровенностью,
имела, так сказать, хронический, а не острый характер, т. е. когда она
имела место не в торжественные или праздничные дни, а составляла
Борьба за индивидуальность
525
будничное, заурядное явление. Процесс выделения семьи,
сопровождаемый образованием религиозных и поэтических представлений,
сконцентрировал это заурядное явление, приурочив его к
определенной торжественной или веселой обстановке. Предрассудок есть
обломок древней правды, как превосходно сказал Баратынский205.
Седая древность оставляет по себе более или менее широкие
прожилки, оберегаемые религией или обычаем, бессознательно
окружаемые ореолом почтения и величия. Христианство сильно боролось
с древним гетеризмом, но явственные следы его остаются в русской
жизни и по сию пору. Уже древнейшие летописи с негодованием
отмечают, что радимичи, вятичи и северяне «браци не возлюбиша;
но игрища межи сел и ту слетахуся рищюще на плясаниа, и от пляса-
ниа познаваху, которая жена или девица до младых похотение имать,
и от очного воззрения и от обнажения мышца и от пръст ручных
показаниа от пръстней доралаганиа на пръсты чужая, тож потом
целованиа с лобзанием и плоти с сердцем разжегшися слегахуся,
иных поимающа, а других, поругавше, метаху на насмеяние до
смерти» (Переяславская летопись). Эти неистовые игрища, так далекие от
заурядного спокойствия любовных сношений каких-нибудь диких
массагетов или назамонов, сами были уже «обломком древней
правды», на что указывает их острый характер. Такие неистовства могли,
конечно, совершаться только периодически, в дни, назначенные
религией и обычаем, как отклик старины. С течением времени обломок
древней правды все больше обтирался, так сказать, историческим
трением, таял, как тает ком снега, все уменьшаясь в объеме. В XIII веке
митрополит Кирилл писал: «Мы слышали, что в субботу вечером
собираются вместе мужи и жены и играют бесстыдно и скверну творят
в ночь святого воскресения». В XVI веке Стоглав206 отмечает, что
подобные игрища происходят в Иванов день и накануне Рождества и
Богоявления и так описывает это времяпровождение: «Сходятся
народы, мужи и жены и девицы на ночное плещевание и на
бесчинный говор, на бесовские песни и плясание и на богомерзкие дела,
и бывает отрокам осквернение и девкам растление. И егда нощь мимо
идет, к реке тогда отходят крепции и с великим кричанием, аки бес-
нии, омываются водой» (Стоглав, гл. 41, вопр. 24). И много подобных
громов метал христианский аскетический идеал против языческого
веселья, сильного своей связью со стародавним обычным правом.
Но и доныне, например, в Нижегородской губернии, по словам мест-
526
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ных этнографов, «сходятся на красную горку женихи и невесты,
нарядясь как можно лучше; при этом бывают и умывания. Купальные
ночи (купальни) начинаются с первого воскресенья после Пасхи и
продолжаются до осени во все праздники. От этих ночей сначала
завязывается лада, потом сватовство» (Е. Якушин, I, с, VI). В
малороссийских губерниях на «вечерницах» веселье в складчину продолжается
до полуночи, а потом парубки и девушки тут же в хате ложатся спать
попарно. Родственники девушек против этого ничего не имеют, пока
девушка не забеременеет (Кузнецов). В Уссурийском крае «на зимних
вечерних сходбищах, или так называемых "вечорках", постоянно
разыгрываются такие сцены, о которых даже и неудобно говорить
в печати» (Пржевальский207. Путешествие в Уссурийский край, 30).
В некоторых селениях Пинежского уезда (Арханг. губ.) допускается
полная свобода половых сношений. Сношения эти не считаются там
предосудительными; напротив того, девушка, не выбранная парнем
на вечеринке, нередко должна бывает выслушивать горькие упреки
от своей матери» (Е. Якушин, VII). В известных «Путевых письмах из
Новгородской губернии» покойного П. И. Якушина также говорится
о «посидках», после которых всяк «дружен схватить друженицу, да и
пойдет куда нужно» (Русская беседа, 1859, № 4). И проч., и проч. Все
эти отклики первобытных половых отношений слабеют, можно
сказать, на наших глазах. Так, г-н Якушкин приводит решение воржского
волостного суда (Ярославской губернии, Ростовск. уезда), из
которого видно, что в 1868 году «по общему согласию запрещено сходиться
беседам собственно от соблазнов и неприятностей, и всем
домохозяевам пускать в свои дома сходбища запрещено». Так постепенно тает
древнее право всякого мужчины на всякую женщину. Причины этого
процесса сводятся, во-первых, к образованию семейной
индивидуальности, которая развивается и крепнет в борьбе с
индивидуальностью племенной; а во-вторых, к влиянию враждебного древнему
праву христианства, и в частности православия, легшего в
основание воззрений государственной власти на супружеские отношения.
Но иногда семья лишается этой религиозной поддержки, и религия
напротив покровительствует древнему праву. В таком случае
слагается то, что принято называть религиозной проституцией. Так,
например, на Балеарских островах брачущиеся должны были выкупать
у «племени» ценой первой ночи свое право на исключительное
сожительство, так, в Индии, Вавилоне, Армении, Персии, Египте, Финикии
Борьба за индивидуальность
527
и проч. девушка перед вступлением в брак должна была купить право
на это проституцией в храме. В этих случаях боги как бы
олицетворяют собой первобытную общественную индивидуальность,
являются ее представителями и врагами нарождающейся семьи. Они только
под условием жертвы девственности терпят исключительный,
личный брак. Девушка обязана отдаваться в храме Милиты, Афродиты
и т. д. каждому, кто потребует, а плата за проституцию идет ей в
приданое. И это не помешает ей найти мужа, напротив — чем больше ее
любили, тем больше она, значит, достойна любви. Так рассуждали не
только в древности, так смотрят многие народы и теперь. И
замечательно, что везде после жертвы или, собственно говоря, целого ряда
жертв богам — представителям древней общественной
индивидуальности женщина становится верной женой или, по крайней мере, от
нее требуется строжайшая верность мужу. Многими наблюдателями
замечено, что в России целомудрие девушек и замужних женщин
находится в обратном отношении: там, где девки гуляют вволю, они
отличаются крайней строгостью нравов в замужестве — и наоборот.
Это — не случайное явление, это — результаты борьбы двух ступеней
общественной индивидуальности. Впоследствии мы несколько
ближе посмотрим на один крупный исторический факт этого рода, на
положение женщины в Афинах, где гетеры, представительницы
древнего права свободы половых отношений, пользовались несравненно
большим почетом, чем законные жены. В Египте незаконные дети,
плод свободной любви, ставились иногда выше законных (Бахофен,
125). Будца воздал величайший почет главе куртизанок города Везали
(Леббок, 94). В некоторых частях Западной Африки негры с
уважением смотрят на публичных женщин (там же). Истинный смысл этих
странных для нас явлений лучше всего раскрывается следующим
рассказом Карвера, приводимым Леббоком. Во время своего
пребывания у одного североамериканского племени Карвер заметил, что все
с необыкновенным почтением относятся к одной женщине.
Оказалось, что «однажды она пригласила сорок главнейших воинов в свой
шатер, приготовила для них пир и относилась к ним во всех
отношениях так, как бы они были ее мужьями. При дальнейших расспросах
Карверу было сообщено, что это — древний обычай, уже пришедший
в забвение, и что едва в целом поколении найдется одна женщина,
достаточно смелая, чтобы устроить такой пир, несмотря на то, что
полный успех обещает ей самого завидного мужа».
528
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Читатель понимает, конечно, что я далек от мысли представить
что-нибудь похожее на полную историю семьи. Моя цель совсем иная.
Все вышеупомянутые факты приведены, во-первых, для того, чтобы
утвердить отсутствие семьи, как исходную точку супружеских и
родительских отношений, и, во-вторых, чтобы показать общий процесс
выделения семьи из «племени», если это слово здесь уместно, процесс
борьбы этих двух ступеней общественной индивидуальности. Многие
из относящихся сюда явлений ниже опять привлекут наше внимание.
Будут указаны и другие, из которых я должен теперь же упомянуть
некоторые. Мы увидим впоследствии, что первобытная женщина
занимала в обществе своем не такое место, какое она занимает ныне у
цивилизованных народов и дикарей. Она не была ни явной, ни
замаскированной рабой, она была по малой мере равна мужчине. Эту
черту, разъяснение которой я принуаден до поры до времени отложить
в сторону, читатель должен постараться ввести в неясную картину
отдаленного от нас на тысячи лет человеческого быта.
Историки, социологи, публицисты и т. д., занимавшиеся
изучением семейных отношений, брака, «женского вопроса» и т. д., брали
обыкновенно под свое покровительство ту или другую форму брака,
т. е. ту или другую ступень общественной индивидуальности, и
приглашали читателей торжествовать ее победу, видели в приближении
к ней прогресс, а в удалении от нее — регресс. Мы поступим иначе.
Мы определим, прежде всего, отношение различных форм
супружеских и родительских связей к индивидуальности человеческой; нас
будут занимать ее победы и поражения. Оставляя пока в стороне связь
родителей с детьми, посмотрим, что связывало и связывает мужчину
и женщину. Конечно, любовь. Но многим кажется неудобным давать
это название связи первобытных людей. Леббок приводит уверения
многих путешественников, что дикари любви собственно не знают
и не чувствуют. Он и сам утверждает, что «низшие расы не имеют
брачных установлений; истинная любовь почти неизвестна им, и
брак в низших фазах своего развития вовсе не является делом
привязанности и взаимного влечения». Это рассуждение типическое.
Не один Леббок отказывается понимать любовь независимо от
«брачных установлений», которые, как показывает ежедневный опыт, в
действительности далеко не всегда завершают «привязанность и взаимное
влечение». Что супружеские отношения дикарей не имеют того
напряженно, исключительно личного характера, которым отличается
Борьба за индивидуальность
529
любовь в цивилизованных обществах, это, конечно, верно. Но
отрицать у дикарей взаимное влечение очень мудрено. Как видно из слов
цитируемых Леббоком путешественников, их смущает варварское
обращение дикарей с женами. Но этот факт только ставит перед
исследователем новую задачу и задачу очень любопытную. По словам
г-на Н. Львова, у дагестанских горцев «мужчина смотрит на женщину,
как на рабочий скот»; «доволен ли муж своей женой, или нет,
последняя все-таки играет роль служанки, действующей по воле своего
господина»; «женский пол должен довольствоваться остатками от стола
откушавших уже гостей»; «ласки горцев к женам своим выражаются
ударами; вместо нежных слов они дарят своих жен кличкой и
бранью вроде: больхон — свинья, гяур — неверный, чурукай — гадкая,
наджас — поганая и т. п.; горянки так привыкли к подобным
нежностям, что едва ли им понравились бы ласки европейские. Взамен
грубых ласк мужчин, женщины отвечают им самыми нежными
именами, вроде: свет очей моих, лекарство из лекарств, да останешься
ты жив для меня, да продлится твой век, и т. п.». Кажется, далеко ли
это от варварского обращения с женщинами каких-нибудь
готтентотов или кафров, которым путешественники отказывают в любви?
А между тем «любовь у горцев считается священным чувством; они
говорят, что где-то в книге написано, что если мусульманин умрет
от чистой любви к женщине, то наследует царство небесное»
(Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев аварского племени,
в III выпуске Сборника сведений о кавказских горцах). А известные
рассказы о русских женщинах и соответствующая им пословица
«кого люблю, того и бью»? Ясно, что выкидывать взаимное влечение
из супружеских отношений грубых варваров, тиранящих своих жен,
нельзя. Нужно, напротив, разрешить вопрос: как может это
варварство уживаться с любовью?
Что же такое любовь?
Ihr, Weisen hoch und tief gelahrt,
Die ihr's ersinnt und wisst,
Wie, wo und warm sich Alles paart?
Warum sich's liebt und küsst?
Ihr, hohen Weisen, sagt mir's an!
Ergrübelt was mir da.
Ergrübelt mir wo, wie und wann,
Warum mir so geschah?
530
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Ergrübelt пытались многие, слишком многие. Но из всей
колоссальной массы ответов на этот вопрос можно выбрать только очень
мало действительно ценного. Прототипом огромного большинства
ответов может служить решение Виктора Пого: l'amour c'est être deux
et n'être qu'un; un homme et une femme, qui se fondent en un ange,
c'est le ciel. Это до такой степени скудно и бессмысленно, что даже
непереводимо. Мне известна только одна теория любви,
заслуживающая внимания — теория Шопенгауэра—Гартмана, т. е. собственно
Шопенгауэра, потому что Гартман только обокрал своего
мрачного философского отца, обокрал и с выгодой пустил наворованное
в оборот.
Вот как рассуждает Шопенгауэр (см. Die Welt als Wille und
Vorstellung, ВII, Metaphysik der Geschlechtsliebe).
Всякая любовь, со всеми ее треволнениями и то трагическими, то
комическими, то идиллическими аксессуарами, есть только строго
определенное, специализированное, к известному индивиду
направленное половое стремление. «Вся история в том, что каждый Ганс
ищет своей Гретхен» (при этом Шопенгауэр замечает, что он не
может выразиться так ясно, как это сделал бы на его месте Аристофан).
Но почему же такая мелочь, такое ничтожество играет в жизни токую
важную роль? Почему любовь так властно вторгается в жизнь и
глубокомысленного ученого, и государственного человека, занятого
делами высокой важности; почему из-за такой мелочи люди готовы
жертвовать и жизнью, и имуществом, и честью? Дело в том, что это вовсе
не мелочь. Конечная цель всех любовных шашней вполне
соответствует тому жару и той беззаветности, которые в них вкладываются.
Она важнее всех других целей человеческой жизни, потому что ею
обусловливается ни больше ни меньше как образование нового
поколения. Судьба тех действующих лиц драмы человеческого бытия,
которые выступят на сцену, когда мы сойдем с нее, вполне
определяется и по существу, и по своим особенностям нашими любовными
делами. Только этой внутренней и несознаваемой их важностью
можно объяснить то обстоятельство, что поэты всех времен и
народов неустанно черпали из любви свои сюжеты и все-таки не
исчерпали ее. Возрастающая склонность двух любящих сердец есть уже,
собственно говоря, жизненная воля нового индивида, которого они
могут и хотят произвести; в их страстных взглядах уже загорается новая
жизнь, имеющая сложиться в новую гармоническую индивидуаль-
Борьба за индивидуальность
531
ность. Они стремятся слиться в одно существо и достигают этого
в лице ребенка, который наследует качества и отца и матери.
Наоборот: взаимное и решительное отвращение мужчины и женщины
показывает, что новый индивид, которого они могли бы вызвать к
жизни, был бы существом дурно организованным, не гармоническим,
несчастным. Как только мужчина и женщина полюбили друг друга,
так возникает уже зародыш будущего человека в виде Платоновской
идеи. Как и все идеи, она со страшной силой стремится выразиться в
явлении, воплотиться, реализироваться, и эта-то мощь и
стремительность и составляют взаимную страсть двух будущих родителей. Дело
в том, что эгоизм есть такое глубокое и коренное свойство всякого
индивида, что только эгоистическими целями и можно, наверное,
подействовать на него возбудительным образом. Поэтому для
достижения своих целей природа внушает индивиду известную иллюзию,
благодаря которой нечто, составляющее благо вида или рода,
представляется ему его личным благом. Эта иллюзия есть инстинкт. Таким
именно характером иллюзии, самообмана отличается и любовь.
Человек думает, что, стремясь соединиться с известной, определенной
особой другого пола, и только именно с ней одной, он действует
исключительно в видах своего личного наслаждения. Между тем во всех
своих скорбях и радостях любви он — только игралище верховной
воли природы, того гения рода или вида, который один пожинает
плоды страсти. Наслаждение полового акта само по себе не
увеличивается и не уменьшается, например, красотой или безобразием
супругов. Однако, стремясь к этой цели, по-видимому, вполне личной,
человек терзает свою личность на все лады, топчет свой разум, честь,
наконец, прямо лишает себя жизни. Это — потому, что природа
обманным образом вдохнула в него страсть именно к такому-то лицу;
для ее и только для ее целей нужно было связать такого-то с такой-то,
а сами они, удовлетворив своей страсти, с разочарованием видят, что
любовь, в конце концов, дала им только то наслаждение, которое
может быть получено, без всякой борьбы, без долгих и часто
мучительных стараний связать свою жизнь именно с таким-то мужчиной или
с такой-то женщиной. Цели, преследуемые при этом природой, и
ради которых она обманывает людей и часто губит их как индивидов,
суть, во-первых, размножение человеческого рода, во-вторых,
поддержание его типа в возможно чистом виде, словом —
количественное и качественное сохранение человеческого рода. Она мучит и
532
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
счастливит индивидов для общего блага, для блага всего человечества
в нескончаемой цепи его поколений. Цель индивидов — их личное
наслаждение, которого они или не получают, или оплачивают
слишком дорого. Цель природы — новое, многочисленное и типическое,
гармонически развитое поколение. И вот как действует природа.
Прежде всего, надо заметить, что мужчина склонен к непостоянству в
любви, женщина — наоборот. Любовь мужчины убывает, а любовь
женщины прибывает после удовлетворения страсти. Это очень мудро
со стороны природы. Мужчина может произвести больше ста детей
в год; женщина — только одного ребенка. Мужчина и стремится
исполнить свою оплодотворяющую функцию, а женщина, напротив,
инстинктивно, т. е. по тайному внушению природы, держится одного
мужчины, как охранителя и кормильца будущего ребенка. Таким
образом, гарантируется размножение и сохранение потомства. Но
природа пускает в ход и гораздо более сложные и тонкие средства. Они
могут быть разделены на абсолютные, одинаково на всех
действующие, и относительные, влияние которых индивидуально. Мы
замечаем, что, несмотря на безразличие собственно полового наслаждения,
любовь вызывается почти исключительно людьми известного
возраста, именно в пределах способности деторождения. Женщина
с окончанием менструации любви не вызывает. Ясно, что
руководящий при этом нами инстинкт направлен исключительно на создание
нового поколения. За известным возрастом следует, как мотив
выбора, здоровье: острые болезни мешают любви только временно,
хронические же положительно отталкивают нас, потому что они
передаются детям, хотя опять-таки мы не сознаем и не принимаем в
соображение этого невыгодного для потомства результата. Далее на нас
влияют отталкивающим образом несоразмерный рост, уродство
в строении скелета. Маленькие ноги важны как одна из характерных
особенностей человеческого типа. Зубы играют роль в
бессознательном выборе предмета любви, потому что важны для пищеварения и
еще потому, что качества их унаследываются с особенным
постоянством. Известная полнота в женщине привлекает нас той гарантией,
которую она предоставляет для обильного питания зародыша.
Наконец, важное значение имеет красота лица, причем особенно
выдается привлекательность правильного носа и небольшого подбородка: и
то и другое характерно для человеческого типа. Прекрасные глаза и
красивый лоб связаны с психическими и преимущественно интел-
Борьба за индивидуальность
533
лектуальными качествами, которые наследуются, главным образом,
от матери (Шопенгауэр убежден, что дети наследуют волю и
характер, а также физическое строение от отца, а интеллектуальные
качества и физический рост от матери. Соображение это играет видную
роль в его очерке мужских качеств, привлекательных для женщин;
этого очерка я касаться не буду, потому что и предыдущего
достаточно для уяснения точки зрения немецкого философа). Таковы
абсолютные, т. е. на всех распространяющиеся мотивы выбора предмета
любви. Само собой разумеется, что тут дело идет именно только
о страстной любви. Выбор рассудочный может руководиться самыми
разнообразными побуждениями и совершенно противоречить всем
целям природы. Мотивы относительные все сводятся, в сущности,
к стремлению природы исправить уклонения от видового типа или
восполнить недостатки одного из влюбленных противоположными
качествами другого и таким образом создать в лице нового
поколения нечто уравновешенное, гармоническое, нормальное. Поэтому-то,
между прочим, совершенно правильная красота редко возбуждает
страстную любовь. Для страсти нужно нечто такое, что может быть
выражено только химической метафорой: влюбленные должны друг
друга нейтрализовать, как кислоты и щелочи нейтрализуются в солях.
Мужской и женский пол суть односторонности. В одном индивиде
эта односторонность выражена резче, в другом слабее; поэтому
каждый индивид всего удобнее восполняется и нейтрализуется
известной степенью мужественности или женственности, и этих-то
степеней и ищет человек в представителе другого пола; ищет совершенно
бессознательно, инстинктивно, в интересах природы, которая имеет
в виду восполнение человеческого типа в ребенке. Наиболее
мужественный мужчина всегда ищет наиболее женственной женщины, и
наоборот. Влюбленные совершенно напрасно толкуют о «гармонии
их душ». Гармония эта может оказаться жесточайшим диссонансом
тотчас после свадьбы, т. е. тотчас по достижении цели природы,
которая состоит в зачатии ребенка, приближающегося к нормальному
человеческому типу. Природа жестоко надувает влюбленных,
заставляя их думать, что они созданы друг для друга, тогда как все дело в
нейтрализации их односторонностей, не в них самих, а в будущем
поколении. С этой только целью природа сводит слабого в
мускульном отношении мужчину с сильной женщиной, и наоборот,
маленького мужчину с высокой женщиной, и наоборот, блондинов с брю-
534
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
нетками, тупоносых с длинноносыми и горбоносыми, стройных и
худых с толстыми и т. п. Очень совершенный в каком-нибудь
отношении человек, хотя, может быть, и не придаст высокой цены
соответственному несовершенству, но, по крайней мере, легче других
примирится с ним, и это единственно потому, что в нем самом лежит уже
гарантия против несовершенства детей на этом пункте. Благо самих
брачащихся, самих влюбленных и вообще отдельных индивидов тут
ни при чем. В страшном водовороте любви беспредельно царит
гений вида. Не влюбленный горюет о своей возлюбленной или о
невозможности с ней соединиться — то вопль гения вида, которому стоят
поперек дороги препятствия. Но большинство этих препятствий он
ломит. Как говорит Шамфор208: quand un homme et une femme ont l'un
pour l'autre une passion violente, il me semble toujours que quel que
soient les obstacles que les séparent, un mari, des parents etc., les deux amants
sont l'un à l'autre de par la Nature, qu'ils s'appartiennent de droit divin,
malgré les lois et les conventions humaines. Большая часть «Декамерона»
Боккаччо209 есть не что иное, как гнев и насмешка гения вида над
попираемыми им правами и интересами отдельных индивидов.
Ребенок, ради которого единственно происходит вся история любви,
тоже только индивид. Он вырастет и точно так же будет,
инстинктивно повинуясь воле гения вида, искать счастья в любви и тоже его не
найдет. Он принужден будет бороться с тысячами препятствий, будет
весь изранен, потеряет, может быть, и честь, и совесть и растопчет
даже, может быть, наконец, свою собственную индивидуальность.
Известны случаи, что люди, питая друг к другу пламенную страсть,
вместе с тем презирают предмет любви, даже ненавидят его вне полового
акта. А когда страсть удовлетворена — любви конец, потому что ее
метафизическая цель достигнута; затем наступают уже другие
чувства, может быть, и высокие, и приятные, но это — уже не любовь,
а дружба, привычка, уважение, чувство общности жизненных задач
и т. д. Если бы страсть Петрарки210 была удовлетворена, мы бы не
имели его песен, потому что и птица перестает петь, когда яйца
положены. Браки по любви, заключаемые в интересах вида (опять-таки,
конечно, бессознательно), бывают большей частью несчастны, потому
что раз исчезает иллюзия, наступает разочарование и скорбь об
отсутствии гармонии душ. Совсем иное с браками по расчету, в которых
иллюзия не участвует. Но если такие браки и бывают счастливы, то
счастье это дается не любовью.
Борьба за индивидуальность
535
Такова теория Шопенгауэра, которой нельзя отказать ни в глубине,
ни в последовательности. Гартман, как уже сказано, только повторил
ее и тем самым, относительно говоря, сделал шаг назад (что, впрочем,
относится не к одной теории любви). Со времени Шопенгауэра
утекло воды совершенно достаточно для того, чтобы человек, видящий в
философии, как Гартман, «умозрительные результаты индуктивного
естественнонаучного метода», несколько поохладел к идее
целесообразности явлений природы. Между тем, как известно, цели природы
составляют фундамент всей пресловутой философии
Бессознательного. Здесь не место рассуждать об этом предмете, но я должен
упомянуть о возможности совершенно иного, дистелеологического, как
сказал бы Геккель, объяснения явлений полового инстинкта и любви.
Трудно найти область явлений, в которых таинственная мощь
инстинкта заявляла бы себя так ярко и в то же время так
труднообъяснимо. Откуда берется и чем обусловливается это весеннее ликование
природы, когда цветы блистают своими разукрашенными половыми
органами и птицы запевают свои песни любви? Как объяснить, что
даже многие рыбы, существа, вошедшие в поговорку своей
холодностью и немотой, в пору размножения приобретают яркую окраску
и даже способность издавать звуки? Как объяснить инстинкт самца,
безошибочно узнающего икру своего вида и оплодотворяющего ее?
Как объяснить, наконец, ту нескончаемую поэму любви, которой
полна история человечества? Во всем этом и в других бесчисленных
проявлениях полового инстинкта столько поразительного, что где же
и искать целей природы, как не здесь, в этом архитаинственном мире,
где все так дивно прилажено и соображено! Недаром народ видит в
любви чары, волшебство и для объяснения ее симптомов придумал
разные приворотные зелья, напускающие сухоту на добрых
молодцов и красных девиц. Людям ученым естественно было приплести
сюда цели природы. И действительно, известное рассуждение
Вольтера о часах и часовщике чаще всего применялось и применяется к
области полового инстинкта и любви. Но беда в том, что всякий
рассуждающий о целях природы рисует эту природу с самого себя и
своей собственной личности и подсовывает ей те цели, которые он сам
считает достойными достижения. Я не буду говорить о том, как явно
проходит это тенденция сквозь всю историю метафизики, и замечу
только, что уже очень давно родилась, хотя и не получила должного
развития, мысль, вполне объясняющая видимую целесообразность
536
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
явлений природы, не прибегая к гипотезе целей природы. Еще Эмпе-
докл211 доказывал, что поразительная законченность многих явлений,
ставящая нас в тупик, есть просто дело случая, о не результат воли
обдумывающей, соображающей, вообще мыслящей природы. При
этом под случаем только и следует разуметь независимость от чьей бы
то ни было целесообразной деятельности, а не от закона
причинности. Дело в том, что могли возникать тысячи, миллионы форм,
устроенных вовсе не целесообразно, но именно вследствие этой
нецелесообразности они не могли продержаться на арене жизни и должны
были гибнуть. Следовательно, как бы слепо ни творила природа, но,
в конце концов, существуют и подлежат нашему изучению только те,
сравнительно очень редкие ее создания, которые прилажены к целям
существования. И в этом весь секрет целесообразности. «Если бы кто-
нибудь, — говорит Ланге, — чтобы убить зайца, выпустил миллионы
выстрелов во всех возможных направлениях; если бы он, чтобы
попасть в запертую комнату, купил десять тысяч разных ключей и
перепробовал их все; если бы он, чтобы иметь дом, выстроил целый город
и затем все лишние дома предоставил на волю ветров и непогоды, —
никто не назвал бы его действия целесообразными; еще менее можно
было бы увидеть в них какую-нибудь высшую мудрость» (Geschichte
des Materialismus. В. II, 246). Между тем так именно действует
природа, порождая миллионы жизней, из которых лишь немногим, в виде
исключения, суждено действительно жить, а все остальное погибает
отчасти еще в состоянии зародышей или яиц, отчасти едва достигнув
зрелого возраста. Это рассуждение, лежащее в основе всей теории
Дарвина, приложимо и к частностям органической жизни, и к
явлениям полового инстинкта. Нет ничего удивительного в том, что мы
видим только способные к размножению организмы, потому что
никакие другие не могли бы ведь и существовать. Природа делала,
может быть, миллионы проб, извергая из своей творческой утробы,
например, рыб, не умеющих распознавать икру своего вида, но все эти
пробы необходимо должны были потерпеть фиаско — «не расцвесть
и отцвесть». Так что та степень целесообразности, которую мы видим
вокруг нас, отнюдь не должна удивлять нас. Вот если бы ее не было,
это было бы действительно удивительно и совершенно
необъяснимо с точки зрения научных понятий о природе. Теперь же нам нет
никакой надобности прибегать к гипотезе мыслящей природы —
гипотезе, вызвавшей вопрос Дюбуа-Реймона212: где же мозг или вообще
Борьба за индивидуальность
537
орган мысли природы? Возьмите историю любого
многочисленного семейства. В нем случались, вероятно, и выкидыши, и
преждевременные рождения, может быть, и двойни, и уроды; матери рожали и
красивых, и некрасивых, и умных, и глупых, и живучих, и неживучих
детей; рожали они, разумеется, не задаваясь целями произвести на
свет именно такое-то потомство, хотя, конечно, желали иметь детей
умных, здоровых и т. д. Так и всеобщая мать-природа. Но надо еще
прибавить, что эта всеобщая мать творит бесстрастно и хоронит без
слез свои детища. Вечно бьет из ее утробы родник жизни, вечно
созидает она новые и разнообразные формы, но лишь очень немногие,
исключительно немногие, лишь те, которые случайно (в
вышеупомянутом смысле случайно) носят в себе залог возможности
существования, лишь они не затираются новыми потоками жизни и живут, и
плодятся, и множатся. Понятно, как просто объясняется с этой точки
зрения та страшная мощь полового инстинкта, которую Шопенгауэр
и Гартман ставят на счет будто бы очень хитрой и постоянно нас
надувающей природы или «Гения вида», или «Бессознательного».
Однако это только до тех пор просто, пока мы рассматриваем
явления полового инстинкта в общих чертах, пока мы не выходим из
пределов тех понятий о происхождении и укреплении инстинкта
вообще, которые Дарвин представил еще в первом своем знаменитом
сочинении. Но собственно половым инстинктом и сам Дарвин, и все
дарвинисты занимались весьма мало, хотя Дарвин и вынужден был
выделить «половой подбор» как самостоятельный фактор
органического прогресса. Несмотря на это выделение, на первый взгляд так
многообещающее для интересующих нас здесь вопросов, половой
подбор объясняет ведь только возникновение и развитие так
называемых вторичных половых признаков, т. е. таких половых отличий,
которые не состоят в прямой связи с актом деторождения: таковы,
например, присутствие бороды у мужчин и отсутствие ее у женщин
и т. п. Сам половой инстинкт остается при этом в стороне. Чтобы
показать читателю, как скудны в этом отношении воззрения
дарвинистов, я сделаю довольно длинную выписку из последнего сочинения
гениальнейшего из них — Геккеля:
«Для полового размножения в его простейшей форме не требуется
ничего, кроме слияния или сращения двух различных клеточек:
женской, зародышевой, и мужской, семенной. Все другие крайне
сложные явления, группирующиеся около полового акта в высших живот-
538
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ных, играют только подчиненную и второстепенную роль; они
только впоследствии примыкают к первичному простейшему процессу и
суть результаты "дифференцирования". Но когда мы подумаем, какую
необычайно важную роль играют половые отношения во всей
органической природе, каким могучим мотивом в разнообразнейших
и замечательнейших процессах является взаимная склонность,
притяжение двух полов, любовь — то представится очень важным
свести эту любовь к ее первоначальному источнику, к силе притяжения
(Anziehungskraft) двух различных клеточек. Во всем органическом
мире эта малая причина производит величайшие следствия.
Подумайте только о роли, которую играют в природе цветы; об удивительных
явлениях, порождаемых половым подбором в мире животных;
наконец, о высоком значении любви в жизни человека, — и везде слияние
двух клеточек есть первичный и единственный мотив; везде этот
невидный процесс оказывает сильнейшее влияние на развитие самых
разнообразных отношений. Можно смело сказать, что никакой
другой органический процесс не может быть поставлен рядом с этим по
обширности и напряженности дифференцирующего действия.
Древняя греческая сказка о Парисе и Елене и множество других подобных
историй представляют только поэтическое выражение того
неизмеримого влияния, которое любовь и связанный с ней половой подбор
имели на историю дифференцирования полов. Все другие страсти,
волнующие грудь человека, даже в совокупности своей далеко не так
могучи, как воспламеняющая чувство и отуманивающая разум любовь.
С одной стороны, мы благодарно идеализируем любовь как источник
возвышеннейших созданий поэзии, пластических искусств и музыки;
мы почитаем в ней могучего фактора человеческой нравственности,
основание семейной жизни, а через нее и государственного
развития. С другой стороны, мы боимся в ней всепожирающего пламени,
которое губит несчастных и причиняет больше горя, порока и
преступлений, чем все другие беды человечества, вместе взятые. Любовь
так полна чудес и так бесконечно важно ее влияние на психическую
жизнь, что здесь более, чем где-нибудь кажется неуместным
естественное (механическое) объяснение. И несмотря на все это,
сравнительная биология и эмбриология совершенно ясно и несомненно
сводят любовь к ее древнейшему и простейшему источнику — к
избирательному сродству (Wahlverwandschaft) двух различных клеточек:
зародышевой и семенной» (Anthropogenie, 656).
Борьба за индивидуальность
539
Ни один дарвинист не сказал больше этого, а между тем далеко ли
мы, в сущности, отошли, ведомые знаменитым ученым Геккелем, от
теории забытого метафизика Шопенгауэра? Очень недалеко, и при этом
не совсем вперед, не во всех, по крайней мере, отношениях. Мы ушли,
конечно, вперед, перестав подсовывать бездушной и безумной
природе цели и целесообразную деятельность. Но это — единственный,
правда, очень крупный шаг вперед. Чем, в сущности, «избирательное
сродство двух клеточек» лучше бессознательного взаимного
тяготения двух индивидов? Не только не лучше, а даже хуже, потому что
разрешение вопроса отодвигается в область, недоступную наблюдению.
Это, конечно, отчасти зависит от самого предмета, подлежащего
объяснению, потому что, в конце концов, сила любви так же мало нам
понятна, как и сила тяготения или химического сродства. Кто скажет,
что такое тяготение? В ответ на этот вопрос можно только прибегнуть
к описанию или распространению, т. е. в нескольких или многих
словах сказать то же самое, что заключается в одном слове «тяготение».
Так и с любовью. Но дело в том, что всякая теория должна обнимать
больший или меньший круг фактов и при равенстве других условий та
теория лучше, которая охватывает наибольшее число фактов.
Очевидно, что теория Шопенгауэра, оставляя в стороне ее телеологический
характер, с этой точки зрения лучше теории Геккеля. Она больше дает
уму, оставляет в ряде явлений полового инстинкта меньше пробелов.
Геккель не умеет объяснить с точки зрения избирательного сродства
двух клеточек ни страшной силы любви, ни того несомненного факта,
что любовь требует известной степени контраста между любящими,
ни других вещей, которые Шопенгауэр, худо ли, хорошо ли,
объясняет. Мы не можем, конечно, примириться с его объяснением, потому
что оно противоречит самым основным требованиям научного
мышления. Однако и формулы Геккеля нам маловато, потому что она тесна
и узка. Но может быть, теория достаточно широкая и невозможна без
примеси такой лигатуры, как цели природы? К счастью, дело, кажется,
стоит не так безнадежно, и у самих дарвинистов может быть
почерпнуто нечто весьма пригодное для нашей цели.
Читатель заметил, что Геккель видит в явлениях полового
инстинкта и высшего из них, любви, результаты «дифференцирования» и
затем им самим приписывает сильное дифференцирующие влияние.
«Дифференцирование» стало ныне модным словом, и с ним
случилось то же, что обыкновенно случается с модными словами: его упо-
540
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
требляют, как говорится, зря, вкладывая в него неопределенно
одобрительный смысл. Когда слово «свобода» стало модным, то дело
дошло до знаменитой «свободы от земли» и до анекдота о «свободном»
извозчике, которому мимо ходящие хлыщи предлагают кричать:
«Да здравствует свобода». Так и с дифференцированием.
Предполагается, что оно есть всегда или спутник чего-то очень хорошего и
для кого-то выгодного, или же составляет самую суть этого хорошего.
Изо всех мне известных писателей наиболыпе злоупотребляет этим
словом Спенсер. Я предлагаю читателю, всякий раз как он в
разговоре или в печати встречает слово «дифференцирование», задавать
себе или собеседнику вопрос: что именно в данном случае
дифференцируется, и к каким результатам дифференцирование приводит?
Так мы поступим и в занимающем нас случае.
Все разнообразные процессы размножения сводятся к отделению
от организма-производителя одной или нескольких клеточек, из
которых развивается новый индивид. Самый простой случай
представляет размножение делением: организм-производитель просто
распадается на две или несколько частей. Этот процесс может иметь
место только в наименее дифференцированных организмах, т. е.
в таких, части которых ничем друг от друга не отличаются, очень
мало зависят как друг от друга, так и от своего целого, и способны
каждая составить из себя новое, самостоятельное целое. Поднимаясь
выше по лестнице организмов, мы встречаем последовательно
почкование, размножение спорами, два вида гермафродитизма и,
наконец, чистое половое размножение. Эта градация идет параллельно
усложнению, дифференцированию организмов. Развиваясь,
дифференцируясь, организм побеждает входящие в него низшие
индивидуальности именно тем, что водворяет между ними несходство,
специализацию и разделение труда. Уже на ступени почкования не все части
организма способны произвести новый индивид: почки вырастают
обыкновенно только на известных местах организма-производителя.
Наконец, в высших животных только ничтожная доля клеточек,
именно клеточки зародышевые и семенные, способны развиваться в
самостоятельный индивид. Только они сохраняют еще всю сумму свойств,
необходимых для самостоятельной, свободной жизни, только они не
побеждены высшей индивидуальностью, а все остальные клеточки
сгруппированы в служебные, подчиненные органы и усвоили себе
только одну какую-нибудь специальную сторону жизни.
Борьба за индивидуальность
541
Самым процессом своего развития организм, как и всякая другая
ступень индивидуальности, установляет между своими частями
разделение труда и вместе с тем зависимость и рабство. Подвергшиеся
дифференцированию части всякого победоносного целого друг без
друга жить не могут и в то же время суть рабы или целого, или друг
друга. Дело в том, что всякое победоносное целое может, в свою
очередь, оказаться побежденным другой, еще высшей
индивидуальностью. И это именно явление можно проследить в градации способов
размножения. В этой градации замечается не только усиление
разделения труда, дифференцирования между клеточками и органами
и, следовательно, не только рост победы индивида в тесном смысле,
а и усилие разделения труда, дифференцирования между
индивидами и, следовательно, зачатки их поражения новой, высшей
индивидуальностью. Процессы дифференцирования двух соседних ступеней
индивидуальности необходимо враждебны один другому, вот
незыблемое правило, которого, к сожалению, не хотят знать господа, зря
толкующие о дифференцировании и видящие в нем всегда какое-то
безусловное благо — для кого? Они не говорят и сами не знают.
Дифференцирование есть всегда победа для известной ступени
индивидуальности, но вместе с тем она всегда неизбежно составляет
поражение для другой ступени. Спрашивается: какая же это новая ступень
индивидуальности дифференцирует мужской и женский пол,
установляет разделение труда в акте воспроизведения новых поколений?
Семья. Зачатки ее даны уже в двуполом гермафродитизме, потому что
такие гермафродиты в период размножения сходятся друг с другом,
сближаются и это сближение достигает иногда полнейшего слития,
так что два индивида совершенно сливаются в одно целое, и уже
в этом новом целом образуется будущее поколение. При чистом
половом размножении труд произведения нового поколения
окончательно делится между самцом и самкой и тем кладется начало семье.
Но благодетельный для победителей, роковой для побежденных
закон дифференцирования и разделения труда на этом не
останавливается. Он все глубже и резче отделяет самку и самца, делает их все
менее друг на друга похожими и все более друг от друга зависимыми.
Дарвин предполагает, что долго после того, как предки
млекопитающих перестали быть гермафродитами, оба пола могли отделять
молоко и оба кормить детенышей, а у сумчатых оба пола могли носить
детенышей в брюшных сумках. Еще и теперь некоторые рыбы-самцы
542
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
носят яйца самок в мешках до выхода молодых рыб, а потом,
говорят, даже кормят их; самцы других рыб выводят икру во рту или
жаберных полостях; самцы некоторых жаб наматывают четкообразную
икру, которую мечут самки, на свои бедра, где она и остается до
выхода головастиков; у некоторых птиц самцы берут на себя весь труд
вывода птенцов; у голубей самцы наравне с самками кормят птенцов
соком, отделяемым их зобом. Есть, следовательно, полное основание
предполагать, что предки млекопитающих, хотя уже раздельнополые,
были, однако, настолько все сходны, равны между собой, что труд
кормления детей не делился между самцами и самками. На это
указывают и многие другие обстоятельства. «Если мы предположим, —
говорит Дарвин, — что в течение продолжительного прошлого периода
самцы помогали самкам в уходе за детенышами и что впоследствии
по какой-либо причине — например, вследствие уменьшения числа
рождавшихся детенышей — самцы перестали оказывать самкам эту
помощь, то нам будет понятно, каким образом неупотребление
органов в период зрелости должно было повести к их недеятельности»
(Происхождение человека и половой подбор, I, 238). Таким образом
объясняется атрофирование молочных желез у самцов
млекопитающих. Далее развиваются другие, так называемые вторичные
половые признаки, т. е. такие, которые есть у самцов, но нет у самок,
и наоборот. Идите дальше, в человеческое общество, и вы увидите,
что вторичные половые признаки становятся вместе с развитием
семьи все резче. На этом результате сходятся самые разнообразные
отрасли новейшей науки: история, этнография, физиология, анатомия.
У ныне существующих низших рас и в низших классах
цивилизованных народов, а также у исчезнувших древних народов, насколько
история может восстановить их характер, половые различия несравненно
слабее, чем в культурных классах у культурных народов. Так,
например, Ретциус213 нашел, что «женские черепа высших классов в Швеции
обнаруживают несравненно резче половые особенности, нежели
черепа простых крестьянок» (Мечников114. Антропология и дарвинизм.
Вестник Европы, 1875, № 1). Риль215, как и многие другие
наблюдатели, замечает, что разница в росте и физиономии между мужчинами и
женщинами гораздо заметнее в высших классах, чем в низших. Тот же
Риль замечает, что это самое отношение может быть усмотрено даже в
звуке голоса мужчины и женщины на различных стадиях цивилизации.
Он указывает, что в Европе постепенно исчезают контральты и высо-
Борьба за индивидуальность
543
кие тенора, а вырабатываются наиболее резкие контрасты: для мужчин
басы, для женщин сопрано (Die Familie, 27). Негры, монголы,
американские, малайские народы в обоих полах почти безбороды, тогда как
в кавказской расе мужчины резко отличаются от женщины бородой и
усами, так что немки даже выработали пословицу: ein Kuss ohne Bart
ist ein Ei ohne Salz, т. е. поцелуй безбородого человека все равно, что
яйцо без соли. Анатомы 1ушке и Велькер пришли к тому заключению,
что, «по мере увеличения совершенства расы увеличивается и разница
между полами по отношению к вместимости черепной полости;
особенно же сильно превосходит в этом отношении европеец европейку
сравнительно с негром и негритянкой» (Мечников). По исследованиям
одного англичанина вес мозга цыгана равен 1245 граммам, цыганки —
1224; у лапландцев это отношение выразится цифрами 1350 и 1264,
у ирландцев — 1406 и 1261, у немцев — 1499 и 1160 (Reich. Studien
über die Frauen, 45). По Топинару216 («Антропология»), средний
объем внутренности черепа современного парижанина равен 1558 кв.
сантиметров, парижанки — 1337; у корсиканцев соответственными
цифрами будут 1552 и 1367; у французов времен Меровингов — 1504
и 1361; у китайцев — 1518 и 1383; у новокаледонцев — 1460 и 1330.
Хотя всем подобным вычислениям следует доверять только с большой
осторожностью, но в связи с целым рядом других фактов и они могут
иметь свое значение как одно из свидетельств, что, по мере развития
цивилизации, половые различия усиливаются, т. е. усиливается
половое дифференцирование. Но нам известно уже, что исходной точкой
супружеских отношений должно быть признано отсутствие семьи и
что народы вымершие и ныне существующие низшие расы и низшие
классы цивилизованных народов до сих пор сохранили
многочисленные следы первобытных форм общежития. Следовательно, развитие
семьи и усиление половых различий идут рука об руку. В этом нет
ничего удивительного. Семья, как высшая индивидуальность, развиваясь,
установляет между своими частями разделение труда, назначает своим
членам различные занятия, а приспособление к этим специальным
занятиям отражается на физической организации членов.
Нам говорят, что в этом состоит прогресс. Некоторые говорят
это прямо, например, г-н Шкляревский217 (Об отличительных
свойствах мужского и женского типов), Риль (Die Familie). Но, например,
Риль, дойдя до известных фактов, до которых и мы в свое время
дойдем, с негодованием говорит об Ueberweiblichkeit и об ülbertriebene
544
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Sonderung der Geschlechter, т. е. о чрезмерной женственности и
чрезмерном различии полов. Тогда как вызывающие его негодование
факты логически неизбежны с его собственной точки зрения,
составляют дальнейшее развитие того, что он сам признает хорошим и
желательным. Другие, например, многие выше цитированные авторы,
освоившись с идеей равноправности полов, с некоторым удивлением
отмечают тот факт, что у более «совершенных» рас и «более
цивилизованных» классов половые различия становятся все сильнее и что,
следовательно, цивилизация несет с собой не равноправность полов,
а нечто совсем противоположное. И в самом деле, с точки зрения
ходячего либерализма, мы имеем туг поразительное, необъяснимое
явление. Как бы мы ни толковали о варварстве дикарей, которые бьют
своих жен, но ведь драка — это общий фон жизни дикарей. Они и
друг друга бьют, и жены их бьют и очень сильно, как увидим, а
некогда били еще сильнее. Во всяком случае, факт относительного
равенства полов в первобытном обществе несомненен. Это равенство
изгнано, как говорят, «цивилизацией». Если мы имели право связывать
умственные способности с весом мозга, то, на основании цифр,
приводимых Рейхом, должны бы были сделать следующее заключение:
с развитием цивилизации женщины глупеют не только относительно,
т. е. отстают от развития умственных способностей мужчин, а даже и
абсолютно: вес мозга цыганки равен 1224, лапландки — 1264, а у
немки — 1160. Повторяю, все подобные вычисления, неизвестно на каких
основаниях основанные, не заслуживают доверия. Но они все-таки
наглядно, хоть, может быть, и грубо, освещают тот коренной факт,
который ставит в тупик точку зрения ходячего либерализма.
Противники так называемой эмансипации женщин находятся в несравненно
более выгодном положении, потому что они могут острить, как и
делает Рейх, что, дескать, эмансипация наилегче может осуществляться
у цыган и вообще у каких-нибудь дикарей, забытых историей.
Но для нас необязательно ни недоумение либералов, ни
остроумие так называемых консерваторов, потому что мы умеем различать
типы и степени развития, знаем, что очень высокий тип может
находиться на очень низкой степени, и наоборот. Важность этого
обстоятельство дает мне смелость с совершенно серьезными намерениями
рассказать полукомическую, полуфантастическую, но превосходную
сказку, которую Платон в одном из своих разговоров («Пиршество»)
влагает в уста Аристофану218.
Борьба за индивидуальность
545
На «пиршестве» по очереди говорят все очень умные вещи об
Эроте, о Любви, и умнее всех, конечно, Сократ. Только одна речь
проходит без всяких одобрительных возгласов — речь Аристофана, но я
только ее и приведу, несколько сократив и изменив, потому что там
есть «нецензурные» подробности.
«В старину, — говорит Аристофан, — люди были совсем не то, что
теперь. С виду это были существа шарообразные, с четырьмя руками,
четырьмя ногами, с двумя совершенно схожими лицами, с четырьмя
ушами, с двойными половыми органами. Ходить они могли так же,
как и мы ходим, но для скорости перекатывались колесом на своих
восьми конечностях. И это были не мужчины и женщины, а нечто
единое и целое, мужчина и женщина вместе. Сила у них была
громадная, как физическая, так и умственная. Рассказ Гомера об
исполинах, которые вздумали проложить себе дорогу на Олимп, относится
собственно к этим могучим цельным людям. Боги призадумались.
Оставлять дерзость людей безнаказанной было нельзя, а истребить
их вконец — не хотелось, потому что тогда некому бы было
приносить богам жертвы и воздавать почести. Наконец, Зевс придумал
выход. Он решил разрубить людей пополам. Таким образом они
ослабеют, рассуждал мудрый бог, и кроме того, их станет вдвое больше,
значит и жертвоприношений больше. Пусть они ходят на двух ногах,
сказал Зевс, а если они все-таки не успокоятся и будут продолжать
свои бунты, я разрублю их еще раз и они будут двигаться на одной
ноге, как волчки. Сказано — сделано. Зевс разрезал людей пополам,
как режут яблоко или яйцо. Затем он велел Аполлону повернуть им
шеи и лица наперед, к стороне разреза, чтобы они его всегда видели
и казнились. Кроме того, нужно было натянуть кое-где кожу и вообще
вылечить разрезанные половинки, что Аполлон и исполнил.
Разрезанные половины устремились одна к другой, обнялись, схватились
руками и не хотели разлучаться ни на минуту, так что многие из них
умерли с голоду. Если умирала одна из них, то другая искала новую.
Наконец, Зевс сжалился над их несчастным положением и сделал
в их строении еще некоторые изменения, которые окончательно
дали разрезанным половинкам теперешнюю форму мужчин и
женщин и вместе с тем породили то, что мы называем любовью... Любовь,
следовательно, есть стремление к целостности, стремление людей
друг к другу с целью восстановления первобытной могучей природы
человека. Каждый из нас есть только полчеловека и каждая половина
546
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ищет своей половины. Счастливый брак есть случай удачного
подбора половинок, несчастный — неудачного».
Этот превосходный, глубоко поэтический и глубокомысленный
миф дорог нам в двух отношениях. Во-первых, потому, что он
резко ставит превосходство гермафродитизма (как физиологического
типа) перед раздельнополым существованием, а во-вторых,
потому, что не менее резко указывает на болезненный источник половой
любви. Люди гермафродитами никогда не были. Надо спуститься по
нашему генеалогическому дереву, вместе с Дарвином и Геккелем, до
асцидий, чтобы встретить гермафродитизм. Поэтому людей мы
теперь из счета выкинем. Но несомненно, что когда впервые
обозначилось раздельнополое существование и для образования нового
индивида потребовалось встреча двух половых продуктов, семенной
и зародышевой клеточки — тип животных понизился, и произошло
нечто описываемое Аристофаном; сравнительно сильный,
высокоразвитый тип как бы был разрублен на две сравнительно слабые
половины. Образовался sexe, Geschlecht, нечто разрубленное, или
пол, т. е. половина. Люди, зря толкующие о дифференцировании и
разделении труда, доказывают, что «освобождение гермафродитов
от соответственной половины генетической деятельности
открывает им возможность тем большего совершенствования
относительно других отправлений» (Шкляревский). Пусть так, но все эти
усовершенствования, если бы они были действительно так велики,
как говорят, и даже больше, должны быть исключительно отнесены
к степени развития, а тип все-таки понизился, поскольку разделение
труда произошло между индивидами, а не между органами в
пределах одной и той же индивидуальности. Там, где половой акт
сопровождается полнейшим слитием двух индивидов в один, внутри которого
развивается молодое поколение, там «всегда (in der Regel) этот новый
индивид обладает более высокой организацией, чем те два, из слияния
которых он произошел» (Häckel. Anthropogenic, 130). Это же
рассуждение приложимо и к более важным из вторичных половых признаков.
Человек получил раздельнополое существование по наследству, но
отдаленнейший его тип, который мы имеем уже, однако, право называть
человеком, не знал тех вторичных половых признаков, тех половых
различий, которые выросли и растут с тех пор. Какими бы
побочными усовершенствованиями ни сопровождался этот рост половых
различий, но в сумме они представляют все-таки высокую, колоссальную,
Борьба за индивидуальность
547
если хотите, степень развития пониженного типа. Индивидуальность
человеческая при этом как мужчины, так и женщины, терпит
коренной ущерб, совсем не восполняемый побочными победами. Если будет
кем-нибудь доказано (чего, однако, быть не может), что зло — ущерб
неизбежный, то из этого все-таки не следует, что ущерба нет.
Индивидуальность человеческая при этом побеждается высшей,
семейной индивидуальностью, в которую входят, как подчиненные
члены, супруги, дети и затем ряд более дальних родственников. Мы
пока заняты только супругами. Их связывает любовь. И здесь нам
опять поможет платоновский миф. Половой инстинкт и его
высшее проявление, любовь, люди опять-таки получили по наследству.
Происхождение полового инстинкта должно быть отнесено к тому
же решительному в истории жизни на земле моменту, когда
впервые полы обособились, дифференцировались. И для этого момента
картина, нарисованная Аристофаном или Платоном, совершенно
верна в основании. Гениальный фантазер угадал. Сравните процессы
размножения при простом делении одного индивида и при
предварительном полном слиянии двух индивидов в одно целое. В первом
случае несколько клеточек, повинуясь закону развития, достигают
известной степени возможности самостоятельно относиться к
внешнему миру и отделяются. При слиянии, напротив, два индивида в
известный момент своей жизни оказываются слишком слабыми для
самостоятельного существования, оказываются половинками,
которые стремятся слиться и образовать одно целое. Ощущения этих
половинок нам, конечно, не известны, но верно, что они порознь
существовать не могут. Если мы примем указанный в первом очерке
закон развития, то это явление значительно уяснится нам. По закону
развития, организмы стремятся к постоянному усложнению, или, что
тоже, усовершенствованию. Механические причины этого
стремления нам не известны, но оно столь же неуклонно, как стремление
ртути вверх по трубке термометра; только последнего движения мы
не называем неопределенным словом «стремление», потому что
свели его на механические причины. Так как всякая индивидуальность
стремится к усложнению, а усложнение двух соседних ступеней
индивидуальности ведет, как мы знаем, к враждебному их
столкновению, то в результате могут оказаться очень разнообразные явления,
между прочим, и упрощение организации; упрощение может быть
только в одном или нескольких отношениях, а в других развитие,
548
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
усложнение может идти своим чередом и достигать очень высокой
степени. Такой именно случай представляет обособление полов. Как
и всякое разделение труда между индивидами одного и того же вида,
оно — явление болезненное. Простой гермафродит внутри себя
развивает в двух различных местах оба половые элемента — семенные
и зародышевые клеточки. И это с точки зрения индивидуальной
жизни — высший тип размножения. Ряд случайных уклонений,
поддержанных наследственной передачей и очевидно невыгодных с точки
зрения богатства индивидуальной жизни, мало-помалу
атрофировал в одних индивидах мужскую, в других — женскую способность.
Встретив в этом пункте задержку, закон развития обходит преграду и
восстановляет первичное единство и совершенство, цельность,
сложность — слиянием. Мы видели, что индивид, образованный слиянием,
действительно выше вошедших в него отдельных индивидов. Это-то
замечательное выражение закона развития, будучи увековечено
наследственной передачей, развивается с течением времени в половой
инстинкт, а затем в любовь. Без него раздельнополые организмы не
могли бы существовать, потому что не давали бы потомства.
Постепенно глохли бы да глохли те осужденные на гибель
гермафродиты, у которых способность выделять мужские или женские половые
продукты атрофировалась. Первоначально сливаться
раздельнополые организмы должны были в силу чисто механических причин, на
которые имеет быть разложен закон развития. О стремлении в силу
наслаждения, конечно, тут не может быть речи, как не может быть
речи о муках родов при распадении какого-нибудь простейшего
организма на два или несколько новых индивидов. Наслаждение и
страдание, вся страшная и увлекательная сторона любви развивалась
постепенно, вместе с развитием нервной системы и психической
жизни. Но первый толчок был именно таков, как его изобразил
Аристофан. Любовь — не надувательство природы, или
бессознательного, или гения вида, преследующих какие-то свои цели. Она — и не
неудобопонятное избирательное сродство двух клеточек. Она одно
из выражений великого закона развития, сдерживаемое другими
проявлениями того же закона. Платон прав: любовь — взаимное
тяготение двух разрезанных половинок. Но слиться эти половинки
могут только в низших организмах. В силу все того же закона развития
высшие организмы приспособляют все свои клеточки к целям своего
индивидуального, личного существования, давят их, группируют их
Борьба за индивидуальность
549
в служебные, подчиненные органы. Лишь семенные и зародышевые
клеточки избавлены от этого гнета, и только они и сливаются в новый
индивид, который в первую пору своего эмбрионального развития
действительно оказывается не половинкой, а цельным существом —
он имеет и мужские, и женские железы. Только с течением времени
сказывается наследственная сила разделения полов, и человек
родится мужчиной пли женщиной, во всяком случае — половинкой. Опять
и опять начинает свою работу неустанный и слепой закон развития;
опять и опять загорается он пламенем любви и вновь сливает
зародышевые и семейные клеточки, и т. д.
Понятен с этой точки зрения и отмеченный Шопенгауэром факт
важности контрастов в любви. Природа разрезала половинки не
совсем так правильно, как рассказывает Аристофан. Пли, может быть,
она исполнила угрозу Зевса и, так как раздельнополые люди были
все-таки еще слишком сильны и могущественны, то разрубила их
еще раз и, может быть, не один раз или хоть так, слегка надрубила.
Есть и другие контрасты, которые закон развития стремится слить
для восстановления первичной цельности...
Понятен далее и тот факт, что любовь уживается рядом с взаимным
отчуждением, враждебностью, презрением, вообще с отрицательным
отношением представителей обоих полов. Это отрицательное
отношение, выражаясь в крайне грубой форме у дикарей, в сущности,
однако, гораздо менее сильно у них, чем у народов и классов
цивилизованных, где оно закутывается в формы тонкие и мягкие. Зависит
это от того, что между дикарем и дикаркой нет сильных контрастов,
которые, делая их друг другу необходимыми, в то же время взаимно
отчуждали бы их. Мы знаем, что подвергшиеся дифференцированию
части всякого победоносного целого друг без друга жить не могут и
в то же время суть рабы или целого, или другого. Допустите теперь
сюда мысленно свет сознания. Представьте себе, что
дифференцированные части одушевлены самосознанием. Тогда надо будет сказать,
что они друг друга любят до безумия, потому что даже жить врозь не
могут, и в то же время сознание взаимного рабства может им внушать
нечто вроде взаимной вражды, если, разумеется, предположить
сознание достигшим достаточно высокой степени развития. В
человечестве эта степень, конечно, достигнута...
Да не подумает читатель, чтобы я хотел этими несколькими
строками отделаться от контрастов как источника притязательной и вме-
550
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
сте с тем отталкивающей силы. Об этом речь будет дальше, и тогда
для нас окончательно выяснится значение любви как одного из
проявлений великого закона развития.
III. СЕМЬЯ
(Продолжение)
Кувада. — Несколько слов о положении детей. — «Женовластие»
Бахофена. — Сказки о женских царствах, амазонки. — Мифы Белле-
рофона и проч. — Второстепенные черты женовластия. — Правая
и левая рука. — Борьба за индивидуальность и борьба за
существование. — Шпотеза г-жи Ройе. — Существует ли общее женское дело. —
Любовь в средние века.
Страбон рассказывает, что у иберийцев, живших на севере
Испании, женщины «после родов кладут вместо себя в постель своих
мужей и ухаживают за ними». Диодор Сицилийский повествует о таком
же обычае у жителей Корсики. Нимфодор и Аполлоний
рассказывают то же самое об одном скифском племени. Есть свидетельства, что
этот странный обычай и доныне сохранился в некоторых
провинциях Испании и Франции. Он и носит французское название couvade,
что собственно значит высиживание, от couver (говорится о птицах,
высиживающих яйца). Распространение кувады далеко не
ограничивается уголком Европы. По свидетельству путешественников, многие
туземцы южной Америки, южной Индии, фенландцы, камчадалы,
дайяки на Борнео и проч. в большей или меньшей степени
сохранили обычай кувады (см. Тайлора219 «Доисторический быт
человечества», 395 и след., и Леббока «Начало цивилизации», 15 и след.). Вот,
например, что говорит миссионер Добрицгоффер об абипонах: «Как
только вы услыхали, что жена абипонца родила ребенка, то тут же
вы видите, как ее муж ложится в постель, укутывается циновками и
кожами, чтобы не пахнуло на него вредным ветром, и в продолжение
известного числа дней соблюдает пост, хранимый втайне*, т. е.
строго воздерживается от известного мяса; вы можете поклясться, что у
такого господина непременно родился ребенок... Я читал о существо-
Я цитирую по русскому переводу Тайлора (г. Валицкого), изданному в
1868 году в Москве. Безобразнее этого перевода трудно себе что-нибудь
представить.
Борьба за индивидуальность
551
вании этого обычая в древние времена и хохотал над ним, никогда
даже не думая верить в действительное существование этого
сумасбродства, и всегда предполагал, что про этот варварский обычай
рассказывалось больше в шутку, чем серьезно, и, наконец, сам увидел
его собственными своими глазами у абипонцев. И действительно,
они охотно и со всей строгостью исполняли этот древний обычай,
как он ни труден, потому что убеждены вполне, что воздержание и
спокойствие отцов благодетельно действует на новорожденных и
что даже оно необходимо... Поэтому если ребенок умирает
преждевременно, то женщины приписывают его смерть невоздержанию отца,
причем обыкновенно указывают и на причины вроде следующих: он
не воздерживался от употребления мяса; он обременял свой желудок
морской свиньей; он переплывал реку, когда было свежо; он не
заботился подстричь свои длинные брови; он ел подземный мед, топча
пчел ногами; он до того ездил верхом, что измучился и вспотел.
Подобными бессмысленными рассуждениями толпа женщин обвиняет
безнаказанно отца в причине смерти ребенка; и при этом
обыкновенно проклятия градом сыплются на голову безответного супруга».
Английский путешественник Брет видел в 1Ъиане следующее: «При
рождении ребенка, по требованию древнего индийского этикета,
отец должен лечь в койку и, как будто в самом деле больной,
провести в ней несколько дней, принимая поздравления и соболезнования
своих друзей. Один раз мне самому случилось наблюдать
исполнение этого обычая: мужчина, совершенно здоровый и полный сил, без
всякого признака болезни, лежал в своей койке с самым жалобным
видом; за ним почтительно и заботливо ухаживали женщины, между
тем как мать новорожденного стряпала, не обращая на себя ничьего
внимания». Сюда же, может быть, следует отнести миф «дважды
рожденного» Вакха, которого Зевс донашивал сам по смерти его матери
Семелы и т. п.
И Тайлор и Леббок обращают внимание только на одну сторону
обычая кувады, именно на выражающееся в нем первобытное
понятие о непосредственной физической связи детей и родителей. Шире
посмотрел на этот обычай Бахофен (Das Mutterrecht, 255). Он
сопоставил его с некоторыми странными обрядами усыновления. Дело
в том, что отец во время кувады стонет, кричит, вообще старается
подражать мукам родительницы, и в этом именно состоит вся соль
обычая. Таким же подражанием сопровождалась и сопровождается
552
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
кое-где церемония усыновления, причем действующим лицом
бывает то мужчина, то женщина, то оба вместе. Диодор говорит, что
Юнона для усыновления Геркулеса пропустила его на постели сквозь свои
одежды, «подражая настоящему рождению». Диодор прибавляет, что
варвары совершали эту церемонию и в его время. Любопытно, что
в некоторых наших раскольничьих толках практикуется совершенно
подобный обряд при приеме новых членов. В Пошехонском уезде
Ярославской губернии «женщину-роженицу укладывают в постель;
она должна охать и стонать, как при естественных родах. Над ней
читают молитвы и по временам спрашивают ее: родишь ли раба бо-
жия? Она отвечает: рожу в грехах и страдах. Вопрос этот и ответ
повторяются три раза, после чего сквозь рубашку лежащей женщины
пропускают вступающего в раскол» (Якушкин. Обычное право. XV).
У филипповцев Череповского уезда Новгородской губ. «женщина в
грязной рубахе, замаранной месячными очищениями или
послеродовыми извержениями, широко расставляет свои ноги, меж которых
должен пролезть желающий получить крещение; в это время она
стонет и старается показывать все те симптомы, которыми
обыкновенно сопровождается акт рождения» (Грамачевский. Черепов-
ские раскольники. Заря. 1871, № 9). У Бахофена, Гримма (Deutsche
Rechtsaltertümer), Мишле (Origines du droit français) собраны многие
указания на подобные обряды усыновления в древности и в средние
века. Таков, например, рассказа о князе Эдесском, который усыновил
Балдуина, прижав его к голой груди под рубашкой. Во многих местах
усыновляемых и узаконяемых просто подводили под плащ — mantella,
вследствие чего они назывались mantellati. Во Франции
узаконенных детей называли enfants, mis sous le drap. Один фламандский поэт
XIII столетия говорит, что «pardessous le mantiel la mère, furent faits
lojal cil trois frères».
Во всех этих случаях некто чужой становится* близким, родным,
сыном, после более или менее близкого подражания акту
деторождения, совершаемого новым отцом или матерью. В куваде мы видим
то же самое, с тем только осложнением, что отец заранее
приготовляется к подражанию, соблюдая известную диету и известный образ
жизни. Очевидно, что это именно — только приготовление к
главному моменту всей комедии и что дело не в нем. Специфическое же
отличие кувады, резко выделяющее ее изо всех случаев усыновления,
состоит в том, что здесь подражает акту деторождения не сторонний
Борьба за индивидуальность
553
какой-нибудь усыновитель, а всегда подлинный или предполагаемый
родной отец. И это чрезвычайно важно. Неудивителен вообще факт
подражания — он вполне соответствует грубости первобытного ума;
неудивительно и то, что обычай этот сохранился в виде символа даже
на относительно высокой степени цивилизации, — это сохранение
древнего обычая, исполненного для своего времени глубокого
смысла, в виде формального символа есть явление очень обыкновенное.
Понятно поэтому, что Юнона делала вид, что рожает Геркулеса, что
Эдесский князь символически рожал Балдуина, что раскольница
символически рожает нового члена секты. Но это еще не
объясняет кувады. Спрашивается: зачем родному отцу проделывать комедию
кувады, когда и без того несомненно, что новорожденный есть плоть
от плоти его и кость от костей его? Казалось бы, он — единственное
в целом мире лицо, которому кувада, как обряд усыновления, не
нужна. А между тем самая нелепость этого обычая показывает, что он
возник не случайно и не по каким-нибудь мелким поводом, что за ним
стоит долгая, серьезная и, вероятно, глубоко трагическая история.
Зачем отцам понадобилось образно, символически утверждать
свою связь с детьми? Затем, конечно, что эта связь была не всегда
ясна. Действительно, если мы признаем, вместе со всеми новейшими
исследователями, отсутствие семьи исходной точкой супружеских и
родительских отношений, то станет очевидно, что связь отца с
детьми не могла быть ясной на заре истории человечества. Кровная связь
с матерью, которая «со скрежетом сына носила и со стоном его
родила», никогда не могла подлежать сомнению. Но отец... кто был отцом
новорожденного массагета, назамона или троглодита? Этого никто
не знал — ни мать, ни сам отец, ни племя. Судьба детей в
первобытном обществе весьма малоизвестна и даже малопонятна теперешнему
человеку. Нам трудно действительно представить себе с полной
ясностью, как жили и росли дети при отсутствии семьи. Кое-какие сведения
имеются только относительно позднейших ступеней развития
цивилизации, когда уже ребенку тем или другим способом приискивался
отец. Например, Геродот рассказывает об одном эфиопском племени,
что мужчины на собраниях своих, которые бывали через каждые три
месяца, распределяли между собой подросших детей, руководствуясь
при этом сходством ребенка с кем-нибудь из мужей. Такие же
сведения имеются о либурнах и скифах. Тодасы, у которых женщина
выходит замуж сразу за нескольких братьев, а эти братья, в свою очередь,
554
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
становятся мужьями всех ее сестер, выпутываются, как мы уже видели,
из затруднения тем, что признают первенца сыном старшего брата,
второго — ребенком второго брата и т. д. И эта странная, с нашей
точки зрения, система не мешает существованию у тодасов большой
нежности к детям. Точно так же и древние писатели говорят об
отсутствии у эфиопов, скифов и проч. семейных несогласий, которые,
казалось бы, неизбежны. Мало того, некоторые, как, например, Стра-
бон, приписывают многие хорошие нравственные стороны этих
варваров именно их семейным порядкам. А Бахофен замечает, что они
осуществили у себя в действительности многие самые пылкие мечты
Платона. С другой стороны, однако, можно привести множество
фактов, свидетельствующих о крайне жалком положении детей в
первобытном обществе и у современных отсталых народов. Исследователи
семейных отношений обыкновенно и смотрят на «детский вопрос»
именно с этой точки зрения. См., например, подбор фактов у
Мальтуса, у г-на Шашкова (Исторические судьбы женщины, детоубийство и
проституция) или у г-на Воеводского (Каннибализм в греческих
мифах), который даже считает детоедство первым фазисом развития
людоедства. Этого рода факты не подлежат никакому сомнению, но
относительно делаемых из них выводов следует иметь в виду два
соображения. Во-первых, рядом с возмутительным положением детей
мы часто встречаем, на тех же приблизительно ступенях
цивилизации, нечто диаметрально противоположное. Припомним гордость, с
которой Одиссей называет себя в особенно торжественных случаях
«отцом Телемака». Наш чуваш зовет жену до рождения сына просто
по имени, а с этого момента она получает титул матери такого-то,
например, Василия (Риттих220. Об инородцах Казанской губ. II, 70).
В Австралии, когда ребенок получает имя, родители начинают
называться по его имени: Кадлитпина — отец Кадли, Кадлинганка — мать
Кадли. Этот обычай, по-видимому, весьма распространен по всему
материку. У бечуанов, в южной Африке, «родители называются по
имени ребенка». Так как старшего сына Ливингстона звали Робертом,
то жену его туземцы всегда звали Ma-Роберт, т. е. мать Роберта. То же
самое видим на Мадагаскаре, на Суматре, в Америке (Леббок, 342).
Уже в этом принятии родителями имен детей выражается такая же
степень к ним почтения, с какой у нас, наоборот, дети принимают
фамилию отца. Но это почтение к детям идет иногда гораздо дальше.
В некоторых частях Полинезии сын считался по своему званию выше
Борьба за индивидуальность
555
отца, и в известных случаях, как, например, на Маркизских островах
и на Таити, король отказывался от престола, как скоро у него
рождался сын, а поземельные собственники при таких же обстоятельствах
теряли право на свою землю и становились простыми опекунами
детей, признававшихся настоящими владельцами ее» (там же, 341).
На Фиджи, где господствует обычай наследования по женской линии,
в некоторых местностях племянник играет роль тирана и может
распоряжаться собственностью дяди, как ему угодно. «Как бы высоко ни
стоял вождь, но, если у него есть племянник, у него есть вместе с тем
и господин». Какими бы историческими условиями ни объяснялись
эти необычные для нас отношения, но это — факты, которые должны
быть приняты в соображение при оценке положения детей в
первобытном обществе и у современных отсталых народов. Далее,
исследователи, подбирающие факты варварского обхождения с детьми и
детоубийства на заре нашей истории, в сущности говорят о
сравнительно поздних исторических моментах. Во всех приводимых ими
случаях тираном и убийцей является отец, а бесконтрольный владыка
семьи — отец, есть, как мы сейчас увидим, продукт позднейшей
истории. По крайней мере, замечательная работа Бахофена делает это в
высокой степени вероятным. Дело не в отрицании тех пятен чистой
детской крови, которыми испещрена история человечества, а в том,
чтобы внести в исследование этих пятен новый элемент: характер
супружеских и половых отношений, вообще отношений между
мужчинами и женщинами. Этими отношениями судьба детей
определялась в древнейшей истории человечества в такой мере, что последняя
совсем непонятна без разъяснения первых. А что отношения между
мужчинами и женщинами были далеко не всегда похожи на ныне
существующие и вообще имеют свою долгую и сложную, историю, в
которой брали перевес то мужчины, то женщины — это мы можем
отчасти уже усмотреть из обычая кувады. Отец, чтобы быть
признанным отцом, должен уподобиться матери — таков основной смысл
кувады. Домогались ли отцы такого уподобления матерям или,
напротив, были к нему вынуждены какой-нибудь сторонней силой,
видели ли они в нем священное право или неотвратимую обязанность,
но ясно, что мать занимала некогда первенствующее место в семье.
Только ценой подражания материнским страданиям мог отец стать,
по крайней мере относительно детей, рядом с матерью. А,
следовательно, было и такое время, когда отец стоял ниже матери — иначе
556
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
не мог бы сложиться обычай кувады: он не имел бы под собой
никакой исторической почвы. И это вполне естественно, а с точки
зрения первобытного человека, кроме того, вполне осмысленно. Права
и обязанности матери начертаны на скрижалях ее собственной
природы с такой ясностью, что в них не могло быть сомнения. Права и
обязанности отца, напротив, представляют продукт отвлечения,
совершенно непосильного уму первобытного человека, тем более при
отсутствии замкнутой, обособленной семьи. Если же в последующей
истории мы видим первенствующим лицом в семье не мать, а отца;
если мы встречаем такое презрение к материнскому элементу, что,
например, бразильские тупинамбосы отдают своих жен пленным и
затем съедают детей, происходящих от этой связи, в полной
уверенности, что это — дети вражеские; если мы видим римскую семью,
состоящую из всемогущего мужа-отца, окруженного рабами и
рабынями; если мы видим восточного владыку гарема и, наконец, известную
степень преобладания отца во всех классах европейских народов, —
то все это не значит, что всегда так было. Резкий контраст между
этими формами семьи (не говоря уже о глубоких различиях самых этих
форм) и первобытной властью матери ставит только перед нами
новую задачу: проследить историческую связь этих контрастов.
Конечно, эти выводы не могут быть правомерно сделаны из
одного только обычая кувады, хотя уже и он поражает своей резкостью.
Но дело в том, что кувада в смысле намека на былое первенство
матери стоит не одиноко в истории. К ней примыкает громадная масса
фактов, совокупность которых побудила Бахофена признать женовла-
стие, гинекократию (Gynaikokratie), как самостоятельный
исторический период, следующий непосредственно за периодом древнейшего
гетеризма. С кропотливостью типического немецкого эрудита Бахо-
фен собрал и истолковал в подтверждение своей гипотезы огромное
количество фактов, и если даже половину его соображений признать
натяжками (без которых дело не обходится), так и то остается
слишком довольно резонов в пользу основной мысли. Бахофен занят
преимущественно истолкованием греческих мифов, и книга его
представляет едва ли не первую широкую попытку связать мифы с формами
общественных отношений. Само собой разумеется, что здесь может
быть приведена только ничтожная доля фактических аргументов
Бахофена, а с другой стороны, нам придется заимствовать кое-что и из
других источников. Мы даже начнем с такого заимствования.
Борьба за индивидуальность
557
Вот какую любопытную сказку записал г-н Каразин221 в низовьях
Амударьи.
Некогда существовало большое царство, в котором и хан, и
сановники, и судьи, и муллы, и джигиты были женщины. Хана-женщину
звали Занай, и жила она в городе Самираме, который стоял не на
земле, а высоко над ней, на тридцати семи тысячах столбов. В Самираме
были и мужчины, но немного, но и те «сидели дома взаперти и только
сакли убирали да малых детей нянчили», в то время как женщины
творили суд и расправу, ходили на войну, на охоту. Из детей, впрочем,
мужчинам поручались только мальчики, а девочки до известного
возраста жили все в ханском дворце. Новорожденных девочек оставляли
всех в живых, а мальчиков только одного из ста: остальных же
бросали на растерзание диким зверям и хищным птицам. Выбирала
счастливого мальчика, единого из ста, слепая старуха. Раз эта старуха
принялась горько плакать, и на вопросы собравшегося народа ответила
предсказанием, что хан Занай родит мальчика, который погубит
бабье царство. Тогда решили сына хана, как только он родится, бросить
зверям на растерзание не в очередь. В предупреждение же взрыва
материнских чувств к хану были приставлены две женщины, которые
должны были смотреть, чтобы Занай не обманула народ Самирама.
Вот пришло ей время родить, и стала она молить своих приставниц,
чтобы скрыли от народа рождение мальчика, если таковое последует.
Обещала она им золота и халатов цветных — те не поддавались.
«Позволю вам, — говорила Занай, — мужей выбирать себе не по жребию,
а кого хотите; позволю вам у других даже жен отобрать мужей, только
спасите, сберегите мне мое детище!» Приставницы не соглашались.
Наконец, уже перед самыми родами, приставницы предложили хану
такое условие: «Не хотим мы себе мужей из здешних, а дай нам мужей
из тех, что внизу ездят, кому в город наш дорога запретная, кому к
постелям нашим дороги законом не проложено». Занай согласилась.
Народ Самирама был обманут; Занаю подкинута девочка; сын ее,
названный Искандером, спрятан, а приставницы получили по своему
желанию мужей со стороны. Когда Искандер вырос, он стал главой
мужчин в Самираме. Скоро мужчины возмутились и потребовали
у женщин сабель, копий, арканов и проч., предлагая им взамен котлы,
иглы, кочерги, ложки. Началась война, окончившаяся поражением
мужчин, потому что они были безоружны, и приходилось их всего
по одному на сто женщин. Хан Искандер был присужден к лютой каз-
558
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ни, и именно сама Занай должна была его сначала оскопить, а потом
содрать с него с живого кожу. У Занай не поднялась рука на сына. Она
призналась во всем народу и ударила себя в сердце тем самым
ножом, которым должна была казнить мятежного сына. Последовало
замешательство, чем и воспользовались побежденные было мужчины:
они подобрали брошенное женщинами со страха оружие и стали с
тех пор править Самирамом по-своему. «Разделили они всех женщин
себе поровну: мало было мужчин, а женщин много — всякому по сто
женщин досталось». С тех пор и пошло многоженство и
порабощение женщин (Древняя и Новая Россия, 1876, №11. Сказка о женском
ханстве).
В последнее время у нас народилась группа писателей,
обладающих пылкой фантазией и кое-какими сведениями о странах, мало
у нас известных, каковы Лапландия и вообще Крайний Север
России, наши новые среднеазиатские владения, Америка. Результатом
сочетания этих трех элементов, т. е. пылкой фантазии авторов,
обладания ими кое-какими сведениями и малой известности стран,
в которых им удалось побывать, является громадная масса весьма
пространных, но и весьма подозрительных повествований. К
сожалению, г-н Каразин занимает одно из самых видных мест в этой
группе писателей. Тем не менее, однако, я не затруднился привести
здесь «сказку о женском ханстве», потому что она разными
своими сторонами совпадает со множеством других сказаний. Прежде
всего, самое имя женского ханства «Самирам» естественно
приводит на память Семирамиду, прославленную преданием в качестве
знаменитой воительницы и строительницы. И Самирам сказки
о женском ханстве отличается именно тем волшебным величием,
какое приписывается постройкам Семирамиды. Далее, оскопление
Искандера, хотя и не состоявшееся, напоминает предание, что
Семирамида окружала себя скопцами, чтобы не выдаваться своим
высоким женским голосом и безбородым лицом. Избиение мальчиков
напоминает сказание о том, что Семирамида избивала своих
любовников и насыпала над их могилами курганы, которые и
назывались холмами Семирамиды. Не лишено также интереса сравнение
Искандера, на которого не поднялась рука у хана-женщины, с
Александром Македонским, героическим победителем Азии, которому,
по преданию, царица амазонок предложила себя во время одного
из его походов и с которым имела дружественные сношения другая
Борьба за индивидуальность
559
царственная женщина, и именно, по одному известию, правнучка
Семирамиды.
Но даже оставляя в стороне совпадение частностей сказки
о женском ханстве с преданиями и мифами о Семирамиде, мы
должны будем увидеть в ней только один из многочисленных вариантов
сказаний о женских царствах. Известны классические представления
об амазонках: это были могучие, воинственные женщины, жившие
самостоятельно, управлялись сами собой, сходились с мужчинами
лишь в определенные сроки или же держали их у себя в полном
подчинении, избивали всех или почти всех родившихся у них мальчиков.
Им приписывалась постройка больших городов, как Синоп, Смирна,
Мемфис. Классическая древность помещает их, главным образом, в
Средней Азии и у Черного моря. Всем греческим героям
приходилось иметь сношения с амазонками и большей частью враждебные.
С ними сражается Беллерофон; Приам в Илиаде с гордостью
вспоминает о встрече с «мужеподобными» амазонками; Геркулес похищает
пояс царицы амазонок Ипполиты; ахейцев защищает от конечного
поражения амазонками Ахилл, убивая царицу Пентезилею; Тезей
похищает амазонку Антиопу, и за это мстительные воительницы
подступают к самым Афинам, где, однако, Тезей их разбивает; этим
эпизодом афиняне всегда очень гордились, приписывая амазонкам
относительно Эллады роль вроде той, которую монголы играли
относительно Европы. О встречах с амазонками Александра
Македонского уже упомянуто. Другую большую группу известий об амазонках
дали старые путешественники в Южную Америку, где будто бы бок
о бок с перуанской цивилизацией удержались еще древние женские
царства. И китайские хроникеры сохранили известия о гинекократи-
ческих учреждениях. Клапрот222 на основании китайских источников
описывает два женских царства, из которых одно имело в половине
VI века по Р. X. дипломатические сношения с Китаем, затем утратило
гинекократический характер и, наконец, в 793 году вошло в состав
небесной империи. Наконец, и славяне не остались без подобных
воспоминаний. На суде Любуши223, кроме самой знаменитой княжны,
присутствуют еще две «виегласние» девицы, из которых одна держит
«доски правдодатне», а другая меч, каратель кривды. Таким образом,
весь суд и расправа оказывается в руках женщин. В летописи Козьмы
Пражского рассказывается о «девичьей войне». Девушки построили
город Девин и под предводительством Власты вели упорную войну с
560
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
мужчинами. Власта постановила воспитывать только девочек, а
мальчикам выкалывать правый глаз и отрубать большие пальцы. Наконец,
мужчины победили, и Власта была убита.
Как бы ни были разукрашены фантазией все эти известия, но уже
самая распространенность сказок о женских царствах по Старому
и Новому Свету показывает, что в них есть некоторое несомненное
историческое зерно. В пользу этого говорят и другие соображения.
Леббок относится к выводам Бахофена очень скептически и даже как
бы не решается выставить на вид самую суть их; но и он, как и другие
исследователи, вынужден признать тот весьма важный и очень ясный
намек на былое женовластие, что в древности, да и доныне во
многих местах весьма распространено наследование как имени, так и
имущества и общественного положения, исключительно по женской
линии. «Я допускаю, — говорит он, — что утверждение отеческих
прав возрастало весьма медленно и в зависимости от окружающих
обстоятельств, при помощи импульсов естественной привязанности.
Вместе с тем признанию родства по отцу, взамен родства по матери,
вероятно содействовало также естественное, свойственное каждому
желание, чтобы имущество его переходило к родным его детям.
Правда, мы знаем немного таких случаев как, например, в Афинах, когда
о такой перемене сохраняются ясные воспоминания; но нам
нетрудно представить себе, как это могло произойти, и в то же время
трудно допустить возможность подобного изменения в обратном смысле.
Кроме того, система родства по мужской линии является достаточно
общей, если не исключительной, для всех цивилизованных рас, тогда
как противоположная система весьма распространена среди
дикарей — откуда, очевидно, вытекает, что указываемая нами перемена
во многих случаях действительно должна была иметь место» (112).
Вот некоторые относящиеся сюда факты. По всей Африке весьма
распространен обычай престолонаследия по женской линии, т. е. вождю
или королю наследует не его сын, а сын его сестры. В Индии во
многих племенах переходит таким же образом в женскую линию
имущество у простых смертных. У индийцев 1удзонова залива дети носят
имя матери, а не отца. На островах Дружбы, Каролинских и
Марианских дети наследуют общественное положение матери, как бы ни
было оно высоко или низко. Во всех этих случаях дело идет о власти и
об имуществе, а следовательно, они указывают на весьма яркое и, так
сказать, вполне реальное преобладание женщины. Как оно выража-
Борьба за индивидуальность
561
ется в повседневной жизни, можно отчасти видеть из Ливингстонова
описания семейных нравов одного земледельческого негритянского
племени в Африке. В этом племени (Балонда), живущем маленькими
общинами, женщины принимают участие в общественных
совещаниях; молодой человек, женясь, обязывается пожизненно снабжать мать
жены дровами; жене предоставлено право развода, причем детей она
может оставить у себя; без согласия жены муж не может вступать ни
в какие обязательства, даже самые ничтожные. Ливингстон224
прибавляет, что он не знает случаев восстания мужей, хотя деспотизм жен
доходит иногда до жестокости. Правда, что в других негритянских
племенах Ливингстон наблюдал нечто совершенно
противоположное, именно — полнейшее рабство женщины. Но и это явление
объясняет он былым распространением женовластия, которое повело к
тому, что мужчины стали покупать жен, и, сорвав их этим способом,
так сказать, с корня, упрочили свое преобладание.
Обращаясь к древности, мы остановимся только на двух-трех
примерах, чтобы иметь возможность рассмотреть их с разных сторон.
Геродот рассказывает, что ликийцы носят прозвище не отцов,
а матерей, так что если спросить ликийца, кто он такой, то он
начнет перечислять свой род с материнской стороны, назовет мать,
бабку, прабабку и т. д. Если, продолжает Геродот, женщина
благородного происхождения выйдет за раба, то дети будут считаться
благорожденными и — наоборот (припомним, что Рогнеда не
хотела «разути рабичича», т. е. отрицала благородное происхождение
Владимира, имея в виду род его матери). Другие древние писатели
прямо говорят, что ликийцы издавна управлялись женщинами, что
женщинам у них воздавался больший почет, чем мужчинам, что
наследство переходило у них к дочерям, а не к сыновьям. Наконец,
еще одна характерная черта: траур, скорбное почтение к умершим
должно было выражаться у ликийцев тем, что мужчины надевали
женское платье. Обряд, как бы дополняющий куваду: там и здесь,
только уподобившись женщине, матери, может отец, мужчина,
заявить свою связь с новорожденным или с умершим. Миф ликийского
героя Беллерофона пытается дать объяснение такому женовластию
и, действительно, в связи с другими мифами объясняет много.
Сопоставляя различные варианты этого мифа, мы отметим следующие
черты. В «Илиаде» самое появление Беллерофона в Ликии
обусловливается половыми отношениями.
562
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
С юношей Прета жена возжелала Антия младая
Тайной любви насладиться; но к ищущей был непреклонен,
Чувств благородных исполненный, Беллерофон непорочный.
Оскорбленная Антия клевещет Прету, что Беллерофон
«насладиться любовью хотел со мной, с нехотящей». Разгневанный Прет
отправляет юношу в Ликию на верную погибель. Там герой совершает
ряд подвигов, из которых для нас особенно любопытно поражение
амазонок. Конец истории в разных вариантах различен. Гомер
кончает ликийские дела Беллерофона мирно. Плутарх225 же приводит два
рассказа. По одному Беллерофон, оскорбленный неблагодарностью
ликийцев за избавление от страшного вепря, проклял их и вымолил
у Посейдона, чтобы тот пропитал всю почву солью. Наступил голод
и запустение, и только ликийские женщины выпросили у
Беллерофона помилование. С тех пор ликийцы и приняли обычай называться по
матери, а не по отцу. По другому рассказу Беллерофон, руководимый
тем же мотивом, испросил у Посейдона бесплодие и запустение ли-
кийской земли. Бог залил Ликию морскими волнами. Пока мужчины
умоляли Беллерофона, он оставался непоколебим; но вот перед ним
предстали женщины и притом в таком женственном виде, что
Беллерофон от стыда удалился, а вместе с тем отступило и море.
Оставляя в стороне устанавливаемые Бахофеном аналогии между землей и
женским началом, С одной стороны, и морем и мужским началом —
с другой, мы все-таки должны признать, что в мифе Беллерофона
всецело отразилась борьба за формы половых отношений. И
борьба эта оказывается чрезвычайно сложной и разносторонней. Сперва
Беллерофон борется с поползновениями Антии, направленными на
разрушение известной формы семьи; этот первый эпизод
непосредственно ведет к борьбе с амазонками, а в конце концов торжествует
ликийское женовластие.
Августином сохранен рассказ Воррона об ином конце борьбы
в Афинах. В правление Кекропса случилось двойное чудо: сразу
появилось масличное дерево и родник воды. Дельфийский оракул
объяснил, что масличное дерево означает Минерву, а вода — Нептуна
и что гражданам предоставляется решить, в честь кого из этих
богов назвать свой город и, следовательно, кого из них выбрать своим
покровителем. Народное собрание по тогдашнему обычаю
состояло из мужчин и женщин; первые вотировали за Нептуна, вторые —
Борьба за индивидуальность
563
за Минерву, и так как женщин оказалось больше, то они
восторжествовали. Разгневанный Нептун затопил Афины. Тогда для
умилостивления божества граждане порешили отнять у женщин право
голоса в народных собраниях, называть детей по отцовскому, а не
материнскому прозвищу и, наконец, запретить женщинам называться,
по имени богини, афинянками. Как в этом мифе Нептун представляет
мужское начало, а Минерва — женское, так в «Эвменидах» Эсхила эти
же роли распределяются между Аполлоном и Афиной, с одной
стороны, и Эринниями — с другой. Клитемнестра убивает своего мужа
гомемнона, а Орест, мстя за отца, убивает Клитемнестру, т. е. свою
мать. Эриннии обвиняют Ореста: он убил ту, которая «носила его под
сердцем». Клитемнестра же убила только мужа, а не кровного
родственника. Орест, напротив, отрицает свою кровную связь с матерью
и отдает преимущество отцовскому элементу. Такого же мнения
держатся Аполлон и Афина. Таким образом, Эриннии попирают права
отца и мужчины, выдвигая вперед права матери и женщины, а Аппо-
лон и Афина стоят столь же исключительно на стороне прав отца.
При этом Эриннии горько упрекают их, что они, «новые боги», хотят
ниспровергнуть старое право.
Рассуждая с сочувствием или с негодованием о «женском вопросе»,
мы, люди второй половины XIX века, склонны видеть в нем свое
детище. Именно в качестве своего изобретения мы или лелеем его, или
негодуем на него. Между тем он так же стар, как само человеческое
общество. Седая древность ставила и разрешала его даже
несравненно резче и занималась им с несравненно большим увлечением, чем
мы. Им насквозь пропитаны все древнейшие мифы, следовательно,
и вся древнейшая действительность, потому что nihil est in religione
quod non fuerit in vita. Надо только иметь в виду ту крайне грубую
наивность, цельность и простоту, с которой наши отдаленные предки
ставили и решали этот щекотливый вопрос. Если разложить так
называемый женский вопрос на его простейшие составные элементы, то
мы найдем, во-первых, любовь, стремление двух половинок
человеческого существа соединиться в одно целое, стремление, встречающее
многоразличные препятствия как в своей собственной задаче, так и
в тех или других общественных условиях; во-вторых, конкуренцию
между представителями обоих полов, борьбу за кусок хлеба, за
независимость, за преобладание в семье, в обществе. Эти два течения,
которыми вполне определяются все перипетии женского вопроса, суть
564
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
течения встречные, противоположные, потому что одно стремится
слить то, что другое стремится разъединить. Любовь уживается здесь
бок о бок с враждой. Так как половые отношения образуют первую
форму борьбы за индивидуальность в человеческом обществе, при
появлении своем мало или вовсе не осложненную другими
формами, то наши далекие предки естественно очень занимались
указанным противоречием. Они ставили его, так сказать, ребром. Козьма
Пражский, например, чрезвычайно поэтически описывает
трехдневное перемирие во время «девичьей войны»: обе враждующие
стороны, дравшиеся с ожесточением, выкалывавшие друг у друга глаза и
отрубавшие пальцы, сходятся на пиршестве, которое оканчивается
совершенно оргиастическим праздником любви. Кровавая распря
Тезея с амазонками тоже заканчивается любовью. Самая любовь, как
слитие двух враждебных и вместе необходимых друг другу
половинок, представлялась во многих греческих и среднеазиатских
культурах и мифах чрезвычайно образно. В Фокиде существовал храм
Геркулеса под характеристическим названием Геркулеса-Мизогина,
т. е. женоненавистника. (Любопытно, что, по объяснению г-на
Воеводского, имя Деяниры, жены и виновницы смерти Геркулеса, значит
«раздирающая мужей»). Действительно, Бахофен собрал много черт
борьбы Геркулеса с женским началом. Но вот герой сталкивается с
Омфалой, и любовь их выражается переодеванием и обменом образа
жизни. Омфала надевает на страшного полубога прозрачное
розовое женское платье и сажает его за прялку, а сама берет лук, колчан,
львиную шкуру и палицу. Празднества Сандона, Астарты, Цибелы
сопровождались переодеванием мужчин в женское платье, и наоборот.
Наконец, в личностях божеств слитие достигало окончательной
ступени: многие божества изображались более или менее
гермафродитами. Так, например, сирийская Афродита или Астарта изображалась
на Кипре с бородой и с еще более ясными признаками
мужественности. Дункер226 в своей Geschichte des Alterthums нередко обращает
внимание на замечательный факт слития парных богов и богинь в
одно двуполое целое. «Таким образом, — говорит он, — должно было
выражаться соединение мужского и женского начала в высшую силу
природы, в единое божественное существо» (I, 257, 297 и др., 2 изд.).
Такое полное примирение возможно было, однако, только в пылком
полете фантазии, в высочайшем идеале, и потому на земле борьба за
индивидуальность шла своим чередом, склоняя чашки весов победы
Борьба за индивидуальность
565
то на одну, то на другую сторону. Грубо наивная древность была до
такой степени заинтересована этой борьбой, что фаллос был для нее
как бы знаменем мужчины, священным символом его личных,
семейных, общественных прав и притязаний, а ктеис — таким же знаменем
женщины. Древние мифы и культы, обряды и обычаи многих ныне
живущих народов представляются, с точки зрения европейского
цивилизованного человека, исполненными крайнего бесстыдства и
безнравственности. Например, описывая любопытный праздник
сбора плодов ямса на Золотом Берегу, Рейхенов говорит, что он
сопровождается «скандалом в самом резком смысле этого слова»,
пошлостями, бесстыдством и проч. (Zeitschrift für Ethnologie. 1873, Heft II,
письмо к Бастиану). Конечно, если бы мы стали проделывать что-
нибудь вроде описываемого Рейхеновым, так это был бы и скандал,
и пошлость, и бесстыдство, как была бы с нашей стороны
бессмысленной и пошлой комедией кувада. Но для первобытного человека
она — не праздное развлечение, а великое, торжественное дело, с
которым связана вся его история. Мы устраиваем свои половые
отношения по возможности в стороне от других наших дел и независимо
от них, и в этой-то их обособленности и, так сказать, обнаженности
лежит вполне естественная причина стыдливого молчания,
которым мы их окружаем. Первобытный человек этой обособленности
не знает. Он распространяет идею любви, брака и плодородия даже
на внешнюю природу. Упомянутый праздник негров Золотого Берега
напоминает некоторыми своими чертами многие древние торжества,
и в том числе наши похороны Ярилы. Похороны эти совершались
в ознаменование прекращения действия летнего солнечного
(землю оплодотворяющего) тепла. При этом чучело, которое хоронили,
изображалось с огромным фаллосом. Женщины плакали,, причитали
и пели с нашей точки зрения совершенно бесстыдные песни (одна
из них приведена недавно в смягченном виде г-ном Печерским227.
В лесах, IV, 131). Сравнительная мифология давно уже установила
многочисленные параллели между различными перипетиями
половых отношений и явлениями грозы, грома, молнии, дождя. Если,
таким образом, даже процессы внешней природы сближались и прямо
отождествлялись с половым процессом, то тем более вправе мы
ожидать сближения явлений половой жизни с отношениями
гражданскими, общественными, что для нас здесь особенно важно. И
действительно, такие сближения встречаются, можно сказать, на каждом шагу.
566
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
При самом начале вереницы греческих богов мы видим Крона,
оскопляющего (по наущению матери) своего отца Урана и овладевающего
его престолом, и затем — Зевса, низвергающего своего отца Крона и
берущего себе в жены его жену, т. е. свою мать Рею. Обе эти революции,
следовательно, самым тесным образом соприкасаются с явлениями
половой жизни и находят себе в них и завершение, и символ. Новый
бог, новый владыка бессмертных и смертных в одном случае лишает
старого не только власти, а и половой жизни, в другом — овладевает
вместе с престолом женой старого владыки, т. е. принимает на себя
его половые отношения. Говоря мимоходом об этих самых эпизодах,
г-н Воеводский замечает: «Следует только вспомнить, какую важную
роль играл детородный член во всех древних культах. Оскопить
человека — значило лишить его символа власти и жизни» (296). Ясно,
что половой процесс и возникающие из него отношения, сплетаясь
с различными нравственно-политическими элементами, проникая их
и в то же время проникаясь ими, не могли иметь острого
«скандального» характера. Совпадение строго легальной чистоты семейных
отношений, даже несколько аскетического пошиба, с грубонаглядными
формами культа, поражает, например, в празднествах в честь Деметры,
богини, прямо противоположной по своему характеру распущенной
Афродите. В тесмофориях, как назывались эти празднества, принимали
главное и почти исключительное участие женщины (мужчинам в
некоторых случаях даже под страхом смерти воспрещалось проникать в
храм), и притом женщины, родившиеся в законном браке и состоящие
в таковом же; да и те должны были, приготовляясь к празднику,
воздерживаться известное время от половых сношений (Maury. Histoire des
religions de la Grèce antique, II, 223 и след.). А мевду тем в тесмофориях
играло существенную роль изображение ктеис. Ясно, что эротический
элемент расплывался здесь в чем-то гораздо более широком.
Что же это такое было, это широкое? После всего предыдущего
мы, кажется, имеем уже право ответить: борьба мужского и женского
начал, борьба не только личная, а и общественная, поднятая
напряжением истории до религиозной высоты. Совершенно независимо
от групп сословных, племенных, национальных и других высших
общественных индивидуальностей и раньше их слагалась
индивидуальность семейная, а в ней бились, как птицы в клетке, две
половинки человеческой индивидуальности, бесповоротно разрезанные
тысячелетним процессом природы. Я прошу читателя обратить вни-
Борьба за индивидуальность
567
мание, что это не есть дарвинова борьба за существование, хотя и
она играла в занимающих нас отношениях свою подчиненную роль.
Обе половины человеческого существа боролись именно за
индивидуальность, обе стремились обратиться из половинок в нечто целое,
т. е. совместить в себе весь жизненный труд, требуемый наличными
условиями, и все сопряженное с ним наслаждение. Временное
удовлетворение это стремление получало, как получает и теперь, в
любви; но так как затем налицо оставались все-таки только две половины,
а не что-нибудь единое и целое, то каждая из них искала иных путей.
В безумном порыве мечты эти поиски создавали двуполые образы
божеств, а в действительности заставляли то женщину обращаться
в «мужеподобную» амазонку, то мужчину подражать в куваде мукам
родильницы. Если мы видим многочисленные отклонения от этого
органического стремления к целости и единству, к
индивидуальности; если мы видим, например, стремление мужчин и женщин строго
распределить между собой необходимый жизненный труд, причем
каждая сторона норовит навалить на другую как можно больше, то
это — результат нарастания и укрепления индивидуальности
общественной, главным образом — семейной. Индивид в тесном смысле
слова, пока он не покорен высшей индивидуальностью, жаден до
последней степени и не только неохотно уступает другому какую-
нибудь функцию своего организма, но стремится захватить и чужие
функции. В позднейших формах борьбы за индивидуальность мы
увидим это подробнее. Но, собственно, по яркости и наглядности
этой жадности, мы не увидим уже ничего столь поразительного, как
представленные факты борьбы мужского и женского начала.
Я должен напомнить читателю то различие двух основных форм
эгоизма, которое я пытался установить во вступительном очерке.
«Мы знаем превосходно, — говорит один немецкий писатель, — что
многие органы излишни для жизни, но не знаем всех органов,
которые должны быть сохранены для беспрерывного продолжения
жизни. Случалось, что человек оставался жив после ампутации
обеих рук и обеих ног. Тем не менее конечности необходимы для
сохранения жизни, потому что в этом случае человек мог оставаться в
живых, только пользуясь руками и ногами других людей» (Прейер228.
Исследование жизни. Знание. 1873, № 4). Но не одни жертвы
хирургических операций могут жить только потому, что у других есть руки
и ноги. Существует даже мнение, что человек, по самым основным
568
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
свойствам своей природы, склонен к такому положению, т. е. к
возможности жить только благодаря тому, что у других людей есть руки
и ноги. Эту-то предполагаемую основную склонность человека
психологи, моралисты, экономисты называют эгоизмом. Неспорно, что
все их теории имеют широкое фактическое основание; немало на
свете людей, уподобляющихся паразиту, постепенно суживающему
формулу своей жизни, остающемуся, наконец, без конечностей, без
органа зрения и превращающемуся в пищеварительно-половой
инструмент. Неспорно, что склонность к паразитизму есть склонность
эгоистическая. По все-таки это — только известная, хотя и широко
распространенная форма эгоизма. Существует и другая, когда
человек стремится, напротив, расширить свою формулу жизни, вводить
в нее все новые и новые элементы, обнимать все больший и больший
круг наслаждений, а, следовательно, и деятельности. Первая форма
дает начало борьбе за существование, вторая — борьбе за
индивидуальность. Результат борьбы за существование есть приспособление
к исторически данной общественной среде. Результат борьбы за
индивидуальность — обратный: приспособление среды. Дана, положим,
вышеупомянутая семья бразильских тупинамбосов. Роли индивидов
распределены вполне ясно: муж — грубый воин-людоед, ничего,
кроме войны, не знающий и в свободное от этого занятия время ровно
ничего не делающий; жена — покорное вьючное животное,
исполняющее все хозяйственные обязанности, рожающее детей, но лично
не имеющее на них никаких прав; ее дети могут быть совершенно
правомерно съедены, если они прижиты не от ее сурового владыки,
а рожать таких обреченных на убой детей она опять-таки обязана
по требованию все того же владыки. Так сложилась исторически эта
форма семьи. Пусть несчастное создание, исправляющее в этой
семье обязанности жены и матери, борется за существование, т. е. за
пространство, за воздух, метафорически выражаясь, за кусок хлеба,
а в действительности этот кусок может иногда оказаться обглоданной
костью ее собственного детища. В результате получится более или
менее полное приспособление к данной семейной среде. Среда эта
укрепится, а формула жизни жены-матери сократится. То же самое
и относительно самого владыки, несмотря на его
привилегированное положение. Но пусть эти люди борются не за существование, а за
индивидуальность, за расширение своего я; пусть только, например,
женщина добивается признания своих детей своими и, следователь-
Борьба за индивидуальность
569
но, неподлежащими съедению. В результате получается или, по
крайней мере, может получиться изменение среды, ее приспособление
к требованиям индивида в тесном смысле слова. Несмотря, однако,
на эту глубокую разницу между борьбой за существование и борьбой
за индивидуальность, они с известной точки зрения могут
переходить одна в другую. Мы условились принимать целую градацию
индивидуальностей, в которой индивид в тесном смысле слова,
человек, личность составляет только одно из звеньев, хотя самое для нас
дорогое и даже единственное дорогое и близкое. Поэтому и борьба
за существование может быть рассматриваема как частный случай
борьбы за индивидуальность, — тот именно случай, когда активным,
борющимся и побеждающим началом является высшая
общественная индивидуальность, в области занимающих нас теперь явлений —
семейная. Естественное дело, что пока эта высшая индивидуальность
еще не окрепла, не развилась, не налегла всей своей тяжестью на
человека, не было и поводов к ней приспособляться. Эгоизм в эту
отдаленную пору должен был направляться и действительно направлялся
главным образом на расширение личности, на захват все большего
и большего круга наслаждений и деятельности, хотя бы этот захват
даже сопровождался некоторыми частными лишениями и
страданиями. Мы видели тому поистине поразительные примеры в куваде,
в которой наивный дикарь мечтает принять на себя даже труд родов;
в попытках женщины стать «мужеподобной», оставаясь женщиной.
Что касается до перепитий этой удивительной борьбы, то они
наиболее исследованы Бахофеном. Вот в общих чертах результаты, к
которым он пришел. За периодом гетеризма, безразличного смешения
полов, следовал период женовластия и именно в виде преобладания
матери. Женщина, как существо более слабое, и на которое поэтому
первобытный гетеризм ложился тяжелым бременем, первая восстала
против господствовавшего зверообразного порядка. Но восстать она
могла только в качестве матери и, следовательно, с помощью детей,
которые были к ней естественно ближе, чем к отцу, даже если он был
известен (наглядное выражение этого переворота дают
вышеупомянутые мифы Крона и Зевса, низвергающих, в союзе с матерями,
своих отцов). Таким образом, женщина, родившая и вскормившая детей,
мать, кладет основание семье и становится во главе ее. Отсюда —
наследование по женской линии. Но на этом не мог остановиться поток
женовластия. Женщина получает преобладающий голос в собраниях
570
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
семей, т. е. в народных собраниях, в гражданской и политической
жизни. Мужчина, со своей стороны, стремится захватить права и
обязанности матери. В этой борьбе выдвигаются амазонки,
существование которых Бахофен считает несомненным и появление которых
на арене истории он признает вырождением, извращением женской
природы и частным возвращением к первобытному гетеризму.
Наконец, побеждает мужчина, и семья поднимается на высшую ступень,
ступень духовной, более отвлеченной связи отца с детьми, в
противоположность яснофизической связи матери с детьми.
Я обращаю внимание читателя только на фактическую сторону
исследования Бахофена, а не на его субъективные мнения,
совершенно, впрочем, тонущие в громадной массе истолкованных им
исторических фактов и мифических сказаний. Исходя из того
принципа, что в мифах отразилась, с известным, разумеется, преломлением,
действительная история, Бахофен дает, например, мифу Беллеро-
фона такой вид: герой имеет целью установить высший и
исторически позднейший тип семьи с преобладанием отца, а вместе с тем
преобладание мужчины в гражданской политической жизни; но ему
удается только половина задачи: амазонок, это извращение женской
природы и возвращение к первобытному гетеризму, он победил,
но отступил перед ликийскими матерями, представшими ему в самом
женственном виде, так сказать, со знаменем материнства. Кроме
известных уже нам, главных контуров женовластия, сохранившихся
кое-где, как мы видели, и доныне в виде слабых остатков, Бахофен
пытается еще восстановить некоторые второстепенные черты этой
формы общежития. Нельзя, к сожалению, сказать, чтобы все эти его
попытки были удачны. Так, он желает, например, определить
отношение кастового строя Египта к женовластию, которое, по показанию
древних писателей, было таково, что все высшие должности были
в Египте заняты женщинами, а домашнее хозяйство
предоставлялось мужчинам. Однако из этого желания не вышло ничего кроме
некоторой путаницы (с. 103 и др.). Тем не менее, нельзя не признать
справедливой следующую основную мысль Бахофена. Если
верно — а в этом, кажется, нельзя сомневаться — что женщина, и именно
в качестве матери, играла некогда такую выдающуюся роль, как
думает наш автор, и как отчасти мог видеть читатель из предыдущего,
то эта черта должна была самым решительным образом
отразиться на всем строе цивилизации. В самом деле, в последующее время
Борьба за индивидуальность
571
с понятием женщины сочеталось представление чего-то по существу
подчиненного, низкого, грязного, а акт деторождения и все
связанные с ним явления, столь некогда священные, представлялись
требующими особенного искупления и очищения. Это — такой крупный
переворот, подобного которому история, может быть, не
представляет. А между тем перед ним должны стать в тупик или, по крайней
мере, отметить его как факт, не подлежащий дальнейшему
объяснению, люди, привыкшие видеть центр тяжести истории в умственном
развитии. Книга Бахофена тем именно нам и дорога, что признает
таким центром отношения общественные и уже из него ведет
радиусы к системе верований и понятий. И оттого-то мы встречаем у него
такие блистающие свежестью и оригинальностью выводы. В
цитированной уже выше статье Прейер делает следующее остроумное
замечание: «Преобладающее направление умов нашего столетия можно
назвать по преимуществу механическим. С одной стороны, никогда
еще не тратилось так много умственных сил на сооружение машин,
сберегающих и заменяющих человеческие руки и мозг, на изыскание
средств для капитализации и распределения пространства и
времени; с другой стороны, попытки объяснить чисто механическим путем
все явления, в особенности самые сложные из них явления жизни —
никогда еще не были так распространены, как в настоящее время.
Второе, бытьможет, есть последствие первого. Удивлялись, что ум
человеческий посредством механических приспособлений, мог
подчинить себе природу, и таким образом материальные успехи как
бы навели на успехи интеллектуальные». Я нимало не сомневаюсь,
что в этом смелом, хотя и брошенном мимоходом предположении
лежит зерно правды. Что явления умственной жизни тесно связаны
с фактами общественных отношений — это никем, кажется, не
отрицается. Но обыкновенно эту связь представляют себе так, что
известные верования, успехи философии, науки, литературы производят
давление на общественную жизнь. На самом же деле это давление
ничтожно сравнительно с толчком, который дается умственной жизни
формами общежития. Неспорно, что дарвинизм, например,
известным образом отражается в общественной жизни, расшатывая одни
мнения и чувства и укрепляя другие. Но сам дарвинизм мог явиться
только в наше время, не потому только, что для такой группировки
биологических явлений не доставало доныне материалов (что даже
и не совсем верно), а главным образом потому, что наше время есть
572
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
время вящего торжества в обществе дарвиновых принципов борьбы
за существование, расхождения признаков и приспособления. Как ни
парадоксален может показаться на первый взгляд этот принцип,
который я теперь защищать во всем его объеме не могу, но несомненно,
что, по крайней мере, относительно верований он скоро станет
азбучной истиной. А если так, то, конечно, резкая разница во взаимных
отношениях обоих полов должна иметь своим последствием столь
же резкую разницу миросозерцании. И Бахофен кое-что сделал для
определения этой разницы. Не говоря об общем характере его
исследования, целиком направленного к тому, чтобы сопоставлением
мифов и исторических данных, так сказать, вынудить у первых их
общественный смысл, он остроумно связал некоторые верования
с обыденными житейскими делами собственно для
характеристики периода женовластия. Наиболыие он напирает на преобладание
в этом периоде луны, ночи и левой руки над солнцем, днем и правой
рукой, которые выдвинулись на первый план только с тех пор, как
первенствующим лицом в семье и обществе стал мужчина. Связь луны
с женскими божествами и солнца с мужскими до известной степени,
кажется, общепризнана в науке. Относящиеся сюда мифологические
данные Бахофен сопоставляет с рядом свидетельств о странном
предпочтении ночи сравнительно с днем у народов, гинекократический
характер которых может быть дознан. Предпочтение это выражалось
в выборе ночи для сражений, для всякого рода сходок и собраний,
для религиозных церемоний, для отправления правосудия, в
счислении времени ночами, а не днями и т. п. Положения эти являются
у Бахофена не только плодами теоретических соображений; они,
напротив, даже до беспорядочности завалены грудой фактического
материала. Факты сведены у него так, что отдаленная древность
является как бы насквозь пропитанной идеей теснейшего родства между
женским элементом, луной, ночью и, наконец, левой рукой. Изо всех
этих черт я могу и должен несколько подробнее остановиться только
на последней, т. е. на преобладании левой руки над правой.
Известны взгляды Биша229 на значение неравномерной
деятельности и неравномерного развития парных симметрических органов,
главным образом — правой и левой рук Биша полагал, что эта
неравномерность, именно превосходство всей правой стороны нашего
организма, не есть что-нибудь врожденное, обусловленное самой
природой органов; что, несмотря на некоторые действительные различия
Борьба за индивидуальность
573
правой и левой стороны, «мы всегда будем вправе сказать, что это
неравенство вызывается общественными требованиями, а природа
предназначала обе половины к согласному действию» (Физиологические
исследования о жизни и смерти. Пер. Бибикова, 25). Затем,
несогласное действие обеих половин Биша признает источником различных
несовершенств. Например, фальшивый голос (если он не зависит от
недостатка слуха) обусловливается несогласием обеих
симметрических половин гортани, неравной силой мускулов, двигающих
голосовые пластинки, неравной деятельностью соответственных нервов и
т. д. Неравномерная деятельность обоих мозговых полушарий ведет к
умственному ослаблению и расстройству. Но если бы мы захотели
обратиться по этому вопросу к признанной, авторитетной науке, то
получили бы очень немного указаний. В берлинском антропологическом
обществе (Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte)
происходили в 1873 году прения по вопросу об употреблении правой
и левой руки. В прениях участвовал Вирхов — авторитет достаточно
громкий. Он выразил мнение, что преимущественное употребление
правой руки, по-видимому, предопределено особенностями нашей
организации, но при этом сослался на два специальных сочинения —
одно 1847 года, а другое даже 1807! Далее, в исторической части
прений никто не упомянул ни единым словом о Бахофене, хотя книга его
вышла еще в 1861 году. О Биша также не было сказано ни слова.
Прения в берлинском антропологическом обществе были
вызваны рефератом Мейера. Мейер не думает, чтобы предпочтение
правой руки определялось свойствами нашей организации, потому что
естественная разница между правой и левой сторонами слишком
ничтожна для такого решительного предпочтения. Не думает он также
(как думал Биша), что человек выбрал правую руку просто потому, что
надо же было которую-нибудь выбрать. Биша думал, что для
согласования своих действий в сражении люди условились держать
наступательное оружие в правой руке, а также производить все
общеупотребительные движения слева направо, что сподручнее делать правой
рукой. Но Мейер полагает, что эти явления не могут быть признаны
коренными, потому что в них уже выразилось преобладание правой
стороны. Преобладание — самое решительное. Если мы обратимся
к изображениям богов, то увидим, что они держат символы своей
власти: Зевс — молнию, Посейдон — трезубец, Геркулес — палицу и
проч., всегда в правой руке. Правую руку сует в огонь Муций-Сцевола;
574
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
правой рукой здороваются еще гомеровские герои, правой рукой
карают и милуют боги, благословляют жрецы, судят судьи, царствуют
цари; слева направо (по-нашему «посолонь») происходят с
древнейших времен религиозные церемонии, угощение гостей и т. д. Далее
во всех почти языках название правой стороны синонимируется
с названиями привлекательных умственных, нравственных и
физических качеств — честности, прямоты, ловкости, справедливости
(droit, adroit, dextérité; dexter, правда, право; Recht, rechtlich и проч.).
Наоборот: название левой руки в языках латинском, французском,
немецком, готском, кимврском, венгерском, итальянском и проч.,
и проч. связывается с понятием слабого, несчастного,
неспособного, неловкого, несвободного, рабского. Словом, всегда и везде правая
рука противопоставляется левой с такой же резкостью, как добро злу,
правда неправде, свет мраку. Объяснения такого всеобщего и
резкого противопоставления должно, по мнению Мейера, искать в каком-
нибудь постоянном и важном для людей явлении природы — и именно
в восходе и заходе солнца. Для первобытного человека сами по себе
правая и левая сторона столь же безразличны, как и для животных.
Но с ростом сознания человек, наконец, остановил свое внимание
на появлении из ночного мрака солнца и на движении его вправо
к югу, после чего оно исчезает на западе. Это были первые
постоянные, изо дня в день повторяющиеся явления, к которым человек мог
приурочить раз навсегда понятия «вперед», «назад», «вправо», «влево»,
вообще — прочные, определенные понятия четырех различных
направлений. А, следовательно, уже при самом зарождении своем эти
понятия должны были связаться с противоположением света и мрака
и вместе с тем добра и зла, потому что мрак ночи сопровождался
сравнительной беспомощностью, страхом зверей и проч. Затем вся
эта группа представлений освятилась религиозным элементом:
божество, свет, благо отошли вправо, «посолонь» (это русское слово в
самом деле подтверждает соображения Мейера), а демон, мрак, зло —
влево. Я не буду утомлять читателя фактическими доказательствами,
представленными Мейером в пользу своего объяснения, хотя они
собственно занимают немного место и сводятся к обычаям обращаться в
молитве на восток и на запад, и к некоторым филологическим
сближениям. Мейер закончил свой реферат воспоминанием о немецком
патриоте, демократе и основателе гимнастических обществ Яне,
который сильно восставал против «неестественной однорукости», т. е.
Борьба за индивидуальность
575
преобладания правой руки. Мейер не согласен с Яном. Он допускает,
что «двурукость», равномерное развитие правой и левой руки, имела
бы свои выгоды. Но думает, что выгоды эти ничтожны сравнительно
с великим значением полярной противоположности добра и зла,
которая порождена и поддерживается преобладанием правой руки над
левой. «Упрек в неосторожности, — говорит он, — опровергается
соображением о том, что двусторонность была некогда нам присуща
наравне с животными и растениями, но, повинуясь естественному
закону развития, мы должны не только инстинктивно, а и
сознательно подняться на высшую ступень над животным миром. Конечно, не
затем вечная природа обратила нашу голову к небу, не затем научила
она нас всем мировым строем великому противоположению добра и
зла, чтобы мы теперь опять утратили его смысл из-за чисто телесной
целесообразности и животной двусторонности; а затем, чтобы дать
нам руль в бурях нашего духовного развития и крылья для полета
из конечного в бесконечное» (Verhandlungen der berl. Geselschaft etc.
1873, Sitzung v. 25 Januar).
Без сомнения, этот заключительный ораторский фокус
референта есть величайшая пошлость, хотя бы уж потому, что люди
научились различать добро и зло по очень многим причинам, а не только
потому, что комбинация обстоятельств освятила для них правую руку.
Тем более нелепо ожидать падения полярной противоположности
добра и зла от замены «однорукости» «двурукостью». Полярности
добра и зла двурукость, конечно, не угрожает; но самые понятия о
добре, как и о зле, должны будут потерпеть от ее введения, вероятно,
довольно значительные изменения. Точно так же вправе мы ожидать,
чтобы преобладание левой руки, если токовое некогда было, должно
было существенным образом отражаться на весьма различных
сторонах жизни, равно как впоследствии противоположная однорукость.
В этом и состоит мысль Бахофена. Читатель не должен забывать, что
однорукость сама в себе не разрешается, что она ведет к
преобладанию всей соответственной стороны тела, значит и мускулов, и
нервов, и органов чувств, и мозгового полушария.
Из всех замечаний, вызванных рефератом Мейера, заслуживает
внимания только одно. Именно Сименс заметил, что если референт
прав, то, во всяком случае, только относительно жителей северного
полушария: в южном же полушарии, допуская верность основного
принципа референта, левая рука должна бы была преобладать, так
576
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
как там видимое движение солнца происходит справа налево, и
любопытно было бы проверить это обстоятельство на обычаях
туземцев южного полушария. На это Мейер ответил отчасти ни к селу, ни
к городу, что человеческая цивилизация сосредоточена
преимущественно в северном полушарии. Бастиан230 подтвердил
основательность замечания Сименса, но так как под рукой не оказалось нужных
для разъяснения недоразумения сведений, то тем дело и кончилось.
Если бы в собрании присутствовал Бахофен, прения были бы,
вероятно, несравненно продолжительнее. Сам Мейер намекает на
существование некоторых прорех в его теории. Так, он указывает
относительно Египта, что слова «evet» и «emunt» (восток и запад), которые
Шамполион231 считал равнозначащими выражениям «право» и «лево»,
теперь читаются наоборот, т. е. лево и право. Далее, греки называли
иногда левую сторону в противность общему правилу счастливой,
счастье приносящей, лучшей. Мейер объясняет это тем, что греки как
бы хотели польстить грозному и мрачному началу левой стороны,
умилостивить его. Бахофен привел бы несравненно большее число
таких исключений, не становясь, однако, в совершенное
противоречие с Мейером. В самом деле, Мейер установляет тесную связь,
с одной стороны, солнца, дня и правой руки, а с другой — ночи
(следовательно, и луны) и левой руки. Ту же самую связь утверждает и
Бахофен, и это встреча людей, отправляющихся от совершенно разных
точек, заслуживает большого внимания. Но Бахофен прибавляет еще
к первой группе представлений мужской элемент, а ко второй —
женский. Поэтому, сообразно общим результатам своего исследования,
он не дает абсолютного решения, не говорит, что с понятием той или
другой руки всегда связывалось что-то почтенное или что-то низкое.
Он полагает, что первоначально, вместе с господством
материнского права, преобладала и левая рука (любопытно, что такое
временное преобладание, по совершенно иным резонам, готов допустить и
Мейер. Verhandlungen, 29). Так, во время процессии Изиды один из
жрецов нес изображение левой руки, которая называлась justitiae или
aeqitatis manus, рука справедливости, а также наполненный молоком
золотой сосуд, имевший форму женской груди. Здесь ясно
выступают рядом: символ женственности, материнства и почтение к левой
руке. Пифагорейцы, объяснявшие все сущее из числа как первичной
субстанции и вместе с тем так высоко ставившие женщину,
сопоставляли нечетное число с правой рукой, а четное — с левой. Понятие же
Борьба за индивидуальность
577
четного и до сих пор во многих языках отождествляется с понятием
честного, прямого, справедливого (gerade pair). Одна из древнейших
и чистейших богинь Дике, Справедливость, восседает на севере, т. е.
не посолонь, а влево, и держит колосья в левой руке. Семирамида и
другие типические царственные женщины изображались древними
так, что только левая сторона их головы причесана, и проч., и проч.
(Das Mutterrecht, 11,127,129,132,158,185,219,274,319,362,377,413).
Затем, когда женщина была побеждена мужчиной, на первый план
выдвинулась правая рука, а с левой сочетались понятия слабого,
зловредного и презренного. Низшей индийской касте «чандала» законы
Ману232 решительно воспрещали употребление правой руки*. Таким
образом, судьба правой и левой руки оказывается одним из эпизодов
великой распри мужского и женского начал, и притом освещает ее
именно с точки зрения борьбы за индивидуальность.
Я стараюсь представить читателю великую распрю по
возможности в чистом виде, что сопровождается, однако, большими
трудностями, ибо семейные отношения облегаются наслоениями других
общественных индивидуальностей и нередко совершенно в них
тонут. До какой степени легко запутаться в этом лабиринте, видно из
По поводу этой касты в книге Жаколлио «Les législateurs religieux» (1876)
встречается чрезвычайно странная мысль. Каста чандала составилась, по
мнению автора, из отбросов высших каст, лишенных своего положения за
преступления. Эти несчастные терпели всевозможные гонения и варварства:
они не смели жить ни в городах, ни в деревнях, должны были употреблять
разбитую посуду, воду могли пить только из болот и луж, и т. д. В период
борьбы буддистов и браманистов чандалы, одинаково гонимые и
презираемые обеими враждующими сторонами, целыми массами эмигрировали из
Индии, и из них-то составились народы, названные впоследствии
семитическими. Сколько мне известно, это мнение о происхождении семитов, кроме
Жаколлио, решительно не имеет сторонников. Сам он высказывает его без
всяких доказательств, чисто эпически. Нельзя считать доказательствами
одной ссылки на Авадана-Састру (об эмиграции чалдалов приблизительно в
направлении Халдеи и Вавилона) и следующих двух во всяком, впрочем,
случае любопытных сближений обычаев семитов с постановлениями о чандалах.
Когда, вследствие крайне жалкого образа жизни, между чандалами начались
заразительные болезни, угрожавшие остальному населению, им было
предписано обрезание. Далее, как уже сказано, им было воспрещено употребление
правой руки и писание слева направо. «Еще и доныне, — замечает автор, —
индоевропейские народы во всяком деле пользуются преимущественно правой
рукой, тогда как все так называемые семиты употребляют левую (?)». Напомню
читателю, что Средняя Азия есть по преимуществу страна амазонок, женских
царств и богов-гермафродитов.
578
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
следующих примеров. Г-н Шашков, руководствуясь Бахофеном и Ли-
вингстоном, приводит много фактов старого и современного женов-
ластия в Африке. При этом он нередко указывает на почетное
значение женщин царского рода, что, однако, вовсе не говорит в пользу
его темы. Ливингстон говорит, например (цитата у Леббока), что дочь
одного начальника бечуанов «не могла смотреть на мужа иначе, как
на господина жены; поэтому она говорила, что все мужчины
принадлежат ей, она может взять любого из них, но не может держать
постоянно ни одного». Ясно, что мы имеем здесь факт преобладания
не женщины, но вождя и его рода, а жена есть собственно раба мужа.
В такие недоразумения публицисты, историки и философы
«женского вопроса» впадают довольно часто, вводя в занимающую их область
то, что вовсе к ней не относится или относится в совсем
неблагоприятном для женщин смысле. Мы, вероятно, еще увидим и другие
примеры подобных недоразумений. В последующей истории
супружеских отношений, при преобладающем значении отца и мужа,
весьма важную роль играют явления, названные Мак-Леннаном233
эндогамией и экзогамией: жена бралась или внутри своего племени,
или со стороны, чужая. В случае экзогамии жена бралась насильно,
умыкалась, и при этом, конечно, отбивалась сама и, если было
возможно, прибегала к помощи сородичей, одноплеменников. В случае
победы мужчины женщина становится, разумеется, рабой его, как
военная добыча. Существуют многочисленные описания походов
дикарей за женами, причем они обращаются с добычей варварски
жестоко: оглушают ее, например, дубиной и волокут полумертвую
в свое логовище. Ничего нелегального, противного понятиям
дикарей о справедливости в таком приобретении жены нет. До такой
степени, что даже в законах Ману один из видов или способов брака
описывается следующими чертами: «Когда из отцовского дома
похищается молодая девица, которая сопротивляется, зовет на помощь,
когда разбиваются затворы и убивают или ранят сопротивляющихся,
то этот брак называется способом гигантов». Способ этот
рекомендуется исключительно для употребления уважаемой касте воинов.
С течением времени этот способ исчез и оставил только
многочисленные символические следы в свадебных обрядах едва ли не всех
народов. Общий характер этих обрядов лучше всего обозначается
коротким замечанием одного славянского писателя: «Вся свадьба у
южных славян представляет собой войну в малом виде» (ФеррерКлун.
Борьба за индивидуальность
579
Русская беседа, 1857). Но если мы вздумаем, на основании анализа и
сравнения различных свадебных обрядов, восстановить облик того
древнего быта, которого они представляют только разрозненные и
сами по себе бессмысленные обломки, то должны будем усмотреть
в них весьма различные наслоения. Возьмем несколько русских
свадебных обычаев, собранных Терещенком (Быт русского народа)234.
Мы встречаем, например, песню, в которой муж берет жену
По божьему повеленью,
По царскому уложенью,
По господскому приказанью.
По мирскому приговору.
Здесь семья оказывается совершенно поглощенной другими
общественными индивидуальностями (О браках по мирскому приговору
см. замечания г-на Якушкина. Обычное Право, XXIII). Следовательно,
для выяснения собственно семейных отношений надо было бы
произвести известного рода вскрытие. Невеста плачет, что ее отдают
«чужому роду-племени», «разлучают с родом-племенем». Дом, в который
она вступает, представляется ей исполненным вражды:
Что медведь со медведицей,
Богоданный-то батюшка
С богоданною матушкой;
Шипица колючая,
Богоданны милы братцы;
Крапива-то жгучая
Богоданные сестрицы.
Этим безотрадным песням вполне соответствуют некоторые
обряды встречи невесты (так, в некоторых местах родители
благословляют новобрачных одетые в вывороченной шубе, «что медведь
со медведицей»), наконец, обряды отбивания невесты, имеющие
совершенно подобие войны, приобретения добычи, похищения.
Но уже в этом подобии войны можно усмотреть два
противоположных течения, которые следует строго различать как принадлежащие
двум разным эпохам. Не всегда в свадебных обрядах жених
похищает или завоевывает невесту, а иногда, наоборот, невеста — жениха.
Не всегда также родственники или вообще безразлично
представители того или другого пола отбивают нападение жениха, а иногда
580
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
исключительно женщины, вовсе не родственницы. Конечно, таких
архаических черт могло сохраниться немного, но они все-таки есть.
Так, в Малороссии, по словам Терещенки, невеста повязывает
жениха полотенцем. Сваты при этом объясняют, что «приводца»
(приведенного) необходимо связать, чтобы он не убежал из хаты. Там же
в числе свадебных обрядов существует ловля жениха; его ловят или
палками загоняют на двор невесты; он упирается, убегает, скачет
на лошади. Отсюда уже недалеко до былины о богатыре Добрыне,
которого «паленица» схватила за желты кудри, посадила его «во
глубок карман» и дома женила на себе. Г-н Кавелин был, как известно,
в молодости писатель, несравненно более осмотрительный, чем
теперь, когда седина уже давно закралась в его бороду. Тем не менее,
приведенные малороссийские свадебные обряды так ярки, что г-н
Кавелин именно по поводу их, говорит: «Пассивная роль женихов
только окончательно убеждает, что мнение, будто женский пол —
слабейшая половина человеческого рода и потому в быту занимает
второстепенное место — далеко не аксиома и не может быть
принято исходной точкой в историческом исследовании» (Сочинения, IV,
174). В другом месте: «Мнение, что женский пол есть слабейший, не
вполне оправдывается историей, а потому не может быть принято
за аксиому в исторических исследованиях о женщине. Например,
что значит сказание об амазонках? Его нельзя признать за чистый
вымысел. Некоторые замечают даже именно у славянского племени
какое-то нравственное превосходство женского пола над мужским»
(там же, 87). Малороссийская ловля жениха и привязывание
«приводца» не исключительные явления, как видно из следующих слов
Леббока: у гаросов (индусское племя) при публичном объявлении
брака «происходит притворная драка, хотя в этом случае
притворное сопротивление бывает на стороне жениха. В этом племени
девушки предлагают себя мужчинам» (1. с. 80). Я не располагаю ни
достаточными данными, ни достаточным временем для выяснения
разницы тех свадебных обрядов, в которых символически
сражаются представители разных полов, и тех, в которых противниками
являются представители разных родов или племен. Но разница
налицо. В первом случае стоят друг против друга мужской и женский
элементы во всей двойственности их враждебно-любовного
отношения, а во втором — эта коренная черта тонет в позднейших
наслоениях родового быта.
Борьба за индивидуальность
581
Основание семье положено бесспорно матерью. Что касается до
дальнейшей судьбы семьи под главенством отца и мужа, то она нас
пока не занимает, потому что нам не выяснился еще основной фактор
супружеских отношений — враждебно-любовное отношение между
полами. Все разнообразные оттенки и разветвления патриархальной
семьи пока исчезают для нас перед тем общим фактом, что мать и
жена заняли в ней второстепенное место. Эта форма семьи, как мы
видели, установилась не без борьбы, и с установлением ее борьба не
прекратилась. Однако борьба стала скоро существенно отличной
от первобытной, так сказать, амазонской. Возьмите сборник семей-
но-нравственных предписаний, вроде «Домостроя» или «Пчелы»235,
и какой-нибудь хороший сборник народных русских песен. Вы будете
сравнивать идеалы заурядного мудреца с действительностью, как
насколько она отразилась в песне. И вы поразитесь, до какой степени в
пустыне вопиет заурядный мудрец. Как бы ни поступали, ни
чувствовали, ни мыслили идеальные фигуры мудреца, но в действительности,
и притом в действительности, подхваченной песней — значит яркой,
характерной, потому что песня даром слова не скажет, — жена в таком
роде забавляется над мужем: она заперла перед носом мужа ворота и
...с невежею смеленько говорила:
Ты ночуй, ночуй, невежда, за вратами,
Вот тебе, невежа, мягкая постеля,
Мягкая постеля — белая пороша!
Вот тебе высоко изголовье — подворотня!
Вот тебе шитое одеяло — часты звезды!
Уж и я ли невежу успросила:
Каково тебе, невежа, за вратами,
Таково ж мне, невежа, за тобою,
За твоей дурацкой головой.
Действительный муж жалуется, что за ним ходят три сторожа.
Трос сторожи, трое грозные:
Первый сторож ходит — тесть-батюшка.
Второй сторож — теща-матушка,
TJothh сторож — молода жена:
Мы его пойдем, да на огне сожжем,
На огне найдем, пустим в быстру реченьку.
Ах, ты возмой, возмой, туча грозная!
582
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Убей моего тестя-батюшку,
А стрелой застрели тещу-матушку,
Сильным дождичком засеки молоду жену.
Ты спаси, спаси красну девушку,
Красну девушку, прежнюю сударушку.
Наконец женщина поднимает эту глухую борьбу до
отвратительной высоты. Трудно в самом деле найти что-нибудь омерзительнее
(по нравственному складу) той песни, существующей во множестве
вариантов, в которой женщина мстит так:
Я из рук, из ног коровать смощу,
Из буйной головы яндаву скую,
Из глаз его я чару солью,
Из мяса его пирог напеку,
А из сала его я свечей налью.
Созову я беседу подружек своих,
Я подружек своих и сестрицу его,
Загадаю загадку неотгадливую:
Ой, и что таково:
На милом я сижу,
На милова гляжу,
Я милым подношу,
Милым подчиваю.
А и мил предо мной,
Что свечею горит?
Какого бы, однако, напряжения ни достигла эта борьба, в каких
бы страшных образах она ни воплощалась, она ничтожна, как
детская игра, в сравнении с той гигантской борьбой, которая создавала
мифы и культы, клала свою печать на весь общественный строй и на
все мировоззрение.
Zerstücke den Donner in seine einfachen Syblen,
Und du wirst Kinder damit in den Schlummer singen:
Schmeltze sie zusammen in einen plötzlichen Schall
Und der monarchische Laut widp den ewigen Himmel bewegen.
Donner древней борьбы за индивидуальность в сфере
занимающих нас здесь вопросов был действительно zerstücke in seine einfachen
Syblen, разбит на слоги. С безумным, но смелым и величавым порывом
Борьба за индивидуальность
583
существа, еще не отшлифованного гранями высших общественных
индивидуальностей и не знающего ни сил своих, ни границ, древность
стремилась слить воедино мужской и женский элементы и слить не
только в процессе любви, то есть в процессе взаимного тяготения двух
разрозненных половин — нет: древность стремилась побороть и самую
любовь, стать выше ее, обратив каждую половину в целое, так, чтобы
мужчина воспринял все женственное, а женщина — все мужественное.
Со свойственной ей цельностью и наивностью древность доводила
это стремление до геркулесовых столпов, до самых последних
логических результатов, и пала под бременем неумолимого закона природы;
пала, как гомеровские герои, не отступающие и перед богами, и
оружие которых еще после падения гудит и звенит по всему полю битвы.
В последующие периоды мы видим или голую борьбу за
существование, то есть приспособление к условиям патриархальной семьи, или
тот только вид борьбы за индивидуальность, который эксплуатируется
всеми романистами и называется любовью. Добрый молодец потому
желает смерти своей прекрасной «половине», что она оказалась не его
половиной, не подходящей, как ему, по крайней мере, кажется.
Кровавая мстительница потому льет свечи из сала своей непрекрасной
«половины», что она отошла от нее. Сообразно этому борьба получает
исключительно личный характер. На сцене Иван и Марья, Федот и
Дарья, может быть при достаточной сложности интриги три-четыре
действующие лица, но нет лагеря женщин и лагеря мужчин — нет борьбы
коллективной. В этом разница. За вычетом любви, все стороны
борьбы за индивидуальность сходят со сцены отношений между полами и
переходят на другую, вернее, на другие, где действуют роды, племена,
народы, сословия, профессии, касты, союзы политические,
экономические, под коловращением которых мужчина и женщина, как
таковые, затираются. На исторической сцене фигурируют на первом плане
не мужчина и женщина, а монгол и европеец, брамин и парий, гугенот
и католик, капиталист и наемник — все нечто, если хотите, даже
бесполое, потому что в столкновениях гугенота и католика или монгола
и европейца пол решительно ни при чем. Правда, женщина занимает
везде второстепенное место и есть собственно только жена брамина,
монгола и гугенота. Но подчиненное положение не спасло женщину
от давления высших общественных индивидуальностей. Его
явственные следы она несет на себе и в наше время, когда, по-видимому,
женщины опять выстраиваются в сплошные фаланги.
584
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Читателю известно, если он, разумеется, удостаивал вниманием
мои прежние писания, что я не имею претензии быть апостолом
современного женского движения, то есть форм, в которых оно
практикуется, и путей, которыми идет. Я не стараюсь подчеркивать
его слабые стороны явственнее, чем стороны сильные, но не могу
не привести следующую, например, курьезную гипотезу г-жи Ройе,
женщины очень ученой и неглупой. Сказав несколько слов о
возможности женских государств, помянув амазонок, г-жа Ройе переходит к
вопросу о полезности «переворота отношений между полами». «Если
бы, — она говорит, — было доказано, что такое общественное
состояние может дать действительную экономию сил, то есть сократить
непроизводительную трату индивидуальной деятельности, сберечь
время и вообще достигнуть известных результатов с меньшими
усилиями, то было бы весьма вероятно, что какая-нибудь разновидность
человека осуществит с течением времени на верху зоологической
лестницы те самые чудеса женского гения, которые нас нисколько
не удивляют у насекомых — у пчел и муравьев» (Origine de l'homme
et des sociétés, 381). Надо, впрочем, отдать справедливость г-же Ройе:
она говорит это в сослагательном наклонении и даже начинает
с того, что on ne voit pas bien ce que l'espèce humaine y gagnerait. Еще
бы gagnerait! Перевернуть ли известным образом стасованную
колоду карт крапом вниз или крапом вверх — от этого в ней ничего не
переменится. Игра ума г-жи Ройе хороша только тем, что сама
обнаруживает свою неосновательность. Об этом стоит сказать несколько
слов, потому что игра ума г-жи Ройе переносит в будущее то, что
некогда существовало и о чем мы уже говорили. На самом деле,
разница между этой гипотезой и первобытными гинекократическими
обществами громадна, не столько в общих контурах обоих зданий,
сколько в их подробностях, или, пожалуй, не столько в их планах,
сколько в исторической обстановке. Я не говорю уже о том, что
человечество едва ли захочет надеть на себя новую петлю — и старых
девать некуда, — но надо помнить, что древность молода, а
современность стара и даже, может быть, беззуба. Пылкость юноши не
приличествует разбитому параличом старцу. Главное отличие игры ума
г-жи Ройе от древнего женовластия состоит вот в чем. В отдаленную
пору борьбы мужского и женского начал, которую я старался выше
характеризовать, всякие общественные индивидуальности только
Борьба за индивидуальность
585
еще складывались, и все достаточно резкие различия между людьми,
приходившими между собой в столкновение, сводились к различию
половому. Между самими женщинами процесс общественного
развития (дифференцирования) еще не провел тех резких
демаркационных черт, какие отделяют ныне дворянку от крестьянки,
капиталистку от работницы, представительницу одной профессии от
представительницы другой. История не провела их и между мужчинами.
Оттого возможно было общее женское дело и общее мужское дело, и
оттого столкновение этих дел могло наполнить историю. Ныне
ничто подобное невозможно.
Здесь я чувствую потребность оторваться от гипотезы г-жи Ройе,
которую, я в это искренно верю, русские женщины всерьез никоим
образом не примут. Ну и Бог с ней. Но факт невозможности
коллективного женского дела остается все-таки налицо. Точнее сказать:
коллективное женское дело ограничивается и не может не
ограничиваться самыми элементарными и общими требованиями. Если
уличные ловеласы оскорбляют достоинство женщины, то
противодействие им, по-видимому, может войти в состав общего женского
дела, хотя и тут, надо заметить, есть женщины, безусловно
гарантированные от уличных оскорблений своим положением,
обстановкой, а есть такие, для которых уличные ловеласы составляют
источник существования. Что, в самом деле, может быть общего в
настоящем случае между великосветской дамой, которая идет по
Невскому в сопровождении ливрейного лакея, проституткой,
которая сама заглядывает прохожему в глаза, бедной девушкой, которая
растеряется от обиды, и кухаркой или дворничихой, от которой
ловелас в случае надобности отлетит турманом? Но уже несомненно
общее женское дело могут составить требования расширения прав
семейных — матери, жены, дочери, требования права любви. Далее
сюда же следует условно допустить обнаруживающиеся ныне
требования права знания и труда — условно потому, что право труда всего
подавляющего большинства населения одинаково приблизительно
есть или его одинаково нет как у женщин, так и у мужчин.
Последний случай для нас особенно интересен. Пока речь идет об общих
требованиях знания и труда, это есть коллективное женское дело и
вместе с тем борьба за индивидуальность, за расширение женского л,
за введение в него новых нравственных, умственных и физических
586
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
элементов. Но вопрос может значительно осложниться, когда
общая формула выльется в специальный, так сказать, сосуд и
застынет в нем, отпечатав на себе все его выпуклости и вогнутости. Легко
может случиться, что коллективное дело при этом раздробится на
личные дела, вместе с чем борьба за индивидуальность сменится
голой борьбой за существование. Пускай завтра же отворятся
настежь двери общественной деятельности перед женщинами; пускай
они хлынут в них, давя друг друга и мужчин, вообще кто кого
сможет, и разместятся в стройном порядке по ступеням политической,
административной, экономической, профессиональной иерархии.
От этого, может быть, выиграет тот или другой общественный
организм, та или другая ступень общественной индивидуальности,
но женское, коллективное, общее женское дело — при чем оно тут?
Женщины будут также конкурировать между собой, перебивать друг
у друга кусок хлеба, как это делается и ныне между мужчинами.
Конечно, виноват тут самый порядок, и нельзя винить никого, кто
борется за существование. Но, во всяком случае, раз женщина борется
только за существование — коллективный характер женского дела
немыслим. Каждая в одиночку будет приспособляться к условиям
жизни и той или другой общественной индивидуальности и
фатально давить неприспособленных: alte Geschichte, которая нисколько
не меняется с изменением персонала. Радоваться ей, как успеху
женского дела, это, по-моему, со стороны друзей женщин — такое же
недоразумение, как радоваться тому, что дочь царька бечуанов
имеет право выбирать себе любого мужа. Борьба за существование есть
в крайнем случае только печальная необходимость и в качестве
таковой не заключает в себе, во-первых, ничего радостного и
желательного, потому что чем она усиленнее, тем больше жертв, а во-вторых,
не может иметь общего коллективного характера, потому что всегда
разбивает интересы, всегда zerstückt den Donner' iu seine einfachen
Sylben. Кто хочет, чтобы гром действительно гремел из тучи, тот
должен искать иных путей. Без сомнения, положение женщин
трудно, но едва ли оно легче для мужчин, быть может, даже труднее, по
крайней мере, в некоторых отношениях. И теперь каждый
мужчина, — чтобы откровенно свести вопрос на чисто личную почву, —
должен, подойдя возрастом к дверям общественной деятельности,
прежде чем постучаться в них, добросовестно взвесить свои силы и
подумать: бороться ли мне только за существование и, следователь-
Борьба за индивидуальность
587
но, приспособляться ко всем изгибам данной общественной среды,
или же бороться за индивидуальность и, следовательно,
приспособлять. Трудно это, конечно; и решить трудно, а в последнем случае
и привести в исполнение нелегко, в первом-то легко. Так или иначе,
но вопрос сводится не к загораживанию для кого бы то ни было
дороги к труду и знанию, а к форме труда и направлению знания.
Может быть, поменьше настойчивости в подчеркивании женского
вопроса, поменьше желания проникнуть во все поры данного
общественного организма не повредило бы женщинам.
Я пока только это и хотел сказать, а теперь обратимся опять к
тому исконному звену, которое связывает мужчину и женщину, —
к любви.
Потребность любви без сомнения присуща человеческой
природе. Порукой в том и вековая история, и любой почти номер
ежедневной газеты. Но в известных, весьма значительных пределах
потребность любви может изменяться по силе и напряженности. Я имею
в виду не отдельные личности, которые любят, разумеется, разно,
а целые исторические эпохи. Если же искать эпоху, в которой жажда
любви прорывалась бы с наибольшей силой, то, конечно, придется
остановиться на средних веках. В самом деле, в эту пору все
общественные классы одолеваются какой-то повальной одурью любви,
если позволено мне будет так выразиться: это выражение — самое
подходящее. Я напомню только те черты, которые поражают своей
напряженностью как в сторону прекрасного, так и еще больше в
сторону смешного и отвратительного. Знаменитый Абелар236, полный
умственных сил и блестящих способностей, передает, однако, в
назидание потомству не философию свою, а свою любовную историю
с Элоизой. Данте237 навеки связывает свое имя с Беатриче. Петрарка
двадцать лет бескорыстно любит и воспевает Лауру и, как сам
рассказывает, для обуздания пламени любви в молодости, «блуждая без
цели, оглашал долины и небо жалобными песнями». Не так
знаменита любовь Боккаччо к донне Марии, но зато скептический гуляка
прославил свое имя Декамероном, этим изображением приятного
времяпровождения молодых людей и женщин, удалившихся во время
чумы в раковину Венеры. Кроваво-порнографический эпизод Нель-
ской Башни238, в которой Маргарита Наварская, Иоанна де Пуатье и
Бланка де ла Марш разыгрывали роль «прекрасной, как ангел
небесный, как демон коварной и злой» царицы Тамары. Романы и fabliaux,
588
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
полные то чистейшей до эфирности, то грязной до омерзения
любви, трубадуры, минезингеры, «веселая наука» и, наконец, рыцарство
с его служением «Богу и даме» и утонченнейшими градациями
любви, рыцарство, совершавшее для прекрасных глаз дамы и великие
подвиги, и великие глупости. Пусть читатель просмотрит хоть,
например, у Шерра (История цивилизации Германии) историю
глупого, но пламенного рыцаря Ульриха фон Лихтенштейна. Наконец,
учреждаются «суды любви», cours d'amour; на них стоит остановиться,
чтобы видеть, до какой виртуозности можно дойти в этом
направлении. Рыцарская любовь имела много ступеней: любовь к мужу была
не то, что любовь к своему рыцарю, любовь рыцаря, в свою очередь,
проходила известную градацию, подробности возвышения которой
были строго определены. Существовал, например, один условный
поцелуй, носивший выразительное название «половина да, половина
нет». Считалось возможным задавать и разрешать такие задачи: дама
и рыцарь лежат в объятиях друг друга целую ночь, не позволяя себе
ничего, кроме поцелуя. Естественно, что такие скользкие
двусмысленности должны были подавать повод ко множеству недоразумений,
разрешением которых и занимались благорожденные дамы,
заседавшие в «судах любви». Один рыцарь послал своего друга к даме своего
сердца по сердечному делу, но друг оказался коварным другом, а дама
коварной дамой. Рыцарь представил дело в суд любви, и суд,
состоявший из шестидесяти дам под председательством графини
фландрской, постановил исключить коварных из общества рыцарей и дам.
Один рыцарь признался в любви даме; та отвечала, что она уже
любит другого, но если бы она его потеряла, то удовлетворит просителя.
Вскоре дама вышла замуж за. любимого рыцаря, и тогда отвергнутый
потребовал исполнения обещания. Дама не соглашалась, рыцарь —
в суд. Суд, под председательством Элеоноры Пуатье, постановил:
дама должна исполнить обещанное, потому что, выйдя замуж за
любимого рыцаря, она, действительно, потеряла его, так как между
мужем и женой не может быть рыцарской любви. Поднимались и
общие вопросы. Например: кто из двух любящих лучше — тот ли, кто
умер с печали, что не видал возлюбленной, или тот, кто умер от
радости, увидав возлюбленную? Или: что лучше, любовь загорающаяся
или любовь возобновляющаяся? Но чтобы читатель сразу поднялся
на вершину комизма судов любви, я заимствую у Дюфура (Histoire
de la prostitution) следующее судоговорение. Во Франции трибунал
Борьба за индивидуальность
589
любви был довольно сложен: там были и maire des bois verts, и baillif
de joye, и viguier d'amours, и проч. Однажды дама приносит на
своего друга жалобу devant le maistre des forestz et des eaues sur le faict du
gibier d'amours. Она жалуется, что друг нарочно столкнул ее в реку,
чтобы mettre la main sur les tetins, вследствие чего она просит, чтобы
виновный был très grièvement puny de punition publique. Друг
отвечал, что точно они в воду упали, но что cheyant il ne Pavoit ni tastée ni
pincée, ne n'eut pas le loisir de ce faire, pour l'eau dont il estoit tout es-
blouy. Тем не менее, le procureur d'amour dessus le faict des eaues et des
foresiz disoit que par les ordonnances il est deffendu de ne point chasser
à engins, par lesquels on puisse prendre testins en l'eaue, и т. д. Суд
приговорил виновного, во внимание к смягчающим обстоятельствам, к
покупке даме нового платья взамен попорченного водой. Мы имеем
тут дело с какими-то полоумными, которые страстно жаждут
любви, потому что готовы ради нее и умереть, и убить, и делать
невероятные глупости, а между тем как будто совершенно растерялись
и не знают, кого любить, за что любить, кик любить. Даже такое
комическое дело, как суды любви, есть, в сущности, может быть,
только одна из форм тех знаменитых повальных или коллективных
психических болезней, которая так характеризует средние века.
Не все было комично в средневековых любовных делах. Припомним
многочисленные истории привораживания присухи, любовных чар
и, наконец, знаменитые процессы ведьм, в которых фигурировал
дьявол под видом инкуб и суккуб, в которых девушки и женщины
обвиняли себя в любовных сношениях с дьяволом. Что толкало
воображение этих несчастных по направлению к безобразному козлу,
как они себе представляли своего мрачного мучителя-любовника?
Я чрезвычайно сожалею, что не могу теперь подробнее
остановиться на этих поразительных и уже заведомо патологических поисках
любви. Без сомнения, одно упоминание о них вызвало в голове
читателя ужасные образы, которых, в связи с комизмом судов любви,
с минезингерами, трубадурами, рыцарями, приворотными зельями,
более или менее странной любовью великих поэтов (может быть,
сюда следует отнести еще гнусности, открытые процессом
тамплиеров) — всего этого совершенно достаточно для признания
средних веков временем вящей и болезненной жажды любви. В самом
деле, отпечаток чего-то ненормального, то капризно-страстного, то
неестественно разогретого лежит и на историях Абелара и Элонзы,
590
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
Петрарки и Лауры, даже Данте и Беатриче, и на фантазии Боккаччо
вышит букет шаловливой любви на мрачном фоне чумы, а о
массовых движениях и говорить нечего. Откуда же взялся этот странный
шабаш глупцов и негодяев, полоумных и увлеченных, несчастных и
неистовых?
Есть еще одна крупная, характерная черта в средневековье. Если
вы будете следить за судьбой обширной империи Карла
Великого239, то поразитесь быстротой и неудержимостью, с которой она
стремилась, так сказать, атомизироваться, распасться на
простейшие составные части. Империя рассыпается на королевства,
королевства — на второстепенные самостоятельные политические
индивидуальности, а их перерезывают во всех направлениях стены и
заставы; города рассыпаются на сословия, сословия — на цехи и
гильдии. Этот по размерам своим единственный в истории процесс
займет нас впоследствии, причем мы увидим в нем весьма
различные течения. Теперь для нас довольно слегка указать только на ту
его сторону, которая несомненно тяжелым гнетом ложилась на
индивида в тесном смысле слова, на человеческую личность. Не беда,
что распадалась империя Карла: беда в том, что дробился человек.
Общественное разделение труда достигло небывалой силы. Наука
была оторвано от жизни, опыт от мысли; воин был только воин и
выглядывал из-за зубчатых стен своего замка только для грабежа,
разбоя и воинской потехи, турниров; каждая профессия отделялась
непроходимым рвом от всего остального мира, превращая своих
представителей из людей в специальные инструменты; даже нищие
прирастали, как грибы, к церковным папертям и не смели
переходить от одной к другой; даже у проституток был свой гех ribaldorum,
лишь бы они поплотнее замкнулись в свое ремесло. Я покажу в свое
время оборотную сторону этой медали — она есть, равно как и те
усилия, которые человеческая индивидуальность
.противопоставляла историческому течению.
Нет ли какой-нибудь связи между представленными двумя
рядами явлений средневековой жизни? Несомненно есть, и не может ее
не быть между одновременными явлениями, до такой степени
яркими и общими. Любовь есть стремление к соединению двух
разрозненных половин человеческого существа. Если бы мы имели дело
с абстрактным человеком, то выбор не играл бы никакой роли в
любви. На самом же деле каждый из нас, будучи в качестве мужчи-
Борьба за индивидуальность
591
ны или женщины уже по коренному закону природы полчеловеком,
вместе с тем более или менее помят ближайшими условиями жизни.
Этим обусловливается выбор в любви и притом в той именно форме,
которую подметил еще Шопенгауэр (и раньше Кант). Разнополость
сама по себе не предрешает с исключительностью предмета любви.
Но люди различаются не только полами, и потому закон развития
компенсирует и второстепенные контрасты один другим. Прежде
всего, это обнаруживается на вторичных половых признаках.
Суммируя все вторичные половые признаки в словах мужественность
и женственность, мы можем с положительностью утверждать, что
чем в данной расе или в данную эпоху мужчины мужественнее,
а женщины женственнее, тем, вообще говоря, любовь царит
полновластнее. Но затем различные процессы, и, между прочим, процесс
дифференцирования общества, производят многочисленные
изменения в среде самих мужчин и самих женщин, новые, значит,
контрасты, которые тем же механизмом закона развития вовлекаются
в общий водоворот любви. При этом мы имеем уже не полчеловека,
как оно следовало бы по закону природы, а другую, меньшую дробь;
и чем меньше эта дробь, тем страстнее стремится она к своей
дополнительной (до единицы) дроби; но трагизм состоит в том, что
тем труднее найти эту дополнительную дробь. Это именно мы и
видим в средние века. Представим себе среднего средневекового
мужчину, идеальный тип, в котором совмещались бы все разбросанные
по классам и сословиям силы и способности. Это будет наше
мерило, т. е. нормальный человек эпохи, точнее полчеловека, мужчина
(замечу мимоходом, что таков именно должен быть прием и при
сравнении двух эпох или двух цивилизаций, а следовательно, при
оценке прогресса). Теперь посмотрим, что такое, например, Абелар.
Возьмите какой-нибудь курс истории философии, посмотрите, что
занимало Абелара, как он разрешал волновавшие его вопросы, и вы
увидите, что Абелар был головастик, притом такой, у которого уши,
глаза, ноздри наполовину закрыты, так что еле-еле оставляют
проход внешнему миру на кое-какую подтопку дикой мозговой работе.
Он составляет, несмотря на свои блестящие диалектические
способности, весьма малую дробь нормального человека эпохи, как с точки
зрения волнующих его интересов, так и с точки зрения его сил. Эта
малая дробь ищет своей дополнительной дроби со страшной
стремительностью. Но откуда же взять эту дробь, когда кругом все столь
592
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
же малые дроби, хотя и с другими знаменателями? Откуда взять
туловище к громадной картонной голове, которая мигает и дует
в «Руслане и Людмиле»? Оттого-то Абелар (помимо его
позднейшего уродства) так явно неудовлетворен любовью Элоизы, любит так
грубо и извращенно. А что такое благородный и славный рыцарь
Ульрих фон Лихтенштейн? Ацефал, безголовый человек, в головном
отношении до такой степени беспомощный, что разъезжает в честь
своей дамы по белому свету в костюме Венеры. Что такое нищая,
приросшая, как гриб, к паперти храма? Почти ничто. Подавленная
своим ничтожеством и почерпающая в нем удесятеренную жажду
любви, она, конечно, не найдет дополнительной дроби, — и вот она
кидается в объятия чему-то без образа, имени, кидается
воображением в объятия дьявола. Что такое все эти графини фландрские и
Элеоноры Пуатье, все эти благорожденные дамы? Они не имеют
понятия и о сотой доле тех страданий и радостей, которыми живет
средний нормальный человек эпохи. И вот они регламентируют
любовь, требуя и плотской любви мужа, и двусмысленной любви
рыцаря, и эфирной любви простого поклонника, и полудетской
любви пажа, думая из этих кусочков сложить требуемую
дополнительную дробь. Но удовлетворения нет, и благорожденные дамы
погрязают в бессмысленном шутовстве. Чем больше жажда любви, тем
труднее ее удовлетворение. Это — вариация на ту же тему, которая
в применении к жажде наживы была нами указана в первом очерке:
здесь мы имеем выражение того же основного психофизического
закона, в силу которого ощущение растет только как логарифм
вызывающего его раздражения.
Средние века миновали, и наше время, к счастью, не знает уже
такой колоссальной несоразмерности жажды любви с
возможностью ее удовлетворения, хотя она остается все-таки причиной
многих разбитых жизней. Но наше время выставило другую, не
менее грозную несоразмерность в теореме Мальтуса. Теория Мальтуса
может нас здесь интересовать только поскольку ею затрагиваются
отношения семейные и половые. Поэтому достаточно заявить, что
в основных своих чертах она, в применении к данным
общественным условиям, несомненно верна. Я разумею только самую
теорему, а не практические выводы из нее Мальтуса и мальтузианцев.
Некоторые из этих выводов теперь именно подлежат нашему
обсуждению.
Борьба за индивидуальность
593
IV. СЕМЬЯ
(Окончание)
«Нравственное самообуздание» Мальтуса. — Объяснение Лекки. —
«Дисгармонические периоды» г-на Мечникова. — Избыток любви. —
Творческое начало семьи и смерть ее как организма. —
Несоразмерность потребностей с условиями удовлетворения. — Вольница и
подвижники. — Гетеры и йогины. — Антагонизм индивидуальности
и генезиса — Заключение.
Без малого восемьдесят лет тому назад появилось первое издание
знаменитого трактата Мальтуса о народонаселении, и во все эти
восемьдесят лет, можно сказать, не умолкали ожесточеннейшие споры
за и против теории. Очень хорошо понимая, каким нетерпением
готов встретить иной читатель новые рассуждения на эту старую тему,
спешу предупредить, что здесь у нас не будет речи о теории Мальтуса
по существу. Если мы и придем в конце главы к некоторым
результатам, освещающим самые основания теории, то они будут получены
попутно. Не в них пока наша цель.
В так называемой теории Мальтуса следует различать две
стороны: теоретическую и практическую. Первая утверждает только, что
при данных условиях население размножается быстрее, чем средства
пропитания. Как ни грубо выразил первоначально этот факт
Мальтус, но это — факт несомненный, и все возражения против него
порождены недоразумениями. Возражения получают силу только с того
момента, как ими отрицается неизбежный, роковой характер
разъясненного Мальтусом несоответствия. Если признать несоответствие
роста размножения с ростом средств пропитания фатальным,
роковым, то тем самым, разумеется, устраняется всякая почва для какого
бы то ни было практического решения: выхода нет. Так именно и
поставлен был вопрос в первом издании «Опыта» Мальтуса. Но затем он
ввел «нравственное самообуздание» как панацею против
изображенных им зол. Перебрав «различные системы, предложенные или
принятые обществом против бедствий, порождаемых законом
народонаселения», Мальтус приходит к заключению, что все они радикально
неудовлетворительны, и что вся надежда должна быть возложена на
самообуздание. Панацея эта была встречена возгласами негодования
и упреками в лицемерии, в двусмысленности. И надо сказать правду,
что в этих упреках было и остается, несмотря на разные недоразу-
594
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
мения, много верного. Был ли Мальтус враг народа, которого одна
французская песня сороковых годов справедливо попрекала:
Qu'attendez vous, enfans du prolétaire,
Quand vous n'avez ni travail, ni crédit?
Celui qui chôme est de trop sur la terre,
Allez vous en, les malthusiens l'ont dit,
или он, напротив, был, как говорят его последователи, лучший друг
рабочего люда, доброжелательно рекомендовавший ему
воздержание от любви, — это было бы нам, пожалуй, все равно. Но что
собственно значит «нравственное самообуздание»? Прямого,
откровенного ответа на этот вопрос вы не найдете ни у самого Мальтуса,
ни у Милля, который именно по этому поводу заметил, что
«общественные болезни, подобно физическим, не могут быть
предупреждаемы или излечиваемы, если не говорить о них прямо и ясно»
(Основания политич. экон. Кн. II, гл. XIII), ни у Гарнье, который
посвятил целый трактат специально разъяснению недоразумений,
порожденных теорией Мальтуса. Прочитав труды столпов теории
с полным вниманием и без всякого предубеждения, вы все-таки не
знаете: действительно ли они предлагают известной части
населения обратиться в аскетов? Верят ли они сами в возможность такого
превращения? Или они желали бы видеть какие-нибудь
искусственные ограничения количества рождающихся детей? Или, наконец,
что-нибудь в общественных учреждениях должно служить
резервуаром, куда отведется избыток естественной потребности любви?
Потому что не надо забывать этой стороны дела: при наличных
условиях существует избыток любви. Когда людям предлагают без
дальнейших объяснений просто взять да и заморить одну из
элементарнейших и сильнейших потребностей, то невольно должно
прийти в голову, что предлагающий либо лицемерит, либо держит
за пазухой какой-нибудь камень двусмысленности. Правда, столпы
теории с негодованием отвергают «безболезненное удушение»
новорожденных, кастрацию и тому подобные меры, предложенные
Маркусом, Вейнгольдом и другими эксцентриками мальтузианской
идеи. Но от такого отрицания еще далеко до положительного
разъяснения двусмысленного термина «нравственное самообуздание».
Я приведу только два примера того, как путаются и увертываются
толпы теории.
Борьба за индивидуальность
595
В своем сочинении «Du principe de population» (P. 1857) Иосиф
Гарнье относительно одного из врагов теории — Прудона, замечает,
что, несмотря, дескать, на неосновательность этого писателя, в
сочинениях его есть страницы, под которыми обеими руками
подписался бы самый завзятый мальтузианец. Он ссылается при этом на
дю Пюйнода, который также укоряет Прудона в том, что он, будучи,
собственно говоря, сам чуть что не мальтузианец, громит Мальтуса
и его школу. И похвалы Гарнье, и упреки дю Пюйнода представляют
результат просто путаницы понятий и неясности собственных
взглядов. Прудон полагал, что способность деторождения и самая любовь
должны ослабеть под влиянием известных изменений
общественного строя; что воздержанность в половых сношениях явится при иных
экономических условиях сама собой, как результат равновесия
личных и общественных сил. Между тем Мальтус посвятил много
страниц своего труда на доказательство, что никакие общественные
порядки не в силах предотвратить пагубные последствия «закона
народонаселения». Мало того: он доказывает, что «система равенства» (так
Мальтус называл современные ему доктрины Годвина240, Валласа241,
Кондорсе, Оуэна242), обеспечивая каждому возможность безбедного
существования, тем самым дала бы, если бы могла осуществиться,
только новый толчок размножению. Ясно, что Прудон и Мальтус —
антиподы. Один топчет свойства человеческой природы, рекомендуя
немедленно приступить к самообузданию; другой ждет равновесия
сил в будущем, как результата известным образом направленной
истории, притом таким именно образом, который в глазах первого
есть нелепость. Если же Гарнье, дю Пюйнод, Молинари утверждают,
что это — одно и то же, то, конечно, только потому, что либо сами не
понимают, чего они хотят, либо умышленно напускают туману.
Иначе нельзя характеризовать и поведение самого Мальтуса.
Знаменитая четвертая книга «Опыта», в которой трактуется о
нравственном самообуздании, поражает своей запутанностью и
противоречиями. Например: «Страсть эта (любовь), если смотреть на нее с самой
широкой точки зрения, присоединяя к ней любовь родителей к
детям и детей к родителям, без сомнения, есть одно из
могущественнейших условий для счастья. Тем не менее нам хорошо известно из
опыта, что эта же самая страсть становится источником бедствии,
если она дурно направляется. Правда, что в итоге эти бедствия
ничтожны сравнительно с благотворным действием добродетель-
596
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
ной любви; но сами по себе они несомненно весьма значительны.
Образ действия в этом отношении правительств и даже налагаемые
ими наказания говорят, что страсть, о которой идет речь, не
вызывает таких страшных бедствий или, по крайней мере, не
причиняет такого непосредственного вреда обществу, как нарушение права
собственности, как противозаконное удовлетворение желания
обладать тем, что принадлежит другому. Тем не менее когда при
исследовании этой страсти представишь себе важные следствия
необузданного ее проявления, то невольно чувствуешь себя готовым на
большие жертвы, чтобы уменьшить ее силу или даже совсем заглушить.
Но это значило вы или отнять у человеческой жизни всю прелесть
и сделать ее бесцветной, или отдать ее на произвол дикого и
неукротимого зверства». Итак, бедствия, причиняемые любовью,
ничтожны сравнительно с ее благотворным значением: лишить ее
людей значит обесцветить их жизнь или обратить их в зверей. И, однако,
нравственное самообуздание все-таки рекомендуется. Точно так же
Мальтус вполне понимает всю непобедимую силу полового влечения
и ставит его по общности и могуществу непосредственно вслед за
голодом, но тем не менее повторяет свой припев обуздания. Он
представляет себе дело так, что женщины должны выходить замуж лет
в 28-30, а следовательно, супружеский возраст мужчины отводится
годам к 40. Он настаивает на том, что воздержание до этого
возраста должно быть строго нравственным, т. е. не формальным только,
а действительным целомудрием, рисует идиллическую картину
общества, в котором практикуются такие нравы: молодые люди
находятся до брачного возраста в близких, но вполне целомудренных
отношениях, имеют возможность коротко узнать друг друга и затем
не тяготиться уже детьми, происходящими от их позднего союза.
Идиллию эту он развивает так далеко, что предсказывает даже в
конце раскрываемой им перспективы исчезновение войны. Конечно, он
должен был очень хорошо понимать, что все это — пустяки. Какой
же в самом деле серьезный человек может думать, что воздержание
до 40-летнего возраста возможно как общее правило. Возражение
это до такой степени настойчиво вызывается теорией, что Мальтус
не мог его не предвидеть и ответил таю «Если кто-либо предлагает
кодекс нравственности или полную теорию наших обязанностей, то
это вовсе не доказывает, чтобы он обольщал себя безумной надеждой,
как бы он ни был убежден в неизменной необходимости для людей
Борьба за индивидуальность
597
подчинения его законам, что последние будут исполняться всеми
или даже большей частью людей». Зачем же было огород городить?
Но этого мало: Мальтусу очень хорошо известно, что даже в том
случае, если его огород горожен не напрасно, из его проекта не может
выйти ничего, кроме изуродования человеческой жизни.
Все эти противоречия, недомолвки, двусмысленности
объясняются очень просто, если вспомнить историю происхождения теории
Мальтуса. Русский перевод «Опыта о законе народонаселения»
оканчивается словами: «Практическая цель, которую главным образом
имел в виду автор, какие бы ошибки ни сделаны были им, состояла в
улучшении положения и в увеличении счастья низших классов
общества». В позднейших изданиях Мальтус действительно много говорил
на эту тему, но совсем не такова была его первоначальная цель.
Известно, что он хотел только противопоставить закон
народонаселения демократическим и революционным идеям, нахлынувшим в его
время из Франции во всю Европу; он хотел доказать, что никакие
политические и социальные реформы не в силах уничтожить
бедствия значительнейшей части человечества, которые являются таким
образом злом неизбежным, роковым, установленным Провидением.
Во втором издании он много смягчил свои положения и выводы
и, кроме того, ввел панацею самообуздания. Любопытны
следующие его слова в предисловии ко второму изданию: «Что же касается
того, что я говорю о будущих успехах общества (т. е. самообуздания),
то, надеюсь, что слова мои не будут опровергнуты опытом прошлого.
Если найдутся люди, которые будут настаивать, что всякое
препятствие для размножения населения представляет большее зло, чем те
бедствия, от которых оно спасает, то они несомненно примут во всей
силе все последствия, представленные мной в первом издании этого
опыта. Если принять это мнение, то на нищету и бедствия низших
классов народа нельзя смотреть иначе, как на неисправимое зло».
Следовательно, и впоследствии, уже по изобретении самообуздания,
Мальтус охотно готов был видеть в бедствиях низших классов народа
«неисправимое зло». Понятно, что он не мог при таком условии
придавать серьезное значение самообузданию, и это-то естественное
неверие в рекомендуемое им самим средство породило всю массу
его противоречий и двусмысленностей. К нему лично вовсе не могут
быть обращены наши вопросы: действительно ли он верил в
возможность самообуздания? Или он предполагал отлить избыток любви в
598
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
какой-нибудь особый резервуар и т. п.? Все эти вопросы и при жизни
его проходили мимо его ушей, да и теперь отскакивают от его теории,
которая в основании своем состоит в «неисправимости зла» какими
бы то ни было средствами, в том числе и самообузданием. Другое
дело — его последователи. Между ними есть, без сомнения, люди
искренние и не столь враждебно относящиеся к тому, с чем враждовал
Мальтус. Как же они разумеют практическую сторону доктрины
своего учителя? Едва ли не вернее всего будет сказать, что они просто не
хотят ее знать, хотя много говорят о ней. Дело в том, что
большинство мальтузианцев — экономисты, т. е. люди, объекты науки
которых есть собственно не человек, а существо купующее,
возделывающее и поедающее. Положим, что в исходной точке они признали его
таковым чисто в видах логического и методологического удобства.
Но, не имея сил удержаться на этой отвлеченной высоте, они
отождествили своего абстрактного человека с человеком конкретным,
действительно существующим. Сделать это без ущерба для логики
было, конечно, невозможно, потому что на каждом шагу
обнаруживается, что действительно человек не только возделывает, покупает,
продает, поедает, а обладает и другими склонностями и
способностями, например, склонностью и способностью половой любви и
деторождения. Нелогичный, но при данной путанице неизбежный выход
из затруднения — отвернуться от любви, игнорировать ее. Отсюда
поразительная небрежность в отношениях мальтузианцев к вопросу
о любви. Следующее маленькое рассуждение «от противного», может
быть, лучше всего выяснит читателю свойства ошибки экономистов.
Политическая экономия построена на той гипотезе, что человек
в своих действиях управляется исключительно жаждой приобретения.
Это построение совершенно законно, пока не выходит из пределов
гипотезы. Точно так же могут быть построены и другие отвлеченные
науки. Мы можем взять какое-нибудь очень общее и очень
могущественное свойство человеческой природы, уединить его, отвлечь от
других свойств и условно, в видах удобства исследования,
предположить, что человек руководится в своей деятельности исключительно
мотивами, соответствующими выделенному нами свойству. Любовь
представляет мотив, достаточно общий и могущественный для
такого построения. Следовательно, можно представить себе науку,
удовлетворяющую всем требованиям отвлеченной науки и, так сказать,
вполне параллельную политической экономии, которая ответит на
Борьба за индивидуальность
599
вопрос: каковы были бы законы последовательности и
сосуществования явлений в обществе, рассматриваемом исключительно с точки
зрения половых отношений его членов? Без сомнения, в применении
к жизни законы этой науки подлежали бы гораздо большим
поправкам, чем законы политической экономии, потому что основание
последней может быть сведено к мотиву, более общему и
элементарному, чем любовь. Величайшую ошибку сделал бы представитель этой
несуществующей науки любви или как бы она ни называлась, если бы
отождествил объект ее, отвлеченного человека, проникнутого
исключительно половым стремлением, с человеком действительным.
Вероятным следствием этой ошибки представителей науки любви было бы
предложение людям заглушить в себе некоторые коренные свойства
человеческой природы, мешающие неограниченному воцарению
любви в жизни. Такова именно позиция экономистов-мальтузианцев.
Они, конечно, как и всякий взрослый человек, понимают, что вполне
нравственное самообуздание, какого желал на словах Мальтус, есть
утопичнейшая из утопий; что с точки зрения их теории дело совсем
не в самообуздании, а в устранении естественного финала половых
отношений, т. е. деторождения. Но прямо указать на какую-нибудь
меру в этом роде они не решаются, потому что боятся оскорбить
утвердившиеся понятия о нравственности. Очутиться в таком
неловком положении может всякий робкий мыслью человек. Но стоять в
нем с таким упорством могут только экономисты. Необходимую для
этого слепоту они почерпают в отождествлении конкретного
человека жизни с отвлеченным человеком экономической науки, т. е. с идеей
человека, занятого только производством, обменом и потреблением
богатств. Нечего, следовательно, и искать у экономистов
разъяснения действительного смысла и значения практической части учения
Мальтуса. Ответов на вышепоставленные вопросы, т. е. настоящих
прямых ответов, следует требовать у мальтузианцев-экономистов.
Такие есть. Вот, например, Лекки243, историк и моралист,
бесстрашно доводящий мысль учителя до некоторых ее логических
результатов. Лекки излагает и развивает учение Мальтуса следующим образом.
Естественная потребность любви сильнее, чем то требуется
благосостоянием человечества. Если бы удовлетворение ее в форме брака
сделалось всеобщим, то это было бы величайшим несчастьем. Хотя
природа совершенно недвусмысленно побуждает людей к ранним
бракам, но цивилизация, по мере своего поступательного движения,
600
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
должна все сильнее противоборствовать этому естественному
стремлению. «При обсуждении этого вопроса, — продолжает Лекки, —
моралист должен иметь в виду преимущественно следующие два пункта:
естественный долг каждого мужчины заботиться о детях, которых он
произвел на свет, и охранение домашнего очага от ущерба и позора.
Семья есть центр и прототип государства, и счастье и
благосостояние общества всегда в высокой степени зависят от чистоты
домашней жизни. Исключительная по своей сущности любовь мужчины и
естественное желание каждого быть уверенным, что вскормленный им
ребенок есть действительно его ребенок, делают из вторжения в семью
противозаконных страстей причину величайших страданий.
Несмотря на это, чрезмерная сила страстей делает, кажется, эти вторжения и
неизбежными и частыми. При таких-то условиях возникает в обществе
печальнейшая и во многих отношениях ужаснейшая фигура, какую
только может встретить взор моралиста» (Sittengeschichte Europas von
Augustus bis auf Karl den Grossen. Uebers. v. Jolowicz, II, 231 и след.). Дело
идет о проституции, которой чистенький, высоконравственный
англичанин вынувден, скрепя сердце, печатно петь восторженные
благодарственные гимны в прозе. Лекки останавливается перед проституцией
с ужасом, но и с почтением, как перед злом неизбежным, как перед
спасительной отдушиной, охраняющей, по крайней мере, некоторые
семейные очаги. Вывод этот особенно знаменателен в устах Лекки,
который в своих основных соображениях признает пожизненную связь
мужчины и женщины нормальным типом половых отношений и
считает недостаточным утилитарный принцип в учении о нравственности.
Как бы то ни было, но у него хватило смелости и честности не вилять
подобно экономистам-мальтузианцам и самому Мальтусу по
двусмысленной дорожке вполне нравственного, истинно целомудренного
самообуздания. Он, по крайней мере отчасти, раскрывает
действительный смысл практической части учения Мальтуса, переводя туманное
слово самообуздание словом проституция. Лекки не знает
удовлетворительного в нравственном отношении выхода из заколдованного круга
действий «закона народонаселения» и прямо заявляет это.
Чрезвычайно замечательна у Лекки сама постановка вопроса. Хотя
он ссылается на Мальтуса, но в развитии своих мыслей значительно
уклоняется от него не только в практическом отношении, разбивая
фантом самообуздания, айв теоретическом. С точки зрения Лекки,
вопрос не исчерпывается несоответствием силы размножения с ро-
Борьба за индивидуальность
601
стом средств пропитания: дело в избытке силы любви, в чрезмерной
напряженности полового стремления, даже совершенно независимо
от количества рождающихся детей. Лекки представляет себе дело так:
пожизненный моногамический брак есть наилучшая форма
супружеских отношений, но, как доказал Мальтус, полное господство этой
формы повело бы ко многим пагубнейшим последствиям, и потому
оно нежелательно; ввиду этой отрицательной цели, если можно так
выразиться, цивилизация постепенно отодвигает брачный возраст
или же прямо сокращает число браков. Остается, следовательно,
известный осадок любви, так сказать, нерастворимый в правильном
браке. Куда он девается, как удовлетворяется и каковы вообще
последствия его существования? В ответ Лекки указывает на грубую и
грязную подделку любви в виде проституции и на нарушение семейного
счастья, на «ущерб и позор домашнего очага». Но если так, то гроза
висит совсем не только над «низшими классами народа», как
полагал Мальтус, и вообще не только над людьми, не имеющими средств
содержать семью. В некоторых отношениях она собирается,
напротив, преимущественно над головами людей обеспеченных, имеющих
мальтузианское право на семейную жизнь. Именно в эту семейную
жизнь вторгается осадок любви, нерастворимый в правильном браке,
и производит в ней массу страданий. Лекки согласен лучше на
проституцию. — Вот полный круг относящихся к нашему предмету идей
Лекки. Очевидно, что его взгляды далеко логичнее и вместе с тем
ближе к тревогам жизни, чем деревянная теория самообуздания. Однако
и у Лекки мы замечаем две весьма существенные прорехи. Во-первых,
исчерпываются ли последствия избытка любви проституцией и
вторжением «противозаконных» страстей в законную семейную жизнь?
Конечно, нет. Последствия эти несравненно многообразнее, как
знает всякий, если не по опыту, то из «судебного отдела» газет и кратких
извещений о самоубийствах, сумасшествиях и т. п. Во-вторых,
причиной избытка любви Лекки все-таки признает главным образом
только указанное Мальтусом несоответствие. Но так ли это? Опять-
таки, конечно, нет. Надо заметить, что в главе о положении женщин
Лекки почти исключительно занят явлениями супружеских и вообще
любовных отношений в высших и средних классах европейских
обществ. Здесь, именно среди людей обеспеченных, находит он
наиболее обильный материал для исследования влияния поздних браков,
отсутствия браков и вторжения в чужую брачную жизнь. Значит, люди
602
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
избегают брака и наносят «ущерб и позор домашнему очагу» своего
соседа не только потому, что им нечем прокормить собственную
семью, а и по другим причинам. Из них Лекки указывает только на одну:
на убеждение в греховности плотской любви. Но очевидно, что эта
причина объясняет лишь очень немногое. Что в известные эпохи
некоторые члены общества воздерживаются от брака по побуждениям
мистико-религиозным — это справедливо. Но само по себе это
явление отражается так или иначе только на личной жизни
воздерживающихся. Правда, что, обращаясь, как в католическом духовенстве, в
голую формальность, принцип безбрачия очень хорошо уживается
с фактическим вторжением в чужую семейную жизнь и с
проституцией. Но беда была бы еще не очень велика, если бы все трудности
вопроса любви вертелись около католического духовенства.
Итак, ни причины, ни следствия избытка любви не обнаружены
Лекки с достаточной полнотой. Эти два пробела отчасти пополнит,
отчасти, по крайней мере, выяснит нам г-н Мечников, о замечательном
исследовании которого («Возраст вступления в брак») я уже имел
случай говорить*. Напомню главные выводы г-на Мечникова. Анализ
разнообразного статистического и этнографического материала
приводит автора к такому заключению: «Половая зрелость (pubertas), общая
физическая зрелость (nubilitas) и брачная зрелость (возраст
вступления в брак) составляют три важных момента в жизни человека,
имеющих одну и ту же цель: удовлетворение стремлений к поддержанию
вида (размножение). В одних случаях (большинство первобытных
народов) эти три момента совпадают или почти совпадают друг с
другом; в других же случаях они раздвигаются, между ними появляются
промежутки, тем более длинные, чем дольше совершается развитие,
и потому наиболее ощутительные у наиболее цивилизованных
народов. Эти промежутки, означающие неравномерное и, следовательно,
неодновременное развитие аппаратов, служащих для одной и той же
цели, составляют доказательство дисгармонии в развитии человека».
«Дисгармонические периоды», как называет г-н Мечников упомянутые
промежутки, у цивилизованных народов длиннее, чем у первобытных;
у высших классов длиннее, чем у низших; у мужчины длиннее, чем у
женщины. Они сопровождаются увеличением смертности,
преступлений, самоубийств и сумасшествий. Так как эти печальные явления
См. Записки профана.
Борьба за индивидуальность
603
вместе с культурным развитием, с цивилизацией, все усиливаются, то
г-н Мечников считает себя вправе выразить предположение, что само
культурное развитие служит источником смерти народов — все равно
как смерть отдельных индивидов есть только конец жизни.
Оставляя пока это последнее заключение в стороне,
сосредоточим свое внимание на других сторонах исследования г-на
Мечникова. Постановка вопроса у него та же самая, что у Лекки. Он исходит из
того факта, что цивилизация постоянно отодвигает брачный возраст,
хотя возраст половой зрелости остается при этом неподвижным.
Факт этот является у г-на Мечникова более осязательным, чем у Лекки,
потому что обставлен статистическим материалом. Например,
возраст половой зрелости русских крестьян, английских пэров, баронов
и проч. и немецких принцев один и тот же — около семнадцати лет.
Но женятся русские крестьяне, средним числом, в 20,79 лет,
английские пэры и бароны в 29,63, а немецкие принцы в 30,5. Таким
образом, весь промежуток между физической возможностью вступления в
брак и самым вступлением равняется у русских крестьян трем годам,
у английских пэров и баронов — двенадцати, а у немецких принцев —
тринадцати годам. Эти годы распадаются на два отдельных
дисгармонических периода: первый тянется от проявления половой зрелости
до наступления полной физической зрелости, второй — от этого
последнего момента до собственно брачного возраста. И так
цивилизация удлиняет дисгармонические периоды и тем самым порождает,
следовательно, относительный избыток потребности любви, потому
что потребность эта просыпается раньше, чем физиологическими и
культурными условиями допускается ее безнаказанное
удовлетворение. Каковы причины и последствия этого факта? Возьмем сначала
последствия, потому что они должны, между прочим, служить более
наглядным выражением самого факта. При этом я позволю себе
более или менее значительные отступления от г-на Мечникова, вернее
сказать, некоторые дополнения к его соображениям.
Что касается первого дисгармонического периода, т. е,
промежутка между моментом половой зрелости и моментом общей зрелости
организма, то его значение вполне ясно и не подлежит особенно
пространным толкованиям. Он имеет значение главным образом для
женщин. Половая зрелость, т. е. потребность любви, проявляется у
женщин известными характерными признаками, дающими
возможность с достаточной точностью отнести этот момент, например, для
604
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
англичанок к шестнадцатому, для француженок — к пятнадцатому
году. Но рост тазовых костей, обусловливающих правильные роды,
завершается только около двадцати лет; поэтому до наступления
этого выражения общей зрелости организма удовлетворение так рано
пробуждающейся потребности любви сопровождается усиленной
смертностью в родах. Здесь, значит, избыток любви прямо и просто
ведет к смертной казни. Нет, к сожалению, прямых доказательств, что
первый дисгармонический период все раздвигается с развитием
цивилизации (их нет и у г-на Мечникова); но мы знаем, однако, что, во-
первых, например, наши крестьянки выходят замуж раньше женщин
высших классов, и что, во-вторых, рожают они легче. Можно поэтому
думать — что подтверждается и некоторыми дедуктивными
соображениями, — что развитие тазовых костей и вообще общая зрелость
организма замедляется у цивилизованных женщин их образом
жизни, лишенным физических упражнений. Можно бы было, конечно,
рекомендовать женщинам воздержание, или, говоря словами
Мальтуса, нравственное самообуздание. Оно отчасти и практикуется не
только в первом, а и во втором дисгармоническом периоде. Если
наиболее цивилизованные нации, а в них наиболее обеспеченные
и культурные классы, отличаются поздними браками, то из этого не
следует, конечно, чтобы факты эти служили показателем усиления
целомудрия. Но относительно женщин это до известной степени
справедливо. Старая дева — это несчастное, осмеянное,
озлобленное существо — не миф. Для цивилизованных женщин официальная
статистическая цифра возраста вступления в брак сплошь и рядом
служит действительным выражением количества лет
нравственного обуздания. Слишком известны результаты этого явления: «Между
144 душевными больными женского пола, находившимися в клинике
Эскироля, было не менее 88 случаев, причиной которых
предполагалось воздержание. Маудсли244 считает это обстоятельство одной
из главных причин помешательства у особ женского пола». Но это
только наиболее яркие результаты, которые, подобно шилу,
слишком уж далеко вылезают из мешка и кровавыми уколами дают о себе
знать. Взвесьте всю ту массу страданий, которая приводит старых дев
и верных памяти мужа вдов к умопомешательству; прибавьте сюда
страдания, не доводящие до камеры в клинике душевных болезней,
но постоянно держащие субъекта у ее порога, и вы ужаснетесь перед
этим избытком любви, которой деваться некуда и которая бурлит, как
Борьба за индивидуальность
605
чрезмерное количество пара в паровике, пока его не разорвет. Если
дисгармоническим периодам предстоит постоянное удлинение, то,
значит, будет все расти и эта страшная лавина страданий.
Мужчине не приходится выдерживать такую борьбу с позывами
любви, потому что ни природа, ни общество не возложили на него
ответственности за половые сношения, хотя бы приблизительно
равной той, какую несет женщина. Возможны, конечно, в виде
редких исключений случаи нравственного самообуздания мужчин, но
это — такая капля в море, о которой говорить не стоит. Во всяком
случае, последствия воздержания для мужчин те же, что и для
женщин. Главная масса страданий мужчин, поражаемых
дисгармоническими периодами, мотивируется совсем иначе. К услугам мужчин
является, во-первых, проституция. Сюда уходит огромная доля
избытка их потребности любви. Результаты известны: болезни (далеко
не один сифилис), распущенность всякого рода. Я бы желал только
обратить внимание читателя на те второстепенные, по-видимому, и
редко кем принимаемые в соображение стороны этого рода половых
сношений, которые отзываются непосредственно на нравственном
характере мужчины. Уже одна привычка смотреть на человека (на
проститутку) как на вещь, которая продается и которую можно
купить, ложится на привыкшего пятном, неизбежно расплывающимся
по всей его нравственной физиономии. Но дело не останавливается
на этом. Связи с «погибшими, но милыми созданиями», купля и
продажа любви являются в глазах одной части общества делом грязным
и презренным, которое должно быть поэтому скрываемо; между тем
существуют и такие сферы, где купля и продажа любви, притом ее
особенно извращенные виды, составляют своего рода подвиг, удаль,
молодечество. Понятно, что и то и другое должно самым пагубным
образом отражаться на нравственном характере людей, захваченных
этой мутной волной. В первом случае лицемерие въедается в плоть
и кровь, во втором — цинически извращаются самые элементарные
требования добропорядочного поведения и уважения к человеческой
личности. Я не могу здесь дольше остановиться на этих явлениях.
Читатель может сам их обдумать, и если он примет в соображение весь
обширный круг зол, связанных с проституцией (даже оставляя в
стороне судьбу женщины-проститутки), все наносимые ею ущербы
физическому, умственному и нравственному здоровью, он поймет, что
около проституции группируется чрезвычайно значительная доля
606
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
пагубных следствий дисгармонических периодов. Сюда, без
сомнения, должны быть отчасти занесены и те усиленные склонности
неженатых мужчин к болезням, смертности, преступлениям,
самоубийствам и сумасшествиям, о которых трактует г-н Мечников. Говорю:
отчасти — потому что все эти явления, несомненно тесно
связанные со сферой половых отношений, вовсе, однако, не так уже зависят
собственно от безбрачной жизни, как думает г-н Мечников. Вообще
вопрос этот поставлен у него крайне грубо, крайне эмпирически.
Статистики пришли к заключению, что на долю холостых выпадает
большая смертность, большее количество преступлений, самоубийств
и сумасшествий, чем на долю женатых. Однако на этом чисто
эмпирическом обобщении ни социолог, ни антрополог не имеют права
строить никаких теорий. Дело в том, что достаточно разработанные
статистические данные имеются только для стран с
приблизительно одинаковой культурой вообще и, что особенно важно, с одной
и той же господствующей, официально признанной формой брака:
пожизненной моногамией, обставленной известными условиями.
Статистика знает только количество законных церковных или
гражданских браков. Всех, незанесенных в этого рода списки, статистик
обязан считать холостыми. Но их не может признать таковыми
антрополог или социолог. Он должен разложить эмпирический закон,
найденный статистикой, на его простейшие элементы и оперировать
уже над ними. Материал для этого может быть отчасти доставлен той
же статистикой. Таковы, например, сведения о количестве
незаконных детей, сдаваемых и несдаваемых в воспитательные дома, о
количестве разводов, о количестве холостых, умирающих в больницах
и в отцовском или вообще родственном доме и т. п. Никаких такого
рода сведений г-н Мечников не собрал, а это обстоятельство
значительно колеблет всю его характеристику второго дисгармонического
периода, которому он придает особенно важное значение. Например,
в числе предполагаемых причин большей смертности холостых он
упоминает об отсутствии семейного ухода. Но семейным уходом
могут пользоваться и холостые, потому что у них могут быть отец, мать,
дядя, сестры и проч., и, наоборот, семейный человек сплошь и рядом
по разным обстоятельствам заболевает где-нибудь на фабрике и
умирает в больнице. Ясно, что положение вещей может быть освещено
только побочными дополнительными статистическими данными,
а без них присутствие или отсутствие известных брачных церемоний
Что такое прогресс?
607
является чем-то, самостоятельно и таинственно влияющим на судьбу
людей. Чрезмерное значение, придаваемое нашим автором
статистике брачного возраста, весьма дурно повлияло и на его главный общий
вывод. Позднее занесение в официальные брачные списки является у
него одним из признаков «неравномерного и, следовательно,
неодновременного развития аппаратов, служащих для одной и той же цели
размножения». Какой же такой новый «аппарат» развивается в
человеке в момент брачной церемонии? Если тут разуметь собственно
половое сближение, так ведь этот «аппарат», составляя в большинстве
случаев новость для женщины, о чем было говорено выше, отнюдь не
нов для мужчины. Далее, из слов г-на Мечникова можно заключить,
что при вступлении в брак всякие дисгармонии как бы прекращаются,
и человек входит, наконец, в тихую пристань беспечального жития,
по крайней мере, в сфере половых отношений. Можно сказать,
ежедневно развертывающиеся перед нами семейные драмы показывают,
что такое заключение было бы далеко не верно. Положим, что анализ
этих драм не входил в программу г-на Мечникова, предельный пункт
которой есть «возраст вступления в брак». Но его способ выражений
и изложения все-таки дает повод к недоразумению. Он так резко
подчеркивает момент законом признанного вступления в брак и так
определительно говорит о продолжении дисгармонического
периода «отсюда и досюда», что поневоле приходится думать о брачной и
семейной жизни вообще, как о чем-то вполне гармоническом. Мы
знаем, что это не так. Рассчитывают, что на 100 браков приходится
10 заведомо счастливых, 30 безразличных, основанных на привычке,
40 колеблющихся и 20 заведомо несчастных. Сомневаюсь, чтобы
расчет этот был верен, но думаю, что отношение крайних цифр,
выражающих число заведомо счастливых и заведомо несчастливых браков,
весьма близко к действительности. Относящиеся сюда факты до
такой степени общеизвестны, что о них несколько даже странно
говорить. Часть их непосредственно примыкает ко второму
дисгармоническому периоду г-на Мечникова. Какой-нибудь английский барон,
в продолжение тринадцати лет дисгармонических периодов, успеет,
вероятно, значительно истаскаться и не в состоянии будет ответить
пылкой любви своей невесты, которая, если она тоже баронесса,
выходит замуж, средним числом, в 23 года, оставаясь до этого возраста в
полном воздержании. Ясно, что со стороны жены в этом браке будет
избыток любви, т. е. материал для семейной драмы. Избыток любви
608
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
возможен и со стороны мужчины, потому что в нем ровнее держится
и дольше сохраняется потребность любви. Но вытекающие из этих
общеизвестных и легко объяснимых фактов столкновения, несмотря
на весь свой драматизм, сравнительно очень просты. Благодаря
избирательному характеру любви, благодаря тому, что она устремляется,
несмотря на разные препятствия, к обладанию именно таким-то, а не
иным лицом другого пола — в этой сфере явлений представляются
комбинации, несравненно более сложные и труднее поддающиеся
анализу. В интересах читателя, однако, выгоднее будет отложить на
некоторое время их рассмотрение. Каковы бы они ни были, но и те
последствия избытка любви, которые мы видели до сих пор,
достаточно ярки. Посмотрим теперь на причины этого избытка.
Причины постоянного удлинения дисгармонических периодов г-н
Мечников видит в самом культурном развитии, в цивилизации. В
частности, он ссылается на слова Эскироля245, что les progrès de la civilisation
multiplient les fous, и на общее мнение новейших психиатров о связи
сумасшествия с культурой. Положение — достаточно
неопределенное. Правда, г-н Мечников оговаривается, что он имеет в виду
«только данные формы развития, не позволяя себе делать более обширные
обобщения: из того, что европейские цивилизации сопровождаются
определенными видоизменениями семейной жизни, еще не следует,
чтобы всякое вообще развитие представляло тот же характер». Но и
европейская цивилизация представляет понятие все-таки настолько
обширное, что приурочение к нему, как к причине всех вышеупомянутых
печальных явлений, не говорит уму ничего определенного.
Необходимо ближайшее выяснение тех элементов или тех сторон цивилизации,
которые влияют на человека столь пагубным образом. Г-н Мечников
неоднократно подходит к этому выяснению и все-таки ничего не
выясняет. Он говорит, например, что у первобытных народов и в низших
классах цивилизованных наций запаздывание браков если и
случается, то является почти исключительно следствием «материальных
мотивов», именно — невозможности прокормить семью в годы
неурожая и голода. «На более же высоких степенях культурного развития в
том же направлении действуют другие причины, и действуют притом
с несравненно большей силой». В другом месте он говорит, что здесь «
на первом плане должно быть поставлено умственное развитие,
неизбежно вносимое цивилизацией», и поясняет дело так: «Тазовые кости
могут кончить свой рост в 20 лет и наилучшим образом приспосо-
Борьба за индивидуальность
609
биться к рождению детей; тем не менее это обстоятельство нимало не
будет определяющим моментом при вступлении в брак большинства
цивилизованных девушек, которые руководствуются при этом иными
мотивами, как, например, общественным положением, репутацией,
богатством и проч.». Но все это, очевидно, — такие же «материальные
мотивы», и умственное развитие тут, очевидно, решительно ни при чем.
Наконец, еще в одном месте он уже гораздо определеннее говорит, что
«к числу причин, увеличивающих число душевных болезней, нужно
отнести общее усложнение жизненных условий культурных народов».
Но эта справедливая мысль не получает ни дальнейшего развития, ни
приложения к области половых отношений.
А между тем г-н Мечников был чрезвычайно близок к истине,
задевал ее локтем, как говорят французы, и притом едва ли не в слабейшей
части своего исследования, в той именно, где он пытается установить
пресловутый параллелизм явлений индивидуальной и общественной
жизни и периодический, циклический характер цивилизации.
Читатель знает, что с нашей точки зрения вопрос этот сводится к борьбе
за индивидуальность между человеком и обществом. В случае
победы последнего оно становится крепкой индивидуальной, неделимой
единицей, подчиняя себе все сильнее и сильнее личность, которая
низводится этим процессом на степень простого подчиненного
органа. Но, побеждая таким образом личность и самообращаясь в
организм, общество подлежит уже всем условиям органической жизни.
Как и всякий организм, оно должно иметь свою молодость, зрелость,
старость и, наконец, смерть. Так что с этой стороны г-н Мечников, как
и все аналогисты, прав. Но все они упускают из виду, что возможен и
другой случай — более или менее полной победы личности, причем
общество, не превращаясь в организм, практически окажется
бессмертным, т. е. смерть его уйдет в совершенно для нас недоступную
даль (я разумею смерть естественную, из самой жизни вытекающую,
а не насильственную, вследствие каких-нибудь ударов со стороны).
Как бы то ни было, но вот именно та сторона цивилизации, которую
г-н Мечников имеет право обвинять в удлинении дисгармонических
периодов и во всех сопряженных с ним бедах и из которой вытекает
смерть государств, «народов», вообще — обществ: поражение
человеческой индивидуальности. Само по себе «общее усложнение
жизненных условий культурных народов» не могло бы вести, например,
к приращению количества сумасшествий. Беда в том, что параллель-
610
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
но этому усложнению общественных условий идет сравнительное
оскудение личной жизни. Круг потребностей личности все
расширяется, цивилизация раскрывает перед человеком все новые обширные
и заманчивые перспективы, но вместе с тем удовлетворение этих
потребностей становится несоразмерно затруднительным вследствие
поражения личности. В человеке будится страшная жажда, но вместе
с тем отнимается сила доползти до ручья и зачерпнуть глоток воды.
Он превращается в туго натянутую струну, к которой стоит только
чуть-чуть прикоснуться, чтобы она издала, смотря по своим
особенностям, то грозно-мрачный, то заунывно-жалобный звук Читатель
отчасти уже знает, что я хочу сказать этими словами. Посмотрим
несколько ближе, как отзывается это несоответствие личных сил
с общественными условиями в области половых отношений.
В статье г-на Потанина «От Новочеркасска до Казани» (в казанском
сборнике «Первый шаг») находим несколько фактов, чрезвычайно
ярко характеризующих относительное положение мужчин и женщин
у наших крестьян — положение вполне первобытное и некогда
несомненно очень распространенное. В Никольском уезде Вологодской
губернии, по словам г-на Потанина, есть вдовы, получающие надел,
пашущие его сами и платящие за себя подати наравне с мужчинами;
встречаются даже девицы-одиночки, получающие надел и платящие
за себя подати. Кроме того, здесь попадаются женщины, которые
обстоятельствами вынуждены были вполне перейти к мужскому
труду; такие женщины исполняют все мужские работы и за женские не
берутся вовсе, одеваются в мужское платье, курят трубку и вообще
усваивают мужские нравы. Женщины эти называются в Никольском
уезде полумужичьями. Есть они и в Нижегородской губернии. Такие
превращения образуются обыкновенно по желанию родителей. Если
в семье родятся все девочки, то одну из них назначают к мужским
работам. Ее и одевают мальчиком, и играет она с мальчиками. Самое
имя ее «умужеподобляется»: так, например, Елизавета превращается
в Елисейку. Встречается и обратное явление: в семьях, где нет девиц,
а все парни, один из них приучается к женским работам. В
Никольском уезде можно встретить на посиделках парня, сидящего с
прялкой. Такой парень прядет, ткет холст и обшивает семью, как девушка.
Эти любопытные факты не составляют, разумеется, какой-нибудь
специальной особенности нынешнего Никольского уезда. Риль (Die
Familie) сообщает нечто подобное, хотя и не столь выразительное,
Борьба за индивидуальность
611
о немецких крестьянах. А что глубокая древность была переполнена
подобными явлениями — это мы уже видели. Вообще было уже
указано, что у первобытных народов и в низших классах европейских
наций разница между представителями обоих полов сравнительно
ничтожна. Многие вторичные половые признаки развиты здесь еще
до такой степени слабо, что, за исключением собственно половых
отношений, мужчине и женщине нетрудно поменяться, в случае
надобности, ролями. Это — истина общепринятая. Весь круг деятельности
мужчины доступен женщине и обратно. Сообразно этому тот острый,
всеувлекающий, так сказать, демонический характер, которым
отличается любовь цивилизованных классов, в крестьянском быту, вообще
говоря, не имеет места. Выбор, исключительность любви, ввиду
малого отличия между мужчиной и женщиной и мевду самими
женщинами, не может играть очень видной роли. Я очень хорошо знаю, что
правило это допускает многочисленные исключения. Но дело в том,
что народная жизнь не представляет чего-нибудь вполне сплошного:
в ней можно усмотреть множество наслоений, относящихся к весьма
различным эпохам. И здесь я имею в виду только слой древнейший,
но все-таки настолько живучий, что он и доныне составляет едва
ли не общий фон картины народной жизни. «Я жененый», говорят
иногда крестьяне, вместо «я женат». В этом характерном,
энергическом слове «жененый» и в спокойном тоне простого заявления
факта, которым оно произносится, вы можете различить две стороны.
Без сомнения, личность самым возмутительным образом давится,
когда человека «женят». Собственная ли семья или, как иногда
бывает, целое общество связывает судьбу двух людей, не имеющих друг к
другу определенно выраженной склонности, но человеческая
индивидуальность здесь во всяком случае подавлена. И по-видимому,
падение ее тем сильнее, чем спокойнее принимают люди решающий их
судьбу приговор семьи или общества. Однако это не так, не всегда, по
крайней мере, так. Люди, склонные к неблагодарному занятию
уличением мужика в грубости и в отсутствии человеческого достоинства,
часто выставляют против него рядом такие два обвинения: во-первых,
мужик — зверь: ему была бы баба, а какая — Марья или Дарья — это
ему все равно; во-вторых, мужик — зверь: он женит своего сына или
выдает свою дочь, не справляясь с их собственной волей. Но,
очевидно, что первое обвинение совершенно уничтожает второе. Как ни
велик бывает иногда деспотизм мужицкой семьи, но если парню все
612
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
равно — что Дарья, что Марья, то деспотизм перестает быть
деспотизмом с точки зрения выбора супругов. Он остается в полной силе
в том только отношении, что парня по разным сторонним
соображениям сплошь и рядом женят, когда он одинаково далек и от Дарьи, и
от Марьи, или если девку выдают замуж, когда она этого вообще не
хочет. Но эта сторона семейной жизни нас здесь пока не занимает.
Мы имеем в виду только собственно половые отношения и
избирательный характер любви. В этом отношении деспотизм мужицкой
семьи, как бы он ни был груб по форме, ложится на личность
несравненно меньшим гнетом, чем подобные же явления в
цивилизованных классах. Активное или пассивное стеснение свободы
выбора в деле любви цивилизованных классов, хотя бы облеченное
в сравнительно мягкие формы, есть настоящее зверство, чего отнюдь
нельзя с таким же правом сказать о деспотизме крестьянской семьи.
Читателю станет это вполне ясно, если он припомнит наше
определение любви. Любовь, как мы знаем, есть то выражение великого
закона органического развития, в силу которого представители разных
полов стремятся слиться в одно целое, как бы ища друг в друге свою
дополнительную до единицы дробь. Изложение некоторых частных
проявлений этого закона, сделанное в прошлом очерке, было
отмечено в одной газете как нечто совершенно непонятное. Полагаю,
что господин отметчик просто не прочитал статьи, а развернул ее но
одной из последних страниц, которая, оторванная от всего
предыдущего, конечно, могла показаться неясной. Тем не менее, желая быть
по возможности для всех понятным, я позволю себе прибегнуть,
наглядности ради, к довольно грубому способу изложения. Мужчина
есть по естественному закону раздельнополого существования не 1,
а приблизительно — 7г; женщина тоже приблизительно — xj2. Закон
развития побуждает эти две половины тяготеть друг к другу для
образования единицы. В этом и состоит любовь, никогда ненасытимая,
потому что никогда не достигающая своей цели. Отсюда — все
разочарования и вообще вся скорбная изнанка любовных отношений.
Но чувство, само по себе чрезвычайно сильное, любовь при
известных условиях может еще, так сказать, обостряться и достигать
страшной, умопомрачающей напряженности. Природа разделила человека
на две приблизительно равные половины — мужчину и женщину,
но общество может подвергнуть его и дальнейшему еще дроблению,
что мы и видим в блестящей истории европейских наций и госу-
Борьба за индивидуальность
613
дарств. Превращая человека в подчиненный орган, на обязанности
которого лежит главным образом одно какое-нибудь отправление,
общество заглушает в нем более или менее значительную часть сил
и способностей. При этом человек, будучи уже от природы у2,
обращается в другую, меньшую дробь, например, 7з- Эта °Дна треть
человека нуждается уже не в 1/2 для образования единицы, а в 2/з- Так
как жажда любви есть требование компенсации, уравновешения
односторонности, то любовь человека, формула жизни которого
выражается дробью 7з, гораздо страстнее, напряженнее, безумнее, чем
то установлено природой, а между тем еще менее подлежит
удовлетворению. В первобытном мире, отчасти еще и в нашем крестьянском
быту Марья — такая же х/ъ как Дарья. Да и Иван приблизительно такая
же 7г, как Марья и Дарья. Поэтому чувство любви остается здесь
приблизительно в своих естественных границах и, кроме того, не может
иметь напряженно-избирательного характера. Цивилизованная же,
например, девушка, формула жизни которой есть 7з> иЩет мужчину,
так сказать, равного 2/з- Найти его чрезвычайно трудно, потому что
кругом все дроби, меньшие l/2, a вследствие этого оказывается уже
не относительный только избыток любви, а абсолютный. Каковы бы,
однако, ни были результаты вытекающих отсюда поисков
дополнительной дроби, но ясно, что стеснение свободы выбора есть в этом
случае действительное варварство.
Очень хорошо понимая неудовлетворительность избранного
мной приема изложения, думаю, однако, что он лучше всякого
другого может выяснить занимающий нас факт, а именно — что
цивилизация (собственно та ее сторона, которая выражается победой
общества над личностью в борьбе за индивидуальность) усиливает
потребность любви и вместе с тем затрудняет ее удовлетворение. Эта
страшная и все растущая дисгармония, обнимающая оба
дисгармонических периода г-на Мечникова и далеко оставляющая их за собой,
следующим образом отражается на судьбе семьи. Семья есть ячейка
и прототип всех общественных индивидуальностей. Все они или
непосредственно разрастаются из семьи, как семейная община, задруга
южных славян, или представляют вторичные образования того же
типа, или слагаются по типу специально братских и, следовательно,
тоже семейных отношений. Но все эти высшие общественные
индивидуальности вырастают из семьи первобытной, более или менее
сохранившейся и у наших крестьян. Это разрастание, эта творческая
614
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
сила семьи возможна только там и постольку, где и поскольку семья
не уподобилась организму с превращенными в органы членами, где
каждому из них не отведена какая-нибудь одна функция, словом —
где Елизавета и Елисейка могут во всякое время обменяться ролями.
Это относится не только к семье, а и ко всякой общественной
индивидуальности. Например, в сербской задруге, несмотря на все ее
недостатки, творческая сила не иссякла и не иссякла единственно
потому, что господарь ее есть лицо выборное, т. е. такое, которым может
сделаться любой член общины, а не раз навсегда определенный
орган: сегодняшние руки могут завтра же сделаться головой, и обратно.
Этого рода явления я и имел в виду, говоря о практическом
бессмертии обществ, не превращающихся в организм. Точно так же может
быть практически бессмертно и семья. Но в случае органического
развития ей, как и всякому организму, предстоит пройти ступени
молодости, зрелости, старости и, наконец, умереть. Родительские
отношения я все еще должен пока оставлять в стороне и прошу читателя
представить себе семью, состоящую только из мужа и жены.
Супружеские отношения Елисейки и Елизаветы, если смотреть на семью
как на организм, представляют ее молодость. С органической точки
зрения это — даже еще не семья, а только зародыш ее, в котором еще
не выяснилась строгая специализация органов. Но именно поэтому
такая семья может дать начало другим общественным
индивидуальностям, на первый раз, например, хозяйственной единице. Любовь
этих супругов, как уже замечено, не выходит из своих естественных
пределов, и потому, как ни грубы их взаимные ласки, как ни дики
Елисейка и Елизавета вообще, но семейной драмы здесь не
предвидится: любовь удовлетворена настолько, насколько она вообще
может быть удовлетворена; ревность неизвестна, да едва ли часты и
поводы к ней. Возьмите мещанскую, мелкую дворянскую, чиновничью
семью. Это уже не молодость семьи; это, по крайней мере, ее зрелость.
Роли органов определены уже весьма резко: муж заведует, так сказать,
министерством иностранных дел, жена — министерством
внутренних дел. Любовь имеет уже более романический, более напряженный
характер. Муж и жена долго искали друг друга, томились в ожидании
своей дополнительной дроби. Но так как требуемая дробь еще не Бог
знает как велика, то, может быть, они и нашли ее. В таком случае они
счастливы, а нет — так драма готова. Но вот, положим, следующий
же отпрыск этой семьи — потому ли, что свалилось как бы с неба
Борьба за индивидуальность
615
наследство после забытого дяди, или потому, что отец занял высокое
положение в служебной иерархии — поднимается на ступень выше
среднего общественного уровня. Весьма вероятно, что эта новая,
уже вполне цивилизованная семья представит собой период
старости и разложения, а там не за горами уже и смерть. Представим себе
довольно, по-видимому, благоприятные условия. Муж занимается
какой-нибудь либеральной профессией, жена — изящная и довольно
образованная женщина. Сошлись они по сильной взаимной любви,
причем преодолели много препятствий. Но полюбили они друг
друга так страстно именно потому, что очень непохожи друг на друга.
Они искали своей дополняющей противоположности, чтобы слиться
с ней в одно навеки нераздельное целое. Она, женственная и мягкая,
искала мужественности и твердости, а он — женственности. Нашли
ли они то, чего искали? Если нашли, они счастливы. Но в высокой
степени вероятно, что этого не случилось. В высокой степени вероятно,
что жена, хотя и уважающая либеральную профессию своего мужа,
но совершенно ей все-таки чуждая, начинает скоро тяготиться теми
привычками, тем строем мысли и чувств, которые он, целиком
отдавшись своей профессии, переносит из нее и в домашнюю жизнь; он —
слишком профессор, слишком адвокат, слишком писатель, слишком
чиновник. Не того жаждала ее душа; ей неясно, но заманчиво
грезилось что-то большее. Она искала человека и нашла такую маленькую
дробь, которая кажется тем ничтожнее, чем сильнее влекло ее некогда
к этому человеку. Разочарование, новая любовь, новое разочарование,
ревность... Читатель знает конец этой истории, слишком
обыкновенной и слишком нередко обрывающейся даже кровавым финалом.
Я хотел бы подчеркнуть только следующее. Во-первых, если жена
в этой истории так напряженно любит и так ужасно
разочаровывается, то только потому, что и сама она есть маленькая до ничтожества
дробь человека. Только поэтому ей и нужно что-то крупное, что-то
превышающее естественную норму — 1/2. Во-вторых, в рассказанной
примерной истории совершился последний акт существования
семьи как организма. Из семьи, в которой муж и жена строго поделили
между собой функции, где, как говорится в какой-то французской
комедии, la caisse a été donné a l'homme, pour être vidée par la femme, или
иным каким-нибудь способом, но резко поделяются права и
обязанности супругов, где они, будучи чужды друг другу, все-таки остаются
связанными — из такой семьи выдохлась творческая сила. Никакой
616
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
высшей общественной индивидуальности она породить не может.
Семья умерла, совершив весь круг органического развития. Так
умерла она в высших классах европейских наций.
Я вовсе, конечно, не утверждаю, что счастливых браков нет или
что они невозможны. Они есть. И в таком случае они представляют
удачный подбор двух дополняющих одна другую дробей. Не
утверждаю я также, чтобы несчастные браки, равно как и вся обоюдоострая
прелесть любви, составляли исключительную принадлежность
высших классов. Эти явления там, без сомнения, ярче, сильнее, потому
что эти классы сильнее захватываются волной цивилизации,
которая дает им вдобавок, в особенности женщине, столько досуга, что
потребность любви не отвлекается деятельностью, не заглушается
работой. Неустанная работа жены какого-нибудь фабричного,
превращенного в ходячий рабочий инструмент и, следовательно, тоже
представляющего весьма малую дробь человека, много
приостанавливает развитие семейных драм в этом быту. Неустанная работа
русской крестьянки тоже, конечно, много помогала ей сносить ее три
страшные доли: «с рабом повенчаться», «до гроба рабу покоряться»
и «быть матерью сына раба». Тем не менее бывают тревожные
исторические моменты, когда все общество от верхнего края до нижнего
чувствует на себе тяжесть несоразмерности жажды любви с
условиями ее удовлетворения. Над низшими классами она может нависнуть,
кроме вышеописанного пути, еще в виде закона Мальтуса, т. е. в виде
простой невозможности, по чисто материальным причинам,
удовлетворить потребности любви. Здесь замечу только, что мальтузианская
дилемма — хлеб или любовь — имеет свой корень в том же процессе
развития общества по органическому типу, т. е., в победе общества
над личностью. Отсюда же вытекают и многие другие
несоразмерности все усиливающейся потребности с все убывающей
возможностью ее удовлетворения. В предлагаемых очерках была уже речь
об одной такой несоразмерности в жажде приобретения, наживы.
В прежних статьях я имел случай проследить ту же несоразмерность
к жажде знания. Впоследствии мы увидим и еще некоторые подобные
случаи. Когда все эти многоразличные несоразмерности достигают
известной, значительной степени напряженности, в обществе
появляются два чрезвычайно любопытных типа, которых я назову
вольницей и подвижниками246. Это — отщепенцы, протестанты.
Протестуют они двумя совершенно различными, но все-таки родственными
Борьба за индивидуальность
617
между собой и часто друг в друга переходящими способами.
Вольница представляет протест воинствующий, активный, подвижники —
протест мирный, пассивный. И те и другие порывают всякие связи
с обществом. При этом вольница идет напролом и старается смести
все препятствия, лежащие между потребностью и ее
удовлетворением, а это иногда равняется попытке смести весь установившийся
общественный строй. Вольница звонит во всю и часто целым рядом
страшных насилий и убийств пытается уничтожить все, что мешает
ей жить так, как она хочет. В большей части случаев она становится
под знамя и борется во имя старины — той старины, которая еще не
знала несоразмерности силы потребности с условиями ее
удовлетворения. Иной путь избирают подвижники. Они прямо и просто
стараются заглушить в себе те потребности, напряженность которых так
тяжело отзывается на личности за невозможностью удовлетворения.
Из общества, которое не дало им ничего, кроме муки, подвижники
уходят в леса и пустыни и там либо живут совсем одиноко,
умерщвляя, как они говорят, плоть свою, либо основывают общежития
аскетического характера. Несмотря на совершенную противоположность
стремлений вольницы и подвижников, они во многих отношениях
очень близки между собой. Во-первых, с известной точки зрения
почти безразлично — уменьшать ли число потребностей, или,
напротив, расширять их под условием удовлетворения. Если человек
довел свои потребности до последнего minimum'a, он тоже
удовлетворен. Во-вторых, исторически вольница и подвижники — родные
братья. Их протест, их отрицание направлены против одних и тех
же явлений, одинаково им ненавистных, и появляются они поэтому
всегда вместе, рука об руку, на арене истории. Наконец, в-третьих,
и вольница и подвижники одинаково неспособны протестовать
прямо от лица поруганной и раздавленной историческим
процессом личности. Подвижникам всегда нужна религиозная санкция их
подвигов. Что же касается вольницы, то и она ищет отчасти той же
религиозной, отчасти весьма своеобразной политической санкции:
еврейская вольница группировалась около лжемессий, во множестве
появлявшихся до и после Иисуса Христа, причем лжемессии иногда
ограничивались чисто религиозной проповедью (которая составляла
духовный хлеб насущный подвижников), а иногда бросались в
проповедь политическую, самозванно объявляя себя политическими
царями иудейскими; русская вольница, в крупнейших эпизодах своей
618
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
истории, выдвинула самозванство императорское. Но опять-таки это
самозванство было настолько проникнуто религиозными
элементами, что тот же император Петр III, которым прикрывался Пугачев,
а у скопцов (подвижников) Селиванов, в последнем случае
обращается даже в Бога Саваофа. Весьма часто случается, что одна и та же
личность, побывав временно в рядах подвижников, переходит затем
в ряды вольницы, и наоборот. Как увидим, эта родственность
вольницы и подвижников, несмотря на противоположность их отношений
к жизни, представляет едва ли не любопытнейшие страницы истории
народной жизни.
Половые отношения имеют свою специальную вольницу и своих
специальных подвижников. Читатель уже знает, что древнейшая
форма супружеских отношений представляет то, что называется
гетеризмом, т. е. полнейшее отсутствие каких бы то ни было брачных норм,
доходящее до чисто животных отношений, но уж, конечно, не
устанавливающее перегородок между потребностью и ее
удовлетворением. Это-то древнейшее обычное право становится под защиту
известных божеств и вместе обращается в знамя вольницы. Сюда
относятся, например, в русской народной жизни все те «игрища межю сел»,
о которых повествует летописец, все те празднества Купалы и Ярилы,
с необузданностью которых так долго боролся христианский идеал.
В известное время народ (или известная часть его) считал, считает
отчасти и до сих пор себя вправе открыто разрывать все
установленные позднейшим историческим процессом иерархические узы
и удовлетворять требования своей природы самым необузданным
образом, не стесняясь никакими нормами. В других случаях
слагается даже более или менее постоянный персонал вольницы любви,
преимущественно из женщин, который занимается тем, что
историки называют религиозной проституцией. Такие жрицы любви, не
связанные никакими узами, во множестве жили при храмах некоторых
азиатских божеств. Наконец, в лице греческих гетер эта вольница
достигает весьма высокого уровня развития и получает на изящной
почве Аттики даже чрезвычайно изящный характер. Гетеры также
находились под покровительством божества. Сама Афродита почиталась
в некоторых местах под именем Афродиты-Гетеры. Солон построил
ей храм на деньги, собранные в виде налога на публичных женщин.
В Коринфе последние были настоящими жрицами Афродиты. Не
иначе как через них обращались коринфяне к богине с мольбами, даже в
Борьба за индивидуальность
619
чрезвычайно важных случаях, как было, например, во время
персидских войн. В Фессалии женщины должны были построить Афродите
храм в искупление своей тяжкой вины перед богиней: они убили из
ревности гетеру Лаису. Но и независимо от религиозной санкции
гетеры занимали в обществе очень своеобразное, но во всяком случае
высокое положение. Они нимало не походили на нынешних
проституток даже высшего ранга. Конечно, не всякой гетере выпадала на
долю блестящая судьба Аспазии, Лаисы, Фрины или Кратины, но
верно то, что она не выпадала ни одной законной жене. Лучшая жена та,
о которой нет ни дурной, ни хорошей молвы, говорит Фукидид; но эта
скромность и замкнутость требовались только от жен и всего менее от
гетер. Строго запертая в небольшой круг домашней жизни, находясь
в постоянной зависимости сначала от родителей, потом от мужа и в
случае вдовства от сыновей, не смея принимать мужчин и даже
присутствовать за обедом при мужчинах — законная жена не могла
удовлетворить потребности любви своего мужа, столь склонного к
общественной жизни, к наслаждению искусством и философской мыслью. Гетера,
«единственная свободная женщина в Афинах», как говорит Лекки, была
совсем в ином положении. В постоянном общении с гениальнейшими
представителями Греции, каковы Сократ, Перикл, Фидий, Апеллес, она
приобрела широкий круг умственных интересов. Аспазия, говорят,
сочиняла некоторые из знаменитых речей Перикла; в одном из
разговоров Платона («Пиршество») гетера Диотима является учительницей
Сократа, гетера Леонтина была усердной прозелиткой учения Эпикура
и проч. Немудрено, что при таких условиях энергичнейшие женщины
предпочитали семье ряды этой блестящей вольницы. Там их
естественная потребность любви значительно утрачивала свой жгучий, острый
характер, потому что дробь, выражающая формулу их жизни,
увеличивалась, насколько они причащались общественным, умственным и
эстетическим интересам. А между тем удовлетворение этой
смягченной уже самой по себе потребности облегчалось.
Нечто в этом роде сообщается относительно наших новых
среднеазиатских владений в рассказе г-на Каразина «Ак-Томак». Сам по себе
рассказ, представляя помесь этнографии с беллетристикой в
совершенно незаконной пропорции, не имеет никакой цены. Но там
приводится одна, несомненно, подлинная сатирическая песня (г-н Каразин
любезно и очень благоразумно сообщает имя переводчика), в которой
женщина осмеивает жизнь гаремных затворниц, сравнивая их с ку-
620
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
рами, а владыку их с петухом. Рядом выставляется в привлекательных
красках судьба вольной «красной курицы», т. е. лица, от имени
которого поется песня — афинской гетеры в ташкентском вкусе.
Так-то устраивает свое положение вольница любви, то в грубых
и грязных, то в изящных формах, так или иначе разрубая для себя
лично узел несоразмерности жажды любви с условиями ее
удовлетворения. Противоположным образом разрубается он подвижниками.
Рекомендованное Мальтусом нравственное самообуздание отнюдь
не может обратиться в общее правило, но в известные эпохи к нему
устремляется чрезвычайно большое число людей. Вдруг поднимается
гонение на любовь, не на распущенность — нет: «топор
девственности» начинает внезапно, по выражению одного католического
святого, беспощадно «рубить лес брака» в самых даже строгих его формах.
Всякие половые отношения объявляются греховными, и хотя,
разумеется, на деле такое воздержание не для всех писано, однако, все-
таки практикуется в поразительной степени. Самое поразительное в
этих явлениях есть, впрочем, их периодичность. Гонение на любовь
захватывает, как бурный вихрь, целые массы мужчин и женщин и
через несколько времени остывает или, по крайней мере, ниспадает до
степени формального только исповедования принципа безбрачия.
Удовлетворительного объяснения этих фактов мне не случалось
нигде встретить, между тем как оно напрашивается само собой. Кажется,
прежде всего должно бы было прийти в голову, что такое массовое
отречение от любви возможно только там и тогда, где и когда
любовь дает больше страданий, чем наслаждений. Действительно, когда
вследствие выше объясненной несоразмерности любовь оказывается
неудовлетворимой и несет с собой только муки разочарования и
жгучее чувство неудовлетворения, тогда для натур глубоких, но
пассивных и не годящихся в буйные ряды вольницы, остается только один
исход — задавить в себе порыв любви. А затем санкция является уже
сама собой, прикрывая помимо нее не совершившийся факт.
Ближайшее рассмотрение этих явлений я должен отложить до
специальной главы о вольнице и подвижниках, потому что
последние бегут в леса и пустыни не только от любви, а и от многих других
потребностей. Но один, наиболее поразительный из известных мне
примеров такого всеотречения я считаю удобным привести теперь
же. Пример этот поразителен почти до невероятности. Дело идет
об йогинах, индусских факирах. Сведения о них известный физио-
Борьба за индивидуальность
621
лог Прейер («Исследование жизни») заимствует из сочинения
Пауля «Treatise on the Yoga Philosophy» (Benares, 1851) — сведения,
подтверждаемые многими достоверными свидетелями. Йогины
позволяют себя заживо хоронить на несколько недель и по истечении этого
времени, проведенного без воздуха, воды, пищи и света,
возвращаются к жизни. Прейер полагает, что это — летаргия, похожая на зимнюю
спячку млекопитающих, но окончательного мнения не высказывает,
да нам оно, пожалуй, не нужно. Для нас интересны причины,
побуждающие йогинов заживо хорониться, и условия, при которых
подобные вещи могут происходить. Йогины длинным рядом
самоистязаний приучаются к полному отречению от воздуха, света, воды, пищи.
Кроме общих аскетических правил полного целомудрия и крайней
умеренности в пище, вот некоторые особенные упражнения
йогинов. Они беззвучно произносят мистическое слово ом 12 000 раз
в день. Частое повторение слова ом, равно как и мистических слов
согам, вам, лам, рам, иам, хам, наводит сон. Такие слоги должны
быть неслышно произнесены йогином 600 и даже 6000 раз подряд.
Затем произносит 6000 раз слог дам и 9 подобных. Затем ам. После
того 15 других слогов 6000 раз. Затем произнести также неслышно
гамза (мистическое слово, имеющее много различных значений)
2000 раз. Далее йогин обязан пребывать три часа в таком
положении: левая пятка находится под задней частью, правая над половыми
частями; при другом положении левая нога лежит на правой ляжке,
а правая — на левой. При этом правая рука должна держать большой
палец правой ноги, левая — большой палец левой ноги (руки
перекрещиваются в это время за спиной). Стоять вертикально на голове.
В продолжение трех месяцев упражняться ежедневно по четыре раза
по 48 минут следующим образом: вдыхать через левую ноздрю,
ввести воздух в желудок глотанием; придерживать дыхание и выдыхать
затем через левую ноздрю. Затем — то же самое с переменой ноздри.
При этом задерживать дыхание все дольше и проглатывать все
больше воздуха. Каждый йогин делает 24 надреза в подъязычной уздечке,
через каждый 8 дней по одной. После каждою надреза он трет язык
два раза в сутки, предпринимая с ним движения как бы при доении,
употребляя при этом вяжущие, маслянистые и соленые вещества.
Достаточно растянув язык, он заворачивает его назад и приучается
закрывать гортанное отверстие кончиком языка, которым
отодвигает назад язычок. При этом легкие и желудок наполняются возду-
622
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
хом, а все отверстия тела законопачиваются воском и ватой. И т. д.,
и т. д. Прейер приводят 41 упражнение в этом роде. Этим способом
йогины доходят, наконец, до такой нечувствительности к внешним
впечатлениям и ко всякого рода лишениям, что могут пролежать
в земле несколько недель. Прейер полагает, что они при этом
движутся «религиозными причинами». Но это, очевидно, не объяснение. Это
значит только, что, совершая свои замысловатые безобразия, йогины
думают, что делают нечто богоугодное. Но вопрос в том, как могло
сложиться такое верование. Оно ведь не с неба свалилось. Очевидно,
каким-нибудь долгим путем страшных страданий пришли эти люди
к необходимости закупориться от всего мира, отречься от всех
элементарнейших радостей жизни и заглушить в себе потребность света,
пищи, любви, даже дыхания. Только глубоко несчастному,
окончательно забитому или разбитому жизнью человеку может прийти дикая
фантазия держать по целым часам пальцы ног в руках, твердить
десятки тысяч раз ом, дам, бам,лам и затыкать глотку собственным языком.
Только тот, кому опостылело даже солнце красное, может так
систематически увечить себя. С точки зрения борьбы за индивидуальность
вопрос разрешается очень просто, если вспомнить, что йогины, как
и понятие нирваны, т. е. блаженства небытия (ныне возобновляемое
в Германии), суть продукты Индии, той самой Индии, которая
представляет беспримерную в истории резкость кастового общественного
строя. Каста есть не что иное, как строго обособленный,
специализированный, законченный орган общественного организма. Это —
случай полной победы общества над личностью. Круг деятельности
члена касты обведен крайне узкой рамкой, в нем придавлено множество
естественных функций; дробь, выражающая формулы его жизни,
поистине ничтожна. Отсюда опять-таки — полная несоразмерность между
силой потребностей и условиями их удовлетворения. А затем
являются, во-первых, вольница (она была и в Индии), стремящаяся сбросить
с себя ярмо касты, и, во-вторых, подвижники, стремящиеся задавить
самые потребности. И те и другие борются за индивидуальность, за
независимость. Но одни направляют свою борьбу на внешний мир,
чтобы его применить к своим не находящим удовлетворения
потребностям; другие ведут борьбу сами с собой и мечтают добыть себе
независимость отрицательным путем, в блаженстве небытия или,
по крайней мере, в доведении своих потребностей до последнего
minimum'a.
Борьба за индивидуальность
623
Из примера йогинов читатель сам может видеть, как трудно
выделить подвижничество любви из общей совокупности
подвижничества. Потому мы пока на этом и остановимся. Я хотел бы только
подтвердить для частной области половых отношений общее замечание
о родственности вольницы и подвижников. Всем известны примеры
крайних распутников и распутниц, внезапно переходивших в ряды
подвижников любви. Далее, самые оргиастические празднества
древних (в особенности у среднеазиатских народов), при которых
царила полнейшая распущенность, сопровождались иногда
самооскоплением, т. е. добровольным отречением от половых сношений.
Наконец, история русских сект представляет примеры, в некоторых
отношениях еще более замечательные. Что между нашими
сектантами были обманщики и всякого рода недобросовестные люди — это,
конечно, несомненно. Но что масса, как и всякая движущаяся масса,
была глубоко искренна и наивно верующа — в этом можно еще
меньше сомневаться. Огромное большинство хлыстов, которому было не
до софизмов, совершенно искренно не видело разницы между
необузданной свободой половых отношений даже до свального греха и
полным воздержанием. Они колебались между тем и другим в своем
инстинктивном стремлении свергнуть демона любви с его
неестественного престола. Полная искренность этого стремления
фактически доказана отпрыском хлыстовщины — скопчеством.
Читатель, разумеется, не заподозрит меня в положительном
сочувствии к вольнице и подвижникам любви. Наиболее привлекательный
тип этой вольницы — гетеры — во всяком случае торговали своей
любовью и, наживая иногда колоссальные богатства, разоряли
народ. Что же касается йогинов или скопцов, то здравомыслящего и
желающего жить человека, их пример, конечно, не прельстит.
Несмотря на весь радикализм решений вопроса, осуществленных
гетерами, с одной стороны, йогинами — с другой, он нимало не изменял
общего положения дел. Жалкое прозябание законных жен афинян
составляло необходимое условие процветания гетер, а представить
себе целый народ йогинов невозможно. Поэтому именно разрешая
затруднение лично для себя, и вольница и подвижники любви были
все-таки бессильны внести протест непосредственно от своей
личности и прикрывались той санкцией, которая многими ошибочно
принимается за самую причину появления вольницы и в особенности
подвижников. Возможно иначе и притом не разрубить, а развязать
624
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
узел. Для выяснения этого пути мы должны обратиться к анализу
отношений между индивидуальностью и половой деятельностью. При
этом то, что было выражено грубым образом, при помощи дробей,
получит более научное освещение. Сначала нам придется определить
отношение индивидуальности к плодовитости, потому что в таком
именно направлении до сих пор собирался и группировался
необходимый для нас научный материал. Антагонизм индивидуальности
и плодовитости составляет уже бесспорную истину. В изложении ее я
буду следовать Спенсеру (Основания биологии).
Одноклеточные растения, размножающиеся бесполовым
генезисом, обыкновенно и микроскопически малы, и чрезвычайно
плодовиты. Так, некоторые водоросли размножаются так быстро, что
«почти мгновенно» покрывают пруды непрозрачной зеленью. Двураздел-
ка, по приблизительному расчету Смита, может произвести в месяц
потомство, равное тысяче миллионов особей. «Если мы допустим, что
весьма вероятно, что молодой Gonium может развиться делением в
двадцать четыре часа, то при благоприятных условиях одна колония
даст на следующий день начало 16, на третий 256, на четвертый 4096,
по истечении же недели — 268 435 466 подобных ей организмов».
Такую же и даже еще более изумительную плодовитость встречаем
у низших животных. «Если бы все ее потомки выживали и продолжали
сами делиться, то какая-нибудь Paramecium была бы способна дать
таким образом начало 268 миллионам особей в течение одного месяца.
И это еще не наибольшая известная нам плодовитость; есть еще одно
маленькое животное, видимое только при сильном увеличении, о
котором вычислено, что оно дает в четыре дня начало 170 биллионам.
И всегда эта громадная размножаемость сопровождается столь
крайней мелкотой, что порой в одной капле воды содержится столько
особей иного вида, сколько людей по всей земной поверхности!»
Поднимаясь к существам более крупным, мы замечаем вместе с тем
постепенное уменьшение плодовитости. И то же самое видим в
половом генезисе: если вычесть посторонние обстоятельства,
затемняющие ясность результата, каковы степень подвижности сравниваемых
существ, степень сложности их строения, то в большинстве случаев
антагонизм между ростом и половым генезисом не подлежит
сомнению. Та же истина может быть прослежена и в истории каждого
отдельного животного и растения. Пока индивид продолжает расти, он
или вовсе не производит потомства, или производит потомство ма-
Борьба за индивидуальность
625
лочисленное и слабое. Возрастание родительского индивида так или
иначе задерживает стремление организма производить новые
особи, и обратно — генетическая деятельность задерживает дальнейшее
возрастание. Переходя к антагонизму между генезисом и развитием,
т. е. степенью сложности строения, мы встречаем общее правило, уже
упомянутое в двух первых наших очерках. Вот как формулирует его
Спенсер: «Чем больше и полнее дифференцируется органическая
масса, тем меньшая доля ее остается в том сравнительно
недифференцированном состоянии, при котором возможно преобразование
вещества в новые особи или зародыши особей. Протоплазма,
однажды обратившись в специализированную ткань, не может снова
обобщиться и потом преобразоваться во что-нибудь иное; а потому
прогресс строения в организме, уменьшая количество вещества, не
обладающего строением, этим самым уменьшает запас вещества,
пригодного для выработки потомства». Впрочем, в конкретных случаях
это отвлеченное правило, осложняясь посторонними влияниями, не
так легко подается проверке. То же самое следует сказать и об
антагонизме между тратой на индивидуальные потребности,
преимущественно на поддержание теплоты и передвижение, с одной стороны,
и плодовитостью — с другой. Можно, однако, привести несколько
очень убедительных примеров. Сравнивая птиц с млекопитающими
и выбирая при этом в том и другом классе животных приблизительно
одинакового размера и питающихся одинаковой пищей (например,
хищных птиц и зверей приблизительно одинакового размера), мы
увидим, что птицы вообще менее плодовиты, чем млекопитающие.
Это объясняется тем, что птицы, расходуя много на поддержание
себя на воздухе и быстрое передвижение, оставляют сравнительно
мало веществ на образование нового поколения. Затем и в том и в
другом классе могут быть проведены подобные же частные
параллели, сравнивая, например, плодовитость относительно
малодеятельных куриных с другими птицами, равными по объему и
питающимися такой же пищей, но ведущими более деятельный образ жизни.
Или, например, сравните плодовитость кролика и зайца. Эти два вида
очень близки, питаются одинаковой пищей, но более деятельный
заяц приносит 2-5 детенышей в помете, а кролик 5-8. Рукокрылые и
грызуны очень сходны по внутреннему строению, но если мы будем
сравнивать близких по размерам — обыкновенную мышь и летучую
мышь, то увидим, что первая приносит до 10 и даже до 12 детенышей
626
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
за раз, а летучая мышь — только одного. Таким образом, жизненный
расход индивида, выражающийся в тратах на поддержку массы тела,
на тонкости строения и на передвижение, обратно пропорционален
плодовитости или генетической деятельности. Чем больше расходует
индивид на себя, тем меньше может он расходовать на расу, на новые
поколения. Это отношение должно, кроме расхода, обусловливаться
еще доходом, который сводится, главным образом, к питанию.
Избыток питательного вещества, остающийся за удовлетворением
индивидуального роста, развития и ежедневного потребления, служит
мерилом силы размножения. Ясно, что при обильном питании этот
избыток больше, а следовательно — больше и сила размножения.
Само собой разумеется, что статьи прихода и расхода личной
жизни могут комбинироваться крайне разнообразно. Из числа этих
комбинаций Спенсер выделяет в особую главу некоторые крайне
любопытные случаи. Сюда относятся, во-первых, паразиты.
Неподвижность, бездеятельный образ жизни паразитов и обилие пищи, всегда
готовой, делают их размножаемость поистине изумительной. Так,
у некоторых мягкокожих ракообразных, живущих на водных
животных, органы плодоразвития и их содержимое достигают иногда
объема в восемь и десять раз большего, чем остальная часть тела. Во
внутренностных эти отношения еще поразительнее. Так, в зрелой самке
аскариды человеческой заключается до 64 000 000 яичек.
Погруженный весь в питательную жидкость, которую он поглощает своей
оболочкой, лентец не нуждается в пищеварительном аппарате. Поэтому
пространство, которое занял бы этот аппарат, и материалы, которые
пошли бы на него, смело могут у него идти на органы плодоразвития,
которые действительно почти и выполняют собой каждый сегмент:
будучи сам по себе совершенно полон в половом отношении, каждый
сегмент есть почти не что иное, как огромная воспроизводительная
система, в которой других строений имеется лишь настолько,
насколько это необходимо, чтобы сплотить его. Если мы вспомним, что
лентец постоянно выпочковывает такие сегменты, тем временем как
вполне развившиеся лопаются, и так делает всю жизнь, то увидим, что
здесь, где нет расхода, где трата на индивидуальность ограничена до
высочайшей степени, между тем как питание велико, насколько лишь
это возможно, степень плодовитости достигает крайнего предела».
Общественные насекомые представляют также очень убедительные
подтверждения антагонизма индивидуальности и генезиса. Из яйца
Борьба за индивидуальность
627
пчелы может выйти и маленькая бесполая пчела-работница, и
крупная плодовитая пчела-матка, смотря по запасу корма,
предоставленного личинке. Таким образом, обилие пищи, бездеятельный образ
жизни и значительная плодовитость совпадают здесь, с одной
стороны, а с другой — точно так же совпадают недостаток пищи, усиленная
деятельность и совершенное бесплодие. У муравьев, особенно у
тропических, видим то же самое. У матки-муравья воспроизводительная
система достигает иногда громадных размеров. Вместе с тем она
совершенно неспособна к движению, так что кладет яйца где попало, и
уже рабочие переносят их туда, где им надлежит вывестись.
Очевидна близость этого случая с явлениями паразитизма: матка поглощает
обильный даровой корм, почти ничего не тратит на передвижение и
потому чрезвычайно плодовита. Матка африканских термитов
кладет в двадцать четыре часа 80 000 яиц.
Итак, индивидуальность и половая, генетическая деятельность во
всех отношениях находятся во взаимном антагонизме. Чем резче
выражена индивидуальность, чем индивид крупнее, сложнее и
деятельнее, тем он менее плодовит. Это можно было бы и дедуктивным
путем вывести из теории борьбы за индивидуальность, именно — из
борьбы между индивидом и входящими в его состав,
поглощенными им, «помраченными», как превосходно выражается в одном месте
Спенсер, низшими ступенями индивидуальности. Не трудно было бы,
в самом деле, показать, что антагонизм индивидуальности и
генезиса есть только частное выражение общего антагонизма двух
соседних ступеней индивидуальности. Я боюсь, однако, утомлять теперь
этим внимание читателя. Так или иначе, но факт антагонизма
индивидуальности и плодовитости несомненен. Очень хорошо
разработанный у Спенсера, он не составляет его открытия и может быть
найден во многих сочинениях по физиологии. Но Спенсер сделал
шаг вперед попыткой приложить этот факт к человеческому
обществу. Человек естественно оказывается подчиненным общим законам
размножения. Малый рост, обильное питание, отсутствие
деятельности физической и умственной, грубость организации — вот
условия наисильнейшего размножения человека, как и других животных,
комбинирующиеся в разных странах и сословиях весьма различно и
потому дающие результаты очень сложные. Обратные условия
задерживают силу размножения. Подтвердив это примерами, Спенсер
обращается к будущему. Он разбирает шансы прогресса, который чело-
628
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ
вечество может сделать в отношении физической силы, проворства,
механической ловкости, в отношении умственном, нравственном.
А этот разбор приводит его к заключению, что плодовитости
предстоит известное, весьма значительное сокращение. Он полагает, что
«в конце концов, теснота населения и зло, которым она
сопровождается, исчезнут и настанет такой порядок дел, что от каждой особи не
будет требоваться ничего, кроме нормальной и приятной
деятельности». Я очень бегло передаю эти воззрения Спенсера и не могу на них
останавливаться, потому что они затрагивают много посторонних
предмету этой статьи вопросов, а отступлений было уже и без того
много. Замечу только, что Спенсер нигде не говорит о шансах
прогресса политического в широком смысле этого слова. Без сомнения,
тот «мир и благоволение», которые он обещает в будущем, возможны
только в таком случае, если все члены общества достигнут такой
степени индивидуальности, которая так решительно сократит половую
деятельность. Это так ясно, что, пожалуй, даже не требует оговорки,
но некоторые другие взгляды Спенсера, связанные с его
излюбленной идеей социального организма, мешают составить определенное
понятие о его убеждениях на этот счет. Играя в социальном
организме роль подчиненного, «помраченного» органа, человек утрачивает
свою индивидуальность, а следовательно, невозможно ждать и
сокращения его плодовитости. В этом именно состоит верная сторона
теории Мальтуса: рабочий, пока он — только рабочий, всегда будет
настолько плодовит, что только мальтузианские фурии, «порок,
несчастье и воздержание», помешают ему размножаться.
Нас интересует здесь, однако, не избыток размножения, для
устранения или предотвращения которого рекомендуется много разных
средств, а избыток самой любви, о котором обыкновенно забывают.
Сколько мне известно, один Прудон настаивал на этой стороне дела,
ожидая в будущем сокращения силы полового влечения и введения
его в естественные границы. Не трудно видеть, что все
вышеизложенное остается для этого вопроса в полной силе. Опека над любовью
или невозможна, или ведет к самым пагубным последствиям.
Избыток же ее устранится сам собой, если усилия людей будут направлены
к торжеству человеческой индивидуальности. Этот избыток оттого
только и происходит, что, кроме поражения индивидуальности
естественным законом раздельнополого существования (что составляет
уже предел, его же не прейдеши), исторический процесс наносит ей
Борьба за индивидуальность
629
новые удары, во-первых, усиливая вторичные половые признаки, во-
вторых — обращая личность в орган.
Заканчивая этой точкой первый отдел «Борьбы за
индивидуальность», я чувствую потребность обратиться к читателю с просьбой
о снисхождении. Кроме многочисленных недостатков изложения,
очень хорошо мною сознаваемых, настоящий очерк озаглавлен «Семья»,
а между тем семья в нем далеко не выяснена, и ему надлежало бы носить
какое-нибудь гораздо менее определенное заглавие. Дело в том, что в
противность первоначальному плану я должен был перенести многое в
одну из дальнейших глав. Таковы уж условия журнальной работы.
КОММЕНТАРИИ
Комментарии
633
Что такое прогресс?
Публикуется по: Михайловский Н. К. Сочинения. В 6 т. СПб., 1896. Т. 1.
С. 1-150.
1 Спенсер (Spencer) Герберт (1820-1903) — английский социолог,
воспринял от Ч. Дарвина теорию эволюции организмов и применил ее к
общественным наукам. Отрицал необходимость социальных институтов и
вмешательство государства в жизнь общества в целом.
2 Эмерсон (Emerson) Ральф Уолдо (1803-1882) — английский философ,
эссеист и поэт, представитель романтизма Новой Англии.
3 Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809-1882) — английский натуралист
и путешественник, заложивший основы современной эволюционной
теории и направления эволюционной мысли, носящего его имя
(дарвинизм).
4 Милль (Mill) Джон Стюарт ( 1806-1873) — английский философ и
экономист.
5 Конт (Comte) Опост ( 1798-1857) — французский философ, основатель
позитивизма и социологии.
6 Позитивизм {франц. positivisme, от лат. positivus — положительный) —
философское направление, исходящее из тезиса о том, что все
подлинное, «положительное» (позитивное) знание может быть получено лишь
в результате развития специальных наук или их синтетического
объединения. Согласно позитивистской установке, философия как особая
наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не
имеет права на существование. Позитивизм оказал значительное
влияние на методологию естественных и общественных наук (особенно 2-й
половины XIX в.) — в том числе социологии, права, политической
экономии и др.
7 Тиблен Николай Львович (1825 — после 1869) — русский издатель,
близкий к демократическим деятелям 1860-х гг. Издавал естественно-научную
и философскую литературу (сочинения Ф. too, Т. Б. Маколея, Г. Т. Бо-
кля, Г. Спенсера, Дж Милля, Ж. Ж. Руссо и др.). В 1868 г. начал издавать
периодические сборники «Новые писатели...» и журнал «Современное
обозрение», но в том же году, оказавшись на грани разорения, выехал за
границу. Дальнейшая судьба его неизвестна.
8 Бокль (Buckle) Генри Томас (1821-1862) — английский историк, автор
труда «История цивилизации в Англии» (1857-1861). В своем
понимании истории доказывал, что прогрессивное развитие любого народа
подчиняется точным и строго проверяемым законам, отрицал свободу
воли в исторической жизни. Задачу исторического исследования видел
в установлении исторической закономерности.
9 Морей Роберт А. — член-учредитель Королевского общества (XVII в.),
английский франкмасон, интересовался герметизмом, каббалой, алхимией.
Главный труд — «Христианство и астрология».
10 Метемпсихоз (от греч. metemphsychösis — переселение душ) —
религиозное учение о переселении души умершего во вновь родившийся
организм.
11 «Предвзятое мнение» — установка в научном исследовании, один из
элементов «субъективного метода», разработанного Михайловским.
12 Бэкон (Bacon) Фрэнсис ( 1561 -1626) — английский философ,
основоположник современной науки и родоначальник индуктивного метода.
13 Бэр Карл Максимович (Карл-Эрнест) (1792-1878) — выдающийся
естествоиспытатель, знаменитый эмбриолог, иностранный член Российской
Академии наук.
14 Нумен, ноумен — философская категория (от греч. noumenos —
мыслимый). В идеалистической философии (в частности у Канта) — «вещь
в себе», сущность вещи, не познаваемая из опыта, а являющаяся
объектом чистой мысли; ноумен противоположен феномену.
15 Кеплера законы — три закона движения планет, открытые И. Кеплером в
начале XVII в.
16 Смит (Smith) Адам (1723-1790) — шотландский экономист, философ-
моралист, один из основоположников современной экономической
теории.
17 Бэббедж (Babbage) Чарльз (1792-1872) — английский математик,
иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1832), известен
своими трудами по теории функций, механизации счета в экономике.
18 Ксенофонт (ок. 434-359 до н. э.) — древнегреческий писатель, историк,
афинский полководец и политический деятель.
19 Платон (428 или 427-348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ.
20 Токвиль (Tocqueville) Алексис (1805-1859) — французский писатель,
государственный деятель и политический мыслитель, прославился
изданием в 1835-1840 гг. исследования о демократии в США («Démocratie en
Amérique»).
2 ' Смайльс (Smiles) Самюэль (1816-1904) — английский писатель.
22 Гоббз (Гоббс) (Hobbes) Томас (1588-1679) - английский философ.
23 Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854) — один из
виднейших представителей немецкой трансцендентально-критической
философии.
24 lerne (Goethe) Иоганн Вольфганг фон (1749-1832) — немецкий поэт,
мыслитель и естествоиспытатель.
25 «Органическая школа» возникла во 2-й половине XIX в. в связи с
новыми открытиями исследователей в области биологии и зоологии. Ее
представители: швейцарский юрист Иоганн Каспар Блюнчли (1808-
1881) (основная работа — «Современное международное право ци-
Комментарии
635
вилизованных народов», 1868); французский социолог Рене Вормс
(1869-1926) (важнейшая работа — «Организм и общество», 1869).
Представители органической школы считали, что государство — это
политический организм, возникающий в результате эволюции
животного мира (от низшего состояния к высшему), характерная черта
которой — естественный отбор. Постоянная война — неотъемлемое
условие развития политического организма, т. е. государства. Между
его частями постоянно происходят изменения, присущие живому
существу. Как всякое живое тело, «политический агрегат» включает в себя
процессы становления, увеличения в размерах, усложнения строения,
т. е. государство рождается, размножается и гибнет. Причем гибель
происходит только с «завершением типа» государства, достижением
зрелого возраста. «Политическому агрегату» присуща специализация,
которая представляет собой объединение граждан в специальные
органы, осуществляющие только им свойственные функции. Так
создается система органов политического тела, аналогичная частям живого
организма: правительственный аппарат — регулятивная система (он
подобен нервно-мускульному аппарату в живом теле),
господствующий класс осуществляет в основном функции обороны и нападения;
класс рабов обеспечивает организм питанием и всем необходимым
для полноценной жизнедеятельности.
26 Эдельсон Евгений Николаевич (1824-1868) — известный русский
критик, один из членов редакции «Библиотеки для чтения», издававшейся
П. Д. Боборыкиным.
27 Дрэпер (Draper) Генри ( 1837-1882) — американский естествоиспытатель,
доктор медицины, профессор физиологии и аналитической химии.
28 Мильн-Эдвардс (Milne-Edwards) Анри де ( 1800-1885) — французский
зоолог, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1846), один
из основоположников морфофизиологических исследований морской
фауны, известен трудами по сравнительной анатомии коралловых
полипов, моллюсков, ракообразных, географическому распределению
водных животных.
29 Беккариа (Beccaria) Чезаре (1738-1794) — итальянский просветитель,
юрист, публицист. Его идеи о необходимости соразмерности наказания
и преступления сыграли важную роль в формировании
демократических принципов уголовного права.
30 Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712-1778) — французский писатель,
мыслитель, композитор.
31 Боссюэт (Bossuet) Жак Бенин (1627-1704) — французский
проповедник, историк и богослов.
32 Протагор (480-410 до н. э.) — древнегреческий философ, известнейший
из софистов; Аристотель (384-322 до н. э.) — древнегреческий философ.
Св. Августин (Augustinus) (полное имя Аврелий Августин) (354-430) —
636
учитель церкви. Боэций (Boethius) (480-524 или 525) — философ и
ученый. Аверроэс (Ибн Рушд) (1126-1198) — арабский философ. Алберт
Великий (1193-1280) — доминиканский монах, мыслитель и философ.
Жерсон (Gerson) Иоанн Жан Шарлье (1363-1429) — французский
философ. Мелапхтон (Melanchthon, Melanthon) Филипп (1497-1560) —
знаменитый немецкий гуманист и сподвижник Лютера. Скалигер (Scaliger)
Жозеф Жюст (Йозефус Юстус) (1540-1609) — французский гуманист,
последователь кальвинизма. Пиколомини Эней Сильвий (1405-1464) —
итальянский гуманист. Бруно (Bruno) Джорджано (1548-1600) —
итальянский гуманист. Кампанелла (Campanella) Томмазо (1568-1639) —
итальянский философ, поэт, политический деятель. Спиноза (Spinoza,
Espinosa) Бенедикт (Барух) (1632-1677) — нидерландский философ.
Ньютон (Newton) Исаак (1642-1727) — великий английский физик,
математик и астроном. Кант (Kant) Иммануил (1724-1804) —
немецкий философ и естествоиспытатель, с его работ берет начало немецкая
трансцендентально-критическая философия.
33 П. Л. — Лавров Петр Лаврович (1823-1900) — теоретик народничества,
основоположник этико-субъективной школы социологии, один из
выдающихся позитивистов России.
34 В трактовке процесса познания Михайловский выступает сторонником
агностицизма, доказывает невозможность постижения истины.
Возможно, здесь сказалось влияние И. Канта.
35 Нелатон (Nelaton) Август (1807-1873) — известный французский
хирург.
36 Литтре (Littré) Эмиль (1801-1881) — французский философ и
филолог, представитель позитивизма. Ученик и последователь О. Конта, он
дополнил его учение о трех стадиях развития человечества понятием
четвертой стадии — техники. Литтре не разделял позднейшей эволюции
Конта в направлении религиозного мистицизма. Вместе с Г. Н.
Вырубовым основал и издавал журнал «La philosophie positive».
37 Сисмонди (Simonde de Sismondi) Жан-Шарль-Леонард (1773-1842) —
французский экономист и историк.
38 Дроз (Droz) Нума (1844-1899) — швейцарский политический деятель.
39 Архимед (287-212 до н. э.) — древнегреческий математик, механик и
инженер из Сиракуз, автор множества открытий в геометрии, механики,
гидростатики.
40 Модзалевский Лев Николаевич (1837-1896) — известный педагог, внес
значительный вклад в развитии женского образования в России, оставил
обширное научно-педагогическое наследие.
41 Гониометр (goniometer) — медицинский прибор для измерения углов,
образуемых сегментами конечности при движении сустава.
42 Шаспо — нарезное ружье, у которого боек представляет собой длинную
иглу.
Комментарии
637
43 Пушки Армстронга — нарезные, заряжаемые с казенной части пушки,
созданные в середине XIX в. английским инженером Уильямом
Армстронгом.
44 Изабеллисты и карлисты — две политические силы, боровшиеся в
Испании в начале XIX в.; образовались в 1833 г. после смерти Фернандо VII.
Изабеллисты выступали сторонниками монархии, а карлисты
отстаивали умеренно-конституционный режим.
45 Мюллер (Müller) Фридрих Макс (1823-1900) — немецкий философ и
филолог, лингвист, мифолог, основоположник современного
религиоведения. Основные работы: «Сравнительная мифология» (1856), «Стружки
из немецкой мастерской» (1867-1875), «Введение в науку о религии»
(1873), «Естественная религия» (1889), «Физическая религия» (1891),
«Антропологическая религия» (1892), «Теософия, или психологическая
религия» (1897), «Шесть систем индийской философии» (1899). Он
пытался использовать разработанные методы сравнительной филологии в
области изучения мифологии и религии.
46 Местр (Maistre) Жозеф Мари де ( 1754-1821 ) — французский писатель и
пьемонтский государственный деятель, теократический консерватор.
47 «Сочувственный опыт» — один из важнейших элементов субъективного
метода в социологии Михайловского.
48 Михайловский полагал, что нравственный элемент не устраним из
исследования. В противовес критикам субъективного метода, он доказывал,
что нравственная оценка изучаемых явлений не противоречит
принципу объективности в исследовании, а, напротив, способствует более
объективному характеру познания.
49 Мальтус (Malthus) Томас Роберт (1766-1834) — английский
экономист, священник англиканской церкви; член Королевского научного
общества (1819), сооснователь Лондонского клуба политической
экономии (1821), член Королевского литературного общества (1824) и
Лондонского статистического общества (1834). Мальтус стал широко
известен благодаря книге «Опыт о законе народонаселения, или
Изложение прошедшего и настоящего действия этого закона на
благоденствие человеческого рода», первое издание которой было
опубликовано (анонимно) в 1798 г.
50 Кэри (Carey) Генри Чарльз (1793-1879) — один из крупнейших
американских экономистов и социологов. Главное сочинение — «Руководство
к социальной науке».
51 Дюфо (Dufau) Пьер (1795-1877) - французский общественный деятель
и публицист, защитник прав слепых, теоретик-статистик, занимал
должность директора Парижского института слепых.
52 Бэн Эфрэ (Afra Behn) (1640-1689), известна еще как «Астрэа» - первая в
истории английской литературы женщина-писательница. Вела упорную
борьбу за признание за женщиной права быть писателем.
53 Знаменитая формула прогресса, вызвавшая многочисленные споры в
литературе о ее научном характере.
Теория Дарвина и общественная наука
Публикуется па Михайловский Я А! Сочинения. В 6 т. СПб., 1896. Т. 1. С. 150-332.
54 Геккель (Haeckel) Эрнст Генрих (1834-1919) — немецкий
естествоиспытатель и философ. Основные работы: «Общая морфология
организмов» («Generelle Morphologie der Organismen»); «Естественная история
миротворения» («Natürliche Schöpfungsgeschichte»). В 1874 г. Геккель
опубликовал работу «Антропогения, или История развития человека»
(«Anthropogenie, oder Entwickelungsgeschichte des Menschen»), в которой
обсуждались проблемы эволюции человека. Ему принадлежит мысль о
существовании в историческом прошлом формы, промежуточной
между обезьяной и человеком, что было позже подтверждено находкой на
о. Ява останков питекантропа.
55 Йегер (Jäger) Густав ( 1832-1917) — немецкий биолог и публицист.
56 Бюхнер (Büchner) Людвиг (1824-1899) — немецкий врач,
естествоиспытатель и философ.
57 Коперник (Kopernik) Николай (1473-1543) — польский астроном,
математик и экономист, известен созданием гелиоцентрической системы
мира в Средние века.
58 Ламарк (Lamark) Жан Батист Пьер Антуан Моне шевалье де ( 1744-1829) —
французский мыслитель и натуралист, профессор зоологии, создатель
первого целостного учения об эволюции органического мира. Работал
также в области геологии, метеорологии, физики, химии.
59 Вольтер (Voltaire) (наст, имя, и фам. Мари Франсуа Аруэ, Arouet) (1694—
1778) — французский писатель, философ, историк.
60 Пуф[ф]ендорф (Pufendorf) Самуил (1632-1694) — просветитель,
философ, правовед.
61 Мандевиллъ (Mandevilie) Бернард (1670-1733) — английский сатирик и
философ.
62 Линней (Linnaeus) Карл (1707-1778) — шведский натуралист, «отец
современной ботанической систематики».
63 Вирхов (Virchow) Рудольф (1821 -1902) — немецкий учёный и
политический деятель, основатель современной патологической анатомии.
64 Эдип — персонаж древнегреческой мифологии.
65 Идея о противоположности физиологического разделения труда и
экономического составляет краеугольный пункт теории прогресса
Михайловского.
66 Мак-Куллох (Macculloch) Джон Рамси (1789-1864) — британский
(шотландский) экономист, последователь и популяризатор Рикардо.
Комментарии
639
67 Маркс (Marx) Карл (1818-1883) - немецкий мыслитель и
общественный деятель, основоположник марксизма.
68 Губер (Huber) Франсуа ( 1750-1831 ) — швейцарский натуралист.
69 Расплюев — один из центральных персонажей А. В. Сухово-Кобылина
«Свадьба Кречинского» (1854) и герой его комедии-шутки «Смерть Та-
релкина».
70 Имеется в виду шудра — представитель касты шудр (неприкасаемых),
наиболее бесправной касты в Индии.
71 Сваммердам (Swammerdam) Ян (1637-1680) — нидерландский
натуралист. Известен трудами по анатомии животных и насекомых.
72 Вагнер (Wagner) Рудольф (1805-1864) — немецкий физиолог и
сравнительный анатом.
73 Фогт (Vogt) Карл ( 1817-1895) — немецкий естествоиспытатель, один из
представителей вульгарного материализма.
74 Аврелий Марк (121-180) — римский император, один из наиболее
значительных представителей римского стоицизма.
75 Фразивул — политический деятель Афин V в. до н. э.
76 Брамины — каста брахманов, жрецов в Древней Индии. Ваисии — каста
вайшьев в Древней Индии. Кшатрии — каста воинов в Древней Индии.
77 Деизм (от лат. deus — Бог) — религиозно-философское учение,
получившее распространение в эпоху Просвещения, согласно которому Бог,
сотворив мир, не принимает в нем какого-либо участия и не
вмешивается в закономерное течение его событий. Деизм противостоит как теизму,
в основе которого лежит представление о божественном участии во всех
событиях и постоянной связи человека и Бога, так и пантеизму,
растворяющему Бога в природе. Во Франции в XVIII в. деистами были Вольтер
и Руссо.
78 Агассиц (Agassiz) Луи (1807-1873) — американский натуралист,
сторонник креационизма и теории катастроф, идейный оппонент Ч. Дарвина.
79 Эпикур (341 -270 до н. э.) — древнегреческий философ, мыслитель
эллинистического периода развития философии.
80 Лукреций — Тит Лукреций Кар (99-55 до н. э.) — древнеримский
философ и поэт, просветитель древности, один из крупнейших
представителей античного атомистического материализма.
81 Фет (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820-1892) —
русский поэт, публицист, переводчик.
82 Болингброк (Bolingbroke) Генри (1678-1751) - английский
государственный деятель, ученый, философ.
83 (Ормузд) Ахурамазда — верховное божество зороастризма, творец всех
противоборствующих сил. Ариман — в зороастризме: божество; бог
тьмы, дух и первоисточник зла, противник Ахурамазды.
84 Щеглов Дмитрий Федорович (?—1902) — русский педагог и писатель.
Известна его «История социальных систем» (СПб., 1889). Ему же принад-
лежит ряд статей исторического содержания. Состоял членом
Императорского археологического общества.
85 Сен-Симон (Sen-Simon) Клод-Анри де Рувруа (1760-1825) —
французский мыслитель, социолог, автор утопических социальных проектов.
86 Рейбо (Reybaud) Луи (1799-1879) — французский писатель, романист и
публицист.
87 Безобразов Владимир Павлович (1828-1889) — русский экономист и
публицист.
88 Мальтус (Malthus) Томас Роберт — см. комм. 49.
89 Лаказ-Дютье (Lacaze-Duthiers) Анри (1821-1901) — французский
зоолог, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1892),
известен трудами по сравнительной анатомии и онтогенезу
беспозвоночных. Противник эволюционного учения.
90 Негели (Nägeli) Карл Вильгельм (1817-1891) — немецкий ботаник,
известен трудами по цитологии, анатомии, физиологии и систематике
растений. Наблюдал деление клеточного ядра, один из первых применил
математические методы в ботанике.
91 Мильн-Эдвардс (Milne-Edwards) Анри де ( 1800-1885) — французский
зоолог, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1846), один
из основоположников морфофизиологических исследований морской
фауны.
92 Катон Марк Порций Старший (234-149 до н. э.) — древнеримский
полководец, оратор, писатель и государственный деятель, отличался
непреклонностью и честностью, из-за чего нажил себе много врагов. Обычно
имя Катона упоминается в связи с его известной фразой, ставшей
крылатым выражением: «Карфаген должен быть разрушен».
93 Априорические (априорные) — не зависящие от опыта,
предшествующие ему.
94 Кювье (Cuvier) Жорж (1769-1832) — французский естествоиспытатель,
один из основателей палеонтологии.
95 Страхов Николай Николаевич (1828-1896) — русский литературный
критик, философ, публицист.
96 Ройе (Royer) Клеманс Августа (1830—?) — французская писательница.
В 1859 г. открыла в Лозанне женские курсы по логике, а затем и по
философии. Известна рядом статей по политической экономии в
журнале «Nouvel Economiste», издававшемся в Швейцарии, а также
философскими трудами. Перевела на французский язык сочинение Дарвина
«Происхождение видов» (1862; 2 изд. — 1865) и написала к нему
предисловие.
97 Робеспьер (Robespierre) Максимильен ( 1758-1794) — деятель Великой
французской революции, глава якобинцев, крайнего
революционного крыла французской буржуазии в Конвенте. Руководитель француз-
Комментарии
641
ского революционного правительства — Комитета общественного
спасения.
Бабёф (Babeuf) Гракх (1760-1797) — французский коммунист, глава
заговора во времена Директории во Франции, готовил восстание с целью
создания Национальной коммуны и улучшения положения народа.
Гебер (Hébert) Жак Рене (1755-1794) — деятель Великой французской
революции.
Шомет — французский революционер, ультраякобинец.
Фурье (Fourier) Франсуа Мари Шарль (1772-1837) — французский
социалист.
Леру (Leroux) Пьер (1797-1871) — французский философ и социалист,
один из основателей христианского социализма.
Кабе (Cabet) Этьен (1788-1856) — французский публицист, являлся
членом тайной республиканской организации периода Реставрации (1815-
1830). В 1830 г. участвовал в уличных боях. В отличие от Бабёфа считал,
что коммунизм может быть достигнут мирным путем посредством
всеобщих выборов. Его роман «Путешествие в Икарию» («Voyage en Icarie»),
вышедший в свет в 1840 г., описывал страну без полиции, армии и судей,
с демократической системой выборов, уравнительным распределением
материальных благ при отсутствии частной собственности.
Прудон (Proudhon) ПьерЖозеф (1809-1865) — французский публицист,
экономист и социолог, один из основоположников анархизма.
Лещинский Станислав (1677-1766) — польский король в 1704-1711 и
1733-1734 гг. В полемике по поводу сочинения Ж Ж Руссо
«Рассуждения о науках и искусствах» выступил с «Опровержением рассуждения о
науках и искусствах», опубликованным в сентябрьском номере журнала
«Меркюр де Франс» за 1751 г.
Локк (Locke) Джон (1632-1704) — английский философ, основатель
либерализма. В «Опыте о человеческом разумении» (1689) разработал
эмпирическую теорию познания. Отвергал существование врожденных
идей и утверждал: все человеческое знание проистекает из опыта.
Энциклопедисты — французские просветители во главе с Дени Дидро,
создавшие «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и
ремесел», 35 томов (1751-1780).
Утилитаризм — направление в этике, считающее пользу основой
нравственности и критерием человеческих поступков. Родоначальником
считается И. Бентам.
Лассаль (Lassalle) Фердинанд (1825-1864) — немецкий философ, юрист,
экономист и политический деятель.
Михайловский отвечает на обвинения критиков его теории прогресса,
которые заявляли, что в философии истории он идеализировал
«золотой век», звал интеллигенцию вернуться в прошлое, в патриархально-
642
крестьянскую гармонию «в духе Руссо». О так называемом «руссоизме»
Михайловского писали русские марксисты (Н. А. Бердяев, С. П. Ранский),
утверждавшие, что социальный идеал Михайловского «не впереди, а
позади», в идеализации крестьянской патриархальности и отсталости.
Отметим, что в наследии Руссо Михайловского привлекала идея цены
индустриального прогресса, последствий общественного разделения
труда, в ходе которого личность утрачивала целостную форму своего
существования, деперсонифицировалась.
111 Келликер (Kolliker) Рудольф Альберт (1817-1905) — немецкий
гистолог и эмбриолог, иностранный член-корреспондент Петербургской АН
(1858). Негели — см. комм. 90.
112 Фридрих Вильгельм N (Friedrich Wilhelm) (1795-1861) — прусский
король с 1840 г. из династии Гогенцоллернов. Выступал последовательным
противником идеалов Великой французской и американской
революций.
113 Лютер (Luther) Мартин (1483-1546) — основоположник и вождь
Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма
(лютеранства), переводчик Библии на немецкий язык. Среди главных мотивов его
богословия — спасение только верой.
114 Кальвин (Calvin) Жан (1509-1564) — один из деятелей Реформации,
переводчик и толкователь Библии. Под влиянием идей Лютера
пришел к решительному разрыву с умеренно-реформистской традицией,
а затем и с католицизмом вообще. В 1536 г. прибыл в Женеву, где ему
удалось возглавить протестантское движение. Борьба Женевы против
Савойи упрочила власть Кальвина и превратила его в неограниченного
диктатора. Евангельский дух любви был оттеснен церковным режимом
тоталитарного типа. Кальвинисты стал преследовать вольнодумцев, в
том числе и Сервета, который был сожжен на костре по инициативе
Кальвина.
115 Шерр (Scherr) Иоганн (1817-1886) — выдающийся немецкий историк
литературы.
116 Бренн — вождь сенонов (галльское племя), возглавивший поход галлов
на Рим. Осадил город Клузий (ныне Кьюзи), разбил римлян и взял Рим
(кроме Капитолия). После, якобы, семимесячного пребывания в Риме
галлы покинули завоеванные земли. При отвешивании римлянами
выкупа золотом победителю Бренн бросил на одну чашу весов свой меч со
словами «Горе побежденным!».
117 Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788-1860) — немецкий философ,
основоположник системы, проникнутой волюнтаризмом, пессимизмом
и иррационализмом.
118 Стронин Александр Иванович (1827-1889) — русский
социолог-позитивист, представитель органицизма, просветитель, юрист и
государственный деятель. Автор ряда работ, в том числе: «История и метод»
(1865); «Мир и война» (1870); «Политика как наука» (1872); «История
общественности» (1885) и др. В последние годы работал над книгой «Те-
Комментарии
643
ория личности» (не завершена). Будучи сторонником позитивизма,
придерживался механистических взглядов на общество и стремился создать
общую методологию науки, одинаково применимую и в естествознании,
и в обществознании.
119 Имеется в виду работа I Интернационала. Второй конгресс состоялся в
Лозанне (Швейцария) 2-8 сентября 1867 г. На нем присутствовало
более 60 делегатов, представлявших рабочих Швейцарии, Великобритании,
Франции, Германии, Бельгии и Италии. Среди немецких, бельгийских и
др. делегатов выявилась значительная группа сторонников коллективной
собственности на землю, потребовавших включения аграрного вопроса
в повестку дня следующего конгресса. Была также принята резолюция,
признавшая политические свободы необходимым условием социального
освобождения пролетариата.
120 Гурнэ (Gournay) Жан Клод Венсан (1712-1759) — французский
государственный деятель и экономист, близкий к физиократам, учитель А. Тюр-
го. Вместе с физиократами он выступал против цеховых ограничений
ремесла, за свободу конкуренции, но, в отличие от них, считал
промышленность и торговлю важнейшими источниками процветания страны.
Гурнэ принадлежит знаменитая фраза: «Предоставьте [людям — В. Б]
делать свои дела, предоставьте [делам — В. Б] идти своим ходом». Это
высказывание стало позже лозунгом свободы торговли и невмешательства
государства в экономику и тем самым принципом классической школы
в политической экономии.
121 «Предоставьте свободу действий, не мешайте» (фр.) — базовый принцип
экономической свободы.
122 Буассель (Boissel) Франсуа (1728-1807) — французский революционер,
коммунист-утопист. В 1789 г. опубликовал «Катехизис человеческого
рода», в котором резко критиковал «продажный, человекоубийственный
антисоциальный порядок», основанный на частной собственности, и
противопоставлял ему идеал общественного строя, базировавшегося на
коллективной собственности и общем труде.
123 Курселъ-Сенелъ (Courcelle-Seneuil) Жан-Густав (1813-1892) —
французский экономист, профессор политической экономии в университете в
Сантьяго (Чили), член Государственного совета Франции, убежденный
поборник индивидуалистических идей.
124 Гумбольдт (Humboldt) Вильгельм (1767-1835) — немецкий филолог,
философ и языковед, государственный деятель, брат Александра
Гумбольдта.
125 Гибель (Giebel) Христоф Готфрид (1820-1881) — германский зоолог и
палеонтолог. Сторонник теории, согласно которой виды животных
возникали путем нового творения после глобальных переворотов на земле;
по его мнению, этот ряд последовательных творений сопровождался
совершенствованием организации животных.
126 Кинэ (Quinet) Эдгар (1803-1875) — французский политический деятель,
историк. Из многочисленных трудов Кинэ наиболее известна работа о
644
Великой французской революции (т. 1-2,1865; рус. пер.: «Революция и
критика ее». Т. 1-2. М., 1908).
127 Блунчли (Bluntschli) Иоганн-Каспар (1808-1881) - швейцарский
профессор государственных наук, правовед.
128 Концентрированное изложение Михайловским своей оригинальной
теории «практических и идеальных типов». Эта теория является
теоретическим ядром учения мыслителя об интеллигенции. Михайловский
призывает не приспосабливаться к «естественному ходу вещей» и к
окружающей среде, а менять жизнь согласно идеалам во имя прогресса.
129 Вико (Vico) Джамбаттиста (1668-1744) — итальянский философ,
основатель философии истории и психологии народов. Обосновал ряд
перспективных подходов этнологии и всеобщей теории права. Главное
сочинение — «Основания Новой Науки об Общей природе Наций» (1725) —
первый систематический труд в европейской интеллектуальной
традиции, специально посвященный анализу проблем философии истории.
Вико осуществил всеохватывающий поиск закономерностей развития и
сущности исторического процесса.
130 «Формула прогресса» Михайловского.
131 Ляйелль (Lyell) Чарльз (1797-1875) — английский геолог.
132 Хилиасты и милленарии (греч. chiliäs и лат. mille — тысяча) —
сторонники религиозно-утопического учения о приходе Спасителя — Машиаха
(в иудаизме), или о втором пришествии Христа (в христианстве) и его
тысячелетнем царствии.
133 Гартман (Hartmann) Эдуард фон (1842-1906) — немецкий философ,
один из представителей идейного пессимизма и иррационализма 2-й
половины XIX в. В 1869 г. опубликовал прославивший его труд: «Философия
бессознательного», выдержавший много изданий еще при жизни автора.
134 Жуковский Юлий Галактионович (1833-1907) — российский
экономист, публицист, историк общественной мысли, Управляющий
Государственным банком, сенатор, исследовал экономические теории А. Смита,
Т. Мальтуса, Д. Рикардо, Ж. Б. Сея.
135 П.Л.-см.комм. 33.
136 Клаузиус (Clausius) Рудольф Юлиус Эмануэль (1822-1888) —
немецкий физик, один из основателей термодинамики и молекулярно-
кинетической теории теплоты.
137 Вундт (Wundt) Вильгельм (1832-1920) — немецкий психолог, физиолог,
философ, языковед, «отец научной психологии», один из ведущих
представителей классической психологии сознания.
138 Бриссо (Brissot) Жак Пьер (1754-1793) — деятель Великой французской
революции, лидер жирондистов. Приобрел известность в конце 70-х —
начале 80-х гг. XVIII в. историко-философскими сочинениями, в
которых выступал как ученик Ж. Ж Руссо. Наиболее крупная работа Бриссо —
Комментарии
645
«Философские изыскания о праве собственности и о краже в природе
и обществе» (1780), в которой он впервые сформулировал положение:
«Собственность есть кража», повторенное позднее П. Ж. Прудоном.
139 Мишле (Michelet) Жюль (1798-1874) — французский историк и
моралист, наиболее известный представитель романтической
повествовательной историографии XIX в.
Аналогический метод в общественной науке
Публикуется по: Михайловский Н. К. Сочинения. В 6 т. СПб., 1896. Т. 1. С. 333—
391.
140 Имеется в виду проведение Всероссийской этнографической выставки и
славянского съезда в мае 1867 г. в Москве.
141 Погодин Михаил Петрович (1800-1875) — русский историк, археолог
и журналист, издатель «Москвитянина», органа правого крыла русских
славянофилов. Шевырев Степан Петрович (1806-1864) — историк
русской словесности, критик и поэт. Оба общественных деятеля являлись
соавторами известной теории «официальной народности».
142 Риттер (Ritter) Карл (1779-1859) — немецкий географ, профессор
Берлинского университета (с 1820). В истолковании взаимоотношений между
природой и элементами цивилизации и культуры придерживался
географического детерминизма. Ряд положений в его работах выдержан в духе
идеалистической телеологии. Риттер пытался доказать определяющее
влияние природы на судьбы народов, что способствовало формированию
геополитики.
143 Утверждение Михайловского о необходимости использовать методы
естественных наук в науках общественных наглядно иллюстрирует
позитивистские установки мыслителя.
144 Кетле (Quetelet) Ламбер Адольф Жак (1796-1874) —
франко-бельгийский ученый-математик, естествоиспытатель, один из крупнейших
статистиков XIX в., создатель математических (в частности, вероятностных)
методов обработки социальной информации; инициатор создания
национальных статистических обществ в Англии и Франции,
Международной статистической ассоциации, одну из задач которой видел в
мировом распространении унифицированных методик, показателей.
Одновременно с Контом создал свою социальную физику — науку об
общественной жизни, которая подобно другим формам природы
управляется законами помимо воли человека. В отличие от Конта, считавшего,
что методами этой науки должны быть методы естественных наук
(позитивизм в социологии), Кетле развил концепцию специфического метода
науки об обществе — статистического.
646
145 Кондорсэ (Condorcet) Жан Антуан Николь (1743-1794) - французский
философ, родоначальник теории прогресса. Основное сочинение —
«Эскизы исторической картины прогресса человеческого разума».
и6 Ромен (Rollin) Шарль (1661-1741) — известный французский историк
и педагог.
147 Кэри — см. комм. 50.
148 Льюис (Lewes) Джордж Генри (1817-1878) — английский философ-
позитивист, ученый и литературный критик.
149 Михайловский намекает на возможные цензурные ограничения в
отношении «Отечественных записок».
150 Имеется в виду отмена крепостного права.
151 Чичерин Борис Николаевич (1828-1904) — русский правовед, философ,
историк государственной школы. Решительно выступал против
отечественных радикал-социалистов, считая их деятельность пагубной для
общества.
152 Герье Владимир Иванович (1837-1919) — русский историк и
общественный деятель, создатель и первый директор Высших женских курсов
(историко-филологические курс: 1872-1878, 1900-1905). Читал курсы
по средневековой истории и истории Античности. Основные статьи:
«Средневековое мировоззрение», «Торжество теократического начала на
Западе», «Франциск Ассизский», «Катарина Сиенская». Основные работы:
«История римской Республики» (СПб., 1884), «Лекции по римской
истории» (М, 1908).
153 Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885) — русский историк
государственной школы и публицист. Участник подготовки крестьянской
реформы 1861 г. в России, автор одного из проектов отмены крепостного
права. Сторонникумеренных либеральных преобразований при сохранении
монархии и помещичьего землевладения. Т]эуды: «Взгляд на юридический
быт Древней России» ( 1847), «Краткий взгляд на русскую историю» (опубл.
в 1887) и др.
154 Гервинус (Gervinus) Георг Готфрид (1805-1871) — немецкий историк и
литературовед. Продолжал линию Ф. Шлоссера по изучению духовной
культуры. В трудах по истории Европы 1815-1848 гг. (История XIX в. от
времени Венского конгресса. Т. 1-8. 1855-1866; рус. пер.: Т. 1-6. 1863-
1888) подверг критике режим Меттерниха, с сочувствием относился к
прогрессивным и национально-освободительным движениям. В работах
по истории литературы (История поэтической национальной
литературы немцев. Т. 1-5.1835-1842; Шекспир.! 1-4.1849-1850) подчеркивал
тесную связь литературы с эпохой.
155 Гумбольдт (Humboldt) Александр (1769-1859) — немецкий
естествоиспытатель, географ и путешественник, член Берлинской Академии наук
(1800), почетный член Петербургской Академии наук (1818). Разработал
Комментарии
647
методологические принципы в науке, подчеркивающие материальность
и единство природы, взаимосвязь и взаимообусловленность явлений и
процессов.
156 Дюфо (Dufau) Пьер — см. комм. 51.
157 Успенский Глеб Иванович (1843-1902) — русский писатель
народнического направления, один из близких друзей Михайловского.
158 Меровинги — династия франкских королей. После первого
исторического конунга, Хлодиона, предание называет королем салийских франков
Меровея (в середине V в.), от которого будто бы получила свое название
династия Меровингов. Династия пала в VIII в. Капетинги (987-1328) —
династия французских королей, названная по имени ее основателя, Гуго
Капета.
Борьба за индивидуальность
Публикуется по: Михайловский К К Сочинения. В 6 т. СПб., 1896. Т. 1.
С. 422-594.
159 Имеется в виду испанский король Альфонс XII (1874-1885), сын
королевы Изабеллы, который в результате государственного переворота
восстановил монархию, пришедшую на смену непродолжительному
правлению республиканцев (1873-1874). Дон Карлос — дядя королевы
Изабеллы, оспаривал ее власть и развязал так называемые карлистские
войны (1833-1839).
160 Мак-Магон (Mac-Mahon) Мари Эдм Патрис Морис (1808-1893) -
маршал Франции; впоследствии президент Французской Республики.
В 1855 г., будучи генералом, принимал участие в Крымской кампании,
затем — в итальянской войне. В 1864 г. был назначен губернатором
Алжира, с начала франко-прусской войны 1870-1871 гг. —
командиром 1-го французского корпуса. 1 сентября 1870 г. в битве под Седаном
вместе со всей армией был взят немцами в плен. По возвращении во
Францию, стал во главе войск, подавивших восстание парижских
коммунаров в мае 1871 г.
161 Доррегарай (Dorregaray) Антонио (1820-1882) - испанский генерал, кар-
лист. В1836-1839 гг. сражался в рядах карлистов. После революции 1868 г.
оставил испанскую армию и с 1872 г. сражался на стороне дона Карлоса;
скоро стал одним из главнейших предводителей карлистов и несколько
раз разбил правительственные войска.
162 Людовик IX Святой (Saint Louis) (1226-1270) - король французский,
сын Людовика VIII и Бланки Кастильской.
т Ультрамонтанцы — общественное течение религиозного плана,
отстаивающее идею всемирного католического единства под властью папы.
Торнтон (Thornton) Вильям Томас (1813-1880) — английский
философ, экономист, создатель новых политэкономических теорий
рыночной ценности и заработной платы, основанных на критике взглядов
Дж. С. Милля. Торнтон предложил реальные пути разрешения
конфликта труда и капитала и повышения благосостояния рабочих, основанные
на экономических и идеологических механизмах. Его теория легла в
основу западноевропейской системы организации производственных
отношений, позволяющих решать классовые противоречия мирными
способами. Имеется в виду сочинение Торнтона «Труд: Его ложные
требования и законы права, его настоящее положение и возможная
будущность» (СПб, 1870).
Trades-unions — профсоюзы.
Принципы Великой французской революции 1789-1793 гг.
Франко-прусская война (1870-1871) — военный конфликт между
империей Наполеона III и добивавшейся европейской гегемонии
Пруссией. Война, спровоцированная прусским канцлером О. Бисмарком и
формально начатая Наполеоном III, закончилась поражением и крахом
Французской империи, в результате чего Пруссия сумела преобразовать
Северогерманский союз в единую Германскую империю.
Имеется в виду подавление народного восстания в Париже в 1871 г, так
называемая Парижская Коммуна.
Фритредерство (от англ. free trade — свободная торговля) —
направление в экономической теории и политике промышленной буржуазии,
предполагающее свободу торговли и невмешательство государства
в частнопредпринимательскую деятельность. Движение
сторонников фритредерства зародилось в Великобритании в последней трети
XVIII в. и было связано с начавшимся промышленным переворотом.
Всестороннее теоретическое обоснование фритредерству дали А. Смит
и Д. Рикардо, которые представляли эту политику как идеальную,
выгодную всем странам и народам. Фритредеры выступали также против
пережитков средневековой регламентации промышленного
производства. В 30-е гг. XIX в. движение фритредеров в Великобритании
усилилось. Его возглавили текстильные фабриканты Р. Кобден и Дж. Брайт,
организовавшие в 1838 г. «Лигу борьбы против хлебных законов».
Центром сторонников фритредерства стал г. Манчестер (отсюда второе
название фритредеров — манчестерцы).
Катедер-социализм (от нем. Katheder — кафедра) —
социально-экономическая концепция, возникшая в Германии в 60-70-х гг. XIX в. (Г. Шмоллер,
Л. Брентано, А. Вагнер и др.), в которой обосновывался переход от
капитализма к социализму с помощью реформ, осуществляемых
государством.
Маурер (Maurer) Георг Людвиг фон (1790-1872) — немецкий историк,
создатель марковой, или общинной теории. Профессор права в Мюн-
Комментарии
649
хенском университете (с 1826). Его политические симпатии были на
стороне конституционной монархии, которая должна была
основываться, по его мнению, на исконных для германцев общинных принципах.
Согласно концепции Маурера, в начале немецкой истории существовал
такой социальный порядок, при котором господствовали коллективная
собственность на землю и совместная ее обработка, отсутствовало
государство, а функции управления общественными делами осуществлялись
Марковыми (общинными) организациями, основанными на равенстве и
равноправии всех свободных людей.
172 Нассе (Nasse) Эрвин (1829-1890) — немецкий экономист, был
профессором в Базеле, Роштоке и Бонне. С 1874 г. и до смерти возглавлял
Общество социальной политики, по своим взглядам принадлежал к правому
крылу катедер-социализма.
173 Мэн (Maine) Генри Джеймс Самнер (1822-1888) — английский юрист и
историк права. Опирался на сравнительно-исторический метод,
стремился создать универсальную картину развития права и ранних
социальных институтов.
174 Брентано (Brentano) Луйо (1844-1931) — немецкий экономист.
Предлагал разрешать социальные конфликты между рабочими и
предпринимателями путем организации профсоюзов и использования фабричного
законодательства.
175 Лавеле (Laveleye) Эмиль Луи Виктор де (1822-1892) — бельгийский
экономист и социолог. Отрицал объективный характер
экономических законов, выступал против классической политической экономии.
Считая, что политическая экономия «есть дело законодательства» и
что законы, которые она изучает, — юридические законы, Лавеле
центральное место отводил политическому строю, выступал за активное
вмешательство государства в экономическую жизнь, но был
решительным противником социалистической идеи всестороннего
регулирования хозяйства. Идеал общественной жизни видел в союзе «свободных
самоуправляющихся» общин, в широкой децентрализации, доходящей
до федерализма.
176 Штирнер (Stirner) Макс (1805-1856) — псевдоним немецкого
писателя Иоганна Каспара Шмидта. В 1845 г. Штирнер выпустил книгу
«Единственный и его достояние», в которой изложил свои философские
взгляды, сводящиеся к проповеди ничем не ограниченного эгоизма и
индивидуализма. Отстаивая безусловную свободу личности, Штирнер
восставал против всякой государственности и требовал перехода к
полной анархии.
177 Муций Сцевола Гай (Gaius Mucius Scaevola) — легендарный римский
герой, пытавшийся убить Ларса Порсену, царя этрусского города Клузия,
который осадил Рим в 509 г. до н.э. Сцевола пробрался в шатер Пор-
сены, но по ошибке убил царского писца. Его схватили. Отвага рим-
лянина так поразила Порсену, что его отпустили. Порсена заключил с
Римом мир.
178 Морелли (Morellet) Андре (1727-1819) — французский писатель,
экономист. В своем сочинении «Кодекс природы» (1755) критиковал
первоосновы феодального режима, крупную собственность, доказывал, что она
являлась первопричиной экономических бедствий, пропагандировал
коммунистические идеи.
179 Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762-1814) — один из виднейших
представителей немецкой трансцендентально-критической философии.
180 Мордвинов Николай Семенович (1754-1845) — государственный и
военный деятель. В 1820-е гг. — член Государственного Совета, членом
Финансового комитета и Комитета министров. С 1824 по 1838 г. —
председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного
Совета. С 1823 по 1840 г. — председатель Вольного экономического
общества. Прозванный «русским Катоном», Мордвинов был широко
образованным либеральным государственным деятелем, автором ряда
сочинений по политэкономии и философии. Он выступал за уничтожение
крепостного права и был единственным из членов Верховного суда, кто
не подписал смертный приговор декабристам.
181 Ланге (Lange) Фридрих Альберт (1828-1875) — немецкий философ и
экономист, представитель марбургской школы неокантианства.
Профессор философии Цюрихского (с 1870) и Марбургского (с 1872)
университетов. Вместе с О. Либманом провозгласил лозунг «Назад к Канту».
В экономической теории придерживался либеральных воззрений.
182 Посников Александр Сергеевич (1846-1921) — экономист
народнического направления, профессор политэкономии. В своем исследовании
«Общинное землевладение» доказывал превосходство общинного
землевладения перед фермерским и видел в нем спасение крестьян от
пролетаризации. Защищая теорию «устойчивости» мелкого крестьянского
хозяйства, полагал, что организация разного рода кооперативов и
товариществ на базе общинного землевладения способна придать
крестьянскому хозяйству все преимущества крупного производства. Был
убежденным противником столыпинской аграрной реформы.
183 Бернулли (Bernoulli) Даниил (1700-1782) — голландский физик и
математик. В математике разрабатывал метод численного решения
алгебраических уравнений с помощью возвратных рядов. В труде «Падроди-
намика» (1738) вывел уравнение стационарного движения идеальной
жидкости, носящее его имя. Разработал кинетические представления о
газах.
184 Вебер (Weber) Эрнст Генрих (1795-1878) — немецкий психофизиолог
и анатом. Ему принадлежат работы по сравнительной и
микроскопической анатомии, а также по истории развития животных и физиологии
Комментарии
651
(механизм движения человека; локализация ощущений давления,
температуры и места в человеческой коже), проблемам чувствительности
(главным образом кожной и мышечной). Вебер определил наличие
закономерных соотношений между силой воздействия внешних физических
раздражителей и вызываемыми ими субъективными реакциями —
ощущениями (что отражено в законе Вебера-Фехнера).
185 Фехнер (Fechner) Густав Теодор (1801-1887) - немецкий физик,
психолог, философ. Стремясь обосновать с помощью математических и
экспериментальных методов точку зрения, согласно которой вся
Вселенная одушевлена, а материя — лишь теневая оборотная сторона
психического, Фехнер опирался на установленную Э. Г. Вебером зависимость
между ощущениями и раздражителями. Выдвигал идею создания особой
науки — психофизики, предмет которой — закономерные соотношения
двух рядов явлений: психических и физических, связанных чисто
функционально. Идеи психофизики, изложенные в работе «Элементы
психофизики» (I860), оказали огромное влияние на зарождающуюся
экспериментальную психологию.
186 Драгоманов Михаил Петрович (1841-1895) — украинский ученый и
критик
187 Бусбек, или Бюсбек (Busbecq) де (1522-1592) — австрийский дипломат и
писатель. С 1556 г. в течение 7 лет занимал должность посланника в
Константинополе. В это время он собрал более 100 греческих рукописей,
много старинных монет, медалей, греческих надписей, вывез в
Германию некоторые виды местных растений и животных, из которых многие
были затем акклиматизированы.
188 Пидерит (Piderit) Теодор (1826—?) — немецкий писатель, врач.
189 Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1870) — российский педагог,
основоположник научной педагогики в России. Основа его
педагогической системы — требование демократизации народного образования и
идея народности воспитания. Педагогические идеи Ушинского
отражены в книгах для первоначального классного чтения «Детский мир» (1861)
и «Родное слово» (1864), фундаментальном труде «Человек как предмет
воспитания. Опыт педагогической антропологии» (Т. 1-2.1868-1869) и
других педагогических работах.
190 Mop (More) Томас (1478-1535) — английский гуманист,
государственный деятель, правовед, писатель.
191 Важная идея Михайловского о том, что идеал — не конечное застывшее
состояние, а непрерывный процесс приближения к совершенному. Этой
идеей Михайловский опровергает обвинения марксистов в том, что он
разработал «гигиенический рецепт», по которому должно двигаться
человечество. Утопический характер социально-исторического идеала
приписывался Михайловскому Г. В. Плехановым.
652
192 Мордовцев Даниил Лукич (1830-1905) — русский писатель. Литературную
деятельность начал с публикации стихов в изданном им «Малорусском
литературном сборнике» (Саратов, 1859) и ряда исторических
сочинений в «Русском слове», «Русском вестнике», «Вестнике Европы»,
«Всемирном труде». Отдельно изданы: «Гайдамачина» (СПб., 1870 и 1884),
«Самозванцы и понизовая вольница» (СПб., 1867 и 1884). В начале 1870-х гг.
Мордовцев пользовался большой популярностью и как автор романа о
жизни прогрессивной интеллигенции «Знамения времени» и ряда
публицистических статей в «Отечественных записках».
193 Пастрана Юлия — женщина, поражавшая своей необычайной
внешностью. Имела узкий лоб, несоразмерно большие уши и черную бороду.
Ребенком она была обнаружена в лесах Мексики. Выступала на аренах
европейских цирков. В 1858 г. приезжала в Москву.
194 Фирордт (Vierordt) Освальд — немецкий анатом. Создатель гематохо-
метра — аппарата для измерения скорости движения крови; данные
получали в соответствии с углом отклонения маятника, введенного в струю
крови.
195 Велькер (Welcker) Герман (1822-1897) — немецкий анатом и антрополог.
196 Воеводский Леопольд Францович (1846-1901) — филолог-классик.
Основные работы: «Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории
развития нравственности» (СПб., 1874); «Введение в мифологию
Одиссеи» (Одесса, 1881). Профессор классической филологии
Новороссийского университета. Сочинение Воеводского ценны своей
методологией; он видел в мифах важнейший источник для реконструкции истории
народного быта.
197 Баховен (Bachofen) Иоганн Якоб (1815-1887) - швейцарский историк
права, положил начало изучению в Европе истории семьи и особенно
матриархата. В ходе своих исследований обнаружил ссылки на случаи
установления родства по материнским линиям, несмотря на господство в
античном мире патриархата. Эти факты и примеры заставили Бахофена
заключить, что матриархат предшествовал патриархату в социальном
развитии человечества.
198 Геродот (484-425 до н. э.) — древнегреческий историк Страбон (Strabon)
(64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) — древнегреческий географ и историк.
199 Леббок (Lubbock) Джон (1834-1913) — английский археолог и этнограф,
один из классиков эволюционистской («антропологической») школы,
последовательный сторонник применения естественноисторического
сравнительного метода в изучении человеческой культуры. Предложил
периодизацию археологических памятников, разделив каменный век
на палеолит и неолит. Исследовал вопросы истории культуры, особенно
истории брака и семьи; древнейшей их формой он признавал
«коммунальный» (т. е. групповой) брак.
Комментарии
653
200 Диодор Сицилийский (Diodoros Siceliotes) (ок. 90-21 до н. э.) -
греческий историк, автор «Исторической библиотеке» в 40 книгах.
201 Якушкин Евгений Иванович (1826-1905) — русский юрист-этнограф,
сын декабриста И. Д. Якушкина.
202 Морган (Morgan) Льюис Генри (1818-1881) — известный американский
этнолог и социолог.
203 Шаткое Серафим Серафимович (1841-1882) — русский писатель.
Печатался в «Современном слове», «Веке», «Искре». Основные
сочинения: «Историческая судьба женщины, детоубийство и проституция»
(1871-1872); «Очерк истории русской женщины» (1871);
«Исторические этюды» (1872) и «Исторические очерки» (1875); «Рабство в
Сибири», «Сибирские инородцы в XIX столетии», «Российско-американские
кампании» и др.
204 Серафимович — псевдоним Шашкова.
205 Баратынский Евгений Абрамович (1800-1844) — русский поэт.
206 «стоглав» — сборник решений Стоглавого церковно-земского собора
в 1551 г. под руководством митрополита Макария, с участием Ивана IV и
представителей Боярской думы.
207 Пржевальский Николай Михайлович (1839-1888) - русский путеше-
. ственник, географ, натуралист, исследователь Центральной Азии,
писатель, генерал-майор (1886), почетный член Петербургской АН (1878).
208 Шамфор (Chamfort) Никола Себастьян Рок де (1741-1794) -
французский писатель-моралист.
209 Боккаччо (Boccaccio) Джованни (1313-1375) — итальянский писатель
и поэт, выдающийся представитель гуманистической литературы эпохи
Возрождения.
210 Петрарка (Petrarco) Франческо (1304-1374) — итальянский поэт и
гуманист.
211 Эмпедокл (490-430 до н. э.) — древнегреческий философ, политический
деятель и поэт.
212 Дюбуа-Реймон (Du Bois-Reymond) Эмиль Генрих (1818-1896) —
немецкий физиолог.
213 Ретциус (Retzius) Андерс Адольф (1796-1860) - шведский анатом и
антрополог, автор исследований по анатомии желудка, печени, тазовых
органов человека; основоположник научной краниологии; предложил
черепной (головной) указатель, выделил основные формы черепа и
разделил человечество на группы по форме черепа и лица.
214 Мечников Илья Ильич (1845-1916) — русский эмбриолог, бактериолог
и иммунолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
(1908).
215 Риль (Riehl) Алоиз (1844-1924) — немецкий философ-неокантианец.
216 Топинар (Topinard) Поль (1830-1911) - французский антрополог.
654
217 Шкляревсшй Алексей Сергеевич (1839—?) — врач, писатель, доктор
медицины, профессор кафедры медицинской физики университета св.
Владимира.
218 Аристофан (Aristophanes) (ок. 445 до н. э. — ок. 386 до н. э.) — греческий
драматург, основатель комедийного жанра в античной литературе.
219 Тайлор (Tylor) Эдуард (1832-1917) — английский антрополог,
основоположник антропологии как научной дисциплины.
220 Pummux Александр Федорович (1831—?) — известный русский этнограф
середины XIX в.
221 Каразин Николай Николаевич (1842-1908) — русский беллетрист. В
период продвижения России в Среднюю Азию участвовал в качестве
офицера в военных действиях, член научной экспедиции на Аму-Дарью, во
время которой собрал богатый этнографический материал.
Большинство его произведений было напечатано в 80-е гг. XIX в. в журнале «Дело».
Лучшие из них — «На далеких окраинах», «Погоня за наживой», «С севера
на юг», «Двуногий волк», «В камышах».
222 Клапрот (Klaproth) Генрих Юлий или Юлиус (1783-1835) —
выдающийся немецкий ориенталист.
223 Любуша (LibuSe) — по преданию, сохранившемуся в хронике Козьмы
Пражского, основала город Прагу. «Любушин суд» — памятник древне-
чешской литературы, открытый в 1-й половине XIX в.
224 Ливингстон (Livingstone) Давид (1813-1873) — шотландский миссионер,
выдающийся исследователь Африки.
225 Плутарх (Plutarchos) из Херонеи (50-120) — греческий философ и
биограф.
226 Дункер (Dunker) Макс (1811-1886) — немецкий историк-антиковед.
227 Мельников-Печерский Павел Иванович (1819-1883) — русский писатель.
228 Прейер (Ргеуег) Тьерри Вильям (1841-1897) — английский физиолог.
229 Бита (Bichat) Мари Франсуа Ксавье (1771-1802) — французский врач,
один из основоположников патологической анатомии и гистологии.
Основатель научной школы. Описал морфологические признаки и
физиологические свойства ряда тканей человека.
230 Бастиан (Bastian) Адольф (1826-1905) — путешественник и этнолог.
231 Шамполион (Champollion) Жан-Франсуа (1790-1832) — известный
французский египтолог, сумевший дешифровать египетские иероглифы.
232 Законы Ману — памятник древнеиндийского права; сборник
предписаний и правил, регламентирующих поведение индийца в частной и
общественной жизни в соответствии с религиозными и этическими догматами
брахманизма. Содержит также наставления по управлению государством
и по судопроизводству. Составлен, по-видимому, примерно во II в. до н. э. —
I в. н. э. Создание законов Ману приписывается мифическому
прародителю людей Ману.
Комментарии
655
233 Мак-Леннан (McLennan) Джон Ферпосон (1827-1881) — шотландский
этнограф, историк первобытного общества, один из основателей
эволюционной школы в этнографии. Главные его труды посвящены ранней
истории брака и семьи. Убежденный в единообразии хода развития всех
народов, Мак-Леннан одним из первых (после И. Бахофена) выдвинул
тезис о приоритете материнского счета родства перед отцовским,
обратил внимание на древние брачные обычаи: умыкание, полиандрию,
экзогамию, эндогамию. Собрал также многочисленные факты тотемизма у
многих народов мира.
234 Терещенко Александр Власьевич (1806-1865) - русский этнограф и
археолог. Главные труды: «Опыт обозрения жизни сановников,
управлявших иностранными делами в России» (1837), «Быт русского народа»
(1848), «Очерки Новороссийского края» (1854).
235 «Домострой» — русский литературный памятник XVI в. Представляет
собой тщательно разработанный свод правил общественного,
религиозного и в особенности семейно-бытового поведения. «Пчела» — памятник
русской средневековой литературы XIV в.
236 Абеляр (Abelard, Abailard) Пьер (1079-1142) — французский философ,
католический богослов. Родился в семье небогатого рыцаря. Отказался от
прав на наследство и стал свободным философом, учился в Париже.
Трагические события личной жизни побудили Абеляра уйти в монастырь св.
Дионисия.
237 Данте Алигьери (Dante Alighieri) (1265-1321) — итальянский поэт
общеевропейского и мирового масштаба, мыслитель и политический
деятель Позднего Средневековья, гуманист, основоположник итальянского
литературного языка.
238 «Нельская Башня» — драма, приписываемая Фредерику Гайарде и
доработанная А. Дюма-старшим. События драмы происходят при дворе
Маргариты Бургундской в XIV в. Сюжет вымышленный.
239 Карл Великий — король франков с 768 г., император Священной
Римской империи с 800 по 814 г.
240 Годвин (Godwin) Вильям (1756-1836) — английский писатель,
сыгравший большую роль в радикальном движении в Англии в эпоху Великой
французской революции, анархо-коммунист.
241 Валлас (Wallace) Вильям (1276-1305) - шотландский борец за
свободу.
242 Оуэн (Owen) Роберт (1771-1858) — английский теоретик социализма и
промышленник.
243 Лекки (Lecky) Уильям Эдуард Хартпол (1838-1903) - ирландский
историк, последователь Бокля. Основные сочинения: «История роста и
влияния духа рационализма в Европе» (1865) и «История европейских
Моралей от Августа до Карла Великого (1869).
656
244 Маудсли (Maudsley) Генри (1835—?) — выдающийся английский
психиатр. Главные его сочинения: «Физиология и патология души» и
«Ответственность при душевных болезнях».
245 Эскироль (Esquirol) Жан Этьен Доминик (1772-1840) -
французский психиатр, один из основоположников научной психиатрии. Т]эуд
«О душевных болезнях» (1838) — первое научное руководство по
психиатрии.
246 Вольница и подвижники — одна из важнейших социальных теорий
Михайловского, проливающая свет на его учение о народе и
интеллигенции.
Библиография
Михайловский К К Орган, неделимое, общество // Отечественные
записки. 1870. № 12. С 683-706.
Михайловский К К Иероним Савонарола (По Перрану) //
Отечественные записки. 1870. № 6. С. 253-285.
Михайловский К К Сочинения. В 6 т. СПб.: Тип. Сущинского,
1879.
Михайловский К К Литература и жизнь (Письма о разных
разностях). СПб.: Новости, 1892.
Михайловский Н. К Сочинения. В 6 т. СПб.: Русское богатство,
1896-1897.
Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная
смута. В 2 т. СПб.: Русское богатство, 1900.
Михайловский К К Критические статьи о произведениях
Максима Горького. СПб.: Гринберг, 1901.
Михайловский И. К Отклики. СПб.: Русское богатство. Т. 1-2.1904.
Михайловский К К Последние сочинения. Т. 1 -2. СПб.: Русское
богатство, 1905.
Михайловский К К Политические письма социалиста. Н.
Новгород: Зарница, 1906.
Михайловский Н. К Из романа «Карьера Оладушкина». СПб.:
Русское богатство, 1906.
Михайловский Н. К Воспоминания: Т. 1. — Вера Фигнер, Т. 2. —
Плеве В. К Берлин: Штейниц, 1906.
Михайловский К К Полное собрание сочинений. Изд. 2-е. СПб.:
Русское богатство, 1909-1913.
Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М.:
Гослитиздат, 1957.
Михайловский Н. К Литературная критика. Статьи о русской
литературе XÏX-XX веков. Л.: Художественная литература, 1989.
Михайловский Н. К. Герои и толпа. Избранные труды по
социологии. В 2 т. СПб.: Алетейя, 1998.
Михайловский К К Литературная критика и воспоминания. М.:
Искусство, 1995.
Указатель имен
Абеляр П.-587,589, 591
Аверроэс— 126
Августин св. — 126
Аврелий Августин — 562
Аврелий Марк — 262
Агассиц (Агассис) Л. - 273, 282, 283,
297-302,304,305,348,512,513
Александр II — 8,44,45
Александр III — 44,45
Александр Македонский — 318, 390,
558,559
Альберт Великий — 126
Альфонс XII-458,483
Антонович М. А. — 10
Аполлоний — 550
Аристотель-126, 308, 381
Аристофан - 530,544-547,549
АрмстронгУ. — 171
Архимед — 165
Аттила - 434,435
Бабеф - 308
Байрон-200-202,491
Бальзак О.- 134,135
Баратынский Е. А. — 525
Бастиан А. — 576
Баховен И. Я. - 519, 520, 550-552,
554-556,560,562,564,569-573
Беббедж - 95
Безобразов В. П. - 286,287
БеккарияЧ.- 109
Белинский В. Г. - 10,42
БентамИ.-314,350,Зб1
Бердяев Н. А. - 5,15, 20,23, 27, 36, 37,
52
БернуллиД.-477,478
Бисмарк О. — 460
Биша М. Ф. - 572,573
Блан Л.-38,40,320,460,473
Бланка Кастильская — 645
Блунчли И. К - 347
Боборыкин П. Д. - 8
БоккаччоД-534,587,589
Бокль Г. Т. - 66у 96, 278,401, 402,406,
434,435,440,443
Болингброк - 278,279
БоссюэтЖБ.- 119,123,124,417
Боэций- 126
Бренн - 326
БрентаноЛ.-4б8,4б9
Бриссо Ж. П. - 386
БруноД.-12б
Буассель Ф. - 330
Будда - 264
Булгаков С Н. - 20
Бусбек - 484
Бэкон Ф. - 73,126,197,350
БэнЭфрэ-204,471
Бэр К. Э. - 21, 78, 102, 110, 115, 120,
121,291-295,346,351,352
БюхнерЛ.-217
Вагнер А. - 646
Вагнер Р.-258,259,443
Валлас В. - 595
Валицкий А. - 32,550
ВеберЭ.Г-478,479
Веллингтон —441
ВелькерГ-511,543
ВикоД.-Зб0
ВиртМ.-485,48б
Воеводский Л. Ф. - 516, 517, 554, 564,
566
Вольтер - 218,273-280, 308,309
Волынский А. Л. - 5,46,47, 50
Вормс Р. - 633
Вырубов Г. Н. - 634
Вучдт В. — 383,421,478
Указатель имен
659
Гарнье - 237,241,246,475,477,595
Гартман Э. - 370,487,499,530,535,537
ГеберЖ.Р-308
Гегель Г. Ф.-26,238,320,499
Геккель Э. Г. - 214-218, 225, 231, 238,
254,265,270,275,276,291-296,302,
304,343,348,355,367,379,383,535,
537,539,546
Гервинус Г. Г. - 441
Гейне Г. - 435
Геродот-519,553,561
ГерьеВ.И.-434,435
Герцен А. И.-8,31,37,40
Гете И. В. - 103,157,231,264,276,292,
301,402,417,420,427,491,508,510,
513
Гибель X. Г.-337
too Ф. - 92,270
Гоббс Т. - 103,126, 226, 306, 314, 347,
. 350
Годвин В. - 595
Гомер-493,545,562
ГорнфельдА.Г-50,51
Губер Ф. - 240,241
1умбольдтА. —441
Гумбольдт В. - 334-336
ГуревичЛ.Я.-4б
гурнэ Ж. К-31
Гюго В. - 530
Данте А.-587, 589
Дарвин Ч. Р. - 22,65,66,180,194,195,
214-216, 218-221, 223-228, 233,
240, 242, 244, 246, 248, 252-254,
256, 269, 273, 282, 284, 288-297,
301-305, 307, 308, 313-315, 323,
327, 331-332, 334, 336-343, 346,
348, 350-353, 356, 359, 361, 366-
372, 374, 375, 377-379, 382-385,
387, 390, 391, 414, 446-451, 493,
494,496,510,516,536,537,541,542,
546,567
ДеМэстр-189,190
Дидро Д.-308,309
Диодор Сицилийский - 520,550, 552
Доррегарай А. - 458
Драгоманов М. П. - 482
Дроз Нума - 160
Дрэпер Г.- 104,113-115,420,445
Дункер М. - 564
Дюбуа-Реймон Э. Г. - 536
Дюма Александр (старший) — 138
ДюфоП-198,443,444
Евреинова А. М. — 46
Елисеев Г. 3.-10
Жерсон— 126
Жуковский Ю. Г.-371
Зайцев В. - 8
Зеньковский В. В. — 15
Иванов-Разумник Р. В. — 5
Иванчин-Писарев А. И. — 42,43
Изабелла — 173
Кабе Э. - 308
Кавелин К. Д-436, 580
Кальвин И. — 325
Кампанелла Т. — 126
Кант И. - 126, 199, 202, 226, 276, 277,
590
Капет Гуго — 645
Каразин H.H.-557,558,619
Карвер - 527
Кареев Н. И. - 30
Карл Великий — 590
Карлос дон - 458,483
Катон - 299
Келликер Р. А. - 323, 338-340, 343,
346,348,351,356,360,366
Кеплер И. - 82,87
Кегле Л. А.-413,417,440,441,443,444
660
КлапротГ.Ю.-559
Клаузиус Р. Ю. - 378,390,393
КинеЭ.-347
Козьма Пражский - 559,564
КозьминБ.П.-9-П
Кондорсэ Ж. А. - 417,437,438,595
Кондратьев Н. Д — 15
Конт О. - 14, 66, 67, 77, 96, 127-139,
152, 153, 167-170, 175, 197, 201,
271-273, 285, 286, 320, 402, 409,
410, 412, 414, 417, 419-421, 424,
427,439,445,471
Коперник Н.-217
Короленко В. Г. — 51
Ксенофонт —96,519
Курочкин Н. С — 8
Курсель-Сенель Ж. Г. - 330
Кэрри Генри Чарльз - 198,203,418
Кювье Жорж-302,441
Лавров Петр Лаврович (П. Л.) — 5,40,
133,371
ЛавелеЭ.-4б8,4б9
Лаказ-Дютье А. - 288, 289, 337, 338,
346,348
Ламарк Ш. - 218, 303, 308, 351, 355,
356,360,366,387
Ланге Ф. А. - 476-478,488,536
Лассаль Ф. - 320,460
Леббок Д - 519-523, 527-529, 550,
551,560,578,580
Лев Еврей- 126
Леки У. Э.-599-603,619
Ленин В. И. - 5
ЛеруП.-308
Леткова (Султанова) Е. П. — 45,46
Лещинский С. — 309
Либман О. - 648
Ливингстон Д - 561, 578
Линней К. - 230,501
Литтре 3.-437,471,472
Льюис Д Г. - 132,276,306,420,421
Локк Д-309,310
Лукреций Кар — 274
Людовик IX Святой - 459,460
Лютер М. - 325
ЛяйелльЧ.-Зб9
Мак-КуллохДР-234
Мак-Леннан Д Ф. - 578
МаколейТ.Б.-б31
Мак-Магон М. Э. - 458
Мальтус Т. Р. - 198, 226, 287, 306,
363, 366, 387, 413, 442, 443, 446-
449, 456, 466, 473, 475, 477, 488,
554, 592-597, 599, 601, 604, 616,
610
Мандевилль Б. — 226
Маркс К - 234,236,238,239,247,462,
466,468
Маудсли Г — 604
Маурер Г. - 468
Мейер - 573-576
Меланхтон— 126
Мельников-Печерский П. И. — 565
Меровей — 456
Мечников И. И. - 542, 543, 592, 602-
609,613
Милль Д С. - 14, 66, 73, 97, 109, 130,
152, 153, 162, 188, 202, 265, 268,
334-336, 361, 394, 400, 402, 406,
429,430,440,464,480,594
Мильн-Эдвардс А. - 109,269,273,291,
292,351,353
МишлеЖ-387,399,552
Модзалевский Л. Н. — 165
Мокшин Г. Н. — 54
Мор Т.-505
Морган Л.-522
Морелли А. — 472
Морей А. Р.-70,74,75
Мордвинов Н. С — 474
Указатель имен
661
Мордовцев Д. Л. - 506,507,509
Московичи С. — 52,53
Мухаммед — 434
Мэн Г.Д- 468,515,516,518
Мюллер Ф. М. - 182,263,303,308
Наполеон —441
Наполеон III — 646
НассеЭ.-4б8
Негели К В. - 289,291, 292, 323, 340-
343, 346, 348, 351, 356, 360, 366,
376,378
Некрасов Н. А. - 5,10
НелатонА.- 138
Николенко-Пшьченко В. И. — 56
НожинН.Д-8
Ньютон И.-126,421,423
Оуэн Р. - 595
Пастрана Ю. - 507
ПерцовП.П.-48,49
Петрарка Ф. - 534,589
Петр III-617
ПидеритТ.-488-491
Пиколомини Ф. — 126
ПименоваЭ.К-48,53,54
Пирумова H. M. — 31,37
Писарев А. И.-8,10
Платон - 96, 103, 256, 325, 347, 381,
531,544,547,548,554,619
Плеханов Г. В.-5,6,27,36
Плутарх — 562
Погодин М. П. - 401
Посников А. С — 476
ПрейерТ.В.-5б7,571,621
Пржевальский H. M. — 526
Протагор— 126
Протопопов М. А. — 51
Прудон Ж. - 8, 96, 307, 308, 310, 366,
394,595
Пугачев Е. И.-617
Пуф[ф]ендорф С — 226
Ранский С П. 23
РейбоЛ.-28б
Ретциус А. А. — 542
РильА.-542,543,б10
Риттер К - 402
Риттих А. Ф. — 554
Робеспьер М. - 308,330
Розанов В. В. — 5
Ройе К А. - 307-324, 327, 328, 330-
334, 355, 449-451, 456, 550, 584,
585
Ролен Ш.-417
Руссо Ж. Ж. - 18,36,122,135,307-313,
319-322,327,355,386
Савонарола — 28
Сваммердам Я. — 252
Селиванов — 617
Сен-Симон К. А. - 285,308,310,358
СерветМ.-325
СисмондиЖШ.-1бО
СкалигерЖЖ-126
Смайльс С - 97,229
Смит Адам - 19,90,97,109,196, 234,
237,256,464-466,473,624
Снелль Л. - 295, 323, 343, 345-348,
351,356,357,360,364,366,513
Соколов Н. В. — 8
Сократ-381,545,619
Спенсер Г. - 14, 17, 18, 61-67, 70, 71,
75-80,82-93,96-113,116-121,126,
139,145,157,158,161,165,166,170-
175, 179, 180, 190-196, 206-213,
231-233, 281, 320, 347, 363-366,
393,402,420,422,423,445,481,490,
497,540,623,624,626-628
Спиноза Б. — 126
Страбон-519,550,554
662
Страхов H. H. - 307,370,449-457
Стронин А. И. - 326-328, 332, 371,
400-421, 424-433, 439, 440, 442-
449
Струве П. Б. — 5
Суворин А. С — 51
Тайлор 3.-268,550,551
Терещенко А. В.-579,580
ТибленН. Л.-66,68
Токвиль А. — 97
Торнтон В. Т. - 460,461
Тоунзенд — 475
Топинар П. - 543
Туган-Барановский М. И. — 5
Тургенев И. С - 436,437
Тур-дю-Пэн - 459
ТюргоА. —641
Успенский Г. И. — 452
УшинскийКД.-491
Фернандо VII - 635
Фет (Шеншин) А. А. - 275
ФехнерГ.Т.-478
Фирордт — 511
Фихте И. Г. - 320
Фогт К - 239,248,259,269,270
Фразивул — 262
Фридрих Вильгельм IV — 325
Фурье Ф. М. - 308, 310, 316, 321, 334,
358,366
Цитович П. П. — 35
Чернышевский Н. Г. — 5,10,11,47
Чичерин Б. Н. — 434
Шамполион Ж. Ф. — 576
Шамфор - 534
ШашковСС-523,554,578
ШевыревС.П.-401
Шеллинг Ф. В. -103
ШеррИ.-325,328,588
Шиллер Ф. - 95,96,156,157,491
Шкляревский А. С — 543,546
Шлоссер Ф. — 644
Шмоллер Г. — 646
ШометП.Г.-308
Шопенгауэр А. - 326,357,499,530,533,
535,537,539,549,590
ШортД.-522
Штирнер М. - 470,474
Щеглов Д. Ф.-285,286
Эдельсон Е. Н. - 103
Эмерсон Р. У.-61
Эмпедокл — 536
Эпикур-274,308,619
Эскироль Ж Э. - 608
Южаков С Н. - 14,56
Якушкин Е. И. - 520,521,552,579
Содержание
Николай Константинович Михайловский
В. В. Блохин 5
Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 59
Что такое прогресс? 61
Теория Дарвина и общественная наука 214
Аналогический метод в общественной науке 400
Борьба за индивидуальность 458
КОММЕНТАРИИ 631
Библиография 657
Указатель имен 658
Научное издание
Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века
Михайловский Николай Константинович
Избранные труды